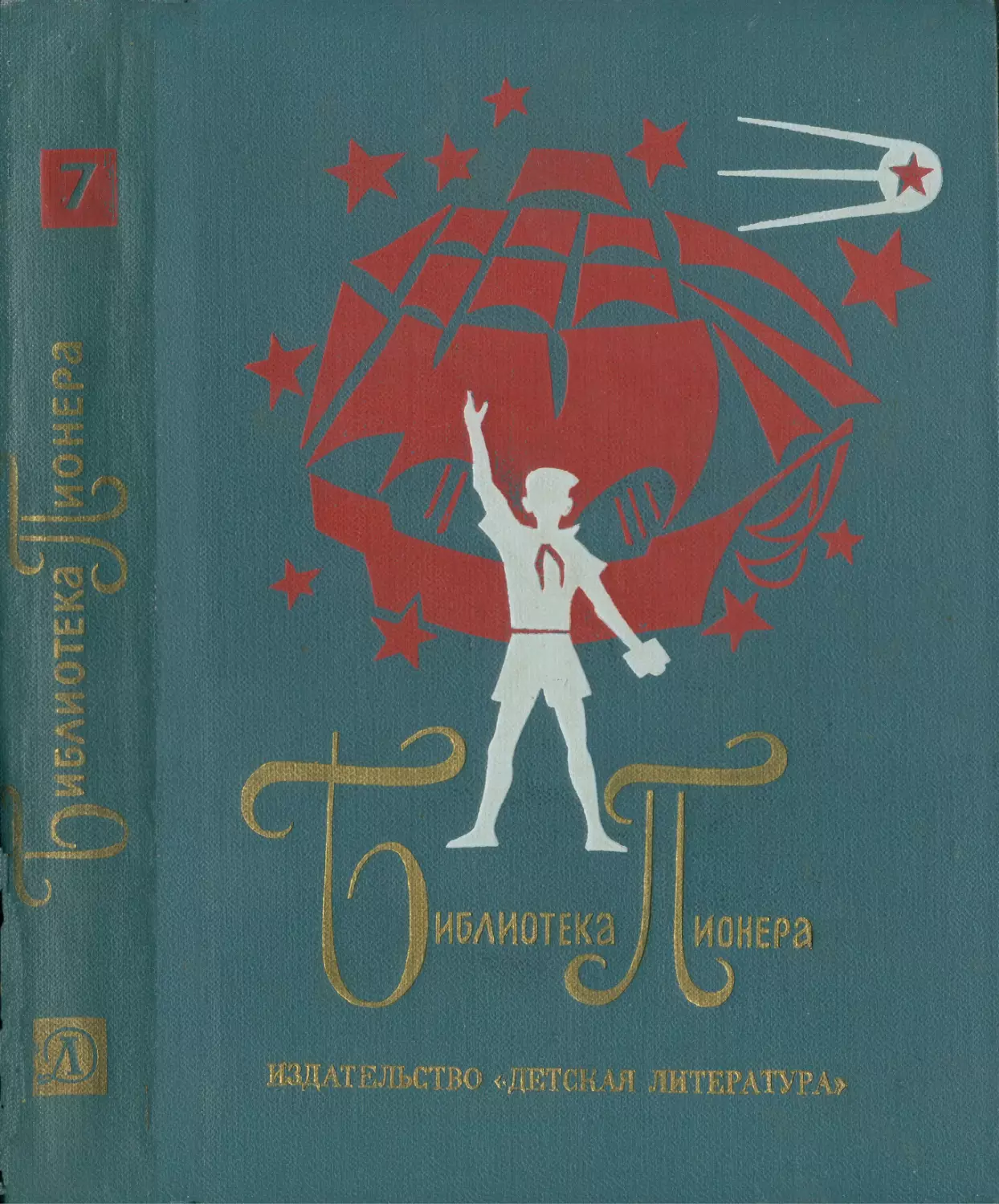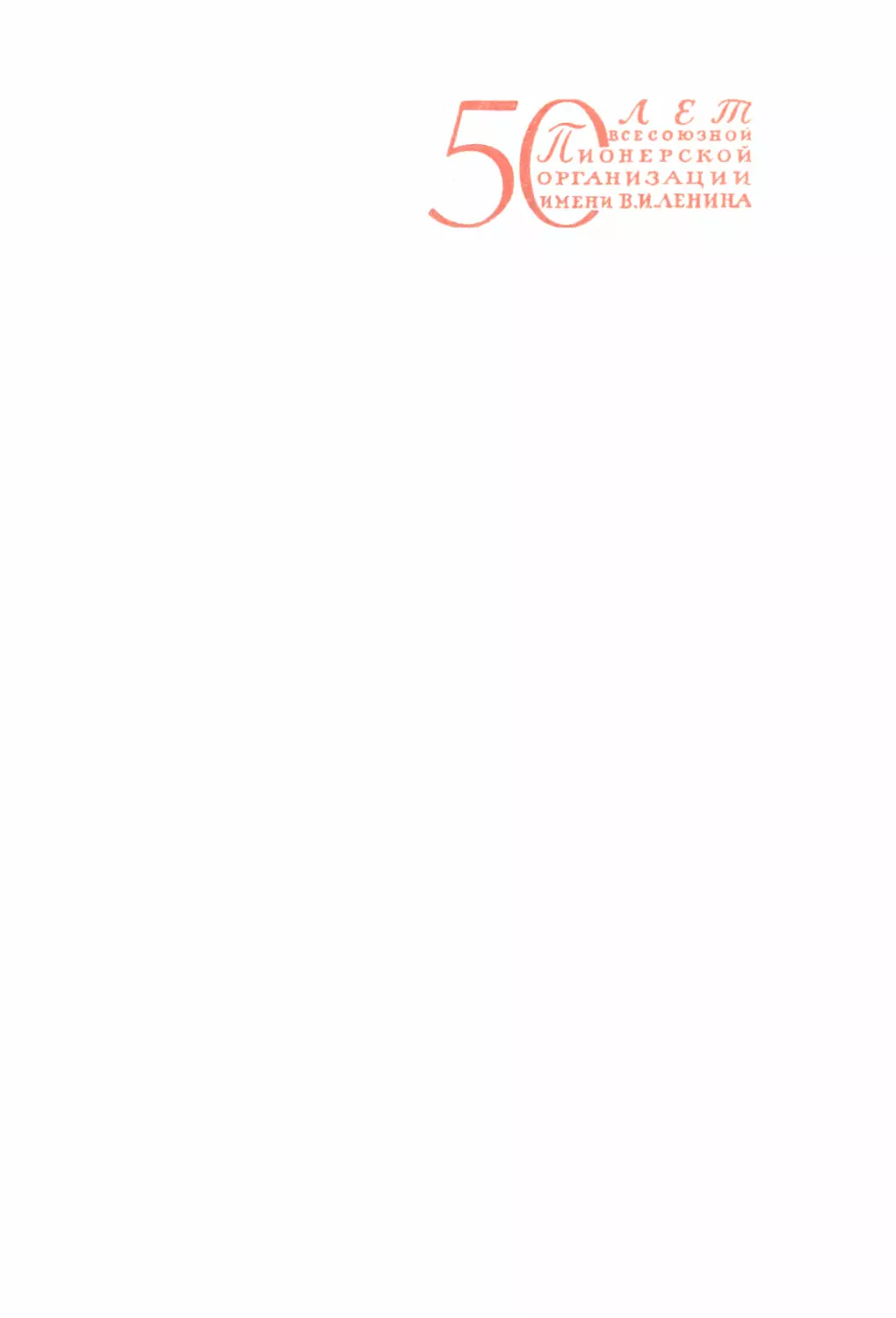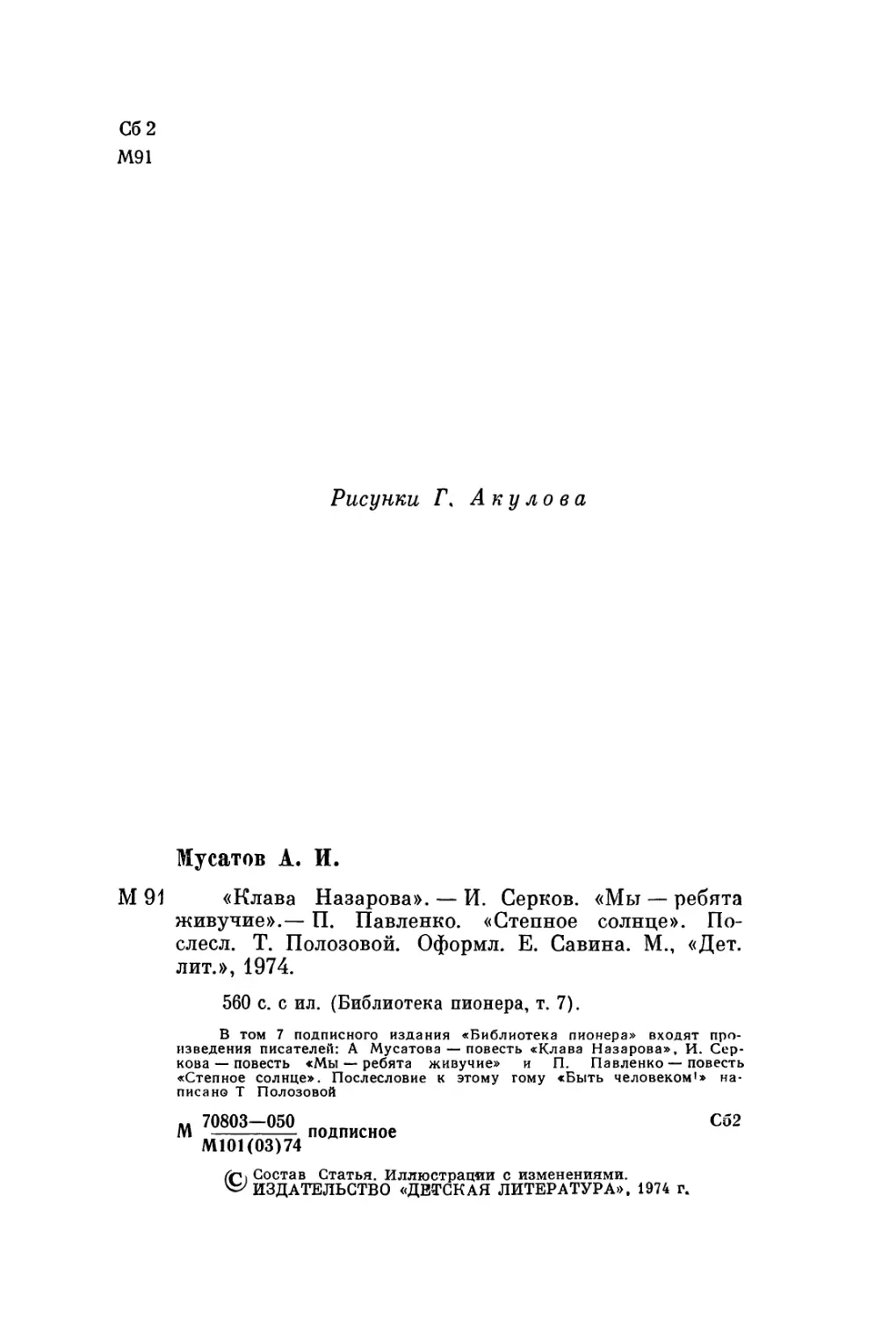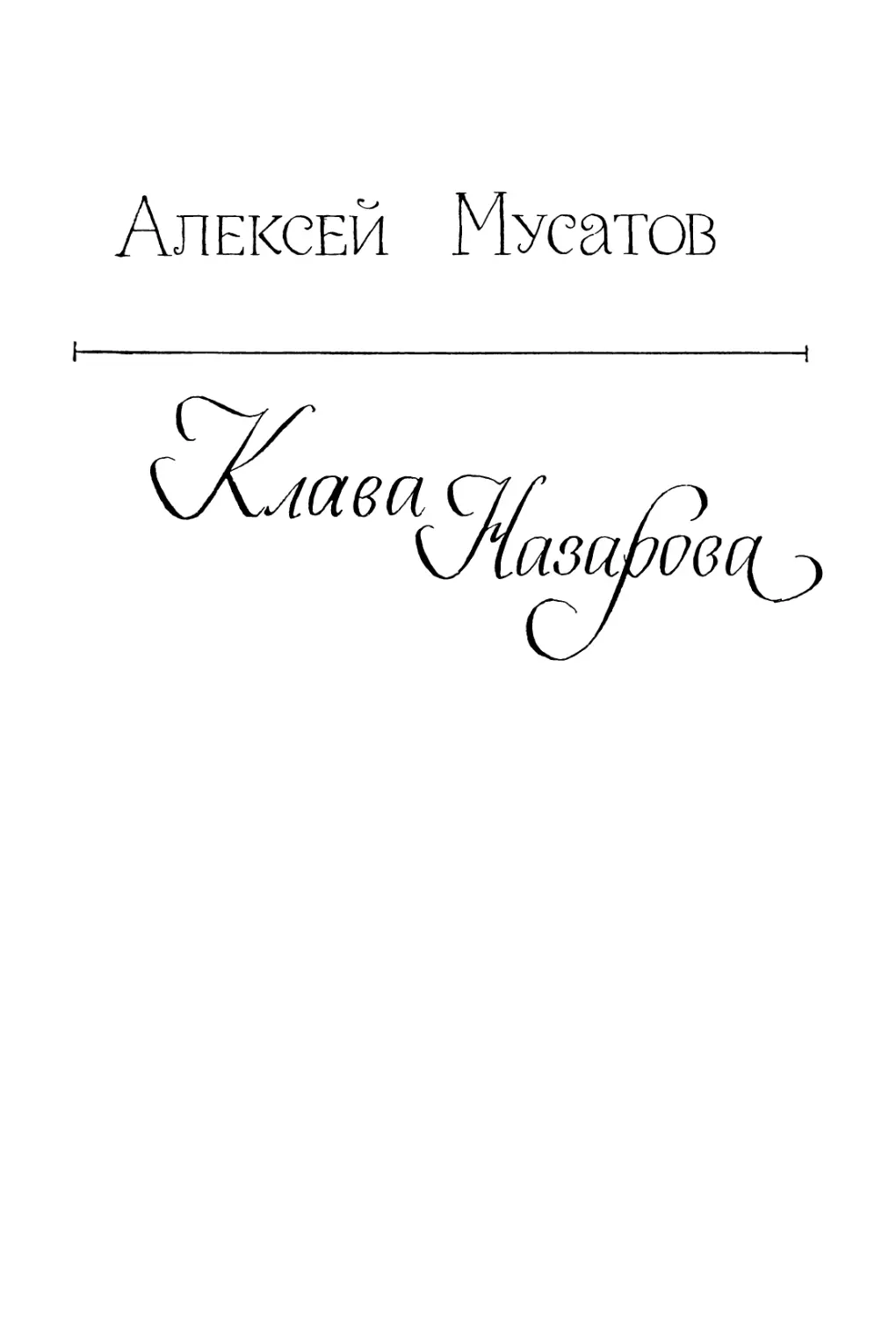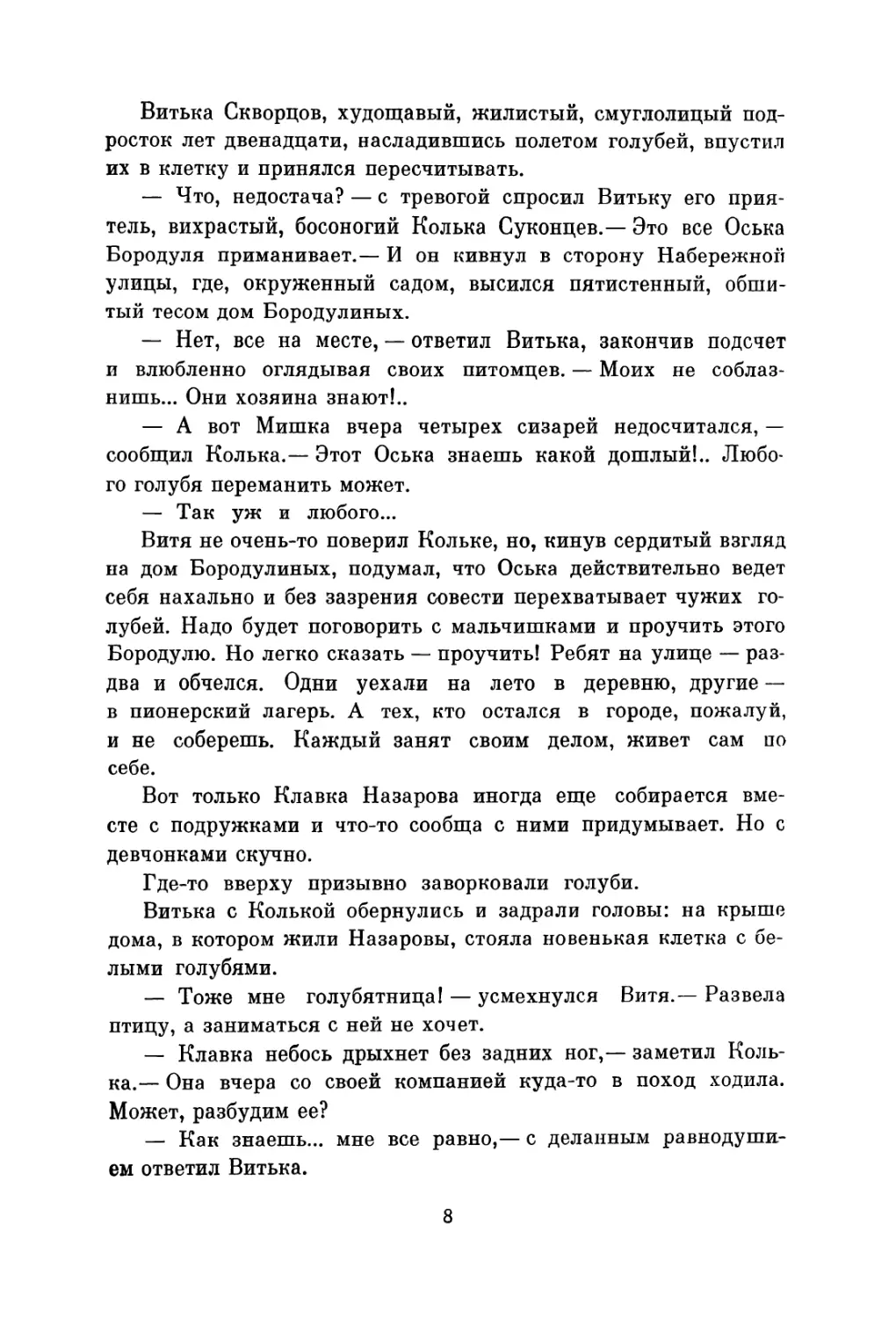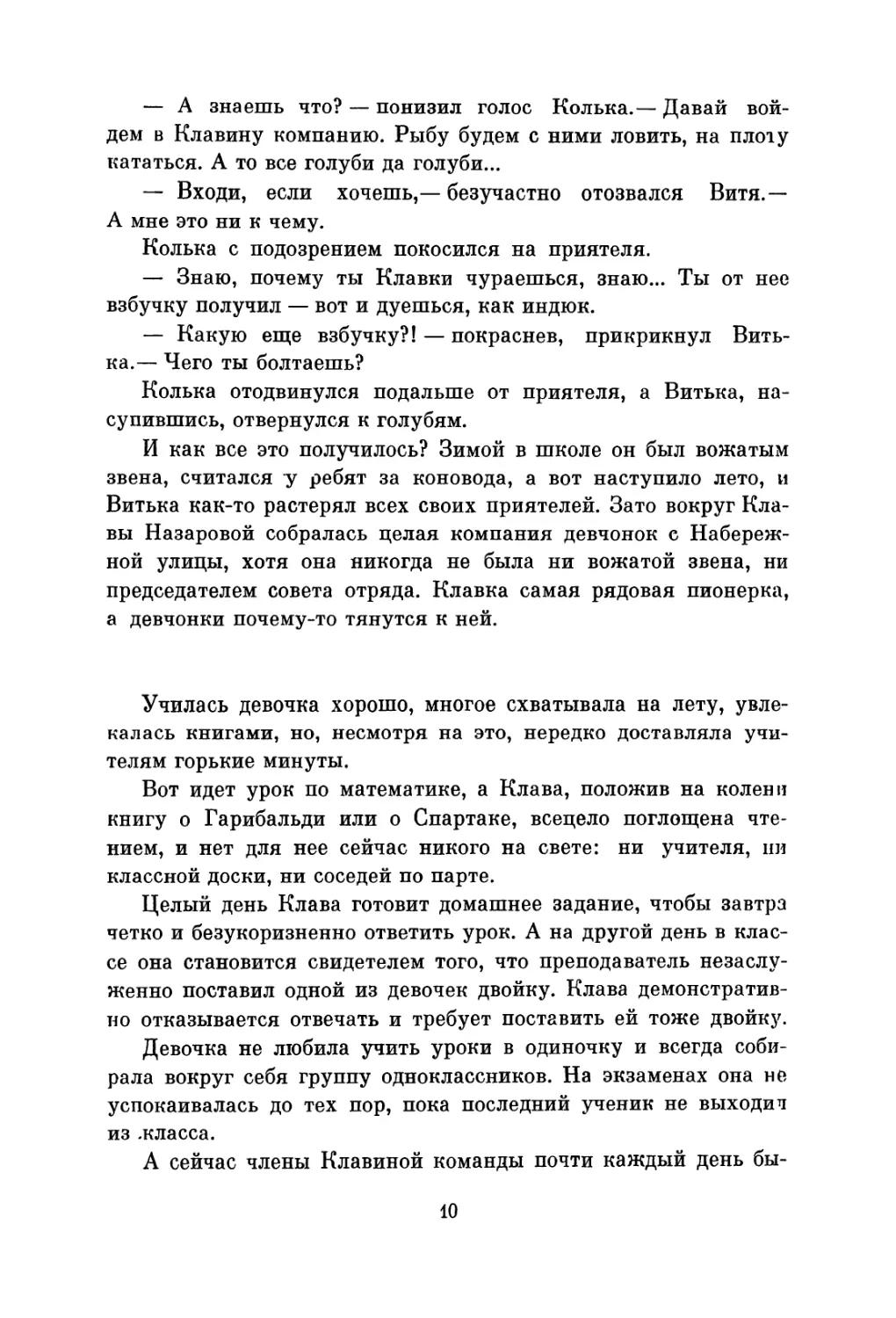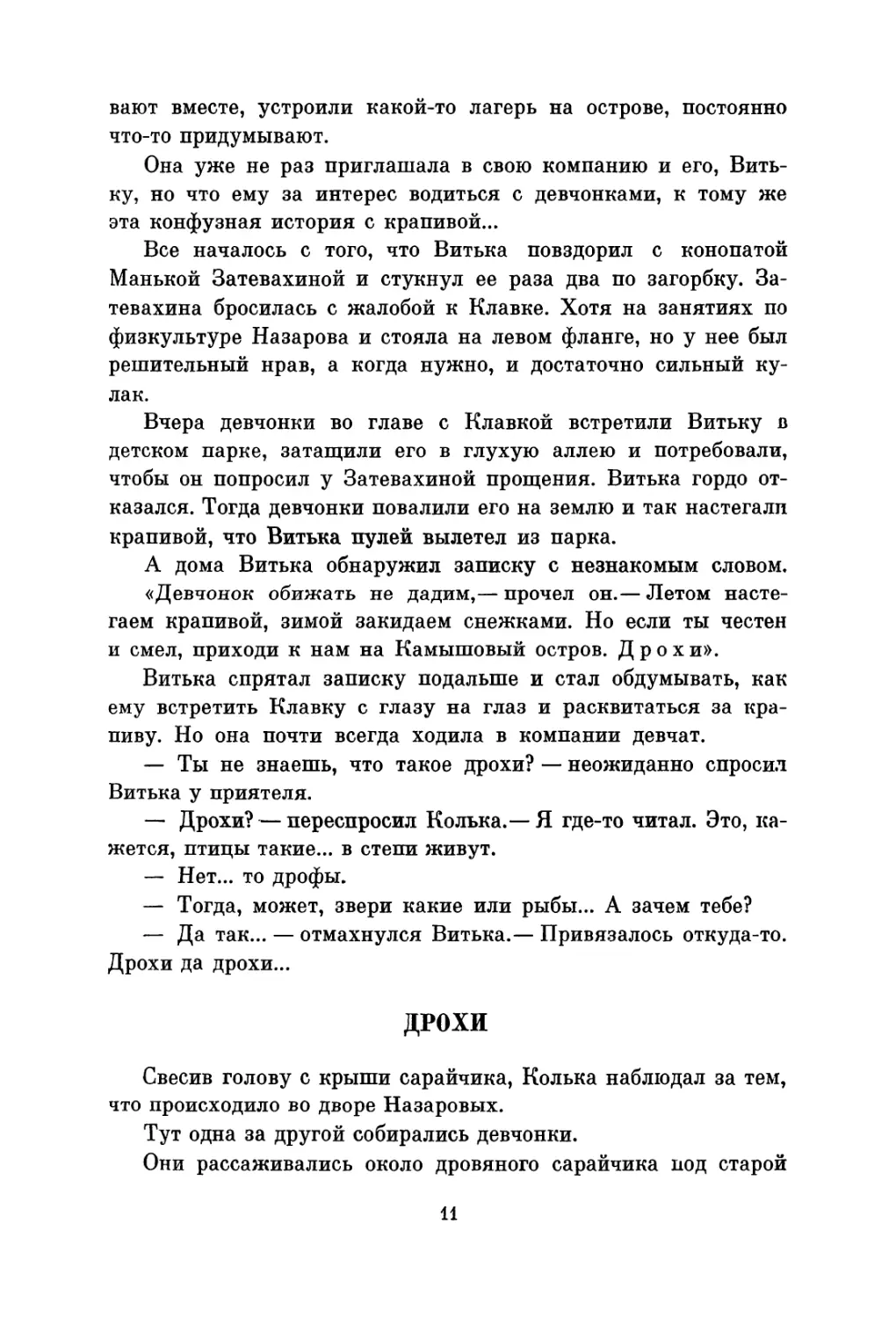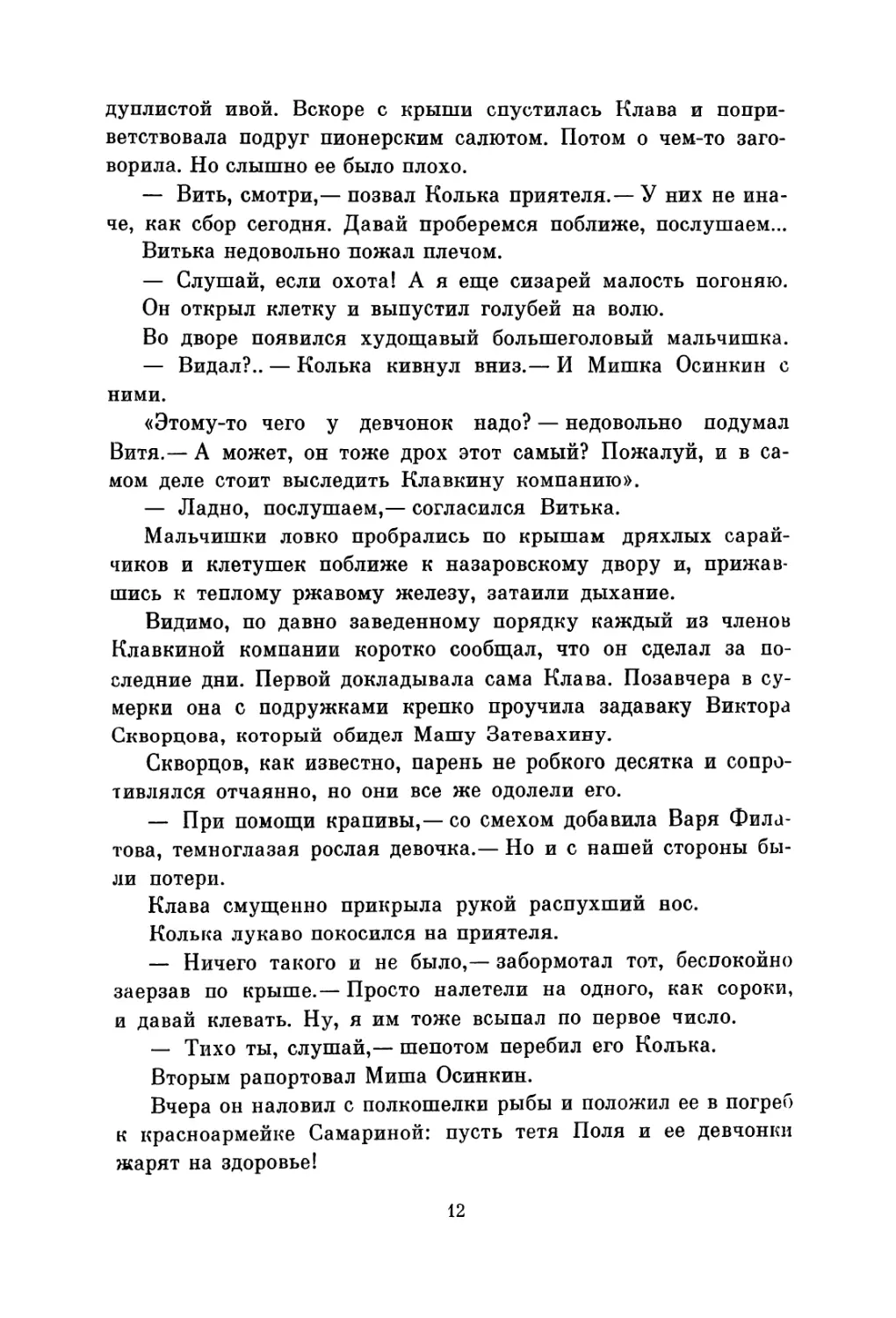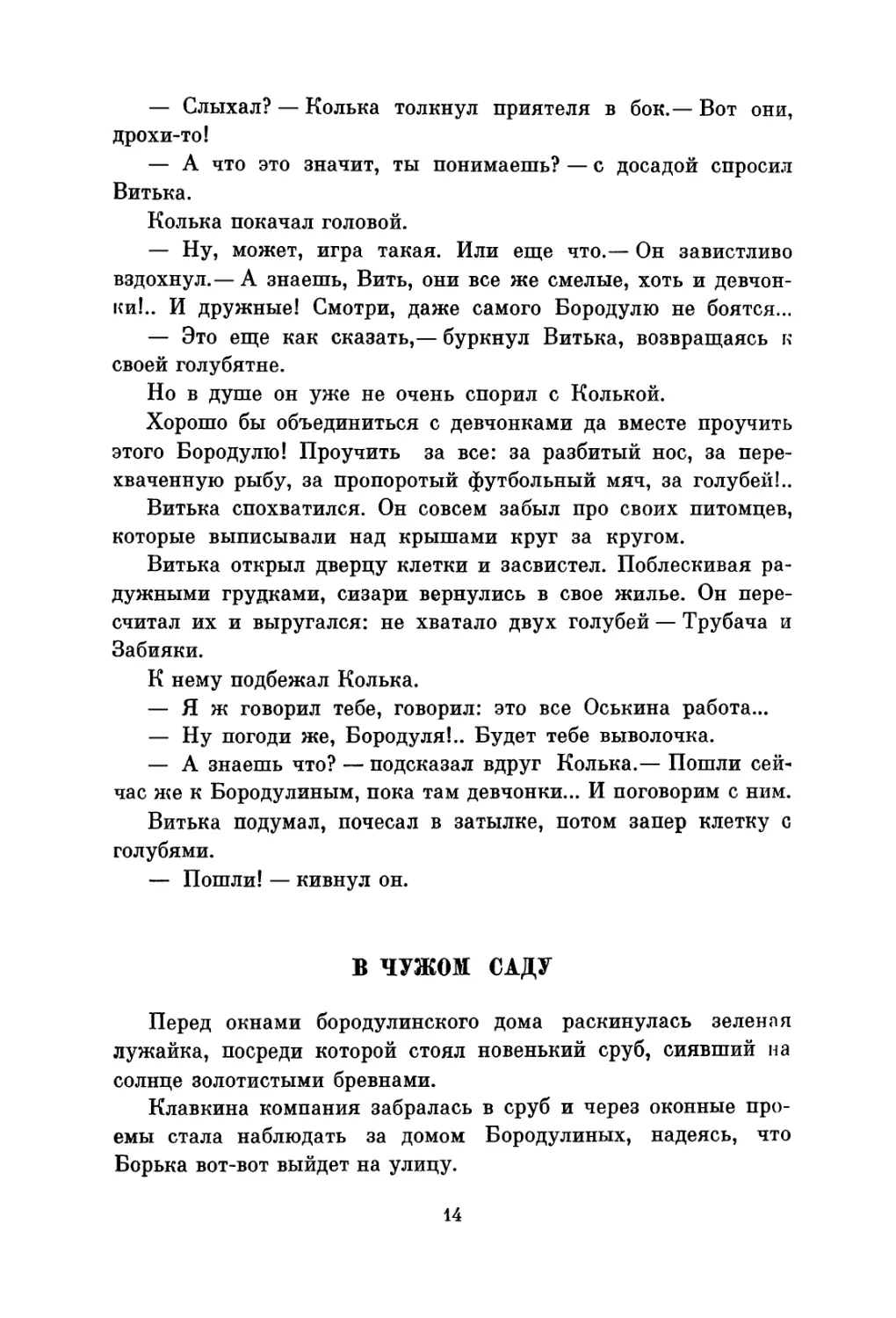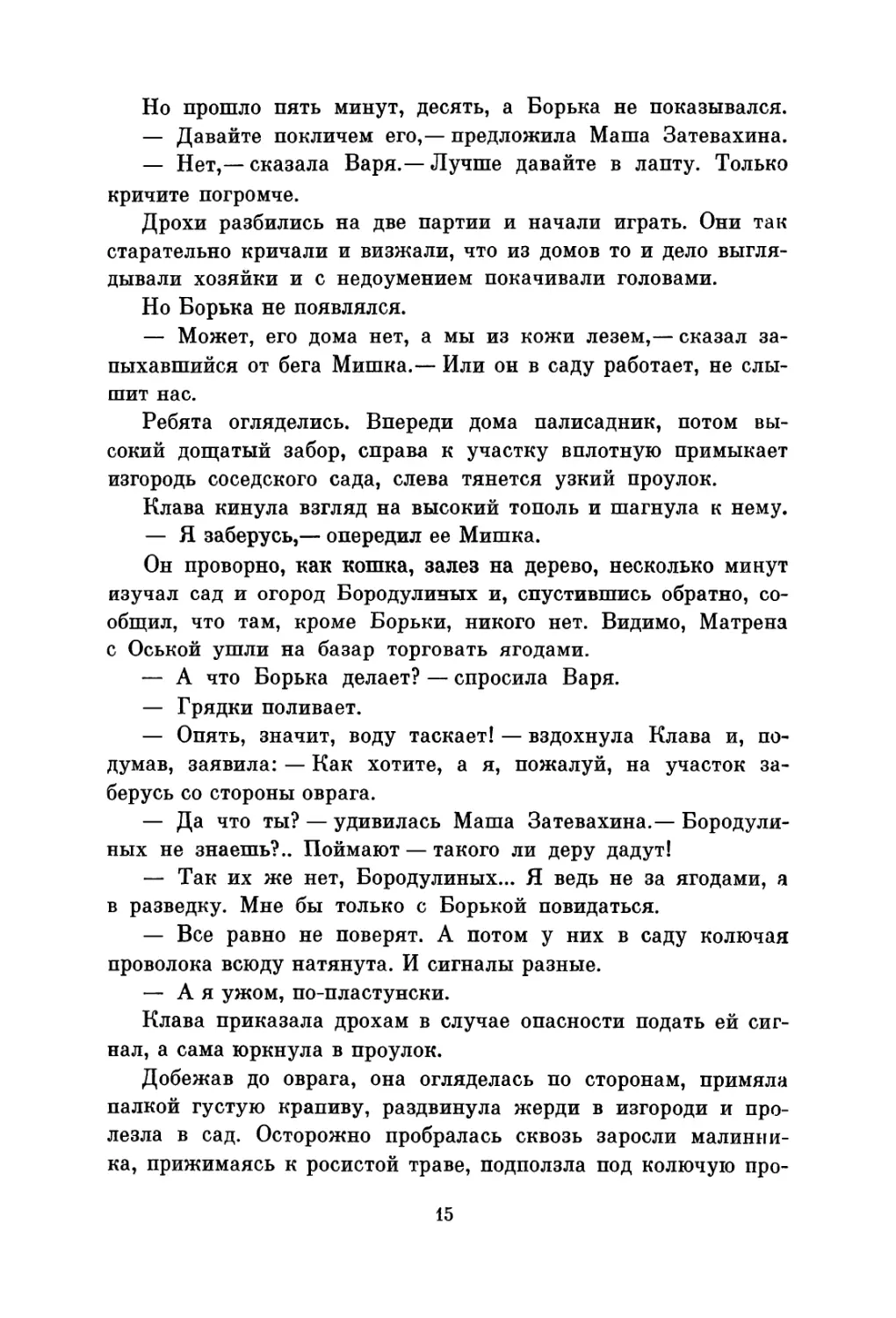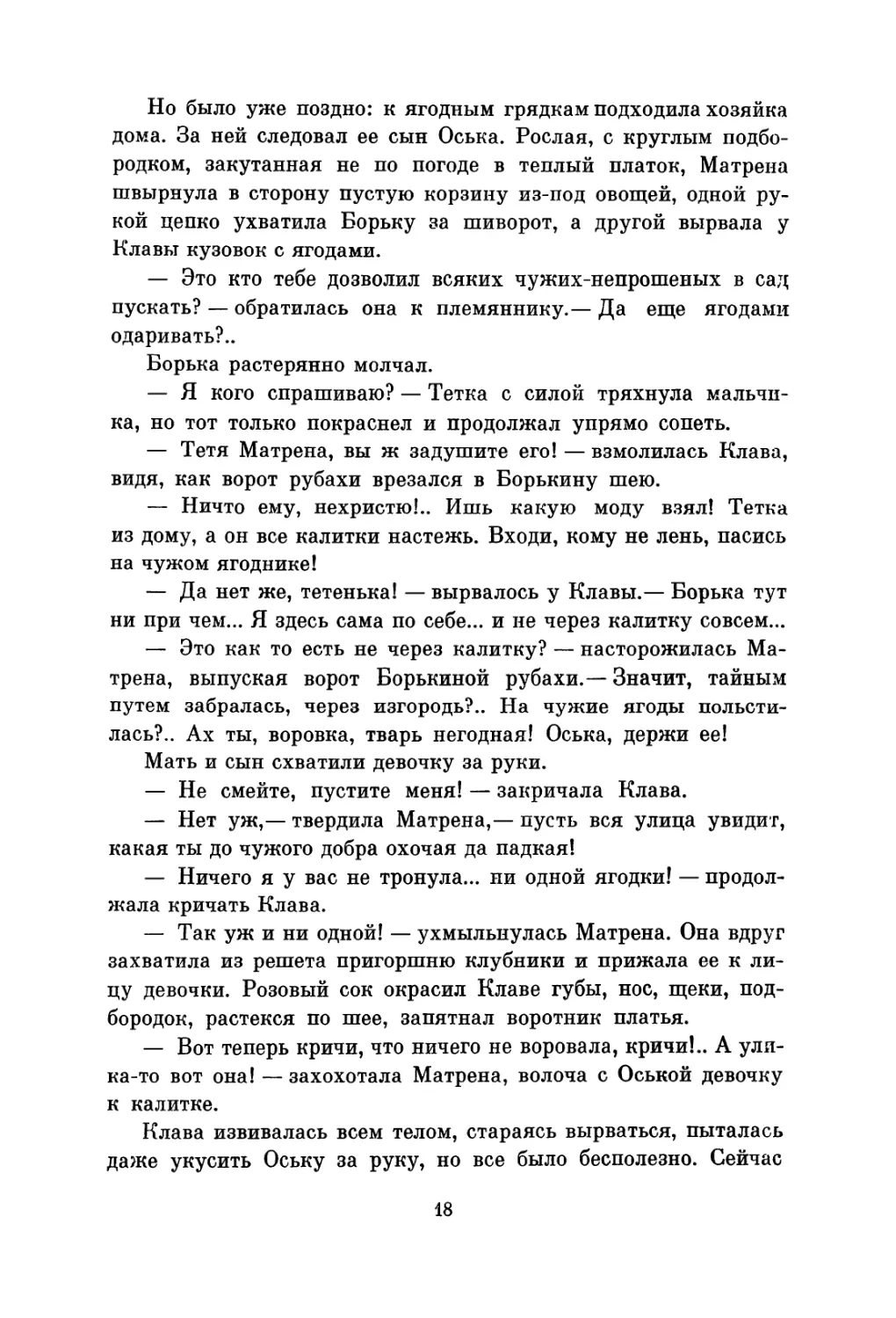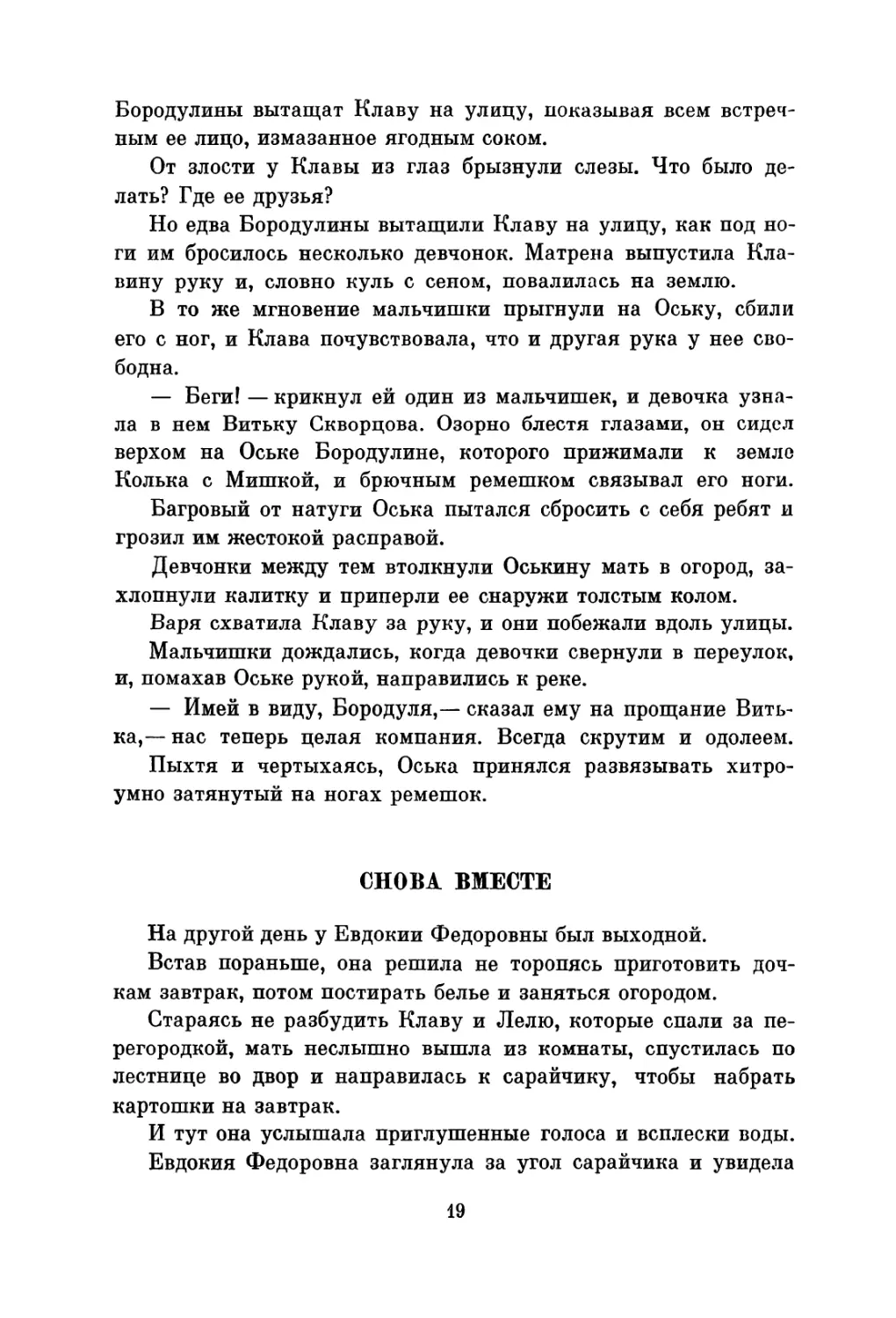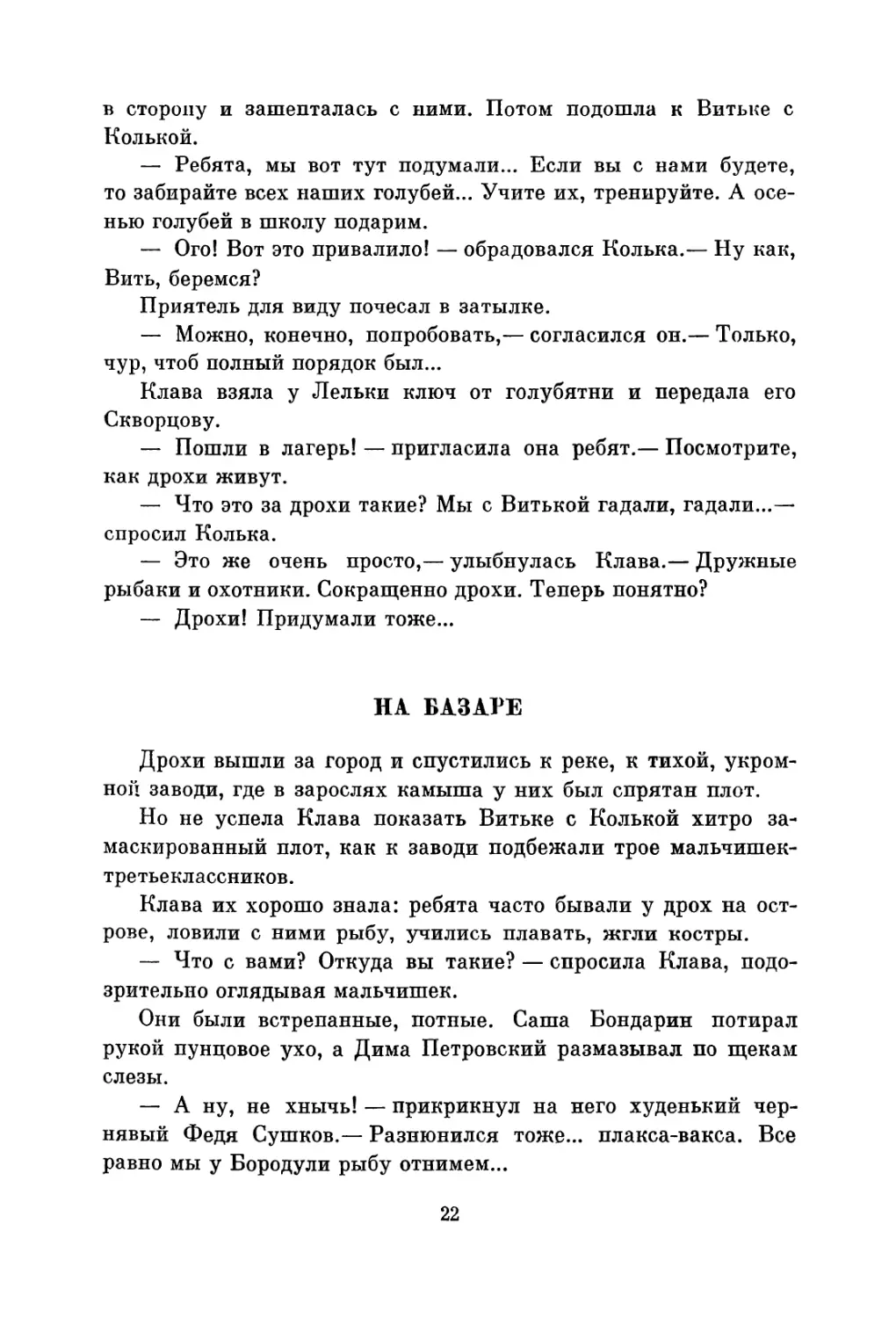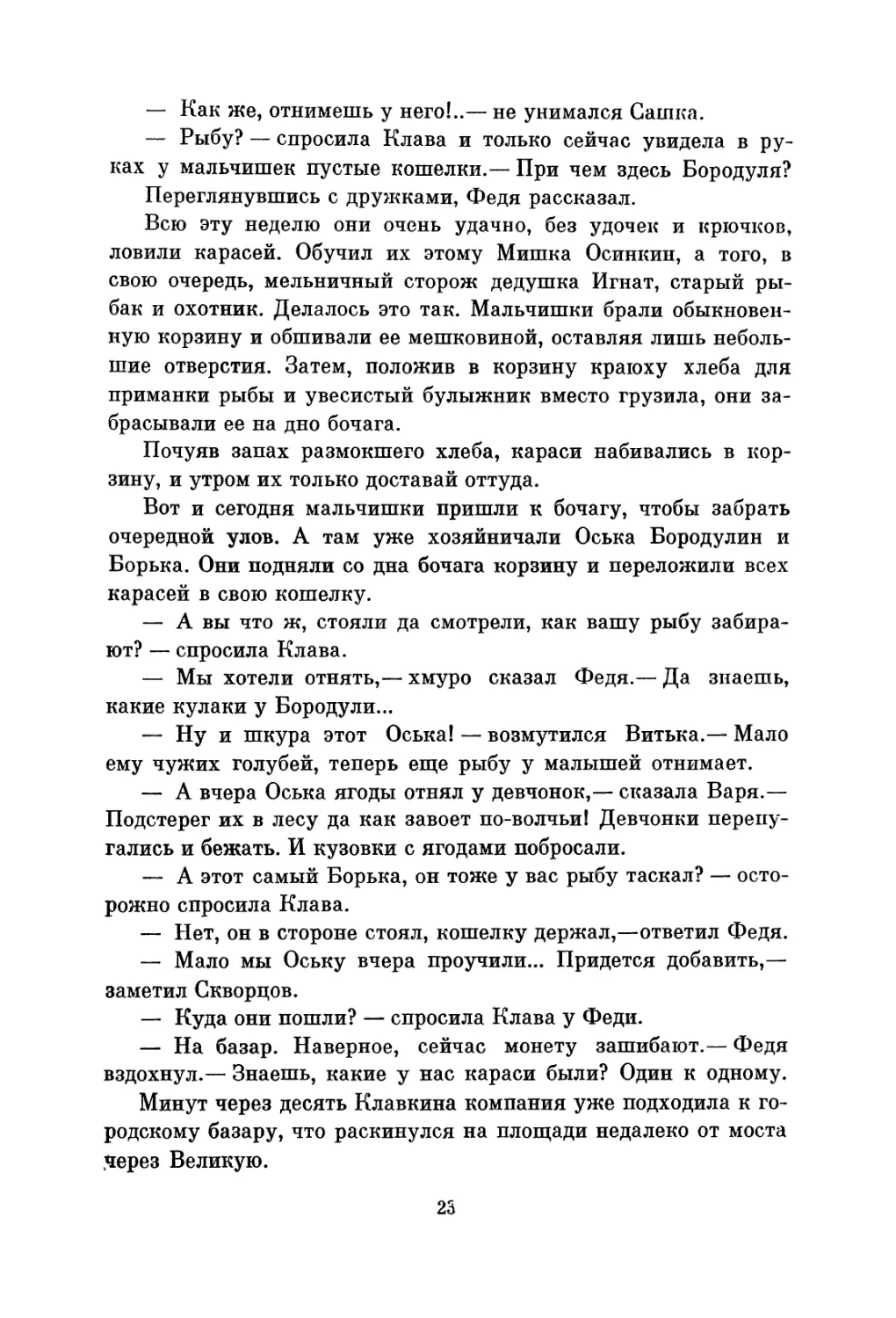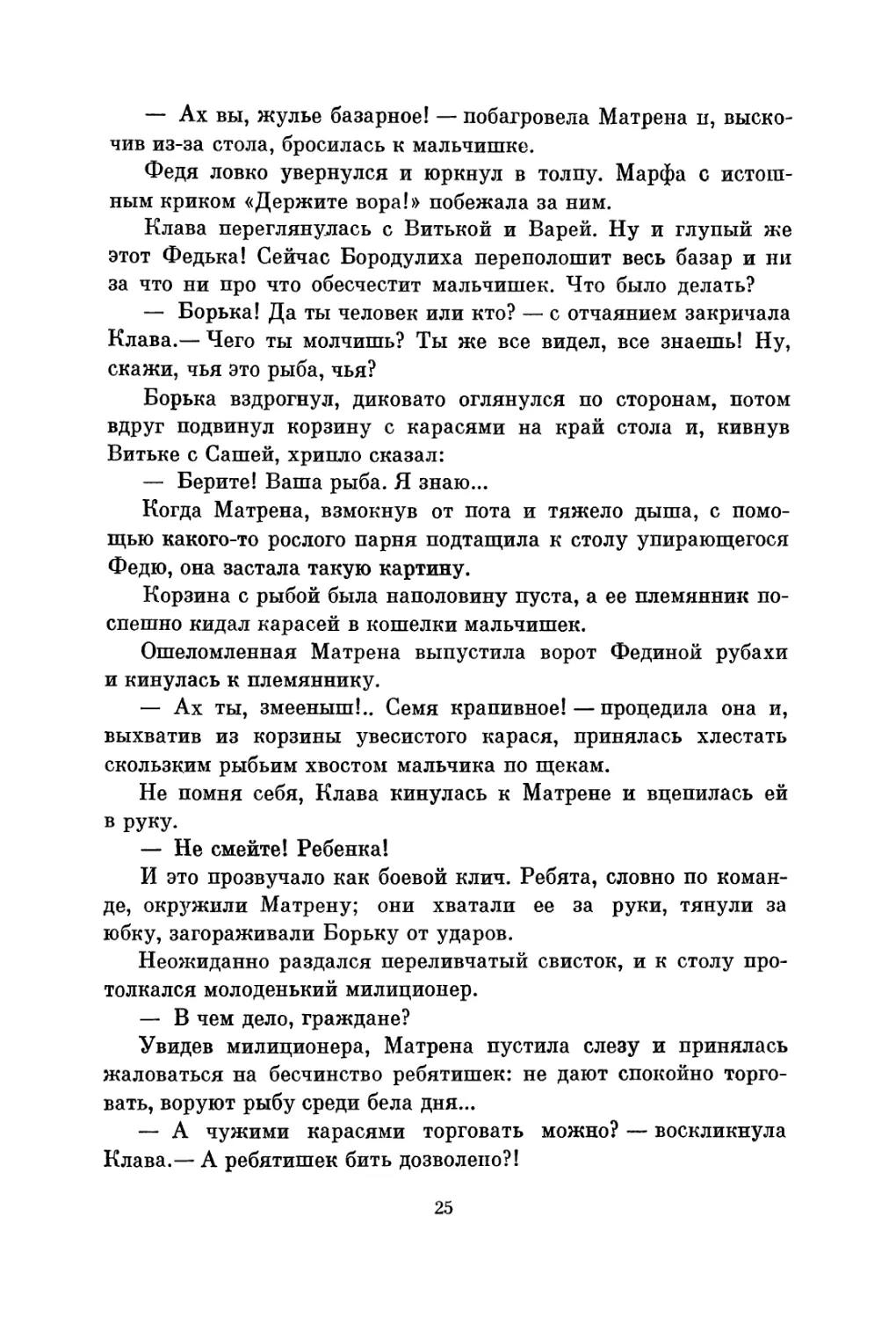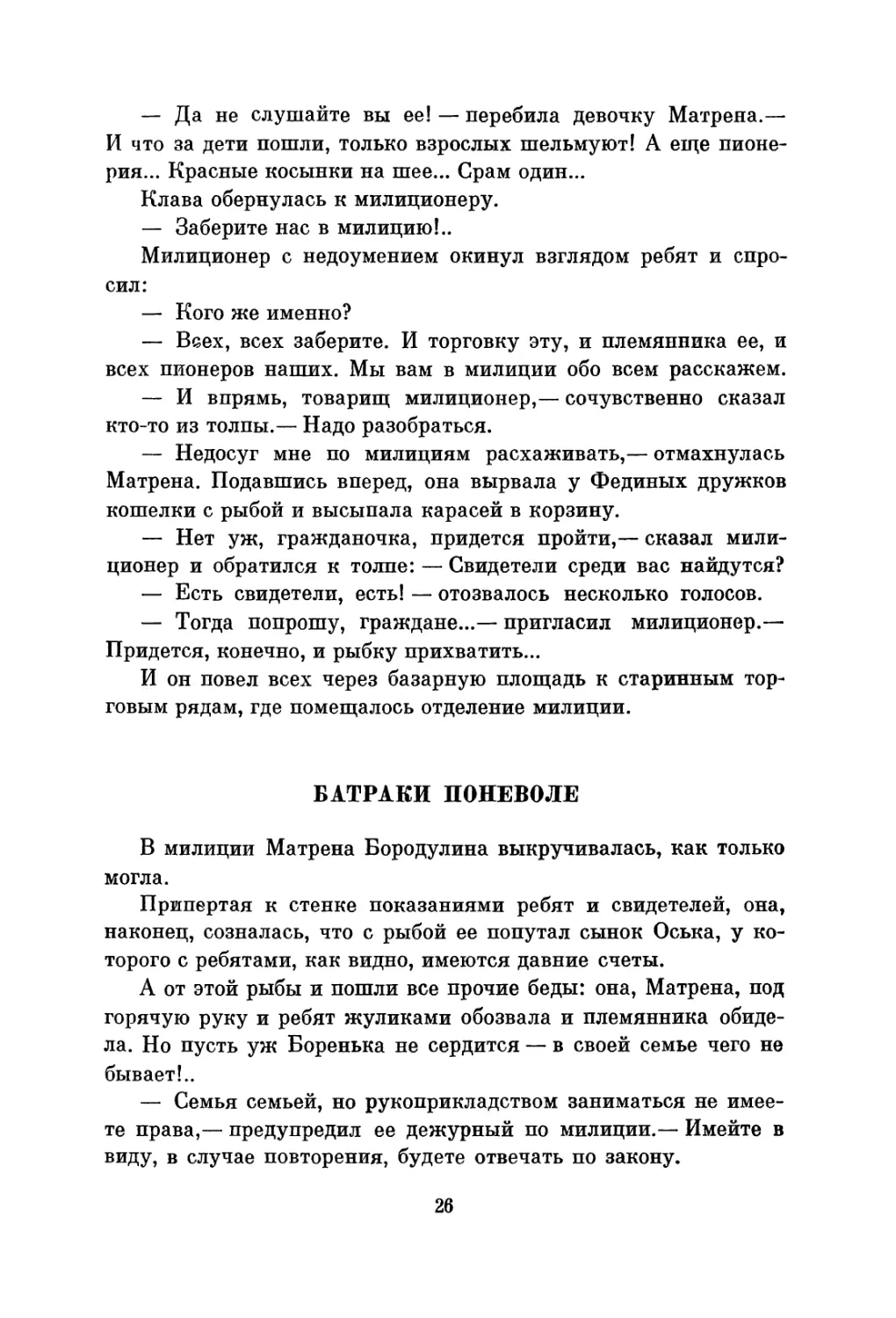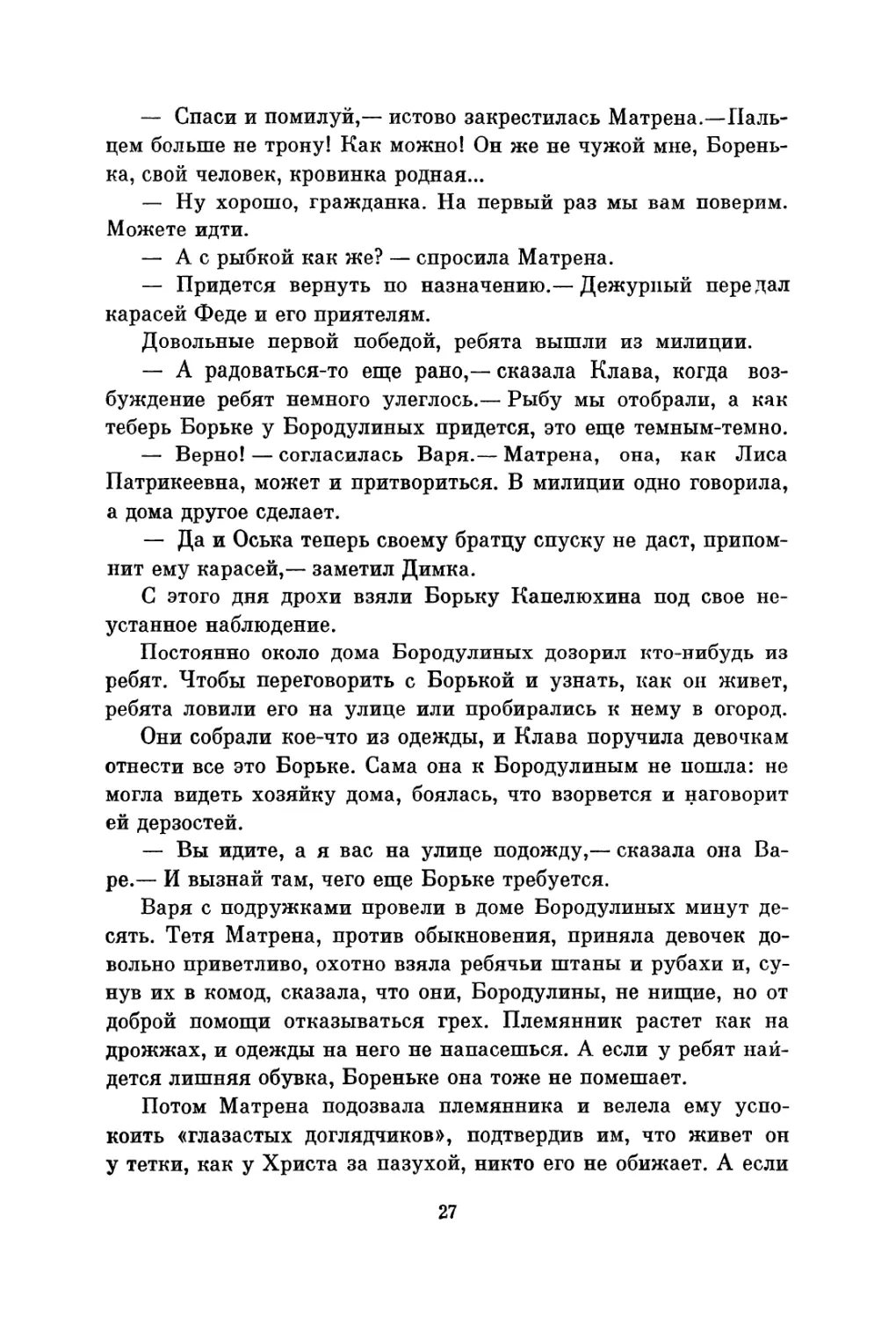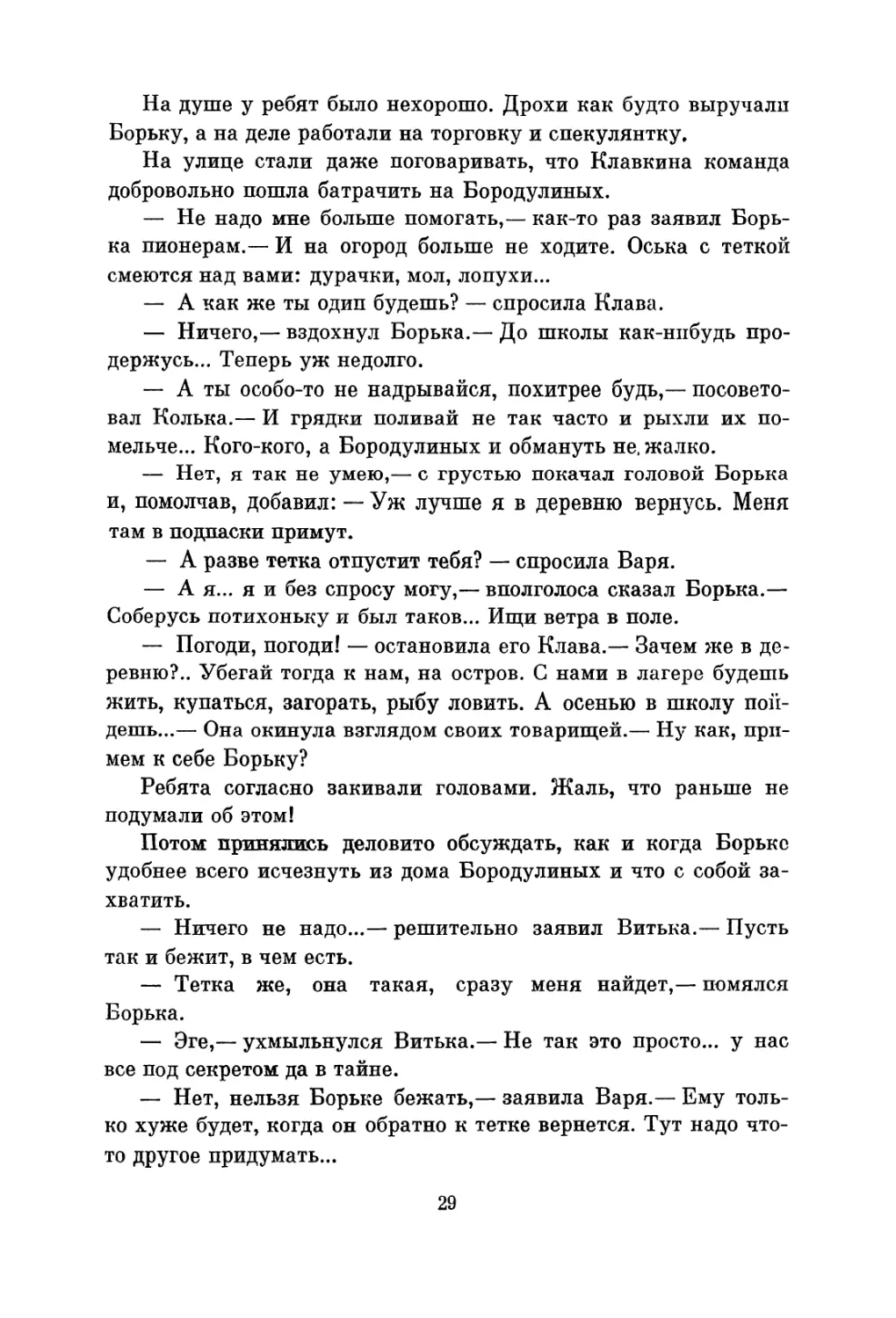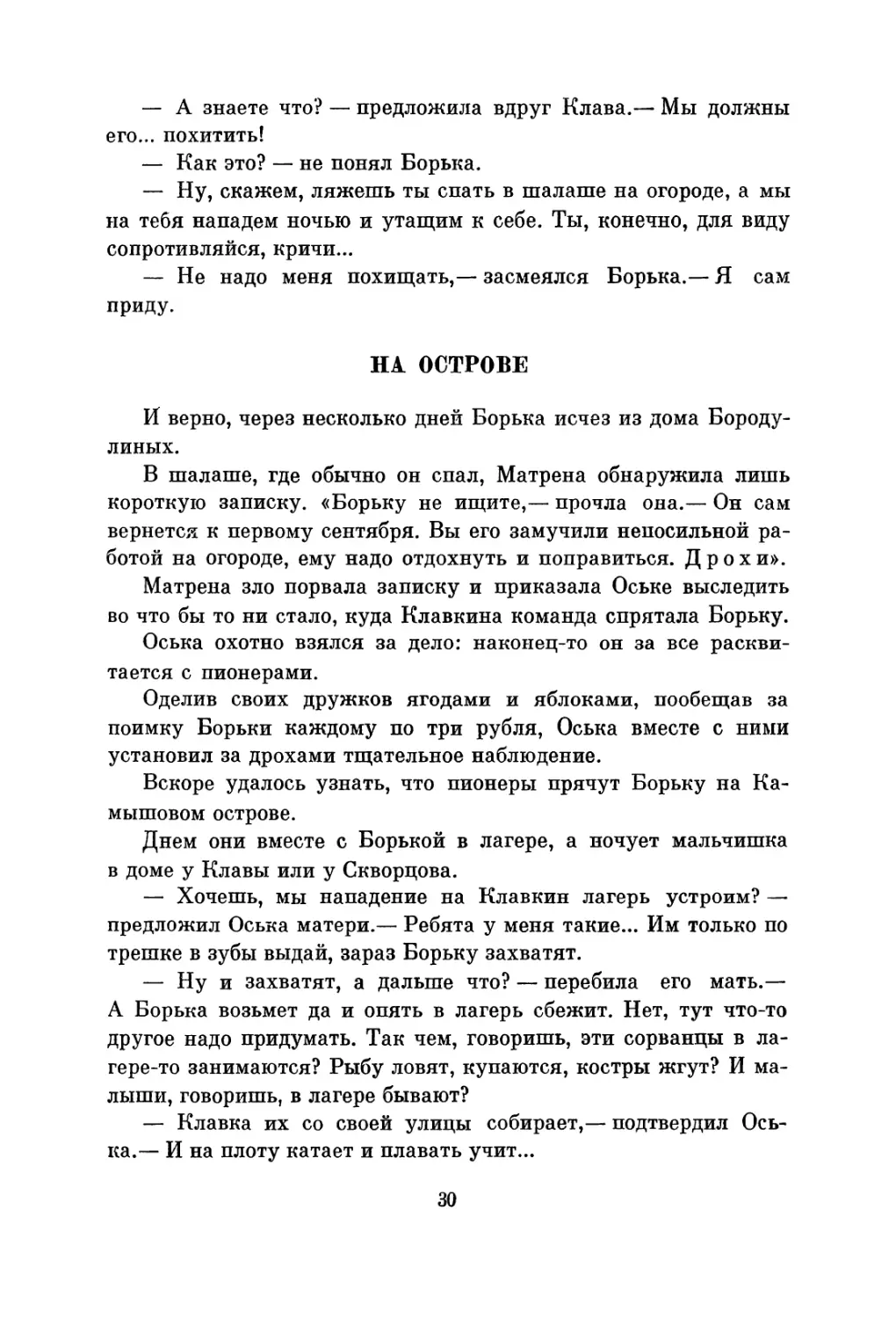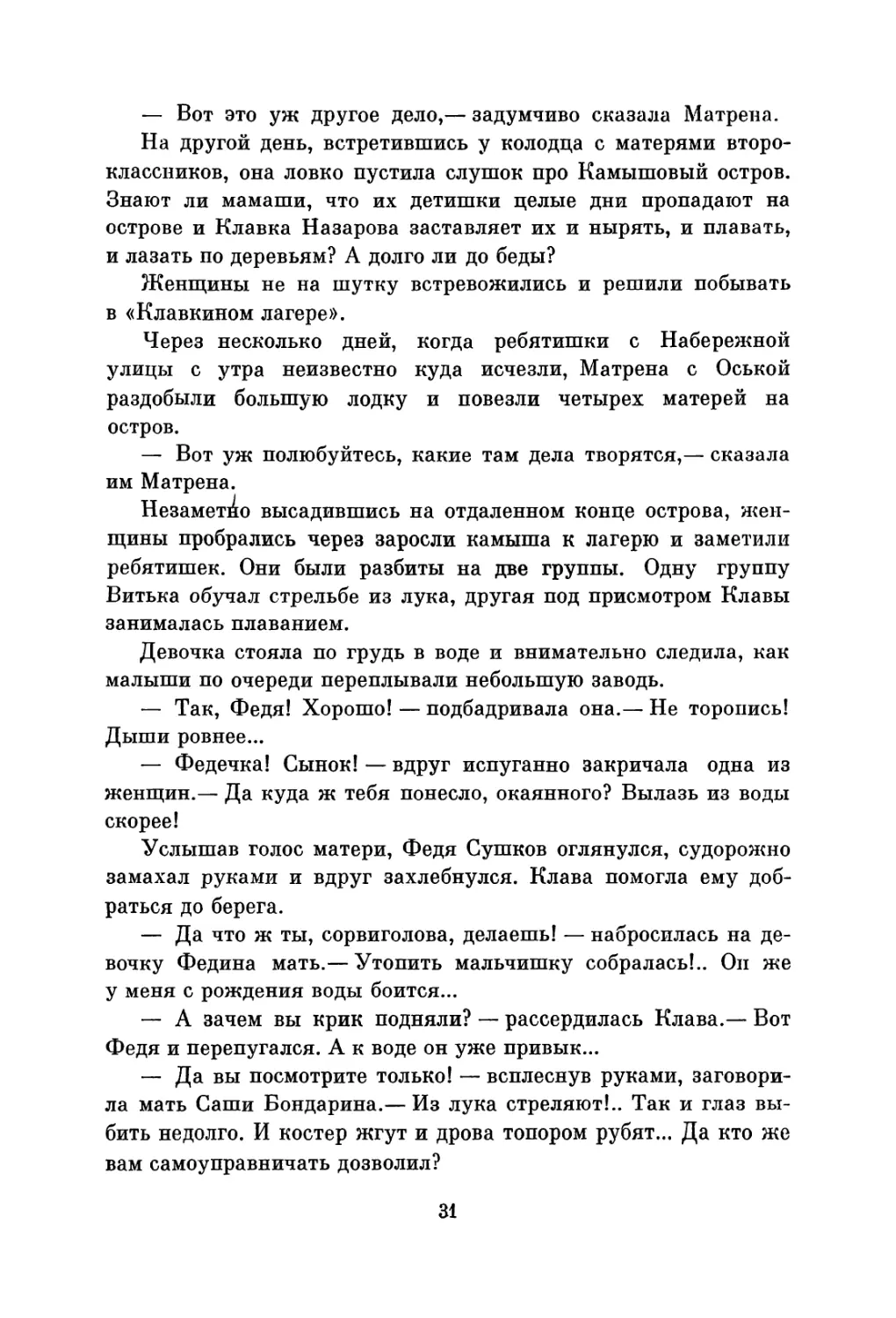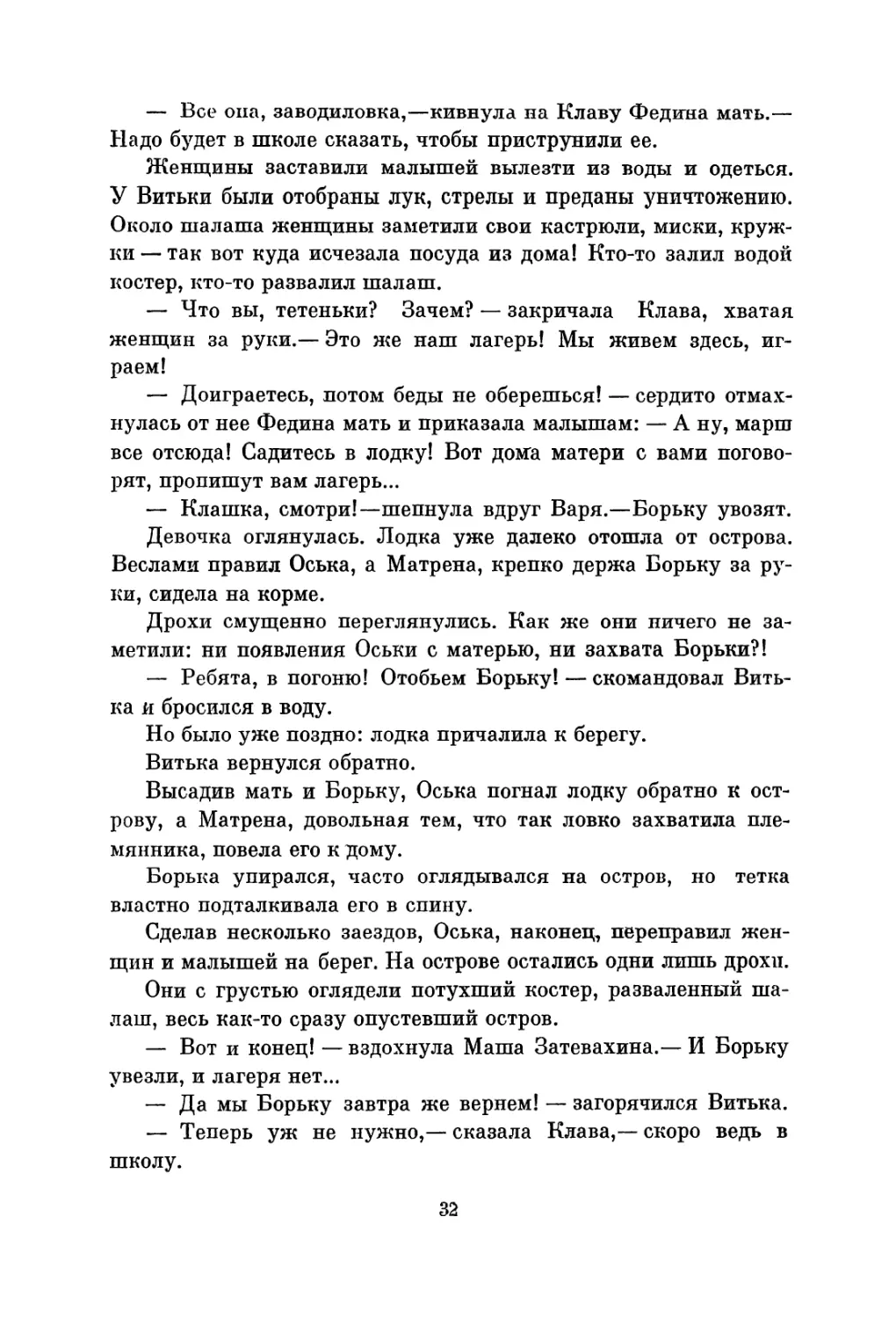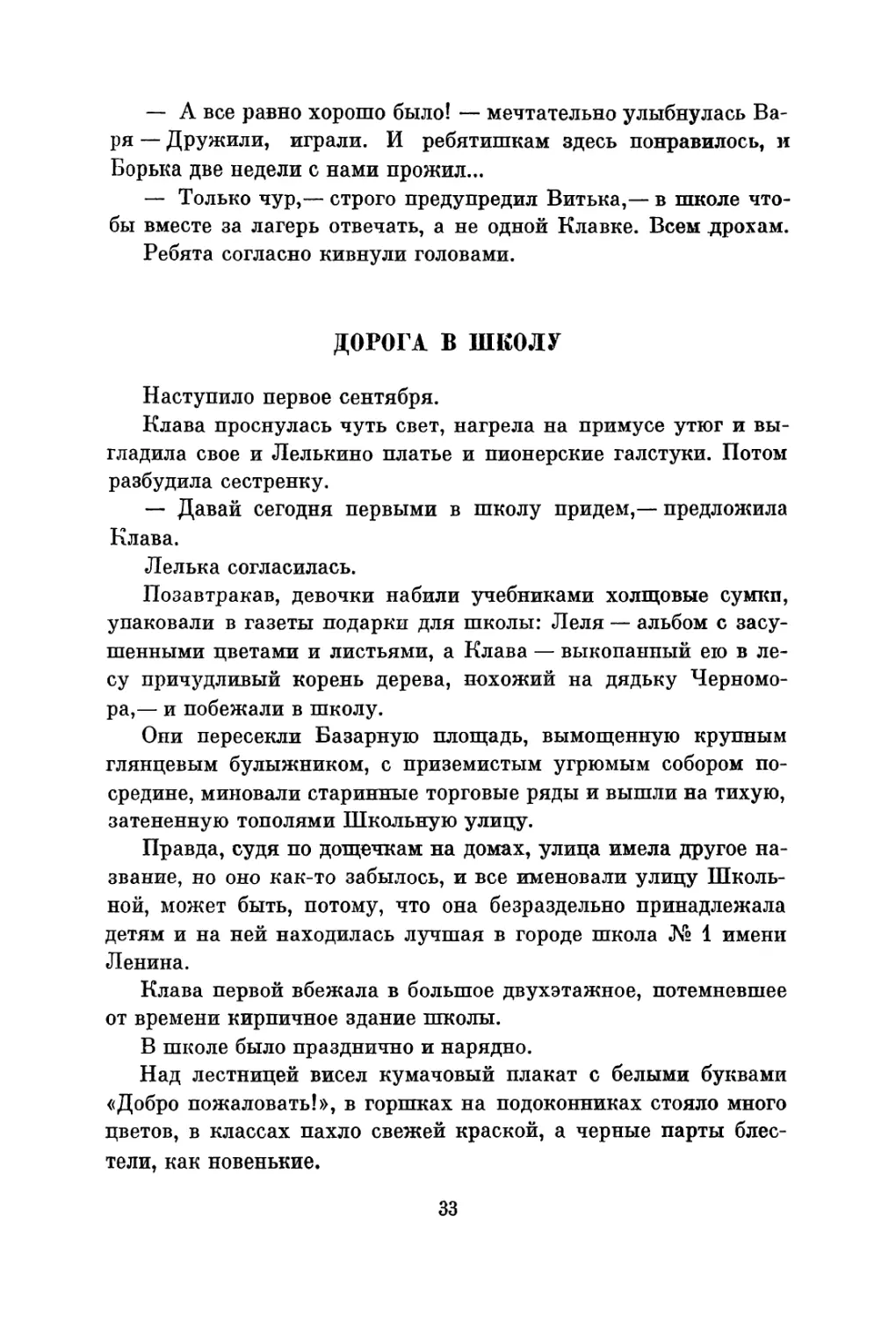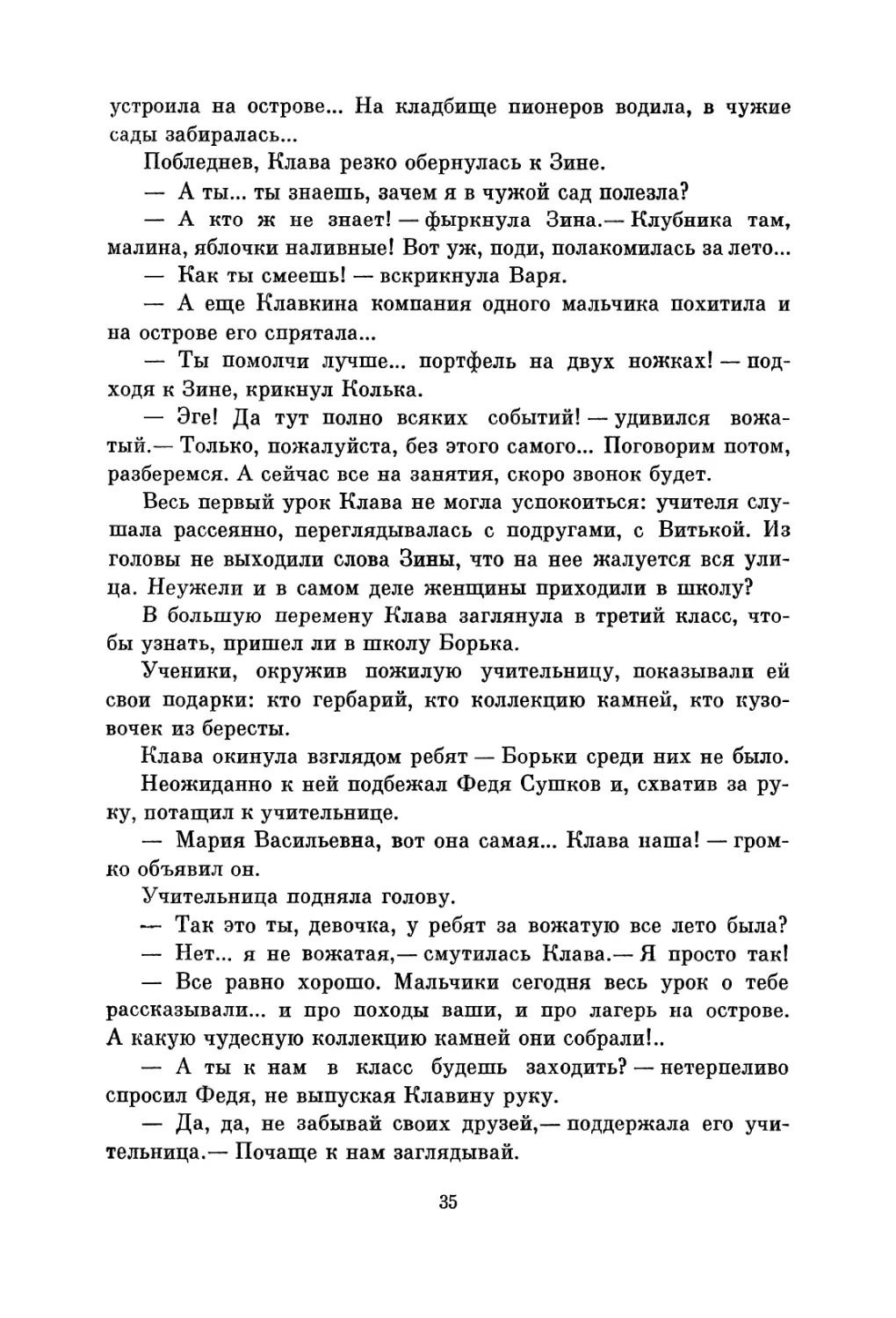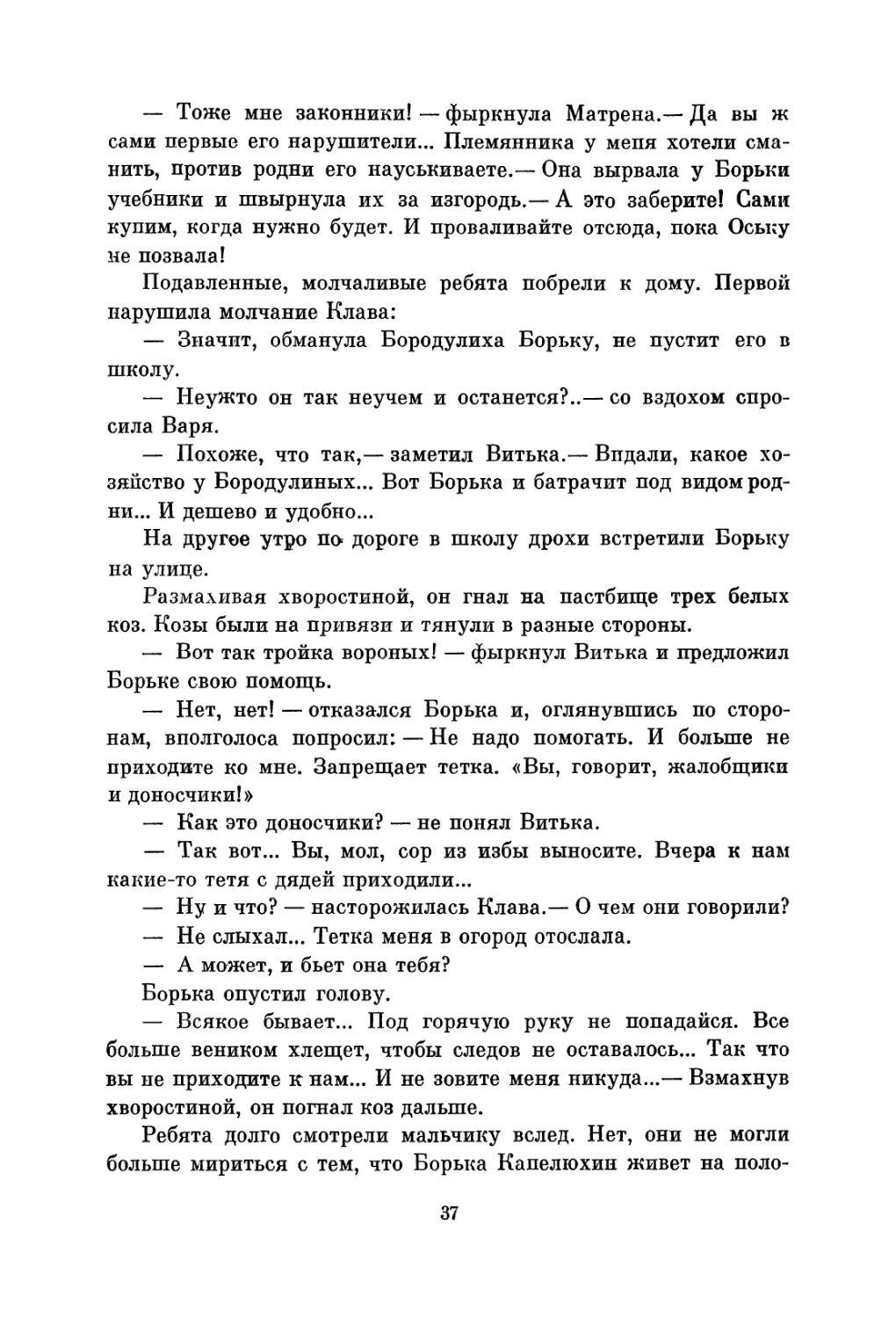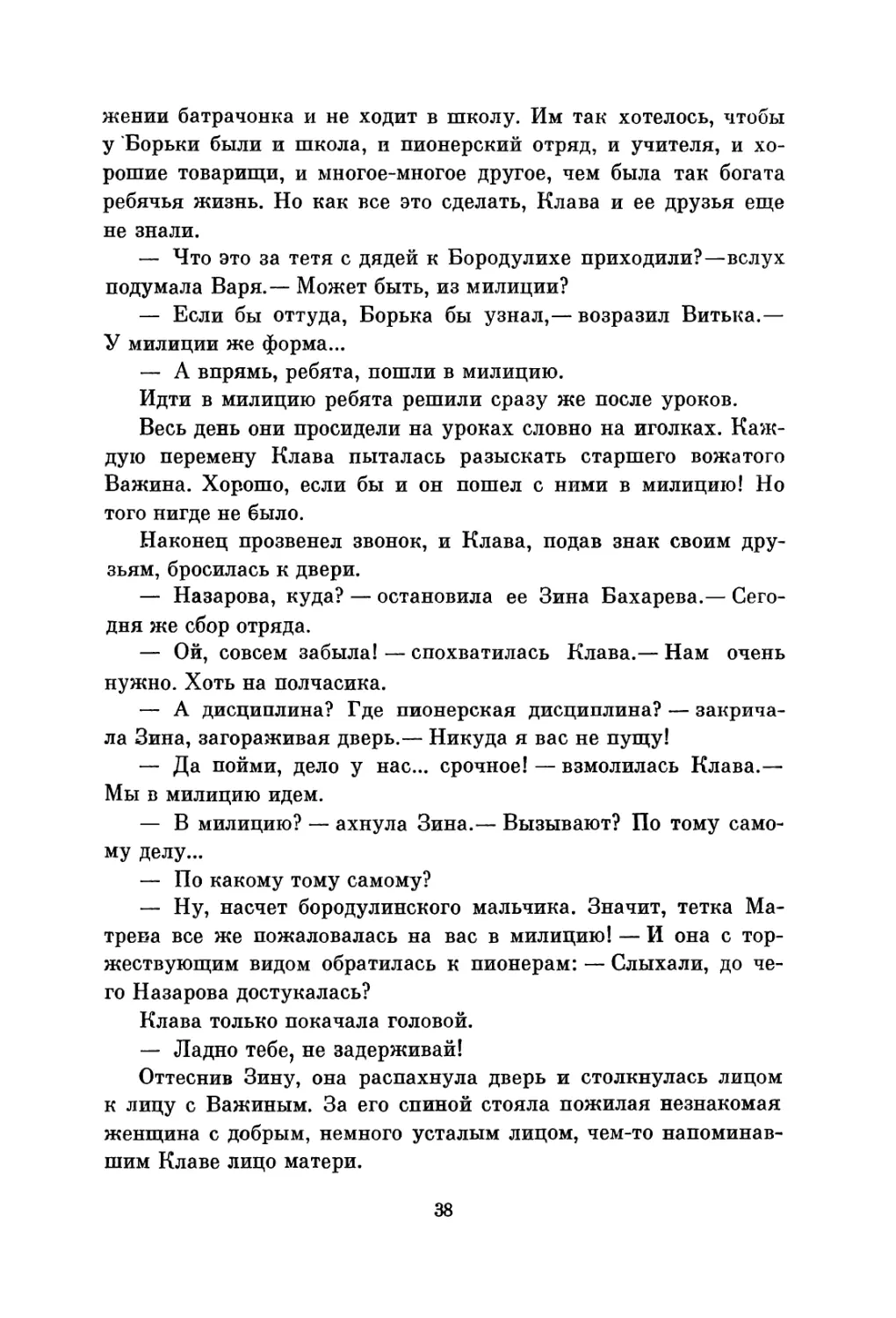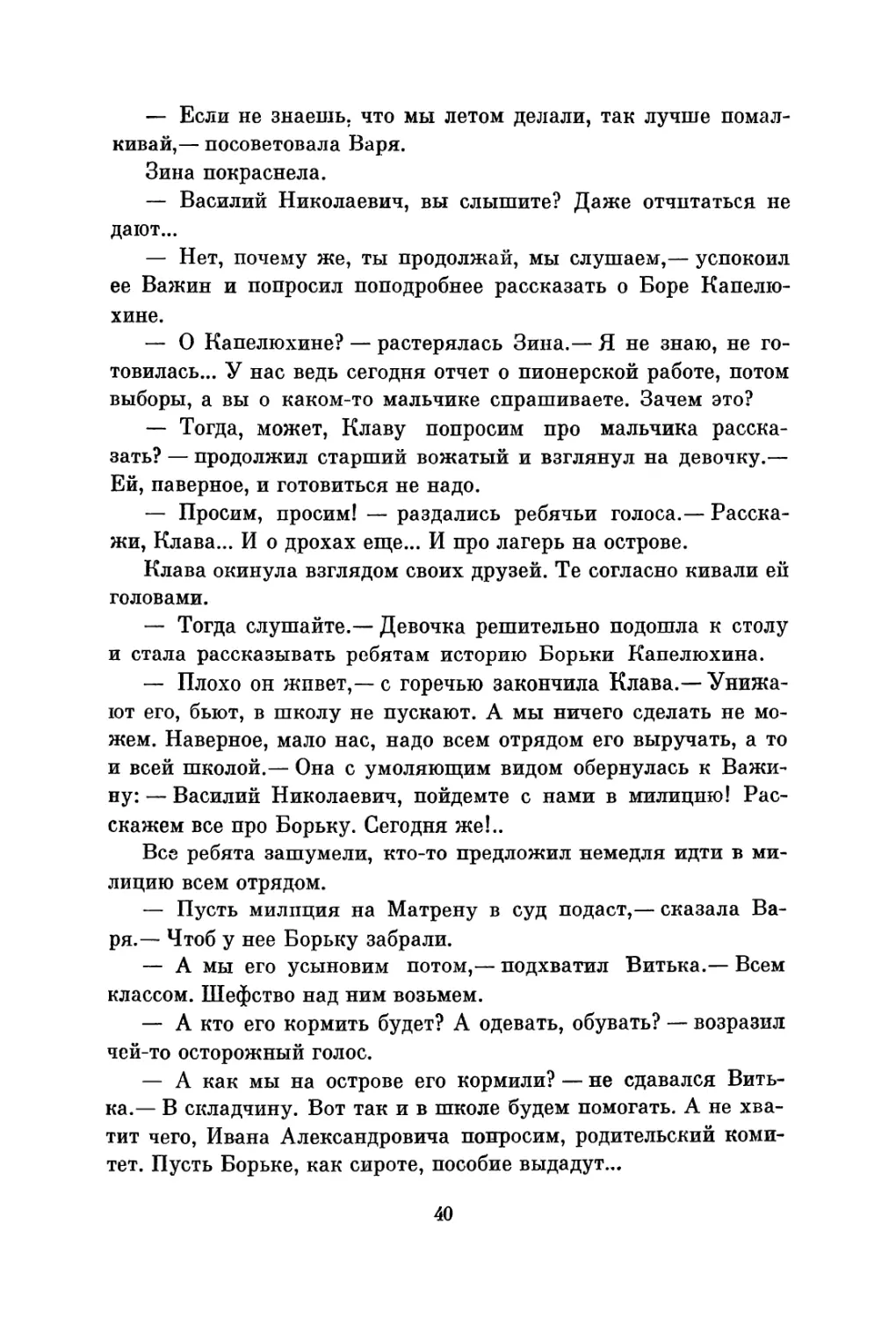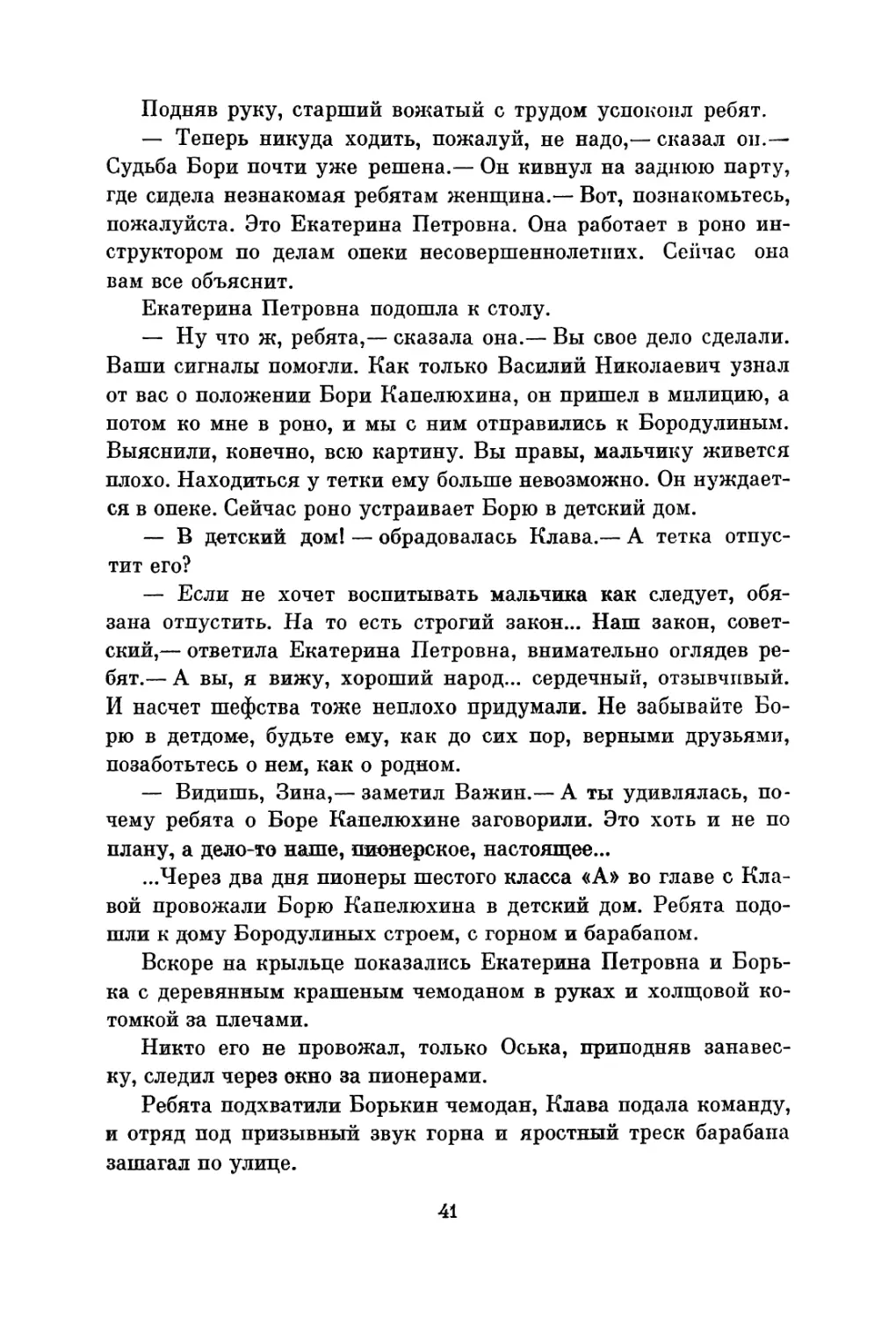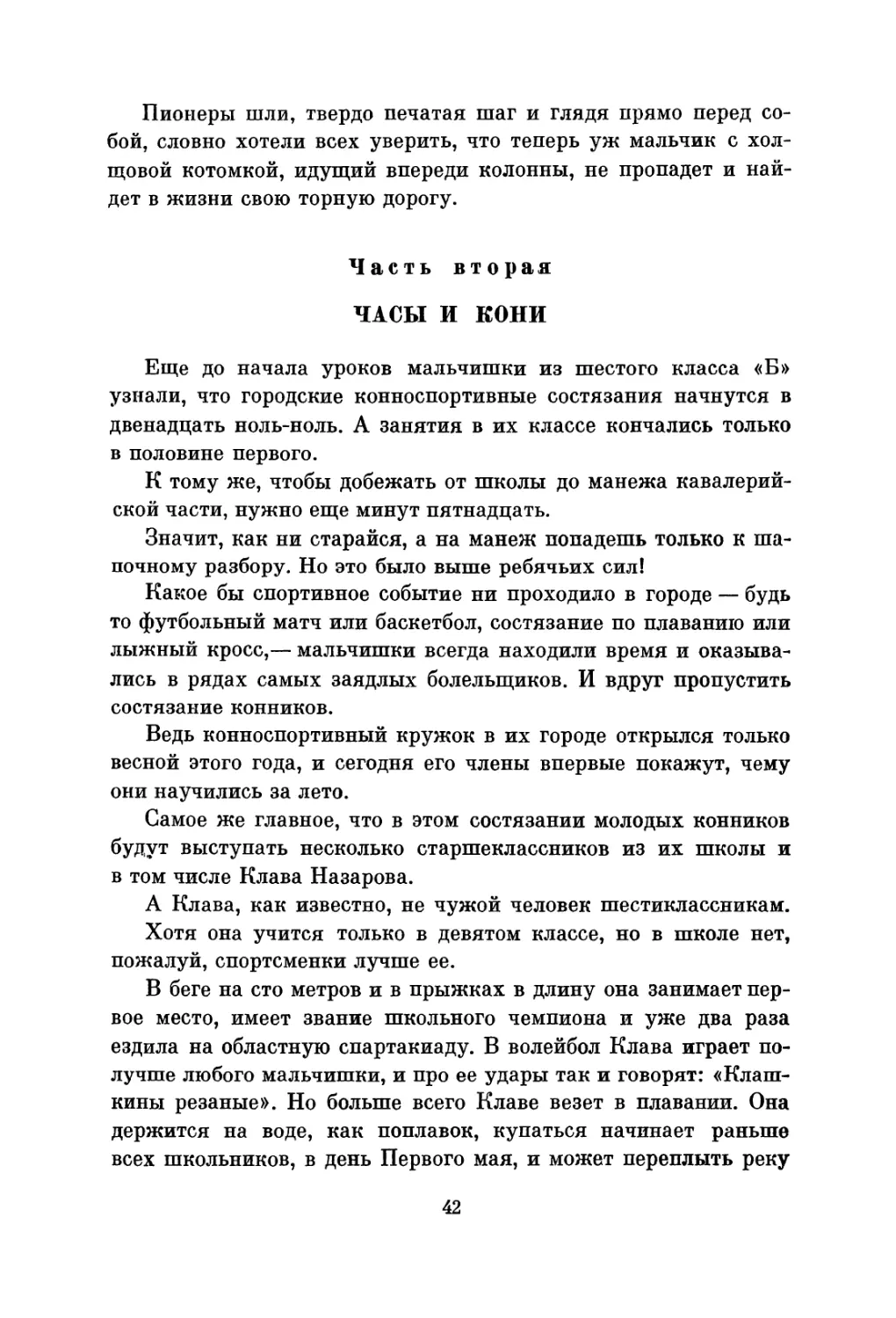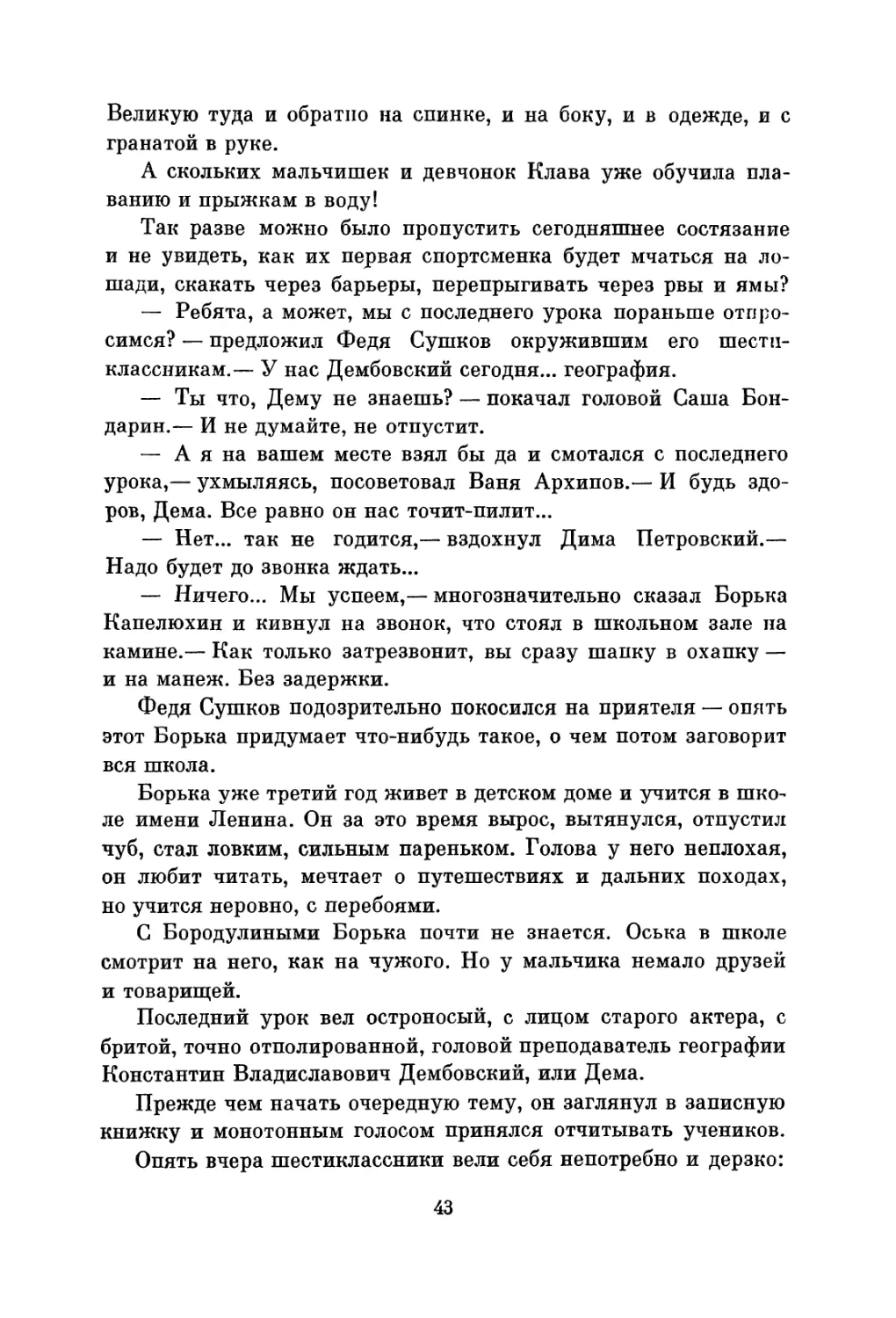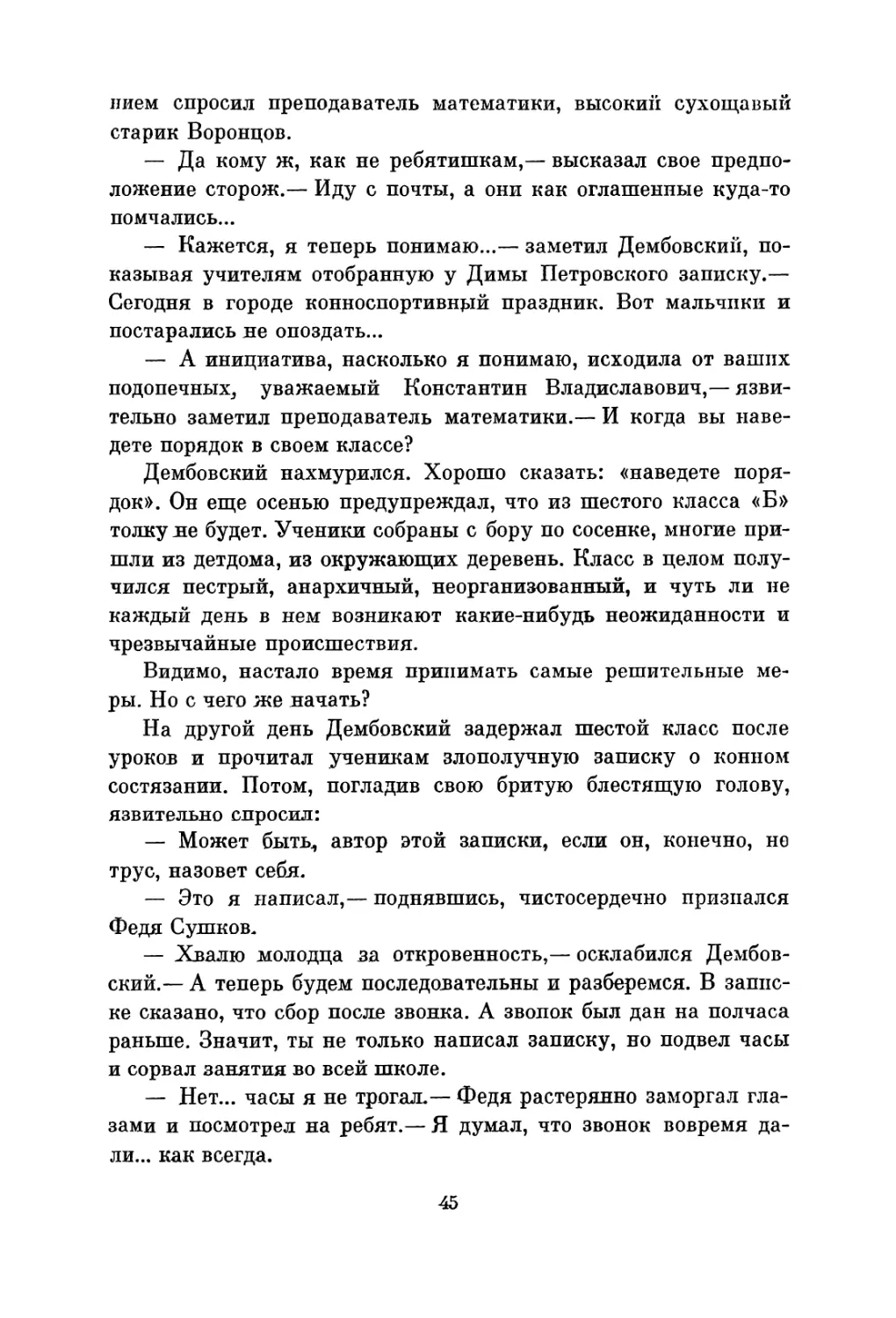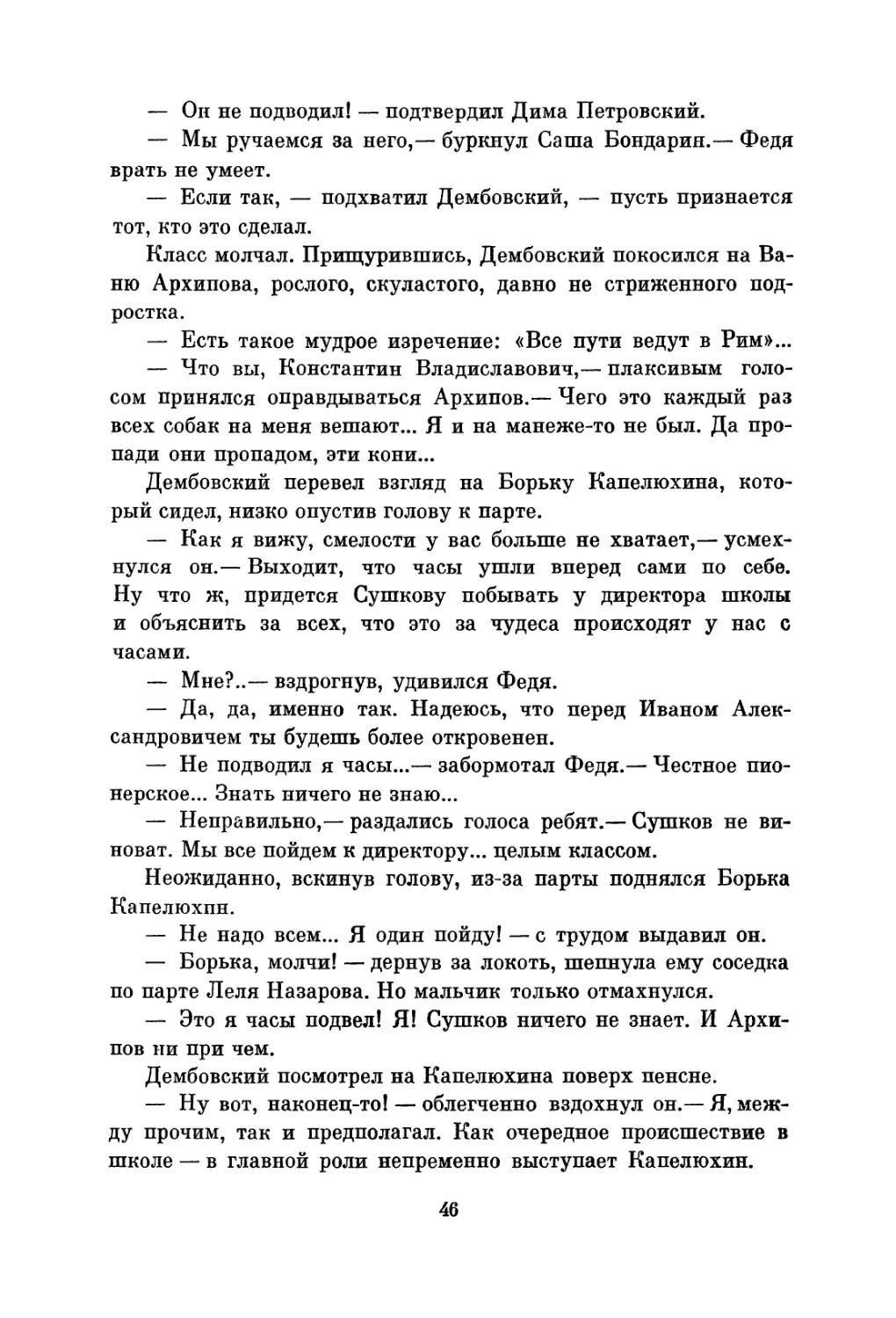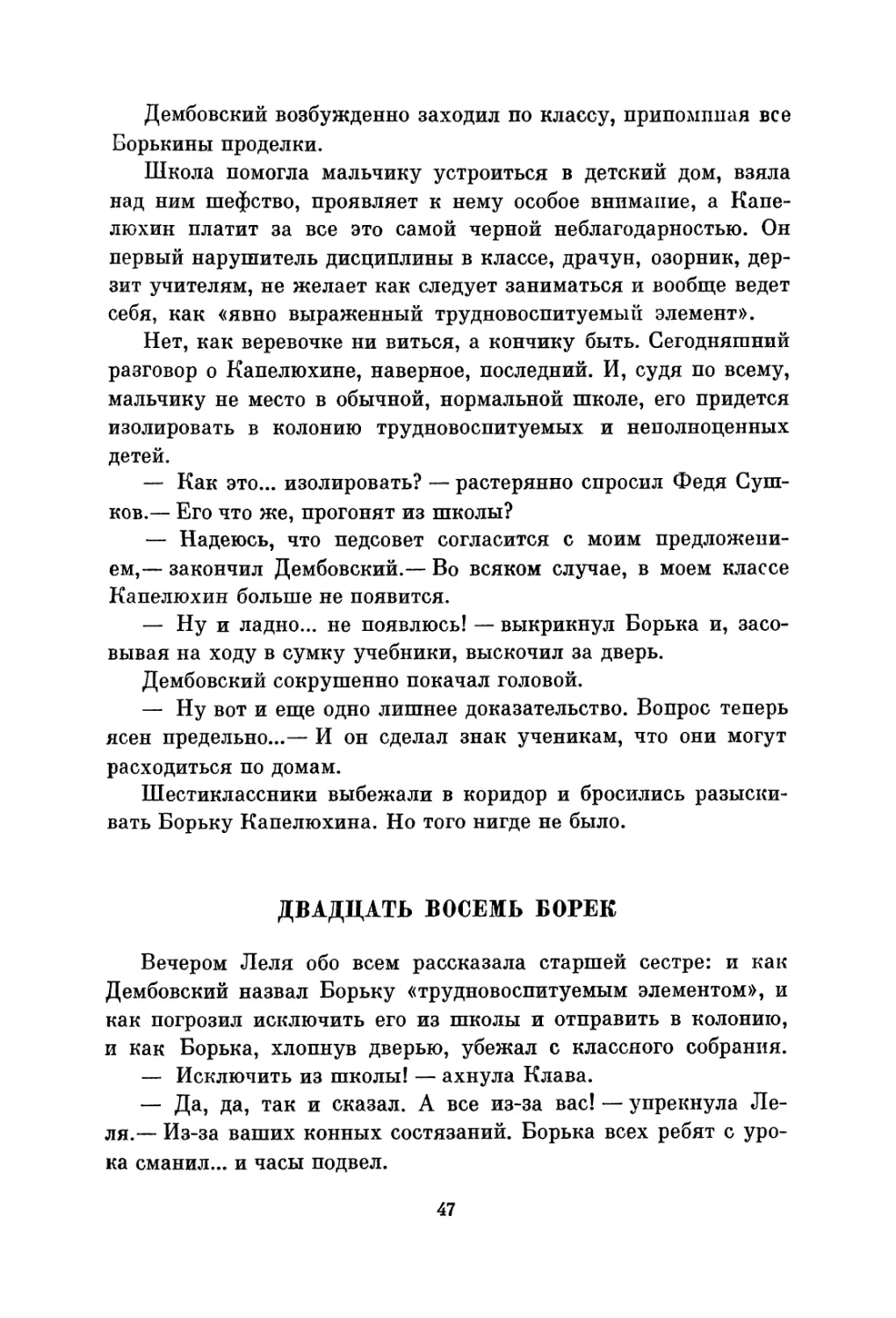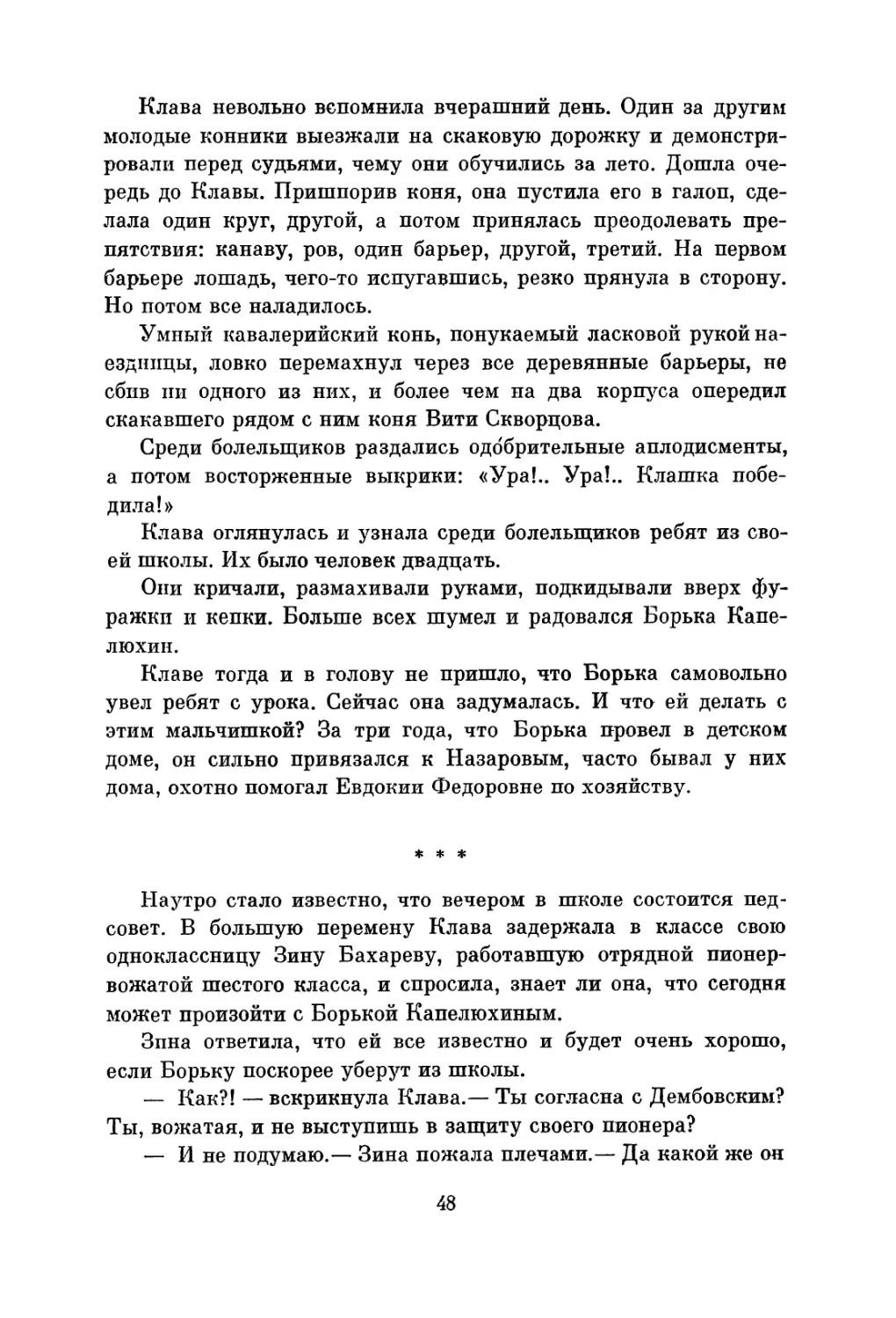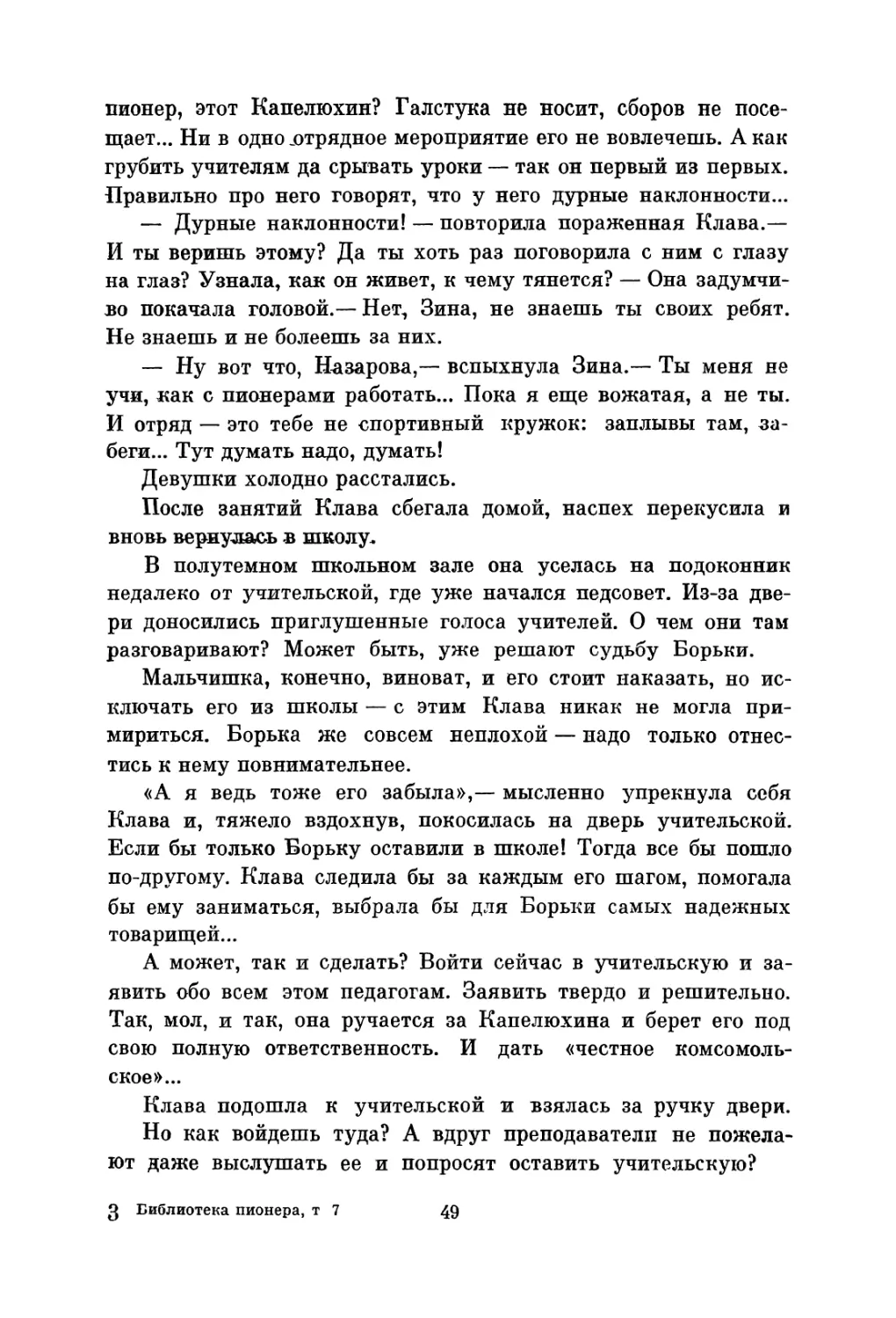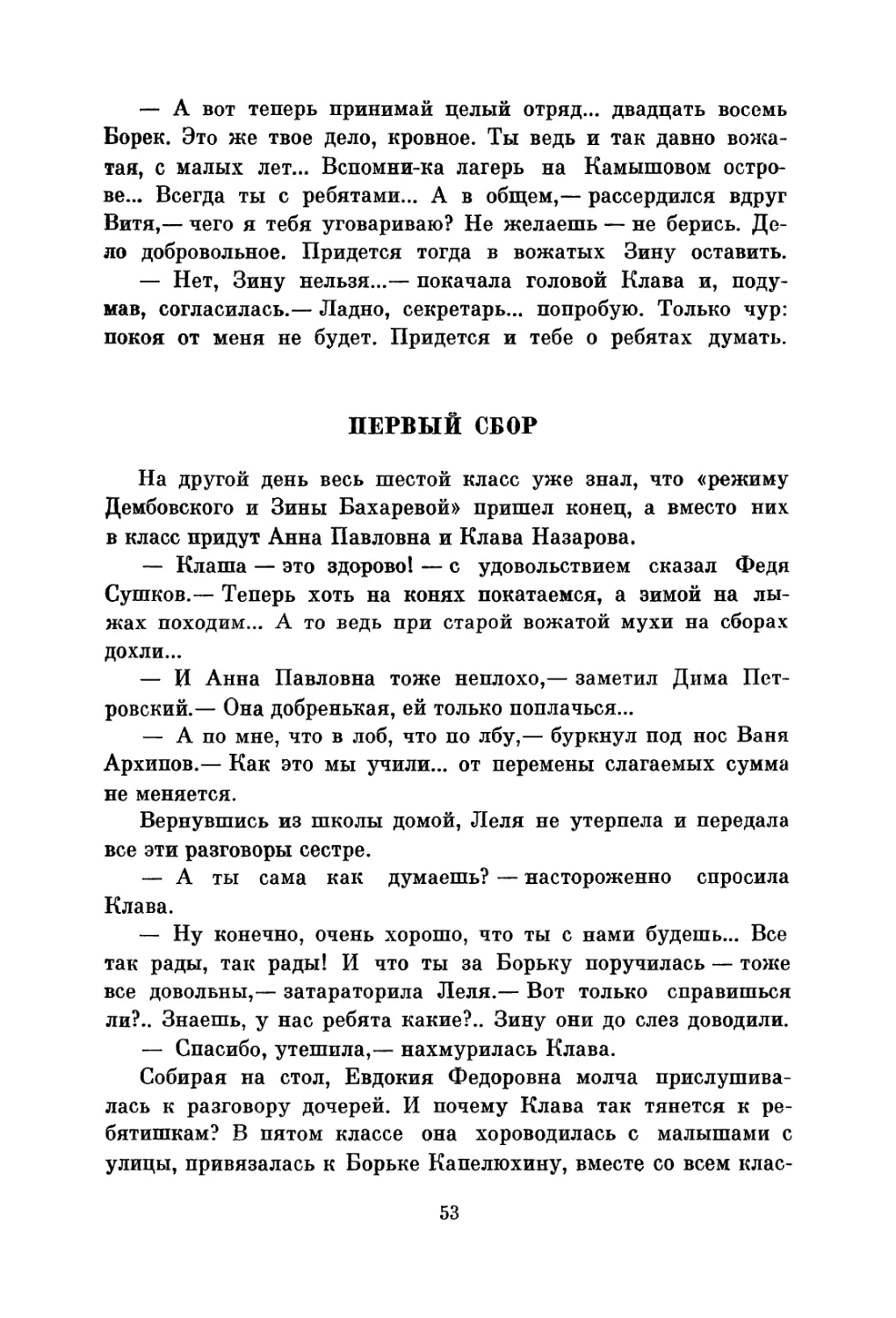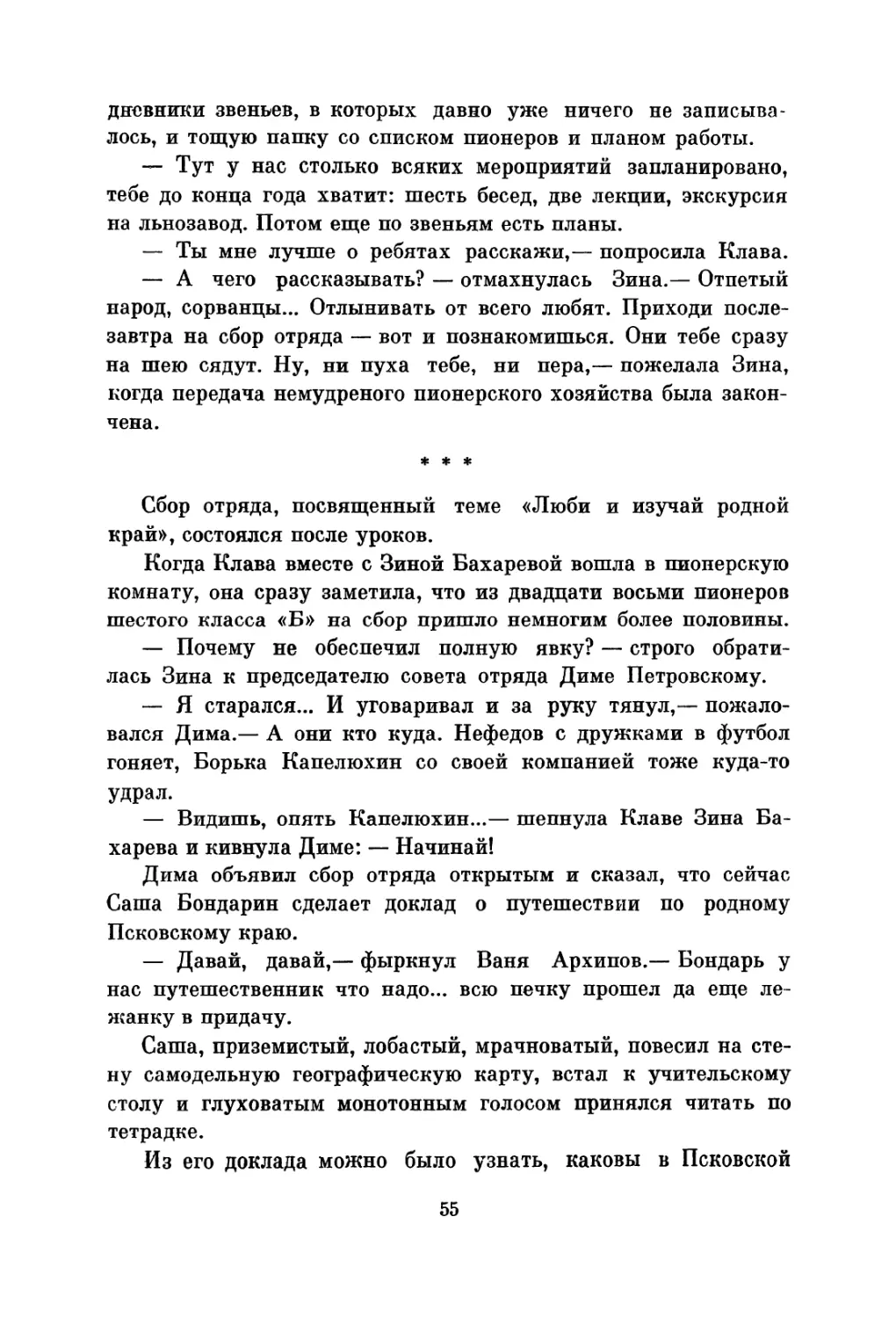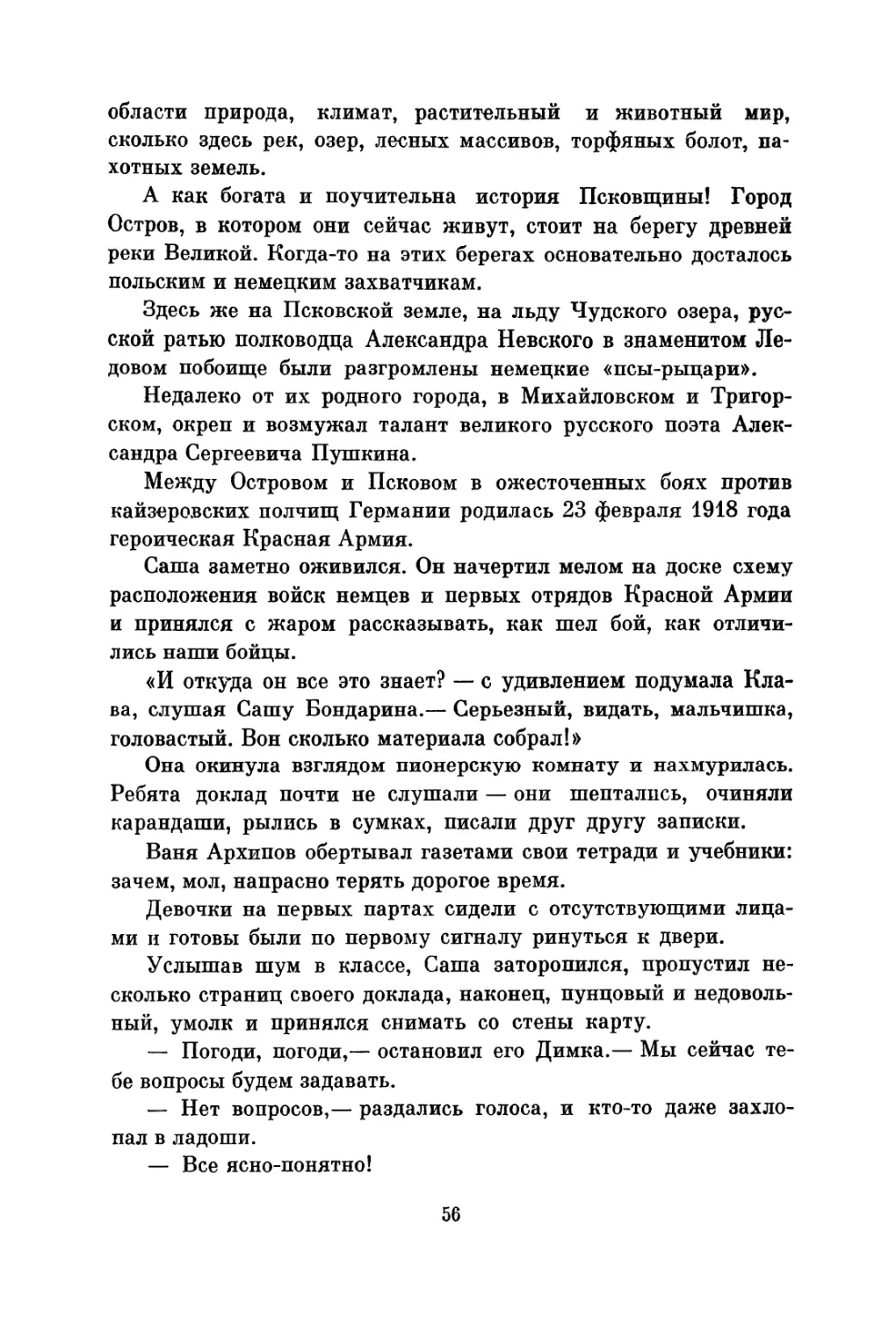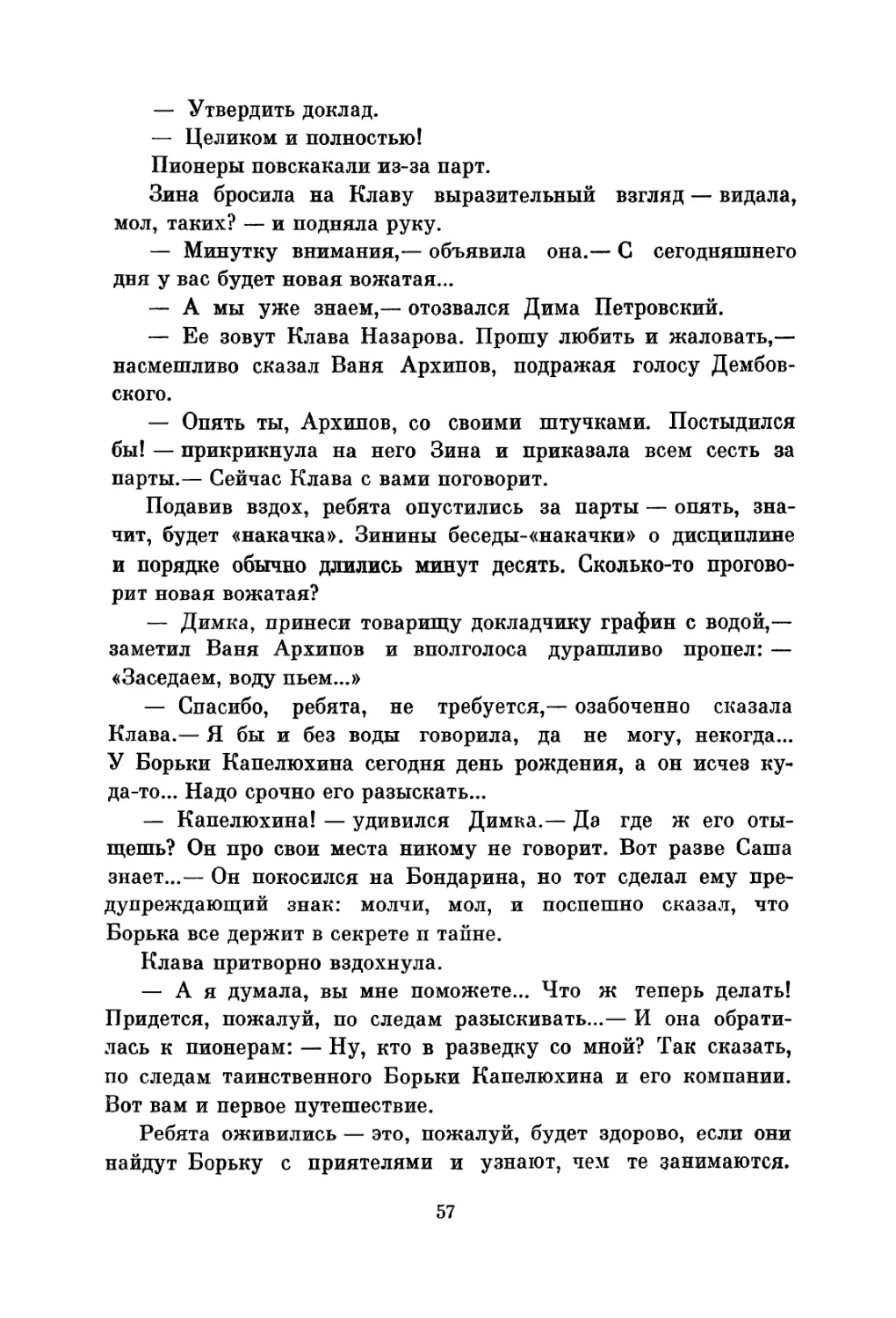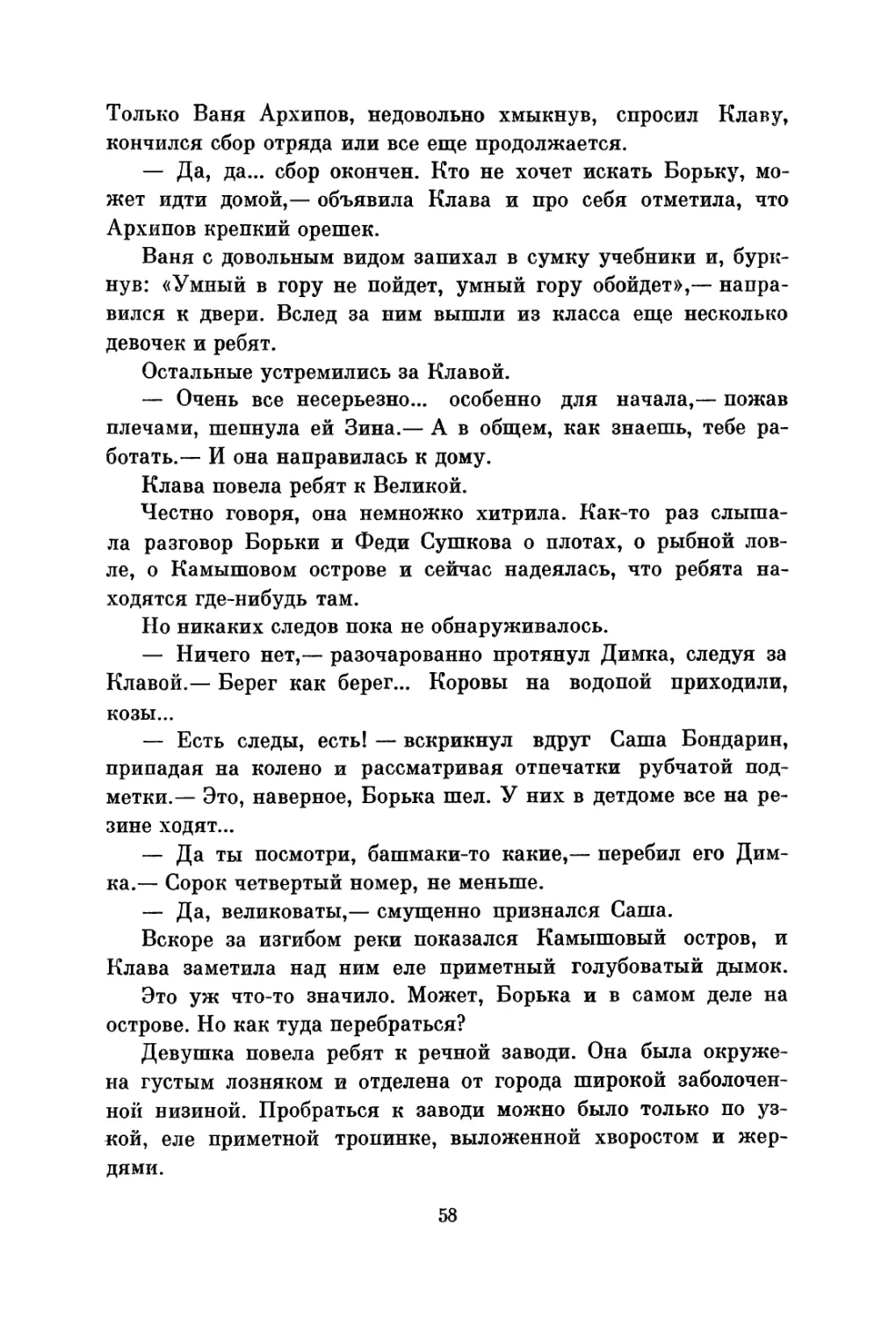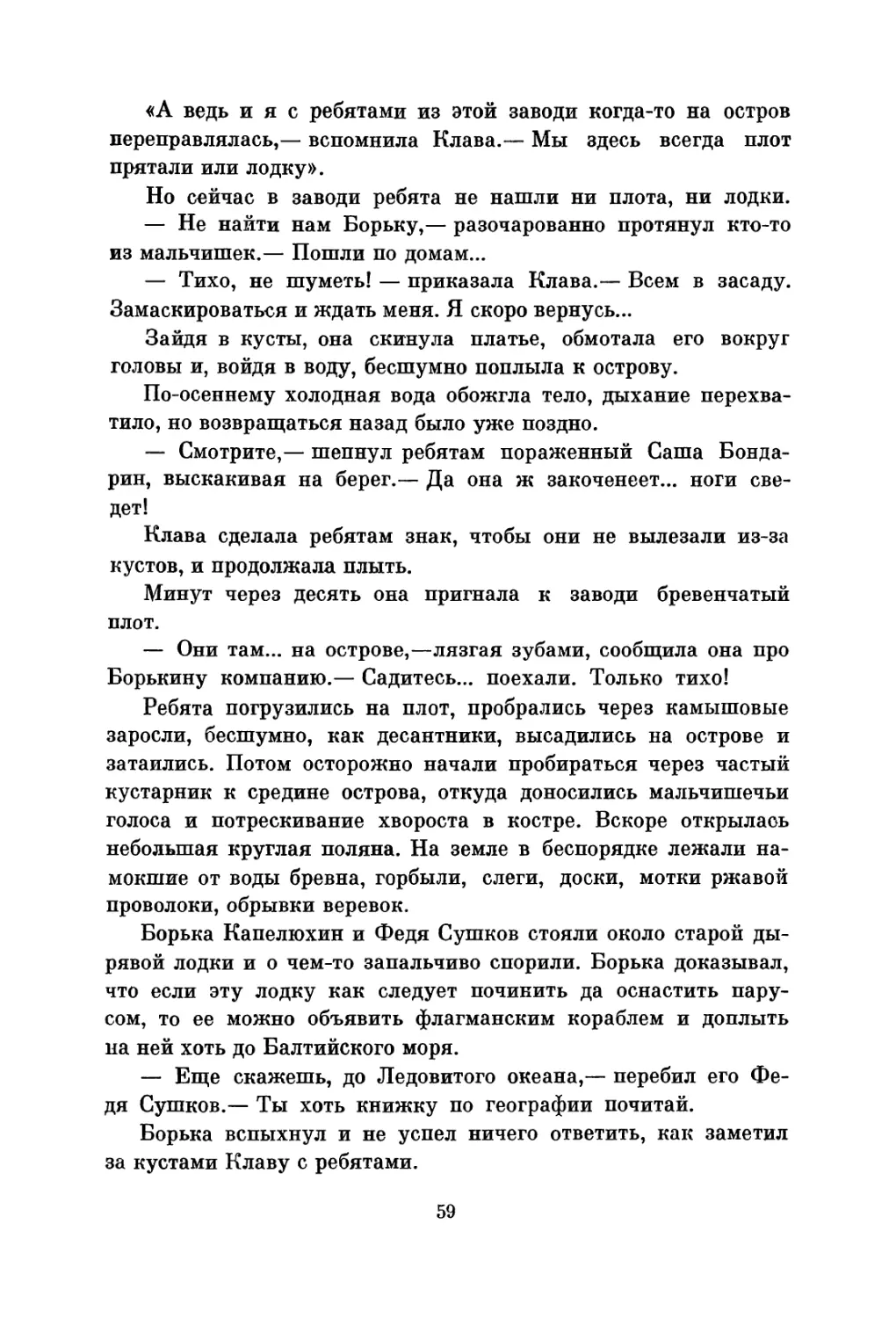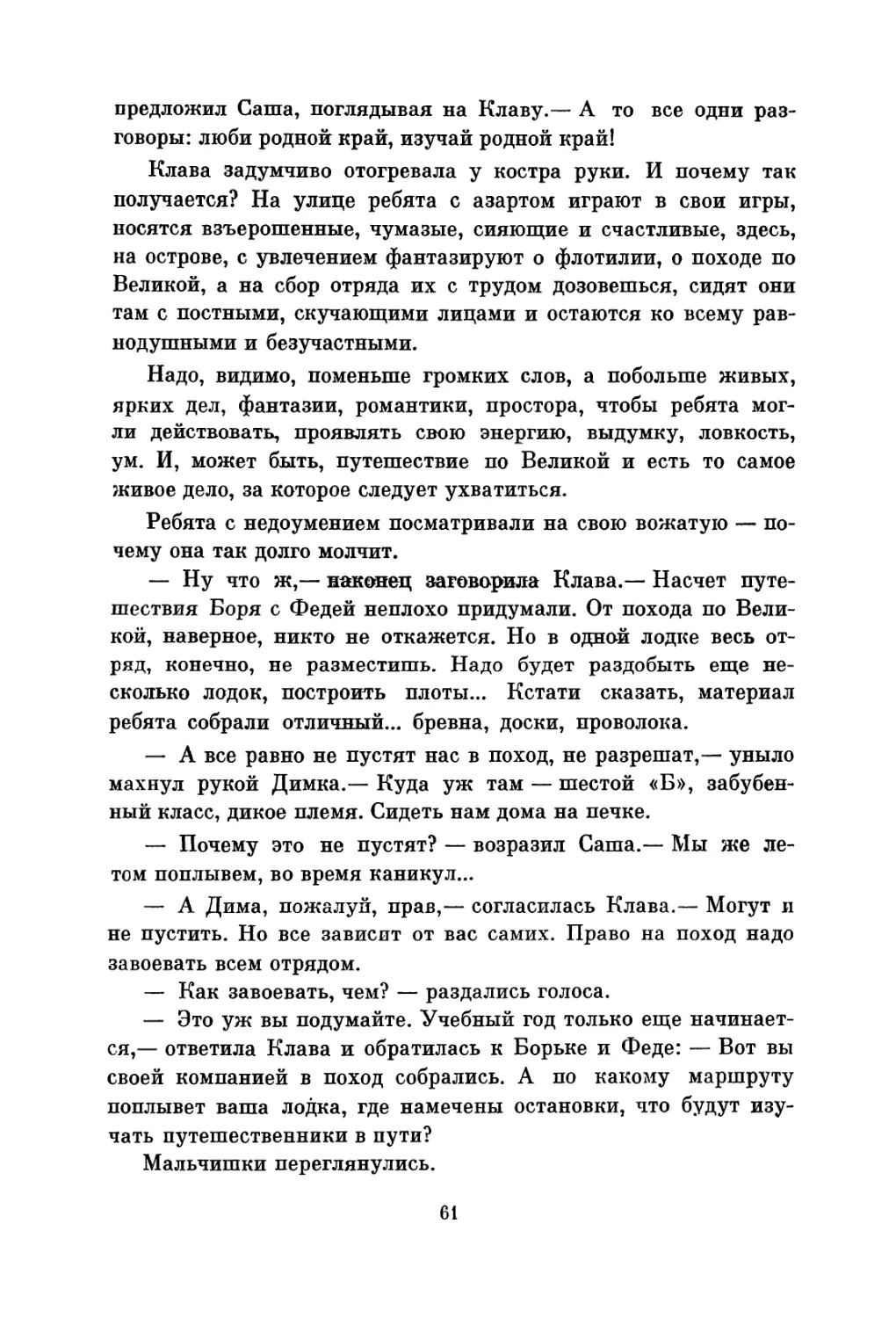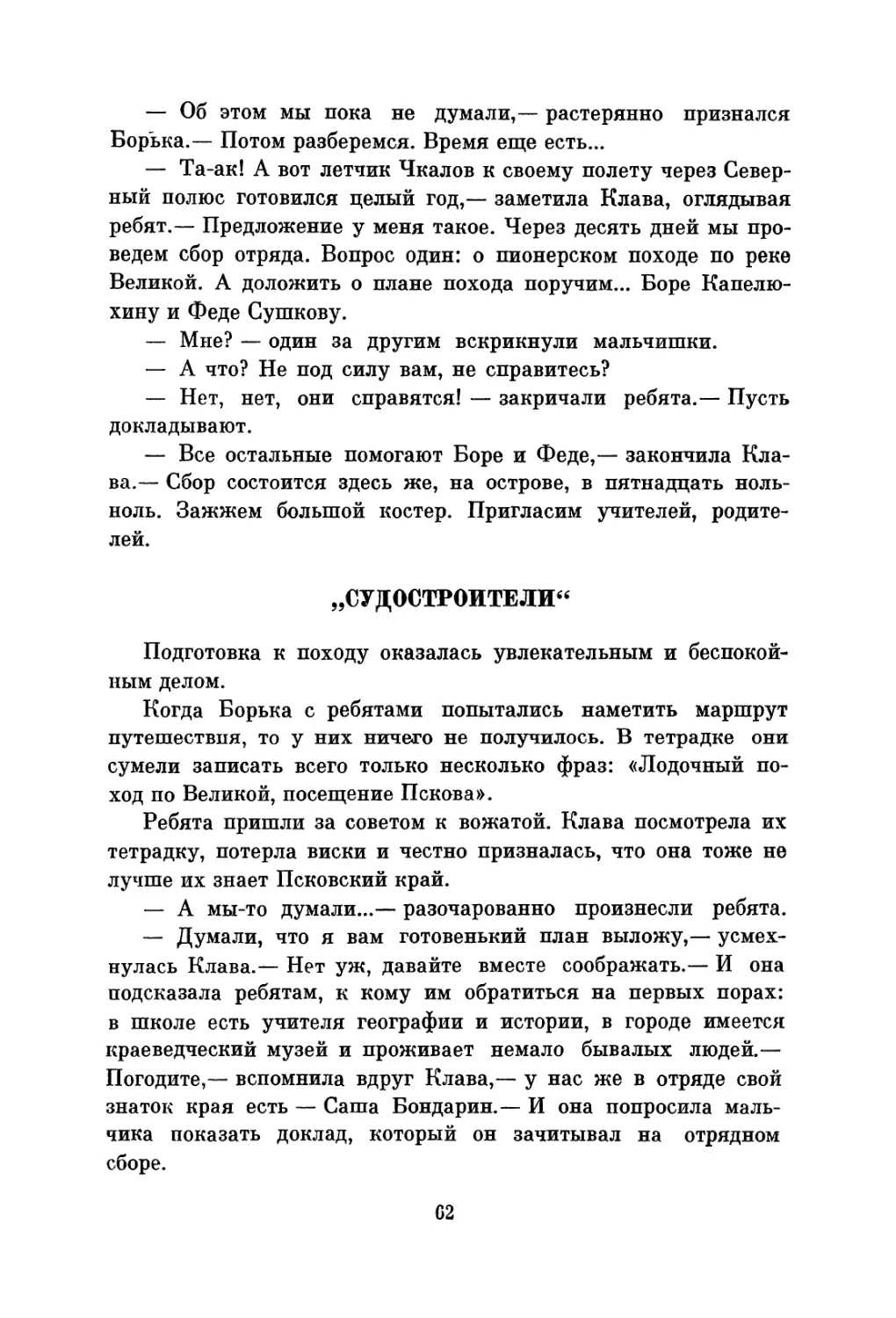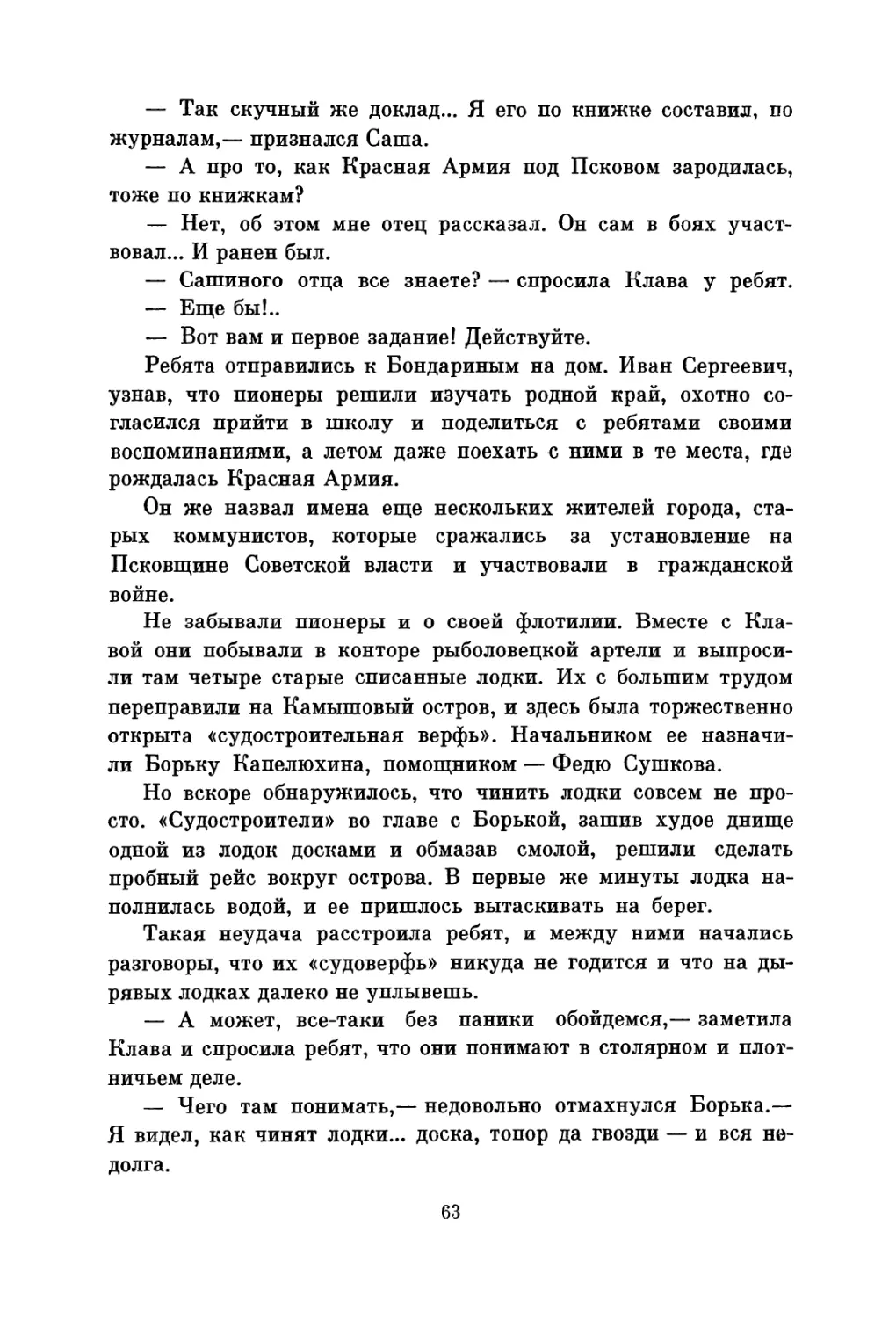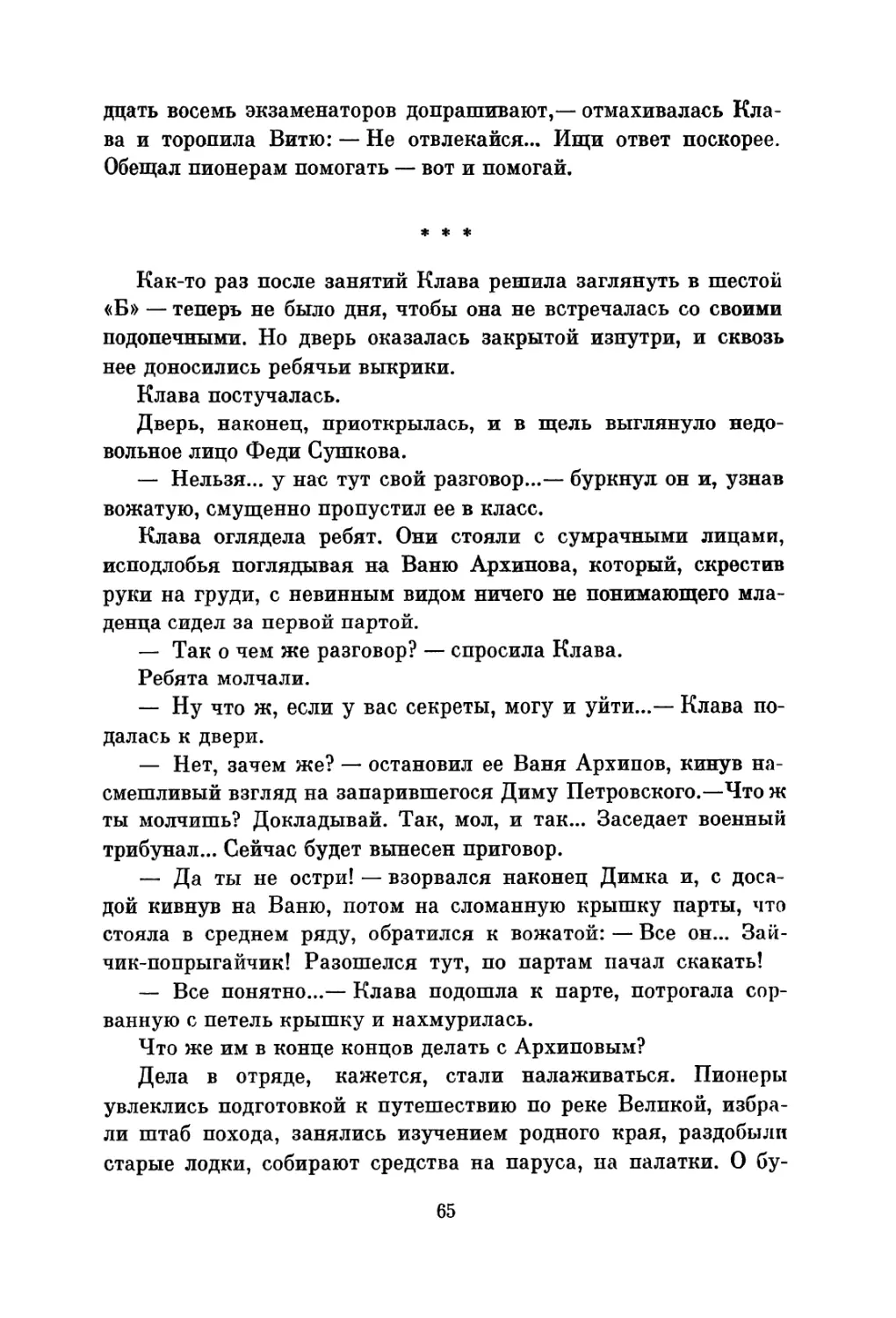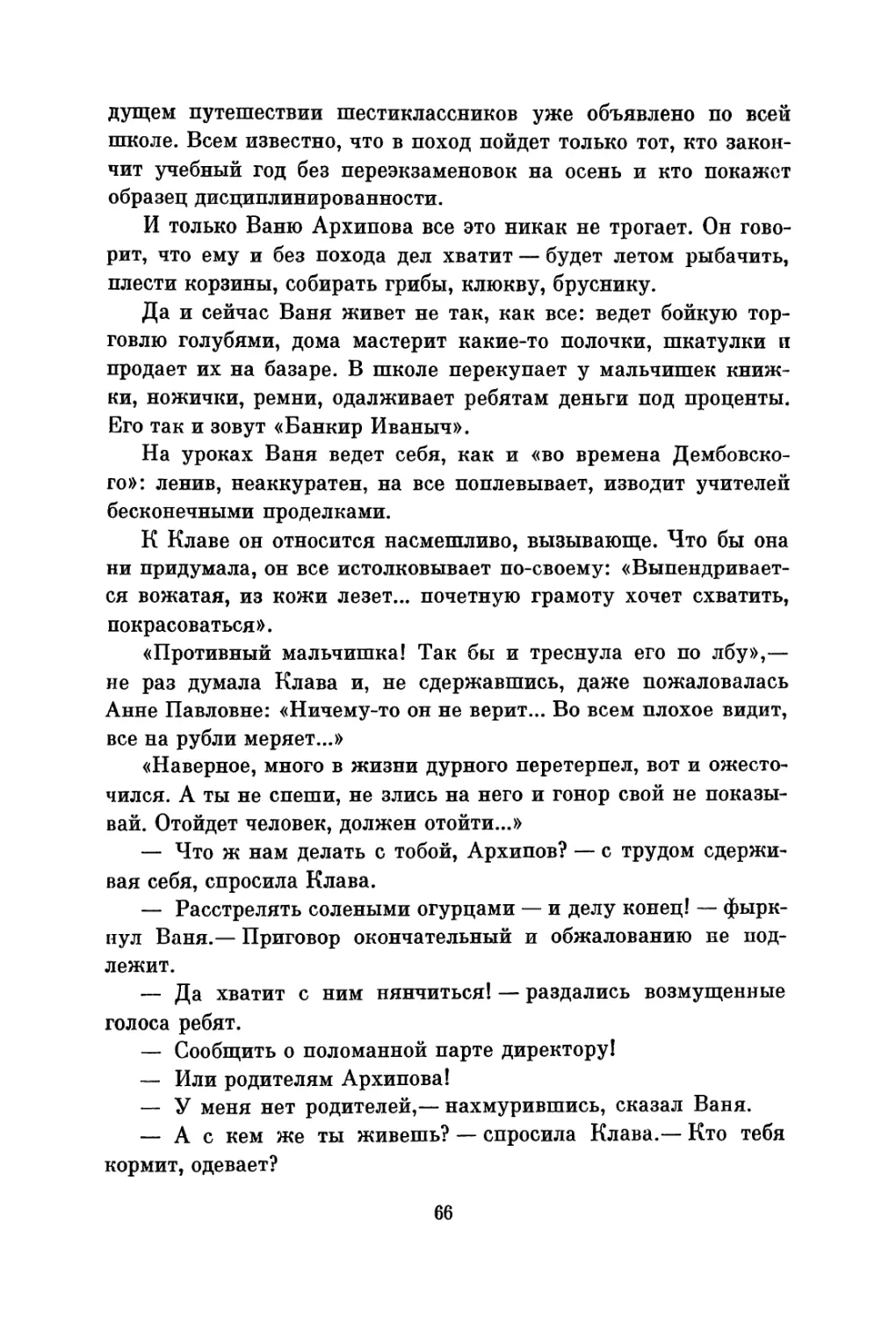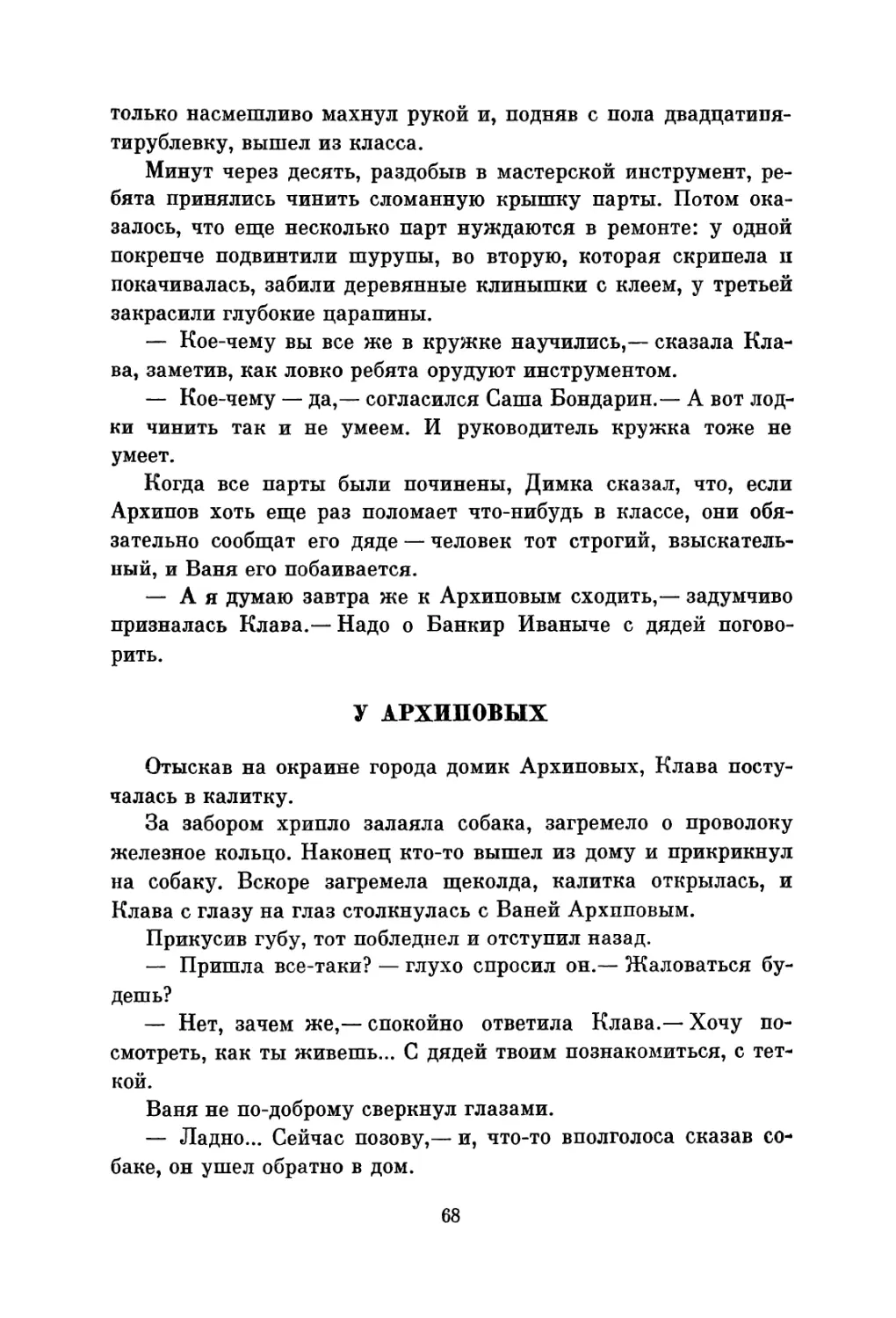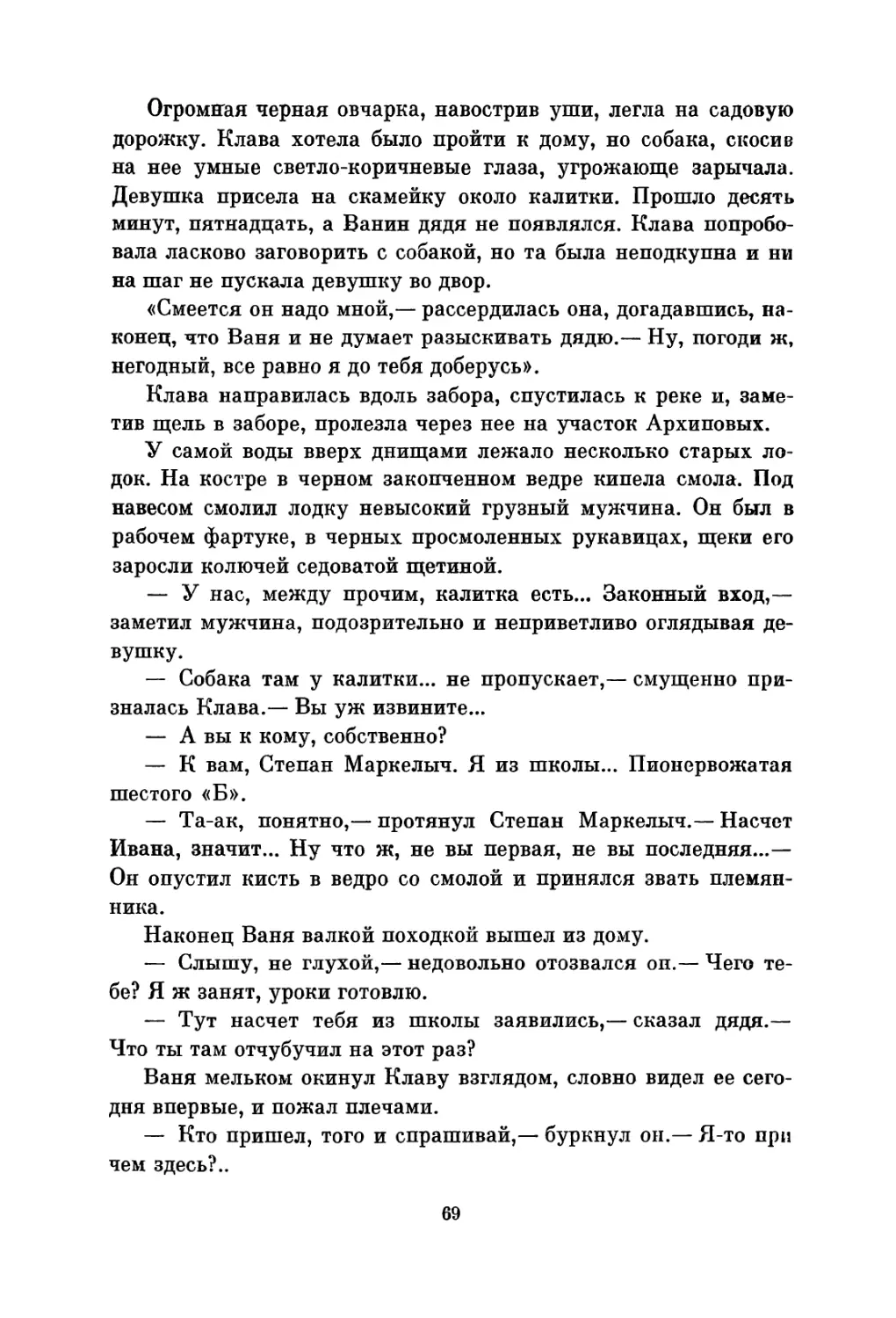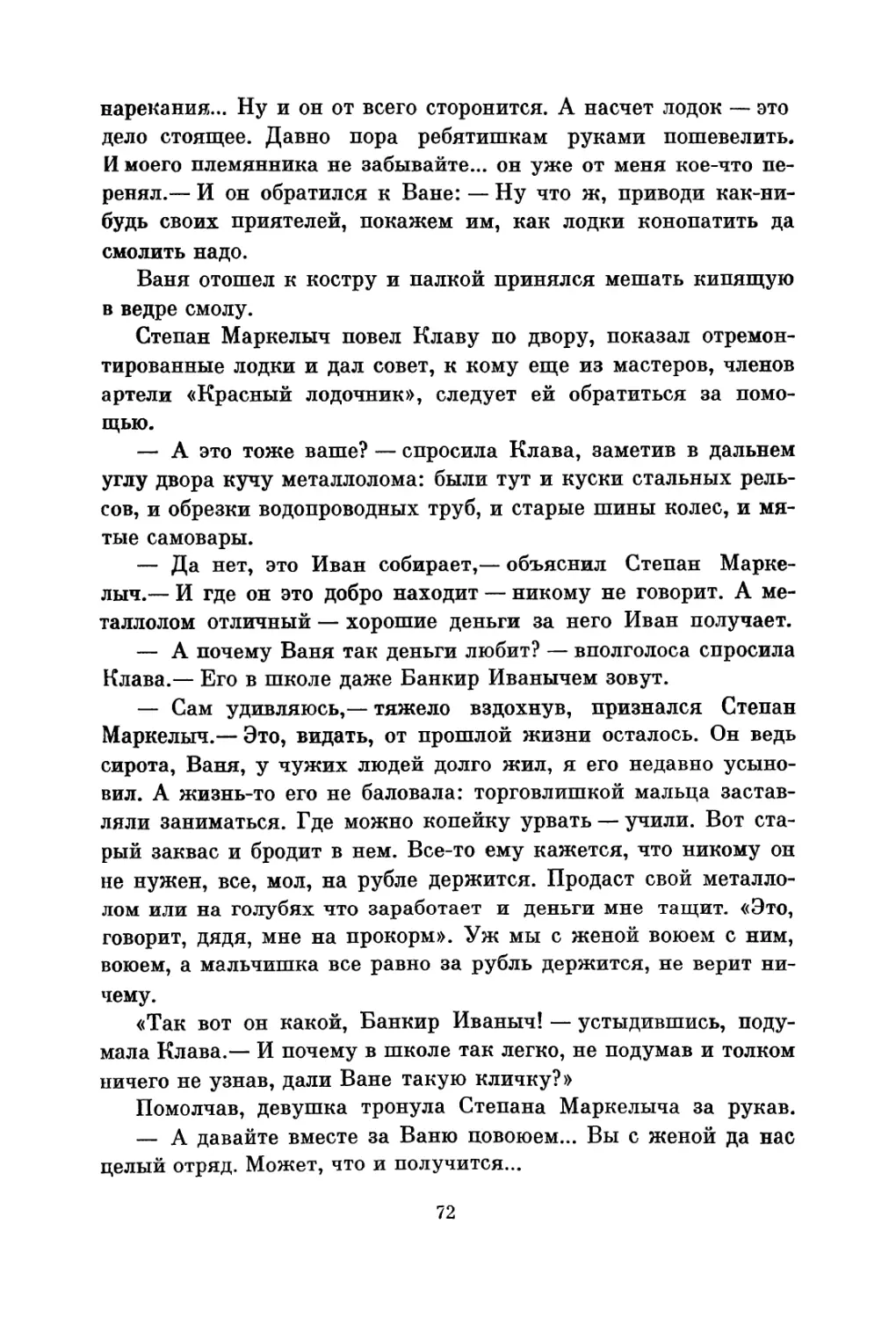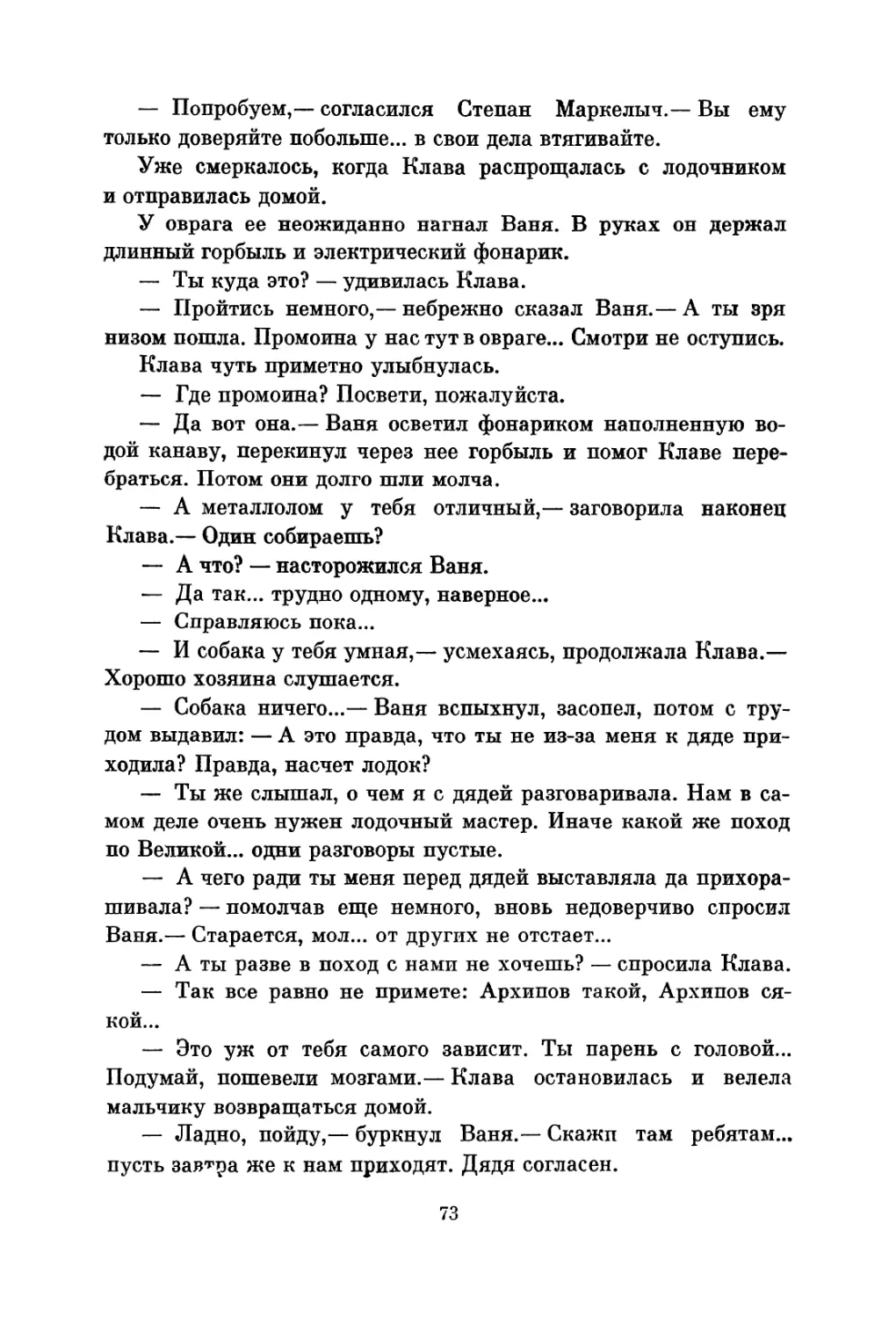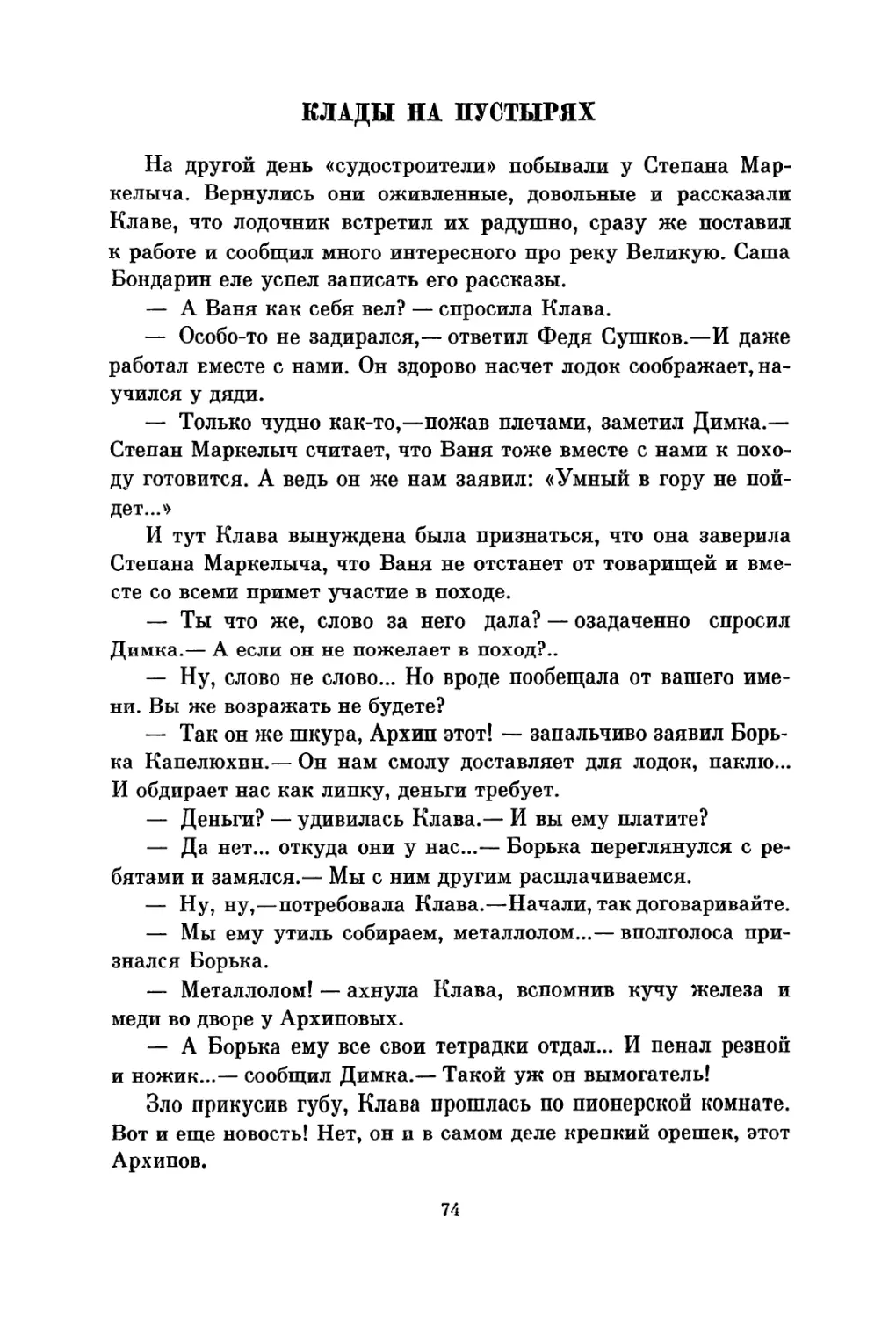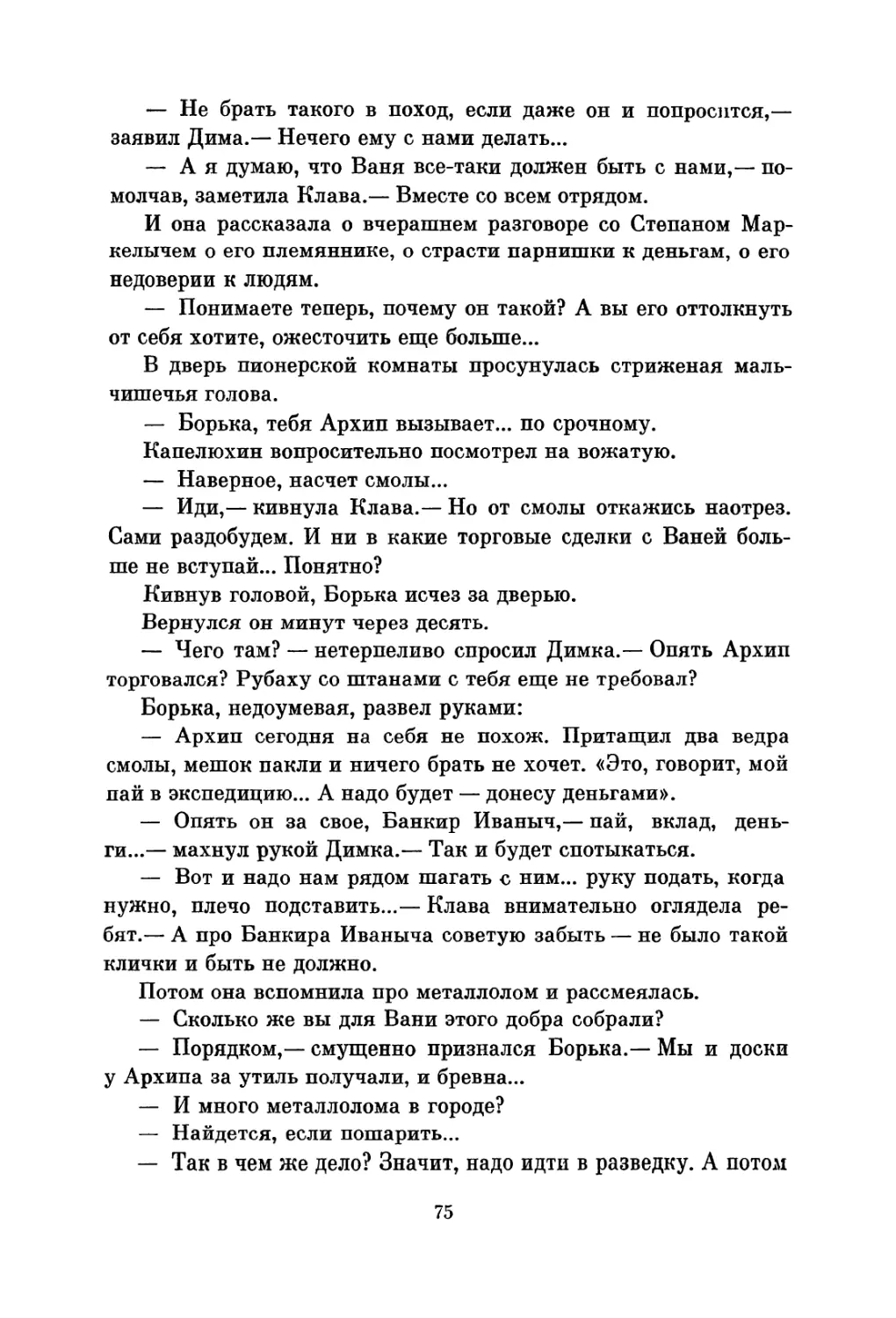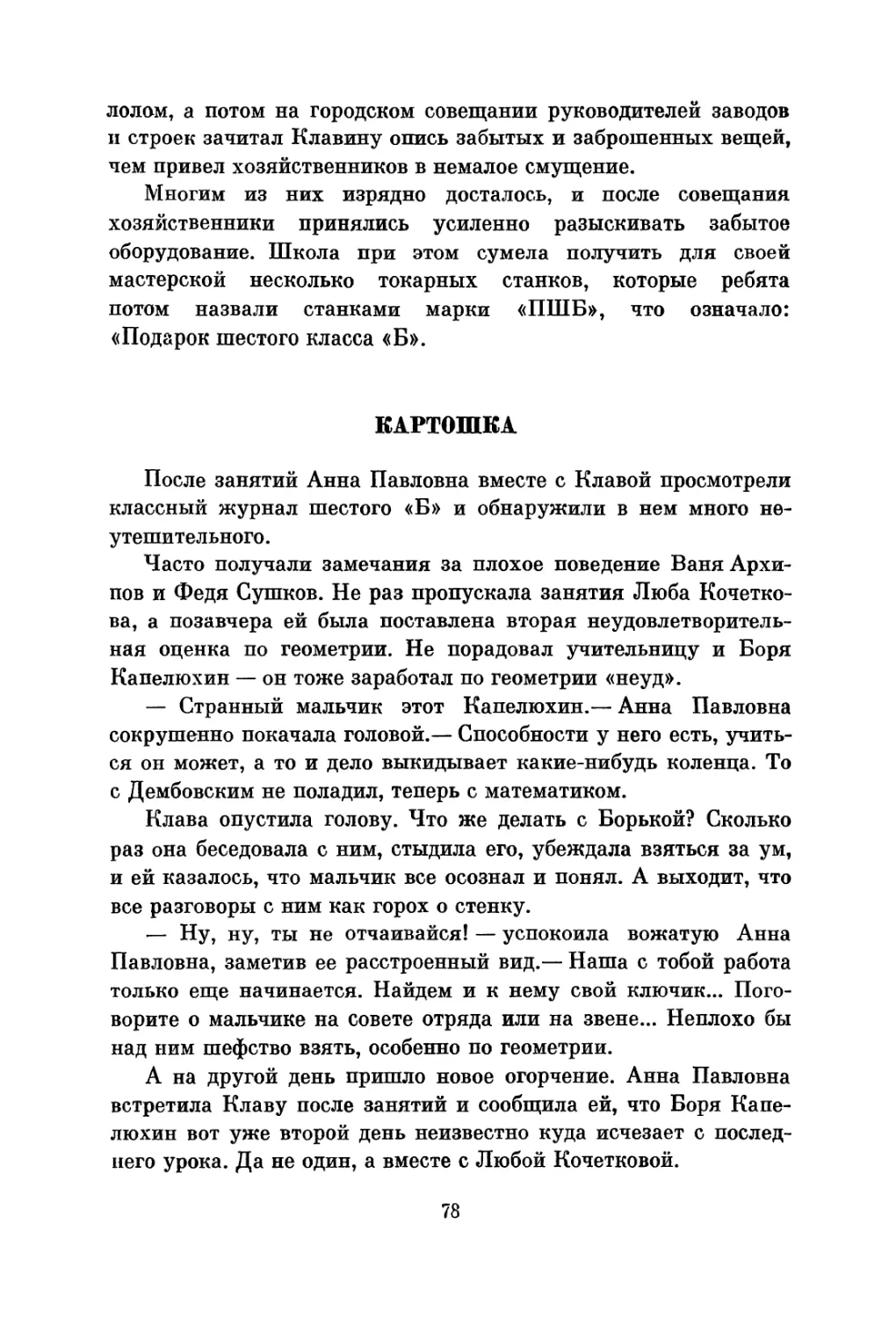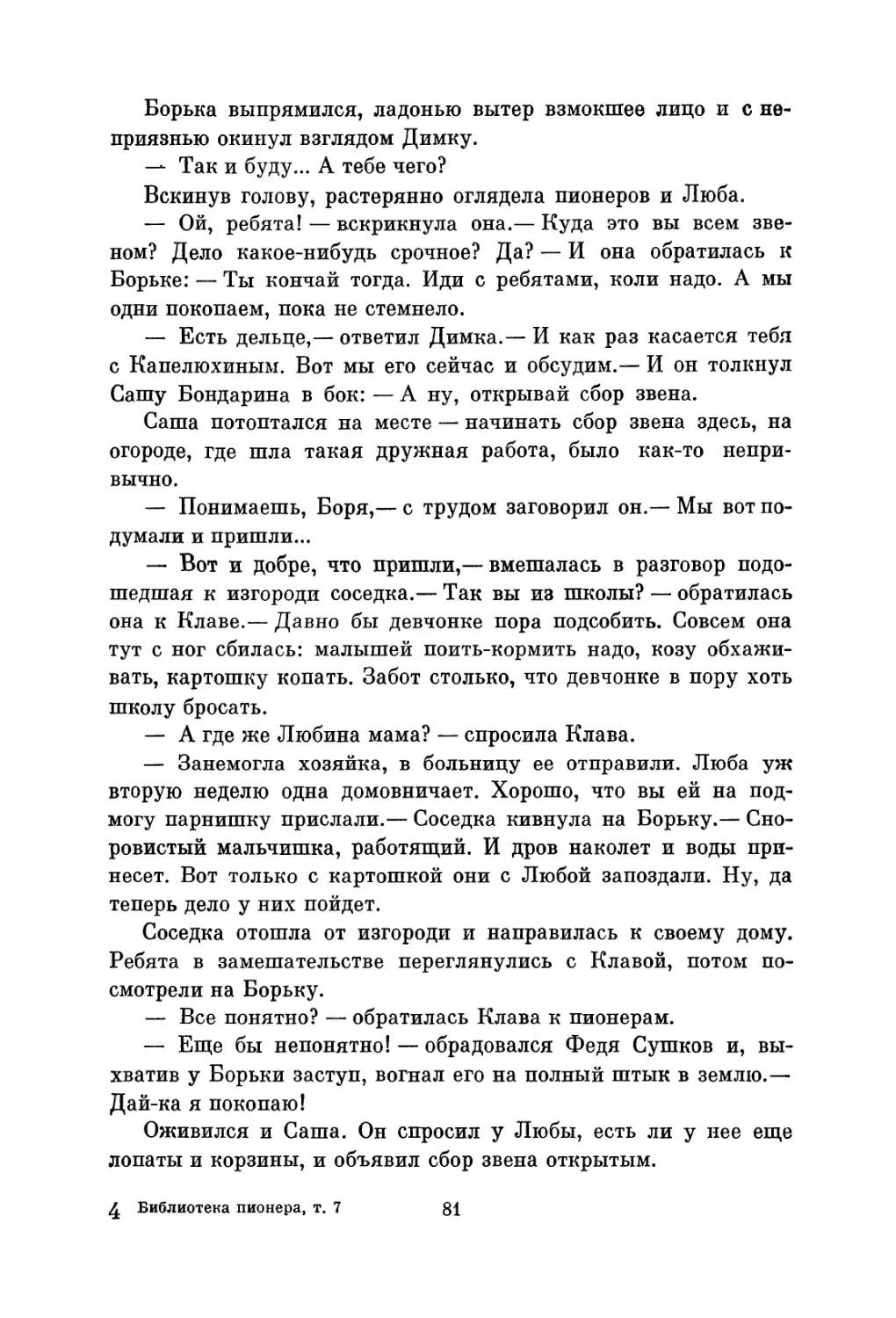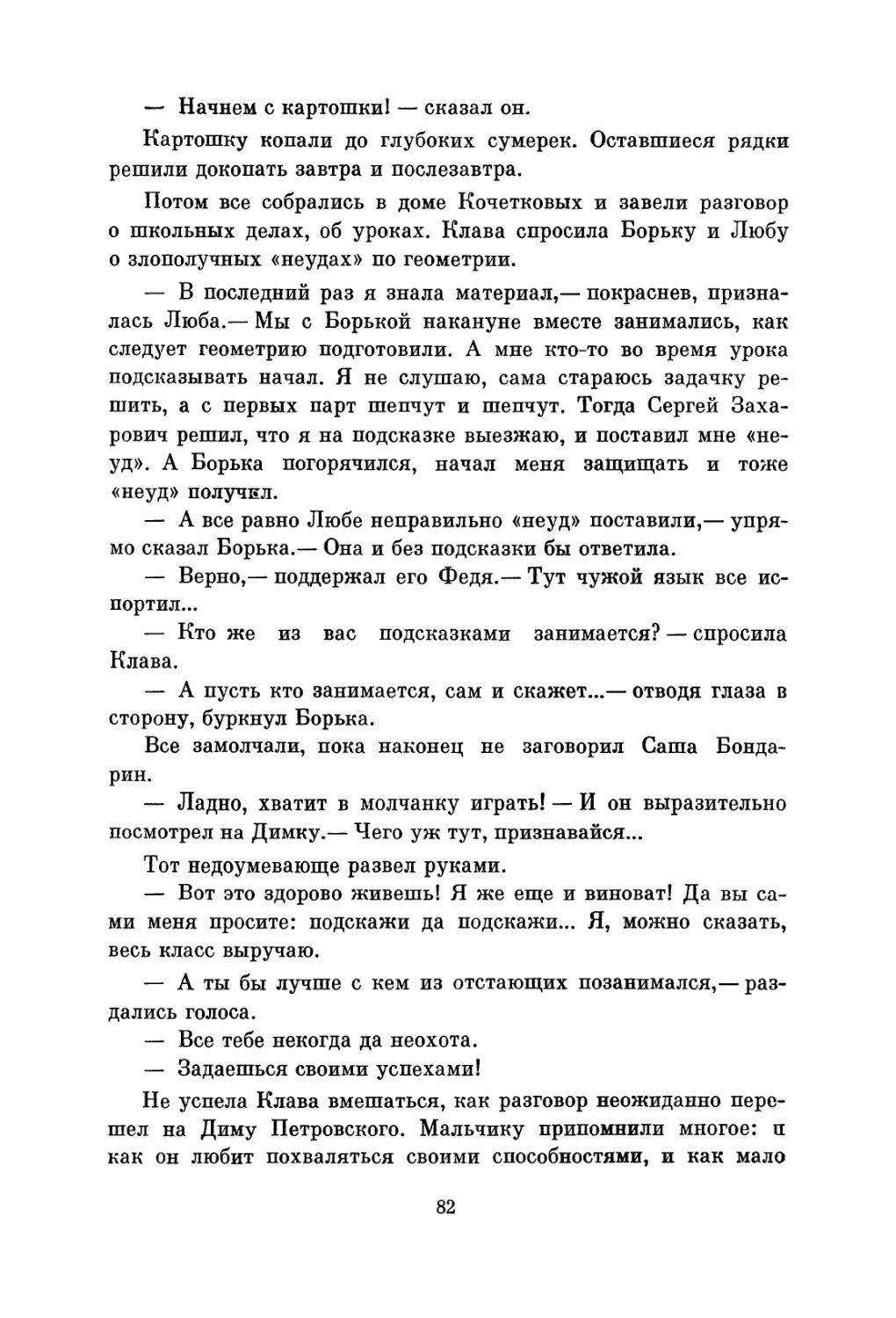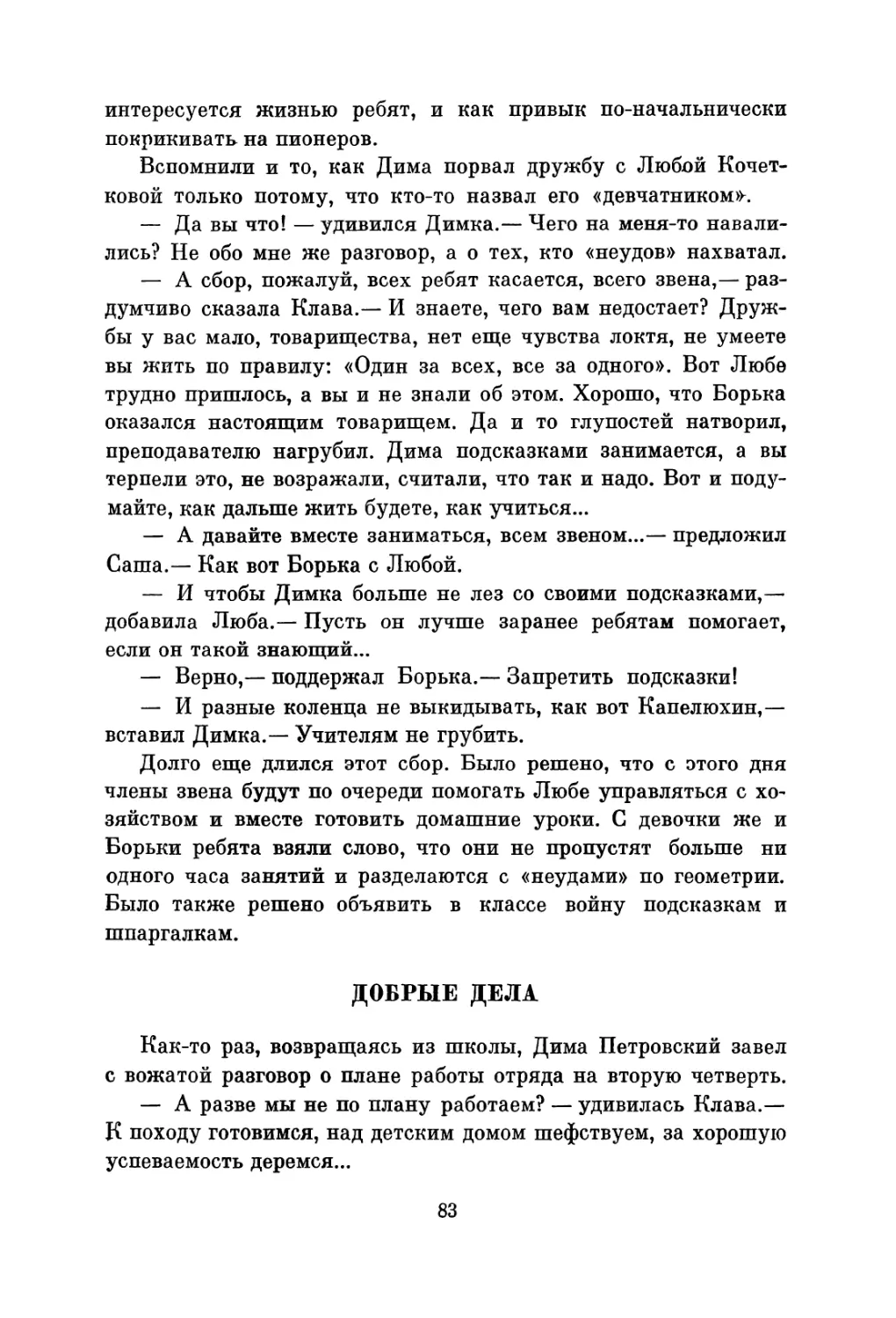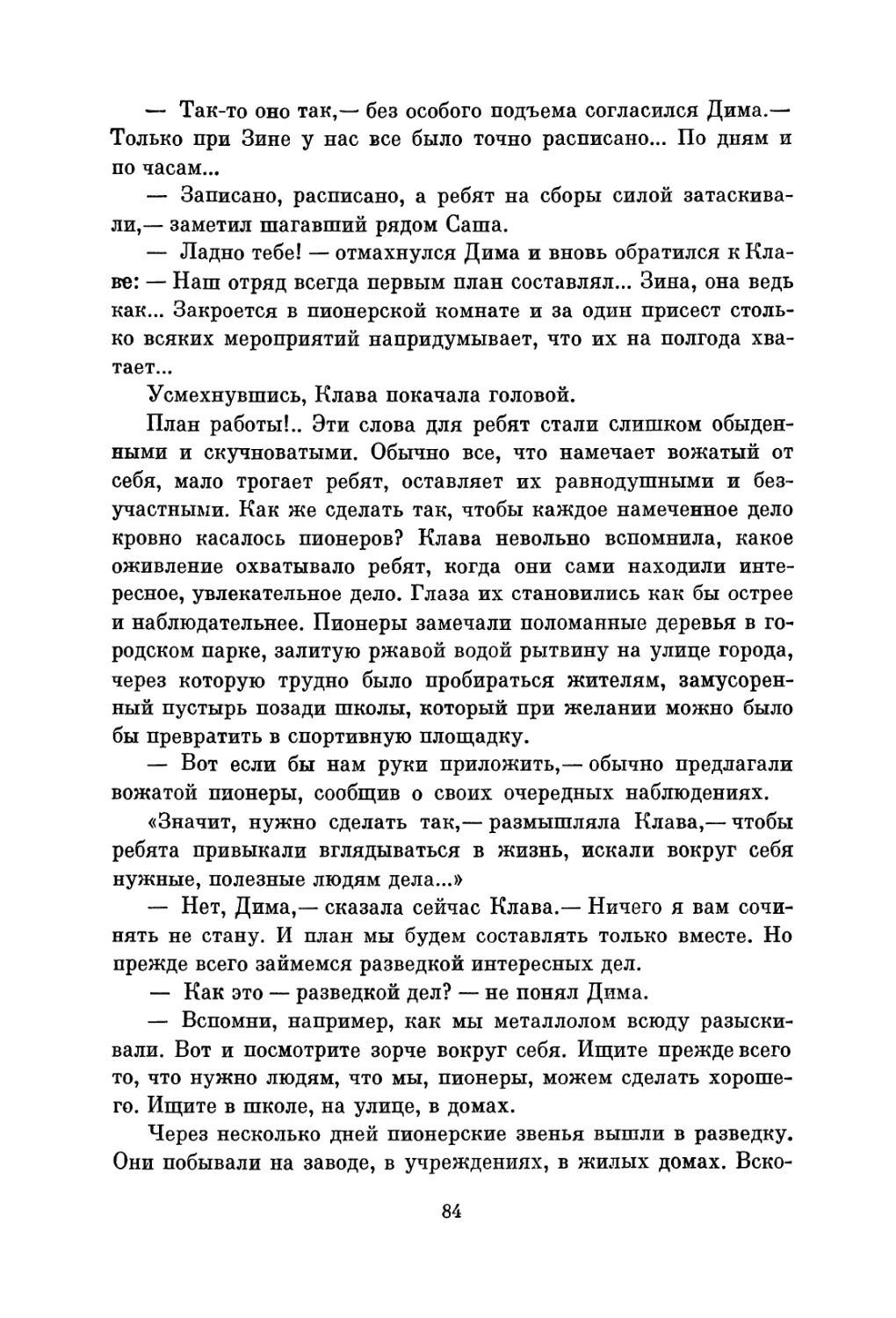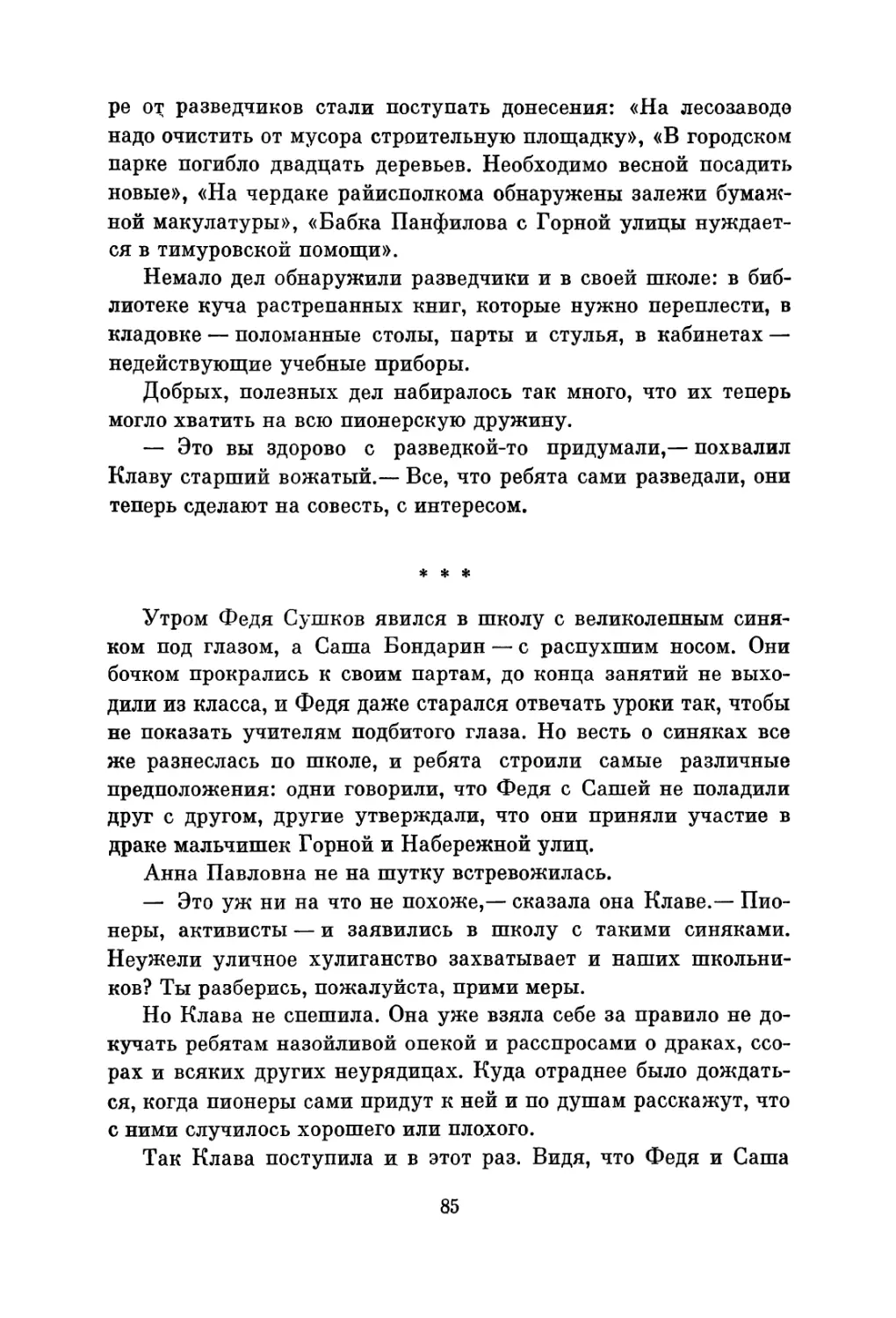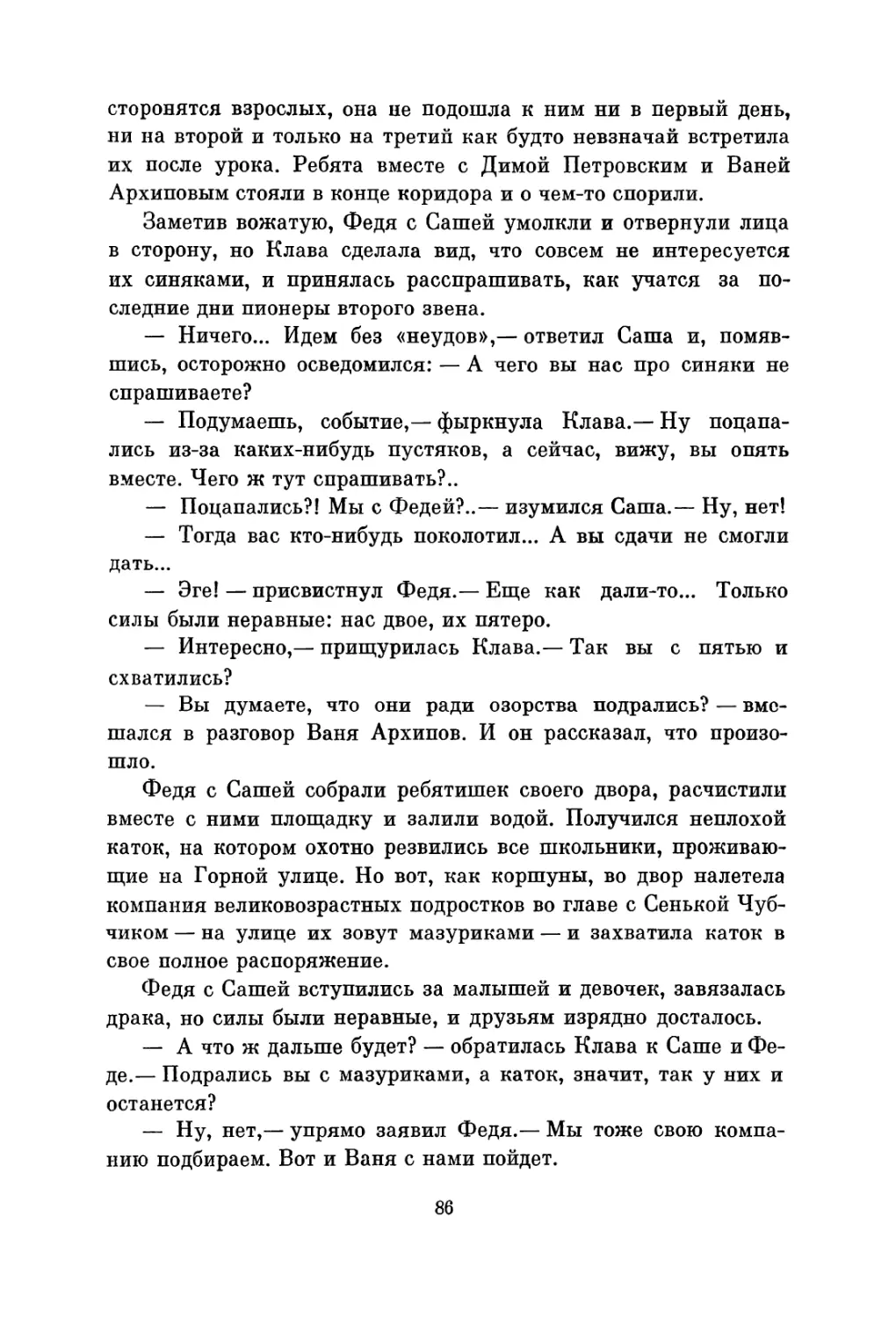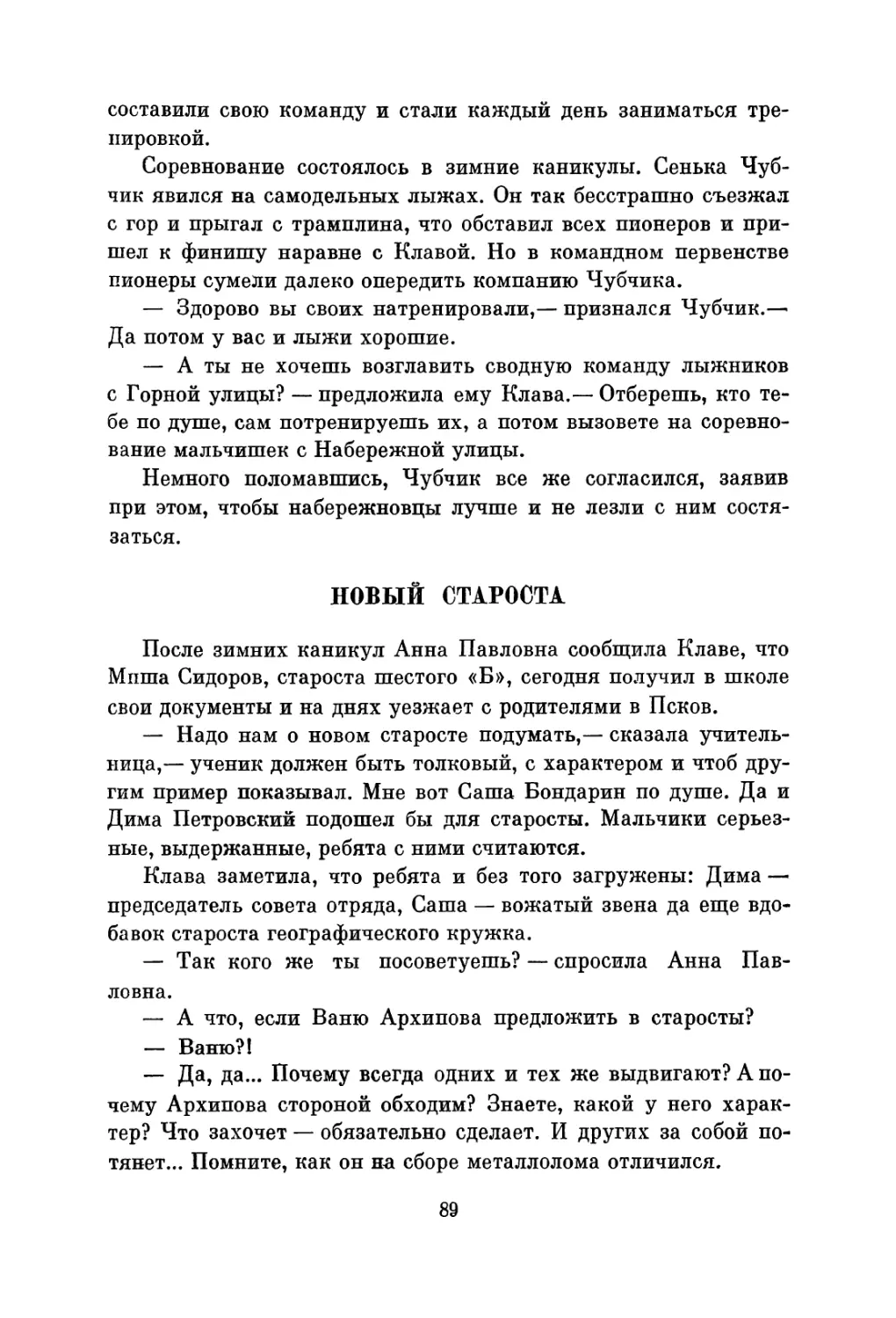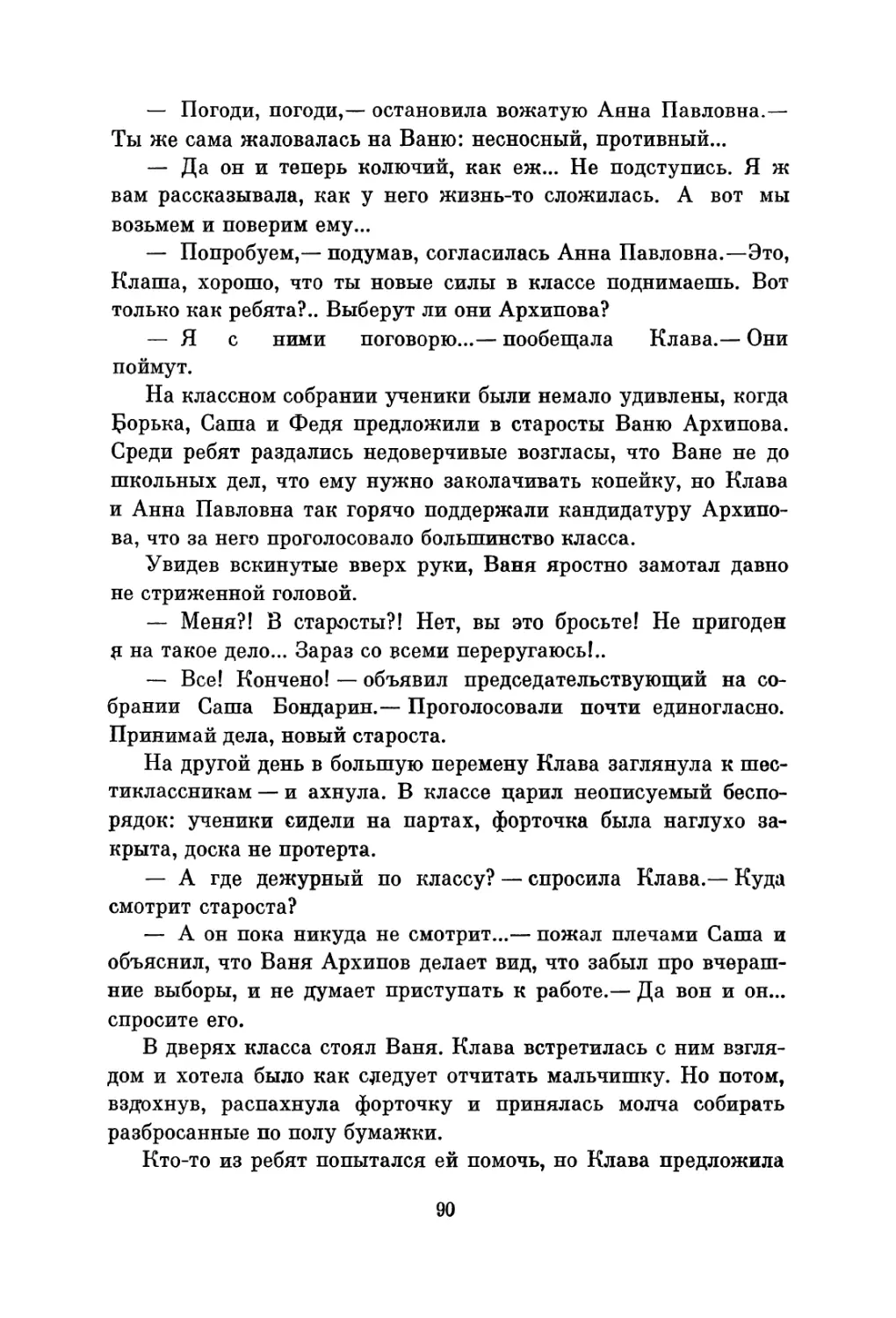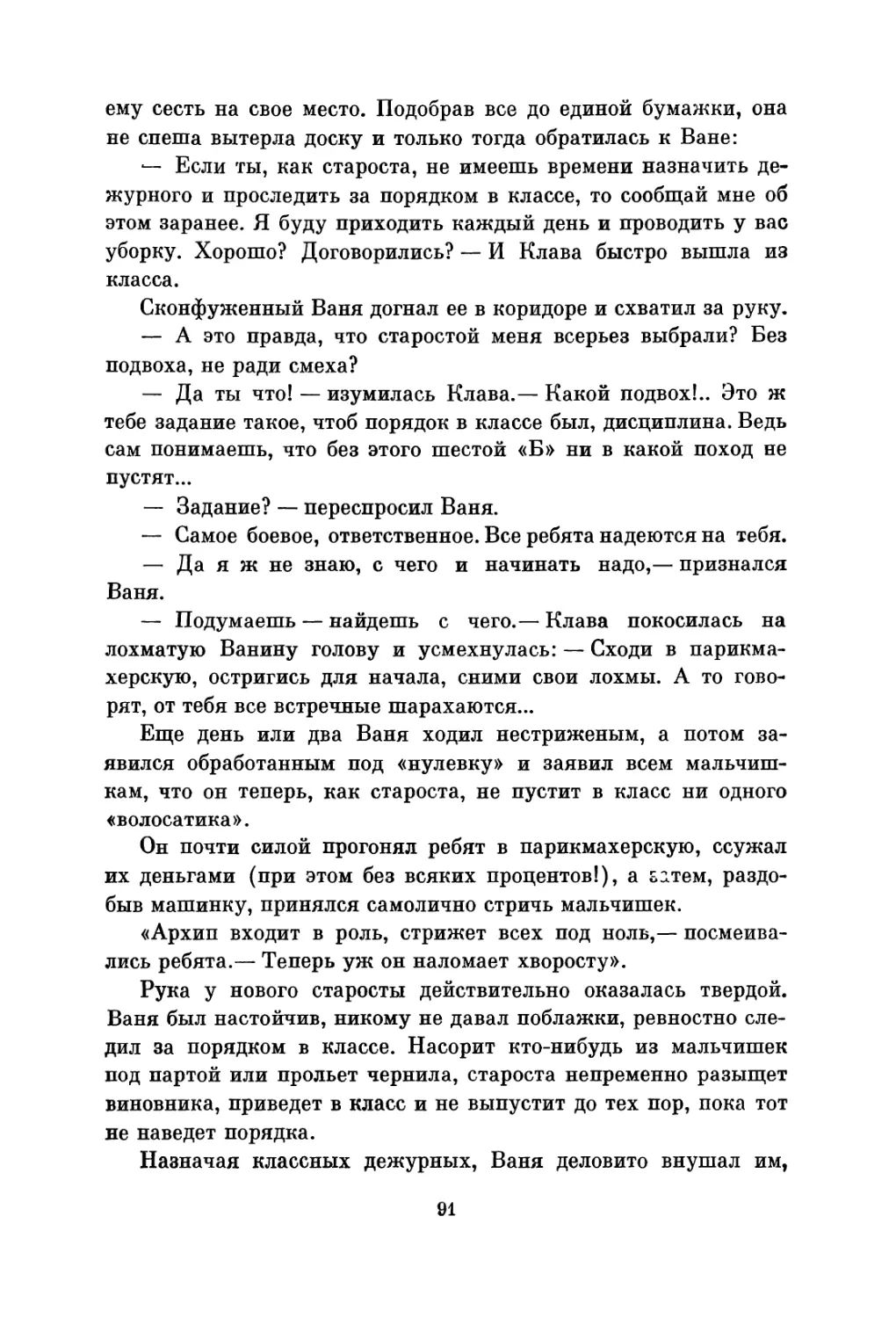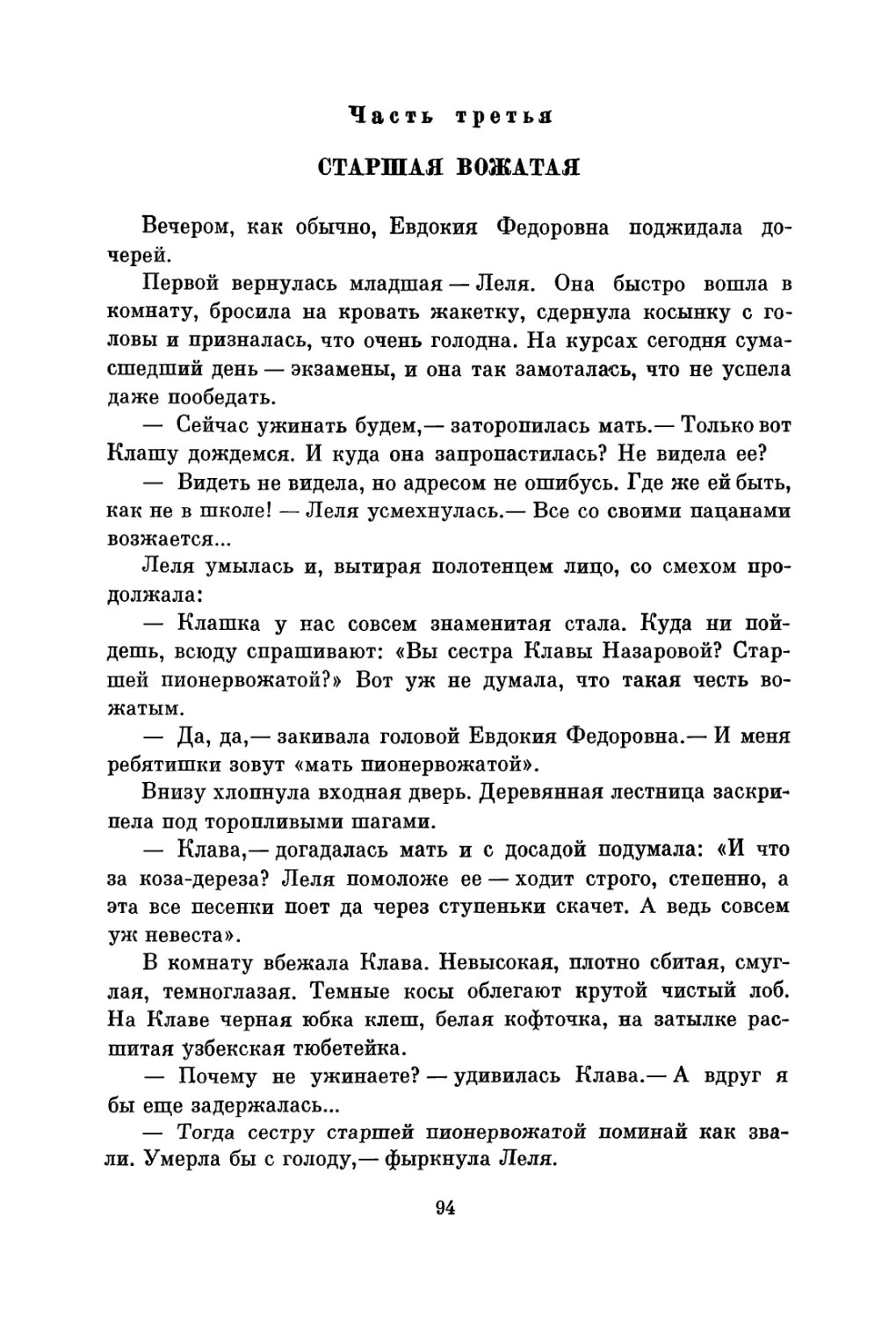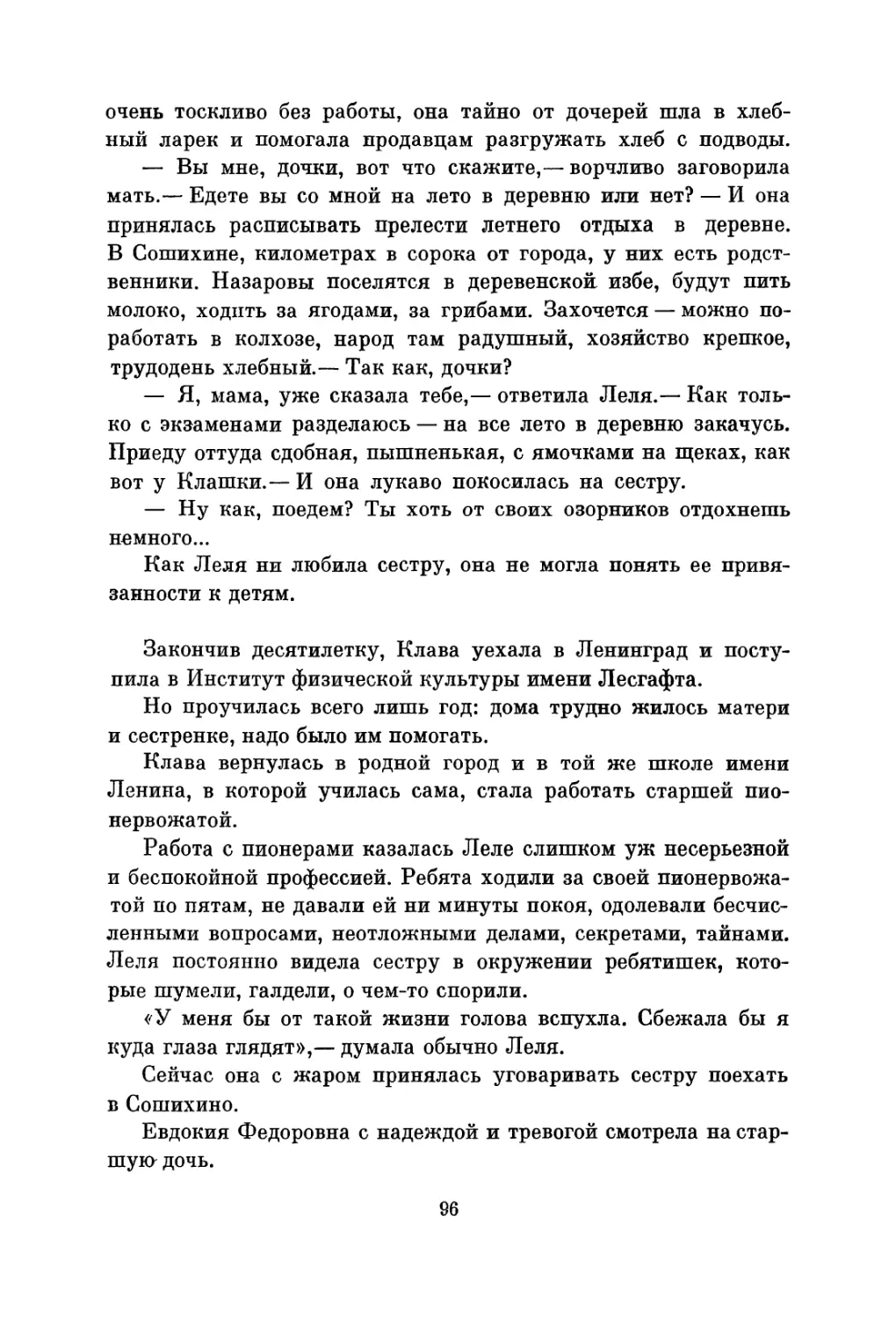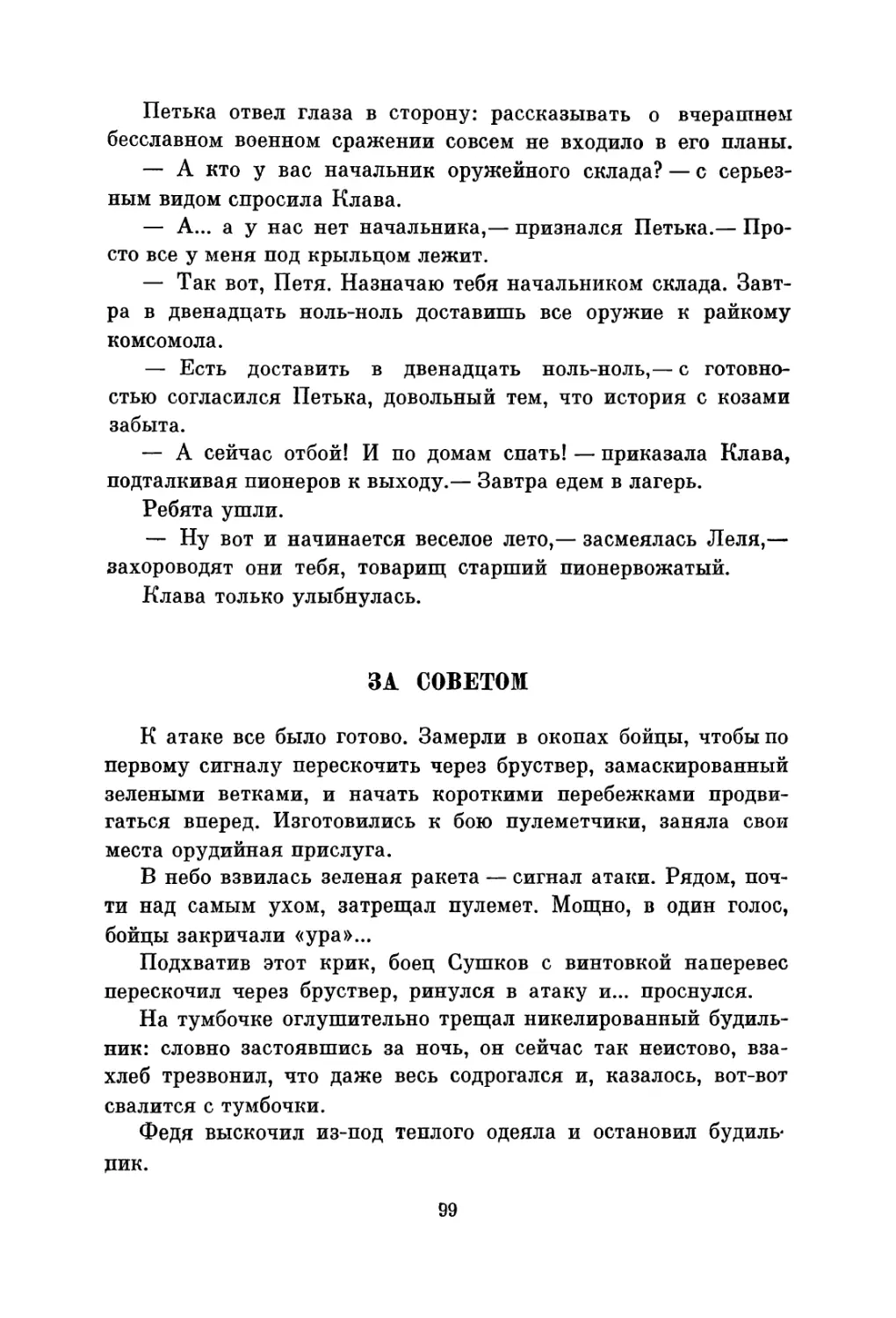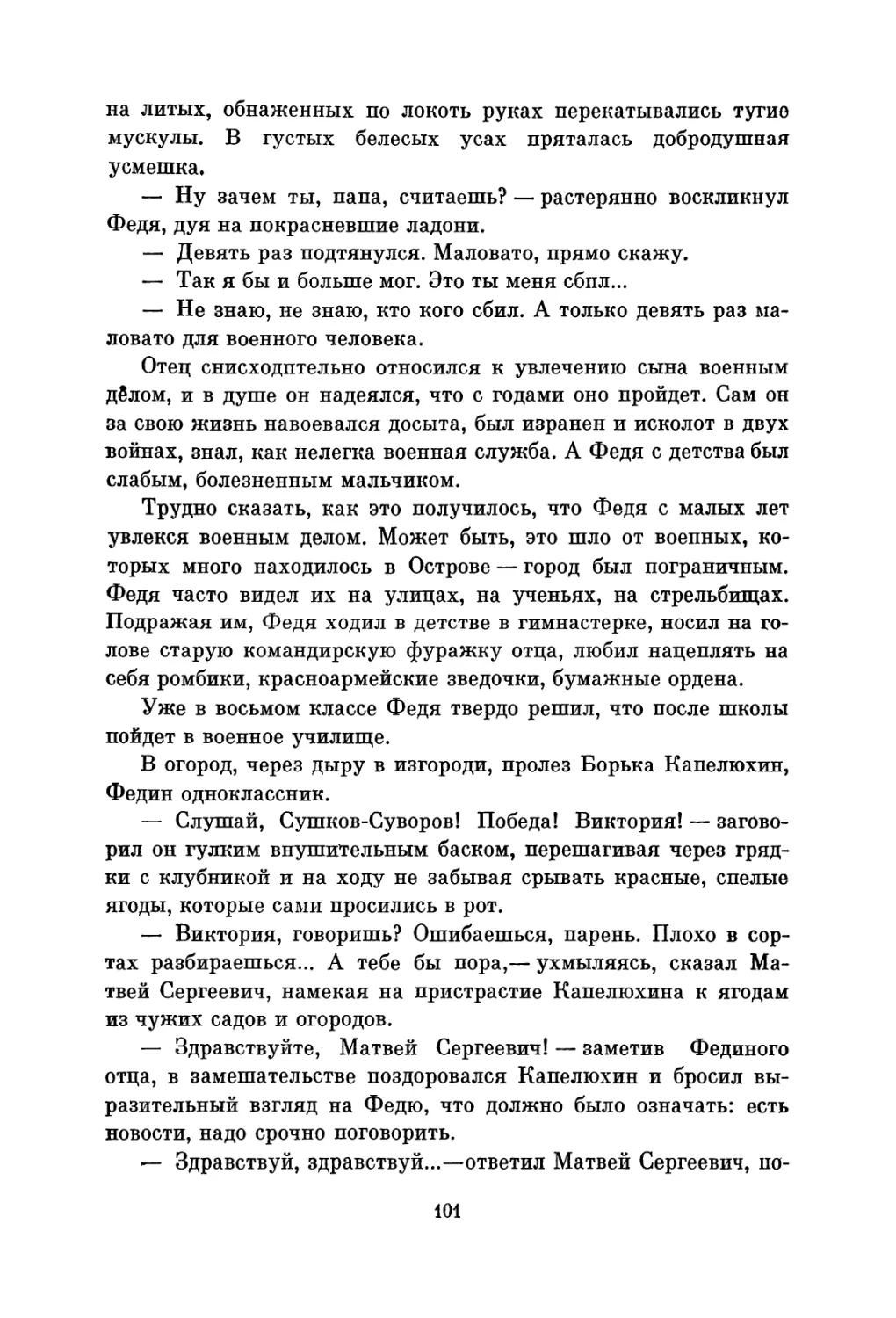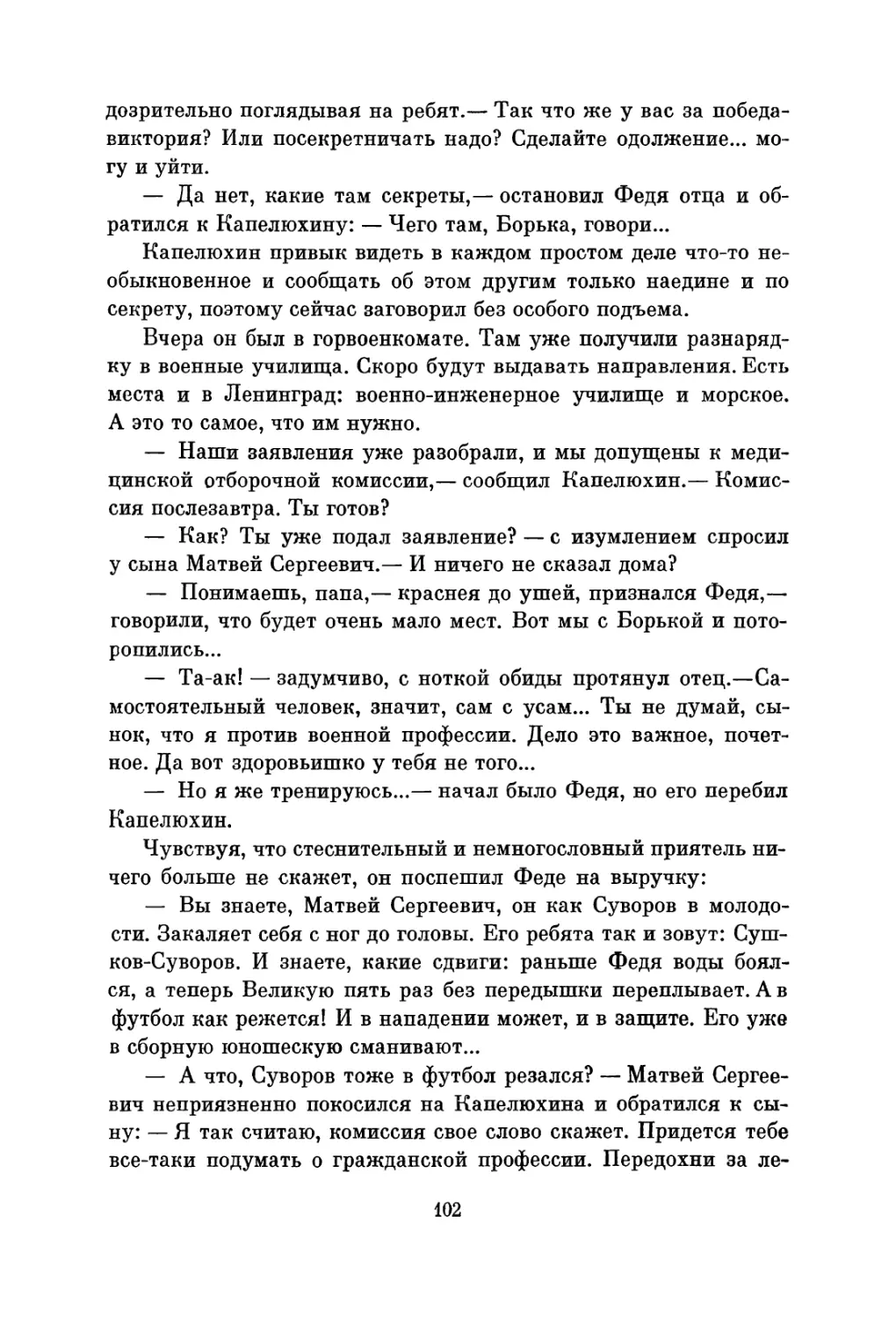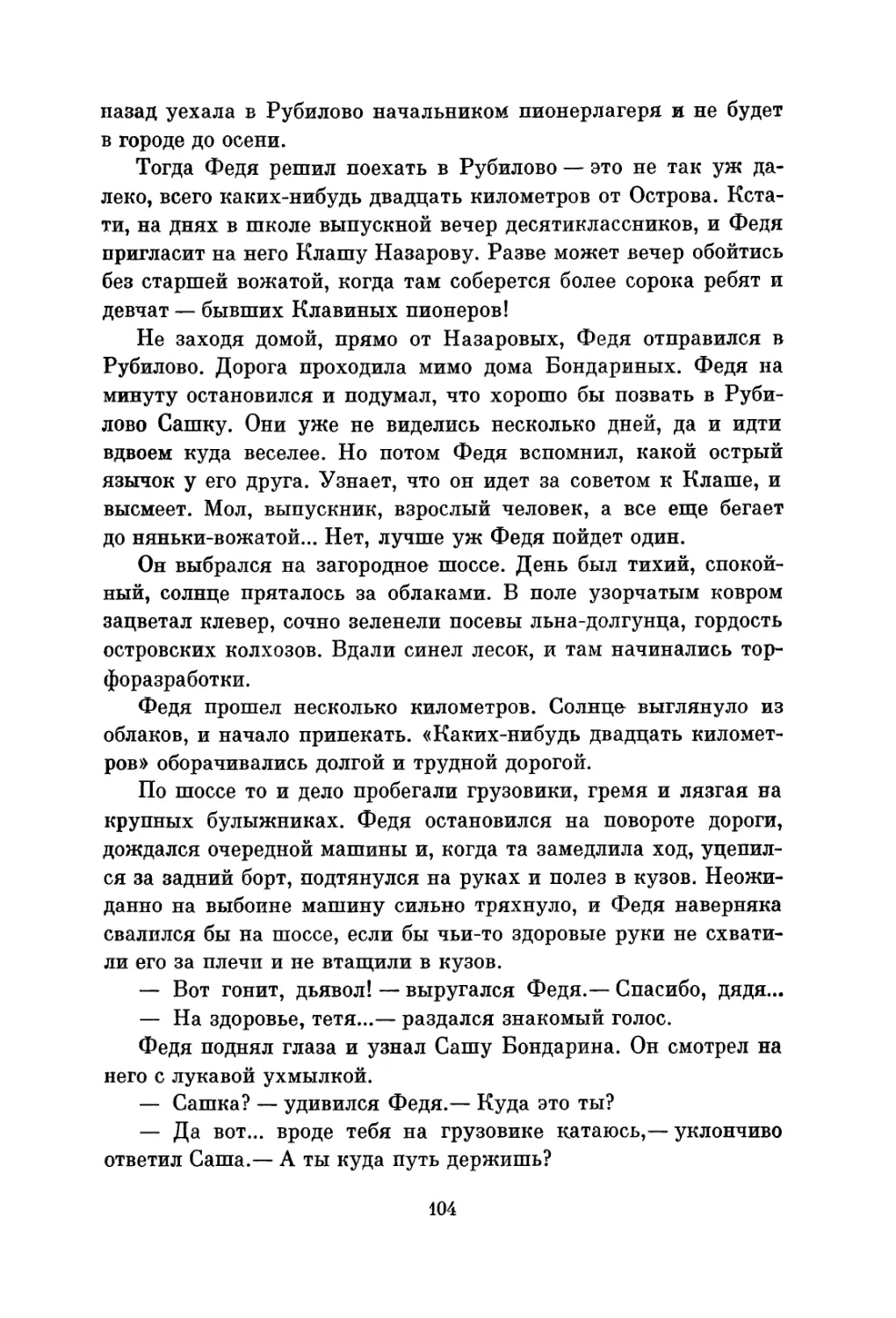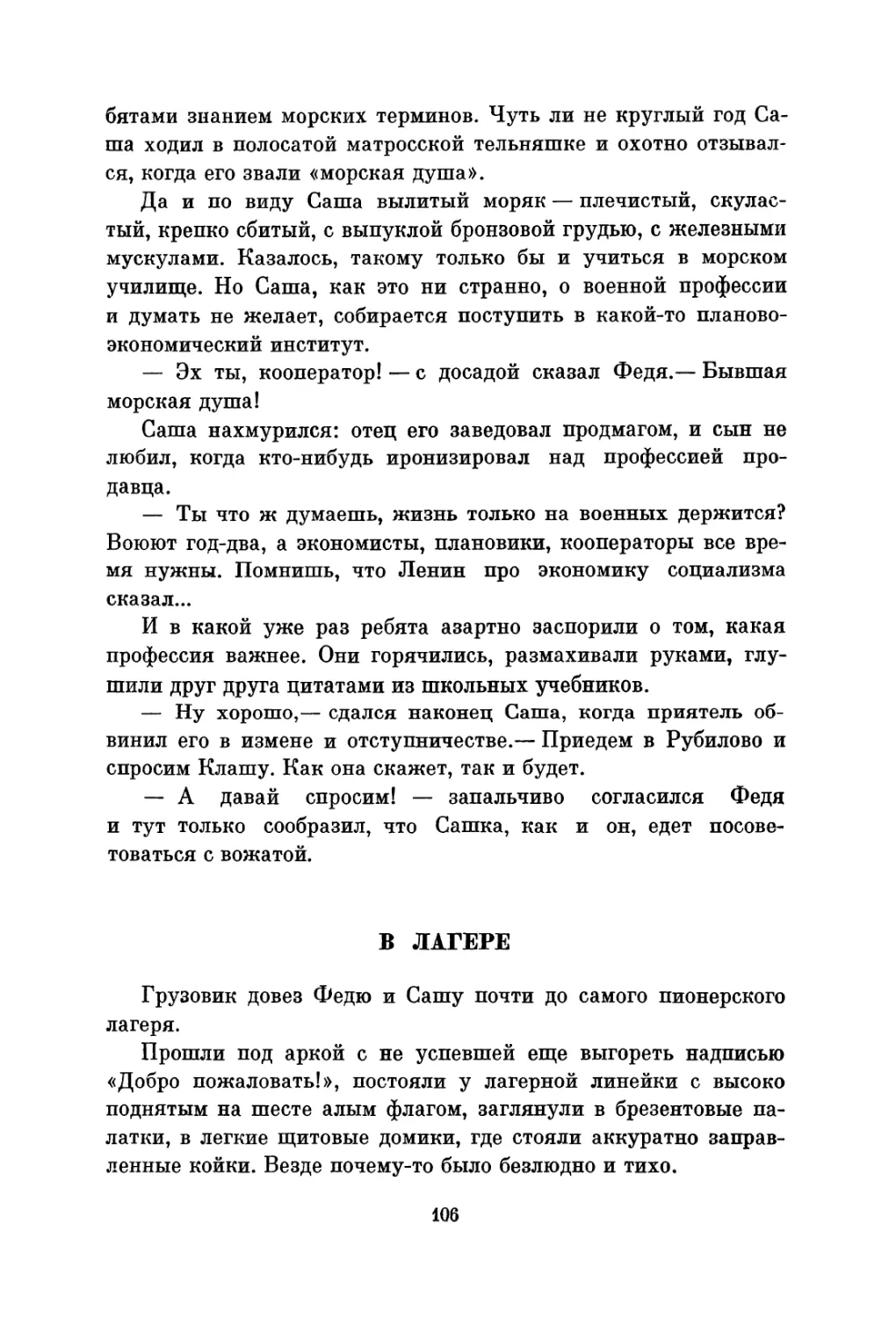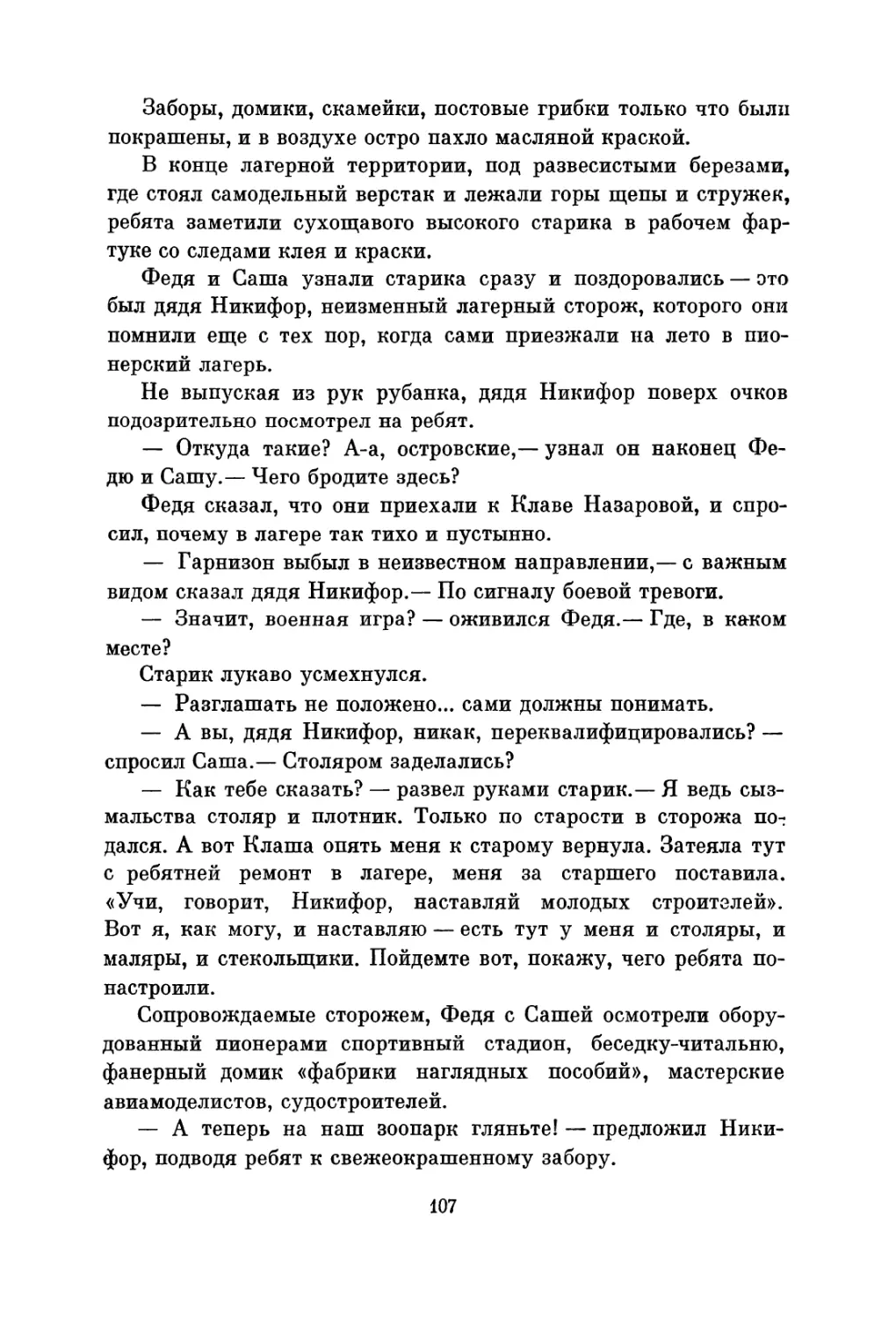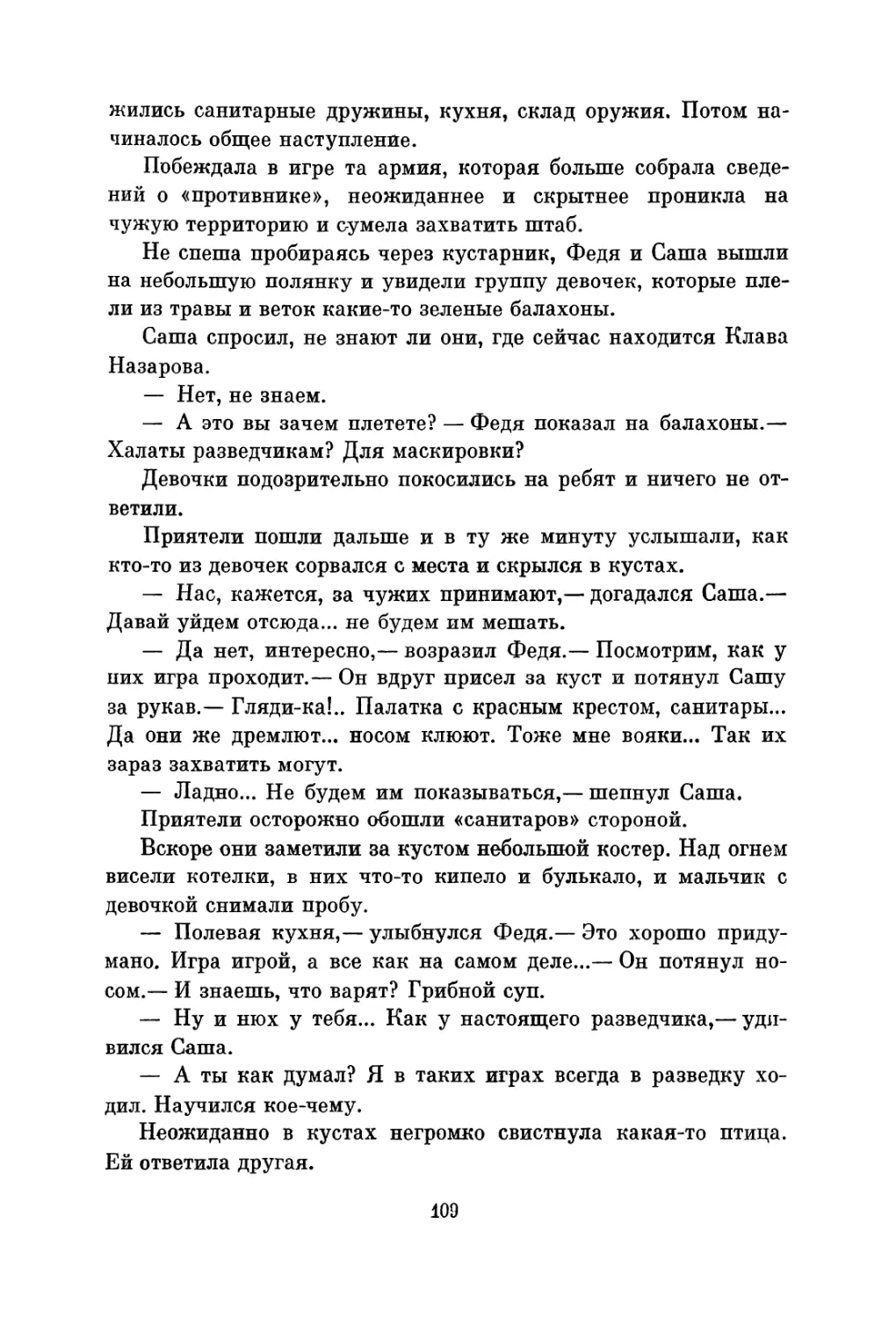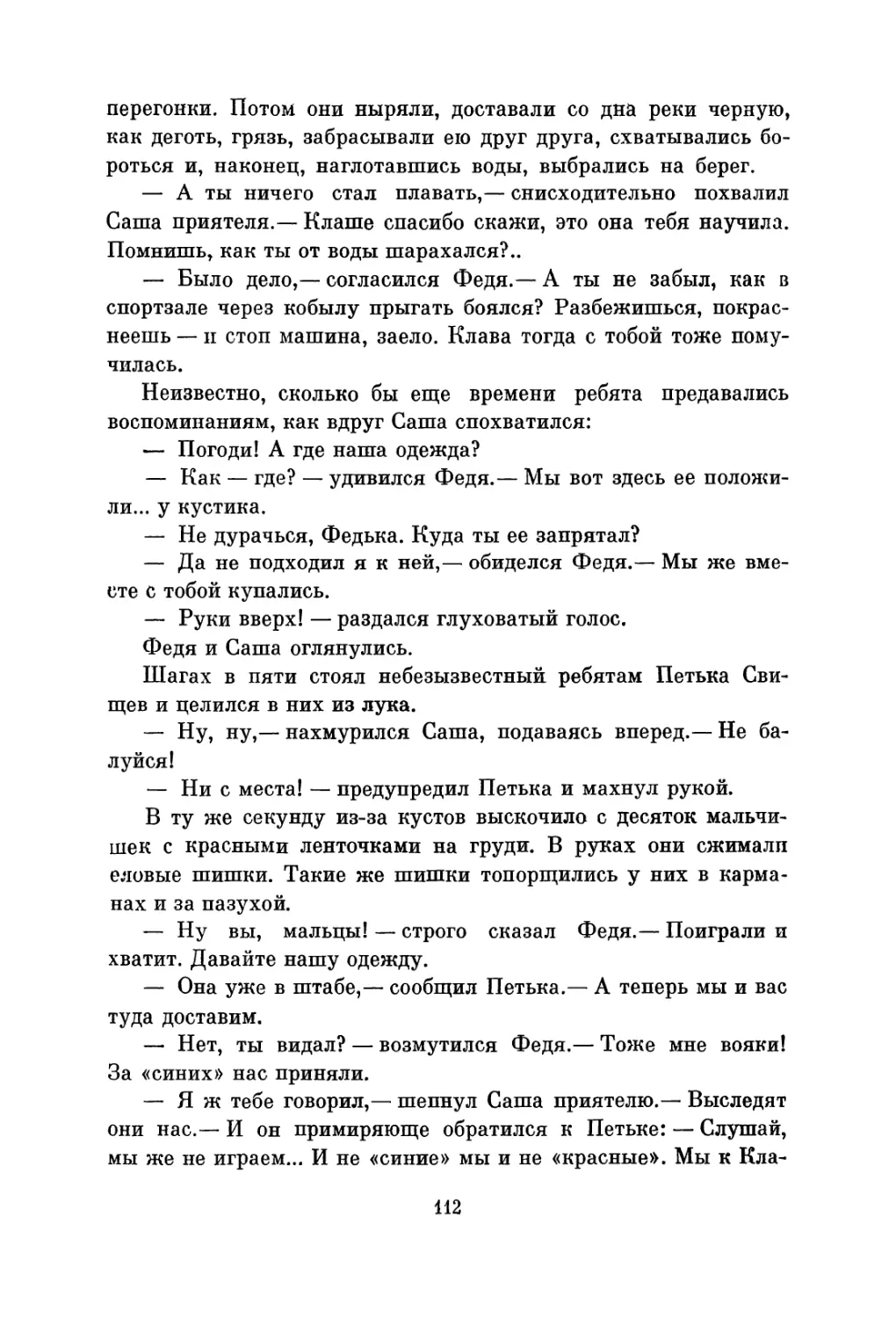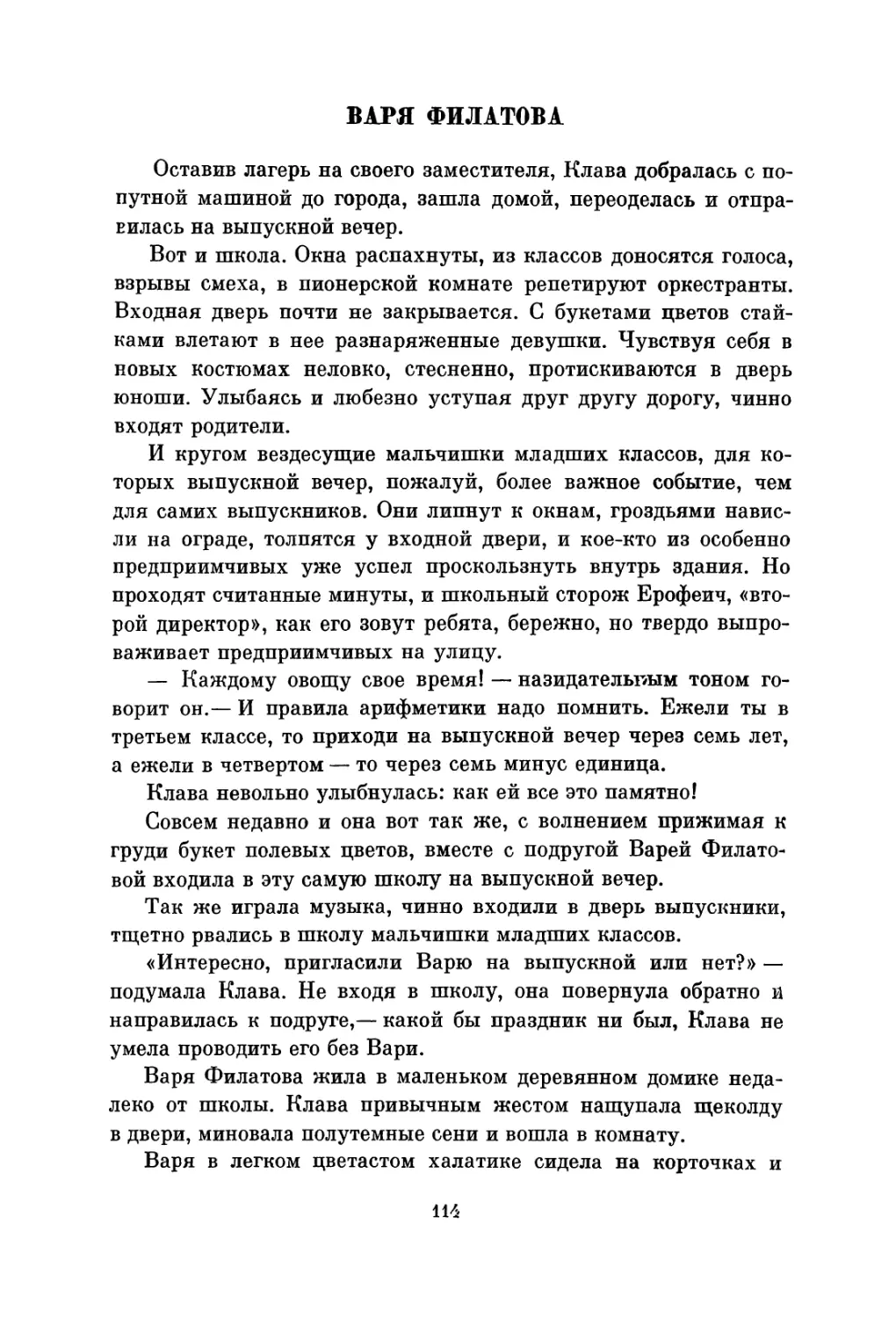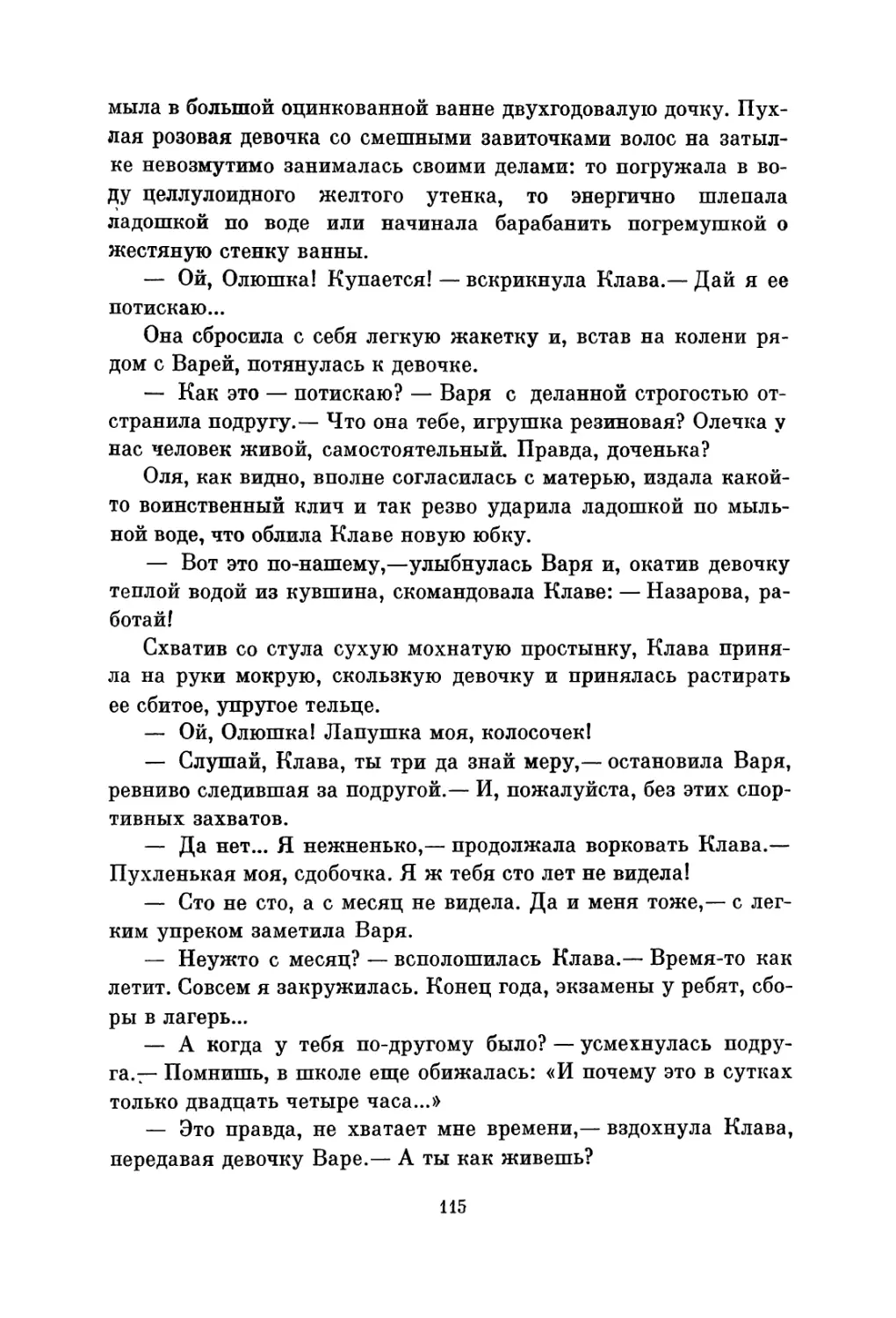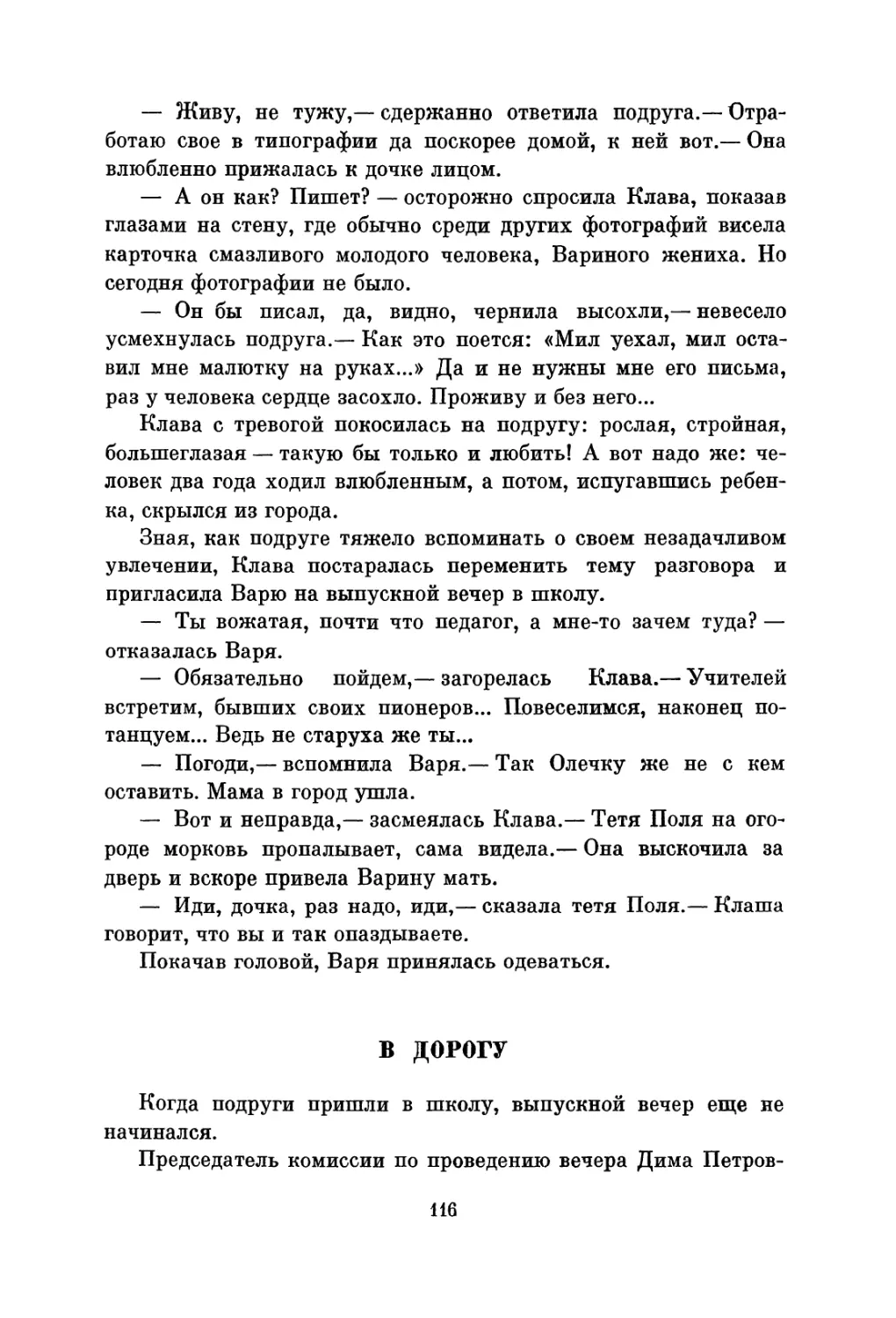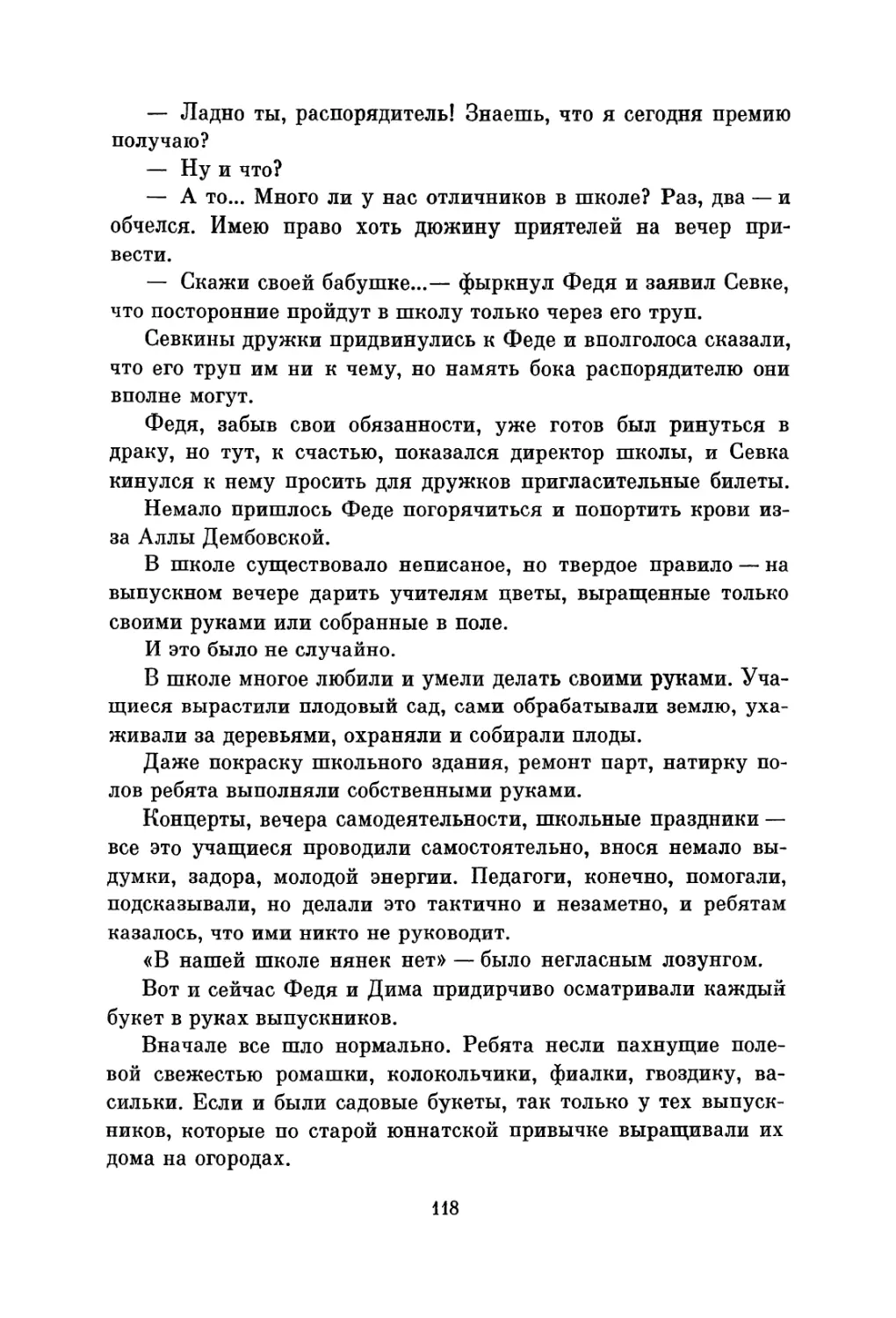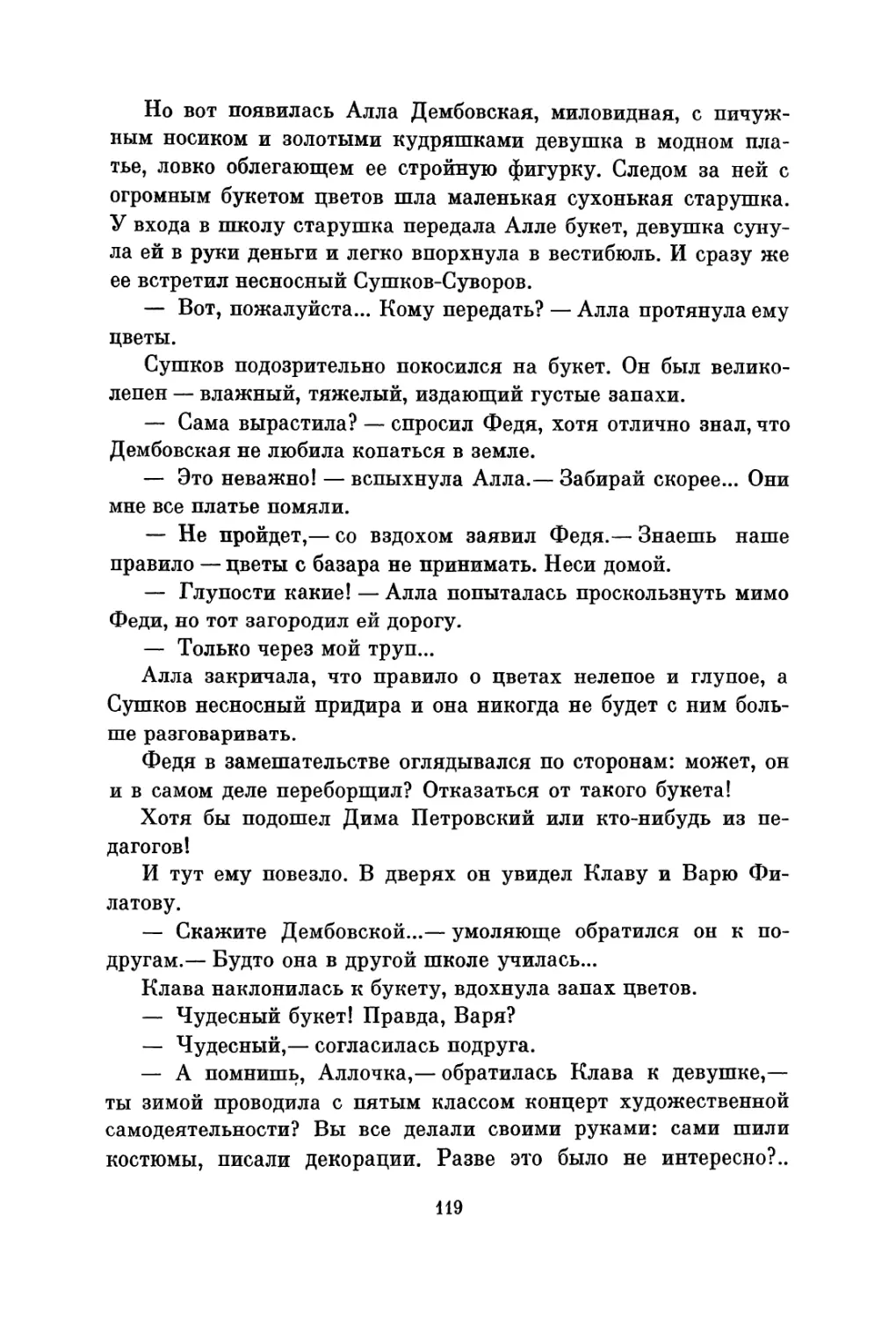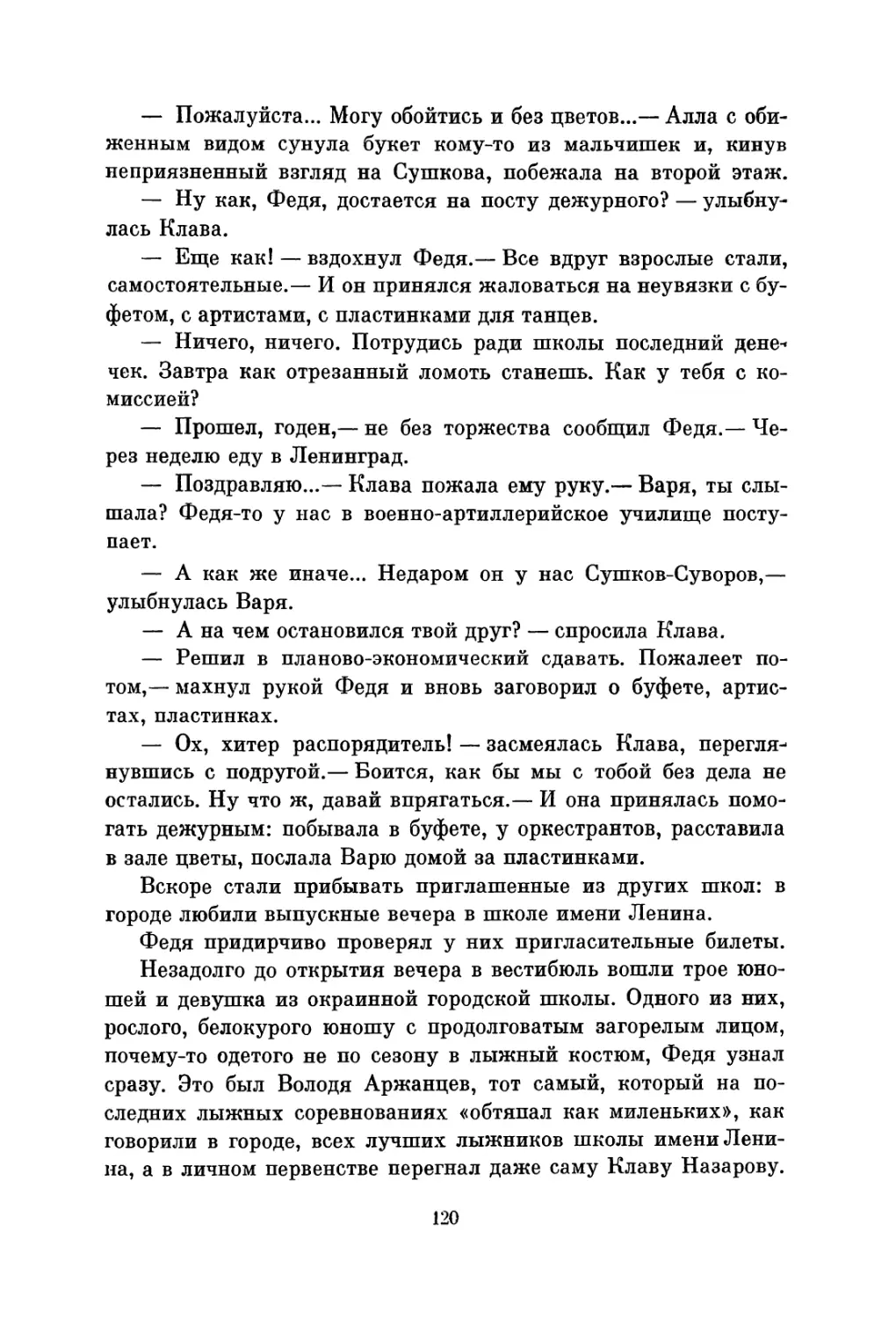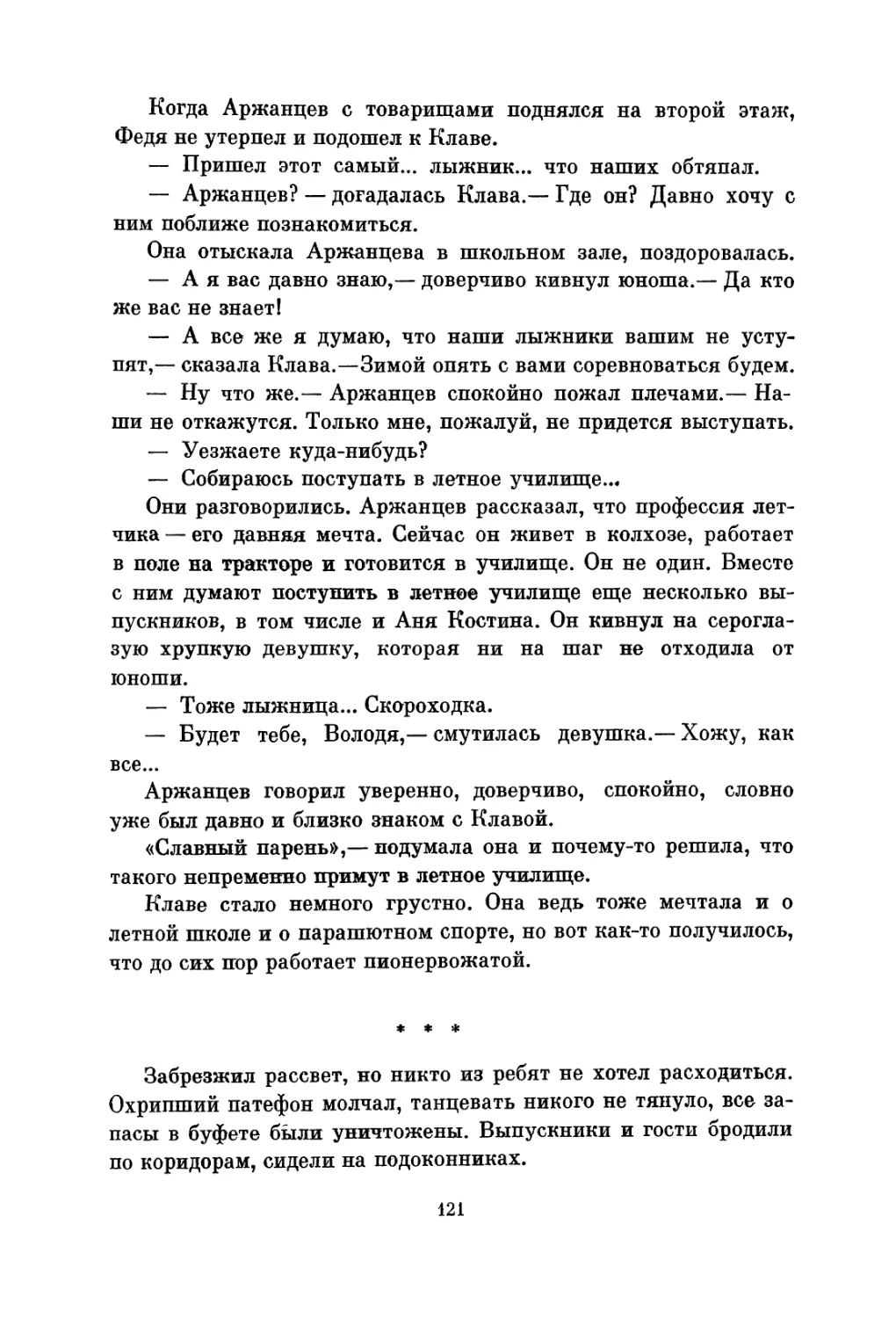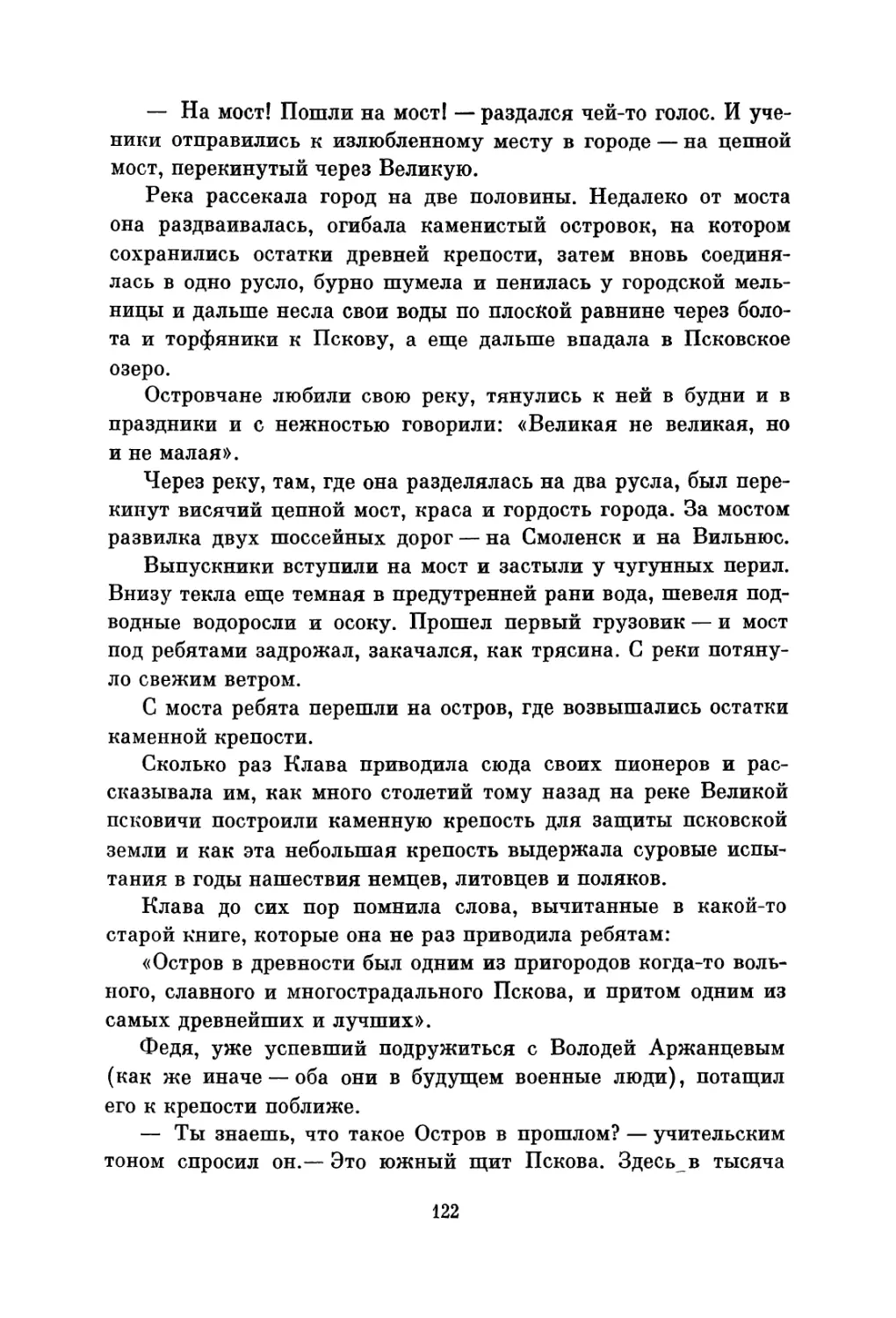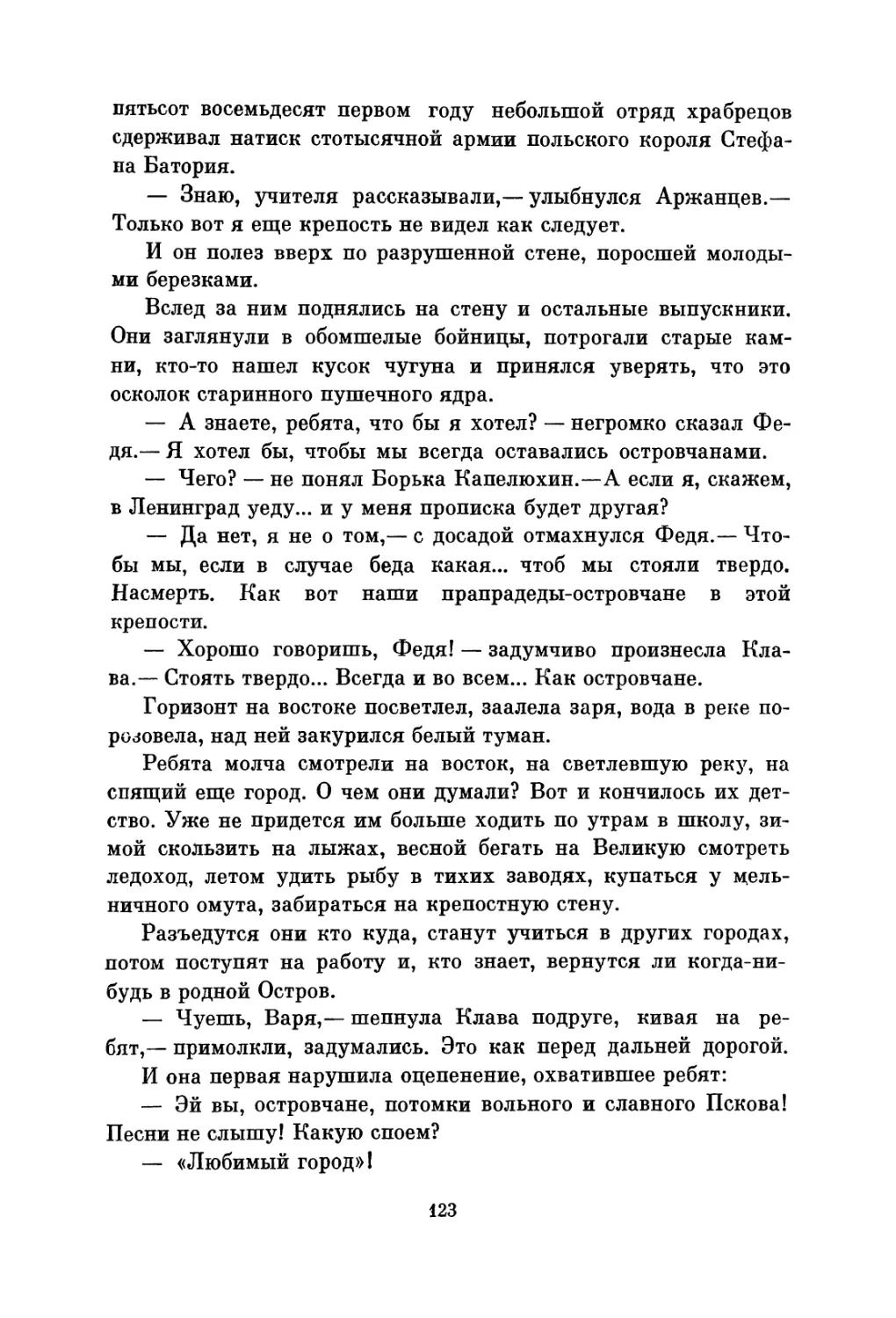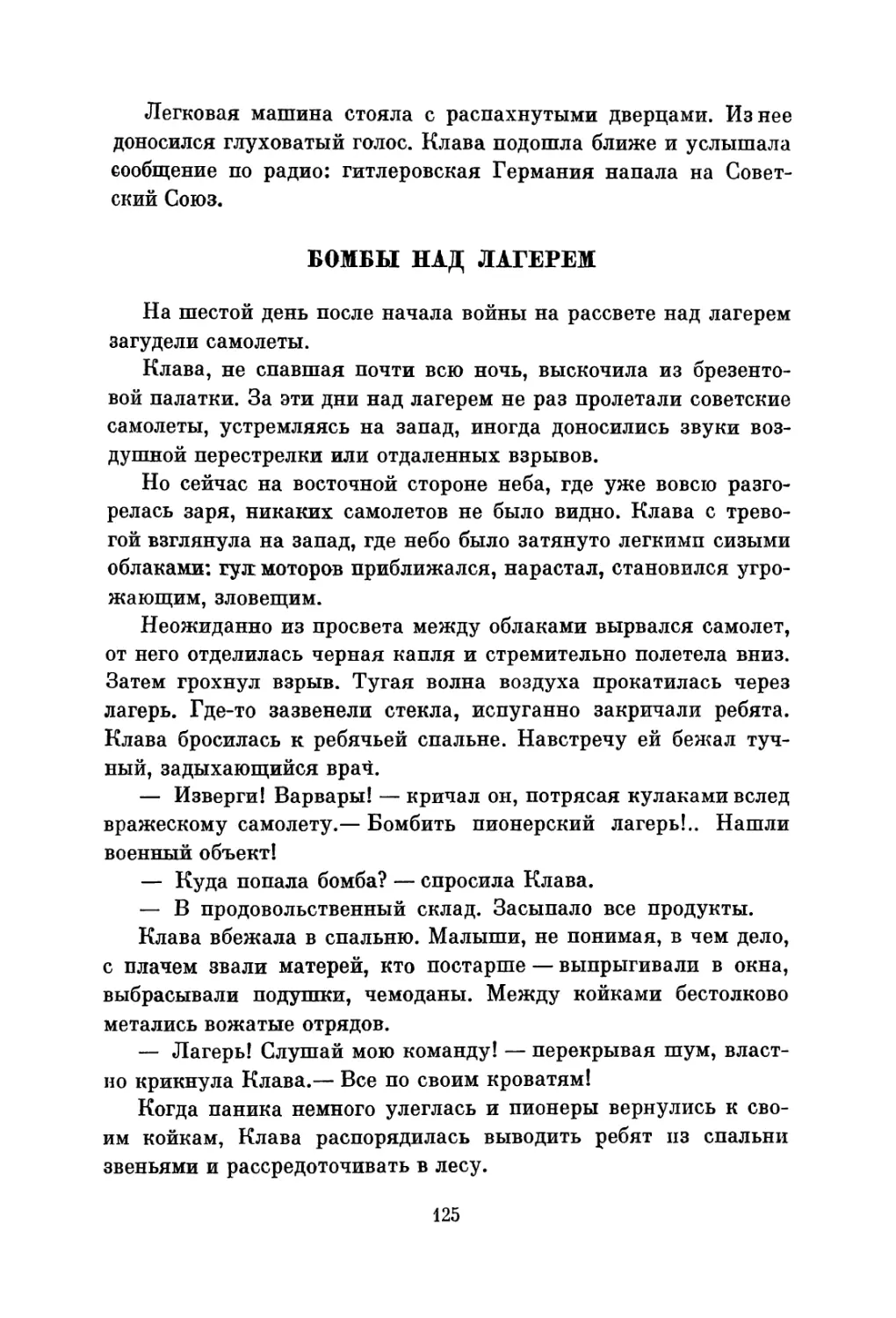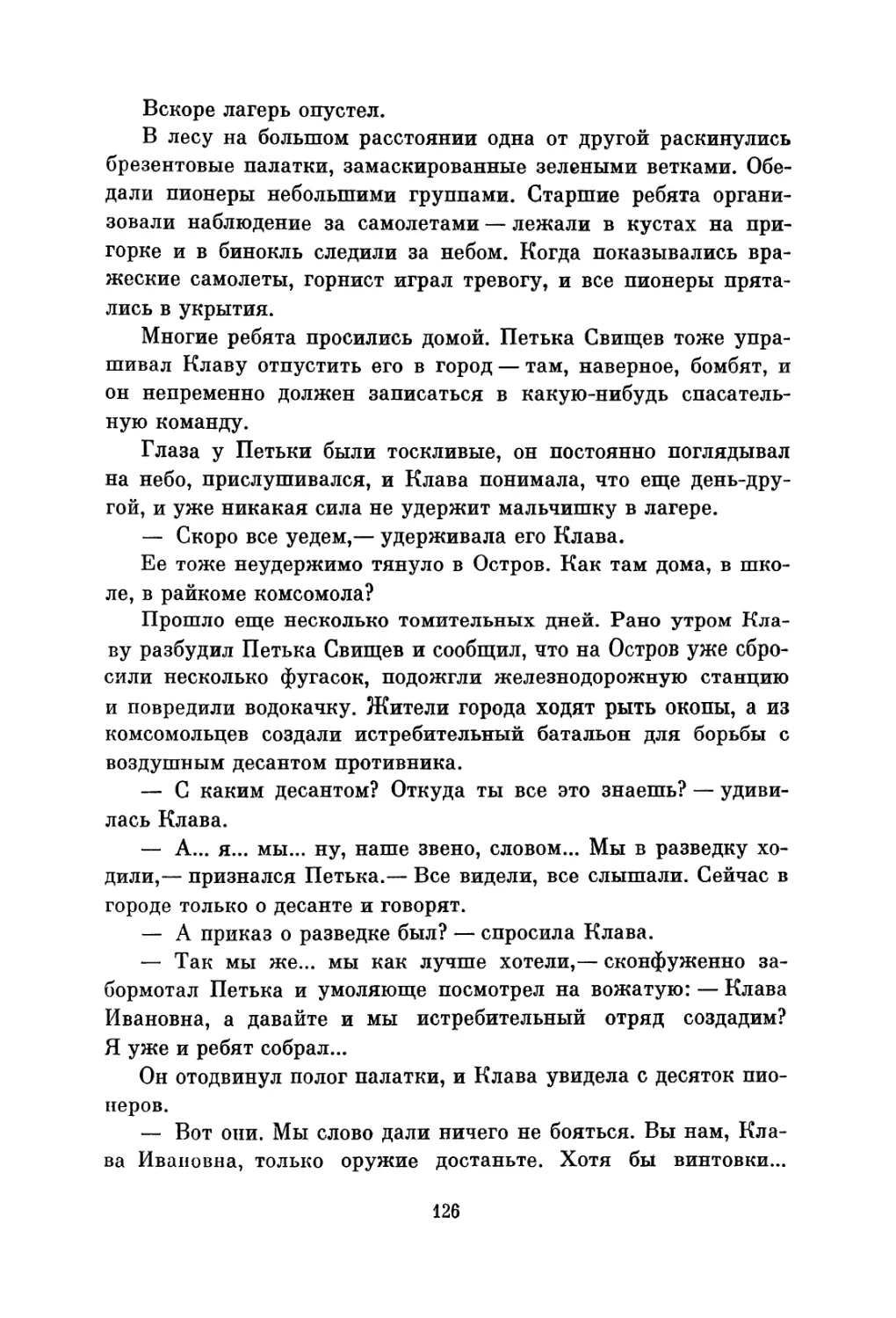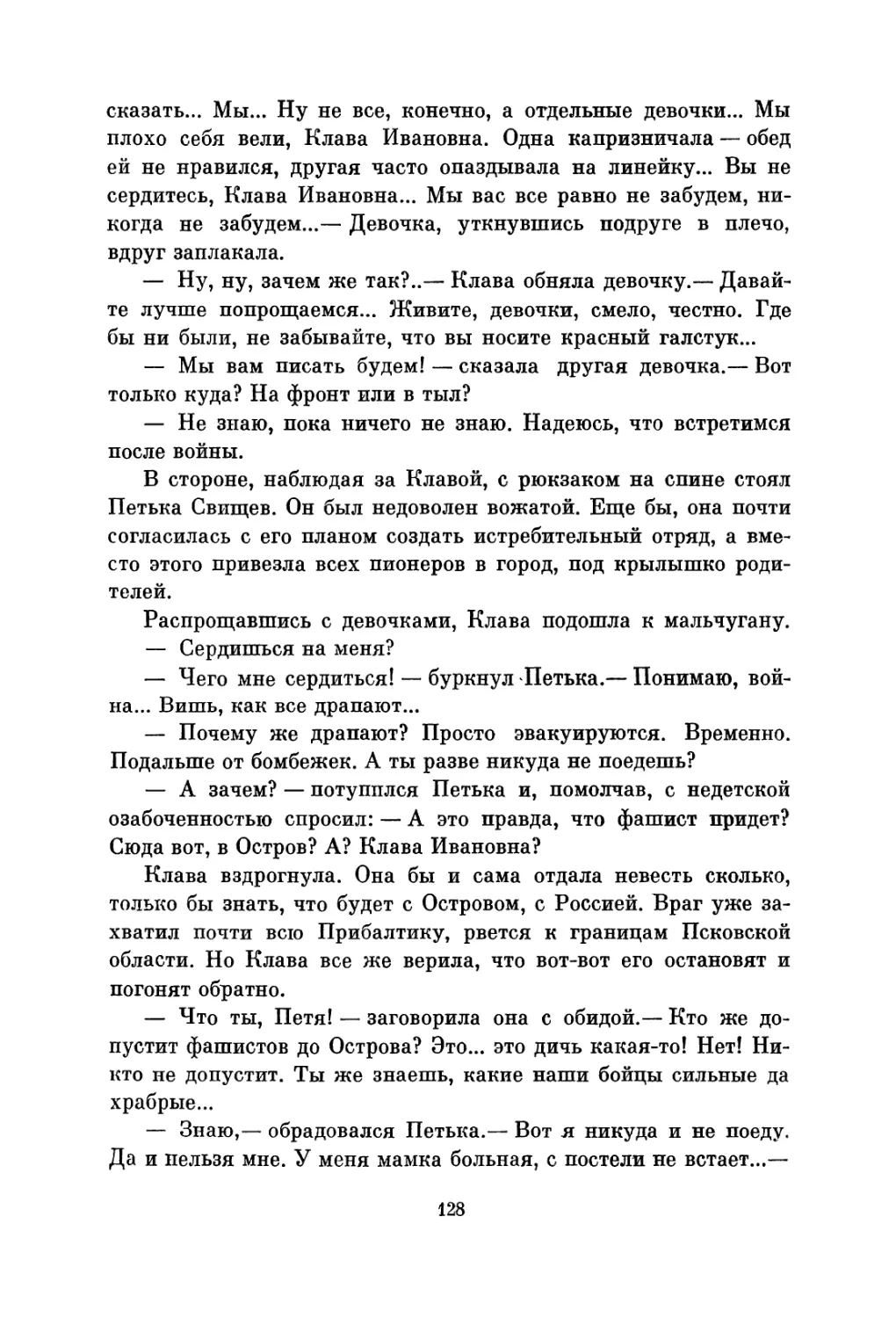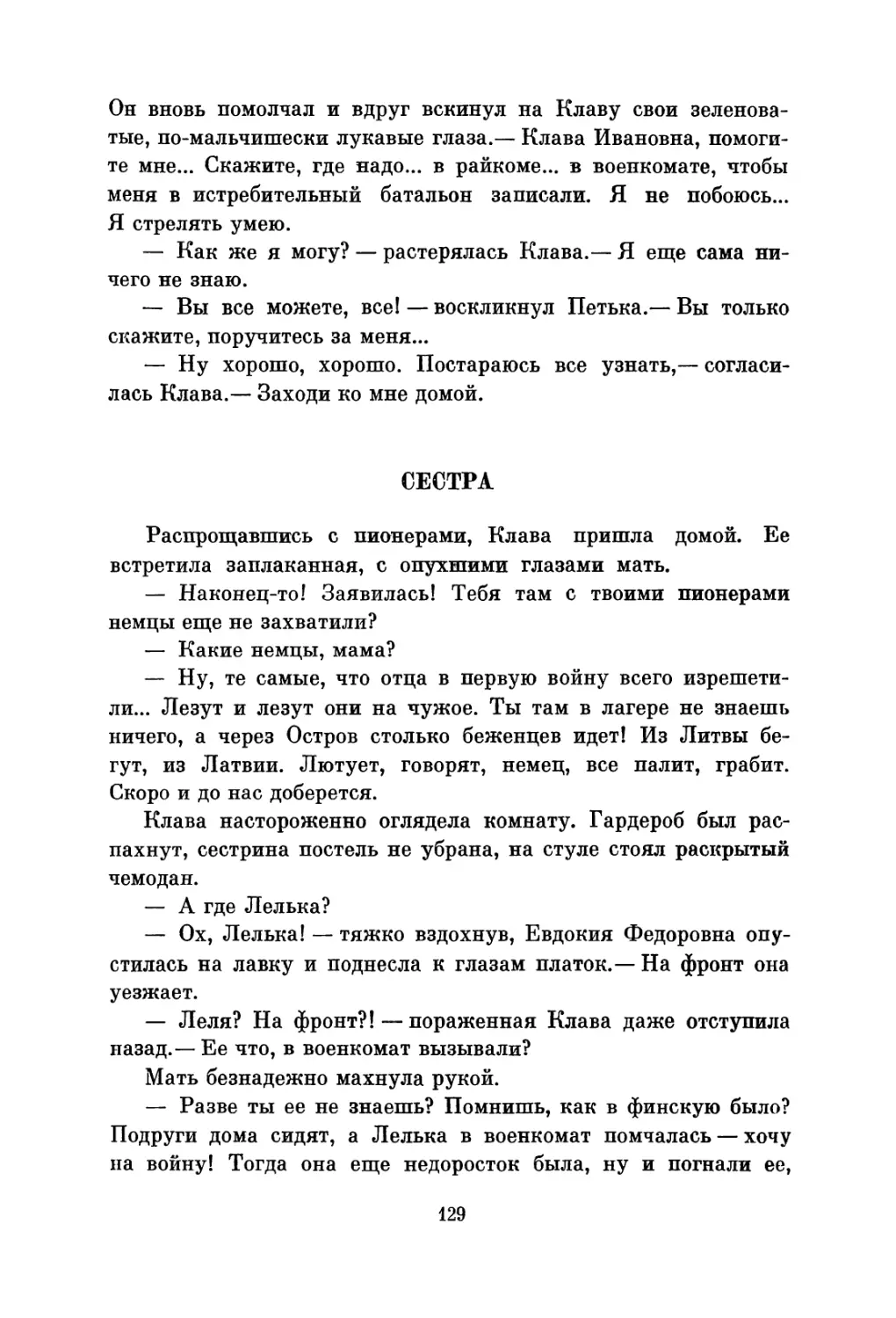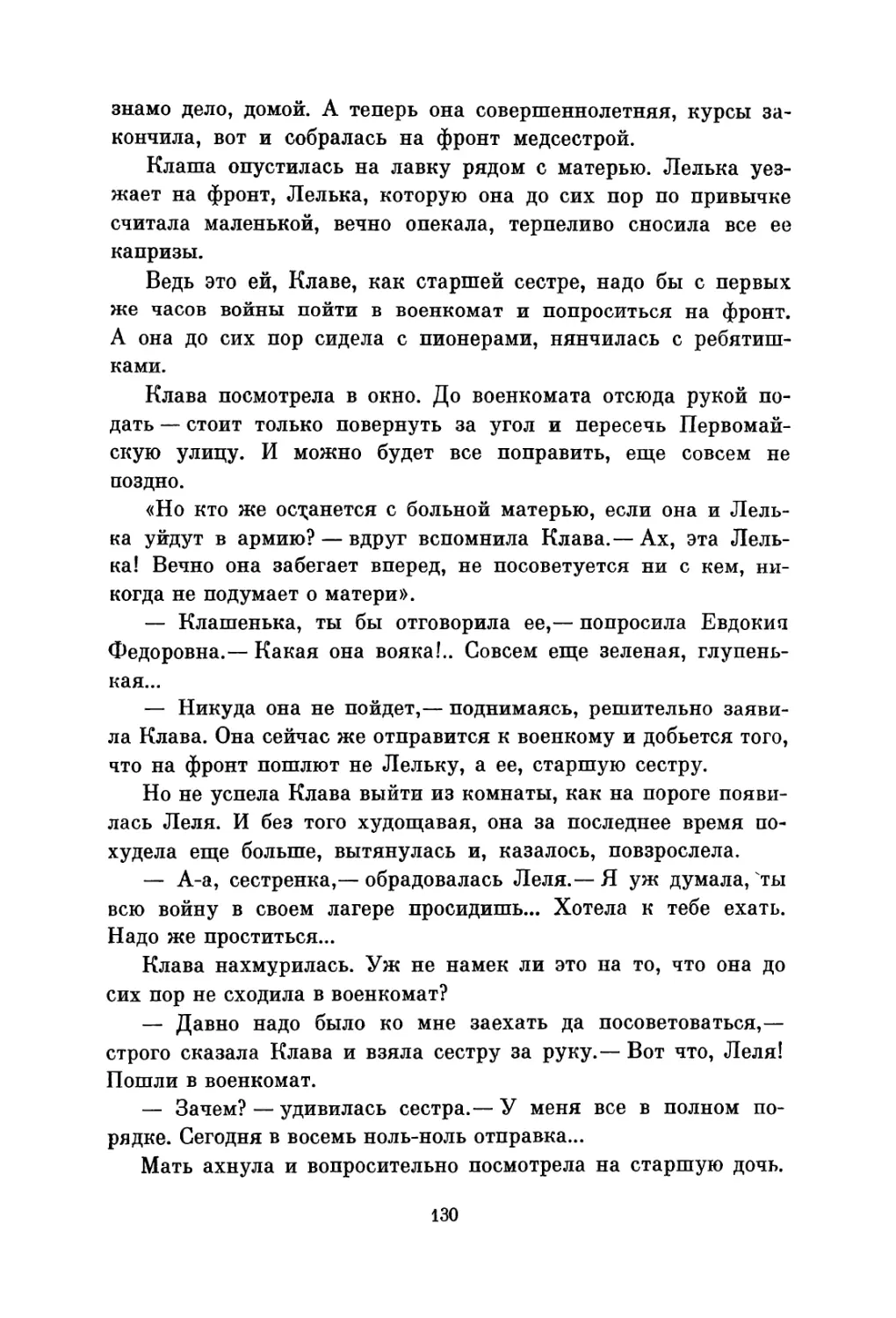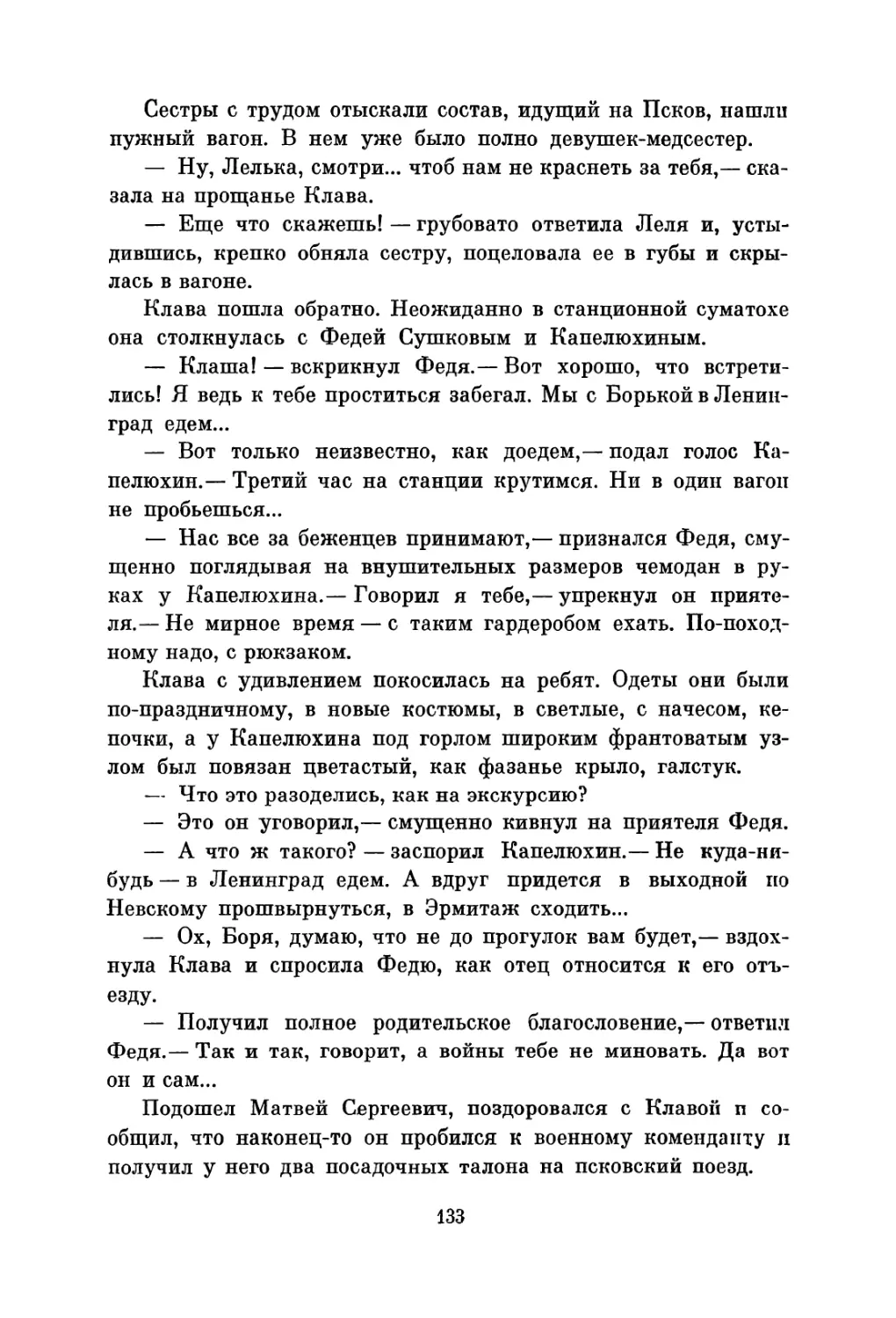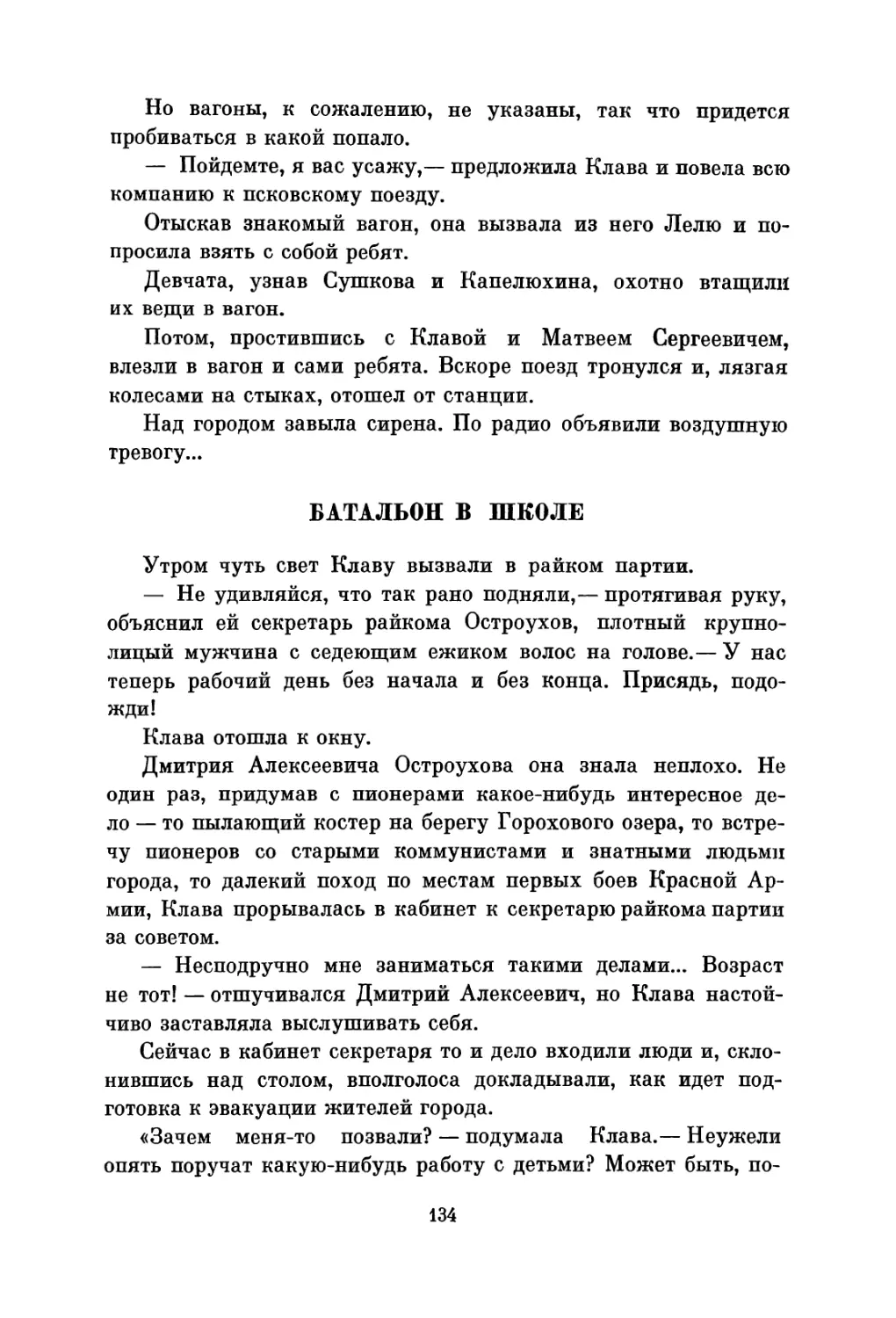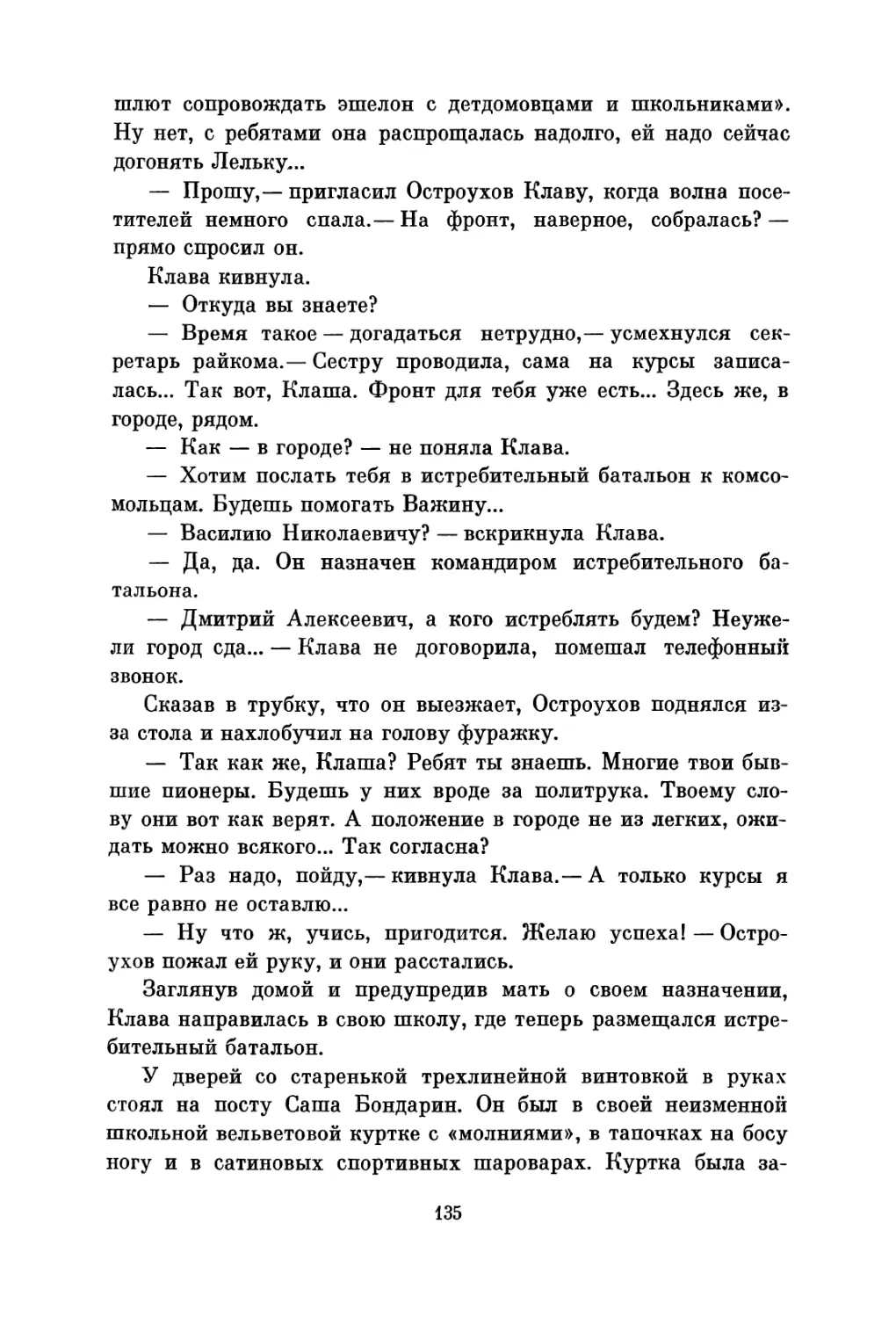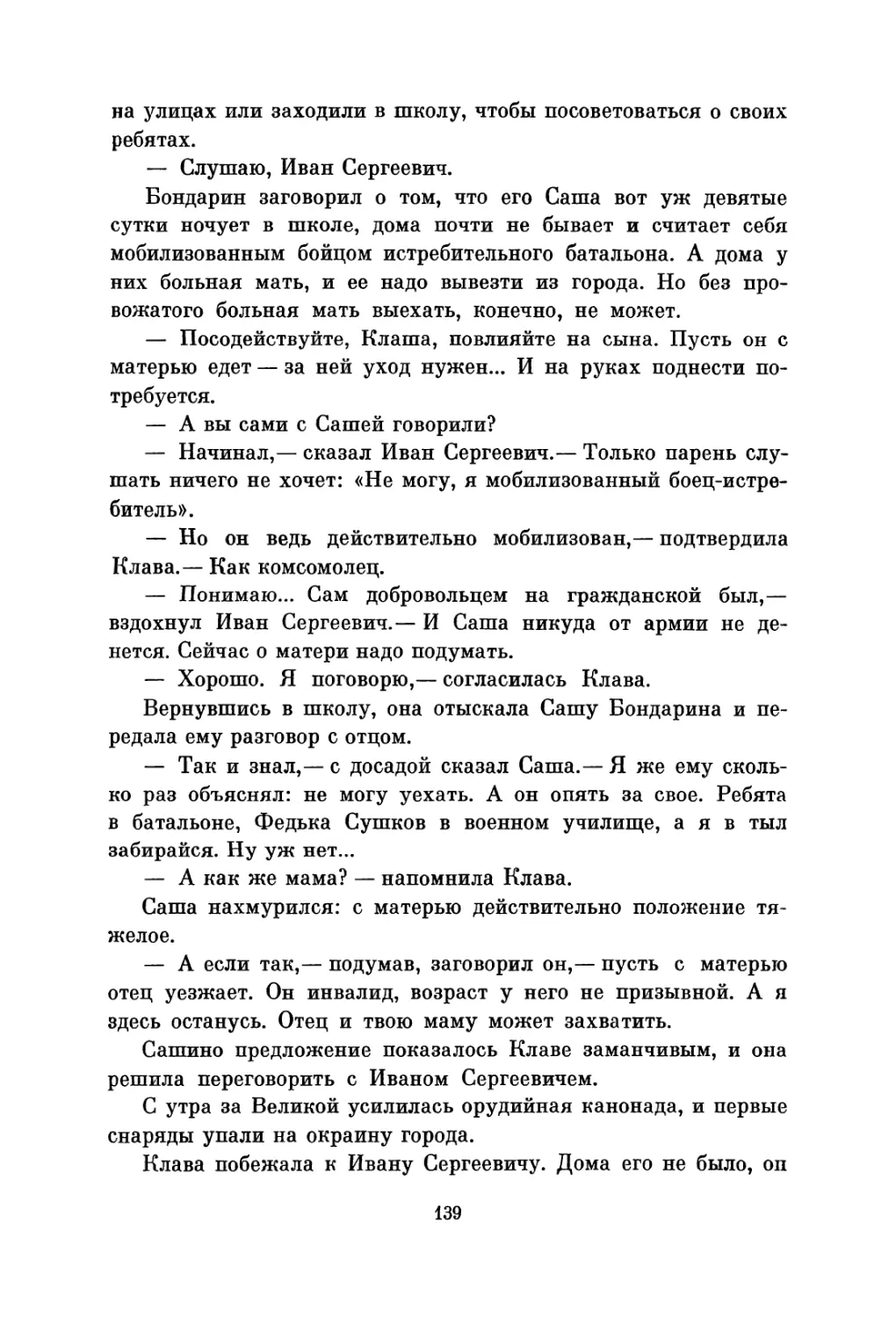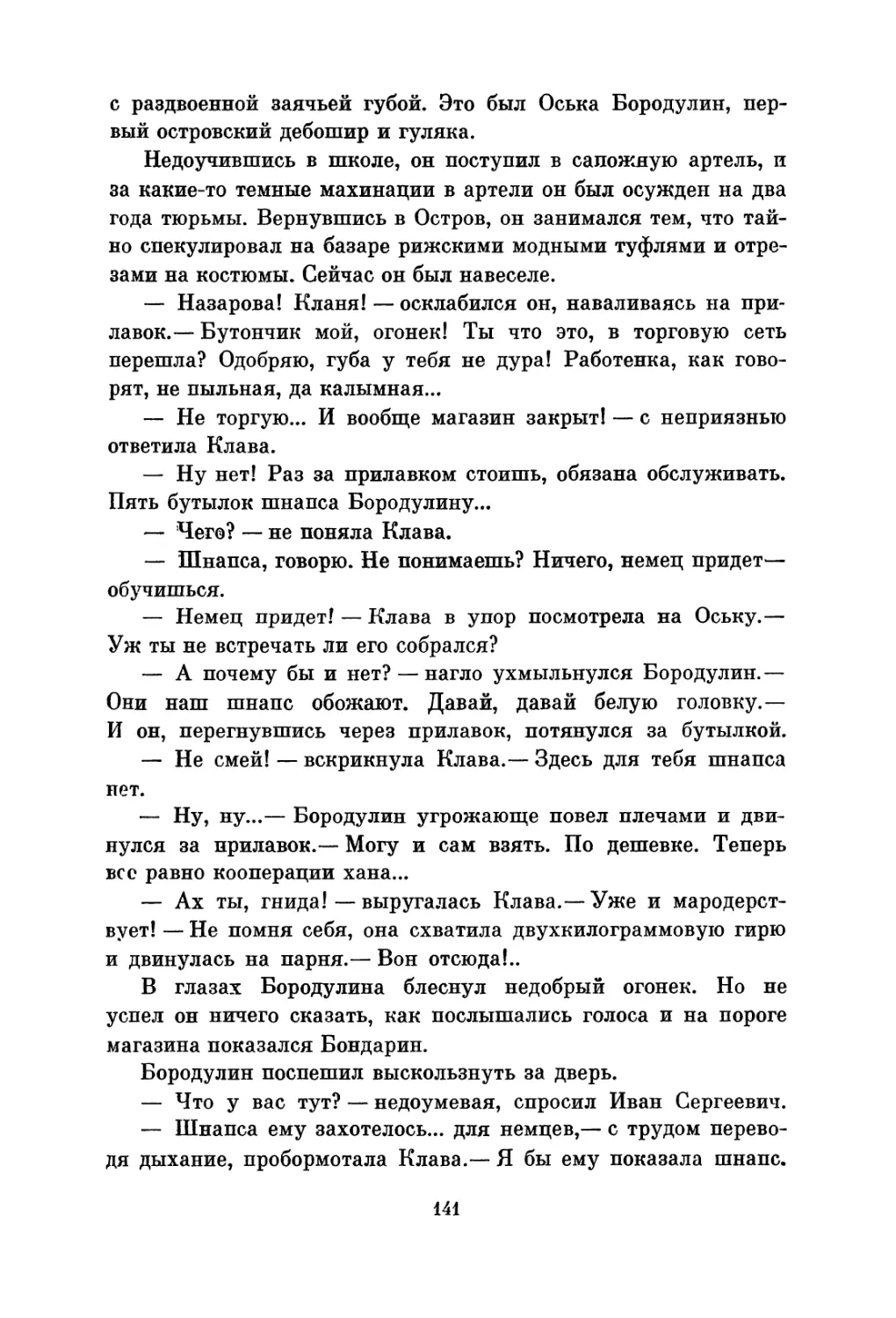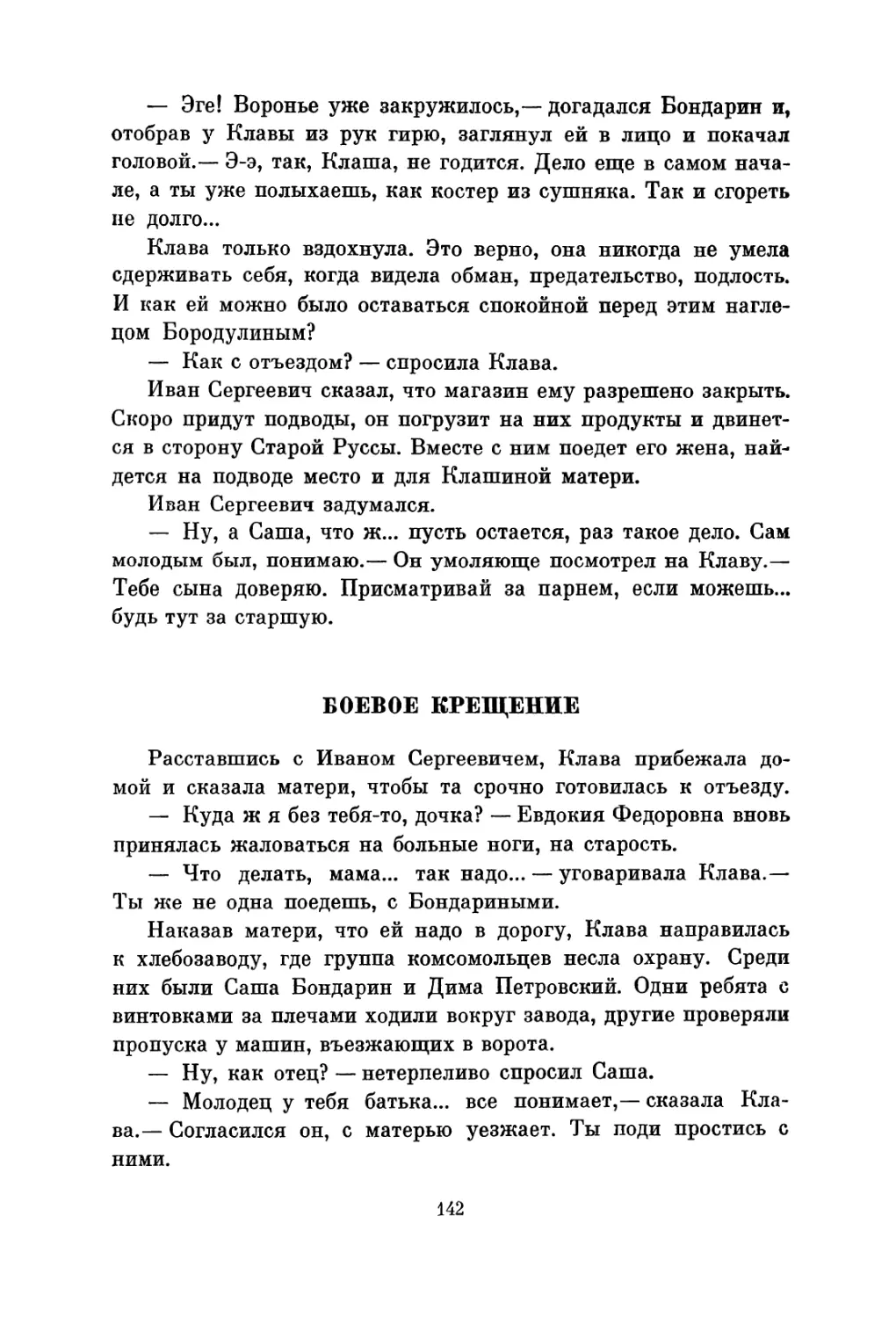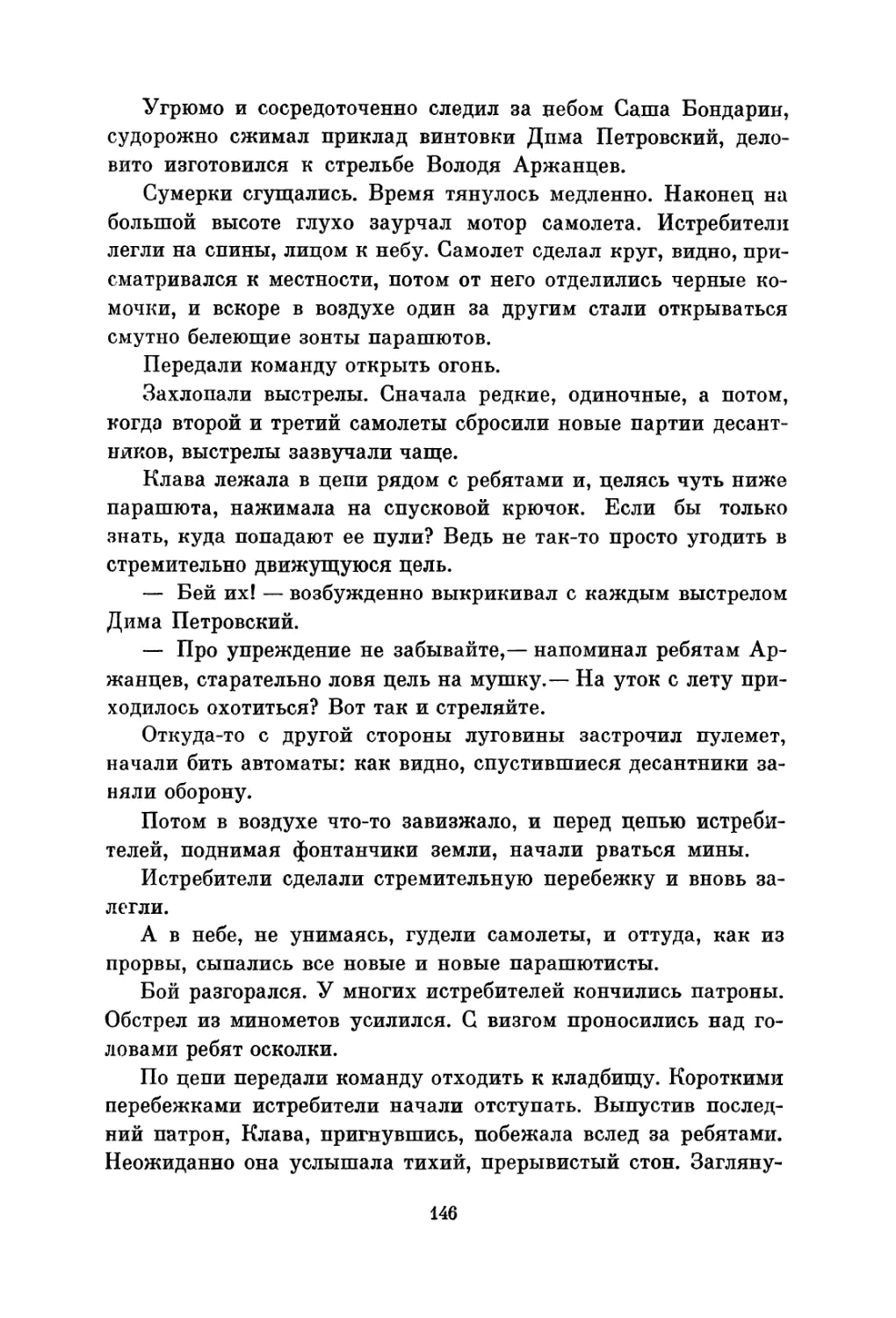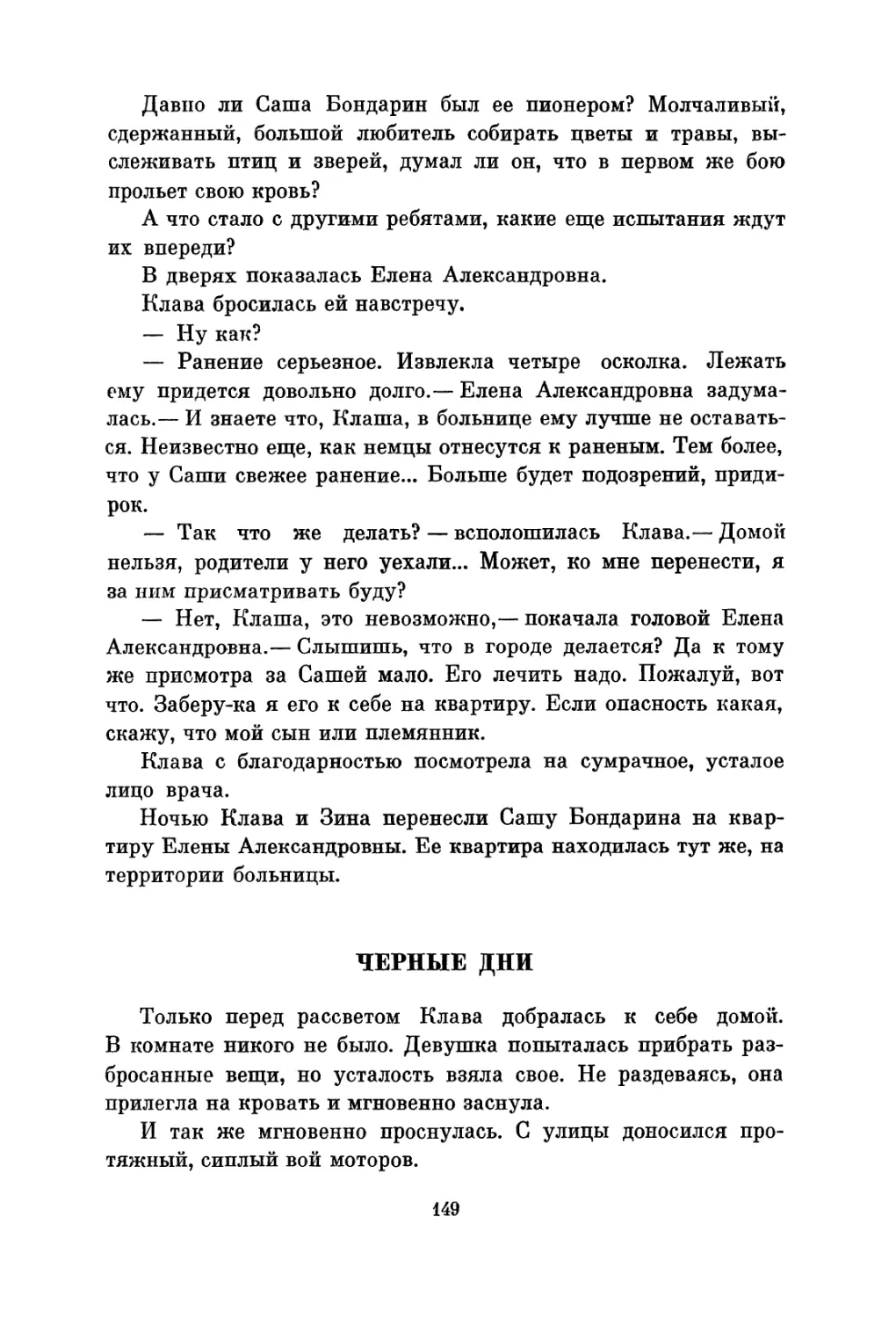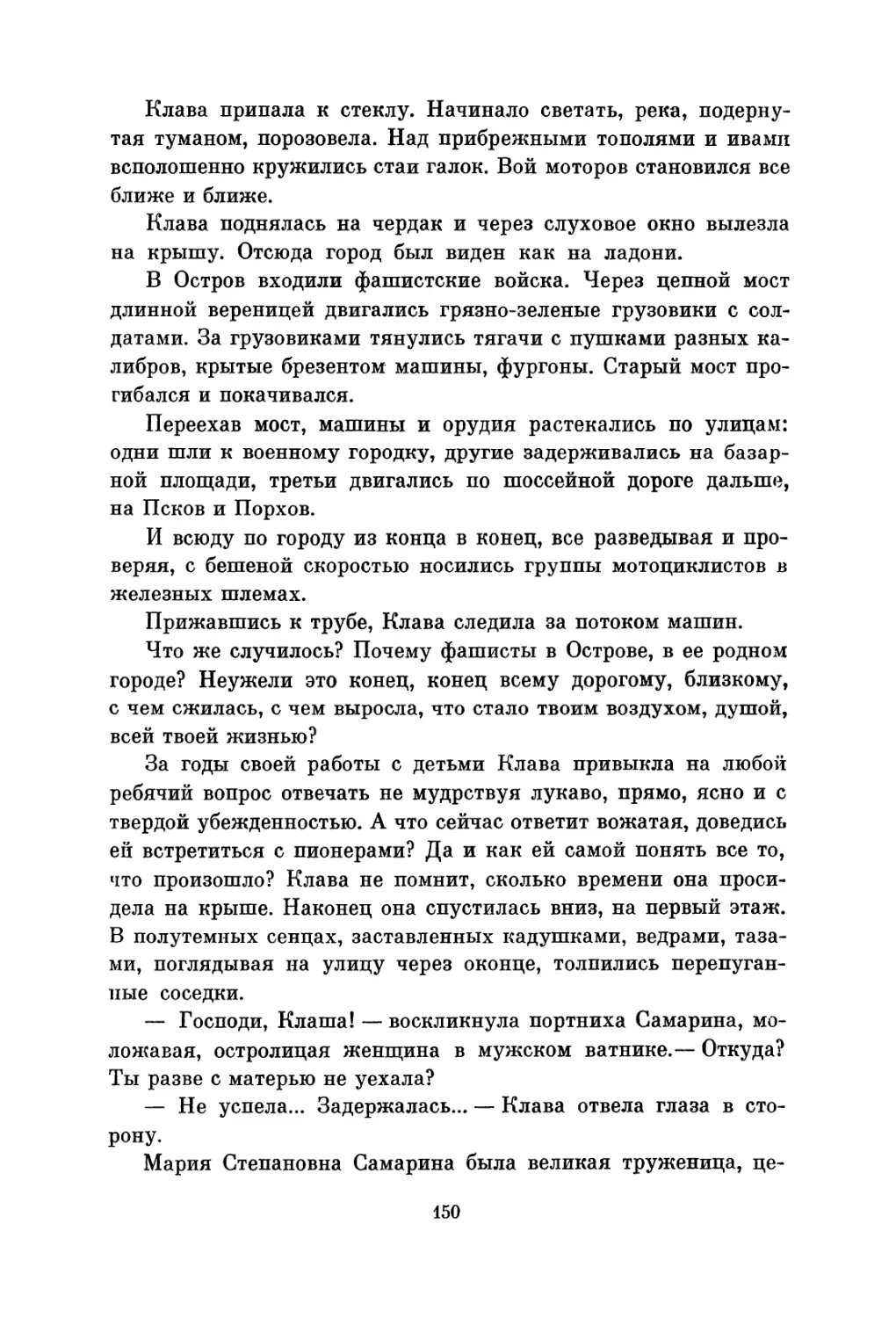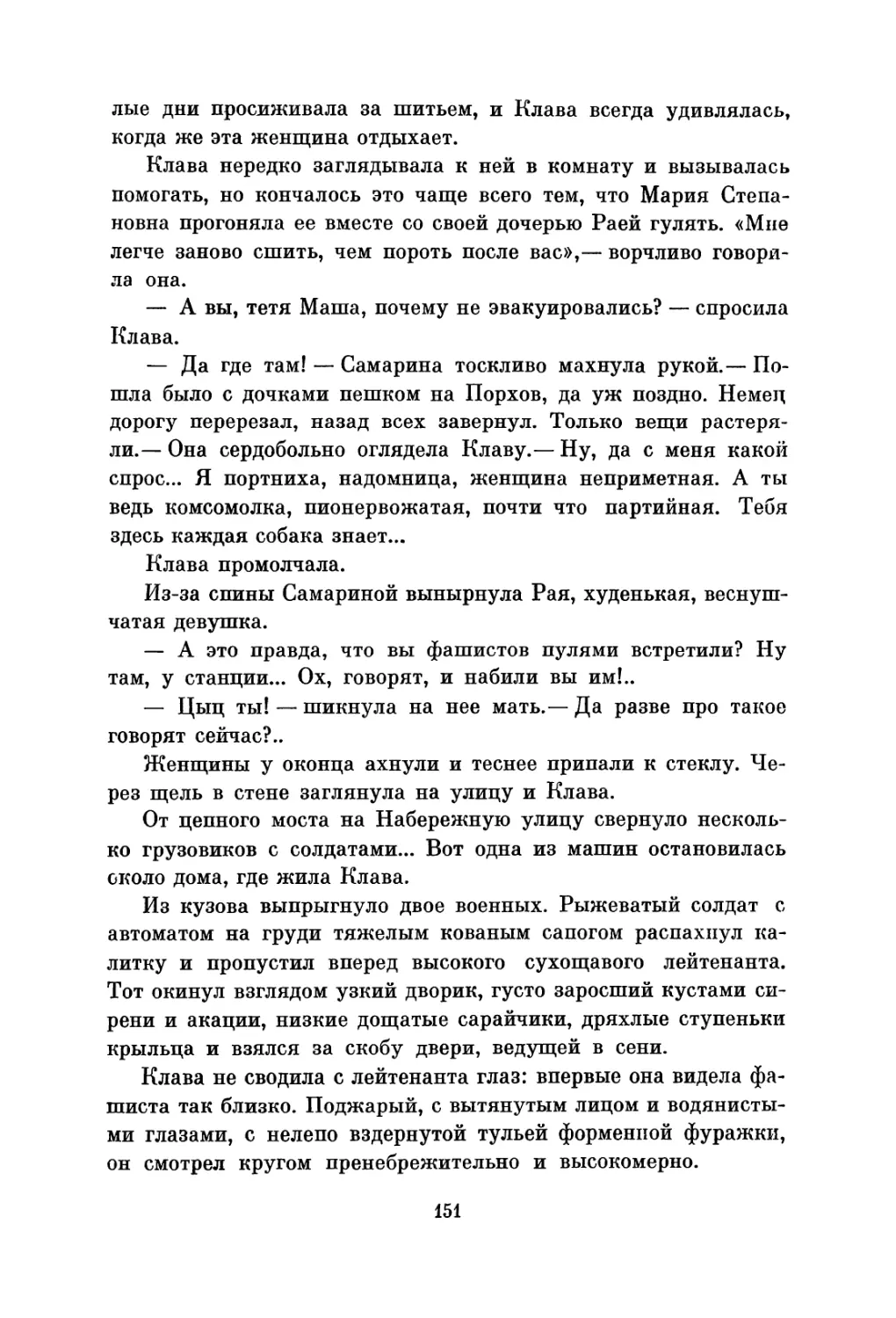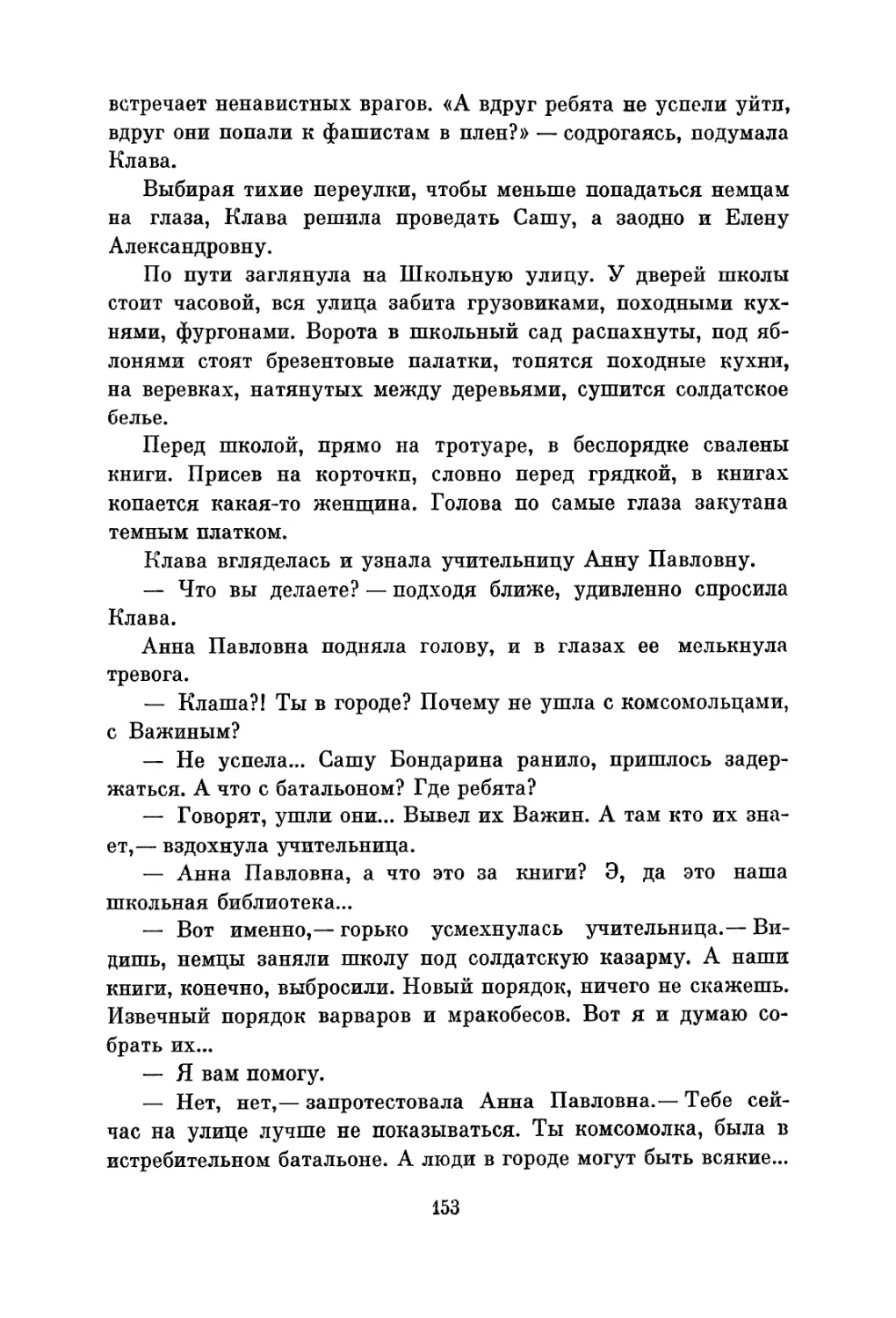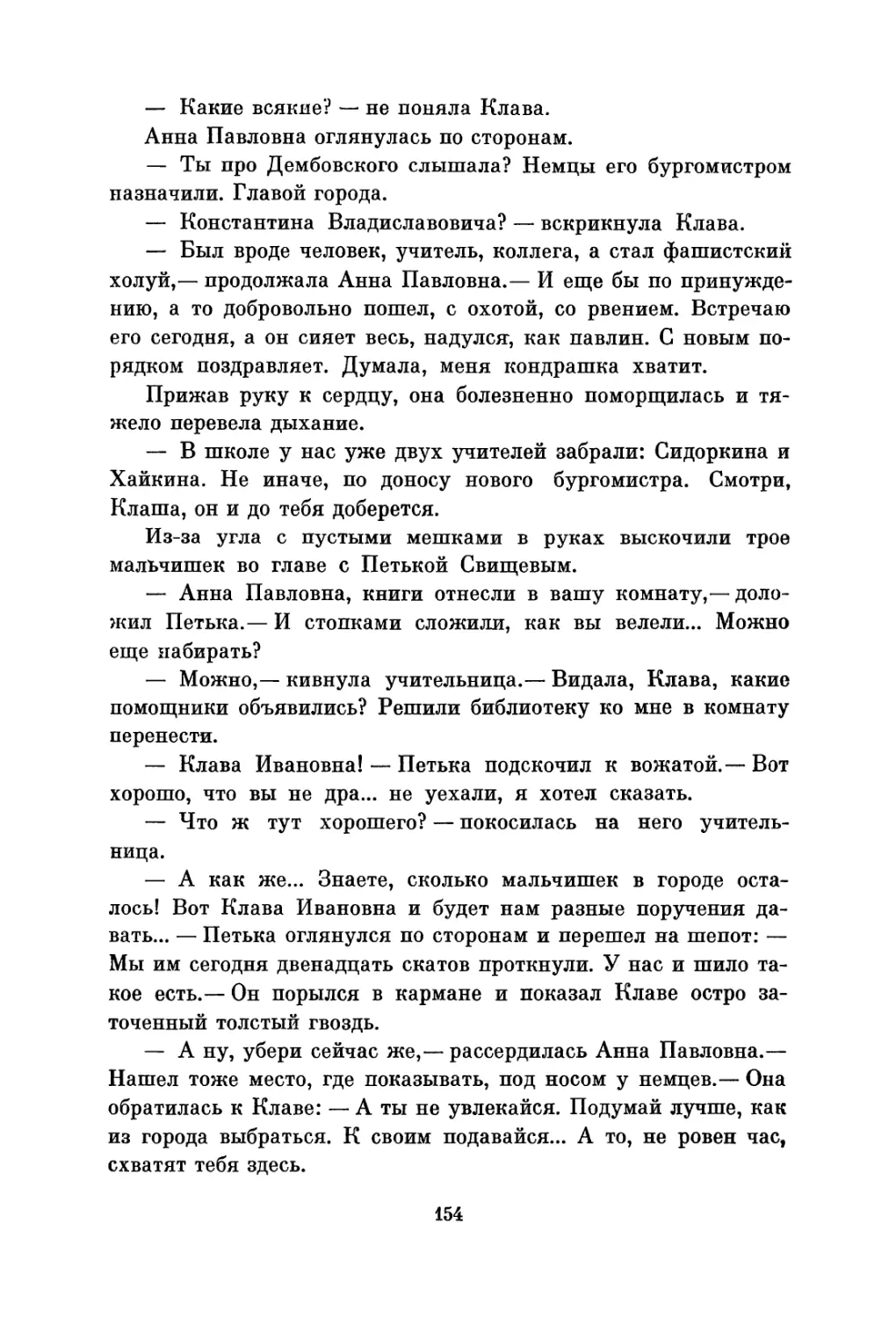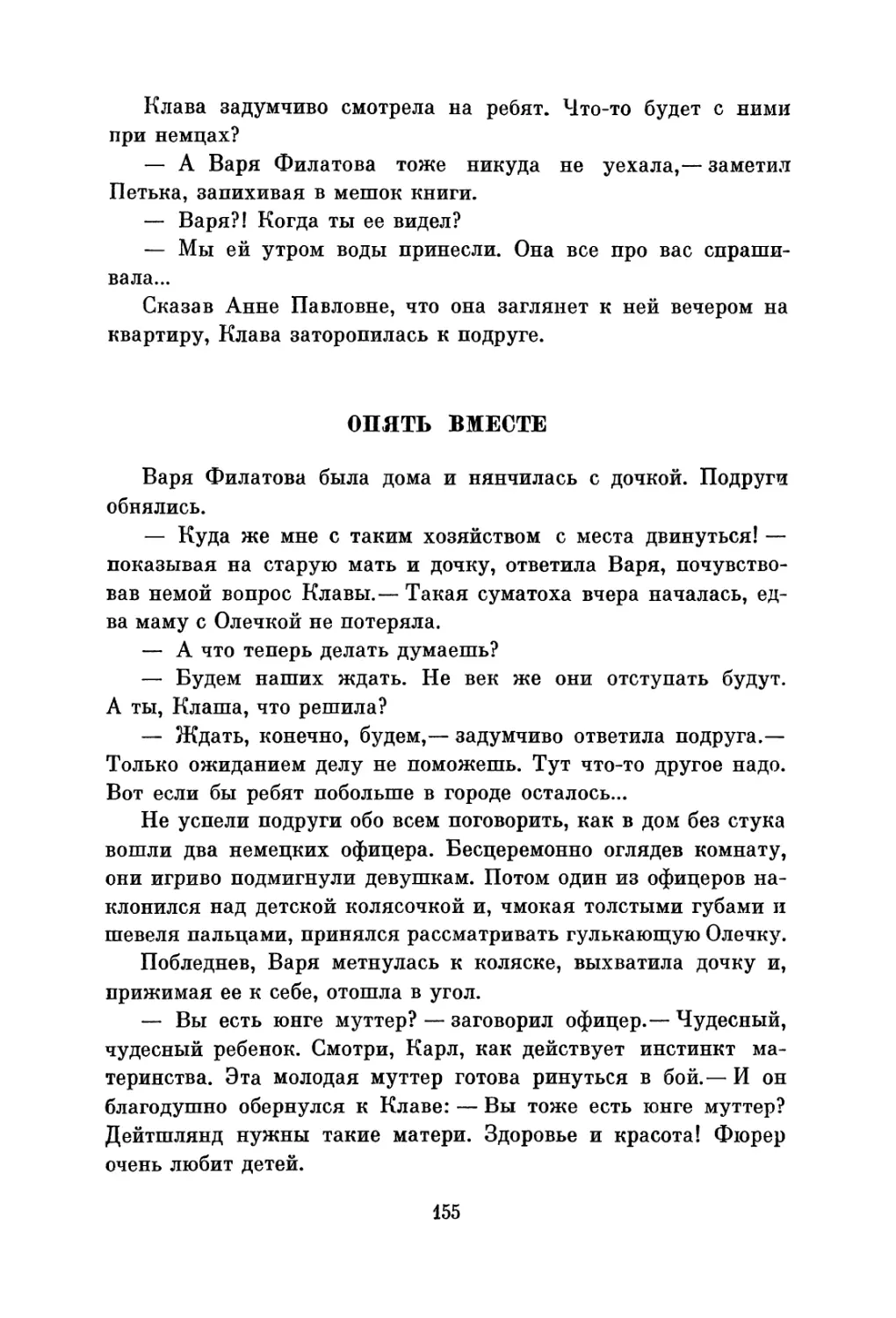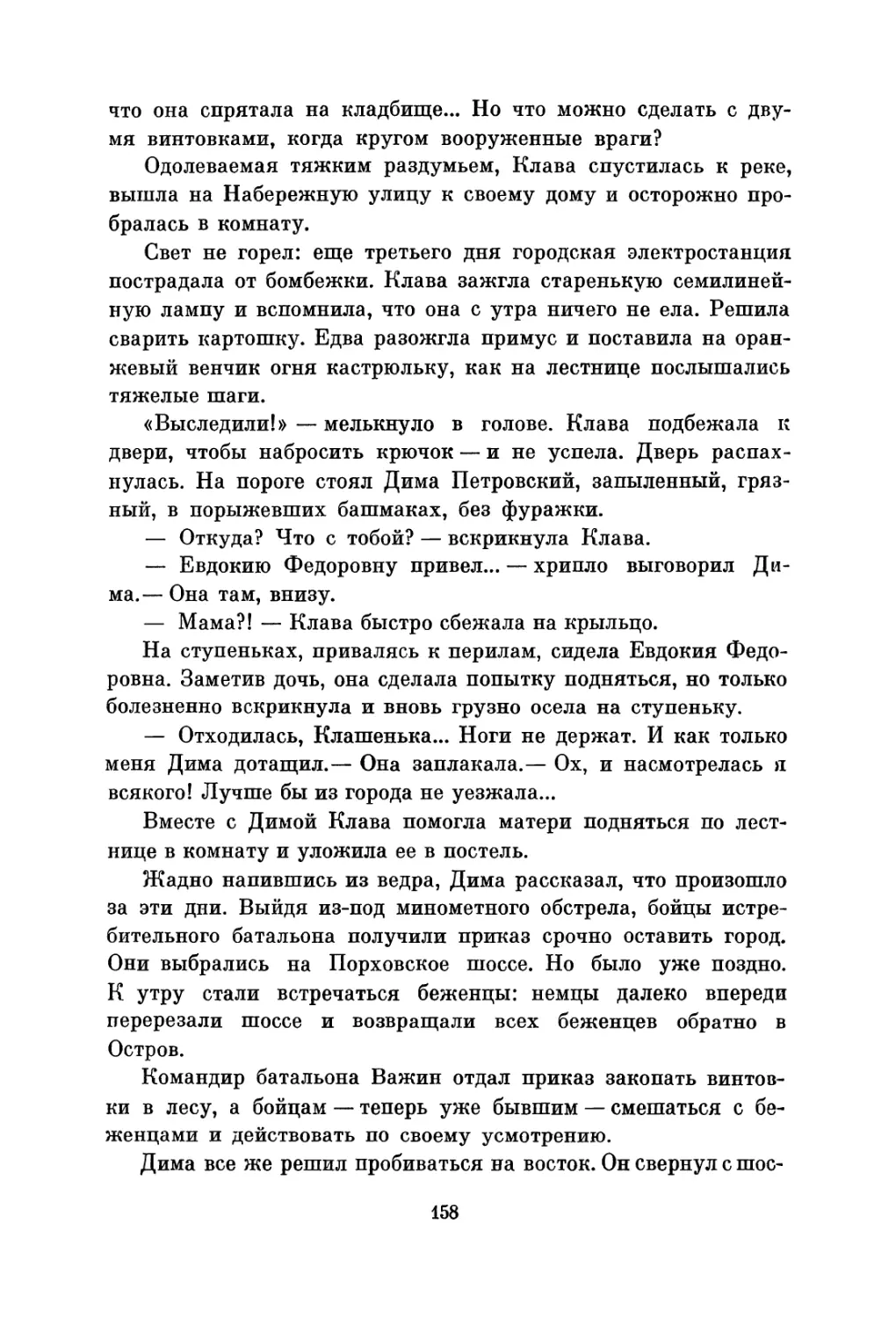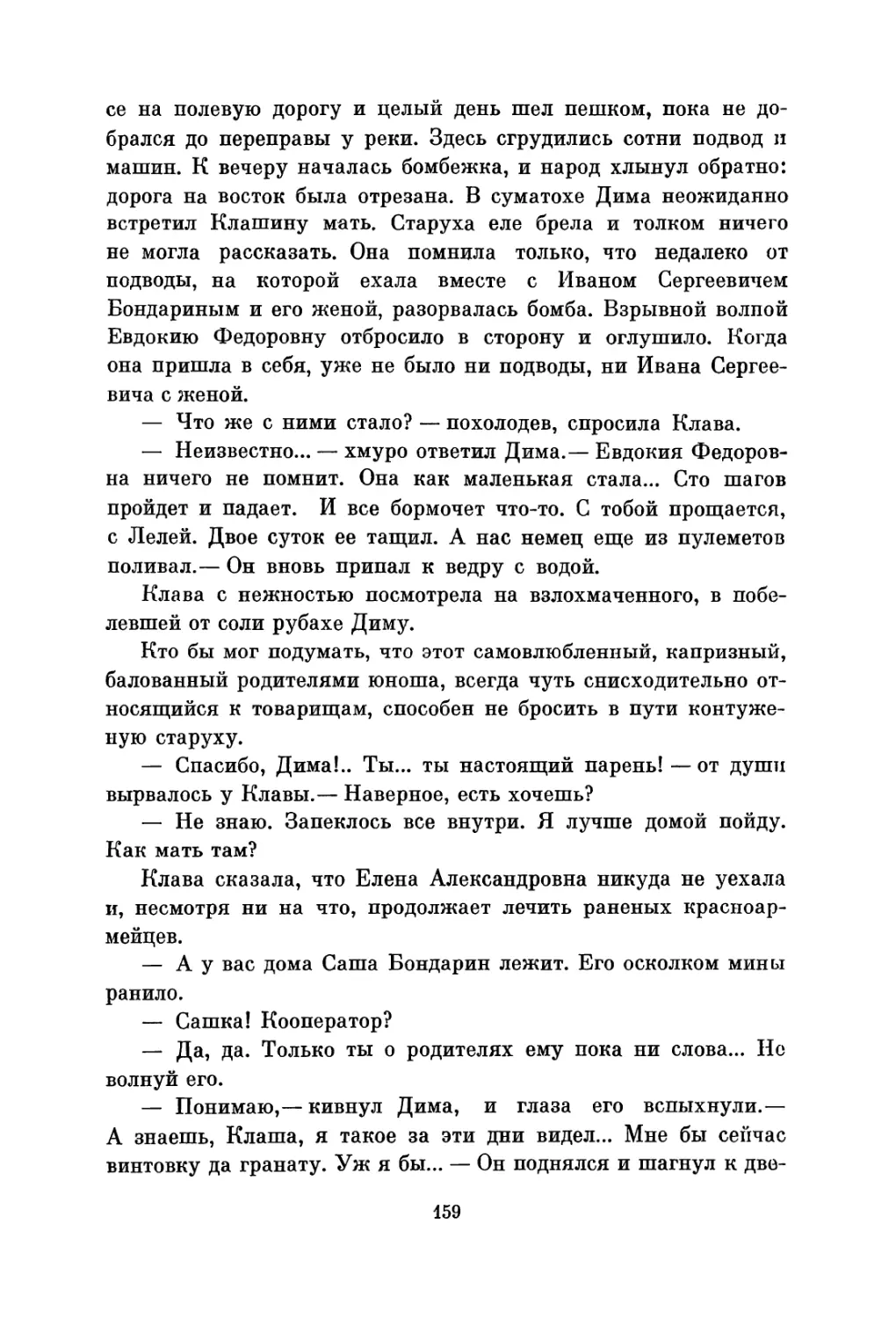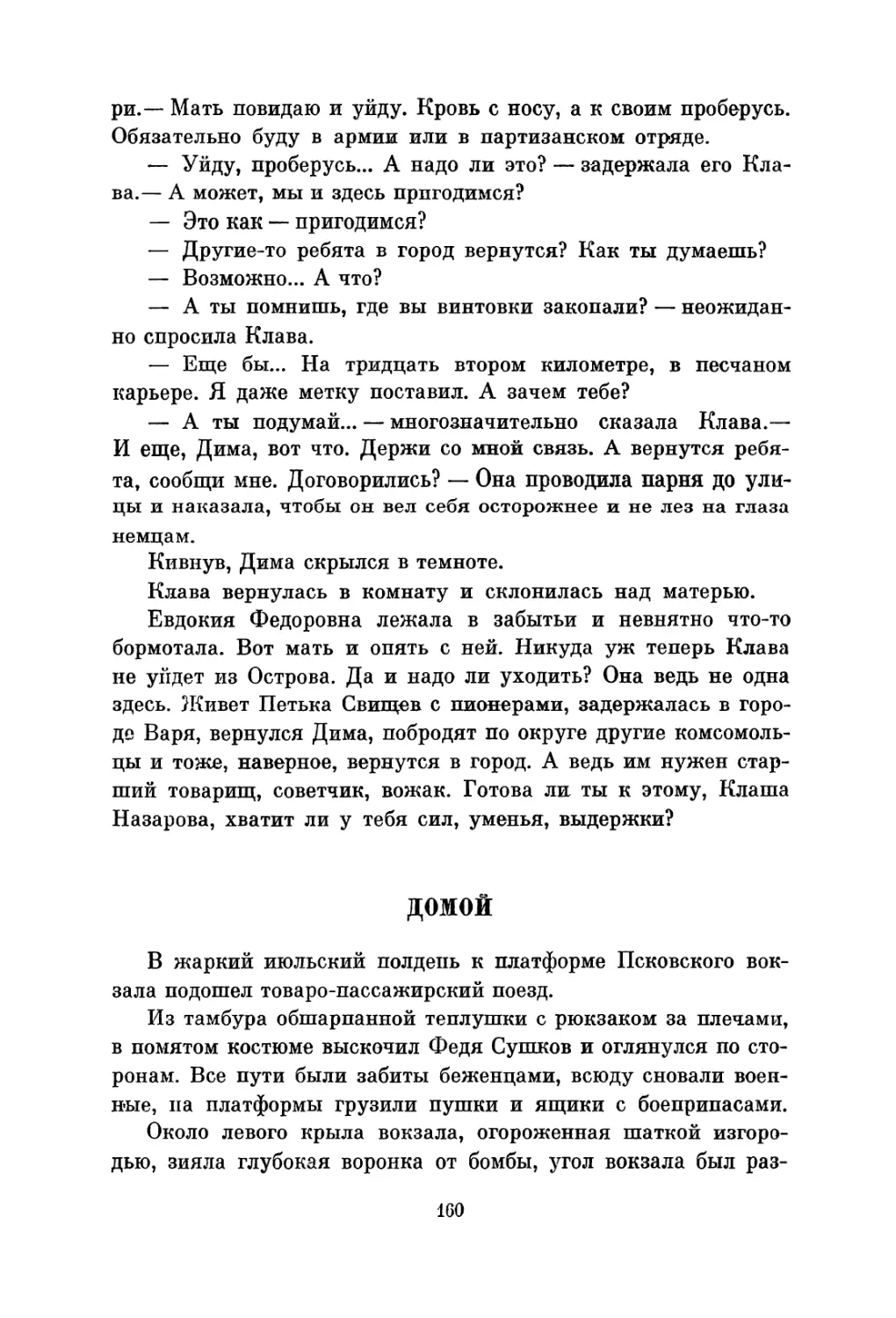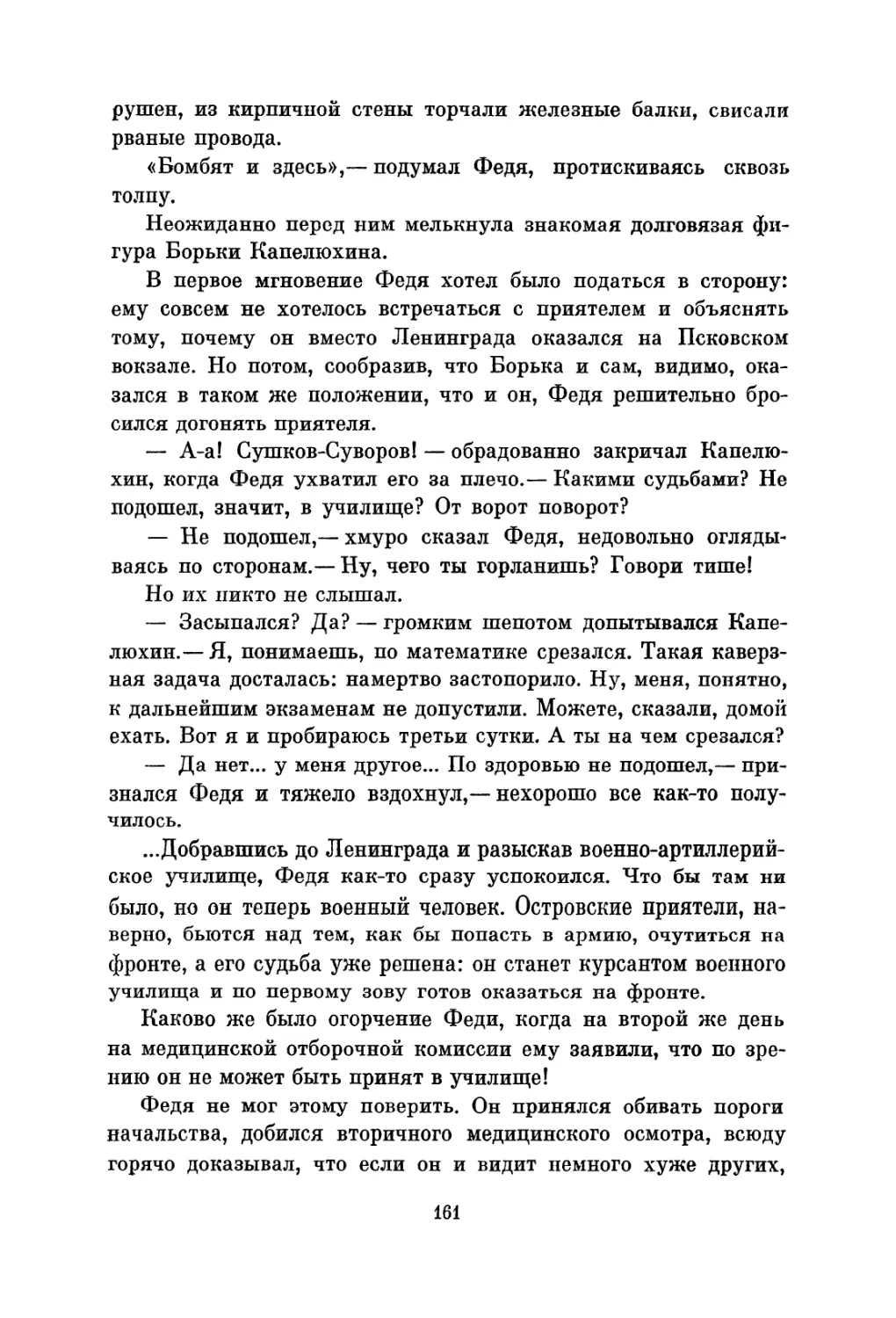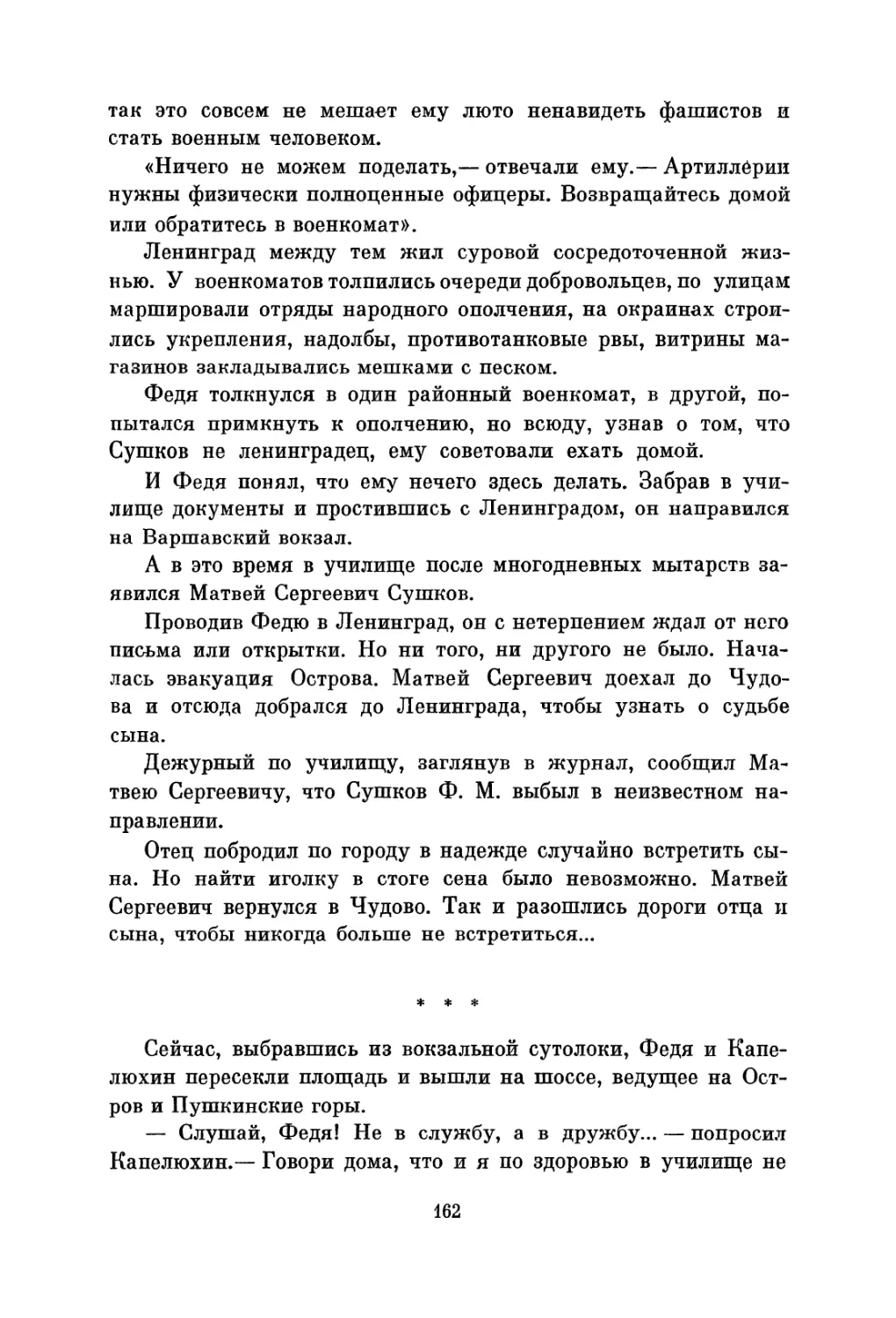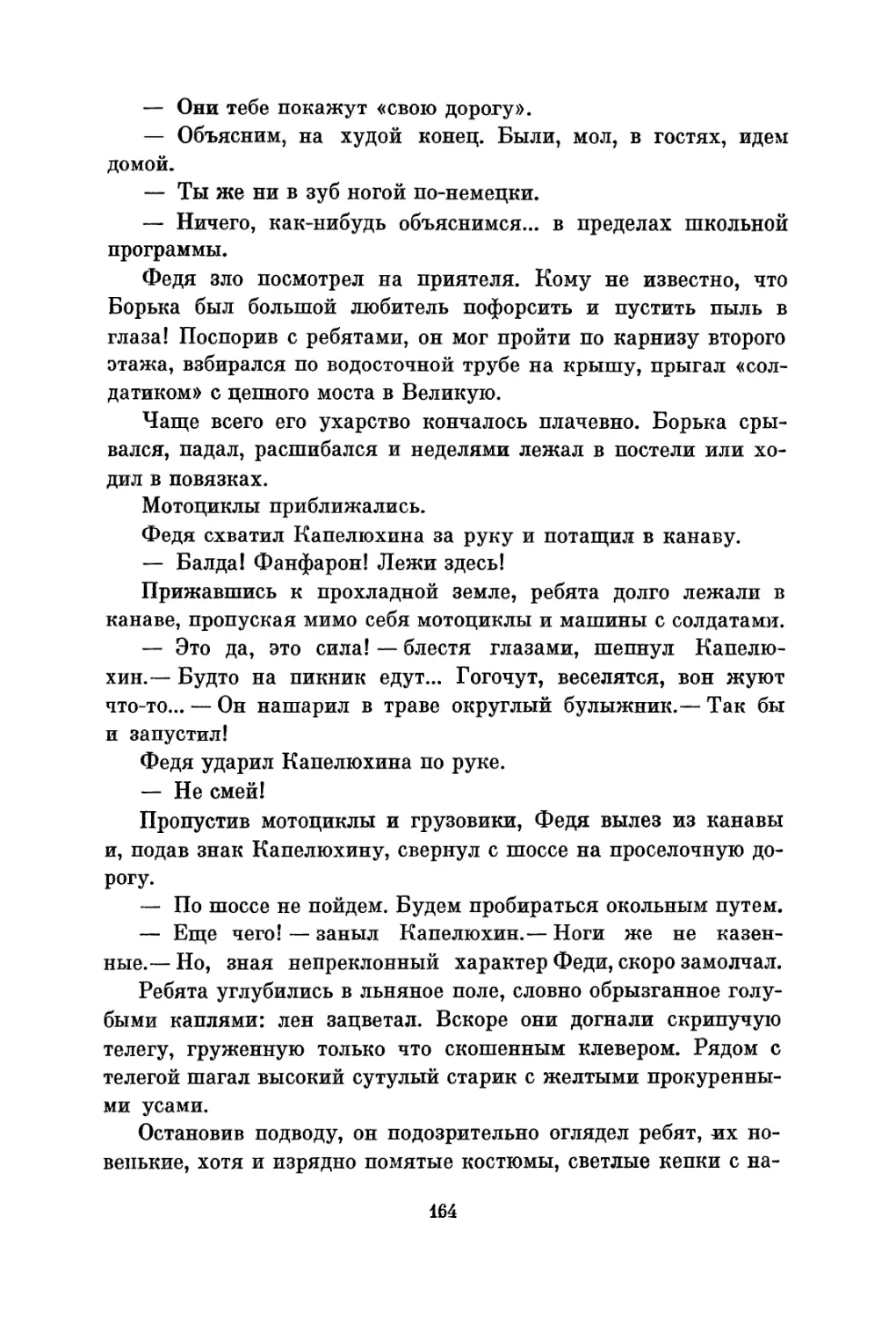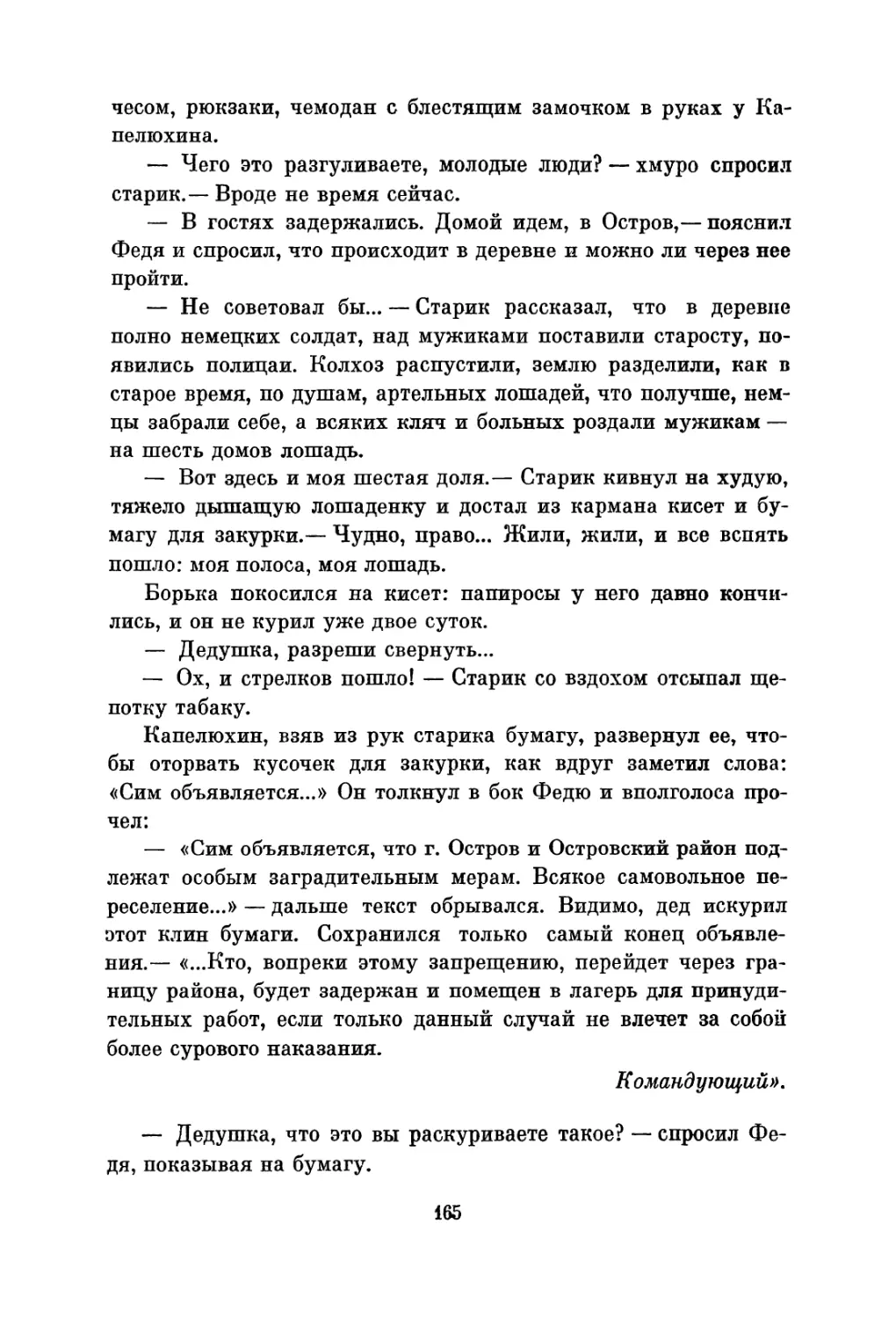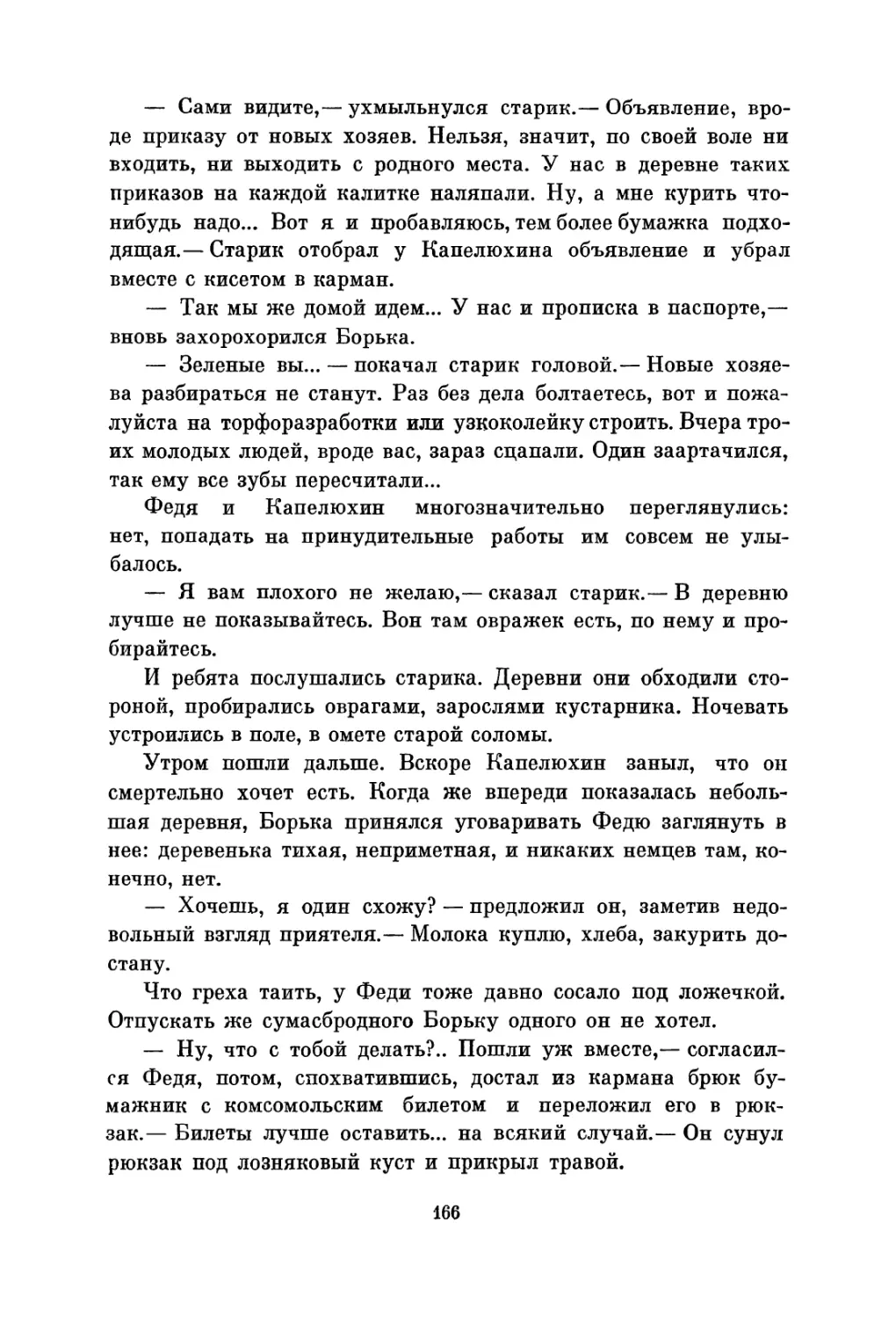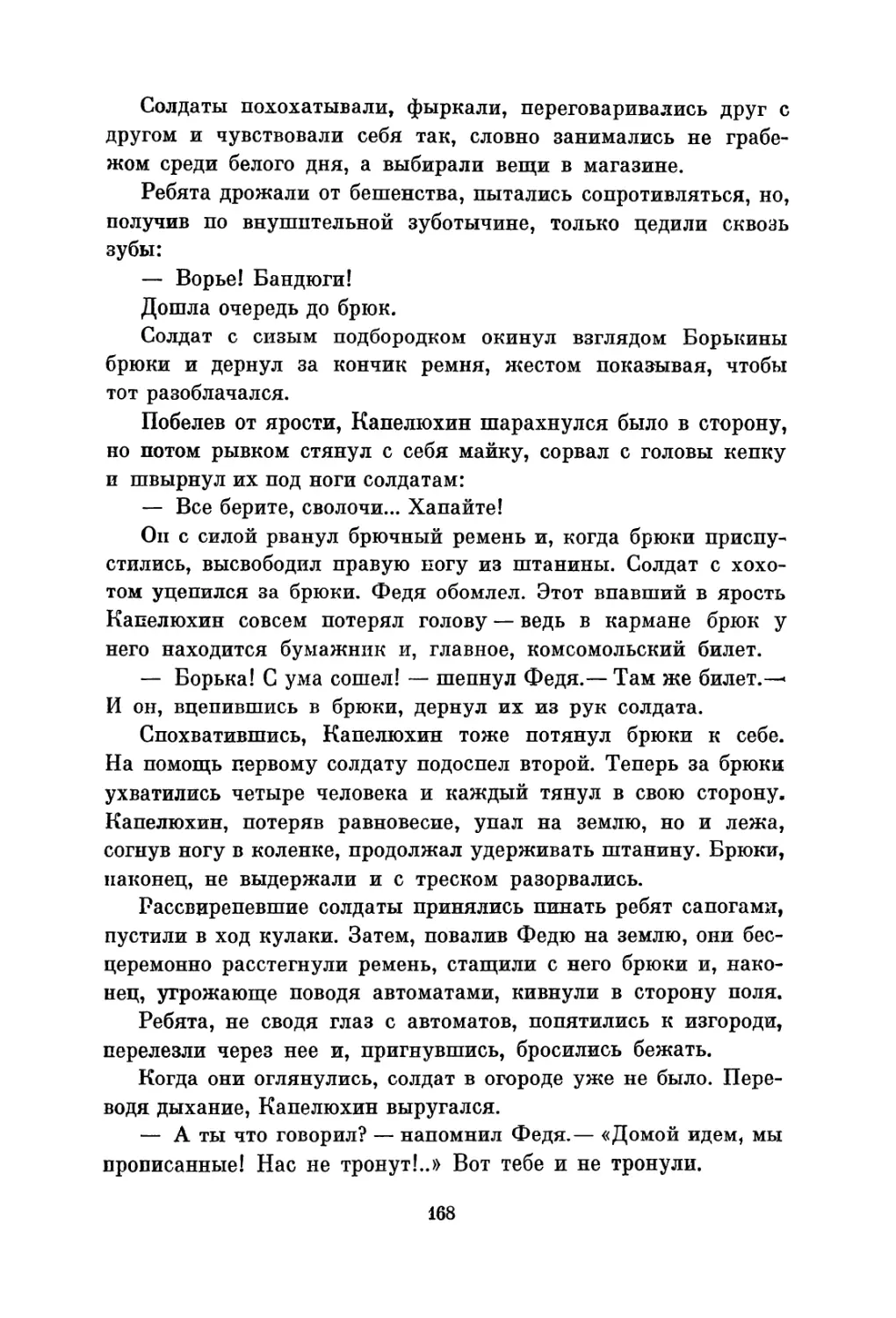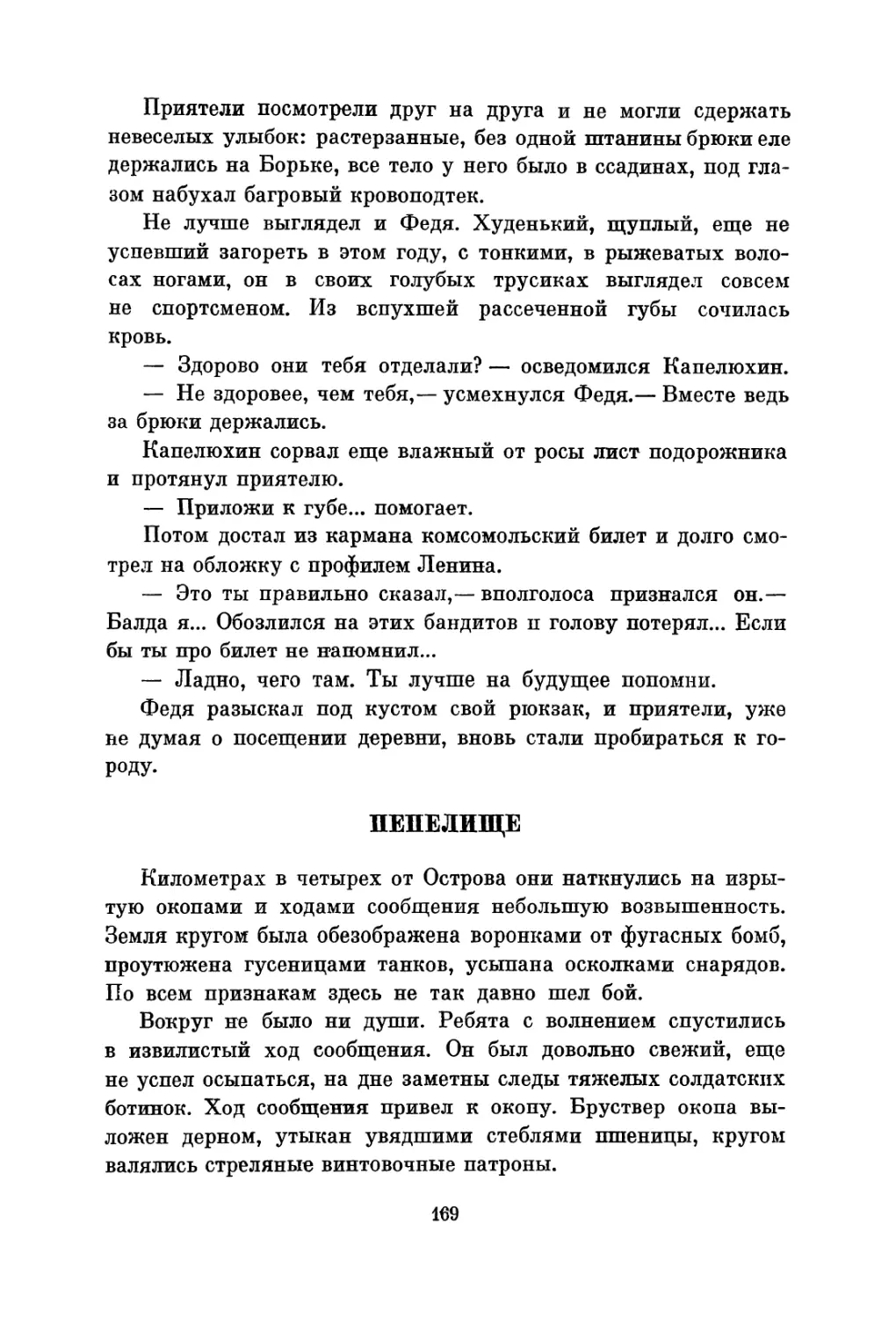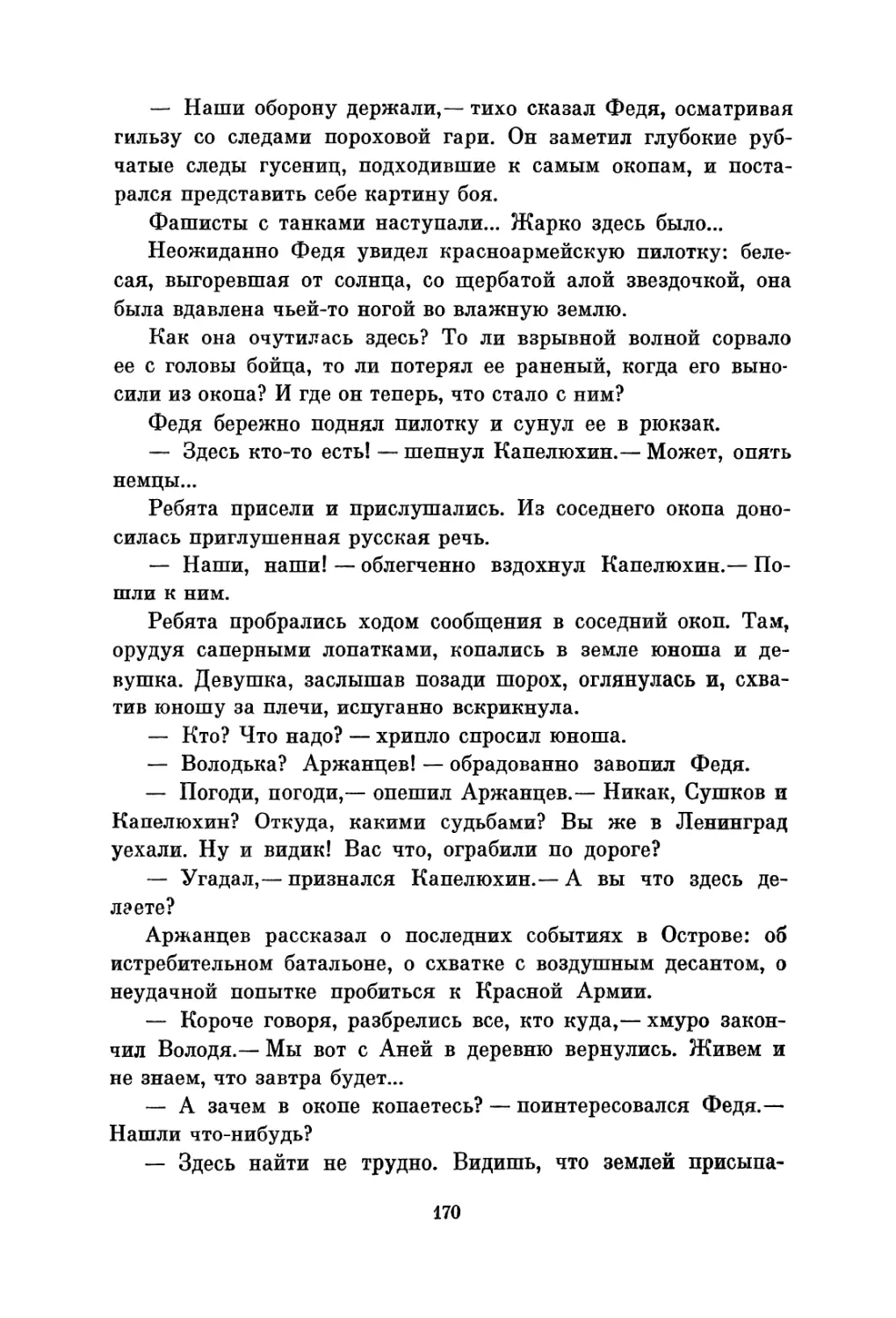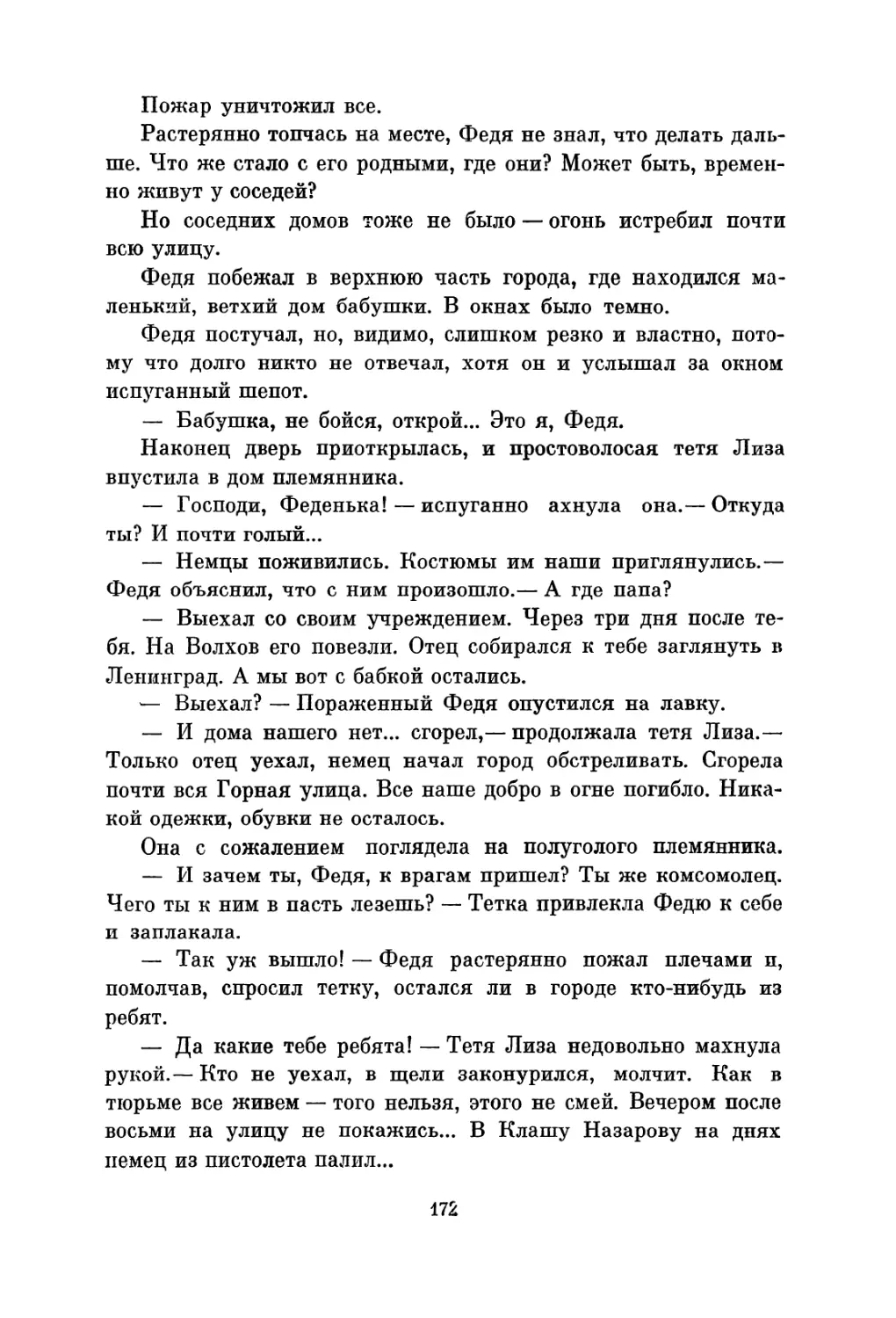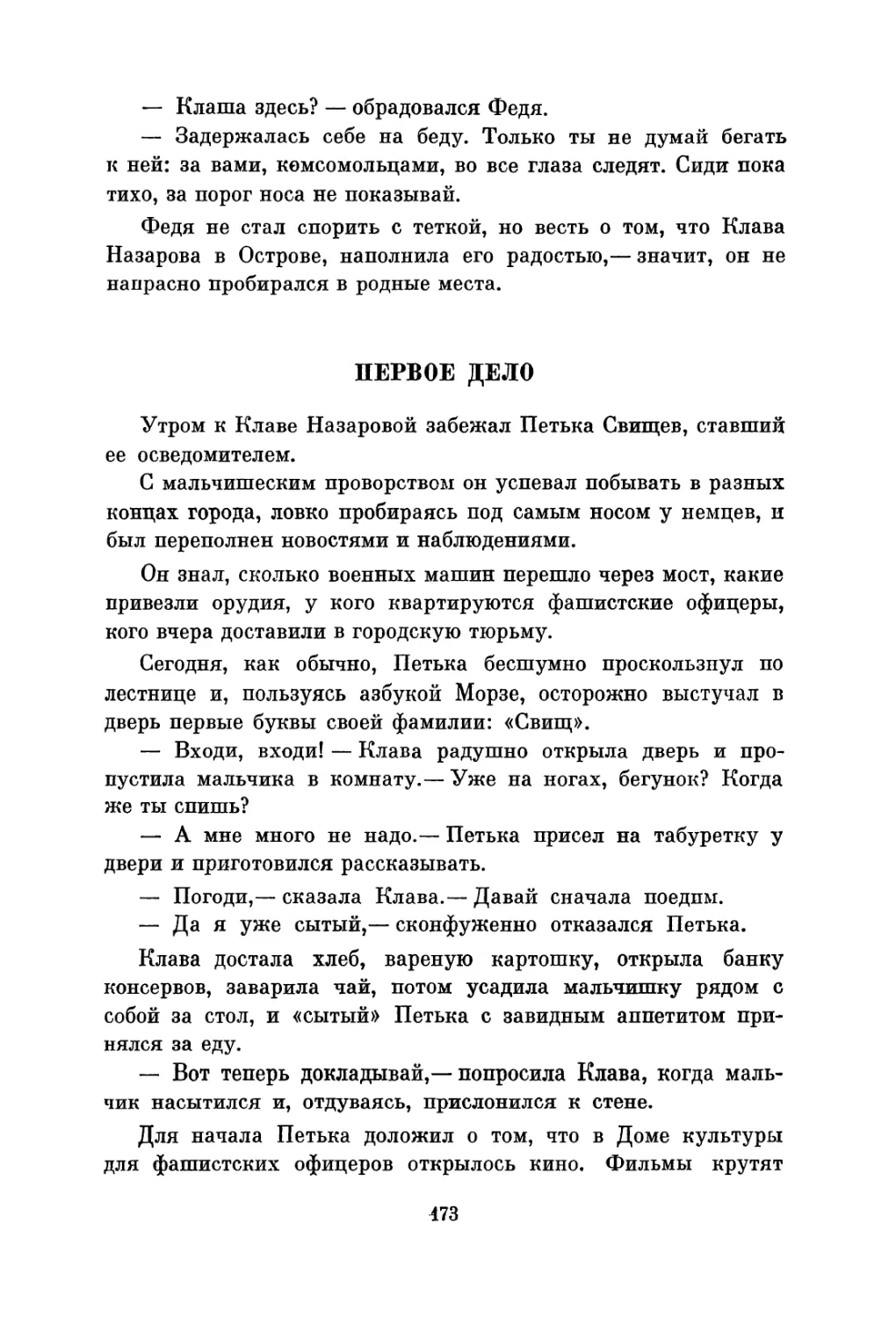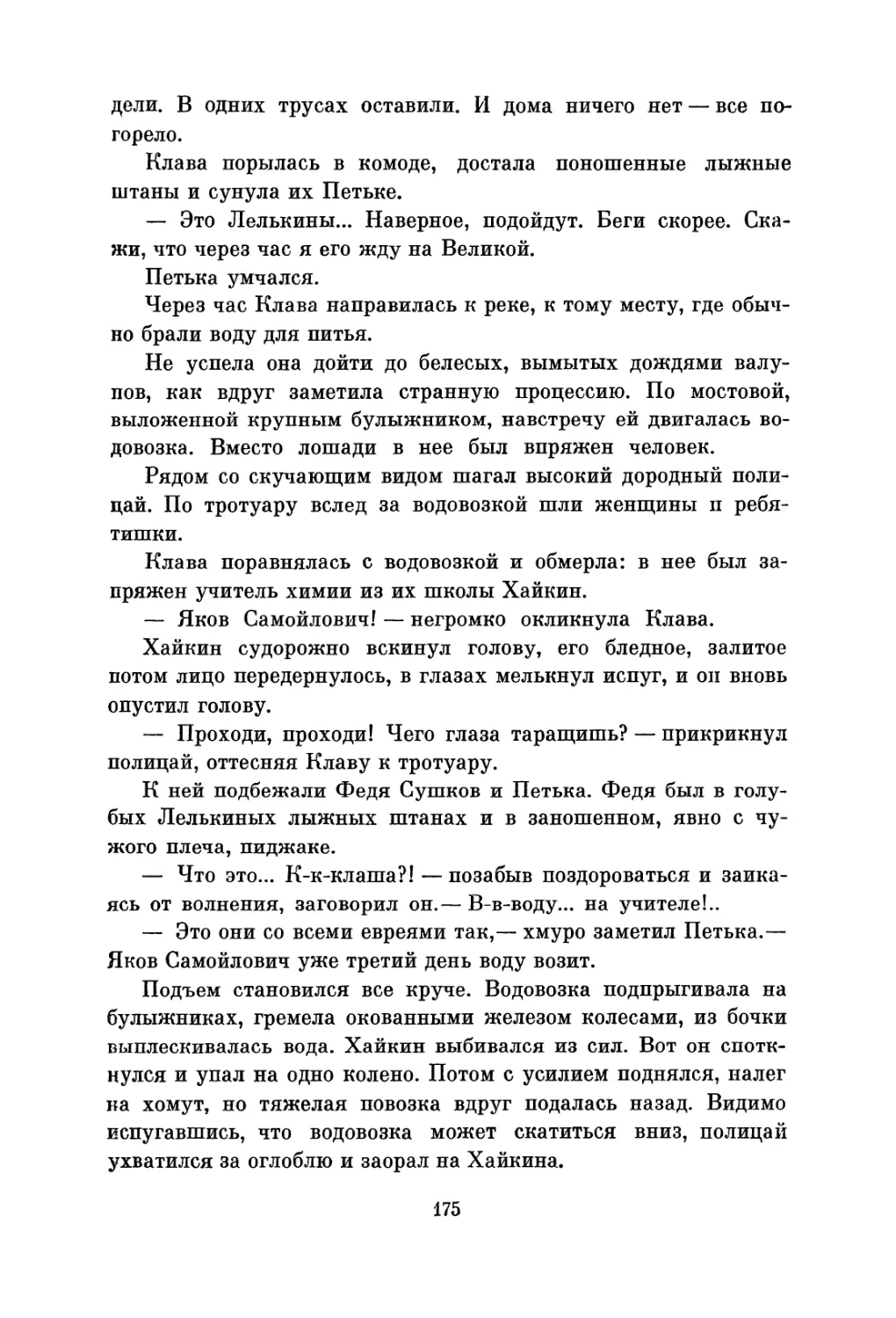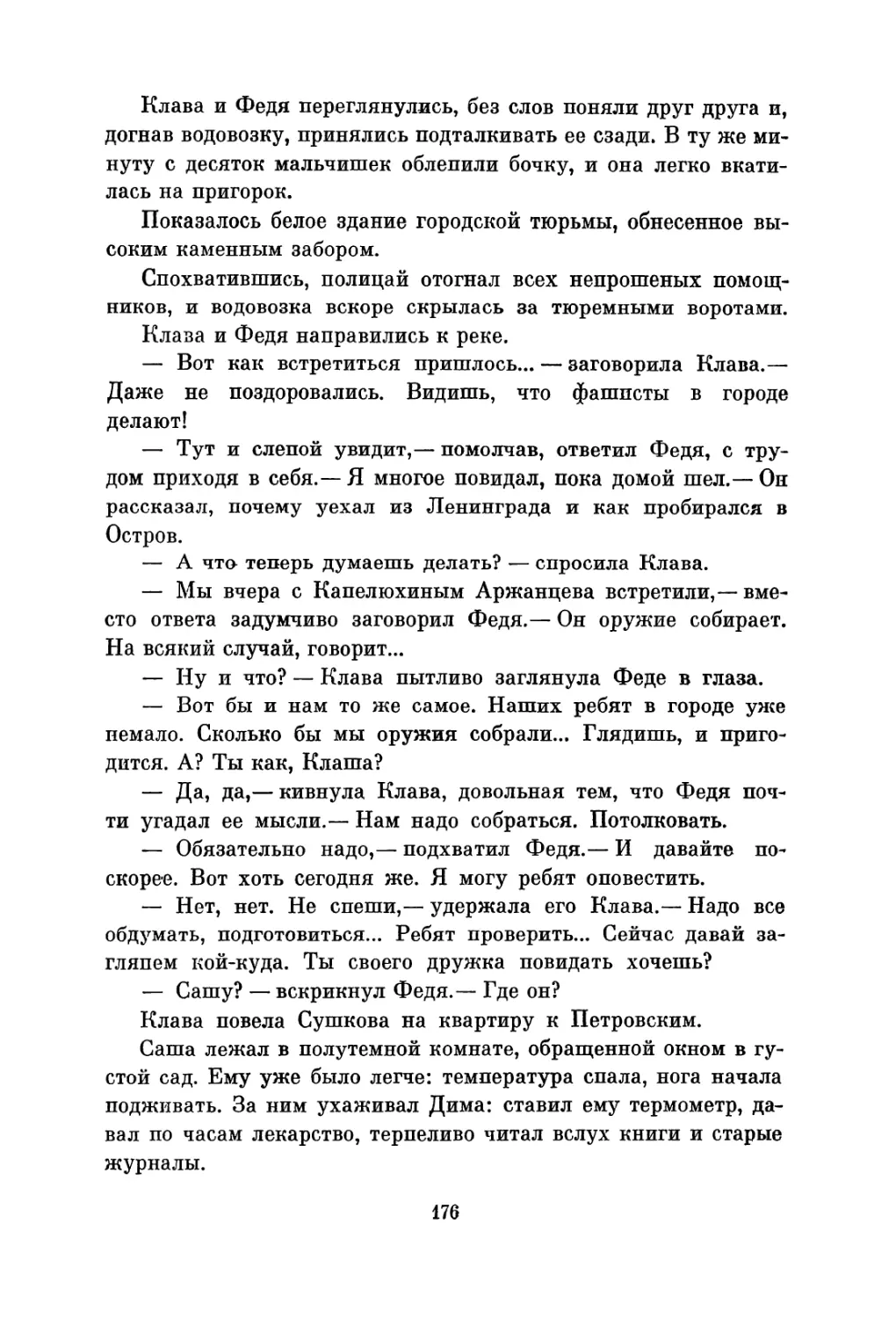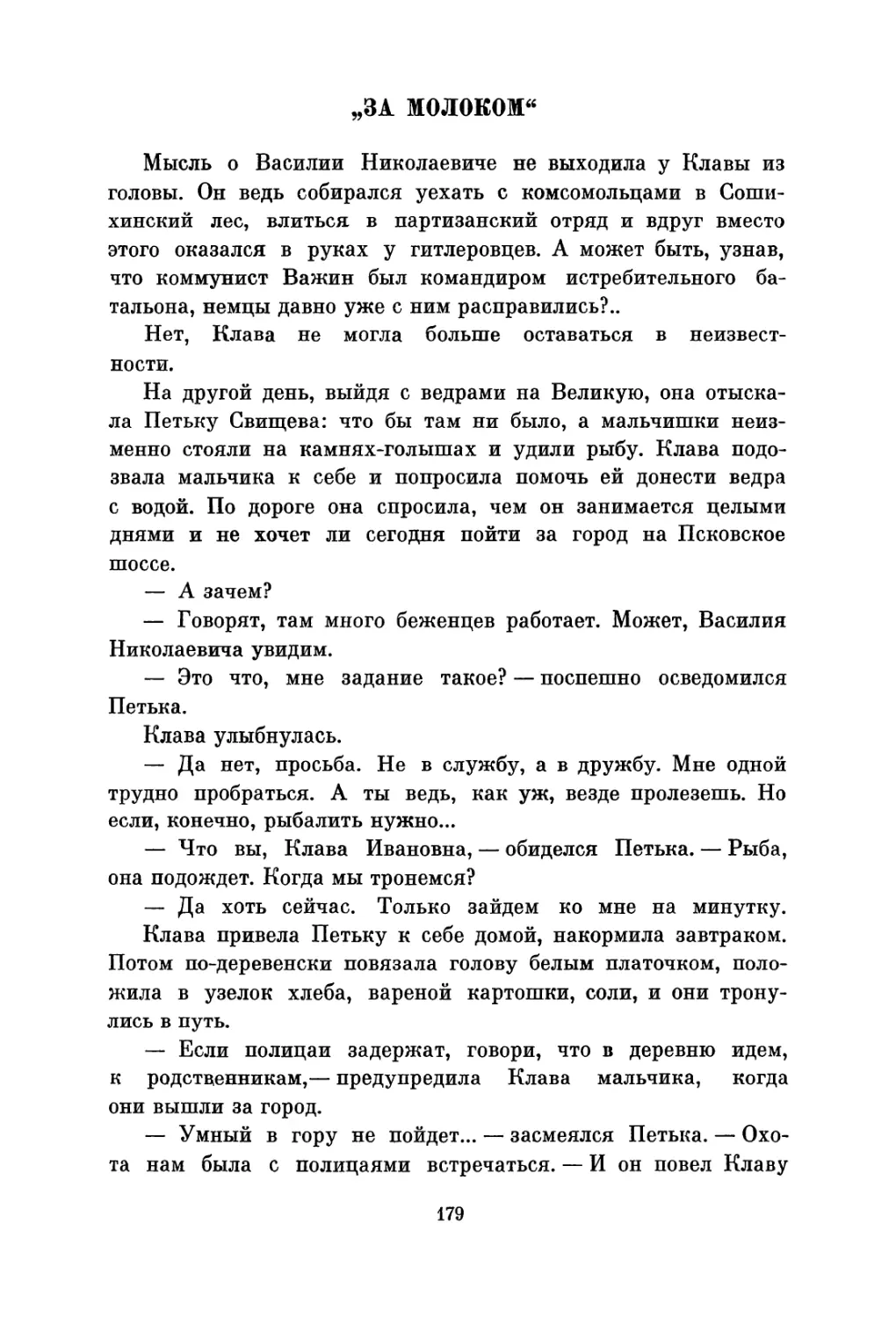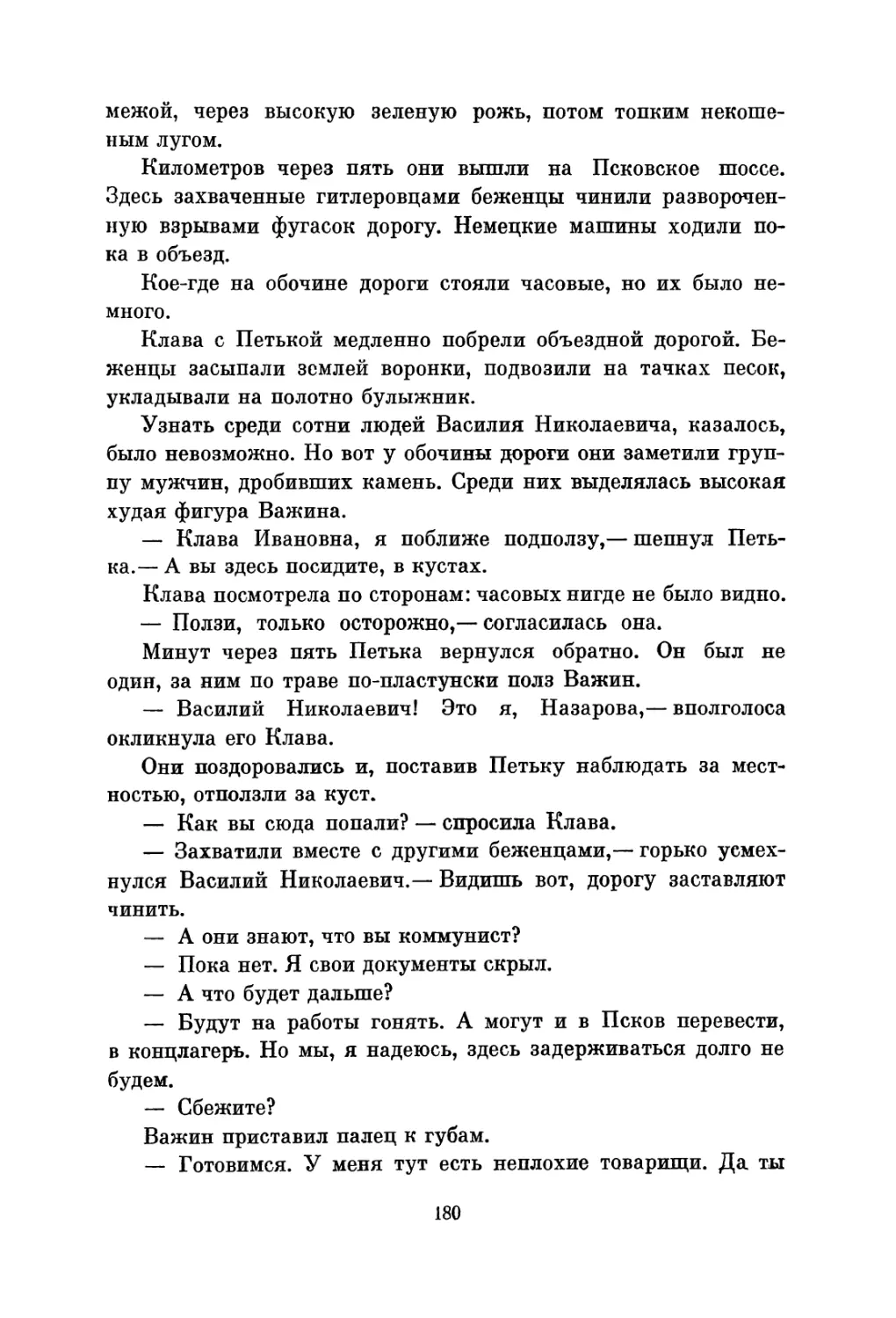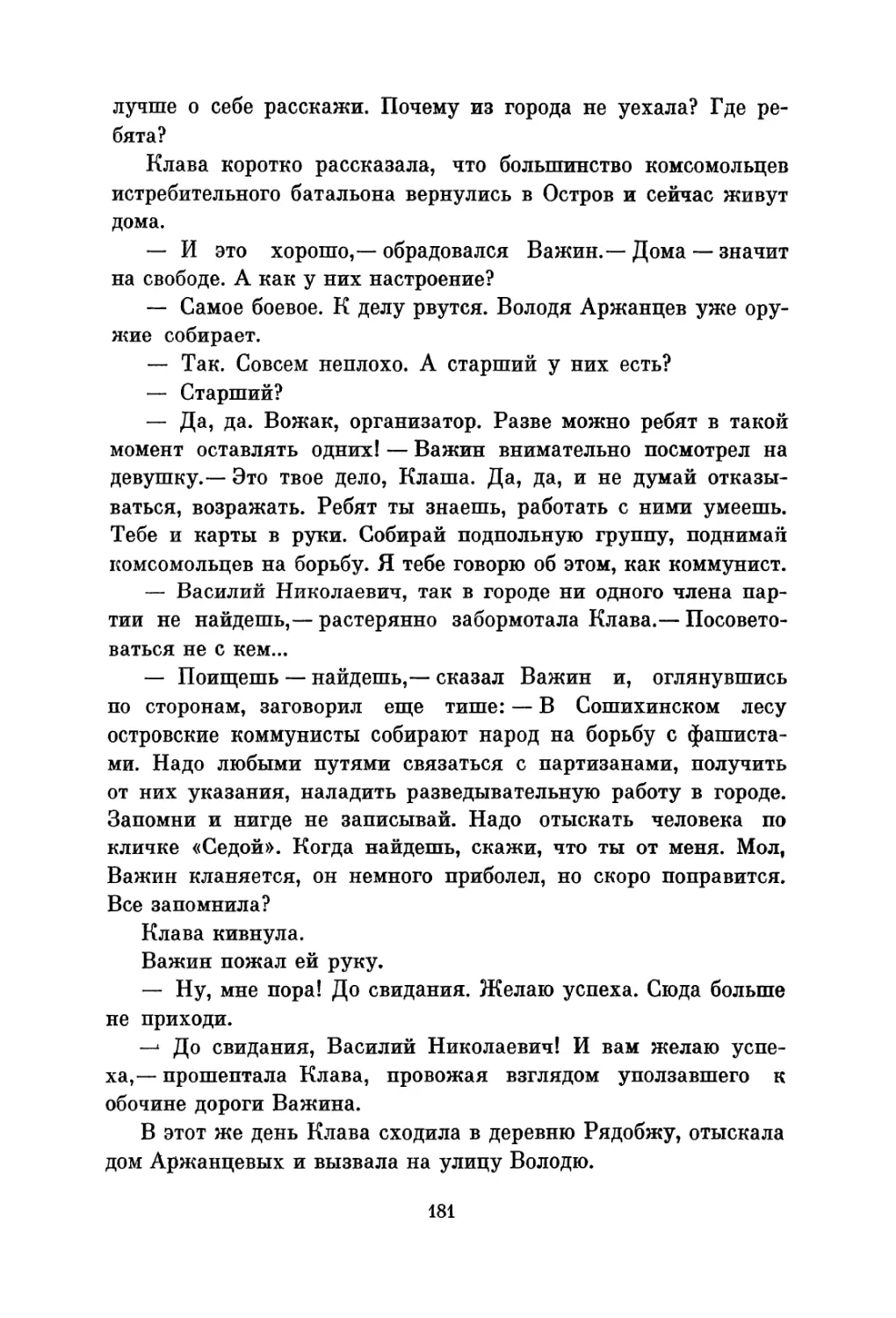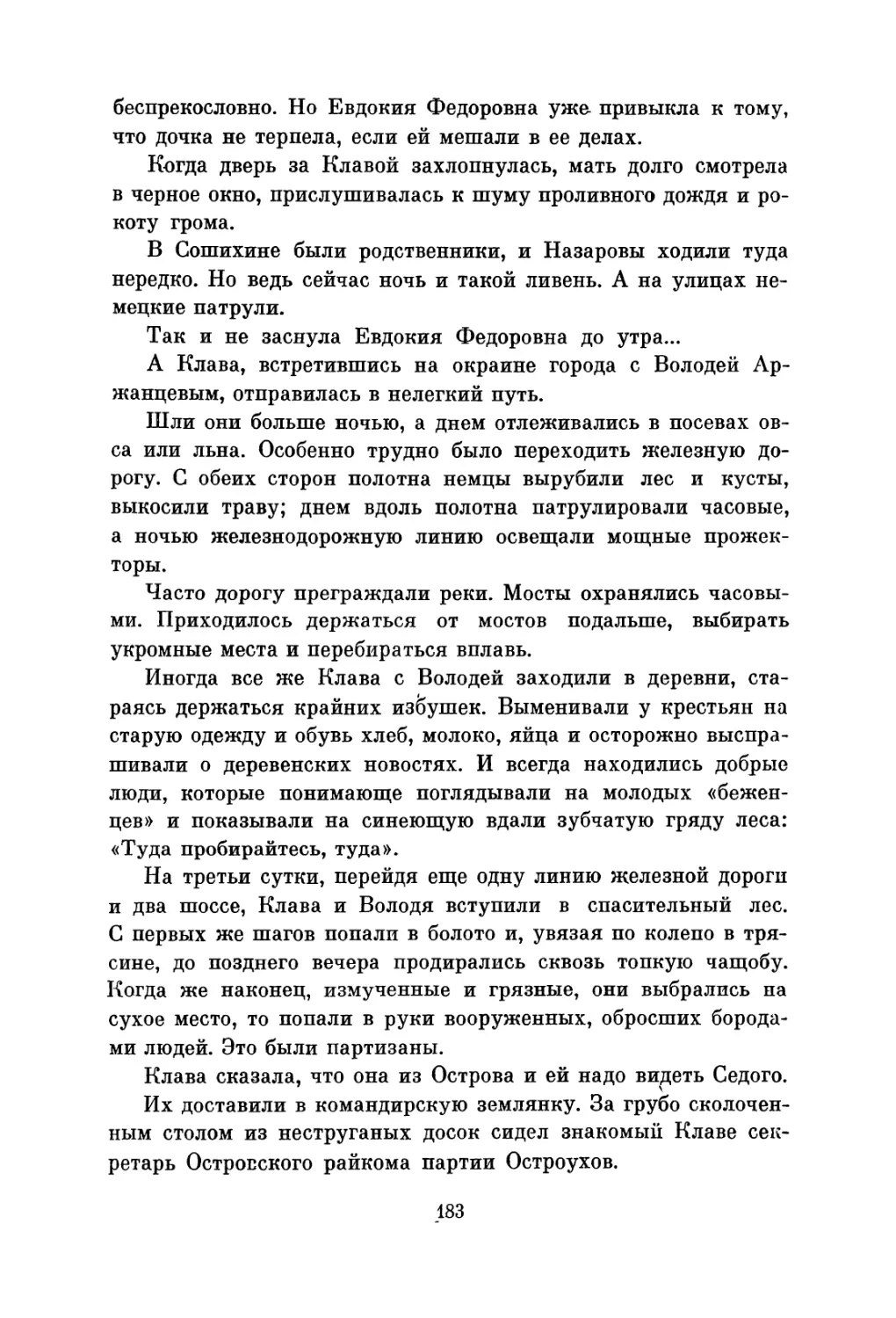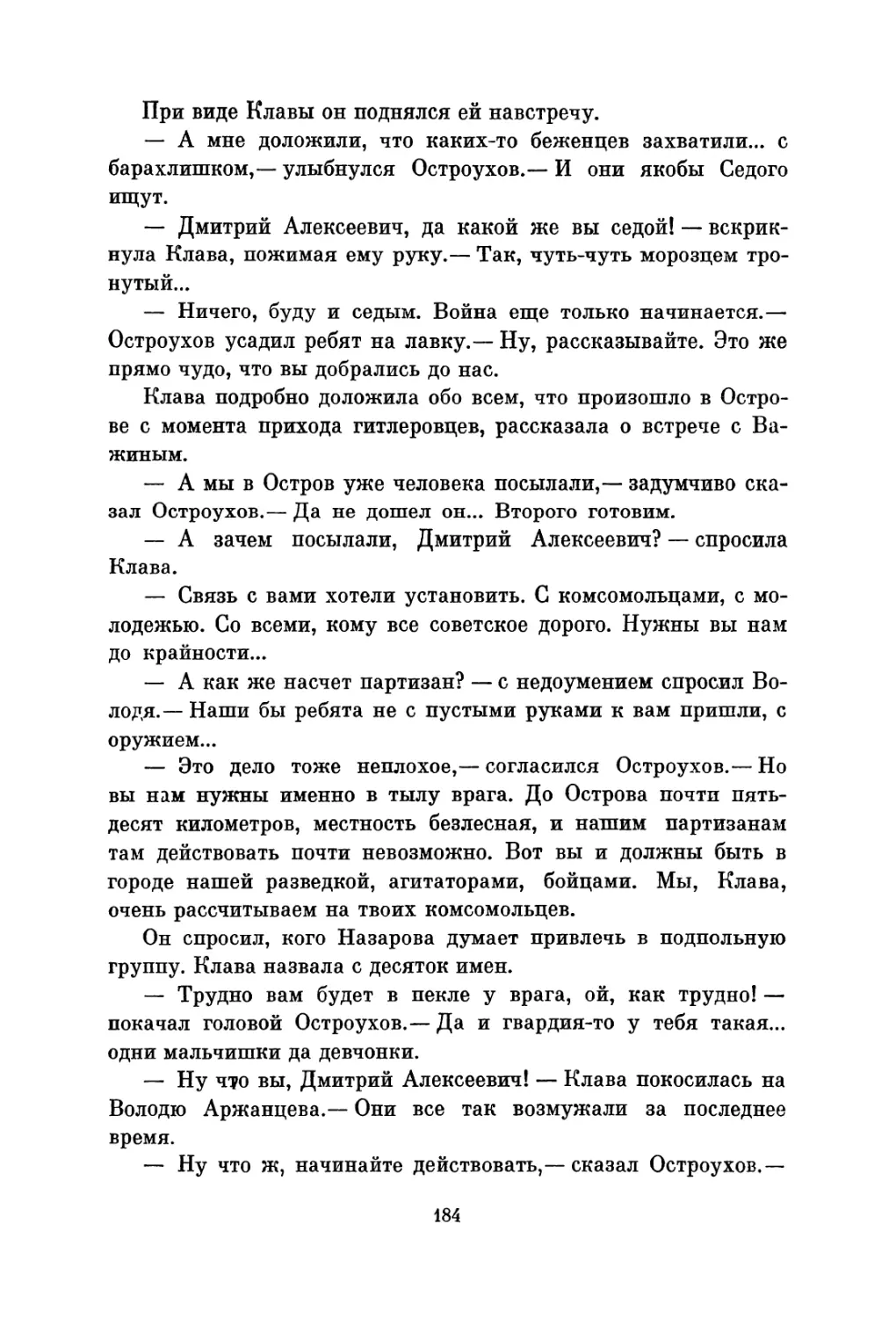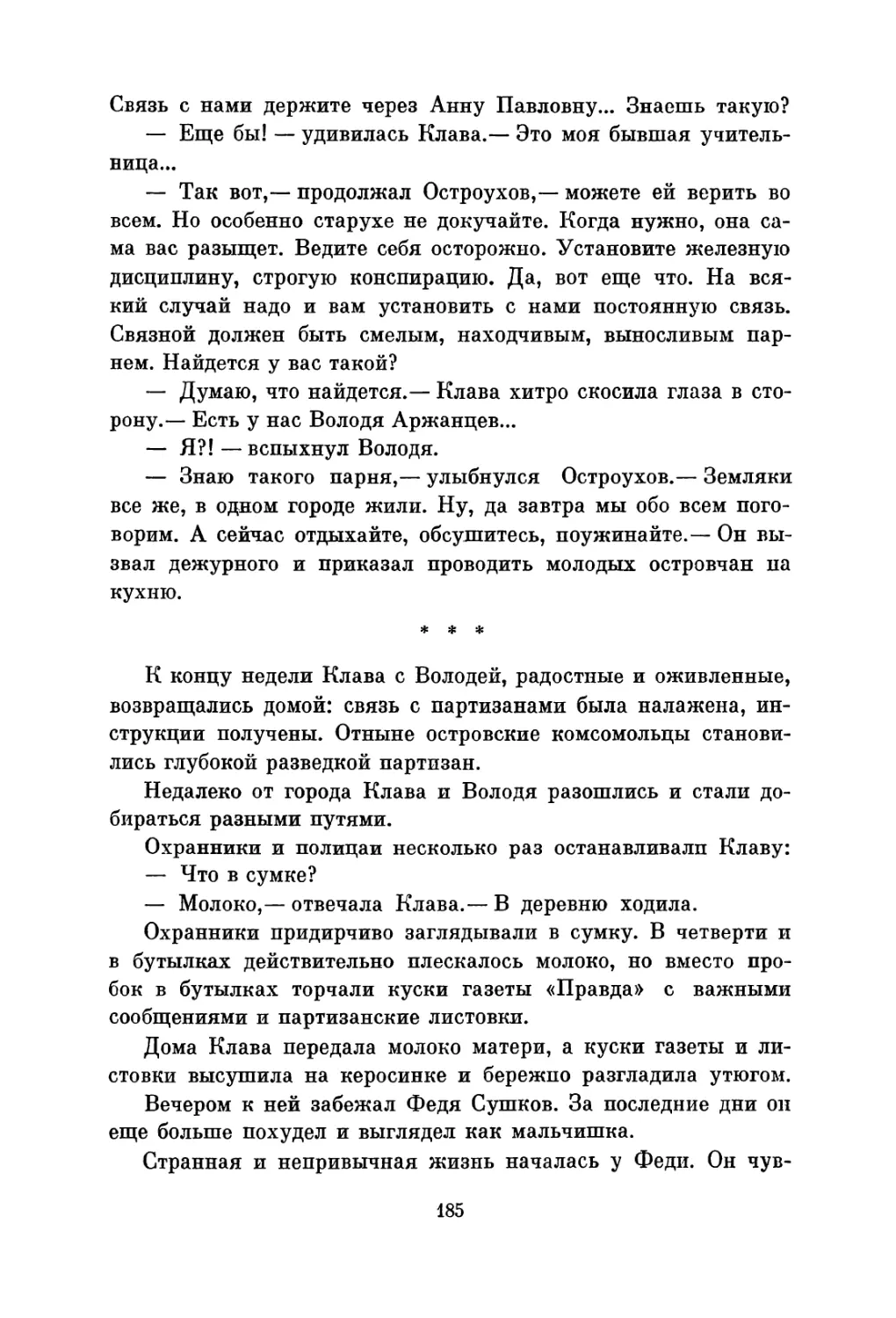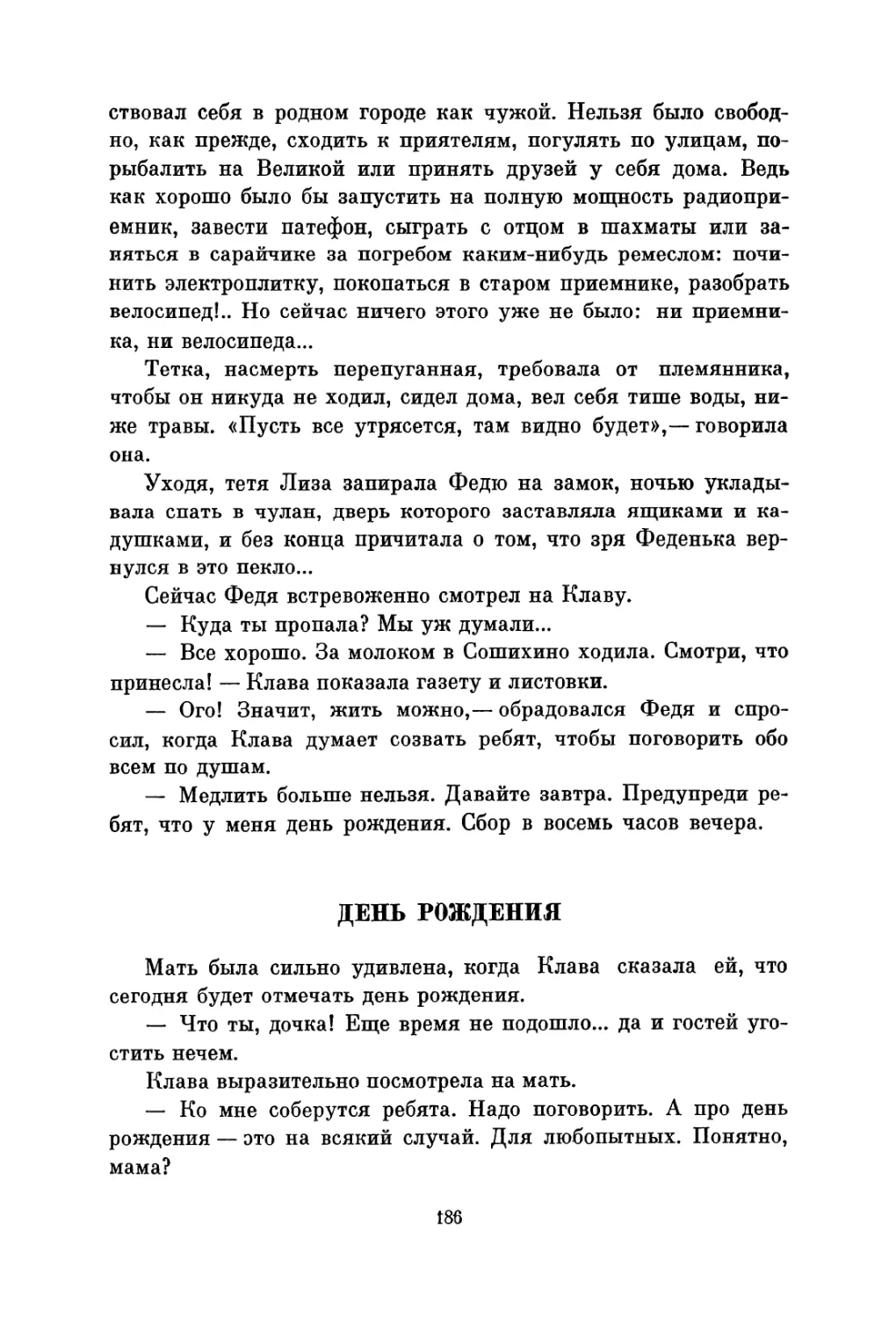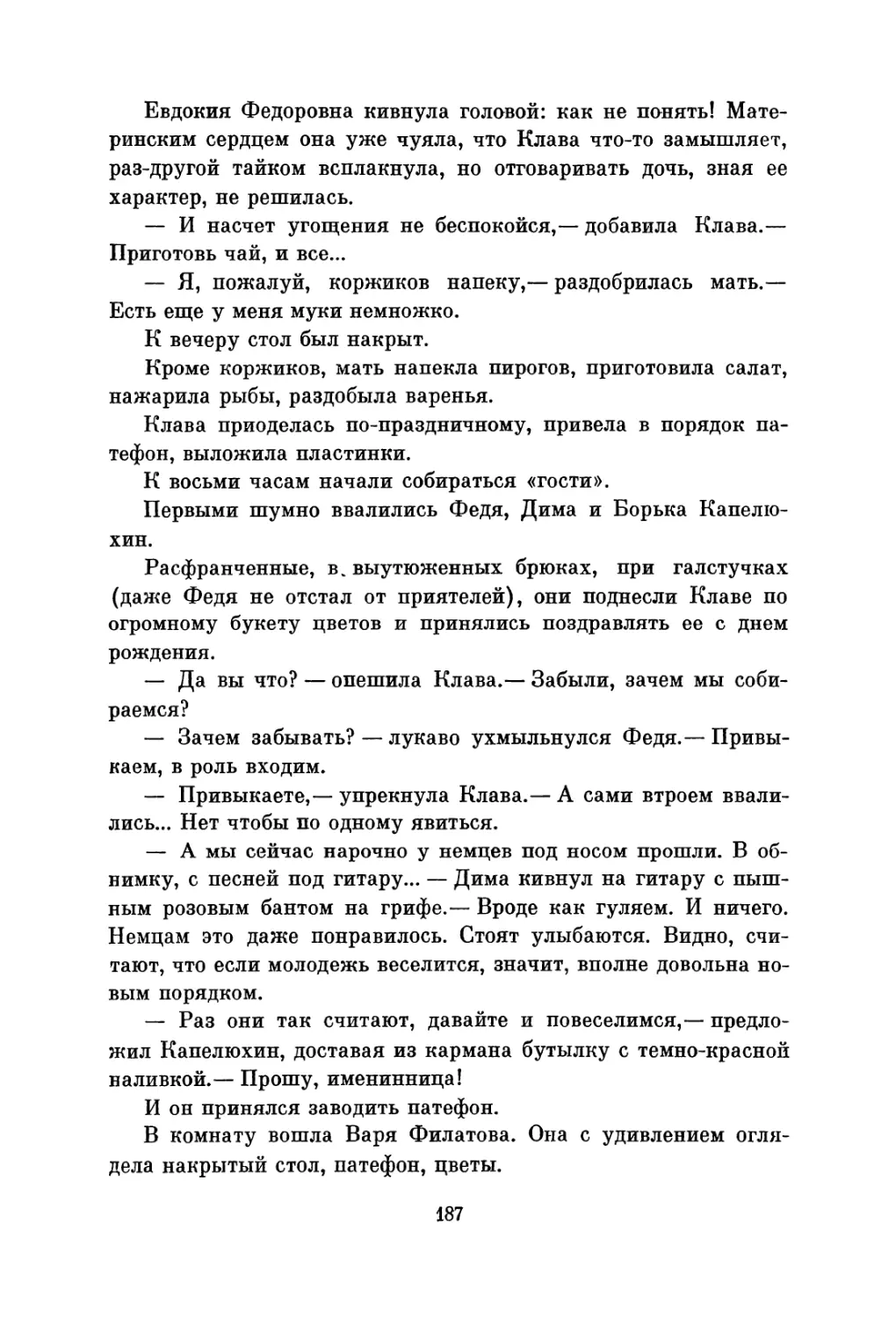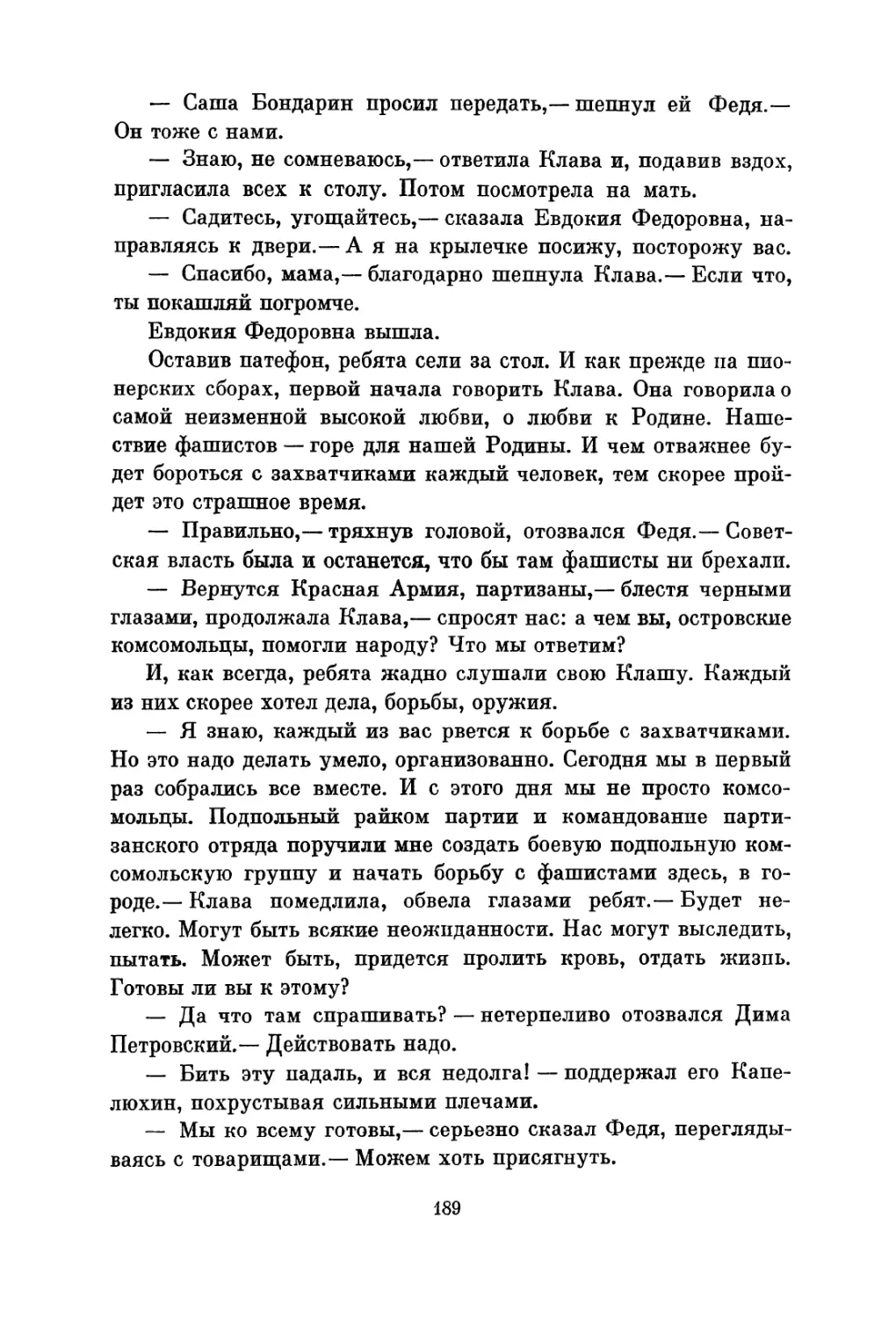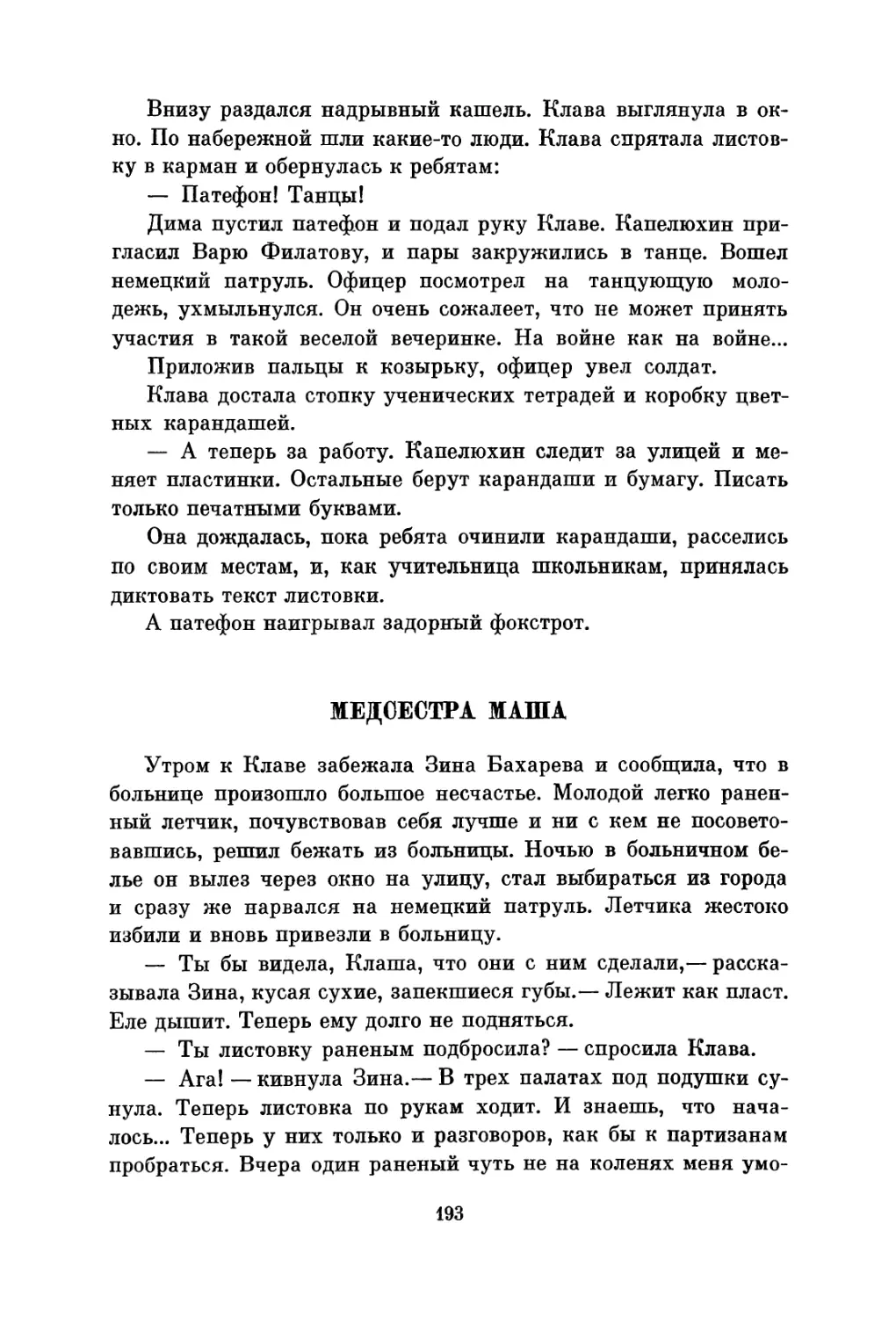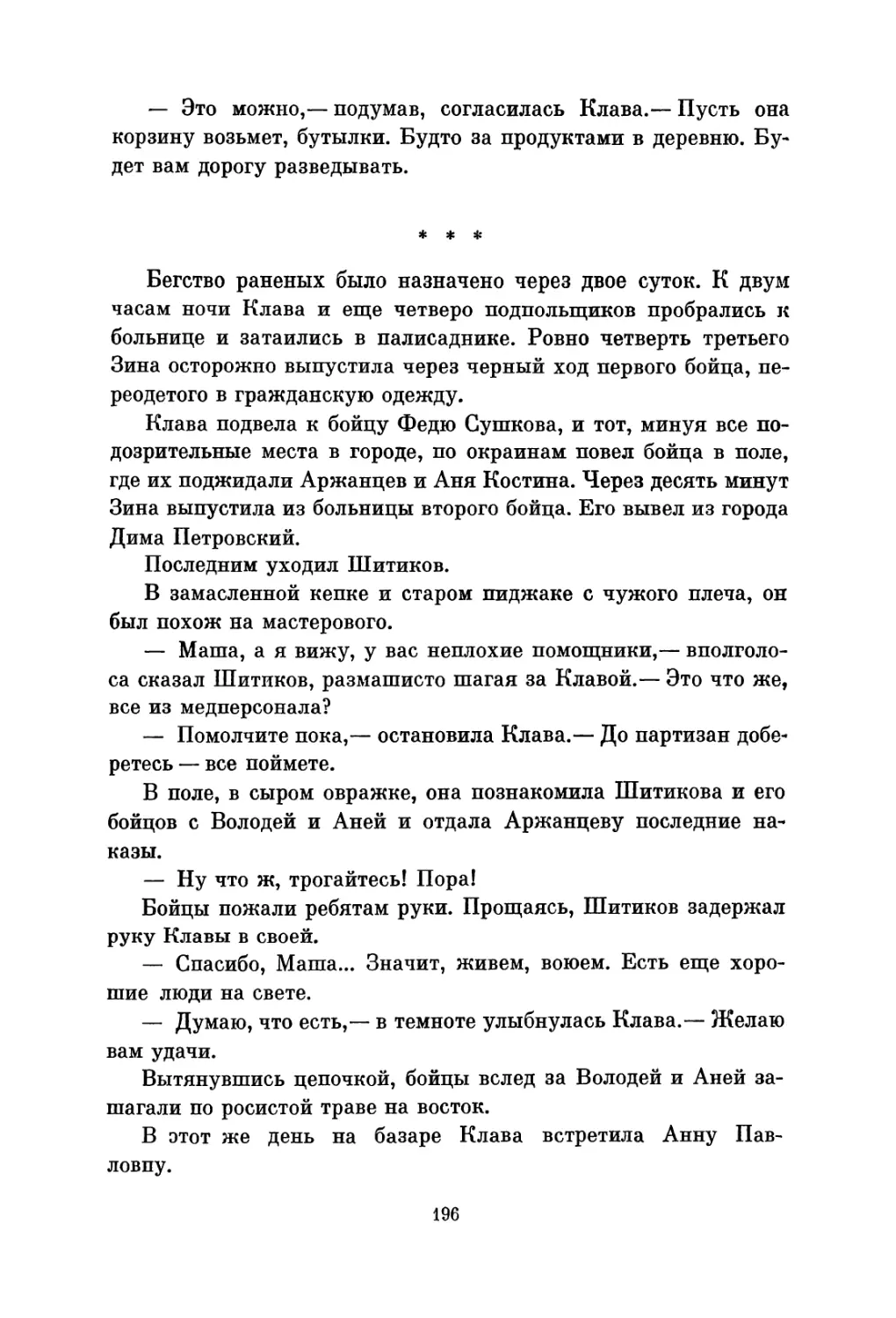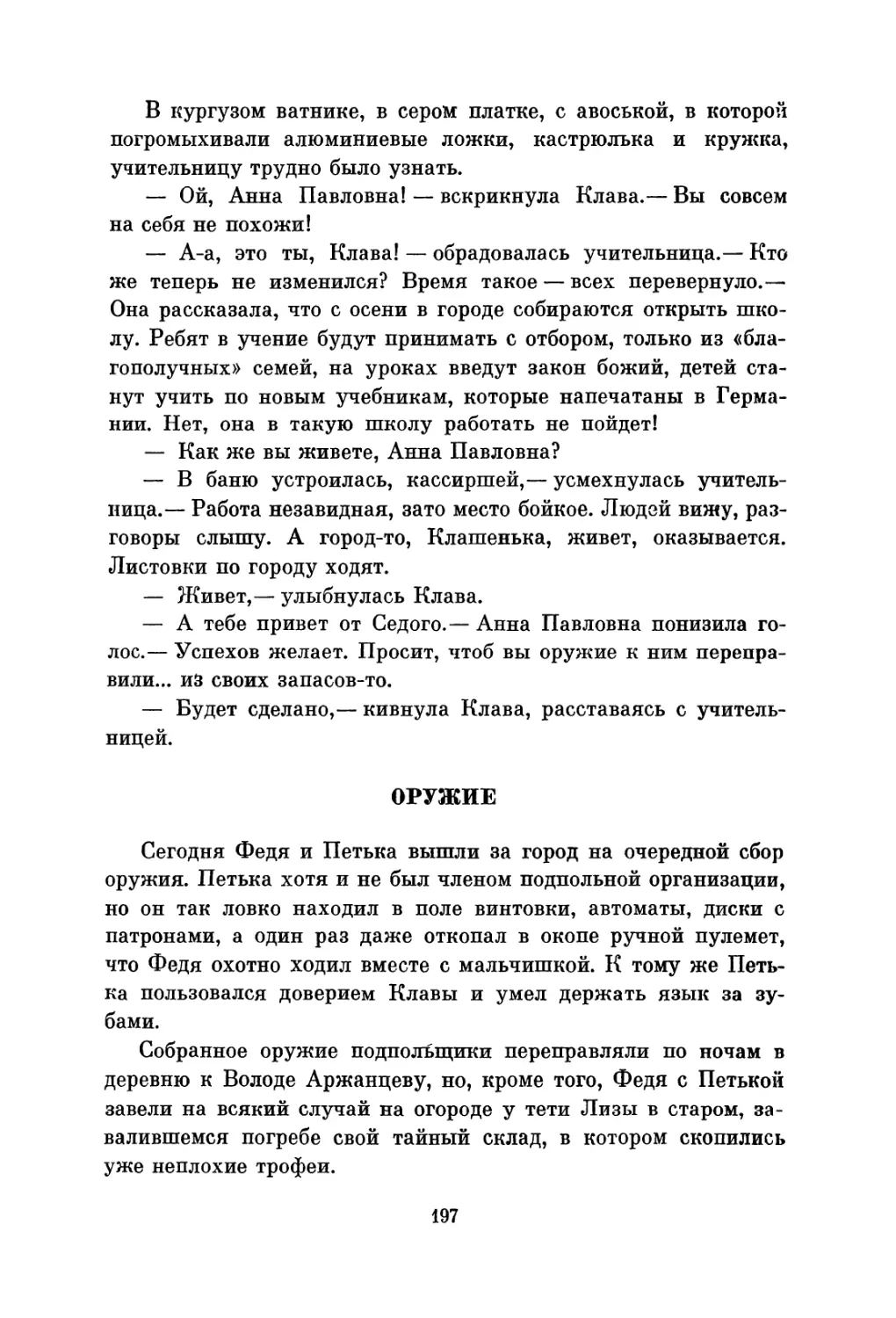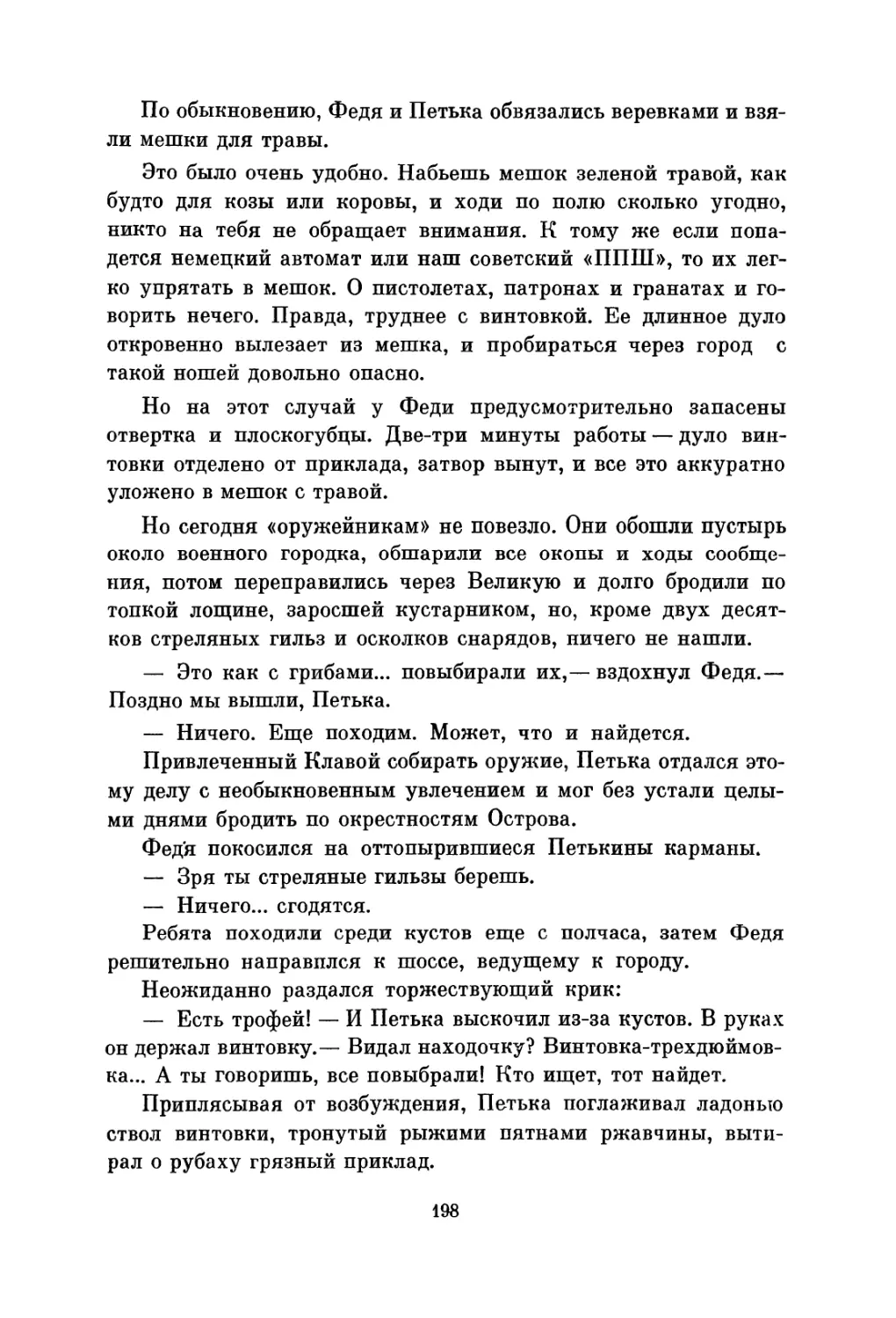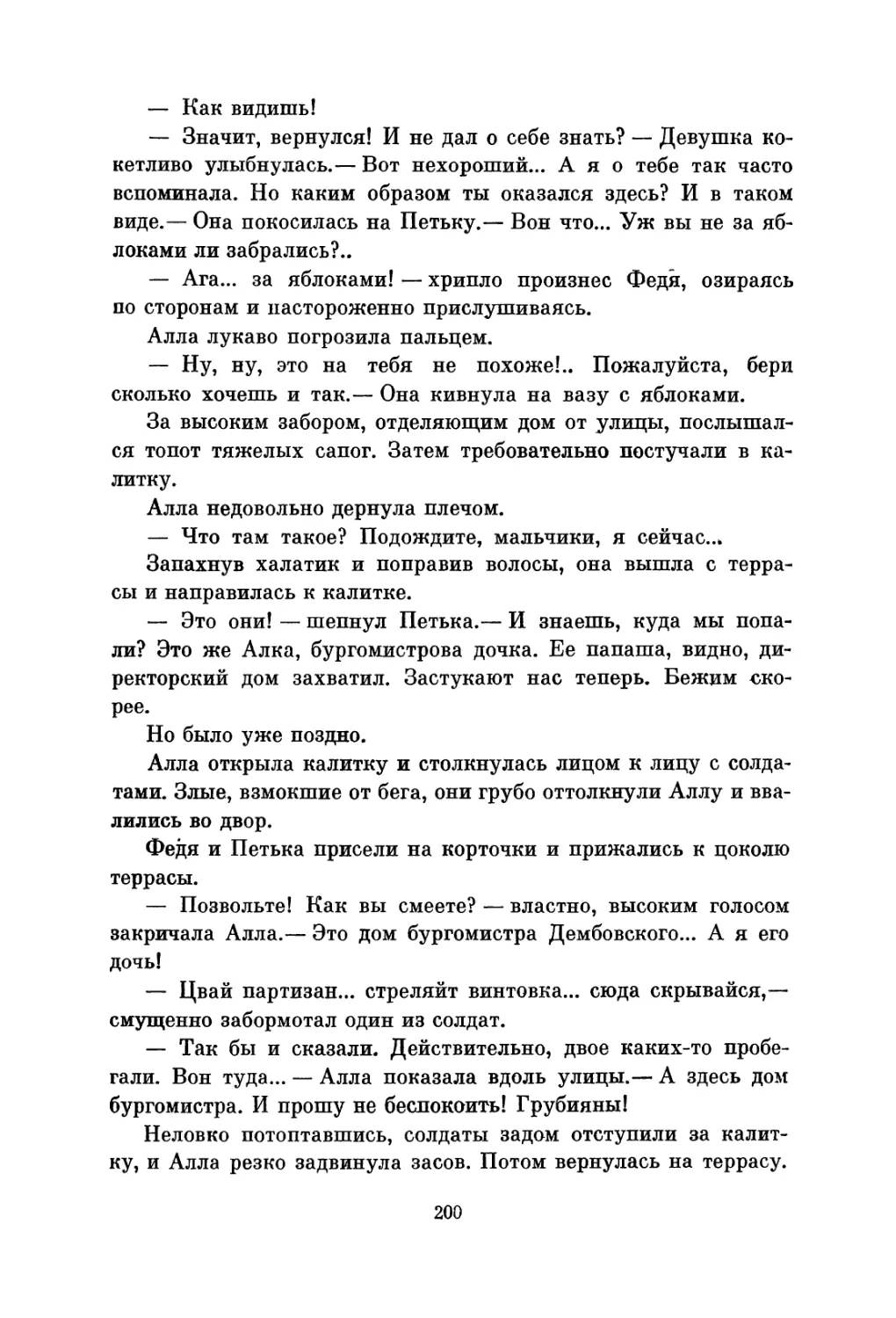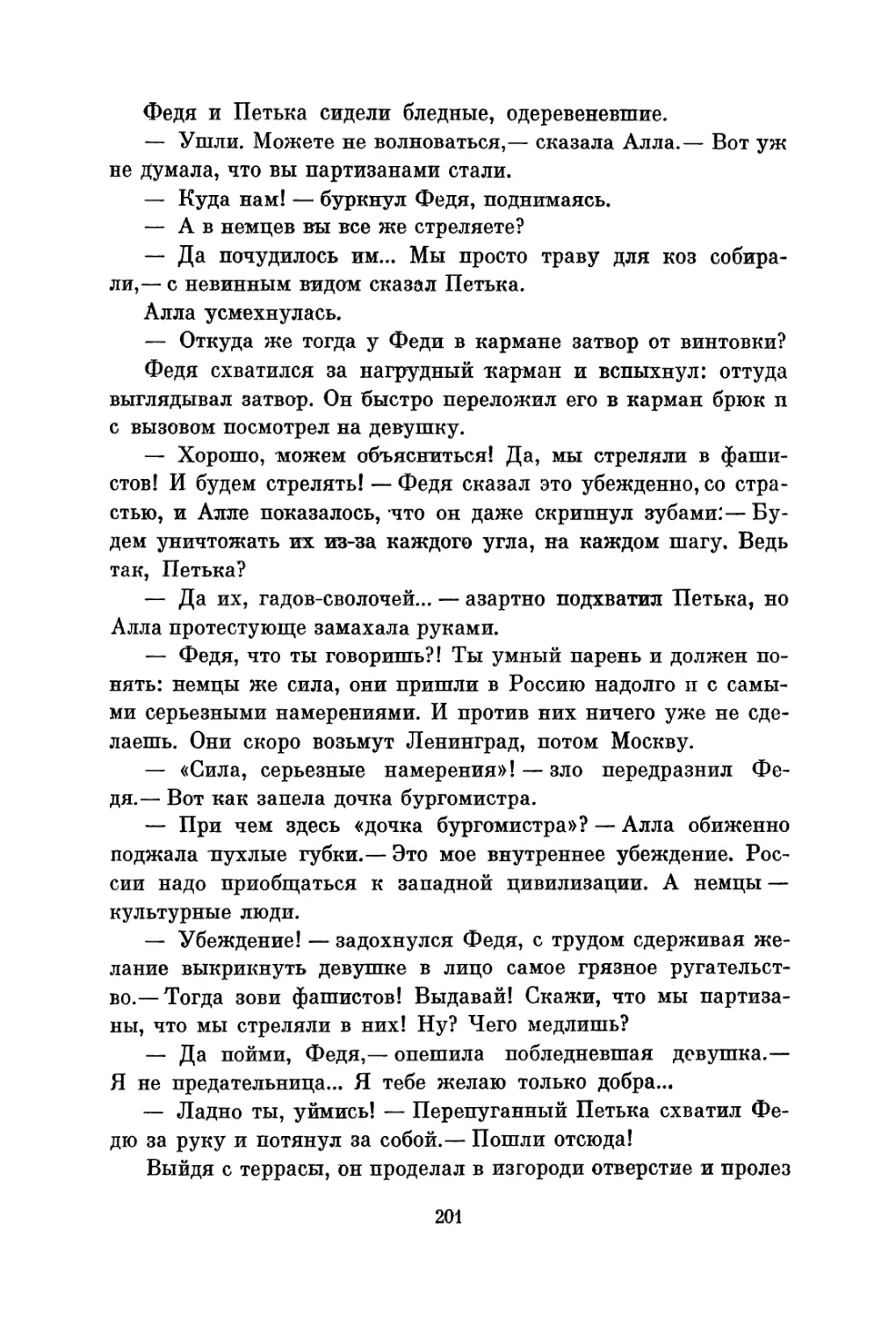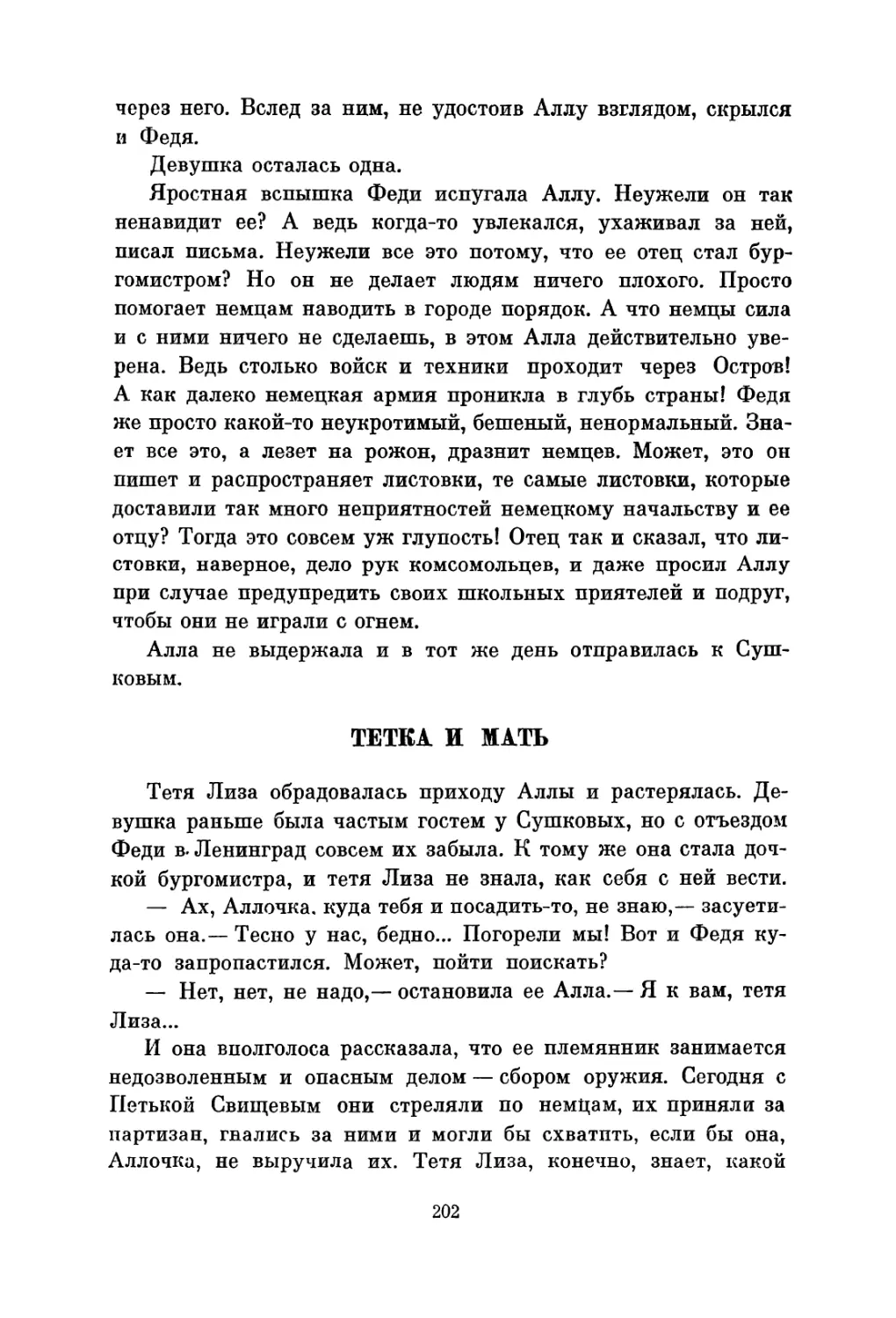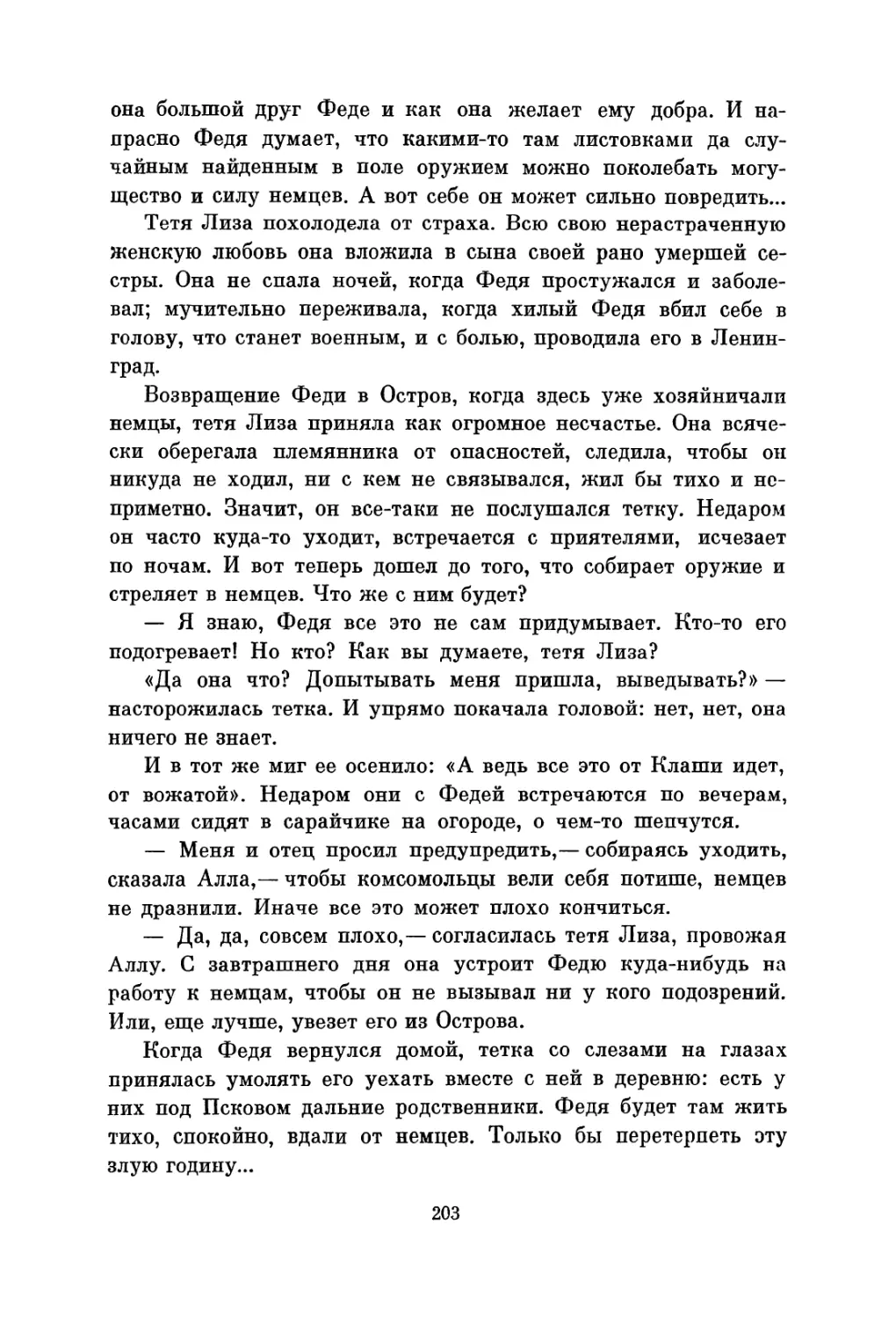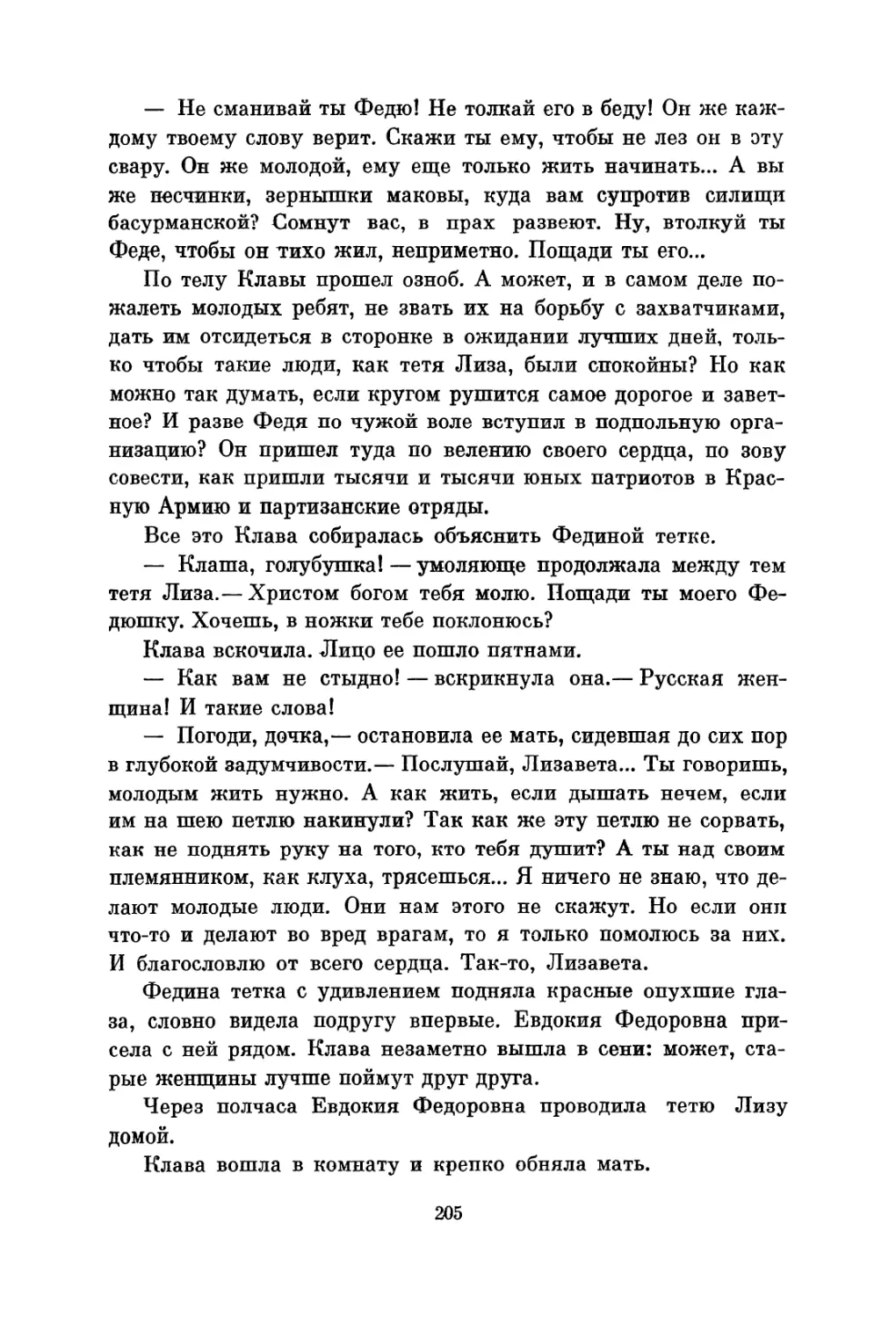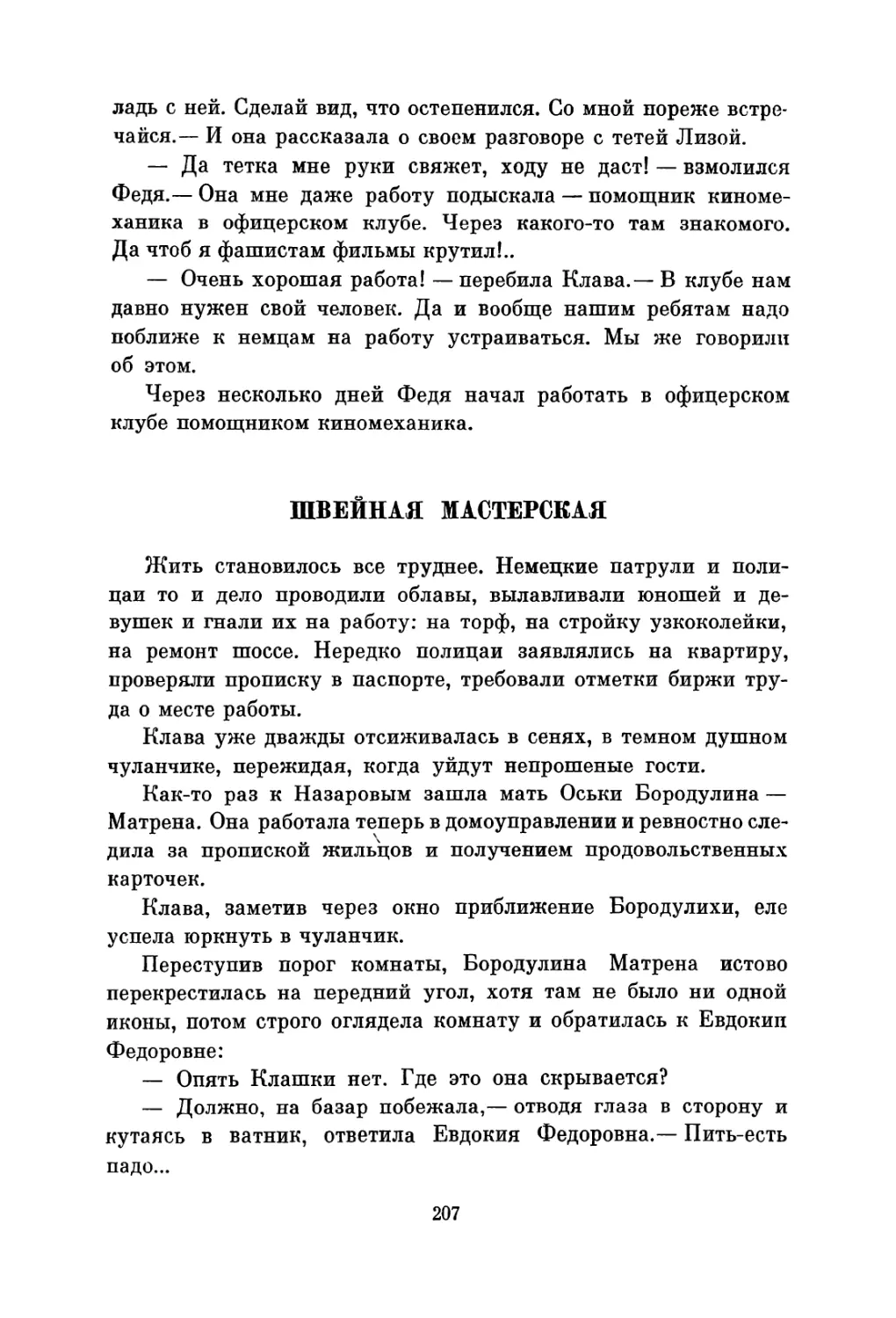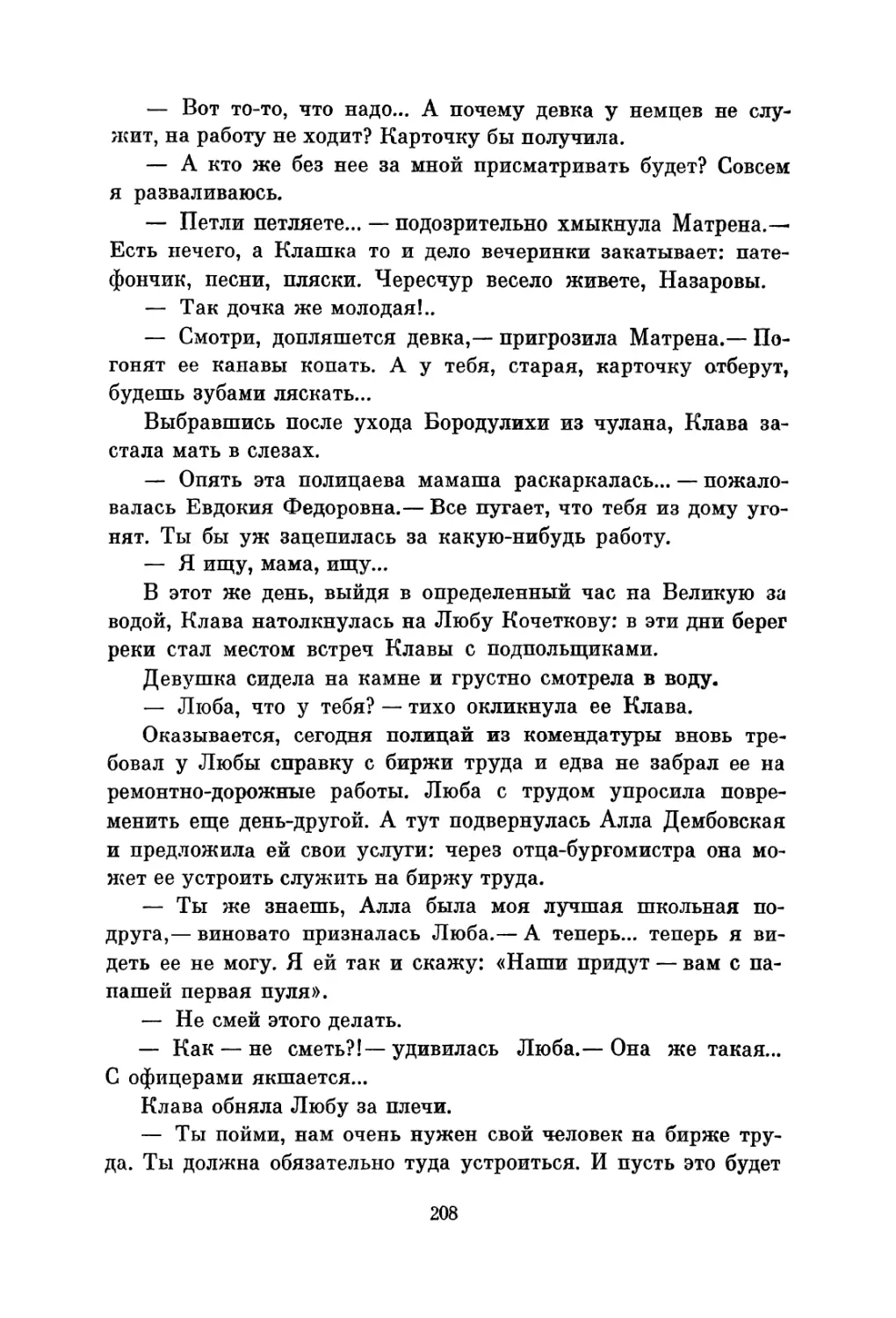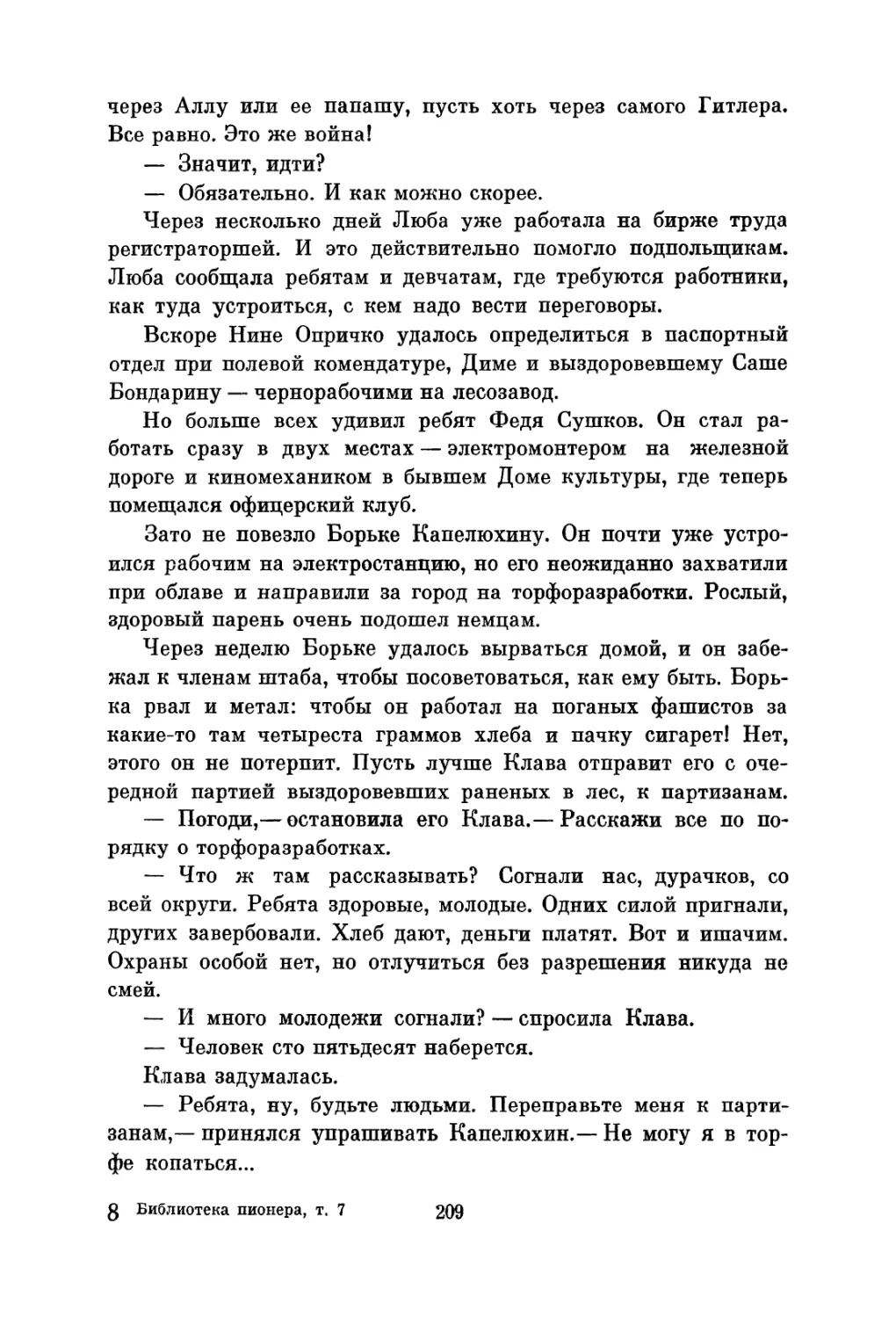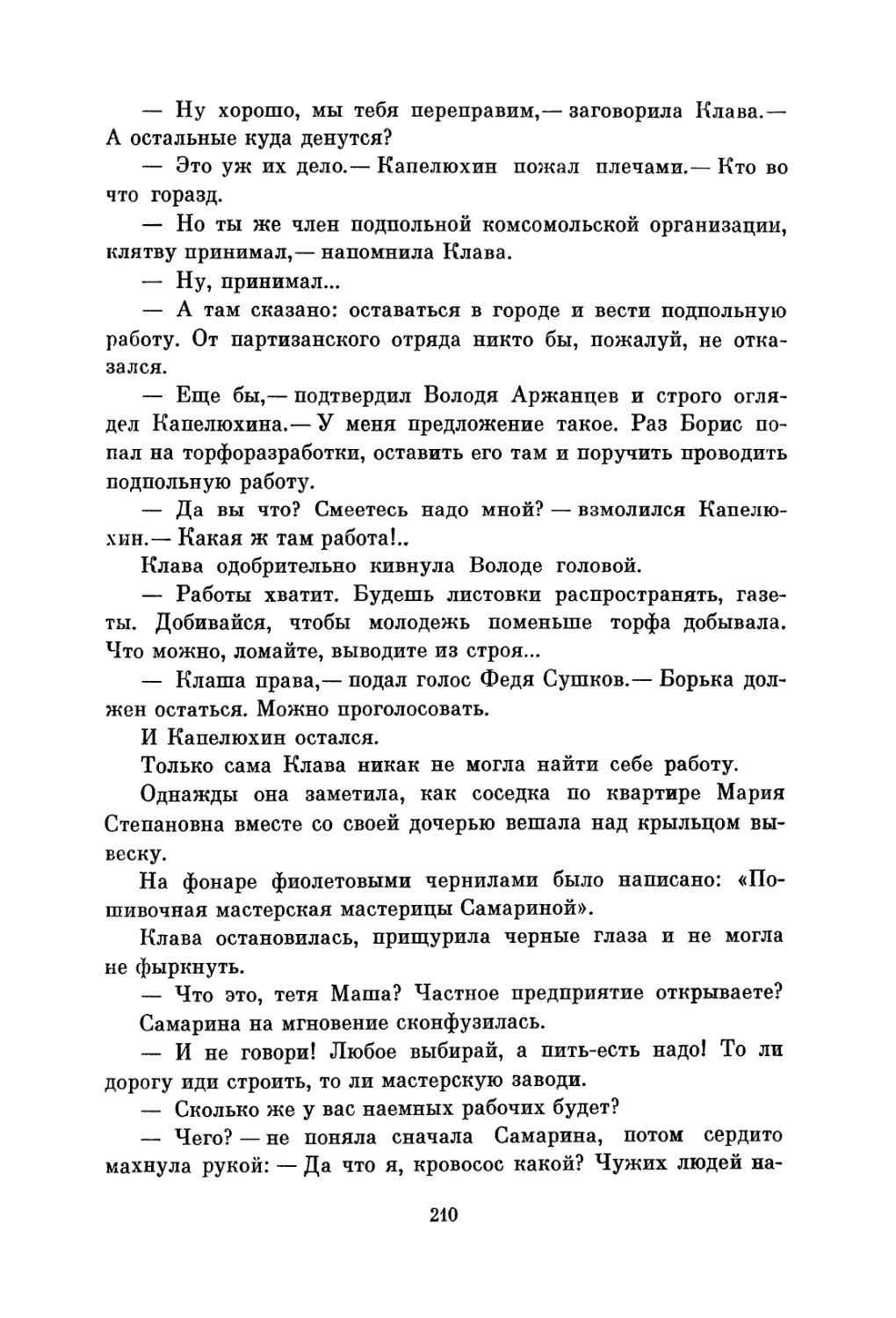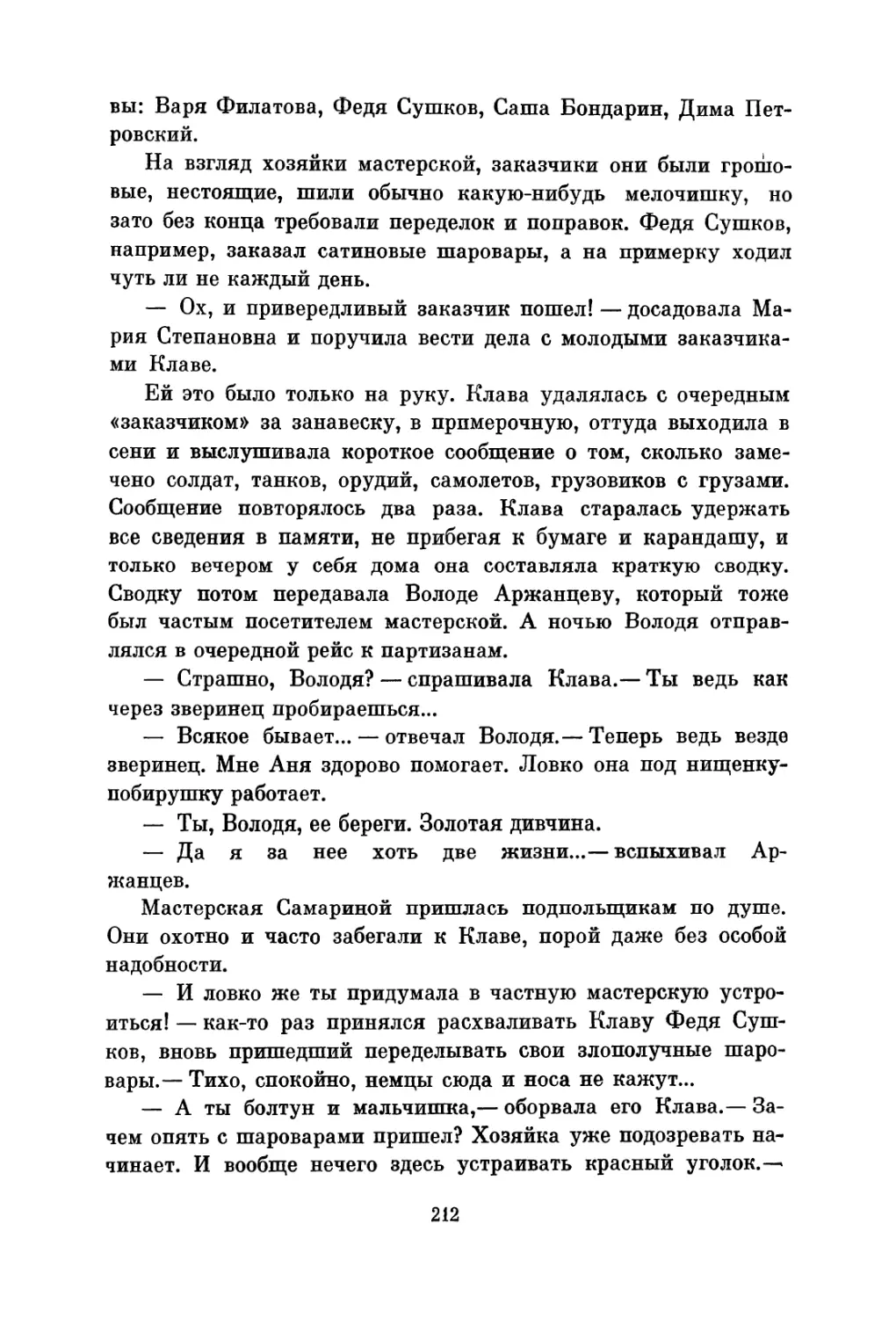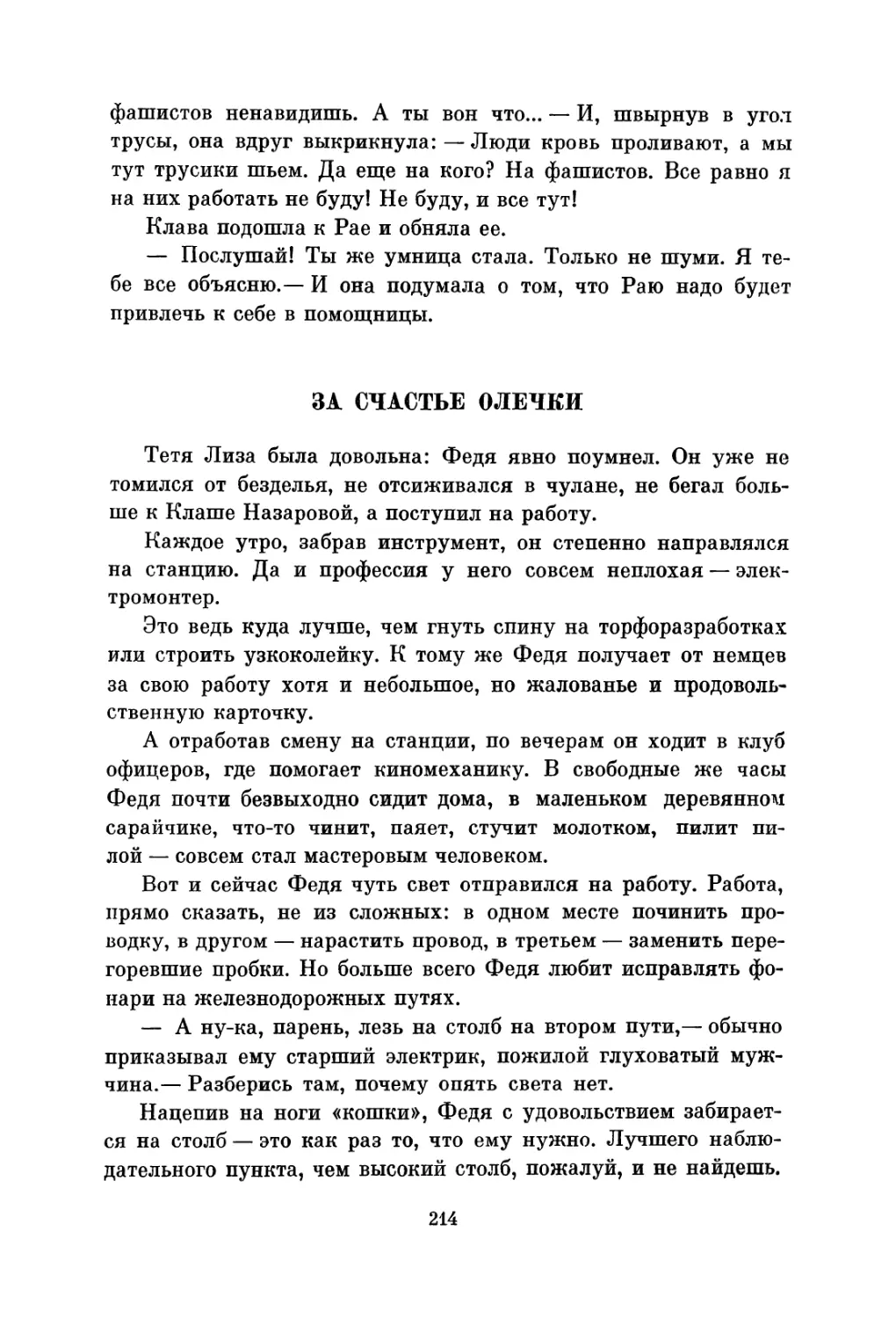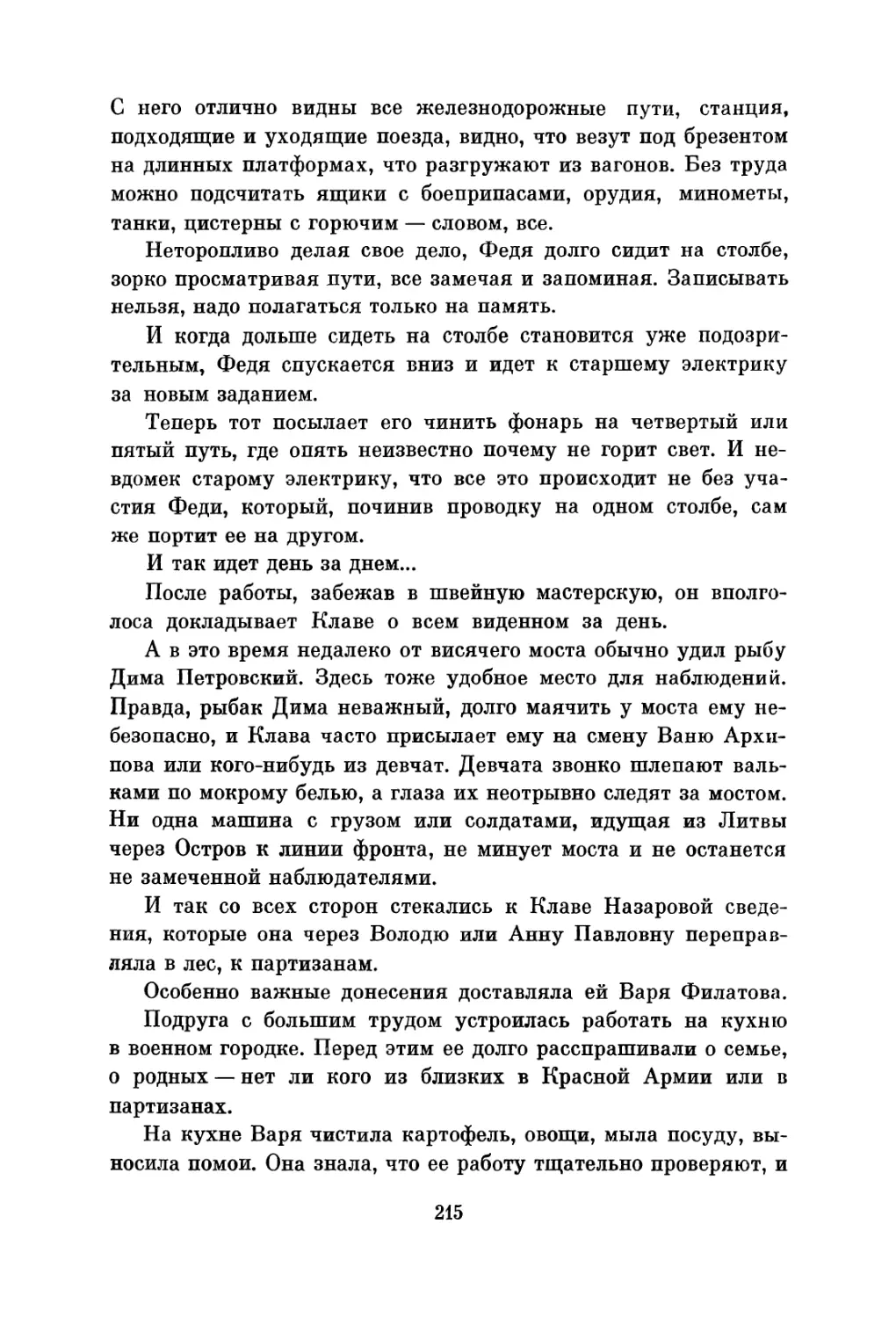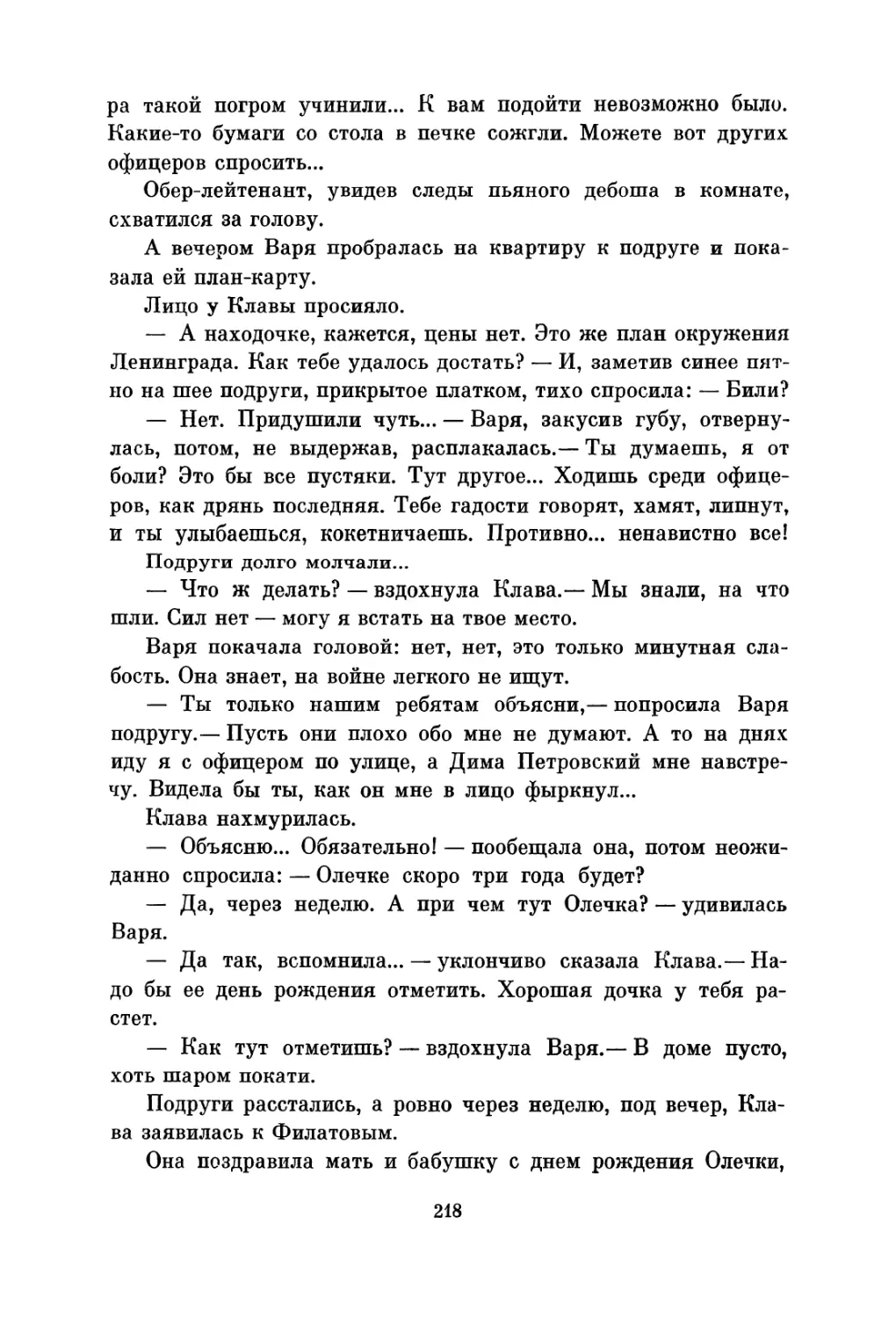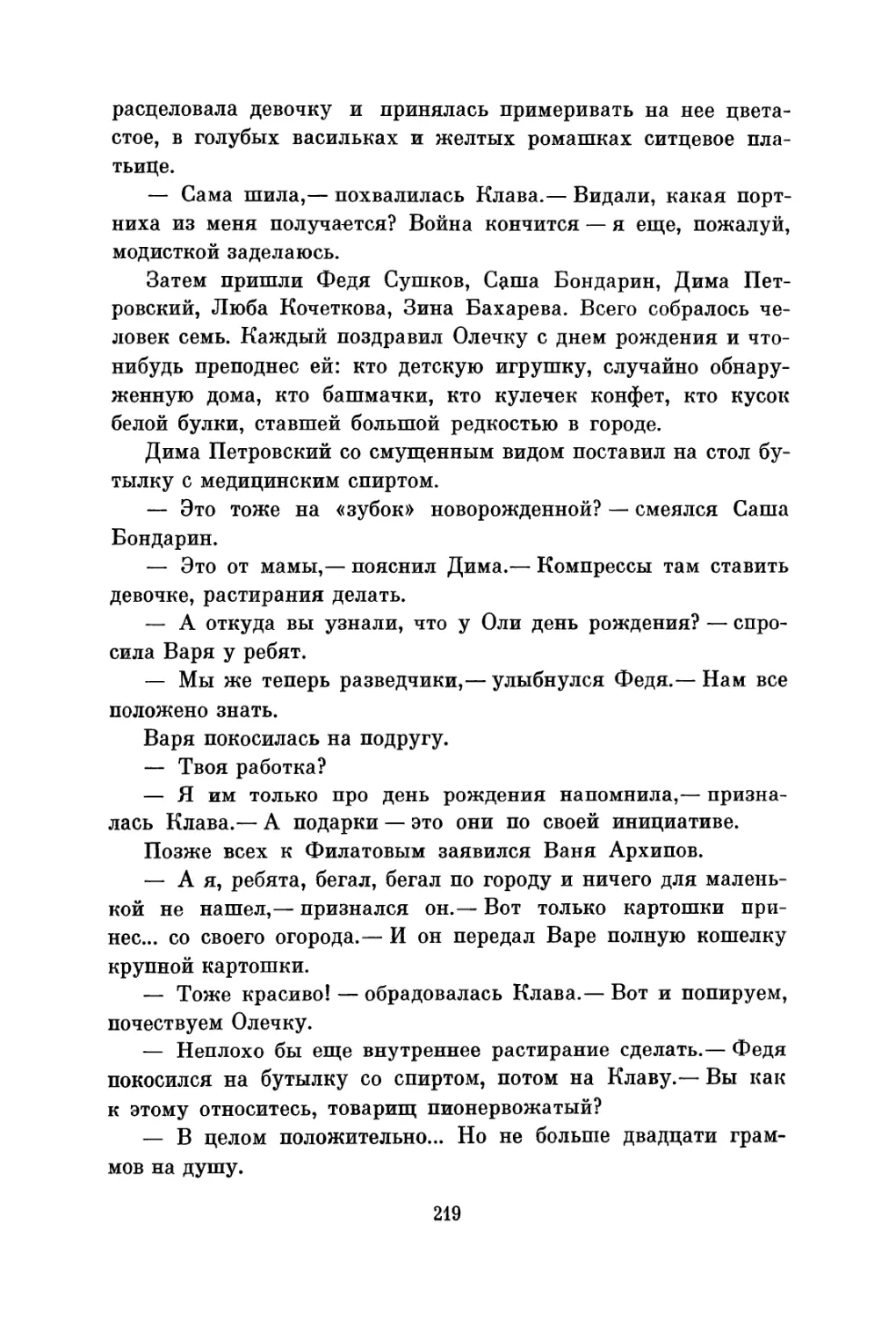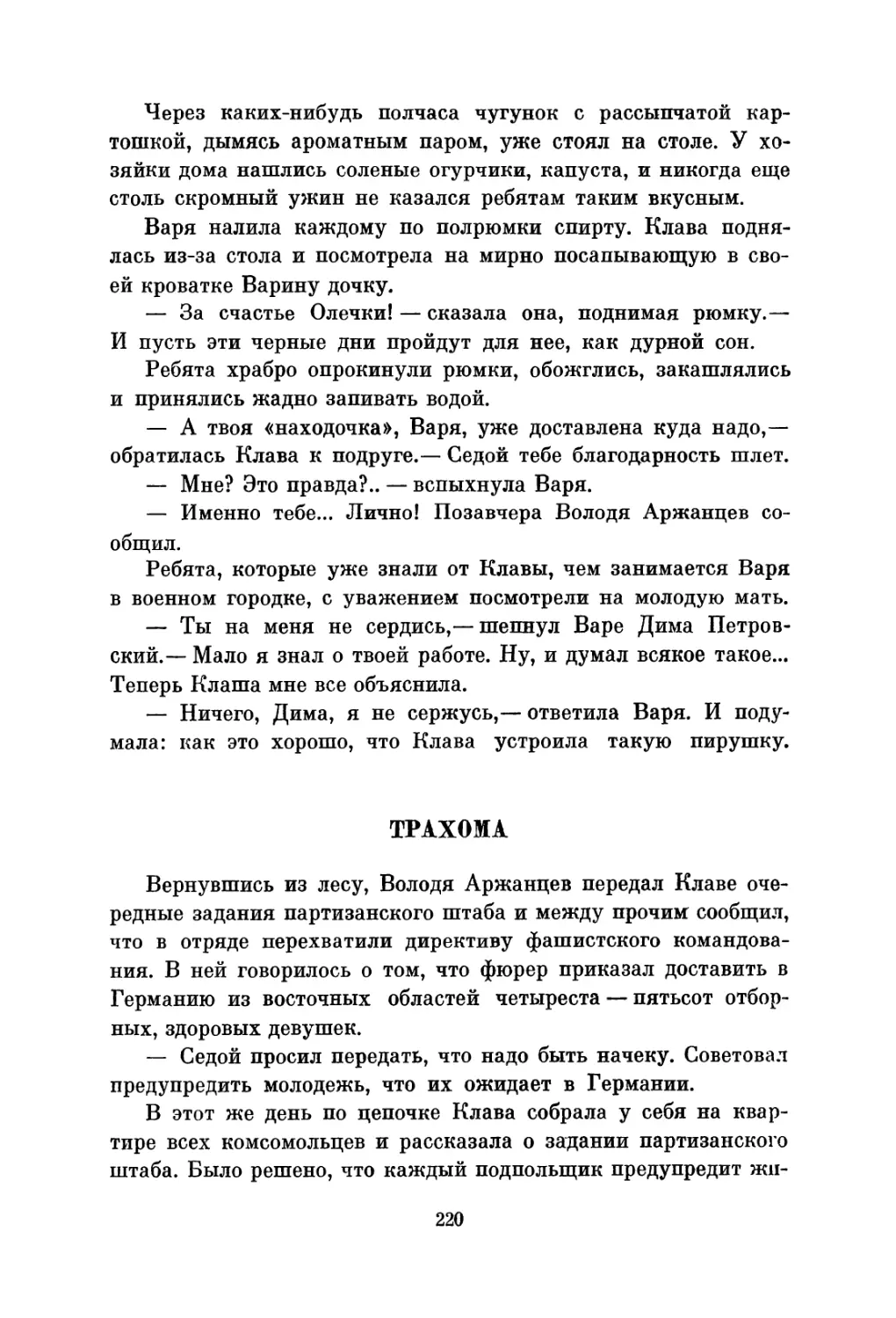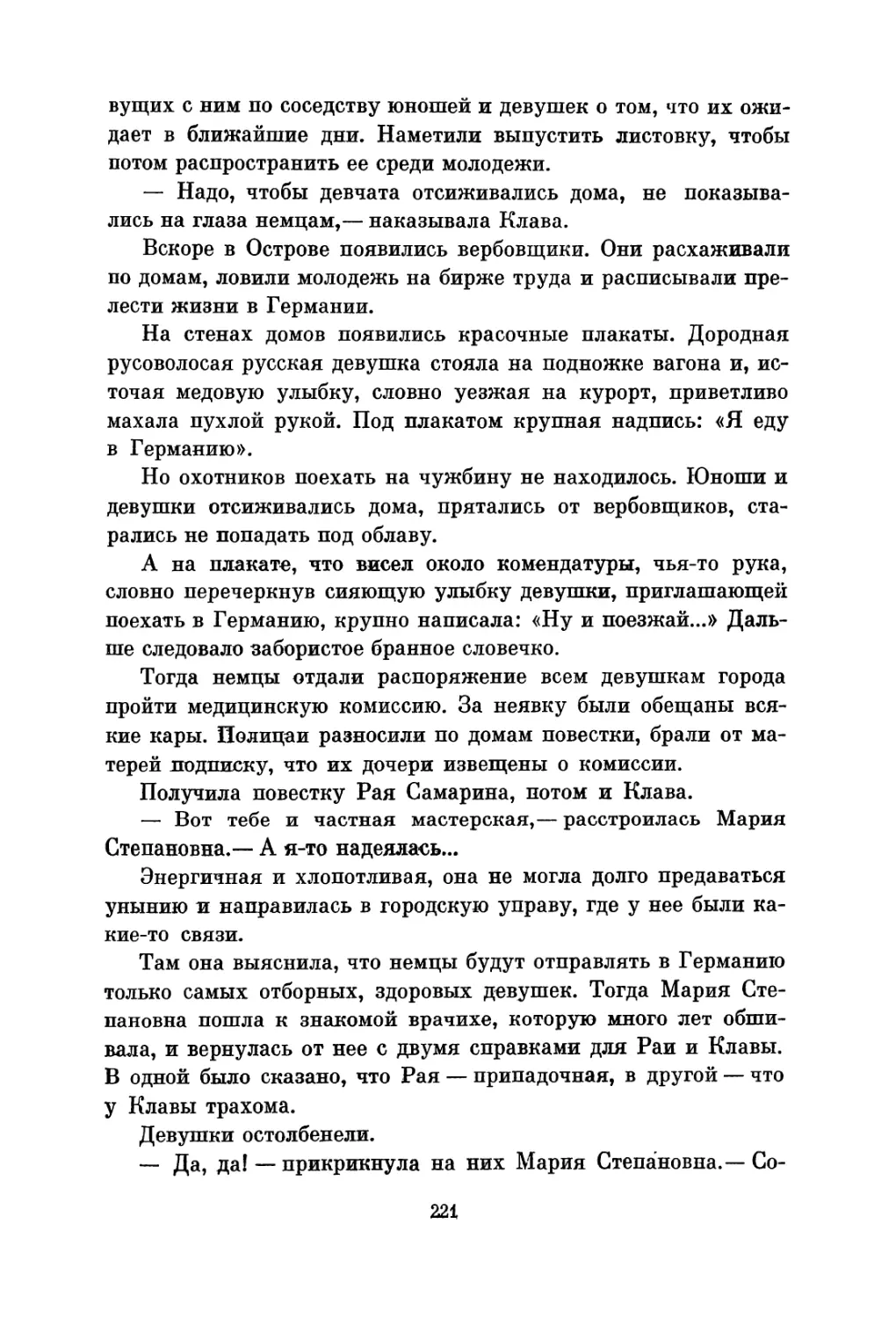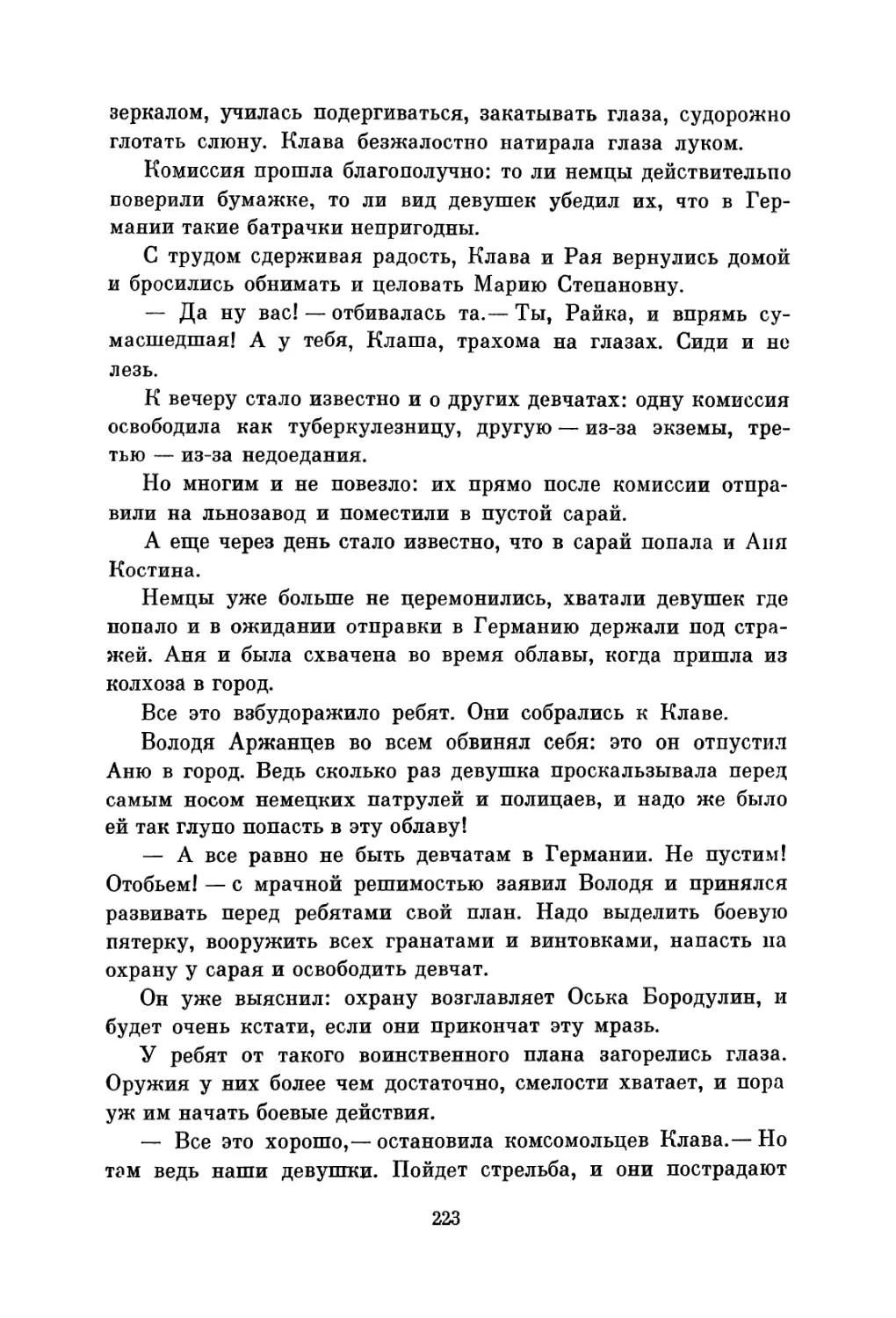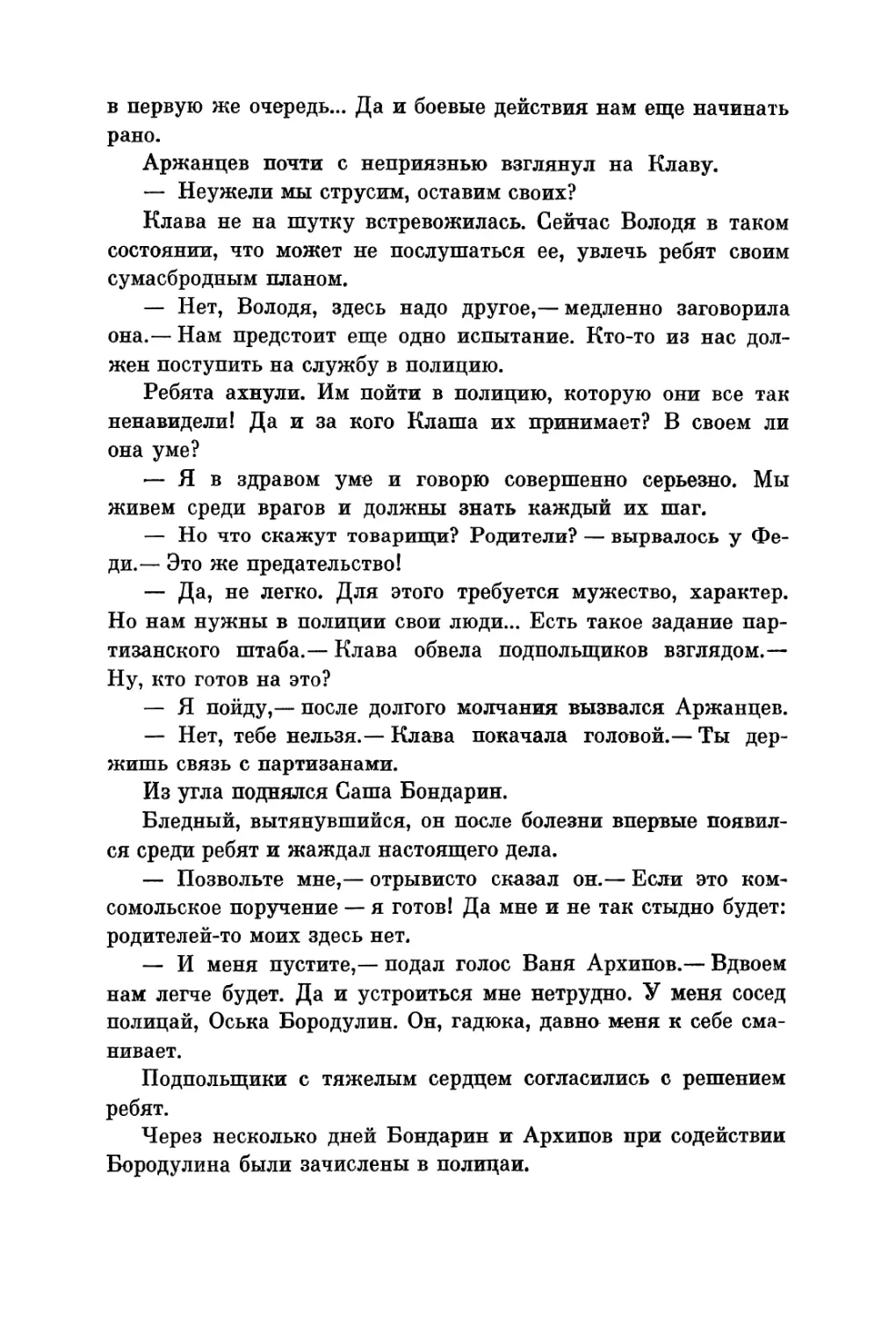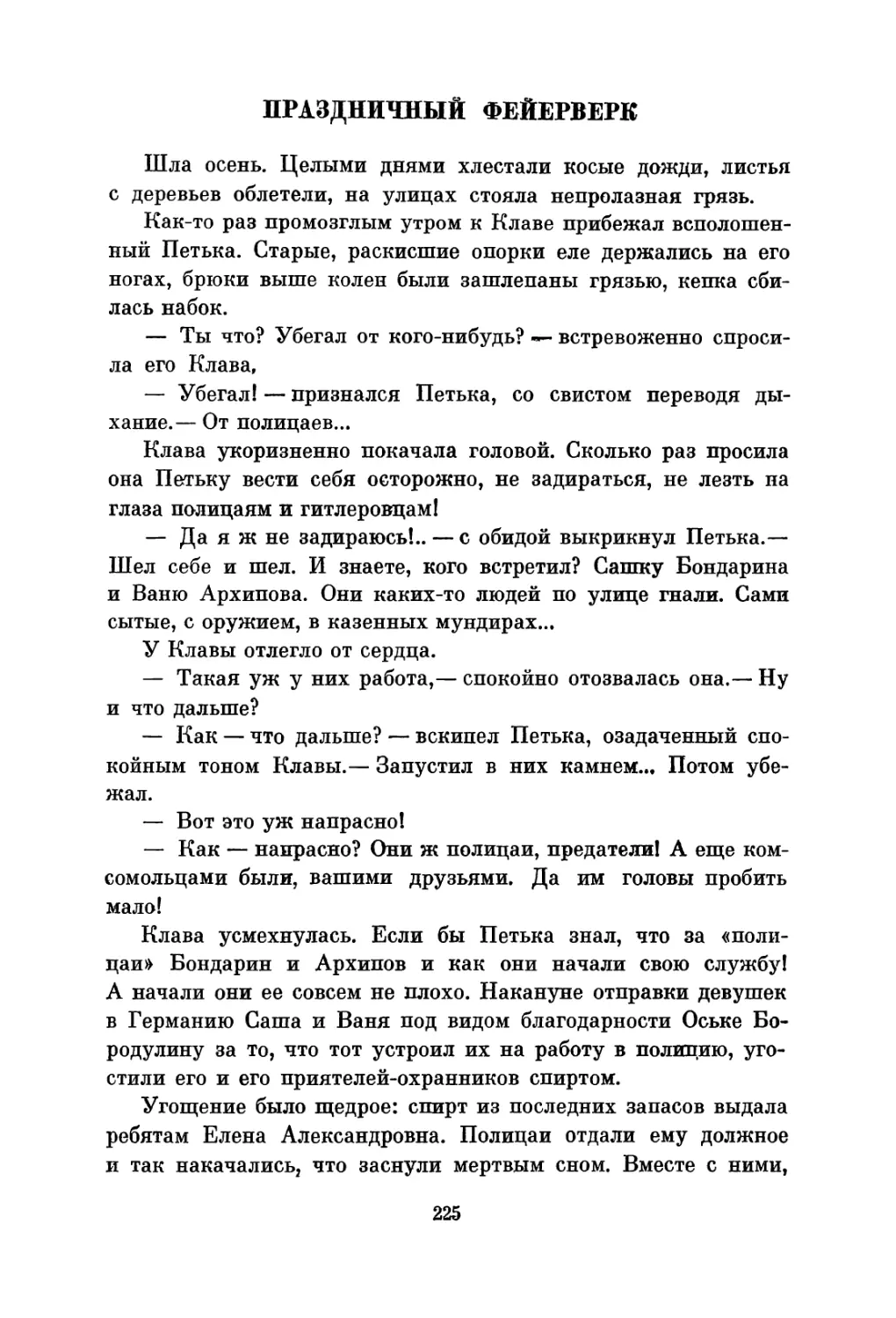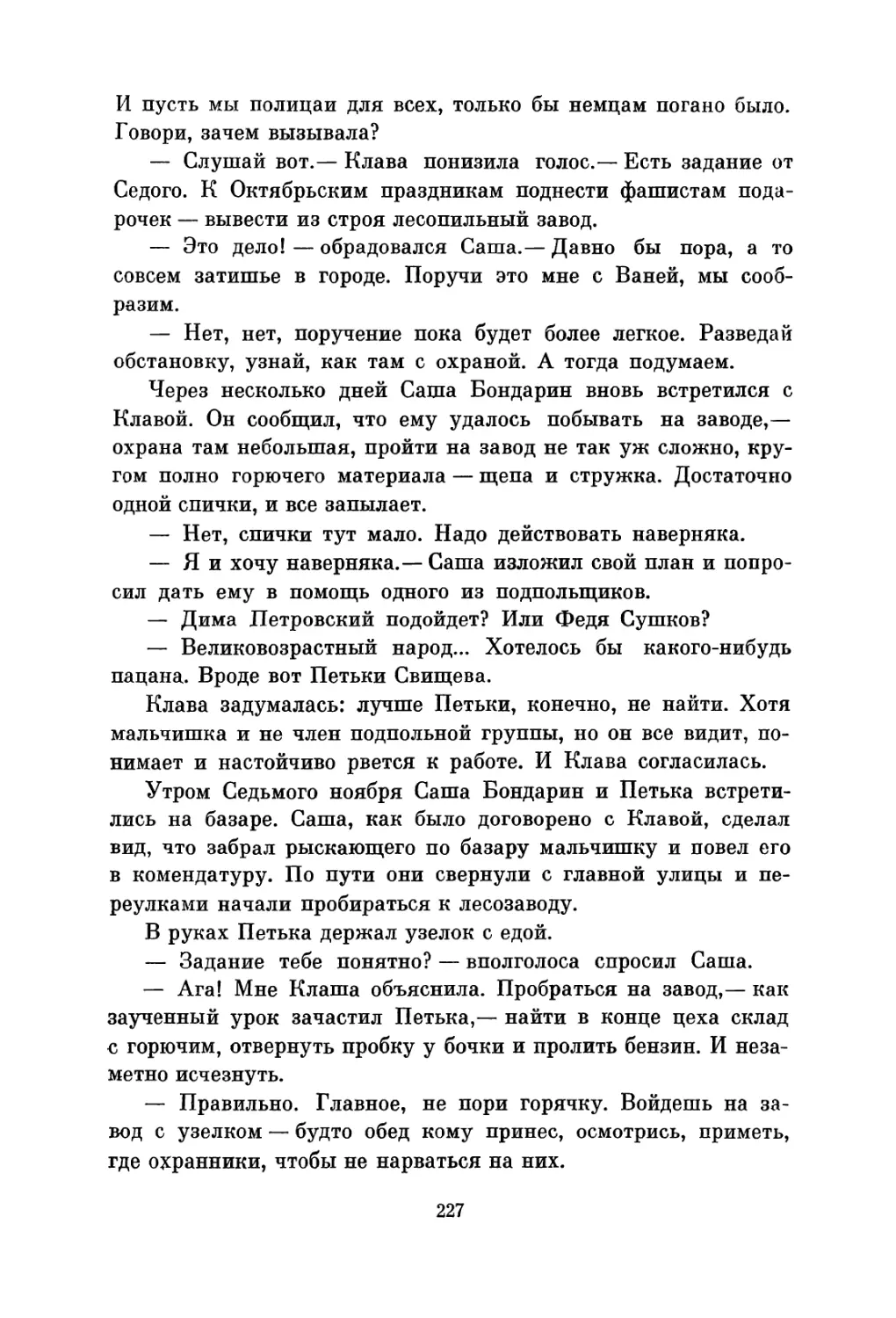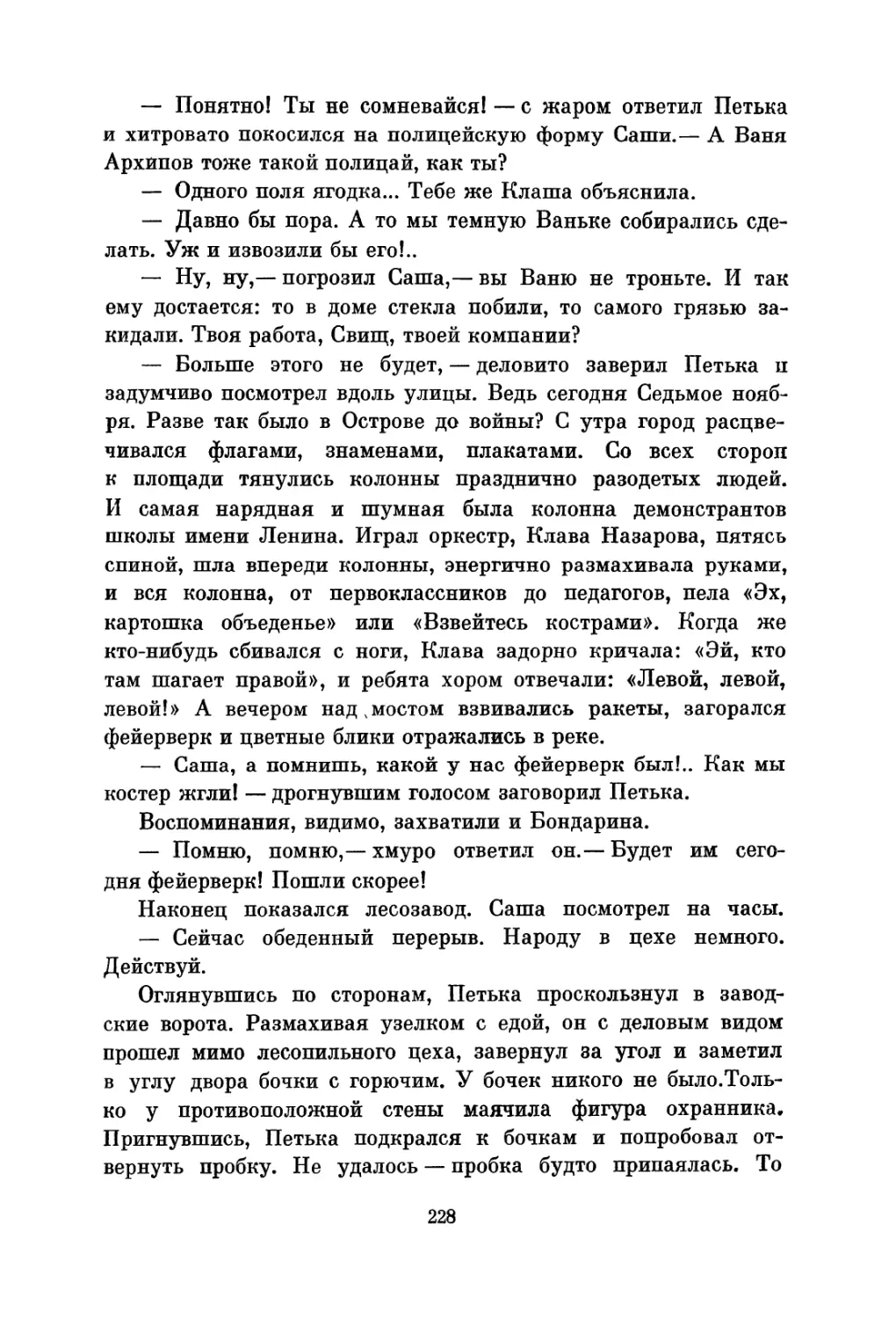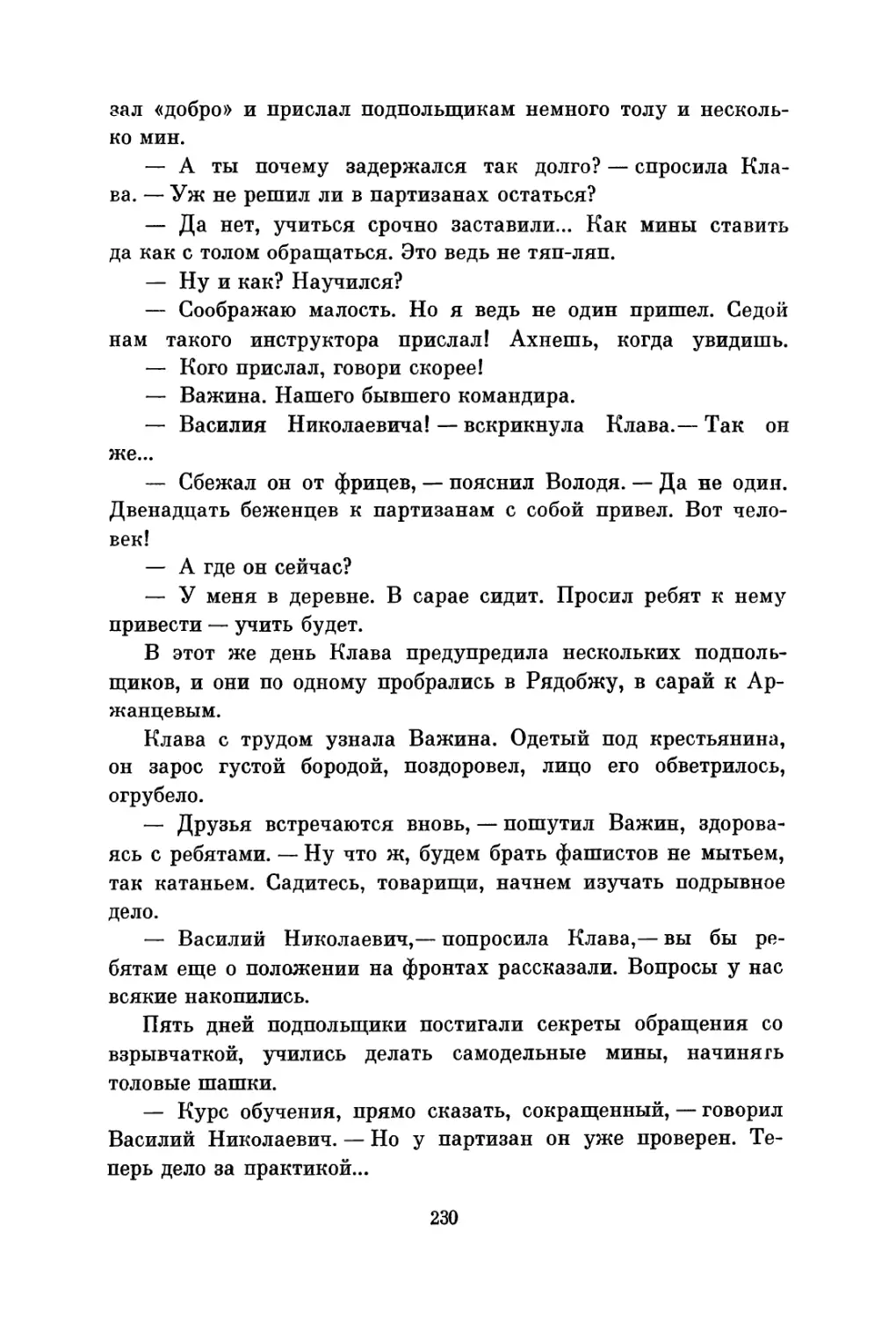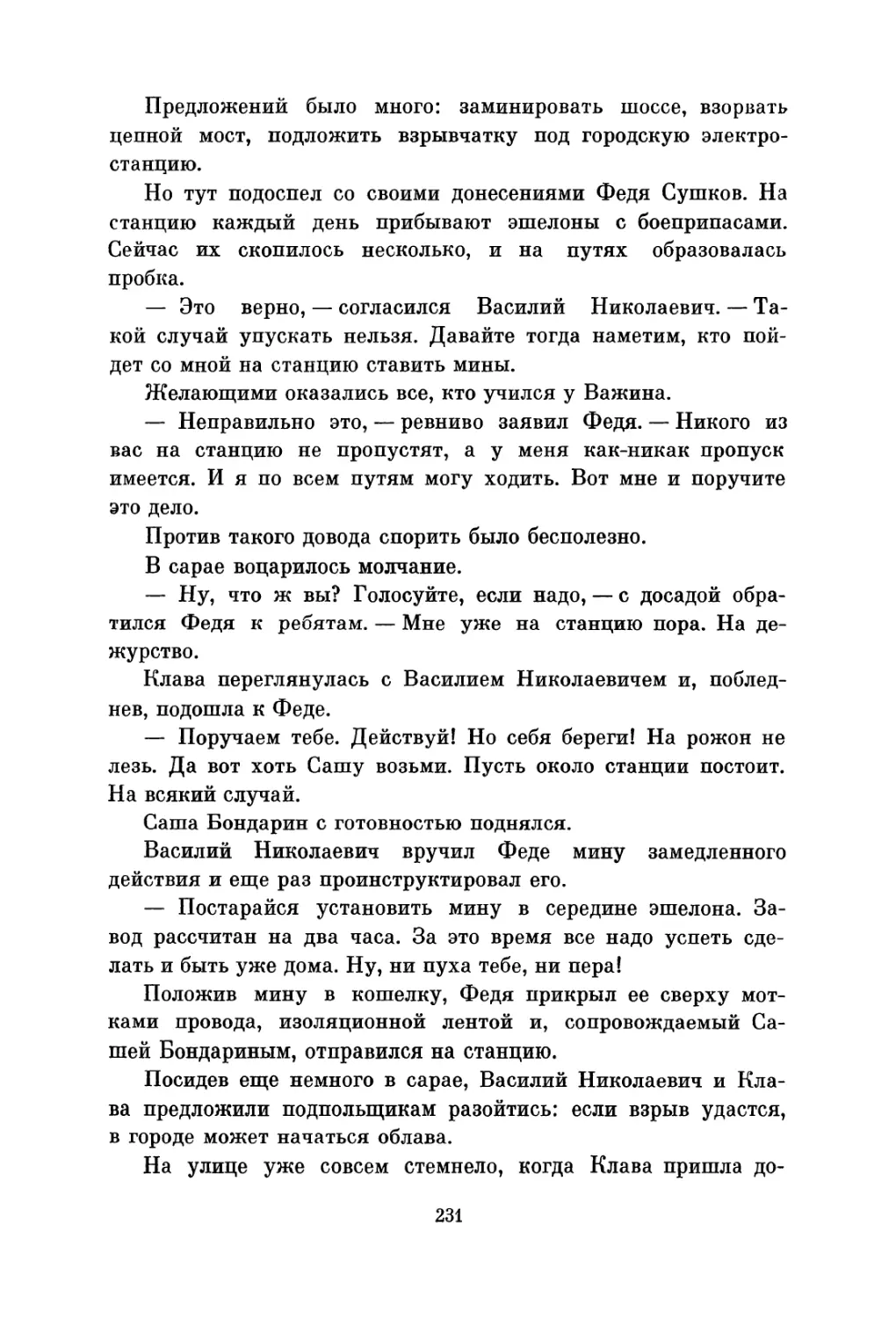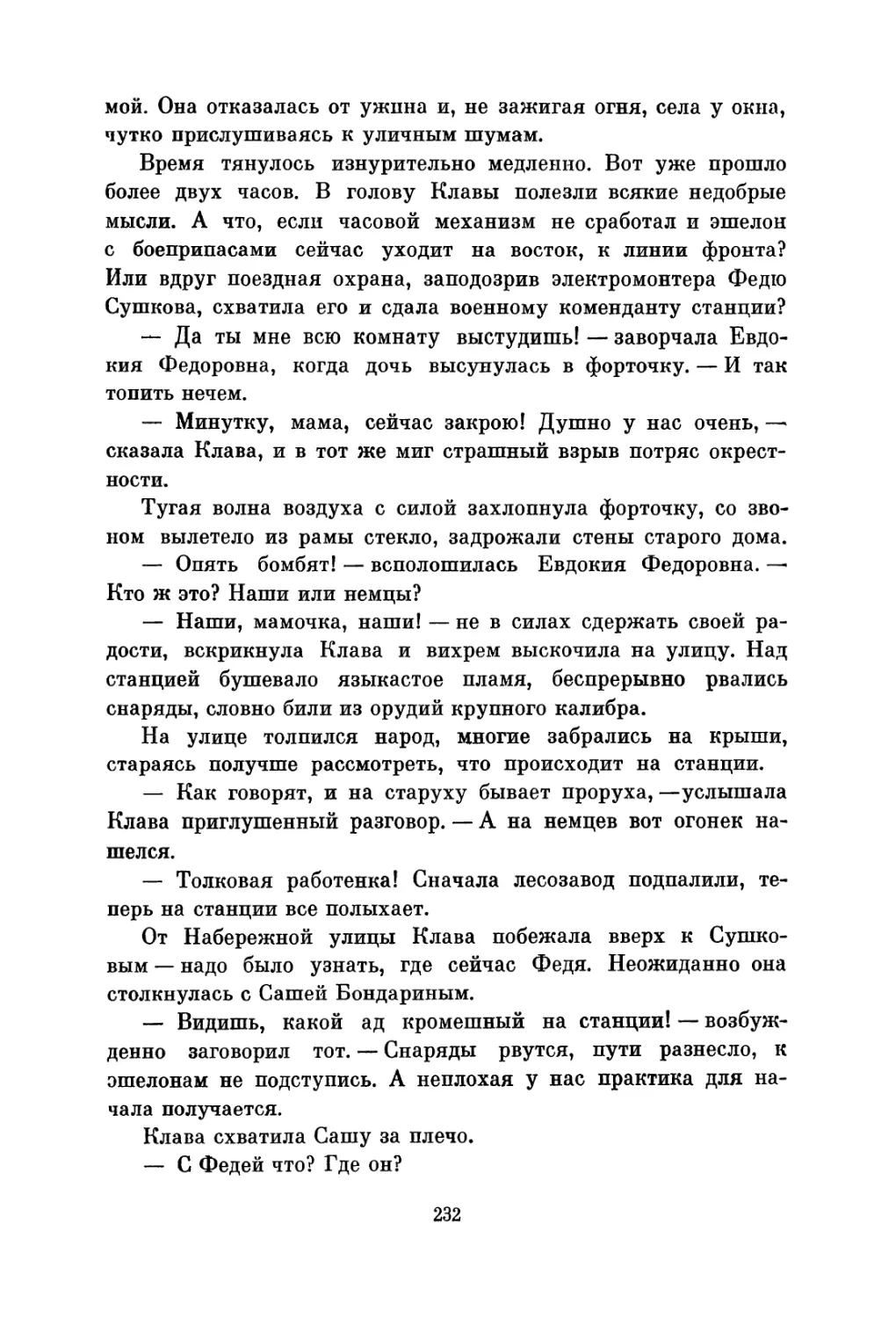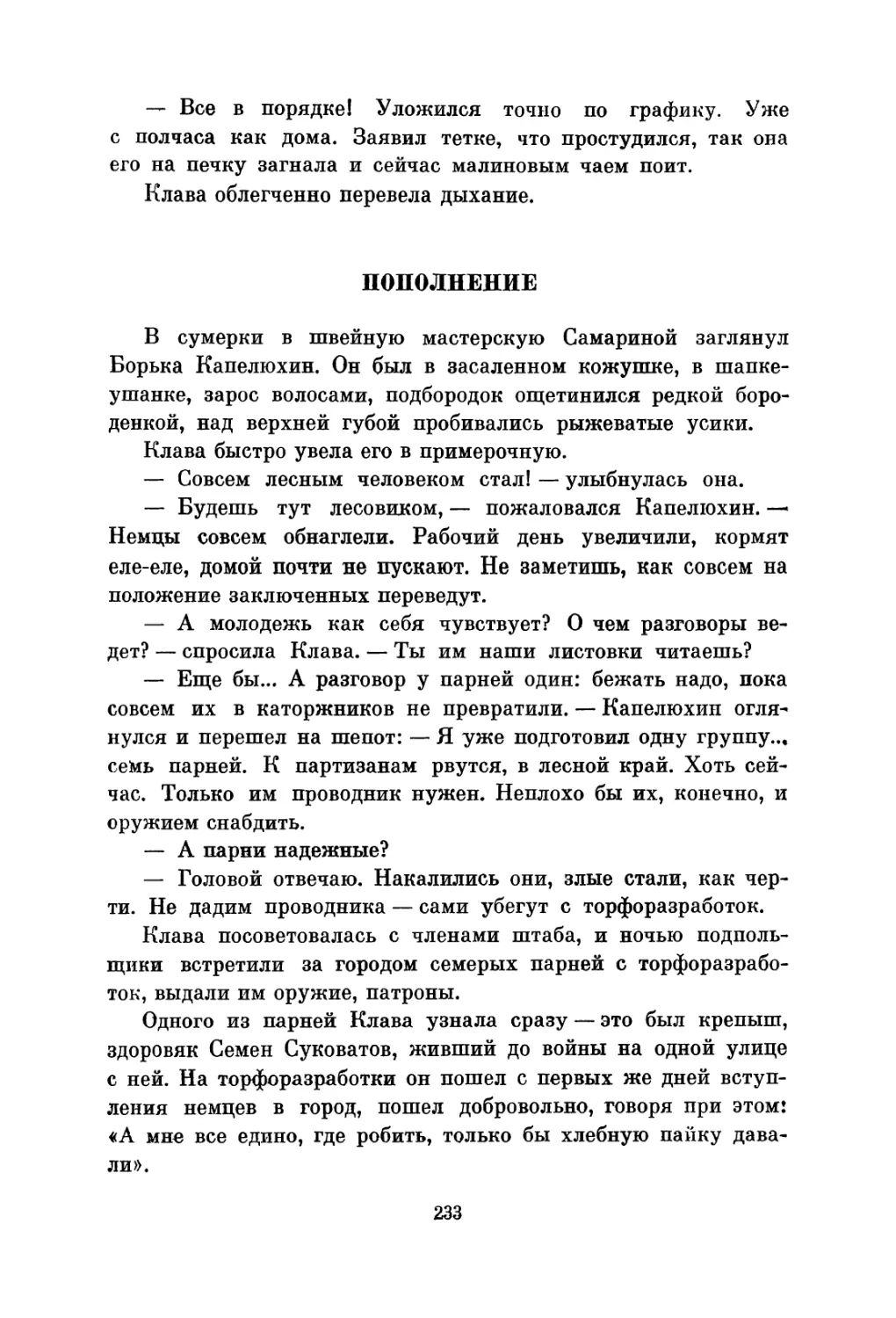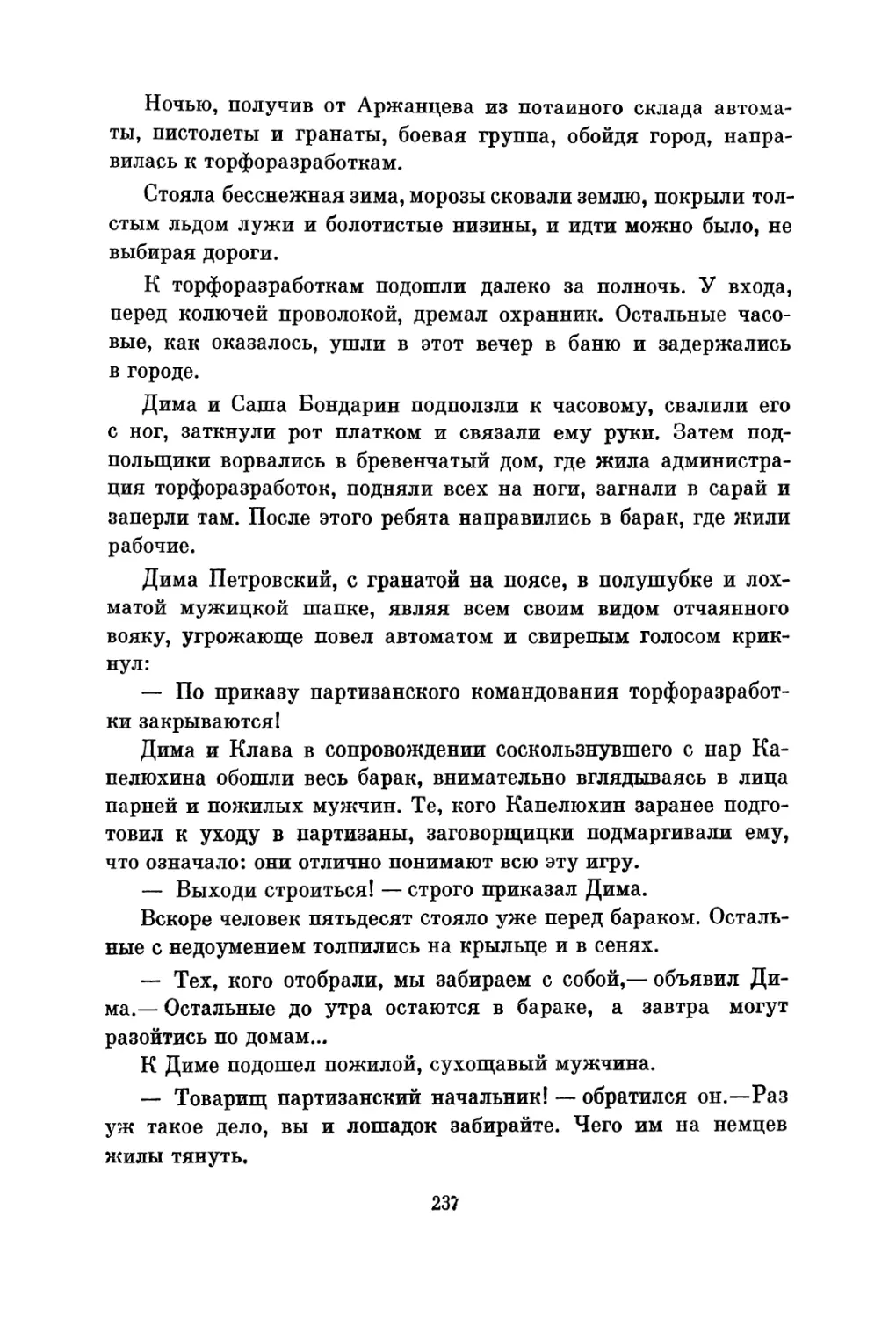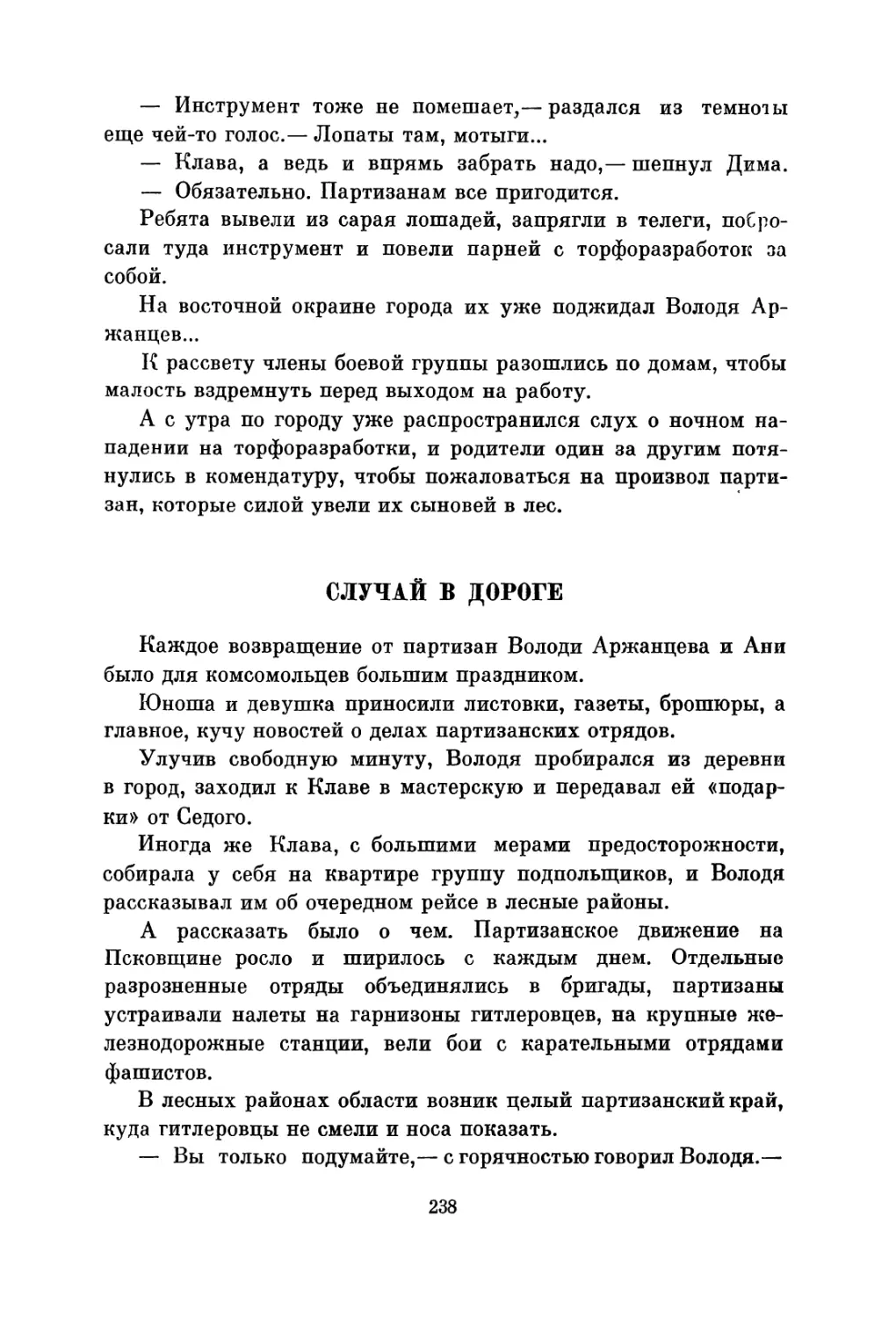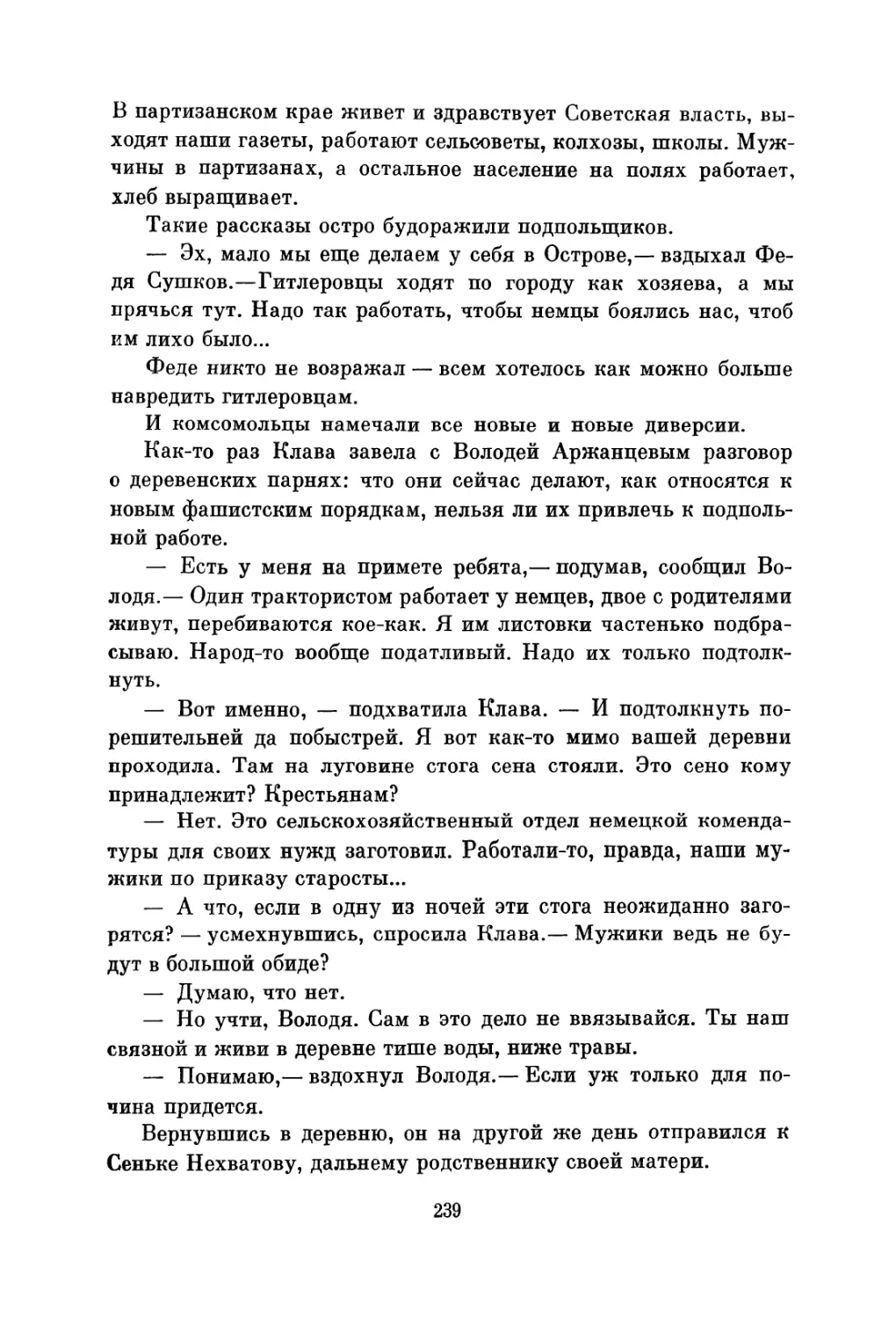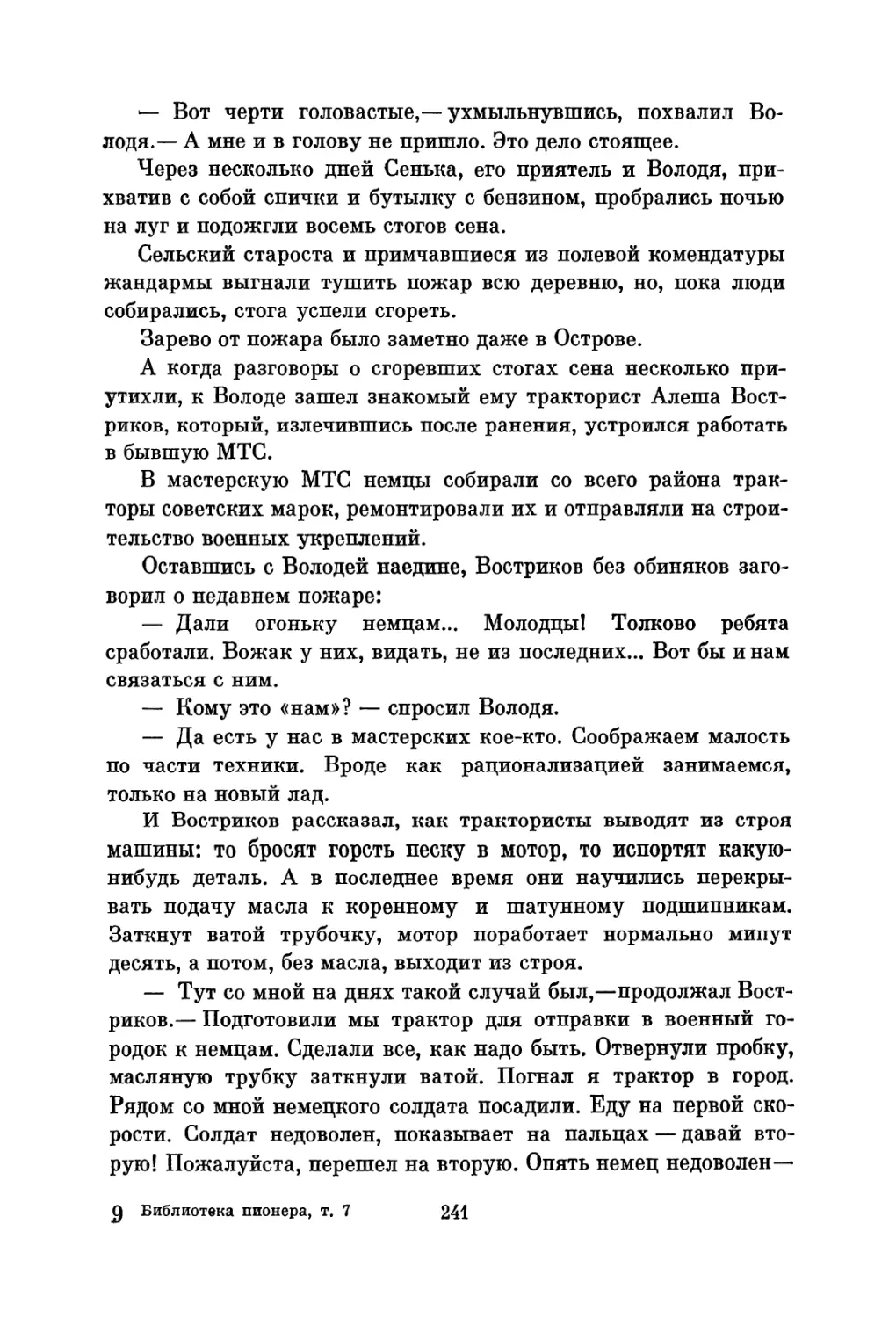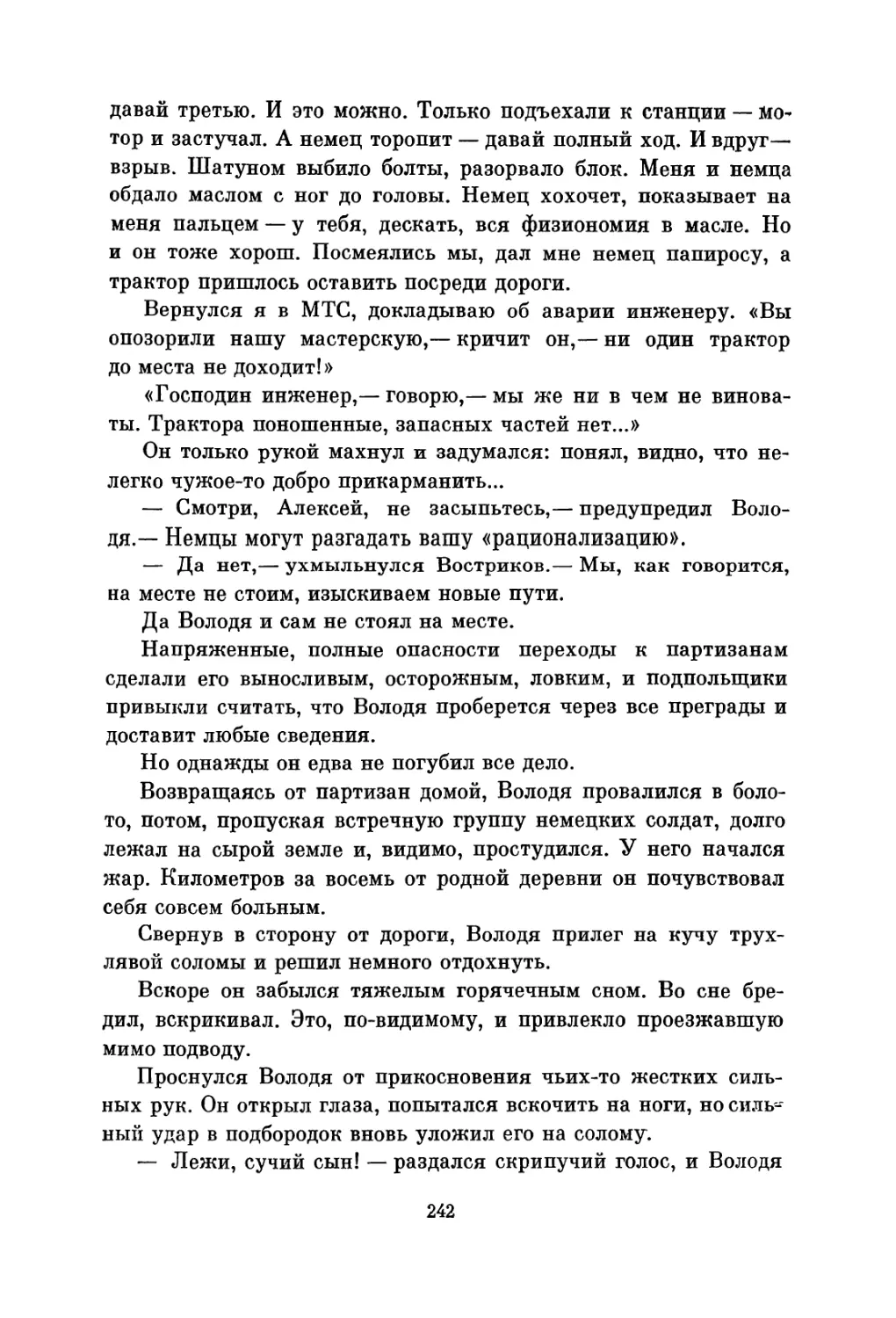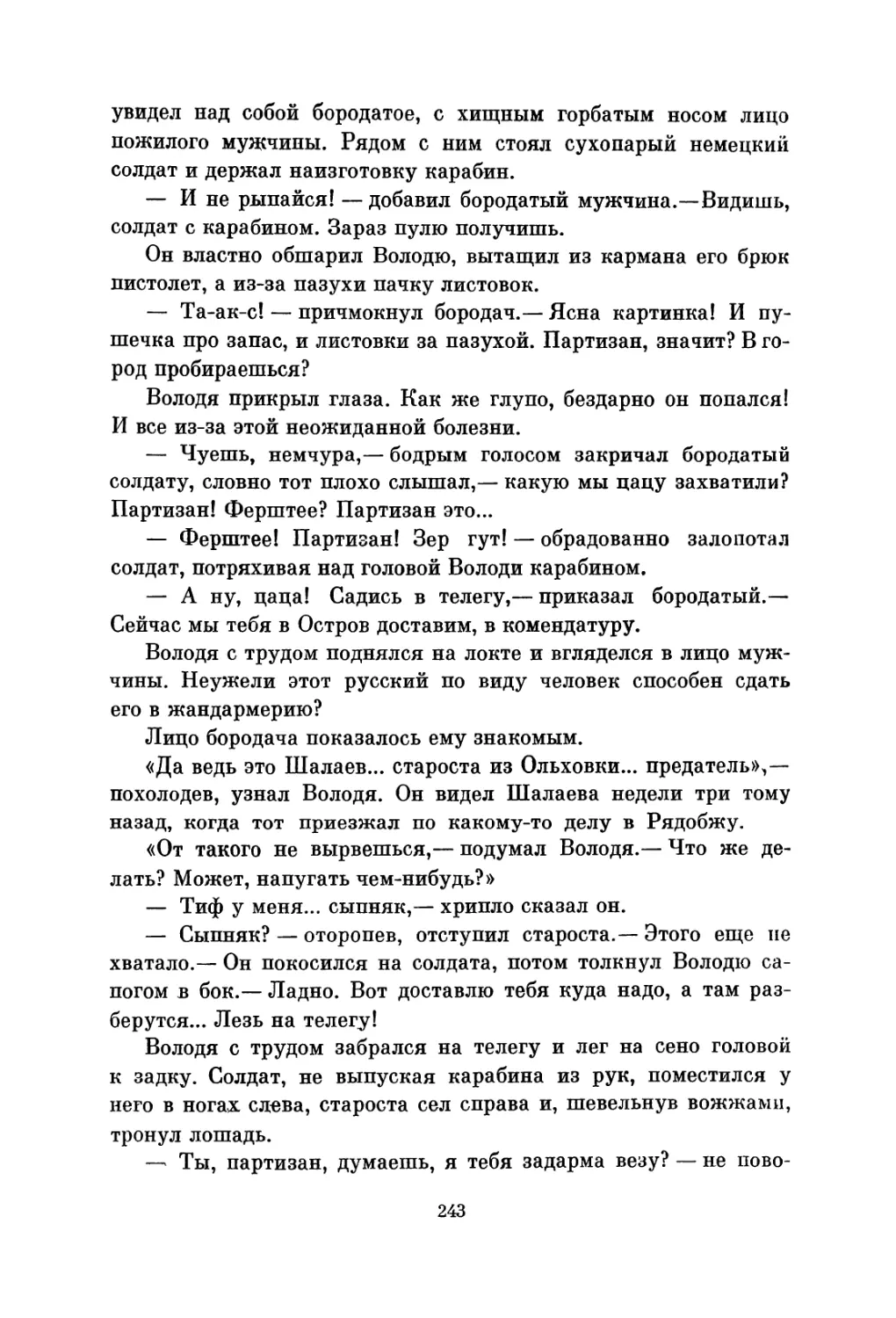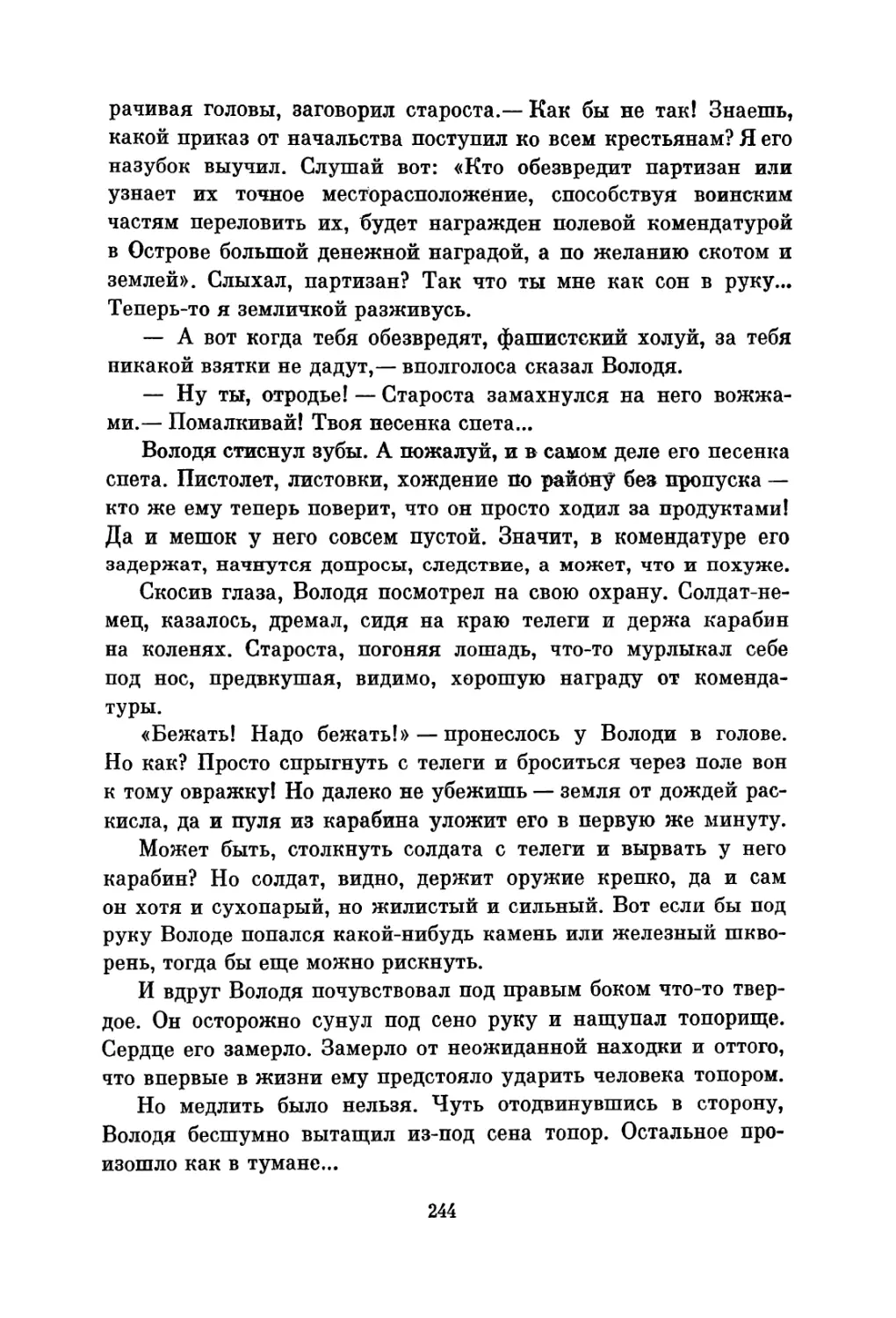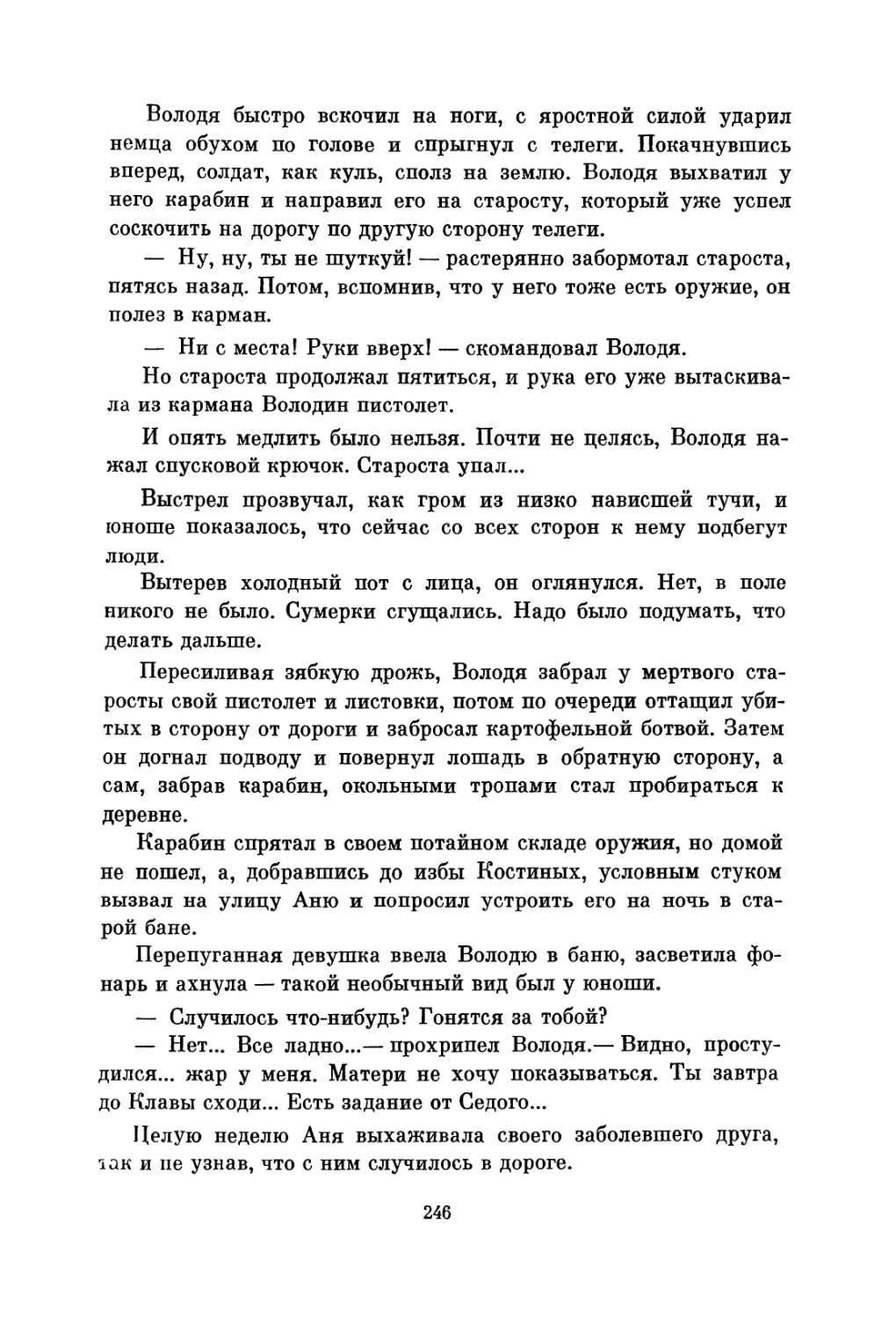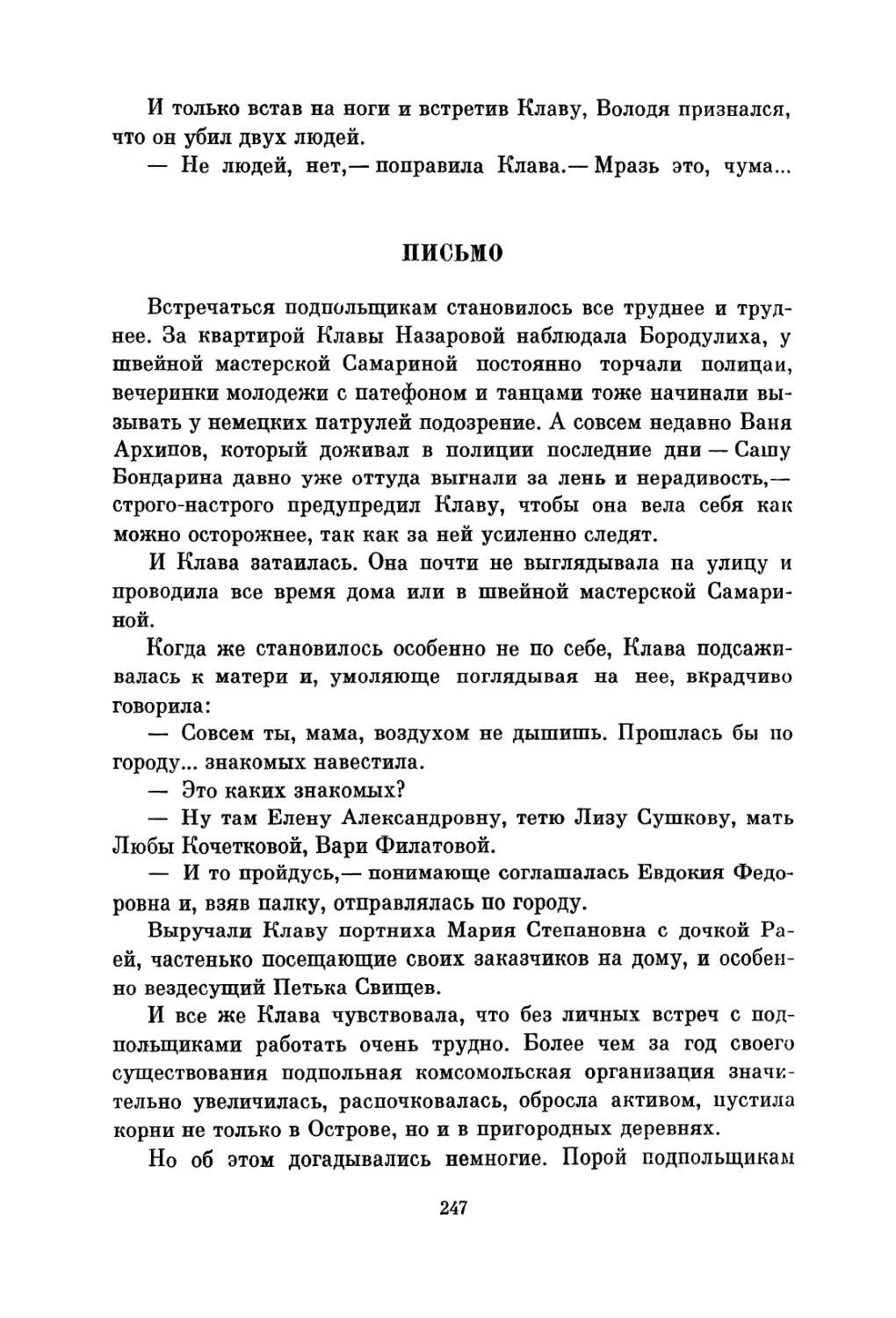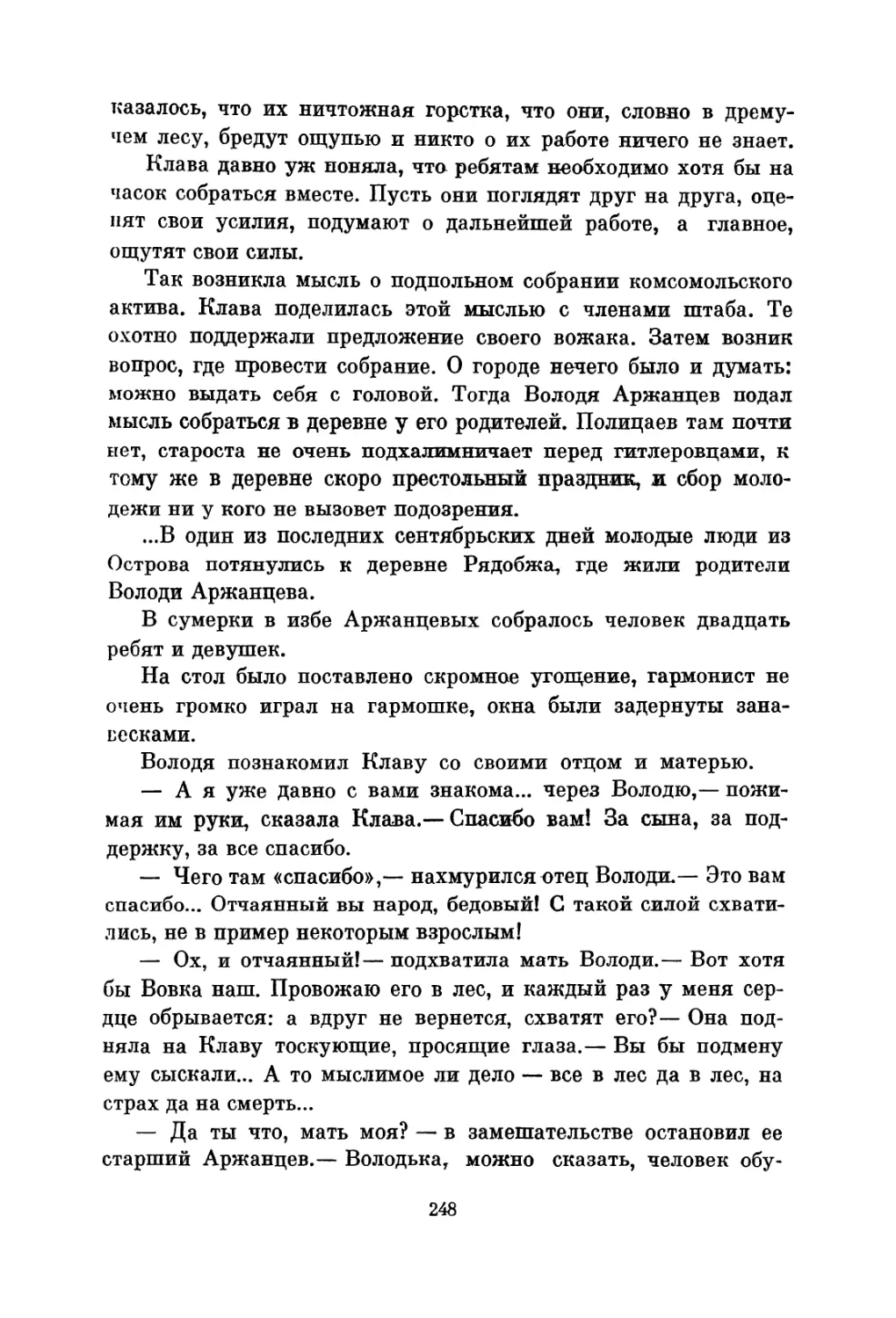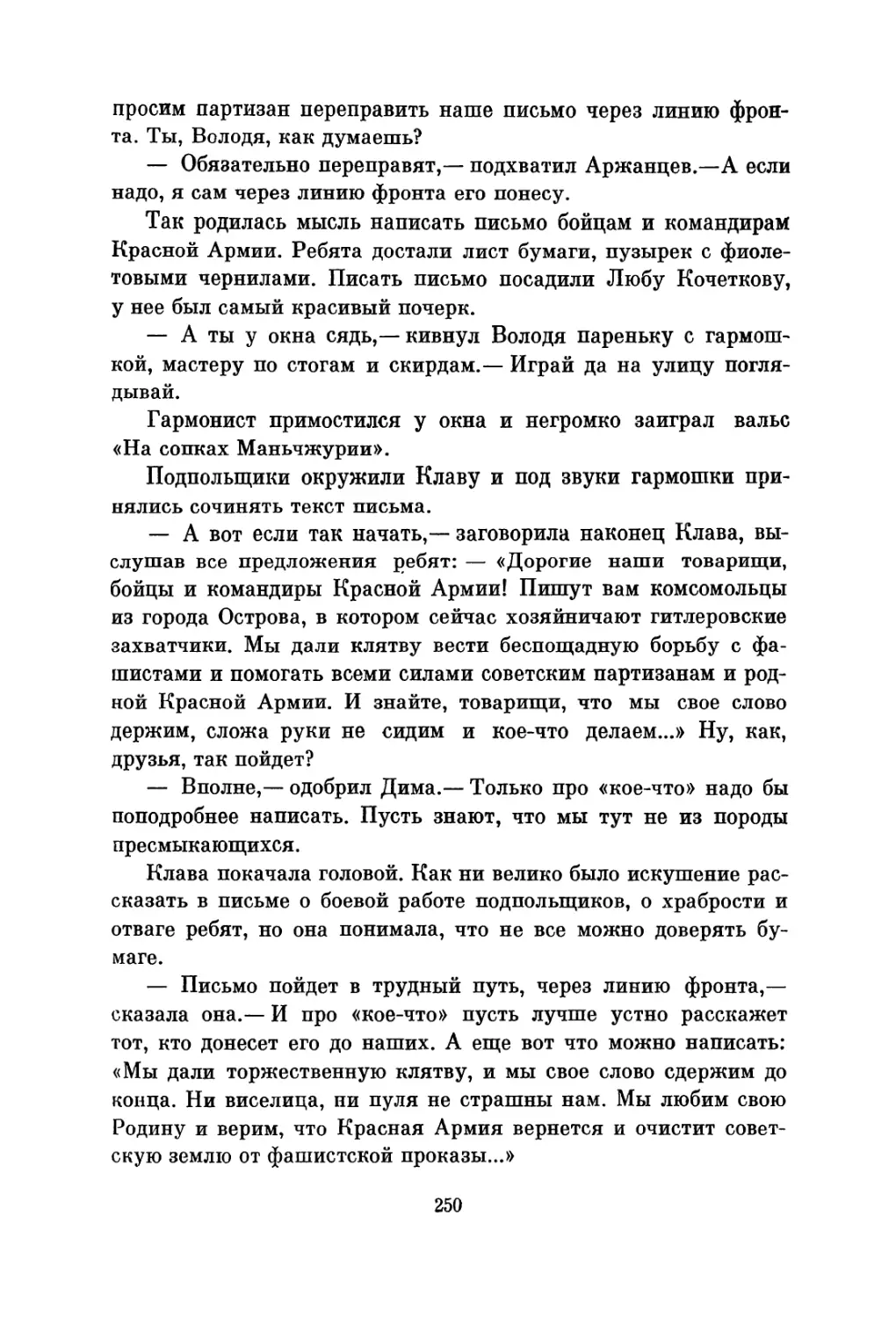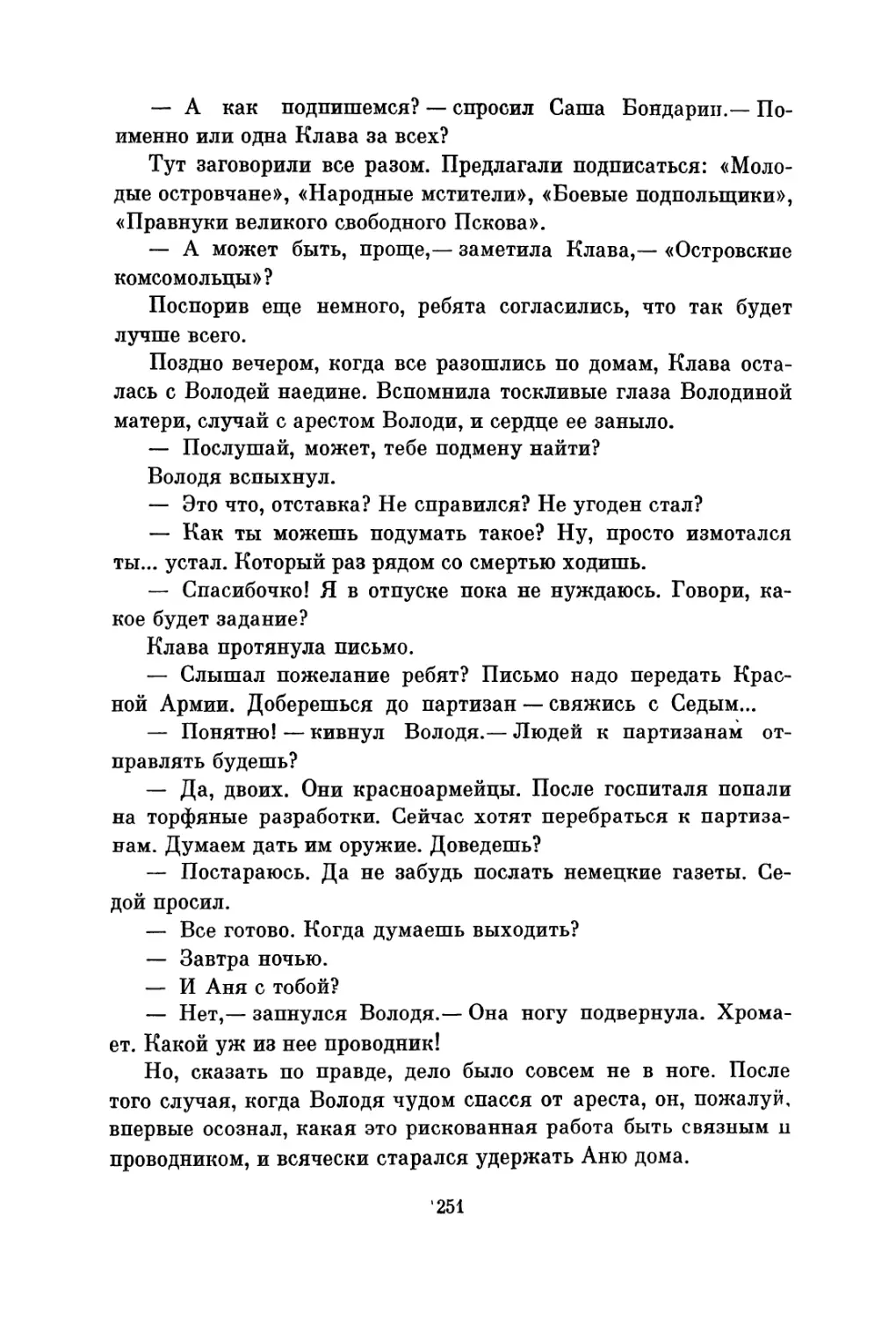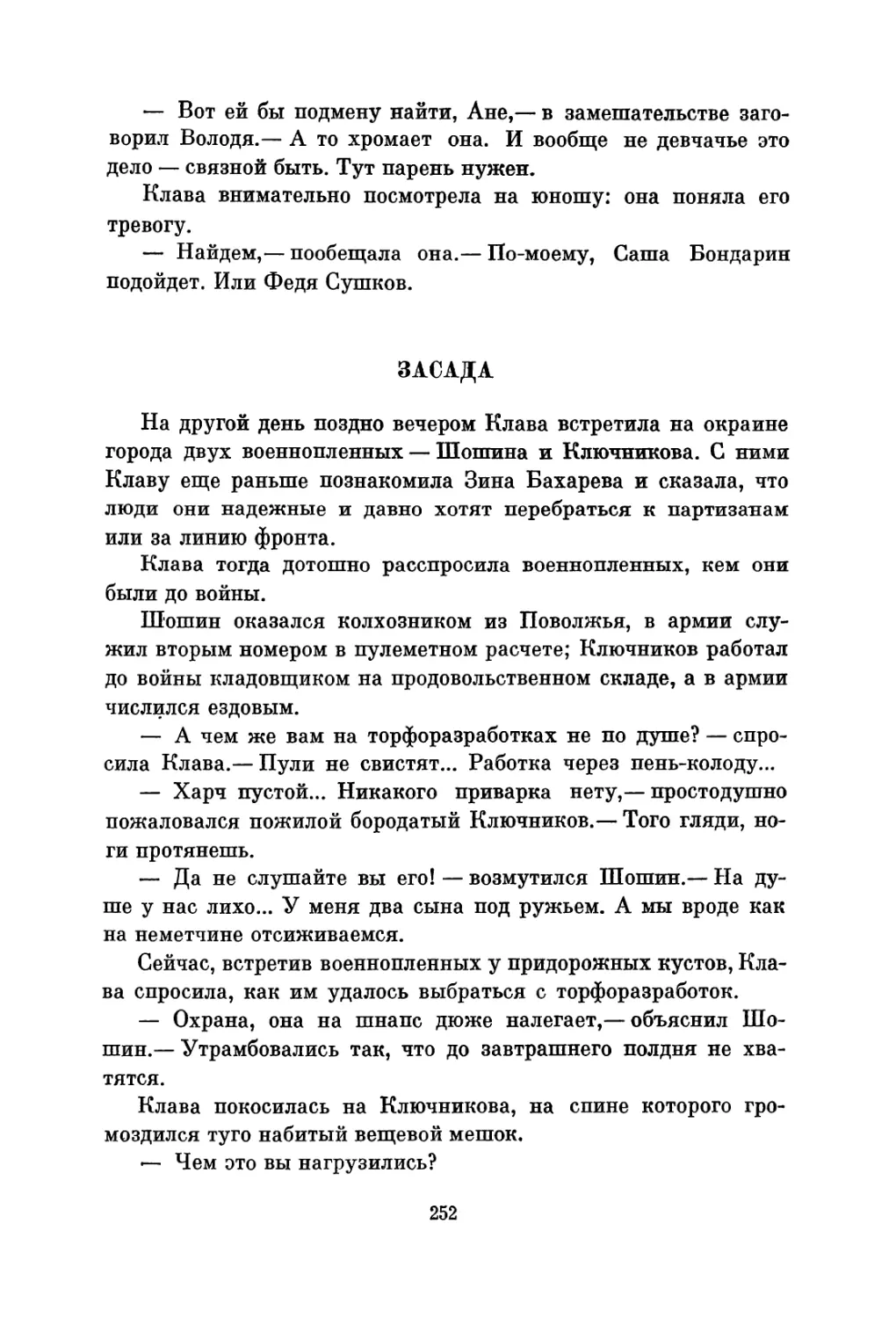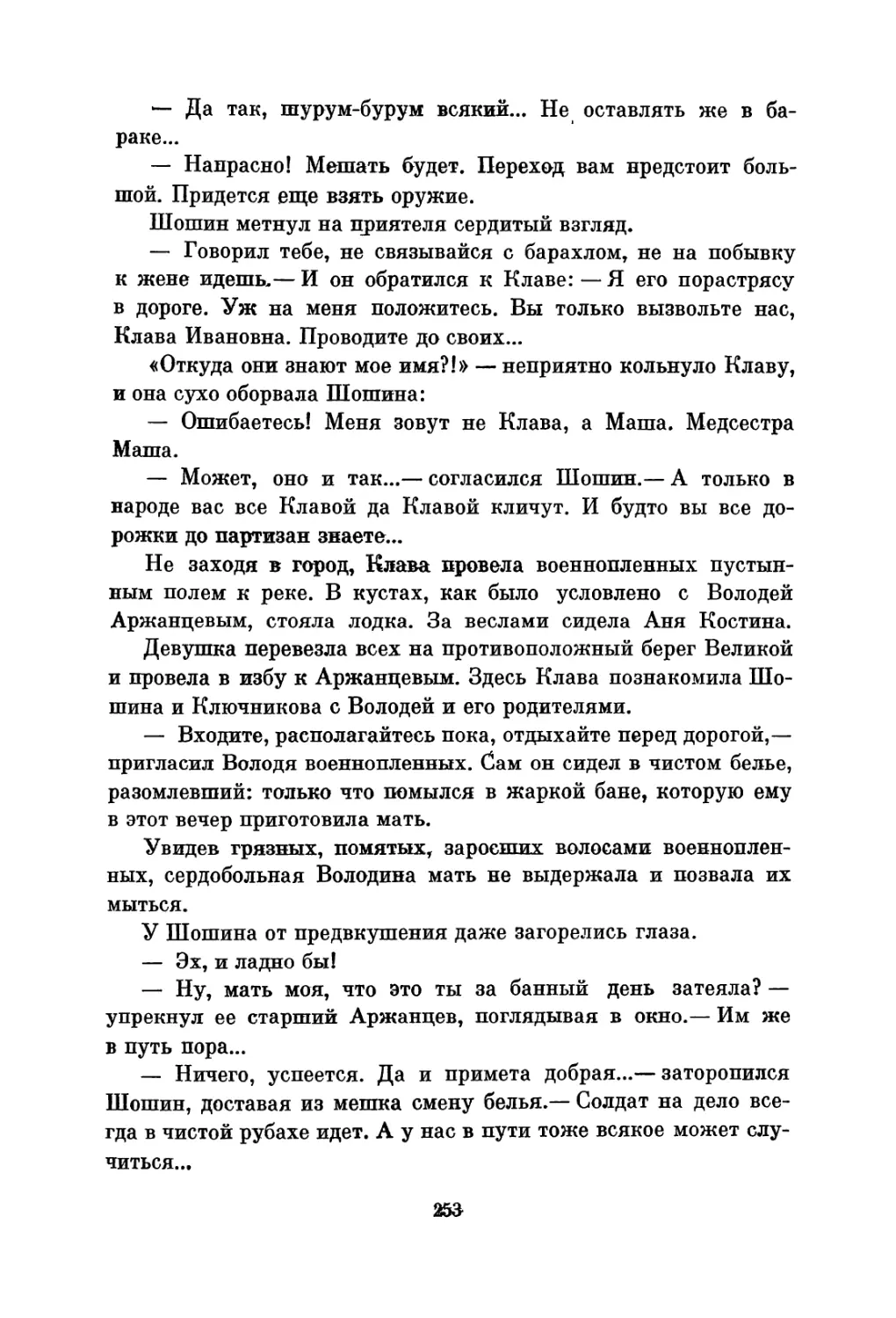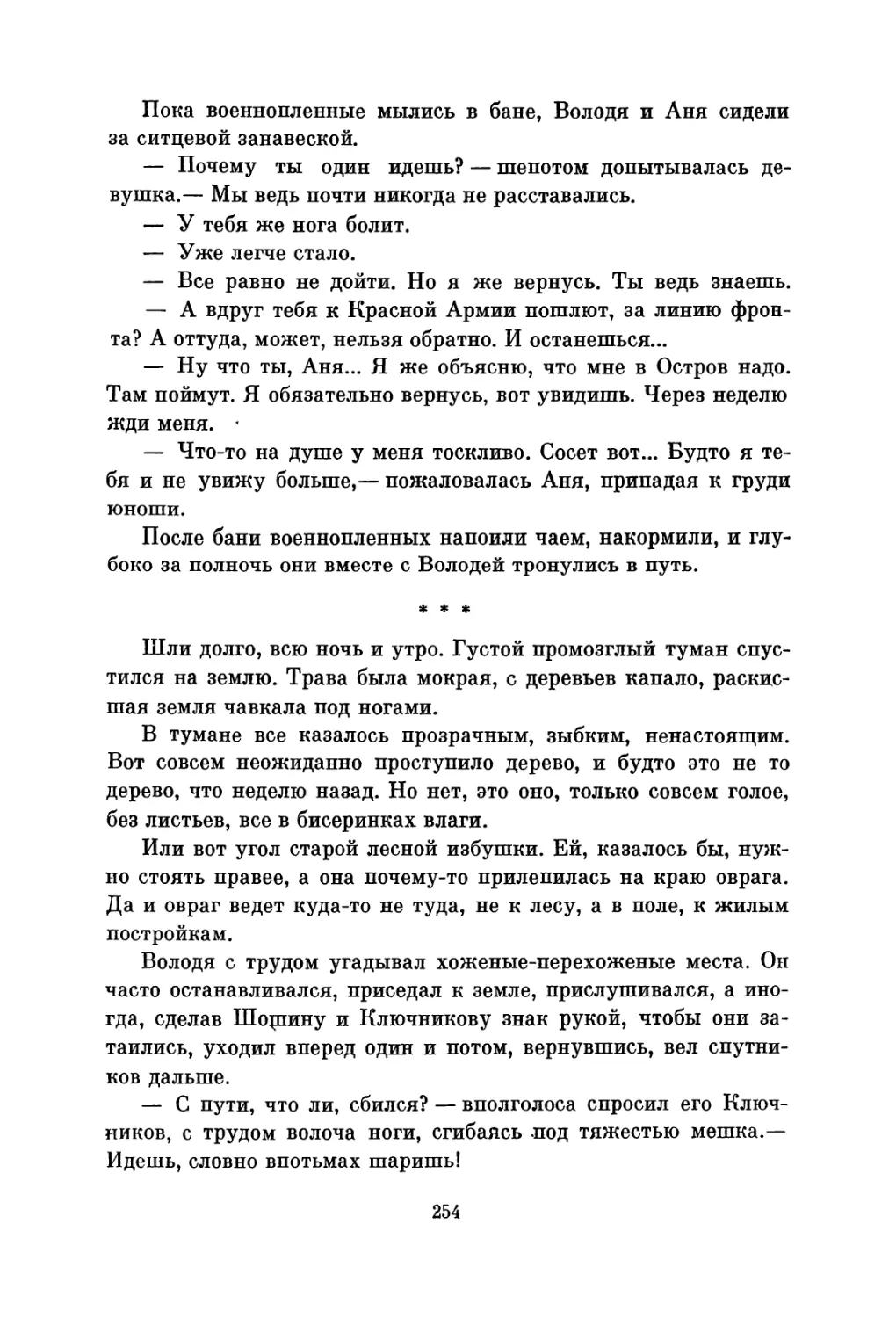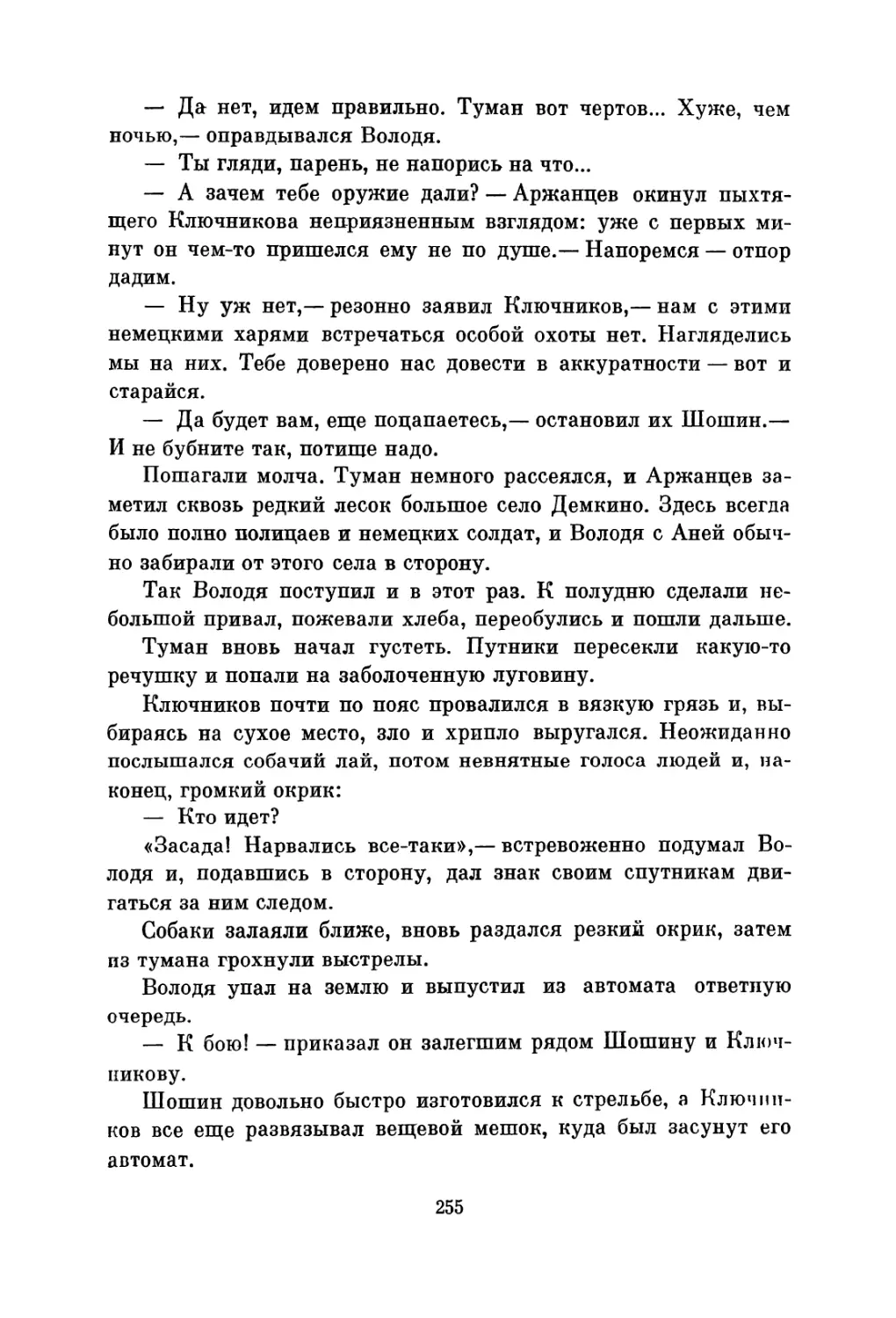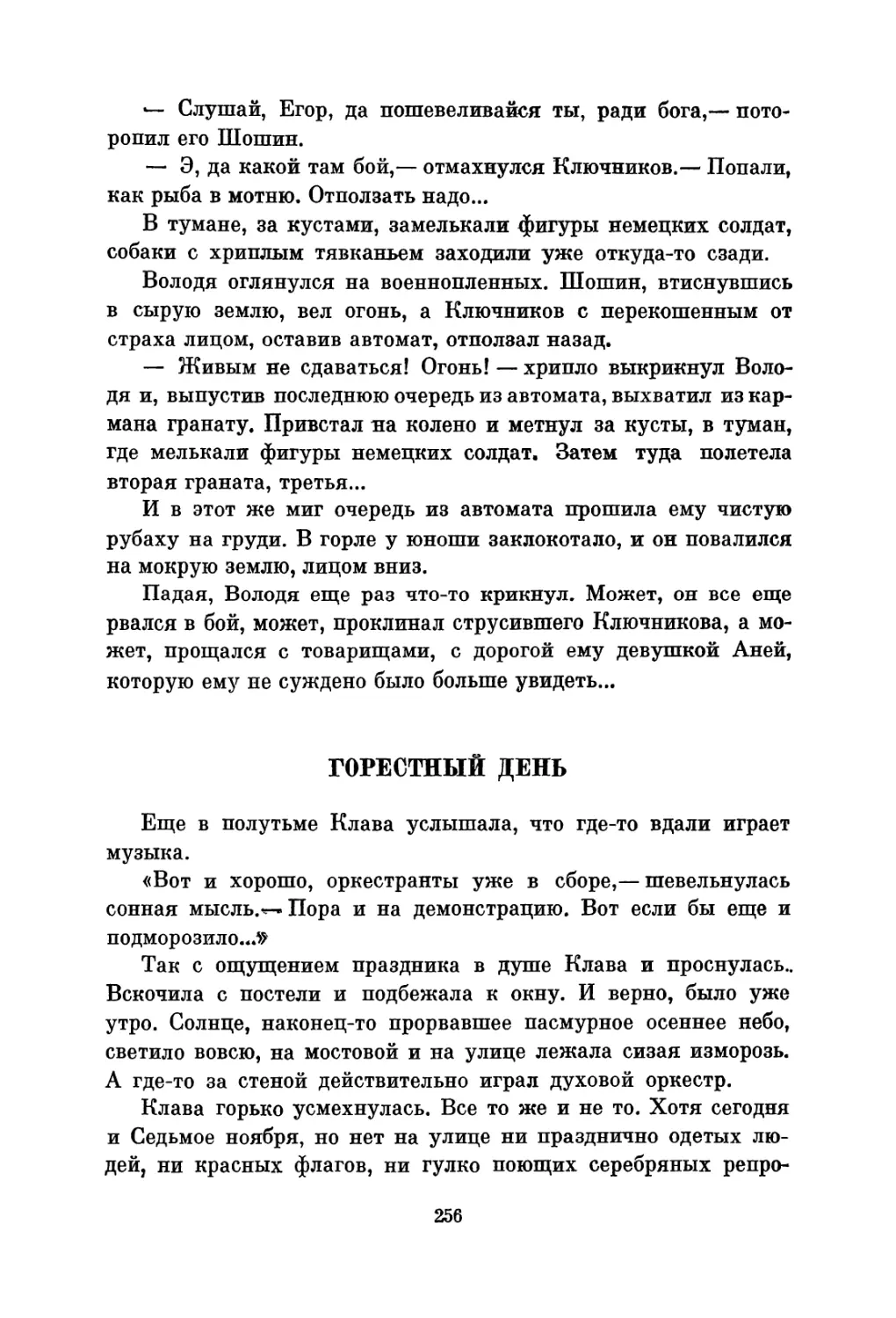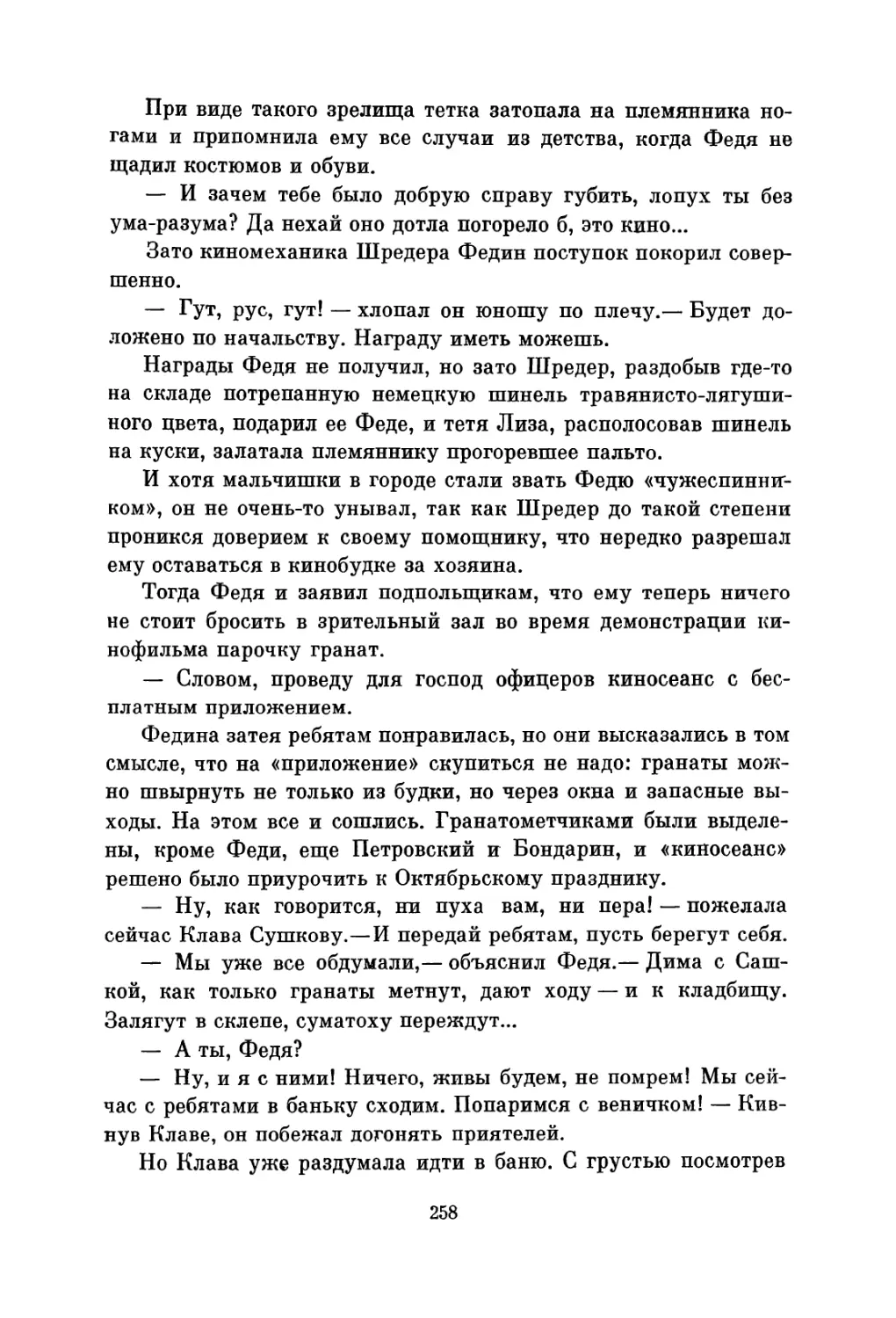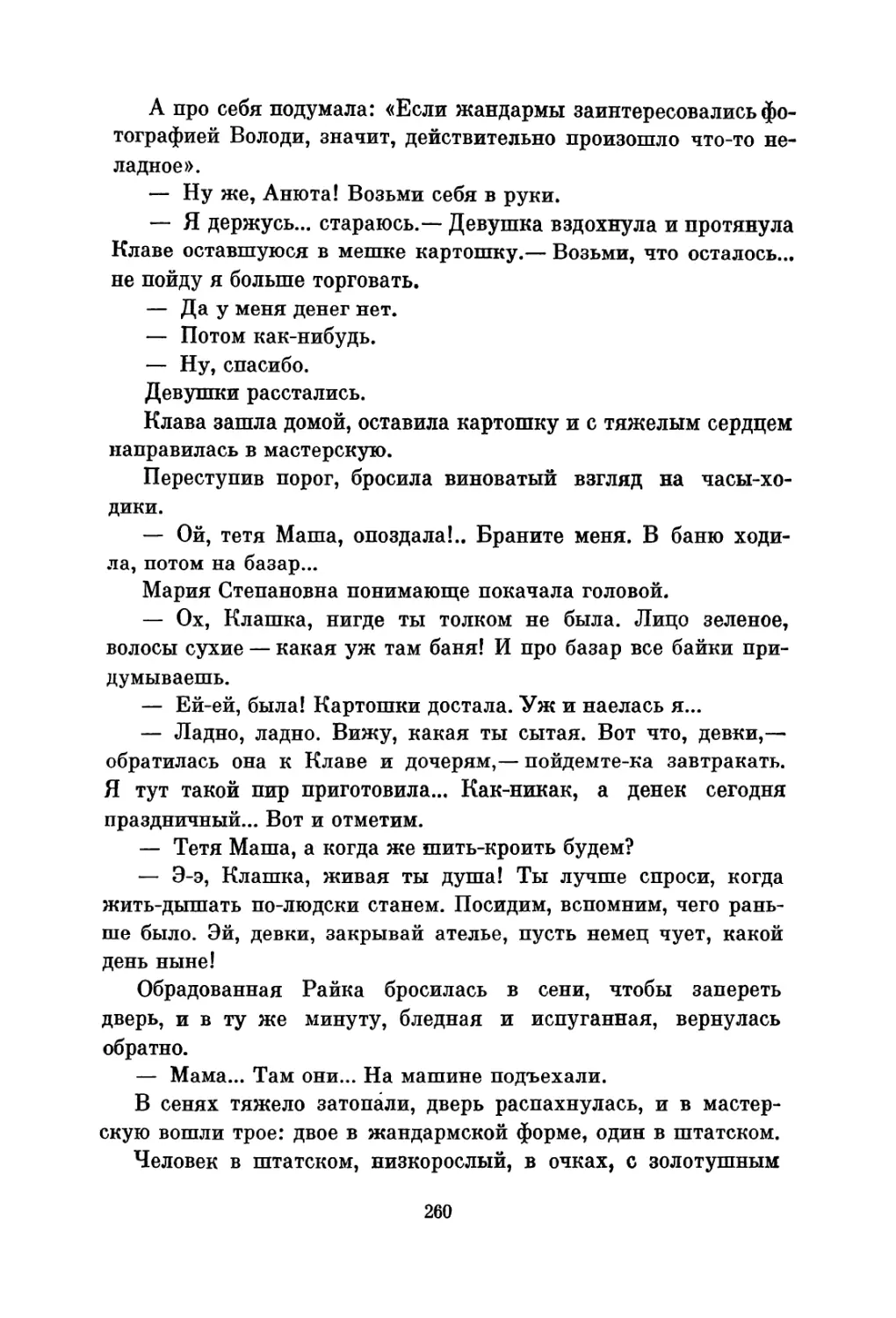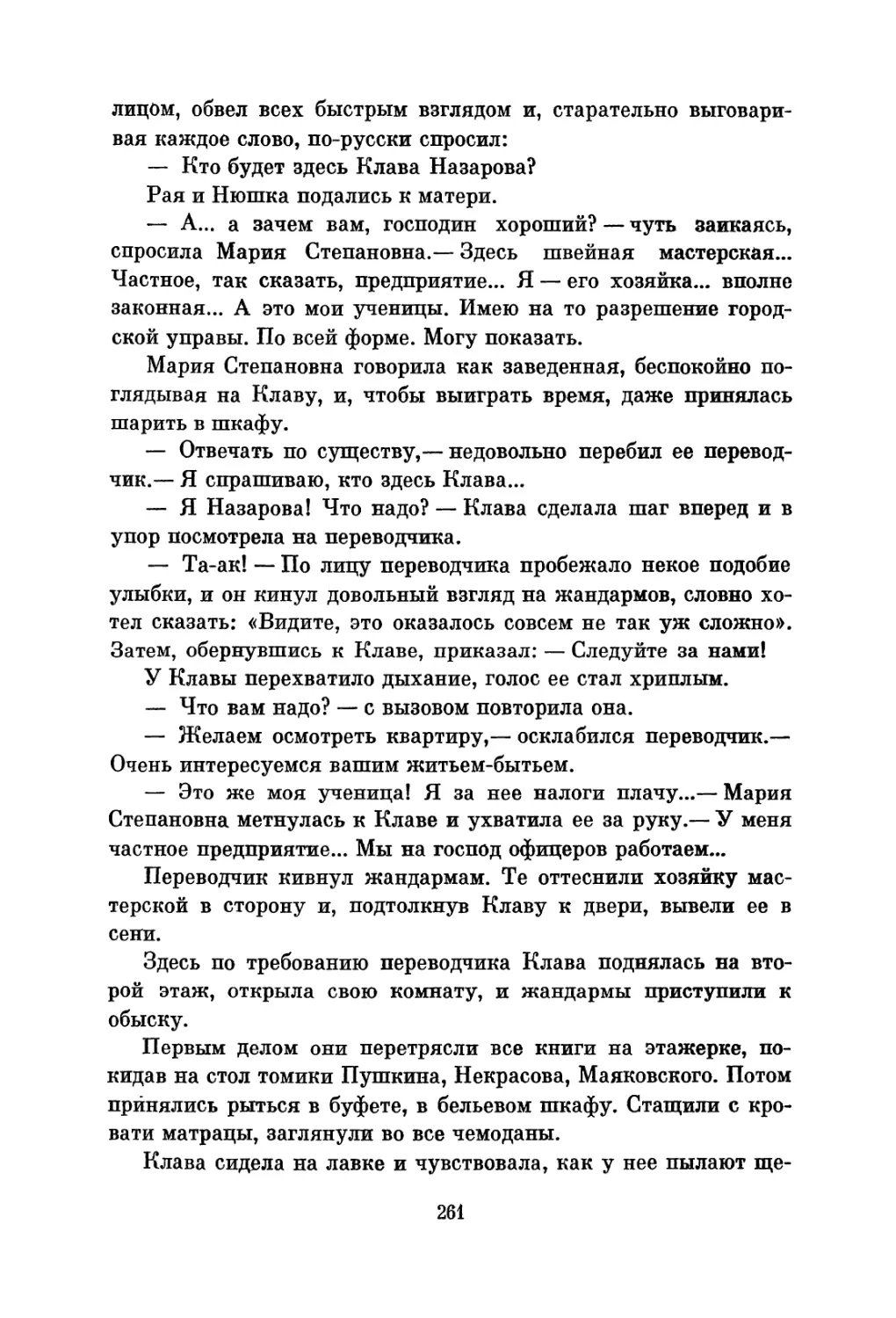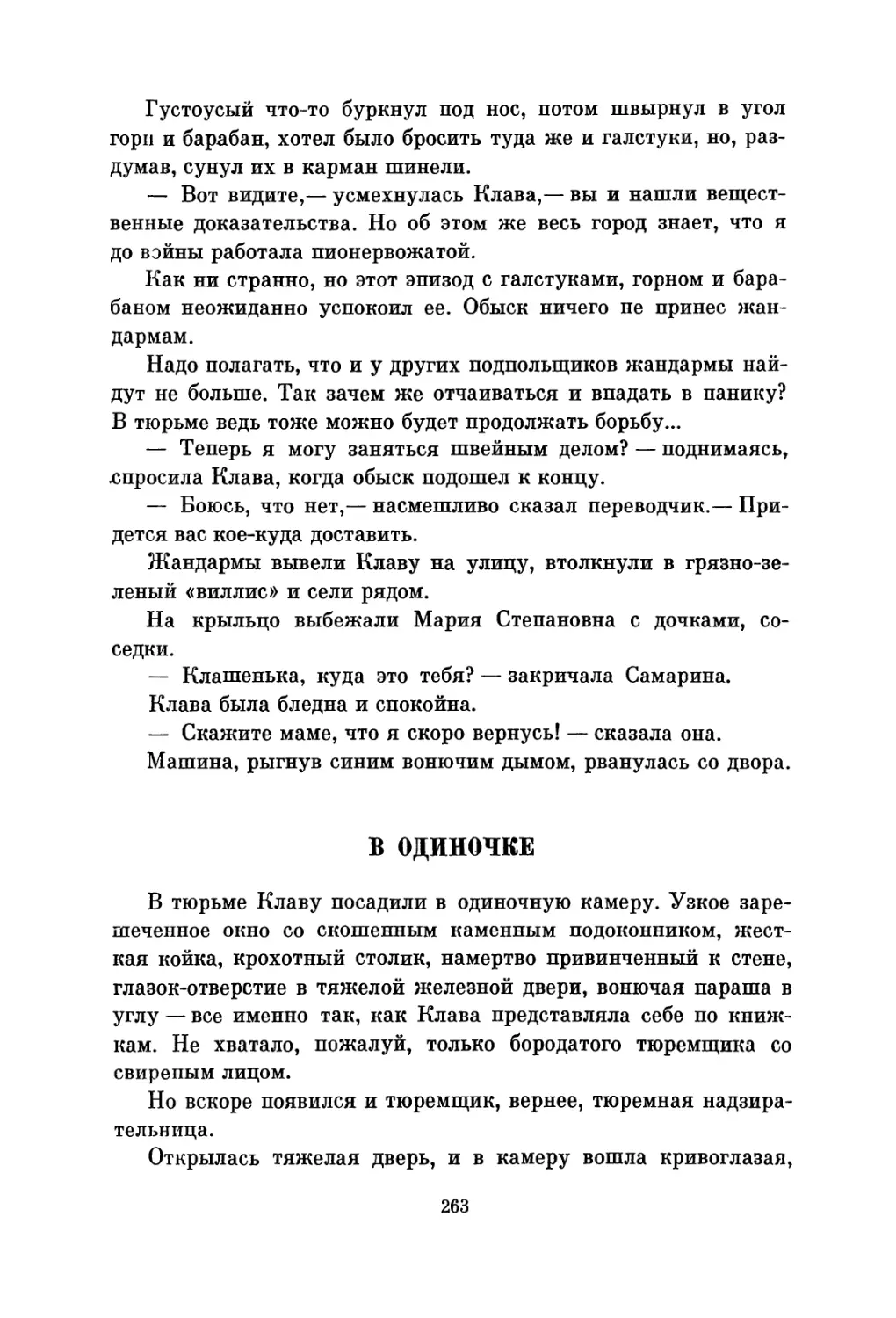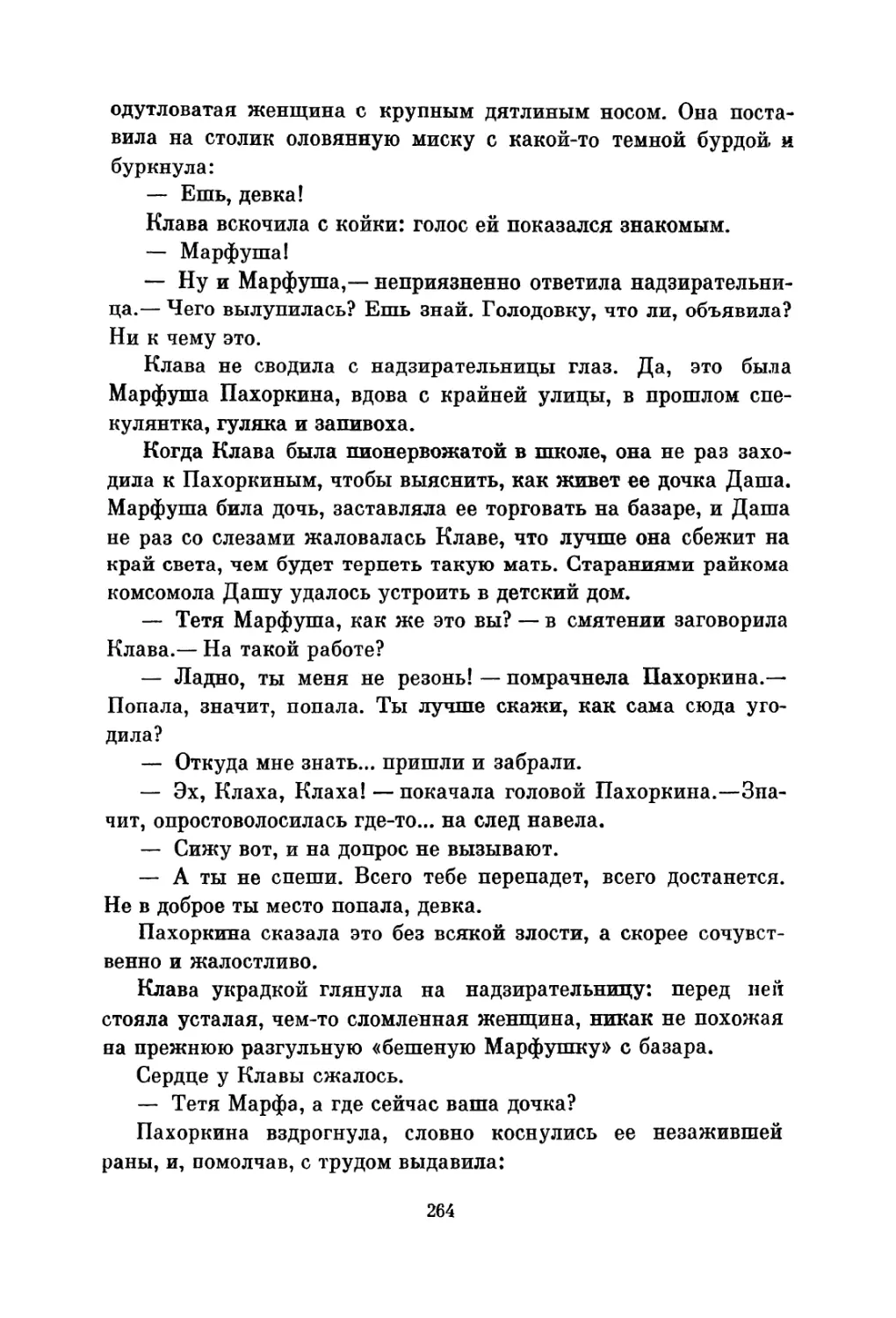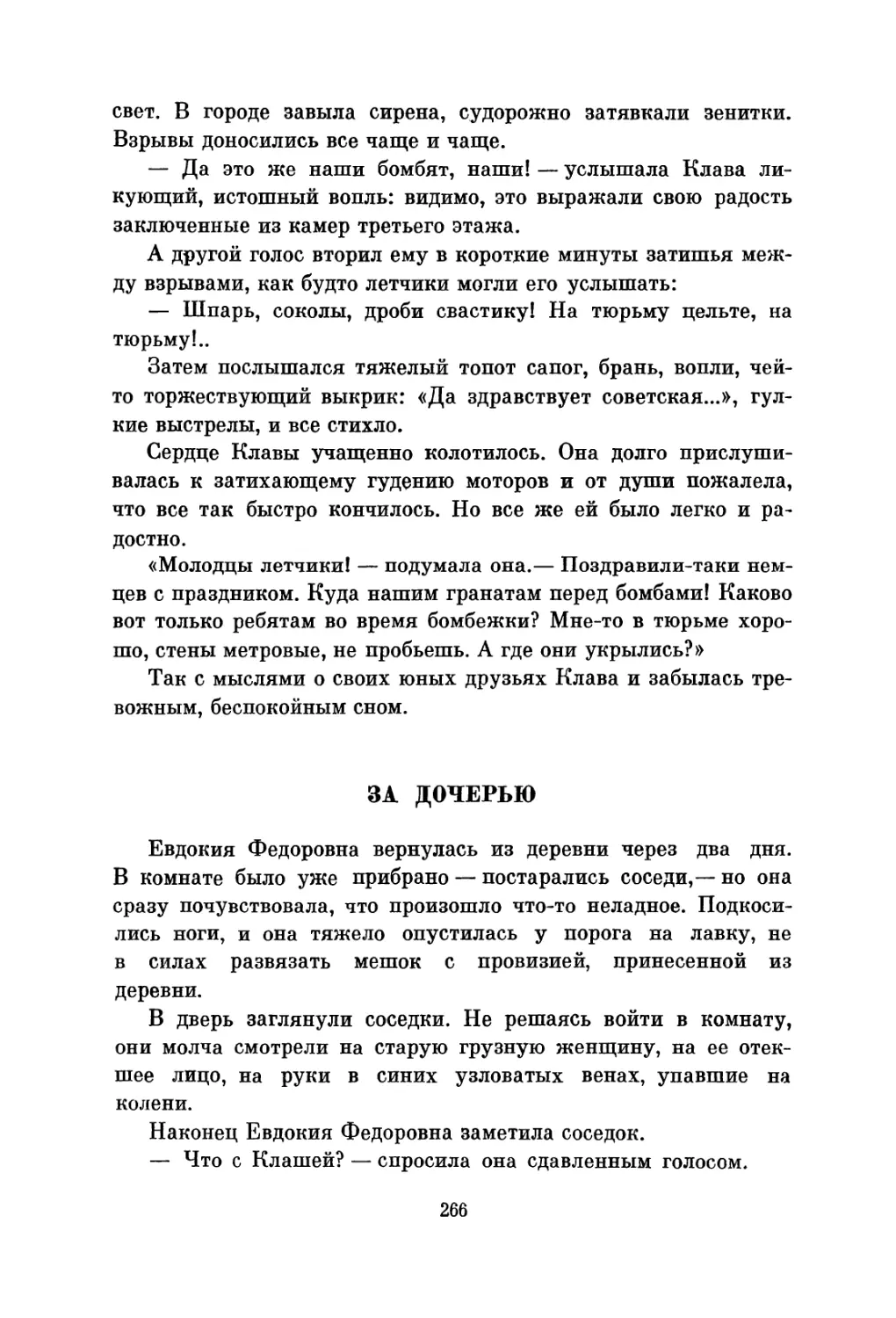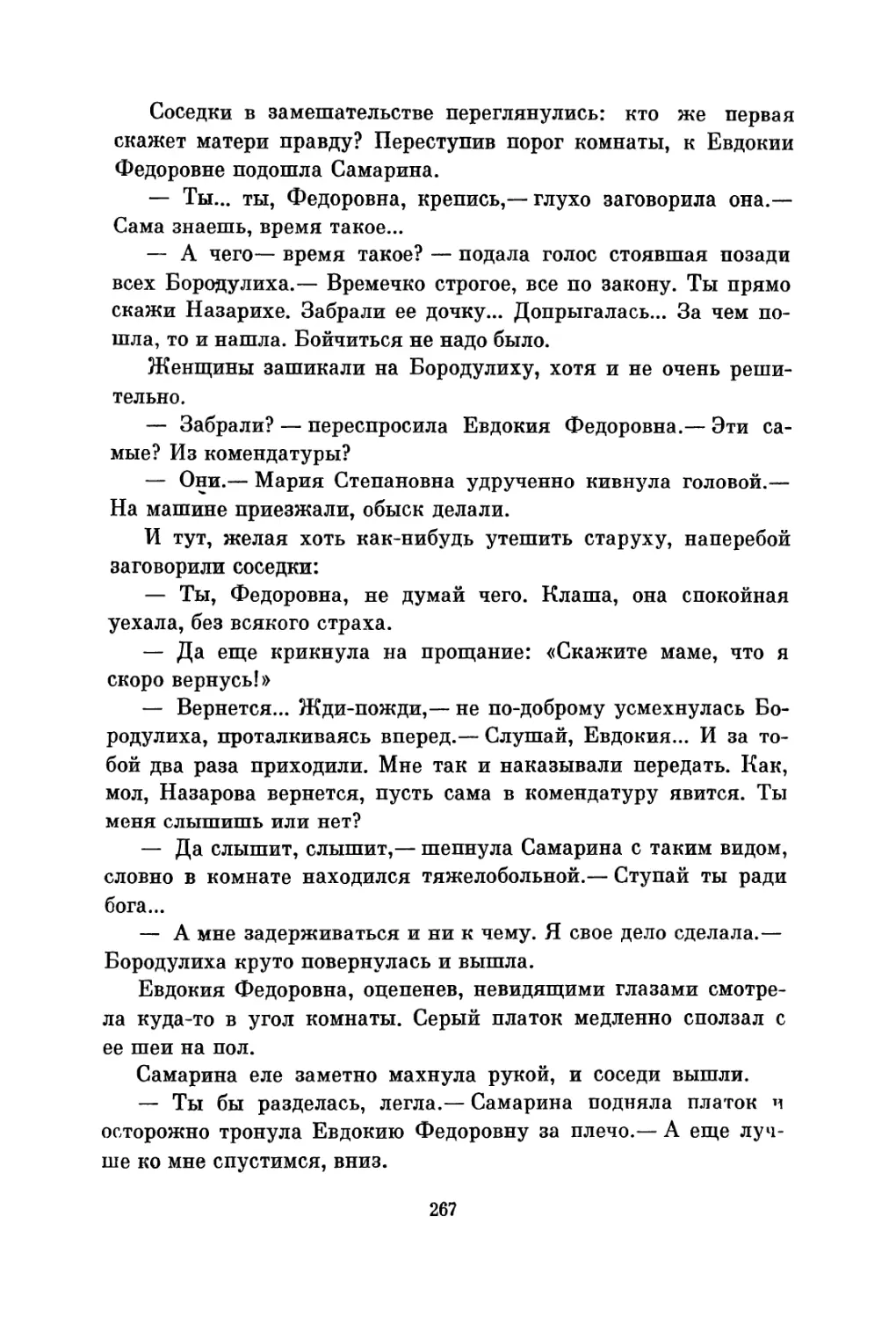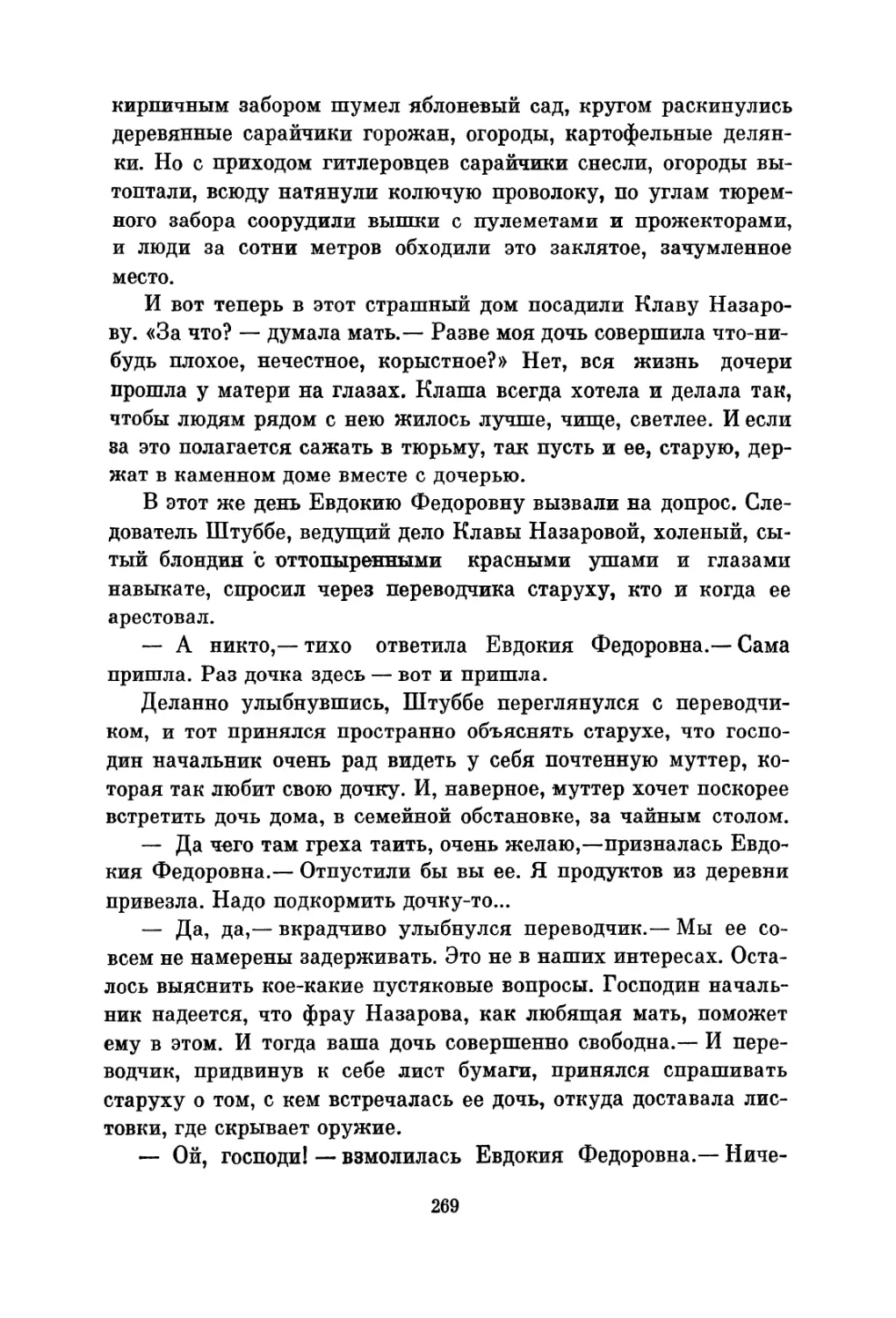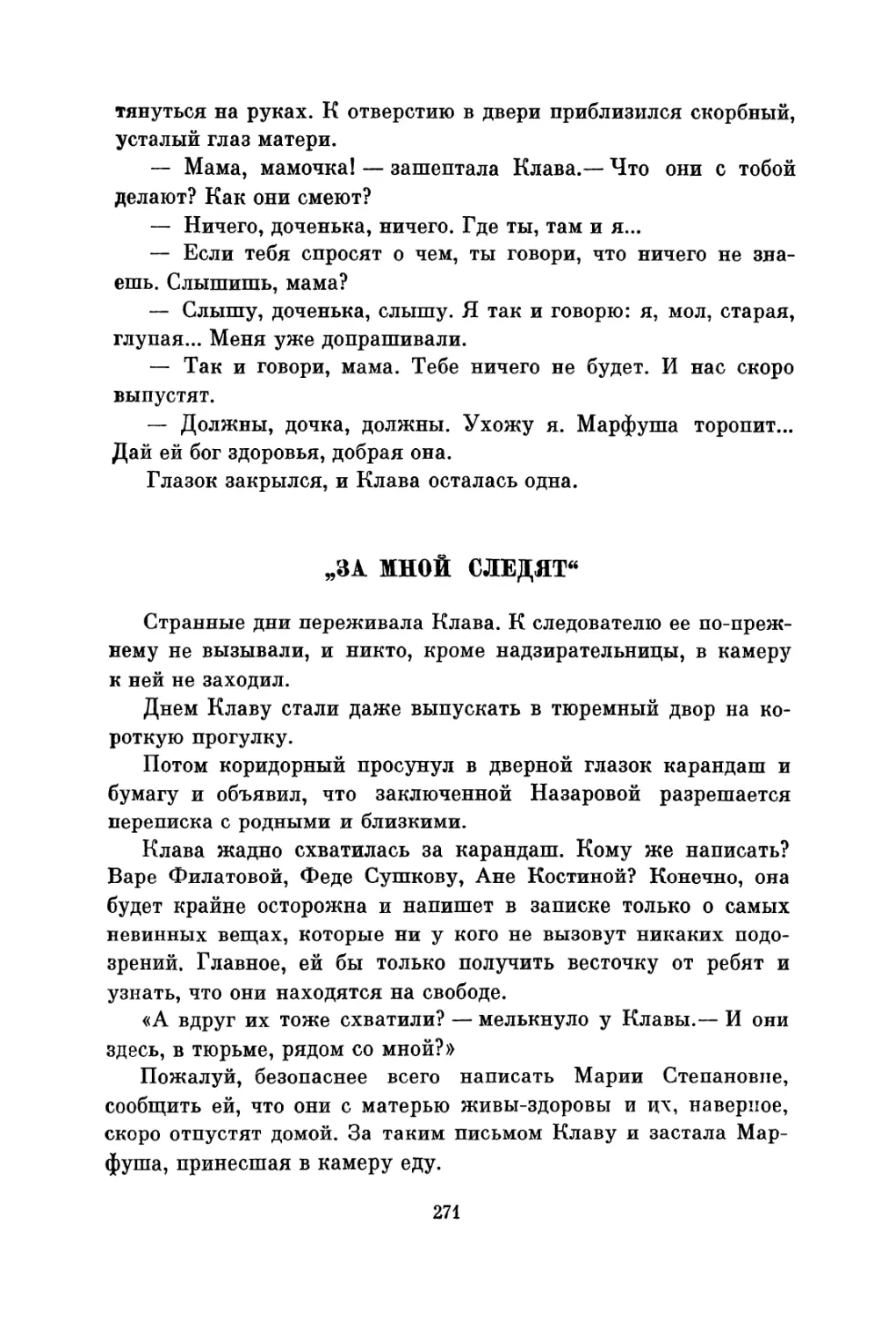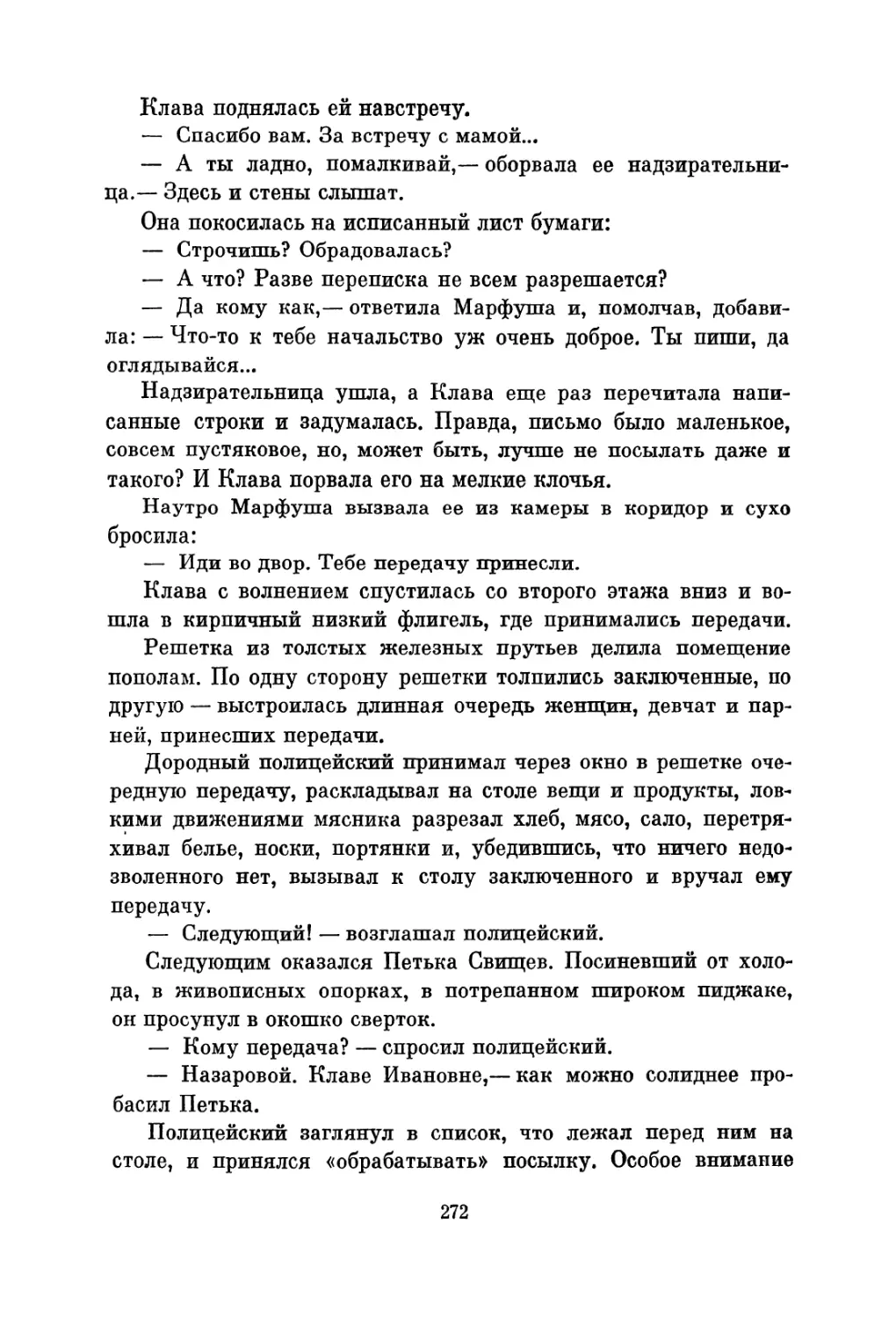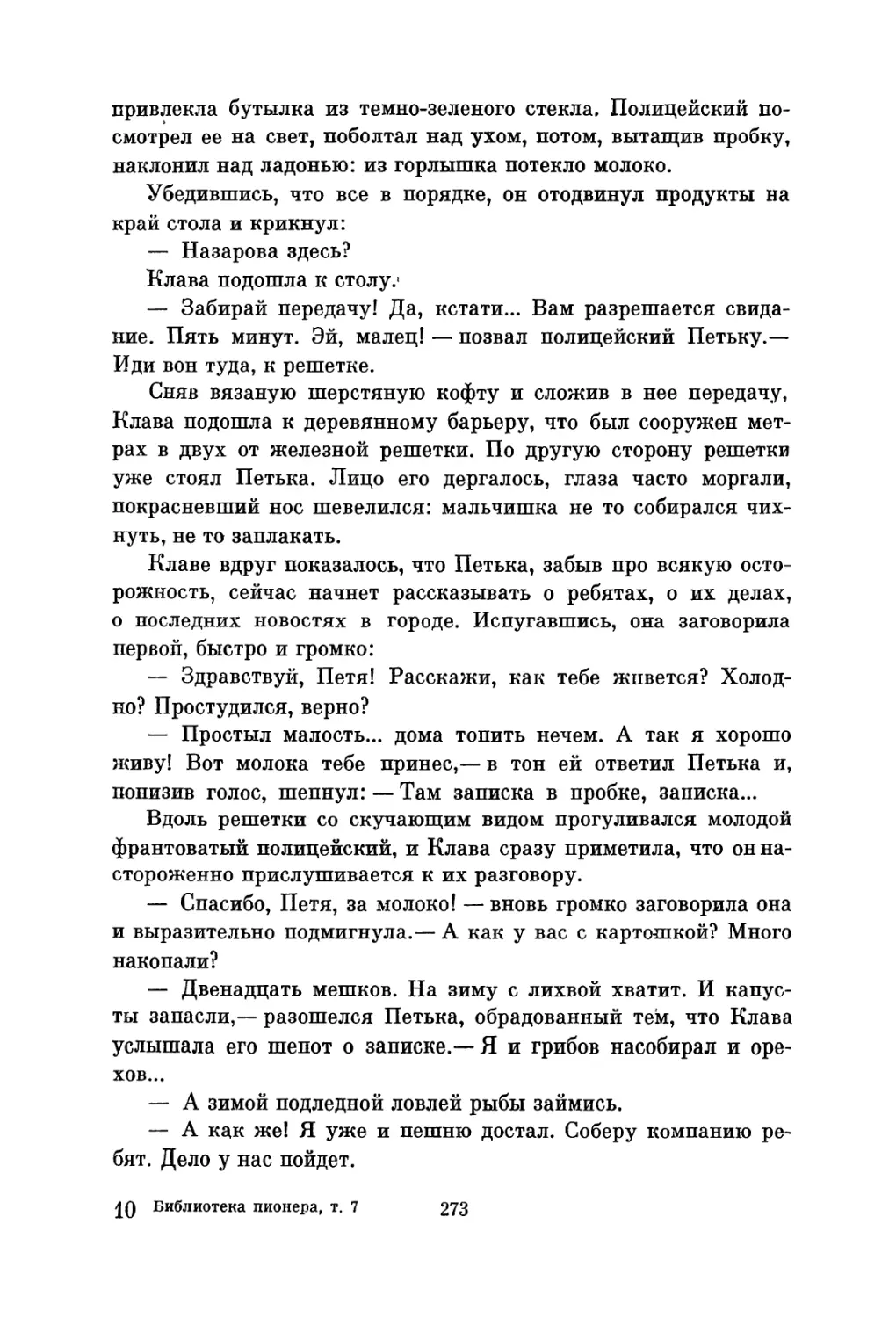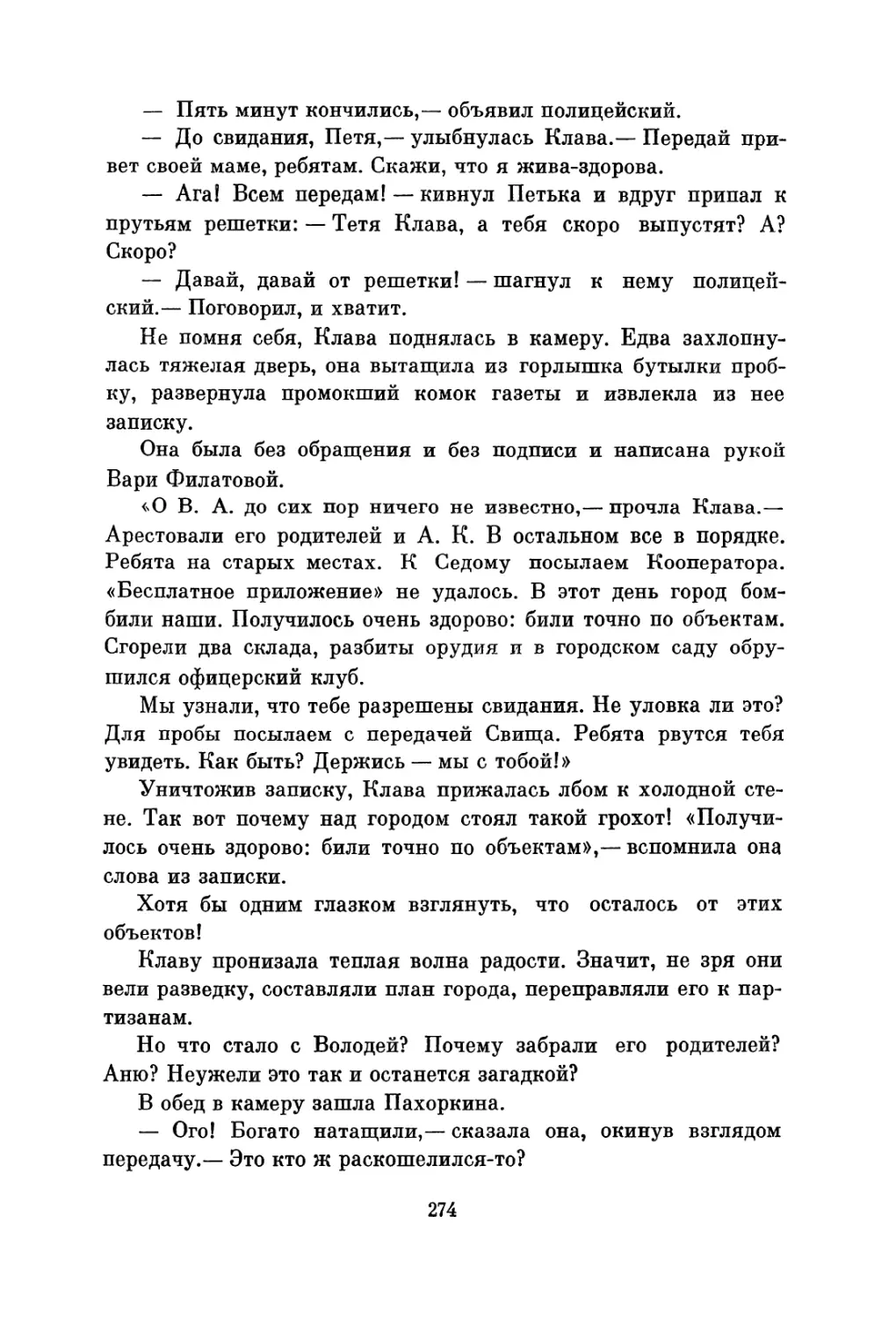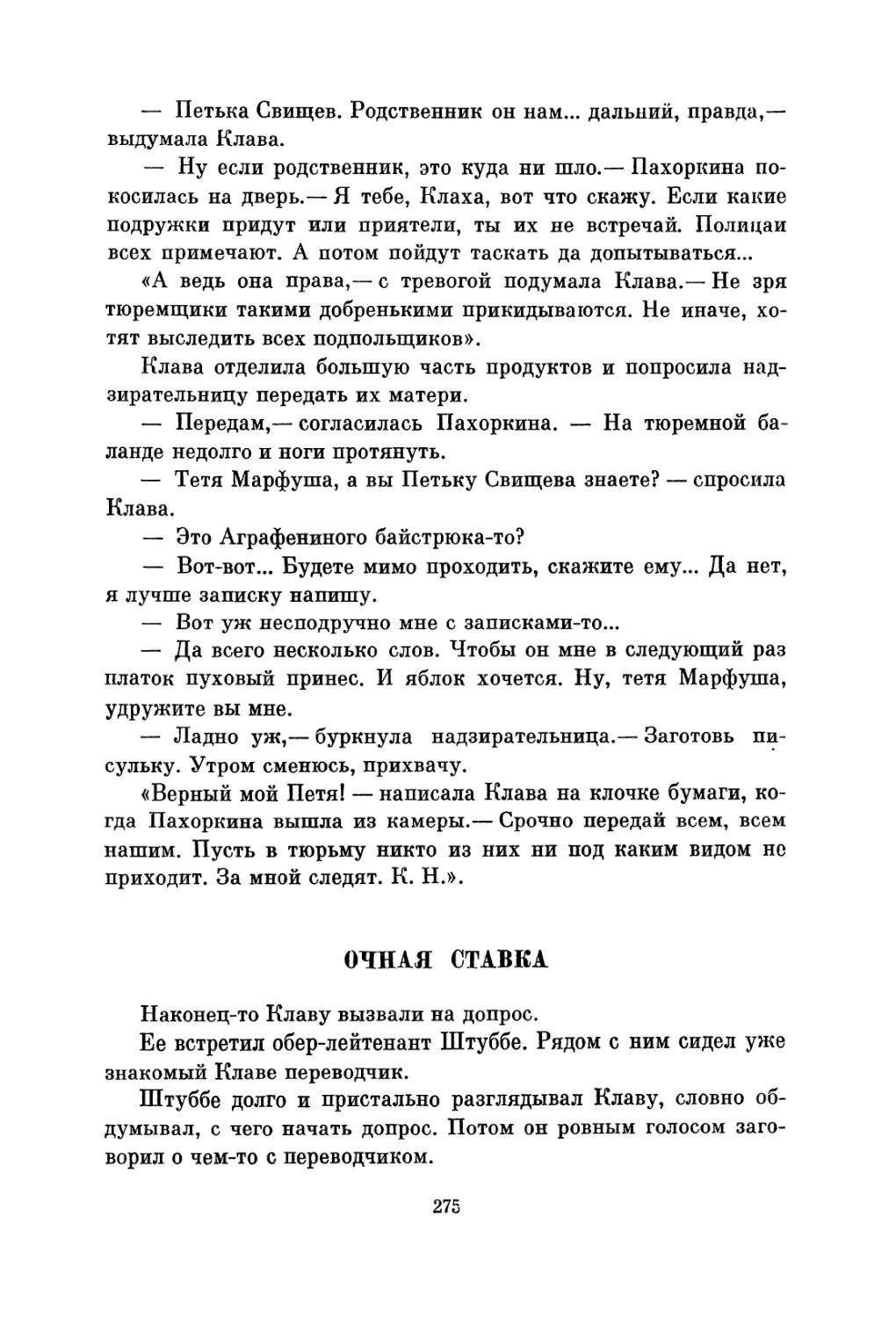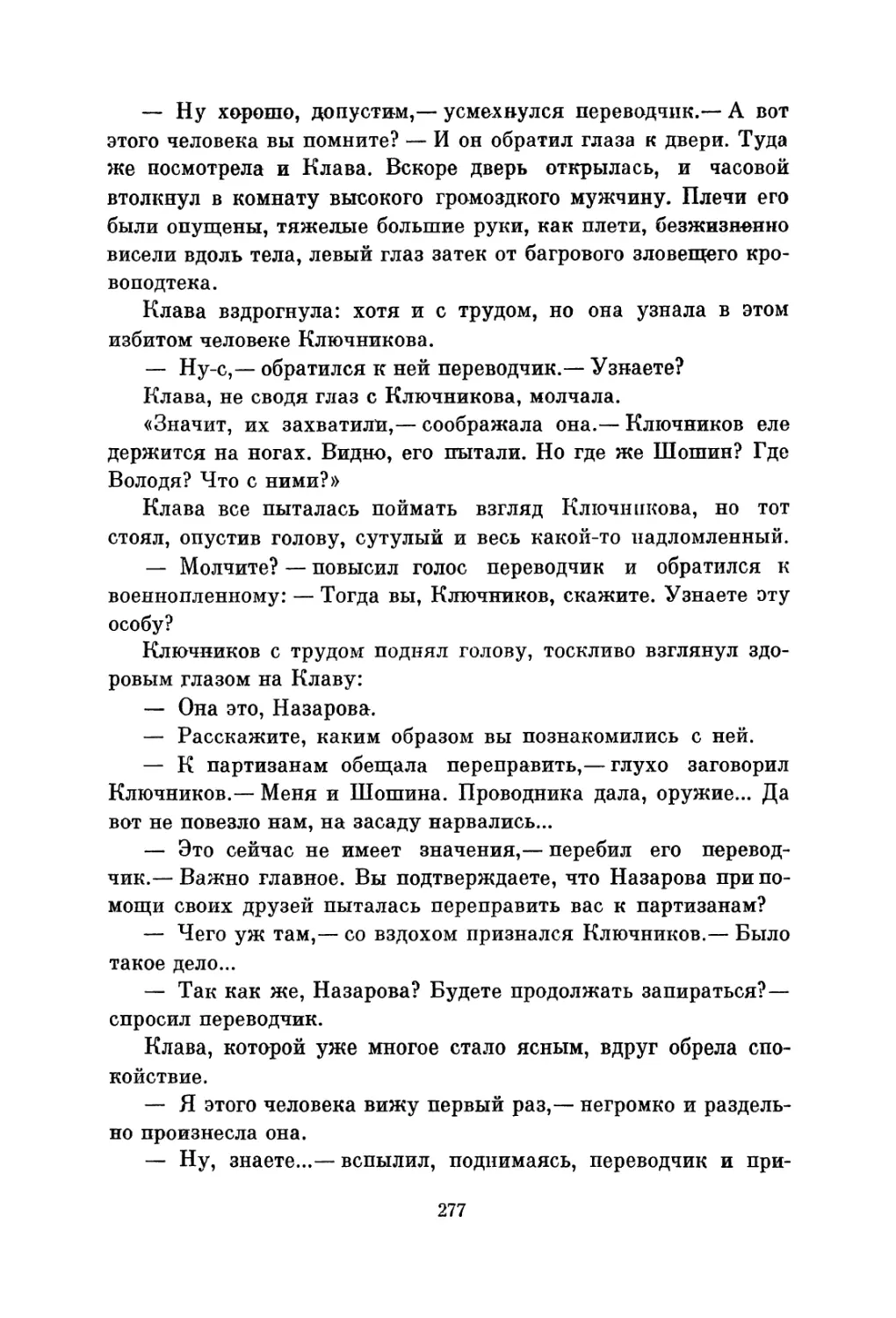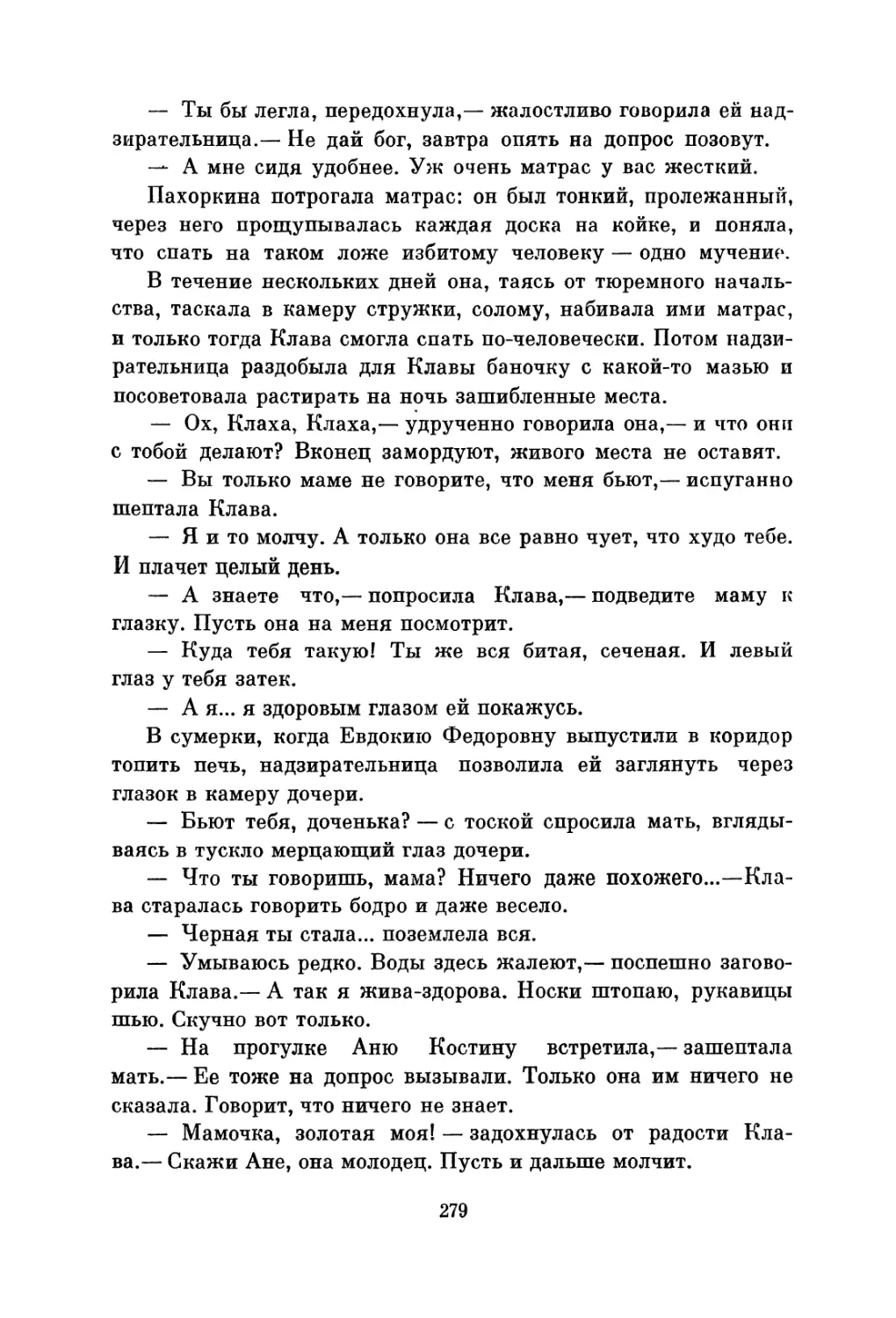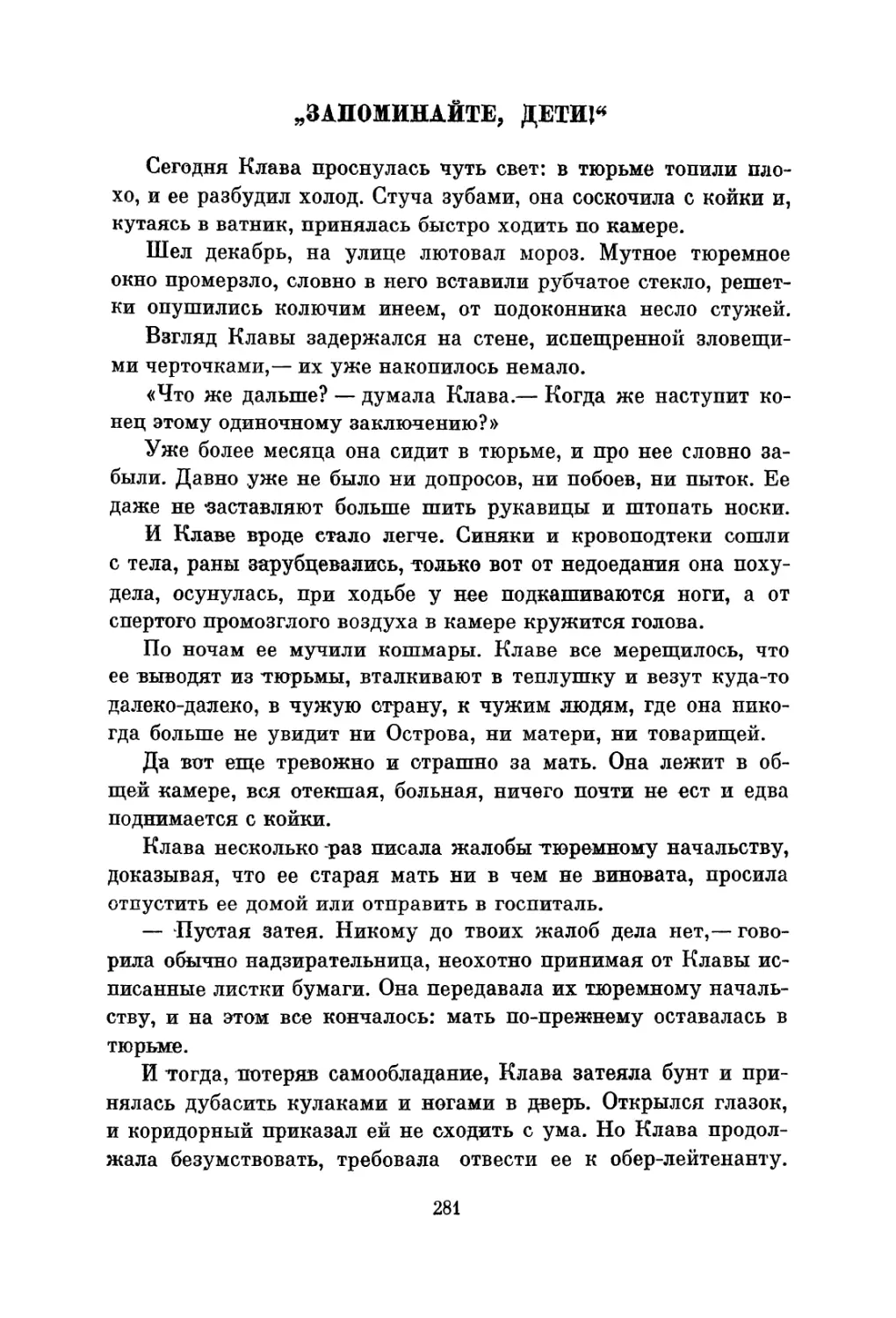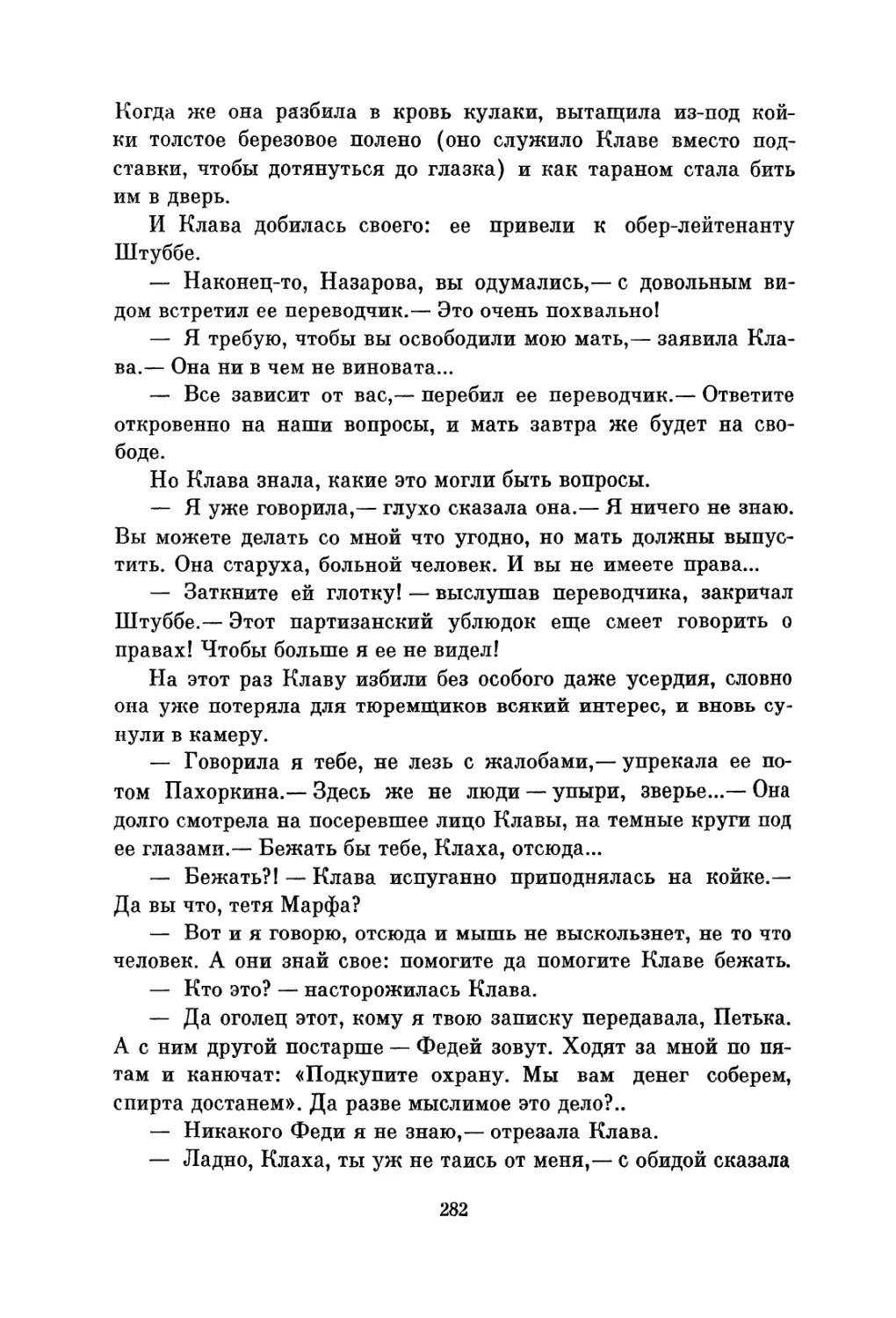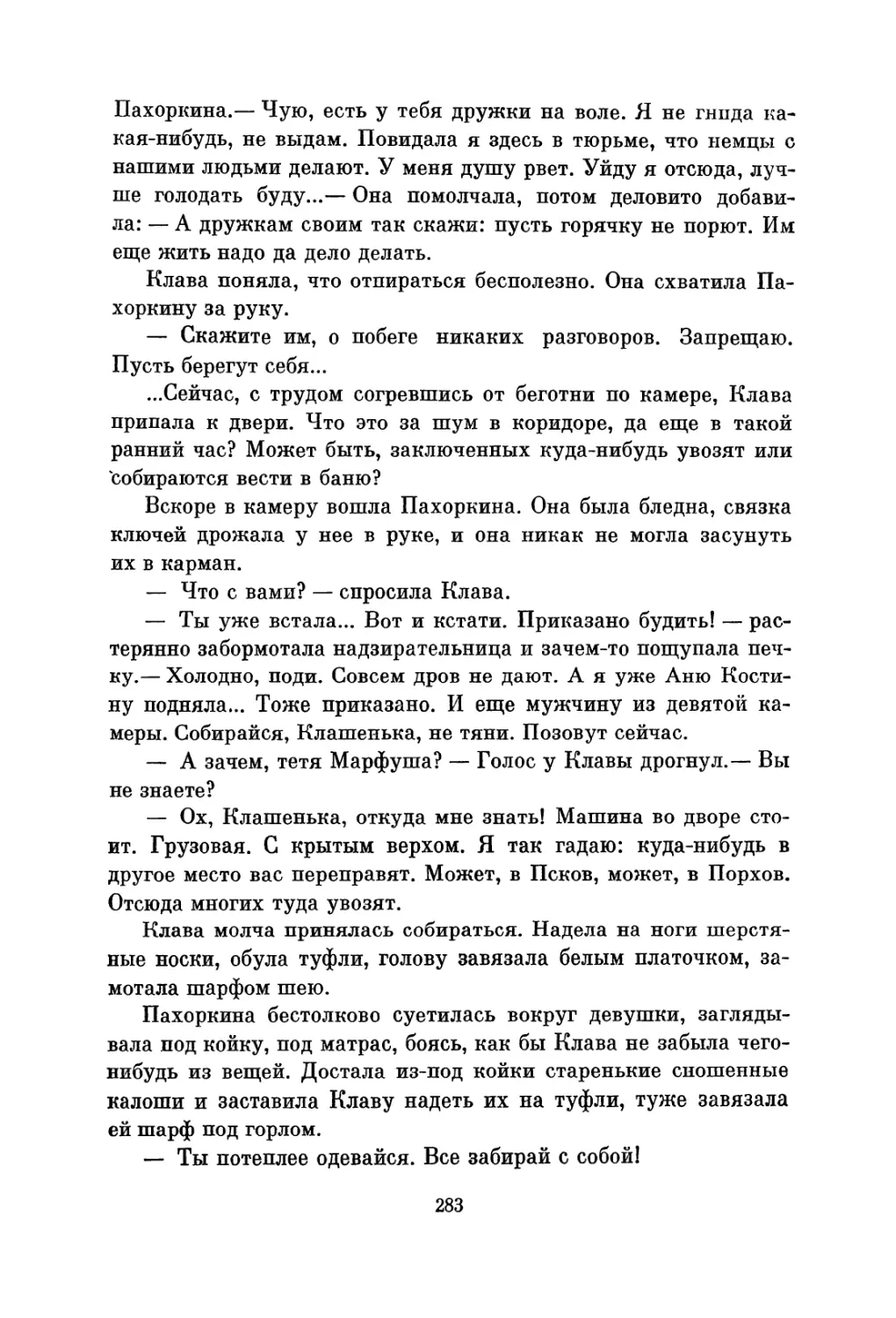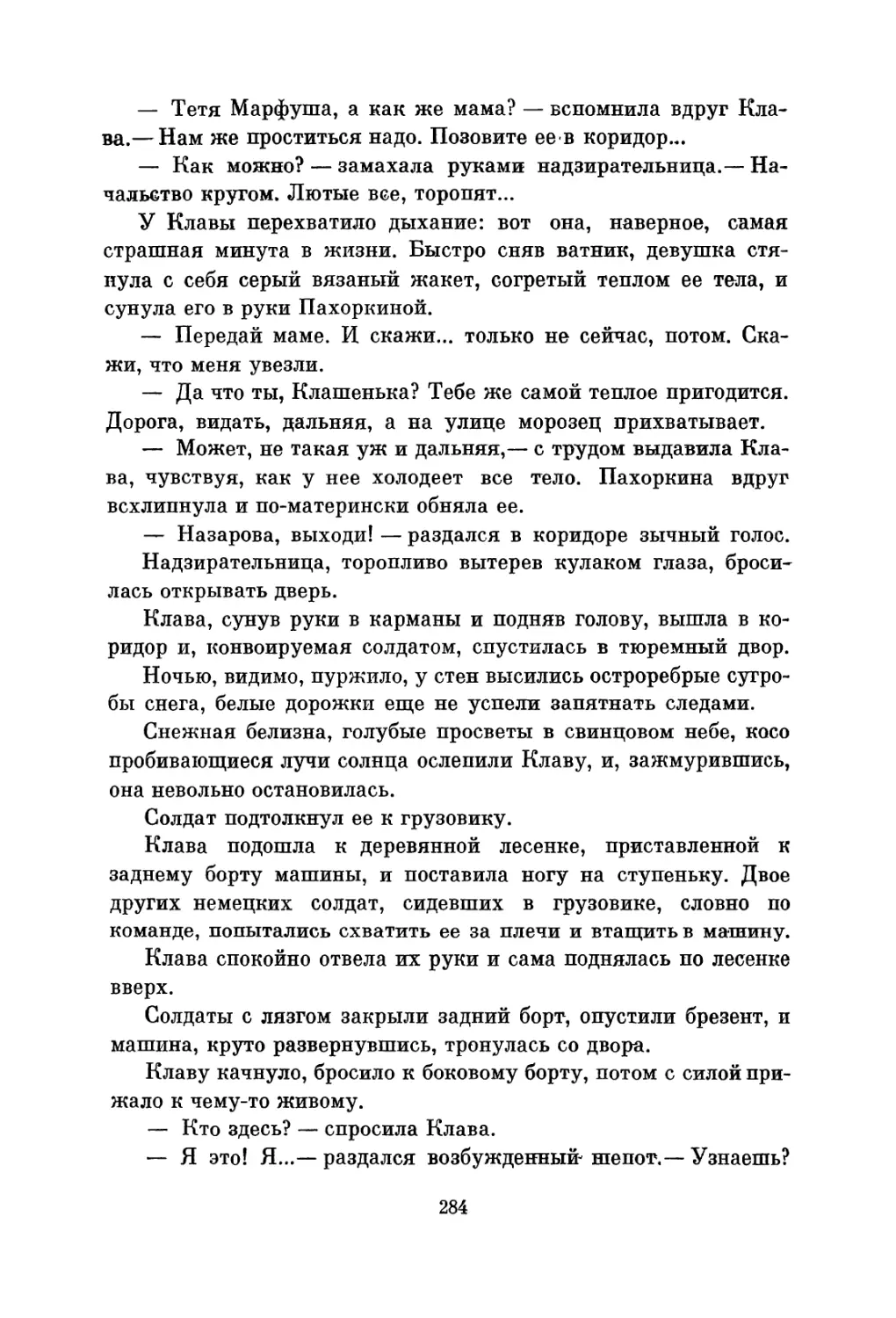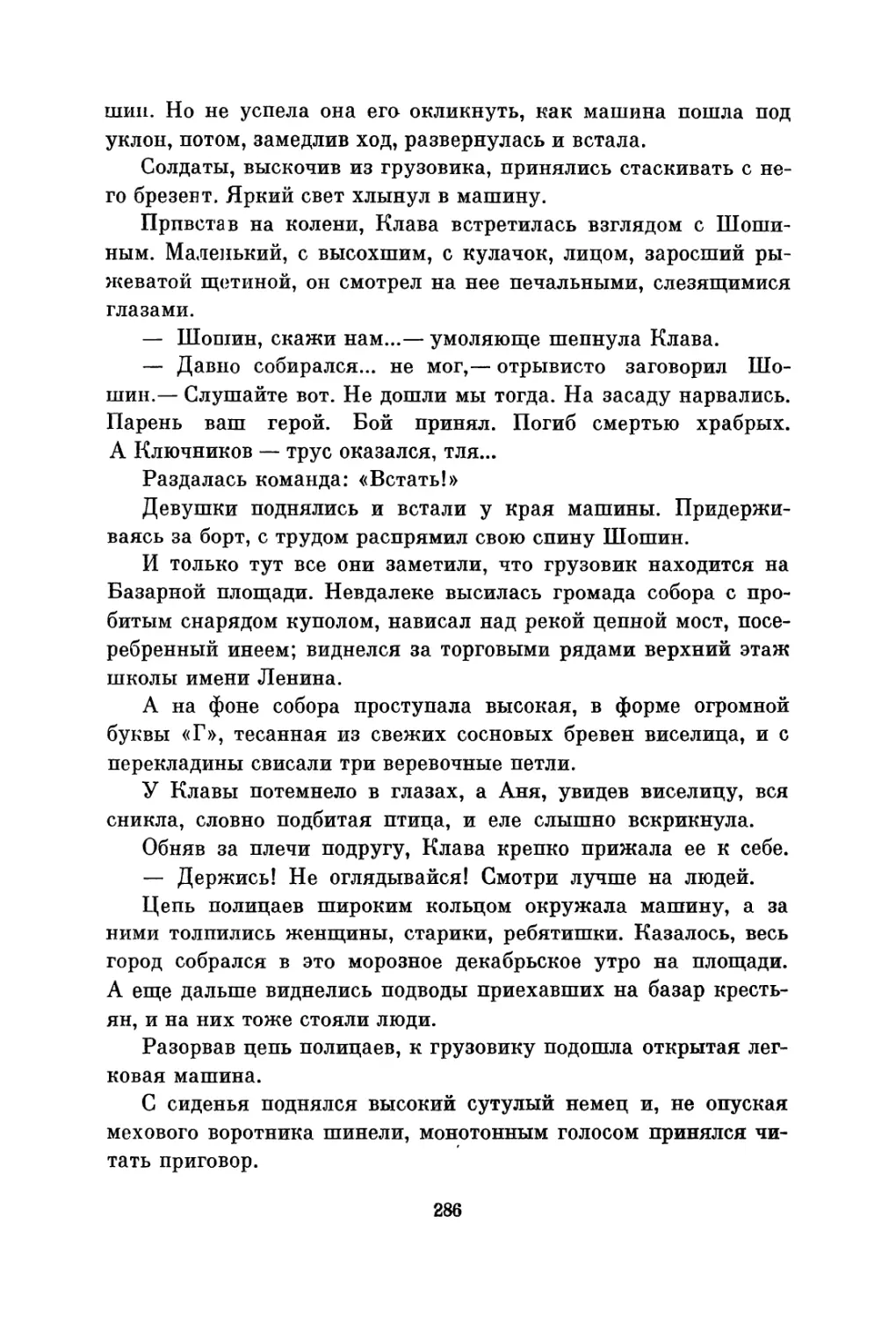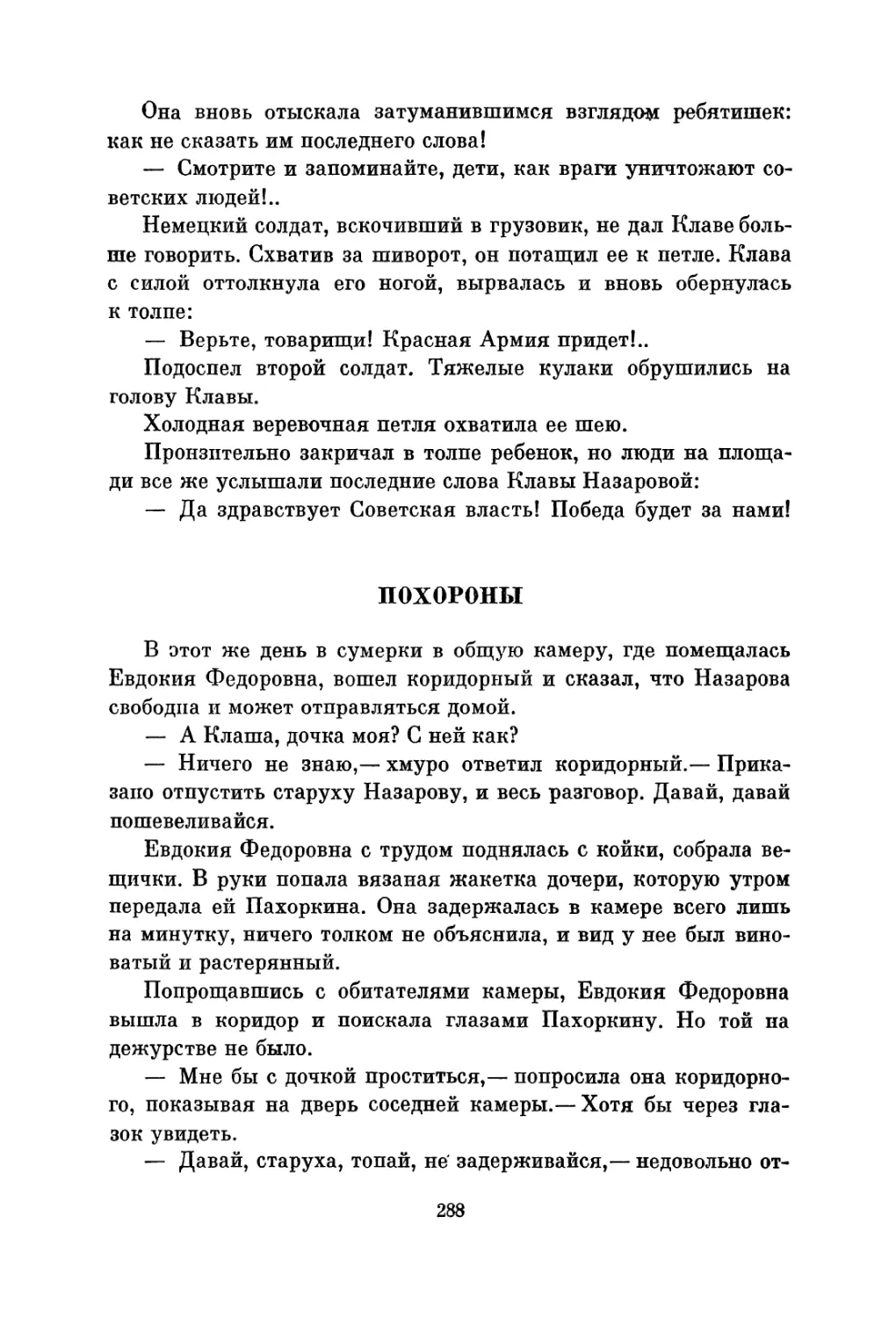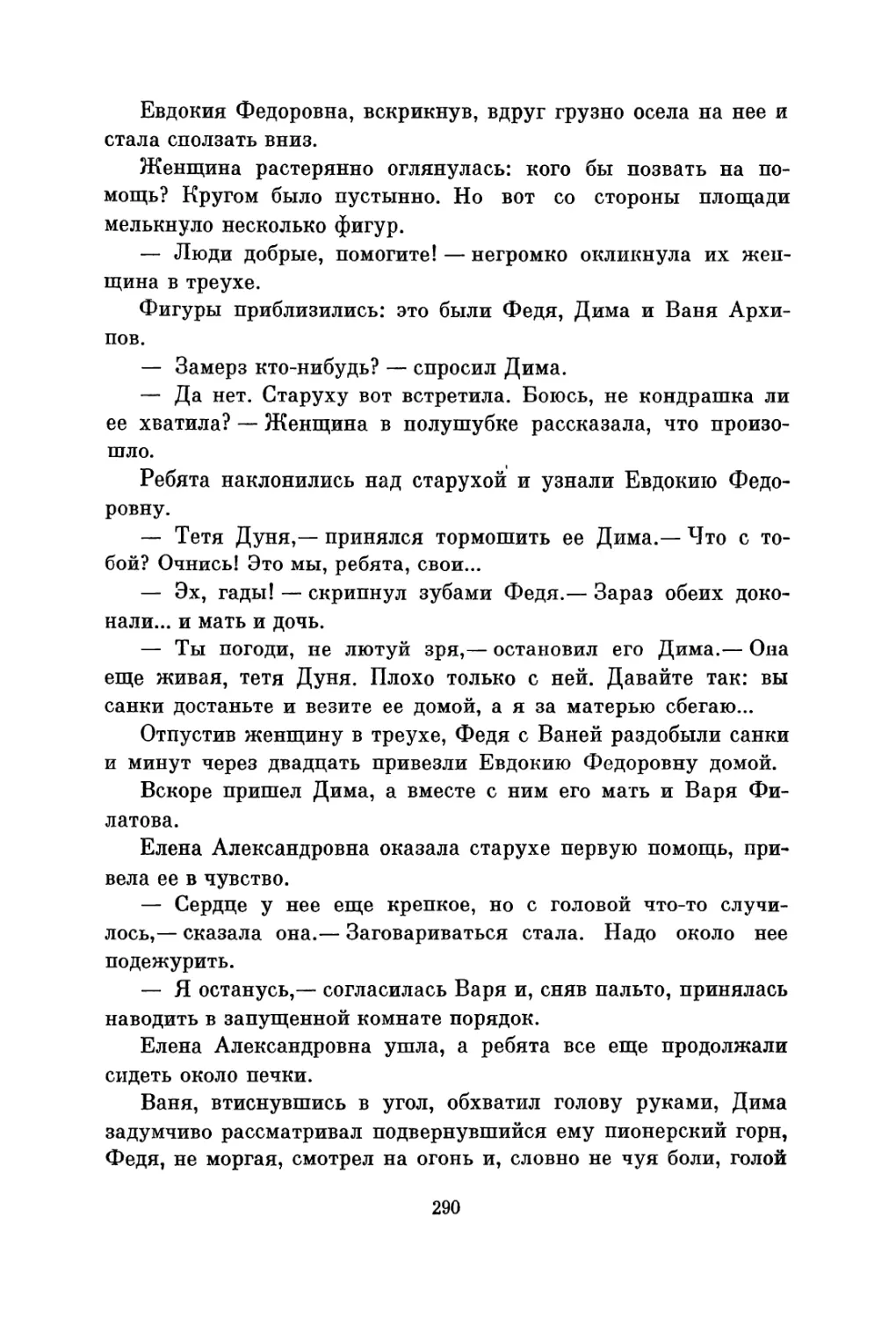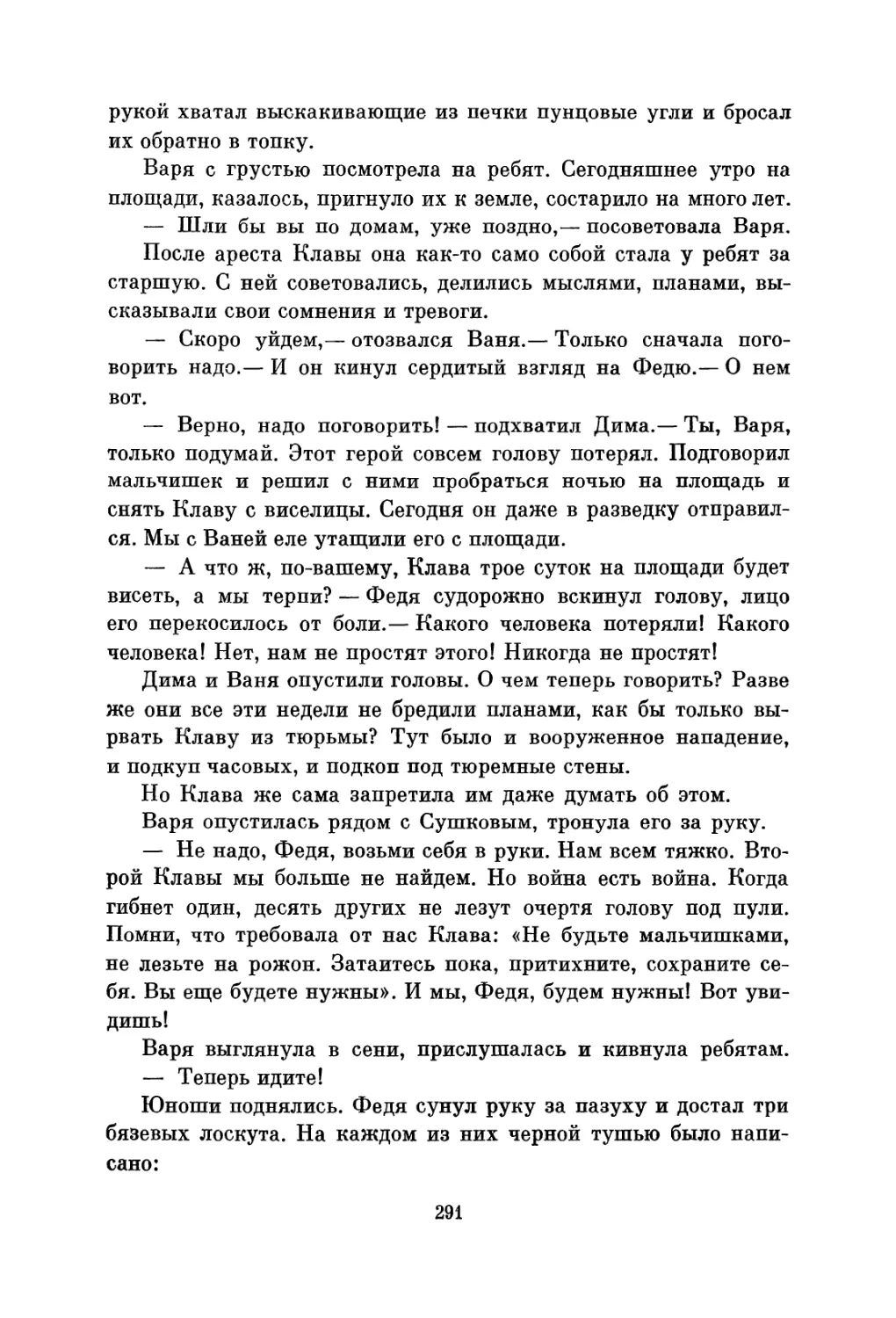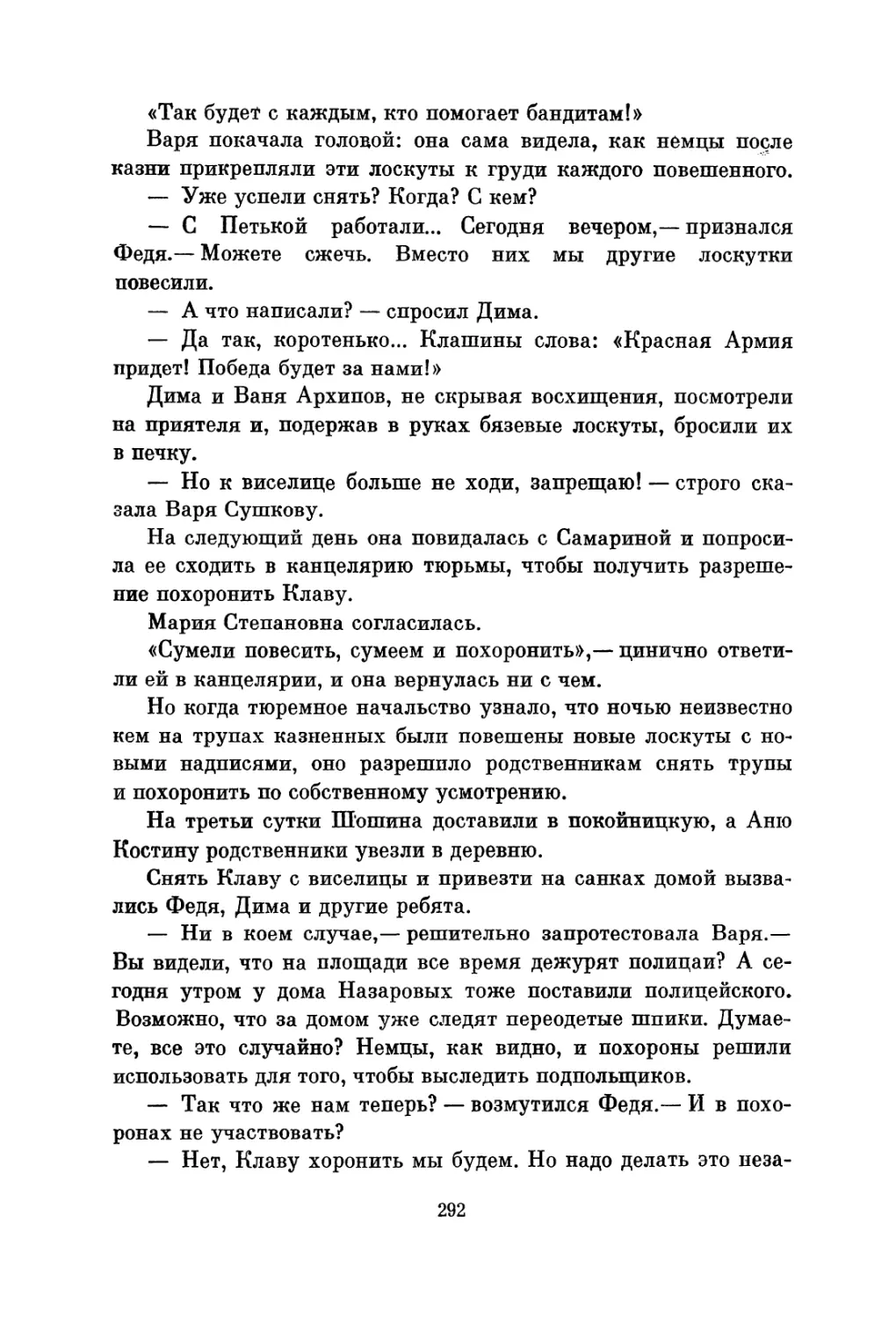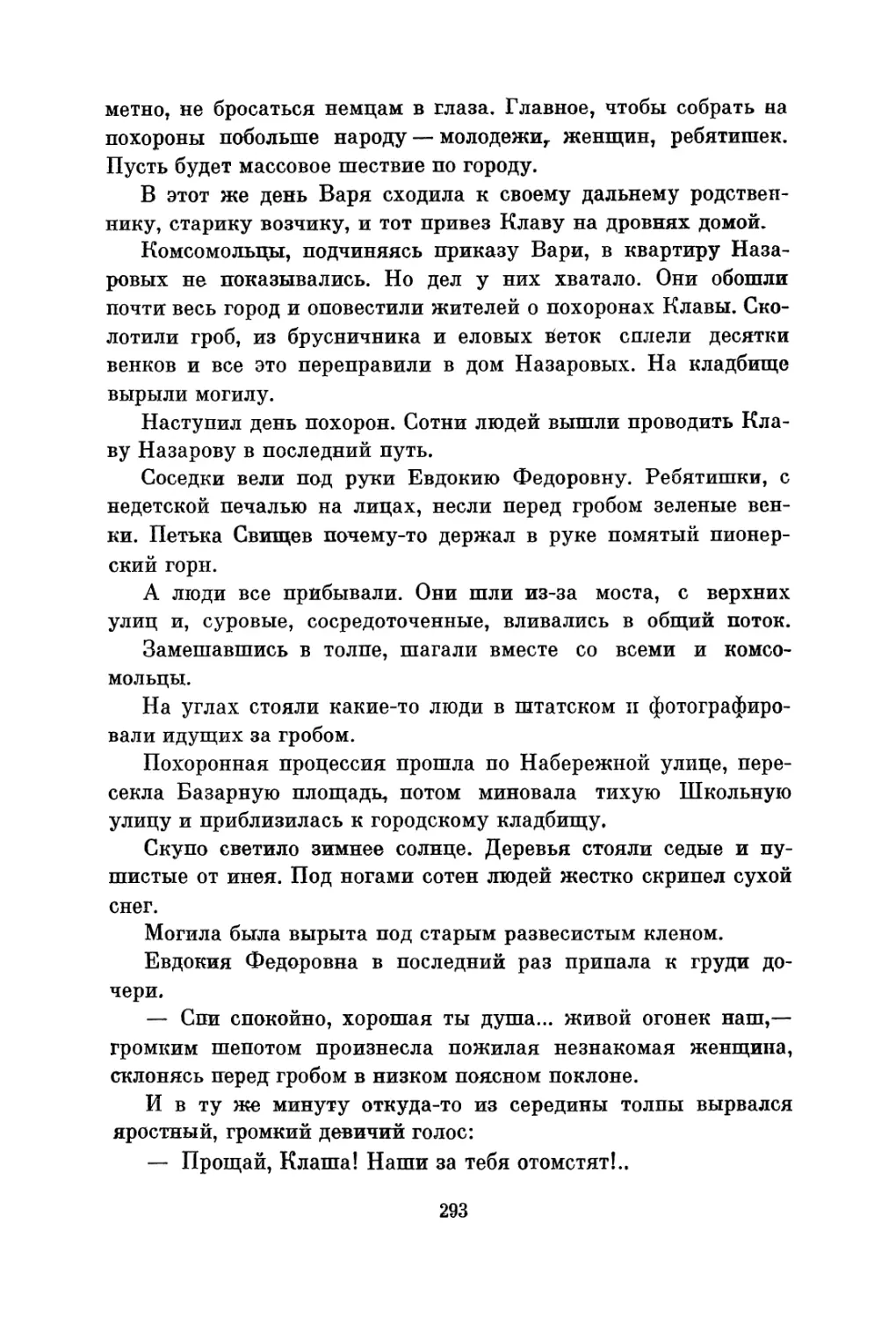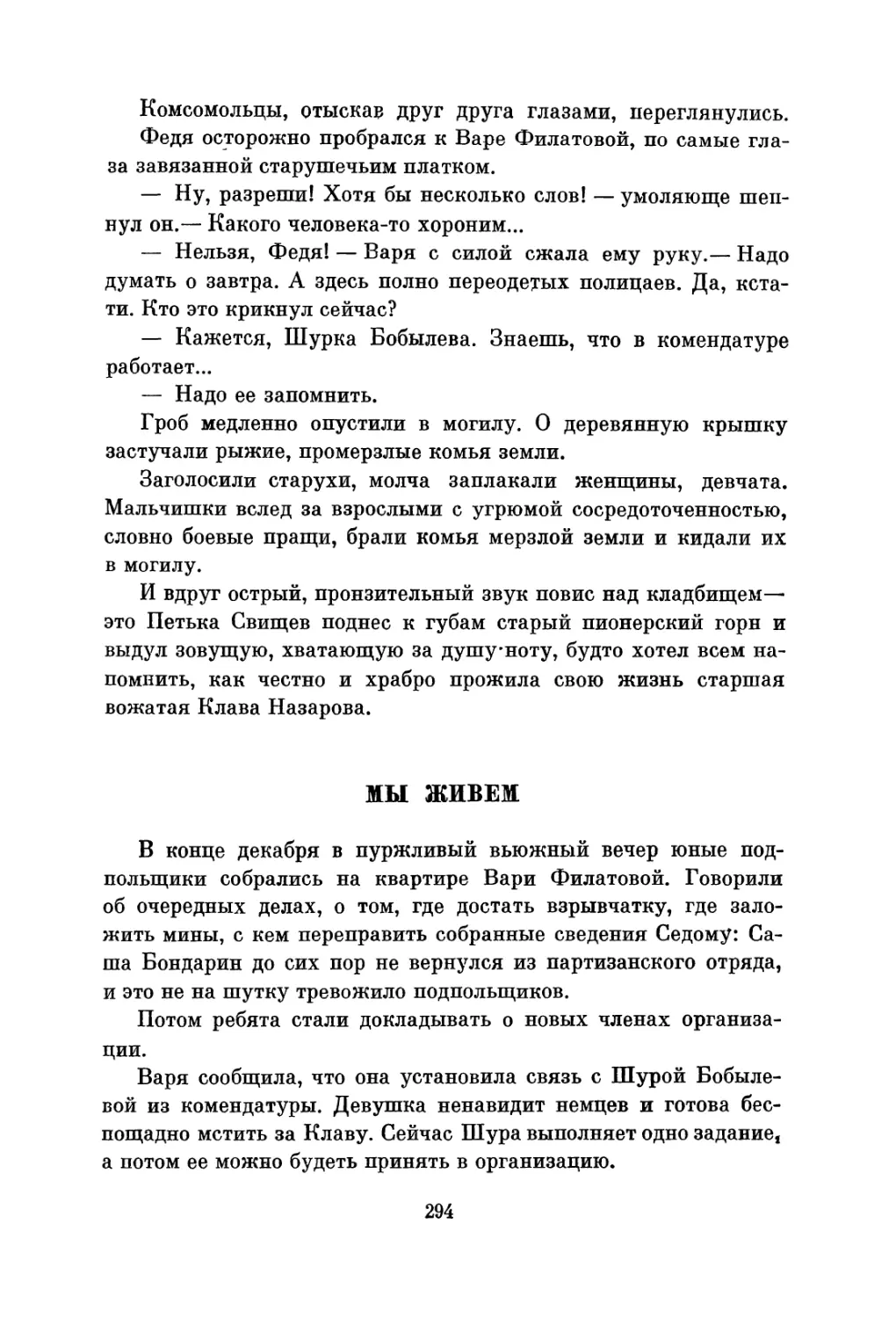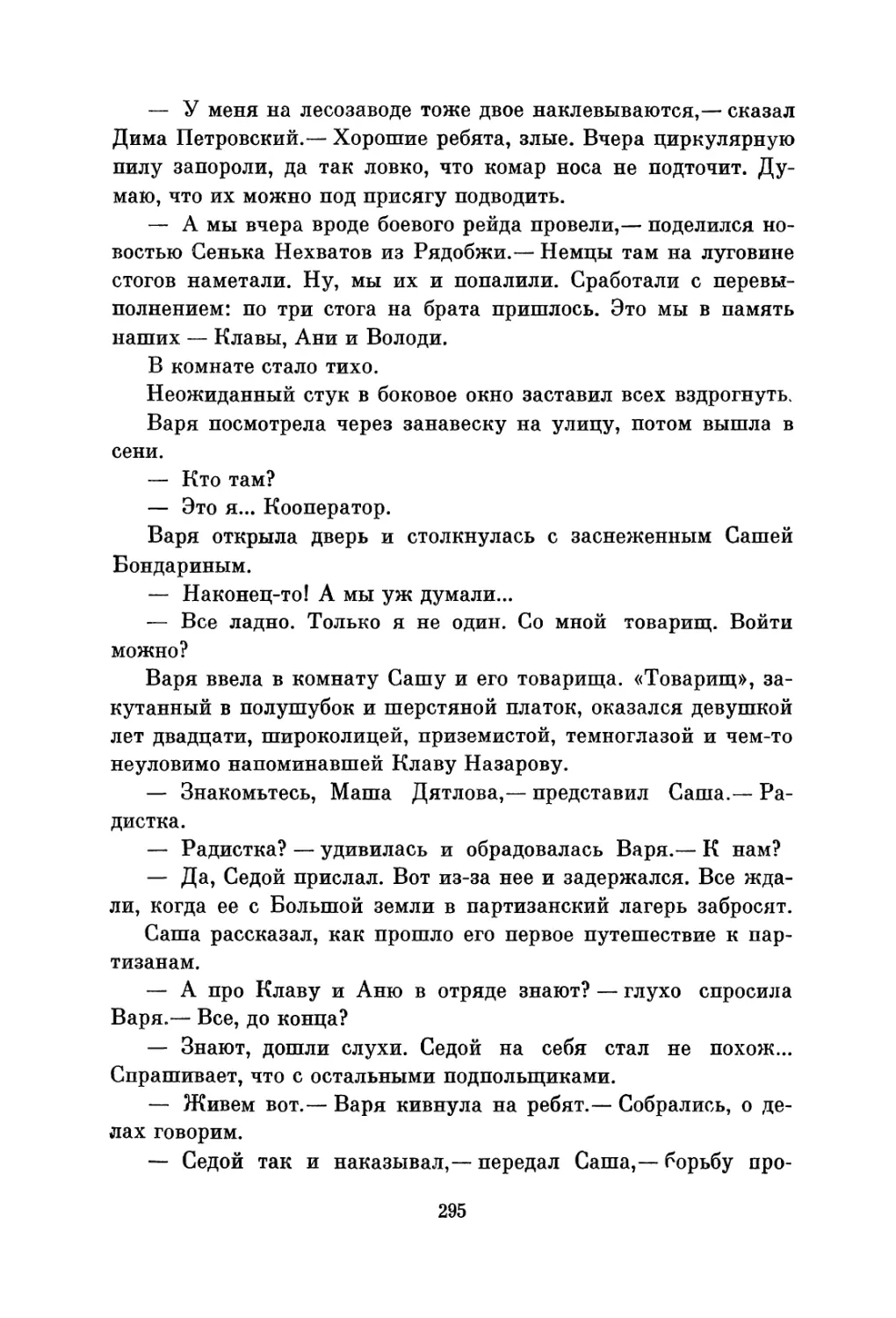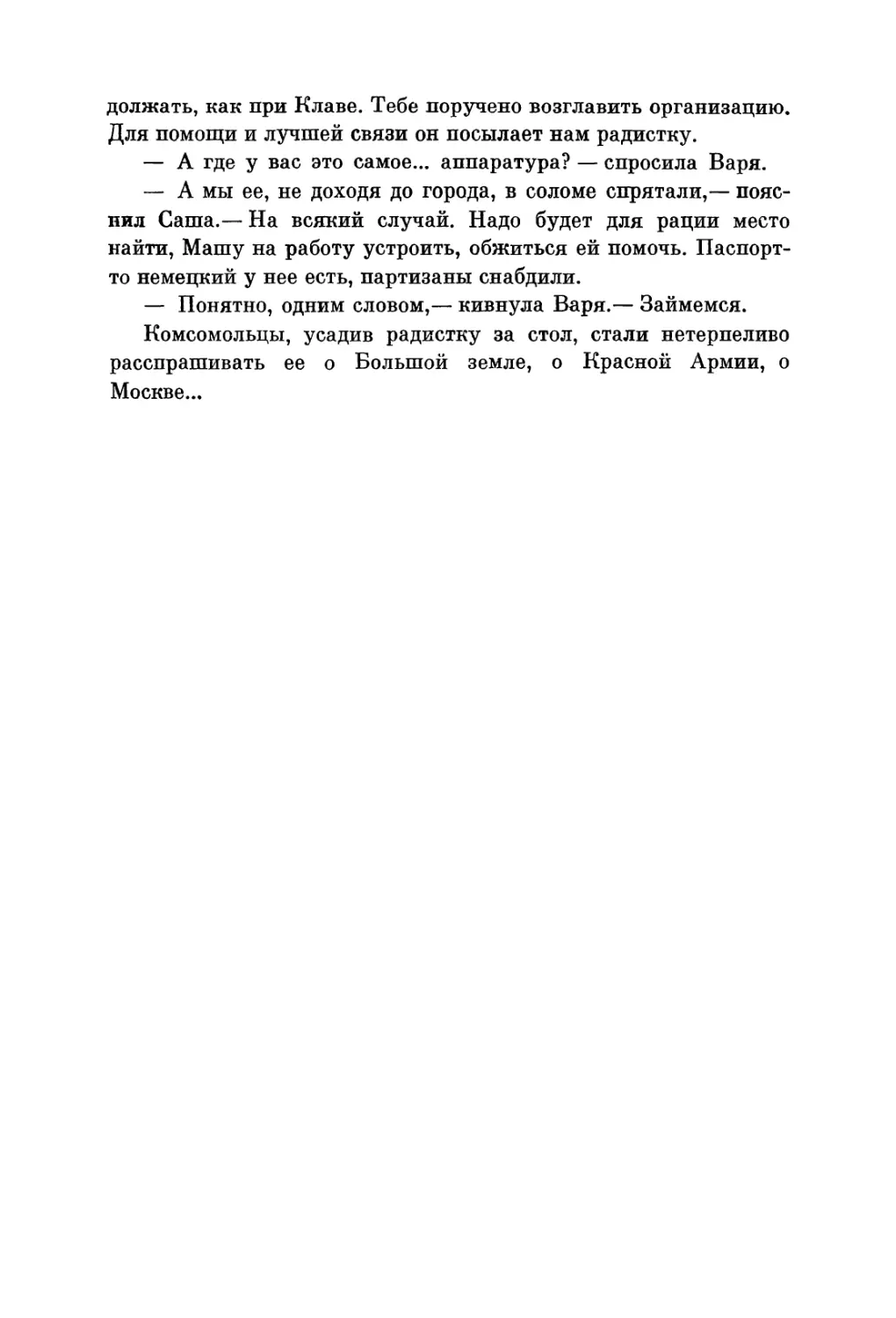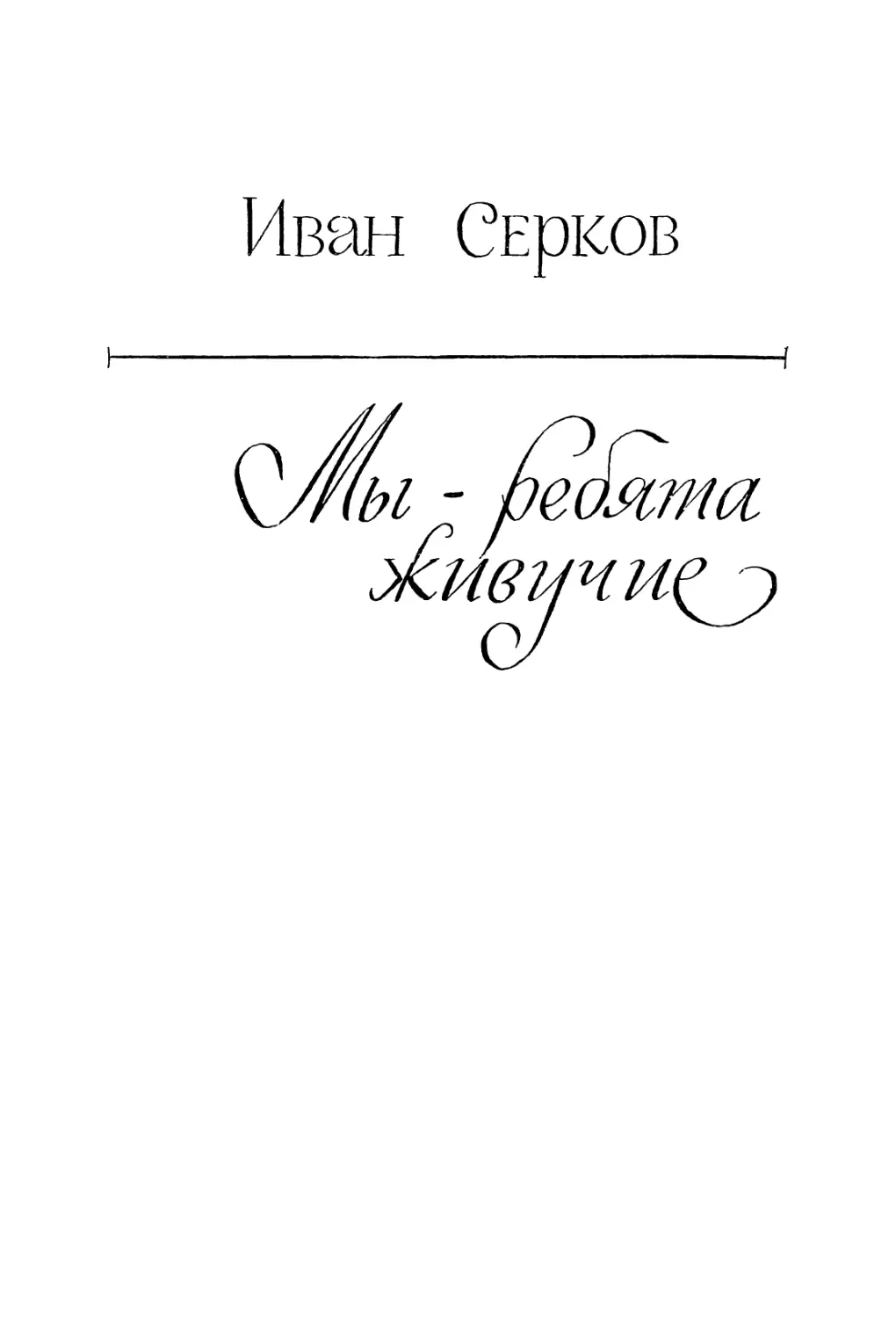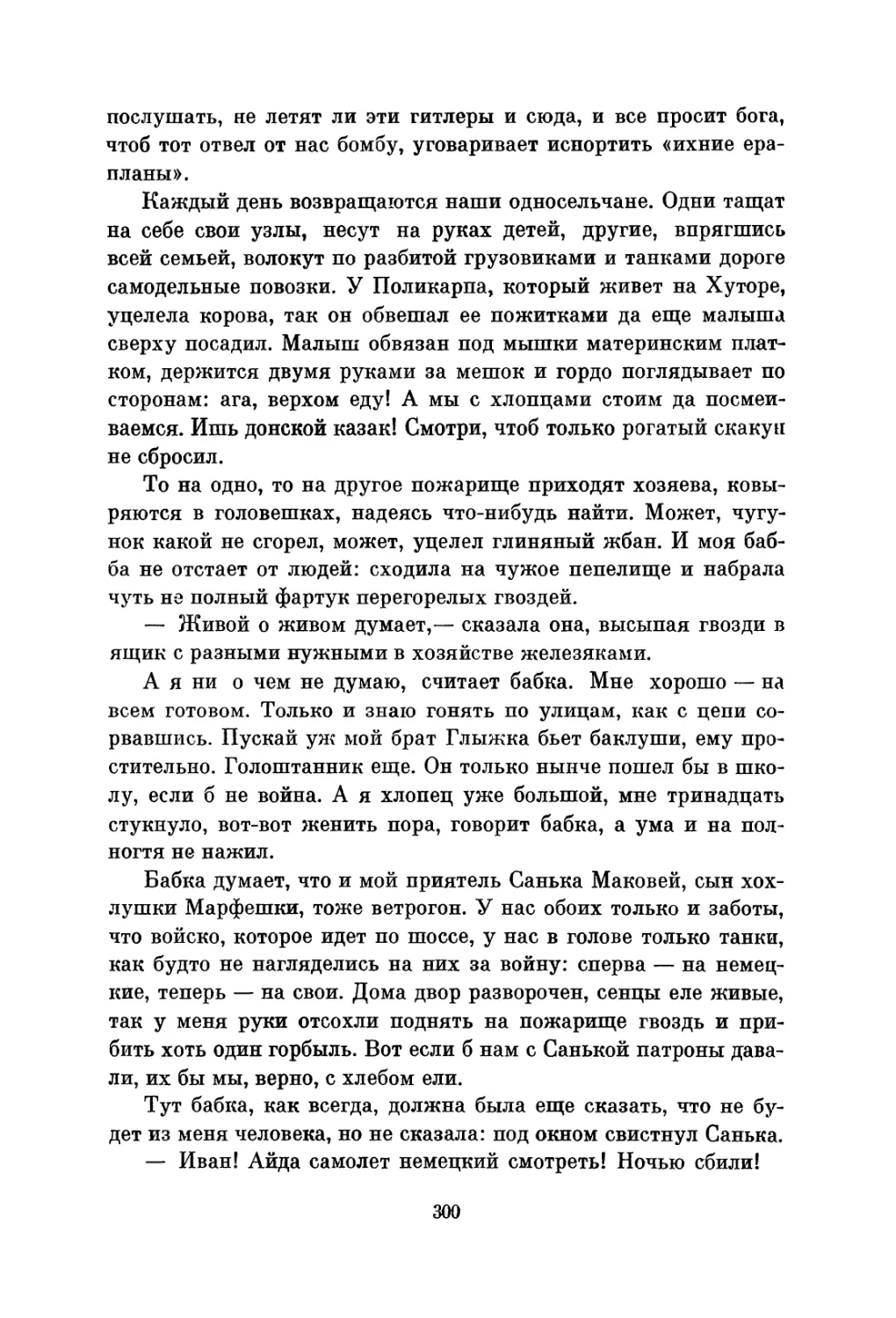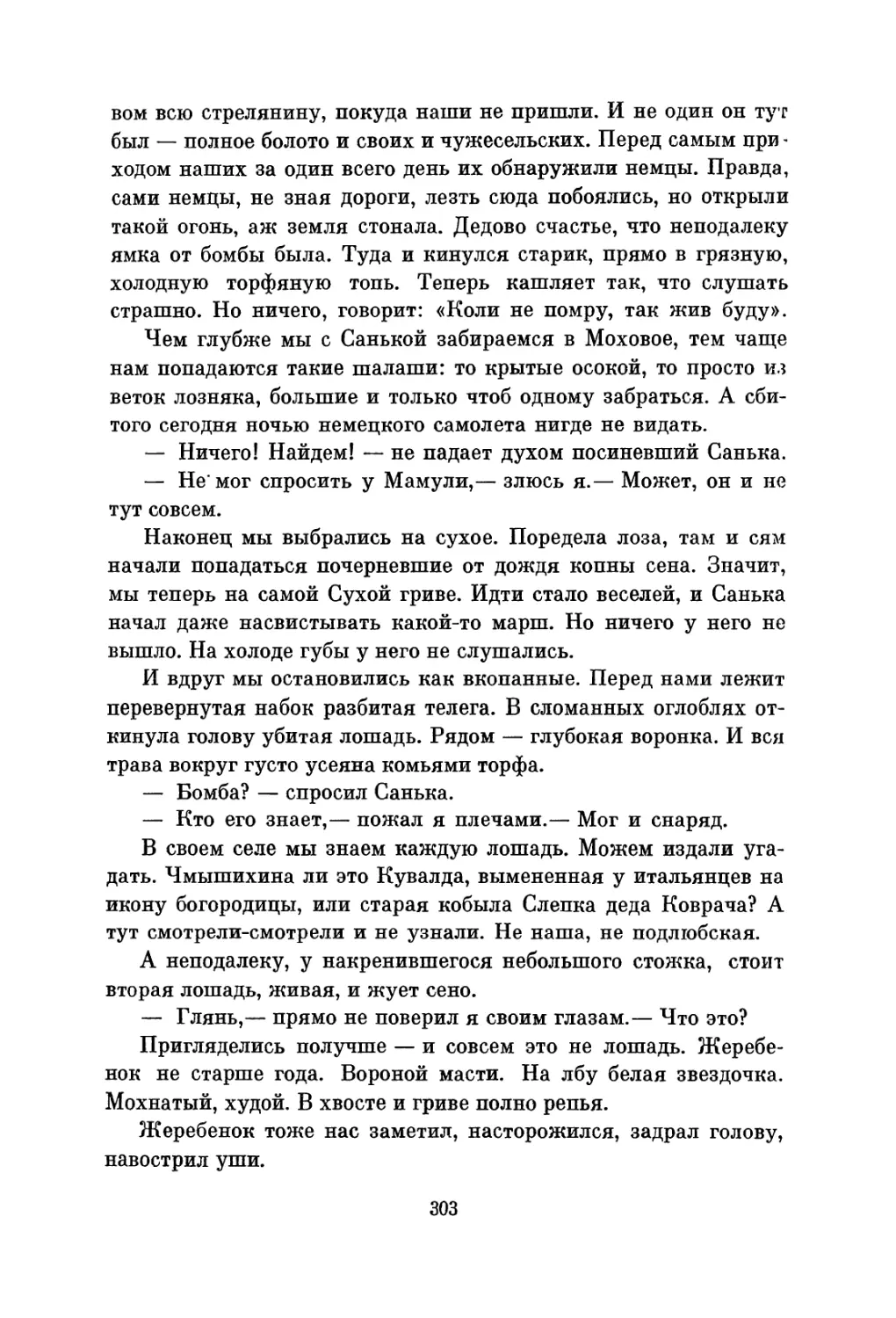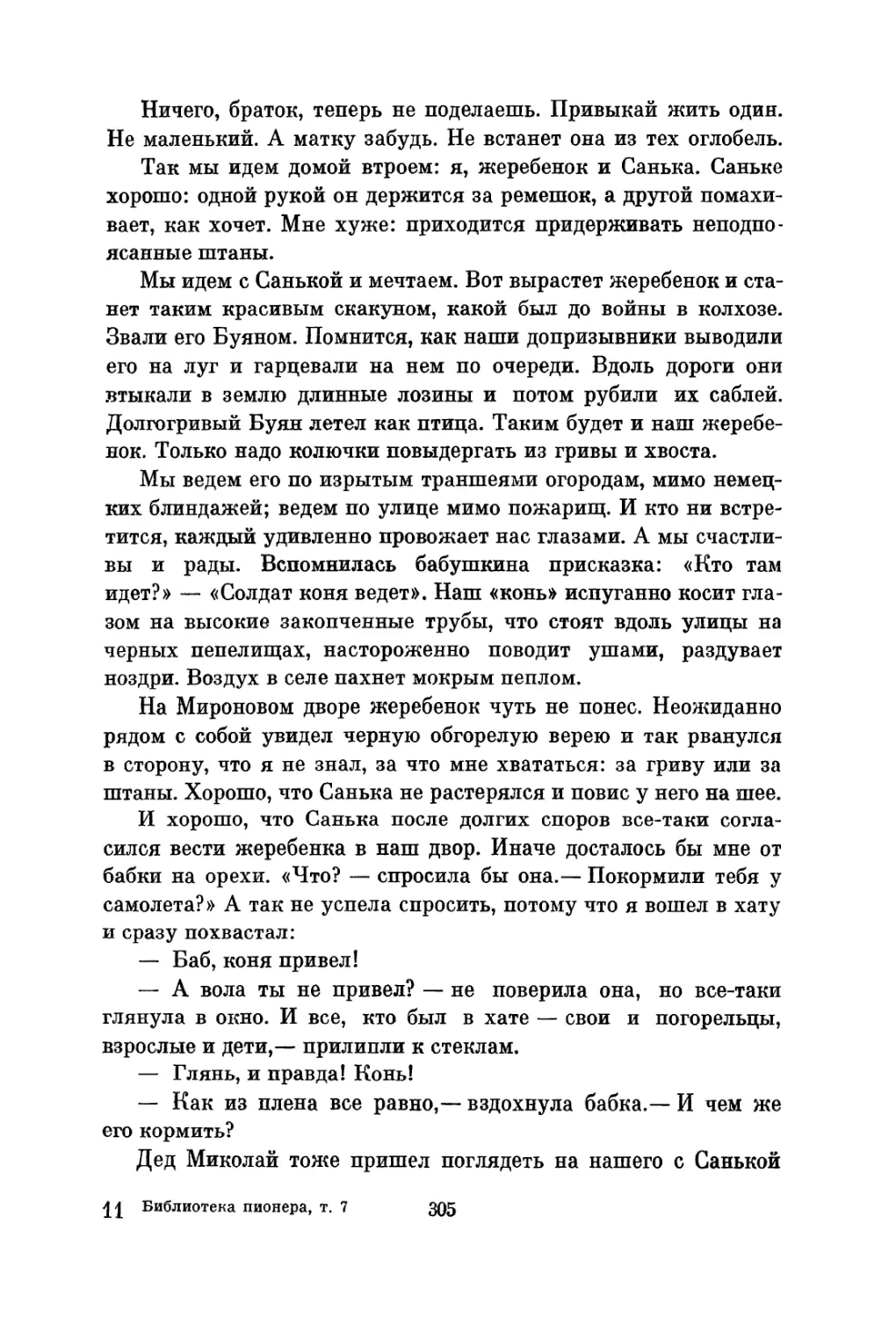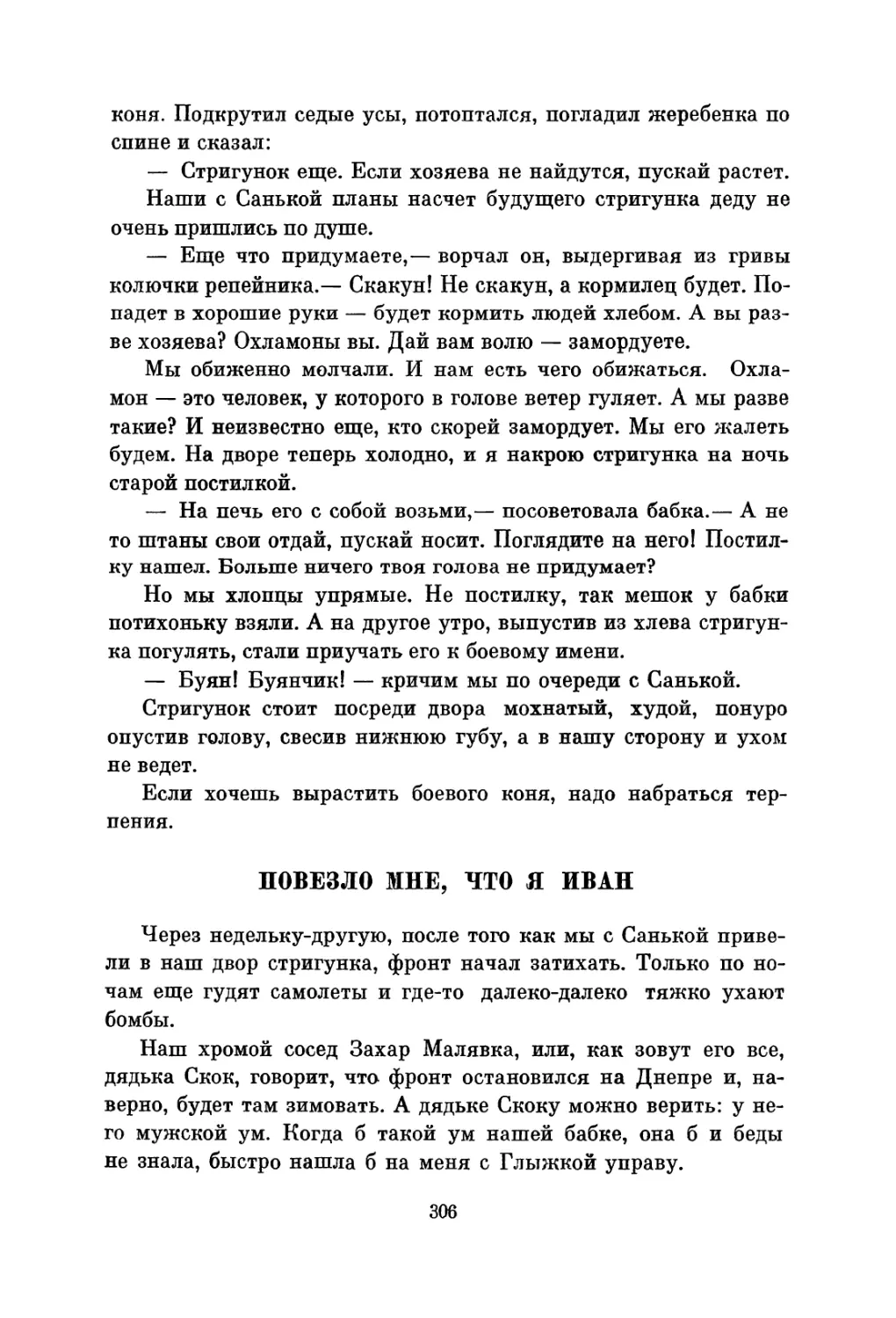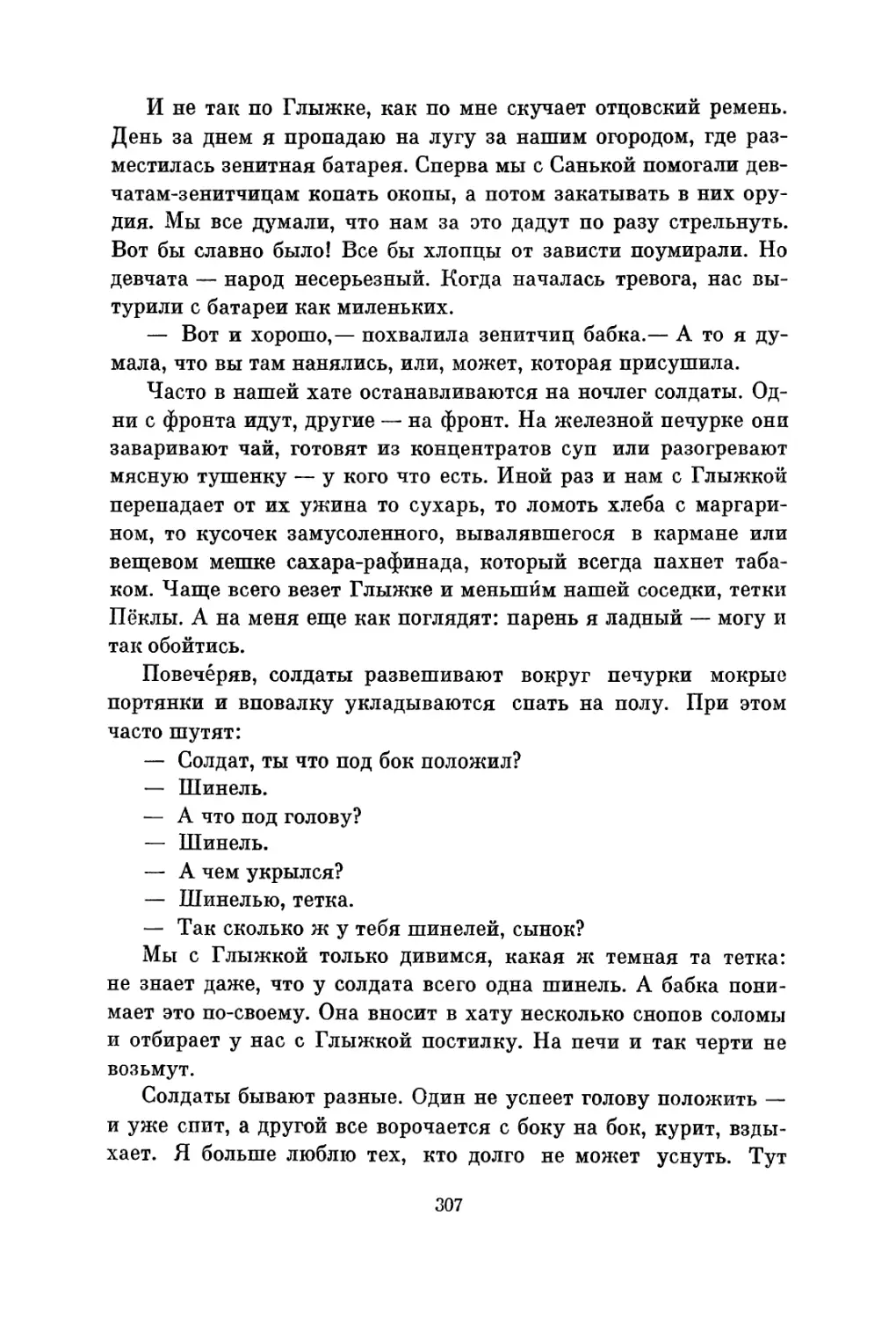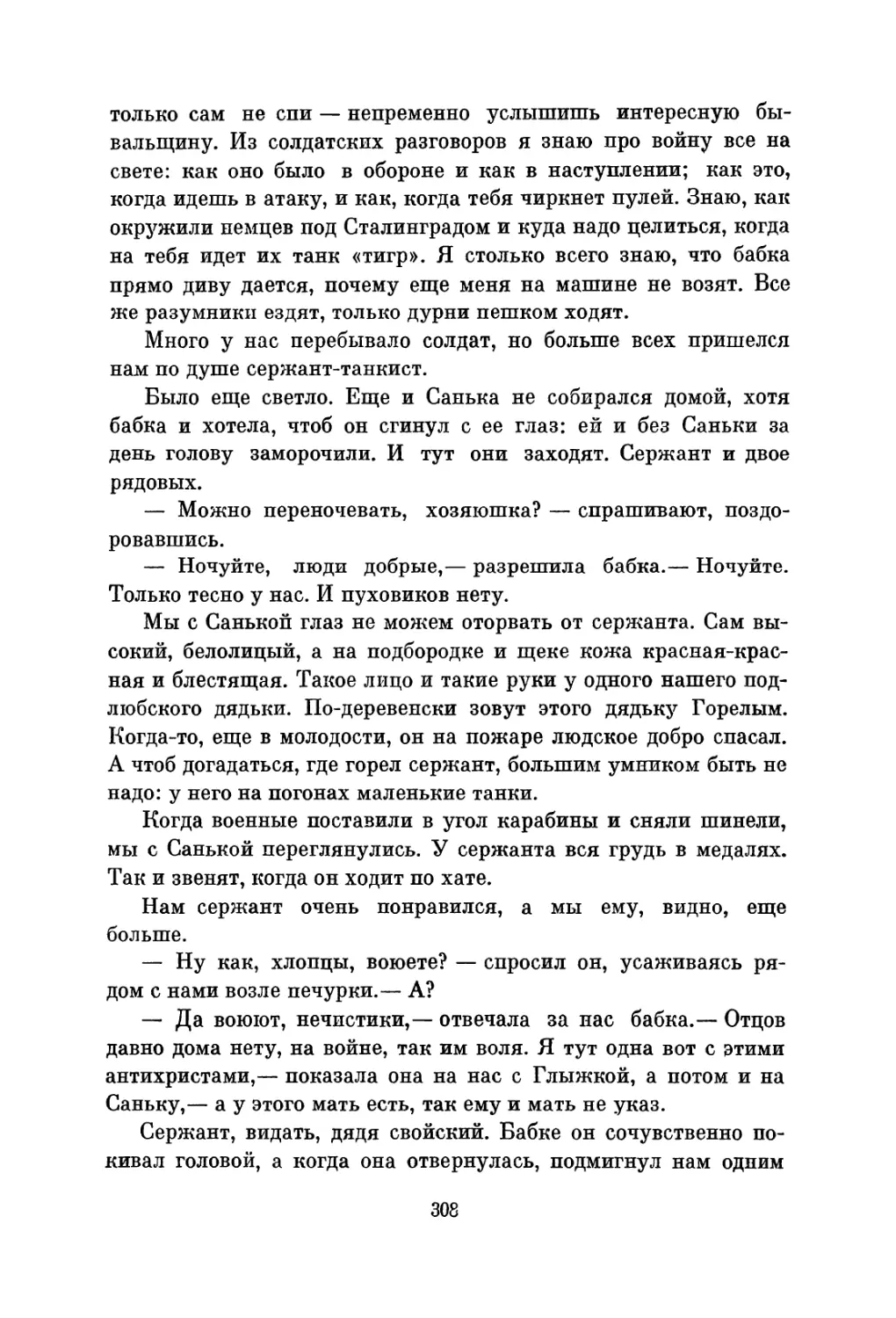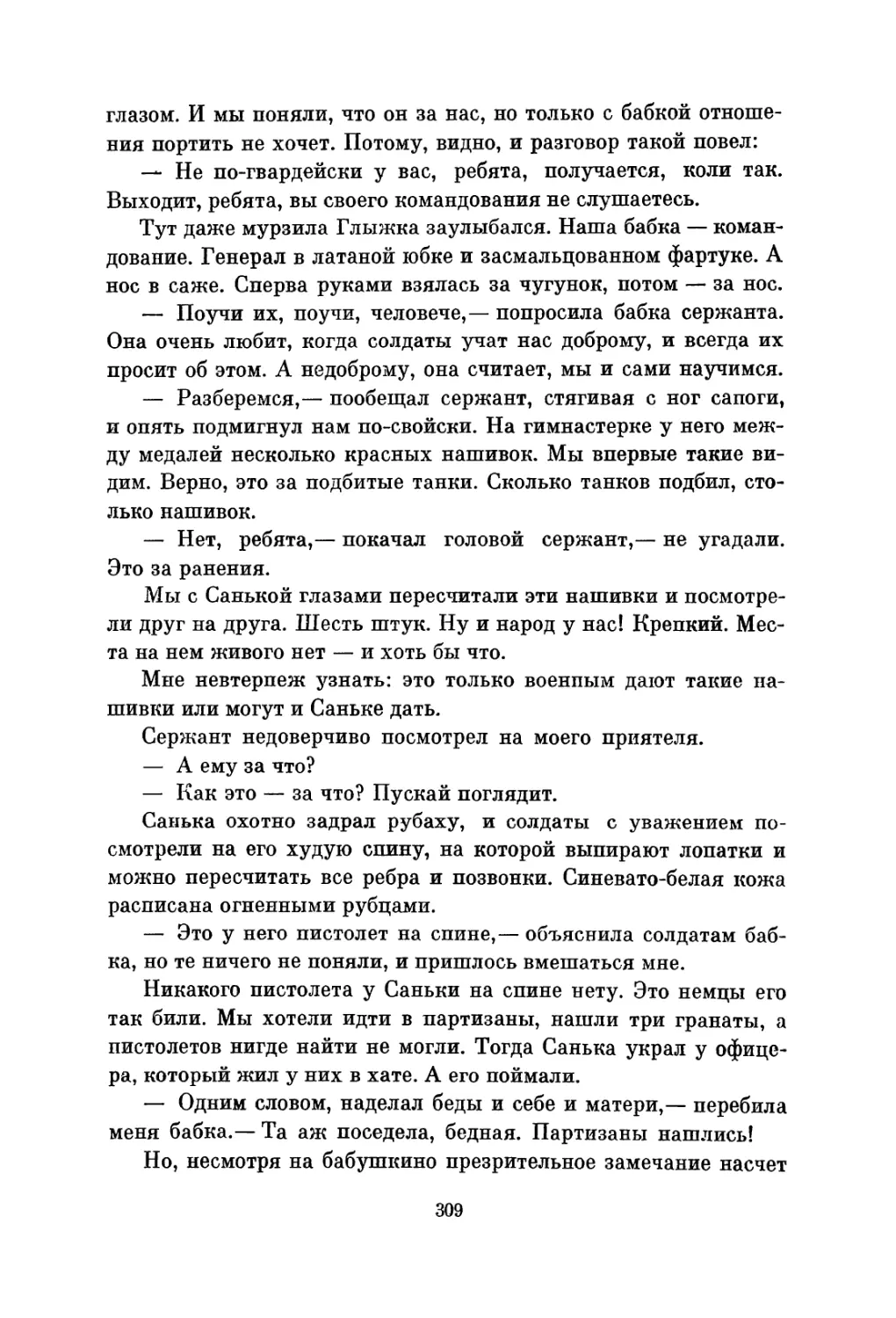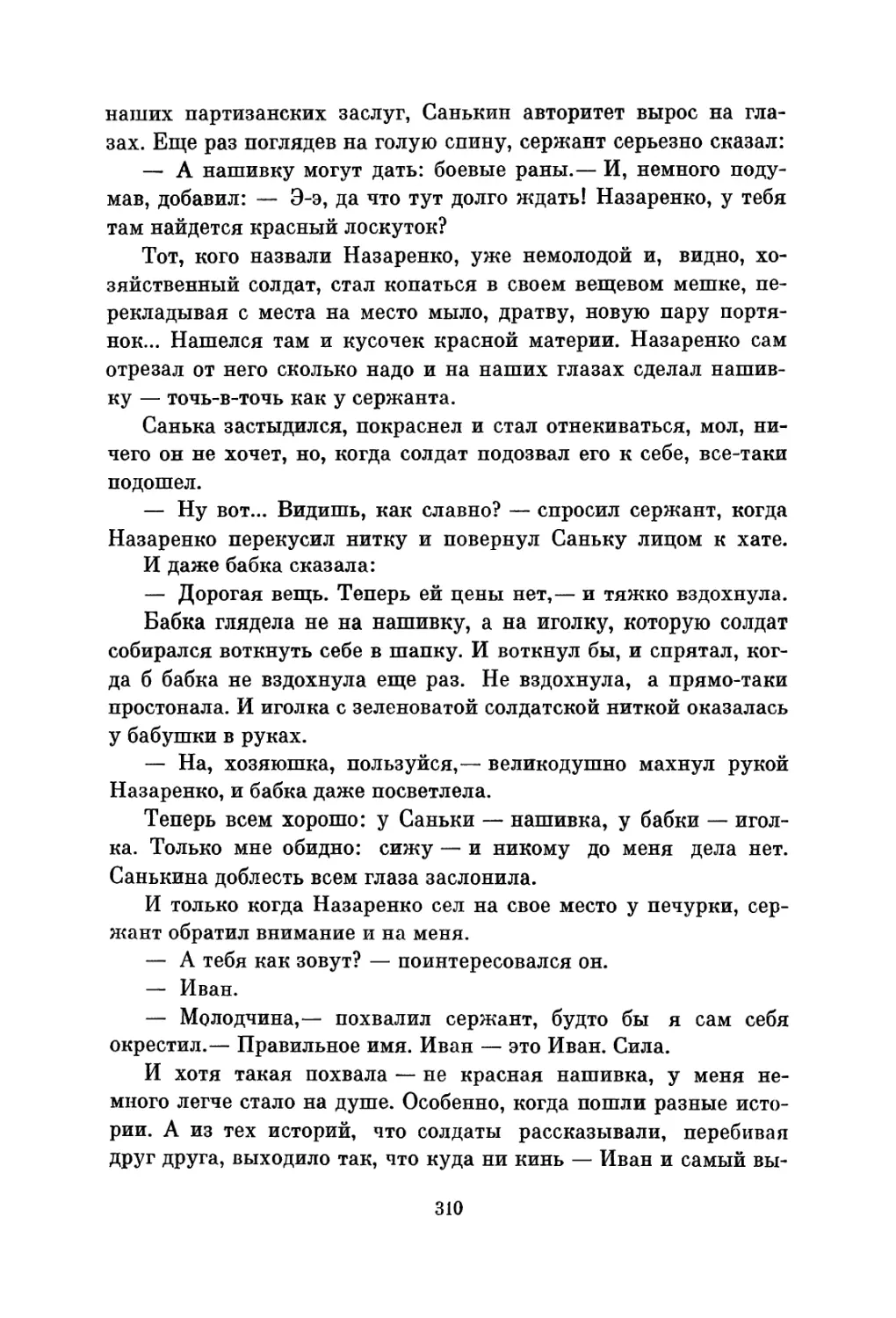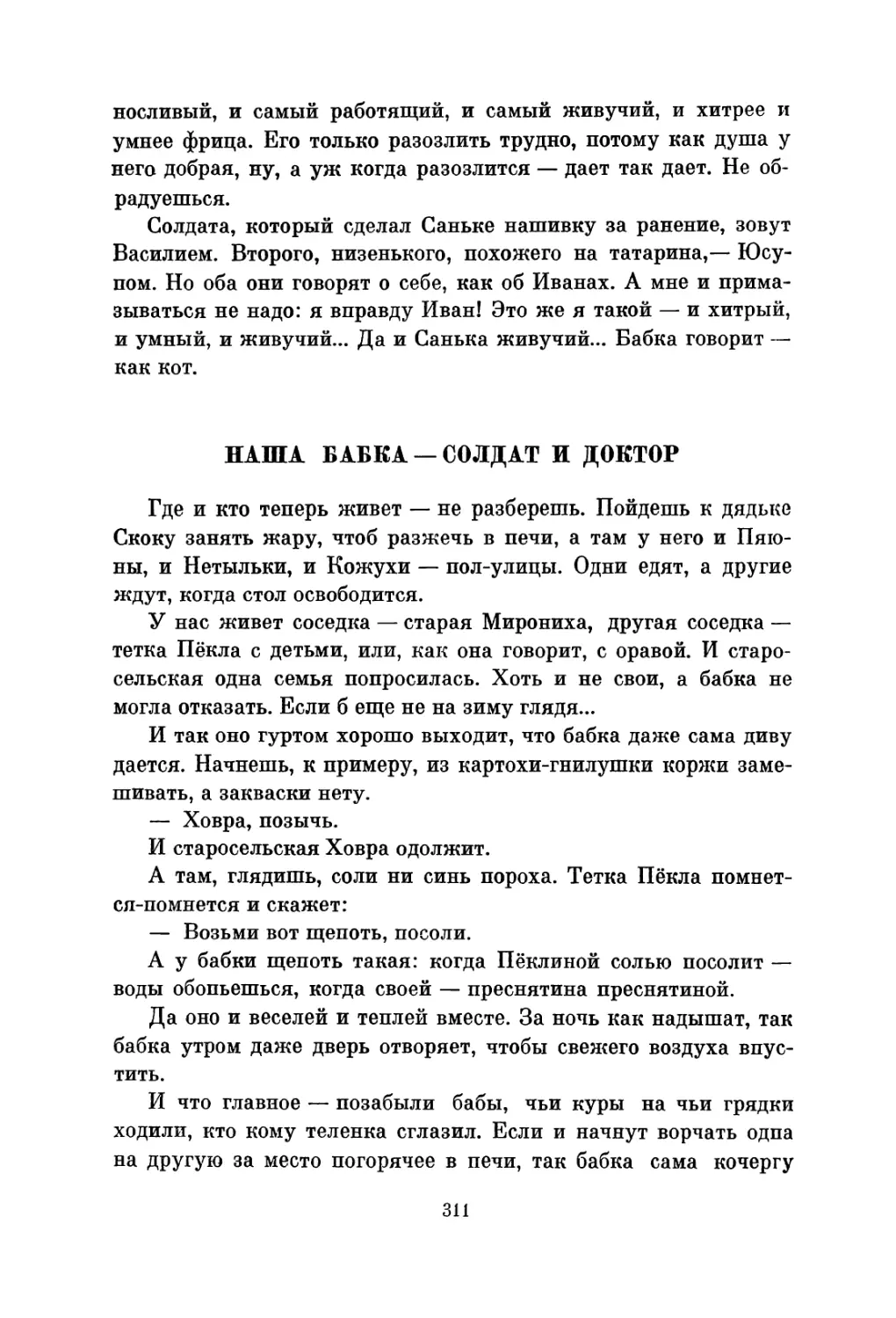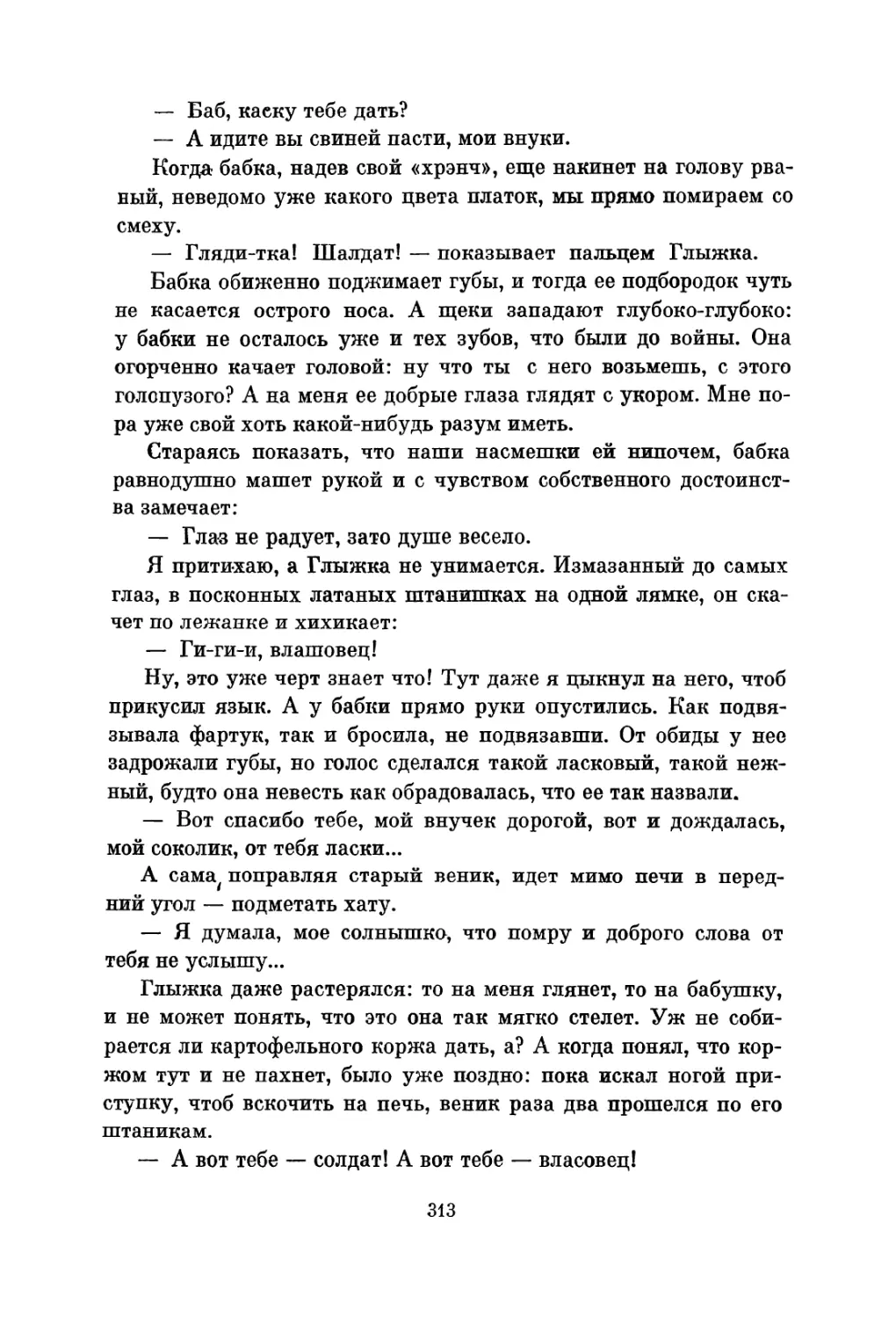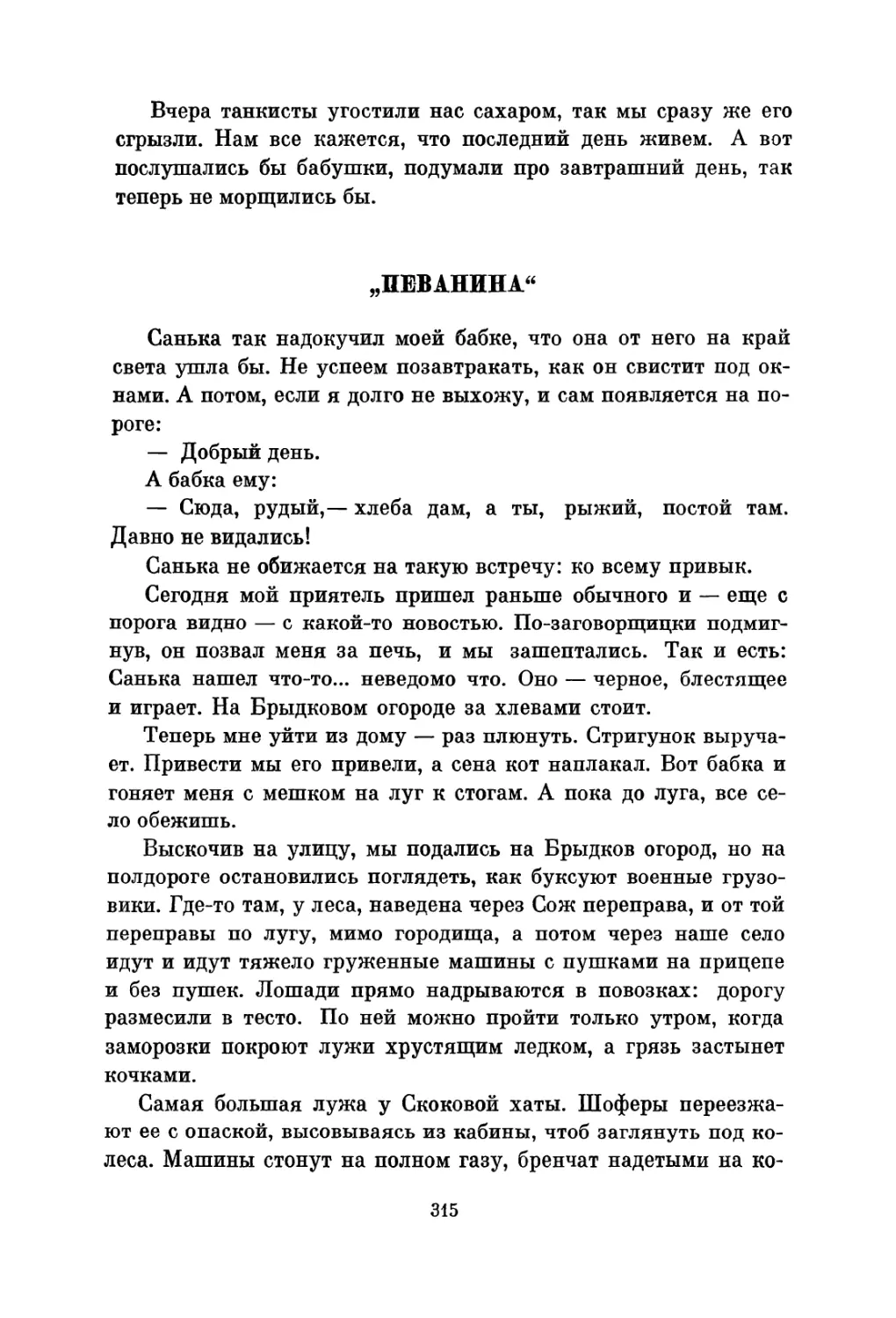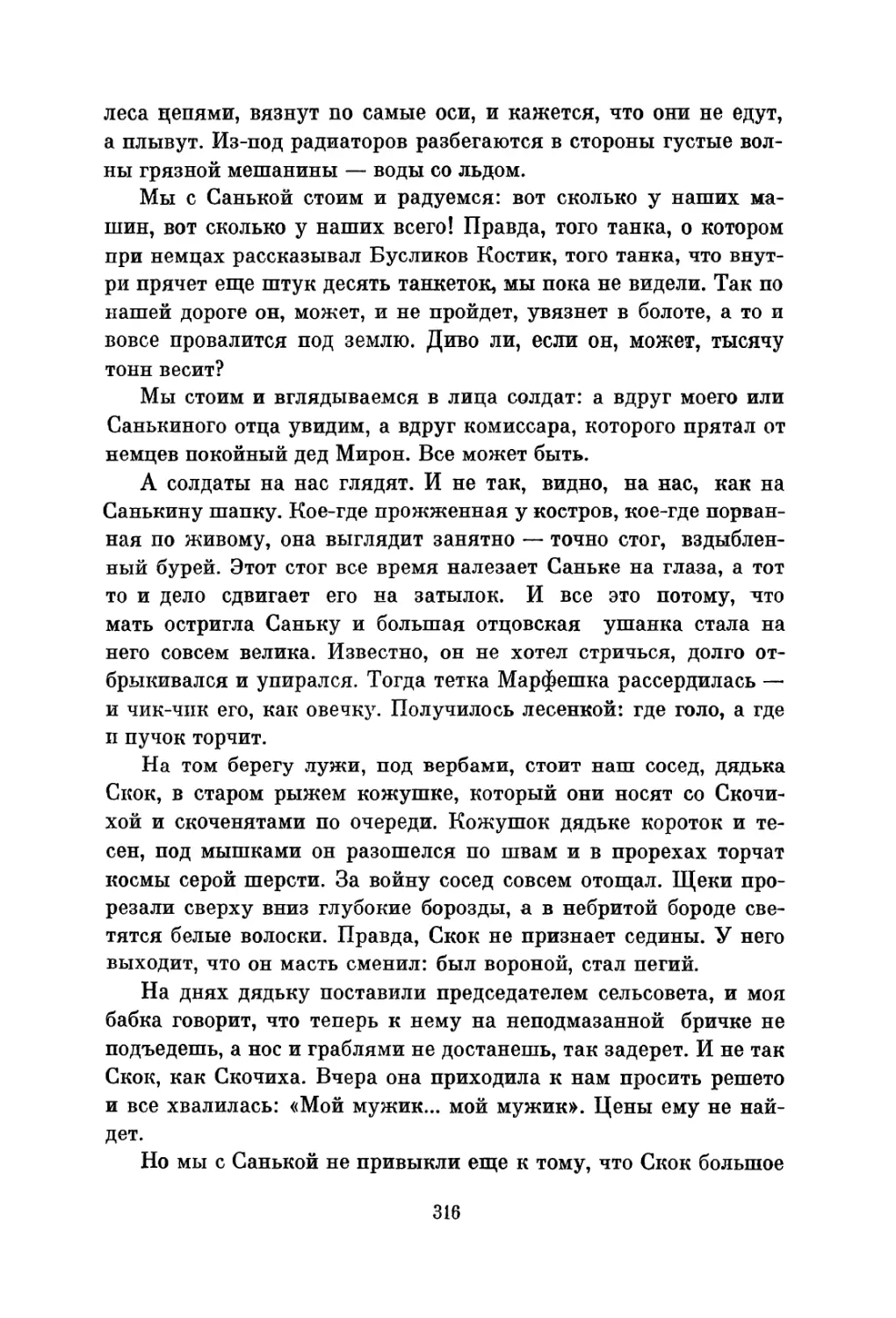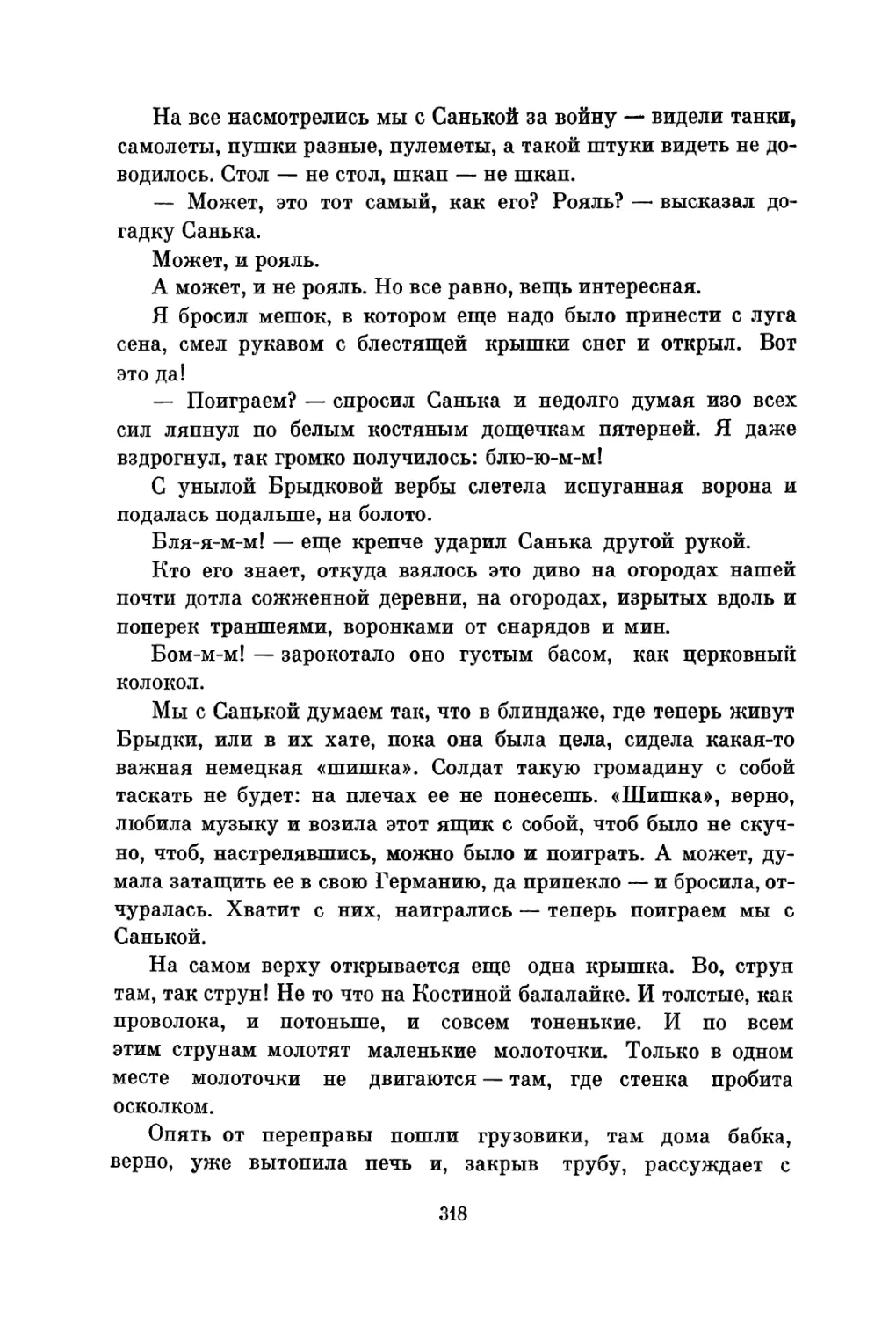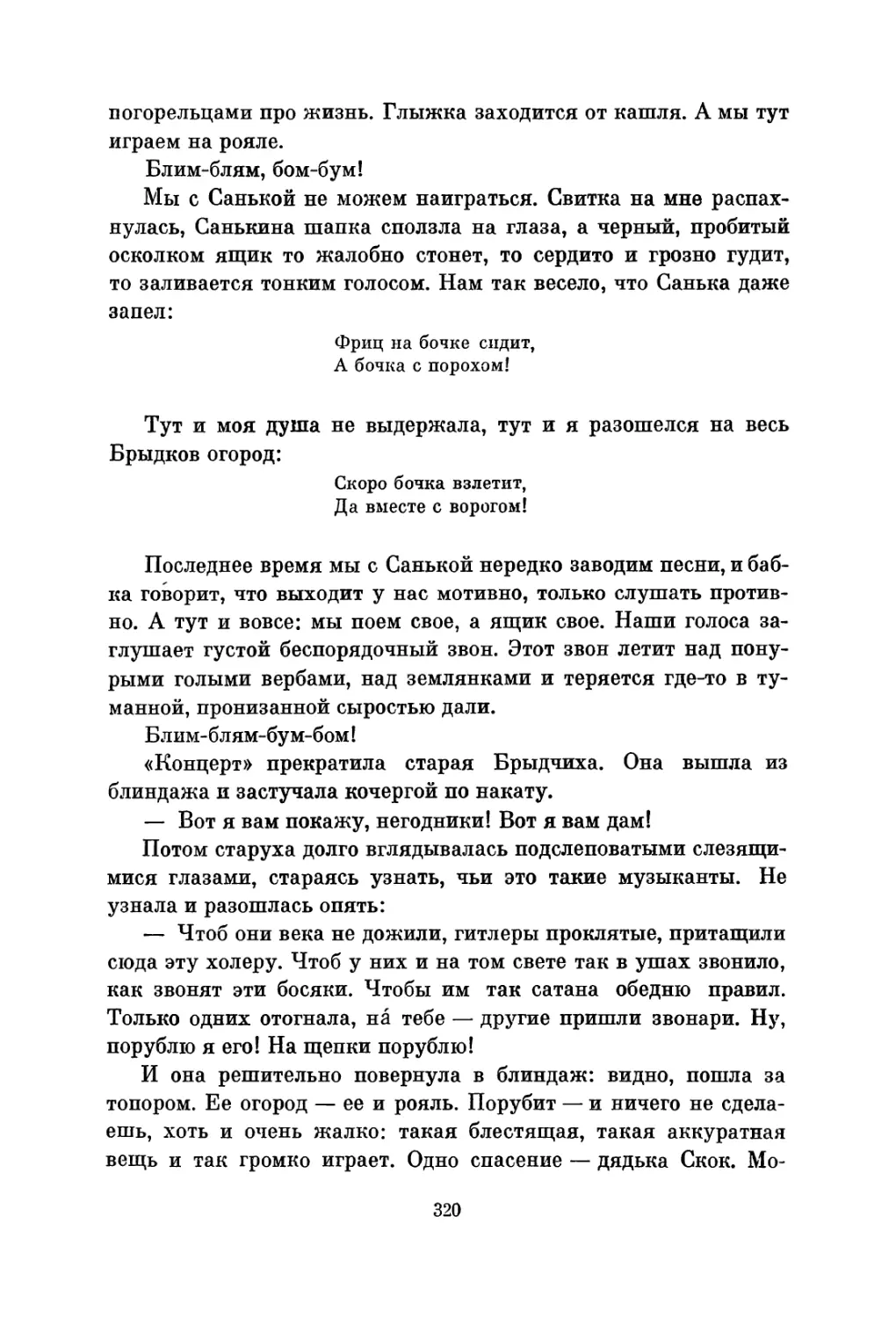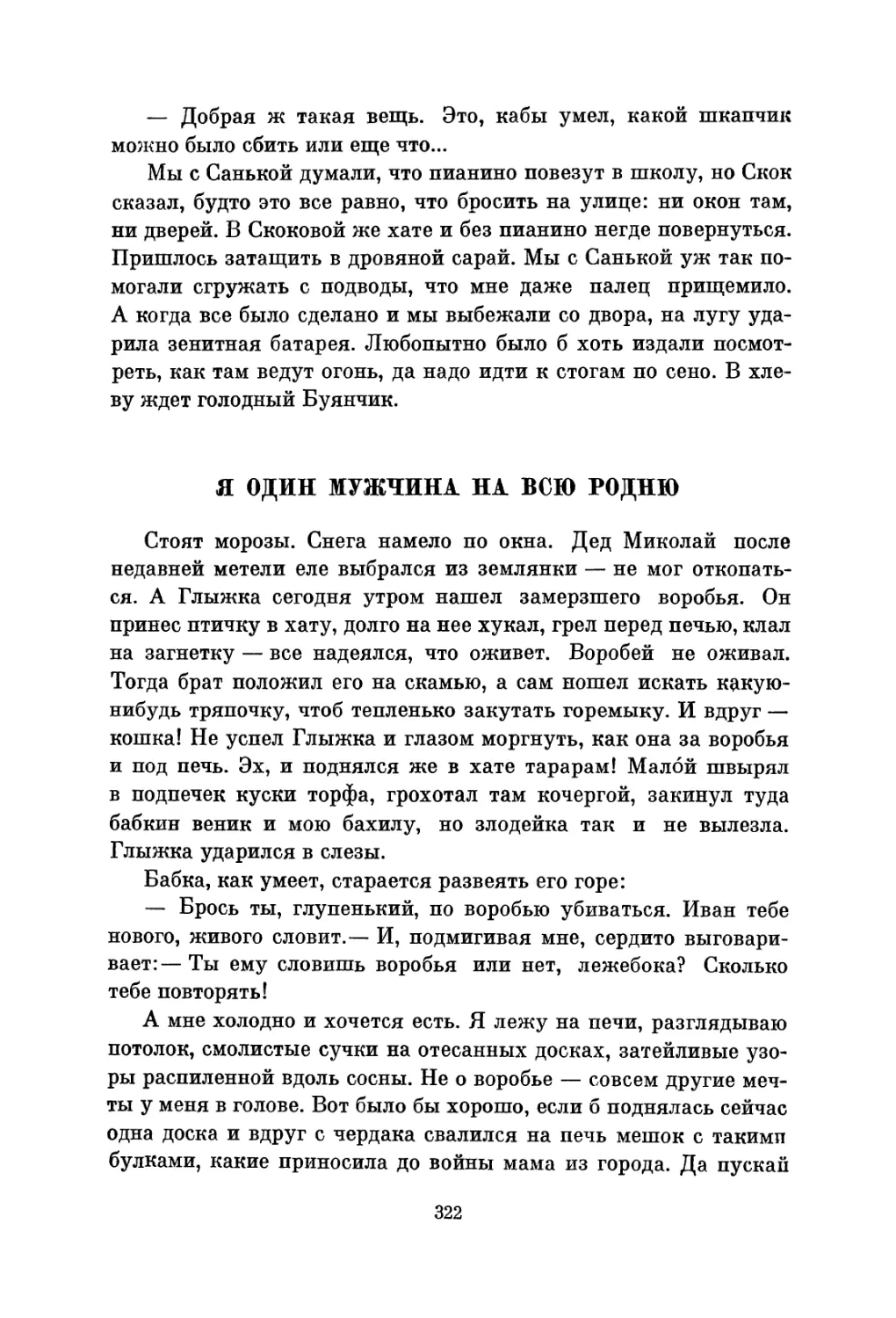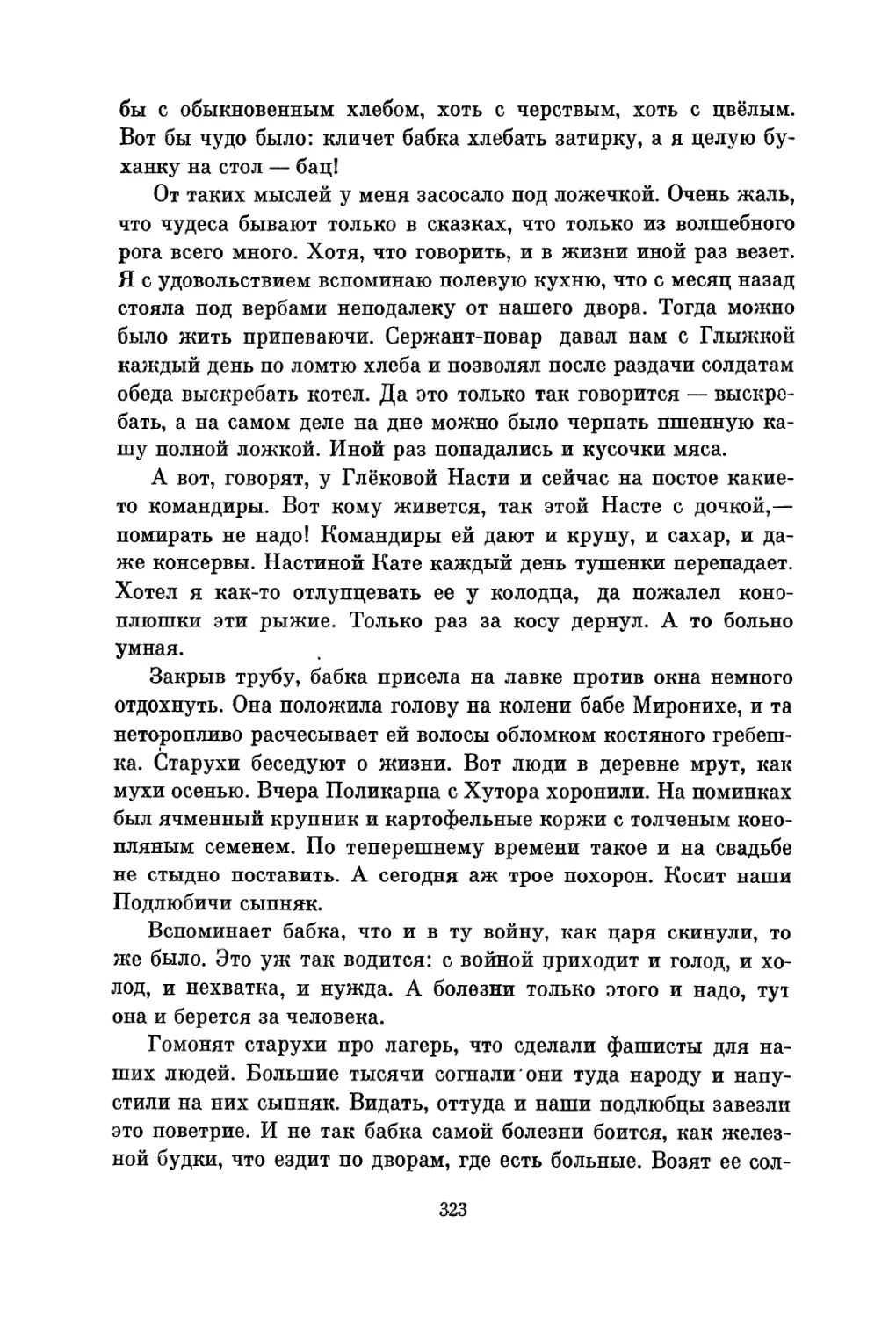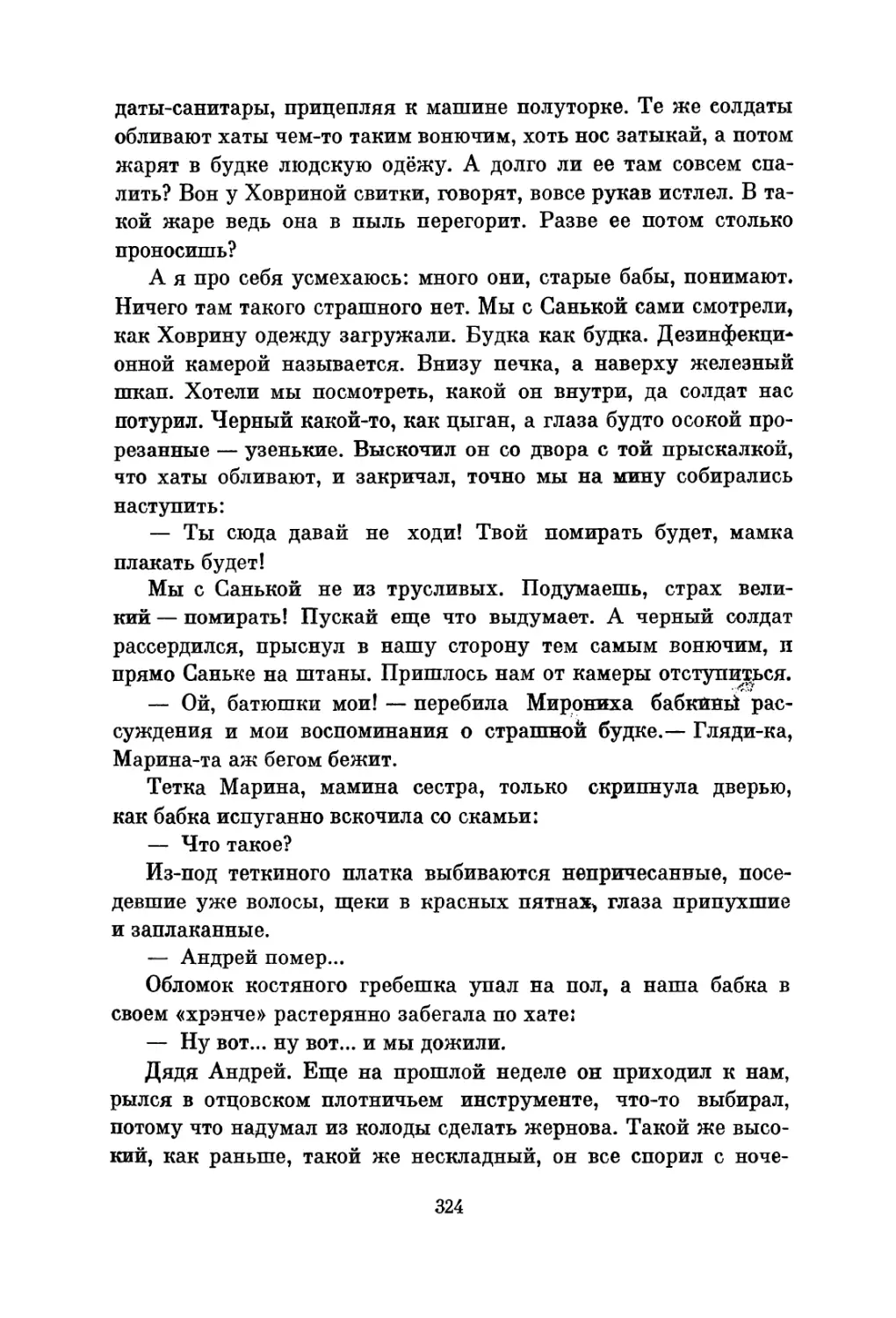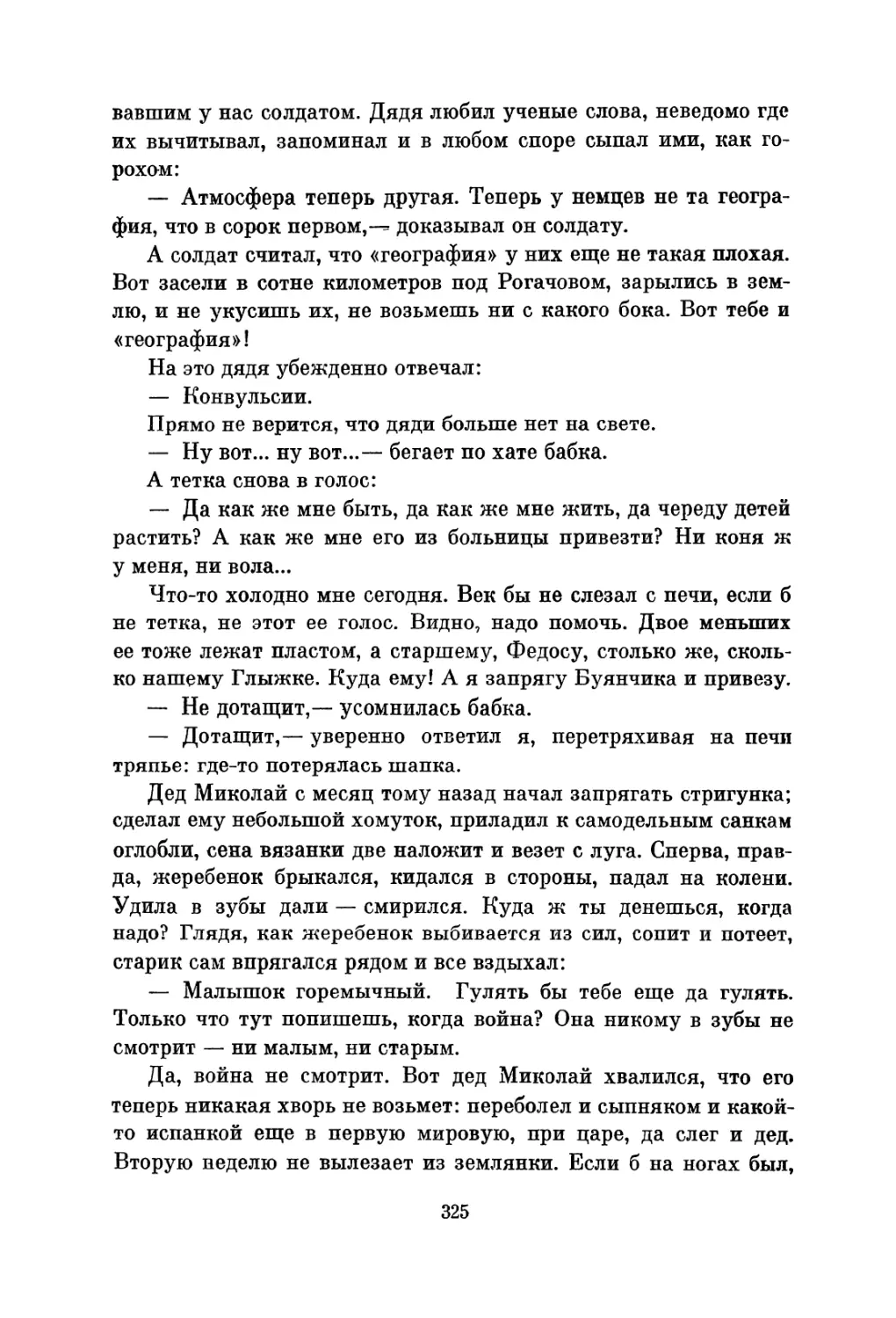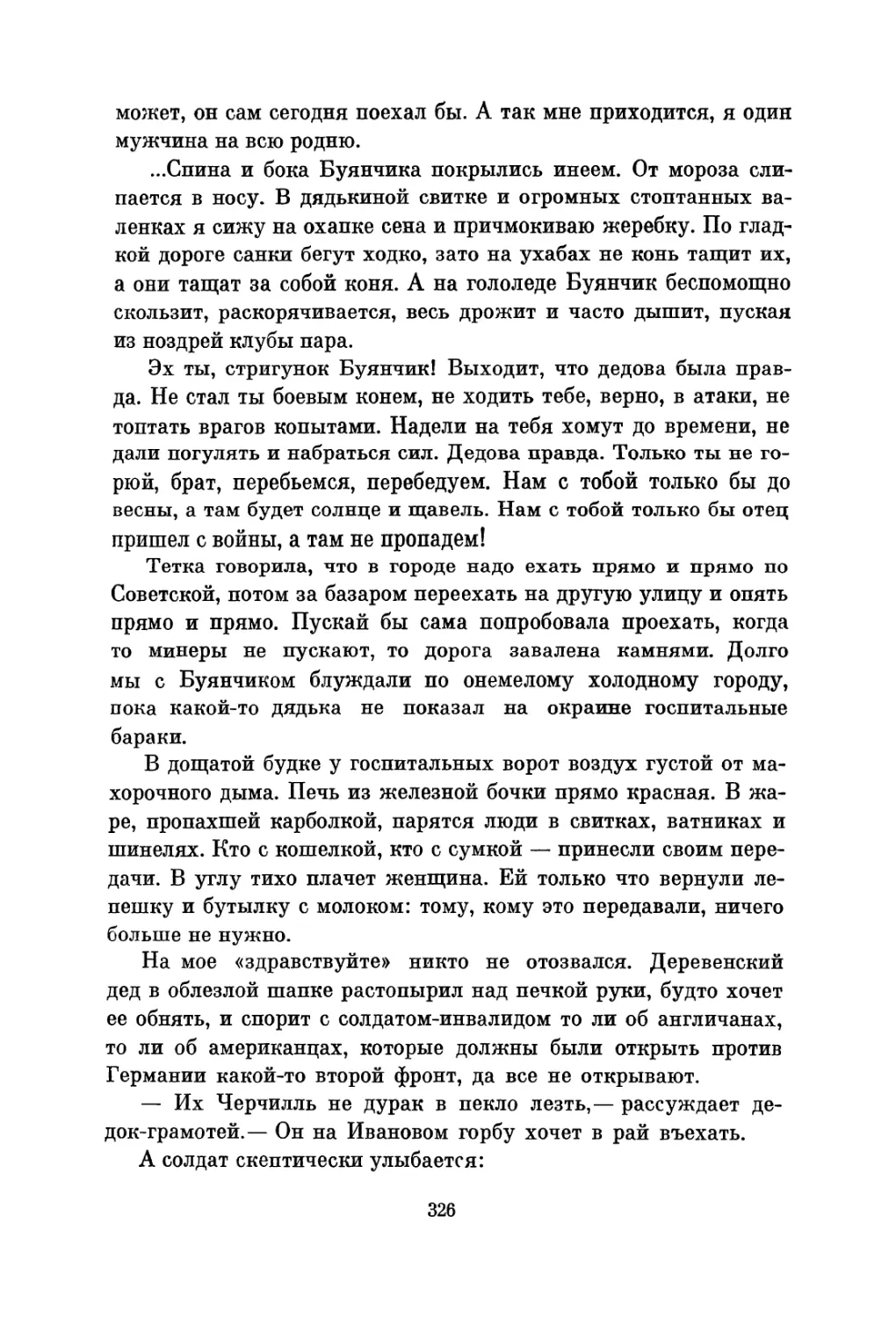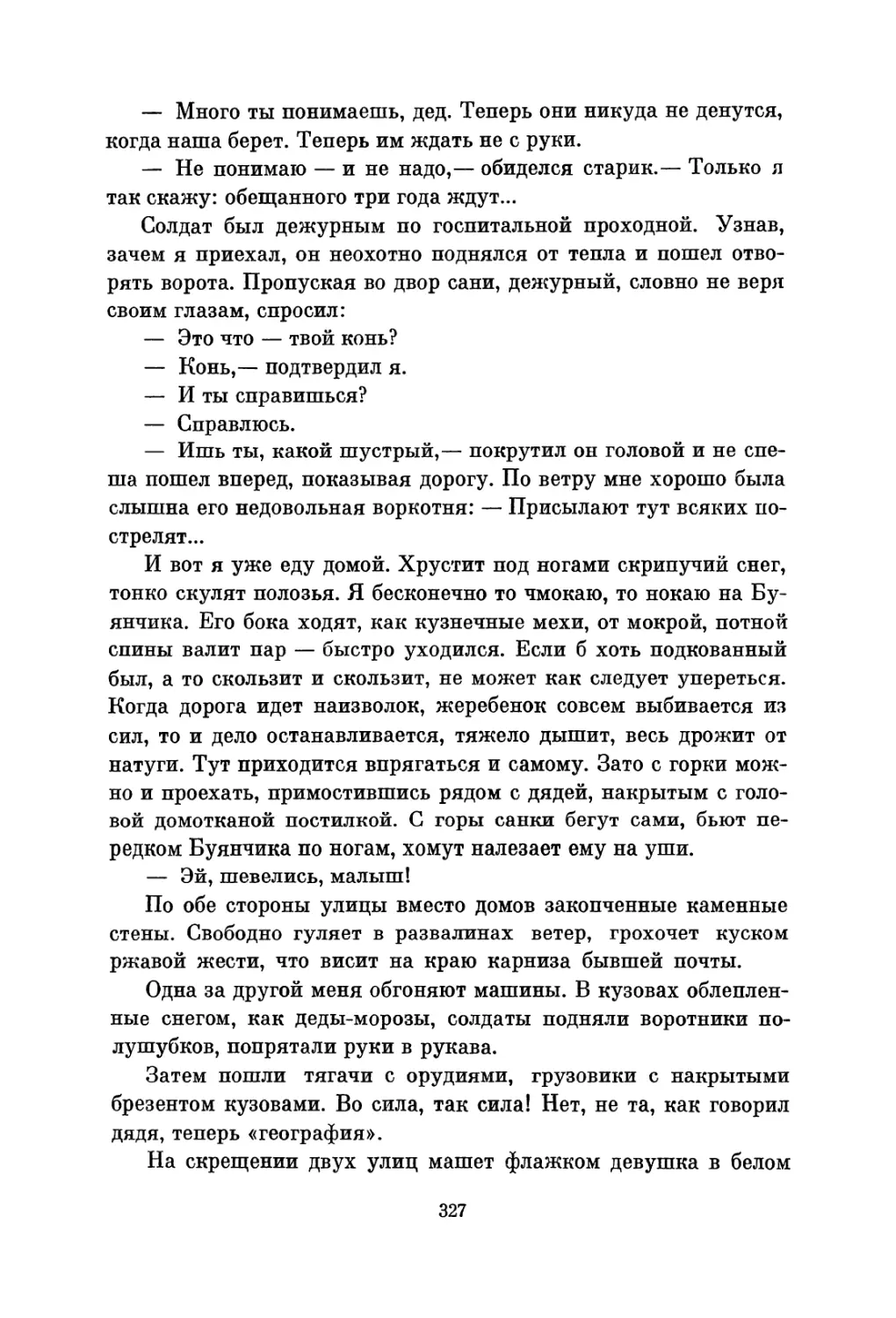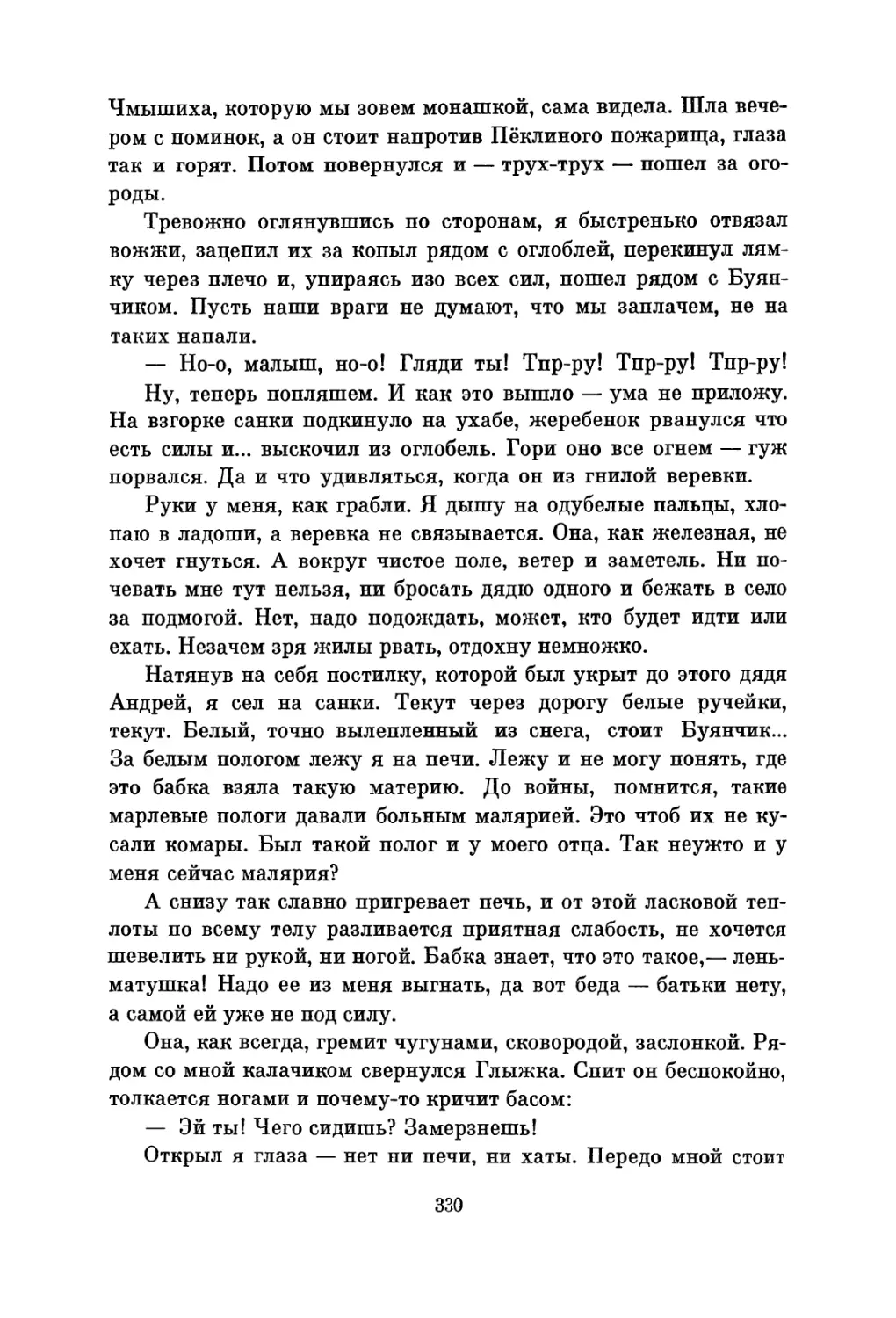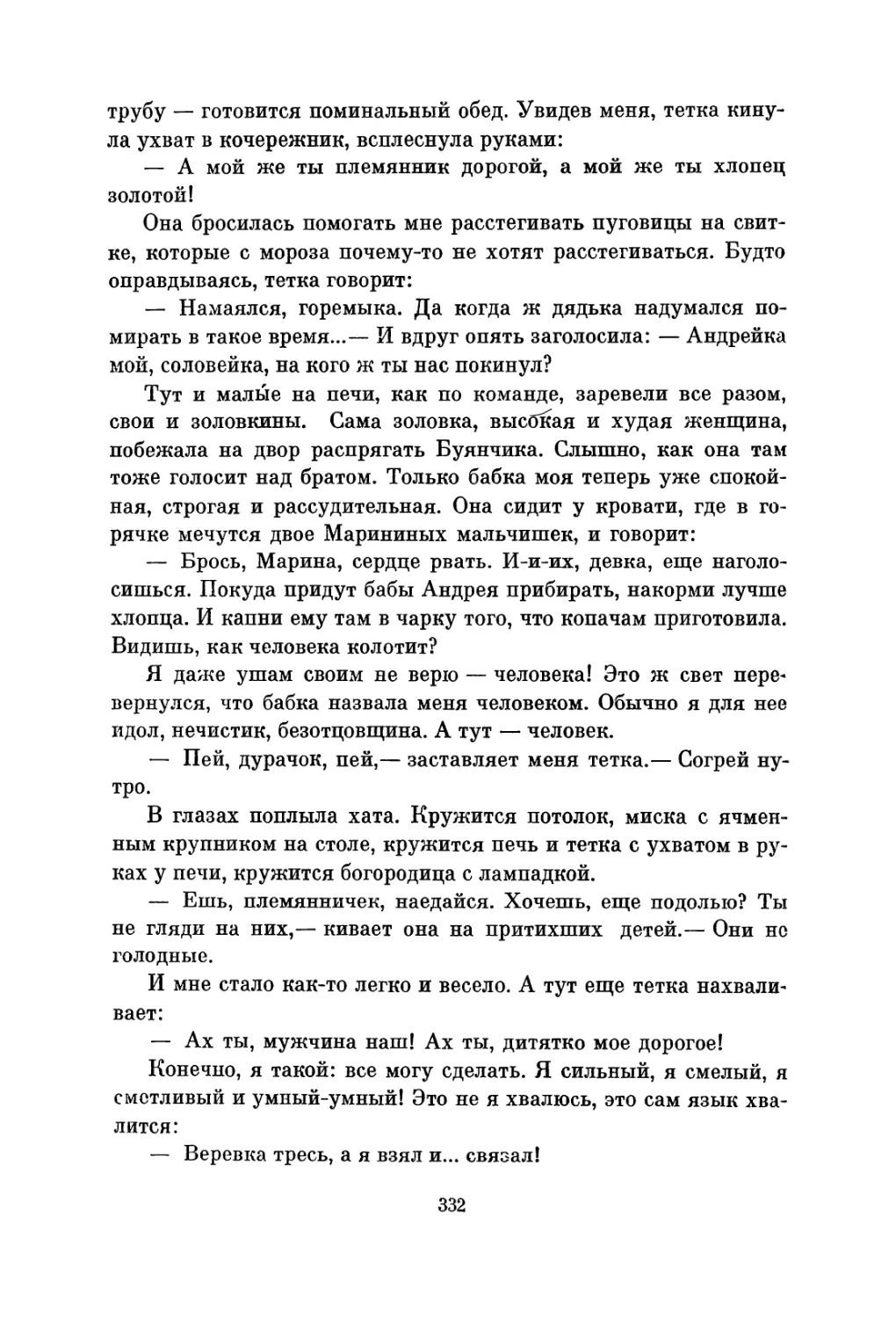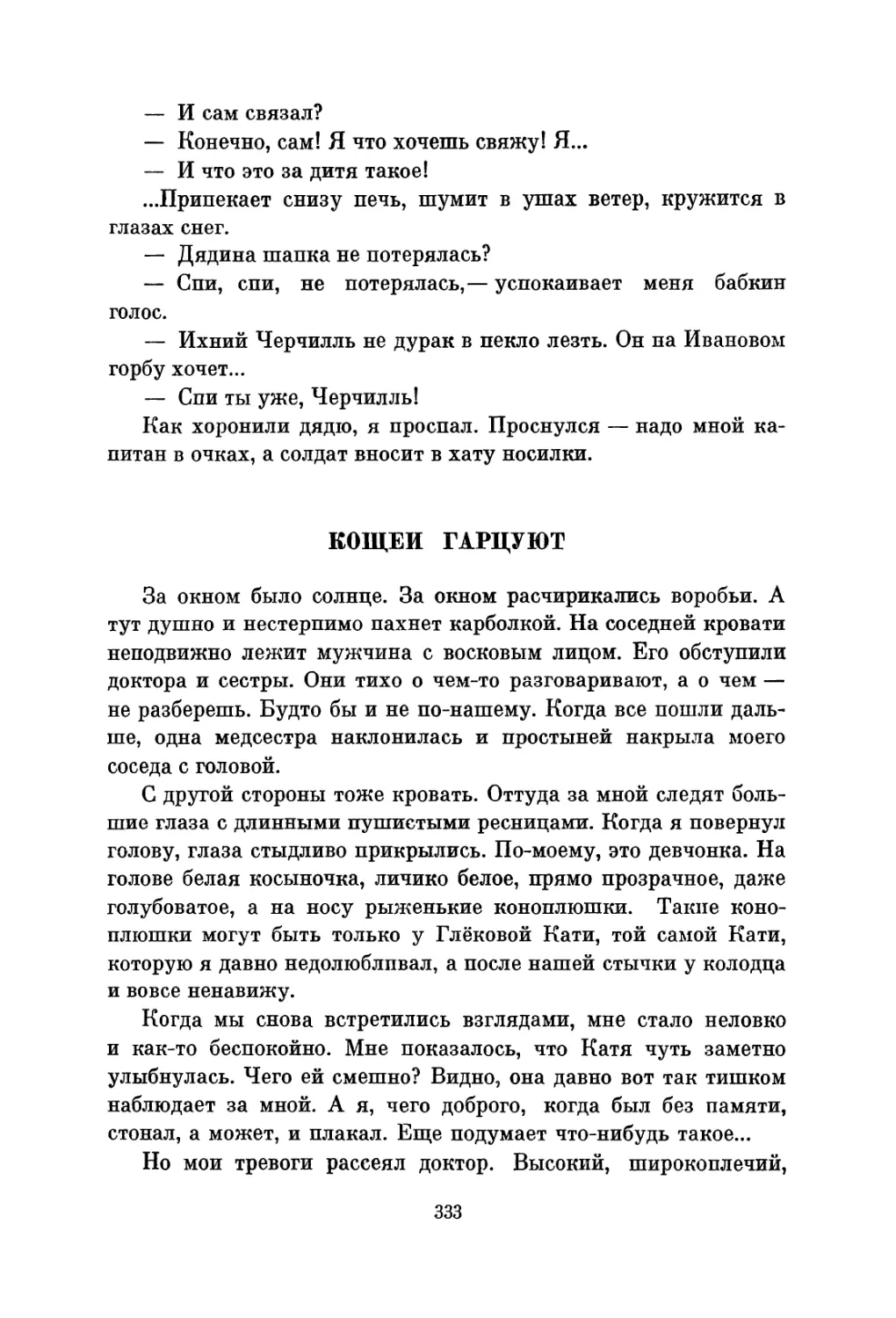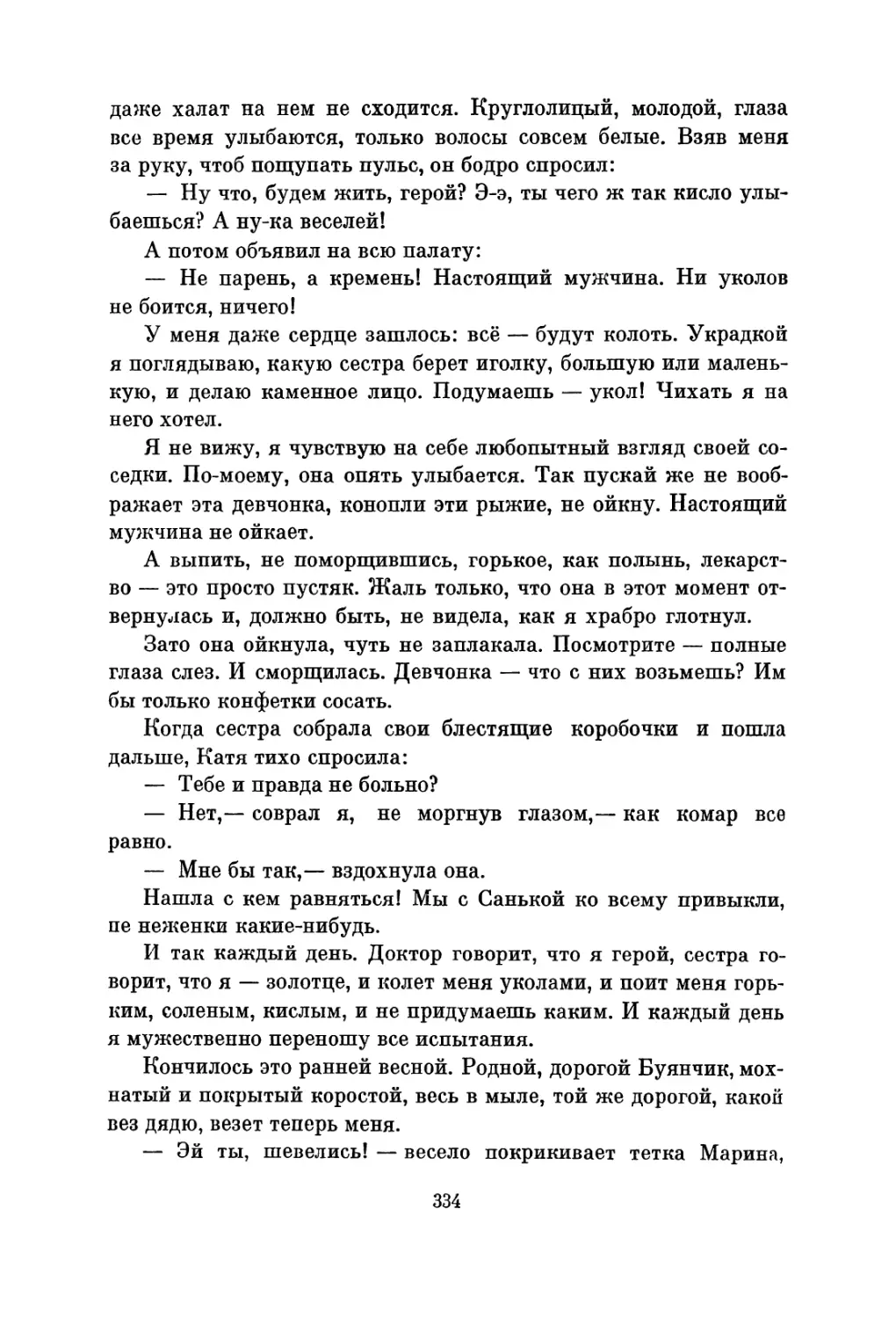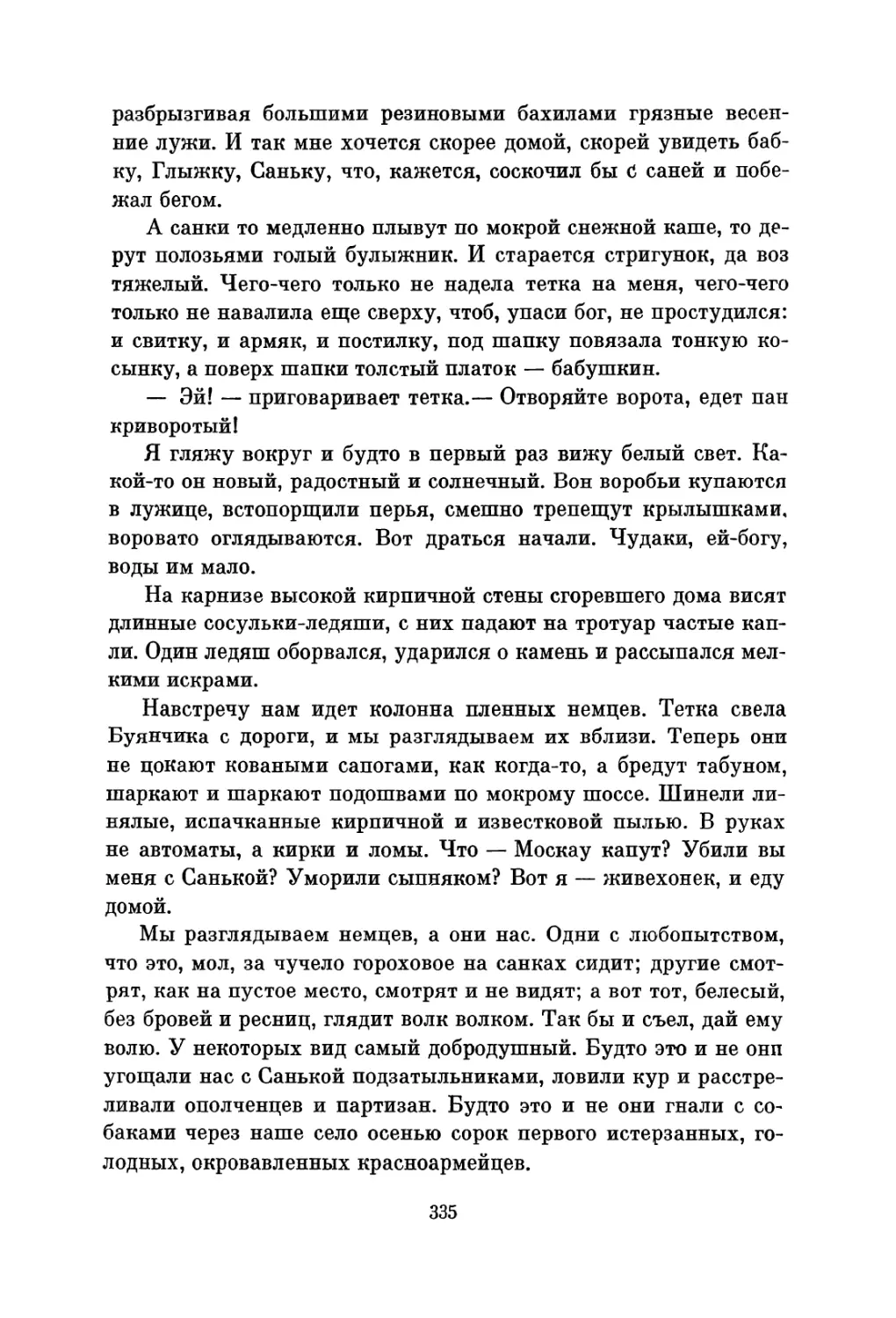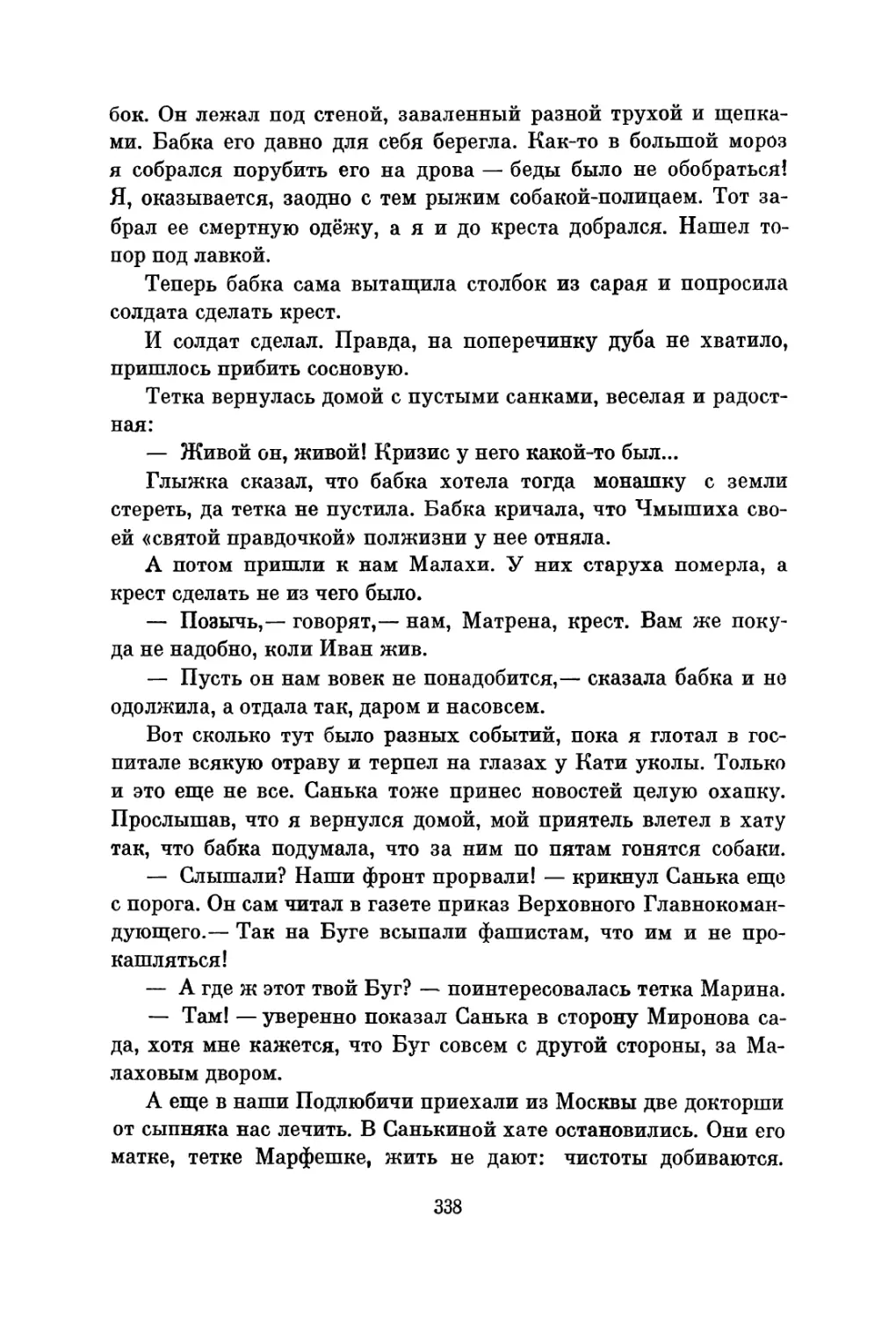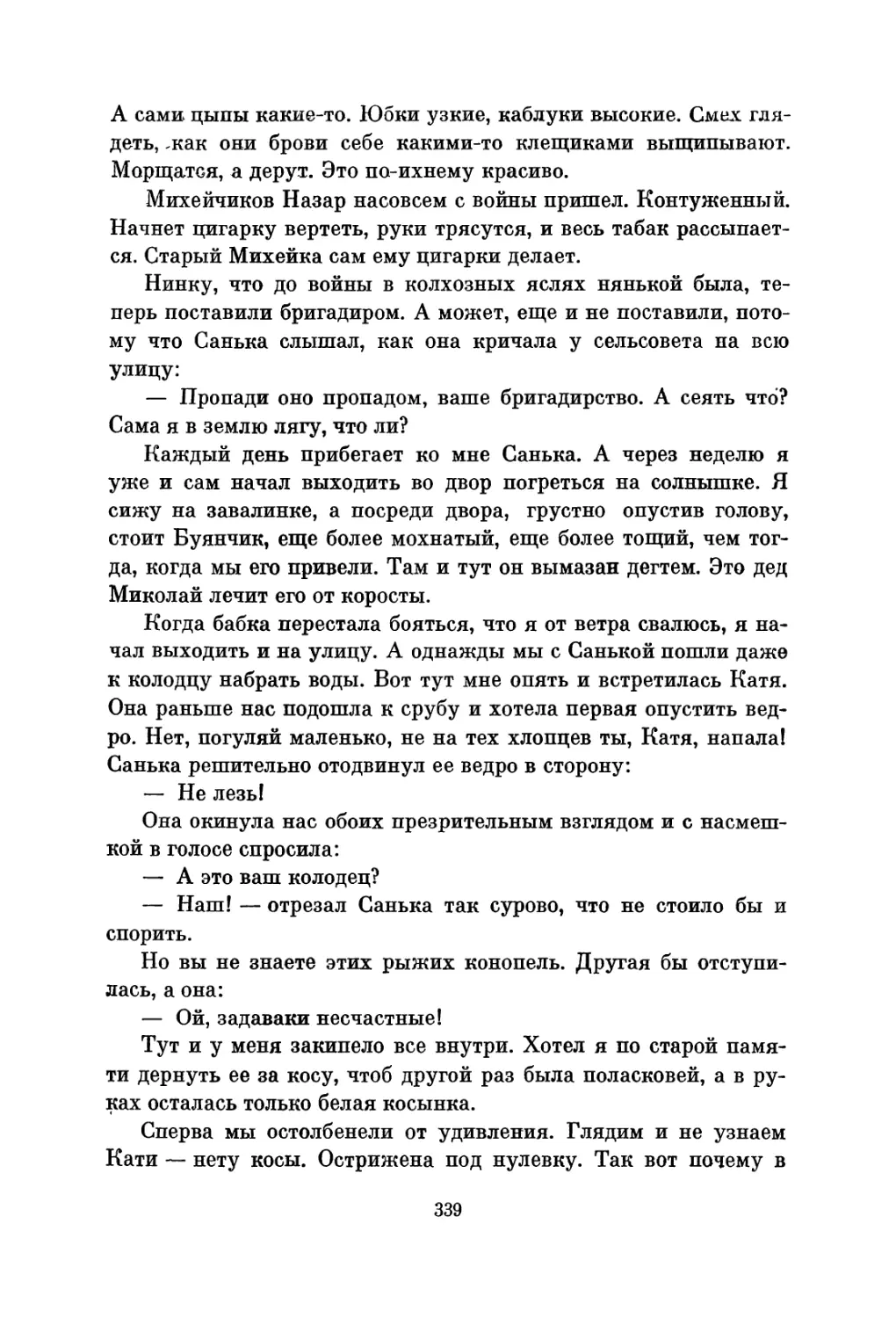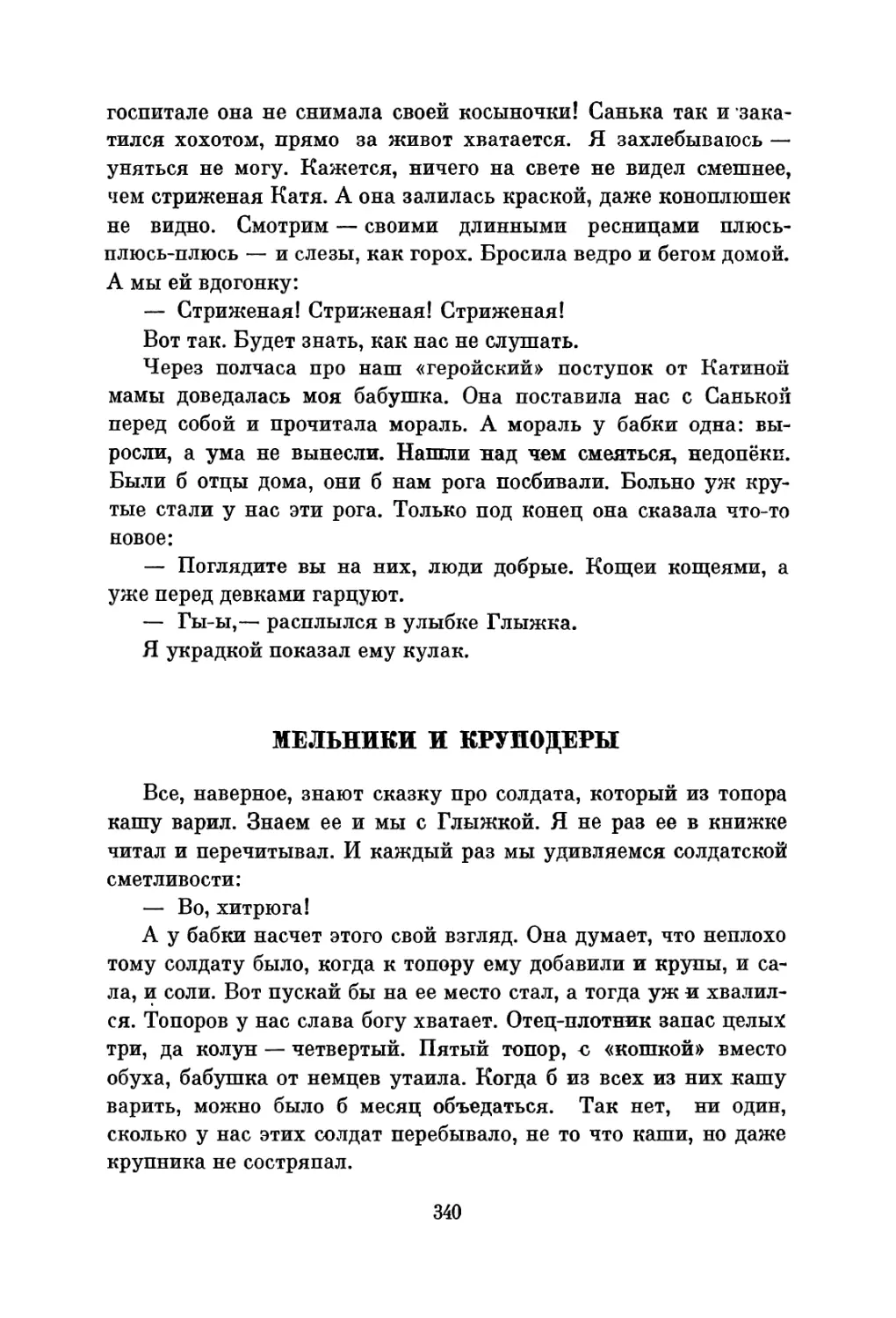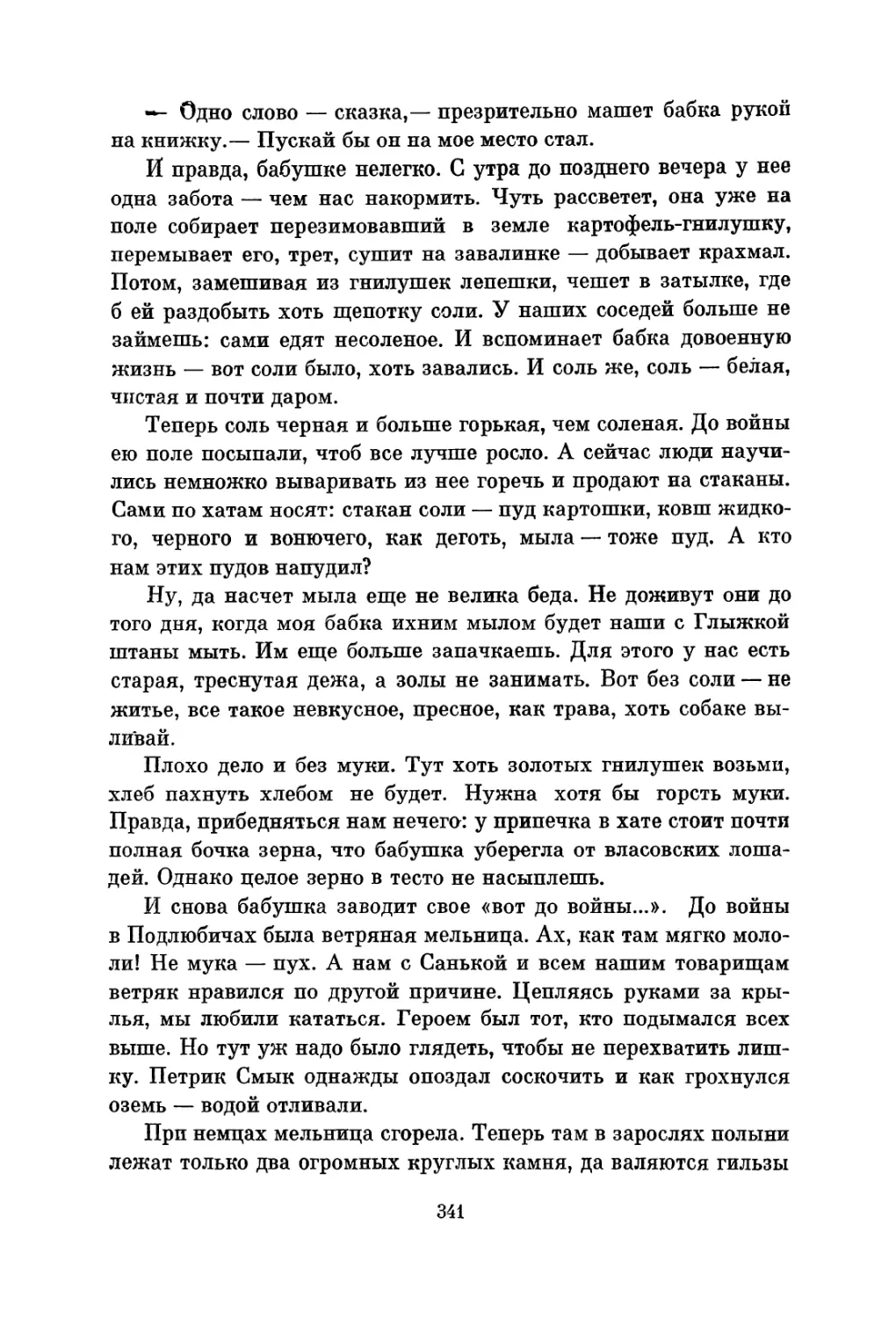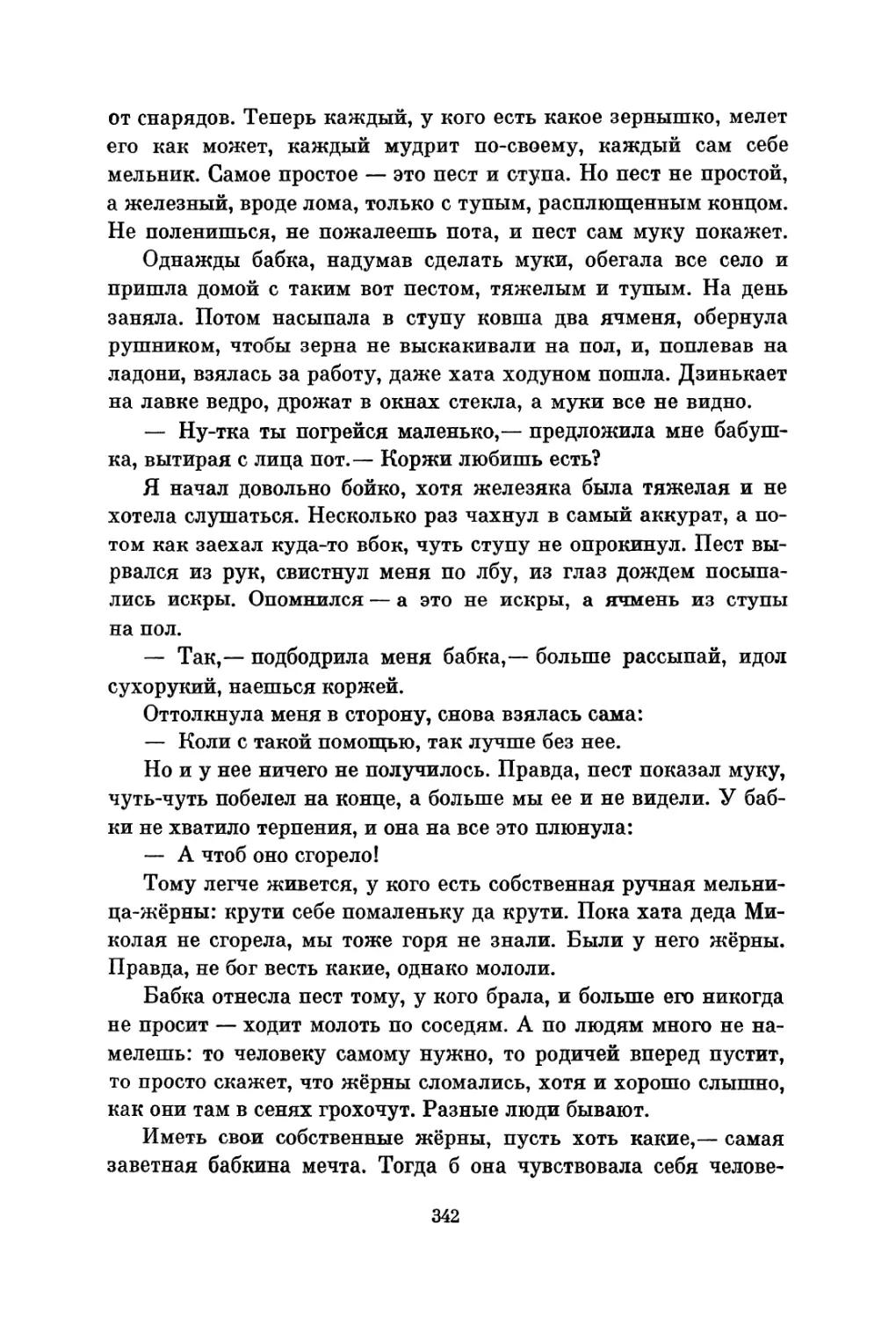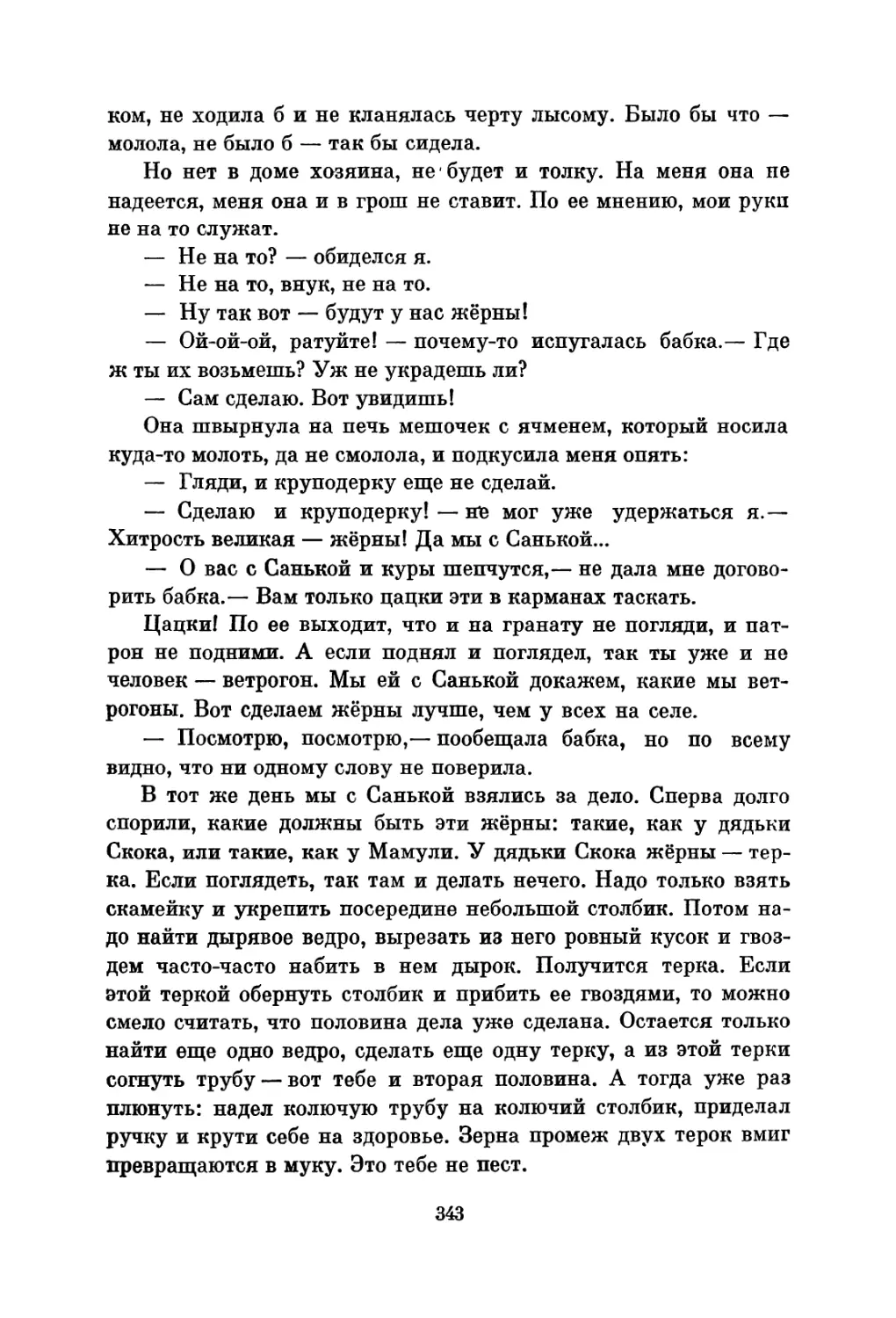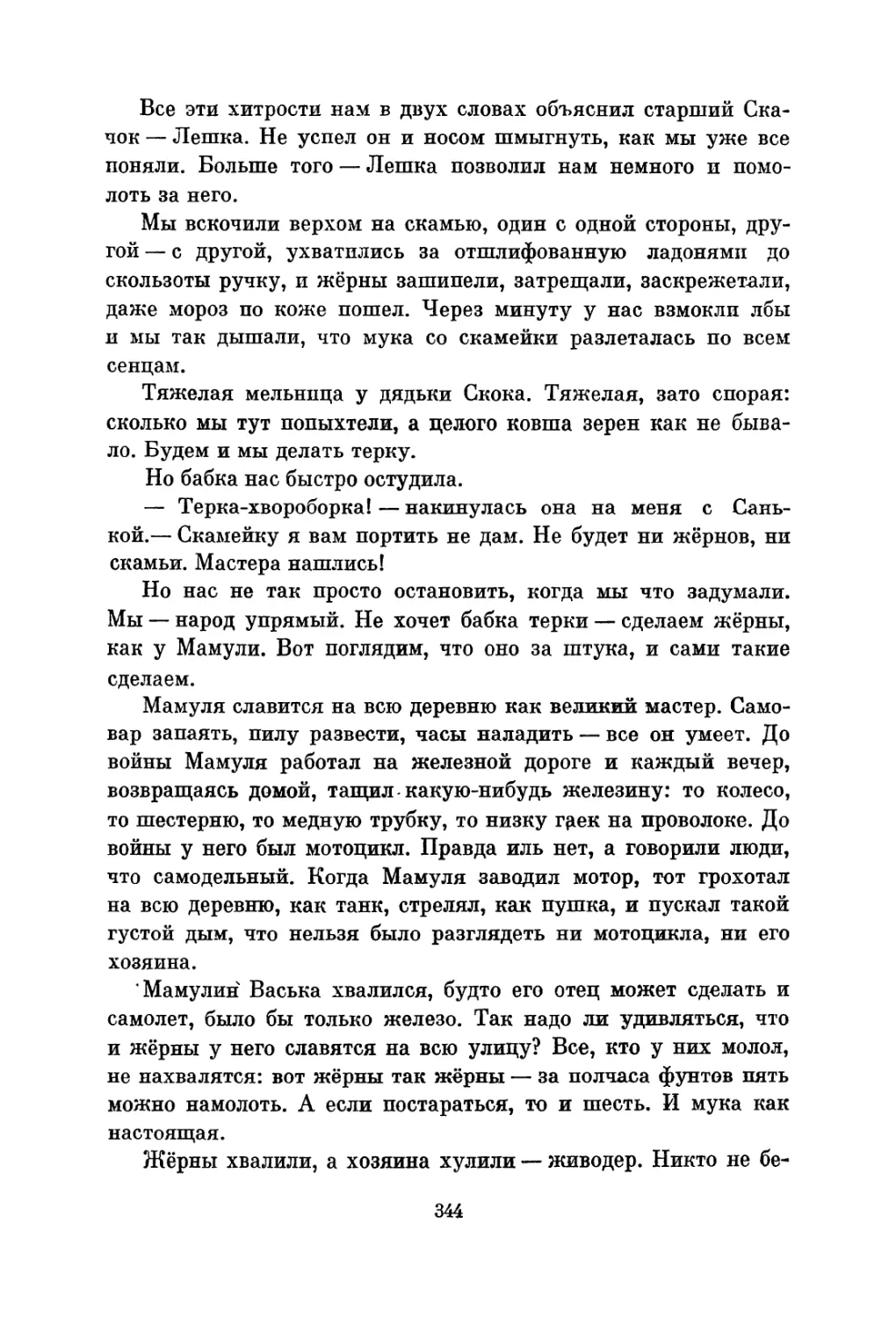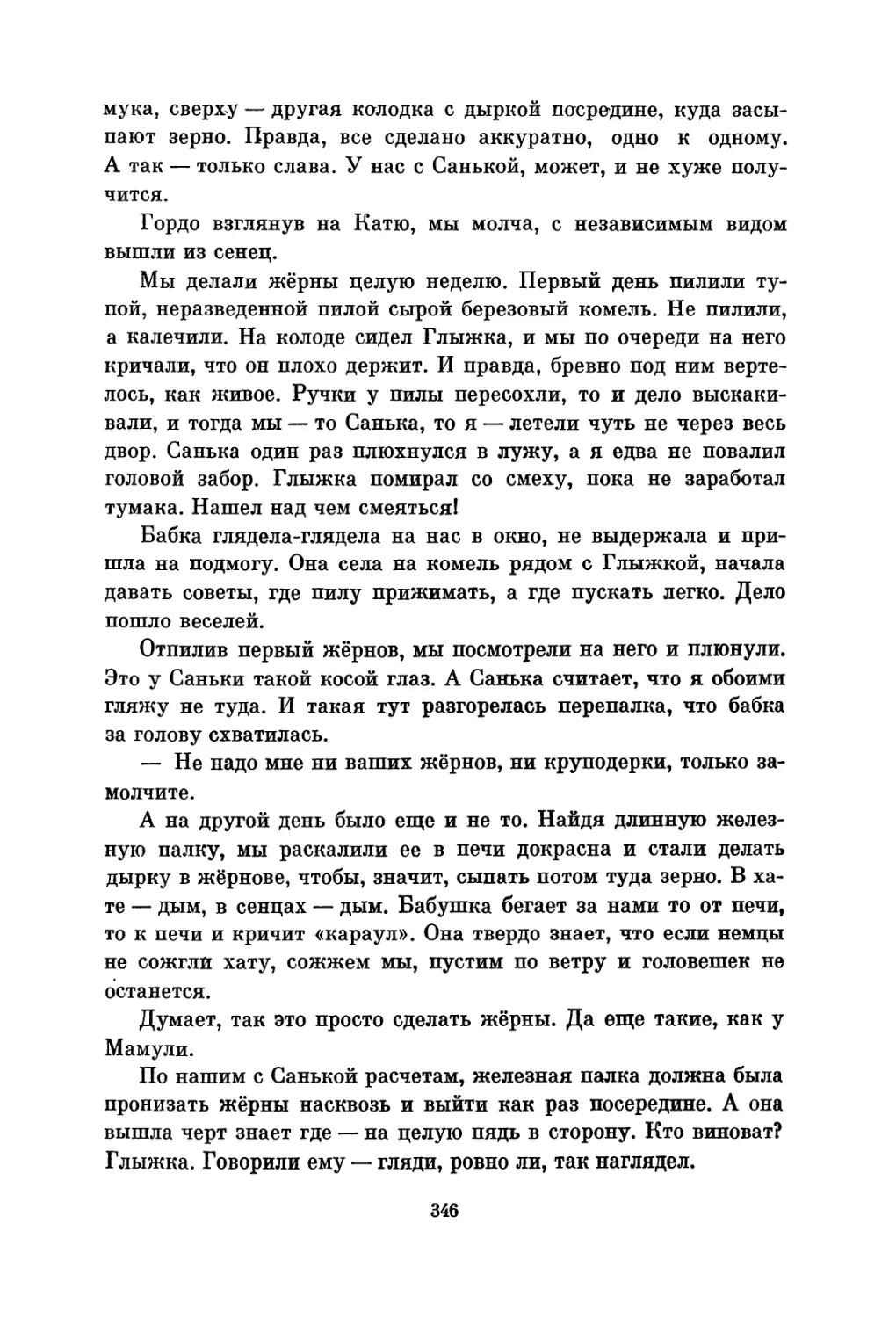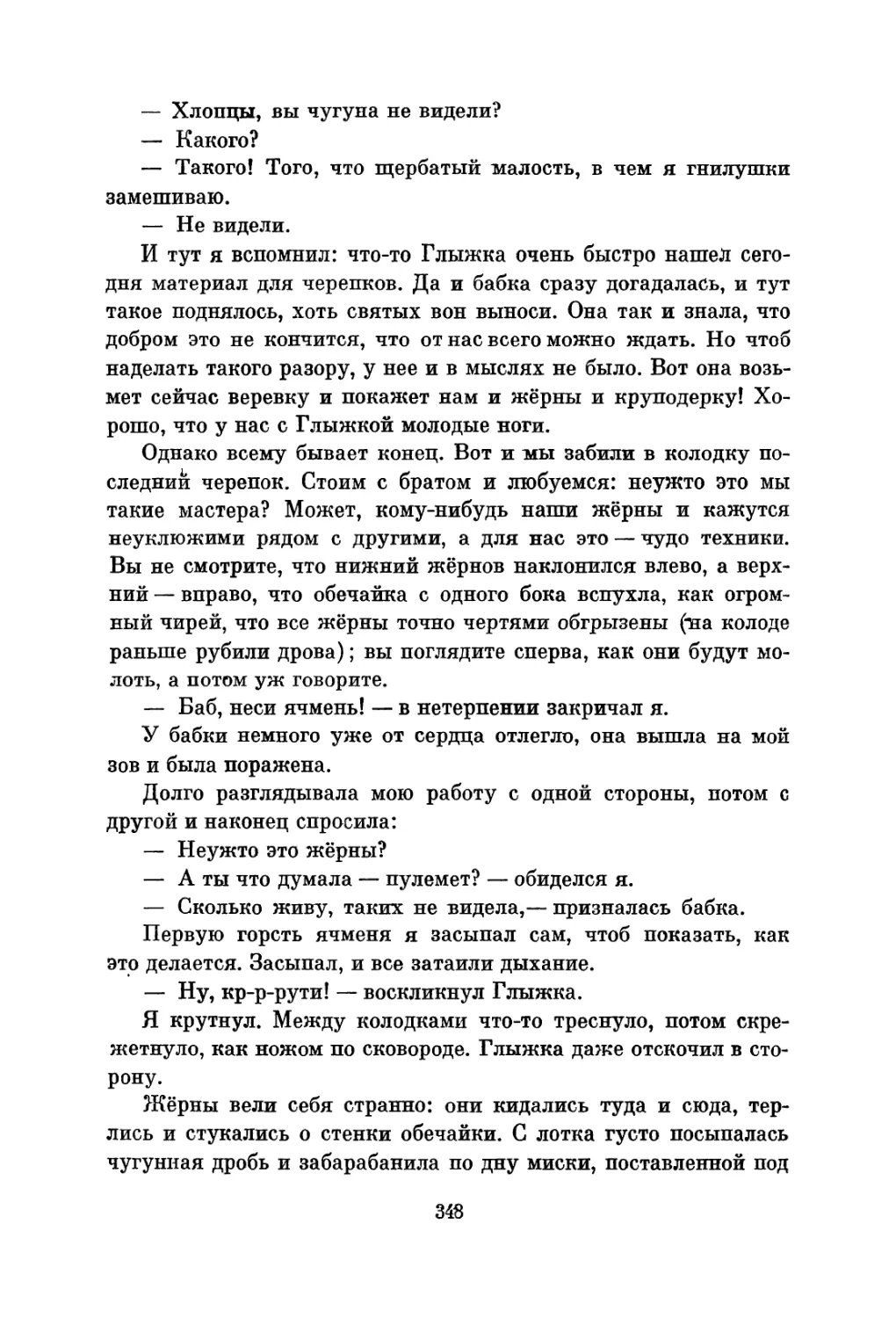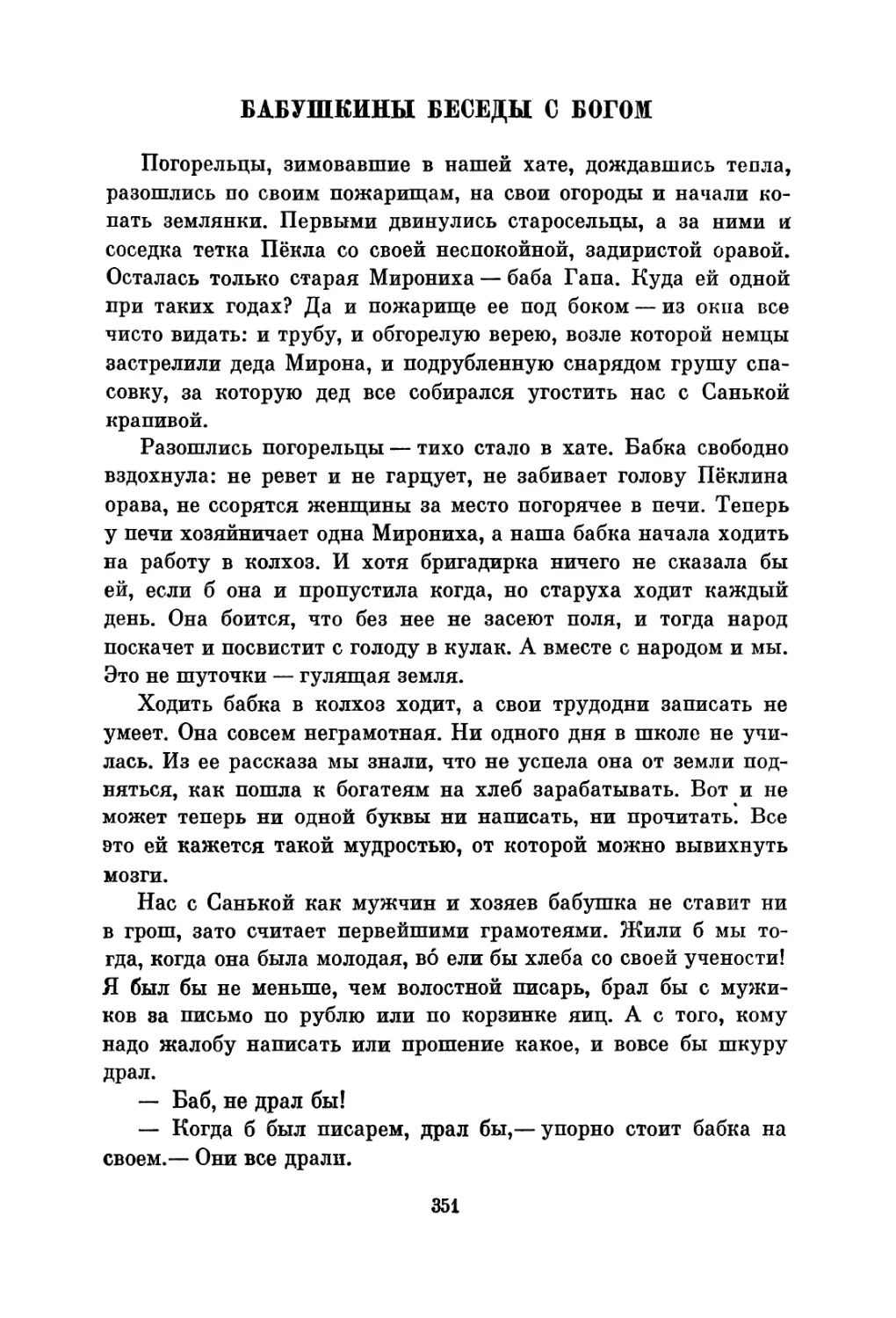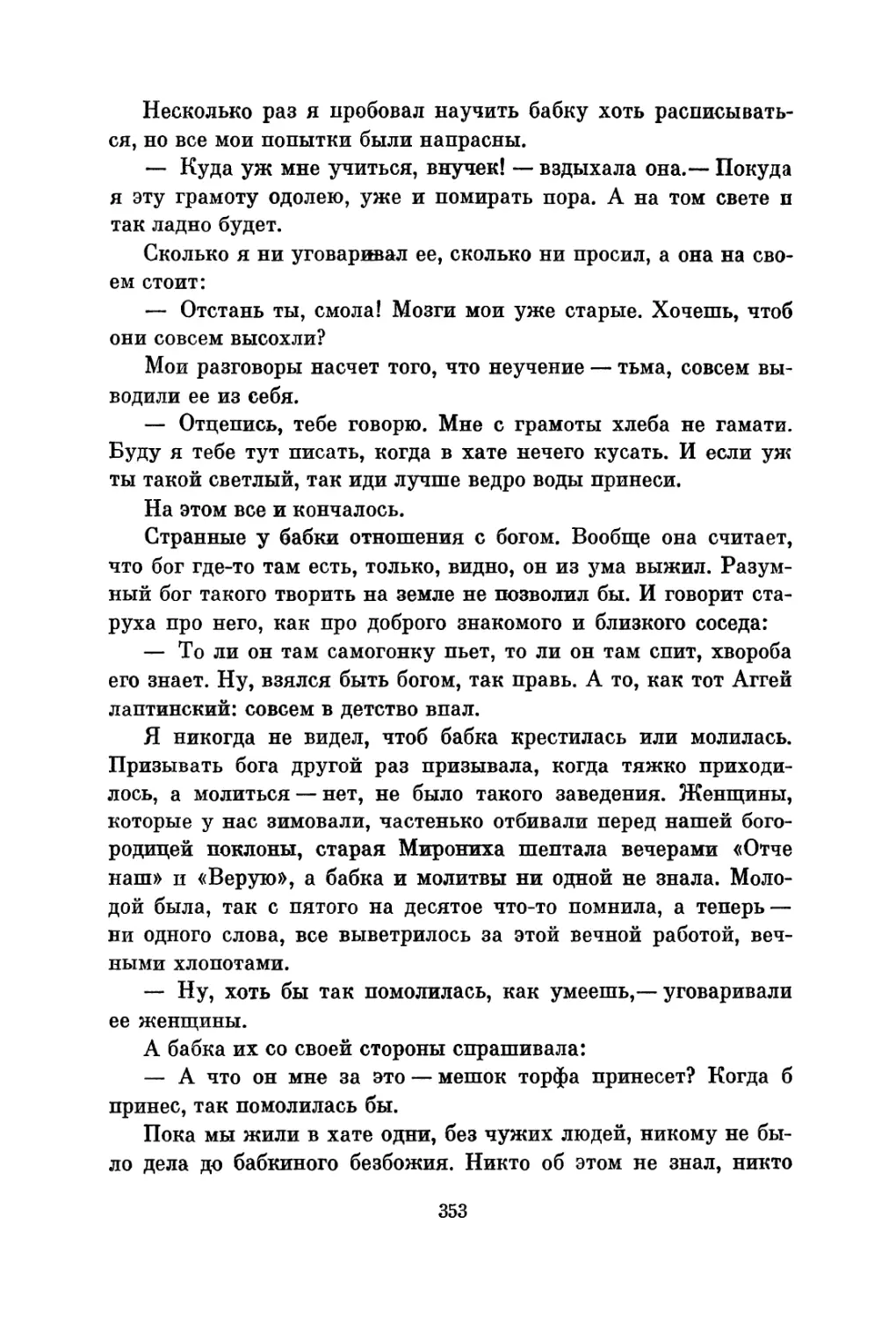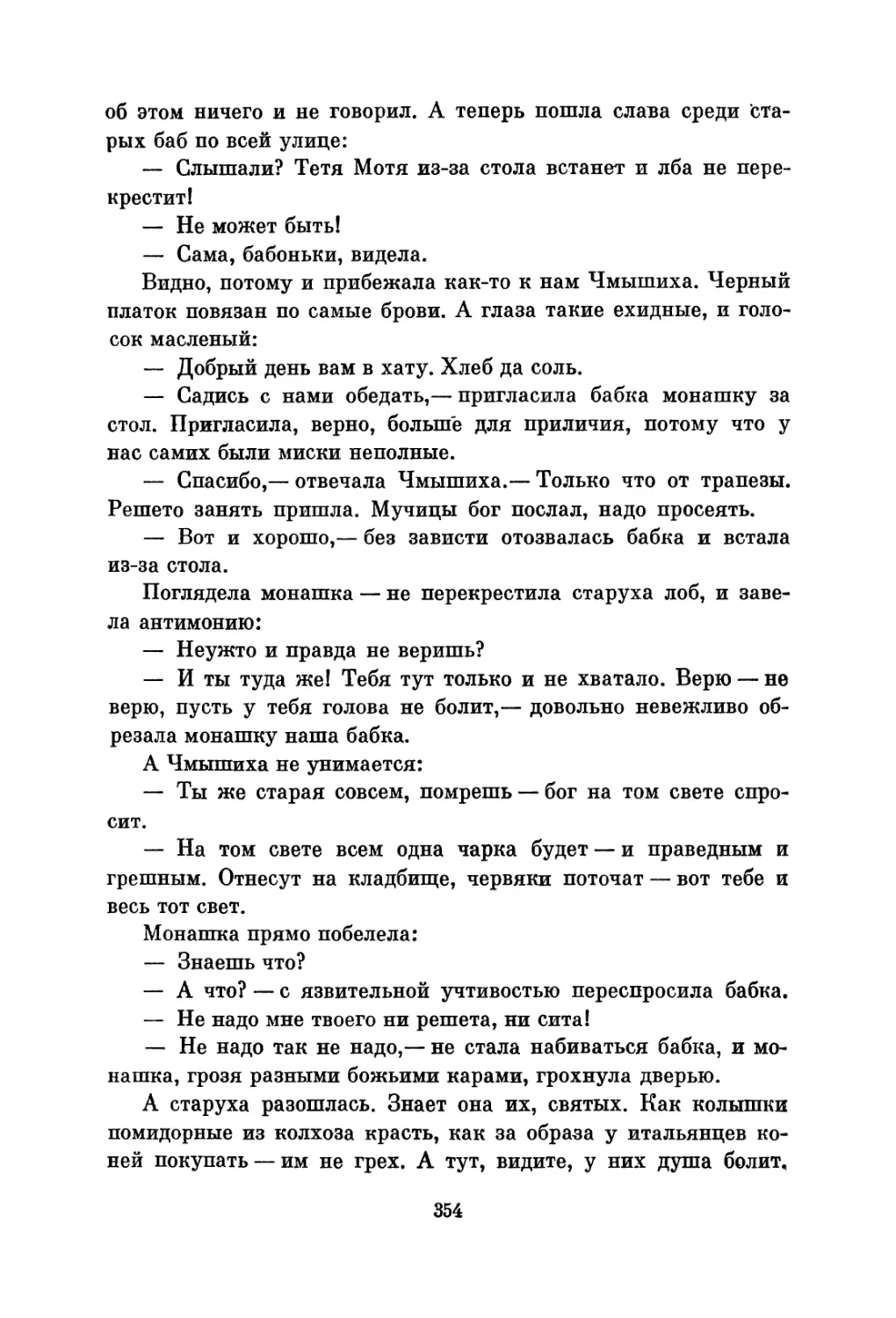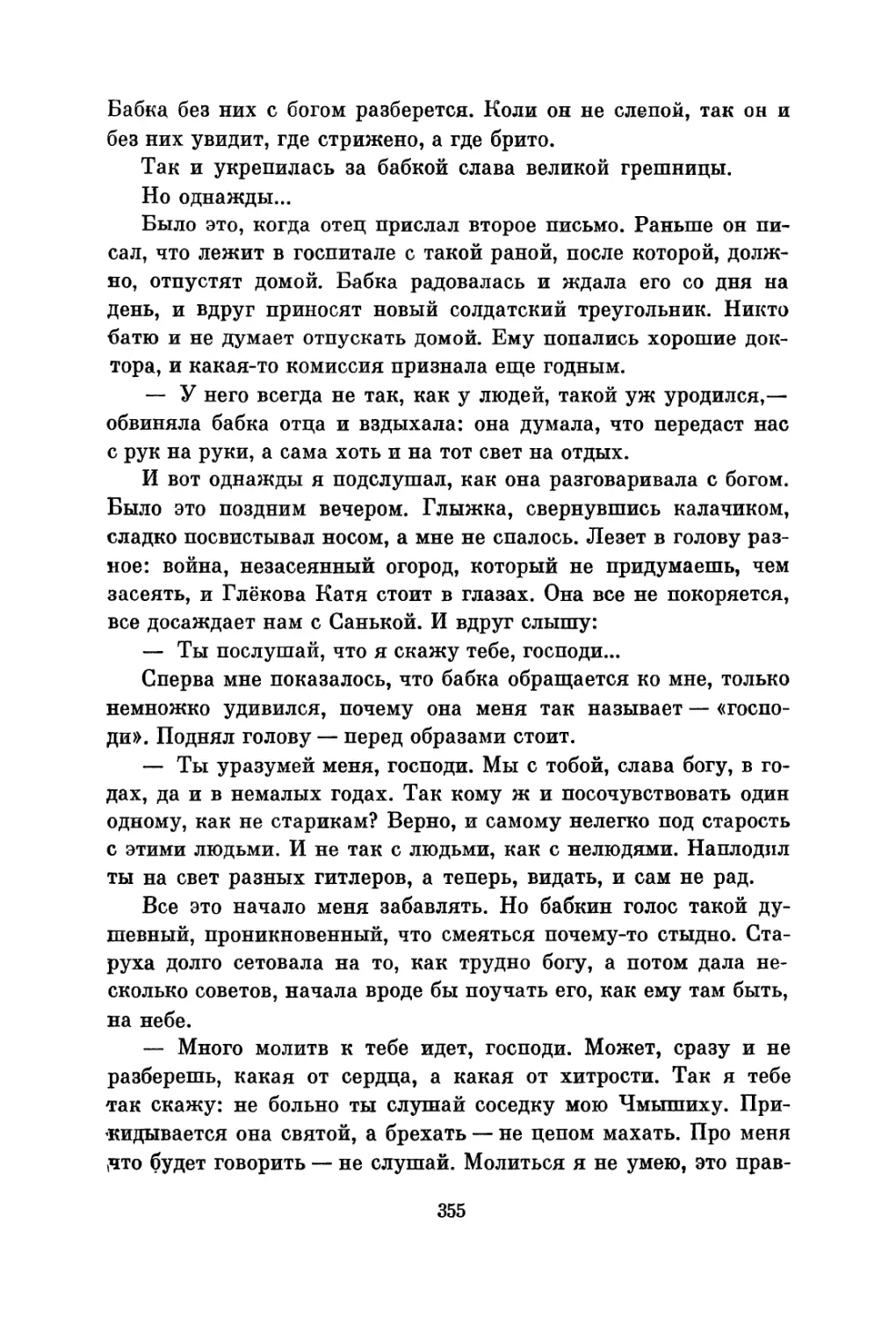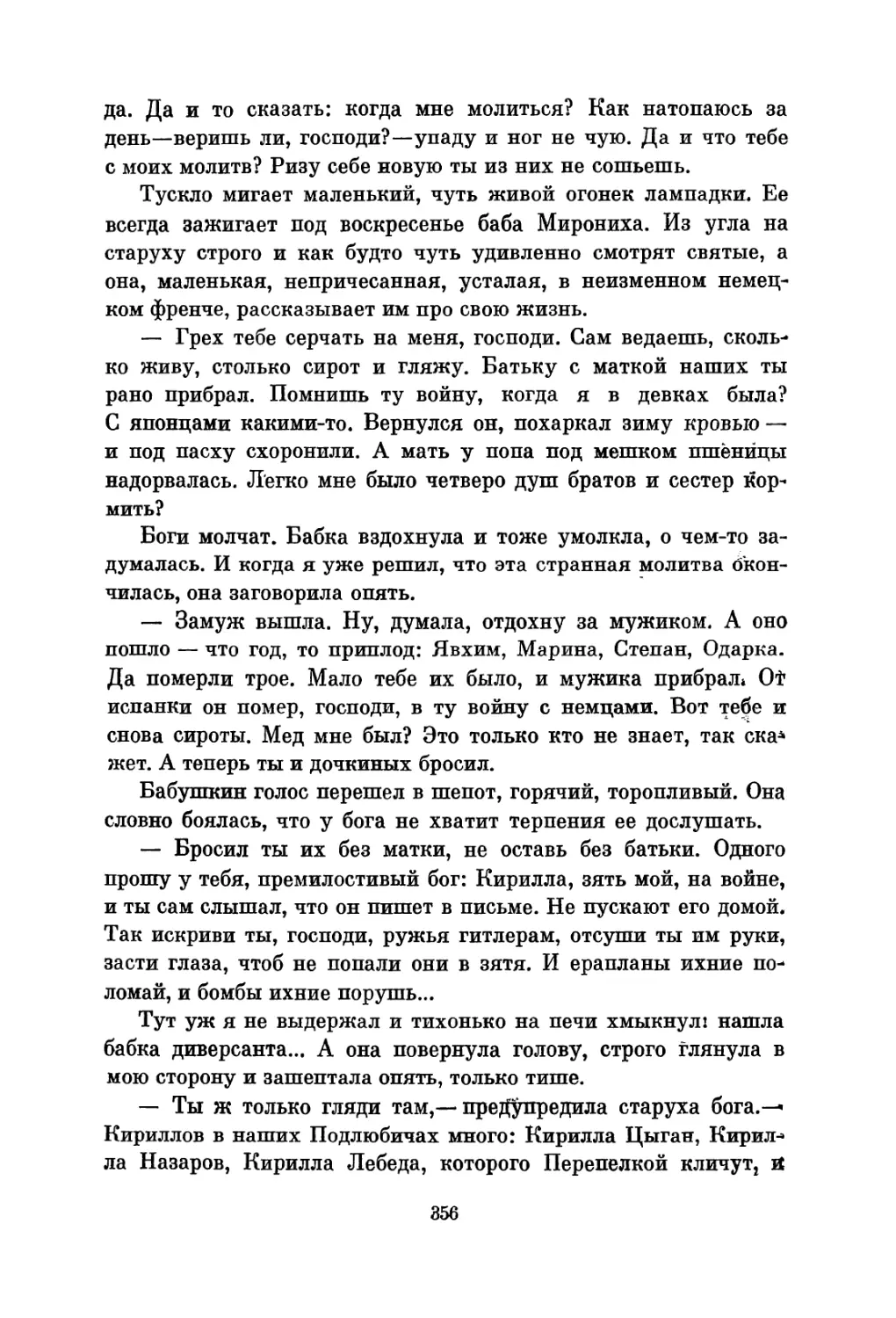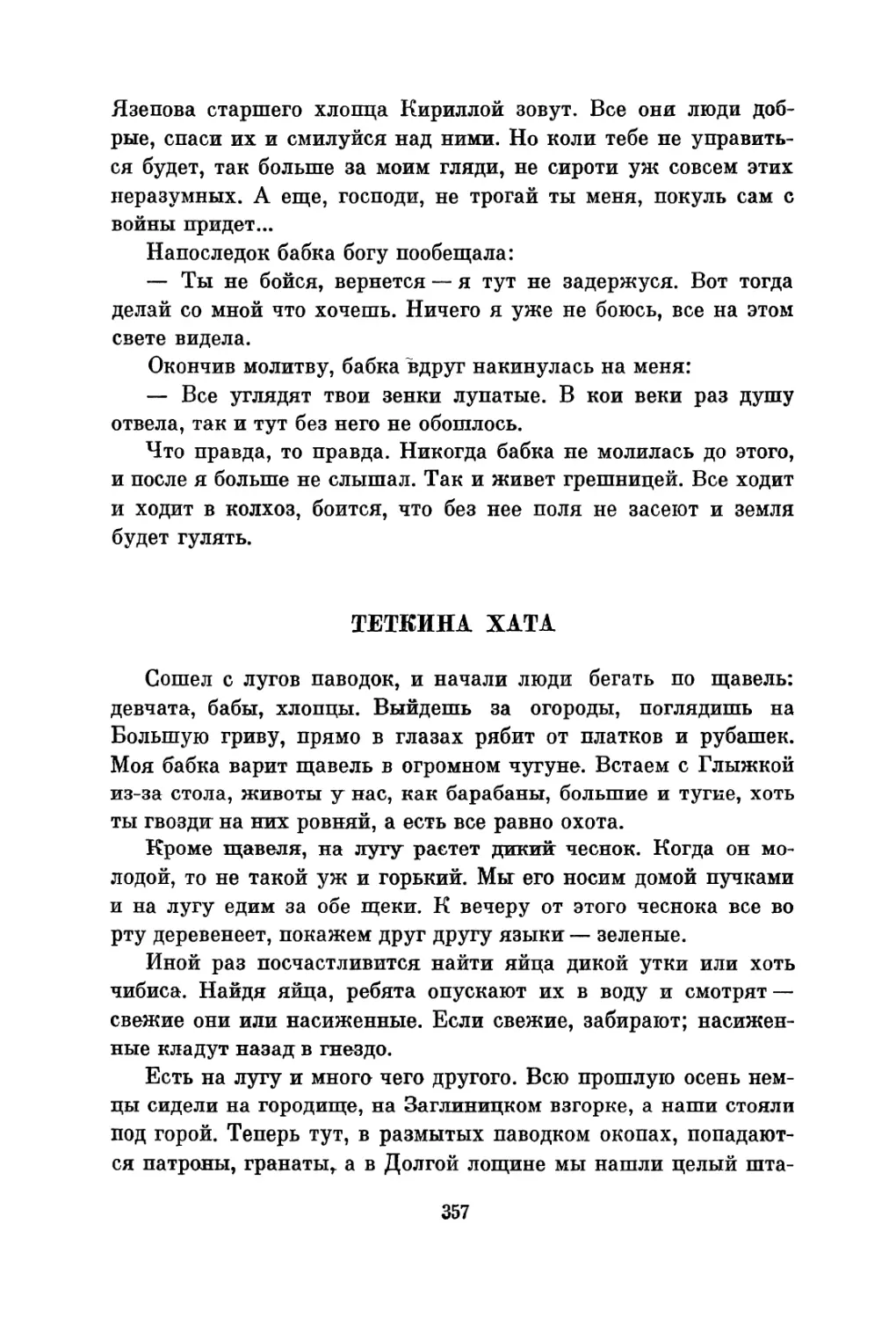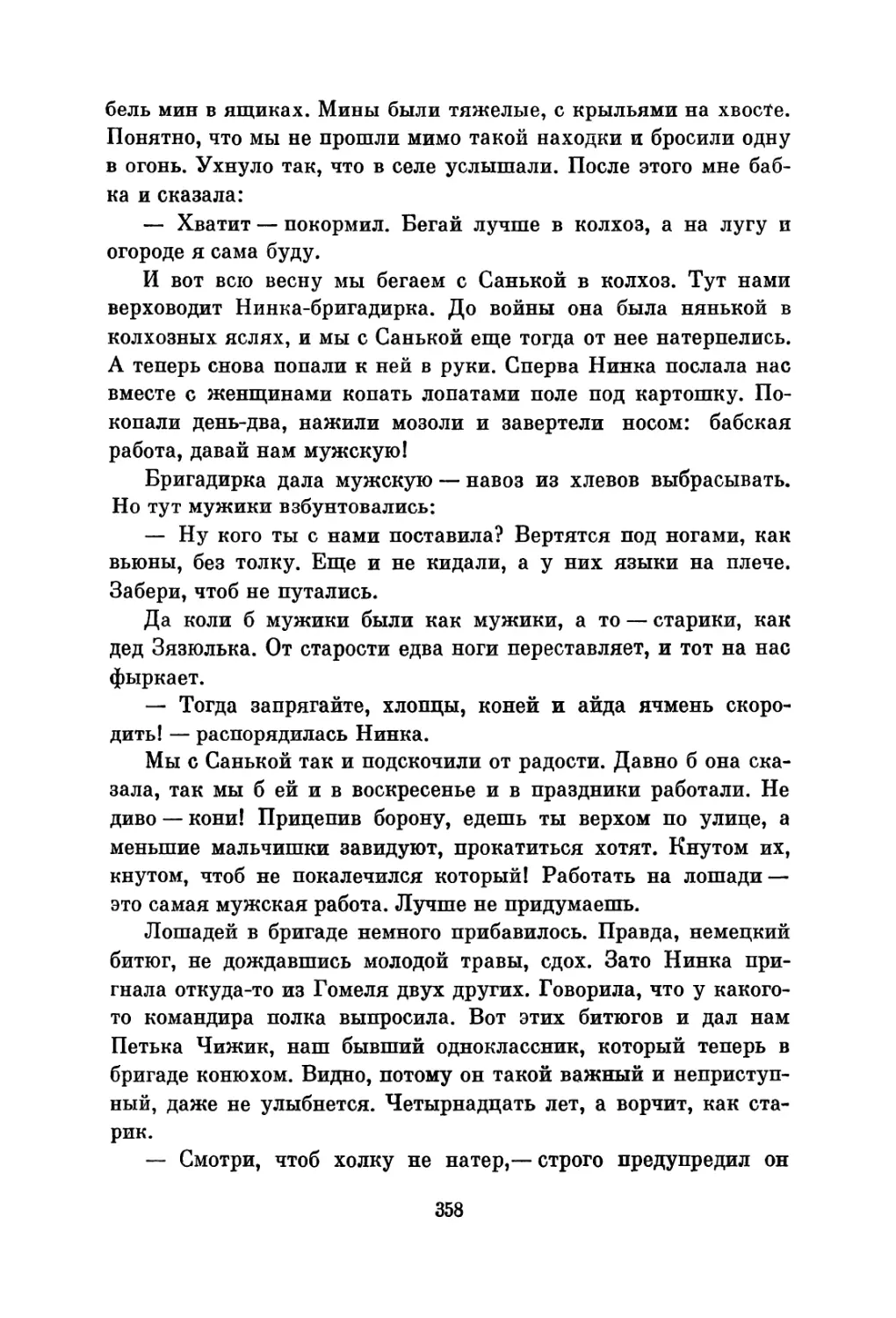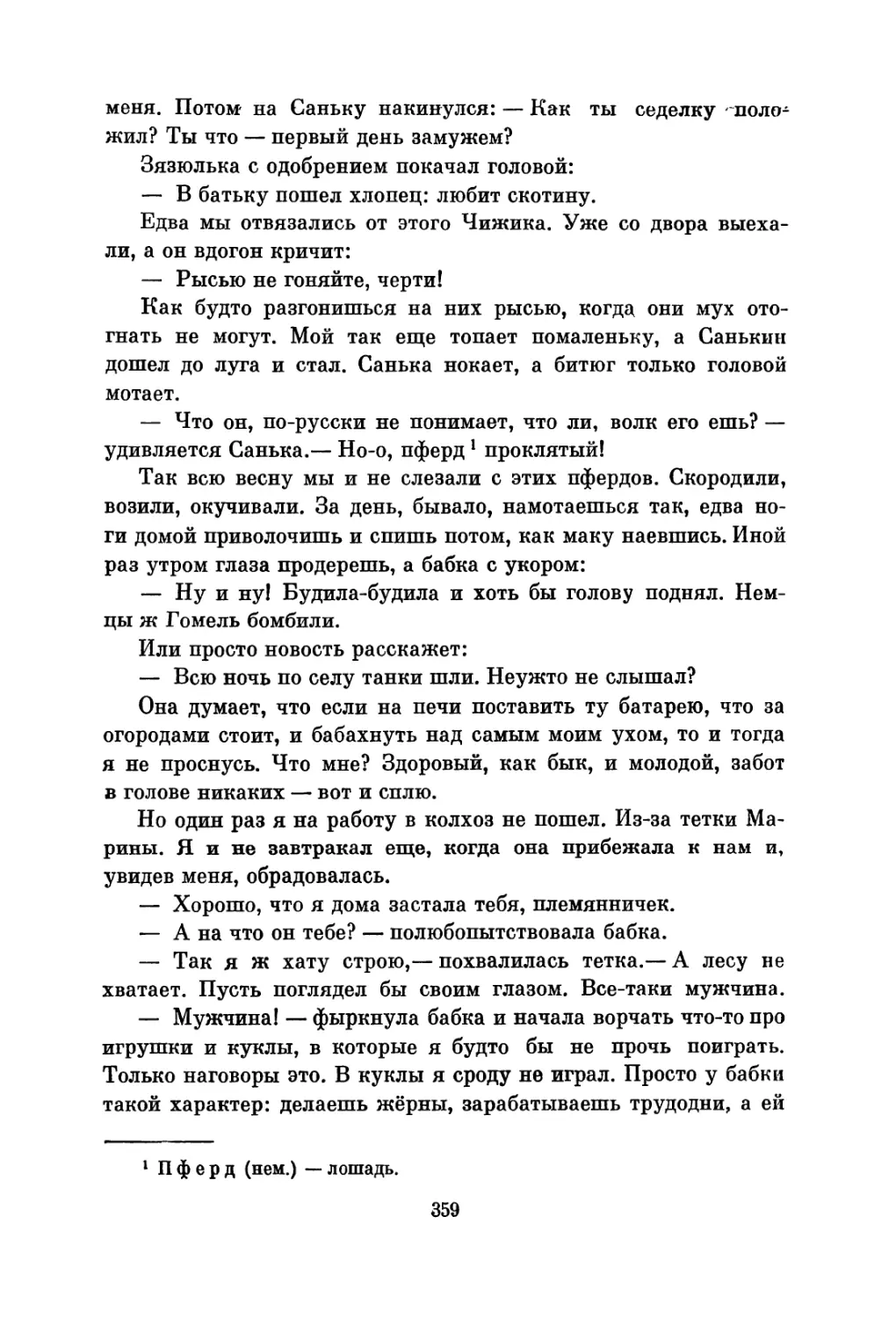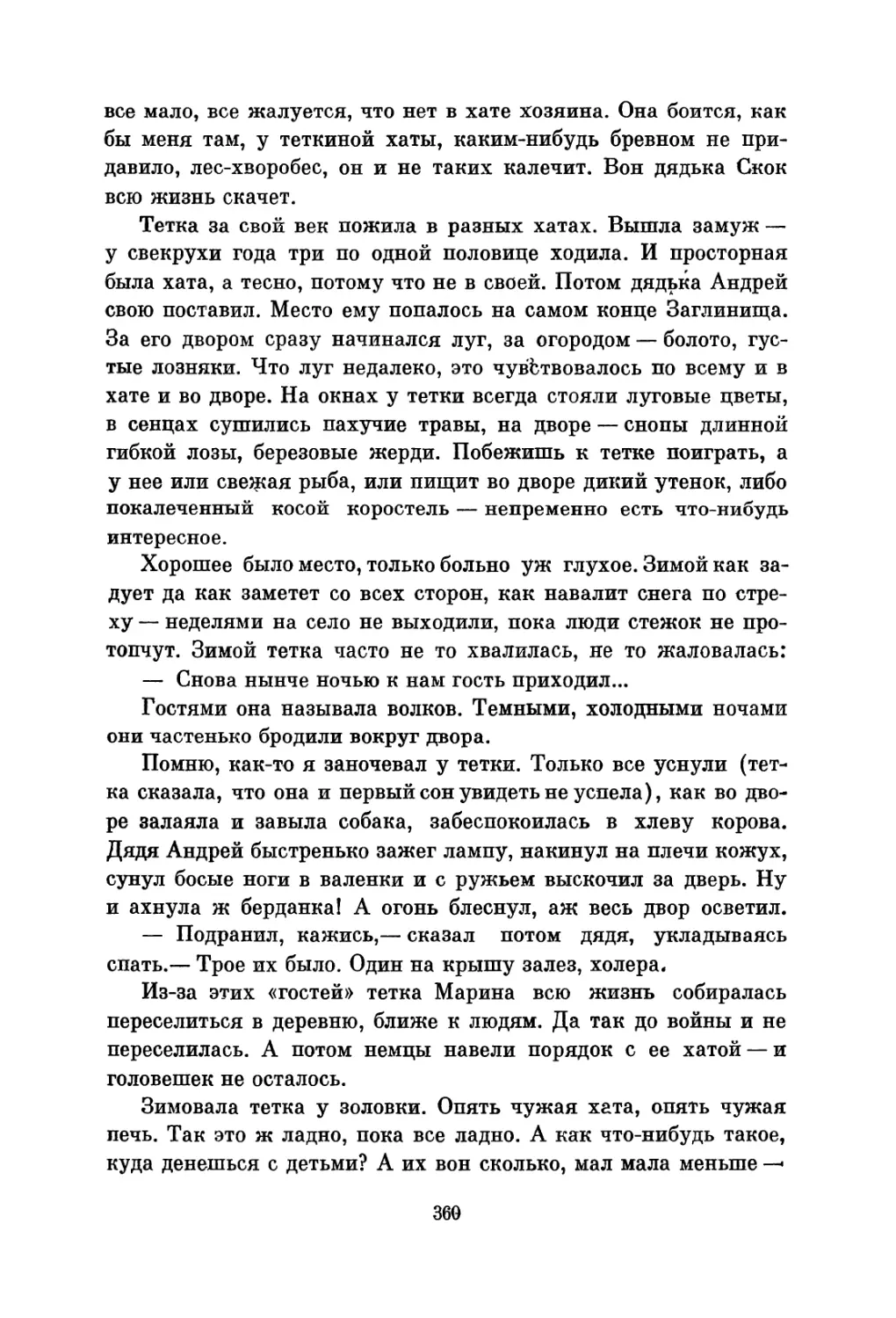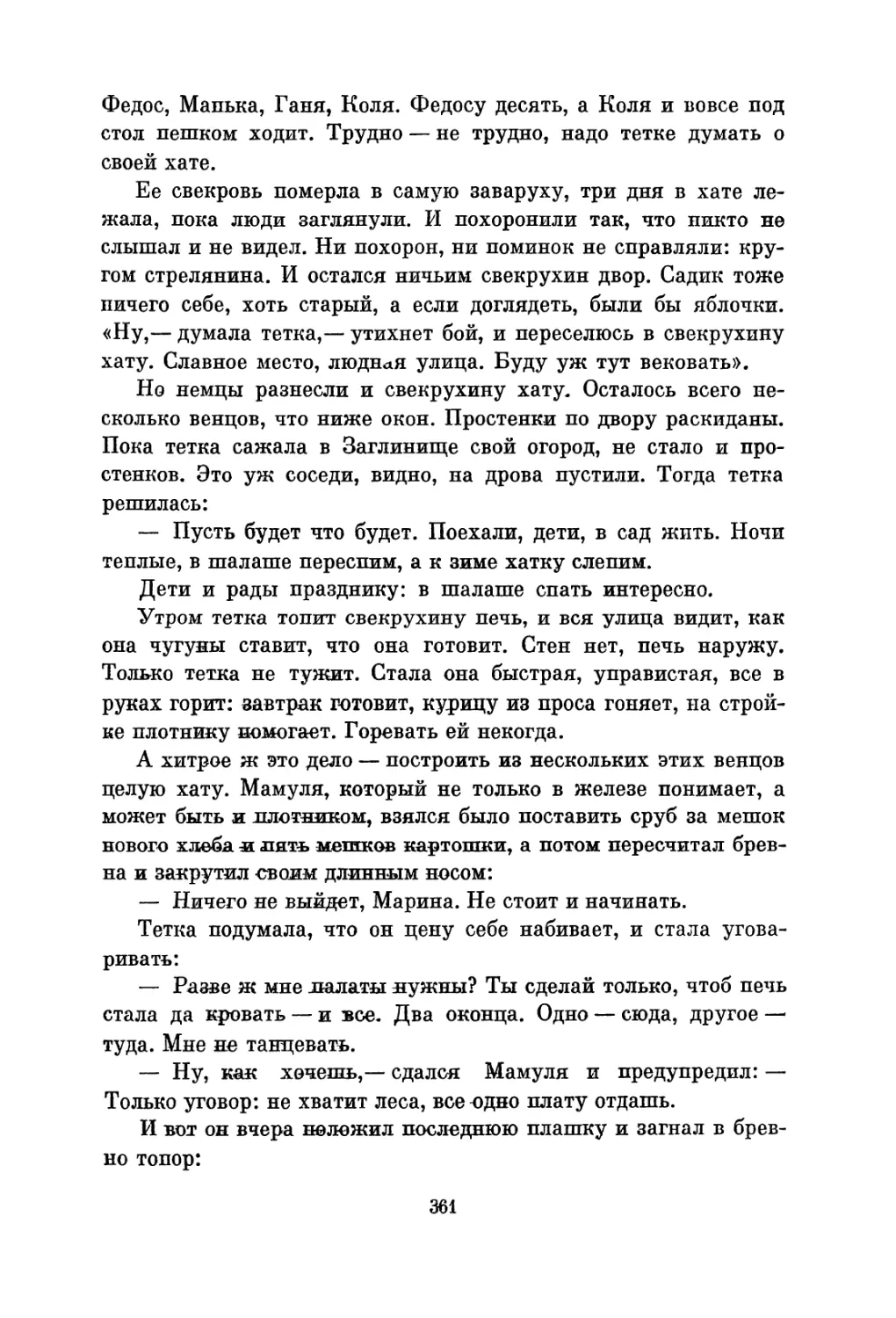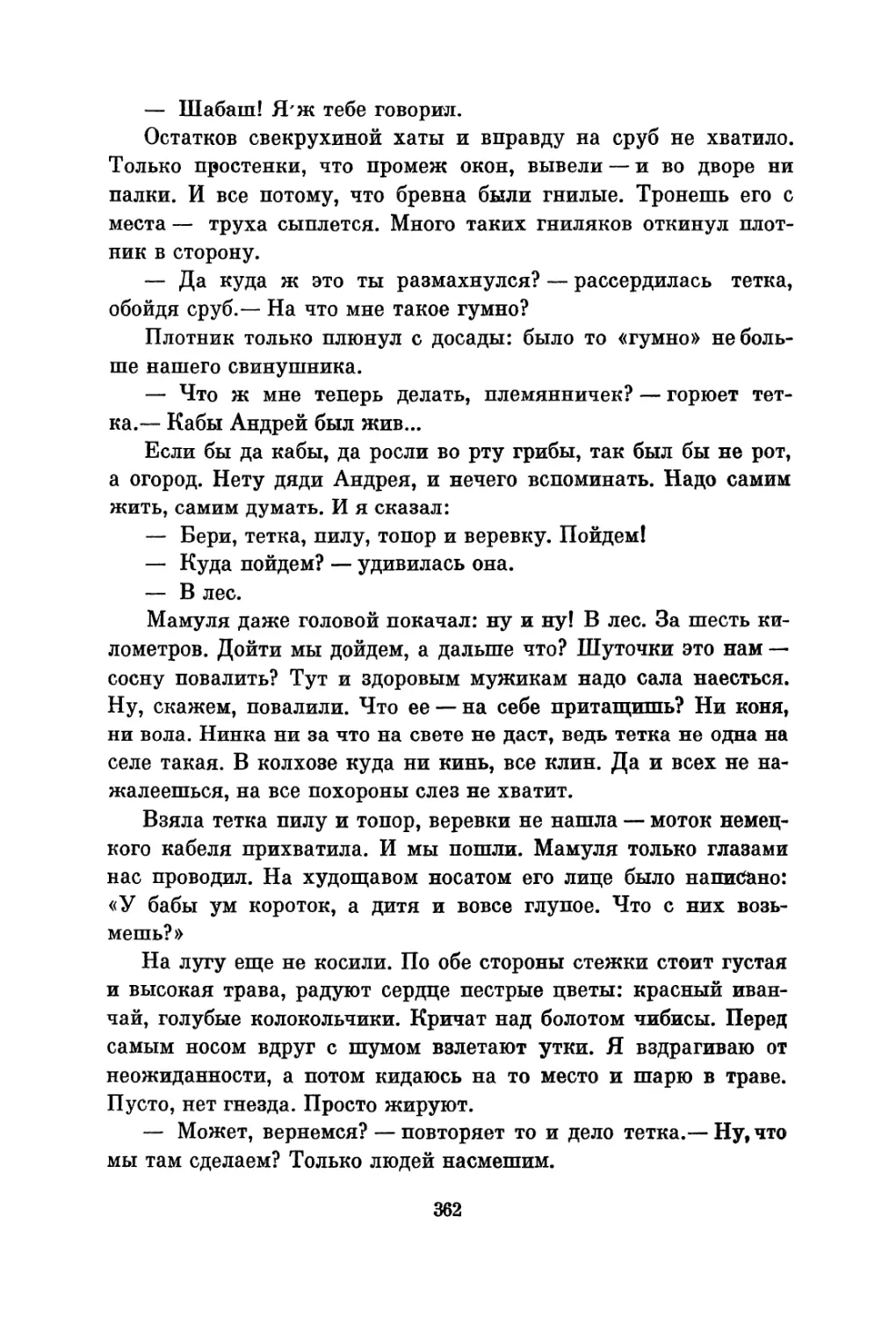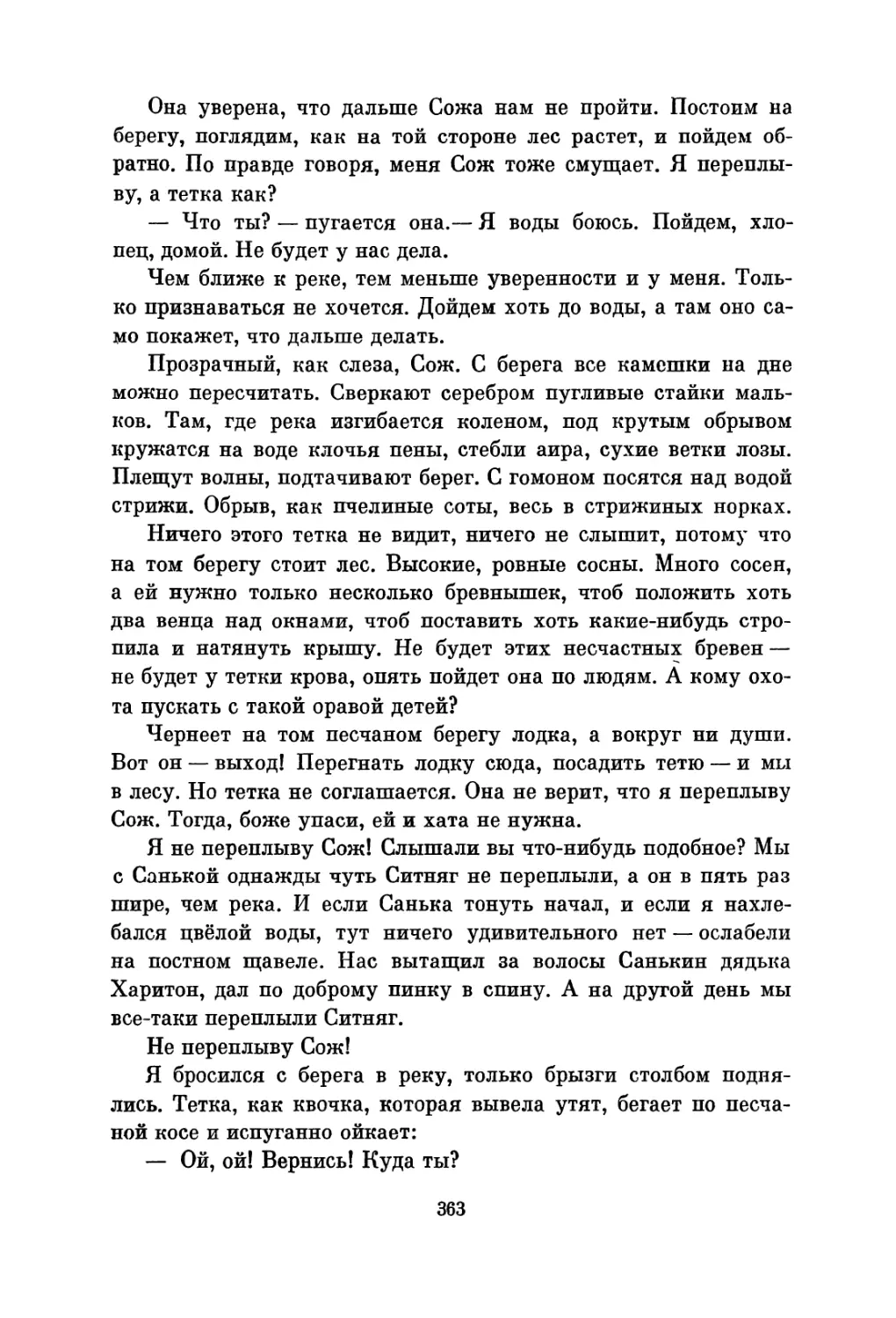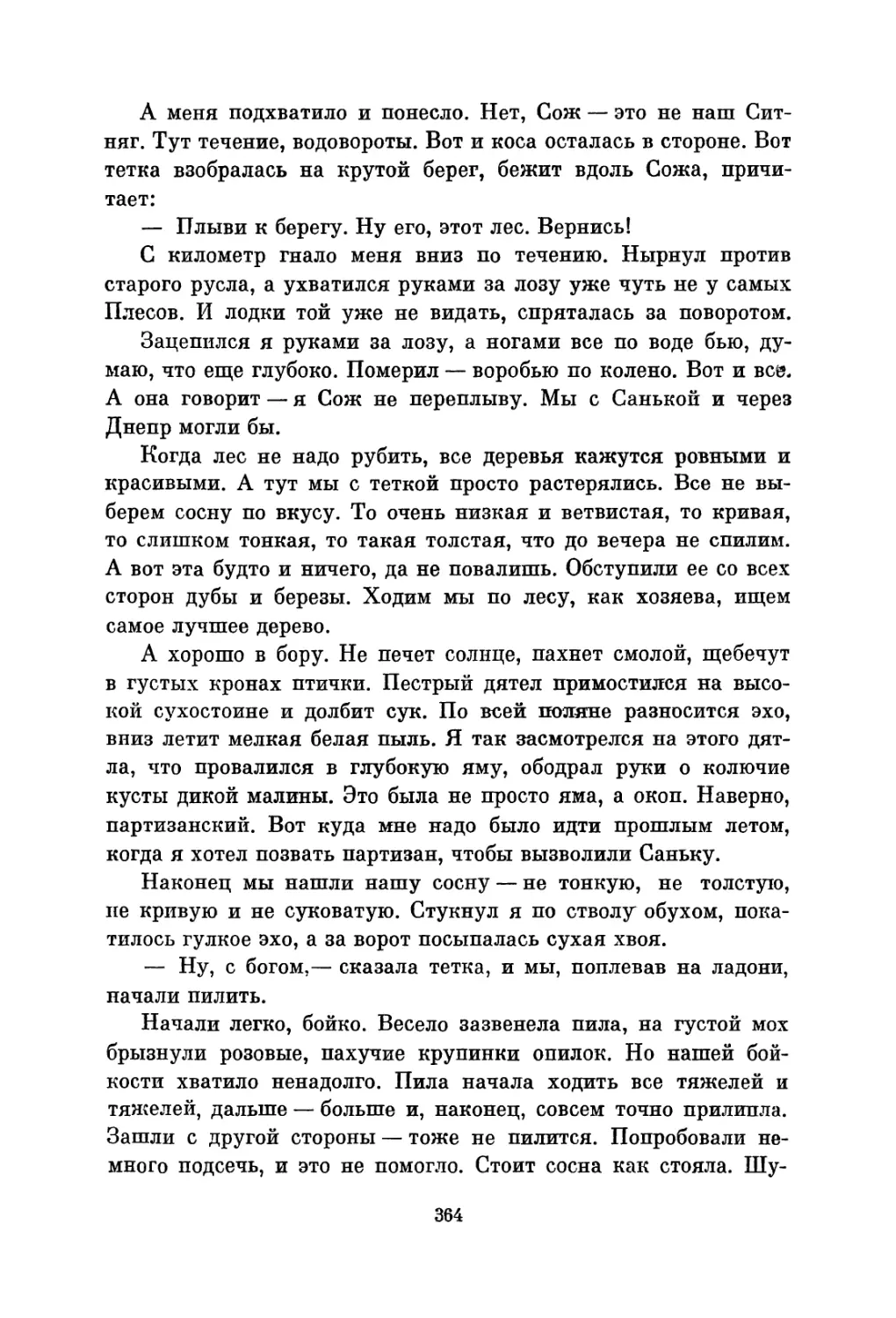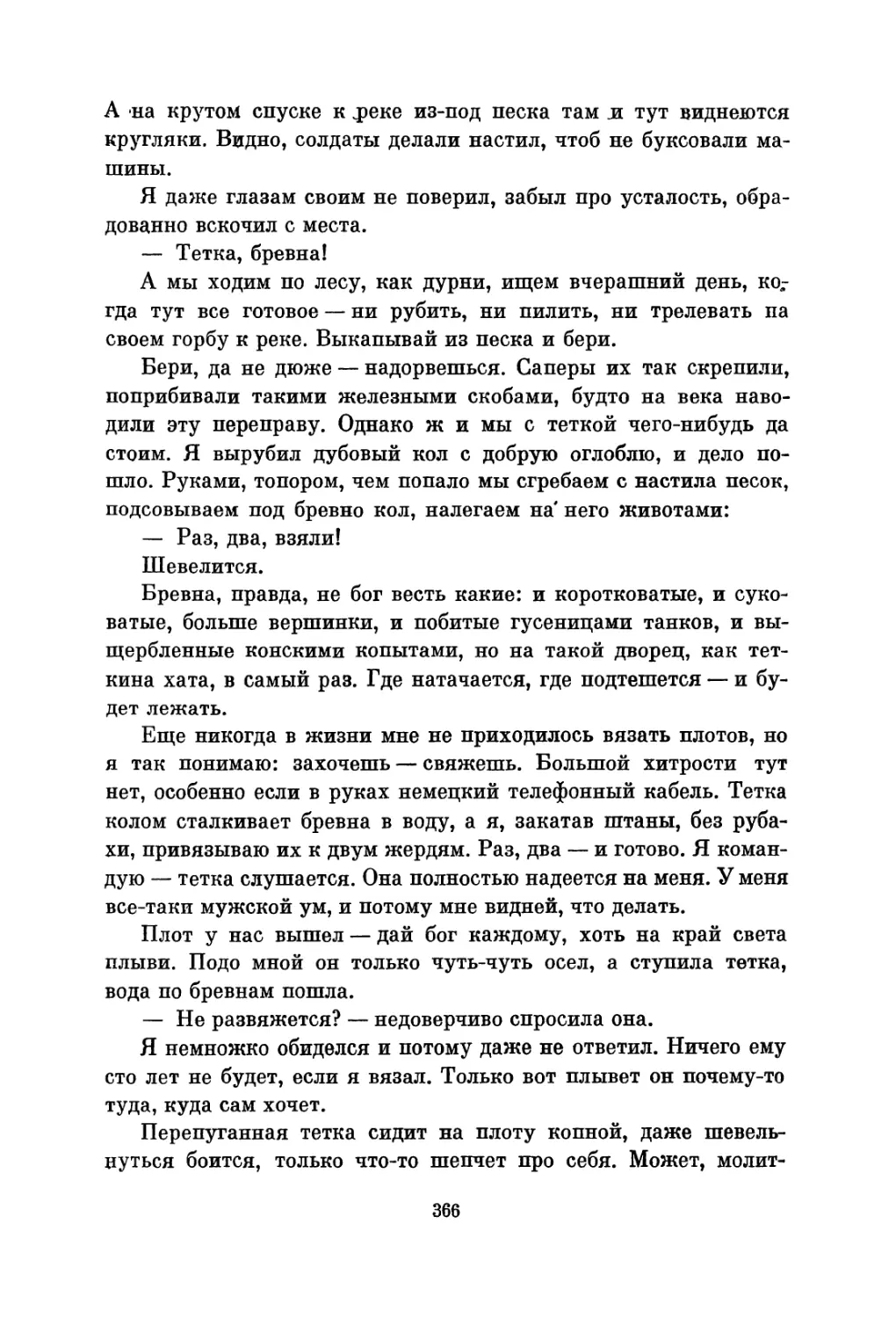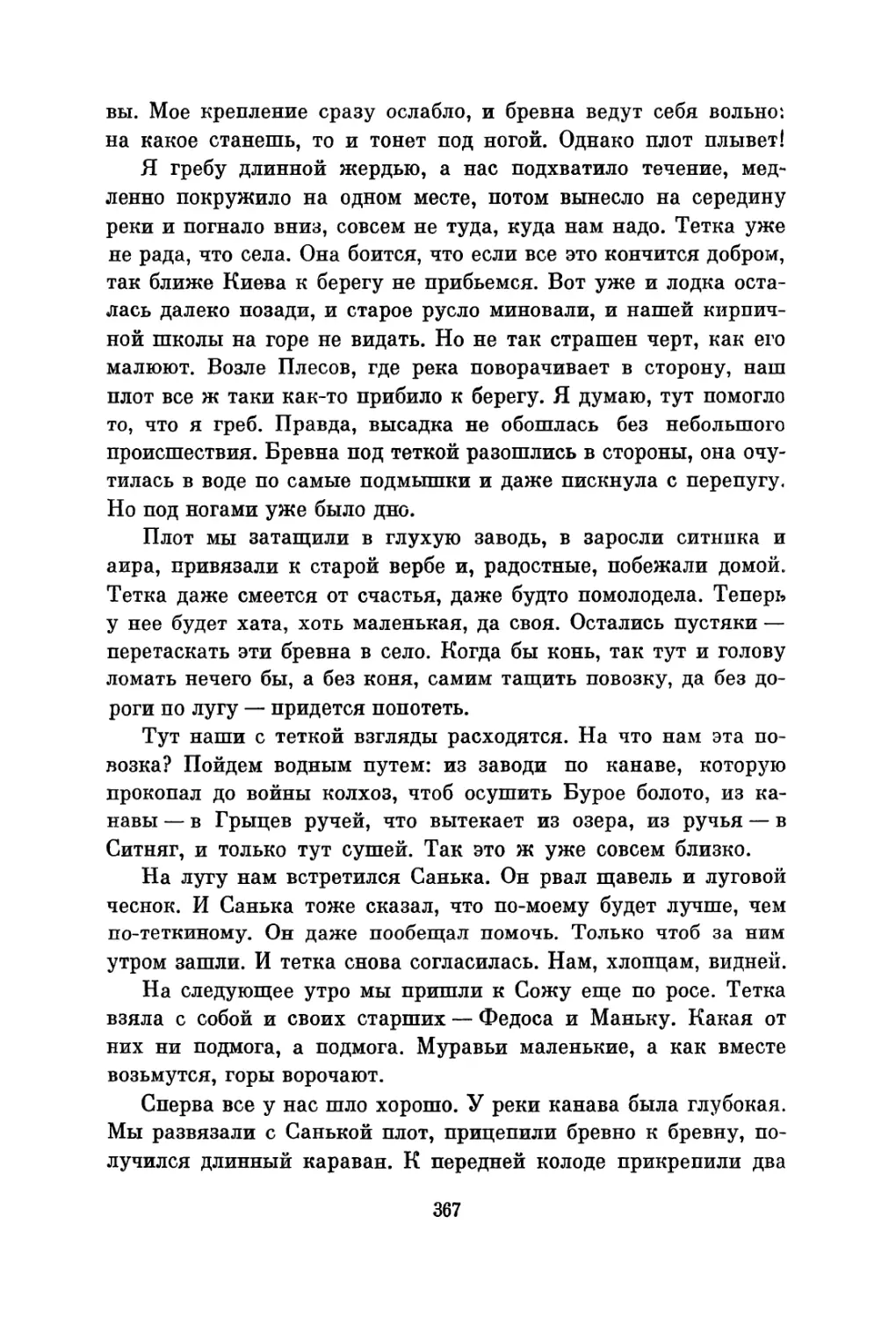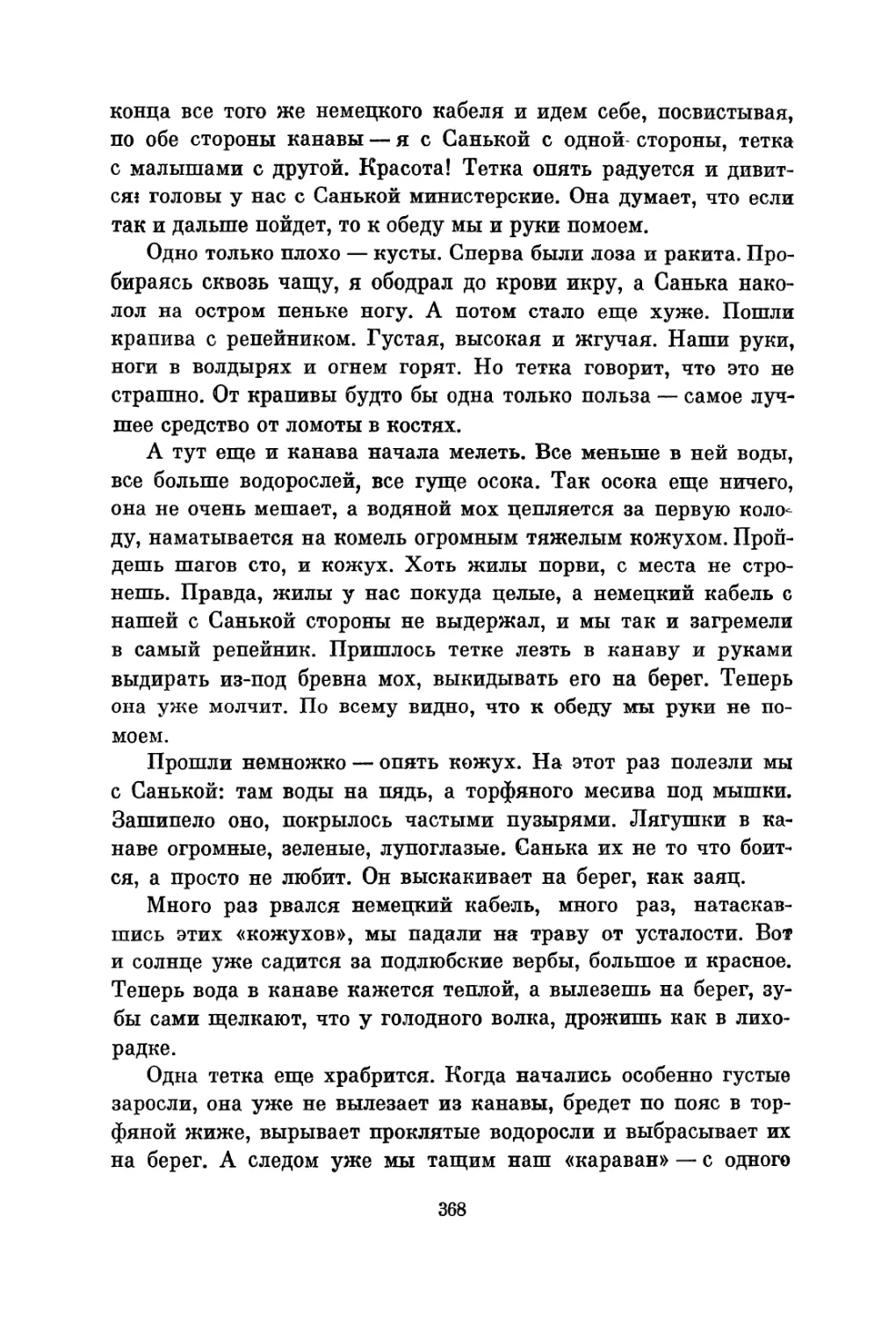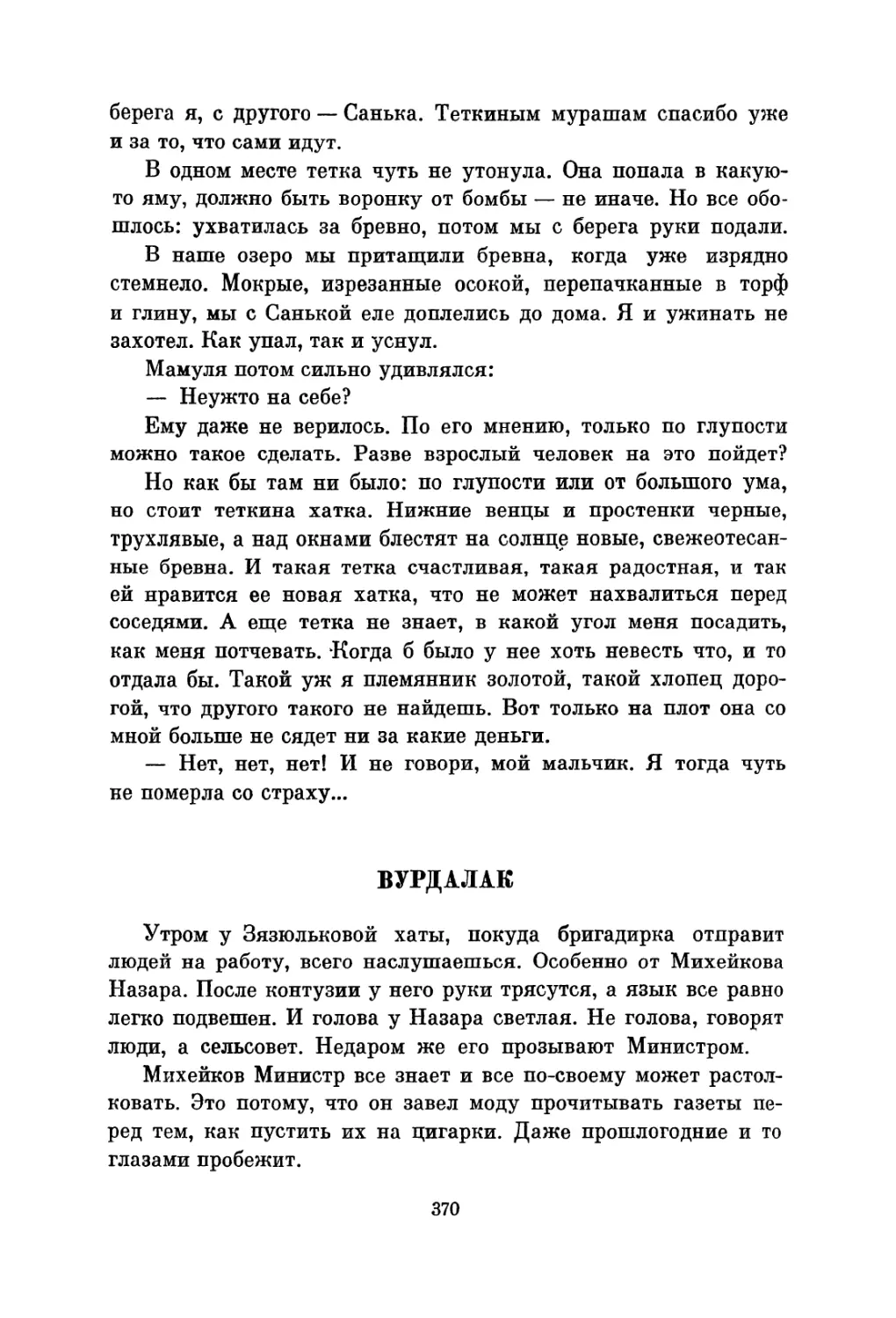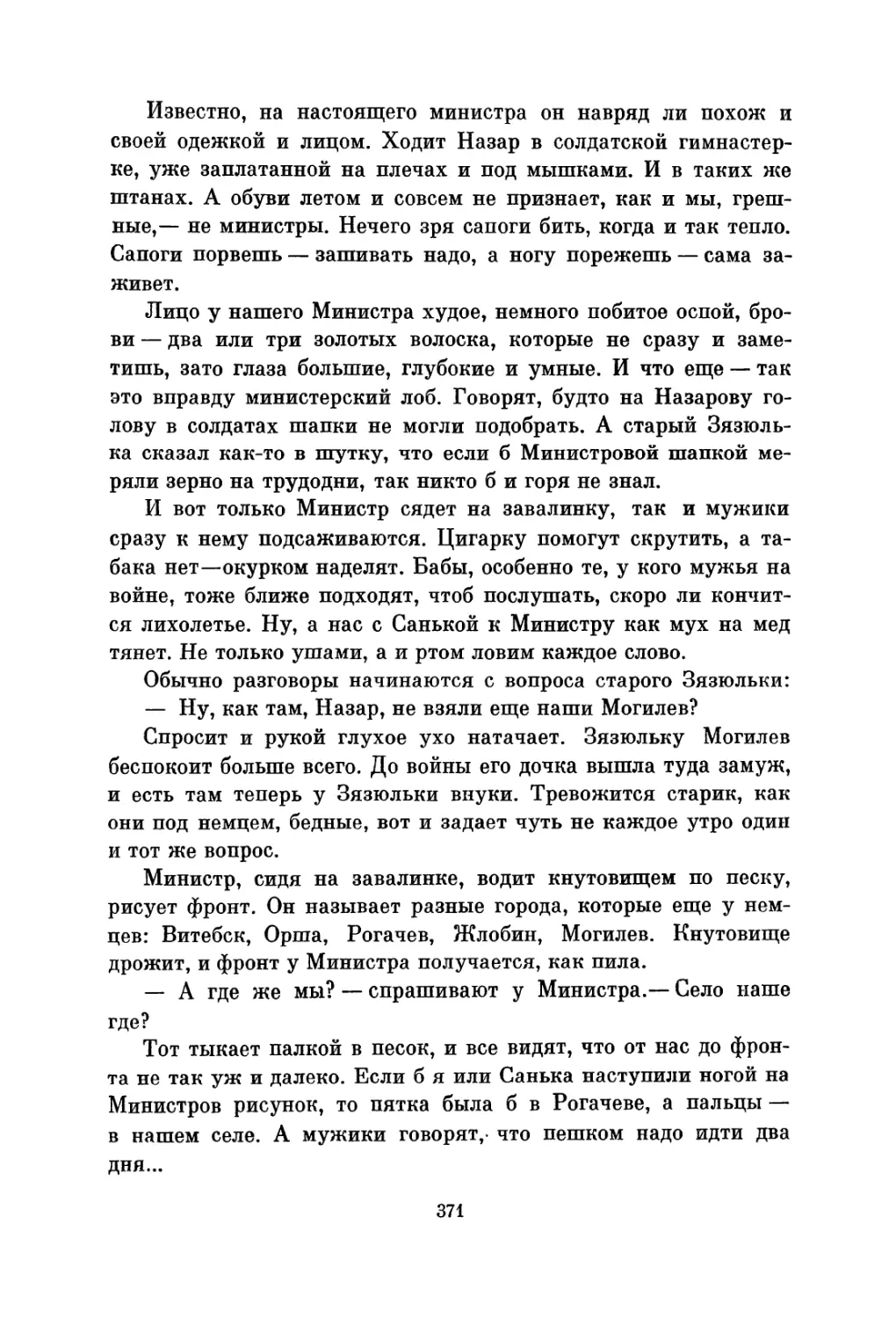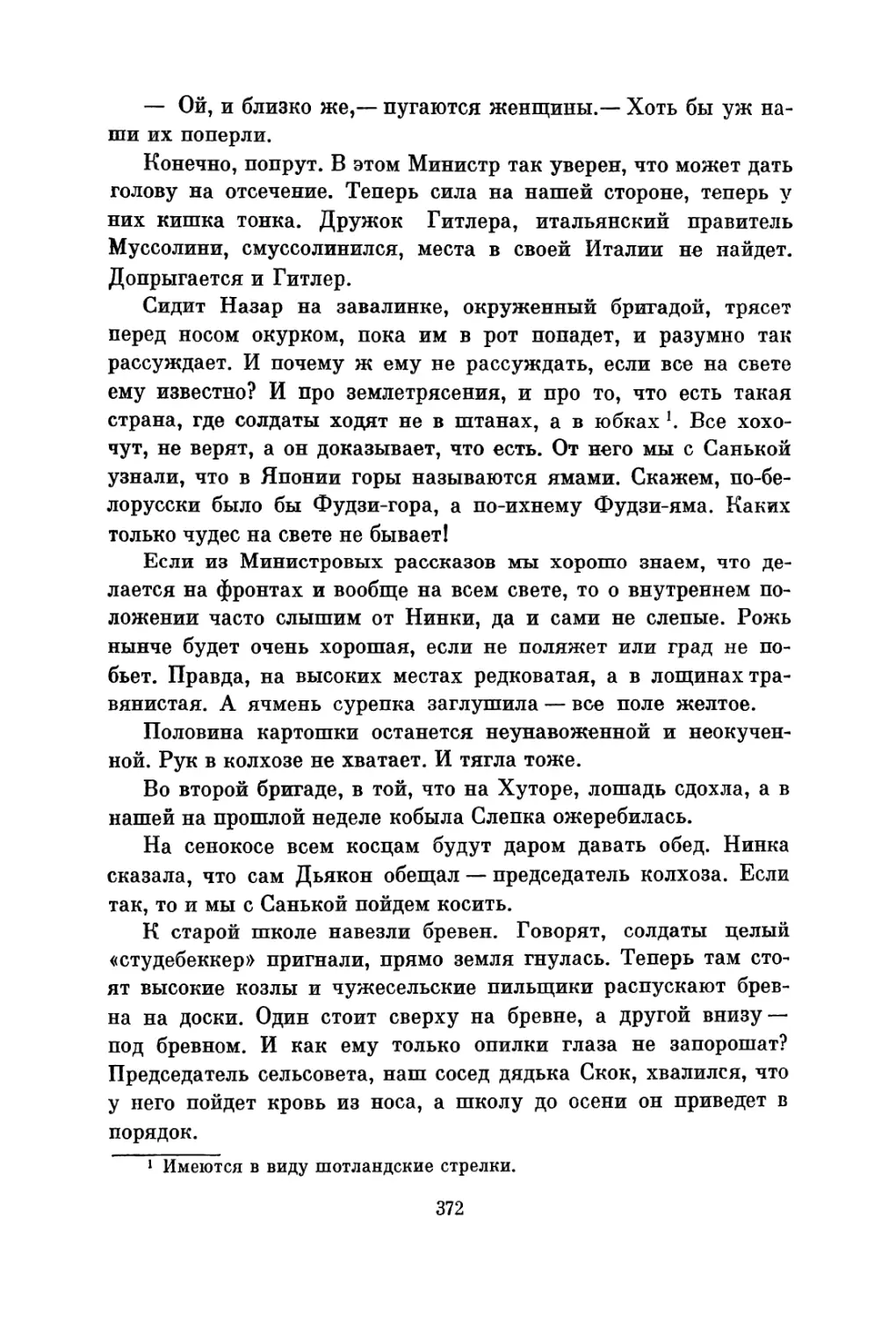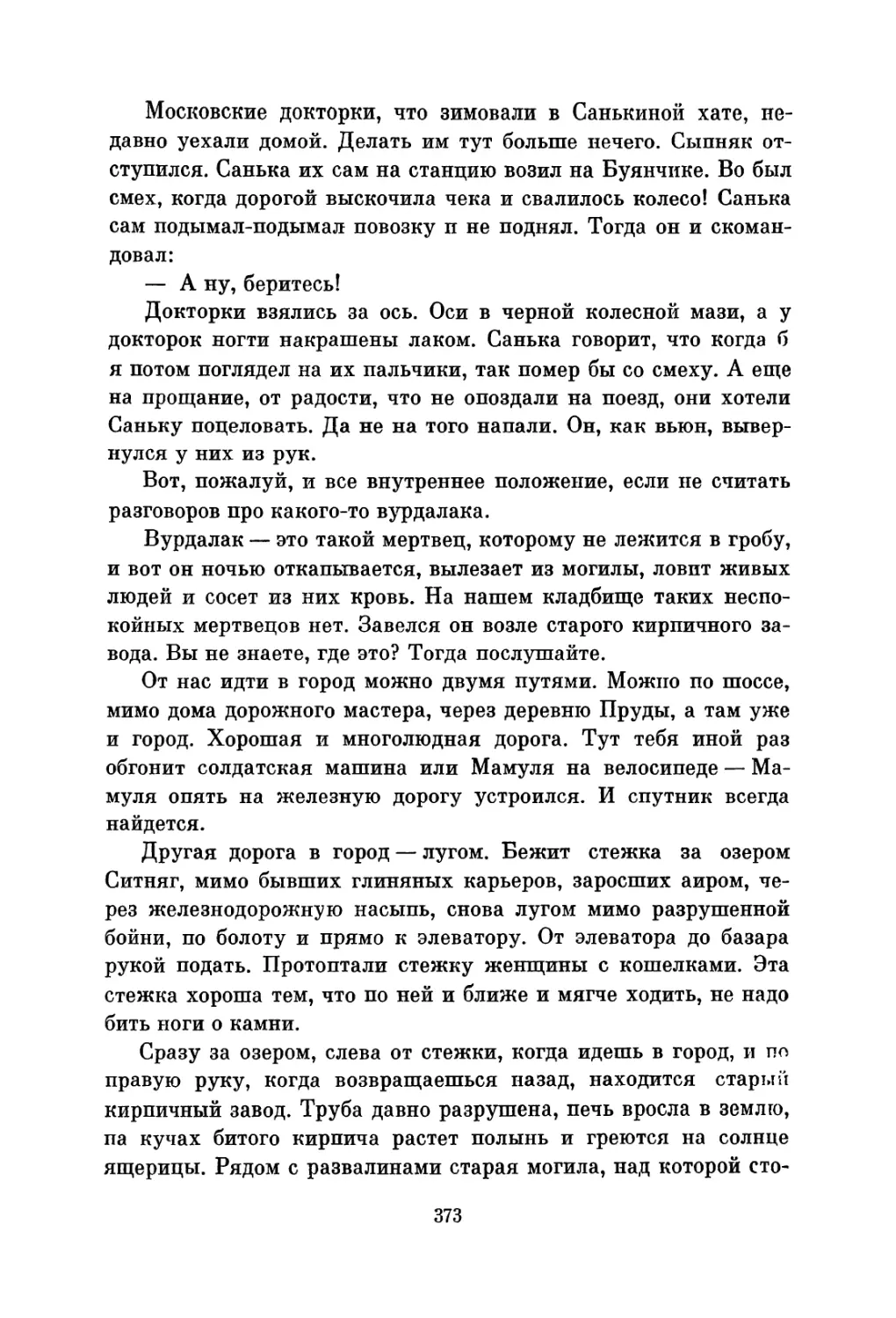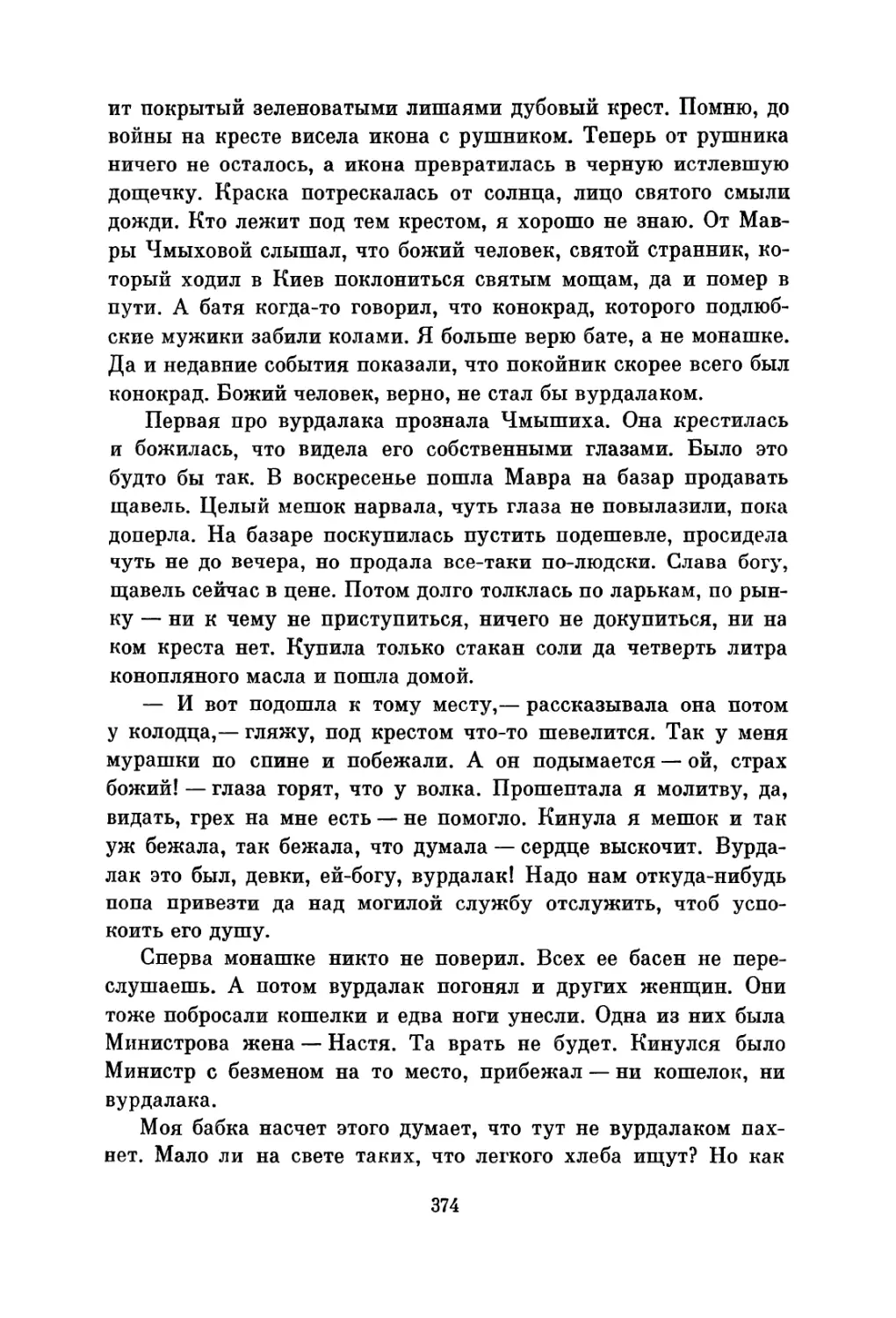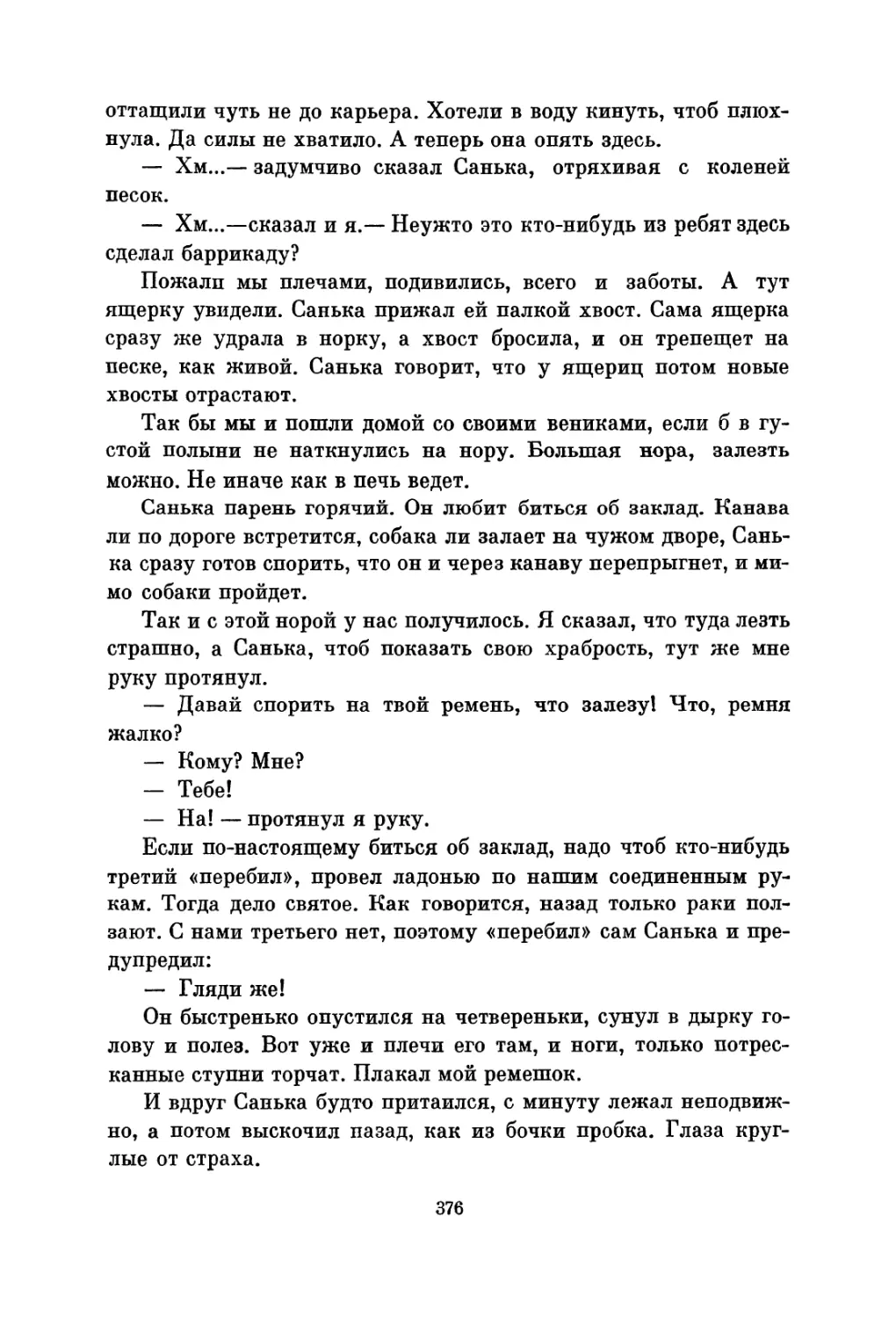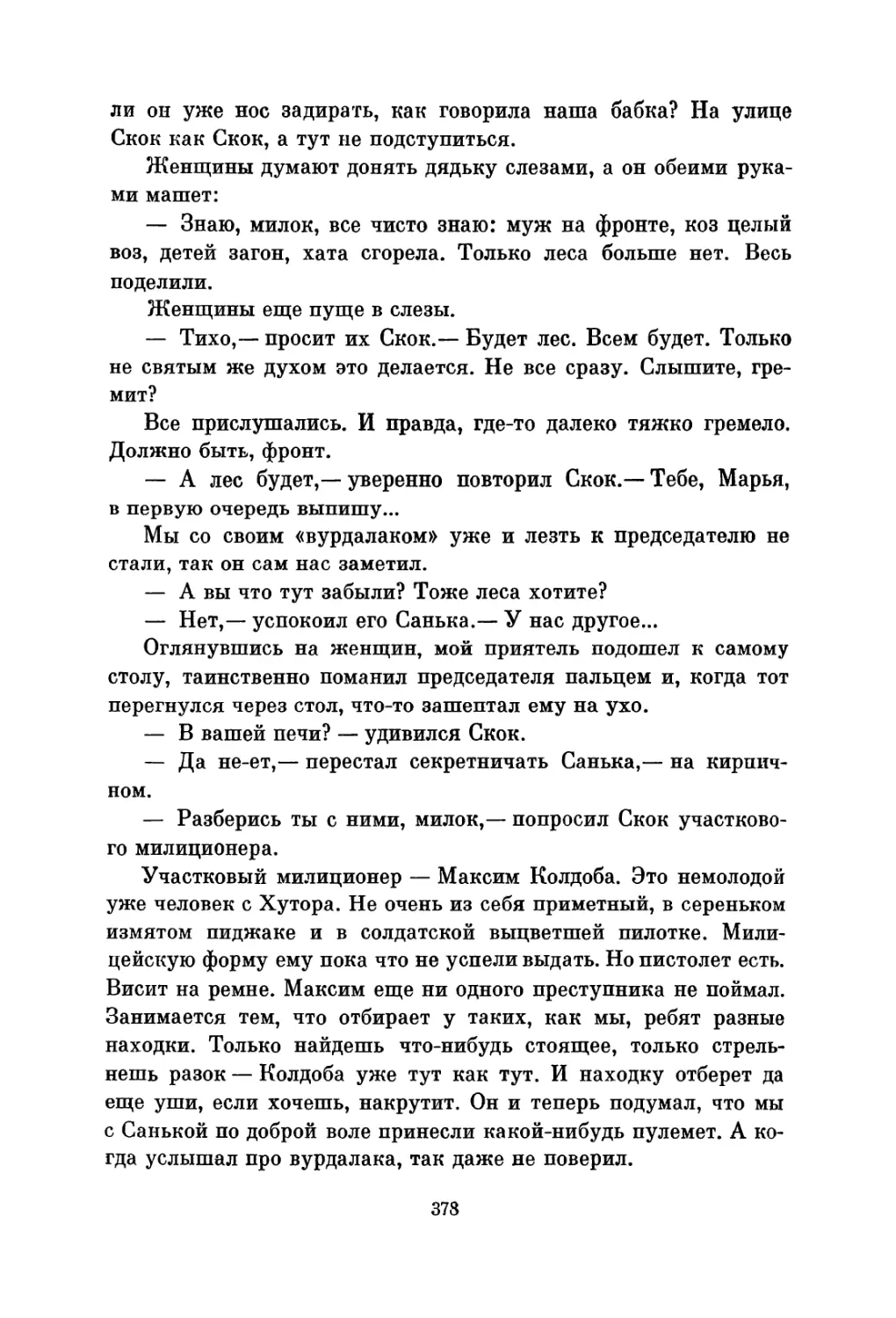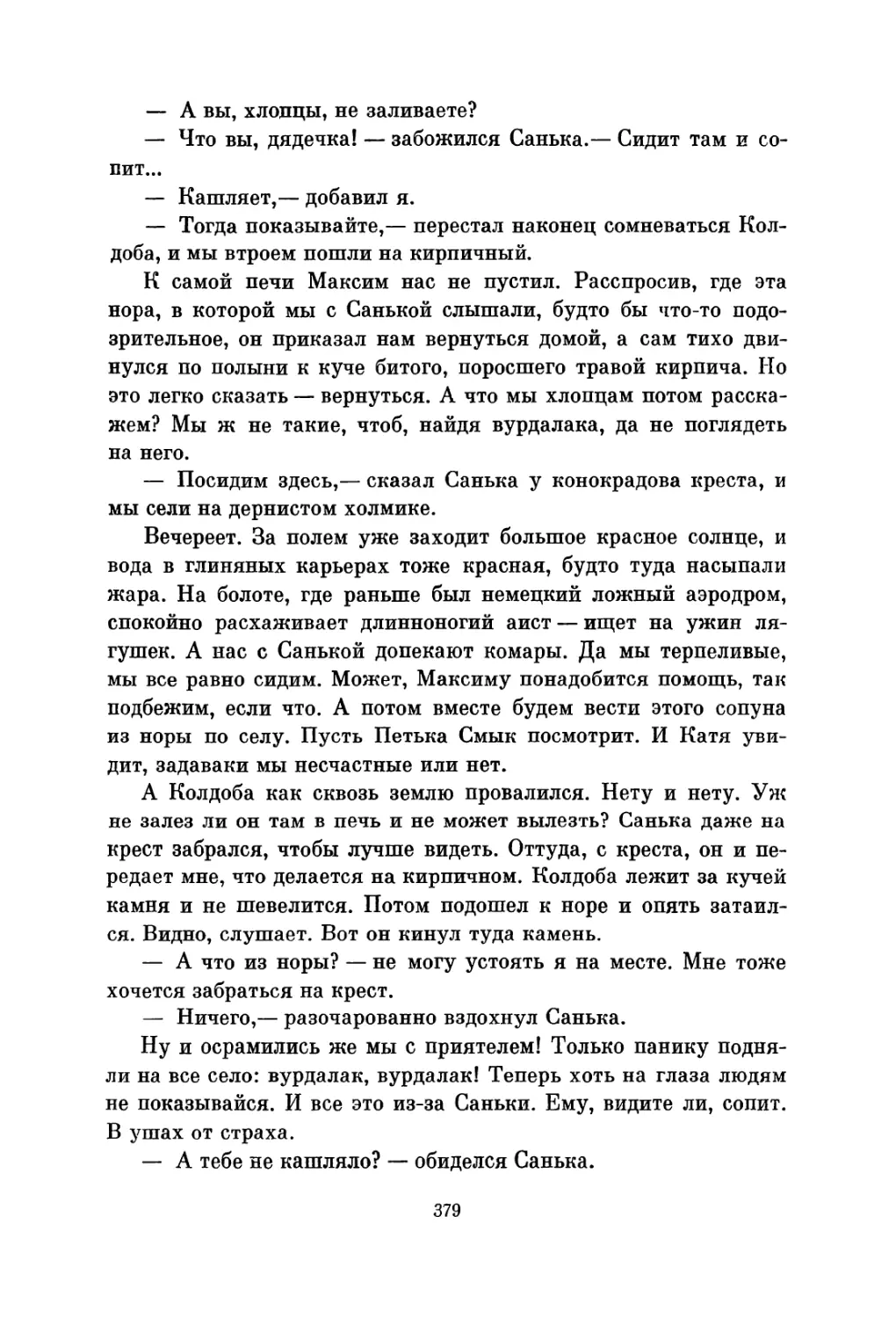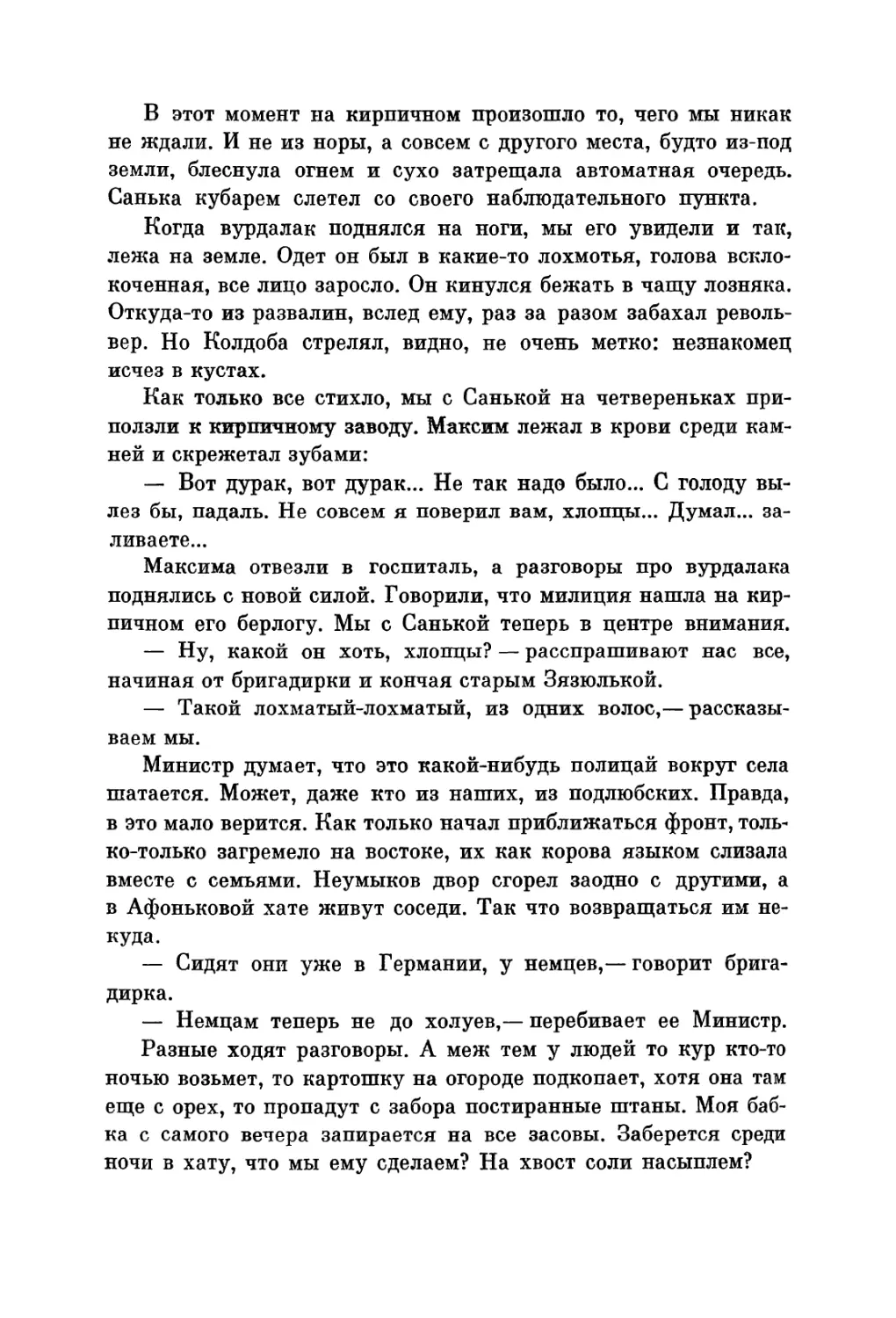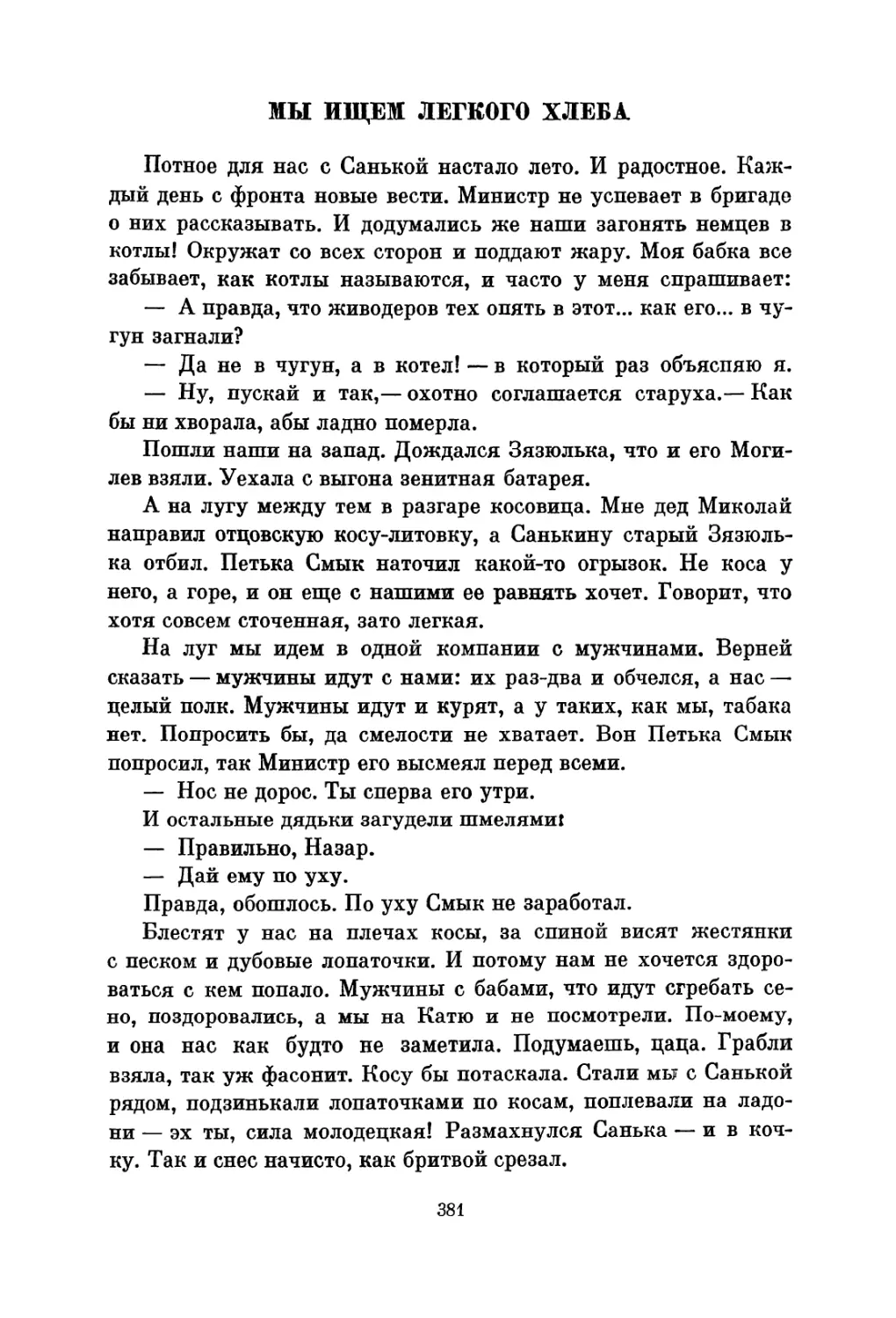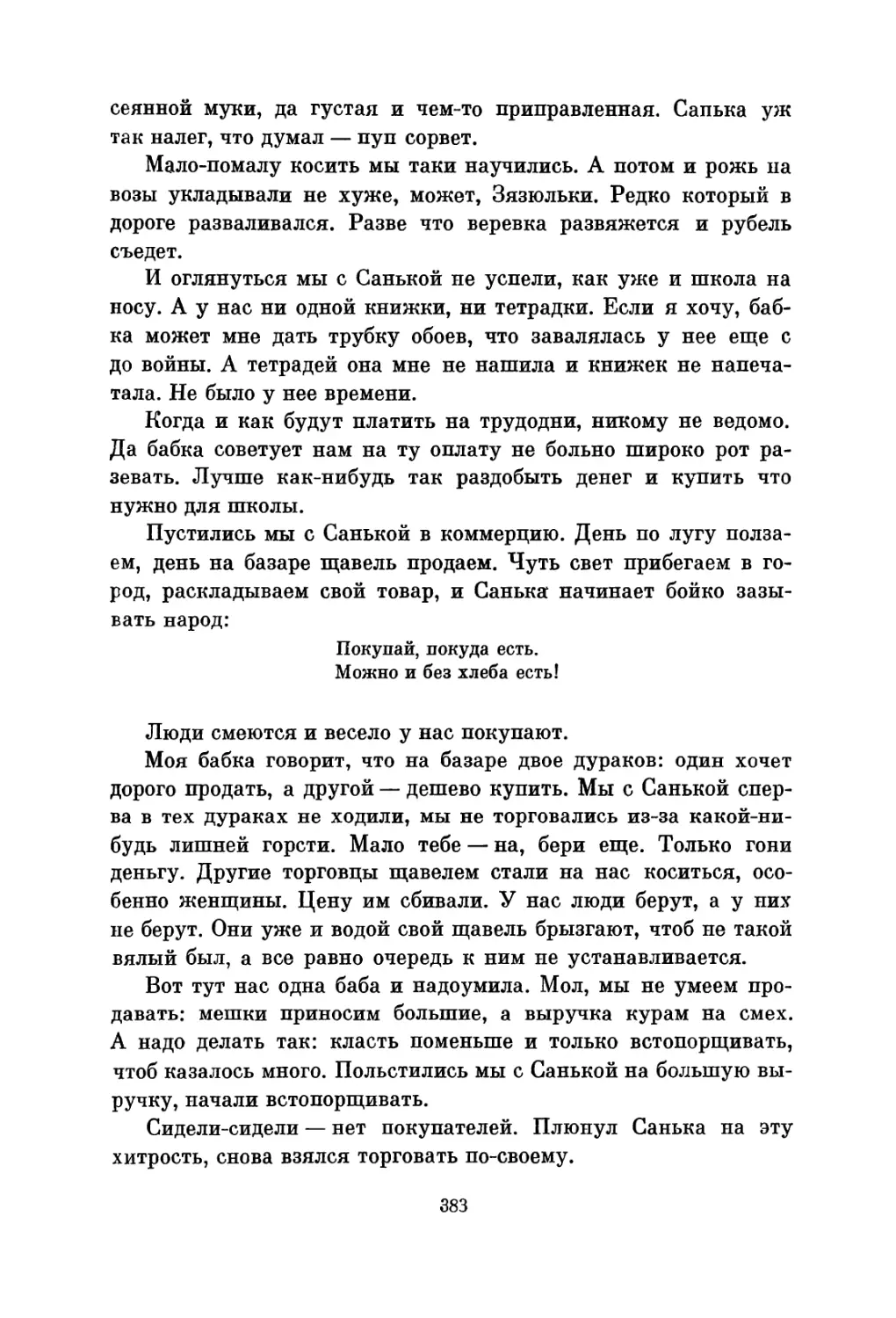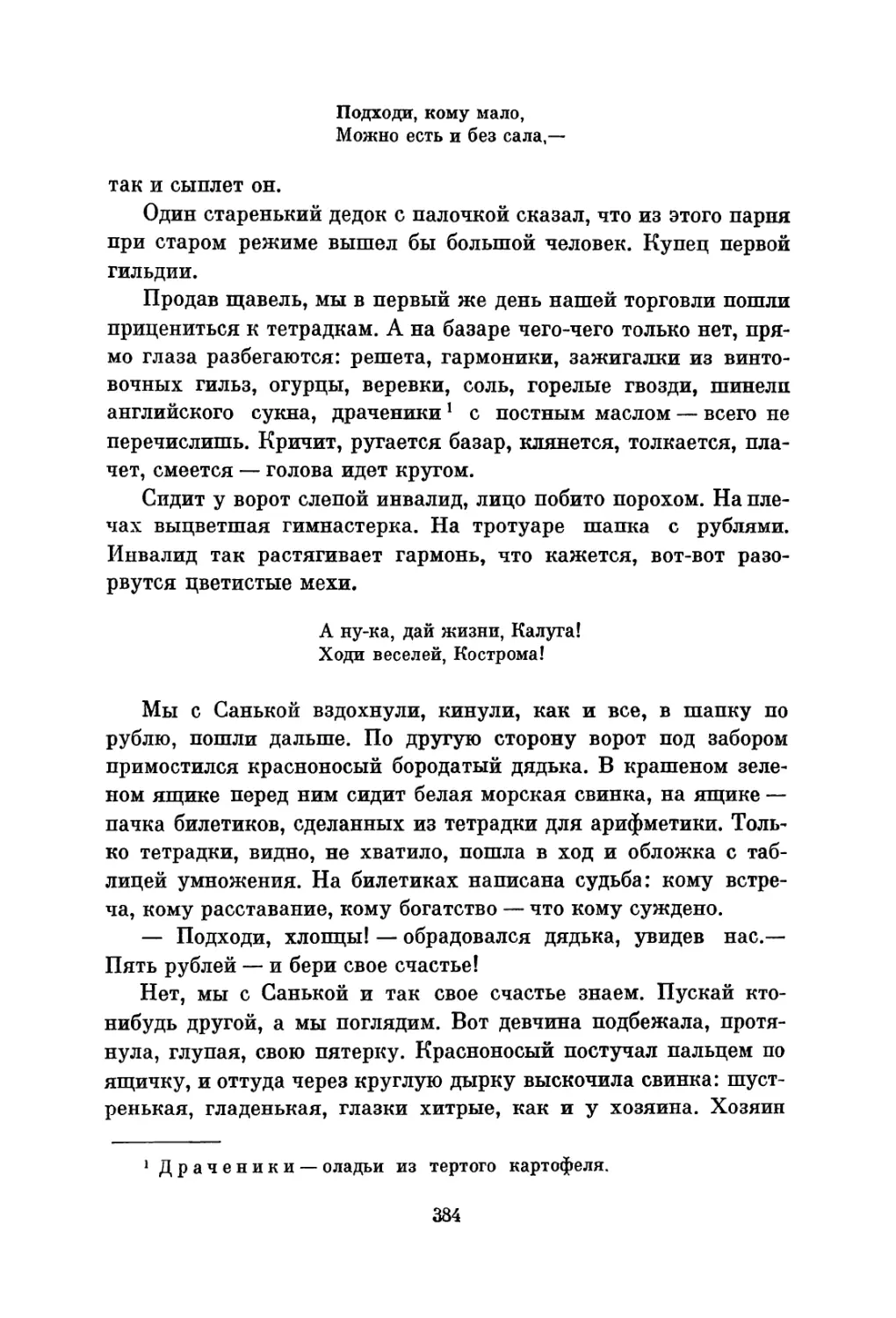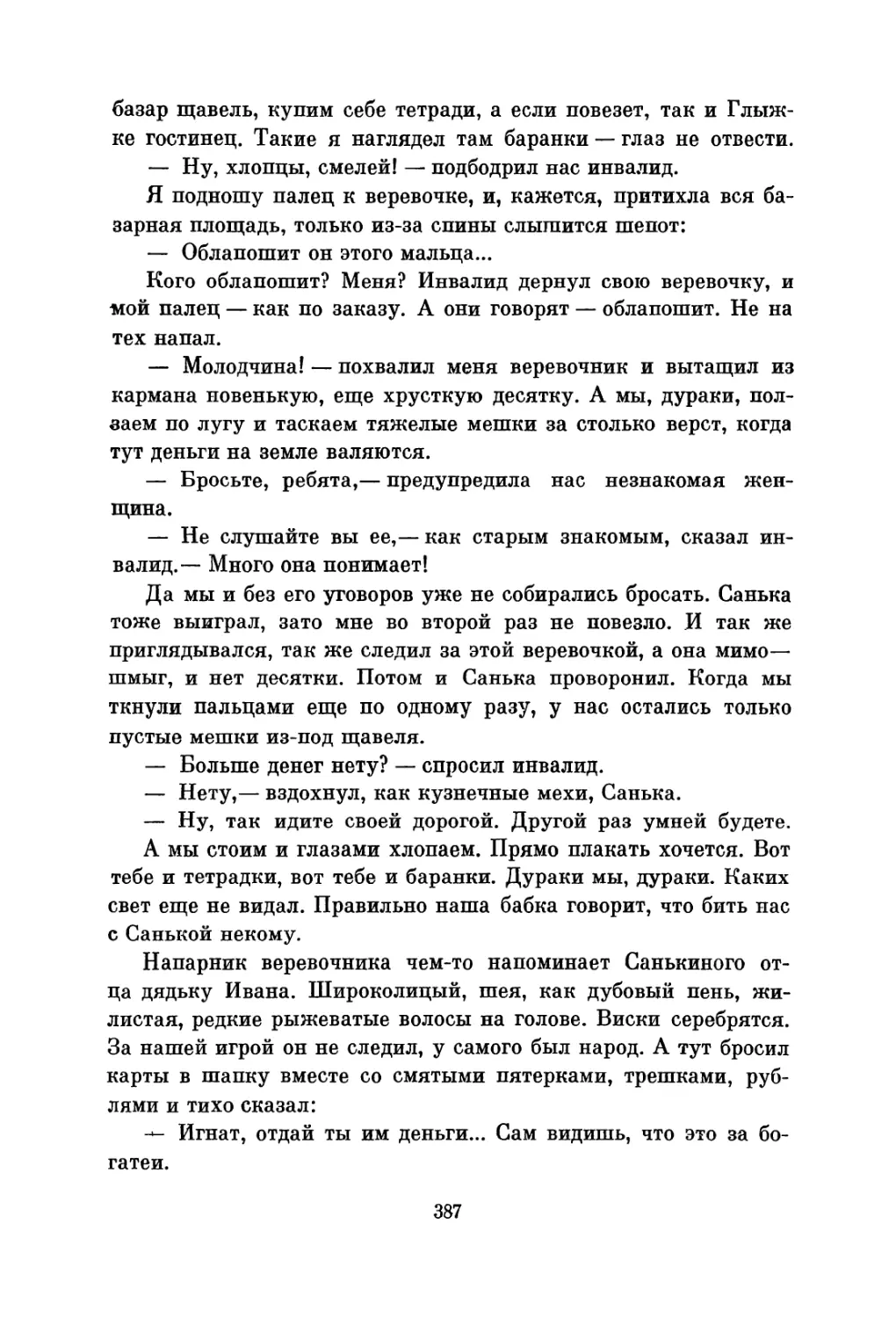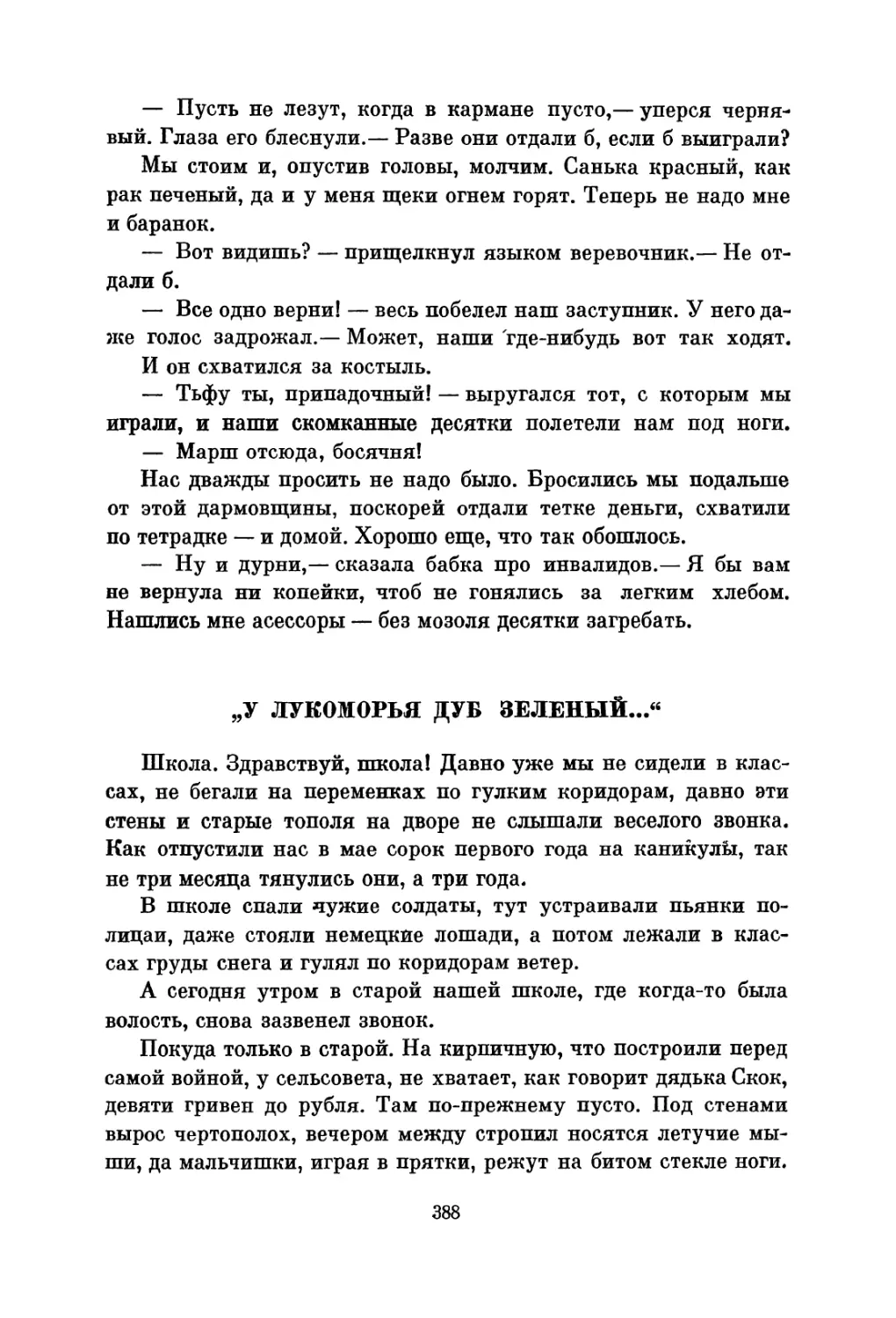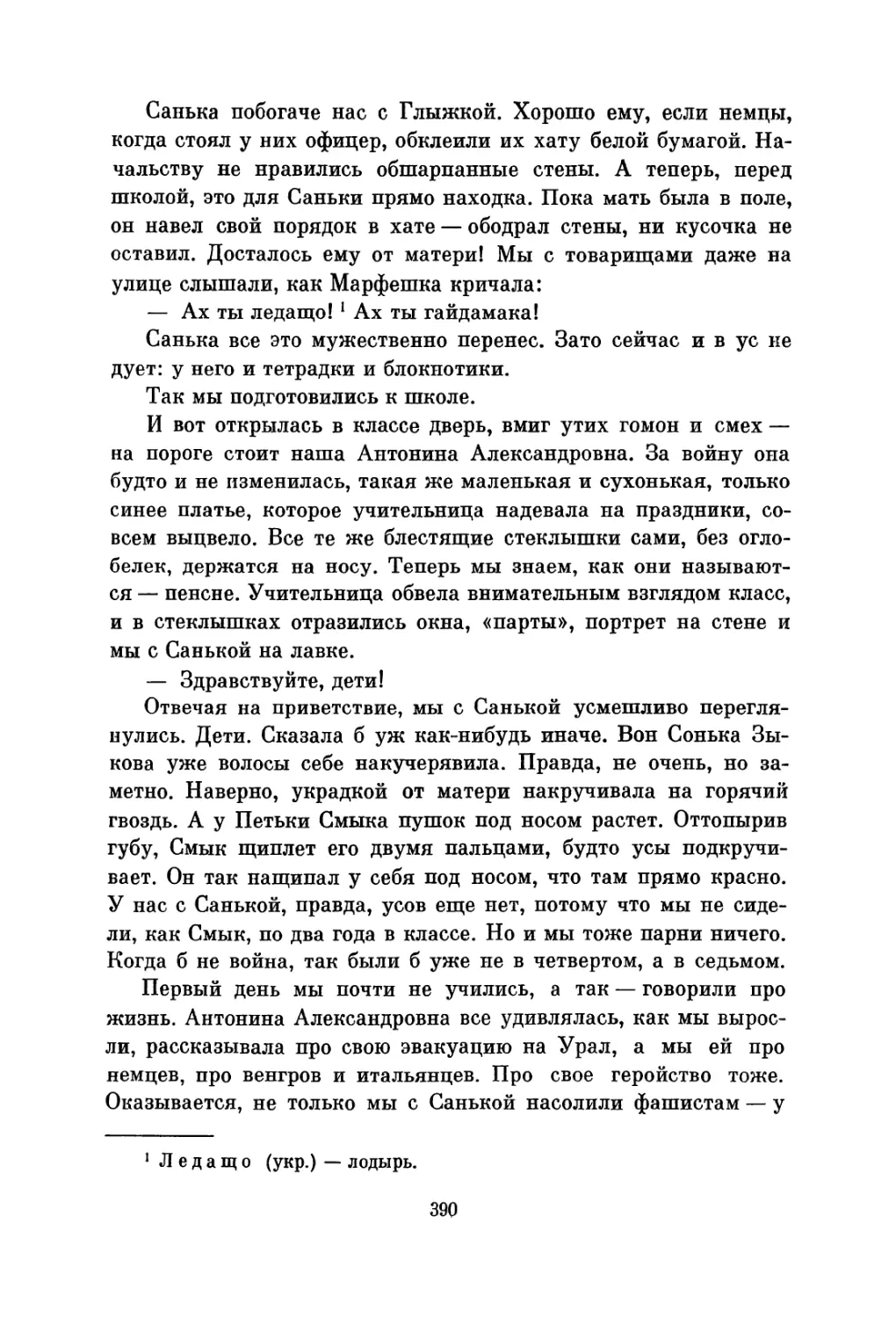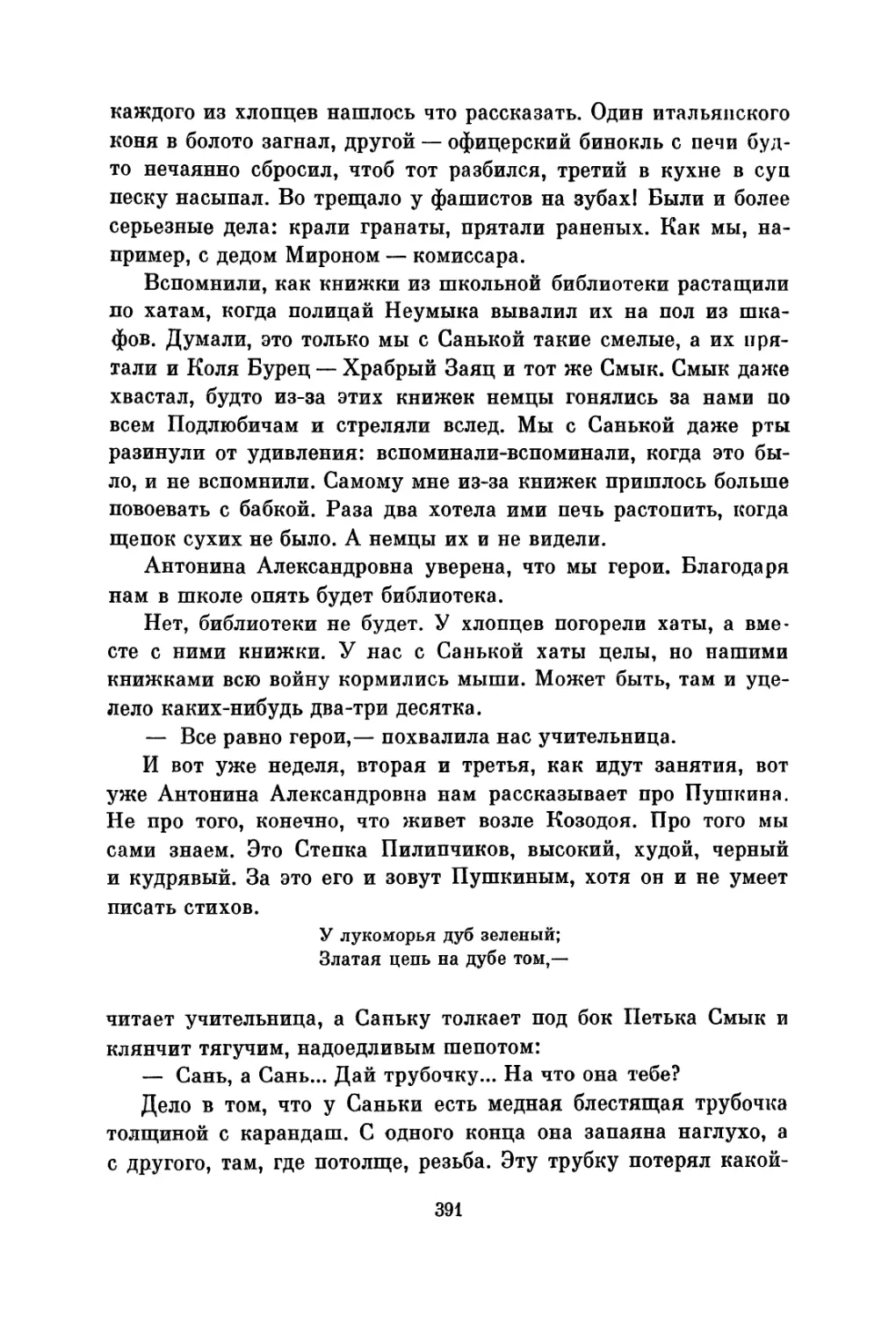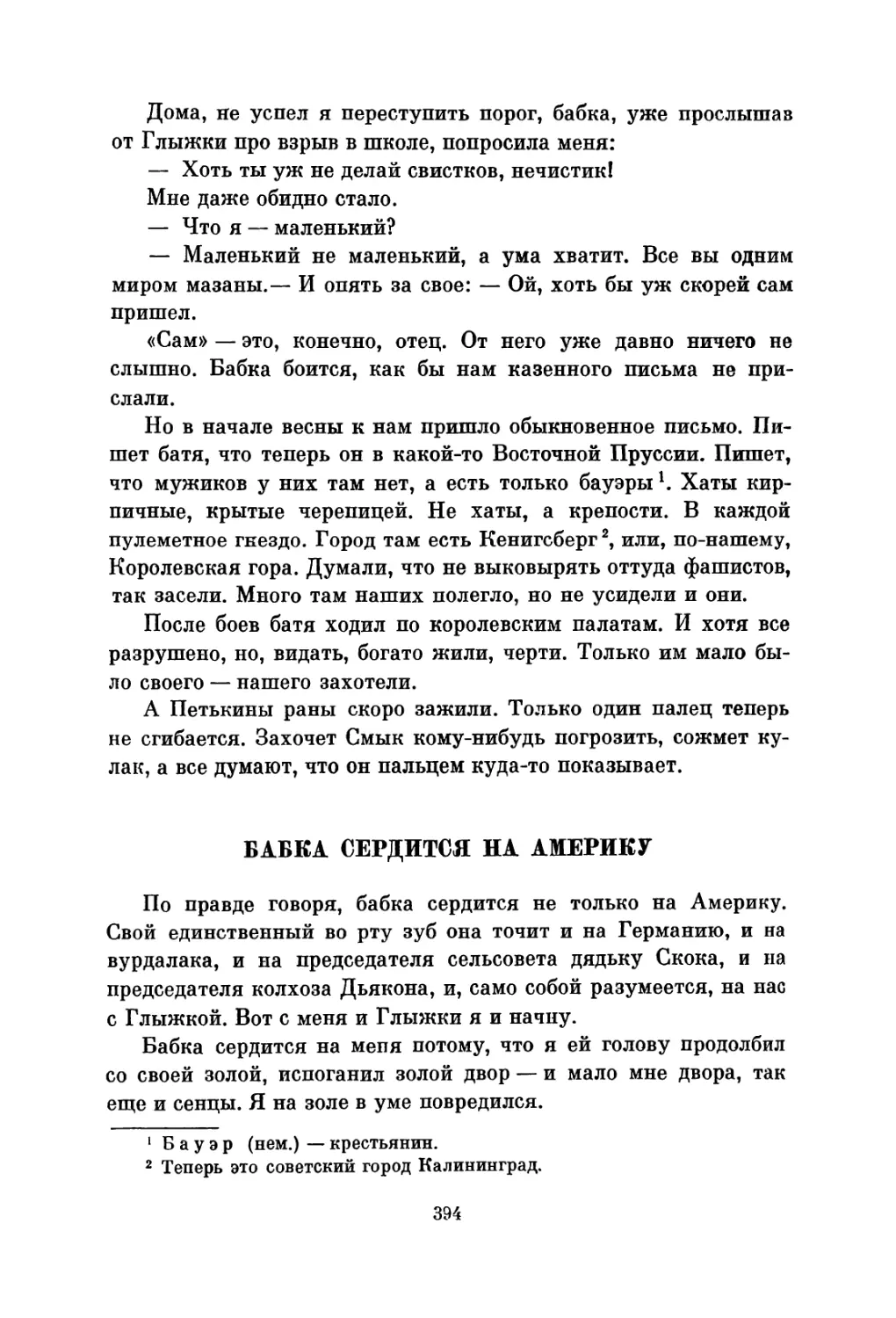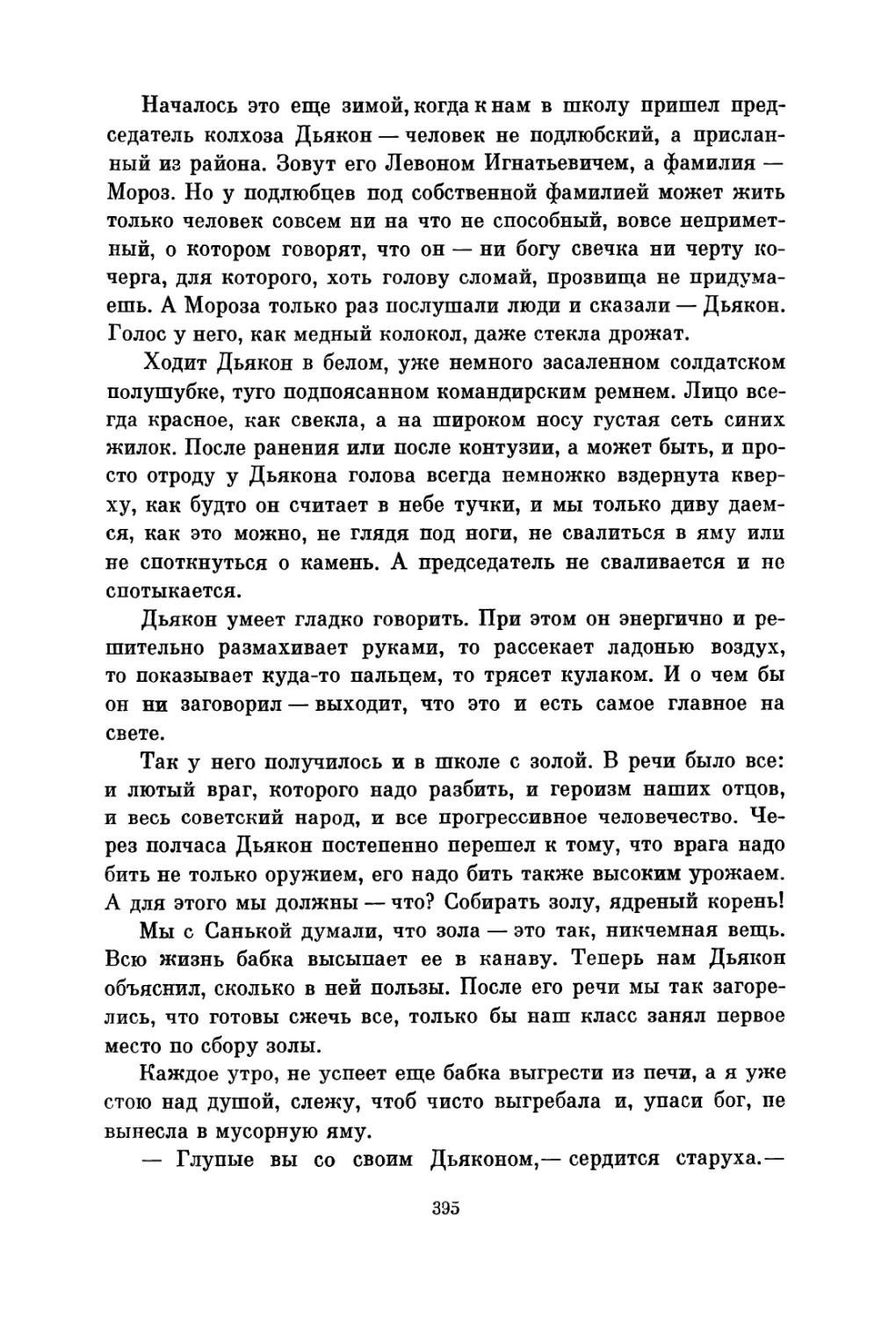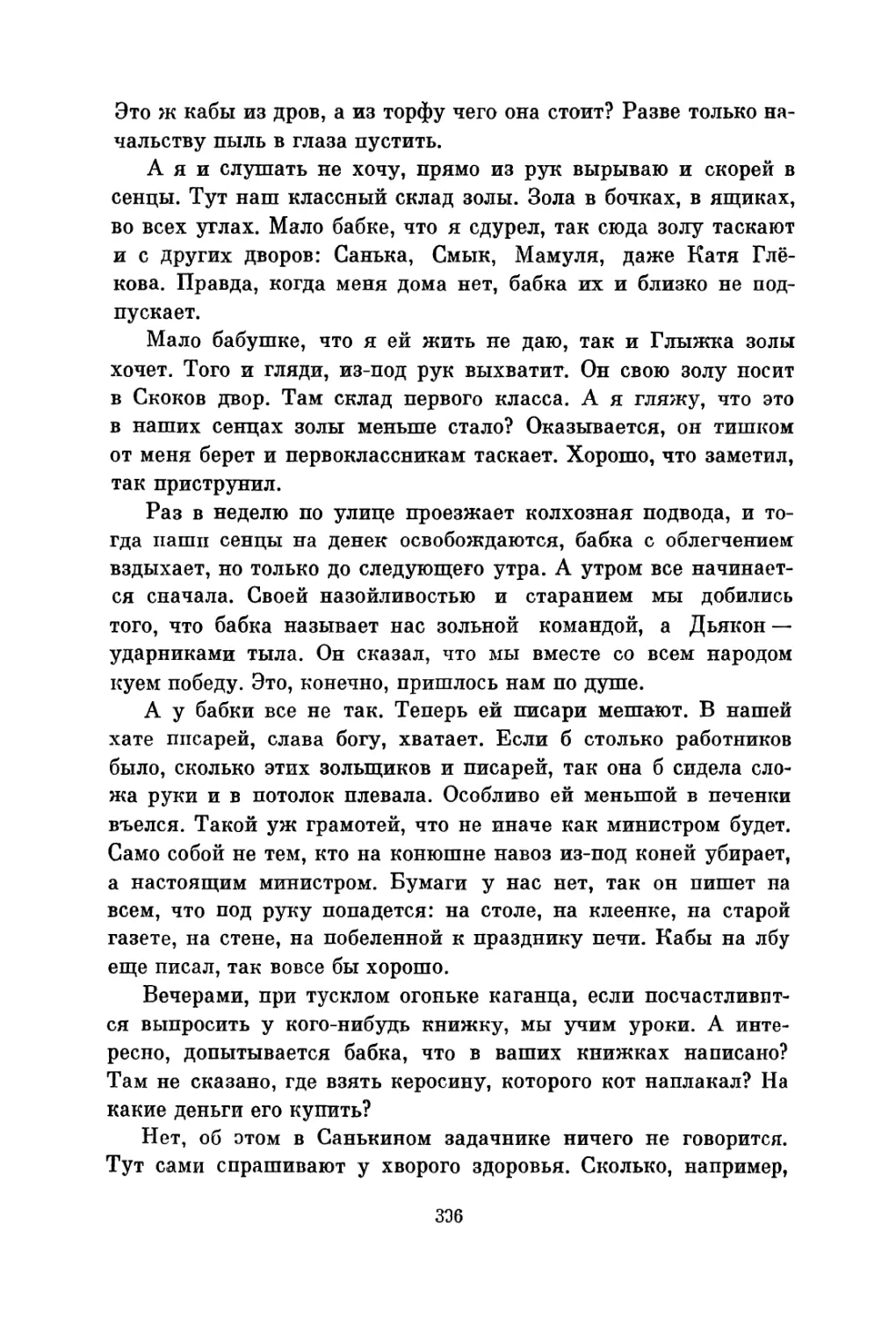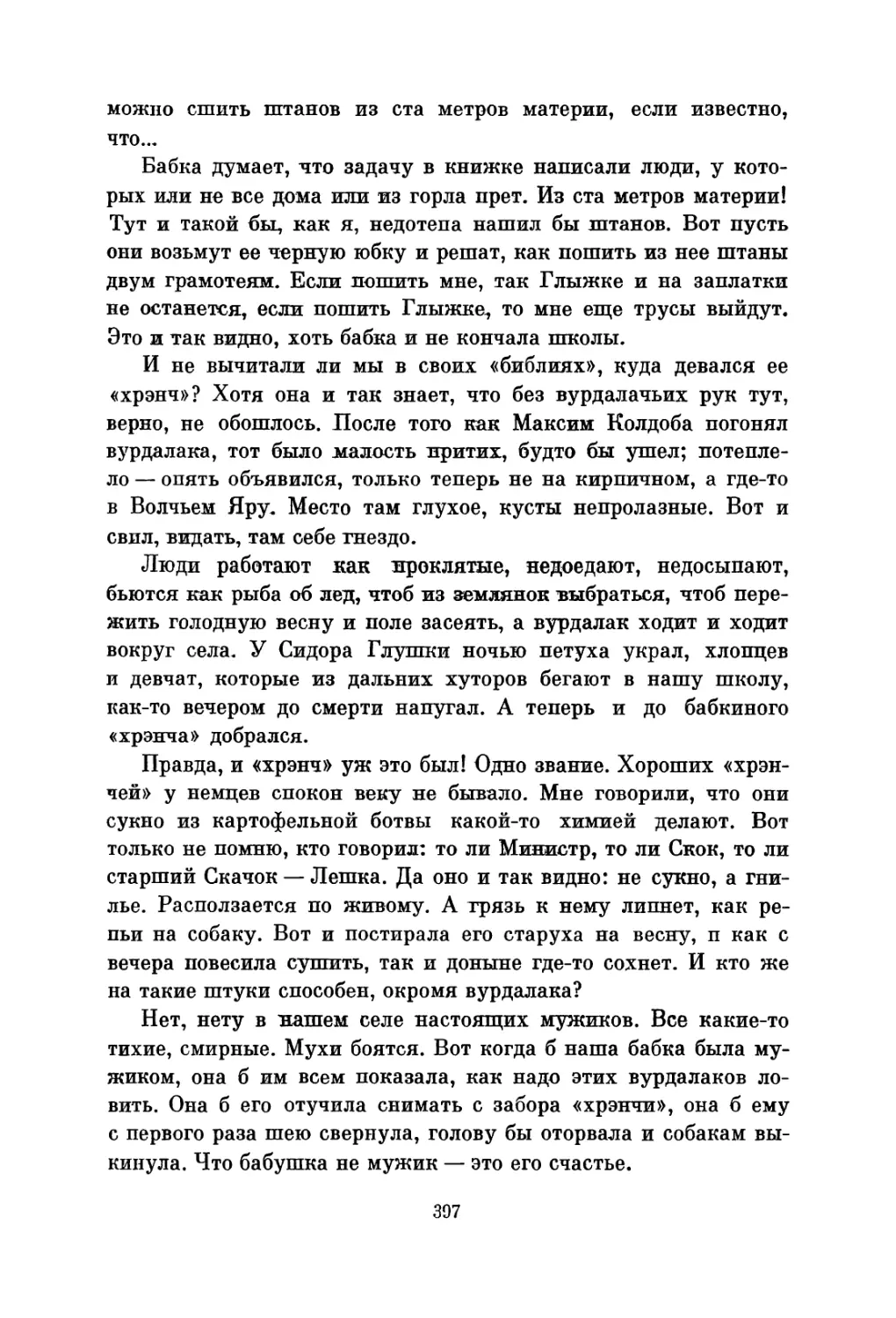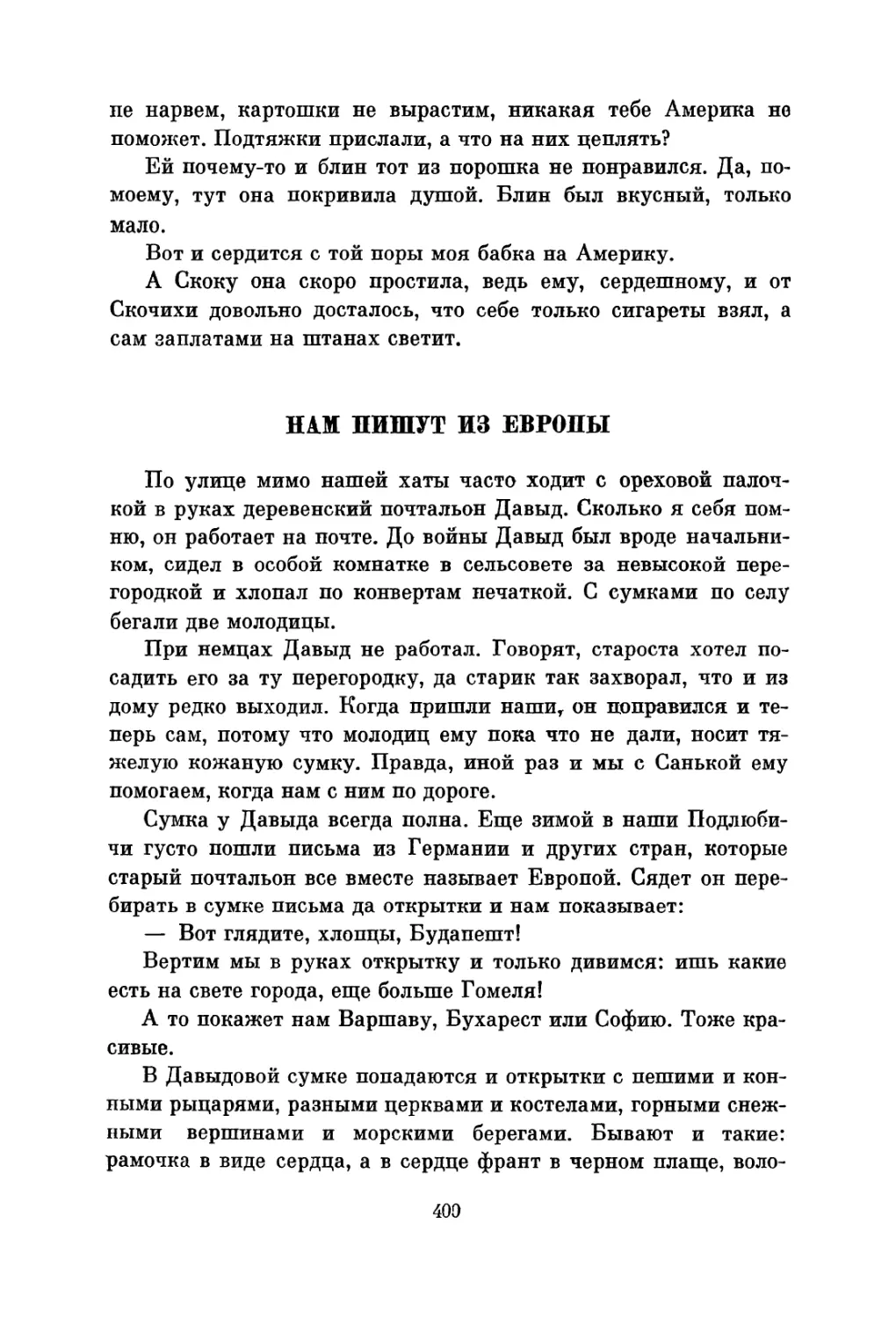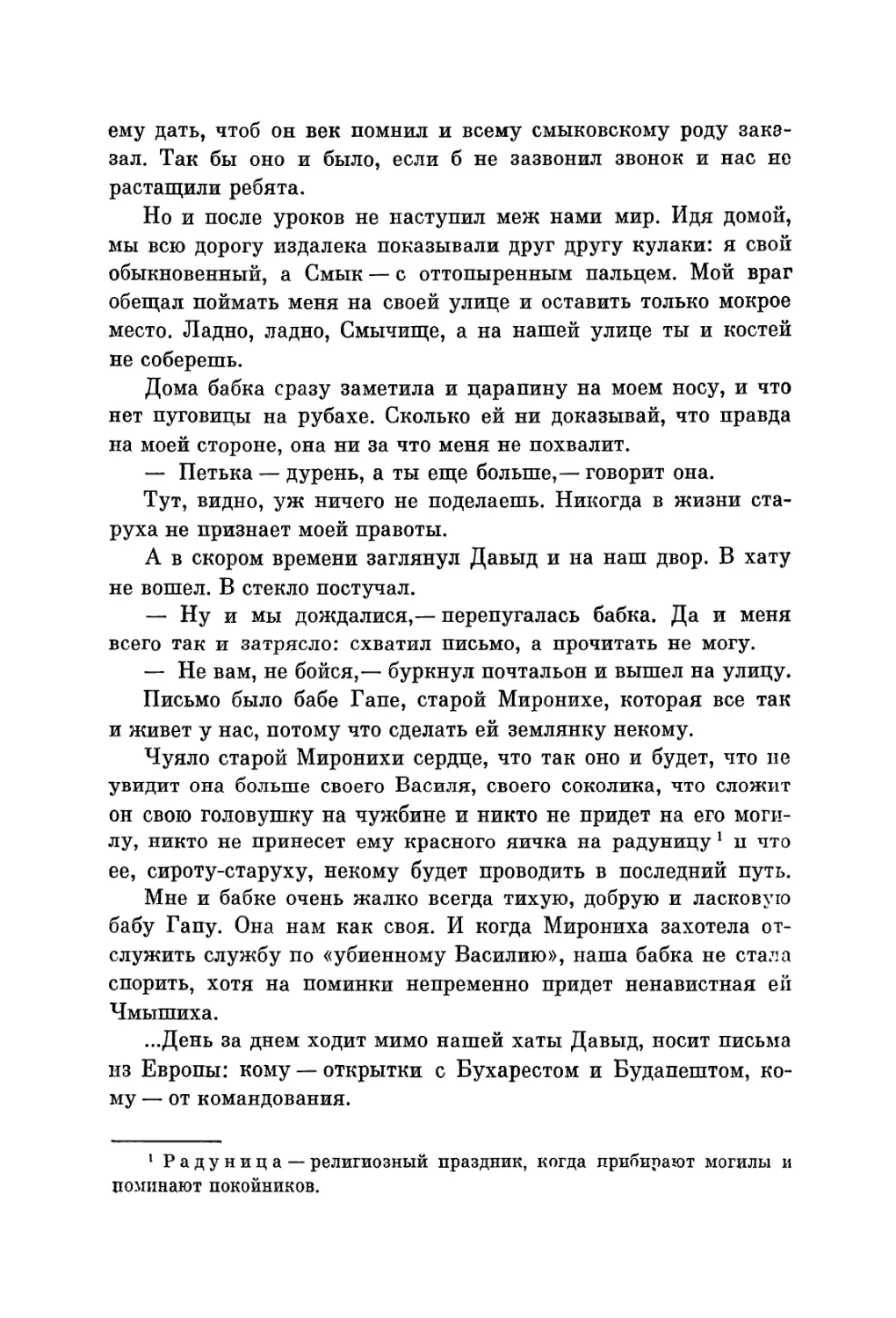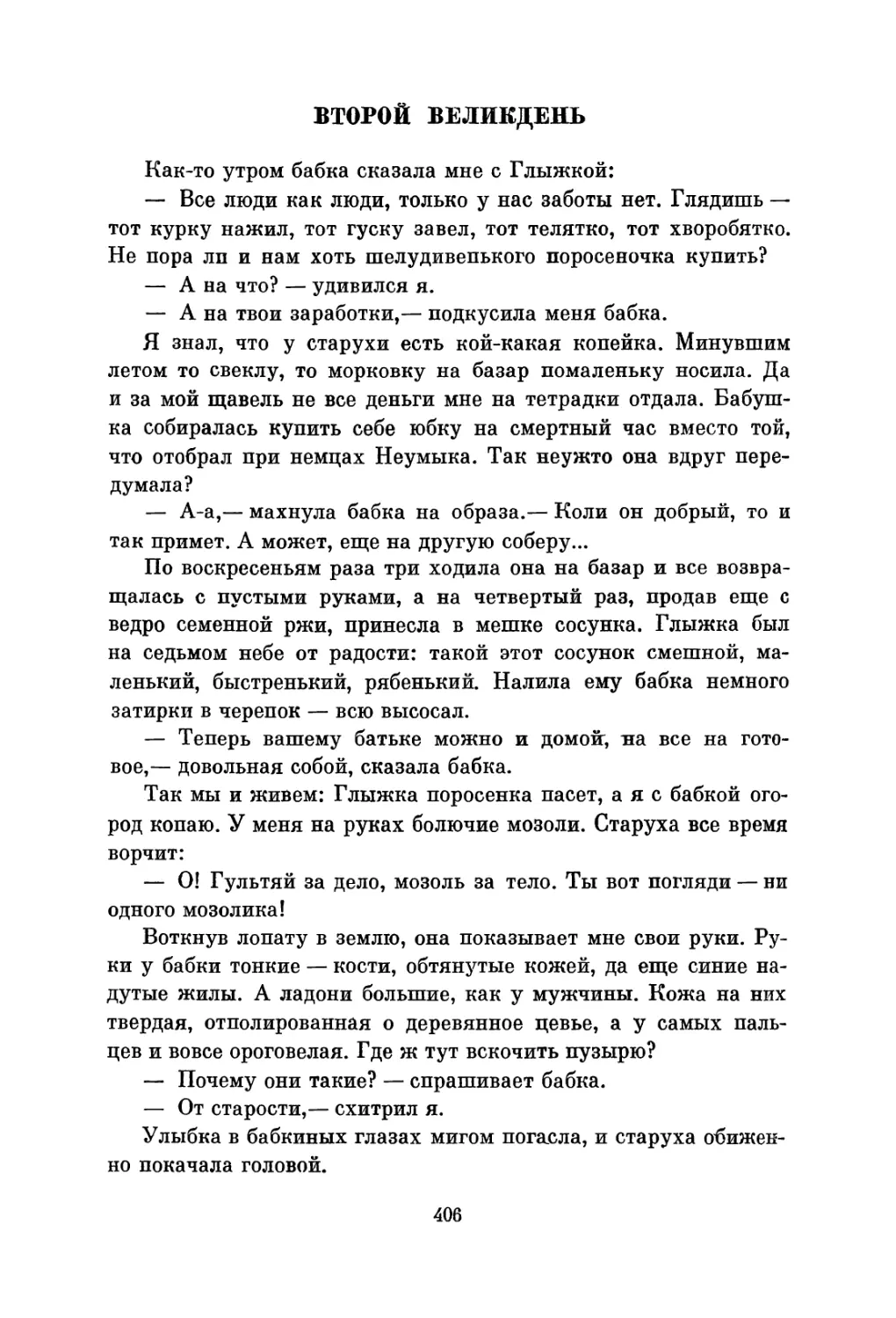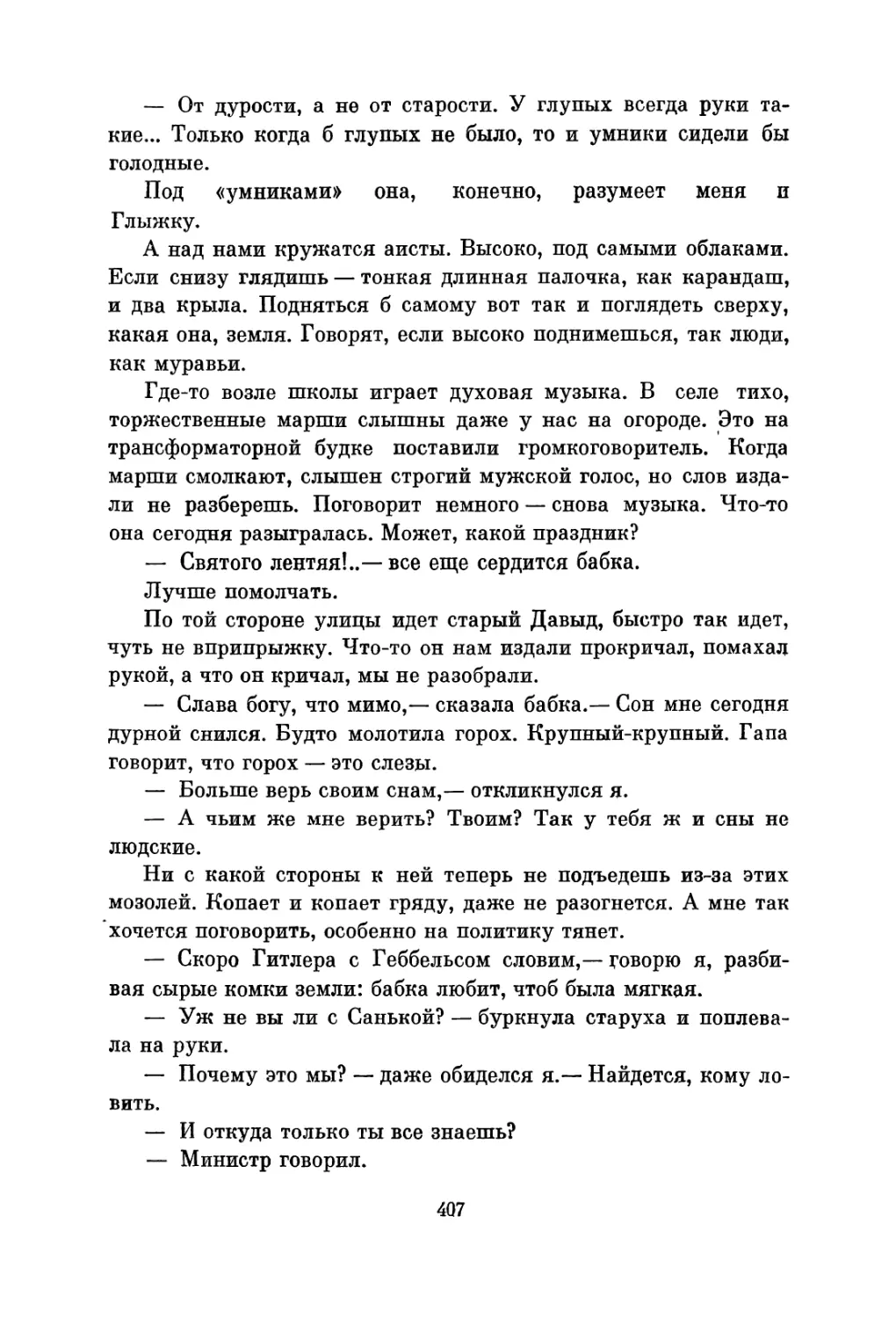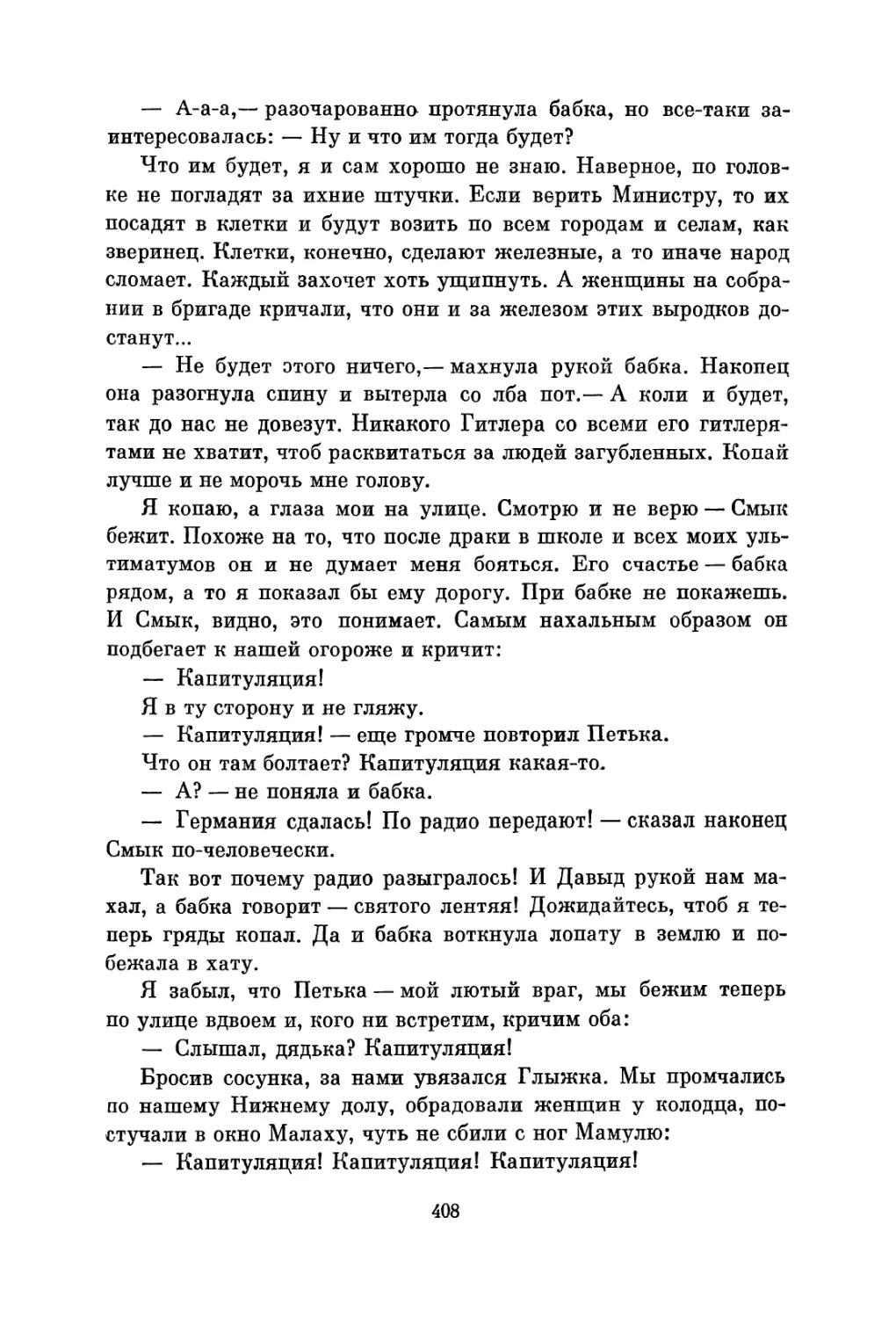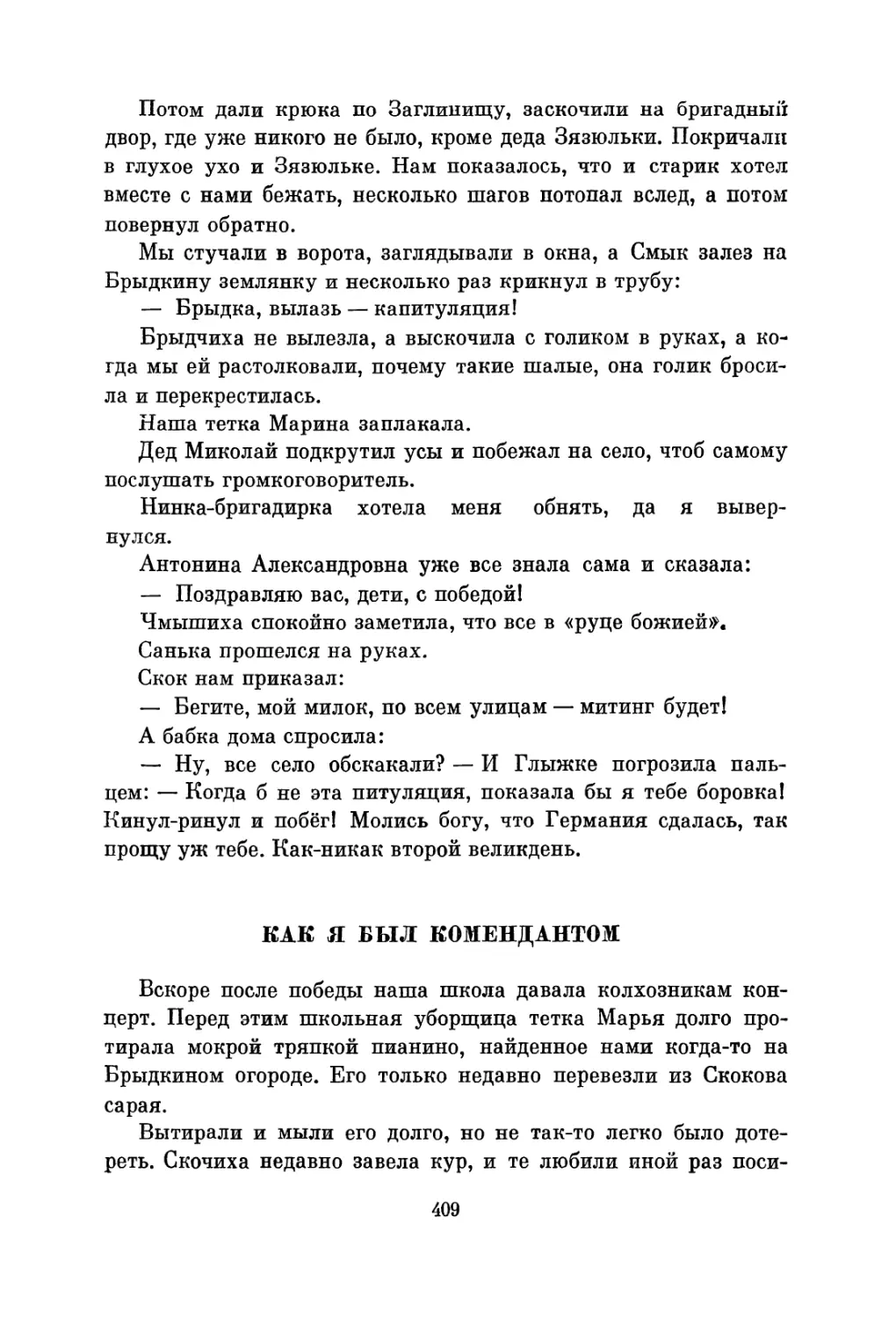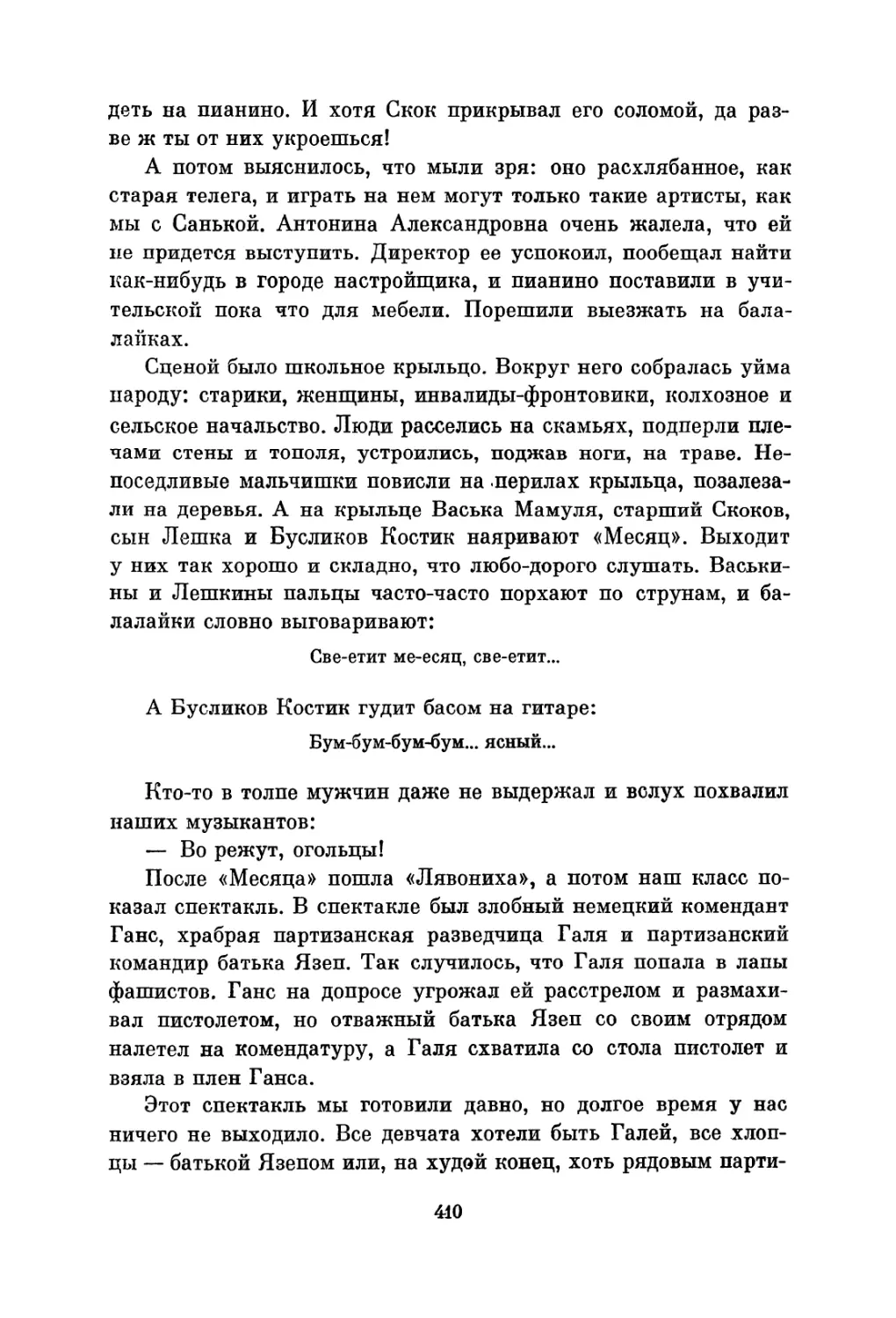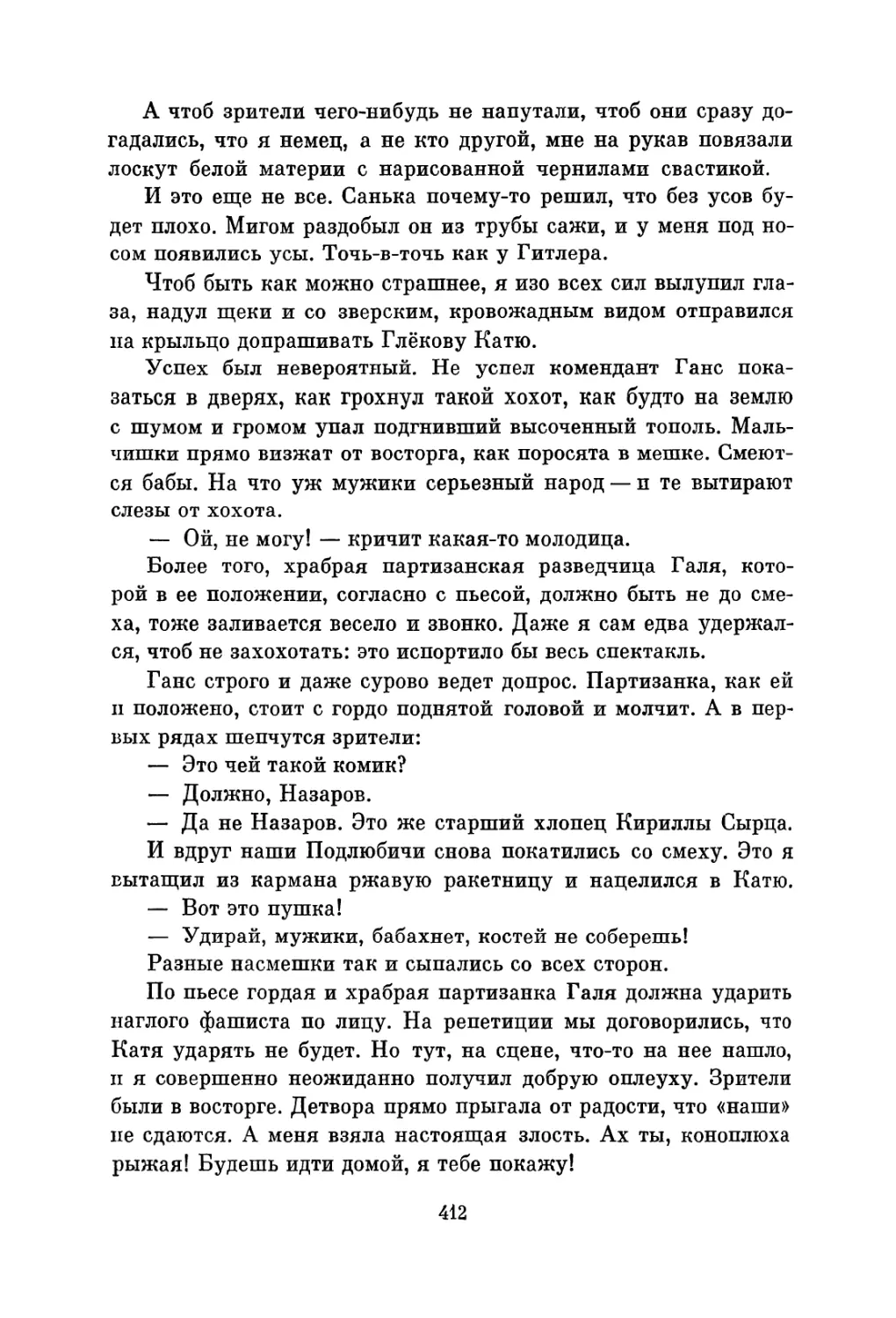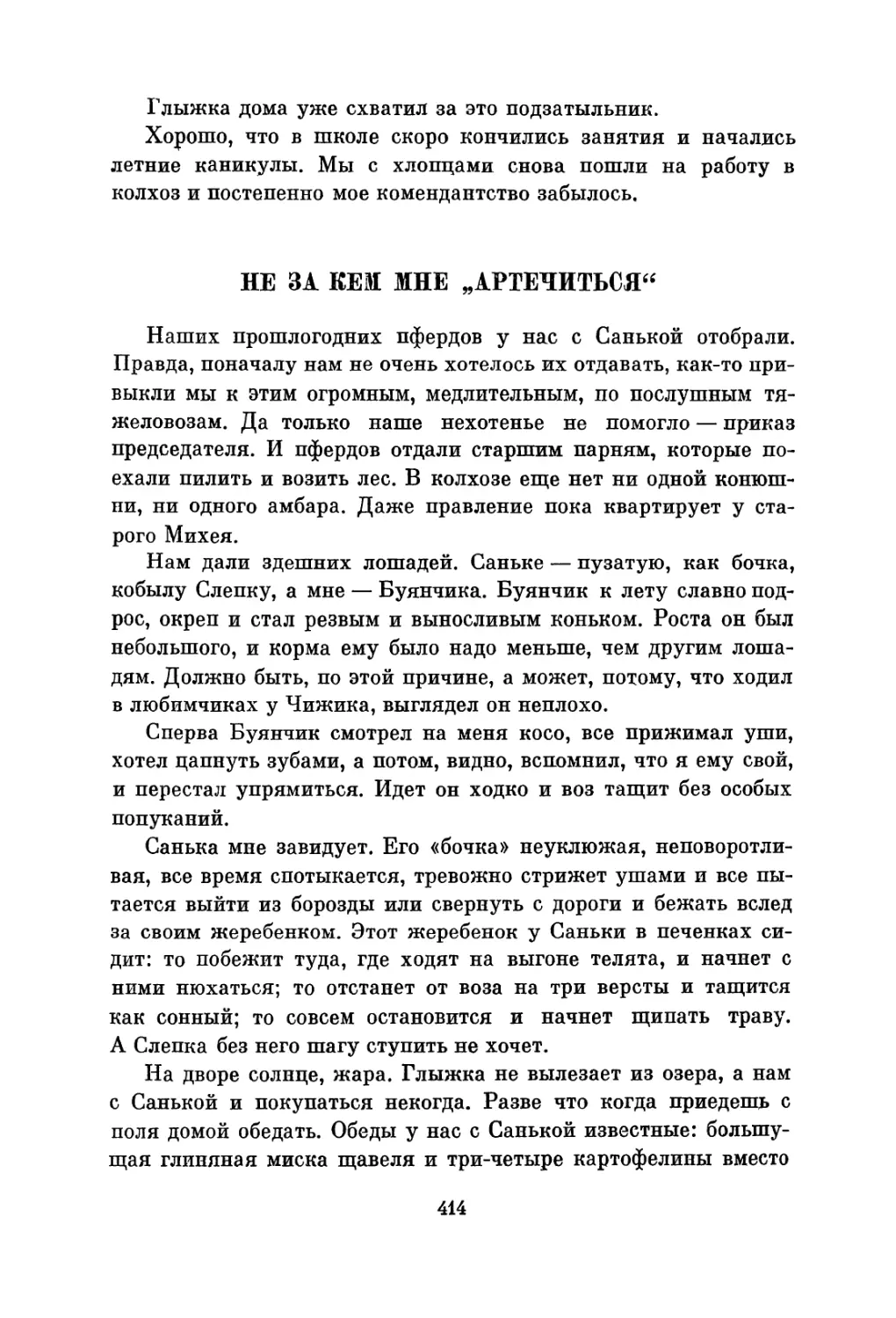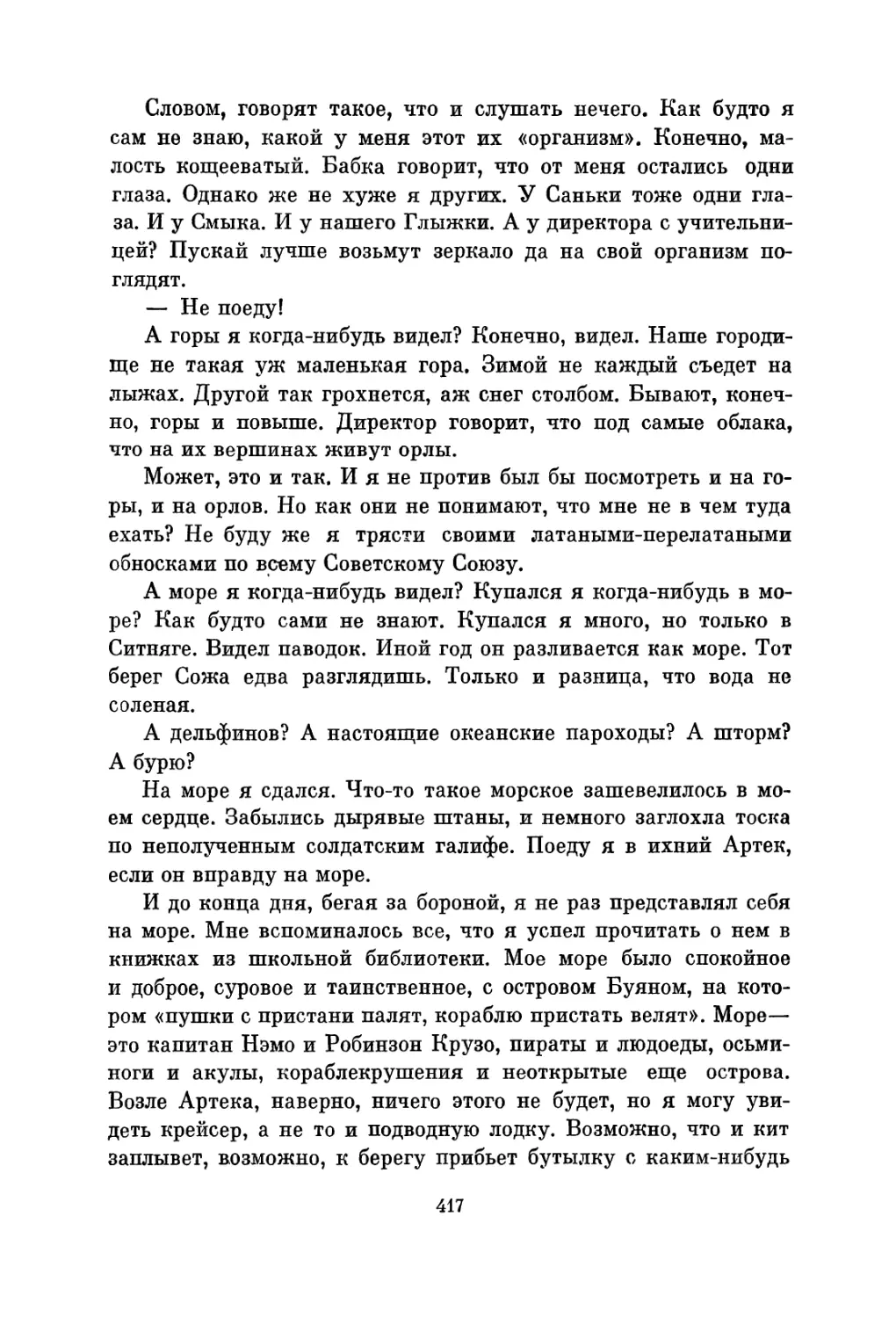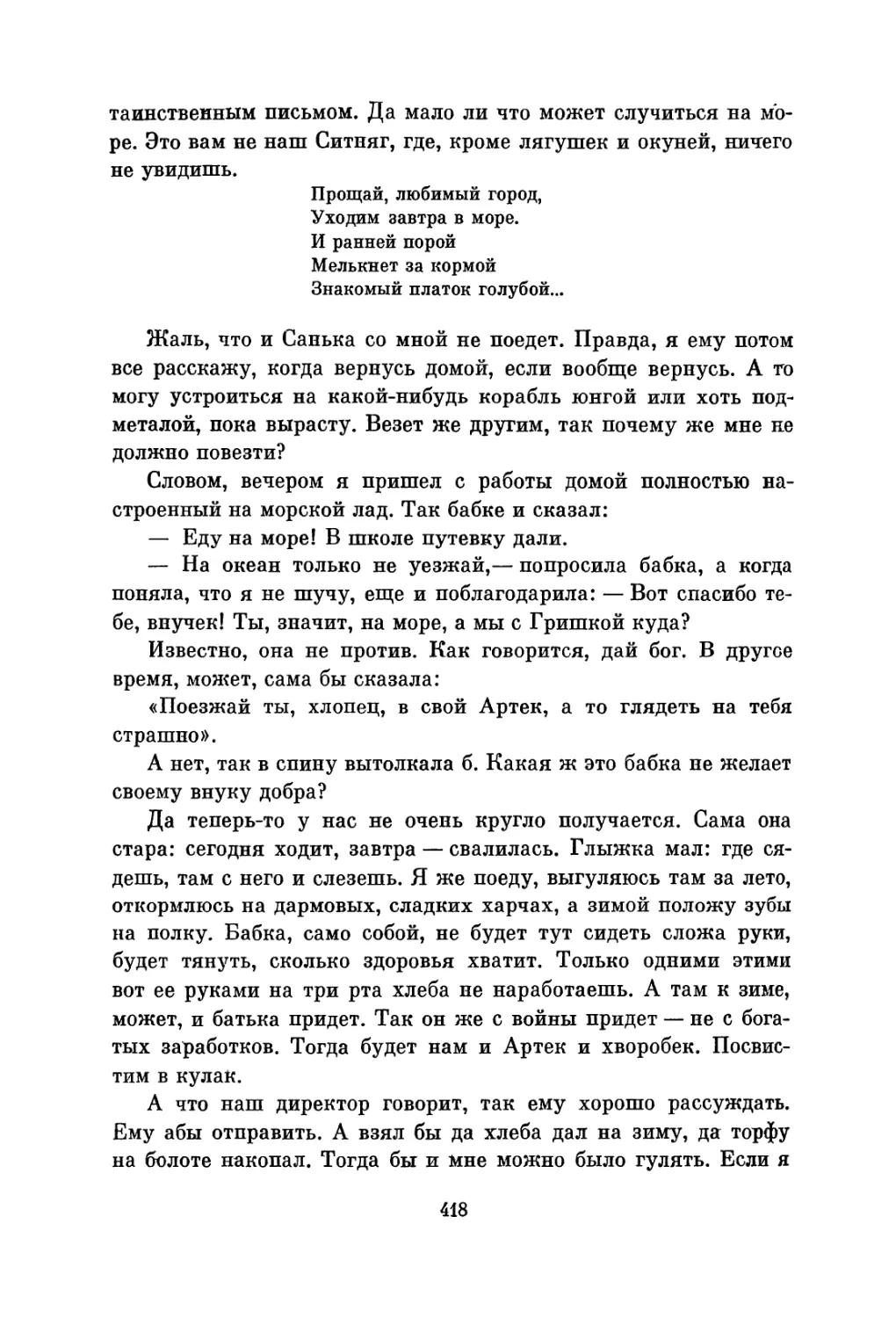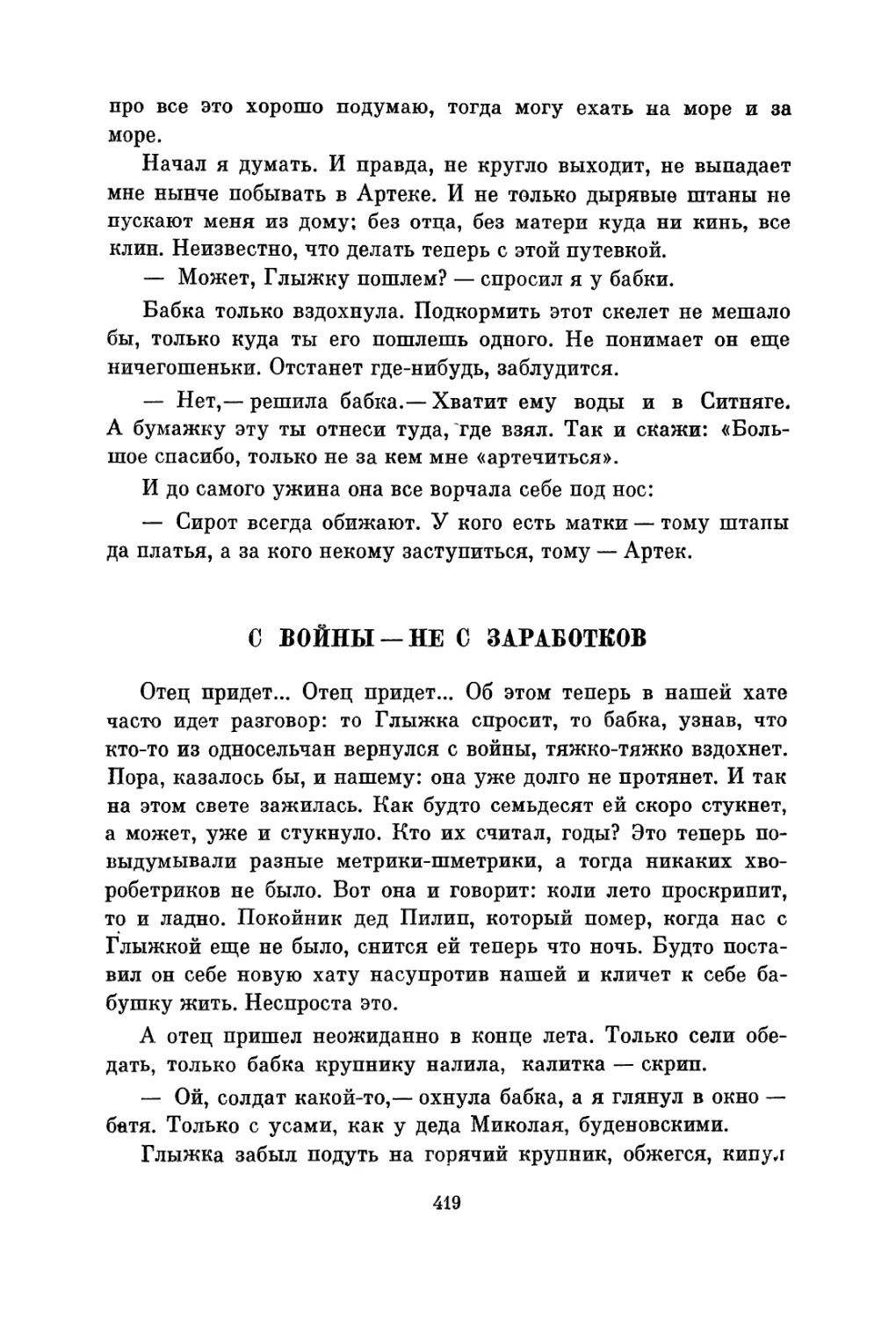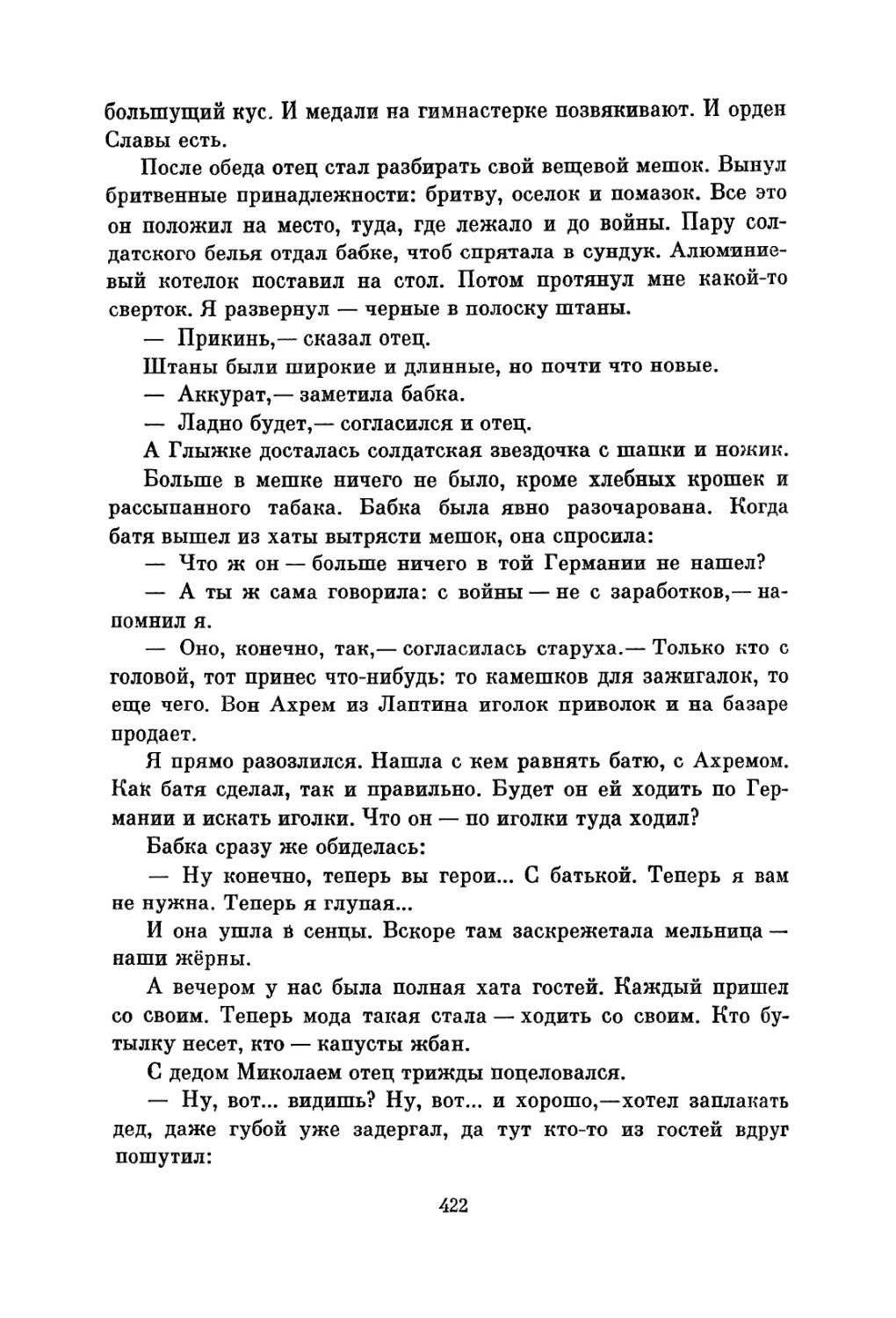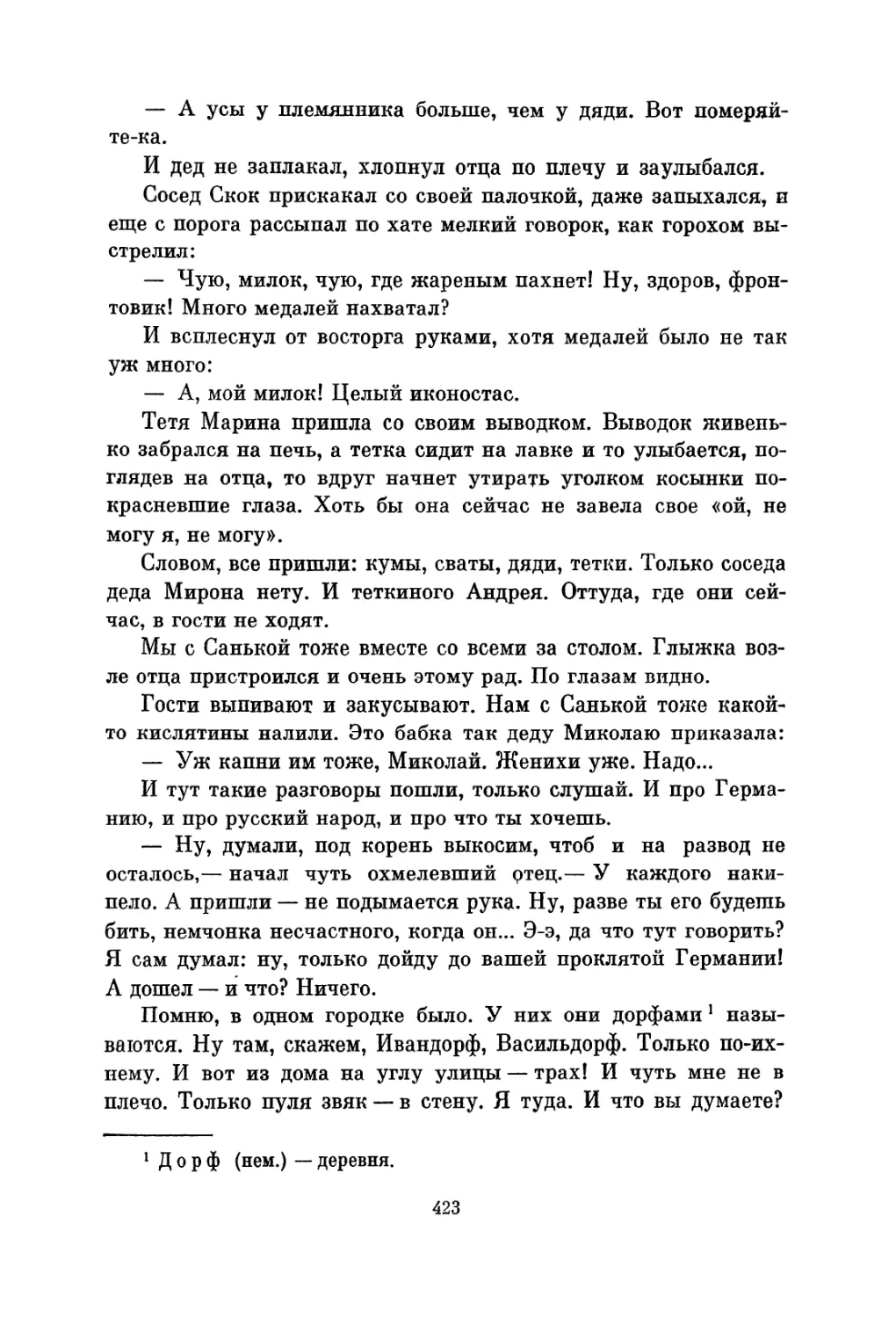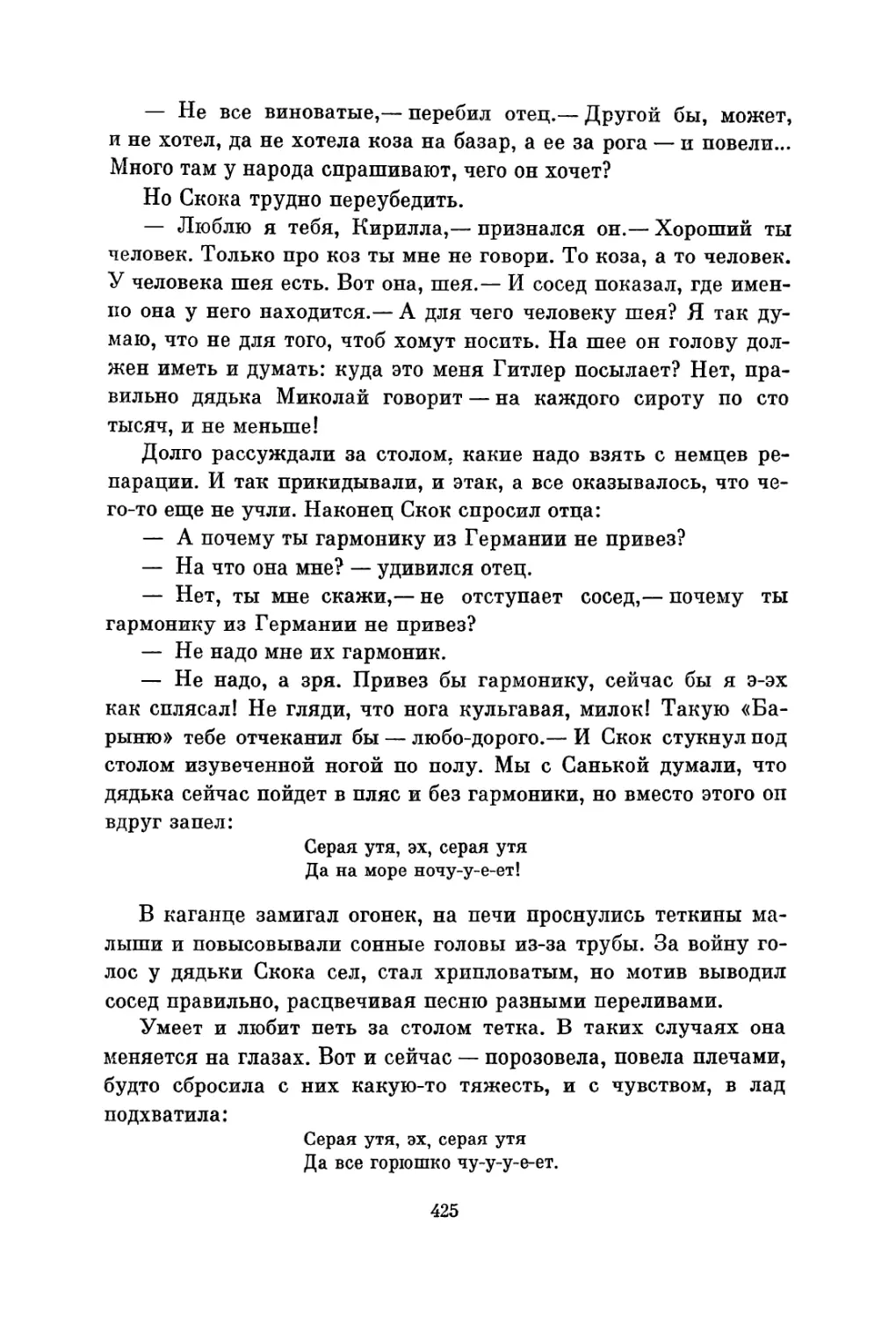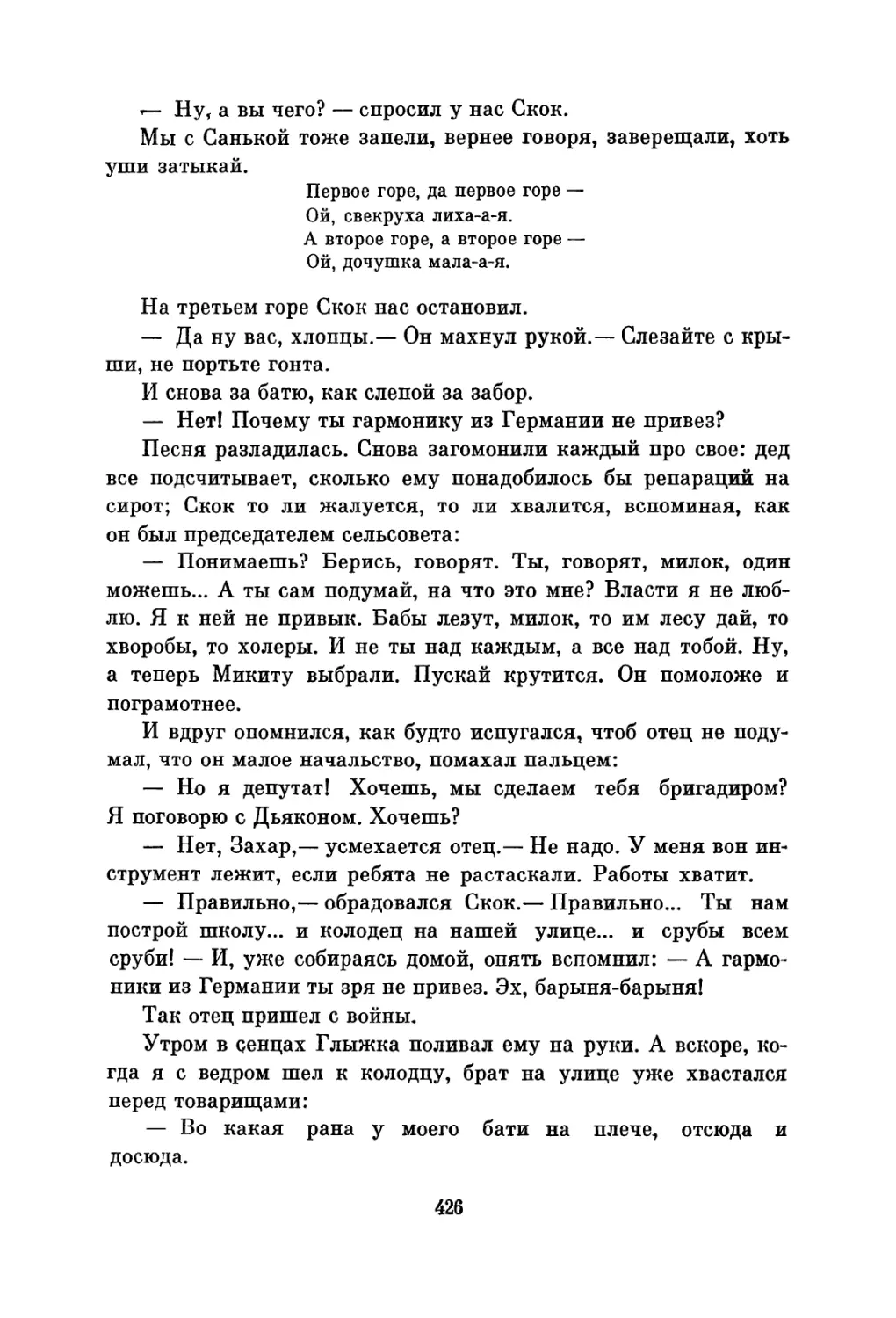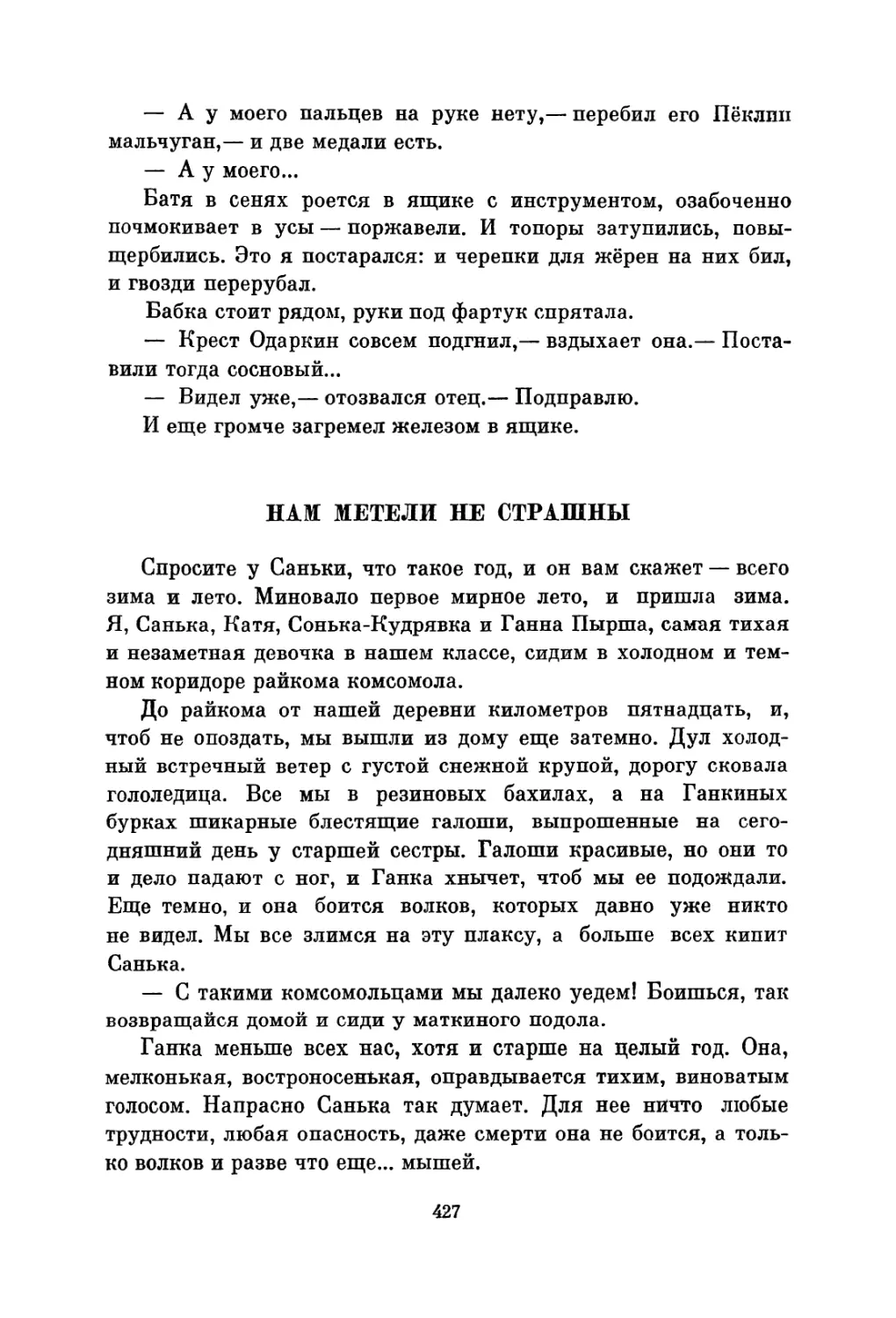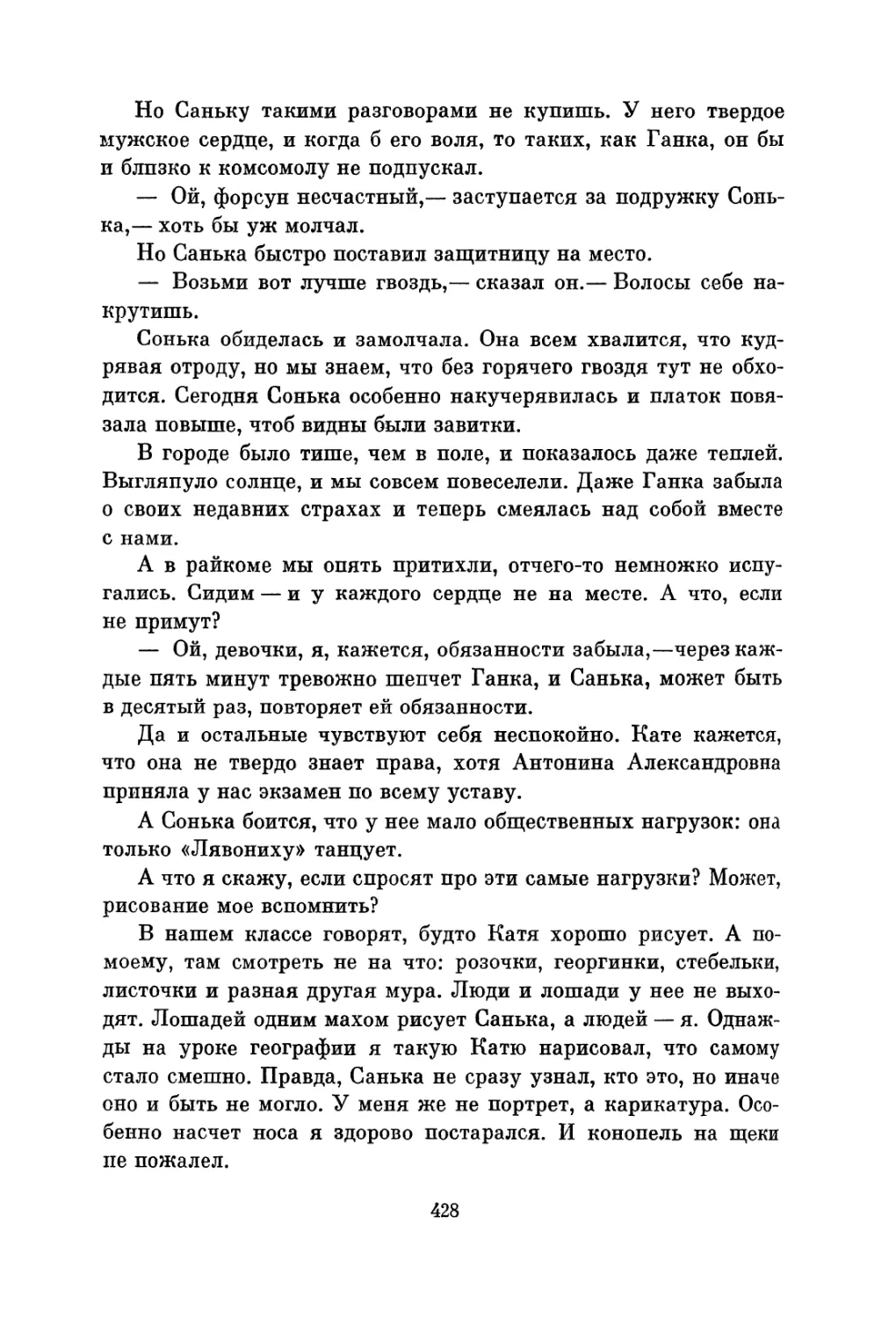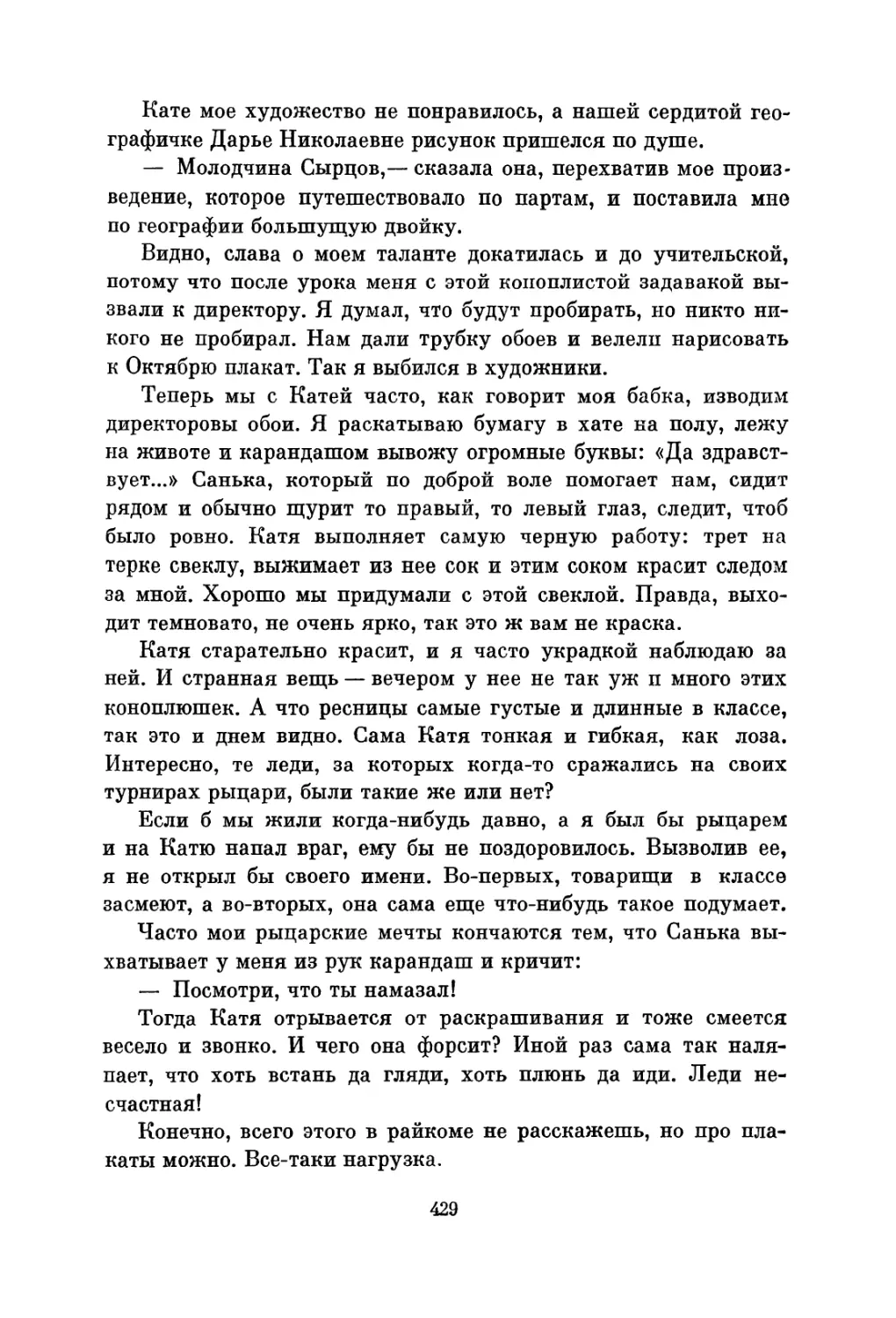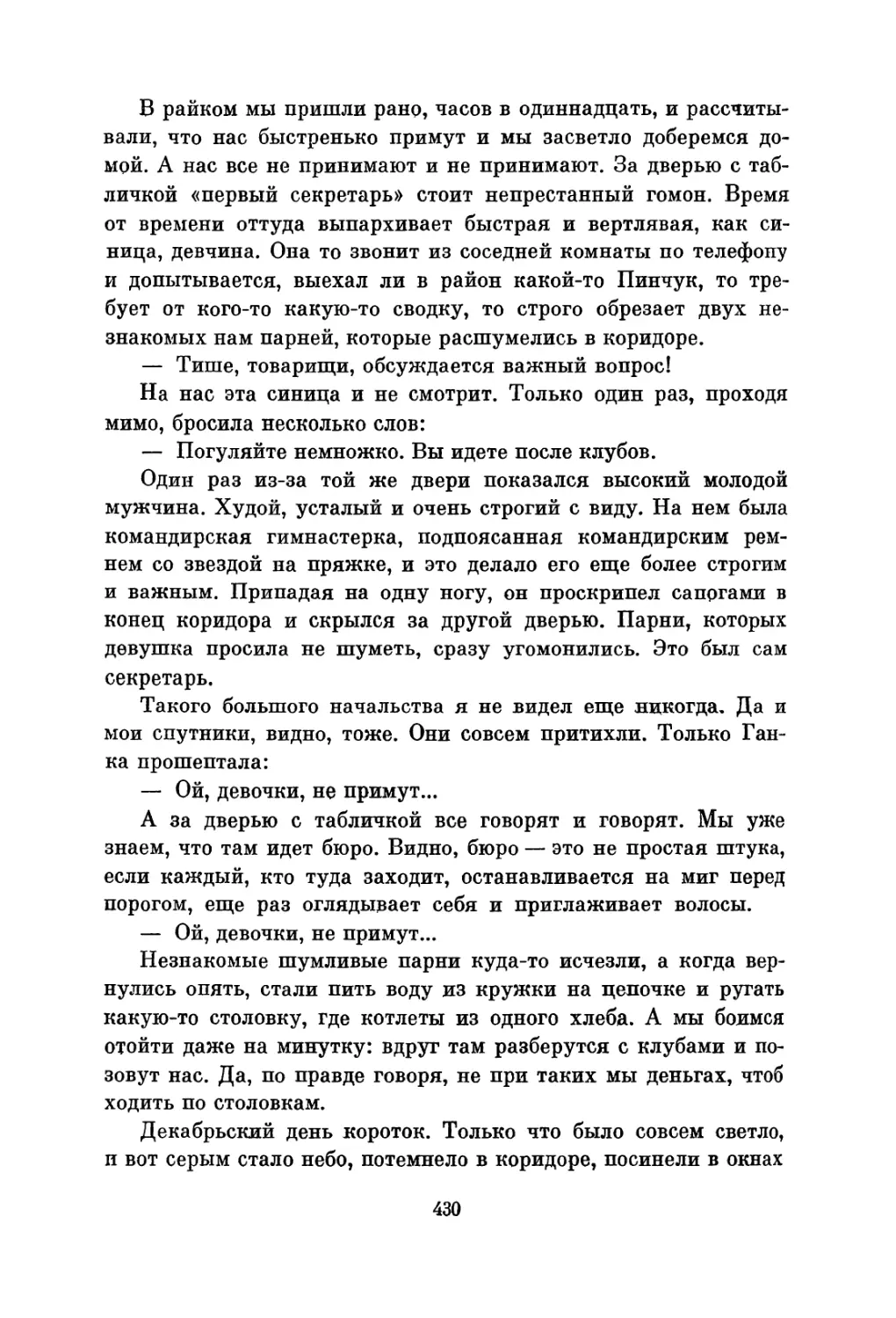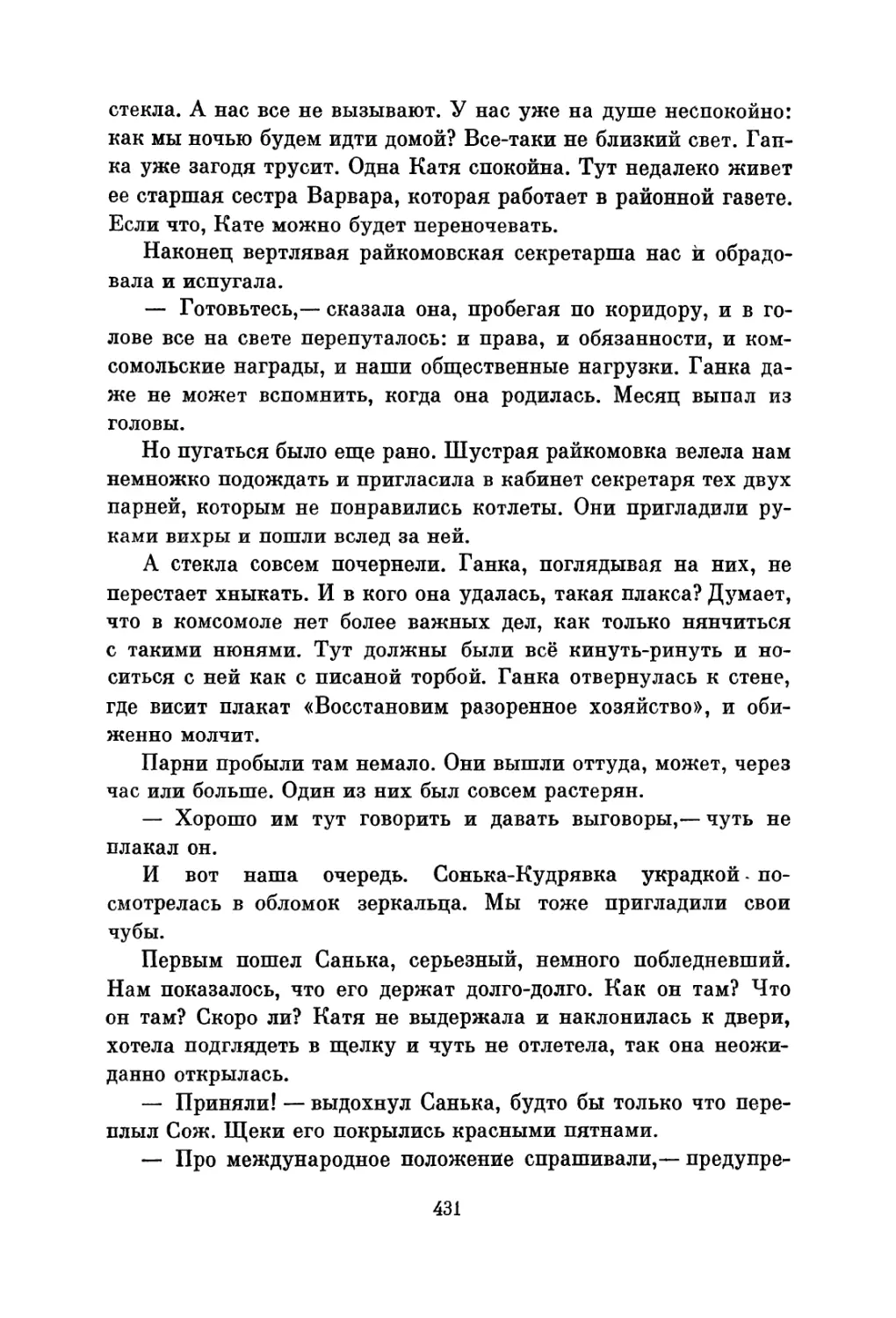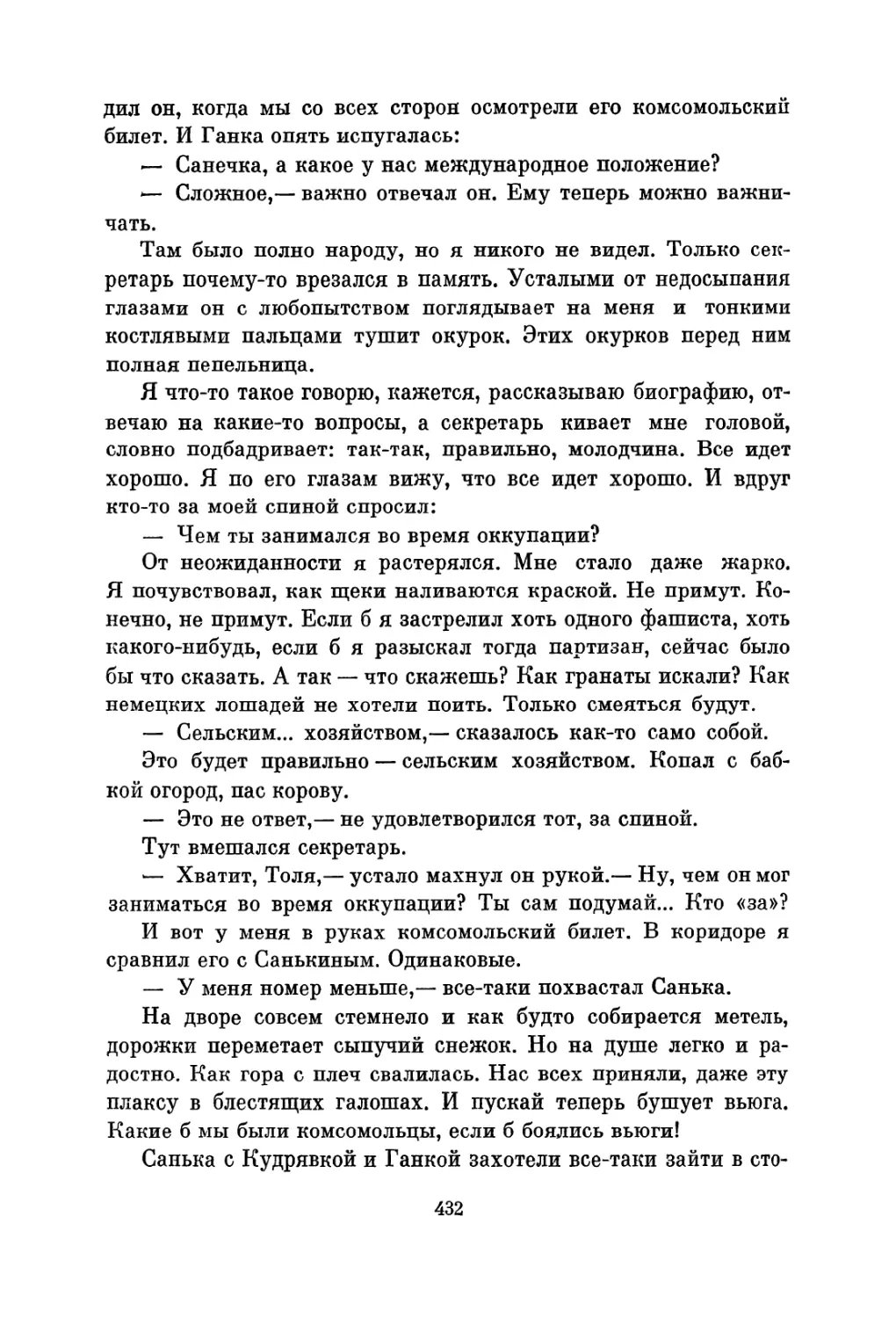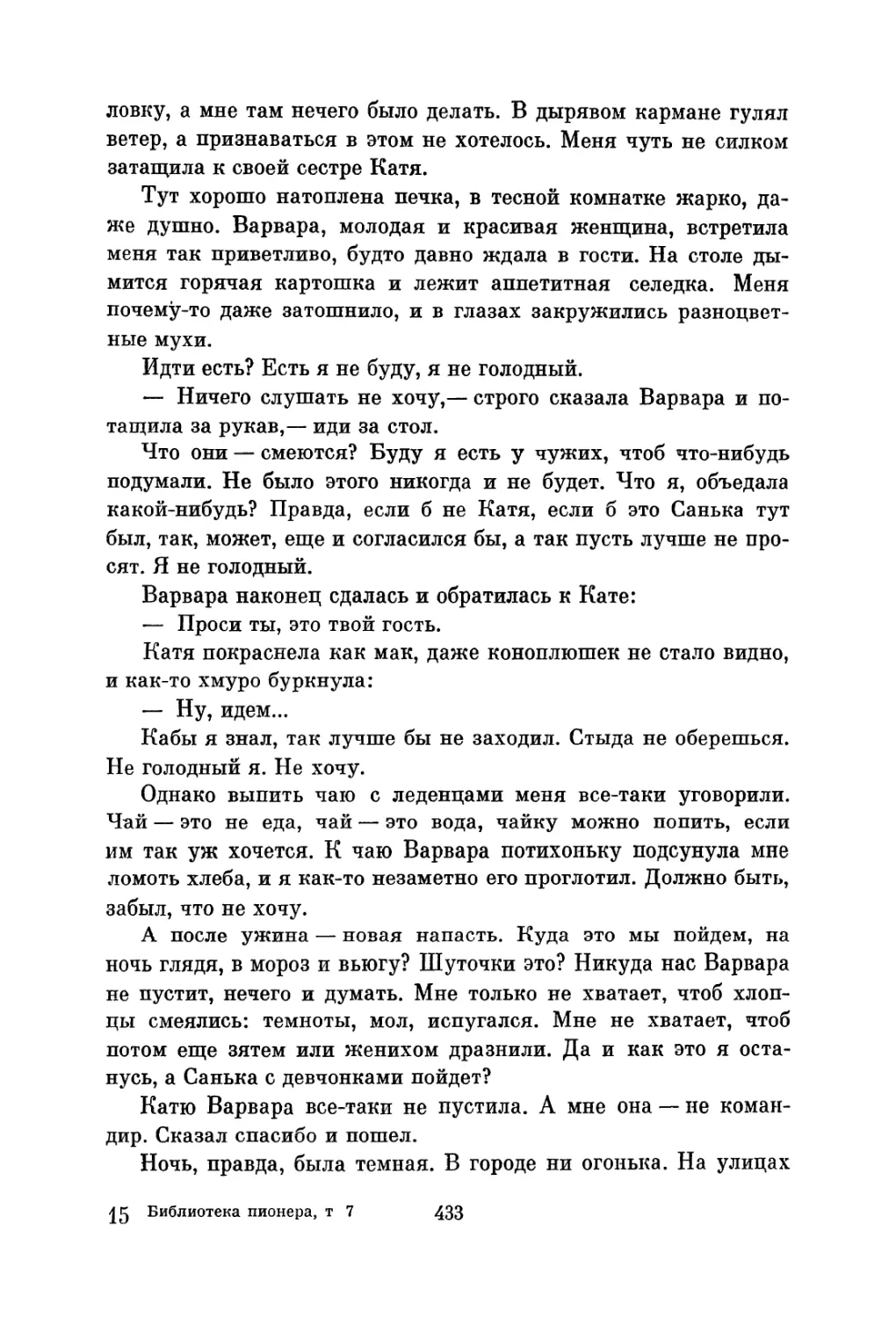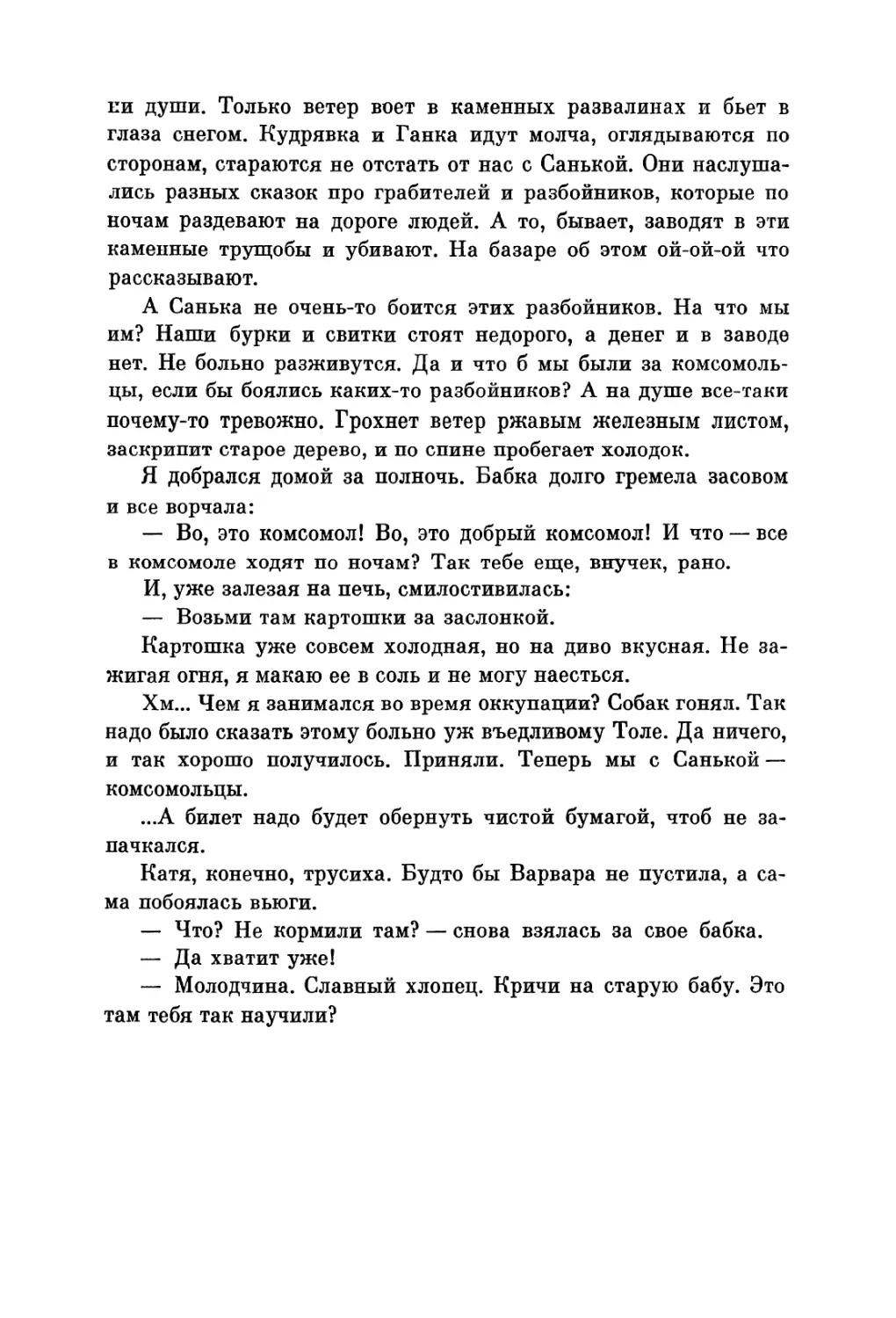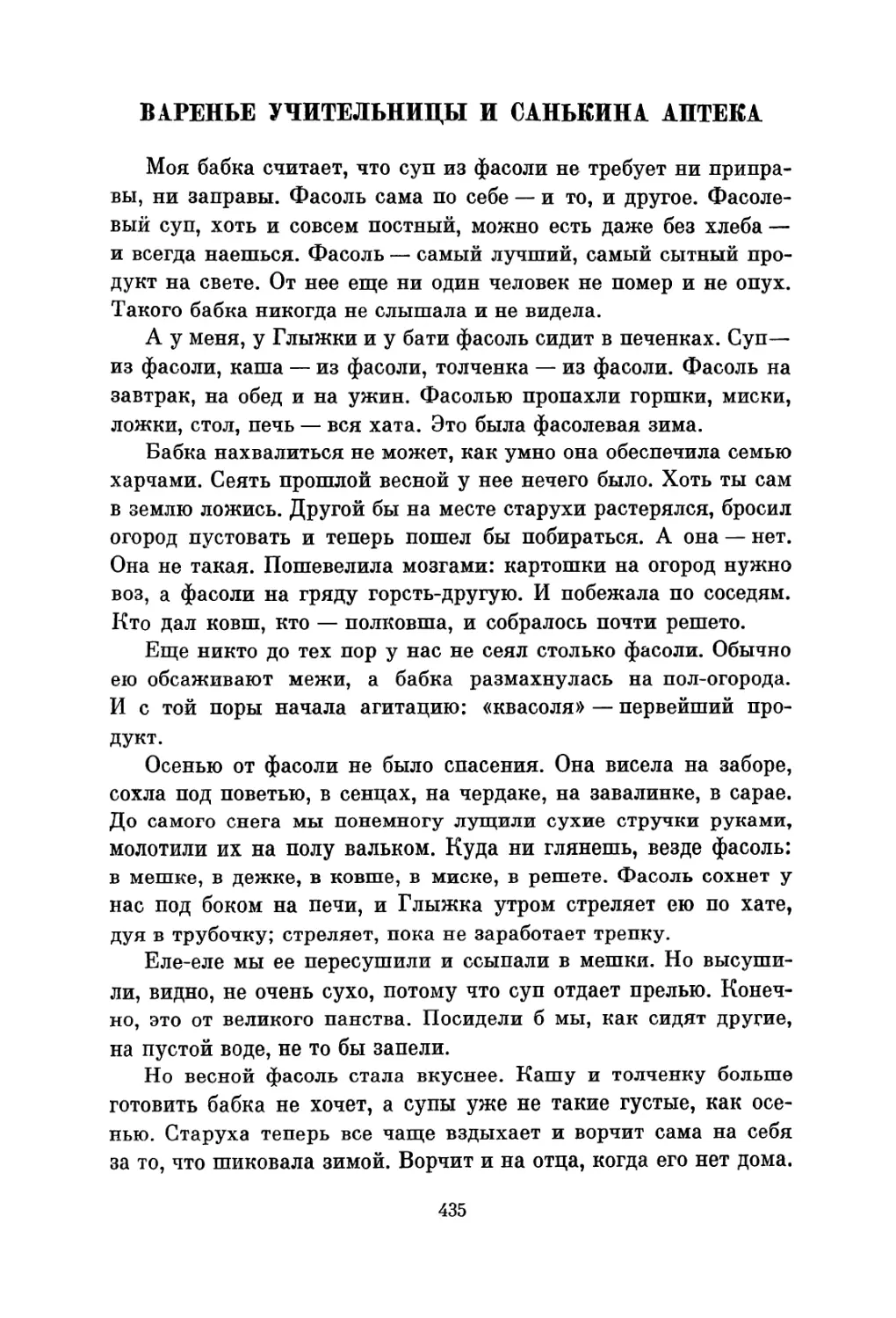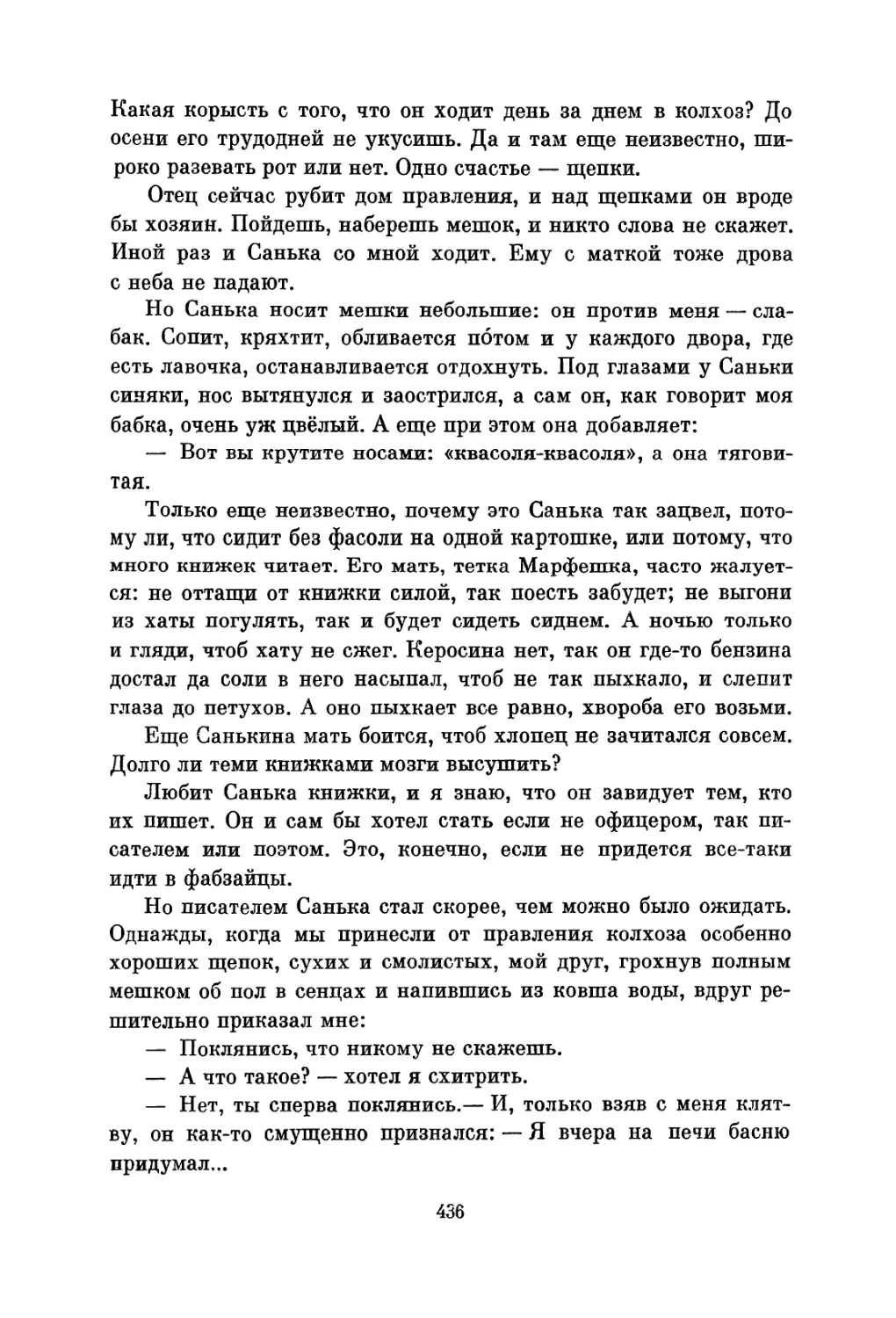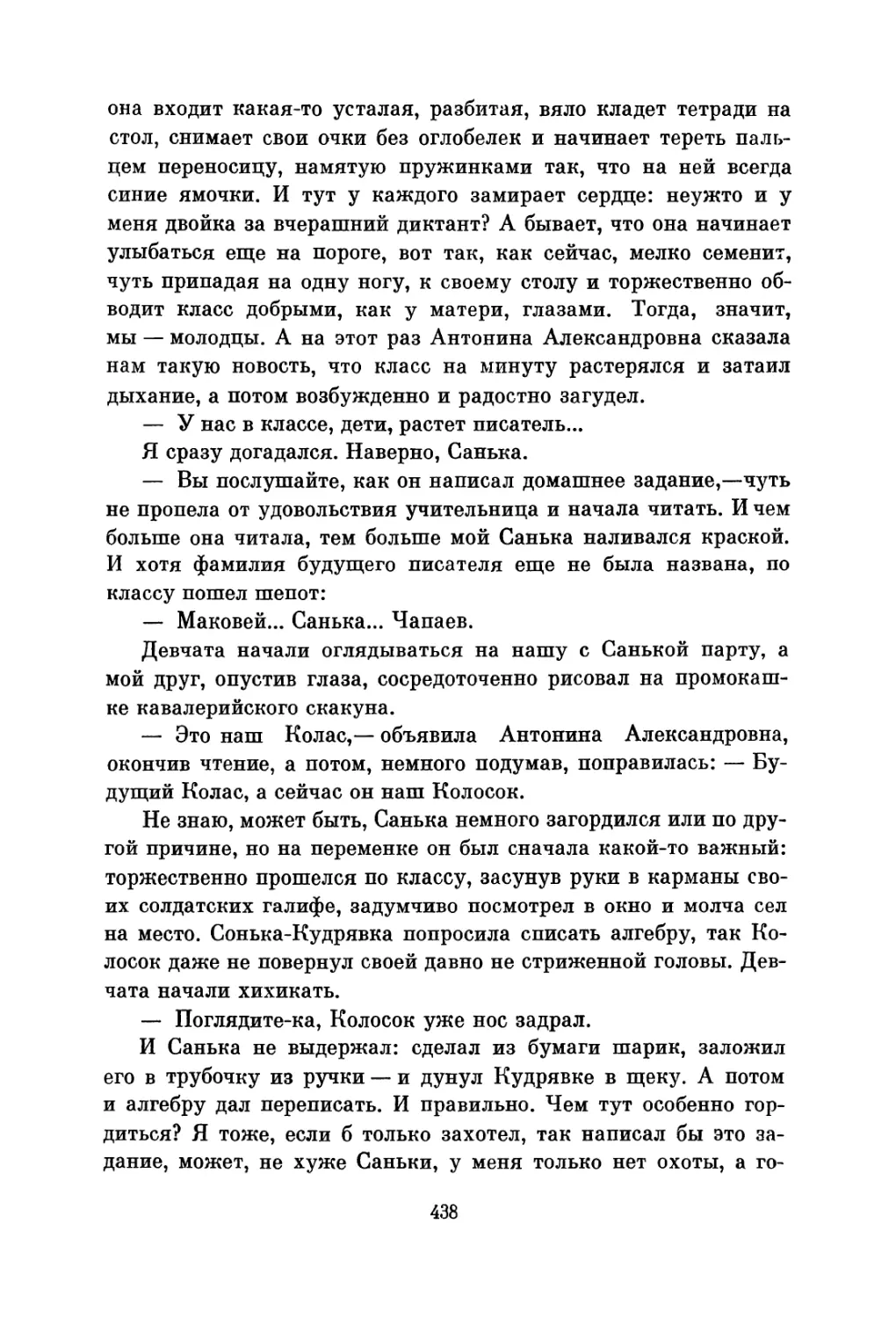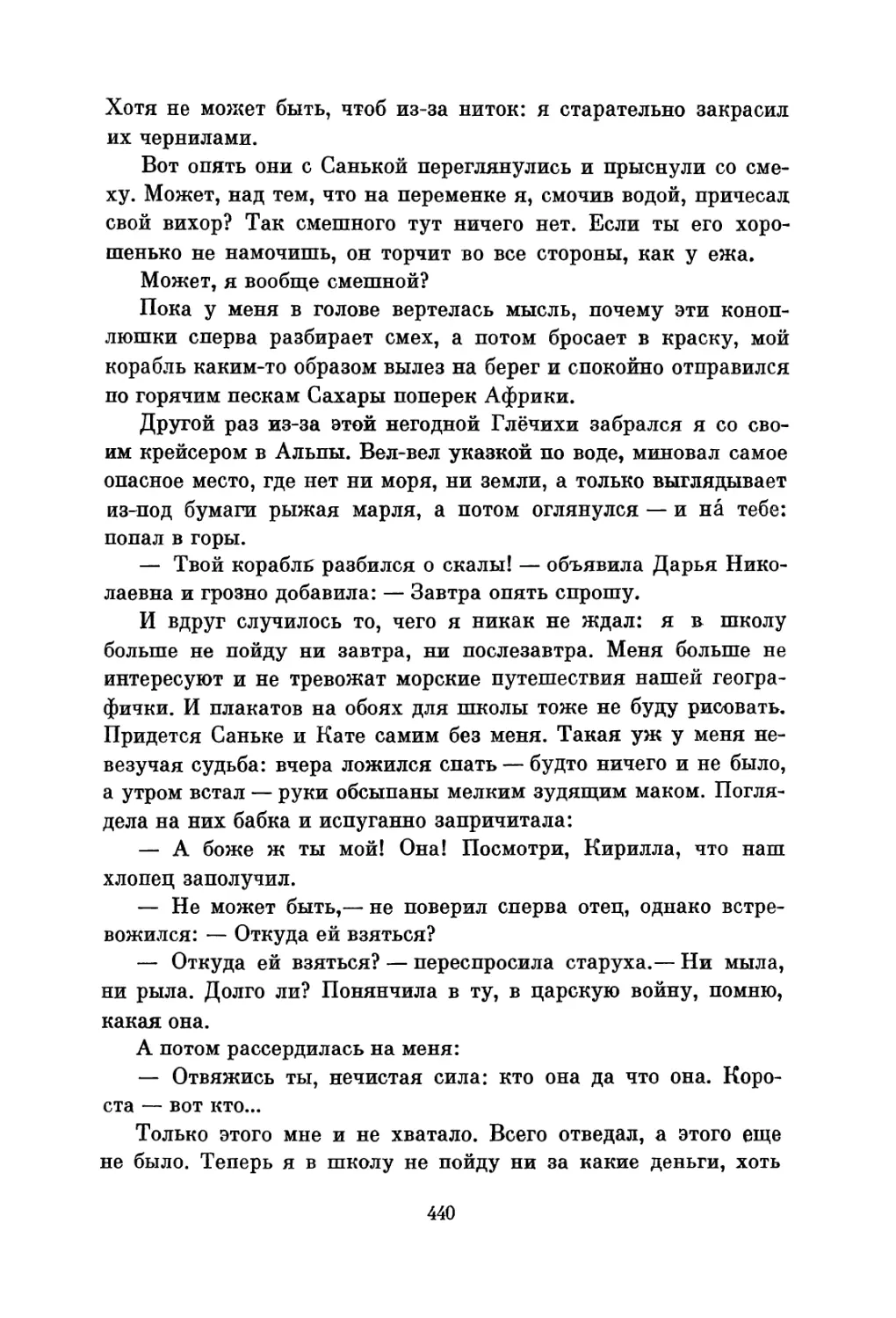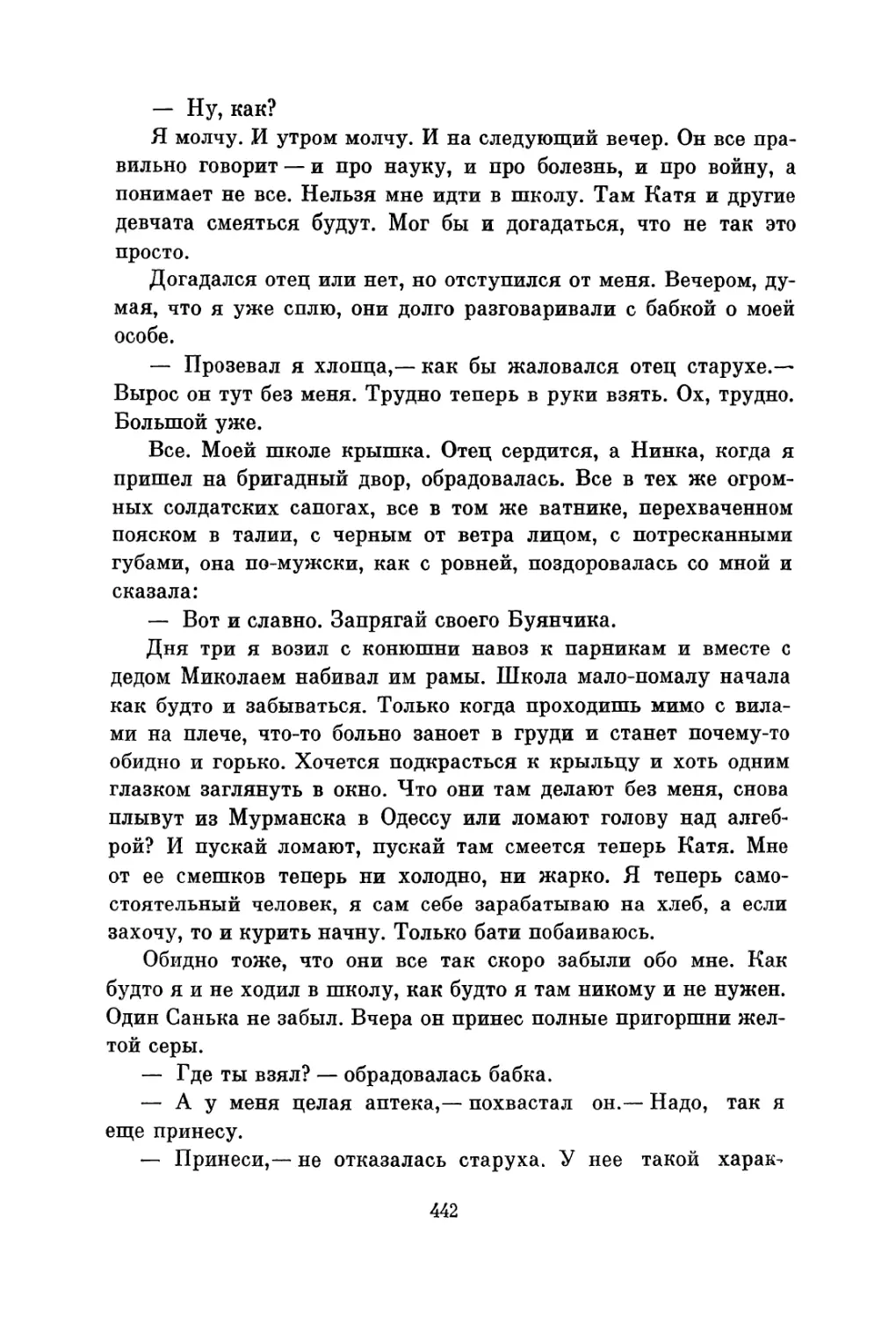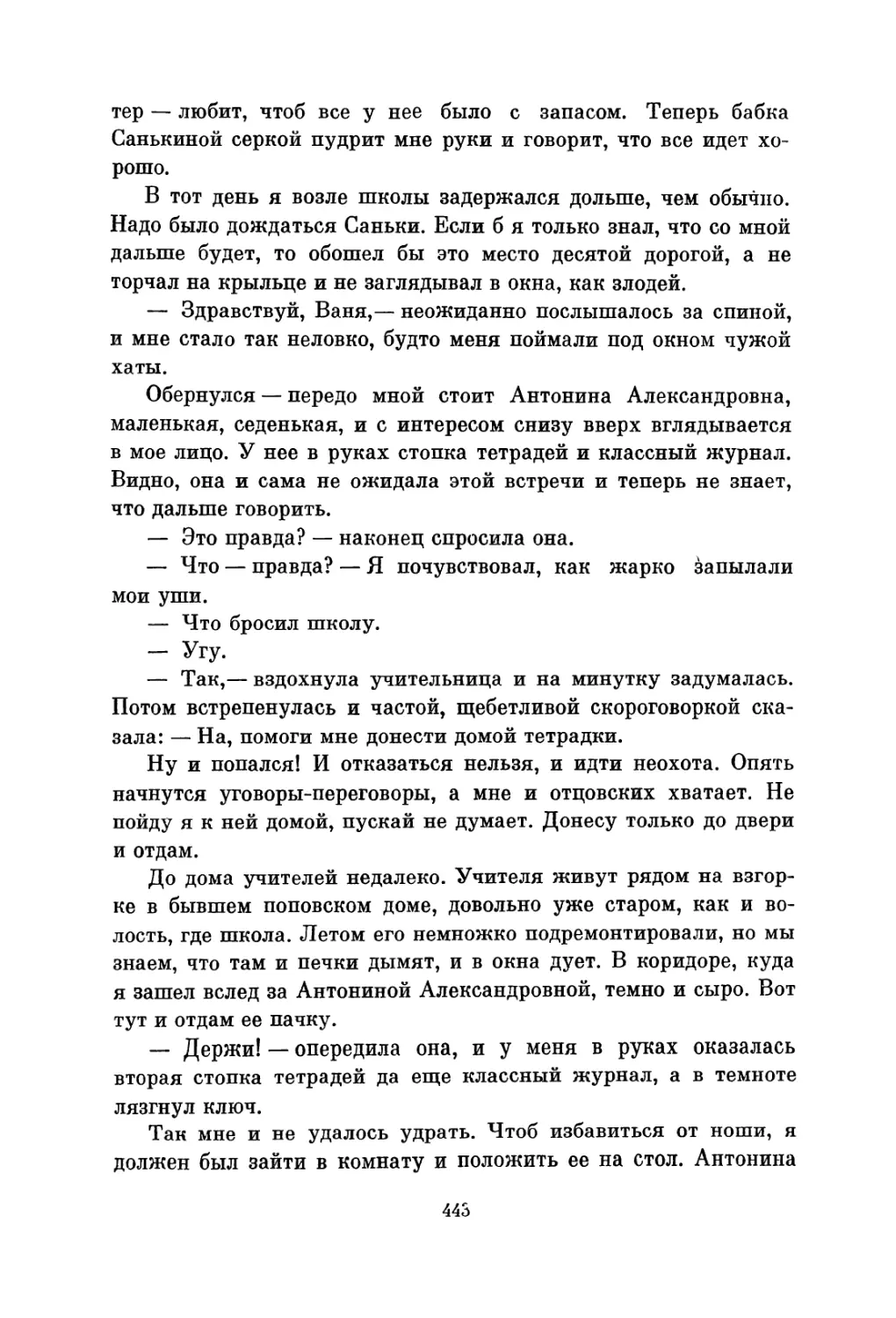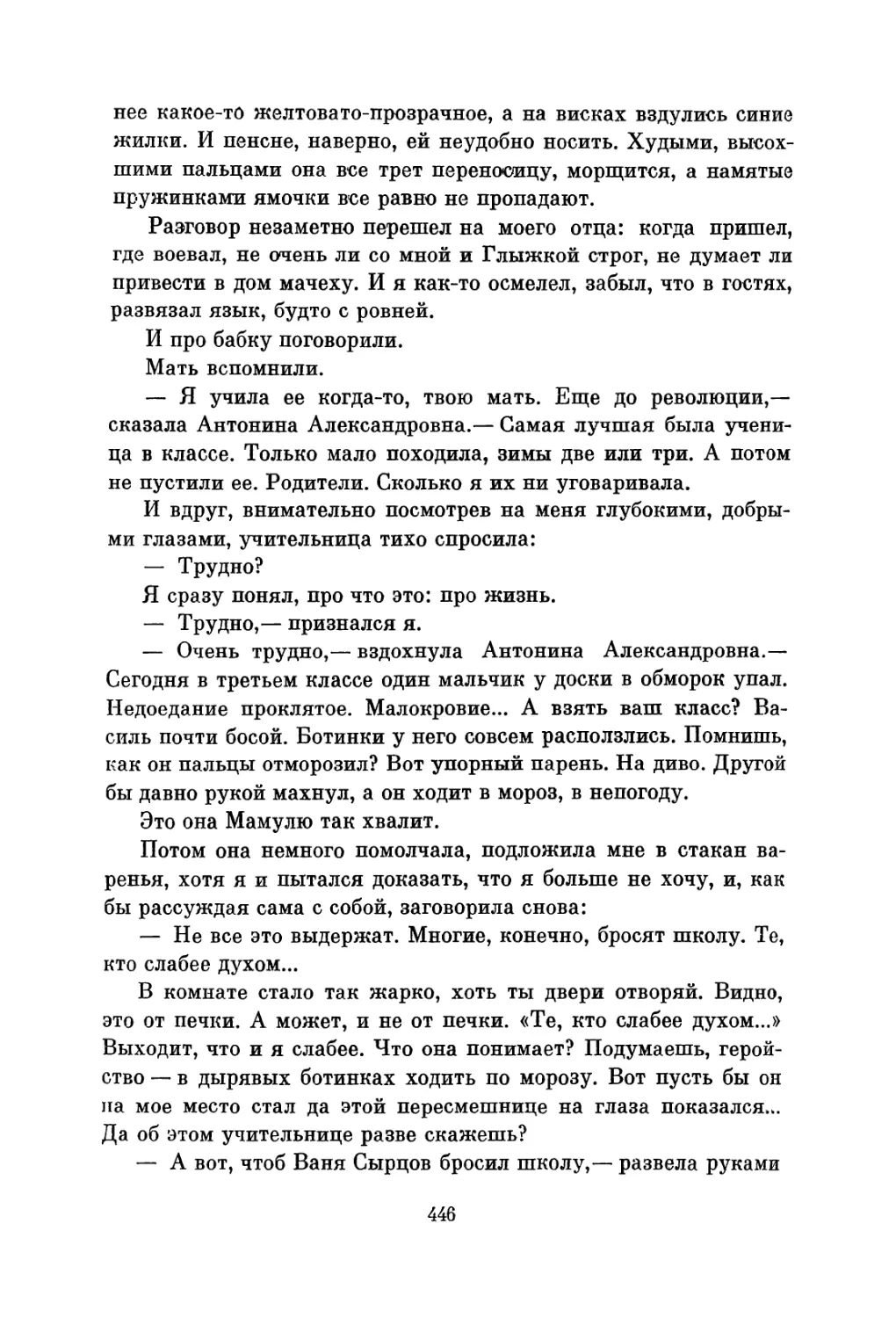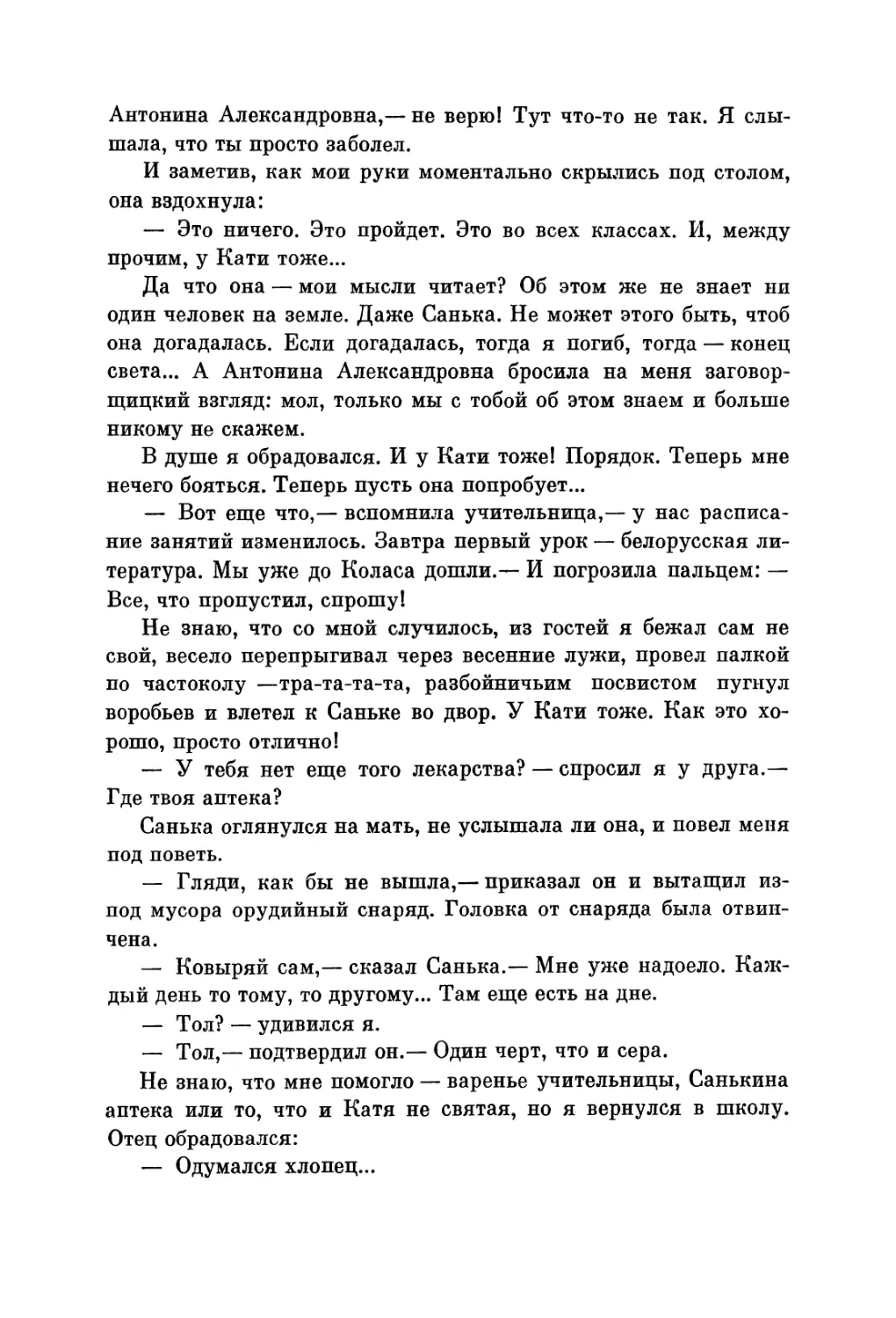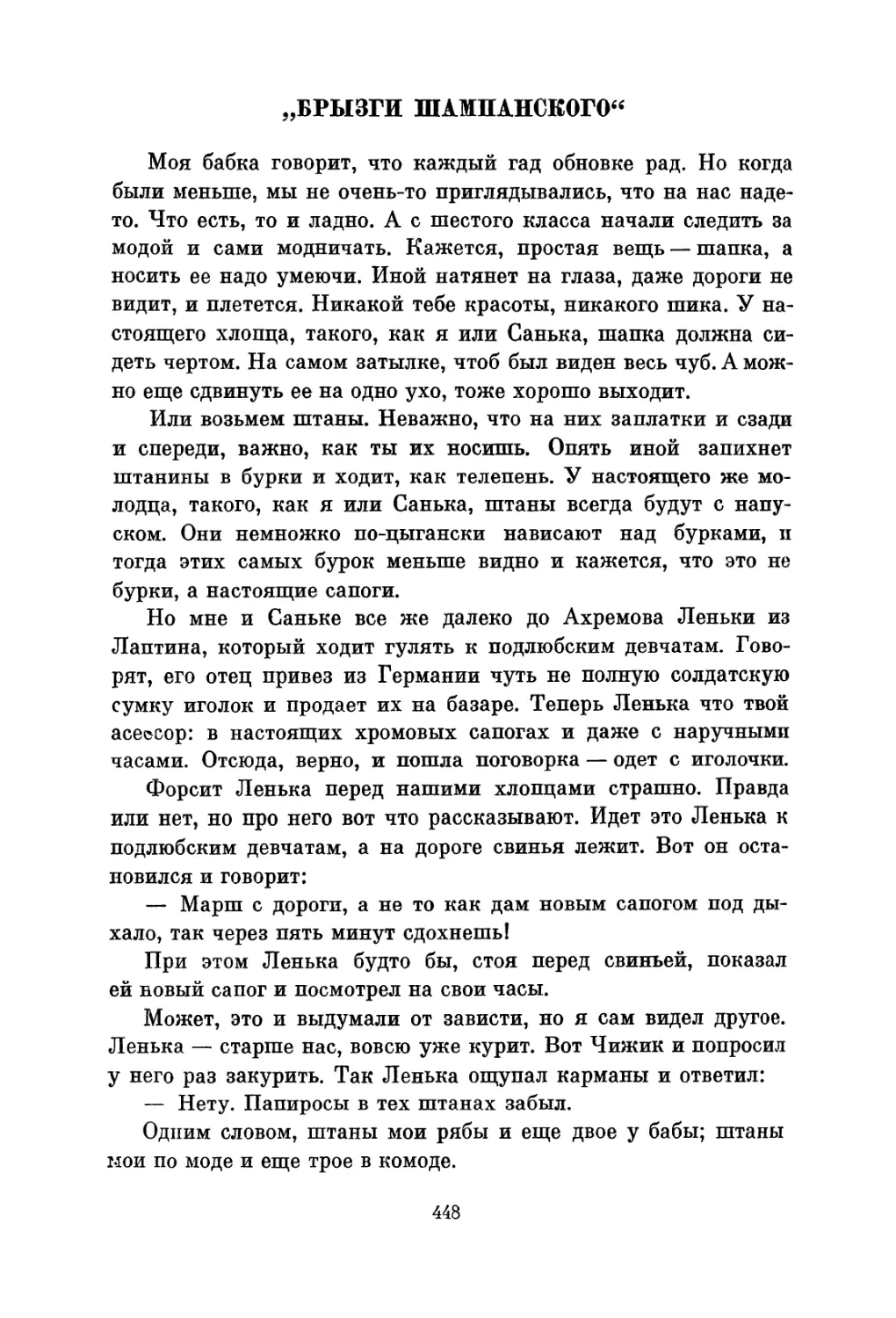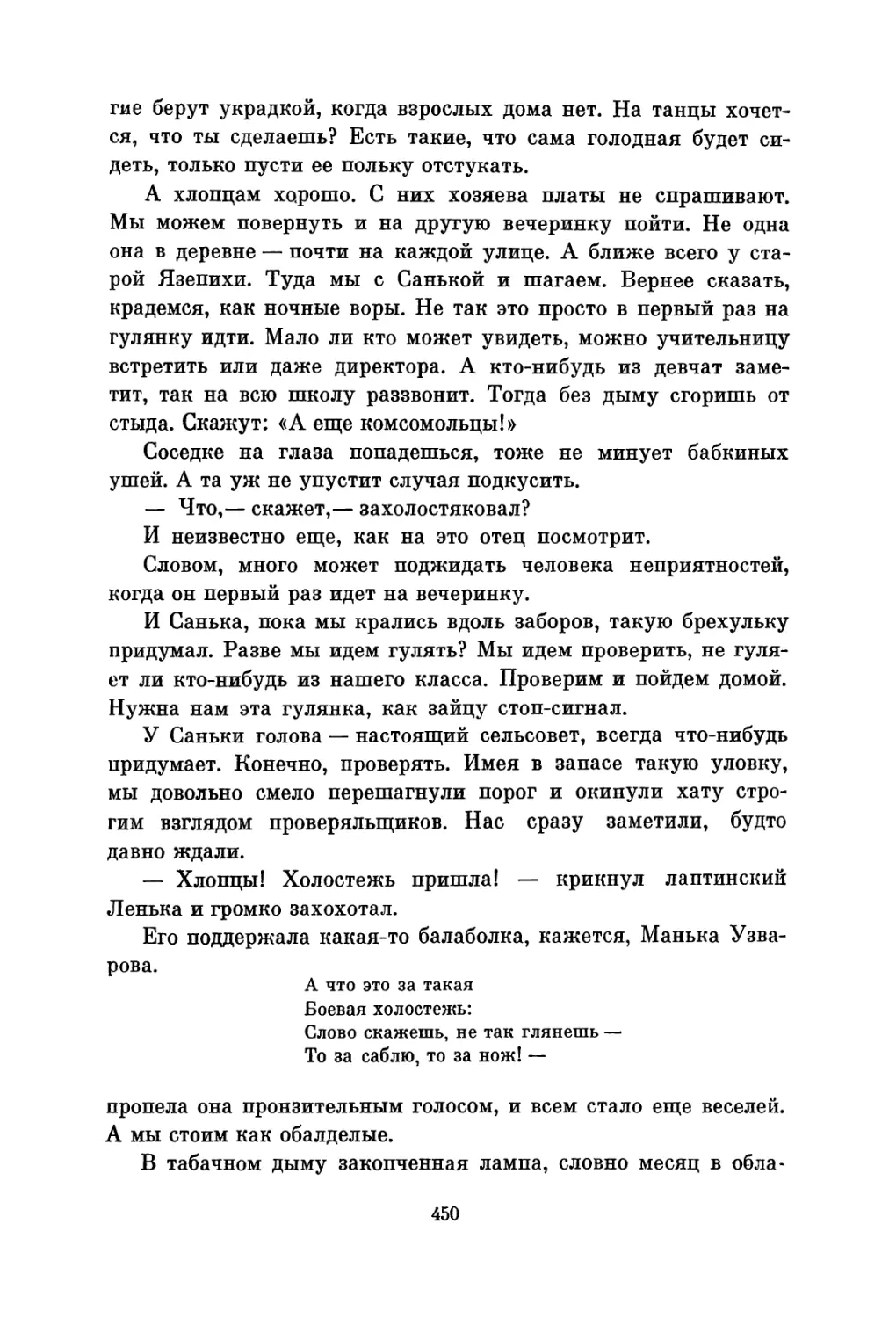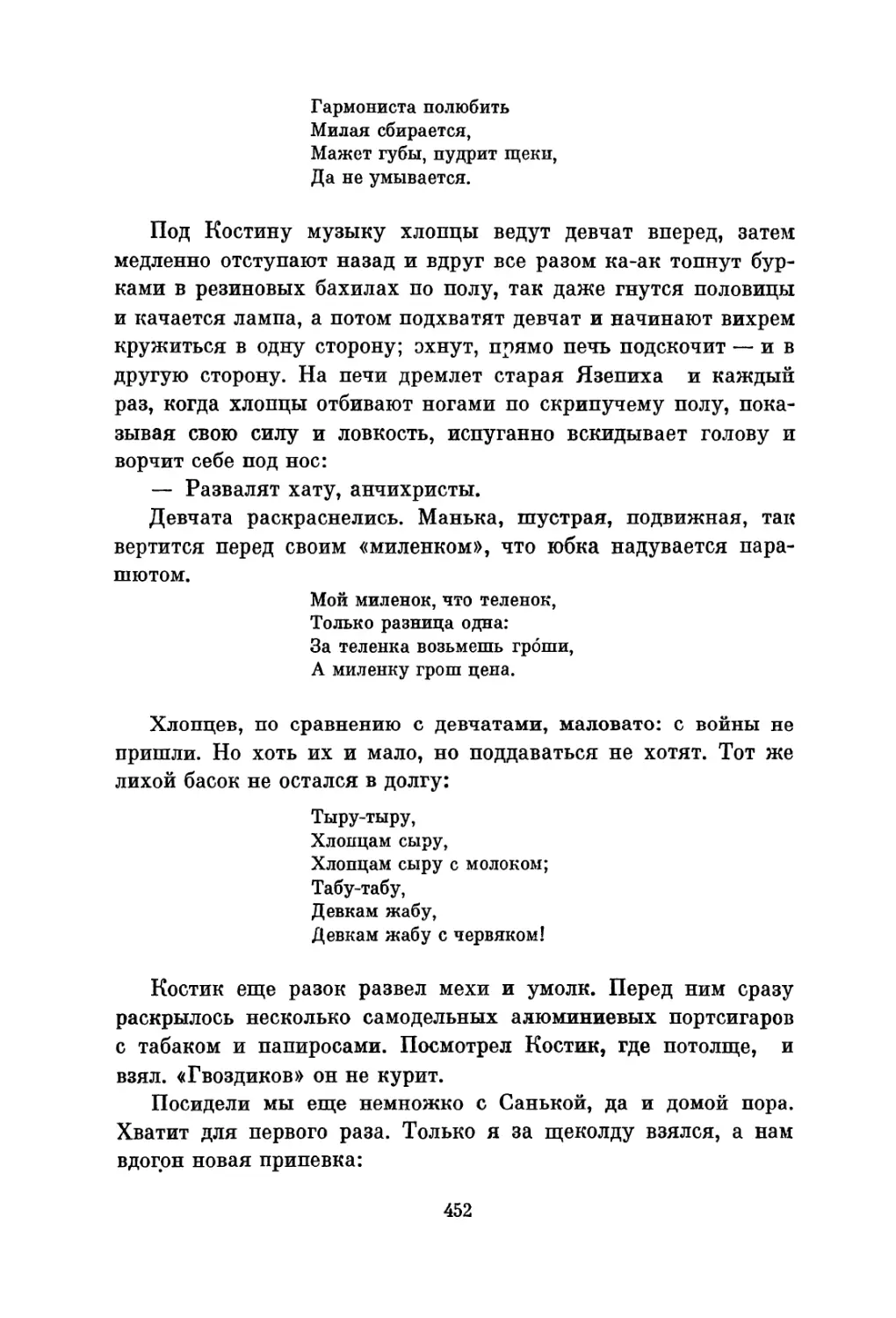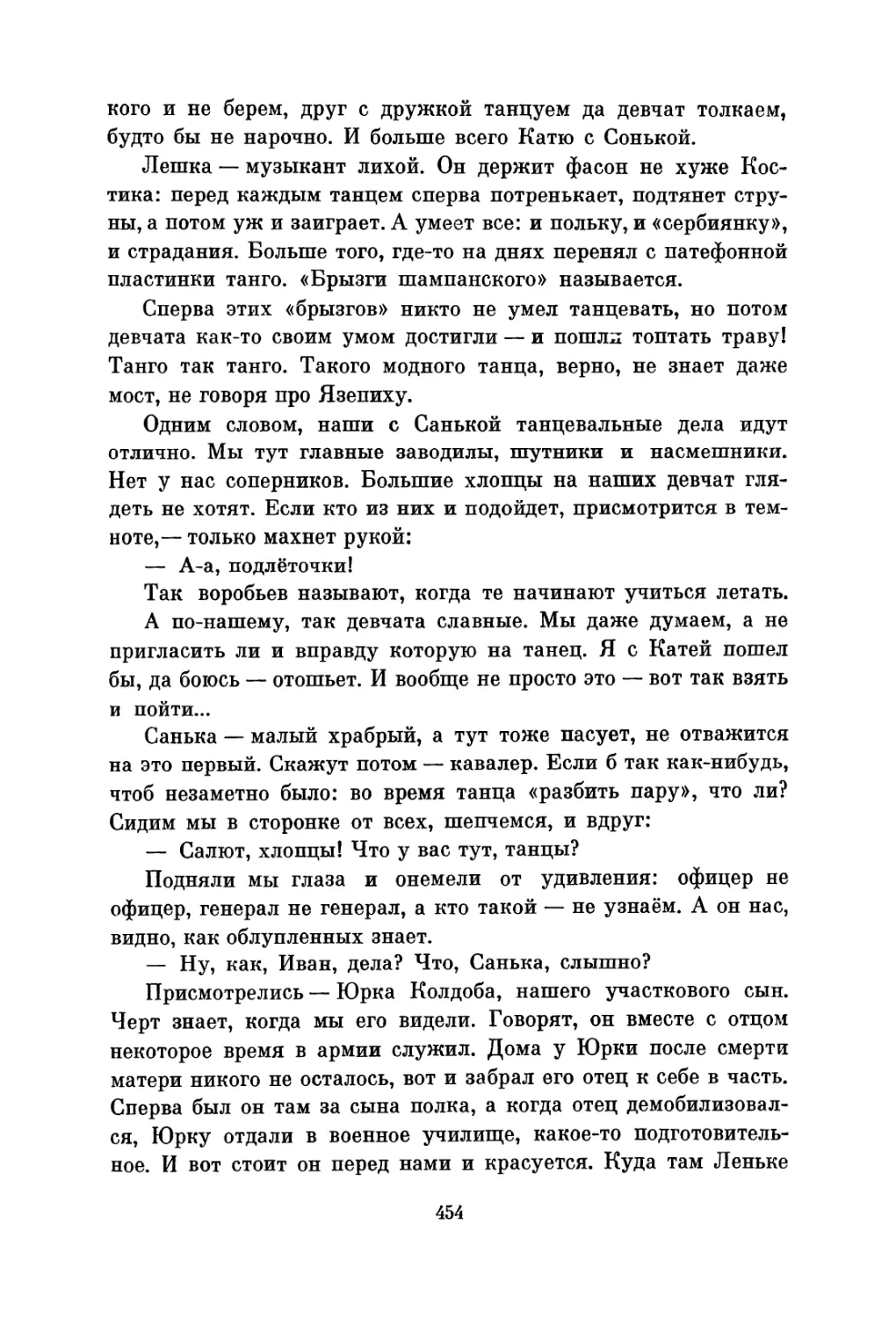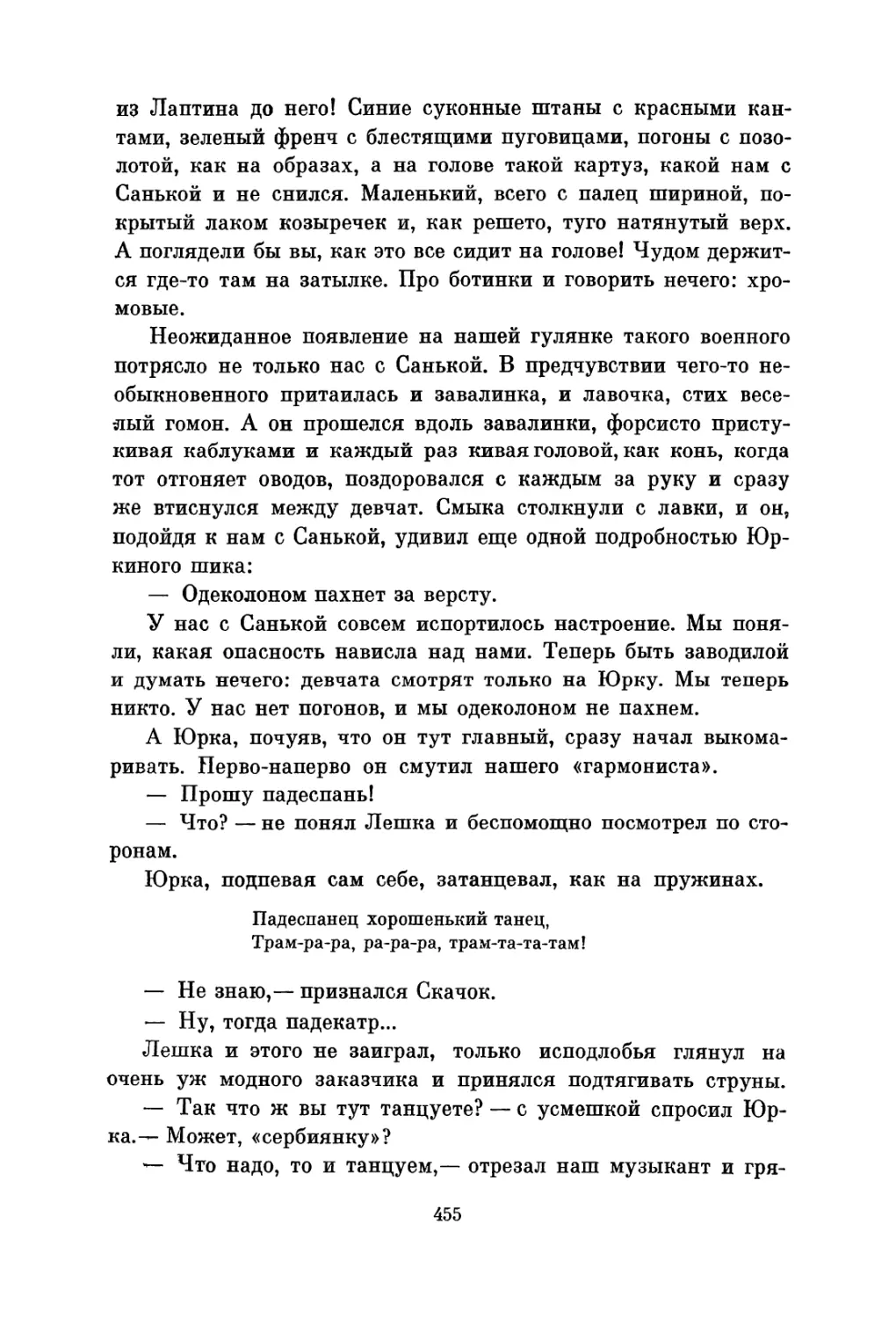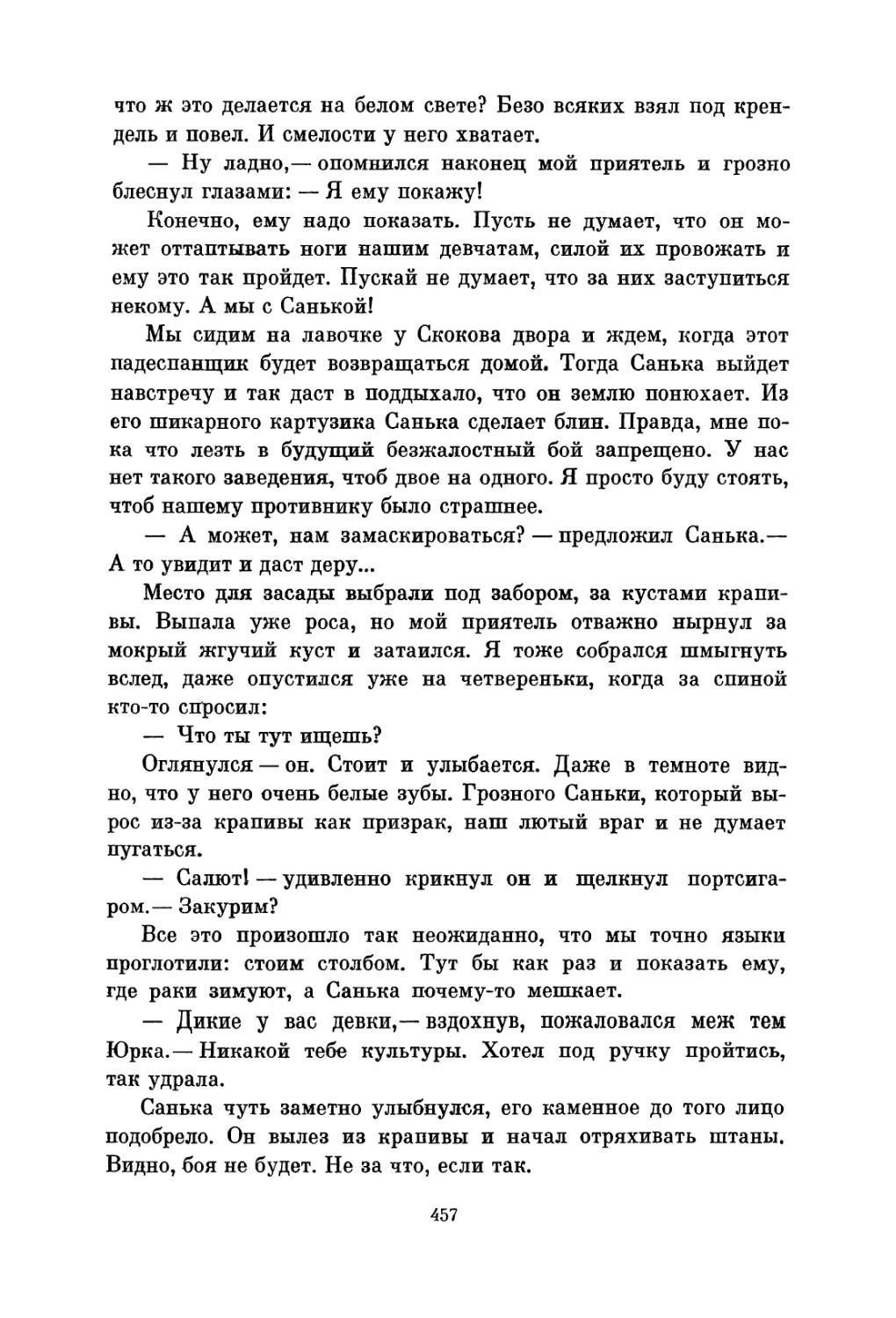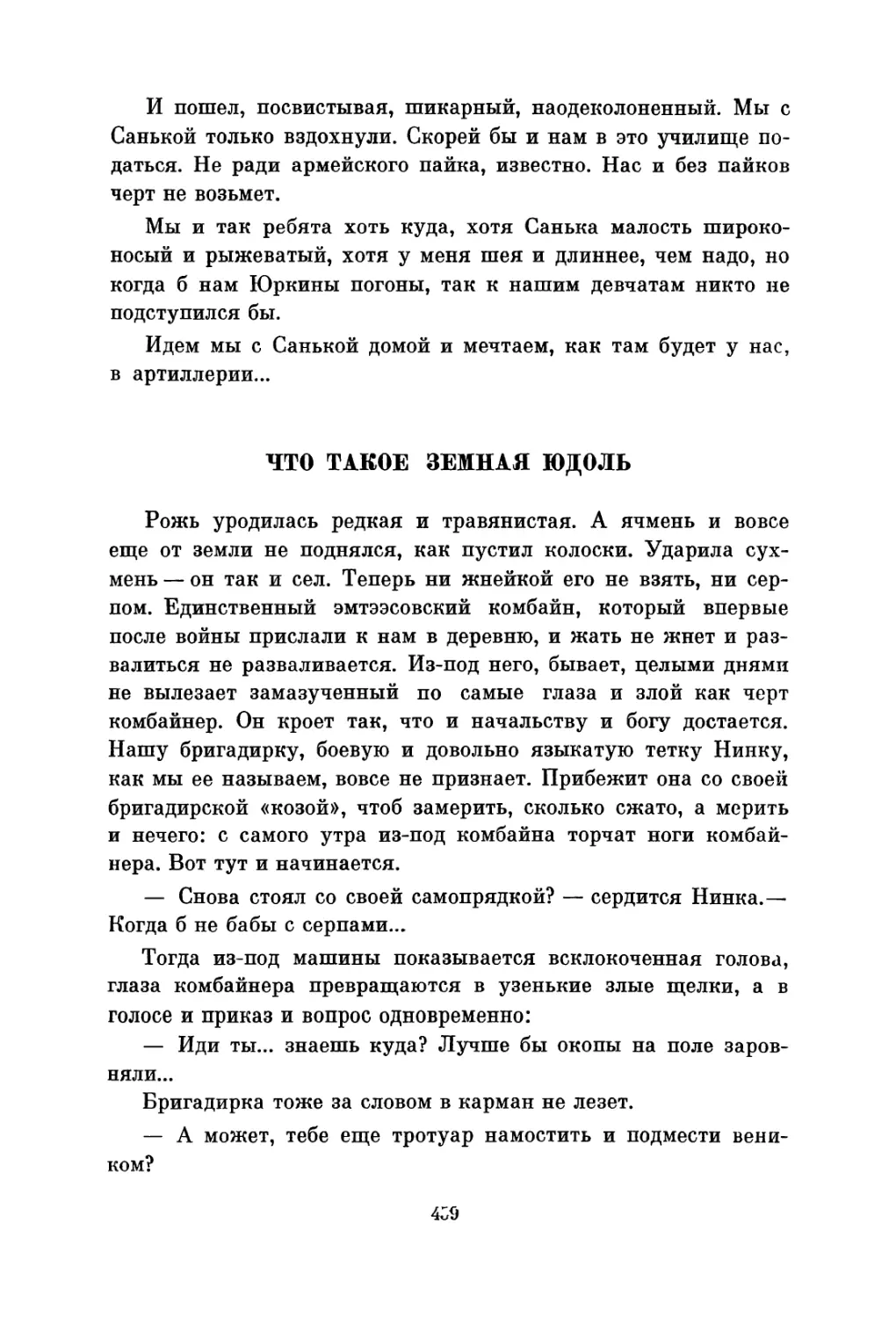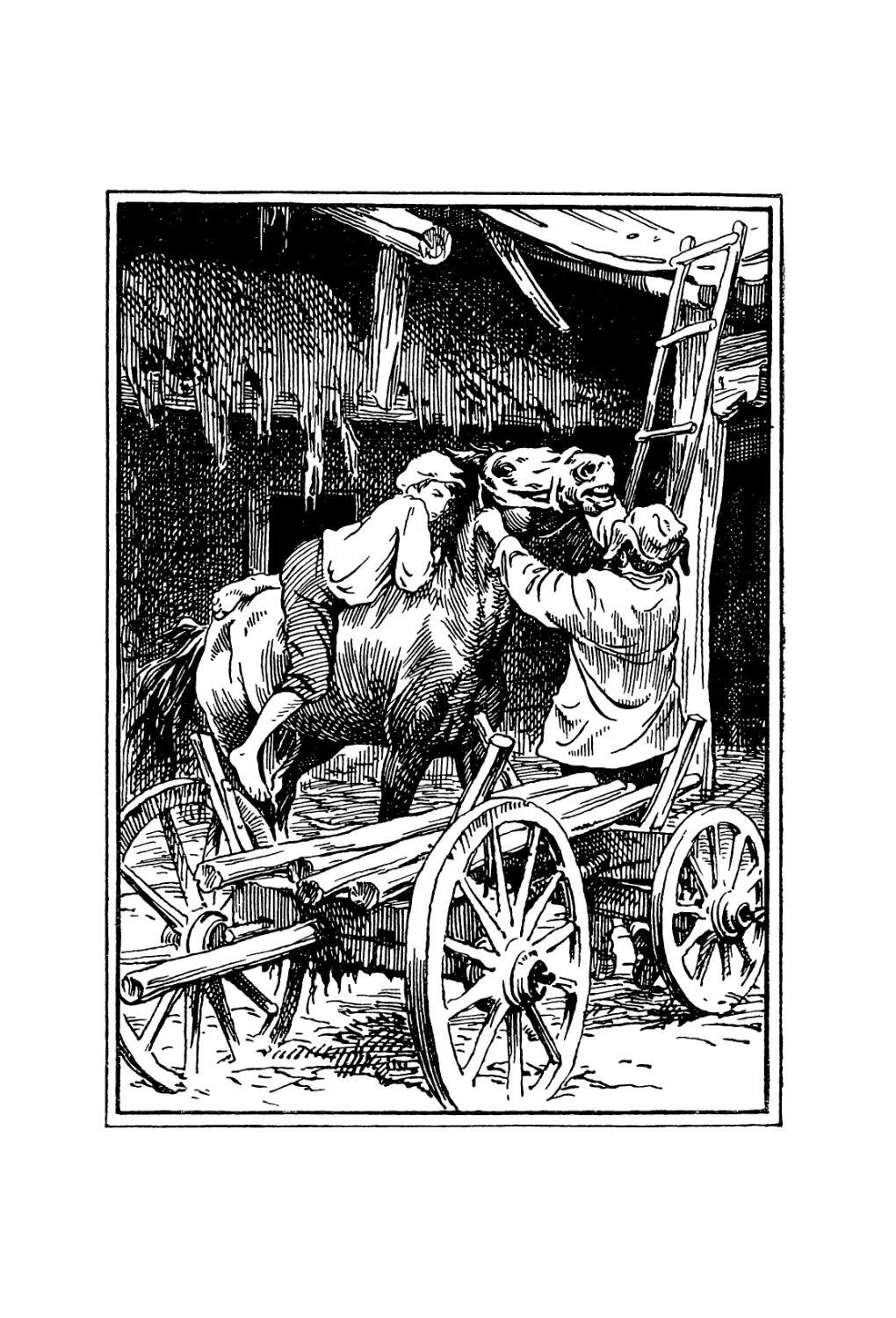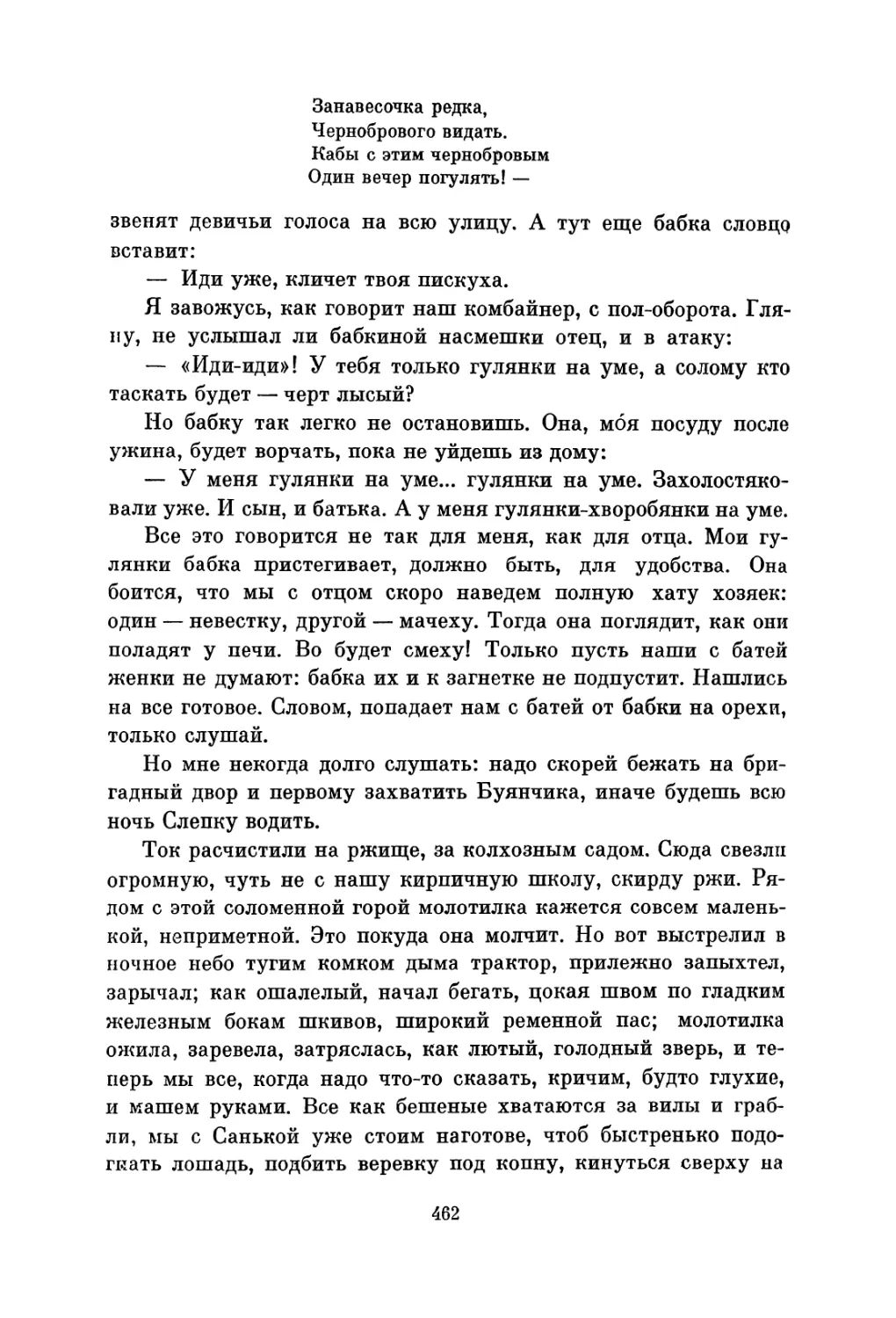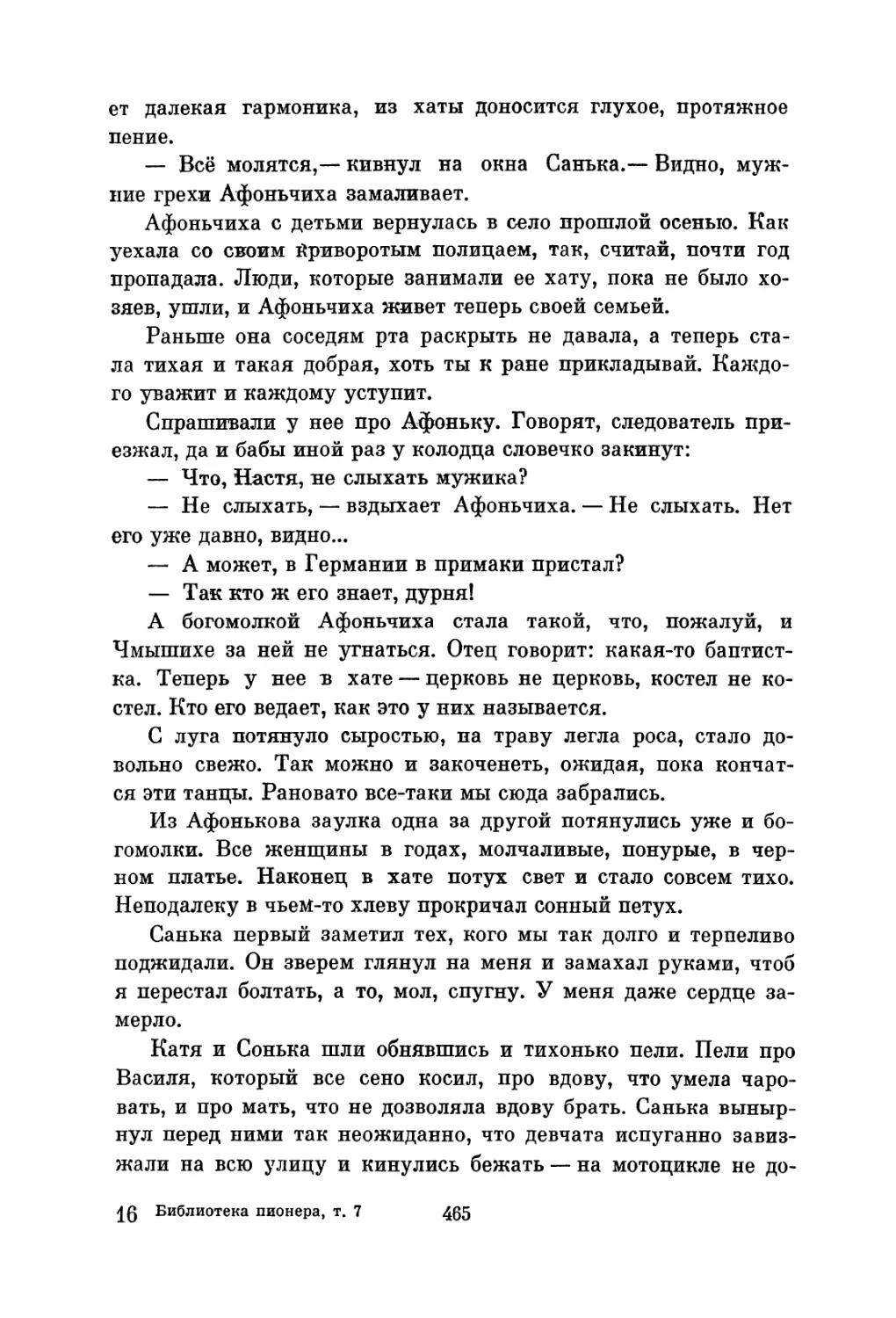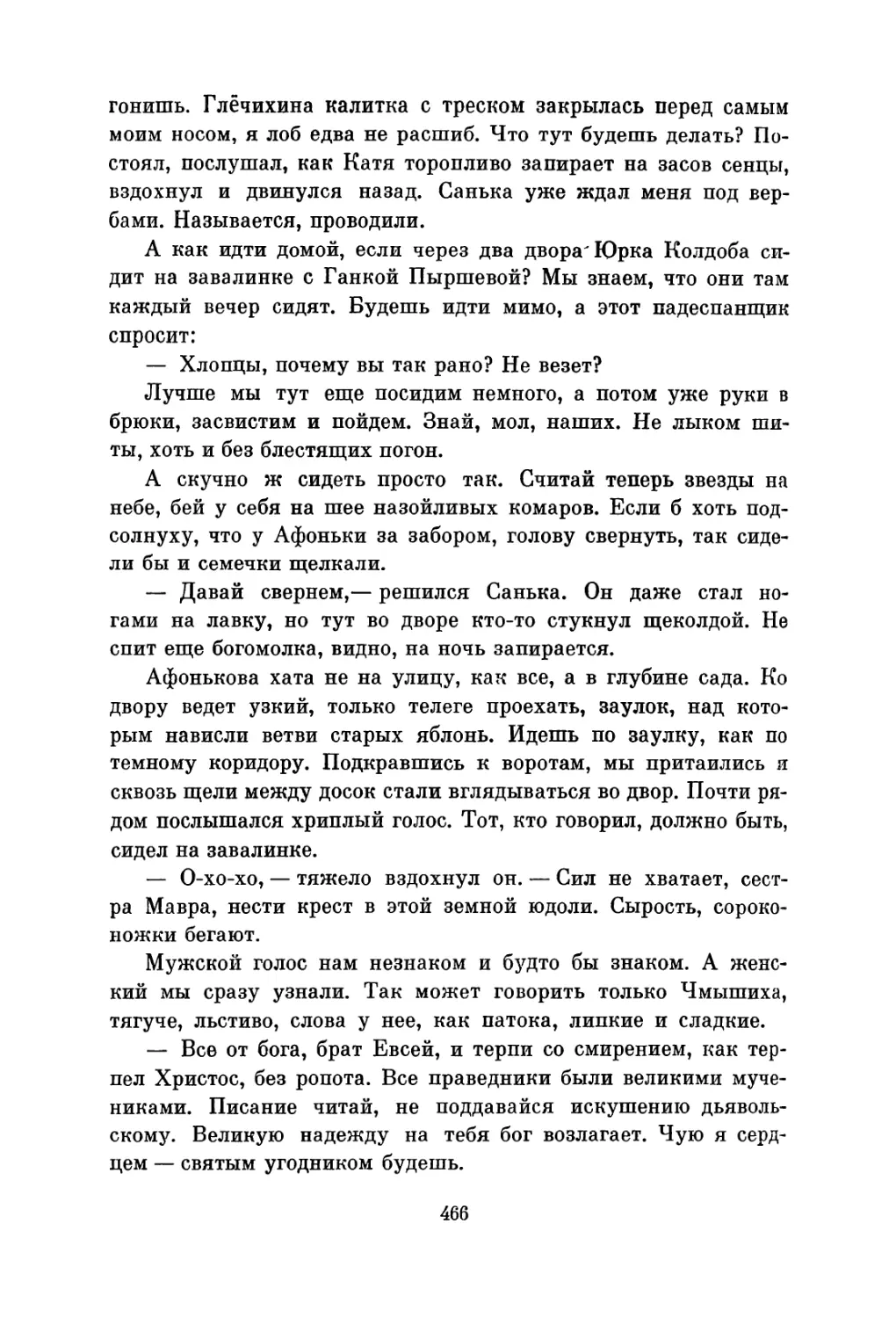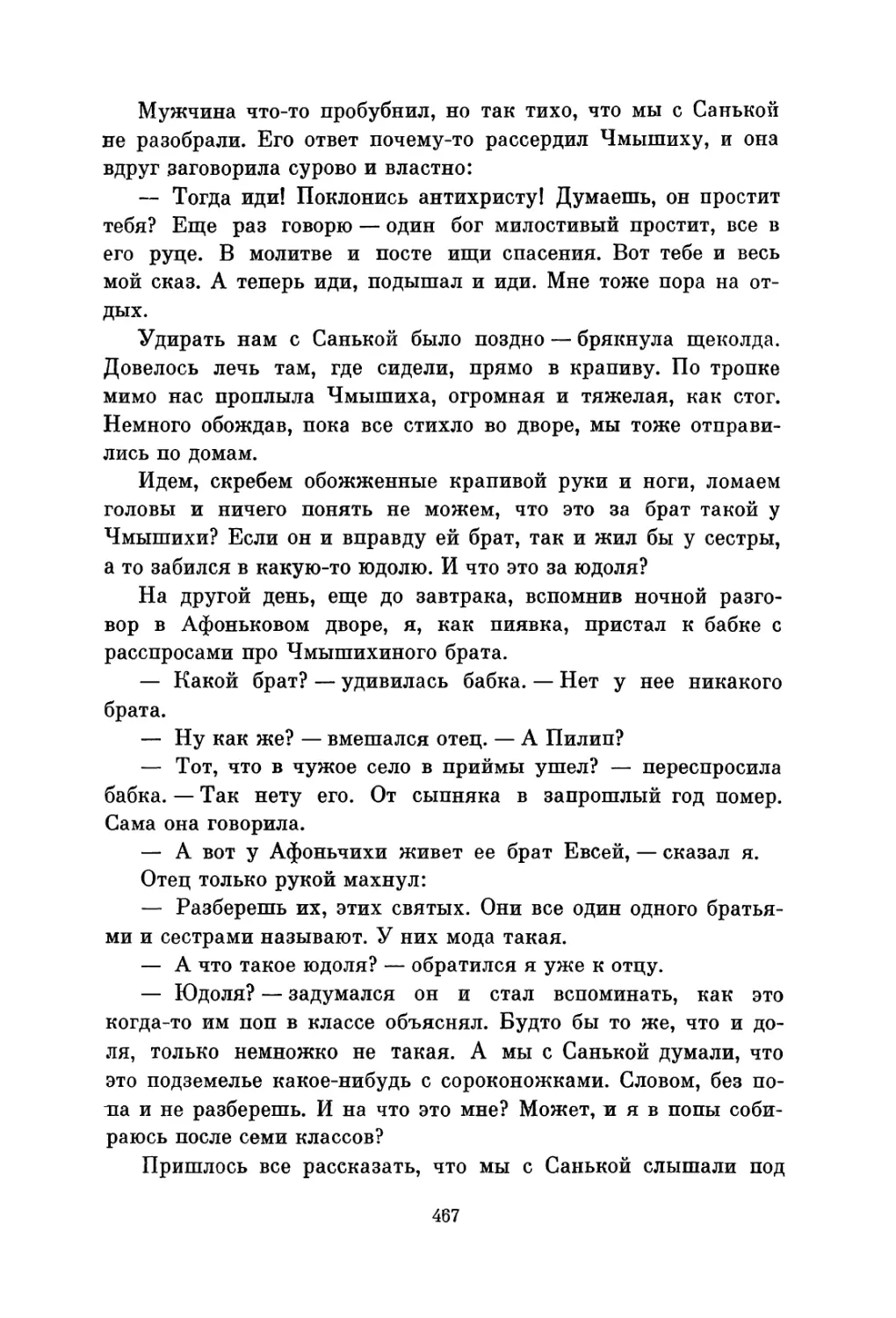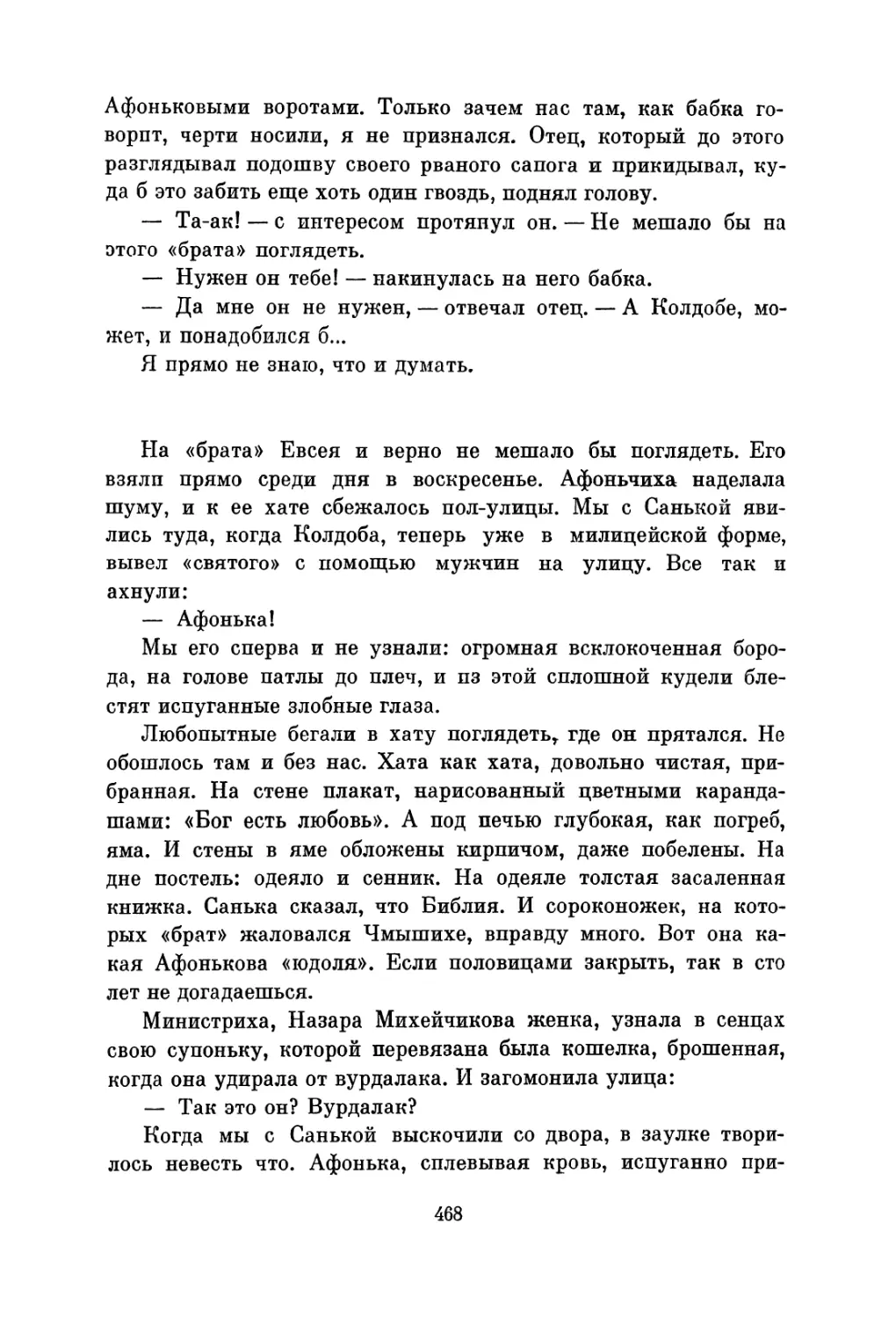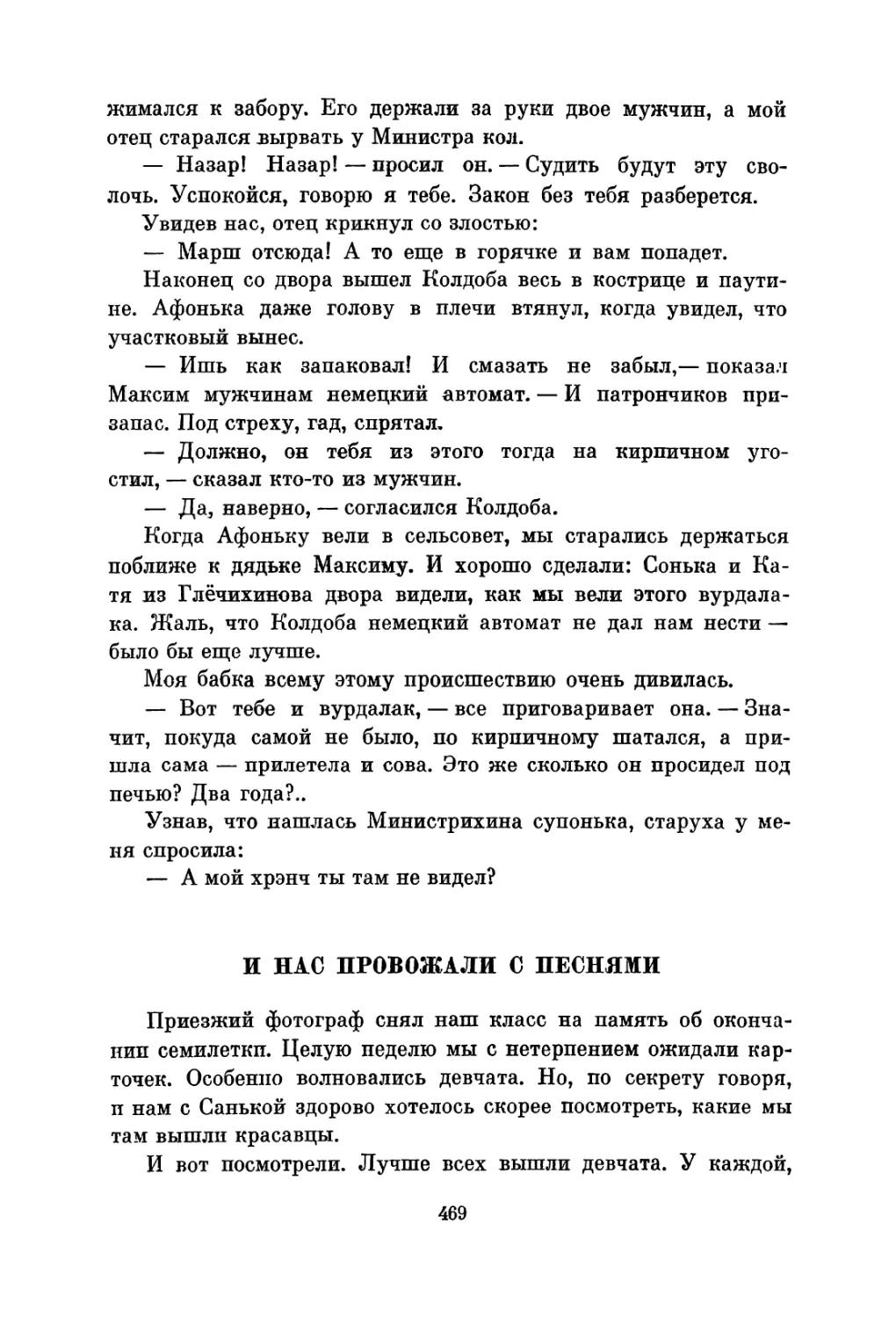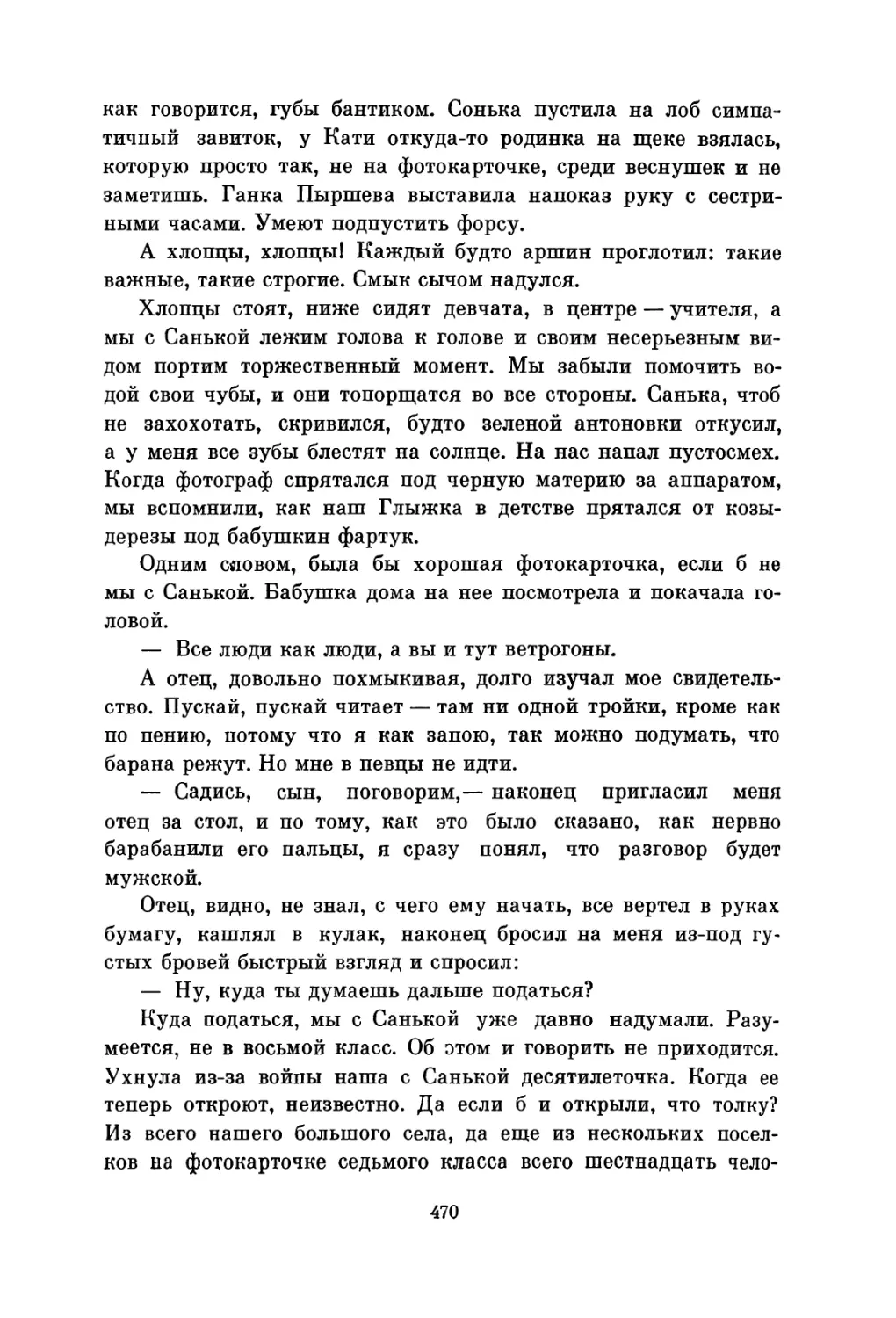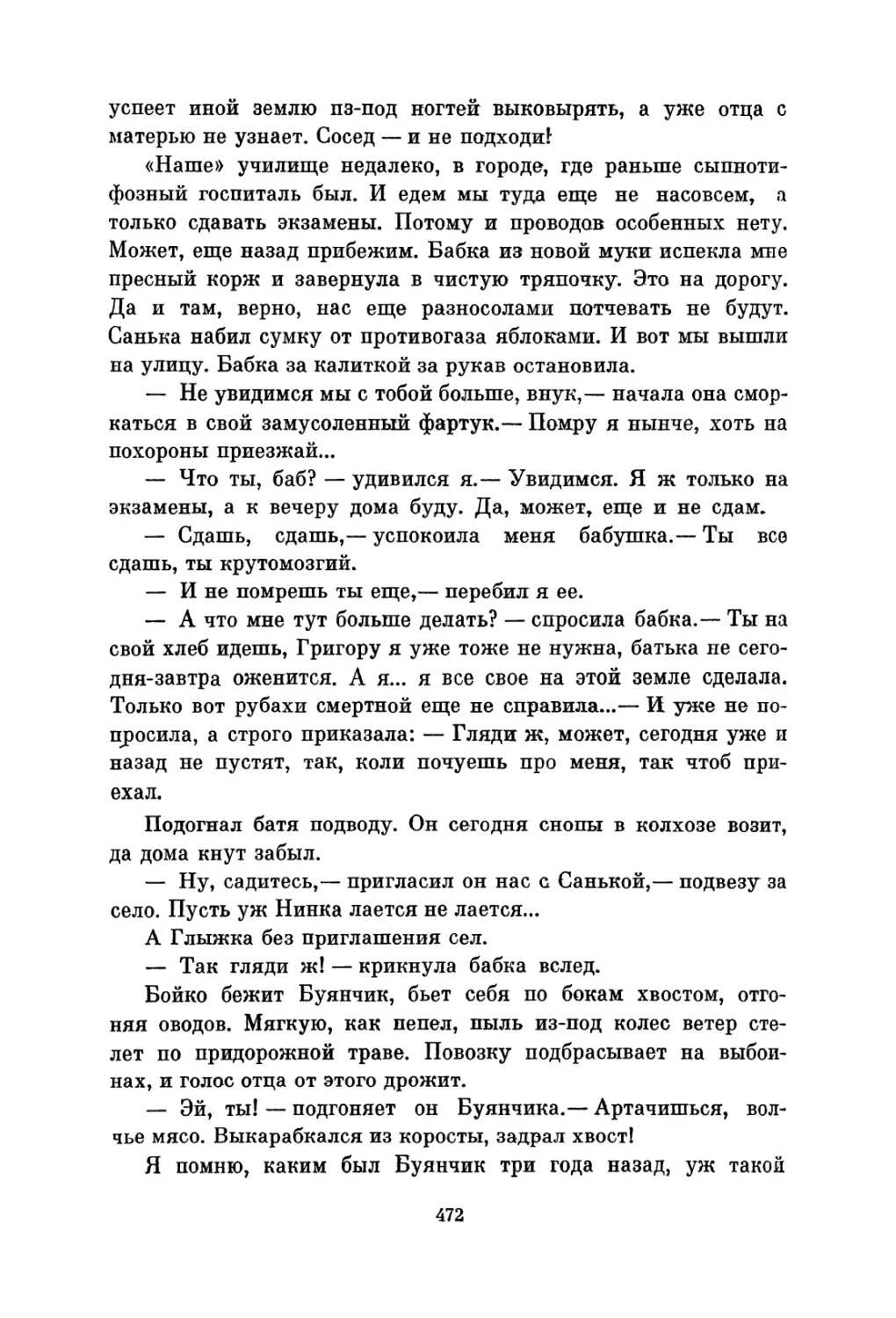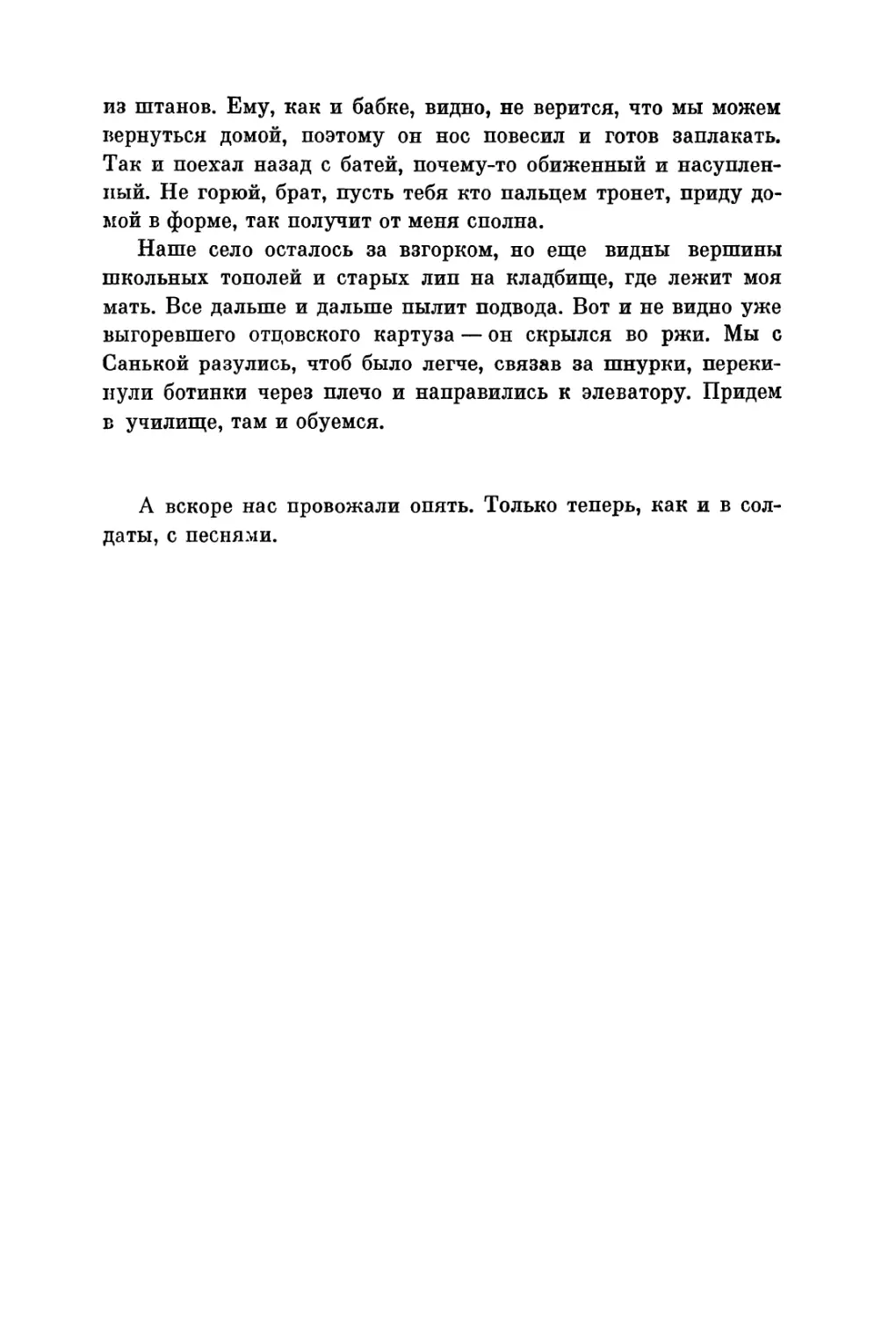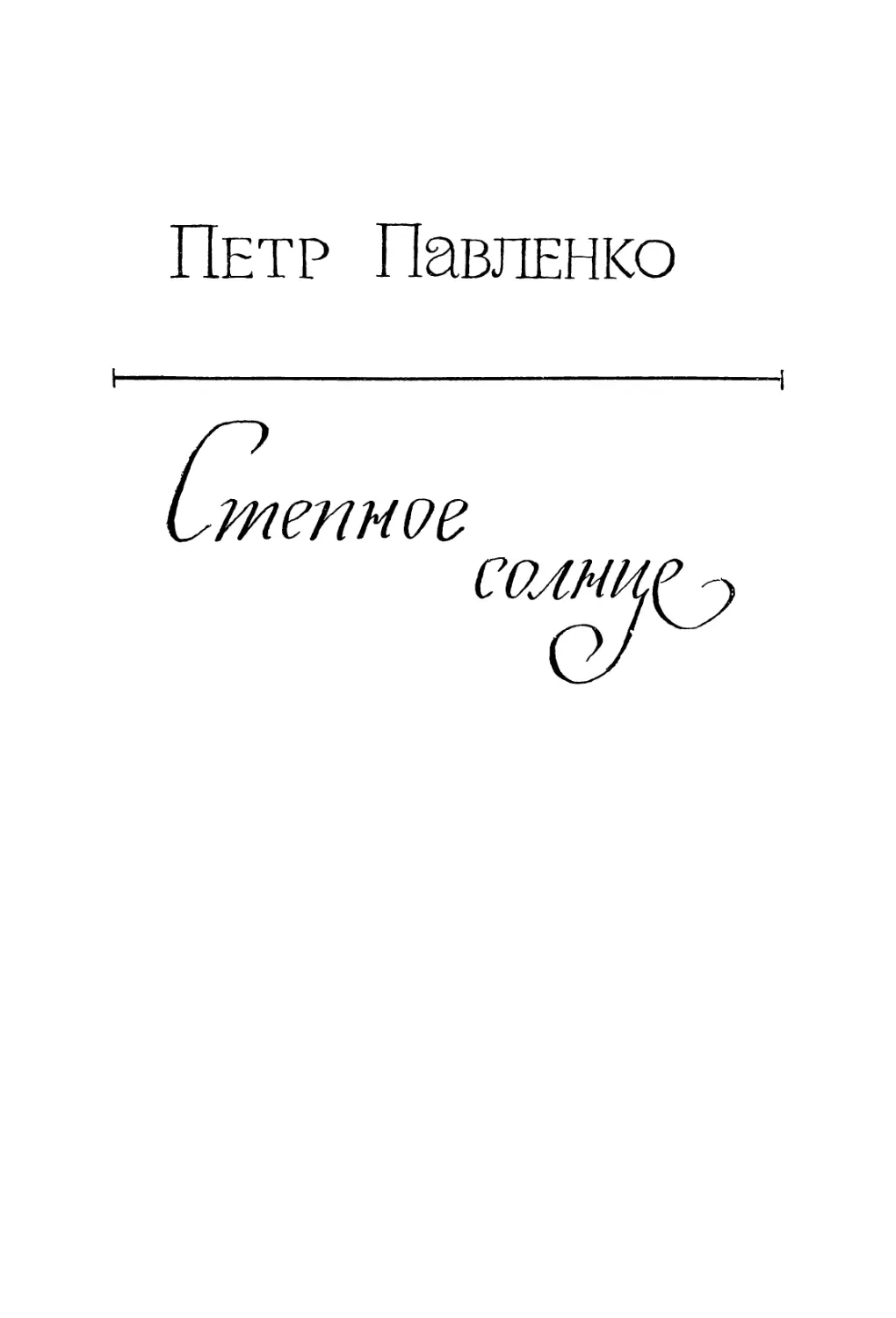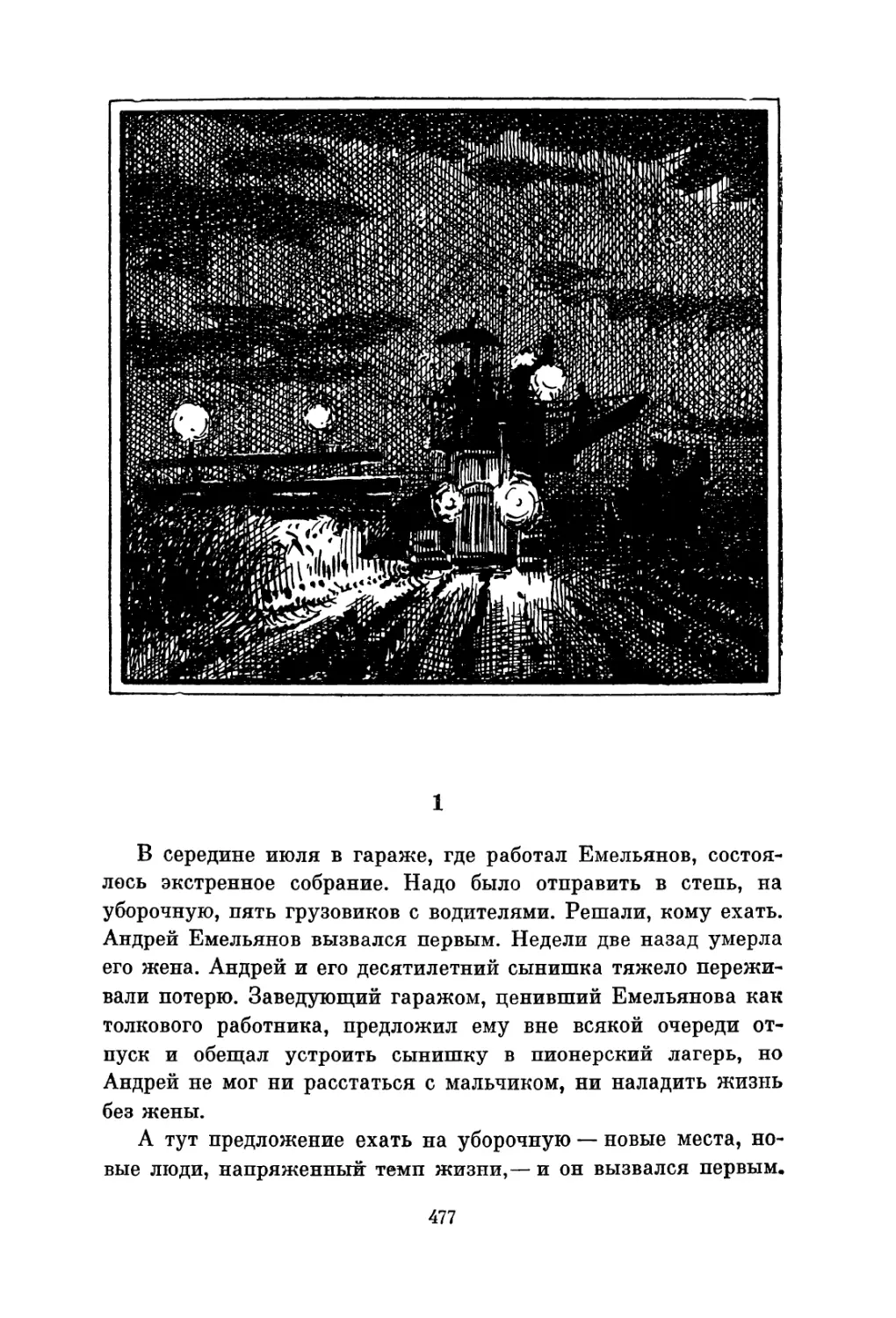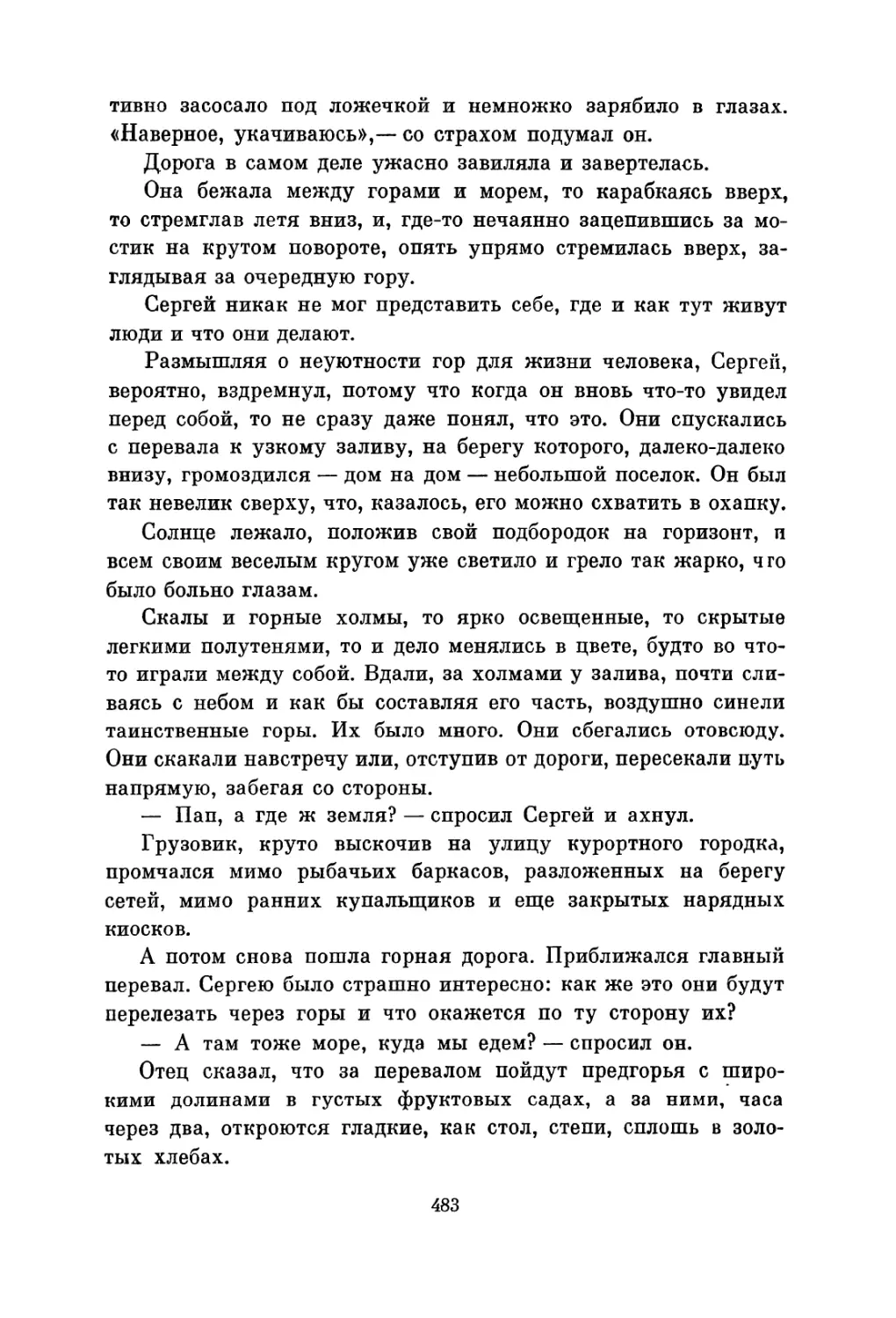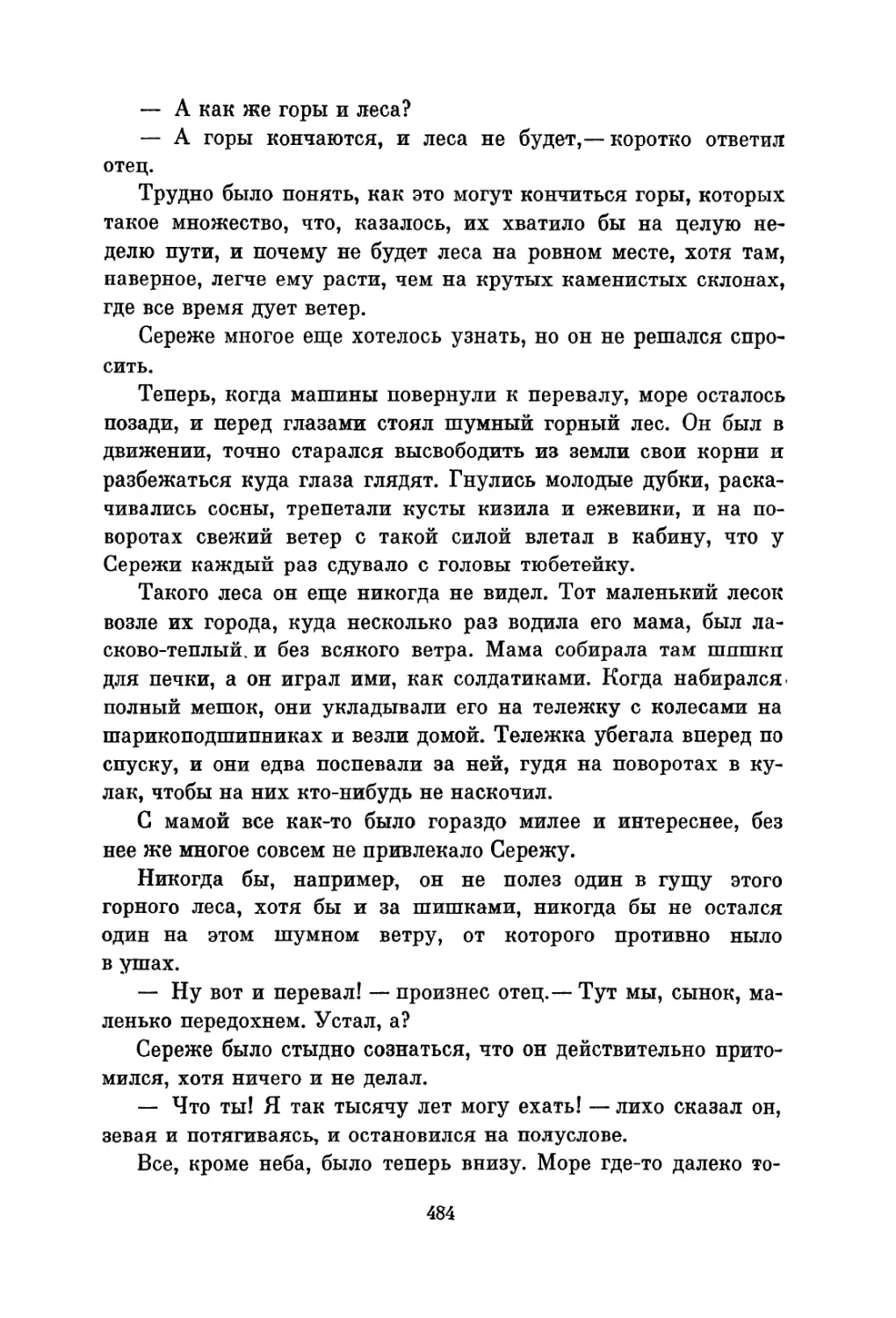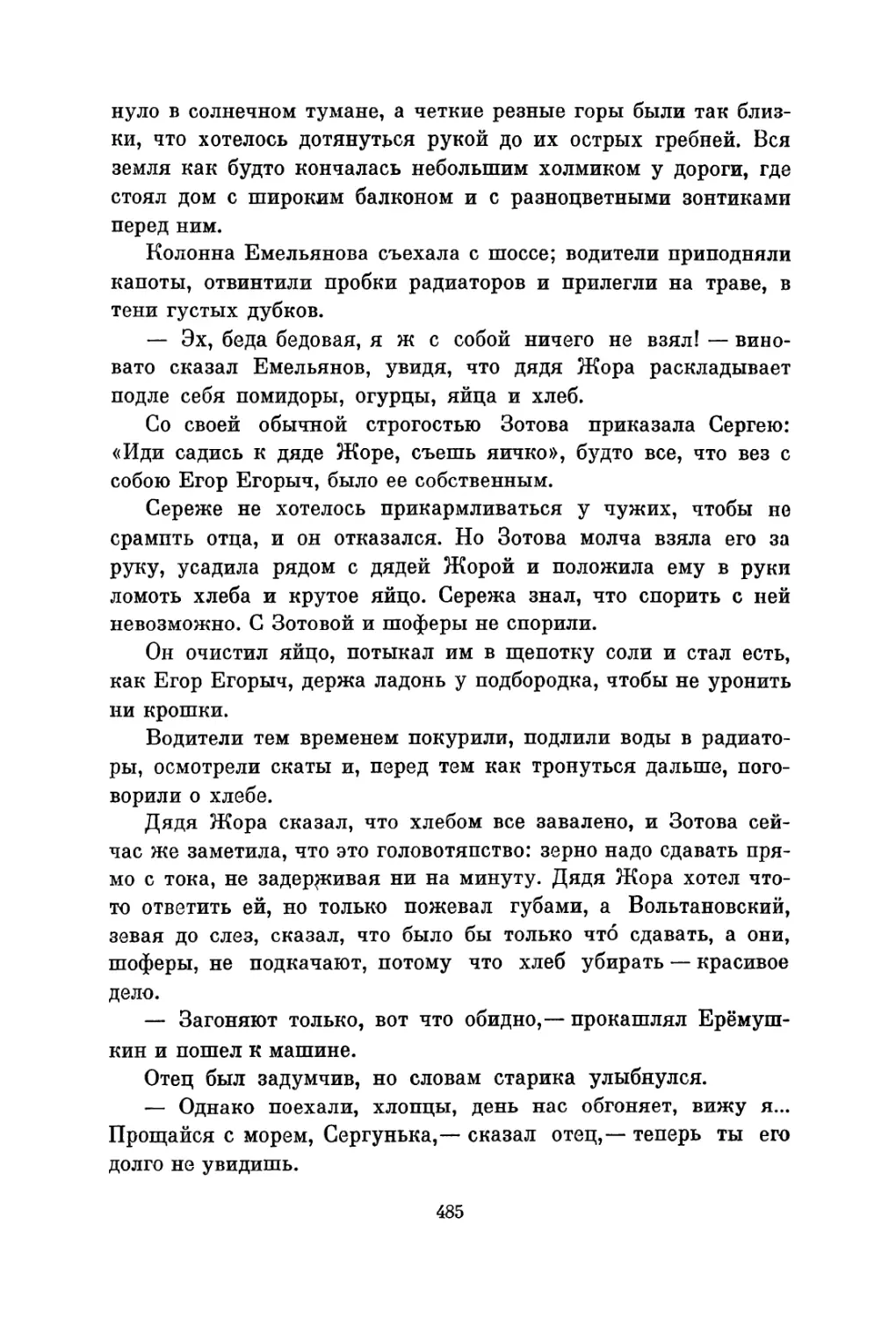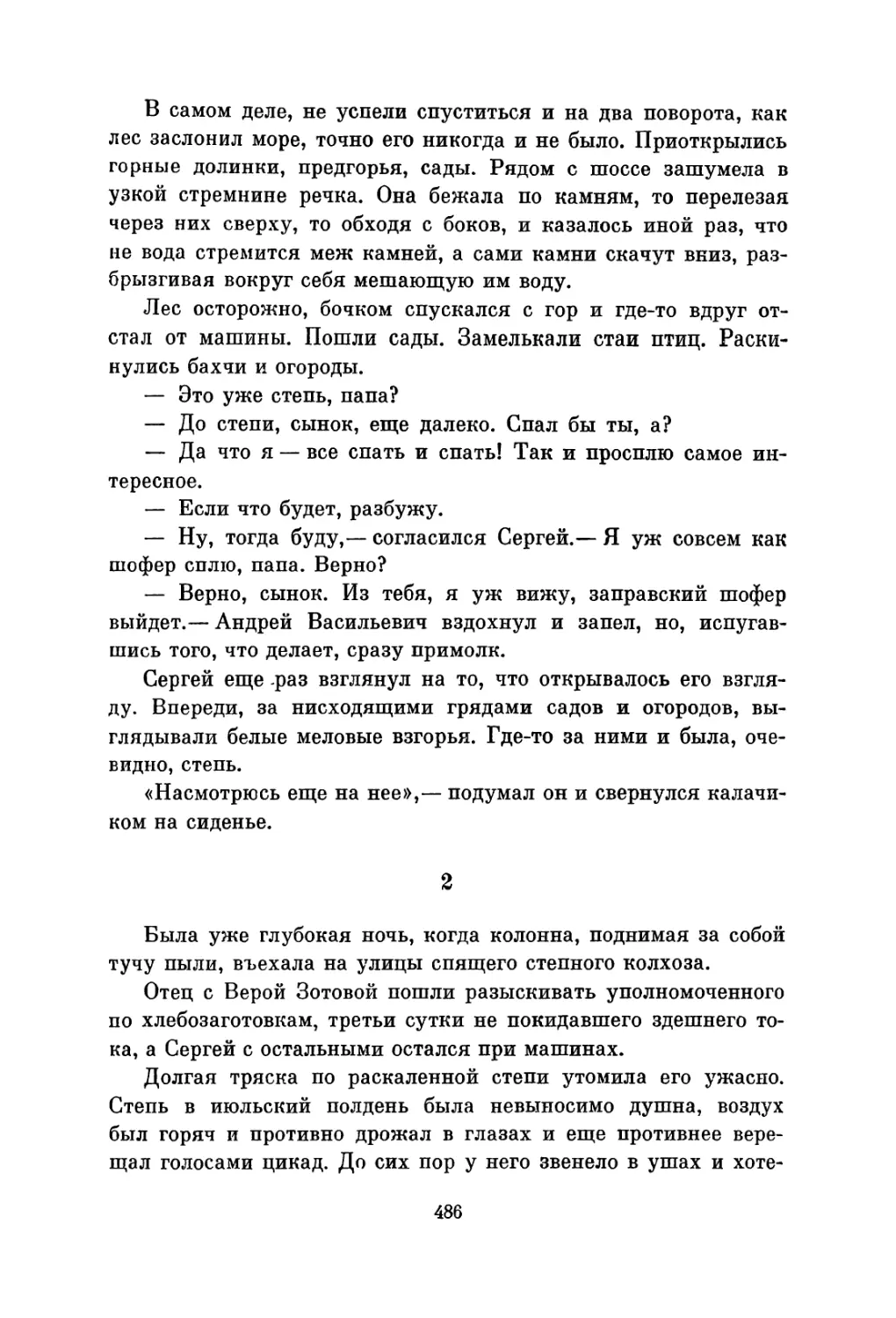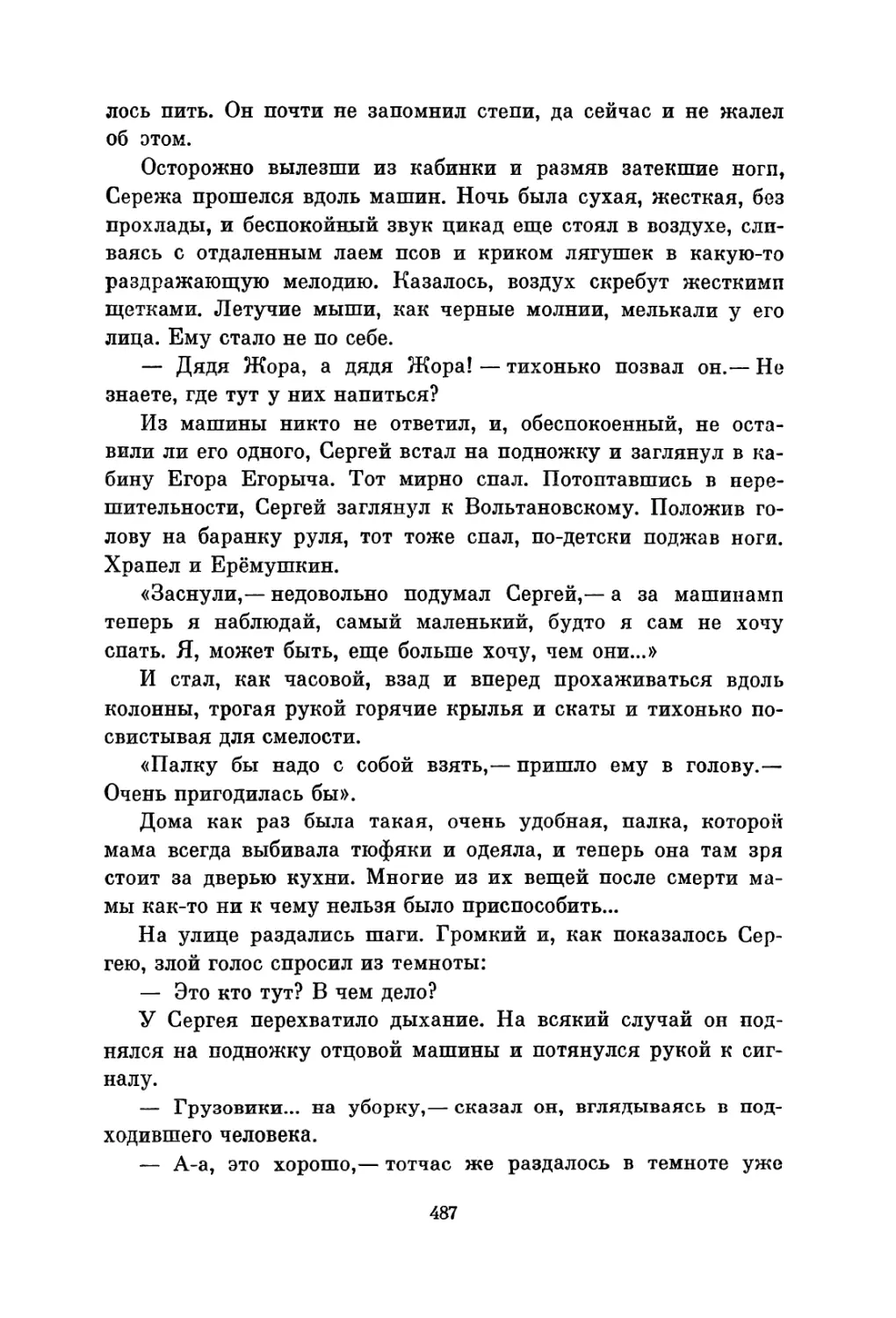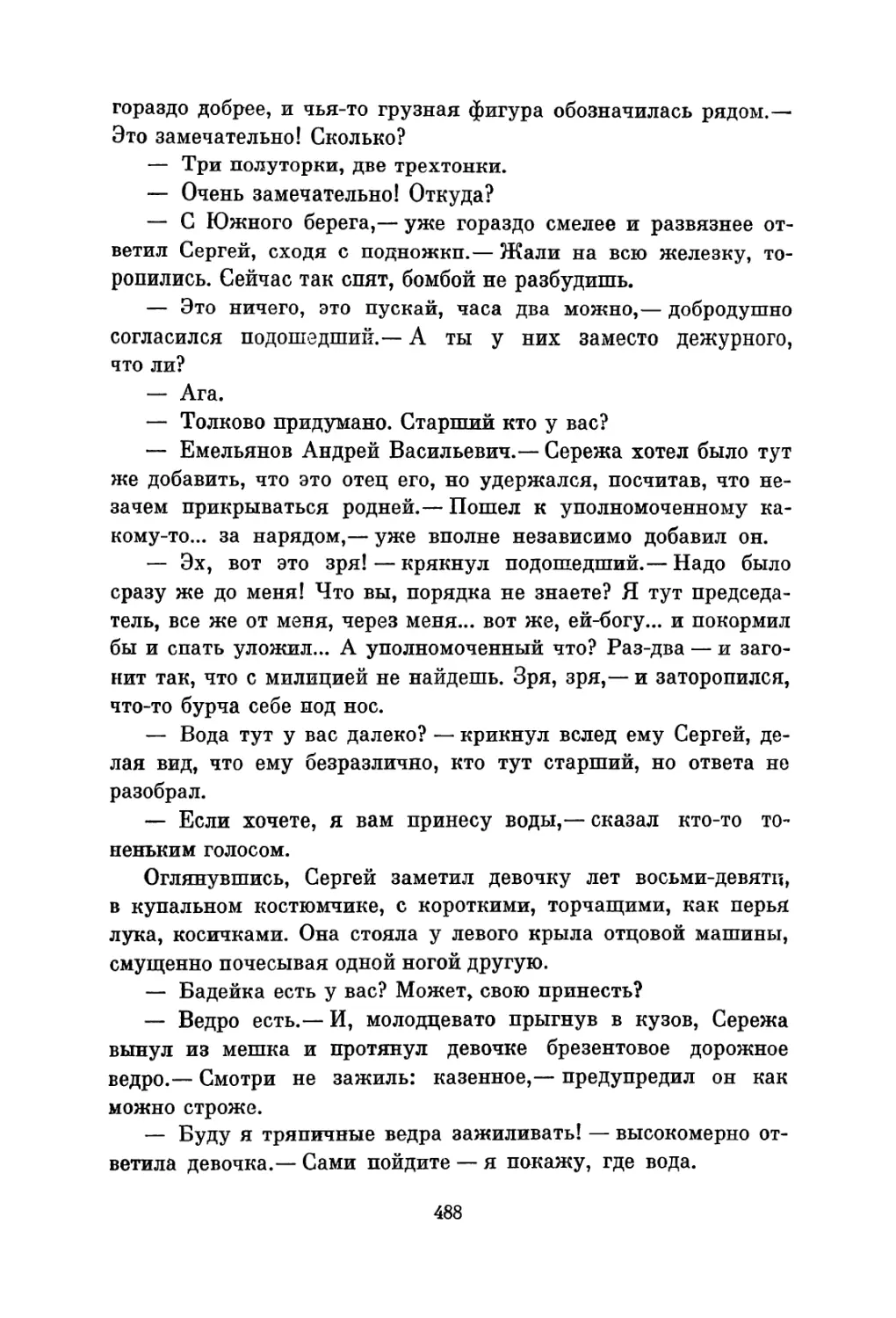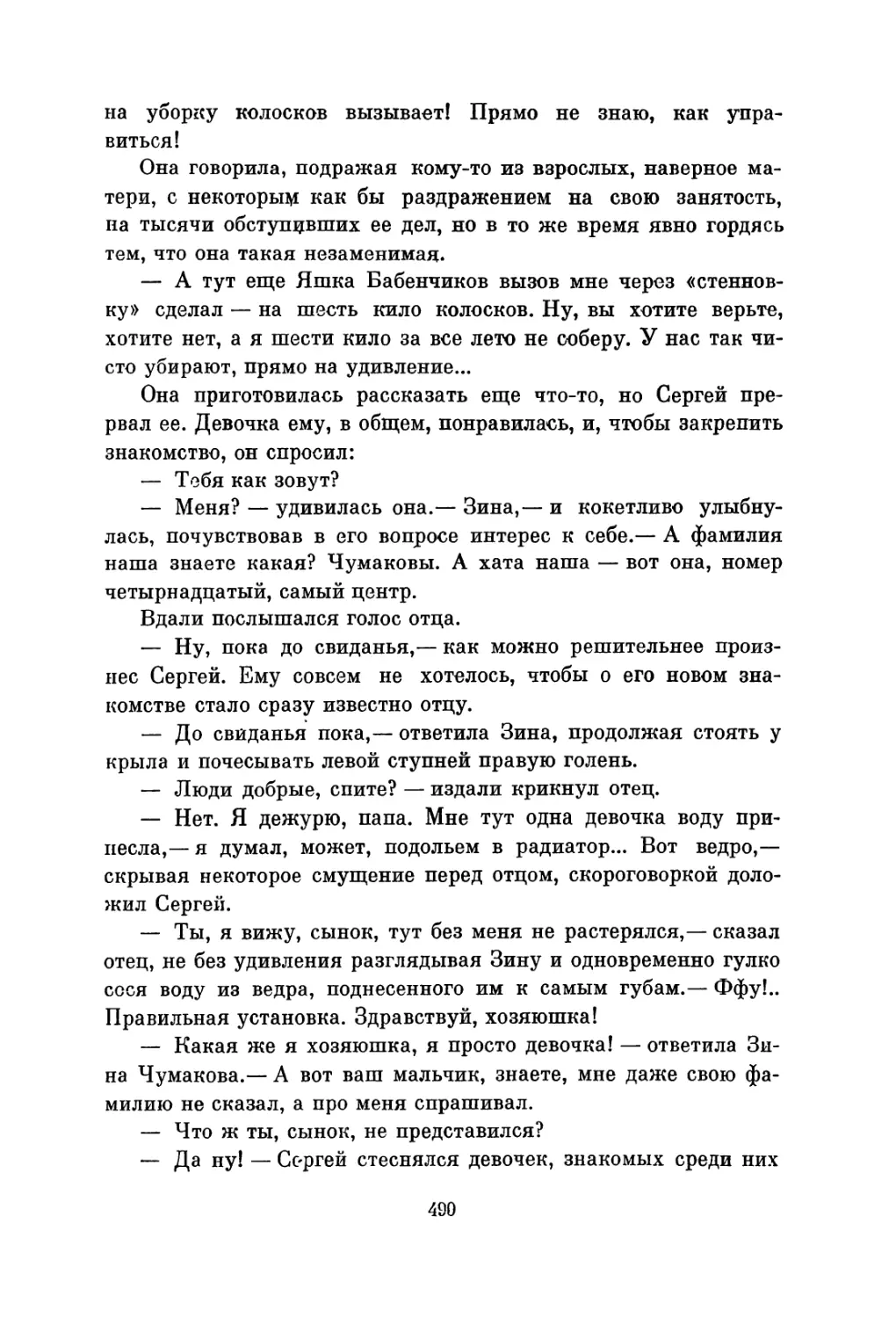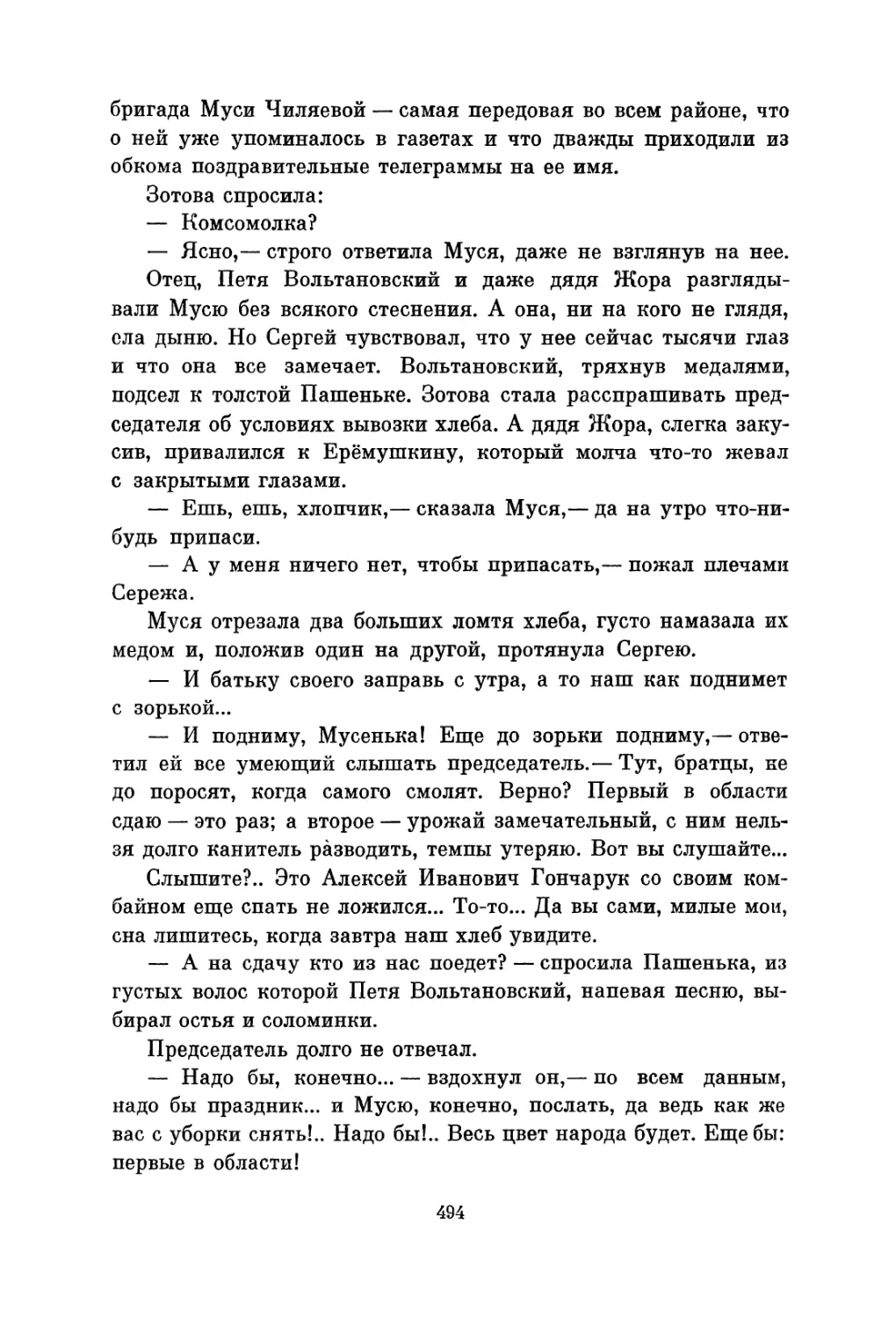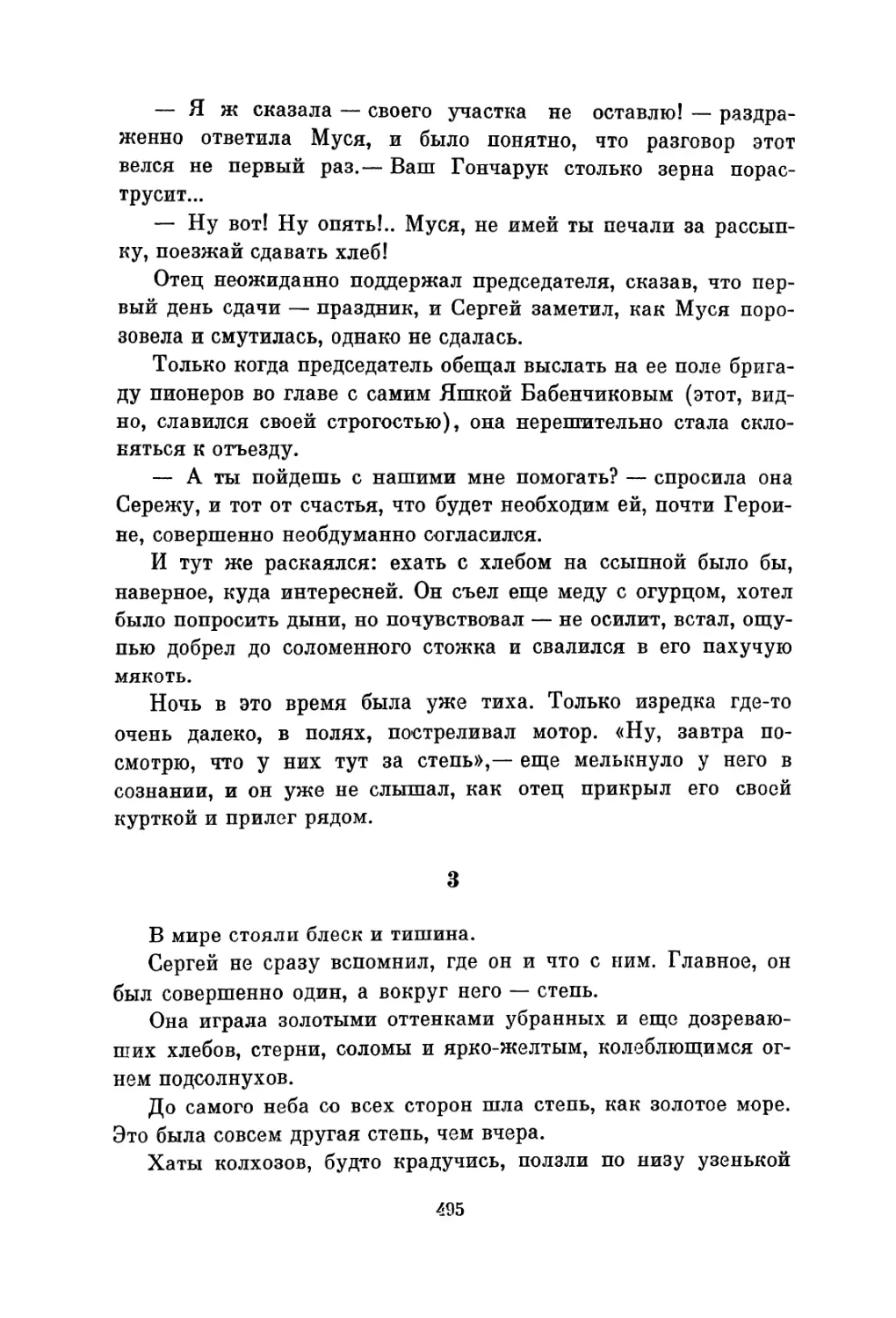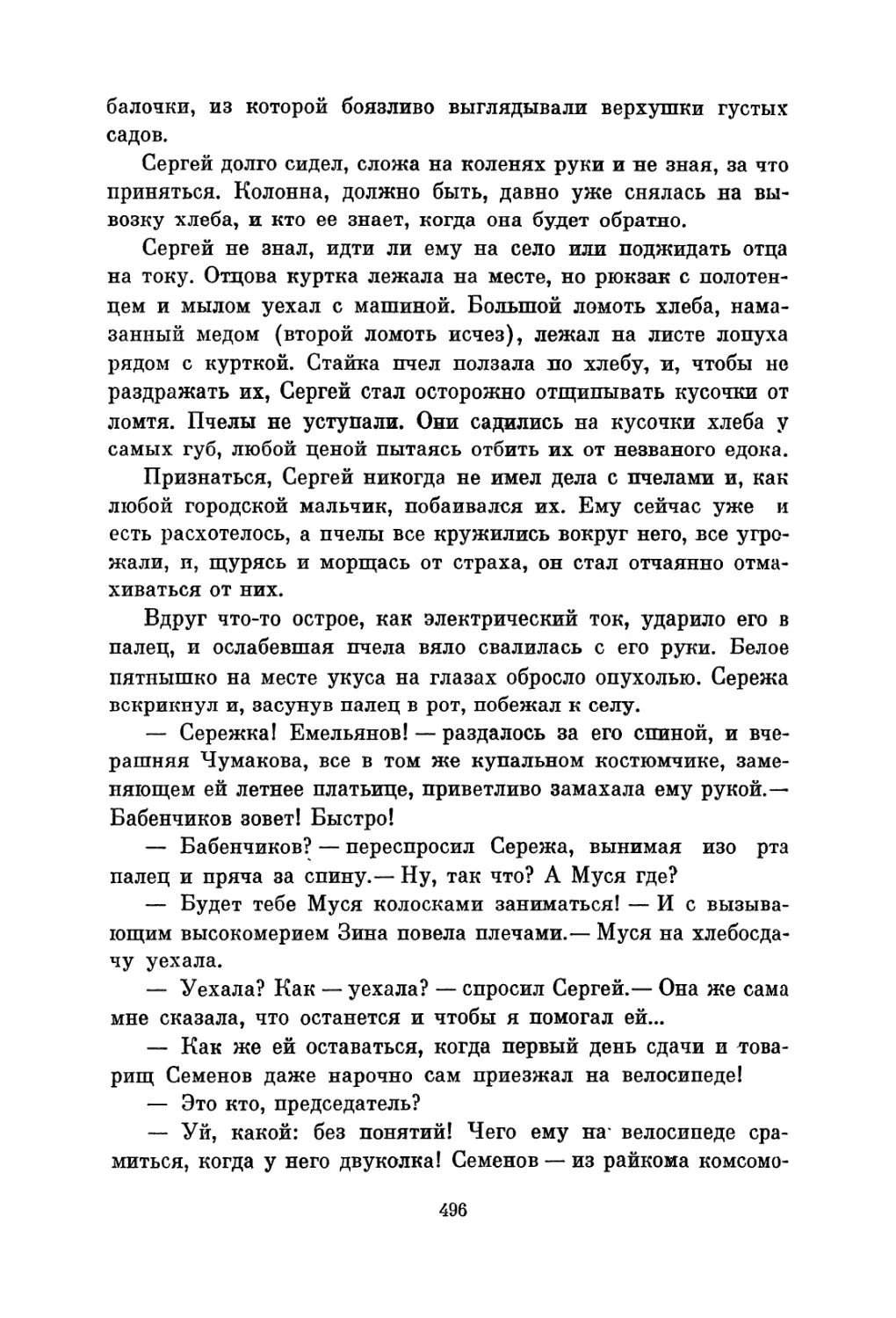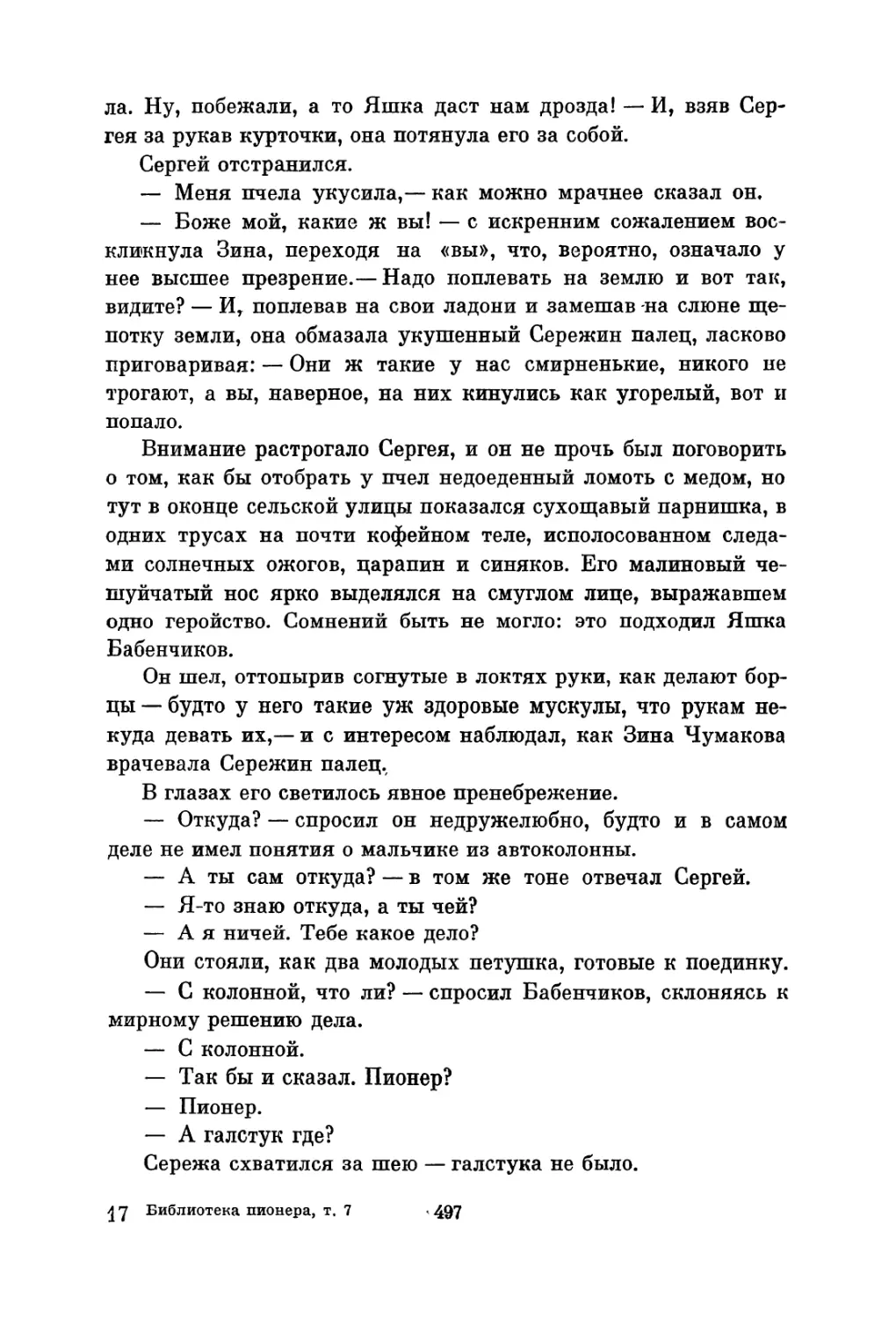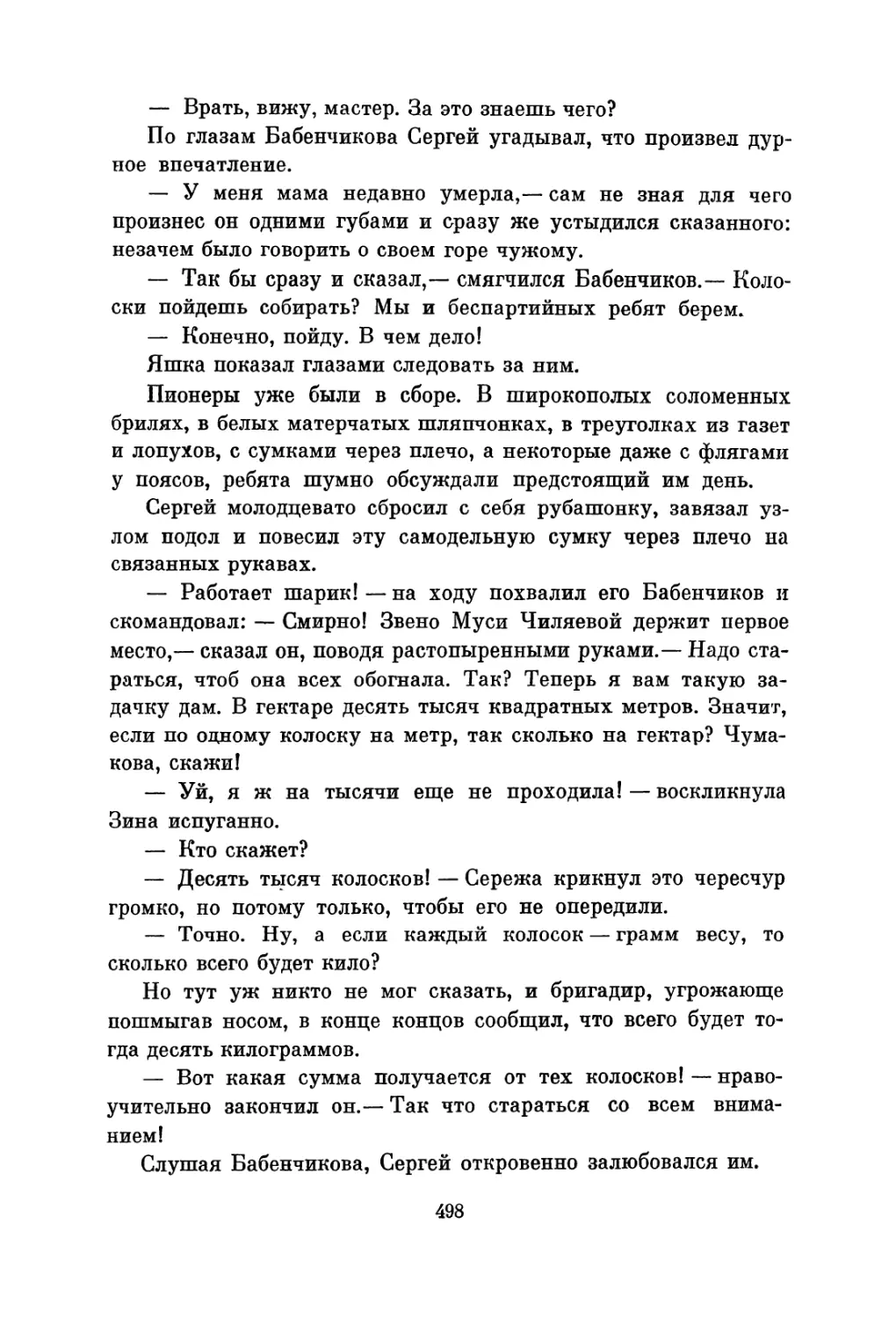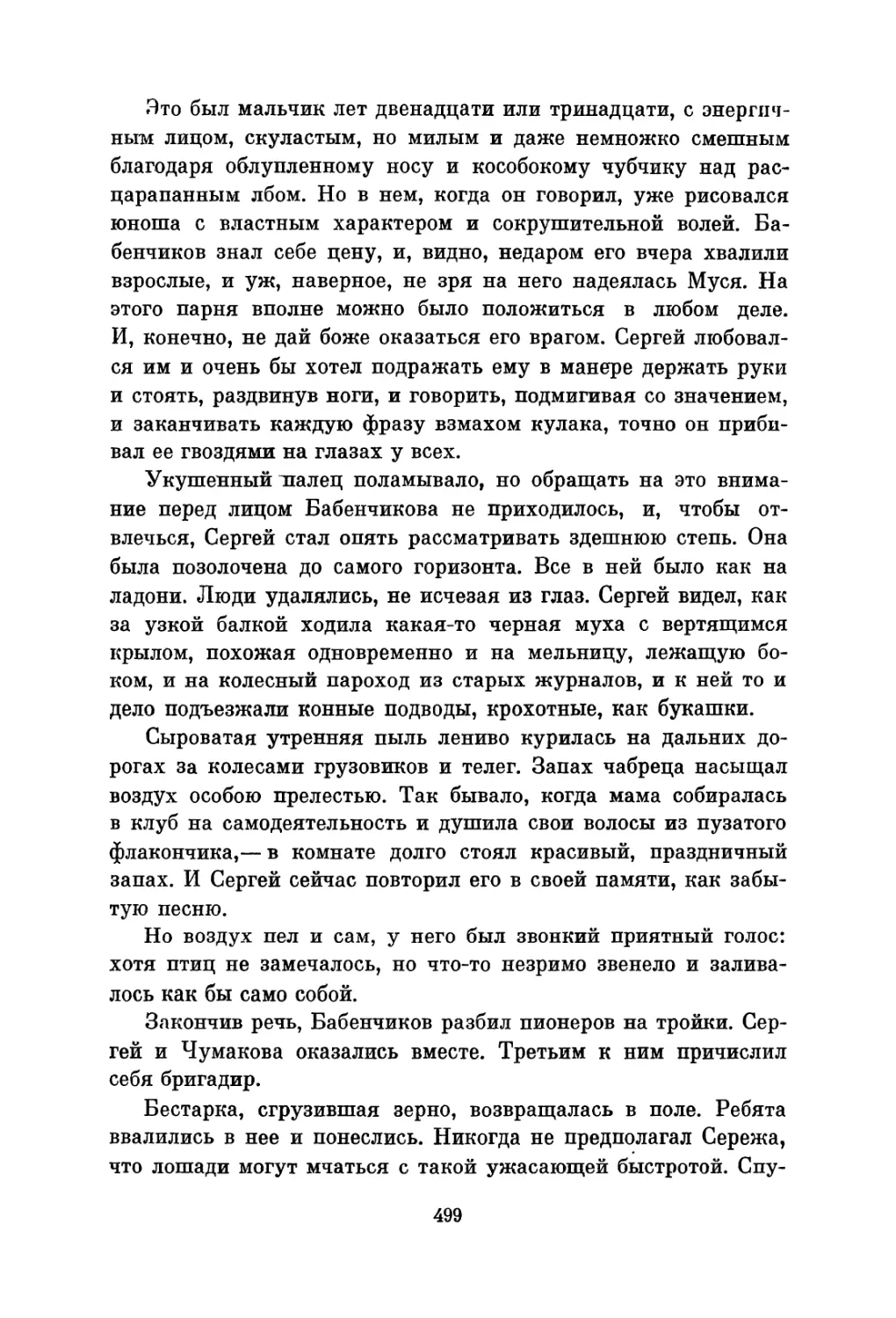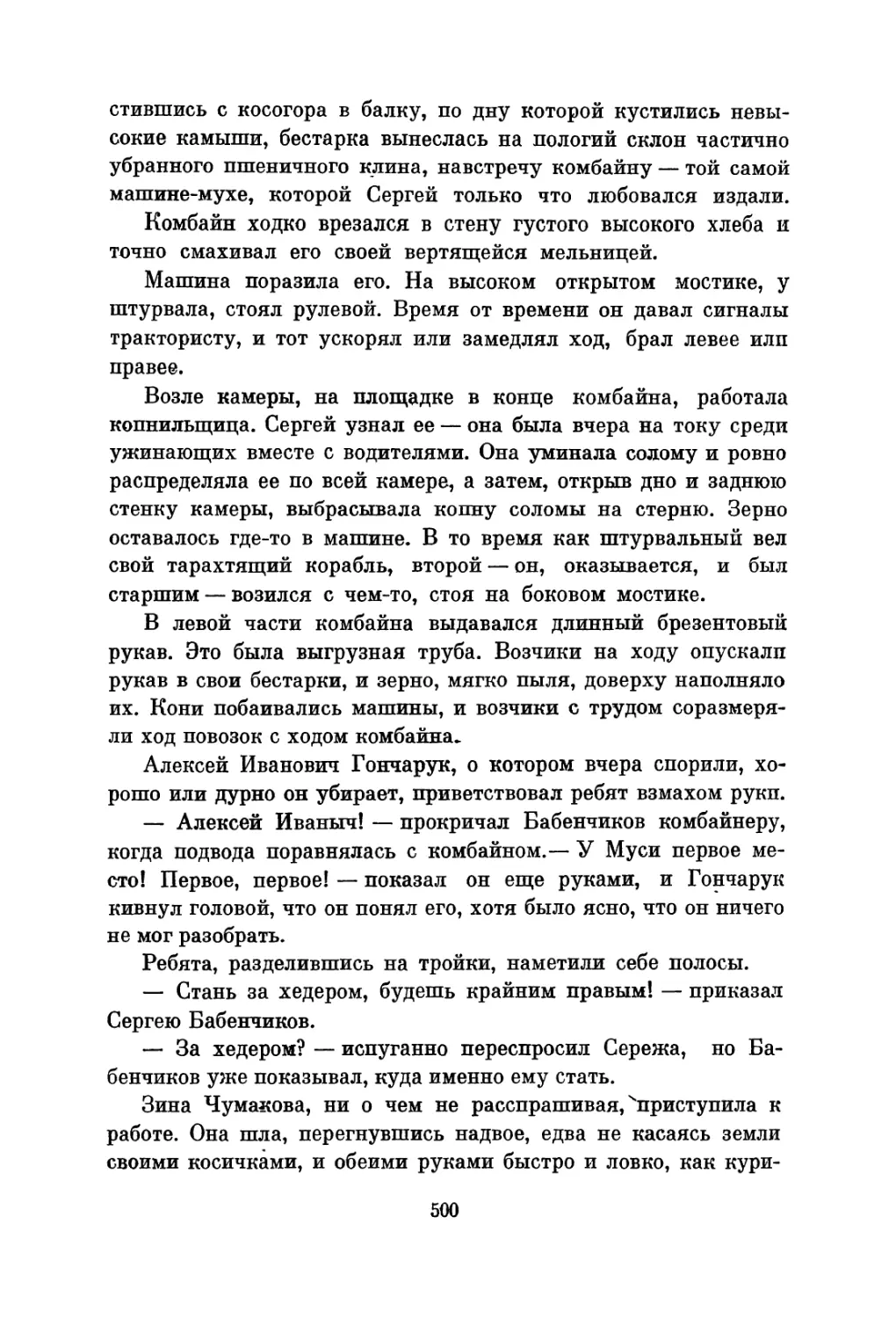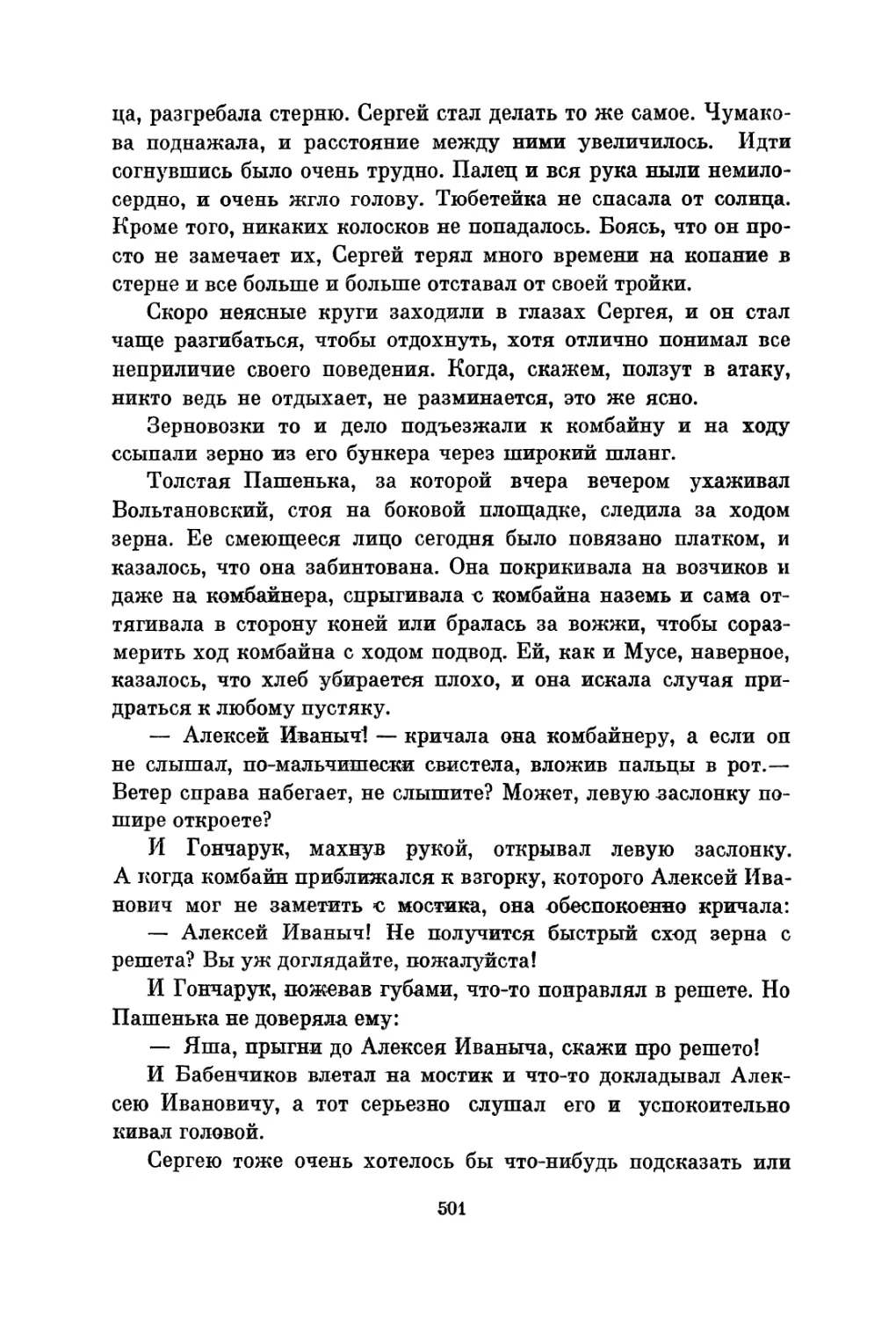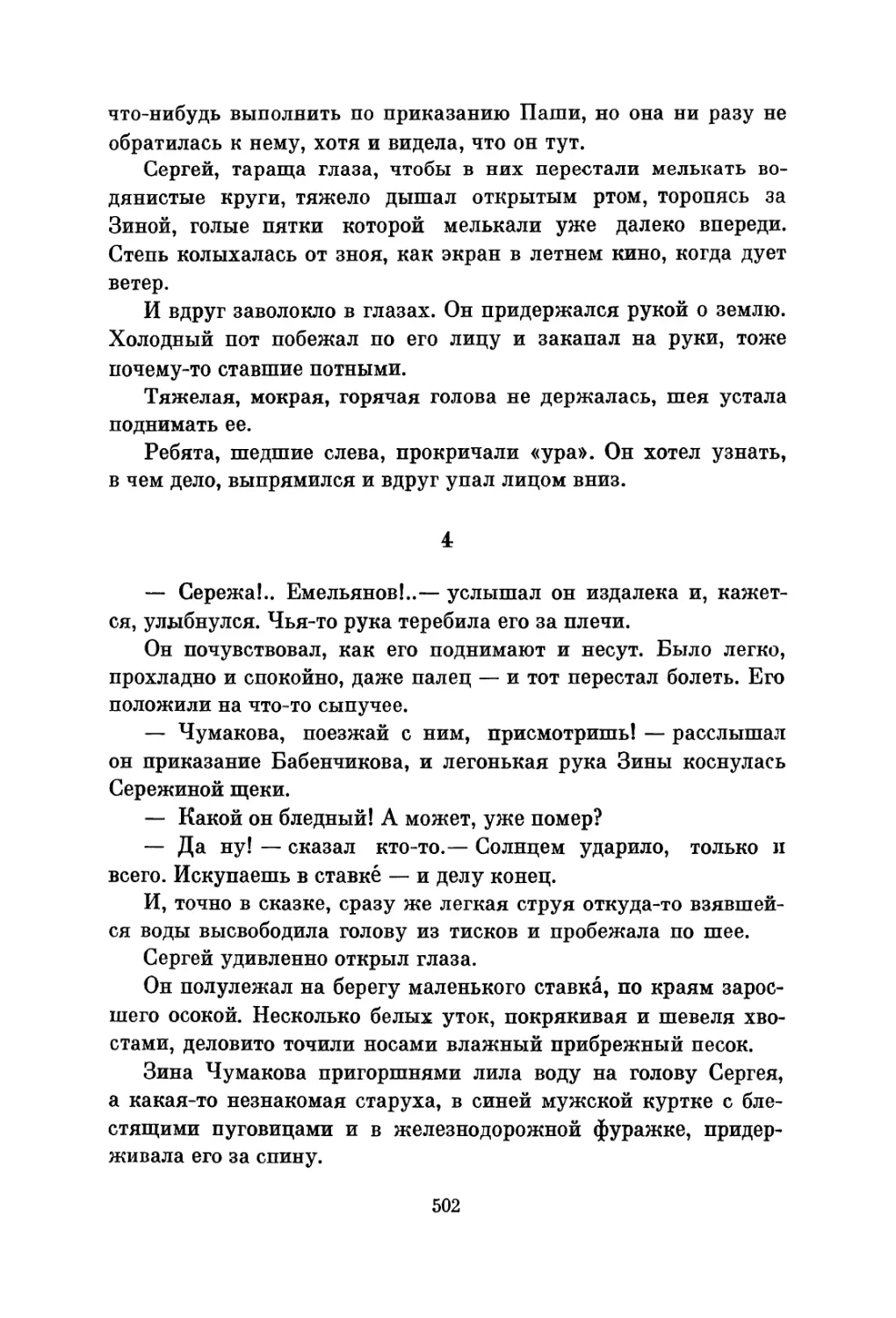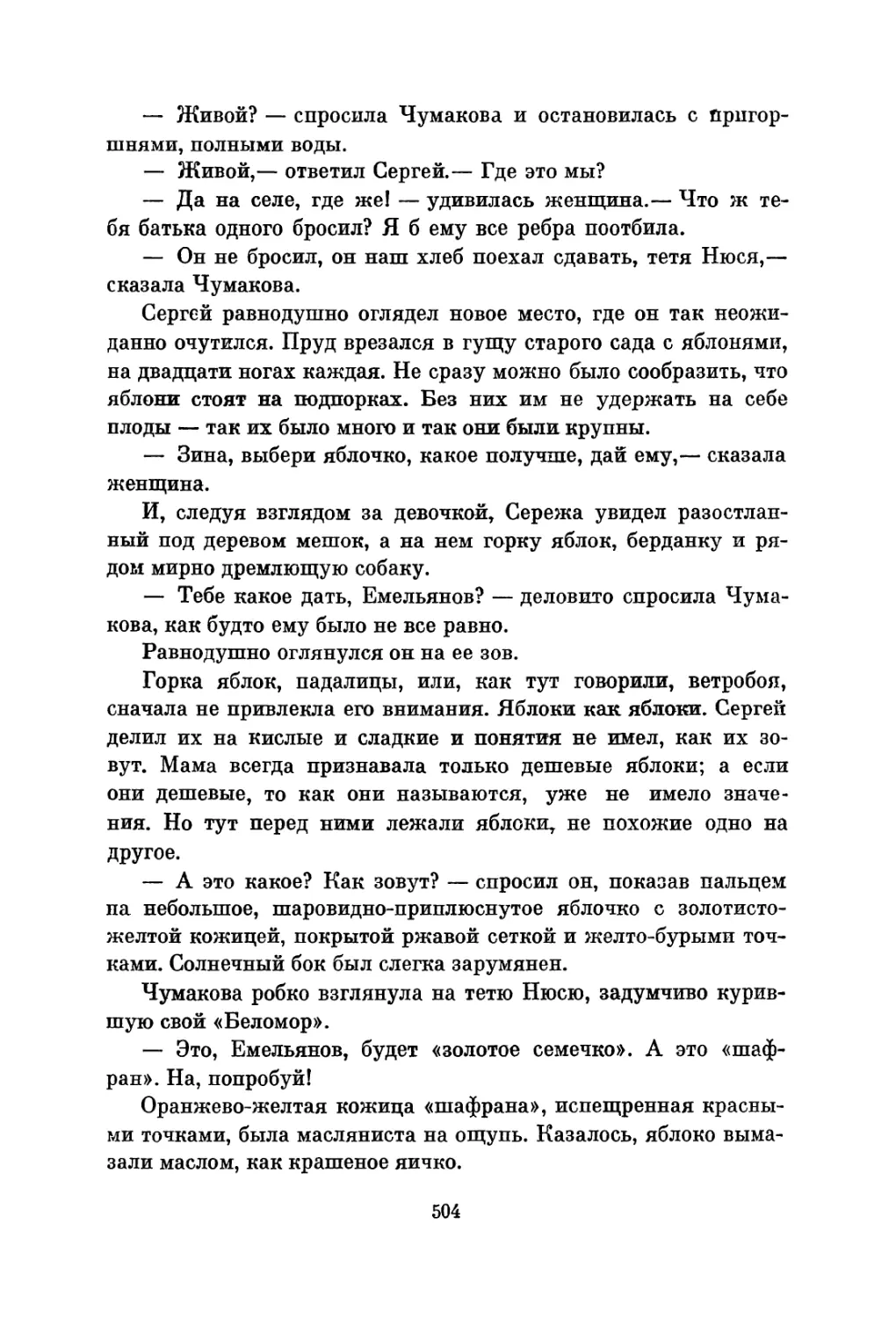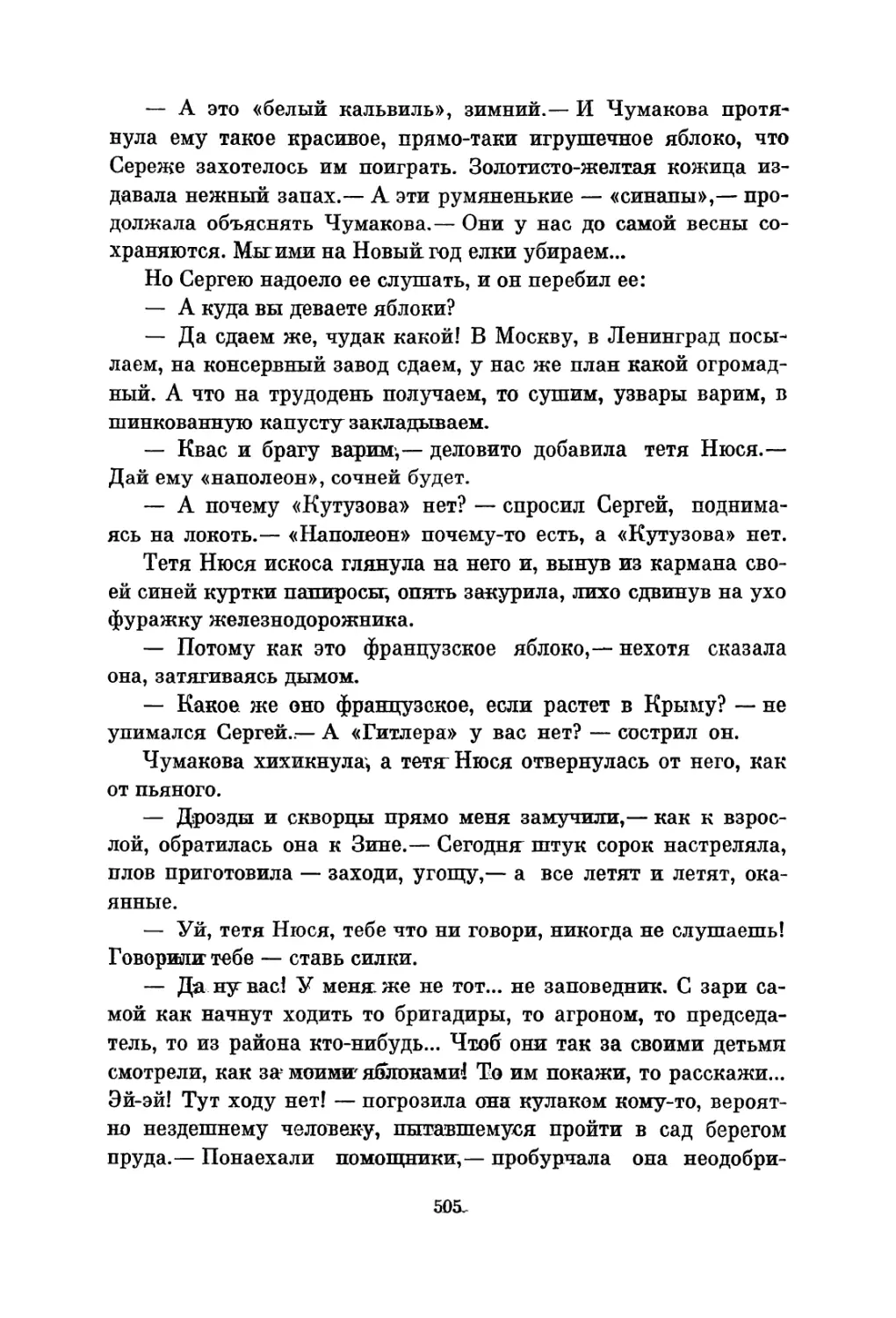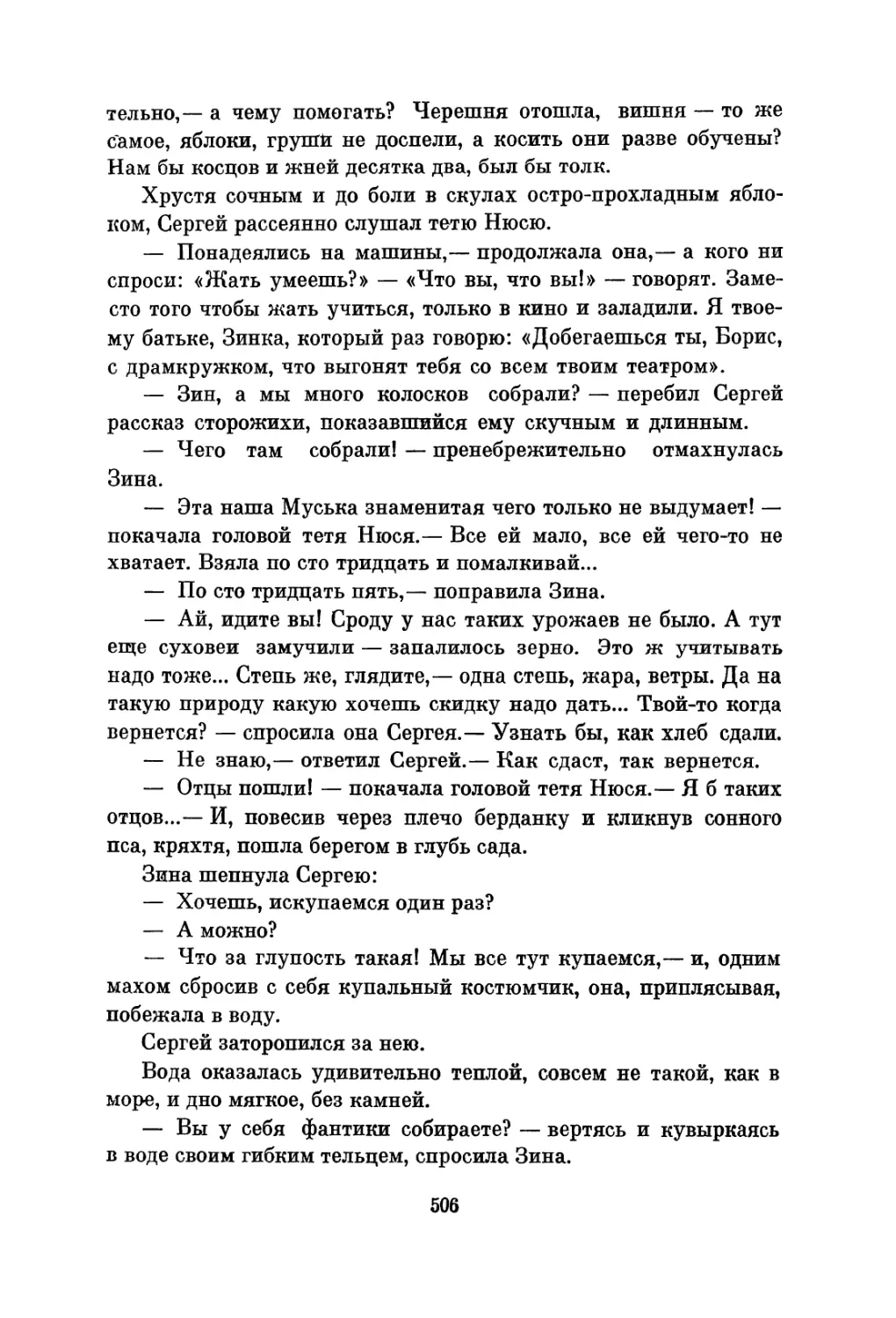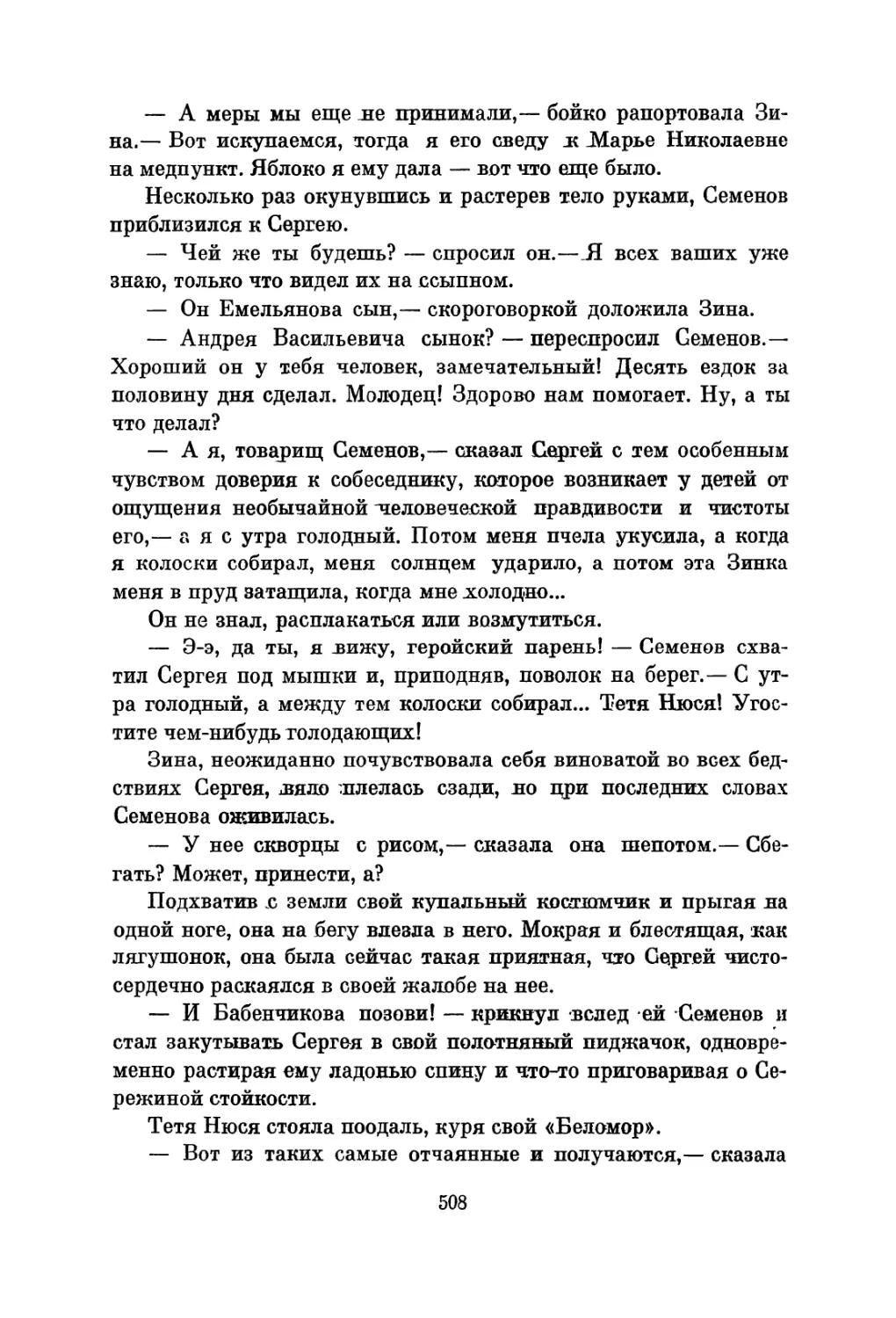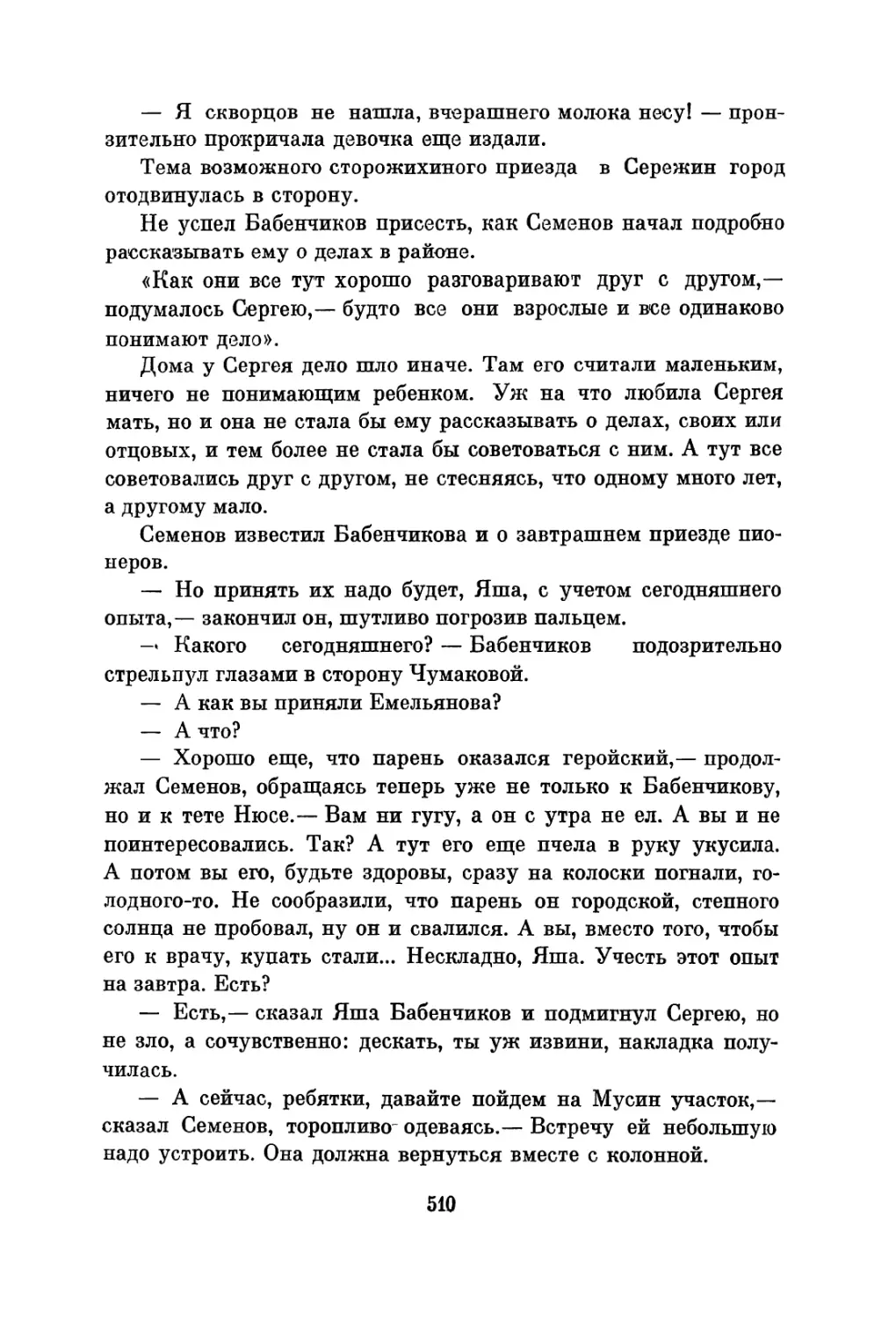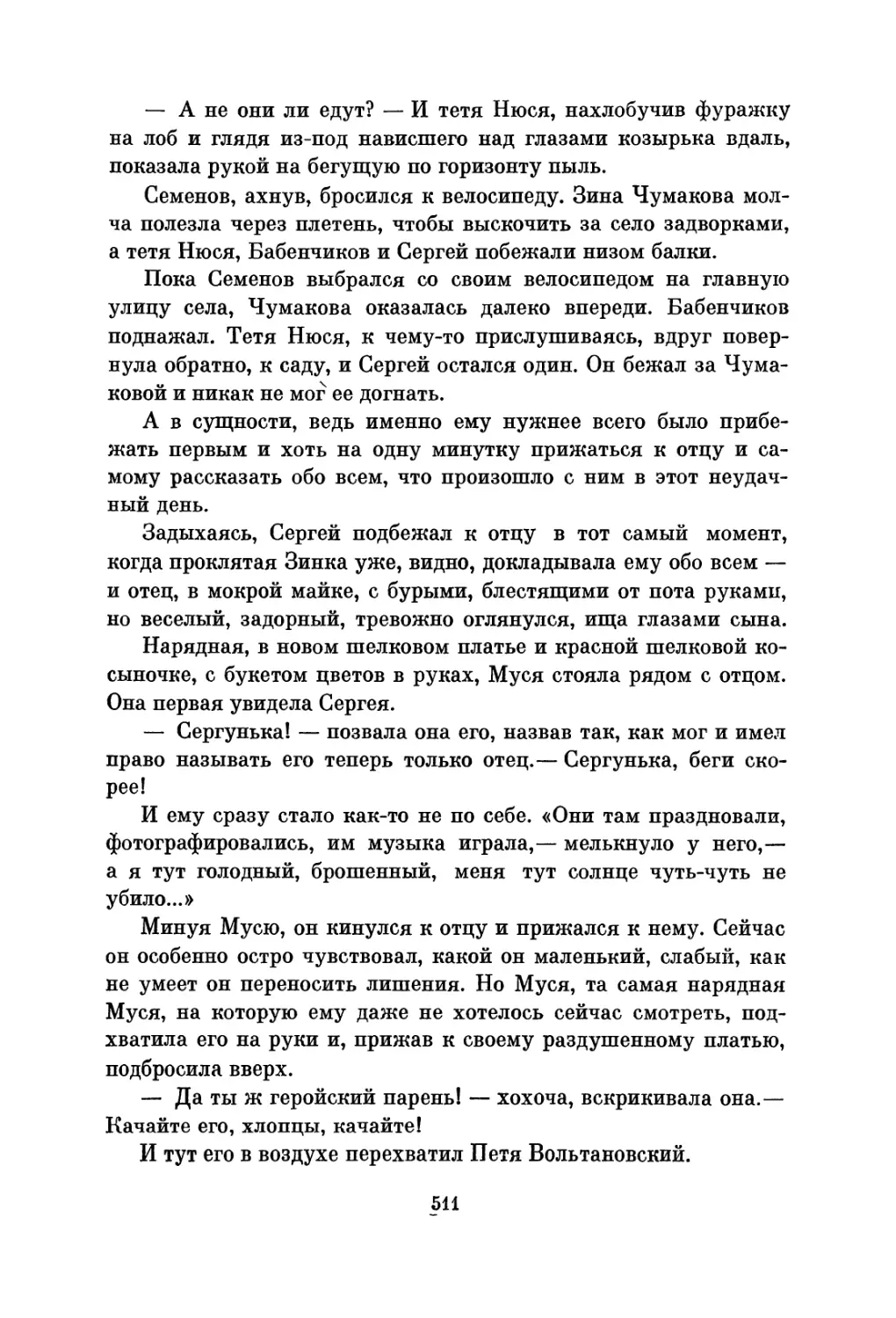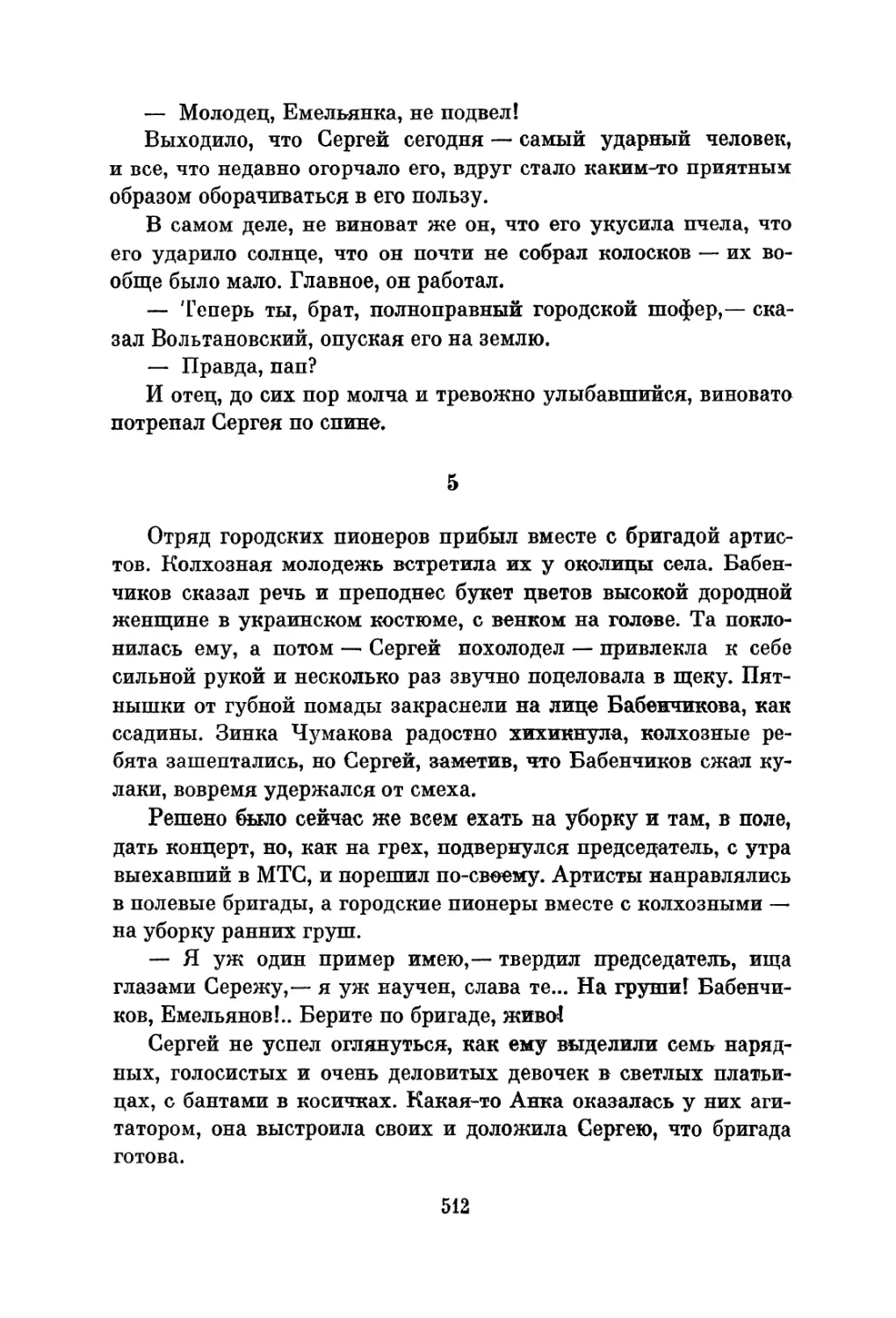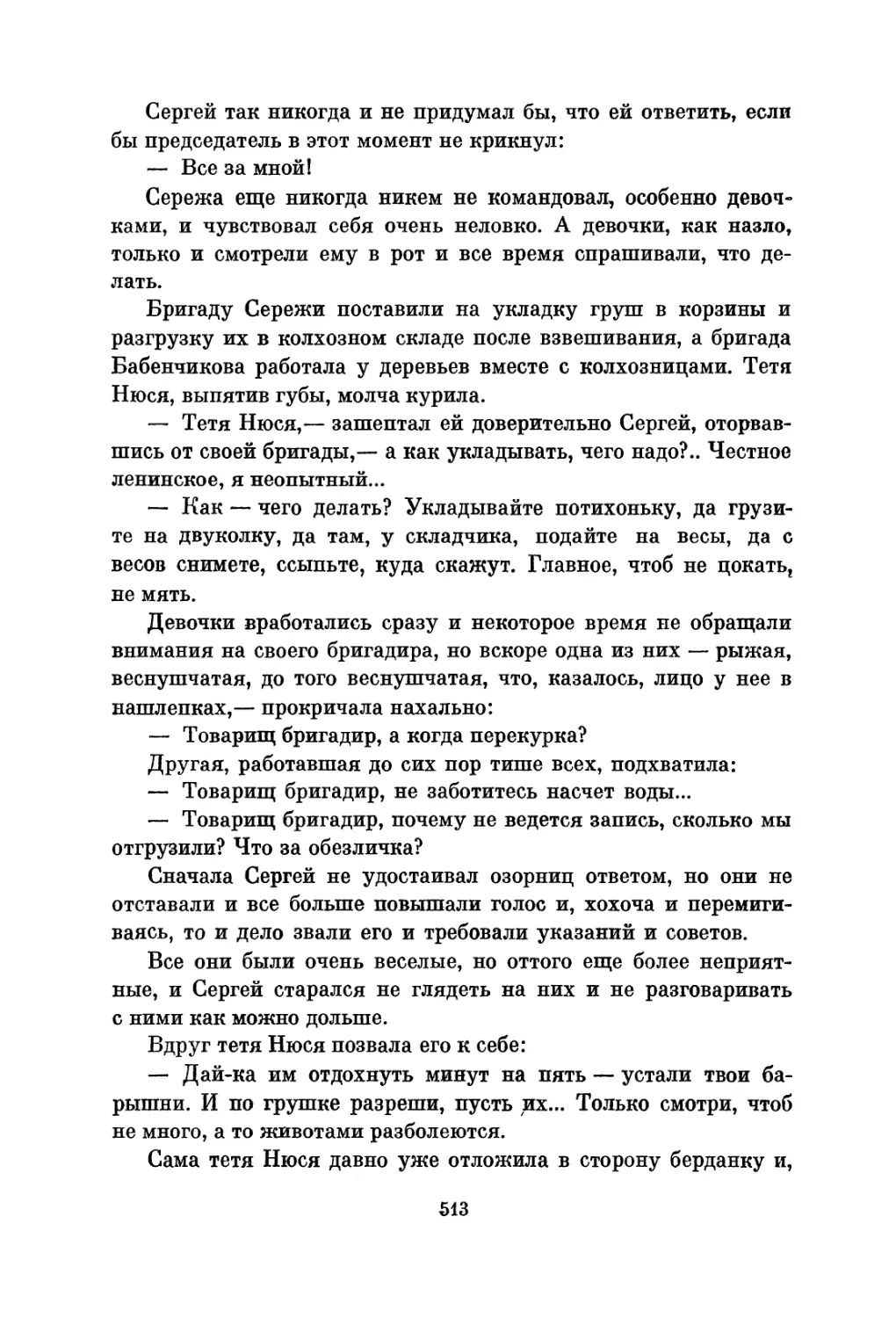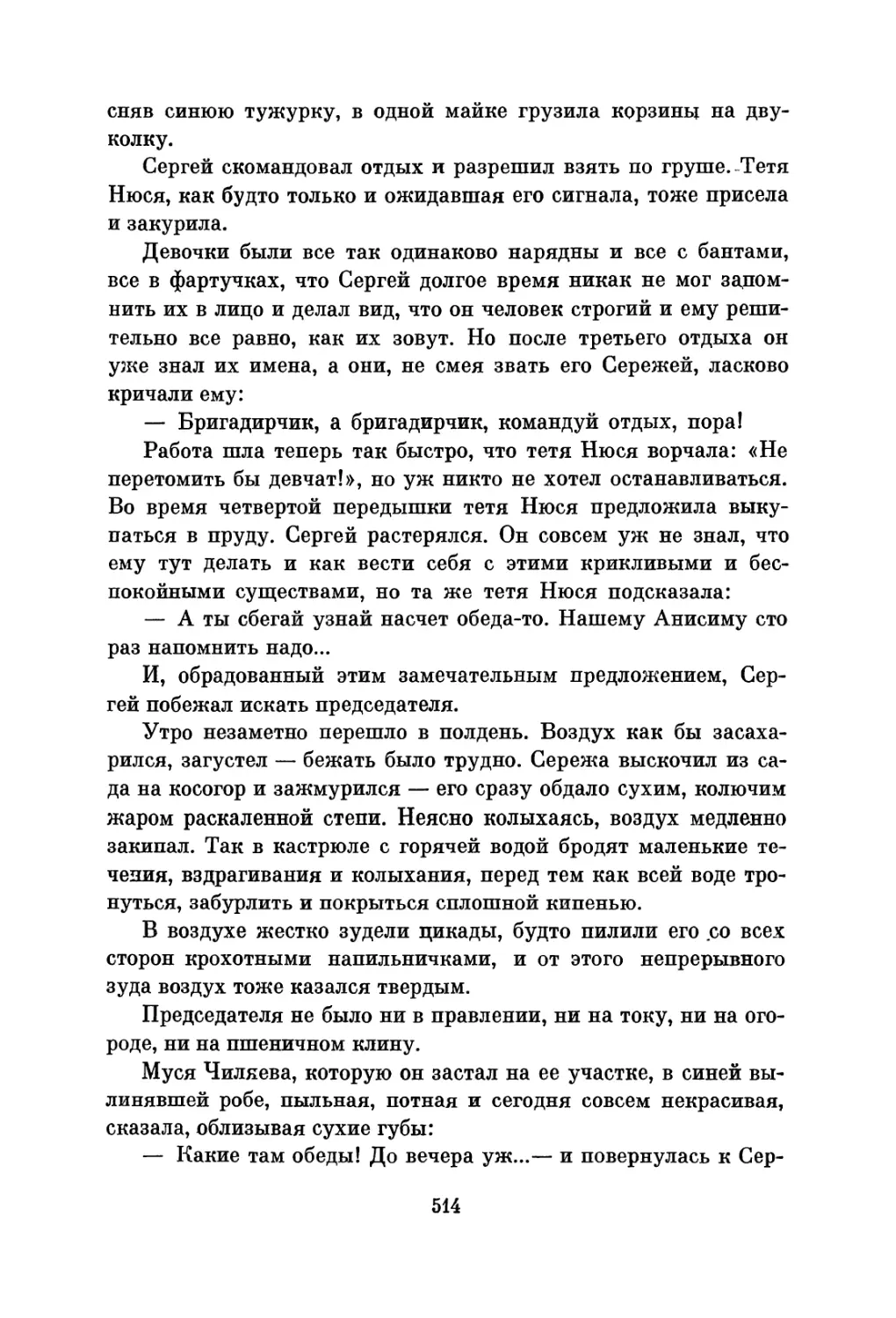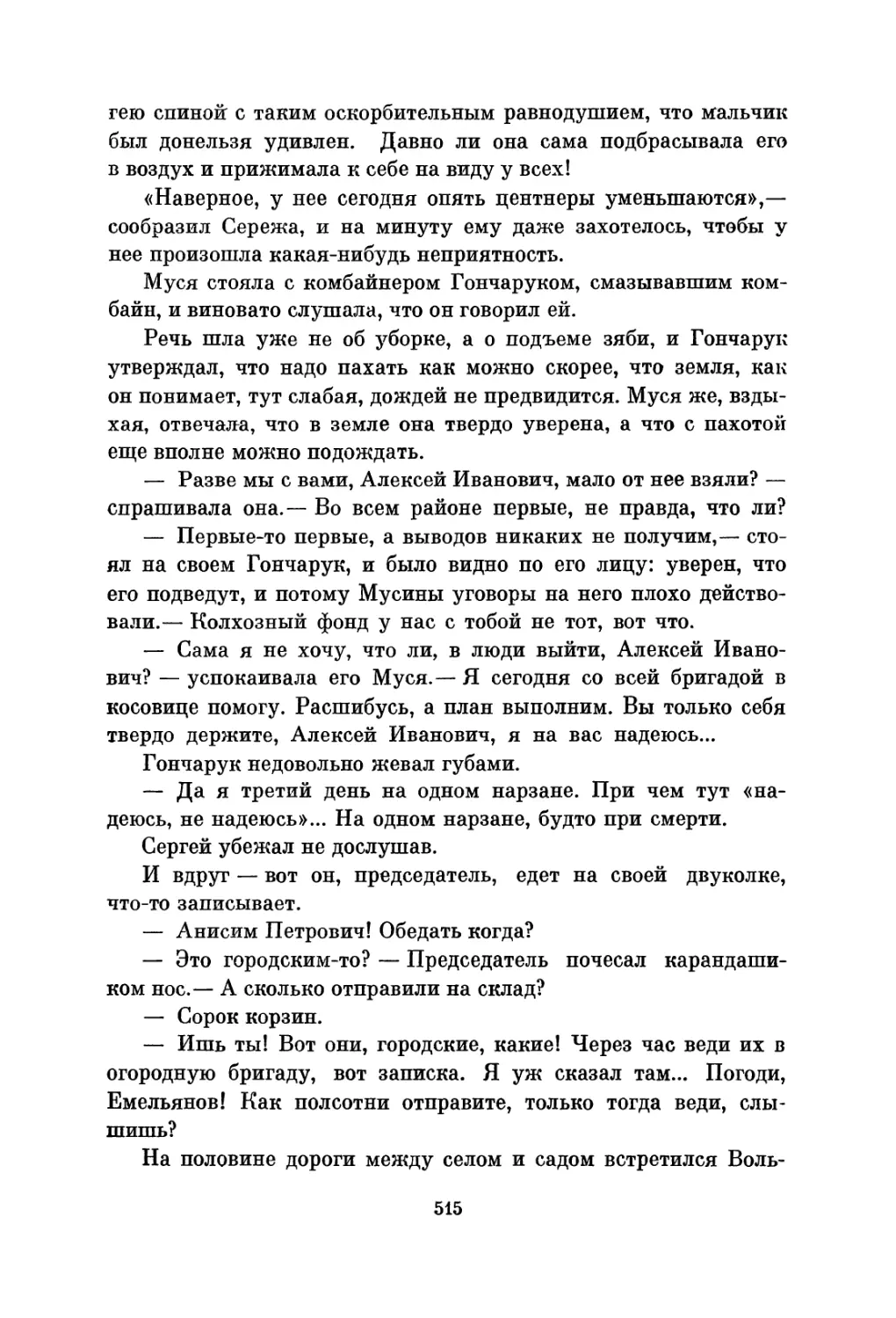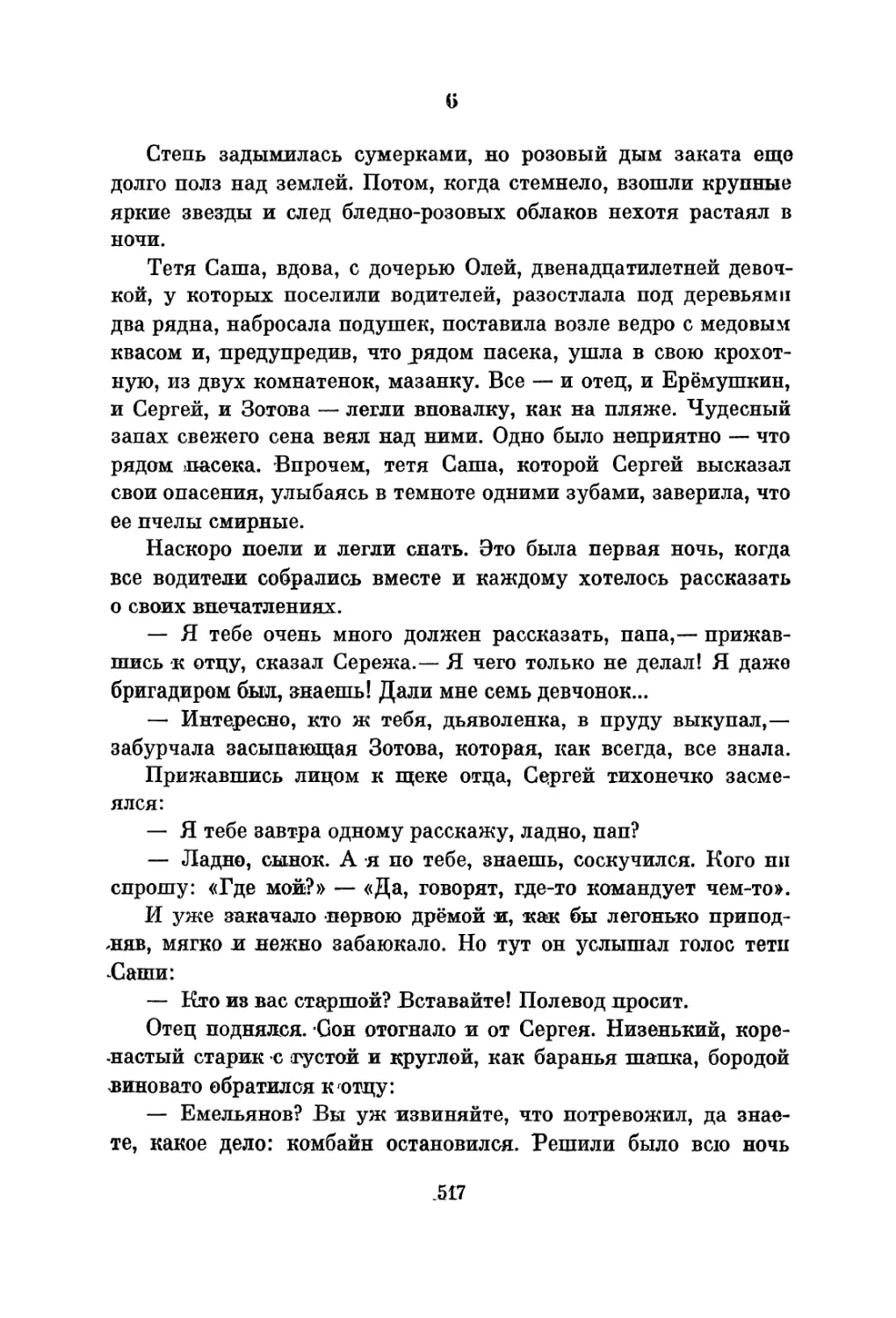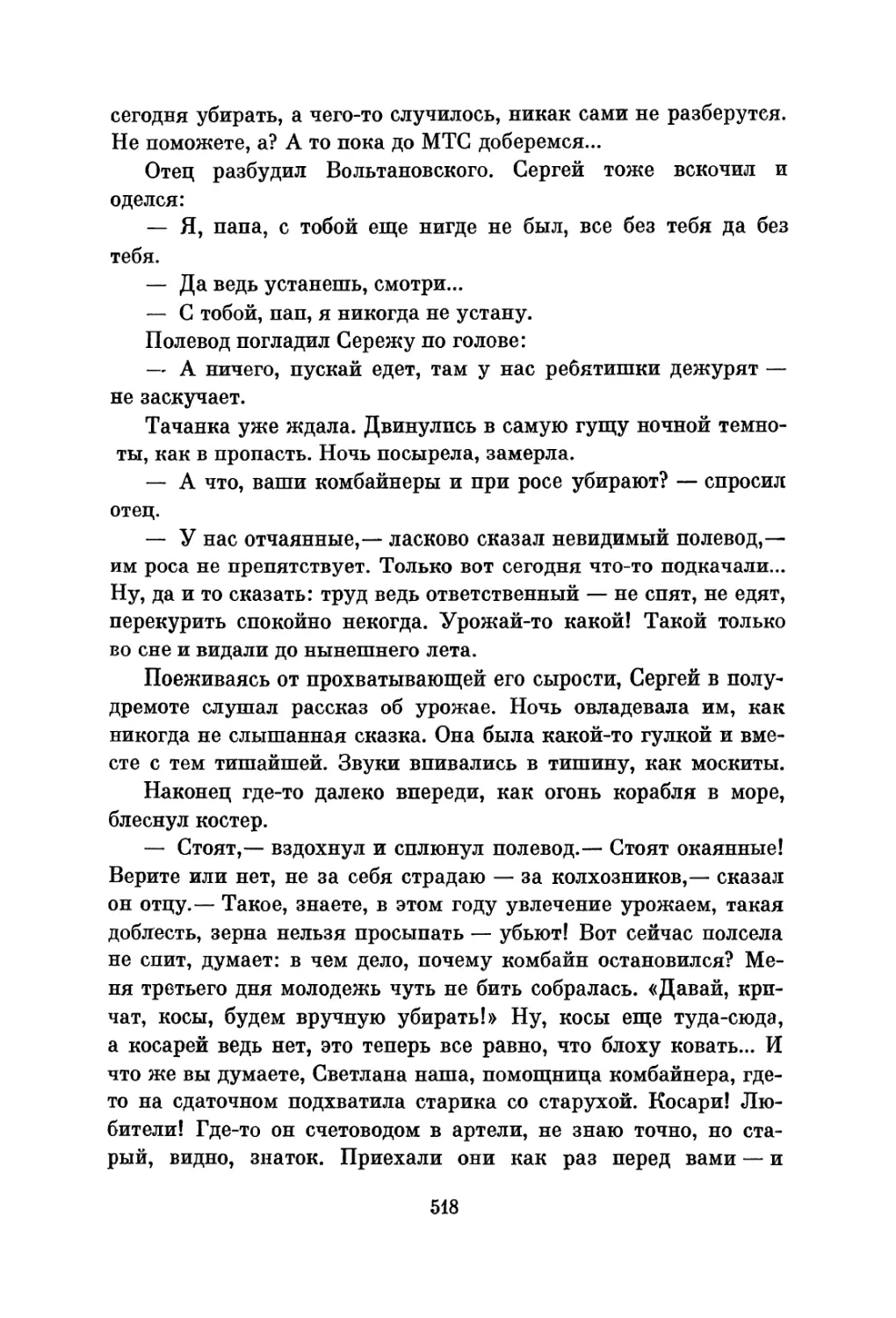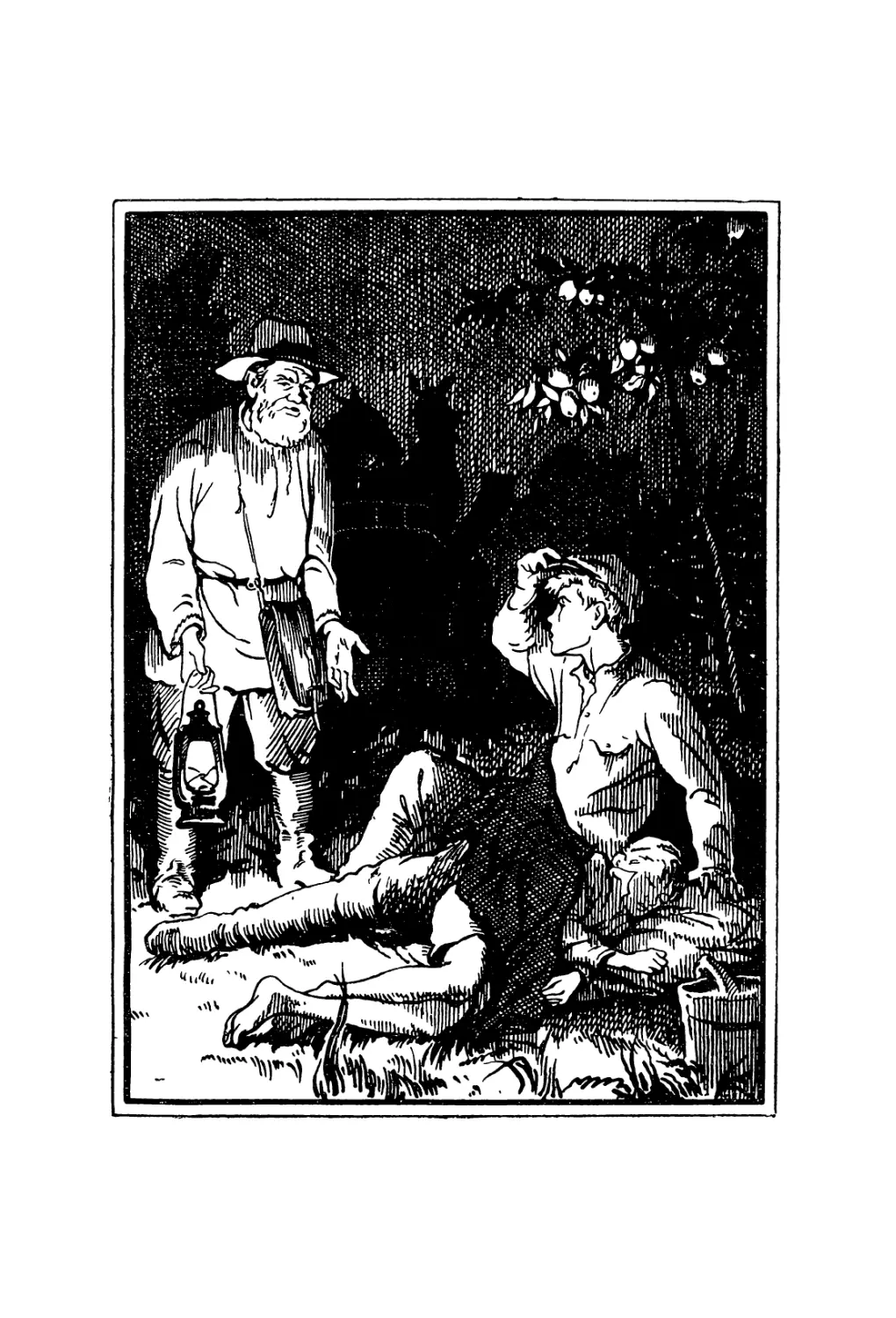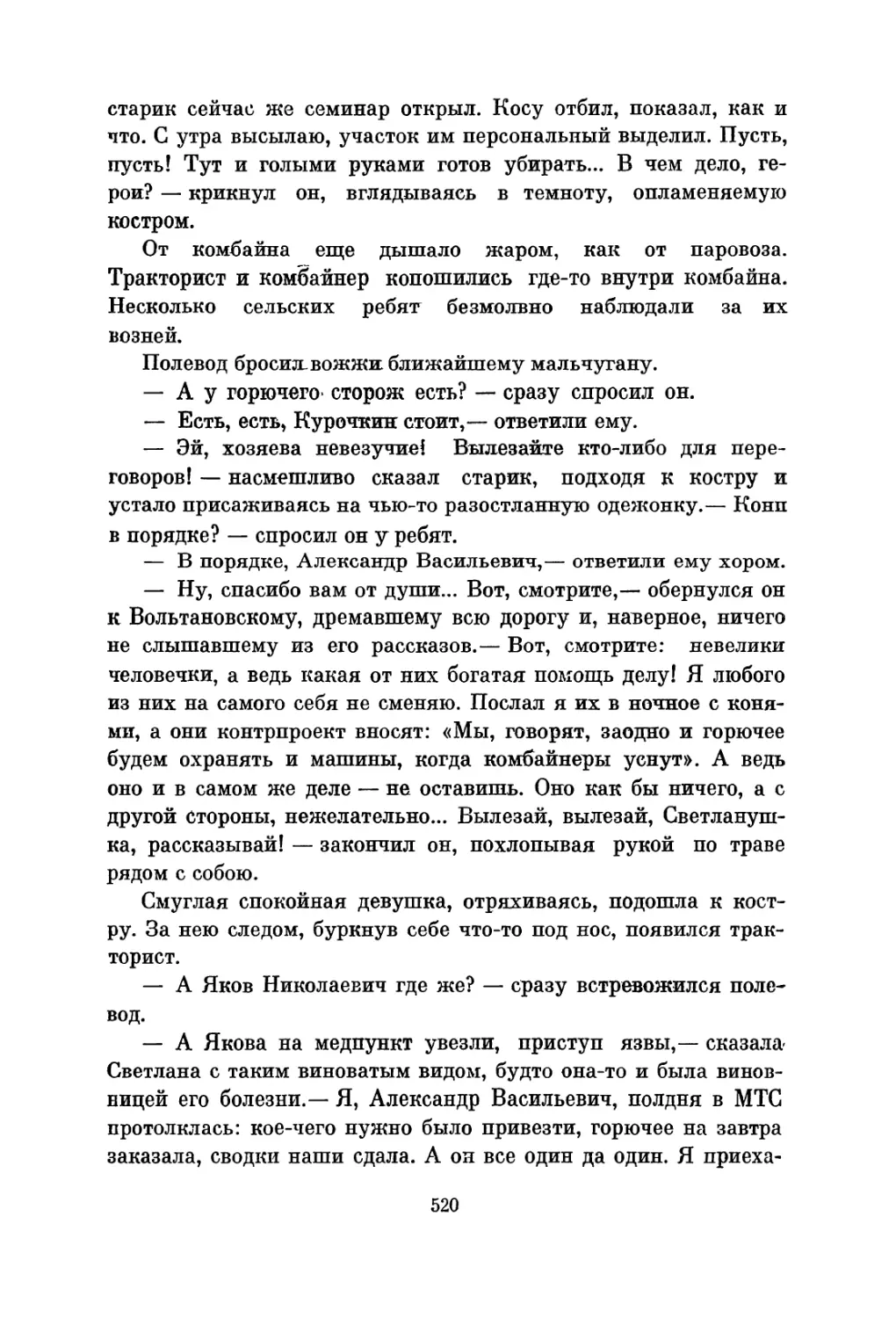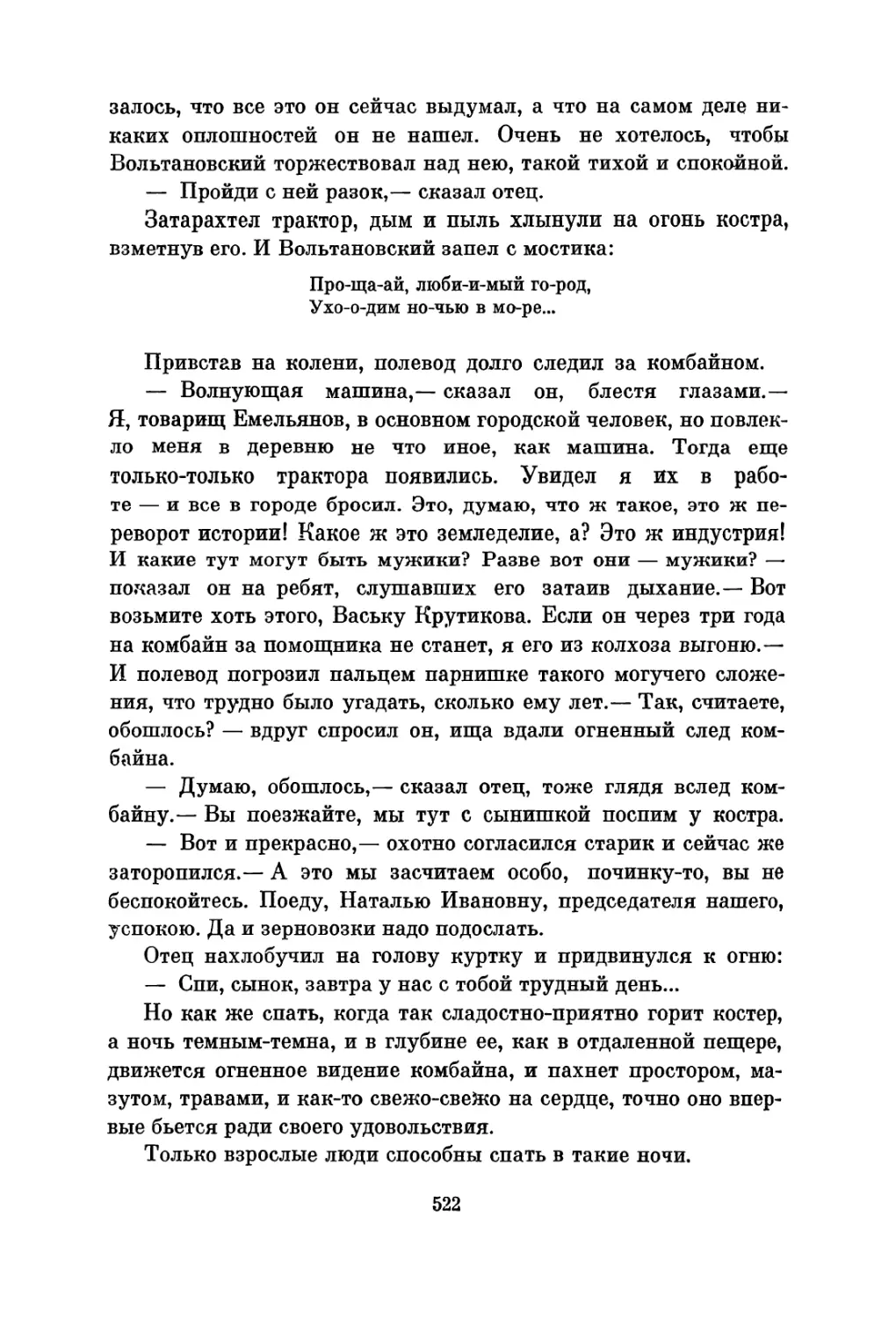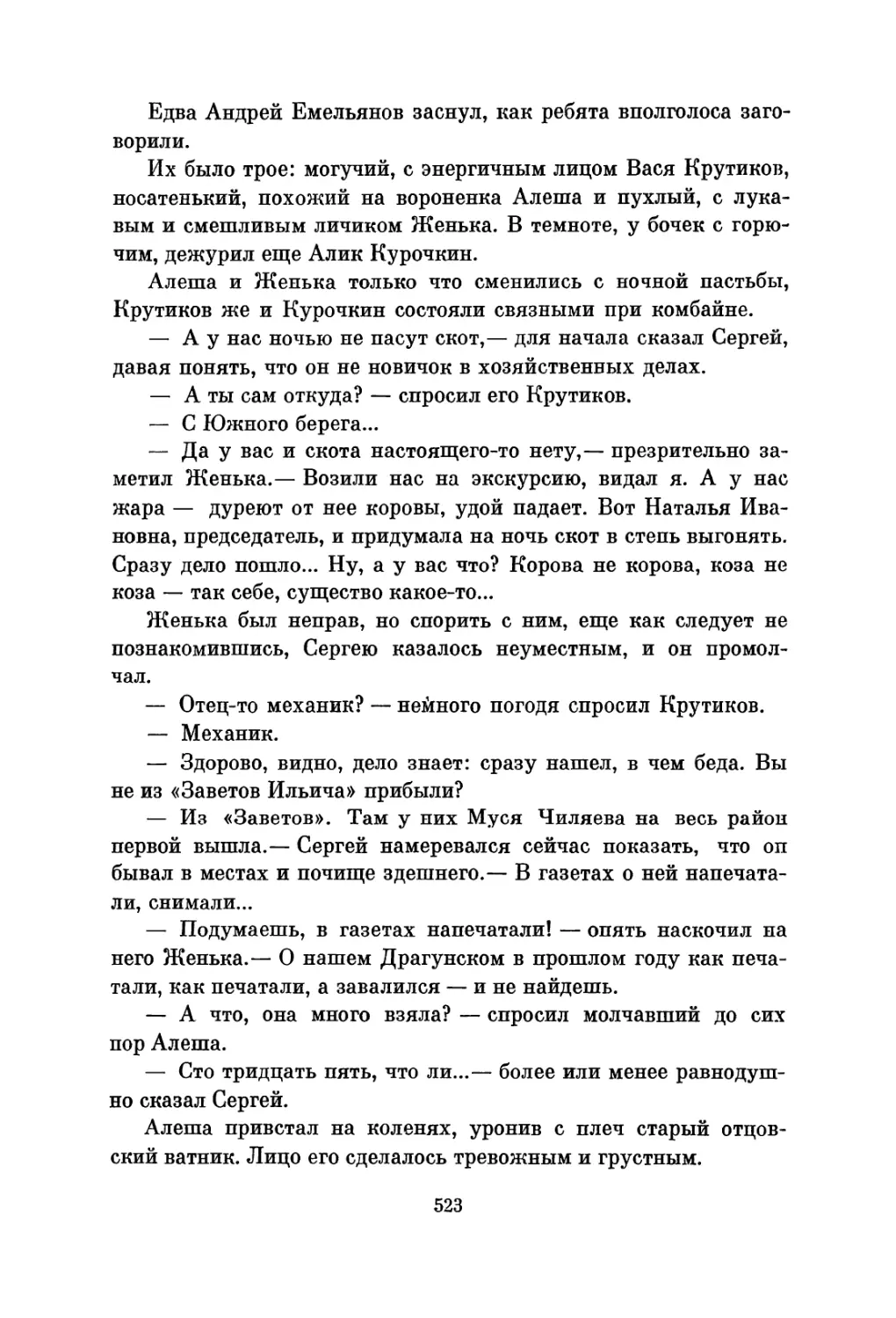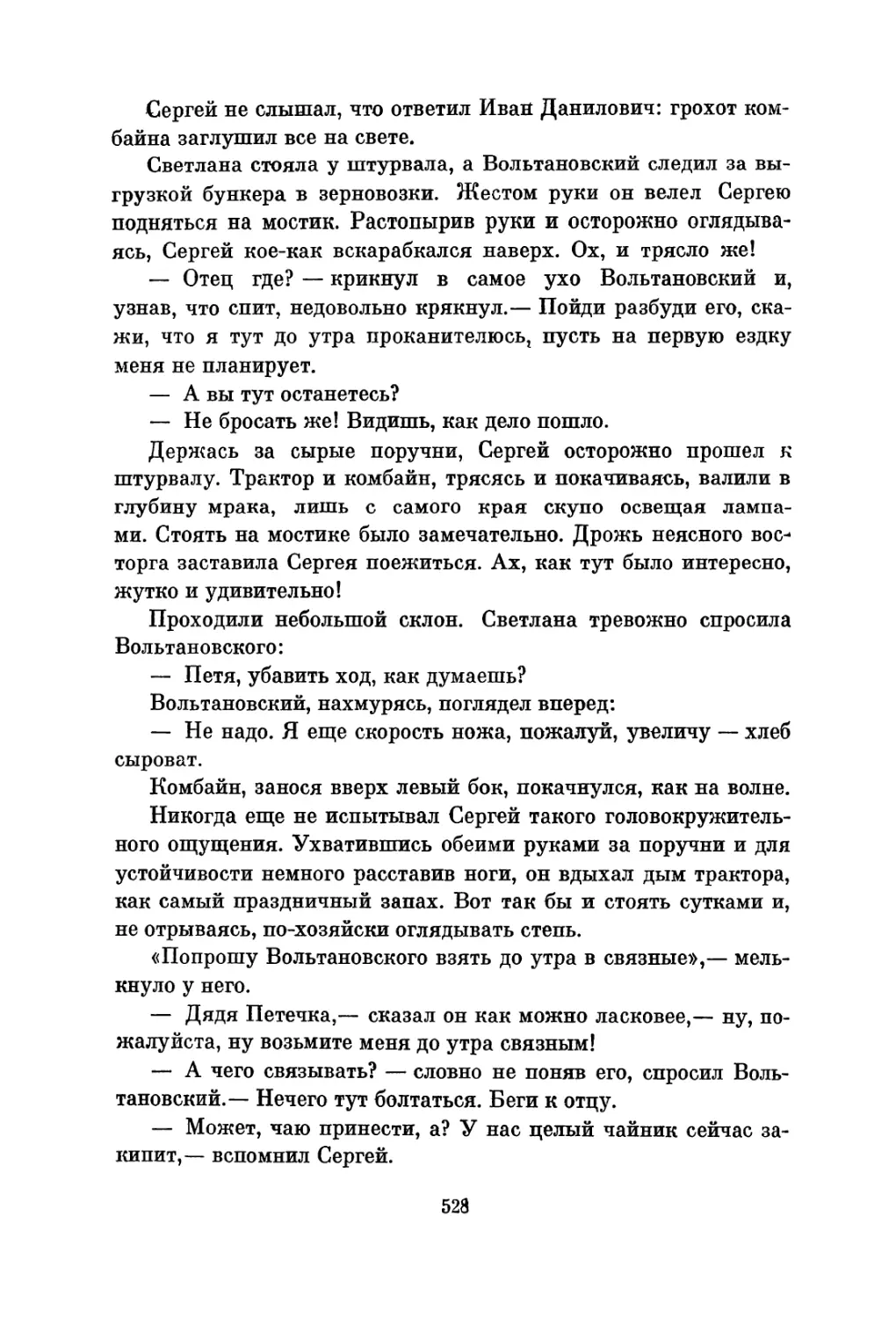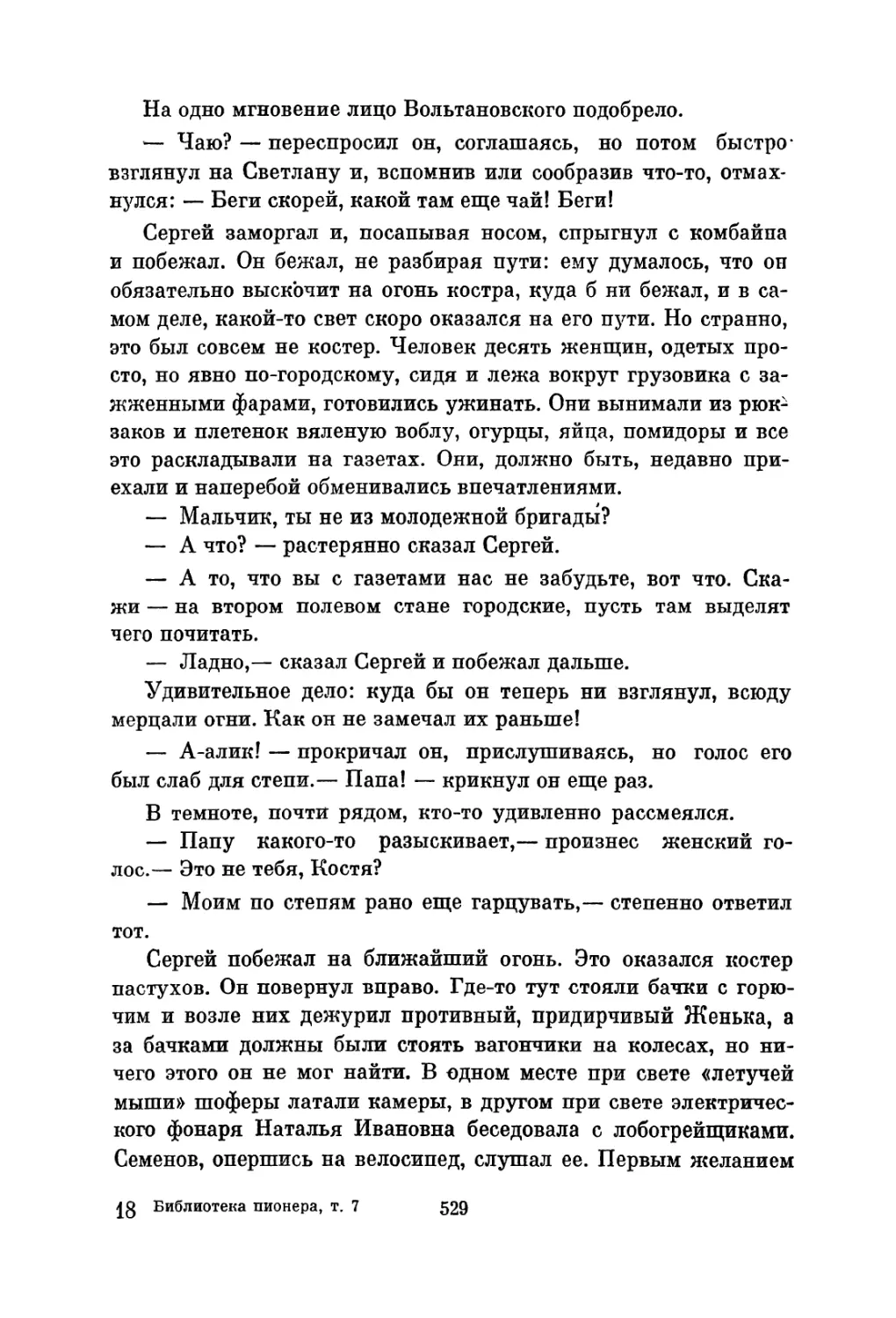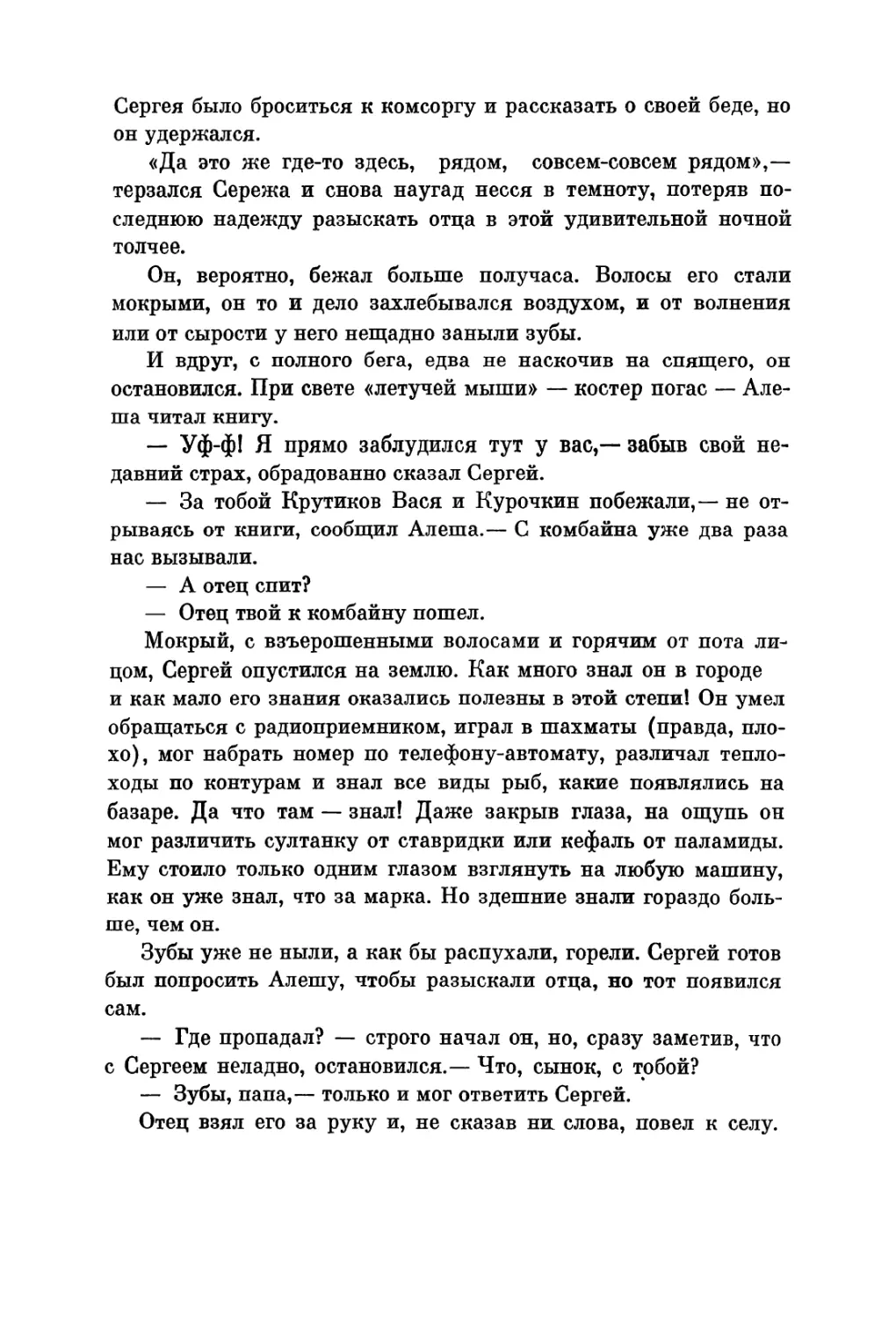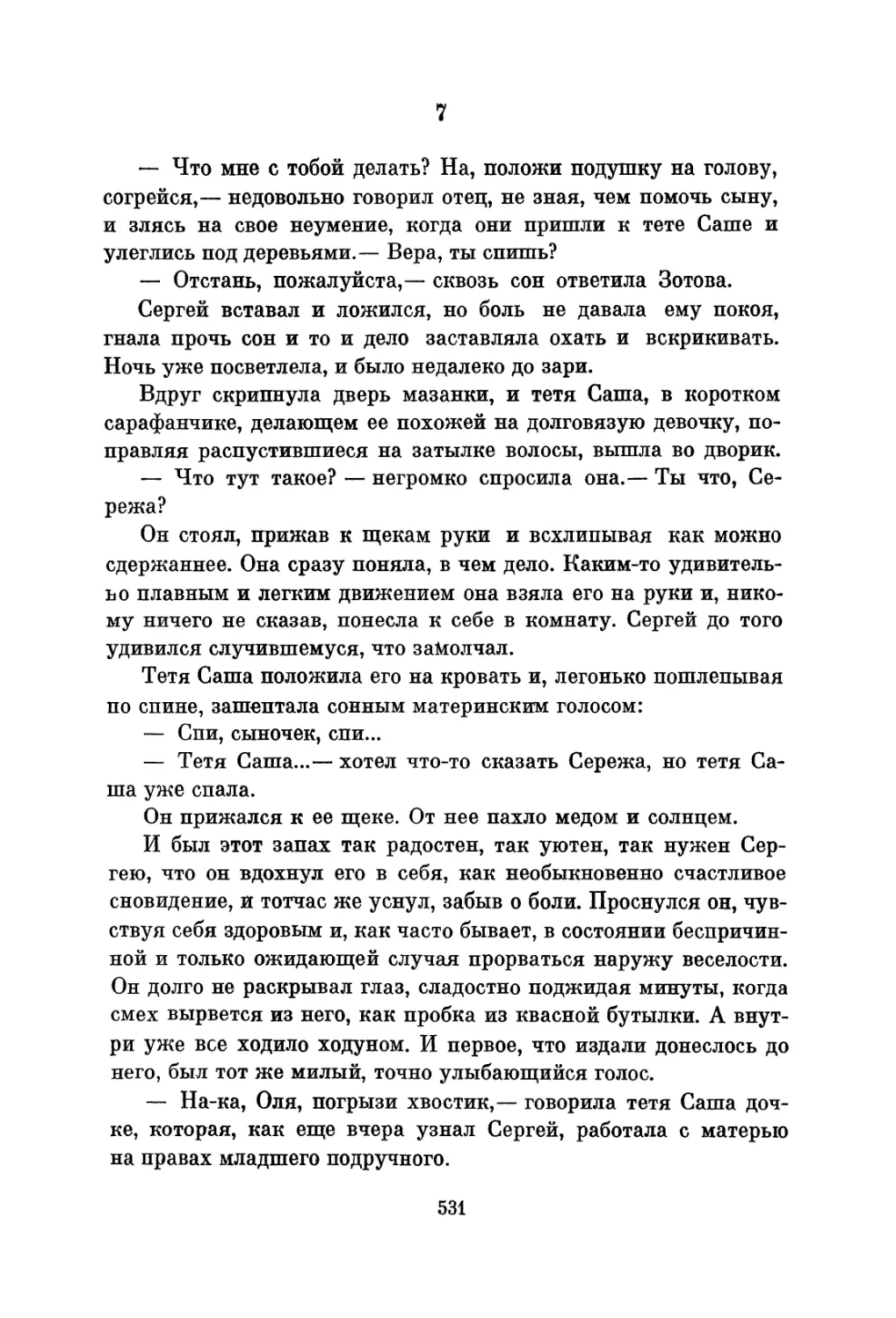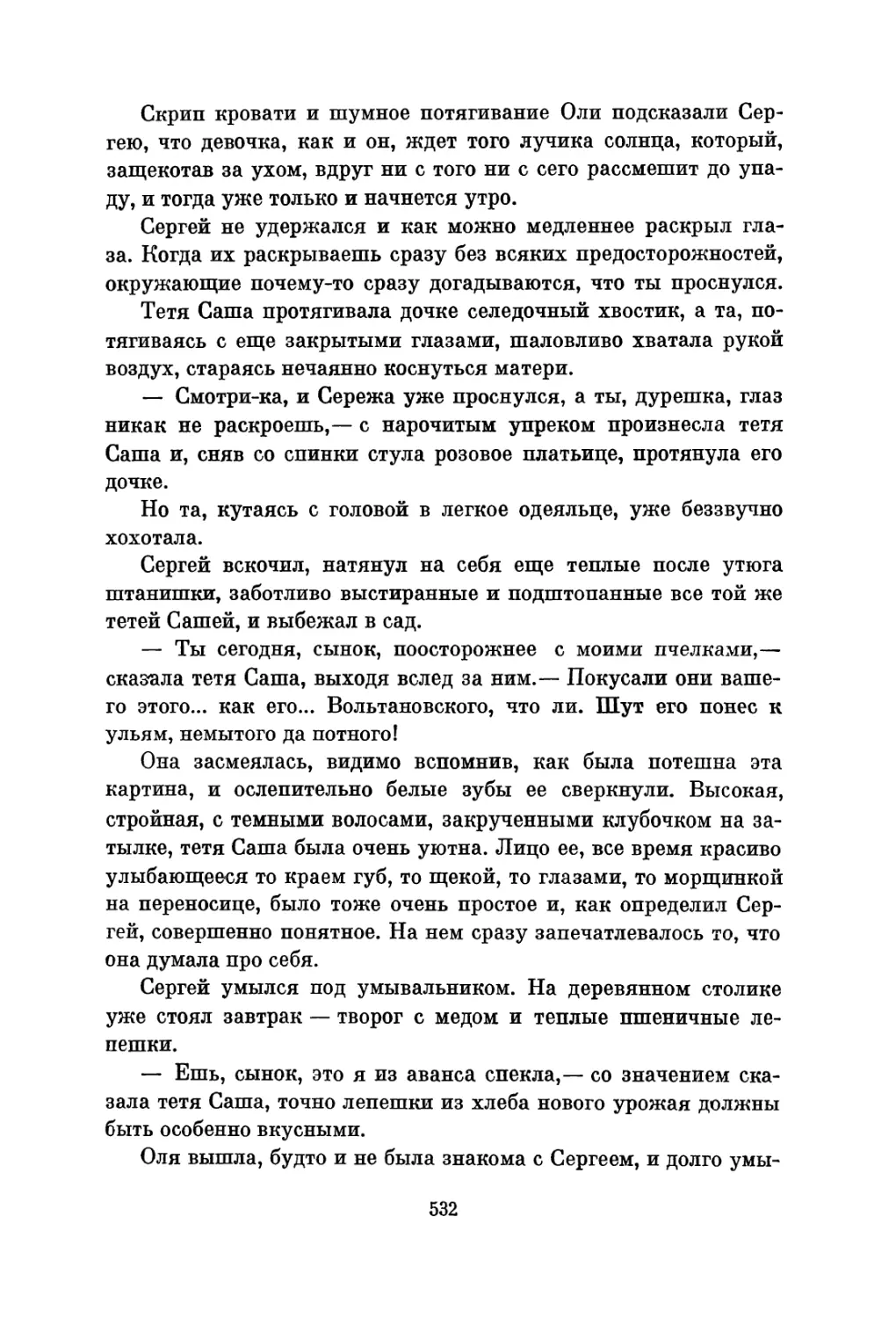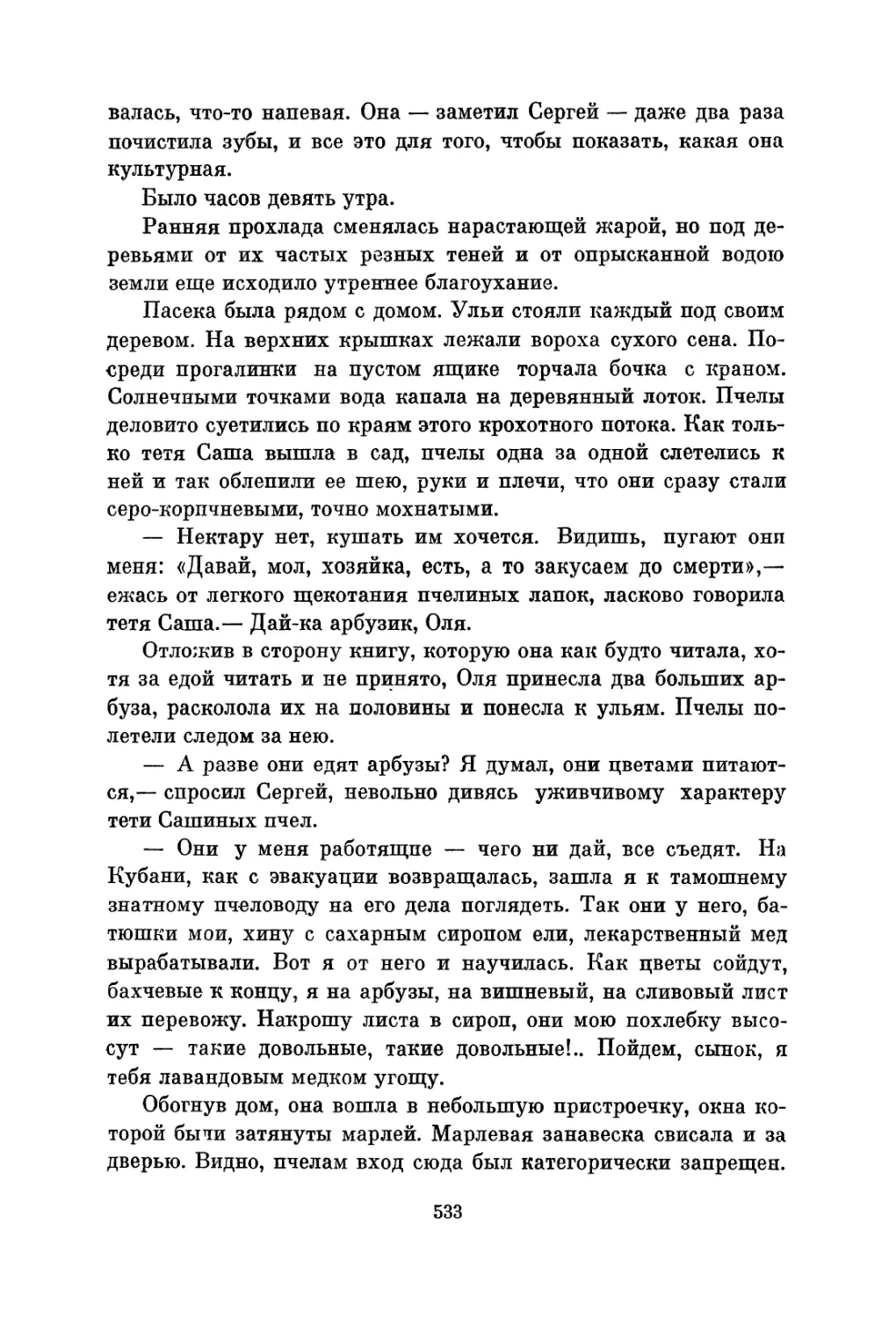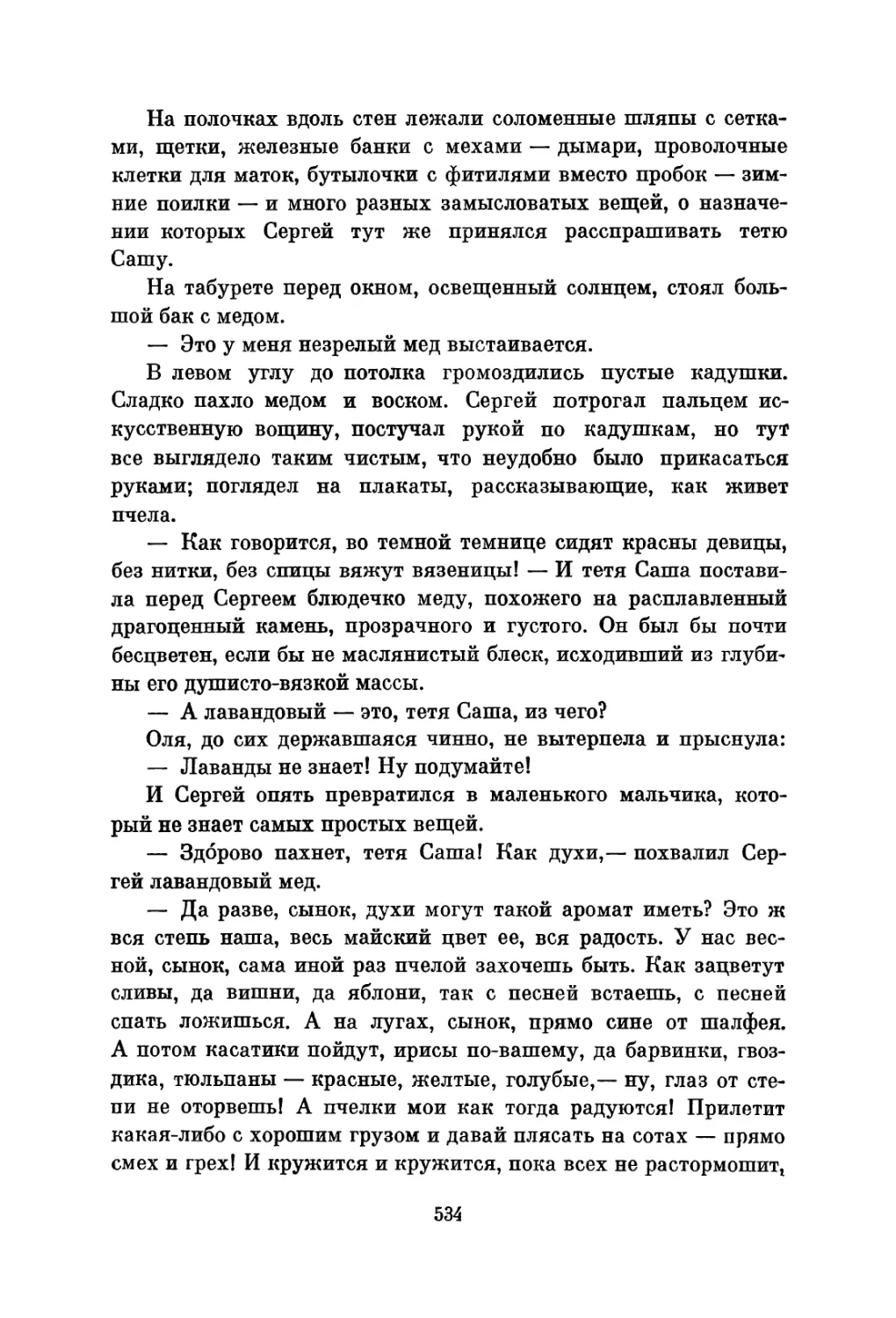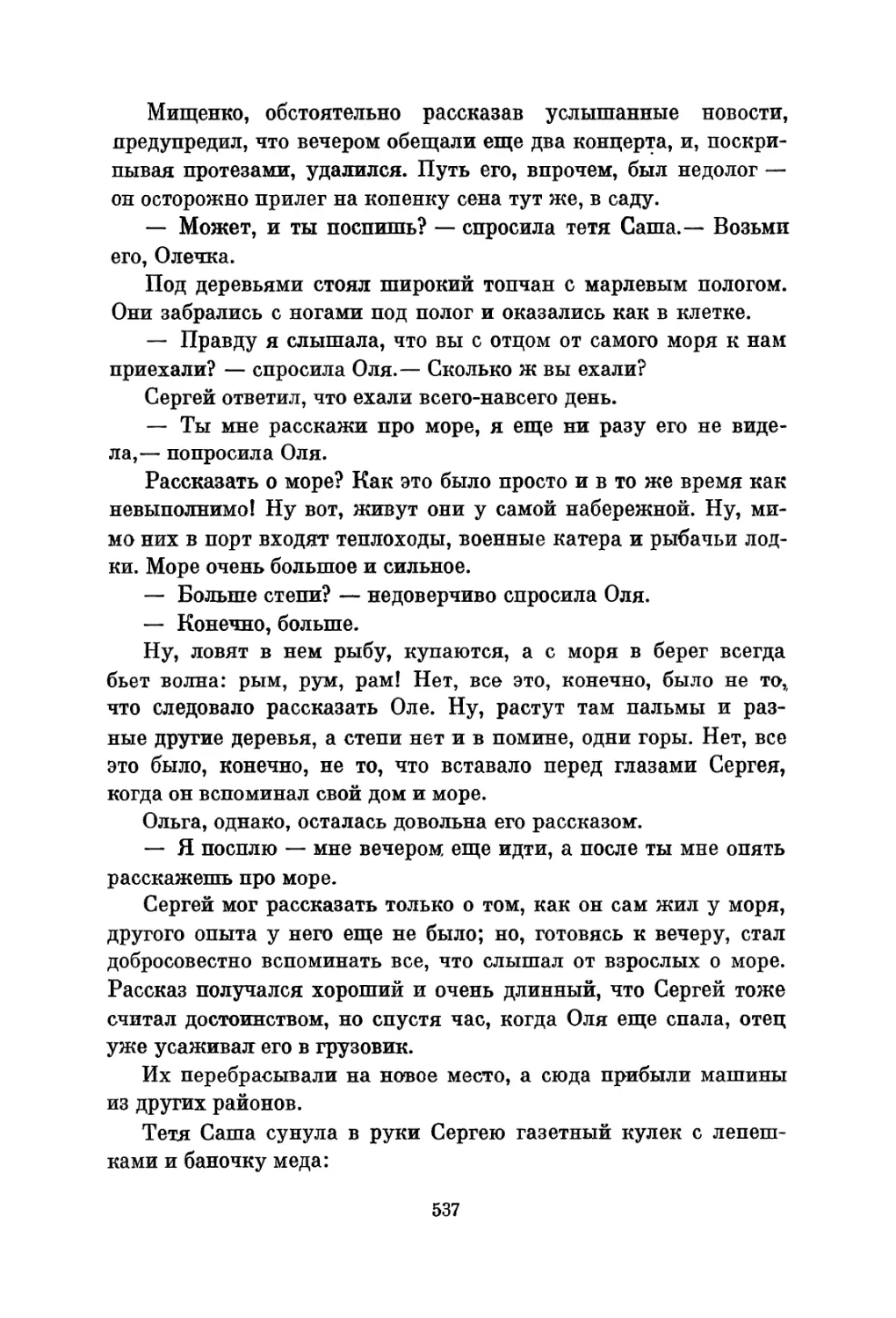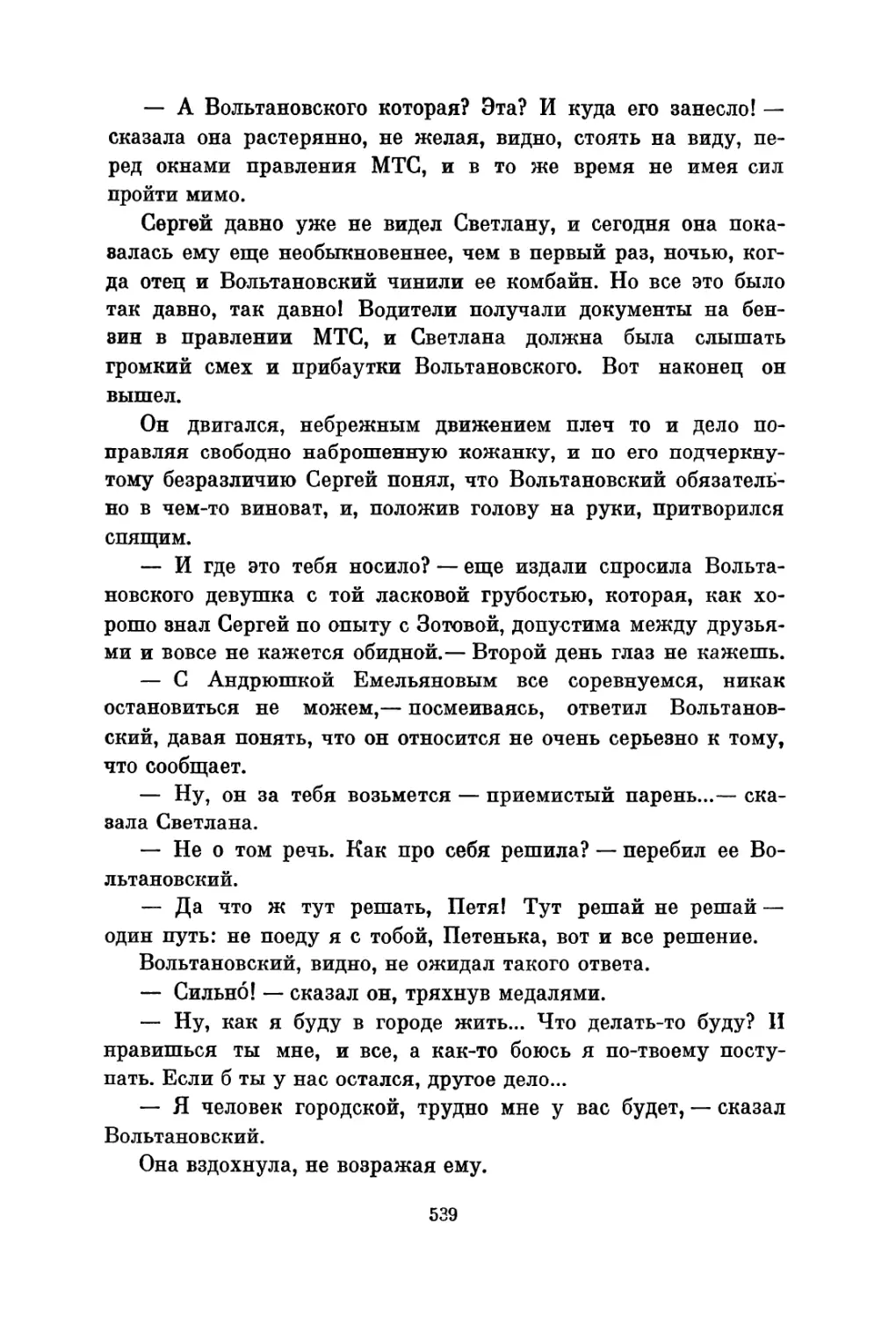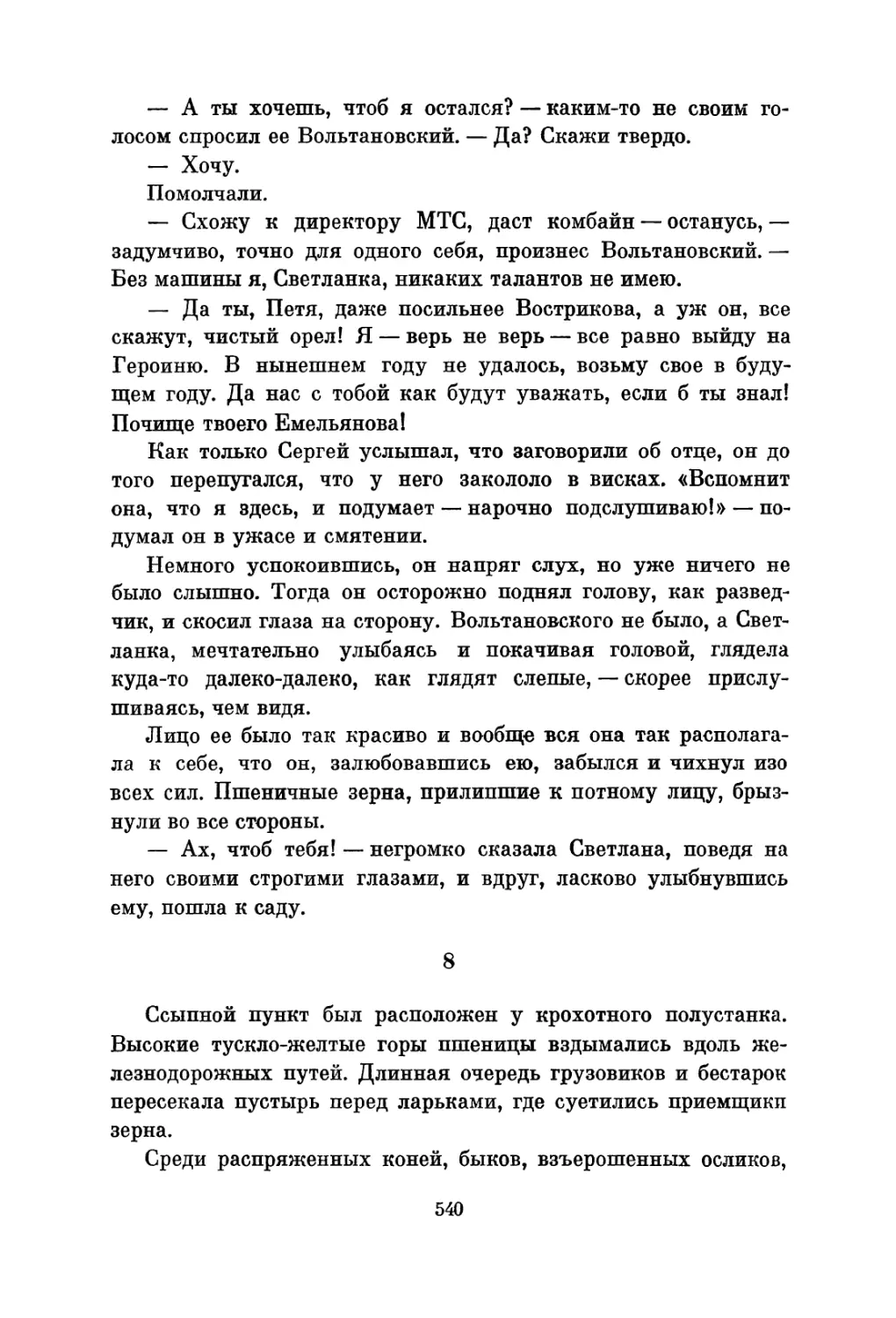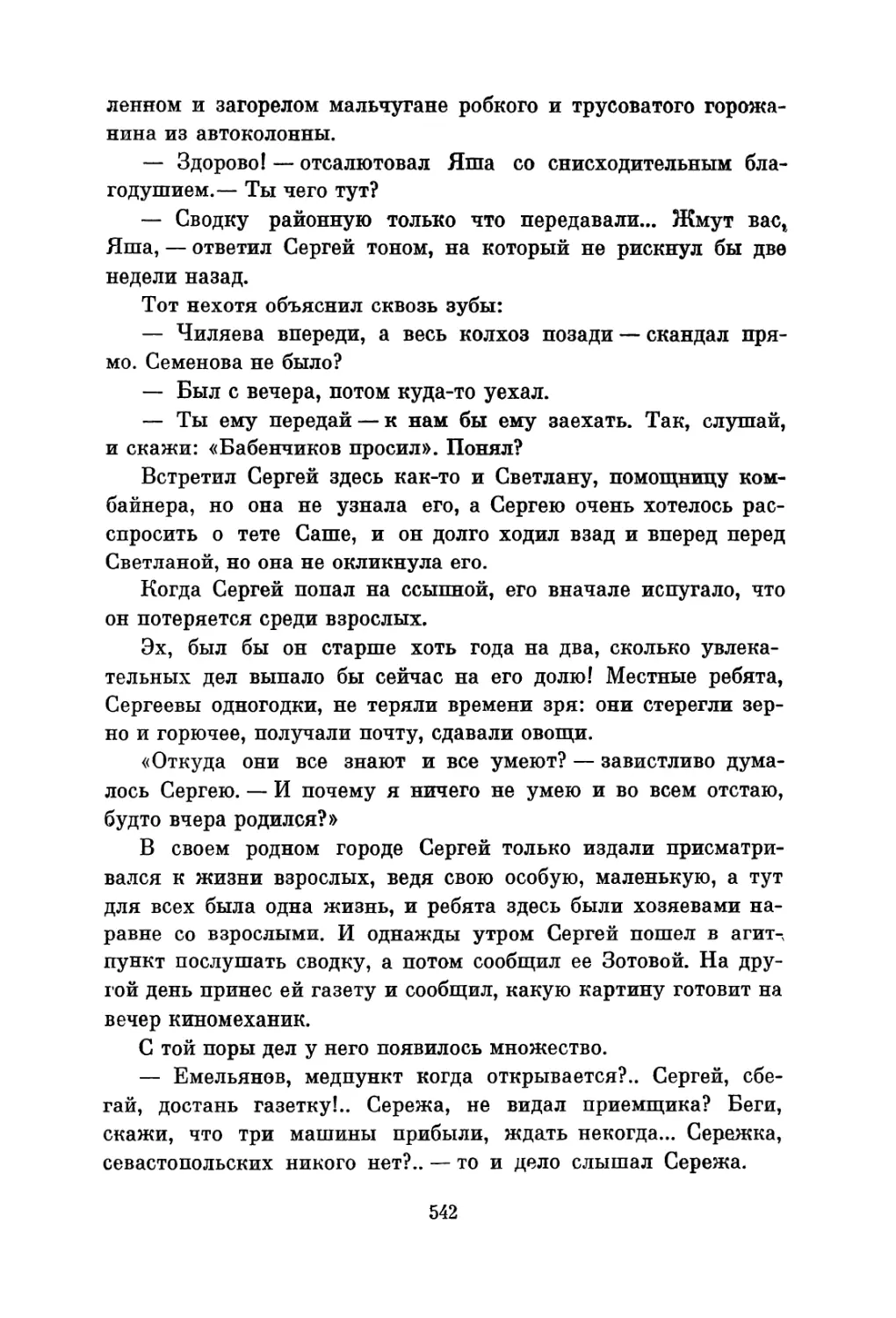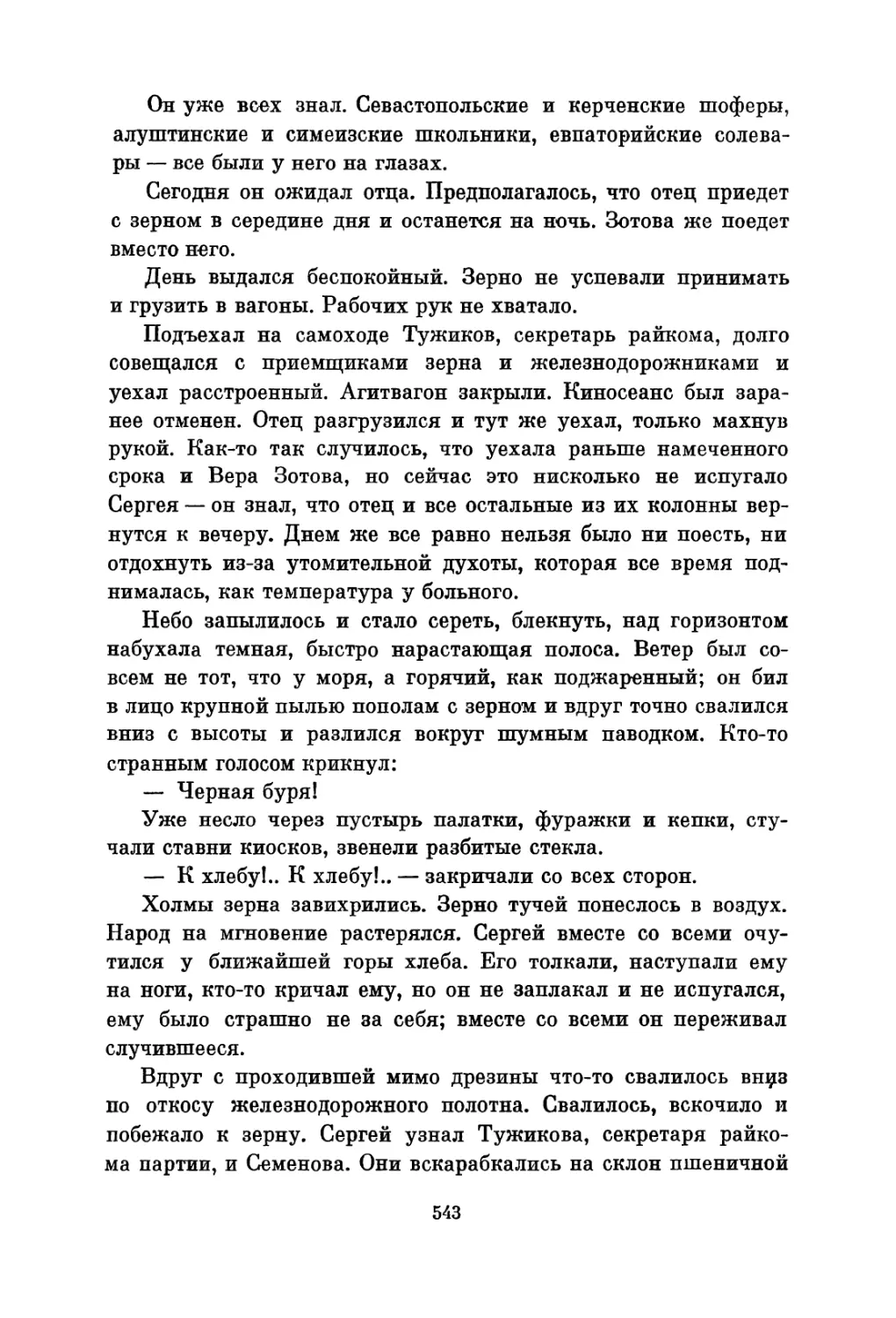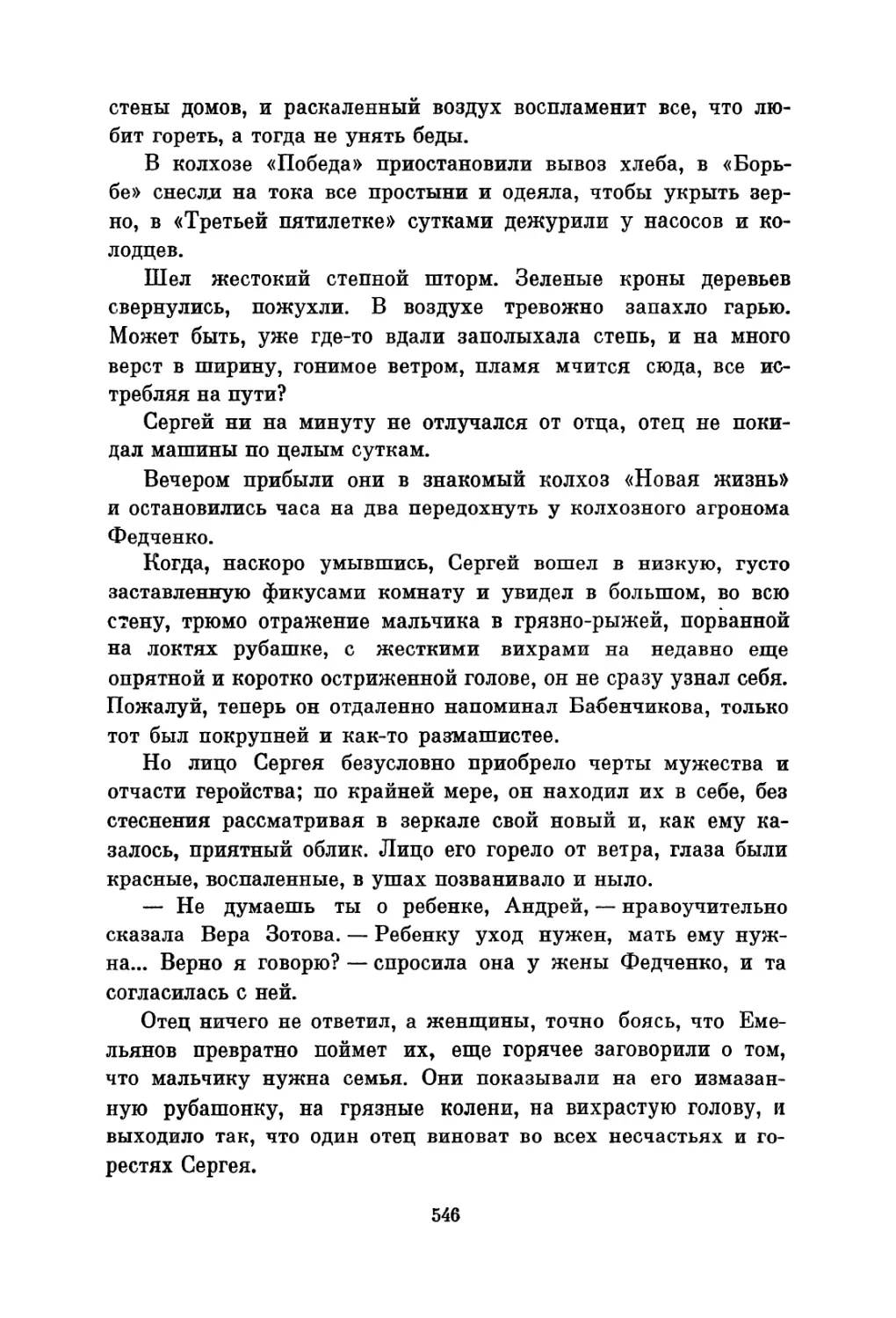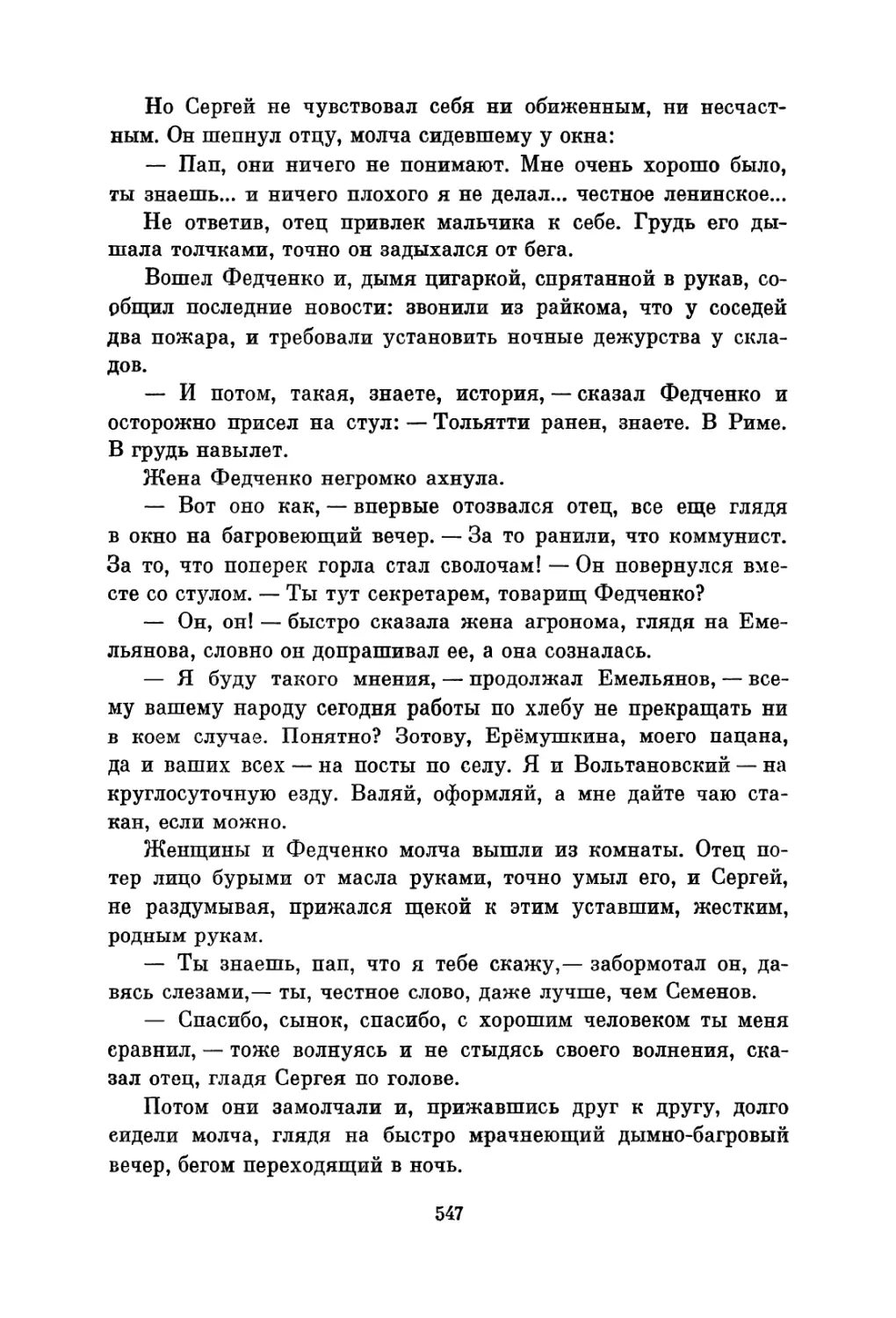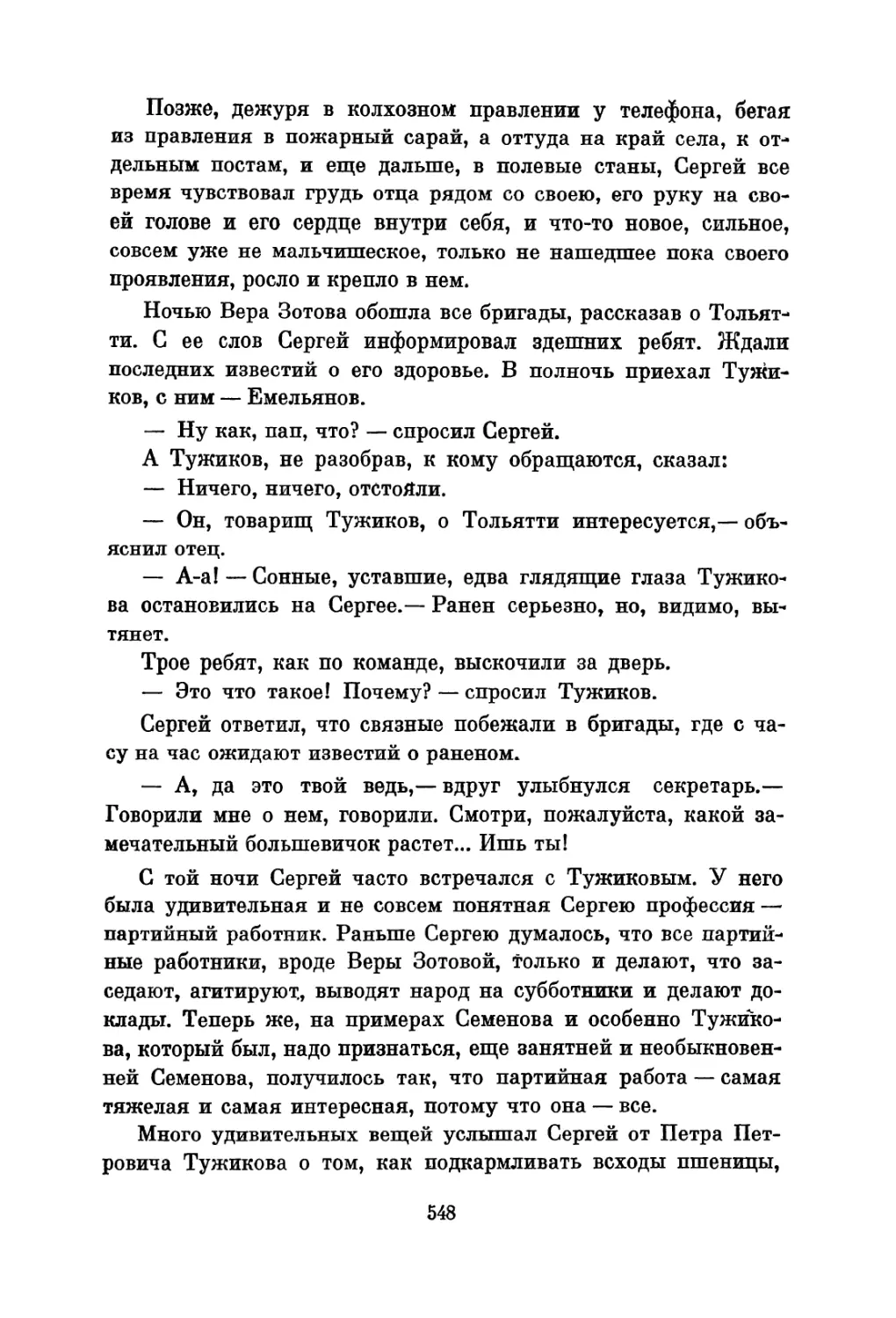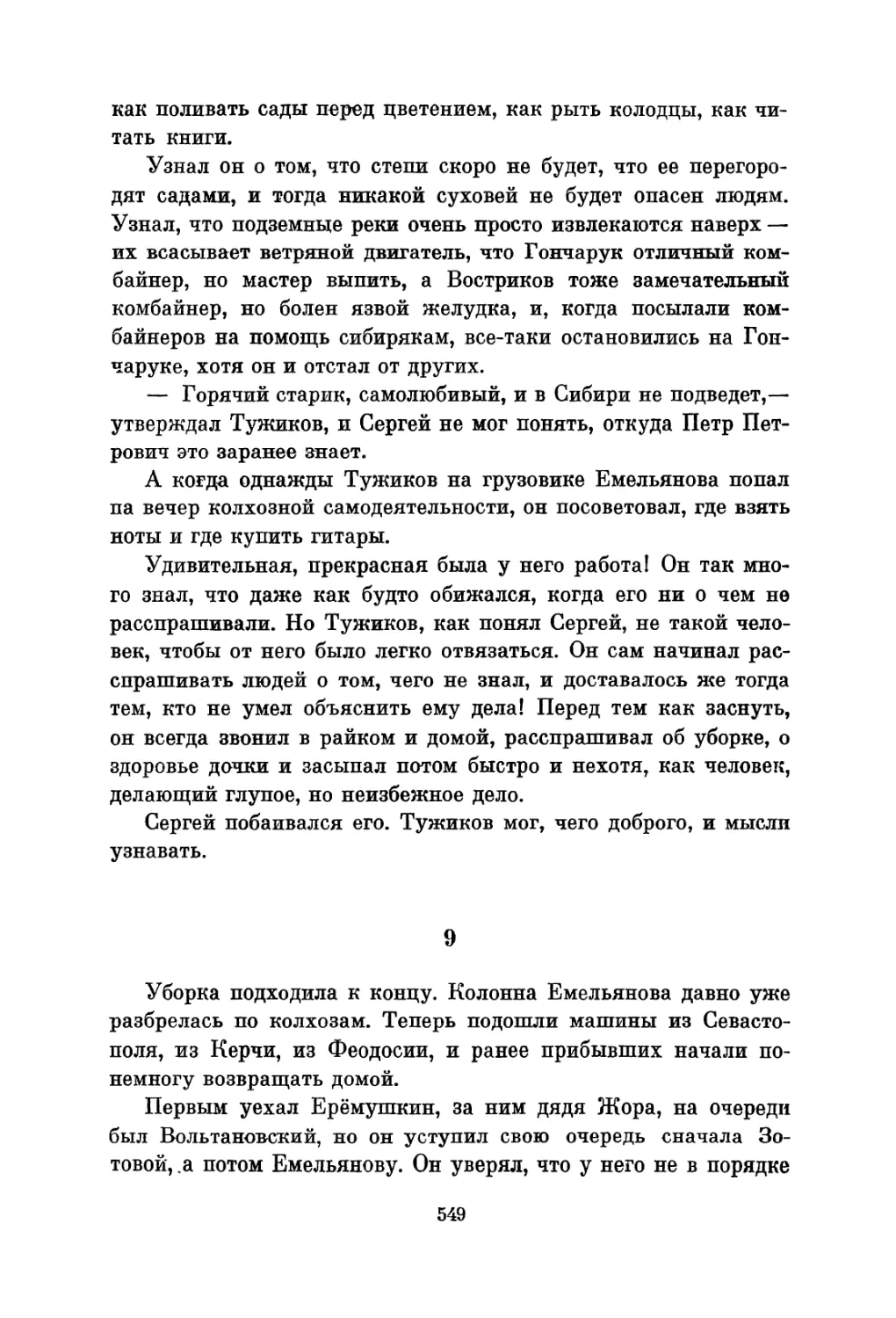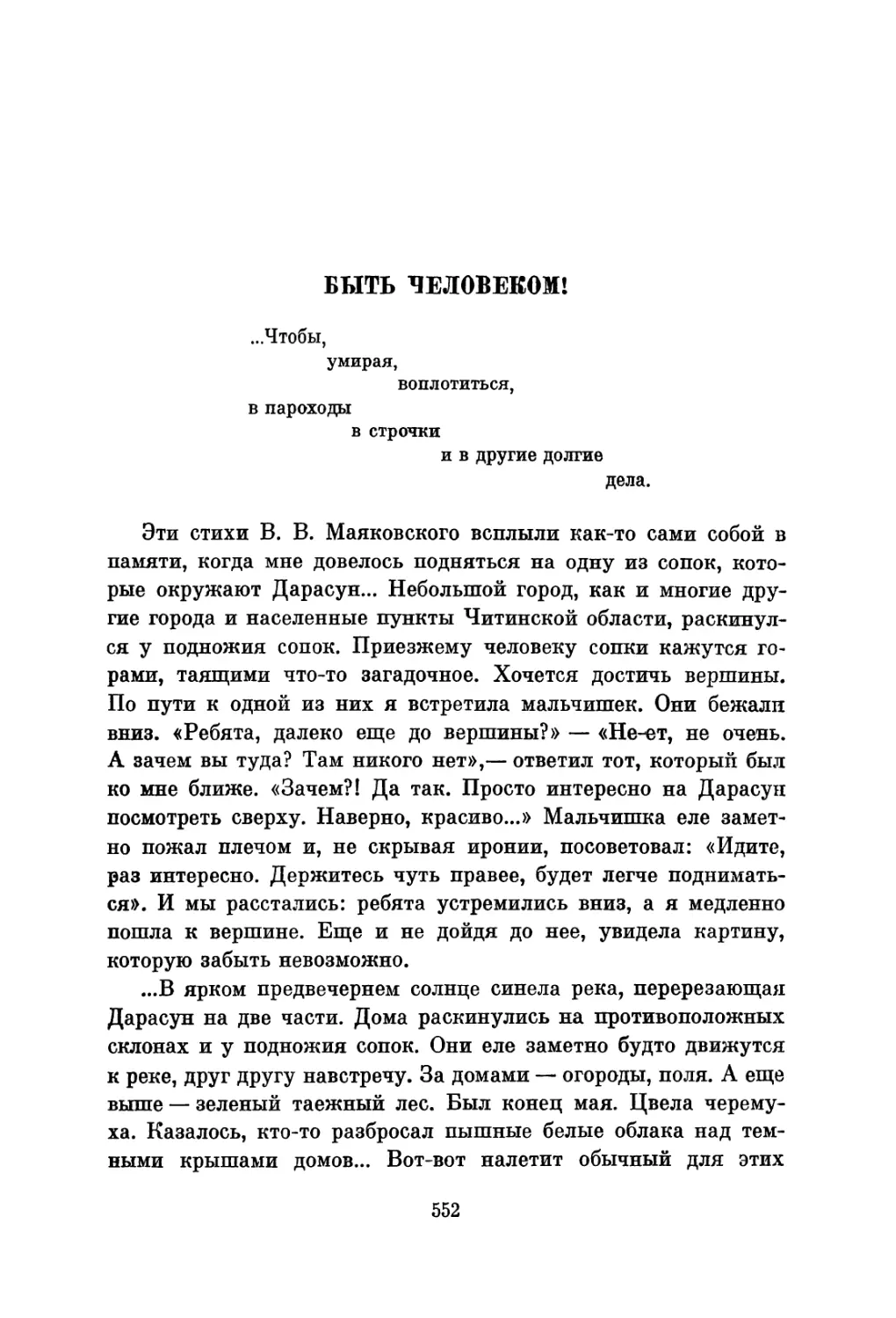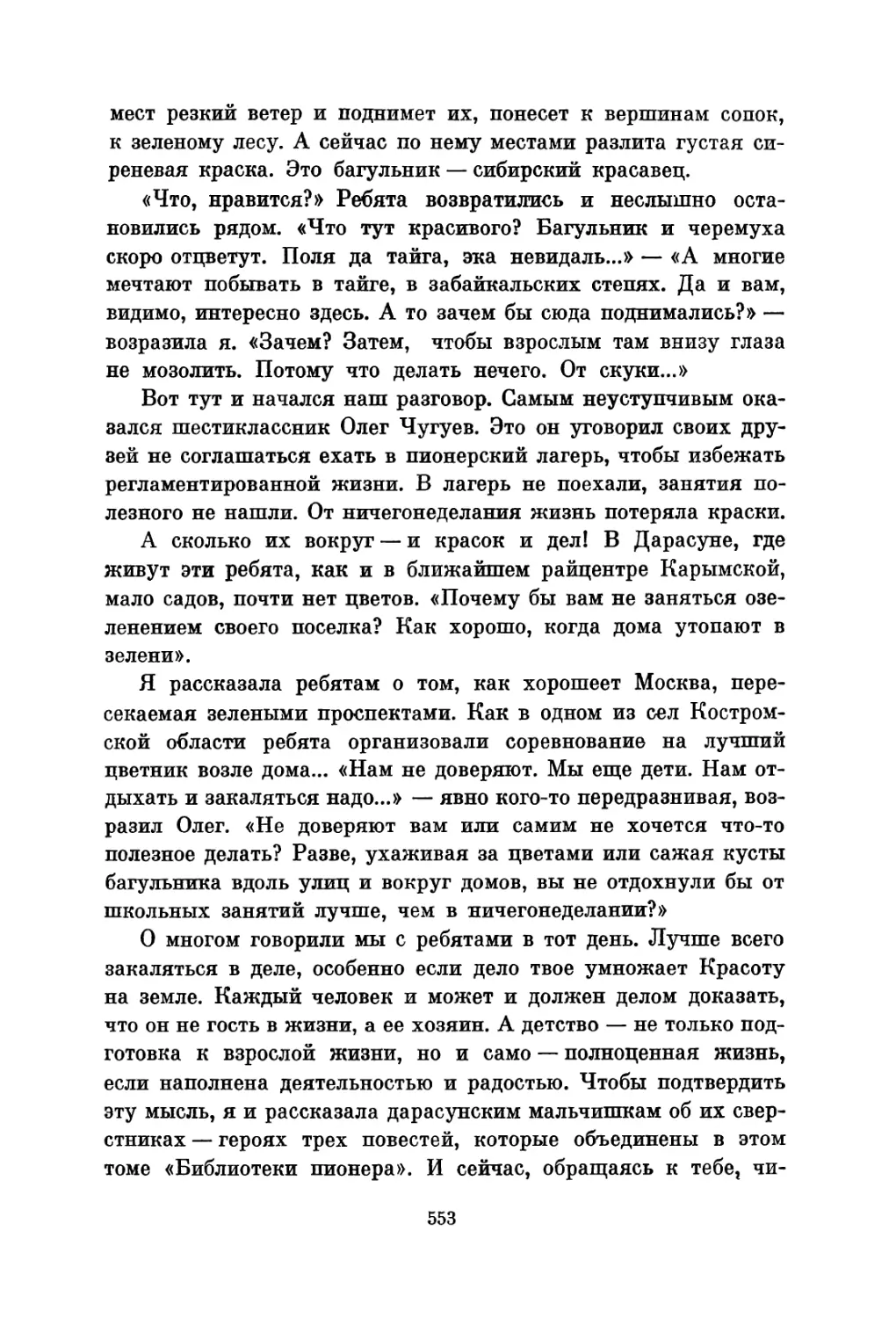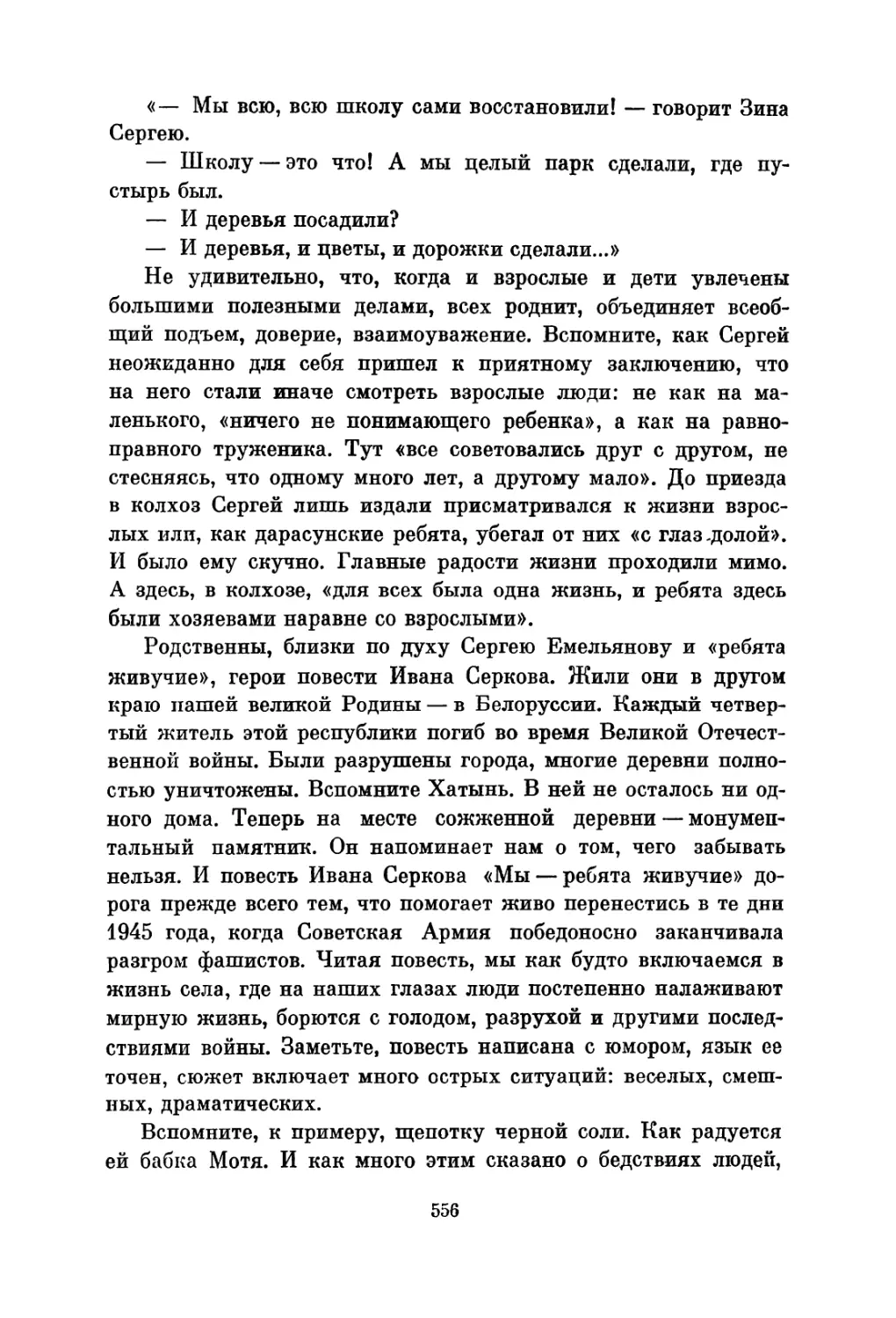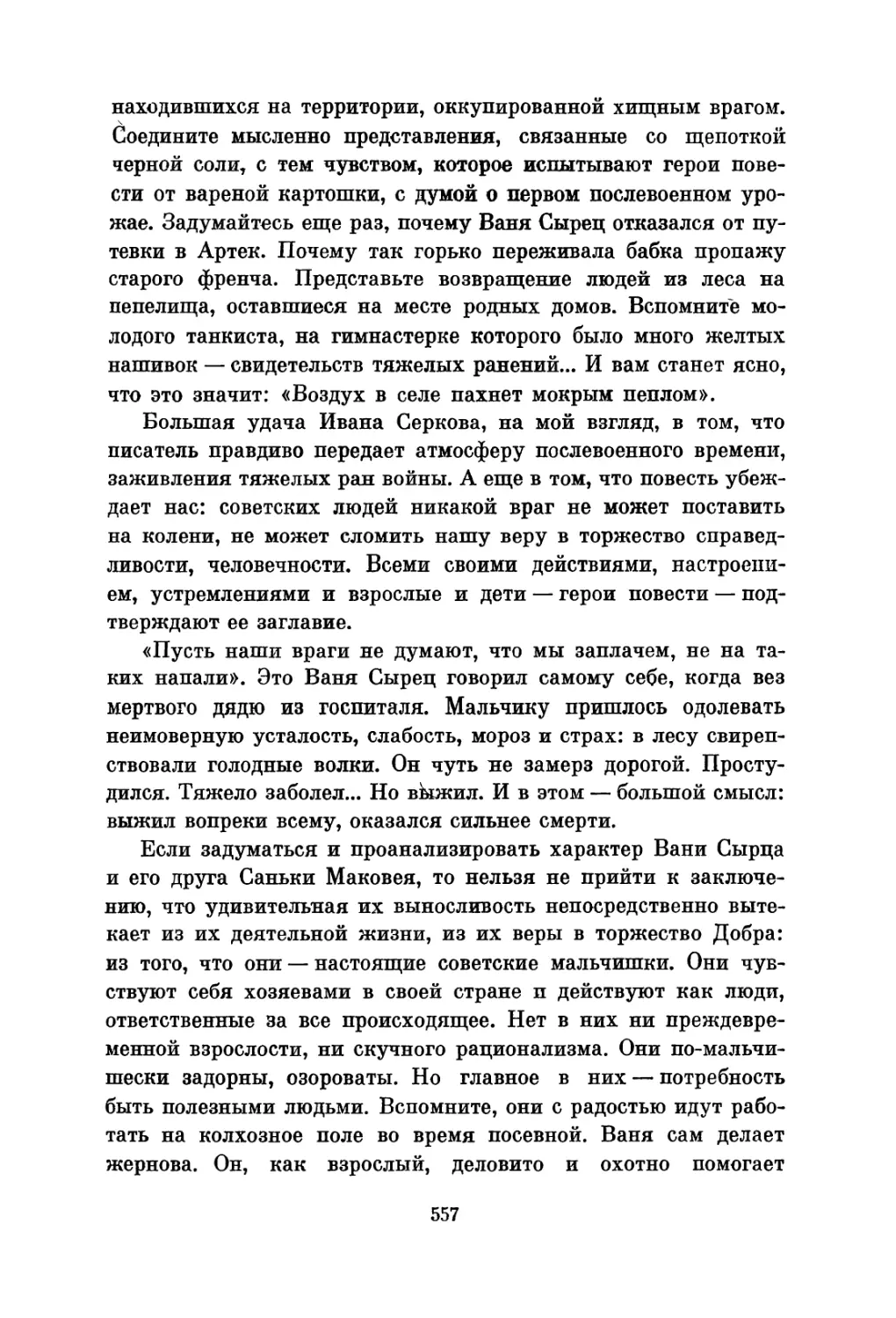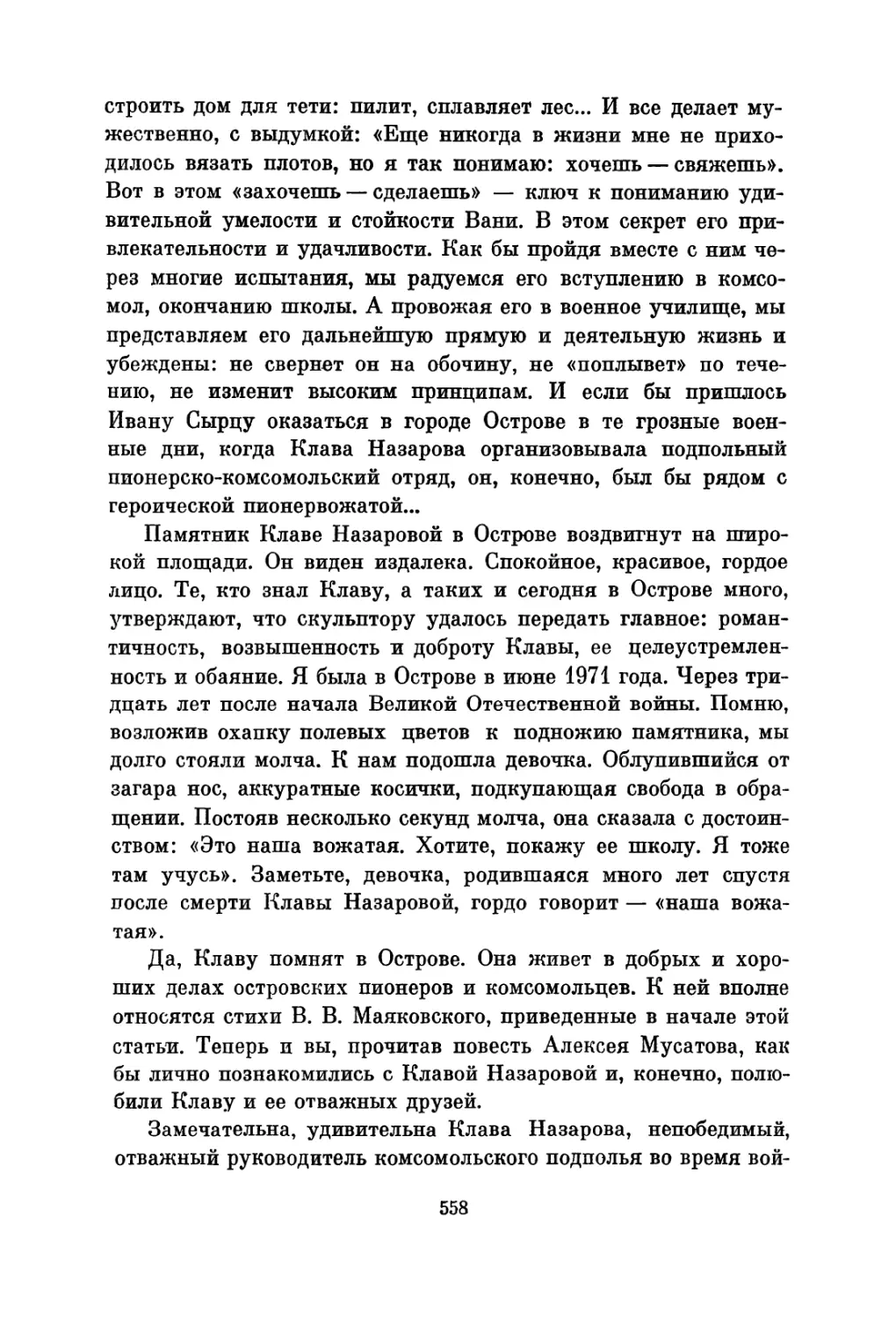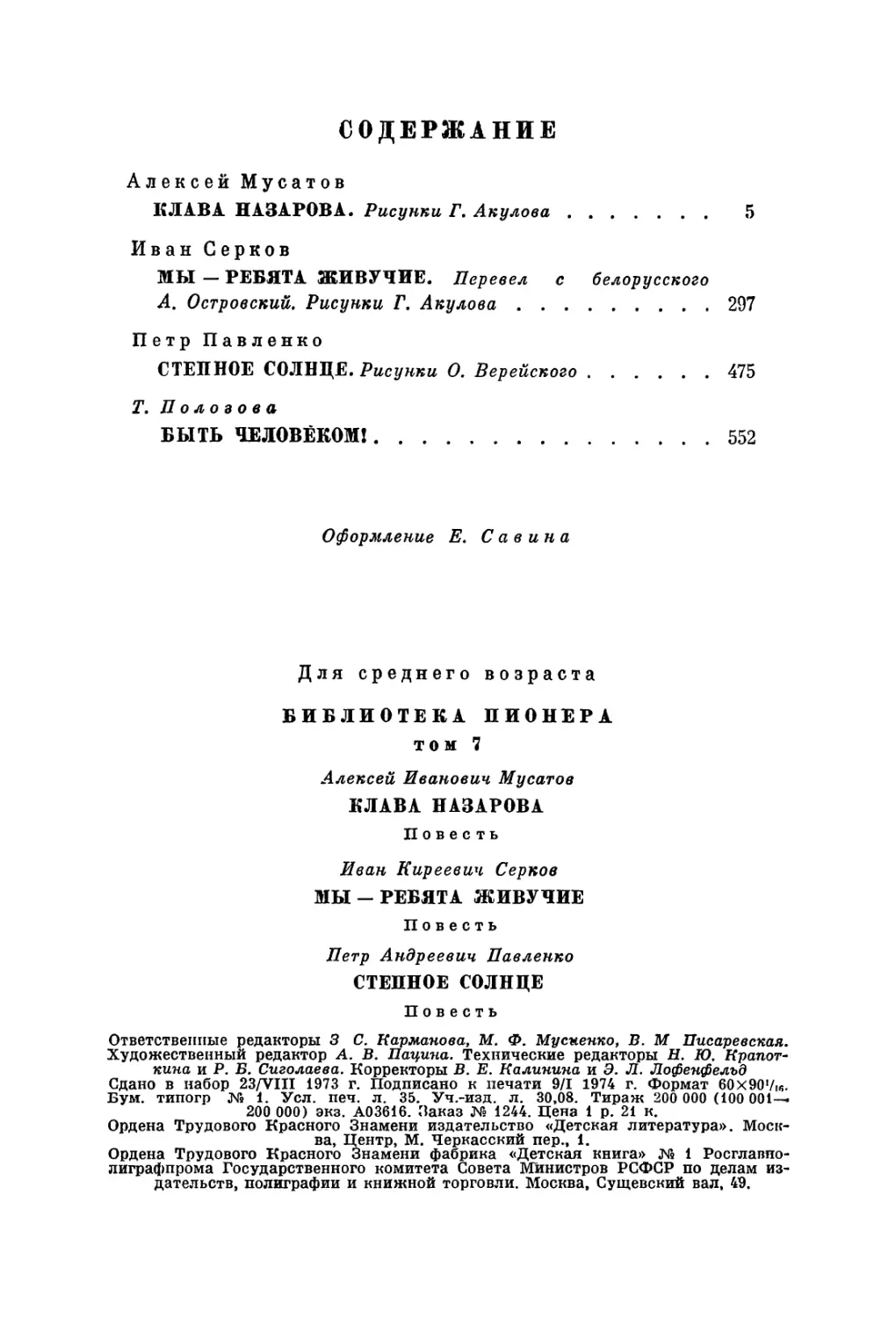Автор: Мусатов А.И. Серков И. Павленко П.
Теги: рассказы повести художественная литература избранные произведения серия библиотека пионера
Год: 1974
Текст
ИЗБРАННЫЕ ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ В 12 ТОМАХ
м о с к в а
Алексей Мусатов
Иван Серков
Петр ПавлЕНКО
Сб 2 М91
М 91
Рисунки Г. Акулова
Мусатов А. И.
«Клава Назарова». — И. Серков. «Мы — ребята живучие».— П. Павленко. «Степное солнце». По- слесл. Т. Полозовой. Оформл. Е. Савина. М., «Дет. лит.», 1974.
560 с. с ил. (Библиотека пионера, т. 7).
В том 7 подписного издания «Библиотека пионера» входят произведения писателей: А. Мусатова — повесть «Клава Назарова», И. Серкова — повесть «Мы — ребята живучие» и П. Павленко — повесть «Степное солнце». Послесловие к этому тому «Быть человеком!» написано Т. Полозовой.
д 70803—050 С52
М ——- подписное
М101 (03)74
Состав. Статья. Иллюстрации с изменениями.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА». 1974 г.
Алексей Мусатов
Часть первая ГОЛУБИ НА КРЫШЕ
Назаровы жили у реки, на Набережной улице.
Клава, ее сестра Леля и их мать Евдокия Федоровна занимали одну комнату во втором этаже коммунального дома.
Во дворе дома столпотворение сарайчиков, клетушек, пристроек. Между пристройками пятачки обработанной земли, грядки величиной с ладонь.
На крышах сарайчиков привольное царство мальчишек-го- лубятников: проволочные клетки, воркотня сизарей, посвист крыльев взмывающих в небо голубиных стай.
7
Витька Скворцов, худощавый, жилистый, смуглолицый подросток лет двенадцати, насладившись полетом голубей, впустил их в клетку и принялся пересчитывать.
— Что, недостача? — с тревогой спросил Витьку его приятель, вихрастый, босоногий Колька Суконцев.— Это все Оська Бородуля приманивает.— И он кивнул в сторону Набережной улицы, где, окруженный садом, высился пятистенный, обшитый тесом дом Бородулиных.
— Нет, все на месте, — ответил Витька, закончив подсчет и влюбленно оглядывая своих питомцев. — Моих не соблазнишь... Они хозяина знают!..
— А вот Мишка вчера четырех сизарей недосчитался, — сообщил Колька.— Этот Оська знаешь какой дошлый!.. Любого голубя переманить может.
— Так уж и любого...
Витя не очень-то поверил Кольке, но, кинув сердитый взгляд на дом Бородулиных, подумал, что Оська действительно ведет себя нахально и без зазрения совести перехватывает чужих голубей. Надо будет поговорить с мальчишками и проучить этого Бородулю. Но легко сказать — проучить! Ребят на улице — раз- два и обчелся. Одни уехали на лето в деревню, другие — в пионерский лагерь. А тех, кто остался в городе, пожалуй, и не соберешь. Каждый занят своим делом, живет сам по себе.
Вот только Клавка Назарова иногда еще собирается вместе с подружками и что-то сообща с ними придумывает. Но с девчонками скучно.
Где-то вверху призывно заворковали голуби.
Витька с Колькой обернулись и задрали головы: на крыше дома, в котором жили Назаровы, стояла новенькая клетка с белыми голубями.
— Тоже мне голубятница! — усмехнулся Витя.—Развела птицу, а заниматься с ней не хочет.
— Клавка небось дрыхнет без задних ног,— заметил Колька.— Она вчера со своей компанией куда-то в поход ходила. Может, разбудим ее?
— Как знаешь... мне все равно,— с деланным равнодушием ответил Витька.
8
Колька подобрался поближе к комнате Назаровых и, сунув пальцы в рот, оглушительно свистнул.
Из окна показалось заспанное лицо Клавы.
— Спишь, голубятница! — закричал Колька.— Тебя голуби заждались. Слышишь, как стонут?
— Ой, ребята, я сейчас! — смущенно забормотала Клава.
Через несколько минут она поднялась на чердак, вылезла
через слуховое окно на крышу и занялась голубями: сменила им воду, насыпала пшена, хлебных крошек.
Витька еще раз взглянул на Клавиных питомцев и презрительно махнул рукой.
— Почтовые голуби... то-се, пято-десято. Нахвасталась только. А кто голубей тренировать будет? Они ведь зажиреют, если их на волю не выпускать. Вот увидишь, ничего у Клавки не получится...
— Это как сказать,— задумчиво сказал Колька.— Если Клава захочет... Ты слыхал, что она с девчонками какой-то тайный лагерь устроила?
— Это где? — встрепенулся Витя.— На острове, что ли, в камышах?
— Ага! А ты откуда про остров знаешь?
— Да так, говорил кто-то,— небрежно ответил Витя.— Делать девчонкам нечего... всякой чепухой занимаются.
Колька покачал головой.
— Нет, у них там интересно. Ты знаешь, я вчера на остров плавал... Все высмотрел. Они там купаются, рыбу ловят, костер жгут. Уху варят, картошку... Потом еще Клавка всякие штуки придумывает.
— Какие штуки?
— На днях она такое устроила! Привела ночью девчонок на городское кладбище и заставила каждую пройти по нему в одиночку из одного конца в другой.
— Это еще зачем? — удивился Витька.
— Для испытания храбрости. Чтобы узнать, трус ты или нет... А если кто из девчонок испугается с первого раза, так Клава посылает ее на кладбище еще раз и еще... А потом они в разведчиков играют.
Витька молчал.
9
— А знаешь что? — понизил голос Колька.— Давай войдем в Клавину компанию. Рыбу будем с ними ловить, на плоту кататься. А то все голуби да голуби...
— Входи, если хочешь,—безучастно отозвался Витя.— А мне это ни к чему.
Колька с подозрением покосился на приятеля.
— Знаю, почему ты Клавки чураешься, знаю... Ты от нее взбучку получил — вот и дуешься, как индюк.
— Какую еще взбучку?! — покраснев, прикрикнул Витька.— Чего ты болтаешь?
Колька отодвинулся подальше от приятеля, а Витька, насупившись, отвернулся к голубям.
И как все это получилось? Зимой в школе он был вожатым звена, считался у ребят за коновода, а вот наступило лето, и Витька как-то растерял всех своих приятелей. Зато вокруг Клавы Назаровой собралась целая компания девчонок с Набережной улицы, хотя она никогда не была ни вожатой звена, ни председателем совета отряда. Клавка самая рядовая пионерка, а девчонки почему-то тянутся к ней.
Училась девочка хорошо, многое схватывала на лету, увлекалась книгами, но, несмотря на это, нередко доставляла учителям горькие минуты.
Вот идет урок по математике, а Клава, положив на колени книгу о Гарибальди или о Спартаке, всецело поглощена чтением, и нет для нее сейчас никого на свете: ни учителя, ни классной доски, ни соседей по парте.
Целый день Клава готовит домашнее задание, чтобы завтра четко и безукоризненно ответить урок. А на другой день в классе она становится свидетелем того, что преподаватель незаслуженно поставил одной из девочек двойку. Клава демонстративно отказывается отвечать и требует поставить ей тоже двойку.
Девочка не любила учить уроки в одиночку и всегда собирала вокруг себя группу одноклассников. На экзаменах она не успокаивалась до тех пор, пока последний ученик не выходил из .класса.
А сейчас члены Клавиной команды почти каждый день бы¬
10
вают вместе, устроили какой-то лагерь на острове, постоянно что-то придумывают.
Она уже не раз приглашала в свою компанию и его, Витьку, но что ему за интерес водиться с девчонками, к тому же эта конфузная история с крапивой...
Все началось с того, что Витька повздорил с конопатой Манькой Затевахиной и стукнул ее раза два по загорбку. За- тевахина бросилась с жалобой к Клавке. Хотя на занятиях по физкультуре Назарова и стояла на левом фланге, но у нее был решительный нрав, а когда нужно, и достаточно сильный кулак.
Вчера девчонки во главе с Клавкой встретили Витьку в детском парке, затащили его в глухую аллею и потребовали, чтобы он попросил у Затевахиной прощения. Витька гордо отказался. Тогда девчонки повалили его на землю и так настегали крапивой, что Витька пулей вылетел из парка.
А дома Витька обнаружил записку с незнакомым словом.
«Девчонок обижать не дадим,— прочел он.— Летом настегаем крапивой, зимой закидаем снежками. Но если ты честен и смел, приходи к нам на Камышовый остров. Дрохи».
Витька спрятал записку подальше и стал обдумывать, как ему встретить Клавку с глазу на глаз и расквитаться за крапиву. Но она почти всегда ходила в компании девчат.
— Ты не знаешь, что такое дрохи? — неожиданно спросил Витька у приятеля.
— Дрохи? — переспросил Колька.—Я где-то читал. Это, кажется, птицы такие... в степи живут.
— Нет... то дрофы.
— Тогда, может, звери какие или рыбы... А зачем тебе?
— Да так... — отмахнулся Витька.— Привязалось откуда-то. Дрохи да дрохи...
ДРОХИ
Свесив голову с крыши сарайчика, Колька наблюдал за тем, что происходило во дворе Назаровых.
Тут одна за другой собирались девчонки.
Они рассаживались около дровяного сарайчика под старой
11
дуплистой ивой. Вскоре с крыши спустилась Клава и поприветствовала подруг пионерским салютом. Потом о чем-то заговорила. Но слышно ее было плохо.
— Вить, смотри,— позвал Колька приятеля.— У них не иначе, как сбор сегодня. Давай проберемся поближе, послушаем...
Витька недовольно пожал плечом.
— Слушай, если охота! А я еще сизарей малость погоняю.
Он открыл клетку и выпустил голубей на волю.
Во дворе появился худощавый большеголовый мальчишка.
— Видал?..—Колька кивнул вниз.— И Мишка Осинкин с ними.
«Этому-то чего у девчонок надо? — недовольно подумал Витя.— А может, он тоже дрох этот самый? Пожалуй, и в самом деле стоит выследить Клавкину компанию».
— Ладно, послушаем,— согласился Витька.
Мальчишки ловко пробрались по крышам дряхлых сарайчиков и клетушек поближе к назаровскому двору и, прижавшись к теплому ржавому железу, затаили дыхание.
Видимо, по давно заведенному порядку каждый из членов Клавкиной компании коротко сообщал, что он сделал за последние дни. Первой докладывала сама Клава. Позавчера в сумерки она с подружками крепко проучила задаваку Виктора Скворцова, который обидел Машу Затевахину.
Скворцов, как известно, парень не робкого десятка и сопротивлялся отчаянно, но они все же одолели его.
— При помощи крапивы,— со смехом добавила Варя Филатова, темноглазая рослая девочка.— Но и с нашей стороны были потери.
Клава смущенно прикрыла рукой распухший нос.
Колька лукаво покосился на приятеля.
— Ничего такого и не было,— забормотал тот, беспокойно заерзав по крыше.— Просто налетели на одного, как сороки, и давай клевать. Ну, я им тоже всыпал по первое число.
— Тихо ты, слушай,— шепотом перебил его Колька.
Вторым рапортовал Миша Осинкин.
Вчера он наловил с полкошелки рыбы и положил ее в погреб к красноармейке Самариной: пусть тетя- Поля и ее девчонки жарят на здоровье!
12
Маша Затевахина рассказала, как она вчера добрых полдня сражалась с козами. Нахалки и обжоры, они забрались в детский парк и бессовестно обгладывали молодые саженцы.
Маша трижды изгоняла коз из парка, измочалила об их спины не одну хворостину. Когда же козы снова пробрались через изгородь, Маша заперла их в сарай и держала там до прихода хозяек.
Когда дошла очередь до Вари Филатовой, она рассказала, что вчера целое утро следила за домом Матрены Бородулиной. Действительно, у нее живет какой-то мальчишка, не то родственник, не то приемыш. Марфа берет его с собой на базар торговать овощами и ягодами, заставляет работать на огороде.
— А кто он? Откуда? Как его зовут? — спросила Клава.
— Кажется, Борькой... А про все остальное не знаю,— призналась Варя. Поговорить с мальчиком ей не удалось.
— А еще разведчики! — сказала Клава.— Обещание давали все видеть, все слышать, а сами ничего не знаем. Нет, так не годится/
— А чего там знать? — заметил Мишка.— Мальчишка как мальчишка. Рыжий, пучеглазый... Весь в Бородулиных. Наверное, родня им. Он с Оськой уже чужих голубей приманивает. И насчет рыбы тоже не промах...
— Да какая же родня,— возразила Варя,— если Борька каждое утро по тридцать ведер воды на грядки таскает?!
— Сколько, сколько? — переспросила Клава.
— По тридцать... а то и больше. Сама считала. И на улицу его Бородулины не пускают.
— Ну вот что,— сказала Клава.— Мы сегодня же должны повидать его... И все, все выяснить... до последней капельки. Айда сейчас же к этим Бородулиным!
— Так там же Оська... разве он допустит? — робко заметила Маша Затевахина,— Задираться начнет...
— Вон нас сколько! — усмехнулась Клава.— И крапивы на Оську хватит... Или мы уже больше не дрохи, а самые последние трусы?..
— Дрохи, дрохи!—раздались голоса.— Пошли, Клаша!
И пионеры всей гурьбой направились к дому Бородулиных.
13
— Слыхал? — Колька толкнул приятеля в бок.— Вот они, дрохи-то!
— А что это значит, ты понимаешь? — с досадой спросил Витька.
Колька покачал головой.
— Ну, может, игра такая. Или еще что.— Он завистливо вздохнул.— А знаешь, Вить, они все же смелые, хоть и девчонки!.. И дружные! Смотри, даже самого Бородулю не боятся...
— Это еще как сказать,— буркнул Витька, возвращаясь к своей голубятне.
Но в душе он уже не очень спорил с Колькой.
Хорошо бы объединиться с девчонками да вместе проучить этого Бородулю! Проучить за все: за разбитый нос, за перехваченную рыбу, за пропоротый футбольный мяч, за голубей!..
Витька спохватился. Он совсем забыл про своих питомцев, которые выписывали над крышами круг за кругом.
Витька открыл дверцу клетки и засвистел. Поблескивая радужными грудками, сизари вернулись в свое жилье. Он пересчитал их и выругался: не хватало двух голубей — Трубача и Забияки.
К нему подбежал Колька.
— Я ж говорил тебе, говорил: -это все Оськина работа...
— Ну погоди же, Бородуля!.. Будет тебе выволочка.
— А знаешь что? — подсказал вдруг Колька.— Пошли сейчас же к Бородулиным, пока там девчонки... И поговорим с ним.
Витька подумал, почесал в затылке, потом запер клетку с голубями.
— Пошли! — кивнул он.
В ЧУЖОМ САДУ
Перед окнами бородулинского дома раскинулась зеленая лужайка, посреди которой стоял новенький сруб, сиявший на солнце золотистыми бревнами.
Клавкина компания забралась в сруб и через оконные проемы стала наблюдать за домом Бородулиных, надеясь, что Борька вот-вот выйдет на улицу.
14
Но прошло пять минут, десять, а Борька не показывался.
— Давайте покличем его,— предложила Маша Затевахина.
— Нет,— сказала Варя.— Лучше давайте в лапту. Только кричите погромче.
Дрохи разбились на две партии и начали играть. Они так старательно кричали и визжали, что из домов то и дело выглядывали хозяйки и с недоумением покачивали головами.
Но Борька не появлялся.
— Может, его дома нет, а мы из кожи лезем,— сказал запыхавшийся от бега Мишка.— Или он в саду работает, не слышит нас.
Ребята огляделись. Впереди дома палисадник, потом высокий дощатый забор, справа к участку вплотную примыкает изгородь соседского сада, слева тянется узкий проулок.
Клава кинула взгляд на высокий тополь и шагнула к нему.
— Я заберусь,— опередил ее Мишка.
Он проворно, как кошка, залез на дерево, несколько минут изучал сад и огород Бородулиных и, спустившись обратно, сообщил, что там, кроме Борьки, никого нет. Видимо, Матрена с Оськой ушли на базар торговать ягодами.
— А что Борька делает? — спросила Варя.
— Грядки поливает.
— Опять, значит, воду таскает! — вздохнула Клава и, подумав, заявила: — Как хотите, а я, пожалуй, на участок заберусь со стороны оврага.
— Да что ты? — удивилась Маша Затевахина.— Бородулиных не знаешь?.. Поймают — такого ли деру дадут!
— Так их же нет, Бородулиных... Я ведь не за ягодами, а в разведку. Мне бы только с Борькой повидаться.
— Все равно не поверят. А потом у них в саду колючая проволока всюду натянута. И сигналы разные.
— А я ужом, по-пластунски.
Клава приказала дрохам в случае опасности подать ей сигнал, а сама юркнула в проулок.
Добежав до оврага, она огляделась по сторонам, примяла палкой густую крапиву, раздвинула жерди в изгороди и пролезла в сад. Осторожно пробралась сквозь заросли малинника, прижимаясь к росистой траве, подползла под колючую про¬
15
волоку и оказалась у освещенного солнцем огорода. Грядки с помидорами, огурцами и редиской тянулись до самого двора. Они были ухожены, прополоты, помидоры привязаны к аккуратным белым колышкам.
«Вон тут сколько всякого! — с удивлением подумала Клава.— Как в совхозе... И зачем столько грядок на одну семью?»
Клава еще раз окинула взглядом огород. Где же Борька?
Наконец в дальнем углу огорода около небольшого пруда, затянутого зеленой ряской, она заметила коренастого мальчишку лет десяти. Зачерпнув ведрами воду, он направился к грядкам с помидорами.
Хоронясь за кустами малины, Клава неслышно поползла навстречу мальчишке. Борька шагал, ссутулившись и тяжело дыша. Ведра оттягивали ему руки.
Подойдя к грядке, Борька опустил ведра на землю и подул на ладони. Потом он перелил воду в лейку и принялся поливать помидоры.
Дырочки разбрызгивателя засорились, и вода вытекала медленно, еле приметными струйками.
Мальчишке, видимо, все это до смерти надоело: он не стал переливать в лейку второе ведро и с размаху выплеснул воду на грядку. Отбросил пустое ведро в сторону и, задрав подол рубахи, вытер взмокший лоб.
— Вот и правильно! —невольно вырвалось у Клавы.— Хватит тебе надрываться!
— Кто здесь? Чего надо? — вскрикнул Борька, оборачиваясь на голос.
Клава поднялась из-за куста и шагнула к мальчику.
— Здравствуй, Боря! Тебя ведь Борькой зовут? Правда? А меня — Клавой..;
— Ну, Борькой,— растерянно признался мальчик.— А ты откуда знаешь? — Он подозрительно оглядел девочку и покосился на бородулинский дом.— Ладно, зубы не заговаривай. Зачем сюда забралась? За клубникой?..
— Да нет... Я не за тем. Я к тебе от наших ребят, от пионеров. Познакомиться с тобой хотим.., Ты почему на улицу гулять не выходишь?
— Некогда мне,— буркнул Борька,— дела тут всякие.
16
А ты что, в батраки к Бородулиным нанялся? Сколько они платят тебе?
— Зачем в батраки? — обиделся Борька.— Они мне не чужие, Бородулины-то. Тетя Матрена с моей мамкой — сестры родные. Только мамка не Бородулина была, а Капелюхина.
— А почему «была»? — осторожно спросила Клава.
— Похоронили ее весной,— помолчав, глухо выговорил Борька.— А отец еще раньше умер. Вот меня тетя Матрена и взяла к себе.
Клава мельком оглядела мальчика. Заношенная синяя рубаха без ремня, на коленях штанов прореха, голова давно не стрижена, на шее косички рыжеватых волос, на лице грязные разводы, словно Борька с неделю не умывался, взгляд диковатый, насупленный.
— Чего ты словно беспризорник?.. — спросила Клава.
— Это я на работе такой. А так у меня все есть: и рубаха новая и штаны. Тетка обещала и башмаки купить,— торопливо пояснил Борька и вдруг спохватился: — Ну ладно... Ты иди... мне еще ягоды надо собирать... Три решета.
— Давай я тебе помогу,— предложила Клава.
— Нет, лучше уходи. А то еще тетка с базара вернется.
— Я немножко..,
В четыре руки они принялись собирать клубнику.
— Ты ешь, не стесняйся,— сказал Борька, заметив, что девочка жадно поглядывает на соблазнительные ягоды.— Я-то уж сытый, оскомину набил.
Вскоре три решета были доверху наполнены ягодами.
Борька отыскал старый берестяной кузовок, наполнил его клубникой и протянул Клаве.
Девочка замахала руками: нет, нет, она совсем не за тем пришла сюда.
— Бери, бери, ребят угостишь... — Борька сунул ей в руки кузовок и кивнул на дом Бородулиных: — У них ягод много. Хватит и еще останется.
— Та-ак! Очень даже похвально! — вдруг раздался насмешливый хрипловатый голос.
— Убегай скорее... тетка идет! — вздрогнув, шепнул Борька.
2 Библиотека пионера, т. 7
17
Но было уже поздно: к ягодным грядкам подходила хозяйка дома. За ней следовал ее сын Оська. Рослая, с круглым подбородком, закутанная не по погоде в теплый платок, Матрена швырнула в сторону пустую корзину из-под овощей, одной рукой цепко ухватила Борьку за шиворот, а другой вырвала у Клавы кузовок с ягодами.
— Это кто тебе дозволил всяких чужих-непрошеных в сад пускать? — обратилась она к племяннику.— Да еще ягодами одаривать?..
Борька растерянно молчал.
— Я кого спрашиваю? — Тетка с силой тряхнула мальчика, но тот только покраснел и продолжал упрямо сопеть.
— Тетя Матрена, вы ж задушите его! — взмолилась Клава, видя, как ворот рубахи врезался в Борькину шею.
— Ничто ему, нехристю!.. Ишь какую моду взял! Тетка из дому, а он все калитки настежь. Входи, кому не лень, пасись на чужом ягоднике!
— Да нет же, тетенька! — вырвалось у Клавы.— Борька тут ни при чем... Я здесь сама по себе... и не через калитку совсем...
— Это как то есть не через калитку? — насторожилась Матрена, выпуская ворот Борькиной рубахи.— Значит, тайным путем забралась, через изгородь?.. На чужие ягоды польстилась?.. Ах ты, воровка, тварь негодная! Оська, держи ее!
Мать и сын схватили девочку за руки.
— Не смейте, пустите меня! — закричала Клава.
— Нет уж,— твердила Матрена,— пусть вся улица увидит, какая ты до чужого добра охочая да падкая!
— Ничего я у вас не тронула... ни одной ягодки! — продолжала кричать Клава.
— Так уж и ни одной! — ухмыльнулась Матрена. Она вдруг захватила из решета пригоршню клубники и прижала ее к лицу девочки. Розовый сок окрасил Клаве губы, нос, щеки, подбородок, растекся по шее, запятнал воротник платья.
— Вот теперь кричи, что ничего не воровала, кричи!.. А улика-то вот она! — захохотала Матрена, волоча с Оськой девочку к калитке.
Клава извивалась всем телом, стараясь вырваться, пыталась даже укусить Оську за руку, но все было бесполезно. Сейчас
18
Бородулины вытащат Клаву на улицу, показывая всем встречным ее лицо, измазанное ягодным соком.
От злости у Клавы из глаз брызнули слезы. Что было делать? Где ее друзья?
Но едва Бородулины вытащили Клаву на улицу, как под ноги им бросилось несколько девчонок. Матрена выпустила Клавину руку и, словно куль с сеном, повалилась на землю.
В то же мгновение мальчишки прыгнули на Оську, сбили его с ног, и Клава почувствовала, что и другая рука у нее свободна.
— Беги! — крикнул ей один из мальчишек, и девочка узнала в нем Витьку Скворцова. Озорно блестя глазами, он сидел верхом на Оське Бородулине, которого прижимали к земло Колька с Мишкой, и брючным ремешком связывал его ноги.
Багровый от натуги Оська пытался сбросить с себя ребят и грозил им жестокой расправой.
Девчонки между тем втолкнули Оськину мать в огород, захлопнули калитку и приперли ее снаружи толстым колом.
Варя схватила Клаву за руку, и они побежали вдоль улицы.
Мальчишки дождались, когда девочки свернули в переулок, и, помахав Оське рукой, направились к реке.
— Имей в виду, Бородуля,— сказал ему на прощание Витька,— нас теперь целая компания. Всегда скрутим и одолеем.
Пыхтя и чертыхаясь, Оська принялся развязывать хитроумно затянутый на ногах ремешок.
СНОВА ВМЕСТЕ
На другой день у Евдокии Федоровны был выходной.
Встав пораньше, она решила не торопясь приготовить дочкам завтрак, потом постирать белье и заняться огородом.
Стараясь не разбудить Клаву и Лелю, которые спали за перегородкой, мать неслышно вышла из комнаты, спустилась по лестнице во двор и направилась к сарайчику, чтобы набрать картошки на завтрак.
И тут она услышала приглушенные голоса и всплески воды.
Евдокия Федоровна заглянула за угол сарайчика и увидела
19
дочерей. Взбив в железном тазу пышную радужную пену, Клавка стирала белье2 а Леля прополаскивала его в деревянном корыте.
— Вы что это поднялись ни свет ни заря? — удивилась мать.— А я думала, вы еще в постели...
— А мы... мы субботник проводим,— пояснила раскрасневшаяся Леля.— Сначала постираем, а потом комнату уберем, пол вымоем. У тебя же выходной, мама...
Евдокия Федоровна окинула взглядом белье, развешанное па дереве. Трусики, сорочки, платья, полотенца... Вон и ее кофта и юбка сохнут на ветру. Нет, что ни говори, а девчонки у нее старательные, не боятся никакой работы.
Взгляд матери упал на белое в красный горошек платье, которое сохло на веревке. Воротничок в розовых потеках и разводах.
Евдокия Федоровна нахмурилась.
«Так вот почему Клавка чуть свет принялась за стирку!»
— Вчерашние следы замываешь...— с обидой заговорила мать.— Вот уж не ожидала, дочка, что ты меня так ославишь.
— Что ты, мама! — побледнев, вскрикнула Клава.—Как ты могла поверить!
— Верь не верь, а вся улица твердит: Клавка Назарова хуже мальчишки стала, разбоем занялась, на чужое добро польстилась.
На глазах у Клавы выступили слезы.
На защиту старшей сестры ринулась Лелька.
— Клавка, да скажи ты маме. Это же неправда! Врет Боро- дулиха, врет... Ну, чего ты молчишь? Как за других, так всегда вступаешься, а за себя не можешь! — Махнув на сестру рукой, Леля торопливо рассказала матери про вчерашнее: и как племянник Матрены Бородулиной таскает в день по тридцать ведер воды, и как Клавка пробралась в чужой сад, и как Матрена измазала ей ягодами лицо и платье.
— Ты ребят спроси... Они все видели, подтвердят. Да и Клавка врать не умеет... Ты же сама знаешь.
Евдокия Федоровна задумалась: это верно, не умеет ее старшая кривить душой.
20
— Ладно, дочка,— вздохнув, сказала мать.— Ты уж подальше держись от этих Бородулиных, не связывайся с ними.
— Почему, мама?
— Сквалыги они, скандалисты. Ни стыда у них, ни совести. Любого ославить могут.
— Откуда же на нашей улице такие люди взялись? — с недоумением спросила Клава.
— Говорят, из кулаков они... из деревни откуда-то сбежали,— пояснила мать.— Во время коллективизации... Дом здесь купили, огород развели, торговлишкой занялись.
— Мама,— помолчав, вновь заговорила Клава,— а если вот мальчик у них живет, племянник... И он по тридцать ведер воды в день носит... И кричат на него... и гулять не пускают...
— Это уж, дочка, их дело, родственное. И незачем нам через забор к ним заглядывать. Нас это не касается...
— Это как не касается?! — вспыхнула Клава.
Евдокия Федоровна задумчиво покачала головой: а ведь это, пожалуй, очень хорошо, что у девчонки такое отзывчивое сердце.
Закончив стирку, Клава с Лелей позавтракали и вышли во двор. Здесь их уже поджидали дрохи. Поодаль на бревне сидели Витька с Колькой.
— Клава,—шепнула ей Варя,—голубятники тоже к нам в компанию хотят. «Раз, говорят, вы против Оськи Бородулина, то и мы с вами...»
— А знаешь, кто вчера Оське ноги придумал связать,— сказала Маша Затевахина,— и Бородулиху запереть? Это все Скворцов с Колькой.
— Так в чем же дело? — сказала Клава.— Зовите их скорее.
Коля и Витька подошли неторопливо и вытащили из-за пазухи по белому голубю.
— Ваши? — спросил Витька.
Клава не очень уверенно кивнула головой.
— Кажется, наши. Откуда они у тебя?
— Кажется! — фыркнул Скворцов.— Своих голубей не знаете... Их Оська Бородуля сманил. А мы их нынче обратно переманили. Забирайте вот.— Он протянул Клаве голубей.
— Спасибо,— смущенно поблагодарила девочка.
Лелька понесла голубей в клетку, а Клава отозвала подруг
21
в сторону и зашепталась с ними. Потом подошла к Витьке с Колькой.
— Ребята, мы вот тут подумали... Если вы с нами будете, то забирайте всех наших голубей... Учите их, тренируйте. А осенью голубей в школу подарим.
— Ого! Вот это привалило! — обрадовался Колька.— Ну как, Вить, беремся?
Приятель для виду почесал в затылке.
— Можно, конечно, попробовать,— согласился он.— Только, чур, чтоб полный порядок был...
Клава взяла у Лельки ключ от голубятни и передала его Скворцову.
— Пошли в лагерь! — пригласила она ребят,— Посмотрите, как дрохи живут.
— Что это за дрохи такие? Мы с Витькой гадали, гадали...— спросил Колька.
— Это же очень просто,— улыбнулась Клава.— Дружные рыбаки и охотники. Сокращенно дрохи. Теперь понятно?
— Дрохи! Придумали тоже...
НА БАЗАРЕ
Дрохи вышли за город и спустились к реке, к тихой, укромной заводи, где в зарослях камыша у них был спрятан плот.
Но не успела Клава показать Витьке с Колькой хитро замаскированный плот, как к заводи подбежали трое мальчишек- третьеклассников.
Клава их хорошо знала: ребята часто бывали у дрох на острове, ловили с ними рыбу, учились плавать, жгли костры.
— Что с вами? Откуда вы такие? — спросила Клава, подозрительно оглядывая мальчишек.
Они были встрепанные, потные. Саша Бондарин потирал рукой пунцовое ухо, а Дима Петровский размазывал по щекам слезы.
— А ну, не хнычь! — прикрикнул на него худенький чернявый Федя Сушков.— Разнюнился тоже... плакса-вакса. Все равно мы у Бородули рыбу отнимем...
22
— Как же, отнимешь у него!..— не унимался Сашка.
— Рыбу? — спросила Клава и только сейчас увидела в руках у мальчишек пустые кошелки.— При чем здесь Бородуля?
Переглянувшись с дружками, Федя рассказал.
Всю эту неделю они очень удачно, без удочек и крючков, ловили карасей. Обучил их этому Мишка Осинкин, а того, в свою очередь, мельничный сторож дедушка Игнат, старый рыбак и охотник. Делалось это так. Мальчишки брали обыкновенную корзину и обшивали ее мешковиной, оставляя лишь небольшие отверстия. Затем, положив в корзину краюху хлеба для приманки рыбы и увесистый булыжник вместо грузила, они забрасывали ее на дно бочага.
Почуяв запах размокшего хлеба, караси набивались в корзину, и утром их только доставай оттуда.
Вот и сегодня мальчишки пришли к бочагу, чтобы забрать очередной улов. А там уже хозяйничали Оська Бородулин и Борька. Они подняли со дна бочага корзину и переложили всех карасей в свою кошелку.
— А вы что ж, стояли да смотрели, как вашу рыбу забирают? — спросила Клава.
— Мы хотели отнять,— хмуро сказал Федя.— Да знаешь, какие кулаки у Бородули...
— Ну и шкура этот Оська! — возмутился Витька.— Мало ему чужих голубей, теперь еще рыбу у малышей отнимает.
— А вчера Оська ягоды отнял у девчонок,— сказала Варя.— Подстерег их в лесу да как завоет по-волчьи! Девчонки перепугались и бежать. И кузовки с ягодами побросали.
— А этот самый Борька, он тоже у вас рыбу таскал? — осторожно спросила Клава.
— Нет, он в стороне стоял, кошелку держал,—ответил Федя.
— Мало мы Оську вчера проучили... Придется добавить,— заметил Скворцов.
— Куда они пошли? — спросила Клава у Феди.
— На базар. Наверное, сейчас монету зашибают.— Федя вздохнул.— Знаешь, какие у нас караси были? Один к одному.
Минут через десять Клавкина компания уже подходила к городскому базару, что раскинулся на площади недалеко от моста Яерез Великую.
2.3
Ребята миновали колхозные подводы с зерном и сеном, прошли через овощной ряд и, наконец, подошли к столам, где шла бойкая торговля мясом и рыбой. Оськи нигде не было. Но за одним из столов ребята заметили Матрену Бородулину. Перед нею стояли корзина с рыбой и весы.
— А вот караси, золотая рыбка! — зазывала она покупателей.— Свежие, отменные. Сама бы жарила — деньги нужны. Налетай! Спасибо скажете.
Федя дернул Клаву за руку.
— Это наша рыба,— шепнул он.— Из бочага!
Девчонка подошла к столу. Рядом с Матреной стоял Борька Капелюхин. Он накладывал рыбу из корзины на чашку весов и, дождавшись, когда тетка взвесит ее, заворачивал в газету и передавал покупателю. Руки у мальчика были покрыты слизью, к рубахе прилипли золотистые рыбьи чешуйки.
Заметив Клаву и мальчишек, Борька виновато съежился и втянул голову в плечи. Несколько карасей выскользнуло у него из рук.
— Ты что ж рыбу-то в пыли валяешь! — прикрикнула на него тетка и, заметив Клаву, удивленно вскинула голову.—А-а... Старая знакомая... Тебе-то чего здесь?
— Ваш Оська вот у этих мальчишек рыбу отнял.— Клава показала на Федю и его дружков.— Отдайте им рыбу... Не верите? Борьку спросите... Он все видел!
Матрена воровато оглянулась по сторонам и, стараясь не привлекать внимания соседей, угрожающе зашипела:
— Ты что, голубушка, белены объелась?.. Вчера на ягоды позарилась, теперь на рыбу... А ну, шасть отсюда!..
Клава подалась было назад, но рядом етояли подруги, Витька с Колькой, Федя с мальчишками. Они горячо дышали ей в затылок, подталкивали под локти.
И Клава вновь вцлотную придвинулась к столу.
— Никуда мы не уйдем! — заявила она.— Верните ребятам карасей!
— Это наша рыба! Наша! — во весь голос закричал Федя и запустил руку в корзину, ухватил под жабры крупного красноперого карася и сунул себе в кошелку.— Разбирай, ребята!
24
— Ах вы, жулье базарное! — побагровела Матрена и, выскочив из-за стола, бросилась к мальчишке.
Федя ловко увернулся и юркнул в толпу. Марфа с истошным криком «Держите вора!» побежала за ним.
Клава переглянулась с Витькой и Варей. Ну и глупый же этот Федька! Сейчас Бородулиха переполошит весь базар и ни за что ни про что обесчестит мальчишек. Что было делать?
— Борька! Да ты человек или кто? — с отчаянием закричала Клава.— Чего ты молчишь? Ты же все видел, все знаешь! Ну, скажи, чья это рыба, чья?
Борька вздрогнул, диковато оглянулся по сторонам, потом вдруг подвинул корзину с карасями на край стола и, кивнув Витьке с Сашей, хрипло сказал:
— Берите! Ваша рыба. Я знаю...
Когда Матрена, взмокнув от пота и тяжело дыша, с помощью какого-то рослого парня подтащила к столу упирающегося Федю, она застала такую картину.
Корзина с рыбой была наполовину пуста, а ее племянник поспешно кидал карасей в кошелки мальчишек.
Ошеломленная Матрена выпустила ворот Фединой рубахи и кинулась к племяннику.
— Ах ты, змееныш!.. Семя крапивное! — процедила она и, выхватив из корзины увесистого карася, принялась хлестать скользким рыбьим хвостом мальчика по щекам.
Не помня себя, Клава кинулась к Матрене и вцепилась ей в руку.
— Не смейте! Ребенка!
И это прозвучало как боевой клич. Ребята, словно по команде, окружили Матрену; они хватали ее за руки, тянули за юбку, загораживали Борьку от ударов.
Неожиданно раздался переливчатый свисток, и к столу протолкался молоденький милиционер.
— В чем дело, граждане?
Увидев милиционера, Матрена пустила слезу и принялась жаловаться на бесчинство ребятишек: не дают спокойно торговать, воруют рыбу среди бела дня...
— А чужими карасями торговать можно? — воскликнула Клава.— А ребятишек бить дозволено?!
25
— Да не слушайте вы., ее! — перебила девочку Матрена.— И что за дети пошли, только взрослых шельмуют! А еще пионерия... Красные косынки на шее... Срам один...
Клава обернулась к милиционеру.
— Заберите нас в милицию!..
Милиционер с недоумением окинул взглядом ребят и спросил:
— Кого же именно?
— Всех, всех заберите. И торговку эту, и племянника ее, и всех пионеров наших. Мы вам в милиции обо всем расскажем.
— И впрямь, товарищ милиционер,— сочувственно сказал кто-то из толпы.— Надо разобраться.
— Недосуг мне по милициям расхаживать,— отмахнулась Матрена. Подавшись вперед, она вырвала у Фединых дружков кошелки с рыбой и высыпала карасей в корзину.
— Нет уж, гражданочка, придется пройти,— сказал милиционер и обратился к толпе: — Свидетели среди вас найдутся?
— Есть свидетели, есть! — отозвалось несколько голосов.
— Тогда попрошу, граждане...— пригласил милиционер.— Придется, конечно, и рыбку прихватить...
И он повел всех через базарную площадь к старинным торговым рядам, где помещалось отделение милиции.
БАТРАКИ ПОНЕВОЛЕ
В милиции Матрена Бородулина выкручивалась, как только могла.
Припертая к стенке показаниями ребят и свидетелей, она, наконец, созналась, что с рыбой ее попутал сынок Оська, у которого с ребятами, как видно, имеются давние счеты.
А от этой рыбы и пошли все прочие беды: она, Матрена, под горячую руку и ребят жуликами обозвала и племянника обидела. Но пусть уж Боренька не сердится — в своей семье чего не бывает!..
— Семья семьей, но рукоприкладством заниматься не имеете права,— предупредил ее дежурный по милиции.— Имейте в виду, в случае повторения, будете отвечать по закону.
26
— Спаси и помилуй,— истово закрестилась Матрена.—Пальцем больше не трону! Как можно! Он же не чужой мне, Боренька, свой человек, кровинка родная...
— Ну хорошо, гражданка. На первый раз мы вам поверим. Можете идти.
— Ас рыбкой как же? — спросила Матрена.
— Придется вернуть по назначению.— Дежурный передал карасей Феде и его приятелям.
Довольные первой победой, ребята вышли из милиции.
— А радоваться-то еще рано,—сказала Клава, когда возбуждение ребят немного улеглось.— Рыбу мы отобрали, а как теберь Борьке у Бородулиных придется, это еще темным-темно.
— Верно! — согласилась Варя.— Матрена, она, как Лиса Патрикеевна, может и притвориться. В милиции одно говорила, а дома другое сделает.
— Да и Оська теперь своему братцу спуску не даст, припомнит ему карасей,— заметил Димка.
С этого дня дрохи взяли Борьку Капелюхина под свое неустанное наблюдение.
Постоянно около дома Бородулиных дозорил кто-нибудь из ребят. Чтобы переговорить с Борькой и узнать, как он живет, ребята ловили его на улице или пробирались к нему в огород.
Они собрали кое-что из одежды, и Клава поручила девочкам отнести все это Борьке. Сама она к Бородулиным не пошла: не могла видеть хозяйку дома, боялась, что взорвется и наговорит ей дерзостей.
— Вы идите, а я вас на улице подожду,— сказала она Варе.— И вызнай там, чего еще Борьке требуется.
Варя с подружками провели в доме Бородулиных минут десять. Тетя Матрена, против обыкновения, приняла девочек довольно приветливо, охотно взяла ребячьи штаны и рубахи и, сунув их в комод, сказала, что они, Бородулины, не нищие, но от доброй помощи отказываться грех. Племянник растет как на дрожжах, и одежды на него не напасешься. А если у ребят найдется лишняя обувка, Бореньке она тоже не помешает.
Потом Матрена подозвала племянника и велела ему успокоить «глазастых доглядчиков», подтвердив им, что живет он у тетки, как у Христа за пазухой, никто его не обижает. А если
27
Боря редко показывается на улице, так это потому, что он любит копаться в грядках и ухаживать за садом. Он и воду для полива таскает по своей охоте: жалеет каждый росточек, как бы тот не зачах от жары.
При этом Матрена потрепала племянника по взъерошенной голове и громко засмеялась.
— Ведь правда, племяш? Ну, скажи им...
— А что же Борька? — спросила Клава.— Подтвердил или нет?
— Да так, промычал что-то... И сразу же убежал,— ответила Варя.— Матрена даже расстроилась. «Дичок, говорит, у меня племянник, нелюдим. Такой уж он с малолетства, тронутый...»
— Хитрит эта Бородулиха, зубы нам заговаривает,— не поверила Клава.— Ишь ты... нелюдим, тронутый... Будешь тут тронутый от такой работы! Надо помочь Борьке таскать воду.
— Как это? — удивилась Варя.— Разве ж Матрена допустит кого к своим грядкам!
— А мы ей прямо скажем... И не отступим от своего,— заявила Клава.— Или не мучайте больше Борьку, или пускайте нас на участок к себе.
Через несколько дней пионеры предъявили Матрене свой «ультиматум». Они ожидали, что Бородулиха высмеет их и погонит прочь, но та, к их удивлению, осталась даже довольна.
— Милости прошу, заходите. Артелькой-то оно споро дело пойдет. Дружно, говорят, не грузно...
С этого дня почти каждое утро двое или трое ребят трудились вместе с Борькой: таскали воду, поливали гряды, рыхлили землю.
Матрена с довольным видом поглядывала на неожиданных помощников и, когда они заканчивали работу, не скупилась на похвалы.
— Прилежно работали, по-ударному. Прямо хоть премию выдавай. Ну, коли так, попаситесь малость на грядке, поешьте клубнички...
— Нет уж, спасибочко,— отказывалась Клава.—Сами ешьте, а мы не за тем приходим сюда...
28
На душе у ребят было нехорошо. Дрохи как будто выручали Борьку, а на деле работали на торговку и спекулянтку.
На улице стали даже поговаривать, что Клавкина команда добровольно пошла батрачить на Бородулиных.
— Не надо мне больше помогать,— как-то раз заявил Борька пионерам.— И на огород больше не ходите. Оська с теткой смеются над вами: дурачки, мол, лопухи...
— А как же ты один будешь? — спросила Клава.
— Ничего,— вздохнул Борька.— До школы как-нибудь продержусь... Теперь уж недолго.
— А ты особо-то не надрывайся, похитрее будь,— посоветовал Колька.— И грядки поливай не так часто и рыхли их помельче... Кого-кого, а Бородулиных и обмануть не, жалко.
— Нет, я так не умею,— с грустью покачал головой Борька и, помолчав, добавил: — Уж лучше я в деревню вернусь. Меня там в подпаски примут.
— А разве тетка отпустит тебя? — спросила Варя.
— А я... я и без спросу могу,—вполголоса сказал Борька.— Соберусь потихоньку и был таков... Ищи ветра в поле.
— Ногоди, погоди! — остановила его Клава.— Зачем же в деревню?.. Убегай тогда к нам, на остров. С нами в лагере будешь жить, купаться, загорать, рыбу ловить. А осенью в школу пойдешь...— Она окинула взглядом своих товарищей.— Ну как, примем к себе Борьку?
Ребята согласно закивали головами. Жаль, что раньше не подумали об этом!
Потом принялись деловито обсуждать, как и когда Борьке удобнее всего исчезнуть из дома Бородулиных и что с собой захватить.
— Ничего не надо...— решительно заявил Витька.— Пусть так и бежит, в чем есть.
— Тетка же, она такая, сразу меня найдет,— помялся Борька.
— Эге,— ухмыльнулся Витька.— Не так это просто... у нас все под секретом да в тайне.
— Нет, нельзя Борьке бежать,— заявила Варя.— Ему только хуже будет, когда он обратно к тетке вернется. Тут надо что- то другое придумать...
29
— А знаете что? — предложила вдруг Клава.— Мы должны его... похитить!
— Как это? — не понял Борька.
— Ну, скажем, ляжешь ты спать в шалаше на огороде, а мы на тебя нападем ночью и утащим к себе. Ты, конечно, для виду сопротивляйся, кричи...
— Не надо меня похищать,— засмеялся Борька.— Я сам приду.
НА ОСТРОВЕ
И верно, через несколько дней Борька исчез из дома Бородулиных.
В шалаше, где обычно он спал, Матрена обнаружила лишь короткую записку. «Борьку не ищите,— прочла она.— Он сам вернется к первому сентября. Вы его замучили непосильной работой на огороде, ему надо отдохнуть и поправиться. Дрохи».
Матрена зло порвала записку и приказала Оське выследить во что бы то ни стало, куда Клавкина команда спрятала Борьку.
Оська охотно взялся за дело: наконец-то он за все расквитается с пионерами.
Оделив своих дружков ягодами и яблоками, пообещав за поимку Борьки каждому по три рубля, Оська вместе с ними установил за дрохами тщательное наблюдение.
Вскоре удалось узнать, что пионеры прячут Борьку на Камышовом острове.
Днем они вместе с Борькой в лагере, а ночует мальчишка в доме у Клавы или у Скворцова.
— Хочешь, мы нападение на Клавкин лагерь устроим? — предложил Оська матери.— Ребята у меня такие... Им только по трешке в зубы выдай, зараз Борьку захватят.
— Ну и захватят, а дальше что? — перебила его мать.— А Борька возьмет да и опять в лагерь сбежит. Нет, тут что-то другое надо придумать. Так чем, говоришь, эти сорванцы в ла- гере-то занимаются? Рыбу ловят, купаются, костры жгут? И малыши, говоришь, в лагере бывают?
— Клавка их со своей улицы собирает,— подтвердил Оська.— И на плоту катает и плавать учит...
30
— Вот это уж другое дело,— задумчиво сказала Матрена.
На другой день, встретившись у колодца с матерями второклассников, она ловко пустила слушок про Камышовый остров. Знают ли мамаши, что их детишки целые дни пропадают на острове и Клавка Назарова заставляет их и нырять, и плавать, и лазать по деревьям? А долго ли до беды?
Женщины не на шутку встревожились и решили побывать в «Клавкином лагере».
Через несколько дней, когда ребятишки с Набережной улицы с утра неизвестно куда исчезли, Матрена с Оськой раздобыли большую лодку и повезли четырех матерей на остров.
— Вот уж полюбуйтесь, какие там дела творятся,— сказала им Матрена.
Незаметно высадившись на отдаленном конце острова, женщины пробрались через заросли камыша к лагерю и заметили ребятишек. Они были разбиты на две группы. Одну группу Витька обучал стрельбе из лука, другая под присмотром Клавы занималась плаванием.
Девочка стояла по грудь в воде и внимательно следила, как малыши по очереди переплывали небольшую заводь.
— Так, Федя! Хорошо! — подбадривала она.— Не торопись! Дыши ровнее...
— Федечка! Сынок! — вдруг испуганно закричала одна из женщин.— Да куда ж тебя понесло, окаянного? Вылазь из воды скорее!
Услышав голос матери, Федя Сушков оглянулся, судорожно замахал руками и вдруг захлебнулся. Клава помогла ему добраться до берега.
— Да что ж ты, сорвиголова, делаешь! — набросилась на девочку Федина мать.— Утопить мальчишку собралась!.. Он же у меня с рождения воды боится...
— А зачем вы крик подняли? — рассердилась Клава.— Вот Федя и перепугался. А к воде он уже привык...
— Да вы посмотрите только! — всплеснув руками, заговорила мать Саши Бондарина.— Из лука стреляют!.. Так и глаз выбить недолго. И костер жгут и дрова топором рубят... Да кто же вам самоуправничать дозволил?
31
— Все она, заводиловка,—кивнула на Клаву Федина мать.— Надо будет в школе сказать, чтобы приструнили ее.
Женщины заставили малышей вылезти из воды и одеться. У Витьки были отобраны лук, стрелы и преданы уничтожению. Около шалаша женщины заметили свои кастрюли, миски, кружки — так вот куда исчезала посуда из дома! Кто-то залил водой костер, кто-то развалил шалаш.
— Что вы, тетеньки? Зачем? — закричала Клава, хватая женщин за руки.— Это же наш лагерь! Мы живем здесь, играем!
— Доиграетесь, потом беды не оберешься! — сердито отмахнулась от нее Федина мать и приказала малышам: — А ну, марш все отсюда! Садитесь в лодку! Вот дома матери с вами поговорят, пропишут вам лагерь...
— Клашка, смотри!—шепнула вдруг Варя.—Борьку увозят.
Девочка оглянулась. Лодка уже далеко отошла от острова.
Веслами правил Оська, а Матрена, крепко держа Борьку за руки, сидела на корме.
Дрохи смущенно переглянулись. Как же они ничего не заметили: ни появления Оськи с матерью, ни захвата Борьки?!
— Ребята, в погоню! Отобьем Борьку! —скомандовал Витька и бросился в воду.
Но было уже поздно: лодка причалила к берегу.
Витька вернулся обратно.
Высадив мать и Борьку, Оська погнал лодку обратно к острову, а Матрена, довольная тем, что так ловко захватила племянника, повела его к дому.
Борька упирался, часто оглядывался на остров, но тетка властно подталкивала его в спину.
Сделав несколько заездов, Оська, наконец^ переправил женщин и малышей на берег. На острове остались одни лишь дрохи.
Они с грустью оглядели потухший костер, разваленный шалаш, весь как-то сразу опустевший остров.
— Вот и конец! — вздохнула Маша Затевахина.— И Борьку увезли, и лагеря нет...
— Да мы Борьку завтра же вернем! — загорячился Витька.
— Теперь уж не нужно,— сказала Клава,— скоро ведь в школу.
32
— А все равно хорошо было! мечтательно улыбнулась Варя— Дружили, играли. И ребятишкам здесь понравилось, и Борька две недели с нами прожил...
— Только чур,— строго предупредил Витька,— в школе чтобы вместе за лагерь отвечать, а не одной Клавке. Всем дрохам.
Ребята согласно кивнули головами.
ДОРОГА В ШКОЛУ
Наступило первое сентября.
Клава проснулась чуть свет, нагрела на примусе утюг и выгладила свое и Лелькино платье и пионерские галстуки. Потом разбудила сестренку.
— Давай сегодня первыми в школу придем,— предложила Клава.
Лелька согласилась.
Позавтракав, девочки набили учебниками холщовые сумки, упаковали в газеты подарки для школы: Леля — альбом с засушенными цветами и листьями, а Клава — выкопанный ею в лесу причудливый корень дерева, похожий на дядьку Черномора,— и побежали в школу.
Они пересекли Базарную площадь, вымощенную крупным глянцевым булыжником, с приземистым угрюмым собором посредине, миновали старинные торговые ряды и вышли на тихую, затененную тополями Школьную улицу.
Правда, судя по дощечкам на домах, улица имела другое название, но оно как-то забылось, и все именовали улицу Школьной, может быть, потому, что она безраздельно принадлежала детям и на ней находилась лучшая в городе школа № 1 имени Ленина.
Клава первой вбежала в большое двухэтажное, потемневшее от времени кирпичное здание школы.
В школе было празднично и нарядно.
Над лестницей висел кумачовый плакат с белыми буквами «Добро пожаловать!», в горшках на подоконниках стояло много цветов, в классах пахло свежей краской, а черные парты блестели, как новенькие.
33
В своем шестом классе «А» Клава облюбовала парту у окна, откуда хорошо был виден мост через Великую.
Затем через черный ход Клава выскользнула в школьный сад. Осмотрела кусты малины, смородины, нашла яблоневый рядок пятого класса и свой саженец, на котором висела фанерка с надписью: «Клава Назарова». Он был еще тоненький, слабый и ростом не выше девочки.
— Ничего, яблонька, это я летом про тебя забыла,— вслух подумала Клава.— А теперь уж возьмусь!..
От сада рукой подать до спортплощадки.
Клава покачалась на кольцах, пробежала по буму, на спор с каким-то мальчишкой шесть раз подтянулась на турнике. Нет, что ни говори, а хорошо прийти в школу пораньше!
Вскоре стали собираться ученики и преподаватели.
Прошел своей легкой, быстрой походкой директор школы Иван Александрович. Показался в дверях загорелый до черноты Василий Николаевич Важин, старший пионервожатый школы,— он только позавчера вернулся из пионерского лагеря.
Рядом с Важиным, размахивая новеньким, туго набитым портфелем, шагала Зина Бахарева и что-то рассказывала ему.
— Потом, Зина, потом! — отмахнулся Важин.— Дай мне хоть с ребятами повидаться.
Он отыскал в коридоре группу шестиклассников и подошел к ним.
— A-а, Клава! — заметил Важин девочку.— Как твои почтовые голуби? Как успехи по плаванию?
— Успехи такие, что вся улица жалуется,— поджав губы, сказала Зина. Председатель совета отряда, она была очень недовольна поведением пионерки Назаровой.— Клава тут летом второклассников плаванию взялась обучать. Так Федя Сушков чуть на дно не булышул.
— И совсем нет! — ответила Клава, заметив вопросительный взгляд вожатого.— Федя один раз только захлебнулся, но мы его вытащили... Зато он плавать научился.
— Она мне всю работу срывает,— не слушая Клаву, продолжала Зина.— Ни на громкие читки не ходила, ни на участок грядки полоть. Ничего по плану не хотела делать, пока вы в лагере были... Все только по-своему. Какой-то тайный лагерь
34
устроила на острове... На кладбище пионеров водила, в чужие сады забиралась...
Побледнев, Клава резко обернулась к Зине.
— А ты... ты знаешь, зачем я в чужой сад полезла?
— А кто ж не знает! — фыркнула Зина.— Клубника там, малина, яблочки наливные! Вот уж, поди, полакомилась за лето...
— Как ты смеешь! — вскрикнула Варя.
— А еще Клавкина компания одного мальчика похитила и на острове его спрятала...
— Ты помолчи лучше... портфель на двух ножках! — подходя к Зине, крикнул Колька.
— Эге! Да тут полно всяких событий! — удивился вожатый.— Только, пожалуйста, без этого самого... Поговорим потом, разберемся. А сейчас все на занятия, скоро звонок будет.
Весь первый урок Клава не могла успокоиться: учителя слушала рассеянно, переглядывалась с подругами, с Витькой. Из головы не выходили слова Зины, что на нее жалуется вся улица. Неужели и в самом деле женщины приходили в школу?
В большую перемену Клава заглянула в третий класс, чтобы узнать, пришел ли в школу Борька.
Ученики, окружив пожилую учительницу, показывали ей свои подарки: кто гербарий, кто коллекцию камней, кто кузо- вочек из бересты.
Клава окинула взглядом ребят — Борьки среди них не было.
Неожиданно к ней подбежал Федя Сушков и, схватив за руку, потащил к учительнице.
— Мария Васильевна, вот она самая... Клава наша! — громко объявил он.
Учительница подняла голову.
— Так это ты, девочка, у ребят за вожатую все лето была?
— Нет... я не вожатая,— смутилась Клава.— Я просто так!
— Все равно хорошо. Мальчики сегодня весь урок о тебе рассказывали... и про походы ваши, и про лагерь на острове. А какую чудесную коллекцию камней они собрали!..
— А ты к нам в класс будешь заходить? — нетерпеливо спросил Федя, не выпуская Клавину руку.
— Да, да, не забывай своих друзей,— поддержала его учительница.— Почаще к нам заглядывай.
35
— Хорошо, хорошо,— забормотала Клава и спросила Марию Васильевну, не поступал ли к ней в класс новый ученик Боря Капелюхин.
— Пока не поступал,— ответила учительница.— Есть один новичок, но он совсем не такой. А кто тебе этот Капелюхин — знакомый, родственник?
— Да нет, он не родственник,— замялась Клава.— Но вроде и не чужой...
Прошел день, другой, а Борька в школе так и не появился.
— Пошли к Матрене... поговорим с ней,— предложила Клава.
Раздобыв стопку тетрадей, карандашей и пачку учебников для третьего класса, Клава, Витька и Варя отправились к Бородулиным.
Они долго стучали в калитку, но в дом их так и не пустили. Тогда пионеры зашли со стороны огорода и принялись вызывать Борьку. Прошло довольно много времени, пока он, наконец, появился за изгородью.
— Ну, чего вам? — хмуро осведомился мальчик.— Нельзя мне на улицу: тетка бранится.
— Ты почему в школу не ходишь? — спросила Клава.— Мы тебя ждали, ждали...
— Горячка у нас... Яблоки надо снимать, овощи... Я попозже приду,— растерянно сказал Борька.
— Это как — попозже? А от других отстанешь, в хвосте плестись будешь... Возьми вот! — Клава просунула сквозь изгородь учебники и тетради.
Борька прижал их к груди.
— Я догоню!.. Буду пока дома заниматься...
— А может, тебя совсем в школу не пустят? — допрашивала Клава.— Ты признайся.
Не успел Борька ничего ответить, как за его спиной появилась тетка.
— Учуяли, чем пахнет... На чужие яблочки целитесь...
— Очень нам нужно! — Клава дернула плечом.— Вы лучше скажите, почему Борьку в школу не пускаете?
— Права не имеете! — подхватил Витька.— Теперь всем ребятам учиться положено... По закону.
36
— Тоже мне законники! — фыркнула Матрена.— Да вы ж сами первые его нарушители... Племянника у меня хотели сманить, против родни его науськиваете.— Она вырвала у Борьки учебники и швырнула их за изгородь.— А это заберите! Сами купим, когда нужно будет. И проваливайте отсюда, пока Оську не позвала!
Подавленные, молчаливые ребята побрели к дому. Первой нарушила молчание Клава:
— Значит, обманула Бородулиха Борьку, не пустит его в школу.
— Иеужто он так неучем и останется?..— со вздохом спросила Варя.
— Похоже, что так,— заметил Витька.— Видали, какое хозяйство у Бородулиных... Вот Борька и батрачит под видом родни... И дешево и удобно...
На другое утро по дороге в школу дрохи встретили Борьку на улице.
Размахивая хворостиной, он гнал на пастбище трех белых коз. Козы были на привязи и тянули в разные стороны.
— Вот так тройка вороных! — фыркнул Витька и предложил Борьке свою помощь.
— Нет, нет! — отказался Борька и, оглянувшись по сторонам, вполголоса попросил: — Не надо помогать. И больше не приходите ко мне. Запрещает тетка. «Вы, говорит, жалобщики и доносчики!»
— Как это доносчики? — не понял Витька.
— Так вот... Вы, мол, сор из избы выносите. Вчера к нам какие-то тетя с дядей приходили...
— Ну и что? — насторожилась Клава.— О чем они говорили?
— Не слыхал... Тетка меня в огород отослала.
— А может, и бьет она тебя?
Борька опустил голову.
— Всякое бывает... Под горячую руку не попадайся. Все больше веником хлещет, чтобы следов не оставалось... Так что вы не приходите к нам... И не зовите меня никуда...— Взмахнув хворостиной, он погнал коз дальше.
Ребята долго смотрели мальчику вслед. Нет, они не могли больше мириться с тем, что Борька Капелюхин живет на поло¬
37
жении батрачонка и не ходит в школу. Им так хотелось, чтобы у 'Борьки были и школа, и пионерский отряд, и учителя, и хорошие товарищи, и многое-многое другое, чем была так богата ребячья жизнь. Но как все это сделать, Клава и ее друзья еще не знали.
— Что это за тетя с дядей к Бородулихе приходили?—вслух подумала Варя.— Может быть, из милиции?
— Если бы оттуда, Борька бы узнал,— возразил Витька.— У милиции же форма...
— А впрямь, ребята, пошли в милицию.
Идти в милицию ребята решили сразу же после уроков.
Весь день они просидели на уроках словно на иголках. Каждую перемену Клава пыталась разыскать старшего вожатого Важина. Хорошо, если бы и он пошел с ними в милицию! Но того нигде не было.
Наконец прозвенел звонок, и Клава, подав знак своим друзьям, бросилась к двери.
— Назарова, куда? — остановила ее Зина Бахарева.— Сегодня же сбор отряда.
— Ой, совсем забыла! — спохватилась Клава.— Нам очень нужно. Хоть на полчасика.
— А дисциплина? Где пионерская дисциплина? — закричала Зина, загораживая дверь.— Никуда я вас не пущу!
— Да пойми, дело у нас... срочное! — взмолилась Клава.— Мы в милицию идем.
— В милицию? — ахнула Зина.— Вызывают? По тому самому делу...
— По какому тому самому?
— Ну, насчет бородулинского мальчика. Значит, тетка Матрена все же пожаловалась на вас в милицию! — И она с торжествующим видом обратилась к пионерам: — Слыхали, до чего Назарова достукалась?
Клава только покачала головой.
— Ладно тебе, не задерживай!
Оттеснив Зину, она распахнула дверь и столкнулась лицом к лицу с Важиным. За его спиной стояла пожилая незнакомая женщина с добрым, немного усталым лицом, чем-то напоминавшим Клаве лицо матери.
38
— Василий Николаевич! — взмолилась Зина.— Опять мне Назарова план работы срывает. Сбор надо начинать, а она ребят в милицию уводит.
— В милицию? — переспросил Важин и переглянулся с незнакомой женщиной. Потом повернулся к Клаве: — Это по поводу Бори Капелюхина?
Клава кивнула головой.
— Тогда садись, послушай,— сказал старший вожатый.— Сбор сегодня очень важный.
С недоумением переглянувшись с дрохами, Клава отошла от двери.
Когда все пионеры сели за парты, Важин открыл сбор ои- ряда.
— Сейчас Зина расскажет нам, как прошло пионерское лето,— сказал он.
Девочка с деловым видом подошла к учительскому столу, отбросила за спину толстую косу и принялась докладывать. Лето прошло очень хорошо. Те, кто был в пионерлагере, ходили в походы, на экскурсии, занимались спортом, загорели, поправились, прибавили в весе. В среднем на шестьсот пятьдесят граммов, сообщила Зина, заглянув в бумажку.
— А те, кто в лагере не был, они в чем прибавили? — спросил кто-то с задней парты.
Зина призналась, что план у нее был составлен большой и лето могло быть очень интересным, но пионеры почему-то не проявили никакой активности. А кроме того, ей как председателю совета отряда сильно мешала Клава Назарова. Девочке никто ничего не поручал, но она за лето столько всякого напри- думывала, что только вскружила пионерам головы. Тут и какие- то дрохи, и разведка по чужим садам и огородам, и тайный лагерь на Камышовом острове, и похищение Борьки Капелюхина. Чем все это кончилось, теперь всем известно. Лагерь на острове разогнали, а за Борьку Клавину компанию даже в ми ¬ лицию вызывают.
— Неправда все это! — выкрикнула Клава.
— Ты ври, да не завирайся! — поддержал ее Витька.— А еще председатель совета отряда!
39
— Если не знаешь, что мы летом делали, так лучше помалкивай,— посоветовала Варя.
Зина покраснела.
— Василий Николаевич, вы слышите? Даже отчитаться не дают...
— Нет, почему же, ты продолжай, мы слушаем,— успокоил ее Важин и попросил поподробнее рассказать о Боре Капелю- хине.
— О Капелюхине? — растерялась Зина.— Я не знаю, не готовилась... У нас ведь сегодня отчет о пионерской работе, потом выборы, а вы о каком-то мальчике спрашиваете. Зачем это?
— Тогда, может, Клаву попросим про мальчика рассказать? — продолжил старший вожатый и взглянул на девочку.— Ей, наверное, и готовиться не надо.
— Просим, просим! — раздались ребячьи голоса.— Расскажи, Клава... И о дрохах еще... И про лагерь на острове.
Клава окинула взглядом своих друзей. Те согласно кивали ей головами.
— Тогда слушайте.— Девочка решительно подошла к столу и стала рассказывать ребятам историю Борьки Капелюхина.
— Плохо он живет,—с горечью закончила Клава.—Унижают его, быот, в школу не пускают. А мы ничего сделать не можем. Наверное, мало нас, надо всем отрядом его выручать, а то и всей школой.— Она с умоляющим видом обернулась к Важину: — Василий Николаевич, пойдемте с нами в милицию! Расскажем все про Борьку. Сегодня же!..
Все ребята зашумели, кто-то предложил немедля идти в милицию всем отрядом.
— Пусть милиция на Матрену в суд подаст,— сказала Варя.— Чтоб у нее Борьку забрали.
— А мы его усыновим потом,— подхватил Витька.— Всем классом. Шефство над ним возьмем.
— А кто его кормить будет? А одевать, обувать? — возразил чей-то осторожный голос.
— А как мы на острове его кормили? — не сдавался Витька.— В складчину. Вот так и в школе будем помогать. А не хватит чего, Ивана Александровича попросим, родительский комитет. Пусть Борьке, как сироте, пособие выдадут.,.
40
Подняв руку, старший вожатый с трудом успокоил ребят.
— Теперь никуда ходить, пожалуй, не надо,— сказал он.— Судьба Бори почти уже решена.— Он кивнул на заднюю парту, где сидела незнакомая ребятам женщина.— Вот, познакомьтесь, пожалуйста. Это Екатерина Петровна. Она работает в роно инструктором по делам опеки несовершеннолетних. Сейчас она вам все объяснит.
Екатерина Петровна подошла к столу.
— Ну что ж, ребята,— сказала она.— Вы свое дело сделали. Ваши сигналы помогли. Как только Василий Николаевич узнал от вас о положении Бори Капелюхина, он пришел в милицию, а потом ко мне в роно, и мы с ним отправились к Бородулиным. Выяснили, конечно, всю картину. Вы правы, мальчику живется плохо. Находиться у тетки ему больше невозможно. Он нуждается в опеке. Сейчас роно устраивает Борю в детский дом.
— В детский дом! — обрадовалась Клава.— А тетка отпустит его?
— Если не хочет воспитывать мальчика как следует, обязана отпустить. На то есть строгий закон... Наш закон, советский,— ответила Екатерина Петровна, внимательно оглядев ребят.— А вы, я вижу, хороший народ... сердечный, отзывчивый. И насчет шефства тоже неплохо придумали. Не забывайте Борю в детдоме, будьте ему, как до сих пор, верными друзьями, позаботьтесь о нем, как о родном.
— Видишь, Зина,— заметил Важин.— А ты удивлялась, почему ребята о Боре Капелюхине заговорили. Это хоть и не по плану, а дело-то наше, пионерское, настоящее...
...Через два дня пионеры шестого класса «А» во главе с Клавой провожали Борю Капелюхина в детский дом. Ребята подошли к дому Бородулиных строем, с горном и барабаном.
Вскоре на крыльце показались Екатерина Петровна и Борька с деревянным крашеным чемоданом в руках и холщовой котомкой за плечами.
Никто его не провожал, только Оська, приподняв занавеску, следил через окно за пионерами.
Ребята подхватили Борькин чемодан, Клава подала команду, и отряд под призывный звук горна и яростный треск барабана зашагал по улице.
41
Пионеры шли, твердо печатая шаг и глядя прямо перед собой, словно хотели всех уверить, что теперь уж мальчик с холщовой котомкой, идущий впереди колонны, не пропадет и найдет в жизни свою торную дорогу.
Часть вторая ЧАСЫ И КОНИ
Еще до начала уроков мальчишки из шестого класса «Б» узнали, что городские конноспортивные состязания начнутся в двенадцать ноль-ноль. А занятия в их классе кончались только в половине первого.
К тому же, чтобы добежать от школы до манежа кавалерийской части, нужно еще минут пятнадцать.
Значит, как ни старайся, а на манеж попадешь только к шапочному разбору. Но это было выше ребячьих сил!
Какое бы спортивное событие ни проходило в городе — будь то футбольный матч или баскетбол, состязание по плаванию или лыжный кросс,— мальчишки всегда находили время и оказывались в рядах самых заядлых болельщиков. И вдруг пропустить состязание конников.
Ведь конноспортивный кружок в их городе открылся только весной этого года, и сегодня его члены впервые покажут, чему они научились за лето.
Самое же главное, что в этом состязании молодых конников будут выступать несколько старшеклассников из их школы и в том числе Клава Назарова.
А Клава, как известно, не чужой человек шестиклассникам.
Хотя она учится только в девятом классе, но в школе нет, пожалуй, спортсменки лучше ее.
В беге на сто метров и в прыжках в длину она занимает первое место, имеет звание школьного чемпиона и уже два раза ездила на областную спартакиаду. В волейбол Клава играет получше любого мальчишки, и про ее удары так и говорят: «Клаш- кины резаные». Но больше всего Клаве везет в плавании. Она держится на воде, как поплавок, купаться начинает раньше всех школьников, в день Первого мая, и может переплыть реку
42
Великую туда и обратно на спинке, и на боку, и в одежде, и с гранатой в руке.
А скольких мальчишек и девчонок Клава уже обучила плаванию и прыжкам в воду!
Так разве можно было пропустить сегодняшнее состязание и не увидеть, как их первая спортсменка будет мчаться на лошади, скакать через барьеры, перепрыгивать через рвы и ямы?
— Ребята, а может, мы с последнего урока пораньше отпросимся? — предложил Федя Сушков окружившим его шестиклассникам.— У нас Дембовский сегодня... география.
— Ты что, Дему не знаешь? — покачал головой Саша Бон- дарин.— И не думайте, не отпустит.
— А я на вашем месте взял бы да и смотался с последнего урока,— ухмыляясь, посоветовал Ваня Архипов.— И будь здоров, Дема. Все равно он нас точит-пилит...
— Нет... так не годится,— вздохнул Дима Петровский.— Надо будет до звонка ждать...
— Ничего... Мы успеем,— многозначительно сказал Борька Капелюхин и кивнул на звонок, что стоял в школьном зале на камине.— Как только затрезвонит, вы сразу шапку в охапку — и на манеж. Без задержки.
Федя Сушков подозрительно покосился на приятеля — опять этот Борька придумает что-нибудь такое, о чем потом заговорит вся школа.
Борька уже третий год живет в детском доме и учится в школе имени Ленина. Он за это время вырос, вытянулся, отпустил чуб, стал ловким, сильным пареньком. Голова у него неплохая, он любит читать, мечтает о путешествиях и дальних походах, но учится неровно, с перебоями.
С Бородулиными Борька почти не знается. Оська в школе смотрит на него, как на чужого. Но у мальчика немало друзей и товарищей.
Последний урок вел остроносый, с лицом старого актера, с бритой, точно отполированной, головой преподаватель географии Константин Владиславович Дембовский, или Дема.
Прежде чем начать очередную тему, он заглянул в записную книжку и монотонным голосом принялся отчитывать учеников.
Опять вчера шестиклассники вели себя непотребно и дерзко:
43
нагрубили математику, получили от него девять посредственных отметок за домашние уроки, затеяли драку с семиклассниками.
Если так будет продолжаться и дальше, не исключено, что шестой «Б» будет раскассирован: часть учеников вольется в другие классы, часть переведут в соседние школы, а кое-кому, возможно, даже придется расстаться с учением.
Шестиклассники, привыкшие к этим «занудминуткам», жили своей жизнью. Кто читал книгу, положив ее на колени, кто смотрел через окно на Великую, кто выцарапывал па парте причудливый орнамент. От одного ученика к другому передавалась записка, написанная Федей Сушковым:
«Сегодня конноспортивный праздник. Выступают наши ребята. Все идем на манеж. Сбор после звонка у школьного крыльца».
Но не успела записка обойти и половину класса, как ее заметил наметанный глаз Дембовского. Не прерывая своей речи, преподаватель прошелся между парт, отобрал записку из рук зазевавшегося Димы Петровского и опустил ее в карман.
Наконец, выговорившись, он повесил на стену географическую карту и вооружился указкой.
— Сегодня мы познакомимся,— начал преподаватель, но тут раздалась заливистая трель колокольчика, заглушая его слова.
Дембовский кинул взгляд на свои ручные часы.
— Пс-звольте... Сейчас еще только двенадцать. Звонок явно преждевременный.
— Нет, звонок правильный,— невинным голосом сказал Борька Капелюхин.— У вас, наверное, пружинку заело...
— Странно... Очень странно,— покачав головой, Дембовский прижал к уху свои ручные часы.— Ну что ж, конец так конец,— поднимаясь, сказал он.— Продолжим завтра...
Ребята похватали учебники, и через минуту класс опустел.
Дембовский снял со стены географическую карту и вышел в коридор.
Там, сверяя часы, уже толпились преподаватели.
К ним подошел запыхавшийся школьный сторож Ерофеич.
— Промашка вышла,— признался он.— На тридцать минут раньше позвонил. Я сейчас на почту бегал, время сверял. Видно, в школе кто-то часы подвел.
— Собственно, кому и зачем это потребовалось? — с недоуме¬
44
нием спросил преподаватель математики, высокий сухощавый старик Воронцов.
— Да кому ж, как не ребятишкам,— высказал свое предположение сторож.— Иду с почты, а они как оглашенные куда-то помчались...
— Кажется, я теперь понимаю...— заметил Дембовский, показывая учителям отобранную у Димы Петровского записку.— Сегодня в городе конноспортивной праздник. Вот мальчики и постарались пе опоздать...
— А инициатива, насколько я понимаю, исходила от ваших подопечных,, уважаемый Константин Владиславович,— язвительно заметил преподаватель математики.— И когда вы наведете порядок в своем классе?
Дембовский нахмурился. Хорошо сказать: «наведете порядок». Он еще осенью предупреждал, что из шестого класса «Б» толку ле будет. Ученики собраны с бору по сосенке, многие пришли из детдома, из окружающих деревень. Класс в целом получился пестрый, анархичный, неорганизованный, и чуть.ли не каждый день в нем возникают какие-нибудь неожиданности и чрезвычайные происшествия.
Видимо, настало время принимать самые решительные меры. Но с чего же начать?
На другой день Дембовский задержал шестой класс после уроков и прочитал ученикам злополучную записку о конном состязании. Потом, погладив свою бритую блестящую голову, язвительно спросил:
— Может быть, автор этой записки, если он, конечно, не трус, назовет себя.
— Это я написал,— поднявшись, чистосердечно признался Федя Сушков.
— Хвалю молодца за откровенность,— осклабился Дембовский.— А теперь будем последовательны и разберемся. В записке сказано, что сбор после звонка. А звонок был дан на полчаса раньше. Значит, ты не только написал записку, но подвел часы и сорвал занятия во всей школе..
— Нет... часы я не трогал.— Федя растерянно заморгал глазами и посмотрел на ребят.— Я думал, что звонок вовремя дали... как всегда.
45
— Он не подводил! — подтвердил Дима Петровский.
— Мы ручаемся за него,— буркнул Саша Бондарин.— Федя врать не умеет.
— Если так, — подхватил Дембовский, — пусть признается тот, кто это сделал.
Класс молчал. Прищурившись, Дембовский покосился на Ваню Архипова, рослого, скуластого, давно не стриженного подростка.
— Есть такое мудрое изречение: «Все пути ведут в Рим»...
— Что вы, Константин Владиславович,— плаксивым голосом принялся оправдываться Архипов.— Чего это каждый раз всех собак на меня вешают... Я и на манеже-то не был. Да пропади они пропадом, эти кони...
Дембовский перевел взгляд на Борьку Капелюхина, который сидел, низко опустив голову к парте.
— Как я вижу, смелости у вас больше не хватает,— усмехнулся он.— Выходит, что часы ушли вперед сами по себе. Ну что ж, придется Сушкову побывать у директора школы и объяснить за всех, что это за чудеса происходят у нас с часами.
— Мне?..— вздрогнув, удивился Федя.
— Да, да, именно так. Надеюсь, что перед Иваном Александровичем ты будешь более откровенен.
— Не подводил я часы...— забормотал Федя.— Честное пионерское... Знать ничего не знаю...
— Неправильно,— раздались голоса ребят.— Сушков не виноват. Мы все пойдем к директору... целым классом.
Неожиданно, вскинув голову, из-за парты поднялся Борька Капелюхин.
— Не надо всем... Я один пойду! — с трудом выдавил он.
— Борька, молчи! — дернув за локоть, шепнула ему соседка по парте Леля Назарова. Но мальчик только отмахнулся.
— Это я часы подвел! Я! Сушков ничего не знает. И Архипов ни при чем.
Дембовский посмотрел на Капелюхина поверх пенсне.
— Ну вот, наконец-то! — облегченно вздохнул он.— Я, между прочим, так и предполагал. Как очередное происшествие в школе — в главной роли непременно выступает Капелюхин.
46
Дембовский возбужденно заходил по классу, припомпиая все Борькины проделки.
Школа помогла мальчику устроиться в детский дом, взяла над ним шефство, проявляет к нему особое внимание, а Капелюхин платит за все это самой черной неблагодарностью. Он первый нарушитель дисциплины в классе, драчун, озорник, дерзит учителям, не желает как следует заниматься и вообще ведет себя, как «явно выраженный трудновоспитуемый элемент».
Нет, как веревочке ни виться, а кончику быть. Сегодняшний разговор о Капелюхине, наверное, последний. И, судя по всему, мальчику не место в обычной, нормальной школе, его придется изолировать в колонию трудновоспитуемых и неполноценных детей.
— Как это... изолировать? — растерянно спросил Федя Сушков.— Его что же, прогонят из школы?
— Надеюсь, что педсовет согласится с моим предложением,— закончил Дембовский.— Во всяком случае, в моем классе Капелюхин больше не появится.
— Ну и ладно... не появлюсь! — выкрикнул Борька и, засовывая на ходу в сумку учебники, выскочил за дверь.
Дембовский сокрушенно покачал головой.
— Ну вот и еще одно лишнее доказательство. Вопрос теперь ясен предельно...— И он сделал знак ученикам, что они могут расходиться по домам.
Шестиклассники выбежали в коридор и бросились разыскивать Борьку Капелюхина. Но того нигде не было.
ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ БОРЕК
Вечером Леля обо всем рассказала старшей сестре: и как Дембовский назвал Борьку «трудновоспитуемым элементом», и как погрозил исключить его из школы и отправить в колонию, и как Борька, хлопнув дверью, убежал с классного собрания.
— Исключить из школы! — ахнула Клава.
— Да, да, так и сказал. А все из-за вас! — упрекнула Леля.— Из-за ваших конных состязаний. Борька всех ребят с урока сманил... и часы подвел.
47
Клава невольно вспомнила вчерашний день. Один за другим молодые конники выезжали на скаковую дорожку и демонстрировали перед судьями, чему они обучились за лето. Дошла очередь до Клавы. Пришпорив коня, она пустила его в галоп, сделала один круг, другой, а потом принялась преодолевать препятствия: канаву, ров, один барьер, другой, третий. На первом барьере лошадь, чего-то испугавшись, резко прянула в сторону. Но потом все наладилось.
Умный кавалерийский конь, понукаемый ласковой рукой наездницы, ловко перемахнул через все деревянные барьеры, не сбив ни одного из них, и более чем на два корпуса опередил скакавшего рядом с ним коня Вити Скворцова.
Среди болельщиков раздались одобрительные аплодисменты, а потом восторженные выкрики: «Ура!.. Ура!.. Клашка победила!»
Клава оглянулась и узнала среди болельщиков ребят из своей школы. Их было человек двадцать.
Они кричали, размахивали руками, подкидывали вверх фуражки и кепки. Больше всех шумел и радовался Борька Капелюхин.
Клаве тогда и в голову не пришло, что Борька самовольно увел ребят с урока. Сейчас она задумалась. И что ей делать с этим мальчишкой? За три года, что Борька провел в детском доме, он сильно привязался к Назаровым, часто бывал у них дома, охотно помогал Евдокии Федоровне по хозяйству.
* * *
Наутро стало известно, что вечером в школе состоится педсовет. В большую перемену Клава задержала в классе свою одноклассницу Зину Бахареву, работавшую отрядной пионервожатой шестого класса, и спросила, знает ли она, что сегодня может произойти с Борькой Капелюхиным.
Зина ответила, что ей все известно и будет очень хорошо, если Борьку поскорее уберут из школы.
— Как?! — вскрикнула Клава.— Ты согласна с Дембовским? Ты, вожатая, и не выступишь в защиту своего пионера?
— И не подумаю.— Зина пожала плечами.— Да какой же он
48
пионер, этот Капелюхин? Галстука не носит, сборов не посещает... Ни в одно .отрядное мероприятие его не вовлечешь. А как грубйть учителям да срывать уроки — так он первый из первых. Правильно про него говорят, что у него дурные наклонности...
— Дурные наклонности! — повторила пораженная Клава.— И ты веришь этому? Да ты хоть раз поговорила с ним с глазу на глаз? Узнала, как он живет, к чему тянется? — Она задумчиво покачала толовой.— Нет, Зина, не знаешь ты своих ребят. Не знаешь и не болеешь за них.
— Ну вот что, Назарова,— вспыхнула Зина.— Ты меня не учи, как с пионерами работать... Пока я еще вожатая, а не ты. И отряд — это тебе не спортивный кружок: заплывы там, забеги... Тут думать надо, думать!
Девушки холодно расстались.
После занятий Клава сбегала домой, наспех перекусила и вновь вернулась в школу,
В полутемном школьном зале она уселась на подоконник недалеко от учительской, где уже начался педсовет. Из-за двери доносились приглушенные голоса учителей. О чем они там разговаривают? Может быть, уже решают судьбу Борьки.
Мальчишка, конечно, виноват, и его стоит наказать, но исключать его из школы — с этим Клава никак не могла примириться. Борька же совсем неплохой — надо только отнестись к нему повнимательнее.
«А я ведь тоже его забыла»,— мысленно упрекнула себя Клава и, тяжело вздохнув, покосилась на дверь учительской. Если бы только Борьку оставили в школе! Тогда все бы пошло по-другому. Клава следила бы за каждым его шагом, помогала бы ему заниматься, выбрала бы для Борьки самых надежных товарищей...
А может, так и сделать? Войти сейчас в учительскую и заявить обо всем этом педагогам. Заявить твердо и решительно. Так, мол, и так, она ручается за Капелюхина и берет его под свою полную ответственность. И дать «честное комсомольское»...
Клава подошла к учительской и взялась за ручку двери.
Но как войдешь туда? А вдруг преподаватели не пожелают даже выслушать ее и попросят оставить учительскую?
3 Библиотека пионера, т. 7
49
В школьный зал осторожно вошли шестиклассники: Федя Сушков и Люба Кочеткова.
— Вы зачем сюда? — вполголоса спросила их Клава.
— А мы... мы от наших ребят... от всего класса,— признался Федя.— Насчет Борьки...
— Нельзя Борьку исключать... никак нельзя,— горячо говорила Люба Кочеткова.— Мы вот письмо учителям написали... Следить за ним будем, помогать будем, только пусть его в школе оставят.
Девочка достала из кармана сложенный вчетверо лист бумаги и попросила Клаву передать его директору школы или вожатой Зине Бахаревой.
— А может, письмо под дверь подсунуть? — предложил Федя.
Клава прислушалась.
Голоса за дверью учительской звучали все громче и громче. Говорила, кажется, Анна Павловна Оконникова, учительница русского языка и литературы, но вот ее перебил Дембовский.
— Я категорически настаиваю на самых решительных мерах... Категорически,— донеслось до Клавы.— В противном случае...
«Вот он как... требует, угрожает... Значит, с Борькой совсем плохо»,— мелькнуло у Клавы, и она, потянув на себя тяжелую дверь, кивнула Феде и Любе:
— Пошли все вместе!
Лица учителей обернулись к вошедшим. Кто-то зашикал на них: «Нельзя сюда, нельзя!»
Дембовский оборвал свою речь и с недоумением посмотрел на директора школы. Тот вскинул голову.
— Назарова! Ребята! Вы зачем сюда?
— Иван Александрович,— умоляюще заговорила Клава, с трудом переводя дыхание.— Мы на минутку всего... О Капе- люхине хотим сказать. Он, конечно, виноват, но не исключайте его... Я шефство над ним возьму, помогать буду. И ребята помогут. Они вот даже письмо всем классом написали о Борьке.— Клава взяла из рук Любы лист бумаги и положила на
50
стол перед директором.— Капелюхин исправится. Мы ручаемся за него... слово даем...
Она умолкла и мельком огляделась по сторонам.
Преподаватели с любопытством смотрели на учеников. Витя Скворцов, секретарь комсомольского комитета школы, одобрительно кивнул Клаве головой. Зина Бахарева пожимала плечами.
— Скажите на милость, целая делегация явилась...— ухмыльнулся Дембовский.— А позвольте спросить, кто за саму Назарову может поручиться?
— Между прочим, мысль о шефстве заслуживает внимания,— заметила Анна Павловна, поглядывая на учеников.— И напрасно, Константин Владиславович, вы так мало доверяете самим ребятам.
— Ну что ж, если вам заверение школьников дороже моих слов, я умываю руки,— с вызовом сказал Дембовский и, сняв пенсне, принялся тщательно протирать его.
— Не горячитесь, Константин Владиславович. Вопрос серьезный...— остановил его директор школы и обратился к Клаве и шестиклассникам: — Вы все сказали?
— Все, Иван Александрович,— ответила Клава.
— Хорошо! Идите теперь! А мы тут подумаем...
Клава, Федя и Люба вышли из учительской. Щеки у Клавы полыхали, словно после хорошей пробежки. Вот она и высказалась на педсовете. Но только ее слова, кажется, никого и ни в чем не убедили.
Отослав Федю и Любу домой, Клава принялась расхаживать перед школой — надо же все-таки узнать, что решат о Борьке.
Наконец педсовет закончился. Учителя стали расходиться по домам. Вот в дверях показались Витя Скворцов, Анна Павловна и старший пионервожатый Важин. Немного о чем- то поговорив, они распрощались и разошлись в разные стороны.
Клава догнала Витю.
— Ну как? Чем кончилось?
— Я так и знал, что ты где-то здесь бродишь,— усмехнулся Витя.— Победа, Клава. Борька остается в школе.
51
— Это правда?
— Голосованием решали. Дембовский остался в единственном числе. И знаешь, Клава, твое выступление тоже сыграло роль.
— Смех, а не выступление.
— Нет, ты не говори. Знаешь, какой бой разгорелся! — Витя рассказал, что произошло на педсовете.
Дембовский выступил с предложением не только исключить из школы Борьку Капелюхина, но и вообще раскассировать шестой «Б» по другим классам: в нем, мол, слишком много трудных, недисциплинированных учеников, которые снижают общий процент успеваемости, портят лицо школы.
Но учителя с этим не согласились. Они сказали Дембов- скому, что он плохо знает свой класс и запустил воспитательную работу с детьми. Дембовский, в свою очередь, заявил, что он не может работать с таким забубенным классом и отказывается от должности классного руководителя.
Его не стали уговаривать. Руководить классом вызвалась Анна Павловна. Она же предложила заменить и отрядную вожатую — Зина Бахарева изрядно обленилась, работает с холодком.
— Это верно,— согласилась Клава.— Не: люйит она. ребят.
— Вот, вот, Анна Павловна и об этом поставила вопрос,— продолжал Витя.— А в шестом «Б», говорит, вожак нужен особый: смышленый, живой, с огоньком. Вроде, говорит...— он лукаво покосился на девушку,— вроде Клавы Назаровой.
— Что?!
— Да, да... Анна Павловна так на тебя и указала. «Самая, говорит, подходящая кандидатура». Мы вот завтра на комитете решение об этом примем.
— Смеешься, Витька,— удивилась Клава.— Ты же знаешь, я и так загружена.
— Да ты что, не согласна? Ты же сама в вожатые вызвалась...
— Когда это?
— А вот только что, на педсовете. «Ручаюсь, слово за Борьку даю». Это чьи слова?
— Так я за одного только Борьку ручаюсь.
52
— А вот теперь принимай целый отряд... двадцать восемь Борек. Это же твое дело, кровное. Ты ведь и так давно вожатая, с малых лет... Вспомни-ка лагерь на Камышовом острове... Всегда ты с ребятами... А в общем,— рассердился вдруг Витя,— чего я тебя уговариваю? Не желаешь — не берись. Дело добровольное. Придется тогда в вожатых Зину оставить.
— Нет, Зину нельзя...— покачала головой Клава и, подумав, согласилась.— Ладно, секретарь... попробую. Только чур: покоя от меня не будет. Придется и тебе о ребятах думать.
ПЕРВЫЙ СБОР
На другой день весь шестой класс уже знал, что «режиму Дембовского и Зины Бахаревой» пришел конец, а вместо них в класс придут Анна Павловна и Клава Назарова.
— Клаша — это здорово! — с удовольствием сказал Федя Сушков.— Теперь хоть на конях покатаемся, а зимой на лыжах походим... А то ведь при старой вожатой мухи на сборах дохли...
— И Анна Павловна тоже неплохо,— заметил Дима Петровский.— Она добренькая, ей только поплачься...
— А по мне, что в лоб, что по лбу,— буркнул под нос Ваня Архипов.— Как это мы учили... от перемены слагаемых сумма не меняется.
Вернувшись из школы домой, Леля не утерпела и передала все эти разговоры сестре.
— А ты сама как думаешь? — настороженно спросила Клава.
— Ну конечно, очень хорошо, что ты с нами будешь... Все так рады, так рады! И что ты за Борьку поручилась — тоже все довольны,— затараторила Леля.— Вот только справишься ли?.. Знаешь, у нас ребята какие?.. Зину они до слез доводили.
— Спасибо, утешила,— нахмурилась Клава.
Собирая на стол, Евдокия Федоровна молча прислушивалась к разговору дочерей. И почему Клава так тянется к ребятишкам? В пятом классе она хороводилась с малышами с улицы, привязалась к Борьке Капелюхину, вместе со всем клас¬
53
сом шефствовала над группой детдомовцев, потом в школе работала с октябрятами, и вот снова в вожатые. Да и без этого в доме у них постоянно толпятся ребята: о чем-то советуются с Клавой, крутятся на турнике, зашивают волейбольные мячи, чинят тапочки, латают майки. А дочке между тем пора бы остепениться — перешла в девятый класс, время подумать и об институте, о завтрашнем дне.
— Клашенька, а может, не браться тебе за шестой-то класс? — осторожно заговорила мать.— Очень уж, сказывают, народ там бедовый. Пусть лучше из старших кто займется...
— Да я ж, мама, вроде сама вызвалась,— призналась Клава.— За Борьку поручилась.
— Ну, дочка, понесет теперь тебя, закрутит...— вздохнула Евдокия Федоровна.
— Ничего, мама. Я люблю, когда на стремнину выносит.— Клава задорно встряхнула стрижеными волосами, хотя на душе у нее было совсем неспокойно. Ведь вожатой в таком классе, как шестой «Б», она будет работать впервые в жизни. С чего же начать, как приступить к делу?
В этот же день Клава повидалась с Анной Павловной.
— Ну, дорогая моя помощница,— улыбнулась учительница.— Ты, наверное, за советом ко мне прискакала: как да с чего начинать? А я, признаться, и сама толком не знаю. Детей воспитывать — это не дощечки стругать, не табуретки сколачивать. Тут готовеньких рецептов не пропишешь. Сколько ребят — столько и подходов. И к каждому свой особый ключик подобрать требуется... Давай-ка мы с тобой для начала к ребятам присмотримся, познакомимся с ними.— Она на минутку задумалась, потом добавила: — Только одно, Клава, запомни, самое главное... Я об этом у Феликса Эдмундовича Дзержинского вычитала. «Быть светлым лучом для других, самому излучать свет — вот высшее счастье для человека, какого он только может достигнуть...»
— «Быть светлым лучом... излучать свет...» — шепотом повторила Клава.— Хорошо-то как, Анна Павловна! Я это обязательно запомню...
На следующий день Клава принимала отрядные дела.
Зина Бахарева передала ей знамя, барабан, помятый горн,
54
дневники звеньев, в которых давно уже ничего не записывалось, и тощую папку со списком пионеров и планом работы.
— Тут у нас столько всяких мероприятий запланировано, тебе до конца года хватит: шесть бесед, две лекции, экскурсия на льнозавод. Потом еще по звеньям есть планы.
— Ты мне лучше о ребятах расскажи,— попросила Клава.
— А чего рассказывать? — отмахнулась Зина.— Отпетый народ, сорванцы... Отлынивать от всего любят. Приходи послезавтра на сбор отряда — вот и познакомишься. Они тебе сразу на шею сядут. Ну, ни пуха тебе, ни пера,— пожелала Зина, когда передача немудреного пионерского хозяйства была закончена.
* * *
Сбор отряда, посвященный теме «Люби и изучай родной край», состоялся после уроков.
Когда Клава вместе с Зиной Бахаревой вошла в пионерскую комнату, она сразу заметила, что из двадцати восьми пионеров шестого класса «Б» на сбор пришло немногим более половины.
— Почему не обеспечил полную явку? — строго обратилась Зина к председателю совета отряда Диме Петровскому.
— Я старался... И уговаривал и за руку тянул,—пожаловался Дима.— А они кто куда. Нефедов с дружками в футбол гоняет, Борька Капелюхин со своей компанией тоже куда-то удрал.
Видишь, опять Капелюхин...— шепнула Клаве Зина Ба- харева и кивнула Диме: — Начинай!
Дима объявил сбор отряда открытым и сказал, что сейчас Саша Бондарин сделает доклад о путешествии по родному Псковскому краю.
— Давай, давай,— фыркнул Ваня Архипов.— Бондарь у нас путешественник что надо... всю печку прошел да еще лежанку в придачу.
Саша, приземистый, лобастый, мрачноватый, повесил на стену самодельную географическую карту, встал к учительскому столу и глуховатым монотонным голосом принялся читать по тетрадке.
Из его доклада можно было узнать, каковы в Псковской
55
области природа, климат, растительный и животный мир, сколько здесь рек, озер, лесных массивов, торфяных болот, пахотных земель.
А как богата и поучительна история Псковщины! Город Остров, в котором они сейчас живут, стоит на берегу древней реки Великой. Когда-то на этих берегах основательно досталось польским и немецким захватчикам.
Здесь же на Псковской земле, на льду Чудского озера, русской ратью полководца Александра Невского в знаменитом Ледовом побоище были разгромлены немецкие «псы-рыцари».
Недалеко от их родного города, в Михайловском и Тригор- ском, окреп и возмужал талант великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Между Островом и Псковом в ожесточенных боях против кайзеровских полчищ Германии родилась 23 февраля 1918 года героическая Красная Армия.
Саша заметно оживился. Он начертил мелом на доске схему расположения войск немцев и первых отрядов Красной Армии и принялся с жаром рассказывать, как шел бой, как отличились наши бойцы.
«И откуда он все это знает? — с удивлением подумала Клава, слушая Сашу Бондарина.— Серьезный, видать, мальчишка, головастый. Вон сколько материала собрал!»
Она окинула взглядом пионерскую комнату и нахмурилась. Ребята доклад почти не слушали — они шептались, очиняли карандаши, рылись в сумках, писали друг другу записки.
Ваня Архипов обертывал газетами свои тетради и учебники: зачем, мол, напрасно терять дорогое время.
Девочки на первых партах сидели с отсутствующими лицами и готовы были по первому сигналу ринуться к двери.
Услышав шум в классе, Саша заторопился, пропустил несколько страниц своего доклада, наконец, пунцовый и недовольный, умолк и принялся снимать со стены карту.
— Погоди, погоди,— остановил его Димка.— Мы сейчас тебе вопросы будем задавать.
— Нет вопросов,— раздались голоса, и кто-то даже захлопал в ладоши.
— Все ясно-понятно!
56
— Утвердить доклад.
— Целиком и полностью!
Пионеры повскакали из-за парт.
Зина бросила на Клаву выразительный взгляд — видала, мол, таких? — и подняла руку.
— Минутку внимания,— объявила она.— С сегодняшнего дня у вас будет новая вожатая...
— А мы уже знаем,— отозвался Дима Петровский.
— Ее зовут Клава Назарова. Прошу любить и жаловать,— насмешливо сказал Ваня Архипов, подражая голосу Дембов- ского.
— Опять ты, Архипов, со своими штучками. Постыдился бы! — прикрикнула на него Зина и приказала всем сесть за парты.— Сейчас Клава с вами поговорит.
Подавив вздох, ребята опустились за парты — опять, значит, будет «накачка». Зинины беседы-«накачки» о дисциплине и порядке обычно длились минут десять. Сколько-то проговорит новая вожатая?
— Димка, принеси товарищу докладчику графин с водой,— заметил Ваня Архипов и вполголоса дурашливо пропел: — «Заседаем, воду пьем...»
— Спасибо, ребята, не требуется,— озабоченно сказала Клава.— Я бы и без воды говорила, да не могу, некогда... У Борьки Капелюхина сегодня день рождения, а он исчез куда-то... Надо срочно его разыскать...
— Капелюхина! — удивился Димка.— Да где ж его отыщешь? Он про свои места никому не говорит. Вот разве Саша знает...— Он покосился на Бондарина, но тот сделал ему предупреждающий знак: молчи, мол, и поспешно сказал, что Борька все держит в секрете п тайне.
Клава притворно вздохнула.
— А я думала, вы мне поможете... Что ж теперь делать! Придется, пожалуй, по следам разыскивать...— И она обратилась к пионерам: — Ну, кто в разведку со мной? Так сказать, по следам таинственного Борьки Капелюхина и его компании. Вот вам и первое путешествие.
Ребята оживились — это, пожалуй, будет здорово, если они найдут Борьку с приятелями и узнают, чем те занимаются.
57
Только Ваня Архипов, недовольно хмыкнув, спросил Клаву, кончился сбор отряда или все еще продолжается.
— Да, да... сбор окончен. Кто не хочет искать Борьку, может идти домой,— объявила Клава и про себя отметила, что Архипов крепкий орешек.
Ваня с довольным видом запихал в сумку учебники и, буркнув: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет»,— направился к двери. Вслед за ним вышли из класса еще несколько девочек и ребят.
Остальные устремились за Клавой.
— Очень все несерьезно... особенно для начала,— пожав плечами, шепнула ей Зина.— А в общем, как знаешь, тебе работать.— И она направилась к дому.
Клава повела ребят к Великой.
Честно говоря, она немножко хитрила. Как-то раз слышала разговор Борьки и Феди Сушкова о плотах, о рыбной ловле, о Камышовом острове и сейчас надеялась, что ребята находятся где-нибудь там.
Но никаких следов пока не обнаруживалось.
— Ничего нет,— разочарованно протянул Димка, следуя за Клавой.— Берег как берег... Коровы на водопой приходили, козы...
— Есть следы, есть! — вскрикнул вдруг Саша Бондарин, припадая на колено и рассматривая отпечатки рубчатой подметки.— Это, наверное, Борька шел. У них в детдоме все на резине ходят...
— Да ты посмотри, башмаки-то какие,— перебил его Димка.— Сорок четвертый номер, не меньше.
— Да, великоваты,— смущенно признался Саша.
Вскоре за изгибом реки показался Камышовый остров, и Клава заметила над ним еле приметный голубоватый дымок.
Это уж что-то значило. Может, Борька и в самом деле на острове. Но как туда перебраться?
Девушка повела ребят к речной заводи. Она была окружена густым лозняком и отделена от города широкой заболоченной низиной. Пробраться к заводи можно было только по узкой, еле приметной тропинке, выложенной хворостом и жердями.
58
«А ведь и я с ребятами из этой заводи когда-то на остров переправлялась,— вспомнила Клава.— Мы здесь всегда плот прятали или лодку».
Но сейчас в заводи ребята не нашли ни плота, ни лодки.
— Не найти нам Борьку,— разочарованно протянул кто-то из мальчишек.— Пошли по домам...
— Тихо, не шуметь! — приказала Клава.— Всем в засаду. Замаскироваться и ждать меня. Я скоро вернусь...
Зайдя в кусты, она скинула платье, обмотала его вокруг головы и, войдя в воду, бесшумно поплыла к острову.
По-осеннему холодная вода обожгла тело, дыхание перехватило, но возвращаться назад было уже поздно.
— Смотрите,— шепнул ребятам пораженный Саша Бондарин, выскакивая на берег.— Да она ж закоченеет... ноги сведет!
Клава сделала ребятам знак, чтобы они не вылезали из-за кустов, и продолжала плыть.
Минут через десять она пригнала к заводи бревенчатый плот.
— Они там... на острове,—лязгая зубами, сообщила она про Борькину компанию.— Садитесь... поехали. Только тихо!
Ребята погрузились на плот, пробрались через камышовые заросли, бесшумно, как десантники, высадились на острове и затаились. Потом осторожно начали пробираться через частый кустарник к средине острова, откуда доносились мальчишечьи голоса и потрескивание хвороста в костре. Вскоре открылась небольшая круглая поляна. На земле в беспорядке лежали намокшие от воды бревна, горбыли, слеги, доски, мотки ржавой проволоки, обрывки веревок.
Борька Капелюхин и Федя Сушков стояли около старой дырявой лодки и о чем-то запальчиво спорили. Борька доказывал, что если эту лодку как следует починить да оснастить парусом, то ее можно объявить флагманским кораблем и доплыть па ней хоть до Балтийского моря.
— Еще скажешь, до Ледовитого океана,— перебил его Федя Сушков.— Ты хоть книжку по географии почитай.
Борька вспыхнул и не успел ничего ответить, как заметил за кустами Клаву с ребятами.
59
— Вы... Это вы?..— опешил он.— Как вы попали сюда?
Ребята с криком выскочили из засады и окружили Борьки- иу компанию.
— А мы в разведку ходили но вашим следам,— торжествуя, сообщил Димка.— Даже поспорили: найдем вас или нет? Вот и нашли!..
— На вашем же плоту приехали,— поддразнил Борькину компанию Саша Бондарин.— Его у вас вон кто угнал,—он кивнул на Клаву,— а выг ротозеи, даже и не заметили.
Борька и Федя сконфуженно переглянулись, а Саша подбросил в костер охапку валежника и подтолкнул Клаву ближе к огню: отогревайся, мол.
— А чего ради вы привалили сюда? — скрывая смущение, недовольно спросил Борька.
— Ребята вашими делами очень интересуются,— с серьезным видом сказала Клава.— Говорят, вы флотилию строите, в путешествие по реке Великой собираетесь.
— Какая там флотилия!—покраснев, отмахнулся Борька.— Просто мы лодку раздобыли...
— Тоже мне лодка! — фыркнул Димка.— Одни дыры. Ее чинить да чинить надо...
— Ну и что... И починим,— с вызовом ответил Борька.— Мы уже и смолу достали и паклю...
— Ну, а потом... когда почините? Так и будете с острова на берег ездить... туда-сюда?
— Почему туда-сюда? — возразил Федя Сушков.— Возьмем да летом путешествие на плотах и лодках устроим. Вниз по Великой. Потом по Псковскому озеру. Чем плохо?
— Путешествие?! На плотах и лодках?!—удивился Саша Бондарин.— Вот это да! Чего же вы от ребят свою затею скрывали? Все одни да одни,..
— А нас кто-нибудь спрашивал об этом? — с досадой отозвался Борька.
Ребята оживились. Они нетерпеливо принялись расспрашивать Борьку и Федю, когда их компания думает пуститься в плавание, нельзя ли к ним присоединиться.
— Надо всем отрядом по Великой попутешествовать,—
СО
предложил Саша, поглядывая на Клаву.— А то все одни разговоры: люби родной край, изучай родной край!
Клава задумчиво отогревала у костра руки. И почему так получается? На улице ребята с азартом играют в свои игры, носятся взъерошенные, чумазые, сияющие и счастливые, здесь, на острове, с увлечением фантазируют о флотилии, о походе по Великой, а на сбор отряда их с трудом дозовешься, сидят они там с постными, скучающими лицами и остаются ко всему равнодушными и безучастными.
Надо, видимо, поменьше громких слов, а побольше живых, ярких дел, фантазии, романтики, простора, чтобы ребята могли действовать, проявлять свою энергию, выдумку, ловкость, ум. И, может быть, путешествие по Великой и есть то самое живое дело, за которое следует ухватиться.
Ребята с недоумением посматривали на свою вожатую — почему она так долго молчит.
— Ну что ж,— наконец заговорила Клава.— Насчет путешествия Боря с Федей неплохо придумали. От похода по Великой, наверное, никто не откажется. Но в одной лодке весь отряд, конечно, не разместишь. Надо будет раздобыть еще несколько лодок, построить плоты... Кстати сказать, материал ребята собрали отличный... бревна, доски, проволока.
— А все равно не пустят нас в поход, не разрешат,— уныло махнул рукой Димка.— Куда уж там — шестой «Б», забубенный класс, дикое племя. Сидеть нам дома на печке.
— Почему это не пустят? — возразил Саша.— Мы же летом поплывем, во время каникул...
— А Дима, пожалуй, прав,— согласилась Клава.— Могут и не пустить. Но все зависит от вас самих. Право на поход надо завоевать всем отрядом.
— Как завоевать, чем? — раздались голоса.
— Это уж вы подумайте. Учебный год только еще начинается,— ответила Клава и обратилась к Борьке и Феде: — Вот вы своей компанией в поход собрались. А по какому маршруту поплывет ваша лодка, где намечены остановки, что будут изучать путешественники в пути?
Мальчишки переглянулись.
61
— Об этом мы пока не думали,— растерянно признался Борька.— Потом разберемся. Время еще есть...
— Та-ак! А вот летчик Чкалов к своему полету через Северный полюс готовился целый год,— заметила Клава, оглядывая ребят.— Предложение у меня такое. Через десять дней мы проведем сбор отряда. Вопрос один: о пионерском походе по реке Великой. А доложить о плане похода поручим... Боре Капелю- хину и Феде Сушкову.
— Мне? — один за другим вскрикнули мальчишки.
— А что? Не под силу вам, не справитесь?
— Нет, нет, они справятся! — закричали ребята.— Пусть докладывают.
— Все остальные помогают Боре и Феде,— закончила Клава.— Сбор состоится здесь же, на острове, в пятнадцать ноль- ноль. Зажжем большой костер. Пригласим учителей, родителей.
„СУДОСТРОИТЕЛИ"
Подготовка к походу оказалась увлекательным и беспокойным делом.
Когда Борька с ребятами попытались наметить маршрут путешествия, то у них ничего не получилось. В тетрадке они сумели записать всего только несколько фраз: «Лодочный поход по Великой, посещение Пскова».
Ребята пришли за советом к вожатой. Клава посмотрела их тетрадку, потерла виски и честно призналась, что она тоже не лучше их знает Псковский край.
— А мы-то думали...— разочарованно произнесли ребята.
— Думали, что я вам готовенький план выложу,— усмехнулась Клава.— Нет уж, давайте вместе соображать.— И она подсказала ребятам, к кому им обратиться на первых порах: в школе есть учителя географии и истории, в городе имеется краеведческий музей и проживает немало бывалых людей.— Погодите,— вспомнила вдруг Клава,— у нас же в отряде свой знаток края есть — Саша Бондарин.— И она попросила мальчика показать доклад, который он зачитывал на отрядном сборе.
62
— Так скучный же доклад... Я его по книжке составил, по журналам,— признался Саша.
— А про то, как Красная Армия под Псковом зародилась, тоже по книжкам?
— Нет, об этом мне отец рассказал. Он сам в боях участвовал... И ранен был.
— Сашиного отца все знаете? — спросила Клава у ребят.
— Еще бы!..
— Вот вам и первое задание! Действуйте.
Ребята отправились к Бондариным на дом. Иван Сергеевич, узнав, что пионеры решили изучать родной край, охотно согласился прийти в школу и поделиться с ребятами своими воспоминаниями, а летом даже поехать о ними в те места, где рождалась Красная Армия.
Он же назвал имена еще нескольких жителей города, старых коммунистов, которые сражались за установление на Псковщине Советской власти и участвовали в гражданской войне.
Не забывали пионеры и о своей флотилии. Вместе с Клавой они побывали в конторе рыболовецкой артели и выпросили там четыре старые списанные лодки. Их с большим трудом переправили на Камышовый остров, и здесь была торжественно открыта «судостроительная верфь». Начальником ее назначили Борьку Капелюхина, помощником — Федю Сушкова.
Но вскоре обнаружилось, что чинить лодки совсем не просто. «Судостроители» во главе с Борькой, зашив худое днище одной из лодок досками и обмазав смолой, решили сделать пробный рейс вокруг острова. В первые же минуты лодка наполнилась водой, и ее пришлось вытаскивать на берег.
Такая неудача расстроила ребят, и между ними начались разговоры, что их «судоверфь» никуда не годится и что на дырявых лодках далеко не уплывешь.
— А может, все-таки без паники обойдемся,— заметила Клава и спросила ребят, что они понимают в столярном и плотничьем деле.
— Чего там понимать,— недовольно отмахнулся Борька.— Я видел, как чинят лодки... доска, топор да гвозди — и вся недолга.
63
— Глаз видел, а руки не доросли,—усмехнулась Клава, осматривая «аварийную» лодку.— Говоришь, «вся недолга», а сами лодку починить не смогли как следует.— И она посоветовала ребятам начать с азов и записаться в кружок «Умелые руки».
Наконец, когда затея с походом по Великой немного прояснилась, шестиклассники вновь собрались на острове.
Клава, Боря и Федя рассказали о летнем путешествии пешком и на лодке.
При этом были поставлены два условия. Хочешь путешествовать — заранее изучай свой край, запишись в географический кружок. И второе условие: каждый путешественник должен уметь работать топором, рубанком, пилой, уметь грести веслами, управлять парусами, разводить одной спичкой костер, ставить палатку.
А главное, было решено, что в путешествие поедет только тот, кто завоюет это право своим хорошим учением, дисциплиной и крепкой дружбой с товарищами.
«Балласт в экспедиции не нужен. Он тянет ко дну. Будем жить и работать без балласта»—такое неписаное правило утвердили ребята в отряде.
Каждый день приносил Клаве множество забот, радостей и огорчений. Оказалось, что вожатая всем стала нужна. Пионеры без конца осаждали ее вопросами, прибегали за советами, за справками: где разыскать книги по истории Пскова и Острова, как подготовить звеньевой сбор «Встреча трех поколений», что такое лоция и звездная карта, как лучше смолить лодку и ставить паруса.
И Клава невольно обнаружила много пробелов в своих знаниях. Она честно просила мальчика или девочку, задавших ей хитроумный вопрос, подождать до утра, а сама шла в библиотеку, рылась в книгах и справочниках или бежала к Важину, Анне Павловне и другим учителям.
— Ох, Клава, если бы ты всегда так к урокам готовилась, быть бы тебе первой ученицей,— посмеивался Витя Скворцов, которого девушка то и дело заставляла помогать ей рыться в журналах и книгах.
— Будешь тут книголюбом, когда меня каждый день два¬
С4
дцать восемь экзаменаторов допрашивают,— отмахивалась Клава и торопила Витю: — Не отвлекайся... Ищи ответ поскорее. Обещал пионерам помогать — вот и помогай.
* * *
Как-то раз после занятий Клава решила заглянуть в шестой «Б» — теперь не было дня, чтобы она не встречалась со своими подопечными. Но дверь оказалась закрытой изнутри, и сквозь нее доносились ребячьи выкрики.
Клава постучалась.
Дверь, наконец, приоткрылась, и в щель выглянуло недовольное лицо Феди Сушкова.
— Нельзя... у нас тут свой разговор...— буркнул он и, узнав вожатую, смущенно пропустил ее в класс.
Клава оглядела ребят. Они стояли с сумрачными лицами, исподлобья поглядывая на Ваню Архипова, который, скрестив руки на груди, с невинным видом ничего не понимающего младенца сидел за первой партой.
— Так о чем же разговор? — спросила Клава.
Ребята молчали.
— Ну что ж, если у вас секреты, могу и уйти...— Клава подалась к двери.
— Нет, зачем же? — остановил ее Ваня Архипов, кинув насмешливый взгляд на запарившегося Диму Петровского.—Что ж ты молчишь? Докладывай. Так, мол, и так... Заседает военный трибунал... Сейчас будет вынесен приговор.
— Да ты не остри! — взорвался наконец Димка и, с досадой кивнув на Ваню, потом на сломанную крышку парты, что стояла в среднем ряду, обратился к вожатой: — Все он... Зай- чик-попрыгайчик! Разошелся тут, по партам начал скакать!
— Все понятно...— Клава подошла к парте, потрогала сорванную с петель крышку и нахмурилась.
Что же им в конце концов делать с Архиповым?
Дела в отряде, кажется, стали налаживаться. Пионеры увлеклись подготовкой к путешествию по реке Великой, избрали штаб похода, занялись изучением родного края, раздобыли старые лодки, собирают средства на паруса, на палатки. О бу¬
65
дущем путешествии шестиклассников уже объявлено по всей школе. Всем известно, что в поход пойдет только тот, кто закончит учебный год без переэкзаменовок на осень и кто покажет образец дисциплинированности.
И только Ваню Архипова все это никак не трогает. Он говорит, что ему и без похода дел хватит — будет летом рыбачить, плести корзины, собирать грибы, клюкву, бруснику.
Да и сейчас Ваня живет не так, как все: ведет бойкую торговлю голубями, дома мастерит какие-то полочки, шкатулки и продает их на базаре. В школе перекупает у мальчишек книжки, ножички, ремни, одалживает ребятам деньги под проценты. Его так и зовут «Банкир Иваныч».
На уроках Ваня ведет себя, как и «во времена Дембовско- го»: ленив, неаккуратен, на все поплевывает, изводит учителей бесконечными проделками.
К Клаве он относится насмешливо, вызывающе. Что бы она ни придумала, он все истолковывает по-своему: «Выпендривается вожатая, из кожи лезет... почетную грамоту хочет схватить, покрасоваться».
«Противный мальчишка! Так бы и треснула его по лбу»,— не раз думала Клава и, не сдержавшись, даже пожаловалась Анне Павловне: «Ничему-то он не верит... Во всем плохое видит, все на рубли меряет...»
«Наверное, много в жизни дурного перетерпел, вот и ожесточился. А ты не спеши, не злись на него и гонор свой не показывай. Отойдет человек, должен отойти...»
— Что ж нам делать с тобой, Архипов? — с трудом сдерживая себя, спросила Клава.
— Расстрелять солеными огурцами — и делу конец! — фыркнул Ваня.— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
— Да хватит с ним нянчиться! — раздались возмущенные голоса ребят.
— Сообщить о поломанной парте директору!
— Или родителям Архипова!
— У меня нет родителей,— нахмурившись, сказал Ваня.
— Ас кем же ты живешь? — спросила Клава.— Кто тебя кормит, одевает?
66
— Сам кормлюсь... не маленький,— буркнул Ваня.— А живу с дядей.
— Вот тогда дяде и сообщить,— заключил Димка.— Он ему пропишет ижицу... И пусть деньги за поломанную парту заплатит.
— Или пусть его дядя в школу придет и парту починит,—подала голос Люба Кочеткова.— Он же столяр, мастер.
Потеряв наигранно-беспечный вид, Ваня поднялся из-за парты. Руки его вздрагивали.
— Незачем сюда дядю впутывать,— глухо заговорил он.— Парта — это мое дело, школьное. Сам отвечать буду. И деньги сам уплачу... Вот передай завхозу.— Он достал из кармана смятую двадцатипятирублевку и сунул ее в руку Димке.— Хватит или еще надо?..
Димка, не зная, что делать с деньгами, растерянно посмотрел на ребят.
На миг все притихли.
— Вот так Архипов! — наконец произнес пораженный Саша Бондарин.—Как купец в трактире... Набезобразничал — и в мошну за деньгами. Мол, деньги все покроют...
— Эх ты, Банкир Иваныч! — сказал Димка.— Ведь деньги- то у тебя базарные, обманные — на голубях нажил...
К Димке подскочил Федя Сушков. Он выхватил у него из рук двадцатипятирублевку и бросил ее к ногам Архипова.
— Забирай свою рвань! И уходи! А парту мы сами починим... Да, да! Возьмем и починим. Не сумеем, что ли?!
— Чего ж не суметь! — поддержал Борька Капелюхин.— У меня вот ножик есть.
— А у меня отвертка,— подал голос Саша Бондарин.
— Ха, тоже мне мастера! — фыркнул Ваня.— Ножиком парту чинить!.. Вы еще дуньте, плюньте да ниткой ее свяжите...
Борька с Федей, сжав кулаки, двинулись на Ваню.
— А ну, выметайся отсюда!..
Клава остановила их и тронула Ваню за плечо.
— Иди пока, а мы все-таки поработаем...
«И почему он такой? — подумала она.— Колючий, злой. За деньги цепляется. Откуда это у него?»
Потоптавшись на месте, Ваня хотел еще что-то сказать, но
67
только насмешливо махнул рукой и, подняв с пола двадцатипятирублевку, вышел из класса.
Минут через десять, раздобыв в мастерской инструмент, ребята принялись чинить сломанную крышку парты. Потом оказалось, что еще несколько парт нуждаются в ремонте: у одной покрепче подвинтили шурупы, во вторую, которая скрипела п покачивалась, забили деревянные клинышки с клеем, у третьей закрасили глубокие царапины.
— Кое-чему вы все же в кружке научились,— сказала Клава, заметив, как ловко ребята орудуют инструментом.
— Кое-чему — да,— согласился Саша Бондарин.— А вот лодки чинить так и не умеем. И руководитель кружка тоже не умеет.
Когда все парты были починены, Димка сказал, что, если Архипов хоть еще раз поломает что-нибудь в классе, они обязательно сообщат его дяде — человек тот строгий, взыскательный, и Ваня его побаивается.
— А я думаю завтра же к Архиповым сходить,— задумчиво призналась Клава.— Надо о Банкир Иваныче с дядей поговорить.
У АРХИПОВЫХ
Отыскав на окраине города домик Архиповых, Клава постучалась в калитку.
За забором хрипло залаяла собака, загремело о проволоку железное кольцо. Наконец кто-то вышел из дому и прикрикнул на собаку. Вскоре загремела щеколда, калитка открылась, и Клава с глазу на глаз столкнулась с Ваней Архиповым.
Прикусив губу, тот побледнел и отступил назад.
— Пришла все-таки? — глухо спросил он.— Жаловаться будешь?
— Нет, зачем же,—спокойно ответила Клава.—Хочу посмотреть, как ты живешь... С дядей твоим познакомиться, с теткой.
Ваня не по-доброму сверкнул глазами.
— Ладно... Сейчас позову,— и, что-то вполголоса сказав собаке, он ушел обратно в дом.
Огромная черная овчарка, навострив уши, легла на садовую дорожку. Клава хотела было пройти к дому, но собака, скосив на нее умные светло-коричневые глаза, угрожающе зарычала. Девушка присела на скамейку около калитки. Прошло десять минут, пятнадцать, а Ванин дядя не появлялся. Клава попробовала ласково заговорить с собакой, но та была неподкупна и ни на шаг не пускала девушку во двор.
«Смеется он надо мной,— рассердилась она, догадавшись, наконец, что Ваня и не думает разыскивать дядю.— Ну, погоди ж, негодный, все равно я до тебя доберусь».
Клава направилась вдоль забора, спустилась к реке и, заметив щель в заборе, пролезла через нее на участок Архиповых.
У самой воды вверх днищами лежало несколько старых лодок. На костре в черном закопченном ведре кипела смола. Под навесом смолил лодку невысокий грузный мужчина. Он был в рабочем фартуке, в черных просмоленных рукавицах, щеки его заросли колючей седоватой щетиной.
— У нас, между прочим, калитка есть... Законный вход,— заметил мужчина, подозрительно и неприветливо оглядывая девушку.
— Собака там у калитки... не пропускает,— смущенно призналась Клава.— Вы уж извините...
— А вы к кому, собственно?
— К вам, Степан Маркелыч. Я из школы... Пионервожатая шестого «Б».
— Та-ак, понятно,— протянул Степан Маркелыч.— Насчет Ивана, значит... Ну что ж, не вы первая, не вы последняя...— Он опустил кисть в ведро со смолой и принялся звать племянника.
Наконец Ваня валкой походкой вышел из дому.
— Слышу, не глухой,— недовольно отозвался оп.— Чего тебе? Я ж занят, уроки готовлю.
— Тут насчет тебя из школы заявились,— сказал дядя.— Что ты там отчубучил на этот раз?
Ваня мельком окинул Клаву взглядом, словно видел ее сегодня впервые, и пожал плечами.
— Кто пришел, того и спрашивай,— буркнул он.— Я-то при чем здесь?..
69
— Так что же он натворил? — обратился дядя к Клаве.— Грохнул что-нибудь или подрался с кем? А может, опять голубей у кого сманил?
— Нет-нет... Я уже говорила, Стецан Маркелыч,— поспешно сказала Клава.— Я не насчет Вани... Я к вам пришла...
— Ко мне?!
— Вы, говорят, первый лодочник в городе. И чинить и смолить умеете. На все руки мастер.
— Ну, первый не первый, а в лодках кое-что понимаю,— полыценно отозвался Степан Маркелыч.
— А еще сказывают, вы реку Великую хорошо знаете. От Острова до Пскова плавали... И даже дальше.
— Доводилось... А в чем дело-то?
— У нас к вам просьба, Степан Маркелыч...— заговорила Клава.— От имени пионеров шестого класса. Будьте ,у нас за главного судостроителя!
— Чего? — не понял Степан Маркелыч.
Клава рассказала про юных путешественников по Великой, про кружок «Умелые руки», про старые лодки, которые никто не умеет чинить.
— Вот оно что! — удивился Степан Маркелыч.— Так вы и в самом деле по другому делу пришли? А я ведь привык: если кто из «школы ко мне, так обязательно насчет Ивана. А тут, на тебе — судостроитель! Что ж я делать-то должен?
— Поучите ребят, Степан Маркелыч! Как лодки смолить, как паруса шить. О реке расскажите. Пусть пионеры у вас побывают. А потом вы к нам в мастерскую придете. Очень мы вас просим.
Лодочник на минуту задумался, потом кивнул на Ваню.
— Ну, а мой-то как? Тоже в поход собирается?
— А мы всем отрядом пойдем...— поспешила заявить Клава, встретившись взглядом с Ваней.— Кто, конечно, ученьем докажет, работой...
— Ну, и как Иван, доказывает?..
— Ничего... Старается. Думаю, что он от других не отстанет.
— Ну спасибо, девушка, что вы его привечаете,— обрадовался Степан Маркелыч.— А то на Ивана одни жалобы да
70
нарекания... Ну и он от всего сторонится. А насчет лодок — это дело стоящее. Давно пора ребятишкам руками пошевелить. И моего племянника не забывайте... он уже от меня кое-что перенял.— И он обратился к Ване: — Ну что ж, приводи как-нибудь своих приятелей, покажем им, как лодки конопатить да смолить надо.
Ваня отошел к костру и палкой принялся мешать кипящую в ведре смолу.
Степан Маркелыч повел Клаву по двору, показал отремонтированные лодки и дал совет, к кому еще из мастеров, членов артели «Красный лодочник», следует ей обратиться за помощью.
— А это тоже ваше? — спросила Клава, заметив в дальнем углу двора кучу металлолома: были тут и куски стальных рельсов, и обрезки водопроводных труб, и старые шины колес, и мятые самовары.
— Да нет, это Иван собирает,— объяснил Степан Маркелыч.— И где он это добро находит — никому не говорит. А металлолом отличный — хорошие деньги за него Иван получает.
— А почему Ваня так деньги любит? — вполголоса спросила Клава.— Его в школе даже Банкир Иванычем зовут.
— Сам удивляюсь,— тяжело вздохнув, признался Степан Маркелыч.— Это, видать, от прошлой жизни осталось. Он ведь сирота, Ваня, у чужих людей долго жил, я его недавно усыновил. А жизнь-то его не баловала: торговлишкой мальца заставляли заниматься. Где можно копейку урвать — учили. Вот старый заквас и бродит в нем. Все-то ему кажется, что никому он не нужен, все, мол, на рубле держится. Продаст свой металлолом или на голубях что заработает и деньги мне тащит. «Это, говорит, дядя, мне на прокорм». Уж мы с женой воюем с ним, воюем, а мальчишка все равно за рубль держится, не верит ничему.
«Так вот он какой, Банкир Иваныч! — устыдившись, подумала Клава.— И почему в школе так легко, не подумав и толком ничего не узнав, дали Ване такую кличку?»
Помолчав, девушка тронула Степана Маркелыча за рукав.
— А давайте вместе за Ваню повоюем... Вы с женой да нас целый отряд. Может, что и получится...
72
— Попробуем,— согласился Степан Маркелыч.— Вы ему только доверяйте побольше... в свои дела втягивайте.
Уже смеркалось, когда Клава распрощалась с лодочником и отправилась домой.
У оврага ее неожиданно нагнал Ваня. В руках он держал длинный горбыль и электрический фонарик.
— Ты куда это? — удивилась Клава.
— Пройтись немного,— небрежно сказал Ваня.— А ты зря низом пошла. Промоина у нас тут в овраге... Смотри не оступись.
Клава чуть приметно улыбнулась.
— Где промоина? Посвети, пожалуйста.
— Да вот она.— Ваня осветил фонариком наполненную водой канаву, перекинул через нее горбыль и помог Клаве перебраться. Потом они долго шли молча.
— А металлолом у тебя отличный,— заговорила наконец Клава.— Один собираешь?
— А что? — насторожился Ваня.
— Да так... трудно одному, наверное...
— Справляюсь пока...
— И собака у тебя умная,— усмехаясь, продолжала Клава.— Хорошо хозяина слушается.
— Собака ничего...— Ваня вспыхнул, засопел, потом с трудом выдавил: — А это правда, что ты не из-за меня к дяде приходила? Правда, насчет лодок?
— Ты же слышал, о чем я с дядей разговаривала. Нам в самом деле очень нужен лодочный мастер. Иначе какой же поход по Великой... одни разговоры пустые.
— А чего ради ты меня перед дядей выставляла да прихорашивала? — помолчав еще немного, вновь недоверчиво спросил Ваня.— Старается, мол... от других не отстает...
— А ты разве в поход с нами не хочешь? — спросила Клава.
— Так все равно не примете: Архипов такой, Архипов сякой...
— Это уж от тебя самого зависит. Ты парень с головой... Подумай, пошевели мозгами.— Клава остановилась и велела мальчику возвращаться домой.
— Ладно, пойду,— буркнул Ваня.— Скажи там ребятам... пусть завтра же к нам приходят. Дядя согласен.
КЛАДЫ НА ПУСТЫРЯХ
На другой день «судостроители» побывали у Степана Марке л ыча. Вернулись они оживленные, довольные и рассказали Клаве, что лодочник встретил их радушно, сразу же поставил к работе и сообщил много интересного про реку Великую. Саша Бондарин еле успел записать его рассказы.
— А Ваня как себя вел? — спросила Клава.
— Особо-то не задирался,— ответил Федя Сушков.—И даже работал Еместе с нами. Он здорово насчет лодок соображает, научился у дяди.
— Только чудно как-то,—пожав плечами, заметил Димка.— Степан Маркелыч считает, что Ваня тоже вместе с нами к походу готовится. А ведь он же нам заявил: «Умный в гору не пойдет...»
И тут Клава вынуждена была признаться, что она заверила Степана Маркелыча, что Ваня не отстанет от товарищей и вместе со всеми примет участие в походе.
— Ты что же, слово за него дала? — озадаченно спросил
Димка.— А если он не пожелает в поход?..
— Ну, слово не слово... Но вроде пообещала от вашего имени. Вы же возражать не будете?
— Так он же шкура, Архип этот! — запальчиво заявил Борька Капелюхин.— Он нам смолу доставляет для лодок, паклю... И обдирает нас как липку, деньги требует.
— Деньги? — удивилась Клава.— И вы ему платите?
— Да нет... откуда они у нас...— Борька переглянулся с ребятами и замялся.— Мы с ним другим расплачиваемся.
— Ну, ну,—потребовала Клава.—Начали, так договаривайте.
— Мы ему утиль собираем, металлолом...— вполголоса признался Борька.
— Металлолом! — ахнула Клава, вспомнив кучу железа и меди во дворе у Архиповых.
— А Борька ему все свои тетрадки отдал... И пенал резной и ножик...— сообщил Димка.— Такой уж он вымогатель!
Зло прикусив губу, Клава прошлась по пионерской комнате. Вот и еще новость! Нет, он и в самом деле крепкий орешек, этот Архипов.
74
— Не брать такого в поход, если даже он и попросится,— заявил Дима.— Нечего ему с нами делать...
— А я думаю, что Ваня все-таки должен быть с нами,— помолчав, заметила Клава.— Вместе со всем отрядом.
И она рассказала о вчерашнем разговоре со Степаном Мар- келычем о его племяннике, о страсти парнишки к деньгам, о его недоверии к людям.
— Понимаете теперь, почему он такой? А вы его оттолкнуть от себя хотите, ожесточить еще больше...
В дверь пионерской комнаты просунулась стриженая мальчишечья голова.
— Борька, тебя Архип вызывает... по срочному.
Капелюхин вопросительно посмотрел на вожатую.
— Наверное, насчет смолы...
— Иди,— кивнула Клава.— Но от смолы откажись наотрез. Сами раздобудем. И ни в какие торговые сделки с Ваней больше не вступай... Понятно?
Кивнув головой, Борька исчез за дверью.
Вернулся он минут через десять.
— Чего там? — нетерпеливо спросил Димка.— Опять Архип торговался? Рубаху со штанами с тебя еще не требовал?
Борька, недоумевая, развел руками:
— Архип сегодня на себя не похож. Притащил два ведра смолы, мешок пакли и ничего брать не хочет. «Это, говорит, мой пай в экспедицию... А надо будет — донесу деньгами».
— Опять он за свое, Банкир Иваныч,— пай, вклад, деньги...— махнул рукой Димка.— Так и будет спотыкаться.
— Вот и надо нам рядом шагать с ним... руку подать, когда нужно, плечо подставить...— Клава внимательно оглядела ребят.— А про Банкира Иваныча советую забыть — не было такой клички и быть не должно.
Потом она вспомнила про металлолом и рассмеялась.
— Сколько же вы для Вани этого добра собрали?
— Порядком,— смущенно признался Борька.— Мы и доски у Архипа за утиль получали, и бревна...
— И много металлолома в городе?
— Найдется, если пошарить...
— Так в чем же дело? Значит, надо идти в разведку. А потом
75
всем отрядом начнем сбор утильсырья и металлолома. Сдавать будем прямо государству... Деньги пойдут на постройку фло- тшгии.
Через несколько дней по зову совета отряда шестой класс «Б» принялся за работу. В первую очередь пионеры начали с осмотра своих домов. На чердаках, в сарайчиках были обнаружены худые чугуны, старые сковороды, самовары, тазы, ведра. Но бабки и деды и даже некоторые отцы с матерями вдруг прониклись жалостью к этому старью и принялись доказывать, что в хозяйстве оно может еще пригодиться.
Пришлось ребятам выступать, как заправским агитаторам. Они ходили по домам с плакатами и рисунками, рассказывали взрослым про домны и мартены, называли баснословные цифры тракторов, автомобилей и паровозов, которые могут быть сделаны из металлолома, собранного пионерами.
Каждый из ребят старался отыскать свой «клад»: кто пустырь, кто свалку, кто просто старую чугунную трубу в овраге или ржавый железный бак, вросший в землю.
Сначала счет собранного металлолома вели на килограммы, потом на центнеры и тонны. На доске показателей, что установили на школьном дворе, появились фамилии первых чемпионов по сбору металлолома.
Как-то раз к Клаве подошел Ваня Архипов и сообщил, что ему тоже известен один «клад».
Он повел вожатую на свалку около полотна железной дороги, где можно было неплохо поживиться.
— Вот... забирайте на всех...— сказал Ваня.— Хорошая выручка будет.
— А как же твои доходы? — спросила Клава.— Пожалеешь потом.
— Ничего... Я летом на рыбе подзаработаю, на ягодах.
Архиповский «клад» ребята разбирали целую неделю, а фамилию Вани занесли в список первых чемпионов по сбору металлолома.
А однажды на школьный двор въехала трехтонка, доверху груженная довольно ценными вещами: были тут какие-то станки, заброшенные моторы, ржавые насосы, бочки из-под горючего.
76
С подножки грузовика спрыгнули Баня Архипов с Борькой Капелюхиным и бросились к Клаве с ребятами.
— Видали, какая добыча! — с сияющим лицом крикнул Борька.— Давайте все на разгрузку!
Клава заглянула в машину — и ахнула.
— Так это ж не лом, не утиль, это оборудование, ценные вещи. Где вы их взяли? Кто вам позволил?
— На пустыре нашли, за совхозом,— хмуро пояснил Ваня.— Они уж второй год лежат без призора. Словно их потерял кто.
— Мы еще два таких места знаем,— сообщил Борька.—Там тоже добра немало. Только брошено все, забыто.
Озадаченные пионеры окружили вожатую.
— А мы-то стараемся! — раздались недовольные возгласы.
— Шарим, ищем! На свалках копаемся!
— А выходит, что никому это не нуяшо.
Клава нахмурилась: а ребята, пожалуй, правы. В самом деле, зачем им тратить столько сил на сбор металлолома, если на пустырях валяются без дела ш ржавеют под открытым небом такие ценные вещи?
Пионеры с нетерпением посматривали на вожатую — что же она так долго молчит?
— Давайте так сделаем,— решилась наконец Клава.— Грузовик мы сейчас разгрузим. Вы продолжайте разведывать, где какое оборудование забыто и брошено. А потом мы разыщем горе-хозяев.— И она вполголоса обратилась к Борьке: — А где вы машину взяли?
— Архши нанял... на свои кровные,—шепотом сообщил тот.— Ох, и старается он, землю роет!
После этого случая пионеры вновь занялись разведкой. То, что было под силу, они перетащили на школьный двор, об остальном сообщили вожатой.
К концу недели Клава составила опись: кем, когда и где обнаружена та или иная вещь, и вместе со старшим вожатым Важиным отнесла опись в райком партии.
Прочитав длинный список, секретарь райкома Остроухов только крякнул от изумления и сказал, что это отличный материал для доклада об экономии и расточительстве.
Он побывал на школьном дворе, осмотрел собранный метал¬
77
лолом, а потом на городском совещании руководителей заводов и строек зачитал Клавину опись забытых и заброшенных вещей, чем привел хозяйственников в немалое смущение.
Многим из них изрядно досталось, и после совещания хозяйственники принялись усиленно разыскивать забытое оборудование. Школа при этом сумела получить для своей мастерской несколько токарных станков, которые ребята потом назвали станками марки «ПШБ», что означало: «Подарок шестого класса «Б».
КАРТОШКА
После занятий Анна Павловна вместе с Клавой просмотрели классный журнал шестого «Б» и обнаружили в нем много неутешительного.
Часто получали замечания за плохое поведение Ваня Архипов и Федя Сушков. Не раз пропускала занятия Люба Кочеткова, а позавчера ей была поставлена вторая неудовлетворительная оценка по геометрии. Не порадовал учительницу и Боря Капелюхин — он тоже заработал по геометрии «неуд».
— Странный мальчик этот Капелюхин.— Анна Павловна сокрушенно покачала головой.— Способности у него есть, учиться он может, а то и дело выкидывает какие-нибудь коленца. То с Дембовским не поладил, теперь с математиком.
Клава опустила голову. Что же делать с Борькой? Сколько раз она беседовала с ним, стыдила его, убеждала взяться за ум, и ей казалось, что мальчик все осознал и понял. А выходит, что все разговоры с ним как горох о стенку.
— Ну, ну, ты не отчаивайся! — успокоила вожатую Анна Павловна, заметив ее расстроенный вид.— Наша с тобой работа только еще начинается. Найдем и к нему свой ключик... Поговорите о мальчике на совете отряда или на звене... Неплохо бы над ним шефство взять, особенно по геометрии.
А на другой день пришло новое огорчение. Анна Павловна встретила Клаву после занятий и сообщила ей, что Боря Капелюхин вот уже второй день неизвестно куда исчезает с последнего урока. Да не один, а вместе с Любой Кочетковой.
— Ты разберись, Клава,— попросила учительница.— Что это у них за дела такие срочные в учебное время? Да и вообще Лют ба тревожит меня за последние дни. Какая-то она скрытная стала, вялая...
Клава немедленно отыскала Диму Петровского, вожатого звена Сашу Бондарина и спросила их, знают ли они, куда исчезают с последних уроков Боря и Люба.
— Борька говорит, что ему картошку в детдоме надо копать, а Люба вообще отмалчивается...— сказал Саша.
— Капелюхин наговорит, разведет турусы на колесах,— недоверчиво махнул рукой Димка.— Нахватали двоек с Кочетковой, весь класс на дно тянут.
— А вы кто... товарищи или нет? — в сердцах вырвалось у Клавы.— Почему не поможете им?
— Поможешь тут, — помявшись, сказал Саша. — Борьку с Кочетковой водой не разольешь... Он к ней никого не подпускает: и уроки ей помогает готовить и все такое...
— Как же он помогает, если сам по геометрии «неуд» схватил? — удивилась Клава.
— Да нет, тут другое...— И Саша объяснил, что произошло на уроке. Преподаватель Воронцов поставил Любе Кочетковой «неуд» и вызвал к доске Борьку. А тот вдруг заявил, что отметка Кочетковой поставлена неправильно, и отказался отвечать урок.
— Отказался отвечать? — вскрикнула Клава.
— Да еще как! — подтвердил Димка.— «Вы,— говорит Борька математику,—придираетесь к Кочетковой, а раз так, тогда и мне «неуд» ставьте». Тоже мне рыцарь!
— А может, и впрямь Сергей Захарович ошибся...— осторожно заметил Саша.— Ты помнишь, как дело-то было...
— Ты брось на учителя наговаривать,— строго перебил его Димка.— И Борьку незачем выгораживать. Нагрубил он учителю, так и скажи! Весь класс наш опозорил. Объявить ему строгий выговор за такое дело, вот и будет знать!
— Ох, и строг же ты, председатель! — покачала головой Клава.— Все бы тебе взыскать да наказать. А может, по-другому попробовать? Взять да и сходить всем звеном к Борьке и к Любе Кочетковой.-
79
— Звеном? По домам ходить? — удивился Саша.— А чего мы там делать будем?
— Поговорим о Боре с директором детского дома, с воспитателями. У Кочетковых с матерью Любы побеседуем.
— А когда идти надо? — спросил Саша.— У нас сбор звена теперь не скоро будет...
— Хорошо бы сегодня сходить... по свежим следам,— посоветовала Клава.— Вот собери-ка звено по цепочке.
Минут через двадцать Сашино звено во главе с Клавой направилось к детскому дому.
Дорога шла позади огородов, с которых хозяева уже успели убрать картошку и овощи.
Только на одном из огородов с покосившейся изгородью было полно картофельных кустов с пожухлой от заморозков ботвой. Здесь пионеры заметили Борьку и Любу Кочеткову.
Борька без кепки, в одной майке широким заступом подрывал картофельные кусты, а Люба быстро выбирала из земли розовые клубни и бросала их в корзину. Ей помогали две девочки поменьше и большеголовый увалень мальчишка.
— Видали! — торжествуя, произнес Димка, кивая на Борьку.— И совсем он не в детском доме, а у Кочетковых на огороде работает. Вот они с Любкой с уроков-то куда убегают...
— Картошки здесь сколько... Прямо целое поле,— заметил Саша, оглядывая огородный участок.— Недели на две копать хватит.
— А Борька-то старается, аж вспотел весь! — фыркнул Димка.— Прямо-таки рыцарь картофельный... Для Любочки на все готов.
— Да будет тебе,— остановил его Федя Сушков.
Клава с недоумением покосилась на Диму: и почему он так настроен против Капелюхина?
— Погодите, ребята,— сказала она.— Подойдем поближе!
Пионеры перелезли через изгородь и осторожно приблизились к Борьке и Любе.
— Копачам привет! — насмешливо приветствовал их Димг ка, потом обратился к Капелюхину: — Ты что же, так и будешь каждый день с уроков на картошку бегать? Копать тебе тут не перекопать...
Борька выпрямился, ладонью вытер взмокшее лицо с неприязнью окинул взглядом Димку.
— Так и буду... А тебе чего?
Вскинув голову, растерянно оглядела пионеров и Люба.
— Ой, ребята!—вскрикнула она.— Куда это вы всем звеном? Дело какое-нибудь срочное? Да? — И она обратилась к Борьке: — Ты кончай тогда. Иди с ребятами, коли надо. А мы одни покопаем, пока не стемнело.
— Есть дельце,— ответил Димка.— И как раз касается тебя с Капелюхиным. Вот мы его сейчас и обсудим.— И он толкнул Сашу Бондарина в бок: — А ну, открывай сбор звена.
Саша потоптался на месте — начинать сбор звена здесь, на огороде, где шла такая дружная работа, было как-то непривычно.
— Понимаешь, Боря,— с трудом заговорил он.— Мы вот подумали и пришли...
— Вот и добре, что пришли,— вмешалась в разговор подошедшая к изгороди соседка.— Так вы из школы? — обратилась она к Клаве.— Давно бы девчонке пора подсобить. Совсем она тут с ног сбилась: малышей поить-кормить надо, козу обхаживать, картошку копать. Забот столько, что девчонке в пору хоть школу бросать.
— А где же Любина мама? — спросила Клава.
— Занемогла хозяйка, в больницу ее отправили. Люба уж вторую неделю одна домовничает. Хорошо, что вы ей на подмогу парнишку прислали.— Соседка кивнула на Борьку.— Сноровистый мальчишка, работящий. И дров наколет и воды принесет. Вот только с картошкой они с Любой запоздали. Ну, да теперь дело у них пойдет.
Соседка отошла от изгороди и направилась к своему дому. Ребята в замешательстве переглянулись с Клавой, потом посмотрели на Борьку.
— Все понятно? — обратилась Клава к пионерам.
— Еще бы непонятно! — обрадовался Федя Сушков и, выхватив у Борьки заступ, вогнал его на полный штык в землю.— Дай^а я покопаю!
Оживился и Саша. Он спросил у Любы, есть ли у нее еще лопаты и корзины, и объявил сбор звена открытым.
^ Библиотека пионера, т. 7
81
— Начнем с картошки1 —: сказал он.
Картошку копали до глубоких сумерек. Оставшиеся рядки решили докопать завтра и послезавтра.
Потом все собрались в доме Кочетковых и завели разговор о школьных делах, об уроках. Клава спросила Борьку и Любу о злополучных «неудах» по геометрии.
— В последний раз я знала материал,— покраснев, призналась Люба.— Мы с Борькой накануне вместе занимались, как следует геометрию подготовили. А мне кто-то во время урока подсказывать начал. Я не слушаю, сама стараюсь задачку решить, а с первых парт шепчут и шепчут. Тогда Сергей Захарович решил, что я на подсказке выезжаю, и поставил мне «неуд». А Борька погорячился, начал меня защищать и тоже «неуд» получил.
— А все равно Любе неправильно «неуд» поставили,— упрямо сказал Борька.— Она и без подсказки бы ответила.
— Верно,— поддержал его Федя.— Тут чужой язык все испортил...
— Кто же из вас подсказками занимается? — спросила Клава.
— А пусть кто занимается, сам и скажет...— отводя глаза в сторону, буркнул Борька.
Все замолчали, пока наконец не заговорил Саша Бонда- рин.
— Ладно, хватит в молчанку играть! — И он выразительно посмотрел на Димку.— Чего уж тут, признавайся...
Тот недоумевающе развел руками.
— Вот это здорово живешь! Я же еще и виноват! Да вы сами меня просите: подскажи да подскажи... Я, можно сказать, весь класс выручаю.
— А ты бы лучше с кем из отстающих позанимался,— раздались голоса.
— Все тебе некогда да неохота.
— Задаешься своими успехами!
Не успела Клава вмешаться, как разговор неожиданно перешел на Диму Петровского. Мальчику припомнили многое: и как он любит похваляться своими способностями, и как мало
82
интересуется жизнью ребят, и как привык по-начальнически покрикивать на пионеров.
Вспомнили и то, как Дима порвал дружбу с Любой Кочетковой только потому, что кто-то назвал его «девчатником».
— Да вы что! — удивился Димка.— Чего на меня-то навалились? Не обо мне же разговор, а о тех, кто «неудов» нахватал.
— А сбор, пожалуй, всех ребят касается, всего звена,— раздумчиво сказала Клава.— И знаете, чего вам недостает? Дружбы у вас мало, товарищества, нет еще чувства локтя, не умеете вы жить по правилу: «Один за всех, все за одного». Вот Любе трудно пришлось, а вы и не знали об этом. Хорошо, что Борька оказался настоящим товарищем. Да и то глупостей натворил, преподавателю нагрубил. Дима подсказками занимается, а вы терпели это, не возражали, считали, что так и надо. Вот и подумайте, как дальше жить будете, как учиться...
— А давайте вместе заниматься, всем звеном...— предложил Саша.— Как вот Борька с Любой.
— И чтобы Димка больше не лез со своими подсказками,— добавила Люба.— Пусть он лучше заранее ребятам помогает, если он такой знающий...
— Верно,— поддержал Борька.— Запретить подсказки!
— И разные коленца не выкидывать, как вот Капелюхин,— вставил Димка.— Учителям не грубить.
Долго еще длился этот сбор. Было решено, что с этого дня члены звена будут по очереди помогать Любе управляться с хозяйством и вместе готовить домашние уроки. С девочки же и Борьки ребята взяли слово, что они не пропустят больше ни одного часа занятий и разделаются с «неудами» по геометрии. Было также решено объявить в классе войну подсказкам и шпаргалкам.
ДОБРЫЕ ДЕЛА
Как-то раз, возвращаясь из школы, Дима Петровский завел с вожатой разговор о плане работы отряда на вторую четверть.
— А разве мы не по плану работаем? — удивилась Клава.— К походу готовимся, над детским домом шефствуем, за хорошую успеваемость деремся...
83
— Так-то оно так,— без особого подъема согласился Дима.— Только при Зине у нас все было точно расписано... По дням и по часам...
— Записано, расписано, а ребят на сборы силой затаскивали,— заметил шагавший рядом Саша.
— Ладно тебе! — отмахнулся Дима и вновь обратился к Клаве: — Наш отряд всегда первым план составлял... Зина, она ведь как... Закроется в пионерской комнате и за один присест столько всяких мероприятий напридумывает, что их на полгода хватает...
Усмехнувшись, Клава покачала головой.
План работы!.. Эти слова для ребят стали слишком обыденными и скучноватыми. Обычно все, что намечает вожатый от себя, мало трогает ребят, оставляет их равнодушными и безучастными. Как же сделать так, чтобы каждое намеченное дело кровно касалось пионеров? Клава невольно вспомнила, какое оживление охватывало ребят, когда они сами находили интересное, увлекательное дело. Глаза их становились как бы острее и наблюдательнее. Пионеры замечали поломанные деревья в городском парке, залитую ржавой водой рытвину на улице города, через которую трудно было пробираться жителям, замусоренный пустырь позади школы, который при желании можно было бы превратить в спортивную площадку.
— Вот если бы нам руки приложить,— обычно предлагали вожатой пионеры, сообщив о своих очередных наблюдениях.
«Значит, нужно сделать так,— размышляла Клава,— чтобы ребята привыкали вглядываться в жизнь, искали вокруг себя нужные, полезные людям дела...»
— Нет, Дима,— сказала сейчас Клава.— Ничего я вам сочинять не стану. И план мы будем составлять только вместе. Но прежде всего займемся разведкой интересных дел.
— Как это — разведкой дел? — не понял Дима.
— Вспомни, например, как мы металлолом всюду разыскивали. Вот и посмотрите зорче вокруг себя. Ищите прежде всего то, что нужно людям, что мы, пионеры, можем сделать хорошего. Ищите в школе, на улице, в домах.
Через несколько дней пионерские звенья вышли в разведку. Они побывали на заводе, в учреждениях, в жилых домах. Вско¬
84
ре от разведчиков стали постуцать донесения: «На лесозаводе надо очистить от мусора строительную площадку», «В городском парке погибло двадцать деревьев. Необходимо весной посадить новые», «На чердаке райисполкома обнаружены залежи бумажной макулатуры», «Бабка Панфилова с Горной улицы нуждается в тимуровской помощи».
Немало дел обнаружили разведчики и в своей школе: в библиотеке куча растрепанных книг, которые нужно переплести, в кладовке — поломанные столы, парты и стулья, в кабинетах — недействующие учебные приборы.
Добрых, полезных дел набиралось так много, что их теперь могло хватить на всю пионерскую дружину.
— Это вы здорово с разведкой-то придумали,— похвалил Клаву старший вожатый.— Все, что ребята сами разведали, они теперь сделают на совесть, с интересом.
* * *
Утром Федя Сушков явился в школу с великолепным синяком под глазом, а Саша Бондарин — с распухшим носом. Они бочком прокрались к своим партам, до конца занятий не выходили из класса, и Федя даже старался отвечать уроки так, чтобы не показать учителям подбитого глаза. Но весть о синяках все же разнеслась по школе, и ребята строили самые различные предположения: одни говорили, что Федя с Сашей не поладили друг с другом, другие утверждали, что они приняли участие в драке мальчишек Горной и Набережной улиц.
Анна Павловна не на шутку встревожилась.
— Это уж ни на что не похоже,— сказала она Клаве.— Пионеры, активисты — и заявились в школу с такими синяками. Неужели уличное хулиганство захватывает и наших школьников? Ты разберись, пожалуйста, прими меры.
Но Клава не спешила. Она уже взяла себе за правило не докучать ребятам назойливой опекой и расспросами о драках, ссорах и всяких других неурядицах. Куда отраднее было дождаться, когда пионеры сами придут к ней и по душам расскажут, что с ними случилось хорошего или плохого.
Так Клава поступила и в этот раз. Видя, что Федя и Саша
85
сторонятся взрослых, она не подошла к ним ни в первый день, ни на второй и только на третий как будто невзначай встретила их после урока. Ребята вместе с Димой Петровским и Ваней Архиповым стояли в конце коридора и о чем-то спорили.
Заметив вожатую, Федя с Сашей умолкли и отвернули лица в сторону, но Клава сделала вид, что совсем не интересуется их синяками, и принялась расспрашивать, как учатся за последние дни пионеры второго звена.
— Ничего... Идем без «неудов»,— ответил Саша и, помявшись, осторожно осведомился: — А чего вы нас про синяки не спрашиваете?
— Подумаешь, событие,— фыркнула Клава.— Ну поцапались из-за каких-нибудь пустяков, а сейчас, вижу, вы опять вместе. Чего ж тут спрашивать?..
— Поцапались?! Мы с Федей?..— изумился Саша.— Ну, нет!
— Тогда вас кто-нибудь поколотил... А вы сдачи не смогли дать...
— Эге! — присвистнул Федя.— Еще как дали-то... Только силы были неравные: нас двое, их пятеро.
— Интересно,— прищурилась Клава.— Так вы с пятью и схватились?
— Вы думаете, что они ради озорства подрались? — вмешался в разговор Ваня Архипов. И он рассказал, что произошло.
Федя с Сашей собрали ребятишек своего двора, расчистили вместе с ними площадку и залили водой. Получился неплохой каток, на котором охотно резвились все школьники, проживающие на Горной улице. Но вот, как коршуны, во двор налетела компания великовозрастных подростков во главе с Сенькой Чубчиком — на улице их зовут мазуриками — и захватила каток в свое полное распоряжение.
Федя с Сашей вступились за малышей и девочек, завязалась драка, но силы были неравные, и друзьям изрядно досталось.
— А что ж дальше будет? — обратилась Клава к Саше и Феде.— Подрались вы с мазуриками, а каток, значит, так у них и останется?
— Ну, нет,— упрямо заявил Федя.— Мы тоже свою компанию подбираем. Вот и Ваня с нами пойдет.
— Я этого Чубчика хорошо знаю,— сказал Ваня.— Мы ему нос утрем, если друг за дружку держаться будем...
— Зря все это,— махнул рукой Димка.— Не осилить нам Чубчикову компанию. Про нее даже песенку сложили: «С Горной улицы мазурики нигде не пропадут, не сгорят и не потонут, ночевать домой придут».
— Что ж по-твоему,— рассердился Саша,— пионерам теперь из школы и носа не высовывать? Так и сидеть в четырех стенах!..
— А по-твоему, драки на улице заводить, синяки получать?
— А может, иногда и подраться стоит? — заметила Клава и с упреком посмотрела на Диму.— Эх ты, председатель тишайший! Чего же ты мазуриков-то испугался? Их сколько всего? Пятеро, шестеро. А сколько у нас пионеров в отряде?..
— Ну и что? — удивился Димка.
— А вот и то! Собирай-ка совет отряда. Сегодня же! Там и поговорим.
Ничего не понимая, Дима созвал членов совета. Клава коротко рассказала о происхождении Фединых и Сашиных синяков.
— То, что наши пионеры организовали во дворе каток для ребятишек — дело похвальное,— добавила она.— И то, что они смело схватились с мазуриками, тоже делает им честь. Но на драках далеко не уйдешь. Я так думаю, что всему нашему отряду надо поддержать почин Феди и Саши и взять шефство над катком.
И Клава повела членов совета отряда на Горную улицу. Здесь ребята отыскали управляющего домами. Узнав, зачем пришли пионеры, тот обрадовался:
— А я уж хотел в школу идти, просить, чтоб помогли нам. Нужно ребятишек как-то от улицы отвлечь. А то получается: придут они из школы, а деваться им некуда. За машины цепляются, прохожих задирают. Некоторые покуривают втихомолку, в карты играют, ругаются, дерутся. Да тут еще Чубчик со своей компанией всех одолевает. А школе вроде и дела нет, будто и не ее это ученики...
Из разговора выяснилось, что при домоуправлении имеется красный уголок, но работы в нем никакой не ведется, и он постоянно закрыт.
87
— Ну вот, ребята, нашлось нам и новое пионерское дело* Хорошее, большое дело,— сказала Клава членам совета, когда они расстались с домоуправом.— Теперь надо все обдумать, наметить план работы, раскачать людей.
Клава рассказала о шефстве над Горной улицей директору школы и старшему пионервожатому, и те обещали ей всяческую помощь и поддержку.
Пионеры начали с того, что вымели из красного уголка мусор, вымыли пол, потом собрали из своих личных запасов небольшую библиотечку, раздобыли через домоуправа шашки, шахматы, духовое ружье.
Потом они завели знакомство с родителями ребят, проживающих на Горной улице, и привлекли их к работе в красном уголке: отец Феди Сушкова стал руководить стрелковым кружком, портниха Самарина взялась обучать девочек швейному делу. С помощью директора школы Клаве удалось уговорить преподавателя математики Воронцова, чтобы тот занимался с маль- чишками-радиолюбителями.
Дима Петровский, школьный чемпион по шашкам, вызвался каждое воскресенье давать одновременный сеанс игры в шашки на двенадцати досках, и в первое же воскресенье в красный уголок нельзя было протолкаться.
Чтобы Семка Чубчик со своей компанией не мешал работе красного уголка, Клава договорилась со старшеклассниками, и те выделили группу комсомольцев, которые теперь частенько похаживали по Горной улице и дежурили на катке.
Затем Клава решила провести лыжную вылазку своих пионеров и ребят с Горной улицы.
— А как с Чубчиком быть? — спросил Димка.— Его мазурики обязательно припрутся... задирать всех начнут.
— А давайте так сделаем,— подумав, предложила Клава. Позовем их вместе с нами на лыжах кататься.
— Только смотрите,— предупредил Ваня Архипов,—они лихо с гор съезжают. И с трамплина здорово прыгают. Могут и обставить.
— Значит, готовиться надо,— сказала Клава.
Пионеры послали Чубчику вызов на лыжное соревнование^
88
составили свою команду и стали каждый день заниматься тренировкой.
Соревнование состоялось в зимние каникулы. Сенька Чубчик явился на самодельных лыжах. Он так бесстрашно съезжал с гор и прыгал с трамплина, что обставил всех пионеров и пришел к финишу наравне с Клавой. Но в командном первенстве пионеры сумели далеко опередить компанию Чубчика.
— Здорово вы своих натренировали,— признался Чубчик.— Да потом у вас и лыжи хорошие.
— А ты не хочешь возглавить сводную команду лыжников с Горной улицы? — предложила ему Клава.— Отберешь, кто тебе по душе, сам потренируешь их, а потом вызовете на соревнование мальчишек с Набережной улицы.
Немного поломавшись, Чубчик все же согласился, заявив при этом, чтобы набережновцы лучше и не лезли с ним состязаться.
НОВЫЙ СТАРОСТА
После зимних каникул Анна Павловна сообщила Клаве, что Миша Сидоров, староста шестого «Б», сегодня получил в школе свои документы и на днях уезжает с родителями в Псков.
— Надо нам о новом старосте подумать,— сказала учительница,— ученик должен быть толковый, с характером и чтоб другим пример показывал. Мне вот Саша Бондарин по душе. Да и Дима Петровский подошел бы для старосты. Мальчики серьезные, выдержанные, ребята с ними считаются.
Клава заметила, что ребята и без того загружены: Дима — председатель совета отряда, Саша — вожатый звена да еще вдо^- бавок староста географического кружка.
— Так кого же ты посоветуешь? — спросила Анна Павловна.
— А что, если Ваню Архипова предложить в старосты?
— Ваню?!
— Да, да... Почему всегда одних и тех же выдвигают? А почему Архипова стороной обходим? Знаете, какой у него характер? Что захочет — обязательно сделает. И других за собой потянет... Помните, как он на сборе металлолома отличился.
— Погоди, погоди,—остановила вожатую Анна Павловна.— Ты же сама жаловалась на Ваню: несносный, противный...
— Да он и теперь колючий, как еж... Не подступись. Я ж вам рассказывала, как у него жизнь-то сложилась. А вот мы возьмем и поверим ему...
— Попробуем,— подумав, согласилась Анна Павловна.—Это, Клаша, хорошо, что ты новые силы в классе поднимаешь. Вот только как ребята?.. Выберут ли они Архипова?
— Я с ними поговорю...— пообещала Клава.— Они поймут.
На классном собрании ученики были немало удивлены, когда Горька, Саша и Федя предложили в старосты Ваню Архипова. Среди ребят раздались недоверчивые возгласы, что Ване не до школьных дел, что ему нужно заколачивать копейку, но Клава и Анна Павловна так горячо поддержали кандидатуру Архипова, что за него проголосовало большинство класса.
Увидев вскинутые вверх руки, Ваня яростно замотал давно не стриженной головой.
— Меня?! В старосты?! Нет, вы это бросьте! Не пригоден ц на такое дело... Зараз со всеми переругаюсь!..
— Все! Кончено! — объявил председательствующий на собрании Саша Бондарин.— Проголосовали почти единогласно. Принимай дела, новый староста.
На другой день в большую перемену Клава заглянула к шестиклассникам — и ахнула. В классе царил неописуемый беспорядок: ученики сидели на партах, форточка была наглухо закрыта, доска не протерта.
— А где дежурный по классу? — спросила Клава.— Куда смотрит староста?
— А он пока никуда не смотрит...— пожал плечами Саша и объяснил, что Ваня Архипов делает вид, что забыл про вчерашние выборы, и не думает приступать к работе.— Да вон и он... спросите его.
В дверях класса стоял Ваня. Клава встретилась с ним взглядом и хотела было как следует отчитать мальчишку. Но потом, вздохнув, распахнула форточку и принялась молча собирать разбросанные по полу бумажки.
Кто-то из ребят попытался ей помочь, но Клава предложила
90
ему сесть на свое место. Подобрав все до единой бумажки, она не спеша вытерла доску и только тогда обратилась к Ване:
— Если ты, как староста, не имеешь времени назначить дежурного и проследить за порядком в классе, то сообщай мне об этом заранее. Я буду приходить каждый день и проводить у вас уборку. Хорошо? Договорились? — И Клава быстро вышла из класса.
Сконфуженный Ваня догнал ее в коридоре и схватил за руку.
— А это правда, что старостой меня всерьез выбрали? Без подвоха, не ради смеха?
— Да ты что! — изумилась Клава.— Какой подвох!.. Это ж тебе задание такое, чтоб порядок в классе был, дисциплина. Ведь сам понимаешь, что без этого шестой «Б» ни в какой поход не пустят...
— Задание? — переспросил Ваня.
— Самое боевое, ответственное. Все ребята надеются на тебя.
— Да я ж не знаю, с чего и начинать надо,— признался Ваня.
— Подумаешь — найдешь с чего.— Клава покосилась на лохматую Ванину голову и усмехнулась: — Сходи в парикмахерскую, остригись для начала, сними свои лохмы. А то говорят, от тебя все встречные шарахаются...
Еще день или два Ваня ходил нестриженым, а потом заявился обработанным под «нулевку» и заявил всем мальчишкам, что он теперь, как староста, не пустит в класс ни одного «волосатика».
Он почти силой прогонял ребят в парикмахерскую, ссужал их деньгами (при этом без всяких процентов!), а ьатем, раздобыв машинку, принялся самолично стричь мальчишек.
«Архип входит в роль, стрижет всех под ноль,— посмеивались ребята.— Теперь уж он наломает хворосту».
Рука у нового старосты действительно оказалась твердой. Ваня был настойчив, никому не давал поблажки, ревностно следил за порядком в классе. Насорит кто-нибудь из мальчишек под партой или прольет чернила, староста непременно разыщет виновника, приведет в класс и не выпустит до тех пор, пока тот не наведет порядка.
Назначая классных дежурных, Ваня деловито внушал им,
91
что они должны нести свою службу, как часовые на посту, контролировал каждый их шаг и не скупился на взыскания. Когда во время дежурства Дима Петровский не вытер как следует классную доску, староста назначил его дежурить еще раз.
Презрительно фыркнув, Дима заявил, что он председатель совета отряда и вновь испеченный староста не имеет права командовать им. Ваня сгреб председателя в охапку, притащил в класс и заставил его в присутствии ребят до блеска надраить доску. Возмущенный Дима бросился к вожатой с жалобой: Архипов применяет насилие, подрывает председательский авторитет, и надо срочно осудить его поведение.
— Ну что ж, я согласна,— кивнула Клава.— Давайте на классном собрании и поговорим. О дисциплине в шестом «Б» и о новом старосте.
— А почему же на собрании? — растерялся Димка.
— А где же еще? Вы доверили Ване, выбрали его, вот и обсудите его работу. Но и он, наверное, кое-что скажет ребятам.
— Я думал, вы ему наедине повнушаете,— забормотал Димка.— А так оно ни к чему...
Но классное собрание все же состоялось. Вслед за Анной Павловной Ваня рассказал о том, кто и как из ребят ведет себя на уроках и дежурит в классе, кто занимается подсказыванием и списыванием, кто и почему опаздывает на занятия.
Не одному ученику пришлось покраснеть на этом собрании. «Ну и глазастый наш староста, ничего не пропустит»,— говорили между собой шестиклассники.
Потом Анна Павловна попросила ребят рассказать, кто как учится, к^кие испытывает затруднения и кому нужна помощь товарищей.
— Попросим второе звено сказать,— предложила Клава.— У них уже есть небольшой опыт.
Пионеры пошептались, вытолкнули вперед Любу Кочеткову, и та сообщила, как звено Саши Бондарина готовит домашние уроки. Пионеры каждый день собираются после занятий у Любы дома, садятся за один стол и вместе занимаются.
Подготовку обычно начинают с самых трудных предметов. Когда ребята устанут, они выходят на улицу поиграть и побегать, потом опять садятся за работу. Если попадается что-ни¬
92
будь очень сложное, то они приглашают вожатую, и та помогает ребятам разобраться в домашних заданиях.
— И каковы же результаты ваших коллективных занятий? — спросила Анна Павловна.
— За последнюю неделю в нашем звене ни одной плохой отметки не было...— сообщила Люба.— И я свой «неуд» по геометрии исправила.
— Неплохо придумано, неплохо...— одобрительно кивнула головой учительница.
— А если бы нам вот так же не только одним звеном, а всем классом домашние уроки готовить,— вслух подумала Клава, вопросительно посмотрев на Анну Павловну.
— Так нас же больше тридцати человек,—недоумевая, заметил кто-то из ребят.— Ни в одном доме не уместимся.
— А давайте у нас собираться,—предложил Саша Бонда- рин.— У нас во второй половине дома никто не живет, места всем хватит. Хотите, я с отцом поговорю, он позволит...
— Нет, зачем же у вас? — сказала Анна Павловна.— Я думаю, что мы вполне сможем заниматься и в школе, в своем классе.
— Верно...— обрадовалась Клава.— Вот и мы с ребятами так думали.— И она принялась развивать свой план: закончив занятия, ученики идут домой, обедают, немного отдыхают, потом собираются в школу и садятся вместе готовить домашние уроки. Никто не болтается без дела, каждый находится под наблюдением друг друга.
— А еще неплохо бы создать из успевающих ребят особую группу, вроде как «скорую помощь»,— продолжала Клава.— Эта группа должна всегда знать, кто по какому предмету отстал, и сразу же прийти на выручку. Возглавить «скорую помощь» я бы предложила Диме Петровскому. Когда захочет, он хорошо ребятам помогает. И подсказывать стал меньше.
— Ну что ж, все очень дельно! Завтра, пожалуй, и начнем,— согласилась Анна Павловна.— А я еще с преподавателями поговорю, чтобы они консультации для вас наладили.
Часть третья
СТАРШАЯ ВОЖАТАЯ
Вечером, как обычно, Евдокия Федоровна поджидала дочерей.
Первой вернулась младшая — Леля. Она быстро вошла в комнату, бросила на кровать жакетку, сдернула косынку с головы и призналась, что очень голодна. На курсах сегодня сумасшедший день — экзамены, и она так замоталась, что не успела даже пообедать.
— Сейчас ужинать будем,— заторопилась мать.— Только вот Клашу дождемся. И куда она запропастилась? Не видела ее?
— Видеть не видела, но адресом не ошибусь. Где же ей быть, как не в школе! — Леля усмехнулась.— Все со своими пацанами возжается...
Леля умылась и, вытирая полотенцем лицо, со смехом продолжала:
— Клашка у нас совсем знаменитая стала. Куда ни пойдешь, всюду спрашивают: «Вы сестра Клавы Назаровой? Старшей пионервожатой?» Вот уж не думала, что такая честь вожатым.
— Да, да,— закивала головой Евдокия Федоровна.— И меня ребятишки зовут «мать пионервожатой».
Внизу хлопнула входная дверь. Деревянная лестница заскрипела под торопливыми шагами.
— Клава,—догадалась мать и с досадой подумала: «И что за коза-дереза? Леля помоложе ее — ходит строго, степенно, а эта все песенки поет да через ступеньки скачет. А ведь совсем уж невеста».
В комнату вбежала Клава. Невысокая, плотно сбитая, смуглая, темноглазая. Темные косы облегают крутой чистый лоб. На Клаве черная юбка клеш, белая кофточка, на затылке расшитая узбекская тюбетейка.
— Почему не ужинаете? — удивилась Клава.— А вдруг я бы еще задержалась...
— Тогда сестру старшей пионервожатой поминай как звали. Умерла бы с голоду,— фыркнула Леля.
94
— Не пугай, сестрица. Желаю тебе сто лет жизни. Мама, корми Лельку скорее. Смотри, какая она у нас худая.
Поддразнивая друг друга, сестры принялись помогать матери собирать на стол.
А мать, глядя на дочерей, невольно задумалась. Шутки шутками, а надо им и о себе подумать. Какой уж год они без передышки живут, а она вроде как на пенсии у них. И все это по милости дочек, особенно старшей, Клавы. А случилось это так.
Муж Евдокии Федоровны вернулся после первой мировой войны с тяжелым ранением, да так и не оправился от него. Долго болел и умер. Пришлось Евдокии Федоровне ходить по чужим людям — мыть полы, шить, стирать белье. Потом она устроилась уборщицей в хлебный ларек.
Как ни трудно жилось Назаровым, но все же дочки пошли учиться, и мать делала все, чтобы они не отстали от других и дотянули до десятого класса.
Но Клава с Лелей видели, что мать у них совсем уже старая и больная: она еле передвигала отекшие ноги, с трудом поднималась по лестнице, плохо спала по ночам.
Дочери принялись уговаривать мать оставить работу.
— Как можно? — возражала Евдокия Федоровна.— Всю жизнь работала. И вдруг на покой... Несподручно мне это. Да и на службе я, не отпустит меня заведующий. Строгий он.
— Нет, вы только подумайте! — засмеялась Леля.— Мама на службе!.. Государственный человек... незаменимая уборщица.
— Какой же тут смех может быть! — обиделась мать.— Когда в ларек свежий хлеб привозят, я всегда на разгрузке работаю. Зачем же покупателя задерживать? Наш магазин на первом счету в городе, хоть кого спроси...
Клава отвела мать в больницу, получила справку о состоянии ее здоровья, затем отправилась к «строгому» заведующему и от имени матери подала ему заявление об уходе с работы.
Вскоре незаменимую уборщицу отпустили из ларька, и она, как говорили соседи, перешла на «домашнюю пенсию».
Только изредка, когда Евдокии Федоровне становилось уж
95
очень тоскливо без работы, она тайно от дочерей шла в хлебный ларек и помогала продавцам разгружать хлеб с подводы.
— Вы мне, дочки, вот что скажите,— ворчливо заговорила мать.— Едете вы со мной на лето в деревню или нет? — И она принялась расписывать прелести летнего отдыха в деревне. В Сошихине, километрах в сорока от города, у них есть родственники. Назаровы поселятся в деревенской избе, будут пить молоко, ходить за ягодами, за грибами. Захочется — можно поработать в колхозе, народ там радушный, хозяйство крепкое, трудодень хлебный.— Так как, дочки?
— Я, мама, уже сказала тебе,— ответила Леля.— Как только с экзаменами разделаюсь — на все лето в деревню закачусь. Приеду оттуда сдобная, пышненькая, с ямочками на щеках, как вот у Клашки.— И она лукаво покосилась на сестру.
— Ну как, поедем? Ты хоть от своих озорников отдохнешь немного...
Как Леля ни любила сестру, она не могла понять ее привязанности к детям.
Закончив, десятилетку, Клава уехала в Ленинград и поступила в Институт физической культуры имени Лесгафта.
Но проучилась всего лишь год: дома трудно жилось матери и сестренке, надо было им помогать.
Клава вернулась в родной город и в той же школе имени Ленина, в которой училась сама, стала работать старшей пионервожатой.
Работа с пионерами казалась Леле слишком уж несерьезной и беспокойной профессией. Ребята ходили за своей пионервожатой по пятам, не давали ей ни минуты покоя, одолевали бесчисленными вопросами, неотложными делами, секретами, тайнами. Леля постоянно видела сестру в окружении ребятишек, которые шумели, галдели, о чем-то спорили.
«У меня бы от такой жизни голова вспухла. Сбежала бы я куда глаза глядят»,— думала обычно Леля.
Сейчас она с жаром принялась уговаривать сестру поехать в Сошихино.
Евдокия Федоровна с надеждой и тревогой смотрела на старшую дочь.
96
Клава, опустив глаза, молчала.
*— Да нет, не поедет она,— со вздохом сказала мать.— Вижу, не зря молчит.
— Это почему? — удивилась Леля.
— Она с ребятами в лагерь едет... Начальником... На все лето...
— Правда, Клаша?
— Правда,— кивнула сестра.— Сегодня в райкоме утвердили. Мама, а откуда тебе это известно?
— А почему бы мне и не знать? — усмехнулась Евдокия Федоровна.— Ты же у всего города на виду. Ребятишки каждый твой шаг знают. Заболела ты, отлучилась куда, встретилась с кем — все известно. Сегодня пошла я на реку белье полоскать, а мальчишки с камней рыбу удят. Ну и разболтались они между собой. «Ты куда в пионерский лагерь едешь?» — спрашивает один. «На Горохове озеро»,— отвечает другой. «А я в Рубило- во».— «На Гороховом лучше».— «И совсем не лучше. Знаешь, кто у нас начальником лагеря будет? Сама Клава Назарова. С такой не заскучаешь. В палатках будем жить, в походы пойдем...» Вот ведь как почта у ребят работает. Наверное, раньше твоего узнали, что ты начальником станешь. Наслушалась я мальчишек да так расстроилась, что Лелькину сорочку в реку упустила.
— Это какую? — встревожилась Леля.
— Да голубенькую, с прошивкой.
— Ну, Клашка,— погрозила сестра,— я тебе этого не прощу. То голодом меня моришь, теперь еще по миру голой пустишь.
— Ладно, бери мою сорочку,— примирительно сказала Клаша и обратилась к матери: — Ну зачем же расстраиваться? Я ведь не первый год в лагерь еду...
— Исход-то какой-нибудь должен быть. Ты уже не девчонка, а для людей все «Клава» да «Клаша». Бегаешь, скачешь, в прятки с мальчишками играешь. А по годам вроде уж невеста на выданье.
— Да где там невеста! — фыркнула Леля.— Разве пионеры ее отпустят куда... Они же Клашке проходу не дают. Как кто дойдет домой ее провожать, а ребята следом. Идут, ревнуют.
97
Одного ухажера зимой даже снежками закидали. Да нет, быть Клашке старой девой-вековухой.
— Хватит об этом,— нахмурилась мать.— Села на своего конька... поехала.— И она с нежностью посмотрела на старшую дочь. И какая только сила привязывает ее к ребятам?..
На лестнице послышались шаги, потом раздался осторожный стук в дверь.
Евдокия Федоровна выглянула в сени.
На лестничной площадке стояли пять или шесть мальчишек.
— Вы зачем это на ночь глядя? — недовольно спросила Евдокия Федоровна.
Мальчишки переглянулись и вытолкнули вперед приземистого вихрастого паренька лет тринадцати, с облупившимся носом, в обтрепанных штанах.
Евдокия Федоровна узнала: это был тот самый мальчишка- рыболов, который рассказывал на берегу реки, что начальником Рубиловского пионерлагеря будет сама Клава Назарова.
— Нам бы Клашу,— неуверенно сказал мальчишка.
— А может быть, Клаву Ивановну? — поправила Евдокия Федоровна.
— Да, да, Клаву Ивановну,— торопливо согласился мальчишка.— Нам спросить надо...
В сени вышла Клава.
— В чем дело, ребята?
— Клава Ивановна,— обратился к ней вихрастый мальчишка с облупленным носом, кивая на своих приятелей.— Мы вот все из Рубиловского лагеря. А вы у нас начальником будете. Так мы спросить хотим. Военные походы у нас будут?
Клава вгляделась в мальчишку — это был Петька Свищев, сын школьной уборщицы, беспокойное и неугомонное существо.
— Думаю, что будут.
— Так мы, Клава Ивановна, оружие захватим.
— Оружие?
— У нас тайный склад. Винтовки со штыками, пулемет. Пушка на колесах. Мы все сами сделали.
— Пулемет... пушка,— прыснула в кулак Леля.— Ох, вояки! Так это вы вчера шум подняли? Всех коз на пастбище трещотками перепугали? Вот уж хозяйки ругались...
Петька отвел глаза в сторону: рассказывать о вчерашнем бесславном военном сражении совсем не входило в его планы.
— А кто у вас начальник оружейного склада? — с серьезным видом спросила Клава.
— А... а у нас нет начальника,— признался Петька.— Просто все у меня под крыльцом лежит.
— Так вот, Петя. Назначаю тебя начальником склада. Завтра в двенадцать ноль-ноль доставишь все оружие к райкому комсомола.
— Есть доставить в двенадцать ноль-ноль,— с готовностью согласился Петька, довольный тем, что история с козами забыта.
— А сейчас отбой! И по домам спать! — приказала Клава, подталкивая пионеров к выходу.— Завтра едем в лагерь.
Ребята ушли.
— Ну вот и начинается веселое лето,— засмеялась Леля*~- захороводят они тебя, товарищ старший пионервожатый.
Клава только улыбнулась.
ЗА СОВЕТОМ
К атаке все было готово. Замерли в окопах бойцы, чтобы по первому сигналу перескочить через бруствер, замаскированный зелеными ветками, и начать короткими перебежками продвигаться вперед. Изготовились к бою пулеметчики, заняла свои места орудийная прислуга.
В небо взвилась зеленая ракета — сигнал атаки. Рядом, почти над самым ухом, затрещал пулемет. Мощно, в один голос, бойцы закричали «ура»...
Подхватив этот крик, боец Сушков с винтовкой наперевес перескочил через бруствер, ринулся в атаку и... проснулся.
На тумбочке оглушительно трещал никелированный будильник: словно застоявшись за ночь, он сейчас так неистово, взахлеб трезвонил, что даже весь содрогался и, казалось, вот-вот свалится с тумбочки.
Федя выскочил из-под теплого одеяла и остановил будиль* дик.
99
Из-за перегородки выглянула беспокойная тетя Лиза, сестра Фединой матери, жившая в одном доме с Сушковыми.
— Ну и спишь ты не по-людски, Феденька,— упрекнула сна.— То команды подаешь, то «ура» кричишь... Совсем тебя заворожило это военное училище — днем и ночью о нем бре- дишь.
Тетя Лиза выглянула в окно.
Солнце только еще поднималось над крышами домов, пастух лениво гнал коз на пастбище, на траве лежала обильная, сизая роса.
— Спи, Федор. Еще рано. Сегодня в школу не бежать — ты теперь вольный казак.
Тетя Лиза ушла на кухню.
Федя юркнул под одеяло и блаженно улыбнулся.
В самом деле, он теперь вольный казак. Экзамены за десятый класс сданы, в школу ходить не надо. Ни звонков, ни уроков — полная свобода. Хорошо! Можно вволю отоспаться, пошататься с дружками по городу, заняться фотографией, радио- делом или «нажать» на кино — смотреть, например, по три картины в день: одну в детском парке, вторую в летнем саду, третью в военном городке.
Неплохо, наконец, посидеть с удочками, на Великой и доказать этому «морскому волку» Сашке Бондарину, что он не такой уж незадачливый рыболов, как тот изображал его на школьном вечере самодеятельности.
На этом Федя и остановился. Сейчас он знатно отоспится, а потом займется рыболовной снастью.
Но сон не шел. Видимо, сказывалась привычка просыпаться чуть свет, нажитая за дни подготовки к экзаменам. Федя рывком сбросил одеяло, вскочил с постели и быстро оделся.
«Солдат встал и пошел»,— вспомнил он суворовское изречение. Сделал перед окном несколько приседаний, потом выбежал в огород к турнику и принялся подтягиваться на железной высветленной руками трубе.
Вдруг Федя услышал за спиной негромкий голос: «Восемь... девять...» — оглянулся и сорвался с турника. Под раскидистой яблоней, уперев в землю лопату, стоял отец,. Матвей Сергеевич. Он был в нижней рубахе, волосатая сильная грудь обнажена*
100
на литых, обнаженных по локоть руках перекатывались тугие мускулы. В густых белесых усах пряталась добродушная усмешка*
— Ну зачем ты, папа, считаешь? — растерянно воскликнул Федя, дуя на покрасневшие ладони.
— Девять раз подтянулся. Маловато, прямо скажу.
— Так я бы и больше мог. Это ты меня сбил...
— Не знаю, не знаю, кто кого сбил. А только девять раз маловато для военного человека.
Отец снисходительно относился к увлечению сына военным дблом, и в душе он надеялся, что с годами оно пройдет. Сам он за свою жизнь навоевался досыта, был изранен и исколот в двух войнах, знал, как нелегка военная служба. А Федя с детства был слабым, болезненным мальчиком.
Трудно сказать, как это получилось, что Федя с малых лет увлекся военным делом. Может быть, это шло от военных, которых много находилось в Острове — город был пограничным. Федя часто видел их на улицах, на ученьях, на стрельбищах. Подражая им, Федя ходил в детстве в гимнастерке, носил на голове старую командирскую фуражку отца, любил нацеплять на себя ромбики, красноармейские зведочки, бумажные ордена.
Уже в восьмом классе Федя твердо решил, что после школы пойдет в военное училище.
В огород, через дыру в изгороди, пролез Борька Капелюхин, Федин одноклассник.
— Слушай, Сушков-Суворов! Победа! Виктория! — заговорил он гулким внушительным баском, перешагивая через грядки с клубникой и на ходу не забывая срывать красные, спелые ягоды, которые сами просились в рот.
— Виктория, говоришь? Ошибаешься, парень. Плохо в сортах разбираешься... А тебе бы пора,— ухмыляясь, сказал Матвей Сергеевич, намекая на пристрастие Капелюхина к ягодам из чужих садов и огородов.
— Здравствуйте, Матвей Сергеевич! — заметив Фединого отца, в замешательстве поздоровался Капелюхин и бросил выразительный взгляд на Федю, что должно было означать: есть новости, надо срочно поговорить.
— Здравствуй, здравствуй...—ответил Матвей Сергеевич, по¬
101
дозрительно поглядывая на ребят.— Так что же у вас за победа- виктория? Или посекретничать надо? Сделайте одолжение:., могу и уйти.
— Да нет, какие там секреты,— остановил Федя отца и обратился к Капелюхину: — Чего там, Борька, говори...
Капелюхин привык видеть в каждом простом деле что-то необыкновенное и сообщать об этом другим только наедине, и по секрету, поэтому сейчас заговорил без особого подъема.
Вчера он был в горвоенкомате. Там уже получили разнарядку в военные училища. Скоро будут выдавать направления. Есть места и в Ленинград: военно-инженерное училище и морское. А это то самое, что им нужно.
— Наши заявления уже разобрали, и мы допущены к медицинской отборочной комиссии,— сообщил Капелюхин.— Комиссия послезавтра. Ты готов?
— Как? Ты уже подал заявление? — с изумлением спросил у сына Матвей Сергеевич.— И ничего не сказал дома?
— Понимаешь, папа,— краснея до ушей, признался Федя,— говорили, что будет очень мало мест. Вот мы с Борькой и поторопились...
— Та-ак! — задумчиво, с ноткой обиды протянул отец.—Самостоятельный человек, значит, сам с усам... Ты не думай, сынок, что я против военной профессии. Дело это важное, почетное. Да вот здоровьишко у тебя не того...
— Но я же тренируюсь...— начал было Федя, но его перебил Капелюхин.
Чувствуя, что стеснительный и немногословный приятель ничего больше не скажет, он поспешил Феде на выручку:
— Вы знаете, Матвей Сергеевич, он как Суворов в молодости. Закаляет себя с ног до головы. Его ребята так и зовут: Суш- ков-Суворов. И знаете, какие сдвиги: раньше Федя воды боялся, а теперь Великую пять раз без передышки переплывает. А в футбол как режется! И в нападении может, и в защите. Его уже в сборную юношескую сманивают...
— А что, Суворов тоже в футбол резался? — Матвей Сергеевич неприязненно покосился на Капелюхина и обратился к сыну: — Я так считаю, комиссия свое слово скажет. Придется тебе все-таки подумать о гражданской профессии. Передохни за ле¬
102
то* собери документы, прикинь, что тебе больше по душе. Вот так-то, сынок, подумай.
— Подумаю, папа,— растерянно отозвался Федя.
Отец ушел. Капелюхин присел у грядки, бросил в рот несколько краснобоких ягод и неодобрительно покосился на Федю.
— Ты что же, вспять пошел? Отбой даешь? Эх ты, Сушков- Суворов!
— Совсем не вспять... Просто сказал, «подумаю»,— с досадой сказал Федя.
И в самом деле, подумать было о чем. Отец плохого ему не пожелает. Он сам был военным человеком, участником двух войн, знает, какие крепкие и выносливые люди требуются в армии.
Да вот еще бабка с теткой тревожатся. Сколько бессонных ночей провели они над Федей, когда он болел ангиной или гриппом! Они постоянно твердят, что Федя должен пойти учиться на врача или на учителя. Работа, мол, тихая, сквозняком не продует, ног не натрудишь — как раз по Фединому здоровью.
Может, они и правы, как знать? С кем бы это посоветоваться, получить твердый ответ: куда пойти после школы, как жить дальше.
Может быть, сходить к Саше Бондарину? Слов нет, Саша закадычный друг, готов помочь в любом деле, но насчет военного училища он, пожалуй, не советчик.
Нет, лучше всего сходить к Клаше Назаровой.
И с чем только Федя не обращался к старшей вожатой! К ней можно было прийти с любым вопросом. Мальчишеские радости и огорченья, обиды и замысловатые вопросы, необузданные фантастические планы и жалобы на обидчиков — все умела выслушать и понять вожатая Клаша. Она никогда не говорила: «не могу», «занята», «приди завтра». У нее всегда находилось время для задушевного разговора. К Клаше можно было в любой час прийти домой, остановить на улице, вызвать с собрания или из клуба...
После завтрака Федя направился на Набережную улицу к Назаровым.
В комнате за швейной машинкой он застал одну лишь Евдокию Федоровну. От нее Федя узнал, что Клава вот уж неделю
103
назад уехала в Рубилово начальником пионерлагеря и не будет в городе до осени.
Тогда Федя решил поехать в Рубилово — это не так уж далеко, всего каких-нибудь двадцать километров от Острова. Кстати, на днях в школе выпускной вечер десятиклассников, и Федя пригласит на него Клашу Назарову. Разве может вечер обойтись без старшей вожатой, когда там соберется более сорока ребят и девчат — бывших Клавиных пионеров!
Не заходя домой, прямо от Назаровых, Федя отправился в Рубилово. Дорога проходила мимо дома Бондариных. Федя на минуту остановился и подумал, что хорошо бы позвать в Рубилово Сашку. Они уже не виделись несколько дней, да и идти вдвоем куда веселее. Но потом Федя вспомнил, какой острый язычок у его друга. Узнает, что он идет за советом к Клаше, и высмеет. Мол, выпускник, взрослый человек, а все еще бегает до няньки-вожатой... Нет, лучше уж Федя пойдет один.
Он выбрался на загородное шоссе. День был тихий, спокойный, солнце пряталось за облаками. В поле узорчатым ковром зацветал клевер, сочно зеленели посевы льна-долгунца, гордость островских колхозов. Вдали синел лесок, и там начинались торфоразработки.
Федя прошел несколько километров. Солнце выглянуло из облаков, и начало припекать. «Каких-нибудь двадцать километров» оборачивались долгой и трудной дорогой.
По шоссе то и дело пробегали грузовики, гремя и лязгая на крупных булыжниках. Федя остановился на повороте дороги, дождался очередной машины и, когда та замедлила ход, уцепился за задний борт, подтянулся на руках и полез в кузов. Неожиданно на выбоине машину сильно тряхнуло, и Федя наверняка свалился бы на шоссе, если бы чьи-то здоровые руки не схватили его за плечи и не втащили в кузов.
—- Вот гонит, дьявол! — выругался Федя.— Спасибо, дядя...
— На здоровье, тетя...— раздался знакомый голос.
Федя поднял глаза и узнал Сашу Бондарина. Он смотрел на него с лукавой ухмылкой.
— Сашка? — удивился Федя.— Куда это ты?
— Да вот... вроде тебя на грузовике катаюсь,—уклончиво ответил Саша.— А ты куда путь держишь?
104
— Я>.* я в Рубилово,— запнувшись, признался Федя.— Клаву Назарову на выпускной вечер пригласить надо. Меня директор школы просил.
— Вот и меня директор просил,— помолчав, сказал Саша и отвел глаза в сторону.
Федя недоверчиво покосился на приятеля! нет, здесь что-то не то.
Неожиданно на крутом повороте грузовик занесло, и Саша всем телом навалился на Федю.
— Ну и дорожка! — буркнул он, с трудом оторвавшись от приятеля.
— Слушай,— решил схитрить Федя,— а зачем нам обоим трястись по такой дороге? Пусть кто-нибудь один едет в Рубилово.
— Можно и одному,— согласился Саша.— Ты слезай, а я уж как-нибудь доберусь.
— Почему же мне слезать? — удивился Федя. Он хотел было предложить кинуть жребий, но сдержался: кто знает, чем это может кончиться? А ему так надо увидеть Клашу!
И тогда Федя решил переменить тему разговора. Он сообщил, что в горвоенкомате в ближайшие дни можно будет получить направления в военные училища, в том числе и в ленинградские.
— Ну и что? — притворившись непонимающим, переспросил Саша.
— Как — что? У тебя уже память отбило? Мы о чем с тобой договаривались? Кончим десятилетку — и прощай, Остров! Поступаем в военные училища. Послушай,—принялся уговаривать Федя,— нам же счастье само в руки лезет. Поедем в Ленинград. Я в военно-инженерное поступлю, ты в военно-морское. Учимся в одном городе, выходные дни проводим вместе, ходим в театры, в музеи... Вот это дружба! Ты только подумай...
— Я уже подумал,— сказал Саша.
Федя махнул рукой: странные все же вещи происходят на свете! Никто из островских мальчишек, пожалуй, так не увлекался морским делом, как Саша Бондарин. Он отличный пловец и ныряльщик, не раз ходил под парусом на лодке, перечитал великое множество книг о моряках, любил щегольнуть перед ре¬
105
битами знанием морских терминов. Чуть ли не круглый год Саша ходил в полосатой матросской тельняшке и охотно отзывался, когда его звали «морская душа».
Да и по виду Саша вылитый моряк — плечистый, скуластый, крепко сбитый, с выпуклой бронзовой грудью, с железными мускулами. Казалось, такому только бы и учиться в морском училище. Но Саша, как это ни странно, о военной профессии и думать не желает, собирается поступить в какой-то плановоэкономический институт.
— Эх ты, кооператор! — с досадой сказал Федя.— Бывшая морская душа!
Саша нахмурился: отец его заведовал продмагом, и сын не любил, когда кто-нибудь иронизировал над профессией продавца.
— Ты что ж думаешь, жизнь только на военных держится? Воюют год-два, а экономисты, плановики, кооператоры все время нужны. Помнишь, что Ленин про экономику социализма сказал...
И в какой уже раз ребята азартно заспорили о том, какая профессия важнее. Они горячились, размахивали руками, глушили друг друга цитатами из школьных учебников.
— Ну хорошо,— сдался наконец Саша, когда приятель обвинил его в измене и отступничестве.— Приедем в Рубилово и спросим Клашу. Как она скажет, так и будет.
— А давай спросим! — запальчиво согласился Федя и тут только сообразил, что Сашка, как и он, едет посоветоваться с вожатой.
В ЛАГЕРЕ
Грузовик довез Федю и Сашу почти до самого пионерского лагеря.
Прошли под аркой с не успевшей еще выгореть надписью «Добро пожаловать!», постояли у лагерной линейки с высоко поднятым на шесте алым флагом, заглянули в брезентовые палатки, в легкие щитовые домики, где стояли аккуратно заправленные койки. Везде почему-то было безлюдно и тихо.
106
Заборы, домики, скамейки, постовые грибки только что были покрашены, и в воздухе остро пахло масляной краской.
В конце лагерной территории, под развесистыми березами, где стоял самодельный верстак и лежали горы щепы и стружек, ребята заметили сухощавого высокого старика в рабочем фартуке со следами клея и краски.
Федя и Саша узнали старика сразу и поздоровались — это. был дядя Никифор, неизменный лагерный сторож, которого они помнили еще с тех пор, когда сами приезжали на лето в пионерский лагерь.
Не выпуская из рук рубанка, дядя Никифор поверх очков подозрительно посмотрел на ребят.
— Откуда такие? A-а, островские,— узнал он наконец Федю и Сашу.— Чего бродите здесь?
Федя сказал, что они приехали к Клаве Назаровой, и спросил, почему в лагере так тихо и пустынно.
— Гарнизон выбыл в неизвестном направлении,— с важным видом сказал дядя Никифор.— По сигналу боевой тревоги.
— Значит, военная игра? — оживился Федя.— Где, в каком месте?
Старик лукаво усмехнулся.
— Разглашать не положено... сами должны понимать.
— А вы, дядя Никифор, никак, переквалифицировались? — спросил Саша.— Столяром заделались?
— Как тебе сказать? — развел руками старик.— Я ведь сызмальства столяр и плотник. Только по старости в сторожа подался. А вот Клаша опять меня к старому вернула. Затеяла тут с ребятней ремонт в лагере, меня за старшего поставила. «Учи, говорит, Никифор, наставляй молодых строителей». Вот я, как могу, и наставляю — есть тут у меня и столяры, и маляры, и стекольщики. Пойдемте вот, покажу, чего ребята понастроили.
Сопровождаемые сторожем, Федя с Сашей осмотрели оборудованный пионерами спортивный стадион, беседку-читальню, фанерный домик «фабрики наглядных пособий», мастерские авиамоделистов, судостроителей.
— А теперь на наш зоопарк гляньте! — предложил Никифор, подводя ребят к свежеокрашенному забору.
107
— Зоопарк?! — удивился Федя.
— А как же! У нас теперь все по-большому,— доясниЛ; Никифор.— Авиамодельный кружок стал авиационным заводом, кукольный кружок — кукольным театром, живой уголок — зоопарком. И знаете, сколько ребята живности в свой зверинец натащили!..
Федя и Саша прошли за забор, к клеткам. И верно, в клетках сидело немало животных. Были тут и кролики,, и рыжий лисенок, и несколько ужей, и черепаха. Около клеток с деловым видом расхаживал стриженый большеголовый паренек с повязкой на рукаве «Лаборант зоопарка».
— Скажи на милость — лаборант! — ухмыльнулся Федя.
— А у нас и директор зоопарка есть, и научные сотрудники,— принялся объяснять мальчик.— Мы тут всякие опыты проводим. К нам и ребята из соседних деревень приходят.
— Вот дело поставлено! — подмигнул Федя приятелю.— Сюда бы еще слона с тигром!..
— А ты не смейся,— сказал Саша.— У ребят и так есть что посмотреть. Когда я в живом уголке работал, так у нас только кролики были.— И он, обернувшись к «лаборанту», принялся расспрашивать, как удалось пионерам поймать хоря и лисенка, как те чувствуют себя в неволе.
«Теперь Сашку не оторвать»,— подумал Федя, зная привязанность своего приятеля к животным и птицам, и потянул его за руку.
— Мы зачем приехали? Пошли Клаву искать!
Саша нехотя поплелся за Федей. Покинув территорию лагеря, они вышли в поле, заросшее мелким кустарником и изрытое извилистыми оврагами.
«Наверное, здесь и воюют»,— подумал Федя, вспомнив, как в его пионерские годы в этих же местах проходили военные игры. На этой стороне оврага обычно располагались «красные», на противоположной — «синие».
«Противники» долго следили друг за другом, высылали разведку, несли службу сторожевого охранения, устраивали засады, ложные атаки. Разведчики должны б^ши проникнуть в лагерь «противника», узнать, где находится штаб, где располо¬
108
жились санитарные дружины, кухня, склад оружия. Потом начиналось общее наступление.
Побеждала в игре та армия, которая больше собрала сведений о «противнике», неожиданнее и скрытнее проникла на чужую территорию и сумела захватить штаб.
Не спеша пробираясь через кустарник, Федя и Саша вышли на небольшую полянку и увидели группу девочек, которые плели из травы и веток какие-то зеленые балахоны.
Саша спросил, не знают ли они, где сейчас находится Клава Назарова.
— Нет, не знаем.
— А это вы зачем плетете? — Федя показал на балахоны.— Халаты разведчикам? Для маскировки?
Девочки подозрительно покосились на ребят и ничего не ответили.
Приятели пошли дальше и в ту же минуту услышали, как кто-то из девочек сорвался с места и скрылся в кустах.
— Нас, кажется, за чужих принимают,— догадался Саша.— Давай уйдем отсюда... не будем им мешать.
— Да нет, интересно,— возразил Федя.— Посмотрим, как у них игра проходит.— Он вдруг присел за куст и потянул Сашу за рукав.— Гляди-ка!.. Палатка с красным крестом, санитары... Да они же дремлют... носом клюют. Тоже мне вояки... Так их зараз захватить могут.
— Ладно... Не будем им показываться,— шепнул Саша.
Приятели осторожно обошли «санитаров» стороной.
Вскоре они заметили за кустом небольшой костер. Над огнем
висели котелки, в них что-то кипело и булькало, и мальчик с девочкой снимали пробу.
— Полевая кухня,— улыбнулся Федя.— Это хорошо придумано. Игра игрой, а все как на самом деле...— Он потянул носом.— И знаешь, что варят? Грибной суп.
— Ну и нюх у тебя... Как у настоящего разведчика,— удивился Саша.
— А ты как думал? Я в таких играх всегда в разведку ходил. Научился кое-чему.
Неожиданно в кустах негромко свистнула какая-то птица. Ей ответила другая.
109
Это не птичьи голоса,— насторожился Саша.— Это, наверное, ребята сигналят...
— Пожалуй! — согласился Федя и вдруг задорно блеснул глазами.— Слушай, давай покажем пионерам класс работы. Проберемся незаметно мимо всех их застав, дозоров, разыщем штаб... Можем даже знамя унести. А, Сашка? Тряхнем стариной!
— Тоже мне... юный пионер! — отмахнулся приятель.— Извозишься тут в кустах, все штаны порвешь. Пойдем лучше искупаемся.
И он по пологому склону, заросшему ромашкой и желтыми бубенчиками, направился к реке, что блестела в разрывах между кустами.
Федя с недовольным видом пошел за ним следом.
— Отяжелел, кооператор,— бормотал он.— Штаны ему жалко.
У реки ребята отыскали укромное место, разделись и легли на теплый илистый берег.
Блаженно щурясь и поворачиваясь к солнцу то спиной, то грудью, Федя вскоре уже забыл свою обиду на приятеля.
— А хорошо бы сейчас пионером заделаться,— мечтательно заговорил он,— в лагере пожить недельки две. Походы, купанье, военные игры... Помнишь, как мы «бой за высоту» проводили... Клаша тогда даже в воинскую часть ходила за консультацией к командиру роты.
— А учебную тревогу ПВХО как устраивали,—отозвался Саша.—Сколько мы тогда взрослых в убежище заперли, часа два до отбоя их держали.
— Еще бы не помнить!—улыбнулся Федя.— Клаша тогда тоже попалась. Мы ее в убежище даже дегазировать стали. Пальто ей прожгли. Вот уж ей от матери досталось!.. А она ее успокаивает: «Ничего, мама! Это мои бойцы так постарались! Сейчас учебная тревога, а если на самом деле что случится...»
Воспоминания захватили ребят. Нет, что там ни говори, а хорошо им было в пионерской дружине у Клавы Назаровой. Она была их настоящим другом.
Клава не любила «пионерской говорильни», словесных сборов, а всегда наталкивала ребят на живые, увлекательные дела.
110
Где только не играли островские мальчишки в футбол: и под окнами школы, на Базарной площади, и в городском парке. И отовсюду их бесцеремонно прогоняли. Клава снарядила отряд «разведчиков», они обшарили город и обнаружили несколько великолепных пустырей. Затем в дружине был создан «добровольный строительный батальон», и на одном из пустырей, за рекой, закипела работа. К строителям присоединились мальчишки из других школ, и к летним каникулам юные любители спорта уже имели свой стадион.
Трудно давались горсовету зеленые посадки в городском парке и на улицах. Беспризорные молодые деревца хирели, чахли, уничтожались.
Но вот за посадки взялись Клавины пионеры. Они создали «зеленый совет», куда вошли ребятишки, старики, женщины, приняли шефство над каждым деревцем и даже провели в Доме пионеров общественный суд над «врагами зеленого друга». В число «врагов» попали пятеро мальчишек, срезавших деревца на луки, и две пожилые тети, кормившие листьями молодых посадок прожорливых коз.
Впервые в городе после долгих лет забвения Клавины пионеры устроили новогоднюю елку. Высокую, сияющую, нарядную, ее установили в центре города, и целую неделю вокруг елки веселились островские ребятишки.
А сколько неиссякаемой энергии и выдумки проснулось в ребятах, когда Клава познакомила их с гайдаровским Тимуром!
Пионеры пометили красными звездочками все дома, где проживали семьи красноармейцев, старики, инвалиды и сироты. Затем ребята развернули бурную деятельность: возили на санках воду, кололи дрова, помогали ходить в магазин, копались на огороде.
Пионеры так разошлись, что во дворе у одной из старушек взялись чинить дряхлый, покосившийся сарайчик, но дело кончилось тем, что сарайчик совсем завалился. Пришлось Клаве обратиться к комсомольцам старших классов и с их помощью восстановить старушке ее недвижимое имущество.
— Ну хватит! Заговорились мы...— спохватился Саша.— Давай купаться!
Приятели, разбежавшись, бросились в воду и поплыли на¬
111
перегонки. Потом они ныряли, доставали со дйа реки черную, как деготь, грязь, забрасывали ею друг друга, схв!атывалйсь бороться и, наконец, наглотавшись воды, выбрались на берег.
— А ты ничего стал плавать,— снисходительно похвалил Саша приятеля.— Клаше спасибо скажи, это она тебя научила. Помнишь, как ты от воды шарахался?..
— Было дело,— согласился Федя.— А ты не забыл, как в спортзале через кобылу прыгать боялся? Разбежишься, покраснеешь — и стоп машина, заело. Клава тогда с тобой тоже помучилась.
Неизвестно, сколько бы еще времени ребята предавались воспоминаниям, как вдруг Саша спохватился:
— Погоди! А где наша одежда?
— Как — где? — удивился Федя.— Мы вот здесь ее положили... у кустика.
— Не дурачься, Федька. Куда ты ее запрятал?
— Да не подходил я к ней,— обиделся Федя.— Мы же вместе с тобой купались.
— Руки вверх! — раздался глуховатый голос.
Федя и Саша оглянулись.
Шагах в пяти стоял небезызвестный ребятам Петька Сви- щев и целился в них из лука.
— Ну, ну,— нахмурился Саша, подаваясь вперед.— Не балуйся!
— Ни с места! — предупредил Петька и махнул рукой.
В ту же секунду из-за кустов выскочило с десяток мальчишек с красными ленточками на груди. В руках они сжимали еловые шишки. Такие же шишки топорщились у них в карманах и за пазухой.
— Ну вы, мальцы! — строго сказал Федя.— Поиграли и хватит. Давайте нашу одежду.
— Она уже в штабе,— сообщил Петька.— А теперь мы и вас туда доставим.
— Нет, ты видал? — возмутился Федя.— Тоже мне вояки! За «синих» нас приняли.
— Я ж тебе говорил,— шепнул Саша приятелю.— Выследят они нас.— И он примиряюще обратился к Петьке: — Слушай, мы же не играем... И не «синие» мы и не «красные». Мы к Кла¬
112
ве Назаровой пришли по делу. Ну, принеси нам одежду, будь друг.
— Кто вас знает, зачем вы здесь,— буркнул Петька.— Ходят тут, высматривают... А может, вы... Да что там говорить много, пошли в штаб! Там разберутся.
— Слушай, Свищ, я тебе сейчас навешаю! — пообещал Федя.
Петька кинул быстрый взгляд на свою команду. Пионеры
достали из карманов еще по нескольку шишек и принялись окружать приятелей.
—• Ладно, не хорохорься! — удержал Саша Федю за руку.— Еще шишками закидают. Пошли лучше с ними... Все равно нам одежду выручать надо.— И он, ухмыльнувшись, поднял руки.— Глаза завязывать будете?
— Можете так идти,— разрешил Петька.
Поводив Федю с Сашей изрядное время по кустам, Петькина команда наконец доставила их в штаб.
В брезентовой палатке, замаскированной зелеными ветками, находилось все воинское начальство «красных». Здесь же была и Клава.
Петька доложил о поимке неприятельских разведчиков.
И когда он, получив благодарность за смелость и находчивость, вышел из палатки, Клава залилась таким озорным смехом, что даже строгие, сосредоточенные командиры «красных» заулыбались.
— Да вы... вы прямо находка для нас,— говорила она сквозь смех Феде и Саше.— И бдительность ребята сумели проявить, и смекалку, и смелость. Это, пожалуй, самая удачная операция в сегодняшней игре. И откуда вы только появились так кстати?
— А мы, Клаша, за тобой,— сконфуженно признался Федя.— Завтра выпускной вечер в школе. Тебя ждут все...
— И еще одно дельце есть,— сказал Саша.— Поговорить бы надо.
— Обязательно поговорим. Вот только военная игра закончится,— кивнула Клава.— А пока одевайтесь и посидите здесь.
5
ВАРЯ ФИЛАТОВА
Оставив лагерь на своего заместителя, Клава добралась с попутной машиной до города, зашла домой, переоделась и отправилась на выпускной вечер.
Вот и школа. Окна распахнуты, из классов доносятся голоса, взрывы смеха, в пионерской комнате репетируют оркестранты. Входная дверь почти не закрывается. С букетами цветов стайками влетают в нее разнаряженные девушки. Чувствуя себя в новых костюмах неловко, стесненно, протискиваются в дверь юноши. Улыбаясь и любезно уступая друг другу дорогу, чинно входят родители.
И кругом вездесущие мальчишки младших классов, для которых выпускной вечер, пожалуй, более важное событие, чем для самих выпускников. Они липнут к окнам, гроздьями нависли на ограде, толпятся у входной двери, и кое-кто из особенно предприимчивых уже успел проскользнуть внутрь здания. Но проходят считанные минуты, и школьный сторож Ерофеич, «второй директор», как его зовут ребята, бережно, но твердо выпроваживает предприимчивых на улицу.
— Каждому овощу свое время! — назидательным тоном говорит он.— И правила арифметики надо помнить. Ежели ты в третьем классе, то приходи на выпускной вечер через семь лет, а ежели в четвертом — то через семь минус единица.
Клава невольно улыбнулась: как ей все это памятно!
Совсем недавно и она вот так же, с волнением прижимая к груди букет полевых цветов, вместе с подругой Варей Филатовой входила в эту самую школу на выпускной вечер.
Так же играла музыка, чинно входили в дверь выпускники, тщетно рвались в школу мальчишки младших классов.
«Интересно, пригласили Варю на выпускной или нет?» — подумала Клава. Не входя в школу, она повернула обратно й направилась к подруге,— какой бы праздник ни был, Клава не умела проводить его без Вари.
Варя Филатова жила в маленьком деревянном домике недалеко от школы. Клава привычным жестом нащупала щеколду в двери, миновала полутемные сени и вошла в комнату.
Варя в легком цветастом халатике сидела на корточках и
114
мыла в большой оцинкованной ванне двухгодовалую дочку. Пухлая розовая девочка со смешными завиточками волос на затылке невозмутимо занималась своими делами: то погружала в воду целлулоидного желтого утенка, то энергично шлепала ладошкой по воде или начинала барабанить погремушкой о жестяную стенку ванны.
— Ой, Олюшка! Купается! — вскрикнула Клава.— Дай я ее потискаю...
Она сбросила с себя легкую жакетку и, встав на колени рядом с Варей, потянулась к девочке.
— Как это — потискаю? — Варя с деланной строгостью отстранила подругу.— Что она тебе, игрушка резиновая? Олечка у нас человек живой, самостоятельный. Правда, доченька?
Оля, как видно, вполне согласилась с матерью, издала какой- то воинственный клич и так резво ударила ладошкой по мыльной воде, что облила Клаве новую юбку.
— Вот это по-нашему,—улыбнулась Варя и, окатив девочку теплой водой из кувшина, скомандовала Клаве: — Назарова, работай!
Схватив со стула сухую мохнатую простынку, Клава приняла на руки мокрую, скользкую девочку и принялась растирать ее сбитое, упругое тельце.
— Ой, Олюшка! Лапушка моя, колосочек!
— Слушай, Клава, ты три да знай меру,— остановила Варя, ревниво следившая за подругой.— И, пожалуйста, без этих спортивных захватов.
— Да нет... Я нежненько,— продолжала ворковать Клава.— Пухленькая моя, сдобочка. Я ж тебя сто лет не видела!
— Сто не сто, а с месяц не видела. Да и меня тоже,— с легким упреком заметила Варя.
— Неужто с месяц? — всполошилась Клава.— Время-то как летит. Совсем я закружилась. Конец года, экзамены у ребят, сборы в лагерь...
— А когда у тебя по-другому было? — усмехнулась подруга.— Помнишь, в школе еще обижалась: «И почему это в сутках только двадцать четыре часа...»
— Это правда, не хватает мне времени,— вздохнула Клава, передавая девочку Варе.— А ты как живешь?
115
— Живу, не тужу,— сдержанно ответила подруга.— Отработаю свое в типографии да поскорее домой, к ней вот.— Она влюбленно прижалась к дочке лицом.
— А он как? Пишет? — осторожно спросила Клава, показав глазами на стену, где обычно среди других фотографий висела карточка смазливого молодого человека, Вариного жениха. Но сегодня фотографии не было.
— Он бы писал, да, видно, чернила высохли,— невесело усмехнулась подруга.— Как это поется: «Мил уехал, мил оставил мне малютку на руках...» Да и не нужны мне его письма, раз у человека сердце засохло. Проживу и без него...
Клава с тревогой покосилась на подругу: рослая, стройная, большеглазая — такую бы только и любить! А вот надо же: человек два года ходил влюбленным, а потом, испугавшись ребенка, скрылся из города.
Зная, как подруге тяжело вспоминать о своем незадачливом увлечении, Клава постаралась переменить тему разговора и пригласила Варю на выпускной вечер в школу.
— Ты вожатая, почти что педагог, а мне-то зачем туда? — отказалась Варя.
— Обязательно пойдем,— загорелась Клава.— Учителей встретим, бывших своих пионеров... Повеселимся, наконец потанцуем... Ведь не старуха же ты...
— Погоди,— вспомнила Варя.— Так Олечку же не с кем оставить. Мама в город ушла.
— Вот и неправда,— засмеялась Клава.— Тетя Поля на огороде морковь пропалывает, сама видела.— Она выскочила за дверь и вскоре привела Варину мать.
— Иди, дочка, раз надо, иди,— сказала тетя Поля.— Клаша говорит, что вы и так опаздываете.
Покачав головой, Варя принялась одеваться.
В ДОРОГУ
Когда подруги пришли в школу, выпускной вечер еще не начинался.
Председатель комиссии по проведению вечера Дима Петров¬
116
ский, высокий подтянутый юноша в костюме спортивного покроя, в галстуке необычной расцветки, с тщательно уложенными волосами, с видом заправского распорядителя встречал выпускников и их родителей. С галантной учтивостью он сопровождал родителей на второй этаж: мужчинам в ожидании вечера предлагал почитать газеты или сыграть в шахматы, женщинам — посмотреть выставку кружка «Умелые руки» и изделия школьных рукодельниц.
— Это кто же такой молодой человек? — близоруко щурясь, полюбопытствовала одна из мамаш.— Или учитель какой новый? Уж такой учтивый да обходительный...
— Да это же Димка Петровский,— ответила ей другая мамаша.— Приоделся, навощился, вот и гарцует...
— Димка!.. —ахала близорукая мамаша.— Сынок Елены Александровны, докторши нашей? Вот уж не подумала бы! Да я ж его третьего дня чуть в саду не зацапала, за ягодами лез...
Не забывал Дима Петровский командовать и своим помощником Федей Сушковым. То он посылал его в пионерскую комнату — проверить, все ли оркестранты в сборе, то к руководителю художественной самодеятельности — узнать, готовы ли артисты к вечеру, то к буфетчице тете Кате — выяснить, достаточно ли завезли фруктовой воды, пирожных и бутербродов.
— Чтоб пир был горой, веселье до утра, танцы до упаду,-- твердил Дима.— Действуй, Сушков-Суворов! Раз-два...
Забот было великое множество, и Федя сбивался с ног. С каждой минутой возникали все новые и новые неувязки.
Ваня Архипов, которому было поручено достать патефон, притащил из дому какое-то утильсырье с разболтанным диском. Пришлось срочно вызвать мастеров из кружка «Умелые руки», запереть их в пустующий класс и заставить чинить патефон.
Люба Кочеткова по своей вечной рассеянности принесла совсем не те пластинки, какие нужны были для танцев: органную музыку Баха, арии из опер «Чио-Чио-Сан» и «Евгений Онегин».
И совсем уж нехорошо получилось с Севкой Галкиным. Севка без всякого на то разрешения привел на выпускной вечер двух дюжих приятелей, и они сразу поперли в буфет. Федя потребовал у них пригласительные билеты, но Севка отмахнулся от него, как от назойливой мухи.
117
— Ладно ты, распорядитель! Знаешь, что я сегодня премию получаю?
— Ну и что?
— А то... Много ли у нас отличников в школе? Раз, два — и обчелся. Имею право хоть дюжину приятелей на вечер привести.
— Скажи своей бабушке...— фыркнул Федя и заявил Севке, что посторонние пройдут в школу только через его труп.
Севкины дружки придвинулись к Феде и вполголоса сказали, что его труп им ни к чему, но намять бока распорядителю они вполне могут.
Федя, забыв свои обязанности, уже готов был ринуться в драку, но тут, к счастью, показался директор школы, и Севка кинулся к нему просить для дружков пригласительные билеты.
Немало пришлось Феде погорячиться и попортить крови из- за Аллы Дембовской.
В школе существовало неписаное, но твердое правило — на выпускном вечере дарить учителям цветы, выращенные только своими руками или собранные в поле.
И это было не случайно.
В школе многое любили и умели делать своими руками. Учащиеся вырастили плодовый сад, сами обрабатывали землю, ухаживали за деревьями, охраняли и собирали плоды.
Даже покраску школьного здания, ремонт парт, натирку полов ребята выполняли собственными руками.
Концерты, вечера самодеятельности, школьные праздники — все это учащиеся проводили самостоятельно, внося немало выдумки, задора, молодой энергии. Педагоги, конечно, помогали, подсказывали, но делали это тактично и незаметно, и ребятам казалось, что ими никто не руководит.
«В нашей школе нянек нет» — было негласным лозунгом.
Вот и сейчас Федя и Дима придирчиво осматривали каждый букет в руках выпускников.
Вначале все шло нормально. Ребята несли пахнущие полевой свежестью ромашки, колокольчики, фиалки, гвоздику, васильки. Если и были садовые букеты, так только у тех выпускников, которые по старой юннатской привычке выращивали их дома на огородах.
118
Но вот появилась Алла Дембовская, миловидная, с пичуж- ным носиком и золотыми кудряшками девушка в модном платье, ловко облегающем ее стройную фигурку. Следом за ней с огромным букетом цветов шла маленькая сухонькая старушка. У входа в школу старушка передала Алле букет, девушка сунула ей в руки деньги и легко впорхнула в вестибюль. И сразу же ее встретил несносный Сушков-Суворов.
— Вот, пожалуйста... Кому передать? — Алла протянула ему цветы.
Сушков подозрительно покосился на букет. Он был великолепен — влажный, тяжелый, издающий густые запахи.
— Сама вырастила? — спросил Федя, хотя отлично знал, что Дембовская не любила копаться в земле.
— Это неважно! — вспыхнула Алла.— Забирай скорее... Они мне все платье помяли.
— Не пройдет,— со вздохом заявил Федя.— Знаешь наше правило — цветы с базара не принимать. Неси домой.
— Глупости какие! — Алла попыталась проскользнуть мимо Феди, но тот загородил ей дорогу.
— Только через мой труп...
Алла закричала, что правило о цветах нелепое и глупое, а Сушков несносный придира и она никогда не будет с ним больше разговаривать.
Федя в замешательстве оглядывался по сторонам: может, он и в самом деле переборщил? Отказаться от такого букета!
Хотя бы подошел Дима Петровский или кто-нибудь из педагогов!
И тут ему повезло. В дверях он увидел Клаву и Варю Филатову.
— Скажите Дембовской...— умоляюще обратился он к подругам.— Будто она в другой школе училась...
Клава наклонилась к букету, вдохнула запах цветов.
— Чудесный букет! Правда, Варя?
— Чудесный,— согласилась подруга.
— А цомнищь, Аллочка,— обратилась Клава к девушке,— ты зимой проводила с пятым классом концерт художественной самодеятельности? Вы все делали своими руками: сами шили костюмы, писали декорации. Разве это было не интересно?..
119
— Пожалуйста... Могу обойтись и без цветов...— Алла с обиженным видом сунула букет кому-то из мальчишек и, кинув неприязненный взгляд на Сушкова, побежала на второй этаж.
— Ну как, Федя, достается на посту дежурного? — улыбнулась Клава.
— Еще как! — вздохнул Федя.— Все вдруг взрослые стали, самостоятельные.— И он принялся жаловаться на неувязки с буфетом, с артистами, с пластинками для танцев.
— Ничего, ничего. Потрудись ради школы последний дене-« чек. Завтра как отрезанный ломоть станешь. Как у тебя с комиссией?
— Прошел, годен,— не без торжества сообщил Федя.— Через неделю еду в Ленинград.
— Поздравляю...— Клава пожала ему руку.— Варя, ты слышала? Федя-то у нас в военно-артиллерийское училище поступает.
— А как же иначе... Недаром он у нас Сушков-Суворов,— улыбнулась Варя.
— А на чем остановился твой друг? — спросила Клава.
— Решил в планово-экономический сдавать. Пожалеет потом,— махнул рукой Федя и вновь заговорил о буфете, артистах, пластинках.
— Ох, хитер распорядитель! — засмеялась Клава, переглянувшись с подругой.— Боится, как бы мы с тобой без дела не остались. Ну что ж, давай впрягаться.— И она принялась помогать дежурным: побывала в буфете, у оркестрантов, расставила в зале цветы, послала Варю домой за пластинками.
Вскоре стали прибывать приглашенные из других школ: в городе любили выпускные вечера в школе имени Ленина.
Федя придирчиво проверял у них пригласительные билеты.
Незадолго до открытия вечера в вестибюль вошли трое юношей и девушка из окраинной городской школы. Одного из них, рослого, белокурого юношу с продолговатым загорелым лицом, почему-то одетого не по сезону в лыжный костюм, Федя узнал сразу. Это был Володя Аржанцев, тот самый, который на последних лыжных соревнованиях «обтяпал как миленьких», как говорили в городе, всех лучших лыжников школы имени Ленина, а в личном первенстве перегнал даже саму Клаву Назарову.
120
Когда Аржанцев с товарищами поднялся на второй этаж, Федя не утерпел и подошел к Клаве.
— Пришел этот самый... лыжник... что наших обтяпал.
— Аржанцев? — догадалась Клава.— Где он? Давно хочу с ним поближе познакомиться.
Она отыскала Аржанцева в школьном зале, поздоровалась.
— А я вас давно знаю,— доверчиво кивнул юноша.— Да кто же вас не знает!
— А все же я думаю, что наши лыжники вашим не уступят,— сказала Клава.—Зимой опять с вами соревноваться будем.
— Ну что же.— Аржанцев спокойно пожал плечами.— Наши не откажутся. Только мне, пожалуй, не придется выступать.
— Уезжаете куда-нибудь?
— Собираюсь поступать в летное училище...
Они разговорились. Аржанцев рассказал, что профессия летчика— его давняя мечта. Сейчас он живет в колхозе, работает в поле на тракторе и готовится в училище. Он не один. Вместе с ним думают поступить в летное училище еще несколько выпускников, в том числе и Аня Костина. Он кивнул на сероглазую хрупкую девушку, которая ни на шаг не отходила от юноши.
— Тоже лыжница... Скороходка.
— Будет тебе, Володя,— смутилась девушка.— Хожу, как все...
Аржанцев говорил уверенно, доверчиво, спокойно, словно уже был давно и близко знаком с Клавой.
«Славный парень»,— подумала она и почему-то решила, что такого непременно примут в летное училище.
Клаве стало немного грустно. Она ведь тоже мечтала и о летной школе и о парашютном спорте, но вот как-то получилось, что до сих пор работает пионервожатой.
* * *
Забрезжил рассвет, но никто из ребят не хотел расходиться. Охрипший патефон молчал, танцевать никого не тянуло, все запасы в буфете были уничтожены. Выпускники и гости бродили по коридорам, сидели на подоконниках.
— На мост! Пошли на мост! — раздался чей-то голос. И ученики отправились к излюбленному месту в городе — на цепной мост, перекинутый через Великую.
Река рассекала город на две половины. Недалеко от моста она раздваивалась, огибала каменистый островок, на котором сохранились остатки древней крепости, затем вновь соединялась в одно русло, бурно шумела и пенилась у городской мельницы и дальше несла свои воды по плоской равнине через болота и торфяники к Пскову, а еще дальше впадала в Псковское озеро.
Островчане любили свою реку, тянулись к ней в будни и в праздники и с нежностью говорили: «Великая не великая, но и не малая».
Через реку, там, где она разделялась на два русла, был перекинут висячий цепной мост, краса и гордость города. За мостом развилка двух шоссейных дорог — на Смоленск и на Вильнюс.
Выпускники вступили на мост и застыли у чугунных перил. Внизу текла еще темная в предутренней рани вода, шевеля подводные водоросли и осоку. Прошел первый грузовик — и мост под ребятами задрожал, закачался, как трясина. С реки потянуло свежим ветром.
С моста ребята перешли на остров, где возвышались остатки каменной крепости.
Сколько раз Клава приводила сюда своих пионеров и рассказывала им, как много столетий тому назад на реке Великой псковичи построили каменную крепость для защиты псковской земли и как эта небольшая крепость выдержала суровые испытания в годы нашествия немцев, литовцев и поляков.
Клава до сих пор помнила слова, вычитанные в какой-то старой книге, которые она не раз приводила ребятам:
«Остров в древности был одним из пригородов когда-то вольного, славного и многострадального Пскова, и притом одним из самых древнейших и лучших».
Федя, уже успевший подружиться с Володей Аржанцевым (как же иначе — оба они в будущем военные люди), потащил его к крепости поближе.
— Ты знаешь, что такое Остров в прошлом? — учительским тоном спросил он.— Это южный щит Пскова. Здесь в тысяча
122
пятьсот восемьдесят первом году небольшой отряд храбрецов сдерживал натиск стотысячной армии польского короля Стефана Батория.
— Знаю, учителя рассказывали,—улыбнулся Аржанцев.— Только вот я еще крепость не видел как следует.
И он полез вверх по разрушенной стене, поросшей молодьь ми березками.
Вслед за ним поднялись на стену и остальные выпускники. Они заглянули в обомшелые бойницы, потрогали старые камни, кто-то нашел кусок чугуна и принялся уверять, что это осколок старинного пушечного ядра.
— А знаете, ребята, что бы я хотел? — негромко сказал Федя.— Я хотел бы, чтобы мы всегда оставались островчанами.
— Чего? — не понял Борька Капелюхин.—А если я, скажем, в Ленинград уеду... и у меня прописка будет другая?
— Да нет, я не о том,— с досадой отмахнулся Федя.— Чтобы мы, если в случае беда какая... чтоб мы стояли твердо. Насмерть. Как вот наши прапрадеды-островчане в этой крепости.
— Хорошо говоришь, Федя! — задумчиво произнесла Клава.— Стоять твердо... Всегда и во всем... Как островчане.
Горизонт на востоке посветлел, заалела заря, вода в реке порозовела, над ней закурился белый туман.
Ребята молча смотрели на восток, на светлевшую реку, на спящий еще город. О чем они думали? Вот и кончилось их детство. Уже не придется им больше ходить по утрам в школу, зимой скользить на лыжах, весной бегать на Великую смотреть ледоход, летом удить рыбу в тихих заводях, купаться у мельничного омута, забираться на крепостную стену.
Разъедутся они кто куда, станут учиться в других городах, потом поступят на работу и, кто знает, вернутся ли когда-нибудь в родной Остров.
— Чуешь, Варя,— шепнула Клава подруге, кивая на ребят,— примолкли, задумались. Это как перед дальней дорогой.
И она первая нарушила оцепенение, охватившее ребят:
— Эй вы, островчане, потомки вольного и славного Пскова! Песни не слышу! Какую споем?
— «Любимый город»!
123
Клава высоким чистым голосом запела про любимый город, который может спокойно спать. Все дружно подхватили, песня понеслась над рекой, над городом, разбудила сторожа у торговых рядов. Он вылез из будки, отвернул брезентовый капюшон с головы и долго не мог понять, что это за веселые люди собрались на острове...
Солнце уже взошло, когда начали расходиться по домам.
— Сегодня едем в Пушкинские горы. Автобусом. Сбор у школы в двенадцать часов,— объявил Дима Петровский.
Ребята одобрительно загудели. Каждый из них уже совершил туда пеший поход, когда еще был пионером, но как не поддержать доброй традиции и не посетить пушкинские места после окончания школы!
Сколько там волнующего и незабываемого: Михайловское с его дивным парком, домик няни, пушкинский флигелек, могила поэта в Святогорском монастыре, «скамья Онегина» в Тригор- ском, гигантская «ель-шатер» — одно из любимых деревьев Пушкина.
Я твой: люблю сей темный сад С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят,—
встав в «поэтическую» позу, продекламировал Дима Петровский.
Федя и Саша Бондарин стали уговаривать Клаву поехать с ними в Михайловское.
— Я бы с охотой. Но, сами знаете, у меня же семья. И не малая.
Клава простилась с выпускниками и в это же утро с попутным грузовиком поехала в пионерский лагерь.
Километрах в пяти от Острова грузовик остановился. Клава высунулась из кабины. Впереди вытянулась длинная вереница машин.
Около встречной легковой машины сгрудились сосредоточенные, молчаливые люди.
— Что-то случилось... Должно быть, авария... Пойду узнаю,— сказала Клава шоферу.
124
Легковая машина стояла с распахнутыми дверцами. Из нее доносился глуховатый голос. Клава подошла ближе и услышала сообщение по радио: гитлеровская Германия напала на Советский Союз.
БОМБЫ НАД ЛАГЕРЕМ
На шестой день после начала войны на рассвете над лагерем загудели самолеты.
Клава, не спавшая почти всю ночь, выскочила из брезентовой палатки. За эти дни над лагерем не раз пролетали советские самолеты, устремляясь на запад, иногда доносились звуки воздушной перестрелки или отдаленных взрывов.
Но сейчас на восточной стороне неба, где уже вовсю разгорелась заря, никаких самолетов не было видно. Клава с тревогой взглянула на запад, где небо было затянуто легкими сизыми облаками: гуж моторов приближался, нарастал, становился угрожающим, зловещим.
Неожиданно из просвета между облаками вырвался самолет, от него отделилась черная капля и стремительно полетела вниз. Затем грохнул взрыв. Тугая волна воздуха прокатилась через лагерь. Где-то зазвенели стекла, испуганно закричали ребята. Клава бросилась к ребячьей спальне. Навстречу ей бежал тучный, задыхающийся врач.
— Изверги! Варвары! — кричал он, потрясая кулаками вслед вражескому самолету.— Бомбить пионерский лагерь!.. Нашли военный объект!
— Куда попала бомба? — спросила Клава.
— В продовольственный склад. Засыпало все продукты.
Клава вбежала в спальню. Малыши, не понимая, в чем дело,
с плачем звали матерей, кто постарше — выпрыгивали в окна, выбрасывали подушки, чемоданы. Между койками бестолково метались вожатые отрядов.
— Лагерь! Слушай мою команду! — перекрывая шум, властно крикнула Клава.— Все по своим кроватям!
Когда паника немного улеглась и пионеры вернулись к своим койкам, Клава распорядилась выводить ребят из спальни звеньями и рассредоточивать в лесу.
125
Вскоре лагерь опустел.
В лесу на большом расстоянии одна от другой раскинулись брезентовые палатки, замаскированные зелеными ветками. Обедали пионеры небольшими группами. Старшие ребята организовали наблюдение за самолетами — лежали в кустах на пригорке и в бинокль следили за небом. Когда показывались вражеские самолеты, горнист играл тревогу, и все пионеры прятались в укрытия.
Многие ребята просились домой. Петька Свищев тоже упрашивал Клаву отпустить его в город — там, наверное, бомбят, и он непременно должен записаться в какую-нибудь спасательную команду.
Глаза у Петьки были тоскливые, он постоянно поглядывал на небо, прислушивался, и Клава понимала, что еще день-другой, и уже никакая сила не удержит мальчишку в лагере.
— Скоро все уедем,— удерживала его Клава.
Ее тоже неудержимо тянуло в Остров. Как там дома, в школе, в райкоме комсомола?
Прошло еще несколько томительных дней. Рано утром Клаву разбудил Петька Свищев и сообщил, что на Остров уже сбросили несколько фугасок, подожгли железнодорожную станцию и повредили водокачку. Жители города ходят рыть окопы, а из комсомольцев создали истребительный батальон для борьбы с воздушным десантом противника.
— С каким десантом? Откуда ты все это знаешь? — удивилась Клава.
— А... я... мы... ну, наше звено, словом... Мы в разведку ходили,— признался Петька.— Все видели, все слышали. Сейчас в городе только о десанте и говорят.
— А приказ о разведке был? — спросила Клава.
— Так мы же... мы как лучше хотели,— сконфуженно забормотал Петька и умоляюще посмотрел на вожатую: — Клава Ивановна, а давайте и мы истребительный отряд создадим? Я уже и ребят собрал...
Он отодвинул полог палатки, и Клава увидела с десяток пионеров.
— Вот они. Мы слово дали ничего не бояться. Вы нам, Клава Ивановна, только оружие достаньте. Хотя бы винтовки...
126
Одну на двоих. Как только десантников на Остров сбросят, мы с тыла и ударим...
Все это Петька выпалил залпом и покосился на приятелей: так ли, мол, они договаривались.
Пионеры одобрительно загудели и принялись убеждать Клаву, что борьба с воздушным десантом им по плечу: они знают около города каждый кустик, каждый овражек и так ловко замаскируются, что никакой десантник их и не заметит. Только бы вожатая раздобыла им оружие.
— А почему вы ограничиваетесь истребительным батальоном? — усмехнулась Клава.— Почему бы вам всем лагерем не отправиться на фронт? Чем вы не бойцы?
— Так малыши будут мешать! — не чувствуя подвоха, пожаловался Петька.
— Ах, да, я и забыла. Хорошо, мы обо всем этом подумаем. А сейчас, ночные разведчики, спать, спать. До подъема еще далеко...
Пионеры разошлись по палаткам.
В этот же день Клава направилась в город: надо было решать судьбу пионерлагеря. Но на полпути ее встретил нарочный из райкома комсомола. Он сообщил ей, что в Острове началась эвакуация жителей и пионерлагерь закрывается.
На другой день Клава перевезла детей в город.
Остров показался ей хмурым, непривычным. Шли куда-то строем красноармейцы, двигались зеленые грузовики, мчались мотоциклисты. Кое-где зияли воронки от фугасок. При въезде на мост стоял часовой, и он долго и сосредоточенно проверял Клавины документы.
Грузовики с пионерами остановились около райкома комсомола. Здесь ребят поджидали родители. Многие из них прямо из райкома увозили детей на станцию.
Клава смотрела вслед пионерам, и сердце ее сжималось: куда забросит их судьба, встретится ли она еще когда-нибудь со своими питомцами?
Подошла группа девочек.
— Клава Ивановна, мы хотим вам сказать...— заговорила полненькая и розовощекая пионерка, первая лагерная привереда и капризница, попортившая Клаве немало крови.— Хотим
127
сказать... Мы... Ну не все, конечно, а отдельные девочки... Мы плохо себя вели, Клава Ивановна. Одна капризничала — обед ей не нравился, другая часто опаздывала на линейку... Вы не сердитесь, Клава Ивановна... Мы вас все равно не забудем, никогда не забудем...— Девочка, уткнувшись подруге в плечо, вдруг заплакала.
— Ну, ну, зачем же так?..— Клава обняла девочку.— Давайте лучше попрощаемся... Живите, девочки, смело, честно. Где бы ни были, не забывайте, что вы носите красный галстук...
— Мы вам писать будем! — сказала другая девочка.— Вот только куда? На фронт или в тыл?
— Не знаю, пока ничего не знаю. Надеюсь, что встретимся после войны.
В стороне, наблюдая за Клавой, с рюкзаком на спине стоял Петька Свищев. Он был недоволен вожатой. Еще бы, она почти согласилась с его планом создать истребительный отряд, а вместо этого привезла всех пионеров в город, под крылышко родителей.
Распрощавшись с девочками, Клава подошла к мальчугану.
— Сердишься на меня?
— Чего мне сердиться! — буркнул Петька.— Понимаю, война... Вишь, как все драпают...
— Почему же драпают? Просто эвакуируются. Временно. Подальше от бомбежек. А ты разве никуда не поедешь?
— А зачем? — потупился Петька и, помолчав, с недетской озабоченностью спросил: — А это правда, что фашист придет? Сюда вот, в Остров? А? Клава Ивановна?
Клава вздрогнула. Она бы и сама отдала невесть сколько, только бы знать, что будет с Островом, с Россией. Враг уже захватил почти всю Прибалтику, рвется к границам Псковской области. Но Клава все же верила, что вот-вот его остановят и погонят обратно.
— Что ты, Петя! — заговорила она с обидой.— Кто же допустит фашистов до Острова? Это... это дичь какая-то! Нет! Никто не допустит. Ты же знаешь, какие наши бойцы сильные да храбрые...
— Знаю,— обрадовался Петька.— Вот я никуда и не поеду. Да и нельзя мне. У меня мамка больная, с постели не встает...—
128
Он вновь помолчал и вдруг вскинул на Клаву свои зеленоватые, по-мальчишески лукавые глаза.—Клава Ивановна, помогите мне... Скажите, где надо... в райкоме... в военкомате, чтобы меня в истребительный батальон записали. Я не побоюсь... Я стрелять умею.
— Как же я могу? — растерялась Клава.— Я еще сама ничего не знаю.
— Вы все можете, все! — воскликнул Петька.— Вы только скажите, поручитесь за меня...
— Ну хорошо, хорошо. Постараюсь все узнать,— согласилась Клава.— Заходи ко мне домой.
СЕСТРА
Распрощавшись с пионерами, Клава пришла домой. Ее встретила заплаканная, с опухшими глазами мать.
— Наконец-то! Заявилась! Тебя там с твоими пионерами немцы еще не захватили?
— Какие немцы, мама?
— Ну, те самые, что отца в первую войну всего изрешетили... Лезут и лезут они на чужое. Ты там в лагере не знаешь ничего, а через Остров столько беженцев идет! Из Литвы бегут, из Латвии. Лютует, говорят, немец, все палит, грабит. Скоро и до нас доберется.
Клава настороженно оглядела комнату. Гардероб был распахнут, сестрина постель не убрана, на стуле стоял раскрытый чемодан.
— А где Лелька?
— Ох, Лелька! — тяжко вздохнув, Евдокия Федоровна опустилась на лавку и поднесла к глазам платок.—На фронт она уезжает.
— Леля? На фронт?! — пораженная Клава даже отступила назад.— Ее что, в военкомат вызывали?
Мать безнадежно махнула рукой.
— Разве ты ее не знаешь? Помнишь, как в финскую было? Подруги дома сидят, а Лелька в военкомат помчалась — хочу на войну! Тогда она еще недоросток была, ну и погнали ее,
129
знамо дело, домой. А теперь она совершеннолетняя, курсы закончила, вот и собралась на фронт медсестрой.
Клаша опустилась на лавку рядом с матерью. Лелька уезжает на фронт, Лелька, которую она до сих пор по привычке считала маленькой, вечно опекала, терпеливо сносила все ее капризы.
Ведь это ей, Клаве, как старшей сестре, надо бы с первых же часов войны пойти в военкомат и попроситься на фронт. А она до сих пор сидела с пионерами, нянчилась с ребятишками.
Клава посмотрела в окно. До военкомата отсюда рукой подать — стоит только повернуть за угол и пересечь Первомайскую улицу. И можно будет все поправить, еще совсем не поздно.
«Но кто же останется с больной матерью, если она и Лелька уйдут в армию? — вдруг вспомнила Клава.— Ах, эта Лелька! Вечно она забегает вперед, не посоветуется ни с кем, никогда не подумает о матери».
— Клашенька, ты бы отговорила ее,— попросила Евдокиа Федоровна.— Какая она вояка!.. Совсем еще зеленая, глупенькая...
— Никуда она не пойдет,— поднимаясь, решительно заявила Клава. Она сейчас же отправится к военкому и добьется того, что на фронт пошлют не Лельку, а ее, старшую сестру.
Но не успела Клава выйти из комнаты, как на пороге появилась Леля. И без того худощавая, она за последнее время похудела еще больше, вытянулась и, казалось, повзрослела.
— A-а, сестренка,— обрадовалась Леля.— Я уж думала, 'ты всю войну в своем лагере просидишь... Хотела к тебе ехать. Надо же проститься...
Клава нахмурилась. Уж не намек ли это на то, что она до сих пор не сходила в военкомат?
— Давно надо было ко мне заехать да посоветоваться,— строго сказала Клава и взяла сестру за руку.— Вот что, Леля! Пошли в военкомат.
— Зачем? — удивилась сестра.— У меня все в полном порядке. Сегодня в восемь ноль-ноль отправка...
Мать ахнула и вопросительно посмотрела на старшую дочь.
130
— Тем более надо сходить,— сказала Клава.— Ты знаешь, что есть такой закон: если в семье престарелые или больные родители, то в армию призывают одного человека, и при этом старшего по возрасту. А кто из нас старше?
— Ты, сестрица, не переживай,— остановила ее Леля.— Тебя все равно не возьмут!
— Это почему же? — обиделась Клава.— Что я, инвалид?
— Да нет, дивчина кровь с молоком. И ямочки на щеках и родинка на подбородке,— усмехнулась Леля.— А в армии ты пока не нужна — специальности не имеешь. Вот если бы ты медицинской сестрой была или радисткой, тогда другое дело. А пионервожатые на фронте не требуются.
Клава прикусила губу. Выходит, что младшая сестрица обогнала ее по всем статьям. Но ведь это не совсем так. Она, Клава, тоже кое-что умеет. Училась прыгать с парашютом, умеет стрелять, ездить на кавалерийской лошади, знает азбуку Морзе, умеет оказать первую помощь пострадавшему... В пионерской работе ей это очень помогало. Но в военкомате, наверное, потребуют дипломы, документы, справки, которых у нее нет. Что же ей делать?
— Пусть на какие-нибудь срочные курсы посылают,— стояла на своем Клава.— Обучусь...
— А ты знаешь, сколько девчата заявлений в военкомат натащили, и все на курсы хотят?.. — охладила ее Леля.
Все же Клава не послушалась сестры и отправилась в военкомат.
Но Леля, оказывается, была права: желающих пойти добровольцами на фронт или записаться на курсы было более чем достаточно.
С трудом Клаве удалось добиться, чтобы ее записали на курсы медсестер.
Присмиревшая, она вернулась домой и принялась помогать Леле собираться к отъезду.
— Так-то лучше,—улыбнулась сестра.—А то счеты затеяла: старшая, младшая... — И, осмотрев в гардеробе свои платья, юбки и блузки, она кивнула на них Клаве: — Забирай мое добро. Больше не требуется...
— А мне, думаешь, только и дела осталось, что на танцуль-
131
ки бегать,— с досадой отозвалась Клава.— Ты мне лучше учебники оставь...
— Ты что, на курсы записалась?
Клава кивнула головой.
— Значит, тоже скоро на фронт? — покосившись на мать, шепотом спросила Леля.— А как же с мамой?
Клава в ответ только вздохнула.
Вечером она провожала сестру. Евдокия Федоровна на станцию не пошла: не надеялась на свои ноги. С трудом спустилась она со второго этажа, посидела с дочкой на крыльце, потом обняла Лелю и беззвучно заплакала.
Леля, обычно грубоватая и неласковая с матерью, сейчас растрогалась и принялась уверять, что мать одна не останется, а будет жить вместе с Клашей. В горле у нее пощипывало все сильнее и сильнее.
— Клашка, ведь так? Да скажи ты маме... — толкнула она сестру, которая с безучастным видом смотрела на догорающую на горизонте зарю.
— Ладно, дочка,— пересилила себя Евдокия Федоровна.— Я ведь все разумею. Раз ты уходишь, старшая тоже дома не усидит. Считайте, что я вас обеих и провожаю. Идите, дочки.
На станции творилось что-то несусветное. Пути были забиты железнодорожными составами. Из вагонов выносили раненых й укладывали в грузовик. Теплушки были переполнены беженцами. Женщины у водокачки стирали белье, между путями горели костры, на них готовилась пища, всюду сновали ребятишки. Поезда трогались без всякого предупреждения, и застигнутые врасплох беженцы наспех тушили костры и бросали в тамбуры недогоревшие чадящие поленья — берегли топливо. С воплями и криками гнались за поездом отставшие женщины и ребятишки.
— Клаша, что ж это?.. — каким-то сдавленным голосом спросила Леля.— Неужто так плохо там? — И она кивнула на запад, откуда доносились глухие звуки взрывов и орудийной стрельбы.
— Поезжай, Леля, скорее,— вслух подумала Клава.— И мне надо ехать... Всем на фронт надо.
132
Сестры с трудом отыскали состав, идущий на Псков, нашли нужный вагон. В нем уже было полно девушек-медсестер.
— Ну, Лелька, смотри... чтоб нам не краснеть за тебя,— сказала на прощанье Клава.
— Еще что скажешь! — грубовато ответила Леля и, устыдившись, крепко обняла сестру, поцеловала ее в губы и скрылась в вагоне.
Клава пошла обратно. Неожиданно в станционной суматохе она столкнулась с Федей Сушковым и Капелюхиным.
— Клаша! — вскрикнул Федя.— Вот хорошо, что встретились! Я ведь к тебе проститься забегал. Мы с Борькой в Ленинград едем...
— Вот только неизвестно, как доедем,— подал голос Капелюхин.—Третий час на станции крутимся. Ни в один вагой не пробьешься...
— Нас все за беженцев принимают,— признался Федя, смущенно поглядывая на внушительных размеров чемодан в руках у Капелюхина.— Говорил я тебе,— упрекнул он приятеля.— Не мирное время — с таким гардеробом ехать. По-поход- ному надо, с рюкзаком.
Клава с удивлением покосилась на ребят. Одеты они были по-праздничному, в новые костюмы, в светлые, с начесом, кепочки, а у Капелюхина под горлом широким франтоватым узлом был повязан цветастый, как фазанье крыло, галстук.
— Что это разоделись, как на экскурсию?
— Это он уговорил,— смущенно кивнул на приятеля Федя.
— А что ж такого? — заспорил Капелюхин.— Не куда-нибудь — в Ленинград едем. А вдруг придется в выходной по Невскому прошвырнуться, в Эрмитаж сходить...
— Ох, Боря, думаю, что не до прогулок вам будет,— вздохнула Клава и спросила Федю, как отец относится к его отъезду;
— Получил полное родительское благословение,—ответил Федя.— Так и так, говорит, а войны тебе не миновать. Да вот он и сам...
Подошел Матвей Сергеевич, поздоровался с Клавой и сообщил, что наконец-то он пробился к военному коменданту и получил у него два посадочных талона на псковский поезд.
133
Но вагоны, к сожалению, не указаны, так что придется пробиваться в какой попало.
— Пойдемте, я вас усажу,— предложила Клава и повела всю компанию к псковскому поезду.
Отыскав знакомый вагон, она вызвала из него Лелю и попросила взять с собой ребят.
Девчата, узнав Сушкова и Капелюхина, охотно втащили их вещи в вагон.
Потом, простившись с Клавой и Матвеем Сергеевичем, влезли в вагон и сами ребята. Вскоре поезд тронулся и, лязгая колесами на стыках, отошел от станции.
Над городом завыла сирена. По радио объявили воздушную тревогу...
БАТАЛЬОН В ШКОЛЕ
Утром чуть свет Клаву вызвали в райком партии.
— Не удивляйся, что так рано подняли,— протягивая руку, объяснил ей секретарь райкома Остроухов, плотный крупнолицый мужчина с седеющим ежиком волос на голове.— У нас теперь рабочий день без начала и без конца. Присядь, подожди!
Клава отошла к окну.
Дмитрия Алексеевича Остроухова она знала неплохо. Не один раз, придумав с пионерами какое-нибудь интересное дело — то пылающий костер на берегу Горохового озера, то встречу пионеров со старыми коммунистами и знатными людьми города, то далекий поход по местам первых боев Красной Армии, Клава прорывалась в кабинет к секретарю райкома партии за советом.
— Несподручно мне заниматься такими делами... Возраст не тот! — отшучивался Дмитрий Алексеевич, но Клава настойчиво заставляла выслушивать себя.
Сейчас в кабинет секретаря то и дело входили люди и, склонившись над столом, вполголоса докладывали, как идет подготовка к эвакуации жителей города.
«Зачем меня-то позвали? — подумала Клава.— Неужели опять поручат какую-нибудь работу с детьми? Может быть, по¬
134
шлют сопровождать эшелон с детдомовцами и школьниками». Ну нет, с ребятами она распрощалась надолго, ей надо сейчас догонять Лельку...
— Прошу,— пригласил Остроухов Клаву, когда волна посетителей немного спала.— На фронт, наверное, собралась? — прямо спросил он.
Клава кивнула.
— Откуда вы знаете?
— Время такое — догадаться нетрудно,— усмехнулся секретарь райкома.— Сестру проводила, сама на курсы записалась... Так вот, Клаша. Фронт для тебя уже есть... Здесь же, в городе, рядом.
— Как — в городе? — не поняла Клава.
— Хотим послать тебя в истребительный батальон к комсомольцам. Будешь помогать Важину...
— Василию Николаевичу? — вскрикнула Клава.
— Да, да. Он назначен командиром истребительного батальона.
— Дмитрий Алексеевич, а кого истреблять будем? Неужели город еда... — Клава не договорила, помешал телефонный звонок.
Сказав в трубку, что он выезжает, Остроухов поднялся из- за стола и нахлобучил на голову фуражку.
— Так как же, Клаша? Ребят ты знаешь. Многие твои бывшие пионеры. Будешь у них вроде за политрука. Твоему слову они вот как верят. А положение в городе не из легких, ожидать можно всякого... Так согласна?
— Раз надо, пойду,— кивнула Клава.— А только курсы я все равно не оставлю...
— Ну что ж, учись, пригодится. Желаю успеха! — Остроухов пожал ей руку, и они расстались.
Заглянув домой и предупредив мать о своем назначении, Клава направилась в свою школу, где теперь размещался истребительный батальон.
У дверей со старенькой трехлинейной винтовкой в руках стоял на посту Саша Бондарин. Он был в своей неизменной школьной вельветовой куртке с «молниями», в тапочках на босу ногу и в сатиновых спортивных шароварах. Куртка была за¬
135
правлена в шаровары и перетянута широким солдатским ремнем, на котором висел патронташ. От аккуратного пробора не осталось и следа, темные волосы были взлохмачены, и на макушке чудом держалась залихватски посаженная крошечная кепка.
У школьной ограды толпилось несколько мальчишек во главе с Петькой Свищевым. Они завистливо поглядывали на Сашу, особенно на его винтовку, вздыхали, переминались с ноги на ногу и упрашивали часового пропустить их в школу к командиру истребительного батальона.
— Сказано вам, без пропуска нельзя,—говорил Саша.— И вообще шли бы вы по домам... Тут вам не игрушки.
— А может, я книжки в классе забыл,— настаивал Петька.— Почему в школу не пропускаешь?
— Спохватился тоже... Какие теперь книжки, когда война? — отмахнулся Саша.
— А почему тебе автомат не дали? — не унимался Петька.
— Винтовка тоже не плохо...
— А может, она учебная... не стреляет. И патроны, наверное, холостые.
— Много ты понимаешь! — рассердился Саша и запальчиво принялся объяснять, что винтовка у него самая настоящая, боевая, безотказная, и цатроны совсем не холостые.
— А часовому на посту разговаривать не полагается,— усмехнулась Клава, подходя к дверям; школы.
Саша вспыхнул, как девица, и, бросив на мальчишек свирепый взгляд, замер по стойке «смирно», прижав винтовку к бедру.
Клава, косясь на сконфуженного часового, взялась за дверную ручку.
— Про... пропуск? — сдавленным голосом произнес Саша.
— Пропуск?! — g деланным удивлением переспросила Клава.— Разве ты меня не знаешь? Я. же старшая пионервожатая.
Саша смутился еще больше.
— Нельзя без пропуска... Никому... Так приказано... — забормотал он и с решительным видом загородил дверь.
■*- Наконец-то часовой вспомнил свои обязанности,— улыбнулась Клава и покачала головой: — Ах, Саша, Саша...
.136
Она показала ему направление райкома и вошла в школу.
Истребительный батальон, составленный из выпускников школы, из старшеклассников и городских комсомольцев, размещался в школьных классах. Парты были вынесены в коридор, на полу лежали матрацы, набитые соломой или сеном и застеленные разномастными домашними одеялами: комсомольцы находились на казарменном положении. В углу в козлах стояли винтовки, на стене висели противогазы. Тут же были свалены фанерные мишени для стрельбы, прицельные станки, учебный станковый пулемет.
Командира истребительного батальона Василия Николаевича Важина Клава отыскала в учительской. Он давно уже расстался с пионерской работой, пошел добровольцем на финский фронт, перенес тяжелое ранение и, вернувшись обратно в школу, преподавал здесь черчение и рисование. Важин очень обрадовался приходу Клавы*
— Это хорошо, что тебя сюда направили. Основной состав истребителей как раз твои бывшие пионеры. Вот давай и прибирай их к рукам.
— А что? Вы недовольны ребятами?
— Да как тебе сказать... Народ они боевой, все рвутся с фашистскими десантниками схватиться, а нам пока приходится другими делами заниматься. Мост охраняем, хлебозавод, склады... Окопы роем... Военную подготовку проходим. А {ребятам всего этого мало.— Важин вздохнул и пожаловался: — Я ведь, Клаша, на фронт просился, а меня вот сюда, в батальон. А какая же тут война...
Клава незаметно вздохнула. А она-то собиралась пожаловаться Василию Николаевичу на свою неудачу!..
В учительскую вошла Анна Павловна Оконникова. Она приметно постарела, осунулась, глаза ее смотрели скорбно и строго: в последние дни учительница проводила на фронт двух сыновей.
— И ты, Клаша, тут? Это правильно,— заговорила Анна Павловна.— Сейчас всем трудно, а ребятам в особенности. На фронт их не берут, вот они мечутся. Каждый из них вроде экзамен держит. Как дальше жить, что делать, как делу помочь?
137
Самый ответственный экзамен. Перед людьми, перед своей совестью. Вот и поддержи.
Анна Павловна открыла шкаф и попросила Клаву помочь ей собрать ребячьи документы, характеристики, классные журналы и ведомости.
— Зачем все это? — спросила Клава.
— Директор школы наказал перед уходом в армию. Что бы ни случилось, а ребячьи документы велел сохранить. Вот я и спрячу их где-нибудь дома...
Клава помогла учительнице собрать нужные бумаги. Они отнесли их на квартиру к Анне Павловне, сложили в деревянный сундучок, окованный железом, и закопали на огороде.
С первого же дня Клава вошла в жизнь батальона. Проверяла посты у моста, у складов, у хлебозавода, вместе с комсомольцами занималась военной подготовкой — училась в считанные минуты окапываться, маскировать стрелковую ячейку, делать перебежки, переползать по-пластунски.
Эвакуация города между тем продолжалась. Уезжали женщины, дети, старики. На грузовиках и на подводах они двигались на Псков, на Порхов, на Старую Руссу.
Клава уже несколько раз говорила матери, что ей надо бы уехать из Острова, хотя бы в деревню к родственникам. Все же там спокойнее, безопаснее, не надо каждый день прятаться от бомбежки в подвал.
— Куда я пойду... С моими-то ногами, да еще одна,— отказывалась Евдокия Федоровна.— Вот если бы с тобой...
— Мне, мама, нельзя. Дела в городе,— говорила Клава, не в силах признаться матери, что она, так же как и Леля, вскоре может уйти в армию.
— Так я подожду,— соглашалась Евдокия Федоровна.— Жить еще можно. Управляйся со своими делами.
Как-то вечером, когда Клава находилась в школе, ей сообщили, что ее хочет видеть отец Саши Бондарина. Клава вышла на улицу. Опираясь на палку, навстречу ей шагнул пожилой грузный мужчина.
— Хочу с вами насчет Саши поговорить,— сказал старший Бондарин.
Клава не удивилась: родители частенько останавливали ее
138
на улицах или заходили в школу, чтобы посоветоваться о своих ребятах.
— Слушаю, Иван Сергеевич.
Бондарин заговорил о том, что его Саша вот уж девятые сутки ночует в школе, дома почти не бывает и считает себя мобилизованным бойцом истребительного батальона. А дома у них больная мать, и ее надо вывезти из города. Но без провожатого больная мать выехать, конечно, не может.
— Посодействуйте, Клаша, повлияйте на сына. Пусть он с матерью едет — за ней уход нужен... И на руках поднести потребуется.
— А вы сами с Сашей говорили?
— Начинал,— сказал Иван Сергеевич.— Только парень слушать ничего не хочет: «Не могу, я мобилизованный боец-истребитель».
— Но он ведь действительно мобилизован,— подтвердила Клава.— Как комсомолец.
— Понимаю... Сам добровольцем на гражданской был,— вздохнул Иван Сергеевич.— И Саша никуда от армии не денется. Сейчас о матери надо подумать.
— Хорошо. Я поговорю,— согласилась Клава.
Вернувшись в школу, она отыскала Сашу Бондарина и передала ему разговор с отцом.
— Так и знал,— с досадой сказал Саша.— Я же ему сколько раз объяснял: не могу уехать. А он опять за свое. Ребята в батальоне, Федька Сушков в военном училище, а я в тыл забирайся. Ну уж нет...
— А как же мама? — напомнила Клава.
Саша нахмурился: с матерью действительно положение тяжелое.
— А если так,— подумав, заговорил он,— пусть с матерью отец уезжает. Он инвалид, возраст у него не призывной. А я здесь останусь. Отец и твою маму может захватить.
Сашино предложение показалось Клаве заманчивым, и она решила переговорить с Иваном Сергеевичем.
С утра за Великой усилилась орудийная канонада, и первые снаряды упали на окраину города.
Клава побежала к Ивану Сергеевичу. Дома его не было, оп
139
ушел на работу. Тогда Клава отправилась в продмаг за рекой, которым заведовал Сашин отец. Магазин был открыт, и за прилавком стоял сам Иван Сергеевич.
— Вот, один остался,— растерянно пояснил он.— Все мои продавцы сбежали... Й покупателей никого.
— Какая уж теперь торговля! — сказала Клава.— Весь город снимается... Слышите — немцы из орудий бьют. Уезжайте и вы.
Иван Сергеевич окинул взглядом полки, заставленные пачками сахара, соли, крупы, бутылками с вином.
— Команды нет,— хрипло выговорил он.— Куда я все это добро подеваю? Пятнадцать лет в кооперации служу. На копейку просчета не имел. И вдруг бросить все псу под хвост! Что потом про Бондарина скажут... Нет, не могу... Совесть не позволяет.
Клава с невольным уважением взглянула на грузного, одутловатого, со взмокшей лысиной Ивана Сергеевича. Как часто ребята поддразнивали Сашу, называя его «кооператором», «продавцом» из-за того, что его отец работает в магазине. А вот Иван Сергеевич, оказывается, какой продавец!
— Вы все команды ждете, с дисциплиной считаетесь.,— заговорила Клава.— А от Саши требуете, чтобы он из города уехал. А ведь ему тоже команды нет.— И она принялась уговаривать Ивана Сергеевича увезти из города свою больную жену и заодно захватить ее мать.
— Вот оно как,— удивился Иван Сергеевич.— Значит, вы, молодежь, за нас все уже решили. Тогда вот что. Постой тут за прилавком, я до потребсоюза сбегаю. Чего там наше начальство не чухается...
— Я... за прилавком?!— опешила Клава.— Ни в жизнь не торговала.
— А ты не торгуй. Побудь только, присмотри. Я в момент управлюсь.— Иван Сергеевич, скинув белый халат, поспешно вышел из магазина.
Усмехаясь столь неожиданному поручению, Клаша прошла за прилавок, оглядела лари с крупой, мешки с сахаром, бидоны с льняным маслом. Сколько же добра может пропасть!
Неожиданно в магазйн ввалился высокий узколицый парень
140
с раздвоенной заячьей губой. Это был Оська Бородулин, первый островский дебошир и гуляка.
Недоучившись в школе, он поступил в сапожную артель, и за какие-то темные махинации в артели он был осужден на два года тюрьмы. Вернувшись в Остров, он занимался тем, что тайно спекулировал на базаре рижскими модными туфлями и отрезами на костюмы. Сейчас он был навеселе.
— Назарова! Кланя! — осклабился он, наваливаясь на прилавок.— Бутончик мой, огонек! Ты что это, в торговую сеть перешла? Одобряю, губа у тебя не дура! Работенка, как говорят, не пыльная, да калымная...
— Не торгую... И вообще магазин закрыт! — с неприязнью ответила Клава.
— Ну нет! Раз за прилавком стоишь, обязана обслуживать. Пять бутылок шнапса Бородулину...
— Чего? — не поняла Клава.
— Шнапса, говорю. Не понимаешь? Ничего, немец придет— обучишься.
— Немец придет! — Клава в упор посмотрела на Оську.— Уж ты не встречать ли его собрался?
— А почему бы и нет? — нагло ухмыльнулся Бородулин.— Они наш шнапс обожают. Давай, давай белую головку.— И он, перегнувшись через прилавок, потянулся за бутылкой.
— Не смей! — вскрикнула Клава.— Здесь для тебя шнапса нет.
— Ну, ну...— Бородулин угрожающе повел плечами и двинулся за прилавок.— Могу и сам взять. По дешевке. Теперь все равно кооперации хана...
— Ах ты, гнида! — выругалась Клава.—Уже и мародерствует! — Не помня себя, она схватила двухкилограммовую гирю и двинулась на парня.— Вон отсюда!..
В глазах Бородулина блеснул недобрый огонек. Но не успел он ничего сказать, как послышались голоса и на пороге магазина показался Бондарин.
Бородулин поспешил выскользнуть за дверь.
— Что у вас тут? — недоумевая, спросил Иван Сергеевич.
— Шнапса ему захотелось... для немцев,— с трудом переводя дыхание, пробормотала Клава.— Я бы ему показала шнапс.
141
— Эге! Воронье уже закружилось,— догадался Бондарин и, отобрав у Клавы из рук гирю, заглянул ей в лицо и покачал головой.— Э-э, так, Клаша, не годится. Дело еще в самом начале, а ты уже полыхаешь, как костер из сушняка. Так и сгореть не долго...
Клава только вздохнула. Это верно, она никогда не умела сдерживать себя, когда видела обман, предательство, подлость. И как ей можно было оставаться спокойной перед этим наглецом Бородулиным?
— Как с отъездом? — спросила Клава.
Иван Сергеевич сказал, что магазин ему разрешено закрыть. Скоро придут подводы, он погрузит на них цродукты и двинется в сторону Старой Руссы. Вместе с ним поедет его жена, найдется на подводе место и для Клашиной матери.
Иван Сергеевич задумался.
— Ну, а Саша, что ж... пусть остается, раз такое дело. Сам молодым был, понимаю.— Он умоляюще посмотрел на Клаву.— Тебе сына доверяю. Присматривай за парнем, если можешь... будь тут за старшую.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Расставшись с Иваном Сергеевичем, Клава прибежала домой и сказала матери, чтобы та срочно готовилась к отъезду.
— Куда ж я без тебя-то, дочка? — Евдокия Федоровна вновь принялась жаловаться на больные ноги, на старость.
— Что делать, мама... так надо... — уговаривала Клава.— Ты же не одна поедешь, с Бондариными.
Наказав матери, что ей надо в дорогу, Клава направилась к хлебозаводу, где группа комсомольцев несла охрану. Среди них были Саша Бондарин и Дима Петровский. Одни ребята с винтовками за плечами ходили вокруг завода, другие проверяли пропуска у машин, въезжающих в ворота.
— Ну, как отец? — нетерпеливо спросил Саша.
— Молодец у тебя батька... все понимает,— сказала Клава.— Согласился он, с матерью уезжает. Ты поди простись с ними.
.142
— Сменюсь, обязательно зайду,— пообещал Саша.— Это хорошо, что они уезжают.
— А что с нами будет? — спросил Дима Петровский.— Говорят, фашисты совсем близко от Острова. Послали бы нас в окопы. Мы бы уж их встретили... — Он посмотрел на свою винтовку.— А то держат около завода! А зачем?
— Значит, надо. Приказ такой,— возразил ему Саша.— До последнего стоять будем.
— Стоять, стоять, а сами ни одного выстрела не сделали,— недовольно буркнул Дима.— Какая же это война — у завода торчать?
Неожиданно на шоссе показалось четверо мотоциклистов. В серых пропыленных гимнастерках, в надвинутых на глаза стальных шлемах, они с оглушительным треском мчались к хлебозаводу.
— Ребята, а может, это... — сдавленным голосом крикнул один из истребителей. Он не договорил, но все поняли, кого он имел в виду.
Ребята переглянулись и вопросительно посмотрели на Клаву.
Та не сводила глаз с мотоциклистов. А вдруг это и в самом деле фашисты, какой-нибудь их передовой отряд? Сейчас они дадут очередь из автоматов, сомнут ребят и ворвутся в город...
Забыв снять винтовки с плеч, истребители все еще растерянно топтались на шоссе. И Клава вновь почувствовала себя вожатой, которая без промедления должна найти выход, принять решение.
— Ложись! К бою готовьсь! — скомандовала она.
Ребята сорвали с плеч винтовки и плашмя упали на землю — кто за придорожный камень, кто за бугор, кто за груду кирпича. Щелкнули затворы.
Мотоциклисты приближались. Клава схватила булыжник и, взмахнув им, как ручной гранатой, выбежала на дорогу.
— Стой! Пропуск!
Мотоциклисты, резко затормозив, замедлили ход и остановились в нескольких шагах от Клавы. Пыль рассеялась, и она увидела красноармейские гимнастерки, пилотки со звездочками, обветренные лица.
143
— Ого! Храбрая дивчина!—улыбнулся один из мотоциклистов.
—* Граната у нее хороша!—поддержал его второй.—Последнего образца...
— Пропуск! — с деланной строгостью потребовала Клава, хотя ей тоже хотелось широко и доверчиво улыбнуться.
Первый мотоциклист показал пропуск. Облегченно вздохнув, Клава подала знак комсомольцам. Те поднялись из-за укрытий и окружили мотоциклистов.
— Как там?—спросила Клаша, кивая за реку, на запад, откуда доносилось глухое урчание орудий.
Улыбки сошли с лиц мотоциклистов.
— Жмет! — коротко бросил первый мотоциклист и спросил, где найти райком партии.
Клава объяснила. Мотоциклисты помчались к городу. Лишь один из них, широколобый, с мягким округлым подбородком, задержался на минутку и, подозвав Клаву ближе к себе, вполголоса сказал:
— Вы, я вижу, за старшую тут... Уходили бы, пока не поздно... Немец-то вот он... наседает... Жди с часу на час.
— Приказа нет,— покосившись на ребят, так же вполголоса ответила Клава.
— Комсомол, значит? — Мотоциклист посмотрел на ребят, вздохнул, поправил шлем.— Понимаю... Ну, будьте здоровы!
И он, дав сильный газ, помчался за остальными.
* * *
Во второй половине дня обстрел города усилился. Снаряды рвались в центре. Были повреждены торговые ряды, здание горсовета, несколько жилых домов. Начались пожары.
Город спешно эвакуировался. Сменившись с поста, Клава и Саша Бондарин побежали по своим домам. Саша помог отцу положить больную мать на подводу, потом Бондариньг поехали к Назаровым за Евдокией Федоровной.
Клава уложила на подводу вещи и обнялась с матерью. Простился со своими родителями и Саша. Старые женщины переглянулись и вдруг навзрыд заплакали.
144
— Да будет вам, матери! — взмолился Иван Сергеевич.— И без того лихо...
— Да что ж это такое!.. Жили, детей растили,—запричитала Евдокия Федоровна.— А теперь уезжай невесть куда, на горе да на разлуку. Никуда мы без вас не поедем... Слышь, Клаша?
— Садись с нами, сыночек,— упрашивала Сашу мать.— Куда ж я без тебя-то...
Клава принялась уверять, что батальон, наверное, скоро получит приказ оставить город и они с Сашей непременно нагонят подводу.
Но матери продолжали стоять на своем: без детей они никуда не поедут.
Клава выразительно посмотрела на Ивана Сергеевича.
— Цыц! — прикрикнул тот на женщин.— Чего вы им души травите? Не могут они пока уехать, и все тут.
Он сердито хлестнул лошадь, и подвода загремела по мостовой.
С тяжелым сердцем Клава и Саша вернулись в школу.
В сумерки истребительный батальон подняли по тревоге и вывели за город, к железнодорожной станции. Бойцам было сообщено, что ожидается высадка вражеского воздушного десанта. Развернувшись цепью, истребители залегли на луговине, поросшей мелким кустарником.
Командир батальона и Клава обошли всех бойцов и еще раз объяснили, что надо внимательно следить за воздухом и при появлении вражеских самолетов открывать огонь по снижающимся парашютистам.
Клава внимательно вглядывалась в лица ребят. Давно ли они вот на этой же луговине проводили военную игру: ползали, бегали, кричали «ура», катили фанерные пулеметы, «вели огонь» из трещоток. И все это сопровождалось шутками, мальчишеским озорством, смехом. А сейчас уже было не до шуток. Как-то ребята поведут себя в первом бою?
— Видишь, как все обернулось,— обратился к Клаве Василий Николаевич.— Никто и не предполагал, что ребятам так скоро боевое крещение принять придется. Немец как оглашенный прет. Сегодня весь городской актив под ружье поставили.
0 Библиотека пионера, т. 7
Угрюмо и сосредоточенно следил за небом Саша Бондарин, судорожно сжимал приклад винтовки Дима Петровский, деловито изготовился к стрельбе Володя Аржанцев.
Сумерки сгущались. Время тянулось медленно. Наконец на большой высоте глухо заурчал .мотор самолета. Истребители легли на спины, лицом к небу. Самолет сделал круг, видно, присматривался к местности, потом от него отделились черные комочки, и вскоре в воздухе один за другим стали открываться смутно белеющие зонты парашютов.
Передали команду открыть огонь.
Захлопали выстрелы. Сначала редкие, одиночные, а потом, когда второй и третий самолеты сбросили новые партии десантников, выстрелы зазвучали чаще.
Клава лежала в цепи рядом с ребятами и, целясь чуть ниже парашюта, нажимала на спусковой крючок. Если бы только знать, куда попадают ее пули? Ведь не так-то просто угодить в стремительно движущуюся цель.
— Бей их! — возбужденно выкрикивал с каждым выстрелом Дима Петровский.
— Про упреждение не забывайте,— напоминал ребятам Аржанцев, старательно ловя цель на мушку.— На уток с лету приходилось охотиться? Вот так и стреляйте.
Откуда-то с другой стороны луговины застрочил пулемет, начали бить автоматы: как видно, спустившиеся десантники заняли оборону.
Потом в воздухе что-то завизжало, и перед цепью истребителей, поднимая фонтанчики земли, начали рваться мины.
Истребители сделали стремительную перебежку и вновь залегли.
А в небе, не унимаясь, гудели самолеты, и оттуда, как из прорвы, сыпались все новые и новые парашютисты.
Бой разгорался. У многих истребителей кончились патроны. Обстрел из минометов усилился. С визгом проносились над головами ребят осколки.
По цепи передали команду отходить к кладбищу. Короткими перебежками истребители начали отступать. Выпустив последний патрон, Клава, пригнувшись, побежала вслед за ребятами. Неожиданно она услышала тихий, прерывистый стон. Загляну»
146
ла в кусты. Там кто-то лежал. Клава наклонилась и узнала Сашу Бондарина.
— Что с тобой?
— Нога... Царапнуло чем-то...
— Надо отходить. Ты ползти можешь?
Саша попробовал подвинуться вперед, но только болезненно вскрикнул...
— Я догоню... Ты иди...
— Ладно, помолчи,— перебила Клава.
Она разрезала набрякшую кровью штанину и, достав из сумки бинт, принялась дрожащими руками делать перевязку. Вот уж не думала Клава, что так неожиданно ей придется оказывать первую помощь! Потом, забрав свою и Сашину винтовки, она подставила Саше спину, заставила юношу обхватить ее за шею и поползла к кладбищу. Это было тяжело и непривычно. Клава часто останавливалась, переводила дыхание, прислушивалась. Сзади все еще рвались мины и повизгивали пули.
Клава не помнила, сколько времени она тащила на себе раненого Сашу, но когда добралась до кладбища, там никого уже не было.
Куда же девались ребята из истребительного батальона? То ли они отступили из города, то ли продолжают вести бой с десантниками? И что было делать ей, Клаве? Саше нужна срочная помощь. Но появляться в городе с раненым, да еще с винтовками, когда вот-вот туда ворвутся фашисты, было бы совсем неразумно.
И тут Клава вспомнила про городскую больницу. Ведь там лежит много раненых красноармейцев, и, наверное, кто-нибудь из врачей остался с ними. К тому же больница находится на окраине города, недалеко от кладбища, надо только перебраться через овраг.
Клава прошла в глубь кладбища, отыскала старинный купеческий склеп, засунула под могильную плиту винтовки и отверстие прикрыла травой. Потом, вернувшись к Саше, вновь взвалила его на спину и потащила через овраг.
В больнице было темно и тихо, и Клава в первую минуту подумала, что больные эвакуированы и вместе с ними уехали все врачи и сестры.
147
Положив Сашу на крыльцо, Клава вытерла взмокшее лицо и постучала в дверь. Никто не отозвался.
Клава постучала сильнее.
— Что надо? Здесь больница,— раздался, наконец, из-за двери приглушенный испуганный голос.
— Раненого примите,— вполголоса попросила Клава.— Плохо ему... Да ну же, скорее!
Дверь наконец приоткрылась, и Клава увидела в коридоре медсестру Зину Бахареву. Осунувшаяся, с запавшими глазами, девушка держала в руках семилинейную лампу и с тревогой смотрела на Клаву.
— Ой, Клаша, я думала, что это уже они... — Девушка прислушалась: из-за реки доносились взрывы снарядов, перестрелка — там, видно, шел бой.
А ты знаешь, сколько у нас раненых в больнице стало? Все палаты полны. И что теперь будет с ними? А что за раненый с тобой?
— Наш, островский... Саша Бондарин. Да позови ты врача скорее! Кто-нибудь остался из них или ты одна на всю больницу?
— Кто-нибудь остался,— раздался негромкий голос, и из темноты выступила заведующая больницей Елена Александровна Петровская.— Что случилось, Клава? — встревоженно спросила она.— Где ваш батальон? Вы разве не уехали? Где Дима?
Клава коротко рассказала, что произошло.
Елена Александровна побледнела.
— Бой! Вы приняли бой... Попали под обстрел минометов!
— Не волнуйтесь! — принялась успокаивать ее Клава.— Я уверена, что все ребята благополучно выбрались из города. Я отходила последней. Только вот Саше Бондарину не повезло.
•Сжав сухие обветренные губы, Елена Александровна приказала внести Бондарина в приемную. Потом, осмотрев рану, она велела Зине готовиться к операции.
Клава осталась ждать в приемной.
Не прошло и двух недель с начала войны, а сколько уже испытаний свалилось на ребят! Бомбежки, истребительный батальон, бой с парашютистами, обстрел из минометов...
148
Давно ли Саша Бондарин был ее пионером? Молчаливый, сдержанный, большой любитель собирать цветы и травы, выслеживать птиц и зверей, думал ли он, что в первом же бою прольет свою кровь?
А что стало с другими ребятами, какие еще испытания ждут их впереди?
В дверях показалась Елена Александровна.
Клава бросилась ей навстречу.
— Ну как?
— Ранение серьезное. Извлекла четыре осколка. Лежать ему придется довольно долго.— Елена Александровна задумалась.— И знаете что, Клаша, в больнице ему лучше не оставаться. Неизвестно еще, как немцы отнесутся к раненым. Тем более, что у Саши свежее ранение... Больше будет подозрений, придирок.
— Так что же делать? — всполошилась Клава.— Домой нельзя, родители у него уехали... Может, ко мне перенести, я за ним присматривать буду?
— Нет, Клаша, это невозможно,— покачала головой Елена Александровна.—Слышишь, что в городе делается? Да к тому же присмотра за Сашей мало. Его лечить надо. Пожалуй, вот что. Заберу-ка я его к себе на квартиру. Если опасность какая, скажу, что мой сын или племянник.
Клава с благодарностью посмотрела на сумрачное, усталое лицо врача.
Ночью Клава и Зина перенесли Сашу Бондарина на квартиру Елены Александровны. Ее квартира находилась тут же, на территории больницы.
ЧЕРНЫЕ ДНИ
Только перед рассветом Клава добралась к себе домой. В комнате никого не было. Девушка попыталась прибрать разбросанные вещи, но усталость взяла свое. Не раздеваясь, она прилегла на кровать и мгновенно заснула.
И так же мгновенно проснулась. С улицы доносился протяжный, сиплый вой моторов.
149
Клава припала к стеклу. Начинало светать, река, подернутая туманом, порозовела. Над прибрежными тополями и ивами всполошенно кружились стаи галок. Вой моторов становился все ближе и ближе.
Клава поднялась на чердак и через слуховое окно вылезла на крышу. Отсюда город был виден как на ладони.
В Остров входили фашистские войска. Через цепной мост длинной вереницей двигались грязно-зеленые грузовики с солдатами. За грузовиками тянулись тягачи с пушками разных калибров, крытые брезентом машины, фургоны. Старый мост прогибался и покачивался.
Переехав мост, машины и орудия растекались по улицам: одни шли к военному городку, другие задерживались на базарной площади, третьи двигались по шоссейной дороге дальше, на Псков и Порхов.
И всюду по городу из конца в конец, все разведывая и проверяя, с бешеной скоростью носились группы мотоциклистов в железных шлемах.
Прижавшись к трубе, Клава следила за потоком машин.
Что же случилось? Почему фашисты в Острове, в ее родном городе? Неужели это конец, конец всему дорогому, близкому, с чем сжилась, с чем выросла, что стало твоим воздухом, душой, всей твоей жизнью?
За годы своей работы с детьми Клава привыкла на любой ребячий вопрос отвечать не мудрствуя лукаво, прямо, ясно и с твердой убежденностью. А что сейчас ответит вожатая, доведись ей встретиться с пионерами? Да и как ей самой понять все то, что произошло? Клава не помнит, сколько времени она просидела на крыше. Наконец она спустилась вниз, на первый этаж. В полутемных сенцах, заставленных кадушками, ведрами, тазами, поглядывая на улицу через оконце, толпились перепуганные соседки.
— Господи, Клаша! — воскликнула портниха Самарина, моложавая, остролицая женщина в мужском ватнике.— Откуда? Ты разве с матерью не уехала?
— Не успела... Задержалась... — Клава отвела глаза в сторону.
Мария Степановна Самарина была великая труженица, це¬
150
лые дни просиживала за шитьем, и Клава всегда удивлялась, когда же эта женщина отдыхает.
Клава нередко заглядывала к ней в комнату и вызывалась помогать, но кончалось это чаще всего тем, что Мария Степановна прогоняла ее вместе со своей дочерью Раей гулять. «Мне легче заново сшить, чем пороть после вас»,— ворчливо говорила она.
— А вы, тетя Маша, почему не эвакуировались? — спросила Клава.
— Да где там! — Самарина тоскливо махнула рукой.— Пошла было с дочками пешком на Порхов, да уж поздно. Немец дорогу перерезал, назад всех завернул. Только вещи растеряли.—Она сердобольно оглядела Клаву.—Ну, да с меня какой спрос... Я портниха, надомница, женщина неприметная. А ты ведь комсомолка, пионервожатая, почти что партийная. Тебя здесь каждая собака знает...
Клава промолчала.
Из-за спины Самариной вынырнула Рая, худенькая, веснушчатая девушка.
— А это правда, что вы фашистов пулями встретили? Ну там, у станции... Ох, говорят, и набили вы им!..
— Цыц ты! — шикнула на нее мать.— Да разве про такое говорят сейчас?..
Женщины у оконца ахнули и теснее припали к стеклу. Через щель в стене заглянула на улицу и Клава.
От цепного моста на Набережную улицу свернуло несколько грузовиков с солдатами... Вот одна из машин остановилась около дома, где жила Клава.
Из кузова выпрыгнуло двое военных. Рыжеватый солдат с автоматом на груди тяжелым кованым сапогом распахнул калитку и пропустил вперед высокого сухощавого лейтенанта. Тот окинул взглядом узкий дворик, густо заросший кустами сирени и акации, низкие дощатые сарайчики, дряхлые ступеньки крыльца и взялся за скобу двери, ведущей в сени.
Клава не сводила с лейтенанта глаз: впервые она видела фашиста так близко. Поджарый, с вытянутым лицом и водянистыми глазами, с нелепо вздернутой тульей форменной фуражки, он смотрел кругом пренебрежительно и высокомерно.
151
Лейтенант толкнул дверь. Неведомая сила отбросила Клаву от щели в стене. Она резко захлопнула дверь и набросила щеколду.
— Рехнулась ты! — испуганно зашептала Самарина.— С первого дня и цапаться с ними...
Она оторвала Клаву от двери и подняла щеколду. Солдат ввалился в сени и направил на столпившихся женщин автомат. Женщины шарахнулись в сторону.
Вслед за солдатом в сени осторожно вошел лейтенант. Раздраженно что-то выговаривая солдату, он заглянул в одну комнату, в другую, потрогал носком сапога скрипучие ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, покосился на полутемные углы сеней и, брезгливо скривив губы, подал солдату знак уходить. Грузовик с рычанием отъехал от дома,
— Не по нраву ему наша халупа,— усмехнулась Самарина.— Оно и к лучшему... — И она поглядела на Клаву.— А ты, девка, зря на рожои лезешь. Побереги себя, еще не то увидишь...
Весь день Клава не находила себе места. Гитлеровцы разъезжали по улицам города на машинах, на мотоциклах, пели, гоготали, бесцеремонно занимали лучшие квартиры, распивали награбленное вино, вели себя как хозяева.
Молчаливая, осунувшаяся, с окаменевшим сердцем, пробиралась Клава по улицам родного города, не веря тому, что видела. В здании горсовета разместилась немецкая комендатура, школа имени Ленина была занята под солдатскую казарму, во дворе детского дома, разворотив заборы и вытоптав кусты и клумбы, поставили тягачи и автомашины. И всюду фашистские флаги, гитлеровские значки.
Когда-то Клава учила ребят ненавидеть фашистов, бороться с ними. И вот теперь в Острове полно гитлеровцев!
Так что же она, комсомолка, пионервожатая, ходит по улицам без дела, без борьбы? А как бороться! Где райком партии и райком комсомола?
Ребят из истребительного батальона тоже не видно: вероятно, они сумели выбраться из города. Может быть, они сейчас уже соединились с Красной Армией и воюют против фашистов. А она, Назарова, сидит здесь, как в плену, и на каждом шагу
152
встречает ненавистных врагов. «А вдруг ребята не успели уйти, вдруг они попали к фашистам в плен?» — содрогаясь, подумала Клава.
Выбирая тихие переулки, чтобы меньше попадаться немцам на глаза, Клава решила проведать Сашу, а заодно и Елену Александровну.
По пути заглянула на Школьную улицу. У дверей школы стоит часовой, вся улица забита грузовиками, походными кухнями, фургонами. Ворота в школьный сад распахнуты, под яблонями стоят брезентовые палатки, топятся походные кухни, на веревках, натянутых между деревьями, сушится солдатское белье.
Перед школой, прямо на тротуаре, в беспорядке свалены книги. Присев на корточки, словно перед грядкой, в книгах копается какая-то женщина. Голова по самые глаза закутана темным платком.
Клава вгляделась и узнала учительницу Анну Павловну.
— Что вы делаете? — подходя ближе, удивленно спросила Клава.
Анна Павловна подняла голову, и в глазах ее мелькнула тревога.
— Клаша?! Ты в городе? Почему не ушла с комсомольцами, с Важиным?
— Не успела... Сашу Бондарина ранило, пришлось задержаться. А что с батальоном? Где ребята?
— Говорят, ушли они... Вывел их Важин. А там кто их знает,— вздохнула учительница.
— Анна Павловна, а что это за книги? Э, да это наша школьная библиотека...
— Вот именно,— горько усмехнулась учительница.— Видишь, немцы заняли школу под солдатскую казарму. А наши книги, конечно, выбросили. Новый порядок, ничего не скажешь. Извечный порядок варваров и мракобесов. Вот я и думаю собрать их...
-г- Я вам помогу.
— Нет, нет,— запротестовала Анна Павловна.— Тебе сейчас на улице лучше не показываться. Ты комсомолка, была в истребительном батальоне. А люди в городе могут быть всякие...
153
— Какие всякие? — не поняла Клава.
Анна Павловна оглянулась по сторонам.
— Ты про Дембовского слышала? Немцы его бургомистром назначили. Главой города.
— Константина Владиславовича? — вскрикнула Клава.
— Был вроде человек, учитель, коллега, а стал фашистский холуй,— продолжала Анна Павловна.— И еще бы по принуждению, а то добровольно пошел, с охотой, со рвением. Встречаю его сегодня, а он сияет весь, надулся, как павлин. С новым порядком поздравляет. Думала, меня кондрашка хватит.
Прижав руку к сердцу, она болезненно поморщилась и тяжело перевела дыхание.
— В школе у нас уже двух учителей забрали: Сидоркина и Хайкина. Не иначе, по доносу нового бургомистра. Смотри, Клаша, он и до тебя доберется.
Из-за угла с пустыми мешками в руках выскочили трое мальчишек во главе с Петькой Свищевым.
— Анна Павловна, книги отнесли в вашу комнату,— доложил Петька.— И стопками сложили, как вы велели... Можно еще набирать?
— Можно,— кивнула учительница.— Видала, Клава, какие помощники объявились? Решили библиотеку ко мне в комнату перенести.
— Клава Ивановна! — Петька подскочил к вожатой.—Вот хорошо, что вы не дра... не уехали, я хотел сказать.
— Что ж тут хорошего? — покосилась на него учительница.
— А как же... Знаете, сколько мальчишек в городе осталось! Вот Клава Ивановна и будет нам разные поручения давать... — Петька оглянулся по сторонам и перешел на шепот: — Мы им сегодня двенадцать скатов проткнули. У нас и шило такое есть.— Он порылся в кармане и показал Клаве остро заточенный толстый гвоздь.
— А ну, убери сейчас же,— рассердилась Анна Павловна.— Нашел тоже место, где показывать, под носом у немцев.— Она обратилась к Клаве: — А ты не увлекайся. Подумай лучше, как из города выбраться. К своим подавайся... А то, не ровен час, схватят тебя здесь.
154
Клава задумчиво смотрела на ребят. Что-то будет с ними при немцах?
— А Варя Филатова тоже никуда не уехала,— заметил Петька, запихивая в мешок книги.
— Варя?! Когда ты ее видел?
— Мы ей утром воды принесли. Она все про вас спрашивала...
Сказав Анне Павловне, что она заглянет к ней вечером на квартиру, Клава заторопилась к подруге.
ОПЯТЬ ВМЕСТЕ
Варя Филатова была дома и нянчилась с дочкой. Подруги обнялись.
— Куда же мне с таким хозяйством с места двинуться! — показывая на старую мать и дочку, ответила Варя, почувствовав немой вопрос Клавы.— Такая суматоха вчера началась, едва маму с Олечкой не потеряла.
— А что теперь делать думаешь?
— Будем наших ждать. Не век же они отступать будут. А ты, Клаша, что решила?
— Ждать, конечно, будем,— задумчиво ответила подруга.— Только ожиданием делу не поможешь. Тут что-то другое надо. Вот если бы ребят побольше в городе осталось...
Не успели подруги обо всем поговорить, как в дом без стука вошли два немецких офицера. Бесцеремонно оглядев комнату, они игриво подмигнули девушкам. Потом один из офицеров наклонился над детской колясочкой и, чмокая толстыми губами и шевеля пальцами, принялся рассматривать гулькающую Олечку.
Побледнев, Варя метнулась к коляске, выхватила дочку и, прижимая ее к себе, отошла в угол.
— Вы есть юнге муттер? — заговорил офицер.— Чудесный, чудесный ребенок. Смотри, Карл, как действует инстинкт материнства. Эта молодая муттер готова ринуться в бой.— И он благодушно обернулся к Клаве: — Вы тоже есть юнге муттер? Дейтшлянд нужны такие матери. Здоровье и красота! Фюрер очень любит детей.
155
Сузив глаза, Клава подалась к офицерам.
— Вы зачем? Что надо? — глухо выговорила она.
— Смотри, Карл, она очаровательна,— улыбнулся офицер.— Сколько огня в этих глазах! Не надо гневаться, мадам. Нам надо иметь хороший дружба... Мы пришли к вам надолго.
Он заметил на стене школьную карту Европы и, взяв со стола карандаш, очертил кружками Москву и Ленинград.
— Москва, Ленинград будут окружен! Голод. Капут! Драй недель — война конец. Ви понимайт меня?
И без того темные глаза Клавы потемнели еще больше. Она стремительно подошла к офицеру, выхватила у него из рук карандаш и широкой чертой обвела на карте Берлин.
— Будет окружен Берлин. Вот так. Гитлеру по шее. Войне конец. Понятно?
Офицеры переглянулись, один из них шагнул к Клаве. Девушка распахнула дверь, выскочила на улицу и юркнула в переулок.
Позади послышались отрывистые голоса офицеров, сухо хлопнул пистолетный выстрел.
Но недаром на спортивных состязаниях Клава Назарова брала первые места по бегу, да и проходные дворы Острова ей были хорошо знакомы.
Пробежав через несколько проходных дворов и изрядно запутав следы, Клава оказалась на заросшей ивами и липами Горной улице. Переводя дыхание, она прислонилась к дуплистой иве и прислушалась—на улице было тихо, ее никто не преследовал. Клава прижала к щекам ладони — лицо горело, словно при высокой температуре.
Мысленно она обозвала себя глупой и сумасшедшей девчонкой. Ну зачем ей было схватываться с фашистскими офицерами, вызывать их ярость, доводить дело до погони? Все это могло для нее плохо кончиться. Да и о подруге надо было подумать. И когда только ты научишься держать себя в руках, действовать разумно и осмотрительно?
Но как тут быть сдержанной, если от одного только вида фашистского офицера или солдата у нее темнеет в глазах, мутится в голове и хочется плюнуть в ненавистное лицо или запустить камнем! Вот если бы извлечь на свет божий те винтовки,
156
что она спрятала на кладбище... Но что можно сделать с двумя винтовками, когда кругом вооруженные враги?
Одолеваемая тяжким раздумьем, Клава спустилась к реке, вышла на Набережную улицу к своему дому и осторожно пробралась в комнату.
Свет не горел: еще третьего дня городская электростанция пострадала от бомбежки. Клава зажгла старенькую семилинейную лампу и вспомнила, что она с утра ничего не ела. Решила сварить картошку. Едва разожгла примус и поставила на оранжевый венчик огня кастрюльку, как на лестнице послышались тяжелые шаги.
«Выследили!»—мелькнуло в голове. Клава подбежала к двери, чтобы набросить крючок — и не успела. Дверь распахнулась. На пороге стоял Дима Петровский, запыленный, грязный, в порыжевших башмаках, без фуражки.
— Откуда? Что с тобой? — вскрикнула Клава.
— Евдокию Федоровну привел... — хрипло выговорил Дима.— Она там, внизу.
— Мама?! — Клава быстро сбежала на крыльцо.
На ступеньках, привалясь к перилам, сидела Евдокия Федоровна. Заметив дочь, она сделала попытку подняться, но только болезненно вскрикнула и вновь грузно осела на ступеньку.
— Отходилась, Клашенька... Ноги не держат. И как только меня Дима дотащил.— Она заплакала.— Ох, и насмотрелась я всякого! Лучше бы из города не уезжала...
Вместе с Димой Клава помогла матери подняться по лестнице в комнату и уложила ее в постель.
Жадно напившись из ведра, Дима рассказал, что произошло за эти дни. Выйдя из-под минометного обстрела, бойцы истребительного батальона получили приказ срочно оставить город. Они выбрались на Порховское шоссе. Но было уже поздно. К утру стали встречаться беженцы: немцы далеко впереди перерезали шоссе и возвращали всех беженцев обратно в Остров.
Командир батальона Важин отдал приказ закопать винтовки в лесу, а бойцам — теперь уже бывшим — смешаться с беженцами и действовать по своему усмотрению.
Дима все же решил пробиваться на восток. Он свернул с шос¬
158
се на полевую дорогу и целый день шел пешком, пока не добрался до переправы у реки. Здесь сгрудились сотни подвод и машин. К вечеру началась бомбежка, и народ хлынул обратно: дорога на восток была отрезана. В суматохе Дима неожиданно встретил Клашину мать. Старуха еле брела и толком ничего не могла рассказать. Она помнила только, что недалеко от подводы, на которой ехала вместе с Иваном Сергеевичем Бондариным и его женой, разорвалась бомба. Взрывной волной Евдокию Федоровну отбросило в сторону и оглушило. Когда она пришла в себя, уже не было ни подводы, ни Ивана Сергеевича с женой.
— Что же с ними стало? — похолодев, спросила Клава.
— Неизвестно... — хмуро ответил Дима.— Евдокия Федоровна ничего не помнит. Она как маленькая стала... Сто шагов пройдет и падает. И все бормочет что-то. С тобой прощается, с Лелей. Двое суток ее тащил. А нас немец еще из пулеметов поливал.— Он вновь припал к ведру с водой.
Клава с нежностью посмотрела на взлохмаченного, в побелевшей от соли рубахе Диму.
Кто бы мог подумать, что этот самовлюбленный, капризный, балованный родителями юноша, всегда чуть снисходительно относящийся к товарищам, способен не бросить в пути контуженую старуху.
— Спасибо, Дима!.. Ты... ты настоящий парень! —от души вырвалось у Клавы.— Наверное, есть хочешь?
— Не знаю. Запеклось все внутри. Я лучше домой пойду. Как мать там?
Клава сказала, что Елена Александровна никуда не уехала и, несмотря ни на что, продолжает лечить раненых красноармейцев.
— А у вас дома Саша Бондарин лежит. Его осколком мины ранило.
— Сашка! Кооператор?
— Да, да. Только ты о родителях ему пока ни слова... Не волнуй его.
— Понимаю,—кивнул Дима, и глаза его вспыхнули.— А знаешь, Клаша, я такое за эти дни видел... Мне бы сейчас винтовку да гранату. Уж я бы... — Он поднялся и шагнул к две¬
159
ри.— Мать повидаю и уйду. Кровь с носу, а к своим проберусь. Обязательно буду в армии или в партизанском отряде.
— Уйду, проберусь... А надо ли это? — задержала его Клава.— А может, мы и здесь пригодимся?
— Это как — пригодимся?
— Другие-то ребята в город вернутся? Как ты думаешь?
— Возможно... А что?
— А ты помнишь, где вы винтовки закопали? — неожиданно спросила Клава.
— Еще бы... На тридцать втором километре, в песчаном карьере. Я даже метку поставил. А зачем тебе?
— А ты подумай... — многозначительно сказала Клава.— И еще, Дима, вот что. Держи со мной связь. А вернутся ребята, сообщи мне. Договорились? — Она проводила парня до улицы и наказала, чтобы он вел себя осторожнее и не лез на глаза немцам.
Кивнув, Дима скрылся в темноте.
Клава вернулась в комнату и склонилась над матерью.
Евдокия Федоровна лежала в забытьи и невнятно что-то бормотала. Вот мать и опять с ней. Никуда уж теперь Клава не уйдет из Острова. Да и надо ли уходить? Она ведь не одна здесь. Живет Петька Свищев с пионерами, задержалась в городе Варя, вернулся Дима, побродят по округе другие комсомольцы и тоже, наверное, вернутся в город. А ведь им нужен старший товарищ, советчик, вожак. Готова ли ты к этому, Клаша Назарова, хватит ли у тебя сил, уменья, выдержки?
домой
В жаркий июльский полдень к платформе Псковского вокзала подошел товаро-пассажирский поезд.
Из тамбура обшарпанной теплушки с рюкзаком за плечами, в помятом костюме выскочил Федя Сушков и оглянулся по сторонам. Все пути были забиты беженцами, всюду сновали военные, на платформы грузили пушки и ящики с боеприпасами.
Около левого крыла вокзала, огороженная шаткой изгородью, зияла глубокая воронка от бомбы, угол вокзала был раз¬
160
рушен, из кирпичной стены торчали железные балки, свисали рваные провода.
«Бомбят и здесь»,— подумал Федя, протискиваясь сквозь толпу.
Неожиданно перед ним мелькнула знакомая долговязая фигура Борьки Капелюхина.
В первое мгновение Федя хотел было податься в сторону: ему совсем не хотелось встречаться с приятелем и объяснять тому, почему он вместо Ленинграда оказался на Псковском вокзале. Но потом, сообразив, что Борька и сам, видимо, оказался в таком же положении, что и он, Федя решительно бросился догонять приятеля.
— A-а! Сушков-Су воров! — обрадованно закричал Капе л го- хин, когда Федя ухватил его за плечо.— Какими судьбами? Не подошел, значит, в училище? От ворот поворот?
— Не подошел,—хмуро сказал Федя, недовольно оглядываясь по сторонам.—Ну, чего ты горланишь? Говори тише!
Но их никто не слышал.
— Засыпался? Да?—громким шепотом допытывался Капе- люхин.— Я, понимаешь, по математике срезался. Такая каверзная задача досталась: намертво застопорило. Ну, меня, понятно, к дальнейшим экзаменам не допустили. Можете, сказали, домой ехать. Вот я и пробираюсь третьи сутки. А ты на чем срезался?
— Да нет... у меня другое... По здоровью не подошел,— признался Федя и тяжело вздохнул,— нехорошо все как-то получилось.
...Добравшись до Ленинграда и разыскав военно-артиллерийское училище, Федя как-то сразу успокоился. Что бы там ни было,, но он теперь военный человек. Островские приятели, наверно, бьются над тем, как бы попасть в армию, очутиться на фронте, а его судьба уже решена: он станет курсантом военного училища и по первому зову готов оказаться на фронте.
Каково же было огорчение Феди, когда на второй же день на медицинской отборочной комиссии ему заявили, что по зрению он не может быть принят в училище!
Федя не мог этому поверить. Он принялся обивать пороги начальства, добился вторичного медицинского осмотра, всюду горячо доказывал, что если он и видит немного хуже других,
161
так это совсем не мешает ему люто ненавидеть фашистов и стать военным человеком.
«Ничего не можем поделать,— отвечали ему.— Артиллерии нужны физически полноценные офицеры. Возвращайтесь домой или обратитесь в военкомат».
Ленинград между тем жил суровой сосредоточенной жизнью. У военкоматов толпились очереди добровольцев, по улицам маршировали отряды народного ополчения, на окраинах строились укрепления, надолбы, противотанковые рвы, витрины магазинов закладывались мешками с песком.
Федя толкнулся в один районный военкомат, в другой, попытался примкнуть к ополчению, но всюду, узнав о том, что Сушков не ленинградец, ему советовали ехать домой.
И Федя понял, что ему нечего здесь делать. Забрав в училище документы и простившись с Ленинградом, он направился на Варшавский вокзал.
А в это время в училище после многодневных мытарств заявился Матвей Сергеевич Сушков.
Проводив Федю в Ленинград, он с нетерпением ждал от него письма или открытки. Но ни того, ни другого не было. Началась эвакуация Острова. Матвей Сергеевич доехал до Чудова и отсюда добрался до Ленинграда, чтобы узнать о судьбе сына.
Дежурный по училищу, заглянув в журнал, сообщил Матвею Сергеевичу, что Сушков Ф. М. выбыл в неизвестном направлении.
Отец побродил по городу в надежде случайно встретить сына. Но найти иголку в стоге сена было невозможно. Матвей Сергеевич вернулся в Чудово. Так и разошлись дороги отца и сына, чтобы никогда больше не встретиться...
* * *
Сейчас, выбравшись из вокзальной сутолоки, Федя и Капе- люхин пересекли площадь и вышли на шоссе, ведущее на Остров и Пушкинские горы.
— Слушай, Федя! Не в службу, а в дружбу... — попросил Капелюхин.— Говори дома, что и я по здоровью в. училище не
162
попал. Ну* > почки у меня там, печенки-селезенки..; А то мне ребята проходу не дадут из-за этой математики.
Федя сделал вид, что не расслышал.
— Да нет... Куда тебе, правдолюбу... — махнул рукой Капе- люхин.— Все равно не смолчишь...
У автобусной остановки, обычно шумной и оживленной, никого не было. Ребята подождали минут пятнадцать, потом спросили проходящего мимо пожилого мужчину, ходят ли автобусы на Остров?
— Да вы в себе? — удивился тот.— В Острове немцы третий день. Гляди, и здесь вот-вот будут. Чего вам в Остров-то приспичило?
— Родители у нас там.
— Наверное, уехали все давно. Смотрите, сколько народу идет! — Мужчина кивнул на дорогу, по которой тянулись беженцы.
Люди шли семьями и в одиночку, шли налегке и нагруженные вещами. Вещи везли в детских колясочках, на велосипедах, несли на носилках.
Федя и Борька растерянно переглянулись. В самом деле, зачем они пробираются домой, если в Острове уже фашисты? Может быть, им повернуть обратно и уйти вместе со всеми подальше в тыл?
Федя вспомнил наказ отца немедленно вернуться домой, если не поступит в училище.
— Все же пойдем... Там видно будет,—вслух подумал он.
И ребята зашагали по шоссе.
Перед сумерками, поднявшись на увал, они заметили фашистских мотоциклистов. За ними двигалась колонна грузовиков с солдатами.
Федя потянул Капелюхина в придорожную канаву.
— Переждем лучше...
Борька отмахнулся и, помахивая чемоданчиком, продолжал шагать по дороге.
— Чего ты хорохоришься, Капелюха? — с досадой спросил Федя.
— А что нам, малярам... Идем себе и идем... Не по чьей- нибудь, по своей дороге шагаем.
163
— Они тебе покажут «свою дорогу».
— Объясним, на худой конец. Были, мол, в гостях, идем домой.
— Ты же ни в зуб ногой по-немецки.
— Ничего, как-нибудь объяснимся... в пределах школьной программы.
Федя зло посмотрел на приятеля. Кому не известно, что Борька был большой любитель пофорсить и пустить пыль в глаза! Поспорив с ребятами, он мог пройти по карнизу второго этажа, взбирался по водосточной трубе на крышу, прыгал «солдатиком» с цепного моста в Великую.
Чаще всего его ухарство кончалось плачевно. Борька срывался, падал, расшибался и неделями лежал в постели или ходил в повязках.
Мотоциклы приближались.
Федя схватил Капелюхина за руку и потащил в канаву.
— Балда! Фанфарон! Лежи здесь!
Прижавшись к прохладной земле, ребята долго лежали в канаве, пропуская мимо себя мотоциклы и машины с солдатами.
— Это да, это сила! — блестя глазами, шепнул Капелю- хин.—Будто на пикник едут... Гогочут, веселятся, вон жуют что-то... — Он нашарил в траве округлый булыжник.— Так бы и запустил!
Федя ударил Капелюхина по руке.
— Не смей!
Пропустив мотоциклы и грузовики, Федя вылез из канавы и, подав знак Капелюхину, свернул с шоссе на проселочную дорогу.
— По шоссе не пойдем. Будем пробираться окольным путем.
— Еще чего! — заныл Капелюхин.— Ноги же не казенные.—Но, зная непреклонный характер Феди, скоро замолчал.
Ребята углубились в льняное поле, словно обрызганное голубыми каплями: лен зацветал. Вскоре они догнали скрипучую телегу, груженную только что скошенным клевером. Рядом с телегой шагал высокий сутулый старик с желтыми прокуренными усами.
Остановив подводу, он подозрительно оглядел ребят, их новенькие, хотя и изрядно помятые костюмы, светлые кепки с на¬
Ш
чесом, рюкзаки, чемодан с блестящим замочком в руках у Капелюхина.
— Чего это разгуливаете, молодые люди? — хмуро спросил старик.— Вроде не врем;я сейчас.
— В гостях задержались. Домой идем, в Остров,— пояснил Федя и спросил, что происходит в деревне и можно ли через нее .пройти.
— Не советовал бы... — Старик рассказал, что в деревне полно немецких солдат, над мужиками поставили старосту, появились полицаи. Колхоз распустили, землю разделили, как в старое время, по душам, артельных лошадей, что получше, немцы забрали себе, а всяких кляч и больных роздали мужикам — на шесть домов лошадь.
— Вот здесь и моя шестая доля.— Старик кивнул на худую, тяжело дышащую лошаденку и достал из кармана кисет и бумагу для закурки.— Чудно, право... Жили, жили, и все вспять пошло: моя полоса, моя лошадь.
Борька покосился на кисет: папиросы у него давно кончились, и он не курил уже двое суток.
— Дедушка, разреши свернуть...
— Ох, и стрелков пошло! — Старик со вздохом отсыпал щепотку табаку.
Капелюхин, взяв из рук старика бумагу, развернул ее, чтобы оторвать кусочек для закурки, как вдруг заметил слова: «Сим объявляется...» Он толкнул в бок Федю и вполголоса прочел:
— «Сим объявляется, что г. Остров и Островский район подлежат особым заградительным мерам. Всякое самовольное переселение...»— дальше текст обрывался. Видимо, дед искурил этот клин бумаги. Сохранился только самый конец объявления.— «...Кто, вопреки этому запрещению, перейдет через границу района, будет задержан и помещен в лагерь для принудительных работ, если только данный случай не влечет за собой более сурового наказания.
Командующий».
— Дедушка, что это вы раскуриваете такое? — спросил Федя, показывая на бумагу.
165
— Сами видите,— ухмыльнулся старик.— Объявление, вроде приказу от новых хозяев. Нельзя, значит, по своей воле ни входить, ни выходить с родного места. У нас в деревне таких приказов на каждой калитке наляпали. Ну, а мне курить что- нибудь надо... Вот я и пробавляюсь, тем более бумажка подходящая.— Старик отобрал у Капелюхина объявление и убрал вместе с кисетом в карман.
— Так мы же домой идем... У нас и прописка в паспорте,— вновь захорохорился Борька.
— Зеленые вы... — покачал старик головой.— Новые хозяева разбираться не станут. Раз без дела болтаетесь, вот и пожалуйста на торфоразработки или узкоколейку строить. Вчера троих молодых людей, вроде вас, зараз сцапали. Один заартачился, так ему все зубы пересчитали...
Федя и Капелюхин многозначительно переглянулись: нет, попадать на принудительные работы им совсем не улыбалось.
— Я вам плохого не желаю,— сказал старик.— В деревню лучше не показывайтесь. Вон там овражек есть, по нему и пробирайтесь.
И ребята послушались старика. Деревни они обходили стороной, пробирались оврагами, зарослями кустарника. Ночевать устроились в поле, в омете старой соломы.
Утром пошли дальше. Вскоре Капелюхин заныл, что он смертельно хочет есть. Когда же впереди показалась небольшая деревня, Борька принялся уговаривать Федю заглянуть в нее: деревенька тихая, неприметная, и никаких немцев там, конечно, нет.
— Хочешь, я один схожу? — предложил он, заметив недовольный взгляд приятеля.— Молока куплю, хлеба, закурить достану.
Что греха таить, у Феди тоже давно сосало под ложечкой. Отпускать же сумасбродного Борьку одного он не хотел.
— Ну, что с тобой делать?.. Пошли уж вместе,— согласился Федя, потом, спохватившись, достал из кармана брюк бумажник с комсомольским билетом и переложил его в рюкзак.— Билеты лучше оставить... на всякий случай.— Он сунул рюкзак под лозняковый куст и прикрыл травой.
166
— У меня билет не найдут,—отмахнулся Капелюхин.—Он в потайном кармане зашит.
Ребята подобрались к деревне со стороны оврага, осторожно подошли к крайней усадьбе, перелезли через изгородь в огород и очутились около ветхого, обомшелого погреба. И обомлели. У открытой двери погреба сидел на карточках немецкий солдат и, запрокинув голову, сопя и причмокивая, тянул из горшка густую сметану. Сметана переливалась через край, лениво сползала по бритому подбородку, тяжело капала на гимнастерку, на приклад автомата, висящего на груди, но солдат ничего не замечал.
Другой солдат сидел напротив и, сглатывая слюну, терпеливо ждал своей очереди. Наконец он не выдержал и потянул горшок к себе.
Федя отступил назад и дернул Капелюхина за рукав. Тот' фыркнул.
— Вот лопают! Аж скулы трещат!..
Застигнутые врасплох, солдаты вскочили и схватились за автоматы. Горшок выпал у них из рук и покатился по земле, оставляя густой белый след.
Ребята бросились было бежать к изгороди, но немцы быстро преградили им дорогу.
— Хальт! Хенде хох! — закричал один из солдат, свирепо топорща белесые усы и переводя автомат с одного на другого.— Кто есть такой? Документы?
Второй солдат, которому не удалось полакомиться сметаной, тучный, с сизым, пупырчатым, как кожа у ощипанного гуся, подбородком, внимательно оглядел ребят, потрогал их пиджаки и с довольным видом прищелкнул языком. Потом, подмигнув товарищу, зычно скомандовал:
— Снимать пиджаки! Быстро!
Капелюхин захлопал глазами, а Федя, хотя и знал неплохо немецкий язык, сделал вид, что ничего не понял.
Тогда солдат с сизым подбородком расстегнул пуговицы и бесцеремонно стащил с Капелюхина пиджак. Второй солдат таким же образом раздел Федю.
Потом они стянули с ребят верхние рубашки, отобрали у Борьки чемодан.
167
Солдаты похохатывали, фыркали, переговаривались друг с другом и чувствовали себя так, словно занимались не грабежом среди белого дня, а выбирали вещи в магазине.
Ребята дрожали от бешенства, пытались сопротивляться, но, получив по внушительной зуботычине, только цедили сквозь зубы:
— Ворье! Бандюги!
Дошла очередь до брюк.
Солдат с сизым подбородком окинул взглядом Борькины брюки и дернул за кончик ремня, жестом показывая, чтобы тот разоблачался.
Побелев от ярости, Капелюхин шарахнулся было в сторону, но потом рывком стянул с себя майку, сорвал с головы кепку и швырнул их под ноги солдатам:
— Все берите, сволочи... Хапайте!
Он с силой рванул брючный ремень и, когда брюки приспустились, высвободил правую йогу из штанины. Солдат с хохотом, уцепился за брюки. Федя обомлел. Этот впавший в ярость Капелюхин совсем потерял голову — ведь в кармане брюк у него находится бумажник и, главное, комсомольский билет.
— Борька! С ума сошел! — шепнул Федя.— Там же билет.-т- И он, вцепившись в брюки, дернул их из рук солдата.
Спохватившись, Капелюхин тоже потянул брюки к себе. На помощь первому солдату подоспел второй. Теперь за брюки ухватились четыре человека и каждый тянул в свою сторону,, Капелюхин, потеряв равновесие, упал на землю, но и лежа, согнув ногу в коленке, продолжал удерживать штанину. Брюки, наконец, не выдержали и с треском разорвались.
Рассвирепевшие солдаты принялись пинать ребят сапогами, пустили в ход кулаки. Затем, повалив Федю на землю, они бесцеремонно расстегнули ремень, стащили с него брюки и, наконец, угрожающе поводя автоматами, кивнули в сторону поля.
Ребята, не сводя глаз с автоматов, попятились к изгороди, перелезли через нее и, пригнувшись, бросились бежать.
Когда они оглянулись, солдат в огороде уже не было. Пере^ водя дыхание, Капелюхин выругался.
— А ты что говорил? — напомнил Федя.— «Домой идем, мы прописанные! Нас не тронут!..» Вот тебе и не тронули.
168
Приятели посмотрели друг на друга и не могли сдержать невеселых улыбок: растерзанные, без одной штанины брюки еле держались на Борьке, все тело у него было в ссадинах, под глазом набухал багровый кровоподтек.
Не лучше выглядел и Федя. Худенький, щуплый, еще не успевший загореть в этом году, с тонкими, в рыжеватых волосах ногами, он в своих голубых трусиках выглядел совсем не спортсменом. Из вспухшей рассеченной губы сочилась кровь.
— Здорово они тебя отделали? — осведомился Капелюхин.
— Не здоровее, чем тебя,— усмехнулся Федя.— Вместе ведь за брюки держались.
Капелюхин сорвал еще влажный от росы лист подорожника и протянул приятелю.
— Приложи к губе... помогает.
Потом достал из кармана комсомольский билет и долго смотрел на обложку с профилем Ленина.
— Это ты правильно сказал,— вполголоса признался он.— Балда я... Обозлился на этих бандитов и голову потерял... Если бы ты про билет не напомнил...
— Ладно, чего там. Ты лучше на будущее попомни.
Федя разыскал под кустом свой рюкзак, и приятели, уже
не думая о посещении деревни, вновь стали пробираться к городу.
ПЕПЕЛИЩЕ
Километрах в четырех от Острова они наткнулись на изрытую окопами и ходами сообщения небольшую возвышенность. Земля кругом была обезображена воронками от фугасных бомб, проутюжена гусеницами танков, усыпана осколками снарядов. По всем признакам здесь не так давно шел бой.
Вокруг не было ни души. Ребята с волнением спустились в извилистый ход сообщения. Он был довольно свежий, еще не успел осыпаться, на дне заметны следы тяжелых солдатских ботинок. Ход сообщения привел к окопу. Бруствер окопа выложен дерном, утыкан увядшими стеблями пшеницы, кругом валялись стреляные винтовочные патроны.
169
Наши оборону держали,— тихо сказал Федя, осматривая гильзу со следами пороховой гари. Он заметил глубокие рубчатые следы гусениц, подходившие к самым окопам, и постарался представить себе картину боя.
Фашисты с танками наступали... Жарко здесь было...
Неожиданно Федя увидел красноармейскую пилотку: белесая, выгоревшая от солнца, со щербатой алой звездочкой, она была вдавлена чьей-то ногой во влажную землю.
Как она очутилась здесь? То ли взрывной волной сорвало ее с головы бойца, то ли потерял ее раненый, когда его выносили из окопа? И где он теперь, что стало с ним?
Федя бережно поднял пилотку и сунул ее в рюкзак.
— Здесь кто-то есть! — шепнул Капелюхин.— Может, опять немцы...
Ребята присели и прислушались. Из соседнего окопа доносилась приглушенная русская речь.
— Наши, наши! — облегченно вздохнул Капелюхин.— Пошли к ним.
Ребята пробрались ходом сообщения в соседний окоп. Там, орудуя саперными лопатками, копались в земле юноша и девушка. Девушка, заслышав позади шорох, оглянулась и, схватив юношу за плечи, испуганно вскрикнула.
— Кто? Что надо? — хрипло спросил юноша.
— Володька? Аржанцев! — обрадованно завопил Федя.
— Погоди, погоди,— опешил Аржанцев.— Никак, Сушков и Капелюхин? Откуда, какими судьбами? Вы же в Ленинград уехали. Ну и видик! Вас что, ограбили по дороге?
— Угадал,— признался Капелюхин.— А вы что здесь делаете?
Аржанцев рассказал о последних событиях в Острове: об истребительном батальоне, о схватке с воздушным десантом, о неудачной попытке пробиться к Красной Армии.
— Короче говоря, разбрелись все, кто куда,— хмуро закончил Володя.— Мы вот с Аней в деревню вернулись. Живем и не знаем, что завтра будет...
— А зачем в окопе копаетесь? — поинтересовался Федя.— Нашли что-нибудь?
— Здесь найти не трудно. Видишь, что землей присыпа-
170
мо? — показал Аржанцев на дно окопа и, взяв саперную лопату, принялся разгребать землю. Вскоре он извлек оттуда видавшую виды винтовку.
— Немецкая? — спросил Капелюхин.
— Нет, наша. Семизарядная... У меня дома и еще кое-что есть. Тут походить да покопаться, немало чего наберешь.
— А зачем оружие собираешь? — вполголоса спросил Федя.— Задание, что ли, такое? От кого?
Аржанцев пожал плечами.
— Задания, скажем, никакого нет. Сами по себе собираем... Война все-таки... Может, и пригодится.
Федя в душе согласился с Аржанцевым и спросил, как им лучше пробраться в город.
— Днем лучше туда не ходите,— посоветовал Аржанцев,— да еще в таком виде.
Ребята расстались с Аржанцевым и Аней, прошли еще несколько километров, залегли в посевах хлебов и, дождавшись темноты, осторожно вошли в город.
— Теперь разойдемся,— предложил Федя.— Так лучше будет.
Договорившись встретиться на другой день, ребята начали пробираться к своим домам.
Тихими, безлюдными переулками Федя вышел на Горную улицу. Вот сейчас он бесшумно нажмет щеколду, откроется калитка, войдет в родной дом, встретит отца и тетю Лизу. Вымоется, наденет чистое белье, с удовольствием напьется чаю, потом они с отцом поговорят обо всем, как взрослые, а утром вся семья начнет готовиться к отъезду.
К отъезду? А разве теперь выберешься из города, если на каждой дороге дозорят заградительные отряды и полицаи?
Федя по привычке отсчитал пятую раскидистую иву, что стояла напротив дома Сушковых, и обмер. Не было ни дома, ни высокого забора с калиткой, ни палисадника. В темноте смутно чернела груда обугленных бревен, одиноко торчала печная труба и остро пахло гарью и дымом.
Спотыкаясь, Федя сделал несколько шагов, чтобы увидеть сад. И здесь стоял невыветрившийся запах гари. Грядки были вытоптаны, яблони и груши спалены и не шумели, как обычно.
171
Пожар уничтожил все.
Растерянно топчась на месте, Федя не знал, что делать дальше. Что же стало с его родными, где они? Может быть, временно живут у соседей?
Но соседних домов тоже не было — огонь истребил почти всю улицу.
Федя побежал в верхнюю часть города, где находился маленький, ветхий дом бабушки. В окнах было темно.
Федя постучал, но, видимо, слишком резко и властно, потому что долго никто не отвечал, хотя он и услышал за окном испуганный шепот.
— Бабушка, не бойся, открой... Это я, Федя.
Наконец дверь приоткрылась, и простоволосая тетя Лиза впустила в дом племянника.
— Господи, Феденька!—испуганно ахнула она.— Откуда ты? И почти голый...
— Немцы поживились. Костюмы им наши приглянулись.— Федя объяснил, что с ним произошло.— А где папа?
— Выехал со своим учреждением. Через три дня после тебя. На Волхов его повезли. Отец собирался к тебе заглянуть в Ленинград. А мы вот с бабкой остались.
— Выехал? — Пораженный Федя опустился на лавку.
— И дома нашего нет... сгорел,— продолжала тетя Лиза.— Только отец уехал, немец начал город обстреливать. Сгорела почти вся Горная улица. Все наше добро в огне погибло. Никакой одежки, обувки не осталось.
Она с сожалением поглядела на полуголого племянника.
— И зачем ты, Федя, к врагам пришел? Ты же комсомолец. Чего ты к ним в пасть лезешь? — Тетка привлекла Федю к себе и заплакала.
— Так уж вышло! — Федя растерянно пожал плечами и, помолчав, спросил тетку, остался ли в городе кто-нибудь из ребят.
— Да какие тебе ребята! — Тетя Лиза недовольно махнула рукой.— Кто не уехал, в щели законурился, молчит. Как в тюрьме все живем — того нельзя, этого не смей. Вечером после восьми на улицу не покажись... В Клашу Назарову на днях немец из пистолета палил...
172
— Клаша здесь? — обрадовался Федя.
— Задержалась себе на беду. Только ты не думай бегать к ней: за вами, комсомольцами, во все глаза следят. Сиди пока тихо, за порог носа не показывай.
Федя не стал спорить с теткой, но весть о том, что Клава Назарова в Острове, наполнила его радостью,— значит, он не напрасно пробирался в родные места.
ПЕРВОЕ ДЕЛО
Утром к Клаве Назаровой забежал Петька Свищев, ставший ее осведомителем.
С мальчишеским проворством он успевал побывать в разных концах города, ловко пробираясь под самым носом у немцев, и был переполнен новостями и наблюдениями.
Он знал, сколько военных машин перешло через мост, какие привезли орудия, у кого квартируются фашистские офицеры, кого вчера доставили в городскую тюрьму.
Сегодня, как обычно, Петька бесшумно проскользнул по лестнице и, пользуясь азбукой Морзе, осторожно выстучал в дверь первые буквы своей фамилии: «Свищ».
— Входи, входи! — Клава радушно открыла дверь и пропустила мальчика в комнату.— Уже на ногах, бегунок? Когда же ты спишь?
— А мне много не надо.— Петька присел на табуретку у двери и приготовился рассказывать.
— Погоди,— сказала Клава.— Давай сначала поедим.
— Да я уже сытый,— сконфуженно отказался Петька.
Клава достала хлеб, вареную картошку, открыла банку консервов, заварила чай, потом усадила мальчишку рядом с собой за стол, и «сытый» Петька с завидным аппетитом принялся за еду.
— Вот теперь докладывай,— попросила Клава, когда мальчик насытился и, отдуваясь, прислонился к стене.
Для начала Петька доложил о том, что в Доме культуры для фашистских офицеров открылось кино. Фильмы крутят
473
каждый вечер, и во время сеансов в зале стоит оглушительный гогот, словно ржут жеребцы в конюшне.
— А ты уже в кино побывал? — насторожилась Клава.
— Очень мне нужно фашистов в кино смотреть,— с презрением отмахнулся Петька.— Да к ним и не пролезешь. Там в дверях часовой стоит.
— Вот так и скажи,— усмехнулась Клава.— Ну, еще о чем доложишь?
Петька озабоченно нахмурил лоб. Вчера в сумерки он видел, как немцы гнали мимо хлебозавода большую колонну русских. Были там молодые парни и взрослые мужчины.
Одного дяденьку Петька даже узнал — это был Василий Николаевич, учитель рисования. Он сильно изувечен, лицо в синяках, глаз перевязан платком.
— Что ж ты мне сразу об этом не сказал? — рассердилась Клава.— А куда их погнали, не проследил?
— Кажись, на ремонт дороги. Были такие разговоры.
Клава задумалась. Что же стало с Василием Николаевичем?
Ведь Дима Петровский говорил, что тот распустил ребят, велел им действовать самостоятельно, а сам собирался пробраться в Сошихинские леса. Значит, не удалось ему уйти к своим.
— А знаете, кого я еще встретил? — вывел Клаву из задумчивости голос Петьки.— Комсомольцев из истребительного.— Он перечислил имена ребят.— Не смогли они уехать, обратно в город пришли. И Федя Сушков с Капелюхиным вернулись.
— Из Ленинграда? — удивилась Клава.
— Ага! Не приняли их в училище. Ребята все про тебя спрашивают.
Клава взволнованно заходила по комнате: вернулись ребята. Как-то они теперь поведут себя, что думают делать? Надо их срочно повидать, поговорить, что-то подсказать... А первым делом надо повидать Федю.
— Скажи Сушкову, чтобы он зашел ко мне. Сегодня же,— обратилась Клава к Петьке.— Хотя нет. Пусть он лучше на речку идет, за водой. Там и встретимся.
— Не может он,— замялся Петька.— Ему из дому выйти не в чем. Штанов нет. Их с Капелюхиным немцы по дороге раз¬
174
дели. В одних трусах оставили. И дома ничего нет — все догорело.
Клава порылась в комоде, достала поношенные лыжные штаны и сунула их Петьке.
— Это Лелышны... Наверное, подойдут. Беги скорее. Скажи, что через час я его жду на Великой.
Петька умчался.
Через час Клава направилась к реке, к тому месту, где обычно брали воду для питья.
Не успела она дойти до белесых, вымытых дождями валу- пов, как вдруг заметила странную процессию. По мостовой, выложенной крупным булыжником, навстречу ей двигалась водовозка. Вместо лошади в нее был впряжен человек.
Рядом со скучающим видом шагал высокий дородный полицай. По тротуару вслед за водовозкой шли женщины и ребятишки.
Клава поравнялась с водовозкой и обмерла: в нее был запряжен учитель химии из их школы Хайкин.
— Яков Самойлович! — негромко окликнула Клава.
Хайкин судорожно вскинул голову, его бледное, залитое
потом лицо передернулось, в глазах мелькнул испуг, и он вновь опустил голову.
— Проходи, проходи! Чего глаза таращишь? — прикрикнул полицай, оттесняя Клаву к тротуару.
К ней подбежали Федя Сушков и Петька. Федя был в голубых Лелькиных лыжных штанах и в заношенном, явно с чужого плеча, пиджаке.
— Что это... К-к-клаша?! — позабыв поздороваться и заикаясь от волнения, заговорил он.— В-в-воду... на учителе!..
— Это они со всеми евреями так,— хмуро заметил Петька.— Яков Самойлович уже третий день воду возит.
Подъем становился все круче. Водовозка подпрыгивала на булыжниках, гремела окованными железом колесами, из бочки выплескивалась вода. Хайкин выбивался из сил. Вот он споткнулся и упал на одно колено. Потом с усилием поднялся, налег ка хомут, но тяжелая повозка вдруг подалась назад. Видимо испугавшись, что водовозка может скатиться вниз, полицай ухватился за оглоблю и заорал на Хайкина.
175
Клава и Федя переглянулись, без слов поняли друг друга и, догнав водовозку, принялись подталкивать ее сзади. В ту же минуту с десяток мальчишек облепили бочку, и она легко вкатилась на пригорок.
Показалось белое здание городской тюрьмы, обнесенное высоким каменным забором.
Спохватившись, полицай отогнал всех непрошеных помощников, и водовозка вскоре скрылась за тюремными воротами.
Клава и Федя направились к реке.
— Вот как встретиться пришлось... — заговорила Клава.— Даже не поздоровались. Видишь, что фашисты в городе делают!
— Тут и слепой увидит,— помолчав, ответил Федя, с трудом приходя в себя.— Я многое повидал, пока домой шел.— Он рассказал, почему уехал из Ленинграда и как пробирался в Остров.
— А что теперь думаешь делать? — спросила Клава.
— Мы вчера с Капелюхиным Аржанцева встретили,—вместо ответа задумчиво заговорил Федя.— Он оружие собирает. На всякий случай, говорит...
— Ну и что? — Клава пытливо заглянула Феде в глаза-*
— Вот бы и нам то же самое. Наших ребят в городе уже немало. Сколько бы мы оружия собрали... Глядишь, и пригодится. А? Ты как, Клаша?
— Да, да*—кивнула Клава, довольная тем, что Федя почти угадал ее мысли.— Нам надо собраться. Потолковать.
— Обязательно надо,— подхватил Федя.— И давайте поскорее. Вот хоть сегодня же. Я могу ребят оповестить.
— Нет, нет. Не спеши,— удержала его Клава.— Надо все обдумать, подготовиться... Ребят проверить... Сейчас давай заглянем кой-куда. Ты своего дружка повидать хочешь?
— Сашу? — вскрикнул Федя.— Где он?
Клава повела Сушкова на квартиру к Петровским.
Саша лежал в полутемной комнате, обращенной окном в густой сад. Ему уже было легче: температура спала, нога начала подживать. За ним ухаживал Дима: ставил ему термометр, давал по часам лекарство, терпеливо читал вслух книги и старые журналы.
176
Увидав дружка, Саша сделал попытку подняться, но тут же болезненно вскрикнул, и Дима строго погрозил ему пальцем.
— В нянечку превратился,—пожаловался Дима Клаве, отведя ее в сторону.— Сижу, лекарства подаю, книжки читаю. Ох, не по мне эта работка...
Федя, присев на кровать, рассказал приятелю о своих злоключениях с военным училищем.
— Говорил, на экономический надо подаваться,— сказал Саша.— Вояка тоже, Суворов.
— Какой теперь экономический... Все равно нам воевать придется... Ты это на себе уже испытал.
Клава спросила Диму, как обстоят дела у матери в больнице.
— Скверно! —нахмурился Дима и сообщил, что гитлеровцы поставили в. больнице свой наблюдательный пост, заставляют лечить раненых, но не дают ни медикаментов, ни продовольствия. Матери приходится изворачиваться как только можно: она выпрашивает у знакомых лекарства, продукты, потратила на еду все свои сбережения.
— Мы вчера с Зиной по домам ходили. Картошку собирали, хлеб. Дают, но мало. У людей у самих ничего не осталось.— Дима вопросительно посмотрел на Клаву: — Надо бы помочь раненым, а, Клаша? Нас же теперь много в городе. Как разом возьмемся...
— А говорил, в городе делать нечего, заплесневеешь,— с легким упреком заметила Клава.
— Да нет, работа найдется...
В комнату вошла Зина Бахарева.
— Эге! Да здесь полный сбор,— оглядела она ребят.— Вы бы поосторожнее. Знаете приказ немцев — большими группами в домах не собираться?
Она пощупала у Саши пульс, спросила, как он себя чувствует. Потом отвела Диму в сторону и вполголоса сообщила, что ей сегодня страшно повезло. Она заглянула в подпол к соседу, который эвакуировался всей семьей, и там оказалось полно картошки. Ее, конечно, можно спокойно забрать для больницы.
— Чего вы там секретничаете? — спросила Клава.— Шептунов на мороз!
у Библиотека пионера, т. 7
177
— Никакой не секрет. Зина картошку обнаружила,— пояснил Дима. — Вот ломаем голову, как бы ее в больницу переправить. Грузовик не найдешь, подводы нет...
Клава окинула ребят быстрым взглядом: вот оно, первое дело, на котором их можно проверить и сблизить.
— Зато есть мешки и ведра, — сказала она и изложила свой план. Сейчас в комнате сидят четверо здоровых людей. Каждый из них приглашает двоих или троих надежных товарищей, все берут мешки и ведра и перетаскивают картошку в больницу. Она же, Клава, соберет по цепочке еще человек пятнадцать пионеров.
— Ой, да так мы что хочешь перетащим, — обрадовалась Зина. — Хорошо бы еще раненым мяса раздобыть.
— А где его взять? — спросил Дима.
Зина объяснила. Кто же не помнит, что за льнозаводом был совхоз «Городище» с хорошей свиноводческой фермой! Совхоз эвакуировался, но всех свиней вывезти не удалось, они разбежались и сейчас живут на воле.
— Я уж сегодня гонялась, гонялась за одной чушкой, — зардевшись, призналась Зина.— Одичали только они, никак не поддаются...
— Можно словить, можно, — подал голос Саша Бонда- рин. — Надо только из веревки петлю сделать. И набрасывать ее на свинью, как лассо на мустангов.
— Ну что ж, — улыбнулась Клава. — Сегодня же проведем охоту на диких мустангов. Возражений нет?
Все были согласны.
Клава спросила, кто из ребят кого пригласит, и назначила место сбора.
Часа через два группа комсомольцев уже перетаскивала картошку из подпола в больницу. Чтобы не привлекать внимания полицаев, ребята пробирались через город по одному, разными улицами, держась подальше от центра города.
В этот же день, в сумерки, они вышли охотиться на «мустангов». Свиньи действительно одичали, они метались по полю, неистово визжали, показывали клыки. С большим трудом ребята заарканили двух свиней, одного свирепого борова и притащили их в больницу.
„ЗА МОЛОКОМ"
Мысль о Василии Николаевиче не выходила у Клавы из головы. Он ведь собирался уехать с комсомольцами в Соши- хинский лес, влиться в партизанский отряд и вдруг вместо этого оказался в руках у гитлеровцев. А может быть, узнав, что коммунист Важин был командиром истребительного батальона, немцы давно уже с ним расправились?..
Нет, Клава не могла больше оставаться в неизвестности.
На другой день, выйдя с ведрами на Великую, она отыскала Петьку Свищева: что бы там ни было, а мальчишки неизменно стояли на камнях-голышах и удили рыбу. Клава подозвала мальчика к себе и попросила помочь ей донести ведра с водой. По дороге она спросила, чем он занимается целыми днями и не хочет ли сегодня пойти за город на Псковское шоссе.
— А зачем?
— Говорят, там много беженцев работает. Может, Василия Николаевича увидим.
— Это что, мне задание такое? — поспешно осведомился Петька.
Клава улыбнулась.
— Да нет, просьба. Не в службу, а в дружбу. Мне одной трудно пробраться. А ты ведь, как уж, везде пролезешь. Но если, конечно, рыбалить нужно...
— Что вы, Клава Ивановна, — обиделся Петька. — Рыба, она подождет. Когда мы тронемся?
— Да хоть сейчас. Только зайдем ко мне на минутку.
Клава привела Петьку к себе домой, накормила завтраком.
Потом по-деревенски повязала голову белым платочком, положила в узелок хлеба, вареной картошки, соли, и они тронулись в путь.
— Если полицаи задержат, говори, что в деревню идем, к родстденникам,— предупредила Клава мальчика, когда они вышли за город.
— Умный в гору не пойдет... — засмеялся Петька. — Охота нам была с полицаями встречаться. — И он повел Клаву
179
межой, через высокую зеленую рожь, потом топким некошеным лугом.
Километров через пять они вышли на Псковское шоссе. Здесь захваченные гитлеровцами беженцы чинили развороченную взрывами фугасок дорогу. Немецкие машины ходили пока в объезд.
Кое-где на обочине дороги стояли часовые, но их было немного.
Клава с Петькой медленно побрели объездной дорогой. Беженцы засыпали землей воронки, подвозили на тачках песок, укладывали на полотно булыжник.
Узнать среди сотни людей Василия Николаевича, казалось, было невозможно. Но вот у обочины дороги они заметили группу мужчин, дробивших камень. Среди них выделялась высокая худая фигура Важина.
— Клава Ивановна, я поближе подползу,— шепнул Петька.— А вы здесь посидите, в кустах.
Клава посмотрела по сторонам: часовых нигде не было видно.
— Ползи, только осторожно,—согласилась она.
Минут через пять Петька вернулся обратно. Он был не один, за ним по траве по-пластунски полз Важин.
— Василий Николаевич! Это я, Назарова,— вполголоса окликнула его Клава.
Они поздоровались и, поставив Петьку наблюдать за местностью, отползли за куст.
— Как вы сюда попали? — спросила Клава.
— Захватили вместе с другими беженцами,— горько усмехнулся Василий Николаевич.— Видишь вот, дорогу заставляют чинить.
— А они знают, что вы коммунист?
— Пока нет. Я свои документы скрыл.
— А что будет дальше?
— Будут на работы гонять. А могут и в Псков перевести, в концлагерь. Но мы, я надеюсь, здесь задерживаться долго не будем.
— Сбежите?
Важин приставил палец к губам.
— Готовимся. У меня тут есть неплохие товарищи. Да ты
180
лучше о себе расскажи. Почему из города не уехала? Где ребята?
Клава коротко рассказала, что большинство комсомольцев истребительного батальона вернулись в Остров и сейчас живут дома.
— И это хорошо,— обрадовался Важин.— Дома — значит на свободе. А как у них настроение?
— Самое боевое. К делу рвутся. Володя Аржанцев уже оружие собирает.
— Так. Совсем неплохо. А старший у них есть?
— Старший?
— Да, да. Вожак, организатор. Разве можно ребят в такой момент оставлять одних! — Важин внимательно посмотрел на девушку.— Это твое дело, Клаша. Да, да, и не думай отказываться, возражать. Ребят ты знаешь, работать с ними умеешь. Тебе и карты в руки. Собирай подпольную группу, поднимал комсомольцев на борьбу. Я тебе говорю об этом, как коммунист.
— Василий Николаевич, так в городе ни одного члена партии не найдешь,— растерянно забормотала Клава.— Посоветоваться не с кем...
— Поищешь — найдешь,— сказал Важин и, оглянувшись по сторонам, заговорил еще тише: — В Сошихинском лесу островские коммунисты собирают народ на борьбу с фашистами. Надо любыми путями связаться с партизанами, получить от них указания, наладить разведывательную работу в городе. Запомни и нигде не записывай. Надо отыскать человека по кличке «Седой». Когда найдешь, скажи, что ты от меня. Мол, Важин кланяется, он немного приболел, но скоро поправится. Все запомнила?
Клава кивнула.
Важин пожал ей руку.
— Ну, мне пора! До свидания. Желаю успеха. Сюда больше не приходи.
—1 До свидания, Василий Николаевич! И вам желаю успеха,— прошептала Клава, провожая взглядом уползавшего к обочине дороги Важина.
В этот же день Клава сходила в деревню Рядобжу, отыскала дом Аржанцевых и вызвала на улицу Володю.
181=
— Назарова? Клава?—воскликнул тот.
— Здравствуй, Володя! Что, удивлен? А я вот решила повидать тебя. Да лучше бы не здесь, не у крыльца...
— Это само собой,— согласился Володя.
Они прошли в огород и сели в густой заросли малинника.
— Мне Сушков про тебя сказал,— объяснила Клава.— Видел он тебя. Вы с девушкой оружие собирали.
— Копаемся помаленьку,— признался Володя.—А я считал, что тебя в городе нет. Наверное, думаю, уже к партизанам перебралась, дела делает.
— А тебе к партизанам очень хочется? — спросила Клава.
— Еще спрашиваешь! — пожал плечами Володя.— Не гнить же здесь заживо! Вот поднакоплю оружия, соберу ребят и айда с ними к партизанам. Говорят, за Сошихином уже отряд действует. Кровь с носу, а мы к ним проберемся.
Клава внимательно посмотрела на юношу.
— А вдвоем со мной к партизанам пойдешь?
— Вдвоем?! Чего ж так мало?
— Пока так надо. Дорогу разведаем, связь установим. А там видно будет.
— А оружие брать будем?
— Никакого оружия. Пойдем как беженцы. Кое-какое барахлишко надо захватить, вроде мы продукты в деревнях собрались выменивать.— И, видя, что Володя все еще колеблется, Клава принялась горячо объяснять ему, как важно им сейчас установить связь с партизанами.
На другой день к вечеру разразился обильный летний дождь. Мертвенно-белые молнии освещали окна. Гулко и раскатисто рокотал гром. На улицах было пусто.
Евдокия Федоровна с недоумением поглядывала на дочь. Клава натянула на плечи заношенный материнский ватник, голову по-деревенски повязала белым платком, в мешок посовала старые платья, блузки, туфли.
— Куда это? — спросила мать.
— В Сошихино, мамочка. За продуктами. Дай мне сумку, пустую четверть и бутылки. И больше ни о чем не спрашивай. Хорошо, мама?
Во всем, что касалось домашних дел, Клава слушалась мать
182
беспрекословно. Но Евдокия Федоровна уже привыкла к тому, что дочка не терпела, если ей мешали в ее делах.
Когда дверь за Клавой захлопнулась, мать долго смотрела в черное окно, прислушивалась к шуму проливного дождя и рокоту грома.
В Сошихине были родственники, и Назаровы ходили туда нередко. Но ведь сейчас ночь и такой ливень. А на улицах немецкие патрули.
Так и не заснула Евдокия Федоровна до утра...
А Клава, встретившись на окраине города с Володей Аржанцевым, отправилась в нелегкий путь.
Шли они больше ночью, а днем отлеживались в посевах овса или льна. Особенно трудно было переходить железную дорогу. С обеих сторон полотна немцы вырубили лес и кусты, выкосили траву; днем вдоль полотна патрулировали часовые, а ночью железнодорожную линию освещали мощные прожекторы.
Часто дорогу преграждали реки. Мосты охранялись часовыми. Приходилось держаться от мостов подальше, выбирать укромные места и перебираться вплавь.
Иногда все же Клава с Володей заходили в деревни, стараясь держаться крайних избушек. Выменивали у крестьян на старую одежду и обувь хлеб, молоко, яйца и осторожно выспрашивали о деревенских новостях. И всегда находились добрые люди, которые понимающе поглядывали на молодых «беженцев» и показывали на синеющую вдали зубчатую гряду леса: «Туда пробирайтесь, туда».
На третьи сутки, перейдя еще одну линию железной дороги и два шоссе, Клава и Володя вступили в спасительный лес. С первых же шагов попали в болото и, увязая по колено в трясине, до позднего вечера продирались сквозь топкую чащобу. Когда же наконец, измученные и грязные, они выбрались на сухое место, то попали в руки вооруженных, обросших бородами людей. Это были партизаны.
Клава сказала, что она из Острова и ей надо видеть Седого.
Их доставили в командирскую землянку. За грубо сколоченным столом из неструганых досок сидел знакомый Клаве секретарь Островского райкома партии Остроухов.
183
При виде Клавы он поднялся ей навстречу.
— А мне доложили, что каких-то беженцев захватили... с барахлишком,— улыбнулся Остроухов.— И они якобы Седого ищут.
— Дмитрий Алексеевич, да какой же вы седой! — вскрикнула Клава, пожимая ему руку.— Так, чуть-чуть морозцем тронутый...
— Ничего, буду и седым. Война еще только начинается.— Остроухов усадил ребят на лавку.— Ну, рассказывайте. Это же прямо чудо, что вы добрались до нас.
Клава подробно доложила обо всем, что произошло в Острове с момента прихода гитлеровцев, рассказала о встрече с Важиным.
— А мы в Остров уже человека посылали,— задумчиво сказал Остроухов.— Да не дошел он... Второго готовим.
— А зачем посылали, Дмитрий Алексеевич? — спросила Клава.
— Связь с вами хотели установить. С комсомольцами, с молодежью. Со всеми, кому все советское дорого. Нужны вы нам до крайности...
— А как же насчет партизан? — с недоумением спросил Володя.— Наши бы ребята не с пустыми руками к вам пришли, с оружием...
— Это дело тоже неплохое,— согласился Остроухов.— Но вы нам нужны именно в тылу врага. До Острова почти пятьдесят километров, местность безлесная, и нашим партизанам там действовать почти невозможно. Вот вы и должны быть в городе нашей разведкой, агитаторами, бойцами. Мы, Клава, очень рассчитываем на твоих комсомольцев.
Он спросил, кого Назарова думает привлечь в подпольную группу. Клава назвала с десяток имен.
— Трудно вам будет в пекле у врага, ой, как трудно! — покачал головой Остроухов.— Да и гвардия-то у тебя такая... одни мальчишки да девчонки.
— Ну ч^о вы, Дмитрий Алексеевич! — Клава покосилась на Володю Аржанцева.— Они все так возмужали за последнее время.
— Ну что ж, начинайте действовать,—сказал Остроухов.—
184
Связь с нами держите через Анну Павловну... Знаешь такую?
— Еще бы! — удивилась Клава.— Это моя бывшая учительница...
— Так вот,— продолжал Остроухов,— можете ей верить во всем. Но особенно старухе не докучайте. Когда нужно, она сама вас разыщет. Ведите себя осторожно. Установите железную дисциплину, строгую конспирацию. Да, вот еще что. На всякий случай надо и вам установить с нами постоянную связь. Связной должен быть смелым, находчивым, выносливым парнем. Найдется у вас такой?
— Думаю, что найдется.—Клава хитро скосила глаза в сторону.— Есть у нас Володя Аржанцев...
— Я?! — вспыхнул Володя.
— Знаю такого парня,— улыбнулся Остроухов.— Земляки все же, в одном городе жили. Ну, да завтра мы обо всем поговорим. А сейчас отдыхайте, обсушитесь, поужинайте.— Он вызвал дежурного и приказал проводить молодых островчан на кухню.
* * *
К концу недели Клава с Володей, радостные и оживленные, возвращались домой: связь с партизанами была налажена, инструкции получены. Отныне островские комсомольцы становились глубокой разведкой партизан.
Недалеко от города Клава и Володя разошлись и стали добираться разными путями.
Охранники и полицаи несколько раз останавливали Клаву:
— Что в сумке?
— Молоко,— отвечала Клава.— В деревню ходила.
Охранники придирчиво заглядывали в сумку. В четверти и
в бутылках действительно плескалось молоко, но вместо пробок в бутылках торчали куски газеты «Правда» с важными сообщениями и партизанские листовки.
Дома Клава передала молоко матери, а куски газеты и листовки высушила на керосинке и бережно разгладила утюгом.
. Вечером к ней забежал Федя Сушков. За последние дни он еще больше похудел и выглядел как мальчишка.
Странная и непривычная жизнь началась у Феди. Он чув¬
,185
ствовал себя в родном городе как чужой. Нельзя было свободно, как прежде, сходить к приятелям, погулять по улицам, по- рыбалить на Великой или принять друзей у себя дома. Ведь как хорошо было бы запустить на полную мощность радиоприемник, завести патефон, сыграть с отцом в шахматы или заняться в сарайчике за погребом каким-нибудь ремеслом: починить электроплитку, покопаться в старом приемнике, разобрать велосипед!.. Но сейчас ничего этого уже не было: ни приемника, ни велосипеда...
Тетка, насмерть перепуганная, требовала от племянника, чтобы он никуда не ходил, сидел дома, вел себя тише воды, ниже травы. «Пусть все утрясется, там видно будет»,— говорила она.
Уходя, тетя Лиза запирала Федю на замок, ночью укладывала спать в чулан, дверь которого заставляла ящиками и кадушками, и без конца причитала о том, что зря Феденька вернулся в это пекло...
Сейчас Федя встревоженно смотрел на Клаву.
— Куда ты пропала? Мы уж думали...
— Все хорошо. За молоком в Сошихино ходила. Смотри, что принесла! — Клава показала газету и листовки.
— Ого! Значит, жить можно,— обрадовался Федя и спросил, когда Клава думает созвать ребят, чтобы поговорить обо всем по душам.
— Медлить больше нельзя. Давайте завтра. Предупреди ребят, что у меня день рождения. Сбор в восемь часов вечера.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Мать была сильно удивлена, когда Клава сказала ей, что сегодня будет отмечать день рождения.
— Что ты, дочка! Еще время не подошло... да и гостей угостить нечем.
Клава выразительно посмотрела на мать.
— Ко мне соберутся ребята. Надо поговорить. А про день рождения — это на всякий случай: Для любопытных. Понятно, мама?
*86
Евдокия Федоровна кивнула головой: как не понять! Материнским сердцем она уже чуяла, что Клава что-то замышляет, раз-другой тайком всплакнула, но отговаривать дочь, зная ее характер, не решилась.
— И насчет угощения не беспокойся,— добавила Клава.— Приготовь чай, и все...
— Я, пожалуй, коржиков напеку,— раздобрилась мать.— Есть еще у меня муки немножко.
К вечеру стол был накрыт.
Кроме коржиков, мать напекла пирогов, приготовила салат, нажарила рыбы, раздобыла варенья.
Клава приоделась по-праздничному, привела в порядок патефон, выложила пластинки.
К восьми часам начали собираться «гости».
Первыми шумно ввалились Федя, Дима и Борька Капелюхин.
Расфранченные, в. выутюженных брюках, при галстучках (даже Федя не отстал от приятелей), они поднесли Клаве по огромному букету цветов и принялись поздравлять ее с днем рождения.
— Да вы что? — опешила Клава.— Забыли, зачем мы собираемся?
— Зачем забывать?—лукаво ухмыльнулся Федя.— Привыкаем, в роль входим.
— Привыкаете,— упрекнула Клава.— А сами втроем ввалились... Нет чтобы по одному явиться.
— А мы сейчас нарочно у немцев под носом прошли. В обнимку, с песней под гитару... — Дима кивнул на гитару с пышным розовым бантом на грифе.— Вроде как гуляем. И ничего. Немцам это даже понравилось. Стоят улыбаются. Видно, считают, что если молодежь веселится, значит, вполне довольна новым порядком.
— Раз они так считают, давайте и повеселимся,— предложил Капелюхин, доставая из кармана бутылку с темно-красной наливкой.— Прошу, именинница!
И он принялся заводить патефон.
В комнату вошла Варя Филатова. Она с удивлением оглядела накрытый стол, патефон, цветы.
187
— Ay тебя и в самом деле день рождения?
— До дня рождения еще далеко,— улыбнулась Клава.— Это все для маскировки.
Входили все новые и новые комсомольцы. Клава зорко вглядывалась в лица ребят и девушек. Вот Зина Бахарева, Люба Кочеткова, Гриша Шмаков —все они учились в одной и той же школе имени Ленина.
В дверях показался Володя Аржанцев. Федя и Капелюхин бросились к нему навстречу, как к хорошему старому знакомому. Володя с озабоченным видом пожал ребятам руки и вызвал Клаву за дверь.
— Очень рада, что ты пришел,— сказала Клава.
— Только я не один,— помявшись, признался Володя.
— Догадываюсь,— сказала Клава.— А она комсомолка?
— Ага! Вместе вступали, в один день... — поспешно ответил Володя.— Вот у меня и билет ее... Замечательная дивчина! Знаете, сколько она мне патронов насобирала! И смелая, не подведет. Я за нее, как за себя, ручаюсь. Отец у нее коммунист. На фронте сейчас.
— Ну что ж, характеристика неплохая. Да и поручителю можно верить,— улыбнулась Клава.— Где девушка? Зови ее.
Аржанцев спустился по лестнице на улицу и вскоре вернулся с Аней.
Клава познакомила их с ребятами и оглядела собравшихся. Из десяти комсомольцев, что она пригласила на «день рождения», пришли все, кроме Вани Архипова.
«Неужели испугался?» — с обидой подумала Клава, вспоминая свои разговоры с Ваней, его растерянный взгляд и настороженные вопросы. Да и вел он себя в эти дни довольно странно: с ребятами почти не встречался, ковырялся у себя на огороде, таскал с пожарища горелые доски, заготовлял на зиму дрова, торф, пас козу на окраине города. «Козодой» — прозвали его ребята.
«Неужели я в нем ошиблась?» — продолжала размышлять Клава. Нет, не может быть. Она знала Ваню с первого класса, странностей у него хоть отбавляй, но надежнее его трудно найти человека.
188
— Саша Бондарин просил передать,— шепнул ей Федя.— Он тоже с нами.
— Знаю, не сомневаюсь,— ответила Клава и, подавив вздох, пригласила всех к столу. Потом посмотрела на мать.
— Садитесь, угощайтесь,— сказала Евдокия Федоровна, направляясь к двери.— А я на крылечке посижу, посторожу вас.
— Спасибо, мама,— благодарно шепнула Клава.— Если что, ты покашляй погромче.
Евдокия Федоровна вышла.
Оставив патефон, ребята сели за стол. И как прежде на пионерских сборах, первой начала говорить Клава. Она говорила о самой неизменной высокой любви, о любви к Родине. Нашествие фашистов — горе для нашей Родины. И чем отважнее будет бороться с захватчиками каждый человек, тем скорее пройдет это страшное время.
— Правильно,— тряхнув головой, отозвался Федя.— Советская власть была и останется, что бы там фашисты ни брехали.
— Вернутся Красная Армия, партизаны,— блестя черными глазами, продолжала Клава,— спросят нас: а чем вы, островские комсомольцы, помогли народу? Что мы ответим?
И, как всегда, ребята жадно слушали свою Клашу. Каждый из них скорее хотел дела, борьбы, оружия.
— Я знаю, каждый из вас рвется к борьбе с захватчиками. Но это надо делать умело, организованно. Сегодня мы в первый раз собрались все вместе. И с этого дня мы не просто комсомольцы. Подпольный райком партии и командование партизанского отряда поручили мне создать боевую подпольную комсомольскую группу и начать борьбу с фашистами здесь, в городе.— Клава помедлила, обвела глазами ребят.— Будет нелегко. Могут быть всякие неожиданности. Нас могут выследить, пытать. Может быть, придется пролить кровь, отдать жизнь. Готовы ли вы к этому?
— Да что там спрашивать? — нетерпеливо отозвался Дима Петровский.— Действовать надо.
— Бить эту падаль, и вся недолга! — поддержал его Капелюхин, похрустывая сильными плечами.
— Мы ко всему готовы,— серьезно сказал Федя, переглядываясь с товарищами.— Можем хоть присягнуть.
189
Комсомольцы одобрительно закивали головами. Клава поднялась.
— Тогда торжественно поклянемся, что будем бороться до конца. Слова клятвы я уже написала. Вот слушайте.
Она достала из кармана листок бумаги и, переводя дыхание, приглушенно, но отчетливо прочла:
— «Я, Клава Назарова, торжественно клянусь работать для Родины и народа, вести беспощадную борьбу с ненавистными фашистскими захватчиками и всеми силами" помогать Красной Армии и партизанам. Если я нарушу свое обещание или выдам: тайну, то пусть постигнет меня суровая кара».
Клава умолкла. Один за другим вставали юные подпольщики, брали листок и произносили клятву. И при этом по старой привычке поднимали руку для пионерского салюта.
— Я, Варвара Филатова, торжественно клянусь...
— Я, Федор Сушков, торжественно клянусь...
— Я, Дмитрий Петровский, торжественно клянусь...
Первые, кто давал клятву, еще заглядывали в бумажку, но
потом слова клятвы прочно врезались в память, и каждый произносил их наизусть.
Клава смотрела на сосредоточенные лица юных подпольщиков, на вскинутые для салюта руки и вспоминала, как каждый из ребят много лет тому назад вступал в пионеры, давал торжественное обещание. Только кругом алели знамена, стояли в молчании шеренги пионеров, застыли наготове горнисты и барабанщики. Сейчас ничего этого не было, пионерские дни представлялись бесконечно далекими, но Клава чувствовала, что между этими двумя обещаниями тянется незримая, но прочная нить.
Когда каждый принял клятву и поставил свою подпись, Клава бережно убрала листок в карман. Затем она предложила наметить руководящую тройку — штаб подпольной группы. Ребята без долгих споров избрали в штаб Клаву, Федю Сушкова и Володю Аржанцева.
— А теперь поговорим о наших практических делах,— сказала Клава и кивнула на стол с закусками.— Где же конспирация? Почему не едите?
Ребята не заставили себя просить и налегли на закуску.
Клава заговорила о том, что им сейчас предстоит делать.
190
В первую очередь необходимо наладить сбор разведывательных сведений для Красной Армии и партизан. Надо всем подпольщикам следить за проходящими через город воинскими частями, за машинами с грузом, за поездами на станции. Потом надо продолжать собирать оружие, которое очень нужно партизанам. Ответственным за сбор оружия назначается Володя Аржанцев: у него уже есть опыт в этом деле и место для хранения.
— Про раненых красноармейцев не забывайте,— подала голос Зина Бахарева.— Ведь как только раненые поправятся немного, так их немцы заберут в лагеря, на работу. А почему бы их не переправить к партизанам?
— Каким это образом? — спросил Дима.
— Подумать надо...
— Подумаем,— согласилась Клава.
Ребята намечали все новые и новые дела.
Федя Сушков посоветовал выпускать листовки и расклеивать их по городу.
— Надо, чтобы люди правду знали. А то они начинают фашистской брехне верить: мол, и Москву взяли, и Ленинград, и Советская власть кончилась...
Дима Петровский предложил разработать план диверсий: заминировать шоссе, взорвать цепной мост или поджечь склад с горючим.
Люба Кочеткова возбужденно заявила, что надо что-то сделать с Аллой Дембовской, дочкой бургомистра.
— Ходит разодетая, с немцами на машине катается. Вчера ко мне прилипла: «Давайте мы для офицеров концерт устроим)). Такая мразь! Я ей чуть в лицо не плюнула...
— А еще полицая Оську Бородулина проучить,— подхватил Капелюхин.— Очень он, наглая морда, над людьми издевается.
Клава строго покачала головой.
— На свой страх и риск ничего не делать. Только по моей команде. Железная дисциплина. Помните свою клятву.— И она принялась объяснять, как надо вести себя в городе. В мелкие стычки с немцами и полицаями ни в коем случае не ввязываться, уметь держать себя в руках. Группами на улицах не показываться. Встречаться подпольщикам лучше всего на волей¬
191
больной площадке, на вечеринках, на танцах — пусть фашисты думают, что молодежь всецело занята развлечениями и ей очень по душе новый порядок. Связь по старой пионерской привычке они будут поддерживать при помощи цепочки. И пока фашисты не угнали их на дорожные работы или на торфоразработки, надо ребятам самим устраиваться на работу в городские учреждения, в комендатуру, на станцию, в офицерские столовые.
— Главное, быть поближе к немцам, чтобы все знать, видеть и слышать,— закончила Клава.— Вы понимаете меня?
— Это чтоб я на поганых фашистов ишачил? — заартачился было Капелюхин, но, встретив осуждающие взгляды ребят, мах- нул рукой.— Понимаю, конечно... Ладно, уж я на них работ- ну,— усмехнулся он.— Премного будут благодарны.
В комнату вошел запыхавшийся Ваня Архипов. Старая, замасленная кепка, дряхлый, латаный пиджак и опорки на ногах делали его похожим на беспризорника.
Клава поднялась ему навстречу.
— Почему так поздно?
— Стрельбу слышали? — хрипло заговорил Ваня, вытирая кепкой потное лицо.— Наш самолет листовки сбросил. А немцы по нему из зениток... Ушел все-таки самолет... А листовок в поле полным-полно осталось. Немцы туда солдат выгнали, целую роту, листовки подбирать. А я там козу пас. Ну, меня зацапали и давай трясти да обшаривать.
— Так ни одной листовки и не принес? — с досадой спросил Федя.
— Еще бы не принести,— ухмыльнулся Ваня, разжимая кулак и показывая комочек замусоленной бумаги.— За щекой держал. Чуть не проглотил.
Клава осторожно развернула комочек бумаги. Листовка была адресована населению оккупированных фашистами Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.
«Организуйте партизанские отряды и группы,— читала Клава.— Захватывайте оружие и боезапасы у врага. Бесцощадно уничтожайте его днем и ночью, из-за угла и в открытом бою».
Обращение было подписано Ждановым и Ворошиловым.
— «Из-за угла и в открытом бою»,— вполголоса повторил Федя и посмотрел на Клаву.— Надо будет ее размножить.
192
Внизу раздался надрывный кашель. Клава выглянула в окно. По набережной шли какие-то люди. Клава спрятала листовку в карман и обернулась к ребятам:
— Патефон! Танцы!
Дима пустил патефон и подал руку Клаве. Капелюхин пригласил Варю Филатову, и пары закружились в танце. Вошел немецкий патруль. Офицер посмотрел на танцующую молодежь, ухмыльнулся. Он очень сожалеет, что не может принять участия в такой веселой вечеринке. На войне как на войне...
Приложив пальцы к козырьку, офицер увел солдат.
Клава достала стопку ученических тетрадей и коробку цветных карандашей.
— А теперь за работу. Капелюхин следит за улицей и меняет пластинки. Остальные берут карандаши и бумагу. Писать только печатными буквами.
Она дождалась, пока ребята очинили карандаши, расселись по своим местам, и, как учительница школьникам, принялась диктовать текст листовки.
А патефон наигрывал задорный фокстрот.
МЕДСЕСТРА МАША
Утром к Клаве забежала Зина Бахарева и сообщила, что в больнице произошло большое несчастье. Молодой легко раненный летчик, почувствовав себя лучше и ни с кем не посоветовавшись, решил бежать из больницы. Ночью в больничном белье он вылез через окно на улицу, стал выбираться из города и сразу же нарвался на немецкий патруль. Летчика жестоко избили и вновь привезли в больницу.
— Ты бы видела, Клаша, что они с ним сделали,— рассказывала Зина, кусая сухие, запекшиеся губы.— Лежит как пласт. Еле дышит. Теперь ему долго не подняться.
— Ты листовку раненым подбросила? — спросила Клава.
— Ага! —кивнула Зина.— В трех палатах под подушки сунула. Теперь листовка по рукам ходит. И знаешь, что началось... Теперь у них только и разговоров, как бы к партизанам пробраться. Вчера один раненый чуть не на коленях меня умо¬
193
лял — достань ему штатскую одежду да покажи дорогу к партизанам. Ой, Клаша, боюсь я. Убежит он и тоже на патруль нарвется. Что делать-то?
Клава задумалась. Да, раненых на произвол судьбы оставлять никак нельзя.
— А кто этот раненый, что к партизанам рвется? — спросила она.— Ты хорошо его знаешь?
— Ага... Он мне все рассказал,— зашептала Зина.— Командир стрелкового взвода. В первом же бою был ранен в голову. Потерял сознание, попал к нам в больницу. Злости в нем полно. Как про немцев вспомнит, даже зубами скрипит. «Мне, говорит, обязательно воевать надо».
— Меня с ним можешь познакомить? — спросила Клава.
— Да хоть сегодня. Приходи вечером в больницу.
— Представь меня как новую медсестру. Назови Машей, фамилию не упоминай.
Вечером Клава была уже в больнице. Зина выдала ей белый халат и привела в процедурную комнату.
— Подожди здесь... Сейчас пришлю... Шитиков его фамилия.
Вскоре в процедурную вошел коренастый смуглый человек в сером больничном халате, с забинтованной головой.
— Шитиков,— отрывисто представился он, протягивая Клаве сильную цепкую руку и пристально оглядывая девушку.— А вы, значит... Маша, новая медсестра?
Клава кивнула головой.
— Можете говорить со мной откровенно... я все знаю. Вы один хотите уйти к партизанам?
— Нет, есть еще желающие.
— Сколько человек?
— Пятеро.
-- Люди надежные? Вы их подготовили?
— Отвечаю, как за самого себя!
— Когда вы хотели бы уйти?
— В любую ночь. Хотя бы сегодня...
— Но вы еще не совсем здоровы.— Клава кивнула на марлевую повязку на голове Шитикова.
194
— Ах, это? — ухмыльнулся Шитиков.—Это для маскировки* На случай, проверки немецкими врачами. Делаем вид, что мы все еще лежачие больные. Это Зина придумала. Да и врач ее поддерживает.
«Умницы»,— подумала про них Клава и спросила Шити- кова, что раненым необходимо для побега.
— Гражданскую одежду, еду, карту, компас,— перечислил Шитиков.— Хорошо бы, конечно, проводника.
— Постараемся обеспечить. Держите связь с Зиной.— Клава поднялась и протянула Шитикову руку.
В этот же вечер она попросила мать порыться в сундуке и достать что-нибудь из отцовской одежды.
— Зачем, доченька?—удивилась Евдокия Федоровна.— Да и кому такое старье пригодится?
— Нужно, мама, нужно. И ты не жалей...
Кряхтя и охая, мать открыла сундук и достала еще хранящиеся после покойного мужа сатиновую рубаху, брюки из «чертовой'кожи» и поношенный суконный пиджак.
На другой день Петька Свшцев обежал еще четырех подпольщиков и передал им наказ Клавы раздобыть мужскую одежду и еды на двое суток.
Потом Клава встретилась с Володей Аржанцевым.
— Видишь, Володя, не прошло и трех дней, а для тебя уже есть задание.— И она рассказала о пятерых раненых, которых надо проводить к партизанам.
Володя обрадовался. Явиться к партизанам с бойцами Красной Армии! Это совсем здорово! Это уж не тихая сидячая жизнь, а настоящая боевая работа. А еще лучше, если снабдить бойцов оружием. Вот уж партизаны будут довольны! К тому же, если, на худой конец, нарвешься на немцев, с оружием можно от них отбиться.
Клава покачала головой.
— Нет, для начала пойдете без оружия. Надо все тихо сделать, осторожно. Переправлять бойцов к партизанам нам еще придется не раз.
Как ни соблазнительно было заявиться к партизанам с оружием, но Володя должен был согласиться с Клавой.
— Тогда со мной Аня пойдет,— сказал Володя.
195
— Это можно,—подумав, согласилась Клава.—Пусть она корзину возьмет, бутылки. Будто за продуктами в деревню. Будет вам дорогу разведывать.
* * *
Бегство раненых было назначено через двое суток. К двум часам ночи Клава и еще четверо подпольщиков пробрались к больнице и затаились в палисаднике. Ровно четверть третьего Зина осторожно выпустила через черный ход первого бойца, переодетого в гражданскую одежду.
Клава подвела к бойцу Федю Сушкова, и тот, минуя все подозрительные места в городе, по окраинам повел бойца в поле, где их поджидали Аржанцев и Аня Костина. Через десять минут Зина выпустила из больницы второго бойца. Его вывел из города Дима Петровский.
Последним уходил Шитиков.
В замасленной кепке и старом пиджаке с чужого плеча, он был похож на мастерового.
— Маша, а я вижу, у вас неплохие помощники,— вполголоса сказал Шитиков, размашисто шагая за Клавой.— Это что же, все из медперсонала?
— Помолчите пока,— остановила Клава.— До партизан доберетесь — все поймете.
В поле, в сыром овражке, она познакомила Шитикова и его бойцов с Володей и Аней и отдала Аржанцеву последние наказы.
— Ну что ж, трогайтесь! Пора!
Бойцы пожали ребятам руки. Прощаясь, Шитиков задержал руку Клавы в своей.
— Спасибо, Маша... Значит, живем, воюем. Есть еще хорошие люди на свете.
— Думаю, что есть,— в темноте улыбнулась Клава.— Желаю вам удачи.
Вытянувшись цепочкой, бойцы вслед за Володей и Аней зашагали по росистой траве на восток.
В этот же день на базаре Клава встретила Анну Павловну.
196
В кургузом ватнике, в сером платке, с авоськой, в которой погромыхивали алюминиевые ложки, кастрюлька и кружка, учительницу трудно было узнать.
— Ой, Анна Павловна! — вскрикнула Клава.— Вы совсем на себя не похожи!
— A-а, это ты, Клава! — обрадовалась учительница.— Кто же теперь не изменился? Время такое — всех перевернуло.— Она рассказала, что с осени в городе собираются открыть школу. Ребят в учение будут принимать с отбором, только из «благополучных» семей, на уроках введут закон божий, детей станут учить по новым учебникам, которые напечатаны в Германии. Нет, она в такую школу работать не пойдет!
— Как же вы живете, Анна Павловна?
— В баню устроилась, кассиршей,— усмехнулась учительница.— Работа незавидная, зато место бойкое. Людей вижу, разговоры слышу. А город-то, Клашенька, живет, оказывается. Листовки по городу ходят.
— Живет,— улыбнулась Клава.
— А тебе привет от Седого.— Анна Павловна понизила голос.— Успехов желает. Просит, чтоб вы оружие к ним переправили... из своих запасов-то.
— Будет сделано,— кивнула Клава, расставаясь с учительницей.
ОРУЖИЕ
Сегодня Федя и Петька вышли за город на очередной сбор оружия. Петька хотя и не был членом подпольной организации, но он так ловко находил в поле винтовки, автоматы, диски с патронами, а один раз даже откопал в окопе ручной пулемет, что Федя охотно ходил вместе с мальчишкой. К тому же Петька пользовался доверием Клавы и умел держать язык за зубами.
Собранное оружие подпольщики переправляли по ночам в деревню к Володе Аржанцеву, но, кроме того, Федя с Петькой завели на всякий случай на огороде у тети Лизы в старом, завалившемся погребе свой тайный склад, в котором скопились уже неплохие трофеи.
197
По обыкновению, Федя и Петька обвязались веревками и взяли мешки для травы.
Это было очень удобно. Набьешь мешок зеленой травой, как будто для козы или коровы, и ходи по полю сколько угодно, никто на тебя не обращает внимания. К тому же если попадется немецкий автомат или наш советский «ППШ», то их легко упрятать в мешок. О пистолетах, патронах и гранатах и говорить нечего. Правда, труднее с винтовкой. Ее длинное дуло откровенно вылезает из мешка, и пробираться через город с такой ношей довольно опасно.
Но на этот случай у Феди предусмотрительно запасены отвертка и плоскогубцы. Две-три минуты работы — дуло винтовки отделено от приклада, затвор вынут, и все это аккуратно уложено в мешок с травой.
Но сегодня «оружейникам» не повезло. Они обошли пустырь около военного городка, обшарили все окопы и ходы сообщения, потом переправились через Великую и долго бродили по топкой лощине, заросшей кустарником, но, кроме двух десятков стреляных гильз и осколков снарядов, ничего не нашли.
— Это как с грибами... повыбирали их,—вздохнул Федя.— Поздно мы вышли, Петька.
— Ничего. Еще походим. Может, что и найдется.
Привлеченный Клавой собирать оружие, Петька отдался этому делу с необыкновенным увлечением и мог без устали целыми днями бродить по окрестностям Острова.
Федя покосился на оттопырившиеся Петькины карманы.
— Зря ты стреляные гильзы берешь.
— Ничего... сгодятся.
Ребята походили среди кустов еще с полчаса, затем Федя решительно направился к шоссе, ведущему к городу.
Неожиданно раздался торжествующий крик:
— Есть трофей! — И Петька выскочил из-за кустов. В руках он держал винтовку.— Видал находочку? Винтовка-трехдюймовка... А ты говоришь, все повыбрали! Кто ищет, тот найдет.
Приплясывая от возбуждения, Петька поглаживал ладоныо ствол винтовки, тронутый рыжими пятнами ржавчины, вытирал о рубаху грязный приклад.
198
— Эх, сейчас бы по фашистам шарахнуть! Из целой обоймы!
Распалившись, он вскинул винтовку, прижал приклад к плечу и, делая вид, что целится в грузовик на шоссе, около которого возилось трое немецких солдат, нажал на спусковой крючок. И в тот же миг грохнул выстрел.
— Ты... ты что? — Федя кинулся к мальчишке и вырвал у него винтовку.— С ума сошел!
— Я... я не знал, что она заряжена,— растерянно залепетал Петька.— Просто так...
Он не договорил. С шоссе дали автоматную очередь. Над головой ребят завжикали пули. Федя, схватив Петьку за руку, упал вместе с ним на траву.
— Видал, что наделал...
Укрывшись за грузовиком, немцы продолжали стрелять из автоматов. Потом двое солдат отделились от грузовцка, спрыгнули с обочины шоссе й, пригнувшись, побежали к кустам.
— А ну, ходу! — скомандовал Федя. Вытащив затвор из винтовки, он швырнул ее в кусты и бросился к городу.
Рядом с ним бежал Петька.
Расцарапывая себе лица и руки, они продирались сквозь кусты, с трудом вытаскивали ноги из болотистой почвы — только бы не оказаться на открытой местности. Наконец показались первые огороды, какие-то дворы, сарайчики.
Федя с Петькой стремглав пролетели через грядки с капустой и огурцами, перелезли через изгородь, продрались сквозь заросли крапивы, еще раз перемахнули через изгородь и оказались в чьем-то дворике за высоким забором. Федя огляделся и сообразил, что они попали на усадьбу директора школы имени Ленина.
— Пересидим здесь,— шепнул Федя Петьке и первый вбежал на застекленную террасу.
Вбежал и обомлел: перед ним стояла Алла Дембовская, которую он не видел с момента отъезда в Ленинград. Она была в розовом халатике, в тапочках на босу ногу, золотистые вьющиеся волосы рассыпались по плечам.
— Федя? Ты?!—вскрикнула Алла.— Что за чудо! Ты разве не в Ленинграде?
Федя криво улыбнулся, горло у него пересохло.
199
— Как видишь!
— Значит, вернулся! И не дал о себе знать? — Девушка кокетливо улыбнулась.— Вот нехороший... А я о тебе так часто вспоминала. Но каким образом ты оказался здесь? И в таком виде.— Она покосилась на Петьку.— Вон что... Уж вы не за яблоками ли забрались?..
— Ага... за яблоками! — хрипло произнес Федя, озираясь по сторонам и настороженно прислушиваясь.
Алла лукаво погрозила пальцем.
— Ну, ну, это на тебя не похоже!.. Пожалуйста, бери сколько хочешь и так.— Она кивнула на вазу с яблоками.
За высоким забором, отделяющим дом от улицы, послышался топот тяжелых сапог. Затем требовательно постучали в калитку.
Алла недовольно дернула плечом.
— Что там такое? Подождите, мальчики, я сейчас..*
Запахнув халатик и поправив волосы, она вышла с террасы и направилась к калитке.
— Это они! — шепнул Петька.— И знаешь, куда мы попали? Это же Алка, бургомистрова дочка. Ее папаша, видно, директорский дом захватил. Застукают нас теперь. Бежим скорее.
Но было уже поздно.
Алла открыла калитку и столкнулась лицом к лицу с солдатами. Злые, взмокшие от бега, они грубо оттолкнули Аллу и ввалились во двор.
Федя и Петька присели на корточки и прижались к цоколю террасы.
— Позвольте! Как вы смеете? — властно, высоким голосом закричала Алла.— Это дом бургомистра Дембовского... А я его дочь!
— Цвай партизан... стреляйт винтовка... сюда скрывайся,— смущенно забормотал один из солдат.
— Так бы и сказали. Действительно, двое каких-то пробегали. Вон туда... — Алла показала вдоль улицы.— А здесь дом бургомистра. И прошу не беспокоить! Грубияны!
Неловко потоптавшись, солдаты задом отступили за калитку, и Алла резко задвинула засов. Потом вернулась на террасу.
.200
Федя и Петька сидели бледные, одеревеневшие.
— Ушли. Можете не волноваться,— сказала Алла.— Вот уж не Думала, что вы партизанами стали.
— Куда нам! — буркнул Федя, поднимаясь.
— А в немцев вы все же стреляете?
— Да почудилось им... Мы просто траву для коз собирали,— с невинным видом сказал Петька.
Алла усмехнулась.
— Откуда же тогда у Феди в кармане затвор от винтовки?
Федя схватился за нагрудный карман и вспыхнул: оттуда
выглядывал затвор. Он быстро переложил его в карман брюк п с вызовом посмотрел на девушку.
— Хорошо, можем объясниться! Да, мы стреляли в фашистов! И будем стрелять! — Федя сказал это убежденно, со страстью, и Алле показалось, что он даже скрипнул зубами:— Будем уничтожать их из-за каждого угла, на каждом шагу. Ведь так, Петька?
— Да их, гадов-сволочей... — азартно подхватил Петька, но Алла протестующе замахала руками.
— Федя, что ты говоришь?! Ты умный парень и должен понять: немцы же сила, они пришли в Россию надолго и с самыми серьезными намерениями. И против них ничего уже не сделаешь. Они скоро возьмут Ленинград, потом Москву.
— «Сила, серьезные намерения»! — зло передразнил Федя.— Вот как запела дочка бургомистра.
— При чем здесь «дочка бургомистра»? — Алла обиженно поджкла жухлые губки.— Это мое внутреннее убеждение. России надо приобщаться к западной цивилизации. А немцы — культурные люди.
— Убеждение! — задохнулся Федя, с трудом сдерживая желание выкрикнуть девушке в лицо самое грязное ругательство.— Тогда зови фашистов! Выдавай! Скажи, что мы партизаны, что мы стреляли в них! Ну? Чего медлишь?
— Да пойми, Федя,— опешила побледневшая девушка.— Я не предательница... Я тебе желаю только добра...
— Ладно ты, уймись! — Перепуганный Петька схватил Федю за руку и потянул за собой.— Пошли отсюда!
Выйдя с террасы, он проделал в изгороди отверстие и пролез
201
через него. Вслед за ним, не удостоив Аллу взглядом, скрылся и Федя.
Девушка осталась одна.
Яростная вспышка Феди испугала Аллу. Неужели он так ненавидит ее? А ведь когда-то увлекался, ухаживал за ней, писал письма. Неужели все это потому, что ее отец стал бургомистром? Но он не делает людям ничего плохого. Просто помогает немцам наводить в городе порядок. А что немцы сила и с ними ничего не сделаешь, в этом Алла действительно уверена. Ведь столько войск и техники проходит через Остров! А как далеко немецкая армия проникла в глубь страны! Федя же просто какой-то неукротимый, бешеный, ненормальный. Знает все это, а лезет на рожон, дразнит немцев. Может, это он пишет и распространяет листовки, те самые листовки, которые доставили так много неприятностей немецкому начальству и ее отцу? Тогда это совсем уж глупость! Отец так и сказал, что листовки, наверное, дело рук комсомольцев, и даже просил Аллу при случае предупредить своих, школьных приятелей и подруг, чтобы они не играли с огнем.
Алла не выдержала и в тот же день отправилась к Суш- ковым.
ТЕТКА И МАТЬ
Тетя Лиза обрадовалась приходу Аллы и растерялась. Девушка раньше была частым гостем у Сушковых, но с отъездом Феди в. Ленинград совсем их забыла. К тому же она стала дочкой бургомистра, и тетя Лиза не знала, как себя с ней вести.
— Ах, Аллочка, куда тебя и посадить-то, не знаю,— засуетилась она.— Тесно у нас, бедно... Погорели мы! Вот и Федя куда-то запропастился. Может, пойти поискать?
— Нет, нет, не надо,— остановила ее Алла.— Я к вам, тетя Лиза...
И она вполголоса рассказала, что ее племянник занимается недозволенным и опасным делом — сбором оружия. Сегодня с Петькой Свищевым они стреляли по немцам, их приняли за партизан, гнались за ними и могли бы схватить, если бы она, Аллочка, не выручила их. Тетя Лиза, конечно, знает, какой
202
она большой друг Феде и как она желает ему добра. И напрасно Федя думает, что какими-то там листовками да случайным найденным в поле оружием можно поколебать могущество и силу немцев. А вот себе он может сильно повредйть...
Тетя Лиза похолодела от страха. Всю свою нерастраченную женскую любовь она вложила в сына своей рано умершей сестры. Она не спала ночей, когда Федя простужался и заболевал; мучительно переживала, когда хилый Федя вбил себе в голову, что станет военным, и с болью, проводила его в Ленинград.
Возвращение Феди в Остров, когда здесь уже хозяйничали немцы, тетя Лиза приняла как огромное несчастье. Она всячески оберегала племянника от опасностей, следила, чтобы он никуда не ходил, ни с кем не связывался, жил бы тихо и неприметно. Значит, он все-таки не послушался тетку. Недаром он часто куда-то уходит, встречается с приятелями, исчезает по ночам. И вот теперь дошел до того, что собирает оружие и стреляет в немцев. Что же с ним будет?
— Я знаю, Федя все это не сам придумывает. Кто-то его подогревает! Но кто? Как вы думаете, тетя Лиза?
«Да она что? Допытывать меня пришла, выведывать?» — насторожилась тетка. И упрямо покачала головой: нет, нет, она ничего не знает.
И в тот же миг ее осенило: «А ведь все это от Клаши идет, от вожатой». Недаром они с Федей встречаются по вечерам, часами сидят в сарайчике на огороде, о чем-то шепчутся.
— Меня и отец просил предупредить,— собираясь уходить, сказала Алла,— чтобы комсомольцы вели себя потише, немцев не дразнили. Иначе все это может плохо кончиться.
— Да, да, совсем плохо,— согласилась тетя Лиза, провожая Аллу. С завтрашнего дня она устроит Федю куда-нибудь на работу к немцам, чтобы он не вызывал ни у кого подозрений. Или, еще лучше, увезет его из Острова.
Когда Федя вернулся домой, тетка со слезами на глазах принялась умолять его уехать вместе с ней в деревню: есть у них под Псковом дальние родственники. Федя будет там жить тихо, спокойно, вдали от немцев. Только бы перетерпеть эту злую годину...
203
— Послушай ты Аллочку! Она тебе помочь хочет. Просила предупредить.
— Вот откуда ветер дует! — вскипел Федя.— Так слушай, тетя! Никуда я отсюда не поеду. Живу и буду жить в Острове. А этой бургомистровой дочке скажи, пусть она сюда и носа пе показывает. Я... я за себя не отвечаю... — И Федя, хлопнув дверью, вышел из дому.
Тетя Лиза долго сидела в раздумье: да, племянник уже не ребенок, его не остановишь. Значит, надо просить Клашу Назарову. Она ведь вожатая, наставница, она не пожелает молодым ребятам горя и несчастья и, наверное, поймет ее.
И тетя Лиза в этот же день, вечером, направилась к Назаровым.
Клава с матерью сидели за столом и перебирали последние* запасы гречневой крупы. При виде Фединой тетки они переглянулись: в эти дни люди редко посещали друг друга, да еще по вечерам, когда хождение по городу без пропусков строго воспрещалось.
— Лизавета! Ты! И в такой час? — Евдокия Федоровна поднялась навстречу. Все же она была рада своей давней подруге.
Тетя Лиза махнула рукой, присела на лавку, обвела взглядом комнату и вдруг заплакала. Заплакала беззвучно, не спеша вытирая ладонью одутловатые морщинистые щеки.
— Тетя Лиза! —встревожилась Клава,— Случилось что-нибудь? С Федей?
Тетя Лиза заплакала еще сильнее. Потом, не стыдясь своих слез, шумно перевела дыхание и с неприязнью остановила свой взгляд на Клаве.
— Ишь ты, почуяла! Пока-то еще ничего не случилось, но беда не за горами. Вот-вот грянет! — И она пересказала все то, что узнала от Аллы Дембовской.
Евдокия Федоровна тихонько ахнула, Клава прикусила губу: и зачем только Сушков связался с этой дочкой бургомистра?!
— А ведь это твоя работа, Клаша,— заговорила тетя Лиза.— По твоему навету Федя в пекло-то лезет.
— Что вы! — растерянно забормотала Клава.—Я-то при чем?..
Глаза у тети Лизы вновь набухли слезами.
204
— Не сманивай ты Федю! Не толкай его в беду! Он же каждому твоему слову верит. Скажи ты ему, чтобы не лез он в эту свару. Он же молодой, ему еще только жить начинать... А вы же песчинки, зернышки маковы, куда вам супротив силищи басурманской? Сомнут вас, в прах развеют. Ну, втолкуй ты Феде, чтобы он тихо жил, неприметно. Пощади ты его...
По телу Клавы прошел озноб. А может, и в самом деле пожалеть молодых ребят, не звать их на борьбу с захватчиками, дать им отсидеться в сторонке в ожидании лучших дней, только чтобы такие люди, как тетя Лиза, были спокойны? Но как можно так думать, если кругом рушится самое дорогое и заветное? И разве Федя по чужой воле вступил в подпольную организацию? Он пришел туда по велению своего сердца, по зову совести, как пришли тысячи и тысячи юных патриотов в Красную Армию и партизанские отряды.
Все это Клава собиралась объяснить Фединой тетке.
— Клаша, голубушка! — умоляюще продолжала между тем тетя Лиза.— Христом богом тебя молю. Пощади ты моего Фе- дюшку. Хочешь, в ножки тебе поклонюсь?
Клава вскочила. Лицо ее пошло пятнами.
— Как вам не стыдно! — вскрикнула она.— Русская женщина! И такие слова!
— Погоди, дочка,— остановила ее мать, сидевшая до сих пор в глубокой задумчивости.— Послушай, Лизавета... Ты говоришь, молодым жить нужно. А как жить, если дышать нечем, если им на шею петлю накинули? Так как же эту петлю не сорвать, как не поднять руку на того, кто тебя душит? А ты над своим племянником, как клуха, трясешься... Я ничего не знаю, что делают молодые люди. Они нам этого не скажут. Но если они что-то и делают во вред врагам, то я только помолюсь за них. И благословлю от всего сердца. Так-то, Лизавета.
Федина тетка с удивлением подняла красные опухшие глаза, словно видела подругу впервые. Евдокия Федоровна присела с ней рядом. Клава незаметно вышла в сени: может, старые женщины лучше поймут друг друга.
Через полчаса Евдокия Федоровна проводила тетю Лизу домой.
Клава вошла в комнату и крепко обняла мать.
205
— Спасибо, мама! Ты все, все понимаешь...
— С такими дочками, как вы с Лелей, всему обучишься,— вздохнула Евдокия Федоровна, и глаза ее затуманились.— Леля на фронт ушла... Ни слуху от нее, ни духу. А ты здесь для себя войну сыскала. Как по острому ножику ходишь.
— Да ну же, мама,— взмолилась Клава.— Знаешь, как я слез боюсь.
— Ладно, утру сейчас. А ты все же поосторожнее будь. Не одна ведь, ребята с тобой...
Клава поспешила переменить тему разговора:
— Как же нам тетю Лизу успокоить?
— Тяжело ей. Совсем немцы голову задурманили. Думает, что их засилью конца-краю не будет. Вы бы хоть поговорили с ней по-хорошему.
«А мама права,— про себя согласилась Клава,— плохо еще наши листовки до людей доходят».
На другой день Клава встретилась с Федей и спросила его, как он ладит с тетей Лизой. Федя смутился и вынужден был признаться, что жить с ней в одном доме стало совершенно невозможно: тетка следит за каждым его шагом, готова держать взаперти, выдумывает всякие страсти-мордасти, будто его ищут по городу полицаи.
— Кстати сказать, ты сам в этом виноват.— Клава напомнила ему историю со стрельбой из винтовки, о встрече с Аллой Дембовской.
— Ну и накрутили всякого! — ахнул Федя и объяснил, как было дело в действительности.
— Ас этой Дембовской вопрос решенный. Я ее больше видеть не желаю. Веришь ты мне?
— Верю,— кивнула Клава.— А за случайный выстрел придется тебе отвечать перед штабом. Так подпольщики не работают. И за Петьку с тебя спросим... Почему за мальчишкой не следишь?
— Отвечу! — хмуро согласился Федя и вновь с раздражением заговорил о тетке: —Не могу я с ней жить. К Димке Петровскому переберусь. Он приглашает.
— Никуда тебе перебираться не надо,— твердо сказала Клава.— Продолжай жить дома. И будь с теткой помягче, по¬
206
ладь с ней. Сделай вид, что остепенился. Со мной пореже встречайся.— И она рассказала о своем разговоре с тетей Лизой.
— Да тетка мне руки свяжет, ходу не даст! — взмолился Федя.— Она мне даже работу подыскала — помощник киномеханика в офицерском клубе. Через какого-то там знакомого. Да чтоб я фашистам фильмы крутил!..
— Очень хорошая работа! — перебила Клава.— В клубе нам давно нужен свой человек. Да и вообще нашим ребятам надо поближе к немцам на работу устраиваться. Мы же говорили об этом.
Через несколько дней Федя начал работать в офицерском клубе помощником киномеханика.
ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Жить становилось все труднее. Немецкие патрули и полицаи то и дело проводили облавы, вылавливали юношей и девушек и гнали их на работу: на торф, на стройку узкоколейки, на ремонт шоссе. Нередко полицаи заявлялись на квартиру, проверяли прописку в паспорте, требовали отметки биржи труда о месте работы.
Клава уже дважды отсиживалась в сенях, в темном душном чуланчике, пережидая, когда уйдут непрошеные гости.
Как-то раз к Назаровым зашла мать Оськи Бородулина — Матрена. Она работала теперь в домоуправлении и ревностно следила за пропиской жильцов и получением продовольственных карточек.
Клава, заметив через окно приближение Бородулихи, еле успела юркнуть в чуланчик.
Переступив порог комнаты, Бородулина Матрена истово перекрестилась на передний угол, хотя там не было ни одной иконы, потом строго оглядела комнату и обратилась к Евдокии Федоровне:
— Опять Клашки нет. Где это она скрывается?
— Должно, на базар побежала,— отводя глаза в сторону и кутаясь в ватник, ответила Евдокия Федоровна.— Пить-есть надо...
207
— Вот то-то, что надо... А почему девка у немцев не служит, на работу не ходит? Карточку бы получила.
— А кто же без нее за мной присматривать будет? Совсем я разваливаюсь.
— Петли петляете... — подозрительно хмыкнула Матрена.— Есть нечего, а Клашка то и дело вечеринки закатывает: пате- фончик, песни, пляски. Чересчур весело живете, Назаровы.
— Так дочка же молодая!..
— Смотри, допляшется девка,— пригрозила Матрена.— Погонят ее канавы копать. А у тебя, старая, карточку отберут, будешь зубами ляскать...
Выбравшись после ухода Бородулихи из чулана, Клава застала мать в слезах.
— Опять эта полицаева мамаша раскаркалась... — пожаловалась Евдокия Федоровна.— Все пугает, что тебя из дому угонят. Ты бы уж зацепилась за какую-нибудь работу.
— Я ищу, мама, ищу...
В этот же день, выйдя в определенный час на Великую за водой, Клава натолкнулась на Любу Кочеткову: в эти дни берег реки стал местом встреч Клавы с подпольщиками.
Девушка сидела на камне и грустно смотрела в воду,
— Люба, что у тебя? — тихо окликнула ее Клава.
Оказывается, сегодня полицай из комендатуры вновь требовал у Любы справку с биржи труда и едва не забрал ее на ремонтно-дорожные работы. Люба с трудом упросила повременить еще день-другой. А тут подвернулась Алла Дембовская и предложила ей свои услуги: через отца-бургомистра она может ее устроить служить на биржу труда.
— Ты же знаешь, Алла была моя лучшая школьная подруга,—виновато призналась Люба.— А теперь... теперь я видеть ее не могу. Я ей так и скажу: «Наши придут — вам с ца- пашей первая пуля».
— Не смей этого делать.
— Как — не сметь?!—удивилась Люба.— Она же такая... С офицерами якшается...
Клава обняла Любу за плечи.
— Ты пойми, нам очень нужен свой человек на бирже труда. Ты должна обязательно туда устроиться. И пусть это будет
208
через Аллу или ее папашу, пусть хоть через самого Гитлера, Все равно. Это же война!
— Значит, идти?
— Обязательно. И как можно скорее.
Через несколько дней Люба уже работала на бирже труда регистраторшей. И это действительно помогло подпольщикам. Люба сообщала ребятам и девчатам, где требуются работники, как туда устроиться, с кем надо вести переговоры.
Вскоре Нине Опричко удалось определиться в паспортный отдел при полевой комендатуре, Диме и выздоровевшему Саше Бондарину — чернорабочими на лесозавод.
Но больше всех удивил ребят Федя Сушков. Он стал работать сразу в двух местах — электромонтером на железной дороге и киномехаником в бывшем Доме культуры, где теперь помещался офицерский клуб.
Зато не повезло Борьке Капелюхину. Он почти уже устроился рабочим на электростанцию, но его неожиданно захватили при облаве и направили за город на торфоразработки. Рослый, здоровый парень очень подошел немцам.
Через неделю Борьке удалось вырваться домой, и он забежал к членам штаба, чтобы посоветоваться, как ему быть. Борька рвал и метал: чтобы он работал на поганых фашистов за какие-то там четыреста граммов хлеба и пачку сигарет! Нет, этого он не потерпит. Пусть лучше Клава отправит его с очередной партией выздоровевших раненых в лес, к партизанам.
— Погоди,— остановила его Клава.—Расскажи все по порядку о торфоразработках.
— Что ж там рассказывать? Согнали нас, дурачков, со всей округи. Ребята здоровые, молодые. Одних силой пригнали, других завербовали. Хлеб дают, деньги платят. Вот и ишачим. Охраны особой нет, но отлучиться без разрешения никуда не смей.
— И много молодежи согнали? — спросила Клава.
— Человек сто пятьдесят наберется.
Клава задумалась.
— Ребята, ну, будьте людьми. Переправьте меня к партизанам,— принялся упрашивать Капелюхин.— Не могу я в торфе копаться...
g Библиотека пионера, т. 7
209
— Ну хорошо, мы тебя переправим,— заговорила Клава.— А остальные куда денутся?
— Это уж их дело.— Капелюхин пожал плечами.—"Кто во что горазд.
— Но ты же член подпольной комсомольской организации, клятву принимал,— напомнила Клава.
— Ну, принимал...
— А там сказано: оставаться в городе и вести подпольную работу. От партизанского отряда никто бы, пожалуй, не отказался.
— Еще бы,— подтвердил Володя Аржанцев и строго оглядел Капелюхина.—У меня предложение такое. Раз Борис попал на торфоразработки, оставить его там и поручить проводить подпольную работу.
— Да вы что? Смеетесь надо мной? — взмолился Капелюхин.— Какая ж там работа!..
Клава одобрительно кивнула Володе головой.
— Работы хватит. Будешь листовки распространять, газеты. Добивайся, чтобы молодежь поменьше торфа добывала. Что можно, ломайте, выводите из строя...
— Клаша права,— подал голос Федя Сушков.— Борька должен остаться. Можно проголосовать.
И Капелюхин остался.
Только сама Клава никак не могла найти себе работу.
Однажды она заметила, как соседка по квартире Мария Степановна вместе со своей дочерью вешала над крыльцом вывеску.
На фонаре фиолетовыми чернилами было написано: «Пошивочная мастерская мастерицы Самариной».
Клава остановилась, прищурила черные глаза и не могла не фыркнуть.
— Что это, тетя Маша? Частное предприятие открываете?
Самарина на мгновение сконфузилась.
— И не говори! Любое выбирай, а пить-есть надо! То ли дорогу иди строить, то ли мастерскую заводи.
— Сколько же у вас наемных рабочих будет?
— Чего? — не поняла сначала Самарина, потом сердито махнула рукой: — Да что я, кровосос какой? Чужих людей на¬
210
нимать... Сама хозяйка, сама и швея. Да вон еще девчонки будут помогать,— кивнула она на двух своих дочек.—Главное, чтобы вывеска была...
Клава улыбнулась: а это, пожалуй, неплохо придумано. Немцы охотно поддерживают частных хозяйчиков, выдают им патент, продовольственные карточки, освобождают от тяжелых работ.
— Тетя Маша, а возьмите меня швеей.
— Чего? — испугалась Самарина.— Тебя внаем? Комсомолку, вожатую? Потом еще скажешь, что я эксплуататорша, чужую кровь пью.
— Да нет, не скажу,— засмеялась Клава.— Я и шить-то почти не умею. Мне тоже вывеска нужна, чтобы немцы не услали куда-нибудь.
Дочери Марии Степановны, Рая и Люся, которые были привязаны к Клаве еще со школы, принялись упрашивать мать принять Клаву Ивановну к ним в мастерскую.
— Ну, если такие ходатаи за тебя — это другое дело,— подумав, согласилась Самарина.— Ладно, приму.
На другой день она отправилась в городскую управу и сумела оформить Клаву в качестве швеи-ученицы в своей мастерской.
— Им что... Только налог плати, а там хоть черта-дьявола оформят.
— А налоги, тетя Маша, большие? — поинтересовалась Клава.
Самарина назвала цифры: столько-то с выработки, столько- то за ученицу.
Пораженная Клава даже присвистнула:
— Да я вам столько и не выработаю. Разоритесь вы, тетя Маша.
— Как-нибудь вытянем,— успокоила Мария Степановна.— Мы свои люди.
И мастерская Самариной начала работать. Горожане приносили заказы на пальто, платья, кофточки, юбки. Приезжали заказчики из деревни. Чаще всего они расплачивались за работу продуктами, и это очень устраивало Марию Степановну и ее ученицу. Зачастили в мастерскую и близкие знакомые Кла¬
211
вы: Варя Филатова, Федя Сушков, Саша Бондарин, Дима Петровский.
На взгляд хозяйки мастерской, заказчики они были грошовые, нестоящие, шили обычно какую-нибудь мелочишку, но зато без конца требовали переделок и поправок. Федя Сушков, например, заказал сатиновые шаровары, а на примерку ходил чуть ли не каждый день.
— Ох, и привередливый заказчик пошел! — досадовала Мария Степановна и поручила вести дела с молодыми заказчиками Клаве.
Ей это было только на руку. Клава удалялась с очередным «заказчиком» за занавеску, в примерочную, оттуда выходила в сени и выслушивала короткое сообщение о том, сколько замечено солдат, танков, орудий, самолетов, грузовиков с грузами. Сообщение повторялось два раза. Клава старалась удержать все сведения в памяти, не прибегая к бумаге и карандашу, и только вечером у себя дома она составляла краткую сводку. Сводку потом передавала Володе Аржанцеву, который тоже был частым посетителем мастерской. А ночью Володя отправлялся в очередной рейс к партизанам.
— Страшно, Володя? — спрашивала Клава.—Ты ведь как через зверинец пробираешься...
— Всякое бывает... — отвечал Володя.— Теперь ведь везде зверинец. Мне Аня здорово помогает. Ловко она под нищенку- побирушку работает.
— Ты, Володя, ее береги. Золотая дивчина.
— Да я за нее хоть две жизни...— вспыхивал Аржанцев.
Мастерская Самариной пришлась подпольщикам по душе. Они охотно и часто забегали к Клаве, порой даже без особой надобности.
— И ловко же ты придумала в частную мастерскую устроиться! — как-то раз принялся расхваливать Клаву Федя Сушков, вновь пришедший переделывать свои злополучные шаровары.— Тихо, спокойно, немцы сюда и носа не кажут...
— А ты болтун и мальчишка,— оборвала его Клава.— Зачем опять с шароварами пришел? Хозяйка уже подозревать начинает. И вообще нечего здесь устраивать красный уголок.—•
212
И она наказала ребятам заходить в мастерскую только в крайних случаях.
Узнали про мастерскую немцы. Однажды заявился чиновник из комендатуры и потребовал, чтобы вывеска была не только на русском языке, но и на немецком.
Мария Степановна пожаловалась, что она не знает немецкого языка.
Чиновник принялся назидательно объяснять, что если человек вступил на путь частного предпринимательства, то тем самым он всей душой принимает новые порядки. А раз так, ему непростительно не знать немецкого языка. Закончил же свою речь чиновник довольно прозаически и сухо:
— Срок цвай денъ... Вывески по-немецкп нет — будем получать штраф.
Переполошившаяся хозяйка велела старшей дочери написать вторую вывеску.
— Уж я им намалююу уж я им... — погрозила кулаком Рая и написала на фанере такое, что Клава даже с помощью словаря никак не могла разобрать.
— Ты что?—удивилась она.— Да за такую вывеску двойной штраф уплатить можем.— И ей пришлось заново все переписать.
Пошли с заказами и немцы. Один из них принес кусок темно-синего сатина и велел сшить полдюжины трусов. Мария Степановна поморщилась, но отказаться не посмела. Трусы взялись шить Рая и Клава.
— Наш сатин-то, советский,— заметила Рая, зловеще щелкая ножницами.— Награбили где-нибудь...
Трусы она сшила очень быстро и, показав их Клаве, от удовольствия захихикала.
— Хороши? И косо, и узко, и порточины разные. Прямо хоть сейчас на чучело. Носи на здоровье, щеголяй, красавчик.
— Да ты что? — рассердилась Клава, вырывая у нее из рук трусы.— На рожон лезешь? Хочешь, чтобы мастерскую закрыли? А может, и того хуже... Сейчас же переделай. Не то матери скажу.
Рая с горестным разочарованием посмотрела на Клаву.
— А я думала, ты настоящая, Клава Назарова... Смелая,
213
фашистов ненавидишь. А ты вон что... — И, швырнув в угол трусы, она вдруг выкрикнула: — Люди кровь проливают, а мы тут трусики шьем. Да еще на кого? На фашистов. Все равно я на них работать не буду! Не буду, и все тут!
Клава подошла к Рае и обняла ее.
— Послушай! Ты же умница стала. Только не шуми. Я тебе все объясню.— И она подумала о том, что Раю надо будет
привлечь к себе в помощницы.
ЗА СЧАСТЬЕ ОЛЕЧКИ
Тетя Лиза была довольна: Федя явно поумнел. Он уже не томился от безделья, не отсиживался в чулане, не бегал больше к Клаше Назаровой, а поступил на работу.
Каждое утро, забрав инструмент, он степенно направлялся на станцию. Да и профессия у него совсем неплохая — электромонтер.
Это ведь куда лучше, чем гнуть спину на торфоразработках или строить узкоколейку. К тому же Федя получает от немцев за свою работу хотя и небольшое, но жалованье и продовольственную карточку.
А отработав смену на станции, по вечерам он ходит в клуб офицеров, где помогает киномеханику. В свободные же часы Федя почти безвыходно сидит дома, в маленьком деревянном сарайчике, что-то чинит, паяет, стучит молотком, пилит пилой — совсем стал мастеровым человеком.
Вот и сейчас Федя чуть свет отправился на работу. Работа, прямо сказать, не из сложных: в одном месте починить проводку, в другом — нарастить провод, в третьем — заменить перегоревшие пробки. Но больше всего Федя любит исправлять фонари на железнодорожных путях.
— А ну-ка, парень, лезь на столб на втором пути,— обычно приказывал ему старший электрик, пожилой глуховатый мужчина.— Разберись там, почему опять света нет.
Нацепив на ноги «кошки», Федя с удовольствием забирается на столб — это как раз то, что ему нужно. Лучшего наблюдательного пункта, чем высокий столб, пожалуй, и не найдешь.
214
С него отлично видны все железнодорожные пути, станция, подходящие и уходящие поезда, видно, что везут под брезентом на длинных платформах, что разгружают из вагонов. Без труда можно подсчитать ящики с боеприпасами, орудия, минометы, танки, цистерны с горючим — словом, все.
Неторопливо делая свое дело, Федя долго сидит на столбе, зорко просматривая пути, все замечая и запоминая. Записывать нельзя, надо полагаться только на память.
И когда дольше сидеть на столбе становится уже подозрительным, Федя спускается вниз и идет к старшему электрику за новым заданием.
Теперь тот посылает его чинить фонарь на четвертый или пятый путь, где опять неизвестно почему не горит свет. И невдомек старому электрику, что все это происходит не без участия Феди, который, починив проводку на одном столбе, сам же портит ее на другом.
И так идет день за днем...
После работы, забежав в швейную мастерскую, он вполголоса докладывает Клаве о всем виденном за день.
А в это время недалеко от висячего моста обычно удил рыбу Дима Петровский. Здесь тоже удобное место для наблюдений. Правда, рыбак Дима неважный, долго маячить у моста ему небезопасно, и Клава часто присылает ему на смену Ваню Архипова или кого-нибудь из девчат. Девчата звонко шлепают вальками по мокрому белью, а глаза их неотрывно следят за мостом. Ни одна машина с грузом или солдатами, идущая из Литвы через Остров к линии фронта, не минует моста и не останется не замеченной наблюдателями.
И так со всех сторон стекались к Клаве Назаровой сведения, которые она через Володю или Анну Павловну переправляла в лес, к партизанам.
Особенно важные донесения доставляла ей Варя Филатова.
Подруга с большим трудом устроилась работать на кухню в военном городке. Перед этим ее долго расспрашивали о семье, о родных — нет ли кого из близких в Красной Армии или в партизанах.
На кухне Варя чистила картофель, овощи, мыла посуду, выносила помои. Она знала, что ее работу тщательно проверяют, и
215
старалась изо всех сил, чтобы шеф-повар был доволен ею. Скоро ее усердие было вознаграждено: иногда ее стали посылать официанткой в офицерскую столовую.
Делая свое маленькое дело, она не забывала следить за немецкими солдатами, подсчитывала, сколько человек обедает в столовой сегодня, сколько — завтра, узнавала, куда уезжают одни солдаты, откуда прибывают другие.
Чтобы понравиться немцам, молодая женщина старалась получше одеться, прикидывалась легкомысленной, кокетливой. Иногда она принимала приглашения немецких офицеров, ходила с ними в кино или в клуб на танцы. Горожане провожали ее ненавидящими взглядами, отпускали вдогонку двусмысленные замечания, и Варя, до крови кусая губы, готова была провалиться сквозь землю. Порой ей казалось, что даже подпольщики смотрят на нее косо, с подозрением.
А дома Варю допекала мать.
— На что это похоже, Варвара? — как-то раз с болью заговорила она.— В городе на тебя пальцами показывают: Филатова с немецкими офицерами любезничает, на танцульки ходит, в кино. А ты же мать, у тебя дочка растет...
— Да помолчи ты, мама! И без тебя тошно... — в сердцах вырвалось у Вари.— Ни с кем я не .любезничаю. Я их всех... задушить готова!..— И с трудом сдерживая нервную дрожь, она крепко прижала к груди упругое тельце дочки.
— Нашла бы ты себе другую работу,— упрашивала мать,— чтобы от немцев да от греха подальше.
Варя задумалась. А может, и в самом деле уйти из военного городка, поступить куда-нибудь на льнозавод, ъ цех, где ни один офицер не заметит ее и не станет за ней волочиться? Надо поговорить об этом с Клавой.
Но тут она подумала о других подпольщиках. Володя Аржанцев с Аней, которые, постоянно рискуя жизнью, пробираются к партизанам, Федя Сушков, развлекающий гитлеровских офицеров кинофильмами... Они ведь не жалуются, не ищут места потише да поспокойнее. А сама Клава Назарова? В какие только переделки ей не приходилось попадать!
Вот недавно от партизан было получено задание разведать укрепленный район гитлеровцев около Сошихина.
216
Клава долго ломала голову, как туда попасть. Наконец через знакомых девчат, работающих в комендатуре, ей удалось раздобыть два пропуска для поездки в деревню за продуктами — себе и Петьке Свищеву.
В тот же день они тронулись в путь, одевшись в рубище. Бродили по лесу, делая вид, что собирают грибы и орехи. Появлялись около строящихся укреплений, немецких военных частей. Петька выпрашивал у солдат сигареты, хлеб... Так они провели около прифронтовой полосы с неделю.
Вернувшись домой, Клава нарисовала план укреплений, составила донесение и все это переслала партизанам...
И Варя, стиснув зубы, продолжала работать на кухне военного городка. Вскоре ее перевели на уборку помещений в солдатской казарме, потом она вошла в доверие к офицерам и стала прибирать у них в комнатах.
Как-то раз офицеры затеяли пирушку. Варя им прислуживала. Немцы перепились, одному обер-лейтенанту стало дурно, и Варя вызвалась отвести его в комнату. Долго держала его голову над тазом, поливала холодной водой, потом уложила в постель.
На столе лежала какая-то карта-план: обер-лейтенант то ли изучал ее, то ли перечерчивал.
Варя вгляделась в карту, увидела схематический план Ленинграда, какие-то стрелы, названия воинских частей и сунула карту за пазуху. Затем она осторожно опрокинула стол, пролила на пол тушь, разбросала по комнате вещи и поспешно ушла из военного городка.
План спрятала дома, а рано утром ни жива ни мертва вернулась в городок и принялась будить обер-лейтенанта.
Зеленый, еле стоящий на ногах офицер бросился к опрокинутому столу, потом принялся шарить в шкафу, на этажерке.
— План... карта! Здесь был... на столе! — хрипло заговорил он, наступая на Варю.
— Да что вы, обер-лейтенант... Проспитесь сначала.
Офицер вдруг схватил Варю за горло.
— Говори, девка! Где план?
— Пустите... кричать буду! — Варя с трудом вырвалась из его рук и кинулась к двери.— Ничего я не знаю! Вы здесь вче¬
217
ра такой погром учинили... К вам подойти невозможно было. Какие-то бумаги со стола в печке сожгли. Можете вот других офицеров спросить...
Обер-лейтенант, увидев следы пьяного дебоша в комнате, схватился за голову.
А вечером Варя пробралась на квартиру к подруге и показала ей план-карту.
Лицо у Клавы просияло.
— А находочке, кажется, цены нет. Это же план окружения Ленинграда. Как тебе удалось достать? — И, заметив синее пятно на шее подруги, прикрытое платком, тихо спросила: — Били?
— Нет. Придушили чуть... — Варя, закусив губу, отвернулась, потом, не выдержав, расплакалась.— Ты думаешь, я от боли? Это бы все пустяки. Тут другое... Ходишь среди офицеров, как дрянь последняя. Тебе гадости говорят, хамят, липнут, и ты улыбаешься, кокетничаешь. Противно... ненавистно все!
Подруги долго молчали...
— Что ж делать? — вздохнула Клава.— Мы знали, на что шли. Сил нет — могу я встать на твое место.
Варя покачала головой: нет, нет, это только минутная слабость. Она знает, на войне легкого не ищут.
— Ты только нашим ребятам объясни,— попросила Варя подругу.— Пусть они плохо обо мне не думают. А то на днях иду я с офицером по улице, а Дима Петровский мне навстречу. Видела бы ты, как он мне в лицо фыркнул...
Клава нахмурилась.
— Объясню... Обязательно! — пообещала она, потом неожиданно спросила: — Олечке скоро три года будет?
— Да, через неделю. А при чем тут Олечка? — удивилась Варя.
— Да так, вспомнила... — уклончиво сказала Клава.— Надо бы ее день рождения отметить. Хорошая дочка у тебя растет.
— Как тут отметишь? — вздохнула Варя.— В доме пусто, хоть шаром покати.
Подруги расстались, а ровно через неделю, под вечер, Клава заявилась к Филатовым.
Она поздравила мать и бабушку с днем рождения Олечки,
218
расцеловала девочку и принялась примеривать на нее цветастое, в голубых васильках и желтых ромашках ситцевое платьице.
— Сама шила,— похвалилась Клава.— Видали, какая портниха из меня получается? Война кончится — я еще, пожалуй, модисткой заделаюсь.
Затем пришли Федя Сушков, Саша Бондарин, Дима Петровский, Люба Кочеткова, Зина Бахарева. Всего собралось человек семь. Каждый поздравил Олечку с днем рождения и что- нибудь преподнес ей: кто детскую игрушку, случайно обнаруженную дома, кто башмачки, кто кулечек конфет, кто кусок белой булки, ставшей большой редкостью в городе.
Дима Петровский со смущенным видом поставил на стол бутылку с медицинским спиртом.
— Это тоже на «зубок» новорожденной? — смеялся Саша Бондарин.
— Это от мамы,— пояснил Дима.— Компрессы там ставить девочке, растирания делать.
— А откуда вы узнали, что у Оли день рождения? — спросила Варя у ребят.
— Мы же теперь разведчики,— улыбнулся Федя.—Нам все положено знать.
Варя покосилась на подругу.
— Твоя работка?
— Я им только про день рождения напомнила,— призналась Клава.— А подарки — это они по своей инициативе.
Позже всех к Филатовым заявился Ваня Архипов.
— А я, ребята, бегал, бегал по городу и ничего для маленькой не нашел,— признался он.— Вот только картошки принес... со своего огорода.— И он передал Варе полную кошелку крупной картошки.
— Тоже красиво! — обрадовалась Клава.— Вот и попируем, почествуем Олечку.
— Неплохо бы еще внутреннее растирание сделать.— Федя покосился на бутылку со спиртом, потом на Клаву.— Вы как к этому относитесь, товарищ пионервожатый?
— В целом положительно... Но не больше двадцати граммов на душу.
219
Через каких-нибудь полчаса чугунок с рассыпчатой картошкой, дымясь ароматным паром, уже стоял на столе. У хозяйки дома нашлись соленые огурчики, капуста, и никогда еще столь скромный ужин не казался ребятам таким вкусным.
Варя налила каждому по полрюмки спирту. Клава поднялась из-за стола и посмотрела на мирно посапывающую в своей кроватке Варину дочку.
— За счастье Олечки! — сказала она, поднимая рюмку.— И пусть эти черные дни пройдут для нее, как дурной сон.
Ребята храбро опрокинули рюмки, обожглись, закашлялись и принялись жадно запивать водой.
— А твоя «находочка», Варя, уже доставлена куда надо,— обратилась Клава к подруге.— Седой тебе благодарность шлет.
— Мне? Это правда?.. — вспыхнула Варя.
— Именно тебе... Лично! Позавчера Володя Аржанцев сообщил.
Ребята, которые уже знали от Клавы, чем занимается Варя в военном городке, с уважением посмотрели на молодую мать.
— Ты на меня не сердись,—шепнул Варе Дима Петровский.— Мало я знал о твоей работе. Ну, и думал всякое такое... Теперь Клаша мне все объяснила.
— Ничего, Дима, я не сержусь,—ответила Варя. И подумала: как это хорошо, что Клава устроила такую пирушку.
ТРАХОМА
Вернувшись из лесу, Володя Аржанцев передал Клаве очередные задания партизанского штаба и между прочим сообщил, что в отряде перехватили директиву фашистского командования. В ней говорилось о том, что фюрер приказал доставить в Германию из восточных областей четыреста — пятьсот отборных, здоровых девушек.
— Седой просил передать, что надо быть начеку. Советовал предупредить молодежь, что их ожидает в Германии.
В этот же день по цепочке Клава собрала у себя на квартире всех комсомольцев и рассказала о задании партизанского штаба. Было решено, что каждый подпольщик предупредит жи¬
220
вущих с ним по соседству юношей и девушек о том, что их ожидает в ближайшие дни. Наметили выпустить листовку, чтобы потом распространить ее среди молодежи.
— Надо, чтобы девчата отсиживались дома, не показывались на глаза немцам,— наказывала Клава.
Вскоре в Острове появились вербовщики. Они расхаживали по домам, ловили молодежь на бирже труда и расписывали прелести жизни в Германии.
На стенах домов появились красочные плакаты. Дородная русоволосая русская девушка стояла на подножке вагона и, источая медовую улыбку, словно уезжая на курорт, приветливо махала пухлой рукой. Под плакатом крупная надпись: «Я еду в Германию».
Но охотников поехать на чужбину не находилось. Юноши и девушки отсиживались дома, прятались от вербовщиков, старались не попадать под облаву.
А на плакате, что висел около комендатуры, чья-то рука, словно перечеркнув сияющую улыбку девушки, приглашающей поехать в Германию, крупно написала: «Ну и поезжай...» Дальше следовало забористое бранное словечко.
Тогда немцы отдали распоряжение всем девушкам города пройти медицинскую комиссию. За неявку были обещаны всякие кары. Полицаи разносили по домам повестки, брали от матерей подписку, что их дочери извещены о комиссии.
Получила повестку Рая Самарина, потом и Клава.
— Вот тебе и частная мастерская,— расстроилась Мария Степановна.— А я-то надеялась...
Энергичная и хлопотливая, она не могла долго предаваться унынию и направилась в городскую управу, где у нее были какие-то связи.
Там она выяснила, что немцы будут отправлять в Германию только самых отборных, здоровых девушек. Тогда Мария Степановна пошла к знакомой врачихе, которую много лет обшивала, и вернулась от нее с двумя справками для Раи и Клавы. В одной было сказано, что Рая — припадочная, в другой — что у Клавы трахома.
Девушки остолбенели.
— Да, да! — прикрикнула на них Мария Степановна.— Со¬
221
ображать надо. С волками жить — по-волчьи выть. Немцы — они любят бумажку. Поверят вам, что вы больные,— останетесь дома, не поверят — будёте у какой-нибудь фрау на ферме свиней выхаживать. Теперь все от вас зависит.
— Ну, если на то пошло,— решилась Рая,— я им такую припадочную разыграю, что вся комиссия разбежится.
Клава вначале не очень поверила в затею Марии Степановны, но несколько позже, встретив девушек, побывавших на комиссии, она убедилась, что немцы действительно не берут в Германию болезненных и хилых.
В тот же день Клава пришла к Елене Александровне.
— Можно с вами говорить откровенно?
— А разве у нас когда-нибудь было по-другому? — удивилась Елена Александровна.
— Да нет,— смутилась Клава.— Очень вы рискуете многим. Боюсь я за вас.
— А за себя не боишься? А за ребят? Эх, Клаша, Клаша! Говори уж, мы одной веревочкой связаны.
И Клава поведала о своем плане. Нельзя ли девчат, которым грозит отправка в Германию, снабдить справками о плохом здоровье, о болезнях? Может быть, это кому-нибудь из них и поможет.
— Попробую,— согласилась наконец врач.— Но много девчат ко мне не посылай. Может показаться подозрительным. Я тут поговорю с другими врачами, думаю, что не откажут.
— Спасибо, Елена Александровна. Я так и знала, что вы поддержите...
— Что ж там «спасибо»! — Елена Александровна взяла лист бумаги.— Давай с тебя и начнем. Какую же тебе болезнь прописать?
— У меня уже есть... трахома.
Елена Александровна покачала головой.
— Хороша трахомщица... Любой парень глаз не оторвет. Нет уж, болеть так болеть... — И она принялась учить Клаву, как добиться покраснения век.
Неделя прошла в тревожном ожидании. Рая с Клавой почти ничего не ели, позеленели, похудели. Рая, часами сидя перед
222
зеркалом, училась подергиваться, закатывать глаза, судорожно глотать слюну. Клава безжалостно натирала глаза луком.
Комиссия прошла благополучно: то ли немцы действительно поверили бумажке, то ли вид девушек убедил их, что в Германии такие батрачки непригодны.
С трудом сдерживая радость, Клава и Рая вернулись домой и бросились обнимать pi целовать Марию Степановну.
— Да ну вас! — отбивалась та.— Ты, Райка, и впрямь сумасшедшая! А у тебя, Клаша, трахома на глазах. Сиди и не лезь.
К вечеру стало известно и о других девчатах: одну комиссия освободила как туберкулезницу, другую — из-за экземы, третью — из-за недоедания.
Но многим и не повезло: их прямо после комиссии отправили на льнозавод и поместили в пустой сарай.
А еще через день стало известно, что в сарай попала и Аня Костина.
Немцы уже больше не церемонились, хватали девушек где попало и в ожидании отправки в Германию держали под стражей. Аня и была схвачена во время облавы, когда пришла из колхоза в город.
Все это взбудоражило ребят. Они собрались к Клаве.
Володя Аржанцев во всем обвинял себя: это он отпустил Аню в город. Ведь сколько раз девушка проскальзывала перед самым носом немецких патрулей и полицаев, и надо же было ей так глупо попасть в эту облаву!
— А все равно не быть девчатам в Германии. Не пустим! Отобьем! — с мрачной решимостью заявил Володя и принялся развивать перед ребятами свой план. Надо выделить боевую пятерку, вооружить всех гранатами и винтовками, напасть на охрану у сарая и освободить девчат.
Он уже выяснил: охрану возглавляет Оська Бородулин, и будет очень кстати, если они прикончат эту мразь.
У ребят от такого воинственного плана загорелись глаза. Оружия у них более чем достаточно, смелости хватает, и пора уж им начать боевые действия.
— Все это хорошо,— остановила комсомольцев Клава.— Но там ведь наши девушки. Пойдет стрельба, и они пострадают
223
в первую же очередь... Да и боевые действия нам еще начинать рано.
Аржанцев почти с неприязнью взглянул на Клаву.
— Неужели мы струсим, оставим своих?
Клава не на шутку встревожилась. Сейчас Володя в таком состоянии, что может не послушаться ее, увлечь ребят своим сумасбродным планом.
— Нет, Володя, здесь надо другое,— медленно заговорила она.— Нам предстоит еще одно испытание. Кто-то из нас должен поступить на службу в полицию.
Ребята ахнули. Им пойти в полицию, которую они все так ненавидели! Да и за кого Клаша их принимает? В своем ли она уме?
— Я в здравом уме и говорю совершенно серьезно. Мы живем среди врагов и должны знать каждый их шаг.
— Но что скажут товарищи? Родители? — вырвалось у Феди.— Это же предательство!
— Да, не легко. Для этого требуется мужество, характер. Но нам нужны в полиции свои люди... Есть такое задание партизанского штаба.— Клава обвела подпольщиков взглядом.— Ну, кто готов на это?
— Я пойду,— после долгого молчания вызвался Аржанцев.
— Нет, тебе нельзя.— Клава покачала головой.— Ты держишь связь с партизанами.
Из угла поднялся Саша Бондарин.
Бледный, вытянувшийся, он после болезни впервые появился среди ребят и жаждал настоящего дела.
— Позвольте мне,— отрывисто сказал он.— Если это комсомольское поручение — я готов! Да мне и не так стыдно будет: родителей-то моих здесь нет.
— И меня пустите,— подал голос Ваня Архипов.— Вдвоем нам легче будет. Да и устроиться мне нетрудно. У меня сосед полицай, Оська Бородулин. Он, гадюка, давно меня к себе сманивает.
Подпольщики с тяжелым сердцем согласились с решением ребят.
Через несколько дней Бондарин и Архипов при содействии Бородулина были зачислены в полицаи.
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК
Шла осень. Целыми днями хлестали косые дожди, листья с деревьев облетели, на улицах стояла непролазная грязь.
Как-то раз промозглым утром к Клаве прибежал всполошенный Петька. Старые, раскисшие опорки еле держались на его ногах, брюки выше колен были зашлепаны грязью, кепка сбилась набок.
— Ты что? Убегал от кого-нибудь? — встревоженно спросила его Клава,
— Убегал! — признался Петька, со свистом переводя дыхание.— От полицаев...
Клава укоризненно покачала головой. Сколько раз просила она Петьку вести себя осторожно, не задираться, не лезть на глаза полицаям и гитлеровцам!
— Да я ж не задираюсь!.. — с обидой выкрикнул Петька.— Шел себе и шел. И знаете, кого встретил? Сашку Бондарина и Ваню Архипова. Они каких-то людей по улице гнали. Сами сытые, с оружием, в казенных мундирах...
У Клавы отлегло от сердца.
— Такая уж у них работа,— спокойно отозвалась она.— Ну и что дальше?
— Как — что дальше? — вскипел Петька, озадаченный спокойным тоном Клавы.— Запустил в них камнем... Потом убежал.
— Вот это уж напрасно!
— Как — напрасно? Они ж полицаи, предатели! А еще комсомольцами были, вашими друзьями. Да им головы пробить мало!
Клава усмехнулась. Если бы Петька знал, что за «полицаи» Бондарин и Архипов и как они начали свою службу! А начали они ее совсем не плохо. Накануне отправки девушек в Германию Саша и Ваня под видом благодарности Оське Бородулину за то, что тот устроил их на работу в полицию, угостили его и его приятелей-охранников спиртом.
Угощение было щедрое: спирт из последних запасов выдала ребятам Елена Александровна. Полицаи отдали ему должное и так накачалисьг что заснули мертвым сном. Вместе с ними,
225
сделав вид, что тоже перепились, «заснули» и Саша с Ваней. А ночью Сушков, Аржанцев и Петровский открыли сарай и выпустили всех девчат на волю.
Клава взяла Петьку за плечи, приблизила к себе.
— Ты мне веришь?
Мальчик растерянно заморгал глазами.
— Кому же, как не вам!
— Тогда слушай. В Сашу и Ваню камнями больше не бросай. Они хоть и полицаи, но люди свои... нужные нам.
— Свои?!
— Да, да, Петя! Ты мне поверь и больше ни о чем не спрашивай.
В эту минуту открылась дверь, и в комнату вошел Саша Бондарин. Он был совсем не сытый и не откормленный, каким представил его Петька, а бледный, рослый, мрачноватый. Мундир сидел на нем неловко и мешковато.
Петька вскочил с лавки и во все глаза уставился на Бон- дарина.
— Ну-ну,— предупреждающе буркнул тот.— Ты потише! Опять чем-нибудь запустишь?
— Все выяснено и улажено,— улыбнулась Клава.— Теперь между вами полный мир. Ведь так, Петя? А сейчас иди. Нам с Сашей надо поговорить.
Петька, цожав плечами, ушел.
Клава вопросительно посмотрела на Бондарина.
— Ну, как тебе новая работа?
— Чертова жизнь пошла. Идешь по городу, тебя люди словно ножами режут: «Смотри, смотри, предатель идет, полицай». Ваня даже приболел. От мальчишек так совсем нет прохода. Видала этого Петьку? Не увернись я, голову бы камнем разбил.
— Понимаю, Саша. Задание не из легких,— вздохнула Клава.—Но надо же... Очень вы нас выручаете. В лесу вами довольны.
Лицо у Саши просветлело.
— Это правда?
— Просили благодарность передать. За бланки для паспортов, за пропуска. Вот только надолго ли хватит у вас выдержки?
— Раз надо — хватит,— помолчав, глухо ответил Саша.—
226
И пусть мы полицаи для всех, только бы немцам погано было. Говори, зачем вызывала?
— Слушай вот.— Клава понизила голос.— Есть задание от Седого. К Октябрьским праздникам поднести фашистам подарочек — вывести из строя лесопильный завод.
— Это дело! — обрадовался Саша.— Да:вно бы пора, а то совсем затишье в городе. Поручи это мне с Ваней, мы сообразим.
— Нет, нет, поручение пока будет более легкое. Разведай обстановку, узнай, как там с охраной. А тогда подумаем.
Через несколько дней Саша Бондарин вновь встретился с Клавой. Он сообщил, что ему удалось побывать на заводе,— охрана там небольшая, пройти на завод не так уж сложно, кругом полно горючего материала — щепа и стружка. Достаточно одной спички, и все запылает.
— Нет, спички тут мало. Надо действовать наверняка.
— Я и хочу наверняка.— Саша изложил свой план и попросил дать ему в помощь одного из подпольщиков.
— Дима Петровский подойдет? Или Федя Сушков?
— Великовозрастный народ... Хотелось бы какого-нибудь пацана. Вроде вот Петьки Свищева.
Клава задумалась: лучше Петьки, конечно, не найти. Хотя мальчишка и не член подпольной группы, но он все видит, понимает и настойчиво рвется к работе. И Клава согласилась.
Утром Седьмого ноября Саша Бондарин и Петька встретились на базаре. Саша, как было договорено с Клавой, сделал вид, что забрал рыскающего по базару мальчишку и повел его в комендатуру. По пути они свернули с главной улицы и переулками начали пробираться к лесозаводу.
В руках Петька держал узелок с едой.
— Задание тебе понятно? — вполголоса спросил Саша.
— Ага! Мне Клаша объяснила. Пробраться на завод,— как заученный урок зачастил Петька,— найти в конце цеха склад с горючим, отвернуть пробку у бочки и пролить бензин. И незаметно исчезнуть.
— Правильно. Главное, не пори горячку. Войдешь на завод с узелком — будто обед кому принес, осмотрись, приметь, где охранники, чтобы не нарваться на них.
227
— Понятно! Ты не сомневайся! — с жаром ответил Петька и хитровато покосился на полицейскую форму Саши.— А Ваня Архипов тоже такой полицай, как ты?
— Одного поля ягодка... Тебе же Клаша объяснила.
— Давно бы пора. А то мы темную Ваньке собирались сделать;. Уж и извозили бы его!..
— Ну, ну,— погрозил Саша,— вы Ваню не троньте. И так ему достается: то в доме стекла побили, то самого грязью закидали. Твоя работа, Свищ, твоей компании?
— Больше этого не будет, — деловито заверил Петька и задумчиво посмотрел вдоль улицы. Ведь сегодня Седьмое ноября. Разве так было в Острове до войны? С утра город расцвечивался флагами, знаменами, плакатами. Со всех стороп к площади тянулись колонны празднично разодетых людей. И самая нарядная и шумная была колонна демонстрантов школы имени Ленина. Играл оркестр, Клава Назарова, пятясь спиной, шла впереди колонны, энергично размахивала руками, и вся колонна, от первоклассников до педагогов, пела «Эх, картошка объеденье» или «Взвейтесь кострами». Когда же кто-нибудь сбивался с ноги, Клава задорно кричала: «Эй, кто там шагает правой», и ребята хором отвечали: «Левой, левой, левой!» А вечером над .мостом взвивались ракеты, загорался фейерверк и цветные блики отражались в реке.
— Саша, а помнишь, какой у нас фейерверк был!.. Как мы костер жгли! — дрогнувшим голосом заговорил Петька.
Воспоминания, видимо, захватили и Бондарина.
— Помню, помню,— хмуро ответил он.— Будет им сегодня фейерверк! Пошли скорее!
Наконец показался лесозавод. Саша посмотрел на часы.
— Сейчас обеденный перерыв. Народу в цехе немного. Действуй.
Оглянувшись по сторонам, Петька проскользнул в заводские ворота. Размахивая узелком с едой, он с деловым видом прошел мимо лесопильного цеха, завернул за угол и заметил в углу двора бочки с горючим. У бочек никого не было.Только у противоположной стены маячила фигура охранника. Пригнувшись, Петька подкрался к бочкам и попробовал отвернуть пробку. Не удалось — пробка будто припаялась. То
228
же самое случилось и со второй бочкой. Повезло лишь на третьей. Неплотно завернутая пробка легко сошла с резьбы. Петька наклонил бочку, подсунул под нее деревянную плаху, и синеватый, остро пахнущий бензин с мягким шелестом полился на землю. Вот и все, что надо было проделать Петьке. Но ему показалось этого мало. Из одной бочки свисал гибкий резиновый шланг. Петька, как истый шофер, пососал шланг, дурманящая струя бензина хлынула ему в рот, а потом потекла на землю.
Теперь надо исчезнуть, но не бегом, а так же деловито и спокойно, как входил сюда.
Через несколько минут Петька был уже за воротами завода. Саша Бондарин медленно прохаживался вдоль забора.
— Ну?
— Все в порядке... течет!
— Теперь улепетывай. И сиди весь день дома.
Петька юркнул в переулок.
Саша еще раз прошелся вдоль забора, остановился у угла, огляделся, потом достал из кармана промасленную тряпку и чиркнул спичкой. В руках вспыхнуло багровое пламя. Саша швырнул горящую тряпку за забор, и через мгновение оттуда полыхнул столб огня.
«Вот вам и праздничный фейерверк!» — подумал Саша, сворачивая за угол и исчезая в переулке.
* * *
После удачного поджога лесозавода подпольщики стали подумывать о новых диверсиях, о взрывах мостов, железнодорожных путей, электростанции. Но у них, к сожалению, не было ни взрывчатки, ни мин, ни умения обращаться со взрывчатыми веществами.
Провожая как-то Володю в очередной рейс к партизанам, Клава попросила его передать Седому пожелание ребят обзавестись взрывчаткой.
Володя на этот раз задержался у партизан более недели, и когда наконец вернулся, то сообщил Клаве, что Седой ска-
229
зал «добро» и прислал подпольщикам немного толу и несколько мин.
— А ты почему задержался так долго? — спросила Клава. — Уж не решил ли в партизанах остаться?
— Да нет, учиться срочно заставили... Как мины ставить да как с толом обращаться. Это ведь не тяп-ляп.
— Ну и как? Научился?
— Соображаю малость. Но я ведь не один пришел. Седой нам такого инструктора прислал! Ахнешь, когда увидишь.
— Кого прислал, говори скорее!
— Важина. Нашего бывшего командира.
— Василия Николаевича! — вскрикнула Клава.—Так он же...
— Сбежал он от фрицев, — пояснил Володя. — Да не один. Двенадцать беженцев к партизанам с собой привел. Вот человек!
— А где он сейчас?
— У меня в деревне. В сарае сидит. Просил ребят к нему привести — учить будет.
В этот же день Клава предупредила нескольких подпольщиков, и они по одному пробрались в Рядобжу, в сарай к Аржанцевым.
Клава с трудом узнала Важина. Одетый под крестьянина, он зарос густой бородой, поздоровел, лицо его обветрилось, огрубело.
— Друзья встречаются вновь, — пошутил Важин, здороваясь с ребятами. — Ну что ж, будем брать фашистов не мытьем, так катаньем. Садитесь, товарищи, начнем изучать подрывное дело.
— Василий Николаевич,— попросила Клава,— вы бы ребятам еще о положении на фронтах рассказали. Вопросы у нас всякие накопились.
Пять дней подпольщики постигали секреты обращения со взрывчаткой, учились делать самодельные мины, начинять толовые шашки.
— Курс обучения, прямо сказать, сокращенный, — говорил Василий Николаевич. — Но у партизан он уже проверен. Теперь дело за практикой...
230
Предложений было много: заминировать шоссе, взорвать цепной мост, подложить взрывчатку под городскую электростанцию.
Но тут подоспел со своими донесениями Федя Сушков. На станцию каждый день прибывают эшелоны с боеприпасами. Сейчас их скопилось несколько, и на путях образовалась пробка.
— Это верно, — согласился Василий Николаевич. — Такой случай упускать нельзя. Давайте тогда наметим, кто пойдет со мной на станцию ставить мины.
Желающими оказались все, кто учился у Важина.
— Неправильно это, — ревниво заявил Федя. — Никого из вас на станцию не пропустят, а у меня как-никак пропуск имеется. И я по всем путям могу ходить. Вот мне и поручите это дело.
Против такого довода спорить было бесполезно.
В сарае воцарилось молчание.
— Ну, что ж вы? Голосуйте, если надо, — с досадой обратился Федя к ребятам. — Мне уже на станцию пора. На дежурство.
Клава переглянулась с Василием Николаевичем и, побледнев, подошла к Феде.
— Поручаем тебе. Действуй! Но себя береги! На рожон не лезь. Да вот хоть Сашу возьми. Пусть около станции постоит. На всякий случай.
Саша Бондарин с готовностью поднялся.
Василий Николаевич вручил Феде мину замедленного действия и еще раз проинструктировал его.
— Постарайся установить мину в середине эшелона. Завод рассчитан на два часа. За это время все надо успеть сделать и быть уже дома. Ну, ни пуха тебе, ни пера!
Положив мину в кошелку, Федя прикрыл ее сверху мотками провода, изоляционной лентой и, сопровождаемый Сашей Бондариным, отправился на станцию.
Посидев еще немного в сарае, Василий Николаевич и Клава предложили подпольщикам разойтись: если взрыв удастся, в городе может начаться облава.
На улице уже совсем стемнело, когда Клава пришла до¬
231
мой. Она отказалась от ужина и, не зажигая огня, села у окна, чутко прислушиваясь к уличным шумам.
Время тянулось изнурительно медленно. Вот уже прошло более двух часов. В голову Клавы полезли всякие недобрые мысли. А что, если часовой механизм не сработал и эшелон с боеприпасами сейчас уходит на восток, к линии фронта? Или вдруг поездная охрана, заподозрив электромонтера Федю Сушкова, схватила его и сдала военному коменданту станции?
— Да ты мне всю комнату выстудишь! — заворчала Евдокия Федоровна, когда дочь высунулась в форточку. — И так топить нечем.
— Минутку, мама, сейчас закрою! Душно у нас очень, — сказала Клава, и в тот же миг страшный взрыв потряс окрестности.
Тугая волна воздуха с силой захлопнула форточку, со звоном вылетело из рамы стекло, задрожали стены старого дома.
— Опять бомбят! — всполошилась Евдокия Федоровна. — Кто ж это? Наши или немцы?
— Наши, мамочка, наши! — не в силах сдержать своей радости, вскрикнула Клава и вихрем выскочила на улицу. Над станцией бушевало языкастое пламя, беспрерывно рвались снаряды, словно били из орудий крупного калибра.
На улице толпился народ, многие забрались на крыши, стараясь получше рассмотреть, что происходит на станции.
— Как говорят, и на старуху бывает проруха, —услышала Клава приглушенный разговор. — А на немцев вот огонек нашелся.
— Толковая работенка! Сначала лесозавод подпалили, теперь на станции все полыхает.
От Набережной улицы Клава побежала вверх к Сушко- вым — надо было узнать, где сейчас Федя. Неожиданно она столкнулась с Сашей Бондариным.
— Видишь, какой ад кромешный на станции! — возбужденно заговорил тот. — Снаряды рвутся, пути разнесло, к эшелонам не подступись. А неплохая у нас практика для начала получается.
Клава схватила Сашу за плечо.
— С Федей что? Где он?
232
— Все в порядке! Уложился точно по графику. Уже с полчаса как дома. Заявил тетке, что простудился, так она его на печку загнала и сейчас малиновым чаем поит.
Клава облегченно перевела дыхание.
ПОПОЛНЕНИЕ
В сумерки в швейную мастерскую Самариной заглянул Борька Капелюхин. Он был в засаленном кожушке, в шапке- ушанке, зарос волосами, подбородок ощетинился редкой бороденкой, над верхней губой пробивались рыжеватые усики.
Клава быстро увела его в примерочную.
— Совсем лесным человеком стал! — улыбнулась она.
— Будешь тут лесовиком, — пожаловался Капелюхин. — Немцы совсем обнаглели. Рабочий день увеличили, кормят еле-еле, домой почти не пускают. Не заметишь, как совсем на положение заключенных переведут.
— А молодежь как себя чувствует? О чем разговоры ведет? — спросила Клава. — Ты им наши листовки читаешь?
— Еще бы... А разговор у парней один: бежать надо, пока совсем их в каторжников не превратили. — Капелюхин оглянулся и перешел на шепот: — Я уже подготовил одну группу.., семь парней. К партизанам рвутся, в лесной край. Хоть сейчас. Только им проводник нужен. Неплохо бы их, конечно, и оружием снабдить.
— А парни надежные?
— Головой отвечаю. Накалились они, злые стали, как черти. Не дадим проводника — сами убегут с торфоразработок.
Клава посоветовалась с членами штаба, и ночью подпольщики встретили за городом семерых парней с торфоразработок, выдали им оружие, патроны.
Одного из парней Клава узнала сразу — это был крепыш, здоровяк Семен Суковатов, живший до войны на одной улице с ней. На торфоразработки он пошел с первых же дней вступления немцев в город, пошел добровольно, говоря при этом: «А мно все едино, где робить, только бы хлебную пайку давали».
233
— Ну как, Семен, накормили тебя немцы хлебом? — спросила Клава, передавая парню почти новенький немецкий автомат.
— Сыт... по самое некуда... Чтоб они подавились этим хлебом, — буркнул Семен, разглядывая оружие. Потом вполголоса спросил: — А откуда у вас эти игрушки завелись?
— Кому что... Кому хлеб от фашистов достается, кому автоматы, — засмеялась Клава.
— Я серьезно спрашиваю.
— Серьезно и отвечаю. Живем, не зеваем. Что плохо лежит — к нашим рукам липнет.
— Смело живете... так, пожалуй, и надо, — с уважением сказал Семен.— А я вот проишачил на них почти полгода, теперь за ум схватился. Надо бы сразу в лес подаваться.
— Не поздно и наверстать, Сема.
— Наверстаю, Клаша, увидишь, — пообещал Семен и, отведя ее в сторону, попросил: — Ты моих стариков знаешь. Я им не сказал, что в лес ухожу. Боюсь, хлипкие они, слез не оберешься. Ты уж объясни им потом, где я и как.
— Сделаю, Сема. Стариков не забудем.
Клава распрощалась с парнями, и Володя Аржанцев повел их в партизанский край.
А через два дня разразилось несчастье.
Гитлеровцы, узнав о том, что семеро парней исчезли с торфоразработок и, видимо, подались к партизанам, арестовали их родителей. Попал в гестапо и отец Семена Суковатова.
По городу был. расклеен приказ гитлеровского командования, в котором говорилось, что родители отвечают головой за своих детей, если только те оставят город и перейдут к партизанам.
Вечером Клава и Федя Сушков зашли к Суковатовым проведать мать Семена.
Седая лохматая старуха лежала на сундуке и тупо смотрела в потолок.
— Работал себе парень и работал, хлеб получал, жалованье,— пожаловалась она.— Так нет, партизаны его к себе сманили. Вот и старика загубили. Да я бы этим партизанам в глаза плюнула — зачем парня попутали, с панталыку сбили...
234
— Бабушка, да как вы смеете!..— вспылил Федя.
— Молчи,— шепнула Клава и спросила бабку, не нужно лн ей в чем помочь.
— Да что вы можете? — отмахнулась старуха.— Вот если бы Семке весть подали — пусть возвращается с повинной да отца выручит...
Подавленные и расстроенные Клава с Федей ушли от старухи.
— Вот так Суковатиха! — в сердцах сказал Федя.— Какой была, такой и осталась.
— Ты пойми, трудно ей. Старика забрали, не понимает она ничего,— вздохнула Клава.— А помочь ей все-таки надо.
С этого дня подпольщики по старой тимуровской привычке нередко заходили к Суковатихе на дом, пилили ей дрова, помогли убрать огород, раздобывали продукты.
Вскоре в городе опять появился Капелюхин. На заседании штаба возник вопрос, как быть со второй группой парней, собравшихся в партизаны.
— А как ohpi сами настроены? — спросила Клава.
Капелюхин замялся.
— По-разному. Кое-кто попритих пока... Да оно и понятно: за родителей боязно...
— С отправкой придется, видно, воздержаться,— помедлив, сказала Клава.— Надо что-то другое придумать.
— А что ж тут придумаешь? — усомнился Капелюхин.— Родителей вместе с парнями в лес не переправишь... не согласятся, да и трудно им. Вот если бы парней вроде как силой увести...
— Как это — силой?
— А вот так! — принялся объяснять Капелюхин.— Приходят, скажем, вооруженные партизаны и устраивают нападение на торфоразработки. Охрану снимают и уводят парней в лес. А мы распространяем в городе слух, что партизаны силой увели молодежь к себе. Тогда уж фашисты к родителям не придерутся.
— Это да! Это планчик! — воскликнул Федя Сушков.—Да так можно весь народ с торфоразработок увести. Это ты, Борька, сам придумал? А молодец, начинаешь смекать кое-что.
235
— Посиди на этом торфянике, не такое придумаешь,— буркнул Капелюхин и вопросительно посмотрел на Клаву.— Только вот согласятся ли партизаны?
— План неплохой,— подумав, сказала Клава.— Но у меня есть одна существенная поправка.— Она по привычке низко склонилась над столом и жестом пригласила ребят приблизиться: так она всегда делала, когда придумывала с пионерами какое-нибудь неожиданное и увлекательное дело.— У партизан и без нас забот хватает. Зачем их отрывать? Да к тому же пробираться им в Остров сложно и долго. А у нас здесь целая организация подпольщиков. Так почему бы нам под видом партизан не разыграть нападение на торфоразработки? Создадим свою боевую группу, вооружим ее...
— Здорово! — загорелся Дима Петровский, переглядываясь с ребятами.— Это нам подходит!
— Только надо семь раз отмерить,— заметила Клава и обратилась к Капелюхину: — Нам нужен план торфоразработок, сведения об охране. Понятно, Боря?
— Яснее ясного!
Через несколько дней, забежав в баню, Клава получила от Анны Павловны короткую записку: «Готовьте группу. Время выступления сообщу».
Внизу стояла подпись «Щербатый» — это была мальчишеская кличка Капелюхина.
Вечером Клава срочно собрала подпольщиков. Боевая группа была назначена из семи юношей. Возглавить ее поручили Диме Петровскому.
Клава заявила, что она тоже будет участвовать в операции. Федя Сушков был против. Он сказал, что возможна вооруженная схватка с охраной и руководителю группы не следовало бы рисковать собой.
— Не находите ли. вы, мальчики, что я стреляю хуже вашего? — усмехнулась Клава.— Или я толста и неповоротлива?
Нет, мальчики этого не находили.
Вместе с Федей и Димой Клава побывала около торфоразработок, приметила, где стоят охранники.
Наконец недели через полторы пришла от Капелюхина записка, что пора выступать.
236
Ночью, получив от Аржанцева из потайного склада автоматы, пистолеты и гранаты, боевая группа, обойдя город, направилась к торфоразработкам.
Стояла бесснежная зима, морозы сковали землю, покрыли толстым льдом лужи и болотистые низины, и идти можно было, не выбирая дороги.
К торфоразработкам подошли далеко за полночь. У входа, перед колючей проволокой, дремал охранник. Остальные часовые, как оказалось, ушли в этот вечер в баню и задержались в городе.
Дима и Саша Бондарин подползли к часовому, свалили его с ног, заткнули рот платком и связали ему руки. Затем подпольщики ворвались в бревенчатый дом, где жила администрация торфоразработок, подняли всех на ноги, загнали в сарай и заперли там. После этого ребята направились в барак, где жили рабочие.
Дима Петровский, с гранатой на поясе, в полушубке и лохматой мужицкой шапке, являя всем своим видом отчаянного вояку, угрожающе повел автоматом и свирепым голосом крикнул:
— По приказу партизанского командования торфоразработки закрываются I
Дима и Клава в сопровождении соскользнувшего с нар Капелюхина обошли весь барак, внимательно вглядываясь в лица парней и пожилых мужчин. Те, кого Капелюхин заранее подготовил к уходу в партизаны, заговорщицки подмаргивали ему, что означало: они отлично понимают всю эту игру.
— Выходи строиться! — строго приказал Дима.
Вскоре человек пятьдесят стояло уже перед бараком. Остальные с недоумением толпились на крыльце и в сенях.
— Тех, кого отобрали, мы забираем с собой,— объявил Дима.— Остальные до утра остаются в бараке, а завтра могут разойтись по домам...
К Диме подошел пожилой, сухощавый мужчина.
— Товарищ партизанский начальник! — обратился он.—Раз уж такое дело, вы и лошадок забирайте. Чего им на немцев жилы тянуть.
237
— Инструмент тоже не помешает,— раздался из темноты еще чей-то голос.— Лопаты там, мотыги...
— Клава, а ведь и впрямь забрать надо,— шепнул Дима,
— Обязательно. Партизанам все пригодится.
Ребята вывели из сарая лошадей, запрягли в телеги, побросали туда инструмент и повели парней с торфоразработок за собой.
На восточной окраине города их уже поджидал Володя Аржанцев...
К рассвету члены боевой группы разошлись по домам, чтобы малость вздремнуть перед выходом на работу.
А с утра по городу уже распространился слух о ночном нападении на торфоразработки, и родители один за другим потянулись в комендатуру, чтобы пожаловаться на произвол партизан, которые силой увели их сыновей в лес.
СЛУЧАЙ В ДОРОГЕ
Каждое возвращение от партизан Володи Аржанцева и Ани было для комсомольцев большим праздником.
Юноша и девушка приносили листовки, газеты, брошюры, а главное, кучу новостей о делах партизанских отрядов.
Улучив свободную минуту, Володя пробирался из деревни в город, заходил к Клаве в мастерскую и передавал ей «подарки» от Седого.
Иногда же Клава, с большими мерами предосторожности, собирала у себя на квартире группу подпольщиков, и Володя рассказывал им об очередном рейсе в лесные районы.
А рассказать было о чем. Партизанское движение на Псковщине росло и ширилось с каждым днем. Отдельные разрозненные отряды объединялись в бригады, партизаны устраивали налеты на гарнизоны гитлеровцев, на крупные железнодорожные станции, вели бои с карательными отрядами фашистов.
В лесных районах области возник целый партизанский край, куда гитлеровцы не смели и носа показать.
— Вы только подумайте,— с горячностью говорил Володя.—
238
В партизанском крае живет и здравствует Советская власть, выходят наши газеты, работают сельсоветы, колхозы, школы. Мужчины в партизанах, а остальное население на полях работает, хлеб выращивает.
Такие рассказы остро будоражили подпольщиков.
— Эх, мало мы еще делаем у себя в Острове,— вздыхал Федя Сушков.—Гитлеровцы ходят по городу как хозяева, а мы прячься тут. Надо так работать, чтобы немцы боялись нас, чтоб им лихо было...
Феде никто не возражал — всем хотелось как можно больше навредить гитлеровцам.
И комсомольцы намечали все новые и новые диверсии.
Как-то раз Клава завела с Володей Аржанцевым разговор о деревенских парнях: что они сейчас делают, как относятся к новым фашистским порядкам, нельзя ли их привлечь к подпольной работе.
— Есть у меня на примете ребята,— подумав, сообщил Володя.— Один трактористом работает у немцев, двое с родителями живут, перебиваются кое-как. Я им листовки частенько подбрасываю. Народ-то вообще податливый. Надо их только подтолкнуть.
— Вот именно, — подхватила Клава. — И подтолкнуть порешительней да побыстрей. Я вот как-то мимо вашей деревни проходила. Там на луговине стога сена стояли. Это сено кому принадлежит? Крестьянам?
— Нет. Это сельскохозяйственный отдел немецкой комендатуры для своих нужд заготовил. Работали-то, правда, наши мужики по приказу старосты...
— А что, если в одну из ночей эти стога неожиданно загорятся? — усмехнувшись, спросила Клава.— Мужики ведь не будут в большой обиде?
— Думаю, что нет.
— Но учти, Володя. Сам в это дело не ввязывайся. Ты наш связной и живи в деревне тише воды, ниже травы.
— Понимаю,— вздохнул Володя.— Если уж только для почина придется.
Вернувшись в деревню, он на другой же день отправился к Сеньке Нехватову, дальнему родственнику своей матери.
239
Сеньку он нашел за сараем: глазастый, худощавый подросток одноручной пилой пилил дрова.
Сенька очень обрадовался приходу Аржанцева, Володя обычно угощал его табачком, а главное, у него почти всегда имелась в кармане свежая листовка.
— Принес, Вовка? — спросил Сенька, вытирая ладонью взмокшее лицо.
— Это чего? Табачку, что ли?
— И табачку... И почитать что-нибудь.
Ребята присели за угол сарайчика, закурили, потом Володя, оглянувшись по сторонам, достал из-за пазухи помятую партизанскую листовку.
— И откуда ты их берешь, Вовка? — спросил Сенька.
— Я ж говорил тебе... За грибами далеко хожу, за орехами. Вот и подбираю. Наверное, их с самолета сбрасывают.
— И я за грибами хожу. А вот мне не попадаются,— пожаловался Сенька,— Такой уж я невезучий.
Он впился глазами в листовку и возбужденно зашептал:
— Ты смотри, смотри, что здесь пишут: «Молодежь сел и деревень, захваченных фашистами! Если вам дорога Советская Родина, не сидите сложа руки. Не давайте гитлеровцам увозить хлеб, сено, картошку, выводите из строя -машины, уничтожайте мосты, дороги...» Ох, Вовка, вот бы и нам так...
Володя с досадой отмахнулся.
— Куда нам! Сидим как тюхи, боимся всего.
— Ну, не скажи,— обиделся Сенька.— Мы с Толькой Со- лодчим хоть сейчас готовы. Мало, конечно, нас.
— А не струсите?
— Да что мы, шкуры какие?
Володя, задумчиво затоптав папироску, отобрал у Сеньки листовку.
— А меня с собой возьмете?
— Тебя? — удивился Сенька.— Да ты же не захочешь. У тебя ведь свои дела. Все куда-то ходишь да ходишь...
— Это ничего, времени хватит. Было бы что интересное.
— А если для начала стога с сеном подпалить? — зашептал Сенька.— Знаешь те, что на луговине... Они почти без всякой охраны. А, Вовка?
240
— Вот черти головастые,—ухмыльнувшись, похвалил Володя.— А мне и в голову не пришло. Это дело стоящее.
Через несколько дней Сенька, его приятель и Володя, прихватив с собой спички и бутылку с бензином, пробрались ночью на луг и подожгли восемь стогов сена.
Сельский староста и примчавшиеся из полевой комендатуры жандармы выгнали тушить пожар всю деревню, но, пока люди собирались, стога успели сгореть.
Зарево от пожара было заметно даже в Острове.
А когда разговоры о сгоревших стогах сена несколько приутихли, к Володе зашел знакомый ему тракторист Алеша Востриков, который, излечившись после ранения, устроился работать в бывшую МТС.
В мастерскую МТС немцы собирали со всего района тракторы советских марок, ремонтировали их и отправляли на строительство военных укреплений.
Оставшись с Володей наедине, Востриков без обиняков заговорил о недавнем пожаре:
— Дали огоньку немцам... Молодцы! Толково ребята сработали. Вожак у них, видать, не из последних... Вот бы и нам связаться с ним.
— Кому это «нам»? — спросил Володя.
— Да есть у нас в мастерских кое-кто. Соображаем малость по части техники. Вроде как рационализацией занимаемся, только на новый лад.
И Востриков рассказал, как трактористы выводят из строя машины: то бросят горсть песку в мотор, то испортят какую- нибудь деталь. А в последнее время они научились перекрывать подачу масла к коренному и шатунному подшипникам. Заткнут ватой трубочку, мотор поработает нормально мииут десять, а потом, без масла, выходит из строя.
— Тут со мной на днях такой случай был,—продолжал Востриков.— Подготовили мы трактор для отправки в военный городок к немцам. Сделали все, как надо быть. Отвернули пробку, масляную трубку заткнули ватой. Погнал я трактор в город. Рядом со мной немецкого солдата посадили. Еду на первой скорости. Солдат недоволен, показывает на пальцах — давай вторую! Пожалуйста, перешел на вторую. Опять немец недоволен—
Q Библиотека пионера, т. 7
241
давай третью. И это можно. Только подъехали к станции —мотор и застучал. А немец торопит — давай полный ход. И вдруг— взрыв. Шатуном выбило болты, разорвало блок. Меня и немца обдало маслом с ног до головы. Немец хохочет, показывает на меня пальцем — у тебя, дескать, вся физиономия в масле. Но и он тоже хорош. Посмеялись мы, дал мне немец папиросу, а трактор пришлось оставить посреди дороги.
Вернулся я в МТС, докладываю об аварии инженеру. «Вы опозорили нашу мастерскую,—кричит он,—ни один трактор до места не доходит!»
«Господин инженер,— говорю,— мы же ни в чем не виноваты. Трактора поношенные, запасных частей нет...»
Он только рукой махнул и задумался: понял, видно, что нелегко чужое-то добро прикарманить...
— Смотри, Алексей, не засыпьтесь,— предупредил Володя.— Немцы могут разгадать вашу «рационализацию».
— Да нет,— ухмыльнулся Востриков.— Мы, как говорится, на месте не стоим, изыскиваем новые пути.
Да Володя и сам не стоял на месте.
Напряженные, полные опасности переходы к партизанам сделали его выносливым, осторожным, ловким, и подпольщики привыкли считать, что Володя проберется через все преграды и доставит любые сведения.
Но однажды он едва не погубил все дело.
Возвращаясь от партизан домой, Володя провалился в болото, потом, пропуская встречную группу немецких солдат, долго лежал на сырой земле и, видимо, простудился. У него начался жар. Километров за восемь от родной деревни он почувствовал себя совсем больным.
Свернув в сторону от дороги, Володя прилег на кучу трухлявой соломы и решил немного отдохнуть.
Вскоре он забылся тяжелым горячечным сном. Во сне бредил, вскрикивал. Это, по-видимому, и привлекло проезжавшую мимо подводу.
Проснулся Володя от прикосновения чьих-то жестких сильных рук. Он открыл глаза, попытался вскочить на ноги, но сильный удар в подбородок вновь уложил его на солому.
— Лежи, сучий сын! — раздался скрипучий голос, и Володя
242
увидел над собой бородатое, с хищным горбатым носом лицо пожилого мужчины. Рядом с ним стоял сухопарый немецкий солдат и держал наизготовку карабин.
— И не рыпайся! — добавил бородатый мужчина.—Видишь, солдат с карабином. Зараз пулю получишь.
Он властно обшарил Володю, вытащил из кармана его брюк пистолет, а из-за пазухи пачку листовок.
— Та-ак-с! — причмокнул бородач.— Ясна картинка! И пушечка про запас, и листовки за пазухой. Партизан, значит? В город пробираешься?
Володя прикрыл глаза. Как же глупо, бездарно он попался! И все из-за этой неожиданной болезни.
— Чуешь, немчура,— бодрым голосом закричал бородатый солдату, словно тот плохо слышал,— какую мы цацу захватили? Партизан! Ферштее? Партизан это...
— Ферштее! Партизан! Зер гут! — обрадованно залопотал солдат, потряхивая над головой Володи карабином.
— А ну, цаца! Садись в телегу,—приказал бородатый.— Сейчас мы тебя в Остров доставим, в комендатуру.
Володя с трудом поднялся на локте и вгляделся в лицо мужчины. Неужели этот русский по виду человек способен сдать его в жандармерию?
Лицо бородача показалось ему знакомым.
«Да ведь это Шалаев... староста из Ольховки... предатель»,— похолодев, узнал Володя. Он видел Шалаева недели три тому назад, когда тот приезжал по какому-то делу в Рядобжу.
«От такого не вырвешься,— подумал Володя.— Что же делать? Может, напугать чем-нибудь?»
— Тиф у меня... сыпняк,— хрипло сказал он.
— Сыпняк? — оторопев, отступил староста.— Этого еще не хватало.— Он покосился на солдата, потом толкнул Володю сапогом в бок.— Ладно. Вот доставлю тебя куда надо, а там разберутся... Лезь на телегу!
Володя с трудом забрался на телегу и лег на сено головой к задку. Солдат, не выпуская карабина из рук, поместился у него в ногах „слева, староста сел справа и, шевельнув вожжами, тронул лошадь.
— Ты, партизан, думаешь, я тебя задарма везу? — не пово¬
243
рачивая головы, заговорил староста.—Как бы не так! Знаешь, какой приказ от начальства поступил ко всем крестьянам? Я его назубок выучил. Слушай вот: «Кто обезвредит партизан или узнает их точное месторасположение, способствуя: воинским частям переловить их, будет награжден полевой комендатурой в Острове большой денежной наградой, а по желанию скотом и землей». Слыхал, партизан? Так что ты мне как сон в руку... Теперь-то я землишкой разживусь.
А вот когда тебя обезвредят, фашистский холуй, за тебя никакой взятки не дадут,— вполголоса сказал Володя.
— Ну ты, отродье! — Староста замахнулся на него вожжами.— Помалкивай! Твоя песенка спета...
Володя стиснул зубы. А пожалуй, и в самом деле его песенка спета. Пистолет, листовки, хождение по району без пропуска — кто же ему теперь поверит, что он просто ходил за продуктами! Да и мешок у него совсем пустой. Значит, в комендатуре его задержат, начнутся допросы, следствие, а может, что и похуже.
Скосив глаза, Володя посмотрел на свою охрану. Солдат-немец, казалось, дремал, сидя на краю телеги и держа карабин на коленях. Староста, погоняя лошадь, что-то мурлыкал себе под нос, предвкушая, видимо, хорошую награду от комендатуры.
«Бежать! Надо бежать!» — пронеслось у Володи в голове. Но как? Просто спрыгнуть с телеги и броситься через поле вон к тому овражку! Но далеко не убежишь — земля от дождей раскисла, да и пуля из карабина уложит его в первую же минуту.
Может быть, столкнуть солдата с телеги и вырвать у него карабин? Но солдат, видно, держит оружие крепко, да и сам он хотя и сухопарый, но жилистый и сильный. Вот если бы под руку Володе попался какой-нибудь камень или железный шкворень, тогда бы еще можно рискнуть.
И вдруг Володя почувствовал под правым боком что-то твердое. Он осторожно сунул под сено руку и нащупал топорище. Сердце его замерло. Замерло от неожиданной находки и оттого, что впервые в жизни ему предстояло ударить человека топором.
Но медлить было нельзя. Чуть отодвинувшись в сторону, Володя бесшумно вытащил из-под сена топор. Остальное произошло как в тумане...
244
Володя быстро вскочил на ноги, с яростной силой ударил немца обухом по голове и спрыгнул с телеги. Покачнувшись вперед, солдат, как куль, сполз на землю. ВоЛодя выхватил у него карабин и направил его на старосту, который уже успел соскочить на дорогу по другую сторону телеги.
— Ну, ну, ты не шуткуй! —- растерянно забормотал староста, пятясь назад. Потом, вспомнив, что у него тоже есть оружие, он полез в карман.
— Ни с места! Руки вверх! — скомандовал Володя.
Но староста продолжал пятиться, и рука его уже вытаскивала из кармана Володин пистолет.
И опять медлить было нельзя. Почти не целясь, Володя нажал спусковой крючок. Староста упал...
Выстрел прозвучал, как гром из низко нависшей тучи, и юноше показалось, что сейчас со всех сторон к нему подбегут люди.
Вытерев холодный пот с лица, он оглянулся. Нет, в поле никого не было. Сумерки сгущались. Надо было подумать, что делать дальше.
Пересиливая зябкую дрожь, Володя забрал у мертвого старосты свой пистолет и листовки, потом по очереди оттащил убитых в сторону от дороги и забросал картофельной ботвой. Затем он догнал подводу и повернул лошадь в обратную сторону, а сам, забрав карабин, окольными тропами стал пробираться к деревне.
Карабин спрятал в своем потайном складе оружия, но домой не пошел, а, добравшись до избы Костиных, условным стуком вызвал на улицу Аню и попросил устроить его на ночь в старой бане.
Перепуганная девушка ввела Володю в баню, засветила фонарь и ахнула — такой необычный вид был у юноши.
— Случилось что-нибудь? Гонятся за тобой?
— Нет... Все ладно...— прохрипел Володя.— Видно, простудился... жар у меня. Матери не хочу показываться. Ты завтра до Клавы сходи... Есть задание от Седого...
Целую неделю Аня выхаживала своего заболевшего друга, так и не узнав, что с ним случилось в дороге.
246
И только встав на ноги и встретив Клаву, Володя признался, что он убил двух людей.
— Не людей, нет,—поправила Клава.—Мразь это, чума...
ПИСЬМО
Встречаться подпольщикам становилось все труднее и труднее. За квартирой Клавы Назаровой наблюдала Бородулиха, у швейной мастерской Самариной постоянно торчали полицаи, вечеринки молодежи с патефоном и танцами тоже начинали вызывать у немецких патрулей подозрение. А совсем недавно Ваня Архипов, который доживал в полиции последние дни — Сашу Бондарина давно уже оттуда выгнали за лень и нерадивость,— строго-настрого предупредил Клаву, чтобы она вела себя как можно осторожнее, так как за ней усиленно следят.
И Клава затаилась. Она почти не выглядывала па улицу и проводила все время дома или в швейной мастерской Самариной.
Когда же становилось особенно не по себе, Клава подсаживалась к матери и, умоляюще поглядывая на нее, вкрадчиво говорила:
— Совсем ты, мама, воздухом не дышишь. Прошлась бы по городу... знакомых навестила.
— Это каких знакомых?
— Ну там Елену Александровну, тетю Лизу Сушкову, мать Любы Кочетковой, Вари Филатовой.
— И то пройдусь,— понимающе соглашалась Евдокия Федоровна и, взяв палку, отправлялась по городу.
Выручали Клаву портниха Мария Степановна с дочкой Раей, частенько посещающие своих заказчиков на дому, и особенно вездесущий Петька Свищев.
И все же Клава чувствовала, что без личных встреч с подпольщиками работать очень трудно. Более чем за год своего существования подпольная комсомольская организация значительно увеличилась, распочковалась, обросла активом, пустила корни не только в Острове, но и в пригородных деревнях.
Но об этом догадывались немногие. Порой подпольщикам
247
казалось, что их ничтожная горстка, что они, словно в дремучем лесу, бредут ощупью и никто о их работе ничего не знает.
Клава давно уж поняла, что ребятам необходимо хотя бы на часок собраться вместе. Пусть они поглядят друг на друга, оценят свои усилия, подумают о дальнейшей работе, а главное, ощутят свои силы.
Так возникла мысль о подпольном собрании комсомольского актива. Клава поделилась этой мыслью с членами штаба. Те охотно поддержали предложение своего вожака. Затем возник вопрос, где провести собрание. О городе нечего было и думать: можно выдать себя с головой. Тогда Володя Аржанцев подал мысль собраться в деревне у его родителей. Полицаев там почта нет, староста не очень подхалимничает перед гитлеровцами, к тому же в деревне скоро престольный праздник, ж сбор молодежи ни у кого не вызовет подозрения.
...В один из последних сентябрьских дней молодые люди из Острова потянулись к деревне Рядобжа, где жили родители Володи Аржанцева.
В сумерки в избе Аржанцевых собралось человек двадцать ребят и девушек.
На стол было поставлено скромное угощение, гармонист не очень громко играл на гармошке, окна были задернуты занавесками.
Володя познакомил Клаву со своими отцом и матерью.
— А я уже давно с вами знакома... через Володю,— пожимая им руки, сказала Клава.— Спасибо вам! За сына, за поддержку, за все спасибо.
— Чего там «спасибо»,— нахмурился отец Володи.— Это вам спасибо... Отчаянный вы народ, бедовый! С такой силой схватились, не в пример некоторым взрослым!
— Ох, и отчаянный!—подхватила мать Володи.— Вот хотя бы Вовка наш. Провожаю его в лес, и каждый раз у меня сердце обрывается: а вдруг не вернется, схватят его?— Она подняла на Клаву тоскующие, просящие глаза.— Вы бы подмену ему сыскали... А то мыслимое ли дело — все в лес да в лес, на страх да на смерть...
— Да ты что, мать моя? — в замешательстве остановил ее старший Аржанцев.— Володька, можно сказать, человек обу¬
248
ченный, знаток своему делу, а ты про подмену! Какая тебе на войне подмена? — Он отстранил Клаву от жены и подтолкнул ее к ребятам.— Делайте свое дело, а мы выйдем пока.
Володя пригласил молодежь к столу и достал четверть не то с водкой, не то с самогоном.
Кто-то выразительно крякнул и поискал глазами закуску.
— Веселие Руси есть пити...
— Самая обыкновенная аш два о,— засмеялся Володя, разливая по стаканам воду.-- Но пить и веселиться для виду придется! Ничего не попишешь. Гармонист, на линию огня!
Заиграла гармошка, начались танцы. Володя подвел к Клаве двух парней, похожих друг на друга, словно два близнеца.
— Малов и Востриков,— представил он.— Помнишь, я говорил? Специалисты по тракторному делу. Имеют на текущем счету... Малов, сколько машин ты вывел из строя?
— Три штуки.
— А ты, Востриков?
— Сейчас посчитаю. Разморозил два трактора, засорил цилиндры песком — тоже два, расплавил подшипники — три...
— Ого! — улыбнулась Клава.—Ну, давайте знакомиться!
Володя подозвал гармониста, глазастого юркого паренька с
розовым шрамом во всю щеку.
— Мой двоюродный братишка. Сенькой зовут. Первый мастер поджигать хлебные скирды и стога сена. У него и в дождь все горит и пылает. Может опытом поделиться.
— Да чего там опытом! — Паренек потупил голову.— Была бы бутылка с бензином да спички.
За столом завязался оживленный разговор. Подпольщики знакомились друг с другом, рассказывали о своих делах, намечали, что делать дальше.
Клава с интересом наблюдала за ребятами.
— А нас не так уж мало,— вполголоса сказал Федя Сушков, обведя всех глазами.—Ведь здесь только актив. А у каждого есть свои связи, свои помощники, верные люди.
— А знают ли о нас в Красной Армии? А в Москве? — спросил кто-то из ребят.— Вот бы нам сообщить, как мы тут живем!
*— В этом нет ничего невозможного,— сказала Клава.— По¬
249
просим партизан переправить наше письмо через линию фронта. Ты, Володя, как думаешь?
— Обязательно переправят,— подхватил Аржанцев.—А если надо, я сам через линию фронта его понесу.
Так родилась мысль написать письмо бойцам и командирам Красной Армии. Ребята достали лист бумаги, пузырек с фиолетовыми чернилами. Писать письмо посадили Любу Кочеткову, у нее был самый красивый почерк.
— А ты у окна сядь,— кивнул Володя пареньку с гармошкой, мастеру по стогам и скирдам.— Играй да на улицу поглядывай.
Гармонист примостился у окна и негромко заиграл вальс «На сопках Маньчжурии».
Подпольщики окружили Клаву и под звуки гармошки принялись сочинять текст письма.
— А вот если так начать,— заговорила наконец Клава, выслушав все предложения ребят: — «Дорогие наши товарищи, бойцы и командиры Красной Армии! Пишут вам комсомольцы из города Острова, в котором сейчас хозяйничают гитлеровские захватчики. Мы дали клятву вести беспощадную борьбу с фашистами и помогать всеми силами советским партизанам и родной Красной Армии. И знайте, товарищи, что мы свое слово держим, сложа руки не сидим и кое-что делаем...» Ну, как, друзья, так пойдет?
— Вполне,— одобрил Дима.— Только про «кое-что» надо бы поподробнее написать. Пусть знают, что мы тут не из породы пресмыкающихся.
Клава покачала головой. Как ни велико было искушение рассказать в письме о боевой работе подпольщиков, о храбрости и отваге ребят, но она понимала, что не все можно доверять бумаге.
— Письмо пойдет в трудный путь, через линию фронта,— сказала она.-^ И про «кое-что» пусть лучше устно расскажет тот, кто донесет его до наших. А еще вот что можно написать: «Мы дали торжественную клятву, и мы свое слово сдержим до конца. Ни виселица, ни пуля не страшны нам. Мы любим свою Родину и верим, что Красная Армия вернется и очистит советскую землю от фашистской проказы...»
250
— А как подпишемся? — спросил Саша Бондарин.—Поименно или одна Клава за всех?
Тут заговорили все разом. Предлагали подписаться: «Молодые островчане», «Народные мстители», «Боевые подпольщики», «Правнуки великого свободного Пскова».
— А может быть, проще,— заметила Клава,— «Островские комсомольцы»?
Поспорив еще немного, ребята согласились, что так будет лучше всего.
Поздно вечером, когда все разошлись по домам, Клава осталась с Володей наедине. Вспомнила тоскливые глаза Володиной матери, случай с арестом Володи, и сердце ее заныло.
— Послушай, может, тебе подмену найти?
Володя вспыхнул.
— Это что, отставка? Не справился? Не угоден стал?
— Как ты можешь подумать такое? Ну, просто измотался ты... устал. Который раз рядом со смертью ходишь.
— Спасибочко! Я в отпуске пока не нуждаюсь. Говори, какое будет задание?
Клава протянула письмо.
— Слышал пожелание ребят? Письмо надо передать Красной Армии. Доберешься до партизан — свяжись с Седым...
— Понятно!—кивнул Володя.— Людей к партизанам отправлять будешь?
— Да, двоих. Они красноармейцы. После госпиталя попали на торфяные разработки. Сейчас хотят перебраться к партизанам. Думаем дать им оружие. Доведешь?
— Постараюсь. Да не забудь послать немецкие газеты. Седой просил.
— Все готово. Когда думаешь выходить?
— Завтра ночью.
— И Аня с тобой?
— Нет,— запнулся Володя.— Она ногу подвернула. Хромает. Какой уж из нее проводник!
Но, сказать по правде, дело было совсем не в ноге. После того случая, когда Володя чудом спасся от ареста, он, пожалуй, впервые осознал, какая это рискованная работа быть связным и проводником, и всячески старался удержать Аню дома.
251
— Вот ей бы подмену найти, Ане,— в замешательстве заговорил Володя.— А то хромает она. И вообще не девчачье это дело — связной быть. Тут парень нужен.
Клава внимательно посмотрела на юношу: она поняла его тревогу.
— Найдем,— пообещала она.— По-моему, Саша Бондарин подойдет. Или Федя Сушков.
ЗАСАДА
На другой день поздно вечером Клава встретила на окраине города двух военнопленных — Шошина и Ключникова. С ними Клаву еще раньше познакомила Зина Бахарева и сказала, что люди они надежные и давно хотят перебраться к партизанам или за линию фронта.
Клава тогда дотошно расспросила военнопленных, кем они были до войны.
Шошин оказался колхозником из Поволжья, в армии служил вторым номером в пулеметном расчете; Ключников работал до войны кладовщиком на продовольственном складе, а в армии числился ездовым.
— А чем же вам на торфоразработках не по душе? — спросила Клава.—Пули не свистят... Работка через пень-колоду...
— Харч пустой... Никакого приварка нету,— простодушно пожаловался пожилой бородатый Ключников.— Того гляди, ноги протянешь.
— Да не слушайте вы его! — возмутился Шошин.— На душе у нас лихо... У меня два сына под ружьем. А мы вроде как на неметчине отсиживаемся.
Сейчас, встретив военнопленных у придорожных кустов, Клава спросила, как им удалось выбраться с торфоразработок.
— Охрана, она на шнапс дюже налегает,— объяснил Шошин.—Утрамбовались так, что до завтрашнего полдня не хватятся.
Клава покосилась на Ключникова, на спине которого громоздился туго набитый вещевой мешок.
— Чем это вы нагрузились?
252
— Да так, шурум-бурум всякий... Не оставлять же в бараке...
— .Напрасно! Мешать будет. Переход вам предстоит большой. Придется еще взять оружие.
Шошин метнул на приятеля сердитый взгляд.
— Говорил тебе, не связывайся с барахлом, не на побывку к жене идешь.— И он обратился к Клаве: — Я его порастрясу в дороге. Уж на меня положитесь. Вы только вызвольте нас, Клава Ивановна. Проводите до своих...
«Откуда они знают мое имя?!» — неприятно кольнуло Клаву, и она сухо оборвала Шошина:
— Ошибаетесь! Меня зовут не Клава, а Маша. Медсестра Маша.
— Может, оно и так...— согласился Шошин.— А только в народе вас все Клавой да Клавой кличут. И будто вы все дорожки до партизан знаете...
Не заходя в город, Клава провела военнопленных пустынным полем к реке. В кустах, как было условлено с Володей Аржанцевым, стояла лодка. За веслами сидела Аня Костина.
Девушка перевезла всех на противоположный берег Великой и провела в избу к Аржанцевым. Здесь Клава познакомила Шошина и Ключникова с Володей и его родителями.
— Входите, располагайтесь пока, отдыхайте перед дорогой,— пригласил Володя военнопленных. Сам он сидел в чистом белье, разомлевший: только что помылся в жаркой бане, которую ему в этот вечер приготовила мать.
Увидев грязных, помятых, заросших волосами военнопленных, сердобольная Володина мать не выдержала и позвала их мыться.
У Шошина от предвкушения даже загорелись глаза.
— Эх, и ладно бы!
— Ну, мать моя, что это ты за банный день затеяла? — упрекнул ее старший Аржанцев, поглядывая в окно.— Им же в путь пора...
— Ничего, успеется. Да и примета добрая...— заторопился Шошин, доставая из мешка смену белья.— Солдат на дело всегда в чистой рубахе идет. А у нас в пути тоже всякое может случиться...
253
Пока военнопленные мылись в бане, Володя и Аня сидели за ситцевой занавеской.
— Почему ты один идешь? — шепотом допытывалась девушка.— Мы ведь почти никогда не расставались.
— У тебя же нога болит.
— Уже легче стало.
— Все равно не дойти. Но я же вернусь. Ты ведь знаешь.
А вдруг тебя к Красной Армии пошлют, за линию фронта? А оттуда, может, нельзя обратно. И останешься...
— Ну что ты, Аня... Я же объясню, что мне в Остров надо. Там поймут. Я обязательно вернусь, вот увидишь. Через неделю жди меня. *
— Что-то на душе у меня тоскливо. Сосет вот... Будто я тебя и не увижу больше,—пожаловалась Аня, припадая к груди юноши.
После бани военнопленных напоили чаем, накормили, и глубоко за полночь они вместе с Володей тронулись в путь.
* * *
Шли долго, всю ночь и утро. Густой промозглый туман спустился на землю. Трава была мокрая, с деревьев капало, раскисшая земля чавкала под ногами.
В тумане все казалось прозрачным, зыбким, ненастоящим. Вот совсем неожиданно проступило дерево, и будто это не то дерево, что неделю назад. Но нет, это оно, только совсем голое, без листьев, все в бисеринках влаги.
Или вот угол старой лесной избушки. Ей, казалось бы, нужно стоять правее, а она почему-то прилепилась на краю оврага. Да и овраг ведет куда-то не туда, не к лесу, а в поле, к жилым постройкам. ,
Володя с трудом угадывал хоженые-перехоженые места. Он часто останавливался, приседал к земле, прислушивался, а иногда, сделав Шощину и Ключникову знак рукой, чтобы они затаились, уходил вперед один и потом, вернувшись, вел спутников дальше.
— С пути, что ли, сбился? — вполголоса спросил его Ключников, с трудом волоча ноги, сгибаясь под тяжестью мешка.— Идешь, словно впотьмах шаришь!
254
— Да нет, идем правильно. Туман вот чертов... Хуже, чем ночью,— оправдывался Володя.
--Ты гляди, парень, не напорись на что...
— А зачем тебе оружие дали? — Аржанцев окинул пыхтящего Ключникова неприязненным взглядом: уже с первых минут он чем-то пришелся ему не по душе.— Напоремся — отпор дадим.
— Ну уж нет,— резонно заявил Ключников,— нам с этими немецкими харями встречаться особой охоты нет. Нагляделись мы на них. Тебе доверено нас довести в аккуратности — вот и старайся.
— Да будет вам, еще поцапаетесь,— остановил их Шошин.— И не бубните так, потище надо.
Пошагали молча. Туман немного рассеялся, и Аржанцев заметил сквозь редкий лесок большое село Демкино. Здесь всегда было полно полицаев и немецких солдат, и Володя с Аней обычно забирали от этого села в сторону.
Так Володя поступил и в этот раз. К полудню сделали небольшой привал, пожевали хлеба, переобулись и пошли дальше.
Туман вновь начал густеть. Путники пересекли какую-то речушку и попали на заболоченную луговину.
Ключников почти по пояс провалился в вязкую грязь и, выбираясь на сухое место, зло и хрипло выругался. Неожиданно послышался собачий лай, потом невнятные голоса людей и, наконец, громкий окрик:
— Кто идет?
«Засада! Нарвались все-таки»,— встревоженно подумал Володя и, подавшись в сторону, дал знак своим спутникам двигаться за ним следом.
Собаки залаяли ближе, вновь раздался резкий окрик, затем из тумана грохнули выстрелы.
Володя упал на землю и выпустил из автомата ответную очередь.
— К бою! — приказал он залегшим рядом Шошину и Ключникову.
Шошин довольно быстро изготовился к стрельбе, а Ключников все еще развязывал вещевой мешок, куда был засунут его автомат.
255
Слушай, Егор, да пошевеливайся ты, ради бога,— пото* ропил его Шошин.
— Э, да какой там бой,— отмахнулся Ключников.— Попали, как рыба в мотню. Отползать надо...
В тумане, за кустами, замелькали фигуры немецких солдат, собаки с хриплым тявканьем заходили уже откуда-то сзади.
Володя оглянулся на военнопленных. Шошин, втиснувшись в сырую землю, вел огонь, а Ключников с перекошенным от страха лицом, оставив автомат, отползал назад.
— Живым не сдаваться! Огонь! — хрипло выкрикнул Володя и, выпустив последнюю очередь из автомата, выхватил из кармана гранату. Привстал на колено и метнул за кусты, в туман, где мелькали фигуры немецких солдат. Затем туда полетела вторая граната, третья...
И в этот же миг очередь из автомата прошила ему чистую рубаху на груди. В горле у юноши заклокотало, и он повалился на мокрую землю, лицом вниз.
Падая, Володя еще раз что-то крикнул. Может, он все еще рвался в бой, может, проклинал струсившего Ключникова, а может, прощался с товарищами, с дорогой ему девушкой Аней, которую ему не суждено было больше увидеть...
ГОРЕСТНЫЙ ДЕНЬ
Еще в полутьме Клава услышала, что где-то вдали играет музыка.
«Вот и хорошо, оркестранты уже в сборе,— шевельнулась сонная мысль.^Пора и на демонстрацию. Вот если бы еще и подморозило..**?
Так с ощущением праздника в душе Клава и проснулась.. Вскочила с постели и подбежала к окну. И верно, было уже утро. Солнце, наконец-то прорвавшее пасмурное осеннее небо, светило вовсю, на мостовой и на улице лежала сизая изморозь. А где-то за стеной действительно играл духовой оркестр.
Клава горько усмехнулась. Все то же и не то. Хотя сегодня и Седьмое ноября, но нет на улице ни празднично одетых людей, ни красных флагов, ни гулко поющих серебряных репро¬
256
дукторов на столбах. И оркестр совсем не тот, что был прежде — школьный, певучий, так и манящий на улицу, а какой-то угрюмый, издающий утробные бухающие звуки: наверное, это немецкие музыканты готовятся к сегодняшнему концерту в офицерском клубе.
Стряхнув оцепенение, навеянное воспоминаниями о празднике, она быстро оделась: сегодня ее ждало немало дел.
В первую очередь надо повидать Федю Сушкова. Встреча назначена на девять часов утра у городской бани. Клава взглянула на будильник — уже пора идти — и пошарила на кухонном столе: что бы такое перекусить? Но ничего не нашла. С продуктами в доме было туго, и мать еще позавчера уехала в деревню, чтобы хоть чем-нибудь разжиться.
«Это, пожалуй, и к лучшему, что ее сегодня вечером не будет в городе»,— подумала Клава.
Выпив холодного чая с хлебом, она взяла оцинкованный тазик, мочалку, белье и отправилась в баню.
Квартала за два до бани Клаву нагнали Федя, Дима Петровский и Саша Бондарин. Дима и Саша, кийнув, быстро прошли вперед, а Федя зашагал с ней рядом.
— Слушаю,— вполголоса сказала Клава.
— Все в порядке,— сообщил Федя.— Киносеанс начнется в восемь. Бесплатное приложение мы даем в девять.
— Кто откуда действует?
— Я из будки... Дима с Сашей из окна.
— Запалы проверили?
— Да, лично. Вчера уходили в лес...
План нападения на офицерский клуб, что помещался в Доме культуры, подпольщиками вынашивался давно. Предложил его Федя Сушков. Работая в офицерском клубе, он сумел довольно ловко втереться в доверие к старшему киномеханику, обрусевшему немцу Шреберу. Особенно это доверие укрепилось после того, когда в кинобудке из-за неисправной аппаратуры вспыхнул пожар. Федя, не щадя своего нового пальто, с таким трудом справленного тетей Лизой, бросился сбивать пламя с полыхающей пленки. Домой он вернулся весь в ожогах, на спине пальто зияла внушительная дыра, рукава обгорели выше локтя, и от воротника осталось одно воспоминание.
257
При виде такого зрелища тетка затопала на племянника ногами и припомнила ему все случаи из детства, когда Федя не щадил костюмов и обуви.
— И зачем тебе было добрую справу губить, лопух ты без ума-разума? Да нехай оно дотла погорело б, это кино...
Зато киномеханика Шредера Федин поступок покорил совершенно.
— Гут, рус, гут! — хлопал он юношу по плечу.— Будет доложено по начальству. Награду иметь можешь.
Награды Федя не получил, но зато Шредер, раздобыв где-то на складе потрепанную немецкую шинель травянисто-лягушиного цвета, подарил ее Феде, и тетя Лиза, располосовав шинель на куски, залатала племяннику прогоревшее пальто.
И хотя мальчишки в городе стали звать Федю «чужеспиннгг- ком», он не очень-то унывал, так как Шредер до такой степени проникся доверием к своему помощнику, что нередко разрешал ему оставаться в кинобудке за хозяина.
Тогда Федя и заявил подпольщикам, что ему теперь ничего не стоит бросить в зрительный зал во время демонстрации кинофильма парочку гранат.
— Словом, проведу для господ офицеров киносеанс с бесплатным приложением.
Федина затея ребятам понравилась, но они высказались в том смысле, что на «приложение» скупиться не надо: гранаты можно швырнуть не только из будки, но через окна и запасные выходы. На этом все и сошлись. Гранатометчиками были выделены, кроме Феди, еще Петровский и Бондарин, и «киносеанс» решено было прйурочить к Октябрьскому празднику.
— Ну, как говорится, ни пуха вам, ни пера! — пожелала сейчас Клава Сушкову.—И передай ребятам, пусть берегут себя.
— Мы уже все обдумали,— объяснил Федя.— Дима с Сашкой, как только гранаты метнут, дают ходу — и к кладбищу. Залягут в склепе, суматоху переждут...
— А ты, Федя?
— Ну, и я с ними! Ничего, живы будем, не помрем! Мы сейчас с ребятами в баньку сходим. Попаримся с веничком! — Кивнув Клаве, он побежал догонять приятелей..
Но Клава уже раздумала идти в баню. С грустью посмотрев
258
вслед Сушкову, она повернула обратно: надо было спешить в мастерскую. Сегодня утром туда под видом заказчицы должна была зайти Аня Костина. Клава с нетерпением ждала от нее вестей о Володе Аржанцеве, который до сих пор де вернулся домой. Может быть, это так и надо: Володю задержали в партизанском отряде , или в воинской части? А может, с ним что-нибудь случилось?..
Стараясь не думать об этом, Клава прибавила шагу.
Проходя мимо базара, она неожиданно заметила Аню Костину. Девушка, закутав голову в полушалок, стояла за грубо сколоченной стойкой и продавала из мешка картошку. Торговала она вяло, безучастно, почти не споря с разбитной покупательницей, которая на чем свет ругала деревенских спекулянток и совала девушке в руку пачку денег.
Клава дождалась, пока покупательница пересыпала большую часть картофеля из мешка в свою кошелку, и тронула Аню за плечо.
— Разве ж так торгуют... Надо бы на соль сменять или на мыло. А ты даже деньги не пересчитала.
— Ой, Клава! — испуганно шепнула Аня.— Я до тебя.
Девушки свернули в тихий переулок.
— Ну, какие новости?
— Беда, Клава...— Аня грустно покачала головой.
Оказывается, к Аржанцевым в деревню дважды заходили
жандармы, спрашивали, где сейчас находится их сын, и просили показать его фотографию.
Володиной карточки отец не нашел, а про то, где находится его сын, он ответил, что ему это неизвестно: они с сыном в ссоре, и тот живет как ему бог на душу положит. И жандармы ушли не солоно хлебавши.
— Схватили, видать, Володю,—губы у Ани задрожали.— А он, наверное, не признается. Вот им и нужно установить его личность.
У Клавы сжалось сердце. Ей захотелось взять девушку за руки, привлечь к себе. Но нельзя. Кругом ходят люди, посматривают на них.
— Ну что ты, Аня! — заговорила Клава.— Откуда такие мысли? Володя же не простачок. Его легко не возьмешь.
259
А про себя подумала: «Если жандармы заинтересовались фотографией Володи, значит, действительно произошло что-то неладное».
— Ну же, Анюта! Возьми себя в руки.
— Я держусь... стараюсь.— Девушка вздохнула и протянула Клаве оставшуюся в мешке картошку.— Возьми, что осталось... не пойду я больше торговать.
— Да у меня денег нет.
— Потом как-нибудь.
— Ну, спасибо.
Девушки расстались.
Клава зашла домой, оставила картошку и с тяжелым сердцем направилась в мастерскую.
Переступив порог, бросила виноватый взгляд на часы-ходики.
— Ой, тетя Маша, опоздала!.. Браните меня. В баню ходила, потом на базар...
Мария Степановна понимающе покачала головой.
— Ох, Клашка, нигде ты толком не была. Лицо зеленое, волосы сухие — какая уж там баня! И про базар все байки придумываешь.
— Ей-ей, была! Картошки достала;. Уж и наелась я...
— Ладно, ладно. Вижу, какая ты сытая. Вот что, девки,— обратилась она к Клаве и дочерям,— пойдемте-ка завтракать. Я тут такой пир приготовила... Как-никак, а денек сегодня праздничный... Вот и отметим.
— Тетя Маша, а когда же шить-кроить будем?
— Э-э, Клашка, живая ты душа! Ты лучше спроси, когда жить-дышать по-людски станем. Посидим, вспомним, чего раньше было. Эй, девки, закрывай ателье, пусть немец чует, какой день ныне!
Обрадованная Райка бросилась в сени, чтобы запереть дверь, и в ту же минуту, бледная и испуганная, вернулась обратно.
— Мама... Там они... На машине подъехали.
В сенях тяжело затопали, дверь распахнулась, и в мастерскую вошли трое: двое в жандармской форме, один в штатском.
Человек в штатском, низкорослый, в очках, с золотущным
260
лицом, обвел всех быстрым взглядом и, старательно выговаривая каждое слово, по-русски спросил:
— Кто будет здесь Клава Назарова?
Рая и Нюшка подались к матери.
— А... а зачем вам, господин хороший? — чуть заикаясь, спросила Мария Степановна.— Здесь швейная мастерская... Частное, так сказать, предприятие... Я — его хозяйка... вполне законная... А это мои ученицы. Имею на то разрешение городской управы. По всей форме. Могу показать.
Мария Степановна говорила как заведенная, беспокойно поглядывая на Клаву, и, чтобы выиграть время, даже принялась шарить в шкафу.
— Отвечать по существу,— недовольно перебил ее переводчик.— Я спрашиваю, кто здесь Клава...
— Я Назарова! Что надо? — Клава сделала шаг вперед и в упор посмотрела на переводчика.
— Та-ак! — По лицу переводчика пробежало некое подобие улыбки, и он кинул довольный взгляд на жандармов, словно хотел сказать: «Видите, это оказалось совсем не так уж сложно». Затем, обернувшись к Клаве, приказал: — Следуйте за нами!
У Клавы перехватило дыхание, голос ее стал хриплым.
— Что вам надо? — с вызовом повторила она.
— Желаем осмотреть квартиру,— осклабился переводчик.— Очень интересуемся вашим житьем-бытьем.
— Это же моя ученица! Я за нее налоги плачу...— Мария Степановна метнулась к Клаве и ухватила ее за руку.— У меня частное предприятие... Мы на господ офицеров работаем...
Переводчик кивнул жандармам. Те оттеснили хозяйку мастерской в сторону и, подтолкнув Клаву к двери, вывели ее в сени.
Здесь по требованию переводчика Клава поднялась на второй этаж, открыла свою комнату, и жандармы приступили к обыску.
Первым делом они перетрясли все книги на этажерке, покидав на стол томики Пушкина!, Некрасова, Маяковского. Потом принялись рыться в буфете, в бельевом шкафу. Стащили с кровати матрацы, заглянули во все чемоданы.
Клава сидела на лавке и чувствовала, как у нее пылают ще¬
261
ки и дрожат ноги. Что ж это? Почему обыск? Неужели жандармы напали на след подпольщиков? Неужели ее тревога за Володю Аржанцева не напрасна и он действительно попал в руки гестаповцев?
А может, жандармы выследили Федю, Диму и Сашу и сейчас у каждого из них в доме вот так же роются в вещах?
А обыск между тем шел своим чередом. Жандармы даже выворотили половицу и долго шарили под полом железной кочергой, выгребая оттуда паутину и мусор. Один из жандармов, высокий, густоусый и, как видно, старший по чину, что-то сердито принялся выговаривать переводчику.
Тот обернулся к Клаве.
— Слушайте, Назарова,— миролюбиво заговорил он.— Господин унтер говорит, что ему ясно, что вы за персона. Но зачем же создавать всем нам лишнюю работу? Укажите сами, где у вас все это спрятано, и ваше положение будет значительно облегчено.
— Что именно?
— Ну, как вы не понимаете? Листовки, газеты, литература. Возможно, есть и взрывчатка, оружие...
— Переведите господину унтеру,— с серьезным видом сказала Клава,— что он очень бездарно проводит обыск. Надо развалить печку, пробить стены:.. Могу ему даже порекомендовать разобрать чердачные перекрытия...
Переводчик вспыхнул:
— Острить вы будете несколько позже... и в другом месте.
В это время жандарм помоложе, роясь в бельевом шкафу,
издал торжествующий звук и подозвал густоусого. Вдвоем они вытащили из-под белья видавший виды краснобокий пионерский барабан с пробитой кожей, пару захватанных барабанных палочек, помятый, потускневший горн и с полдюжины алых шелковых пионерских галстуков-косынок.
— Гут, зер гут! — с довольным видом похвалил густоусый, подзывая к себе переводчика.
Переводчик скорчил кислую гримасу и заговорил по-немецки, видимо объясняя жандармам, что все это — барабан, горн и галстуки — самые заурядные атрибуты пионерской организации и еще ничего не доказывают.
262
Густоусый что-то буркнул под нос, потом швырнул в угол гори и барабан, хотел было бросить туда, же и галстуки, но, раздумав, сунул их в карман шинели.
— Вот видите,— усмехнулась Клава,— вы и нашли вещественные доказательства.. Но об этом же весь город знает* что я до войны работала пионервожатой.
Как ни странно, но этот эпизод с галстуками, горном и барабаном неожиданно успокоил ее. Обыск ничего не принес жандармам.
Надо полагать, что и у других подпольщиков жандармы найдут не больше. Так зачем же отчаиваться и впадать в панику? В тюрьме ведь тоже можно будет продолжать борьбу...
— Теперь я могу заняться швейным делом? — поднимаясь, опросила Клава, когда обыск подошел к концу.
— Боюсь, что нет,— насмешливо сказал переводчик.— Придется вас кое-куда доставить.
Жандармы вывели Клаву на улицу, втолкнули в грязно-зеленый «виллис» и сели рядом.
На крыльцо выбежали Мария Степановна с дочками, соседки.
— Клашенька, куда это тебя? — закричала Самарина.
Клава была бледна и спокойна.
— Скажите маме, что я скоро вернусь! — сказала она.
Машина, рыгнув синим вонючим дымом, рванулась со двора.
В ОДИНОЧКЕ
В тюрьме Клаву посадили в одиночную камеру. Узкое зарешеченное окно со скошенным каменным подоконником, жесткая койка, крохотный столик, намертво привинченный к стене, глазок-отверстие в тяжелой железной двери, вонючая параша в углу — все именно так, как Клава представляла себе по книжкам. Не хватало, пожалуй, только бородатого тюремщика со свирепым лицом.
Но вскоре появился и тюремщик, вернее, тюремная надзирательница.
Открылась тяжелая дверь, и в камеру вошла кривоглазая,
263
одутловатая женщина с крупным дятлиным носом. Она поставила на столик оловянную миску с какой-то темной бурдой и буркнула:
— Ешь, девка!
Клава вскочила с койки: голос ей показался знакомым.
— Марфуша!
— Ну и Марфуша,— неприязненно ответила надзирательница.— Чего вылупилась? Ешь знай. Голодовку, что ли, объявила? Ни к чему это.
Клава не сводила с надзирательницы глаз. Да, это была Марфуша Пахоркина, вдова с крайней улицы, в прошлом спекулянтка, гуляка и запивоха.
Когда Клава была пионервожатой в школе, она не раз заходила к Пахоркиным, чтобы выяснить, как живет ее дочка Даша. Марфуша била дочь, заставляла ее торговать на базаре, и Даша не раз со слезами жаловалась Клаве, что лучше она сбежит на край света, чем будет терпеть такую мать. Стараниями райкома комсомола Дашу удалось устроить в детский дом.
— Тетя Марфуша, как же это вы? — в смятении заговорила Клава.— На такой работе?
— Ладно, ты меня не резонь! — помрачнела Пахоркина.— Попала, значит, попала. Ты лучше скажи, как сама сюда угодила?
— Откуда мне знать... пришли и забрали.
— Эх, Клаха, Клаха! — покачала головой Пахоркина.—Значит, опростоволосилась где-то... на след навела.
— Сижу вот, и на допрос не вызывают.
— А ты не спеши. Всего тебе перепадет, всего достанется. Не в доброе ты место попала, девка.
Пахоркина сказала это без всякой злости, а скорее сочувственно и жалостливо.
Клава украдкой глянула на надзирательницу: перед ней стояла усталая, чем-то сломленная женщина, никак не похожая на прежнюю разгульную «бешеную Марфушку» с базара.
Сердце у Клавы сжалось.
— Тетя Марфа, а где сейчас ваша дочка?
Пахоркина вздрогнула, словно коснулись ее незажившей раны, и, помолчав, с трудом выдавила:
264
— Перед войной она мне письмо прислала. В летное училище определилась, на штурмана. Так мы с ней и не замирились тогда... Не успели.— Она вдруг шмыгнула носом и сердито прикрикнула:—Да чего ты как пластырь липнешь, где да как! Не положено мне с тобой разговаривать, и все тут.
С силой рванув дверь, Пахоркина поспешно вышла из камеры.
Оставшись одна, Клава подняла голову к окну. Был уже вечер, в узком проеме окна проглядывало темное небо, и на нем мерцала одинокая холодная звезда.
Клава подошла ближе к окну, приподнялась на цыпочки, чтобы дотянуться до оконной решетки,— нет, высоко.
«Одна-то мне звездочка всего и осталась»,—с грустью подумала Клава и тут же спохватилась. Опять она распускается и теряет власть над собой. А ей еще надо жить, сражаться, воевать, хотя она и в тюрьме.
Клава легла на кожу и попыталась представить себе, как ее завтра вызовут на допрос, какие зададут вопросы, что она будет отвечать.
«А если начнут истязать, бить?» — вздрогнула Клава. Она вспомнила, как они с Варей Филатовой, еще будучи пионерками, собрались бежать в Испанию, в Интернациональную бригаду, и втайне от всех вырабатывали в себе силу воли: кололи себя иголками, подносили к ладони горящую свечу — и все это на тот случай, если их захватят франкисты и начнут пытать в застенке. Тогда это было очень больно...
Забывшись, Клава не заметила, сколько прошло времени, как вдруг приглушенный звук взрыва заставил ее вскочить с койки.
И как только она могла забыть! Ведь сейчас, наверное, девять часов, и ее друзья выдают гитлеровским офицерам «бесплатное приложение»!
За окном вновь загремело, небо осветилось багровыми сполохами.
«Нет, это не ребячья работа,— подумала Клава.— Гранаты с такой силой рваться не могут».
Прошло несколько минут, и тяжелый грохот потряс тюрьму: теперь уж бомба разорвалась совсем близко. В камере потух
265
свет. В городе завыла сирена, судорожно затявкали зенитки. Взрывы доносились все чаще и чаще.
— Да это же наши бомбят, наши! — услышала Клава ликующий, истошный вопль: видимо, это выражали свою радость заключенные из камер третьего этажа.
А другой голос вторил ему в короткие минуты затишья между взрывами, как будто летчики могли его услышать:
— Шпарь, соколы, дроби свастику! На тюрьму цельте, на тюрьму!..
Затем послышался тяжелый топот сапог, брань, вопли, чей- то торжествующий выкрик: «Да здравствует советская...», гулкие выстрелы, и все стихло.
Сердце Клавы учащенно колотилось. Она долго прислушивалась к затихающему гудению моторов и от души пожалела, что все так быстро кончилось. Но все же ей было легко и радостно.
«Молодцы летчики! — подумала она.— Поздравили-таки немцев с праздником. Куда нашим гранатам перед бомбами! Каково вот только ребятам во время бомбежки? Мне-то в тюрьме хорошо, стены метровые, не пробьешь. А где они укрылись?»
Так с мыслями о своих юных друзьях Клава и забылась тревожным, беспокойным сном.
ЗА ДОЧЕРЬЮ
Евдокия Федоровна вернулась из деревни через два дня. В комнате было уже прибрано — постарались соседи,— но она сразу почувствовала, что произошло что-то неладное. Подкосились ноги, и она тяжело опустилась у порога на лавку, не в силах развязать мешок с провизией, принесенной из деревни.
В дверь заглянули соседки. Не решаясь войти в комнату, они молча смотрели на старую грузную женщину, на ее отекшее лицо, на руки в синих узловатых венах, упавшие на колени.
Наконец Евдокия Федоровна заметила соседок.
— Что с Клащей? — спросила она сдавленным голосом.
266
Соседки в замешательстве переглянулись: кто же первая скажет матери правду? Переступив порог комнаты, к Евдокии Федоровне подошла Самарина.
— Ты... ты, Федоровна, крепись,—глухо заговорила она.— Сама знаешь, время такое...
— А чего— время такое? — подала голос стоявшая позади всех Бородулиха.— Времечко строгое, все по закону. Ты прямо скажи Назарихе. Забрали ее дочку... Допрыгалась... За чем пошла, то и нашла. Бойчиться не надо было.
Женщины зашикали на Бородулиху, хотя и не очень решительно.
— Забрали? — переспросила Евдокия Федоровна.— Эти самые? Из комендатуры?
— Они.— Мария Степановна удрученно кивнула головой.— На машине приезжали, обыск делали.
И тут, желая хоть как-нибудь утешить старуху, наперебой заговорили соседки:
— Ты, Федоровна, не думай чего. Клаша, она спокойная уехала, без всякого страха.
— Да еще крикнула на прощание: «Скажите маме, что я скоро вернусь!»
— Вернется... Жди-пожди,— не по-доброму усмехнулась Бородулиха, проталкиваясь вперед.— Слушай, Евдокия... И за тобой два раза приходили. Мне так и наказывали передать. Как, мол, Назарова вернется, пусть сама в комендатуру явится. Ты меня слышишь или нет?
— Да слышит, слышит,— шепнула Самарина с таким видом, словно в комнате находился тяжелобольной.— Ступай ты ради бога...
— А мне задерживаться и ни к чему. Я свое дело сделала.— Бородулиха круто повернулась и вышла.
Евдокия Федоровна, оцепенев, невидящими глазами смотрела куда-то в угол комнаты. Серый платок медленно сползал с ее шеи на пол.
Самарина еле заметно махнула рукой, и соседи вышли.
— Ты бы разделась, легла.— Самарина подняла платок п осторожно тронула Евдокию Федоровну за плечо.— А еще лучше ко мне спустимся, вниз.
267
— Зачем это? — безучастно спросила старуха.
— Отдохнешь у меня, успокоишься. А то, не ровен час, опять за тобой припрут. Из комендатуры этой самой.
Вздрогнув всем телом, старуха вдруг поднялась и стала торопливо повязывать платок.
— Пойду я.
— Куда это?
— К ней, к Клаше.
— Да ты в себе, Федоровна?
— Все равно. Раз дочка там, надо и мне идти...
Пораженная Самарина даже отступила назад.
И сколько она ни уговаривала, Евдокия Федоровна продолжала твердить, что ей надо пойти к дочке.
Она достала из мешка принесенные из деревни продукты, отрезала кусок сала, полкаравая хлеба, собрала Клавино чистое белье и, увязав все это в узелок, спустилась на улицу.
— Господи, страсти-то какие!—взмолилась соседка.— Давай хоть провожу тебя. Еле же ступаешь.
— Нет, я дойду,— упрямо помотала головой Евдокия Федоровна.— Мне бы вот только посошок найти. Где-то он здесь, у крылечка...
Самарина отыскала палку, сунула ее в руки Евдокии Федоровны, и та, с трудом передвигая отечные ноги, побрела к комендатуре.
«Тронулась старая, совсем тронулась»,—решила Самарина, провожая ее взглядом.
В комендатуре Евдокия Федоровна долго объясняла жандарму, что она мать Клавы Назаровой и пришла она сюда потому, что ей велели прийти.
Жандарм вначале ничего не мог понять, гнал старуху домой, потом созвонился с кем-то по телефону, и ее наконец-то сунули в машину и повезли в тюрьму.
Прижимая к груди узелок с вещами, Евдокия Федоровна безучастно смотрела по сторонам.
Тюрьма, добротное, вместительное трехэтажное здание за высоким забором, стояла на окраине города, в верхней его части.
Тюрьма всегда есть тюрьма, но до воины жители Острова как-то не замечали ее. Тюремное здание ежегодно белили, за
268
кирпичным забором шумел яблоневый сад, кругом раскинулись деревянные сарайчики горожан, огороды, картофельные делянки. Но с приходом гитлеровцев сарайчики снесли, огороды вытоптали, всюду натянули колючую проволоку, по углам тюремного забора соорудили вышки с пулеметами и прожекторами, и люди за сотни метров обходили это заклятое, зачумленное место.
И вот теперь в этот страшный дом посадили Клаву Назарову. «За что? — думала мать.— Разве моя дочь совершила что-нибудь плохое, нечестное, корыстное?» Нет, вся жизнь дочери прошла у матери на глазах. Клаша всегда хотела и делала так, чтобы людям рядом с нею жилось лучше, чище, светлее. И если за это полагается сажать в тюрьму, так пусть и ее, старую, держат в каменном доме вместе с дочерью.
В этот же день Евдокию Федоровну вызвали на допрос. Следователь Штуббе, ведущий дело Клавы Назаровой, холеный, сытый блондин с оттопыренными красными ушами и глазами навыкате, спросил через переводчика старуху, кто и когда ее арестовал.
—■ А никто,— тихо ответила Евдокия Федоровна.— Сама пришла. Раз дочка здесь — вот и пришла.
Деланно улыбнувшись, Штуббе переглянулся с переводчиком, и тот принялся пространно объяснять старухе, что господин начальник очень рад видеть у себя почтенную муттер, которая так любит свою дочку. И, наверное, муттер хочет поскорее встретить дочь дома, в семейной обстановке, за чайным столом.
— Да чего там греха таить, очень желаю,—призналась Евдокия Федоровна.— Отпустили бы вы ее. Я продуктов из деревни привезла. Надо подкормить дочку-то...
— Да, да,— вкрадчиво улыбнулся переводчик.— Мы ее совсем не намерены задерживать. Это не в наших интересах. Осталось выяснить кое-какие пустяковые вопросы. Господин начальник надеется, что фрау Назарова, как любящая мать, поможет ему в этом. И тогда ваша дочь совершенно свободна.— И переводчик, придвинув к себе лист бумаги, принялся спрашивать старуху о том, с кем встречалась ее дочь, откуда доставала листовки, где скрывает оружие.
— Ой, господи! — взмолилась Евдокия Федоровна.— Ииче-
269
го-то я не знаю.;. Я ж беспамятная, старая... Ноги отекают... Вы уж отпустите дочку-то...
Переводчик задал еще несколько вопросов, но старуха неизменно твердила, что она ничего не знает, и все сводила разговор на то, что Клаша отощала за последнее время и что ее требуется срочно подкормить.
Пожав плечами, переводчик сказал Штуббе, что старуха или дьявольски хитра, или не совсем нормальная. Тот брезгливо махнул рукой и приказал увести ее обратно в камеру.
* * *
Ни на второй, ни на третий день Клаву на допрос не вызывали.
И когда утром в камеру зашла надзирательница, Клава спросила, не забыли ли про нее в тюрьме.
— Небось не забудут,— усмехнулась Пахоркина.— Не сразу, значит, исподволь подбираются...—- Она помялась и тяжело вздохнула: — Благо бы ты одна попалась, а то и мать за собой потянула.
— Мама?! И ее взяли? — вскрикнула Клава.
— Взяли... здесь она, в соседней камере.
Острая боль пронзила Клаву: ее мать в тюрьме! Пусть допросы, пытки, издевательства, что бы там ни было. Клава готова перенести все на свете, только бы чужие руки не тронули мать.
— Тетенька Марфа... родненькая,— забормотала Клава, хватая надзирательницу за руки.— Помогите маму увидеть! Хоть на минуту! Слово сказать!
— Тихо ты, не вопи! — сердито зашептала Пахоркина и оглянулась на дверь.— Мне что ж, жизнь не мила? На службе я, не где-нибудь. Ешь вот и ложись.— Она оттолкнула девушку и, забрав парашу, вышла из камеры.
Клава, обессиленная, повалилась на койку.
Только в сумерки она услышала характерный звук: кто-то приоткрыл снаружи глазок в двери.
— Клаха,— позвала Пахоркина.— Подойди сюда. Поговори с матерью. Только недолго.
Клава припала к глазку. Было высоко, и ей пришлось под¬
270
тянуться на руках. К отверстию в двери приблизился скорбный, усталый глаз матери.
— Мама, мамочка! — зашептала Клава.— Что они с тобой делают? Как они смеют?
— Ничего, доченька, ничего. Где ты, там и я...
— Если тебя спросят о чем, ты говори, что ничего не знаешь. Слышишь, мама?
— Слышу, доченька, слышу. Я так и говорю: я, мол, старая, глупая... Меня уже допрашивали.
— Так и говори, мама. Тебе ничего не будет. И нас скоро выпустят.
— Должны, дочка, должны. Ухожу я. Марфуша торопит... Дай ей бог здоровья, добрая она.
Глазок закрылся, и Клава осталась одна.
„ЗА. МНОЙ СЛЕДЯТ"
Странные дни переживала Клава. К следователю ее по-прежнему не вызывали, и никто, кроме надзирательницы, в камеру к ней не заходил.
Днем Клаву стали даже выпускать в тюремный двор на короткую прогулку.
Потом коридорный просунул в дверной глазок карандаш и бумагу и объявил, что заключенной Назаровой разрешается переписка с родными и близкими.
Клава жадно схватилась за карандаш. Кому же написать? Варе Филатовой, Феде Сушкову, Ане Костиной? Конечно, она будет крайне осторожна и напишет в записке только о самых невинных вещах, которые ни у кого не вызовут никаких подозрений. Главное, ей бы только получить весточку от ребят и узнать, что они находятся на свободе.
«А вдруг их тоже схватили? — мелькнуло у Клавы.— И они здесь, в тюрьме, рядом со мной?»
Пожалуй, безопаснее всего написать Марии Степановне, сообщить ей, что они с матерью живы-здоровы и их, наверное, скоро отпустят домой. За таким письмом Клаву и застала Марфуша, принесшая в камеру еду.
271
Клава поднялась ей навстречу.
— Спасибо вам. За встречу с мамой...
— А ты ладно, помалкивай,— оборвала ее надзирательница,— Здесь и стены слышат.
Она покосилась на исписанный лист бумаги:
— Строчишь? Обрадовалась?
— А что? Разве переписка не всем разрешается?
— Да кому как,— ответила Марфуша и, помолчав, добавила: — Что-то к тебе начальство уж очень доброе. Ты пиши, да оглядывайся...
Надзирательница ушла, а Клава еще раз перечитала написанные строки и задумалась. Правда, письмо было маленькое, совсем пустяковое, но, может быть, лучше не посылать даже и такого? И Клава порвала его на мелкие клочья.
Наутро Марфуша вызвала ее из камеры в коридор и сухо бросила:
— Иди во двор. Тебе передачу принесли.
Клава с волнением спустилась со второго этажа вниз и вошла в кирпичный низкий флигель, где принимались передачи.
Решетка из толстых железных прутьев делила помещение пополам. По одну сторону решетки толпились заключенные, по другую — выстроилась длинная очередь женщин, девчат и парней, принесших передачи.
Дородный полицейский принимал через окно в решетке очередную передачу, раскладывал на столе вещи и продукты, ловкими движениями мясника разрезал хлеб, мясо, сало, перетряхивал белье, носки, портянки и, убедившись, что ничего недозволенного нет, вызывал к столу заключенного и вручал ему передачу.
— Следующий! — возглашал полицейский.
Следующим оказался Петька Свищев. Посиневший от холода, в живописных опорках, в потрепанном широком пиджаке, он просунул в окошко сверток.
— Кому передача? — спросил полицейский.
— Назаровой. Клаве Ивановне,— как можно солиднее пробасил Петька.
Полицейский заглянул в список, что лежал перед ним на столе, и принялся «обрабатывать» посылку. Особое внимание
272
привлекла бутылка из темно-зеленого стекла. Полицейский посмотрел ее на свет, поболтал над ухом, потом, вытащив пробку, наклонил над ладонью: из горлышка потекло молоко.
Убедившись, что все в порядке, он отодвинул продукты на край стола и крикнул:
— Назарова здесь?
Клава подошла к столу.'
— Забирай передачу! Да, кстати... Вам разрешается свидание. Пять минут. Эй, малец! — позвал полицейский Петьку.— Иди вон туда, к решетке.
Сняв вязаную шерстяную кофту и сложив в нее передачу, Клава подошла к деревянному барьеру, что был сооружен метрах в двух от железной решетки. По другую сторону решетки уже стоял Петька. Лицо его дергалось, глаза часто моргали, покрасневший нос шевелился: мальчишка не то собирался чихнуть, не то заплакать.
Клаве вдруг показалось, что Петька, забыв про всякую осторожность, сейчас начнет рассказывать о ребятах, о их делах, о последних новостях в городе. Испугавшись, она заговорила первой, быстро и громко:
— Здравствуй, Петя! Расскажи, как тебе живется? Холодно? Простудился, верно?
— Простыл малость... дома топить нечем. А так я хорошо живу! Вот молока тебе принес,— в тон ей ответил Петька и, понизив голос, шепнул: — Там записка в пробке, записка...
Вдоль решетки со скучающим видом прогуливался молодой франтоватый полицейский, и Клава сразу приметила, что он настороженно прислушивается к их разговору.
— Спасибо, Петя, за молоко! — вновь громко заговорила она и выразительно подмигнула.— А как у вас с картошкой? Много накопали?
— Двенадцать мешков. На зиму с лихвой хватит. И капусты запасли,— разошелся Петька, обрадованный тем, что Клава услышала его шецот о записке.— Я и грибов насобирал и орехов...
— А зимой подледной ловлей рыбы займись.
— А как же! Я уже и пешню достал. Соберу компанию ребят. Дело у нас пойдет.
10 Библиотека пионера, т. 7
273
— Пять минут кончились,—объявил полицейский.
— До свидания, Петя,— улыбнулась Клава.— Передай привет своей маме, ребятам. Скажи, что я жива-здорова.
— Ага! Всем передам! — кивнул Петька и вдруг припал к прутьям решетки: — Тетя Клава, а тебя скоро выпустят? А? Скоро?
— Давай, давай от решетки! — шагнул к нему полицейский.— Поговорил, и хватит.
Не помня себя, Клава поднялась в камеру. Едва захлопнулась тяжелая дверь, она вытащила из горлышка бутылки пробку, развернула промокший комок газеты и извлекла из нее записку.
Она была без обращения и без подписи и написана рукой Вари Филатовой.
«О В. А. до сих пор ничего не известно,— прочла Клава.— Арестовали его родителей и А. К. В остальном все в порядке. Ребята на старых местах. К Седому посылаем Кооператора. «Бесплатное приложение» не удалось. В этот день город бомбили наши. Получилось очень здорово: били точно по объектам. Сгорели два склада, разбиты орудия и в городском саду обрушился офицерский клуб.
Мы узнали, что тебе разрешены свидания. Не уловка ли это? Для пробы посылаем с передачей Свища. Ребята рвутся тебя увидеть. Как быть? Держись — мы с тобой!»
Уничтожив записку, Клава прижалась лбом к холодной стене. Так вот почему над городом стоял такой грохот! «Получилось очень здорово: били точно по объектам»,— вспомнила она слова из записки.
Хотя бы одним глазком взглянуть, что осталось от этих объектов!
Клаву пронизала теплая волна радости. Значит, не зря они вели разведку, составляли план города, переправляли его к партизанам.
Но что стало с Володей? Почему забрали его родителей? Аню? Неужели это так и останется загадкой?
В обед в камеру зашла Пахоркина.
— Ого! Богато натащили,— сказала она, окинув взглядом передачу.— Это кто ж раскошелился-то?
274
— Петька Свищев. Родственник он нам... дальний, правда,— выдумала Клава.
Ну если родственник, это куда ни шло.— Пахоркина покосилась на дверь.— Я тебе, Клаха, вот что скажу. Если какие подружки придут или приятели, ты их не встречай. Полицаи всех примечают. А потом пойдут таскать да допытываться...
«А ведь она права,— с тревогой подумала Клава.— Не зря тюремщики такими добренькими прикидываются. Не иначе, хотят выследить всех подпольщиков».
Клава отделила большую часть продуктов и попросила надзирательницу передать их матери.
— Передам,— согласилась Пахоркина. — На тюремной баланде недолго и ноги протянуть.
— Тетя Марфуша, а вы Петьку Свищева знаете? — спросила Клава.
— Это Аграфениного байстрюка-то?
— Вот-вот... Будете мимо проходить, скажите ему... Да нет, я лучше записку напишу.
— Вот уж несподручно мне с записками-то...
— Да всего несколько слов. Чтобы он мне в следующий раз платок пуховый принес. И яблок хочется. Ну, тетя Марфуша, удружите вы мне.
— Ладно уж,— буркнула надзирательница.— Заготовь писульку. Утром сменюсь, прихвачу.
«Верный мой Петя! — написала Клава на клочке бумаги, когда Пахоркина вышла из камеры.— Срочно передай всем, всем нашим. Пусть в тюрьму никто из них ни под каким видом не приходит. За мной следят. К. Н.».
ОЧНАЯ СТАВКА
Наконец-то Клаву вызвали на допрос.
Ее встретил обер-лейтенант Штуббе. Рядом с ним сидел уже знакомый Клаве переводчик.
Штуббе долго и пристально разглядывал Клаву, словно обдумывал, с чего начать допрос. Потом он ровным голосом заговорил о чем-то с переводчиком.
275
Обер-лейтенант предлагает вам,— обратился переводчик к Клаве,—во избежание неприятных последствий, признаться во всем чистосердечно и откровенно.
Штуббе ткнул пальцем в красные пионерские галстуки, что лежали на столе.
— В чем именно?
— Вы были пионервожатой? — спросил переводчик.
— До войны — да,— ответила Клава.— Но об этом знает весь город.
— Вы комсомолка?
— До войны — да. И об этом также всем известно.
Рассказывайте дальше,— предложил переводчик.
— Дальше ничего не было. Началась война, и я поступила ученицей в швейную мастерскую. Никуда почти не ходила. Вот и все.— Клава с трудом перевела дыхание.
Мягко улыбнувшись, Штуббе с сожалением покачал головой.
— Напрасно упорствуете, Назарова,— миролюбиво сказал переводчик.— Нам все известно. Вы были связаны с партизанами и по их заданию вели разрушительную работу в городе. И вы действовали не одна. У вас была подпольная группа. Сами понимаете, что мы должны знать всех тех, кто вам помогал.
— Я вам уже говорила,— повторила Клава.— Я швея, ничем другим не занималась, никаких связей у меня не было...
— Но у нас есть неопровержимые доказательства, что вы говорите неправду,— перебил Клаву переводчик и, не спуская с нее глаз, медленно произнес: — А что вы скажете о Владимире Аржанцеве? Или об Анне Костиной?
«Володя!.. Аня! — молниеносно пронеслось в мозгу у Клавы.— Неужели они попались, и тюремщикам что-нибудь удалось из них вытянуть? Нет, этого не может быть...»
— Надеюсь, что вы не будете утверждать,— продолжал переводчик,— что вы не знаете этих молодых людей?
— Да, я их знаю,— выдавила Клава.— Встречала до войны в школе... на выпускном вечере. Потом видела несколько раз в городе.
— И это все?
— Все.
Штуббе что-то сказал переводчику и нажал кнопку звонка.
276
— Ну хорошо, допустим,— усмехнулся переводчик.— А вот этого человека вы помните? — И он обратил глаза к двери. Туда же посмотрела и Клава. Вскоре дверь открылась, и часовой втолкнул в комнату высокого громоздкого мужчину. Плечи его были опущены, тяжелые большие руки, как плети, безжизненно висели вдоль тела, левый глаз затек от багрового зловещего кровоподтека.
Клава вздрогнула: хотя и с трудом, но она узнала в этом избитом человеке Ключникова.
— Ну-с,— обратился к ней переводчик,— Узнаете?
Клава, не сводя глаз с Ключникова, молчала.
«Значит, их захватили,— соображала она.— Ключников еле держится на ногах. Видно, его пытали. Но где же Шошин? Где Володя? Что с ними?»
Клава все пыталась поймать взгляд Ключникова, но тот стоял, опустив голову, сутулый и весь какой-то надломленный.
— Молчите? — повысил голос переводчик и обратился к военнопленному: — Тогда вы, Ключников, скажите. Узнаете эту особу?
Ключников с трудом поднял голову, тоскливо взглянул здоровым глазом на Клаву:
— Она это, Назарова.
— Расскажите, каким образом вы познакомились с ней.
— К партизанам обещала переправить,— глухо заговорил Ключников.— Меня и Шошина. Проводника дала, оружие... Да вот не повезло нам, на засаду нарвались...
— Это сейчас не имеет значения,— перебил его переводчик.— Важно главное. Вы подтверждаете, что Назарова при помощи своих друзей пыталась переправить вас к партизанам?
— Чего уж там,— со вздохом признался Ключников.— Было такое дело...
— Так как же, Назарова? Будете продолжать запираться?— спросил переводчик.
Клава, которой уже многое стало ясным, вдруг обрела спокойствие.
— Я этого человека вижу первый раз,— негромко и раздельно произнесла она.
— Ну, знаете...— вспылил, поднимаясь, переводчик и при-
277
казал Ключникову подойти ближе.Может, вы ошиблись? Посмотрите на нее еще раз.
— Нет, это она.— Ключников исподтишка покосился на Клаву и вдруг заговорил почти умоляюще: — Да что там, деваха! Попалась — так уж попалась. Семь бед — один ответ.
«Он трус и предатель»,— пронзила догадка Клаву, и она холодно скользнула взглядом по лицу Ключникова.
— Повторяю, я этого человека не знаю.
— Довольно! Хватит! — заорал вдруг Штуббе, стукнув ладонью по столу. Он поднялся, вышел из-за стола и, не спуская с Клавы своих водянистых выпуклых глаз, медленно двинулся к девушке.
Клава твердо выдержала его взгляд. В ту же секунду тяжелый удар по лицу отбросил ее к стене...
* * *
Убедившись, что ни очная ставка с Ключниковым, ни милостивое разрешение получать передачи, писать на волю письма и видеться с товарищами не помогли им разоблачить Назарову и выявить ее помощников, гестаповцы прибегли к испытанному способу обращения с заключенными — к физическим пыткам и истязаниям.
Теперь Клаву вызывали на допрос почти ежедневно и почти каждый раз жестоко избивали. В первое время с ней самолично расправлялся обер-лейтенант Штуббе, потом он стал поручать это низшим чинам.
Клаву били кулаками, резиновыми палками, солдатскими ремнями с пряжкой, жгутом, скрученным из провода, или просто пинали тяжелыми сапогами.
Вначале Клава все еще продолжала ссылаться на то, что она только швея-ученица, безвыходно сидела в мастерской, никого не видела и ничего не знает. Потом она стала отмалчиваться, до крови прикусывая губу, чтобы не закричать от дикой боли.
Нередко после допроса Клава уже не могла добраться до своей камеры, и солдаты волокли ее туда под руки.
В камере она подолгу стояла у окна или дремала, сидя нах койке.
278
— Ты бы легла, передохнула,— жалостливо говорила ей надзирательница.— Не дай бог, завтра опять на допрос позовут.
— А мне сидя удобнее. Уж очень матрас у вас жесткий.
Пахоркина потрогала матрас: он был тонкий, пролежанный,
через него прощупывалась каждая доска на койке, и поняла, что спать на таком ложе избитому человеку — одно мучение.
В течение нескольких дней она, таясь от тюремного начальства, таскала в камеру стружки, солому, набивала ими матрас, и только тогда Клава смогла спать по-человечески. Потом надзирательница раздобыла для Клавы баночку с какой-то мазью и посоветовала растирать на ночь зашибленные места.
— Ох, Клаха, Клаха,— удрученно говорила она,— и что они с тобой делают? Вконец замордуют, живого места не оставят.
— Вы только маме не говорите, что меня бьют,— испуганно шептала Клава.
— Я и то молчу. А только она все равно чует, что худо тебе. И плачет целый день.
— А знаете что,— попросила Клава,— подведите маму к глазку. Пусть она на меня посмотрит.
— Куда тебя такую! Ты же вся битая, сеченая. И левый глаз у тебя затек.
— А я... я здоровым глазом ей покажусь.
В сумерки, когда Евдокию Федоровну выпустили в коридор топить печь, надзирательница позволила ей заглянуть через глазок в камеру дочери.
— Бьют тебя, доченька? — с тоской спросила мать, вглядываясь в тускло мерцающий глаз дочери.
— Что ты говоришь, мама? Ничего даже похожего...—Клава старалась говорить бодро и даже весело.
— Черная ты стала... поземлела вся.
— Умываюсь редко. Воды здесь жалеют,— поспешно заговорила Клава.— А так я жива-здорова. Носки штопаю, рукавицы шью. Скучно вот только.
— На прогулке Аню Костину встретила,— зашептала мать.— Ее тоже на допрос вызывали. Только она им ничего не сказала. Говорит, что ничего не знает.
— Мамочка, золотая моя! — задохнулась от радости Клава.— Скажи Ане, она молодец. Пусть и дальше молчит.
279
— А тебя на допросы часто водят? — допытывалась мать.
— Случается. Только они все равно ничего от нас не узнают. И придраться им не к чему. Подержат нас, подержат т выпустят. Обязательно выпустят. Вот увидишь. Только т,ы не болей прежде времени.
— Я креплюсь.— Мать неотрывно смотрела в глазок, слушала голос дочери, и слезы текли по ее лицу.
— Не надо, мама, не надо. Все хорошо будет... Хочешь, я тебе спою твою любимую? — И Клава, силясь выдавить улыбку, вполголоса запела:
Ты думала, Маруся,
Что погиб я на войне.
Пуля вострая задела Шинель серую на мне.
А сама в эту минуту чувствовала, что ей тоже начинает сжимать горло.
К счастью, вовремя появилась надзирательница и увела мать от двери.
А жизнь в тюрьме шла своим чередом.
По утрам надзирательница приносила в камеру толстую иглу, нитки и кучу брезентовых обрезков.
— Вот, пока суд да дело, приказано тебе рукавицы шить. Садись, Клаха, норма большая, а спрос с меня.
И Клава, чтобы не подвести тетю Марфушу, садилась за шитье.
В разгар работы сквозь толстые стены камеры нередко доносились истошные крики, вопли и стоны. Клава бросалась к двери, прислушивалась: должно быть, тюремщики истязали очередную жертву.
«Кого это? За что?» — содрогаясь, думала она.
Нередко в камере иод потолком трижды моргала электрическая лампочка — значит, кого-то повезли на расстрел,
И каждый раз Клава процарапывала иголкой на каменной стене глубокую черточку,— ушел из жизни еще один ее товарищ, хотя и не знакомый, но близкий ей по духу и по борьбе...
„ЗАПОМИНАЙТЕ, ДЕТИ}*
Сегодня Клава проснулась чуть свет: в тюрьме топили плохо, и ее разбудил холод. Стуча зубами, она соскочила с койки и, кутаясь в ватник, принялась быстро ходить по камере.
Шел декабрь, на улице лютовал мороз. Мутное тюремное окно промерзло, словно в него вставили рубчатое стекло, решетки опушились колючим инеем, от подоконника несло стужей.
Взгляд Клавы задержался на стене, испещренной зловещими черточками,— их уже накопилось немало.
«Что же дальше? — думала Клава.— Когда же наступит конец этому одиночному заключению?»
Уже более месяца она сидит в тюрьме, и про нее словно забыли. Давно уже не было ни допросов, ни побоев, ни пыток. Ее даже не ’Заставляют больше шить рукавицы и штопать носки.
И Клаве вроде стало легче. Синяки и кровоподтеки сошли с тела, раны зарубцевались, только вот от недоедания она похудела, осунулась, при ходьбе у нее подкашиваются ноги, а от спертого промозглого воздуха в камере кружится голова.
По ночам ее мучили кошмары. Клаве все мерещилось, что ее выводят из тюрьмы, вталкивают в теплушку и везут куда-то далеко-далеко, в чужую страну, к чужим людям, где она никогда больше не увидит ни Острова, ни матери, ни товарищей.
Да вот еще тревожно и страшно за мать. Она лежит в общей камере, вся отекшая, больная, ничего почти не ест и едва поднимается с койки.
Клава несколько -раз писала жалобы тюремному начальству, доказывая, что ее старая мать ни в чем не виновата, просила отпустить ее домой или отправить в госпиталь.
— Пустая затея. Никому до твоих жалоб дела нет,— говорила обычно надзирательница, неохотно принимая от Клавы исписанные листки бумаги. Она передавала их тюремному начальству, и ,на этом все кончалось: мать по-прежнему оставалась в тюрьме.
И тогда, потеряв самообладание, Клава затеяла бунт и принялась дубасить кулаками и ногами в дверь. Открылся глазок, и коридорный приказал ей не сходить с ума. Но Клава продолжала безумствовать, требовала отвести ее к обер-лейтенанту.
281
Когда же она разбила в кровь кулаки, вытащила из-под койки толстое березовое полено (оно служило Клаве вместо подставки, чтобы дотянуться до глазка) и как тараном стала бить им в дверь.
И Клава добилась своего: ее привели к обер-лейтенанту Штуббе.
— Наконец-то, Назарова, вы одумались,— с довольным видом встретил ее переводчик.— Это очень похвально!
— Я требую, чтобы вы освободили мою мать,— заявила Клава.— Она ни в чем не виновата...
— Все зависит от вас,— перебил ее переводчик.— Ответите откровенно на наши вопросы, и мать завтра же будет на свободе.
Но Клава знала, какие это могли быть вопросы.
— Я уже говорила,— глухо сказала она.— Я ничего не знаю. Вы можете делать со мной что угодно, но мать должны выпустить. Она старуха, больной человек. И вы не имеете права.,.
— Заткните ей глотку! — выслушав переводчика, закричал Штуббе.— Этот партизанский ублюдок еще смеет говорить о правах! Чтобы больше я ее не видел!
На этот раз Клаву избили без особого даже усердия, словно она уже потеряла для тюремщиков всякий интерес, и вновь сунули в камеру.
— Говорила я тебе, не лезь с жалобами,— упрекала ее потом Пахоркина.— Здесь же не люди — упыри, зверье...— Она долго смотрела на посеревшее лицо Клавы, на темные круги под ее глазами.— Бежать бы тебе, Клаха, отсюда...
— Бежать?! — Клава испуганно приподнялась на койке.— Да вы что, тетя Марфа?
— Вот и я говорю, отсюда и мышь не выскользнет, не то что человек. А они знай свое: помогите да помогите Клаве бежать.
— Кто это? — насторожилась Клава.
— Да оголец этот, кому я твою записку передавала, Петька. А с ним другой постарше — Федей зовут. Ходят за мной по пятам и канючат: «Подкупите охрану. Мы вам денег соберем, спирта достанем». Да разве мыслимое это дело?..
— Никакого Феди я не знаю,— отрезала Клава.
— Ладно, Клаха, ты уж не таись от меня,— с обидой сказала
282
Пахоркина.— Чую, есть у тебя дружки на воле. Я не гнида какая-нибудь, не выдам. Повидала я здесь в тюрьме, что немцы с нашими людьми делают. У меня душу рвет. Уйду я отсюда, лучше голодать буду...— Она помолчала, потом деловито добавила: — А дружкам своим так скажи: пусть горячку не порют. Им еще жить надо да дело делать.
Клава поняла, что отпираться бесполезно. Она схватила Па- хоркину за руку.
— Скажите им, о побеге никаких разговоров. Запрещаю. Пусть берегут себя...
...Сейчас, с трудом согревшись от беготни по камере, Клава припала к двери. Что это за шум в коридоре, да еще в такой ранний час? Может быть, заключенных куда-нибудь увозят или собираются вести в баню?
Вскоре в камеру вошла Пахоркина. Она была бледна, связка ключей дрожала у нее в руке, и она никак не могла засунуть их в карман.
— Что с вами? — спросила Клава.
— Ты уже встала... Вот и кстати. Приказано будить! — растерянно забормотала надзирательница и зачем-то пощупала печку.— Холодно, поди. Совсем дров не дают. А я уже Аню Костину подняла... Тоже приказано. И еще мужчину из девятой камеры. Собирайся, Клашенька, не тяни. Позовут сейчас.
— А зачем, тетя Марфуша? — Голос у Клавы дрогнул.— Вы не знаете?
— Ох, Клашенька, откуда мне знать! Машина во дворе стоит. Грузовая. С крытым верхом. Я так гадаю: куда-нибудь в другое место вас переправят. Может, в Псков, может, в Порхов. Отсюда многих туда увозят.
Клава молча принялась собираться. Надела на ноги шерстяные носки, обула туфли, голову завязала белым платочком, замотала шарфом шею.
Пахоркина бестолково суетилась вокруг девушки, заглядывала под койку, под матрас, боясь, как бы Клава не забыла чего- нибудь из вещей. Достала из-под койки старенькие сношенные калоши и заставила Клаву надеть их на туфли, туже завязала ей шарф под горлом.
— Ты потеплее одевайся. Все забирай с собой!
283
— Тетя Марфуша, а как же мама? — вспомнила вдруг Клава,—Нам же проститься надо. Позовите ее в коридор...
— Как можно? — замахала руками надзирательница.— Начальство крутом. Лютые все, торопят...
У Клавы перехватило дыхание: вот она, наверное, самая страшная минута в жизни. Быстро сняв ватник, девушка стянула с себя серый вязаный жакет, согретый теплом ее тела, и сунула его в руки Пахоркиной.
— Передай маме. И скажи... только не сейчас, потом. Скажи, что меня увезли.
— Да что ты, Клашенька? Тебе же самой теплое пригодится. Дорога, видать, дальняя, а на улице морозец прихватывает.
— Может, не такая уж и дальняя,— с трудом выдавила Клава, чувствуя, как у нее холодеет все тело, Пахоркина вдруг всхлипнула и по-матерински обняла ее.
— Назарова, выходи! — раздался в коридоре зычный голос.
Надзирательница, торопливо вытерев кулаком глаза, бросилась открывать дверь.
Клава* сунув руки в карманы и подняв голову, вышла в коридор и, конвоируемая солдатом, спустилась в тюремный двор.
Ночью, видимо, пуржило, у стен высились остроребрые сугробы снега, белые дорожки еще не успели запятнать следами.
Снежная белизна, голубые просветы в свинцовом небе, косо пробивающиеся лучи солнца ослепили Клаву, и, зажмурившись, она невольно остановилась.
Солдат подтолкнул ее к грузовику.
Клава подошла к деревянной лесенке, приставленной к заднему борту машины, и поставила ногу на ступеньку. Двое других немецких солдат, сидевших в грузовике, словно по команде, попытались схватить ее за плечи и втащить в машину.
Клава спокойно отвела их руки и сама поднялась по лесенке вверх.
Солдаты с лязгом закрыли задний борт, опустили брезент, и машина, круто развернувшись, тронулась со двора.
Клаву качнуло, бросило к боковому борту, потом с силой прижало к чему-то живому.
— Кто здесь? — спросила Клава.
— Я это! Я...— раздался возбужденный- шепот,— Узнаешь?
284
— Аня! — обрадовалась Клава.— Костина!
Девушки схватились за руки. В машине, крытой брезентом, было полутемно, и они почти не видели друг друга.
Сотни наболевших вопросов, выстраданных за долгие недели пребывания в тюрьме, слов, мыслей, догадок теснились в голове у каждой, но девушки понимали, что они не одни в машине, и только молча сжимали друг другу руки.
И все же молчать было невозможно.
— Клавочка, куда это нас? — шепотом спросила Аня.
— В другую тюрьму, наверное. А может быть, в лагерь,— не очень уверенно ответила Клава.
— А почему нас так мало едет?
— Прекращать разговор! — сиплым голосом прикрикнул один из солдат.— Запрещено!
Девушки замолчали.
Машину подбрасывало на ухабах, мотало из стороны в сторону.
У Клавы появилось неудержимое желание узнать, куда их везут. Она осторожно приоткрыла край брезента: машина мчалась городской улицей.
Вновь сипло и раздраженно закричал солдат. Клава опустила брезент, но через минуту, притянув к себе Аню, прижалась губами к ее уху.
— А кто еще с нами тут едет?
— Шошин,— еле слышно ответила Аня.— Тот самый, помнишь?
«Шошин?!» Клава едва не вскрикнула. Еще бы ей не помнить Шошина! Так, значит, он жив и находился в той же тюрьме, что и она с Аней. А теперь их даже куда-то везут в одной машине. Почему же тогда Штуббе устроил Клаве очную ставку с Ключниковым, а про Шошина не упомянул ни слова, как будто его и не было в тюрьме?
Клава ничего не понимала.
А может быть, Шошин знает, что случилось с Володей Аржанцевым? Вот сесть бы к нему поближе, расспросить обо всем. И пусть солдаты хоть лопнут от злости... Теперь уж, наверное, все равно...
Клава даже придвинулась к переднему борту, где сидел Шо-
285
шин. Но не успела она era окликнуть, как машина пошла под уклон, потом, замедлив ход, развернулась и встала.
Солдаты, выскочив из грузовика, принялись стаскивать с него брезент. Яркий свет хлынул в машину.
Привстав на колени, Клава встретилась взглядом с Шоши- ным. Маленький, с высохшим, с кулачок, лицом, заросший рыжеватой щетиной, он смотрел на нее печальными, слезящимися глазами.
— Шошин, скажи нам...— умоляюще шепнула Клава.
— Давно собирался... не мог,— отрывисто заговорил Шошин.— Слушайте вот. Не дошли мы тогда. На засаду нарвались. Парень ваш герой. Бой принял. Погиб смертью храбрых. А Ключников — трус оказался, тля...
Раздалась команда: «Встать!»
Девушки поднялись и встали у края машины. Придерживаясь за борт, с трудом распрямил свою спину Шошин.
И только тут все они заметили, что грузовик находится на Базарной площади. Невдалеке высилась громада собора с пробитым снарядом куполом, нависал над рекой цепной мост, посеребренный инеем; виднелся за торговыми рядами верхний этаж школы имени Ленина.
А на фоне собора проступала высокая, в форме огромной буквы «Г», тесанная из свежих сосновых бревен виселица, и с перекладины свисали три веревочные петли.
У Клавы потемнело в глазах, а Аня, увидев виселицу, вся сникла, словно подбитая птица, и еле слышно вскрикнула.
Обняв за плечи подругу, Клава крепко прижала ее к себе.
— Держись! Не оглядывайся! Смотри лучше на людей.
Цепь полицаев широким кольцом окружала машину, а за
ними толпились женщины, старики, ребятишки. Казалось, весь город собрался в это морозное декабрьское утро на площади. А еще дальше виднелись подводы приехавших на базар крестьян, и на них тоже стояли люди.
Разорвав цепь полицаев, к грузовику подошла открытая легковая машина.
С сиденья поднялся высокий сутулый немец и, не опуская мехового воротника шинели, монотонным голосом принялся читать приговор.
286
Потом переводчик зачитал приговор по-русски.
— «За содействие коммунистам, партизанам и бандитам,— донеслось до Клавы,— за сопротивление новому порядку присуждаются к смертной казни через повешение...»
В толпе ахнули.
Грузовик проехал немного вперед и встал под перекладиной виселицы. Веревочная петля коснулась Аниной шеи.
Девушка вскрикнула и прижалась к Клаве.
— Выше голову, Аня! Не гнись! Вспомни Володю! — Клава брезгливо кивнула на окружавших машину гитлеровцев.— А они — мразь!
И она бережным жестом, словно мать, понукающая ребенка сделать первый шаг, отстранила Аню от себя.
Девушка, стиснув зубы, выпрямилась и встала под петлю.
Клава окинула взглядом площадь. Женщины в толпе плакали, кто-то протягивал к ней руки, кто-то жалобно заголосил. Вон, кажется, и знакомые: Самарина, тетя Лиза, Елена Александровна... А вот и ее друзья: Варя Филатова, Люба Кочеткова, Зина Бахарева. Глаза у них полны слез. А кто это продирается сквозь толпу? Да это же Федя Сушков — всклокоченный, злой, он расталкивает всех плечами и что-то выкрикивает.
Эх, Федя, Федя, буйная ты голова! Хорошо еще, что Дима и Саша сдерживают его, оттирают назад.
А сколько на площади ребятишек! Они, как грачи, забрались на голые деревья, на крыши домов, вон кто-то прилепился к самому верху телеграфного столба. Одной рукой уцепился за фарфоровый изолятор, а другой — тянется к ней, к Клаве, и, кажется, шевелит губами, словно хочет сказать ей на прощание что-то очень важное. Уж не Петька ли это, верный, родной ей мальчишка!
И все это Клава видит в последний раз — женщин и стариков на площади, мальчишек на деревьях, своих друзей, заснеженные улицы города, родную школу, дорогу, уходящую на Псков, небо над головой... В последний...
У Клавы перехватило дыхание. Она глубоко вдохнула морозный воздух и звонко крикнула:
— Прощайте, товарищи! Прощай, любимый город!
287
Она вновь отыскала затуманившимся взглядом ребятишек: как не сказать им последнего слова!
Смотрите и запоминайте, дети, как враги уничтожают советских людей!..
Немецкий солдат, вскочивший в грузовик, не дал Клаве больше говорить. Схватив за шиворот, он потащил ее к петле. Клава с силой оттолкнула его ногой, вырвалась и вновь обернулась к толпе:
— Верьте, товарищи! Красная Армия придет!..
Подоспел второй солдат. Тяжелые кулаки обрушились на
голову Клавы.
Холодная веревочная петля охватила ее шею.
Пронзительно закричал в толпе ребенок, но люди на площади все же услышали последние слова Клавы Назаровой:
— Да здравствует Советская власть! Победа будет за нами!
ПОХОРОНЫ
В этот же день в сумерки в общую камеру, где помещалась Евдокия Федоровна, вошел коридорный и сказал, что Назарова свободна и может отправляться домой.
— А Клаша, дочка моя? С ней как?
— Ничего не знаю,— хмуро ответил коридорный.— Приказано отпустить старуху Назарову, и весь разговор. Давай, давай пошевеливайся.
Евдокия Федоровна с трудом поднялась с койки, собрала вещички. В руки попала вязаная жакетка дочери, которую утром передала ей Пахоркина. Она задержалась в камере всего лишь на минутку, ничего толком не объяснила, и вид у нее был виноватый и растерянный.
Попрощавшись с обитателями камеры, Евдокия Федоровна вышла в коридор и поискала глазами Пахоркину. Но той на дежурстве не было.
— Мне бы с дочкой проститься,— попросила она коридорного, показывая на дверь соседней камеры.—Хотя бы через глазок увидеть.
— Давай, старуха, топай, не задерживайся,— недовольно от¬
288
махнулся коридорный и, проводив ее до часового у входа, почти вытолкал на улицу.
Было уже темно. Мела поземка. Где-то на крыше тоскливо бренчал оторванный лист железа.
Евдокия Федоровна медленно побрела к дому. Ноги еле держали ее, сердце учащенно колотилось, голова кружилась от свежего воздуха.
Старуха шла и корила себя: какая же она плохая мать — ушла из тюрьмы, не повидав дочери и не спросив начальства, когда же Клаву теперь отпустят? Или еще долго будут держать в одиночке?
«Да нет, не должны... Клаша-то правильно говорила: обязательно нас выпустят. Вот с меня и начали...»
На обледеневшем спуске к Базарной площади Евдокия Федоровна поскользнулась и грузно осела в снег.
Ей помогла подняться коренастая незнакомая женщина, одетая в засаленный дубленый полушубок и мужскую шапку-треух.
— Куда тебя несет, старая? — ворчливо заметила она.— Теперь дороги через базар нет. Добрые люди это место стороной обходят.
— А с чего бы обходить? — возразила Евдокия Федоровна.— Я этой дорогой с малых лет хожу.
— И все ходили... А с сего дня заклятое там место, страшное.
— Да чего ж страшного-то?
— Ты что, мать моя, знать ничего не знаешь? — удивилась женщина в треухе.— Болела, что ли, или в отлучке была? — Она посмотрела в сторону Базарной площади и, вздрогнув, перекрестилась.— Да здесь утром такое видеть привелось... Век не забудешь! Трех людей повесили... Они и посейчас висят. И приказано их еще трое суток в петле держать. К ним и часовой приставлен, чтобы никто из родных их снять не посмел.
— Людей повесили? — чуя недоброе, сдавленным голосом переспросила Евдокия Федоровна.— А люди-то какие... люди- то? Чьи они?
— Да наши люди, свои, островские... Одна, говорят, Клава Назарова, другая...
Женщина в треухе не договорила.
289
Евдокия Федоровна, вскрикнув, вдруг грузно осела на нее я стала сползать вниз.
Женщина растерянно оглянулась: кого бы позвать на помощь? Кругом было пустынно. Но вот со стороны площади мелькнуло несколько фигур.
— Люди добрые, помогите! — негромко окликнула их женщина в треухе.
Фигуры приблизились: это были Федя, Дима и Ваня Архипов.
— Замерз кто-нибудь? — спросил Дима.
— Да нет. Старуху вот встретила. Боюсь, не кондрашка ли ее хватила? — Женщина в полушубке рассказала, что произошло.
Ребята наклонились над старухой и узнали Евдокию Федоровну.
— Тетя Дуня,— принялся тормошить ее Дима.— Что с тобой? Очнись! Это мы, ребята, свои...
— Эх, гады! — скрипнул зубами Федя.— Зараз обеих доконали... и мать и дочь.
— Ты погоди, не лютуй зря,— остановил его Дима.— Она еще живая, тетя Дуня. Плохо только с ней. Давайте так: вы санки достаньте и везите ее домой, а я за матерью сбегаю...
Отпустив женщину в треухе, Федя с Ваней раздобыли санки и минут через двадцать привезли Евдокию Федоровну домой.
Вскоре пришел Дима, а вместе с ним его мать и Варя Филатова.
Елена Александровна оказала старухе первую помощь, привела ее в чувство.
— Сердце у нее еще крепкое, но с головой что-то случилось,— сказала она.— Заговариваться стала. Надо около нее подежурить.
— Я останусь,— согласилась Варя и, сняв пальто, принялась наводить в запущенной комнате порядок.
Елена Александровна ушла, а ребята все еще продолжали сидеть около печки.
Ваня, втиснувшись в угол, обхватил голову руками, Дима задумчиво рассматривал подвернувшийся ему пионерский горн, Федя, не моргая, смотрел на огонь и, словно не чуя боли, голой
290
рукой хватал выскакивающие из печки пунцовые угли и бросал их обратно в топку.
Варя с грустью посмотрела на ребят. Сегодняшнее утро на площади, казалось, пригнуло их к земле, состарило на много лет.
— Шли бы вы по. домам, уже поздно,— посоветовала Варя.
После ареста Клавы она как-то само собой стала у ребят за
старшую. С ней советовались, делились мыслями, планами, высказывали свои сомнения и тревоги.
— Скоро уйдем,— отозвался Ваня.— Только сначала поговорить надо.— И он кинул сердитый взгляд на Федю.— О нем вот.
— Верно, надо поговорить! — подхватил Дима.— Ты, Варя, только подумай. Этот герой совсем голову потерял. Подговорил мальчишек и решил с ними пробраться ночью на площадь и снять Клаву с виселицы. Сегодня он даже в разведку отправился. Мы с Ваней еле утащили его с площади.
— А что ж, по-вашему, Клава трое суток на площади будет висеть, а мы терпи? — Федя судорожно вскинул голову, лицо его перекосилось от боли.— Какого человека потеряли! Какого человека! Нет, нам не простят этого! Никогда не простят!
Дима и Ваня опустили головы. О чем теперь говорить? Разве же они все эти недели не бредили планами, как бы только вырвать Клаву из тюрьмы? Тут было и вооруженное нападение, и подкуп часовых, и подкоп под тюремные стены.
Но Клава же сама запретила им даже думать об этом.
Варя опустилась рядом с Сушковым, тронула его за руку.
— Не надо, Федя, возьми себя в руки. Нам всем тяжко. Второй Клавы мы больше не найдем. Но война есть война. Когда гибнет один, десять других не лезут очертя голову под пули. Помни, что требовала от нас Клава: «Не будьте мальчишками, не лезьте на рожон. Затаитесь пока, притихните, сохраните себя. Вы еще будете нужны». И мы, Федя, будем нужны! Вот увидишь!
Варя выглянула в сени, прислушалась и кивнула ребятам.
— Теперь идите!
Юноши поднялись. Федя сунул руку за пазуху и достал три бязевых лоскута. На каждом из них черной тушью было написано:
291
«Так будет4 с каждым, кто помогает бандитам!»
Варя покачала головой: она сама видела, как немцы после казни прикрепляли эти лоскуты к груди каждого повешенного.
— Уже успели снять? Когда? С кем?
— С Петькой работали... Сегодня вечером,—признался Федя.— Можете сжечь. Вместо них мы другие лоскутки повесили.
— А что написали? — спросил Дима.
— Да так, коротенько... Клашины слова: «Красная Армия придет! Победа будет за нами!»
Дима и Ваня Архипов, не скрывая восхищения, посмотрели на приятеля и, подержав в руках бязевые лоскуты, бросили их в печку.
— Но к виселице больше не ходи, запрещаю! — строго сказала Варя Сушкову.
На следующий день она повидалась с Самариной и попросила ее сходить в канцелярию тюрьмы, чтобы получить разрешение похоронить Клаву.
Мария Степановна согласилась.
«Сумели повесить, сумеем и похоронить»,— цинично ответили ей в канцелярии, и она вернулась ни с чем.
Но когда тюремное начальство узнало, что ночью неизвестно кем на трупах казненных были повешены новые лоскуты с новыми надписями, оно разрешило родственникам снять трупы и похоронить по собственному усмотрению.
На третьи сутки Шошина доставили в покойницкую, а Аню Костину родственники увезли в деревню.
Снять Клаву с виселицы и привезти на санках домой вызвались Федя, Дима и другие ребята.
— Ни в коем случае,— решительно запротестовала Варя.— Вы видели, что на площади все время дежурят полицаи? А сегодня утром у дома Назаровых тоже поставили полицейского. Возможно, что за домом уже следят переодетые шпики. Думаете, все это случайно? Немцы, как видно, и похороны решили использовать для того, чтобы выследить подпольщиков.
— Так что же нам теперь? — возмутился Федя.— И в похоронах не участвовать?
— Нет, Клаву хоронить мы будем. Но надо делать это неза¬
292
метно, не бросаться немцам в глаза. Главное, чтобы собрать на похороны побольше народу — молодежи, женщин, ребятишек. Пусть будет массовое шествие по городу.
В этот же день Варя сходила к своему дальнему родственнику, старику возчику, и тот привез Клаву на дровнях домой.
Комсомольцы, подчиняясь приказу Вари, в квартиру Назаровых не показывались. Но дел у них хватало. Они обошли почти весь город и оповестили жителей о похоронах Клавы. Сколотили гроб, из брусничника и еловых йеток сплели десятки венков и все это переправили в дом Назаровых. На кладбище вырыли могилу.
Наступил день похорон. Сотни людей вышли проводить Клаву Назарову в последний путь.
Соседки вели под руки Евдокию Федоровну. Ребятишки, с недетской печалью на лицах, несли перед гробом зеленые венки. Петька Свищев почему-то держал в руке помятый пионерский горн.
А люди все прибывали. Они шли из-за моста, с верхних улиц и, суровые, сосредоточенные, вливались в общий поток.
Замешавшись в толпе, шагали вместе со всеми и комсомольцы.
На углах стояли какие-то люди в штатском и фотографировали идущих за гробом.
Похоронная процессия прошла по Набережной улице, пересекла Базарную площадь, потом миновала тихую Школьную улицу и приблизилась к городскому кладбищу.
Скупо светило зимнее солнце. Деревья стояли седые и. пушистые от инея. Под ногами сотен людей жестко скрипел сухой снег.
Могила была вырыта под старым развесистым кленом.
Евдокия Федоровна в последний раз припала к груди дочери.
— Спи спокойно, хорошая ты душа... живой огонек наш,— громким шепотом произнесла пожилая незнакомая женщина, склонясь перед гробом в низком поясном поклоне.
И в ту же минуту откуда-то из середины толпы вырвался яростный, громкий девичий голос:
— Прощай, Клаша! Наши за тебя отомстят!..
293
Комсомольцы, отыскав друг друга глазами, цереглянулись.
Федя осторожно пробрался к Варе Филатовой, по самые глаза завязанной старушечьим платком.
— Ну, разреши! Хотя бы несколько слов! — умоляюще шепнул он.— Какого человека-то хороним...
— Нельзя, Федя! — Варя с силой сжала ему руку.— Надо думать о завтра. А здесь полно переодетых полицаев. Да, кстати. Кто это крикнул сейчас?
— Кажется, Шурка Бобылева. Знаешь, что в комендатуре работает...
— Надо ее запомнить.
Гроб медленно опустили в могилу. О деревянную крышку застучали рыжие, промерзлые комья земли.
Заголосили старухи, молча заплакали женщины, девчата. Мальчишки вслед за взрослыми с угрюмой сосредоточенностью, словно боевые пращи, брали комья мерзлой земли и кидали их в могилу.
И вдруг острый, пронзительный звук повис над кладбищем— это Петька Свищев поднес к губам старый пионерский горн и выдул зовущую, хватающую за душу-ноту, будто хотел всем напомнить, как честно и храбро прожила свою жизнь старшая вожатая Клава Назарова.
МЫ ЖИВЕМ
В конце декабря в пуржливый вьюжный вечер юные подпольщики собрались на квартире Вари Филатовой. Говорили об очередных делах, о том, где достать взрывчатку, где заложить мины, с кем переправить собранные сведения Седому: Саша Бондарин до сих пор не вернулся из партизанского отряда, и это не на шутку тревожило подпольщиков.
Потом ребята стали докладывать о новых членах организации.
Варя сообщила, что она установила связь с Шурой Бобылевой из комендатуры. Девушка ненавидит немцев и готова беспощадно мстить за Клаву. Сейчас Шура выполняет одно задание, а потом ее можно будеть принять в организацию.
294
— У меня на лесозаводе тоже двое наклевываются,—сказал Дима Петровский.— Хорошие ребята, злые. Вчера циркулярную пилу запороли, да так ловко, что комар носа не подточит. Думаю, что их можно под присягу подводить.
— А мы вчера вроде боевого рейда провели,— поделился новостью Сенька Нехватов из Рядобжи.— Немцы там на луговине стогов наметали. Ну, мы их и попалили. Сработали с перевыполнением: по три стога на брата пришлось. Это мы в память наших — Клавы, Ани и Володи.
В комнате стало тихо.
Неожиданный стук в боковое окно заставил всех вздрогнуть.
Варя посмотрела через занавеску на улицу, потом вышла в сени.
— Кто там?
— Это я... Кооператор.
Варя открыла дверь и столкнулась с заснеженным Сашей Бондариным.
— Наконец-то! А мы уж думали...
— Все ладно. Только я не один. Со мной товарищ. Войти можно?
Варя ввела в комнату Сашу и его товарища. «Товарищ», закутанный в полушубок и шерстяной платок, оказался девушкой лет двадцати, широколицей, приземистой, темноглазой и чем-то неуловимо напоминавшей Клаву Назарову.
— Знакомьтесь, Маша Дятлова,— представил Саша.— Радистка.
— Радистка? — удивилась и обрадовалась Варя.— К нам?
— Да, Седой прислал. Вот из-за нее и задержался. Все ждали, когда ее с Большой земли в партизанский лагерь забросят.
Саша рассказал, как прошло его первое путешествие к партизанам.
— А про Клаву и Аню в отряде знают? — глухо спросила Варя,— Все, до конца?
— Знают, дошли слухи. Седой на себя стал не похож... Спрашивает, что с остальными подпольщиками.
— Живем вот.— Варя кивнула на ребят.— Собрались, о делах говорим.
— Седой так и наказывал,— передал Саша,— борьбу про¬
295
должать, как при Клаве. Тебе поручено возглавить организацию. Для помощи и лучшей связи он посылает нам радистку.
— А где у вас это самое... аппаратура? — спросила Варя.
— А мы ее, не доходя до города, в соломе спрятали,— пояснил Саша.— На всякий случай. Надо будет для рации место найти, Машу на работу устроить, обжиться ей помочь. Паспорт- то немецкий у нее есть, партизаны снабдили.
— Понятно, одним словом,— кивнула Варя.— Займемся. Комсомольцы, усадив радистку за стол, стали нетерпеливо
расспрашивать ее о Большой земле, о Красной Армии, о Москве...
Иван Серков
Перевод с белорусского А. Островского
СТРИГУНОК
Прошло всего несколько дней, как наши заняли село. Фронт еще недалеко. Еще тревожно на душе: ходят слухи о каких-то десантах. Вечерами, как только смеркнется, небо на западе начинает краснеть, ровно к морозу. Там немцы жгут деревни. По ночам они еще прилетают бомбить город, и тогда из окна нашей хаты видно, как в той стороне бродят по небу ярко-голубые лучи прожекторов, как густую осеннюю темень пронизывают трассирующие пули и снаряды. Огни то бегут стайками один за другим, то рассыпаются по небу, как из сеялки. Такими ночами у нас в хате никто не спит. Женщины из погорельцев шепчут молитвы, дети настороженно прислушиваются к далекому грохоту. Моя бабка то постоит у окна, то выбежит на крыльцо, чтоб
299
послушать, не летят ли эти гитлеры и сюда, и все просит бога, чтоб тот отвел от нас бомбу, уговаривает испортить «ихние ера- планы».
Каждый день возвращаются наши односельчане. Одни тащат на себе свои узлы, несут на руках детей, другие, впрягшись всей семьей, волокут по разбитой грузовиками и танками дороге самодельные повозки. У Поликарпа, который живет на Хуторе, уцелела корова, так он обвешал ее пожитками да еще малыша сверху посадил. Малыш обвязан под мышки материнским платком, держится двумя руками за мешок и гордо поглядывает по сторонам: ага, верхом еду! А мы с хлопцами стоим да посмеиваемся. Ишь донской казак! Смотри, чтоб только рогатый скакун не сбросил.
То на одно, то на другое пожарище приходят хозяева, ковыряются в головешках, надеясь что-нибудь найти. Может, чугунок какой не сгорел, может, уцелел глиняный жбан. И моя баб- ба не отстает от людей: сходила на чужое пепелище и набрала чуть не полный фартук перегорелых гвоздей.
— Живой о живом думает,— сказала она, высыпая гвозди в ящик с разными нужными в хозяйстве железяками.
А я ни о чем не думаю, считает бабка. Мне хорошо — на всем готовом. Только и знаю гонять по улицам, как с цепи сорвавшись. Пускай уж мой брат Глыжка бьет баклуши, ему простительно. Голоштанник еще. Он только нынче пошел бы в школу, если б не война. А я хлопец уже большой, мне тринадцать стукнуло, вот-вот женить пора, говорит бабка, а ума и на полногтя не нажил.
Бабка думает, что и мой приятель Санька Маковей, сын хохлушки Марфешки, тоже ветрогон. У нас обоих только и заботы, что войско, которое идет по шоссе, у нас в голове только танки, как будто не нагляделись на них за войну: сперва — на немецкие, теперь — на свои. Дома двор разворочен, сенцы еле живые, так у меня руки отсохли поднять на пожарище гвоздь и прибить хоть один горбыль. Вот если б нам с Санькой патроны давали, их бы мы, верно, с хлебом ели.
Тут бабка, как всегда, должна была еще сказать, что не будет из меня человека, но не сказала: под окном свистнул Санька.
— Иван! Айда самолет немецкий смотреть! Ночью сбили!
300
Бабка даже за сердце схватилась. И не диво: Санька — лучший свистун на нашей улице. Заложит четыре пальца в рот, да как дунет — мертвый подскочит. А воробьи места себе на вербах не находят.
— Чтоб тебя нечистая сила свистнула, идол рогатый,— сказала бабка, а я тем временем выскользнул на улицу. Коли упал немецкий самолет, так разве будешь думать про какие-то там гвозди и горбыли, про развороченный двор и незасыпанную завалинку! Пускай старуха уж как хочет сердится, а бежать надо. Не побежишь — хлопцы без тебя поотвинчивают и разберут все лучшее, а ты останешься ни с чем, будешь потом свистеть.
— Скорей! — нетерпеливо махнул рукой мой дружок и, уже на ходу, с завистью сказал: — Васька Мамуля нашел там чего- то вроде часов. Со стрелками.
Нам в лицо бьет промозглый ветер, снежная крупа. Из-под ног летят брызги грязной воды: на дороге большие лужи, не каждую перепрыгнешь. Но если бы с неба даже сыпались камни, и это бы нас не остановило. Не каждый день падают за нашим селом немецкие самолеты.
Самолет упал далеко, за Лисьими рвами, в лозняке. Если пойдешь по улице, так дашь крюка чуть не до хаты безногого Тимохи, а там еще лугом версты три с гаком. Но теперь такие парни, как мы, по улице не ходят. Где гуляет вольный ветер, там и нам дорога. Ни плетней тебе, ни огорожи, ни заборов с воротами. Добежать до Миронова пожарища, потом по двору, от которого осталась одна обгорелая верея, шмыгнуть в сад, перескочить через подрезанную снарядом грушу спасовку — и ты сразу окажешься на Малаховой огороде.
Тут немцы выкопали глубокий блиндаж. Из Малаховой хаты они сделали стены и накат, а смородину пересадили на насыпь для маскировки.
Из-под наката выведена жестяная труба, из которой валит сизый дым и летят искры. Хотели мы с Санькой заглянуть в амбразуру, посмотреть кто там поселился, но ничего не увидели. В амбразуру вставлена рама с кусочками грязного стекла и висит что-то вроде занавески.
За огородами в траншеях уйма пустых немецких гильз, больших и поменьше., в лентах и навалом, винтовочных и ракет¬
301
ных.’Но на гильзы мы теперь и глядеть не хотим. Подумаешь, добро! Была бы охота, так можно полный мешок насбирать.
А вот разноцветные телефонные провода — это вещь. Из них выходят отличные бусы. Многие девчата такие носят. Жаль, что у нас времени нет, а то и мы с Санькой поискали бы проводов и наделали бы бус всем-всем: моей бабке, Санькиной матери, тетке Марине.
На глаза попалась немецкая каска. Санька лихо зафутболил ее ногой. Каска, дребезжа, покатилась с горы в торфяной карьер, мы побежали дальше.
Найти самолет оказалось не так просто. За Лисьими рвами лозняки большие. Можно, не зная, целый день ходить и ничего не выходить. А тут еще осока, кочки, болото. Болото знаменитое — Моховое. Все наши Подлюбичи драли тут мох конопатить хаты, потому что столько мха нигде не найти. Идешь как по подушке.
Не было такого лета, чтоб в Моховом не тонула лошадь. Бегут тогда мужики по улице, кто с веревкой, кто с рушником, кто с лопатой, как на пожар.
Когда я был маленький, я верил, что в Моховом живут черти. Так бабка говорила. Бывало, спросишь:
— Баб, куда ты?
А она:
— В Моховое чертей слепить.
Вот и попробуй тут найти самолет. Сунулись мы с Санькой в одно место — трясина; ткнулись в другое — уходят из-под ног кочки. Только в обход остается идти. По Сухой гриве.
Но и на Сухой гриве не так уж сухо, чтоб колобком катиться. Санька оступился, прыгнув на кочку, и набрал полные бурки рыжей и холодной, как лед, воды. Пришлось разуваться и отжимать онучи.
— Ничего, согреюсь,— подбадривал он себя, дробно щелкая зубами.
Неожиданно в кустах мы наткнулись на лозовый шалаш, крытый осокой. Перед шалашом небольшая кучка угля, обгорелые головешки, картофельная шелуха. Заглянули внутрь — волглое, примятое сено. Видно, тут жили не день и не два. Может, и мой дед Миколай. Он рассказывал, что пересидел в Мохо¬
302
вом всю стрелянину, покуда наши не пришли. И не один он ту г был — полное болото и своих и чужесельских. Перед самым.приход ом наших за один.всего день их обнаружили немцы. Правда, сами немцы, не зная дороги, лезть сюда побоялись, но открыли такой огонь, аж земля стонала. Дедово счастье, что неподалеку ямка от бомбы была. Туда и кинулся старик, прямо в грязную, холодную торфяную топь. Теперь кашляет так, что слушать страшно. Но ничего, говорит: «Коли не помру, так жив буду».
Чем глубже мы с Санькой забираемся в Моховое, тем чаще нам попадаются такие шалаши: то крытые осокой, то просто из веток лозняка, большие и только чтоб одному забраться. А сбитого сегодня ночью немецкого самолета нигде не видать.
— Ничего! Найдем! — не падает духом посиневший Санька.
— Не мог спросить у Мамули,— злюсь я.— Может, он и не тут совсем.
Наконец мы выбрались на сухое. Поредела лоза, там и сям начали попадаться почерневшие от дождя копны сена. Значит, мы теперь на самой Сухой гриве. Идти стало веселей, и Санька начал даже насвистывать какой-то марш. Но ничего у него не вышло. На холоде губы у него не слушались.
И вдруг мы остановились как вкопанные. Перед нами лежит перевернутая набок разбитая телега. В сломанных оглоблях откинула голову убитая лошадь. Рядом — глубокая воронка. И вся трава вокруг густо усеяна комьями торфа.
— Бомба? — спросил Санька.
— Кто его знает,— пожал я плечами.— Мог и снаряд.
В своем селе мы знаем каждую лошадь. Можем издали угадать. Чмышихина ли это Кувалда, вымененная у итальянцев на икону богородицы, или старая кобыла Слепка деда Коврача? А тут смотрели-смотрели и не узнали. Не наша, не подлюбская.
А неподалеку, у накренившегося небольшого стожка, стоит вторая лошадь, живая, и жует сено.
— Глянь,— прямо не поверил я своим глазам.— Что это?
Пригляделись получше — и совсем это не лошадь. Жеребенок не старше года. Вороной масти. На лбу белая звездочка. Мохнатый, худой. В хвосте и гриве полно репья.
Жеребенок тоже нас заметил, насторожился, задрал голову, навострил уши.
303
— Это матка его, видатьг— кивнул Санька головой в сторону второй лошади.— Вот он тут и кружит, не отходит,
— А где же люди? — спросил я у дружка и сразу сам пошщ, что вопрос этот ни к чему. Мало ли где?. Может, погибли. Может, попали в руки немцев. Или, может, кобыла, испугавшись стрельбы, вырвалась из рук хозяина и бежала, не выбирая пути, пока не встретила свою смерть. Как бы там ни было, жеребенок сейчас ничей и его надо поймать.
— Кось-кось-кось!
Мы сняли шапки и, держа их в вытянутых руках, двинулись к жеребенку. Так я всегда ловил дедова Серого. Серый знал, что в шапке есть морковка, картофелина или какое-нибудь другое лакомство, и охотно шел навстречу. А тут так не получалось. Жеребенок недоверчиво скосил глаза на меня, потом на Саньку и подался прочь.
Несмотря на худобу, он оказался довольно прытким. Будто и бежать было некуда: впереди — трясина, сзади — мы с Санькой. Тогда жеребенок повернул назад и, чавкая копытами по грязи, проскакал перед самым моим носом. Санька бросился наперерез, хотел схватить за гриву и не поспел.
— Одичал он, что ли? — удивился мой приятель.
Долго мы гонялись за жеребенком, а тот все не давался в руки. Мы уже собирались плюнуть и пойти дальше, искать немецкий самолет. Пускай тут мерзнет на холоде, если он такой. Да подумали-подумали — и жалко. Пропадет. Волки загрызут или в болоте утонет.
Наконец, подкравшись из-за куста, Саньке удалось уцепиться за гриву, и жеребенок сдался. То ли от усталости, то ли от страха, он весь дрожал. Подымешь руку, чтобы погладить по шее,— испуганно вскидывает голову. Не бойся* глупенький, мы ребята добрые! Мы тебя не обидим, поставим в хлевок, дадим сена. Еще спасибо скажешь.
Мы нацепийи ему на шею мой ремешок от штанов и повели в село. Сперва жеребенок шел послушно и только в конце Сухой гривы вдруг встрепенулся, :чуть не вырвался из рук и заржал тонко, протяжно. У меня даже сердце зашлось.
— Это он по матке,— сказал Санька и вздохнул.— Прощается,
304
Ничего, браток, теперь не поделаешь. Привыкай жить один. Не маленький. А матку забудь. Не встанет она из тех оглобель.
Так мы идем домой втроем: я, жеребенок и Санька. Саньке хорошо: одной рукой он держится за ремешок, а другой помахивает, как хочет. Мне хуже: приходится придеряшвать неподпо- ясанные штаны.
Мы идем с Санькой и мечтаем. Вот вырастет жеребенок и станет таким красивым скакуном, какой был до войны в колхозе. Звали его Буяном. Помнится, как наши допризывники выводили его на луг и гарцевали на нем по очереди. Вдоль дороги они втыкали в землю длинные лозины и потом рубили их саблей. Долгогривый Буян летел как птица. Таким будет и наш жеребенок. Только надо колючки повыдергать из гривы и хвоста.
Мы ведем его по изрытым траншеями огородам, мимо немецких блиндажей; ведем по улице мимо пожарищ. И кто ни встретится, каждый удивленно провожает нас глазами. А мы счастливы и рады. Вспомнилась бабушкина присказка: «Кто там идет?» — «Солдат коня ведет». Наш «конь» испуганно косит глазом на высокие закопченные трубы, что стоят вдоль улицы на черных пепелищах, настороженно поводит ушами, раздувает ноздри. Воздух в селе пахнет мокрым пеплом.
На Мироновом дворе жеребенок чуть не понес. Неожиданно рядом с собой увидел черную обгорелую верею и так рванулся в сторону, что я не знал, за что мне хвататься: за гриву или за штаны. Хорошо, что Санька не растерялся и повис у него на шее.
И хорошо, что Санька после долгих споров все-таки согласился вести жеребенка в наш двор. Иначе досталось бы мне от бабки на орехи. «Что? — спросила бы она.— Покормили тебя у самолета?» А так не успела спросить, потому что я вошел в хату и сразу похвастал:
— Баб, коня привел!
— А вола ты не привел? — не поверила она, но все-таки глянула в окно. И все, кто был в хате — свои и погорельцы, взрослые и дети,— прилипли к стеклам.
— Глянь, и правда! Конь!
— Как из плена все равно, вздохнула бабка.—И чем же его кормить?
Дед Миколай тоже пришел поглядеть на нашего с Санькой
И Библиотека пионера, т. 7 3Q5
коня. Подкрутил седые усы, потоптался, погладил жеребенка по спине и сказал:
— Стригунок еще. Если хозяева не найдутся, пускай растет.
Наши с Санькой планы насчет будущего стригунка деду не
очень пришлись по душе.
— Еще что придумаете,— ворчал он, выдергивая из гривы колючки репейника.— Скакун! Не скакун, а кормилец будет. Попадет в хорошие руки — будет кормить людей хлебом. А вы разве хозяева? Охламоны вы. Дай вам волю — замордуете.
Мы обиженно молчали. И нам есть чего обижаться. Охламон — это человек, у которого в голове ветер гуляет. А мы разве такие? И неизвестно еще, кто скорей замордует. Мы его жалеть будем. На дворе теперь холодно, и я накрою стригунка на ночь старой постилкой.
— На печь его с собой возьми,— посоветовала бабка.— А не то штаны свои отдай, пускай носит. Поглядите на него! Постилку нашел. Больше ничего твоя голова не придумает?
Но мы хлопцы упрямые. Не постилку, так мешок у бабки потихоньку взяли. А на другое утро, выпустив из хлева стригунка погулять, стали приучать его к боевому имени.
— Буян! Буянчик! — кричим мы по очереди с Санькой.
Стригунок стоит посреди двора мохнатый, худой, понуро
опустив голову, свесив нижнюю губу, а в нашу сторону и ухом не ведет.
Если хочешь вырастить боевого коня, надо набраться терпения.
ПОВЕЗЛО МНЕ, ЧТО Я ИВАН
Через недельку-другую, после того как мы с Санькой привели в наш двор стригунка, фронт начал затихать. Только по ночам еще гудят самолеты и где-то далеко-далеко тяжко ухают бомбы.
Наш хромой сосед Захар Малявка, или, как зовут его все, дядька Скок, говорит, что фронт остановился на Днепре и, наверно, будет там зимовать. А дядьке Скоку можно верить: у него мужской ум. Когда б такой ум нашей бабке, она б и беды не знала, быстро нашла б на меня с Гльтжкой управу.
306
И не так по Глыжке, как по мне скучает отцовский ремень. День за днем я пропадаю на лугу за нашим огородом, где разместилась зенитная батарея. Сперва мы с Санькой помогали дев- чатам-зенитчицам копать окопы, а потом закатывать в них орудия. Мы все думали, что нам за это дадут по разу стрельнуть. Вот бы славно было! Все бы хлопцы от зависти поумирали. Но девчата — народ несерьезный. Когда началась тревога, нас вытурили с батареи как миленьких.
— Вот и хорошо,— похвалила зенитчиц бабка.— А то я думала, что вы там нанялись, или, может, которая присушила.
Часто в нашей хате останавливаются на ночлег солдаты. Одни с фронта идут, другие — на фронт. На железной печурке они заваривают чай, готовят из концентратов суп или разогревают мясную тушенку — у кого что есть. Иной раз и нам с Глыжкой перепадает от их ужина то сухарь, то ломоть хлеба с маргарином, то кусочек замусоленного, вывалявшегося в кармане или вещевом мешке сахара-рафинада, который всегда пахнет табаком. Чаще всего везет Глыжке и меныпйм нашей соседки, тетки Пёклы. А на меня еще как поглядят: парень я ладный — могу и так обойтись.
Повечеряв, солдаты развешивают вокруг печурки мокрые портянки и вповалку укладываются спать на полу. При этом часто шутят:
— Солдат, ты что под бок положил?
— Шинель.
— А что под голову?
— Шинель.
— А чем укрылся?
— Шинелью, тетка.
— Так сколько ж у тебя шинелей, сынок?
Мы с Глыжкой только дивимся, какая ж темная та тетка: не знает даже, что у солдата всего одна шинель. А бабка понимает это по-своему. Она вносит в хату несколько снопов соломы и отбирает у нас с Глыжкой постилку. На печи и так черти не возьмут.
Солдаты бывают разные. Один не успеет голову положить — и уже спит, а другой все ворочается с боку на бок, курит, вздыхает. Я больше люблю тех, кто долго не может уснуть. Тут
307
только сам не спи — непременно услышишь интересную бывальщину. Из солдатских разговоров я знаю про войну все на свете: как оно было в обороне и как в наступлении; как это, когда идешь в атаку, и как, когда тебя чиркнет пулей. Знаю, как окружили немцев под Сталинградом и куда надо целиться, когда на тебя идет их танк «тигр». Я столько всего знаю, что бабка прямо диву дается, почему еще меня на машине не возят. Все же разумники ездят, только дурни пешком ходят.
Много у нас перебывало солдат, но больше всех пришелся нам по душе сержант-танкист.
Было еще светло. Еще и Санька не собирался домой, хотя бабка и хотела, чтоб он сгинул с ее глаз: ей и без Саньки за день голову заморочили. И тут они заходят. Сержант и двое рядовых.
— Можно переночевать, хозяюшка? — спрашивают, поздоровавшись.
— Ночуйте, люди добрые,— разрешила бабка.— Ночуйте. Только тесно у нас. И пуховиков нету.
Мы с Санькой глаз не можем оторвать от сержанта. Сам высокий, белолицый, а на подбородке и щеке кожа красная-крас- ная и блестящая. Такое лицо и такие руки у одного нашего под- любского дядьки. По-деревенски зовут этого дядьку Горелым. Когда-то, еще в молодости, он на пожаре людское добро спасал. А чтоб догадаться, где горел сержант, большим умником быть не надо: у него на погонах маленькие танки.
Когда военные поставили в угол карабины и сняли шинели, мы с Санькой переглянулись. У сержанта вся грудь в медалях. Так и звенят, когда он ходит по хате.
Нам сержант очень понравился, а мы ему, видно, еще больше.
— Ну как, хлопцы, воюете? — спросил он, усаживаясь рядом с нами возле печурки.— А?
— Да воюют, нечистики,— отвечала за нас бабка.— Отцов давно дома нету, на войне, так им воля. Я тут одна вот с этими антихристами,— показала она на нас с Глыжкой, а потом и на Саньку,— а у этого мать есть, так ему и мать не указ.
Сержант, видать, дядя свойский. Бабке он сочувственно покивал головой, а когда она отвернулась, подмигнул нам .одним
308
глазом. И мы поняли, что он за нас, но только с бабкой отношения портить не хочет. Потому, видно, и разговор такой повел:
— Не по-гвардейски у вас, ребята, получается, коли так. Выходит, ребята, вы своего командования не слушаетесь.
Тут даже мурзила Глыжка заулыбался. Наша бабка — командование. Генерал в латаной юбке и засмальцованном фартуке. А нос в саже. Сперва руками взялась за чугунок, потом — за нос.
— Поучи их, поучи, человече,— попросила бабка сержанта. Она очень любит, когда солдаты учат нас доброму, и всегда их просит об этом. А недоброму, она считает, мы и сами научимся.
— Разберемся,— пообещал сержант, стягивая с ног сапоги, н опять подмигнул нам по-свойски. На гимнастерке у него между медалей несколько красных нашивок. Мы впервые такие видим. Верно, это за подбитые танки. Сколько танков подбил, столько нашивок.
— Нет, ребята,— покачал головой сержант,— не угадали. Это за ранения.
Мы с Санькой глазами пересчитали эти нашивки и посмотрели друг на друга. Шесть штук. Ну и народ у нас! Крепкий. Места на нем живого нет — и хоть бы что.
Мне невтерпеж узнать: это только военным дают такие нашивки или могут и Саньке дать.
Сержант недоверчиво посмотрел на моего приятеля.
— А ему за что?
— Как это — за что? Пускай поглядит.
Санька охотно задрал рубаху, и солдаты с уважением посмотрели на его худую спину, на которой выпирают лопатки и можно пересчитать все ребра и позвонки. Синевато-белая кожа расписана огненными рубцами.
— Это у него пистолет на спине,— объяснила солдатам бабка, но те ничего не поняли, и пришлось вмешаться мне.
Никакого пистолета у Саньки на спине нету. Это немцы его так били. Мы хотели идти в партизаны, нашли три гранаты, а пистолетов нигде найти не могли. Тогда Санька украл у офицера, который жил у них в хате. А его поймали.
— Одним словом, наделал беды и себе и матери,— перебила меня бабка.— Та аж поседела, бедная. Партизаны нашлись!
Но, несмотря на бабушкино презрительное замечание насчет
309
наших партизанских заслуг, Санькин авторитет вырос на глазах. Еще раз поглядев на голую спину, сержант серьезно сказал:
— А нашивку могут дать: боевые раны.— И, немного подумав, добавил: — Э-э, да что тут долго ждать! Назаренко, у тебя там найдется красный лоскуток?
Тот, кого назвали Назаренко, уже немолодой и, видно, хозяйственный солдат, стал копаться в своем вещевом мешке, перекладывая с места на место мыло, дратву, новую пару портянок... Нашелся там и кусочек красной материи. Назаренко сам отрезал от него сколько надо и на наших глазах сделал нашивку — точь-в-точь как у сержанта.
Санька застыдился, покраснел и стал отнекиваться, мол, ничего он не хочет, но, когда солдат подозвал его к себе, все-таки подошел.
— Ну вот... Видишь, как славно? — спросил сержант, когда Назаренко перекусил нитку и повернул Саньку лицом к хате.
И даже бабка сказала:
— Дорогая вещь. Теперь ей цены нет,— и тяжко вздохнула. Бабка глядела не на нашивку, а на иголку, которую солдат
собирался воткнуть себе в шапку. И воткнул бы, и спрятал, когда б бабка не вздохнула еще раз. Не вздохнула, а прямо-таки простонала. И иголка с зеленоватой солдатской ниткой оказалась у бабушки в руках.
— На, хозяюшка, пользуйся,— великодушно махнул рукой Назаренко, и бабка даже посветлела.
Теперь всем хорошо: у Саньки — нашивка, у бабки — иголка. Только мне обидно: сижу — и никому до меня дела нет. Санькина доблесть всем глаза заслонила.
И только когда Назаренко сел на свое место у печурки, сержант обратил внимание и на меня.
— А тебя как зовут? — поинтересовался он.
— Иван.
— Молодчина,— похвалил сержант, будто бы я сам себя окрестил.— Правильное имя. Иван — это Иван. Сила.
И хотя такая похвала — не красная нашивка, у меня немного легче стало на душе. Особенно, когда пошли разные истории. А из тех историй, что солдаты рассказывали, перебивая друг друга, выходило так, что куда ни кинь — Иван и самый вы¬
310
носливый, и самый работящий, и самый живучий, и хитрее и умнее фрица. Его только разозлить трудно, потому как душа у него добрая, ну, а уж когда разозлится — дает так дает. Не обрадуешься.
Солдата, который сделал Саньке нашивку за ранение, зовут Василием. Второго, низенького, похожего на татарина,— Юсупом. Но оба они говорят о себе, как об Иванах. А мне и примазываться не надо: я вправду Иван! Это же я такой — и хитрый, и умный, и живучий... Да и Санька живучий... Бабка говорит — как кот.
НАША БАБКА —СОЛДАТ И ДОКТОР
Где и кто теперь живет — не разберешь. Пойдешь к дядьке Скоку занять жару, чтоб разжечь в печи, а там у него и Пяю- ны, и Нетыльки, и Кожухи — пол-улицы. Одни едят, а другие ждут, когда стол освободится.
У нас живет соседка — старая Мирониха, другая соседка — тетка Пёкла с детьми, или, как она говорит, с оравой. И старо- сельская одна семья попросилась. Хоть и не свои, а бабка не могла отказать. Если б еще не на зиму глядя...
И так оно гуртом хорошо выходит, что бабка даже сама диву дается. Начнешь, к примеру, из картохи-гнилушки коржи замешивать, а закваски нету.
— Ховра, позычь.
И старосельская Ховра одолжит.
А там, глядишь, соли ни синь пороха. Тетка Пёкла помнет- ся-помнется и скажет:
— Возьми вот щепоть, посоли.
А у бабки щепоть такая: когда Пёклиной солью посолит — воды обопьешься, когда своей — преснятина преснятиной.
Да оно и веселей и теплей вместе. За ночь как надышат, так бабка утром даже дверь отворяет, чтобы свежего воздуха впустить.
И что главное — позабыли бабы, чьи куры на чьи грядки ходили, кто кому теленка сглазил. Если и начнут ворчать одна на другую за место погорячее в печи, так бабка сама кочергу
311
возьмет, сама подгребет под чугунки жару — и тихо. Все сварится и все упреет.
Однажды между женщинами зашел разговор, почему это они стали такие добрые, и бабка сказала:
— Тю-ю! О чем вспомнили: куры-хварабуры, гряды-хвараба- ды. Это ж когда добро люди делят, тогда и сварка. А тут беда. Ее на всех хватит. И что ты сделаешь? Надо жить, как жизнь бежит.
И все с ней согласились: надо жить мирно.
Да нам еще хорошо: мы у себя в хате. А как тем, кто в немецких блиндажах? Правда, на горе еще жить можно. А вот те, кто ближе к болоту, каждое утро ведрами таскают воду, что собирается за ночь, и проклинают немцев на чем свет стоит. Нашли, гады, где блиндажи копать!
Отцову дяде, деду Миколаю, еще повезло. Хотя в нашу хату он и не успел втиснуться, зато у него огород на высоком месте и в блиндаже сухо. Мы с Санькой помогли ему сложить печь, и теперь дед в ус не дует: рубит вербы и греется.
А на дворе не осень и не зима. То сеется промозглый, мелкий, как мак, дождь, то летают белые мухи, то стучит по стеклам снежная крупа, то снова идет дождь.
— Не погода, а хвороба,— вздыхает бабка.— И как только солдаты в окопах сидят.
И правда, мы с Глыжкой и кашляем, и перхаем на разные голоса: Глыжка — тонко, заливисто, что свисток, а я — глухим басом, как в бочку. У меня кашель нутряной.
— Так-так! — подбадривает нас бабка.— Больше нараспашку бегайте, еще не то будет. Немцев пережили, так кашель печенки отобьет. Это ж надо — все равно как собаки гавкают!
Сама бабушка никогда нараспашку не бегает. Неведомо где она нашла немецкий френч и хотела, чтоб я его носил. Да не на того напала — никакие уговоры не помогли. Чтоб ребята Адольфом дразнили?
— Ну и подумаешь, какая беда,— сказала бабка. Укоротила у френча рукава и теперь носит, не снимая.
В военной форме она очень потешная. Френч висит на ней, как на палке. Полы спускаются до самых колен, выкат ворота широченный.
312
— Баб* каску тебе дать?
— А идите вы свиней пасти, мои внуки.
Когда? бабка, надев свой «хрэнч», еще накинет на голову рваный, неведомо уже какого цвета платок, мы прямо помираем со смеху.
— Гляди-тка! Шалдат! — показывает пальцем Глыжка.
Бабка обиженно поджимает губы, и тогда ее подбородок чуть
не касается острого носа. А щеки западают глубоко-глубоко: у бабки не осталось уже и тех зубов, что были до войны. Она огорченно качает головой: ну что ты с него возьмешь, с этого голопузого? А на меня ее добрые глаза глядят с укором. Мне пора уже свой хоть какой-нибудь разум иметь.
Стараясь показать, что наши насмешки ей нипочем, бабка равнодушно машет рукой и с чувством собственного достоинства замечает:
— Глаз не радует, зато душе весело.
Я притихаю, а Глыжка не унимается. Измазанный до самых глаз, в посконных латаных штанишках на одной лямке, он скачет по лежанке и хихикает:
— Ги-ги-и, влашовец!
Ну, это уже черт знает что! Тут даже я цыкнул на него, чтоб прикусил язык. А у бабки прямо руки опустились. Как подвязывала фартук, так и бросила, не подвязавши. От обиды у нее задрожали губы, но голос сделался такой ласковый, такой нежный, будто она невесть как обрадовалась, что ее так назвали.
— Вот спасибо тебе, мой внучек дорогой, вот и дождалась, мой соколик, от тебя ласки...
А сама^ поправляя старый веник, идет мимо печи в передний угол — подметать хату.
— Я думала, мое солнышко, что помру и доброго слова от тебя не услышу...
Глыжка даже растерялся: то на меня глянет, то на бабушку, и не может понять, что это она так мягко стелет. Уж не собирается ли картофельного коржа дать, а? А когда понял, что коржом тут и не пахнет, было уже поздно: пока искал ногой приступку, чтоб вскочить на печь, веник раза два прошелся по его штаникам.
— А вот тебе — солдат! А вот тебе — власовец!
313
Третий раз веник хлестнул но пустой лежанке: «соколик» сидел уже за трубой.
— Вот придет отец с войны, он тебе пособьет рога, идол! — пригрозила напоследок бабка.
Глыжка с печи ответил ей долгим заливистым кашлем.
Снизу его поддержал я:
— Кху-кху-кху!
Фельдшера в деревне нет, и лечить нас некому. Фельдшера расстреляли немцы еще в сорок первом вместе с ополченцами. За шептухой и идти далеко, да она и не пойдет даром. И бабка лечит нас сама.
Когда у нее отлегло от сердца, она внесла из сенец полный подол сухого репья, набила им щербатый чугун и, залив водой, поставила в печь. Репейный отвар, по мнению бабки, первое средство от кашля. Никакие доктора и никакие фельдшеры, никакие знахари так тебе не помогут, как репейный отвар.
Я не хотел лечиться и начал натягивать ватянку.
— Ты это куда? — стала на пороге бабка.
— Буянчику сена подкину.
— Сядь. Без тебя дала. Хозяин нашелся!
Бабка знает наши штучки. Мы с Глыжкой большие паны. Перед нами надо шапку ломать, чтоб пили такое хорошее и полезное лекарство.
А оно уже стоит на столе и дымится густым паром, и Глыж- ку вежливо приглашают с печи:
— Слезай, перхун!
Заодно и тетка Пёкла сгоняет свою ораву: Костика, Мишку, Катю и Маньку.
Глыжка, чтоб не пить отвара, находит сто отговорок: то ему горячо, то ему много, то у него уже и кашель прошел, то живот заболел. Ничего — репей и от живота помогает. От бабки не отвертишься. Она стоит над душой и следит за каждым глотком. Мы морщимся от горечи, а бабка только удивляется:
— Что — не сладко?
Чтоб нас заохотить, она и сама, хотя не кашляет, выпивает ковшик-другой горьковатого варева, да еще причмокивает, словно это ей мед.
— Пейте, пейте, не кочевряжьтесь — все как рукой снимет.
314
Вчера танкисты угостили нас сахаром, так мы сразу же его сгрызли. Нам все кажется, что последний день живем. А вот послушались бы бабушки, подумали про завтрашний день, так теперь не морщились бы.
„НЕВ АНИНА"
Санька так надокучил моей бабке, что она от него на край света ушла бы. Не успеем позавтракать, как он свистит, под окнами. А потом, если я долго не выхожу, и сам появляется на пороге:
— Добрый день.
А бабка ему:
— Сюда, рудый,— хлеба дам, а ты, рыжий, постой там. Давно не видались!
Санька не обижается на такую встречу: ко всему привык.
Сегодня мой приятель пришел раньше обычного и — еще с порога видно — с какой-то новостью. По-заговорщицки подмигнув, он позвал меня за печь, и мы зашептались. Так и есть: Санька нашел что-то... неведомо что. Оно — черное, блестящее и играет. На Брыдковом огороде за хлевами стоит.
Теперь мне уйти из дому — раз плюнуть. Стригунок выручает. Привести мы его привели, а сена кот наплакал. Вот бабка и гоняет меня с мешком на луг к стогам. А пока до луга, все село обежишь.
Выскочив на улицу, мы подались на Брыдков огород, но на полдороге остановились поглядеть, как буксуют военные грузовики. Где-то там, у леса, наведена через Сож переправа, и от той переправы по лугу, мимо городища, а потом через наше село идут и идут тяжело груженные машины с пушками на прицепе и без пушек. Лошади прямо надрываются в повозках: дорогу размесили в тесто. По ней можно пройти только утром, когда заморозки покроют лужи хрустящим ледком, а грязь застынет кочками.
Самая большая лужа у Скоковой хаты. Шоферы переезжают ее с опаской, высовываясь из кабины, чтоб заглянуть под колеса. Машины стонут на полном газу, бренчат надетыми на ко-
315
леса цепями, вязнут по самые оси, и кажется, что они не едут, а плывут. Из-под радиаторов разбегаются в стороны густые волны грязной мешанины — воды со льдом.
Мы с Санькой стоим и радуемся: вот сколько у наших машин, вот сколько у наших всего! Правда, того танка, о котором при немцах рассказывал Бусликов Костик, того танка, что внутри прячет еще штук десять танкеток, мы пока не видели. Так по нашей дороге он, может, и не пройдет, увязнет в болоте, а то и вовсе провалится под землю. Диво ли, если он, может, тысячу тонн весит?
Мы стоим и вглядываемся в лица солдат: а вдруг моего или Санькиного отца увидим, а вдруг комиссара, которого прятал от немцев покойный дед Мирон. Все может быть.
А солдаты на нас глядят. И не так, видно, на нас, как на Санькину шапку. Кое-где прожженная у костров, кое-где порванная по живому, она выглядит занятно — точно стог, вздыбленный бурей. Этот стог все время налезает Саньке на глаза, а тот то и дело сдвигает его на затылок. И все это потому, что мать остригла Саньку и большая отцовская ушанка стала на него совсем велика. Известно, он не . хотел стричься, долго отбрыкивался и упирался. Тогда тетка Марфешка рассердилась — и чик-чик его, как овечку. Получилось лесенкой: где голо, а где и пучок торчит.
На том берегу лужи, под вербами, стоит наш сосед, дядька Скок, в старом рыжем кожушке, который они носят со Скочи- хой и скоченятами по очереди. Кожушок дядьке короток и тесен, под мышками он разошелся по швам и в прорехах торчат космы серой шерсти. За войну сосед совсем отощал. Щеки прорезали сверху вниз глубокие борозды, а в небритой бороде светятся белые волоски. Правда, Скок не признает седины. У него выходит, что он масть сменил: был вороной, стал пегий.
На днях дядьку поставили председателем сельсовета, и моя бабка говорит, что теперь к нему на неподмазанной бричке не подъедешь, а нос и граблями не достанешь, так задерет. И не так Скок, как Скочиха. Вчера она приходила к нам просить решето и все хвалилась: «Мой мужик... мой мужик». Цены ему не найдет.
Но мы с Санькой не привыкли еще к тому, что Скок большое
316
начальство, и подъехали к нему без брички, пешком обошли лужу и сказали:
— Добрый день.
— Здорово, коли не шутите,— запросто ответил он, запрыгал на месте, постукивая от холода ногой об ногу.
Когда дядьке Скоку надоело прыгать, он поднял от ветра воротник и довольно благодушно объяснил нам, что скоро кончится коту масленица, а для нас с Санькой — лодырничество. Если нас не посадить за книжки, вырастем пни пнями. И пусть мы не думаем, что он тут ворон ловит, как некоторые разини, он ловит машину, чтоб привезти хоть несколько жердей с разбитого бомбой Афонькиного гумна, пока их не растащили на дрова. Надо ж хоть старую школу, бывшую волость, привести немножко в порядок. Так дядьке Скоку приказано. Кем приказано, сосед не сказал. Но мы и сами догадались: еще выше, чем он, начальством.
И как только полуторка или «студебеккер» притормаживает перед лужей, Скок живо ковыляет к кабине и начинает дудеть:
— Товарищ командир, а товарищ командир! Тут бы пару палок привезти, милок. Страху на две минуты.
Командирами он называет всех, не глядя на то, есть что-нибудь на погонах или нет. Мы с Санькой посмеиваемся: председатель сельсовета — и не может отличить командира от рядового. А он на нас диву дается: выросли, а ума не вынесли. Много мы, олухи, понимаем — это ж для политики.
Только и «политика» Скоку не помогает. Какие там палки, если машина гружена снарядами? Нельзя —• и баста. Но Скок не такой человек, чтоб сразу отступиться:
— Да что такое «нельзя»! Нельзя, милок, штаны через голову надеть, а все остальное — была бы охота.
Ему опять говорят:
— Не проси, отец, нельзя.
Только тогда сосед соглашается. Он и сам понимает, что тут «такое дело», однако ж попытка не пытка, и разводит руками.
— Нельзя, так нельзя. Дайте хоть закурить.
Дорога опустела, и нам с Санькой стоять уже не интересно, тем более что за Брыдковым хлевком нас ждет какой-то черный блестящий ящик. И мы двинулись дальше.
317
На все насмотрелись мы с Санькой за войну — видели танки, самолеты, пушки разные, пулеметы, а такой штуки видеть не доводилось. Стол — не стол, шкап — не шкап.
— Может, это тот самый, как его? Рояль? — высказал догадку Санька.
Может, и рояль.
А может, и не рояль. Но все равно, вещь интересная.
Я бросил мешок, в котором еще надо было принести с луга сена, смел рукавом с блестящей крышки снег и открыл. Вот
это да!
— Поиграем? — спросил Санька и недолго думая изо всех сил ляпнул по белым костяным дощечкам пятерней. Я даже вздрогнул, так громко получилось: блю-ю-м-м!
С унылой Брыдковой вербы слетела испуганная ворона и подалась подальше, на болото.
Бля-я-м-м! — еще крепче ударил Санька другой рукой.
Кто его знает, откуда взялось это диво на огородах нашей почти дотла сожженной деревни, на огородах, изрытых вдоль и поперек траншеями, воронками от снарядов и мин.
Бом-м-м! — зарокотало оно густым басом, как церковный колокол.
Мы с Санькой думаем так, что в блиндаже, где теперь живут Брыдки, или в их хате, пока она была цела, сидела какая-то важная немецкая «шишка». Солдат такую громадину с собой таскать не будет: на плечах ее не понесешь. «Шишка», верно, любила музыку и возила этот ящик с собой, чтоб было не скучно, чтоб, настрелявшись, можно было и поиграть. А может, думала затащить ее в свою Германию, да припекло — и бросила, отчуралась: Хватит с них, наигрались — теперь поиграем мы с Санькой.
На самом верху открывается еще одна крышка. Во, струн там, так струн! Не то что на Костиной балалайке. И толстые, как проволока, и потоньше, и совсем тоненькие. И по всем этим струнам молотят маленькие молоточки. Только в одном месте молоточки не двигаются — там, где стенка пробита осколком.
Опять от переправы пошли грузовики, там дома бабка, верно, уже вытопила печь и, закрыв трубу, рассуждает с
318
погорельцами про жизнь. Глыжка заходится от кашля. А мы тут играем на рояле.
Блим-блям, бом-бум!
Мы с Санькой не можем наиграться. Свитка на мне распахнулась, Санышна шапка сползла на глаза, а черный, пробитый осколком ящик то жалобно стонет, то сердито и грозно гудит, то заливается тонким голосом. Нам так весело, что Санька даже запел:
Фриц на бочке сидит,
А бочка с порохом!
Тут и моя душа не выдержала, тут и я разошелся на весь Брыдков огород:
Скоро бочка взлетит,
Да вместе с ворогом!
Последнее время мы с Санькой нередко заводим песни, и бабка говорит, что выходит у нас мотивно, только слушать противно. А тут и вовсе: мы поем свое, а ящик свое. Наши голоса заглушает густой беспорядочный звон. Этот звон летит над понурыми голыми вербами, над землянками и теряется где-то. в туманной, пронизанной сыростью дали.
Блим-блям-бум-бом!
«Концерт» прекратила старая Брыдчиха. Она вышла из блиндажа и застучала кочергой по накату.
— Вот я вам покажу, негодники! Вот я вам дам!
Потом старуха долго вглядывалась подслеповатыми слезящимися глазами, стараясь узнать, чьи это такие музыканты. Не узнала и разошлась опять:
— Чтоб они века не дожили, гитлеры проклятые, притащили сюда эту холеру. Чтоб у них и на том свете так в ушах звонило, как звонят эти босяки. Чтобы им так сатана обедню правил. Только одних отогнала, на тебе — другие пришли звонари. Ну, порублю я его! На щепки порублю!
И она решительно повернула в блиндаж: видно, пошла за топором. Ее огород — ее и рояль. Порубит — и ничего не сделаешь, хоть и очень жалко: такая блестящая, такая аккуратная вещь и так громко играет. Одно спасение — дядька Скок. Мо¬
320
жет, он и запретит Брыдчихе пустить этот ящик на щепки. Все- таки начальство.
Скок все еще топтался под вербой. Но теперь сосед был не в настроении: больше часа стыл на промозглом ветру, а пустой машины не случилось. И тут мы еще пристали со своим яшд^ ком.
— Да пускай рубит! — не выдержал Скок, а потом передразнил: — «Ящик... Ящик»...
Мы начали рисовать в воздухе руками, какое оно, это черное, за Брыдковом хлевком, рассказывать, какие там костяные дощечки.
— Так это ж певанина или пеянина, как его? — догадался дядька и только теперь встрепенулся: — Что? На щепки?
Через минуту он уже стоял у военной подводы и молил усатого ездового:
— Товарищ командир, а товарищ командир, порубит глупая баба на щепки. Разве ж оно есть просит, милок? А мы б его, может, в школу поставили. А может, и клуб у нас когда-нибудь будет. Вон видишь, танцоры растут.
И усач послушался. Помогла ли тут дядькина «политика», или то, что Скок сказал, какое он начальство, или присутствие таких танцоров, как мы,— завернул ездовой коней.
Когда мы приехали на Брыдков огород, старуха еще не успела порубить ящик. Правда, она уже стояла с топором и о чем-то сама с собой рассуждала. Скок, несмотря на свою хромую ногу, прямо выпорхнул из повозки.
— Ну, почему не рубишь? — со злостью спросил он.
Брыдчиха вздохнула.
— Рука не поднимается,— ответила она и кивнула головой в сторону того, что дядька назвал певаниной.— Хоть и ненужная вещь, а ты погляди, как сделано! Грех рушить.
Догадавшись, для чего на ее огород приехала военная подвода, старуха даже обрадовалась:
— Берите, берите,— великодушно разрешила она, хотя у нее никто и не спрашивал.— Увозите с глаз долой. У меня хоть тихо будет. Хоть звонари эти перестанут звонить целыми днями.
А когда начали грузить на подводу, так уже будто и пожалела.
321
— Добрая ж такая вещь. Это, кабы умел, какой шкапчик можно было сбить или еще что...
Мы с Санькой думали, что пианино повезут в школу, но Скок сказал, будто это все равно, что бросить на улице: ни окон там, ни дверей. В Скоковой же хате и без пианино негде повернуться. Пришлось затащить в дровяной сарай. Мы с Санькой уж так помогали сгружать с подводы, что мне даже палец прищемило. А когда все было сделано и мы выбежали со двора, на лугу ударила зенитная батарея. Любопытно было б хоть издали посмотреть, как там ведут огонь, да надо идти к стогам по сено. В хлеву ждет голодный Буянчик.
Я ОДИН МУЖЧИНА НА ВСЮ РОДНЮ
Стоят морозы. Снега намело по окна. Дед Миколай после недавней метели еле выбрался из землянки — не мог откопаться. А Глыжка сегодня утром нашел замерзшего воробья. Он принес птичку в хату, долго на нее хукал, грел перед печью, клал на загнетку — все надеялся, что оживет. Воробей не оживал. Тогда брат положил его на скамью, а сам пошел искать какую- нибудь тряпочку, чтоб тепленько закутать горемыку. И вдруг — кошка! Не успел Глыжка и глазом моргнуть, как она за воробья и под печь. Эх, и поднялся же в хате тарарам! Малой швырял в подпечек куски торфа, грохотал там кочергой, закинул туда бабкин веник и мою бахилу, но злодейка так и не вылезла. Глыжка ударился в слезы.
Бабка, как умеет, старается развеять его горе:
— Брось ты, глупенький, по воробью убиваться. Иван тебе нового, живого словит.— И, подмигивая мне, сердито выговаривает:— Ты ему словишь воробья или нет, лежебока? Сколько тебе повторять!
А мне холодно и хочется есть. Я лежу на печи, разглядываю потолок, смолистые сучки на отесанных досках, затейливые узоры распиленной вдоль сосны. Не о воробье — совсем другие мечты у меня в голове. Вот было бы хорошо, если б поднялась сейчас одна доска и вдруг с чердака свалился на печь мешок с такимп булками, какие приносила до войны мама из города. Да пускай
322
бы с обыкновенным хлебом, хоть с черствым, хоть с цвёлым. Вот бы чудо было: кличет бабка хлебать затирку, а я целую буханку на стол — бац!
От таких мыслей у меня засосало под ложечкой. Очень жаль, что чудеса бывают только в сказках, что только из волшебного рога всего много. Хотя, что говорить, и в жизни иной раз везет. Я с удовольствием вспоминаю полевую кухню, что с месяц назад стояла под вербами неподалеку от нашего двора. Тогда можно было жить припеваючи. Сержант-повар давал нам с Глыжкой каждый день по ломтю хлеба и позволял после раздачи солдатам обеда выскребать котел. Да это только так говорится — выскребать, а на самом деле на дне можно было черпать пшенную кашу полной ложкой. Иной раз попадались и кусочки мяса.
А вот, говорят, у Глёковой Насти и сейчас на постое какие- то командиры. Вот кому живется, так этой Насте с дочкой,— помирать не надо! Командиры ей дают и крупу, и сахар, и даже консервы. Настиной Кате каждый день тушенки перепадает. Хотел я как-то отлупцевать ее у колодца, да пожалел коно- плюшки эти рыжие. Только раз за косу дернул. А то больно умная.
Закрыв трубу, бабка присела на лавке против окна немного отдохнуть. Она положила голову на колени бабе Миронихе, и та неторопливо расчесывает ей волосы обломком костяного гребешка. Старухи беседуют о жизни. Вот люди в деревне мрут, как мухи осенью. Вчера Поликарпа с Хутора хоронили. На поминках был ячменный крупник и картофельные коржи с толченым конопляным семенем. По теперешнему времени такое и на свадьбе не стыдно поставить. А сегодня аж трое похорон. Косит наши Подлюбичи сыпняк.
Вспоминает бабка, что и в ту войну, как царя скинули, то же было. Это уж так водится: с войной цриходит и голод, и холод, и нехватка, и нужда. А болезни только этого и надо, тут она и берется за человека.
Гомонят старухи про лагерь, что сделали фашисты для наших людей. Большие тысячи согнали они туда народу и напустили на них сыпняк. Видать, оттуда и наши подлюбцы завезли это поветрие. И не так бабка самой болезни боится, как железной будки, что ездит по дворам, где есть больные. Возят ее сол¬
323
даты-санитары, прицепляя к машине полуторке. Те же еолдаты обливают хаты чем-то таким вонючим, хоть нос затыкай, а потом жарят в будке людскую одёжу. А долго ли ее там совсем спалить? Вон у Ховриной свитки, говорят, вовсе рукав истлел. В такой жаре ведь она в пыль перегорит. Разве ее потом столько проносишь?
А я про себя усмехаюсь: много они, старые бабы, понимают. Ничего там такого страшного нет. Мы с Санькой сами смотрели, как Ховрину одежду загружали. Будка как будка. Дезинфекций онной камерой называется. Внизу печка, а наверху железный шкап. Хотели мы посмотреть, какой он внутри, да солдат нас потурил. Черный какой-то, как цыган, а глаза будто осокой прорезанные — узенькие. Выскочил он со двора с той прыскалкой, что хаты обливают, и закричал, точно мы на мину собирались наступить:
— Ты сюда давай не ходи! Твой помирать будет, мамка плакать будет!
Мы с Санькой не из трусливых. Подумаешь, страх великий — помирать! Пускай еще что выдумает. А черный солдат рассердился, прыснул в нашу сторону тем самым вонючим, и прямо Саньке на штаны. Пришлось нам от камеры отступиться.
— Ой, батюшки мои! — перебила Мирониха бабкйнй рассуждения и мои воспоминания о страшной будке.— Гляди-ка, Марина-та аж бегом бежит.
Тетка Марина, мамина сестра, только скрипнула дверью, как бабка испуганно вскочила со скамьи:
— Что такое?
Из-под теткиного платка выбиваются непричесанные, поседевшие уже волосы, щеки в красных пятнах* глаза припухшие и заплаканные.
— Андрей помер...
Обломок костяного гребешка упал на пол, а наша бабка в своем «хрэнче» растерянно забегала по хате:
— Ну вот... ну вот... и мы дожили.
Дядя Андрей. Еще на прошлой неделе он приходил к нам, рылся в отцовском плотничьем инструменте, что-то выбирал, потому что надумал из колоды сделать жернова. Такой же высокий, как раньше, такой же нескладный, он все спорил с ноче¬
324
вавшим у нас солдатом. Дядя любил ученые слова, неведомо где их вычитывал, запоминал и в любом споре сыпал ими, как горохом:
— Атмосфера теперь другая. Теперь у немцев не та география, что в сорок первом,— доказывал он солдату.
А солдат считал, что «география» у них еще не такая плохая. Вот засели в сотне километров под Рогачовом, зарылись в землю, и не укусишь их, не возьмешь ни с какого бока. Вот тебе и «география»!
На это дядя убежденно отвечал:
— Конвульсии.
Прямо не верится, что дяди больше нет на свете.
— Ну вот... ну вот...— бегает по хате бабка.
А тетка снова в голос:
— Да как же мне быть, да как же мне жить, да череду детей растить? А как же мне его из больницы привезти? Ни коня ж у меня, ни вола...
Что-то холодно мне сегодня. Век бы не слезал с печи, если б не тетка, не этот ее голос. Видно, надо помочь. Двое меньших ее тоже лежат пластом, а старшему, Федосу, столько же, сколько нашему Глыжке. Куда ему! А я запрягу Буянчика и привезу.
— Не дотащит,— усомнилась бабка.
— Дотащит,— уверенно ответил я, перетряхивая на печи тряпье: где-то потерялась шапка.
Дед Миколай с месяц тому назад начал запрягать стригунка; сделал ему небольшой хомуток, приладил к самодельным санкам оглобли, сена вязанки две наложит и везет с луга. Сперва, правда, жеребенок брыкался, кидался в стороны, падал на колени. Удила в зубы дали — смирился. Куда ж ты денешься, когда надо? Глядя, как жеребенок выбивается из сил, сопит и потеет, старик сам впрягался рядом и все вздыхал:
— Малышок горемычный. Гулять бы тебе еще да гулять. Только что тут попишешь, когда война? Она никому в зубы не смотрит — ни малым, ни старым.
Да, война не смотрит. Вот дед Миколай хвалился, что его теперь никакая хворь не возьмет: переболел и сыпняком и какой- то испанкой еще в первую мировую, при царе, да слег и дед. Вторую неделю не вылезает из землянки. Если б на ногах был,
325
может, он сам сегодня поехал бы. А так мне приходится, я один мужчина на всю родню.
...Спина и бока Буянчика покрылись инеем. От мороза слипается в носу. В дядькиной свитке и огромных стоптанных валенках я сижу на охапке сена и причмокиваю жеребку. По гладкой дороге санки бегут ходко, зато на ухабах не конь тащит их, а они тащат за собой коня. А на гололеде Буянчик беспомощно скользит, раскорячивается, весь дрожит и часто дышит, пуская из ноздрей клубы пара.
Эх ты, стригунок Буянчик! Выходит, что дедова была правда. Не стал ты боевым конем, не ходить тебе, верно, в атаки, не топтать врагов копытами. Надели на тебя хомут до времени, не дали погулять и набраться сил. Дедова правда. Только ты не горюй, брат, перебьемся, перебедуем. Нам с тобой только бы до весны, а там будет солнце и щавель. Нам с тобой только бы отец
пришел с войны, а там не пропадем!
Тетка говорила, что в городе надо ехать прямо и прямо по Советской, потом за базаром переехать на другую улицу и опять прямо и прямо. Пускай бы сама попробовала проехать, когда то минеры не пускают, то дорога завалена камнями. Долго мы с Буянчиком блуждали по онемелому холодному городу, пока какой-то дядька не показал на окраине госпитальные бараки.
В дощатой будке у госпитальных ворот воздух густой от махорочного дыма. Печь из железной бочки прямо красная. В жаре, пропахшей карболкой, парятся люди в свитках, ватниках и шинелях. Кто с кошелкой, кто с сумкой — принесли своим передачи. В углу тихо плачет женщина. Ей только что вернули лепешку и бутылку с молоком: тому, кому это передавали, ничего больше не нужно.
На мое «здравствуйте» никто не отозвался. Деревенский дед в облезлой шапке растопырил над печкой руки, будто хочет ее обнять, и спорит с солдатом-инвалидом то ли об англичанах, то ли об американцах, которые должны были открыть против Германии какой-то второй фронт, да все не открывают.
— Их Черчилль не дурак в пекло лезть,— рассуждает дедок-грамотей.— Он на Ивановом горбу хочет в рай въехать.
А солдат скептически улыбается:
326
— Много ты понимаешь, дед. Теперь они никуда не денутся, когда наша берет. Теперь им ждать не с руки.
— Не понимаю — и не надо,— обиделся старик.— Только я так скажу: обещанного три года ждут...
Солдат был дежурным по госпитальной проходной. Узнав, зачем я приехал, он неохотно поднялся от тепла и пошел отворять ворота. Пропуская во двор сани, дежурный, словно не веря своим глазам, спросил:
— Это что — твой конь?
— Конь,— подтвердил я.
— И ты справишься?
— Справлюсь.
— Ишь ты, какой шустрый,— покрутил он головой и не спеша пошел вперед, показывая дорогу. По ветру мне хорошо была слышна его недовольная воркотня: — Присылают тут всяких пострелят...
И вот я уже еду домой. Хрустит под ногами скрипучий снег, тонко скулят полозья. Я бесконечно то чмокаю, то нокаю на Буянчика. Его бока ходят, как кузнечные мехи, от мокрой, потной спины валит пар — быстро уходился. Если б хоть подкованный был, а то скользит и скользит, не может как следует упереться. Когда дорога идет наизволок, жеребенок совсем выбивается из сил, то и дело останавливается, тяжело дышит, весь дрожит от натуги. Тут приходится впрягаться и самому. Зато с горки можно и проехать, примостившись рядом с дядей, накрытым с головой домотканой постилкой. С горы санки бегут сами, бьют передком Буянчика по ногам, хомут налезает ему на уши.
— Эй, шевелись, малыш!
По обе стороны улицы вместо домов закопченные каменные стены. Свободно гуляет в развалинах ветер, грохочет куском ржавой жести, что висит на краю карниза бывшей почты.
Одна за другой меня обгоняют машины. В кузовах облепленные снегом, как деды-морозы, солдаты подняли воротники полушубков, попрятали руки в рукава.
Затем пошли тягачи с орудиями, грузовики с накрытыми брезентом кузовами. Во сила, так сила! Нет, не та, как говорил дядя, теперь «география».
На скрещении двух улиц машет флажком девушка в белом
327
военном полушубке, в валенках и с карабином за спиной. И так это у нее ладно выходит, что я даже рот разинул и тут же чуть не угодил под машину. Грузовик, объезжая мои санки, по оси провалился в снег, рыкнул всем своим железным нутром, напустил дыма и поехал дальше, а регулировщица налетела на меня.
— Куда прешь? Куда прешь? А ну — заверни своего котенка!
Ух ты — храбрая! Разошлась, как холодный самовар. Буянчик это ей котенок. Видели мы таких. Все это я хотел ей сказать, но промолчал, взял жеребка за оброть и съехал с дороги в снег.
А машины идут и идут. Пыхкают мне в лицо бензиновым чадом, заметают снежной пылью. Буянчик пугливо стрижет ушами, вот-вот рванется.
Не успела пройти колонна, как регулировщица подбежала к санкам.
— Ты что — ослеп? Глаза у тебя повылазили, желторотик?
И вдруг, взглянув на длинные дядины ноги, торчавшие из-
под постилки, осеклась, захлопала белыми от инея ресницами.
— Отец?
Я был сердит на нее. Только что «котенок» и «желторотик», а теперь, вишь, сочувствует.
— А тебе что?
Глянул на дядю — не потерялась ли шапка? — и погнал Буянчика.
На бывшем аэродроме дома летчиков смотрят пустыми провалами окон. Сквозь проломы в стенах видны разрушенные лестницы; обгорелые железные балки скрутились в огне пожара. На кирпичной стене выведено мелом: «Мин нет». Среди развалин на проволоке качаются задубелые подштанники и полотенца: вымерзают после стирки. Гляди ты — даже здесь, среди этого холодного камня, живут люди!
К вечеру разгулялся ветер. В поле через дорогу бегут белые вспененные ручейки снега. Мой жеребенок совсем измаялся, спотыкается, как слепой, останавливается на каждом inary, уже два раза падал на передние ноги. Застигнет ночь, собьемся с дороги — тогда беда. Либо замерзнем, либо — волки. Говорят, что они ныне гуляют ночами и в поле и даже по селу. Наша соседка
328
Чмышиха, которую мы зовем монашкой, сама видела. Шла вечером с поминок, а он стоит напротив Пёклиного пожарища, глаза так и горят. Потом повернулся и — трух-трух — пошел за огороды.
Тревожно оглянувшись по сторонам, я быстренько отвязал вожжи, зацепил их за копыл рядом с оглоблей, перекинул лямку через плечо и, упираясь изо всех сил, пошел рядом с Буян- чиком. Пусть наши враги не думают, что мы заплачем, не на таких напали.
— Но-о, малыш, но-о! Гляди ты! Тпр-ру! Тпр-ру! Тпр-ру!
Ну, теперь попляшем. И как это вышло — ума не приложу.
На взгорке санки подкинуло на ухабе, жеребенок рванулся что есть силы и... выскочил из оглобель. Гори оно все огнем — гуж порвался. Да и что удивляться, когда он из гнилой веревки.
Руки у меня, как грабли. Я дышу на одубелые пальцы, хлопаю в ладоши, а веревка не связывается. Она, как железная, не хочет гнуться. А вокруг чистое поле, ветер и заметель. Ни ночевать мне тут нельзя, ни бросать дядю одного и бежать в село за подмогой. Нет, надо подождать, может, кто будет идти или ехать. Незачем зря жилы рвать, отдохну немножко.
Натянув на себя постилку, которой был укрыт до этого дядя Андрей, я сел на санки. Текут через дорогу белые ручейки, текут. Белый, точно вылепленный из снега, стоит Буянчик... За белым пологом лежу я на печи. Лежу и не могу понять, где это бабка взяла такую материю. До войны, помнится, такие марлевые пологи давали больным малярией. Это чтоб их не кусали комары. Был такой полог и у моего отца. Так неужто и у меня сейчас малярия?
А снизу так славно пригревает печь, и от этой ласковой теплоты по всему телу разливается приятная слабость, не хочется шевелить ни рукой, ни ногой. Бабка знает, что это такое,— лень- матушка! Надо ее из меня выгнать, да вот беда — батьки нету, а самой ей уже не под силу.
Она, как всегда, гремит чугунами, сковородой, заслонкой. Рядом со мной калачиком свернулся Глыжка. Спит он беспокойно, толкается ногами и почему-то кричит басом:
— Эй ты! Чего сидишь? Замерзнешь!
Открыл я глаза — нет пи печи, ни хаты. Передо мной стоит
330
белый, как мельник, мужчина. Снег на шапке, на плечах, на бровях, на усах. Стоит и сердится, кричит, как глухому, заслоняя от ветра лицо трехпалой солдатской рукавицей:
— Чего рот разинул? Жить надоело?
Я только тут разглядел, что это солдат, что почти рядом с моими санками попыхивает сизым дымком санитарная машина. Она забуксовала в высоком сугробе. Вокруг машины с лопатой суетится шофер, проклиная все на свете. Хлопнув дверцей кабины, ко мне, поскрипывая по снегу, идет офицер. Кажется, и знакомый. Это сутулый, длиннорукий, в больших очках капитан-медик. Когда Скокова Лешку с сыпняком забирали, и он тогда был. Эх, и турнул он нас с Санькой со двора! Бежали — не остановиться. Сказал, и нас сейчас же заберет, как разносчиков заразы. А у него разговор короткий. Сыпняк? На носилки, хату облить, одежду — в камеру. Другие просят, молят — ничего слышать не хочет. Строгий капитан.
— Живой? — спросил он у солдата.
— Живой, негодник,— ответил тот.
Солдат быстро и ловко связал гуж, запряг Буянчика и свел мою подводу с дороги, чтоб можно было разминуться с машиной.
— Доедет? — спросил у солдата хмурый капитан.
— Доедет!— успокоил тот.— Тут близко.— А мне пригрозил: — Гляди же, чтоб не садился, а то повезут тебя с твоим дядькой вместе.
Буксуя в сыпком снегу, «санитарка» продвинулась мимо, подмигнула красным глазом стоп-сигнала и скрылась в густой метелице. Опять кого-то из подлюбцев повезли в бараки. Возят и возят, конца-краю не видать.
Андрееву хату сожгли немцы. Теперь тетка со своими ребятами живет у золовки. Детворы, как и у нас, полная печь. Не успел я дверью скрипнуть, как они, точно стрижи, повысовы- вали головы из-за трубы: у золовкиных — черненькие, а у теткиных — как лен. Меньшой теткин, пятилетний Коля, спросил:
— Ну что, привез батю?
— Привез,— кивнул я и затопал тяжелыми дядиными валенками, чтоб оббить снег.
В печи бушует пламя, его длинные языки так и скачут в
331
трубу — готовится поминальный обед. Увидев меня, тетка кинула ухват в кочережник, всплеснула руками:
— А мой же ты племянник дорогой, а мой же ты хлопец золотой!
Она бросилась помогать мне расстегивать пуговицы на свитке, которые с мороза почему-то не хотят расстегиваться. Будто оправдываясь, тетка говорит:
— Намаялся, горемыка. Да когда ж дядька надумался помирать в такое время...— И вдруг опять заголосила: — Андрейка мой, соловейка, на кого ж ты нас покинул?
Тут и малые на печи, как по команде, заревели все разом, свои и золовкины. Сама золовка, высокая и худая женщина, побежала на двор распрягать Буянчика. Слышно, как она там тоже голосит над братом. Только бабка моя теперь уже спокойная, строгая и рассудительная. Она сидит у кровати, где в горячке мечутся двое Марининых мальчишек, и говорит:
— Брось, Марина, сердце рвать. И-и-их, девка, еще наголо- сишься. Покуда придут бабы Андрея прибирать, накорми лучше хлопца. И капни ему там в чарку того, что копачам приготовила. Видишь, как человека колотит?
Я даже ушам своим не верю — человека! Это ж свет перевернулся, что бабка назвала меня человеком. Обычно я для нее идол, нечистик, безотцовщина. А тут — человек.
— Пей, дурачок, пей,— заставляет меня тетка.— Согрей нутро.
В глазах поплыла хата. Кружится потолок, миска с ячменным крупником на столе, кружится печь и тетка с ухватом в руках у печи, кружится богородица с лампадкой.
— Ешь, племянничек, наедайся. Хочешь, еще подолью? Ты не гляди на них,— кивает она на притихших детей.— Они не голодные.
И мне стало как-то легко и весело. А тут еще тетка нахваливает:
— Ах ты, мужчина наш! Ах ты, дитятко мое дорогое!
Конечно, я такой: все могу сделать. Я сильный, я смелый, я
сметливый и умный-умный! Это не я хвалюсь, это сам язык хвалится:
— Веревка тресь, а я взял и... связал!
332
— И сам связал?
— Конечно, сам! Я что хочешь свяжу! Я...
—. И что это за дитя такое!
...Припекает снизу печь, шумит в ушах ветер, кружится в глазах снег.
— Дядина шапка не потерялась?
— Спи, спи, не потерялась,— успокаивает меня бабкин голос.
— Ихний Черчилль не дурак в пекло лезть. Он па Ивановом горбу хочет...
— Спи ты уже, Черчилль!
Как хоронили дядю, я проспал. Проснулся — надо мной капитан в очках, а солдат вносит в хату носилки.
КОЩЕИ ГАРЦУЮТ
За окном было солнце. За окном расчирикались воробьи. А тут душно и нестерпимо пахнет карболкой. На соседней кровати неподвижно лежит мужчина с восковым лицом. Его обступили доктора и сестры. Они тихо о чем-то разговаривают, а о чем — не разберешь. Будто бы и не по-нашему. Когда все пошли дальше, одна медсестра наклонилась и простыней накрыла моего соседа с головой.
С другой стороны тоже кровать. Оттуда за мной следят большие глаза с длинными пушистыми ресницами. Когда я повернул голову, глаза стыдливо прикрылись. По-моему, это девчонка. На голове белая косыночка, личико белое, прямо прозрачное, даже голубоватое, а на носу рыженькие коноплюшки. Такие коно- плюшки могут быть только у Глёковой Кати, той самой Кати, которую я давно недолюбливал, а после нашей стычки у колодца и вовсе ненавижу.
Когда мы снова встретились взглядами, мне стало неловко и как-то беспокойно. Мне показалось, что Катя чуть заметно улыбнулась. Чего ей смешно? Видно, она давно вот так тишком наблюдает за мной. А я, чего доброго, когда был без памяти, стонал, а может, и плакал. Еще подумает что-нибудь такое...
Но мои тревоги рассеял доктор. Высокий, широкоплечий,
333
даже халат на нем не сходится. Круглолицый, молодой, глаза все время улыбаются, только волосы совсем белые. Взяв меня за руку, чтоб пощупать пульс, он бодро спросил:
— Ну что, будем жить, герой? Э-э, ты чего ж так кисло улыбаешься? А ну-ка веселей!
А потом объявил на всю палату:
— Не парень, а кремень! Настоящий мужчина. Ни уколов не боится, ничего!
У меня даже сердце зашлось: всё — будут колоть. Украдкой я поглядываю, какую сестра берет иголку, большую или маленькую, и делаю каменное лицо. Подумаешь — укол! Чихать я на него хотел.
Я не вижу, я чувствую на себе любопытный взгляд своей соседки. По-моему, она опять улыбается. Так пускай же не воображает эта девчонка, конопли эти рыжие, не ойкну. Настоящий мужчина не ойкает.
А выпить, не поморщившись, горькое, как полынь, лекарство — это просто пустяк. Жаль только, что она в этот момент отвернулась и, должно быть, не видела, как я храбро глотнул.
Зато она ойкнула, чуть не заплакала. Посмотрите — полные глаза слез. И сморщилась. Девчонка — что с них возьмешь? Им бы только конфетки сосать.
Когда сестра собрала свои блестящие коробочки и пошла дальше, Катя тихо спросила:
— Тебе и правда не больно?
— Нет,— соврал я, не моргнув глазом,— как комар все равно.
— Мне бы так,— вздохнула она.
Нашла с кем равняться! Мы с Санькой ко всему привыкли, не неженки какие-нибудь.
И так каждый день. Доктор говорит, что я герой, сестра говорит, что я — золотце, и колет меня уколами, и поит меня горьким, соленым, кислым, и не придумаешь каким. И каждый день я мужественно переношу все испытания.
Кончилось это ранней весной. Родной, дорогой Буянчик, мохнатый и покрытый коростой, весь в мыле, той же дорогой, какой вез дядю, везет теперь меня.
— Эй ты, шевелись! — весело покрикивает тетка Марина,
334
разбрызгивая большими резиновыми бахилами грязные весенние лужи. И так мне хочется скорее домой, скорей увидеть бабку, Глыжку, Саньку, что, кажется, соскочил бы С саней и побежал бегом.
А санки то медленно плывут по мокрой снежной каше, то дерут полозьями голый булыжник. И старается стригунок, да воз тяжелый. Чего-чего только не надела тетка на меня, чего-чего только не навалила еще сверху, чтоб, упаси бог, не простудился: и свитку, и армяк, и постилку, под шапку повязала тонкую косынку, а поверх шапки толстый платок — бабушкин.
— Эй! — приговаривает тетка.— Отворяйте ворота, едет пан криворотый!
Я гляжу вокруг и будто в первый раз вижу белый свет. Какой-то он новый, радостный и солнечный. Вон воробьи купаются в лужице, встопорщили перья, смешно трепещут крылышками, воровато оглядываются. Вот драться начали. Чудаки, ей-богу, воды им мало.
На карнизе высокой кирпичной стены сгоревшего дома висят длинные сосульки-ледяши, с них падают на тротуар частые капли. Один ледяш оборвался, ударился о камень и рассыпался мелкими искрами.
Навстречу нам идет колонна пленных немцев. Тетка свела Буянчика с дороги, и мы разглядываем их вблизи. Теперь они не цокают коваными сапогами, как когда-то, а бредут табуном, шаркают и шаркают подошвами по мокрому шоссе. Шинели линялые, испачканные кирпичной и известковой пылью. В руках не автоматы, а кирки и ломы. Что — Москау капут? Убили вы меня с Санькой? Уморили сыпняком? Вот я — живехонек, и еду домой.
Мы разглядываем немцев, а они нас. Одни с любопытством, что это, мол, за чучело гороховое на санках сидит; другие смотрят, как на пустое место, смотрят и не видят; а вот тот, белесый, без бровей и ресниц, глядит волк волком. Так бы и съел, дай ему волю. У некоторых вид самый добродушный. Будто это и не они угощали нас с Санькой подзатыльниками, ловили кур и расстреливали ополченцев и партизан. Будто это и не они гнали с собаками через наше село осенью сорок первого истерзанных, голодных, окровавленных красноармейцев.
335
— А морды какие! — заметила вдруг тетка.— Говорят, их кормят, дай бог и нам на великдень К По фунту или больше хлеба дают. Это ж если б мне на каждый рот по фунту хлеба, так я б и беды не ведала с детьми.
— По фунту хлеба? — не цоверил я. Мне не хотелось верить. Почему-то вспомнилось, как два года назад жена Поликарпа привезла из плена своего мужа, того самого Поликарпа, что помер нынче от сыпняка. Мы видели, как родичи заводили его тогда в хату, потому что сам он идти не мог: одни кости да глаза. А им теперь по фунту хлеба?
— Душа у нас добрая,— вздохнула тетка, поправляя на Бу- янчике упряжь.— Отходчивая. Скоро зло забываем.
— Нет, я еще не забыл. Я все помню. И кабы моя воля, так накормил бы их, напоил и на дорогу дал, чтоб помнили.
— Ох, грехи тяжкие,— засмеялась тетка.— Уж он бы дал! Молчи лучше, давала.
И она, по-мужски причмокивая, дернула вожжи.
В хату она втащила меня на спине, как мешок, посадила на лавку. От радости бабка металась взад-вперед, долго и бестолково раздевала, хваталась то за пуговицы, то за платок, то за подпояску; не развязав, бралась расстегивать, не расстегнув, кидалась стаскивать рукав. Наконец, все мои уборы — платки, шапки, старый дядин армяк, свитка и поддевка — с меня сняты, свалены на полу в кучу, и старуха всплеснула руками:
— А лихо ж ты мое! Ну кощей кощеем! Что, там плохо варили или скупо кормили, а?
— На живой кости мясо будет расти,— успокоила старуху тетка.
Но та только махнула длинным, засаленным у печи рукавом френча. Понимать это надо так: раз бабушки там не было, и толку нет, одна бестолковщина. Разве ж чужой так доглядит, как свой?
А Глыжка вырос — прямо кавалер. Штаны стали ему коротки, рукава — тоже. А шея, как у гусака, длинная и по-прежнему немытая.
— Ленится умываться,— пожаловалась бабка.— Глаза, как кот лапой, чуть протрет и уж он готов — умылся.
1 Великдень — так называли в народе праздник пасхи.
336
Гляди ты, он и «р» выговаривать научился, так старательно «рыкает», как Скоков Колчан, когда его дразнишь.
— Пр-р-риехал?— спросил Глыжка и, словно не веря глазам, дотронулся до моего колена. Хотел, видно, приластиться.
— Приехал,— подтвердил я.
— Попр-р-равился?
— Поправился,— кивнул я головой.
Брат заулыбался. Он прямо не знал, чем перво-наперво похвалиться: столько у него нового. Сначала вытащил из кармана белую алюминиевую гильзу, которой наделил его ночлежник- солдат.
— Глянь, р-р-ракета!
Затем принес самодельный конек — деревянную колодку с проволочным полозком.
— Гляди, Санька мне смастер-р-рил.
Похвастал новыми защитными заплатками на коленях: солдатские. А когда уже хвастаться, кажется, нечем было, открыл рот и показал пальцем:
— Глянь, новый зуб р-р-растет.
И вдруг Глыжка сообщил мне такую новость, что бабка так и подскочила, будто на нее варом плеснули. Кажется, и тихо брат сказал:
— Мы твой кр-р-рест Малахам дали.
— Прикуси язык свой немытый,— застучала бабка по столу кулаком.
Глыжка прикусил, виновато захлопал глазами. А потом, когда меня накормили с дороги и мы с ним забрались на печь, я таки все выпытал. Оказывается, за мной в больницу ездили дважды: первый раз — за мертвым, а сегодня — за живым.
В первый раз все вышло из-за Чмышихи, нашей набожной соседки. Та ходила на базар купить соли, а бабка упросила ее заодно передать мне в. госпиталь две лепешки. Чмышиха лепешки принесла назад, а вместе с ними и «святую правдочку» про меня: «Нет уже вашего Ивана». Будто бы лепешек тех у нее не взяли.
Тут бабка и ударилась в панику. Тетка запрягла Буянчика и поехала в город, а старуха, наголосившись, пошла в сарай и вытащила из заветного угла дубовый столбок. Я помню тот стол-
Библиотека пионера, т. 7 337
бок. Он лежал под стеной, заваленный разной трухой и щепками. Бабка его давно для себя берегла. Как-то в большой мороз я собрался порубить его на дрова — беды было не обобраться! Я, оказывается, заодно с тем рыжим собакой-полицаем. Тот забрал ее смертную одёжу, а я и до креста добрался. Нашел топор под лавкой.
Теперь бабка сама вытащила столбок из сарая и попросила солдата сделать крест.
И солдат сделал. Правда, на поперечинку дуба не хватило, пришлось прибить сосновую.
Тетка вернулась домой с пустыми санками, веселая и радостная:
— Живой он, живой! Кризис у него какой-то был...
Глыжка сказал, что бабка хотела тогда монашку с земли
стереть, да тетка не пустила. Бабка кричала, что Чмышиха своей «святой правдочкой» полжизни у нее отняла.
А потом пришли к нам Малахи. У них старуха померла, а крест сделать не из чего было.
— Позычь,— говорят,— нам, Матрена, крест. Вам же покуда не надобно, коли Иван жив.
— Пусть он нам вовек не понадобится,— сказала бабка и не одолжила, а отдала так, даром и насовсем.
Вот сколько тут было разных событий, пока я глотал в госпитале всякую отраву и терпел на глазах у Кати уколы. Только и это еще не все. Санька тоже принес новостей целую охапку. Прослышав, что я вернулся домой, мой приятель влетел в хату так, что бабка подумала, что за ним по пятам гонятся собаки.
— Слышали? Наши фронт прорвали! — крикнул Санька еще с порога. Он сам читал в газете приказ Верховного Главнокомандующего.— Так на Буге всыпали фашистам, что им и не прокашляться!
— А где ж этот твой Буг? — поинтересовалась тетка Марина.
— Там! — уверенно показал Санька в сторону Миронова сада, хотя мне кажется, что Буг совсем с другой стороны, за Малаховым двором.
А еще в наши Подлюбичи приехали из Москвы две докторши от сыпняка нас лечить. В Санькиной хате остановились. Они его матке, тетке Марфешке, жить не дают: чистоты добиваются.
338
А сами цыпы какие-то. Юбки узкие, каблуки высокие. Смех глядеть,-как они брови себе какими-то клещиками выщипывают. Морщатся, а дерут. Это по-ихнему красиво.
Михейчиков Назар насовсем с войны пришел. Контуженный. Начнет цигарку вертеть, руки трясутся, и весь табак рассыпается. Старый Михейка сам ему цигарки делает.
Нинку, что до войны в колхозных яслях нянькой была, теперь поставили бригадиром. А может, еще и не поставили, потому что Санька слышал, как она кричала у сельсовета на всю улицу:
— Пропади оно пропадом, ваше бригадирство. А сеять что? Сама я в землю лягу, что ли?
Каждый день прибегает ко мне Санька. А через неделю я уже и сам начал выходить во двор погреться на солнышке. Я сижу на завалинке, а посреди двора, грустно опустив голову, стоит Буянчик, еще более мохнатый, еще более тощий, чем тогда, когда мы его привели. Там и тут он вымазан дегтем. Это дед Миколай лечит его от коросты.
Когда бабка перестала бояться, что я от ветра свалюсь, я начал выходить и на улицу. А однажды мы с Санькой пошли даже к колодцу набрать воды. Вот тут мне опять и встретилась Катя. Она раньше нас подошла к срубу и хотела первая опустить ведро. Нет, погуляй маленько, не на тех хлопцев ты, Катя, напала! Санька решительно отодвинул ее ведро в сторону:
— Не лезь!
Она окинула нас обоих презрительным взглядом и с насмешкой в голосе спросила:
— А это ваш колодец?
— Наш! — отрезал Санька так сурово, что не стоило бы и спорить.
Но вы не знаете этих рыжих конопель. Другая бы отступилась, а она:
— Ой, задаваки несчастные!
Тут и у меня закипело все внутри. Хотел я по старой памяти дернуть ее за косу, чтоб другой раз была поласковей, а в руках осталась только белая косынка.
Сперва мы остолбенели от удивления. Глядим и не узнаем Кати — нету косы. Острижена под нулевку. Так вот почему в
339
госпитале она не снимала своей косыночки! Санька так и закатился хохотом, прямо за живот хватается. Я захлебываюсь — уняться не могу. Кажется, ничего на свете не видел смешнее, чем стриженая Катя. А она залилась краской, даже коноплюшек не видно. Смотрим — своими длинными ресницами плюсь- плюсь-плюсь — и слезы, как горох. Бросила ведро и бегом домой. А мы ей вдогонку:
— Стриженая! Стриженая! Стриженая!
Вот так. Будет знать, как нас не слушать.
Через полчаса про наш «геройский» поступок от Катиной мамы доведалась моя бабушка. Она поставила нас с Санькой перед собой и прочитала мораль. А мораль у бабки одна: выросли, а ума не вынесли. Нашли пад чем смеяться, недопёкк. Были б отцы дома, они б нам рога посбивали. Больно уж крутые стали у нас эти рога. Только под конец она сказала что-то новое:
— Поглядите вы на них, люди добрые. Кощеи кощеями, а уже перед девками гарцуют.
— Гы-ы,— расплылся в улыбке Глыжка.
Я украдкой показал ему кулак.
МЕЛЬНИКИ И КРУПОДЕРЫ
Все, наверное, знают сказку про солдата, который из топора кашу варил. Знаем ее и мы с Глыжкой. Я не раз ее в книжке читал и перечитывал. И каждый раз мы удивляемся солдатской сметливости:
— Во, хитрюга!
А у бабки насчет этого свой взгляд. Она думает, что неплохо тому солдату было, когда к топору ему добавили и крупы, и сала, и соли. Вот пускай бы на ее место стал, а тогда уж и хвалился. Топоров у нас слава богу хватает. Отец-плотник запас целых три, да колун — четвертый. Пятый топор, с «кошкой» вместо обуха, бабушка от немцев утаила. Когда б из всех из них кашу варить, можно было б месяц объедаться. Так нет, ни один, сколько у нас этих солдат перебывало, не то что каши, но даже крупника не состряпал.
340
— Одно слово — сказка,— презрительно машет бабка рукой на книжку.— Пускай бы он на мое место стал.
Й правда, бабушке нелегко. С утра до позднего вечера у нее одна забота — чем нас накормить. Чуть рассветет, она уже на поле собирает перезимовавший в земле картофель-гнилушку, перемывает его, трет, сушит на завалинке — добывает крахмал. Потом, замешивая из гнилушек лепешки, чешет в затылке, где б ей раздобыть хоть щепотку соли. У наших соседей больше не займешь: сами едят несоленое. И вспоминает бабка довоенную жизнь — вот соли было, хоть завались. И соль же, соль — белая, чистая и почти даром.
Теперь соль черная и больше горькая, чем соленая. До войны ею поле посыпали, чтоб все лучше росло. А сейчас люди научились немножко вываривать из нее горечь и продают на стаканы. Сами по хатам носят: стакан соли — пуд картошки, ковш жидкого, черного и вонючего, как деготь, мыла — тоже пуд. А кто нам этих пудов напудил?
Ну, да насчет мыла еще не велика беда. Не доживут они до того дня, когда моя бабка ихним мылом будет наши с Глыжкой штаны мыть. Им еще больше запачкаешь. Для этого у нас есть старая, треснутая дежа, а золы не занимать. Вот без соли — не житье, все такое невкусное, пресное, как трава, хоть собаке выливай.
Плохо дело и без муки. Тут хоть золотых гнилушек возьми, хлеб пахнуть хлебом не будет. Нужна хотя бы горсть муки. Правда, прибедняться нам нечего: у припечка в хате стоит почти полная бочка зерна, что бабушка уберегла от власовских лошадей. Однако целое зерно в тесто не насыплешь.
И снова бабушка заводит свое «вот до войны...». До войны в Подлюбичах была ветряная мельница. Ах, как там мягко мололи! Не мука — пух. А нам с Санькой и всем нашим товарищам ветряк нравился по другой причине. Цепляясь руками за крылья, мы любили кататься. Героем был тот, кто подымался всех выше. Но тут уж надо было глядеть, чтобы не перехватить лишку. Петрик Смык однажды опоздал соскочить и как грохнулся оземь — водой отливали.
При немцах мельница сгорела. Теперь там в зарослях полыни лежат только два огромных круглых камня, да валяются гильзы
341
от снарядов. Теперь каждый, у кого есть кате зернышко, мелет его как может, каждый мудрит по-своему, каждый сам себе мельник. Самое простое — это пест и ступа. Но пест не простой, а железный* вроде лома, только с тупым, расплющенным концом. Не поленишься, не пожалеешь пота, и пест сам муку покажет.
Однажды бабка, надумав сделать муки, обегала все село и пришла домой с таким вот пестом, тяжелым и тупым. На день заняла. Потом насыпала в ступу ковша два ячменя, обернула рушником, чтобы зерна не выскакивали на пол, и, поплевав на ладони, взялась за работу, даже хата ходуном пошла. Дзинькает на лавке ведро, дрожат в окнах стекла, а муки все не видно.
— Ну-тка ты погрейся маленько,— предложила мне бабушка, вытирая с лица пот.— Коржи любишь есть?
Я начал довольно бойко, хотя железяка была тяжелая и не хотела слушаться. Несколько раз чахнул в самый аккурат, а потом как заехал куда-то вбок, чуть ступу не опрокинул. Пест вырвался из рук, свистнул меня по лбу, из глаз дождем посыпались искры. Опомнился — а это не искры, а ячмень из ступы на пол.
— Так,— подбодрила меня бабка,— больше рассыпай, идол сухорукий, наешься коржей.
Оттолкнула меня в сторону, снова взялась сама:
— Коли с такой помощью, так лучше без нее.
Но и у нее ничего не получилось. Правда, пест показал муку, чуть-чуть побелел на конце, а больше мы ее и не видели. У бабки не хватило терпения, и она на все это плюнула:
— А чтоб оно сгорело!
Тому легче живется, у кого есть собственная ручная мельни- ца-жёрны: крути себе помаленьку да крути. Пока хата деда Ми- колая не сгорела, мы тоже горя не знали. Были у него жёрны. Правда, не бог весть какие, однако мололи.
Бабка отнесла пест тому, у кого брала, и больше его никогда не просит — ходит молоть по соседям. А по людям много не намелешь: то человеку самому нужно, то родичей вперед пустит, то просто скажет, что жёрны сломались, хотя и хорошо слышно, как они там в сенях грохочут. Разные люди бывают.
Иметь свои собственные жёрны, пусть хоть какие,— самая заветная бабкина мечта. Тогда б она чувствовала себя челове¬
342
ком; не ходила б и не кланялась черту лысому. Было бы что — молола, не было б — так бы сидела.
Но нет в доме хозяина, не будет и толку. На меня она не надеется, меня она и в грош не ставит. По ее мнению, мои руки не на то служат.
— Не на то? — обиделся я.
— Не на то, внук, не на то.
— Ну так вот — будут у нас жёрны!
— Ой-ой-ой, ратуйте! — почему-то испугалась бабка.— Где ж ты их возьмешь? Уж не украдешь ли?
— Сам сделаю. Вот увидишь!
Она швырнула на печь мешочек с ячменем, который носила куда-то молоть, да не смолола, и подкусила меня опять:
— Гляди, и круподерку еще не сделай.
— Сделаю и круподерку! — въ мог уже удержаться я.— Хитрость великая — жёрны! Да мы с Санькой...
— О вас с Санькой и куры шепчутся,— не дала мне договорить бабка.— Вам только цацки эти в карманах таскать.
Цацки! По ее выходит, что и на гранату не погляди, и патрон не подними. А если поднял и поглядел, так ты уже и не человек —* ветрогон. Мы ей с Санькой докажем, какие мы ветрогоны. Вот сделаем жёрны лучше, чем у всех на селе.
— Посмотрю, посмотрю,— пообещала бабка, но по всему видно, что ни одному слову не поверила.
В тот же день мы с Санькой взялись за дело. Сперва долго спорили, какие должны быть эти жёрны: такие, как у дядьки Скока, или такие, как у Мамули. У дядьки Скока жёрны — терка. Если поглядеть, так там и делать нечего. Надо только взять скамейку и укрепить посередине небольшой столбик. Потом надо найти дырявое ведро, вырезать из него ровный кусок и гвоздем часто-часто набить в нем дырок. Получится терка. Если этой теркой обернуть столбик и прибить ее гвоздями, то можно смело считать, что половина дела уже сделана. Остается только найти еще одно ведро, сделать еще одну терку, а из этой терки согнуть трубу—вот тебе и вторая половина. А тогда уже раз плюнуть: надел колючую трубу на колючий столбик, приделал ручку и крути себе на здоровье. Зерна промеж двух терок вмиг превращаются в муку. Это тебе не пест.
343
Все эти хитрости нам в двух словах объяснил старший Скачок — Лешка. Не успел он и носом шмыгнуть, как мы уже все поняли. Больше того — Лешка позволил нам немного и помолоть за него.
Мы вскочили верхом на скамью, один с одной стороны, другой — с другой, ухватились за отшлифованную ладонями до скользоты ручку, и жёрны зашипели, затрещали, заскрежетали, даже мороз по коже пошел. Через минуту у нас взмокли лбы и мы так дышали, что мука со скамейки разлеталась по. всем сенцам.
Тяжелая мельница у дядьки Скока. Тяжелая, зато спорая: сколько мы тут попыхтели, а целого ковша зерен как не бывало. Будем и мы делать терку.
Но бабка нас быстро остудила.
— Терка-хвороборка! — накинулась она на меня с Санькой.— Скамейку я вам портить не дам. Не будет ни жёрнов, ни скамьи. Мастера нашлись!
Но нас не так просто остановить, когда мы что задумали. Мы — народ упрямый. Не хочет бабка терки — сделаем жёрны, как у Мамули. Вот поглядим, что оно за штука, и сами такие сделаем.
Мамуля славится на всю деревню как великий мастер. Самовар запаять, пилу развести, часы наладить — все он умеет. До войны Мамуля работал на железной дороге и каждый вечер, возвращаясь домой, тащил какую-нибудь железину: то колесо, то шестерню, то медную трубку, то низку г^ек на проволоке. До войны у него был мотоцикл. Правда иль нет, а говорили люди, что самодельный. Когда Мамуля заводил мотор, тот грохотал на всю деревню, как танк, стрелял, как пушка, и пускал такой густой дым, что нельзя было разглядеть ни мотоцикла, ни его хозяина.
'Мамулин Васька хвалился, будто его отец может сделать и самолет, было бы только железо. Так надо ли удивляться, что и жёрны у него славятся на всю улицу? Все, кто у них молол, не нахвалятся: вот жёрны так жорны — за полчаса фунтов пять можно намолоть. А если постараться, то и шесть. И мука как настоящая.
Жёрны хвалили, а хозяина хулили — живодер. Никто не бе¬
344
рет за помол, а он берет. Кружку с кастрюли. Да еще гайку там какую-то закрутит. Бабы жилы рвут, а он смеется!
— Зато мягкая будет.
Мамуля нашей экскурсии не ожидал. Он сидел на завалинке и, положив на колодку гильзу мелкокалиберного снаряда, дзинькал по ней молотком. Видно, мастерил лампочку, которую называют «катюшей». Этими «катюшами» он даже торгует. Руки его почему-то в мазуте, мазутом запачкан нос. А у него нос, который бог семерым нес, да одного Мамулю наделил: большой, длинный и искривленный набок.
— Молоть? — спросил хозяин, не отрываясь от «катюши».
— Молоть,— соврал Санька. Мы боялись, что просто так посмотреть на свои жёрны он не пустит.
— А почему ж вы с пустыми руками? — поднял он на нас наконец глаза.
— Там бабка несет,— не растерялся я.
— А-а-а,—понимающе протянул он и, опять занявшись гильзой, буркнул нам вдогонку: — Там за жёрны отсыпьте. Тетка покажет...
— Ладно! — пообещали мы и шмыгнули в сенцы,
Жёрны работают полным ходом. Деревянный жёрнов, сделанный из толстой колоды, старательно крутит Настя Глёк. Платок ее сбился на затылок, лицо раскраснелось, по лбу и щекам бегут грязные ручейки пота. На лавке сидит очередь.
Гыр-гыр-гыр...— скрежещут жёрны, и по лотку, сделанному из консервной банки, течет в миску тоненькая струйка муки.
В сенцах темновато, и мы не сразу заметили, что там за Настей стоит ее дочка Катя. Вцепившись в ручку, она мотается над жёрнами, не так, по-моему, помогая, сколько мешая матери. Увидев нас, она и совсем остановилась.
— Не разевай рот! — прикрикнула на нее Настя, и жёрны загыркали еще быстрей.
Глёчиха без остановки крутит и крутит их с каким-то отчаянным упорством и злостью.
Гыр-гыр-гыр...
Таким мастерам, как мы, довольно лишь одним глазом взглянуть, и все понятно. Ничего в этих жёрнах особенного нет: внизу колодка, потом обечайка, как в решете, чтоб не рассыпалась
345
мука, сверху — другая колодка с дыркой посредине, куда засыпают зерно. Правда, все сделано аккуратно, одно к одному. А так — только слава. У нас с Санькой, может, и не хуже получится.
Гордо взглянув на Катю, мы молча, с независимым видом вышли из сенец.
Мы делали жёрны целую неделю. Первый день пилили тупой, неразведенной пилой сырой березовый комель. Не пилили, а калечили. На колоде сидел Глыжка, и мы по очереди на него кричали, что он плохо держит. И правда, бревно под ним вертелось, как живое. Ручки у пилы пересохли, то и дело выскакивали, и тогда мы — то Санька, то я — летели чуть не через весь двор. Санька один раз плюхнулся в лужу, а я едва не повалил головой забор. Глыжка помирал со смеху, пока не заработал тумака. Нашел над чем смеяться!
Бабка глядела-глядела на нас в окно, не выдержала и пришла на подмогу. Она села на комель рядом с Глыжкой, начала давать советы, где пилу прижимать, а где пускать легко. Дело пошло веселей.
Отпилив первый жёрнов, мы посмотрели на него и плюнули. Это у Саньки такой косой глаз. А Санька считает, что я обоими гляжу не туда. И такая тут разгорелась перепалка, что бабка за голову схватилась.
— Не надо мне ни ваших жёрнов, ни круподерки, только замолчите.
А на другой день было еще и не то. Найдя длинную железную палку, мы раскалили ее в печи докрасна и стали делать дырку в жёрнове, чтобы, значит, сыпать потом туда зерно. В хате — дым, в сенцах — дым. Бабушка бегает за нами то от печи, то к печи и кричит «караул». Она твердо знает, что если немцы не сожгли хату, сожжем мы, пустим по ветру и головешек не останется.
Думает, так это просто сделать жёрны. Да еще такие, как у Мамули.
По нашим с Санькой расчетам, железная палка должна была пронизать жёрны насквозь и выйти как раз посередине. А она вышла черт знает где — на целую пядь в сторону. Кто виноват? Глыжка. Говорили ему — гляди, ровно ли, так наглядел.
346
А потом сенцы превратились в кузню. Глыжка разыскивает для нас на пожарищах, в мусорных ямах, на чердаке за трубой старые дырявые чугуны, Санька на обухе разбивает их молотком на черепки, я заколачиваю черепки в колодку. А как же? Деревянные жернова, если в них не набить чугунных черепков, молоть не будут. Можете спросить у кого хотите: у Мамули, у дядьки Скока, у деда Миколая, у старого или малого—это вам любой скажет.
Стук, грохот, лязг, бомканье и дзиньканье с утра до вечера на всю улицу. И вся улица знает, что мы делаем жёрны. Это Глыжка славу разнес. Кто ни спросит, зачем ему дырявые чугуны и что это у нас за грохот, он всем рассказывает:
— Это мы себе жёр-рны делаем!
Бабушка, правда, так не хвалится. А если кто из соседок спросит, она только с презрением рукой махнет:
— A-а, второй день чертям горох молотят.
В сенцах делается потише только тогда, когда то Санька, то я, здорово огрев себя по пальцу молотком, бросаем инструмент и подпрыгиваем от жгучей боли. Но палец — это ерунда. Вот из-под молотка отлетел чугунный черепок и Саньку по глазу свистнул так свистнул. И водой мыли, и мокрую тряпку прикладывали — ничего не помогло. Бровь вздулась, глаз красный, как у ведьмака. Так и домой пошел, закрыв глаз обеими руками, как будто боялся, что он выпадет по дороге и потеряется.
Больше Санька в работе не участвовал. Мать ему перевязала глаз белым платком и предупредила, чтоб ко мне ни ногой.
— Тот крутомозгий тебя доведет, без головы на всю жизнь останешься.
Крутомозгий — это я. Тетка Марфешка уверена, что все Санькины беды из-за меня. Я его добру не научу, и, даст бог, она нас разведет.
Когда ей даст бог нас развести, поживем — увидим, а вот что Саньки на нашем дворе несколько дней не было, так это ему повезло. Сегодня с самого утра бабка долго, озабоченно топталась по хате, заглядывала под лавку, под печь, обшарила все сенцы, а потом спросила у нас с Глыжкой:
347
— Хлопцы, вы чугуна не видели?
— Какого?
— Такого! Того, что щербатый малость, в чем я гнилушки замешиваю.
— Не видели.
И тут я вспомнил: что-то Глыжка очень быстро нашел сегодня материал для черепков. Да и бабка сразу догадалась, и тут такое поднялось, хоть святых вон выноси. Она так и знала, что добром это не кончится, что от нас всего можно ждать. Но чтоб наделать такого разору, у нее и в мыслях не было: Вот она возьмет сейчас веревку и покажет нам и жёрны и круподерку! Хорошо, что у нас с Глыжкой молодые ноги.
Однако всему бывает конец. Вот и мы забили в колодку последний черепок. Стоим с братом и любуемся: неужто это мы такие мастера? Может, кому-нибудь наши жёрны и кажутся неуклюжими рядом с другими, а для нас это — чудо техники. Вы не смотрите, что нижний жёрнов наклонился влево, а верхний — вправо, что обечайка с одного бока вспухла, как огромный чирей, что все жёрны точно чертями обгрызены (тяа колоде раньше рубили дрова); вы поглядите сперва, как они будут молоть, а потом уж говорите.
— Баб, неси ячмень! — в нетерпении закричал я.
У бабки немного уже от сердца отлегло, она вышла на мой зов и была поражена.
Долго разглядывала мою работу с одной стороны, потом с другой и наконец спросила:
— Неужто это жёрны?
— А ты что думала — пулемет? — обиделся я.
— Сколько живу, таких не видела,— призналась бабка!.
Первую горсть ячменя я засыпал сам, чтоб показать, как
это делается. Засыпал, и все затаили дыхание.
— Ну, кр-р-рути! — воскликнул Глыжка.
Я крутнул. Между колодками что-то треснуло, потом скрежетнуло, как ножом по сковороде. Глыжка даже отскочил в сторону.
Жёрны вели себя странно: они кидались туда и сюда, терлись и стукались о стенки обечайки. С лотка густо посыпалась чугунная дробь и забарабанила по дну миски, поставленной под
348
муку. Наконец под колодкой зашипело и с жестяного лотка брызнула белая струйка. Бабка даже глазам не поверила. Она схватила посудину и побежала к двери на свет, чтоб лучше разглядеть.
— Трет! — обрадовалась бабка.
Правда, мука была наполовину с сечкой, попадались даже целые зерна. Но когда ячмень высушили в печи досуха, дело пошло лучше.
Эй, давай, не задерживай! Крути-верти! Чхать мы хотели на Мамулины жёрны! Дулю ему, а не за помол! Мы сами с усами.
Бабушка сбросила «хрэнч», чтоб не мешал молоть, и не могла намолоться. Она простила нам чугун и, что редко случается, даже похвалила нас с Санькой.
— А молодцы хлопцы!
— Кособокий немножко,— для скромности вздохнул я.
— Из него не стрелять! — утешила меня бабка.
Теперь мы горя не знаем: мелем сами и даже соседей начинаем пускать. Соседи тоже хвалят и жёрны и меня.
— Толковый у тебя хлопец, Матрена, головастый.
Я хожу— руки в брюки — и даже не смотрю в ту сторону, будто это не про меня. Жаль только, что Санька не слышит.
А Санька легок на помине, примчался, не успела мать снять повязку. И ничего его глазу не сделалось. Каким был лупатым, таким и остался. Только синяк светит на всю хату.
Мы сидим за столом, едим бабушкины «лапоники» из гнилушек и ячменной муки, аж носы трепака пляшут. Саньке и проглотить печево некогда. С полным ртом он рассказывает, что наши заняли Крым и потопили в море немцев, может, целый миллион. Ховре в письме так муж написал, а она Санькиной матери рассказывала.
Бабка слушает молча. Она плямкает и плямкает беззубым ртом, корочка ей попалась такая, что никак не разжует. Наконец бабке надоело — выплюнула на стол, и все мы удивились: корочка звякнула, как железная. Поглядели — чугунный черепок из мельницы.
— Так вот почему мне не раскусить! —догадалась бабка и сказала, что теперь будет муку просеивать.
БАБУШКИНЫ БЕСЕДЫ С БОГОМ
Погорельцы, зимовавшие в нашей хате, дождавшись тепла, разошлись по своим пожарищам, на свои огороды и начали копать землянки. Первыми двинулись старосельцы, а за ними й соседка тетка Пёкла со своей неспокойной, задиристой оравой. Осталась только старая Мирониха— баба Гапа. Куда ей одной при таких годах? Да и пожарище ее под боком — из окна все чисто видать: и трубу, и обгорелую верею, возле которой немцы застрелили деда Мирона, и подрубленную снарядом грушу спасовку, за которую дед все собирался угостить нас с Санькой крапивой.
Разошлись погорельцы — тихо стало в хате. Бабка свободно вздохнула: не ревет и не гарцует, не забивает голову Пёклина орава, не ссорятся женщины за место погорячее в печи. Теперь у печи хозяйничает одна Мирониха, а наша бабка начала ходить на работу в колхоз. И хотя бригадирка ничего не сказала бы ей, если б она и пропустила когда, но старуха ходит каждый день. Она боится, что без нее не засеют поля, и тогда народ поскачет и посвистит с голоду в кулак. А вместе с народом и мы. Это не шуточки — гулящая земля.
Ходить бабка в колхоз ходит, а свои трудодни записать не умеет. Она совсем неграмотная. Ни одного дня в школе не училась. Из ее рассказа мы знали, что не успела она от земли подняться, как пошла к богатеям на хлеб зарабатывать. Вот и не может теперь ни одной буквы ни написать, ни прочитать. Все это ей кажется такой мудростью, от которой можно вывихнуть мозги.
Нас с Санькой как мужчин и хозяев бабушка не ставит ни в грош, зато считает первейшими грамотеями. Жили б мы тогда, когда она была молодая, во ели бы хлеба со своей учености! Я был бы не меньше, чем волостной писарь, брал бы с мужиков эа письмо по рублю или по корзинке яиц. А с того, кому надо жалобу написать или прошение какое, и вовсе бы шкуру драл.
— Баб, не драл бы!
— Когда б был писарем, драл бы,— упорно стоит бабка на своем.— Они все драли.
351
Так она думает про меня, а про Саньку еще лучше. Тот бы, верно, выучился на попа или на асессора *. У него голова почище моей варит.
Ни одной буквы бабка не знает, а считать умеет и на пальцах и в уме. Она сама ведет счет своим трудодням. Вернувшись с работы, она достает из-за образов кусок обоев и, склонив набок голову, что-то старательно малюет обломком карандаша. А потом опять прячет свое писание за иконы. Этих записей никто не может прочитать, кроме нее.
А потом и я открыл секрет бабкиной тайнописи. Секрет этот несложный: большая палка — трудодень, поменьше — полтру- додня, а совсем маленькая — четверть. Сперва бабка считает целые палки, потом складывает половинки и четверти. И выходит у нее точнее, чем у нашей бригадирки.
Но записи записями, а бабуля, видать, больше надеется на свою память. Однажды, чтобы доказать старушке пользу грамоты, я нашел за иконой ее записи и стер один трудодень. Интересно, что она будет делать: заметит недостачу или нет? Если не заметит, то уж так и быть — скажу.
На другой день, когда бабка села «писать», мы с Глыжкой, хитро посмеиваясь, подглядывали за ней с печи. Вот старуха разгладила на столе бумагу, послюнила карандаш, склонила набок голову, даже немножко язык в чернилах выставила, вывела толстую палку и залюбовалась. Вдруг видим — бабка сморщила лоб, что-то пересчитала на бумаге пальцем и удивленно пожала плечами. Слышим, рассуждает сама с собой:
—- В понедельник раскидывала навоз... Та-ак. Во вторник копала под картошку — день с половиной. А что ж это я делала в середу? Ага — семена собирала по хатам. Так где же мой день? Во память, что решето дырявое.
И бабка тут же нарисовала еще одну палку. Так из моих доводов ничего и не вышло. Больше того — глянув на наши с Глыжкой глаза, она как-то догадалась, в чем тут дело, и покачала головой:
— Дурачки, и не открещивайтесь. Вам шуточки, а мне за эту палку надо день спину гнуть.
1 Младший чиновник в губернском управлении в етарое время.
352
Несколько раз я пробовал научить бабку хоть расписываться, но все мои попытки были напрасны.
— Куда уж мне учиться, внучек! — вздыхала она.— Покуда я эту грамоту одолею, уже и помирать пора. А на том свете и так ладно будет.
Сколько я ни уговаривал ее, сколько ни просил, а она на своем стоит:
— Отстань ты, смола! Мозги мои уже старые. Хочешь, чтоб они совсем высохли?
Мои разговоры насчет того, что неучение — тьма, совсем выводили ее из себя.
— Отцепись, тебе говорю. Мне с грамоты хлеба не гамати. Буду я тебе тут писать, когда в хате нечего кусать. И если уж ты такой светлый, так иди лучше ведро воды принеси.
На этом все и кончалось.
Странные у бабки отношения с богом. Вообще она считает, что бог где-то там есть, только, видно, он из ума выжил. Разумный бог такого творить на земле не позволил бы. И говорит старуха про него, как про доброго знакомого и близкого соседа:
— То ли он там самогонку пьет, то ли он там спит, хвороба его знает. Ну, взялся быть богом, так правь. А то, как тот Аггей лаптинский: совсем в детство впал.
Я никогда не видел, чтоб бабка крестилась или молилась. Призывать бога другой раз призывала, когда тяжко приходилось, а молиться — нет, не было такого заведения. Женщины, которые у нас зимовали, частенько отбивали перед нашей богородицей поклоны, старая Мирониха шептала вечерами «Отче наш» и «Верую», а бабка и молитвы ни одной не знала. Молодой была, так с пятого на десятое что-то помнила, а теперь — ни одного слова, все выветрилось за этой вечной работой, вечными хлопотами.
— Ну, хоть бы так помолилась, как умеешь,—уговаривали ее женщины.
А бабка их со своей стороны спрашивала:
— А что он мне за это — мешок торфа принесет? Когда б принес, так помолилась бы.
Пока мы жили в хате одни, без чужих людей, никому не было дела до бабкиного безбожия. Никто об этом не знал, никто
353
об этом ничего и не говорил. А теперь пошла слава среди старых баб по всей улице:
— Слышали? Тетя Мотя из-за стола встанет и лба не перекрестит!
— Не может быть!
— Сама, бабоньки, видела.
Видно, потому и прибежала как-то к нам Чмышиха. Черный платок повязан по самые брови; А глаза такие ехидные, и голосок масленый:
— Добрый день вам в хату. Хлеб да соль.
— Садись с нами обедать,— пригласила бабка монашку за стол. Пригласила, верно, больше для приличия, потому что у нас самих были миски неполные.
— Спасибо,— отвечала Чмышиха.— Только что от трапезы. Решето занять пришла. Мучицы бог послал, надо просеять.
— Вот и хорошо,— без зависти отозвалась бабка и встала из-за стола.
Поглядела монашка — не перекрестила старуха лоб, и завела антимонию:
— Неужто и правда не веришь?
— И ты туда же! Тебя тут только и не хватало. Верю — не верю, пусть у тебя голова не болит,— довольно невежливо обрезала монашку наша бабка.
А Чмышиха не унимается:
— Ты же старая совсем, помрешь — бог на том свете спросит.
— На том свете всем одна чарка будет —и праведным и грешным. Отнесут на кладбище, червяки поточат — вот тебе и весь тот свет.
Монашка прямо побелела:
— Знаешь что?
— А что? — с язвительной учтивостью переспросила бабка.
— Не надо мне твоего ни решета, ни сита!
— Не надо так не надо,— не стала набиваться бабка, и монашка, грозя разными божьими карами, грохнула дверью.
А старуха разошлась. Знает она их, святых. Как колышки помидорные из колхоза красть, как за образа у итальянцев коней покупать — им не грех. А тут, видите, у них душа болит.
354
Бабка без них с богом разберется. Коли он не слепом, так он и без них увидит, где стрижено, а где брито.
Так и укрепилась за бабкой слава великой грешницы.
Но однажды...
Было это, когда отец прислал второе письмо. Раньше он писал, что лежит в госпитале с такой раной, после которой, должно, отпустят домой. Бабка радовалась и ждала его со дня на день, и вдруг приносят новый солдатский треугольник. Никто батю и не думает отпускать домой. Ему попались хорошие доктора, и какая-то комиссия признала еще годным.
— У него всегда не так, как у людей, такой уж уродился,— обвиняла бабка отца и вздыхала: она думала, что передаст нас с рук на руки, а сама хоть и на тот свет на отдых.
И вот однажды я подслушал, как она разговаривала с богом. Было это поздним вечером. Глыжка, свернувшись калачиком, сладко посвистывал носом, а мне не спалось. Лезет в голову разное: война, незасеянный огород, который не придумаешь, чем засеять, и Глёкова Катя стоит в глазах. Она все не покоряется, все досаждает нам с Санькой. И вдруг слышу:
— Ты послушай, что я скажу тебе, господи...
Сперва мне показалось, что бабка обращается ко мне, только немножко удивился, почему она меня так называет — «господи». Поднял голову — перед образами стоит.
— Ты уразумей меня, господи. Мы с тобой, слава богу, в годах, да и в немалых годах. Так кому ж и посочувствовать один одному, как не старикам? Верно, и самому нелегко под старость с этими людьми. И не так с людьми, как с нелюдями. Наплодил ты на свет разных гитлеров, а теперь, видать, и сам не рад.
Все это начало меня забавлять. Но бабкин голос такой душевный, проникновенный, что смеяться почему-то стыдно. Старуха долго сетовала на то, как трудно богу, а потом дала несколько советов, начала вроде бы поучать его, как ему там быть, на небе.
— Много молитв к тебе идет, господи. Может, сразу и не разберешь, какая от сердца, а какая от хитрости. Так я тебе так скажу: не больно ты слушай соседку мою Чмышиху. Прикидывается она святой, а брехать — не цепом махать. Про меня »что будет говорить — не слушай. Молиться я не умею, это прав¬
355
да. Да и то сказать: когда мне молиться? Как натопаюсь за день—веришь ли, господи?—упаду и ног не чую. Да и что тебе с моих молитв? Ризу себе новую ты из них не сошьешь.
Тускло мигает маленький, чуть живой огонек лампадки* Ее всегда зажигает под воскресенье баба Мирониха. Из угла на старуху строго и как будто чуть удивленно смотрят святые, а она, маленькая, непричесанная, усталая, в неизменном немецком френче, рассказывает им про свою жизнь.
— Грех тебе серчать на меня, господи. Сам ведаешь, сколько живу, столько сирот и гляжу. Батьку с маткой наших ты рано прибрал. Помнишь ту войну, когда я в девках была? С японцами какими-то. Вернулся он, похаркал зиму кровью — и под пасху схоронили. А мать у попа под мешком пшеницы надорвалась. Легко мне было четверо душ братов и сестер кормить?
Боги молчат. Бабка вздохнула и тоже умолкла, о чем-то задумалась. И когда я уже решил, что эта странная молитва окончилась, она заговорила опять.
— Замуж вышла. Ну, думала, отдохну за мужиком. А оно пошло — что год, то приплод: Явхим, Марина, Степан, Одарка. Да померли трое. Мало тебе их было, и мужика прибрал» Ot испанки он помер, господи, в ту войну с немцами. Вот тебе и снова сироты. Мед мне был? Это только кто не знает, так ска* жет. А теперь ты и дочкиных бросил.
Бабушкин голос перешел в шепот, горячий, торопливый. Она словно боялась, что у бога не хватит терпения ее дослушать.
— Бросил ты их без матки, не оставь без батьки. Одного прошу у тебя, премилостивый бог: Кирилла, зять мой, на войне, и ты сам слышал, что он пишет в письме. Не пускают его домой. Так искриви ты, господи, ружья гитлерам, отсуши ты им руки, засти глаза, чтоб не попали они в зятя. И ерапланы ихние поломай, и бомбы ихние порушь...
Тут уж я не выдержал и тихонько на печи хмыкнул: нашла бабка диверсанта... А она повернула голову, строго глянула в мою сторону и зашептала опять, только тише.
— Ты ж только гляди там,— предупредила старуха бога.-^- Кириллов в наших Подлюбичах много: Кирилла Цыган, Кирилл ла Назаров, Кирилла Лебеда, которого Перепелкой кличут* й
356
Язепова старшего хлопца Кириллой зовут. Все они люди добрые, спаси их и смилуйся над ними. Но коли тебе не управиться будет, так больше за моим гляди, не сироти уж совсем этих неразумных. А еще, господи, не трогай ты меня, покуль сам с войны придет...
Напоследок бабка богу пообещала:
— Ты не бойся, вернется — я тут не задержуся. Вот тогда делай со мной что хочешь. Ничего я уже не боюсь, все на этом свете видела.
Окончив молитву, бабка вдруг накинулась на меня:
— Все углядят твои зенки лупатые. В кои веки раз душу отвела, так и тут без него не обошлось.
Что правда, то правда. Никогда бабка не молилась до этого, и после я больше не слышал. Так и живет грешницей. Все ходит и ходит в колхоз, боится, что без нее поля не засеют и земля будет гулять.
ТЕТКИНА ХАТА
Сошел с лугов паводок, и начали люди бегать по щавель: девчата, бабы, хлопцы. Выйдешь за огороды, поглядишь на Большую гриву, прямо в глазах рябит от платков и рубашек. Моя бабка варит щавель в огромном чугуне. Встаем с Глыжкой из-за стола, животы у нас, как барабаны, большие и тугке, хоть ты гвозди на них ровняй, а есть все равно охота.
Кроме щавеля, на лугу растет дикий чеснок. Когда он молодой, то не такой уж и горький. Мы его носим домой пучками и на лугу едим за обе щеки. К вечеру от этого чеснока все во рту деревенеет, покажем друг другу языки — зеленые.
Иной раз посчастливится найти яйца дикой утки или хоть чибиса. Найдя яйца, ребята опускают их в воду и смотрят — свежие они или насиженные. Если свежие, забирают; насиженные кладут назад в гнездо.
Есть на лугу и много чего другого. Всю прошлую осень немцы сидели на городище, на Заглиницком взгорке, а наши стояли под горой. Теперь тут, в размытых паводком окопах, попадаются патроны, гранаты,, а в Долгой лощине мы нашли целый шта¬
357
бель мин в ящиках. Мины были тяжелые, с крыльями на хвосте. Понятно, что мы не прошли мимо такой находки и бросили одну в огонь. Ухнуло так, что в селе услышали; После этого мне бабка и сказала:
— Хватит — покормил. Бегай лучше в колхоз, а на лугу и огороде я сама буду.
И вот всю весну мы бегаем с Санькой в колхоз. Тут нами верховодит Нинка-бригадирка. До войны она была нянькой в колхозных яслях, и мы с Санькой еще тогда от нее натерпелись. А теперь снова попали к ней в руки. Сперва Нинка послала нас вместе с женщинами копать лопатами поле под картошку. Покопали день-два, нажили мозоли и завертели носом: бабская работа, давай нам мужскую!
Бригадирка дала мужскую — навоз из хлевов выбрасывать. Но тут мужики взбунтовались:
— Ну кого ты с нами поставила? Вертятся под ногами, как вьюны, без толку. Еще и не кидали, а у них языки на плече. Забери, чтоб не путались.
Да коли б мужики были как мужики, а то — старики, как дед Зязюлька. От старости едва ноги переставляет, и тот на нас фыркает.
— Тогда запрягайте, хлопцы, коней и айда ячмень скородить! — распорядилась Нинка.
Мы с Санькой так и подскочили от радости. Давно б она сказала, так мы б ей и в воскресенье и в праздники работали. Не диво — кони! Прицепив борону, едешь ты верхом по улице, а меньшие мальчишки завидуют, прокатиться хотят. Кнутом их, кнутом, чтоб не покалечился который! Работать на лошади — это самая мужская работа. Лучше не придумаешь.
Лошадей в бригаде немного прибавилось. Правда, немецкий битюг, не дождавшись молодой травы, сдох. Зато Нинка пригнала откуда-то из Гомеля двух других. Говорила, что у какого- то командира полка выпросила. Вот этих битюгов и дал нам Петька Чижик, наш бывший одноклассник, который теперь в бригаде конюхом. Видно, потому он такой важный и неприступный, даже не улыбнется. Четырнадцать лет, а ворчит, как старик.
— Смотри, чтоб холку не натер,—строго предупредил он
358
меня. Потом на Саньку накинулся: “ Как ты седелку полот жил? Ты что — первый день замужем?
Зязюлька с одобрением покачал головой:
— В батьку пошел хлопец: любит скотину.
Едва мы отвязались от этого Чижика. Уже со двора выехали, а он вдогон кричит:
— Рысью не гоняйте, черти!
Как будто разгонишься на них рысью, когда они мух отогнать не могут. Мой так еще топает помаленьку, а Санькин дошел до луга и стал. Санька нокает, а битюг только головой мотает.
— Что он, по-русски не понимает, что ли, волк его ешь? — удивляется Санька.— Но-о, пферд1 проклятый!
Так всю весну мы и не слезали с этих пфердов. Скородили, возили, окучивали. За день, бывало, намотаешься так, едва ноги домой приволочишь и спишь потом, как маку наевшись. Иной раз утром глаза продерешь, а бабка с укором:
— Ну и ну! Будила-будила и хоть бы голову поднял. Немцы ж Гомель бомбили.
Или просто новость расскажет:
— Всю ночь по селу танки шли. Неужто не слышал?
Она думает, что если на печи поставить ту батарею, что за огородами стоит, и бабахнуть над самым моим ухом, то и тогда я не проснусь. Что мне? Здоровый, как бык, и молодой, забот в голове никаких — вот и сплю.
Но один раз я на работу в колхоз не пошел. Из-за тетки Марины. Я и не завтракал еще, когда она прибежала к нам и, увидев меня, обрадовалась.
— Хорошо, что я дома застала тебя, племянничек.
— А на что он тебе? — полюбопытствовала бабка.
— Так я ж хату строю,— похвалилась тетка.— А лесу не хватает. Пусть поглядел бы своим глазом. Все-таки мужчина.
— Мужчина! — фыркнула бабка и начала ворчать что-то про игрушки и куклы, в которые я будто бы не прочь поиграть. Только наговоры это. В куклы я сроду не играл. Просто у бабки такой характер: делаешь жёрны, зарабатываешь трудодни, а ей
1 Пферд (нем.) — лошадь.
359
все мало, все жалуется, что нет в хате хозяина. Она боится, как бы меня там, у теткиной хаты, каким-нибудь бревном не придавило, лес-хворобес, он и не таких калечит. Вон дядька Скок всю жизнь скачет.
Тетка за свой век пожила в разных хатах. Выпгла замуж — у свекрухи года три по одной половице ходила. И просторная была хата, а тесно, потому что не в своей. Потом дядька Андрей свою поставил. Место ему попалось на самом конце Заглинища. За его двором сразу начинался луг, за огородом — болото, густые лозняки. Что луг недалеко, это чувствовалось по всему и в хате и во дворе. На окнах у тетки всегда стояли луговые цветы, в сенцах сушились пахучие травы, на дворе — снопы длинной гибкой лозы, березовые жерди. Побежишь к тетке поиграть, а у нее или свевая рыба, или пищит во дворе дикий утенок, либо покалеченный косой коростель — непременно есть что-нибудь интересное.
Хорошее было место, только больно уж глухое. Зимой как задует да как заметет со всех сторон, как навалит снега по стреху — неделями на село не выходили, пока люди стежок не протопчут. Зимой тетка часто не то хвалилась, не то жаловалась:
— Снова нынче ночью к нам гость приходил...
Гостями она называла волков. Темными, холодными ночами они частенько бродили вокруг двора.
Помню, как-то я заночевал у тетки. Только все уснули (тетка сказала, что она и первый сон увидеть не успела) , как во дворе залаяла и завыла собака, забеспокоилась в хлеву корова. Дядя Андрей быстренько зажег лампу, накинул на плечи кожух, сунул босые ноги в валенки и с ружьем выскочил за дверь. Ну и ахнула ж берданка! А огонь блеснул, аж весь двор осветил.
— Подранил, кажись,— сказал потом дядя, укладываясь спать.— Трое их было. Один на крышу залез, холера*
Из-за этих «гостей» тетка Марина всю жизнь собиралась переселиться в деревню, ближе к людям. Да так до войны и не переселилась. А потом немцы навели порядок с ее хатой —и головешек не осталось.
Зимовала тетка у золовки. Опять чужая хата, опять чужая печь. Так это ж ладно, пока все ладно. А как что-нибудь такое, куда денешься с детьми? А их вон сколько, мал мала меньше —«■
Федос, Мапька, Ганя, Коля. Федосу десять, а Коля и вовсе под стол пешком ходит. Трудно — не трудно, надо тетке думать о своей хате.
Ее свекровь померла в самую заваруху, три дня в хате лежала, пока люди заглянули. И похоронили так, что никто не слышал и не видел. Ни похорон, ни поминок не справляли: кругом стрелянина. И остался ничьим свекрухин двор. Садик тоже ничего себе, хоть старый, а если доглядеть, были бы яблочки. «Ну,— думала тетка,— утихнет бой, и переселюсь в свекрухину хату. Славное место, людная улица. Буду уж тут вековать».
Но немцы разнесли и свекрухину хату. Осталось всего несколько венцов, что ниже окон. Простенки по двору раскиданы. Пока тетка сажала в Заглинище свой огород, не стало и простенков. Это уж соседи, видно, на дрова пустили. Тогда тетка решилась:
— Пусть будет что будет. Поехали, дети, в сад жить. Ночи теплые, в шалаше переспим, а к зиме хатку слепим.
Дети и рады празднику: в шалаше спать интересно.
Утром тетка топит свекрухину печь, и вся улица видит, как она чугуны ставит, что она готовит. Стен нет, печь наружу. Только тетка не тужит. Стала она быстрая, управистая, все в руках горит: завтрак готовит, курицу из проса гоняет, на стройке плотнику помогает. Горевать ей некогда.
А хитрое ж это дело — построить из нескольких этих венцов целую хату. Мамуля, который не только в железе понимает, а может быть и плотником, взялся было поставить сруб за мешок нового хлеба ж лять мешков картошки, а потом пересчитал бревна и закрутил своим длинным носом:
— Ничего не выйдет, Марина. Не стоит и начинать.
Тетка подумала, что он цену себе набивает, и стала уговаривать:
— Разве ж мне палаты яужны? Ты сделай только, чтоб печь стала да кровать — и все. Два оконца. Одно — сюда, другое — туда. Мне не танцевать.
— Ну, как хочешь,— сдался Мамуля и предупредил: — Только уговор: не хватит леса, все одно плату отдашь.
И вот .он вчера неложил последнюю плашку и загнал в бревно топор:
361.
— Шабаш! Я'ж тебе говорил.
Остатков свекрухиной хаты и вправду на сруб не хватило. Только простенки, что промеж окон, вывели — и во дворе ни палки. И все потому, что бревна были гнилые. Тронешь его с места — труха сыплется. Много таких гниляков откинул плотник в сторону.
— Да куда ж это ты размахнулся? — рассердилась тетка, обойдя сруб.— На что мне такое гумно?
Плотник только плюнул с досады: было то «гумно» не больше нашего свинушника.
— Что ж мне теперь делать, племянничек? — горюет тетка.— Кабы Андрей был жив...
Если бы да кабы, да росли во рту грибы, так был бы не рот, а огород. Нету дяди Андрея, и нечего вспоминать. Надо самим жить, самим думать. И я сказал:
— Бери, тетка, пилу, топор и веревку. Пойдем!
— Куда пойдем? — удивилась она.
— В лес.
Мамуля даже головой покачал: ну и ну! В лес. За шесть километров. Дойти мы дойдем, а дальше что? Шуточки это нам — сосну повалить? Тут и здоровым мужикам надо сала наесться. Ну, скажем, повалили. Что ее — на себе притащишь? Ни коня, ни вола. Нинка ни за что на свете не даст, ведь тетка не одна на селе такая. В колхозе куда ни кинь, все клин. Да и всех не на- жалеешься, на все похороны слез не хватит.
Взяла тетка пилу и топор, веревки не нашла — моток немецкого кабеля прихватила. И мы пошли. Мамуля только глазами нас проводил. На худощавом носатом его лице было напис&но: «У бабы ум короток, а дитя и вовсе глупое. Что с них возьмешь?»
На лугу еще не косили. По обе стороны стежки стоит густая и высокая трава, радуют сердце пестрые цветы: красный иван- чай, голубые колокольчики. Кричат над болотом чибисы. Перед самым носом вдруг с шумом взлетают утки. Я вздрагиваю от неожиданности, а потом кидаюсь на то место и шарю в траве. Пусто, нет гнезда. Просто жируют.
— Может, вернемся? — повторяет то и дело тетка.— Ну, что мы там сделаем? Только людей насмешим.
362
Она уверена, что дальше Сожа нам не пройти. Постоим на берегу, поглядим, как на той стороне лес растет, и пойдем обратно. По правде говоря, меня Сож тоже смущает. Я переплыву, а тетка как?
— Что ты? — пугается она.— Я воды боюсь. Пойдем, хлопец, домой. Не будет у нас дела.
Чем ближе к реке, тем меньше уверенности и у меня. Только признаваться не хочется. Дойдем хоть до воды, а там оно само покажет, что дальше делать.
Прозрачный, как слеза, Сож. С берега все камешки на дне можно пересчитать. Сверкают серебром пугливые стайки мальков. Там, где река изгибается коленом, под крутым обрывом кружатся на воде клочья пены, стебли аира, сухие ветки лозы. Плещут волны, подтачивают берег. С гомоном носятся над водой стрижи. Обрыв, как пчелиные соты, весь в стрижиных норках.
Ничего этого тетка не видит, ничего не слышит, потому что на том берегу стоит лес. Высокие, ровные сосны. Много сосен, а ей нужно только несколько бревнышек, чтоб положить хоть два венца над окнами, чтоб поставить хоть какие-нибудь стропила и натянуть крышу. Не будет этих несчастных бревен — не будет у тетки крова, опять пойдет она по людям. А кому охота пускать с такой оравой детей?
Чернеет на том песчаном берегу лодка, а вокруг ни души. Вот он — выход! Перегнать лодку сюда, посадить тетю — и мы в лесу. Но тетка не соглашается. Она не верит, что я переплыву Сож. Тогда, боже упаси, ей и хата не нужна.
Я не переплыву Сож! Слышали вы что-нибудь подобное? Мы с Санькой однажды чуть Ситняг не переплыли, а он в пять раз шире, чем река. И если Санька тонуть начал, и если я нахлебался цвёлой воды, тут ничего удивительного нет — ослабели на постном щавеле. Нас вытащил за волосы Санькин дядька Харитон, дал по доброму пинку в спину. А на другой день мы все-таки переплыли Ситняг.
Не переплыву Сож!
Я бросился с берега в реку, только брызги столбом поднялись. Тетка, как квочка, которая вывела утят, бегает по песчаной косе и испуганно ойкает:
— Ой, ой! Вернись! Куда ты?
363
А меня подхватило и понесло. Нет, Сож — это не наш Ситняг. Тут течение, водовороты. Вот и коса осталась в стороне. Вот тетка взобралась на крутой берег, бежит вдоль Сожа, причитает:
— Плыви к берегу. Ну его, этот лес. Вернись!
С километр гнало меня вниз по течению. Нырнул против старого русла, а ухватился руками за лозу уже чуть не у самых Плесов. И лодки той уже не видать, спряталась за поворотом.
Зацепился я руками за лозу, а ногами все по воде бью, думаю, что еще глубоко. Померил — воробью по колено. Вот и все. А она говорит — я Сож не переплыву. Мы с Санькой и через Днепр могли бы.
Когда лес не надо рубить, все деревья кажутся ровными и красивыми. А тут мы с теткой просто растерялись. Все не выберем сосну по вкусу. То очень низкая и ветвистая, то кривая, то слишком тонкая, то такая толстая, что до вечера не спилим. А вот эта будто и ничего, да не повалишь. Обступили ее со всех сторон дубы и березы. Ходим мы по лесу, как хозяева, ищем самое лучшее дерево.
А хорошо в бору. Не печет солнце, пахнет смолой, щебечут в густых кронах птички. Пестрый дятел примостился на высокой сухостоине и долбит сук. По всей поляне разносится эхо, вниз летит мелкая белая пыль. Я так засмотрелся на этого дятла, что провалился в глубокую яму, ободрал руки о колючие кусты дикой малины. Это была не просто яма, а окоп. Наверно, партизанский. Вот куда мне надо было идти прошлым летом, когда я хотел позвать партизан, чтобы вызволили Саньку.
Наконец мы нашли нашу сосну — не тонкую, не толстую, не кривую и не суковатую. Стукнул я по стволу обухом, покатилось гулкое эхо, а за ворот посыпалась сухая хвоя.
— Ну, с богом,— сказала тетка, и мы, поплевав на ладони, начали пилить.
Начали легко, бойко. Весело зазвенела пила, на густой мох брызнули розовые, пахучие крупинки опилок. Но нашей бойкости хватило ненадолго. Пила начала ходить все тяжелей и тяжелей, дальше — больше и, наконец, совсем точно прилипла. Зашли с другой стороны — тоже не пилится. Попробовали немного подсечь, и это не помогло. Стоит сосна как стояла. Шу¬
364
мит в небе густая вершина, а мы внизу обливаемся потом и ничего не можем сделать. А я думал* лес валят так: тюк-тюк — и готово.
— Нет,— сдалась тетка.
Да я и сам понял, что нет. Не одолеть нам этой сосны. Не за свое дело взялись. Поглядел на тетку, и так мне жалко ее, хоть ты сам плачь, как плачет она, сидя на старом, усыпанном розоватыми грибами-поганками, пне. Плачет и размазывает по щекам слезы и грязный пот своей жилистой, с пятнами свежей смолы рукой. Под белой от соли кофтой трясутся теткины плечи; поседевшие до поры, будто их тоже присыпало солью, теткины волосы выбились на лоб. И такие у нее глаза несчастные* что я повалил бы ей весь этот лес, когда б была у меня сила.
— Давай еще, тетка, попробуем.
— Нет, племянничек, нет,— вздохнула она.
Так мы и возвращаемся домой с пустыми руками. Я иду вслед за теткой, и разбирает меня злость. На кого — и сам не знаю. Может, на Мамулю? Что ему, черту носатому? Ему еще лучше, что мы не напилили бревен: ж сруб кончать не надо, и плату возьмет. А тетка снова останется с детьми без угла.
По дороге мы с ней еще попробовали подступиться к одному дереву, и у нас так зажало пилу, что едва высвободили. Надо идти дом!ой да никому ж не признаваться, как мы валили лес. В самом деле, люди смеяться будут. Моя же бабка первая скажет:
«Во додумался мудрый Соломон!»
Хлопцы в бригаде тоже не упустят случая поскалить зубы. Я уже представляю, как они будут привязываться:
«Расскажи-ка, Иван, как ты лес валил. Коваль Вернидуб!»
Лес-хворобес, как говорит моя бабка. Кажется, и недалеко мы с теткой зашли, ища подходящее дерево, а назад едва вышли. Да и то не туда, где оставили лодку. Тетка забрела по колени в воду, чтоб умыться, освежить лицо, а я упал на траву под лозовый куст и жог не чую, так уходился. Ничего уж не хочу — ни лесины, ни жердины.
Кажется, мы попали на переправу, по которой осенью шли наши войска. Самой переправы уже нет, ее снесло весной паводком, только у берега остались в воде толстые сосновые сваи.
365
А на крутом спуске к .реке из-под . песка там ж тут. виднеются кругляки. Вцдно, солдаты делали настил, чтоб не буксовали машины.
Я даже глазам своим не поверил, забыл про усталость, обрадованно вскочил с места.
— Тетка, бревна!
А мы ходим по лесу, как дурни, ищем вчерашний день, ко,- гда тут все готовое — ни рубить, ни пилить, ни трелевать па своем горбу к реке. Выкапывай из песка и бери.
Бери, да не дюже — надорвешься. Саперы их так скрепили, поприбивали такими железными скобами, будто на века наводили эту переправу. Однако ж и мы с теткой чего-нибудь да стоим. Я вырубил дубовый кол с добрую оглоблю, и дело пошло. Руками, топором, чем попало мы сгребаем с настила песок, подсовываем под бревно кол, налегаем на него животами:
— Раз, два, взяли!
Шевелится.
Бревна, правда, не бог весть какие: и коротковатые, и суковатые, больше вершинки, и побитые гусеницами танков, и выщербленные конскими копытами, но на такой дворец, как теткина хата, в самый раз. Где натачается, где подтешется — и будет лежать.
Еще никогда в жизни мне не приходилось вязать плотов, но я так понимаю: захочешь — свяжешь. Большой хитрости тут нет, особенно если в руках немецкий телефонный кабель. Тетка колом сталкивает бревна в воду, а я, закатав штаны, без рубахи, привязываю их к двум жердям. Раз, два — и готово. Я командую — тетка слушается. Она полностью надеется на меня. У меня все-таки мужской ум, и потому мне видней, что делать.
Плот у нас вышел — дай бог каждому, хоть на край света плыви. Подо мной он только чуть-чуть осел, а ступила тетка, вода по бревнам пошла.
— Не развяжется? — недоверчиво спросила она.
Я немножко обиделся и потому даже не ответил. Ничего ему сто лет не будет, если я вязал. Только вот плывет он почему-то туда, куда сам хочет.
Перепутанная тетка сидит на плоту копной, даже шевельнуться боится, только что-то шепчет про себя. Может, молит¬
366
вы. Мое крепление сразу ослабло, и бревна ведут себя вольно: на какое станешь, то и тонет под ногой. Однако плот плывет!
Я гребу длинной жердью, а нас подхватило течение, медленно покружило на одном месте, потом вынесло на середину реки и погнало вниз, совсем не туда, куда нам надо. Тетка уже не рада, что села. Она боится, что если все это кончится добром, так ближе Киева к берегу не прибьемся. Вот уже и лодка осталась далеко позади, и старое русло миновали, и нашей кирпичной школы на горе не видать. Но не так страшен черт, как его малюют. Возле Плесов, где река поворачивает в сторону, наш плот все ж таки как-то прибило к берегу. Я думаю, тут помогло то, что я греб. Правда, высадка не обошлась без небольшого происшествия. Бревна под теткой разошлись в стороны, она очутилась в воде по самые подмышки и даже пискнула с перепугу. Но под ногами уже было дно.
Плот мы затащили в глухую заводь, в заросли ситника и аира, привязали к старой вербе и, радостные, побежали домой. Тетка даже смеется от счастья, даже будто помолодела. Теперь у нее будет хата, хоть маленькая, да своя. Остались пустяки — перетаскать эти бревна в село. Когда бы конь, так тут и голову ломать нечего бы, а без коня, самим тащить повозку, да без дороги по лугу — придется попотеть.
Тут наши с теткой взгляды расходятся. На что нам эта повозка? Пойдем водным путем: из заводи по канаве, которую прокопал до войны колхоз, чтоб осушить Бурое болото, из канавы— в Грыцев ручей, что вытекает из озера, из ручья — в Ситняг, и только тут сушей. Так это ж уже совсем близко.
На лугу нам встретился Санька. Он рвал щавель и луговой чеснок. И Санька тоже сказал, что по-моему будет лучше, чем по-теткиному. Он даже пообещал помочь. Только чтоб за ним утром зашли. И тетка снова согласилась. Нам, хлопцам, видней.
На следующее утро мы пришли к Сожу еще по росе. Тетка взяла с собой и своих старших — Федоса и Маньку. Какая от них ни подмога, а подмога. Муравьи маленькие, а как вместе возьмутся, горы ворочают.
Сперва все у нас шло хорошо. У реки канава была глубокая. Мы развязали с Санькой плот, прицепили бревно к бревну, получился длинный караван. К передней колоде прикрепили два
367
конца все того же немецкого кабеля и идем себе, посвистывая, по обе стороны канавы — я с Санькой с одной-стороны, тетка с малышами с другой. Красота! Тетка опять радуется и дивится! головы у нас с Санькой министерские. Она думает, что если так и дальше пойдет, то к обеду мы и руки помоем;
Одно только плохо — кусты. Сперва были лоза и ракита. Пробираясь сквозь чащу, я ободрал до крови икру, а Санька наколол на остром пеньке ногу. А потом стало еще хуже. Пошли крапива с репейником. Густая, высокая и жгучая. Наши руки, ноги в волдырях и огнем горят. Но тетка говорит, что это не страшно. От крапивы будто бы одна только польза — самое лучшее средство от ломоты в костях.
А тут еще и канава начала мелеть. Все меньше в ней воды, все больше водорослей, все гуще осока. Так осока еще ничего, она не очень мешает, а водяной мох цепляется за первую колоду, наматывается на комель огромным тяжелым кожухом. Пройдешь шагов сто, и кожух. Хоть жилы порви, с места не стронешь. Правда, жилы у нас покуда целые, а немецкий кабель с нашей с Санькой стороны не выдержал, и мы так й загремели в самый репейник. Пришлось тетке лезть в канаву и руками выдирать из-под бревна мох, выкидывать его на берег. Теперь она уже молчит. По всему видно, что к обеду мы руки не помоем.
Прошли немножко — опять кожух. На этот раз полезли мы с Санькой: там воды на пядь, а торфяного месива под мышки. Зашипело оно, покрылось частыми пузырями. Лягушки в канаве огромные, зеленые, лупоглазые. Санька их не то что боится, а просто не любит. Он выскакивает на берег, как заяц.
Много раз рвался немецкий кабель, много раз, натаскавшись этих «кожухов», мы падали на траву от усталости. Вот и солнце уже садится за подлюбские вербы, большое и красное. Теперь вода в канаве кажется теплой, а вылезешь на берег, зубы сами щелкают, что у голодного волка, дрожишь как в лихорадке.
Одна тетка еще храбрится. Когда начались особенно густые заросли, она уже не вылезает из канавы, бредет по пояс в торфяной жиже, вырывает проклятые водоросли и выбрасывает их на берег. А следом уже мы тащим наш «караван» —с одного
368
13
берега я, с другого — Санька. Теткиным мурашам спасибо уже и за то, что сами идут.
В одном месте тетка чуть не утонула. Она попала в какую- то яму, должно быть воронку от бомбы — не иначе. Но все обошлось: ухватилась за бревно, потом мы с берега руки подали.
В наше озеро мы притащили бревна, когда уже изрядно стемнело. Мокрые, изрезанные осокой, перепачканные в торф и глину, мы с Санькой еле доплелись до дома. Я и ужинать не захотел. Как упал, так и уснул.
Мамуля потом сильно удивлялся:
— Неужто на себе?
Ему даже не верилось. По его мнению, только по глупости можно такое сделать. Разве взрослый человек на это пойдет?
Но как бы там ни было: по глупости или от большого ума, но стоит теткина хатка. Нижние венцы ж простенки черные, трухлявые, а над окнами блестят на солнце новые, свежеотесан- ные бревна. И такая тетка счастливая, такая радостная, и так ей нравится ее новая хатка, что не может нахвалиться перед соседями. А еще тетка не знает, в какой угол меня посадить, как меня потчевать. Когда б было у нее хоть невесть что, и то отдала бы. Такой уж я племянник золотой, такой хлопец дорогой, что другого такого не найдешь. Вот только на плот она со мной больше не сядет ни за какие деньги.
— Нет, нет, нет! И не говори, мой мальчик. Я тогда чуть не померла со страху...
ВУРДАЛАК
Утром у Зязюльковой хаты, покуда бригадирка отправит людей на работу, всего наслушаешься. Особенно от Михейкова Назара. После контузии у него руки трясутся, а язык все равно легко подвешен. И голова у Назара светлая. Не голова, говорят люди, а сельсовет. Недаром же его прозывают Министром.
Михейков Министр все знает и все по-своему может растолковать. Это потому, что он завел моду прочитывать газеты перед тем, как пустить их на цигарки. Даже прошлогодние и то глазами пробежит.
370
Известно, на настоящего министра он навряд ли похож и своей одежкой и лицом. Ходит Назар в солдатской гимнастерке, уже заплатанной на плечах и под мышками. И в таких же штанах. А обуви летом и совсем не признает, как и мы, грешные,— не министры. Нечего зря сапоги бить, когда и так тепло. Сапоги порвешь — зашивать надо, а ногу порежешь — сама заживет.
Лицо у нашего Министра худое, немного побитое оспой, брови — два или три золотых волоска, которые не сразу и заметишь, зато глаза большие, глубокие и умные. И что еще — так это вправду министерский лоб. Говорят, будто на Назарову голову в солдатах шапки не могли подобрать. А старый Зязюль- ка сказал как-то в шутку, что если б Министровой шапкой меряли зерно на трудодни, так никто б и горя не знал.
И вот только Министр сядет на завалинку, так и мужики сразу к нему подсаживаются. Цигарку помогут скрутить, а табака нет—окурком наделят. Бабы, особенно те, у кого мужья на войне, тоже ближе подходят, чтоб послушать, скоро ли кончится лихолетье. Ну, а нас с Санькой к Министру как мух на мед тянет. Не только ушами, а и ртом ловим каждое слово.
Обычно разговоры начинаются с вопроса старого Зязюльки:
— Ну, как там, Назар, не взяли еще наши Могилев?
Спросит и рукой глухое ухо натачает. Зязюльку Могилев
беспокоит больше всего. До войны его дочка вышла туда замуж, и есть там теперь у Зязюльки внуки. Тревожится старик, как они под немцем, бедные, вот и задает чуть не каждое утро один и тот же вопрос.
Министр, сидя на завалинке, водит кнутовищем по песку, рисует фронт. Он называет разные города, которые еще у немцев: Витебск, Орша, Рогачев, Жлобин, Могилев. Кнутовище дрожит, и фронт у Министра получается, как пила.
— А где же мы? — спрашивают у Министра.— Село наше где?
Тот тыкает палкой в песок, и все видят, что от нас до фронта не так уж и далеко. Если б я или Санька наступили ногой на Министров рисунок, то пятка была б в Рогачеве, а пальцы — в нашем селе. А мужики говорят,- что пешком надо идти два дня...
371
— Ой, и близко же,— пугаются женщины.— Хоть бы уж наши их поперли.
Конечно, попрут. В этом Министр так уверен, что может дать голову на отсечение. Теперь сила на нашей стороне, теперь у них кишка тонка. Дружок Гитлера, итальянский правитель Муссолини, смуссолинился, места в своей Италии не найдет. Допрыгается и Гитлер.
Сидит Навар на завалинке, окруженный бригадой, трясет перед носом окурком, пока им в рот попадет, и разумно так рассуждает. И почему ж ему не рассуждать, если все на свете ему известно? И про землетрясения, и про то, что есть такая страна, где солдаты ходят не в штанах, а в юбках К Все хохочут, не верят, а он доказывает, что есть. От него мы с Санькой узнали, что в Японии горы называются ямами. Скажем, по-белорусски было бы Фудзи-гора, а по-ихнему Фудзи-яма. Каких только чудес на свете не бывает!
Если из Министровых рассказов мы хорошо знаем, что делается на фронтах и вообще на всем свете, то о внутреннем положении часто слышим от Нинки, да и сами не слепые. Рожь нынче будет очень хорошая, если не поляжет или град не побьет. Правда, на высоких местах редковатая, а в лощинах травянистая. А ячмень сурепка заглушила — все поле желтое.
Половина картошки останется неунавоженной и неокучен- ной. Рук в колхозе не хватает. И тягла тоже.
Во второй бригаде, в той, что на Хуторе, лошадь сдохла, а в нашей на прошлой неделе кобыла Слепка ожеребилась.
На сенокосе всем косцам будут даром давать обед. Нинка сказала, что сам Дьякон обещал — председатель колхоза. Если так, то и мы с Санькой пойдем косить.
К старой школе навезли бревен. Говорят, солдаты целый «студебеккер» пригнали, прямо земля гнулась. Теперь там стоят высокие козлы и чужесельские пильщики распускают бревна на доски. Один стоит сверху на бревне, а другой внизу — под бревном. И как ему только опилки глаза не запорошат? Председатель сельсовета, наш сосед дядька Скок, хвалился, что у него пойдет кровь из носа, а школу до осени он приведет в порядок.
1 Имеются в виду шотландские стрелки.
372
Московские докторки, что зимовали в Санькиной хате, недавно уехали домой. Делать им тут больше нечего. Сыпняк отступился. Санька их сам на станцию возил на Буянчике. Во был смех, когда дорогой выскочила чека и свалилось колесо! Санька сам подымал-подымал повозку и не поднял. Тогда он и скомандовал:
— А ну, беритесь!
Докторки взялись за ось. Оси в черной колесной мази, а у докторок ногти накрашены лаком. Санька говорит, что когда б я потом поглядел на их пальчики, так помер бы со смеху. А еще на прощание, от радости, что не опоздали на поезд, они хотели Саньку поцеловать. Да не на того напали. Он, как вьюн, вывернулся у них из рук.
Вот, пожалуй, и все внутреннее положение, если не считать разговоров про какого-то вурдалака.
Вурдалак — это такой мертвец, которому не лежится в гробу, и вот он ночью откапывается, вылезает из могилы, ловит живых людей и сосет из них кровь. На нашем кладбище таких неспокойных мертвецов нет. Завелся он возле старого кирпичного завода. Вы не знаете, где это? Тогда послушайте.
От нас идти в город можно двумя путями. Можно по шоссе, мимо дома дорожного мастера, через деревню Пруды, а там уже и город. Хорошая и многолюдная дорога. Тут тебя иной раз обгонит солдатская машина или Мамуля на велосипеде — Мамуля опять на железную дорогу устроился. И спутник всегда найдется.
Другая дорога в город — лугом. Бежит стежка за озером Ситняг, мимо бывших глиняных карьеров, заросших аиром, через железнодорожную насыпь, снова лугом мимо разрушенной бойни, по болоту и прямо к элеватору. От элеватора до базара рукой подать. Протоптали стежку женщины с кошелками. Эта стежка хороша тем, что по ней и ближе и мягче ходить, не надо бить ноги о камни.
Сразу за озером, слева от стежки, когда идешь в город, и по правую руку, когда возвращаешься назад, находится старый кирпичный завод. Труба давно разрушена, печь вросла в землю, па кучах битого кирпича растет полынь и греются на солнце ящерицы. Рядом с развалинами старая могила, над которой сто¬
373
ит покрытый зеленоватыми лишаями дубовый крест. Помню, до войны на кресте висела икона с рушником. Теперь от рушника ничего не осталось, а икона превратилась в черную истлевшую дощечку. Краска потрескалась от солнца, лицо святого смыли дожди. Кто лежит под тем крестом, я хорошо не знаю. От Мавры Чмыховой слышал, что божий человек, святой странник, который ходил в Киев поклониться святым мощам, да и помер в пути. А батя когда-то говорил, что конокрад, которого подлюб- ские мужики забили колами. Я больше верю бате, а не монашке. Да и недавние события показали, что покойник скорее всего был конокрад. Божий человек, верно, не стал бы вурдалаком.
Первая про вурдалака прознала Чмышиха. Она крестилась и божилась, что видела его собственными глазами. Было это будто бы так. В воскресенье пошла Мавра на базар продавать щавель. Целый мешок нарвала, чуть глаза не повылазили, пока доперла. На базаре поскупилась пустить подешевле, просидела чуть не до вечера, но продала все-таки по-людски. Слава богу, щавель сейчас в цене. Потом долго толклась по ларькам, по рынку — ни к чему не приступиться, ничего не докупиться, ни на ком креста нет. Купила только стакан соли да четверть литра конопляного масла и пошла домой.
— И вот подошла к тому месту,— рассказывала она потом у колодца,— гляжу, под крестом что-то шевелится. Так у меня мурашки по спине и побежали. А он подымается — ой, страх божий! — глаза горят, что у волка. Прошептала я молитву, да, видать, грех на мне есть — не помогло. Кинула я мешок и так уж бежала, так бежала, что думала — сердце выскочит. Вурдалак это был, девки, ей-богу, вурдалак! Надо нам откуда-нибудь попа привезти да над могилой службу отслужить, чтоб успокоить его душу.
Сперва монашке никто не поверил. Всех ее басен не переслушаешь. А потом вурдалак погонял и других женщин. Они тоже побросали кошелки и едва ноги унесли. Одна из них была Министрова жена — Настя. Та врать не будет. Кинулся было Министр с безменом на то место, прибежал — ни кошелок, ни вурдалака.
Моя бабка насчет этого думает, что тут не вурдалаком пахнет. Мало ли на свете таких, что легкого хлеба ищут? Но как
374
бы там ни было, а только утром на рассвете и вечером, когда смеркнется, женщины больше не ходят ближней стежкой в город. Разве кто из мужчин случится в попутчики. Тогда, бывает, и отважатся: когда идут мужчины, вурдалак не показывается.
Постепенно разговоры эти начали затихать.
И вот довелось побывать в тех местах нам с Санькой. У бабки кончились веники, и она послала меня нарезать охапку полыни. А более густой, лучшей полыни, чем у старого кирпичного завода, нигде не найдешь. Кроме полыни, там после дождей растут печерицы. Это очень вкусные грибы. Если насбираешь их полную шапку, бабка только спасибо скажет. В бога, в черта, в домовых и в вурдалаков мы с Санькой не верили ни на вот столечко. Потому и на кирпичный пошли смело. Постояли у конокрадовой могилы. Понятно, если б он вылезал на поверхность, так была б или свежая земля, или нора, или какая-нибудь дырка. А тут ни норы, ни дырки — вековой дерн. Веников мы нарезали быстро. Такую охапку навязали, что на плечи сам не подымешь без подмоги. А потом пошли ближе к кирпичному посмотреть, нет ли печериц. Ничего не нашли и заглянули в печь. Просто так, по привычке. Раньше, когда мы попадали в это пустынное место, мы играли в прятки. Залезешь в печь, а там сыро, сумрачно, чуть страшновато и ящерки шмыгают. И мы, как ящерки, по разным ходам ползаем. Залезешь в одну дырку, а вылезешь из другой. Красота!
Правда, тут может тебя завалить камнями или кирпич откуда-нибудь сорвется да по голове — так уже было один раз с Санькой. Чуть кровью не умылся.
Только мы все равно не жалели: очень уж хорошо и весело гоняться друг за другом в этих развалинах. Санька—в печь, а я — из печи. Санька — за мной, а я — за кучу камня, в полынь. Но сегодня мы не очень-то разгулялись. Сунулся мой приятель в печь — и сразу же назад выполз.
— Гляди ты,— удивился он,— наш ход завалило.
Пригляделись повнимательнее, так как-то странно его завалило: сверху над головой все цело, а на проходе все-таки куча камня. Под самый потолок. Будто кто наносил. И сломанная железная дверь тут. Мы с Санькой ее сами еще в прошлом году
375
оттащили чуть не до карьера. Хотели в воду кинуть, чтоб плюхнула. Да силы не хватило. А теперь она опять здесь.
— Хм...— задумчиво сказал Санька, отряхивая с коленей песок.
— Хм...—сказал и я.— Неужто это кто-нибудь из ребят здесь сделал баррикаду?
Пожали мы плечами, подивились, всего и заботы. А тут ящерку увидели. Санька прижал ей палкой хвост. Сама ящерка сразу же удрала в норку, а хвост бросила, и он трепещет на песке, как живой. Санька говорит, что у ящериц потом новые хвосты отрастают.
Так бы мы и пошли домой со своими вениками, если б в густой полыни не наткнулись на нору. Большая нора, залезть можно. Не иначе как в печь ведет.
Санька парень горячий. Он любит биться об заклад. Канава ли по дороге встретится, собака ли залает на чужом дворе, Санька сразу готов спорить, что он и через канаву перепрыгнет, и мимо собаки пройдет.
Так и с этой норой у нас получилось. Я сказал, что туда лезть страшно, а Санька, чтоб показать свою храбрость, тут же мне руку протянул.
— Давай спорить на твой ремень, что залезу! Что, ремня жалко?
— Кому? Мне?
— Тебе!
— На! — протянул я руку.
Если по-настоящему биться об заклад, надо чтоб кто-нибудь третий «перебил», провел ладонью по нашим соединенным рукам. Тогда дело святое. Как говорится, назад только раки ползают. С нами третьего нет, поэтому «перебил» сам Санька и предупредил:
— Гляди же!
Он быстренько опустился на четвереньки, сунул в дырку голову и полез. Вот уже и плечи его там, и ноги, только потрес- канные ступни торчат. Плакал мой ремешок.
И вдруг Санька будто притаился, с минуту лежал неподвижно, а потом выскочил назад, как из бочки пробка. Глаза круглые от страха.
376
— Там кто-то есть,— сказал он шепотом.
Я усмехнулся. Просто Санька струсил, а теперь выдумывает.
— .Кто-то там сопит, как будто во сне...
— А не храпит? — язвительно переспросил я и тоже сунул в нору голову. Правда, лезть не полез, насторожил уши, прислушался. Ничего там не сопит и не храпит. Тихо, даже звенит в ушах.
Я хотел уже опять посмеяться над Санькой, как вдруг... Кто- то в норе глухо закашлялся, заперхал, как старый Зязюлька, накурившийся табака-самосада. Теперь я выскочил.
— Слушай, а если это тот самый... вурдалак? — высказал догадку Санька.
Вурдалак — не вурдалак, а лучше отсюда дать тягу. Кто его знает, что там такое! Еще и вправду выскочит, схватит и начнет кровь сосать. А место тут теперь глухое, от села далеко, рядом лозняк, пока докричишься, пока докличешься помощи, всю и высосет.
Кто ж там все-таки сидит в разрушенной печи?
— Кто сидит? — переспросила бабка, когда мы рассказали ей о наших приключениях.— Леший его знает! Может, тот, что кошелки у баб отбирает... А вам бы он и вовсе головы поотрывал, чтоб не совали куда не надо...
Бабка говорит, чтоб мы бежали в сельсовет. Там лучше нас разберутся, там у людей ум — не чета нашему с Санькой.
Но мы сомневаемся, идти или не идти. Еще не поверят и будут смеяться. Лучше бы самим подстеречь, а если повезет, то и поймать. Вот бы прославились! На все село. Пусть бы тогда эта Катя посмотрела, что мы с Санькой за хлопцы.
А бабка нас гонит в сельсовет. Ей до славы нашей нет дела, только бы вурдалак головы не поотрывал.
В сельсовете полно народу. Говорят, лес на хаты давали, так еще не все разошлись, не все накричались.
Мы до этого ни разу не видели Скока в сельсовете — как он там за главного. Так вот увидели. Сидит он с начальницким видом за испачканным чернилами кривоногим столом и старательно хукает на печать, будто она замерзла. Потом, прижав ее к бумажке, внимательно разглядывает, что получилось. И все его тут зовут не просто Захаром, а Захаром Ивановичем. Не начал
377
ли он уже нос задирать, как говорила наша бабка? На улице Скок как Скок, а тут не подступиться.
Женщины думают донять дядьку слезами, а он обеими руками машет:
— Знаю, милок, все чисто знаю: муж на фронте, коз целый воз, детей загон, хата сгорела. Только леса больше нет. Весь поделили.
Женщины еще пуще в слезы.
— Тихо,— просит их Скок.— Будет лес. Всем будет. Только не святым же духом это делается. Не все сразу. Слышите, гремит?
Все прислушались. И правда, где-то далеко тяжко гремело. Должно быть, фронт.
— А лес будет,—уверенно повторил Скок.—Тебе, Марья, в первую очередь выпишу...
Мы со своим «вурдалаком» уже и лезть к председателю не стали, так он сам нас заметил.
— А вы что тут забыли? Тоже леса хотите?
— Нет,— успокоил его Санька.— У нас другое...
Оглянувшись на женщин, мой приятель подошел к самому
столу, таинственно поманил председателя пальцем и, когда тот перегнулся через стол, что-то зашептал ему на ухо.
— В вашей печи? — удивился Скок.
— Да не-ет,— перестал секретничать Санька,— на кирпичном.
— Разберись ты с ними, милок,— попросил Скок участкового милиционера.
Участковый милиционер — Максим Колдоба. Это немолодой уже человек с Хутора. Не очень из себя приметный, в сереньком измятом пиджаке и в солдатской выцветшей пилотке. Милицейскую форму ему пока что не успели выдать. Но пистолет есть. Висит на ремне. Максим еще ни одного преступника не поймал. Занимается тем, что отбирает у таких, как мы, ребят разные находки. Только найдешь что-нибудь стоящее, только стрельнешь разок — Колдоба уже тут как тут. И находку отберет да еще уши, если хочешь, накрутит. Он и теперь подумал, что мы с Санькой по доброй воле принесли какой-нибудь пулемет. А когда услышал про вурдалака, так даже не поверил.
378
— А вы, хлоццы, не заливаете?
— Что вы, дядечка! — забожился Санька.— Сидит там и сопит...
— Кашляет,— добавил я.
— Тогда показывайте,— перестал наконец сомневаться Колдоба, и мы втроем пошли на кирпичный.
К самой печи Максим нас не пустил. Расспросив, где эта нора, в которой мы с Санькой слышали, будто бы что-то подозрительное, он приказал нам вернуться домой, а сам тихо двинулся по полыни к куче битого, поросшего травой кирпича. Но это легко сказать — вернуться. А что мы хлопцам потом расскажем? Мы ж не такие, чтоб, найдя вурдалака, да не поглядеть на него.
— Посидим здесь,— сказал Санька у конокрадова креста, и мы сели на дернистом холмике.
Вечереет. За полем уже заходит большое красное солнце, и вода в глиняных карьерах тоже красная, будто туда насыпали жара. На болоте, где раньше был немецкий ложный аэродром, спокойно расхаживает длинноногий аист — ищет на ужин лягушек. А нас с Санькой допекают комары. Да мы терпеливые, мы все равно сидим. Может, Максиму понадобится помощь, так подбежим, если что. А потом вместе будем вести этого сопуна из норы по селу. Пусть Петька Смык посмотрит. И Катя увидит, задаваки мы несчастные или нет.
А Колдоба как сквозь землю провалился. Нету и нету. Уж не залез ли он там в печь и не может вылезть? Санька даже на крест забрался, чтобы лучше видеть. Оттуда, с креста, он и передает мне, что делается на кирпичном. Колдоба лежит за кучей камня и не шевелится. Потом подошел к норе и опять затаился. Видно, слушает. Вот он кинул туда камень.
— А что из норы? — не могу устоять я на месте. Мне тоже хочется забраться на крест.
— Ничего,—- разочарованно вздохнул Санька.
Ну и осрамились же мы с приятелем! Только панику подняли на все село: вурдалак, вурдалак! Теперь хоть на глаза людям не показывайся. И все это из-за Саньки. Ему, видите ли, сопит. В ушах от страха.
— А тебе не кашляло? — обиделся Санька.
379
В этот момент на кирпичном произошло то, чего мы никак не ждали. И не из норы, а совсем с другого места, будто из-под земли, блеснула огнем и сухо затрещала автоматная очередь. Санька кубарем слетел со своего наблюдательного пункта.
Когда вурдалак поднялся на ноги, мы его увидели и так, лежа на земле. Одет он был в какие-то лохмотья, голова всклокоченная, все лицо заросло. Он кинулся бежать в чащу лозняка. Откуда-то из развалин, вслед ему, раз за разом забахал револьвер. Но Колдоба стрелял, видно, не очень метко: незнакомец исчез в кустах.
Как только все стихло, мы с Санькой на четвереньках приползли к кирпичному заводу. Максим лежал в крови среди камней и скрежетал зубами:
— Вот дурак, вот дурак... Не так надо было... С голоду вылез бы, падаль. Не совсем я поверил вам, хлопцы... Думал... заливаете...
Максима отвезли в госпиталь, а разговоры про вурдалака поднялись с новой силой. Говорили, что милиция нашла на кирпичном его берлогу. Мы с Санькой теперь в центре внимания.
— Ну, какой он хоть, хлопцы? — расспрашивают нас все, начиная от бригадирки и кончая старым Зязюлькой.
— Такой лохматый-лохматый, из одних волос,— рассказываем мы.
Министр думает, что это какой-нибудь полицай вокруг села шатается. Может, даже кто из наших, из подлюбских. Правда, в это мало верится. Как только начал приближаться фронт, только-только загремело на востоке, их как корова языком слизала вместе с семьями. Неумыков двор сгорел заодно с другими, а в Афоньковой хате живут соседи. Так что возвращаться им некуда.
— Сидят они уже в Германии, у немцев,— говорит брига- дирка.
— Немцам теперь не до холуев,— перебивает ее Министр.
Разные ходят разговоры. А меж тем у людей то кур кто-то
ночью возьмет, то картошку на огороде подкопает, хотя она там еще с орех, то пропадут с забора постиранные штаны. Моя бабка с самого вечера запирается на все засовы. Заберется среди ночи в хату, что мы ему сделаем? На хвост соли насыплем?
МЫ ИЩЕМ ЛЕГКОГО ХЛЕВА
Потное для нас с Санькой настало лето. И радостное. Каждый день с фронта новые вести. Министр не успевает в бригаде
о них рассказывать. И додумались же наши загонять немцев в котлы! Окружат со всех сторон и поддают жару. Моя бабка все забывает, как котлы называются, и часто у меня спрашивает:
— А правда, что живодеров тех опять в этот... как его... в чугун загнали?
— Да не в чугун, а в котел! — в который раз объясняю я.
— Ну, пускай и так,— охотно соглашается старуха.— Как бы ни хворала, абы ладно померла.
Пошли наши на запад. Дождался Зязюлька, что и его Могилев взяли. Уехала с выгона зенитная батарея.
А на лугу между тем в разгаре косовица. Мне дед Миколай направил отцовскую косу-литовку, а Санькину старый Зязюлька отбил. Петька Смык наточил какой-то огрызок. Не коса у него, а горе, и он еще с нашими ее равнять хочет. Говорит, что хотя совсем сточенная, зато легкая.
На луг мы идем в одной компании с мужчинами. Верней сказать — мужчины идут с нами: их раз-два и обчелся, а нас — целый полк. Мужчины идут и курят, а у таких, как мы, табака нет. Попросить бы, да смелости не хватает. Вон Петька Смык попросил, так Министр его высмеял перед всеми.
— Нос не дорос. Ты сперва его утри.
И остальные дядьки загудели шмелями г
— Правильно, Назар.
— Дай ему по уху.
Правда, обошлось. По уху Смык не заработал.
Блестят у нас на плечах косы, за спиной висят жестянки с песком и дубовые лопаточки. И потому нам не хочется здороваться с кем попало. Мужчины с бабами, что идут сгребать сено, поздоровались, а мы на Катю и не посмотрели. По-моему, и она нас как будто не заметила. Подумаешь, цаца. Грабли взяла, так уж фасонит. Косу бы потаскала. Стали мы с Санькой рядом, подзинькали лопаточками по косам, поплевали на ладони — эх ты, сила молодецкая! Размахнулся Санька — ив кочку. Так и снес начисто, как бритвой срезал.
381
Мне кочка лопалась побольше. Не кочка — целая горища. Такую с одного раза не снесешь. Туда-сюда, а коса не вылезает назад, хоть ты ей, как батя когда-то говорил, сала дай. Старый Зязюлька стоит и смеется, из-под прокуренных усов блестят вставленные до войны железные зубы.
— Что, не пускает? За пятку ее тащи, холеру.
Нет на свете большего позора для косца, как, оставив косовище, нагнуться, чтоб вытащить косу за пятку. Смеху на весь луг:
— Сюда, хлопцы! Вот добрый горбочек, ну-ка, тюкните!
Правда, когда вышли на ровное, мы клевать землю перестали. Так другая беда — наседает старый Зязюлька. Того и гляди, пятки подрежет. Мы уже взмокли, во рту стало горько, ноги немеют, дух занимается, а деду хоть бы что. Шах-мах —и ложится у него трава в ровный, высокий покос. Поглядишь, так кажется, коса сама ходит. Видать, острая, как змея. Пусть бы нашими так попробовал.
Дед попробовал и нашими. И моей, и Санькиной. Прямо другие косы. Даже звенят иначе, тонко, со свистом.
— Тут не в косе хитрость, а в руках. Вы пятку прижимайте к земле,— учит он.— Вот так вот. А вы носом тыркаете.
Пока бригадирка пришла на луг поглядеть, что тут делается, у нас с Санькой перед глазами поплыли разноцветные круги. Теперь мне понятно, почему мать на косьбу клала отцу в торбочку и добрый кусок сала, и полдесятка яиц. Я сейчас волка съел бы, если б он мне попался в этих кустах.
Поглядела Нинка на нашу с Санькой косьбу и поморщилась. Ей, видите ли, не чисто; ей кажется, что весь подсад остается под ногами, а под покосом и вовсе нетронутая трава. Она думает, что мы не косим, а...
— А что ж мы делаем? — даже рассердился я.
— Только траву клочите.
Она поставила нас отдельно от мужиков на Лысом углу. Название этому месту дано в самый раз. Трава тут реденькая и кругом гладко, как на току. Если б и хотел, так не за что зацепиться косой. Уж тут мы себя показали!
Конечно, не отстали мы от других и когда косцам привезли на луг в железной бочке затирку. Хоть затирка была из непро¬
382
сеянной муки, да густая и чем-то приправленная. Санька уж так налег, что думал — пуп сорвет.
Мало-помалу косить мы таки научились. А потом и рожь на возы укладывали не хуже, может, Зязюльки. Редко который в дороге разваливался. Разве что веревка развяжется и рубель съедет.
И оглянуться мы с Санькой не успели, как уже и школа на носу. А у нас ни одной книжки, ни тетрадки. Если я хочу, бабка может мне дать трубку обоев, что завалялась у нее еще с до войны. А тетрадей она мне не нашила и книжек не напечатала. Не было у нее времени.
Когда и как будут платить на трудодни, никому не ведомо. Да бабка советует нам на ту оплату не больно широко рот разевать. Лучше как-нибудь так раздобыть денег и купить что нужно для школы.
Пустились мы с Санькой в коммерцию. День по лугу ползаем, день на базаре щавель продаем. Чуть свет прибегаем в город, раскладываем свой товар, и Санька начинает бойко зазывать народ:
Покупай, покуда есть.
Можно и без хлеба есть!
Люди смеются и весело у нас покупают.
Моя бабка говорит, что на базаре двое дураков: один хочет дорого продать, а другой — дешево купить. Мы с Санькой сперва в тех дураках не ходили, мы не торговались из-за какой-нибудь лишней горсти. Мало тебе —на, бери еще. Только гони деньгу. Другие торговцы щавелем стали на нас коситься, особенно женщины. Цену им сбивали. У нас люди берут, а у них не берут. Они уже и водой свой щавель брызгают, чтоб не такой вялый был, а все равно очередь к ним не устанавливается.
Вот тут нас одна баба и надоумила. Мол, мы не умеем продавать: мешки приносим большие, а выручка курам на смех. А надо делать так: класть поменьше и только встопорщивать, чтоб казалось много. Польстились мы с Санькой на большую выручку, начали встопорщивать.
Сидели-сидели — нет покупателей. Плюнул Санька на эту хитрость, снова взялся торговать по-своему.
383
Подходи, кому мало,
Можно есть и без сала,—
так и сыплет он.
Один старенький дедок с палочкой сказал, что из этого парня при старом режиме вышел бы большой человек. Купец первой гильдии.
Продав щавель, мы в первый же день нашей торговли пошли прицениться к тетрадкам. А на базаре чего-чего только нет, прямо глаза разбегаются: решета, гармоники, зажигалки из винтовочных гильз, огурцы, веревки, соль, горелые гвозди, шинели английского сукна, драченики1 с постным маслом — всего не перечислишь. Кричит, ругается базар, клянется, толкается, плачет, смеется — голова идет кругом.
Сидит у ворот слепой инвалид, лицо побито порохом. На плечах выцветшая гимнастерка. На тротуаре шапка с рублями. Инвалид так растягивает гармонь, что кажется, вот-вот разорвутся цветистые мехи.
А ну-ка, дай жизни, Калуга!
Ходи веселей, Кострома!
Мы с Санькой вздохнули, кинули, как и все, в шапку по рублю, пошли дальше. По другую сторону ворот под забором примостился красноносый бородатый дядька. В крашеном зеленом ящике перед ним сидит белая морская свинка, на ящике — пачка билетиков, сделанных из тетрадки для арифметики. Только тетрадки, видно, не хватило, пошла в ход и обложка с таблицей умножения. На билетиках написана судьба: кому встреча, кому расставание, кому богатство — что кому суждено.
— Подходи, хлопцы! — обрадовался дядька, увидев нас.— Пять рублей — и бери свое счастье!
Нет, мы с Санькой и так свое счастье знаем. Пускай кто- нибудь другой, а мы поглядим. Вот девчина подбежала, протянула, глупая, свою пятерку. Красноносый постучал пальцем по ящичку, и оттуда через круглую дырку выскочила свинка: шустренькая, гладенькая, глазки хитрые, как и у хозяина. Хозяин
1 Драченики — оладьи из тертого картофеля.
384
ткнул ей под нос пятерку, свинка посмотрела, понюхала, будто проверяя, правильно ли заплатили, и зубами вытащила один билетик. Тот самый, на котором таблица умножения. Девушка так и расцвела.
На засаленной, уже многими руками захватанной бумажке, как курицей, нацарапано химическим карандашом: «Жених к тибе приедит».
А какой-то бабушке еще больше повезло. Сама она прочитать не умела, так ей Санька прочитал:
«Твой милай тибя дожидаеца».
— Тьфу ты! — рассердилась старуха.— Только людей морочишь, боров откормленный. Мила-ай! На том свете, может, и дожидается.
Мы с Санькой купили у толстой торговки по одному картофельному драченику. По пятерке проглотили — и не заметили. Если и дальше так шиковать будем, так не купим тетрадей: всего по десятке осталось. Пересчитали свои деньги, пошли дальше.
— Ребята, идите сюда!
Оглянулись — городской парень в кепке с пуговкой на макушке нас пальцем манит.
— Купите самовар. Даром отдаю, две тысячи. Смотрите, какая полуда.
— А на что он нам? — растерялся Санька.
Глаза у парня бегают туда-сюда.
— Чай будете греть, турки. Вы посмотрите на медали. Видите, сколько тут выбито медалей? Вот — Париж, Вена, Брюссель. Царский самовар.
Ни Париж, ни Вена на нас не произвели впечатления. Тогда парень схватил меня за рукав.
— Давайте отгадаю, какого года у вас деньги. Отгадаю — мне пойдут, не отгадаю — я вам столько же отдам. Ну? Думаете, легко отгадать? Выиграете, как пить дать выиграете.
Мы едва отвязались от него.
Тетради продавала только одна женщина, да и у той было их всего десяток. Полистали мы их, погладили ладонью бумагу— ничего, гладенькая. А приценились, так даже отскочили. Десять рублей штука. Санька стал торговаться. Он будто бы видел, что рядом продают всего только по пять.
385
— Где ж это? — заинтересовалась торговка.
— А вон там! — показал Санька в толпу.
— Ну, так идите туда и покупайте! — посоветовала она.
Видно, таких умников она видела и до нас.
Подумали-подумали мы с Санькой и решили еще поискать,
подешевле. Нам не нужна уж такая гладкая бумага, сгодится и шершавая, лишь бы цена так не кусалась.
Шумит базар, ругается, клянется, все толкаются, и мы толкаемся, лезем туда, где людней. Смотрим—под забором мужчины что-то такое интересное окружили. Не иначе как на дармовщину люди напали. А под забором, на мостовой, опять инвалиды.
Двое их* безногие. Костыли рядом лежат. Тут идет игра на
деньги.
Один, рыжеватый, держит в руках три карты. На глазах у всех он складывает их одна на другую — надо вытащить туза. Подошел какой-то дядька, вытащил и получил пятерку. Вытащил еще — и еще получил. Тут и другие захотели. Только больше, кто ни брался, на туза попасть не мог: то он оказывался снизу, когда все видели, что его клали наверх, то сверху, когда все думали, что он внизу.
— Ну и ловок, шельма! — восхищаются штукарем зрители и весело хохочут, когда очередной охотник до пятерок растерянно разводит руками.
Рядом играют в «веревочку». Товарищ штукаря, бойкий, похожий на цыгана, опытной рукой выкладывает на мостовой тонкий шнурок, вертит хитрые петли и загогулины. Тот, кто хочет выиграть, должен ткнуть палец в эти петли, тогда инвалид дернет шнурок за оба конца. Если зацепился шнурок за палец, попал игрок внутрь — бери деньги. Прошмыгнул шнурок мимо — клади десятку. Тут на мелочи не размениваются.
— Эй, давай не зевай! — приглашает веревочник охотников.— Греби деньги лопатой! Выиграешь — не радуйся, проиграешь — не горюй! Последний в жизни шанс, последний сеанс, и лавочка закрывается!
У нас с Санькой глаза острые, мы все его уловки видим. Сперва положил кружком, потом набросал змейками. Если ткнуть пальцем посередине — тютелька в тютельку попадешь. У меня даже сердце екнуло. А что, если... Тогда, не таская на
386
базар щавель, купим себе тетради, а если повезет, так и Глыжке гостинец. Такие я наглядел там баранки —глаз не отвести.
— Ну, хлопцы, смелей! — подбодрил нас инвалид.
Я подношу палец к веревочке, и, кажется, притихла вся базарная площадь, только из-за спины слышится шепот:
— Облапошит он этого мальца...
Кого облапошит? Меня? Инвалид дернул свою веревочку, и мой палец — как по заказу. А они говорят — облапошит. Не на тех напал.
— Молодчина! — похвалил меня веревочник и вытащил из кармана новенькую, еще хрусткую десятку. А мы, дураки, ползаем по лугу и таскаем тяжелые мешки за столько верст, когда тут деньги на земле валяются.
— Бросьте, ребята,— предупредила нас незнакомая женщина.
— Не слушайте вы ее,— как старым знакомым, сказал инвалид.— Много она понимает!
Да мы и без его уговоров уже не собирались бросать. Санька тоже выиграл, зато мне во второй раз не повезло. И так же приглядывался, так же следил за этой веревочкой, а она мимо— шмыг, и нет десятки. Потом и Санька проворонил. Когда мы ткнули пальцами еще по одному разу, у нас остались только пустые мешки из-под щавеля.
— Больше денег нету? — спросил инвалид.
— Нету,— вздохнул, как кузнечные мехи, Санька.
— Ну, так идите своей дорогой. Другой раз умней будете.
А мы стоим и глазами хлопаем. Прямо плакать хочется. Вот
тебе и тетрадки, вот тебе и баранки. Дураки мы, дураки. Каких свет еще не видал. Правильно наша бабка говорит, что бить нас с Санькой некому.
Напарник веревочника чем-то напоминает Санькиного отца дядьку Ивана. Широколицый, шея, как дубовый пень, жилистая, редкие рыжеватые волосы на голове. Виски серебрятся. За нашей игрой он не следил, у самого был народ. А тут бросил карты в шапку вместе со смятыми пятерками, трешками, рублями и тихо сказал:
Игнат, отдай ты им деньги... Сам видишь, что это за богатеи:
387
— Пусть не лезут, когда в кармане пусто,— уперся чернявый. Глаза его блеснули.— Разве они отдали б, если б выиграли?
Мы стоим и, опустив головы, молчим. Санька красный, как рак печеный, да и у меня щеки огнем горят. Теперь не надо мне и баранок.
— Вот видишь? — прищелкнул языком веревочник.— Не отдали б.
— Все одно верни! — весь побелел наш заступник. У него даже голос задрожал.— Может, наши "где-нибудь вот так ходят.
И он схватился за костыль.
— Тьфу ты, припадочный! — выругался тот, с которым мы играли, и наши скомканные десятки полетели нам под ноги.
— Марш отсюда, босячня!
Нас дважды просить не надо было. Бросились мы подальше от этой дармовщины, поскорей отдали тетке деньги, схватили по тетрадке — и домой. Хорошо еще, что так обошлось.
— Ну и дурни,— сказала бабка про инвалидов.— Я бы вам не вернула ни копейки, чтоб не гонялись за легким хлебом. Нашлись мне асессоры — без мозоля десятки загребать.
„У ЛУКОМОРЬЯ ДУВ ЗЕЛЕНЫЙ..."
Школа. Здравствуй, школа! Давно уже мы не сидели в классах, не бегали на переменках по гулким коридорам, давно эти стены и старые тополя на дворе не слышали веселого звонка. Как отпустили нас в мае сорок первого года на каникул^, так не три месяца тянулись они, а три года.
В школе спали чужие солдаты, тут устраивали пьянки полицаи, даже стояли немецкие лошади, а потом лежали в классах груды снега и гулял по коридорам ветер.
А сегодня утром в старой нашей школе, где когда-то была волость, снова зазвенел звонок.
Покуда только в старой. На кирпичную, что построили перед самой войной, у сельсовета, не хватает, как говорит дядька Скок, девяти гривен до рубля. Там по-прежнему пусто. Под стенами вырос чертополох, вечером между стропил носятся летучие мыши, да мальчишки, играя в прятки, режут на битом стекле ноги.
388
Покуда кое-как, на живую нитку, отремонтировали только волость, и сегодня мы снова сели за парты. Правда, это только так говорится, что парты, а на самом деле — это длиннющие, в одну доску столы. За такую «парту» влезает восемь человек, а если хорошенько потесниться, то и десять. Доски не очень чисто выструганы, и Санька успел уже загнать в палец занозу.
Но нам сидеть не тесно. Первоклассников, так тех привалила тьма-тьмущая, сразу за три года собрались, а у нас много ребят не пришло. Только из наших с Санькой товарищей двух нет. Митька-Монгол на кладбище. Его немцы застрелили. А Петька Чижик помогает матери кормить семью. Сегодня, идя в школу, мы встретили его на улице.
Петька ехал верхом на Буянчике, с шиком зажав в зубах цигарку.
— Так не пойдешь? — кивнул Санька головой в сторону школы.
— Нет,—вздохнул Чижик.—Не пойду. Надо же кому-ни- будь и коней пасти, не всем учеными быть.
От солнца, от ночных костров на лугу, от дождей и ветра лицо у Чижика почернело, огрубело — с виду не скажешь, что этому парню четырнадцать. Мужик — и все. Только мелкий. И голос у Петьки сиплый, простуженный.
Мы приоделись в школу как кто мог. Санька в новой рубахе из парашютного полотна. Тетка Марфешка ее на пуд ржи выменяла. Смык в штанах из брезентовой солдатской плащ-палатки. Они собираются гармоникой и никакой силой их не разгладишь. Оттянет Петька руками штанину вниз — гладко, .только за другую возьмется, а первая — прыг! — и опять гармоникой. Не штанины, а пружины.
Книжек мы с Санькой так себе и не купили. А тетради есть две купленные да еще самодельные из обоев. Толстые, как библия. Страничка чистая, страничка в голубых цветах — пиши и любуйся.
Такую же «библию» я сшил и Глыжке. Он сегодня тоже пошел учиться. Вскочил с петухами — боялся проспать, по доброй воле помыл шею. Бабушка ему заглянула в уши, а потом обоих за порог проводила:
— Ну, ступайте, грамотеи... Да не ходите там на головах.
389
Санька побогаче нас с Глыжкой. Хорошо ему, если немцы, когда стоял у них офицер, обклеили их хату белой бумагой. Начальству не нравились обшарпанные стены. А теперь, перед школой, это для Саньки прямо находка. Пока мать была в поле, он навел свой порядок в хате — ободрал стены, ни кусочка не оставил. Досталось ему от матери! Мы с товарищами даже на улице слышали, как Марфешка кричала:
— Ах ты ледащо! 1 Ах ты гайдамака!
Санька все это мужественно перенес. Зато сейчас и в ус не дует: у него и тетрадки и блокнотики.
Так мы подготовились к школе.
И вот открылась в классе, дверь, вмиг утих гомон и смех — на пороге стоит наша Антонина Александровна. За войну она будто и не изменилась, такая же маленькая и сухонькая, только синее платье, которое учительница надевала на праздники, совсем выцвело. Все те же блестящие стеклышки сами, без огло- белек, держатся на носу. Теперь мы знаем, как они называются — пенсне. Учительница обвела внимательным взглядом класс, и в стеклышках отразились окна, «парты», портрет на стене и мы с Санькой на лавке.
— Здравствуйте, дети!
Отвечая на приветствие, мы с Санькой усмешливо переглянулись. Дети. Сказала б уж как-нибудь иначе. Вон Сонька Зыкова уже волосы себе накучерявила. Правда, не очень, но заметно. Наверно, украдкой от матери накручивала на горячий гвоздь. А у Петьки Смыка пушок под носом растет. Оттопырив губу, Смык щиплет его двумя пальцами, будто усы подкручивает. Он так нащипал у себя под носом, что там прямо красно. У нас с Санькой, правда, усов еще нет, потому что мы не сидели, как Смык, по два года в классе. Но и мы тоже парни ничего. Когда б не война, так были б уже не в четвертом, а в седьмом.
Первый день мы почти не учились, а так — говорили про жизнь. Антонина Александровна все удивлялась, как мы выросли, рассказывала про свою эвакуацию на Урал, а мы ей про немцев, про венгров и итальянцев. Про свое геройство тоже. Оказывается, не только мы с Санькой насолили фашистам — у
1 Ледащо (укр.) — лодырь.
390
каждого из хлопцев нашлось что рассказать. Один итальянского коня в болото загнал, другой — офицерский бинокль с печи будто нечаянно сбросил, чтоб тот разбился, третий в кухне в суп песку насыпал. Во трещало у фашистов на зубах! Были и более серьезные дела: крали гранаты, прятали раненых. Как мы, например, с дедом Мироном — комиссара.
Вспомнили, как книжки из школьной библиотеки растащили по хатам, когда полицай Неумыка вывалил их на пол из шкафов. Думали, это только мы с Санькой такие смелые, а их прятали и Коля Бурец — Храбрый Заяц и тот же Смык. Смык даже хвастал, будто из-за этих книжек немцы гонялись за нами по всем Подлюбичам и стреляли вслед. Мы с Санькой даже рты разинули от удивления: вспоминали-вспоминали, когда это было, и не вспомнили. Самому мне из-за книжек пришлось больше повоевать с бабкой. Раза два хотела ими печь растопить, когда щепок сухих не было. А немцы их и не видели.
Антонина Александровна уверена, что мы герои. Благодаря нам в школе опять будет библиотека.
Нет, библиотеки не будет. У хлопцев погорели хаты, а вместе с ними книжки. У нас с Санькой хаты целы, но нашими книжками всю войну кормились мыши. Может быть, там и уцелело каких-нибудь два-три десятка.
— Все равно герои,— похвалила нас учительница.
И вот уже неделя, вторая и третья, как идут занятия, вот уже Антонина Александровна нам рассказывает про Пушкина. Не про того, конечно, что живет возле Козодоя. Про того мы сами знаем. Это Степка Пилипчиков, высокий, худой, черный и кудрявый. За это его и зовут Пушкиным, хотя он и не умеет писать стихов.
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том,—
читает учительница, а Саньку толкает под бок Петька Смык и клянчит тягучим, надоедливым шепотом:
— Сань, а Сань... Дай трубочку... На что она тебе?
Дело в том, что у Саньки есть медная блестящая трубочка толщиной с карандаш. С одного конца она запаяна наглухо, а с другого, там, где потолще, резьба. Эту трубку потерял какой-
391
то разиня, а Санька нашел. Теперь он хочет дома отпилить у нее концы и сделать себе такую ручку, чтоб перо пряталось внутрь.
...И днем и ночью кот ученый Все ходит по цепи кругом...
А Петька из Санькиной трубки хочет сделать свисток. Этих свистков у него целая уйма. Делает он их из полосок жести, из пустых гильз, с горошиной внутри и без горошины, а потом продает мальчишкам из младших классов за ломоть хлеба, за кусок коржа или пару крупных антоновок. Малыши сами бегают голодные, зато свистят в свое удовольствие.
...Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит...
А еще Смык научился из пятаков ковать перстеньки. Так выкует и так отшлифует, что золото — да и только. Этими перстеньками он оделил уже всех старших девчат и молодиц из Хутора.
...Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит...
Санька не устоял. Отдал Смыку трубочку за готовую ручку. Правда, ручка была не такая уж важнецкая, немножко ржавая и погнутая, зато придача хороша: перо «86». Мягко так пишет и совсем не царапает.
...Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей...
А Смык не слушает. Он не может дождаться переменки, вытащил из кармана ножик и начал под партой ковырять Саньки- ну трубку. Делает он это умело. Глаза внимательно и преданно смотрят на учительницу. Кажется, он весь там, возле этого дуба, где ходит кот ученый. С виду ни за что не скажешь, что у Смыка в голове свисток. А ножик так и пилит там, под столом. Весь стол ходуном ходит. Бутылочка из-под йода, в которой Васька Мамуля держит чернила, чуть не шлепнулась на пол. Ее подхватили уже на лету.
Только Антонина Александровна опускает очки в книгу,
392
Смык глянет под стол на свою работу и сидит, как святой угодник. Наверное, медная трубка хорошо поддается, потому что вид у Петьки довольный.
...Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, без...
Взрыв грохнул так неожиданно, что у учительницы выпала из рук книга и слетели с носа очки. Девчата пискнули, а мы с Санькой вскочили с места и чуть не повалили парту. На этот раз Мамулина бутылочка брякнулась на пол, чернила растеклись лужицей, обрызгали стену.
Петька Смык — белый, как покойник. С перепугу он не может сказать ни слова, губы трясутся, только вавакает:
— А-ва-ва-ва...
Из-под него валит сизый едкий дым, кажется, что Петька горит, а по полу разлетелись свежие сосновые щепки от стола. На щепки с красных Петькиных рук капает кровь.
В школе поднялся переполох. Заговорили в соседних классах, захлопали двери. К нам вбежал директор. Он не стал расспрашивать, что тут случилось, а, увидев Петькины руки, схватил его за плечо и поволок с собой.
Антонине Александровне стало дурно. Ее под руки увели из класса девчата. Занятий в тот день больше не было. Девчата долго сидели перепуганные, а хлопцы, чуть опомнившись, стали спорить, что это взорвалось: одни говорят — специальная мина, другие — запал.
Когда мы шли домой, по дороге нас догнал Смык. Он возвращался из медпункта и нес перед собой забинтованные руки. Петька еще храбрился:
— На правой руке здорово пальцы побило, но кости целы. Ничего страшного!
А еще он очень горевал, что свисток не вышел. Вот был бы свисток — целая дудка! Какой-нибудь первоклассник неделю за него хлеб носил бы.
Но нет худа без добра. Теперь мы будем на уроках писать, мучиться, а Петька барином сидеть. И к доске не вызовут, и даже уроков делать не надо будет. Как он ручку возьмет?
393
Дома, не успел я переступить порог, бабка, уже прослышав от Глыжки про взрыв в школе, попросила меня:
— Хоть ты уж не делай свистков, нечистик!
Мне даже обидно стало.
— Что я — маленький?
— Маленький не маленький, а ума хватит. Все вы одним миром мазаны.— И опять за свое: — Ой, хоть бы уж скорей сам пришел.
«Сам» — это, конечно, отец. От него уже давно ничего не слышно. Бабка боится, как бы нам казенного письма не прислали.
Но в начале весны к нам пришло обыкновенное письмо. Пишет батя, что теперь он в какой-то Восточной Пруссии. Пишет, что мужиков у них там нет, а есть только бауэры*. Хаты кирпичные, крытые черепицей. Не хаты, а крепости. В каждой пулеметное гнездо. Город там есть Кенигсберг2, или, по-нашему, Королевская гора. Думали, что не выковырять оттуда фашистов, так засели. Много там наших полегло, но не усидели и они.
После боев батя ходил по королевским палатам. И хотя все разрушено, но, видать, богато жили, черти. Только им мало было своего — нашего захотели.
А Петькины раны скоро зажили. Только один палец теперь не сгибается. Захочет Смык кому-нибудь погрозить, сожмет кулак, а все думают, что он пальцем куда-то показывает.
БАБКА СЕРДИТСЯ НА АМЕРИКУ
По правде говоря, бабка сердится не только на Америку. Свой единственный во рту зуб она точит и на Германию, и на вурдалака, и на председателя сельсовета дядьку Скока, и на председателя колхоза Дьякона, и, само собой разумеется, на нас с Глыжкой. Вот с меня и Глыжки я и начну.
Бабка сердится на меня потому, что я ей голову продолбил со своей золой, испоганил золой двор — и мало мне двора, так еще и сенцы. Я на золе в уме повредился.
1 Бауэр (нем.) — крестьянин.
2 Теперь это советский город Калининград.
394
Началось это еще зимой, когда к нам в школу пришел председатель колхоза Дьякон — человек не подлюбский, а присланный из района. Зовут его Левоном Игнатьевичем, а фамилия — Мороз. Но у подлюбцев под собственной фамилией может жить только человек совсем ни на что не способный, вовсе неприметный, о котором говорят, что он — ни богу свечка ни черту кочерга, для которого, хоть голову сломай, прозвища не придумаешь. А Мороза только раз послушали люди и сказали — Дьякон. Голос у него, как медный колокол, даже стекла дрожат.
Ходит Дьякон в белом, уже немного засаленном солдатском полушубке, туго подпоясанном командирским ремнем. Лицо всегда красное, как свекла, а на широком носу густая сеть синих жилок. После ранения или после контузии, а может быть, и просто отроду у Дьякона голова всегда немножко вздернута кверху, как будто он считает в небе тучки, и мы только диву даемся, как это можно, не глядя под ноги, не свалиться в яму или не споткнуться о камень. А председатель не сваливается и не спотыкается.
Дьякон умеет гладко говорить. При этом он энергично и решительно размахивает руками, то рассекает ладонью воздух, то показывает куда-то пальцем, то трясет кулаком. И о чем бы он ни заговорил — выходит, что это и есть самое главное на свете.
Так у него получилось и в школе с золой. В речи было все: и лютый враг, которого надо разбить, и героизм наших отцов, и весь советский народ, и все прогрессивное человечество. Через полчаса Дьякон постепенно перешел к тому, что врага надо бить не только оружием, его надо бить также высоким урожаем. А для этого мы должны — что? Собирать золу, ядреный корень!
Мы с Санькой думали, что зола — это так, никчемная вещь. Всю жизнь бабка высыпает ее в канаву. Теперь нам Дьякон объяснил, сколько в ней пользы. После его речи мы так загорелись, что готовы сжечь все, только бы наш класс занял первое место по сбору золы.
Каждое утро, не успеет еще бабка выгрести из печи, а я уже стою над душой, слежу, чтоб чисто выгребала и, упаси бог, пе вынесла в мусорную яму.
— Глупые вы со своим Дьяконом,— сердится старуха.—
395
Это ж кабы из дров, а из торфу чего она стоит? Разве только начальству пыль в глаза пустить.
А я и слушать не хочу, прямо из рук вырываю и скорей в сенцы. Тут наш классный склад золы. Зола в бочках, в ящиках, во всех углах. Мало бабке, что я сдурел, так сюда золу таскают и с других дворов: Санька, Смык, Мамуля, даже Катя Глё- кова. Правда, когда меня дома нет, бабка их и близко не подпускает.
Мало бабушке, что я ей жить не даю, так и Глыжка золы хочет. Того и гляди, из-под рук выхватит. Он свою золу носит в Скоков двор. Там склад первого класса. А я гляжу, что это в наших сенцах золы меньше стало? Оказывается, он тишком от меня берет и первоклассникам таскает. Хорошо, что заметил, так приструнил.
Раз в неделю по улице проезжает колхозная подвода, и тогда наши сенцы на денек освобождаются, бабка с облегчением вздыхает, но только до следующего утра. А утром все начинается сначала. Своей назойливостью и старанием мы добились того, что бабка называет нас зольной командой, а Дьякон — ударниками тыла. Он сказал, что мы вместе со всем народом куем победу. Это, конечно, пришлось нам по душе.
А у бабки все не так. Теперь ей писари мешают. В нашей хате писарей, слава богу, хватает. Если б столько работников было, сколько этих золыциков и писарей, так она б сидела сложа руки и в потолок плевала. Особливо ей меньшой в печенки въелся. Такой уж грамотей, что не иначе как министром будет. Само собой не тем, кто на конюшне навоз из-под коней убирает, а настоящим министром. Бумаги у нас нет, так он пишет на всем, что под руку попадется: на столе, на клеенке, на старой газете, на стене, на побеленной к празднику печи. Кабы на лбу еще писал, так вовсе бы хорошо.
Вечерами, при тусклом огоньке каганца, если посчастливится выпросить у кого-нибудь книжку, мы учим уроки. А интересно, допытывается бабка, что в ваших книжках написано? Там не сказано, где взять керосину, которого кот наплакал? На какие деньги его купить?
Нет, об этом в Санькином задачнике ничего не говорится. Тут сами спрашивают у хворого здоровья. Сколько, например,
306
можно сшить штанов из ста метров материи, если известно, что...
Бабка думает, что задачу в книжке написали люди, у которых или но все дома или из горла прет. Из ста метров материи! Тут и такой бы, как я, недотепа нашил бы штанов. Вот пусть они возьмут ее черную юбку и решат, как пошить из нее штаны двум грамотеям. Если пошить мне, так Глыжке и на заплатки не останется, если пошить Глыжке^ то мне еще трусы выйдут. Это ж так видно, хоть бабка и не кончала школы.
И не вычитали ли мы в своих «библиях», куда девался ее «хрэнч»? Хотя она и так знает, что без вурдалачьих рук тут, верно, не обошлось. После того как Максим Колдоба погонял вурдалака, тот было малость притих, будто бы ушел; потеплело — опять объявился, только теперь не на кирпичном, а где-то в Волчьем Яру. Место там глухое, кусты непролазные. Вот и свил, видать, там себе гнездо.
Люди работают как проклятые, недоедают, недосыпают, бьются как рыба об лед, чтоб из землянок выбраться, чтоб пережить голодную весну и поле засеять, а вурдалак ходит и ходит вокруг села. У Сидора Глушки ночью петуха украл, хлопцев и девчат, которые из дальних хуторов бегают в нашу школу, как-то вечером до смерти напугал. А теперь и до бабкиного «хрэнча» добрался.
Правда, и «хрэнч» уж это был! Одно звание. Хороших «хрэн- чей» у немцев спокон веку не бывало. Мне говорили, что они сукно из картофельной ботвы какой-то химией делают. Вот только не помню, кто говорил: то ли Министр, то ли Скок, то ли старший Скачок — Лешка. Да оно и так видно: не сукно, а гнилье. Расползается по живому. А трязь к нему липнет, как репьи на собаку. Вот и постирала его старуха на весну, и как с вечера повесила сушить, так и доныне где-то сохнет. И кто же на такие штуки способен, окромя вурдалака?
Нет, нету в вашем селе настоящих мужиков. Все какие-то тихие, смирные. Мухи боятся. Вот когда б наша бабка была мужиком, она б им всем показала, как надо этих вурдалаков ловить. Она б его отучила снимать с забора «хрэнчи», она б ему с первого раза шею свернула, голову бы оторвала и собакам выкинула. Что бабушка не мужик — это его счастье.
397
Но вскоре бабка перестала так часто вспоминать свою пропажу и немного утешилась. По селу пошел слух: нашим Под- любичам Америка пришлет помощь. Теперь бабушка почти уверена, что вместо украденного ей дадут новый «хрэнч», американский. А не «хрэнч», так что-нибудь другое, ведь про нашу пропажу знает все начальство, и не может того быть, чтоб при дележке оно не учло такого обстоятельства. Недаром же Максим Колдоба, который вернулся недавно из госпиталя, так внимательно обо всем расспрашивал, записывал, а потом сказал:
— Ну, не печалься больше, Матрена Евсеевна.
Должно быть, он этим на что-то намекал.
И вот каждый день, когда я возвращаюсь из школы, не успею еще порог перешагнуть, как бабушка задает мне один и тот же вопрос:
— Не слышал, Америка там еще ничего не прислала?
Да и сама она не зевает: нет-нет и сбегает на село, походит вокруг сельсовета, послушает. Встретит на улице Скочиху, тоже не упустит поговорить о том, что картошечки на семена не осталось, что внуки ее совсем оборвались и обтрепались, что в нутре что-то колет, а потом, будто ненароком, и вставит:
— Ну как там, ничего не слыхать из Америки?
Бабка начала даже географией интересоваться. Как-то нам с Санькой попалась карта обоих полушарий Земли. В школе мы этого еще не проходили, а просто так рассматривали и читали, где какой океан, где какое море, где земля, где вода. Тут и бабка подошла к столу.
— Какая хоть она, эта Америка?
Мы показали.
— А чего она такая? — удивилась старуха.
— Какая такая?
— Да в поясе перетянутая. Сперва широкая, потом узкая, а потом опять вширь пошла.
Это и нам неведомо, почему она перетянутая. Так уж получилось.
И в ежедневных разговорах Америка не сходит у бабки с языка. Спросишь у нее:
— Баб, куда ты?
А она:
398
— В Америку по зелену венику!
Вот и весь сказ. Понимай как хочешь.
Как бабка ни была начеку, а на дележку американской помощи не попала. Чтоб было меньше шума и гвалта, в сельсовете все разделили загодя. Однако и про нас не забыли. Скок наказал, чтоб бабка пршнла.
— Хороший человек,— похвалила его старуха и побежала рысцой, потом с улицы назад вернулась, оставила кошелку, а взяла мешок. Может, в кошелку не влезет, а из большого не выпадет.
Мы с Глыжкой бросили учить уроки и с нетерпением стали ждать бабку из сельсовета. Интересно, что она принесет. Может, каждому по штанам да по рубахе в придачу? А может, что-нибудь такое вкусное и большое, что будем есть-есть и не съедим?
Вернулась бабка под вечер, сумрачная и невеселая. Я сразу понял, что наши надежды на помощь провалились, а Глыжка полез со своими расспросами и попал под горячую руку.
— Сядь! — цыкнула она на брата.— Вишь ты, разинул рот на дармовщину.
Помощь был а такая, что Скок не знал, как ее и делить. Пальто линялое отдали Нюрке Казекиной. Той, что за самым Ситнягом живет. Она со мной однолетка, осталась без отца, без матери, а на руках еще трое меньших братьев и сестер. Кому же как не ей отдать?
На Хутор сапоги попали. Как будто Поликарпиха их схватила, а то сидят ее дети на печи, в школу не ходят: совсем нечего обуть.
А мы, оказывается, еще богатеи, нам, видите ли, еще так можно жить, без сапог.
— Это ж как язык у него повернулся? — чихвостит старуха Скока.— Ах ты, сковородник кульгавый!
Правда, и к бабке набивались кое с чем. Давали подтяжки ог штанов. Так она на них сгоряча плюнула, а потом, когда одумалась, подтяжки уже кто-то забрал. Принесла она только пачку яичного порошка. В тот же вечер бабка развела его водой, испекла блин, и мы его вмиг съели.
— Вот вам и вся Америка,— подвела итог старуха.— И больше вы мне про нее не говорите. Слушать не хочу. Сами щавеля
399
пе нарвем, картошки не вырастим, никакая тебе Америка но поможет. Подтяжки прислали, а что на них цеплять?
Ей почему-то и блин тот из порошка не понравился. Да, по- моему, тут она покривила душой. Блин был вкусный, только мало.
Вот и сердится с той поры моя бабка на Америку.
А Скоку она скоро простила, ведь ему, сердешному, и от Скочихи довольно досталось, что себе только сигареты взял, а сам заплатами на штанах светит.
НАМ ПИШУТ ИЗ ЕВРОПЫ
По улице мимо нашей хаты часто ходит с ореховой палочкой в руках деревенский почтальон Давыд. Сколько я себя помню, он работает на почте. До войны Давыд был вроде начальником, сидел в особой комнатке в сельсовете за невысокой перегородкой и хлопал по конвертам печаткой. С сумками по селу бегали две молодицы.
При немцах Давыд не работал. Говорят, староста хотел посадить его за ту перегородку, да старик так захворал, что и из дому редко выходил. Когда пришли нашиг он поправился и теперь сам, потому что молодиц ему пока что не дали, носит тяжелую кожаную сумку. Правда, иной раз и мы с Санькой ему помогаем, когда нам с ним по дороге.
Сумка у Давыда всегда полна. Еще зимой в наши Подлюби- чи густо пошли письма из Германии и других стран, которые старый почтальон все вместе называет Европой. Сядет он перебирать в сумке письма да открытки и нам показывает:
— Вот глядите, хлопцы, Будапешт!
Вертим мы в руках открытку и только дивимся: ишь какие есть на свете города, еще больше Гомеля!
А то покажет нам Варшаву, Бухарест или Софию. Тоже красивые.
В Давыдовой сумке попадаются и открытки с пешими и конными рыцарями, разными церквами и костелами, горными снежными вершинами и морскими берегами. Бывают и такие: рамочка в виде сердца, а в сердце франт в черном плаще, воло¬
400
сы причесаны, так и блестят. Если б я так причесался, так бабка сказала б, что меня корова языком облизала. Рядом с франтом розовые дамы страшной красоты. На одних карточках франты и дамы держат хрустальные бокалы, должно быть с вином, и друг другу улыбаются; на других — целуются. А над ними по- немецки золотыми буквами написано: «Ich liebe dich» l.
— Вот, хлопцы, посмотрите только, что Макар Ховре прислал,— либедих! — смеется Давыд.
И нам тоже смешно: мы же знаем Макара — мужик мужиком, и Ховра босая на работу ходит. А он — «либедих»!
Письма тоже бывают разные: в конвертах и без конвертов; сложенные треугольниками да еще солдатскими нитками прошитые; на листочках из школьных тетрадок и на каких-то немецких казенных бланках; бывают с фотокарточками и без фотокарточек.
Густо идут в Подлюбичи письма из Европы, и наш почтальон иной раз не успевает их разносить по хатам и землянкам. Тогда к концу занятий он приходит на школьное крыльцо и ждет последнего звонка.
— Петька! — кричит старик, когда мы окружаем его гурьбой.— Занеси письма Алене Самохвалихе! Санька! Передай Ковалям! Да не потеряй же...
Давыд довольно-таки плохо видит, поэтому он подносит конверты к самому носу и, кажется, не читает, что там написапо, а нюхает. Вытащил из сумки, понюхал.
— Коля, твоей сестре либедих.
Так и раздает на самые далекие улицы. А для нас это праздник, бежим из школы и почту разносим. Каждый тебе спасибо скажет. А от Давыда нам слава и честь. Кроме славы, перепадает много разного добра: то чистый лист бумаги, то обломок карандаша, а то и прошлогодний журнал с картинками.
Интересно носить по хатам письма. Люди читают, и ты наслушаешься. Разве что девчине какой-нибудь придет письмо от жениха — тогда уж простите. Выхватит из рук, в уголок забьется и про себя шепчет. А так, чаще всего тут же на завалинке или во дворе и читают. Если у хозяйки грамоты маловато или за войну очки потерялись, так и нас с Санькой попросят.
1 Ich liebe dich (нем.) — Я люблю тебя.
Библиотека пионера, т. 7
401
Разные письма бывают. Читая одни, люди радуются; читая другие — горюют. Открытки чаще всего вставляют в рамку, где под стеклом фотокарточки родичей, под вышитые рушники, если у кого остались. Заходишь в землянку — в рамке хоть какой- нибудь Будапешт или дама с франтом. А если письма от командования...
От командования письма в строгих фабричных конвертах, надписанные разборчивой писарской рукой. Таких писем все боятся и никто из взрослых не берется заносить по пути, как Давыд ни просит. А нам он их не доверяет: это уже не письмо, а документ. Такие письма, денежные переводы и другие важные бумаги старик носит по дворам сам. И люди уже как-то приметили: когда он в хату идет, значит, с добром, когда в стекло постучит, конверт в руки, а сам за калитку — беда.
Такое письмо он недели три назад принес тетке Марфешке. Оно было коротенькое, наполовину печатное, наполовину — от руки. Умер в госпитале. Санькин отец Иван Маковей умер в госпитале.
Когда это письмо прочитали, я думал, что тетка Марфешка начнет сейчас голосить. А она не голосила и не плакала. Она села на скамью, обхватив голову руками, и будто окаменела. Глаза ничего не видят. Прибежали соседки, прибежала моя бабка, стали все просить, чтоб поплакала, ведь может сердце не выдержать, а она молчит й молчит. Белая как мел.
Наконец она поднялась, хотела, видно, куда-то идти, да нечаянно зацепила и опрокинула скамеечку. Хотела горшок на стол поставить, так он выпал из рук, разбился на черепки, и по полу поплыл крупник. Говорят, что на нее будто бы затмение какое-то нашла; И не диво — дядька Иван был золотой человек. Все бабы его хвалили, говорили, что он свою хохлушку на руках носил. Ни слова она крутого от него не слышала, ни синяка не видела.
Бабы Марфешку отхаживают, а я —Саньку. Пускай он не очень-то верит письмам. Вон солдат рассказывал: думали про одного, что погиб, а он только раненый был. Люди вылечили, и он домой вернулся. Там похоронную читают, а двери скрип- хозяин на пороге.
А то один попал в плен, долго в лагере сидел, пока не удрал.
402
Потом собрал партизанский отряд и так еще немцев бил, что не знали, куда деваться. Ему за это героя дали. А до того все думали, что убит. Так, может быть, и с Санькиным отцом то же.
Я рассказываю другу, где что слышал, немножко сам выдумываю, только Санька меня совсем не слушает: лежит на дворе в траве ничком, плечи вздрагивают.
Три дня Санька не ходил в школу, пришел только на четвертый и то какой-то не такой, как всегда. На уроках сидит тихо, не вертится, хотя и совсем не слушает Антонину Александровну. Он все думает и думает. Думает теперь Санька не про винтовочные гильзы, не про то, как без билета пробраться в кино, или после уроков, идя домой, напугать наших девчат. Санька думает про жизнь.
Он еще хорошо не знает, что ему делать: учиться ли дальше, или бросить школу и идти в колхоз, как Чижик, или податься
в фабзайцы, или еще куда, только бы матери было легче.
И на переменках Санька не бегает по коридору, не носится как бешеный вокруг школы, не швыряет бумажными шариками в кудрявую Соньку — ничего такого не делает, что любил делать раньше. И к Саньке никто не пристает, все его обходят, как больного. Только Петька Смык, который, видно, забыл про то письмо от командования, однажды нахально толкнул моего друга в бок:
— А ну, подвинься, Рыжий!
Так я Петьке втолковал правила вежливого обхождения. Я так хлопнул по его красной нащипанной губе, что она стала еще краснее. Я не говорю, что совершил очень красивый поступок, что за это меня надо сфотографировать и повесить мой портрет на Доску почета, однако же и Смык хорош. Если он вымахал с телеграфный столб, если у него растут усы, а на руке блестит самодельное колечко из трехкопеечника, так это еще не значит, что можно толкать кулаком моих приятелей и сирот.
Петька, разумеется, не стерпел и вцепился мне в вихор, а я недолго думая схватил его за лопушистые уши. Когда он поцарапал мне нос, я дал ему подножку, и мы оба покатились по полу, как разъяренные коты.
Хотя это Смык был, как кот, а я был тигр тигром. Я хотел
404
ему дать, чтоб он век помнил и всему смыковскому роду заказал. Так бы оно и было, если б не зазвонил звонок и нас не растащили ребята.
Но и после уроков не наступил меж нами мир. Идя домой, мы всю дорогу издалека показывали друг другу кулаки: я свой обыкновенный, а Смык — с оттопыренным пальцем. Мой враг обещал поймать меня на своей улице и оставить только мокрое место. Ладно, ладно, Смычище, а на нашей улице ты и костей не соберешь.
Дома бабка сразу заметила и царапину на моем носу, и что нет пуговицы на рубахе. Сколько ей ни доказывай, что правда на моей стороне, она ни за что меня не похвалит.
— Петька — дурень, а ты еще больше,— говорит она.
Тут, видно, уж ничего не поделаешь. Никогда в жизни старуха не признает моей правоты.
А в скором времени заглянул Давыд и на наш двор. В хату не вошел. В стекло постучал.
— Ну и мы дождалися,— перепугалась бабка. Да и меня всего так и затрясло: схватил письмо, а прочитать не могу.
— Не вам, не бойся,— буркнул почтальон и вышел на улицу.
Письмо было бабе Гапе, старой Миронйхе, которая все так
и живет у нас, потому что сделать ей землянку некому.
Чуяло старой Миронихи сердце, что так оно и будет, что не увидит она больше своего Василя, своего соколика, что сложит он свою головушку на чужбине и никто не придет на его могилу, никто не принесет ему красного яичка на радуницу 1 и что ее, сироту-старуху, некому будет проводить в последний путь.
Мне и бабке очень жалко всегда тихую, добрую и ласковую бабу Гапу. Она нам как своя. И когда Мирониха захотела отслужить службу по «убиенному Василию», наша бабка не стала спорить, хотя на поминки непременно придет ненавистная ей Чмышиха.
...День за днем ходит мимо нашей хаты Давыд, носит письма из Европы: кому — открытки с Бухарестом и Будапештом, кому — от командования.
1 Радуница — религиозный праздник, когда прибирают могилы и поминают покойников.
ВТОРОЙ ВЕЛИКДЕНЬ
Как-то утром бабка сказала мне с Глыжкой:
— Все люди как люди, только у нас заботы нет. Глядишь — тот курку нажил, тот гуску завел, тот телятко, тот хворобятко. Не пора ли и нам хоть шелудивенького поросеночка купить?
— А на что? — удивился я.
— А на твои заработки,— подкусила меня бабка.
Я знал, что у старухи есть кой-какая копейка. Минувшим летом то свеклу, то морковку на базар помаленьку носила. Да и за мой щавель не все деньги мне на тетрадки отдала. Бабушка собиралась купить себе юбку на смертный час вместо той, что отобрал при немцах Неумыка. Так неужто она вдруг передумала?
— А-а,— махнула бабка на образа.— Коли он добрый, то и так примет. А может, еще на другую соберу...
По воскресеньям раза три ходила она на базар и все возвращалась с пустыми руками, а на четвертый раз, продав еще с ведро семенной ржи, принесла в мешке сосунка. Глыжка был на седьмом небе от радости: такой этот сосунок смешной, маленький, быстренький, рябенький. Налила ему бабка немного затирки в черепок — всю высосал.
— Теперь вашему батьке можно и домбй, на все на готовое,— довольная собой, сказала бабка.
Так мы и живем: Глыжка поросенка пасет, а я с бабкой огород копаю. У меня на руках болючие мозоли. Старуха все время ворчит:
— О! Гультяй за дело, мозоль за тело. Ты вот погляди — ни одного мозолика!
Воткнув лопату в землю, она показывает мне свои руки. Руки у бабки тонкие — кости, обтянутые кожей, да еще синие надутые жилы. А ладони большие, как у мужчины. Кожа на них твердая, отполированная о деревянное цевье, а у самых пальцев и вовсе ороговелая. Где ж тут вскочить пузырю?
— Почему они такие? — спрашивает бабка.
— От старости,— схитрил я.
Улыбка в бабкиных глазах мигом погасла, и старуха обиженно покачала головой.
406
— От дурости, а не от старости. У глупых всегда руки такие... Только когда б глупых не было, то и умники сидели бы голодные.
Под «умниками» она, конечно, разумеет меня и Глыжку.
А над нами кружатся аисты. Высоко, под самыми облаками. Если снизу глядишь — тонкая длинная палочка, как карандаш, и два крыла. Подняться б самому вот так и поглядеть сверху, какая она, земля. Говорят, если высоко поднимешься, так люди, как муравьи.
Где-то возле школы играет духовая музыка. В селе тихо, торжественные марши слышны даже у нас на огороде. Это на трансформаторной будке поставили громкоговоритель. Когда марши смолкают, слышен строгий мужской голос, но слов издали не разберешь. Поговорит немного — снова музыка. Что-то она сегодня разыгралась. Может, какой праздник?
— Святого лентяя!..-—все еще сердится бабка.
Лучше помолчать.
По той стороне улицы идет старый Давыд, быстро так идет, чуть не вприпрыжку. Что-то он нам издали прокричал, помахал рукой, а что он кричал, мы не разобрали.
— Слава богу, что мимо,— сказала бабка.— Сон мне сегодня дурной снился. Будто молотила горох. Крупный-крупный. Гапа говорит, что горох — это слезы.
— Больше верь своим снам,— откликнулся я.
— А чьим же мне верить? Твоим? Так у тебя ж и сны не людские.
Ни с какой стороны к ней теперь не подъедешь изгза этих мозолей. Копает и копает гряду, даже не разогнется. А мне так хочется поговорить, особенно на политику тянет.
— Скоро Гитлера с Геббельсом словим,—говорю я, разбивая сырые комки земли: бабка любит, чтоб была мягкая.
— Уж не вы ли с Санькой? — буркнула старуха, и поплевала на руки.
— Почему это мы? — даже обиделся я.— Найдется, кому ловить.
— И откуда только ты все знаешь?
— Министр говорил.
407
— А-а-а,— разочарованна протянула бабка, но все-таки заинтересовалась: — Ну и что им тогда будет?
Что им будет, я и сам хорошо не знаю. Наверное, по головке не погладят за ихние штучки. Если верить Министру, то их посадят в клетки и будут возить по всем городам и селам, как зверинец. Клетки, конечно, сделают железные, а то иначе народ сломает. Каждый захочет хоть ущипнуть. А женщины на собрании в бригаде кричали, что они и за железом этих выродков достанут...
— Не будет этого ничего,— махнула рукой бабка. Наконец она разогнула спину и вытерла со лба пот.— А коли и будет, так до нас не довезут. Никакого Гитлера со всеми его гитлеря- тами не хватит, чтоб расквитаться за людей загубленных. Копай лучше и не морочь мне голову.
Я копаю, а глаза мои на улице. Смотрю и не верю — Смык бежит. Похоже на то, что после драки в школе и всех моих ультиматумов он и не думает меня бояться. Его счастье — бабка рядом, а то я показал бы ему дорогу. При бабке не покажешь. И Смык, видно, это понимает. Самым нахальным образом он подбегает к нашей огороже и кричит:
— Капитуляция!
Я в ту сторону и не гляжу.
— Капитуляция! — еще громче повторил Петька.
Что он там болтает? Капитуляция какая-то.
— А? — не поняла и бабка.
— Германия сдалась! По радио передают! — сказал наконец Смык по-человечески.
Так вот почему радио разыгралось! И Давыд рукой нам махал, а бабка говорит — святого лентяя! Дожидайтесь, чтоб я теперь гряды копал. Да и бабка воткнула лопату в землю и побежала в хату.
Я забыл, что Петька — мой лютый враг, мы бежим теперь по улице вдвоем и, кого ни встретим, кричим оба:
— Слышал, дядька? Капитуляция!
Бросив сосунка, за нами увязался Глыжка. Мы промчались по нашему Нижнему долу, обрадовали женщин у колодца, постучали в окно Малаху, чуть не сбили с ног Мамулю:
— Капитуляция! Капитуляция! Капитуляция!
408
Потом дали крюка по Заглипищу, заскочили на бригадный двор, где уже никого не было, кроме деда Зязюльки. Покричали в глухое ухо и Зязюльке. Нам показалось, что и старик хотел вместе с нами бежать, несколько шагов потопал вслед, а потом повернул обратно.
Мы стучали в ворота, заглядывали в окна, а Смык залез на Брыдкину землянку и несколько раз крикнул в трубу:
— Брыдка, вылазь — капитуляция!
Брыдчиха не вылезла, а выскочила с голиком в руках, а когда мы ей растолковали, почему такие шалые, она голик бросила и перекрестилась.
Наша тетка Марина заплакала.
Дед Миколай подкрутил усы и побежал на село, чтоб самому послушать громкоговоритель.
Нинка-бригадирка хотела меня обнять, да я вывернулся.
Антонина Александровна уже все знала сама и сказала:
— Поздравляю вас, дети, с победой!
Чмышиха спокойно заметила, что все в «руце божией».
Санька прошелся на руках.
Скок нам приказал:
— Бегите, мой милок, по всем улицам — митинг будет!
А бабка дома спросила:
— Ну, все село обскакали? — И Глыжке погрозила пальцем: — Когда б не эта питуляция, показала бы я тебе боровка! Кинул-ринул и побёг! Молись богу, что Германия сдалась, так прощу уж тебе. Как-никак второй великдень.
КАК Я ВЫЛ КОМЕНДАНТОМ
Вскоре после победы наша школа давала колхозникам концерт. Перед этим школьная уборщица тетка Марья долго протирала мокрой тряпкой пианино, найденное нами когда-то на Брыдкином огороде. Его только недавно перевезли из Скокова сарая.
Вытирали и мыли его долго, но не так-то легко было дотереть. Скочиха недавно завела кур, и те любили иной раз поси¬
409
деть на пианино. И хотя Скок прикрывал его соломой, да разве ж ты от них укроешься!
А потом выяснилось, что мыли зря: оно расхлябанное, как старая телега, и играть на нем могут только такие артисты, как мы с Санькой. Антонина Александровна очень жалела, что ей не придется выступить. Директор ее успокоил, пообещал найти как-нибудь в городе настройщика, и пианино поставили в учительской пока что для мебели. Порешили выезжать на балалайках.
Сценой было школьное крыльцо. Вокруг него собралась уйма народу: старики* женщины, инвалиды-фронтовики, колхозное и сельское начальство. Люди расселись на скамьях, подперли плечами стены и тополя, устроились, поджав ноги, на траве. Непоседливые мальчишки повисли на перилах крыльца, позалеза- ли на деревья. А на крыльце Васька Мамуля, старший Скоков, сын Лешка и Бусликов Костик наяривают «Месяц». Выходит у них так хорошо и складно, что любо-дорого слушать. Васьки- ны и Лешкины пальцы часто-часто порхают по струнам, и балалайки словно выговаривают:
Све-етит ме-есяц, све-етит...
А Бусликов Костик гудит басом на гитаре:
БуМ-буМ-буМ-буМ... ЯСНЫЙ;..
Кто-то в толпе мужчин даже не выдержал и вслух похвалил наших музыкантов:
— Во режут, огольцы!
После «Месяца» пошла «Лявониха», а потом наш класс показал спектакль. В спектакле был злобный немецкий комендант Ганс, храбрая партизанская разведчица Галя и партизанский командир батька Язеп. Так случилось, что Галя попала в лапы фашистов. Ганс на допросе угрожал ей расстрелом и размахивал пистолетом, но отважный батька Язеп со своим отрядом налетел на комендатуру, а Галя схватила со стола пистолет и взяла в плен Ганса.
Этот спектакль мы готовили давно, но долгое время у нас ничего не выходило. Все девчата хотели быть Галей, все хлопцы — батькой Язепом или, на худой конец, хоть рядовым парти¬
410
заном. А на Ганса охотников не находилось. Сперва Антонина Александровна предложила эту роль Смыку. Парень он был высокий, лопоухий, из него получился бы неплохой Ганс, но Смык уперся и руками и ногами. Он сказал, что ему некогда уроки учить, не то что... Но быть партизаном согласился с охотой.
Выбор остановился на Саньке. А Санька так обиделся, что даже побелел. Пускай ему поставят все, какие есть на свете, двойки, пускай его выгонят из школы, а Гансом он никогда не был и не будет. Тогда Антонина Александровна взялась за меня. А я что — хуже всех? Пусть мне дадут миллион, и тогда не возьмусь. Да еще сдаваться в плен какой-то Глёковой Кате, которая будет храброй разведчицей? Что она в разведке понимает? Что она за цаца такая, чтоб я перед ней подымал руки вверх? Не буду — и все. Пусть лучше не просят.
Но меня просили и уговаривали. Оказывается, у меня способности. Только один я из всего класса могу замечательно сыграть эту роль. Возможно, что я когда-нибудь буду знаменитым артистом, если сейчас не закопаю свой талант в землю. Тогда буду говорить: «А помните, как я Ганса в школе играл?»
Пришлось согласиться. Может, и в самом деле у меня большой талант? Правда, насчет сдачи в плен Глёковой Кате там видно будет. Там оно само покажет. Может, как-нибудь вывернусь.
И вот я — немецкий комендант Ганс. На мне настоящий немецкий френч, такой, как был у моей бабушки. Правда, он уже заплатан на локтях и на рукавах висят изрядные махры, но узнать, что он немецкий, еще можно. Только воротник широковат. Как говорит Санька, моя шея в этом воротнике болтается, как чайная ложка в стакане.
На грудь мне прицепили настоящий немецкий орден, который пришлось перед тем долго чистить кирпичом. Френч подпоясали настоящим немецким ремнем, на пряжке которого написано: «Gott mit uns» 1. Погоны сделали из бумаги. Зато вооружение почти настоящее — ржавая сигнальная ракетница.
Все, наверное, знают, какие сапоги были у кота из сказки. А у меня еще больше. Голенища широченные, порыжелые. В них влезла уйма онучей.
1 Gott mi t uns (нем.) с нами бог.
А чтоб зрители чего-нибудь не напутали, чтоб они сразу догадались, что я немец, а не кто другой, мне на рукав повязали лоскут белой материи с нарисованной чернилами свастикой.
И это еще не все. Санька почему-то решил, что без усов будет плохо. Мигом раздобыл он из трубы сажи, и у меня под носом появились усы. Точь-в-точь как у Гитлера.
Чтоб быть как можно страшнее, я изо всех сил вылупил глаза, надул щеки и со зверским, кровожадным видом отправился на крыльцо допрашивать Глёкову Катю.
Успех был невероятный. Не успел комендант Ганс показаться в дверях, как грохнул такой хохот, как будто на землю с шумом и громом упал подгнивший высоченный тополь. Мальчишки прямо визжат от восторга, как поросята в мешке. Смеются бабы. На что уж мужики серьезный народ — и те вытирают слезы от хохота.
— Ой, не могу! — кричит какая-то молодица.
Более того, храбрая партизанская разведчица Галя, которой в ее положении, согласно с пьесой, должно быть не до смеха, тоже заливается весело и звонко. Даже я сам едва удержался, чтоб не захохотать: это испортило бы весь спектакль.
Ганс строго и даже сурово ведет допрос. Партизанка, как ей и положено, стоит с гордо поднятой головой и молчит. А в первых рядах шепчутся зрители:
— Это чей такой комик?
— Должно, Назаров.
— Да не Назаров. Это же старший хлопец Кириллы Сырца.
И вдруг наши Подлюбичи снова покатились со смеху. Это я
вытащил из кармана ржавую ракетницу и нацелился в Катю.
— Вот это пушка!
— Удирай, мужики, бабахнет, костей не соберешь!
Разные насмешки так и сыпались со всех сторон.
По пьесе гордая и храбрая партизанка Галя должна ударить наглого фашиста по лицу. На репетиции мы договорились, что Катя ударять не будет. Но тут, на сцене, что-то на нее нашло, и я совершенно неожиданно получил добрую оплеуху. Зрители были в восторге. Детвора прямо прыгала от радости, что «наши» не сдаются. А меня взяла настоящая злость. Ах ты, коноплюха рыжая! Будешь идти домой, я тебе покажу!
412
Наконец Ганс-комендант положил на стол свой «пистолет» и отвернулся, чтоб партизанка могла незаметно его взять. Но она почему-то замешкалась, и ребята, которые висели на балясинах крыльца, в один голос зашептали:
— Кать, а Кать, хватай, пока не видит!
И вот наступил самый неприятный момент из всего спектакля. Ракетница нацелена на меня, и Катя кричит:
— Руки вверх, бандит!
— Правильно! — одобрили из толпы.
А я уперся. Буду я перед ней руки подымать. Да еще когда на меня смотрит все село.
— Руки вверх! — раздается грозный голос с другой стороны. Это на крыльцо выскочил Санька со школьной учебной винтовкой в руках. На грудь ему свисает изрядная пасмо льна, которая обозначает собой пышную бороду партизанского батьки Язепа.
А дальше и совсем пошло не по пьесе. Меня окружили Сань- кины партизаны, навалились гуртом, дали пару добрых тумаков, по-настоящему связали руки веревкой и, толкая в спину, под аплодисменты увели в коридор.
Хлопцы так увлеклись спектаклем, что никак не могли его кончить. Даже в классе они не хотели меня развязывать и все кричали один грознее другого:
— A-а, попался, гад!
А за окном, на улице, не смолкали аплодисменты и многоголосый веселый гомон. Нас опять вызывают на крыльцо. Но не успели конвоиры развязать мне руки, как я тут же стер усы, сбросил с себя этот поганый френч, а тяжелые солдатские сапоги швырнул в угол. Лучше я не буду знаменитым артистом, чем каждый раз, хотя бы и ради искусства, зарабатывать столько тумаков и сдаваться в плен девчонке. Ишь какая шишка вскочила на затылке!
Но шишкой не обошлось. Хуже всех шишек и синяков была слава. Она пришла ко мне в тот день и гналась следом по школьным коридорам и по улице, как собака.
— Хлопцы, вон комендант идет!
Первоклассники — народ перед нами смирный, а и те, когда проходишь, шепчут вслед:
— Ганс, Гансь, Ганш...
413
Глыжка дома уже схватил за это подзатыльник.
Хорошо, что в школе скоро кончились занятия и начались летние каникулы. Мы с хлопцами снова пошли на работу в колхоз и постепенно мое комендантство забылось.
НЕ ЗА КЕМ МНЕ „АРТЕЧИТЬСЯ“
Наших прошлогодних пфердов у нас с Санькой отобрали. Правда, поначалу нам не очень хотелось их отдавать, как-то привыкли мы к этим огромным, медлительным, по послушным тя- якеловозам. Да только наше нехотенье не помогло — приказ председателя. И пфердов отдали старшим парням, которые поехали пщить и возить лес. В колхозе еще нет ни одной конюшни, ни одного амбара. Даже правление пока квартирует у старого Михея.
Нам дали здешних лошадей. Саньке — пузатую, как бочка, кобылу Слепку, а мне — Буянчика. Буянчик к лету славно подрос, окреп и стал резвым и выносливым коньком. Роста он был небольшого, и корма ему было надо меньше, чем другим лошадям. Должно быть, по этой причине, а может, потому, что ходил в любимчиках у Чижика, выглядел он неплохо.
Сперва Буянчик смотрел на меня косо, все прижимал уши, хотел цапнуть зубами, а потом, видно, вспомнил, что я ему свой, и перестал упрямиться. Идет он ходко и воз тащит без особых понуканий.
Санька мне завидует. Его «бочка» неуклюжая, неповоротливая, все время спотыкается, тревожно стрижет ушами и все пытается выйти из борозды или свернуть с дороги и бежать вслед за своим жеребенком. Этот жеребенок у Саньки в печенках сидит: то побежит туда, где ходят на выгоне телята, и начнет с ними нюхаться; то отстанет от воза на три версты и тащится как сонный; то совсем остановится и начнет щипать траву. А Слепка без него шагу ступить не хочет.
На дворе солнце, жара. Глыжка не вылезает из озера, а нам с Санькой и покупаться некогда. Разве что когда приедешь с поля домой обедать. Обеды у нас с Санькой известные: большущая глиняная миска щавеля и три-четыре картофелины вместо
414
хлеба. Проглотил за пять минут — и рысью на озеро. Наши лошади бродят стреноженные на лугу, а мы ныряем — кто дальше.
Хорошо все-таки жить на свете, когда нет войны. Тихо, спокойно. Разве что бабка поворчит за еще одну дырку на штанах. Так это ж не в новинку. Сколько я ношу штаны, столько она и ворчит. И чего она хочет, когда я день за днем на коне? Кавалеристы, видно, не зря обшивают свои штаны кожей.
После купания, напоив лошадей, едем снова на поле скородить картошку. Сегодня здорово припекает, и мы сняли рубашки, хотя наши спины и так, что у негров. Санька лупится уже второй раз.
В узком Михеевом переулке нам повстречалась Катя. Белая косыночка опущена на самые глаза. Видно, наша «разведчица» боится загара. А на носу и щеках у нее столько конопель, что хватило бы на всех подлюбских воробьев.
Отличная встреча! Сейчас я ей припомню тот спектакль.
Катя хотела нас обойти, да не так это просто. Она — в сторону, и я Буянчика в сторону. Она — в другую, и я Буянчика в другую.
— Хочешь, загоню в крапиву? — спрашиваю я, чувствуя, что теперь сила на моей стороне.
Катя отмахивается от коня и испуганно хлопает ресницами.
— Отвяжись, противный!
Что это у девчат за мода? Чуть что не по ней, сразу — противный. А уж сама — краля писаная.
— Хочешь? — переспрашиваю я.
Нет,— сдалась Катя, а потом совсем без обиды сказала:— Ой, мальчики, вам же школа подарки дала. А я уже свой получила. Вот, платье несу. Ситцевое в горошек.
Она развернула пакет и показала обновку: веселенькое такое платьице.
— А ты не врешь? Побожись!
Катя охотно побожилась, мы крикнули «ура», пришпорили босыми пятками своих скакунов и подняли такую пыль на дороге, будто по ней промчался целый эскадрон кавалеристов. А возле школы опомнились. Когда это бывало, чтоб в школе давали платье! Может, она где-нибудь так взяла, может, ей кто-нибудь пошил, а она, чтоб в крапиву не загнали, обманула нас.
415
Но Катя не врала. В том году наша школа в самом деле дала нескольким ученикам кое-что из одежды: кому платье, кому рубашку, кому шапку, кому штаны. Где взяли эти подарки —не знаю. Одни потом говорили, что в районе начальство выделило, другие — что директор где-то раздобыл, но, как бы там ни было, Санька вышел из учительской с солдатскими штанами галифе. Когда он развернул их, чтобы посмотреть, длинные они или нет, у меня даже сердце заныло. Вот это шикарная вещь!
А меня в учительской встретили так, как будто, кроме галифе, еще собирались дать и гимнастерку. Сквозь очки глаза Антонины Александровны светятся счастливой улыбкой. Она радуется, что мне так повезло. Наш всегда строгий, немного угрюмый директор Константин Макарович тоже смотрит на меня довольно приветливо.
— Поздравляю тебя, Ваня! — сказал он, потом дал мне какую-то красноватую бумажину и крепко сжал мои пальцы левой рукой. Правая у него всегда висит как неживая, и даже летом она в черной кожаной перчатке.
У меня уже и ладонь вспотела, а он все не дает галифе. Да и не видать его почему-то ни на столе, ни на диване, ни на пианино.
— Всего пять путевок на район, и вот я одну выпросил,— с гордостью сказал Константин Макарович.— Решили — тебе. В Артек.
А меня — как обухом по голове. Теперь все понятно — галифе не будет. От обиды хочется плакать. Кате — платье, Саньке — штаны, а мне — Артек. Что я — хуже их?
— Не нужен он мне, этот Артек,— задрожал от обиды мой голос.
Директор наконец выпустил мою руку и сел на диван. Радостные огоньки в глазах Антонины Александровны погасли.
— Не нужен?
— Не нужен — и все!
Они, перебивая друг друга, начали меня уговаривать. Мой организм, оказывается, совсем истощен. Мне нужно получше подкормиться, набраться сил, иначе это может плохо кончиться. А там, в Артеке, очень вкусно кормят. Там я стану похож на человека, окрепну и подрасту. Потом сам скажу им спасибо.
416
Словом, говорят такое, что и слушать нечего. Как будто я сам не знаю, какой у меня этот их «организм». Конечно, малость кощееватый. Бабка говорит, что от меня остались одни глаза. Однако же не хуже я других. У Саньки тоже одни глаза. И у Смыка. И у нашего Глыжки. А у директора с учительницей? Пускай лучше возьмут зеркало да на свой организм поглядят.
т- Не поеду!
А горы я когда-нибудь видел? Конечно, видел. Наше городище не такая уж маленькая гора. Зимой не каждый съедет на лыжах. Другой так грохнется, аж снег столбом. Бывают, конечно, горы и повыше. Директор говорит, что под самые облака, что на их вершинах живут орлы.
Может, это и так. И я не против был бы посмотреть и на горы, и на орлов. Но как они не понимают, что мне не в чем туда ехать? Не буду же я трясти своими латаными-перелатаными обносками по всему Советскому Союзу.
А море я когда-нибудь видел? Купался я когда-нибудь в море? Как будто сами не знают. Купался я много, но только в Ситняге. Видел паводок. Иной год он разливается как море. Тот берег Сожа едва разглядишь. Только и разница, что вода не соленая.
А дельфинов? А настоящие океанские пароходы? А шторм? А бурю?
На море я сдался. Что-то такое морское зашевелилось в моем сердце. Забылись дырявые штаны, и немного заглохла тоска по неполученным солдатским галифе. Поеду я в ихний Артек, если он вправду на море.
И до конца дня, бегая за бороной, я не раз представлял себя на море. Мне вспоминалось все, что я успел прочитать о нем в книжках из школьной библиотеки. Мое море было спокойное и доброе, суровое и таинственное, с островом Буяном, на котором «пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». Море— это капитан Нэмо и Робинзон Крузо, пираты и людоеды, осьминоги и акулы, кораблекрушения и неоткрытые еще острова. Возле Артека, наверно, ничего этого не будет, но я могу увидеть крейсер, а не то и подводную лодку. Возможно, что и кит заплывет, возможно, к берегу прибьет бутылку с каким-нибудь
417
таинственным письмом. Да мало ли что может случиться на море. Это вам не наш Ситняг, где, кроме лягушек и окуней, ничего не увидишь.
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой Мелькнет за кормой Знакомый платок голубой...
Жаль, что и Санька со мной не поедет. Правда, я ему потом все расскажу, когда вернусь домой, если вообще вернусь. А то могу устроиться на какой-нибудь корабль юнгой или хоть подметалой, пока вырасту..Везет же другим, так почему же мне не должно повезти?
Словом, вечером я пришел с работы домой полностью настроенный на морской лад. Так бабке и сказал:
— Еду на море! В школе путевку дали.
— На океан только не уезжай,— попросила бабка, а когда поняла, что я не шучу, еще и поблагодарила: — Вот спасибо тебе, внучек! Ты, значит, на море, а мы с Гришкой куда?
Известно, она не против. Как говорится, дай бог. В другое время, может, сама бы сказала:
«Поезжай ты, хлопец, в свой Артек, а то глядеть на тебя страшно».
А нет, так в спину вытолкала б. Какая ж это бабка не желает своему внуку добра?
Да теперь-то у нас не очень кругло получается. Сама она стара: сегодня ходит, завтра — свалилась. Глыжка мал: где сядешь, там с него и слезешь. Я же поеду, выгуляюсь там за лето, откормлюсь на дармовых, сладких харчах, а зимой положу зубы на полку. Бабка, само собой, не будет тут сидеть сложа руки, будет тянуть, сколько здоровья хватит. Только одними этими вот ее руками на три рта хлеба не наработаешь. А там к зиме, может, и батька придет. Так он же с войны придет — не с богатых заработков. Тогда будет нам и Артек и хворобек. Посвистим в кулак.
А что наш директор говорит, так ему хорошо рассуждать. Ему абы отправить. А взял бы да хлеба дал на зиму, да торфу на болоте накопал. Тогда бы й мне можно было гулять. Если я
418
про все это хорошо подумаю, тогда могу ехать на море и за море.
Начал я думать. И правда, не кругло выходит, не выпадает мне нынче побывать в Артеке. И не только дырявые штаны не пускают меня из дому; без отца, без матери куда ни кинь, все клин. Неизвестно, что делать теперь с этой путевкой.
— Может, Глыжку пошлем? — спросил я у бабки.
Бабка только вздохнула. Подкормить этот скелет не мешало бы, только куда ты его пошлешь одного. Не понимает он еще ничегошеньки. Отстанет где-нибудь, заблудится.
— Нет,— решила бабка.— Хватит ему воды й в Ситняге. А бумажку эту ты отнеси туда, где взял. Так и скажи: «Большое спасибо, только не за кем мне «артечиться».
И до самого ужина она все ворчала себе под нос:
— Сирот всегда обижают. У кого есть матки — тому штаны да платья, а за кого некому заступиться, тому — Артек.
С ВОЙНЫ —НЕ С ЗАРАБОТКОВ
Отец придет... Отец придет... Об этом теперь в нашей хате часто идет разговор: то Глыжка спросит, то бабка, узнав, что кто-то из односельчан вернулся с войны, тяжко-тяжко вздохнет. Пора, казалось бы, и нашему: она уже долго не протянет. Й так на этом свете зажилась. Как будто семьдесят ей скоро стукнет, а может, уже и стукнуло. Кто их считал, годы? Это теперь по- выдумывали разные метрики-шметрики, а тогда никаких хво- робетриков не было. Вот она и говорит: коли лето проскрипит, то и ладно. Покойник дед Пилип, который помер, когда нас с Глыжкой еще не было, снится ей теперь что ночь. Будто поставил он себе новую хату насупротив нашей и кличет к себе бабушку жить. Неспроста это.
А отец пришел неожиданно в конце лета. Только сели обедать, только бабка крупнику налила, калитка — скрип.
— Ой, солдат какой-то,— охнула бабка, а я глянул в окно — батя. Только с усами, как у деда Миколая, буденовскими.
Глыжка забыл подуть на горячий крупник, обжегся, кинул
419
на стол ложку и теперь вытирает слезы. Я не знаю, что мне делать — то ли сидеть, как сидел, то ли бежать навстречу.
Батя! Какой-то он не такой, как был, не такой, как я его помню, и ростом будто бы меньше, и старше много. На шинели погоны с желтыми, уже не новыми нашивками. Командир, значит.
Все это — и погоны, и шинель, и вещевой мешок за спиной— я успеваю заметить, пока он обнимается с бабкой.
Обнимается с бабкой. Этого мне тоже никогда видеть не доводилось. Всю жизнь они были, как говорится, немножко на ножах. Бабке не нравилось, как отец точит цапку, рубит дрова, колет кабана, а ему —что без ее указки шагу нельзя ступить. Теперь вот обнимаются.
Глыжка разинул рот, того и гляди, ворона влетит* Только глазами хлопает.
Усы у бати жесткие, как щетка. Они щекочут мне щеки, лоб п даже затылок. А я слышу, что батя пахнет не так, как раньше, не так, как мне помнится. Тот запах я мог отличить от тысячи других, дух застарелого пота, сосновой смолы и табака. А теперь все забивает какой-то незнакомый запах новых ремней.
Глыжка послушно отдался в отцовы руки, но старается 'отвернуться от усов и с видом мученика смотрит на меня. Батю Глыжка ждал, но, видно, не думал, что он такой, и теперь ди^ чится, почему-то стесняется.
Вдруг батя отвернулся от нас и уставился в окно, хотя на улице пусто. Бабка растерянно мнет в руках фартук, а он все не отрывается от окна и жует ус. Про маму он ничего не спросил, и бабка покуда не помянула и словом. Но мне она вспомнилась. Вспомнилась ее горячая рука, слезинка, как бусинка, на мочке уха, ее тихий шепот: «Будьте хорошие, жалей братика. Отец придет...»
Отец пришел, глядит в окно и кусает усы. Потом он эхнул, провел всей пятерней по лицу, будто тоже хотел его смять, как бабка свой фартук, и, стараясь, чтоб мы не заметили, как дрожит голос, хрипло сказал:
— Ну, вот и дома... Давайте будем обедать.
Ого, какая у него банка консервов! И хлеб военный, испеченный в форме, а не на капустных листах. И сахару целый
420
большущий кус. И медали на гимнастерке позвякивают. И орден Славы есть.
После об<еда отец стал разбирать свой вещевой мешок. Вынул бритвенные принадлежности: бритву, оселок и помазок. Все это он положил на место, туда, где лежало и до войны. Пару солдатского белья отдал бабке, чтоб спрятала в сундук. Алюминиевый котелок поставил на стол. Потом протянул мне какой-то сверток. Я развернул — черные в полоску штаны.
— Прикинь,— сказал отец.
Штаны были широкие и длинные, но почти что новые.
— Аккурат,— заметила бабка.
— Ладно будет,— согласился и отец.
А Глыжке досталась солдатская звездочка с шапки и ножик.
Больше в мешке ничего не было, кроме хлебных крошек и рассыпанного табака. Бабка была явно разочарована. Когда батя вышел из хаты вытрясти мешок, она спросила:
— Что ж он — больше ничего в той Германии не нашел?
— А ты ж сама говорила: с войны — не с заработков,— напомнил я.
— Оно, конечно, так,— согласилась старуха.— Только кто с головой, тот принес что-нибудь: то камешков для зажигалок, то еще чего. Вон Ахрем из Лаптина иголок приволок и на базаре продает.
Я прямо разозлился. Нашла с нем равнять батю, с Ахремом. Как батя сделал, так и правильно. Будет он ей ходить по Германии и искать иголки. Что он — по иголки туда ходил?
Бабка сразу же обиделась:
— Ну конечно, теперь вы герои... С батькой. Теперь я вам не нужна. Теперь я глупая...
И она ушла й сенцы. Вскоре там заскрежетала мельница — наши жёрны.
А вечером у нас была полная хата гостей. Каждый пришел со своим. Теперь мода такая стала — ходить со своим. Кто бутылку несет, кто — капусты жбан.
С дедом Миколаем отец трижды поцеловался.
— Ну, вот... видишь? Ну, вот... и хорошо,—хотел заплакать дед, даже губой уже задергал, да тут кто-то из гостей вдруг пошутил:
422
— А усы у племянника больше, чем у дяди. Вот померяйт, те-ка.
И дед не заплакал, хлопнул отца по плечу и заулыбался.
Сосед Скок прискакал со своей палочкой, даже запыхался, и еще с порога рассыпал по хате мелкий говорок,, как горохом выстрелил:
— Чую, милок, чую, где жареным пахнет! Ну, здоров, фронтовик! Много медалей нахватал?
И всплеснул от восторга руками, хотя медалей было не так уж много:
— А, мой милок! Целый иконостас.
Тетя Марина пришла со своим выводком. Выводок живенько забрался на печь, а тетка сидит на лавке и то улыбается, поглядев на отца, то вдруг начнет утирать уголком косынки покрасневшие глаза. Хоть бы она сейчас не завела свое «ой, не могу я, не могу».
Словом, все пришли: кумы, сваты, дяди, тетки. Только соседа деда Мирона нету. И теткиного Ацдрея. Оттуда, где они сейчас, в гости не ходят.
Мы с Санькой тоже вместе со всеми за столом, Глыжка возле отца пристроился и очень этому рад. По глазам видно.
Гости выпивают и закусывают. Нам с Садькой тоже какой- то кислятины налили. Это бабка так деду Миколаю приказала:
— Уж капни им тоже, Миколай. Женихи уже. Надо.,.
И тут такие разговоры пошли, только слушай. И про Германию, и про русский народ, и про что ты хочешь.
— Ну, думали, под корень выкосим, чтоб и на развод не осталось,— начал чуть охмелевший ртец.— У каждого накипело. А пришли — не подымается рука. Ну, разве ты его будешь бить, немчонка несчастного, когда он... Э-э, да что тут говорить? Я сам думал: ну, только дойду до вашей проклятой Германии! А дошел —г и что? Ничего.
Помню, в одном; городке было. У них они дорфами 1 называются. Ну там, скажем, Ивандорф, Васильдорф. Только по-их- нему. И вот из дома, на углу улицы — трах! И чуть мне не в плечо. Только пуля звяк —в стену. Я туда. И что вы думаете?
1 Д о р ф (нем.) — деревня.
423
Такой вот, как эти. Из гитлеровских волчат. Забился в угол, трясется. И страшно ж ему, вижу, аж... не за столом будь сказано. Иу что ты его, стрелять будешь? Выхватил я у него автомат да за ухо. Ах ты, говорю, желторотый... Тут правда фрау выскочила. И тоже в слезы. А, пропадите вы пропадом!
— Лозиной надо было,— посоветовал дед Миколай,— лози- иой, чтоб сесть не мог.
— А есть ли у них лоза? — спросила тетка.
— Про лозу не знаю. А что деревья в лесу и те под номерами — это факт.
Скок вдруг кинулся в политику:
— Вот ты мне скажи, милок. Ты там ближе был. За весь разор, что они тут натворили, будут они платить или нет?
— А как же? — подтвердил отец.— Рапарацию1 с них возьмут.
— А я как бы сделал, если бы главным был,— вмешался и дед.— Я так бы им сказал: вы мне сирот насиротили? Насиро- тили. Много насиротили. А кто их кормить-поить будет? Кто им штаны покупать будет? Кто учить? Так вот так, сказал бы я, давайте мне на каждого сироту ну там... десять или двадцать тысяч. Словом, чтоб не голодали и доросли до своего хлеба. И по- куль не вырастут, нигде вы от меня не денетесь, голубчики! —• грозно стукнул дед по столу и так посмотрел на Скока, будто это он должен платить репарации, да не хочет.
— Ну, пускай и так,— согласился Скок.
— Нет, только так! — погрозил пальцем старик.
И тут заговорили все разом, не слушая друг друга. А хат сколько спалили? А скотины сколько погибло? А мало ли еще чего? Сколько это лет работать надо, чтобы снова все нажить?
— И им досталось,— заметил на это отец.
Скок прямо взвился.
— Им досталось? — повторил он.— Так им и надо! Я их не жалею. Сами виноваты. Я их сюда не звал. Звал я их сюда? — спросил сосед у застолья и сам себе ответил: — Нет! А они прилетели и бомбу мне на огород кинули. Я им бомбы на огород кидал?
1 Репарация — покрытие ущерба, нанесенного войной.
424
— Не все виноватые,— перебил отец.— Другой бы, может, и не хотел, да не хотела коза на базар, а ее за рога — и повели... Много там у народа спрашивают, чего он хочет?
Но Скока трудно переубедить.
— Люблю я тебя, Кирилла,— признался он.— Хороший ты человек. Только про коз ты мне не говори. То коза, а то человек. У человека шея есть. Вот она, шея.— И сосед показал, где именно она у него находится.— А для чего человеку шея? Я так думаю, что не для того, чтоб хомут носить. На шее он голову должен иметь и думать: куда это меня Гитлер посылает? Нет, правильно дядька Миколай говорит — на каждого сироту по сто тысяч, и не меньше!
Долго рассуждали за столом, какие надо взять с немцев репарации. И так прикидывали, и этак, а все оказывалось, что чего-то еще не учли. Наконец Скок спросил отца:
— А почему ты гармонику из Германии не привез?
— На что она мне? — удивился отец.
— Нет, ты мне скажи,— не отступает сосед,— почему ты гармонику из Германии не привез?
— Не надо мне их гармоник.
— Не надо, а зря. Привез бы гармонику, сейчас бы я э-эх как сплясал! Не гляди, что нога кульгавая, милок! Такую «Барыню» тебе отчеканил бы — любо-дорого.— И Скок стукнул под столом изувеченной ногой по полу. Мы с Санькой думали, что дядька сейчас пойдет в пляс и без гармоники, но вместо этого оп вдруг запел:
Серая утя, эх, серая утя Да на море ночу-у-е-ет!
В каганце замигал огонек, на печи проснулись теткины малыши и повысовывали сонные головы из-за трубы. За войну голос у дядьки Скока сел, стал хрипловатым, но мотив выводил сосед правильно, расцвечивая песню разными переливами.
Умеет и любит петь за столом тетка. В таких случаях она меняется на глазах. Вот и сейчас — порозовела, повела плечами, будто сбросила с них какую-то тяжесть, и с чувством, в лад подхватила:
Серая утя, эх, серая утя Да все горюшко чу-у-у-е-ет.
425
1— Ну, а вы чего? — спросил у нас Скок.
Мы с Санькой тоже запели, вернее говоря, заверещали, хоть уши затыкай.
Первое горе, да первое горе —
Ой, свекруха лиха-а-я.
А второе горе, а второе горе —
Ой, дочушка мала-а-я.
На третьем горе Скок нас остановил.
— Да ну вас, хлопцы.— Он махнул рукой.— Слезайте с крыши, не портьте гонта.
И снова за батю, как слепой за забор.
— Нет! Почему ты гармонику из Германии не привез?
Песня разладилась. Снова загомонили каждый про свое: дед
все подсчитывает, сколько ему понадобилось бы репараций на сирот; Скок то ли жалуется, то ли хвалится, вспоминая, как он был председателем сельсовета:
— Понимаешь? Берись, говорят. Ты, говорят, милок, один можешь... А ты сам подумай, на что это мне? Власти я не люблю. Я к ней не привык. Бабы лезут, милок, то им лесу дай, то хворобы, то холеры. И не ты над каждым, а все над тобой. Ну, а теперь Микиту выбрали. Пускай крутится. Он помоложе и пограмотнее.
И вдруг опомнился, как будто испугался, чтоб отец не подумал, что он малое начальство, помахал пальцем:
— Но я депутат! Хочешь, мы сделаем тебя бригадиром? Я поговорю с Дьяконом. Хочешь?
— Нет, Захар,— усмехается отец.— Не надо. У меня вон инструмент лежит, если ребята не растаскали. Работы хватит.
— Правильно,— обрадовался Скок.— Правильно... Ты нам построй школу... и колодец на нашей улице... и срубы всем сруби! — И, уже собираясь домой, опять вспомнил: — А гармоники из Германии ты зря не привез. Эх, барыня-барыня!
Так отец пришел с войны.
Утром в ренцах Глыжка поливал ему на руки. А вскоре, когда я с ведром шел к колодцу, брат на улице уже хвастался перед товарищами:
— Во какая рана у моего бати на плече., отсюда и досюда.
426
— А у моего пальцев на руке нету,—перебил его Пёклин мальчуган,— и две медали есть.
— А у моего...
Батя в сенях роется в ящике с инструментом, озабоченно почмокивает в усы — поржавели. И тоцоры затупились, повы- щербились. Это я постарался: и черепки для жёрен на них бил, и гвозди перерубал.
Бабка стоит рядом, руки под фартук спрятала.
— Крест Одаркин совсем подгнил,— вздыхает она.— Поставили тогда сосновый...
— Видел уже,— отозвался отец.— Подправлю.
И еще громче загремел железом в ящике.
НАМ МЕТЕЛИ НЕ СТРАШНЫ
Спросите у Саньки, что такое год, и он вам скажет — всего зима и лето. Миновало первое мирное лето, и пришла зима. Я, Санька, Катя, Сонька-Кудрявка и Ганна Пырша, самая тихая и незаметная девочка в нашем классе, сидим в холодном и темном коридоре райкома комсомола.
До райкома от нашей деревни километров пятнадцать, и, чтоб не опоздать, мы вышли из дому еще затемно. Дул холодный встречный ветер с густой снежной крупой, дорогу сковала гололедица. Все мы в резиновых бахилах, а на Ганкиных бурках шикарные блестящие галоши, выпрошенные на сего- дняшний день у старшей сестры. Галоши красивые, но они то и дело падают с ног, и Ганка хнычет, чтоб мы ее подождали. Еще темно, и она боится волков, которых давно уже никто не видел. Мы все злимся на эту плаксу, а больше всех кипит Санька.
— С такими комсомольцами мы далеко уедем! Боишься, так возвращайся домой и сиди у маткиного подола.
Ганка меньше всех нас, хотя и старше на целый год. Она, мелконькая, востроносенькая; оправдывается тихим, виноватым голосом. Напрасно Санька так думает. Для нее ничто любые трудности, любая опасность, даже смерти она не боится, а только волков и разве что еще... мышей.
427
Но Саньку такими разговорами не купишь. У него твердое мужское сердце, и когда б его воля, то таких, как Ганка, он бы и близко к комсомолу не подпускал.
— Ой, форсун несчастный,— заступается за подружку Сонька,— хоть бы уж молчал.
Но Санька быстро поставил защитницу на место.
— Возьми вот лучше гвоздь,— сказал он.— Волосы себе накрутишь.
Сонька обиделась и замолчала. Она всем хвалится, что кудрявая отроду, но мы знаем, что без горячего гвоздя тут не обходится. Сегодня Сонька особенно накучерявилась и платок повязала повыше, чтоб видны были завитки.
В городе было тише, чем в поле, и показалось даже теплей. Выглянуло солнце, и мы совсем повеселели. Даже Ганка забыла о своих недавних страхах и теперь смеялась над собой вместе с нами.
А в райкоме мы опять притихли, отчего-то немножко испугались. Сидим — и у каждого сердце не на месте. А что, если не примут?
— Ой, девочки, я, кажется, обязанности забыла,—через каждые пять минут тревожно шепчет Ганка, и Санька, может быть в десятый раз, повторяет ей обязанности.
Да и остальные чувствуют себя неспокойно. Кате кажется, что она не твердо знает права, хотя Антонина Александровна приняла у нас экзамен по всему уставу.
А Сонька боится, что у нее мало общественных нагрузок: она только «Лявониху» танцует.
А что я скажу, если спросят про эти самые нагрузки? Может, рисование мое вспомнить?
В нашем классе говорят, будто Катя хорошо рисует. А по- моему, там смотреть не на что: розочки, георгинки, стебельки, листочки и разная другая мура. Люди и лошади у нее не выходят. Лошадей одним махом рисует Санька, а людей — я. Однажды на уроке географии я такую Катю нарисовал, что самому стало смешно. Правда, Санька не сразу узнал, кто это, но иначе оно и быть не могло. У меня же не портрет, а карикатура. Особенно насчет носа я здорово постарался. И конопель на щеки не пожалел.
428
Кате мое художество не понравилось, а нашей сердитой географичке Дарье Николаевне рисунок пришелся по душе.
— Молодчина Сырцов,— сказала она, перехватив мое произведение, которое путешествовало по партам, и поставила мне по географии большущую двойку.
Видно, слава о моем таланте докатилась и до учительской, потому что после урока меня с этой коиоплистой задавакой вызвали к директору. Я думал, что будут пробирать, но никто никого не пробирал. Нам дали трубку обоев и велели нарисовать к Октябрю плакат. Так я выбился в художники.
Теперь мы с Катей часто, как говорит моя бабка, изводим директоровы обои. Я раскатываю бумагу в хате на полу, лежу на животе и карандашом вывожу огромные буквы: «Да здравствует...» Санька, который по доброй воле помогает нам, сидит рядом и обычно щурит то правый, то левый глаз, следит, чтоб было ровно. Катя выполняет самую черную работу: трет на терке свеклу, выжимает из нее сок и этим соком красит следом за мной. Хорошо мы придумали с этой свеклой. Правда, выходит темновато, не очень ярко, так это ж вам не краска.
Катя старательно красит, и я часто украдкой наблюдаю за ней. И странная вещь — вечером у нее не так уж и много этих коноплюшек. А что ресницы самые густые и длинные в классе, так это и днем видно. Сама Катя тонкая и гибкая, как лоза. Интересно, те леди, за которых когда-то сражались на своих турнирах рыцари, были такие же или нет?
Если б мы жили когда-нибудь давно, а я был бы рыцарем и на Катю напал враг, ему бы не поздоровилось. Вызволив ее, я не открыл бы своего имени. Во-первых, товарищи в классе засмеют, а во-вторых, она сама еще что-нибудь такое подумает.
Часто мои рыцарские мечты кончаются тем, что Санька выхватывает у меня из рук карандаш и кричит:
— Посмотри, что ты намазал!
Тогда Катя отрывается от раскрашивания и тоже смеется весело и звонко. И чего она форсит? Иной раз сама так наляпает, что хоть встань да гляди, хоть плюнь да иди. Леди несчастная!
Конечно, всего этого в райкоме не расскажешь, но про плакаты можно. Все-таки нагрузка.
429
В райком мы пришлц рано, часов в одиннадцать, и рассчитывали, что нас быстренько примут и мы засветло доберемся домой. А нас все не принимают и не принимают. За дверью с табличкой «первый секретарь» стоит непрестанный гомон. Время от времени оттуда выпархивает быстрая и вертлявая, как синица, девчина. Она то звонит из соседней комнаты по телефону и допытывается, выехал ли в район какой-то Пинчук, то требует от кого-то какую-то сводку, то строго обрезает двух незнакомых нам парней, которые расшумелись в коридоре.
— Тише, товарищи, обсуждается важный вопрос!
На нас эта синица и не смотрит. Только один раз, проходя мимо, бросила несколько слов:
— Погуляйте немножко. Вы идете после клубов.
Один раз из-за той же двери показался высокий молодой мужчина. Худой, усталый и очень строгий с виду. На нем была командирская гимнастерка, подпоясанная командирским ремнем со звездой на пряжке, и это делало его еще более строгим и важным. Припадая на одну цогу, он проскрипел садогами в конец коридора и скрылся за другой дверью. Парни, которых девушка просила не шуметь, сразу угомонились. Это был сам секретарь.
Такого большого начальства я не видел еще никогда,; Да и мои спутники, видно, тоже. Они совсем притихли. Только Ганка црошептала:
— Ой, девочки, не примут...
А за дверью с табличкой все говорят и говорят. Мы уже знаем, что там идет бюро. Видно, бюро — это не простая штука, если каждый, кто туда заходит, останавливается на миг перед порогом, еще раз оглядыдает себя и приглаживает волосы.
— Ой, девочки, не примут...
Незнакомые шумливые парни куда-то исчезли, а когда вернулись опять, стали пить воду из кружки на цепочке и ругать какую-то столовку, где котлеты из одного хлеба. А мы боимся отойти даже на минутку: вдруг там разберутся с клубами и позовут нас. Да, по правде говоря, не при таких мы деньгах, чтоб ходить по столовкам.
Декабрьский день короток. Только что было совсем светло, и вот серым стало небо, потемнело в коридоре, посинели в окнах
430
стекла. А нас все не вызывают. У нас уже на душе неспокойно: как мы ночью будем идти домой? Все-таки не близкий свет. Ганка уже загодя трусит. Одна Катя спокойна. Тут недалеко живет ее старшая сестра Варвара, которая работает в районной газете. Если что, Кате можно будет переночевать.
Наконец вертлявая райкомовская секретарша нас й обрадовала и испугала.
— Готовьтесь,— сказала она, пробегая по коридору, и в голове все на свете перепуталось: и права, и обязанности, и комсомольские награды, и наши общественные нагрузки. Ганка даже не может вспомнить, когда она родилась. Месяц выпал из головы.
Но пугаться было еще рано. Шустрая райкомовка велела нам немножко подождать и пригласила в кабинет секретаря тех двух парней, которым не понравились котлеты. Они пригладили руками вихры и пошли вслед за ней.
А стекла совсем почернели. Ганка, поглядывая на них, не перестает хныкать. И в кого она удалась, такая плакса? Думает, что в комсомоле нет более важных дел, как только нянчиться с такими нюнями. Тут должны были всё кинуть-ринуть и носиться с ней как с писаной торбой. Ганка отвернулась к стене, где виеит плакат «Восстановим разоренное хозяйство», и обиженно молчит.
Парни пробыли там немало. Они вышли оттуда, может, через час или больше. Один из них был совсем растерян.
— Хорошо им тут говорить и дав1ать выговоры,— чуть не плакал он.
И вот наша очередь. Сонька-Кудрявка украдкой - посмотрелась в обломок зеркальца. Мы тоже пригладили свои чубы.
Первым пошел Санька, серьезный, немного побледневший. Нам показалось, что его держат долго-долго. Как он там? Что он там? Скоро ли? Катя не выдержала и наклонилась к двери, хотела подглядеть в щелку и чуть не отлетела, так она неожиданно открылась.
— Приняли! — выдохнул Санька, будто бы только что переплыл Сож. Щеки его покрылись красными пятнами.
— Про международное положение спрашивали,— предупре¬
431
дил он, когда мы со всех сторон осмотрели его комсомольский билет. И Ганка опять испугалась:
— Санечка, а какое у нас международное положение?
—- Сложное,— важно отвечал он. Ему теперь можно важничать.
Там было полно народу, но я никого не видел. Только секретарь почему-то врезался в память. Усталыми от недосыпания глазами он с любопытством поглядывает на меня и тонкими костлявыми пальцами тушит окурок. Этих окурков перед ним полная пепельница.
Я что-то такое говорю, кажется, рассказываю биографию, отвечаю на какие-то вопросы, а секретарь кивает мне головой, словно подбадривает: так-так, правильно, молодчина. Все идет хорошо. Я по его глазам вижу, что все идет хорошо. И вдруг кто-то за моей спиной спросил:
— Чем ты занимался во время оккупации?
От неожиданности я растерялся. Мне стало даже жарко. Я почувствовал, как щеки наливаются краской. Не примут. Конечно, не примут. Если б я застрелил хоть одного фашиста, хоть какого-нибудь, если б я разыскал тогда партизан, сейчас было бы что сказать. А так — что скажешь? Как гранаты искали? Как немецких лошадей не хотели поить. Только смеяться будут.
— Сельским... хозяйством,— сказалось как-то само собой.
Это будет правильно — сельским хозяйством. Копал с бабкой огород, пас корову.
— Это не ответ,— не удовлетворился тот, за спиной.
Тут вмешался секретарь.
— Хватит, Толя,— устало махнул он рукой.— Ну, чем он мог заниматься во время оккупации? Ты сам подумай... Кто «за»?
И вот у меня в руках комсомольский билет. В коридоре я сравнил его с Санькиным. Одинаковые.
— У меня номер меньше,— все-таки похвастал Санька.
На дворе совсем стемнело и как будто собирается метель, дорожки переметает сыпучий снежок. Но на душе легко и радостно. Как гора с плеч свалилась. Нас всех приняли, даже эту плаксу в блестящих галошах. И пускай теперь бушует вьюга. Какие б мы были комсомольцы, если б боялись вьюги!
Санька с Кудрявкой и Ганкой захотели все-таки зайти в сто¬
432
ловку, а мне там нечего было делать. В дырявом кармане гулял ветер, а признаваться в этом не хотелось. Меня чуть не силком затащила к своей сестре Катя.
Тут хорошо натоплена печка, в тесной комнатке жарко, даже душно. Варвара, молодая и красивая женщина, встретила меня так приветливо, будто давно ждала в гости. На столе дымится горячая картошка и лежит аппетитная селедка. Меня почему-то даже затошнило, и в глазах закружились разноцветные мухи.
Идти ёсть? Есть я не буду, я не голодный.
— Ничего слушать не хочу,— строго сказала Варвара и потащила за рукав,— иди за стол.
Что они — смеются? Буду я есть у чужих, чтоб что-нибудь подумали. Не быйо этого никогда и не будет. Что я, объедала какой-нибудь? Правда, если б не Катя, если б это Санька тут был, так, может, еще и согласился бы, а так пусть лучше не просят. Я не голодный.
Варвара наконец сдалась и обратилась к Кате:
— Проси ты, это твой гость.
Катя покраснела как мак, даже коноплюшек не стало видно, и как-то хмуро буркнула:
— Ну, идем...
Кабы я знал, так лучше бы не заходил. Стыда не оберешься. Не голодный я. Не хочу.
Однако выпить чаю с леденцами меня все-таки уговорили. Чай — это не еда, чай — это вода, чайку можно попить, если им так уж хочется. К ча:ю Варвара потихоньку подсунула мне ломоть хлеба, и я как-то незаметно его проглотил. Должно быть, забыл, что не хочу.
А после ужина — новая напасть. Куда это мы пойдем, на ночь глядя, в мороз и вьюгу? Шуточки это? Никуда нас Варвара не пустит, нечего и думать. Мне только не хватает, чтоб хлопцы смеялись: темноты, мол, испугался. Мне не хватает, чтоб потом еще зятем или женихом дразнили. Да и как это я останусь, а Санька с девчонками пойдет?
Катю Варвара все-таки не пустила. А мне она — не командир. Сказал спасибо и пошел.
Ночь, правда, была темная. В городе ни огонька. На улицах
Библиотека пионера, т. 7 433
ей души. Только ветер воет в каменных развалинах и бьет в глаза снегом. Кудрявка и Ганка идут молча, оглядываются по сторонам, стараются не отстать от нас с Санькой. Они наслушались разных сказок про грабителей и разбойников, которые по ночам раздевают на дороге людей. А то, бывает, заводят в эти каменные трущобы и убивают. На базаре об этом ой-ой-ой что рассказывают.
А Санька не очень-то боится этих разбойников. На что мы им? Наши бурки и свитки стоят недорого, а денег и в заводе нет. Не больно разживутся. Да и что б мы были за комсомольцы, если бы боялись каких-то разбойников? А на душе все-таки почему-то тревожно. Грохнет ветер ржавым железным листом, заскрипит старое дерево, и по спине пробегает холодок.
Я добрался домой за полночь. Бабка долго гремела засовом и все ворчала:
— Во, это комсомол! Во, это добрый комсомол! И что — все в комсомоле ходят по ночам? Так тебе еще, внучек, рано.
И, уже залезая на печь, смилостивилась:
— Возьми там картошки за заслонкой.
Картошка уже совсем холодная, но на диво вкусная. Не зажигая огня, я макаю ее в соль и не могу наесться.
Хм... Чем я занимался во время оккупации? Собак гонял. Так надо было сказать этому больно уж въедливому Толе. Да ничего, и так хорошо получилось. Приняли. Теперь мы с Санькой — комсомольцы.
...А билет надо будет обернуть чистой бумагой, чтоб не запачкался.
Катя, конечно, трусиха. Будто бы Варвара не пустила, а сама побоялась вьюги.
— Что? Не кормили там? — снова взялась за свое бабка.
— Да хватит уже!
— Молодчина. Славный хлопец. Кричи на старую бабу. Это там тебя так научили?
ВАРЕНЬЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ И САНЬКИНА АПТЕКА
Моя бабка считает, что суп из фасоли не требует ни приправы, ни заправы. Фасоль сама по себе — и то, и другое. Фасолевый суп, хоть и совсем постный, можно есть даже без хлеба — и всегда наешься. Фасоль — самый лучший, самый сытный продукт на свете. От нее еще ни один человек не помер и не опух. Такого бабка никогда не слышала и не видела.
А у меня, у Глыжки и у бати фасоль сидит в печенках. Суп— из фасоли, каша — из фасоли, толченка — из фасоли. Фасоль на завтрак, на обед и на ужин. Фасолью пропахли горшки, миски, ложки, стол, печь — вся хата. Это была фасолевая зима.
Бабка нахвалиться не может, как умно она обеспечила семью харчами. Сеять прошлой весной у нее нечего было. Хоть ты сам в землю ложись. Другой бы на месте старухи растерялся, бросил огород пустовать и теперь пошел бы побираться. А она — нет. Она не такая. Пошевелила мозгами: картошки на огород нужно воз, а фасоли на гряду горсть-другую. И побежала по соседям. Кто дал ковш, кто — полковша, и собралось почти решето.
Еще никто до тех пор у нас не сеял столько фасоли. Обычно ею обсаживают межи, а бабка размахнулась на пол-огорода. И с той поры начала агитацию: «квасоля» — первейший продукт.
Осенью от фасоли не было спасения. Она висела на заборе, сохла под поветью, в сенцах, на чердаке, на завалинке, в сарае. До самого снега мы понемногу лущили сухие стручки руками, молотили их на полу вальком. Куда ни глянешь, везде фасоль: в мешке, в дежке, в ковше, в миске, в решете. Фасоль сохнет у нас под боком на печи, и Глыжка утром стреляет ею по хате, дуя в трубочку; стреляет, пока не заработает трецку.
Еле-еле мы ее пересушили и ссыпали в мешки. Но высушили, видно, не очень сухо, потому что суп отдает прелью. Конечно, это от великого панства. Посидели б мы, как сидят другие, на пустой воде, не то бы запели.
Но весной фасоль стала вкуснее. Кашу и толченку больше готовить бабка не хочет, а супы уже не такие густые, как осенью. Старуха теперь все чаще вздыхает и ворчит сама на себя за то, что шиковала зимой. Ворчит и на отца, когда его нет дома.
435
Какая корысть с того, что он ходит день за днем в колхоз? До осени его трудодней не укусишь. Да и там еще неизвестно, широко разевать рот или нет. Одно счастье — щепки.
Отец сейчас рубит дом правления, и над щепками он вроде бы хозяин. Пойдешь, наберешь мешок, и никто слова не скажет. Иной раз и Санька со мной ходит. Ему с маткой тоже дрова с неба не падают.
Но Санька носит мешки небольшие: он против меня ~ слабак. Сопит, кряхтит, обливается потом и у каждого двора, где есть лавочка, останавливается отдохнуть. Под глазами у Саньки синяки, нос вытянулся и заострился, а сам он, как говорит моя бабка, очень уж цвёлый. А еще при этом она добавляет:
— Вот вы крутите носами: «квасоля-квасоля», а она тягови- тая.
Только еще неизвестно, почему это Санька так зацвел, потому ли, что сидит без фасоли на одной картошке, или потому, что много книжек читает. Его мать, тетка Марфешка, часто жалуется: не оттащи от книжки силой, так поесть забудет; не выгони из хаты погулять, так и будет сидеть сиднем. А ночью только и гляди, чтоб хату не сжег. Керосина нет, так он где-то бензина достал да соли в него насыпал, чтоб не так пыхкало, и слепит глаза до петухов. А оно пыхкает все равно, хвороба его возьми.
Еще Санькина мать боится* чтоб хлопец не зачитался совсем. Долго ли теми книжками мозги высушить?
Любит Санька книжки, и я знаю, что он завидует тем, кто их пишет. Он и сам бы хотел стать если не офицером, так писателем или поэтом. Это, конечно, если не придется все-таки идти в фабзайцы.
Но писателем Санька стал скорее, чем можно было ожидать. Однажды, когда мы принесли от правления колхоза особенно хороших щепок, сухих и смолистых, мой друг, грохнув полным мешком об пол в сенцах и напившись из ковша воды, вдруг решительно приказал мне:
— Поклянись, что никому не скажешь.
— А что такое? — хотел я схитрить.
— Нет, ты сперва поклянись.— И, только взяв с меня клятву, он как-то смущенно признался: — Я вчера на печи басню придумал...
436
Санька басню придумал! Подумаешь, баснописец нашелся.
Он полез на печь, где-то там пошарил и ткнул мне под нос:
— На, посмотри, если не веришь.
И начал читать. При этом ему почему-то хотелось то накрутить на палец и выдернуть из головы клок своих соломенных волос, то оторвать себе красное ухо.
Басня вышла у него складная. Как у Крылова все равно. Какая-то свинья будто бы залезла за хозяйский стол. Этого ей показалось мало, так она — и ноги на стол. Хозяин страшно рассердился, схватил кочергу и вытурил нахалку в сени. Вот такая басня. Только без морали. Про мораль Санька думал-думал и ничего не придумал. Мораль не так легко придумать. Но соль тут все-таки есть. Под свиньей он имеет в виду фашистов, а под хозяином — наш народ.
— Ты догадался? — спросил смущенный баснописец, бросив мучить свое багровое ухо.
Я не очень догадался. Мне показалось, что тут рассказывается о старике Зязюльке, который однажды огрел кочергой Брыдчихиного поросенка, когда тот забрел к нему во двор и наделал беды. Но я не спорил. Если Санька под свиньей разумеет фашистов, так я не против. Хорошая басня.
А назавтра у Саньки — две новые. В одной под рябой курицей подразумевалась Глёкова Катя, а в другой под индюком — Петька Смык. Про Катю мне не понравилось. При чем тут Катя? А вот про Смыка — смешно. И главное — мораль вышла.
Так не равняйся со Смыком,—
Не будь надутым индюком.
Пусть так не форсит перед девчатами этот Смычище. Хорошо было бы незаметно подсунуть ему в карман эту басню, но Санька заартачился: секрет — и все. Никто не должен знать, что он баснописец.
Санька может писать не только басни. Как-то Антонина Александровна пришла на урок такая радостная, как будто минуту назад получила новогодний подарок. За столько лет учебы Мы научились угадывать с первого взгляда, что несет наша учительница в класс: двойки или что-нибудь получше. Бывает, что
437
она входит какая-то усталая, разбитая, вяло кладет тетради на стол, снимает свои очки без оглобелек и начинает тереть пальцем переносицу, намятую пружинками так, что на ней всегда синие ямочки. И тут у каждого замирает сердце: неужто и у меня двойка за вчерашний диктант? А бывает, что она начинает улыбаться еще на пороге, вот так, как сейчас, мелко семенит, чуть припадая на одну ногу, к своему столу и торжественно обводит класс добрыми, как у матери, глазами. Тогда, значит, мы — молодцы. А на этот раз Антонина Александровна сказала нам такую новость, что класс на минуту растерялся и затаил дыхание, а потом возбужденно и радостно загудел.
— У нас в классе, дети, растет писатель...
Я сразу догадался. Наверно, Санька.
— Вы послушайте, как он написал домашнее задание,—чуть не пропела от удовольствия учительница и начала читать. И чем больше она читала, тем больше мой Санька наливался краской. И хотя фамилия будущего писателя еще не была названа, по классу пошел шепот:
— Маковей... Санька... Чапаев.
Девчата начали оглядываться на нашу с Санькой парту, а мой друг, опустив глаза, сосредоточенно рисовал на промокашке кавалерийского скакуна.
— Это наш Колас,— объявила Антонина Александровна, окончив чтение, а потом, немного подумав, поправилась: — Будущий Колас, а сейчас он наш Колосок.
Не знаю, может быть, Санька немного загордился или по другой причине, но на переменке он был сначала какой-то важный: торжественно прошелся по классу, засунув руки в карманы своих солдатских галифе, задумчиво посмотрел в окно и молча сел на место. Сонька-Кудрявка попросила списать алгебру, так Колосок даже не повернул своей давно не стриженной головы. Девчата начали хихикать.
— Поглядите-ка, Колосок уже нос задрал.
И Санька не выдержал: сделал из бумаги шарик, заложил его в трубочку из ручки — и дунул Кудрявке в щеку. А потом и алгебру дал переписать. И правильно. Чем тут особенно гордиться? Я тоже, если б только захотел, так написал бы это задание, может, не хуже Саньки, у меня только нет охоты, а го¬
438
лова, говорит бабка, есть, и к тому же еще крутомозгая. И грамматику мог бы выучить лучше всех, только не хочется каждый день просить книжку у Кати. И так хлопцы начинают дразниться, что к Глёчихе часто хожу. Если б я только захотел, так мог бы по всем предметам, как по географии учиться.
Я по географии, как бог. Даже водные путешествия Дарьи Николаевны, на которых тонет весь класс, меня не пугают. Наша географичка что придумала? Войдет в класс, еще не откроет журнал и сразу:
— Петро Смык, проплыви-ка из Мурманска в Одессу.
Смык, долговязый, длинношеий, выходит к карте и начинает
плавать туда-сюда, стреляет по классу глазами, подмигивает, чтоб подсказали, водит большими, как у кожана, ушами, прислушивается, пока географичка не скажет:
— Все. Твой корабль потонул. Садись.
Если корабль тонет, это значит, что тонешь и ты, и никто тебя не спасет, пока не выучишь как следует: Дарья Николаевна — женщина строгая, с нею шутки плохи. Мы все ее немножко побаиваемся.
А мне такие путешествия нравятся. Я не веду указкой по обтрепанной и тысячу раз заклеенной мучным клейстером карте; я всегда плыву на корабле с надутыми парусами, забываю про класс, вижу холодные волны и каменистые берега, города, как на тех открытках из Европы, тигров, слонов, туземцев и еще много всякого другого, что мне хочется увидеть в жизни. И найти дорогу большой хитрости нет.
Но в последнее время на море мне тоже не везет: уже два раза заблудился.
— Что это с тобой? — удивляется географичка и ставит в классном журнале против моей фамилии двойку.
А разве я виноват? Мой корабль счастливо вышел из Мурманска, с попутным ветром без приключений доплыл до Англии, несмотря на густой туман, благополучно миновал пролив Ла-Манш, и тут за моей спиной в классе кто-то хихикнул. Это меня немного смутило. Может, не туда поехал? Оглянулся — Катя прищурила один глаз и почему-то хитро усмехается. Это, наверное, не зря. Уж не над моими ли штанами? Бабка их сегодня утром зашила белыми нитками, других у нее не было.
.439
Хотя не может быть, чтоб из-за ниток: я старательно закрасил их чернилами.
Вот опять они с Санькой переглянулись и прыснули со смеху. Может, над тем, что на переменке я, смочив водой, причесал свой вихор? Так смешного тут ничего нет. Если ты его хорошенько не намочишь, он торчит во все стороны, как у ежа.
Может, я вообще смешной?
Пока у меня в голове вертелась мысль, почему эти коноп- люшки сперва разбирает смех, а потом бросает в краску, мой корабль каким-то образом вылез на берег и спокойно отправился по горячим пескам Сахары поперек Африки.
Другой раз из-за этой негодной Глёчихи забрался я со своим крейсером в Альпы. Вел-вел указкой по воде, миновал самое опасное место, где нет ни моря, ни земли, а только выглядывает из-под бумаги рыжая марля, а потом оглянулся — и на тебе: попал в горы.
— Твой корабле разбился о скалы! — объявила Дарья Николаевна и грозно добавила: — Завтра опять спрошу.
И вдруг случилось то, чего я никак не ждал: я в школу больше не пойду ни завтра, ни послезавтра. Меня больше не интересуют и не тревожат морские путешествия нашей географички. И плакатов на обоях для школы тоже не буду рисовать. Придется Саньке и Кате самим без меня. Такая уж у меня невезучая судьба: вчера ложился слать — будто ничего и не было, а утром встал — руки обсыпаны мелким зудящим маком. Поглядела на них бабка и испуганно запричитала:
— А боже ж ты мой! Она! Посмотри, Кирилла, что наш хлопец заполучил.
— Не может быть,— не поверил сперва отец, однако встревожился: — Откуда ей взяться?
— Откуда ей взяться? — переспросила старуха.— Ни мыла, ни рыла. Долго ли? Понянчила в ту, в царскую войну, помню, какая она.
А потом рассердилась на меня:
— Отвяжись ты, нечистая сила: кто она да что она. Короста — вот кто...
Только этого мне и не хватало; Всего отведал, а этого еще не было. Теперь я в школу не пойду ни за какие деньги,, хоть
440
озолотят. Правда, такие же руки и у Смыка, и у Мамули, и у многих других ребят. Особенно у мелочи из младших классов. Но они как себе хотят. Им, может, и ничего, если проведает об этом Катя, а у меня она и так в печенках сидит со своими насмешливыми улыбочками. Я не хочу, чтоб она знала, что у меня на руках. Проживу как-нибудь и без учебы. Не всем учеными быть, как сказал Чижик. Пойду в колхоз вместе с отцом, а не то подамся к Нинке в бригаду. Другие ведь живут без учебы. Чижик, например. И я не помру.
Отец даже почернел. На лбу его сверху вниз пролегла глубокая складка, густые лохматые брови сошлись на переносице, сердито зашевелились усы. После возвращения с войны он стал какой-то суровый, молчаливый, не щедрый на теплое слово, похлопает по плечу или взъерошит вихор тяжелой рукой и молчит. Это у него высшее проявление нежности. Это еще надо заслужить. А сейчас он и вовсе туча тучей.
— Нет,— глухо сказал отец.— Ты на других не кивай. Другим, может, хлеба некому заработать или мозги на место вправить, а я могу еще и то и другое. Гляди, хлопец.
Только и я не робкого десятка. Все говорят, что в отца пошел. Пускай что хочет делает, хоть за ремень берется, а на глаза Кате с такими руками я не покажусь.
Вечером, идя из школы, к нам заглянул Санька.
— Почему ты сегодня не был? — спросил он.
И не успел я рта открыть, как за меня ответил батя:
— Жениться задумал. Посылай, говорит, сватов — и все тут. А ты еще разве школы не бросил?
— Не-ет,— растерянно протянул Санька.
А бабка уже тут как тут:
— Так то ж хлопец, а этот черт болотный. Батьки и того уже не слушает.— И мечтательно вздохнула: — Эх, кабы серки найти! Всю бы свербучку как рукой сняло. Только где ты ее сейчас найдешь? Разве в пекле!
Целый вечер шли мои с отцом переговоры. Говорил больше отец, а я стоял неподвижный и немой как столб. Он просил, угрожал и доказывал, что науку не за спиной носить, что болезнь — это болезнь и стыдиться тут нечего, тут не я виноват, а война; Время от времени он спрашивал:
441
— Ну, как?
Я молчу. И утром молчу. И на следующий вечер. Он все правильно говорит — и про науку, и про болезнь, и про войну, а понимает не все. Нельзя мне идти в школу. Там Катя и другие девчата смеяться будут. Мог бы и догадаться, что не так это просто.
Догадался отец или нет, но отступился от меня. Вечером, думая, что я уже сплю, они долго разговаривали с бабкой о моей особе.
— Прозевал я хлопца,—как бы жаловался отец старухе.— Вырос он тут без меня. Трудно теперь в руки взять. Ох, трудно. Большой уже.
Все. Моей школе крышка. Отец сердится, а Нинка, когда я пришел на бригадный двор, обрадовалась. Все в тех же огромных солдатских сапогах, все в том же ватнике, перехваченном пояском в талии, с черным от ветра лицом, с потресканными губами, она по-мужски, как с ровней, поздоровалась со мной и сказала:
— Вот и славно. Запрягай своего Буянчика.
Дня три я возил с конюшни навоз к парникам и вместе с дедом Миколаем набивал им рамы. Школа мало-помалу начала как будто и забываться. Только когда проходишь мимо, с вилами на плече, что-то больно заноет в груди* и станет почему-то обидно и горько. Хочется подкрасться к крыльцу и хоть одним глазком заглянуть в окно. Что они там делают без меня, снова плывут из Мурманска в Одессу или ломают голову над алгеброй? И пускай ломают, пускай там смеется теперь Катя. Мне от ее смешков теперь ни холодно, ни жарко. Я теперь самостоятельный человек, я сам себе зарабатываю на хлеб, а если захочу, то и курить начну. Только бати побаиваюсь.
Обидно тоже, что они все так скоро забыли обо мне. Как будто я и не ходил в школу, как будто я там никому и не нужен. Один Санька не забыл. Вчера он принес полные пригоршни желтой серы.
— Где ты взял? — обрадовалась бабка.
— А у меня целая аптека,— похвастал он.— Надо, так я еще принесу.
— Принеси,— не отказалась старуха. У нее такой харазь
442
тер — любит, чтоб все у нее было с запасом. Теперь бабка Санькиной серкой пудрит мне руки и говорит, что все идет хорошо.
В тот день я возле школы задержался дольше, чем обычно. Надо было дождаться Саньки. Если б я только знал, что со мной дальше будет, то обошел бы это место десятой дорогой, а не торчал на крыльце и не заглядывал в окна, как злодей.
— Здравствуй, Ваня,— неожиданно послышалось за спиной, и мне стало так неловко, будто меня поймали под окном чужой хаты.
Обернулся — передо мной стоит Антонина Александровна, маленькая, седенькая, и с интересом снизу вверх вглядывается в мое лицо. У нее в руках стопка тетрадей и классный журнал. Видно, она и сама не ожидала этой встречи и теперь не знает, что дальше говорить.
— Это правда? — наконец спросила она.
— Что — правда? — Я почувствовал, как жарко запылали мои уши.
— Что бросил школу.
— Угу.
— Так,— вздохнула учительница и на минутку задумалась. Потом встрепенулась и частой, щебетливой скороговоркой сказала: — На, помоги мне донести домой тетрадки.
Ну и попался! И отказаться нельзя, и идтй неохота. Опять начнутся уговоры-переговоры, а мне и отцовских хватает. Не пойду я к ней домой, пускай не думает. Донесу только до двери и отдам.
До дома учителей недалеко. Учителя живут рядом на взгорке в бывшем поповском доме, довольно уже старом, как и волость, где школа. Лётом его немножко подремонтировали, но мы знаем, что там и печки дымят, и в окна дует. В коридоре, куда я зашел вслед за Антониной Александровной, темно и сыро. Вот тут и отдам ее пачку.
— Держи! — опередила она, и у меня в руках оказалась вторая стопка тетрадей да еще классный журнал, а в темноте лязгнул ключ.
Так мне и не удалось удрать. Чтоб избавиться от ноши, я должен был зайти в комнату и положить ее на стол. Антонина
445
Александровна сразу же попросила наколоть щепок, чтоб затопить печку, и опять нельзя было отказаться. Пришлось снять шапку и свитку.
А теперь будем пить чай,— объявила она как-то совсем по-домашнему, как будто это само собой разумелось с самого начала.— Ты любишь чай с сахарином?
Чай с сахарином? Кто ж его не любит? Разве уж такой барин, которому ничто в горло не лезет. А у меня и спрашивать нечего — я его люблю, только не хочу и пить не буду.
— Нет-нет-нет-нет,— загородила мне дорогу Антонина Александровна.— Это никуда не годится. Ты мой гость, а гости не обижают хозяина. Ничего слышать не хочу.
Вот попал в переплет — ни взад, ни вперед. И надо было мне подходить к этой школе! Теперь сиди тут* как аршин проглотивши, прикидывайся добродетельным человеком. Да я и пить этот чай толком не умею. Под сахар, принесенный отцом с войны, бабка один раз воды нагрела, так покуда я пил, без конца останавливала:
— Не хлебчи так, кружку проглотишь.
А Антонина Александровна суетится в своей тесной, заставленной этажерками и книжными полками комнатке, будто к ней и вправду пришел неведомо кто. Вот на столе появились тонкие стаканы, ложечки и немного помятый чайник с кипятком. Хлеб нарезала тоненько.
— О! — торжественно подняла она вверх указательный палец.— У меня есть варенье! Вишневое! Летом сестра прислала. Куда это я его поставила? Будем пить чай с вареньем!
Мне было почему-то стыдно, я долго отнекивался, упирался, а потом все-таки смилостивился, сел за стол. Очень уж велико искушение. Если кому-нибудь рассказать, так и не поверит, что я пил чай с вареньем. Только недаром она этот чай заварила. Сейчас, видно, начнется: как мне не совестно, как мне не ай- яй-яй бросать школу. Тут надо держать ухо востро: уговорит, и не оглянешься.
А учительница, кажется, и забыла про школу. Про сестру свою рассказала, пожаловалась, что крыша над ее комнатой протекла и залило книжки, что голова у нее часто болит и вообще здоровье совсем слабое. Да оно и так видать, без слов. Лицо у
нее какое-то желтовато-прозрачное, а на висках вздулись синие жилки. И пенсне, наверно, ей неудобно носить. Худыми, высохшими пальцами она все трет переносицу, морщится, а намятые пружинками ямочки все равно не пропадают.
Разговор незаметно перешел на моего отца: когда пришел, где воевал, не очень ли со мной и Глыжкой строг, не думает ли привести в дом мачеху. И я как-то осмелел, забыл, что в гостях, развязал язык, будто с ровней.
И про бабку поговорили.
Мать вспомнили.
— Я учила ее когда-то, твою мать. Еще до революции,— сказала Антонина Александровна.— Самая лучшая была ученица в классе. Только мало походила, зимы две или три. А потом не пустили ее. Родители. Сколько я их ни уговаривала.
И вдруг, внимательно посмотрев на меня глубокими, добрыми глазами, учительница тихо спросила:
— Трудно?
Я сразу понял, про что это: про жизнь.
— Трудно,— признался я.
— Очень трудно,— вздохнула Антонина Александровна.— Сегодня в третьем классе один мальчик у доски в обморок упал. Недоедание проклятое. Малокровие... А взять ваш класс? Василь почти босой. Ботинки у него совсем расползлись. Помнишь, как он пальцы отморозил? Вот упорный парень. На диво. Другой бы давно рукой махнул, а он ходит в мороз, в непогоду.
Это она Мамулю так хвалит.
Потом она немного помолчала, подложила мне в стакан варенья, хотя я и пытался доказать, что я больше не хочу, и, как бы рассуждая сама с собой, заговорила снова:
— Не все это выдержат. Многие, конечно, бросят школу. Те, кто слабее духом...
В комнате стало так жарко, хоть ты двери отворяй. Видно, это от печки. А может, и не от печки. «Те, кто слабее духом...» Выходит, что и я слабее. Что она понимает? Подумаешь, геройство — в дырявых ботинках ходить по морозу. Вот пусть бы он на мое место стал да этой пересмешнице на глаза показался». Да об этом учительнице разве скажешь?
— А вот, чтоб Ваня Сырцов бросил школу,— развела руками
446
Антонина Александровна,— не верю! Тут что-то не так. Я слышала, что ты просто заболел.
И заметив, как мои руки моментально скрылись под столом, она вздохнула:
— Это ничего. Это пройдет. Это во всех классах. И, между прочим, у Кати тоже...
Да что она — мои мысли читает? Об этом же не знает ни один человек на земле. Даже Санька. Не может этого быть, чтоб она догадалась. Если догадалась, тогда я погиб, тогда — конец света... А Антонина Александровна бросила на меня заговорщицкий взгляд: мол, только мы с тобой об этом знаем и больше никому не скажем.
В душе я обрадовался. И у Кати тоже! Порядок. Теперь мне нечего бояться. Теперь пусть она попробует..,
— Вот еще что,— вспомнила учительница,— у нас расписание занятий изменилось. Завтра первый урок — белорусская литература. Мы уже до Коласа дошли.— И погрозила пальцем: — Все, что пропустил, спрошу!
Не знаю, что со мной случилось, из гостей я бежал сам не свой, весело перепрыгивал через весенние лужи, провел палкой по частоколу —тра-та-та-та, разбойничьим посвистом пугнул воробьев и влетел к Саньке во двор. У Кати тоже. Как это хорошо, просто отлично!
— У тебя нет еще того лекарства? — спросил я у друга.— Где твоя аптека?
Санька оглянулся на мать, не услышала ли она, и повел меня под поветь.
— Гляди, как бы не вышла,— приказал он и вытащил из- под мусора орудийный снаряд. Головка от снаряда была отвинчена.
— Ковыряй сам,— сказал Санька.— Мне уже надоело. Каждый день то тому, то другому... Там еще есть на дне.
— Тол? — удивился я.
— Тол,— подтвердил он.— Один черт, что и сера.
Не знаю, что мне помогло — варенье учительницы, Санькина аптека или то, что и Катя не святая, но я вернулся в школу. Отец обрадовался:
— Одумался хлопец...
„БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО"
Моя бабка говорит, что каждый гад обновке рад. Но когда были меньше, мы не очень-то приглядывались, что на нас надето. Что есть, то и ладно. А с шестого класса начали следить за модой и сами модничать. Кажется, простая вещь — шапка, а носить ее надо умеючи. Иной натянет на глаза, даже дороги не видит, и плетется. Никакой тебе красоты, никакого шика. У настоящего хлопца, такого, как я или Санька, шапка должна сидеть чертом. На самом затылке, чтоб был виден весь чуб. А можно еще сдвинуть ее на одно ухо, тоже хорошо выходит.
Или возьмем штаны. Неважно, что на них заплатки и сзади ж спереди, важно, как ты их носишь. Опять иной запихнет штанины в бурки и ходит, как телепень. У настоящего же молодца, такого, как я или Санька, штаны всегда будут с напуском. Они немножко по-цыгански нависают над бурками, и тогда этих самых бурок меньше видно и кажется, что это не бурки, а настоящие сапоги.
Но мне и Саньке все же далеко до Ахремова Леньки из Лаптина, который ходит гулять к подлюбским девчатам. Говорят, его отец привез из Германии чуть не полную солдатскую сумку иголок и продает их на базаре. Теперь Ленька что твой асессор: в настоящих хромовых сапогах и даже с наручными часами. Отсюда, верно, и пошла поговорка — одет с иголочки.
Форсит Ленька перед нашими хлопцами страшно. Правда или нет, но про него вот что рассказывают. Идет это Ленька к подлюбским девчатам, а на дороге свинья лежит. Вот он остановился и говорит:
— Марш с дороги, а не то как дам новым сапогом под дыхало, так через пять минут сдохнешь!
При этом Ленька будто бы, стоя перед свиньей, показал ей новый сапог и посмотрел на свои часы.
Может, это и выдумали от зависти, но я сам видел другое. Ленька — старше нас, вовсю уже курит. Вот Чижик и попросил у него раз закурить. Так Ленька ощупал карманы и ответил:
— Нету. Папиросы в тех штанах забыл.
Одним словом, штаны мои рябы и еще двое у бабы; штаны мои по моде и еще трое в комоде.
448
А как лихо умеет Ленька носить свои сапоги! Наваксит их так, что они даже солнечных зайчиков пускают, потом сожмет голенища гармоникой, опустит на самые щиколотки и идет, как пишет: скрип-скрип, скрип-скрип. Правда, сапоги гармоникой он носит не каждый день. Видно, надоедает. Тогда он отворачивает голенища чуть не наполовину, чтоб все видели, какой там с исподу белый кожаный поднаряд.
Глядя на Леньку, и мы начали выделывать со своими бурками разные фокусы. Первым взялся Смык. На уроках он не слушал учителей, делал только умные глаза, чтоб думали, что слушает, а сам все время под партой «приучал» руками свои бурки быть гармонистыми. Вышло любо-дорого глядеть. Идя домой, Петька форсил на всю улицу. Даже походка у него изменилась, стала немножко расхлябанной, как у нашего лаптин- ского франта.
Так Петьке хорошо. У него бурки тонкие, из черной материи, ваты положено скупо, потому и морщатся легко. А вот Санька свои из шинельного сукна целую неделю морщил. Еле- еле добился своего. Однако добился-таки. И обутки на узнать. Теперь Санька ниже пояса похож на военного: зеленое галифе на вырост и бурки гармоникой. Хоть ты шпоры прицепляй.
А у меня дело дрянь. Очень широкие голенища. Санька и Смык свои сожмут, и они за икры держатся. А я свои как ни сжимаю, пройдешь немножко — и нет гармоники. Тогда я, как Ленька, сделал отвороты. Поднаряд, правда, у меня не кожаный, но тоже белый, из старой льняной простыни. Издали поглядеть, вид довольно молодцеватый, можно на вечеринку идти.
Так мы однажды вечером и сделали. Сгармонили бурки, Санька вскинул свою шапку на затылок, я свою на левое ухо и отправились. Было месячно и морозно. В хатах и землянках топили на ночь печи, в неподвижном воздухе белые дымы стояли огромными столбами. Снег под ногами скрипел на всю деревню.
До войны танцы были в церкви, где комсомольцы открыли клуб. Теперь в церкви ни окон, ни дверей, и девчата обычно собираются в чьей-нибудь хате. Договариваются на всю зиму — по пуду картошки с каждой. Одним пуды родители дают, а дру-
449
гме берут украдкой, когда взрослых дома нет. На танцы хочется, что ты сделаешь? Есть такие, что сама голодная будет сидеть, только пусти ее польку отстукать.
А хлопцам хорошо. С них хозяева платы не спрашивают. Мы можем повернуть и на другую вечеринку пойти. Не одна она в деревне — почти на каждой улице. А ближе всего у старой Язепихи. Туда мы с Санькой и шагаем. Вернее сказать, крадемся, как ночные воры. Не так это просто в первый раз на гулянку идти. Мало ли кто может увидеть, можно учительницу встретить или даже директора. А кто-нибудь из девчат заметит, так на всю школу раззвонит. Тогда без дыму сгоришь от стыда. Скажут: «А еще комсомольцы!»
Соседке на глаза попадешься, тоже не минует бабкиных ушей. А та уж не упустит случая подкусить.
— Что,— скажет,— захолостяковал?
И неизвестно еще, как на это отец посмотрит.
Словом, много может поджидать человека неприятностей, когда он первый раз идет на вечеринку.
И Санька, пока мы крались вдоль заборов, такую брехульку придумал. Разве мы идем гулять? Мы идем проверить, не гуляет ли кто-нибудь из нашего класса. Проверим и пойдем домой. Нужна нам эта гулянка, как зайцу стоп-сигнал.
У Саньки голова — настоящий сельсовет, всегда что-нибудь придумает. Конечно, проверять. Имея в запасе такую уловку, мы довольно смело перешагнули порог и окинули хату строгим взглядом проверялыциков. Нас сразу заметили, будто давно ждали.
—- Хлопцы! Холостежь пришла! — крикнул лаптинский Ленька и громко захохотал.
Его поддержала какая-то балаболка, кажется, Манька Узва- рова.
А что это за такая Боевая холостежь:
Слово скажешь, не так глянешь —
То за саблю, то за нож! —
пропела она пронзительным голосом, и всем стало еще веселей. А мы стоим как обалделые.
В табачном дыму закопченная лампа, словно месяц в обла¬
450
ках: то потемнеет, то прояснится. Вдоль стен на лавках и даже на кровати и лежанке сидят девчата и хлопцы. Все не нашей компании, много старше. Хлопцы дымят цигарками, передают друг другу бычки, а девчата щелкают семечки.
Бусликов Костик, который всего года на два старше нас с Санькой, сидит на самом удобном месте. Склонив голову к гармонии, он лениво перебирает пальцами белые пуговки ладов и рыпит что-то нескладное. Это уж обычай такой у гармонистов: прежде чем сыграть то, что просят, сперва вот так порыпеть себе под ухом, будто они там слышат что-то особенное, чего другим никогда не услышать. Как говорится, держат фасон.
Костик, свесив свой светлый волнистый чуб на мехи, фасонил долго. Его уже несколько раз девчата просили сыграть, а он будто и не слышит. И только когда перестали просить, неожиданно заиграл сам. Так ему захотелось: он гармонист.
Ну и пошло ж веселье, прямо закачалась Язепихина хата, и сквозь щели в потолке посыпалась кострица. Выйдя в круг, та же бойкая Манька Узварова, видно желая подластиться к Костику, запела, притопывая под музыку:
Я любила гармониста,
Гармониста тешила.
И тут все девчата, одна громче другой, подхватили на разные голоса:
Сама гармонь да на плечо Гармонисту вешала. И-их!
Рядом с Костиком незнакомый мне, видно чужесельский, парень залихватски бьет в бубен. От него глаз не отвести, такие он выделывает выкрутасы: то стукнет ладонью, то костяшками сложенных в кулак пальцев, то бубном о локоть, то о колено. При этом его голова гордо задирается кверху, потом склоняется набок, будто и к бубну надо прислушиваться, как к гармонике. И весь его вид говорит: я еще и не так могу. Словом, два сапога пара: что гармонист, что барабанщик.
А промеж хлопцами и девчатами началось что-то вроде перестрелки. Кто кого в своих припевках лучше подденет. На Манькину любовь к гармонисту ответил из круга лихой мальчишеский голос:
451
Гармониста полюбить Милая сбирается,
Мажет губы, пудрит щеки,
Да не умывается.
Под Костину музыку хлопцы ведут девчат вперед, затем медленно отступают назад и вдруг все разом ка-ак топнут бурками в резиновых бахилах по полу, так даже гнутся половицы и качается лампа, а потом подхватят девчат и начинают вихрем кружиться в одну сторону; эхнут, прямо печь подскочит — и в другую сторону. На печи дремлет старая Язепиха и каждый раз, когда хлопцы отбивают ногами по скрипучему полу, показывая свою силу и ловкость, испуганно вскидывает голову и ворчит себе под нос:
— Развалят хату, анчихристы.
Девчата раскраснелись. Манька, шустрая, подвижная, так вертится перед своим «миленком», что юбка надувается парашютом.
Мой миленок, что теленок,
Только разница одна:
За теленка возьмешь гроши,
А миленку грош цена.
Хлопцев, по сравнению с девчатами, маловато: с войны не пришли. Но хоть их и мало, но поддаваться не хотят. Тот же лихой басок не остался в долгу:
Тыру-тыру,
Хлопцам сыру,
Хлопцам сыру с молоком;
Табу-табу,
Девкам жабу,
Девкам жабу с червяком!
Костик еще разок развел мехи и умолк. Перед ним сразу раскрылось несколько самодельных алюминиевых портсигаров с табаком и папиросами. Посмотрел Костик, где потолще, и взял. «Гвоздиков» он не курит.
Посидели мы еще немножко с Санькой, да и домой пора. Хватит для первого раза. Только я за щеколду взялся, а нам вдогон новая припевка:
452
У нас хлопцы гуляли,
На пороге стояли.
Приходите к нам гулять,
На пороге постоять.
Вся хата захохотала, а мы насупились и пошли. Мы обиделись. Пускай сами теперь гуляют, если они такие. И просить будут, не пойдем. Не видели мы их танцев. Счастье великое — ногами разные выкрутасы выделывать да горло драть припевками.
И в самом деле, той зимой к Язепихе мы больше не ходили. Правда, бурки морщили, напускали штаны на голепшца, шапку носили так, что непонятно, как она только на голове держалась, а на погулянки — ни ногой.
И вот пришло лето. Гульбища выбрались из хат на улицу. Теперь у каждого двора клуб, только бы ровное место было, где плясать, и лавочка для гармониста. И понятно, самое лучшее летом место для танцев — это деревянный мост на шоссе. Тут такую «сербиянку» можно отстукивать на дощатом настиле, на все село будет слышно. Только грузовики иной раз мешают. Приходится давать им дорогу.
Но мост — это не для нас с Санькой. Тут и ногу можно занозить, и публика больно благородная — все обутые. Того и гляди, без пальцев останешься, если наступит которая-нибудь.
Возле той же Язепихи — народ попроще. Тут и босую можно выбрать, и танцуют на голой земле, утоптанной ногами, как ток на гумне. Пыль на этих танцах, что на молотьбе. Недаром на мосту смеются над теми, кто гуляет возле Язепихи:
— Отряхни пыль с ушей!
Но и возле Язепихи не каждой скажешь: «Пойдем потанцуем». Сперва на ноги надо посмотреть, не в ботинках ли, иначе получишь от ворот поворот. Обутые нос дерут, не каждая еще и пойдет.
А мы не очень из-за этого и горюем. У нас свои вечеринки — у Скока на завалинке. Выйдет из хаты Лешка с балалайкой и тренькает потихоньку. Одноклассницы наши соберутся: Катя, Сонька, Ганка и почти все остальные. И все мы тут ровня, все босиком — смело бери любую. Только танцоры мы с Санькой пока что лыковые, топаем, как козлы. Потому мы ни¬
453
кого и не берем, друг с дружкой танцуем да девчат толкаем, будто бы не нарочно. И больше всего Катю с Сонькой.
Лешка — музыкант лихой. Он держит фасон не хуже Костика: перед каждым танцем сперва потренькает, подтянет струны, а потом уж и заиграет. А умеет все: и польку, и «сербиянку», и страдания. Больше того, где-то на днях перенял с патефонной пластинки танго. «Брызги шампанского» называется.
Сперва этих «брызгов» никто не умел танцевать, но потом девчата как-то своим умом достигли — и пошли топтать траву! Танго так танго. Такого модного танца, верно, не знает даже мост, не говоря про Язепиху.
Одним словом, наши с Санькой танцевальные дела идут отлично. Мы тут главные заводилы, шутники и насмешники. Нет у нас соперников. Большие хлопцы на наших девчат глядеть не хотят. Если кто из них и подойдет, присмотрится в темноте,— только махнет рукой:
— A-а, подлёточки!
Так воробьев называют, когда те начинают учиться летать.
А по-нашему, так девчата славные. Мы даже думаем, а не пригласить ли и вправду которую на танец. Я с Катей пошел бы, да боюсь — отошьет. И вообще не просто это — вот так взять и пойти...
Санька — малый храбрый, а тут тоже пасует, не отважится на это первый. Скажут потом — кавалер. Если б так как-нибудь, чтоб незаметно было: во время танца «разбить пару», что ли? Сидим мы в сторонке от всех, шепчемся, и вдруг:
— Салют, хлопцы! Что у вас тут, танцы?
Подняли мы глаза и онемели от удивления: офицер не офицер, генерал не генерал, а кто такой — не узнаём. А он нас, видно, как облупленных знает.
— Ну, как, Иван, дела? Что, Санька, слышно?
Присмотрелись — Юрка Колдоба, нашего участкового сын.
Черт знает, когда мы его видели. Говорят, он вместе с отцом некоторое время в армии служил. Дома у Юрки после смерти матери никого не осталось, вот и забрал его отец к себе в часть. Сперва был он там за сына полка, а когда отец демобилизовался, Юрку отдали в военное училище, какое-то подготовительное. И вот стоит он перед нами и красуется. Куда там Леньке
454
из Лаптина до него! Синие суконные штаны с красными кантами, зеленый френч с блестящими пуговицами, погоны с позолотой, как на образах, а на голове такой картуз, какой нам с Санькой и не снился. Маленький, всего с палец шириной, покрытый лаком козыречек и, как решето, туго натянутый верх. А поглядели бы вы, как это все сидит на голове! Чудом держится где-то там на затылке. Про ботинки и говорить нечего: хромовые.
Неожиданное появление на нашей гулянке такого военного потрясло не только нас с Санькой. В предчувствии чего-то необыкновенного притаилась и завалинка, и лавочка, стих веселый гомон. А он прошелся вдоль завалинки, форсисто пристукивая каблуками и каждый раз кивая головой, как конь, когда тот отгоняет оводов, поздоровался с каждым за руку и сразу же втиснулся между девчат. Смыка столкнули с лавки, и он, подойдя к нам с Санькой, удивил еще одной подробностью Юр- киного шика:
— Одеколоном пахнет за версту.
У нас с Санькой совсем испортилось настроение. Мы поняли, какая опасность нависла над нами. Теперь быть заводилой и думать нечего: девчата смотрят только на Юрку. Мы теперь никто. У нас нет погонов, и мы одеколоном не пахнем.
А Юрка, почуяв, что он тут главный, сразу начал выкома- ривать. Перво-наперво он смутил нашего «гармониста».
■— Прошу падеспань!
— Что? — не понял Лешка и беспомощно посмотрел по сторонам.
Юрка, подпевая сам себе, затанцевал, как на пружинах.
Падеспанец хорошенький танец,
Трам-ра-ра, ра-ра-ра, трам-та-та-там!
— Не знаю,— признался Скачок.
— Ну, тогда падекатр...
Лешка и этого не заиграл, только исподлобья глянул на очень уж модного заказчика и принялся подтягивать струны.
Так что ж вы тут танцуете? — с усмешкой спросил Юрка.— Может, «сербиянку»?
Что надо, то и танцуем,— отрезал наш музыкант и гря-
455
пул «Брызги шампанского». Знай наших. Не такая уж мы «деревенщина», как некоторым кажется. Подумаешь, одеколоном побрызгался, так от «сербиянки» нос воротит.
Но это было только начало. Дальше произошло такое, что мы с Санькой даже почернели от зависти. Вот это кавалер, не то что мы, пентюхи несчастные, ни ступить, ни слова сказать по-людски не умеем. Юрка смело прошелся вдоль завалинки, переборчиво оглядел всех наших подлёточек и остановился против Кудрявки. Та стыдливо спрятала босые ноги и опустила голову.
— Прошу, мадемуазель! — поклонился Юрка.
«Мадемуазель» уперлась, тогда Юрка взял ее за руку и вытащил в круг силой. Санька помрачнел. Он отошел под вербу и, прислонившись к ней спиной, бросает косые взгляды на танцоров.
Нет, еще никто на траве возле хаты Скока не танцевал такого танго! Еще никто не выкидывал таких коленец, так. не выламывался, как этот Юрка. Он то бегал на цыпочках, словно собирался подняться в воздух и полететь, то, подгибая ноги, подкрадывался, как кошка к воробью, то так быстро и неожиданно оборачивался назад, будто боялся, что сейчас ему кто- нибудь даст подзатыльник. Мы и рты разинули. Вот это танго! А мы просто топчемся, точно глину месим.
Танец окончился неожиданно. «Кавалер» наступил ботинком на босую ногу «мадемуазели», та ойкнула и убежала на свое место, на завалинку. Санька мстительно улыбнулся: пускай не ходит танцевать «Брызги шампанского» с разными франтами. Может, он бы и сам ее когда-нибудь пригласил. Но через минуту Санька насупился снова. И я хорошо его понимаю. Пришел сюда какой-то задавака и мутит воду. «Падеспани» ему подавай. Падеспанщик нашелся.
Но Юрке не жарко, не холодно от наших хмурых взглядов. Только сыграли последний марш, он прямо у всех на глазах взял Соньку под руку и повел, хотя та и хотела вырваться. И еще своим решетом с блестящим козыречком помахал:
— Салют, хлопцы!
На Саньку напал столбняк. Я тоже глазами хлопаю; да
456
что ж это делается на белом свете? Безо всяких взял под крендель и повел. И смелости у него хватает.
— Ну ладно,— опомнился наконец мой приятель и грозно блеснул глазами: — Я ему покажу!
Конечно, ему надо показать. Пусть не думает, что он может оттаптывать ноги нашим девчатам, силой их провожать и ему это так пройдет. Пускай не думает, что за них заступиться некому. А мы с Санькой!
Мы сидим на лавочке у Скокова двора и ждем, когда этот падеспанщик будет возвращаться домой. Тогда Санька выйдет навстречу и так даст в поддыхало, что он землю понюхает. Из его шикарного картузика Санька сделает блин. Правда, мне пока что лезть в будущий безжалостный бой запрещено. У нас нет такого заведения, чтоб двое на одного. Я просто буду стоять, чтоб нашему противнику было страшнее.
— А может, нам замаскироваться? — предложил Санька.— А то увидит и даст деру...
Место для засады выбрали под забором, за кустами крапивы. Выпала уже роса, но мой приятель отважно нырнул за мокрый жгучий куст и затаился. Я тоже собрался шмыгнуть вслед, даже опустился уже на четвереньки, когда за спиной кто-то спросил:
— Что ты тут ищешь?
Оглянулся — он. Стоит и улыбается. Даже в темноте видно, что у него очень белые зубы. Грозного Саньки, который вырос из-за крапивы как призрак, наш лютый враг и не думает пугаться.
— Салют! — удивленно крикнул он и щелкнул портсигаром.— Закурим?
Все это произошло так неожиданно, что мы точно языки проглотили: стоим столбом. Тут бы как раз и показать ему, где раки зимуют, а Санька почему-то мешкает.
— Дикие у вас девки,—вздохнув, пожаловался меж тем Юрка. -+■ Никакой тебе культуры. Хотел под ручку пройтись, так удрала.
Санька чуть заметно улыбнулся, его каменное до того лицо подобрело. Он вылез из крапивы и начал отряхивать штаны. Видно, боя не будет. Не за что, если так.
457
А молодчина все-таки наша Кудрявка. Он думал, что нацепил погоны, так перед ним все будут падать.
Будто не замечая нашей суровости, Юрка как-то по-приятельски спросил:
— Ну, как вы тут, хлопцы, живете?
— А так,— не очень приветливо буркнул Санька.
А я добавил:
— Живем, хлеб жуем...
Слово за слово — и разговорились.
— Давайте, хлопцы, после школы к нам. А? — предложил наш недавний враг.— На офицеров учиться.
— А примут? — не поверилось Саньке.
Конечно, примут. Юрка в этом уверен на все сто. Кого ж тогда и принимать, если не таких боевых ребят? К тому же он обещает нам помочь, он покажет нам все ходы и выходы. Разумеется, мы и сами не должны сидеть сложа руки. Особенно Юрка советует налечь на математику. Это у них в артиллерии самое главное. Будешь плохо считать, так попадешь, чего доброго, в своих.
У Юрки на погоне, рядом с блестящей пуговицей, золотой крестик — артиллерийская эмблема, и мы с Санькой то и дело украдкой на нее поглядываем.
— Неужто вы из пушек стреляете? — все не верит Санька.
— Из гаубиц,— не обиделся Юрка и тут же нас немножко подучил: — Гаубица — это такое орудие, покороче пушки.
Нет, славный парень этот Юрка. И такая у него интересная жизнь: гаубицы, пушки... И сам уже почти офицер. Только подготовительное училище окончит, а там три года — и лейтенант. И добрый малый. «Приходите,— говорит,— я покажу вам входы и выходы». Да мы за Юрку уже готовы в огонь и воду. Правда, он малость задается, так чего ж вы хотите? Тут бы каждый задавался, если б такой мундир имел. Это вам не Саньки- но галифе.
Так мы приятно с ним поговорили, и, только прощаясь, Юрка нас словно бы упрекнул:
— Вы думаете, что меня осилили б? Нет, хлопцы, я армейский паек ем и боксом занимаюсь. Бывайте! Завтра на танцах встретимся.
458
И пошел, посвистывая, шикарный, наодеколоненный. Мы с Санькой только вздохнули. Скорей бы и нам в это училище податься. Не ради армейского пайка, известно. Нас и без пайков черт не возьмет.
Мы и так ребята хоть куда, хотя Санька малость широконосый и рыжеватый, хотя у меня шея и длиннее, чем надо, но когда б нам Юркины погоны, так к нашим девчатам никто не подступился бы.
Идем мы с Санькой домой и мечтаем, как там будет у нас, в артиллерии...
ЧТО ТАКОЕ ЗЕМНАЯ ЮДОЛЬ
Рожь уродилась редкая и травянистая. А ячмень и вовсе еще от земли не поднялся, как пустил колоски. Ударила сухмень — он так и сел. Теперь ни жнейкой его не взять, ни серпом. Единственный эмтээсовский комбайн, который впервые после войны прислали к нам в деревню, и жать не жнет и развалиться не разваливается. Из-под него, бывает, целыми днями не вылезает замазученный по самые глаза и злой как черт комбайнер. Он кроет так, что и начальству и богу достается. Нашу бригадирку, боевую и довольно языкатую тетку Нинку, как мы ее называем, вовсе не признает. Прибежит она со своей бригадирской «козой», чтоб замерить, сколько сжато, а мерить и нечего: с самого утра из-под комбайна торчат ноги комбайнера. Вот тут и начинается.
— Снова стоял со своей самопрядкой? — сердится Нинка.— Когда б не бабы с серпами...
Тогда из-под машины показывается всклокоченная голова, глаза комбайнера превращаются в узенькие злые щелки, а в голосе и приказ и вопрос одновременно:
— Иди ты... знаешь куда? Лучше бы окопы на поле заровняли...
Бригадирка тоже за словом в карман не лезет.
— А может, тебе еще тротуар намостить и подмести веником?
453
В другой раз комбайнер показывает не только голову, по вылезает и сам. Тогда у них такие разговоры:
— Что это такое, я спрашиваю? — тычет он Нинке под нос какую-нибудь железину.— Ну, что?
— Ну... крыльца от бомбы,— отвечает бригадирка.
— «Кры-ы-льца»! — передразнивает комбайнер,— У меня от этих твоих крыльцев ножи полетели. Поприбирать у вас руки отсохли. Вот заверну и уеду...
Да что ему Нинка? Он однажды даже у председателя колхоза товарища Мороза при нас спросил, знает ли тот, куда ему идти. Если б кто другой, так Мороз съел бы живьем, а комбайнеру сошло.
О нас же с Санькой и говорить нечего. Тут не разберешь — возчики мы зерна или комбайнеровы слуги. То ключ ему подай, то молоток поищи, то сбегай за версту к мужикам, которые косят этот чертов ячмень, и попроси у них табака на ццгарку, то воды принеси напиться. А принесешь теплую, так еще_ посмотрит на тебя, как бог на червяка. Как будто это мы отвинчиваем в его комбайне гайки, теряем болты, рвем цепи и подбрасываем под ножи крыльца от бомб. И мы все терпим. Терпим потому, что, когда эта его громадина все-таки заведется и потащится вслед за трактором, можно вскарабкаться наверх и, будто на капитанском мостике, проехаться по полю, гордо поглядывая, как где-то там рядом наши девчата гнут спину с серпами. А вечером можно с этаким равнодушным видом при случае сказать: у нас на комбайне теперь порядок.
Можно словцо подкинуть заковыристое: шнек, агрегат, контакт. Мы их знаем тьму-тьмущую.
Одно только плохо — не каждый вечер нам удается побывать на гулянках. Иногда нас посылают ночью оттаскивать солому от молотилки. И не хотел бы, так Нинка уговорит. Так уж мягко стелет: хлопчики, хлопчики, хлопчики. Мы и миленькие, мы и дорогие, и на нас вся брйгада держится. Если такйе главные ударники и стахановцы не пойдут, так она не знает, что тогда и будет. Верно, свет вверх ногами перевернется. Вздохнешь и пообещаешь прийти. А потом вечером, когда зайдет солнце, когда уже совсем стемнеет и за окном, идя на вечеринку, запоют девчата — просто свет тебе не мил.
4G0
Занавесочка редка,
Чернобрового видать.
Кабы с этим чернобровым Один вечер погулять! —
звенят девичьи голоса на всю улицу. А тут еще бабка словцр вставит:
— Иди уже, кличет твоя пискуха.
Я завожусь, как говорит наш комбайнер, с пол-оборота. Гляну, не услышал ли бабкиной насмешки отец, и в атаку:
— «Иди-иди»! У тебя только гулянки на уме, а солому кто таскать будет — черт лысый?
Но бабку так легко не остановишь. Она, моя посуду после ужина, будет ворчать, пока не уйдешь из дому:
— У меня гулянки на уме... гулянки на уме. Захолостяко- вали уже. И сын, и батька. А у меня гулянки-хворобянки на уме.
Все это говорится не так для меня, как для отца. Мои гулянки бабка пристегивает, должно быть, для удобства. Она боится, что мы с отцом скоро наведем полную хату хозяек: один — невестку, другой — мачеху. Тогда она поглядит, как они поладят у печи. Во будет смеху! Только пусть наши с батей женки не думают: бабка их и к загнетке не подпустит. Нашлись на все готовое. Словом, попадает нам с батей от бабки на орехи, только слушай.
Но мне некогда долго слушать: надо скорей бежать на бригадный двор и первому захватить Буянчика, иначе будешь всю ночь Слепку водить.
Ток расчистили на ржище, за колхозным садом. Сюда свезли огромную, чуть не с нашу кирпичную школу, скирду ржи. Рядом с этой соломенной горой молотилка кажется совсем маленькой, неприметной. Это покуда она молчит. Но вот выстрелил в ночное небо тугим комком дыма трактор, прилежно запыхтел, зарычал; как ошалелый, начал бегать, цокая швом по гладким железным бокам шкивов, широкий ременной пас; молотилка ожила, заревела, затряслась, как лютый* голодный зверь, и теперь мы все, когда надо что-то сказать, кричим, будто глухие, и машем руками. Все как бешеные хватаются за вилы и грабили, мы с Санькой уже стоим наготове, чтоб быстренько подожги ать лошадь, подбить веревку под копну, кинуться сверху на
462
душистую теплую солому и так протащиться в другой конец тока, где солому подхватят мужские вилы и вскинут на стог. Над нами в темном ночном небе мигают чистые звезды, спит земля, и мне кажется, что мы тут не просто таскаем солому, что все эти люди не просто молотят хлеб,— мы укрощаем какое-то невиданное страшилище, разъяренного, ненасытного мамонта. Он не хочет сдаваться, но не сдается и люди, в его утробу летят все новые и новые снопы, и могучий железный лязг становится глухим, покорным. Пыль забивает дыхание, слепит глаза, колючие остюки прилипают к потной спине, но никто на это и не смотрит, еще и шутят, еще и смеются. Особенно на подаче снопов, где, зазевавшись, можно очень просто заработать тугим комлем по затылку или по шее. И тогда слышится веселый смех:
— Бабы, Хадора заснула!
— Видать, с хлопцами всю ночь миловалась!
А той Хадоре лет под пятьдесят. Вот и хохот.
А у меня копна рассыпалась. Вместо того чтоб проехать на соломе, я запутался в веревках и протащился животом по голому току. Опять шуточки:
— Куда ты поехал? Солому забыл!
Главный на молотьбе человек — подавальщик. Какой попадется подавальщик, такая будет и работа, такой и намолот. Пустит густо — в соломе много полных колосков; пустит редко — зря только молотилку гоняет. Наш сосед дядька Скок подавать снопы в барабан великий мастер: и вымолотит чисто, и отдохнуть никому не даст. Когда он подает, все так и говорят:
— Ну, держись, выжмет пот и из нас, и из молотилки.
И верно, любо поглядеть, как он управляется. Не поворачивая головы, Скок хватает сноп аккурат за комель, неуловимым движением руки расстилает колосья, и не успеют они исчезнуть в барабане — у него уже новый сноп.
Барабан ходит ровно, не холостой и не перегруженный; женщинам, что разрезают серпами свясла, некогда спину разогнуть, и нам с Санькой тоже приходится бегать рысцой. А он стоит там, вверху, на дощатом помосте, в клубах густой пыли, как бог на небе среди туч. И сиянье вокруг него от электрической
433
лампочки-переноски, подвешенной на высокой жерди. Вот только кричит он на всех, командует не по-божески:
— Давай-давай, милок! Не считай ворон, елки-моталки у нашей Наталки!
Хорошо, что хоть пас часто рвется. Пока его сшивают, можно, зарывшись в солому, и подремать немножко.
Утром, возвращаясь с молотьбы, мы с Санькой идем по улице не спеша, тихо, степенно. Если быстро пробежишь, так кто же увидит, что ты ночью, когда все спали, молотил? А так женщины, выгоняя коров со двора, проводят тебя сонными глазами. Девчина по воду к колодцу выскочит — глянешь на нее, еще непричесанную, заспанную, как рабочий человек на дармоеда. Мужчина встретится — поздороваешься, как с равным, за руку. Нет, спешить домой с молотьбы никогда не надо, если хочешь, чтоб все знали, откуда ты идешь.
Но молотим мы не каждую ночь. Мы не двужильные, и погулять нам хочется вечером, тем более что и танцевать уже отважились. Правда, вальсы и польки не очень-то у нас выходят, кружимся только в одну сторону. Но ничего, подрастем — и в другую сторону начнем кружиться. Не всё сразу.
Вот если б решиться еще и проводить которую-нибудь после танцев домой. Тогда бы Юрка-артиллерист так не задирал перед нами нос. И я думаю, что у нас должно получиться. Не надо только от самой завалинки, где идут танцы, начинать эти проводы. Там все увидят, Катя с Сонькой застыдятся и убегут. Лучше нам уйти вперед, подождать, когда они будут возвращаться домой, выйти неожиданно навстречу, сказать:
— Добрый вечер. Вам в какую сторону? В ту? Значит, по дороге.
А потом сделать вид, что нам и вправду просто по дороге, и пройтись. Они и не догадаются, что это мы нарочно.
Вот с таким замыслом Санька и я сидим в Афоньковом заулке под забором. Место для засады выбрали удачное: й мимо не пройдут, и нас с Санькой до поры не увидят. Только засели, видно, раненько. Ждем-ждем, а по селу все шумят гулянки. Бьет возле Язепихи бубен, гремит под каблуками мост на шоссе, там и сям слышны девичьи припевки.
В Афоньковой хате тускло светятся окна, й, когда прйтйха-
ет далекая гармоника, из хаты доносится глухое, протяжное пение.
— Всё молятся,— кивнул на окна Санька,— Видно, мужние грехи Афоньчиха замаливает.
Афоньчиха с детьми вернулась в село прошлой осеныо. Как уехала со своим криворотым полицаем, так, считай, почти год пропадала. Люди, которые занимали ее хату, пока не было хозяев, ушли, и Афоньчиха живет теперь своей семьей.
Раньше она соседям рта раскрыть не давала, а теперь стала тихая и такая добрая, хоть ты к ране прикладывай. Каждого уважит и каждому уступит.
Спрашивали у нее про Афоньку. Говорят, следователь приезжал, да и бабы иной раз у колодца словечко закинут:
— Что, Настя, не слыхать мужика?
— Не слыхать, — вздыхает Афоньчиха. — Не слыхать. Нет его уже давно, видно...
— А может, в Германии в примаки пристал?
— Так кто ж его знает, дурня!
А богомолкой Афоньчиха стала такой, что, пожалуй, и Чмышихе за ней не угнаться. Отец говорит: какая-то баптистка. Теперь у нее б хате — церковь не церковь, костел не костел. Кто его ведает, как это у них называется.
С луга потянуло сыростью, на траву легла роса, стало довольно свежо. Так можно и закоченеть, ожидая, пока кончатся эти танцы. Рановато все-таки мы сюда забрались.
Из Афонькова заулка одна за другой потянулись уже и богомолки. Все женщины в годах, молчаливые, понурые, в черном платье. Наконец в хате потух свет и стало совсем тихо. Неподалеку в чьем-то хлеву прокричал сонный петух.
Санька первый заметил тех, кого мы так долго и терпеливо поджидали. Он зверем глянул на меня и замахал руками, чтоб я перестал болтать, а то, мол, спугну. У меня даже сердце замерло.
Катя и Сонька шли обнявшись и тихонько пели. Пели про Василя, который все сено косил, про вдову, что умела чаровать, и про мать, что не дозволяла вдову брать. Санька вынырнул перед ними так неожиданно, что девчата испуганно завизжали на всю улицу и кинулись бежать — на мотоцикле не до-
Библиотека пионера, т. 7 465
гонишь. Глёчихина калитка с треском закрылась перед самым моим носом, я лоб едва не расшиб. Что тут будешь делать? Постоял, послушал, как Катя торопливо запирает на засов сенцы, вздохнул и двинулся назад. Санька уже ждал меня под вербами. Называется, проводили.
А как идти домой, если через два двора'Юрка Колдоба сидит на завалинке с Ганкой Пыршевой? Мы знаем, что они там каждый вечер сидят. Будешь идти мимо, а этот падеспанщик спросит:
— Хлопцы, почему вы так рано? Не везет?
Лучше мы тут еще посидим немного, а потом уже руки в брюки, засвистим и пойдем. Знай, мол, наших. Не лыком шиты, хоть и без блестящих погон.
А скучно ж сидеть просто так. Считай теперь звезды на небе, бей у себя на шее назойливых комаров. Если б хоть подсолнуху, что у Афоньки за забором, голову свернуть, так сидели бы и семечки щелкали.
— Давай свернем,— решился Санька. Он даже стал ногами на лавку, но тут во дворе кто-то стукнул щеколдой. Не спит еще богомолка, видно, на ночь запирается.
Афонькова хата не на улицу, как все, а в глубине сада. Ко двору ведет узкий, только телеге проехать, заулок, над которым нависли ветви старых яблонь. Идешь по заулку, как по темному коридору. Подкравшись к воротам, мы притаились я сквозь щели между досок стали вглядываться во двор. Почти рядом послышался хриплый голос. Тот, кто говорил, должно быть, сидел на завалинке.
— О-хо-хо, — тяжело вздохнул он. — Сил не хватает, сестра Мавра, нести крест в этой земной юдоли. Сырость, сороконожки бегают.
Мужской голос нам незнаком и будто бы знаком. А женский мы сразу узнали. Так может говорить, только Чмышиха, тягуче, льстиво, слова у нее, как патока, липкие и сладкие.
— Все от бога, брат Евсей, и терпи со смирением, как терпел Христос, без ропота. Все праведники были великими мучениками. Писание читай, не поддавайся искушению дьявольскому. Великую надежду на тебя бог возлагает. Чую я сердцем — святым угодником будешь.
466
Мужчина что-то пробубнил, но так тихо, что мы с Санькой не разобрали. Его ответ почему-то рассердил Чмышиху, и она вдруг заговорила сурово и властно:
— Тогда иди! Поклонись антихристу! Думаешь, он простит тебя? Еще раз говорю — один бог милостивый простит, все в его руце. В молитве и посте ищи спасения. Вот тебе и весь мой сказ. А теперь иди, подышал и иди. Мне тоже пора на отдых.
Удирать нам с Санькой было поздно — брякнула щеколда. Довелось лечь там, где сидели, прямо в крапиву. По тропке мимо нас проплыла Чмышиха, огромная и тяжелая, как стог. Немного обождав, пока все стихло во дворе, мы тоже отправились по домам.
Идем, скребем обожженные крапивой руки и ноги, ломаем головы и ничего понять не можем, что это за брат такой у Чмышихи? Если он и вправду ей брат, так и жил бы у сестры, а то забился в какую-то юдолю. И что это за юдоля?
На другой день, еще до завтрака, вспомнив ночной разговор в Афоньковом дворе, я, как пиявка, пристал к бабке с расспросами про Чмышихиного брата.
— Какой брат? — удивилась бабка. — Нет у нее никакого брата.
— Ну как же? — вмешался отец. — А Пилип?
— Тот, что в чужое село в приймы ушел? — переспросила бабка. — Так нету его. От сыпняка в запрошлый год помер. Сама она говорила.
— А вот у Афоньчихи живет ее брат Евсей, — сказал я.
Отец только рукой махнул:
— Разберешь их, этих святых. Они все один одного братьями и сестрами называют. У них мода такая.
— А что такое юдоля? — обратился я уже к отцу.
— Юдоля? — задумался он и стал вспоминать, как это когда-то им поп в классе объяснял. Будто бы то же, что и доля, только немножко не такая. А мы с Санькой думали, что это подземелье какое-нибудь с сороконожками. Словом, без попа и не разберешь. И на что это мне? Может, и я в попы собираюсь после семи классов?
Пришлось все рассказать, что мы с Санькой слышали под
467
Афоньковыми воротами. Только зачем нас там, как бабка говорит, черти носили, я не признался. Отец, который до этого разглядывал подошву своего рваного сапога и прикидывал, куда б это забить еще хоть один гвоздь, поднял голову.
Та-ак! — с интересом протянул он. — Не мешало бы на этого «брата» поглядеть.
— Нужен он тебе! — накинулась на него бабка.
— Да мне он не нужен, — отвечал отец. — А Колдобе, может, и понадобился б...
Я прямо не знаю, что и думать.
На «брата» Евсея и верно не мешало бы поглядеть. Его взяли прямо среди дня в воскресенье. Афоньчиха наделала шуму, и к ее хате сбежалось пол-улицы. Мы с Санькой явились туда, когда Колдоба, теперь уже в милицейской форме, вывел «святого» с помощью мужчин на улицу. Все так и ахнули:
— Афонька!
Мы его сперва и не узнали: огромная всклокоченная борода, на голове, патлы до плеч, и из этой сплошной кудели блестят испуганные злобные глаза.
Любопытные бегали в хату поглядеть,. где он прятался. Не обошлось там и без нас. Хата как хата, довольно чистая, прибранная. На стене плакат, нарисованный цветными карандашами: «Бог есть любовь». А под печью глубокая, как погреб, яма. И стены в яме обложены кирпичом, даже побелены. На дне постель: одеяло и сенник. На одеяле толстая засаленная книжка. Санька сказал, что Библия. И сороконожек, на которых «брат» жаловался Чмышихе, вправду много. Вот она какая Афонькова «юдоля». Если половицами закрыть, так в сто лет не догадаешься.
Министриха, Назара Михейчикова женка, узнала в сенцах свою супоньку, которой перевязана была кошелка, брошенная, когда она удирала от вурдалака. И загомонила улица:
— Так это он? Вурдалак?
Когда мы с Санькой выскочили со двора, в заулке творилось невесть что. Афонька, сплевывая кровь, испуганно при¬
468
жимался к забору. Его держали за руки двое мужчин, а мой отец старался вырвать у Министра кол.
Назар! Назар! — просил он. — Судить будут эту сволочь. Успокойся, говорю я тебе. Закон без тебя разберется.
Увидев нас, отец крикнул со злостью:
— Марш отсюда! А то еще в горячке и вам попадет.
Наконец со двора вышел Колдоба весь в кострице и паутине. Афонька даже голову в плечи втянул, когда увидел, что участковый вынес.
— Ишь как запаковал! И смазать не забыл,— показал Максим мужчинам немецкий автомат. — И патрончиков при- запас. Под стреху, гад, спрятал,
— Должно, он тебя из этого тогда на кирпичном угостил, — сказал кто-то из мужчин.
— Да, наверно, — согласился Колдоба.
Когда Афоньку вели в сельсовет, мы старались держаться поближе к дядьке Максиму. И хорошо сделали: Сонька и Катя из Глёчихинова двора видели, как мы вели этого вурдалака. Жаль, что Колдоба немецкий автомат не дал нам нести — было бы еще лучше.
Моя. бабка всему этому происшествию очень дивилась.
— Вот тебе и вурдалак, — все приговаривает она. — Значит, покуда самой не было, по кирпичному шатался, а пришла сама — прилетела и сова. Это же сколько он просидел под печью? Два года?..
Узнав, что нашлась Министрихина супонька, старуха у меня спросила:
— А мой хрэнч ты там не видел?
И НАС ПРОВОЖАЛИ С ПЕСНЯМИ
Приезжий фотограф снял наш класс на память об окончании семилетки. Целую неделю мы с нетерпением ожидали карточек. Особенно волновались девчата. Но, по секрету говоря, п нам с Санькой здорово хотелось скорее посмотреть, какие мы там вышли красавцы.
И вот посмотрели. Лучше всех вышли девчата. У каждой,
469
как говорится, губы бантиком. Сонька пустила на лоб симпатичный завиток, у Кати откуда-то родинка на щеке взялась, которую просто так, не на фотокарточке, среди веснушек и не заметишь. Ганка Пыршева выставила напоказ руку с сестриными часами. Умеют подпустить форсу.
А хлопцы, хлопцы! Каждый будто аршин проглотил: такие важные, такие строгие. Смык сычом надулся.
Хлопцы стоят, ниже сидят девчата, в центре — учителя, а мы с Санькой лежим голова к голове и своим несерьезным видом портим торжественный момент. Мы забыли помочить водой свои чубы, и они топорщатся во все стороны. Санька, чтоб не захохотать, скривился, будто зеленой антоновки откусил, а у меня все зубы блестят на солнце. На нас напал пустосмех. Когда фотограф спрятался под черную материю за аппаратом, мы вспомнили, как наш Глыжка в детстве прятался от козы- дерезы под бабушкин фартук.
Одним словом, была бы хорошая фотокарточка, если б не мы с Санькой. Бабушка дома на нее посмотрела и покачала головой.
— Все люди как люди, а вы и тут ветрогоны.
А отец, довольно похмыкивая, долго изучал мое свидетельство* Пускай, пускай читает — там ни одной тройки, кроме как по пению, потому что я как запою, так можно подумать, что барана режут. Но мне в певцы не идти.
— Садись, сын, поговорим,— наконец пригласил меня отец за стол, и по тому, как это было сказано, как нервно барабанили его пальцы, я сразу понял, что разговор будет мужской.
Отец, видно, не знал, с чего ему начать, все вертел в руках бумагу, кашлял в кулак, наконец бросил на меня из-под густых бровей быстрый взгляд и спросил:
— Ну, куда ты думаешь дальше податься?
Куда податься, мы с Санькой уже давно надумали. Разумеется, не в восьмой класс. Об этом и говорить не приходится. Ухнула из-за войны наша с Санькой десятилеточка. Когда ее теперь откроют, неизвестно. Да если б и открыли, что толку? Из всего нашего большого села, да еще из нескольких поселков на фотокарточке седьмого класса всего шестнадцать чело¬
470
век. И эти разбегутся кто куда. Некому у нас учиться в восьмом классе, хоть ты его открывай, хоть не открывай. А в город не набегаешься. Ни штанов путных, ни обутки. Да и не вековать же на отцовской шее.
— Ты послушай меня, глупого, — снова заговорил отец. — Сам я всего три зимы в церковноприходскую школу походил, а на четвертую твой дед-покойник меня не пустил. «Хватит, сказал, лапти драть». Тогда такое время было: учись не учись, а если ты от косы, то к косе и придешь. Теперь, как это в песне поется, молодым везде у нас дорога. Только что это за дороги после войны, ты сам видишь. И достаток наш видишь: что у нас, то и на нас. Кабанчика продали, потому что надо коровой разжиться. Крутись как хочешь. Вот я тебе и советую. Не гоню в шею, а только совет даю: иди пока что работать. Заработай хоть себе на костюм какой-нибудь, и то мне легче будет. А там гармонику захочешь. Я понимаю, хлопцу нужно. Заработаешь — покупай. А когда в солдаты пойдешь, оно само покажет... Хочешь учиться — иди учись. Только прямо тебе скажу — не помогу. Короткие у меня штаны. И его вон надо еще растить и учить, — кивнул отец на Глыжку, а потом и на бабку, — и она уже не работник.
— Ты только обо мне не больно печалься,—не очень приветливо отозвалась бабка от печи.
Отец промолчал.
— Костюм и гармошка—это здорово. Важной был бы особой на погулянках у Язепихи... Только мы с Санькой пойдем учиться на офицеров.
— На офицеров? — удивился отец.
— На офицеров.
— Что ж, хорошо,— согласился отец.— Только гляди, военная служба — не дружба. Думаешь, нацепишь погоны и уже ты пан-барон? Нет, брат, доведется и мозоль заработать, и потом умыться, и начальству уважить. Одно скажу — будешь человеком.— А потом не то в шутку, не то всерьез попросил: — Выбьешься в чины, в полковники или в генералы, так не забывай уж и цас, грешных, с бабой.
— Не бойся* не забуду,— заверил я.
— А-а*—махнул рукой отец.— Все так говорят, а потом не
471
успеет иной землю из-под ногтей выковырять, а уже отца с матерью не узнает. Сосед — и не подходи!
«Наше» училище недалеко, в городе, где раньше сыпнотифозный госпиталь был. И едем мы туда еще не насовсем, а только сдавать экзамены. Потому и проводов особенных нету. Может, еще назад прибежим. Бабка из новой муки испекла мне пресный корж и завернула в чистую тряпочку. Это на дорогу. Да и там, верно, нас еще разносолами потчевать не будут. Санька набил сумку от противогаза яблоками. И вот мы вышли на улицу. Бабка за калиткой за рукав остановила.
— Не увидимся мы с тобой больше, внук,— начала она сморкаться в свой замусоленный фартук.— Помру я нынче, хоть на похороны приезжай...
— Что ты, баб? — удивился я.— Увидимся. Я ж только на экзамены, а к вечеру дома буду. Да, может, еще и не сдам.
— Сдашь, сдашь,— успокоила меня бабушка.— Ты все сдашь, ты крутомозгий.
— И не помрешь ты еще,— перебил я ее.
— А что мне тут больше делать? — спросила бабка. — Ты на свой хлеб идешь, Григору я уже тоже не нужна, батька не сегодня-завтра оженится. А я... я все свое на этой земле сделала. Только вот рубахи смертной еще не справила...— И уже не попросила, а строго приказала: — Гляди ж, может, сегодня уже и назад не пустят, так, коли почуешь про меня, так чтоб приехал.
Подогнал батя подводу. Он сегодня снопы в колхозе возит, да дома кнут забыл.
— Ну, садитесь,— пригласил он нас с Санькой,— подвезу за село. Пусть уж Нинка лается не лается...
А Глыжка без приглашения сел.
— Так гляди ж! — крикнула бабка вслед.
Бойко бежит Буянчик, бьет себя по бокам хвостом, отгоняя оводов. Мягкую, как пепел, пыль из-под колес ветер стелет по придорожной траве. Повозку подбрасывает на выбоинах, и голос отца от этого дрожит.
— Эй, ты! — подгоняет он Буянчика.— Артачишься, волчье мясо. Выкарабкался из коросты, задрал хвост!
Я помню, каким был Буянчик три года назад, уж такой
472
горемычный, что смотреть не на что было. А теперь, как говорит батя, выкарабкался. И вовсе не плохой конь. Повозили мы с ним, попахали, хоть и не вышел из него скакун.
Мы едем той же дорогой, по которой я когда-то вез из больницы дядьку Андрея. .Вот у этих верб мы тогда с Буянчиком хлебнули горя. Вербы тоже яодросли, стали кудрявые, густые.
— Так глядите же там,— учит нас с Санькой отец, как сдавать экзамены.— Не порите горячку. Подумай хорошенько, а тогда уже рот раскрывай. И главное — смелее.
За селом нам встретилась Глекова Катя. Она шла из города с кошелкой за спиной. Нынче Глёки купил себе корову, так, верно, носила на базар молоко. Увидев нас, Катя почему-то растерялась, покраснела, опустила голову и даже глаз не подняла. Так и простояла, сойдя с дороги, пока не проехала подвода.
— Дурных людей встретите, так не заводите с ними дружбы. Видите, что на недоброе подбивает,—в сторону от него,— снова завел отец разговор.— Словом, не будьте тюхами-матю- хами, а головой думайте, как жить, чтоб и себе было хорошо, и товарищу.
Я думаю головой, только не о том, что отец говорит. Я думаю про Катю. Так и не проводил я ее домой. Все собирался- собирался, и не получилось. Хоть тут попрощаться надо было, а то, может, и правда назад не приду. Да как ты попрощаешься, когда батя рядом?
Украдкой от всех я обернулся назад. Катя уже на пригорке. Заслонившись рукой от солнца, она смотрит нам вслед. Только я повернул голову — будто испугалась, подкинула ловчей на плечо кошелку и заторопилась в село чуть не бегом. Долго видна была ее белая косынка и линялое платьице, которое подарили еще в школе.
Если меня примут учиться на офицера, так оттуда я ей напишу. А потом, как Юрка, на каникулы приеду. Тогда уж не побоюсь проводить.
— Ну, бывайте,—сказал наконец отец.—Не сдадите, так не горюйте. Возвращайтесь домой. На хлеб заработаем.
Свою шершавую руку, как большой, протянул нам с Санькой по очереди и Глыжка. Загорелый, голенастый, он совсем вырос
473
из штанов. Ему, как и бабке, видно, не верится, что мы можем вернуться домой, поэтому он нос повесил и готов заплакать. Так и поехал назад с батей, почему-то обиженный и насупленный. Не горюй, брат, пусть тебя кто пальцем тронет, приду домой в форме, так получит от меня сполна.
Наше село осталось за взгорком, но еще видны вершины школьных тополей и старых лип на кладбище, где лежит моя мать. Все дальше и дальше пылит подвода. Вот и не видно уже выгоревшего отцовского картуза — он скрылся во ржи. Мы с Санькой разулись, чтоб было легче, связав за шнурки, перекинули ботинки через плечо и направились к элеватору. Придем в училище, там и обуемся.
А вскоре нас провожали опять. Только теперь, как и в солдаты, с песнями.
Петр Павленко
1
В середине июля в гараже, где работал Емельянов, состоялось экстренное собрание. Надо было отправить в степь, на уборочную, пять грузовиков с водителями. Решали, кому ехать. Андрей Емельянов вызвался первым. Недели две назад умерла его жена. Андрей и его десятилетний сынишка тяжело переживали потерю. Заведующий гаражом, ценивший Емельянова как толкового работника, предложил ему вне всякой очереди отпуск и обещал устроить сынишку в пионерский лагерь, но Андрей не мог ни расстаться с мальчиком, ни наладить жизнь без жены.
А тут предложение ехать на уборочную — новые места, новые люди, напряженный темп жизни,— и он вызвался первым.
477
— А Сережка как же? — спросила комсорг гаража Вера Зотова.
— С собой возьму, пусть привыкает к колхозной жизни,— коротко ответил Емельянов.
Выступать решено было колонной не позже четырех часов утра, чтобы успеть «позоревать», как говорили когда-то чумаки, то есть пройти зорькой горные дороги и миновать степную полосу до полдневной жары.
Всю ночь Андрей провозился в гараже, латая камеры, заливая горючее, припасая на всякий случай мешки и веревки, и забежал к себе собрать вещи всего за час до выступления колонны.
Сережа, с вечера предупрежденный об отъезде, спал, не раздеваясь, на отцовской постели, положив под голову рюкзачок с бельем, заботливо приготовленный соседкой Надеждой Георгиевной, подругой покойной матери.
Андрей подхватил спящего сына одной рукой, чемодан — другой и, не запирая комнаты, побежал в гараж.
От шума заводимых и проверяемых моторов и крика водителей Сережа проснулся и захныкал. Ехать с отцом ему очень хотелось, но он еще никогда не выезжал из родного города, и было страшновато от неизвестности, что принесет ему дорога. Впрочем, он быстро успокоился. Водители все были знакомые; они ласково окликали его, хваля за то, что он едет с ними в дальний рейс, и уверяли, что там, в степных колхозах, куда они направляются, нынешний урожай скучать не даст.
Вера Зотова потрепала его за подбородок и, как всегда, сказала неприятность:
— Вытри нос, а то смотри, уплывает...
Заведующий гаражом, толстый, усатый, суетливый Антон Антонович, произнес напутственную речь, Зотова прибила к борту каждой машины плакат: «Все на уборку урожая!» — и к смотровому стеклу своей машины прикрепила еще букетик левкоев.
— Ордена и медали надели? — громко спросил Антон Антонович.— Не срамите там себя, держитесь как подобает. Емельянов, веди колонну! Ну, в добрый путь!
Отец отпустил ножной тормоз, включил первую, затем вто¬
478
рую скорость, а когда выехали на шоссе — перешел на третью.
— Как там, не отстают наши? — спросил он сына.—Поглядывай время от времени.
Встав коленями на сиденье, Сережа поглядел в заднее стекло кабины. Колонна проходила главную улицу города. Вот остались позади городской сад, киоск фруктовых вод, клуб на углу.
— Идут,— сказал он, и вдруг слезы, независимо от его воли, ручьем полились по лицу, и, неловко обняв отца за шею, он спросил: — Пап, а мы домой-то вернемся?
— Куда ж мы с тобой, Сергунька, денемся! Конечно, вернемся,— грустно улыбнувшись, сказал отец.— Ты дом-то наш любишь?
— Люблю,— ответил Сережа.
Не было у него на свете никого дороже матери, и, когда не стало ее, вещи их комнаты и места в родном квартале, где он бывал с нею, ежечасно напоминали ему о покойной и как бы сохраняли ее незримое присутствие рядом с ним. Их вещи как бы многое знали о нем самом, Сереже; ему ни за что не хотелось уезжать куда-нибудь насовсем, где все было бы чужим и необжитым...
— А не мобилизуют? — опасливо поинтересовался он, на минутку переставая плакать.— Дядя Петров говорил в гараже: замобилизуют нас до окончания той... уборки, что ли.
— Да хоть и мобилизуют, подумаешь! Всего две недели каких-нибудь! — успокоил его отец таким искренним тоном, что Сережа сразу же поверил ему.— Зато поездим мы с тобой, новых людей повидаем, урожаю порадуемся. Нынче, брат, урожай замечательный! Радость людям.
— А ехать нам далеко? — оглядываясь на колонну, уже оставляющую пределы городка и поднимавшуюся по извилистому шоссе в горы, где он еще никогда не бывал, спросил Сережа.
— К Перекопу. Слыхал небось?
— Это где Фрунзе был?
— Вот-вот. Там, брат, и в нынешнюю войну повоевали! Говорили мне, всё, как есть, осталось, и пушки, танки битые...
— А каски есть?
479
— Это уж обязательно.
—* Хорошо бы нам, пап, каску достать, да еще флягу... или автомат.
— А что ж, вполне свободно возьмем. Понравится нам какая пушка, мы и ее забуксируем.
— Пушку-то, наверное, милиция отберет,—вздохнул Сергей и, совсем уже успокоившись, погрузился в размышления о том, на какие трофеи с полей сражений ему придется обратить особенное внимание.
Солнце еще не взошло, и вокруг было темно, как перед ужином, когда мама не зажигала свет, чтобы не налетели комары, и только на востоке небо раскалилось докрасна, почти до пламени. Сейчас оно вспыхнет, задымится, и в образовавшуюся дыру, как в прореху, выглянет солнце. Но горы и море пока дремали. Море точно заледенело, и казалось, по его ровной, белесо-сизой глади можно было пробежаться, как по асфальту.
А горы — горы выглядели сонными птицами, когда, спрятав голову под крыло, они замирают на ветках, потеряв весь свой птичий облик, похожие на крупные сосновые шишки.
Горы свернулись калачиком, спрятав свои ущелья, долины и скалы, и оттого стали маленькими и скучными.
Взбираясь на перевал, шоссе запетляло так круто, что дорога открывалась всего на каких-нибудь двадцать метров, а потом пряталась за выступ горы, и нельзя было ни увидеть встречные машины, ни уследить за своей колонной.
Сергей решил пока что присмотреться, как отец правит,— в глубине души он был уверен, что и ему выпадет случай прикоснуться к рулю во время уборки хлеба, когда все будет стремительно и отважно, как на войне. Дома все как-то было некогда заняться отцовой машиной: то он считался маленьким, то начал ходить в школу, да и мама побаивалась машины.
Сережа стал внимательно рассматривать своего отца и должен был признаться, что тот сразу понравился ему как водитель. Не то что Вера Зотова, которая сидела, как за швейной машиной. Андрей Васильевич вел грузовик небрежно, положив голые по локоть руки на крестовину рулевой баранки. Сидел он не пряма, а скособочась и часто поглядывал до сторонам, точно вовсе не интересовался дорогой, но пальцы рук его бы¬
480
ли напряжены, и руки — сильные, загорелые и мускулистые — ходили у него как бы сами собой.
— Это ты что сделал, папа?
— Подсос отрегулировал.
— А это?
— На холостой перешел.
— А что это такое — холостой?
— Знаешь, Сергей Андреич,— засмеялся отец,— ты мне сейчас не мешай, дорога — никуда: секунду не рассчитал — разобьемся. Ты поспи, сынок,— привыкай спать в машине. Кто в машине не спит —не шофер.
А Сергею, как назло, не хотелось спать именно сейчас, когда его отец шел в голове колонны и можно было, пользуясь этим, оглядываться назад и критиковать водителей за то, что они отстают или, наоборот, чересчур напирают на головную машину. Он несколько раз даже высовывался в открытое окно кабины и махал им рукой, пока отец не заметил, что так не принято: шоферам рукой не машут, а нужно сигналить, но что и в этом сейчас никакой нужды нет.
Сергею казалось, однако, что отец просто-напросто стесняется своей власти, что ему, молодому, неудобно командовать более старшими, хотя он, впрочем, и бывший сержант и носит орден Красной Звезды. Сергей не одобрял этой скучной скромности, хотя и смолчал.
За Емельяновым шел Егор Егорыч Петров, которого все в гараже звали дядей Жорой. Даже покойная мама, недолюбливавшая шоферов за лихость, и та всегда была почтительна с Петровым. У него было две медали, и он, считался человеком справедливым, рассудительным. Петрова на всех собраниях обязательно выбирали в президиум, а он всегда отмахивался.
За дядей Жорой шел Петя Вольтановский, бывший танкист, с тремя боевыми орденами и множеством медалей, самый веселый из знакомых Сережи. О нем мама говорила, что у него мозги в ногах. За Вольтановским тянулся пожилой Ерёмушкин, всегда с цигаркой во рту, молчаливый и мрачный человек, а замыкала колонну Вера Зотова, комсорг гаража, мамина любимица. Она не имела орденов, но окончила техникум, и образование у нее было, как говорили, почти что высшее.
481
Когда была жива мать, Вера дневала и ночевала у Емель^ яновых, и Сережа привык к ней, хотя и не особенно любил ее. Она все время вела какие-то кампании и только о том и говорила, что у нее одни лодыри и лентяи и что она, в конце концов, «погорит» из-за них. Сергею в глубине души очень хотелось поглядеть, как это так можно «гореть» без огня, но, когда однажды, хитро улыбнувшись, он попросил Веру скорее «погореть», она отшлепала его на глазах у матери. Вера выступала на собраниях, была агитатором, писала в стенную газету.
И все-таки старше всех был отец. Покойная мать часто говорила соседке Надежде Георгиевне, что у него голова — огонь, и при хорошем образовании он давно был бы завгаражом или механиком. Сережа помнил, как прошлой зимой отец занимался по вечерам, а мама была за учительницу. Раскрыв книгу с чертежами и цифрами, она строго спрашивала у отца урок, а тот, едва шевеля губами от усталости, всегда отвечал невпопад.
Мама ужасно из-за этого огорчалась, и Сергею было жаль отца и обидно, что тот плохо учится.
Но на отца никто не мог долго сердиться, даже Вера Зо- тов;а. Он был веселый человек. То смастерит, на удивление всем, какую-то трещотку для огорода — «антидроздовик», как он говорил, или сделает игрушечный ветряк для Сережи, или летающую модель самолета, любоваться которой сбегались мальчишки со всего квартала.
А как он ловко собирал кизил, когда осенью на выходной день всем гаражом ездили в горы! А как он хорошо умел петь под гитару!
Мама, милая мама, которой больше уже нет и никогда не будет, часто говорила, что отец покорил ее песнями.
Сама она не пела, у нее болело горло, но слушать песни могла целыми днями. Дома у них был маленький самодельный приемник, и, когда передавали концерт из Москвы, мама обязательно звала Сергея: «Послушай, маленький, это кто
поет?»
Скоро Сергей научился узнавать голоса всех известных певцов и никогда не ошибался, верно называл по первым же тактам — Козловский это или Александрович.
Сережа глубоко вздохнул и почувствовал, что у него про¬
482
тивно засосало под ложечкой и немножко зарябило в глазах. «Наверное, укачиваюсь»,—со страхом подумал он.
Дорога в самом деле ужасно завиляла и завертелась.
Она бежала между горами и морем, то карабкаясь вверх, то стремглав летя вниз, и, где-то нечаянно зацепившись за мостик на крутом повороте, опять упрямо стремилась вверх, заглядывая за очередную гору.
Сергей никак не мог представить себе, где и как тут живут люди и что они делают.
Размышляя о неуютности гор для жизни человека, Сергей, вероятно, вздремнул, потому что когда он вновь что-то увидел перед собой, то не сразу даже понял, что это. Они спускались с перевала к узкому заливу, на берегу которого, далеко-далеко внизу, громоздился — дом на дом — небольшой поселок. Он был так невелик сверху, что, казалось, его можно схватить в охапку.
Солнце лежало, положив свой подбородок на горизонт, и всем своим веселым кругом уже светило и грело так жарко, что было больно глазам.
Скалы и горные холмы, то ярко освещенные, то скрытые легкими полутенями, то и дело менялись в цвете, будто во что- то играли между собой. Вдали, за холмами у залива, почти сливаясь с небом и как бы составляя его часть, воздушно синели таинственные горы. Их было много. Они сбегались отовсюду. Они скакали навстречу или, отступив от дороги, пересекали путь напрямую, забегая со стороны.
— Пап, а где ж земля? — спросил Сергей и ахнул.
Грузовик, круто выскочив на улицу курортного городка,
промчался мимо рыбачьих баркасов, разложенных на берегу сетей, мимо ранних купальщиков и еще закрытых нарядных киосков.
А потом снова пошла горная дорога. Приближался главный перевал. Сергею было страшно интересно: как же это они будут перелезать через горы и что окажется по ту сторону их?
— А там тоже море, куда мы едем? — спросил он.
Отец сказал, что за перевалом пойдут предгорья с широкими долинами в густых фруктовых садах, а за ними, часа через два, откроются гладкие, как стол, степи, сплошь в золотых хлебах.
483
-г- А как же горы и леса?
— А горы кончаются, и леса не будет,— коротко ответил отец.
Трудно было понять, как это могут кончиться горы, которых такое множество, что, казалось, их хватило бы на целую неделю пути, и почему не будет леса на ровном месте, хотя там, наверное, легче ему расти, чем на крутых каменистых склонах, где все время дует ветер.
Сереже многое еще хотелось узнать, но он не решался спросить.
Теперь, когда машины повернули к перевалу, море осталось позади, и перед глазами стоял шумный горный лес. Он был в движении, точно старался высвободить из земли свои корни и разбежаться куда глаза глядят. Гнулись молодые дубки, раскачивались сосны, трепетали кусты кизила и ежевики, и на поворотах свежий ветер с такой силой влетал в кабину, что у Сережи каждый раз сдувало с головы тюбетейку.
Такого леса он еще никогда не видел. Тот маленький лесок возле их города, куда несколько раз водила его мама, был ласково-теплый. и без всякого ветра. Мама собирала там шишки для печки, а он играл ими, как солдатиками. Когда набирался- полный мешок, они укладывали его на тележку с колесами на шарикоподшипниках и везли домой. Тележка убегала вперед по спуску, и они едва поспевали за ней, гудя на поворотах в кулак, чтобы на них кто-нибудь не наскочил.
С мамой все как-то было гораздо милее и интереснее, без нее же многое совсем не привлекало Сережу.
Никогда бы, например, он не полез один в гущу этого горного леса, хотя бы и за шишками, никогда бы не остался один на этом шумном ветру, от которого противно ныло в ушах.
— Ну вот и перевал! — произнес отец.— Тут мы, сынок, маленько передохнем. Устал, а?
Сереже было стыдно сознаться, что он действительно притомился, хотя ничего и не делал.
— Что ты! Я так тысячу лет могу ехать! — лихо сказал он, зевая и потягиваясь, и остановился на полуслове.
Все, кроме неба, было теперь внизу. Море где-то далеко то¬
484
нуло в солнечном тумане, а четкие резные горы были так близки, что хотелось дотянуться рукой до их острых гребней. Вся земля как будто кончалась небольшим холмиком у дороги, где стоял дом с широким балконом и с разноцветными зонтиками перед ним.
Колонна Емельянова съехала с шоссе; водители приподняли капоты, отвинтили пробки радиаторов и прилегли на траве, в тени густых дубков.
— Эх, беда бедовая, я ж с собой ничего не взял! — виновато сказал Емельянов, увидя, что дядя Жора раскладывает подле себя помидоры, огурцы, яйца и хлеб.
Со своей обычной строгостью Зотова приказала Сергею: «Иди садись к дяде Жоре, съешь яичко», будто все, что вез с собою Егор Егорыч, было ее собственным.
Сереже не хотелось прикармливаться у чужих, чтобы не срамить отца, и он отказался. Но Зотова молча взяла его за РУКУ» усадила рядом с дядей Жорой и положила ему в руки ломоть хлеба и крутое яйцо. Сережа знал, что спорить с ней невозможно. С Зотовой и шоферы не спорили.
Он очистил яйцо, потыкал им в щепотку соли и стал есть, как Егор Егорыч, держа ладонь у подбородка, чтобы не уронить ни крошки.
Водители тем временем покурили, подлили воды в радиаторы, осмотрели скаты и, перед тем как тронуться дальше, поговорили о хлебе.
Дядя Жора сказал, что хлебом все завалено, и Зотова сейчас же заметила, что это головотяпство: зерно надо сдавать прямо с тока, не задерживая ни на минуту. Дядя Жора хотел что- то ответить ей, но только пожевал губами, а Вольтановский, зевая до слез, сказал, что было бы только что сдавать, а они, шоферы, не подкачают, потому что хлеб убирать — красивое дело.
—■ Загоняют только, вот что обидно,— прокашлял Ерёмуш- кин и пошел к машине.
Отец был задумчив, но словам старика улыбнулся.
— Однако поехали, хлопцы, день нас обгоняет, вижу я... Прощайся с морем, Сергунька,— сказал отец,— теперь ты его долго не увидишь.
485
В самом деле, не успели спуститься и на два поворота, как лес заслонил море, точно его никогда и не было. Приоткрылись горные долинки, предгорья, сады. Рядом с шоссе зашумела в узкой стремнине речка. Она бежала по камням, то перелезая через них сверху, то обходя с боков, и казалось иной раз, что не вода стремится меж камней, а сами камни скачут вниз, разбрызгивая вокруг себя мешающую им воду.
Лес осторожно, бочком спускался с гор и где-то вдруг отстал от машины. Пошли сады. Замелькали стаи птиц. Раскинулись бахчи и огороды.
— Это уже степь, папа?
— До степи, сынок, еще далеко. Спал бы ты, а?
— Да что я — все спать и спать! Так и просплю самое интересное.
— Если что будет, разбужу.
— Ну, тогда буду,— согласился Сергей.— Я уж совсем как шофер сплю, папа. Верно?
— Верно, сынок. Из тебя, я уж вижу, заправский шофер выйдет.— Андрей Васильевич вздохнул и запел, но, испугавшись того, что делает, сразу примолк.
Сергей еще раз взглянул на то, что открывалось его взгляду. Впереди, за нисходящими грядами садов и огородов, выглядывали белые меловые взгорья. Где-то за ними и была, очевидно, степь.
«Насмотрюсь еще на нее»,— подумал он и свернулся калачиком на сиденье.
2
Была уже глубокая ночь, когда колонна, поднимая за собой тучу пыли, въехала на улицы спящего степного колхоза.
Отец с Верой Зотовой пошли разыскивать уполномоченного по хлебозаготовкам, третьи сутки не покидавшего здешнего тока, а Сергей с остальными остался при машинах.
Долгая тряска по раскаленной степи утомила его ужасно. Степь в июльский полдень была невыносимо душна, воздух был горяч и противно дрожал в глазах и еще противнее верещал голосами цикад. До сих пор у него звенело в ушах и хоте¬
486
лось пить. Он почти не запомнил степи, да сейчас и не жалел об этом.
Осторожно вылезши из кабинки и размяв затекшие ногп, Сережа прошелся вдоль машин. Ночь была сухая, жесткая, без прохлады, и беспокойный звук цикад еще стоял в воздухе, сливаясь с отдаленным лаем псов и криком лягушек в какую-то раздражающую мелодию. Казалось, воздух скребут жесткими щетками. Летучие мыши, как черные молнии, мелькали у его лица. Ему стало не по себе.
— Дядя Жора, а дядя Жора! — тихонько позвал он.— Не знаете, где тут у них напиться?
Из машины никто не ответил, и, обеспокоенный, не оставили ли его одного, Сергей встал на подножку и заглянул в кабину Егора Егорыча. Тот мирно спал. Потоптавшись в нерешительности, Сергей заглянул к Вольтановскому. Положив голову на баранку руля, тот тоже спал, по-детски поджав ноги. Храпел и Ерёмушкин.
«Заснули,— недовольно подумал Сергей,— а за машинами теперь я наблюдай, самый маленький, будто я сам не хочу спать. Я, может быть, еще больше хочу, чем они...»
И стал, как часовой, взад и вперед прохаживаться вдоль колонны, трогая рукой горячие крылья и скаты и тихонько посвистывая для смелости.
«Палку бы надо с собой взять,— пришло ему в голову.— Очень пригодилась бы».
Дома как раз была такая, очень удобная, палка, которой мама всегда выбивала тюфяки и одеяла, и теперь она там зря стоит за дверью кухни. Многие из их вещей после смерти мамы как-то ни к чему нельзя было приспособить...
На улице раздались шаги. Громкий и, как показалось Сергею, злой голос спросил из темноты:
— Это кто тут? В чем дело?
У Сергея перехватило дыхание. На всякий случай он поднялся на подножку отцовой машины и потянулся рукой к сигналу.
— Грузовики... на уборку,— сказал он, вглядываясь в под- ходившего человека.
— A-а, это хорошо,— тотчас же раздалось в темноте уже
487
гораздо добрее, и чья-то грузная фигура обозначилась рядом.— Это замечательно! Сколько?
— Три полуторки, две трехтонки.
— Очень замечательно! Откуда?
— С Южного берега,— уже гораздо смелее и развязнее ответил Сергей, сходя с подножки.— Жали на всю железку, торопились. Сейчас так спят, бомбой не разбудишь.
— Это ничего, это пускай, часа два можно,— добродушно согласился подошедший.— А ты у них заместо дежурного, что ли?
— Ага.
— Толково придумано. Старший кто у вас?
— Емельянов Андрей Васильевич.— Сережа хотел было тут же добавить, что это отец его, но удержался, посчитав, что незачем прикрываться родней.— Пошел к уполномоченному какому-то... за нарядом,— уже вполне независимо добавил он.
— Эх, вот это зря! — крякнул подошедший.— Надо было сразу же до меня! Что вы, порядка не знаете? Я тут председатель, все же от меня, через меня... вот же, ей-богу... и покормил бы и спать уложил... А уполномоченный что? Раз-два — и загонит так, что с милицией не найдешь. Зря, зря,— и заторопился, что-то бурча себе иод нос.
— Вода тут у вас далеко? — крикнул вслед ему Сергей, делая вид, что ему безразлично, кто тут старший, но ответа не разобрал.
— Если хочете, я вам принесу воды,— сказал кто-то тоненьким голосом.
Оглянувшись, Сергей заметил девочку лет восьми-девятц, в купальном костюмчике, с короткими, торчащими, как перья лука, косичками. Она стояла у левого крыла отцовой машины, смущенно почесывая одной ногой другую.
— Бадейка есть у вас? Может, свою принесть?
— Ведро есть.— И, молодцевато прыгнув в кузов, Сережа вынул из мешка и протянул девочке брезентовое дорожное ведро.— Смотри не зажиль: казенное,— предупредил он как можно строже.
— Буду я тряпичные ведра зажиливать! — высокомерно ответила девочка.— Сами пойдите — я покажу, где вода.
488
— Дежурный я,— ответил Сергей.— Колонну нельзя оставить.
Уй, такой маленький, а уже дежурный! — удивилась л даже как будто не поверила его словам девочка.
— А тебе сколько? — небрежно спросил он.
— Мне десять в мае справили.
— А мне десять в ноябре справили, в самые праздники. Подумаешь!
Взяв ведро, девочка скрылась, и тотчас послышался шум воды из уличного крана. Водопровод был, оказывается, в трех шагах.
— Будете в машину заливать? — И девочка с трудом приподняла ведерко.
Сергей принял от нее ведерко и поставил на землю.
— После,— сказал он, не вдаваясь в подробности.— Наготове чтоб была. Пусти-ка, я попью...
И пил долго, с прихлебом, всем своим существом показывая, до чего он устал на трудной и важной своей работе.
— Ну, вот и спасибо,— сказал он, напившись.
Девочка не выражала, однако, желания уходить. Опершись о крыло машины, она играла своими косичками и, позевывая, внимательно рассматривала Сергея.
— А вы на трудоднях или как? — наконец спросила она, подавив очередной зевок.
— Нам зарплата идет,— небрежно ответил Сергей.— Ну, за экономию горючего еще выдают, за километраж набегает кое- что... Ну, буду своих будить,— чтобы отвязаться от девчонки, сказал он.— Пока до свиданья.
— До свиданья,— ответила та, не трогаясь с места.— А только зачем их будить, когда еще ночь! Мои тоже еще не вставали, хра-пя-я-ят... Мамка у меня в огородной бригаде, отец — завхоз, а хата вся чисто на мне: и с курами я, и с готовкой я... А тут еще черкасовское движение подоспело... У вас тоже бывает?
— А как же! — солидно ответил Сергей и хотел было рассказать, как они со школой ходили на разбивку приморского сада, но девочка, не слушая его, продолжала:
— А тут еще пионерская организация, будьте любезны,
489
на уборку колосков вызывает! Прямо не знаю, как управиться!
Она говорила, подражая кому-то из взрослых, наверное матери, с некоторым как бы раздражением на свою занятость, на тысячи обступавших ее дел, но в то же время явно гордясь тем, что она такая незаменимая.
— А тут еще Яшка Бабенчиков вызов мне через «стеннов- ку» сделал — на шесть кило колосков. Ну, вы хотите верьте, хотите нет, а я шести кило за все лето не соберу. У нас так чисто убирают, прямо на удивление...
Она цриготовилась рассказать еще что-то, но Сергей прервал ее. Девочка ему, в общем, понравилась, и, чтобы закрепить знакомство, он спросил:
— Тебя как зовут?
— Меня? — удивилась она.— Зина,— и кокетливо улыбнулась, почувствовав в его вопросе интерес к себе.— А фамилия наша знаете какая? Чумаковы. А хата наша — вот она, номер четырнадцатый, самый центр.
Вдали послышался голос отца.
— Ну, пока до свиданья,— как можно решительнее произнес Сергей. Ему совсем не хотелось, чтобы о его новом знакомстве стало сразу известно отцу.
— До свиданья пока,— ответила Зина, продолжая стоять у крыла и почесывать левой ступней правую голень.
— Люди добрые, спите? — издали крикнул отец.
— Нет. Я дежурю, папа. Мне тут одна девочка воду принесла,— я думал, может, подольем в радиатор... Вот ведро,— скрывая некоторое смущение перед отцом, скороговоркой доложил Сергей.
— Ты, я вижу, сынок, тут без меня не растерялся,— сказал отец, не без удивления разглядывая Зину и одновременно гулко сося воду из ведра, поднесенного им к самым губам.— Ффу!.. Правильная установка. Здравствуй, хозяюшка!
— Какая же я хозяюшка, я просто девочка! — ответила Зина Чумакова.— А вот ваш мальчик, знаете, мне даже свою фамилию не сказал, а про меня спрашивал.
— Что ж ты, сынок, не представился?
— Да ну! — Сергей стеснялся девочек, знакомых среди них
490
у него никогда не было.— Еще представляться... Ну, Сережа я... Емельянов... пожалуйста.
Отец, залив воду, распорядился будить водителей. Тут Зина поняла, что сейчас уже не до нее.
— Пойду и я своих будить,— сказала она, зевая.— А тыу мальчик, завтра приходи с нами колоски собирать.
Сергей не решился вслух ответить ей.
«Колоски еще собирать! — подумал он недовольно;, хотя, в сущности, ничего не имел против того, чтобы пойти с ребятами на сбор колосков.— У меня своей работы хватит». Он услышал, как отец крикнул Чумаковой:
— А ты зайди за ним, хозяюшка! Он же новый у вас, не найдет ничего.
— Как с хатой приберусь, зайду,— тоненько донеслось издали.
Водители просыпались нехотя.
— Хорошо бы еще часиков шесть поработать над собой,— хрустя суставами и гулко зевая и отплевываясь, бурчал Воль- тановский.— Что там, Андрей, какие новости?
Отец наскоро объяснил, что вся их колонна остается в здешнем колхозе, что тут плохо с транспортом, а урожай гигантский, и завтра начнут сдавать первый хлеб.
— Значит, будет гонка,— сокрушенно заметил Ерёмуш- кип.— Ведь самое тяжелое — первый хлеб возить.
Включив фары и сразу далеко осветив спящую сельскую улицу, машины тронулись к току, где предполагалось переспать до утра. Когда машины, поднявшись на косогор, свернули к току и свет фар блеснул на лицах работающих у веялки девушек, раздались голоса:
— Браво, шоферы! Спасибо! — И кто-то захлопал в ладоши.
На ворохе соломы была уже разостлана длинная клетчатая клеенка, и две молодые колхозницы при свете нескольких «летучих мышей» расставляли на ней съестное. Россыпью лежали дыни, помидоры, лук и чеснок, в тарелках — творог, в баночках — мед; сейчас ставили сковородки с яичницей.
Председатель колхоза, тучный человек с узко прищуренными и оттого все время будто улыбаьощимися глазами, усаживал гостей:
492
— Дружней, ребята, дружней! На обеде все соседи!.. Муся, Пашенька, что ж вы? Приглашайте! Берите бразды управления!
Сережа думал, что председатель его не узнает, но тот, если и не узнал, сразу догадался, кто перед ним.
— A-а, товарищ ответственный дежурный! — как знакомого, приветствовал он Сергея.— Садись, садись!.. Твой, значит?
— Мой,— сказал отец, немного дивясь осведомленности председателя.— Когда же познакомились?
— Первую ориентировку я от него получил!.. Бери, товарищ дежурный, самую большую ложку и садись рядом с Мусей, воп с. той, с красавицей нашей...
Он подтолкнул Сергея к невысокой худенькой девушке, устало развязывающей белый платочек, которым было закрыто от солнца ее лицо. Видно забыв о нем, она проходила в платке до ночи, и теперь, когда она развязала его, глаза ее казались темными, точно глубоко запавшими внутрь на светлом, почти не знающем загара лице.
— Будет вам, Анисим Петрович,— произнесла она укоризненно и, взяв Сережу за плечо, посадила рядом с собой.
А председатель, никого не слушая, носился среди гостей.
— Наша передовичка! — говорил он, указывая на Мусю.— В Героини идет, в Героини! Гордость наша... К ста тридцати пудам подобралась...
— Будет, Анисим Петрович, и за сто тридцать,— сказала Муся* усталым движением протягивая коричневую руку за дыней.— А тебе чего: творожку или масла? Ешь, хлопчик, не робей.
Полная, румяная девушка, которую все называли Пашенькой, с лицом, которое, однажды расплывшись в улыбке, так навсегда и осталось смеющимся, прокричала председателю:
— Сейчас мы подсчитали с первого гектара! Располагаем, что к ста сорока...
— Ой, не загадывайте вы мне, дочки! —■ махнул рукой председатель.— Ешьте, дорогие гости, заправляйтесь, так сказать...
И, придвигая дыни и помидоры, раздавая вилки и ножи и поудобнее всех усаживая, он начал рассказывать об урожае и о том, что он первый в районе начинает сдавать хлеб д что
403
бригада Муси Чиляевой — самая передовая во всем районе, что о ней уже упоминалось в газетах и что дважды приходили из обкома поздравительные телеграммы на ее имя.
Зотова спросила:
— Комсомолка?
— Ясно,— строго ответила Муся, даже не взглянув на нее.
Отец, Петя Вольтановский и даже дядя Жора разглядывали Мусю без всякого стеснения. А она, ни на кого не глядя, ела дыню. Но Сергей чувствовал, что у нее сейчас тысячи глаз и что она все замечает. Вольтановский, тряхнув медалями, подсел к толстой Пашеньке. Зотова стала расспрашивать председателя об условиях вывозки хлеба. А дядя Жора, слегка закусив, привалился к Ерёмушкину, который молча что-то жевал с закрытыми глазами.
— Ешь, ешь, хлопчик,— сказала Муся,— да на утро что-нибудь припаси.
— А у меня ничего нет, чтобы припасать,— пожал плечами Сережа.
Муся отрезала два больших ломтя хлеба, густо намазала их медом и, положив один на другой, протянула Сергею.
— И батьку своего заправь с утра, а то наш как поднимет с зорькой...
— И подниму, Мусенька! Еще до зорьки подниму,— ответил ей все умеющий слышать председатель.— Тут, братцы, не до поросят, когда самого смолят. Верно? Первый в области сдаю — это раз; а второе — урожай замечательный, с ним нельзя долго канитель разводить, темпы утеряю. Вот вы слушайте...
Слышите?.. Это Алексей Иванович Гончарук со своим комбайном еще спать не ложился... То-то... Да вы сами, милые мои, сна лишитесь, когда завтра наш хлеб увидите.
— А на сдачу кто из нас поедет? — спросила Пашенька, из густых волос которой Петя Вольтановский, напевая песню, выбирал остья и соломинки.
Председатель долго не отвечал.
— Надо бы, конечно... — вздохнул он,— по всем данным, надо бы праздник... и Мусю, конечно, послать, да ведь как же вас с уборки снять!.. Надо бы!.. Весь цвет народа будет. Еще бы: первые в области!
494
— Я ж сказала — своего участка не оставлю! — раздраженно ответила Муся, и было понятно, что разговор этот велся не первый раз.— Ваш Гончарук столько зерна порас- трусит...
— Ну вот! Ну опять!.. Муся, не имей ты печали за рассыпку, поезжай сдавать хлеб!
Отец неожиданно поддержал председателя, сказав, что первый день сдачи — праздник, и Сергей заметил, как Муся порозовела и смутилась, однако не сдалась.
Только когда председатель обещал выслать на ее поле бригаду пионеров во главе с самим Яшкой Бабенчиковым (этот, видно, славился своей строгостью), она нерешительно стала склоняться к отъезду.
— А ты пойдешь с нашими мне помогать? — спросила она Сережу, и тот от счастья, что будет необходим ей, почти Героине, совершенно необдуманно согласился.
И тут же раскаялся: ехать с хлебом на ссыпной было бы, наверное, куда интересней. Он съел еще меду с огурцом, хотел было попросить дыни, но почувствовал — не осилит, встал, ощупью добрел до соломенного стожка и свалился в его пахучую мякоть.
Ночь в это время была уже тиха. Только изредка где-то очень далеко, в полях, постреливал мотор. «Ну, завтра посмотрю, что у них тут за степь»,— еще мелькнуло у него в сознании, и он уже не слышал, как отец прикрыл его своей курткой и прилег рядом.
3
В мире стояли блеск и тишина.
Сергей не сразу вспомнил, где он и что с ним. Главное, он был совершенно один, а вокруг него — степь.
Она играла золотыми оттенками убранных и еще дозревающих хлебов, стерни, соломы и ярко-желтым, колеблющимся огнем подсолнухов.
До самого неба со всех сторон шла степь, как золотое море. Это была совсем другая степь, чем вчера.
Хаты колхозов, будто крадучись, ползли по низу узенькой
495
балочки, из которой боязливо выглядывали верхушки густых садов.
Сергей долго сидел, сложа на коленях руки и не зная, за что приняться. Колонна, должно быть, давно уже снялась на вывозку хлеба, и кто ее знает, когда она будет обратно.
Сергей не знал, идти ли ему на село или поджидать отца на току. Отцова куртка лежала на месте, но рюкзак с полотенцем и мылом уехал с машиной. Большой ломоть хлеба, намазанный медом (второй ломоть исчез), лежал на листе лопуха рядом с курткой. Стайка пчел ползала по хлебу, ж, чтобы не раздражать их, Сергей стал осторожно отщипывать кусочки от ломтя. Пчелы не уступали. Они садились на кусочки хлеба у самых губ, любой ценой пытаясь отбить их от незваного едока.
Признаться, Сергей никогда не имел дела с пчелами и, как любой городской мальчик, побаивался их. Ему сейчас уже и есть расхотелось, а пчелы все кружились вокруг него, все угрожали, и, щурясь и морщась от страха, он стал отчаянно отмахиваться от них.
Вдруг что-то острое, как электрический ток, ударило его в палец, и ослабевшая пчела вяло свалилась с его руки. Белое пятнышко на месте укуса на глазах обросло опухолью. Сережа вскрикнул и, засунув палец в рот, побежал к селу.
— Сережка! Емельянов! — раздалось за его спиной, и вчерашняя Чумакова, все в том же купальном костюмчике, заменяющем ей летнее платьице, приветливо замахала ему рукой.— Бабенчиков зовет! Быстро!
— Бабенчиков? — переспросил Сережа, вынимая изо рта палец и пряча за спину.— Ну, так что? А Муся где?
— Будет тебе Муся колосками заниматься! — И с вызывающим высокомерием Зина повела плечами.— Муся на хлебосдачу уехала.
— Уехала? Как — уехала? — спросил Сергей.— Она же сама мне сказала, что останется и чтобы я помогал ей...
— Как же ей оставаться, когда первый день сдачи и товарищ Семенов даже нарочно сам приезжал на велосипеде!
— Это кто, председатель?
— Уй, какой: без понятий! Чего ему на* велосипеде срамиться, когда у него двуколка! Семенов — из райкома комсомо¬
496
ла. Ну, добежали, а то Яшка даст нам дрозда! — И, взяв Сергея за рукав курточки, она потянула его за собой.
Сергей отстранился.
— Меня пчела укусила,— как можно мрачнее сказал он.
— Боже мой, какие ж вы! — с искренним сожалением воскликнула Зина, переходя на «вы», что, вероятно, означало у нее высшее презрение.— Надо поплевать на землю и вот так, видите? — Иг поплевав на свои ладони и замешав на слюне щепотку земли, она обмазала укушенный Сережин палец, ласково приговаривая: — Они ж такие у нас смирненькие, никого не трогают, а вы, наверное, на них кинулись как угорелый, вот и попало.
Внимание растрогало Сергея, и он не прочь был поговорить о том, как бы отобрать у пчел недоеденный ломоть с медом, но тут в оконце сельской улицы показался сухощавый парнишка, в одних трусах на почти кофейном теле, исполосованном следами солнечных ожогов, царапин и синяков. Его малиновый чешуйчатый нос ярко выделялся на смуглом лице, выражавшем одно геройство. Сомнений быть не могло: это подходил Яшка Бабенчиков.
Он шел, оттопырив согнутые в локтях руки, как делают борцы — будто у него такие уж здоровые мускулы, что рукам некуда девать их,— и с интересом наблюдал, как Зина Чумакова врачевала Сережин палец.
В глазах его светилось явное пренебрежение.
— Откуда? — спросил он недружелюбно, будто и в самом деле не имел понятия о мальчике из автоколонны.
— А ты сам откуда? — в том же тоне отвечал Сергей.
— Я-то знаю откуда, а ты чей?
— А я ничей. Тебе какое дело?
Они стояли, как два молодых петушка, готовые к поединку.
— С колонной, что ли? — спросил Бабенчиков, склоняясь к мирному решению дела.
— С колонной.
— Так бы и сказал. Пионер?
— Пионер.
— А галстук где?
Сережа схватился за шею — галстука не было.
YI Библиотека пионера, т, 7 497
— Врать, вижу, мастер. За это знаешь чего?
По глазам Бабенчикова Сергей угадывал, что произвел дурное впечатление.
— У меня мама недавно умерла,— сам не зная для чего произнес он одними губами и сразу же устыдился сказанного: незачем было говорить о своем горе чужому.
— Так бы сразу и сказал,— смягчился Бабенчиков.— Колоски пойдешь собирать? Мы и беспартийных ребят берем.
— Конечно, пойду. В чем дело!
Яшка показал глазами следовать за ним.
Пионеры уже были в сборе. В широкополых соломенных брилях, в белых матерчатых шляпчонках, в треуголках из газет и лопухов, с сумками через плечо, а некоторые даже с флягами у поясов, ребята шумно обсуждали предстоящий им день.
Сергей молодцевато сбросил с себя рубашонку, завязал узлом подол и повесил эту самодельную сумку через плечо на связанных рукавах.
— Работает шарик! — на ходу похвалил его Бабенчиков и скомандовал: — Смирно! Звено Муси Чиляевой держит первое место,— сказал он, поводя растопыренными руками.— Надо стараться, чтоб она всех обогнала. Так? Теперь я вам такую задачку дам. В гектаре десять тысяч квадратных метров. Значит, если по одному колоску на метр, так сколько на гектар? Чумакова, скажи!
— Уй, я ж на тысячи еще не проходила! — воскликнула Зина испуганно.
— Кто скажет?
— Десять тысяч колосков! — Сережа крикнул это чересчур громко, но потому только, чтобы его не опередили.
— Точно. Ну, а если каждый колосок — грамм весу, то сколько всего будет кило?
Но тут уж никто не мог сказать, и бригадир, угрожающе пошмыгав носом, в конце концов сообщил, что всего будет тогда десять килограммов.
— Вот какая сумма получается от тех колосков! — нравоучительно закончил он.— Так что стараться со всем вниманием!
Слушая Бабенчикова, Сергей откровенно залюбовался им.
498
Это был мальчик лет двенадцати или тринадцати, с энергичным лицом, скуластым, но милым и даже немножко смешным благодаря облупленному носу и кособокому чубчику над расцарапанным лбом. Но в нем, когда он говорил, уже рисовался юноша с властным характером и сокрушительной волей. Бабенчиков знал себе цену, и, видно, недаром его вчера хвалили взрослые, и уж, наверное, не зря на него надеялась Муся. На этого парня вполне можно было положиться в любом деле. И, конечно, не дай боже оказаться его врагом. Сергей любовался им и очень бы хотел подражать ему в манере держать руки и стоять, раздвинув ноги, и говорить, подмигивая со значением, и заканчивать каждую фразу взмахом кулака, точно он прибивал ее гвоздями на глазах у всех.
Укушенный лгалец поламывало, но обращать на это внимание перед лицом Бабенчикова не приходилось, и, чтобы отвлечься, Сергей стал опять рассматривать здешнюю степь. Она была позолочена до самого горизонта. Все в ней было как на ладони. Люди удалялись, не исчезая из глаз. Сергей видел, как за узкой балкой ходила какая-то черная муха с вертящимся крылом, похожая одновременно и на мельницу, лежащую боком, и на колесный пароход из старых журналов, и к ней то и дело подъезжали конные подводы, крохотные, как букашки.
Сыроватая утренняя пыль лениво курилась на дальних дорогах за колесами грузовиков и телег. Запах чабреца насыщал воздух особою прелестью. Так бывало, когда мама собиралась в клуб на самодеятельность и душила свои волосы из пузатого флакончика,— в комнате долго стоял красивый, праздничный запах. И Сергей сейчас повторил его в своей памяти, как забытую песню.
Но воздух пел и сам, у него был звонкий приятный голос: хотя птиц не замечалось, но что-то незримо звенело и заливалось как бы само собой.
Закончив речь, Бабенчиков разбил пионеров на тройки. Сергей и Чумакова оказались вместе. Третьим к ним причислил себя бригадир.
Бестарка, сгрузившая зерно, возвращалась в поле. Ребята ввалились в нее и понеслись. Никогда не предполагал Сережа, что лошади могут мчаться с такой ужасающей быстротой. Спу-
499
стивщись с косогора в балку, по дну которой, кустились невысокие камыши, бестарка вынеслась на пологий склон частично убранного пшеничного клина, навстречу комбайну — той самой машине-мухе, которой Сергей только что любовался издали.
Комбайн ходко врезался в стену густого высокого хлеба и точно смахивал его своей вертящейся мельницей.
Машина поразила его. На высоком открытом мостике, у штурвала, стоял рулевой. Время от времени он давал сигналы трактористу, и тот ускорял или замедлял ход, брал левее или правее.
Возле камеры, на площадке в конце комбайна, работала копнилыцица. Сергей узнал ее — она была вчера на току среди ужинающих вместе с водителями. Она уминала солому и ровно распределяла ее по всей камере, а затем, открыв дно и заднюю стенку камеры, выбрасывала копну соломы на стерню. Зерно оставалось где-то в машине. В то время как штурвальный вел свой тарахтящий корабль, второй — он, оказывается, и был старшим — возился с чем-то, стоя на боковом мостике.
В левой части комбайна выдавался длинный брезентовый рукав. Это была выгрузная труба. Возчики на ходу опускали рукав в свои бестарки, и зерно, мягко пыля, доверху наполняло их. Кони побаивались машины, и возчики с трудом соразмеряли ход повозок с ходом комбайна.
Алексей Иванович Гончарук, о котором вчера спорили, хорошо или дурно он убирает, приветствовал ребят взмахом руки.
— Алексей Иваныч! — прокричал Бабенчиков комбайнеру, когда подвода поравнялась с комбайном.— У Муси первое место! Первое, первое! — показал он еще руками, и Гончарук кивнул головой, что он понял его, хотя было ясно, что он ничего не мог разобрать.
Ребята, разделившись на тройки, наметили себе полосы.
— Стань за хедером, будешь крайним правым! — приказал Сергею Бабенчиков.
— За хедером? — испуганно переспросил Сережа, но Бабенчиков уже показывал, куда именно ему стать.
Зина Чумакова, ни о чем не расспрашивая, "Приступила к работе. Она шла, перегнувшись надвое, едва не касаясь земли своими косичками, и обеими руками быстро и ловко, как кури¬
500
ца, разгребала стерню. Сергей стал делать то же самое. Чумакова поднажала, и расстояние между ними увеличилось. Идти согнувшись было очень трудно. Палец и вся рука ныли немилосердно, и очень жгло голову. Тюбетейка не спасала от солнца. Кроме того, никаких колосков не попадалось. Боясь, что он просто не замечает их, Сергей терял много времени на копание в стерне и все больше и больше отставал от своей тройки.
Скоро неясные круги заходили в глазах Сергея, и он стал чаще разгибаться, чтобы отдохнуть, хотя отлично понимал все неприличие своего поведения. Когда, скажем, ползут в атаку, никто ведь не отдыхает, не разминается, это же ясно.
Зерновозки то и дело подъезжали к комбайну и на ходу ссыпали зерно из его бункера через широкий шланг.
Толстая Пашенька, за которой вчера вечером ухаживал Вольтановский, стоя на боковой площадке, следила за ходом зерна. Ее смеющееся лицо сегодня было повязано платком, и казалось, что она забинтована. Она покрикивала на возчиков и даже на комбайнера, спрыгивала с комбайна наземь и сама оттягивала в сторону коней или бралась за вожжи, чтобы соразмерить ход комбайна с ходом подвод. Ей, как и Мусе, наверное, казалось, что хлеб убираетея плохо, и она искала случая придраться к любому пустяку.
— Алексей Йваныч1 — кричала она комбайнеру, а если оп не слышал, по-мальчишески свистела, вложив пальцы в рот.— Ветер справа набегает, не слышите? Может, левую заслонку пошире откроете?
И Гончарук, махнув рукой, открывал левую заслонку. А когда комбайн приближался к взгорку, которого Алексей Иванович мог не заметить с мостика, она обеспокоенно кричала:
— Алексей Иваныч! Не получится быстрый сход зерна с решета? Вы уж доглядайте, пожалуйста!
И Гончарук, пожевав губами, что-то поправлял в решете. Но Пашенька не доверяла ему:
— Яша, прыгни до Алексея Иваныча, скажи про решето!
И Бабенчиков влетал на мостик и что-то докладывал Алексею Ивановичу, а тот серьезно слушал его и успокоительно кивал головой.
Сергею тоже очень хотелось бы что-нибудь подсказать или
501
что-нибудь выполнить по приказанию Паши, но она ни разу не обратилась к нему, хотя и видела, что он тут.
Сергей, тараща глаза, чтобы в них. церестали мелькать водянистые круги, тяжело дышал открытым ртом, торопясь за Зиной, голые пятки которой мелькали уже далеко впереди. Степь колыхалась от зноя, как экран в летнем кино, когда дует ветер.
И вдруг заволокло в глазах. Он придержался рукой о землю. Холодный пот побежал по его лицу и закапал на руки* тоже почему-то ставшие потными.
Тяжелая, мокрая, горячая голова не держалась, шея устала поднимать ее.
Ребята, шедшие слева, прокричали «ура». Он хотел узнать, в чем дело, выпрямился и вдруг упал лицом вниз.
4
— Сережа!.. Емельянов!..— услышал он издалека и, кажется, улыбнулся. Чья-то рука теребила его за плечи.
Он почувствовал, как его поднимают и несут. Было легко, прохладно и спокойно, даже палец — и тот перестал болеть. Его положили на что-то сыпучее.
— Чумакова, поезжай с ним, присмотришь! — расслышал он приказание Бабенчикова, и легонькая рука Зины коснулась Сережиной щеки.
— Какой он бледный! А может, уже помер?
— Да ну! — сказал кто-то.— Солнцем ударило, только и всего. Искупаешь в ставке — и делу конец.
И, точно в сказке, сразу же легкая струя откуда-то взявшейся воды высвободила голову из тисков и пробежала по шее.
Сергей удивленно открыл глаза.
Он полулежал на берегу маленького ставка, по краям заросшего осокой. Несколько белых уток, покрякивая и шевеля хвостами, деловито точили носами влажный прибрежный песок.
Зина Чумакова пригоршнями лила воду на голову Сергея, а какая-то незнакомая старуха, в синей мужской куртке с блестящими пуговицами и в железнодорожной фуражке, придерживала его за спину.
502
— Живой? — спросила Чумакова и остановилась с пригоршнями, полными воды.
— Живой,— ответил Сергей.— Где это мы?
— Да на селе, где же! — удивилась женщина.— Что ж тебя батька одного бросил? Я б ему все ребра поотбила.
— Он не бросил, он наш хлеб поехал сдавать, тетя Нюся,— сказала Чумакова.
Сергей равнодушно оглядел новое место, где он так неожиданно очутился. Пруд врезался в гущу старого сада с яблонями, на двадцати ногах каждая. Не сразу можно было сообразить, что яблони стоят на подпорках. Без них им не удержать на себе плоды — так их было много и так они были крупны.
— Зина, выбери яблочко, какое получше, дай ему,— сказала женщина.
И, следуя взглядом за девочкой, Сережа увидел разостланный под деревом мешок, а на нем горку яблок, берданку и рядом мирно дремлющую собаку.
— Тебе какое дать, Емельянов? — деловито спросила Чумакова, как будто ему было не все равно.
Равнодушно оглянулся он на ее зов.
Горка яблок, падалицы, или, как тут говорили, ветробоя, сначала не привлекла его внимания. Яблоки как яблоки. Сергей делил их на кислые и сладкие и понятия не имел, как их зовут. Мама всегда признавала только дешевые яблоки; а если они дешевые, то как они называются, уже не имело значения. Но тут перед ними лежали яблоки^ не похожие одно на другое.
— А это какое? Как зовут? — спросил он, показав пальцем па небольшое, шаровидно-приплюснутое яблочко с золотистожелтой кожицей, покрытой ржавой сеткой и желто-бурыми точками. Солнечный бок был слегка зарумянен.
Чумакова робко взглянула на тетю Нюсю, задумчиво курившую свой «Беломор».
— Это, Емельянов, будет «золотое семечко». А это «шафран». На, попробуй!
Оранжево-желтая кожица «шафрана», испещренная красными точками, была масляниста на ощупь. Казалось, яблоко вымазали маслом, как крашеное яичко.
504
— А это «белый кальвиль», зимний.— И Чумакова протянула ему такое красивое, прямо-таки игрушечное яблоко, что Сереже захотелось им поиграть. Золотисто-желтая кожица издавала нежный:запах,— А эти румяненькие — «синапы»,— продолжала объяснять Чумакова;— Они у нас до самой весны сохраняются. Мы ими на Новый год елки убираем...
Но Сергею надоело ее слушать, и он перебил ее:
— А куда вы деваете яблоки?
— Да сдаем же, чудак какой! В Москву, в Ленинград посылаем, на консервный завод сдаем, у нас же план какой огромадный. А что на трудодень получаем, то сушим, узвары варим, в шинкованную капусту закладываема
— Квас, и брагу варим^— деловито добавила тетя Нюся.— Дай ему «наполеон», сочней будет.
— А почему «Кутузова» нет? — спросил Сергей, поднимаясь на локоть.— «Наполеон» почему-то есть, а «Кутузова» нет.
Тетя Нюся искоса глянула на него и, вынув из кармана своей синей куртки папиросы^ опять закурила, лихо сдвинув на ухо фуражку железнодорожника.
— Потому как это французское яблоко,— нехотя сказала она, затягиваясь дымом.
— Какое же оно французское, если- растет в Крыму? — не унимался: Сергей..— А «Гитлера» у вас; нет? — сострил он.
Чумакова хихикнула; а тетях Нюся отвернулась от него, как от пьяного.
— Дрозды и скворцы прямо меня замучили,— как к взрослой, обратилась она к Зине;— Сегодня: штук сорок настреляла, плов приготовила — заходи, угощу,— а все летят и летят, окаянные.
— Уй, тетя Нюся, тебе что ни говори, никогда не слушаешь! Говоршш тебе —ставь силки.
— Да; ну вас! У меня, же не тот... не заповедник. С зари самой как начнут ходить то бригадиры, то агроном* то председатель, то из района кто-нибудь... Чтоб они так за своими детьми смотрели, как за моими'яблоками1! То им покажи, то расскажи... Эй-эй! Тут ходу нет! — погрозила она кулаком, кому-то, вероятно нездешнему человеку* пытавшемуся^ пройти в сад берегом пРУДа.— Понаехали помощники*— пробурчала она неодобри¬
505.
тельно,— а чему помогать? Черешня отошла, вишня — то же самое, яблоки, групгй не доспели, а косить они разве обучены? Нам бы косцов и жней десятка два, был бы толк.
Хрустя сочным и до боли в скулах остро-прохладным яблоком, Сергей рассеянно слушал тетю Нюсю.
— Понадеялись на машины,— продолжала она,— а кого ни спроси: «Жать умеешь?» — «Что вы, что вы!» — говорят. Заме- сто того чтобы жать учиться, только в кино и заладили. Я твоему батьке, Зинка, который раз говорю: «Добегаешься ты, Борис, с драмкружком, что выгонят тебя со всем твоим театром».
— Зин, а мы много колосков собрали? — перебил Сергей рассказ сторожихи, показавшийся ему скучным и длинным.
— Чего там собрали! — пренебрежительно отмахнулась Зина.
— Эта наша Муська знаменитая чего только не выдумает! — покачала головой тетя Нюся.— Все ей мало, все ей чего-то не хватает. Взяла по сто тридцать и помалкивай...
— По сто тридцать пять,— поправила Зина.
— Ай, идите вы! Сроду у нас таких урожаев не было. А тут еще суховеи замучили — запалилось зерно. Это ж учитывать надо тоже... Степь же, глядите,— одна степь, жара, ветры. Да на такую природу какую хочешь скидку надо дать... Твой-то когда вернется? — спросила она Сергея.— Узнать бы, как хлеб сдали.
— Не знаю,— ответил Сергей.— Как сдаст, так вернется.
— Отцы пошли! — покачала головой тетя Нюся.— Я б таких отцов.;.— И, повесив через плечо берданку и кликнув сонного пса, кряхтя, пошла берегом в глубь сада.
Зина шепнула Сергею:
— Хочешь, искупаемся один раз?
— А можно?
— Что за глупость такая! Мы все тут купаемся,— и, одним махом сбросив с себя купальный костюмчик, она, приплясывая, побежала в воду.
Сергей заторопился за нею.
Вода оказалась удивительно теплой, совсем не такой, как в море, и дно мягкое, без камней.
— Вы у себя фантики собираете? — вертясь и кувыркаясь в воде своим гибким тельцем, спросила Зина.
506
— Конечно, собираем. У меня сколько их! (Речь шла об этикетках с бутылок и конфетных обертках.) Мы когда со школой на черкасовское движение ходили, я с мальчишками менялся...
— А у нас черкасовское движение уже кончилось! — с довольным и гордым видом сказала Чумакова.— Мы всю-всю школу сами восстановили!
— Школу — это что! А мы целый парк сделали, где пустырь был.
— И деревья посадили?
— И деревья, и цветы, и дорожки сделали...
— Одни мальчики?
— Нет, взрослые тоже помогали...— небрежно заметил Сергей, собираясь рассказать о своем трудовом героизме, но в это время с улицы к пруду съехал на велосипеде молодой человек в полотняном костюме, с тюбетейкой на бритой голове. Он ехал, громко распевая, как артист.
— Зин, а это кто? — спросил Сергей.
— Это товарищ Семенов... То-ва-рищ Се-ме-нов! — пронзительно вскрикнула Чумакова, подпрыгивая в воде и махая руками.— Вы к нам, да? Идите купаться, я вам что сейчас расскажу!
Семенов спрыгнул с велосипеда, осторожно положил его на траву и стал деловито раздеваться, досвистывая то, что он не успел пропеть.
— Ты что же это, Чумакова, в пруду прохлаждаешься, когда все ваши на работе? — сурово спросил он, сбрасывая через голову рубаху.— Это как же, милая моя, называется?
— А я работала, честное мое слово, работала, товарищ Семенов! А потом меня Бабенчиков отпустил, потому что этого мальчика — он сирота, приехал с автоколонной — солнцем ударило, а теперь я к нему приставлена, потому что он слабый...
— Ага,— сказал Семенов, подтягивая трусы и входя в воду,— значит, ты за медицинскую сестру? Какие приняты меры?
Сергей с интересом наблюдал за Семеновым. Очевидно, это и был тот самый Семенов из райкома комсомола, о котором он уже слышал вчера и сегодня, но как-то не сразу укладывалось в голове, что начальник может быть таким молодым человеком и способен купаться вместе с ребятами.
507
— А меры мы еще л.е принимали,— бойко рапортовала Зина.— Вот искупаемся, тогда я его сведу л Марье Николаевне на медпункт. Яблоко я ему дала — вот что еще было.
Несколько раз окунувшись и растерев тело руками, Семенов приблизился к Сергею.
— Чей же ты будешь? — спросил он.—Л всех ваших уже знаю, только что видел их на ссыпном.
— Он Емельянова сын,— скороговоркой доложила Зина.
— Андрея Васильевича сынок? — переспросил Семенов.— Хороший он у тебя человек, замечательный! Десять ездок за половину дня сделал. Молодец! Здорово нам помогает. Ну, а ты что делал?
— А я, товарищ Семенов,— сказал Сергей с тем особенным чувством доверия к собеседнику, которое возникает у детей от ощущения необычайной ^человеческой правдивости и чистоты его,— а я с утра голодный. Потом меня пчела укусила, а когда я колоски собирал, меня солнцем ударило, а потом эта Зинка меня в пруд затащила, когда мне холодно...
Он не знал, расплакаться или возмутиться.
— Э-э, да ты, я шижу, геройский парень! — Семенов схватил Сергея под мышки и, приподняв, поволок на берег.—С утра голодный, а между тем колоски собирал... Шетя Нюся! Угостите чем-нибудь голодающих!
Зина, неожиданно почувствовала себя виноватой во всех бедствиях Сергея, авяло шлелась сзади, то цри последних словах Семенова оживилась.
— У нее скворцы с рисом,—сказала она шепотом.—Сбегать? Может, принести, а?
Подхватив с земли свой купальный костюмчик и прыгая на одной ноге, она на бегу влезла в него. Мокрая и блестящая, как лягушонок, она была сейчас такая приятная, что Сергей чистосердечно раскаялся в своей жалобе на нее.
— И Бабенчикова позови! — крикнул -вслед ей Семенов и стал закутывать Сергея в свой полотняный пиджачок, одновременно растирая ему ладонью спину ж что-то приговаривая о Сережиной стойкости.
Тетя Нюся стояла поодаль, куря свой «Беломор».
— Вот из таких самые отчаянные и подучаются,— сказала
508
она, пуская дым через нос.— Без отца, без матери, не знай где крутится, а потом, чего с него спросишь? «Я, говорит, сам себе хозяин»... Да ты на голову ему кепку надень... Вот так. И не три — спину протрешь. Это все ж таки ребенок, не велосипед... Ну, какие новости, рассказывай...
Семенов оставил в покое Сергея и сел подсушиться на солнце. Новости, им привезенные, были хорошие.. Первый хлеб встретили празднично. Зерно с Мусиного участка получило замечательную оценку.
— Ну, так то ж Муся! — гордо вставила сторожиха, и Сергей удивился, вспомнив, как она только что бранила бригадиршу.
Чиляеву и шоферов, привезших зерно, фотографировали, и обо всем этом будет напечатано в районной, а может быть, и в областной газете. А завтра, в воскресный день, в колхоз приедут группа пионеров из районного центра и бригада артистов.
Тетя Нюся бросила окурок, сказав твердо:
— Ребятишек нам совершенно некуда девать.
Семенов не согласился со сторожихой. Он все еще сидел, грея на солнце спину, и ел яблоко за яблоком, к явному неудовольствию тети Нюси.
— Поглядели бы вы, как они сегодня на ссыпном пункте работали! — сказал он.— Золотые руки! И потом, это человечки с городским опытом: пробегут они по вашим хатам, по улице — красоту наведут, «стенновку» выпустят, прохватят кое-кого за беспорядок. Да и ранние груши, кажется, пора собирать, а?
Относительно груш тетя Нюся ничего не сказала, а насчет наведения порядка пробурчала что-то невнятное: что-де пускай за собой лучше б смотрели, 'чем чужих людей беспокоить.
— Ну, это неверно, это ерунда, тетя Нюся! — возразил Семенов.— Осенью мы и вас пошлем к соседям... Ты как считаешь, Сергей? Вот командируем тетю Нюсю в ваш город, на проверку активности,— будет польза?
Сергей подумал й, хотя приезд строгой сторожихи явно не сулил ничего хорошего, ответил как можно вежливее:
— Ага.
Показалась Чумакова с миской в руках. За ней шел Бабенчиков.
509
— Я скворцов не нашла, вчерашнего молока несу! — пронзительно прокричала девочка еще издали.
Тема возможного сторожихиного приезда в Сережин город отодвинулась в сторону.
Не успел Бабенчиков присесть, как Семенов начал подробно рассказывать ему о делах в районе.
«Как они все тут хорошо разговаривают друг с другом,— подумалось Сергею,— будто все они взрослые и все одинаково понимают дело».
Дома у Сергея дело шло иначе. Там его считали маленьким, ничего не понимающим ребенком. Уж на что любила Сергея мать, но и она не стала бы ему рассказывать о делах, своих или отцовых, и тем более не стала бы советоваться с ним. А тут все советовались друг с другом, не стесняясь, что одному много лет^ а другому мало.
Семенов известил Бабенчикова и о завтрашнем приезде пионеров.
— Но принять их надо будет, Яша, с учетом сегодняшнего опыта,— закончил он, шутливо погрозив пальцем.
-* Какого сегодняшнего? — Бабенчиков подозрительно стрельнул глазами в сторону Чумаковой.
— А как вы приняли Емельянова?
— А что?
— Хорошо еще, что парень оказался геройский,— продолжал Семенов, обращаясь теперь уже не только к Бабенчикову, но и к тете Нюсе.— Вам ни гугу, а он с утра не ел. А вы и не поинтересовались. Так? А тут его еще пчела в руку укусила. А потом вы его, будьте здоровы, сразу на колоски погнали, го- лодного-то. Не сообразили, что парень он городской, степного солнца не пробовал, ну он и свалился. А вы, вместо того, чтобы его к врачу, купать стали... Нескладно, Яша. Учесть этот опыт на завтра. Есть?
— Есть,— сказал Яша Бабенчиков и подмигнул Сергею, но не зло, а сочувственно: дескать, ты уж извини, накладка получилась.
— А сейчас, ребятки, давайте пойдем на Мусин участок,— сказал Семенов, торопливо-одеваясь.— Встречу ей небольшую надо устроить. Она должна вернуться вместе с колонной.
510
— А не они ли едут? — И тетя Нюся, нахлобучив фуражку на лоб и глядя из-под нависшего над глазами козырька вдаль, показала рукой на бегущую по горизонту пыль.
Семенов, ахнув, бросился к велосипеду. Зина Чумакова молча полезла через плетень, чтобы выскочить за село задворками, а тетя Нюся, Бабенчиков и Сергей побежали низом балки.
Пока Семенов выбрался со своим велосипедом на главную улицу села, Чумакова оказалась далеко впереди. Бабенчиков поднажал. Тетя Нюся, к чему-то прислушиваясь, вдруг повернула обратно, к саду, и Сергей остался один. Он бежал за Чумаковой и никак не мог ее догнать.
А в сущности, ведь именно ему нужнее всего было прибежать первым и хоть на одну минутку прижаться к отцу и самому рассказать обо всем, что произошло с ним в этот неудачный день.
Задыхаясь, Сергей подбежал к отцу в тот самый момент, когда проклятая Зинка уже, видно, докладывала ему обо всем — и отец, в мокрой майке, с бурыми, блестящими от пота руками, но веселый, задорный, тревожно оглянулся, ища глазами сына.
Нарядная, в новом шелковом платье и красной шелковой косыночке, с букетом цветов в руках, Муся стояла рядом с отцом. Она первая увидела Сергея.
— Сергунька! — позвала она его, назвав так, как мог и имел право называть его теперь только отец.— Сергунька, беги скорее!
И ему сразу стало как-то не по себе. «Они там праздновали, фотографировались, им музыка играла,— мелькнуло у него,— а я тут голодный, брошенный, меня тут солнце чуть-чуть не убило...»
Минуя Мусю, он кинулся к отцу и прижался к нему. Сейчас он особенно остро чувствовал, какой он маленький, слабый, как не умеет он переносить лишения. Но Муся, та самая нарядная Муся, на которую ему даже не хотелось сейчас смотреть, подхватила его на руки и, прижав к своему раздушенному платью, цодбросила вверх.
— Да ты ж геройский парень! — хохоча, вскрикивала она.— Качайте его, хлопцы, качайте!
И тут его в воздухе перехватил Петя Вольтановский.
511
— Молодец, Емельянка, не подвел!
Выходило, что Сергей сегодня — самый ударный человек, и все, что недавно огорчало его, вдруг стало каким-то приятным образом оборачиваться в его пользу.
В самом деле, не виноват же он, что его укусила пчела, что его ударило солнце, что он почти не собрал колосков — их вообще было мало. Главное, он работал.
— Теперь ты, брат, полноправный городской шофер,— сказал Вольтановский, опуская его на землю.
— Правда, пап?
И отец, до сих пор молча и тревожно улыбавшийся, виновата потрепал Сергея по спине.
5
Отряд городских пионеров прибыл вместе с бригадой артистов. Колхозная молодежь встретила их у околицы села. Бабенчиков сказал речь и преподнес букет цветов высокой дородной женщине в украинском костюме, с венком на голове. Та поклонилась ему, а потом — Сергей похолодел — привлекла к себе сильной рукой и несколько раз звучно поцеловала в щеку. Пятнышки от губной помады закраснели на лице Бабежчикова, как ссадины. Зинка Чумакова радостно хихикнула, колхозные ребята зашептались, но Сергей, заметив, что Бабенчиков сжал кулаки, вовремя удержался от смеха.
Решено было сейчас же всем ехать на уборку и там, в поле, дать концерт, но, как на грех, подвернулся председатель, с утра выехавший в МТС, и порешил по-своему. Артисты направлялись в полевые бригады, а городские пионеры вместе с колхозными — на уборку ранних груш.
— Я уж один пример имею,— твердил председатель, ища глазами Сережу,— я уж научен, слава те... На грушиГ Бабенчиков, Емельянов!.. Берите по бригаде, живо!
Сергей не успел оглянуться, как ему выделили семь нарядных, голосистых и очень деловитых девочек в светлых платьицах, с бантами в косичках. Какая-то Анка оказалась у них агитатором, она выстроила своих и доложила Сергею, что бригада готова.
512
Сергей так никогда и не придумал бы, что ей ответить, если бы председатель в этот момент не крикнул:
— Все за мной!
Сережа еще никогда никем не командовал, особенно девочками, и чувствовал себя очень неловко. А девочки, как назло, только и смотрели ему в рот и все время спрашивали, что делать.
Бригаду Сережи поставили на укладку груш в корзины и разгрузку их в колхозном складе после взвешивания, а бригада Бабенчикова работала у деревьев вместе с колхозницами. Тетя Нюся, выпятив губы, молча курила.
— Тетя Нюся,— зашептал ей доверительно Сергей, оторвавшись от своей бригады,— а как укладывать, чего надо?.. Честное ленинское, я неопытный...
— Как — чего делать? Укладывайте потихоньку, да грузите на двуколку, да там, у складчика, подайте на весы, да с весов снимете, ссыпьте, куда скажут. Главное, чтоб не цокать, не мять.
Девочки вработались сразу и некоторое время не обращали внимания на своего бригадира, но вскоре одна из них — рыжая, веснушчатая, до того веснушчатая, что, казалось, лицо у нее в нашлепках,— прокричала нахально:
— Товарищ бригадир, а когда перекурка?
Другая, работавшая до сих пор тише всех, подхватила:
— Товарищ бригадир, не заботитесь насчет воды...
— Товарищ бригадир, почему не ведется запись, сколько мы отгрузили? Что за обезличка?
Сначала Сергей не удостаивал озорниц ответом, но они не отставали и все больше повышали голос и, хохоча и перемигиваясь, то и дело звали его и требовали указаний и советов.
Все они были очень веселые, но оттого еще более неприятные, и Сергей старался не глядеть на них и не разговаривать с ними как можно дольше.
Вдруг тетя Нюся позвала его к себе:
— Дай-ка им отдохнуть минут на пять — устали твои барышни. И по грушке разреши, пусть их... Только смотри, чтоб не много, а то животами разболеются.
Сама тетя Нюся давно уже отложила в сторону берданку и,
513
сняв синюю тужурку,, в одной майке грузила корзины на двуколку.
Сергей скомандовал отдых и разрешил взять по груше.-Тетя Нюся, как будто только и ожидавшая его сигнала, тоже присела и закурила.
Девочки были все так одинаково нарядны и все с бантами, все в фартучках, что Сергей долгое время никак не мог задом- нить их в лицо и делал вид, что он человек строгий и ему решительно все равно, как их зовут. Но цосле третьего отдыха он уже знал их имена, а они, не смея звать его Сережей, ласково кричали ему:
— Бригадирчик, а бригадирчик, командуй отдых, пора!
Работа шла теперь так быстро, что тетя Нюся ворчала: «Не
перетомить бы девчат!», но уж никто не хотел останавливаться. Во время четвертой передышки тетя Нюся предложила выкупаться в пруду. Сергей растерялся. Он совсем уж не знал, что ему тут делать и как вести себя с этими крикливыми и беспокойными существами, но та же тетя Нюся подсказала:
— А ты сбегай узнай насчет обеда-то. Нашему Анисиму сто раз напомнить надо...
И, обрадованный этим замечательным предложением, Сергей побежал искать председателя.
Утро незаметно перешло в полдень. Воздух как бы засахарился, загустел — бежать было трудно. Сережа выскочил из сада на косогор и зажмурился — его сразу обдало сухим, колючим жаром раскаленной степи. Неясно колыхаясь, воздух медленно закипал. Так в кастрюле с горячей водой бродят маленькие течения, вздрагивания и колыхания, перед тем как всей воде тронуться, забурлить и покрыться сплошной кипенью.
В воздухе жестко зудели цикады, будто пилили его со всех сторон крохотными напильничками, и от этого непрерывного зуда воздух тоже казался твердым.
Председателя не было ни в правлении, ни на току, ни на огороде, ни на пшеничном клину.
Муся Чиляева, которую он застал на ее участке, в синей вылинявшей робе, пыльная, потная и сегодня совсем некрасивая, сказала, облизывая сухие губы:
— Какие там обеды! До вечера уж...— й повернулась к Сер¬
514
гею спиной с таким оскорбительным равнодушием, что мгальчик был донельзя удивлен. Давно ли она сама подбрасывала его в воздух й прижимала к себе на виду у всех!
«Наверное, у нее сегодня опять центнеры уменьшаются»,— сообразил Сережа, и на минуту ему даже захотелось, чтобы у нее произошла какая-нибудь неприятность.
Муся стояла с комбайнером Гончаруком, смазывавшим комбайн, и виновато слушала, что он говорил ей.
Речь шла уже не об уборке, а о подъеме зяби, и Гончарук утверждал, что надо пахать как можно скорее, что земля, как он понимает, тут слабая, дождей не предвидится. Муся же, вздыхая, отвечала, что в земле она твердо уверена, а что с пахотой еще вполне можно подождать.
— Разве мы с вами, Алексей Иванович, мало от нее взяли? — спрашивала она.— Во всем районе первые, не правда, что ли?
— Первые-то первые, а выводов никаких не получим,— стоял на своем Гончарук, и было видно по его лицу: уверен, что его подведут, и потому Мусины уговоры на него плохо действовали.— Колхозный фонд у нас с тобой не тот, вот что.
— Сама я не хочу, что ли, в люди выйти, Алексей Иванович? — успокаивала его Муся.— Я сегодня со всей бригадой в косовице помогу. Расшибусь, а план выполним. Вы только себя твердо держите, Алексей Иванович, я на вас надеюсь...
Гончарук недовольно жевал губами.
— Да я третий день на одном нарзане. При чем тут «надеюсь, не надеюсь»... На одном нарзане, будто при смерти.
Сергей убежал не дослушав.
И вдруг — вот он, председатель, едет на своей двуколке, что-то записывает.
— Анисим Петрович! Обедать когда?
— Это городским-то? — Председатель почесал карандашиком нос.— А сколько отправили на склад?
— Сорок корзин.
— Ишь ты! Вот они, городские, какие! Через час веди их в огородную бригаду, вот записка. Я уж сказал там... Погоди, Емельянов! Как полсотни отправите, только тогда веди, слышишь?
На половине дороги между селом и садом встретился Воль-
515
тановский. Он с ходу стал на тормоза так, что в машине все завизжало, и сделал рукой знак садиться.
— Где тебя носит? Ищем, ищем. Садись быстрей!
— Ехать?
— Перебрасывают в соседний колхоз. Сел?
— Да у меня, дядя Петя, бригада в саду осталась...
— Подумаешь! Нынче-то хоть кормили?
— Меня кормили, а их нет. Папа там уже, в новом колхозе?
— Надо быть, там. Громадную, понимаешь, задачу дали. Тут хоть колхоз на шоссе, а там, брат, из глубинок возить, по степи. Запорем резинку, ей-богу, запорем!
— Эх, дядя Петя, я же с поста убежал!
Вольтановский только махнул рукой.
— Антон Антонович нам что говорил? — продолжал Сергей.— «Не срамите, говорит, себя». А я? Взял да и осрамил. Семенов узнает, в газете как шлепнет...
— Эх, свалился ты на мою голову!..— Вольтановский затормозил перед пешеходом, устало шедшим по краю дороги.— Не в колхоз, случайно?
— В колхоз.
— Будь добрый, тут со мной начальник молодежный сидит, надо распоряжение насчет кормежки приезжих передать. Вот тебе, папаша, записочка. Передай, я тебя прошу, а то спасу нет. Заел меня!
Машина тронулась. Вольтановский скосил правый глаз на Сергея:
— Вылитая Зотова, право...
Сергей не обиделся. Он знал, что прав. Верхушки сада, где работала Сережина бригада, пробежали за гранью холма и исчезли.
Странная пошла жизнь. В ее быстрых водоворотах мелькали с какой-то сказочной быстротой события и люди. Он даже не простился с Зиной, не отчитался перед Бабенчиковым. Пусть бы они приехали в город — лучше, конечно, без тети Нюси,— и он показал бы им море и тот парк, что недавно строили, и улицу, где он, Сережа, живет.
Еще раз пробежали перед его глазами люди первых его степных дней и исчезли — может быть, на всю жизнь.
516
ъ
Степь задымилась сумерками, но розовый дым заката еще долго полз над землей. Потом, когда стемнело, взошли крупные яркие звезды и след бледно-розовых облаков нехотя растаял в ночи.
Тетя Саша, вдова, с дочерью Олей, двенадцатилетней девочкой, у которых поселили водителей, разостлала под деревьями два рядна, набросала подушек, поставила возле ведро с медовым квасом и, предупредив, что ^ядом пасека, ушла в свою крохотную, из двух комнатенок, мазанку. Все — и отец, и Ерёмушкин, и Сергей, и Зотова — легли вповалку, как на пляже. Чудесный запах свежего сена веял над ними. Одно было неприятно — что рядом зпасека. Впрочем, тетя Саша, которой Сергей высказал свои опасения, улыбаясь в темноте одними зубами, заверила, что ее пчелы смирные.
Наскоро поели и легли спать. Это была первая ночь, когда все водители собрались вместе и каждому хотелось рассказать о своих впечатлениях.
— Я тебе очень много должен рассказать, папа,— прижавшись к отцу, сказал Сережа.— Я чего только не делал! Я даже бригадиром был, знаешь! Дали мне семь девчонок...
— Интересно, кто ж тебя, дьяволенка, в пруду выкупал,— забурчала засыпающая Зотова, которая, как всегда, все знала.
Прижавшись лицом к щеке отца, Сергей тихонечко засмеялся:
— Я тебе завтра одному расскажу, ладно, пап?
— Ладно, сынок. А я по тебе, знаешь, соскучился. Кого пи спрошу: «Где мой?» — «Да, говорят, где-то командует чем-то».
И уже закачало -первою дрёмой и, как бы легонько приподняв, мягко и нежно забаюкало. Но тут он услышал голос тети ■Саши:
— Кто из вас старшой? Вставайте! Полевод просит.
Отец поднялся. -Сон отогнало и от Сергея. Низенький, коре- -настый старик с густой и круглой, как баранья шапка, бородой виновато обратился к отцу:
— Емельянов? Вы уж извиняйте, что потревожил, да знаете, какое дело: комбайн остановился. Решили было всю ночь
т
сегодня убирать, а чего-то случилось, никак сами не разберутся. Не поможете, а? А то пока до МТС доберемся...
Отец разбудил Вольтановского. Сергей тоже вскочил и оделся:
— Я, папа, с тобой еще нигде не был, все без тебя да без тебя.
— Да ведь устанешь, смотри...
— С тобой, пап, я никогда не устану.
Полевод погладил Сережу по голове:
— А ничего, пускай едет, там у нас ребятишки дежурят — не заскучает.
Тачанка уже ждала. Двинулись в самую гущу ночной темноты, как в пропасть. Ночь посырела, замерла.
— А что, ваши комбайнеры и при росе убирают? — спросил отец.
— У нас отчаянные,— ласково сказал невидимый полевод, им роса не препятствует. Только вот сегодня что-то подкачали... Ну, да и то сказать: труд ведь ответственный — не спят, не едят, перекурить спокойно некогда. Урожай-то какой! Такой только во сне и видали до нынешнего лета.
Поеживаясь от прохватывающей его сырости, Сергей в полудремоте слушал рассказ об урожае. Ночь овладевала им, как никогда не слышанная сказка. Она была какой-то гулкой и вместе с тем тишайшей. Звуки впивались в тишину, как москиты.
Наконец где-то далеко впереди, как огонь корабля в море, блеснул костер.
— Стоят,— вздохнул и сплюнул полевод.— Стоят окаянные! Верите или нет, не за себя страдаю — за колхозников,— сказал он отцу.— Такое, знаете, в этом году увлечение урожаем, такая доблесть, зерна нельзя просыпать — убьют! Вот сейчас полсела не спит, думает: в чем дело, почему комбайн остановился? Меня третьего дня молодежь чуть не бить собралась. «Давай, кричат, косы, будем вручную убирать!» Ну, косы еще туда-сюда, а косарей ведь нет, это теперь все равно, что блоху ковать... И что же вы думаете, Светлана наша, помощница комбайнера, где- то на сдаточном подхватила старика со старухой. Косари! Любители! Где-то он счетоводом в артели, не знаю точно, но старый, видно, знаток. Приехали они как раз перед вами — и
518
старик сейчас же семинар открыл. Косу отбил, показал, как и что. С утра высылаю, участок им персональный выделил. Пусть, пусть! Тут и голыми руками готов убирать... В чем дело, герои? — крикнул он, вглядываясь в темноту, опламеняемую костром.
От комбайна еще дышало жаром, как от паровоза. Тракторист и комбайнер копошились где-то внутри комбайна. Несколько сельских ребят безмолвно наблюдали за их возней.
Полевод бросил-вожжи ближайшему мальчугану.
— А у горючего сторож есть? — сразу спросил он.
— Есть, естьу Курочкин стоит,— ответили ему.
— Эй, хозяева невезучие!; Вылезайте кто-либо для переговоров! — насмешливо сказал старик, подходя к костру и устало присаживаясь на чью-то разостланную одежонку.— Кони в порядке? — спросил он у ребят.
— В порядке, Александр Васильевич,— ответили ему хором.
— Ну, спасибо вам от души... Вот, смотрите,— обернулся он
к Вольтановскому, дремавшему всю дорогу и, наверное, ничего не слышавшему из его рассказов.— Вот, смотрите: невелики
человечки, а ведь какая от них богатая помощь делу! Я любого; из них на самого себя не сменяю. Послал я их в: ночное с конями, а они контрпроект вносят: «Мы, говорят, заодно и горючее будем охранять и машины, когда комбайнеры уснут». А ведь оно и в самом же деле — не оставишь. Оно как бы ничего, а с другой стороны, нежелательно... Вылезай, вылезай, Светлануш- ка, рассказывай! — закончил он, похлопывая рукой по траве рядом с собою.
Смуглая спокойная девушка, отряхиваясь, подошла к костру. За нею следом, буркнув себе что-то под нос, появился тракторист.
— А Яков Николаевич где же? — сразу встревожился полевод.
— А Якова на медпункт увезли, приступ язвы,— сказала Светлана с таким виноватым видом, будто она-то и была виновницей его болезни.— Я, Александр Васильевич, полдня в МТС протолклась: кое-чего нужно было привезти, горючее на завтра заказала, сводки наши сдала. А он все один да один. Я приеха¬
520
ла — он прямо зеленый, едва стоит. Мучился, мучился, а час назад с водовозкой и уехал.
— Тут, значит, вы и остановились? — догадался Вольтановский, только сейчас окончательно проснувшийся.
— Тут, значит, мы и остановились,— в тон ему ответила девушка, скользнув по лицу Вольтановского гордым взглядом своих огромных, ярко сияющих глаз.
— Что, сами определяете? — спросил Светлану отец.
Взяв в рот соломинку, она недоуменно пожала плечами.
— А ну, дайте-ка свет,— строго сказал тогда отец, как говорят врачи, когда приступают к осмотру больного.
Комбайн красиво, загадочно осветился, похожий на маленький корабль.
— Ты, Петро, обследуй очистку,— сказал отец,— а я режущий аппарат посмотрю.
— Мадам, с вас сто грамм! — подмигнул Вольтановский Светлане и, кряхтя, полез на комбайн.
Светлана виновато последовала за ним.
Полевод сидел у костра, всем туловищем повернувшись к машине, и лицо его выражало радостное недоумение. Когда Емельянов и. Вольтановский, осмотрев машину, вернулись к костру, он ни о чем не спросил их — он только следил за ними, молча шевеля губами.
— Режущий аппарат не зарывался в землю? — поинтересовался отец.— Очень уж на низкий срез поставили. Ну, а полотна отказали из-за сырости. Вы что, в первый раз сами ведете?
Светлана смутилась, и соломинка снова появилась у нее на губах.
— Да нет, она с весны работает! — загалдели мальчишки.— Она наша вожатая была, она все здорово понимает... устала просто...
— А загонку свою хорошо знает? Ночью-то на свет полагаться нельзя, на память надо вести. Полотно-то сменили?
— Сменила.
— Сырое положите просушить, часа через два снова смените... У тебя что, Петро?
Передние и задние подвески первой очистки надо было подогнать,— небрежно ответил Вольтановский, и Сергею пока¬
521
залось, что все это он сейчас выдумал, а что на самом деле никаких оплошностей он не нашел. Очень не хотелось, чтобы Вольтановский торжествовал над нею, такой тихой и спокойной.
— Пройди с ней разок,— сказал отец.
Затарахтел трактор, дым и пыль хлынули на огонь костра, взметнув его. И Вольтановский запел с мостика:
Про-ща-ай, люби-и-мый го-род,
Ухо-о-дим но-чью в мо-ре...
Привстав на колени, полевод долго следил за комбайном.
— Волнующая машина,— сказал он, блестя глазами.— Я, товарищ Емельянов, в основном городской человек, но повлекло меня в деревню не что иное, как машина. Тогда еще только-только трактора появились. Увидел я их в работе — и все в городе бросил. Это, думаю, что ж такое, это ж переворот истории! Какое ж это земледелие, а? Это ж индустрия! И какие тут могут быть мужики? Разве вот они — мужики? — показал он на ребят, слушавших его затаив дыхание.— Вот возьмите хоть этого, Ваську Крутикова. Если он через три года на комбайн за помощника не станет, я его из колхоза выгоню.— И полевод погрозил пальцем парнишке такого могучего сложения, что трудно было угадать, сколько ему лет.— Так, считаете, обошлось? — вдруг спросил он, ища вдали огненный след комбайна.
— Думаю, обошлось,— сказал отец, тоже глядя вслед комбайну.— Вы поезжайте, мы тут с сынишкой поспим у костра.
— Вот и прекрасно,— охотно согласился старик и сейчас же заторопился.— А это мы засчитаем особо, починку-то, вы не беспокойтесь. Поеду, Наталью Ивановну, председателя нашего, успокою. Да и зерновозки надо подослать.
Отец нахлобучил на голову куртку и придвинулся к огню:
— Спи, сынок, завтра у нас с тобой трудный день...
Но как же спать, когда так сладостно-приятно горит костер, а ночь темным-темна, и в глубине ее, как в отдаленной пещере, движется огненное видение комбайна, и пахнет простором, мазутом, травами, и как-то свежо-свейю на сердце, точно оно впервые бьется ради своего удовольствия.
Только взрослые люди способны спать в такие ночи.
522
Едва Андрей Емельянов заснул, как ребята вполголоса заговорили.
Их было трое: могучий, с энергичным лицом Вася Крутиков, носатенький, похожий на вороненка Алеша и пухлый, с лукавым и смешливым личиком Женька. В темноте, у бочек с горючим, дежурил еще Алик Курочкин.
Алеша и Женька только что сменились с ночной пастьбы, Крутиков же и Курочкин состояли связными при комбайне.
— А у нас ночью не пасут скот,— для начала сказал Сергей, давая понять, что он не новичок в хозяйственных делах.
— А ты сам откуда? — спросил его Крутиков.
— С Южного берега...
— Да у вас и скота настоящего-то нету,— презрительно заметил Женька.— Возили нас на экскурсию, видал я. А у нас жара — дуреют от нее коровы, удой падает. Вот Наталья Ивановна, председатель, и придумала на ночь скот в степь выгонять. Сразу дело пошло... Ну, а у вас что? Корова не корова, коза не коза — так себе, существо какое-то...
Женька был неправ, но спорить с ним, еще как следует не познакомившись, Сергею казалось неуместным, и он промолчал.
— Отец-то механик? — немного погодя спросил Крутиков.
— Механик.
— Здорово, видно, дело знает: сразу нашел, в чем беда. Вы не из «Заветов Ильича» прибыли?
— Из «Заветов». Там у них Муся Чиляева на весь район первой вышла.— Сергей намеревался сейчас показать, что он бывал в местах и почище здешнего.— В газетах о ней напечатали, снимали...
— Подумаешь, в газетах напечатали! — опять наскочил на него Женька.— О нашем Драгунском в прошлом году как печатали, как печатали, а завалился — и не найдешь.
— А что, она много взяла? — спросил молчавший до сих пор Алеша.
— Сто тридцать пять, что ли...— более или менее равнодушно сказал Сергей.
Алеша привстал на коленях, уронив с плеч старый отцовский ватник. Лицо его сделалось тревожным и грустным.
523
— Ох, ребята, если сто тридцать пять, тогда наши никак не догонят,— сказал он, беспокойно поглядывая на товарищей и как бы ояшдая их поддержки, но они не успокоили его.— Если наш колхоз в этом году вперед не вылезет, тогда весь план у нас, ребята, пропал,— добавил Алеша с тревогой в голосе.
Женька подбросил в костер сушняка и недружелюбно, почти враждебно взглянул на Сергея:
— Да ну, слушай ты трепачей! Придет Семенов, у него все достоверно узнаем.
Послышались шаги. К огню, зябко кутаясь в брезентовый балахон, приблизился Алик Курочкин.
— Засырело здорово, а наш парень гонит да гонит комбайн. Гляди, до утра и проработает. Орденов у него, медалей — полная грудь. Не танкист?
— Танкист. Берлин брал, от Сталина восемь благодарностей получил,— радуясь переходу к другой теме, сообщил Сергей.
— У нас и Светланка две благодарности имеет,— с прежней, ничем не объяснимой враждебностью опять вмешался Женька.— Вот уж разведчица была так разведчица! В позапрошлом году, помните, в «Рассвете» трех коров свистнули, так она их разыскала...
Сигнал с комбайна — несколько длинных протяжных гудков один за другим — прервал его рассказ. Мальчики замолчали, прислушиваясь и соображая, что бы это могло значить.
— Полотно требуют,— догадался Крутиков и, вскочив, стал быстро скатывать просохший брезент.
— А-э!! Сей-час! — по-степному резко крикнул он в темноту и, вынув из огня длинную головешку, помахал ею в воздухе, следя, чтобы искры от нее не разлетались, а падали обратно в костер.
— Женька, ты бы Алика сменил,— между делом распорядился он, взваливая полотно на спину,— а ты, Алеша, пастухов проведай. Заснут еще, как в прошлый раз, будет нам тогда от Натальи Ивановны. Пусть от пшеницы подальше держатся.
Не переча Крутикову, Женька молча напялил на себя ватник и, не взглянув на Сергея и никому ничего не сказав, скрылся в темноте.
524
Подошедший Алик деловито доставил на огонь медный чайник.
— Механики наши озябнут, хоть чаем их; угостить. А ты, Алеш, сиди: у пастухов порядок, я их проведывал. Стадо далеко от пшеницы.
Алеша, уже собравшийся было идти, остановился в нерешительности. В руках у него была книга. Ему, видно, не хотелось уходить от огня. В это время комбайн снова дал несколько быстрых тревожных сигналов.
— А знаешь что? Это они возчиков вызывают,— сообразил Алик.— Беги за возчиками!
Алеша бросил книгу Алику:
— Читай пока. Приду — отдашь,— и побежал в сторону села.
Алик потянулся за книжкой:
— Ага, «Повесть о настоящем человеке». По второму разу читаем,— и, довольно улыбаясь, стал перелистывать книгу, мимоходом останавливаясь на знакомых местах.
Это был очень складный, красивый мальчуган лет десяти, с умным, сообразительным личиком, бледноватым для степняка, и с узкой, костлявой, какой-то птичьей грудью.
— Замечательная какая книжка! — повторил он, прищелкивая языком.— Мы ее на громких читках, брат, почти наизусть выучили. А что ж,— объясняя свое увлечение, добавил он, откладывая книгу и берясь за чайник,— каждому Героем охота быть, верно? У нас есть один дядька, Мищенко по фамилии, без рук, без ног с фронта вернулся. Хоть в гроб его клади да на кладбище. «Не хочу, говорит, жить — и все». Ну, мы ему и давай эту книжку о Мересьеве вбивать в голову. И что ж ты думаешь — вбили! Гончарук, комбайнер, и Семенов из райкома — знаешь его? — где-то заказали ему протезы, а мы давай его тренировать на ходьбу. Сейчас сторожем на пасеке. Такой агитатор — куда нам до него!
Повозившись с костром и чайником, он смущенно взглянул на Сергея и, кашлянув, спросил:
— А у вас, откуда вы прибыли, тоже Герои есть?
— Есть,— нерешительно ответил Сергей, не зная, так ли это.
52?
— А твой отец — не Герой, нет?
— Шоферам не дают.
— Почему? Всем дают, кто заслуживает. У нас вот в нынешнем году надежда была на трех Героев: на Женькина отца, бригадира, на одну колхозницу да на эту нашу Светлану. Но только никто не дотянется. Председатель Наталья Ивановна обещала нам, ребятам, экскурсию в Москву, если колхоз на первое место выйдет. «Свезу, говорит, на неделю». Ну, мы было уж и план составили, куда пойти, что посмотреть, и так, знаешь, с душой в уборку вошли,— а не выходит. Женька оттого и злой. Жалко, ей-богу! Ты небось в Москве был?
— Нет. Отец был, а я нет,— ответил Сергей.
— Эх, я бы с удовольствием съездил! Охота мне самому везде побывать... да чтоб наш колхоз передовым был... я б все организовал,— не унимался Алик.
Где-то по темной дороге прогромыхала подвода.
— Алешка возчиков погнал. Заснули, должно.
Подводы промчались, но кто-то, тяжко дыша, подходил к огню со стороны степи.
— Кто там? — крикнул Алик, морща лоб и делая лицо строгим и враждебным.— Ты, Алеш?
— Это я,— раздался в ответ голос Крутикова; он сбросил у огня сырое полотно и отдышался.— Там тебя ваш механик требует,— сказал Крутиков Сергею.— Сбегай к нему. А ты ложись спи! — приказал он Алику.— Этот танкист, видать, здоров работать. «До самого утра, говорит, смолить буду, всех вас, говорит, замотаю, никому покою не дам».
Сергей понял, что ему придется идти одному, и невольно замешкался.
— А как идти? Прямо так? — спросил он в тайной надежде, что Алик проводит его, но никто из мальчиков даже не догадался, что ему страшновато.
— Возьми курс на комбайн и сыпь прямиком,— сказал Крутиков, расстилая полотно и не глядя на Сергея.
В двух шагах от костра стало так темно, что хотелось вытянуть вперед руки и идти, как слепому. В черном омуте ночи чудились опасности, неожиданные препятствия, ужасы.
Когда глаза Сергея привыкли к темноте, он стал различать
526
край неба над степью и черные — чернее, чем ночь,— пятна соломенных скирд, прицепных вагончиков, где, должно быть, жили тракторные бригады. Встревоженная птица вылетела из-под самых ног Сергея. Он испуганно отскочил в сторону. Шуршали соломой полевые мыши. Кто-то невидимый сладко и безмятежно храпел.
— Не воду несете? — спросили сиплым шепотом.— Ходют, ходют, покоя нет! — будто дело происходило в укромной спальне, а не в открытой степи.
Потом услышал он звук отбиваемой косы и у самого комбайна наткнулся грудью на грузовик Ерёмушкина. Старик сладко спал, а какая-то немолодая женщина с рыже-седыми волосами, выбивающимися из-под темного в крапинках шелкового платочка, при свете электрического фонаря принимала рапорты бригадиров. Это была Наталья Ивановна, председатель колхоза, как сразу же догадался Сергей. Решительные движения ее полных рук, громкий, командирский голос с низкими, мужскими нотами и багровое, темное на электрическом свету, жесткое и плотное лицо — все выражало сильный характер и непреклонность.
— Третья бригада у нас нынче отстала,— говорила она, взглядывая то на сводку, то на стоящих перед нею людей.— Если завтра не выравняешься, возьмем тебя, Крутиков, на буксир, так и знай.
Крутиков-отец молча развел руками.
— Воду кто сегодня доставлял в поле?
— Я доставлял,— осторожно выступил вперед крохотный худенький старичок с бородкой хвостиком.
— Скошу наполовину твои трудодни, Иван Данилыч. Люди неумытые, чаю скипятить нельзя, ужинали всухую. Что за пустынна Сахару развел?
— При чем тут, Наталья Ивановна, пустыня Сахара, если Крутиков у меня последнюю кобыленку забрал! Не на себе ж носить, как вы считаете?
— А хоть бы и на себе,— спокойно ответила Наталья Ивановна, что-то отмечая в бумажке.— Мог бы на зерновозках подбросить, попутные машины использовать. Не болеешь ты- душой за воду, вот что!
527
Сергей не слышал, что ответил Иван Данилович: грохот комбайна заглушил все на свете.
Светлана стояла у штурвала, а Вольтановский следил за выгрузкой бункера в зерновозки. Жестом руки он велел Сергею подняться на мостик. Растопырив руки и осторожно оглядываясь, Сергей кое-как вскарабкался наверх. Ох, и трясло же!
— Отец где? — крикнул в самое ухо Вольтановский и, узнав, что спит,, недовольно крякнул.— Пойди разбуди его, скажи, что я тут до утра проканителюсь, пусть на первую ездку меня не планирует.
— А вы тут останетесь?
— Не бросать же! Видишь, как дело пошло.
Держась за сырые поручни, Сергей осторожно прошел к штурвалу. Трактор и комбайн, трясясь и покачиваясь, валили в глубину мрака, лишь с самого края скупо освещая лампами. Стоять на мостике было замечательно. Дрожь неясного восторга заставила Сергея поежиться. Ах, как тут было интересно, жутко и удивительно!
Проходили небольшой склон. Светлана тревожно спросила Вольтановского:
— Петя, убавить ход, как думаешь?
Вольтановский, нахмурясь, поглядел вперед:
— Не надо. Я еще скорость ножа, пожалуй, увеличу — хлеб сыроват.
Комбайн, занося вверх левый бок, покачнулся, как на волне.
Никогда еще не испытывал Сергей такого головокружительного ощущения. Ухватившись обеими руками за поручни и для устойчивости немного расставив ноги, он вдыхал дым трактора, как самый праздничный запах. Вот так бы и стоять сутками и, не отрываясь, по-хозяйски оглядывать степь.
«Попрошу Вольтановского взять до утра в связные»,— мелькнуло у него.
— Дядя Петечка,— сказал он как можно ласковее,— ну, пожалуйста, ну возьмите меня до утра связным!
— А чего связывать? — словно не поняв его, спросил Вольтановский.— Нечего тут болтаться. Беги к отцу.
— Может, чаю принести, а? У нас целый чайник сейчас закипит,— вспомнил Сергей.
528
На одно мгновение лицо Вольтановского подобрело.
—- Чаю? — переспросил он, соглашаясь, но потом быстро* взглянул на Светлану и, вспомнив или сообразив что-то, отмахнулся: — Беги скорей, какой там еще чай! Беги!
Сергей заморгал и, посапывая носом, спрыгнул с комбайна и побежал. Он бежал, не разбирая пути: ему думалось, что оп обязательно выскочит на огонь костра, куда б ни бежал, и в самом деле, какой-то свет скоро оказался на его пути. Но странно, это был совсем не костер. Человек десять женщин, одетых просто, но явно по-городскому, сидя и лежа вокруг грузовика с зажженными фарами, готовились ужинать. Они вынимали из рюкзаков и плетенок вяленую воблу, огурцы, яйца, помидоры и все это раскладывали на газетах. Они, должно быть, недавно приехали и наперебой обменивались впечатлениями.
— Мальчик, ты не из молодежной бригады?
— А что? — растерянно сказал Сергей.
— А то, что вы с газетами нас не забудьте, вот что. Скажи — на втором полевом стане городские, пусть там выделят чего почитать.
— Ладно,— сказал Сергей и побежал дальше.
Удивительное дело: куда бы он теперь ни взглянул, всюду
мерцали огни. Как он не замечал их раньше!
— А-алик! — прокричал он, прислушиваясь, но голос его был слаб для степи.— Папа! — крикнул он еще раз.
В темноте, почти рядом, кто-то удивленно рассмеялся.
— Папу какого-то разыскивает,— произнес женский голос.— Это не тебя, Костя?
— Моим по степям рано еще гарцувать,— степенно ответил тот.
Сергей побежал на ближайший огонь. Это оказался костер пастухов. Он повернул вправо. Где-то тут стояли бачки с горючим и возле них дежурил противный, придирчивый Женька, а за бачками должны были стоять вагончики на колесах, но ничего этого он не мог найти. В одном месте при свете «летучей мыши» шоферы латали камеры, в другом при свете электрического фонаря Наталья Ивановна беседовала с лобогрейщиками. Семенов, опершись на велосипед, слушал ее. Первым желанием
Jg Библиотека пионера, т. 7 529
Сергея было броситься к комсоргу и рассказать о своей беде, но он удержался.
«Да это же где-то здесь, рядом, совсем-совсем рядом»,— терзался Сережа и снова наугад несся в темноту, потеряв последнюю надежду разыскать отца в этой удивительной ночной толчее.
Он, вероятно, бежал больше получаса. Волосы его стали мокрыми, он то и дело захлебывался воздухом, и от волнения или от сырости у него нещадно заныли зубы.
И вдруг, с полного бега, едва не наскочив на спящего, он остановился. При свете «летучей мыши» — костер погас — Алеша читал книгу.
— Уф-ф! Я прямо заблудился тут у вас,— забыв свой недавний страх, обрадованно сказал Сергей.
— За тобой Крутиков Вася и Курочкин побежали,— не отрываясь от книги, сообщил Алеша.— С комбайна уже два раза нас вызывали.
— А отец спит?
— Отец твой к комбайну пошел.
Мокрый, с взъерошенными волосами и горячим от пота лицом, Сергей опустился на землю. Как много знал он в городе и как мало его знания оказались полезны в этой степи! Он умел обращаться с радиоприемником, играл в шахматы (правда, плохо), мог набрать номер по телефону-автомату, различал теплоходы по контурам и знал все виды рыб, какие появлялись на базаре. Да что там — знал! Даже закрыв глаза, на ощупь он мог различить султанку от ставридки или кефаль от паламиды. Ему стоило только одним глазом взглянуть на любую машину, как он уже знал, что за марка. Но здешние знали гораздо больше, чем он.
Зубы уже не ныли, а как бы распухали, горели. Сергей готов был попросить Алешу, чтобы разыскали отца, но тот появился сам.
— Где пропадал? — строго начал он, но, сразу заметив, что с Сергеем неладно, остановился.— Что, сынок, с тобой?
— Зубы, папа,— только и мог ответить Сергей.
Отец взял его за руку и, не сказав ни слова, повел к селу.
7
— Что мне с тобой делать? На, положи подушку на голову, согрейся,— недовольно говорил отец, не зная, чем помочь сыну, й злясь на свое неумение, когда они пришли к тете Саше и улеглись под деревьями.— Вера, ты спишь?
— Отстань, пожалуйста,— сквозь сон ответила Зотова.
Сергей вставал и ложился, но боль не давала ему покоя,
гнала прочь сон и то и дело заставляла охать и вскрикивать. Ночь уже посветлела, и было недалеко до зари.
Вдруг скрипнула дверь мазанки, и тетя Саша, в коротком сарафанчике, делающем ее похожей на долговязую девочку, поправляя распустившиеся на затылке волосы, вышла во дворик.
— Что тут такое? — негромко спросила она.— Ты что, Сережа?
Он стоял, прижав к щекам руки и всхлипывая как можно сдержаннее. Она сразу поняла, в чем дело. Каким-то удивительно плавным и легким движением она взяла его на руки и, никому ничего не сказав, понесла к себе в комнату. Сергей до того удивился случившемуся, что замолчал.
Тетя Саша положила его на кровать и, легонько пошлепывая по спине, зашептала сонным материнским голосом:
— Спи, сыночек, спи...
— Тетя Саша...— хотел что-то сказать Сережа, но тетя Саша уже спала.
Он прижался к ее щеке. От нее пахло медом и солнцем.
И был этот запах так радостен, так уютен, так нужен Сергею, что он вдохнул его в себя, как необыкновенно счастливое сновидение, и тотчас же уснул, забыв о боли. Проснулся он, чувствуя себя здоровым и, как часто бывает, в состоянии беспричинной и только ожидающей случая прорваться наружу веселости. Он долго не раскрывал глаз, сладостно поджидая минуты, когда смех вырвется из него, как пробка из квасной бутылки. А внутри уже все ходило ходуном. И первое, что издали донеслось до него, был тот же милый, точно улыбающийся голос.
— На-ка, Оля, погрызи хвостик,— говорила тетя Саша дочке; которая, как еще вчера узнал Сергей, работала с матерью на правах младшего подручного.
531
Скрип кровати и шумное потягивание Оли подсказали Сергею, что девочка, как и он, ждет того лучика солнца, который, защекотав за ухом, вдруг ни с того ни с сего рассмешит до упаду, и тогда уже только и начнется утро.
Сергей не удержался и как можно медленнее раскрыл глаза. Когда их раскрываешь сразу без всяких предосторожностей, окружающие почему-то сразу догадываются, что ты проснулся.
Тетя Саша протягивала дочке селедочный хвостик, а та, потягиваясь с еще закрытыми глазами, шаловливо хватала рукой воздух, стараясь нечаянно коснуться матери.
— Смотри-ка, и Сережа уже проснулся, а ты, дурешка, глаз никак не раскроешь,— с нарочитым упреком произнесла тетя Саша и, сняв со спинки стула розовое платьице, протянула его дочке.
Но та, кутаясь с головой в легкое одеяльце, уже беззвучно хохотала.
Сергей вскочил, натянул на себя еще теплые после утюга штанишки, заботливо выстиранные и подштопанные все той же тетей Сашей, и выбежал в сад.
— Ты сегодня, сынок, поосторожнее с моими пчелками,— сказала тетя Саша, выходя вслед за ним.— Покусали они вашего этого... как его... Вольтановского, что ли. Шут его понес к ульям, немытого да потного!
Она засмеялась, видимо вспомнив, как была потешна эта картина, и ослепительно белые зубы ее сверкнули. Высокая, стройная, с темными волосами, закрученными клубочком на затылке, тетя Саша была очень уютна. Лицо ее, все время красиво улыбающееся то краем губ, то щекой, то глазами, то морщинкой на переносице, было тоже очень простое и, как определил Сергей, совершенно понятное. На нем сразу запечатлевалось то, что она думала про себя.
Сергей умылся под умывальником. На деревянном столике уже стоял завтрак — творог с медом и теплые пшеничные лепешки.
— Ешь, сынок, это я из аванса спекла,— со значением сказала тетя Саша, точно лепешки из хлеба нового урожая должны быть особенно вкусными.
Оля вышла, будто и не была знакома с Сергеем, и долго умы¬
532
валась, что-то напевая. Она — заметил Сергей — даже два раза почистила зубы, и все это для того, чтобы показать, какая она культурная.
Было часов девять утра.
Ранняя прохлада сменялась нарастающей жарой, но под деревьями от их частых резных теней и от опрысканной водою земли еще исходило утреннее благоухание.
Пасека была рядом с домом. Ульи стояли каждый под своим деревом. На верхних крышках лежали вороха сухого сена. Посреди прогалинки на пустом ящике торчала бочка с краном. Солнечными точками вода капала на деревянный лоток. Пчелы деловито суетились по краям этого крохотного потока. Как только тетя Саша вышла в сад, пчелы одна за одной слетелись к ней и так облепили ее шею, руки и плечи, что они сразу стали серо-коричневыми, точно мохнатыми.
— Нектару нет, кушать им хочется. Видишь, пугают они меня: «Давай, мол, хозяйка, есть, а то закусаем до смерти»,— ежась от легкого щекотания пчелиных лапок, ласково говорила тетя Саша.— Дай-ка арбузик, Оля.
Отложив в сторону книгу, которую она как будто читала, хотя за едой читать и не принято, Оля принесла два больших арбуза, расколола их на половины и понесла к ульям. Пчелы полетели следом за нею.
— А разве они едят арбузы? Я думал, они цветами питаются,— спросил Сергей, невольно дивясь уживчивому характеру тети Сашиных пчел.
— Они у меня работящие — чего ни дай, все съедят. На Кубани, как с эвакуации возвращалась, зашла я к тамошнему знатному пчеловоду на его дела поглядеть. Так они у него, батюшки мои, хину с сахарным сиропом ели, лекарственный мед вырабатывали. Вот я от него и научилась. Как цветы сойдут, бахчевые к концу, я на арбузы, на вишневый, на сливовый лист их перевожу. Накрошу листа в сироп, они мою похлебку высосут — такие довольные, такие довольные!.. Пойдем, сынок, я тебя лавандовым медком угощу.
Обогнув дом, она вошла в небольшую пристроечку, окна которой были затянуты марлей. Марлевая занавеска свисала и за дверью. Видно, пчелам вход сюда был категорически запрещен.
533
На полочках вдоль стен лежали соломенные шляпы с сетками, щетки, железные банки с мехами — дымари, проволочные клетки для маток, бутылочки с фитилями вместо пробок — зимние поилки — и много разных замысловатых вещей, о назначении которых Сергей тут же принялся расспрашивать тетю Сашу.
На табурете перед окном, освещенный солнцем, стоял большой бак с медом.
— Это у меня незрелый мед выстаивается.
В левом углу до потолка громоздились пустые кадушки. Сладко пахло медом и воском. Сергей потрогал пальцем искусственную вощину, постучал рукой по кадушкам, но тут все выглядело таким чистым, что неудобно было прикасаться руками; поглядел на плакаты, рассказывающие, как живет пчела.
— Как говорится, во темной темнице сидят красны девицы, без нитки, без спицы вяжут вязеницы! — И тетя Саша поставила перед Сергеем блюдечко меду, похожего на расплавленный драгоценный камень, прозрачного и густого. Он был бы почти бесцветен, если бы не маслянистый блеск, исходивший из глубины его душисто-вязкой массы.
— А лавандовый — это, тетя Саша, из чего?
Оля, до сих державшаяся чинно, не вытерпела й прыснула:
— Лаванды не знает! Ну подумайте!
И Сергей опять превратился в маленького мальчика, который не знает самых простых вещей.
— Здорово пахнет, тетя Саша! Как духи,— похвалил Сергей лавандовый мед.
— Да разве, сынок, духи могут такой аромат иметь? Это ж вся степь наша, весь майский цвет ее, вся радость. У нас весной, сынок, сама иной раз пчелой захочешь быть. Как зацветут сливы, да вишни, да яблони, так с песней встаешь, с песней спать ложишься. А на лугах, сынок, прямо сине от шалфея. А потом касатики пойдут, ирисы по-вашему, да барвинки, гвоздика, тюльпаны — красные, желтые, голубые,— ну, глаз от степи не оторвешь! А пчелки мои как тогда радуются! Прилетит какая-либо с хорошим грузом и давай плясать на сотах — прямо смех и грех! И кружится и кружится, пока всех не растормошит,
534
и такая у них пойдет пляска!.. Радуются хорошему сбору, веселятся.
— А сейчас же нет цветов, тетя Саша. Чем они питаются?
— А бахчи? На огурцовых цветах так и сидят — не слезают. А дыни, а арбузы? Фацелию бы надо специально высеивать, да руки не доходят: молодой наш колхоз, слабый еще. Вот на будущий год приезжай с отцом, у меня тогда особый мед будет.
Но Сергей даже из простой вежливости не мог пообещать, что приедет в будущем году, потому что кто его знает, пошлют ли еще их с отцом на уборочную.
— А теперь, тетя Саша, ваша степь очень скучная: хлеб да хлеб,— признался он.
— А как же хлеб может быть скучный? — всерьез удивилась тетя Саша.— Хлеб, когда его много, большую радость нам дает. А цветы и сейчас есть — шалфея много, маков, ромашки.
— Разве это цветы? — возмутился Сергей. И так ему хотелось похвастаться чем-нибудь своим, что он сказал запальчиво: — У нас даже зимой розы цветут, а лимоны в комнатах у нас растут...
Но тетя Саша любила свою степь и горячо защищала ее:
— Ты, сынок, степи не видел. Ты осенью на нее погляди: дичи сколько, птиц перелетных, зайцев! Ночью идешь в райцентр — шумит степь птичьими стаями, как живая. А наши сады ты видел? Вот как начнем мы глубокие колодцы рыть — артезианские называются — да начнем поливать сады — о-о-о, батюшки мои, что тут будет! У нас, сынок, под степью богатые подземные реки текут, а наверху сухо, душно, неприглядно. А как мы их из-под земли-то достанем да заставим на себя работать, так от нас и в рай не захочешь. Вот зимой поеду я на курсы подземной воды — нам лектор из области про нее рассказывал... На пчеловода я давно уже сдала, теперь меня за сердце вода эта невидимая взяла. И думаю, и думаю о ней — вот захватила же, окаянная!
Справившись со своими делами, тетя Саша прибрала в сторонку оставленное водителями добро, выстирала майку Вольтановского и, набросив на голову платок, сказала, что уходит на склад — помочь сортировке помидоров и огурцов. Оля пошла с матерью, а Сергей остался ждать отца. Сторож Мищенко, вклю¬
535
чив радиорупор, сел послушать городские новости. Можно было выйти одному, поглядеть, что у них тут за степь. Горячая как жаровня, она дышала нестерпимым зноем. Где-то вдали, теряясь в мареве, работал комбайн, слышались сигналы грузовиков, но ничего такого, чего бы Сергей еще не встречал, не попадалось на глаза.
Он долго думал в тот день о подземных реках, и иногда ему начинало казаться, что он слышит, как они шумят под садами и огородами.
«Интересно, а рыба в них есть?» — захотелось ему спросить Мищенко, но он не решился: инвалид, слушая радио, что-то записывал на листке бумаги.
Тетя Саша с дочкой вернулись, когда день, багровея и дыша пылью, уже стал потихоньку приближаться к закату.
Сергея клонило ко сну от скуки. Из всех степей здешняя показалась ему особенно однообразной и утомительной. Может быть, и в самом деле ее лучше всего залить водой и понаделать много маленьких озер и прудов?
— Соскучился, сынок? — спросила, стремительно подходя к дому, тетя Саша.— Оленька, собирай на стол.
Сторож Мищенко выключил радиорупор и, обуваясь, доложил:
— Сегодня четыре передачи подряд, и слышимость такая — не оторвешься. Два концерта, доклад и информация... Вот это дали, можете себе представить! Да, не поскупились... На два вечера я обеспеченный материалом.
На столе появились свежий лук, укроп, огурцы, помидоры. Опрысканные водой, они издавали такой чудесный запах, что могли поспорить с цветами.
— А я уж Олю к тебе сколько раз посылала: «Пойди, говорю, гостек наш скучает»,— точно извиняясь за опоздание, говорила тетя Саша, быстро и ловко расставляя посуду и угощая Сергея.
Оля была совсем не такая насмешливая, как утром, а очень уставшая, простая и добрая. Она, оказывается, заменяла письмоносца, работала в огородной бригаде и помогала выпускать стенгазету. Если бы не сонливость, Сергей разговорился бы с ней, но было приятно молча жевать, ни о чем не думая.
536
Мищенко, обстоятельно рассказав услышанные новости, предупредил, что вечером обещали еще два концерта, и, поскрипывая протезами,, удалился. Путь его, впрочем, был недолог — он осторожно прилег на копенку сена тут же, в саду.
— Может, и ты поспишь? — спросила тетя Саша.— Возьми его, Олечка.
Под деревьями стоял широкий топчан с марлевым пологом. Они забрались с ногами под полог и оказались как в клетке.
— Правду я слышала, что вы с отцом от самого моря к нам приехали? — спросила Оля.— Сколько ж вы ехали?
Сергей ответил, что ехали всего-навсего день.
— Ты мне расскажи про море, я еще ни разу его не видела,— попросила Оля.
Рассказать о море? Как это было просто и в то же время как невыполнимо! Ну вот, живут они у самой набережной. Ну, мимо них в порт входят теплоходы, военные катера и рыбачьи лодки. Море очень большое и сильное.
— Больше степи? — недоверчиво спросила Оля.
— Конечно, больше.
Ну, ловят в нем рыбу, купаются, а с моря в берег всегда бьет волна: рым, рум, рам! Нет, всё это, конечно, было не то,; что следовало рассказать Оле. Ну, растут там пальмы и разные другие деревья, а степи нет и в помине, одни горы. Нет, все это было, конечно, не то, что вставало перед глазами Сергея, когда он вспоминал свой дом и море.
Ольга, однако, осталась довольна его рассказом.
— Я посплю — мне вечером еще идти, а после ты мне опять расскажешь про море.
Сергей мог рассказать только о том, как он сам жил у моря, другого опыта у него еще не было; но, готовясь к вечеру, стал добросовестно вспоминать все, что слышал от взрослых о море. Рассказ получался хороший и очень длинный, что Сергей тоже считал достоинством, но спустя час, когда Оля еще спала, отец уже усаживал его в грузовик.
Их перебрасывали на новое место, а сюда прибыли машины из других районов.
Тевд Саша сунула в руки Сергею газетный кулек с лепешками и баночку меда:
537
— Когда выберете время, заезжайте.—И только успела махнуть рукой, как сад заслонил ее.
Села в этой степи пробегали мимо Сергея, как встречные корабли.
...Темная летняя заря* вздрагивая, потухала далеко впереди. Ожили и зашумели сонные улицы деревни, обессиленные вихрем. Где-то за ближайшим садом тонкоголосо, просяще и вызывающе пробилось сквозь ветер:
Коваль ты мой, ковалечек,
Раздуй себе огонечек,
Раздуй себе огонечек,
Скуй дивчине клиночек...—
и кто-то рассмеялся звонким смехом, перешедшим в шепот.
«А на что, спрашивается, дивчине клиночек? — подумал Сережа, счастливыми глазами оглядывая голубой на юге и раскаленно багряный на западе пламень неба.— На что ей клиночек? Мне бы его...» — и тут сразу припомнил, что находится где-то вблизи тех страшных, по рассказам, мест, где когда-то сражались красноармейцы Фрунзе, а в его, Сережино, время солдаты Толбухина.
Было, однако, очень странно, что до сих пор Сергею не попадались на глаза трофеи с полей сражений. Только однажды приметил он немецкий грузовичок без колес, в котором тетя Саша держала кур, да где-то еще в другом месте — остов сожженного «мессершмитта». Впрочем, сегодня, когда забирали зерно в колхозе «Рассвет», ему показалось, что маленькая лысая собачонка у тока лакала, кажется, из старой немецкой каски, придерживая лапкой край ее, чтобы она не раскачивалась. Но это, собственно, была уже вещь не трофейная, а домашняя, ее неловко было забрать.
— «Коваль ты мой, ковалечек...» — раздалось снова в гущине сада, но совсем близко, и црямо на Сережу, лежащего в кузове машины на зерне, вышла помощница комбайнера Светлана, из того колхоза, где тетя Саша, и смолкла, удивившись машине и мальчику на ней.
— Это чья машина? — спросила она, опять не узнав Сергея.
— Емельянова.
538
— А Вольтановского которая? Эта? И куда его занесло! — сказала она растерянно, не желая, видно, стоять на виду, перед окнами правления МТС, и в то же время не имея сил пройти мимо.
Сергей давно уже не видел Светлану, и сегодня она показалась ему еще необыкновеннее, чем в цервый раз, ночью, когда отец и Вольтановский чинили ее комбайн. Но все это было так давно, так давно! Водители получали документы на бензин в правлении МТС, и Светлана должна была слышать громкий смех и прибаутки Вольтановского. Вот наконец он вышел.
Он двигался, небрежным движением плеч то и дело поправляя свободно наброшенную кожанку, и по его подчеркнутому безразличию Сергей понял, что Вольтановский обязательно в чем-то виноват, и, положив голову на руки, притворился спящим.
*— И где это тебя носило? — еще издали спросила Вольтановского девушка с той ласковой грубостью, которая, как хорошо знал Сергей по опыту с Зотовой, допустима между друзьями и вовсе не кажется обидной.— Второй день глаз не кажешь.
— С Андрюшкой Емельяновым все соревнуемся, никак остановиться не можем,— посмеиваясь, ответил Вольтановский, давая понять, что он относится не очень серьезно к тому, что сообщает.
— Ну, он за тебя возьмется — приемистый парень...— сказала Светлана.
— Не о том речь. Как про себя решила? — перебил ее Вольтановский.
— Да что ж тут решать, Петя! Тут решай не решай — один путь: не поеду я с тобой, Петенька, вот и все решение.
Вольтановский, видно, не ожидал такого ответа.
— Сильно! — сказал он, тряхнув медалями.
— Ну, как я буду в городе жить... Что делать-то буду? И нравишься ты мне, и все, а как-то боюсь я по-твоему поступать. Если б ты у нас остался, другое дело...
— Я человек городской, трудно мне у вас будет, —■ сказал Вольтановский.
Она вздохнула, не возражая ему.
539
— А ты хочешь, чтоб я остался? — каким-то не своим голосом спросил ее Вольтановский. — Да? Скажи твердо.
— Хочу.
Помолчали.
— Схожу к директору МТС, даст комбайн — останусь, — задумчиво, точно для одного себя, произнес Вольтановский. — Без машины я, Светланка, никаких талантов не имею.
— Да ты, Петя, даже посильнее Вострикова, а уж он, все скажут, чистый орел! Я — верь не верь — все равно выйду на Героиню. В нынешнем году не удалось, возьму свое в будущем году. Да нас с тобой как будут уважать, если б ты знал! Почище твоего Емельянова!
Как только Сергей услышал, что заговорили об отце, он до того перепугался, что у него закололо в висках. «Вспомнит она, что я здесь, и подумает — нарочно подслушиваю!» — подумал он в ужасе и смятении.
Немного успокоившись, он лапряг слух, но уже ничего не было слышно. Тогда он осторожно поднял голову, как разведчик, и скосил глаза на сторону. Вольтановского не было, а Светланка, мечтательно улыбаясь и покачивая головой, глядела куда-то далеко-далеко, как глядят слепые, — скорее прислушиваясь, чем видя.
Лицо ее было так красиво и вообще вся она так располагала к себе, что он, залюбовавшись ею, забылся и чихнул изо всех сил. Пшеничные зерна, прилипшие к потному лицу, брызнули во все стороны.
— Ах, чтоб тебя! — негромко сказала Светлана, поведя на него своими строгими глазами, и вдруг, ласково улыбнувшись ему, пошла к саду.
8
Ссыпной пункт был расположен у крохотного полустанка. Высокие тускло-желтые горы пшеницы вздымались вдоль железнодорожных путей. Длинная очередь грузовиков и бестарок пересекала пустырь перед ларьками, где суетились приемщики зерна.
Среди распряженных коней, быков, взъерошенных осликов,
540
бочек с горючим и ящиков с деталями для комбайнов, как на воскресном базаре, шумела толпа водителей, грузчиков, колхозных завхозов, приемщиков хлеба и колхозных ребят. Очередь у ларька с вином и закусками шла замкнутым кругом— выпившие и: закусившие, отойдя от прилавка, становились заново. Между палатками медицинской помощи и агрономической консультации латали рваные камеры, меняли скаты, ковали коней, чинили хомуты. Слепой певец играл на баяне, подпевая зычным басом, и от него далеко вокруг несло свежим луком. Женщина с тяжелой сумкой через плечо, толкаясь, ходила между группами.
— Предложу «Повесть о настоящем человеке»! — говорила она повелительно и строго. — Поповкина «Чистую криницу»" могу рекомендовать. «Крокодил» свежий! Кому «Крокодила»? Про всех написано, между прочим. Кто не читал? «Теплоход «Кахетия»! С точки зрения врача, очень волнующие эпизоды и встречи!.. Конверты с марками!.,» Тебе чего, детка? — вдруг в упор спросила она Сергея, удивленно ее рассматривающего.
— Я просто так...
— Смотри у меня! — сказала она строго, как говорила Вера Зотова. — Кому книжку почитать, ума призанять?
Сергей жил на ссыпном пункте уже пятый день.
Зотова чинила тут свой грузовик и согласилась, чтоб мальчик пока побыл с ней. Дел у нее было много, и она не особенно надоедала Сергею своими придирками, да и он теперь понял, что она не злая, а просто-напросто беспокойная и больше всего на свете любит порядок.
Он бегал за кипятком к железнодорожникам, за новостями на агитпункт, помещавшийся в особом вагоне, где иногда давали просмотреть журналы с картинками, узнавал, который час, в палатке приемщиков зерна, брал ордера на горючее, опускал в почтовый ящик письма отца Антону Антоновичу и письма Вольтановского Светлане. Его многие знали, и сам он знал многих. Однажды встретился ему Яша Бабенчиков.
— Здорово, Яша!—бодро и словно равного с ним приветствовал его Сергей, и не сразу узнал тот в черномазом, запы¬
541
ленном и загорелом мальчугане робкого и трусоватого горожанина из автоколонны.
— Здорово! — отсалютовал Яша со снисходительным благодушием.— Ты чего тут?
— Сводку районную только что передавали..* Жмут вас, Яша, — ответил Сергей тоном, на который не рискнул бы две недели назад.
Тот нехотя объяснил сквозь зубы:
— Чиляева впереди, а весь колхоз позади — скандал прямо. Семенова не было?
— Был с вечера, потом куда-то уехал.
— Ты ему передай—к нам бы ему заехать. Так, слушай, и скажи: «Бабенчиков просил». Понял?
Встретил Сергей здесь как-то и Светлану, помощницу комбайнера, но она не узнала его, а Сергею очень хотелось расспросить о тете Саше, и он долго ходил взад и вперед перед Светланой, но она не окликнула его.
Когда Сергей попал на ссыпной, его вначале испугало, что он потеряется среди взрослых.
Эх, был бы он старше хоть года на два, сколько увлекательных дел выпало бы сейчас на его долю! Местные ребята, Сергеевы одногодки, не теряли времени зря: они стерегли зерно и горючее, получали почту, сдавали овощи.
«Откуда они все знают и все умеют?—завистливо думалось Сергею. — И почему я ничего не умею и во всем отстаю, будто вчера родился?»
В своем родном городе Сергей только издали присматривался к жизни взрослых, ведя свою особую, маленькую, а тут для всех была одна жизнь, и ребята здесь были хозяевами наравне со взрослыми. И однажды утром Сергей пошел в агит-, пункт послушать сводку, а потом сообщил ее Зотовой. На другой день принес ей газету и сообщил, какую картину готовит на вечер киномеханик.
С той поры дел у него появилось множество.
— Емельянов, медпункт когда открывается?.. Сергей, сбегай, достань газетку!.. Сережа, не видал приемщика? Беги, скажи, что три машины прибыли, ждать некогда.....Сережка, севастопольских никого нет?.. —то и дело слышал Сережа,
542
Он уже всех знал; Севастопольские и керченские шоферы, алуштинские и симеизские школьники, евпаторийские солевары — все были у него на глазах.
Сегодня он ожидал отца. Предполагалось, что отец приедет с зерном в середине дня и останется на ночь. Зотова же поедет вместо него.
День выдался беспокойный. Зерно не успевали принимать и грузить в вагоны. Рабочих рук не хватало.
Подъехал на самоходе Тужиков, секретарь райкома, долго совещался с приемщиками зерна и железнодорожниками и уехал расстроенный. Агитвагон закрыли. Киносеанс был заранее отменен. Отец разгрузился и тут же уехал, только махнув рукой. Как-то так случилось, что уехала раньше намеченного срока и Вера Зотова, но сейчас это нисколько не испугало Сергея — он знал, что отец и все остальные из их колонны вернутся к вечеру. Днем же все равно нельзя было ни поесть, ни отдохнуть из-за утомительной духоты, которая все время под- нималась, как температура у больного.
Небо запылилось и стало сереть, блекнуть, над горизонтом набухала темная, быстро нарастающая полоса. Ветер был совсем не тот, что у моря, а горячий, как поджаренный; он бил в лицо крупной пылью пополам с зерном и вдруг точно свалился вниз с высоты и разлился вокруг шумным паводком. Кто-то странным голосом крикнул:
— Черная буря!
Уже несло через пустырь палатки, фуражки и кепки, стучали ставни киосков, звенели разбитые стекла.
— К хлебу!.. К хлебу!.. — закричали со всех сторон.
Холмы зерна завихрились. Зерно тучей понеслось в воздух.
Народ на мгновение растерялся. Сергей вместе со всеми очутился у ближайшей горы хлеба. Его толкали, наступали ему на ноги, кто-то кричал ему, но он не заплакал и не испугался, ему было страшно не за себя; вместе со всеми он переживал случившееся.
Вдруг с проходившей мимо дрезины что-то свалилось вн^з по откосу железнодорожного полотна. Свалилось, вскочило и побежало к зерну. Сергей узнал Тужикова, секретаря райкома партии, и Семенова. Они вскарабкались на склон пшеничной
543
горы и показали куда-то руками: туда, мол, туда все! Две девушки-колхозницы уже тянули широкий и длинный брезент. К ним подскочили люди, и десятки рук завели брезент с подветра. Мало! Тужиков показывал руками, что нужно искать еще. Волокли брезенты с машин, фанерные щиты, одеяла.
Сергей растолкал людей и вынесся за их тесный круг. В кузовах стоящих на ремонте машин он еще утром видел брезенты.
— Сюда! За мной! — кричал он, или ему казалось, что кричит, — он не помнил. За ним побежали ребята из колхозов. — Берите! Вот он! Еще один! Тащите!
Удивительно, как его не остановили, не спросили, кто позволил распоряжаться. Чьи-то сильные руки подхватили найденные брезенты и понесли к зерну.
Лужа тавота каким-то образом очутилась под ногами, и он распластался в ней, как лягушонок, но тотчас поднялся, даже не оглянувшись, чтоб посмотреть, смеются над ним или нет. Какое это имело значение!
С ног до головы вымазанный, до смерти уставший, но бесконечно счастливый, долго носился еще Сергей вокруг хлебных гор, подтаскивая откуда-то куски фанеры, доски или просто камни.
Суховей свирепствовал много дней. В домах не разжигали печей, в полях не разводили костров. От пыли, остьев и половы, тучами гонимой по полям, останавливались моторы машин. Куры не покидали насестов. Перестав лаять, собаки неловко бегали боком.
Берег колхозного ставка был мокрый, как после дождя. Ветер выхлестывал воду и поливал плотную, прибитую людьми и скотом землю. Воды в ставке стало заметно меньше, она испарялась на ветру, как в духовке. Немало стекол побито в хатах, немало повалено плетней и разбито глечиков, сушившихся на частоколах, немало поломано деревьев и сбито яблок. Взъерошенные, мятые, стояли огороды с поломанными кустами помидоров, с расхлестанными и рваными огуречными и тыквенными плетями.
Еще одно усилие ветра — и полетят вниз крыши, затрещат
544
стены домов, и раскаленный воздух воспламенит все, что любит гореть, а тогда не унять беды.
В колхозе «Победа» приостановили вывоз хлеба, в «Борьбе» снеслл на тока все простыни и одеяла, чтобы укрыть зерно, в «Третьей пятилетке» сутками дежурили у насосов и колодцев.
Шел жестокий степной шторм. Зеленые кроны деревьев свернулись, пожухли. В воздухе тревожно запахло гарью. Может быть, уже где-то вдали заполыхала степь, и на много верст в ширину, гонимое ветром, пламя мчится сюда, все истребляя на пути?
Сергей ни на минуту не отлучался от отца, отец не покидал машины по целым суткам.
Вечером прибыли они в знакомый колхоз «Новая жизнь» и остановились часа на два передохнуть у колхозного агронома Федченко.
Когда, наскоро умывшись, Сергей вошел в низкую, густо заставленную фикусами комнату и увидел в большом, во всю стену, трюмо отражение мальчика в грязно-рыжей, порванной на локтях рубашке, с жесткими вихрами на недавно еще опрятной и коротко остриженной голове, он не сразу узнал себя. Пожалуй, теперь он отдаленно напоминал Бабенчикова, только тот был покрупней и как-то размашистее.
Но лицо Сергея безусловно приобрело черты мужества и отчасти геройства; по крайней мере, он находил их в себе, без стеснения рассматривая в зеркале свой новый и, как ему казалось, приятный облик. Лицо его горело от ветра, глаза были красные, воспаленные, в ушах позванивало и ныло.
— Не думаешь ты о ребенке, Андрей, — нравоучительно сказала Вера Зотова. — Ребенку уход нужен, мать ему нужна... Верно я говорю? — спросила она у жены Федченко, и та согласилась с ней.
Отец ничего не ответил, а женщины, точно боясь, что Емельянов превратно поймет их, еще горячее заговорили о том, что мальчику нужна семья. Они показывали на его измазанную рубашонку, на грязные колени, на вихрастую голову, и выходило так, что один отец виноват во всех несчастьях и горестях Сергея.
546
Но Сергей не чувствовал себя ни обиженным, ни несчастным. Он шепнул отцу, молча сидевшему у окна:
— Пап, они ничего не понимают. Мне очень хорошо было, ты знаешь... и ничего плохого я не делал... честное ленинское...
Не ответив, отец привлек мальчика к себе. Грудь его дышала толчками, точно он задыхался от бега.
Вошел Федченко и, дымя цигаркой, спрятанной в рукав, сообщил последние новости: звонили из райкома, что у соседей два пожара, и требовали установить ночные дежурства у складов.
—- И потом, такая, знаете, история, — сказал Федченко и осторожно присел на стул: — Тольятти ранен, знаете. В Риме. В грудь навылет.
Жена Федченко негромко ахнула.
— Вот оно как, — впервые отозвался отец, все еще глядя в окно на багровеющий вечер. — За то ранили, что коммунист. За то, что поперек горла стал сволочам! — Он повернулся вместе со стулом. — Ты тут секретарем, товарищ Федченко?
— Он, он! — быстро сказала жена агронома, глядя на Емельянова, словно он допрашивал ее, а она созналась.
— Я буду такого мнения, — продолжал Емельянов, — всему вашему народу сегодня работы по хлебу не прекращать ни в коем случае. Понятно? Зотову, Ерёмушкина, моего пацана, да и ваших всех — на посты по селу. Я и Вольтановский — на круглосуточную езду. Валяй, оформляй, а мне дайте чаю стакан, если можно.
Женщины и Федченко молча вышли из комнаты. Отец потер лицо бурыми от масла руками, точно умыл его, и Сергей, не раздумывая, прижался щекой к этим уставшим, жестким, родным рукам.
— Ты знаешь, пап, что я тебе скажу,— забормотал он, давясь слезами,— ты, честное слово, даже лучше, чем Семенов.
— Спасибо, сынок, спасибо, с хорошим человеком ты меня сравнил, — тоже волнуясь и не стыдясь своего волнения, сказал отец, гладя Сергея по голове.
Потом они замолчали и, прижавшись друг к другу, долго еидели молча, глядя на быстро мрачнеющий дымно-багровый вечер, бегом переходящий в ночь.
547
Позже, дежуря в колхозном правлении у телефона, бегая, из правления в пожарный сарай, а оттуда на край села, к отдельным постам, и еще дальше, в полевые станы, Сергей все время чувствовал грудь отца рядом со своею, его руку на своей голове и его сердце внутри себя, и что-то новое, сильное, совсем уже не мальчишеское, только не нашедшее пока своего проявления, росло и крепло в нем.
Ночью Вера Зотова обошла все бригады, рассказав о Тольятти. С ее слов Сергей информировал здешних ребят. Ждали последних известий о его здоровье. В полночь приехал Тужи- ков, с ним — Емельянов.
— Ну как, пап, что? —- спросил Сергей.
А Тужиков, не разобрав, к кому обращаются, сказал:
— Ничего, ничего, отстояли.
— Он, товарищ Тужиков, о Тольятти интересуется,— объяснил отец.
— А-а! — Сонные, уставшие, едва глядящие глаза Тужико- ва остановились на Сергее.— Ранен серьезно, но, видимо, вытянет.
Трое ребят, как по команде, выскочили за дверь.
— Это что такое! Почему? — спросил Тужиков.
Сергей ответил, что связные побежали в бригады, где с часу на час ожидают известий о раненом.
— А, да это твой ведь,—вдруг улыбнулся секретарь.— Говорили мне о нем, говорили. Смотри, пожалуйста, какой замечательный болыневичок растет... Ишь ты!
С той ночи Сергей часто встречался с Тужиковым. У него была удивительная и не совсем понятная Сергею профессия — партийный работник. Раньше Сергею думалось, что все партийные работники, вроде Веры Зотовой, Только и делают, что заседают, агитируют., выводят народ на субботники и делают доклады. Теперь же, на примерах Семенова и особенно Тужико- ва, который был, надо признаться, еще занятней и необыкновенней Семенова, получилось так, что партийная работа — самая тяжелая и самая интересная, потому что она — все.
Много удивительных вещей услышал Сергей от Петра Петровича Тужикова о том, как подкармливать всходы пшеницы,
548
как поливать сады перед цветением, как рыть колодцы, как читать книги.
Узнал он о том, что степи скоро не будет, что ее перегородят садами, и тогда никакой суховей не будет опасен людям. Узнал, что подземные реки очень просто извлекаются наверх — их всасывает ветряной двигатель, что Гончарук отличный комбайнер, но мастер выпить, а Востриков тоже замечательный комбайнер, но болен язвой желудка, и, когда посылали комбайнеров на помощь сибирякам, все-таки остановились на Гон- чаруке, хотя он и отстал от других.
— Горячий старик, самолюбивый, и в Сибири не подведет,— утверждал Тужиков, и Сергей не мог понять, откуда Петр Петрович это заранее знает.
А когда однажды Тужиков на грузовике Емельянова попал па вечер колхозной самодеятельности, он посоветовал, где взять ноты и где купить гитары.
Удивительная, прекрасная была у него работа! Он так много знал, что даже как будто обижался, когда его ни о чем не расспрашивали. Но Тужиков, как понял Сергей, не такой человек, чтобы от него было легко отвязаться. Он сам начинал расспрашивать людей о том, чего не знал, и доставалось же тогда тем, кто не умел объяснить ему дела! Перед тем как заснуть, он всегда звонил в райком и домой, расспрашивал об уборке, о здоровье дочки и засыпал потом быстро и нехотя, как человек, делающий глупое, но неизбежное дело.
Сергей побаивался его. Тужиков мог, чего доброго, и мысли узнавать.
9
Уборка подходила к концу. Колонна Емельянова давно уже разбрелась по колхозам. Теперь подошли машины из Севастополя, из Керчи, из Феодосии, и ранее прибывших начали понемногу возвращать домой.
Первым уехал Ерёмушкин, за ним дядя Жора, на очереди был Вольтановский, но он уступил свою очередь сначала Зотовой,^ потом Емельянову. Он уверял, что у него не в порядке
549
сцепление, и подолгу ремонтировался в той МТС, где работала Светлана.
Емельянов не стал спорить.
— Ладно, оставайся, а я поеду. Сережка у меня замучился — перед школой ему отдохнуть надо.
Петр Петрович Тужиков, сначала уговаривавший Вольта- новского ехать, тоже почему-то вдруг согласился на отъезд Емельянова.
Узнав, что завтра на рассвете они поедут домой, Сергей, как ни странно, нисколько не обрадовался известию. Он и сам не мог понять, хочется ли ему домой или он еще поездил бы по этой степи, которой конца нет; но одно было ясно: после всего пережитого он не мог уже стать прежним Сергеем, которого не пускали одного к морю или в кинотеатр. Но что же тогда делать дома?
Ах, но ведь и дом-то, наверное, изменился с тех пор, как они выехали с отцом. Конечно, не самый дом, но вообще все вокруг. Да нет, не все вокруг изменилось, а просто-напросто Сережа стал взрослым мальчиком. Оказывается, глаза его до сих пор еще не все видели; теперь же они широко раскрылись, и, конечно, дома обнаружится что-то, чего он не замечал до сих пор.
Безусловно, Сеня Егоров уже ходил с отцом в море, а Толька Козловский копался с дедом в питомнике «Зеленстроя». Если они этого не делали, тем лучше для него, Сергея. Он убирал хлеб! Он вспомнил серенького котенка у себя во дворе, который долго не мог видеть без страха катящийся мяч, а потом самозабвенно играл всем, что двигалось, и улыбнулся: котенок напоминал его самого. Да, дома обнаружится сейчас много нового. Домой, домой!
Накануне их возвращения домой стоял тишайший степной вечер. Стрекозы стаями шныряли над пыльными акациями, разрисовывая воздух зигзагами своих полетов. Сергей любовался красотой млеющей после трудов степи. Она широко и глубоко простиралась перед ним.
Отец пересмотрел запасные камеры, почистил свечи в моторе, проверил и подтянул тормоза и долго заливал в бак горючее, что-то записывая и подсчитывая в своем блокноте.
550
— Интересная, брат, у нас вещь получается,— весело ска- вал он Сергею.— По всем данным выходит, что литров под тридцать горючего я сэкономил. Таким образом, можем мы с ва- мй, Сергей Андреевич, новым путем домой отбыть. Через другой перевал. Помнишь, рассказывал я о нем?
— Помню,— ответил Сергей.— А может, там дорога плохая и резину только запорем?
Но отец хотел сделать приятное Сергею и отмахнулся от его возражений.
— Дорога там замечательная! Да и короче выйдет,— сказал он твердо.
Вот и конец всему, что пережито.
Прощай, степь!
Прощайте, короткие ночи среди новых людей и длинные- длинные дни среди других новых людей!
Прощайте, комбайны!
Прощайте, ураганы!
Прощайте, стрекозы!
До новой встречи!
— А к тете Саше мы не заедем? — вдруг, сам не зная почему, спросил он и покраснел: сердцу его хотелось сказать совсем другое. Возвращение по старой дороге было необходимо, чтобы показать себя новым, каким он раньше не был, и тете Саше с ее молчаливой Олей, и Бабенчикову, и Чумаковой, между тем как на пути к новому перевалу его никто не знал.
— Это какая же тетя Саша? — спросил отец прищурясь.
Среди людей, промелькнувших перед ним, она не занимала
того места, которое отводил ей в своей душе Сергей. Не сразу поэтому предстала перед ним ночь на пасеке, зубная боль Сергея и темный силуэт женщины, по-матерински прижавшей к себе приезжего мальчугана. Не сразу припомнил он восторженный лепет сына о каких-то подземных водах, мёде, о безногом инвалиде войны — агитаторе. Жизнь входила в его мальчика широким, как степь, раздольем.
— Ну что ж,— сказал он, вставая и гладя Сергея по голове.— Раз такое твое желание... заедем ко всем твоим...
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!
...Чтобы,
умирая,
воплотиться,
в пароходы
в строчки
и в другие долгие
дела.
Эти стихи В. В. Маяковского всплыли как-то сами собой в памяти, когда мне довелось подняться на одну из сопок, которые окружают Дарасун... Небольшой город, как и многие другие города и населенные пункты Читинской области, раскинулся у подножия сопок. Приезжему человеку сопки кажутся горами, таящими что-то загадочное. Хочется достичь вершины. По пути к одной из них я встретила мальчишек. Они бежали вниз. «Ребята, далеко еще до вершины?» — «Не-ет, не очень. А зачем вы туда? Там никого нет»,— ответил тот, который был ко мне ближе. «Зачем?! Да так. Просто интересно на Дарасун посмотреть сверху. Наверно, красиво...» Мальчишка еле заметно пожал плечом и, не скрывая иронии, посоветовал: «Идите, раз интересно. Держитесь чуть правее, будет легче подниматься». И мы расстались: ребята устремились вниз, а я медленно пошла к вершине. Еще и не дойдя до нее, увидела картину, которую забыть невозможно.
...В ярком предвечернем солнце синела река, перерезающая Дарасун на две части. Дома раскинулись на противоположных склонах и у подножия сопок. Они еле заметно будто движутся к реке, друг другу навстречу. За домами — огороды, поля. А еще выше — зеленый таежный лес. Был конец мая. Цвела черемуха. Казалось, кто-то разбросал пышные белые облака над темными крышами домов... Вот-вот налетит обычный для этих
552
мест резкий ветер и поднимет их, понесет к вершинам сопок, к зеленому лесу. А сейчас по нему местами разлита густая сиреневая краска. Это багульник — сибирский красавец.
«Что, нравится?» Ребята возвратились и неслышно остановились рядом. «Что тут красивого? Багульник и черемуха скоро отцветут. Поля да тайга, эка невидаль...» — «А многие мечтают побывать в тайге, в забайкальских степях. Да и вам, видимо, интересно здесь. А то зачем бы сюда поднимались?» — возразила я. «Зачем? Затем, чтобы взрослым там внизу глаза не мозолить. Потому что делать нечего. От скуки...»
Вот тут и начался наш разговор. Самым неуступчивым оказался шестиклассник Олег Чугуев. Это он уговорил своих друзей не соглашаться ехать в пионерский лагерь, чтобы избежать регламентированной жизни. В лагерь не поехали, занятия полезного не нашли. От ничегонеделания жизнь потеряла краски.
А сколько их вокруг — и красок и дел! В Дарасуне, где живут эти ребята, как и в ближайшем райцентре Карымской, мало садов, почти нет цветов. «Почему бы вам не заняться озеленением своего поселка? Как хорошо, когда дома утопают в зелени».
Я рассказала ребятам о том, как хорошеет Москва, пересекаемая зелеными проспектами. Как в одном из сел Костромской области ребята организовали соревнование на лучший цветник возле дома... «Нам не доверяют. Мы еще дети. Нам отдыхать и закаляться надо...» — явно кого-то передразнивая, возразил Олег. «Не доверяют вам или самим не хочется что-то полезное делать? Разве, ухаживая за цветами или сажая кусты багульника вдоль улиц и вокруг домов, вы не отдохнули бы от школьных занятий лучше, чем в ничегонеделании?»
О многом говорили мы с ребятами в тот день. Лучше всего закаляться в деле, особенно если дело твое умножает Красоту на земле. Каждый человек и может и должен делом доказать, что он не гость в жизни, а ее хозяин. А детство — не только подготовка к взрослой жизни, но и само — полноценная жизнь, если наполнена деятельностью и радостью. Чтобы подтвердить эту мысль, я и рассказала дарасунским мальчишкам об их сверстниках — героях трех повестей, которые объединены в этом томе «Библиотеки пионера». И сейчас, обращаясь к тебе, чи¬
553
татель, я хочу поделиться тем, что, как мне показалось, было интересно моим далеким дарасунским друзьям.
...Разные и неповторимые судьбы у героев книг «Степное солнце» Петра Андреевича Павленко, «Мы — ребята живучие» Ивана Киреевича Серкова, у Клавы Назаровой и ее друзей, которым посвящена повесть «Клава Назарова» Алексея Ивановича Мусатова. Но главное в них едино. Это — внутренняя готовность вместе со взрослыми участвовать во всем самом главном, в большом и самом трудном, что есть в жизни. И заметьте, наибольшее удовлетворение человек получает именно тогда, когда он — на стремнине, в гуще событий, на главной линии наступления.
Сережа Емельянов, герой «Степного солнца», даже меньше моих дарасунских собеседников. Ему десять лет. Казалось, мальчику предстояло прожить лето скучно, тоскливо, возможно, так, как начинались каникулы у Олега Чугуева и его друзей. Но случилось иначе — отец взял Сережу на уборку хлеба в колхоз. Заметьте, не в сказочное путешествие, не в далекий морской рейс, нет,— в обычный степной колхоз... Конечно, мальчишка мог бы остаться в стороне от трудной уборки обильного урожая, мог быть просто гостем, отдыхать. Но Сергей не хотел и не мог быть лишь созерцателем происходящего. Он стал активным участником уборки урожая, поэтому и узнал, как интересно вместе со всеми трудиться, познал ни с чем не сравнимую радость коллективного труда. Если бы он сам не пошел в поле, то не узнал бы «что хлеб убирать — красивое дело», как, впрочем, красиво и радостно каждое дело, полезное людям, если, тем паче, выполняешь его охотно, как дело для тебя лично совершенно необходимое.
Вспомните, Сергея никто не заставлял встать на вахту по охране автоколонны, прибывшей на уборку. Была уже глубокая ночь, когда колонна въехала в спящий степной колхоз. Отец Сергея пошел искать уполномоченного по хлебозаготов-> кам. Сергей остался при машинах. «Долгая тряска по раскаленной степи утомила его ужасно. Степь в июльский полдень была невыносимо душна, воздух был горяч и противно дрожал в глазах и еще противнее верещал голосами цикад. До сих пор у него звенело в ушах и хотелось пить». Не правда ли, эта.
554
лаконичная характеристика состояния героя точна и позволяет нам ясно представить и почувствовать, как он устал, как ему хотелось спать, отдыхать...
Писатель помогает нам, читателям, глубоко проникнуть в настроение героя, почувствовать атмосферу ситуации: «Ночь была сухая, жесткая, без прохлады, и беспокойный звук цикад еще стоял в воздухе, сливаясь с отдаленным лаем псов и криком лягушек в какую-то раздражающую мелодию. Казалось, воздух скребут жесткими щетками. Летучие мыши, как черные молнии, мелькали у лица. Ему стало не по себе». Читая, мы будто слышим эту «раздражающую мелодию» и ощущаем усталость Сережи, его напряженность, его как бы заброшенность в этой «жесткой» ночи. Понятно, что мальчишке хочется спрятаться в кабине отцовской машины, уснуть там, чтобы только не слышать этой «раздражающей мелодии», создаваемой отдаленным лаем псов и кваканьем лягушек. Он тихонько позвал шофера дядю Жору. Но тот не ответил. Сон свалил и дядю Жору и других шоферов.
«Заснули,— недовольно подумал Сергей,— а за машинами теперь я наблюдай, самый маленький, будто я не хочу спать. Я, может быть, еще больше хочу, чем они...» — это так про себя, тихо проворчал Сергей и, ни секунды не колеблясь, стал прохаживаться вдоль колонны машин. Было жутко. Для храбрости он чуть подсвистывал. Вспомнил, что дома оставил палку, которая теперь очень бы пригодилась. Эта на первый взгляд незначительная деталь еще раз обращает наше внимание на то, как жутко было Сергею. Не случайно он вспрыгнул на подножку машины отца и потянулся рукой к сигналу, когда из темноты раздался злой мужской голос: «Это кто тут? В чем дело?» Нам интересно наблюдать Сергея в такой ситуации, мы убеждаемся и в его смелости, и в том, что он чувствует себя не гостем на земле, а ее хозяином. Он и в трудной ситуации находит свое место там, где для общего дела необходимее.
Под стать Сереже и другие колхозные ребята. Яша Бабенчи- ков всего лишь на два-три года старше нашего героя. Однако он сумел не только сам включиться в большие дела взрослых, но и всех сельских ребят организовать в дружный работающий отряд. Все по праву гордятся своими делами:
555
«— Мы всю, всю школу сами восстановили! — говорит Зина Сергею.
— Школу —это что! А мы целый парк сделали, где пустырь был.
— И деревья посадили?
— И деревья, и цветы, и дорожки сделали...»
Не удивительно, что, когда и взрослые и дети увлечены большими полезными делами, всех роднит, объединяет всеобщий подъем, доверие, взаимоуважение. Вспомните, как Сергей неожиданно для себя пришел к приятному заключению, что на него стали иначе смотреть взрослые люди: не как на маленького, «ничего не понимающего ребенка», а как на равноправного труженика. Тут «все советовались друг с другом, не стесняясь, что одному много лет, а другому мало». До приезда в колхоз Сергей лишь издали присматривался к жизни взрослых или, как дарасунские ребята, убегал от них «с глаз>долой». И было ему скучно. Главные радости жизни проходили мимо. А здесь, в колхозе, «для всех была одна жизнь, и ребята здесь были хозяевами наравне со взрослыми».
Родственны, близки по духу Сергею Емельянову и «ребята живучие», герои повести Ивана Серкова. Жили они в другом краю нашей великой Родины — в Белоруссии. Каждый четверо тый житель этой республики погиб во время Великой Отечеств венной войны. Были разрушены города, многие деревни полностью уничтожены. Вспомните Хатынь. В ней не осталось ни одного дома. Теперь на месте сожженной деревни — монумент тальный памятник. Он напоминает нам о том, чего забывать нельзя. И повесть Ивана Серкова «Мы — ребята живучие» дорога прежде всего тем, что помогает живо перенестись в те дни 1945 года, когда Советская Армия победоносно заканчивала разгром фашистов. Читая повесть, мы как будто включаемся в жизнь села, где на наших глазах люди постепенно налаживают мирную жизнь, борются с голодом, разрухой и другими последствиями войны. Заметьте, повесть написана с юмором, язык ее точён, сюжет включает много острых ситуаций: веселых, смешных, драматических.
Вспомните, к примеру, щепотку черной соли. Как радуется ей бабка Мотя. И как много этим сказано о бедствиях людей,
556
находившихся на территории, оккупированной хищным врагом. Соедините мысленно представления, связанные со щепоткой черной соли* с тем чувством, которое испытывают герои повести от вареной картошки, с думой о первом послевоенном урожае. Задумайтесь еще раз, почему Ваня Сырец отказался от путевки в Артек. Почему так горько переживала бабка пропажу старого френча. Представьте возвращение людей из леса на пепелища, оставшиеся на месте родных домов. Вспомните молодого танкиста, на гимнастерке которого было много желтых нашивок — свидетельств тяжелых ранений... И вам станет ясно, что это значит: «Воздух в селе пахнет мокрым пеплом».
Большая удача Ивана Серкова, на мой взгляд, в том, что писатель правдиво передает атмосферу послевоенного времени, заживления тяжелых ран войны. А еще в том, что повесть убеждает нас: советских людей никакой враг не может поставить на колени, не может сломить нашу веру в торжество справедливости, человечности. Всеми своими действиями, настроением, устремлениями и взрослые и дети — герои повести — подтверждают ее заглавие.
«Пусть наши враги не думают, что мы заплачем, не на таких напали». Это Ваня Сырец говорил самому себе, когда вез мертвого дядю из госпиталя. Мальчику пришлось одолевать неимоверную усталость, слабость, мороз и страх: в лесу свирепствовали голодные волки. Он чуть не замерз дорогой. Простудился. Тяжело заболел... Но вкжил. И в этом — большой смысл: выжил вопреки всему, оказался сильнее смерти.
Если задуматься и проанализировать характер Вани Сырца и его друга Саньки Маковея, то нельзя не прийти к заключению, что удивительная их выносливость непосредственно вытекает из их деятельной жизни, из их веры в торжество Добра: из того, что они — настоящие советские мальчишки. Они чувствуют себя хозяевами в своей стране и действуют как люди, ответственные за все происходящее. Нет в них ни преждевременной взрослости, ни скучного рационализма. Они по-мальчишески задорны, озороваты. Но главное в них — потребность быть полезными людьми. Вспомните, они с радостью идут работать на колхозное поле во время посевной. Ваня сам делает жернова. Он, как взрослый, деловито и охотно помогает
557
строить дом для тети: пилит, сплавляет лес... И все делает мужественно, с выдумкой: «Еще никогда в жизни мне не приходилось вязать плотов, но я так понимаю: хочешь — свяжешь». Вот в этом «захочешь — сделаешь» — ключ к пониманию удивительной умелости и стойкости Вани. В этом секрет его привлекательности и удачливости. Как бы пройдя вместе с ним через многие испытания, мы радуемся его вступлению в комсомол, окончанию школы. А провожая его в военное училище, мы представляем его дальнейшую прямую и деятельную жизнь и убеждены: не свернет он на обочину, не «поплывет» по течению, не изменит высоким принципам. И если бы пришлось Ивану Сырцу оказаться в городе Острове в те грозные военные дни, когда Клава Назарова организовывала подпольный пионерско-комсомольский отряд, он, конечно, был бы рядом с героической пионервожатой...
Памятник Клаве Назаровой в Острове воздвигнут на широкой площади. Он виден издалека. Спокойное, красивое, гордое лицо. Те, кто знал Клаву, а таких и сегодня в Острове много, утверждают, что скульптору удалось передать главное: романтичность, возвышенность и доброту Клавы, ее целеустремленность и обаяние. Я была в Острове в июне 1971 года. Через тридцать лет после начала Великой Отечественной войны. Помню, возложив охапку полевых цветов к подножию памятника, мы долго стояли молча. К нам подошла девочка. Облупившийся от загара нос, аккуратные косички, подкупающая свобода в обращении. Постояв несколько секунд молча, она сказала с достоинством: «Это наша вожатая. Хотите, покажу ее школу. Я тоже там учусь». Заметьте, девочка, родившаяся много лет спустя после смерти Клавы Назаровой, гордо говорит — «наша вожатая».
Да, Клаву помнят в Острове. Она живет в добрых и хороших делах островских пионеров и комсомольцев. К ней вполне относятся стихи В. В. Маяковского, приведенные в начале этой статьи. Теперь и вы, прочитав повесть Алексея Мусатова, как бы лично познакомились с Клавой Назаровой и, конечно, полюбили Клаву и ее отважных друзей.
Замечательна, удивительна Клава Назарова, непобедимый, отважный руководитель комсомольского подполья во время вой-
558
ны. Такой же она была и в мирное время. Вспомните, какой она была выдумщицей на интересные дела. Как объединила девочек и мальчишек в общество «Дрохи» — дружных рыбаков и охотников. Как воевала за Борьку Капелюхина...
В небольшом городе Острове жила девочка Клава Назарова. Ее родной город даже чем-то похож на Дарасун, хотя раскинулся он не в Забайкалье, а в Псковской области... Клаве некогда было скучать, потому что не была она равнодушной. И все, кто был рядом с ней, всегда были заняты увлекательным и полезным делом. Всех умела она зажечь интересом к окружающему, к жизни других ребят. Не убегали «дрохи» от жизни, от различных добрых дел. Они шли сами туда и к тому, где были нужны. Не искали покоя, а стремились к полезному действию.
Закономерно, что и во время войны Клава и ее друзья отважно включились в смертельную схватку с врагом. Возможно, кто-нибудь и не нашел бы своего места в строю, если бы не Клава: ее пример, когда-то заражавший ребят в школе, вдохновлял их и во время войны. Вспомните, как обрадовался Федя, когда узнал, что Клава осталась в оккупированном гитлеровцами городе. «— Клаша здесь?! — воскликнул он... Весть о том, что Клава Назарова в Острове, наполнила его радостью, и ему показалось, что он не напрасно пробирался в родные места...»
Какое это счастье — быть человеком, нужным для других людей. Быть человеком, несущим радость людям!
Будьте и вы такими, дорогие читатели «Библиотеки пионера». Доброго и деятельного вам пути!
Т. Полозова
СОДЕРЖАНИЕ
Алексей Мусатов
КЛАВА НАЗАРОВА. Рисунки Г. Акулова ....... 5
Иван Серков
МЫ — РЕБЯТА ЖИВУЧИЕ. Перевел с белорусского А. Островский. Рисунки Г. Акулова 297
Петр Павленко
СТЕПНОЕ СОЛНЦЕ. Рисунки О. Верейского 475
Т. Полозова
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ! 552
Оформление Е. Савина
Для среднего возраста
БИБЛИОТЕКА ПИОНЕРА том 7
Алексей Иванович Мусатов КЛАВА НАЗАРОВА
Повесть
Иван Киреевич Серков МЫ - РЕБЯТА ЖИВУЧИЕ Повесть Петр Андреевич Павленко СТЕПНОЕ СОЛНЦЕ Повесть
Ответственные редакторы 3. С. Карманова, М. Ф. Мусненко, В. М. Писаревская. Художественный редактор А. В. Пацина. Технические редакторы Н. Ю. Крапоткина и Р. Б. Сиголаева. Корректоры В. Е. Калинина и Э. Л. Лофенфельд. Сдано в набор 23/VIII 1973 г. Подписано к печати 9/I 1974 г. Формат 60х90 1/16. Бум. типогр. № 1. Усл. печ. л. 35. Уч.-изд. л. 30,08. Тираж 200 000 (100 001— 200 000) экз. А03616. Заказ № 1244. Цена 1 р. 21 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.