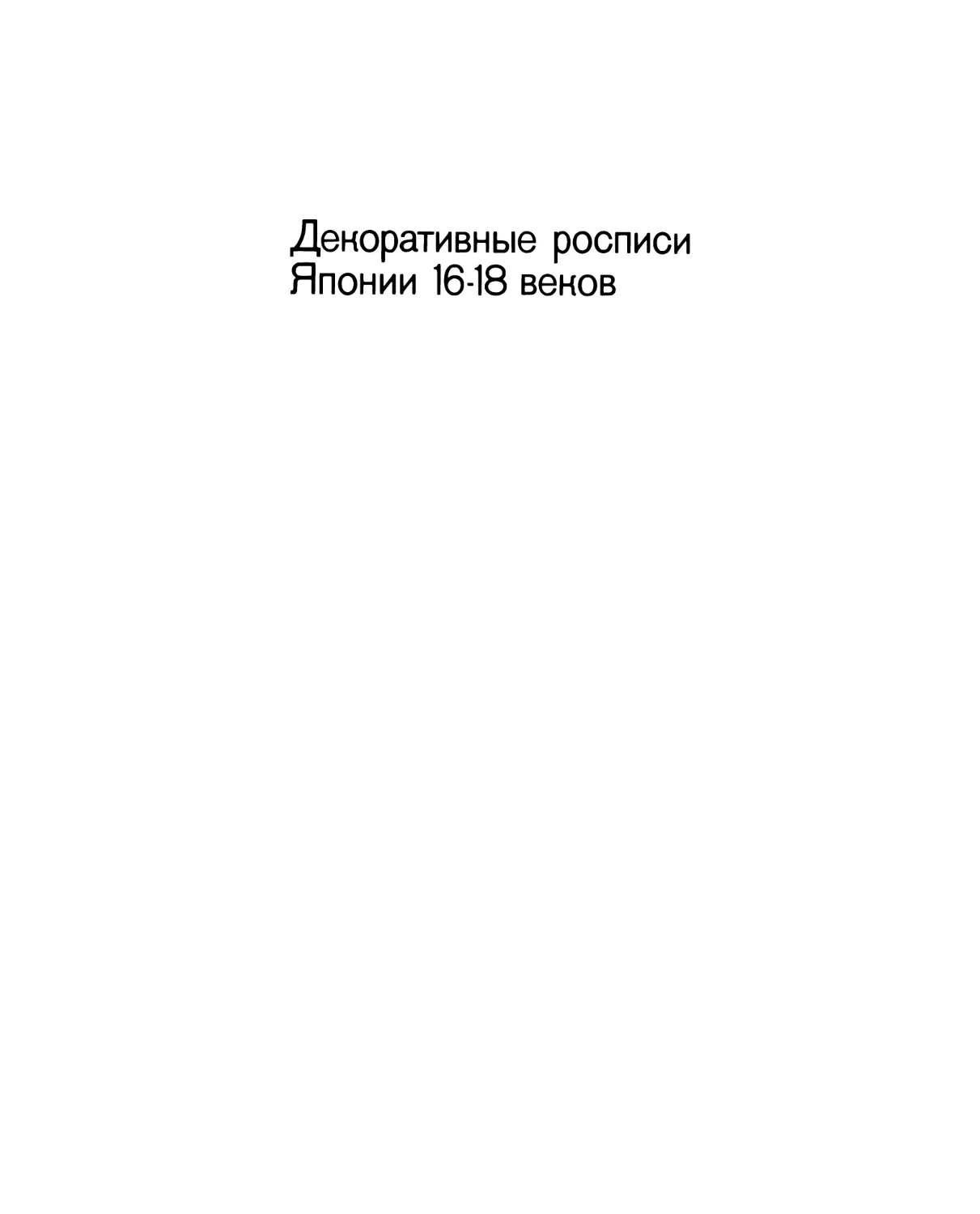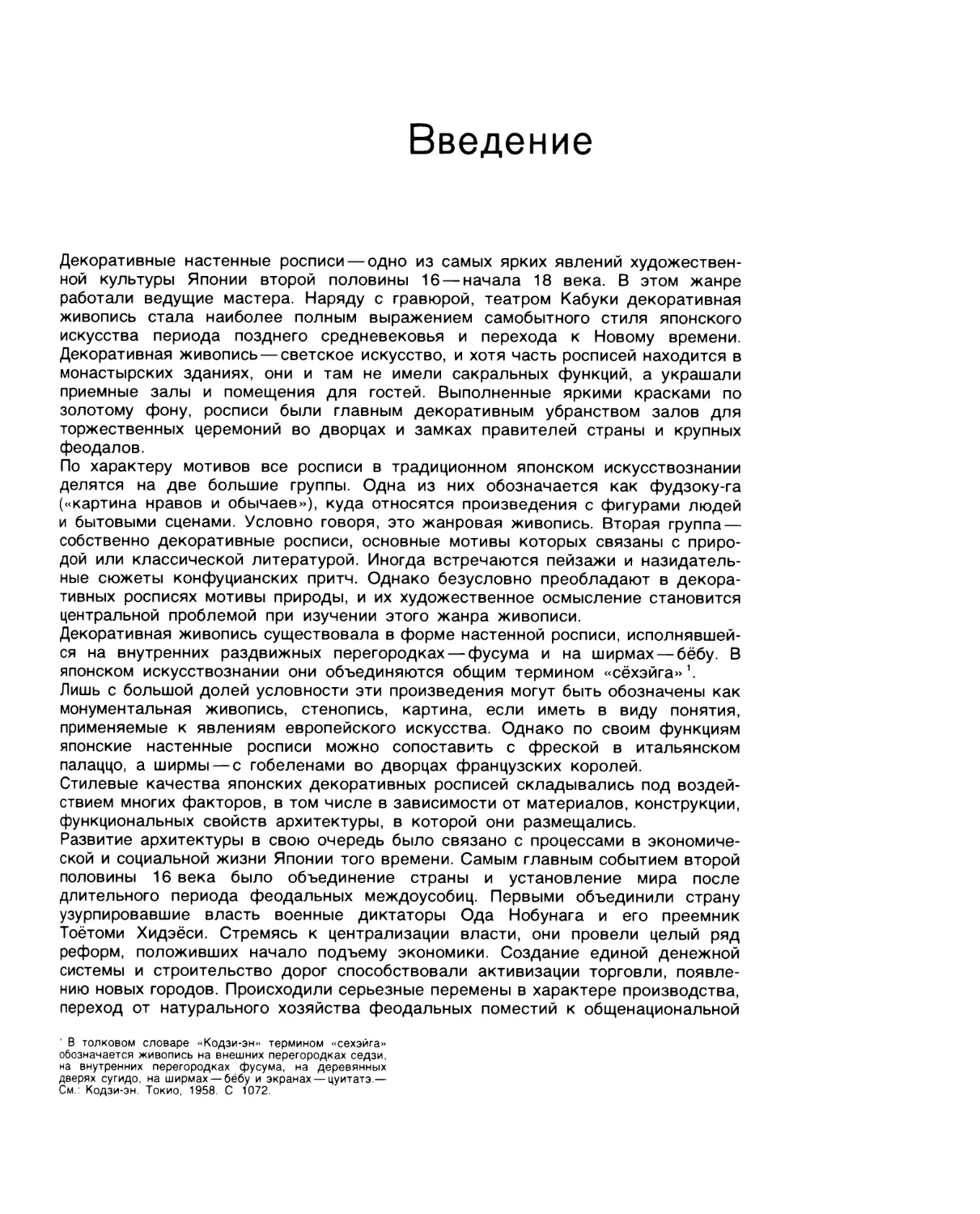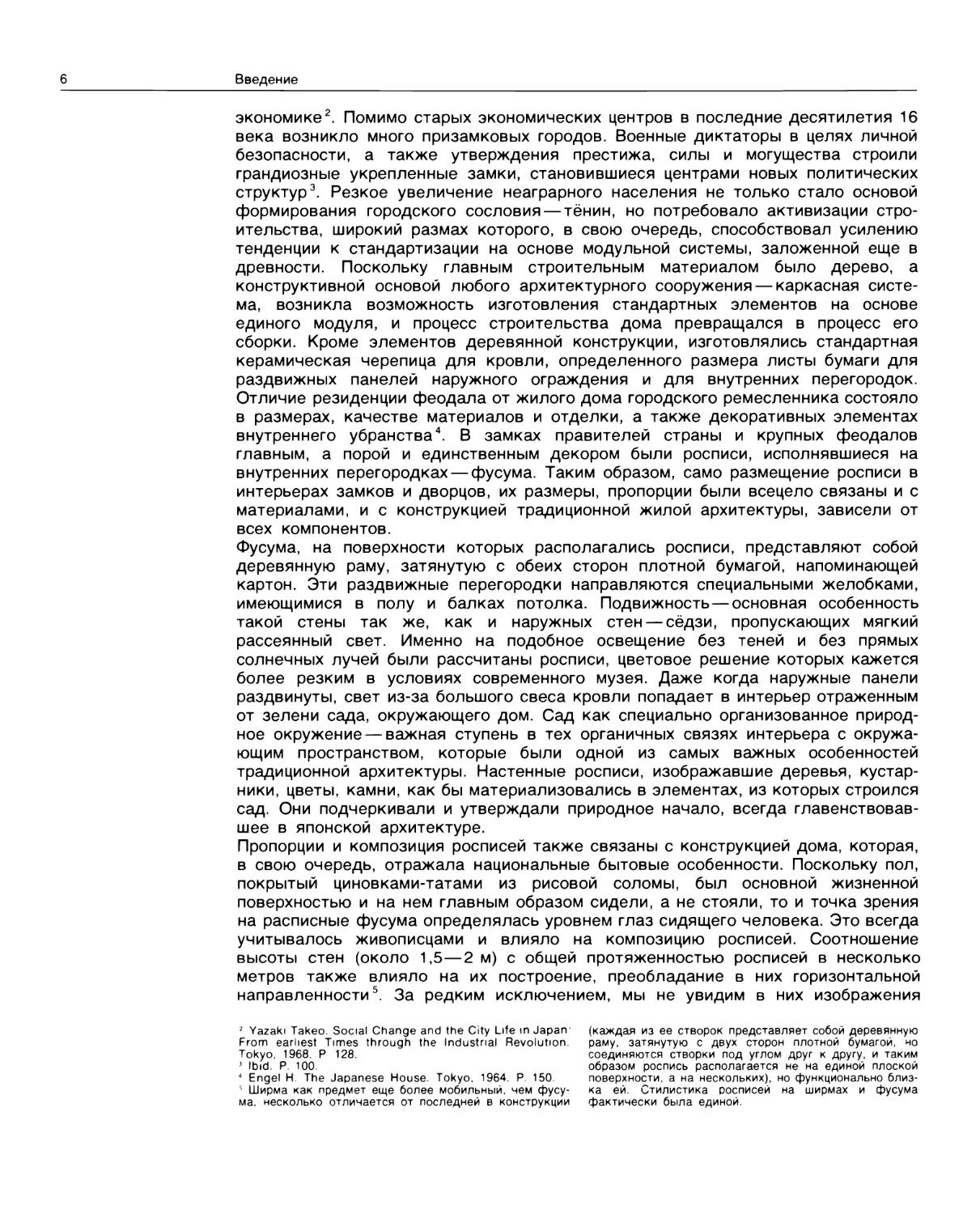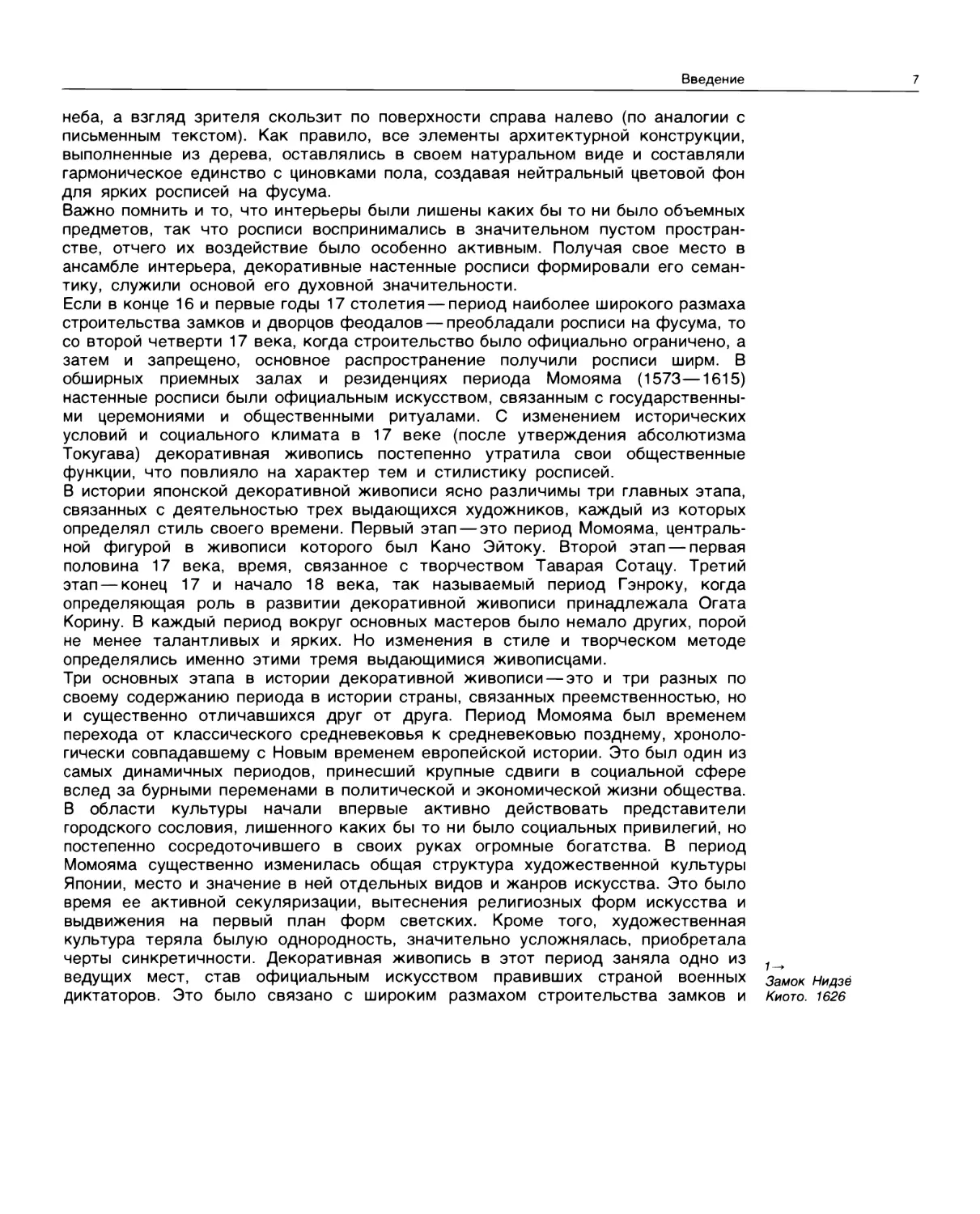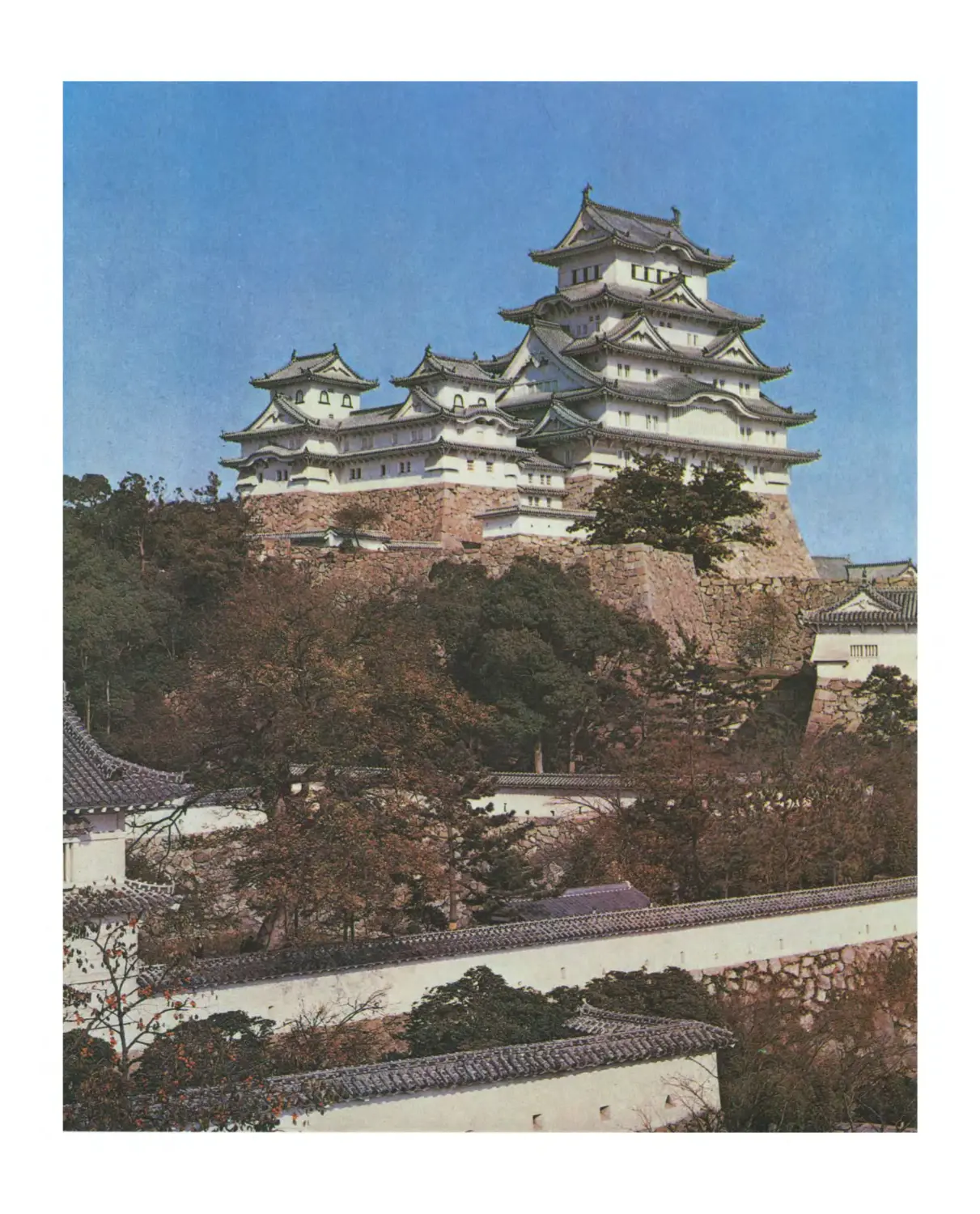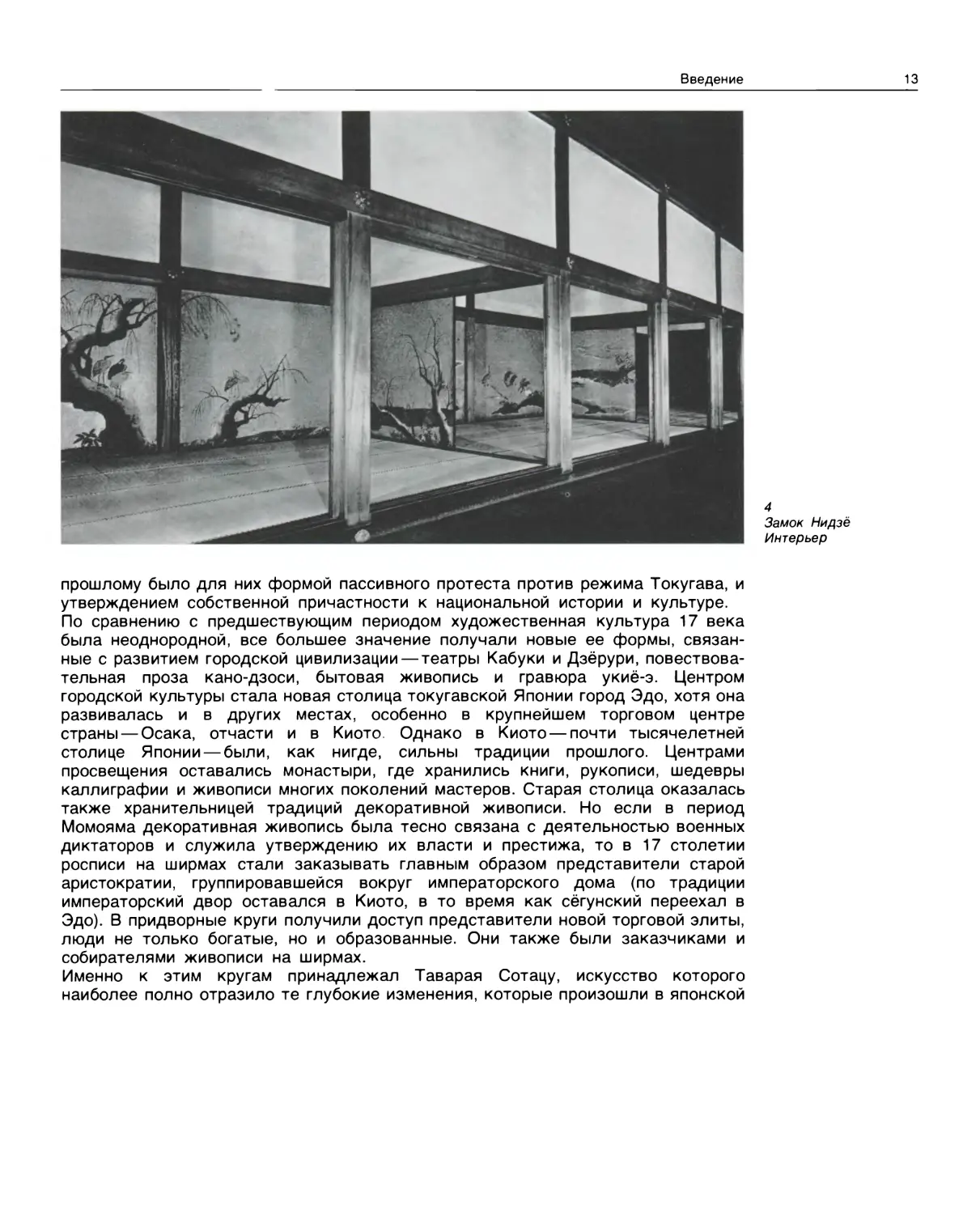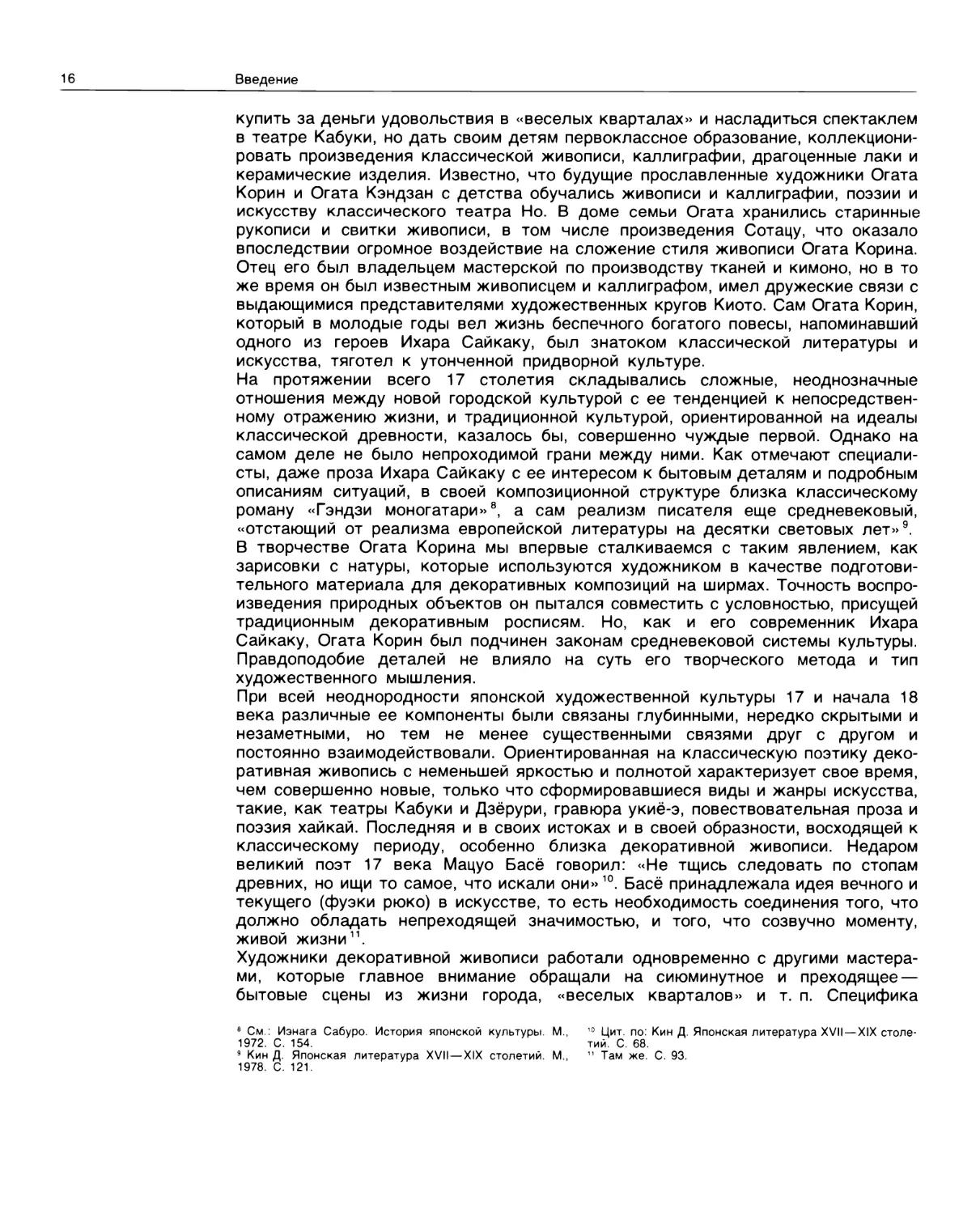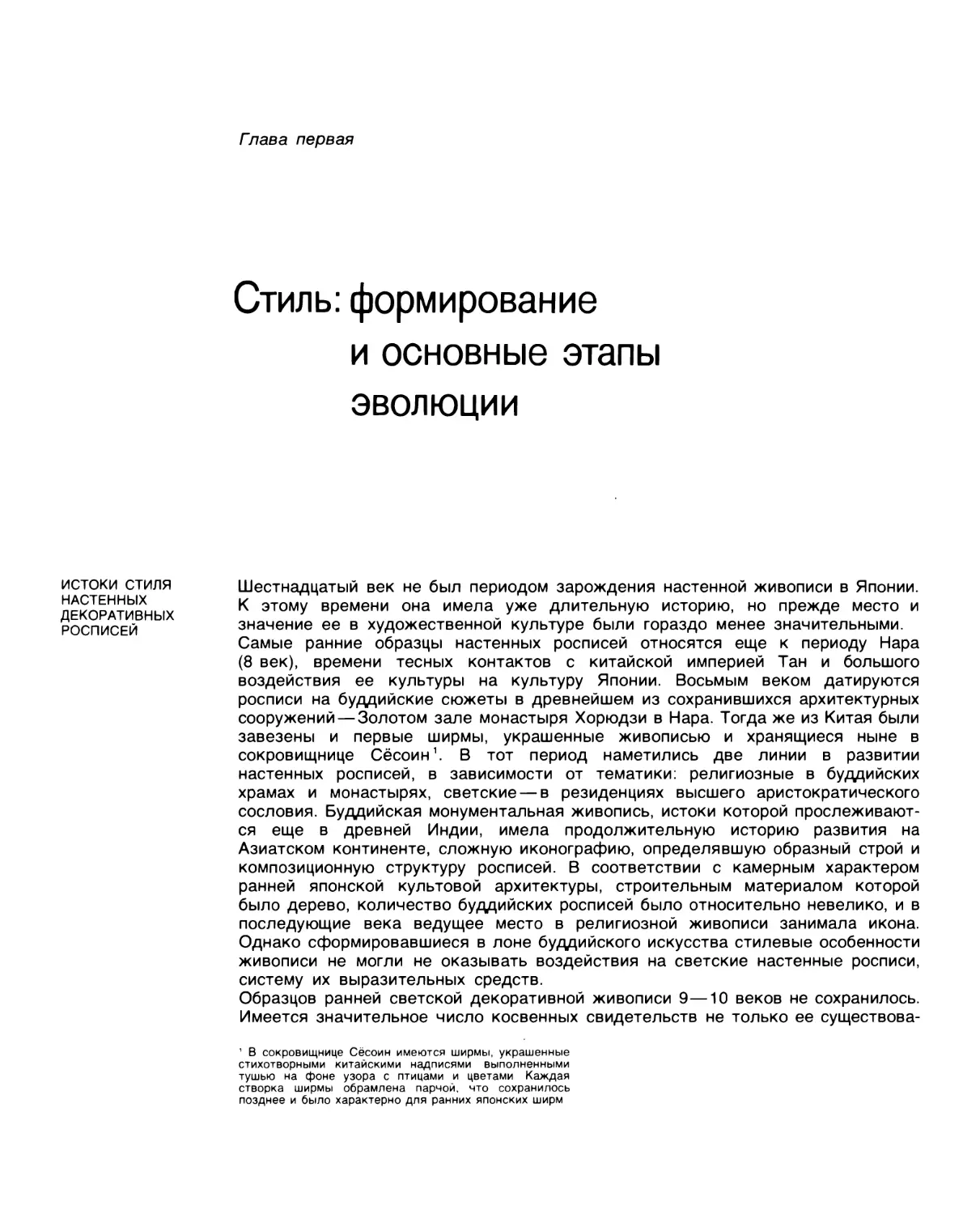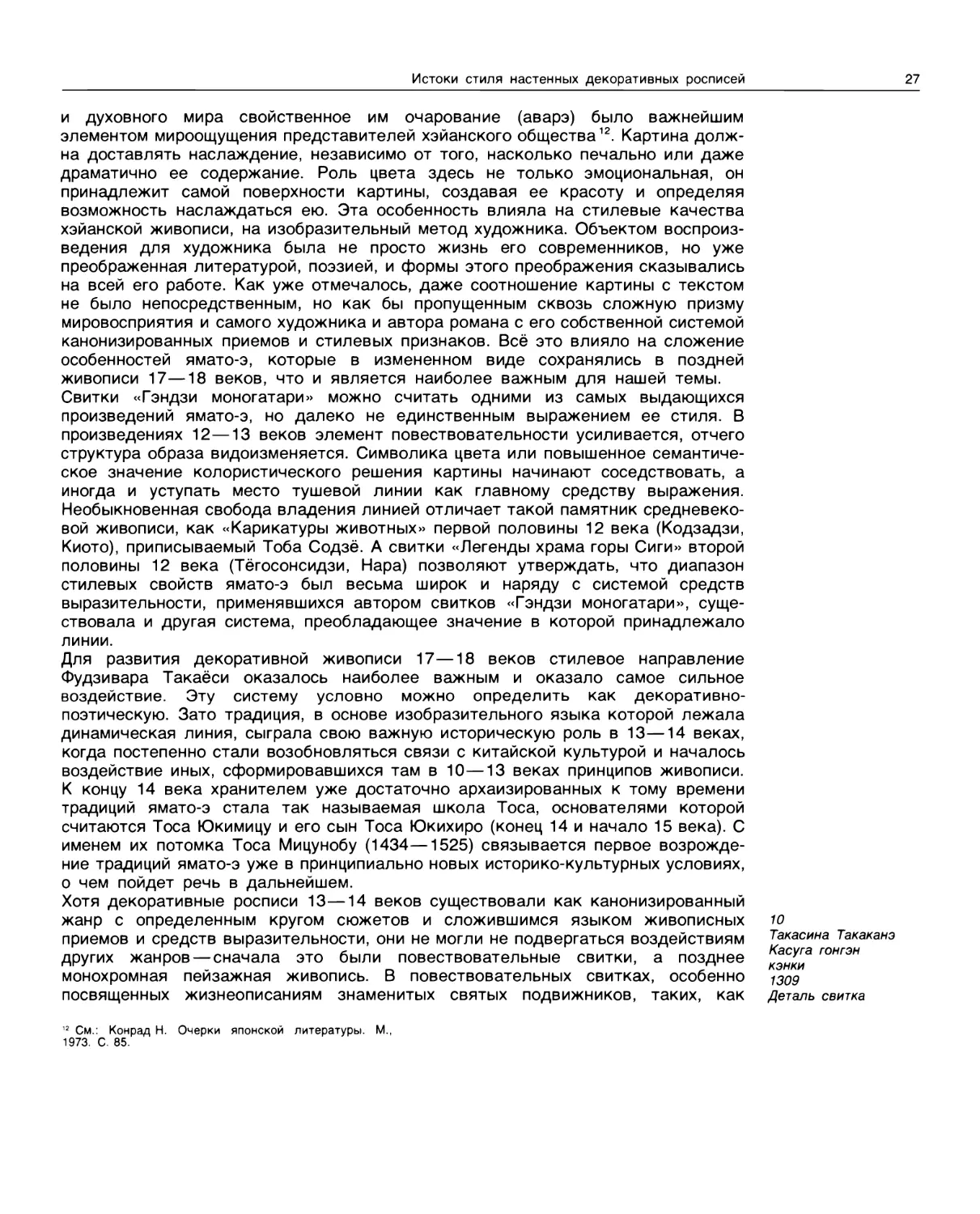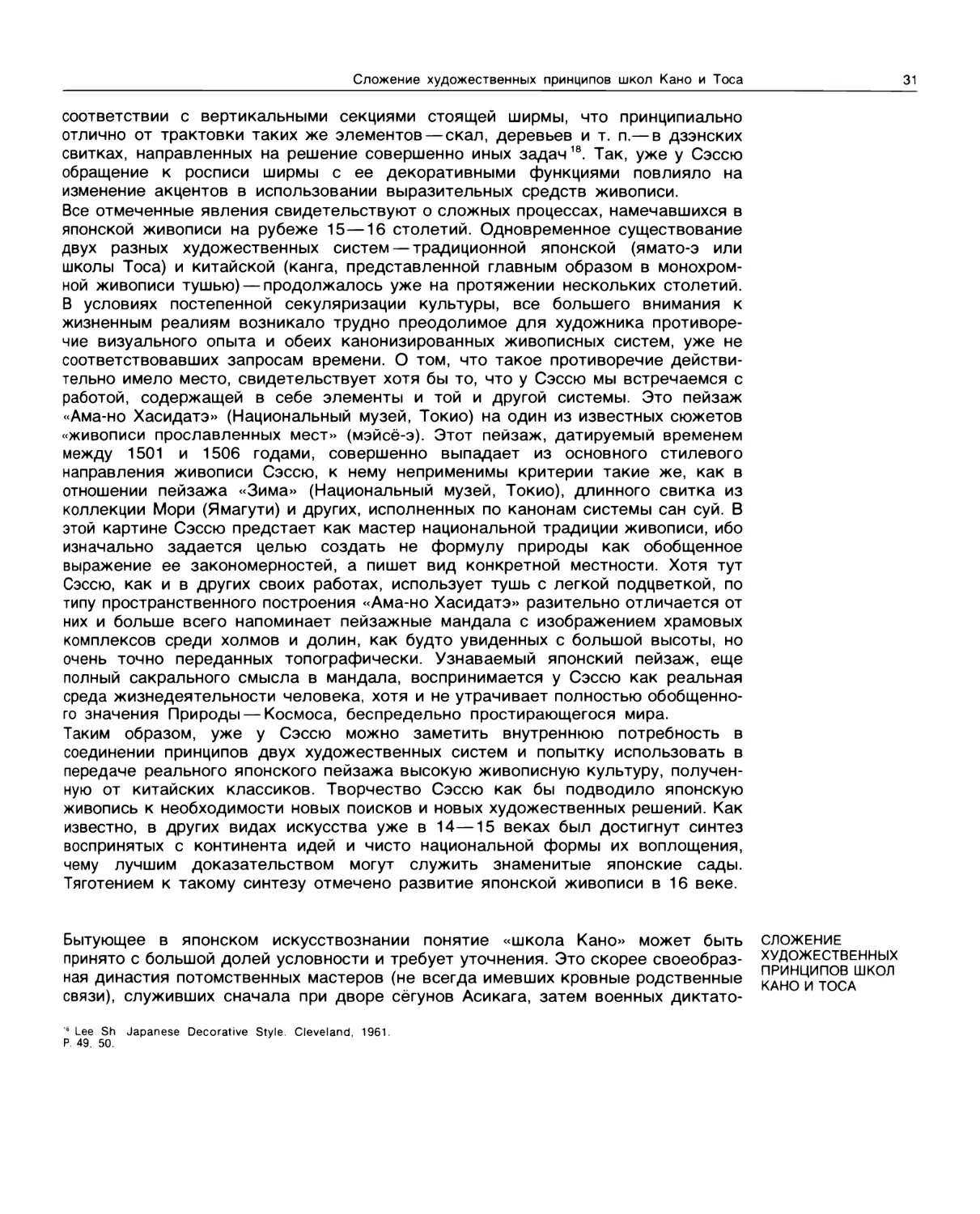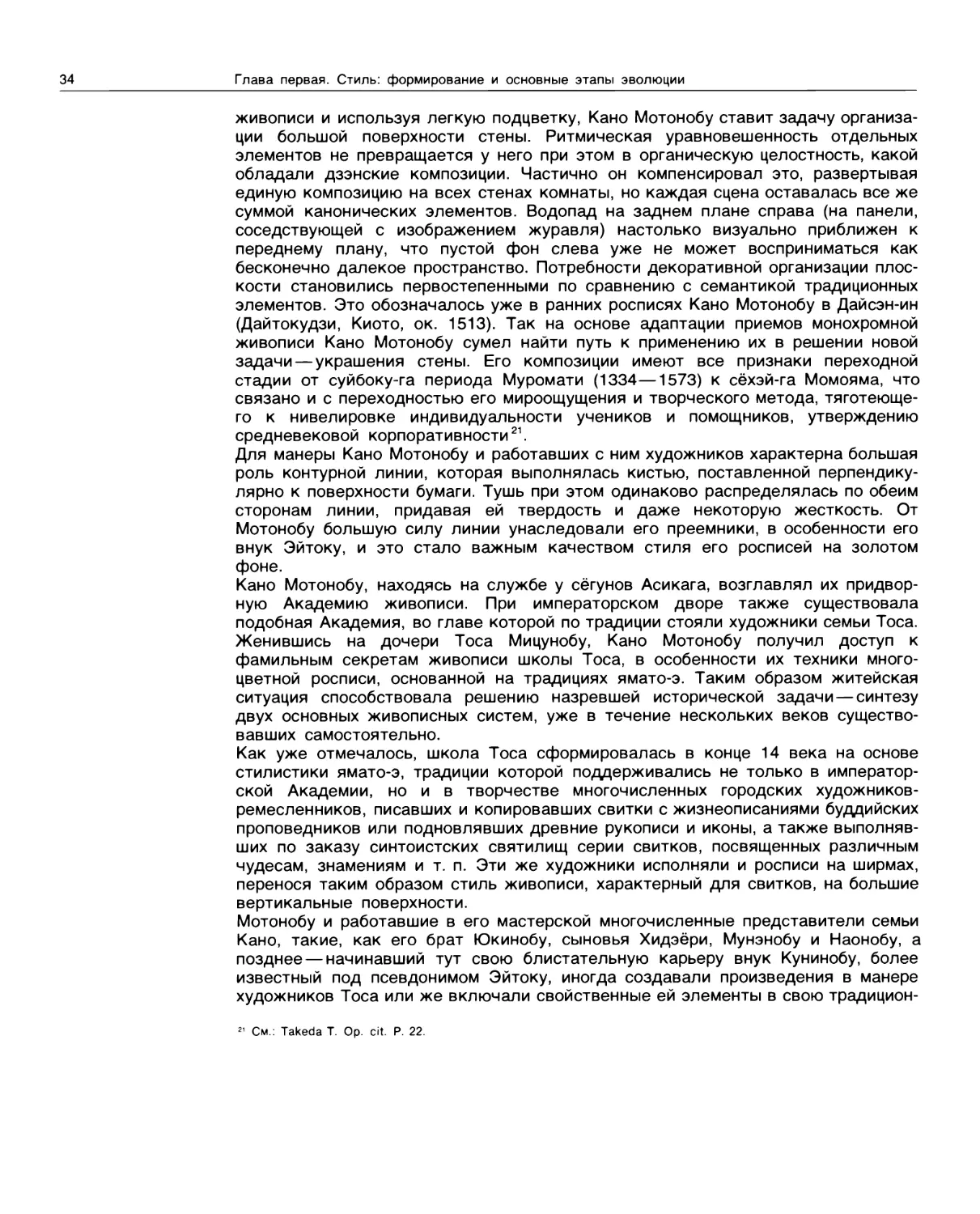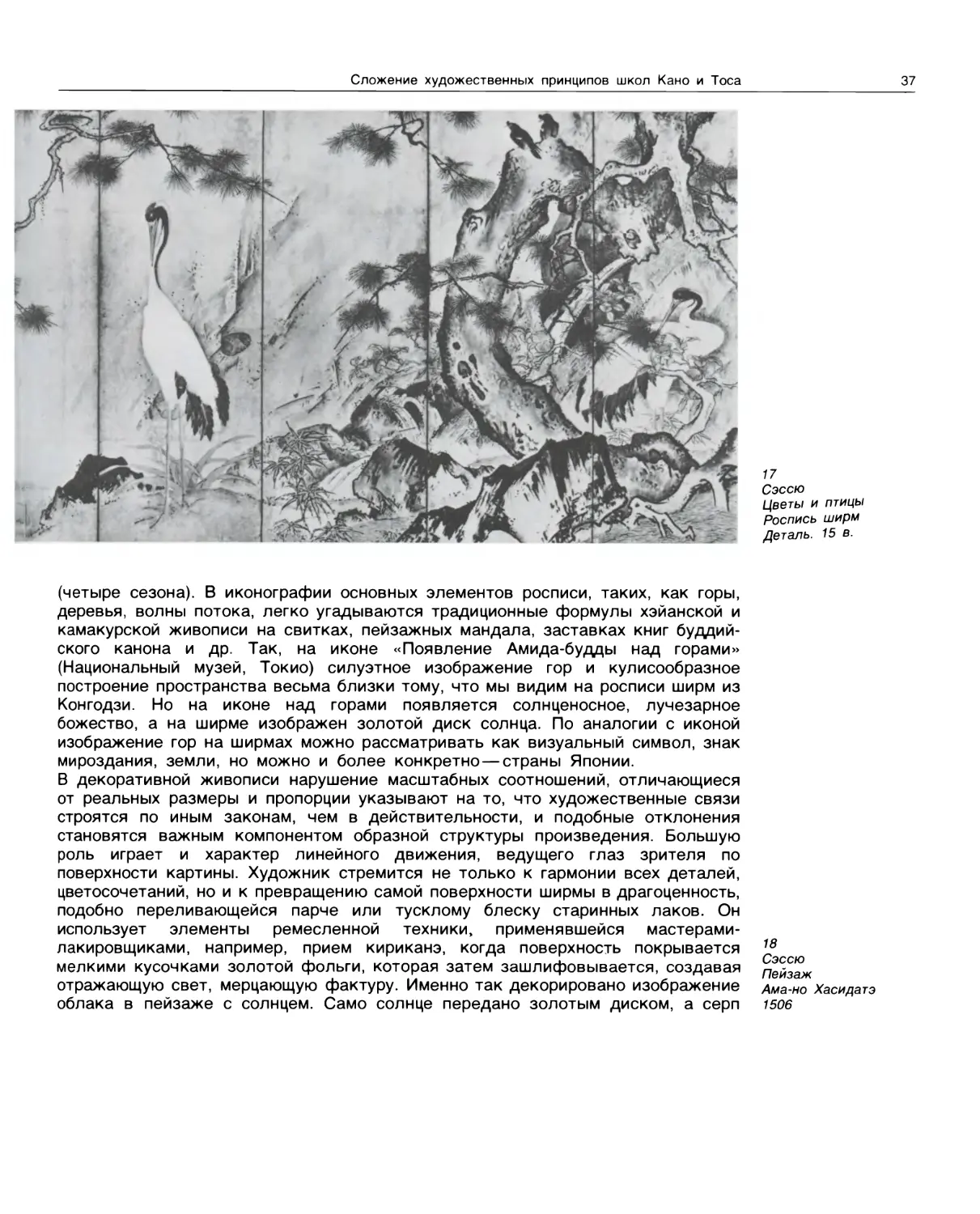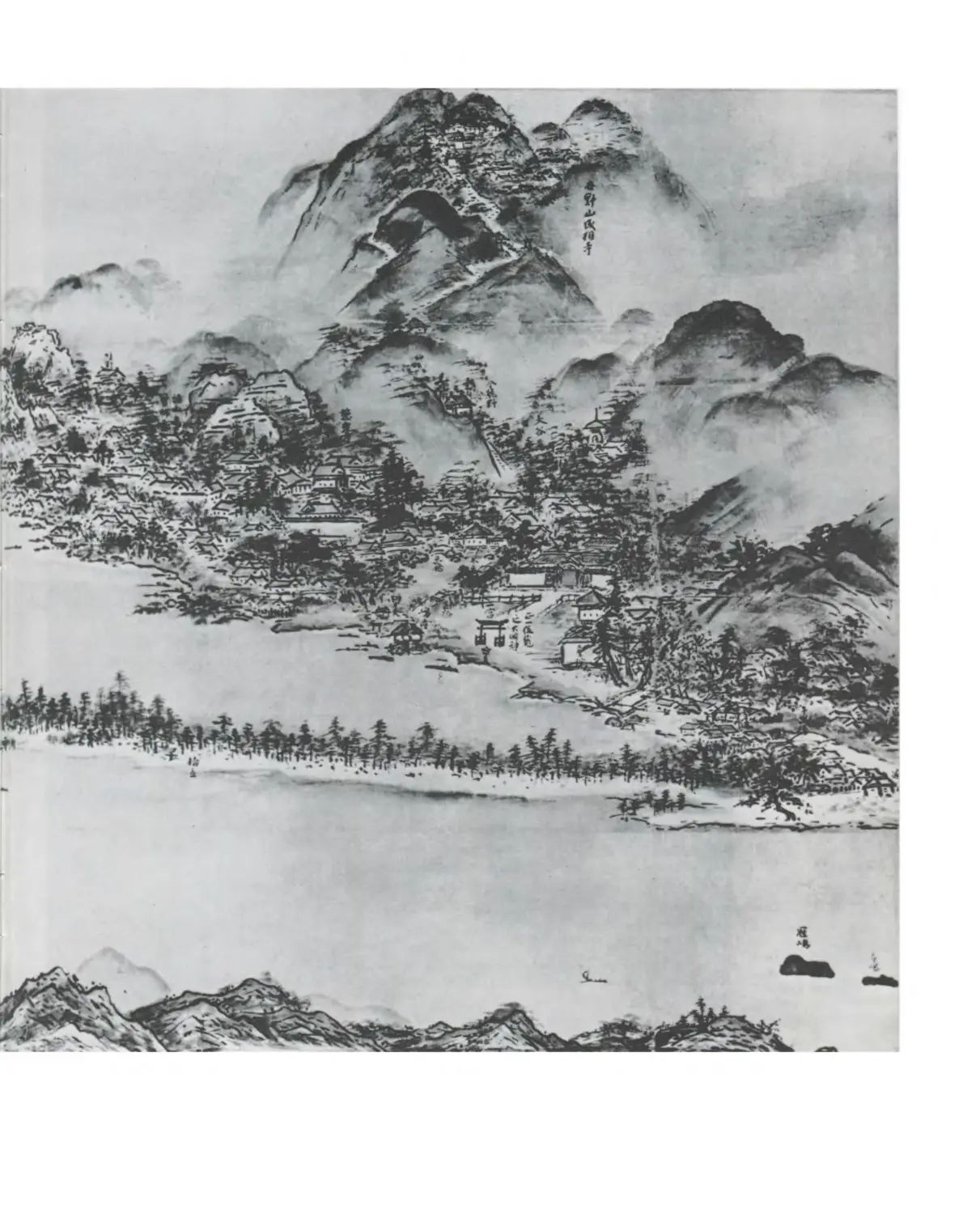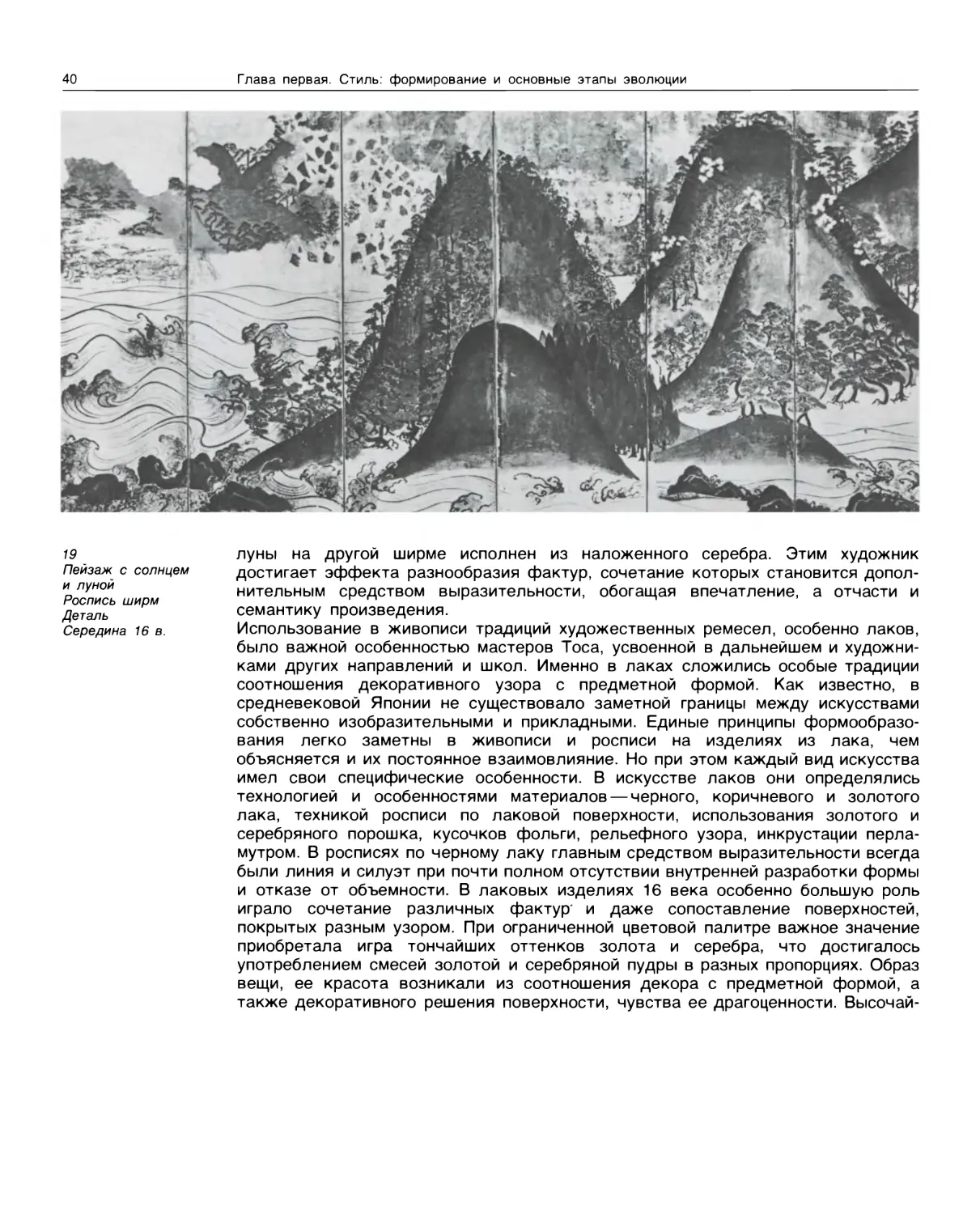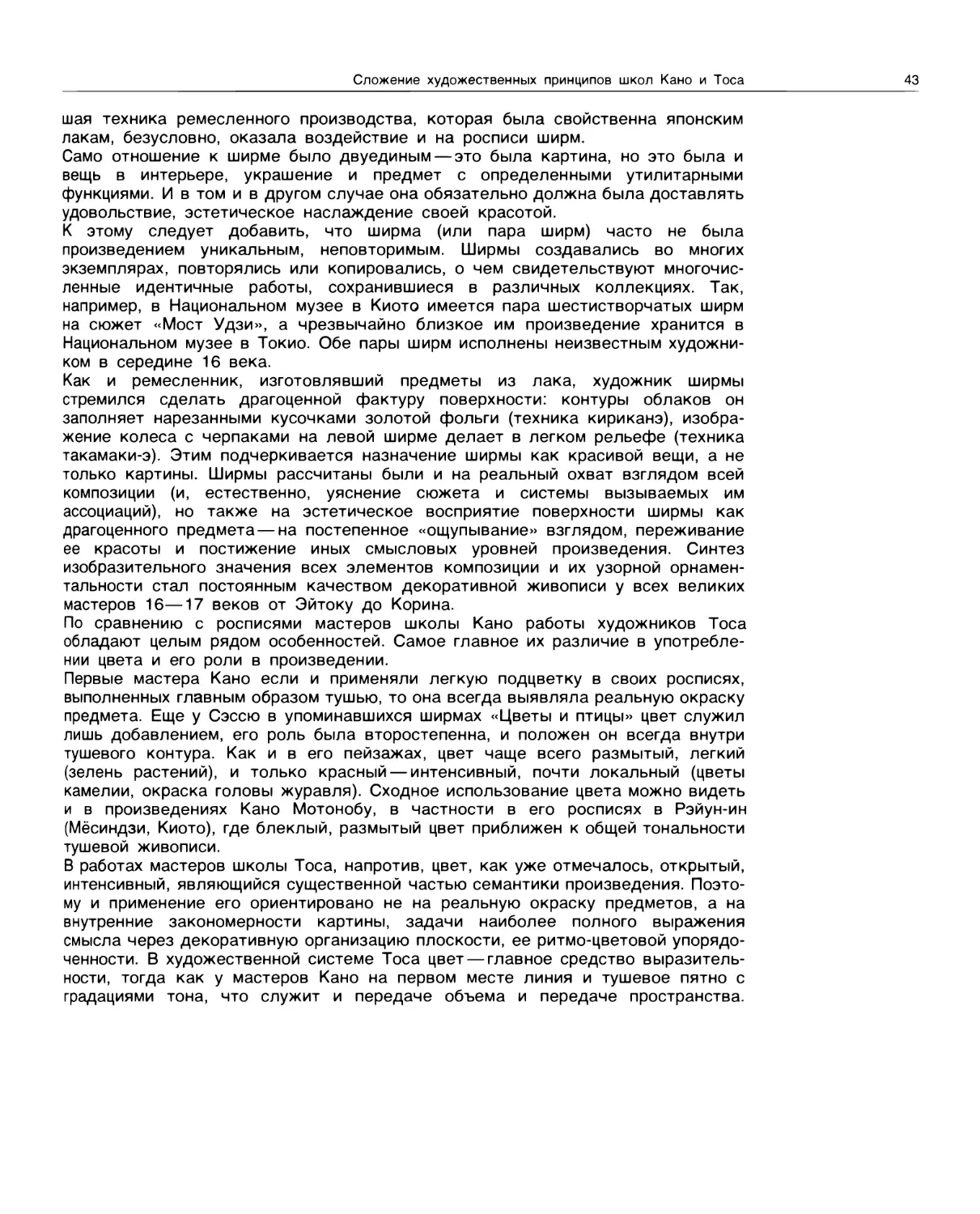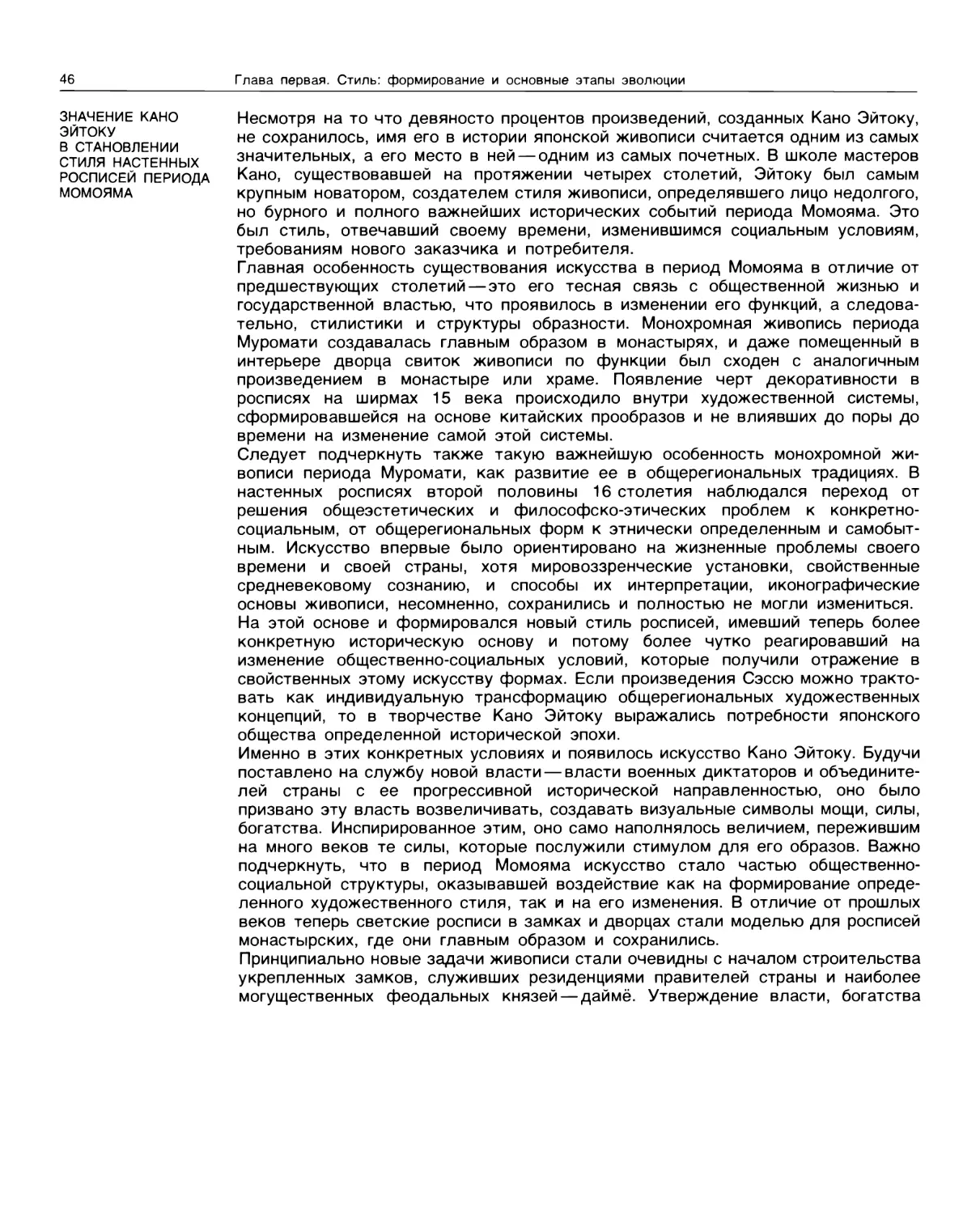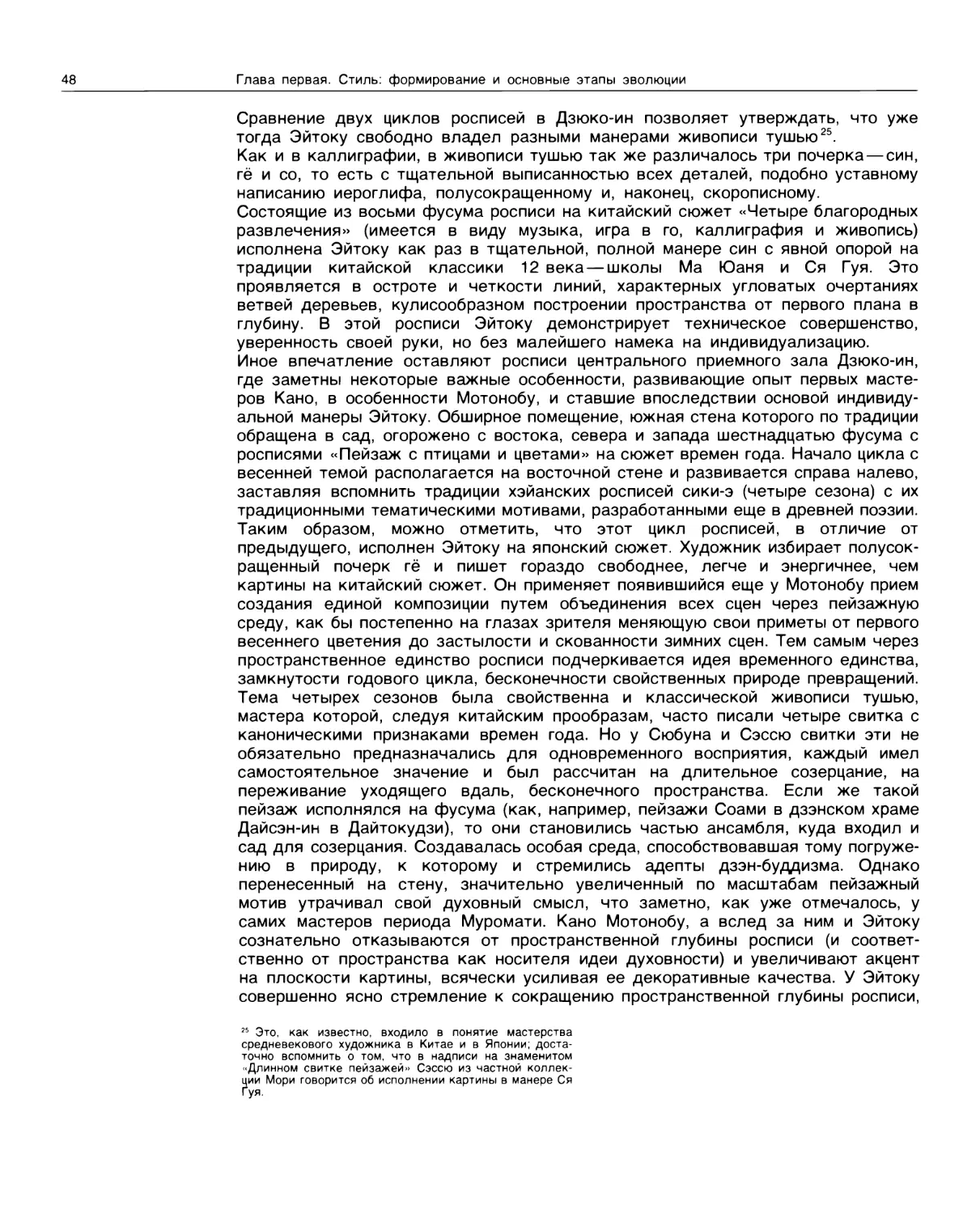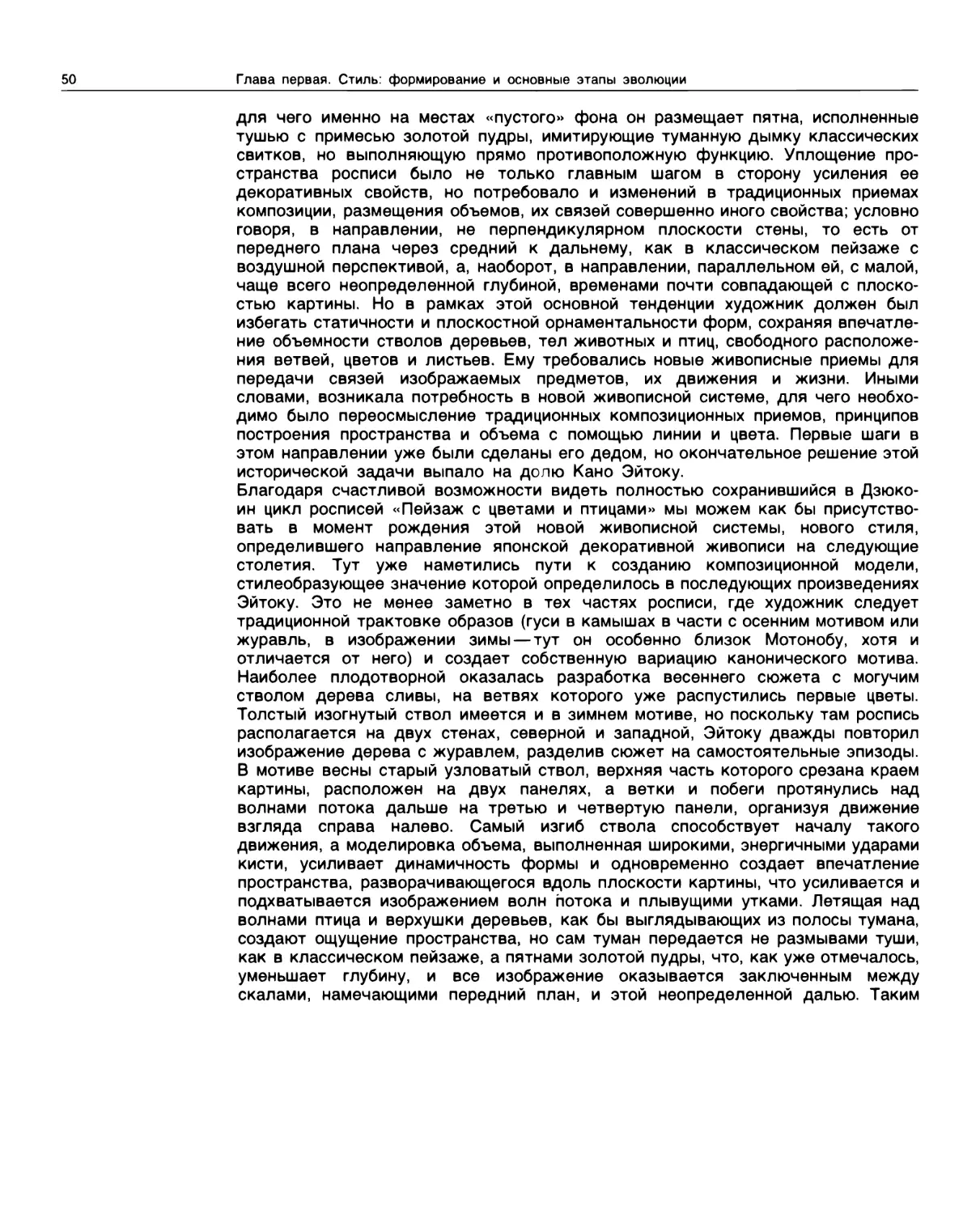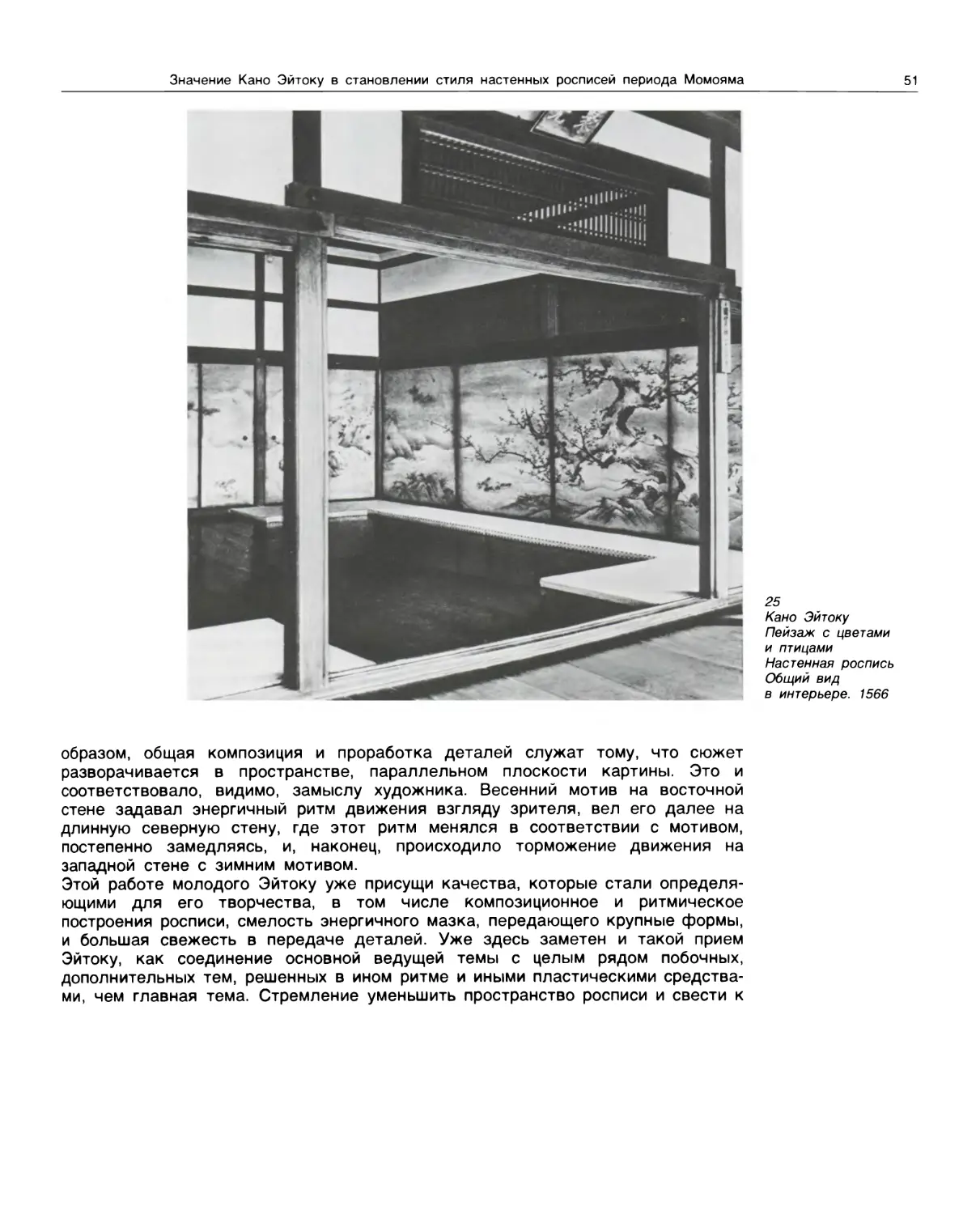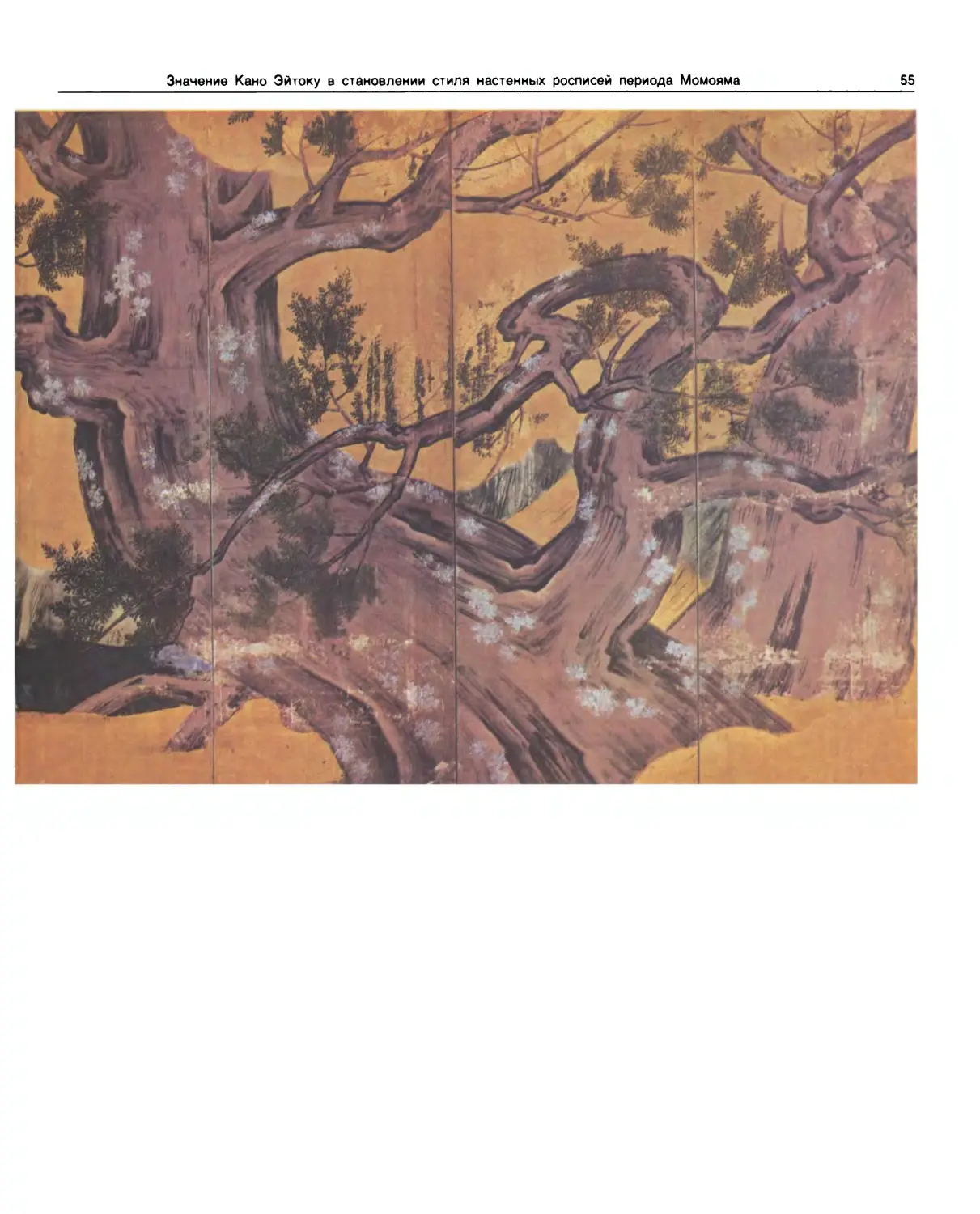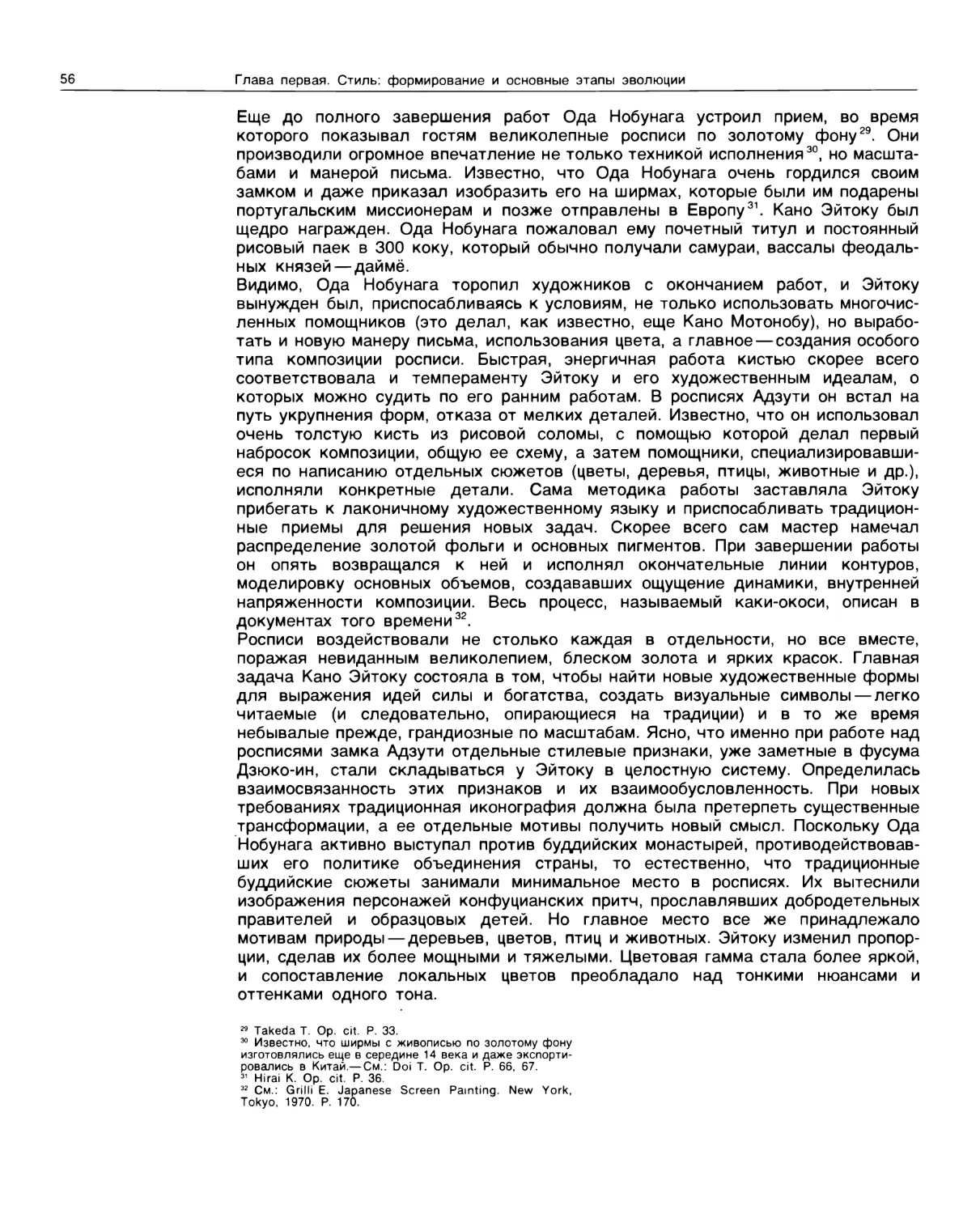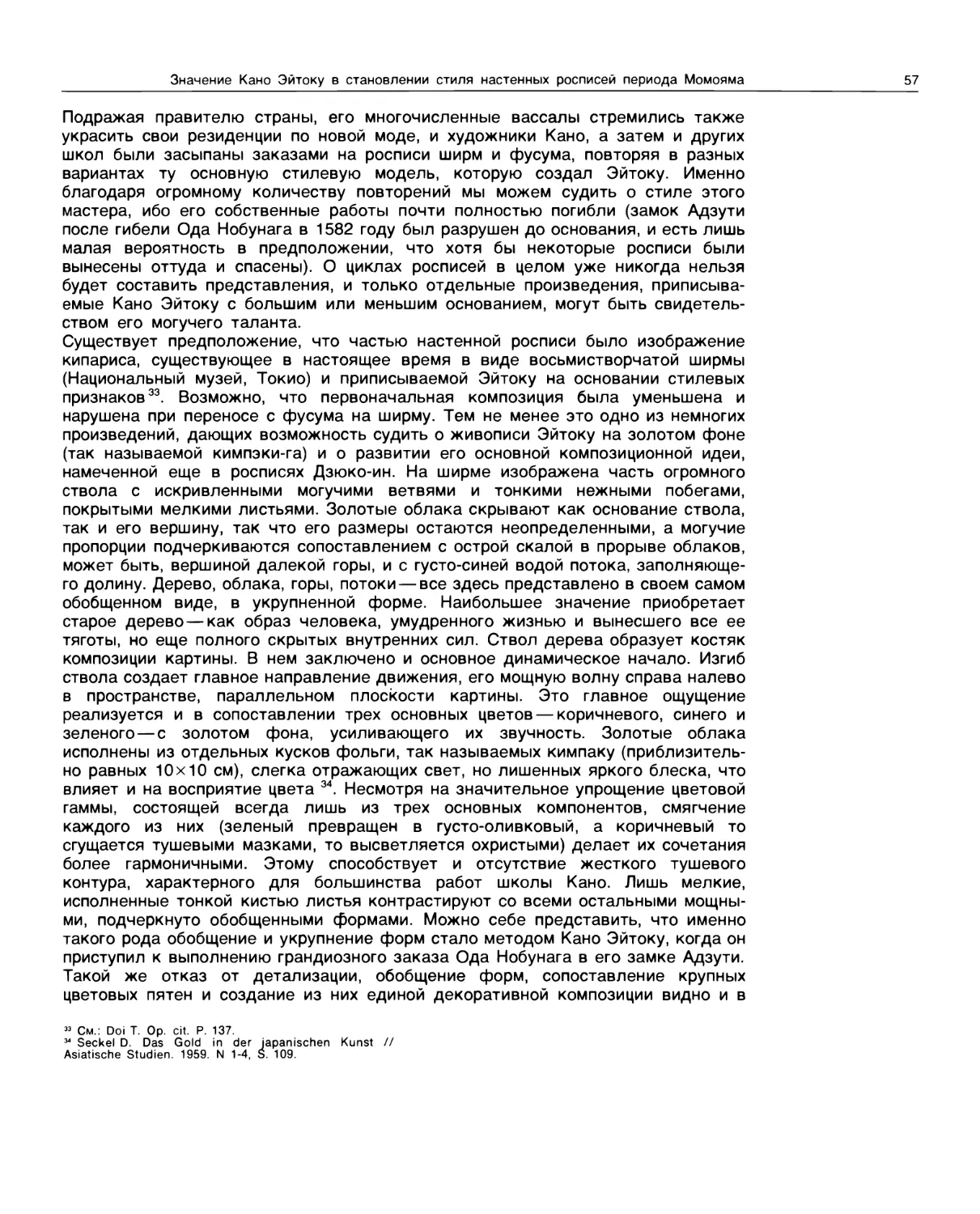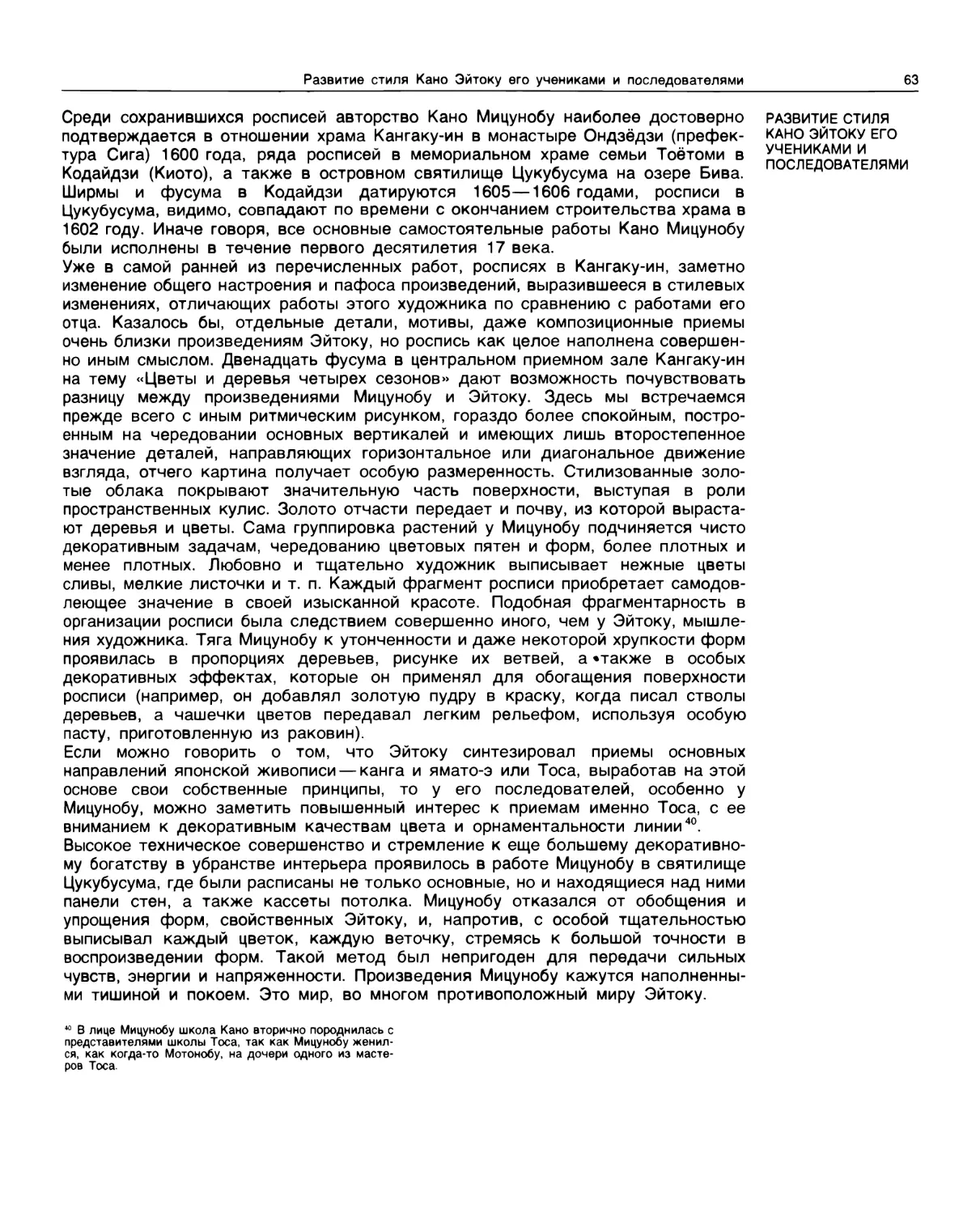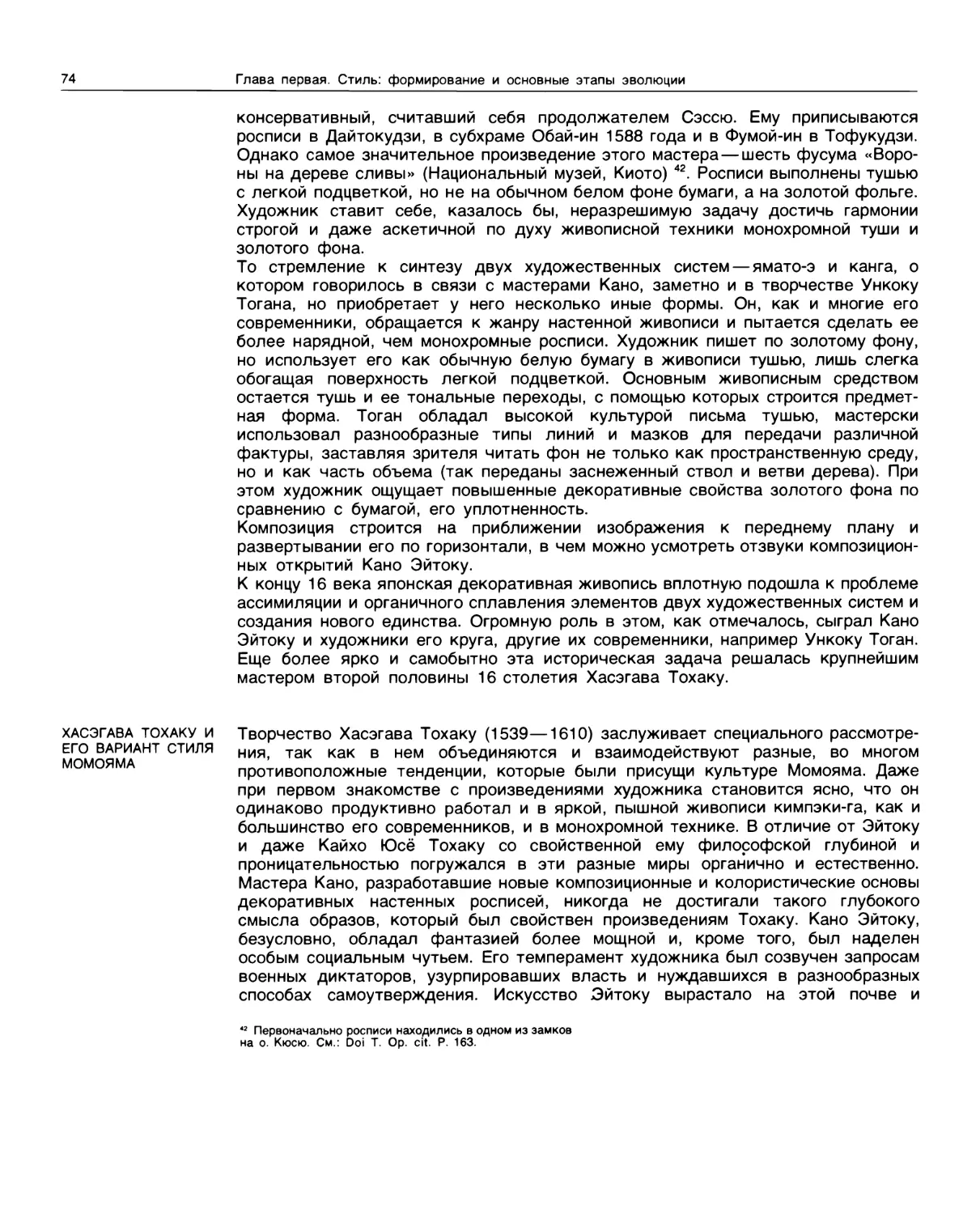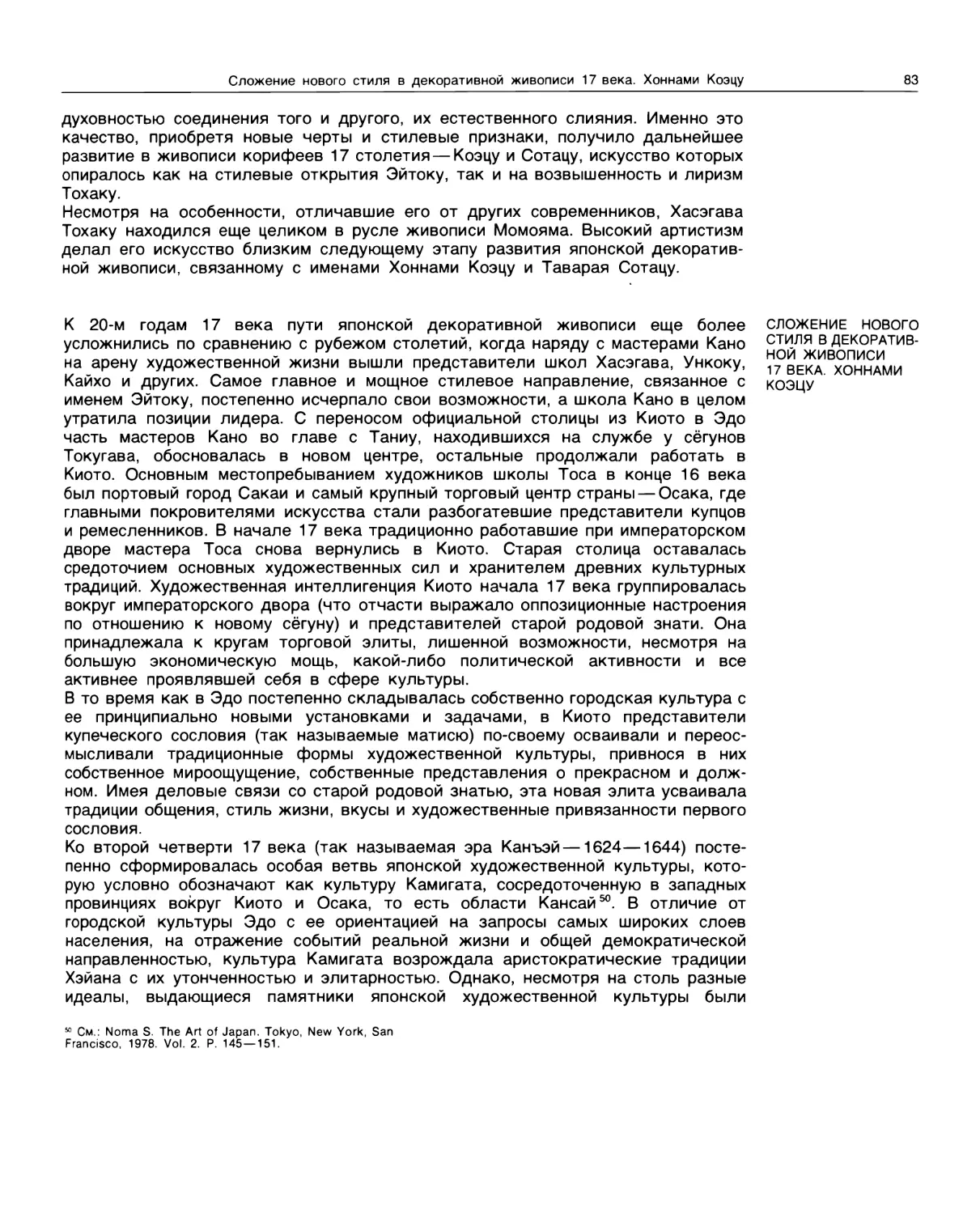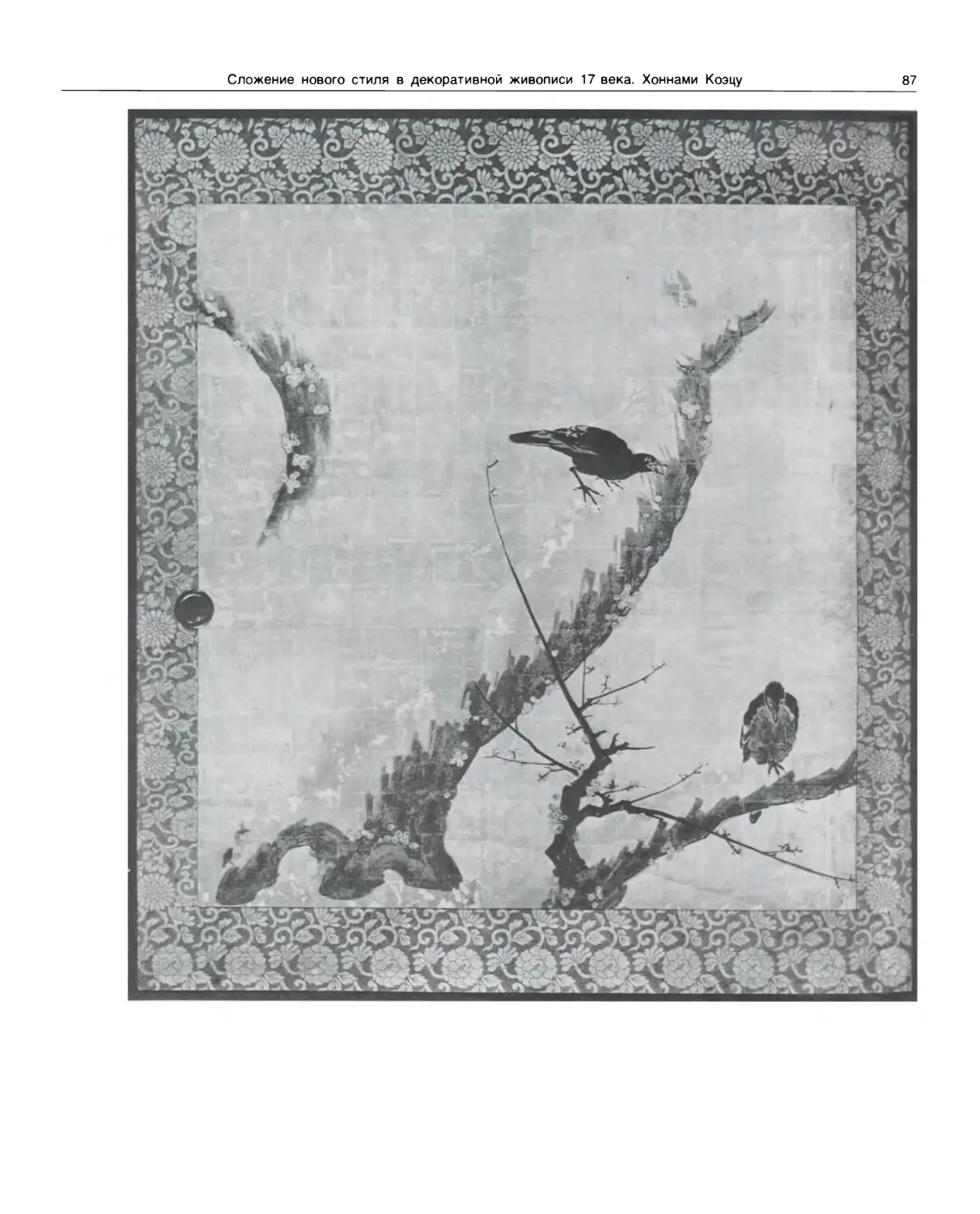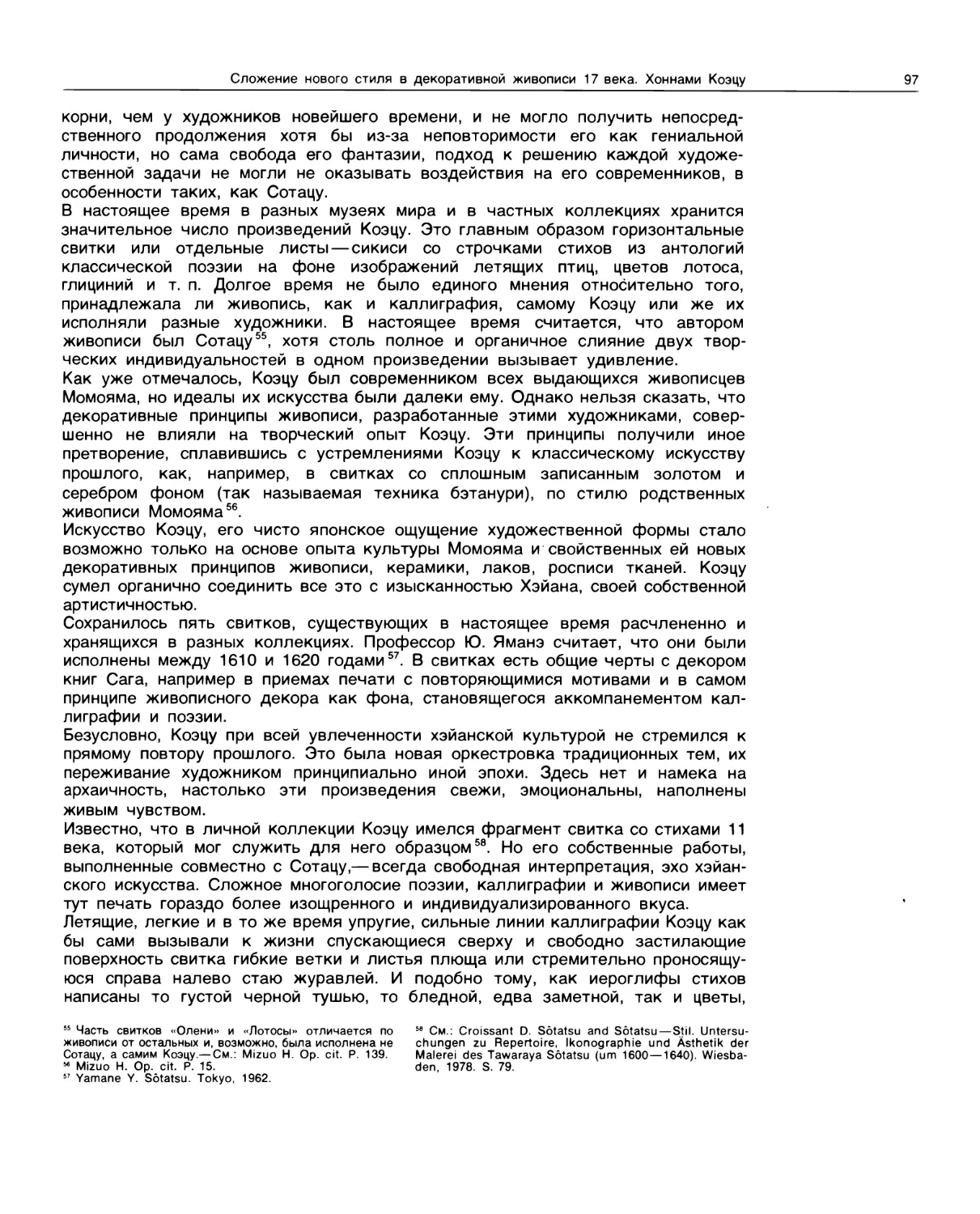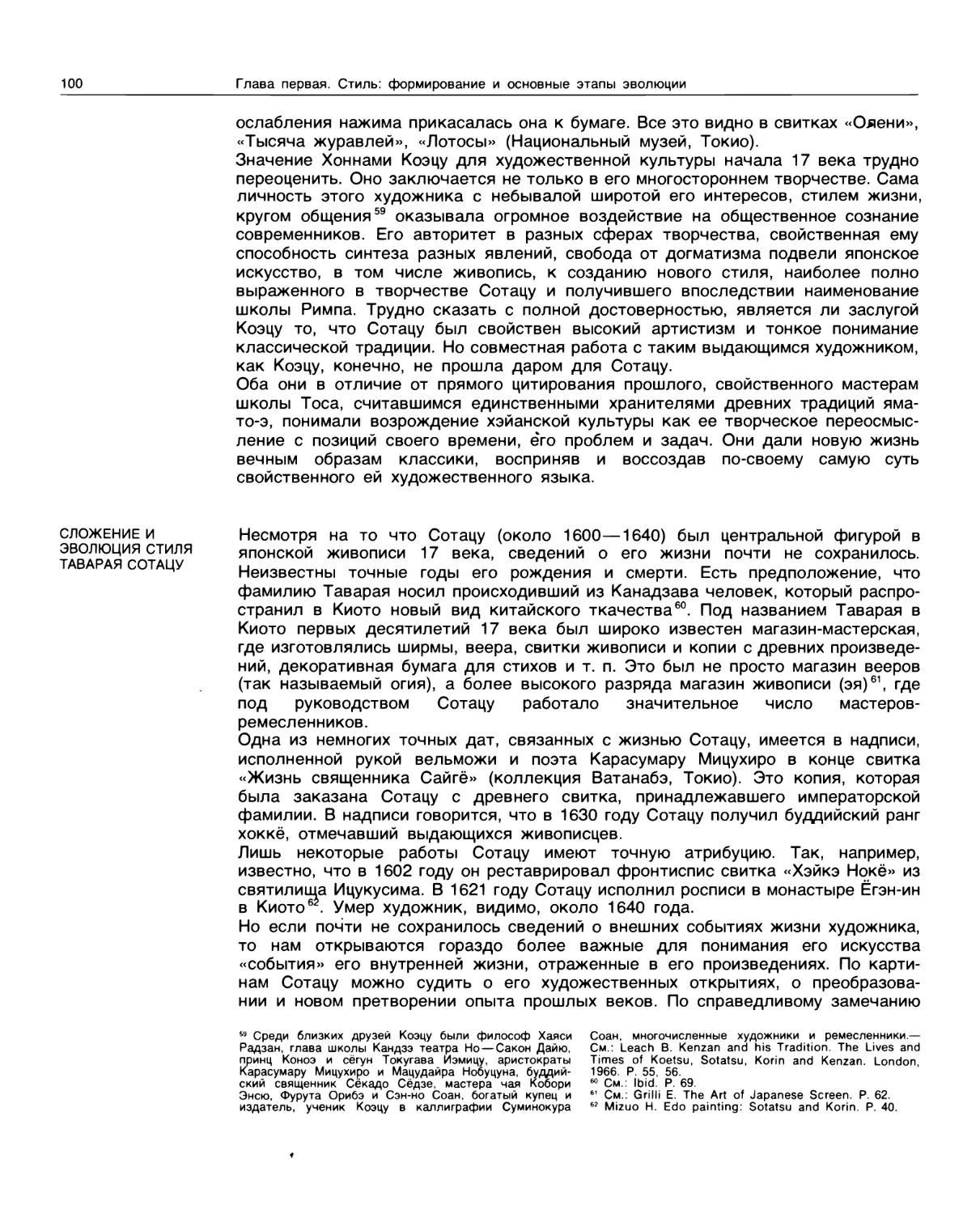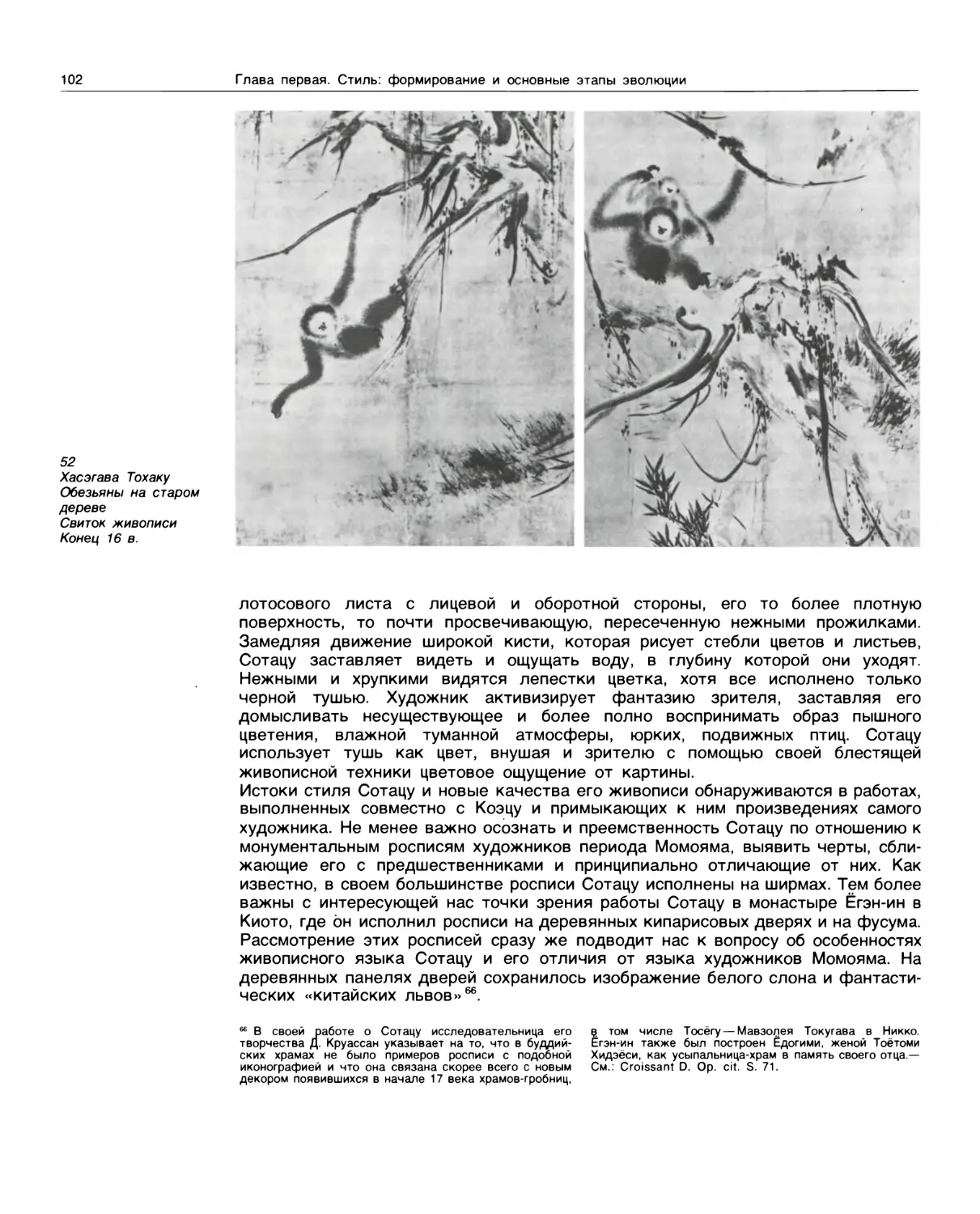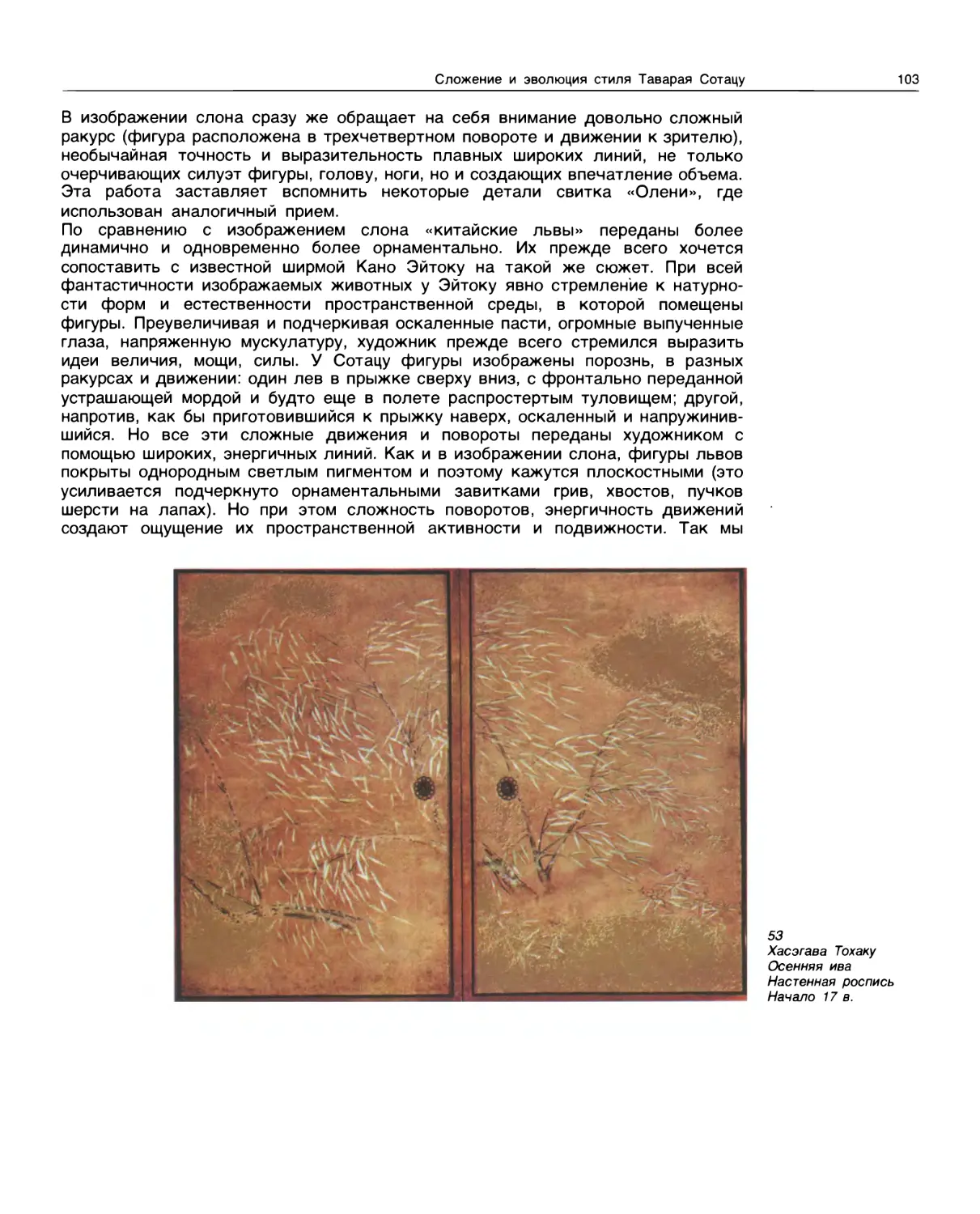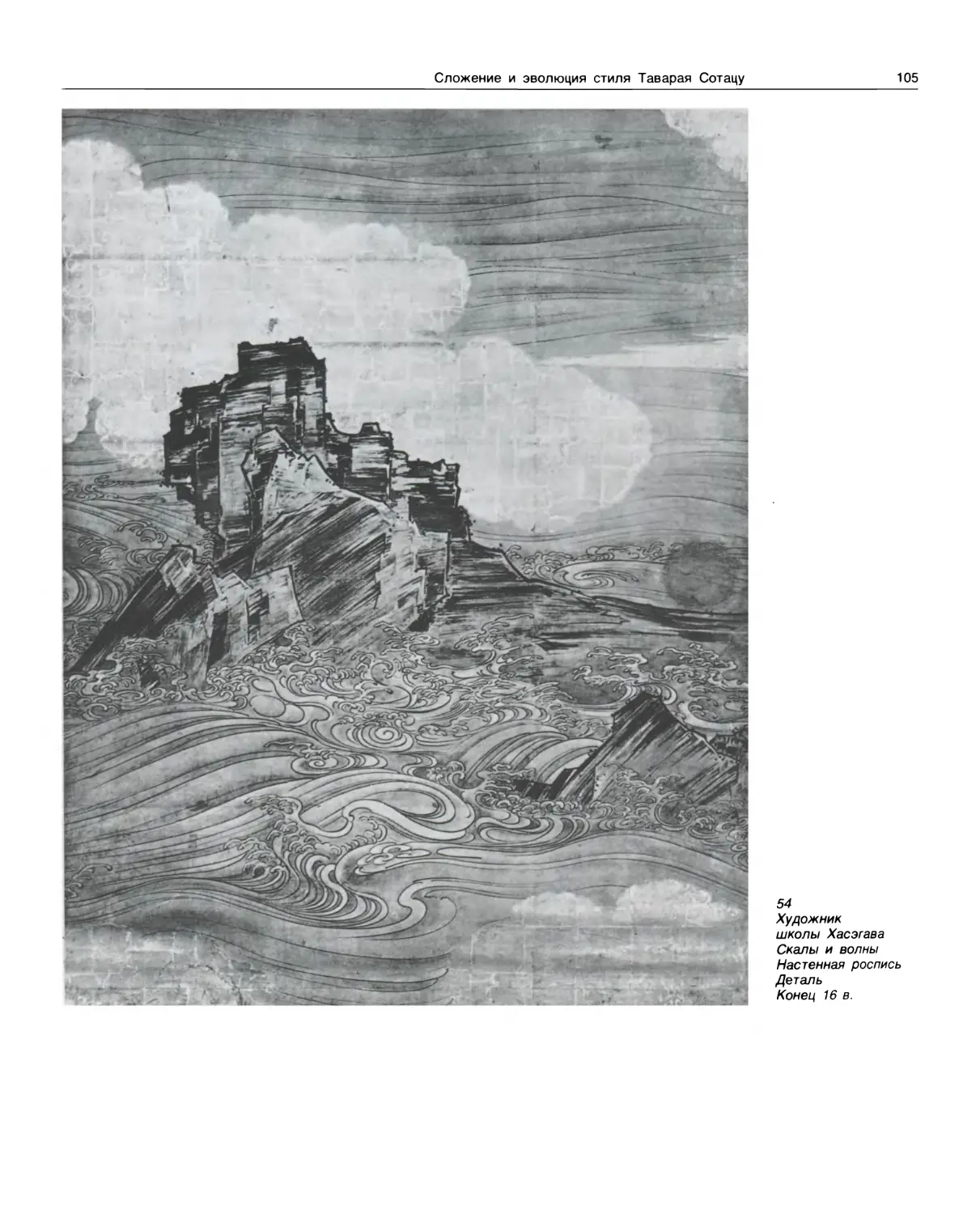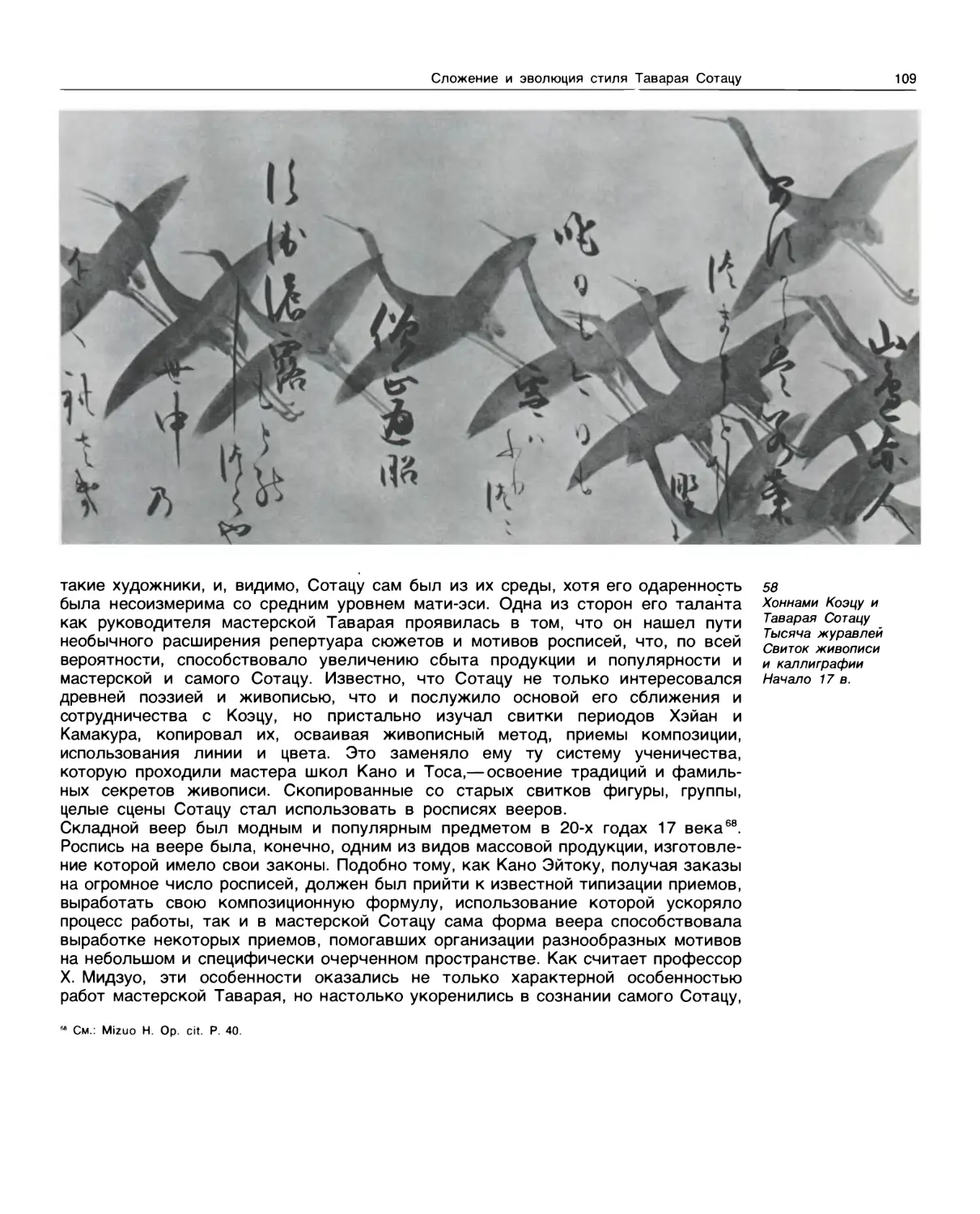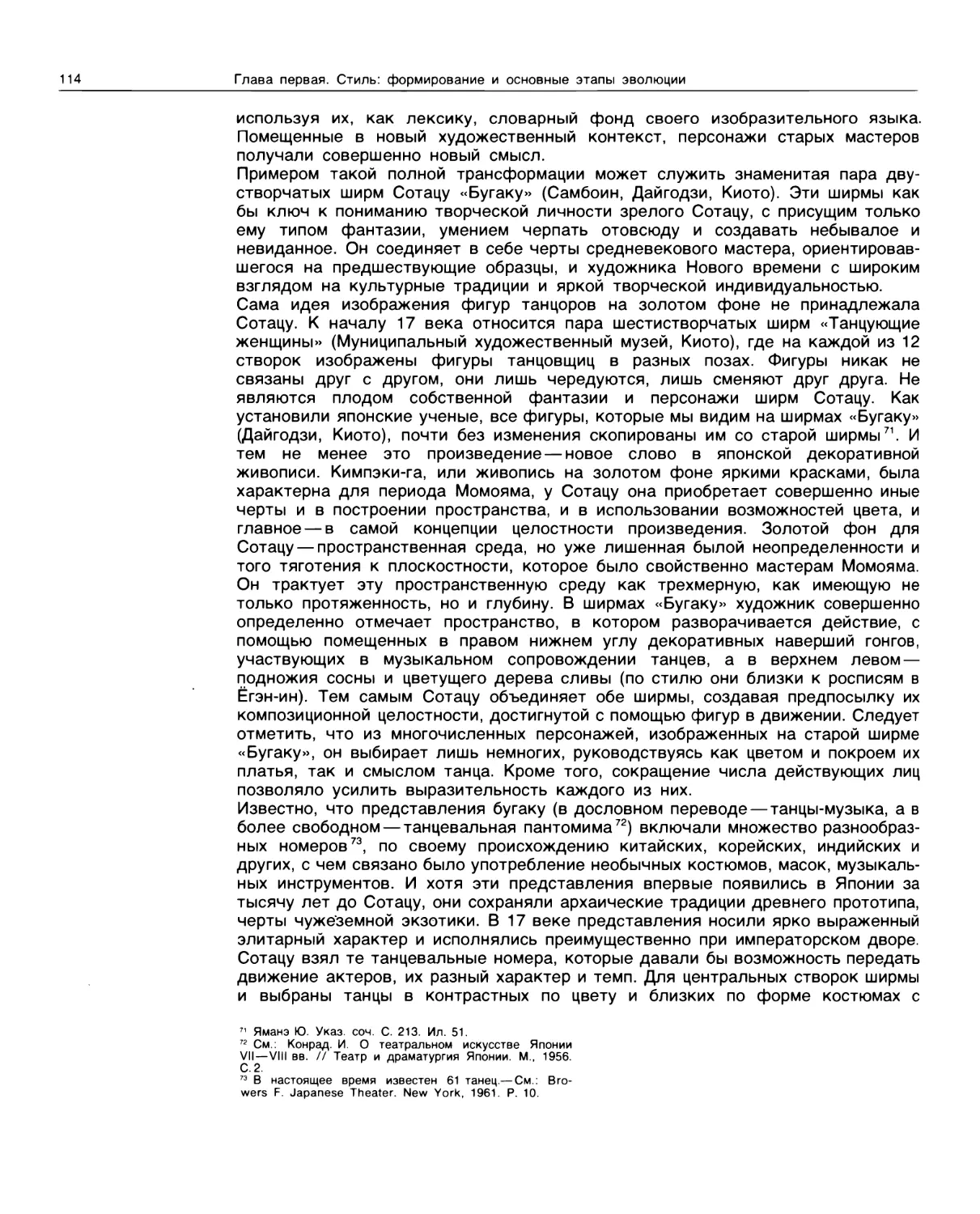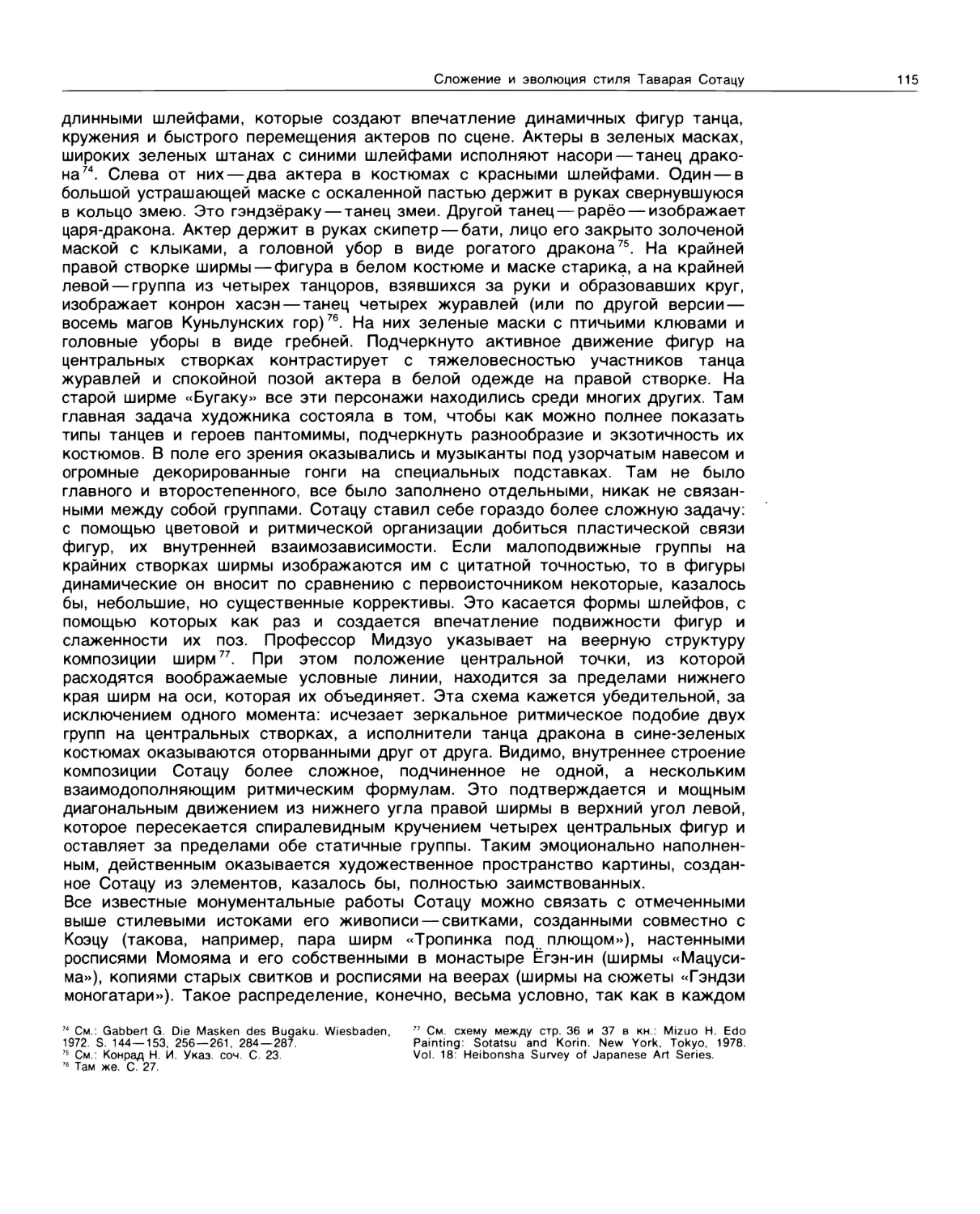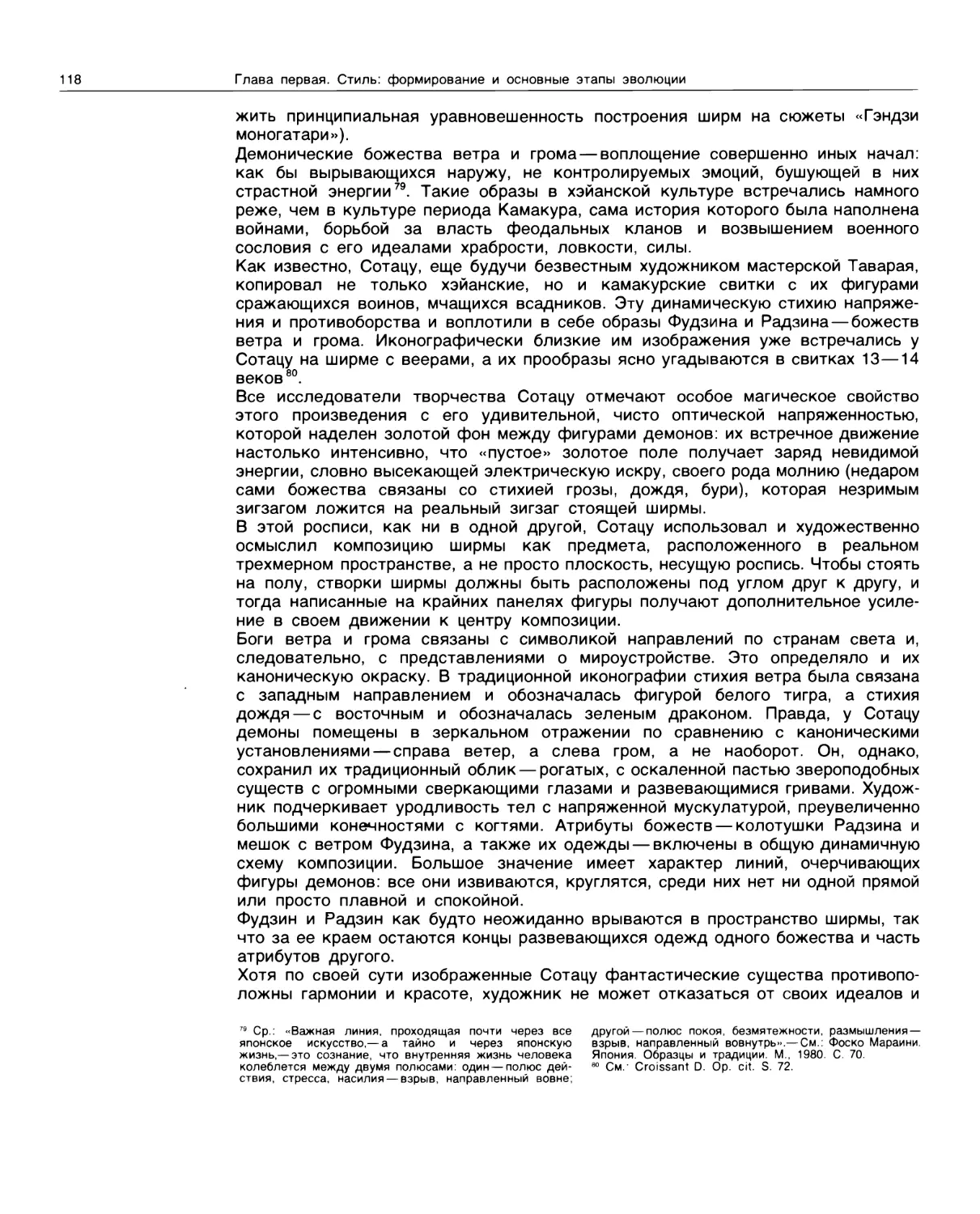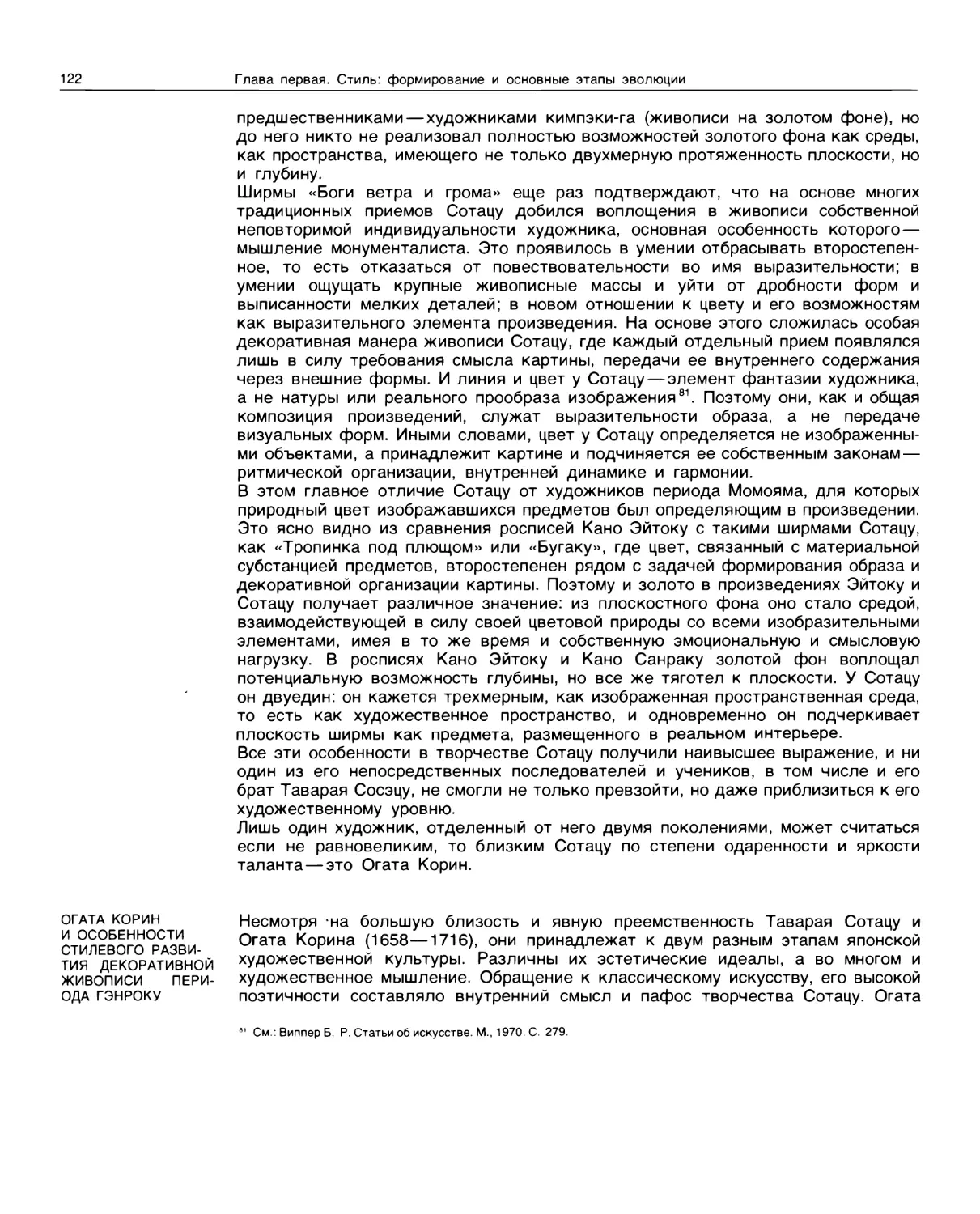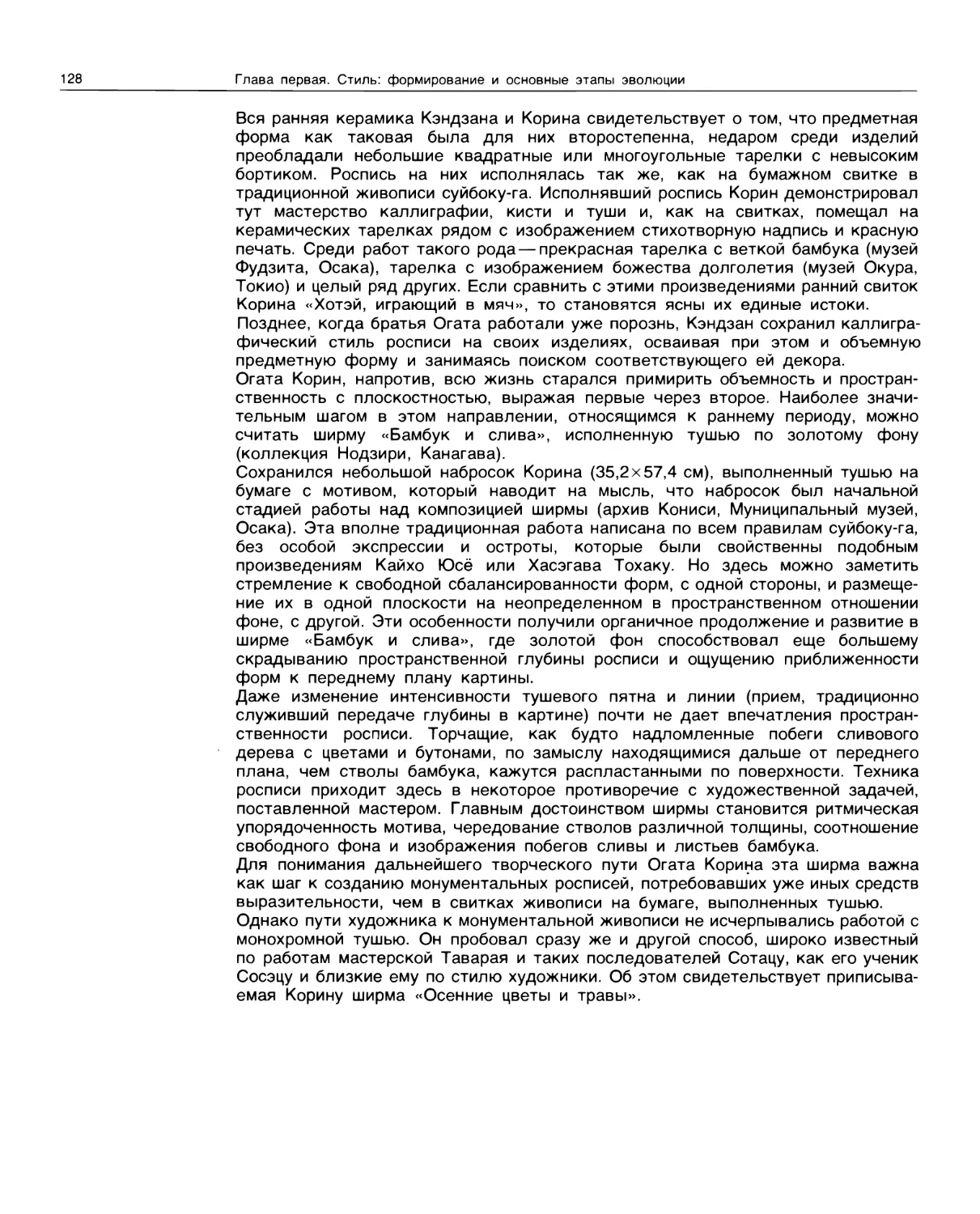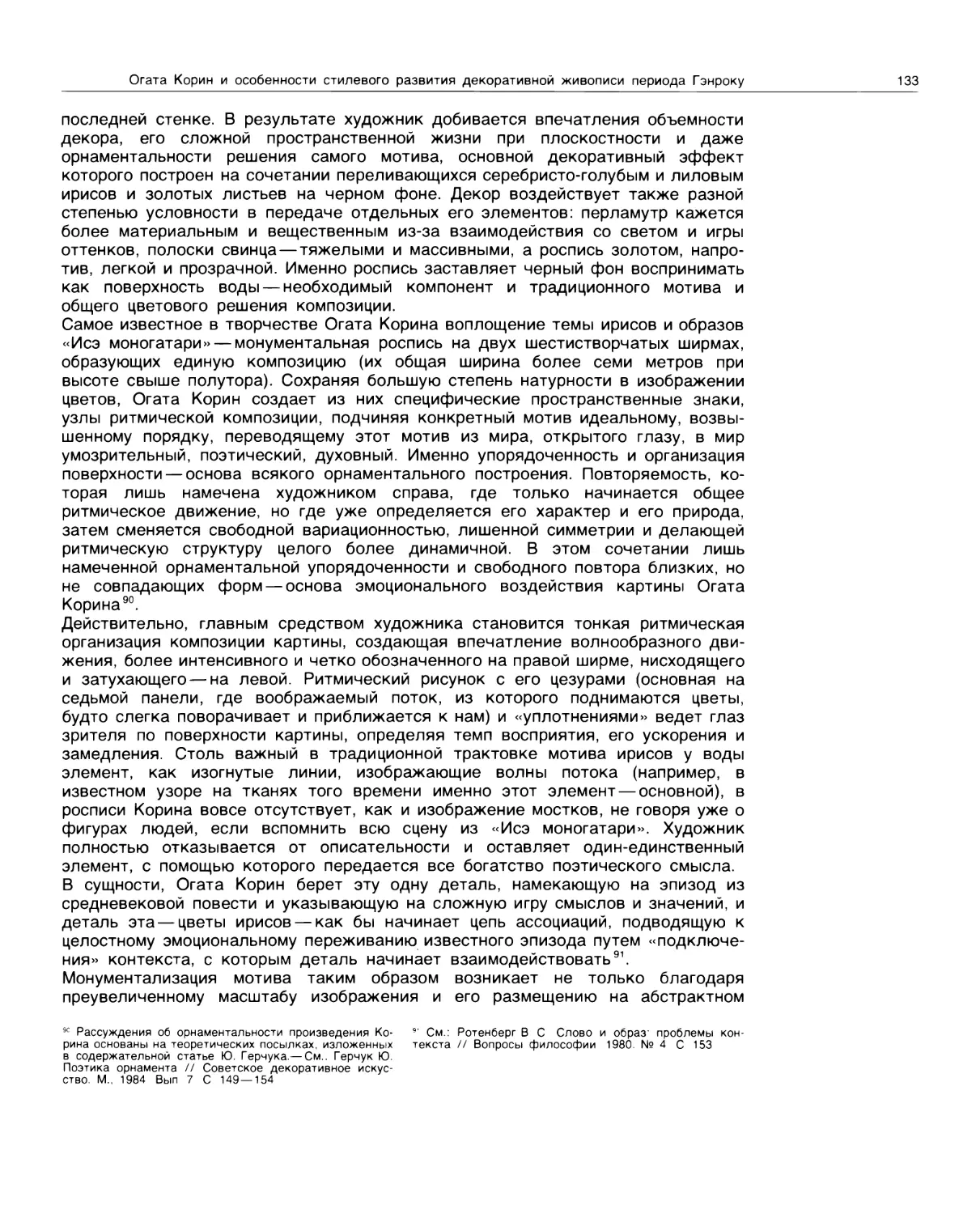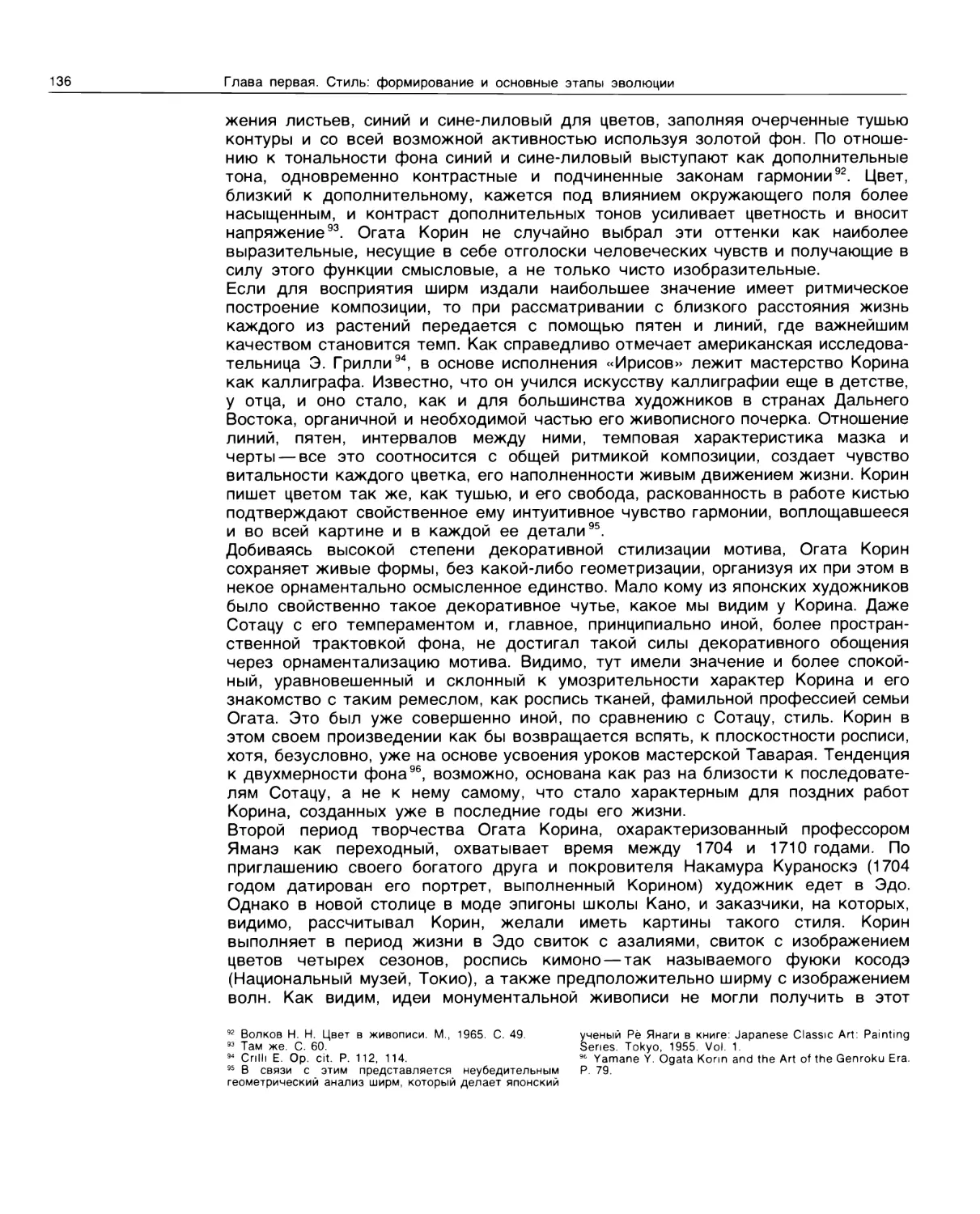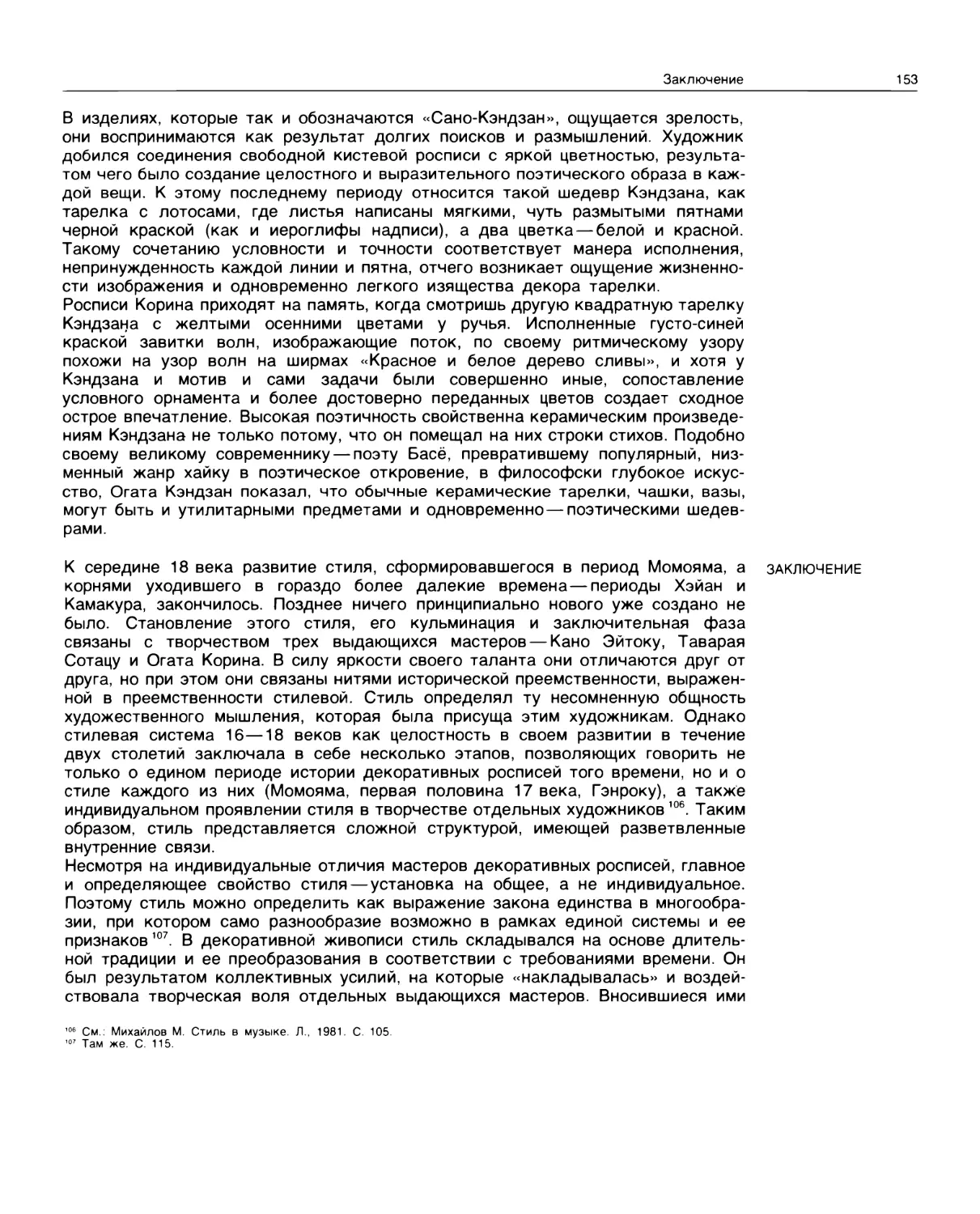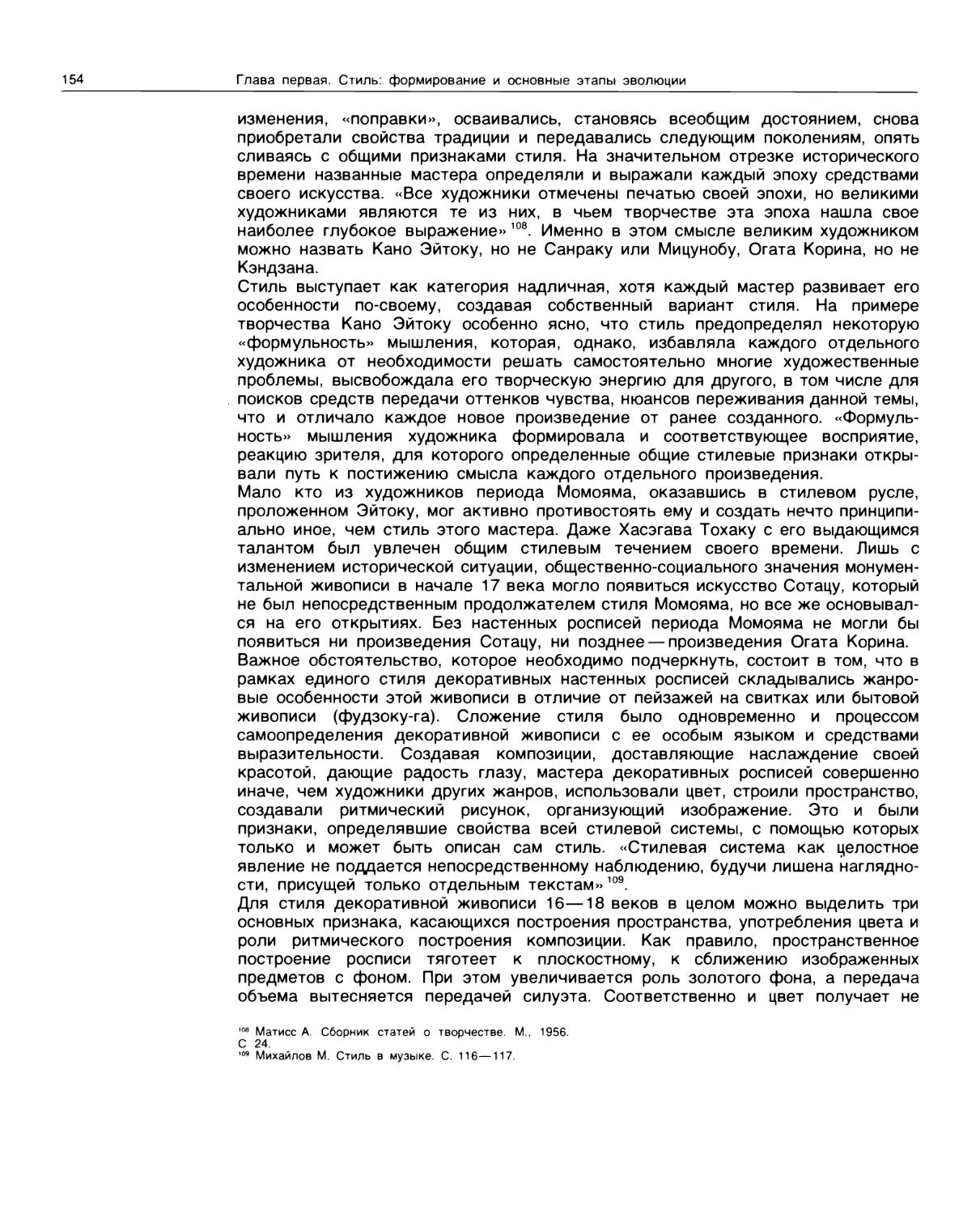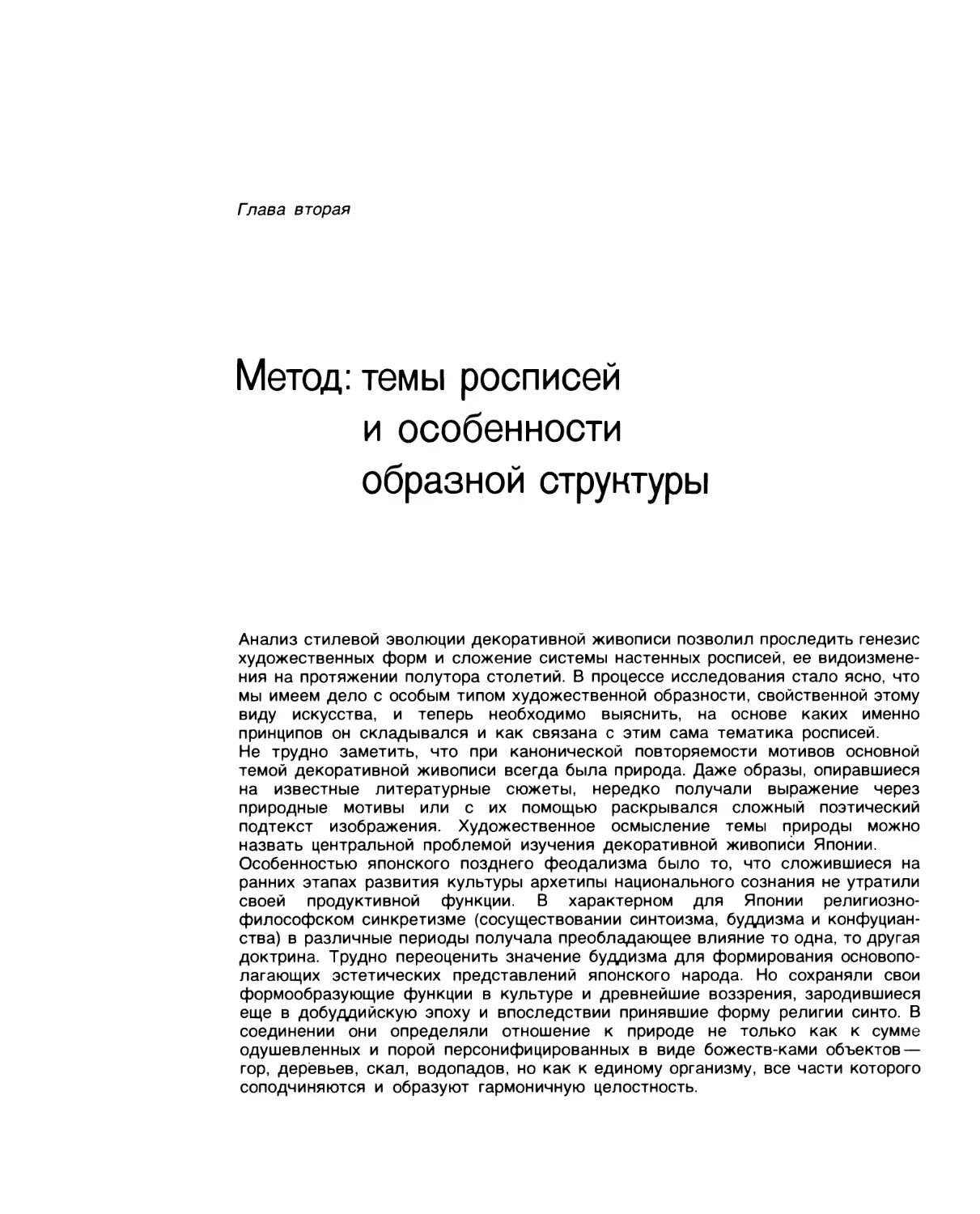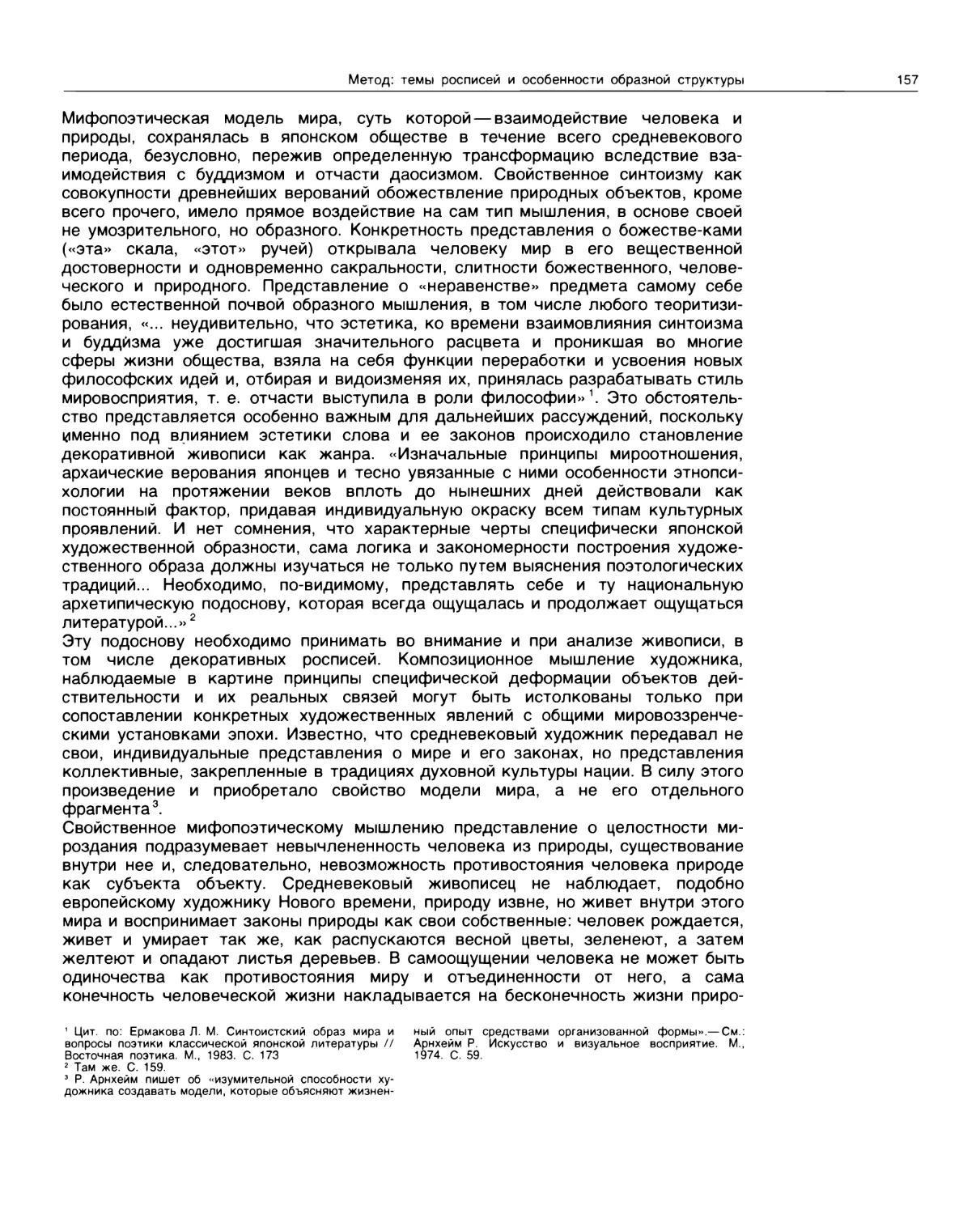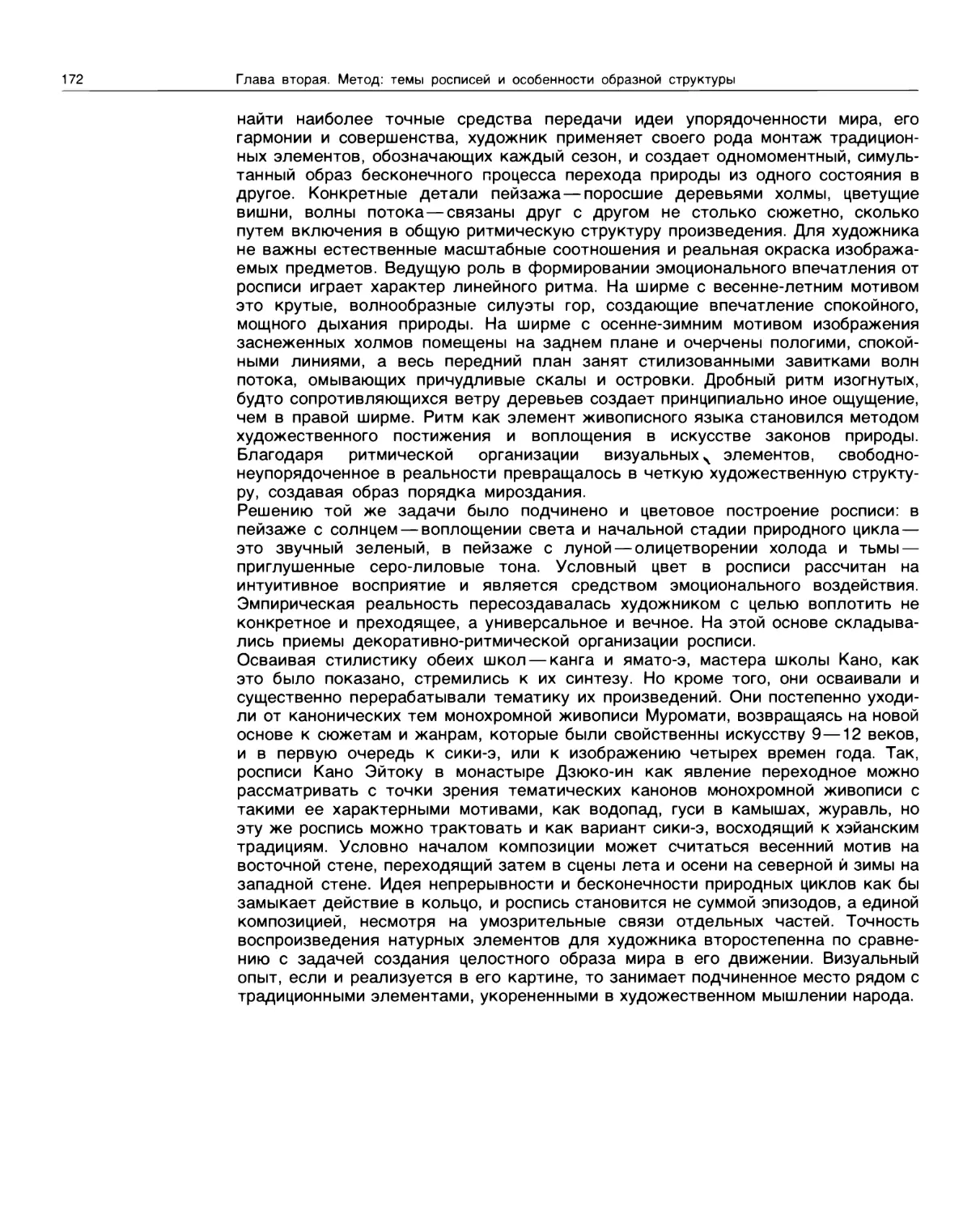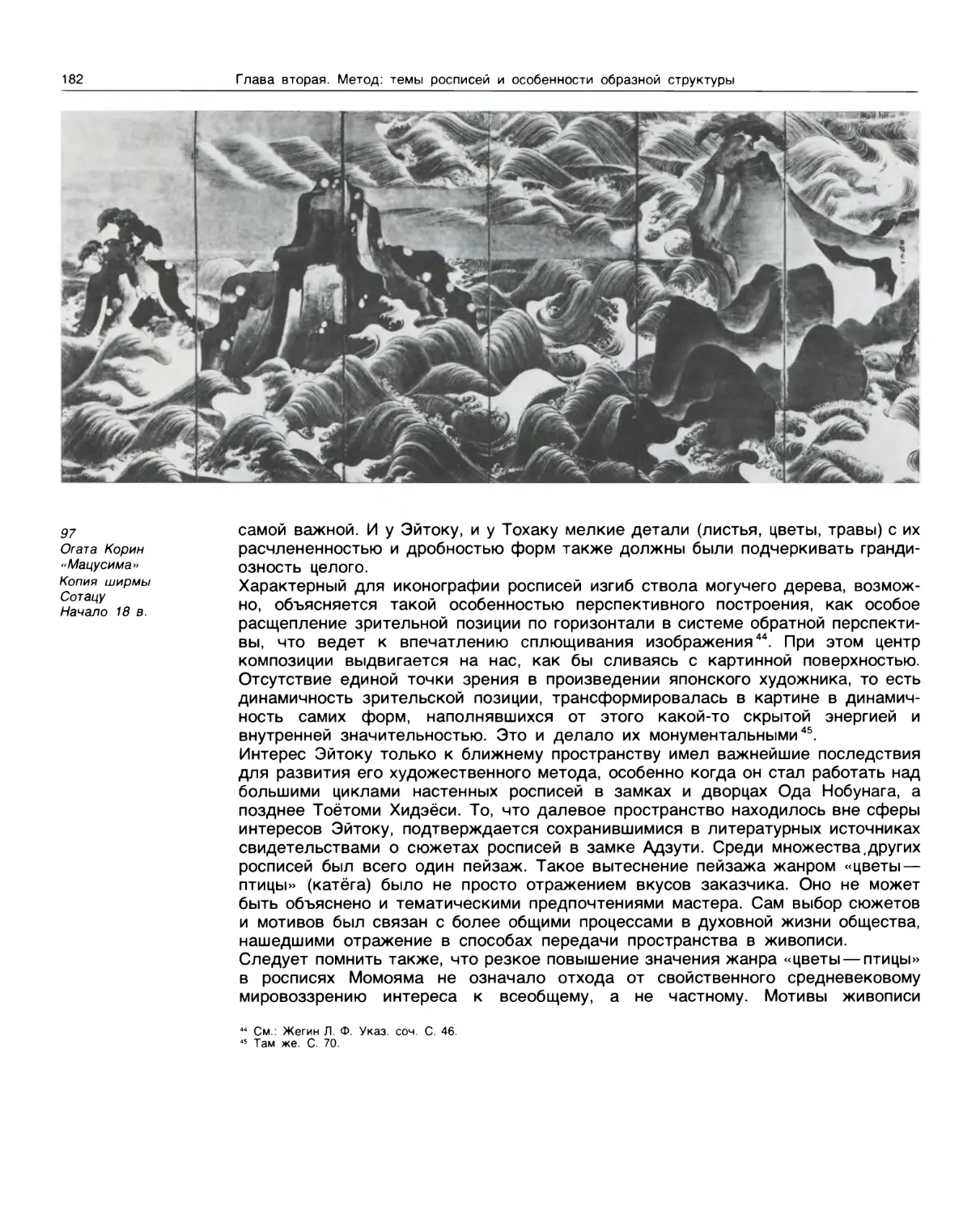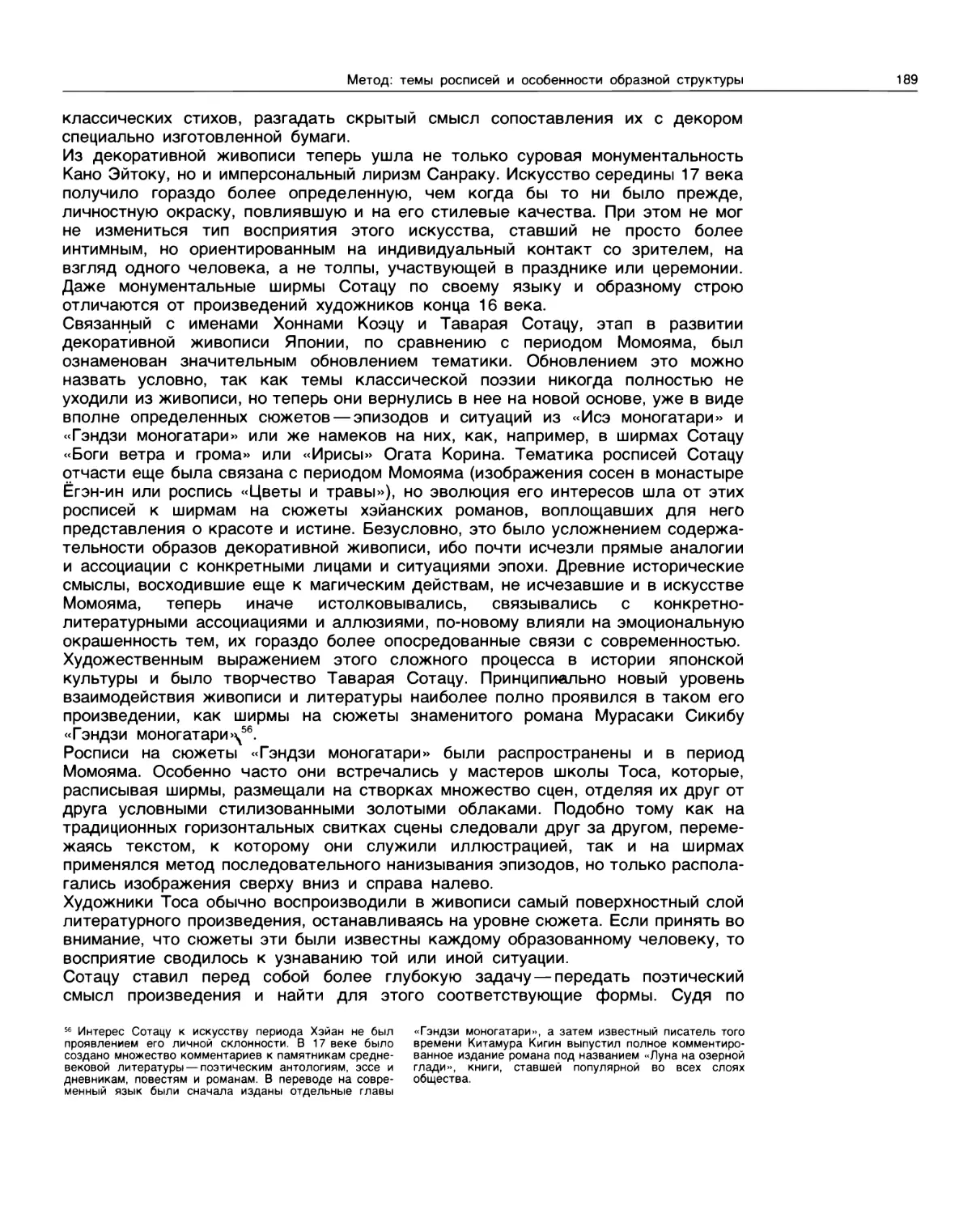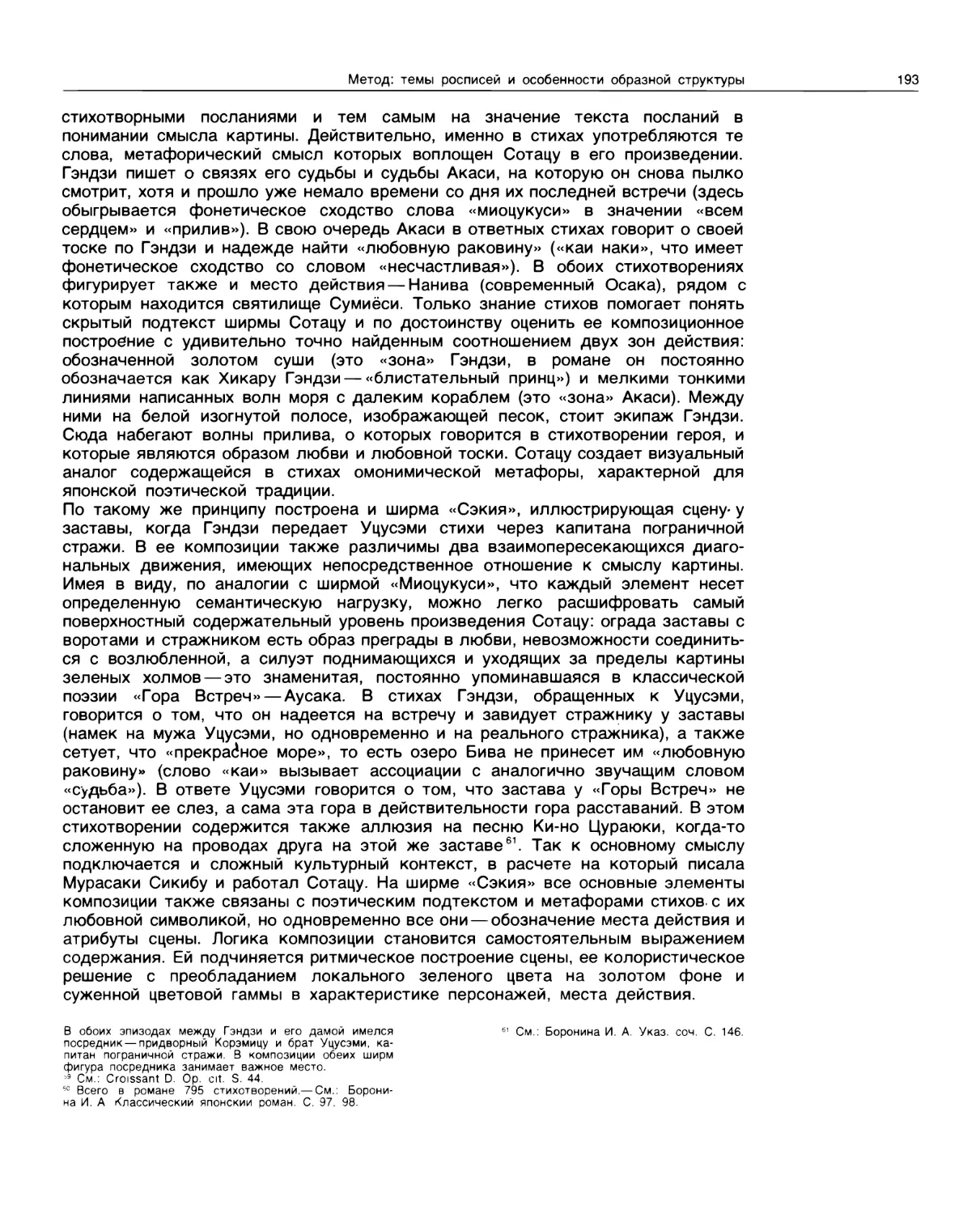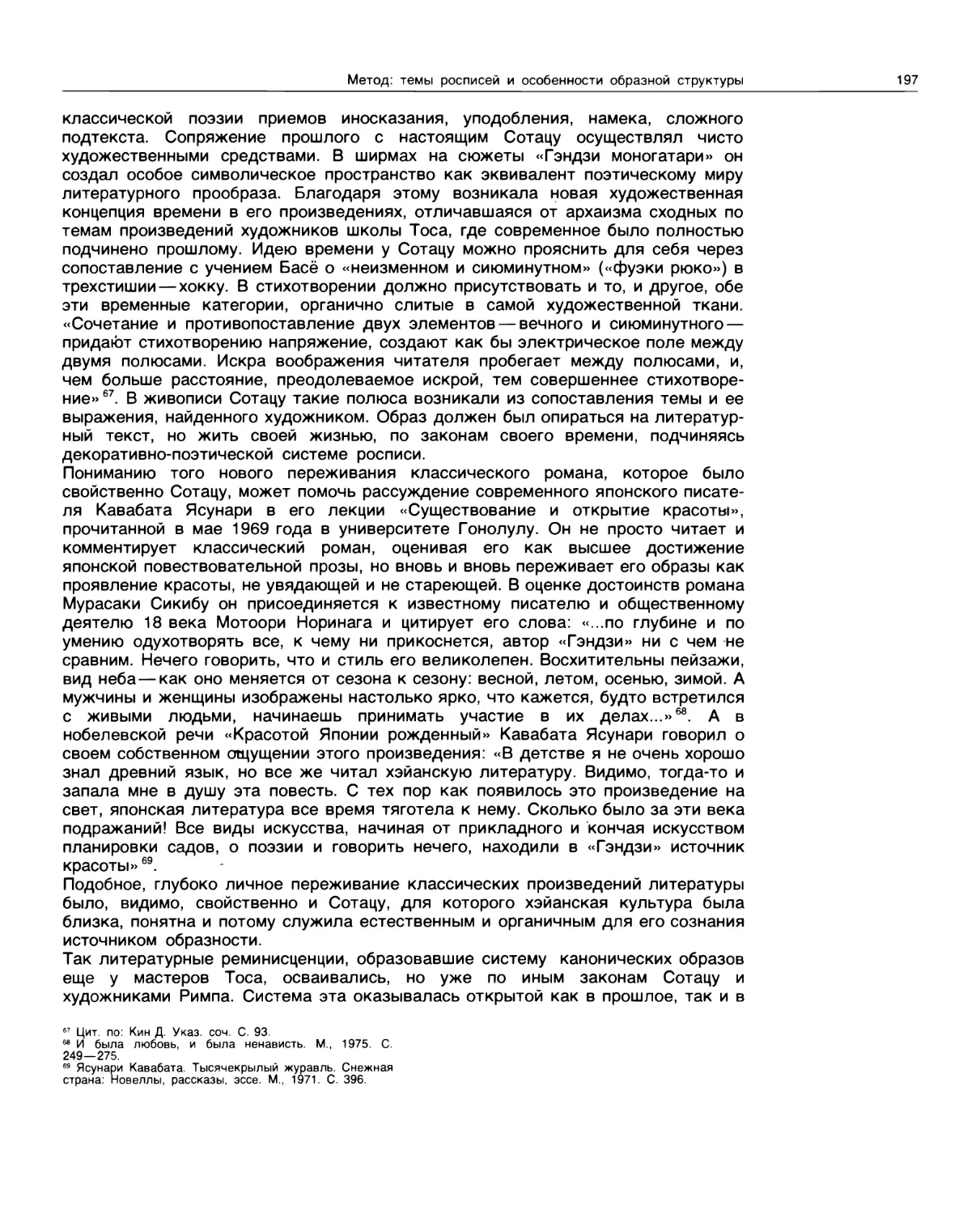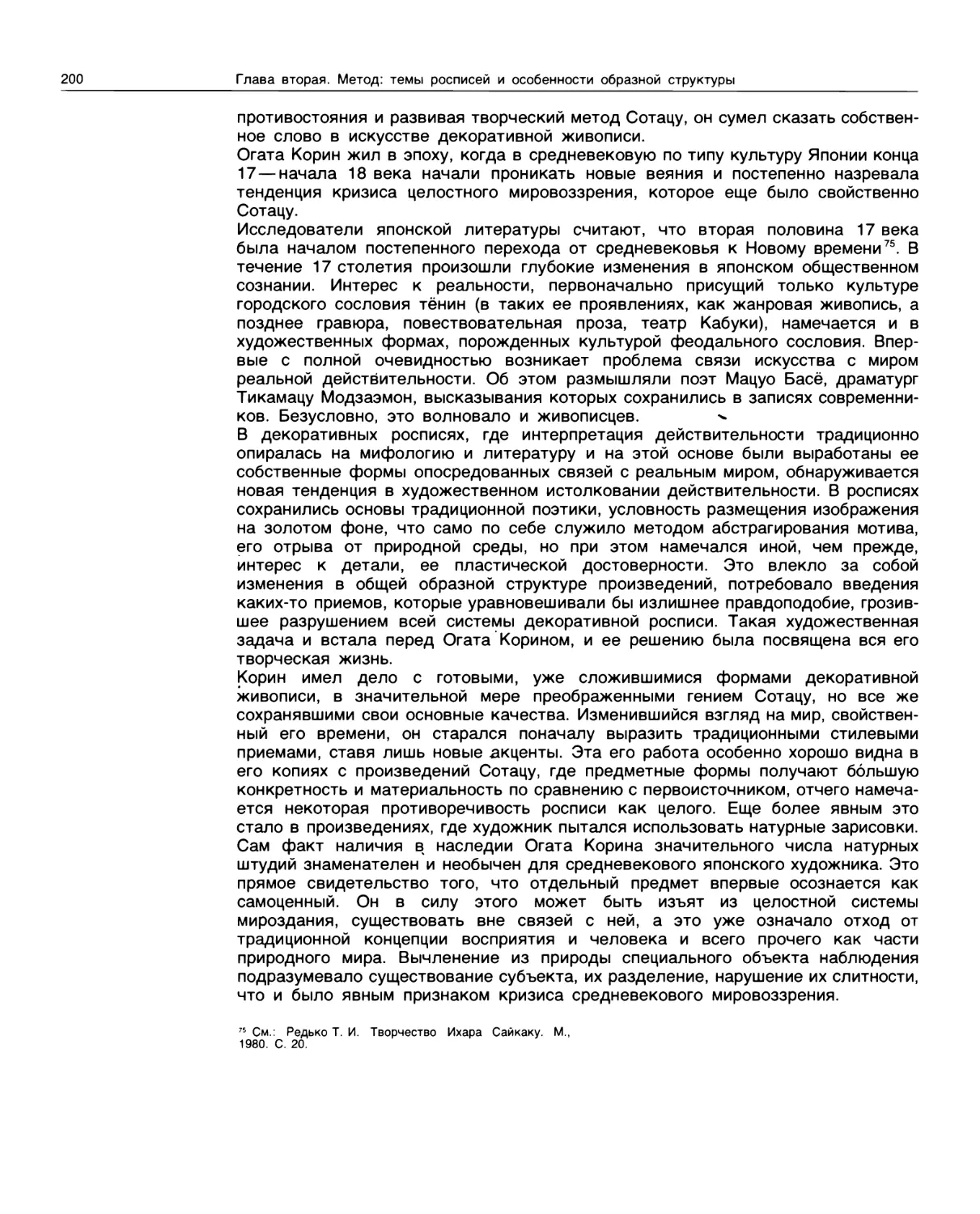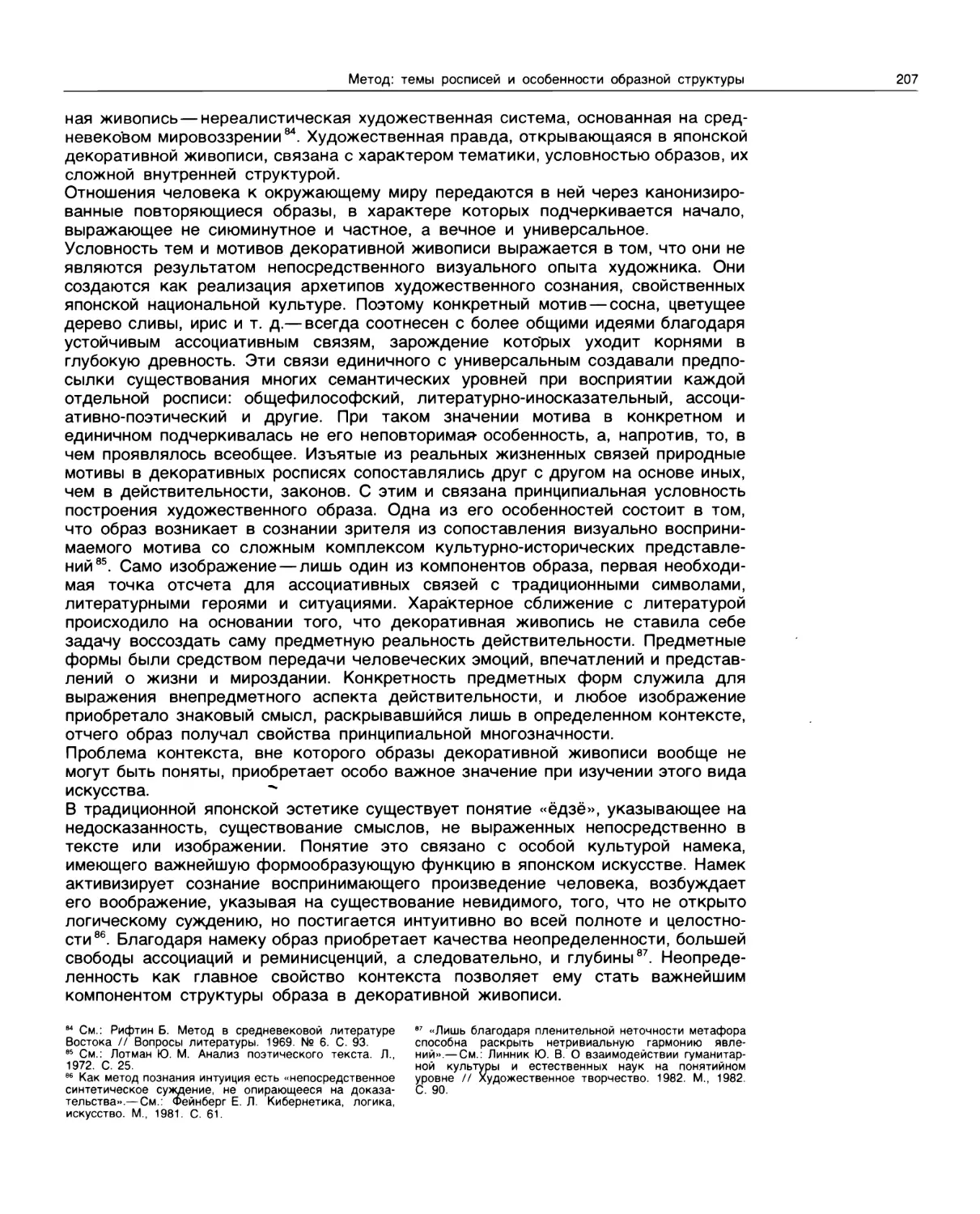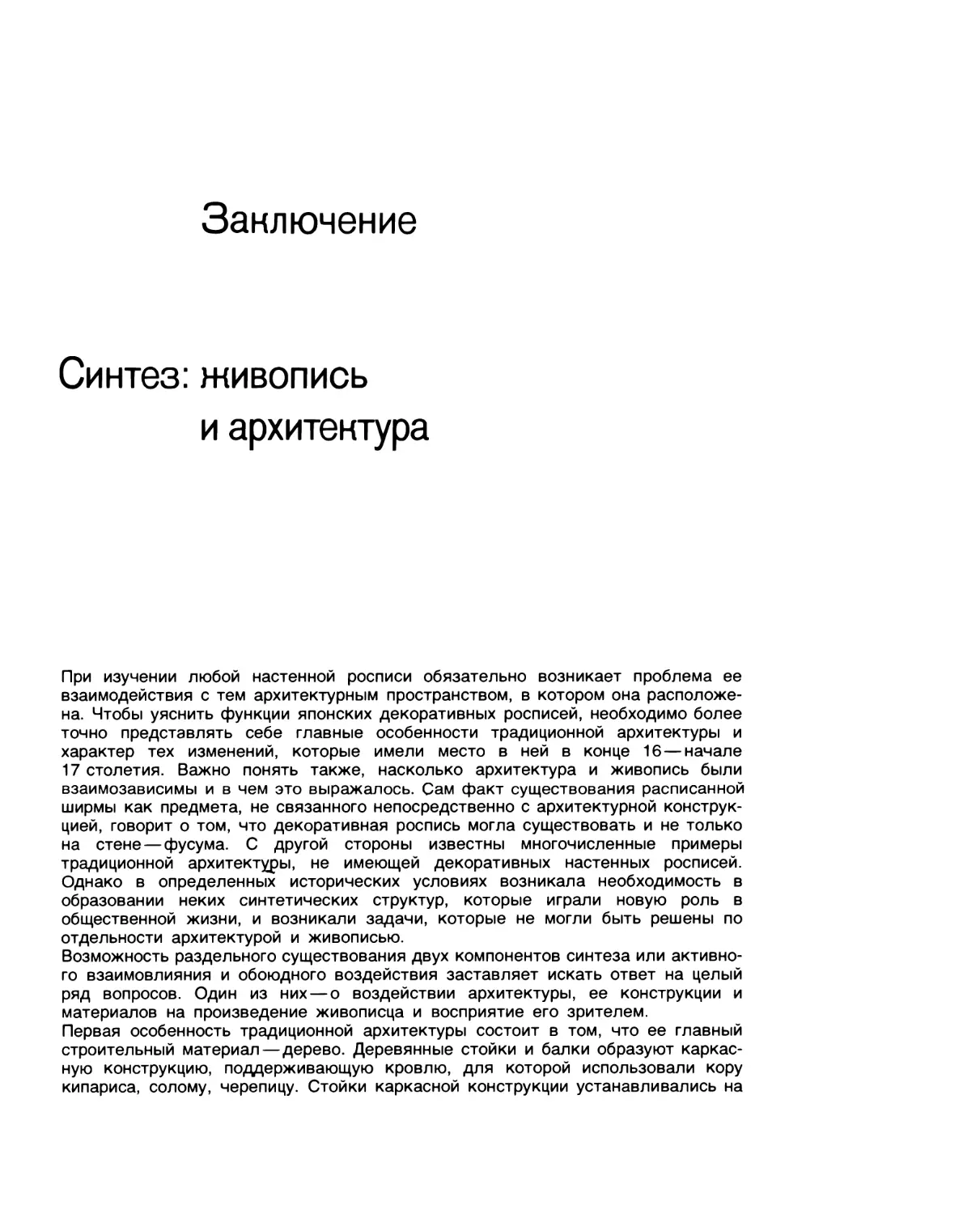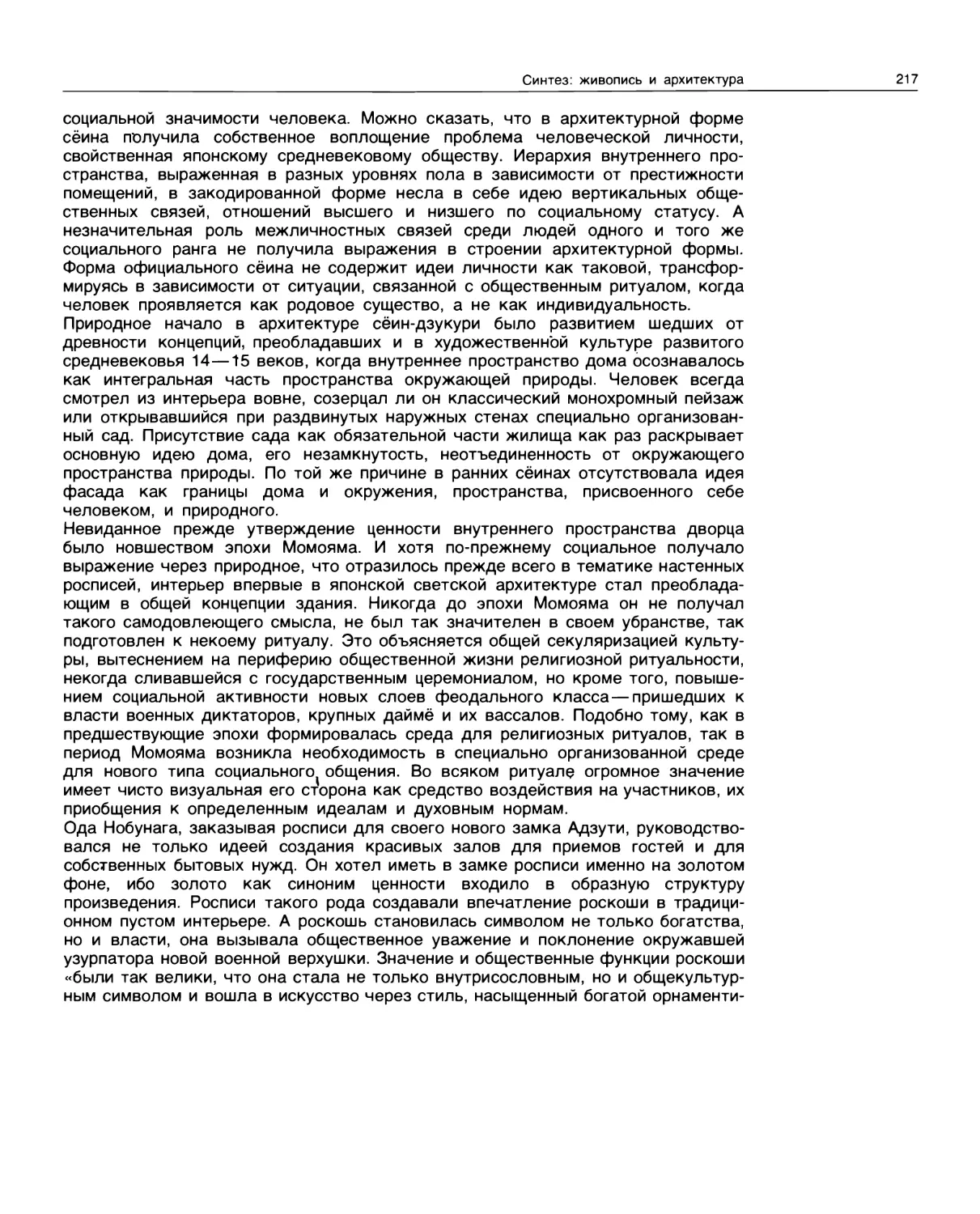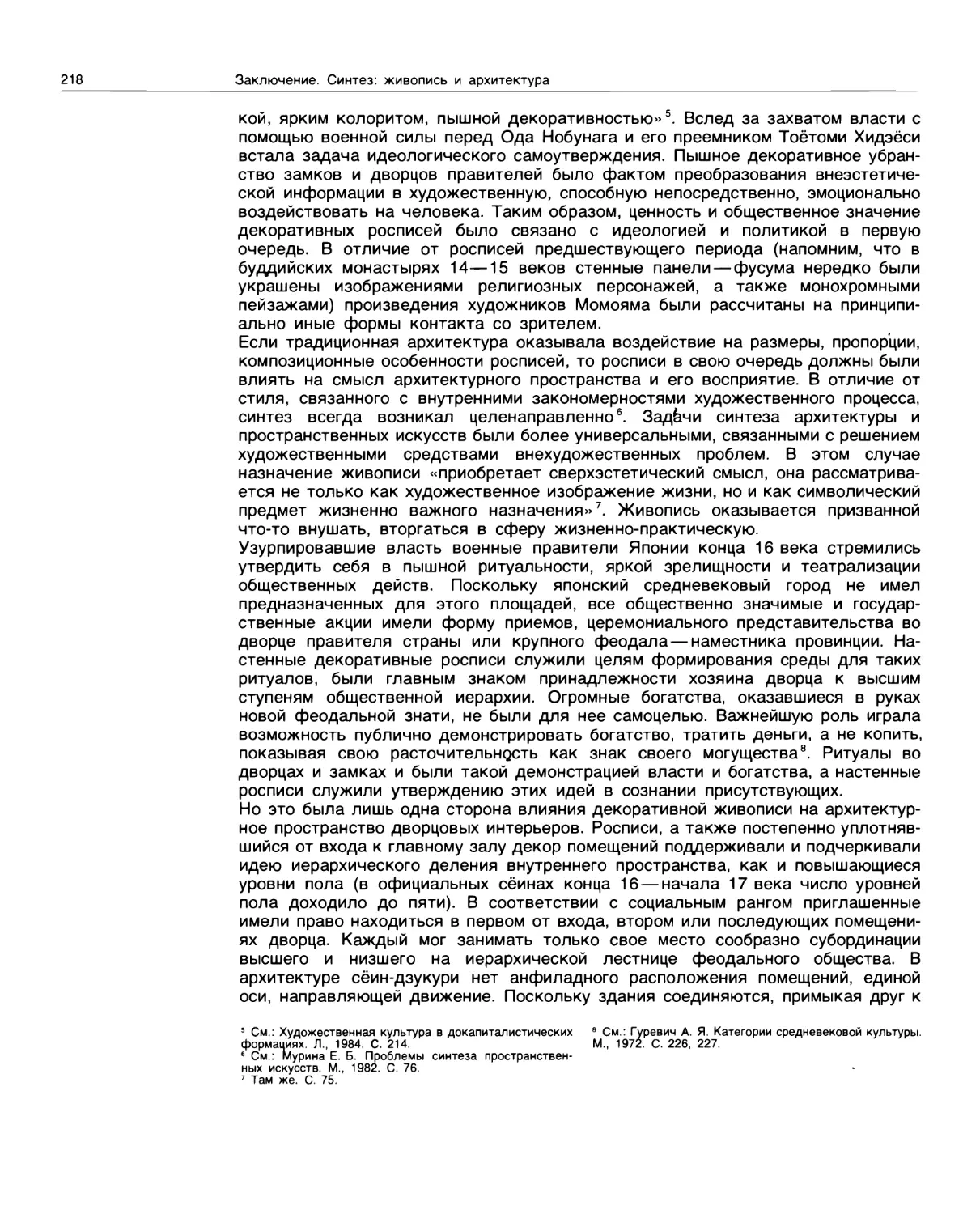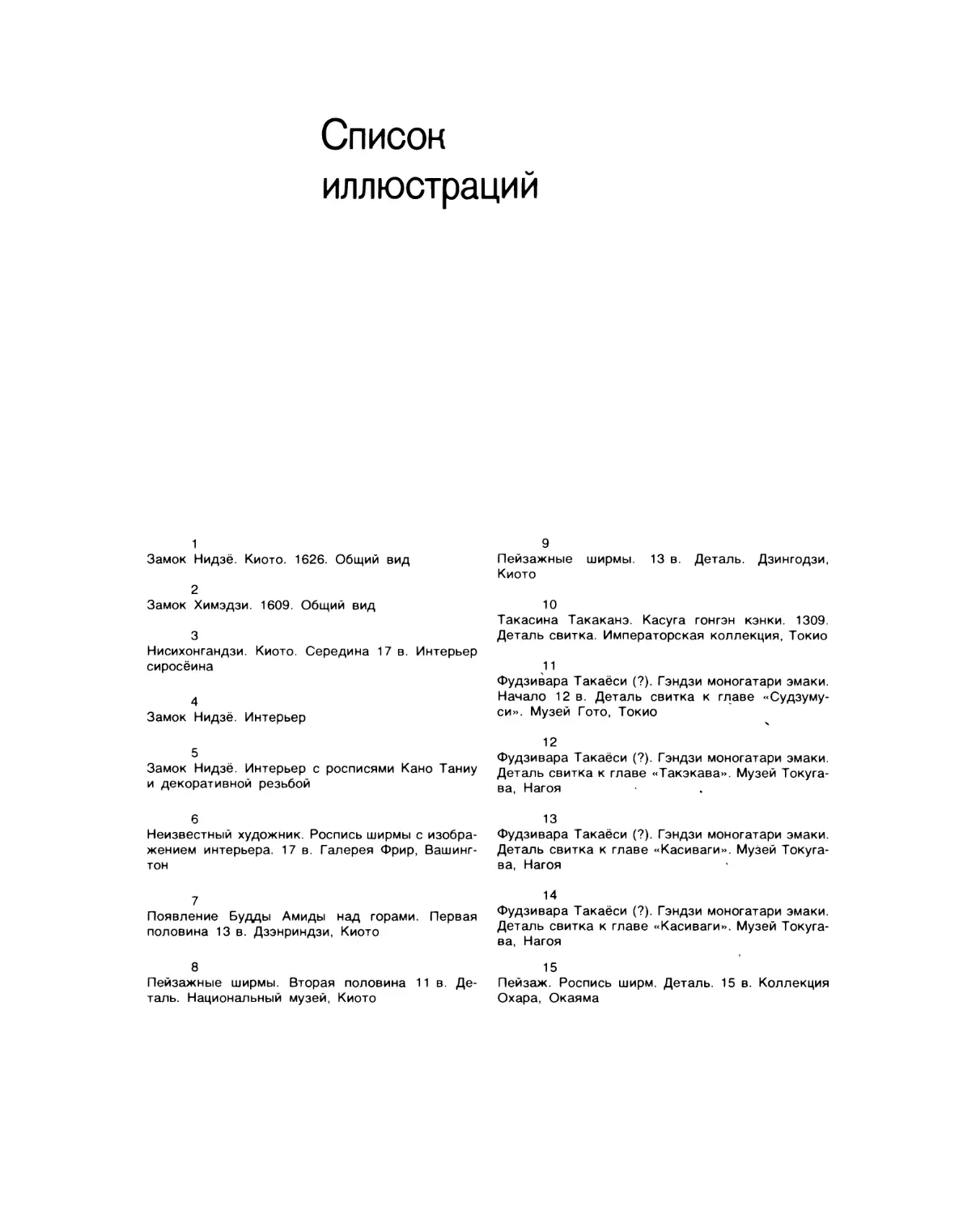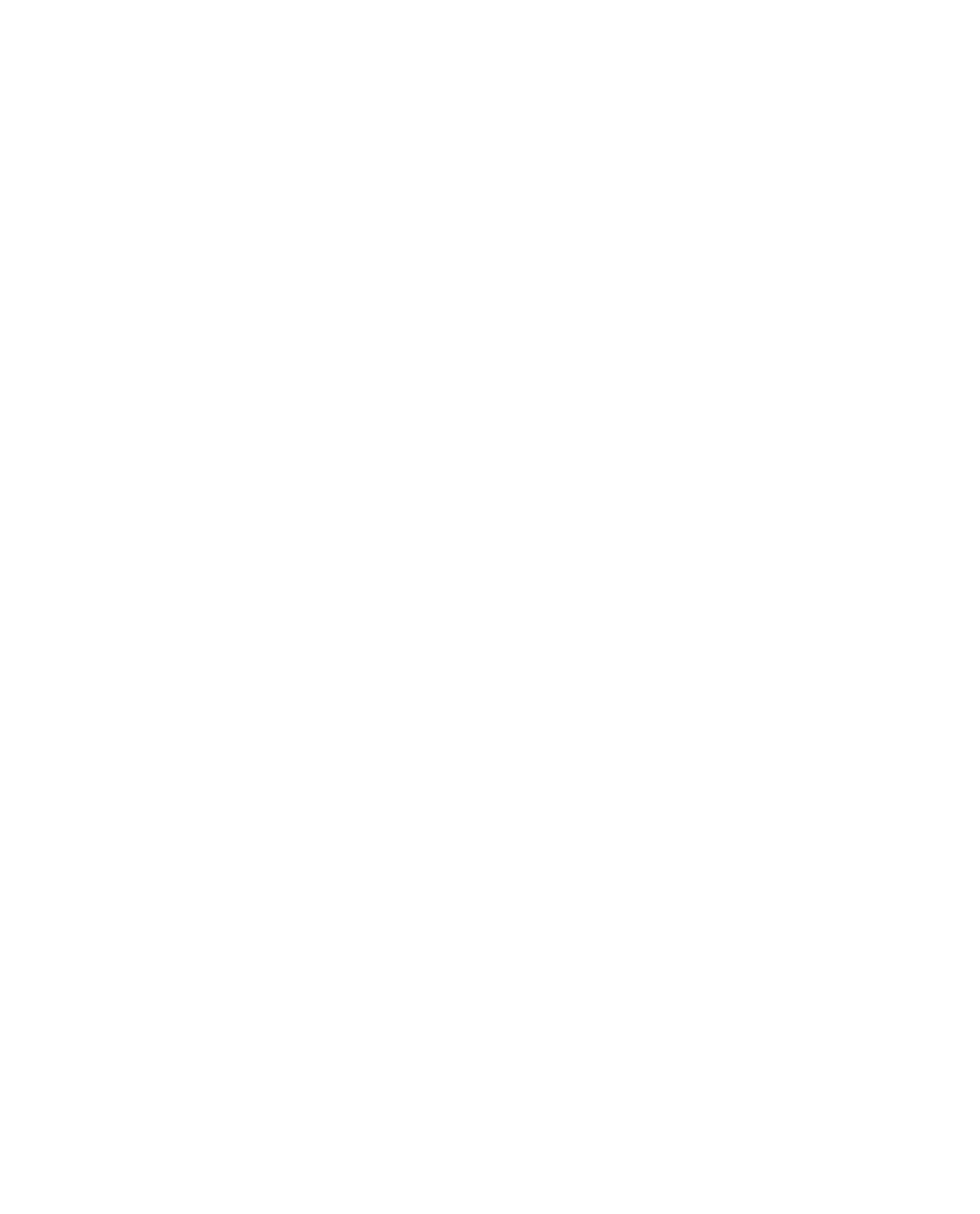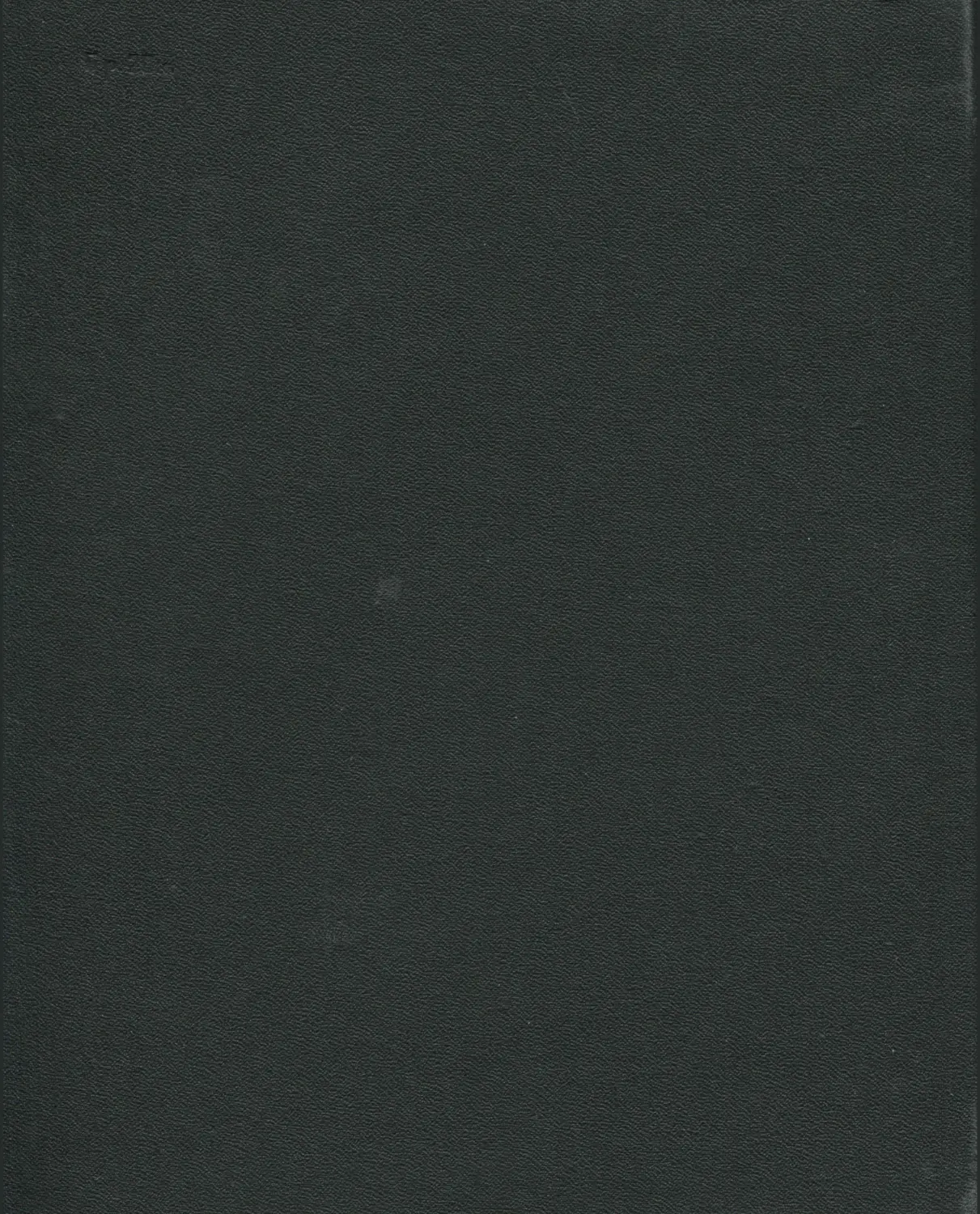Автор: Николаева Н.С.
Теги: декоративно прикладное искусство искусство культура японии
ISBN: 5-85200-083-3
Год: 1618
Текст
Декоративные росписи Японии 16-18 венов
Н.С.Нинолаева
ДЕКОРАТИВНЫЕ
РОСПИСИ
ЯПОНИИ
16-18 ВЕКОВ
От Нано Эйтону до Огата Корина
Москва
Изобразительное искусство 1989
ББК 85.12 Н 63
Рецензенты: кандидат искусствоведения Н. А. Виноградова, кандидат искусствоведения Б. Г. Воронова
Макет и оформление художника Е. Е. Смирнова
„ 4904000000-112 _ _
Н 40-89
024(01 >-89
ISBN 5-85200-083-3
© Издательство «Изобразительное искусство», 1989
Введение
Декоративные настенные росписи — одно из самых ярких явлений художественной культуры Японии второй половины 16 — начала 18 века. В этом жанре работали ведущие мастера. Наряду с гравюрой, театром Кабуки декоративная живопись стала наиболее полным выражением самобытного стиля японского искусства периода позднего средневековья и перехода к Новому времени. Декоративная живопись — светское искусство, и хотя часть росписей находится в монастырских зданиях, они и там не имели сакральных функций, а украшали приемные залы и помещения для гостей. Выполненные яркими красками по золотому фону, росписи были главным декоративным убранством залов для торжественных церемоний во дворцах и замках правителей страны и крупных феодалов.
По характеру мотивов все росписи в традиционном японском искусствознании делятся на две большие группы. Одна из них обозначается как фудзоку-га («картина нравов и обычаев»), куда относятся произведения с фигурами людей и бытовыми сценами. Условно говоря, это жанровая живопись. Вторая группа — собственно декоративные росписи, основные мотивы которых связаны с природой или классической литературой. Иногда встречаются пейзажи и назидательные сюжеты конфуцианских притч. Однако безусловно преобладают в декоративных росписях мотивы природы, и их художественное осмысление становится центральной проблемой при изучении этого жанра живописи.
Декоративная живопись существовала в форме настенной росписи, исполнявшейся на внутренних раздвижных перегородках — фусума и на ширмах — бёбу. В японском искусствознании они объединяются общим термином «сёхэйга»1.
Лишь с большой долей условности эти произведения могут быть обозначены как монументальная живопись, стенопись, картина, если иметь в виду понятия, применяемые к явлениям европейского искусства. Однако по своим функциям японские настенные росписи можно сопоставить с фреской в итальянском палаццо, а ширмы — с гобеленами во дворцах французских королей.
Стилевые качества японских декоративных росписей складывались под воздействием многих факторов, в том числе в зависимости от материалов, конструкции, функциональных свойств архитектуры, в которой они размещались.
Развитие архитектуры в свою очередь было связано с процессами в экономической и социальной жизни Японии того времени. Самым главным событием второй половины 16 века было объединение страны и установление мира после длительного периода феодальных междоусобиц. Первыми объединили страну узурпировавшие власть военные диктаторы Ода Нобунага и его преемник Тоётоми Хидэёси. Стремясь к централизации власти, они провели целый ряд реформ, положивших начало подъему экономики. Создание единой денежной системы и строительство дорог способствовали активизации торговли, появлению новых городов. Происходили серьезные перемены в характере производства, переход от натурального хозяйства феодальных поместий к общенациональной
’ В толковом словаре «Кодзи-эн» термином «сехэйга» обозначается живопись на внешних перегородках седзи, на внутренних перегородках фусума, на деревянных дверях сугидо, на ширмах — бёбу и экранах — цуитатэ.—
См.: Кодзи-эн. Токио, 1958. С 1072.
6
Введение
экономике2. Помимо старых экономических центров в последние десятилетия 16 века возникло много призамковых городов. Военные диктаторы в целях личной безопасности, а также утверждения престижа, силы и могущества строили грандиозные укрепленные замки, становившиеся центрами новых политических структур3. Резкое увеличение неаграрного населения не только стало основой формирования городского сословия — тёнин, но потребовало активизации строительства, широкий размах которого, в свою очередь, способствовал усилению тенденции к стандартизации на основе модульной системы, заложенной еще в древности. Поскольку главным строительным материалом было дерево, а конструктивной основой любого архитектурного сооружения — каркасная система, возникла возможность изготовления стандартных элементов на основе единого модуля, и процесс строительства дома превращался в процесс его сборки. Кроме элементов деревянной конструкции, изготовлялись стандартная керамическая черепица для кровли, определенного размера листы бумаги для раздвижных панелей наружного ограждения и для внутренних перегородок. Отличие резиденции феодала от жилого дома городского ремесленника состояло в размерах, качестве материалов и отделки, а также декоративных элементах внутреннего убранства4. В замках правителей страны и крупных феодалов главным, а порой и единственным декором были росписи, исполнявшиеся на внутренних перегородках — фусума. Таким образом, само размещение росписи в интерьерах замков и дворцов, их размеры, пропорции были всецело связаны и с материалами, и с конструкцией традиционной жилой архитектуры, зависели от всех компонентов.
Фусума, на поверхности которых располагались росписи, представляют собой деревянную раму, затянутую с обеих сторон плотной бумагой, напоминающей картон. Эти раздвижные перегородки направляются специальными желобками, имеющимися в полу и балках потолка. Подвижность—основная особенность такой стены так же, как и наружных стен — сёдзи, пропускающих мягкий рассеянный свет. Именно на подобное освещение без теней и без прямых солнечных лучей были рассчитаны росписи, цветовое решение которых кажется более резким в условиях современного музея. Даже когда наружные панели раздвинуты, свет из-за большого свеса кровли попадает в интерьер отраженным от зелени сада, окружающего дом. Сад как специально организованное природное окружение — важная ступень в тех органичных связях интерьера с окружающим пространством, которые были одной из самых важных особенностей традиционной архитектуры. Настенные росписи, изображавшие деревья, кустарники, цветы, камни, как бы материализовались в элементах, из которых строился сад. Они подчеркивали и утверждали природное начало, всегда главенствовавшее в японской архитектуре.
Пропорции и композиция росписей также связаны с конструкцией дома, которая, в свою очередь, отражала национальные бытовые особенности. Поскольку пол, покрытый циновками-татами из рисовой соломы, был основной жизненной поверхностью и на нем главным образом сидели, а не стояли, то и точка зрения на расписные фусума определялась уровнем глаз сидящего человека. Это всегда учитывалось живописцами и влияло на композицию росписей. Соотношение высоты стен (около 1,5—2 м) с общей протяженностью росписей в несколько метров также влияло на их построение, преобладание в них горизонтальной направленности5. За редким исключением, мы не увидим в них изображения
2 Yazaki Takeo. Social Change and the City Life in Japan (каждая из ее створок представляет собой деревянную
From earliest Times through the Industrial Revolution. раму, затянутую с двух сторон плотной бумагой, но Tokyo, 1968. Р 128. соединяются створки под углом друг к другу, и таким
3 Ibid. Р. 100. образом роспись располагается не на единой плоской
4 Engel Н. The Japanese House. Tokyo. 1964. P. 150. поверхности, а на нескольких), но функционально близ-
3 Ширма как предмет еще более мобильный, чем фусу- ка ей. Стилистика росписей на ширмах и фусума
ма, несколько отличается от последней в конструкции фактически была единой.
Введение
7
неба, а взгляд зрителя скользит по поверхности справа налево (по аналогии с письменным текстом). Как правило, все элементы архитектурной конструкции, выполненные из дерева, оставлялись в своем натуральном виде и составляли гармоническое единство с циновками пола, создавая нейтральный цветовой фон для ярких росписей на фусума.
Важно помнить и то, что интерьеры были лишены каких бы то ни было объемных предметов, так что росписи воспринимались в значительном пустом пространстве, отчего их воздействие было особенно активным. Получая свое место в ансамбле интерьера, декоративные настенные росписи формировали его семантику, служили основой его духовной значительности.
Если в конце 16 и первые годы 17 столетия — период наиболее широкого размаха строительства замков и дворцов феодалов — преобладали росписи на фусума, то со второй четверти 17 века, когда строительство было официально ограничено, а затем и запрещено, основное распространение получили росписи ширм. В обширных приемных залах и резиденциях периода Момояма (1573—1615) настенные росписи были официальным искусством, связанным с государственными церемониями и общественными ритуалами. С изменением исторических условий и социального климата в 17 веке (после утверждения абсолютизма Токугава) декоративная живопись постепенно утратила свои общественные функции, что повлияло на характер тем и стилистику росписей.
В истории японской декоративной живописи ясно различимы три главных этапа, связанных с деятельностью трех выдающихся художников, каждый из которых определял стиль своего времени. Первый этап — это период Момояма, центральной фигурой в живописи которого был Кано Эйтоку. Второй этап — первая половина 17 века, время, связанное с творчеством Таварая Сотацу. Третий этап — конец 17 и начало 18 века, так называемый период Гэнроку, когда определяющая роль в развитии декоративной живописи принадлежала Огата Корину. В каждый период вокруг основных мастеров было немало других, порой не менее талантливых и ярких. Но изменения в стиле и творческом методе определялись именно этими тремя выдающимися живописцами.
Три основных этапа в истории декоративной живописи — это и три разных по своему содержанию периода в истории страны, связанных преемственностью, но и существенно отличавшихся друг от друга. Период Момояма был временем перехода от классического средневековья к средневековью позднему, хронологически совпадавшему с Новым временем европейской истории. Это был один из самых динамичных периодов, принесший крупные сдвиги в социальной сфере вслед за бурными переменами в политической и экономической жизни общества.
В области культуры начали впервые активно действовать представители городского сословия, лишенного каких бы то ни было социальных привилегий, но постепенно сосредоточившего в своих руках огромные богатства. В период Момояма существенно изменилась общая структура художественной культуры Японии, место и значение в ней отдельных видов и жанров искусства. Это было время ее активной секуляризации, вытеснения религиозных форм искусства и выдвижения на первый план форм светских. Кроме того, художественная культура теряла былую однородность, значительно усложнялась, приобретала черты синкретичности. Декоративная живопись в этот период заняла одно из ^ ведущих мест, став официальным искусством правивших страной военных заМ0к Нидзё диктаторов. Это было связано с широким размахом строительства замков и Киото. 1626
Введение
11
дворцов пришедшей к власти новой феодальной прослойки, представители которой видели в яркости и пышности настенных росписей средство утверждения идей силы, богатства, могущества.
Первым замком с семиэтажной башней, окруженной укрепленными стенами, был замок Адзути на берегу озера Бива. Он был построен по приказу Ода Нобунага как его резиденция, которую военный диктатор впоследствии предполагал сделать столицей страны. Роскошный декор всех помещений замка и, в первую очередь, росписи на золотом фоне должны были служить целям утверждения престижа Нобунага. Для выполнения росписей был приглашен Кано Эйтоку, работы которого в замке Адзути открыли новую эру в истории японской живописи. Кано Эйтоку после гибели Ода Нобунага работал над росписями в замках и дворцах Тоётоми Хидэёси, при котором было развернуто беспрецедентное по масштабам строительство.
Подражая правителю страны, заказывали росписи в своих резиденциях крупные феодалы — даймё и богатые монастыри, строившие обширные приемные залы и помещения для паломников. Настенные росписи стали главным компонентом синтеза с архитектурной формой и средством воздействия на смысл архитектурного пространства.
После внезапной кончины Хидэёси власть оказалась в руках одного из влиятельных феодалов и самого богатого человека в стране — Токугава Иэясу, который в 1603 году объявил себя сёгуном. Его главные усилия были направлены на укрепление централизованного государства и упрочение собственной власти. Для этого был проведен целый ряд реформ, закреплявших социальную иерархию феодального общества, стабилизировавших производственные отношения, не допускавших малейших проявлений свободомыслия или недовольства. Идеологической основой токугавского режима было конфуцианство, социальноэтическое учение, созданное древнекитайским мыслителем Конфуцием (6—5 вв. до н. э.) и реформированное философом Чжу Си в 12 веке. Большой удельный вес социальных проблем и тщательно разработанный социальный идеал делали конфуцианское учение опорой японской феодальной власти, стремившейся после столетия смут и междоусобиц добиться стабилизации общественной жизни и создать аппарат управления, способный поддерживать равновесие и порядок. Конфуцианство давало возможность сформулировать идеи социальной упорядоченности и этические основы новой государственности. Учение о Небе, которое дает «мудрому правителю», а тот своим подданным этические законы — вечные, неизменные и единственно правильные,— подразумевало культ долга и разума при условии твердых норм общественной и частной жизни человека.
Сословная пирамида, вершину которой занимал сёгун и клан Токугава, опиралась на крестьянство как главный производительный класс государства. Все население было разделено на четыре сословия (самураи, крестьяне, ремесленники и купцы), и целый ряд законов закреплял их права и обязанности.
Правители Токугава повели решительную борьбу с распространением христианства6, закончившуюся кровавыми репрессиями и полным закрытием страны для иностранцев в 1639 году. Исключение делалось лишь для китайцев и голландцев, которым было разрешено иметь представительства на полуострове Дэсима в Нагасаки. На два столетия Япония оказалась отрезанной от мира.
Все это существенно повлияло на общую атмосферу духовной жизни и развитие художественной культуры в 17 веке. Резко уменьшилось общественное значение
ь Впервые распространение христианства в Японии началось еще в 40—50-х годах 16 века и было связано с деятельностью португальских миссионеров.— См : San- som G. Japan. A short cultural History. Tokyo, 1981,
P 427.
2
Замок Химэдзи 1609
12
Введение
3
Нисихонгандзи
Киото
Середина 17 в. Интерьер сиросёина
монументальной живописи в связи с запретом строительства замков, ограничением роскоши даже для представителей высшего сословия. Росписи выполнялись теперь преимущественно на ширмах. Сокращение круга заказчиков влияло на активность живописцев и число выполнявшихся работ. Политика изоляции и прекращение культурных контактов с другими странами не могли не оказать воздействия на общее направление развития художественного мышления 17 столетия.
Взоры литераторов и художников невольно обращались вспять, к собственной классической древности, и в первую очередь — времени первой изоляции страны в 9—12 веках, то есть к периоду Хэйан.
В результате создания единого национального государства в 17 веке начался активный рост национального самосознания. В этих условиях естественным было обращение к тому периоду в истории, когда наиболее полно проявились самобытные качества японской культуры. Это диктовалось и внутренними потребностями развития культуры 17 столетия, перед которой встали новые задачи создания собственных форм для выражения огромного исторического опыта средневековья, способных ассимилировать этот опыт в современности. Интерес к классической культуре был связан со многими факторами общественной жизни Японии того времени, прежде всего со сменой общественных идеалов, спадом социальной активности. Богатые представители купечества, тяготевшие по образу жизни к феодальной аристократии, но находившиеся по официальной иерархии на самой низшей ее ступени, могли проявить себя лишь в сфере культуры, куда и были направлены их усилия. Обращение к классическому
Введение
13
4
Замок Нидзё Интерьер
прошлому было для них формой пассивного протеста против режима Токугава, и утверждением собственной причастности к национальной истории и культуре. По сравнению с предшествующим периодом художественная культура 17 века была неоднородной, все большее значение получали новые ее формы, связанные с развитием городской цивилизации — театры Кабуки и Дзёрури, повествовательная проза кано-дзоси, бытовая живопись и гравюра укиё-э. Центром городской культуры стала новая столица токугавской Японии город Эдо, хотя она развивалась и в других местах, особенно в крупнейшем торговом центре страны — Осака, отчасти и в Киото. Однако в Киото — почти тысячелетней столице Японии — были, как нигде, сильны традиции прошлого. Центрами просвещения оставались монастыри, где хранились книги, рукописи, шедевры каллиграфии и живописи многих поколений мастеров. Старая столица оказалась также хранительницей традиций декоративной живописи. Но если в период Момояма декоративная живопись была тесно связана с деятельностью военных диктаторов и служила утверждению их власти и престижа, то в 17 столетии росписи на ширмах стали заказывать главным образом представители старой аристократии, группировавшейся вокруг императорского дома (по традиции императорский двор оставался в Киото, в то время как сёгунский переехал в Эдо). В придворные круги получили доступ представители новой торговой элиты, люди не только богатые, но и образованные. Они также были заказчиками и собирателями живописи на ширмах.
Именно к этим кругам принадлежал Таварая Сотацу, искусство которого наиболее полно отразило те глубокие изменения, которые произошли в японской
14
Введение
5
Замок Нидзё Интерьер с росписями Кано Таниу
и декоративной резьбой
Введение
15
6
Неизвестный художник Роспись ширмы с изображением интерьера. 17 в.
художественной культуре в первой половине 17 века. Для него обращение к хэйанской культуре было не только способом переосмысления национальной традиции, но и использования классической литературы как богатейшего источника образности, дававшего огромные возможности ассоциативных связей в осмыслении действительности.
Если в период Момояма главным было взаимодействие декоративной живописи с архитектурным пространством, то 17 век отмечен созданием новых синтетических структур на основе влияния на росписи каллиграфии и особенно классической поэзии, что оказало существенное воздействие на формирование художественного метода живописца, а следовательно, и на стилистику произведений. Искусство Таварая Сотацу, как позднее и Огата Корина, было целиком связано с Киото, традициями многочисленных художественных ремесел, процветавших в старой столице,— ткачества, керамики, росписи вееров и т. д.
Последний взлет в развитии художественной культуры позднего средневековья— так называемый период Гэнроку, трактуемый обычно более расширительно от последней четверти 17 века до первой четверти 18 века включительно. Основой расцвета японской культуры того времени было укрепление экономической и общественной значительности горожан, в руках которых были сосредоточены огромные богатства, реальная экономическая сила. В ответ на всяческие ограничения и официальные запреты, которые касались даже жилища, одежды, развлечений, горожане находили различные способы их обходить или просто игнорировать (как, например, под кимоно из простой ткани надевалось драгоценное, шелковое)7. Представители новой аристократии могли не только
7 См.: Sansom G. Op. cit. Р. 477.
16
Введение
купить за деньги удовольствия в «веселых кварталах» и насладиться спектаклем в театре Кабуки, но дать своим детям первоклассное образование, коллекционировать произведения классической живописи, каллиграфии, драгоценные лаки и керамические изделия. Известно, что будущие прославленные художники Огата Корин и Огата Кэндзан с детства обучались живописи и каллиграфии, поэзии и искусству классического театра Но. В доме семьи Огата хранились старинные рукописи и свитки живописи, в том числе произведения Сотацу, что оказало впоследствии огромное воздействие на сложение стиля живописи Огата Корина. Отец его был владельцем мастерской по производству тканей и кимоно, но в то же время он был известным живописцем и каллиграфом, имел дружеские связи с выдающимися представителями художественных кругов Киото. Сам Огата Корин, который в молодые годы вел жизнь беспечного богатого повесы, напоминавший одного из героев Ихара Сайкаку, был знатоком классической литературы и искусства, тяготел к утонченной придворной культуре.
На протяжении всего 17 столетия складывались сложные, неоднозначные отношения между новой городской культурой с ее тенденцией к непосредственному отражению жизни, и традиционной культурой, ориентированной на идеалы классической древности, казалось бы, совершенно чуждые первой. Однако на самом деле не было непроходимой грани между ними. Как отмечают специалисты, даже проза Ихара Сайкаку с ее интересом к бытовым деталям и подробным описаниям ситуаций, в своей композиционной структуре близка классическому роману «Гэндзи моногатари»8, а сам реализм писателя еще средневековый, «отстающий от реализма европейской литературы на десятки световых лет»9. В творчестве Огата Корина мы впервые сталкиваемся с таким явлением, как зарисовки с натуры, которые используются художником в качестве подготовительного материала для декоративных композиций на ширмах. Точность воспроизведения природных объектов он пытался совместить с условностью, присущей традиционным декоративным росписям. Но, как и его современник Ихара Сайкаку, Огата Корин был подчинен законам средневековой системы культуры. Правдоподобие деталей не влияло на суть его творческого метода и тип художественного мышления.
При всей неоднородности японской художественной культуры 17 и начала 18 века различные ее компоненты были связаны глубинными, нередко скрытыми и незаметными, но тем не менее существенными связями друг с другом и постоянно взаимодействовали. Ориентированная на классическую поэтику декоративная живопись с неменьшей яркостью и полнотой характеризует свое время, чем совершенно новые, только что сформировавшиеся виды и жанры искусства, такие, как театры Кабуки и Дзёрури, гравюра укиё-э, повествовательная проза и поэзия хайкай. Последняя и в своих истоках и в своей образности, восходящей к классическому периоду, особенно близка декоративной живописи. Недаром великий поэт 17 века Мацуо Басё говорил: «Не тщись следовать по стопам древних, но ищи то самое, что искали они»10. Басё принадлежала идея вечного и текущего (фуэки рюко) в искусстве, то есть необходимость соединения того, что должно обладать непреходящей значимостью, и того, что созвучно моменту, живой жизни11.
Художники декоративной живописи работали одновременно с другими мастерами, которые главное внимание обращали на сиюминутное и преходящее — бытовые сцены из жизни города, «веселых кварталов» и т. п. Специфика
6 См.: Иэнага Сабуро. История японской культуры. М., 10 Цит. по: Кин Д. Японская литература XVII—XIX столе-
1972. С. 154. тий. С. 68.
9 Кин Д. Японская литература XVII—XIX столетий. М., 11 Там же. С. 93.
1978. С. 121.
Введение
17
декоративных росписей, напротив, ориентирована на неизменное и вечное, но их поэтический мир был не менее тонким и глубоким постижением действительности, открывавшим важные пласты духовной жизни своего времени.
Стилевая эволюция декоративной живописи была постепенным формированием ее как жанра с особым тематическим кругом, методом, строем образов. У Кано Эйтоку, помимо эстетических признаков декоративных росписей в отличие от фудзоку-га («картин нравов и обычаев») и сан суй («пейзажа») важнейшую роль играли признаки функциональные — своеобразие назначения этого жанра в оформлении резиденций правящей верхушки.
В творчестве Таварая Сотацу, а затем и Огата Корина происходило не только расширение тематики росписей, но одновременно осознание новых художественных возможностей жанра, открывавшихся на основе синтеза живописи и литературы.
С именами Кано Эйтоку, Таварая Сотацу и Огата Корина связаны главные этапы исторического развития искусства декоративной живописи Японии. Однако их значение в художественном процессе не было столь значимым, как в европейской живописи — титанов эпохи Возрождения или великих мастеров 17 столетия, таких, как Веласкес, Рембрандт, Пуссен. Каждый из упомянутых японских живописцев развивался в едином стилевом потоке и был его неотъемлемой частью, а в их художественном методе при всех различиях были общие качества, связанные со свойственным им средневековым мировоззрением.
Именно поэтому книга начинается с анализа истоков стиля и общей стилевой эволюции декоративной живописи в целом, где творчество отдельных мастеров лишь определяет ее главные вехи. Личность художника-творца, получившая важнейшее значение в культуре Европы Нового времени, еще не проявилась и не могла проявиться в такой же степени в средневековой по типу японской культуре 16—18 веков. Преобладание общестилевого начала над индивидуальным указывает также на канонический характер этого искусства со всеми его особенностями. Более глубокому пониманию искусства декоративной живописи помогает анализ художественного метода и структуры образа в отличие от других жанров живописи. В Заключении затрагиваются вопросы синтеза декоративной живописи и архитектуры, изменения функций настенных росписей на протяжении 16—18 веков.
Гпава первая
Стиль: формирование
и основные этапы эволюции
ИСТОКИ стиля НАСТЕННЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ РОСПИСЕЙ
Шестнадцатый век не был периодом зарождения настенной живописи в Японии. К этому времени она имела уже длительную историю, но прежде место и значение ее в художественной культуре были гораздо менее значительными. Самые ранние образцы настенных росписей относятся еще к периоду Нара (8 век), времени тесных контактов с китайской империей Тан и большого воздействия ее культуры на культуру Японии. Восьмым веком датируются росписи на буддийские сюжеты в древнейшем из сохранившихся архитектурных сооружений — Золотом зале монастыря Хорюдзи в Нара. Тогда же из Китая были завезены и первые ширмы, украшенные живописью и хранящиеся ныне в сокровищнице Сёсоин1. В тот период наметились две линии в развитии настенных росписей, в зависимости от тематики: религиозные в буддийских храмах и монастырях, светские — в резиденциях высшего аристократического сословия. Буддийская монументальная живопись, истоки которой прослеживаются еще в древней Индии, имела продолжительную историю развития на Азиатском континенте, сложную иконографию, определявшую образный строй и композиционную структуру росписей. В соответствии с камерным характером ранней японской культовой архитектуры, строительным материалом которой было дерево, количество буддийских росписей было относительно невелико, и в последующие века ведущее место в религиозной живописи занимала икона. Однако сформировавшиеся в лоне буддийского искусства стилевые особенности живописи не могли не оказывать воздействия на светские настенные росписи, систему их выразительных средств.
Образцов ранней светской декоративной живописи 9—10 веков не сохранилось. Имеется значительное число косвенных свидетельств не только ее существова¬
1 В сокровищнице Сёсоин имеются ширмы, украшенные стихотворными китайскими надписями выполненными тушью на фоне узора с птицами и цветами Каждая створка ширмы обрамлена парчой, что сохранилось позднее и было характерно для ранних японских ширм
Истоки стиля настенных декоративных росписей
19
ния и распространения, но и ее тематического круга. Это, во-первых, многочисленные упоминания в поэтических антологиях, часть стихов в которых предназначалась для ширм с живописью, и, во-вторых, изображения интерьеров эпохи Хэйан на горизонтальных живописных свитках — эмаки, относящихся к 12—14 векам, но воспроизводящих, по всей видимости, с большой достоверностью тип росписей, характерных для дворцовых помещений предшествующих столетий. Несмотря на отсутствие реальных памятников, ранний период развития настенной живописи чрезвычайно важен для понимания природы образности и стилевой эволюции в последующие века. Можно предположить, что черты стилевой общности наблюдались во всех жанрах японской живописи, начиная с 8 до начала 13 века, сначала на основе большой близости к китайским образцам (некоторые ученые вообще рассматривают все основные памятники периода Нара, в том числе и росписи, как выражение китайского танского стиля)2, а затем, после ослабления контактов с континентом,— на основе постепенного формирования собственного стиля.
Поскольку не сохранилось ранних светских настенных росписей, то для представления об их стилевых качествах приходится рассматривать, с одной стороны, буддийские росписи в храмах, с другой — свитки живописи. Сведения о появлении живописи на японские сюжеты относятся к концу 9 века и связаны с развитием архитектуры так называемого стиля синдэн-дзукури дворцов и жилых покоев аристократического сословия. Эта жилая архитектура была основана на местных строительных принципах3 в отличие от китайских, преобладавших в культовой архитектуре. Конструктивные особенности архитектуры синдэн создавали предпосылки для появления росписей4, так как единое большое пространство разделялось ширмами, представлявшими собой раму, затянутую с обеих сторон шелком, а позднее — бумагой. Ширма имела китайское происхождение, но уже с 9 века стала предметом обихода в жилище высшего сословия. По китайскому образцу ширмы стали украшать живописью, каллиграфией, стихами (сначала китайскими, а затем японскими).
Как отмечают специалисты, первоначально в ямато-э5, как и в ранней поэзии, преобладали картины четырех времен года (сики-э), событий по месяцам года (цункинами-э), а также прославленных своей красотой мест (мэйсё-э). Чаще всего росписи образовывали циклы.
Как уже отмечалось, не сохранилось ни одного памятника позднее второй половины 11 века, поэтому раннюю стадию сложения стиля ямато-э можно реконструировать на основе произведений более зрелого этапа. Таковы пейзажные ширмы из храма Тодзи второй половины 11 века (Национальный музей, Киото), настенные росписи храма Феникса в монастыре Бёдоин в Удзи, близ Киото, 1053 года и некоторые другие памятники.
Пейзажные ширмы из Тодзи, написанные на шелке,— один из наиболее интересных памятников, по которому можно судить о раннем стиле ямато-э. Существует предположение, что на ширмах изображен уединившийся на лоне природы знаменитый китайский поэт Бо Цзюйи и прибывший к нему гость6. Хотя Иэнага Сабуро в своей книге о живописи ямато-э утверждает, что фигуры здесь написаны в китайской манере, а пейзаж в чисто японской7, в обоих случаях скорее надо видеть сочетание того и другого. Как известно, метод живописи тушью и красками на шелке был воспринят из Китая еще в 7 веке, и стилевые , признаки китайской живописи периода Тан сохранялись в течение длительного
2 Lee Sh. A History of Far Eastern Art. New York, 1973. P. 272, 273.
J Ota H. Traditional Japanese Architecture and Gardens. Tokyo, 1972.
4 Soper A Ninth Century Landscape Painting m the
Japanese Imperial Palace and some Chinese Parallels // Artibus Asiae, 1967. Vol. 29, N 4. P. 347
5 Первоначальный смысл термина «ямато-э» (японская живопись) указывал на японский характер тематики в отличие от кара-э (китайская живопись), преобладавшей в предшествующий период.— См.: lenaga S. Painting in the Yamato Style. New York, Tokyo, 1973, Vol. 10: Heibonsha Survey of Japanese Art Series. P. 25
20
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
времени 6 * 8. Несмотря на плохую сохранность ширмы, особенно той части панелей, где изображены фигуры, можно составить довольно определенное представление о пространственном построении картины, приемах использования линии, цвета и т. п.
Основу композиции составляет архитектурный мотив — изображение легкого павильона-хижины, что позволяет художнику объединить фигуры и пейзажное окружение. Более пристальное изучение деталей картины заставляет вспомнить образцы китайской пейзажной живописи периода Тан, связанные с именами Ли Сысюня (651—716) и Ли Чжаодао (около 670—730), в частности, известный свиток «Путешествие императора Мин Хуана в Шу» (Национальный музей, Тайбэй) с такими признаками, как использование четкого темного контура с заполнением его цветом, передающим объем предметов, особыми приемами в передаче скал и деревьев, масштабным несоответствием пейзажа и фигур людей. Вместе с тем ширмы из Тодзи несут определенную печать нового понимания пространства и цвета по сравнению с китайской картиной. Японский художник усиливает декоративные начала произведений путем уменьшения пространственной глубины, сближения дальнего и среднего плана, а также путем повышения значительности малахитово-зеленого цвета, которым окрашены и вершины далеких гор, и кроны деревьев на переднем плане, и часть поверхности скалы у самого края панели слева. Такое тяготение к чисто декоративному цветовому единству, не регламентированному сюжетом, еще определеннее выступает в настенных росписях храма Феникса. Голубовато-зеленый цвет, столь часто встречающийся впоследствии в живописи ямато-э, играет тут едва ли не главную формообразующую роль.
При реставрации храма в 1955 году были обнаружены надписи на обрамлении дверных проемов с указанием на то, что каждая из сцен, расположенных на четырех дверях храма, соответствует временам года, подобно циклам сики-э, характерным для светской живописи на ширмах9. Такое сближение религиозного и светского начал можно видеть и в живописи храма и в его архитектуре (известно, что Бёдоин первоначально был загородным дворцом Фудзивара Еримити, представителя высшей аристократии хэйанского общества). Большое внутреннее родство заметно в религиозных композициях и пейзажных сценах, напоминающих реальные окрестности Киото. Наиболее полное выражение стиля ямато-э как определенной системы признаков можно наблюдать на примере выдающегося произведения первой половины 12 века — свитков живописи, иллюстрирующих знаменитый роман Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари». Хотя по своим художественным достоинствам это произведение много выше всего, что создавалось и в тот период и позже, а целый ряд особенностей присущ только ему, можно говорить, что иллюстрации к «Гэндзи моногатари» воплощают самые высокие свойства живописи ямато-э, то, чем «питалась» декоративная живопись 17—18 веков.
В настоящее время сохранилось девятнадцать сцен к тринадцати (из пятидесяти четырех) главам романа. В них нет единого сюжета и сквозного действия, каждый свиток решен как самостоятельная сцена. Свитки приписываются художнику Фудзивара Такаёси.
Целый ряд особенностей бросается в глаза уже при самом первом знакомстве с этим произведением. Большинство изображенных сцен происходит в интерьерах, и мы видим их сверху и отчасти сбоку, так как художник как бы снимает крышу с
6 Тода Кэндзи отмечает, что на всех сохранившихся
пейзажных ширмах изображаются сцены посещений.
Кроме ширм из Тодзи, имеются еще ширмы из Дзингод-
зи, Дайгодзи и Таймадэра, то есть все они принадлежали храмам секты Сингон и использовались во время церемонии кандзё при посвящении в тайны эзотерического буддизма.— См.: Toda Kenji. Japanese Screen Paintings
of the Ninth and Tenth Centuries // Ars Orientalis, 1959, Vol. 3. P. 166.
7 lenaga S. Op. cit. p. 137
8 To, что впервые пришло в Японию из Китая, как раз было отмечено большой декоративностью (скульптура эпохи 6 династий, живопись тайского времени, предметы декоративно-прикладного искусства). Как будций-
Истоки стиля настенных декоративных росписей
21
архитектурных сооружений, сохраняя, однако, стойки и балки конструкции. Эта условность точки зрения сохраняется и в сценах, происходящих на веранде дворца, обращенной в сад. Во всех композициях точка зрения не фиксируется, и глаз свободно скользит по поверхности картины (надо помнить, что свитки никогда не воспринимались в вертикальном положении, а рассматривались на низком столике, и взгляд был направлен на картину под некоторым углом сверху вниз). Лица всех персонажей на свитках одинаковы (глаза выполнены тонкой черточкой, а нос в виде крюка), и только прически и одежды дают возможность отличить их пол. Все разнообразие ситуаций, настроений, состояний характеризуется другими средствами, а лицо, как театральная маска, остается неподвижным и неизменным. Заметно также — в одних сценах более, в других менее явственно— масштабное несоответствие фигур и архитектуры. Такого рода условности, характерные, как известно, для средневекового искусства не только Японии, но и других регионов, составляют существенные особенности языка этой живописи, ее выразительных средств. Они свидетельствуют о том, что внешний аспект
ская религия оказалась сочлененной с местными верованиями, так и художественные формы сплавились с уже имевшимися, о которых можно судить по скульптуре ханива. Но влияние впервые осваивавшихся китайских образцов было так велико, что ощущалось в течение многих веков.
9 Akiyama Т. Japanese Painting. Geneva, 1977, Р. 69.
7
Появление Будды Амиды над горами Первая половина 13 в.
8
Пейзажные ширмы Вторая половина 11 в. Деталь
9
Пейзажные ширмы 13 в.
24
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
действительности для художника представляется второстепенным по сравнению с передачей других, скрытых от прямого восприятия явлений. Он видел свою задачу не в пересказе текста языком живописи, а в чем-то принципиально другом. Содержание романа во всех его деталях было известно той аудитории, к которой обращался художник, стремившийся поэтому проникнуть в атмосферу ситуаций, внутренний мир героев, их настроения и состояния10.
В свитках «Гэндзи моногатари» нет литературного повествования и иллюстративности в смысле пояснения текста, а отдельные детали, сюжетно совпадающие с текстом, скорее случайность, чем закономерность. Функции этой живописи принципиально иные: это как бы вариации на темы литературного произведения, описать которые можно скорее в музыкальных, чем в каких-либо других терминах. Художник старается найти визуальный эквивалент поэтическому миру романа, поэтому главным предметом его внимания становится не сюжетнособытийный, а эмоциональный уровень содержания. А поскольку эмоциональная сфера не поддается непосредственному внешнему выражению, художник ищет пути ее косвенной передачи средствами живописи. В основном его приемы — традиционные, канонизированные, он лишь по-своему соотносит их друг с другом, стремясь к максимальной выразительности. Сам язык живописи предполагал и в зрителе знание ее законов, ее грамматики и синтаксиса. Это обусловливалось погруженностью в общий контекст культуры, единый для художника и зрителя, к которому он обращался.
С точки зрения современного восприятия все свитки «Гэндзи моногатари» кажутся статичными, лишенными не только внешней, но и внутренней динамики. Персонажи будто погружены в какие-то грезы, состояние отрешенности. Однако уже при непосредственном сопоставлении различных сцен ясно видно, что художник всякий раз по-разному строит пространство и использует возможности цвета. В свитке «Такэкава» (музей Токугава, Нагоя) мотив цветущего дерева, спокойные мягкие тона, свободное расположение фигур служат передаче радостного настроения весны, молодости, внутреннего подъема. На свитке к главе «Судзумуси» (музей Гото, Токио) ощущение отрешенности, погружения в слушание звуков флейты, на которой играет один из героев сцены, передается чистотой прямых линий, под углом пересекающих поверхность и являющихся структурной основой композиции с ее чередованием прозрачных охристокоричневых и плотных голубовато-малахитовых тонов. На этом фоне мужские фигуры, изображенные в фас, в профиль и со спины, видны зрителю то целиком, то частично. Они как будто исчезают вместе с затухающими звуками музыки. Цветовое и ритмическое построение сцены должно воссоздать в первую очередь не внешнюю ситуацию, а внутреннее состояние героев и общую атмосферу сцены. Прием построения композиции, при котором взгляд соскальзывает с поверхности картины, делает неопределенной глубину изображенного пространства; оно кажется существующим и эфемерным одновременно, а материальность предметов становится все более условной, переводя всю сцену в сферу эмоциональнодуховную.
Два свитка, иллюстрирующие главу «Касиваги» (музей Токугава, Нагоя), дают возможность понять, каким образом пытается хэйанский художник передать сцены эмоционально-напряженные, даже драматичные. На одной изображен принц Гэндзи, держащий младенца, которым только что разрешилась его официальная жена принцесса Нёсан и отцом которого является Касиваги; на
10 Ср.: «Позиция древнего художника прежде всего не См.: Успенский Б. А. О семиотике иконы // Труды по
внешняя, а внутренняя по отношению к изображению... знаковым системам. Тарту, 1971. Вып. 5. С. 196, 197.
он изображает в первую очередь не самый объект, но
пространство, окружающее этот объект (мир, в котором
он находится), и, следовательно, помещает себя и нас
как бы внутрь этого изображаемого пространства».—
Истоки стиля настенных декоративных росписей
25
другой передается сцена в спальне умирающего Касиваги, к которому пришел его друг Югири. Бросается в глаза совершенно различная ритмическая организация двух картин. В первом случае перерезающие всю композицию резкие диагональные линии, отделяющие фигуры друг от друга, сочетание высветленных нежных и густых мрачных тонов, зажатость фигур в малом и заметно вздыбленном пространстве. Главное действующее лицо — принц Гэндзи — помещено в верхнем левом углу в крайне сжатом пространстве, образованном краями свитка и диагональю балки. Лишь внизу эта пространственная ячейка открыта по направлению к женской фигуре в широких одеждах. Вся остальная часть картины справа фактически пуста, там нет ничего живого, только шторы, занавеси, ограда веранды и земля под ней. Во втором случае главная сцена выделена спокойной горизонталью сверху, ширмой справа и занавесом слева, в центре — фигуры героев, их склоненные друг к другу головы. Перед нами — свободное пространство, и расположение сцены в глубине как бы мягко вводит зрителя в атмосферу дружеского прощания и грусти. С помощью цвета ставятся главные эмоциональные акценты и выявляется смысл всей сцены. Фигура Югири в блекло-розовой одежде изображена на фоне полотнища теплого золотистого тона, а лежащий Касиваги виден из-за занавеса холодного серо-сиреневого цвета. Большая роль в общем колористическом решении картины принадлежит мягкому зеленому, создающему ощущение покоя и умиротворенности. Лишь изображенные в левом нижнем углу свитка фигуры женщин, как бы уже узнавших о смерти Касиваги, исполнены в тревожных ритмах, отсутствующих в центральной сцене. Очень интересны наблюдения профессора А. Сопера по поводу построения пространства в свитках «Гэндзи моногатари» 11. Он пишет о том, что для передачи внутреннего состояния героев и атмосферы каждой сцены в целом для художника оказывается очень важным, под каким углом по отношению к нижнему краю свитка направлены диагональные линии, обозначающие либо балки архитектурной конструкции, либо карнизы занавесей, либо край веранды. В зависимости от степени эмоциональной напряженности, которую собирается передать художник, угол этот меняется от 30° почти до 54°. Наибольший угол имеется как раз в свитке «Касиваги», где изображен Гэндзи с ребенком на руках, сцене наиболее драматичной и в романе, и в серии иллюстраций, сохранившихся до настоящего времени.
А. Сопер пишет также о смысловой роли цвета в свитках «Гэндзи», имеющего главным образом не изобразительные, а выразительные функции. Цвет, как и линейный ритм, служит организации движения взгляда зрителя, последовательности восприятия всей композиции, а следовательно, постижения ее внутреннего смысла, который передается через соотношение различных живописных элементов. Пространственное построение свитков при всем их различии основано на принципе погружения взгляда и условного совмещения таким образом точки зрения как бы извне и изнутри. Только это и позволяет подойти к возможности соприкосновения с внутренним миром героев, сделать его смысловым центром произведения.
Однако нельзя забывать и о том, что хэйанский художник как представитель совершенно определенной культуры с ярко выраженной эстетической направленностью не мог не обращать самого пристального внимания на красоту своего произведения, на чисто эстетическую организацию поверхности картины. Культ красоты, стремление найти во всех без исключения проявлениях материального
11 Soper A. The illustrative method of the Tokugawa Genji pictures // The Art Bulletin, 1955, Vol. 38. N 1.
P. 11—12.
Истоки стиля настенных декоративных росписей
27
и духовного мира свойственное им очарование (аварэ) было важнейшим элементом мироощущения представителей хэйанского общества12. Картина должна доставлять наслаждение, независимо от того, насколько печально или даже драматично ее содержание. Роль цвета здесь не только эмоциональная, он принадлежит самой поверхности картины, создавая ее красоту и определяя возможность наслаждаться ею. Эта особенность влияла на стилевые качества хэйанской живописи, на изобразительный метод художника. Объектом воспроизведения для художника была не просто жизнь его современников, но уже преображенная литературой, поэзией, и формы этого преображения сказывались на всей его работе. Как уже отмечалось, даже соотношение картины с текстом не было непосредственным, но как бы пропущенным сквозь сложную призму мировосприятия и самого художника и автора романа с его собственной системой канонизированных приемов и стилевых признаков. Всё это влияло на сложение особенностей ямато-э, которые в измененном виде сохранялись в поздней живописи 17—18 веков, что и является наиболее важным для нашей темы. Свитки «Гэндзи моногатари» можно считать одними из самых выдающихся произведений ямато-э, но далеко не единственным выражением ее стиля. В произведениях 12—13 веков элемент повествовательности усиливается, отчего структура образа видоизменяется. Символика цвета или повышенное семантическое значение колористического решения картины начинают соседствовать, а иногда и уступать место тушевой линии как главному средству выражения. Необыкновенная свобода владения линией отличает такой памятник средневековой живописи, как «Карикатуры животных» первой половины 12 века (Кодзадзи, Киото), приписываемый Тоба Содзё. А свитки «Легенды храма горы Сиги» второй половины 12 века (Тёгосонсидзи, Нара) позволяют утверждать, что диапазон стилевых свойств ямато-э был весьма широк и наряду с системой средств выразительности, применявшихся автором свитков «Гэндзи моногатари», существовала и другая система, преобладающее значение в которой принадлежало линии.
Для развития декоративной живописи 17—18 веков стилевое направление Фудзивара Такаёси оказалось наиболее важным и оказало самое сильное воздействие. Эту систему условно можно определить как декоративнопоэтическую. Зато традиция, в основе изобразительного языка которой лежала динамическая линия, сыграла свою важную историческую роль в 13—14 веках, когда постепенно стали возобновляться связи с китайской культурой и началось воздействие иных, сформировавшихся там в 10—13 веках принципов живописи. К концу 14 века хранителем уже достаточно архаизированных к тому времени традиций ямато-э стала так называемая школа Тоса, основателями которой считаются Тоса Юкимицу и его сын Тоса Юкихиро (конец 14 и начало 15 века). С именем их потомка Тоса Мицунобу (1434—1525) связывается первое возрождение традиций ямато-э уже в принципиально новых историко-культурных условиях, о чем пойдет речь в дальнейшем.
Хотя декоративные росписи 13—14 веков существовали как канонизированный жанр с определенным кругом сюжетов и сложившимся языком живописных приемов и средств выразительности, они не могли не подвергаться воздействиям других жанров — сначала это были повествовательные свитки, а позднее монохромная пейзажная живопись. В повествовательных свитках, особенно посвященных жизнеописаниям знаменитых святых подвижников, таких, как
ю
Такасина Такаканэ Касуга гонгэн кэнки 1309
Деталь свитка
12 См.: Конрад Н. Очерки японской литературы. М., 1973. С. 85.
28
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
Хонэн и Иппэн, само действие было связано с путешествиями героя по разным местам Японии, и многие сцены изображались художником на фоне пейзажа. Но это был уже не отвлеченно-поэтизированный пейзаж сики-э и даже не идеализированные атрибуты мэйсё-э (сосны и волны в видах Мацусима, мост в Удзи и т. п.), а более приближенные к реальности, узнаваемые зрителем, хотя и обобщенные виды природы Японии с определенными и характерными признаками. Для дальнейших судеб японской живописи появление такого рода пейзажа было весьма важно, так как именно с конца 13 и на протяжении 14 века постепенно стала складываться другая традиция пейзажной живописи, основанная на китайских прообразах. Это была принципиально иная художественная система, основой которой был идеализированный концептуальный пейзаж — горы-воды (по-китайски — шань-шуй, по-японски — сан суй), получивший на японской почве свое наиболее полное выражение у таких мастеров 15 столетия, как Минтё, Сюбун и особенно Тойо Ода, известного под псевдонимом Сэссю13. Сложение и развитие живописной системы пейзажа шань-шуй имело длительную историю в Китае14. Хотя основные композиционные элементы, из которых строилась картина, такие, как горы, реки, озера, скалы, деревья, создавались на основе реальных наблюдений, передача конкретных видов местностей никогда не входила в задачу живописца, который стремился выразить в образах природы более общие идеи. Испытывая постоянное воздействие философских концепций, основу которых составляло представление о Природе — Космосе, искусство живописи видело свою задачу в поисках визуальных форм для выражения общих миропредставлений о великой природе, ее закономерностях, внутренних взаимосвязях всех ее элементов. Найти конкретные формы для выражения всеобщего и отвлеченного — на этой основе разрабатывались многими поколениями китайских художников выразительные средства живописи, в частности монохромной живописи тушью.
Особенностью развития ранней монохромности живописи в Японии (с конца 12 века) было то, что из Китая были завезены готовые образцы пейзажа шань-шуй как канонической системы, которую оставалось только усвоить и освоить. Первыми очагами распространения монохромной пейзажной живописи стали буддийские монастыри секты дзэн, а первыми художниками были дзэнские монахи, практиковавшие наряду с пейзажем изображения патриархов секты, бодхисатвы Канон, символических животных и растений15.
Для целей дальнейшего изложения важно понять значение, которое имело распространение и развитие уже на японской почве монохромной живописи тушью с ее собственной системой средств выразительности, принципиально отличавшихся от приемов ямато-э.
Первоначальный этап овладения техникой письма тушью был сравнительно недолгим, ибо живописные приемы были весьма близки, а иногда и идентичны приемам каллиграфии (как известно, китайская иероглифика осваивалась в Японии еще в 7 веке). Но сам тип художественного мышления, связанный с необходимостью всю многокрасочность мира передать с помощью градаций одного лишь черного цвета, а линией и пятном выразить не только движение и покой, эмоциональную взволнованность или отрешенность, но и сложные отвлеченные понятия, требовал более глубокого овладения методом живописи. Метод этот, как и техника живописи, сами ее материалы (кисть, тушь, бумага или шелк), также был близок каллиграфии в ее историческом пути от изображения к
13 Подробнее о сложении монохромного пейзажа в 15 Kanazawa Н. Japanese Ink Painting. Early Zen Master- Японии см.: Tanaka I. Japanese Ink Painting. Shubun to pieces. Tokyo, New York, San Francisco, 1979.
Seshsu. New York, Tokyo, 1974. Vol. 12: Heibonsha
Survey of Japanese Art Series.
14 См.: Виноградова H. А. Китайская пейзажная живо¬
пись. M., 1972; Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.
Истоки стиля настенных декоративных росписей
29
11
Фудзивара Такаёси (?) Гэндзи моногатари эмаки
Начало 12 в.
Деталь свитка к главе «Судзумуси» 1212
Фудзивара Такаёси (?) Гэндзи моногатари эмаки
Деталь свитка к главе «Такэкава»
30
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
знаку: идеографическая природа живописи тушью нашла проявление в усложнении образности через стремление к лаконизму, упрощению изобразительного языка. Как в каллиграфии существует наряду с тщательной выписанностью уставного письма легкая незавершенность скорописи, так и в живописи развивались два аналогичных направления с тенденцией преобладания скорописного16. Для японского искусства овладение мастерством монохромной живописи было не только освоением идей, связанных главным образом с дзэнской философией, но и новой живописной культурой, способом художественного освоения мира. Утверждение стереотипа пейзажной композиции на канонический сюжет связано с именами художников начала 15 века — Минтё и Сюбуна (работал в 1430— 1460-х), а наиболее полным воплощением системы сан суй на японской почве было творчество Сэссю (1420—1506). Направление, созданное Сюбуном, было выражением главной стилевой тенденции в Академии живописи сёгунов Асикага. Помимо свитков, им был создан целый ряд пейзажных росписей на ширмах и фусума17. Некоторые из них на канонический китайский сюжет «Восемь видов рек Сяо и Сян», некоторые — по мотивам четырех времен года (как, например, приписываемая Сюбуну шестистворчатая ширма из собрания Художественного музея в Кливленде). По сравнению с пейзажным свитком сан суй такая ширма имеет целый ряд особенностей. Основная задача ориентированного по вертикали свитка состояла в передаче как можно более далекого пространства, беспредельной воздушной среды, в которую были погружены все предметы и частью которого должен был ощутить себя зритель, стремящийся к постижению истины мироздания. В таком пейзаже сама плоскость картины как бы отрицается, уничтожается. Стоящая на полу ширма (или перегородка между помещениями), несущая роспись, в силу своей архитектурной природы сохраняет вещественность, материальность предмета. Художник не может не ощущать этого, не может не считаться с этим. Разворачивая на всех створках ширмы единую композицию, он создает горизонтально ориентированное пространство, композиционно замыкает его сверху и снизу и тем самым уплощает, делает гораздо менее глубоким. Хотя на всех створках ширмы Сюбуна мы видим традиционные элементы китайского пейзажа, исполненные по классическим канонам, но, лишенные безбрежной пространственной среды, они теряют возвышенную духовность, приобретают значение сценической условности.
Некоторые новые черты можно отметить и в ширмах самого Сэссю по сравнению с его пейзажными свитками. Знаменательно, что на ширмах этих написаны не пейзажи, а композиции «цветы — птицы». Пара шестистворчатых ширм (коллекция Косака, Токио) может трактоваться как вариант сюжета сезонов года: на одной из ширм написана зимняя сцена с заснеженным берегом и белым склоном горы, образующей фон; на другой — летняя сцена с сосной, журавлями, цветами лотоса. Строя единую композицию на всех шести створках ширмы, Сэссю сильно укрупняет формы переднего плана, добиваясь впечатления их приближенности, весомости. Выписывая стволы, скалы, ветви деревьев приемами монохромной живописи, он при этом вводит цвет не столько для большего правдоподобия, сколько декоративного эффекта. По сравнению с его пейзажами сама линия и тушевое пятно приобретают качества декоративные, вступая в орнаментальноритмическое взаимодействие на плоскости картины.
Сознательное стремление Сэссю к декоративному эффекту можно увидеть и в произвольном увеличении и уменьшении отдельных элементов композиции в
16 Kanazawa Н. Op. cit. Р. 116
1Т Кроме художников круга Сюбуна, большое влияние при дворе Асикага имели мастера семьи Ами, дед, сын и внук — Ноами, Гэйами и Соами. Они занимали должности придворных советников по всем вопросам, связанным с искусством, и сами были художниками, поэтами,
теоретиками. С именем Соами связываются росписи на фусума в монастыре Дайсэн-ин в Дайтокудзи (Киото), выполненные тушью.
Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса
31
соответствии с вертикальными секциями стоящей ширмы, что принципиально отлично от трактовки таких же элементов — скал, деревьев и т. п.— в дзэнских свитках, направленных на решение совершенно иных задач18. Так, уже у Сэссю обращение к росписи ширмы с ее декоративными функциями повлияло на изменение акцентов в использовании выразительных средств живописи.
Все отмеченные явления свидетельствуют о сложных процессах, намечавшихся в японской живописи на рубеже 15—16 столетий. Одновременное существование двух разных художественных систем — традиционной японской (ямато-э или школы Тоса) и китайской (канга, представленной главным образом в монохромной живописи тушью) — продолжалось уже на протяжении нескольких столетий. В условиях постепенной секуляризации культуры, все большего внимания к жизненным реалиям возникало трудно преодолимое для художника противоречие визуального опыта и обеих канонизированных живописных систем, уже не соответствовавших запросам времени. О том, что такое противоречие действительно имело место, свидетельствует хотя бы то, что у Сэссю мы встречаемся с работой, содержащей в себе элементы и той и другой системы. Это пейзаж «Ама-но Хасидатэ» (Национальный музей, Токио) на один из известных сюжетов «живописи прославленных мест» (мэйсё-э). Этот пейзаж, датируемый временем между 1501 и 1506 годами, совершенно выпадает из основного стилевого направления живописи Сэссю, к нему неприменимы критерии такие же, как в отношении пейзажа «Зима» (Национальный музей, Токио), длинного свитка из коллекции Мори (Ямагути) и других, исполненных по канонам системы сан суй. В этой картине Сэссю предстает как мастер национальной традиции живописи, ибо изначально задается целью создать не формулу природы как обобщенное выражение ее закономерностей, а пишет вид конкретной местности. Хотя тут Сэссю, как и в других своих работах, использует тушь с легкой подцветкой, по типу пространственного построения «Ама-но Хасидатэ» разительно отличается от них и больше всего напоминает пейзажные мандала с изображением храмовых комплексов среди холмов и долин, как будто увиденных с большой высоты, но очень точно переданных топографически. Узнаваемый японский пейзаж, еще полный сакрального смысла в мандала, воспринимается у Сэссю как реальная среда жизнедеятельности человека, хотя и не утрачивает полностью обобщенного значения Природы — Космоса, беспредельно простирающегося мира.
Таким образом, уже у Сэссю можно заметить внутреннюю потребность в соединении принципов двух художественных систем и попытку использовать в передаче реального японского пейзажа высокую живописную культуру, полученную от китайских классиков. Творчество Сэссю как бы подводило японскую живопись к необходимости новых поисков и новых художественных решений. Как известно, в других видах искусства уже в 14—15 веках был достигнут синтез воспринятых с континента идей и чисто национальной формы их воплощения, чему лучшим доказательством могут служить знаменитые японские сады. Тяготением к такому синтезу отмечено развитие японской живописи в 16 веке.
Бытующее в японском искусствознании понятие «школа Кано» может быть принято с большой долей условности и требует уточнения. Это скорее своеобразная династия потомственных мастеров (не всегда имевших кровные родственные связи), служивших сначала при дворе сёгунов Асикага, затем военных диктато-
8 Lee Sh Japanese Decorative Style. Cleveland, 1961.
P. 49, 50.
СЛОЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ ШКОЛ КАНО И ТОСА
32
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
13
Фудзивара Такаёси (?) Гэндзи моногатари эмаки
Деталь свитка к главе «Касиваги»
ров Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, наконец, у сёгунов Токугава. Основатели школы Кано Масанобу (1434—1530) и Кано Мотонобу (1476—1559), в отличие от большинства живописцев того времени, не были монахами и происходили из самурайского сословия. После Сюбуна и его последователя Сётэна, они стали возглавлять Академию живописи Асикага, а их искусство в целом носило светский характер.
Если в 14 и первой половине 15 века главенствующее место среди жанров японской живописи принадлежало пейзажу, то к концу столетия все большее значение стал приобретать жанр «цветы — птицы». Об этом свидетельствует не только обращение к нему такого художника, как Сэссю, но и ряда других мастеров. Естественно, что и первые художники Кано, в творчестве которых роспись на ширмах и фусума хоть и соседствовала с работой на свитках, но явно получала все большее значение, чаще обращались не к пейзажу, а к изображению деревьев, цветов, птиц. Кано Масанобу еще целиком находился в стилевом русле канга. В его росписях пространство строилось по законам воздушной перспективы, чему служила техника размывов туши и использования ее тональных переходов.
Кано Мотонобу во многих отношениях был выдающейся фигурой в истории японской живописи. Фактически он, а не его отец, был подлинным основателем школы с ее новыми методами работы. Мотонобу был наделен, как отмечают исследователи, большими организационными способностями и, видимо, особым социальным чутьем. Он понимал, насколько менялись общественные функции искусства живописи, его заказчик и потребитель. По историческим источникам
Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса
33
известно, что он искал покровительства и поддержки не только у сёгунов Асикага, все более терявших реальную власть и влияние в стране в первые десятилетия 16 века, но и у представителей высшей феодальной верхушки, императорской семьи, богатых буддийских храмов и даже у крупных торговцев Киото и Сакаи19. Мотонобу окружил себя многочисленными учениками, которые, восприняв его манеру, стали работать вместе с ним в качестве помощников. Это позволило ему брать заказы на циклы росписей. Метод работы большой бригадой, сохранявшийся на протяжении всей истории существования школы Кано, служил не только утверждению ее высокого социального престижа, но быстрому распространению стиля — сначала самого Мотонобу, а затем его последователей.
Наиболее ясное представление о стиле Кано Мотонобу могут дать росписи в храме Рэйунин (Мёсиндзи, Киото), выполненные в 1543—1549 годах. Хотя в разных помещениях он брал за образец произведения одного из китайских классиков (Ся Гуя, Му Ци, Юй Цзяня), что само по себе было традиционно для живописи Дальнего Востока, но сохранял при этом собственную стилевую программу. В композиции с журавлем и водопадом тематически он близок известному произведению Му Ци20. Однако Мотонобу, используя многие атрибуты дзэнской живописи, составляет из них композицию с совершенно другим смыслом. В фигуре неподвижно застывшего журавля еще можно было бы видеть метафору одинокого философа, придающегося углубленному созерцанию, если бы не трактовка окружения, уже имеющего мало общего с высокой духовностью живописи предшествующего столетия. Мастерски владея техникой монохромной
14
Фудзивара Такаёси (?) Гэндзи моногатари эмаки
Деталь свитка к главе «Касиваги»
9 Takeda T. Kano Eitoku. Tokyo, New York, San Francisco, 1977. P. 22.
20 Триптих этого мастера находится в монастыре Дайто- кудзи в Киото, где Мотонобу около 1513 года исполнил ряд росписей.
34
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
живописи и используя легкую подцветку, Кано Мотонобу ставит задачу организации большой поверхности стены. Ритмическая уравновешенность отдельных элементов не превращается у него при этом в органическую целостность, какой обладали дзэнские композиции. Частично он компенсировал это, развертывая единую композицию на всех стенах комнаты, но каждая сцена оставалась все же суммой канонических элементов. Водопад на заднем плане справа (на панели, соседствующей с изображением журавля) настолько визуально приближен к переднему плану, что пустой фон слева уже не может восприниматься как бесконечно далекое пространство. Потребности декоративной организации плоскости становились первостепенными по сравнению с семантикой традиционных элементов. Это обозначалось уже в ранних росписях Кано Мотонобу в Дайсэн-ин (Дайтокудзи, Киото, ок. 1513). Так на основе адаптации приемов монохромной живописи Кано Мотонобу сумел найти путь к применению их в решении новой задачи — украшения стены. Его композиции имеют все признаки переходной стадии от суйбоку-га периода Муромати (1334—1573) к сёхэй-га Момояма, что связано и с переходностью его мироощущения и творческого метода, тяготеющего к нивелировке индивидуальности учеников и помощников, утверждению средневековой корпоративности21.
Для манеры Кано Мотонобу и работавших с ним художников характерна большая роль контурной линии, которая выполнялась кистью, поставленной перпендикулярно к поверхности бумаги. Тушь при этом одинаково распределялась по обеим сторонам линии, придавая ей твердость и даже некоторую жесткость. От Мотонобу большую силу линии унаследовали его преемники, в особенности его внук Эйтоку, и это стало важным качеством стиля его росписей на золотом фоне.
Кано Мотонобу, находясь на службе у сёгунов Асикага, возглавлял их придворную Академию живописи. При императорском дворе также существовала подобная Академия, во главе которой по традиции стояли художники семьи Тоса. Женившись на дочери Тоса Мицунобу, Кано Мотонобу получил доступ к фамильным секретам живописи школы Тоса, в особенности их техники многоцветной росписи, основанной на традициях ямато-э. Таким образом житейская ситуация способствовала решению назревшей исторической задачи — синтезу двух основных живописных систем, уже в течение нескольких веков существовавших самостоятельно.
Как уже отмечалось, школа Тоса сформировалась в конце 14 века на основе стилистики ямато-э, традиции которой поддерживались не только в императорской Академии, но и в творчестве многочисленных городских художников- ремесленников, писавших и копировавших свитки с жизнеописаниями буддийских проповедников или подновлявших древние рукописи и иконы, а также выполнявших по заказу синтоистских святилищ серии свитков, посвященных различным чудесам, знамениям и т. п. Эти же художники исполняли и росписи на ширмах, перенося таким образом стиль живописи, характерный для свитков, на большие вертикальные поверхности.
Мотонобу и работавшие в его мастерской многочисленные представители семьи Кано, такие, как его брат Юкинобу, сыновья Хидэёри, Мунэнобу и Наонобу, а позднее — начинавший тут свою блистательную карьеру внук Кунинобу, более известный под псевдонимом Эйтоку, иногда создавали произведения в манере художников Тоса или же включали свойственные ей элементы в свою традицион-
См.: Takeda Т. Op. cit. Р. 22.
15
Пейзаж Роспись ширм Деталь. 15 в.
36
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
16
Сэссю
Цветы и птицы Роспись ширм Деталь. 15 в.
ную технику. Однако это были две различные художественные системы, и их органичное соединение было процессом достаточно длительным и сложным, далеко не сразу давшим результаты. Это объясняется прежде всего разным типом условности, характерным для изобразительного языка школ Кано и Тоса. Принципиальная разница состояла не только в методах использования цвета и линии, но и в самом подходе к объекту изображения, в построении художественного образа.
В храме Конгодзи (Каути, префектура Осака) хранится пара шестистворчатых ширм — «Пейзаж с солнцем и луной»,— относящихся, видимо, к середине 16 века. Похожие ширмы имеются и в коллекции Национального музея в Токио. Выполненные неизвестным художником, они являются образцом стиля Тоса в его сравнительно позднем варианте, но еще без сплавления с элементами стиля Кано, заметного в других произведениях того же времени. Ширмы эти производят впечатление монументальности не только в силу своих размеров (каждая почти полтора метра высоты и более трех метров ширины), но прежде всего мощными, обобщенными формами, масштабными соотношениями гор, деревьев, волн потока.
В отличие от умозрительного характера пейзажа сан суй, в основе которого лежали формы китайского ландшафта, в ширмах с солнцем и луной ощущаются реалии японской природы, но преображенные поэтической фантазией, как это было и в ранних хэйанских росписях. Это подтверждается сюжетной основой росписи — правую ширму можно трактовать как изображение весны и лета, а левую—осени и зимы, то есть это воплощение традиционного жанра сики-э
Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса
37
17
Сэссю
Цветы и птицы Роспись ширм Деталь. 15 в.
(четыре сезона). В иконографии основных элементов росписи, таких, как горы, деревья, волны потока, легко угадываются традиционные формулы хэйанской и камакурской живописи на свитках, пейзажных мандала, заставках книг буддийского канона и др. Так, на иконе «Появление Амида-будды над горами» (Национальный музей, Токио) силуэтное изображение гор и кулисообразное построение пространства весьма близки тому, что мы видим на росписи ширм из Конгодзи. Но на иконе над горами появляется солнценосное, лучезарное божество, а на ширме изображен золотой диск солнца. По аналогии с иконой изображение гор на ширмах можно рассматривать как визуальный символ, знак мироздания, земли, но можно и более конкретно—страны Японии.
В декоративной живописи нарушение масштабных соотношений, отличающиеся от реальных размеры и пропорции указывают на то, что художественные связи строятся по иным законам, чем в действительности, и подобные отклонения становятся важным компонентом образной структуры произведения. Большую роль играет и характер линейного движения, ведущего глаз зрителя по поверхности картины. Художник стремится не только к гармонии всех деталей, цветосочетаний, но и к превращению самой поверхности ширмы в драгоценность, подобно переливающейся парче или тусклому блеску старинных лаков. Он использует элементы ремесленной техники, применявшейся мастерами- лакировщиками, например, прием кириканэ, когда поверхность покрывается мелкими кусочками золотой фольги, которая затем зашлифовывается, создавая отражающую свет, мерцающую фактуру. Именно так декорировано изображение облака в пейзаже с солнцем. Само солнце передано золотым диском, а серп
18
Сэссю
Пейзаж
Ама-но Хасидатэ 1506
40
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
19
Пейзаж с солнцем и луной Роспись ширм Деталь
Середина 16 в.
луны на другой ширме исполнен из наложенного серебра. Этим художник достигает эффекта разнообразия фактур, сочетание которых становится дополнительным средством выразительности, обогащая впечатление, а отчасти и семантику произведения.
Использование в живописи традиций художественных ремесел, особенно лаков, было важной особенностью мастеров Тоса, усвоенной в дальнейшем и художниками других направлений и школ. Именно в лаках сложились особые традиции соотношения декоративного узора с предметной формой. Как известно, в средневековой Японии не существовало заметной границы между искусствами собственно изобразительными и прикладными. Единые принципы формообразования легко заметны в живописи и росписи на изделиях из лака, чем объясняется и их постоянное взаимовлияние. Но при этом каждый вид искусства имел свои специфические особенности. В искусстве лаков они определялись технологией и особенностями материалов — черного, коричневого и золотого лака, техникой росписи по лаковой поверхности, использования золотого и серебряного порошка, кусочков фольги, рельефного узора, инкрустации перламутром. В росписях по черному лаку главным средством выразительности всегда были линия и силуэт при почти полном отсутствии внутренней разработки формы и отказе от объемности. В лаковых изделиях 16 века особенно большую роль играло сочетание различных фактур' и даже сопоставление поверхностей, покрытых разным узором. При ограниченной цветовой палитре важное значение приобретала игра тончайших оттенков золота и серебра, что достигалось употреблением смесей золотой и серебряной пудры в разных пропорциях. Образ вещи, ее красота возникали из соотношения декора с предметной формой, а также декоративного решения поверхности, чувства ее драгоценности. Высочай-
20
Пейзаж с солнцем и луной Роспись ширм Деталь
Середина 16 в.
42
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
21
Пейзаж с солнцем и луной Роспись ширм Левая ширма Середина 16 в.
Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса
43
шая техника ремесленного производства, которая была свойственна японским лакам, безусловно, оказала воздействие и на росписи ширм.
Само отношение к ширме было двуединым — это была картина, но это была и вещь в интерьере, украшение и предмет с определенными утилитарными функциями. И в том и в другом случае она обязательно должна была доставлять удовольствие, эстетическое наслаждение своей красотой.
К этому следует добавить, что ширма (или пара ширм) часто не была произведением уникальным, неповторимым. Ширмы создавались во многих экземплярах, повторялись или копировались, о чем свидетельствуют многочисленные идентичные работы, сохранившиеся в различных коллекциях. Так, например, в Национальном музее в Киото имеется пара шестистворчатых ширм на сюжет «Мост Удзи», а чрезвычайно близкое им произведение хранится в Национальном музее в Токио. Обе пары ширм исполнены неизвестным художником в середине 16 века.
Как и ремесленник, изготовлявший предметы из лака, художник ширмы стремился сделать драгоценной фактуру поверхности: контуры облаков он заполняет нарезанными кусочками золотой фольги (техника кириканэ), изображение колеса с черпаками на левой ширме делает в легком рельефе (техника такамаки-э). Этим подчеркивается назначение ширмы как красивой вещи, а не только картины. Ширмы рассчитаны были и на реальный охват взглядом всей композиции (и, естественно, уяснение сюжета и системы вызываемых им ассоциаций), но также на эстетическое восприятие поверхности ширмы как драгоценного предмета — на постепенное «ощупывание» взглядом, переживание ее красоты и постижение иных смысловых уровней произведения. Синтез изобразительного значения всех элементов композиции и их узорной орнаментальное™ стал постоянным качеством декоративной живописи у всех великих мастеров 16—17 веков от Эйтоку до Корина.
По сравнению с росписями мастеров школы Кано работы художников Тоса обладают целым рядом особенностей. Самое главное их различие в употреблении цвета и его роли в произведении.
Первые мастера Кано если и применяли легкую подцветку в своих росписях, выполненных главным образом тушью, то она всегда выявляла реальную окраску предмета. Еще у Сэссю в упоминавшихся ширмах «Цветы и птицы» цвет служил лишь добавлением, его роль была второстепенна, и положен он всегда внутри тушевого контура. Как и в его пейзажах, цвет чаще всего размытый, легкий (зелень растений), и только красный — интенсивный, почти локальный (цветы камелии, окраска головы журавля). Сходное использование цвета можно видеть и в произведениях Кано Мотонобу, в частности в его росписях в Рэйун-ин (Мёсиндзи, Киото), где блеклый, размытый цвет приближен к общей тональности тушевой живописи.
В работах мастеров школы Тоса, напротив, цвет, как уже отмечалось, открытый, интенсивный, являющийся существенной частью семантики произведения. Поэтому и применение его ориентировано не на реальную окраску предметов, а на внутренние закономерности картины, задачи наиболее полного выражения смысла через декоративную организацию плоскости, ее ритмо-цветовой упорядоченности. В художественной системе Тоса цвет — главное средство выразительности, тогда как у мастеров Кано на первом месте линия и тушевое пятно с градациями тона, что служит и передаче объема и передаче пространства.
44
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
22
Мост Удзи Роспись ширм Правая ширма. 16 в.
Наконец, можно говорить еще об одном важном отличии двух живописных систем. В работах художников Кано при всех декоративных качествах их росписей всегда есть намек на точку зрения, на то, что зритель может смотреть на картину извне, со стороны, подобно тому, как он смотрит на природный ландшафт. При всей условности композиции и ее отдельных элементов, сформированных в системе китайской классической живописи, росписи Кано масштабно и композиционно открыты человеку или во всяком случае сопоставимы с ним.
В росписях мастеров Тоса (особенно'это ясно видно в «Пейзаже с солнцем и луной») предметы передаются безотносительно к зрителю, который на них смотрит. Тут самое главное не в том, что может увидеть глаз, а в соотношении частей и элементов композиции, с помощью чего передается нечто не поддающееся непосредственному рациональному осознанию, но открывается в эмоциональном переживании красоты картины.
Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса
45
Однако при всей разнице языка живописи мастеров Кано и Тоса обе школы имели и ряд общих черт. Одна из них — характеристика явлений не через изолированный предмет, а через среду и соотношение в ней предметов друг с другом. Роль среды в японской живописи всегда была очень значительна, но начала пространственное и предметно-материальное соотносились по-разному у разных мастеров.
В произведениях школы Кано преобладает пространственность, в произведениях школы Тоса сильнее выявляется предметная форма, материал, фактура. В этом также было проявление разного типа условности живописного языка и соответственно— разного стиля.
К середине 16 столетия историческая судьба японской декоративной живописи сложилась так, что для нее оказались в равной мере актуальными обе стилевые системы и встала необходимость их объединения, что и было осуществлено в творчестве такого выдающегося художника, как Кано Эйтоку.
23
Мост Удзи Роспись ширм Деталь левой ширмы. 16 в.
46
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
ЗНАЧЕНИЕ КАНО ЭЙТОКУ
В СТАНОВЛЕНИИ СТИЛЯ НАСТЕННЫХ РОСПИСЕЙ ПЕРИОДА МОМОЯМА
Несмотря на то что девяносто процентов произведений, созданных Кано Эйтоку, не сохранилось, имя его в истории японской живописи считается одним из самых значительных, а его место в ней — одним из самых почетных. В школе мастеров Кано, существовавшей на протяжении четырех столетий, Эйтоку был самым крупным новатором, создателем стиля живописи, определявшего лицо недолгого, но бурного и полного важнейших исторических событий периода Момояма. Это был стиль, отвечавший своему времени, изменившимся социальным условиям, требованиям нового заказчика и потребителя.
Главная особенность существования искусства в период Момояма в отличие от предшествующих столетий — это его тесная связь с общественной жизнью и государственной властью, что проявилось в изменении его функций, а следовательно, стилистики и структуры образности. Монохромная живопись периода Муромати создавалась главным образом в монастырях, и даже помещенный в интерьере дворца свиток живописи по функции был сходен с аналогичным произведением в монастыре или храме. Появление черт декоративности в росписях на ширмах 15 века происходило внутри художественной системы, сформировавшейся на основе китайских прообразов и не влиявших до поры до времени на изменение самой этой системы.
Следует подчеркнуть также такую важнейшую особенность монохромной живописи периода Муромати, как развитие ее в общерегиональных традициях. В настенных росписях второй половины 16 столетия наблюдался переход от решения общеэстетических и философско-этических проблем к конкретносоциальным, от общерегиональных форм к этнически определенным и самобытным. Искусство впервые было ориентировано на жизненные проблемы своего времени и своей страны, хотя мировоззренческие установки, свойственные средневековому сознанию, и способы их интерпретации, иконографические основы живописи, несомненно, сохранились и полностью не могли измениться. На этой основе и формировался новый стиль росписей, имевший теперь более конкретную историческую основу и потому более чутко реагировавший на изменение общественно-социальных условий, которые получили отражение в свойственных этому искусству формах. Если произведения Сэссю можно трактовать как индивидуальную трансформацию общерегиональных художественных концепций, то в творчестве Кано Эйтоку выражались потребности японского общества определенной исторической эпохи.
Именно в этих конкретных условиях и появилось искусство Кано Эйтоку. Будучи поставлено на службу новой власти — власти военных диктаторов и объединителей страны с ее прогрессивной исторической направленностью, оно было призвано эту власть возвеличивать, создавать визуальные символы мощи, силы, богатства. Инспирированное этим, оно само наполнялось величием, пережившим на много веков те силы, которые послужили стимулом для его образов. Важно подчеркнуть, что в период Момояма искусство стало частью общественносоциальной структуры, оказывавшей воздействие как на формирование определенного художественного стиля, так и на его изменения. В отличие от прошлых веков теперь светские росписи в замках и дворцах стали моделью для росписей монастырских, где они главным образом и сохранились.
Принципиально новые задачи живописи стали очевидны с началом строительства укрепленных замков, служивших резиденциями правителей страны и наиболее могущественных феодальных князей — даймё. Утверждение власти, богатства
Значение Кано Эйтоку в становлении стиля настенных росписей периода Момояма
47
происходило не только с помощью военной силы, но и демонстрировалось в неприступной мощи фортификаций, невиданной роскоши дворцовых помещений, основным декоративным убором которых были настенные росписи и ширмы. Кано Эйтоку был первым художником, который стал исполнять грандиозные заказы Ода Нобунага, а затем Тоётоми Хидэёси на циклы росписей в их замках и дворцах. Его преемники и ученики продолжали после его смерти работать на сёгунов Токугава.
В том, что на долю Эйтоку выпала историческая миссия создания нового стиля настенных росписей Японии 16 века, была определенная закономерность. Уже в ранних работах художника, созданных еще до встречи с Ода Нобунага, можно заметить появление черт, позволивших впоследствии именно ему занять ведущее место в живописи Момояма и формировании стиля, характеризующего эту эпоху.
Сведения о жизни художника весьма скудные. Он родился в 1543 году и был старшим сыном Кано Сёэй, представителя третьего поколения потомственных живописцев. Весьма важным для последующего развития таланта Эйтоку было то, что его первым наставником стал его дед Мотонобу, который умер, когда Эйтоку было уже шестнадцать лет. Именно Эйтоку, а не его отца, считал Мотонобу своим продолжателем и будущим главой школы Кано.
Из документально подтвержденных свидетельств о творчестве Эйтоку самым ранним является упоминание о его совместной работе с отцом Кано Сёэй над циклом росписей в только что построенном субхраме Дзюко-ин монастыря Дайтокудзи в Киото. Дзюко-ин был закончен в 1566 году как фамильный храм Миёси Нагаёси, представителя одной из влиятельных самурайских фамилий того времени22. На основе новейших исследований можно утверждать, что из тридцати двух фусума, которые ранее приписывались кисти Эйтоку, им были исполнены лишь две серии росписей: «Пейзаж с цветами и птицами» и «Четыре благородных развлечения». Однако талант и возможности молодого художника (ему было всего лишь двадцать три года, когда он приступил к этой работе, законченной в течение трех последующих лет) уже тогда были столь обнадеживающими, что он, а не отец, расписывал самые обширные комнаты, в том числе центральную23. Известно, что почти одновременно с этой работой Эйтоку выполнял еще один заказ на росписи фусума в приемных залах дворца семьи Коноэ, близкой императорскому двору. В двух документальных источниках упоминается, что в 1574 году Ода Нобунага подарил своему вассалу Уэсуги Кэнсину две пары ширм, расписанных Кано Эйтоку. Наконец, известно, что в 1576 году, когда был закончен невиданный по конструкции и масштабам замок на берегу озера Бива с колоссальной семиэтажной башней, все внутренние помещения было поручено украсить росписями Кано Эйтоку. Это был самый важный и ответственный момент в жизни художника, и работа над росписями в замке Адзути была временем формирования нового стиля декоративной росписи24.
Уже в ранних работах Эйтоку в Дзюко-ин можно заметить черты, которые впоследствии были развиты и положены в основу его работ зрелого периода. Вместе с тем фусума в Дзюко-ин очень важны для понимания того, как стиль Эйтоку был связан с традициями живописи тушью предшествующего периода, что из этих традиций было им отброшено, а что, напротив, развито и преобразовано в соответствии с новыми задачами его искусства.
22 Takeda Т. Kano Eitoku. Р. 25.
23 Ibid. Р. 26.
24 Попытка описания росписей по сохранившимся документам предпринята в статье К. Уилрайт.— См.: Wheelwright С. Warlords, Artists and Commoners. Japan in the XVIth Century. Honolulu, 1981. P. 304.
48
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
Сравнение двух циклов росписей в Дзюко-ин позволяет утверждать, что уже тогда Эйтоку свободно владел разными манерами живописи тушью25.
Как и в каллиграфии, в живописи тушью так же различалось три почерка — син, гё и со, то есть с тщательной выписанностью всех деталей, подобно уставному написанию иероглифа, полусокращенному и, наконец, скорописному.
Состоящие из восьми фусума росписи на китайский сюжет «Четыре благородных развлечения» (имеется в виду музыка, игра в го, каллиграфия и живопись) исполнена Эйтоку как раз в тщательной, полной манере син с явной опорой на традиции китайской классики 12 века — школы Ма Юаня и Ся Гуя. Это проявляется в остроте и четкости линий, характерных угловатых очертаниях ветвей деревьев, кулисообразном построении пространства от первого плана в глубину. В этой росписи Эйтоку демонстрирует техническое совершенство, уверенность своей руки, но без малейшего намека на индивидуализацию.
Иное впечатление оставляют росписи центрального приемного зала Дзюко-ин, где заметны некоторые важные особенности, развивающие опыт первых мастеров Кано, в особенности Мотонобу, и ставшие впоследствии основой индивидуальной манеры Эйтоку. Обширное помещение, южная стена которого по традиции обращена в сад, огорожено с востока, севера и запада шестнадцатью фусума с росписями «Пейзаж с птицами и цветами» на сюжет времен года. Начало цикла с весенней темой располагается на восточной стене и развивается справа налево, заставляя вспомнить традиции хэйанских росписей сики-э (четыре сезона) с их традиционными тематическими мотивами, разработанными еще в древней поэзии. Таким образом, можно отметить, что этот цикл росписей, в отличие от предыдущего, исполнен Эйтоку на японский сюжет. Художник избирает полусок- ращенный почерк гё и пишет гораздо свободнее, легче и энергичнее, чем картины на китайский сюжет. Он применяет появившийся еще у Мотонобу прием создания единой композиции путем объединения всех сцен через пейзажную среду, как бы постепенно на глазах зрителя меняющую свои приметы от первого весеннего цветения до застылости и скованности зимних сцен. Тем самым через пространственное единство росписи подчеркивается идея временного единства, замкнутости годового цикла, бесконечности свойственных природе превращений. Тема четырех сезонов была свойственна и классической живописи тушью, мастера которой, следуя китайским прообразам, часто писали четыре свитка с каноническими признаками времен года. Но у Сюбуна и Сэссю свитки эти не обязательно предназначались для одновременного восприятия, каждый имел самостоятельное значение и был рассчитан на длительное созерцание, на переживание уходящего вдаль, бесконечного пространства. Если же такой пейзаж исполнялся на фусума (как, например, пейзажи Соами в дзэнском храме Дайсэн-ин в Дайтокудзи), то они становились частью ансамбля, куда входил и сад для созерцания. Создавалась особая среда, способствовавшая тому погружению в природу, к которому и стремились адепты дзэн-буддизма. Однако перенесенный на стену, значительно увеличенный по масштабам пейзажный мотив утрачивал свой духовный смысл, что заметно, как уже отмечалось, у самих мастеров периода Муромати. Кано Мотонобу, а вслед за ним и Эйтоку сознательно отказываются от пространственной глубины росписи (и соответственно от пространства как носителя идеи духовности) и увеличивают акцент на плоскости картины, всячески усиливая ее декоративные качества. У Эйтоку совершенно ясно стремление к сокращению пространственной глубины росписи,
25 Это, как известно, входило в понятие мастерства средневекового художника в Китае и в Японии; достаточно вспомнить о том, что в надписи на знаменитом «Длинном свитке пейзажей» Сэссю из частной коллекции Мори говорится об исполнении картины в манере Ся Гуя.
Значение Кано Эйтоку в становлении стиля настенных росписей периода Момояма
49
24
Кано Мотонобу Водопад
Настенная роспись Деталь. Ок. 1513
50
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
для чего именно на местах «пустого» фона он размещает пятна, исполненные тушью с примесью золотой пудры, имитирующие туманную дымку классических свитков, но выполняющую прямо противоположную функцию. Уплощение пространства росписи было не только главным шагом в сторону усиления ее декоративных свойств, но потребовало и изменений в традиционных приемах композиции, размещения объемов, их связей совершенно иного свойства; условно говоря, в направлении, не перпендикулярном плоскости стены, то есть от переднего плана через средний к дальнему, как в классическом пейзаже с воздушной перспективой, а, наоборот, в направлении, параллельном ей, с малой, чаще всего неопределенной глубиной, временами почти совпадающей с плоскостью картины. Но в рамках этой основной тенденции художник должен был избегать статичности и плоскостной орнаментальности форм, сохраняя впечатление объемности стволов деревьев, тел животных и птиц, свободного расположения ветвей, цветов и листьев. Ему требовались новые живописные приемы для передачи связей изображаемых предметов, их движения и жизни. Иными словами, возникала потребность в новой живописной системе, для чего необходимо было переосмысление традиционных композиционных приемов, принципов построения пространства и объема с помощью линии и цвета. Первые шаги в этом направлении уже были сделаны его дедом, но окончательное решение этой исторической задачи выпало на долю Кано Эйтоку.
Благодаря счастливой возможности видеть полностью сохранившийся в Дзюко- ин цикл росписей «Пейзаж с цветами и птицами» мы можем как бы присутствовать в момент рождения этой новой живописной системы, нового стиля, определившего направление японской декоративной живописи на следующие столетия. Тут уже наметились пути к созданию композиционной модели, стилеобразующее значение которой определилось в последующих произведениях Эйтоку. Это не менее заметно в тех частях росписи, где художник следует традиционной трактовке образов (гуси в камышах в части с осенним мотивом или журавль, в изображении зимы — тут он особенно близок Мотонобу, хотя и отличается от него) и создает собственную вариацию канонического мотива. Наиболее плодотворной оказалась разработка весеннего сюжета с могучим стволом дерева сливы, на ветвях которого уже распустились первые цветы. Толстый изогнутый ствол имеется и в зимнем мотиве, но поскольку там роспись располагается на двух стенах, северной и западной, Эйтоку дважды повторил изображение дерева с журавлем, разделив сюжет на самостоятельные эпизоды. В мотиве весны старый узловатый ствол, верхняя часть которого срезана краем картины, расположен на двух панелях, а ветки и побеги протянулись над волнами потока дальше на третью и четвертую панели, организуя движение взгляда справа налево. Самый изгиб ствола способствует началу такого движения, а моделировка объема, выполненная широкими, энергичными ударами кисти, усиливает динамичность формы и одновременно создает впечатление пространства, разворачивающегося вдоль плоскости картины, что усиливается и подхватывается изображением волн потока и плывущими утками. Летящая над волнами птица и верхушки деревьев, как бы выглядывающих из полосы тумана, создают ощущение пространства, но сам туман передается не размывами туши, как в классическом пейзаже, а пятнами золотой пудры, что, как уже отмечалось, уменьшает глубину, и все изображение оказывается заключенным между скалами, намечающими передний план, и этой неопределенной далью. Таким
Значение Кано Эйтоку в становлении стиля настенных росписей периода Момояма
51
25
Кано Эйтоку Пейзаж с цветами и птицами Настенная роспись Общий вид в интерьере. 1566
образом, общая композиция и проработка деталей служат тому, что сюжет разворачивается в пространстве, параллельном плоскости картины. Это и соответствовало, видимо, замыслу художника. Весенний мотив на восточной стене задавал энергичный ритм движения взгляду зрителя, вел его далее на длинную северную стену, где этот ритм менялся в соответствии с мотивом, постепенно замедляясь, и, наконец, происходило торможение движения на западной стене с зимним мотивом.
Этой работе молодого Эйтоку уже присущи качества, которые стали определяющими для его творчества, в том числе композиционное и ритмическое построения росписи, смелость энергичного мазка, передающего крупные формы, и большая свежесть в передаче деталей. Уже здесь заметен и такой прием Эйтоку, как соединение основной ведущей темы с целым рядом побочных, дополнительных тем, решенных в ином ритме и иными пластическими средствами, чем главная тема. Стремление уменьшить пространство росписи и свести к
52
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
26
Кано Эйтоку Пейзаж с цветами и птицами Настенная роспись Деталь. 1566
минимуму дальний и даже средний план повышало самодовлеющую декоративную'Значительность живописной поверхности, делало ее важным компонентом художественного образа.
Новые качества росписей Эйтоку становятся еще более очевидными при сравнении с выполнявшимися одновременно произведениями его отца Кано Сёэй в соседних помещениях Дзюко-ин. Последние кажутся несколько вялыми, лишенными четкой внутренней структуры в композиции, несмотря на свойственное мастерам Кано высокое профессиональное мастерство, проявляющееся в живописи отдельных деталей пейзажа или в изображении животных.
В 1576 году военный диктатор Японии Ода Нобунага закончил возведение своего замка Адзути на берегу озера Бива. Грандиозный по размерам26, с семиэтажной башней в центре, стоявший на основании из колоссальных каменных блоков и окруженный укрепленными стенами, замок был предназначен не только для защиты от огнестрельного оружия, впервые завезенного в Японию португальцами в 40-х годах 16 века, но должен был олицетворять силу и могущество нового правителя, подчинившего себе более половины страны. Главная задача Нобунага состояла в том, чтобы создать нечто невиданное, поразить воображение современников, как собственных вассалов, так и европейцев.
Особенностью башни в замке Адзути было то, что в ней имелось множество приемных комнат, хотя в расположенном рядом с ней дворце также были и официальные и частные покои. В самой большой комнате на втором этаже, по
26 По данным, содержащимся в «Синтё-ко Ки» («Биографии Нобунага»), написанной в 1587 году Ота Гюити, высота башни равнялась 33 м, протяженность ее основания с востока на запад — 35,7 м, а с севера на юг — 42,4 м.— См.: Hirai К. Feudal Architecture of Japan. New York, Tokyo, 1973. Vol. 13: Heibonsha Survey of Japanese Art Series. P. 34.
Значение Кано Эйтоку в становлении стиля настенных росписей периода Момояма
53
свидетельству Ота Гюити, имелась роспись на фусума с изображением цветущего дерева сливы27. Внутреннее убранство замка должно было поражать не меньше, чем его внешний вид. Главными в декоре интерьеров должны были стать настенные росписи. Для выполнения их и был приглашен Кано Эйтоку, который работал в течение трех лет (с 1576 по 1579 год) с большой бригадой помощников и несколькими художниками семьи Кано28.
Эйтоку, скорее всего, был увлечен работой, небывалой по масштабам и размаху. Но самое главное — у художника создавалась теперь возможность нового подхода к решению проблемы живописного произведения в архитектурном пространстве.
Владелец замка выдвигал требование тотального декора, что соответствовало его цели создать совершенно новый образ власти — нетрадиционной по своему происхождению (ибо Нобунага, как известно, узурпировал власть) и потому ориентированный на необычность, чрезмерность, сверхбогатство. Но для Кано Эйтоку с его темпераментом и размахом работа в Адзути открывала невиданные перспективы. Результатом его титанических усилий было создание новой художественной концепции настенной росписи.
Видимо, Эйтоку принадлежал общий замысел размещения росписей и, может быть, некоторое число композиций в наиболее ответственных помещениях башни и дворца. Остальные росписи выполнялись под его наблюдением и руководством его помощниками.
27
Кано Эйтоку Пейзаж с цветами и птицами Настенная роспись Деталь. 1566
27 Takeda Т. Op. cit. Р. 33.
28 Doi T. Momoyama Decorative Painting. New York, Tokyo, 1977. Vol. 14: Heibonsha Survey of Japanese Art Series. P. 79.
54
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
28
Кано Эйтоку Кипарис Роспись ширмы Конец 16 в.
Значение Кано Эйтоку в становлении стиля настенных росписей периода Момояма
55
56
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
Еще до полного завершения работ Ода Нобунага устроил прием, во время которого показывал гостям великолепные росписи по золотому фону29. Они производили огромное впечатление не только техникой исполнения30, но масштабами и манерой письма. Известно, что Ода Нобунага очень гордился своим замком и даже приказал изобразить его на ширмах, которые были им подарены португальским миссионерам и позже отправлены в Европу31. Кано Эйтоку был щедро награжден. Ода Нобунага пожаловал ему почетный титул и постоянный рисовый паек в 300 коку, который обычно получали самураи, вассалы феодальных князей — даймё.
Видимо, Ода Нобунага торопил художников с окончанием работ, и Эйтоку вынужден был, приспосабливаясь к условиям, не только использовать многочисленных помощников (это делал, как известно, еще Кано Мотонобу), но выработать и новую манеру письма, использования цвета, а главное — создания особого типа композиции росписи. Быстрая, энергичная работа кистью скорее всего соответствовала и темпераменту Эйтоку и его художественным идеалам, о которых можно судить по его ранним работам. В росписях Адзути он встал на путь укрупнения форм, отказа от мелких деталей. Известно, что он использовал очень толстую кисть из рисовой соломы, с помощью которой делал первый набросок композиции, общую ее схему, а затем помощники, специализировавшиеся по написанию отдельных сюжетов (цветы, деревья, птицы, животные и др.), исполняли конкретные детали. Сама методика работы заставляла Эйтоку прибегать к лаконичному художественному языку и приспосабливать традиционные приемы для решения новых задач. Скорее всего сам мастер намечал распределение золотой фольги и основных пигментов. При завершении работы он опять возвращался к ней и исполнял окончательные линии контуров, моделировку основных объемов, создававших ощущение динамики, внутренней напряженности композиции. Весь процесс, называемый каки-окоси, описан в документах того времени32.
Росписи воздействовали не столько каждая в отдельности, но все вместе, поражая невиданным великолепием, блеском золота и ярких красок. Главная задача Кано Эйтоку состояла в том, чтобы найти новые художественные формы для выражения идей силы и богатства, создать визуальные символы — легко читаемые (и следовательно, опирающиеся на традиции) и в то же время небывалые прежде, грандиозные по масштабам. Ясно, что именно при работе над росписями замка Адзути отдельные стилевые признаки, уже заметные в фусума Дзюко-ин, стали складываться у Эйтоку в целостную систему. Определилась взаимосвязанность этих признаков и их взаимообусловленность. При новых требованиях традиционная иконография должна была претерпеть существенные трансформации, а ее отдельные мотивы получить новый смысл. Поскольку Ода Нобунага активно выступал против буддийских монастырей, противодействовавших его политике объединения страны, то естественно, что традиционные буддийские сюжеты занимали минимальное место в росписях. Их вытеснили изображения персонажей конфуцианских притч, прославлявших добродетельных правителей и образцовых детей. Но главное место все же принадлежало мотивам природы — деревьев, цветов, птиц и животных. Эйтоку изменил пропорции, сделав их более мощными и тяжелыми. Цветовая гамма стала более яркой, и сопоставление локальных цветов преобладало над тонкими нюансами и оттенками одного тона.
29 Takeda T. Op. cit. Р. 33.
30 Известно, что ширмы с живописью по золотому фону изготовлялись еще в середине 14 века и даже экспортировались в Китай—См.: Doi T. Op. cit. Р. 66, 67.
31 Hirai К. Op. cit. Р. 36.
32 См.: Grilli Е. Japanese Screen Painting. New York, Tokyo, 1970. P. 170.
Значение Кано Эйтоку в становлении стиля настенных росписей периода Момояма
57
Подражая правителю страны, его многочисленные вассалы стремились также украсить свои резиденции по новой моде, и художники Кано, а затем и других школ были засыпаны заказами на росписи ширм и фусума, повторяя в разных вариантах ту основную стилевую модель, которую создал Эйтоку. Именно благодаря огромному количеству повторений мы можем судить о стиле этого мастера, ибо его собственные работы почти полностью погибли (замок Адзути после гибели Ода Нобунага в 1582 году был разрушен до основания, и есть лишь малая вероятность в предположении, что хотя бы некоторые росписи были вынесены оттуда и спасены). О циклах росписей в целом уже никогда нельзя будет составить представления, и только отдельные произведения, приписываемые Кано Эйтоку с большим или меньшим основанием, могут быть свидетельством его могучего таланта.
Существует предположение, что частью настенной росписи было изображение кипариса, существующее в настоящее время в виде восьмистворчатой ширмы (Национальный музей, Токио) и приписываемой Эйтоку на основании стилевых признаков33. Возможно, что первоначальная композиция была уменьшена и нарушена при переносе с фусума на ширму. Тем не менее это одно из немногих произведений, дающих возможность судить о живописи Эйтоку на золотом фоне (так называемой кимпэки-га) и о развитии его основной композиционной идеи, намеченной еще в росписях Дзюко-ин. На ширме изображена часть огромного ствола с искривленными могучими ветвями и тонкими нежными побегами, покрытыми мелкими листьями. Золотые облака скрывают как основание ствола, так и его вершину, так что его размеры остаются неопределенными, а могучие пропорции подчеркиваются сопоставлением с острой скалой в прорыве облаков, может быть, вершиной далекой горы, и с густо-синей водой потока, заполняющего долину. Дерево, облака, горы, потоки — все здесь представлено в своем самом обобщенном виде, в укрупненной форме. Наибольшее значение приобретает старое дерево — как образ человека, умудренного жизнью и вынесшего все ее тяготы, но еще полного скрытых внутренних сил. Ствол дерева образует костяк композиции картины. В нем заключено и основное динамическое начало. Изгиб ствола создает главное направление движения, его мощную волну справа налево в пространстве, параллельном плоскости картины. Это главное ощущение реализуется и в сопоставлении трех основных цветов — коричневого, синего и зеленого — с золотом фона, усиливающего их звучность. Золотые облака исполнены из отдельных кусков фольги, так называемых кимпаку (приблизительно равных 10x10 см), слегка отражающих свет, но лишенных яркого блеска, что влияет и на восприятие цвета 34. Несмотря на значительное упрощение цветовой гаммы, состоящей всегда лишь из трех основных компонентов, смягчение каждого из них (зеленый превращен в густо-оливковый, а коричневый то сгущается тушевыми мазками, то высветляется охристыми) делает их сочетания более гармоничными. Этому способствует и отсутствие жесткого тушевого контура, характерного для большинства работ школы Кано. Лишь мелкие, исполненные тонкой кистью листья контрастируют со всеми остальными мощными, подчеркнуто обобщенными формами. Можно себе представить, что именно такого рода обобщение и укрупнение форм стало методом Кано Эйтоку, когда он приступил к выполнению грандиозного заказа Ода Нобунага в его замке Адзути. Такой же отказ от детализации, обобщение форм, сопоставление крупных цветовых пятен и создание из них единой декоративной композиции видно и в
33 См.: Doi Т. Op. cit. Р. 137.
34 Seckel D. Das Gold in der iapanischen Kunst // Asiatische Studien. 1959. N 1-4, S. 109.
58
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
29
Кано Эйтоку «Китайские львы Роспись ширмы Деталь Конец 16 в.
30
Кано Эйтоку «Китайские львы Роспись ширмы Деталь Конец 16 в.
другом приписываемом Эйтоку произведении — паре ширм, на каждой из которых изображен орел на могучем дереве сосны (Университет искусств, Токио). Композиционная модель Эйтоку тут подвергнута еще большему упрощению, чем в ширме «Кипарис» (Национальный музей, Токио) путем сведения к минимуму деталей, обобщенной трактовке не только ствола дерева, но и ветвей, как бы собранных воедино и обозначенных сходными по силуэту зелеными пятнами, внутри которых при более близком рассмотрении видны намеченные тушью ветки, а золотой краской — иголки хвои. Более детально исполнено оперение птицы, ее глаза, клюв, когти. Основной цветовой акцент—зеленое на золотом фоне облаков — создает и главный ритмический узор, дополняющий направление встречного движения к центру как на одной, так и на другой ширме. Хищная птица на сосне — олицетворение военной мощи, властности, силы—доминирует над всем прочим. В таком образном строе не могут сушествовать мелкие подробности, не нужна тщательная проработанность форм, равно как и оттенки чувств или настроений.
Но, пожалуй, наиболее полное представление об особенностях живописного почерка Кано Эйтоку, его темпераменте художника, экспрессии его кисти и внутренней динамике его форм может дать грандиозная по размерам шестистворчатая ширма «Китайские львы» (ее высота 2 м 25 см, при ширине 4 м 59 см; Коллекция императорского дома, Токио). Есть предположение, что это одна из пары созданных художником ширм, подаренных Хидэёси в 1582 году клану Мори в знак примирения35. По-видимому, это наиболее достоверное произведение мастера, дающее представление о его монументальном стиле.
35 См.: Takeda Т. Op. cit. Р. 36.
60
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
Ничего подобного в японском искусстве до Эйтоку не было. Отдаленными прообразами можно считать изображения неистовых охранителей веры и второстепенных божеств буддийского пантеона в религиозной скульптуре и живописи прошлых веков. Но здесь решалась принципиально иная задача, которая потребовала и иного стиля мышления и иных средств выразительности, рожденных новой эпохой, с ее бурными событиями и новыми историческими героями. Использовавшиеся в буддийской пластике и живописи приемы нарочитого преувеличения в передаче мускулов, экспрессии лиц с вылезающими из орбит глазами, оскаленными зубами и т. п. (таковы образы стражей — охранителей веры Нио или Фудо Мёо на иконах 11 —13 веков) призваны были устрашать, подчеркивать могущество божества.
Эйтоку использовал сходные приемы в совершенно ином художественном и историческом контексте. Мифологические существа, восходящие также к буддийской иконографии, трактуются Эйтоку как геральдические животные, олицетворяющие идею власти правителя страны, наделенного могуществом и силой. В них мало общего с реальными животными, что освобождает фантазию художника, ведет его к созданию образов-символов, внутренний смысл которых раскрывается чисто живописными средствами — в характере линии и распределении цветовых акцентов, в композиции, ее динамике и внутреннем напряжении. Фантастические животные кажутся на мгновение приостановившими неудержимое движение вперед, от правого края картины к центру композиции (если принять во внимание существование парной ширмы). Они видны немного снизу, что усиливает впечатление монументальности, величия. Кажется, будто они преодолевают встречный ветер, и их гривы, хвосты развеваются, наподобие пламени, окружавшего в буддийских иконах Фудо Мёо и других божеств- охранителей. Сочными, сильными линиями подчеркнута мускулатура, общая напряженность фигур и особенно морд с огромными глазами и оскаленными пастями. Видно, что основные линии были прописаны художником дважды. Сначала это был размытый контур, намечающий основные формы, а в конце, уже после наложения пигментов,— окончательная, сильная, исполненная густой тушью сочная линия, назначение которой было не столько в передаче форм, сколько в подчеркивании их напряжения и динамики. Дважды, но уже с иными целями были прописаны и орнаментальные завитки на гривах и хвостах — сначала коричневой и зеленой, а затем золотой линией, опять-таки для усиления их главного смысла — орнаментальной сути, уравновешивающей буйную силу этих существ; это позволяло более органично расположить изображение на фоне золотых облаков. Структура облаков тоже двуедина: они и плоскостны и неопределенно-пространственны, что подчеркивается выступающими бурозелеными скалами. А золотая дорога, по которой шествуют царственные звери, как бы подчеркивает их геральдичность. Так в произведении Эйтоку фантастический сюжет наполняется живой динамикой жизни, мощь объемных, наполненных силой форм соседствует с орнаментальной декоративностью деталей36. Важнейшее качество росписей Кано Эйтоку — чувство динамического ритма, на основе которого и создается целостность композиции. От всех дошедших до нас произведений этого мастера остается в первую очередь впечатление единого целого, подчиняющего себе отдельные детали. При чувстве живого движения, пронизывающего композиции Эйтоку, они лишены мимолетности, а, напротив, кажутся незыблемыми и полными силы.
36 Здесь вспоминаются также популярные в классическом театре Но, а затем и в Кабуки персонажи — красный и белый львы, исполняющие динамичный танец. И в картине Эйтоку ощущается напор яростной силы, свирепой мощи, могучий заряд энергии.
Значение Кано Эйтоку в становлении стиля настенных росписей периода Момояма
61
Подобная трактовка соответствовала их назначению и требованиям такого заказчика, как Тоётоми Хидэёси. Известно, например, что огромное число ширм было им заказано для торжественного шествия по случаю императорского визита во дворец Дзюракудай. Ширмы должны были ограждать по обе стороны дорогу, по которой будет двигаться процессия37. Ширмы на различные сюжеты использовались во время многочисленных торжественных приемов, и то, в какой именно роли стремился предстать перед своими вассалами правитель, определяло и выбор сюжета ширм. Неуемной энергии, предприимчивости и темпераменту Хидэёси, видимо, было близко искусство Кано Эйтоку, также наполненное силой и внутренним напряжением. Когда Хидэёси задумал украсить росписями свой самый грандиозный замок в Осака, включавший, помимо многочисленных башен, дворцовые помещения, он пригласил для этого Кано Эйтоку с его помощниками, так же, как для росписей во дворце Дзюракудай в Киото38. Видимо, художник не мог выдержать того огромного напряжения, которого требовали эти и многие другие, одновременно выполнявшиеся работы, и он неожиданно умер в возрасте 47 лет. Судьба его художественного наследия оказалась не менее трагической. Погибли все росписи не только в замке Адзути, но и во всех других дворцах и замках, где он работал. Однако стиль, созданный Эйтоку, настолько отвечал своему времени и настолько полно воплощал его, что распространился и среди учеников и последователей мастера, членов семьи Кано, и захватил практически всех художников, работавших над росписями в конце 16 и в первые годы 17 столетия. Эхо стиля Эйтоку постоянно ощущалось в произведениях художников школы Хасэгава и ряда других. Без творчества Кано Эйтоку было бы невозможно появление таких корифеев декоративной живописи следующего столетия, как Сотацу и Корин.
Трудно переоценить значение творчества Кано Эйтоку для своего времени и для последующего развития японской настенной живописи. Впервые в истории японского искусства Эйтоку и работавшие с ним мастера стали покрывать живописью такие огромные поверхности стен и создавать такое большое количество произведений. Необычны были и масштабы работ и их темпы, что потребовало существенного преобразования самого организационного метода, выработки новых приемов письма и композиции. В этом и состояла историческая миссия Кано Эйтоку, разработавшего принципы единой композиции на больших горизонтальных поверхностях, создавшего собственную художественную систему росписи, основанную на укрупнении форм, отказе от мелких деталей, использовании сильной энергичной линии для передачи не только силуэта и объема, но и динамики форм. Безусловно, все эти особенности соответствовали не только новым задачам искусства в определенный исторический период, но и собственному темпераменту художника, его внутренним потенциальным возможностям. Последнее обстоятельство особенно очевидно при сравнении с произведениями Эйтоку работ его последователей и учеников, самыми значительными среди которых были его старший сын Кано Мицунобу (1561/65—1602/08) и ближайший ученик, ставший его приемным сыном Кано Санраку (1559—1635). Оба они начинали свою деятельность под руководством Эйтоку и рядом с ним, участвуя в создании циклов росписей в замках и дворцах Хидэёси. После смерти Эйтоку Кано Мицунобу продолжал работу над теми росписями, которые не успел закончить его отец. К нему же перешли и многие заказы, полученные еще Эйтоку39.
37 В некоторых источниках указывается, что было изготовлено около ста пар ширм.— См.: Anesaki М. Art, Life and Nature in Japan. Boston, 1933. P. 134.
38 Кано Эйно в своих записках «Хонте гаси» говорит: «Правитель Тоетоми Хидэеси построил два больших
замка Дзюракудай и Осака. Он приказал ёйтоку расписать их в стиле кимпэки. Где бы даймё того времени ни строили богатые резиденции, украшенные золотыми
стенами, они всегда хотели, чтобы Эйтоку расписывал их».— Цит. по: Wheelwright C. Warlords, Artists and Commoners. Japan in the XVIth Century. P. 99.
39 Известно, например, что Мицунобу получил заказ на росписи в замке Нагоя на острове Кюсю, построенном Хидэёси в 1592 году, исполнил там ряд картин.— См.: Takeda Т. Op. cit. Р. 119.
62
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
31
Кано Эйтоку (?) Орел на сосне Роспись ширмы Деталь Конец 16 в.
Развитие стиля Кано Эйтоку его учениками и последователями
63
Среди сохранившихся росписей авторство Кано Мицунобу наиболее достоверно подтверждается в отношении храма Кангаку-ин в монастыре Ондзёдзи (префектура Сига) 1600 года, ряда росписей в мемориальном храме семьи Тоётоми в Кодайдзи (Киото), а также в островном святилище Цукубусума на озере Бива. Ширмы и фусума в Кодайдзи датируются 1605—1606 годами, росписи в Цукубусума, видимо, совпадают по времени с окончанием строительства храма в 1602 году. Иначе говоря, все основные самостоятельные работы Кано Мицунобу были исполнены в течение первого десятилетия 17 века.
Уже в самой ранней из перечисленных работ, росписях в Кангаку-ин, заметно изменение общего настроения и пафоса произведений, выразившееся в стилевых изменениях, отличающих работы этого художника по сравнению с работами его отца. Казалось бы, отдельные детали, мотивы, даже композиционные приемы очень близки произведениям Эйтоку, но роспись как целое наполнена совершенно иным смыслом. Двенадцать фусума в центральном приемном зале Кангаку-ин на тему «Цветы и деревья четырех сезонов» дают возможность почувствовать разницу между произведениями Мицунобу и Эйтоку. Здесь мы встречаемся прежде всего с иным ритмическим рисунком, гораздо более спокойным, построенным на чередовании основных вертикалей и имеющих лишь второстепенное значение деталей, направляющих горизонтальное или диагональное движение взгляда, отчего картина получает особую размеренность. Стилизованные золотые облака покрывают значительную часть поверхности, выступая в роли пространственных кулис. Золото отчасти передает и почву, из которой вырастают деревья и цветы. Сама группировка растений у Мицунобу подчиняется чисто декоративным задачам, чередованию цветовых пятен и форм, более плотных и менее плотных. Любовно и тщательно художник выписывает нежные цветы сливы, мелкие листочки и т. п. Каждый фрагмент росписи приобретает самодовлеющее значение в своей изысканной красоте. Подобная фрагментарность в организации росписи была следствием совершенно иного, чем у Эйтоку, мышления художника. Тяга Мицунобу к утонченности и даже некоторой хрупкости форм проявилась в пропорциях деревьев, рисунке их ветвей, а «также в особых декоративных эффектах, которые он применял для обогащения поверхности росписи (например, он добавлял золотую пудру в краску, когда писал стволы деревьев, а чашечки цветов передавал легким рельефом, используя особую пасту, приготовленную из раковин).
Если можно говорить о том, что Эйтоку синтезировал приемы основных направлений японской живописи — канга и ямато-э или Тоса, выработав на этой основе свои собственные принципы, то у его последователей, особенно у Мицунобу, можно заметить повышенный интерес к приемам именно Тоса, с ее вниманием к декоративным качествам цвета и орнаментапьности линии40. Высокое техническое совершенство и стремление к еще большему декоративному богатству в убранстве интерьера проявилось в работе Мицунобу в святилище Цукубусума, где были расписаны не только основные, но и находящиеся над ними панели стен, а также кассеты потолка. Мицунобу отказался от обобщения и упрощения форм, свойственных Эйтоку, и, напротив, с особой тщательностью выписывал каждый цветок, каждую веточку, стремясь к большой точности в воспроизведении форм. Такой метод был непригоден для передачи сильных чувств, энергии и напряженности. Произведения Мицунобу кажутся наполненными тишиной и покоем. Это мир, во многом противоположный миру Эйтоку.
40 В лице Мицунобу школа Кано вторично породнилась с представителями школы Тоса, так как Мицунобу женился, как когда-то Мотонобу, на дочери одного из мастеров Тоса.
РАЗВИТИЕ СТИЛЯ КАНО ЭЙТОКУ ЕГО УЧЕНИКАМИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ
64
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
32
Кангаку-ин Общий вид. 1600
33
Кангаку-ин Интерьер с росписями Кано Мицунобу 1600
Постепенное изменение социальных условий в стране с приходом к власти сёгунов Токугава, стабилизация экономической и политической жизни, целый ряд ограничений в социальной сфере, в том числе запрет на строительство замков,— все это довольно скоро отразилось и в культуре, ее общей направленности. Все более заметные изменения начинают ощущаться и в живописи, ее стиле, особенно в настенных росписях, связанных с общественной деятельностью, с общественными ритуалами. Хотя такие формальные компоненты росписей, как яркая цветовая гамма, золотой фон, преобладание мотивов природы продолжали сохраняться, в творчестве художников первой трети 17 столетия, как и у Мицунобу, начинают преобладать совершенно иные тенденции, чем те, которыми было одушевлено искусство предшествующих десятилетий. Наиболее ярким выражением этих тенденций было творчество Кано Санраку. Именно Санраку считался главным преемником и продолжателем своего учителя Эйтоку, и поэтому особенно интересно проследить, как постепенно получала новую трактовку и видоизменялась основная стилевая модель Эйтоку, как наполнялись новым эмоциональным смыслом традиционные мотивы.
Известно, что Санраку много работал бок о бок и под руководством учителя, например в замке Осака. В его произведениях чаще, чем у других художников, можно заметить некоторые черты сходства с картинами Эйтоку—в самих мотивах, их выборе: «Орел на дереве», «Китайские львы».
Хотя с именем Санраку связано значительное число сохранившихся росписей и монохромных, и на золотом фоне, главные работы, наиболее полно характеризующие его стиль, сосредоточены в храме Дайкакудзи на северо-западе Киото.
66
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
В начале 17 века в монастыри попадали расписанные панели не только из разрушавшихся по тем или иным причинам дворцовых помещений, но нередко художники получали от монастырей и храмов специальные заказы на исполнение декоративного убранства в приемных залах и залах для гостей. Роскошные росписи на золотом фоне были не только данью моде, но становились свидетельством благополучия и процветания храма, высокого покровительства богатых представителей феодальной знати.
Среди работ Санраку можно найти гораздо больше, чем у Мицунобу, таких, в которых как бы слышится эхо монументального стиля его учителя Кано Эйтоку. Таковы исполненные монохромной тушью фусума в Дайкакудзи с изображением орла на сосне. Не только сам мотив заставляет вспомнить приписываемые Эйтоку ширмы, но и трактовка его с подчеркнутой монументализацией всех форм, исполненных энергичной кистью, компактных и лаконичных.
В храме Дайкакудзи сохранилась роспись Кано Санраку с изображением цветущего дерева сливы, исполненная на четырех фусума. Могучий ствол, как и в работах Эйтоку, составляет основу единой композиции и занимает почти все пространство росписи. Тем не менее роспись Санраку производит впечатление гораздо более спокойное и уравновешенное, недаром художник выбрал именно розовую сливу, традиционно символизирующую женское начало. Мандаринские уточки на скале под деревом — также известный символ супружеского счастья и верности. Так сразу становится ясно, что идеалы художника связаны не с воинственной силой и мощью, воспевавшимися когда-то Эйтоку, а с нежной грацией и красотой, воплощаемых в весеннем цветении природы.
Поэтому и композиционная формула Эйтоку претерпевает важнейшие изменения, наполняется совершенно новым смыслом. Это выражается как в построении росписи, так и в ее колорите и ритмической жизни. Основание ствола лишь немного сдвинуто вправо от центра, его изгиб невелик, совпадающий со стыком панелей стены ствол поднимается почти вертикально слева от центральной оси композиции, а крайняя правая и крайняя левая части росписи заполнены изображением ветвей с густо-розовыми цветами. Размещая в нижнем правом углу темную скалу и оставляя свободным верх левой панели, художник, безусловно, создает диагональное направление движения взгляда, но ритм этого движения, упорядоченный мощными линиями ствола, рисунком скал и ветвей, нарочито замедленный и спокойный. К сожалению, из-за плохой сохранности нельзя судить о верхней части росписи. Скорее всего это был нейтральный золотой фон или силуэт плоского золотого облака, намеченного на двух левых панелях. В отличие от росписей Эйтоку с мотивом дерева, тут совершенно не ощущается того сильного горизонтального движения, которое было важнейшим компонентом динамического образа. Нет здесь и раскинувшихся, как бы рвущихся вдаль ветвей. Напротив, они почти рядом со стволом, создавая единую компактную форму. Сочетание серо-зеленого ствола и густо-розовых цветов с золотом фона лишено яркой звонкости, звучит чуть приглушенно. А разбросанные по всей поверхности картины розетки цветов придают росписи орнаментально-декоративное начало, накладываясь дробным, мелким ритмом на основное крупное ритмическое членение.
Одно из самых обширных помещений Дайкакудзи украшено росписями Кано Санраку, где использован один-единственный мотив цветущих пионов (мотив, ставший особенно модным в начале 17 века). На всех трех стенах — восточной,
Развитие стиля Кано Эйтоку его учениками и последователями
67
северной и западной — на 18 фусума, подобно музыкальным вариациям, повторяются белые и розовые, с чуть приоткрывшимися бутонами и роскошными, пышными розетками, в окружении прихотливо вырезанных листьев царственные растения, издавна считавшиеся на Востоке символом человека знатного, благородного, знаменитого. На золотом, почти нейтральном фоне (лишь кое-где золотом по золоту написаны контуры облаков) поднимаются кусты — то у самого первого плана, то чуть отступая, на зеленой траве и среди невысоких камней41. По сравнению с работами современников росписям Кано Санраку свойственно необычно острое сочетание большой точности в изображении каждого цветка, ветвей и листьев растений с условностью золотого фона, который трактуется художником не как плоскость, а как некая пространственная среда. Этому впечатлению способствует метод передачи предметных форм, как бы объемных, развернутых в пространстве, а также то, что кусты пионов и камни помещены художником по-разному в отношении картинной плоскости: они то вплотную приближены к переднему плану, то чуть отступают от него, то размещены в некоторой глубине. Временами мы видим порхающих над кустами птиц, что усиливает ощущение условной воздушной среды росписи, неопределенной по глубине и протяженности. Следует напомнить, что свет попадал в интерьер не только этого здания, но всех других подобных, не сверху или сбоку, как в европейской архитектуре. Этому мешал большой вынос кровли, предохранявший деревянную конструкцию и бумажные стены и от дождя и от прямых солнечных лучей. Свет поэтому всегда был отраженный от почвы, зелени сада, то есть рассеянный и чуть окрашенный. В интерьере царил легкий сумрак, а росписи с их золотым фоном и яркими красками казались гораздо мягче и спокойнее, чем при современном искусственном освещении в залах музея. Мастера росписей не могли этого не учитывать. Рассеянный свет не только снимал резкость цветосочетаний, заставляя золото не просто отражать свет, но мерцать и переливаться, так что поддерживалась намеченная композицией иллюзия неопределенного, колеблющегося и зыбкого пространства, в котором цветут и благоухают пышные цветы.
Большое значение для впечатления, производимого росписями Кано Санраку, имеет то, что линия горизонта проходит у него очень низко, отчего кусты пионов оказываются на уровне глаз сидящего на циновках человека, а их близкий к реальному масштаб (а не преувеличенный, гигантский, к которому тяготели картины Кано Эйтоку), способствует ощущению особой приближенности к зрителю. Отказ от главного сюжетного мотива (такого, как огромный ствол дерева, протянувшийся на несколько панелей стены) создает совершенно новое соотношение отдельных компонентов росписи: отсутствие соподчиненности второстепенных деталей главному мотиву принципиально меняет ритмическую организацию целого, то есть организацию движения глаза по поверхности картины с ускорениями, замедлениями, остановками. А это непосредственно влияет на восприятие произведения, понимание его смысла, его внутренней сути. Композиция Кано Санраку, отмеченная иным, чем у Эйтоку, масштабом и соотношением элементов, то есть употреблением нового языка выразительности, была шагом в сторону от образной системы, созданной его учителем.
В этих росписях Санраку предстает как художник более созерцательный, человек более тонкого, чем Эйтоку, душевного склада. Его стремление к единству композиции достигается совершенно иными средствами, и главная роль
41 Есть предположение, что Санраку мог видеть принадлежащий монастырю Дайтокудзи свиток Ван Жо-шуя (китайского художника периода Юань) с изображением пионов, который послужил прообразом для росписей.— См.: Coveil J. С. Masterpieces of Japanese Screen Painting. The Momoyama Period (Late 16th Century). New York, 1962. P. 14.
34
Кано Мицунобу Цветы и деревья четырех сезонов Настенная роспись Деталь Начало 17 в.
у него принадлежит музыкальности ритмического построения. Он заставляет снова и снова разглядывать как бы один и тот же цветок, и повторяя, варьируя мотив, вводит в художественный мир произведения время как существенный его компонент. В длительном неспешном созерцании глаз наслаждается разнообразием сходного. Реальное восприятие росписи (как стен, покрытых узором) переходит в эстетическое видение, становится переживанием-постижением. В этом произведении Санраку ощущается большая изощренность чувства, пришедшая на смену открытости и простоте Эйтоку. Образ тут усложняется через введение полутонов и оттенков чувства, вызывающих ответное душевное состояние зрителя.
За полтора десятилетия, прошедших после смерти Эйтоку, существенно изменились и ситуация в стране и общая направленность японской культуры. В живописи заметнее стало стремление к уравновешенным, спокойным композициям, нарастание орнаментальное™ форм, интерес к культуре Хэйанской эпохи и произведениям художников ямато-э.
Подобная общая тенденция в декоративной живописи первых десятилетий 17 века особенно явно видна в работах, выполненных совместно Кано Санраку и его приемным сыном Кано Сансэцу (1589—1651) (некоторые из них ранее приписывались одному Санраку). Наиболее характерной можно считать роспись в Тэнкю-ин в монастыре Мёсиндзи в Киото, относящуюся к 1631 году. На этом примере становится ясно, какое дальнейшее преобразование произошло с композиционной моделью Эйтоку, некогда наполненной мощью, силой, динамикой, а ныне статичной, превращенной в плоскостный узор. Формальное сохранение мотива изогнутого дерева, имеющего прототипом композиции Эйтоку, делает особенно очевидным совершенно другой смысл росписи Сансэцу, лишенной единства и как бы составленной из отдельных элементов. Мотив изогнутого ствола цветущей сливы с прихотливым силуэтом приобрел тут самодовлеющую орнаментальность. Соединение в одной композиции признаков всех сезонов (рядом с весенней сливой — красные листья осенних кленов и т. п.) повышает декоративные качества росписи, лишая ее большого эмоционального заряда.
70
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
Привлекательная необычностью мотива, другая роспись в том же храме «Вьюнки у бамбуковой изгороди», приписываемая Санраку и Сансэцу, подтверждает тенденцию к плоскостной орнаментальное™, которая становится отличительным признаком мастеров Кано в тот период. Подобные же изменения наблюдались и у другой ветви школы Кано, связанной с новой столицей Эдо и двором сёгунов Токугава. Там работало значительное число художников, самым крупным из них считается Кано Таниу (1602—1674), под руководством которого были выполнены росписи в перестроенном дворце замка Нидзё в Киото, относящиеся уже к середине века, но сохранившие многие качества более ранних произведений Кано, в том числе отзвуки стиля Эйтоку.
Таким образом, стилевое направление, созданное Кано Эйтоку, учитывая его видоизменения и вариации, сохранялось внутри школы вплоть до середины 17 столетия, хотя к тому времени уже исчерпало возможности развития, не имея питательной почвы, все более формализуясь и теряя то одушевление и внутренний живой пульс, который давал себя знать на первых этапах развития. Однако творческая энергия Эйтоку, его мощный талант оказали огромное воздействие не только на художников собственно школы Кано, но практически на всех, кто занимался настенной живописью. Даже мастера, декларативно противопоставлявшие себя Кано, такие, например, как Хасэгава Тохаку, не избежали влияния Эйтоку и его стиля, скорее варьируя его открытия, чем противопоставляя им свои собственные. Видимо, стиль Эйтоку обладал той универсальностью и адекватностью времени, которые и сделали его стилем эпохи.
Разработанная Кано Эйтоку система настенной росписи со всеми ее особенностями была приемом моделирования действительности на основе законов, свойственных этому виду искусства. То, что стиль Эйтоку продолжал существовать значительное время после смерти мастера и угадывался в работах не только его непосредственных продолжателей и учеников, но почти у всех современников, доказывает, что искусство Эйтоку наиболее полно выражало свое время, его характер, общую направленность исторического развития.
Иконографическая стабильность росписей, свойственная почти всем произведениям периода Момояма, оказывалась условием того, что все изменения композиции, трактовки отдельных элементов, ритмического строя, то есть изменения внутри стиля становились показателем сдвигов и преобразований во внехудоже- ственной сфере. Отчасти это было связано и с творческой индивидуальностью каждого мастера, его темпераментом, но главная тенденция стилевого развития проступала независимо от подобных различий.
На примере произведений Эйтоку и других мастеров школы Кано хорошо видна эта диалектика общего и особенного, характерная для любого явления стиля. Как известно, у первых мастеров Кано наблюдались лишь предпосылки того стилевого развития, которые сполна реализовал Эйтоку: постепенный отказ от трехмерности пространства и усиление декоративного значения картинной плоскости, приближение изображаемых предметов к переднему плану и их укрупнение. Уже в ранних работах Эйтоку подчеркнуты именно эти качества, но наряду с ними заметно стремление к единству композиции путем масштабного укрупнения и выделения главного мотива. Это в свою очередь вызвало необходимость отказа от мелких деталей и тщательной проработки форм, движение к упрощению цветовой палитры росписи. Так был художественно
Развитие стиля Кано Эйтоку его учениками и последователями
71
сформулирован стиль Момояма, который затем как бы вышел из-под контроля одного мастера и подчинил своим законам творчество всех художников декоративной живописи.
На первом этапе сложения стилевой системы главной была тенденция к унификации средств выражения: вырабатывался новый язык, новые средства общения, которые должны были быть усвоены, ассимилированы общественным сознанием и общественными вкусами, чтобы стать из фактора индивидуального творческого почерка художника выражением важных закономерностей времени, то есть фактором, гораздо более всеобъемлющим.
Безусловно, на этом пути были не только открытия и находки, но и потери. Уже у мастеров следующего за Эйтоку поколения Кано можно видеть, как получают развитие и сильные и слабые стороны его искусства. Свойственная его темпераменту свобода письма открывала пути к особой живости и легкости, грациозности, нашедших выражение у Санраку, а также Кайхо Юсё и некоторых других. Но в то же время канонизация свойственной Эйтоку композиционной формулы с могучим стволом дерева как основы построения картины, вела к статичности и сухости, что особенно ясно видно в росписях Сансэцу. Важно подчеркнуть, что все эти трансформации стиля Эйтоку становились выражением иного отношения к реальности и ее переживания художником. Созданный Эйтоку стиль Момояма объединял различных мастеров, которые, работая по его законам, были в чем-то похожи друг на друга и потому узнаваемы как мастера этой, а не другой эпохи, но все же и существенно отличались друг от друга. Современники Кано Эйтоку, работавшие, как и он, в декоративной живописи, были художниками разного масштаба, различной степени одаренности. Но работами Эйтоку был задан определенный художественный уровень росписей. Свойственная ему культура композиции и эстетической организации плоскости картины становилась своего рода точкой отсчета для всех остальных в их собственных поисках и открытиях. Разработанные Эйтоку композиционные закономерности оказали огромное воздействие на сам тип мышления художника- монументалиста, и не только многочисленных мастеров Кано, но и таких художников, как Кайхо Юсё и Ункоку Тоган, считавших себя основоположниками собственных живописных школ.
Кайхо Юсё (1533—1615) учился, как и Эйтоку, у Кано Мотонобу, но идеалом, которому он стремился подражать, была для него китайская классическая живопись эпохи Сун. Это проявилось в исполненных Юсё настенных росписях в Дзёкё-ан в монастыре Кэнниндзи в Киото, относящихся к 1599 году. Однако за внешними признаками монохромной живописи — характером тушевого мазка и линии, большом значении тональности туши — открывается иной смысл искусства Кайхо Юсё, его глубокое отличие не только от далеких китайских прообразов, но даже и от японских сходных по типу работ, в том числе росписей такого художника 15 века, как Сюбун. В росписях Сюбуна всегда сохранялось ощущение увеличенного до размеров стены или ширмы пейзажного свитка со всеми его особенностями. В работах Кайхо Юсё, отличающихся великолепным мастерством письма тушью, сказывается опыт настенных росписей его современников, в том числе Кано Эйтоку, с принципиально иной пространственной композицией и отношением к предметной форме. На первый взгляд в росписи «Дерево сливы» Юсё придерживается композиционной модели Эйтоку, но оставляет значительную часть свободного фона, который должен был бы, если искать аналогий с
72
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
35
Кано Мицунобу Цветы и деревья Роспись стен и потолка Деталь Начало 17 в.
Развитие стиля Кано Эйтоку его учениками и последователями
73
живописью 15 века, уводить взгляд в глубину и выражать безбрежность пространственных далей. Однако этого не происходит. В пейзажах Кайхо Юсё чаще всего силуэтом далекой горы как бы ставит заднюю кулису и тем самым замыкает изображаемое пространство. А в росписи «Дерево сливы» он решает такую же задачу с помощью особой трактовки объема и расположения ветвей дерева по отношению к стволу. Это становится особенно ясно опять-таки при сопоставлении с картинами Эйтоку, в частности росписями в Дзюко-ин. У Эйтоку жестким, почти сухим мазком широкой кисти объем ствола больше намечен, чем подчеркнут, все линии идут сверху вниз, создавая ощущение живой, подвижной формы, но при этом очень плоскостной. Здесь совершенно нет круглящихся линий или пятен туши, а ритм мазков кисти подчеркивает и выявляет движение справа налево, вдоль картинной плоскости. Этому подчинен и рисунок ветвей, а главное—форма и изгиб ствола. У Юсё такого определенного движения вовсе нет, оно лишь только намечено, ему дан своеобразный «толчок» рисунком ствола, который занимает здесь всего одну панель с небольшим выходом на вторую (у Эйтоку ствол написан на двух панелях, а ветки расположены на всех четырех). Кайхо Юсё как будто возвращается к пространственности периода Муромати, оставляя целую панель слева без изображения. На самом деле у него нет движения в глубину. Напротив, все детали изображенного дерева направлены к переднему плану (нижняя часть ствола с отломанной веткой и изгибающиеся молодые побеги слева). Ритмическая тенденция движения, хоть и не такая ясно выраженная, как у Эйтоку, но все же ощутимая, направлена вдоль плоскости, параллельно ей, так что и незаполненное «пустое» пространство оказывается включенным в это движение, а не уходящим в глубину, как в произведениях художников 14—15 веков.
По такому же принципу построена и другая роспись Кайхо Юсё в Кэннидзи «Спящие птицы на сосне», выполненная с высоким артистизмом и демонстрирующая новые возможности живописи тушью на большой поверхности стены. Роспись исполнена широкой мягкой кистью, и основой изображения является пятно туши, а не линия. Ствол, ветви, иглы хвои только намечены и угадываются в быстрых и точных мазках кисти. Самыми густыми пятнами выделены две птицы — как сюжетный центр, а через тональные переходы оттенков туши строится пространственное расположение форм. Но и тут нет глубокого пространства, мощные ветки дерева как будто распластаны, и их ритмическое построение все связано с плоскостью картины и организовано на ней. Постоянное противоборство объема и плоскости и стремление к разрешению их конфликта заметно в росписях Кайхо Юсё, исполненных в технике кимпэки. Один из немногих художников Момояма, Юсё ставит задачу создать ощущение пространства в росписи на золотом фоне, делая центром композиции не передний план (как у мастеров Кано) и не дальний план (как у художников прошлых веков), а средний план. Показывая лишь верхушки растянутых на деревянных шестах выставленных для просушки сетей (ширма «Рыбачьи сети на просушке», Императорская коллекция, Токио), Юсё организует как бы срезанный и выдвинутый вперед передний план за границу картинной плоскости. Золото при этом воспринимается как песчаный берег, а полосы синего, на фоне которого изображен тростник,— как заводь.
Независимым от школы Кано, но находившимся, как и Кайхо Юсё, под воздействием ее стиля, был Ункоку Тоган (1574—1618), художник более
74
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
ХАСЭГАВА ТОХАКУ И ЕГО ВАРИАНТ СТИЛЯ МОМОЯМА
консервативный, считавший себя продолжателем Сэссю. Ему приписываются росписи в Дайтокудзи, в субхраме Обай-ин 1588 года и в Фумой-ин в Тофукудзи. Однако самое значительное произведение этого мастера—шесть фусума «Вороны на дереве сливы» (Национальный музей, Киото) 42. Росписи выполнены тушью с легкой подцветкой, но не на обычном белом фоне бумаги, а на золотой фольге. Художник ставит себе, казалось бы, неразрешимую задачу достичь гармонии строгой и даже аскетичной по духу живописной техники монохромной туши и золотого фона.
То стремление к синтезу двух художественных систем — ямато-э и канга, о котором говорилось в связи с мастерами Кано, заметно и в творчестве Ункоку Тогана, но приобретает у него несколько иные формы. Он, как и многие его современники, обращается к жанру настенной живописи и пытается сделать ее более нарядной, чем монохромные росписи. Художник пишет по золотому фону, но использует его как обычную белую бумагу в живописи тушью, лишь слегка обогащая поверхность легкой подцветкой. Основным живописным средством остается тушь и ее тональные переходы, с помощью которых строится предметная форма. Тоган обладал высокой культурой письма тушью, мастерски использовал разнообразные типы линий и мазков для передачи различной фактуры, заставляя зрителя читать фон не только как пространственную среду, но и как часть объема (так переданы заснеженный ствол и ветви дерева). При этом художник ощущает повышенные декоративные свойства золотого фона по сравнению с бумагой, его уплотненность.
Композиция строится на приближении изображения к переднему плану и развертывании его по горизонтали, в чем можно усмотреть отзвуки композиционных открытий Кано Эйтоку.
К концу 16 века японская декоративная живопись вплотную подошла к проблеме ассимиляции и органичного сплавления элементов двух художественных систем и создания нового единства. Огромную роль в этом, как отмечалось, сыграл Кано Эйтоку и художники его круга, другие их современники, например Ункоку Тоган. Еще более ярко и самобытно эта историческая задача решалась крупнейшим мастером второй половины 16 столетия Хасэгава Тохаку.
Творчество Хасэгава Тохаку (1539—1610) заслуживает специального рассмотрения, так как в нем объединяются и взаимодействуют разные, во многом противоположные тенденции, которые были присущи культуре Момояма. Даже при первом знакомстве с произведениями художника становится ясно, что он одинаково продуктивно работал и в яркой, пышной живописи кимпэки-га, как и большинство его современников, и в монохромной технике. В отличие от Эйтоку и даже Кайхо Юсё Тохаку со свойственной ему философской глубиной и проницательностью погружался в эти разные миры органично и естественно. Мастера Кано, разработавшие новые композиционные и колористические основы декоративных настенных росписей, никогда не достигали такого глубокого смысла образов, который был свойствен произведениям Тохаку. Кано Эйтоку, безусловно, обладал фантазией более мощной и, кроме того, был наделен особым социальным чутьем. Его темперамент художника был созвучен запросам военных диктаторов, узурпировавших власть и нуждавшихся в разнообразных способах самоутверждения. Искусство Эйтоку вырастало на этой почве и
42 Первоначально росписи находились в одном из замков на о. Кюсю. См.: Doi Т. Op. cit. Р. 163.
Хасэгава Тохаку и его вариант стиля Момояма
75
обладало соответствующим пафосом. Творчество Тохаку формировалось в другой среде. Родившийся в провинции и некоторое время работавший там как художник религиозной живописи, он, и попав в столицу, оказался связанным с монастырскими кругами, а священник Нитигё, настоятель столичного храма Хомподзи, стал его ближайшим другом на всю жизнь. Тохаку исполнил его портрет, датированный 1572 годом. Через Нитигё он познакомился со знаменитым Сэнно Рикю, посвятившим свою жизнь разработке чайного ритуала и распространению идеалов дзэн-буддизма. Хотя сам Тохаку был приверженцем другой секты — Нитирэн, воздействие дзэнского искусства на его творчество было сильным и плодотворным.
Под таким воздействием фантазия Хасэгава Тохаку получила несколько иное направление, чем у художников Кано, отличаясь большей тонкостью и глубиной. Впрочем, как уже говорилось, от Кано Эйтоку почти ничего не сохранилось, а произведений Тохаку, особенно с 1930-х годов, когда их стали разыскивать и пристально изучать, оказывается все больше и больше в поле зрения исследователей.
Среди японских ученых существуют разногласия относительно идентификации работ, подписанных Нобухару43, так как имя Тохаку им было принято уже по приезде в столицу. Некоторые источники указывают на то, что Тохаку в первые годы жизни в Киото был в мастерской Кано и даже, возможно, учился у Кано Сёэй, отца Эйтоку44.
В самых ранних приписываемых Тохаку работах, выполненных еще в провинции и представлявших собой религиозные изображения на канонические буддийские сюжеты, уже заметно понимание декоративных возможностей цвета и первые попытки его организации методом сопоставления смягченных тонов: в композиции «Нирвана Будды» доминируют голубовато-зеленые и серо-зеленые тона, которым подчиняются все остальные. Более тонко сходная задача решена была в работах с подписью Нобухару, в том числе ширме с изображением цветущей белой сливы и бамбука (традиционная тема ранней весны), хотя тут еще чувствуется скованность, осторожность в композиционном построении и некоторая жесткость контуров. Художник концентрирует предметные формы на завершающей стадии движения взгляда справа налево (вспомним, что даже в ранних работах Эйтоку поступал наоборот). Отсюда и ощущение статичности композиции.
Многоцветные росписи Тохаку и работавшего с ним его сына Хасэгава Кюдзо (1568—1593) сосредоточены в храме Тисяку-ин (Киото) и показывают высокие достижения мастера в декоративной живописи по золотому фону. Отчасти он следует стилю Кано Эйтоку, но во многом отличается от него. Росписи эти первоначально находились в Сёундзи, построенном в 1591 —1592 годах Тоётоми Хидэёси в память об умершем малолетнем сыне Сутэмару45. После пожара 1682 года они были перенесены в существующее по настоящее время помещение, но при этом уменьшены почти на 30 сантиметров в высоту и на несколько сантиметров в ширину. Некоторые были переделаны в ширмы. Отголоски влияния росписей Кано можно заметить в таких произведениях, как пара двустворчатых ширм и роспись в токонома большого зала Тисяку-ин (приписываются школе Хасэгава). С произведениями мастеров Кано их сближает мотив гигантской сосны как основы композиции. Но при этом здесь много существенных отличий от росписи, придающих изображению на ширме иной смысл, иной
43 См. Хасимото Аяко. Хасэгава Тохаку // Нихон-но мэйга. 1974. № 3.
44 Об этом говорится в записках Кано Эйно «Хонтё гаси».—См.: Covell J. С. Op. cit. Р. 16.
45 Doi Т. Op. cit. Р. 160.
76
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
36
Кано Санраку Пионы
Настенная роспись Начало 17 в.
эмоциональный тонус. Мотив трактован иначе, чем у мастеров Кано, и с точки зрения организации пространства картины, и масштабных соотношений изображенных предметов, и цветового строя. Основание преувеличенно мощного ствола сосны занимает центральную часть ширмы, переходя с правой створки на левую. Отходящих от ствола ветвей не видно, но в верхней части картины и на левой створке изображены обобщенно трактованные ветви как будто другого, более низкого дерева. Они выделяются на золоте фона, намечая кулисообразно несколько пространственных планов. Плоское золотое облако закрывает большую часть дерева справа. На его фоне написан куст с пышными белыми цветами, занимающий весь передний план до самого верха ширмы, а на левой створке, чуть отступая от переднего плана,—тонкие нежные травы. Если в кулисообразном построении пространства, его уплотненности и приближенности к плоскости картины можно видеть аналогию с произведениями художников Кано, то такого масштабного соотношения ствола дерева и цветов у его подножия у них никогда не было. Этим создается ощущение контраста мощно-незыблемого и хрупкоподвижного.
Такой же смысловой оттенок придан изображению сосны в токонома большого сёина Тисяку-ин (роспись, возможно, исполнена Хасэгава Кюдзо), где сосна- великан соседствует с кустами мальвы. В этих росписях можно увидеть проявление тех же тенденций, которые одушевляли творчество Кано Санраку и получили несколько лет спустя полное и мастерское воплощение в «Пионах». Самая знаменитая роспись в Тисяку-ин, считающаяся работой самого Тохаку,— композиция на четырех фусума «Клен». Произведение это можно рассматривать
Хасэгава Тохаку и его вариант стиля Момояма
77
как своего рода полемическое по отношению к работам школы Кано. Его стилевые истоки безусловно восходят к Эйтоку, но пафос, эмоциональное содержание совершенно другие. Как и в ширме с сосной, мощный ствол дерева расположен в центре композиции, по диагонали справа налево. Верх и подножие ствола срезаны краями картины (необходимо помнить о том, что масштабное решение росписи несколько искажено из-за уменьшения фусума по сравнению с оригинальным размером). Огромные ветви, как раскинутые руки, направлены в разные стороны. Они способствуют ощущению динамики композиции и ее единству. Как и в ширме с сосной, важное место в росписи занимает изображение кустарников и цветов, покрывающих почти сплошь две правые панели и частично третью. Золотой фон кое-где прерывается пятнами синего, которые читаются как воды потока. Хотя к этой росписи, как и к росписям Эйтоку, применимы понятия яркой нарядности, пышности, декоративности, но при известном сходстве, они в сути своей все же далеки друг от друга. Важное отличие можно отметить в самом отношении к натуральным формам природы. Для Эйтоку образы природы были в первую очередь средством символизации и иносказания, выражения идей, не имевших непосредственного отношения к
37
Кано Санраку Пионы
Настенная роспись
Деталь
Начало 17 в.
78
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
38
Кано Сансэцу Цветы и птицы четырех сезонов Настенная роспись Деталь 1631
зримо-конкретному образу. На этом была основана его стилизация природных форм, их укрупнение, приведение объема к силуэту и пятну. Тохаку отходит от схематичности цвета и формы Эйтоку. Он гораздо внимательнее к самим изображаемым цветам, веткам, листьям. Опираясь на систему живописных канонов, существовавших для передачи каждого отдельного предмета, он внимательно вглядывается в строение цветов, форму листьев, чередует и сопоставляет их, стремясь к естественности и гармонии. По сравнению с другими художниками Тохаку конкретнее в деталях, формы у него легче из-за применения более тонкого, чем у мастеров Кано, контура, что не мешает декоративному решению целого. Художник как будто любуется неистощимой фантазией природы, и орнаментальные качества его картины органично рождаются из живых красок, естественного ритма цветов и листьев растений. Его собственное творческое деяние как бы идет за содеянным природой. В разнообразии фактуры (чашечки цветов исполнены в рельефе из специальной пасты в так называемой технике мориагэ) можно также видеть двуединство стремлений —
Хасэгава Тохаку и его вариант стиля Момояма
79
к точности воспроизведения природного мотива и декоративной его выразительности.
Объявив себя основателем и главой новой живописной школы, Хасэгава Тохаку, безусловно, декларировал свое противостояние школе Кано. Но в действительности он шел от ее приемов, лишь развивая их в соответствии со своим собственным темпераментом и художественными задачами. На этом пути он оказался более многообразным, чем каждый отдельный художник Кано, синтезировав те возможности, которые по-своему развивали Эйтоку, Мицунобу, Санраку. В приписываемых Тохаку росписях в Самбо-ин (Дайгодзи, Киото)46, таких, как «Осенние цветы» и особенно цикл с изображением ивы, поражает тонкость поэтического чувства, изысканная легкость и грация в передаче мотива. На фусума с раскинувшей ветви весенней ивой, как бы колеблемой легким ветром, передний план занят цветами ирисов, поднимающихся над водой, поверхность которой обозначена пятнами разбрызганной золотой пудры. Это создает особый эффект подвижности, мерцания. Тонкие острые листья ирисов и нежные цветы расположены по диагонали, слегка поднимающейся справа налево, и это направление взгляда поддерживается еще одной более плотной полосой тумана из золотой пудры, а затем и движением листьев ивы. Во всех формах просматриваются длинные гибкие линии, что согласуется с самой сутью ивы — символа женственности — и в то же время сообщает всей росписи легкий колеблющийся ритм — основной носитель чувства весенней свежести, молодости, начала жизни. Мастерское использование возможностей техники брызганной золотой пудры усиливает декоративные свойства. Здесь Тохаку встает на путь
46 Росписи в Самбо-ин были исполнены в 1598 году, когда Тоётоми Хидэёси пригласил императора на церемонию любования цветущими вишнями, которыми славилась местность рядом с Дайгодзи, где расположен Самбо-ин. Многие ученые считают, что роспись такого высокого художественного уровня и такого стиля скорее всего могла быть выполнена Тохаку.— См.: Coveil J. С. Op. cit. Р. 21.
39
Тэнкю-ин,
Мёсиндэи,
Киото Интерьер с росписями Кано Сансэцу
40
Кано Санраку (?), Кано Сансэцу (?) Вьюнки у бамбуковой изгороди
Настенная роспись Деталь. 1631
Хасэгава Тохаку и его вариант стиля Момояма
81
не просто изображения поэтического мира природы, сам принцип его творчества оказывается поэтическим пересозданием натурного мотива.
Многогранность таланта Хасэгава Тохаку проявилась с наибольшей полнотой в том, что он одинаково блистательно работал и как мастер росписи на золотом фоне и как виртуоз в живописи тушью. Сохранилось значительное число его работ на фусума и ширмах, исполненных тушью, среди которых выделяются своим совершенством росписи в монастырях Дайтокудзи и Нандзэндзи (Киото) и пара шестистворчатых ширм «Сосны» (Национальный музей, Токио).
Основные росписи, выполненные тушью, относятся к самому концу 16 и первым годам 17 столетия, то есть времени, когда художнику было уже за шестьдесят, он достиг высочайшего мастерства и внутренней зрелости. Это было уже другое время по сравнению с тем, когда создавались росписи Эйтоку и его собственные картины на золотом фоне.
Однако опыт настенной живописи 16 века имел для Тохаку большое значение не только в стилевом отношении, но и с точки зрения ассимиляции достижений классической монохромной живописи 15 столетия и ее китайских прообразов, превращения общерегиональных особенностей в черты национально-самобытные.
41
Художник школы Кано Лилии
Настенная роспись
Деталь
Начало 17 в.
82
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
Немаловажную роль здесь сыграла задача письма на фусума, на стенной поверхности. Можно сказать, что даже в свитках живописи, таких, как «Обезьяны на старом дереве» (Рёсэн-ан, Мёсиндзи), величина которых заставляет предположить, что они могли предназначаться также для стены (высота 154,5 см, ширина 114,5 см), сказывается почерк мастера настенной росписи. Эти свитки отмечены виртуозным владением кистью, скорописной манерой письма, когда каждая линия, каждый штрих положены быстро, смело и решительно характеризуют предметную форму с предельной лаконичностью и полнотой. По сравнению со своими предшественниками Тохаку находит в рамках канонического мотива собственные, индивидуальные средства выражения, в персональности живописного почерка выражая философские концепции дзэн.
Признанный шедевр Тохаку — парные ширмы с изображением сосен в тумане из Национального музея в Токио. Именно это произведение позволяет приблизиться к пониманию того важнейшего для всей японской декоративной живописи процесса, который можно определить как превращение регионального в национальное, абстрактно-универсального в конкретно-самобытное. В качестве темы Тохаку взял сосны — постоянный мотив классического монохромного пейзажа. Но тут художник написал их как реальную сцену японской природы, изменив не только масштаб изображения, но и тип условности, трактовку предметной формы. Для Тохаку эти сосны в тумане — не просто деталь канонического пейзажа, воплощающего универсальные законы мироздания, но объект, обладающий собственной красотой, значительностью (аналогично трактован и мотив рыбачьих сетей на ширме Кайхо Юсё)47 и эмоциональной выразительностью. Художник добился в этом произведении необычайно тонкой гармонии материального и духовного, тем самым передав такую смысловую глубину, к которой еще не удалось прикоснуться никому из его современников-монументалистов48.
Для ширм «Сосны» характерен, как и для многих других произведений монументальной живописи Тохаку, каллиграфический принцип построения формы. Главную роль тут играет тональность туши, тончайшие ее размывы и оттенки. Тональностью туши передается не только ощущение туманной утренней дымки, столь характерной для окрестностей Киото и в наши дни, его влажной атмосферы, но воссоздается и внутреннее ощущение человека, постепенно приближающегося к пониманию чего-то ранее скрытого от него. Проступающие сквозь туман стволы сосен, легкие очертания ветвей кажутся то более ясно видными, то опять пропадающими, и зритель, вглядываясь в них и погружаясь в созданный художником мир, концентрирует свою эмоциональную энергию, направляет ее на разгадку этой таинственной жизни, ее едва уловимых, ускользающих мгновений.
У Тохаку, особенно в ширмах «Сосны», мы ощущаем гораздо большее напряжение в противопоставлении объективного и субъективного, чем у других художни- ков-современников. То культивировавшееся в дзэнском искусстве отсутствие четкости и определенности, как бы остановка творческого процесса на стадии «предобраза», некая смутность чувства и вели к передаче возвышенной духовности, внематериальной ипостаси художественного образа49. Даже если видеть в картинах Тохаку некие символы, то ясно, что он стремился, в отличие от Кано Эйтоку, не просто к символизму, но прежде всего к одухотворенности, к передаче духовного смысла явлений. От торжественной монументальности он сделал важный шаг к лиризму, достигнув органичности и насыщенного высокой
47 См.: Pain R. Soper A. The Art and Architecture of Japan. London, 1974. P. 96, 98.
48 В связи с этим хочется напомнить слова А. Лосева: «Дело в том, что «натуралистическая» свобода как раз
проявляется там, где смысл дается только абстрактно. Абстрактно данный смысл не в силах превратить материю настолько, чтобы она потеряла свою натуралисти¬
ческую самостоятельность и стала такой же нематериальной, каким является и сам смысл».— См.: Лосев А. Художественные каноны как проблема стиля // Вопросы эстетики. 1964. С. 359.
49 См.: Михайлова А. А. Художественный образ как динамическая целостность // Советское искусствоведе- ние’76. М„ 1976. Вып.. С. 232.
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу
83
духовностью соединения того и другого, их естественного слияния. Именно это качество, приобретя новые черты и стилевые признаки, получило дальнейшее развитие в живописи корифеев 17 столетия — Коэцу и Сотацу, искусство которых опиралось как на стилевые открытия Эйтоку, так и на возвышенность и лиризм Тохаку.
Несмотря на особенности, отличавшие его от других современников, Хасэгава Тохаку находился еще целиком в русле живописи Момояма. Высокий артистизм делал его искусство близким следующему этапу развития японской декоративной живописи, связанному с именами Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу.
К 20-м годам 17 века пути японской декоративной живописи еще более усложнились по сравнению с рубежом столетий, когда наряду с мастерами Кано на арену художественной жизни вышли представители школ Хасэгава, Ункоку, Кайхо и других. Самое главное и мощное стилевое направление, связанное с именем Эйтоку, постепенно исчерпало свои возможности, а школа Кано в целом утратила позиции лидера. С переносом официальной столицы из Киото в Эдо часть мастеров Кано во главе с Таниу, находившихся на службе у сёгунов Токугава, обосновалась в новом центре, остальные продолжали работать в Киото. Основным местопребыванием художников школы Тоса в конце 16 века был портовый город Сакаи и самый крупный торговый центр страны — Осака, где главными покровителями искусства стали разбогатевшие представители купцов и ремесленников. В начале 17 века традиционно работавшие при императорском дворе мастера Тоса снова вернулись в Киото. Старая столица оставалась средоточием основных художественных сил и хранителем древних культурных традиций. Художественная интеллигенция Киото начала 17 века группировалась вокруг императорского двора (что отчасти выражало оппозиционные настроения по отношению к новому сёгуну) и представителей старой родовой знати. Она принадлежала к кругам торговой элиты, лишенной возможности, несмотря на большую экономическую мощь, какой-либо политической активности и все активнее проявлявшей себя в сфере культуры.
В то время как в Эдо постепенно складывалась собственно городская культура с ее принципиально новыми установками и задачами, в Киото представители купеческого сословия (так называемые матисю) по-своему осваивали и переосмысливали традиционные формы художественной культуры, привнося в них собственное мироощущение, собственные представления о прекрасном и должном. Имея деловые связи со старой родовой знатью, эта новая элита усваивала традиции общения, стиль жизни, вкусы и художественные привязанности первого сословия.
Ко второй четверти 17 века (так называемая эра Канъэй —1624—1644) постепенно сформировалась особая ветвь японской художественной культуры, которую условно обозначают как культуру Камигата, сосредоточенную в западных провинциях вокруг Киото и Осака, то есть области Кансай50. В отличие от городской культуры Эдо с ее ориентацией на запросы самых широких слоев населения, на отражение событий реальной жизни и общей демократической направленностью, культура Камигата возрождала аристократические традиции Хэйана с их утонченностью и элитарностью. Однако, несмотря на столь разные идеалы, выдающиеся памятники японской художественной культуры были
50 См.: Noma S. The Art of Japan. Tokyo, New York, San Francisco, 1978. Vol. 2. P. 145—151.
СЛОЖЕНИЕ НОВОГО СТИЛЯ В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ 17 ВЕКА. ХОННАМИ КОЭЦУ
84
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
42
Каихо Юсё Рыбачьи сети на просушке Роспись ширм Начало 17 в.
созданы и в Эдо (театры Кабуки и Дзёрури, гравюра укиё-э, поэзия хайкай, проза), и в Киото, где мастера 17—18 веков оставили миру шедевры живописи, воплотившие с наибольшей полнотой особенности национального художественного гения Японии.
Развивавшаяся в Киото декоративная живопись таких ее крупнейших представителей, как Таварая Сотацу и Огата Корин,— одно из самых значительных явлений в японском изобразительном искусстве позднего средневековья. В истории настенных росписей это был новый взлет, хоть и значительно отличавшийся от первого — в период Момояма, но и невозможный без него. Выдающиеся произведения мастеров конца 16 — начала 17 века Эйтоку, Санра- ку, Тохаку, хоть и не повлияли непосредственно на стилевые качества художников Римпа (так условно называют направление живописи Сотацу— Корина), оказали существенное воздействие на художественное сознание своего времени, на восприятие живописи их современниками. В период Момояма получил широкое общественное признание и занял важное место в культуре сам жанр настенной росписи. Хотя истоки его относятся еще к раннему средневековью, именно период Момояма стал не только временем возрождения жанра росписи, но и его качественной трансформации в новых исторических условиях. Как уже отмечалось, в период Момояма стилевые признаки настенных росписей определялись их задачами, связанными с внехудожественной сферой. Осознанные как таковые Кано Эйтоку, они получили определенную форму художественного выражения в его произведениях. Преобразовать ее или совершенно от нее отказаться, в сущности, не удалось ни одному из его современников.
Новый этап в истории декоративной живописи был отмечен изменением ее функций и задач, что повлияло и на ее стилевые особенности. Одушевлявшим
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу
85
43
Кайхо Юсё Рыбачьи сети на просушке Роспись ширм Деталь Начало 17 в.
86
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
44
Ункоку Тоган Вороны на дереве сливы
Настенная роспись Конец 16 в.
живопись Момояма идеям сильной власти, мощи, государственности искусство Камигата противостояло как более камерное, связанное с узким кругом интересов старой и новой аристократии. Лишь с расцветом творчества Сотацу оно постепенно обретало более крупный масштаб и значительность.
Когда во второй четверти 17 века официально было запрещено строительство замков и обширных резиденций феодалов, главной и почти единственной формой декоративной росписи стала ширма. Но при этом гораздо большее значение приобрела работа художников-живописцев в других сферах творчества, особенно декоративно-прикладных. Началось активное влияние живописи на лаки, текстиль, керамику, и наоборот, ремесленные техники и приемы стали оказывать существенное воздействие на стилевые особенности декоративной живописи. Безусловно, изменения в искусстве 17 века были прежде всего связаны с изменением общей исторической ситуации в стране, началом формирования новой городской культуры «третьего сословия», ее отделением от официальной культуры правящей феодальной верхушки. В связи с этим не только появился принципиально новый потребитель культурных ценностей — городское сословие тёнин, формировавшееся из средних и низших слоев купечества и ремесленников. Изменился и потребитель из высших классов общества. В новой столице Эдо складывается официальное искусство токугавского режима, постепенно вырождавшееся в сухой академизм. В Киото, связанном многовековыми узами со всей культурной традицией средневековья, развивается мощное направление, ориентированное на классическое искусство периода Хэйан, с его ведущей ролью в культуре литературы, особенно поэзии.
Декоративные росписи в замках и дворцах конца 16 — начала 17 века должны были в первую очередь служить прославлению хозяина, демонстрации его могущества, власти и богатства. Даже в обширных монастырских залах росписи способствовали созданию пышной праздничной обстановки для общественных ритуалов или были фоном для торжественных церемоний. Отчасти такие репрезентативные функции сохранились у произведений мастеров Кано, которые работали для сёгунов Токугава. Наглядным примером этому являются росписи в замке Нидзё, выполненные под руководством Кано Таниу. В большинстве случаев настенные росписи такого рода были рассчитаны на коллективный общественный вкус и соответствующий тип восприятия.
Декоративная живопись 17 века в своих формах и своем стиле была обращена к иной аудитории и требовала иного отношения к себе со стороны зрителя, эрудированного во всех сферах творческой деятельности, особенно в стихосложении и искусстве «кисти и туши». Сам тип образности предполагал развитый эстетический вкус. Лишь обладавший этим зритель мог сразу же оценить и красоту каллиграфии, и узнать автора классических стихов, написанных на поверхности ширм. Сюжеты росписей иногда прямо следовали литературному первоисточнику, но чаще были связаны с ним косвенно, путем многочисленных, подчас изощренных ассоциаций, намеков, аллюзий, понятных просвещенному зрителю и мало говоривших профану. Изменился и самый тонус произведений, их общий настрой. Декоративная живопись уже не обладала ни возвышенной патетикой величественных композиций Кано Эйтоку, ни оттенками настроений, передававшихся монохромными росписями Хасэгава Тохаку. Лишенный личностной окраски лиризм Кано Санраку сменился гораздо большей персональной определенностью работ мастеров Римпа, что повлияло и на стилевые свойства их произведений.
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу
87
45
Хасэгава Тохаку Сосна и травы Роспись ширм Конец 16 в.
90
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
46
Хасэгава Тохаку Сосна и травы Роспись ширм Конец 16 в.
Если мастерам, работавшим в стилистике Момояма, были явно свойственны определенные общие признаки, то художники, условно объединяемые в школу Римпа, менее схожи между собой, как не похожи они и на своих непосредственных предшественников. Среди их работ много миниатюр, произведений, принципиально камерного характера, рассчитанных на интимное восприятие. Это росписи вееров и кимоно, альбомные листы, декор лаковых шкатулок и керамических изделий. Но даже монументальные ширмы Сотацу по образному строю отличаются от произведений художников конца 16 века.
На основании новейших исследований все наиболее авторитетные ученые, занимающиеся японской живописью позднего средневековья, пришли к выводу, что Таварая Сотацу был самой крупной и значительной фигурой 17 столетия. В этом убеждает его яркая индивидуальность, что само по себе необычно для художественной культуры средневекового типа, его способность к синтезированию самых разнообразных приемов и средств выразительности и умение достичь с их помощью качественно нового результата, наконец, его воздействие на всю последующую историю японской живописи вплоть до современности. Пристальное изучение произведений самого Сотацу и художников его круга позволило сделать вывод о том, что именно ему, а не Огата Корину, как считалось прежде, необходимо отвести центральное место в формировании школы Римпа как главного направления в живописи 17—18 веков. Огата Корин довел до полного завершения то, что открыл и впервые выразил в своей живописи Сотацу.
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу
91
Прежде чем перейти к рассмотрению произведений Сотацу, необходимо познакомиться еще с одним замечательным художником, который оказал немалое воздействие как на сложение стилевых особенностей живописи Сотацу, так и в целом на формирование его личности и мировоззрения. Хоннами Коэцу (1558— 1637) прожил долгую жизнь, большая часть которой приходится на период Момояма, но его искусство стало воплощением идеалов уже иной эпохи. Отчасти это связано с тем, что заниматься каллиграфией, живописью, керамикой, лаками, где он создал выдающиеся произведения, Коэцу начал в сравнительно позднем возрасте, в первые годы 17 столетия. Художественные принципы Коэцу, его взгляды на задачи искусства никак не вписывались в исторические условия периода Момояма с его преобладанием идей прославления власти и могущества, с его пышными формами и яркими красками. Коэцу никогда не служил ни военным диктаторам, ни сёгунам, хотя и получил от Токугава Иэясу в 1615 году участок земли на северо-западной окраине Киото в Такагаминэ, где организовал «артистическую деревню», куда пригласил на жительство и для совместного творчества живописцев, каллиграфов, художников лаков и керамики, знаменитых мастеров по изготовлению бумаги и кистей. Независимое общественное положение давала Коэцу наследственная специальность семьи Хоннами, несколько поколений которой были экспертами по производству мечей, что было престижным и почетным занятием.
Коэцу считают одной из ярких личностей в истории японской художественной культуры. Он прославился прежде всего как выдающийся каллиграф — один из трех самых знаменитых каллиграфов своего времени. Именно в каллиграфии,
47
Тисяку-ин, Киото Интерьер с росписями школы Хасэгава Конец 16 в.
92
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
48
Хасэгава Тохаку Клен
Настенная роспись.
как считают специалисты, наиболее полно проявилась художественная одаренность Коэцу, его высокий артистизм. Характер таланта Коэцу, свойственное ему чувство красоты делали особенно близкими ему традиции хэйанской культуры с 2 ее утонченностью и изысканностью, с ее высоко развитым эстетическим чувством, определявшим весь жизненный уклад. Творческая жизнь Коэцу в сущности была посвящена возрождению эстетических концепций Хэйана, что сыграло определенную роль как в становлении его собственного творчества, так и в формировании личности и искусства Сотацу. Обращение к хэйанской культуре в начале 17 века не было лишь только личной склонностью Коэцу, но имело и свои исторические предпосылки, и общественно-социальную подоснову. Коэцу был выходцем из среды крупных торговцев, разбогатевших первоначально на ростовщических операциях, а позднее поддерживавших свои все возраставшие доходы как заморской торговлей, так и развитием добычи золота и серебра, металлообрабатывающей и текстильной промышленности. Это были так называемые матисю, которые еще в конце 15 века благодаря своему богатству
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу
93
постепенно стали фактическими хозяевами Киото и сохраняли свои позиции вплоть до вторжения войск Ода Нобунага в 1568 году. К ведущим кланам матисю наряду с фамилиями Гото, Тая, Суминокура принадлежала и семья Хоннами. Как пишет авторитетный специалист по средневековой истории Японии профессор Хаясия, уже на раннем этапе консолидации матисю как социальной группы они вошли в тесные контакты с представителями старой родовой аристократии, нередко разорившимися и обедневшими, но при этом хранившими традиции старой культуры51. Нечто подобное происходило и в период после утверждения сёгуната Токугава, когда были приняты законы, не только закреплявшие низшее положение купечества в социальной иерархии общества, разделенного на четыре официальных сословия (феодалы, крестьяне, ремесленники, купцы), но и всячески ограничивалась социальная активность низших сословий, а целый ряд предписаний запрещал им носить шелковую одежду, строить высокие дома и т. п. Если же слои горожан, из которых сформировалось городское сословие тёнин, создавали собственные формы культуры (такие, как театр Кабуки,
51 Hayashiya Т. Kyoto in the Muromachi Age // Japan in the Muromachi Age. Berkley, Los Angeles, London, 1977. P. 30.
94
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
жанровая живопись и гравюра, городские повести), то высшие слои купечества все более отчетливо тяготели к аристократическим формам культуры, консолидации с придворной аристократией и духовенством, видя в этом одну из форм социального протеста, противостояния официальному режиму Токугава52. Так постепенно сложилась культура художественной элиты Киото со своими пристрастиями и вкусами, имевшими мало общего с культурой третьего сословия и значительно отличавшимися и от феодальной культуры предшествующего периода. Ее самой главной особенностью было обращение к хэйанским традициям, их возрождение и культивирование.
Немаловажным фактором общекультурной ситуации в Японии 17 века (и это также сближало ее с Хэйаном) было закрытие страны, самоизоляция, означавшая прекращение внешних контактов, отсутствие притока новых идей и новых знаний. Это способствовало тому, что взгляды просвещенных представителей японской верхушки обратились в прошлое, ко времени, когда впервые достигли высочайшего расцвета чисто национальные формы литературы и искусства. Период Хэйан занимает совершенно особое место в японской культуре. Последующие поколения видели в нем классику, время, когда были заложены основы самобытности, неповторимости литературы и искусства. Обращение к идеалам Хэйана в начале 17 века происходило уже с позиций большого исторического опыта и с точки зрения решения задач своего времени. Для людей 17 века это было сознательное самоограничение, связанное с реальной ситуацией, в которой они жили. В своей консолидации со старой аристократией и обращении к прошлому представители разбогатевшего городского сословия как бы утверждали свою причастность к глубинным слоям национальной истории и культуры, зачеркивали свое нуворишество, объявляли о том, что и они имеют корни и осознают себя вырастающими из этих корней древней культуры. При полном политическом и социальном бесправии невозможность «идти вперед» заставляла смотреть в прошлое и искать в нем свое место. Это придавало всей культуре Камигата оттенок некоторой искусственности по сравнению с городской культурой низших слоев горожан. Но в результате обе ветви культуры 17 века дали полноценные и важные результаты. Из обращенности к прошлому родилось новое, небывалое прежде искусство, ставшее ярким проявлением национального художественного гения.
Если низшие слои горожан — тёнин в начале 17 века окунулись в стихию развлечений и удовольствий «веселых кварталов», то богатство духовных сил матисю искало выхода, связанного со сферой культуры и искусства. Они нуждались в самоутверждении, в эстетическом оформлении нового бытия. Хоннами Коэцу, как отмечают все исследователи, был необычайно одарен от природы. Пройдя специальное обучение наследственной профессии только в отношении изготовления мечей и оценки их боевых качеств, он во всех других сферах деятельности считал себя дилетантом и отчасти был им. Это означало отсутствие обученности, принадлежности к каким-либо официальным школам или направлениям (наподобие школы Кано в живописи) и, следовательно, причастности, к определенной системе канонов и установлений, нормам образности и средств выразительности. Отсюда его необычайная свобода и раскованность, проявлявшиеся во всех видах творческой деятельности.
Так, вместе со своим другом и учеником Суминокура Соан, владельцем типографии Сага, Коэцу предпринял издание ряда классических произведений
52 См.: Mizuo Н. Edo Painting: Sotatsu and Korin. New York, Tokyo. 1978. Vol. 18: Heibonsha Survey of Japanese Art Series. P. 66.
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу
95
49
Хасэгава Тохаку Клен
Общий вид в интерьере. 1592
хэйанской литературы, в том числе «Исэ моногатари», текстов пьес театра Но и др. Эти книги, так называемые Сага-бон, были напечатаны на специальной бумаге и оформлены Коэцу, которому принадлежала и великолепная каллиграфия, воспроизведенная ксилографическим способом53. Напечатанные в малом количестве экземпляров, книги Сага предназначались для элиты Киото, но стремление Коэцу в декоре книг, каллиграфии шрифта, изысканности орнаментированной бумаги и роскоши переплетов передать самый дух классического искусства Хэйана, приблизить его к своему времени, имел большое общекультурное значение.
Для Коэцу увлечение хэйанской литературой, в особенности поэзией, означало погружение в мир ее образности, слияние с ним и в жизни и в искусстве. Строки классических стихов одушевляли все его творчество, привнося в него поэтическое начало, которое как бы преобразовывало само мышление художника, влияя не столько на темы и сюжеты его произведений, сколько на их образный смысл и поиск формы выражения этого смысла.
Наиболее яркий пример — созданные Коэцу произведения из лака. Нет документальных данных о том, что он сам изготовлял свои знаменитые тушечницы, возможно, что их делали по его проектам его друзья-ремесленники54. Но то, что Коэцу до тонкостей знал это ремесло, все стадии изготовления предмета и разнообразные техники нанесения орнамента, представляется несомненным. Его знаменитая тушечница с изображением понтонного моста (Национальный музей, Токио) — традиционный предмет лишь по назначению. Ни ее форма с очень выпуклой крышкой, ни тем более декор не имеют прототипов в прошлом.
53 Первоначально Соан предполагал выпустить дешевое издание классики в коммерческих целях, но под влияни¬
ем Коэцу изменил свои намерения, и главное внимание было уделено художественному оформлению книг, технике печати с добавлением слюды (кирара), каллиграфии, иллюстрациям (в «Исэ моногатари» было 48 иллю¬
страций). Книги Сага были изданы между 1606 и 1615 годами.— См.: Rosenfield L., Cranston К and Е. The Courtly Tradition in Japanese Art and Literature. (Catalogue). Tokyo, 1973. P. 228, 229.
54 Cm.: Yamada Ch., Sackheim E. Decorative Art of Japan. Tokyo, 1964. P. 190.
96
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
50
Хасэгава Кюдзо Цветущая вишня Настенная роспись 1592
Коэцу именно в своем дилетантизме, который выражался не в отсутствии навыков традиционного ремесла, а в непричастности цеховым нормам и правилам, достигал небывалой свободы творческой фантазии, раскованности в понимании художественной формы, законов ее строения. Никогда прежде мастера лаков не употребляли одновременно столько разных материалов. Коэцу по поверхности золотого лака маки-э не только наносит гравированное изображение лодок, поддерживающих мост, смело и непринужденно кладет на выпуклую поверхность крышки темную полоску, этот мост изображающую, но инкрустацией из серебра как бы разбрасывает иероглифы стихов (каллиграфия которых — тоже величайшее искусство!), пропуская те, которые означают мост и лодки,— то, что глаз и так видит. Иначе говоря, Коэцу создал произведение в жанре э-ута («картина-стихи»), любимом и распространенном в период Хэйан. Но средства, им используемые, совершенно новые и небывалые, способствующие воплощению принципа, духа далекого искусства, но не формального его повторения. Ясно, что ни один мастер-ремесленник не мог создать ничего подобного, ибо всегда ориентировался на образец не только в силу традиции, но и особенностей своего цехового мышления. Хотя новаторство Коэцу имело иные
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу
97
корни, чем у художников новейшего времени, и не могло получить непосредственного продолжения хотя бы из-за неповторимости его как гениальной личности, но сама свобода его фантазии, подход к решению каждой художественной задачи не могли не оказывать воздействия на его современников, в особенности таких, как Сотацу.
В настоящее время в разных музеях мира и в частных коллекциях хранится значительное число произведений Коэцу. Это главным образом горизонтальные свитки или отдельные листы — сикиси со строчками стихов из антологий классической поэзии на фоне изображений летящих птиц, цветов лотоса, глициний и т. п. Долгое время не было единого мнения относительно того, принадлежала ли живопись, как и каллиграфия, самому Коэцу или же их исполняли разные художники. В настоящее время считается, что автором живописи был Сотацу55, хотя столь полное и органичное слияние двух творческих индивидуальностей в одном произведении вызывает удивление.
Как уже отмечалось, Коэцу был современником всех выдающихся живописцев Момояма, но идеалы их искусства были далеки ему. Однако нельзя сказать, что декоративные принципы живописи, разработанные этими художниками, совершенно не влияли на творческий опыт Коэцу. Эти принципы получили иное претворение, сплавившись с устремлениями Коэцу к классическому искусству прошлого, как, например, в свитках со сплошным записанным золотом и серебром фоном (так называемая техника бэтанури), по стилю родственных живописи Момояма56.
Искусство Коэцу, его чисто японское ощущение художественной формы стало возможно только на основе опыта культуры Момояма и свойственных ей новых декоративных принципов живописи, керамики, лаков, росписи тканей. Коэцу сумел органично соединить все это с изысканностью Хэйана, своей собственной артистичностью.
Сохранилось пять свитков, существующих в настоящее время расчлененно и хранящихся в разных коллекциях. Профессор Ю. Яманэ считает, что они были исполнены между 1610 и 1620 годами57. В свитках есть общие черты с декором книг Сага, например в приемах печати с повторяющимися мотивами и в самом принципе живописного декора как фона, становящегося аккомпанементом каллиграфии и поэзии.
Безусловно, Коэцу при всей увлеченности хэйанской культурой не стремился к прямому повтору прошлого. Это была новая оркестровка традиционных тем, их переживание художником принципиально иной эпохи. Здесь нет и намека на архаичность, настолько эти произведения свежи, эмоциональны, наполнены живым чувством.
Известно, что в личной коллекции Коэцу имелся фрагмент свитка со стихами 11 века, который мог служить для него образцом58. Но его собственные работы, выполненные совместно с Сотацу,— всегда свободная интерпретация, эхо хэйан- ского искусства. Сложное многоголосие поэзии, каллиграфии и живописи имеет тут печать гораздо более изощренного и индивидуализированного вкуса. Летящие, легкие и в то же время упругие, сильные линии каллиграфии Коэцу как бы сами вызывали к жизни спускающиеся сверху и свободно застилающие поверхность свитка гибкие ветки и листья плюща или стремительно проносящуюся справа налево стаю журавлей. И подобно тому, как иероглифы стихов написаны то густой черной тушью, то бледной, едва заметной, так и цветы,
55 Часть свитков «Олени» и «Лотосы» отличается по 50 См.: Croissant D. Sotatsu and Sotatsu—Stil. Untersu- живописи от остальных и, возможно, была исполнена не chungen zu Repertoire, Ikonographie und Asthetik der Сотацу, а самим Коэцу.— См.: Mizuo H. Op. cit. P. 139. Malerei des Tawaraya Sotatsu (um 1600—1640). Wiesba-
56 Mizuo H. Op. cit. P. 15. den, 1978. S. 79.
57 Yamane Y. Sotatsu. Tokyo, 1962.
98
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
51
Хасэгава Тохаку Сосны
Роспись ширм Конец 16 в.
листья растений то как будто приближаются к переднему плану, то отступают в глубину, исчезая в дымке. В восприятии иероглифа, особенно каллиграфически написанного таким великим мастером, как Коэцу, сочетается умозрительность постижения смысла с непосредственностью восприятия его чисто эстетических качеств. Каноническая закрепленность обязательного сочетания черт и точек в иероглифе не исключает субъективного начала, заключающегося в том, как именно проведена каждая черта, в каком темпе, с какой степенью нажима кисти, наполненности ее тушью. Эти свойства каллиграфии одинаково присущи и живописи, за исключением обязательности сочетаний черт и их последовательности. Но идущая от восприятия письма особая натренированность глаза заставляет зрителя и картину читать по законам каллиграфии, особенно в таком случае, как свитки Коэцу и Сотацу, где оба искусства выступают в единстве. Их сочетание, ритмическая и цветовая гармония формировали то художественное пространство картины, главным свойством которого была наполненность чувством поэтического, которая только и способна была передать дух классической поэзии. Раскованность и свобода создавались разомкнутостью пространства картины, его раскрытостью во все стороны. На свитках изображены не только детали листьев, веток плюща, цветов лотоса, но и летящих птиц. На свитке «Олени» (Художественный музей, Атами; Художественный музей, Сиэтл) рядом с полностью очерченными, в разнообразных ракурсах видимыми фигурами животных вдруг — только часть туловища, наконец, ноги и копыта, словно легкий бег непроизвольно вынес их вовне, куда уже не достигает наш взгляд. В гармонии каллиграфии, летящей скорописи стихов и артистизме живописного почерка, безошибочности линии, которая передает не просто внешний вид оленей,
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу
99
неповторимую красоту их движений, но и внутреннюю пружинистую силу, готовность то застыть в грациозном повороте, то нестись в стремительном беге, совершенно особое очарование этого свитка.
Главное воздействие на Сотацу и сложение его стиля со стороны Коэцу, помимо общей эстетической культуры, проявилось в специфической каллиграфичности его кисти, обладавшей гибкостью и силой. И если можно сказать, что встреча с таким художником, как Сотацу, была счастливым случаем для Коэцу, который получил возможность полного выражения своих идей и гармонии со своим искусством, то и Сотацу открыл для своей живописи новые возможности в совместной работе с Коэцу. Сама их встреча, видимо, не была такой уж случайной. Известно, что они были женаты на сестрах, но их творческое содружество, безусловно, было основано не только на родственных отношениях. Хоннами Коэцу обладал истинным свойством гения — открытостью ко всему многообразию культуры прошлого и настоящего, умением брать у всех, черпать из всех источников, но при этом превращать это в свое, неповторимое и невиданное. Он считал себя последователем самого знаменитого на Дальнем Востоке китайского каллиграфа Ван Сичжи, жившего в 4 веке. Легенда говорит, что Ван Сичжи достиг своего несравненного совершенства, наблюдая движения шеи дикого гуся. Сочетание гибкости и твердости, легкости и силы считалось главным в искусстве каллиграфии, превращавшем значения иероглифических знаков в красоту линий, вызывающую эмоциональный отклик зрителя.
От каллиграфии воспринял Сотацу и темповую характеристику письма кистью, когда для выразительности целого имеет значение, с какой скоростью была проведена линия или положено пятно туши, с какой степенью усиления или
100
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
ослабления нажима прикасалась она к бумаге. Все это видно в свитках «Олени», «Тысяча журавлей», «Лотосы» (Национальный музей, Токио).
Значение Хоннами Коэцу для художественной культуры начала 17 века трудно переоценить. Оно заключается не только в его многостороннем творчестве. Сама личность этого художника с небывалой широтой его интересов, стилем жизни, кругом общения59 оказывала огромное воздействие на общественное сознание современников. Его авторитет в разных сферах творчества, свойственная ему способность синтеза разных явлений, свобода от догматизма подвели японское искусство, в том числе живопись, к созданию нового стиля, наиболее полно выраженного в творчестве Сотацу и получившего впоследствии наименование школы Римпа. Трудно сказать с полной достоверностью, является ли заслугой Коэцу то, что Сотацу был свойствен высокий артистизм и тонкое понимание классической традиции. Но совместная работа с таким выдающимся художником, как Коэцу, конечно, не прошла даром для Сотацу.
Оба они в отличие от прямого цитирования прошлого, свойственного мастерам школы Тоса, считавшимся единственными хранителями древних традиций яма- то-э, понимали возрождение хэйанской культуры как ее творческое переосмысление с позиций своего времени, его проблем и задач. Они дали новую жизнь вечным образам классики, восприняв и воссоздав по-своему самую суть свойственного ей художественного языка.
СЛОЖЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СТИЛЯ ТАВАРАЯ СОТАЦУ
Несмотря на то что Сотацу (около 1600—1640) был центральной фигурой в японской живописи 17 века, сведений о его жизни почти не сохранилось. Неизвестны точные годы его рождения и смерти. Есть предположение, что фамилию Таварая носил происходивший из Канадзава человек, который распространил в Киото новый вид китайского ткачества60. Под названием Таварая в Киото первых десятилетий 17 века был широко известен магазин-мастерская, где изготовлялись ширмы, веера, свитки живописи и копии с древних произведений, декоративная бумага для стихов и т. п. Это был не просто магазин вееров (так называемый огия), а более высокого разряда магазин живописи (эя)61 *, где под руководством Сотацу работало значительное число мастеров- ремесленников.
Одна из немногих точных дат, связанных с жизнью Сотацу, имеется в надписи, исполненной рукой вельможи и поэта Карасумару Мицухиро в конце свитка «Жизнь священника Сайге» (коллекция Ватанабэ, Токио). Это копия, которая была заказана Сотацу с древнего свитка, принадлежавшего императорской фамилии. В надписи говорится, что в 1630 году Сотацу получил буддийский ранг хоккё, отмечавший выдающихся живописцев.
Лишь некоторые работы Сотацу имеют точную атрибуцию. Так, например, известно, что в 1602 году он реставрировал фронтиспис свитка «Хэйкэ Нокё» из святилища Ицукусима. В 1621 году Сотацу исполнил росписи в монастыре Ёгэн-ин в Киото. Умер художник, видимо, около 1640 года.
Но если почти не сохранилось сведений о внешних событиях жизни художника, то нам открываются гораздо более важные для понимания его искусства «события» его внутренней жизни, отраженные в его произведениях. По картинам Сотацу можно судить о его художественных открытиях, о преобразовании и новом претворении опыта прошлых веков. По справедливому замечанию
59 Среди близких друзей Коэцу были философ Хаяси Радзан, глава школы Кандзэ театра Но — Сакон Дайю,
гюинц Коноэ и сёгун Токугава Иэмицу, аристократы Карасумару Мицухиро и Мацудайра Нобуцуна, будций-
ский священник Сёкадо Сёдзе, мастера чая Кобори
Энею, Фурута Орибэ и Сэн-но Соан, богатый купец и издатель, ученик Коэцу в каллиграфии Суминокура
Соан, многочисленные художники и ремесленники.— См.: Leach В. Kenzan and his Tradition. The Lives and Times of Koetsu, Sotatsu, Korin and Kenzan. London, 1966. P. 55, 56.
60 Cm.: Ibid. P. 69.
61 Cm.: Grilli E. The Art of Japanese Screen. P. 62.
62 Mizuo H. Edo painting: Sotatsu and Korin. P. 40.
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
101
М. Бахтина, «творца мы видим только в его творении, но никак не вне его»63. На основании трех точно установленных дат из жизни Сотацу в своей монографии о художнике профессор Ю. Яманэ64 разделяет его творчество на три основных периода. К первому периоду (около 1600—1620) относятся совместные с Коэцу работы на свитках со стихами. Ко второму (около 1620—1630) — росписи в Ёгэн-ин, эскизы монументальных ширм, первые иллюстрации в традициях ямато-э. Наконец, последнее десятилетие жизни (1630—1640) — период зрелости и высшего мастерства, проявившегося в росписях ширм.
Если придерживаться этой периодизации, то ясно, что Сотацу шел от камерных произведений к монументальным через органичное постижение языка древней живописи и его преобразование в свой собственный.
Как уже отмечалось, Коэцу, а вслед за ним и Сотацу, была свойственна большая свобода и раскованность письма. Во многом это шло от независимости обоих художников от традиционных клише и приемов живописных школ (Кано или Тоса), что позволяло широко осваивать любые приемы и приспосабливать их для решения новых задач. Работа с Коэцу, который, видимо, был инициатором и книг Сага и свитков со стихами хэйанских поэтов, дала Сотацу понимание истинного смысла каллиграфии и более широко—«искусства кисти» и его традиций, уходивших в глубины не только национальной, но и китайской древности. Это было овладение классической живописной культурой всего Дальнего Востока, выработка высочайших критериев и общей эстетической культуры. Скорее всего именно это помогло Сотацу, не имевшему специального образования, академической школы живописи, подняться от уровня городского ремесленника, расписывающего веера, до великого художника, заслуги которого были признаны уже современниками (что подтверждается получением ранга «хоккё»).
В совместных с Коэцу работах был освоен и так называемый бескостный метод живописи (моккоцу), ставший позднее важной особенностью почерка Сотацу. Как уже отмечалось, многие изображения на свитках со стихами (плющ, лотосы, журавли) не имели линейного контурного обрамления. Сотацу создавал форму только пятном, размывами цвета или туши, иногда с добавлением золотой или серебряной пудры. На таком фоне каллиграфия Коэцу располагалась свободно и непринужденно, чему мешала бы четкая контурная линия в рисунке65. От этого метода Сотацу органично переходил к тарасикоми, когда на влажную, покрытую тушью или краской поверхность накладывался следующий слой, часто другого цвета, органично сплавлявшийся с первым. Оба этих технических приема были известны и прежде, еще китайским художникам, но Сотацу стал применять их для новых целей и добиваться с их помощью новых художественных эффектов. Считается, что именно Сотацу в своей монохромной живописи достиг чисто национальных качеств, не повторявших шедевры китайских и японских классиков. Это особенно ощущается в таком выдающемся произведении Сотацу, как «Лотосовый пруд и водяные птицы» (Национальный музей, Киото). Действительно, художник предстает здесь как наследник традиций всего Дальнего Востока, не будучи похож на какого-либо определенного мастера. Он применяет все известные приемы монохромной живописи, используя и бесконтурную живопись пятном, и мягкие гибкие линии, и контраст изображения и затемненного фона наряду с обратным приемом использования свободного фона как пространственной среды. Тщательно выписанное оперение птиц соседствует с размытыми пятнами туши, где тончайшие цветовые градации передают различную фактуру
63 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 363.
64 Yamane Y. Sotatsu. Tokyo, 1962.
65 См.: Grilli. Op. cit. P. 2.
102
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
52
Хасэгава Тохаку Обезьяны на старом дереве
Свиток живописи Конец 16 в.
лотосового листа с лицевой и оборотной стороны, его то более плотную поверхность, то почти просвечивающую, пересеченную нежными прожилками. Замедляя движение широкой кисти, которая рисует стебли цветов и листьев, Сотацу заставляет видеть и ощущать воду, в глубину которой они уходят. Нежными и хрупкими видятся лепестки цветка, хотя все исполнено только черной тушью. Художник активизирует фантазию зрителя, заставляя его домысливать несуществующее и более полно воспринимать образ пышного цветения, влажной туманной атмосферы, юрких, подвижных птиц. Сотацу использует тушь как цвет, внушая и зрителю с помощью своей блестящей живописной техники цветовое ощущение от картины.
Истоки стиля Сотацу и новые качества его живописи обнаруживаются в работах, выполненных совместно с Коэцу и примыкающих к ним произведениях самого художника. Не менее важно осознать и преемственность Сотацу по отношению к монументальным росписям художников периода Момояма, выявить черты, сближающие его с предшественниками и принципиально отличающие от них. Как известно, в своем большинстве росписи Сотацу исполнены на ширмах. Тем более важны с интересующей нас точки зрения работы Сотацу в монастыре Ёгэн-ин в Киото, где он исполнил росписи на деревянных кипарисовых дверях и на фусума. Рассмотрение этих росписей сразу же подводит нас к вопросу об особенностях живописного языка Сотацу и его отличия от языка художников Момояма. На деревянных панелях дверей сохранилось изображение белого слона и фантастических «китайских львов»66.
66 В своей работе о Сотацу исследовательница его э том числе Тосёгу — Мавзолея Токугава в Никко. творчества Д. Круассан указывает на то, что в будций- Ёгэн-ин также был построен Ёдогими, женой Тоётоми ских храмах не было примеров росписи с подобной Хидэёси, как усыпальница-храм в память своего отца.— иконографией и что она связана скорее всего с новым См.: Croissant D. Op. cit. S. 71. декором появившихся в начале 17 века храмов-гробниц,
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
103
В изображении слона сразу же обращает на себя внимание довольно сложный ракурс (фигура расположена в трехчетвертном повороте и движении к зрителю), необычайная точность и выразительность плавных широких линий, не только очерчивающих силуэт фигуры, голову, ноги, но и создающих впечатление объема. Эта работа заставляет вспомнить некоторые детали свитка «Олени», где использован аналогичный прием.
По сравнению с изображением слона «китайские львы» переданы более динамично и одновременно более орнаментально. Их прежде всего хочется сопоставить с известной ширмой Кано Эйтоку на такой же сюжет. При всей фантастичности изображаемых животных у Эйтоку явно стремление к натурно- сти форм и естественности пространственной среды, в которой помещены фигуры. Преувеличивая и подчеркивая оскаленные пасти, огромные выпученные глаза, напряженную мускулатуру, художник прежде всего стремился выразить идеи величия, мощи, силы. У Сотацу фигуры изображены порознь, в разных ракурсах и движении: один лев в прыжке сверху вниз, с фронтально переданной устрашающей мордой и будто еще в полете распростертым туловищем; другой, напротив, как бы приготовившийся к прыжку наверх, оскаленный и напружинившийся. Но все эти сложные движения и повороты переданы художником с помощью широких, энергичных линий. Как и в изображении слона, фигуры львов покрыты однородным светлым пигментом и поэтому кажутся плоскостными (это усиливается подчеркнуто орнаментальными завитками грив, хвостов, пучков шерсти на лапах). Но при этом сложность поворотов, энергичность движений создают ощущение их пространственной активности и подвижности. Так мы
53
Хасэгава Тохаку Осенняя ива Настенная роспись Начало 17 в.
104
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
приближаемся к осознанию внутренней конфликтности построения росписей Сотацу, их глубокого отличия от росписей Эйтоку и его последователей. Разные задачи и методы привели к созданию совершенно различных по образному строю произведений.
Еще нагляднее это видно при рассмотрении композиции с соснами, также приписывающейся Сотацу. В изображении слона и львов главным средством выразительности была линия, а локальный цвет имел подчиненное значение. В композиции с соснами и скалами наряду с линией важнейшим средством характеристики предметов стал цвет, используемый не только в оттенках и размывах, но в сопоставлениях, часто контрастных. Так, положенные рядом густо-зеленый и звонкий синий используются художником для передачи разной освещенности поверхности, и в конечном итоге—для воспроизведения объема предмета. В дальнейшем именно контраст синего и зеленого станет важнейшим компонентом живописного языка в таком произведении, как ширмы «Мацусима». Ничего подобного не было у мастеров Момояма.
Вся композиция Сотацу исполнена на золотом фоне, что, казалось бы, сближает ее с росписями предшествующего периода. Безусловно, сама идея монументальной живописи на золотом фоне принадлежала эпохе Момояма, стала ее знаком и символом. Но там золотой фон был, как правило, светоносной плоскостью, лишь иногда трактовавшейся как имеющее неопределенную глубину пространство (например, у Санраку в его росписи с пионами). Для Сотацу золото обозначает и некую условную пространственную среду. В этой пространственной среде он и располагает изображаемые предметы с большой свободой и естественностью. Вершиной такой свободы и непринужденности станет впоследствии его знаменитая ширма «Бугаку».
Казалось бы, используемый в росписях Сотацу мотив раскидистой сосны близок излюбленной композиционной формуле Эйтоку. Но сходства между ними гораздо меньше, чем различия. Деревья Сотацу отличаются не только по силуэту, но и по пропорциям: он приземистее, коренастее, стволы их как бы извиваются, скручиваются. Очерчены они извилистой, круглящейся линией, лишенной силы и мощи контуров сосен Эйтоку. Поэтому силуэты Сотацу образуют совершенно иные ритмические узоры, а соответственно производят и иное впечатление. Но несмотря на различия, опыт настенных росписей Момояма ощущается в этих стенописях Сотацу, хотя они и не имеют сходства с каким-либо конкретным произведением предшествующей поры. Об этом же свидетельствует и еще одна работа—четыре панели раздвижных дверей с росписью на сюжет «Цветы и травы» (Национальный музей, Киото), где Сотацу удивительно органично и естественно использовал свой опыт работы монохромной тушью, применив его в многоцветной росписи. Он пишет цветы маков пятном, без контура, моделируя форму изменениями тональности цвета, его яркости и густоты. Достигая большой точности передачи отдельных цветов, бутонов, фактуры листьев и стеблей, он не переступает той границы условности, которая позволяет ему сохранить декоративность общего впечатления. В этой изысканности письма ощущается личный опыт работы с Коэцу, но как бы совмещенный с имперсональным стилевым опытом искусства росписи, восходящим к мастерам 16 века.
Наиболее яркое свидетельство связей Сотацу с монументалистами Момояма и одновременно отличия от них — ширма «Мацусима» (галерея Фрир, Вашингтон), где сполна проявилась новизна пространственного мышления Сотацу и его дар
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
105
54
Художник школы Хасэгава Скалы и волны Настенная роспись Деталь Конец 16 в.
106
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
55
Хоннами Коэцу Чашка для чайной церемонии «Сэппо» Первая половина 17 в.
художника декоративной росписи. Композиция строится из нескольких изобразительных элементов. Как и в других работах, они вполне узнаваемы: изогнутые приземистые сосны с вытянутым овалом крон встречались и на традиционных ширмах на сюжет «хамамацу» и на свитках 13—14 веков; каллиграфически прорисованные тонкой кистью волны с гребешками пены можно было видеть еще у китайских классиков, а вслед за ними у средневековых японских художников. Однако изображение сосен на морском берегу (один из мотивов мэйсё-э — «живописи прославленных мест») в традиционной трактовке строилось как взгляд вдаль сквозь деревья на переднем плане67. Здесь же песчаный остров, поросший соснами, отодвинут на задний план, и взгляд зрителя сразу же встречает тонкие линии и завитки бурлящих волн, над которыми поднимаются крутые, обрывистые скалы.
В этой росписи Сотацу объединяет несколько типов условности: в передаче песчаного острова (золотая поверхность обозначает песок), тонкой острой кистью выписанных волн с пятнами белой краски, обозначающими пену, и исполненных широкой мягкой линией густо-синего, охристого и зеленого, то контрастно сопоставленных, то наплывающих один на другой. Аппликативность облака на левой ширме и золотого острова, очертания которого напоминают дымку-касуми на росписях Момояма, контрастирует с вибрирующей и уходящей вдаль поверхностью волн, а та в свою очередь в своей жесткой графичности противостоит плавности контуров и мягкой живописности объемов скал. Но именно это и определяет яркий декоративный эффект ширм, новизну создаваемого ими впечатления.
67 См.: Croissant D. Op. cit. S. 60—67.
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
107
56
Хоннами Коэцу
Шкатулка
для письменных
принадлежностей
«Мост в Сано»
Начало 17 в.
Монументальная роспись, где наиболее ясно ощутимы импульсы, идущие от работ, выполненных совместно с Коэцу,— ширмы «Цута-но Хосомити» — «Тропинка под плющом» (коллекция Манно, Хёго). Здесь Сотацу добивается удивительного согласия частей, трактованных с разной степенью условности и точного цветового баланса. Стилевым предвестием этого произведения были и книги Сага и свитки со стихами, тем более, что тут на всей поверхности ширм (надо добавить, что расписаны они с обеих сторон) также расположены строчки стихов. В монументальных росписях никогда прежде не было ничего подобного этому произведению с его необычайной силой выразительности и предельным лаконизмом языка.
Тема росписи — эпизод из повести «Исэ моногатари», и намек на него делается с помощью условно обозначенных зеленых холмов и листьев плюща, а также поэтических строк, написанных на золотом фоне ширм. Автор каллиграфии — современник Сотацу поэт Карасумару Мицухиро, а темы стихов связаны с тем эпизодом из повести, где говорится о путешествии через увитое плющом ущелье Ицунояма. Герою повести, прославленному поэту Аривара Нарихира принадлежит большая часть стихов, остальные — самому Мицухиро, и наполнены они образами- воспоминаниями, намеками, сопоставлением прошлого с настоящим. Действительность и мечтания переходят друг в друга, граница между ними зыбка и неопределенна. Сотацу и в живописи создает образы-ассоциации, лишенные конкретности и четкой определенности. Он использует только один зеленый тон, то локально окрашивая большие поверхности, обозначающие холмы, то разрабатывая тончайшие оттенки, наподобие техники монохромной живописи тушью. Так
108
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
57
Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу Плющ
Свиток живописи и каллиграфии Деталь Начало 17 в.
он передает ощущение легких, как будто колеблемых ветром веток плюща, воздушной пространственной среды, где видны по-разному расположенные листья. Само выразительное сочетание с золотом фона насыщенного зеленого и его разнообразных оттенков несет в себе отголоски человеческих чувств, неуловимых и трудно объяснимых словами, но столь важных и существенных в жизни.
Можно сказать, что тут перед нами сплав не только живописных приемов, идущих как от росписей Момояма, так и от искусства Коэцу, в свою очередь вдохновлявшегося шедеврами эпохи Хэйан. Сотацу добивается средствами декоративной росписи синтеза живописи и поэзии, их органичного слияния не только чисто визуального, проявляющегося в стилистике произведения, но и смыслового. Мастер находит такие приемы, которые способны выразить самую суть лирической повести 9 века, ее поэтический подтекст.
Если совместная работа с Коэцу безусловно оказала влияние на сложение стиля Сотацу, что уже неоднократно отмечалось, то не меньшее значение для творчества художника имели его связи с ремеслом, в частности с росписью вееров. Сам принцип средневекового ремесленного производства был основан на безупречном владении всеми техническими приемами, будь то лаки, керамика, роспись тканей или вееров, и постоянная повторяемость технологии, канонизация мотивов и их трактовки — все вместе обеспечивало высокое совершенство продукции. На этом основывалась работа городских художников, так называемых мати-эси, выполнявших заказы на изготовление расписных ширм, свитков живописи, узорчатой бумаги для стихов и т. п. В мастерской Таварая работали
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
109
такие художники, и, видимо, Сотацу сам был из их среды, хотя его одаренность была несоизмерима со средним уровнем мати-эси. Одна из сторон его таланта как руководителя мастерской Таварая проявилась в том, что он нашел пути необычного расширения репертуара сюжетов и мотивов росписей, что, по всей вероятности, способствовало увеличению сбыта продукции и популярности и мастерской и самого Сотацу. Известно, что Сотацу не только интересовался древней поэзией и живописью, что и послужило основой его сближения и сотрудничества с Коэцу, но пристально изучал свитки периодов Хэйан и Камакура, копировал их, осваивая живописный метод, приемы композиции, использования линии и цвета. Это заменяло ему ту систему ученичества, которую проходили мастера школ Кано и Тоса,— освоение традиций и фамильных секретов живописи. Скопированные со старых свитков фигуры, группы, целые сцены Сотацу стал использовать в росписях вееров.
Складной веер был модным и популярным предметом в 20-х годах 17 века68. Роспись на веере была, конечно, одним из видов массовой продукции, изготовление которой имело свои законы. Подобно тому, как Кано Эйтоку, получая заказы на огромное число росписей, должен был прийти к известной типизации приемов, выработать свою композиционную формулу, использование которой ускоряло процесс работы, так и в мастерской Сотацу сама форма веера способствовала выработке некоторых приемов, помогавших организации разнообразных мотивов на небольшом и специфически очерченном пространстве. Как считает профессор X. Мидзуо, эти особенности оказались не только характерной особенностью работ мастерской Таварая, но настолько укоренились в сознании самого Сотацу,
58
Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу Тысяча журавлей Свиток живописи и каллиграфии Начало 17 в.
См.: Mizuo Н. Op. cit. Р. 40.
110
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
59
Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу Олени
Свиток живописи и каллиграфии Деталь Начало 17 в.
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
111
что стали присущи большинству его произведений, в том числе и монументальным росписям на ширмах69.
Веер и ширма, как две предметные формы, имеющие, казалось бы, мало общего, нашли у Сотацу и прямые точки соприкосновения. Ему приписываются с большой долей уверенности две пары ширм (храм Самбоин, Дайгодзи, Киото и Коллекция императорского дома, Токио), декорированных по золотому фону развернутыми расписными веерами, свободно расположенными по поверхности каждой из створок. Эти ширмы еще нельзя в полной мере рассматривать как пример монументальной росписи: издали видны лишь красочные, определенным образом сгруппированные пятна, и только с близкого расстояния можно рассмотреть саму роспись. Ширмы с веерами скорее промежуточное звено между, условно говоря, камерными произведениями Сотацу (к ним относятся помимо свитков, выполненных вместе с Коэцу, многочисленные альбомные листы и сикиси — небольшого размера декоративные композиции со стихами) и крупными произведениями, такими, как ширмы на сюжеты из «Гэндзи моногатари», «Бугаку», «Боги ветра и грома».
Как известно, живопись на веерах существовала еще в период Хэйан: сохранились веера с росписью и текстом сутры (Ситэннодзи, Осака). Расписные веера с изображением цветов и трав были очень популярны на протяжении всего 16 века. Идея украсить веерами ширму также не принадлежала Сотацу, такие ширмы изготовлялись и до него. Тем не менее эти произведения Сотацу представляют большой интерес со многих точек зрения. Тут подтверждается двуединство истоков стиля Сотацу: связей с городским ремесленным производ¬
60
Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу Олени
Свиток живописи и каллиграфии Деталь Начало 17 в.
69 Ibid. Р.4.
112
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
61
Таварая Сотацу Сосны и скалы Настенная роспись Деталь. 1621
ством и его традициями и в то же время — многовековой живописной культурой прошлого, которую он осваивал и возрождал. Наибольший интерес безусловно представляет сама роспись на веерах, очень разнообразная по сюжетам. Здесь и фигуры сражающихся воинов, и мирные сельские сцены, и пейзажи. Как доказано в работах авторитетных японских ученых Ю. Яманэ и X. Мидзуо, метод цитирования известных свитков живописи периодов Хэйан и Камакура Сотацу сделал основным при работе над росписью вееров. Известно, что копирование старой живописи было одним из самых распространенных методов обучения на Дальнем Востоке, и отношение к копии было совсем иным, чем в наше время, она подчас оказывалась единственным свидетельством о несохранившемся подлиннике. Копия, выполненная крупным художником, ценилась не ниже оригинала. Сотацу также не мог относиться к копированию как заимствованию. Он отвечал на запросы своих современников и покупателей, делая веера не просто красивыми, но занимательными, так что всякий мог узнать сцены из известных романов и повестей Хэйана, эпических сказаний о битвах феодальных войн 12—13 веков. Достаточно напомнить, что эти сюжеты использовались и в спектаклях театра Но, а позднее—театра Кабуки, их распевали бродячие сказители во время праздников и ярмарок. В соответствии с законами каждого жанра сюжеты преобразовывались, получали новые черты. Именно так подходил к ним и Сотацу, начав с точного копирования и придя затем к полному преобразованию и собственной трактовке. При размещении расписных вееров на ширмах Сотацу не преследовал целей связать сюжеты и стремился лишь к декоративному единству ширмы. Но в росписи вееров уже можно найти примеры свободной композиции и особой манеры упрощения, отказа от мелких деталей, выбора фигур и новой их группировки, что будет характерным и для композиции его ширм.
Понятно, что уровень живописи на веерах неодинаков, многие выполнены в мастерской Сотацу, и только некоторые приписываются самому художнику. Признанный шедевр Сотацу—«Деревенские дома зимой» (Дайгодзи, Киото), написанные легко и свободно, с применением размывов краски и наложением поверх одного тона другого, что создает впечатление объема и разнообразия фактур. Сложная для компоновки форма веера использована художником с большой непринужденностью, и пространство росписи, занятое изображением домов с высокой кровлей, не кажется искусственно стиснутым, зажатым, в нем находится место и для волн весеннего потока, и для высоких цветущих деревьев, дающих ощущение масштаба всей сцены.
В исследовании Ю. Яманэ имеются точные указания относительно того, откуда именно взяты Сотацу те или иные мотивы и композиции, точно скопированные фигуры70. Это дает возможность понять сам метод их преобразования у Сотацу. В некоторых случаях он как бы кадрирует, искусственно вычленяет сцену из оригинального произведения, почти без изменений перенося ее на веер. Чаще Сотацу берет отдельные фигуры в определенных ракурсах или детали пейзажа и по-новому компонует их, иногда варьирует несколько раз (персонажи из свитков начала 14 века «Хэйдзи моногатари» и «Хогэн моногатари» — воин с луком, мчащиеся всадники и др.).
Видимо, художники его мастерской преимущественно копировали и затем неоднократно повторяли с большой долей точности отдельные фрагменты, старых свитков, а сам Сотацу относился к таким копиям более свободно,
70 См.: Яманэ Ю. Сотацу то Корин. Токио, 1969. Т. 14: Гэнсёку Нихон-но бидзюцу. Токио. С. 193—196.
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
113
114
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
используя их, как лексику, словарный фонд своего изобразительного языка. Помещенные в новый художественный контекст, персонажи старых мастеров получали совершенно новый смысл.
Примером такой полной трансформации может служить знаменитая пара двустворчатых ширм Сотацу «Бугаку» (Самбоин, Дайгодзи, Киото). Эти ширмы как бы ключ к пониманию творческой личности зрелого Сотацу, с присущим только ему типом фантазии, умением черпать отовсюду и создавать небывалое и невиданное. Он соединяет в себе черты средневекового мастера, ориентировавшегося на предшествующие образцы, и художника Нового времени с широким взглядом на культурные традиции и яркой творческой индивидуальностью. Сама идея изображения фигур танцоров на золотом фоне не принадлежала Сотацу. К началу 17 века относится пара шестистворчатых ширм «Танцующие женщины» (Муниципальный художественный музей, Киото), где на каждой из 12 створок изображены фигуры танцовщиц в разных позах. Фигуры никак не связаны друг с другом, они лишь чередуются, лишь сменяют друг друга. Не являются плодом собственной фантазии и персонажи ширм Сотацу. Как установили японские ученые, все фигуры, которые мы видим на ширмах «Бугаку» (Дайгодзи, Киото), почти без изменения скопированы им со старой ширмы71. И тем не менее это произведение — новое слово в японской декоративной живописи. Кимпэки-га, или живопись на золотом фоне яркими красками, была характерна для периода Момояма, у Сотацу она приобретает совершенно иные черты и в построении пространства, и в использовании возможностей цвета, и главное — в самой концепции целостности произведения. Золотой фон для Сотацу — пространственная среда, но уже лишенная былой неопределенности и того тяготения к плоскостности, которое было свойственно мастерам Момояма. Он трактует эту пространственную среду как трехмерную, как имеющую не только протяженность, но и глубину. В ширмах «Бугаку» художник совершенно определенно отмечает пространство, в котором разворачивается действие, с помощью помещенных в правом нижнем углу декоративных наверший гонгов, участвующих в музыкальном сопровождении танцев, а в верхнем левом — подножия сосны и цветущего дерева сливы (по стилю они близки к росписям в Ёгэн-ин). Тем самым Сотацу объединяет обе ширмы, создавая предпосылку их композиционной целостности, достигнутой с помощью фигур в движении. Следует отметить, что из многочисленных персонажей, изображенных на старой ширме «Бугаку», он выбирает лишь немногих, руководствуясь как цветом и покроем их платья, так и смыслом танца. Кроме того, сокращение числа действующих лиц позволяло усилить выразительность каждого из них.
Известно, что представления бугаку (в дословном переводе — танцы-музыка, а в более свободном — танцевальная пантомима72) включали множество разнообразных номеров73, по своему происхождению китайских, корейских, индийских и других, с чем связано было употребление необычных костюмов, масок, музыкальных инструментов. И хотя эти представления впервые появились в Японии за тысячу лет до Сотацу, они сохраняли архаические традиции древнего прототипа, черты чужеземной экзотики. В 17 веке представления носили ярко выраженный элитарный характер и исполнялись преимущественно при императорском дворе. Сотацу взял те танцевальные номера, которые давали бы возможность передать движение актеров, их разный характер и темп. Для центральных створок ширмы и выбраны танцы в контрастных по цвету и близких по форме костюмах с
71 Яманэ Ю. Указ. соч. С. 213. Ил. 51.
72 См.: Конрад. И. О театральном искусстве Японии VII—VIII вв. // Театр и драматургия Японии. М., 1956. С. 2.
73 В настоящее время известен 61 танец.— См.: Browers F. Japanese Theater. New York, 1961. P. 10.
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
115
длинными шлейфами, которые создают впечатление динамичных фигур танца, кружения и быстрого перемещения актеров по сцене. Актеры в зеленых масках, широких зеленых штанах с синими шлейфами исполняют насори — танец дракона74. Слева от них—два актера в костюмах с красными шлейфами. Один — в большой устрашающей маске с оскаленной пастью держит в руках свернувшуюся в кольцо змею. Это гэндзёраку — танец змеи. Другой танец — рарёо — изображает царя-дракона. Актер держит в руках скипетр — бати, лицо его закрыто золоченой маской с клыками, а головной убор в виде рогатого дракона75. На крайней правой створке ширмы — фигура в белом костюме и маске старика, а на крайней левой — группа из четырех танцоров, взявшихся за руки и образовавших круг, изображает конрон хасэн—танец четырех журавлей (или по другой версии — восемь магов Куньлунских гор)76. На них зеленые маски с птичьими клювами и головные уборы в виде гребней. Подчеркнуто активное движение фигур на центральных створках контрастирует с тяжеловесностью участников танца журавлей и спокойной позой актера в белой одежде на правой створке. На старой ширме «Бугаку» все эти персонажи находились среди многих других. Там главная задача художника состояла в том, чтобы как можно полнее показать типы танцев и героев пантомимы, подчеркнуть разнообразие и экзотичность их костюмов. В поле его зрения оказывались и музыканты под узорчатым навесом и огромные декорированные гонги на специальных подставках. Там не было главного и второстепенного, все было заполнено отдельными, никак не связанными между собой группами. Сотацу ставил себе гораздо более сложную задачу: с помощью цветовой и ритмической организации добиться пластической связи фигур, их внутренней взаимозависимости. Если малоподвижные группы на крайних створках ширмы изображаются им с цитатной точностью, то в фигуры динамические он вносит по сравнению с первоисточником некоторые, казалось бы, небольшие, но существенные коррективы. Это касается формы шлейфов, с помощью которых как раз и создается впечатление подвижности фигур и слаженности их поз. Профессор Мидзуо указывает на веерную структуру композиции ширм77. При этом положение центральной точки, из которой расходятся воображаемые условные линии, находится за пределами нижнего края ширм на оси, которая их объединяет. Эта схема кажется убедительной, за исключением одного момента: исчезает зеркальное ритмическое подобие двух групп на центральных створках, а исполнители танца дракона в сине-зеленых костюмах оказываются оторванными друг от друга. Видимо, внутреннее строение композиции Сотацу более сложное, подчиненное не одной, а нескольким взаимодополняющим ритмическим формулам. Это подтверждается и мощным диагональным движением из нижнего угла правой ширмы в верхний угол левой, которое пересекается спиралевидным кручением четырех центральных фигур и оставляет за пределами обе статичные группы. Таким эмоционально наполненным, действенным оказывается художественное пространство картины, созданное Сотацу из элементов, казалось бы, полностью заимствованных.
Все известные монументальные работы Сотацу можно связать с отмеченными выше стилевыми истоками его живописи — свитками, созданными совместно с Коэцу (такова, например, пара ширм «Тропинка под плющом»), настенными росписями Момояма и его собственными в монастыре Ёгэн-ин (ширмы «Мацусима»), копиями старых свитков и росписями на веерах (ширмы на сюжеты «Гэндзи моногатари»). Такое распределение, конечно, весьма условно, так как в каждом
74 См.: Gabbert G. Die Masken des Bugaku. Wiesbaden, 1972. S. 144—153, 256—261, 284 — 287.
75 См.: Конрад H. И. Указ. соч. С. 23.
76 Там же. С. 27.
77 См. схему между стр. 36 и 37 в кн.: Mizuo Н. Edo Painting: Sotatsu and Korin. New York, Tokyo, 1978. Vol. 18: Heibonsha Survey of Japanese Art Series.
116
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
62
Таварая Сотацу Белый слон Настенная роспись 1621
из упомянутых произведений синтезировались все воздействия и оказались переработанными все прототипы. Но это позволяет осознать разные стороны стиля Сотацу в их связях с прошлым и их воздействии на последующее развитие декоративной живописи у Огата Корина и его современников.
Отказ от мелких деталей, укрупнение форм, повышение роли свободного золотого фона становятся характерными особенностями стиля зрелого Сотацу и с наибольшей силой проявляются в такой работе, как «Боги ветра и грома» (Кэнниндзи, Киото), считающейся национальным сокровищем Японии. Это произведение— итог длительного творческого пути художника, синтез открытых им приемов и средств композиции. Не случайно эти ширмы уже в 18 веке копировали Огата Корин и Сакаи Хоицу, последователи и преемники Сотацу. Именно в этом произведении старого мастера они искали секрет силы и мощи его темперамента, стремились уловить сам дух его великого таланта.
Впечатление от ширм, как они выглядят сейчас, несколько искажается по сравнению с первоначальным из-за того, что серебряные облака, окружающие фигуры летящих демонов, потемнели от окисления металла. Оттого несколько нарушился колористический баланс картины, точность сочетания каждого цвета с фоном. Первоначально серебряные облака, видимо, казались еще более легкими, почти исчезающими, что подчеркивало ощущение воздушной среды — этих сверкающих золотом небес, по которым в неистовом движении несутся фигуры божеств. Если сам сюжет этих ширм Сотацу, как и многих других, заимствован у предшественников78, то его трактовка не имеет аналогий в
78 Иконография божеств ветра и грома (Фудзина и Радзина) восходит к тантристским персонажам буддизма Сингон, где они находятся в свите тысячерукого бодхисаттвы Каннон. Скульптурные изображения этих божеств, относящиеся к периоду Камакура (1185—
1333), помещаются в храме Сандзюсангэндо в Киото, где их мог видеть Сотацу, работавший неподалеку над росписями в Ёгэн-ин. Изображения божеств ветра и грома имеются также на свитках камакурского времени, откуда их мог заимствовать художник.
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
117
63
Таварая Сотацу «Китайские львы» Настенная роспись. 1621
японской живописи. Две двухстворчатые ширмы объединены в целостную композицию, центральная ось которой проходит как раз по линии, разделяющей ширмы. Относительно этого произведения можно безоговорочно согласиться с профессором Мидзуо, который говорит о веерности построения ширмы: фигуры божеств находятся в сильном движении не столько по направлению друг к другу, сколько к точке схода воображаемых диагоналей, пересекающих каждую ширму от внешнего верхнего угла к нижнему внутреннему. Но при этом они захвачены и сильнейшим круговым движением, которое кажется постоянно возобновляющимся, безостановочным.
По сравнению с более ранними произведениями Сотацу здесь реализуются совершенно иные пласты его фантазии, не имеющей ни опоры на визуальные жизненные впечатления (вспомним ширмы с изображением трав и цветов), ни на литературную образность и поэтические ассоциации (как это имело место в ширмах на сюжеты «Гэндзи моногатари» и других). Здесь художественный вымысел требовал иного, конструктивного мышления, создания принципиально новой пространственной жизни форм, находящихся в стремительном движении. Во всей мировой живописи проблема передачи движения всегда была одной из самых сложных и трудно разрешимых, тем более — движения интенсивного, крайне энергичного. Сотацу отказывается от тех приемов, с помощью которых он добивался погружения в поэтический мир образов хэйанской литературы, где внутреннее волнение героев, их напряженная эмоциональная жизнь не получала выражения в движении внешних форм (подтверждением этому может слу¬
118
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
жить принципиальная уравновешенность построения ширм на сюжеты «Гэндзи моногатари»).
Демонические божества ветра и грома — воплощение совершенно иных начал: как бы вырывающихся наружу, не контролируемых эмоций, бушующей в них страстной энергии79. Такие образы в хэйанской культуре встречались намного реже, чем в культуре периода Камакура, сама история которого была наполнена войнами, борьбой за власть феодальных кланов и возвышением военного сословия с его идеалами храбрости, ловкости, силы.
Как известно, Сотацу, еще будучи безвестным художником мастерской Таварая, копировал не только хэйанские, но и камакурские свитки с их фигурами сражающихся воинов, мчащихся всадников. Эту динамическую стихию напряжения и противоборства и воплотили в себе образы Фудзина и Радзина — божеств ветра и грома. Иконографически близкие им изображения уже встречались у Сотацу на ширме с веерами, а их прообразы ясно угадываются в свитках 13—14 веков80.
Все исследователи творчества Сотацу отмечают особое магическое свойство этого произведения с его удивительной, чисто оптической напряженностью, которой наделен золотой фон между фигурами демонов: их встречное движение настолько интенсивно, что «пустое» золотое поле получает заряд невидимой энергии, словно высекающей электрическую искру, своего рода молнию (недаром сами божества связаны со стихией грозы, дождя, бури), которая незримым зигзагом ложится на реальный зигзаг стоящей ширмы.
В этой росписи, как ни в одной другой, Сотацу использовал и художественно осмыслил композицию ширмы как предмета, расположенного в реальном трехмерном пространстве, а не просто плоскость, несущую роспись. Чтобы стоять на полу, створки ширмы должны быть расположены под углом друг к другу, и тогда написанные на крайних панелях фигуры получают дополнительное усиление в своем движении к центру композиции.
Боги ветра и грома связаны с символикой направлений по странам света и, следовательно, с представлениями о мироустройстве. Это определяло и их каноническую окраску. В традиционной иконографии стихия ветра была связана с западным направлением и обозначалась фигурой белого тигра, а стихия дождя — с восточным и обозначалась зеленым драконом. Правда, у Сотацу демоны помещены в зеркальном отражении по сравнению с каноническими установлениями — справа ветер, а слева гром, а не наоборот. Он, однако, сохранил их традиционный облик — рогатых, с оскаленной пастью звероподобных существ с огромными сверкающими глазами и развевающимися гривами. Художник подчеркивает уродливость тел с напряженной мускулатурой, преувеличенно большими конечностями с когтями. Атрибуты божеств — колотушки Радзина и мешок с ветром Фудзина, а также их одежды — включены в общую динамичную схему композиции. Большое значение имеет характер линий, очерчивающих фигуры демонов: все они извиваются, круглятся, среди них нет ни одной прямой или просто плавной и спокойной.
Фудзин и Радзин как будто неожиданно врываются в пространство ширмы, так что за ее краем остаются концы развевающихся одежд одного божества и часть атрибутов другого.
Хотя по своей сути изображенные Сотацу фантастические существа противоположны гармонии и красоте, художник не может отказаться от своих идеалов и
79 Ср.: «Важная линия, проходящая почти через все Другой — полюс покоя, безмятежности, размышления —
японское искусство,— а тайно и через японскую взрыв, направленный вовнутрь».— См.: Фоско Мараини.
жизнь,— это сознание, что внутренняя жизнь человека Япония. Образцы и традиции. М., 1980. С. 70.
колеблется между двумя полюсами: один — полюс дей- 80 См/ Croissant D. Op. cit. S. 72.
ствия, стресса, насилия — взрыв, направленный вовне;
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
119
64
Таварая Сотацу Птицы в лотосовом пруду Свиток живописи Деталь Начало 17 в.
120
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
65
Таварая Сотацу Цветы и травы Настенная роспись Начало 17 в.
создает произведение, эмоциональная чрезмерность и даже гротескность персонажей которого не нарушает качеств прекрасной картины. Динамика и напряжение не превращаются в дисгармонию, а сила не разрушает красоту. Цветовое решение картины остается мягким и деликатным, как и в других произведениях Сотацу. Это особенно ясно видно при сравнении этого произведения с копией, выполненной Огата Корином, который сделал сочетания цветов более резкими и жесткими (например, он ввел яркий красный тон при изображении пасти демонов, отчего стали более заметными и устрашающими их золотые клыки). Живописный почерк Сотацу, приемы наложения пигментов становятся важным средством характеристики персонажей. Их внутренняя кипучая энергия передается сильными уверенными линиями, лишенными, однако, излишней жесткости и сухости. Все они, не становясь вялыми, сохраняют живописную мягкость, что особенно важно при применяемой Сотацу технике тарасикоми в наложении основных пигментов. Это придает поверхности тел демонов живую пульсацию, ощущение которой усиливается линиями, обрисовывающими мускулы. Стремясь к живописной мягкости общего впечатления, Сотацу избегает пользоваться густой черной тушью, но сильно разбавляет ее водой, а в фигуре зеленого демона вообще применяет коричневую краску для передачи контуров фигуры и мускулатуры тела. Живопись Сотацу становится здесь по-настоящему цветовой. И в этом отражены перемены в его мышлении. Цветовой язык Сотацу, как и манера его линейного письма, не просто формальные приемы, свойственные традиции, но сознательно выбранные средства характеристики образов, их внутренней сути. В характере линии, ее темповой определенности, уверенности и точности каждого мазка выразился и темперамент изображенных на картине персонажей. Это способствовало, наряду с мастерством композиции, появлению нового ощущения от золотого фона. Хотя формально Сотацу идет за своими
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу
121
66
Таварая Сотацу Цветы и травы Настенная роспись Деталь Начало 17 в.
122
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
предшественниками — художниками кимпэки-га (живописи на золотом фоне), но до него никто не реализовал полностью возможностей золотого фона как среды, как пространства, имеющего не только двухмерную протяженность плоскости, но и глубину.
Ширмы «Боги ветра и грома» еще раз подтверждают, что на основе многих традиционных приемов Сотацу добился воплощения в живописи собственной неповторимой индивидуальности художника, основная особенность которого — мышление монументалиста. Это проявилось в умении отбрасывать второстепенное, то есть отказаться от повествовательности во имя выразительности; в умении ощущать крупные живописные массы и уйти от дробности форм и выписанности мелких деталей; в новом отношении к цвету и его возможностям как выразительного элемента произведения. На основе этого сложилась особая декоративная манера живописи Сотацу, где каждый отдельный прием появлялся лишь в силу требования смысла картины, передачи ее внутреннего содержания через внешние формы. И линия и цвет у Сотацу — элемент фантазии художника, а не натуры или реального прообраза изображения81. Поэтому они, как и общая композиция произведений, служат выразительности образа, а не передаче визуальных форм. Иными словами, цвет у Сотацу определяется не изображенными объектами, а принадлежит картине и подчиняется ее собственным законам — ритмической организации, внутренней динамике и гармонии.
В этом главное отличие Сотацу от художников периода Момояма, для которых природный цвет изображавшихся предметов был определяющим в произведении. Это ясно видно из сравнения росписей Кано Эйтоку с такими ширмами Сотацу, как «Тропинка под плющом» или «Бугаку», где цвет, связанный с материальной субстанцией предметов, второстепенен рядом с задачей формирования образа и декоративной организации картины. Поэтому и золото в произведениях Эйтоку и Сотацу получает различное значение: из плоскостного фона оно стало средой, взаимодействующей в силу своей цветовой природы со всеми изобразительными элементами, имея в то же время и собственную эмоциональную и смысловую нагрузку. В росписях Кано Эйтоку и Кано Санраку золотой фон воплощал потенциальную возможность глубины, но все же тяготел к плоскости. У Сотацу он двуедин: он кажется трехмерным, как изображенная пространственная среда, то есть как художественное пространство, и одновременно он подчеркивает плоскость ширмы как предмета, размещенного в реальном интерьере.
Все эти особенности в творчестве Сотацу получили наивысшее выражение, и ни один из его непосредственных последователей и учеников, в том числе и его брат Таварая Сосэцу, не смогли не только превзойти, но даже приблизиться к его художественному уровню.
Лишь один художник, отделенный от него двумя поколениями, может считаться если не равновеликим, то близким Сотацу по степени одаренности и яркости таланта—это Огата Корин.
ОГАТА КОРИН И ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ ПЕРИОДА ГЭНРОКУ
Несмотря на большую близость и явную преемственность Таварая Сотацу и Огата Корина (1658—1716), они принадлежат к двум разным этапам японской художественной культуры. Различны их эстетические идеалы, а во многом и художественное мышление. Обращение к классическому искусству, его высокой поэтичности составляло внутренний смысл и пафос творчества Сотацу. Огата
См.: Виппер Б. Р. Статьи об искусстве. М., 1970. С. 279.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
123
Корину уже не было свойственно столь страстное переживание хэйанской культуры. Темперамент Корина-художника по сравнению с Сотацу кажется более сдержанным, уравновешенным холодноватой рассудочностью. Как уже отмечалось, почти нет сведений о жизни Сотацу, и его биография открывается для нас в самих его произведениях, где можно видеть поиски, находки, путь к сложнейшим художественным задачам своего времени и их блистательное решение. В конце концов конкретные реалии его жизни оказываются не так уж важны рядом с тем борением духа, которое так явственно ощущается в творениях этого великого мастера.
Для понимания искусства Огата Корина очень важно осознать многие особенности эпохи, когда он работал, течение его жизни, большая часть которой прошла вне творчества, и лишь последние два десятилетия были наполнены напряженным трудом художника. В нем не было присущей Сотацу цельности личности: вхожий в те же круги придворной аристократии с ее тягой к утонченности классической культуры прошлого, Корин жил как богатый молодой повеса- горожанин, постоянный посетитель и знаток «веселых кварталов», тративший время и деньги на бесконечные удовольствия и развлечения. Только после разорения и суровых жизненных испытаний, столкнувшись с необходимостью зарабатывать на жизнь, он стал заниматься росписью тканей и живописью. Сохранилось немало письменных источников, которые позволяют в подробностях восстановить историю нескольких поколений семьи Огата.
Основателем фамилии был некий Огата Корэхару, происходивший из провинции Бунго и служивший Ёсиаки — последнему сёгуну Асикага. После низложения сёгуна в 1568 году Карэхару остался жить в Киото. Его наследник Дохаку был женат на старшей сестре Хоннами Коэцу. Породнившись с семьей Хоннами, семья Огата стала принадлежать к высшему слою матисю — новой элиты Киото82. Благодаря связям с влиятельным даймё Асаи Нагамаса, дочери которого впоследствии стали женами правителей Японии, Огата Дохаку около 1560 года открыл в Киото мастерскую — магазин Кариганэя по изготовлению кимоно83. Третье поколение семьи возглавлял Сохаку, при котором Кариганэя поставляла кимоно жене Тоётоми Хидэёси, а позднее жене сёгуна Токугава Хидэтада и императорскому двору, что очень повысило социальный престиж семьи Огата. Сохаку был в самых тесных дружеских отношениях со своим дядей Хоннами Коэцу и даже жил в его артистической деревне Такагаминэ, занимаясь каллиграфией и чайной церемонией. После смерти Сохаку наследником фамильного дела стал его сын Сохо, а затем сводный брат последнего — Сокэн, будущий отец художников Корина и Кэндзана.
Огата Сокэн был известным в Киото каллиграфом и живописцем, увлекался театром Но и вел жизнь типичного купца-аристократа, каких было немало в Киото 17 века. Его сыновья получили хорошее образование, отец дал им первые навыки в искусстве живописи и каллиграфии (Корин позднее учился также у Ямамото Сокэна, профессионального художника школы Кано). Старший брат Корина — Татсабуро стал главой фамильного дела, а младшие братья получили по дому и значительной доле имущества, что было необычно для того времени. После смерти отца, когда Огата Корину был 31 год, он вступил во владение своей частью наследства, получив возможность вести беззаботную светскую жизнь без определенных занятий и каких-либо обязанностей. Она напоминала жизнь Ёноскэ — известного героя романа Ихара Сайкаку «История любовных
82 В конце 16 века многие представители мелкого саму- 83 Yamane Y. Ogata Korin and the Art of the Genroku Era
райства перешли в купеческое сословие, в том числе и // Acta Asiatica. 1968. N 15. Р. 70.
семья Огата.
124
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
67
Таварая Сотацу «Мацусима» Роспись ширм Деталь Начало 17 в.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
125
68
Таварая Сотацу «Мацусима» Роспись ширм Деталь Начало 17 в.
126
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
похождений одинокого мужчины»84. Однако с Ёноскэ Огата Корина сближал лишь внешний рисунок его жизни в период между тридцатью и сорока годами. Уже тогда будущий живописец был причастен к высокой духовности и образованности, разбирался в искусстве Но, в живописи и каллиграфии. Он не мог не знать классической поэзии и искусства стихосложения, без чего немыслимо было общение в тех кругах общества, к которым он принадлежал. Можно предположить, что в отличие от Еноскэ Огата Корин не просто жил жизнью богатого повесы, но играл роль, изображая определенного модного героя — бездумного, ставящего превыше всего успех и наслаждение, не просто богатого, но расточительного. Об этом свидетельствует эпизод на пикнике, когда Корин, в отличие от других участников, достававших закуски из драгоценных лаковых шкатулок, съел свой завтрак якобы на простом банановом листе, который, однако, был декорирован золотом, а затем пустил лист плыть по реке.
Даже когда семья Огата в 1693 году разорилась, Корин, заложив имущество и взяв в долг у брата Кэндзана, продолжал вести экстравагантную жизнь, хотя с каждым годом это становилось все труднее. В 1697 году он решил жениться и изменить образ жизни, зарабатывая росписью шелковых кимоно, о чем он имел представление с детства, наблюдая мастерскую Кариганэя. Находившийся в то время в не менее трудных обстоятельствах его брат Огата Кэндзан занялся керамикой. Некоторое время Кэндзан учился у знаменитого мастера Нономура Нинсея, а в 1699 году построил в пригороде Киото собственную печь. Известно, что почти вся роспись на керамике Кэндзана в 1700 и 1701 годах была выполнена Корином85. Успех керамических изделий братьев Огата помог им самим осознать себя художниками. С этого момента Корин начал серьезно заниматься и живописью.
Еще в ранней молодости он копировал произведения разных стилей и изучал хранившиеся в семье произведения мастеров прошлого, в том числе Сотацу, но в то время он еще не смог сполна оценить смысл творчества этого художника. К искусству Сотацу Огата Корин пришел вновь уже в зрелом возрасте и при более серьезных занятиях живописью. В 1701 году он получил титул «хоккё», которым и подписывал все свои работы.
На основании долголетнего изучения творчества Огата Корина один из самых авторитетных японских специалистов профессор Ю. Яманэ считает, что деятельность художника, продолжавшаяся с 1697 года до смерти в 1716 году, может быть разделена на три основных периода в соответствии со стилевыми качествами сохранившихся произведений86.
К первому периоду 1697—1703 годов ученый относит парные шестистворчатые ширмы с изображением осенних трав и выполненный тушью свиток «Хотэй, играющий в мяч». Самое значительное произведение этого раннего периода— парные ширмы «Ирисы» (музей Нэдзу, Токио), исполненные около 1701 года. Ко второму периоду, который профессор Яманэ считает переходным (1704—1710), относится свиток с азалиями (музей Хатакэяма, Токио), ширма «Волны» (музей Метрополитен, Нью-Йорк), косодэ с росписью (Национальный музей, Токио). Отъезд из Киото в Эдо оказался неудачным для художника, не способствовал его творческой активности, на что Корин, видимо, рассчитывал. После возвращения в Киото наступил последний и самый плодотворный период творчества, когда были созданы наиболее зрелые и значительные его произведения. Корин вновь обратился к картинам Сотацу, делал копии с них, пытаясь уловить не 6464 Ibid. Р. 74.
85 Ibid. Р. 76.
86 Ibid. Р. 77, 78
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
127
только особенности почерка, но сам дух и пафос его искусства. Как итог исканий и раздумий художника появилась пара ширм «Красное и белое дерево сливы» (музей, Атами) — последний шедевр мастера.
Обратившись в зрелые годы к творчеству Сотацу и видя в нем некий идеал, Огата Корин в своей собственной жизни приближался к этому идеалу. Как неоднократно отмечалось, Сотацу в своем стилевом развитии во многом отталкивался от ремесла — росписи вееров, изготовления декорированной бумаги. К своему зрелому стилю он пришел через сотрудничество с Коэцу и обращение к классике. Огата Корин с детства находился в артистической среде, обучался всем традиционным искусствам и мог бы стать одним из многих художников-дилетантов, работая или в стиле Кано или соединяя его, подобно отцу Огата Сокэну, с приемами школы Тоса. Видимо, решающее значение в становлении его творческого мышления и формирования собственного стиля имело обращение к традиционным ремеслам, осознание их законов и особенностей. Достаточно рассмотреть керамику, исполненную им совместно с братом, а затем расписные и лаковые шкатулки, чтобы понять, как органично связаны с этими изделиями его ширмы по тематике и по стилю.
Так, например, живопись тушью на свитках и ширма «Бамбук и слива» (коллекция Нодзири, Канагава) примыкают к росписи на керамике, а ширма «Осенние цветы и травы» (музей Сантори, Токио) имеет общие черты с росписью кимоно. Знаменитые ширмы с ирисами нельзя рассматривать в отрыве от росписи на веерах и декора шкатулки с таким же сюжетом. Мотив волн, омывающих скалы, возможно, занял значительное место в творчестве Корина после того, как он копировал ширму Сотацу «Мацусима». Как самостоятельный этот мотив был воплощен в ширме «Волны» и шкатулке «Суминоэ».
Профессор Мидзуо склонен к некоторому преувеличению связей композиционного мышления Огата Корина с росписью на круглых веерах87. Если композиционные принципы росписи на складном веере с его необычной формой могли оказать влияние на более поздние произведения Сотацу, который и в самом деле начинал с работ в мастерской Таварая, то в случае с Корином подобный подход кажется более искусственным. Этот мастер начинал не с ремесла, а со знакомства с традиционной живописью и ее приемами. Это вполне ясно на примере ширмы «Бамбук и слива». Возможность описать окружность вокруг основных групп в композициях Огата Корина (в ширмах «Ирисы», свитке «Цветы и травы», кимоно) скорее идет от более общих принципов его мышления, отсутствия в нем динамизма, который был свойствен Сотацу. Корин почти всегда стремился к компактности и уравновешенной замкнутости форм, что было присуще и некоторым произведениям Сотацу, например росписи на фусума с изображением маков. А у Огата Корина можно вспомнить как пример разомкнутой композиции роспись на складных веерах, которыми декорирована одна из его шкатулок (музей Ямато Бункакан, Нара).
Характерная особенность творчества Огата Корина—его сосредоточенность на разработке нескольких сюжетных мотивов, их многократное повторение и варьирование. Это позволяет следить за ходом мысли художника, проявлявшего с одной стороны интерес к живой натуре (сохранилось большое число его несомненно натурных зарисовок с изображением журавлей, павлинов, растений), а с другой — тяготение к особой ритмической организации мотива на плоскости, стремлении сообщить ему черты орнаментальности.
87 См.: таблицу между с. 108 и 109 в книге: Mizuo Н. Edo painting: Sotatsu and Korin.
128
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
Вся ранняя керамика Кэндзана и Корина свидетельствует о том, что предметная форма как таковая была для них второстепенна, недаром среди изделий преобладали небольшие квадратные или многоугольные тарелки с невысоким бортиком. Роспись на них исполнялась так же, как на бумажном свитке в традиционной живописи суйбоку-га. Исполнявший роспись Корин демонстрировал тут мастерство каллиграфии, кисти и туши и, как на свитках, помещал на керамических тарелках рядом с изображением стихотворную надпись и красную печать. Среди работ такого рода — прекрасная тарелка с веткой бамбука (музей Фудзита, Осака), тарелка с изображением божества долголетия (музей Окура, Токио) и целый ряд других. Если сравнить с этими произведениями ранний свиток Корина «Хотэй, играющий в мяч», то становятся ясны их единые истоки. Позднее, когда братья Огата работали уже порознь, Кэндзан сохранил каллиграфический стиль росписи на своих изделиях, осваивая при этом и объемную предметную форму и занимаясь поиском соответствующего ей декора.
Огата Корин, напротив, всю жизнь старался примирить объемность и простран- ственность с плоскостностью, выражая первые через второе. Наиболее значительным шагом в этом направлении, относящимся к раннему периоду, можно считать ширму «Бамбук и слива», исполненную тушью по золотому фону (коллекция Нодзири, Канагава).
Сохранился небольшой набросок Корина (35,2x57,4 см), выполненный тушью на бумаге с мотивом, который наводит на мысль, что набросок был начальной стадией работы над композицией ширмы (архив Кониси, Муниципальный музей, Осака). Эта вполне традиционная работа написана по всем правилам суйбоку-га, без особой экспрессии и остроты, которые были свойственны подобным произведениям Кайхо Юсё или Хасэгава Тохаку. Но здесь можно заметить стремление к свободной сбалансированности форм, с одной стороны, и размещение их в одной плоскости на неопределенном в пространственном отношении фоне, с другой. Эти особенности получили органичное продолжение и развитие в ширме «Бамбук и слива», где золотой фон способствовал еще большему скрадыванию пространственной глубины росписи и ощущению приближенности форм к переднему плану картины.
Даже изменение интенсивности тушевого пятна и линии (прием, традиционно служивший передаче глубины в картине) почти не дает впечатления пространственное™ росписи. Торчащие, как будто надломленные побеги сливового дерева с цветами и бутонами, по замыслу находящимися дальше от переднего плана, чем стволы бамбука, кажутся распластанными по поверхности. Техника росписи приходит здесь в некоторое противоречие с художественной задачей, поставленной мастером. Главным достоинством ширмы становится ритмическая упорядоченность мотива, чередование стволов различной толщины, соотношение свободного фона и изображения побегов сливы и листьев бамбука.
Для понимания дальнейшего творческого пути Огата Корина эта ширма важна как шаг к созданию монументальных росписей, потребовавших уже иных средств выразительности, чем в свитках живописи на бумаге, выполненных тушью. Однако пути художника к монументальной живописи не исчерпывались работой с монохромной тушью. Он пробовал сразу же и другой способ, широко известный по работам мастерской Таварая и таких последователей Сотацу, как его ученик Сосэцу и близкие ему по стилю художники. Об этом свидетельствует приписываемая Корину ширма «Осенние цветы и травы».
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
129
Подойдя к периоду творческой зрелости, Огата Корин неизбежно должен был искать пути органичного соединения каллиграфической техники монохромной живописи и декоративных свойств росписи многоцветных ширм. Но, кроме этого, ему предстояло привести к единству с этими элементами еще один — наблюдения живой природы.
В творчестве Огата Корина мы впервые сталкиваемся с явлением, которое в принципе было не свойственно японской средневековой живописи,— работой с натуры. Пристальное наблюдение природы во всех ее проявлениях — от безграничной Вселенной до цветка и травинки — всегда входило в круг обязательных установлений живописца в странах Дальнего Востока, в том числе в Японии. Результаты этих наблюдений не только фиксировались в памяти, но преобразовывались на основе канонических правил, выработанных на протяжении многих веков, для передачи в картине определенных мотивов, природных форм и их сочетаний. В соответствии с установкой средневекового сознания внимание живописца было сосредоточено не столько на передаче внешних примет, сколько на сущности изображаемого. Именно это ставили в центр внимания авторы многочисленных китайских трактатов, которые были руководством и для японских художников.
Однако интерес к реальности, проявившийся в японской живописи еще в 16 веке (имеется в виду так называемая живопись фудзоку-га с сюжетами из городской жизни), постепенно подтачивал традиционное отношение к натуре и в других жанрах живописи. Известно, кроме того, что во второй половине 17 века в Нагасаки стала складываться собственная школа живописи, где работа с натуры стала занимать значительное место. Возможно, что Огата Корин знал об этом. Сохранилось много его набросков с натуры, которые непосредственно были использованы при работе над ширмами «Павлины и мальвы» (коллекция Хинохара, Токио)88. Выполненные тушью и красками рисунки тщательно фиксируют особенности оперения, строение глаз, клювов и т. п. Близость к натуре сохранилась и при переносе мотива на золотой фон ширмы, где основой эффекта стал распущенный хвост птицы, занимающий большую часть изобразительной плоскости. На ширме, парной к этой, с точностью написаны цветы белой и красной мальвы. Однако эта работа Корина не стала вехой в его творческом пути и воспринимается скорее как эксперимент, чем значительное художественное явление.
Разнородные поиски, свойственные начальной стадии карьеры Корина как живописца, постепенно приближали его к созданию собственной концепции декоративной росписи, впервые получившей наиболее полное выражение в таком его признанном и широко известном шедевре, как парные ширмы «Ирисы». Тема ирисов проходит через все творчество Огата Корина. Впервые она появляется в его свитке «Яцухаси» (Национальный музей, Токио), изображающем ту сцену из «Исэ моногатари», где герой повести поэт Аривара Нарихира и его друзья остановились во время путешествия по провинции Микава у ручья с ирисами. «Вот достигли они провинции Микава, того места, что зовут «восемь мостов». Зовут то место «восемь мостов» потому, что воды, как лапки паука, текут раздельно, и восемь бревен перекинуто через них; вот и называют оттого «восемь мостов». У этого болота в тени дерев они сошли с коней и стали есть сушеный рис свой. На болоте во всей красе цвели цветы лилий. Видя это, один из них сказал: «Вот слово лилия возьмем и, букву каждую началом строчки
Яманэ Ю. Сотацу то Корин. С. 236.
130
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
69
Таварая Сотацу «Тропинка под плющом» Роспись ширм Начало 17 в.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
131
132
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
сделав, воспоем в стихах настроение нашего пути». Сказал он так, и кавалер стихи сложил:
Любимую мою в одеждах
Изящных там, в столице,
Любя оставил...
И думаю с тоской, насколько
Я от нее далек...
Так сложил он, и все пролили слезы на свой сушеный рис, так что тот разбух от влаги»8Э.
На свитке Огата Корина изображены трое путников на берегу, растущие из воды цветы и часть мостика. Перед людьми подносы с чашками, наполненными рисом. Таким образом художник весьма детально воспроизводит ситуацию, описанную в повести, но не стремится к выявлению смысла поэзии и того скрытого в ней подтекста, который окрашивает всю сцену.
В росписи на круглом веере с изображением ирисов и мостика яцухаси (музей Хатакэяма, Токио) поэтическое содержание эпизода из «Исэ моногатари» получает более адекватное выражение благодаря отказу от описательное™ и включению в структуру образа общеизвестных для японского зрителя ассоциаций. Несмотря на плохую сохранность живописи, она кажется тут более легкой и артистичной, ибо в самой манере письма воссоздается дух грациозной поэтической миниатюры, образующей центр эпизода из «Исэ моногатари». Наконец, еще одно воплощение того же самого мотива — лаковая шкатулка для письменных принадлежностей с росписью и инкрустацией (Национальный музей, Токио). Некоторые исследователи видят в этом произведении выражение вкусов периода Гэнроку с его тягой к яркому, великолепному декору. Действительно, сочетание различных материалов — лака с росписью маки-э (по черному фону золотом написаны листья ирисов), перламутра (способом инкрустации обозначены цветы), свинца и серебра (изображение мостика из восьми досок) — способствует впечатлению не просто драгоценного предмета, но и необычайно пышного по убранству. Однако образ вещи обусловлен не столько этим ее качеством, сколько композицией декора, сочетанием черт, традиционных и принципиально новых для японского искусства. Главная особенность шкатулки в том, что все ее поверхности рассматриваются художником как единая плоскость, а узор свободно и органично переходит с крышки на боковые стенки. Это было свойственно росписи лаков и прежде — сходные приемы можно видеть в изделиях хэйанского и камакурского времени. Но у Корина такой прием росписи получает семантическое обоснование: обыгрывается мотив соединяющихся под углом дощечек моста, их зигзагообразное расположение.
Далеким прототипом шкатулки Корина, возможно, была шкатулка Коэцу «Мост в Сано» (Национальный музей, Токио), хотя и более сдержанная по декору, строящемуся на соединении иероглифов стихов и изобразительных мотивов. Тут же в структуру образа более активно включается культурный контекст: подразумевается, что всякий знает хрестоматийный эпизод из «Исэ моногатари», где фигурируют ирисы и мостик яцухаси. Лишь на таком смысловом фоне возможно любование предметом, его длительное переживание.
Композиция предполагает перемещение взгляда зрителя, возможность мысленно идти по темным полосам мостков, начинающихся на одной из длинных стенок шкатулки, затем на короткой, на другой длинной, на крышке и, наконец, на
99 Цит по. Исэ моногатари / Пер. Н. И. Конрада. М., 1970. С. 46. Переводчик, стремясь воспроизвести акростих, имеющийся в оригинале, вместо слова «ирис» (какицубата) использовал слово «лилия»
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
133
последней стенке. В результате художник добивается впечатления объемности декора, его сложной пространственной жизни при плоскостности и даже орнаментальности решения самого мотива, основной декоративный эффект которого построен на сочетании переливающихся серебристо-голубым и лиловым ирисов и золотых листьев на черном фоне. Декор воздействует также разной степенью условности в передаче отдельных его элементов: перламутр кажется более материальным и вещественным из-за взаимодействия со светом и игры оттенков, полоски свинца — тяжелыми и массивными, а роспись золотом, напротив, легкой и прозрачной. Именно роспись заставляет черный фон воспринимать как поверхность воды — необходимый компонент и традиционного мотива и общего цветового решения композиции.
Самое известное в творчестве Огата Корина воплощение темы ирисов и образов «Исэ моногатари» — монументальная роспись на двух шестистворчатых ширмах, образующих единую композицию (их общая ширина более семи метров при высоте свыше полутора). Сохраняя большую степень натурности в изображении цветов, Огата Корин создает из них специфические пространственные знаки, узлы ритмической композиции, подчиняя конкретный мотив идеальному, возвышенному порядку, переводящему этот мотив из мира, открытого глазу, в мир умозрительный, поэтический, духовный. Именно упорядоченность и организация поверхности — основа всякого орнаментального построения. Повторяемость, которая лишь намечена художником справа, где только начинается общее ритмическое движение, но где уже определяется его характер и его природа, затем сменяется свободной вариационностью, лишенной симметрии и делающей ритмическую структуру целого более динамичной. В этом сочетании лишь намеченной орнаментальной упорядоченности и свободного повтора близких, но не совпадающих форм — основа эмоционального воздействия картины Огата Корина90.
Действительно, главным средством художника становится тонкая ритмическая организация композиции картины, создающая впечатление волнообразного движения, более интенсивного и четко обозначенного на правой ширме, нисходящего и затухающего — на левой. Ритмический рисунок с его цезурами (основная на седьмой панели, где воображаемый поток, из которого поднимаются цветы, будто слегка поворачивает и приближается к нам) и «уплотнениями» ведет глаз зрителя по поверхности картины, определяя темп восприятия, его ускорения и замедления. Столь важный в традиционной трактовке мотива ирисов у воды элемент, как изогнутые линии, изображающие волны потока (например, в известном узоре на тканях того времени именно этот элемент — основной), в росписи Корина вовсе отсутствует, как и изображение мостков, не говоря уже о фигурах людей, если вспомнить всю сцену из «Исэ моногатари». Художник полностью отказывается от описательности и оставляет один-единственный элемент, с помощью которого передается все богатство поэтического смысла.
В сущности, Огата Корин берет эту одну деталь, намекающую на эпизод из средневековой повести и указывающую на сложную игру смыслов и значений, и деталь эта — цветы ирисов — как бы начинает цепь ассоциаций, подводящую к целостному эмоциональному переживанию известного эпизода путем «подключения» контекста, с которым деталь начинает взаимодействовать91. Монументализация мотива таким образом возникает не только благодаря преувеличенному масштабу изображения и его размещению на абстрактном
9С Рассуждения об орнаментальности произведения Ко- 9' См.: Ротенберг В С Слово и образ- проблемы кон- рина основаны на теоретических посылках, изложенных текста // Вопросы философии 1980. № 4 С 153 в содержательной статье Ю. Герчука.— См.. Герчук Ю.
Поэтика орнамента // Советское декоративное искусство. М., 1984 Вып 7 С 149 —154
134
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
70
Таварая Сотацу Деревенские дома зимой
Роспись на веере Начало 17 в.
золотом фоне, но и ритмическому построению, отказу от деталей и сотворчеству со зрителем, в активном взаимодействии с которым и происходит становление художественного образа во всей его полноте.
Ширмы Корина обладают огромной суггестивностью, силой внушения благодаря своей пространственно-ритмической структуре и широкому контексту, становящемуся основой его образности. Они создают впечатление гораздо более глубокое и многообразное, чем просто изображение цветов. В волнообразной ритмической жизни изображения ощущается чередование спокойствия и напряженности, покоя и движения. Постепенное приближение цветов к переднему плану создает ощущение воображаемого потока, струящейся воды, а золотой фон читается в нижней части картины как водная поверхность, а в верхней как воздушная среда.
Если попытаться проанализировать технологическую сторону создания произведения Корином, то придется убедиться в необычайной скупости средств, которыми пользовался художник. Он выбрал два оттенка зеленого для изобра-
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гзнроку
135
71
Школа Сотацу Ширма с веерами Начало 17 в.
136
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
жения листьев, синий и сине-лиловый для цветов, заполняя очерченные тушью контуры и со всей возможной активностью используя золотой фон. По отношению к тональности фона синий и сине-лиловый выступают как дополнительные тона, одновременно контрастные и подчиненные законам гармонии92. Цвет, близкий к дополнительному, кажется под влиянием окружающего поля более насыщенным, и контраст дополнительных тонов усиливает цветность и вносит напряжение93. Огата Корин не случайно выбрал эти оттенки как наиболее выразительные, несущие в себе отголоски человеческих чувств и получающие в силу этого функции смысловые, а не только чисто изобразительные.
Если для восприятия ширм издали наибольшее значение имеет ритмическое построение композиции, то при рассматривании с близкого расстояния жизнь каждого из растений передается с помощью пятен и линий, где важнейшим качеством становится темп. Как справедливо отмечает американская исследовательница Э. Грилли94, в основе исполнения «Ирисов» лежит мастерство Корина как каллиграфа. Известно, что он учился искусству каллиграфии еще в детстве, у отца, и оно стало, как и для большинства художников в странах Дальнего Востока, органичной и необходимой частью его живописного почерка. Отношение линий, пятен, интервалов между ними, темповая характеристика мазка и черты — все это соотносится с общей ритмикой композиции, создает чувство витальности каждого цветка, его наполненности живым движением жизни. Корин пишет цветом так же, как тушью, и его свобода, раскованность в работе кистью подтверждают свойственное ему интуитивное чувство гармонии, воплощавшееся и во всей картине и в каждой ее детали95.
Добиваясь высокой степени декоративной стилизации мотива, Огата Корин сохраняет живые формы, без какой-либо геометризации, организуя их при этом в некое орнаментально осмысленное единство. Мало кому из японских художников было свойственно такое декоративное чутье, какое мы видим у Корина. Даже Сотацу с его темпераментом и, главное, принципиально иной, более пространственной трактовкой фона, не достигал такой силы декоративного обощения через орнаментализацию мотива. Видимо, тут имели значение и более спокойный, уравновешенный и склонный к умозрительности характер Корина и его знакомство с таким ремеслом, как роспись тканей, фамильной профессией семьи Огата. Это был уже совершенно иной, по сравнению с Сотацу, стиль. Корин в этом своем произведении как бы возвращается вспять, к плоскостности росписи, хотя, безусловно, уже на основе усвоения уроков мастерской Таварая. Тенденция к двухмерности фона96, возможно, основана как раз на близости к последователям Сотацу, а не к нему самому, что стало характерным для поздних работ Корина, созданных уже в последние годы его жизни.
Второй период творчества Огата Корина, охарактеризованный профессором Яманэ как переходный, охватывает время между 1704 и 1710 годами. По приглашению своего богатого друга и покровителя Накамура Кураноскэ (1704 годом датирован его портрет, выполненный Корином) художник едет в Эдо. Однако в новой столице в моде эпигоны школы Кано, и заказчики, на которых, видимо, рассчитывал Корин, желали иметь картины такого стиля. Корин выполняет в период жизни в Эдо свиток с азалиями, свиток с изображением цветов четырех сезонов, роспись кимоно — так называемого фуюки косодэ (Национальный музей, Токио), а также предположительно ширму с изображением волн. Как видим, идеи монументальной живописи не могли получить в этот
92 Волков Н. Н. Цвет в живописи. М., 1965. С. 49.
93 Там же. С. 60.
94 Crilli Е. Op. cit. Р. 112, 114.
95 В связи с этим представляется неубедительным
геометрический анализ ширм, который делает японский
ученый Рё Янаги в книге: Japanese Classic Art: Painting Series. Tokyo, 1955. Vol. 1.
96 Yamane Y. Ogata Korin and the Art of the Genroku Era. P. 79.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
137
период сколько-нибудь существенного развития. Даже в росписи пары двухстворчатых ширм с волнами, несмотря на несвойственную Корину экспрессию (профессор Яманэ усматривает здесь влияние живописи Сессю и отчасти Сэссона)97, не видно чего-либо качественно нового по сравнению с предыдущими работами. Напротив, сам тип орнаментализации мотива, использование тушевой линии как главного элемента выразительности и сопоставление подвижной, гибкой формы с размытым синим тоном, создающих впечатление объемности и глубины, кажутся шагом назад по сравнению с «Ирисами».
Более органичным для мышления Корина воплощением того же мотива представляется шкатулка для письменных принадлежностей (Сэйкадо, Токио). Огата Корин применяет прием, впервые использованный еще Хоннами Коэцу в шкатулке «Мост в Сано», соединяя роспись по золотому лаку с инкрустацией свинцовыми пластинами (они здесь изображают омываемые волнами скалы). И снаружи и внутри по всей поверхности свободно разбросаны иероглифы стихотворной надписи. Эта шкатулка представляет особый интерес для уяснения направления стилевого развития искусства Корина, его поисков возможностей соединения в единое целое абстрагированного узора и реально-жизненного изображения. По сравнению с росписью ширмы «Волны» в декоре шкатулки мотив приведен к выразительно ритмизированной орнаментальной формуле, построенной на более контрастном, чем в шкатулке с ирисами, сопоставлении плоскостной росписи и материально ощутимой инкрустации.
Весной 1709 года Огата Корин вернулся в Киото, с традициями которого его искусство было органично связано и не могло развиваться без свойственного старой столице духовного климата. Это было начало зрелого этапа его творчества, когда все силы были направлены на развитие уже найденного. Корин осознавал именно это своей главной задачей, что подтверждается планомерным обращением к искусству Сотацу, его изучению с помощью копирования — метода, традиционного для художников Дальнего Востока.
Последние шесть лет жизни Огата Корина отмечены интенсивностью творчества и большой продуктивностью. Копии, сделанные им с произведений Сотацу, дают возможность с определенностью судить о том, к чему он стремился и чего добивался. Их сравнение с оригиналом показывает не только разницу художественных установок двух великих мастеров, но и изменение общего стилевого направления японской декоративной живописи во второй половине 17 и начале 18 столетия.
Сохранились две копии Корина с произведений Сотацу—«Боги ветра и грома» (Национальный музей, Токио) и «Мацусима» (Художественный музей, Бостон). Ширмы Огата Корина «Божества ветра и грома» довольно близки к оригиналу, но все же это интерпретация, а не повторение. Поправки, внесенные художником, могут быть свидетельством того, в чем именно он расходился с Сотацу и что он у него искал. Привлекала его, видимо, удивительная магия произведения Сотацу, передающего стремительное и легкое движение, разнонаправленное и в то же время согласованное. По сравнению с Сотацу фигуры демонов помещены Корином на более плотном и темном фоне. Соответственно художник делает очертания более отчетливыми и использует более яркие и густые пигменты. От этого сразу меняется баланс фигур и фона, производящего тоже впечатление более весомого, чем в оригинале. Но самое главное — это изменение общей композиции ширмы из-за расположения фигур. Они помещены существенно ниже
97 Ibid. Р. 83.
138
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
72
Таварая Сотацу «Бугаку» Роспись ширм Начало 17 в.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
139
73
Таварая Сотацу «Бугаку» Роспись ширм Начало 17 в.
140
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
(у Сотацу атрибуты демонов были даже частично срезаны краем картины) и сдвинуты по отношению к центру. Создается совершенно новая ритмическая структура произведения, исчезает яростный напор в движении фигур и та значительность пустого пространства между ними, которая составляла главное своеобразие композиции Сотацу. У Огата Корина возникает иной тип связи фигур, гораздо более непосредственный, проистекающий из ритмики линий и изображенных форм, а следовательно, не такой сложный, как у Сотацу, где главная роль принадлежит свободному пространству фона98. Движение не исчезает, но замедляется, равновесие фигур и фона становится более важным фактором, чем у Сотацу, а сами фигуры и все их атрибуты кажутся более материальными и весомыми. Так, казалось бы, незначительные изменения вели к созданию образа, по своему эмоциональному воздействию значительно отличавшемуся от произведения Сотацу.
Приписываемая Огата Корину ширма «Мацусима» скорее может быть охарактеризована как свободная вариация, чем копия картины Сотацу. Корин тут не просто изменяет форму скал и по-своему размещает их на поверхности, но находит собственное соотношение скал и волн, что создает совершенно иное впечатление от росписи. Сотацу добивался очень тонкой сбалансированности композиции, стремясь к ощущению гармонии. Огата Корин подчеркивает орнаментальную структуру в изображении волн путем повторения линейного узора их очертаний. Но при этом он рисует волны более крутыми, брызги более высокими, пену более густой, что усиливает впечатление напряженности и динамизма. Композиция становится неспокойной, утрачивая впечатление величия безбрежного, мерно волнующегося океана, что было свойственно картине Сотацу.
Безусловно, Корин сознательно ставил все эти акценты и подчеркивал особенности своего видения и своего почерка, отчасти полемизируя с великим предшественником, отчасти вступая с ним в диалог уже из другого времени. То возвышенное поэтическое начало, которым было проникнуто искусство Сотацу, уже не было свойственно Корину, вернее, оно видоизменилось в соответствии с новой эпохой и ее идеалами. Внутренняя конфликтность периода Гэнроку получала собственные формы выражения в декоративной живописи, и особенно в произведениях Огата Корина. Как тонко подметил профессор Ю. Яманэ, композиция ширм Сотацу «Боги ветра и грома», оказавшая, по всей видимости, глубокое воздействие на Корина, получила отзвук и новое претворение в совершенно ином сюжетном мотиве — в ширме «Красное и белое дерево сливы» ".
Еще в ширме с бамбуком и сливой большую роль играло свободное поле золотого фона, и художник стремился гармонизовать с ним изображение. Следующий шаг в разработке пространства был сделан в ширмах с ирисами, где важнейшее значение, как уже было отмечено, приобрели орнаментальные качества формы. Стремление найти собственные гармонические взаимоотношения предмета и пространства на основе использования ритмики орнаментального построения, видимо, было одной из главных творческих задач Огата Корина в последние годы его жизни. Он хотел найти способ органично соединить, казалось бы, несоединимое: живые природные формы и орнаментально организованную поверхность. Решение этой сложной задачи было найдено им в знаменитой паре двустворчатых ширм «Красное и белое дерево сливы». В отличие от упомянутых ширм Сотацу роли божеств тут играют два дерева, а пространство между ними
90 См/ Yamane Y. Op. cit Р. 84.
99 Ibid. Р. 85.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
141
заполнено изображением потока с орнаментальными завитками — волны. Поток, очерченный двумя круто изогнутыми линиями, делает неразрывной композицию на обеих ширмах, а в плане сюжетном разъединяет два дерева сливы, подчеркивает их противостояние и контраст.
Если в ширмах с ирисами орнаментальное начало было как бы закодировано в аранжировке природных форм, то здесь оно открыто «объявлено» и противопоставлено природным формам, создавая необычную остроту впечатления от этого произведения Корина. Контраст, постоянное сопоставление разного можно назвать главной особенностью ширм «Красное и белое дерево сливы». Если у Сотацу между его божествами ветра и грома сияют золотые небеса, то у Корина—непроницаемый темный поток — как изначально противоположные друг другу свет и тьма, ян и инь мироздания. И тьма эта, как считает профессор Ю. Яманэ, олицетворяет смятение чувств самого художника, его внутреннее неспокойствие100.
Сюжетный мотив, взятый Корином для этой своей росписи, хоть и не имеет такого прямого литературного истока, какой можно видеть в «Ирисах», но, безусловно, восходит к классической поэзии с ее образами ранней весны и пробуждения природы. Поток, бурливый и стремительный, изображенный в центре композиции, также ассоциируется с горным весенним ручьем. Очерчивающие его линии создают ощущение направленного движения сверху вниз и справа налево, движения динамичного, обладающего внутренней силой и энергией, которой не было в тихом струении воды, подразумевавшейся в ширмах с ирисами.
Изобразить поток, найдя точную линию каждого берега, было, видимо, первой задачей художника. При близком рассмотрении ширм видно, что ветви деревьев были написаны позже, уже поверх потока. Принцип изгибающейся линии берега реки или моря традиционен для японской живописи: сходную по движению линию можно найти и в свитках — эмаки 13—14 веков и на ширмах начала 16 века, написанных, например, на канонический сюжет хамамацу (сосны на побережье). Более традиционен силуэт потока на правой ширме, на левой он легче и стремительнее. С самого начала Корин хотел и цветом и фактурой выделить поверхность, на которой будут написаны волны потока, о чем свидетельствует использование серебряной фольги в отличие от золотой, составляющей фон для деревьев. В настоящее время серебряная фольга сильно потемнела от времени, и сопоставление волн с остальной поверхностью сделалось более контрастным и резким, исчезло мерцание, оказалось искаженным цветовое сопоставление серебра с рисунком завитков, передающих волны101. Несомненно, однако, что художник стремился подчеркнуть плоскостность и орнаментальность в изображении потока, напоминающего узор ткани, и потому наполненного собственной ритмической жизнью, как будто бы несовместимой с ритмикой всей композиции.
По обе стороны от потока на золотом фоне написаны цветущие деревья: коренастое, с толстым изогнутым стволом и почти вертикально поднимающимися ветвями дерево красной сливы и другое, обозначенное лишь подножием ствола и резко изогнутой, как бы припадающей к воде, а потом вдруг взметнувшейся вверх веткой, усыпанной белыми цветами. И подобно тому, как поток показан в какой-то своей части, так и деревья уходят за поверхность картины, оказываются в поле зрения лишь фрагментарно, и воображение зрителя через детали
100 Ibid.
101 Как указывает Э. Грилли, существует несколько разноречивых суждений специалистов относительно техники исполнения потока Корином, состава красок, которыми он пользовался.— См.: Grilli Е. Op. cit. Р. 102.
142
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
74
Таварая Сотацу «Сэкия»
Роспись ширм Начало 17 в.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
143
144
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
воссоздает их полностью в живой нерегулярности их силуэтов. Если поток написан подчеркнуто плоскостно, то стволы деревьев, ветви, цветы кажутся рядом с ним объемными, почти ощутимыми, несмотря на условность золотого фона, создающего ирреальное пространство.
Уже при первом взгляде на картину Корина становится явной ее внутренняя сложность, особая конфликтность, состоящая в различной степени условности, к которой прибегает художник. Написанные с большой достоверностью деревья оказываются погруженными в призрачное мерцание золотого фона, который тем не менее не отторгает их, а становится естественной средой их бытия. Еще более контрастно, как уже отмечалось, сопоставление деревьев и потока. Но разделение композиции на две ширмы было возможно только в том случае, если поток изображен орнаментально, как плоскость, поддающаяся такому разделению102.
Противопоставления в картине Корина не кончаются этим, так как контрастны и сами деревья: белое как олицетворение начала инь и красное — начала ян. Отсюда и их образная характеристика, создающаяся направлением и ритмом линий, соотношением с фоном и потоком. Дерево белой сливы почти скрыто за полем картины, видно лишь его мощное основание, покрытое пятнами лишайника. Направление линий, его очерчивающих, позволяет представить себе крутой изгиб ствола, от которого спускается к потоку неровная ветка, толстая и узловатая, заканчивающаяся потом нежными, поднимающимися кверху побегами. В этом ломком ритме, накладывающимся на упругий, круглящийся ритм потока, заключается путь к постижению смысловой многогранности образа, сочетанию в нем податливости и силы, зрелости и нежной хрупкости, способности к обновлению. Редкие белые цветы с пятью лепестками кажутся особенно крупными на голых ветвях, местами усыпанных бутонами.
Красная слива предстает воплощением мощи, воли, энергии. Ствол дерева, в изгибе которого зеркально отражена линия берега, как будто с огромным напряжением упирается в землю и потом устремляется вверх тонкими напряженными побегами. Ветви, как стрелы натянутого лука, пронизаны трепетом заключенной в них, но еще не реализовавшейся силы. Однако и в том и в другом дереве ощущаются легкость и грация, как и в изображении деревьев у Сотацу. То, что основания стволов написаны не у самого края картины, а чуть отступая, как это было свойственно и Сотацу (в отличие от Кано Эйтоку, всегда изображавшего середину мощного ствола), способствует утверждению пространственное™ ширмы, движению взгляда от первого плана в глубину и вверх, создавая впечатление монументальности, особой значительности мотива.
В картине Корина существуют два направления движения: сверху вниз (поток) и снизу вверх (деревья). Они, в свою очередь, складываются из более динамичных ломаных диагональных движений (дерево белой сливы) и упругих, напряженных волнообразных (узор волн потока), повторяемых ветвями другого дерева — с красными цветами. Волнообразное движение создает основу ритмической ткани произведения. Различный ритмический узор правого и левого дерева сливаются в ритме потока, чьи очертания как бы «вбирают» в себя все движения и обращают их в бесконечные извивы узора, напоминающего орнамент ткани.
В восприятии картины, эмоциональном переживании ее образов большое место занимает сама манера письма, чисто живописные приемы, которыми пользовался художник. Он очень мягко моделирует все формы, сохраняя при этом их точность
102 Grilli Е. Op. cit. Р. 100.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
145
и чистоту. Как и Сотацу, Огата Корин применяет тут технику тарасикоми («влажные капли»), состоящую в том, что поверх одного еще не просохшего слоя накладывается следующий, который сразу же растекается, смешивается с первым, образуя особое сплавление цвета. Художник применил в этом произведении и другой известный в живописи Дальнего Востока метод мягкой моделировки формы — так называемый бескостный или бесконтурный (моккоцу). Так написаны стволы и крупные ветви. Для обозначения лишайников как будто брошены капли бирюзово-зеленой краски, слегка вобравшей в себя тушь, а в зависимости от ее густоты изменившей собственную тональность. Местами сквозь пигмент просвечивает золотой фон, включаясь в цветовую палитру и одновременно создавая ощущение легкости изображения, его пронизанности воздухом.
В своем живописном почерке Огата Корин целиком исходит из каллиграфии — искусства, которому он обучался с детства и которое стало для него органичным методом мышления. Это сполна проявилось уже в ширме «Ирисы», и даже еще раньше — в росписи керамики, изготовлявшейся его братом Кэндзаном. Каллигра- фичность (не только как сумма приемов наложения туши и постановки кисти, но как художественная система, одинаково присущая и письму и живописи) стала одним из компонентов, составивших сложный синтез приемов, восходивших к школе Кано и школе Тоса, искусству Сотацу и орнаментации тканей. Здесь живопись Огата Корина вытекает из традиций всего средневекового японского искусства. Но пользуясь традиционной лексикой, он существенно меняет «синтаксис» языка, в чем отразились мировоззренческие сдвиги, изменение в отношении к природе и понимания своего места в ней. Человек начала 18 века постепенно лишался чувства органичной причастности миру природы и своей равновеликости каждому ее проявлению, что было свойственно мироощущению человека средневековья. Это вело к разрушению чувства целостности мироздания, влияя не столько на поэтику, сколько на стилистику искусства рубежа 17—18 веков. В ширмах с цветущими сливами есть еще ясное ощущение гармоничной красоты, но в них уже наблюдается проникновение в творчество художника ясно выраженного рационального мышления, которое сталкивается с традиционным интуитивнопоэтическим. Интерес к натуре как таковой, к внешним признакам объекта — это знак сдвига к противопоставлению «я» художника и реальности, взгляд на природу извне, интерес к ней как объекту, существующему отдельно от человека. Иными словами, постепенно разрушалась свойственная средневековому периоду целостность художественного сознания. Отсюда и внутренние конфликты, заметные в искусстве Огата Корина. Поэтому понимание творчества мастера оказывается более трудным, чем его предшественников. Кано Эйтоку при всей яркости его таланта был одним из многих, чье искусство наиболее полно выражало особенности стилевой системы, которая была присуща его времени. У всех современников Эйтоку легко различимы черты общности, в них доминирует внеличностное начало как основа стиля. У такого великого художника как Таварая Сотацу гармонично сочетались две, казалось бы, противоположные тенденции — ориентация на поэтику традиционной живописи и ее смелое преобразование. Но при этом мироощущение художника оставалось по типу средневековым и целостным. У Огата Корина эта целостность впервые «дала трещину». Утверждение собственной творческой индивидуальности в сочетании с интересом к реальной натуре послужило основой тех внутренних противоречий в
146
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
75
Таварая Сотацу «Миоцукуси» Роспись ширм Начало 17 в.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
147
148
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
76
Таварая Сотацу Боги ветра и грома Роспись ширм Начало 17 в.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
149
77
Таварая Сотацу Боги ветра и грома Роспись ширм Начало 17 в.
78
Таварая Сотацу Боги ветра и грома Роспись ширм Деталь Начало 17 в.
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку
151
его искусстве, которые он с таким трудом пытался примирить и сгармонизовать. Увеличение значимости таких стилевых особенностей живописи Огата Корина, как орнаментальность, тяготение к абстрагированной узорчатости получили выход за пределы собственно живописного произведения в сферу декоративноприкладную. Как уже отмечалось, Огата Корин имел дело и с керамикой, и с изделиями из лака, расписывал кимоно и веера. В стилевом отношении эти его работы вплотную соприкасались с росписями ширм, как бы составляя с ними единый декоративный ансамбль. Взаимовлияние монументальных росписей и декоративно-прикладного искусства можно назвать характерной чертой не только творчества Огата Корина, но в еще большей степени — его брата Огата Кэндзана, прославленного керамиста, каллиграфа, живописца и поэта.
Личнрсть Огата Кэндзана (1663—1743) — одна из самых ярких в истории японского искусства на рубеже 17—18 веков. Его работы обладают отчетливо различимыми индивидуальными особенностями, но при этом не выпадают из общего русла художественных традиций предшествующего периода, синтезируя их и переплавляя в новое единство. В отличие от своего старшего брата Огата Кэндзан с юных лет тяготел к духовным ценностям, совершенствовался не только в искусстве поэзии и каллиграфии, но был адептом дзэн-буддизма, влияние которого ощущается во всех сферах его творчества. Кэндзан был человеком утонченной культуры, знатоком китайской и японской классической литературы, театра Но, чайного ритуала. Пожалуй, наиболее близок ему по внутреннему духу и строю личности был Хоннами Коэцу. Известно, что Кэндзан проявлял к его наследию большой интерес, особенно к каллиграфии. В созданной Коэцу артистической деревне Такагаминэ Кэндзан впервые учился керамическому искусству у его внука и лишь позднее уже профессионально стал работать в керамике под руководством прославленного Нинсэя.
На территории, принадлежавшей храму Ниннадзи, Огата Кэндзан получил разрешение построить собственную керамическую печь. Это была печь Нарутаки, выпускавшая продукцию в течение 13 лет до 1712 года. Несмотря на то что после краха фамильного дела Кариганэя и разорения братья Огата вынуждены были зарабатывать на жизнь, Кэндзан, выпуская керамическую продукцию на продажу, никогда не стремился к финансовому успеху в первую очередь103. Напротив, им всегда руководила идея высокого совершенства изделий, их артистизма и красоты. Это был самый яркий и плодотворный период в творчестве Кэндзана, когда оформились его эстетические идеалы, сполна проявились его художественные намерения, выявились его вкусы и возможности. Первоначально, как уже упоминалось, роспись на керамике выполнял Корин, но скоро этим начал заниматься и Кэндзан. Одновременно он посвящал себя живописи, сочинению стихов, каллиграфии. Все виды творчества были взаимосвязаны и влияли друг на друга, что и составляло одну из главных особенностей стиля Огата Кэндзана.
Вряд ли братья Огата сознательно ставили себе задачу свести воедино в своей керамике разные искусства, скорее, это происходило непроизвольно, в силу их разносторонней одаренности. Как когда-то Хоннами Коэцу, они не были скованы цеховыми канонами ремесленного производства, легко отказывались от традиционных приемов декора, добиваясь наибольшей выразительности и красоты. Корин расписывал керамические изделия так, словно бы работал тушью на бумаге. Кэндзан отчасти следовал за ним, хотя имел дело не только с плоскими
'03 См.: Mizuo Н. Op. cit. Р. 115.
152
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
тарелками, но и объемными предметами. Такова его знаменитая чашка для чайной церемонии с изображением водопада и строками стихов. Пожалуй, впервые отрабатывавшиеся веками в искусстве Дальнего Востока традиционные приемы живописи тушью были использованы в росписи объемной формы. Стремясь к обогащению и углублению образной сути своих изделий, Кэндзан стал использовать цвет. Первоначально он работал так же, как тушью,— с тональными переходами, манерой наложения мазков и пятен (например, в тарелке с лилиями). Постепенно стал переносить акцент на декоративные свойства цветового пятна и силуэта, соединяя эти приемы с возможностями свободной кистевой росписи черной краской. Так выполнен декор чашки для чайной церемонии с изображением цветущей сливы. Эта работа Кэндзана стилистически очень близка ширмам Корина на тот же сюжет, хотя тут перед художником стояли иные задачи, и он имел дело с керамической формой, а не покрытой золотой фольгой поверхностью.
Ощущение необычайной свежести, легкости росписи, свойственное керамическим изделиям Кэндзана, возможно, связано с тем, что он писал по сырому черепку, а не на изделии, уже прошедшем первый обжиг104. Пористая глина впитывала краску, подобно бумаге в живописи тушью, делая органичным их соединение и сохраняя живую трепетность мазка, движения руки художника.
В 1712 году Огата Кэндзан продал печь Нарутаки. Испытывая большую нужду, он некоторое время расписывал изделия, которые для него обжигали в печах Авата и Киёмидзу. В этот период он много времени уделял занятиям живописью и поэзией. Одно из самых обаятельных его произведений, альбомный лист «Яцухаси» исполнен на тот же сюжет, что и многие произведения его брата.
В отличие от монументальной росписи Корина, где всю эмоциональную и семантическую нагрузку несут лишь изображения ирисов, Кэндзан обращается к традиционному виду «живопись — стихи» (э-ута) и вводит непосредственно в изображение поэтические строки, имеющиеся в эпизоде «Исэ моногатари», а также стихи Аривара Нарихира, героя повести и поэта, которого он особенно любил. Изысканная каллиграфия стихов органично сочетается с легкой, свободной росписью, изображающей не только цветы, но и «восемь мостков» (яцухаси), определивших сюжет. В этом произведении Кэндзана особенно ощущается одухотворенность его искусства, его постоянное стремление к возвышенной красоте. Все его произведения отмечены необычайной раскованностью и свободой. Многовековая художественная традиция Китая и Японии живет в его искусстве в таком преображенном виде, что все его создания открывают нечто новое. Главная заслуга Кэндзана в развитии стиля, становление которого происходило в течение полутора столетий, состояла в том, что из сферы монументальной живописи этот стиль был распространен на прикладные жанры. Тем самым возникала возможность декоративного ансамбля. Начало этому было положено еще Корином, но именно Кэндзан в своей керамике выявил сполна все возможности росписи, начинавшейся в живописи.
Уже будучи в преклонном возрасте, Кэндзан уехал из Киото в Эдо, а под конец жизни принял приглашение переселиться в Сано (современная префектура Тотиги), где пережил творческий взлет. От этого последнего периода жизни художника, продолжавшегося с 1737 года до самой смерти в 1743 году, сохранилось более двухсот произведений из керамики, а также стихи, наброски, дневниковые записи105.
104 Leach В. Kenzan and his Tradition. The Lives and Times of Koetsu, Sotatsu, Korin and Kenzan. P. 86.
105 Впервые были найдены лишь в 1942 году.— См.: Leach В. Op. cit. Р. 91. 110—135.
Заключение
153
В изделиях, которые так и обозначаются «Сано-Кэндзан», ощущается зрелость, они воспринимаются как результат долгих поисков и размышлений. Художник добился соединения свободной кистевой росписи с яркой цветностью, результатом чего было создание целостного и выразительного поэтического образа в каждой вещи. К этому последнему периоду относится такой шедевр Кэндзана, как тарелка с лотосами, где листья написаны мягкими, чуть размытыми пятнами черной краской (как и иероглифы надписи), а два цветка — белой и красной. Такому сочетанию условности и точности соответствует манера исполнения, непринужденность каждой линии и пятна, отчего возникает ощущение жизненности изображения и одновременно легкого изящества декора тарелки.
Росписи Корина приходят на память, когда смотришь другую квадратную тарелку Кэндзана с желтыми осенними цветами у ручья. Исполненные густо-синей краской завитки волн, изображающие поток, по своему ритмическому узору похожи на узор волн на ширмах «Красное и белое дерево сливы», и хотя у Кэндзана и мотив и сами задачи были совершенно иные, сопоставление условного орнамента и более достоверно переданных цветов создает сходное острое впечатление. Высокая поэтичность свойственна керамическим произведениям Кэндзана не только потому, что он помещал на них строки стихов. Подобно своему великому современнику — поэту Басё, превратившему популярный, низменный жанр хайку в поэтическое откровение, в философски глубокое искусство, Огата Кэндзан показал, что обычные керамические тарелки, чашки, вазы, могут быть и утилитарными предметами и одновременно — поэтическими шедеврами.
К середине 18 века развитие стиля, сформировавшегося в период Момояма, а корнями уходившего в гораздо более далекие времена — периоды Хэйан и Камакура, закончилось. Позднее ничего принципиально нового уже создано не было. Становление этого стиля, его кульминация и заключительная фаза связаны с творчеством трех выдающихся мастеров — Кано Эйтоку, Таварая Сотацу и Огата Корина. В силу яркости своего таланта они отличаются друг от друга, но при этом они связаны нитями исторической преемственности, выраженной в преемственности стилевой. Стиль определял ту несомненную общность художественного мышления, которая была присуща этим художникам. Однако стилевая система 16—18 веков как целостность в своем развитии в течение двух столетий заключала в себе несколько этапов, позволяющих говорить не только о едином периоде истории декоративных росписей того времени, но и о стиле каждого из них (Момояма, первая половина 17 века, Гэнроку), а также индивидуальном проявлении стиля в творчестве отдельных художников106. Таким образом, стиль представляется сложной структурой, имеющей разветвленные внутренние связи.
Несмотря на индивидуальные отличия мастеров декоративных росписей, главное и определяющее свойство стиля — установка на общее, а не индивидуальное. Поэтому стиль можно определить как выражение закона единства в многообразии, при котором само разнообразие возможно в рамках единой системы и ее признаков107. В декоративной живописи стиль складывался на основе длительной традиции и ее преобразования в соответствии с требованиями времени. Он был результатом коллективных усилий, на которые «накладывалась» и воздействовала творческая воля отдельных выдающихся мастеров. Вносившиеся ими
106 См.: Михайлов М. Стиль в музыке. Л., 1981. С. 105.
107 Там же. С. 115.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
154
Глава первая. Стиль: формирование и основные этапы эволюции
изменения, «поправки», осваивались, становясь всеобщим достоянием, снова приобретали свойства традиции и передавались следующим поколениям, опять сливаясь с общими признаками стиля. На значительном отрезке исторического времени названные мастера определяли и выражали каждый эпоху средствами своего искусства. «Все художники отмечены печатью своей эпохи, но великими художниками являются те из них, в чьем творчестве эта эпоха нашла свое наиболее глубокое выражение» 108. Именно в этом смысле великим художником можно назвать Кано Эйтоку, но не Санраку или Мицунобу, Огата Корина, но не Кэндзана.
Стиль выступает как категория надличная, хотя каждый мастер развивает его особенности по-своему, создавая собственный вариант стиля. На примере творчества Кано Эйтоку особенно ясно, что стиль предопределял некоторую «формульность» мышления, которая, однако, избавляла каждого отдельного художника от необходимости решать самостоятельно многие художественные проблемы, высвобождала его творческую энергию для другого, в том числе для поисков средств передачи оттенков чувства, нюансов переживания данной темы, что и отличало каждое новое произведение от ранее созданного. «Формульность» мышления художника формировала и соответствующее восприятие, реакцию зрителя, для которого определенные общие стилевые признаки открывали путь к постижению смысла каждого отдельного произведения.
Мало кто из художников периода Момояма, оказавшись в стилевом русле, проложенном Эйтоку, мог активно противостоять ему и создать нечто принципиально иное, чем стиль этого мастера. Даже Хасэгава Тохаку с его выдающимся талантом был увлечен общим стилевым течением своего времени. Лишь с изменением исторической ситуации, общественно-социального значения монументальной живописи в начале 17 века могло появиться искусство Сотацу, который не был непосредственным продолжателем стиля Момояма, но все же основывался на его открытиях. Без настенных росписей периода Момояма не могли бы появиться ни произведения Сотацу, ни позднее — произведения Огата Корина. Важное обстоятельство, которое необходимо подчеркнуть, состоит в том, что в рамках единого стиля декоративных настенных росписей складывались жанровые особенности этой живописи в отличие от пейзажей на свитках или бытовой живописи (фудзоку-га). Сложение стиля было одновременно и процессом самоопределения декоративной живописи с ее особым языком и средствами выразительности. Создавая композиции, доставляющие наслаждение своей красотой, дающие радость глазу, мастера декоративных росписей совершенно иначе, чем художники других жанров, использовали цвет, строили пространство, создавали ритмический рисунок, организующий изображение. Это и были признаки, определявшие свойства всей стилевой системы, с помощью которых только и может быть описан сам стиль. «Стилевая система как целостное явление не поддается непосредственному наблюдению, будучи лишена наглядности, присущей только отдельным текстам» 109.
Для стиля декоративной живописи 16—18 веков в целом можно выделить три основных признака, касающихся построения пространства, употребления цвета и роли ритмического построения композиции. Как правило, пространственное построение росписи тяготеет к плоскостному, к сближению изображенных предметов с фоном. При этом увеличивается роль золотого фона, а передача объема вытесняется передачей силуэта. Соответственно и цвет получает не
108 Матисс А. Сборник статей о творчестве. М., 1956.
С 24.
109 Михайлов М. Стиль в музыке. С. 116—117.
Заключение
155
изобразительные, а декоративные функции в первую очередь. Первостепенную, организующую роль в композиции росписи имеет и ритм, на основе которого строится взаимоотношение предметных форм, пространства, цветовая гармония целого.
Каждый из этих признаков присущ и другим жанрам живописи или даже декоративно-прикладного искусства, но лишь все вместе, в совокупности и взаимодействии, они живут в настенных росписях 16—18 веков и определяют их особенности. Именно в данной стилевой системе эти признаки получают особенно большое значение и активизируются, становясь не только признаками формы, но и содержания произведений. Составляя не сумму, а целостную систему, стилевые признаки образуют сложную структуру, внутри которой, как уже отмечалось, возникает множество вариантов — индивидуальных стилевых особенностей каждого отдельного мастера.
Наконец, необходимо отметить еще одну особенность стиля декоративных росписей 16—18 веков: его самобытность, неповторимость, отсутствие прототипов, что, как известно, было присуще многим другим явлениям японской художественной культуры. Так, например, в 7—8 веках, а затем в 13—15 веках господствующим был международный стиль, свойственный всему дальневосточному региону и обязанный своим происхождением Китаю. В японской живописи 18—19 веков (так называемой школе Нанга) также доминировали стилевые качества, сформировавшиеся на континенте. Декоративные росписи периода Момояма и живопись школы Римпа — явление чисто национальное, связанное с особенностями японской художественной культуры, сложением единого национального государства и осознанием национальных художественных идеалов. В этом непреходящее значение декоративной живописи 16—18 веков.
Глава вторая
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
Анализ стилевой эволюции декоративной живописи позволил проследить генезис художественных форм и сложение системы настенных росписей, ее видоизменения на протяжении полутора столетий. В процессе исследования стало ясно, что мы имеем дело с особым типом художественной образности, свойственной этому виду искусства, и теперь необходимо выяснить, на основе каких именно принципов он складывался и как связана с этим сама тематика росписей.
Не трудно заметить, что при канонической повторяемости мотивов основной темой декоративной живописи всегда была природа. Даже образы, опиравшиеся на известные литературные сюжеты, нередко получали выражение через природные мотивы или с их помощью раскрывался сложный поэтический подтекст изображения. Художественное осмысление темы природы можно назвать центральной проблемой изучения декоративной живописи Японии. Особенностью японского позднего феодализма было то, что сложившиеся на ранних этапах развития культуры архетипы национального сознания не утратили своей продуктивной функции. В характерном для Японии религиознофилософском синкретизме (сосуществовании синтоизма, буддизма и конфуцианства) в различные периоды получала преобладающее влияние то одна, то другая доктрина. Трудно переоценить значение буддизма для формирования основополагающих эстетических представлений японского народа. Но сохраняли свои формообразующие функции в культуре и древнейшие воззрения, зародившиеся еще в добуддийскую эпоху и впоследствии принявшие форму религии синто. В соединении они определяли отношение к природе не только как к сумме одушевленных и порой персонифицированных в виде божеств-ками объектов — гор, деревьев, скал, водопадов, но как к единому организму, все части которого соподчиняются и образуют гармоничную целостность.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
157
Мифопоэтическая модель мира, суть которой — взаимодействие человека и природы, сохранялась в японском обществе в течение всего средневекового периода, безусловно, пережив определенную трансформацию вследствие взаимодействия с буддизмом и отчасти даосизмом. Свойственное синтоизму как совокупности древнейших верований обожествление природных объектов, кроме всего прочего, имело прямое воздействие на сам тип мышления, в основе своей не умозрительного, но образного. Конкретность представления о божестве-ками («эта» скала, «этот» ручей) открывала человеку мир в его вещественной достоверности и одновременно сакральности, слитности божественного, человеческого и природного. Представление о «неравенстве» предмета самому себе было естественной почвой образного мышления, в том числе любого теоритизи- рования, «... неудивительно, что эстетика, ко времени взаимовлияния синтоизма и буддйзма уже достигшая значительного расцвета и проникшая во многие сферы жизни общества, взяла на себя функции переработки и усвоения новых философских идей и, отбирая и видоизменяя их, принялась разрабатывать стиль мировосприятия, т. е. отчасти выступила в роли философии»1. Это обстоятельство представляется особенно важным для дальнейших рассуждений, поскольку именно под влиянием эстетики слова и ее законов происходило становление декоративной живописи как жанра. «Изначальные принципы мироотношения, архаические верования японцев и тесно увязанные с ними особенности этнопсихологии на протяжении веков вплоть до нынешних дней действовали как постоянный фактор, придавая индивидуальную окраску всем типам культурных проявлений. И нет сомнения, что характерные черты специфически японской художественной образности, сама логика и закономерности построения художественного образа должны изучаться не только путем выяснения поэтологических традиций... Необходимо, по-видимому, представлять себе и ту национальную архетипическую подоснову, которая всегда ощущалась и продолжает ощущаться литературой...»2
Эту подоснову необходимо принимать во внимание и при анализе живописи, в том числе декоративных росписей. Композиционное мышление художника, наблюдаемые в картине принципы специфической деформации объектов действительности и их реальных связей могут быть истолкованы только при сопоставлении конкретных художественных явлений с общими мировоззренческими установками эпохи. Известно, что средневековый художник передавал не свои, индивидуальные представления о мире и его законах, но представления коллективные, закрепленные в традициях духовной культуры нации. В силу этого произведение и приобретало свойство модели мира, а не его отдельного фрагмента3.
Свойственное мифопоэтическому мышлению представление о целостности мироздания подразумевает невычлененность человека из природы, существование внутри нее и, следовательно, невозможность противостояния человека природе как субъекта объекту. Средневековый живописец не наблюдает, подобно европейскому художнику Нового времени, природу извне, но живет внутри этого мира и воспринимает законы природы как свои собственные: человек рождается, живет и умирает так же, как распускаются весной цветы, зеленеют, а затем желтеют и опадают листья деревьев. В самоощущении человека не может быть одиночества как противостояния миру и отъединенности от него, а сама конечность человеческой жизни накладывается на бесконечность жизни приро-
1 Цит. по: Ермакова Л. М. Синтоистский образ мира и ный опыт средствами организованной формы».— См.:
вопросы поэтики классической японской литературы // Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.,
Восточная поэтика. М., 1983. С. 173 1974. С. 59.
2 Там же. С. 159.
3 Р. Арнхейм пишет об «изумительной способности художника создавать модели, которые объясняют жизнен-
158
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
79
Огата Корин Осенние травы Роспись на веере Начало 18 в.
80
Огата Корин «Яцухаси»
Роспись на веере Начало 18 в.
ды, постоянство ее возрождения. Естественно поэтому, что человеческое в искусстве сливается с природным, что все эмоции и настроения уподобляются образам и стихиям природы и воплощаются в них. Уподобление человеческих чувств природным явлениям есть также признак связи социального с природным, стремления к созданию единой космологической картины мира, где все взаимосвязано и иерархически упорядоченно.
Мотив вьюнка, избранный для монументальной росписи (в монастыре Мёсиндзи в Киото) художниками Кано Санраку и Кано Сансэцу,— явление, возможное лишь в силу того, что все в мире представлялось одинаково ценным и соотносилось с целостностью универсума, выражая всю полноту бытия. Точно так же в трехстишии Басё сплавлены воедино конкретность единичного мотива и выраженный в нем всеобщий закон жизни:
Рядом с цветущим вьюнком Отдыхает в страду молотильщик.
Как он печален, наш мир!4
Тема природы, воплощаемая в каждом случае через определенный канонический мотив, привлекает мастеров декоративных росписей не только сама по себе, но позволяет передать и выразить как конкретные чувства, так и общие миропредставления. Японский живописец, выбирая тот или иной мотив, стремился не просто воспроизвести его визуальную достоверность (сосна, кипарис, пион, ирис), но найти способ передать связь его с чем-то более общим и значительным, как бы подсоединить к восприятию многовековые слои культурной памяти.
Это было одним из законов жанра и проявилось еще на самом раннем этапе его
4 Цит. по: Японские трехстишия. М., 1960. С 68
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
159
81
Огата Корин «Тацутагава» Роспись на веере Начало 18 в.
развития, в тот момент, когда декоративная живопись существовала не как самостоятельное художественное явление, но в обязательном симбиозе с поэзией. Под воздействием уже достаточно развитой к тому времени поэтики стиха формировались и жанровые особенности декоративной живописи. Хронологически это относится к эпохе Хэйан (9—12 вв.). В ту пору религиозные и дидактические функции приняли на себя икона и буддийская роспись (главным образом в амидийских храмах, одним из которых был храм Бёдоин, упоминавшийся в предыдущей главе). Росписи на ширмах зарождались и развивались сразу же как искусство светское и функционировали наряду с поэзией и музыкой в аристократической придворной среде.
По свидетельству специалистов, росписи на светские сюжеты появились в 9 веке. В тот период преобладающим типом жилища представителей высшего сословия были здания так называемого стиля синдэн-дзукури, лишенные внутренних перегородок, функции которых выполняли занавеси и ширмы. Именно на ширмах и выполнялись росписи.
До настоящего времени не сохранилось ни одного произведения того периода, но зато имеются многочисленные косвенные свидетельства о росписях 9—10 веков в литературных произведениях, а также на горизонтальных свитках живописи при изображении сцен в интерьерах. Оба эти источника неоднократно анализировались учеными, интересовавшимися ранними настенными росписями. Ценные выводы делает К. Тода в специальной статье, посвященной происхождению мотивов росписей на ширмах 9—10 веков5. Японский ученый обратил внимание на то, что в антологиях поэзии, составлявшихся с начала 10 до начала 13 века6,
5 Toda Kenji. Japanese Screen Painting of the Ninth and последующих, была составлена при императоре Дайго в
Tenth Centuries // Ars Oriental is, 1959. Vol. 3. P. 153— 905 году, и предисловие к ней было написано знамени-
161. тым Ки-но Цураюки — «Кокинвакасю» («Кокинсю»). За-
6 Это так называемые императорские антологии; самая тем последовали: «Гозэнвакасю» (951), «Суйвакасю» первая и знаменитая из них, послужившая образцом для (997), «Госуйвакасю» (1086), «Кинёвакасю» (1128) и др.
160
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
неоднократно упоминаются стихи, написанные на ширмах. Эти сведения содержатся в прозаических пояснениях к отдельным стихотворениям, так называемым хасигаки, обычно раскрывающим ситуацию, при которой были созданы эти стихи. Самое большое число стихотворений, предназначавшихся для ширм, содержится в антологии «Суйсю». Это объясняется тем, что отбор стихов для антологии был сделан при императоре Кадзане (968—1008), увлекавшемся одинаково как поэзией, так и живописью. Все антологии были составлены по образцу самой первой — «Кокинсю», где стихи были классифицированы по девяти группам: «Песни весны», «Песни лета», «Песни осени», «Песни зимы», «Песни любви», «Песни странствий», «Приветственные песни», «Песни скорби», «Разные песни». Стихи, посвященные четырем сезонам, всегда помещались в начале антологии7. Большое количество стихов, сочинявшихся специально для ширм, как считает японский исследователь К. Тода, указывает на то, что ширма была в тот период предметом роскоши даже для высшей придворной знати. Как правило, ширмы исполнялись по особому заказу богатых людей к какому-нибудь событию — дню рождения, празднику и т. п. Так, например, в антологии «Кокинсю» в разделе поздравлений имеются стихи Фудзивара-но Окикадзэ, которые были написаны на картине с изображением человека под цветущей вишней и предназначались к празднованию пятнадцатилетия принцессы. Обычно картина писалась на тему стихотворения, но были и исключения. В той же антологии «Кокинсю» есть стихотворение поэтессы Сандзё Мати о водопаде. В пояснении к нему говорится, что поэтесса была в числе придворных в тот момент, когда император Монтоку (827—858) обратил внимание на картину на ширме и
82
Огата Корин Тэбако— косметическая шкатулка с декором из вееров Начало 18 в.
7 Но если в антологии «Кокинсю» из 1100 стихотворений только 6 были предназначены для ширм, то в антологии «Суйсю» из 1353 стихотворений 129 были для живописи. В этой же антологии сезонных стихов было 421 и любовных — 446. Из стихотворений, написанных для ширм, весне было посвящено 35, лету—17, осени — 34, зиме —18.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
161
83
Огата Корин Бамбук и сливы Роспись ширмы Деталь Начало 18 в.
попросил сочинить стихи на ее сюжет8. В антологии «Суйсю» большинство стихов может быть классифицировано как поздравления на тему четырех сезонов. Соответственно и живопись исполнялась на эти темы. В личных антологиях многих поэтов также есть указания на то, что стихи предназначались для ширм, например в антологии поэтессы Исэ. В антологии знаменитого Ки-но Цураюки, состоявшей из 10 томов с 848 стихотворениями, первые пять томов полностью были посвящены поэзии на ширмах9.
В отличие от многочисленных имен поэтов, писавших стихи для ширм, не сохранилось ни одного имени выполнявших их живописцев. Это обстоятельство подчеркивает то, что в двуединстве поэзии и живописи в тот период безусловно главенствующее место принадлежало поэзии10. Отсутствие имен живописцев при обилии имен поэтов в 9 веке указывает на то, что росписи ширм воспринимались только рядом со стихами. Лишь позднее живопись стала оцениваться эстетически как самостоятельное явление, отдельно от поэзии. Но в японской культуре 9—10 веков именно поэзия занимала самое важное место, воздействуя на все другие литературные жанры и на другие виды творчества, в том числе и на живопись. Можно предположить, что не только мотивы и сюжеты, но и строй образов, сам тип художественного мышления, свойственные поэзии, оказывали самое существенное воздействие на формировавшуюся живопись на ширмах. Это предположение подтверждается ее дальнейшей эволюцией. Таким образом,
8 Toda Kenji. Op. cit. P. 156. ривались как один из видов литературы.— См.: Japani-
9 Ibid. Р. 158. sche Wand — und Wandschirmmalerei // Nachrichten der
10 По мнению Ю. Яманэ, росписи со стихами периода Gesellschaft fur Natur—und Volkerkunde Ostasiens, 1962. Хэйан были не только украшением комнат, но рассмат- N 91, S. 41.
162
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
84
Огата Корин Павлины и мальвы Роспись ширм Деталь Начало 18 в.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
163
85
Огата Корин Павлины и мальвы Роспись ширм Деталь Начало 18 в.
164
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
несмотря на отсутствие памятников того периода, можно косвенным путем, на основании анализа поэзии сделать некоторые выводы о методе работы художников ранней живописи на ширмах.
Особенности классической поэзии 9—12 веков складывались по образцам более древним, а ее приемы были развитием архаичных признаков ритуальных песнопений и молитвословий.
Основные образы древней японской поэзии связаны с опытом сельскохозяйственной общины, ее насущными заботами и проблемами (начало высадки рисовой рассады, сбор урожая и т. п., то есть с сельскохозяйственным циклом). В духовной сфере, в том числе в поэзии, происходило осмысление реальной производственной деятельности и передача информации следующим поколениям— через обряды и магические действа (как способ воздействия на природу), через канонические, закрепленные традицией поэтические образы-символы. Постоянное общение с природой, наблюдение над ней, осознание ее закономерностей было одной из самых важных форм познания вообще. А жизненная важность для коллектива знаний о природе, в том числе закрепленных в системе традиционных поэтических образов, была выражена во всеобщем распространении поэзии во всех слоях общества.
Эпоха становления литературной поэзии, сложения норм классической поэтики с наибольшей полнотой отражена в знаменитой антологии «Манъёсю», составленной в конце 8 века. В двадцати книгах этой антологии содержатся как авторские стихи, так и множество безымянных образцов поэтического искусства древности. Четко различимые фольклорные основы, связанные с ними определенные темы и образы объясняют огромное место среди стихов «Манъёсю» календарной поэзии и в разделах, посвященных собственно временам года, и в разделах любовной лирики, странствий и др. «Приметы каждого сезона были в центре внимания японского земледельца, все подсказывало ему судьбу посевов, сроки полевых работ, результаты урожая»11. Прямое отношение к земледельческим культам имели брачные игрища, которыми заканчивались старинные хороводы. Отсюда сезонность в любовных стихах — обетах, заговорах, перекличках. Близость к фольклору определяла и жанровые особенности стихотворений «Манъёсю» — их песенную форму («длинная песня» — нагаута, «короткая песня»— танка). И в той, и в другой имеет место чередование пяти- и семисложных стихов12. В раннюю литературную поэзию вошли как основные темы народной песни, так и ее поэтические приемы — постоянные эпитеты, сравнения, зачины и концовки, то есть готовые поэтические формулы. Это определяло сам характер поэтического образа, когда в его структуру входит не только непосредственно произнесенное (и услышанное), но и многочисленные внетекстовые ассоциации, постепенно ставшие традиционными, закрепленными в сознании тех, к кому были обращены стихи. Так складывавшаяся в русле народной песенности. система устойчивых образов-ассоциаций перешла в литературную поэзию, что видно в авторских стихах «Манъёсю», а затем стала основой японской классической поэтики. В поэтических формулах очень рано произошло закрепление определенных сезонных признаков, в том числе сюжетно-тематических. Например, знаком весны была туманная дымка, дерево ивы; знаком лета — кукушка, цикады; осени — алые листья клена, олень, луна; зимы — снег и цветы сливы. Рожденные из реальных наблюдений природы, они постепенно становились элементом поэтического языка и получали определенные функции в произведении.
11 ГлускинаА. Е. Заметки о японской литературе и воспринимался как художественная речь.— См.: Елисе-
театре. М., 1979. С. 41. ев С. Японская литература // Литература Востока. Пг.,
12 Там же. С. 47. Характерный ритм 7—5 или 5—7 был 1920. Выл. 2. С. 44. настолько свойствен японской поэзии, что только он
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
165
В антологии «Манъёсю» отражен тот период в развитии японской литературы, когда, будучи тесно связанной с фольклором, она имела широкое распространение во всех слоях общества, а стихи умели сочинять все. «Объясняется это, по-видимому, тем, что песня, сопровождавшая труд, а затем обряд, была глубоко связана с древними верованиями, со всем бытовым укладом общества. Сочинять песню означало иногда то же, что и произносить молитву. Считалось, что песня обеспечивает урожай, оберегает жизнь, сохраняет благополучие. Недаром котодама (вера в силу души слова, то есть магию слова) была одним из основных верований того времени»13. Подобная укорененность в жизни объясняет и то, почему именно поэзия оказалась ведущим видом творческой деятельности, влиявшим на всю духовную жизнь общества, в том числе на развитие других видов искусства. Преобладающее место в системе культуры сохранялось за литера'турой на протяжении многих веков средневекового периода, чем и объясняется ее воздействие на живопись.
Широкое признание поэзии привело к тому, что возник и получил большое распространение, особенно в аристократической среде, обычай обмениваться стихами, которые стали неотъемлемой частью любого послания, письма, всякой корреспонденции. Кроме того, при дворе стали устраиваться поэтические турниры на заданную тему. Так, поэзия, оперировавшая особым языком с преобладанием канонической образности и определенных устоявшихся ассоциаций, создавала искусственный мир со своими законами, а ее образы получали значение общеизвестных символов и знаков, постепенно распространявшихся и на другие виды творчества, в том числе живопись. Стихи сочиняли главным образом к случаю, и картины тоже писались к празднику, дню рождения и т. п.
В поэтических антологиях 10—13 веков, как отмечает академик Н. И. Конрад14, заметно преобладает массовая продукция, когда изощренно варьируется одна и та же модель определенной канонической образности. Обилие в языке омонимов давало возможность не только их постоянного обыгрывания, но делало легко достижимым двусмыслие и даже многосмыслие стихов, что превратилось в основной прием поэтики. Как и в фольклоре, сюжетно-тематическая сторона произведения была общеизвестна и потому не представляла специального интереса, важно было соответствие ситуации, ее обыгрывание в системе намеков и завуалированных ассоциаций. Отчасти это перешло и в живопись, где никогда не было однозначности выражения смысла, а метафоризм и символика, связанные и с временами года и их приметами и, конечно, с текстом стихотворения, с которым изображение было соотнесено. Таким образом, формирование специального поэтического языка пятистиший — танка вызывало необходимость появления сходных особенностей и в языке живописи, то есть набора тем, образов и средств для их воплощения. Только при этом условии живопись могла выполнить предназначавшуюся ей роль сопровождения поэзии, ее визуализации. И если специалисты-литературоведы говорят о метанимической природе японского классического стиха с его набором сезонных слов, постоянными эпитетами и т. д.15, то сходными признаками была отмечена и декоративная живопись, начиная с раннего периода ее сложения.
Так проясняется вопрос о происхождении тем и образов ранней японской живописи на ширмах. Изучение классической японской поэтики помогает понять процесс формирования особых приемов и средств выразительности этой живописи, получившей наименование ямато-э.
13 Там же. С. 46, 47.
14 См.: Конрад H. И. Японская литература. М., 1974.
С. 91, 92.
15 См.: Ермакова Л. М. Указ. соч. С. 166.
166
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
86
Огата Корин Зарисовка птиц Начало 18 в.
87
Огата Корин Зарисовка птиц Начало 18 в.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
167
Как отмечают специалисты, занимающиеся изучением поэтики японского классического стиха-танка, творческий метод лирики Хэйана отмечен эстетикой тождества16 17, когда следование канону безусловно преобладает над новизной идей и форм. Поэт Фудзивара Садаиэ писал: «Слова должны быть старые, а сердце пусть будет новым» . В «Предисловии» знаменитого поэта и писателя 10 века Ки-но Цураюки к антологии «Кокинсю» регламентируется содержание поэзии, а также формулируется система правил, следование которым только и может привести к созданию поэтического произведения. Тут определяется тематика поэзии, в большинстве случаев связанная с природой, и «поэтическое воображение не выходит из этого круга тем и на протяжении последующих четырех столетий (о чем свидетельствует, например, содержание поэтической антологии «Синкокинвакасю» — «Новая Кокинсю», 1205). Прочие темы считались непоэтическими»18.
Однако образы природы волновали хэйанских поэтов не сами по себе. Они были лишь средством передачи эмоций, душевных состояний,^связанных с каким-либо определенным моментом. Закрепленные в каноне образы природы образовывали как бы словарный фонд поэтического языка со своими установленными значениями. Этим образам соответствовали определенные эмоции, получавшие тоже в значительной мере канонизированный облик. Клишированность эмоций и выражающих их образов-знаков определяла сам тип условности хэйанской поэзии, связанной во многом с условностью и этикетностью самой жизни аристократического сословия19. Общеизвестность тем и сюжетных ситуаций позволяла при крайней лаконичности выражения (в пятистишии всего 31 слог) через деталь или намек передавать многообразные оттенки эмоциональных состояний, обратить все поиски в сторону средств выражения, их разнообразия и утонченности. Как отмечает И. А. Боронина, для хэйанской поэзии характерны непрямые формы передачи чувств — как с помощью усложненного поэтического синтаксиса, так и разнообразнейших утонченных ассоциаций.
Туман весенний, для чего ты скрыл Те вишни, что окончили цветенье На склонах гор?
Не блеск нам только мил,—
И увяданья миг достоин восхищенья!
Ки-но Цураюки20.
Поскольку поэзия была ведущим видом творчества в системе художественной культуры периода Хэйан, то сама принадлежность к искусству означала необходимость пользоваться условным языком, выработанным поэзией — ее особой лексикой, приемами и средствами выразительности. Естественно поэтому, что живопись в пределах собственной видовой специфики осваивала и воспринимала главные особенности языка танка, а каноны стихосложения ложились в основу ее собственной канонической образности.
Самый первый и наиболее доступный уровень сходства поэзии и живописи периода Хэйан — сюжетно-тематический. Здесь решалась простейшая задача иллюстрирования текста, соответствия ему. Живописец шел за тематическими разделами, которые были обозначены в поэтических антологиях, в первую очередь шел за указанием времен года и их признаков.
На многих старых свитках (Гэндзи моногатари эмаки, 12 в.; Касуга Гонгэн Кэнки, 1309 и других) можно рассмотреть ширмы с изображением природы в разное
16 См.: Боронина И. А. Поэтика японского классического 18 Боронина И. А. Указ. соч. С. 24. стиха. М., 1978. С. 20. 19 См.: Боронина И. А. Указ. соч. С. 20.
17 Цит. по: Санович В. Очерк японской классической 20 Цит. по: Японская поэзия. М., 1954. С. 71.
лирики // Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи,
Вьетнама, Японии. М., 1977. С. 595.
168
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
время года. То, что поэт «рисовал» словами21, используя систему канонических образов, живописец передавал средствами своего искусства — линией, цветом, композицией. Из перечисления признаков времени года возникал пейзаж, и строился он уже на основе закономерностей, свойственных визуальному образу. Так живопись постепенно приобретала свой иконографический канон, в рамках которого и работал художник, лишь отчасти корректируя свой изобразительный язык непосредственными впечатлениями от живой природы, так как любование ею было одной из важных сторон жизни хэйанского высшего сословия. И сам канон был связан не только с определенным мировоззрением, но с распорядком и образом жизни. Он обеспечивал возможность узнавания, всеобщую доступность и как бы открытость произведения для посвященных, знавших и усвоивших систему формальных приемов, символических обозначений и т. п. Таким образом, вслед за поэзией с ее укорененностью в повседневной жизни (вспомнить хотя бы те места из «Дневника Тоса» Ки-но Цураюки, где рассказывается об обстоятельствах сочинения стихов разными людьми, которые плыли вместе с ним на одном корабле)22, живопись на ширмах становилась также одним из средств общения. Подобно тому, как поэзией считалась только определенно организованная речь (ритмически в чередовании 5—7 слогов, а стилистически использующая каноническую систему образов и приемов), так и искусство живописи воспринималось как таковое в уподоблении поэзии. Признаками ее в сознании людей периода Хэйан было непременное сходство с темами и мотивами, принятыми в поэзии. Сформировавшиеся в поэзии законы творчества стали восприниматься как универсальные, и художник в значительной степени уподоблялся поэту, когда он обращался к системе тропов (таких, как метафора, метонимия, олицетворение и другие), открывавших путь к художественному обобщению.
Когда мы говорим о системе тропов, воспринятых живописью из поэзии, то на первом месте будет такой прием, как какэкотоба («поворотное слово»), омонимический троп, игравший важнейшую роль в поэтике японского стихосложения не только классического периода Хэйан, но и в позднейшие века, более того — перешедший в иные жанры, в том числе прозаические23. Прием основан на существовании второго смысла одинаково звучащего слова (мацу—сосна и ждать; нори — водоросли, закон, правило; каи — раковина и смысл). Но в применении к живописи меняется механизм считывания второго смысла (так как от зрительного образа возникают связи с каноническим литературным образом и его вторым значением, существующим в языке), но сам прием как таковой по функции и художественному результату аналогичен поэзии.
Второй важнейший троп — энго (связь слов по семантическим ассоциациям) в живописи функционирует почти так же, как и какэкотоба. Изображение может быть уподоблено стихотворению, которое «будучи воспринято целостно и единовременно, тем не менее предстает как бы в двух ипостасях с точки зрения его семантики, логики развертывания поэтической мысли, тропов и образов»24. В живописи, как и в поэзии, многозначность образа предполагает возможность его различного толкования, предполагает существование разгадки зашифрованного смысла, но без знания законов поэтики она недоступна зрителю. Иначе говоря, не только восприятие поэзии, но и восприятие живописи предполагало определенную степень подготовленности, литературной эрудиции25.
Можно найти в живописи приемы, близкие и другим приемам поэтики японского стиха, не говоря уже о свойственных любой поэтической речи — метафоре,
21 Здесь уместно отметить большую «зрелищность» стихотворных образов, их аппеляцию не только к уху, но и глазу.
22 Ки-но Цураюки. Дневник путешествия из Тоса // Горегляд В. И. Ки-но Цураюки. М., 1983. С. 114—132.
23 См.: Ермакова Л. М. Омонимическая метафора в
средневековой поэзии Дальнего Востока // Типология и
взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974. С. 563.
24 Там же. С. 564.
25 Эрудицию эту, однако, не надо отождествлять с логическим знанием, ибо в процессе восприятия и поэзии и живописи, опиравшемся не на индивидуальный, а коллективный опыт, безусловно главенствовала интуиция.
88
Огата Корин «Яцухаси»
Свиток живописи Начало 18 в.
170
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
89
Огата Корин Ирисы
Роспись ширм Начало 18 в.
уподоблении, аллегории. В данном случае важно подчеркнуть более общую закономерность: на основе поэтики стихосложения26 происходило формирование собственных канонов жанра декоративной живописи, в принципе лишенной повествования, сюжетного развития и потому вынужденной расширять семантическое поле произведения за счет внеизобразительных средств. Главной темой декоративной живописи была природа, мотивы которой постоянно повторялись и варьировались. Однако изображение природы было изначально условно и клишированно, так как являлось не результатом взаимодействия художника и реальности, а переносом из поэзии свойственных ей канонических мотивов. Условность эта существовала при внешнем правдоподобии изобразительных форм, так как необходимо было узнавать признаки определенных объектов природы — в первую очередь сезонные или же канонические признаки прославленных мест.
Благодаря связям с классической поэзией росписи имели длительную родословную в культуре, связь с древнейшими слоями национального сознания. Поэтому мотивы росписей представляли собой конденсацию жизненно-исторического опыта, имевшую общественно-значимый смысл. Образ всегда был значительнее самого мотива как метафора поэтическая и философская, как выражение художественной правды.
От ширм, где стихи были написаны, то есть изображение и текст непосредственно соседствовали, развитие шло к ширмам без текста, но он как бы подразумевался благодаря определенным соотношениям с канонизированными образами. Так сложились собственно живописные жанровые подразделения — сики-э («картины четырех сезонов») и мэйсё-э («картины прославленных мест»). Сложение жанров живописи было фактором очень важным. Это был шаг к самоопределению живописи, ее самостоятельному существованию и развитию. Правда, на этом этапе каноническая образность поэзии еще была определяющей. Как отмечает
26 См.: Боронина И. А. Особенности художественного образа в японской традиции и их модификации в поэзии и прозе // Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М., 1983. С. 185.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
171
профессор С. Иэнага, в картинах четырех сезонов реальные наблюдения отступают перед мотивами, идущими от поэзии. И даже в композициях мэйсё-э, несмотря на географическую точность обозначения известных красивых мест — Асукагава, Сумиёси, Тацутагава, Мусаси и т. п., вовсе не изображалась конкретная местность, а некий идеализированный поэзией образ, так что автор такой картины скорее всего писал ее, не покидая столицы27.
Поскольку изначально было задано, по аналогии с поэзией, что изображенные формы значат не то, что они представляют визуально, а через них передается нечто иное, то в сознании многих поколений людей, воспринимавших живопись, выработалось ассоциативное мышление, в основе своей также клишированное. Возникла своеобразная неспособность видеть без опоры на канонические смыслы — ассоциации. Это с одной стороны порождало свободу восприятия и усвоения образов живбписных произведений, но с другой — автоматизм этого восприятия, сводивший к минимуму сам акт эстетического переживания. Преодолением этого становилось стилевое развитие живописи — усложнение и трансформация ее языка, а также изменение контекста, с которым это искусство взаимодействовало. Кроме того, «опыт других искусств не переносится механически на чуждую ему почву: он претворяется, перерабатывается в лоне искусства, которое его восприняло»28. Язык живописи ямато-э, а впоследствии Тоса развивался таким образом, что появлялась возможность новых связей с изменившимся полем культуры, и отсюда возникали новые смыслы. Взаимодействие это, в свою очередь, влияло на развитие языка живописи, ее средств выразительности. Тематизм ямато-э сохранялся в традициях школы Тоса вплоть до 16 века, об этом свидетельствуют известные ширмы с солнцем и луной из Конгодзи (Каути, префектура Осака) — яркий пример позднего варианта сики-э. Эта роспись—воплощение традиционной темы времен года. Правая ширма— образ возрождения и цветения природы, левая — ее увядания и покоя. Стремясь
90
Огата Корин Ирисы
Роспись ширм Начало 18 в.
27 См.: lenago Saburo. Painting in the Yamato Style. New York, Tokyo, 1973. P. 47, 88.
28 Дмитриева H. А. Изображение и слово. M., 1962. С. 31.
172
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
найти наиболее точные средства передачи идеи упорядоченности мира, его гармонии и совершенства, художник применяет своего рода монтаж традиционных элементов, обозначающих каждый сезон, и создает одномоментный, симультанный образ бесконечного процесса перехода природы из одного состояния в другое. Конкретные детали пейзажа — поросшие деревьями холмы, цветущие вишни, волны потока—связаны друг с другом не столько сюжетно, сколько путем включения в общую ритмическую структуру произведения. Для художника не важны естественные масштабные соотношения и реальная окраска изображаемых предметов. Ведущую роль в формировании эмоционального впечатления от росписи играет характер линейного ритма. На ширме с весенне-летним мотивом это крутые, волнообразные силуэты гор, создающие впечатление спокойного, мощного дыхания природы. На ширме с осенне-зимним мотивом изображения заснеженных холмов помещены на заднем плане и очерчены пологими, спокойными линиями, а весь передний план занят стилизованными завитками волн потока, омывающих причудливые скалы и островки. Дробный ритм изогнутых, будто сопротивляющихся ветру деревьев создает принципиально иное ощущение, чем в правой ширме. Ритм как элемент живописного языка становился методом художественного постижения и воплощения в искусстве законов природы. Благодаря ритмической организации визуальных ч элементов, свободнонеупорядоченное в реальности превращалось в четкую художественную структуру, создавая образ порядка мироздания.
Решению той же задачи было подчинено и цветовое построение росписи: в пейзаже с солнцем — воплощении света и начальной стадии природного цикла — это звучный зеленый, в пейзаже с луной — олицетворении холода и тьмы — приглушенные серо-лиловые тона. Условный цвет в росписи рассчитан на интуитивное восприятие и является средством эмоционального воздействия. Эмпирическая реальность пересоздавалась художником с целью воплотить не конкретное и преходящее, а универсальное и вечное. На этой основе складывались приемы декоративно-ритмической организации росписи.
Осваивая стилистику обеих школ — канга и ямато-э, мастера школы Кано, как это было показано, стремились к их синтезу. Но кроме того, они осваивали и существенно перерабатывали тематику их произведений. Они постепенно уходили от канонических тем монохромной живописи Муромати, возвращаясь на новой основе к сюжетам и жанрам, которые были свойственны искусству 9—12 веков, и в первую очередь к сики-э, или к изображению четырех времен года. Так, росписи Кано Эйтоку в монастыре Дзюко-ин как явление переходное можно рассматривать с точки зрения тематических канонов монохромной живописи с такими ее характерными мотивами, как водопад, гуси в камышах, журавль, но эту же роспись можно трактовать и как вариант сики-э, восходящий к хэйанским традициям. Условно началом композиции может считаться весенний мотив на восточной стене, переходящий затем в сцены лета и осени на северной й зимы на западной стене. Идея непрерывности и бесконечности природных циклов как бы замыкает действие в кольцо, и роспись становится не суммой эпизодов, а единой композицией, несмотря на умозрительные связи отдельных частей. Точность воспроизведения натурных элементов для художника второстепенна по сравнению с задачей создания целостного образа мира в его движении. Визуальный опыт, если и реализуется в его картине, то занимает подчиненное место рядом с традиционными элементами, укорененными в художественном мышлении народа.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
173
При стилевом анализе настенных росписей мастеров Кано уже шла речь о том, как постепенно пейзажность трактовки темы вытесняется опорой на сюжетные элементы живописи «цветов — птиц» (катёга). Канонические мотивы монохромной живописи, в том числе упомянутые водопад, журавль и другие, почти исчезают. Самым распространенным становится изображение могучего дерева—сливы, клена, кипариса, сосны. В решении исторической задачи создания нового канона настенной росписи Кано Эйтоку, активно стремившийся к синтезу стиля двух направлений — канга и Тоса, в отношении к методу должен был остановиться на одном: традициях, шедших от ямато-э. И это с полной очевидностью проявилось в его росписях по золотому фону.
Как уже говорилось в предыдущей главе, захвативший власть Ода Нобунага начал в 1576 году возведение грандиозного по размерам укрепленного замка Адзути. С его стороны это был акт не только практический, связанный с личной безопасностью и условиями военной диктатуры, но и акт символический. Нобунага должен был утвердить себя как правитель, и строительство замка было одной из форм такого утверждения. Стремление украсить замок невиданными дотоле росписями было установкой на беспрецедентность (таковой была и сама власть Нобунага как узурпатора), но функции росписей не могли осуществляться без опоры на традиции. Темы, мотивы должны были быть открыты восприятию, легко узнаваться и усваиваться зрителем.
Безусловно, Эйтоку был захвачен пафосом, размахом того, что происходило перед его глазами, грандиозностью собственной задачи, необходимостью найти в искусстве формы, адекватные социально-историческим переменам в стране. Из тихих монастырских покоев живопись выходила в пространства, предназначавшиеся для многолюдных общественных церемоний и пышных ритуалов, связанных с устроением новых государственных порядков, приемами иностранных послов и т. п. Коренным образом менялись функции живописи и ее предназначение. Бурные исторические события и рожденные ими общественные идеи в сознании Эйтоку превращались в новые, невиданные образы его росписей, где традиционные природные мотивы наполнялись новым смыслом. Он творил свой мир, связанный особыми, сложными связями с реальностью. В структуру образов включался новый исторический контекст, традиционная натурфилософская идея цикличности развития природы, а также отдельные образы-символы (сосна, орел, могучие старые деревья и т. п.) сопоставлялись с социальными явлениями времени. В коллективном общественном сознании только через образы природы возможно было утверждение места человека в мире (а задача правителей- узурпаторов Ода Нобунага, а затем Тоётоми Ходэёси как раз и состояла в том, чтобы доказать законность и историческую обусловленность «своего места»). Из обширной иконографии природных мотивов Эйтоку выбирал то, что подходило к ситуации, и трактовал эти мотивы так, чтобы образ вызывал соответствующие ассоциации и с личностью правителя и с идеей причастности мирозданию, Природе — Универсуму. Символизируя правителя, образ был при этом надличностным, имперсональным как образ власти, могущества, силы вообще, как их эмблема.
Выбор мотивов, таким образом, был основан на архетипах национальной культурной традиции, так как без этого не мог быть выполнен тот социальный заказ, который обязан был реализовать Эйтоку в своих росписях. Вслед за отбором мотивов происходила их организация в определенную систему, в
91
Огата Корин Ирисы
Роспись ширм Деталь Начало 18 в.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
175
92
Огата Корин
Шкатулка
для письменных
принадлежнос тей
«Яцухаси»
Начало 18 в.
которой связи чисто художественные сопрягались с внехудожественными. Об этом свидетельствуют сохранившиеся описания помещений в замке Адзути и распределение в них росписей, мотивы которых были связаны с функцией и назначением залов.
Сам акт выбора мотивов, их аранжировка были проявлением определенной концепции, мировоззренческой позиции. Оставаясь в общем русле мироощущения, свойственного японской средневековой художественной культуре, Эйтоку в новой исторической ситуации трансформировал каноническую образность, создавая собственную модификацию канона. Социальные функции декоративных росписей могли быть реализованы только через их эстетические функции, и новый строй образов проявлялся в новой их стилистике.
Можно сказать, что главная особенность художественного образа в росписях Эйтоку и мастеров периода Момояма состоит в том, что он возникает в сознании зрителя из сопоставления конкретного изображенного мотива со сложным комплексом культурно-исторических представлений. Само изображение— дерево, цветок, птица—было лишь одним из компонентов образа, дававшим необходимый толчок ассоциациям с исторически значимыми в данной культуре символами и концепциями.
Эйтоку интересует не сосна сама по себе и сидящий на ветке орел, а их эмблематическое значение (самурайская доблесть, мужество и т. п.), то есть художник с помощью соединенных двух ключевых образов-знаков по принципу ассоциативных связей добивается интерпретации мотива в нужном направлении и из множества потенциально возможных смыслов заставляет выбрать един¬
176
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
ственно нужный в данной ситуации. Так стесненное отсутствием сюжетного развития художественное пространство росписи расширяется за счет внеизобра- зительных компонентов29 30.
Новизна художественного метода Кано Эйтоку, а вслед за ним и других мастеров Момояма, состояла в том, что он применил в декоративных росписях традиционные для национального художественного мышления приемы. Это определило окончательное становление в конце 16 века декоративной живописи как жанра. На примере одного мотива — изображения сосны можно проследить механизм подключения множественности значений, которые получают актуальность в какой-либо конкретной ситуации.
Частое повторение мотива сосны безусловно связано с простыми жизненными впечатлениями и наблюдениями. Но уже в древности это дерево имело и особое символическое значение. Наиболее распространенное и общеупотребительное — долголетие, молодость, мужественность и крепость. Постоянно встречается образ сосны в классической поэзии. В антологии «Кокинсю»:
В заливе Суминоэ
В соснах осенний ветер
Дует... К нему
Свой голос присоединяют
Моря белые волньг0. 4
О том же самом месте — Суминоэ (или Сумиёси) говорится в «Дневнике путешествия из Тоса» Ки-но Цураюки, когда вид сосен вызвал к жизни такие стихи:
Едва взглянув, я сразу понял,
Что прежде, чем сосна Из бухты Суминоэ,
Я старости достиг31.
Одно лишь упоминание Сумиёси вызывало в памяти образ сосен на побережье, и наоборот, сосна вызывала ассоциации с этой местностью и ее прославленной красотой. Так возник один из канонических мотивов живописи мэйсё, и вплоть до 16 века повторялся и варьировался художниками школы Тоса (известный сюжет «хамамацу»).
Старинная легенда одну из сосен в Сумиёси связывала с другой сосной — в Такасаго, и они считались символом верных супругов, перенесших мужественно все тяготы жизни. В репертуаре театра Но имеется драма Дзэами «Такасаго», в основу которой положена эта легенда. «Кроме того, сосны Такасаго и Сумиёси ассоциируются в драме также с двумя поэтическими антологиями — «Манъёсю» и «Кокинсю», воспевается магическая сила поэзии, расцвет которой выступает залогом процветания и мира государства. Славное правление, по представлениям древних японцев, сопровождается расцветом поэзии, поэтому гимны поэтическому искусству равнозначны восхвалению государства. Так сосны YaKacaro и Сумиёси становятся в драме символами преданной любви супругов, процветания поэзии, знаками долгого и прочного правления»32.
Помимо конкретной пьесы, сосна в театре Но имела особое значение. Каноническая конструкция сцены такова, что ее обязательным компонентом являются три молодых деревца сосны как далекое эхо тех времен, когда представления давались на открытом воздухе. Об этом же свидетельствует и изображение могучего изогнутого ствола сосны на театральном заднике33. Происхождение
29 См.: Ермакова Л. М. Синтоистский образ мира и вопросы поэтики классической японской литературы // Восточная поэтика. Специфика художественного образа. М., 1983. С. 179 и далее.
30 Цит. по: Боронина И. А. Поэтика классического япон¬
ского стиха. С. 86.
31 Ки-но Цураюки. Дневник путешествия из Тоса // Горегляд В. Н. Ки-но Цураюки. С. 127.
32 См.: Анарина Н. Г. Японский театр Но. М., 1984. С. 85.
33 Там же. С. 109, 110.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
177
этого мотива, сопровождающего все представления Но, связано с древними магическими действами и синтоистскими мистериями — кагура. Как отмечает в своей работе «Об истоках театра Но» А. Е. Глускина, мистерии кагура были связаны с солнечным мифом, где говорится, что солнечную богиню, спрятавшуюся в грот, отчего весь мир погрузился во тьму, заставляет вновь выйти магическая пляска богини Удзумэ у костра. «Этот миф, по существу, не что иное, как отражение магических земледельческих актов, бытовавших с незапамятных времен у японских земледельцев и характерных для земледельческого культа всех народов»34. Танцы у костра и мистерии кагура исполнялись ночью, и их окончание совпадало с восходом солнца как кульминацией действа. На сценах для исполнения мистерий в синтоистских храмах всегда имелось изображение сосны и восходящего солнца. На территории святилища Касуга в Нара до сих пор одно из представлений называется «Священнодействие под сосной» и действительно происходит на фоне сосны. Историки японского театра считают, что изображение сосны на заднике театра Но связано как раз с сосной из Касуга-дзиндзя35.
Когда военный правитель Японии Тоётоми Хидэёси принимал участие в спектаклях театра Но, изображая самого себя в специально написанных пьесах36, он использовал в политических целях идею магического приобщения к природным, космическим ритмам, что было в общественном сознании необходимым условием самой идеи власти, могущества, силы. Образ сосны, на фоне которой разыгрывались пьесы Но, был частью этой общей идеи, олицетворял и символизировал ее. Так мы подходим к пониманию значений одного из доминирующих мотивов настенных росписей периода Момояма. Если вспомнить приписываемые Кано Эйтоку ширмы «Орел на сосне», ширму школы Хасэгава «Сосна и травы», многочисленные росписи Кано Мицунобу, а позднее — росписи Сотацу в Ёгэн-ин, не говоря уже о работах неизвестных художников, становится ясно, какое большое место занимало изображение сосны и, следовательно, как важен был именно этот мотив для мастеров конца 16 и начала 17 века. Это был один из самых значимых для культуры символов, как бы вбиравший в себя многие смысловые слои, накапливавшиеся в контексте культуры в течение веков. «Символ — способ раскрытия смысловой глубины и смысловой перспективы — форма конденсации жизненного опыта, всегда свойственная художественному опыту»37. На знёнии зрителем смысла, не изобразимого, но входящего в структуру образа, была основана его принципиальная условность. При одном лишь взгляде на изображение в сознании всплывали многочисленные значения, сложные ассоциации со стихами, классической прозой и театром, древними легендами. Например, роспись ширм Таварая Сотацу «Мацусима» (галерея Фрир, Вашингтон), соотносимая с традиционным мотивом «хамамацу» (сосны на побережье), может быть трактована как один из канонических сюжетов мэйсё-э. Само название ассоциируется с распространенной в средневековой лирике метафорой ожидания и печали, поскольку «мацу» (сосна) омоним глагола «ждать», а волны — метафора слез. В соединении сосна и волны — это образ ожидающей возлюбленной38. «Сосновые острова» — Мацусима могут вызвать в памяти эпизод из «Исэ моногатари» или из знаменитого, созданного уже после Сотацу дневника Басё «По тропинкам Севера», с мастерским описанием одного из самых красивых мест Японии, хотя целью его было не просто описывать и рассказывать, а «выразить впечатление, преломленное через литературную
34 Глускина А. Е. Заметки о японской литературе и 37 Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое ис-
театре. М., 1979. С. 267. кусство. М., 1976. С. 4, 5.
35 Там же. С. 268. 38 См.: Croissant D. Op. cit. S. 63, 65.
36 Yamane Yuzo. Momoyama Genre Painting. New York,
Tokyo, 1973. Vol. 17: Heibonsha Survey of Japanese Art
Series. New York, Tokyo. P. 156.
178
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
93
Огата Корин Азалия у скалы Свиток живописи Начало 18 в.
94
Огата Корин «Фуюки косодэ» (роспись женской одежды)
Начало 18 в.
реминисценцию»39, ибо Басё посещал места, связанные с классической литературой и знаменитыми поэтами прошлого.
На почве общекультурного контекста происходила концептуализация образов природы, закреплявшаяся затем в общественном сознании. Абстрагированные, существовавшие уже независимо от конкретного изображения значения входили как необходимый компонент в структуру художественного образа, создавая его многозначность и смысловую глубину. Мотив «сгущался» в образ40. Через сопоставление видимого с подразумеваемым в художественном образе звучало «эхо» древних смыслов, живших в коллективной памяти японского народа. «Существенным свойством художественного текста является то, что он находится в отношении двойного подобия: он подобен определенному изображаемому им куску жизни — части всемирного универсума,— и он подобен всему этому универсуму»41.
Реализация этого свойства осуществлялась помимо тематики в пространственно- временной концепции произведения. Известно, что в живописи канга, в особенности в монохромном пейзаже, который может считаться наиболее полной и всеобъемлющей моделью мировосприятия 14—15 веков, самым главным компонентом художественного образа было безграничное пространство, созерцание которого вело к постижению Природы — Космоса, ее законов. Передать на плоскости картины это беспредельное пространство — такова была главная художественная проблема, которая решалась в китайской классической живописи, а вслед за ней и в японской суйбоку-га. Это осуществлялось с помощью разработанных приемов так называемой воздушной перспективы.
39 Цит. по: Фельдман Н. И. Басё. По тропинкам Севера 40 См.: Гачев Г. Г. Жизнь художественного сознания. М., // Восток. Сборник первый. Литература Китая и Японии. 1972. С. 56.
М., 1935. С. 318. 41 Цит по. Лотман Ю. М. Структура художественного
текста. М., 1970, С. 302.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
179
180
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
95
Огата Корин «Суминоэ» —шкатулка для письменных принадлежнос тей Начало 18 в.
Однако перенесение пейзажного мотива с картины-свитка на стену или ширму ставило еще японских живописцев 15 столетия перед трудно разрешимой задачей — согласовать изображение беспредельной пространственной глубины и сохранить плоскость стены в ее архитектурной материальности. У таких художников, как Сюбун, Соами, отдавалось предпочтение первому в ущерб второму. Даже великий Сэссю вынужден был решать эту сложную проблему выбором сюжета: на его ширмах изображен не пейзаж, а композиция «цветы — птицы». Соответственно и проблема далевого пространства в значительной мере снималась, так как предметные формы располагались главным образом на переднем плане. На ширмах Сэссю (из коллекции Косака) особенно наглядно видно, как изменяется пространство, как исчезает из поля зрения небо, а все изображение масштабно укрупняется и придвигается к переднему плану42. Происходит резкое сокращение глубины передаваемого пространства, хотя фон еще не приобретает плоскостности, в чем и состоит противоречивость росписи. Еще более решительно должны были поступить мастера школы Кано, создавая собственную систему декоративной росписи. У Эйтоку в его росписях на тему времен года в Дзюко-ин еще ощущается некоторый компромисс как в выборе мотивов (часть из них взята из арсенала живописи канга), так и в передаче пространства. Пространственную глубину он уменьшал с помощью расположения предметных форм, как бы распластанных параллельно плоскости картины, а также с помощью такого технического приема, как добавление в краску золотой пудры и обозначения таким способом условных золотых облаков (или традиционной дымки — касуми) на тех местах, где визуально пространство должно было
42 См.: Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения (условность древнего искусства). М., 1970. С. 69.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
181
уходить в глубину. Таким образом, объектом внимания художника становилось пространство переднего плана или расположенное сразу же за ним, а способом его передачи — обратная перспектива, дополняющая приемы так называемой параллельной перспективы43.
Расположение предметов в ближнем пространстве первого плана, у самой границы изобразительной плоскости существенно влияло на их трактовку. Почти сливаясь с поверхностью картины, они как бы принимали на себя часть ее материальности, сами становились массивными, весомыми. Эйтоку, а за ним и другие мастера Момояма добивались такого впечатления энергичным обобщенным контуром. Не случайно, как отмечается в документах того времени, Эйтоку, приступая к росписи, сам намечал первоначальный абрис, а при завершении работы еще раз прописывал его окончательно. То, что в композиционной формуле Эйтоку нередко отсутствовало изображение не только верхушки гигантского ствола дерева, но и его подножия, доказывает, что мастер специально подчеркивал идею массивности и монументальности форм, считая ее
96
Огата Корин Волны
Роспись ширм Начало 18 в.
43 См.: Мочалов Л. В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983. С. 66.
182
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
97
Огата Корин «Мацусима» Копия ширмы Сотацу Начало 18 в.
самой важной. И у Эйтоку, и у Тохаку мелкие детали (листья, цветы, травы) с их расчлененностью и дробностью форм также должны были подчеркивать грандиозность целого.
Характерный для иконографии росписей изгиб ствола могучего дерева, возможно, объясняется такой особенностью перспективного построения, как особое расщепление зрительной позиции по горизонтали в системе обратной перспективы, что ведет к впечатлению сплющивания изображения44. При этом центр композиции выдвигается на нас, как бы сливаясь с картинной поверхностью. Отсутствие единой точки зрения в произведении японского художника, то есть динамичность зрительской позиции, трансформировалась в картине в динамичность самих форм, наполнявшихся от этого какой-то скрытой энергией и внутренней значительностью. Это и делало их монументальными45.
Интерес Эйтоку только к ближнему пространству имел важнейшие последствия для развития его художественного метода, особенно когда он стал работать над большими циклами настенных росписей в замках и дворцах Ода Нобунага, а позднее Тоётоми Хидэёси. То, что далевое пространство находилось вне сферы интересов Эйтоку, подтверждается сохранившимися в литературных источниках свидетельствами о сюжетах росписей в замке Адзути. Среди множества,других росписей был всего один пейзаж. Такое вытеснение пейзажа жанром «цветы — птицы» (катёга) было не просто отражением вкусов заказчика. Оно не может быть объяснено и тематическими предпочтениями мастера. Сам выбор сюжетов и мотивов был связан с более общими процессами в духовной жизни общества, нашедшими отражение в способах передачи пространства в живописи.
Следует помнить также, что резкое повышение значения жанра «цветы — птицы» в росписях Момояма не означало отхода от свойственного средневековому мировоззрению интереса к всеобщему, а не частному. Мотивы живописи
44 См.: Жегин Л. Ф. Указ. соч. С. 46.
45 Там же. С. 70.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
183
катёга—не фрагмент природы, а лишь ее ближний план, за которым подразумевается даль всего природного мира в целом. В этом смысле росписи сопоставимы с трехстишиями — хайку с их характерным сопоставлением детали и панорамного вида или же конкретного мгновения с вечностью мироздания.
Мотивы, свойственные катёга — деревья, скалы, кустарники, травы и цветы, традиционно изображавшиеся в ближнем пространстве, оказывались более активными по отношению к зрителю и реальному архитектурному пространству. Воздушная перспектива пейзажного свитка целиком направляла зрительскую энергию восприятия внутрь картинного поля (это было свойственно и прямой геометрической перспективе)46. Напротив, обратная перспектива «лишь начинается в картинной плоскости, имея предметом приложения своей энергии прилегающее пространство, то, где предполагается зритель. Точно вычертить сходившийся на зрителе пучок обратно-перспективных «лучей», конечно, не представляется возможным, равно как и установить для них единую точку схода... Однако можно и нужно говорить о своеобразной и при том емкой «зоне схода» обратно-перспективных построений, тяготеющих не к абстрактной точке дапевого пространства, но к тому месту, которое должен занять перед изображением реальный человек — объект форсированного воздействия средневековой живописи»47.
Несмотря на то что в приведенной цитате речь идет о древнерусской живописи и ее характерных особенностях, сосредоточенность внимания на ближнем пространстве, что стало еще заметнее у мастеров Кано с переходом к росписям по золотому фону, позволяет видеть сходные закономерности и в японской декоративной живописи конца 16 — начала 17 века.
Как мы знаем, социологический контекст, на фоне которого возникала и развивалась система декоративной настенной росписи Эйтоку, воздействовал на нее именно в таком направлении: усиленно воздействуя на реальное пространство и находящегося в нем зрителя. Можно еще раз напомнить о имеющихся в письменных источниках свидетельствах того ошеломляющего впечатления, которое производили на современников впервые увиденные ими росписи в замке Адзути. Сам факт невиданно быстрого распространения настенных росписей в стилевой системе Эйтоку и ее существование на протяжении лишь сравнительно короткого периода Момояма подтверждает связанность этого искусства с внехудожественной4 сферой своей эпохи, его совершенно особые функции в культуре того времени.
Новая пространственная концепция росписи, разработанная Эйтоку, была связана с изменением концепции времени, что явилось еще одной особенностью его художественного метода.
Как уже отмечалось, в пейзажном свитке 15 века главная задача художника состояла в передаче беспредельного пространства как символа универсума. В соответствии с таким пониманием пространства время не имело длительности. Восприятие пейзажа было актом созерцания беспредельности и вечности мироздания. Для мастеров Кано, особенно Эйтоку, искусство которого было внутренне связано с бурными событиями своего времени, гораздо более органичной была идея цикличности, повторяемости, круговорота времен года, зародившаяся в древности и получившая художественное выражение в классической поэзии и живописи. Отдельные мотивы росписей, трактовавшиеся как образы-символы, по своему значению, месту в общей композиции цикла прирав¬
46 См.: Прокофьев В. Н. О «перцептивной перспективе» и перспективах в живописи // Раушенбах Б. В. Пространственные построения в древнерусской живописи. М., 1975. С. 177.
47 Там же. С. 177. 178.
184
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
нивались теме времен года. Получая самодовлеющий смысл, такие мотивы из тематического цикла четырех сезонов как бы расщепляли природное время на отрезки, останавливали внимание зрителя на определенном моменте. Вполне вероятно, что известная роспись Хасэгава Тохаку «Клен» (Тисяку-ин, Киото) воспринималась не только самостоятельно, как образ последнего яркого эпизода жизни, накануне угасания, но и как часть подразумевавшегося полного цикла времен года. Тем более, что по соседству располагалась выполненная его сыном Хасэгава Кюдзо роспись с изображением цветущей вишни — символа весеннего сезона. То же можно предположить в отношении росписи Кано Санраку с изображением цветущей розовой сливы (Дайкакудзи, Киото) и многих других. Общественные ритуалы, происходившие в залах, на стенах которых были размещены мотивы времен года, становились актом сопоставления конкретного момента с мировыми природными ритмами, определявшими высший порядок универсума. Единичное и потому случайное явление включалось в этот порядок и таким образом становилось сопричастно этой высшей упорядоченности и вечности.
Живописный цикл времен года был эстетическим освоением темы природы в ее временном аспекте, ее движении. Само произведение художника таким путем как бы приобщалось к круговороту жизни. Одна из функций живописного цикла времен года состояла в том, что деталь природного окружения, увиденная с ближнего расстояния, в катёга сопоставлялась с природой в целом, включалась в общий, космический план.
Историческое время было несущественно для японской культуры рассматриваемого периода. Напротив, единственно важной представлялась идея постоянного круговорота времени и включенности в этот круговорот всего, происходящего с человеком. Понятно, почему военные диктаторы и первые сёгуны Токугава видели в искусстве декоративных росписей своего рода продолжение жизни, ибо передача в художественном произведении закономерностей Природы — Космоса вела к возможности достичь единства с ним и обрести таким образом правовой статус.
Утверждая свой общественный престиж, военные диктаторы должны были опираться на стереотипы традиционного мышления. «То обстоятельство, что в аграрном обществе время регулировалось природными циклами, определяло не только зависимость человека от смены годичных периодов, но и специфическую структуру его сознания. В природе нет развития, во всяком случае, оно скрыто от взора людей этого общества. Они видят в природе лишь регулярное повторение, не в состоянии преодолеть тиранию ее ритмического кругового движения, и это вечное возвращение не могло не стать в центре духовной жизни в древности и в средние века. Не изменение, а повторение являлось определяющим моментом их сознания и поведения. Единичное, никогда прежде не случавшееся, не имело для них самостоятельной ценности, подлинную реальность могли получить лишь акты, освещенные традицией, регулярно повторяющиеся... Нормой и даже доблестью было вести себя, как все, как поступали люди испокон веков. Только такое традиционное поведение имело моральную силу»48. Для узурпатора самым главным было доказать законность своей власти, своего места не только в государстве, но гораздо шире — в мироздании. Поэтому отдельные жизненные факты или их символы (в данном случае символы — образы декоративной живописи) необходимо было сопоставить с явлениями, включенными в кругообо¬
48 Цит. по: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 87.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
185
рот природного времени. Тогда идея власти над определенным местом подкреплялась и была связана с идеей власти над временем: настоящее приравнивалось вечному, социальные категории оказывались связанными с категориями космическими 49.
Кано Эйтоку, решая эти проблемы на уровне художественном, использовал не только тематику росписей. Время в каждом из его произведений получало выражение в самой ритмической структуре, в живописной манере и почерке художника. Об этом уже шла речь при разборе стилевых особенностей произведений Эйтоку. Но это было и существенным компонентом его метода, отражением его художественного мировоззрения. Динамический ритм его ширмы «Китайские львы» разрушает вневременной смысл изображенных фантастических существ и создает ощущение становления образа, его наполненности внутренним, длительным движением, относящимся не только к перемещению, то есть механическому движению, но ритмическому эмоциональному потоку, наполняющему образы жизненной силой50. Эта внутренняя жизненная сила и подключала их к природным, космическим ритмам. А вслед за этим и олицетворявшиеся этими образами идеи и лица получали соответственное осмысление. Через эмоциональное восприятие образов Эйтоку открывался их «умопостигаемый смысл»51, через природное раскрывалось социальное.
Свойственное всей декоративной живописи того периода понимание времени как природного, космического, не связанного с реальным эмпирическим временем, объясняет невозможность восприятия образов этого искусства на бытовом, обыденном уровне. Даже изображение, обладавшее большой степенью правдоподобия (вспомним пионы и вьюнок Санраку, ивы Тохаку и многое другое), представляло собой поэтическое и философское иносказание, и художник имел в виду не столько жизнь материальных форм, сколько жизнь духа. Ясно, что ни Эйтоку, ни другие мастера Момояма не конструировали образов, но выражали свое видение и ощущение мира, которое складывалось под воздействием многих обстоятельств общественного и культурного развития Японии.
Тенденция к преодолению циклической концепции времени, свойственной средневековью, была проявлением в творчестве Кано Эйтоку принципиально новых свойств, стадиально связывавших его искусство со следующей исторической эпохой — Новым временем. Но в исторических условиях Японии конца 16 и особенно 17 века ic установлением абсолютизма Токугава) эта тенденция не могла сполна реализоваться ни у него, ни тем более у его последователей. Идея циклического времени оставалась основополагающей для японского искусства, что было связано с его принципиальным традиционализмом, существенно влиявшим и на эволюцию тематики декоративной живописи и на структуру художественного образа.
Уже отмечалось, что в декоративной живописи восприятие опиралось как на непосредственное эмоциональное переживание мотива, так и на определенную сумму знаний, традиционных для данной культуры. Это означало значительную активность восприятия, ибо зритель должен был, направляемый канонической системой, прийти от восприятия внешних форм к внутреннему смыслу изображения. Когда речь идет о знании, понимании семантики различных образов и композиционных построений, то имеется в виду не обязательно знание личное, но скорее коллективное, закрепленное в традиции как коллективной памяти культуры. Традиционализм поэтому становился составной частью художественно-
49 Там же. С. 17.
50 См.: Виппер Б. Р. Проблема времени в изобразительном искусстве II 50 лет ГМИИ им. Пушкина. М., 1962.
С. 138.
51 Выражение Н. А. Дмитриевой.— См.: Дмитриева Н. А.
Изображение и слово. М., 1962. С. 25.
186
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
98
Огата Корин Боги ветра и грома Копия ширм Сотацу Деталь Начало 18 в.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
187
го метода живописца: без него невозможно было и творчество и восприятие искусства. Зритель должен был ориентироваться на определенную каноническую систему образов с особыми приемами их передачи в картине. Повторение, возврат к известному подразумевает особый тип восприятия: если сюжет заранее известен, то в его художественном претворении акцент ставится не на «что», а на «как». Иначе говоря, снимается или просто не учитывается простейший и первоначальный уровень восприятия, а вступают в действие законы следующих уровней. Внимание обращается на мастерство претворения сюжета, язык автора, сумевшего или не сумевшего открыть те новые связи, которые возникают всякий раз, когда давно известное оказывается погруженным в новый контекст — временной, эмоциональный, ситуативный. «В отличие от новейшего времени в средние века основоположники всех значительных явлений в области культуры были не реформаторами, а традиционалистами. Абсолютно новое психологически воспринималось как безродное, непригодное для распространения. Чтобы новое явление пустило корни, широко распространилось в обществе, оно должно было, во-первых, опираться на прочную традицию и, во-вторых, обобщать внутри этой традиции продуктивную тенденцию»52.
В традиционной поэтике важность культурной памяти, преемственности была осознана и закреплена в специальном приеме хонкадори («следование первоначальной песне»). В поэтической антологии «Синкокинсю» многие стихи «построены на принципе хонкадори: в стихотворении цитируется строка из стихотворения другого поэта, современника или предшественника. «У японской поэзии огромная память, ощущение своей непрерывности. Цитируя строку, поэт словно бы подключается к сердечным токам собрата»53. Точно такое же отношение к предшественникам и прошлому мы встречаем в живописи 17 века. Когда Сотацу использовал фигуры или группы из средневековых свитков в своих монументальных композициях, он мыслил как поэт, цитировавший строки по принципу хонкадори, а не просто эксплуатировал фантазию древнего художника. Он ощущал себя связанным с классическим искусством и его ценностями, подключенным к его сердечным токам.
Огромное большинство образов декоративной живописи можно назвать каноничными в том смысле, что они не являются плодом собственных наблюдений художника или его не опирающейся на предшествующий опыт фантазии. Они традиционно входят >в его поэтический словарь, по отношению к которому художник действует избирательно, а порой и автоматично.
Если в целом оценивать тематику настенных росписей 16—17 веков, то бросается в глаза малая роль вымысла в сюжетосложении. Творческая фантазия живописца направлена главным образом на преобразование мотива с помощью свойственных его времени стилевых приемов письма, композиции, употребления цвета. Он тем самым как бы вводит в образную структуру произведения свое время, заставляя звучать иначе знакомое и многократно повторявшееся. Погруженный в новый контекст, традиционный мотив приобретает новые смыслы. Изменение акцентов в поэтической речи искусства активизирует разные исторические слои культуры или памятники культуры, наиболее важные в данную эпоху54.
Новый контекст получает таким образом формообразующие функции55. Он определяется мировоззрением эпохи, и исторический процесс, движение времени отражаются не столько на самой системе живописи, сколько на ее внешних
52 Горегляд В. Н. Ки-но Цураюки. С. 93, 94. 54 См.: Ремпель Л. Роль поэтической метафоры и симво-
53 См.: Санович В. Очерк японской классической лирики ла в декоративно-прикладном искусстве И Советское
// Классическая поэзия Индии, Китая, Кореи, Вьетнама, декоративное искусство. М., 1983. Вып. 6. С. 181. Японии. С. 595. 55 См.: Боронина И. А. Поэтика классического японского
стиха. С. 323.
188
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
связях с другими явлениями культуры, общей социально-общественной ситуацией эпохи. Это положение можно подтвердить ссылкой на опыт развития декоративной живописи периода Момояма. При всем различии мастеров, работавших в то время, их произведения обладают многими общими чертами. Все они ориентированы на каноническую образность, сформировавшуюся в лоне классической поэзии и затем ставшую традиционной для живописи ямато-э и позднее — школы Тоса. Но одновременно в живописи Момояма реализовался определенный социальный опыт именно этого периода. В росписях на такие канонические сюжеты, как сосна, цветущая слива, пион, орел, тигр и т. д., главную роль играл тот смысл, который определял связи этого искусства с реальной жизнью и социальными процессами того времени.
Декоративная живопись 17 столетия была одушевлена совершенно иными идеалами. Она вдохновлялась чаще всего героями и темами классической литературы, атмосферой той утонченной аристократической культуры, которая была характерна для периода Хэйан. Отражая круг интересов старой родовой аристократии, фактически отстраненной от политической жизни, а также постепенно нарождающейся буржуазной элиты, также лишенной возможности какой-либо общественной активности, это искусство в сущности отделилось от официальной ветви, выраставшей в новой столице сёУунов Токугава—Эдо. Декоративная живопись, напротив, развивалась главным образом в старой столице — Киото. Таким образом, изменения в искусстве 17 века были связаны с изменением общей исторической ситуации в стране, серьезными сдвигами в социальной структуре общества. В связи с этим не только появился принципиально новый потребитель культурных ценностей — городское сословие тёнин, формировавшееся из средних и низших слоев купечества и ремесленников. Изменился и потребитель из высших классов общества, вернее, он разделился на две разные группы. В новой столице Эдо сёгуны Токугава ориентировались на ортодоксальную культуру предшествующего периода в ее официальноконфуцианском варианте. В Киото, связанном многовековыми узами со всей культурной традицией средневековья, начинает складываться свой художественный стиль, берущий в качестве образца классическое искусство 9—12 веков. У всех трех этих ветвей японской художественной культуры определяются и собственные цели, уже отличные от целей искусства Момояма.
В большинстве случаев настенные росписи Момояма были обращены сразу ко многим, их художественные особенности не предполагали индивидуальной оценки, хотя нередко уровень и профессиональное мастерство росписей отвечали самым высоким эстетическим вкусам.
Декоративная живопись 17 века в своих формах и своем стиле была обращена к другой аудитории и соответственно имела иное предназначение. Когда во второй четверти 17 века официально было запрещено строительство замков и обширных резиденций феодалов, главной формой декоративной росписи стала ширма. Ее изысканная красота была рассчитана на эстетическое суждение знатоков, узкого круга единомышленников, подобно тому, как в период Хэйан стихи писали те самые люди, которые были и их читателями. Правда, в отличие от стихов хэйанских поэтов ширмы Сотацу создавались по заказам в большой мастерской, а его веера были просто предметом продажи, но сам тип образности предполагал определенную эрудицию и развитый эстетический вкус. Лишь обладавший и тем и другим зритель мог сразу же оценить красоту каллиграфии и узнать автора
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
189
классических стихов, разгадать скрытый смысл сопоставления их с декором специально изготовленной бумаги.
Из декоративной живописи теперь ушла не только суровая монументальность Кано Эйтоку, но и имперсональный лиризм Санраку. Искусство середины 17 века получило гораздо более определенную, чем когда бы то ни было прежде, личностную окраску, повлиявшую и на его стилевые качества. При этом не мог не измениться тип восприятия этого искусства, ставший не просто более интимным, но ориентированным на индивидуальный контакт со зрителем, на взгляд одного человека, а не толпы, участвующей в празднике или церемонии. Даже монументальные ширмы Сотацу по своему языку и образному строю отличаются от произведений художников конца 16 века.
Связанный с именами Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу, этап в развитии декоративной живописи Японии, по сравнению с периодом Момояма, был ознаменован значительным обновлением тематики. Обновлением это можно назвать условно, так как темы классической поэзии никогда полностью не уходили из живописи, но теперь они вернулись в нее на новой основе, уже в виде вполне определенных сюжетов — эпизодов и ситуаций из «Исэ моногатари» и «Гэндзи моногатари» или же намеков на них, как, например, в ширмах Сотацу «Боги ветра и грома» или «Ирисы» Огата Корина. Тематика росписей Сотацу отчасти еще была связана с периодом Момояма (изображения сосен в монастыре Ёгэн-ин или роспись «Цветы и травы»), но эволюция его интересов шла от этих росписей к ширмам на сюжеты хэйанских романов, воплощавших для него представления о красоте и истине. Безусловно, это было усложнением содержательности образов декоративной живописи, ибо почти исчезли прямые аналогии и ассоциации с конкретными лицами и ситуациями эпохи. Древние исторические смыслы, восходившие еще к магическим действам, не исчезавшие и в искусстве Момояма, теперь иначе истолковывались, связывались с конкретнолитературными ассоциациями и аллюзиями, по-новому влияли на эмоциональную окрашенность тем, их гораздо более опосредованные связи с современностью. Художественным выражением этого сложного процесса в истории японской культуры и было творчество Таварая Сотацу. Принципиально новый уровень взаимодействия живописи и литературы наиболее полно проявился в таком его произведении, как ширмы на сюжеты знаменитого романа Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари^56.
Росписи на сюжеты «Гэндзи моногатари» были распространены и в период Момояма. Особенно часто они встречались у мастеров школы Тоса, которые, расписывая ширмы, размещали на створках множество сцен, отделяя их друг от друга условными стилизованными золотыми облаками. Подобно тому как на традиционных горизонтальных свитках сцены следовали друг за другом, перемежаясь текстом, к которому они служили иллюстрацией, так и на ширмах применялся метод последовательного нанизывания эпизодов, но только располагались изображения сверху вниз и справа налево.
Художники Тоса обычно воспроизводили в живописи самый поверхностный слой литературного произведения, останавливаясь на уровне сюжета. Если принять во внимание, что сюжеты эти были известны каждому образованному человеку, то восприятие сводилось к узнаванию той или иной ситуации.
Сотацу ставил перед собой более глубокую задачу — передать поэтический смысл произведения и найти для этого соответствующие формы. Судя по
56 Интерес Сотацу к искусству периода Хэйан не был «Гэндзи моногатари», а затем известный писатель того проявлением его личной склонности. В 17 веке было времени Китамура Кигин выпустил полное комментиро- создано множество комментариев к памятникам средне- ванное издание романа под названием «Луна на озерной вековой литературы — поэтическим антологиям, эссе и глади», книги, ставшей популярной во всех слоях дневникам, повестям и романам. В переводе на совре- общества, менный язык были сначала изданы отдельные главы
190
Г лава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
99
Огата Корин Красное и белое дерево сливы Роспись ширм Начало 18 в.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
191
100
Огата Корин Красное и белое дерево сливы Роспись ширм Начало 18 в.
192
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
сохранившимся вариантам ширм на сюжеты «Гэндзи моногатари» (Сэйкадо, Токио), которые считаются работой мастерской Таварая, Сотацу не сразу пришел к решению этой сложной проблемы57.
Ширмы самого Сотацу, организованные в пару—«Сэкия» (правая) и «Миоцукуси» (левая),— в качестве отправной точки имели ранние работы мастерской Таварая, но в их композиции мало общего с прообразами, она построена по иным законам. Хотя ширмы несколько отличаются друг от друга по масштабам и пропорциям фигур, они связаны не только потому, что иллюстрируют сцены из одного романа, но обладают и большим внутренним единством, которое проявляется на всех уровнях—от сюжета до глубин поэтического подтекста.
Художник выбрал два эпизода из романа, близких по смыслу58. Он так строит композицию ширм, что главные герои вовсе не изображены: на ширме «Миоцукуси» Гэндзи находится внутри своего экипажа, а Акаси на корабле; на ширме «Сэкия» Гэндзи также внутри экипажа (виден лишь край рукава его одежды), а Уцусэми либо в доме, либо тоже в экипаже слева. Такое расположение действующих лиц уже само по себе свидетельствует о намерении сосредоточить внимание зрителя не столько на событийной стороне эпизодов, сколько на их лирическом подтексте. В методе интерпретации каждой сцены делается акцент не на описании и антураже, а на тех деталях, которые способствуют уяснению глубинного смысла изображения. Сотацу решает эту проблему с помощью ряда приемов, не встречавшихся до него в японской живописи59.
Произведение Сотацу было обращено к зрителю, который не просто знал сюжетную канву романа Мурасаки Сикибу, но держал в памяти или мог вспомнить те многочисленные стихотворные вставки, которые играли важнейшую роль в его художественной ткани и без которых невозможно было понять его истинного поэтического смысла60. Именно в стихах раскрывается внутренняя жизнь героев, передаются оттенки их чувств и тончайшие нюансы переживаний. С помощью целого ряда приемов, свойственных поэтике стиха, обыгрывания омонимии и многозначности слов, возникал ассоциативный подтекст каждой ситуации, каждого эпизода.
В композиции ширм Сотацу отразилось его стремление ухватить метафорическую емкость содержания изображенных сцен, найти визуальные формы для воплощения поэтического смысла текста.
Как на театральной сцене, отдельными предметами-знаками он обозначает место действия. В «Миоцукуси» это ворота—тории — святилища Сумиёси и знаменитый изогнутый мост, так называемый тайкобаси, а также поросшее соснами побережье. В решении всей сцены ясно ощущаются два взаимопересекающихся диагональных движения. Одно из них ведет взгляд от правого нижнего угла ширмы по белой изогнутой полосе, означающей песок (на ней особо выделяется темный экипаж Гэндзи), к дороге в святилище—месту следования героя романа. Другое, менее определенно намеченное линейно, но доминирующее в смысловом содержаний, имеет противоположное направление: от группы придворных, через силуэт изогнутого дерева приводит опять к экипажу Гэндзи и соединяет его с кораблем Акаси. Под точкой пересечения этих условных диагоналей, то есть почти в самом центре композиции, помещается фигура придворного Корэмицу в темной церемониальной одежде. Она выделяется своей обособленностью от других фигур, а также по цвету, приближенному к цвету повозки Гэндзи. Такое положение этой фигуры указывает на ее важное значение в эпизоде обмена
57 В специальном исследовании, посвященном Сотацу,
Д. Круассан подробно рассматривает иконографию и композицию ширм на сюжеты «Гэндзи моногатари» из коллекции Барк (Нью-Йорк), бывшего собрания Дан
Такума, а также произведений на тот же сюжет из коллекций Хара (Токио) и музея Окура (Токио).— См.: Croissant D. Sotatsu und Sotatsu —Stl. Untersuchungen
zu Repertoire, Ikonographie und Asthetik der Malerei des
Tawaraya Sotatsu (um 1500—1640). Wiesbaden. 1978. S. 6—11.
58 Это встречи принца Гэндзи с прошлыми возлюбленными Акаси и Уцусэми. Посещая святилище Сумиёси близ Нанива, он вновь вспоминает Акаси и посылает ей стихи (ширма «Миоцукуси»). В другой раз Гэндзи ехал в святилище Исияма-дэра и встретил Уцусэми, которая когда-то отвергла его любовь (ширма «Сэкия»).
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
193
стихотворными посланиями и тем самым на значение текста посланий в понимании смысла картины. Действительно, именно в стихах употребляются те слова, метафорический смысл которых воплощен Сотацу в его произведении. Гэндзи пишет о связях его судьбы и судьбы Акаси, на которую он снова пылко смотрит, хотя и прошло уже немало времени со дня их последней встречи (здесь обыгрывается фонетическое сходство слова «миоцукуси» в значении «всем сердцем» и «прилив»). В свою очередь Акаси в ответных стихах говорит о своей тоске по Гэндзи и надежде найти «любовную раковину» («каи наки», что имеет фонетическое сходство со словом «несчастливая»). В обоих стихотворениях фигурирует также и место действия — Нанива (современный Осака), рядом с которым находится святилище Сумиёси. Только знание стихов помогает понять скрытый подтекст ширмы Сотацу и по достоинству оценить ее композиционное построение с удивительно точно найденным соотношением двух зон действия: обозначенной золотом суши (это «зона» Гэндзи, в романе он постоянно обозначается как Хикару Гэндзи — «блистательный принц») и мелкими тонкими линиями написанных волн моря с далеким кораблем (это «зона» Акаси). Между ними на белой изогнутой полосе, изображающей песок, стоит экипаж Гэндзи. Сюда набегают волны прилива, о которых говорится в стихотворении героя, и которые являются образом любви и любовной тоски. Сотацу создает визуальный аналог содержащейся в стихах омонимической метафоры, характерной для японской поэтической традиции.
По такому же принципу построена и ширма «Сэкия», иллюстрирующая сцену* у заставы, когда Гэндзи передает Уцусэми стихи через капитана пограничной стражи. В ее композиции также различимы два взаимопересекающихся диагональных движения, имеющих непосредственное отношение к смыслу картины. Имея в виду, по аналогии с ширмой «Миоцукуси», что каждый элемент несет определенную семантическую нагрузку, можно легко расшифровать самый поверхностный содержательный уровень произведения Сотацу: ограда заставы с воротами и стражником есть образ преграды в любви, невозможности соединиться с возлюбленной, а силуэт поднимающихся и уходящих за пределы картины зеленых холмов — это знаменитая, постоянно упоминавшаяся в классической поэзии «Гора Встреч» — Аусака. В стихах Гэндзи, обращенных к Уцусэми, говорится о том, что он надеется на встречу и завидует стражнику у заставы (намек на мужа Уцусэми, но одновременно и на реального стражника), а также сетует, что «прекрасное море», то есть озеро Бива не принесет им «любовную раковину» (слово «каи» вызывает ассоциации с аналогично звучащим словом «судьба»). В ответе Уцусэми говорится о том, что застава у «Горы Встреч» не остановит ее слез, а сама эта гора в действительности гора расставаний. В этом стихотворении содержится также аллюзия на песню Ки-но Цураюки, когда-то сложенную на проводах друга на этой же заставе61. Так к основному смыслу подключается и сложный культурный контекст, в расчете на который писала Мурасаки Сикибу и работал Сотацу. На ширме «Сэкия» все основные элементы композиции также связаны с поэтическим подтекстом и метафорами стихов, с их любовной символикой, но одновременно все они — обозначение места действия и атрибуты сцены. Логика композиции становится самостоятельным выражением содержания. Ей подчиняется ритмическое построение сцены, ее колористическое решение с преобладанием локального зеленого цвета на золотом фоне и суженной цветовой гаммы в характеристике персонажей, места действия.
В обоих эпизодах между Гэндзи и его дамой имелся 61 См.: Боронина И. А. Указ. соч. С. 146.
посредник — придворный Корэмицу и брат Уцусэми, капитан пограничной стражи. В композиции обеих ширм фигура посредника занимает важное место. эЭ См.: Croissant D. Op. cit. S. 44.
60 Всего в романе 795 стихотворений.— См.: Боронина И. А Классический японский роман. С. 97. 98.
101
Огата Корин Красное и белое дерево сливы Роспись ширм Деталь Начало 18 в.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
195
В ширмах на сюжет «Гэндзи моногатари» важны не ритмы внешнего реального мира (в данном случае — внешних примет описанной в романе ситуации), а ритмы мира поэтического, в которых воплощены эмоции героев, движения их души. Как справедливо отмечает Д. Круассан, с помощью изобразительных элементов ширмы Сотацу переводит связи пространственно-временные в символические, ведет от описания ситуации к постижению ее глубокого смысла62. Подобно тому, как проза хэйанских повестей и романов строилась по модели поэтического текста, входившего в них63, живопись Сотацу в своей образной структуре строилась по модели классического стихотворения—танка, а не только опиралась на содержание стихов, относящихся к соответствующим главам «Гэндзи моногатари».
Стремясь найти символические формы выражения лирической концепции романа Мурасаки Сикибу, Сотацу пришел к лаконизму изобразительного языка. Можно предположить, что одним из приемов монументапизации лирического мотива стало использование Сотацу некоторых особенностей театра Но. Если вспомнить, что эстетика классического театра с ее установкой на выявление возвышенной красоты, с ее ритуальностью была близка элитарной культуре аристократии Киото 17 века, то такое предположение не покажется слишком спорным.
В драме Но обычно имеется лишь одно-единственное событие—встреча двух персонажей, за которой следует диалог, раскрывающий суть их взаимоотношений. Это и положено в основу двух ширм Сотацу. Драмы Но сами создавались по известным литературным сюжетам, а основой их эстетического воздействия были многообразные поэтические ассоциации. В тексте пьес большое место занимала поэзия в форме пятистиший—танка, как и в романе Мурасаки Сикибу. Герои, а вместе с ними и зрители спектакля переживали драматизм ситуации, ее глубинный смысл, раскрывавшийся через метафорику стихов, театральный антураж, намеки на состояние окружающей природы. Все эти приемы также переводили чувства героев драмы из аспекта личного во всеобщий, что связано с буддийскими корнями театра Но. У Сотацу можно найти многие схожие черты. С помощью приемов, близких тем, которые используются в театре Но, он также придает личным переживаниям героев черты универсальности, недаром он берет те эпизоды, где в стихах ясно звучит тема судьбы. Тем самым от лирической формы естественно и органично Сотацу приходит к форме монументальной.
В этом состоит и главное отличие произведений Сотацу от свитков иллюстраций к роману, приписываемых Фудзивара Такаёси. Художник 12 века остается в сфере лирического, а сама форма картины-свитка, первоначально сопровождавшего текст, рассчитана на интимное переживание. Недаром почти все сцены, написанные Фудзивара Такаёси, разворачиваются в интерьерах, и лишь некоторые происходят на веранде, выходящей в сад. Сотацу включает в действие окружающую природу и делает ее основой переносного, метафорического смысла произведения в соответствии с классическими нормами поэтики. От этого меняется и точка зрения, с которой воспринимаются зрителем изображенные сцены романа: в свитках 12 века—с близкого расстояния и сверху (прием так называемого снятого потолка), у Сотацу—фронтально, а взгляд может издали охватить сразу всю сцену, написанную на огромной ширме-стене.
Но есть в произведениях, разделенных пятью веками, и нечто общее. Как и хэйанский художник, Сотацу ставит в центр внимания не описание события, но стремится передать его внутренний смысл, подчас скрытый за внешней оболоч¬
62 См.: Croissant D. Op. cit. S. 113.
63 См.: Ермакова Л. М. Ямато моногатари как литературный памятник // Ямато моногатари / Пер. с японского, исследование и комментарий Л. М. Ермаковой. М.,
1982. С. 45.
196
Г лава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
кой действия. Он сосредоточивает свое внимание не на прозаических частях текста романа, а на стихотворных, которые выражают суть переживаний героев, передают их внутреннюю жизнь. Скрытую метафору стиха, его ускользающий в игре омонимов подтекст Сотацу заставляет зрителя прочитывать в своих композициях, определяя с помощью точно расположенных в пространстве элементов порядок восприятия сцены, последовательность движения взгляда от группы к группе. Подобно тому, как характерной особенностью самого романа является взаимодействие стихов и прозы, так и в живописи Сотацу повествованием об эпизоде не исчерпывается его смысл. В погружении во внутренний мир героев романа, умении раскрыть в живописи их эмоциональную жизнь—суть того глубокого проникновения в искусство и культуру Хэйана, которое было свойственно Сотацу.
Можно сказать, что в художественной системе, созданной Сотацу, значения возникают от глубокого соответствия живописного языка и языка литературы, от взаимодействия приемов, вызывающих широкий круг ассоциаций и аллюзий и таким образом подключающих к восприятию произведения широчайший культурный контекст. Величие таланта Сотацу состояло в том, что он нашел для решения поставленной перед собой задачи средства декоративной живописи. Он сумел организовать в единое целое огромную плоскость ширм (каждая из них при высоте чуть более полутора метров имеет ширину 3 м 55 см), избежав не только мелочной повествовательности в изложении сюжета, но и дробности живописной формы. Он работает крупными массами, использует главным образом локальный цвет, четкие, мгновенно читаемые силуэты, из которых строится упорядоченная ритмическая структура картины.
Сопоставляемые по принципу поэтической речи, структурно активные элементы не просто возникают в сознании зрителя из внеизобразительной сферы, как это было свойственно декоративной живописи периода Момояма, но непосредственно из самого произведения64. Восприятие ширм Сотацу имеет характер процесса, разворачивающегося во времени и специально организованного художником, который тем самым вводит в структуру образа субъективный опыт зрителя во врей его сложности и неоднозначности. Пространственно-временная концепция произведения оказывается неразрывно связанной с его семантикой и влияет на нее.
Образы классической литературы были для Сотацу не только далеким прошлым, они переживались как «вечное настоящее», связанное с его временем и с его жизнью: «...если поэзия пренебрегает точностью воспроизведения современности в своем материале, в предмете,— современная эпоха всегда присутствует в точке зрения, в структуре...»66 Взгляд художника на классическую литературу, метод освоения ее образов был выражением художественного и исторического опыта, точкой зрения вполне определенной эпохи.
Великому японскому поэту Мацуо Басё принадлежат слова: «Не тщйсь следовать по стопам древних, но ищи то самое, что искали они»66. В своем искусстве Сотацу как раз не просто шел «по стопам древних», но в художественном пересоздании классических образов был самым современным из мастеров 17 века и выразил свое время в самом методе осмысления прошлого и его идеалов. Сотацу создал собственную концепцию трактовки тем классической литературы, приблизив свой метод к поэтике самой этой литературы: не описание ситуаций, а выражение чувств путем использования разработанных в
,4 Ср.: <произведение эстетически принудительно развертывается перед зрителем в определенной последовательности, то есть по опоеделенным линиям, образующим некоторую схему произведения и при созерцании дающим некоторый определенный оитм».— См.. П. Флоренский. Анализ пространственнос^и в художественных
произведениях , / Ритм, пространство и время в литературе и искусстве Л.. 1974 С. 91 - гачев Г Г Жизнь художественного сознания С. 72. 06 Цит по: Кин Д. Японская литература XVII —XIX веков. С 58.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
197
классической поэзии приемов иносказания, уподобления, намека, сложного подтекста. Сопряжение прошлого с настоящим Сотацу осуществлял чисто художественными средствами. В ширмах на сюжеты «Гэндзи моногатари» он создал особое символическое пространство как эквивалент поэтическому миру литературного прообраза. Благодаря этому возникала новая художественная концепция времени в его произведениях, отличавшаяся от архаизма сходных по темам произведений художников школы Тоса, где современное было полностью подчинено прошлому. Идею времени у Сотацу можно прояснить для себя через сопоставление с учением Басё о «неизменном и сиюминутном» («фуэки рюко») в трехстишии — хокку. В стихотворении должно присутствовать и то, и другое, обе эти временные категории, органично слитые в самой художественной ткани. «Сочетание и противопоставление двух элементов — вечного и сиюминутного — придают стихотворению напряжение, создают как бы электрическое поле между двумя полюсами. Искра воображения читателя пробегает между полюсами, и, чем больше расстояние, преодолеваемое искрой, тем совершеннее стихотворение» 67. В живописи Сотацу такие полюса возникали из сопоставления темы и ее выражения, найденного художником. Образ должен был опираться на литературный текст, но жить своей жизнью, по законам своего времени, подчиняясь декоративно-поэтической системе росписи.
Пониманию того нового переживания классического романа, которое было свойственно Сотацу, может помочь рассуждение современного японского писателя Кавабата Ясунари в его лекции «Существование и открытие красоты», прочитанной в мае 1969 года в университете Гонолулу. Он не просто читает и комментирует классический роман, оценивая его как высшее достижение японской повествовательной прозы, но вновь и вновь переживает его образы как проявление красоты, не увядающей и не стареющей. В оценке достоинств романа Мурасаки Сикибу он присоединяется к известному писателю и общественному деятелю 18 века Мотоори Норинага и цитирует его слова: «...по глубине и по умению одухотворять все, к чему ни прикоснется, автор «Гэндзи» ни с чем не сравним. Нечего говорить, что и стиль его великолепен. Восхитительны пейзажи, вид неба — как оно меняется от сезона к сезону: весной, летом, осенью, зимой. А мужчины и женщины изображены настолько ярко, что кажется, будто встретился с живыми людьми, начинаешь принимать участие в их делах...»68. А в нобелевской речи «Красотой Японии рожденный» Кавабата Ясунари говорил о своем собственном ощущении этого произведения: «В детстве я не очень хорошо знал древний язык, но все же читал хэйанскую литературу. Видимо, тогда-то и запала мне в душу эта повесть. С тех пор как появилось это произведение на свет, японская литература все время тяготела к нему. Сколько было за эти века подражаний! Все виды искусства, начиная от прикладного и кончая искусством планировки садов, о поэзии и говорить нечего, находили в «Гэндзи» источник красоты»69.
Подобное, глубоко личное переживание классических произведений литературы было, видимо, свойственно и Сотацу, для которого хэйанская культура была близка, понятна и потому служила естественным и органичным для его сознания источником образности.
Так литературные реминисценции, образовавшие систему канонических образов еще у мастеров Тоса, осваивались, но уже по иным законам Сотацу и художниками Римпа. Система эта оказывалась открытой как в прошлое, так и в
67 Цит. по: Кин Д. Указ. соч. С. 93.
66 И была любовь, и была ненависть. М., 1975. С.
249—275.
69 Ясунари Кавабата. Тысячекрылый страна: Новеллы, рассказы, эссе. М.
журавль. Снежная , 1971. С. 396.
198
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
102
Нономура Нинсэй Сосуд
с изображением цветущей сливы Начало 18 в.
будущее, и источник смысловой многозначности мог появляться уже после времени создания произведения. Пояснить это можно на примере ширм Сотацу «Тропинка под плющом» («Цута-но хосомити»).
Живопись Сотацу в соединении со строчками стихов вызывала в сознании зрителя той эпохи многочисленные литературные ассоциации и аллюзии. Сам прием — обращение к классической повести и классическим стихам можно сопоставить с приемом хонкадори, имевшим целью «воссоздание атмосферы поэтического прошлого и расширение ассоциативного фона стихотворения за счет содержания произведения-прототипа»70. В данном случае это не только аллюзия на стихи Аривара Нарихира. Через изображение на ширме — в структуру образа включался и мотив «Исэ моногатари» и многие другие значения, хранимые памятью культуры. Однако уже в конце 17 века, то есть позже времени создания ширм Сотацу они могли обрести новые смысловые толкования, связанные с «Оку-но хосомитии», уже упоминавшимся произведением знаменитого поэта Мацуо Басё71. Помимо обозначения названия дороги в провинции Оку, это слово имеет также смысл — «внутренний» или «глубинный», то есть название имеет подтекст: узкая тропа, ведущая к глубинам поэзии,— возможно, творчество самого Басё. «Это было вполне в характере Басё—дать своему произведению название, которое можно истолковать в двух планах: гГрименительно к этому путешествию и применительно к вечности поэтического поиска»72. Свое путешествие Басё предположительно предпринял в ознаменование пятисотлетней годовщины смерти знаменитого поэта 12 века Сайгё, и главной его целью было посещение мест, даривших вдохновение поэтам прошлых веков. Даже самый прекрасный пейзаж не интересовал Басё, если был лишен литературных ассоциаций. Такой подход означал и совершенно особое понимание художественной правды произведения. Басё стремился не к точности деталей и описанию очередности событий, но к воссозданию их атмосферы и связанных с этим эмоций автора73.
Можно предположить, что после появления записок Басё, направленных на то, чтобы не только напомнить читателю о местах, связанных с историческими и литературными эпизодами прошлого, но как бы привести это прошлое в настоящее, по-новому пережить и почувствовать, человек, смотревший на ширмы Сотацу, сопоставлял их с произведением прославленного поэта. Благодаря этому он открывал в живописи новые значения, понимая, что и для поэта и для художника обращение к прошлому было особой организующей силой их фантазии, органичной частью мышления, осознания явлений действительности. Искусство Сотацу, а вслед за ним и других художников Римпа через обращение к классической литературе стремилось гармонизовать отношения человека с миром. Культура периода Хэйан в исторических условиях Японии 17 века была эстетическим идеалом, который, выражая эти внутренние цели искусства, «направляет к тому, что является ключевым для духовных потребностей эпохи»74. Сотацу, отчасти под воздействием Коэцу, художественно сформулировал смысл эстетического идеала своего времени.
Огата Корин в своем творческом методе шел по пути, открытом Сотацу. Идти за Сотацу ему было очень трудно, а не идти — невозможно. Из его копий, сделанных с произведений Сотацу, видно, как долго он пытался ему противостоять: новые акценты, изменение пропорциональных отношений, ритмической структуры произведений подтверждают это. Лишь в конце жизни, отказавшись от подобного
70 Боронина И. А. Поэтика классического японского сти- М., 1935. С. 317—342.
ха. С. 301. 72 См.: Кин Д. Японская литература XVII—XIX столетий.
71 Перевод названия дневниковых записок Басё бук- С. 69.
вально звучит как «Узкая дорога Оку», а в более 73 Там же. С. 70.
свободном толковании «По тропинкам Севера».— См.: 74 Ястребова Н. А. Формирование эстетического идеала
Восток. Сборник первый. Литература Китая и Японии. и искусство. М., 1976. С. 123.
200
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
противостояния и развивая творческий метод Сотацу, он сумел сказать собственное слово в искусстве декоративной живописи.
Огата Корин жил в эпоху, когда в средневековую по типу культуру Японии конца 17—начала 18 века начали проникать новые веяния и постепенно назревала тенденция кризиса целостного мировоззрения, которое еще было свойственно Сотацу.
Исследователи японской литературы считают, что вторая половина 17 века была началом постепенного перехода от средневековья к Новому времени75. В течение 17 столетия произошли глубокие изменения в японском общественном сознании. Интерес к реальности, первоначально присущий только культуре городского сословия тёнин (в таких ее проявлениях, как жанровая живопись, а позднее гравюра, повествовательная проза, театр Кабуки), намечается и в художественных формах, порожденных культурой феодального сословия. Впервые с полной очевидностью возникает проблема связи искусства с миром реальной действительности. Об этом размышляли поэт Мацуо Басё, драматург Тикамацу Модзаэмон, высказывания которых сохранились в записях современников. Безусловно, это волновало и живописцев.
В декоративных росписях, где интерпретация действительности традиционно опиралась на мифологию и литературу и на этой основе были выработаны ее собственные формы опосредованных связей с реальным миром, обнаруживается новая тенденция в художественном истолковании действительности. В росписях сохранились основы традиционной поэтики, условность размещения изображения на золотом фоне, что само по себе служило методом абстрагирования мотива, его отрыва от природной среды, но при этом намечался иной, чем прежде, интерес к детали, ее пластической достоверности. Это влекло за собой изменения в общей образной структуре произведений, потребовало введения каких-то приемов, которые уравновешивали бы излишнее правдоподобие, грозившее разрушением всей системы декоративной росписи. Такая художественная задача и встала перед Огата Корином, и ее решению была посвящена вся его творческая жизнь.
Корин имел дело с готовыми, уже сложившимися формами декоративной живописи, в значительной мере преображенными гением Сотацу, но все же сохранявшими свои основные качества. Изменившийся взгляд на мир, свойственный его времени, он старался поначалу выразить традиционными стилевыми приемами, ставя лишь новые акценты. Эта его работа особенно хорошо видна в его копиях с произведений Сотацу, где предметные формы получают большую конкретность и материальность по сравнению с первоисточником, отчего намечается некоторая противоречивость росписи как целого. Еще более явным это стало в произведениях, где художник пытался использовать натурные зарисовки. Сам факт наличия в наследии Огата Корина значительного числа натурных штудий знаменателен и необычен для средневекового японского художника. Это прямое свидетельство того, что отдельный предмет впервые осознается как самоценный. Он в силу этого может быть изъят из целостной системы мироздания, существовать вне связей с ней, а это уже означало отход от традиционной концепции восприятия и человека и всего прочего как части природного мира. Вычленение из природы специального объекта наблюдения подразумевало существование субъекта, их разделение, нарушение их слитности, что и было явным признаком кризиса средневекового мировоззрения.
75 См.: Редько Т. И. Творчество Ихара Сайкаку. М.,
1980. С. 20.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
201
Огата Корин сделал попытку перейти от медитативного отношения к природе к прямому ее наблюдению. Но это невозможно было воплотить в системе декоративной живописи. Роспись, составленная из отдельных природных мотивов, теряла не только свою пластическую цельность, но переставала быть художественной системой, основанной на определенных законах преобразования реальности. Она разрушалась и как модель мироздания, то есть теряла свой высокий концептуальный смысл.
Не в состоянии создать какую-либо новую художественную систему росписи взамен традиционной, Корин вынужден был вернуться к наследию предшественников и попытаться найти средства для выражения нового видения мира, свойственного его времени.
Стремление к созданию живописной метафоры наподобие метафоры поэтической, свойственное мастерам декоративной живописи, проявилось особенно наглядно в артистичных миниатюрах Огата Корина—его веерах. В одном из них с изображением мостика и ирисов — намек на «Исэ моногатари». На другом изображен крутой склон холмов с несколькими стволами деревьев. Подножие холмов охватывает темно-голубой зигзаг потока, а все оставшееся поле покрыто светлой охрой, и на нем по краю написаны огненно-красные кленовые листья, словно «ключевое слово» стихотворения, организующее всю образную структуру произведения. Этот мотив каждому образованному японцу напомнит стихи из классических антологий на канонический сюжет «Тацута-гава»:
Когда бы листья золотые Не плыли по воде,
О Тацута-река!
Кто бы подумал,
Что осень в твоих волнах!76
Огата Корин доводит почти до предела возможного приемы декоративной живописи с ее условностью локального цвета, предметными формами, превращенными в знаки, в орнаментальные элементы, подчиненные общему ритмическому построению и сплавленные с его помощью в декоративное единство. Несмотря на то что этот веер Огата Корина, может быть, не самое значительное произведение художника, в нем особеннр наглядно видно, как декоративная живопись преобразует натурный мотив в соответствии со своими законами, во многом близкими законам стихотворной речи.
Важнейшим результатом длительных поисков художника стала роспись на парных восьмистворчатых ширмах «Ирисы». Изображение этих цветов имеет в японской культуре сложную семантику. Оно может быть ассоциативно связано с весенним сезоном и известным праздником мальчиков, в сопоставлении с которым цветок ириса—олицетворение самурайской доблести. Мотив ирисов у воды может стать аллюзией на известный эпизод из «Исэ моногатари» с ее прославленным героем-поэтом Аривара Нарихира. Ассоциативные связи с «Исэ моногатари» позволяют истолковывать ширмы Корина как метонимию— воссоздание целого через деталь. Зритель, безусловно, догадывается, что художника интересовал и сам прекрасный цветок, показанный как бы с разных точек зрения, но главным образом нечто, стоящее за внешними формами, скрытое и внутреннее — эмоции и движения души. Возникает множество семантических уровней: от непосредственного любования красотой цветов и изощренным их варьированием в композиции ширм, и далее — через сопоставление с
76 Цит. по: Боронина И. А. Поэтика классического японского стиха. С. 16.
202
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
103
Огата Кэндзан «Яцухаси» Альбомный лист Начало 18 в.
неизображенным, но хранимым в субъективном опыте зрителя и опирающемся на широкий общекультурный и исторический контекст. Но поскольку все более или менее далекие ассоциации могут возникнуть только на основе непосредственного эмоционального впечатления, то главной задачей живописца и становится организация произведения как художественного целого.
Репродуцирование ширм в малом масштабе уничтожает ощущение мощных, значительно увеличенных по сравнению с натурой форм, как бы приводит изображение к естественно-природным размерам. Тем самым разрушается важная особенность восприятия этого произведения: масштабное преувеличение разрывает непосредственные связи мотива с натурным прототипом, несмотря на значительную достоверность изображения. Видимо, стремление привести восприятие в соответствие с законами декоративно-орнаментальной системы входило с самого начала в намерение художника. Это подтверждается сознательным приемом повтора одинаковых цветов и листьев и даже целой группы растений, открывающих композицию на правой ширме и лишь с небольшими изменениями воспроизведенной вновь на четвертой и пятой панелях. Хотя в дальнейшем уже нет такого почти буквального повтора, в сознании зрителя остается ощущение рапортности, возврата к уже бывшему — свойство, чрезвычайно важное для усвоения общей ритмической структуры произведения. Именно повтор, полный или неполный, создает у зрителя впечатление размеренного ритмизированного движения. «Понятие ритма связано с понятием ожидания: после какого-то события ожидают следующего, и это является критерием ритма...»77. Однако художественный ритм, и это видно в произведении Огата Корина, создается не
77 Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1965. С. 121.
104
Огата Кэндзан Корзины с цветами Свиток живописи Начало 18 в.
204
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
просто повторением какого-либо элемента, а «его претворением в новой, постепенно возобновляющейся художественной целостности, его интонированием и акцентированием. В этом плане ритм оказывается категорией художественного смыслообразования»78.
Во всех произведениях Огата Корина, и в «Ирисах» особенно, орнаментальный ритм приобретает огромную роль, становясь не только элементом стиля, но особенностью художественного мышления и метода этого мастера79.
Функция ритма у Эйтоку и Сотацу была совершенно иной, связанной прежде всего с преодолением статики форм, с наделением их динамическим началом, движением, направленным как бы за пределы изображаемого пространства («Кипарис» и «Китайские львы» Кано Эйтоку, «Бугаку» и «Боги ветра и грома» Таварая Сотацу).
В произведениях Огата Корина ритм образует орнаментальную структуру образа, то есть связан с его внутренней сущностью. В подобной орнаментализации ощущается тот «образ порядка»80, который хочется сопоставить с общей тенденцией к упорядоченности, свойственной периоду Токугава. Прямых связей между такими далекими явлениями, безусловно, не^ было. Но изменение мышления шло от свободной раскованности Момояма к регламентированности и систематичности 17 века, что интуитивно ощущалось таким художником, как Корин.
Ритмическая структура «Ирисов» Сложна и многозначна. С помощью ритма художник добивается впечатления жизненности изображения, несмотря на условность золотого фона, выполняющего в картине функции воздушной среды и водной поверхности одновременно. Ритм организует и время восприятия картины, обозначая его начало, последовательность, замедления и ускорения темпа, когда и происходит собственно эстетический акт постижения картины как произведения искусства.
Единственный выбранный художником мотив в многократном повторении и варьировании приобретает свойства поэтического обобщения, и роспись может восприниматься как образ весеннего цветения, возрождения жизни и ее движения, проходящего перед взором человека. Недаром в ритмическом повторении ширм нет кульминации — волнообразное движение как бы струится, проходит мимо нас. Как медленный танец актера в театре Но, где каждое движение и жест содержательны и значимы, ирисы на картине Корина предстают то в одном ракурсе, то в другом, то в виде бутона, то полностью раскрывшегося цветка. Возникает впечатление не только пространственного движения, но и определенного временного потока, когда танцевальные па следуют одно за другим, и образ постепенно возникает в воображении как синтез разных поз, поворотов, остановок в движении: из внешнепредметного рождается внематериальная субстанция художественного произведения.
Образ бесконечности жизни, постоянства ее движения, весеннего возрождения воплощен в последнем шедевре Огата Корина—росписи на парных двустворчатых ширмах «Красное и белое дерево сливы». Художественное воздействие этого произведения построено на контрастном сопоставлении изображений цветущих деревьев не только с условным фоном, но и с подчеркнуто орнаментально трактованным водным потоком. Мастер доводит до логического завершения свой метод претворения действительности в декоративную роспись. Он как бы нарочито заостряет драматический конфликт произведения — конфликт
78 См.: Сапаров М. А. Об организации пространственно- временного континуума художественного произведения // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. С. 101.
79 Впечатление монументальности связано с преоблада¬
нием горизонтальных членений в ущерб вертикальному
ритму.— См.: Гинзбург М. Я. Ритм в архитектуре. М., 1922. С. 102.
00 См.: Герчук Ю. Поэтика орнамента // Советское декоративное искусство-7. М., 1984. С. 151. *
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
205
реально наблюдаемого и переосмысленного творческой фантазией. Это фантазия особого рода. Она художественно преобразует естественные природные связи предметов в орнаментально-ритмические, органично сочетаемые с золотом фона, который не воспроизводит пространство мира, видимую глазом реальность, но обозначает некую условную среду, в которой живет изображение. Одновременно золотой фон утверждает плоскость ширмы-стены, вещественную материальность предмета в интерьере. Поэтому так естественно переходит Огата Корин от правдоподобности картины к условности орнамента и сочетает их в одной композиции. Можно сказать, что Корин создал собственную концепцию декоративной росписи, основа которой — орнаментально-ритмическая организация поверхности. Мотив наряду с сюжетным смыслом получает значение элемента определенной ритмической структуры, включаясь в ее контекст81. В цвето-ритмической упорядоченности, которая и есть проявление истинной декоративности, можно видеть свойственное этому художнику стремление к совершенству, к выражению в формах декоративной живописи эстетического идеала эпохи. Огата Корин решал трудную задачу сохранения в новых исторических условиях художественной системы росписи. В рамках этой системы, не разрушая ее, он сумел добиться пластической достоверности изображаемых форм, найдя таким образом способ реализации общего интереса к реальности, свойственного его времени.
Для мастеров конца 16 века, в том числе Кано Эйтоку, проблемы правдивости изображения, его достоверности вообще еще не существовало в таком виде, как эта проблема встала на рубеже 17—18 веков. В выборе мотива огромную роль играла его внеизобразительная семантика, а сходство воссоздававшихся живописью форм с их живыми прототипами было условием, а не целью творчества. У Сотацу правда всегда эстетизировалась путем сопоставления с классикой, и традиционные литературные образы занимали место живой реальности. В соответствии с его мироощущением прошлое было для него реальнее настоящего. Недаром он никогда не обращался к жанровой живописи, переживавшей высокий расцвет как раз в начале 17 века.
Искусство Огата Корина уже лишено той завершенности и высокой гармонии, которые были свойственны произведениям Сотацу. В них ощущается борение двух точек зрения на мир, на окружающую жизнь, и главным пафосом творчества этого мастера стало стремление найти сопряжение этих разных точек зрения. Проявляя интерес к живой реальности, Огата Корин тем не менее, как и Сотацу, не писал жанровых картин, ограничиваясь фиксацией наблюдений над растениями и птицами. Если его современник писатель Ихара Сайкаку стремился отразить в своем творчестве собственную жизнь, свои наблюдения и ощущения, то искусство Корина оставалось целиком в сфере поэтического преображения реальности, и средства, которыми он пользовался, были традиционными средствами декоративной живописи. Другой знаменитый современник Огата Корина драматург Тикамацу Модзаэмон писал, что «искусство находится на зыбкой грани между тем, что есть, и тем, чего нет. Искусство кажется вымыслом, и вместе с тем оно не вымысел, искусство кажется правдой, и в то же время оно не правда. Жизнь искусства между тем и другим. Живопись и скульптура — искусство, но и они, изображая реальные вещи, содержат в себе нечто нереальное... Как ни старается драматург приблизиться к реальности, в его произведении будет и то, чего в реальности нет. Но именно в этом смысл и услада искусства»82.
1 Герчук Ю Я. Поэтика орнамента. С. 142 Пит по Гоигорьева Т , Логунова В Японская литература. М., 1964 С. 72 — 73.
206
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
105
Огата Кэндзан Тарелка
с изображением цветов у ручья Начало 18 в.
Такие рассуждения были еще невозможны в начале 17 века, не говоря уже о более раннем периоде. Они свидетельствуют о постепенно назревавшем кризисе средневекового мировоззрения и средневековой художественной системы, первые признаки которого можно заметить и в искусстве Огата Корина. Стремление разрешить противоречие новых веяний и традиционных свойств декоративной росписи получало выражение не только в стиле и живописном языке мастера. Его ширмы активно взаимодействовали с реальным предметным окружением — убранством интерьера.
Как уже отмечалось исследователями83, ритмическое построение «Ирисов» Корина было согласовано с самой формой ширмы, которая в своем реальном существовании никогда не бывает единой плоскостью, а состоит из расположенных под углом друг к другу панелей. В отличие от мастеров периода Момояма, главным образом расписывавших фусума, а не ширмы, Огата Корин видел перед собой не плоскость, а объемный предмет, располагавшийся в пространстве интерьера и соотносимый с другими предметами. Единые законы формообразования, свойственные росписям ширм, декору лаковых изделий, костюма, керамики, открывали возможность создания декоративного ансамбля как синтеза собственно изобразительного и предметного творчества. Неудивительно, что Огата Корин продуктивно работал почти во всех видах декоративно-прикладного искусства. На протяжении полутора веков японская декоративная живопись претерпела существенные стилевые изменения, которые отразили изменения в методах освоения действительности, познания мира, поиска истины. Японская декоратив-
03 См.: Grilli Е. The Art of the Japanese Screen. P. 142,
143.
Метод: темы росписей и особенности образной структуры
207
ная живопись—нереалистическая художественная система, основанная на сред- невексэвом мировоззрении84. Художественная правда, открывающаяся в японской декоративной живописи, связана с характером тематики, условностью образов, их сложной внутренней структурой.
Отношения человека к окружающему миру передаются в ней через канонизированные повторяющиеся образы, в характере которых подчеркивается начало, выражающее не сиюминутное и частное, а вечное и универсальное.
Условность тем и мотивов декоративной живописи выражается в том, что они не являются результатом непосредственного визуального опыта художника. Они создаются как реализация архетипов художественного сознания, свойственных японской национальной культуре. Поэтому конкретный мотив — сосна, цветущее дерево сливы, ирис и т. д.— всегда соотнесен с более общими идеями благодаря устойчивым ассоциативным связям, зарождение кото'рых уходит корнями в глубокую древность. Эти связи единичного с универсальным создавали предпосылки существования многих семантических уровней при восприятии каждой отдельной росписи: общефилософский, литературно-иносказательный, ассоциативно-поэтический и другие. При таком значении мотива в конкретном и единичном подчеркивалась не его неповторимая особенность, а, напротив, то, в чем проявлялось всеобщее. Изъятые из реальных жизненных связей природные мотивы в декоративных росписях сопоставлялись друг с другом на основе иных, чем в действительности, законов. С этим и связана принципиальная условность построения художественного образа. Одна из его особенностей состоит в том, что образ возникает в сознании зрителя из сопоставления визуально воспринимаемого мотива со сложным комплексом культурно-исторических представлений85. Само изображение — лишь один из компонентов образа, первая необходимая точка отсчета для ассоциативных связей с традиционными символами, литературными героями и ситуациями. Характерное сближение с литературой происходило на основании того, что декоративная живопись не ставила себе задачу воссоздать саму предметную реальность действительности. Предметные формы были средством передачи человеческих эмоций, впечатлений и представлений о жизни и мироздании. Конкретность предметных форм служила для выражения внепредметного аспекта действительности, и любое изображение приобретало знаковый смысл, раскрывавшййся лишь в определенном контексте, отчего образ получал свойства принципиальной многозначности.
Проблема контекста, вне которого образы декоративной живописи вообще не могут быть поняты, приобретает особо важное значение при изучении этого вида искусства. ^
В традиционной японской эстетике существует понятие «ёдзё», указывающее на недосказанность, существование смыслов, не выраженных непосредственно в тексте или изображении. Понятие это связано с особой культурой намека, имеющего важнейшую формообразующую функцию в японском искусстве. Намек активизирует сознание воспринимающего произведение человека, возбуждает его воображение, указывая на существование невидимого, того, что не открыто логическому суждению, но постигается интуитивно во всей полноте и целостности86. Благодаря намеку образ приобретает качества неопределенности, большей свободы ассоциаций и реминисценций, а следовательно, и глубины87. Неопределенность как главное свойство контекста позволяет ему стать важнейшим компонентом структуры образа в декоративной живописи.
04 См.: Рифтии Б. Метод в средневековой литературе Востока // Вопросы литературы. 1969. № 6. С. 93.
05 См.: Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972. С. 25.
86 Как метод познания интуиция есть «непосредственное синтетическое суждение, не опирающееся на доказательства».— См.: Фейнберг Е. Л. Кибернетика, логика, искусство. М., 1981. С. 61.
07 «Лишь благодаря пленительной неточности метафора способна раскрыть нетривиальную гармонию явлений».— См.: Линник Ю. В. О взаимодействии гуманитарной культуры и естественных наук на понятийном уровне // Художественное творчество. 1982. М., 1982. С. 90.
208
Глава вторая. Метод: темы росписей и особенности образной структуры
В самом контексте различимы несколько уровней: общекультурный, связанный с древности формировавшимся фондом традиционной образности, и более узкий, «ближний» (отчасти социологический, оказавшийся наиболее актуальным в период Момояма), отчасти поэтологический, характерный для 17 века.
Если «дальний» контекст (можно напомнить, например, о фольклорносинтоистских корнях мотива сосны или буддийских реминисценциях, связанных с мотивом цветущей вишни — символа бренности человеческой жизни) свободно включается в структуру художественного образа декоративных росписей, то «ближний» контекст требует более строгой художественной организации произведения— ритмической и цветовой упорядоченности мотивов, их определенной построенности (в ширмах Сотацу на сюжеты «Гэндзи моногатари» живописная метафора возникает благодаря точности композиции).
Но и в одном и в другом случае контекст может стать элементом художественной структуры лишь благодаря особого типа связям его с изображением, с тем, что непосредственно воспринимается глазом. Связи эти косвенные, неформальные. Художник всегда учитывал их, так как его задача никогда не ограничивалась воспроизведением того или иного мотива, и украшение стены было лишь одной, но, видимо, не самой главной его целью. Красота стенной поверхности могла воздействовать и без учета смысла росписи: она возникала благодаря мерцанию золота, сверкающим на его фоне ярким краскам, создавая впечатление нарядной праздничности. Но глубина эстетического воздействия произведения была связана с его значением, содержательностью того, что было изображено художником. Содержательность эта далеко выходила за рамки только предметных форм. От них распространялось эхо многочисленных значений, возникавших ассоциативно в сознании зрителя на основе его эмоционального и интеллектуального опыта. «Произведение как бы окутано музыкой интонационноценностного контекста, в котором оно понимается и оценивается (конечно, контекст этот меняется по эпохам восприятия, что создает новое звучание произведения). Взаимопонимание столетий и тысячелетий, народов, наций и культур обеспечивает сложное единство всего человечества, всех человеческих культур..»88
Цит. по: Бахтин М. М. К методологии литературоведения // Контекст—1974. М., 1975. С. 211.
Заключение
Синтез: живопись
и архитектура
При изучении любой настенной росписи обязательно возникает проблема ее взаимодействия с тем архитектурным пространством, в котором она расположена. Чтобы уяснить функции японских декоративных росписей, необходимо более точно представлять себе главные особенности традиционной архитектуры и характер тех изменений, которые имели место в ней в конце 16—начале 17 столетия. Важно понять также, насколько архитектура и живопись были взаимозависимы и в чем это выражалось. Сам факт существования расписанной ширмы как предмета, не связанного непосредственно с архитектурной конструкцией, говорит о том, что декоративная роспись могла существовать и не только на стене — фусума. С другой стороны известны многочисленные примеры традиционной архитектуры, не имеющей декоративных настенных росписей. Однако в определенных исторических условиях возникала необходимость в образовании неких синтетических структур, которые играли новую роль в общественной жизни, и возникали задачи, которые не могли быть решены по отдельности архитектурой и живописью.
Возможность раздельного существования двух компонентов синтеза или активного взаимовлияния и обоюдного воздействия заставляет искать ответ на целый ряд вопросов. Один из них — о воздействии архитектуры, ее конструкции и материалов на произведение живописца и восприятие его зрителем.
Первая особенность традиционной архитектуры состоит в том, что ее главный строительный материал — дерево. Деревянные стойки и балки образуют каркасную конструкцию, поддерживающую кровлю, для которой использовали кору кипариса, солому, черепицу. Стойки каркасной конструкции устанавливались на
210
Заключение. Синтез: живопись и архитектура
106
Замок Нидзё Киото
1626. Общий вид
камнях для предохранения от воздействия влаги. Не имевшие функции опоры стены представляли собой раму, затянутую полупрозрачной белой бумагой (для наружных стен — сёдзи) или плотной, наподобие картона (для внутренних перегородок — фусума). Материалы японской архитектуры были обусловлены природными ресурсами, климатическими условиями и экономическим развитием (в частности, производством бумаги).
Строительство из дерева открывало возможность стандартизации, заготовки деталей для сборки дома на основе единого модуля, который исходил из пропорций человека, значительно отличающихся от европейских1, и из обычая сидеть на полу, покрытом циновками из рисовой соломы. Конструктивным модулем было или расстояние между столбами,или расстояние между центрами столбов (его размеры неоднократно менялись). Хотя основная объемнопространственная идея традиционной архитектуры зародилась еще в древнюю эпоху, эстетическое осмысление материалов и конструкции произошло много позднее и было связано с деятельностью так называемых мастеров чая в конце 15 — начале 16 века. До этого выразительность текстуры дерева и бумаги, а также пропорциональных отношений осознавалась на уровне строительного ремесла. Архитектурная форма таким образом была производной от материала и конструкции, а не изначально заданной концепцией. Именно стандартность архитектурной формы и вызвала к жизни то декоративное убранство, которое способно было просто дом превратить в дворец как социально значимый фактор. Исполнявшиеся на раздвижных внутренних перегородках декоративные росписи были расположены не на стене, но сами были такой стеной, легкой и мобильной, что не могло не воздействовать на восприятие живописи. Раздвинутые фусума открывали взору другие помещения, в свою очередь, также украшенные росписями. В зависимости от того, какие именно фусума раздвигались, менялась конфигурация пространства и визуальное сопоставление разных росписей.
В соответствии со стандартными размерами конструктивных элементов дома, одинаковыми были и размеры фусума. В композиции росписей, как уже неоднократно отмечалось, преобладала горизонтальная направленность (высота фусума была равна приблизительно 170—180 см, а ширина росписи на четырех и более фусума—нескольким метрам).
На пропорции росписей влияли не только размеры панелей, но и то, что покрытый циновками пол был основной жизненной поверхностью, где главным образом сидели, а не стояли. Уровень глаз сидящего человека определял точку зрения на произведение живописца, поскольку нижний край росписи фактически сливался с полом2. Наконец, важным обстоятельством было и то, что интерьер был лишен каких бы то ни было объемных предметов, так что роспись воспринималась в совершенно свободном, пустом пространстве, что значительно повышало ее активность. Так, обрамленная стойками и балками конструкции с естественной текстурой дерева (лишь в пышных дворцовых залах эпохи Момояма над росписями располагались резные декоративные решетки — рамма, позолоченные или расписанные), сопоставленная с нейтральными по цвету циновками пола, роспись сосредоточивала на себе внимание, была главным средством воздействия на человека, находившегося в интерьере. Закрытые наружные стены — сёдзи создавали мягкое, рассеянное освещение, значительно ослаблявшее интенсивность цвета живописи, резкость контуров на золотом фоне, который, в свою очередь, отражая свет, мерцал и переливался.
1 См.: Engel Н. The Japanese house. A tradition for ти, на увеличение значения нижней линии карти-
contemporary architecture. Tokyo, 1964. Р. 235. ны.— См.: Шапиро М. К проблеме семиотики визуально-
2 Как отмечают специалисты, при положении сидя на го искусства // Семиотика и искусствометри?. М., 1972. полу центр тяжести тела человека расположен очень С. 146.
низко, что влияет на восприятие живописи, и в частное-
Синтез: живопись и архитектура 213
107
Замок Нидзё
Киото
Интерьер
108
Замок Нидзё Киото Интерьер с росписями Кано Таниу
109
Замок Нидзё Киото
Декор стены
216
Заключение. Синтез: живопись и архитектура
Но и при раздвинутых наружных стенах большой свес кровли не пропускал внутрь прямых солнечных лучей, так что свет попадал в интерьер по большей части отраженным от почвы. Росписи фактически всегда находились в полутени, что и учитывалось художниками, не боявшимися контрастных цветосочетаний.
В середине 16 века основным типом светской архитектуры был так называемый сёин-дзукури — прямоугольное в плане здание, величина его определялась числом пролетов между столбами, на которые опиралась кровля. В глубину оно обычно имело два пролета, что было связано с проблемой освещения. Только во второй половине 16 века появились более обширные по глубине помещения. Интерьеры зданий типа сёин имели целый ряд особенностей, в том числе такие встроенные элементы, как цукэ-сёин (ниша с окном и подоконником, использовавшимся как стол для чтения и письма), специальная ниша-токонома или токо, где размещали свитки живописи, каллиграфии, ставили курильницу, вазу с цветами3. Рядом с токонома имелись асимметрично расположенные полки для книг — тигайдана. Каждый из этих элементов появился на более ранней стадии развития архитектуры сёин-дзукури, но постепенно получил символическое значение — указание на престижное место в до|Ле. Такой же смысл имело и повышение уровня пола одной комнаты по сравнению с другой.
В сёинах эпохи Момояма главный приемный зал — дзёдан-нома («приподнятая комната») включал в себя композицию из всех трех элементов (цукэ-сёин, токонома, тигайдана). Справа от нее имелись церемониальные двери в деревянном обрамлении—тёдайгамаэ, которые вели в так называемую ночную комнату. Во время официальных приемов они использовались как парадный вход для правителя или хозяина дворца, появлявшегося перед вассалами. До последней четверти 16 века все эти архитектурные элементы располагались в частных резиденциях и не обязательно соединялись вместе в одном помещении. Но их знаковый смысл привел к тому, что в период Момояма они стали обязательной частью жилища представителей высшего сословия и были официально запрещены для всех остальных4. Кроме того, они стали размещаться теперь в общественных местах. Нередко росписи покрывали поверхность токонома, тёдайгамаэ, фон полок тигайдана.
В отличие от более ранних сёинов, где под одной крышей находились и частные покои, и залы для официальных церемоний, в конце 16 века, когда роль последних особенно возросла, наметилась тенденция к их обособлению и даже полному разделению. Это способствовало еще большему увеличению их символического значения и особому акцентированию декора помещений.
В истории японской художественной культуры архитектурная идея сёина занимала особое место. Складываясь постепенно в течение всего периода средневековья, на поздней его стадии она легла в основу типологической формы традиционного жилого дома как наиболее рациональной с точки зрения климатических условий и этнопсихического склада нации. Возможность вариативности столь велика в сёине потому, что крепки и неразрывны внутренние структурные связи в самом строении архитектурной формы. В сущности одна форма тут может по-разному функционировать и в пространстве природном, и в «пространстве» социальном. Если в обычном традиционном доме с наибольшей полнотой выявлена природная идея человека (его зависимость от климата, ландшафта, общих природных условий), то в официальных сёинах Момояма с их пышным декором и четким зонированием внутреннего пространства преобладает идея
3 Ниша-токонома генетически восходила к алтарю в 4 Hashimoto Fumio. Architecture in the Shoin Style,
буддийском храме, где означала главное, сакральное Japanese Feudal Residences. Tokyo, New York, San место в интерьере. Francisco. 1981. P. 24.
Синтез: живопись и архитектура
217
социальной значимости человека. Можно сказать, что в архитектурной форме сёина получила собственное воплощение проблема человеческой личности, свойственная японскому средневековому обществу. Иерархия внутреннего пространства, выраженная в разных уровнях пола в зависимости от престижности помещений, в закодированной форме несла в себе идею вертикальных общественных связей, отношений высшего и низшего по социальному статусу. А незначительная роль межличностных связей среди людей одного и того же социального ранга не получила выражения в строении архитектурной формы. Форма официального сёина не содержит идеи личности как таковой, трансформируясь в зависимости от ситуации, связанной с общественным ритуалом, когда человек проявляется как родовое существо, а не как индивидуальность. Природное начало в архитектуре сёин-дзукури было развитием шедших от древности концепций, преобладавших и в художественной культуре развитого средневековья 14—15 веков, когда внутреннее пространство дома осознавалось как интегральная часть пространства окружающей природы. Человек всегда смотрел из интерьера вовне, созерцал ли он классический монохромный пейзаж или открывавшийся при раздвинутых наружных стенах специально организованный сад. Присутствие сада как обязательной части жилища как раз раскрывает основную идею дома, его незамкнутость, неотъединенность от окружающего пространства природы. По той же причине в ранних сёинах отсутствовала идея фасада как границы дома и окружения, пространства, присвоенного себе человеком, и природного.
Невиданное прежде утверждение ценности внутреннего пространства дворца было новшеством эпохи Момояма. И хотя по-прежнему социальное получало выражение через природное, что отразилось прежде всего в тематике настенных росписей, интерьер впервые в японской светской архитектуре стал преобладающим в общей концепции здания. Никогда до эпохи Момояма он не получал такого самодовлеющего смысла, не был так значителен в своем убранстве, так подготовлен к некоему ритуалу. Это объясняется общей секуляризацией культуры, вытеснением на периферию общественной жизни религиозной ритуальности, некогда сливавшейся с государственным церемониалом, но кроме того, повышением социальной активности новых слоев феодального класса—пришедших к власти военных диктаторов, крупных даймё и их вассалов. Подобно тому, как в предшествующие эпохи формировалась среда для религиозных ритуалов, так в период Момояма возникла необходимость в специально организованной среде для нового типа социального^ общения. Во всяком ритуале огромное значение имеет чисто визуальная его сторона как средство воздействия на участников, их приобщения к определенным идеалам и духовным нормам.
Ода Нобунага, заказывая росписи для своего нового замка Адзути, руководствовался не только идеей создания красивых залов для приемов гостей и для собственных бытовых нужд. Он хотел иметь в замке росписи именно на золотом фоне, ибо золото как синоним ценности входило в образную структуру произведения. Росписи такого рода создавали впечатление роскоши в традиционном пустом интерьере. А роскошь становилась символом не только богатства, но и власти, она вызывала общественное уважение и поклонение окружавшей узурпатора новой военной верхушки. Значение и общественные функции роскоши «были так велики, что она стала не только внутрисословным, но и общекультурным символом и вошла в искусство через стиль, насыщенный богатой орнаменти¬
218
Заключение. Синтез: живопись и архитектура
кой, ярким колоритом, пышной декоративностью»5. Вслед за захватом власти с помощью военной силы перед Ода Нобунага и его преемником Тоётоми Хидэёси встала задача идеологического самоутверждения. Пышное декоративное убранство замков и дворцов правителей было фактом преобразования внеэстетиче- ской информации в художественную, способную непосредственно, эмоционально воздействовать на человека. Таким образом, ценность и общественное значение декоративных росписей было связано с идеологией и политикой в первую очередь. В отличие от росписей предшествующего периода (напомним, что в буддийских монастырях 14—15 веков стенные панели — фусума нередко были украшены изображениями религиозных персонажей, а также монохромными пейзажами) произведения художников Момояма были рассчитаны на принципиально иные формы контакта со зрителем.
Если традиционная архитектура оказывала воздействие на размеры, пропорции, композиционные особенности росписей, то росписи в свою очередь должны были влиять на смысл архитектурного пространства и его восприятие. В отличие от стиля, связанного с внутренними закономерностями художественного процесса, синтез всегда возникал целенаправленно6. Задачи синтеза архитектуры и пространственных искусств были более универсальными, связанными с решением художественными средствами внехудожественных проблем. В этом случае назначение живописи «приобретает сверхэстетический смысл, она рассматривается не только как художественное изображение жизни, но и как символический предмет жизненно важного назначения»7. Живопись оказывается призванной что-то внушать, вторгаться в сферу жизненно-практическую.
Узурпировавшие власть военные правители Японии конца 16 века стремились утвердить себя в пышной ритуальности, яркой зрелищности и театрализации общественных действ. Поскольку японский средневековый город не имел предназначенных для этого площадей, все общественно значимые и государственные акции имели форму приемов, церемониального представительства во дворце правителя страны или крупного феодала—наместника провинции. Настенные декоративные росписи служили целям формирования среды для таких ритуалов, были главным знаком принадлежности хозяина дворца к высшим ступеням общественной иерархии. Огромные богатства, оказавшиеся в руках новой феодальной знати, не были для нее самоцелью. Важнейшую роль играла возможность публично демонстрировать богатство, тратить деньги, а не копить, показывая свою расточительность как знак своего могущества8. Ритуалы во дворцах и замках и были такой демонстрацией власти и богатства, а настенные росписи служили утверждению этих идей в сознании присутствующих.
Но это была лишь одна сторона влияния декоративной живописи на архитектурное пространство дворцовых интерьеров. Росписи, а также постепенно уплотнявшийся от входа к главному залу декор помещений поддерживали и подчеркивали идею иерархического деления внутреннего пространства, как и повышающиеся уровни пола (в официальных сёинах конца 16—начала 17 века число уровней пола доходило до пяти). В соответствии с социальным рангом приглашенные имели право находиться в первом от входа, втором или последующих помещениях дворца. Каждый мог занимать только свое место сообразно субординации высшего и низшего на иерархической лестнице феодального общества. В архитектуре сёин-дзукури нет анфиладного расположения помещений, единой оси, направляющей движение. Поскольку здания соединяются, примыкая друг к
5 См.: Художественная культура в докапиталистических 0 См.: Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры,
формациях. Л., 1984. С. 214. М., 1972. С. 226, 227.
6 См.: Мурина Е. Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982. С. 76.
7 Там же. С. 75.
Синтез: живопись и архитектура
219
другу углами, образуя в плане зигзаг, то каждое помещение оказывается пространственно изолированным от предыдущего и последующего, а повышение уровня пола еще усугубляет эту изолированность. Такая затрудненность пространственного движения в интерьерах сёина усиливала идею социального зонирования. Самым почетным и престижным было место у встроенной композиции из трех элементов (цукэ-сёин, токонома, тигайдана) в наиболее удаленном от входа зале с самым высоким уровнем пола.
В записках европейских миссионеров, побывавших в Японии в конце 16 и в начале 17 века, содержится множество описаний аудиенций у правителей и крупных феодалов, где зафиксированы такие детали, которые могли броситься в глаза лишь сторонним наблюдателям. Например, их особенно удивляло то, что весь ритуал происходил, сидя на полу (вернее, на покрывавших пол циновках— татами), в отсутствии множества предметов, имевших'символический смысл и заполнявших церемониальные залы европейских дворцов. Родриго де Виверо и Веласко в описании приема у Токугава Иэясу в замке Суру га в 1609 году рассказывает, как один из знатнейших людей Японии подносил подарки сёгуну (по ошибке называемому императором), общая стоимость которых была более 20 тысяч дукатов, что указывало на высокий ранг гостя, который при этом простирался ниц перед Иэясу, «как будто хотел поцеловать пол». Никто не сказал ему ни слова, а сёгун даже не поднял на него глаз и в момент появления и когда он покидал зал вместе со своими многочисленными приближенными9. Можно предположить, что на этой и других подобных церемониях сёгун восседал на специальных подушках на возвышении в парадном зале на фоне токонома с росписью, изображавшей гигантскую сосну или другое могучее дерево. Такой фон служил утверждению героизированной личности правителя, создавал ощущение его преувеличенного масштаба по сравнению со всеми остальными. Если на подобных церемониях при европейских дворах символически- престижными были чаще всего предметы мебели (трон, балдахин, специальные кресла и т. п.), то в японских дворцовых ритуалах такую роль играло само пространство, имевшее благодаря росписям особый, общественно значимый смысл (напомним, например, о семантике изображения сосны).
В связи с семантикой росписей и их воздействием на архитектурное пространство необходимо сказать еще об одном уровне кодификации официального поведения, свойственного феодальным правителям Японии рассматриваемого периода—потребности в соотнесении себя с космическими категориями и определении своего места в масштабах всей природы. Идеологическое самоутверждение для правителей Японии состояло в необходимости подключения традиционных представлений, в том числе конфуцианских, когда порядок человеческой жизни, государственного устройства и порядок космоса соподчинены и взаимозависимы. Поэтому в сознании подданных правитель должен занять надлежащее место не только в социальной иерархии общества, но и войти в круговорот мироздания (недаром так часты были в декоративных росписях мотивы времен года—символ постоянства жизненного цикла природы). Формируя семантически насыщенное пространство интерьера, живопись преображала в восприятии участников придворного ритуала все действо, сообщая ему некий вневременной смысл, связывая конкретное с универсальным, сиюминутное—с вечнозначимым. Когда Тоётоми Хидэёси появлялся перед вассалами в парадном зале дворца на фоне огромной раскидистой сосны, которая вызывала
9 См.: Cooper М. They came to Japan. An Anthology of European Reports on Japan, 1543—1640. London, 1965.
220
Заключение. Синтез: живопись и архитектура
110
Нисихонгандзи Киото Гпавный приемный зал Середина 17 в.
Синтез: живопись и архитектура
221
222
Заключение. Синтез: живопись и архитектура
ассоциации и с бесчисленным множеством поэтических произведений прошлого и со сценой классического театра Но, а следовательно, с целым рядом пьес, их героями и коллизиями, то прежде всего сопоставлял себя с этим символом в его связях с древней солнечной магией, что в свою очередь напоминало о солнечной богине Аматэрасу, мифической прародительнице императорского дома и, следовательно, апеллировало к идее царственного величия и, что особенно важно было для Хидэёси, идее законности власти. Так церемония, имевшая место в определенный конкретный момент и по конкретному поводу, соотносилась с событиями мифа и вследствие этого переводилась в сознании людей в категорию вневременного по своему значению события: настоящее — в вечное. Созданная с помощью живописи художественно-образная среда мгновенному и преходящему придавала смысл универсально-значительного, а личность и жизнь правителя как бы включались в жизнь самой природы.
Идея вечности природы в декоративной живописи 16—17 веков была особенно важной для людей, возводивших дворцы и замки. Стремление утвердить свою власть и свою личность как нечто незыблемое и непреходящее через сопоставление с определенными мотивами было одним из главных стимулов синтеза архитектуры и живописи. И хотя исторический парадокс состоял в том, что грандиозные замки Нобунага и Хидэёси, строившиеся как сооружения вечные, которые должны были сохранить потомкам память об их создателях, были вскоре разрушены и уничтожены, сама «идея памяти», свойственная им, лежала в основе их замысла как синтетических структур10.
Задачи синтеза в период Момояма были неоднозначны, хотя и взаимосвязаны. Кроме создания архитектурной среды для общественных ритуалов, которая, в свою очередь, служила организации социального контекста деятельности правителя (указание на его место в общественной иерархии, то есть его отношения с подданными), большое значение имело формирование образа власти правителя в ее связях с космическими категориями, включенности в упорядоченность мироздания. В этом можно видеть стремление правителей к идентификации себя с мифическими первоначалами мира, что традиционно для японской культуры. Единственный, сохранившийся до нашего времени архитектурный комплекс, позволяющий судить о замке-дворце как ансамбле, где взаимодействуют архитектурная форма и декоративные росписи,— это Нидзё в Киото, построенный в 20-х годах 17 века по воле сёгунов Токугава, переехавших в новую столицу, но желавших иметь резиденцию и в старой столице. К этому времени власть Токугава была настолько прочной, что идеологический смысл подобных сооружений в значительной степени утратил актуальность. Нидзё и его декор уже не были продиктованы социальными потребностями времени. Скорее в них можно видеть инерцию предшествующего периода. Недаром стенописи Нидзё представляли собой архаизирующее направление в декоративной живописи первой половины 17 века (в отличие от искусства Сотацу) и выражали консервативную тенденцию стилевого развития, у истоков которого стоял Эйтоку.
В интерьерах замка Нидзё и возведенных в 1632—1633 годах огромных приемных залах монастыря Нисихонгандзи11 мы сталкиваемся с концепцией так называемого тотального декора, где тенденция пышности и роскоши, проявившаяся впервые еще в замке Адзути, построенном Ода Нобунага, получила полное выражение. Однако в смысле развития главной художественной идеи, воодушевлявшей Кано Эйтоку и его современников, ансамбль замка Нидзё был своего
10 См.: Мурина Е. Б. Указ. соч. С. 97. ется новейшими исследованиями.— См.: Hashimoto Fu-
11 Предположение, что сёин Нисихонгандзи представлял mio. Op. cit. Р. 126. собой часть дворца Тоётоми Хидэёси в Фусими, отверга-
Синтез: живопись и архитектура
223
рода тупиком, отрицанием возможности какого бы то ни было дальнейшего развития. И действительно, настенная декоративная живопись постепенно обретает относительную самостоятельность, развиваясь в форме росписи на ширме. А концепция тотального декора получает новое воплощение в мавзолеях, строительство которых приняло особенно значительный размах именно в начале 17 века. В мавзолее функции синтеза получают главное и доминирующее значение, служат символизации вечности. От декоративного оформления замка Ни- дзё следующий логический шаг был к супердекору Тосёгу—мавзолеев Токугава в Никко, где идеологические функции были переданы декоративным элементам как таковым, безотносительно к их собственной семантике (тысячи разнообразных фигурок, орнаментальных мотивов, раскрашенных и позолоченных, украшающих главные церемониальные ворота Емэймон, воспринимаются в массе, а не по отдельности). Пышный декор, который в Нидзё и Нисихонгандзи был предназначен для интерьеров, в зданиях ансамбля Тосёгу был вынесен наружу и получил самодовлеющий смысл. К развитию настенной декоративной живописи это уже не имеет отношения, но демонстрирует завершение развития тех тенденций, которые наметились еще в конце Л 6 столетия.
В творчестве Таварая Сотацу, как уже было отмечено, виден некий рубеж в эволюции декоративной живописи. Несмотря на то что этот мастер оставил целый ряд стенописей на фусума, огромное большинство своих композиций он выполнил на ширмах. И это было не случайно. С запрещением строительства замков и пышных резиденций именно ширма стала той поверхностью, на которой теперь располагалась декоративная живопись. Соответственно изменились задачи и возможности ее связей с архитектурным пространством, как изменилось и ее место в культуре.
Ширма—еще менее «стена», чем раздвижные перегородки — фусума, и потому еще условнее ее роль в разделении пространства интерьера. Оно остается единым, а ширма лишь отделяет часть его для конкретных нужд — приема, праздника и т. п. С точки зрения требований ситуации выбирался и мотив росписи.
Искусство Сотацу с его обращенностью к классической культуре периода Хэйан и к литературе было ориентировано на принципиально иной тип контакта со зрителем. Оно лишено было репрезентативности росписей Момояма и предназначалось скорее для жилых помещений, чем для общественных интерьеров. Ширмы Сотацу, а затем и Огата Корина скорее могли быть фоном для изысканного собрания художников-поэтов, чем для официального дворцового церемониала. Они требовали индивидуализированной оценки знатока, а не толпы вассалов, пришедших изъявить свою преданность господину. По сравнению с фусума в росписях ширм 17 века нарастало камерное начало, возникала связь с отдельным человеком, его внутренним миром. Но при этом ширма оставалась и декоративным предметом в интерьере, его украшением, подобно керамической вазе или лаковой шкатулке. Как шкатулка или ваза ширма имеет связь с реальным, физическим пространством интерьера. В этом смысле ширма — вещь, а фусума с росписью тогда можно условно обозначить как картину. Именно это создавало основы для особого рода декоративного ансамбля, формирование которого характеризует японское искусство 17—18 веков. Произведение декоративной живописи с его разомкнутой композицией, которую мысленно можно продолжить в обе стороны, лишено замкнутости и самодостаточности станковой картины. По своим художественным свойствам оно предназначено к жизни в
224
Заключение. Синтез: живопись и архитектура
реальной среде и способно взаимодействовать с другими находящимися в ней предметами. Уже отмечалось, что в произведениях Сотацу и особенно Огата Корина существенно возросла роль орнаментального ритма. По сравнению с предшествующей порой произошло перемещение акцентов в образовании художественной целостности произведения и его общественной функции с семантического уровня на собственно эстетический. Декоративный ансамбль 17—18 веков складывался в первую очередь поэтому на основе стилевых признаков. При этом неизмеримо возросла роль пространственных связей предметов в интерьере. Каждый из них оказался органично включенным в пространственную среду, единую для природы, человека, предметного мира.
Если синтез декоративной живописи и архитектуры периода Момояма опирался на универсальные значения мотивов, основанных на архетипах национального сознания, то в ансамбле следующего столетия на первый план выдвинулись связи пространственно-пластические. Идейно-социальные, идеологические функции искусства значительно уменьшились за счет усиления функций чисто эстетических. Декоративная живопись, утратив социальный пафос, приблизилась к воплощению духовного мира человека, что нашло выражение в ее обращенности к поэзии. Яркий художественный результат это дало в творчестве Сотацу, сделавшего попытку создать поэтический язык живописи, близкий законам классического стихосложения. Более интимно-эмоциональное отношение зрителя и произведения искусства, с которым мы сталкиваемся в творчестве Сотацу и Корина, может быть косвенным свидетельством сдвигов в общественном сознании японского позднего средневековья, увеличения роли самосознания человека. По своим целям — стремлению к единству художественной и жизненнопрактической сфер деятельности—декоративный ансамбль 17—18 веков был близок синтезу живописи и архитектуры периода Момояма, развивая его в новых исторических условиях. Известно, что это было свойственно японской культуре на многих этапах ее истории. Наиболее яркое и своеобразное выражение этого — так называемый культ чая и чайный ритуал, одной из целей которого было создание идеальной среды общения, духовного контакта участников. Декоративные росписи в интерьерах замков-дворцов периода Момояма также призваны были создавать среду для некоего праздника или действа, представляющего идеальную модель иерархически упорядоченного общества, где каждому отведено подобающее место. Форма синтеза декоративной живописи и архитектуры, которая пережила высокий расцвет в период Момояма, сама задача взаимопроникновения художественной и жизненно-практической сфер, изжила себя к середине 17 века, но не утратила актуальности в японской культуре и в последующие века. Универсализм творческой личности Огата Корина, работавшего не только над декоративными росписями, но и в керамике, текстиле, лаках, был фактом не просто .биографическим, но выражением все той же важнейшей направленности японской художественной культуры, составлявшей ее национальное своеобразие. Присущее ей стремление к гармонизации отношений человека с миром, будь то природа или рукотворный предметный мир, нашло выражение в сложении устойчивых качеств традиционного интерьера с его принципиальной нестабильностью, когда в зависимости от ситуации появляются одни необходимые предметы и убираются другие. В ряду этих предметов заняла подобающее ей место и ширма с росписью, сохраняющая по сей день свою двойственную функцию картины и декоративного предмета.
Список
иллюстраций
1
Замок Нидзё. Киото. 1626. Общий вид 2
Замок Химэдзи. 1609. Общий вид
3
Нисихонгандзи. Киото. Середина 17 в. Интерьер сиросёина
4
Замок Нидзё. Интерьер
5
Замок Нидзё. Интерьер с росписями Кано Таниу и декоративной резьбой
6
Неизвестный художник. Роспись ширмы с изображением интерьера. 17 в. Галерея Фрир, Вашингтон
7
Появление Будды Амиды над горами. Первая половина 13 в. Дзэнриндзи, Киото
8
Пейзажные ширмы. Вторая половина 11 в. Деталь. Национальный музей, Киото
9
Пейзажные ширмы. 13 в. Деталь. Дзингодзи, Киото
10
Такасина Такаканэ. Касуга гонгэн кэнки. 1309. Деталь свитка. Императорская коллекция, Токио
11
Фудзивара Такаёси (?). Гэндзи моногатари эмаки. Начало 12 в. Деталь свитка к главе «Судзуму- си». Музей Гото, Токио
12
Фудзивара Такаёси (?). Гэндзи моногатари эмаки. Деталь свитка к главе «Такэкава». Музей Токуга- ва, Нагоя
13
Фудзивара Такаёси (?). Гэндзи моногатари эмаки. Деталь свитка к главе «Касиваги». Музей Токуга- ва, Нагоя
14
Фудзивара Такаёси (?). Гэндзи моногатари эмаки. Деталь свитка к главе «Касиваги». Музей Токуга- ва, Нагоя
15
Пейзаж. Роспись ширм. Деталь. 15 в. Коллекция Охара, Окаяма
226
Список иллюстраций
16
Сэссю. Цветы и птицы. Роспись ширм. Деталь. 15 в. Коллекция Косака, Токио
17
Сэссю. Цветы и птицы. Роспись ширм. Деталь.
15 в. Коллекция Косака, Токио
18
Сэссю. Пейзаж Ама-но Хасидатэ. 1506. Национальный музей, Токио
19
Пейзаж с солнцем и луной. Роспись ширм. Деталь. Середина 16 в. Конгодзи, префектура Осака
20
Пейзаж с солнцем и луной. Роспись ширм. Деталь. Середина 16 в. Конгодзи, префектура Осака
21
Пейзаж с солнцем и луной. Роспись ширм. Левая ширма. Середина 16 в. Национальный музей, Токио
22
Мост Удзи. Роспись ширм. Правая ширма. 16 в. Национальный музей, Токио
23
Мост Удзи. Роспись ширм. Деталь левой ширмы.
16 в. Национальный музей, Токио
24
Кано Мотонобу. Водопад. Настенная роспись. Деталь. Ок. 1513. Дайсэн-ин, Дайтокудзи, Киото
25
Кано Эйтоку. Пейзаж с цветами и птицами.
Настенная роспись. Общий вид в интерьере. 1566. Дзюко-ин, Дайтокудзи, КиоУо
26
Кано Эйтоку. Пейзаж с цветами и птицами.
Настенная роспись. Деталь. 1566. Дзюко-ин, Дайтокудзи, Киото
27
Кано Эйтоку. Пейзаж с цветами и птицами.
Настенная роспись. Деталь. 1566. Дзюко-ин, Дайтокудзи, Киото
28
Кано Эйтоку. Кипарис. Роспись ширмы. Конец
16 в. Национальный музей, Токио
29
Кано Эйтоку. «Китайские львы». Роспись ширмы. Деталь, Конец 16 в. Императорская коллекция, Токио
30
Кано Эйтоку. «Китайские львы». Роспись ширмы. Деталь. Конец 16 в. Императорская коллекция, Токио
31
Кано Эйтоку (?). Орел на сосне. Роспись ширмы. Деталь. Конец 16 в. Университет искусств, Токио
32
Кангаку-ин. Общий вид. 1600. Ондзёдзи, Оцу
33
Кангаку-ин. Интерьер с росписями Кано Мицуно- 6у. 1600
34
Кано Мицунобу. Цветы и деревья четырех сезонов. Настенная роспись. Деталь. Начало 17 в. Кангаку-ин, Ондзёдзи, Оцу
35
Кано Мицунобу. Цветы и деревья. Роспись стен и потолка. Деталь. Начало 17 в. Цукубусума, префектура Сига
36
Кано Санраку. Пионы. Настенная роспись. Начало 17 в. Дайкакудзи, Киото
37
Кано Санраку. Пионы. Настенная роспись. Деталь. Начало 17 в. Дайкакудзи, Киото
38
Кано Сансэцу. Цветы и птицы четырех сезонов. Настенная роспись. Деталь. 1631. Тэнкю-ин, Мё- синдзи, Киото
39
Тэнкю-ин, Мёсиндзи, Киото. Интерьер с росписями Кано Сансэцу
40
Кано Санраку (?), Кано Сансэцу (?). Вьюнки у бамбуковой изгороди. Настенная роспись. Деталь. 1631. Тэнкю-ин, Мёсиндзи, Киото
41
Художник школы Кано. Лилии. Настенная роспись. Деталь. Начало 17 в. Тэнкю-ин, Мёсиндзи, Киото
Список иллюстраций
227
42
Кайхо Юсё^ Рыбачьи сети на просушке. Роспись ширм. Начало 17 в. Императорская коллекция, Токио
43
Кайхо Юсё. Рыбачьи сети на просушке. Роспись ширм. Деталь. Начало 17 в. Императорская коллекция, Токио
44
Ункоку Тоган. Вороны на дереве сливы. Настенная роспись. Конец 16 в. Национальный музей, Киото
45
Хасэгава Тохаку. Сосна и травы. Роспись ширм. Конец 16 в. Тисяку-ин, Киото
46
Хасэгава Тохаку. Сосна и травы. Роспись ширм. Конец 16 в.
47
Тисяку-ин, Киото. Интерьер с росписями школы Хасэгава. Конец 16 в.
48
Хасэгава Тохаку. Клен. Настенная роспись. 1592. Тисяку-ин, Киото
49
Хасэгава Тохаку. Клен. Общий вид в интерьере. 1592. Тисяку-ин, Киото
50
Хасэгава Кюдзо. Цветущая вишня. Настенная роспись. 1592. Тисяку-ин, Киото
51
Хасэгава Тохаку. Сосны. Роспись ширм. Конец 16 в. Национальный музей, Токио
52
Хасэгава Тохаку. Обезьяны на старом дереве. Свиток живописи. Конец 16 в. Тёсэн-ин, Мёсин- дзи, Киото
53
Хасэгава Тохаку. Осенняя ива. Настенная роспись. Начало 17 в. Самбо-ин, Дайгодзи, Киото
54
Художник школы Хасэгава. Скалы и волны. Настенная роспись. Деталь. Конец 16 в. Дзэнрин- дзи, Киото
55
Хоннами Коэцу. Чашка для чайной церемонии «Сэппо». Первая половина 17 в. Музей Хатакэ- яма, Токио
56
Хоннами Коэцу. Шкатулка для письменных принадлежностей «Мост в Сано». Начало 17 в. Национальный музей, Токио
57
Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу. Плющ. Свиток живописи и каллиграфии. Деталь. Начало 17 в. Музей Хатакэяма, Токио
58
Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу. Тысяча журавлей. Свиток живописи и каллиграфии. Начало 17 в.
59
Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу. Олени. Свиток живописи и каллиграфии. Деталь. Начало 17 в. Художественный музей, Атами
60
Хоннами Коэцу и Таварая Сотацу. Олени. Свиток живописи и каллиграфии. Деталь. Начало 17 в. Художественный музей, Сиэтл
61
Таварая Сотацу. Сосны и скалы. Настенная роспись. Деталь. 1621. Ёгэн-ин, Киото
62
Таварая Сотацу. Белый слон. Настенная роспись. 1621. Ёгэн-ин, Киото
63
Таварая Сотацу. «Китайские львы». Настенная роспись. 1621. Ёгэн-ин, Киото
64
Таварая Сотацу. Птицы в лотосовом пруду. Свиток живописи. Деталь. Начало 17 в. Национальный музей, Киото
65
Таварая Сотацу. Цветы и травы. Настенная роспись. Начало 17 в. Национальный музей, Киото
66
Таварая Сотацу. Цветы и травы. Настенная роспись. Деталь. Начало 17 в. Национальный музей, Киото
228
Список иллюстраций
67
Таварая Сотацу. «Мацусима». Роспись ширм. Деталь. Начало 17 в. Галерея Фрир, Вашингтон
68
Таварая Сотацу. «Мацусима». Роспись ширм. Деталь. Начало 17 в. Галерея Фрир, Вашингтон
69
Таварая Сотацу. «Тропинка под плющом»’. Роспись ширм. Начало 17 в. Коллекция Манно, префектура Хёго
70
Таварая Сотацу. Деревенские дома зимой. Роспись на веере. Начало 17 в. Дайгодзи, Киото
71
Школа Сотацу. Ширма с веерами. Начало 17 в. Галерея Фрир, Вашингтон
72
Таварая Сотацу. «Бугаку». Роспись ширм. Начало 17 в. Дайгодзи, Киото
73
Таварая Сотацу. «Бугаку». Роспись ширм. Начало 17 в.
74
Таварая Сотацу. «Сэкия». Роспись ширм. Начало 17 в. Сэйкадо, Токио
75
Таварая Сотацу. «Миоцукуси». Роспись ширм. Начало 17 в. Сэйкадо, Токио
76
Таварая Сотацу. Боги ветра и грома. Роспись ширм. Начало 17 в. Кэннидзи, Киото
77
Таварая Сотацу. Боги ветра и грома. Роспись ширм. Начало 17 в. Кэннидзи, Киото
78
Таварая Сотацу. Боги ветра и грома. Роспись ширм. Деталь. Начало 17 в.
79
Огата Корин. Осенние травы. Роспись на веере. Начало 18 в. Музей Хатакэяма, Токио
80
Огата Корин. «Яцухаси». Роспись на веере. Начало 18 в. Музей Хатакэяма, Токио
81
Огата Корин. «Тацутагава». Роспись на веере. Начало 18 в. Музей Гото, Токио
82
Огата Корин. Тэбако — косметическая шкатулка с декором из вееров. Начало 18 в. Ямато Бунка- кан, Нара
83
Огата Корин. Бамбук и сливы. Роспись ширмы. Деталь. Начало 18 в. Коллекция Нодзири, Канагава
84
Огата Корин. Павлины и мальвы. Роспись ширм. Деталь. Начало 18 в. Коллекция Хинохара, Токио
85
Огата Корин. Павлины и мальвы. Роспись ширм. Деталь. Начало 18 в. Коллекция Хинохара, Токио
86
Огата Корин. Зарисовка птиц. Начало 18 в. Коллекция Кумито, Токио
87
Огата Корин. Зарисовка птиц. Начало 18 в. Коллекция Кумито, Токио
88
Огата Корин. «Яцухаси». Свиток живописи. Начало 18 в. Национальный музей, Токио
89
Огата Корин. Ирисы. Роспись ширм. Начало 18 в. Музей Нэдзу, Токио
90
Огата Корин. Ирисы. Роспись ширм. Начало 18 в. Музей Нэдзу, Токио
91
Огата Корин. Ирисы. Роспись ширм. Деталь. Начало 18 в. Музей Нэдзу, Токио
92
Огата Корин. Шкатулка для письменных принадлежностей «Яцухаси». Начало 18 в. Национальный музей, Токио
93
Огата Корин. Азалия у скалы. Свиток живописи. Начало 18 в. Музей Хатакэяма, Токио
Список иллюстраций
229
94
Огата Корин. «Фуюки косодэ» (роспись женской одежды). Начало 18 в. Национальный музей, Токио
95
Огата Корин. Шкатулка для письменных принадлежностей «Суминоэ». Начало 18 в. Сэйкадо, Токио
96
Огата Корин. Волны. Роспись ширм. Начало 18 в. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
97
Огата Корин. «Мацусима». Копия ширмы Сотацу. Начало 18 в. Художественный музей, Бостон
98
Огата Корин. Боги ветра и грома. Копия ширм Сотацу. Деталь. Начало 18 в. Национальный музей, Токио
99
Огата Корин. Красное и белое дерево сливы. Роспись ширм. Начало 18 в. Музей, Атами
100
Огата Корин. Красное и белое дерево сливы. Роспись ширм. Начало 18 в. Музей, Атами
101
Огата Корин. Красное и белое дерево сливы. Роспись ширм. Деталь. Начало 18 в. Музей, Атами
102
Нономура Нинсэй. Сосуд с изображением цветущей сливы. Начало 18 в. Местонахождение неизвестно
103
Огата Кэндзан. «Яцухаси». Альбомный лист. Начало 18 в.
104
Огата Кэндзан. Корзины с цветами. Свиток живописи. Начало 18 в. Музей Мацунага, Канагава
105
Огата Кэндзан. Тарелка с изображением цветов у ручья. Начало 18 в. Местонахождение неизвестно
106
Замок Нидзё. Киото. 1626. Общий вид
107
Замок Нидзё. Киото. Интерьер
108
Замок Нидзё. Киото. Интерьер с росписями Кано Таниу
109
Замок Нидзё. Киото. Декор стены
110
Нисихонгандзи. Киото. Главный приемный зал. Середина 17 в.
Содержание
Введение 5
Гпава первая
Стиль: формирование и основные этапы эволюции 18
Истоки стиля настенных декоративных росписей 18
Сложение художественных принципов школ Кано и Тоса 31
Значение Кано Эйтоку в становлении стиля настенных росписей периода Момояма 46
Развитие стиля Кано Эйтоку его учениками и последователями 63
Хасэгава Тохаку и его вариант стиля Момояма 74
Сложение нового стиля в декоративной живописи 17 века. Хоннами Коэцу 83
Сложение и эволюция стиля Таварая Сотацу 100
Огата Корин и особенности стилевого развития декоративной живописи периода Гэнроку 122
Заключение 153
Глава вторая
Метод: темы росписей и особенности образной структуры 156
Заключение
Синтез: живопись и архитектура 209
Список иллюстраций 225
Николаева Н. С. Декоративные росписи Японии 16— Н63 18 веков: От Кано Эйтоку до Огата Корина.— М.: Изобраз. искусство, 1989.— 232 с. ил.
ISBN 5-85200-083-3 (в пер.): 5 р. 20 к., 50 000 экз.
В книге рассказывается о декоративной живописи Японии 16—18 веков. Наряду с гравюрой и театром Кабуки это искусство ярко выражало самобытность стиля японского искусства периода позднего средневековья и перехода к Новому времени. В этом жанре работали ведущие мастера — Кано Эйтоку, Таварая Сотацу, Огата Корин, творчество которых, связанное преемственностью, определяло три главных этапа исторического развития искусства декоративной живописи Японии и стиль своего времени В книге автором дан анализ истоков стиля и общей стилевой эволюции декоративной живописи 16—18 веков, художественного метода мастеров, рассматриваются вопросы синтеза живописи и архитектуры В издании около 100 цветных и тоновых иллюстраций.
Для специалистов и широкого круга читателей.
н
4904000000-112 024(01 )-89
40-89
ББК 85.12 7С. 03
Монография
НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Декоративные росписи Японии 16-18 венов
От Кано Эйтоку до Огата Корина
Художник
СМИРНОВ Е. Е.
Зав. редакцией
ШАРАФУТДИНОВА Л. А.
Редактор
ФЕДОТОВА Е. Д.
Художественный
редактор
ТЕРЕЩЕНКО В. Г.
Цветную
корректуру
выполнила
ВИНОГРАДОВА М. Л.
Фотографы:
ГРИГОРОВЫ Ю. Г. и О. Ю.
Технический
редактор
ЛОПУХОВА В. Б.
Корректоры
ЖАРКОВСКАЯ Л. М., СЕВЕРИНОВА Т. И.
ИБ № 941
Сдано в набор 26.11.86. Подписано в печать 15.12.87. Формат 84 х 108 V16. Бумага мелованная 120 г. Гарнитура гельветика Печать офсетная. Уел. печ. л. 24,36. Уч-изд. л. 21,87. Уел кр.-отт 89,656. Изд. № 2-316. Тираж 50 000. Заказ 393 Цена 5 р. 20 к.
Издательство «Изобразительное искусство»
129272, Москва, Сущевский вал, 64
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28