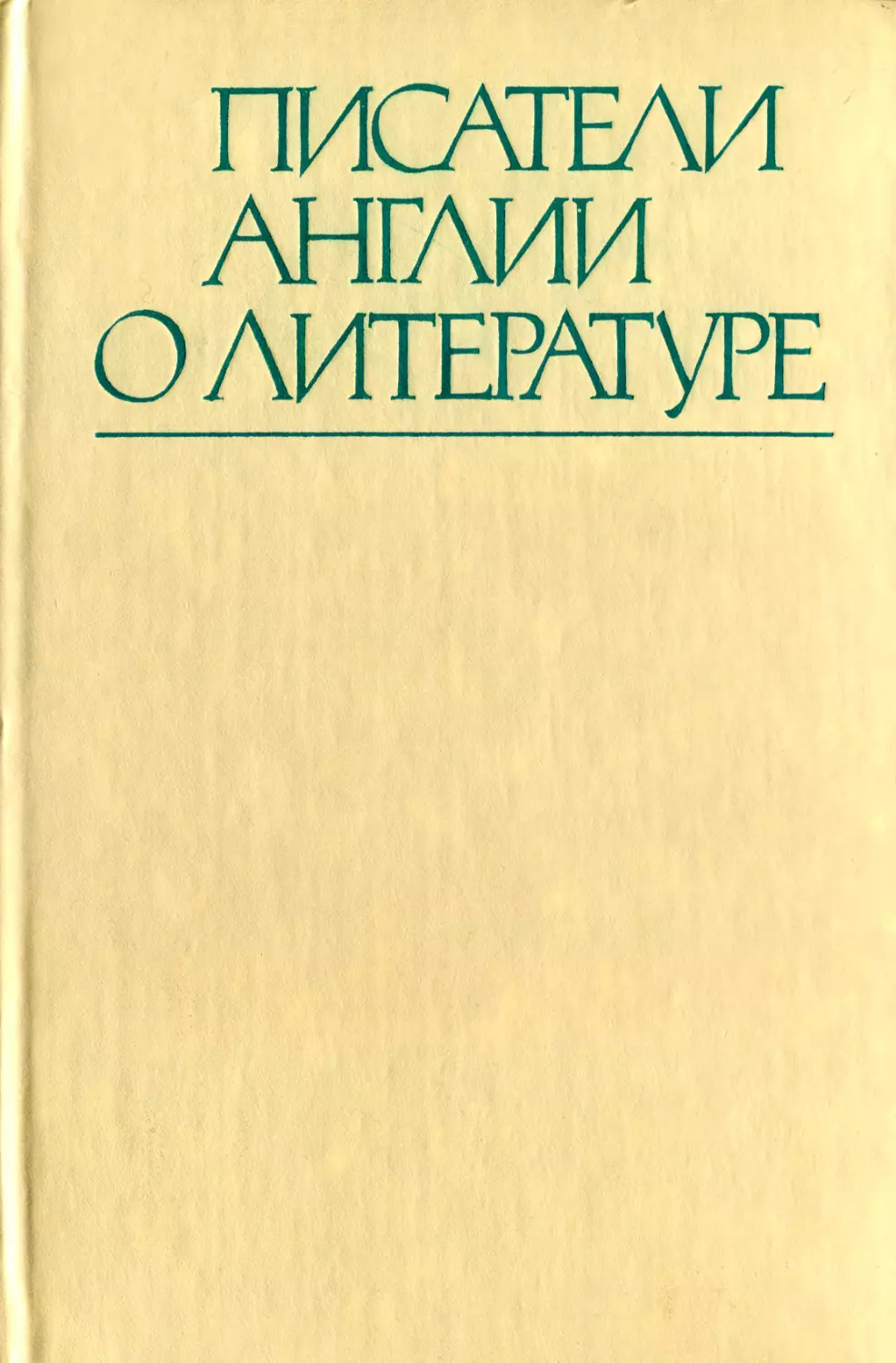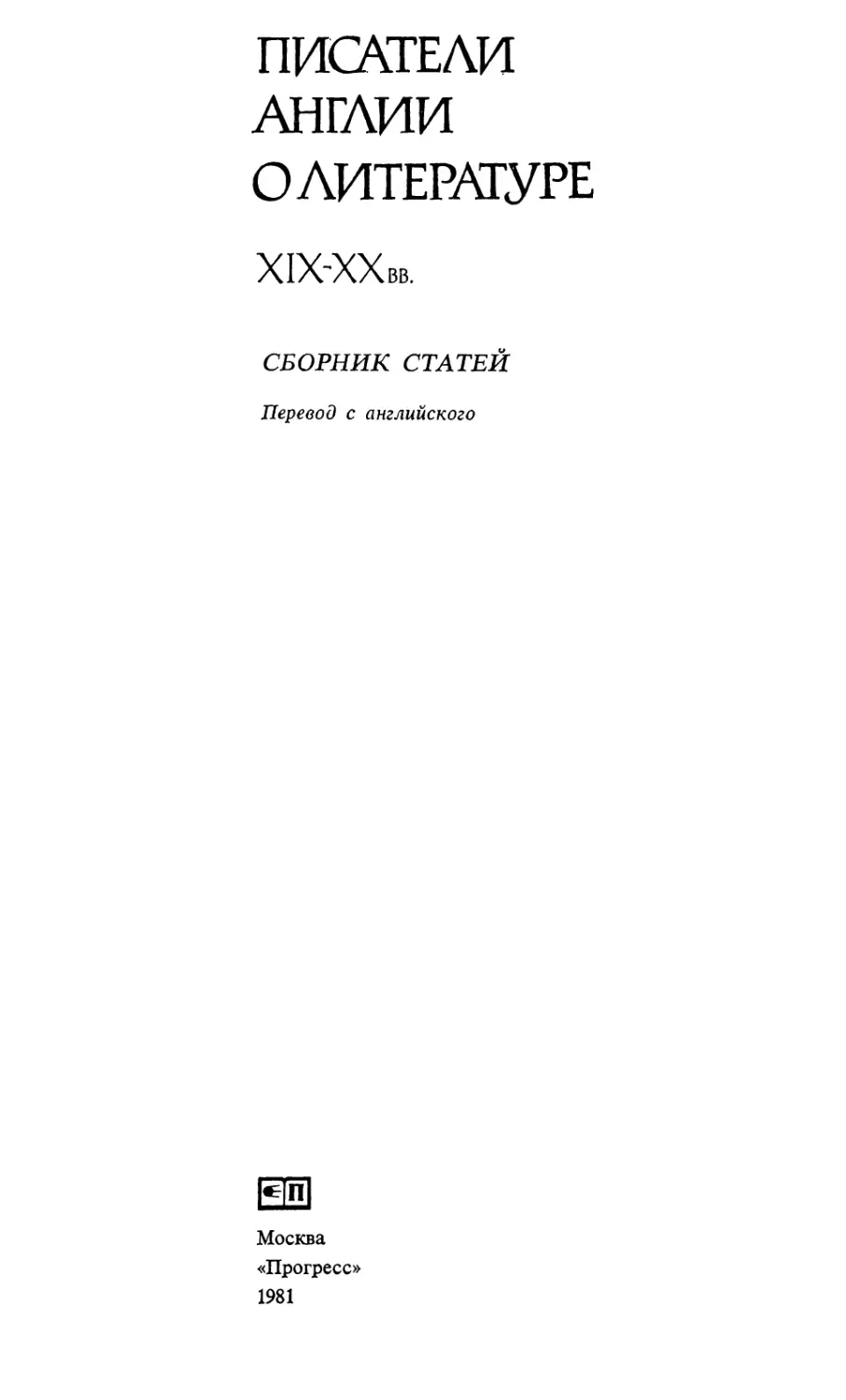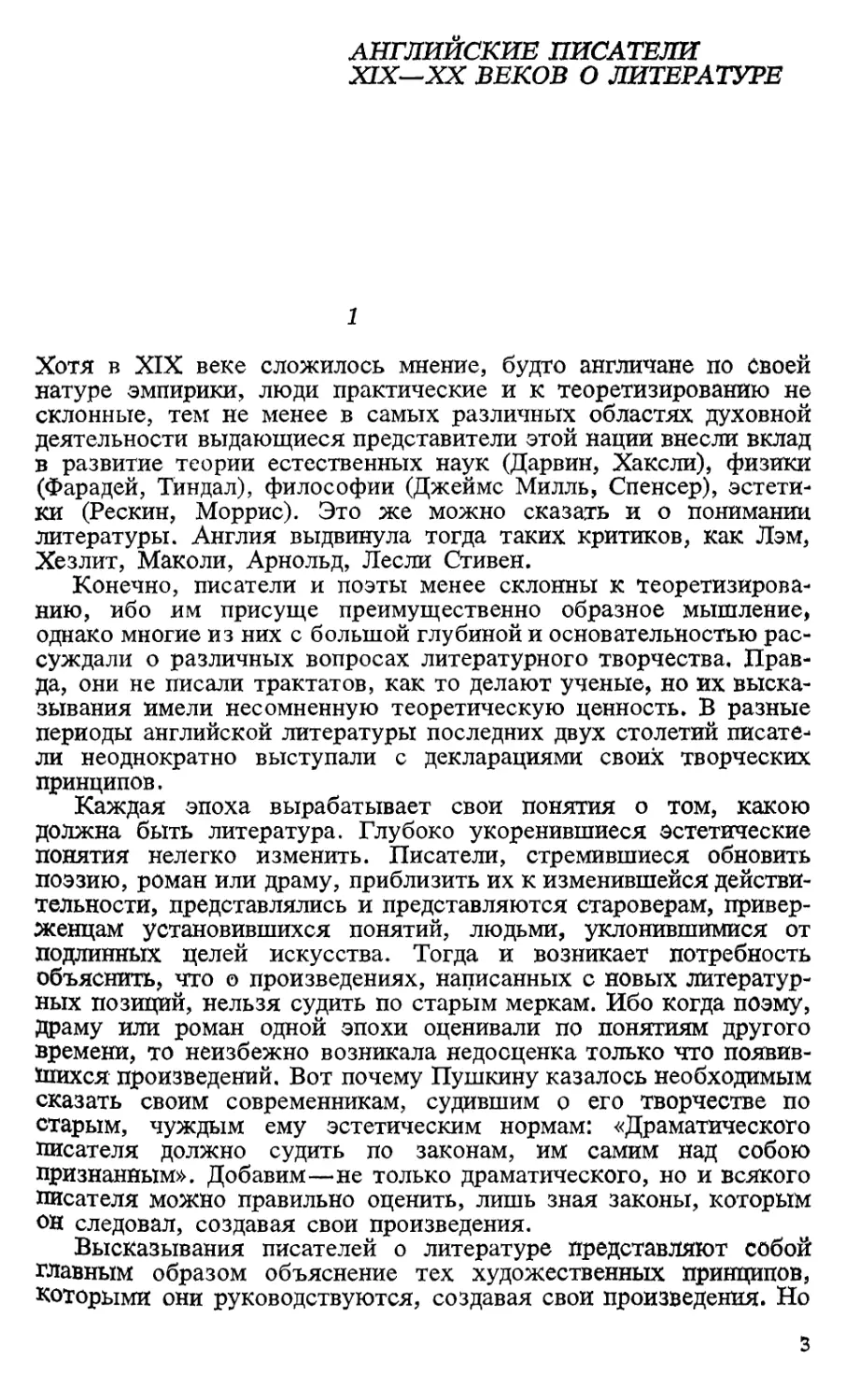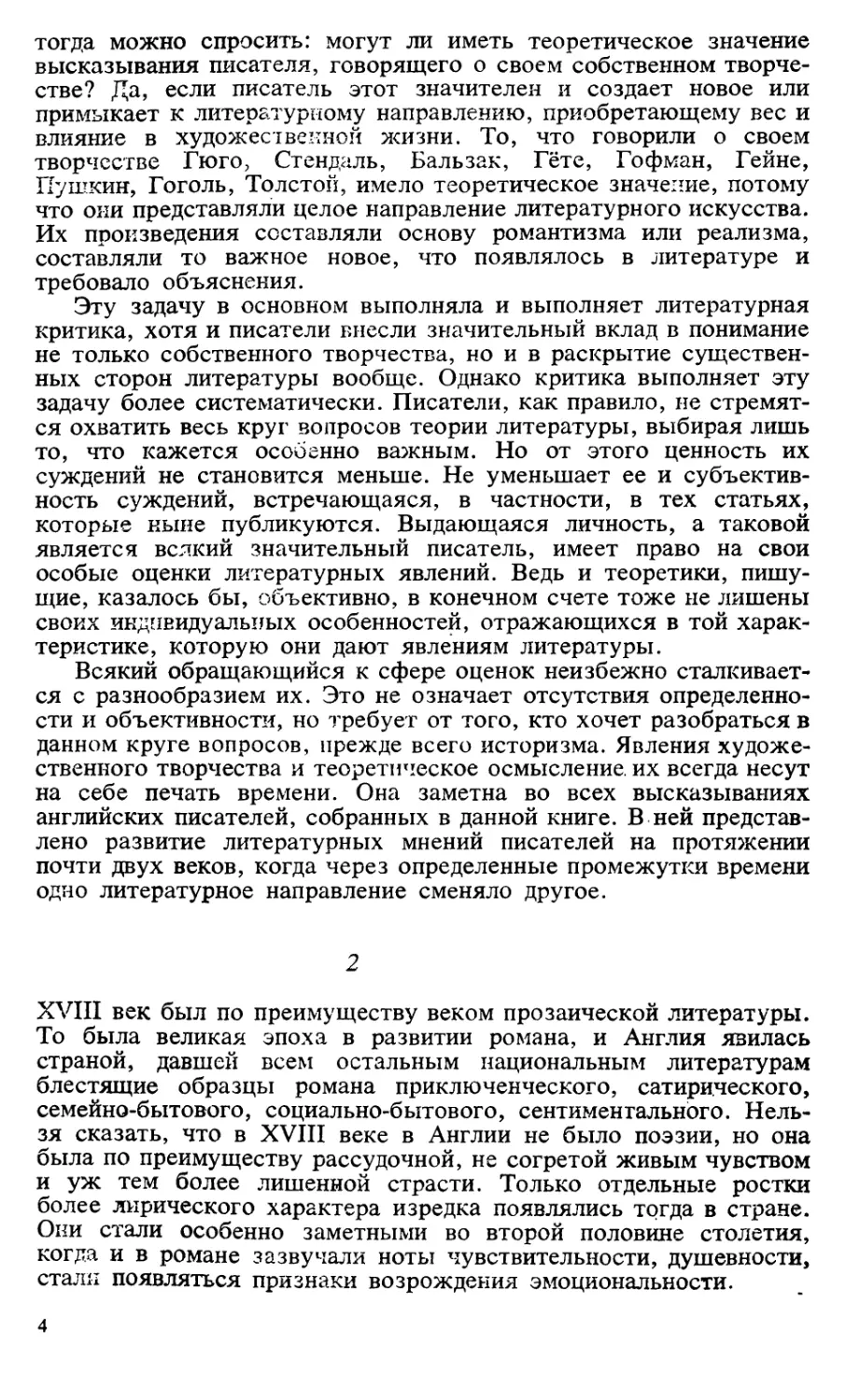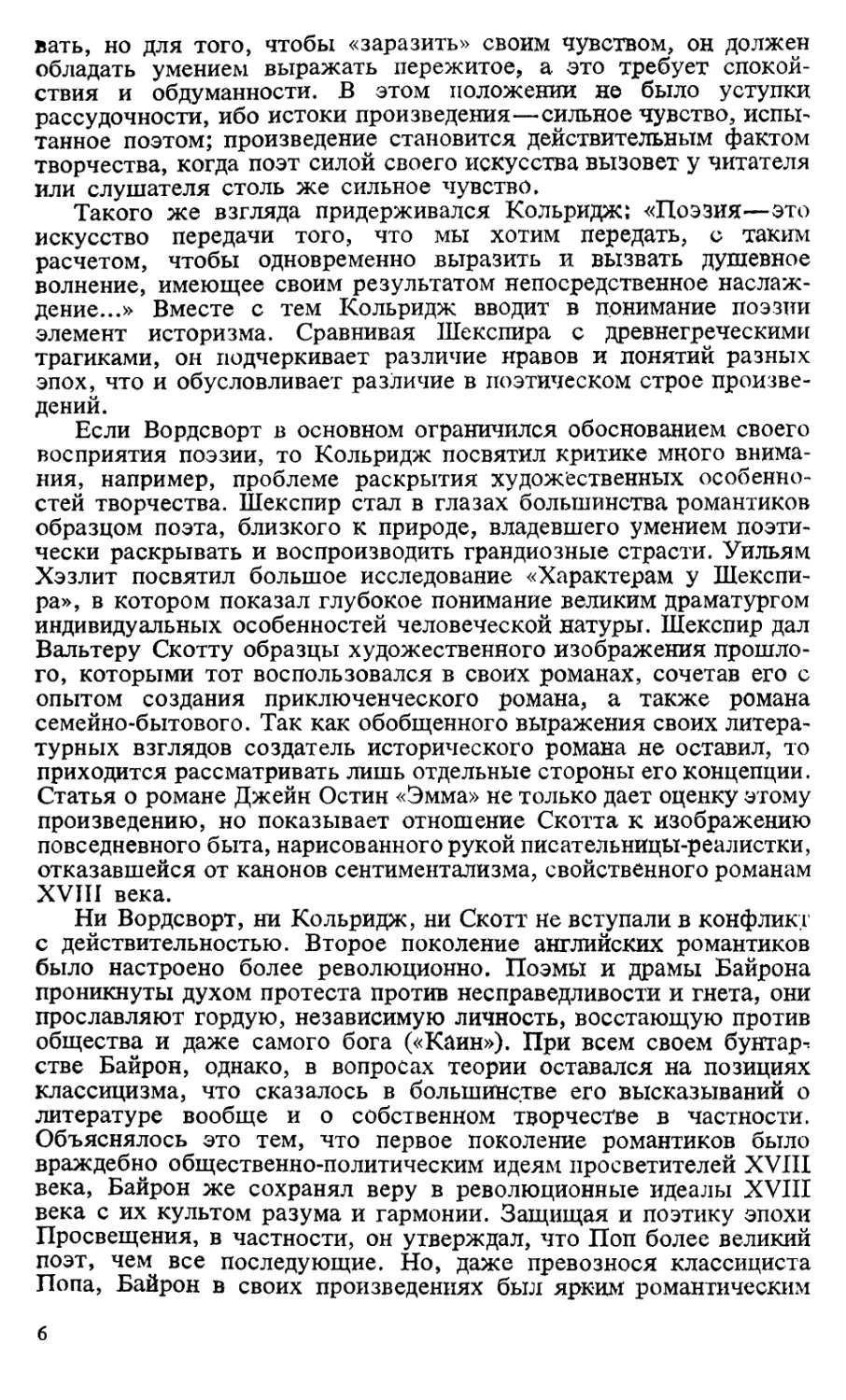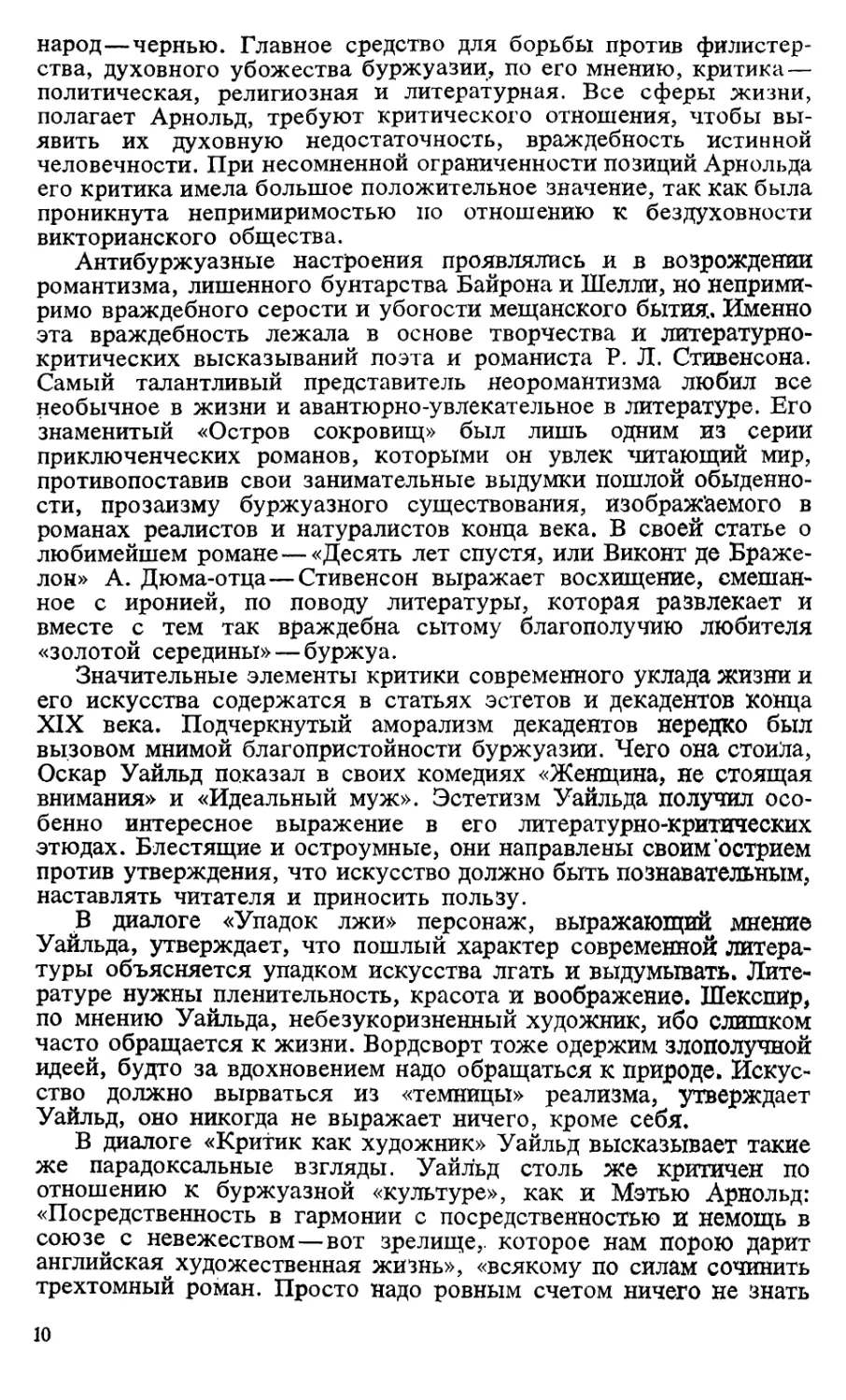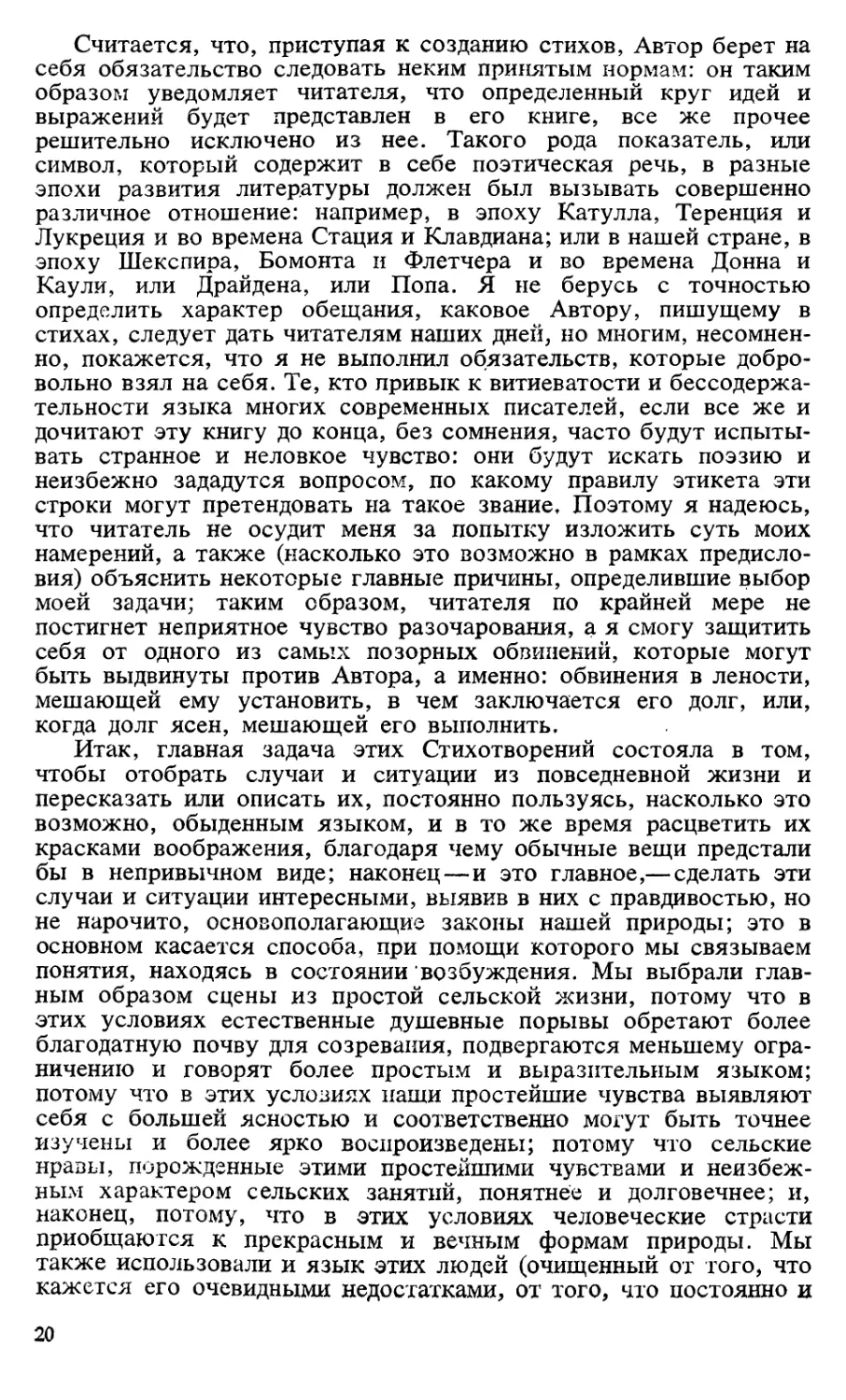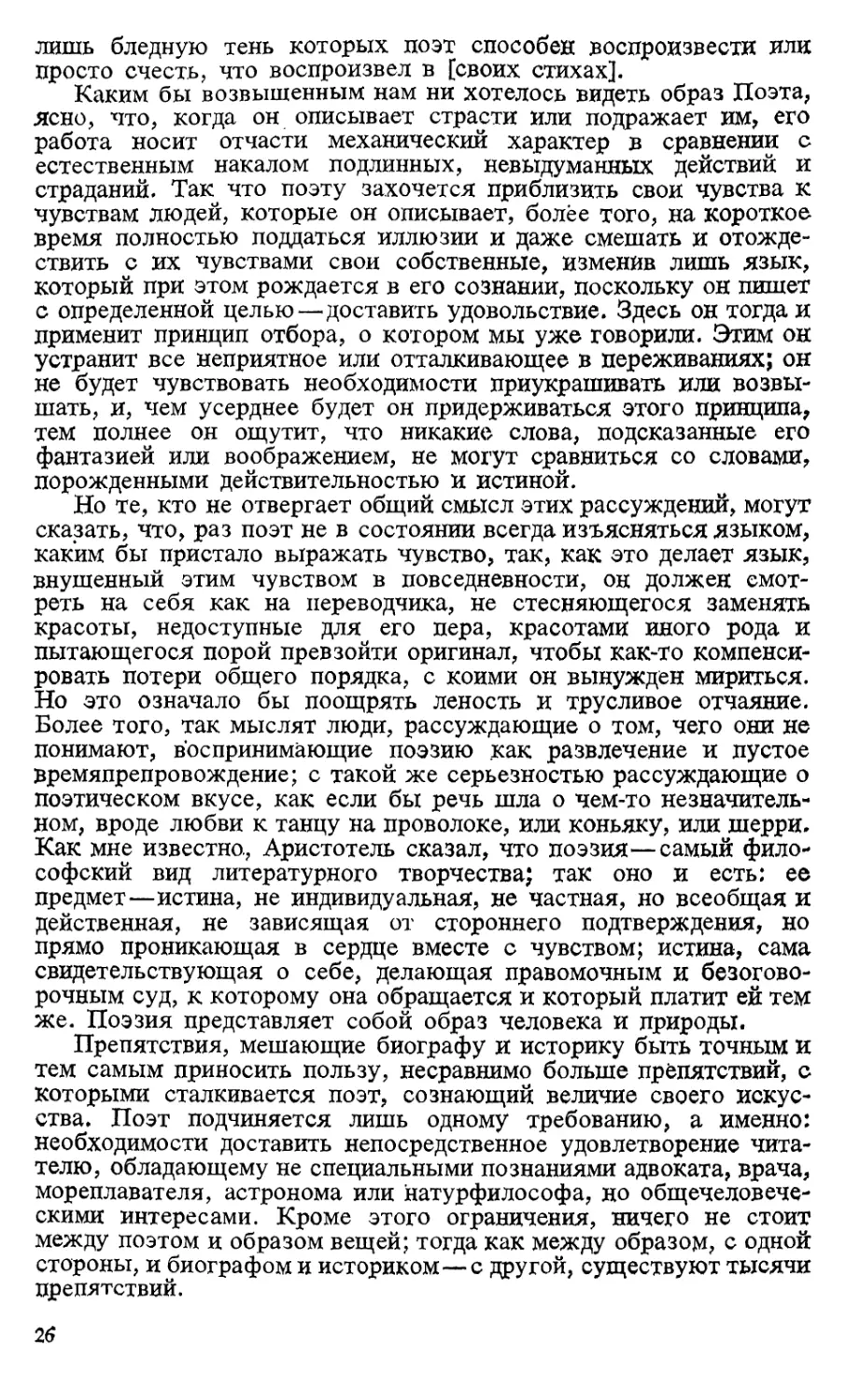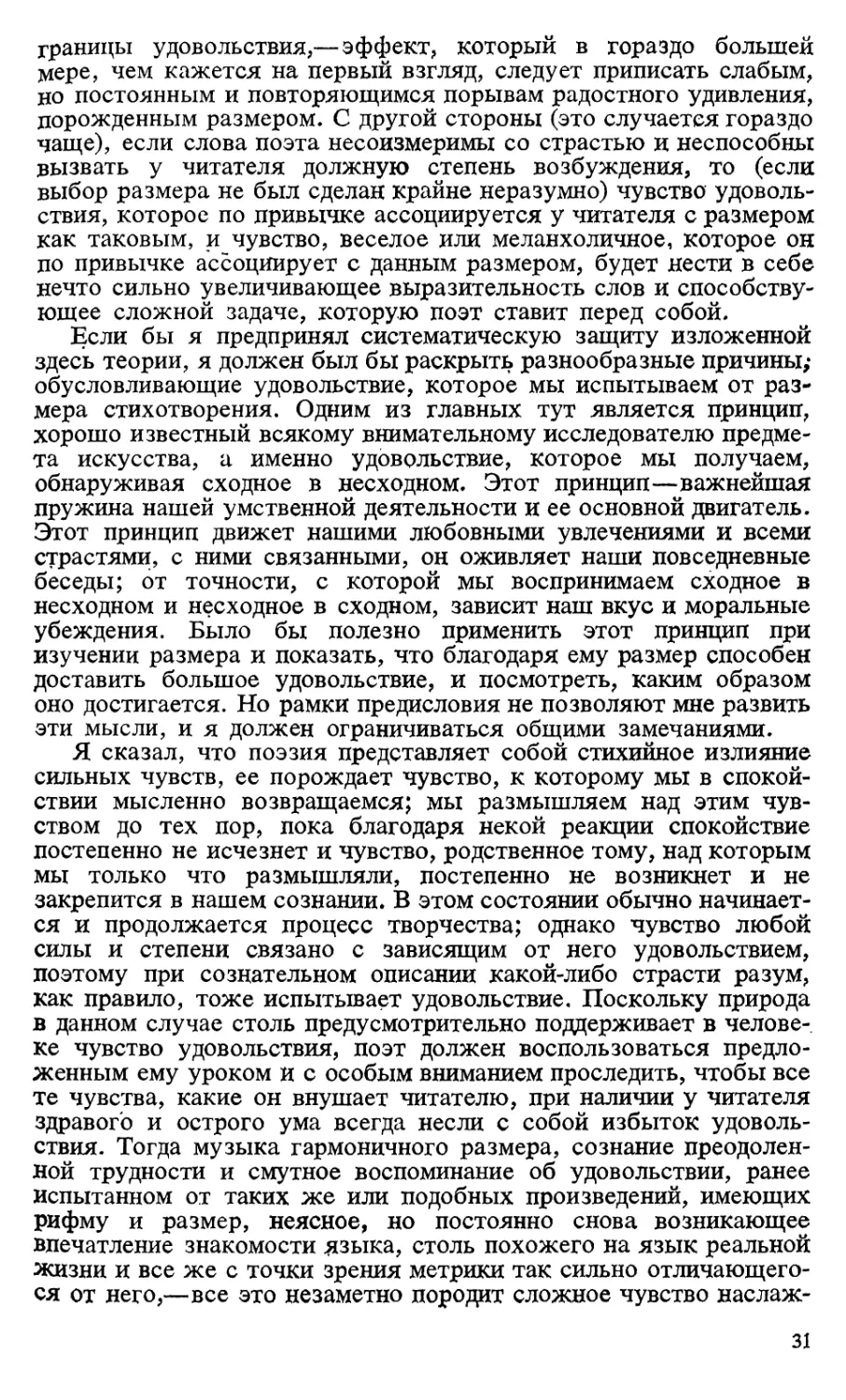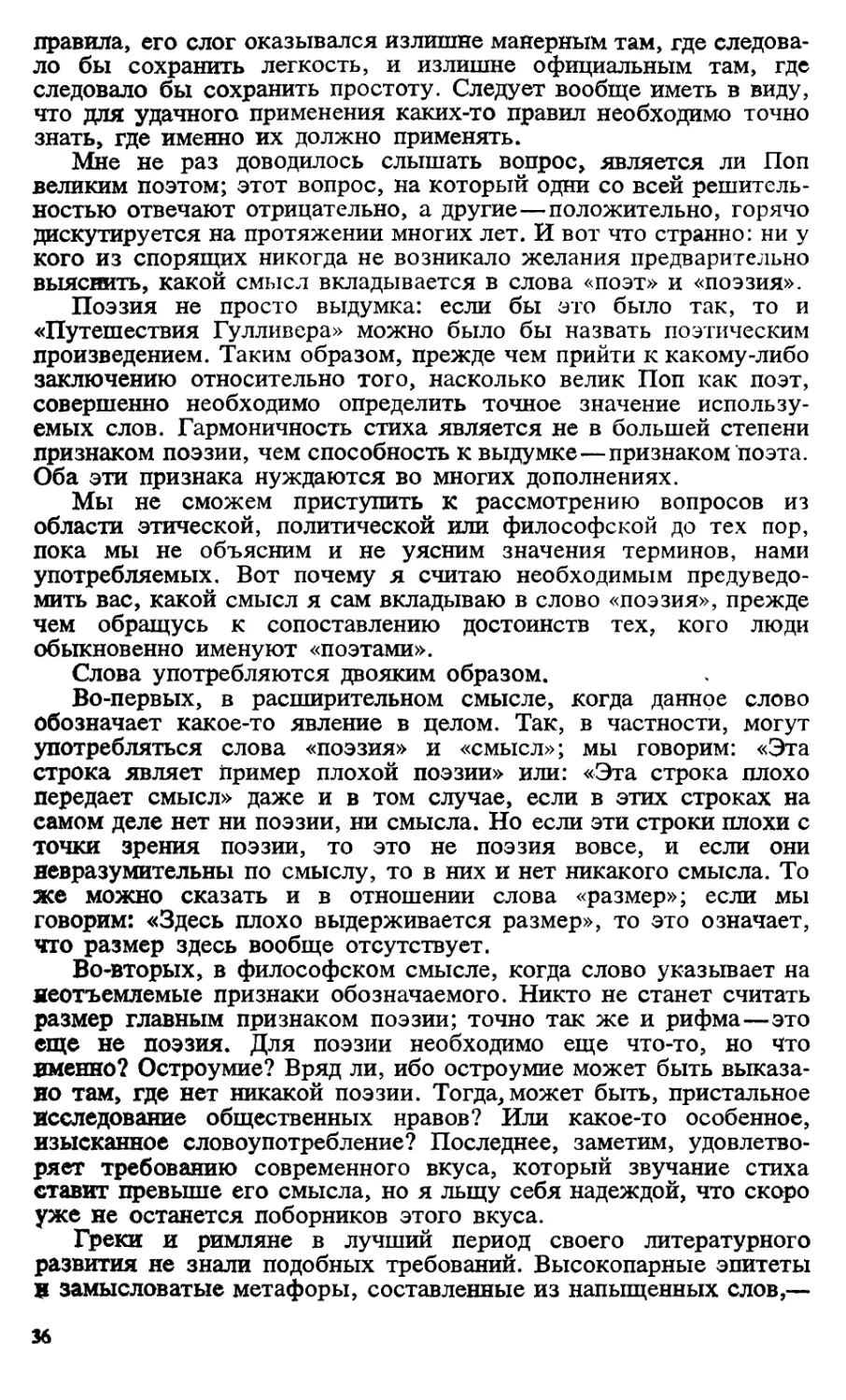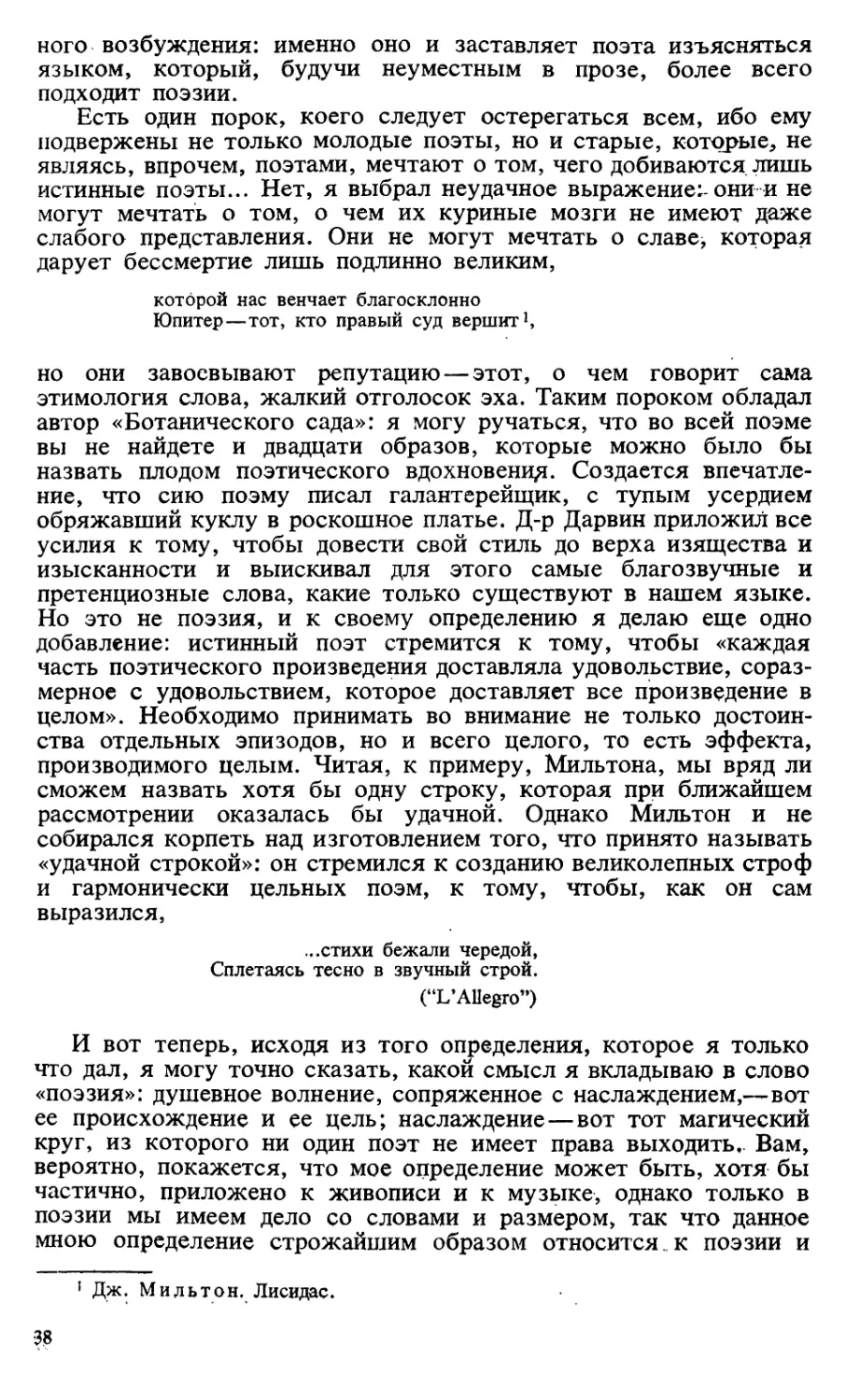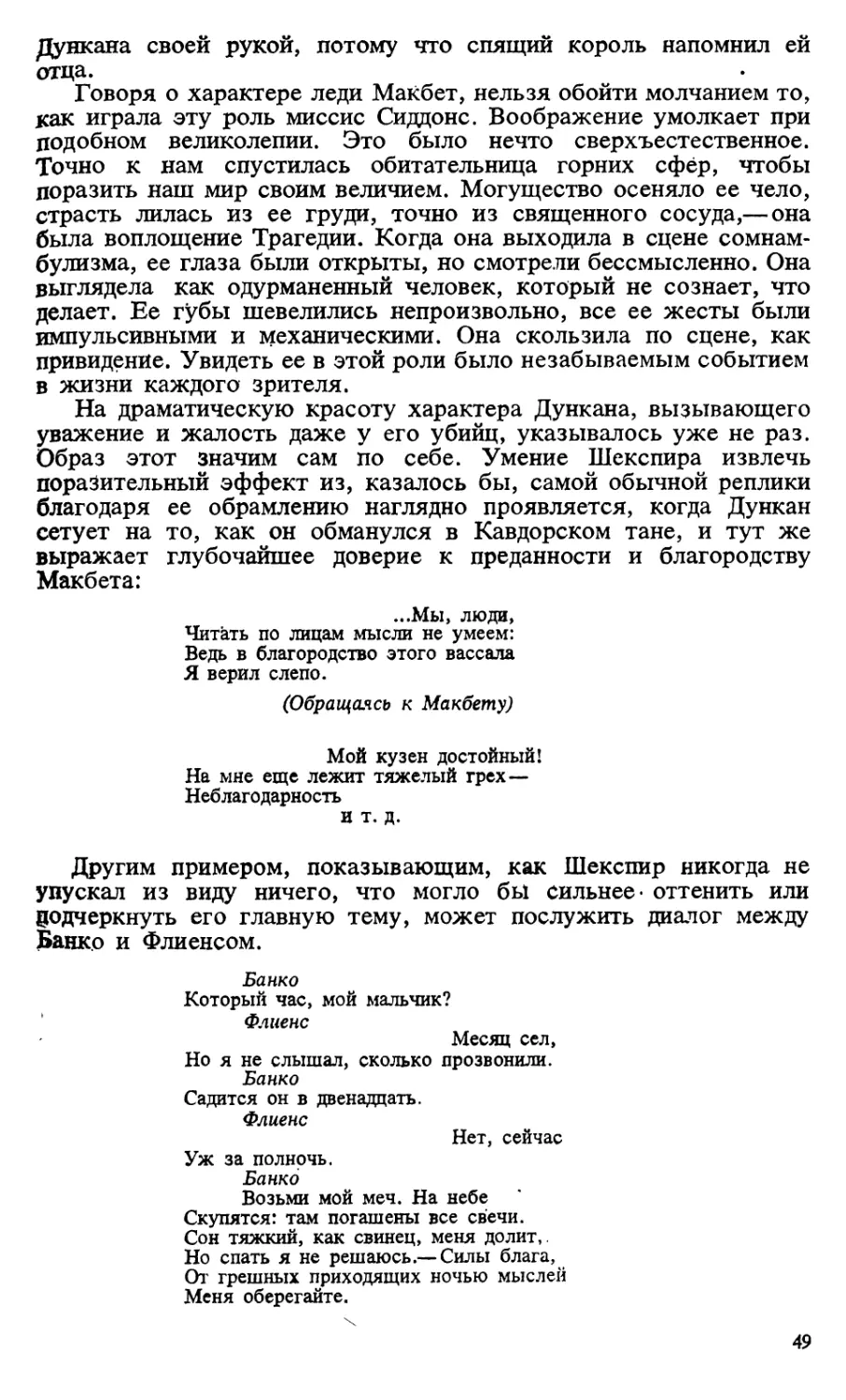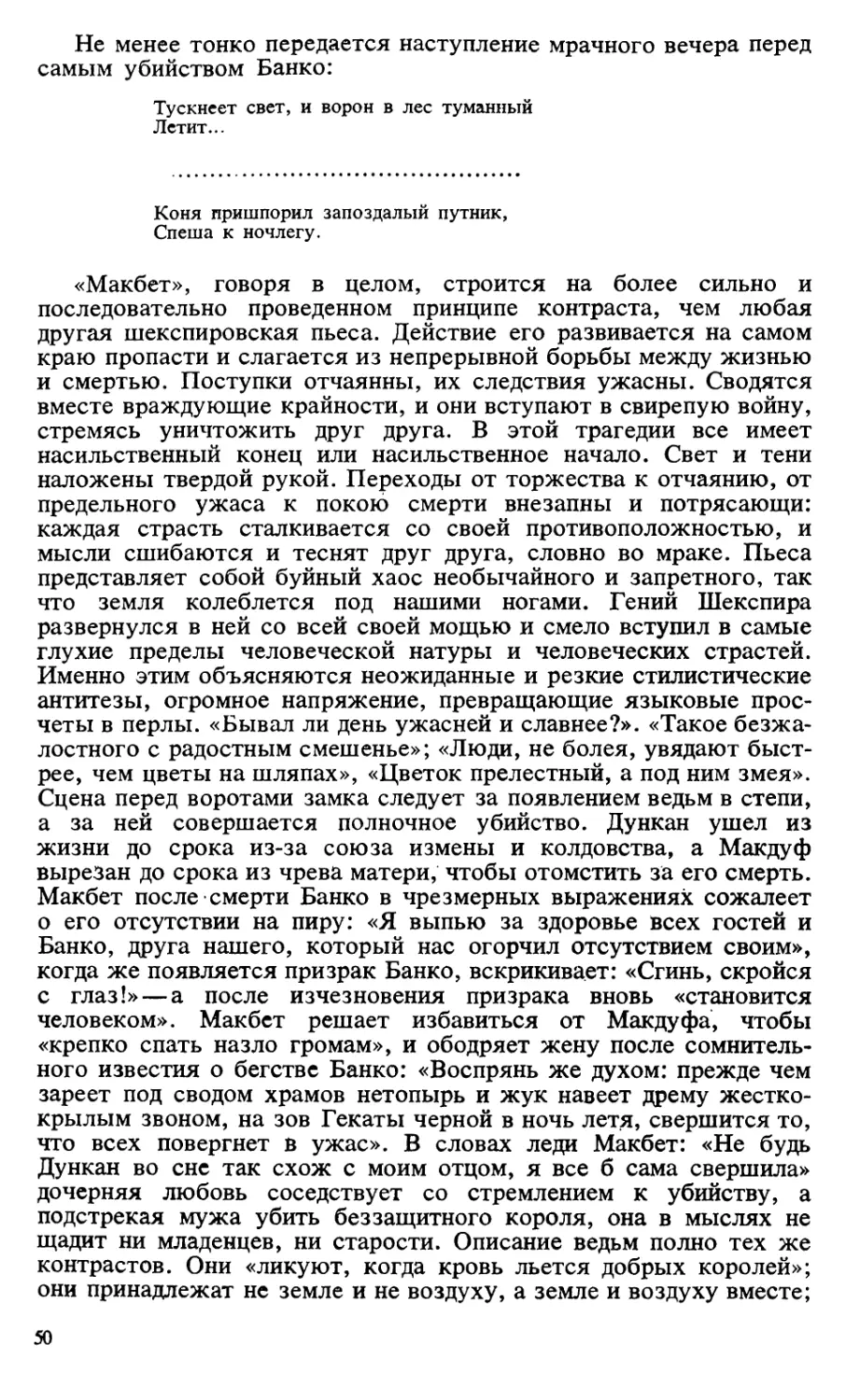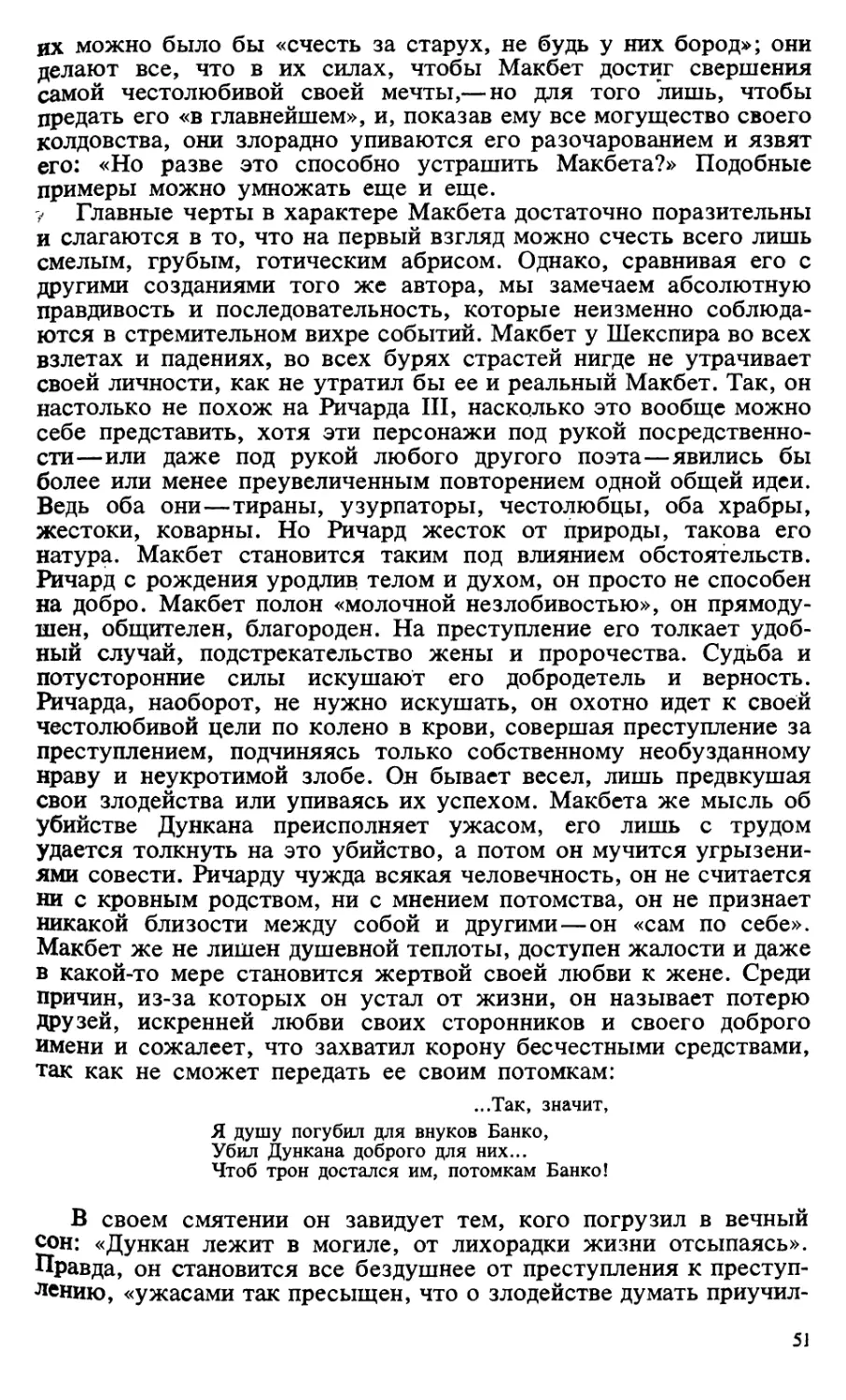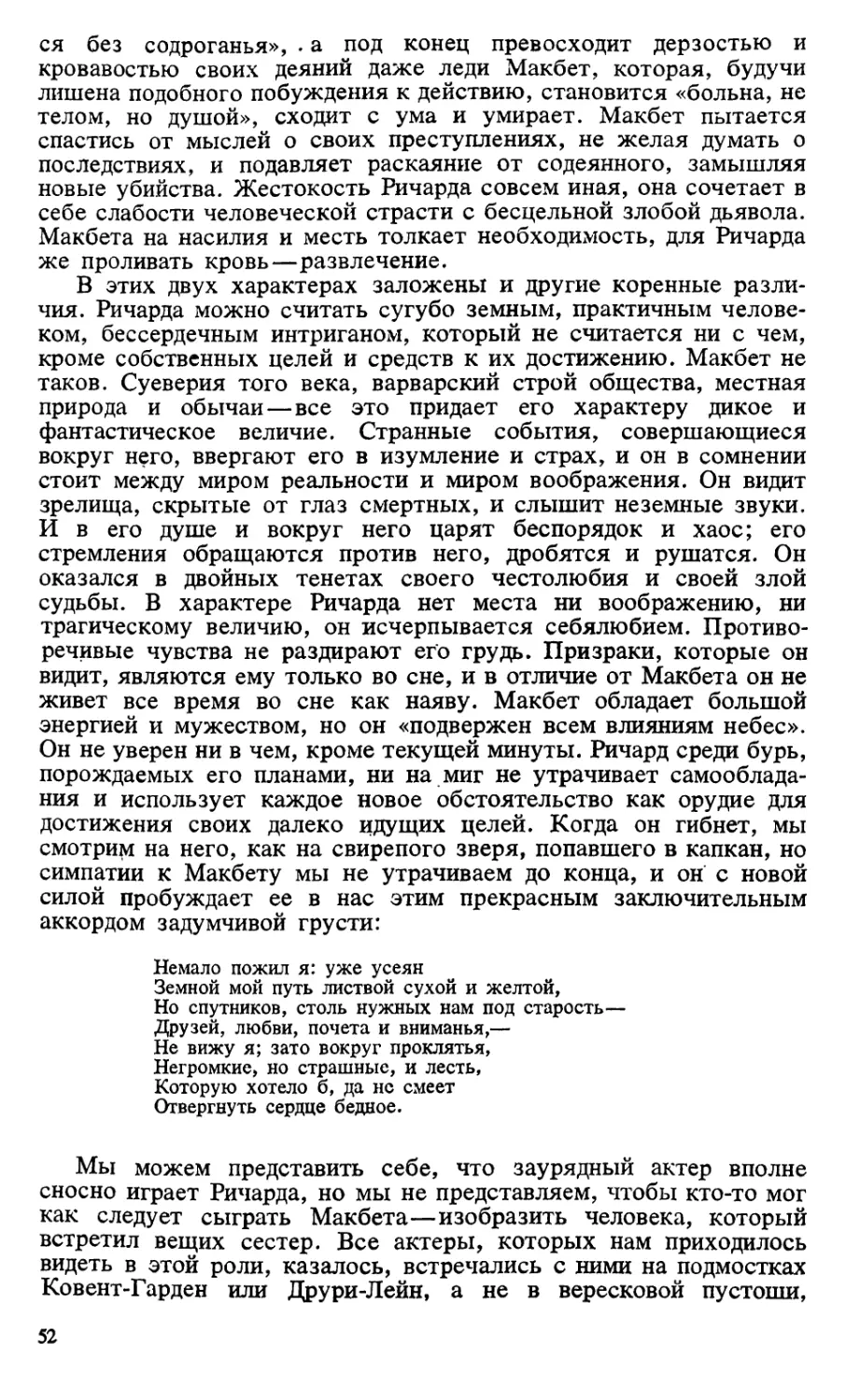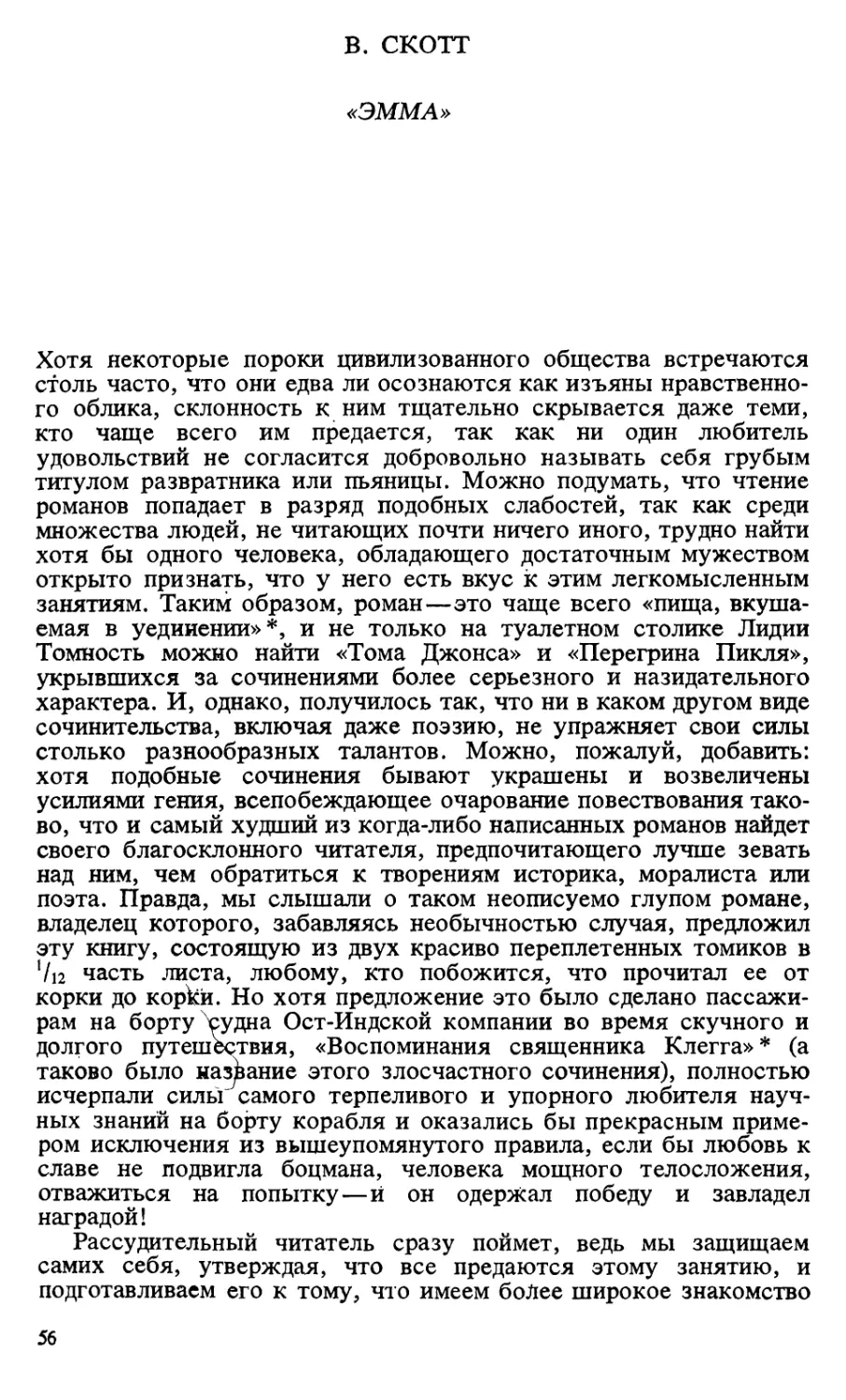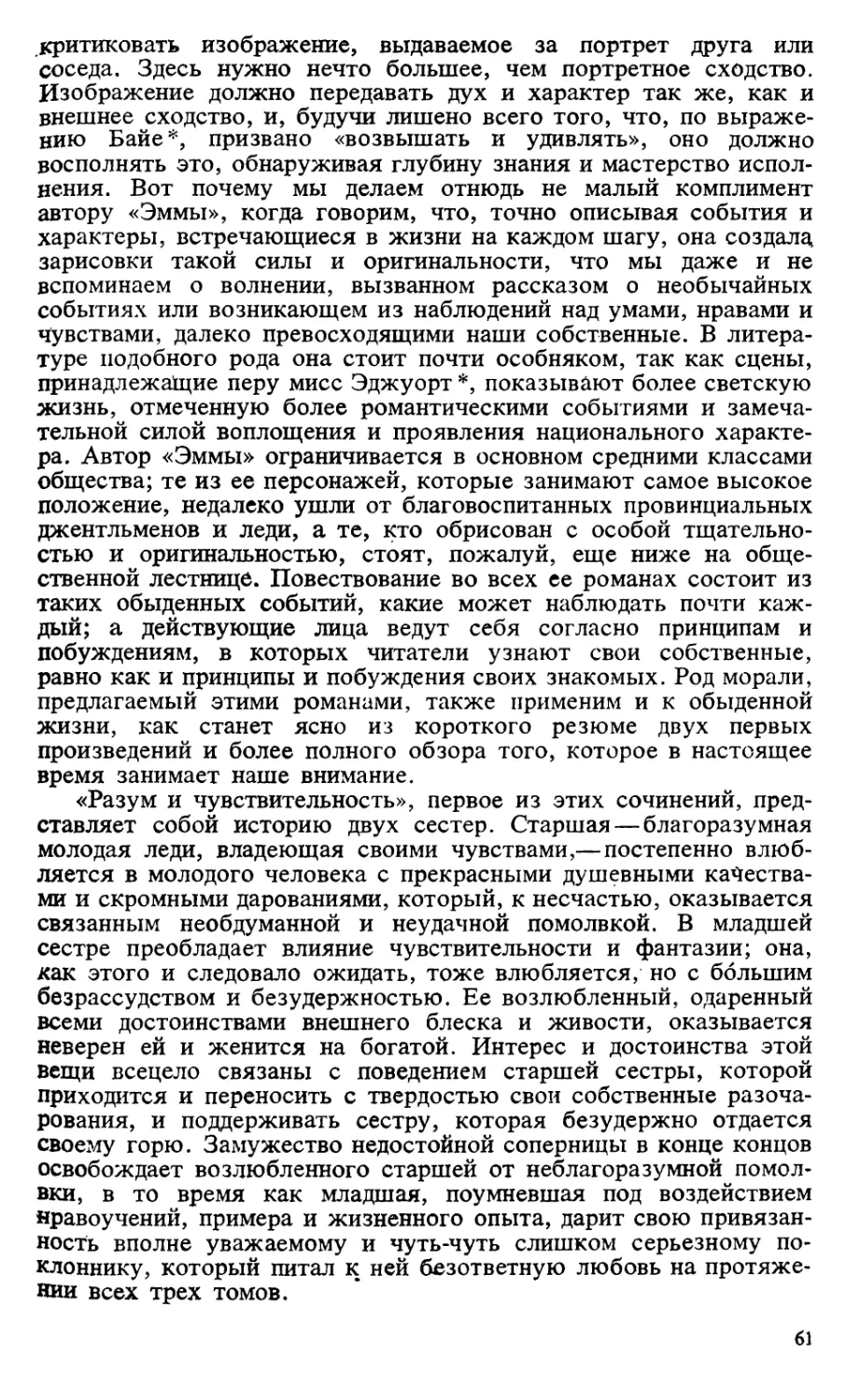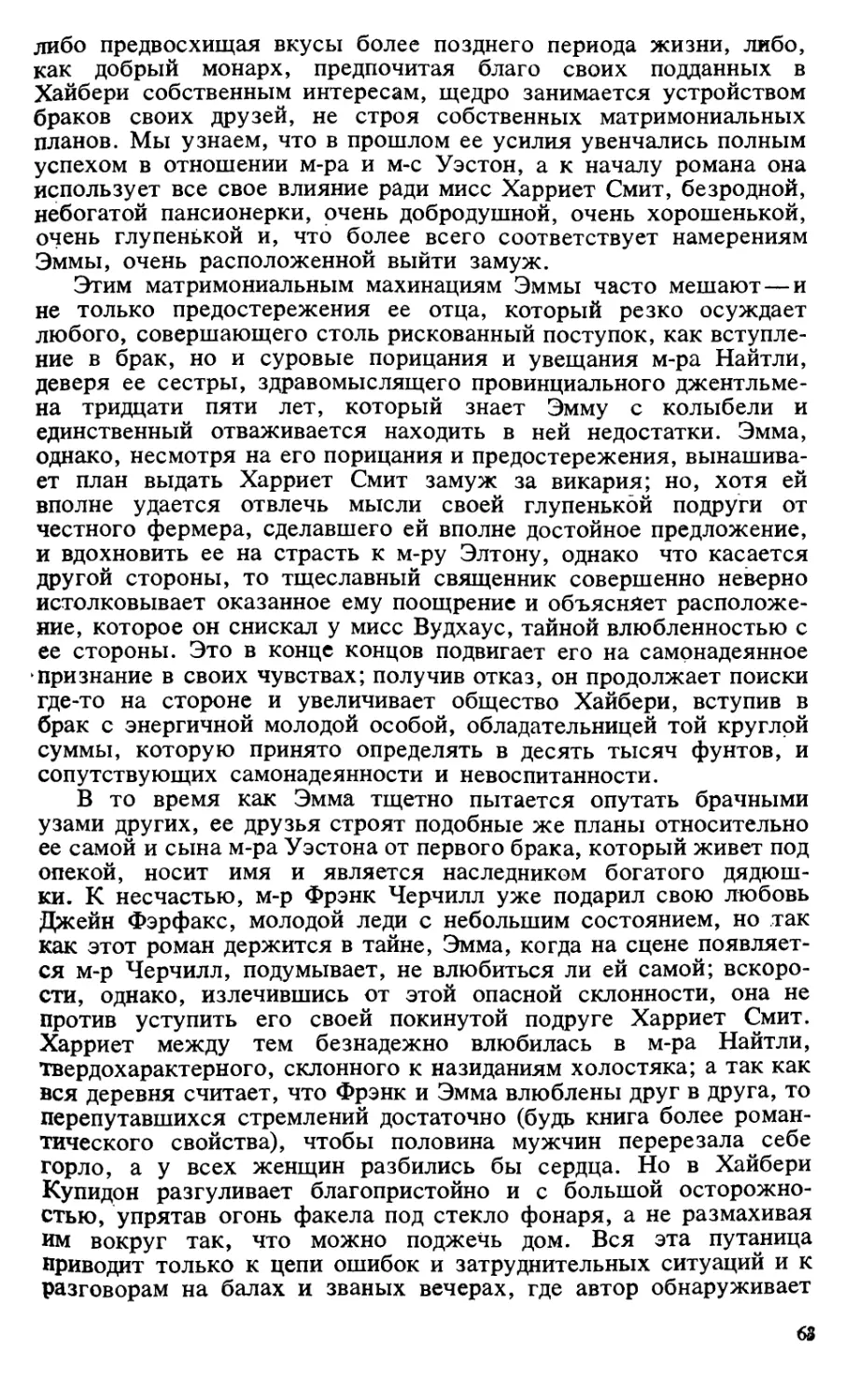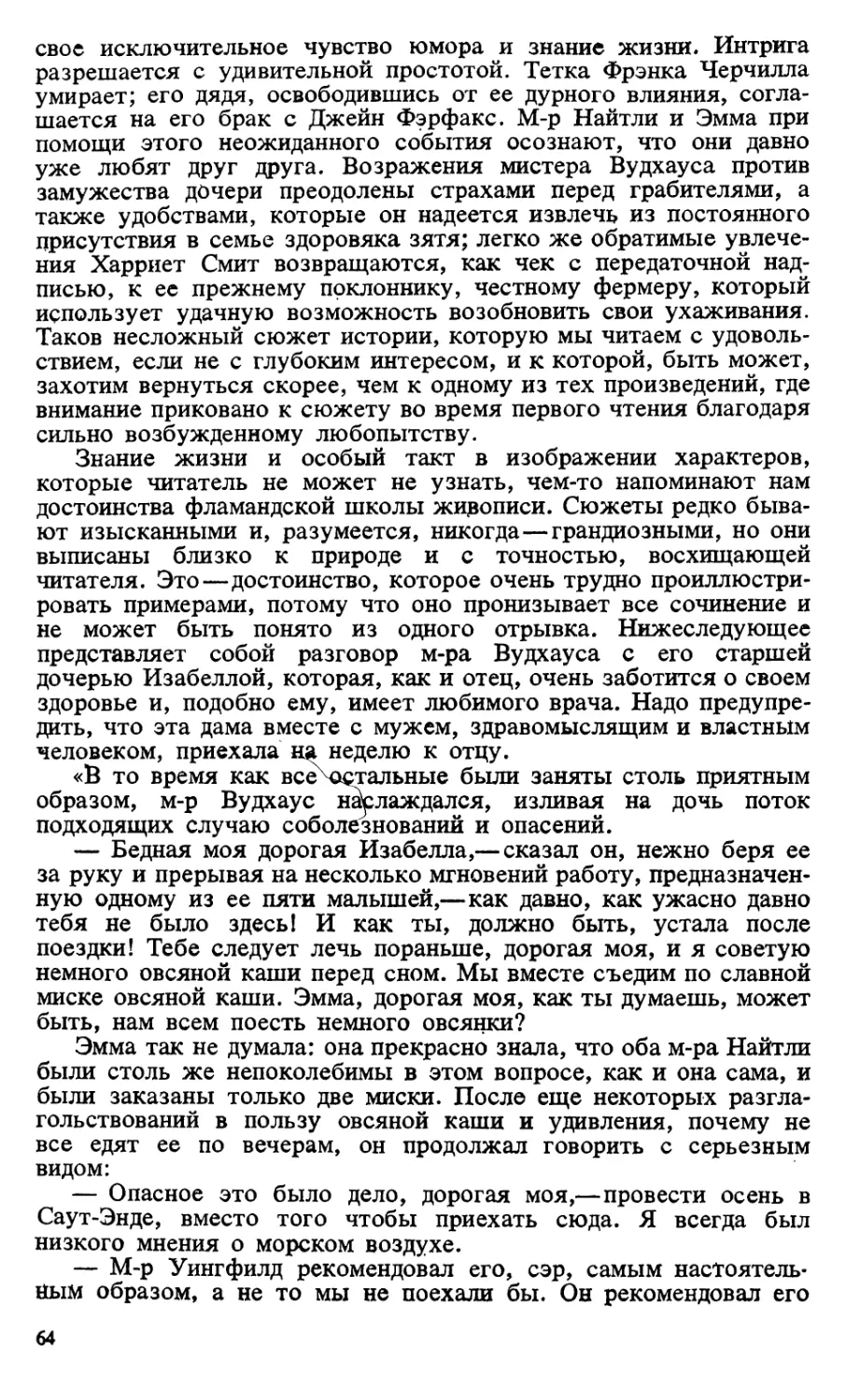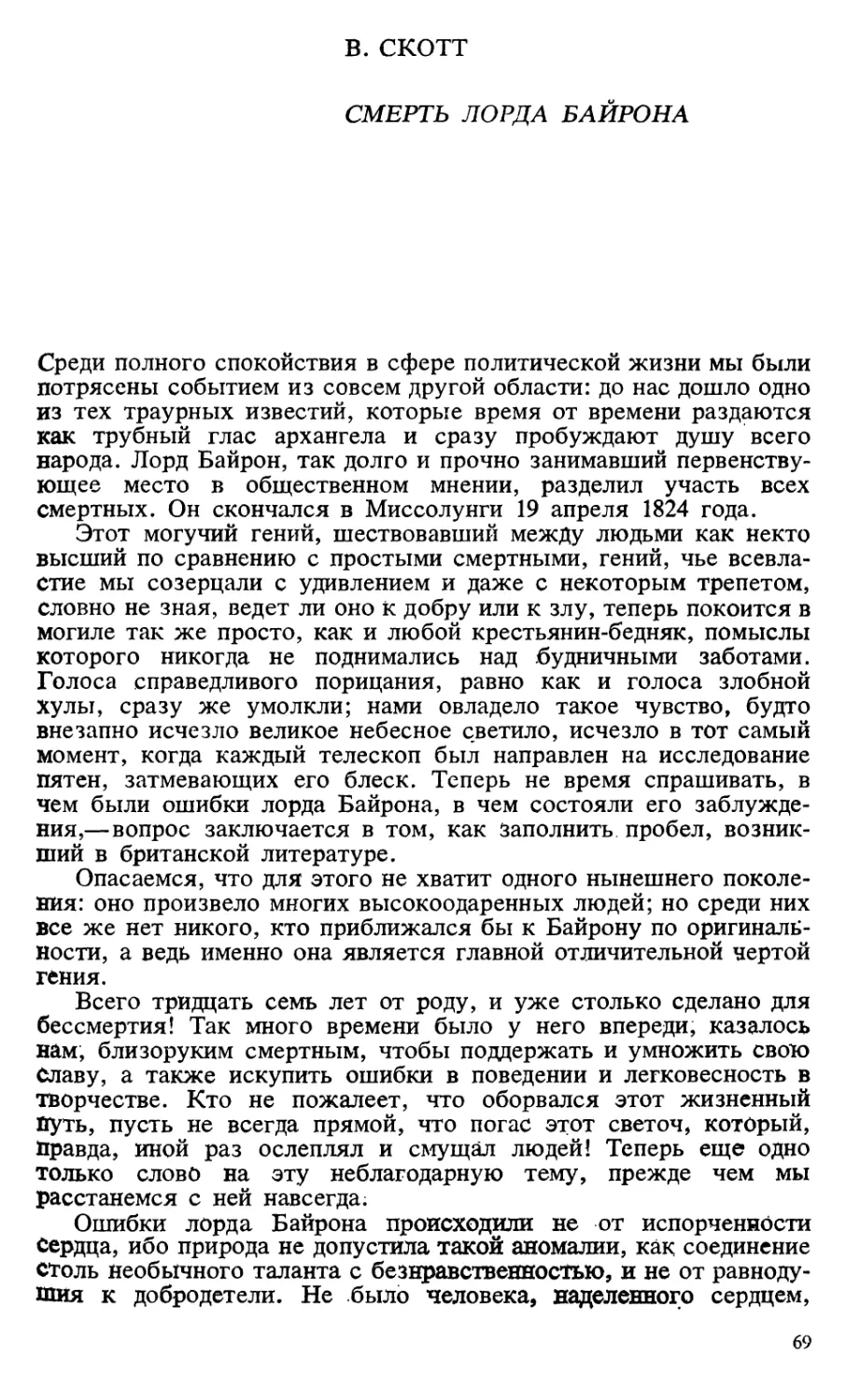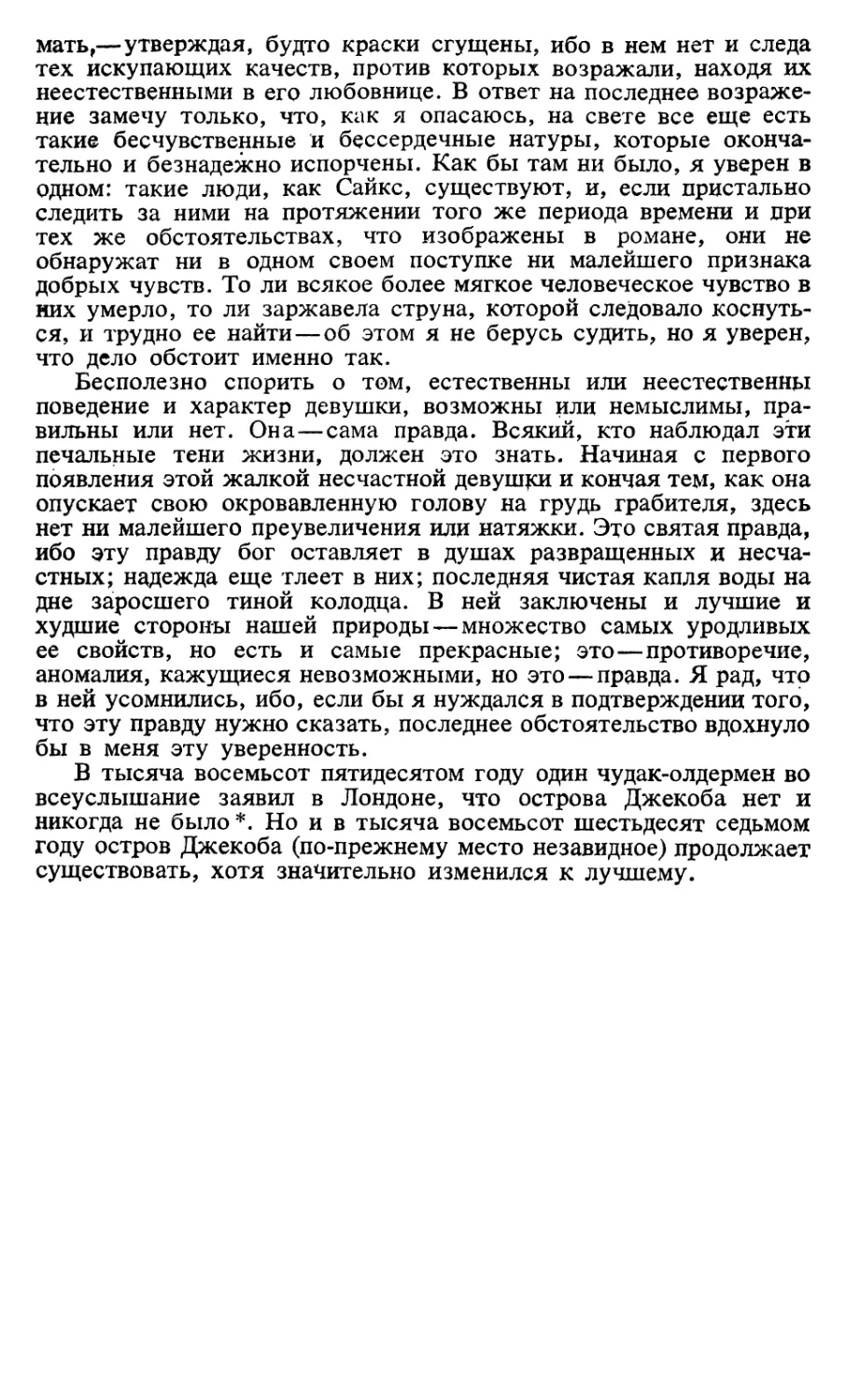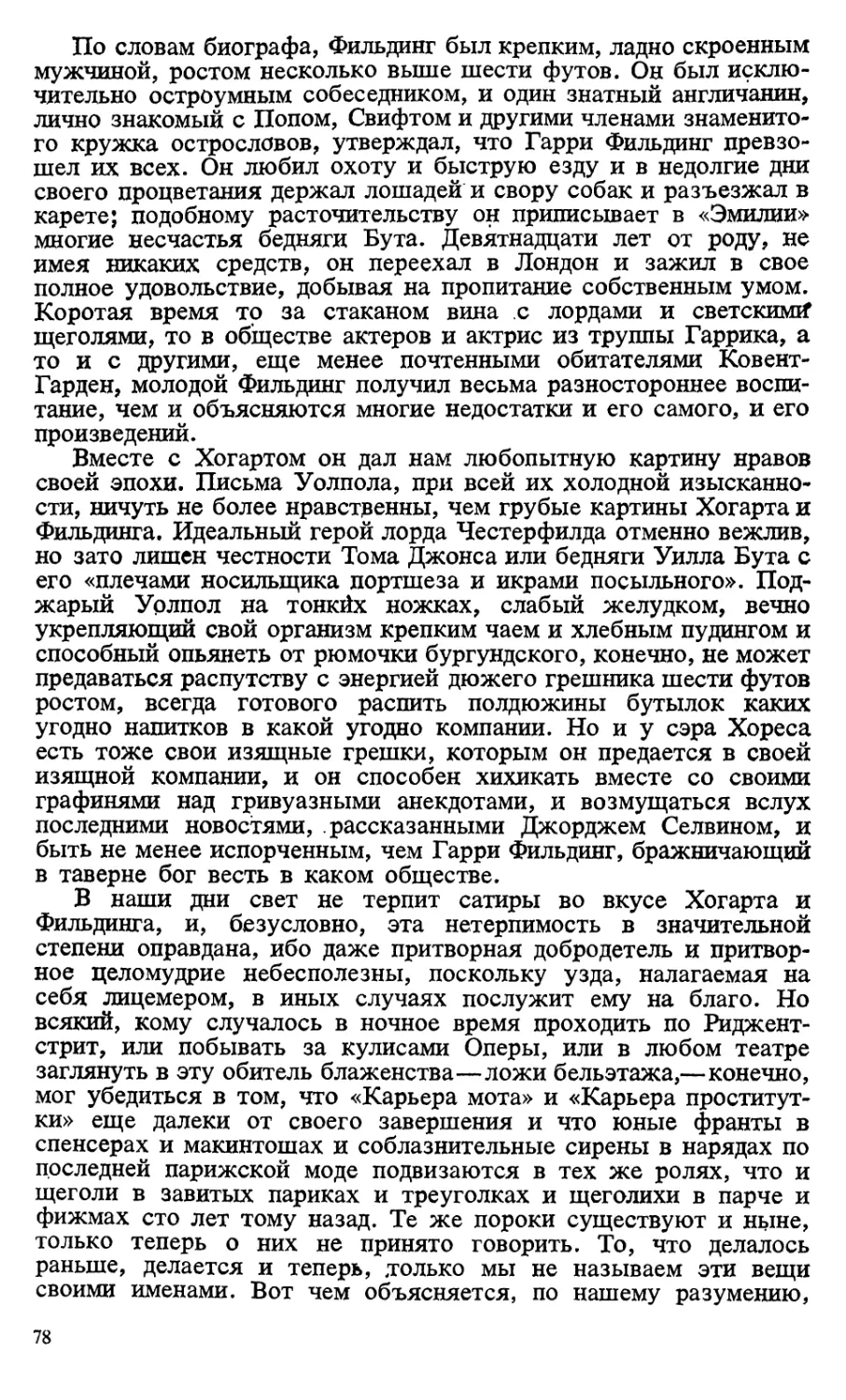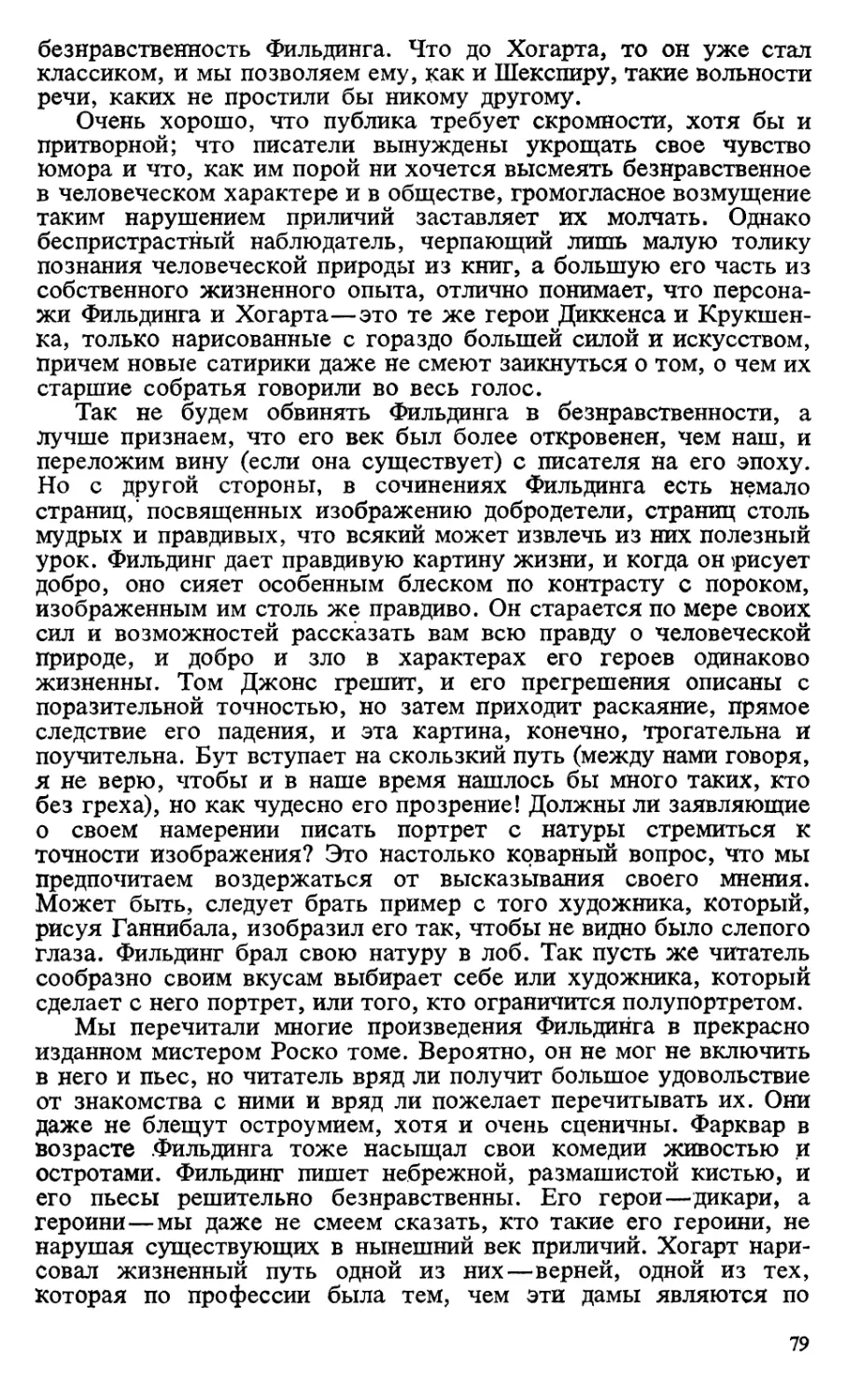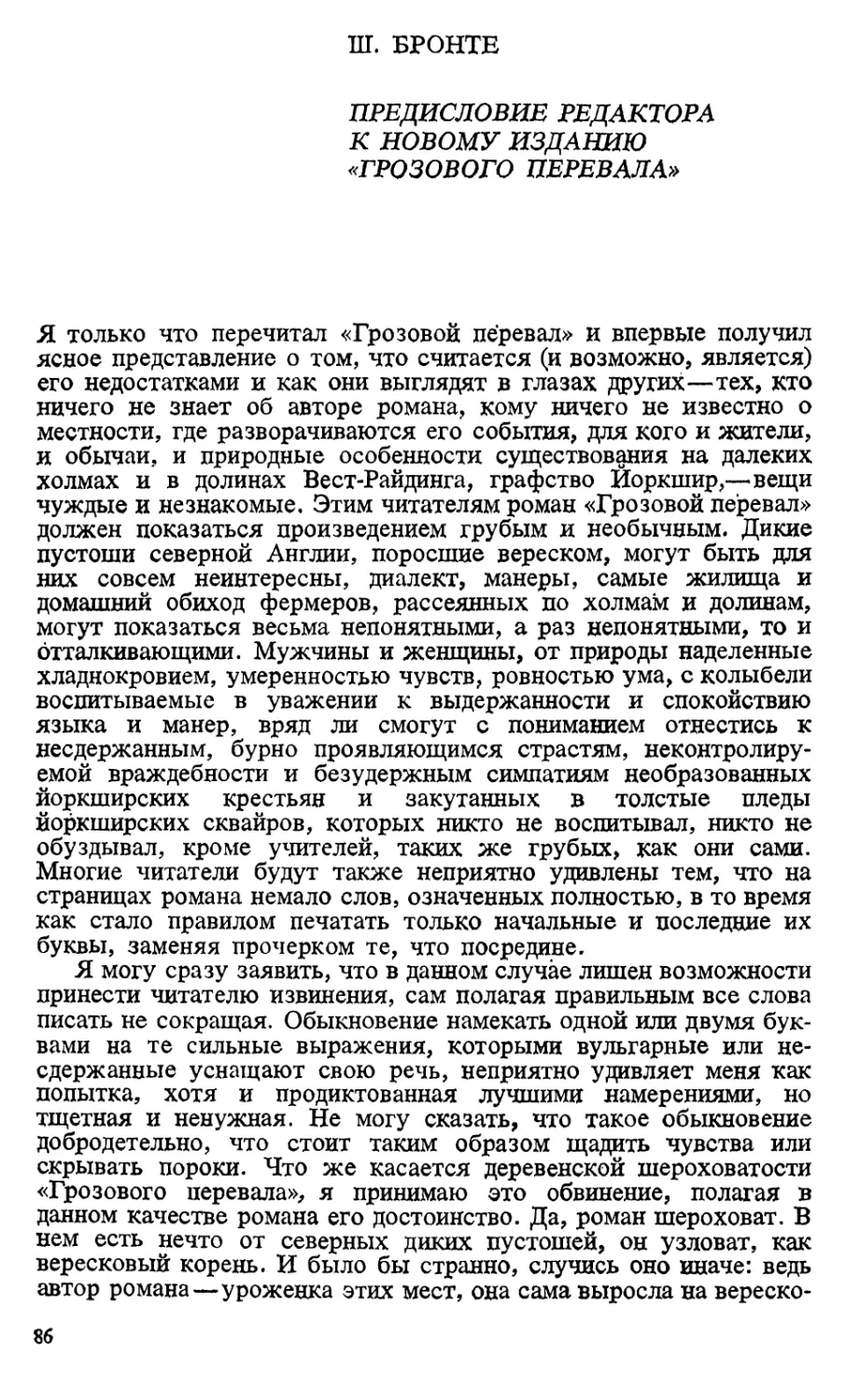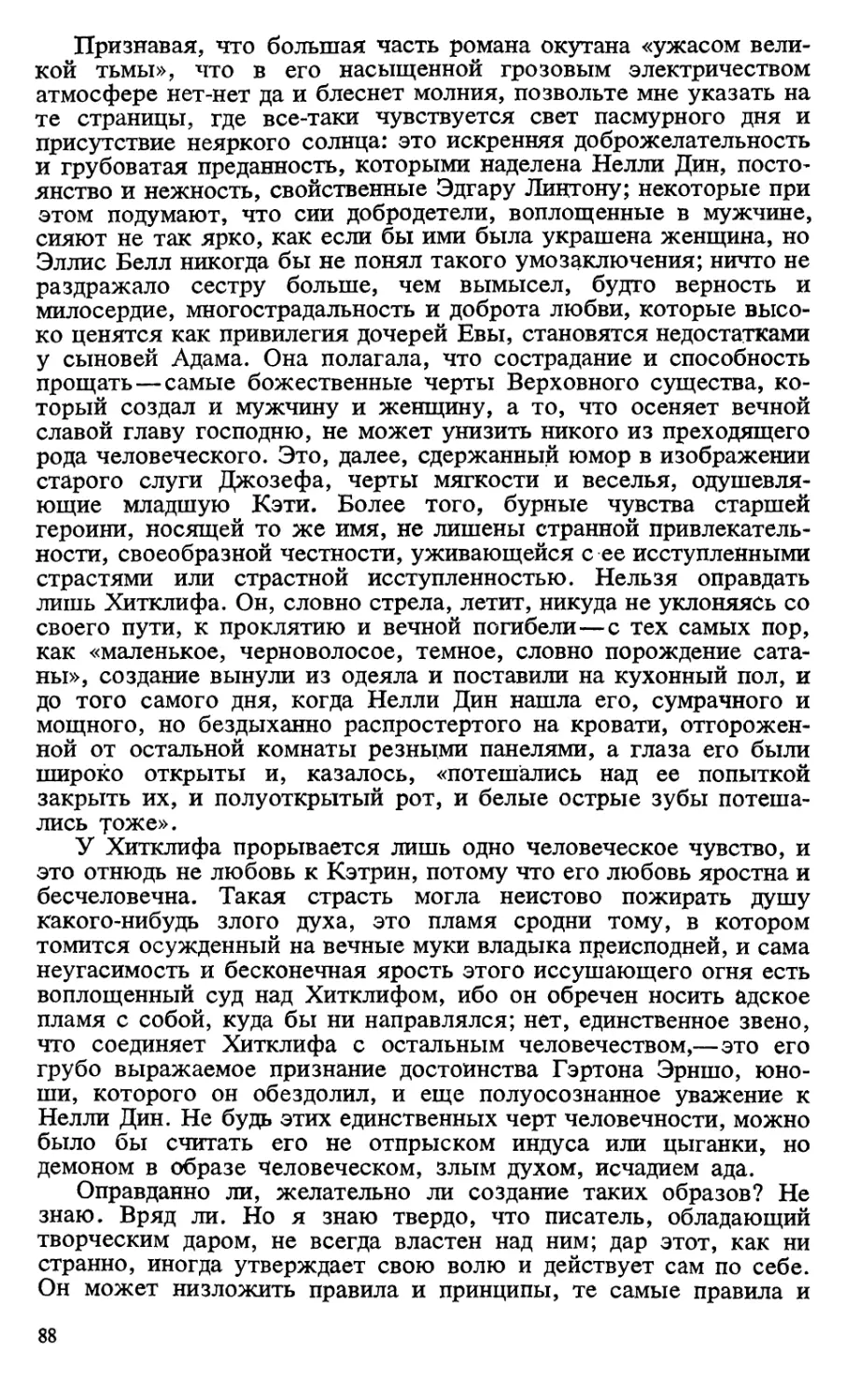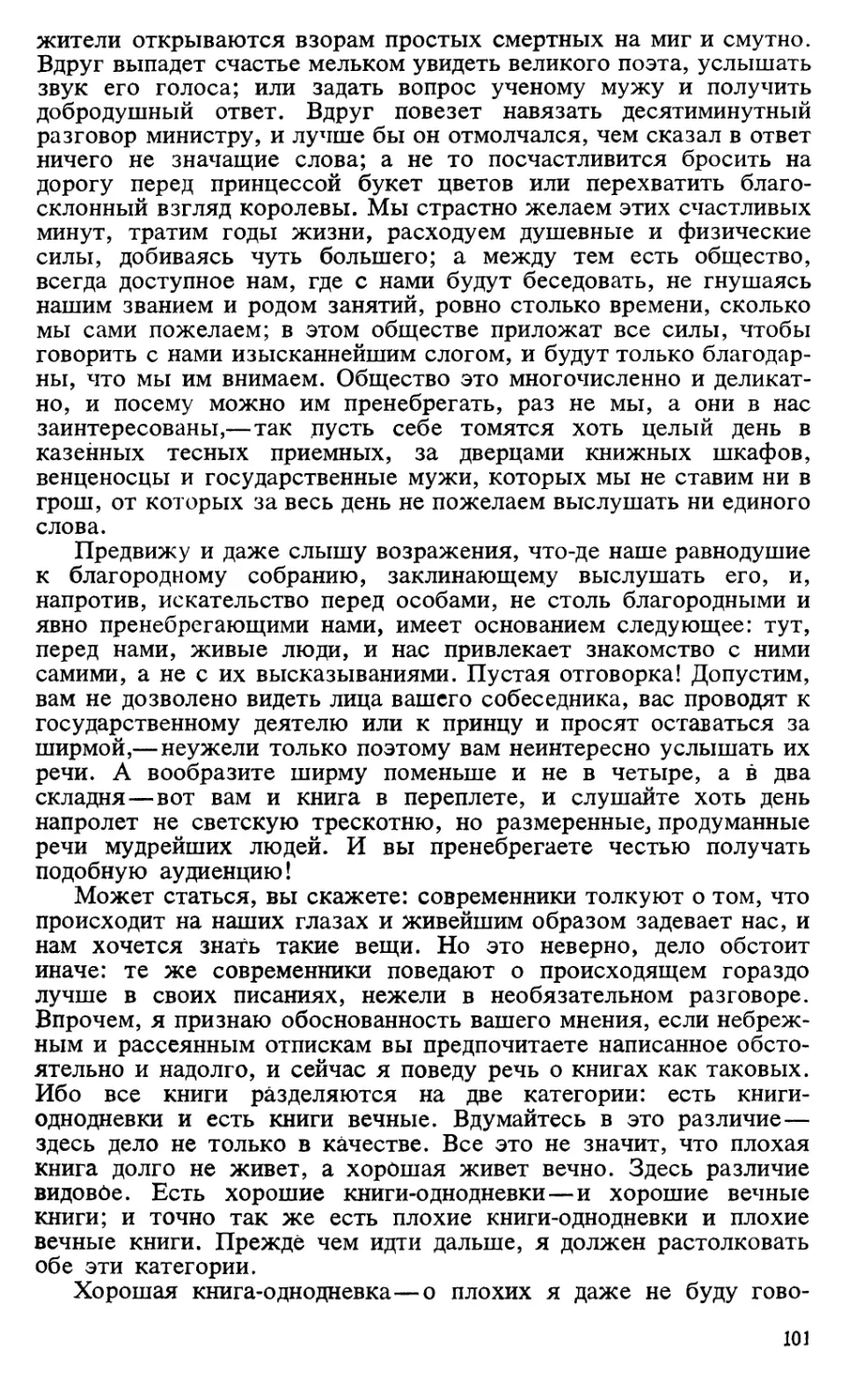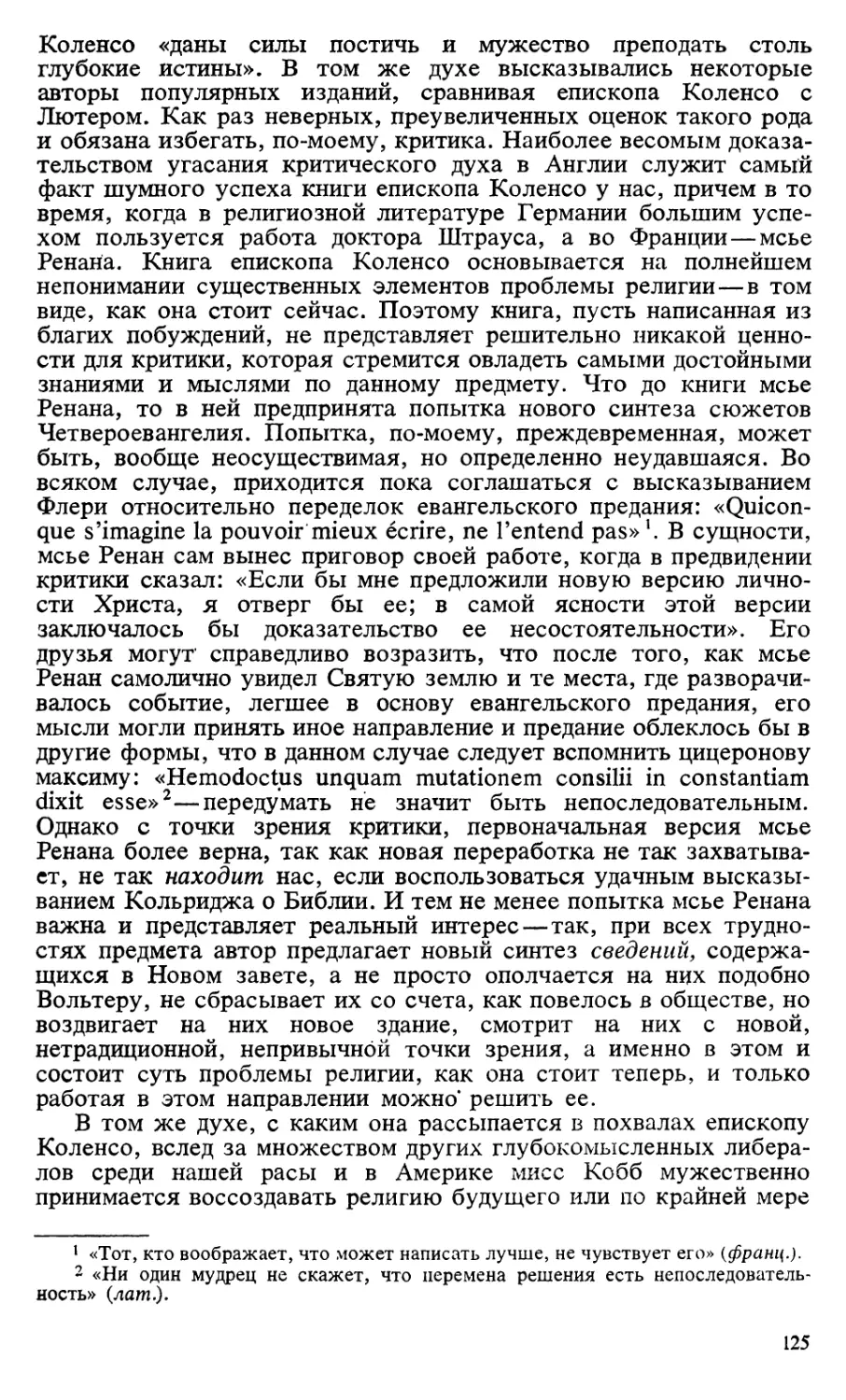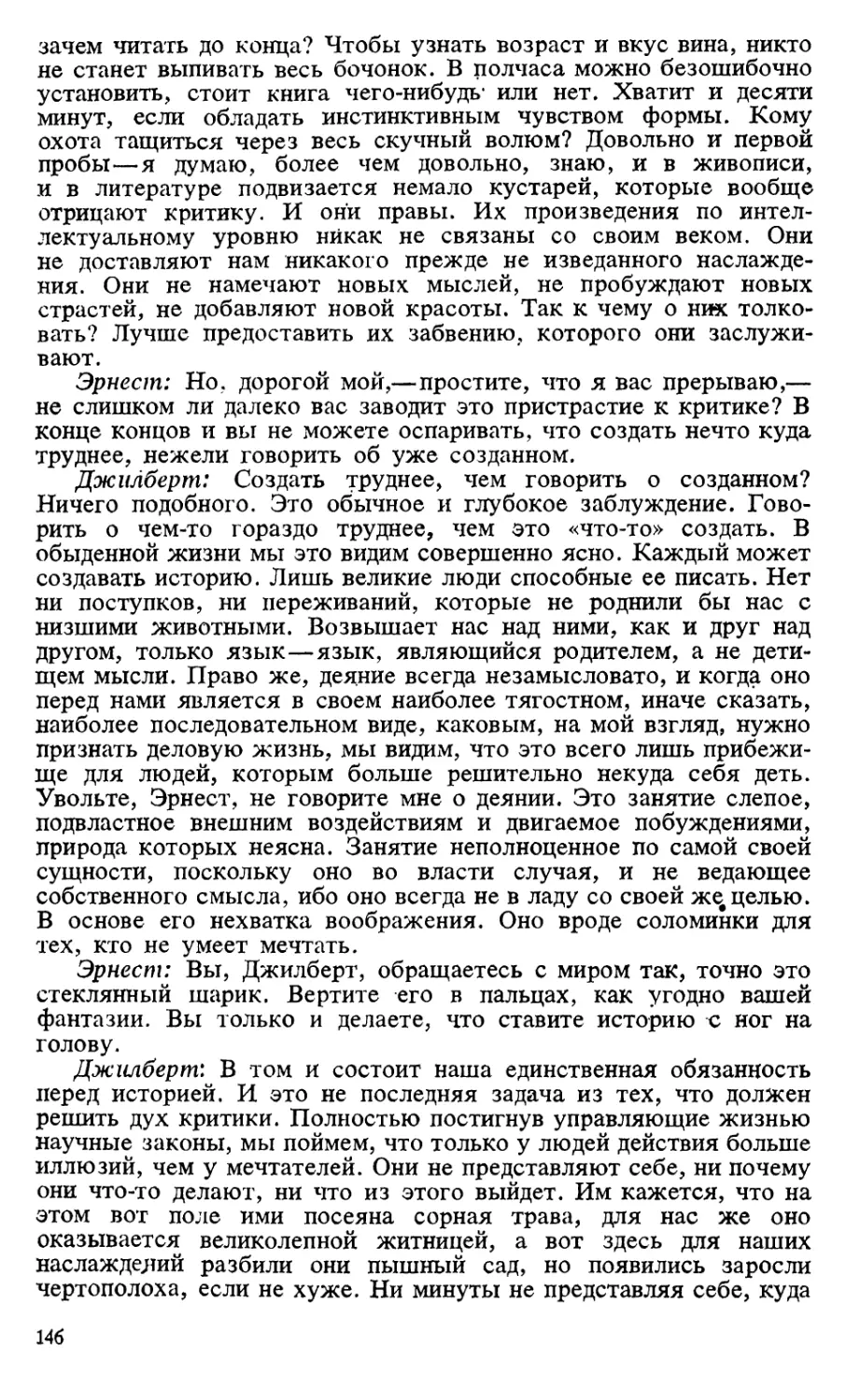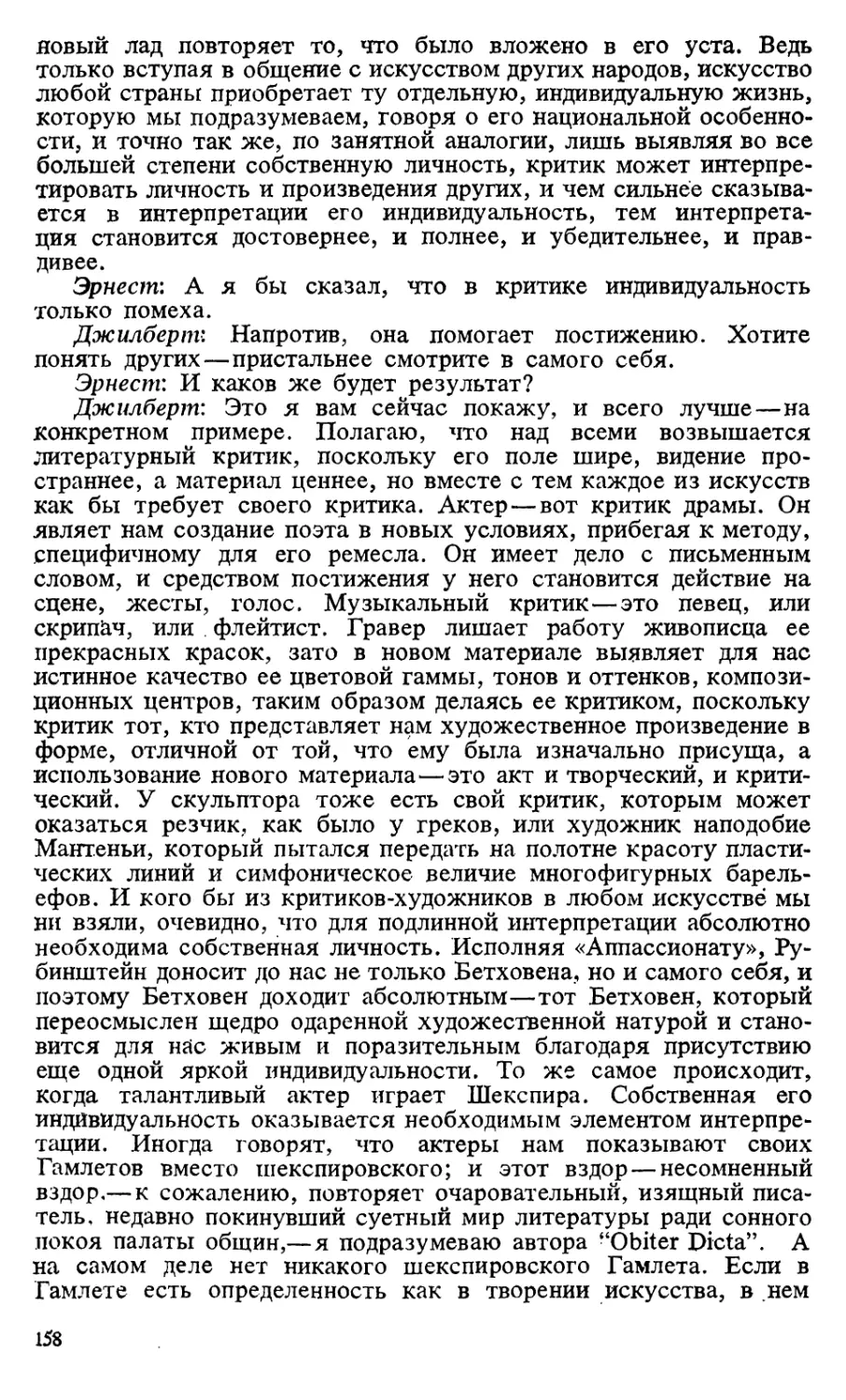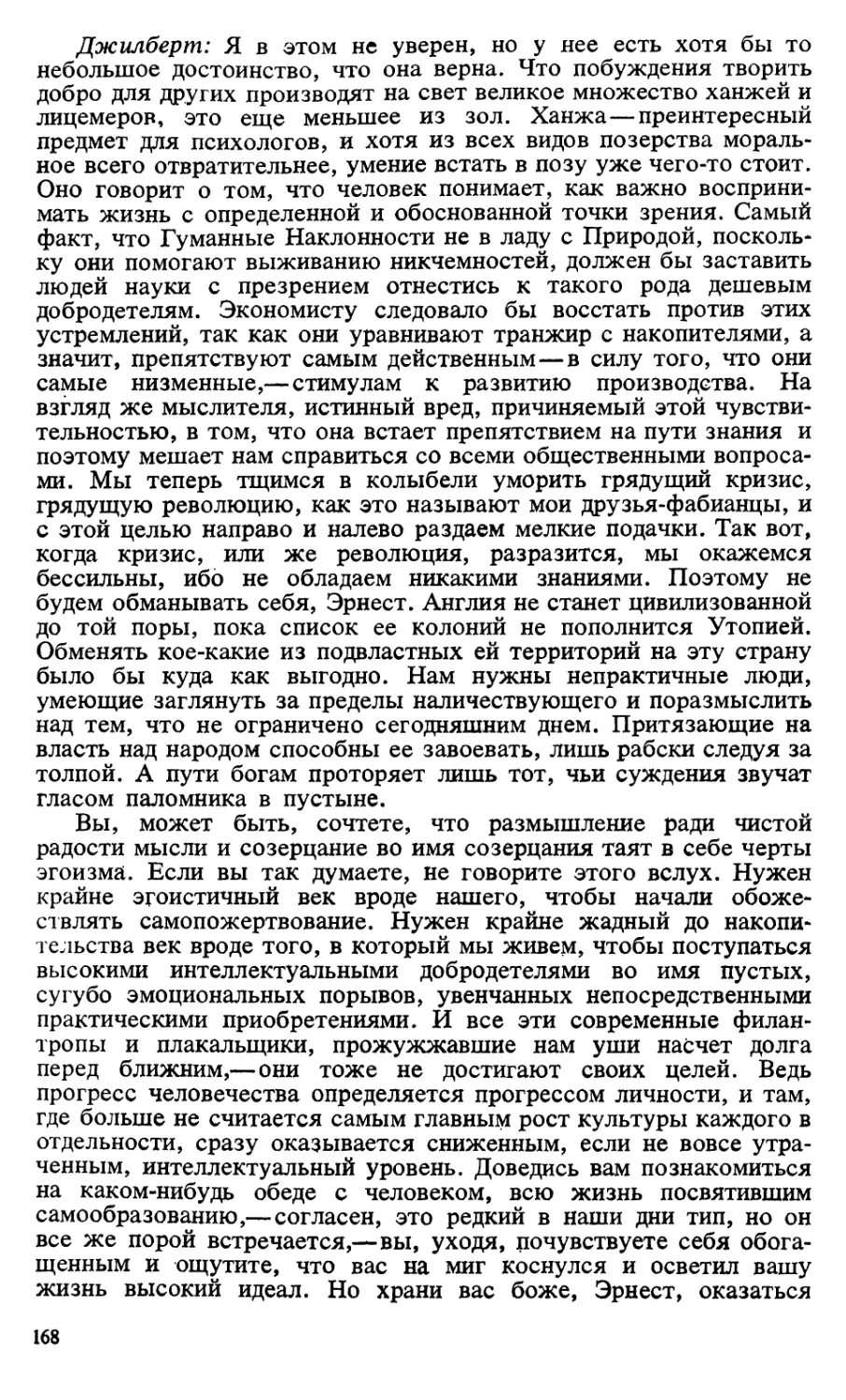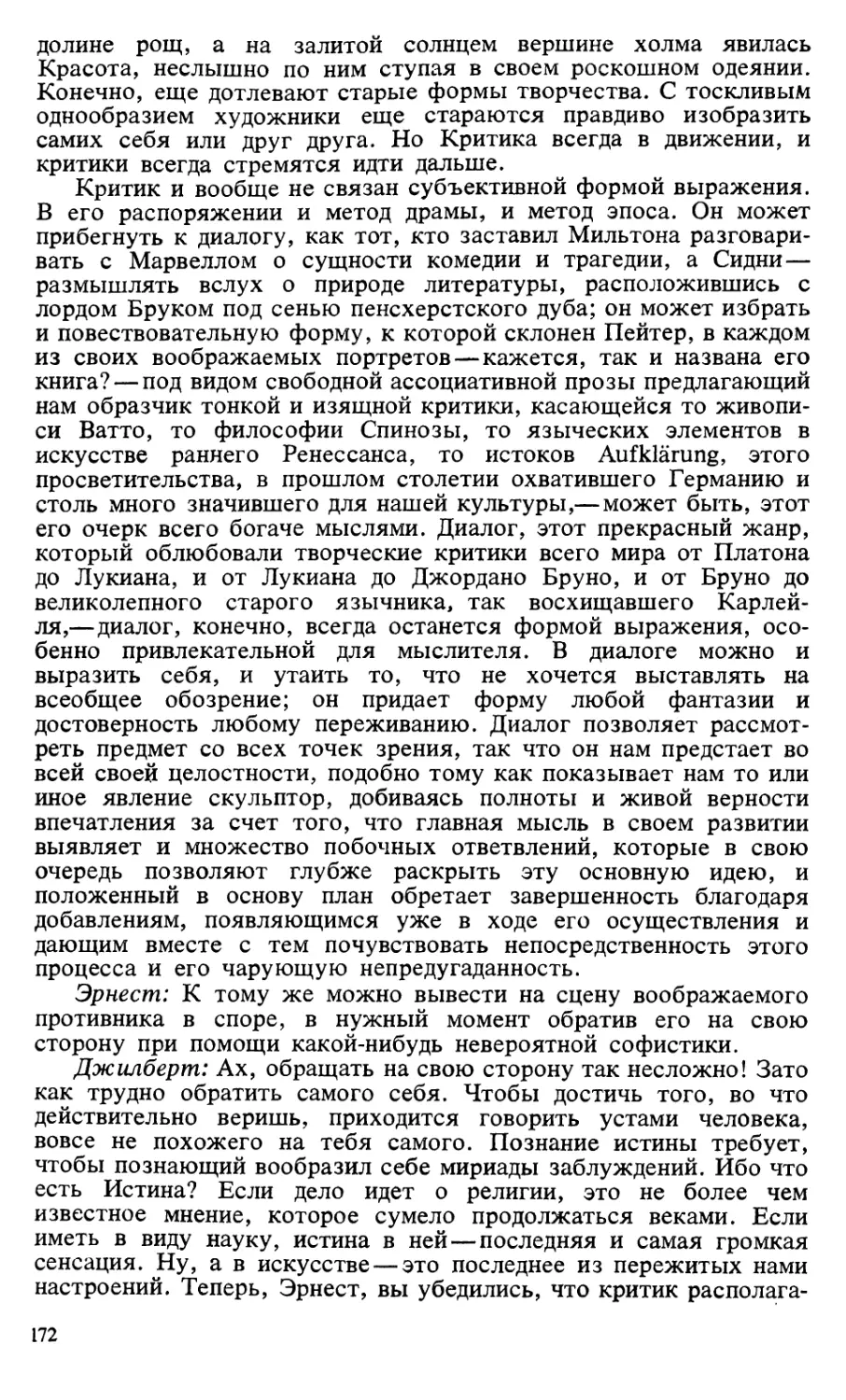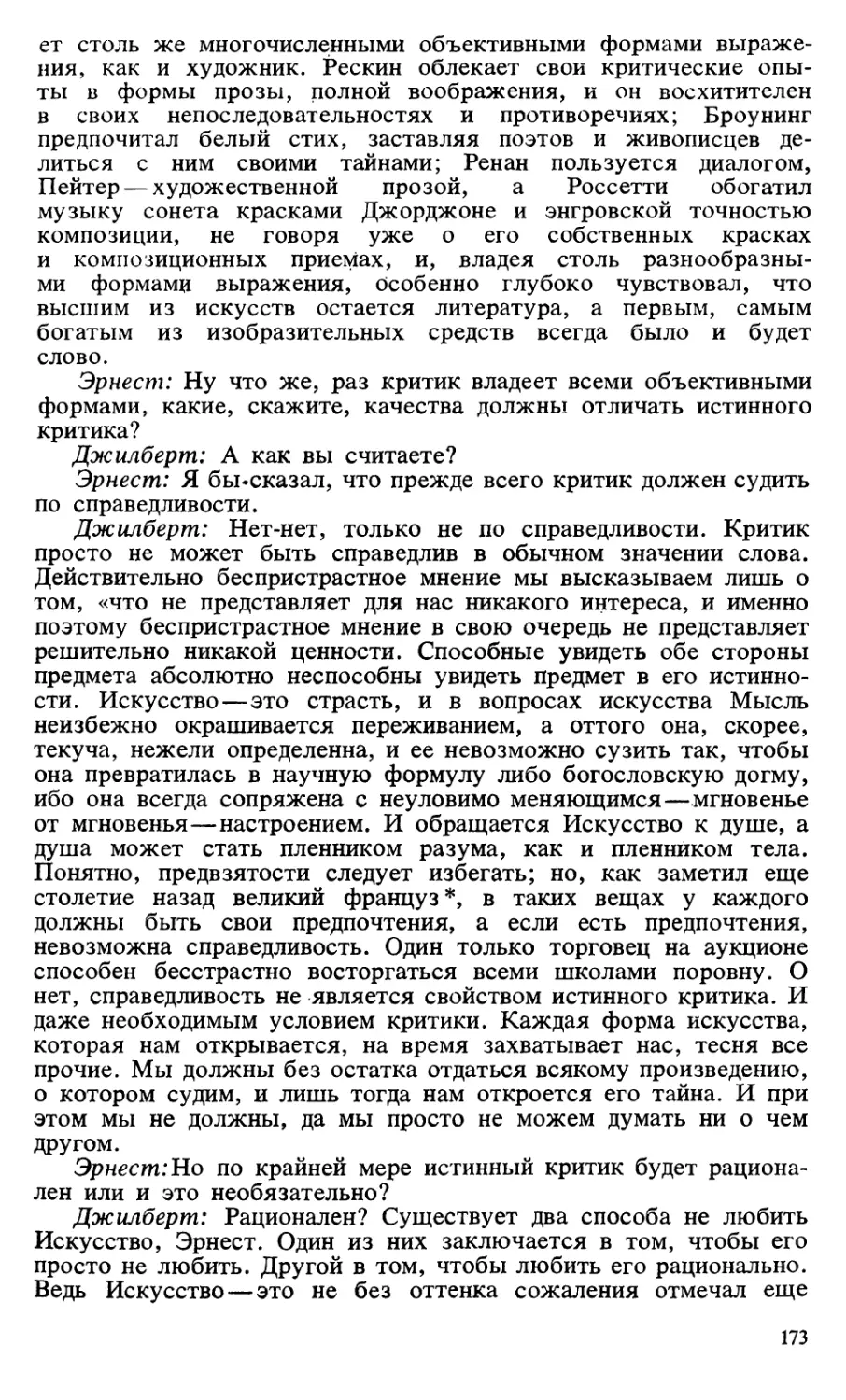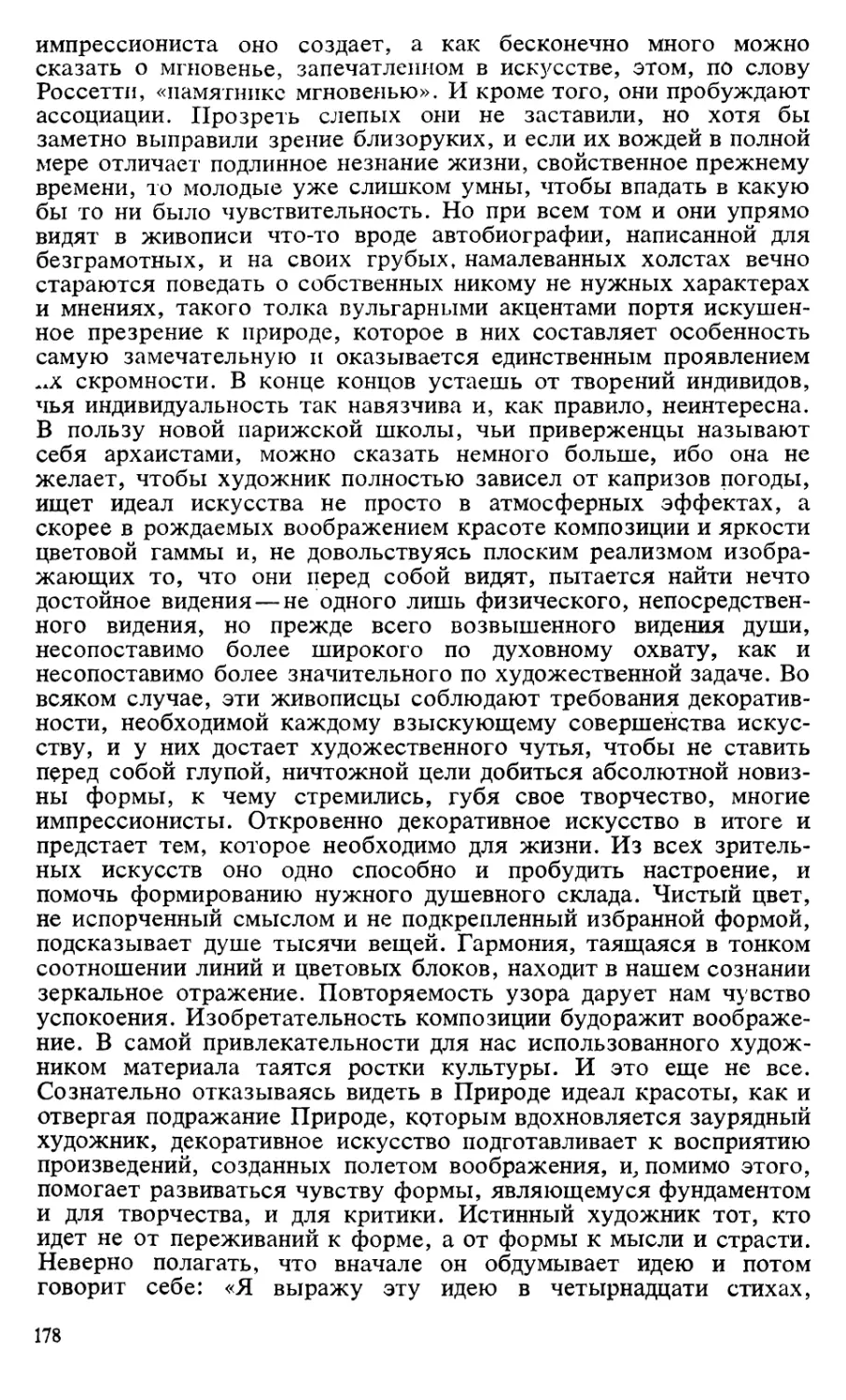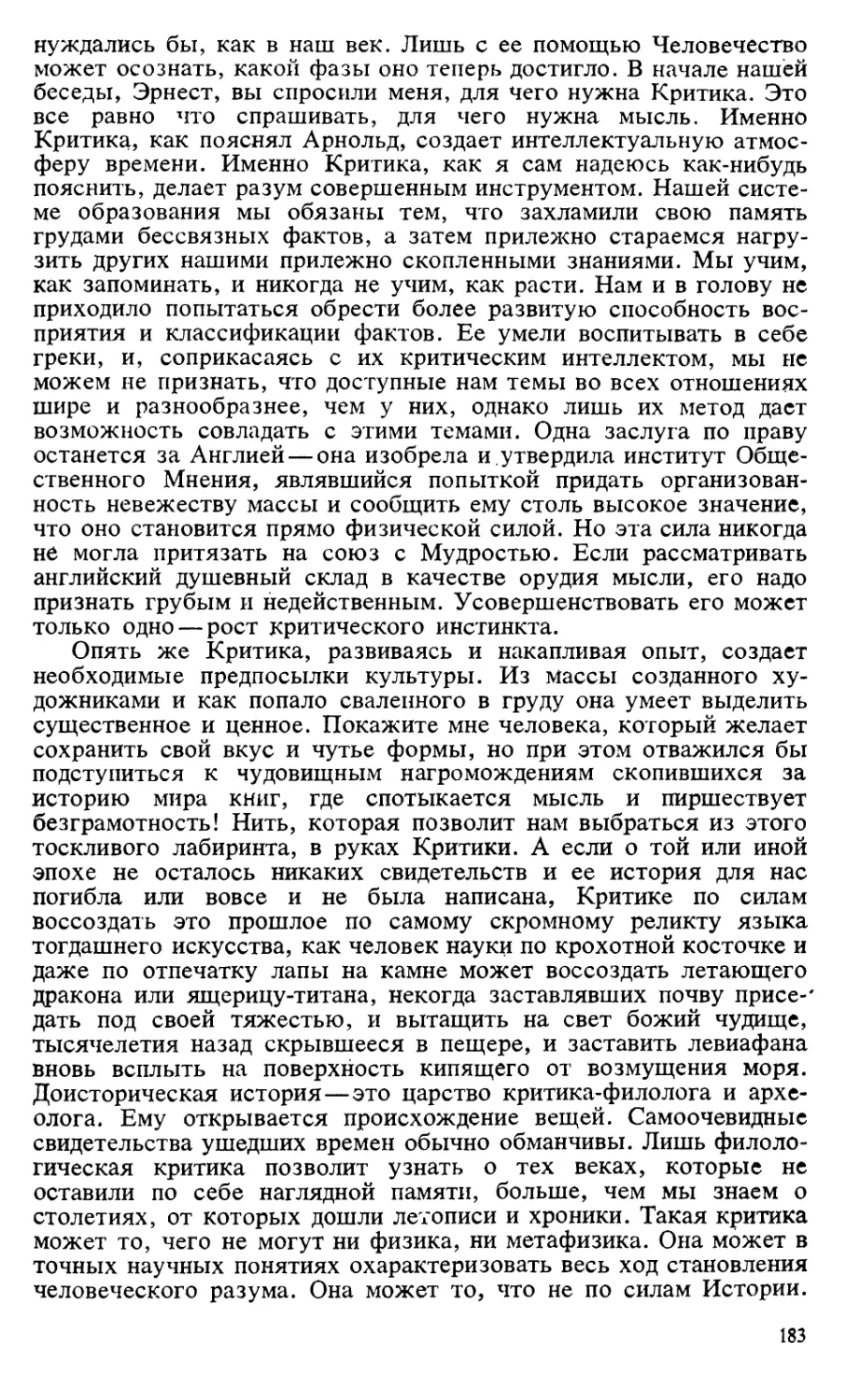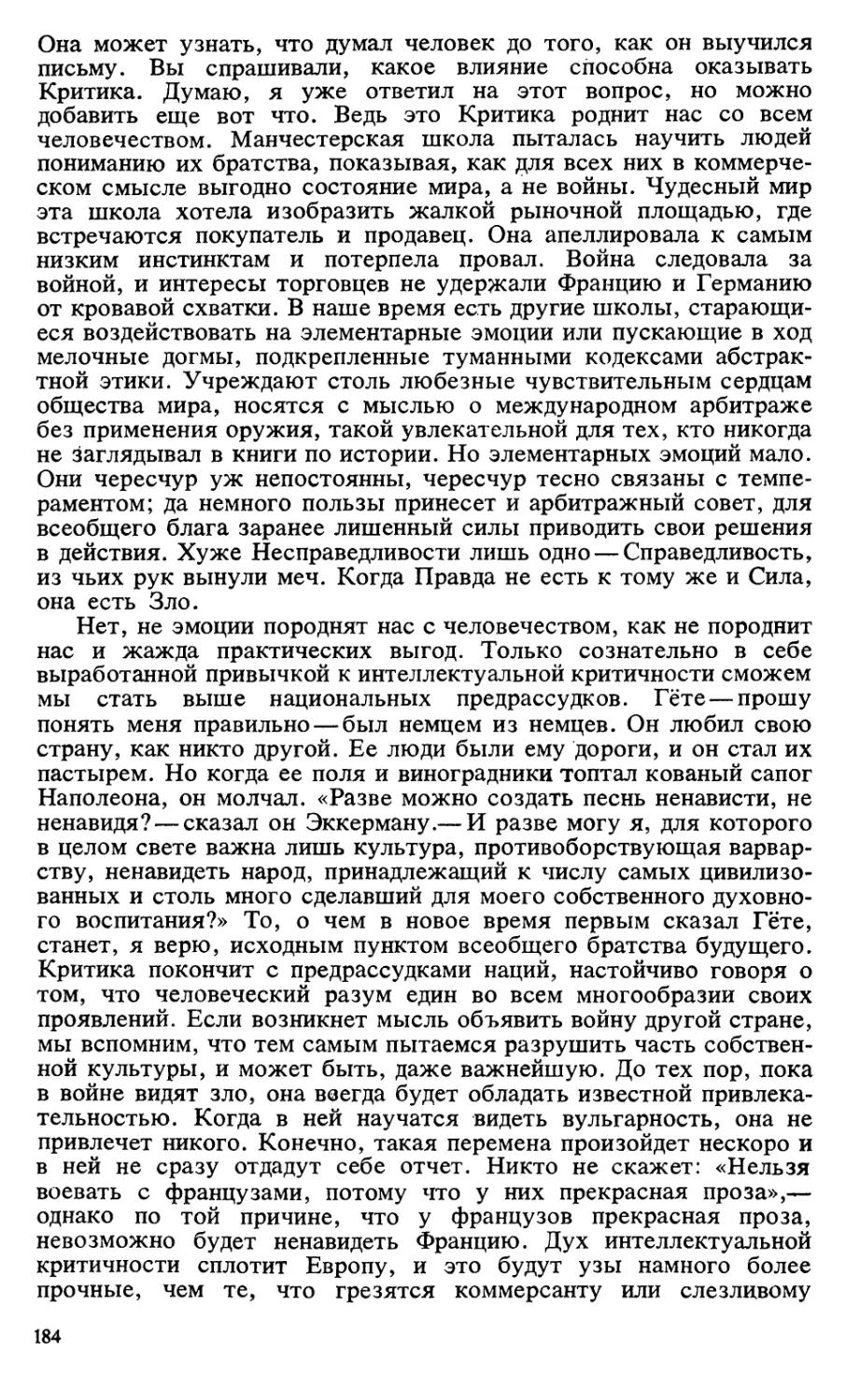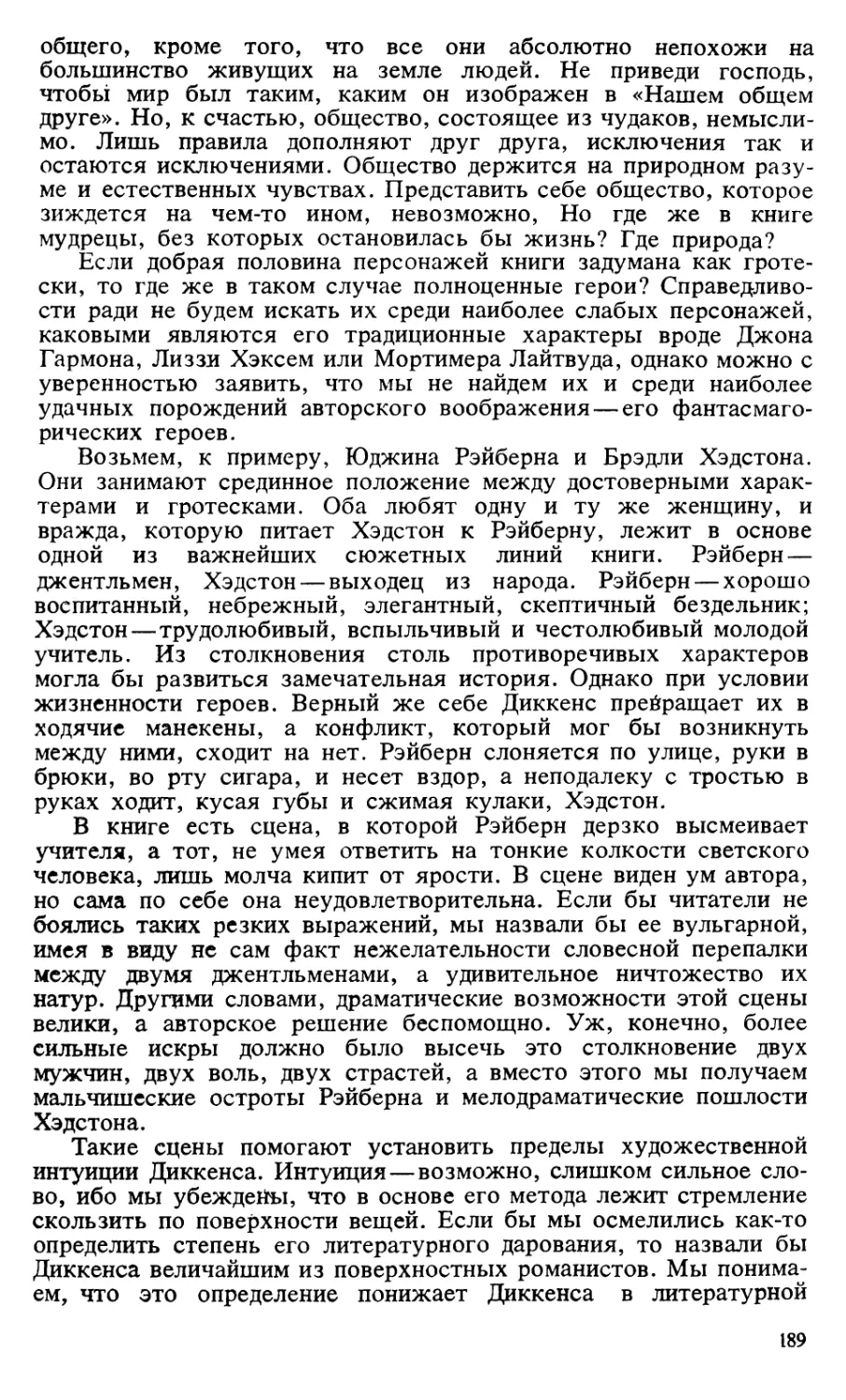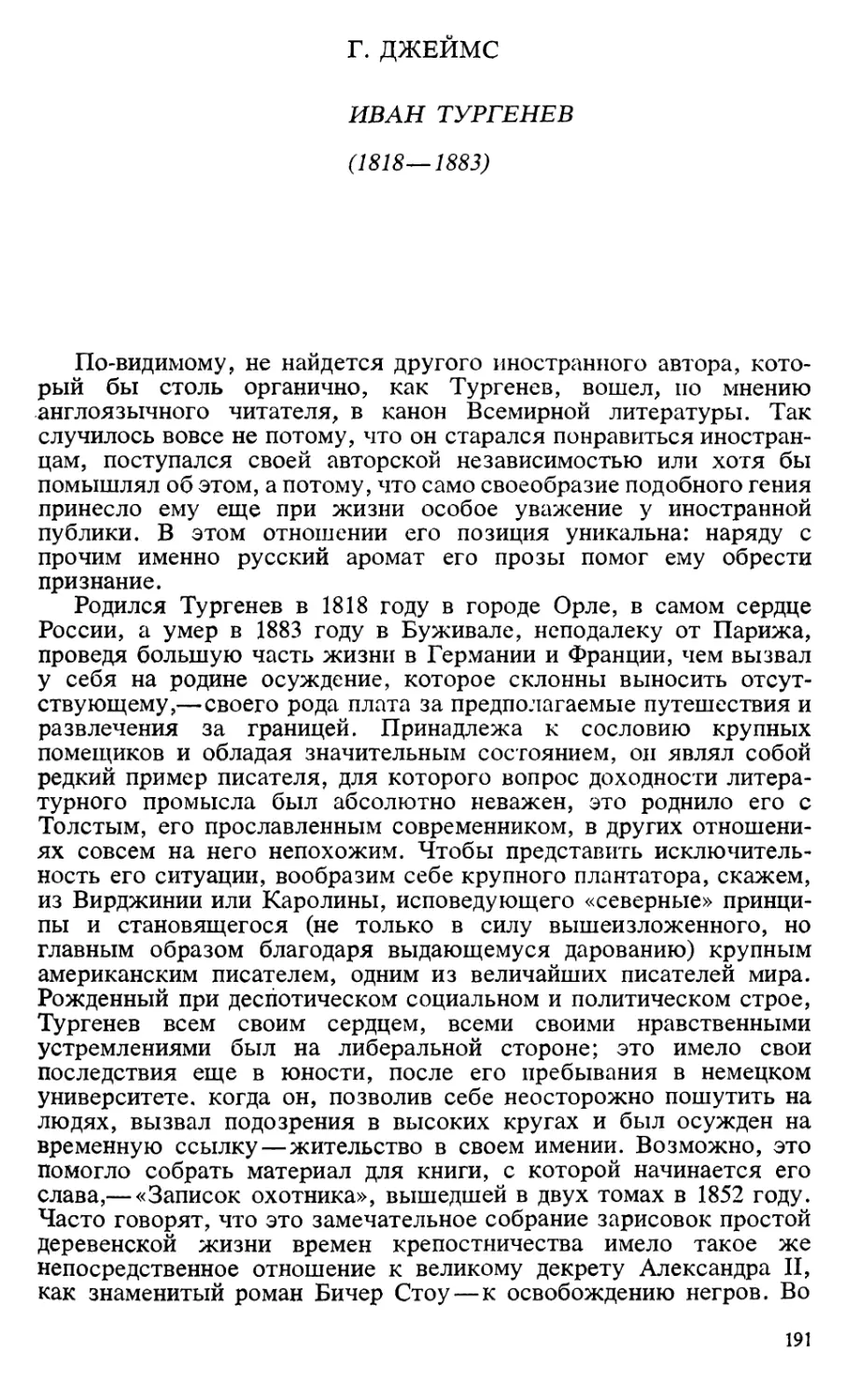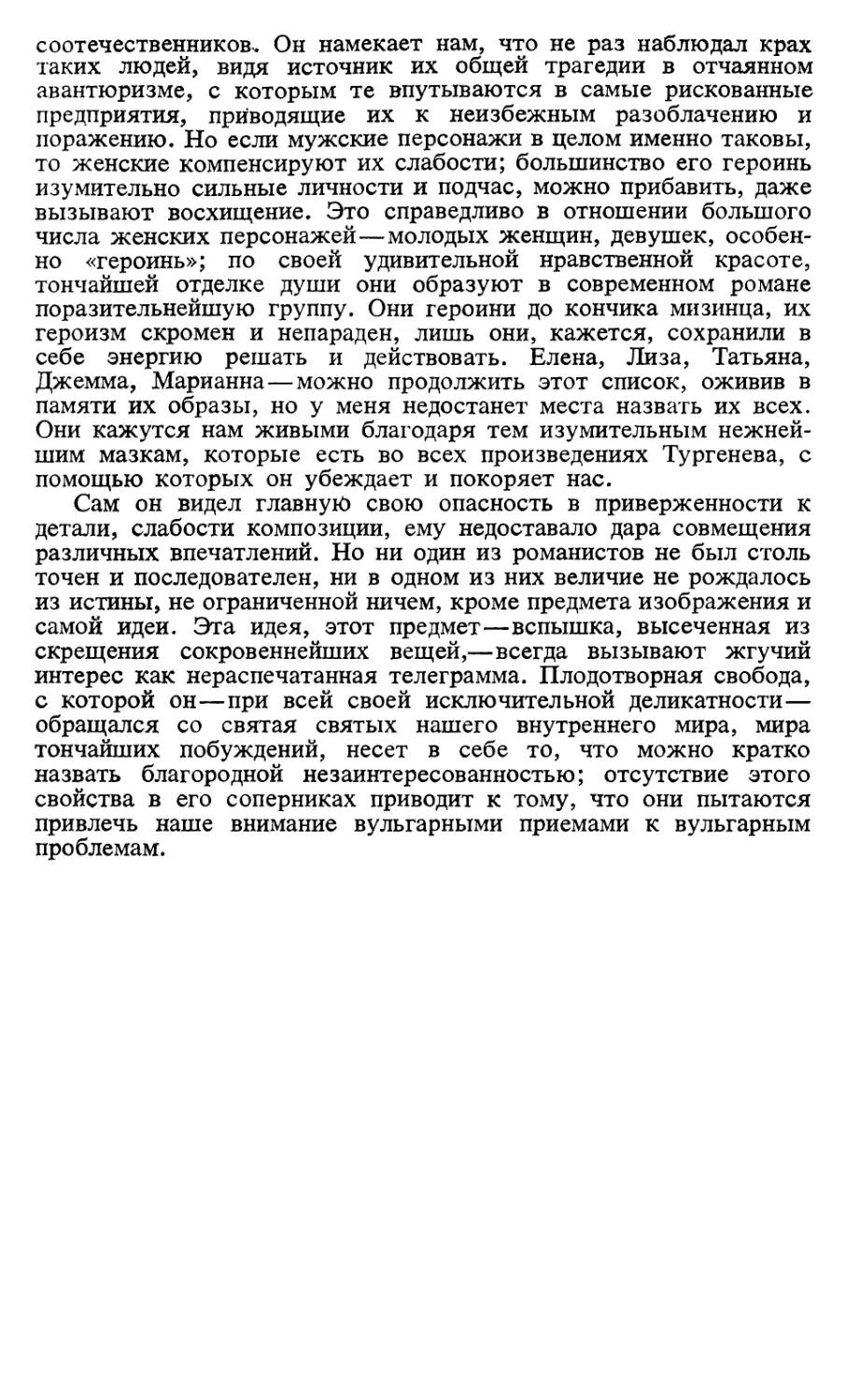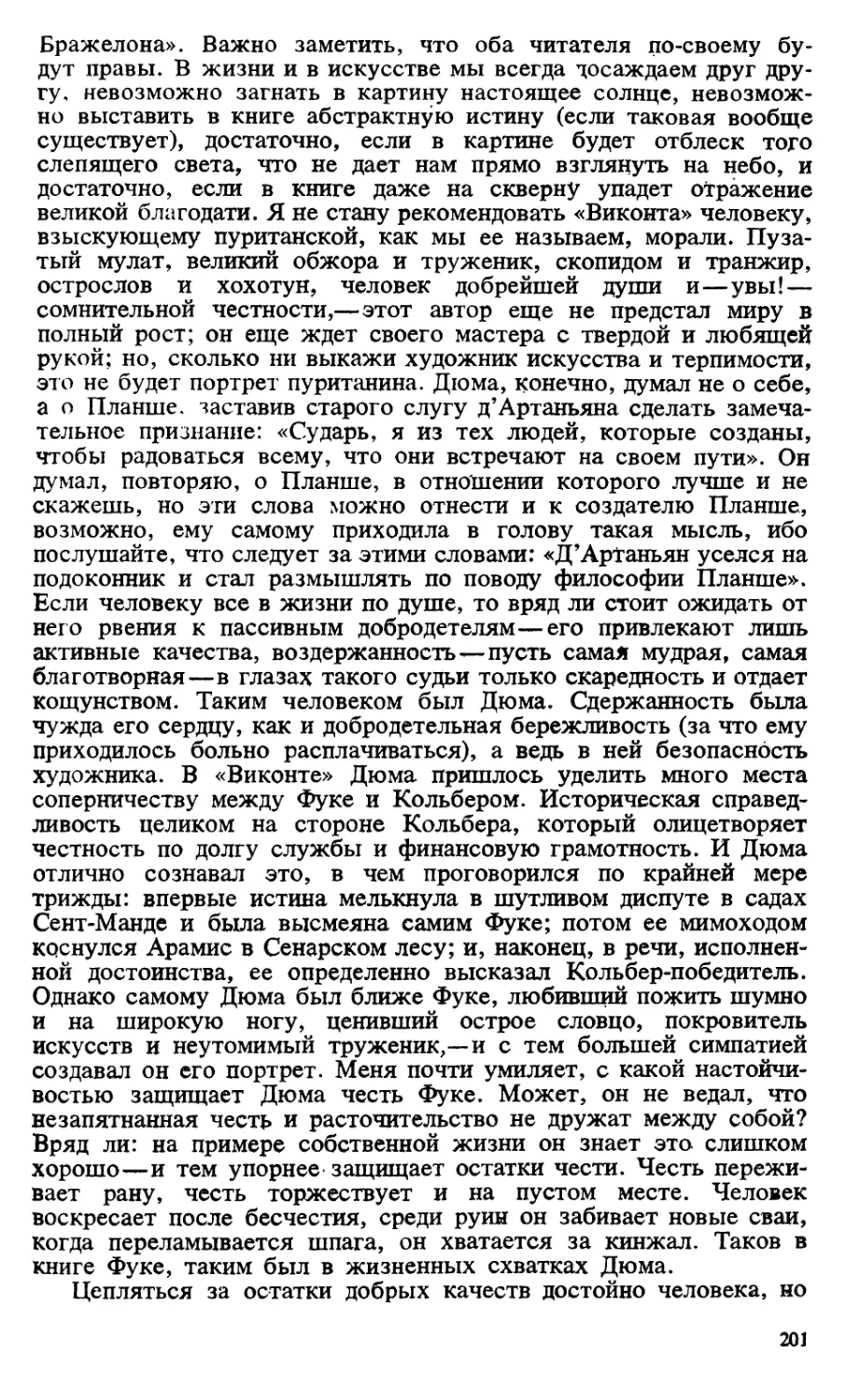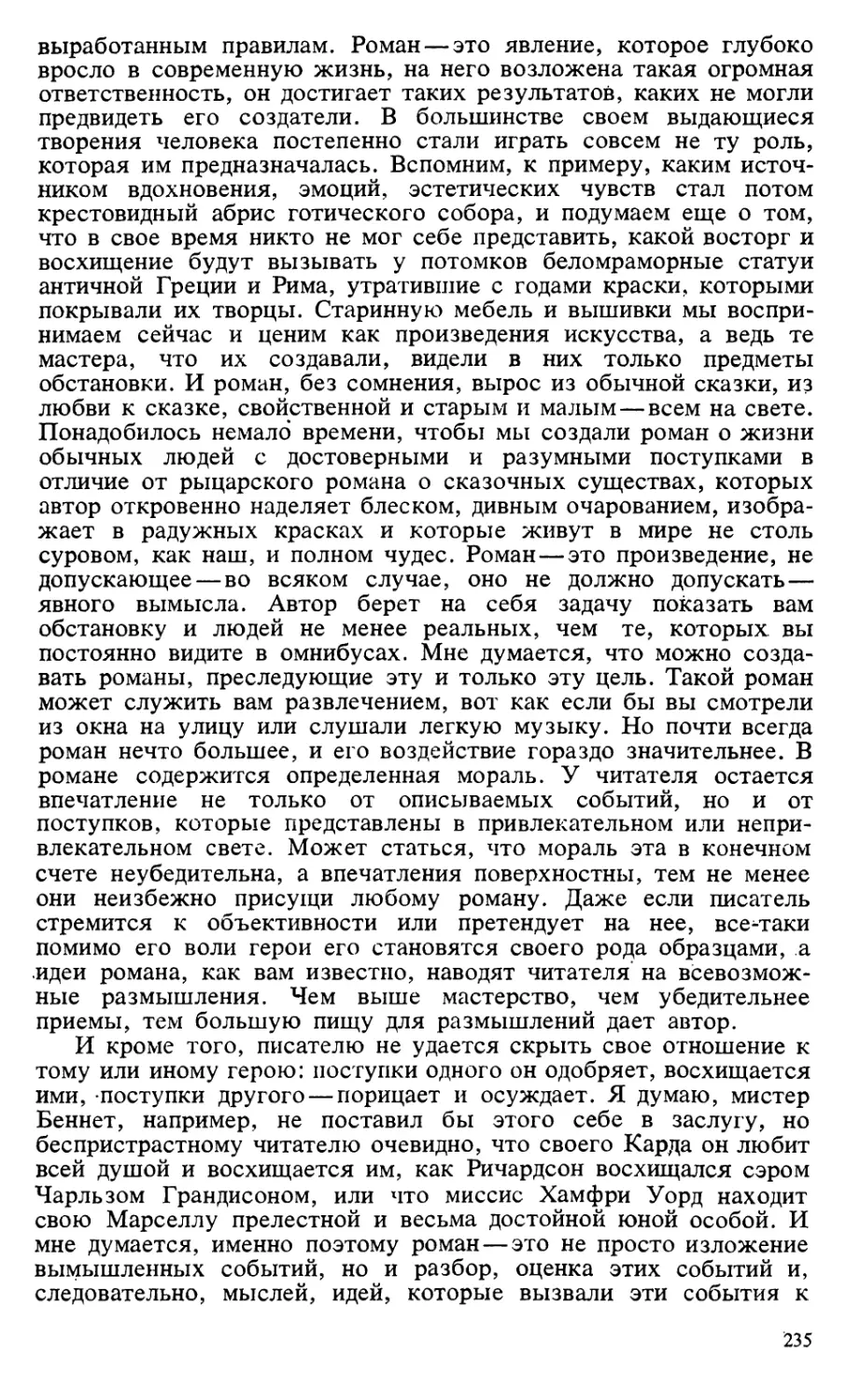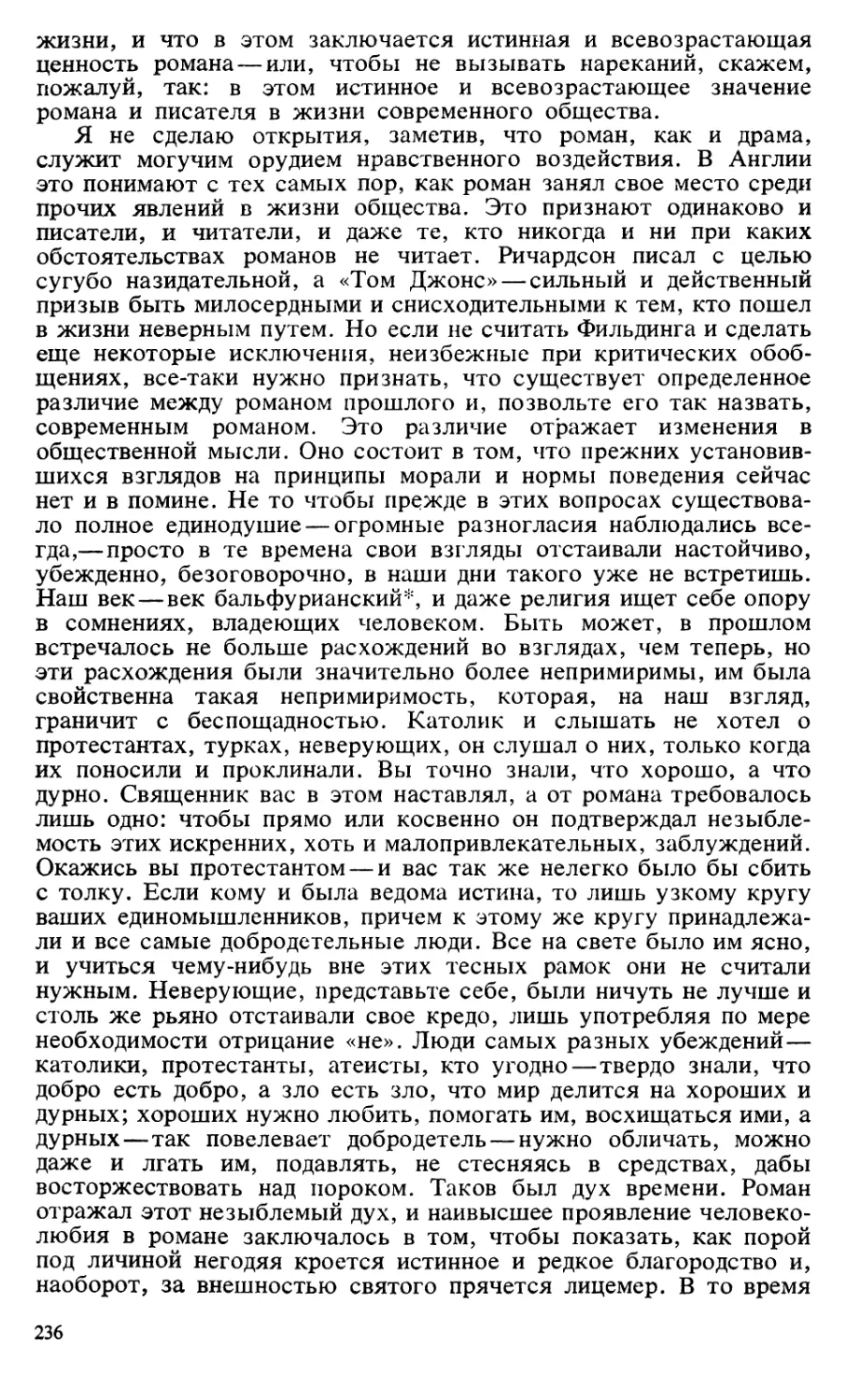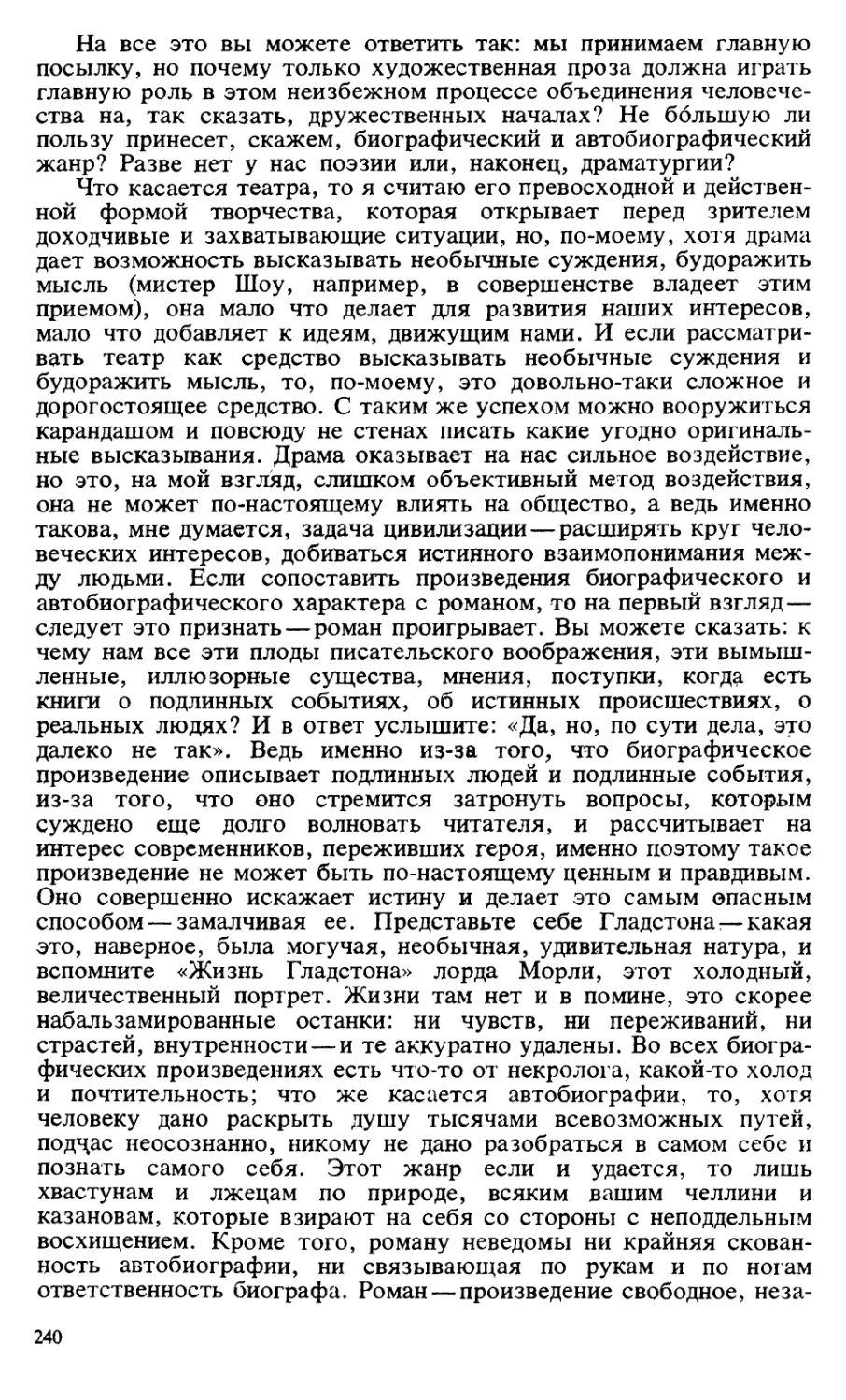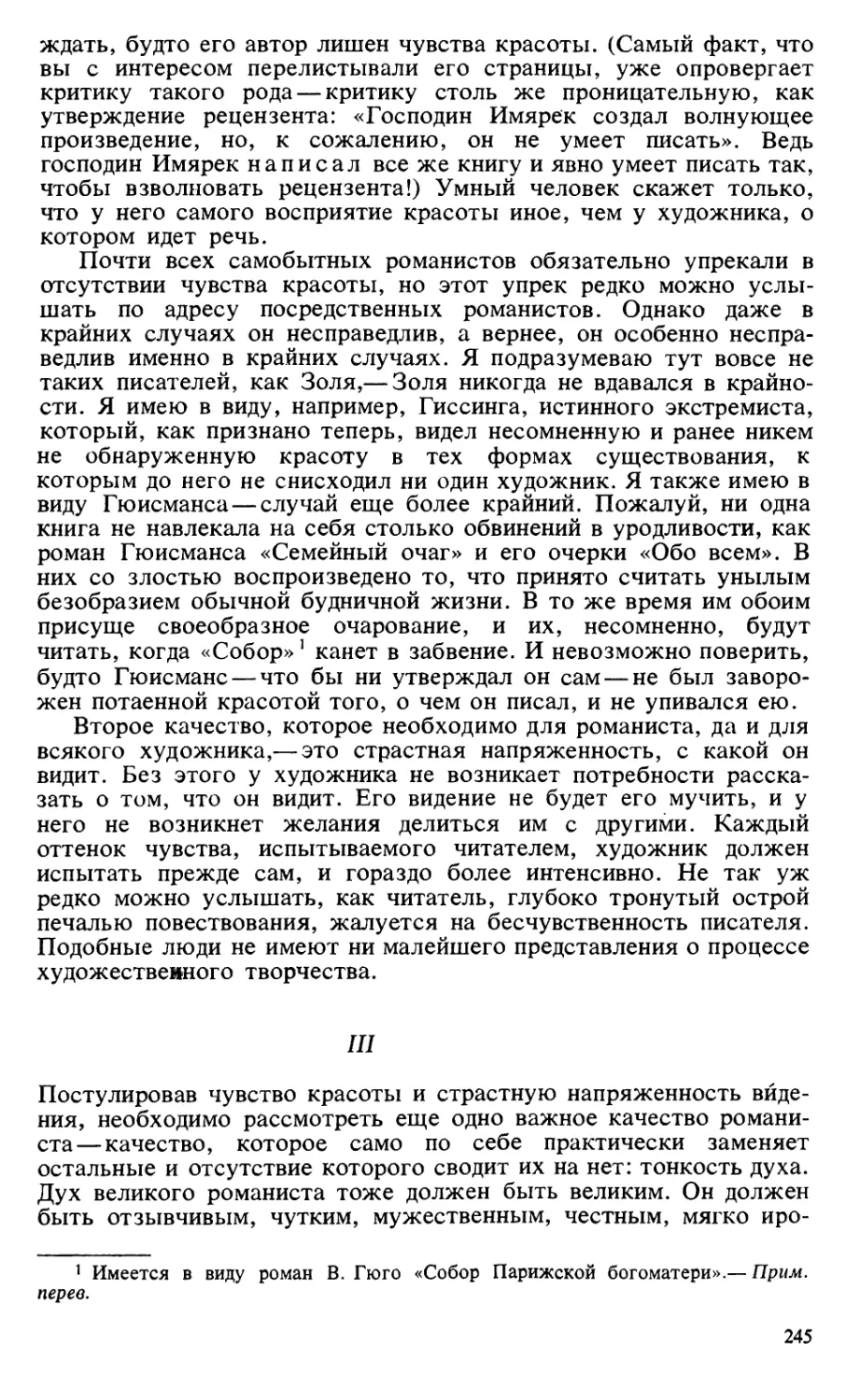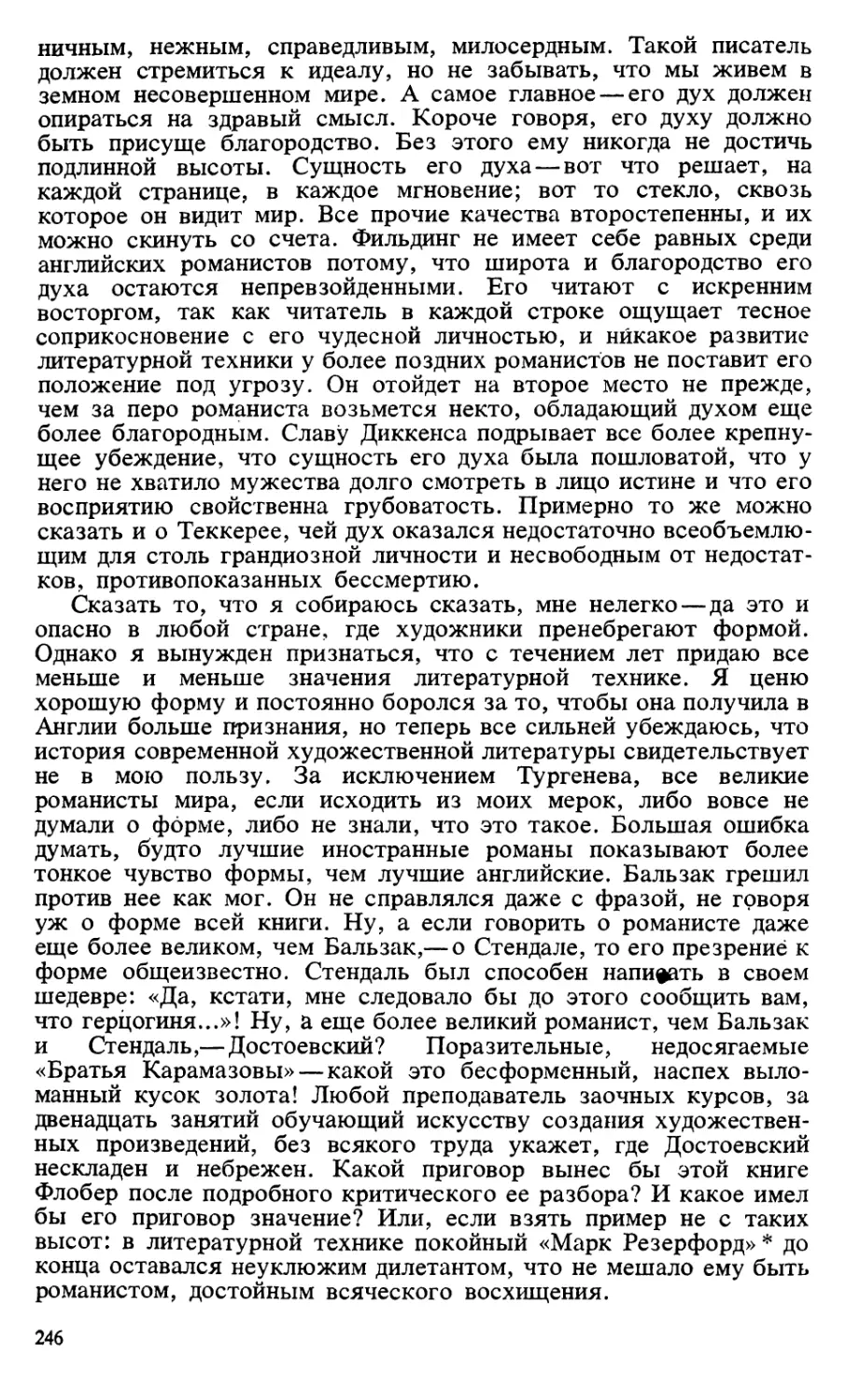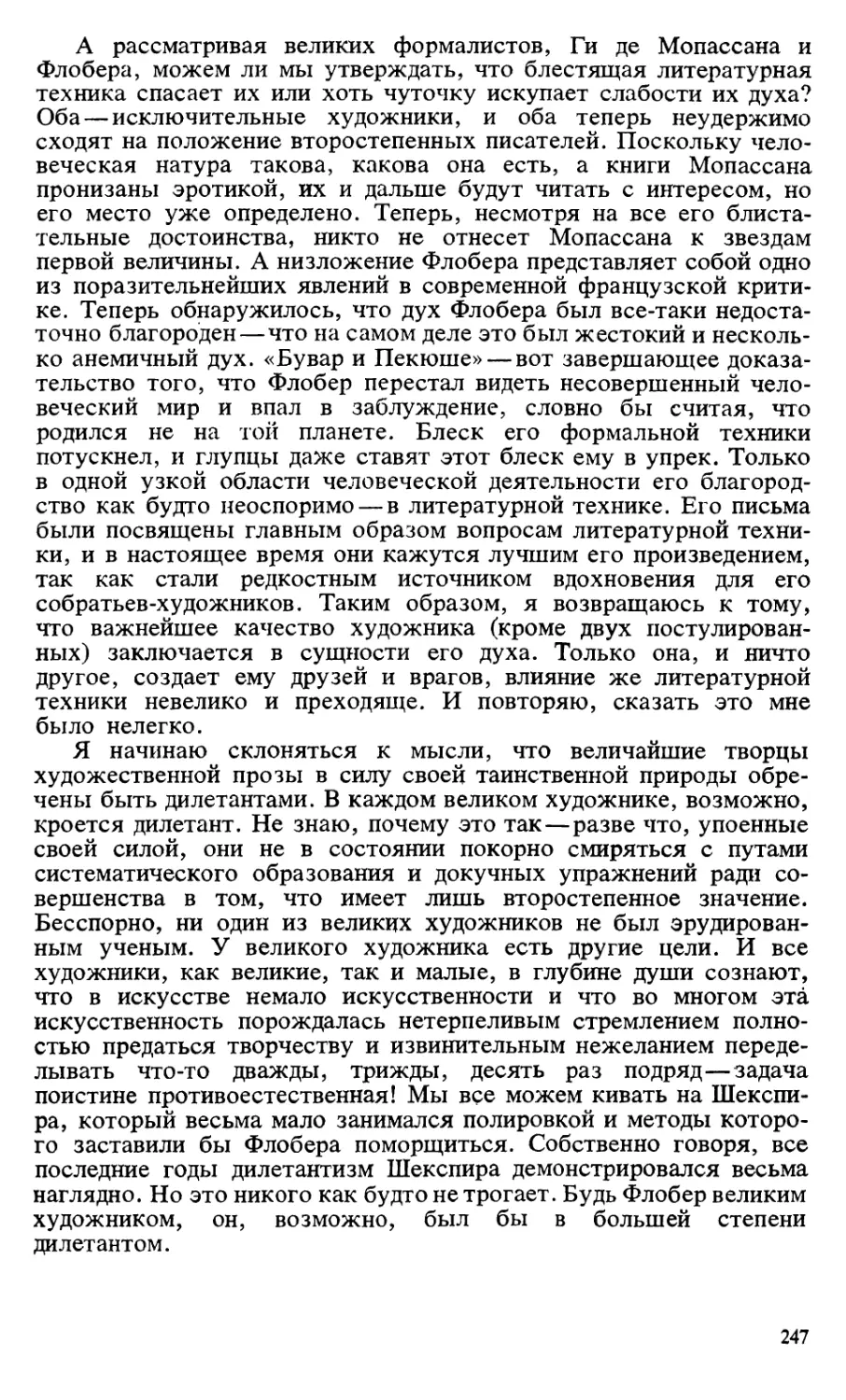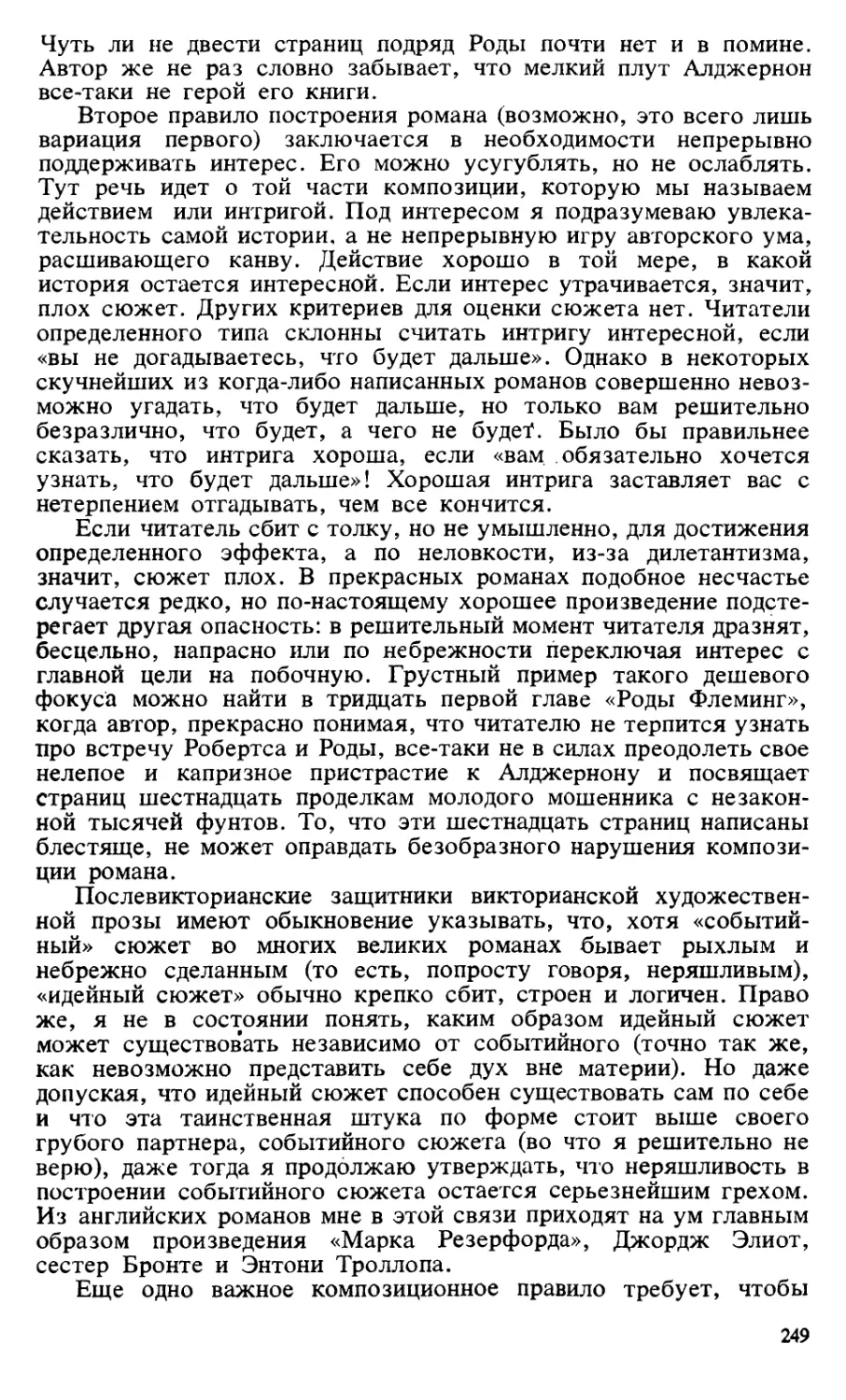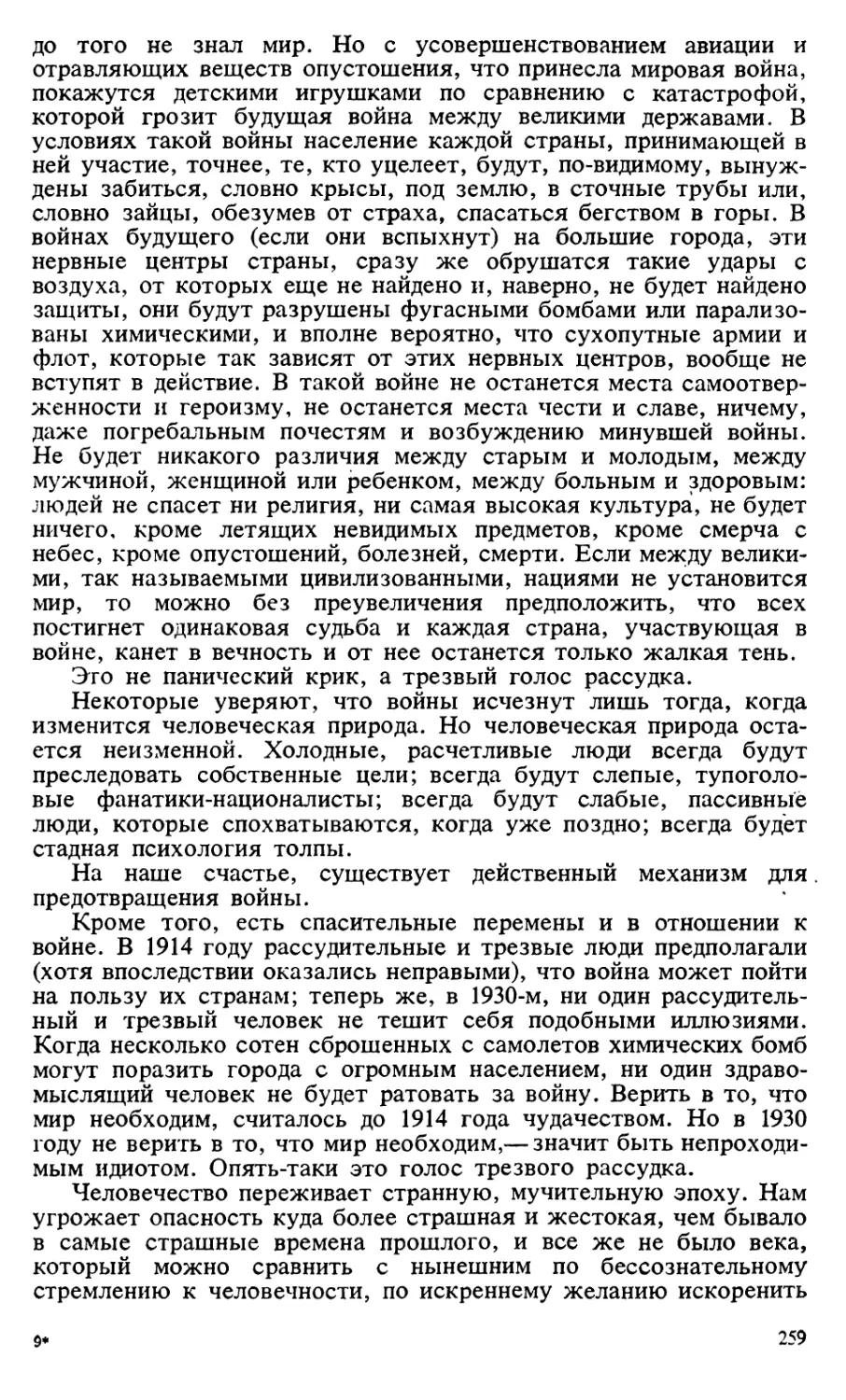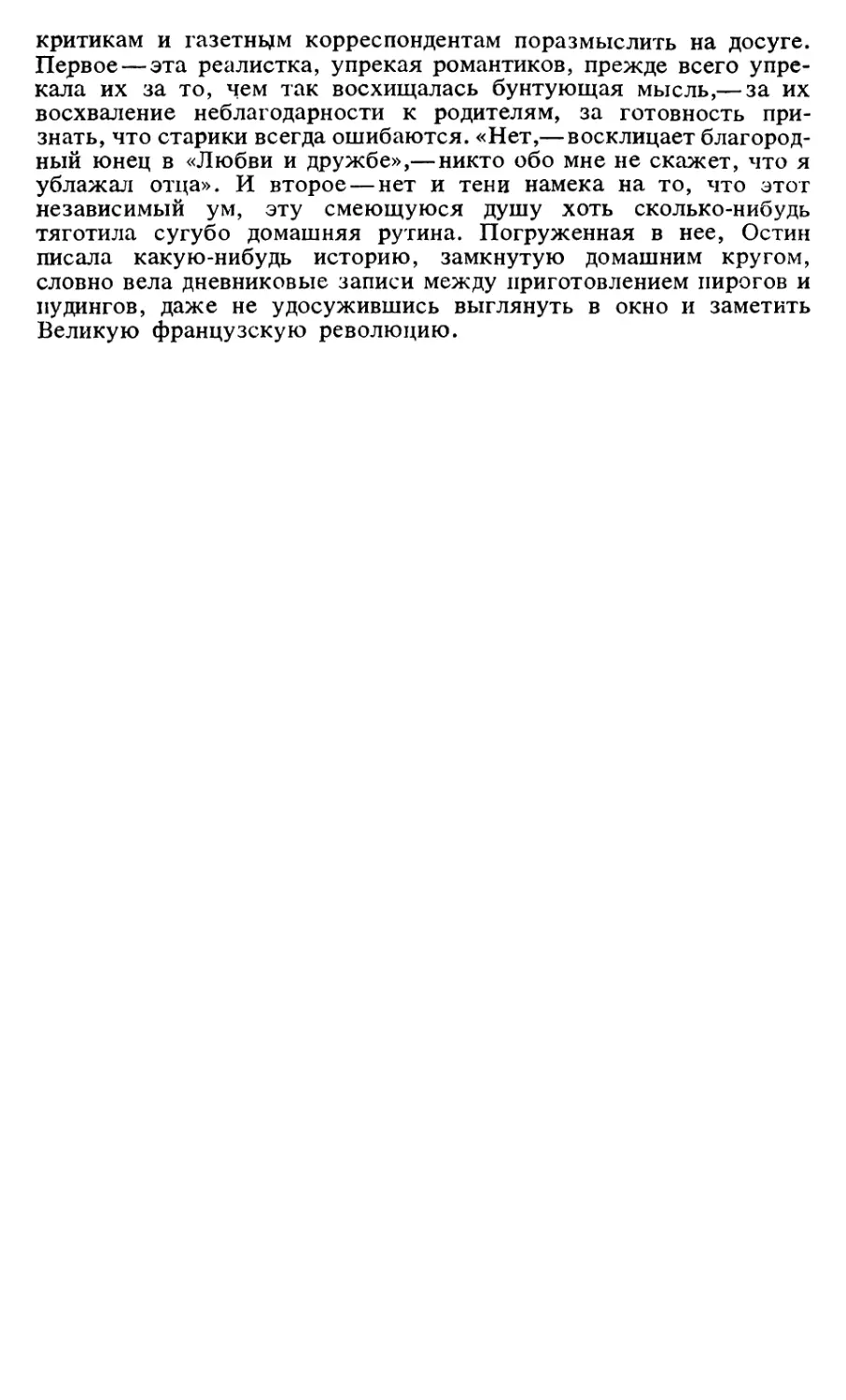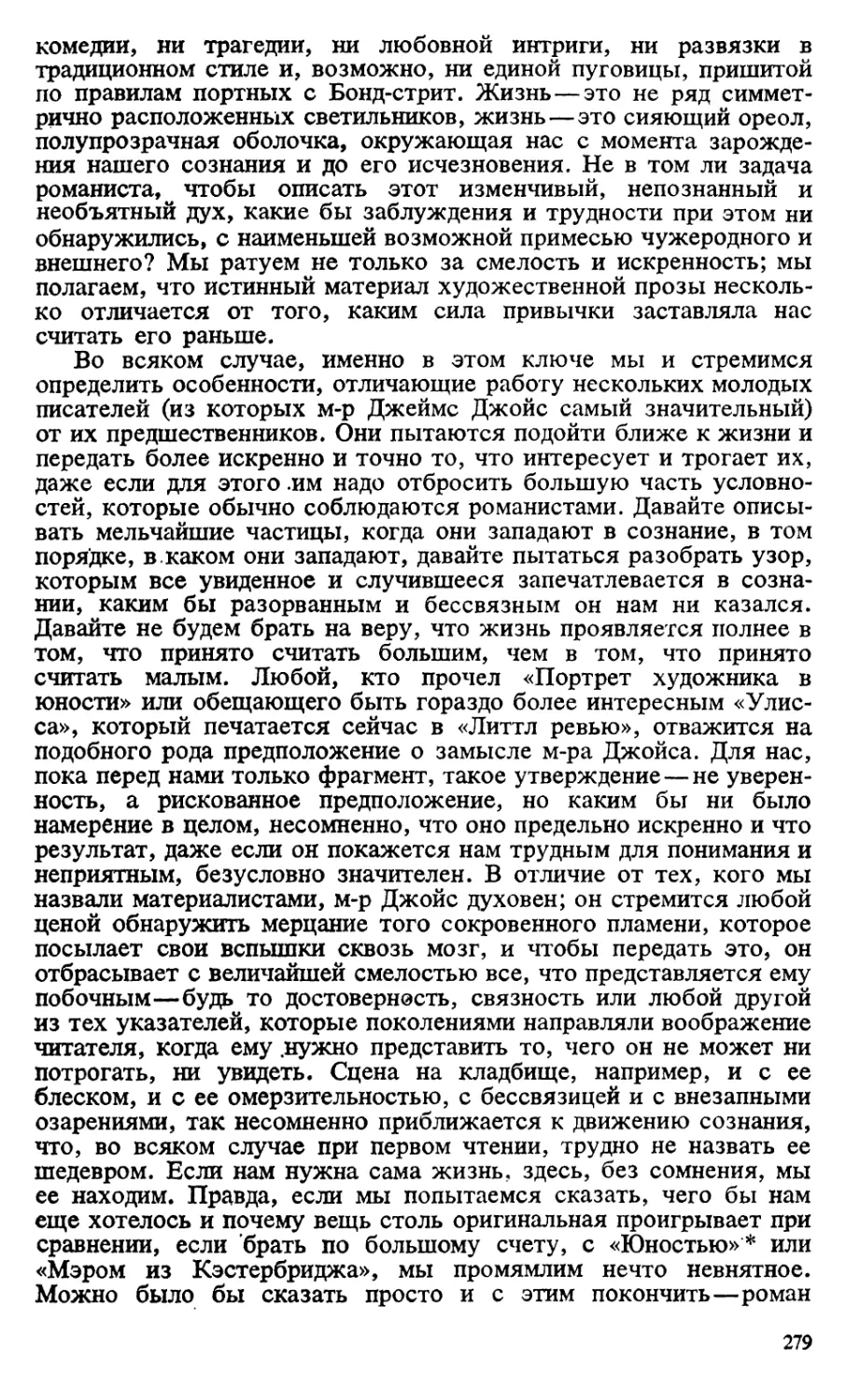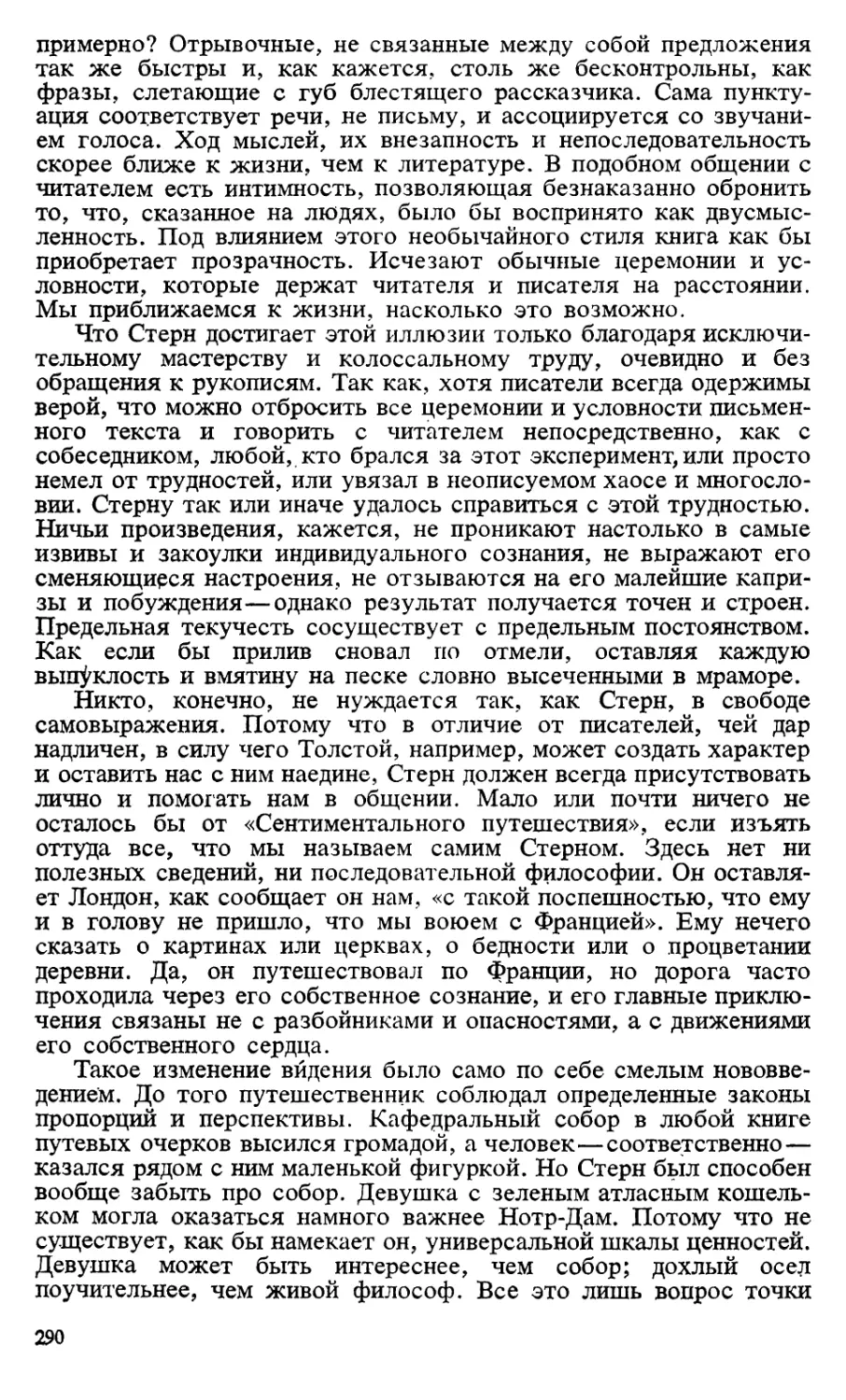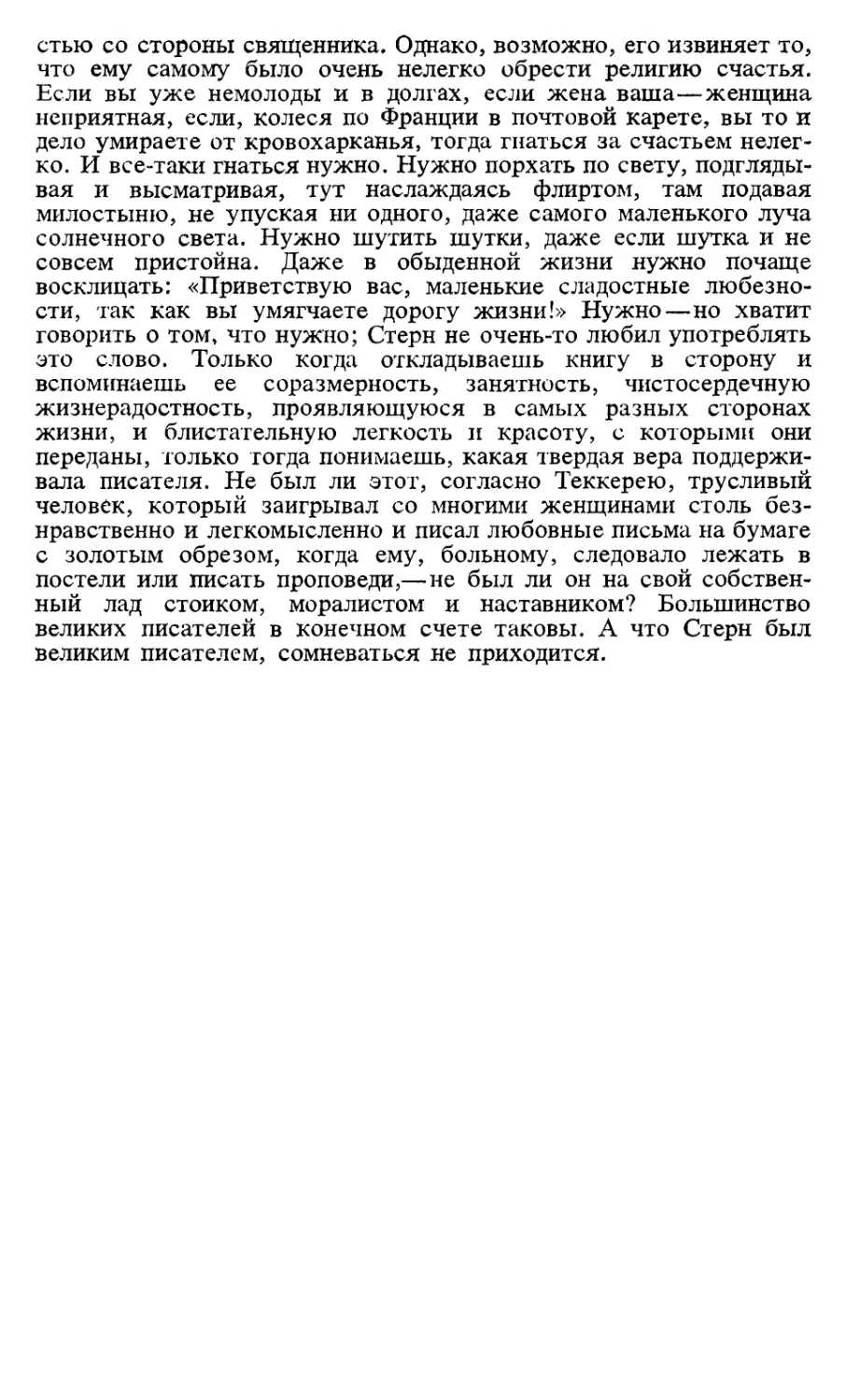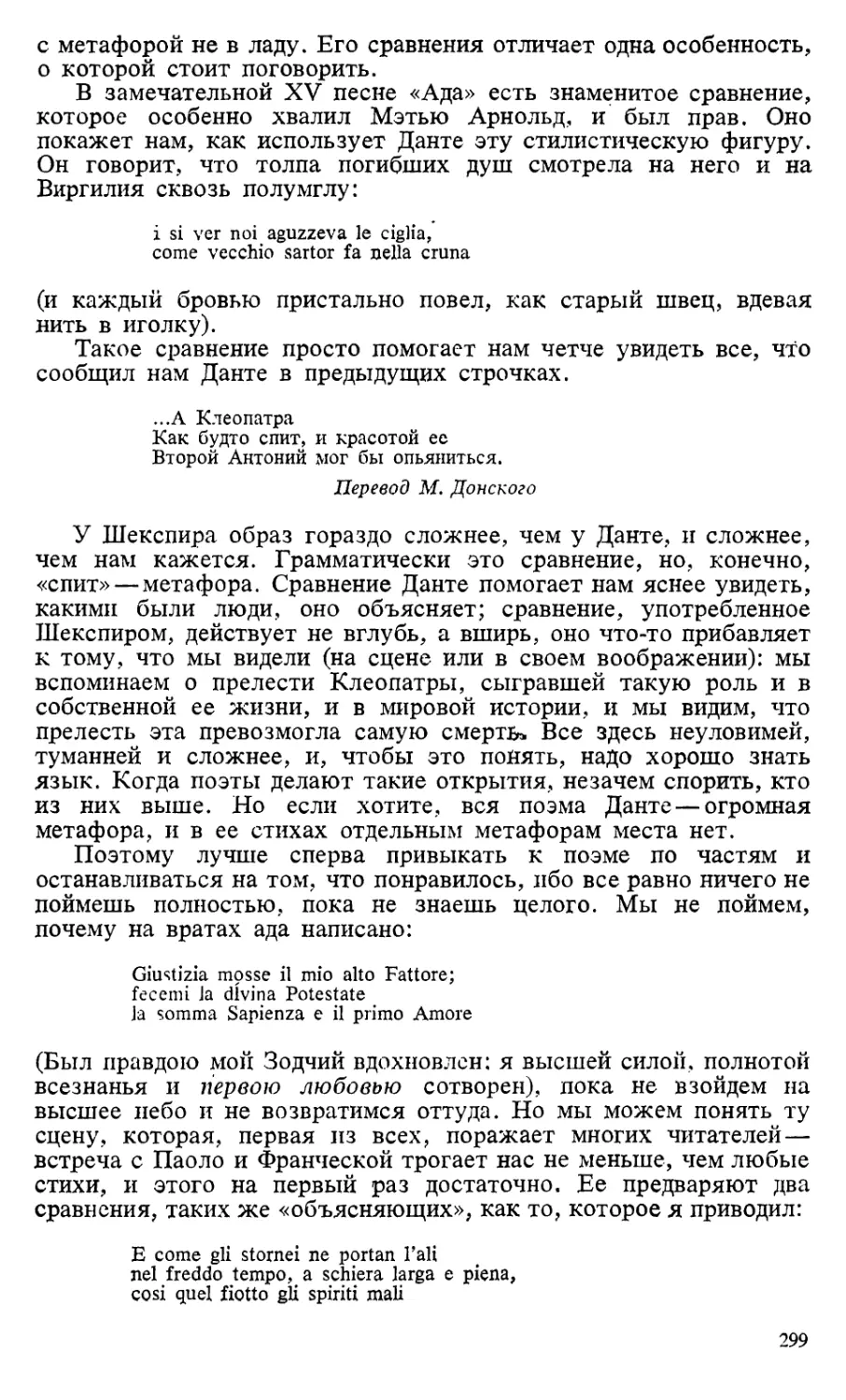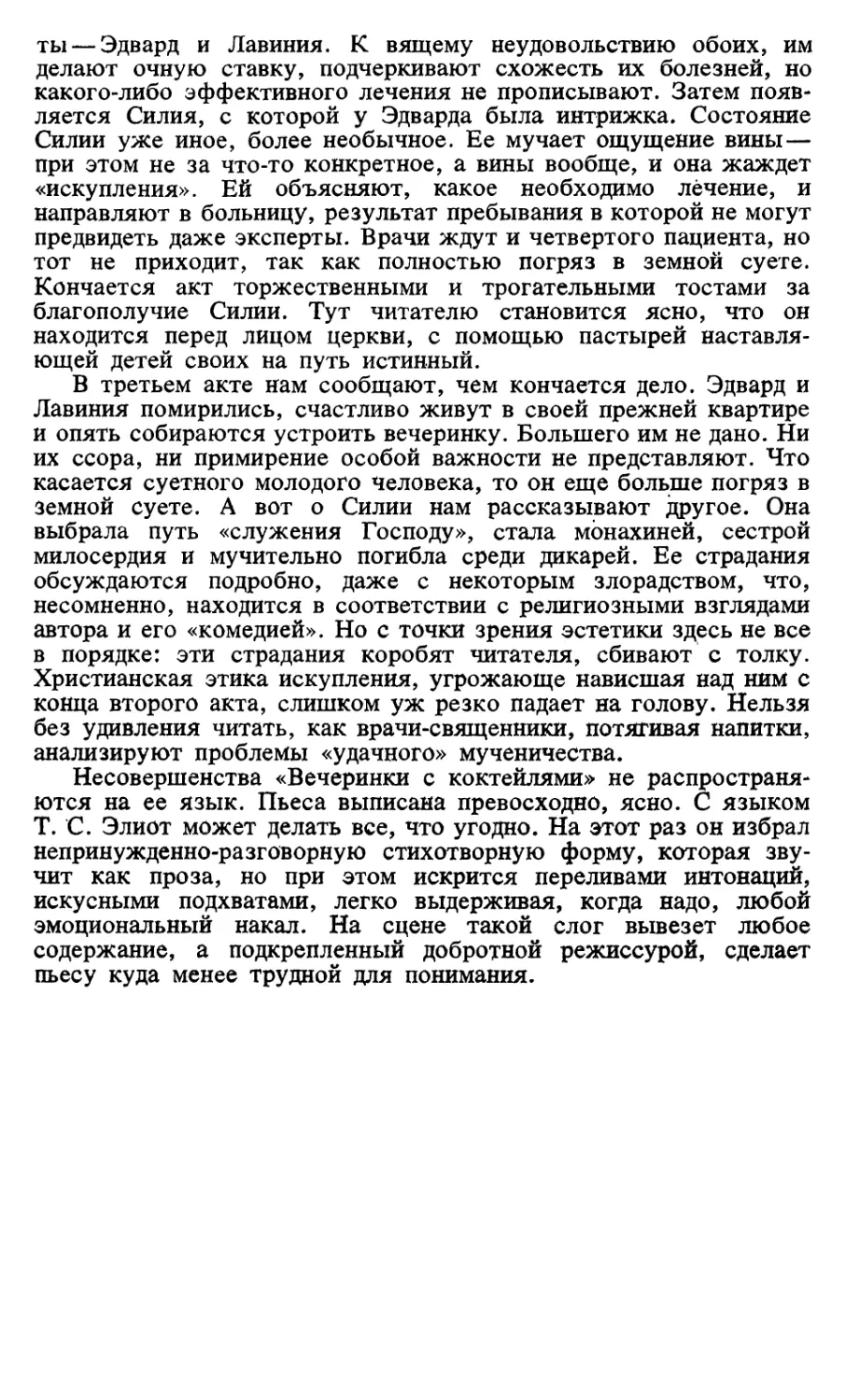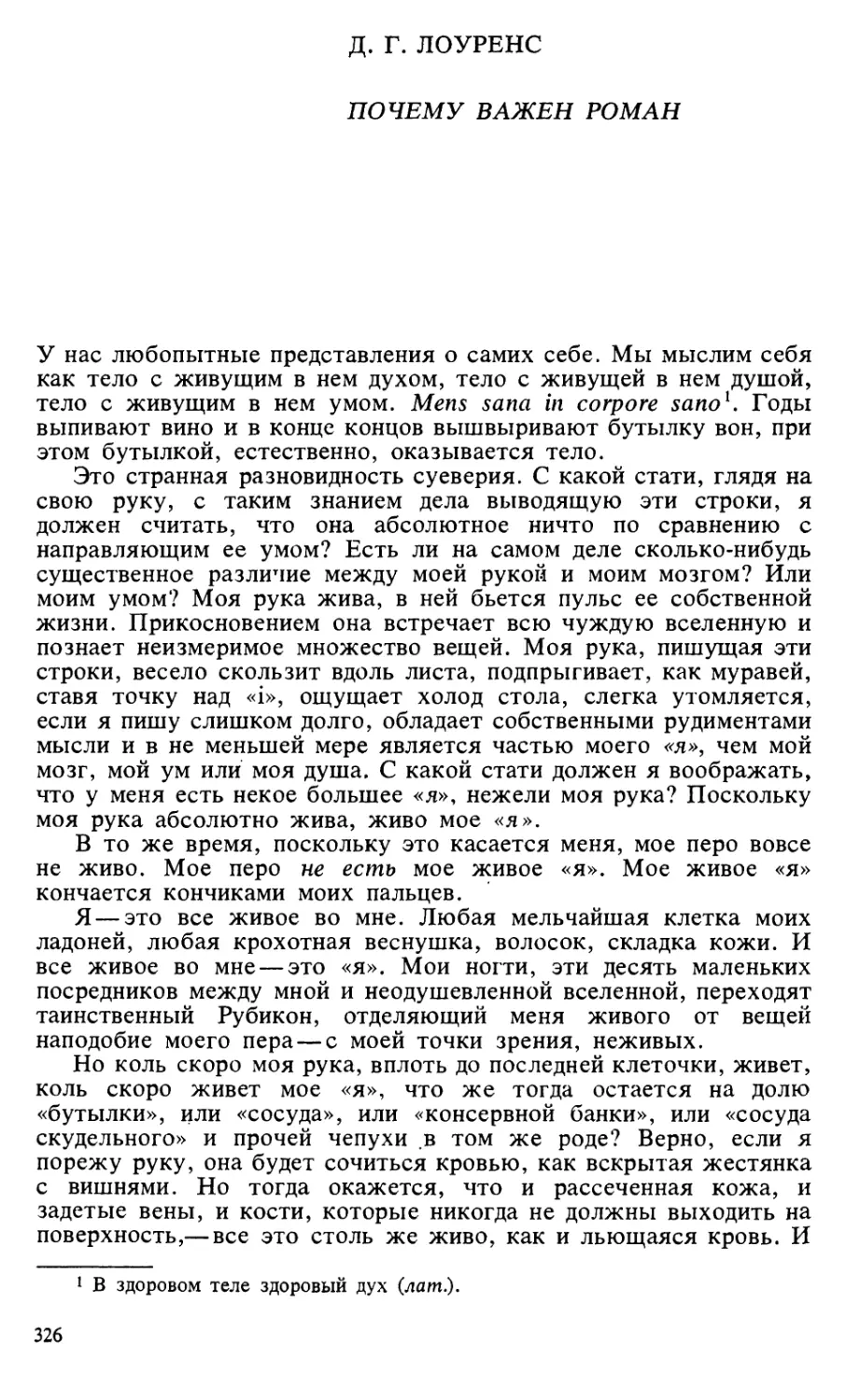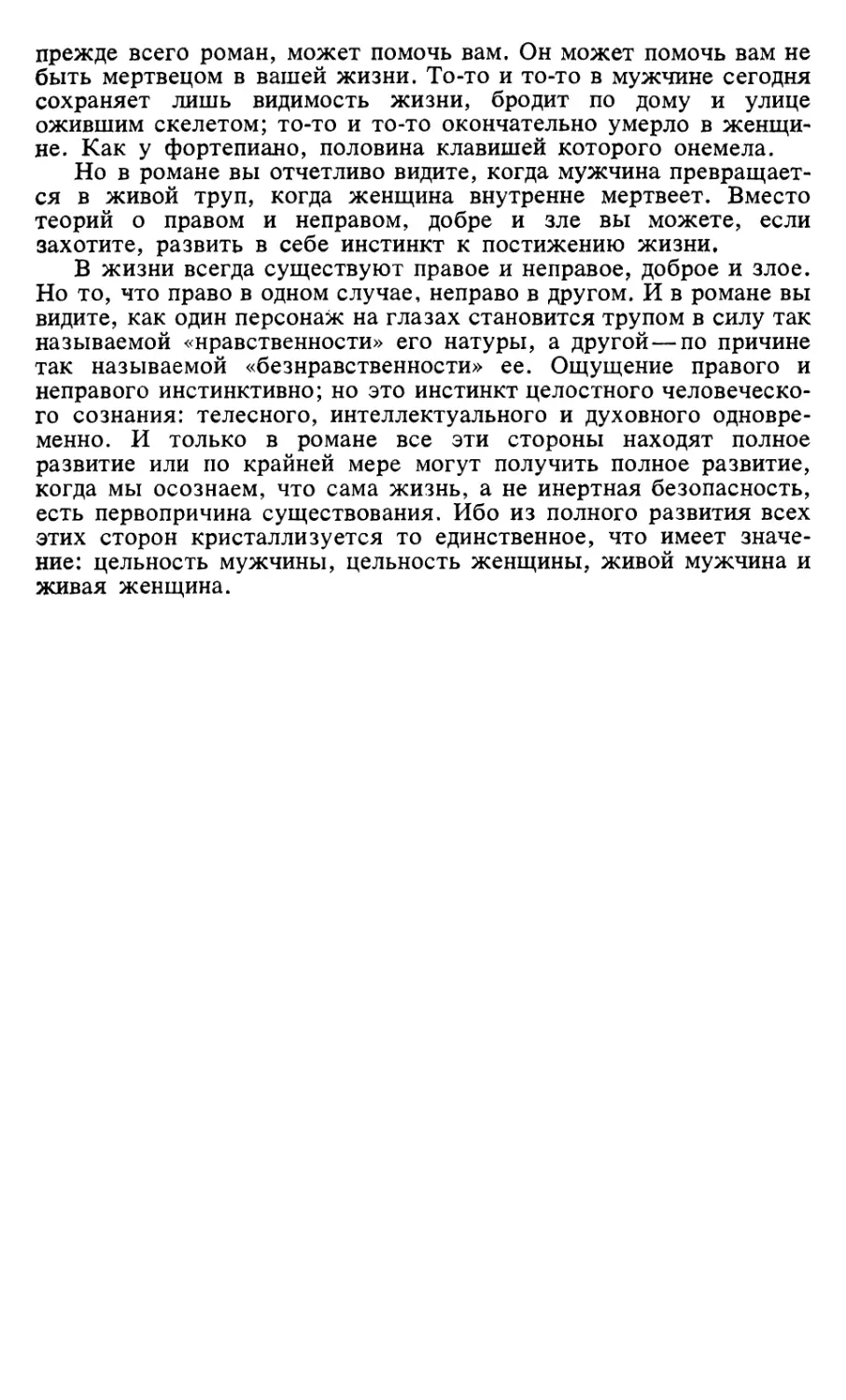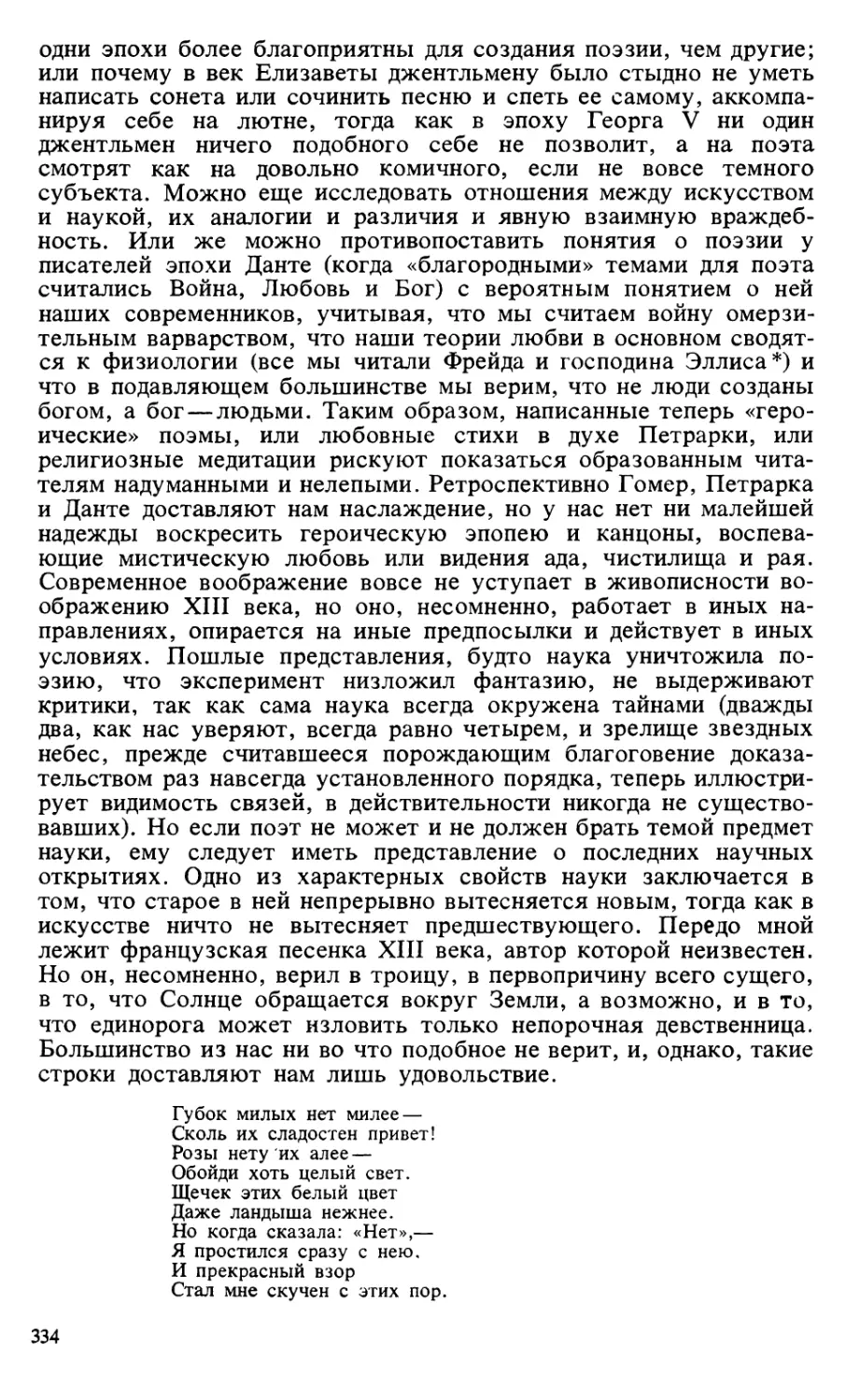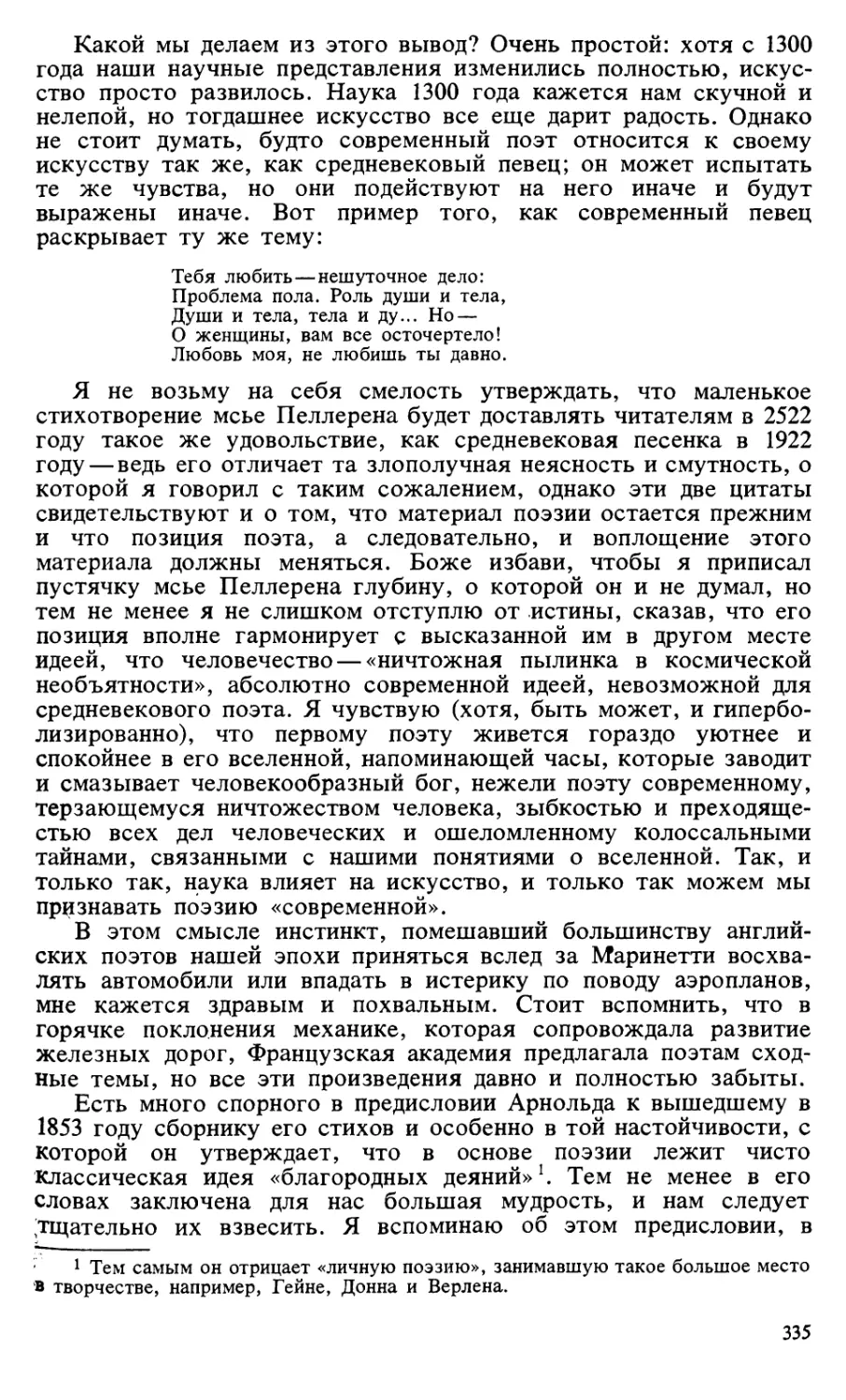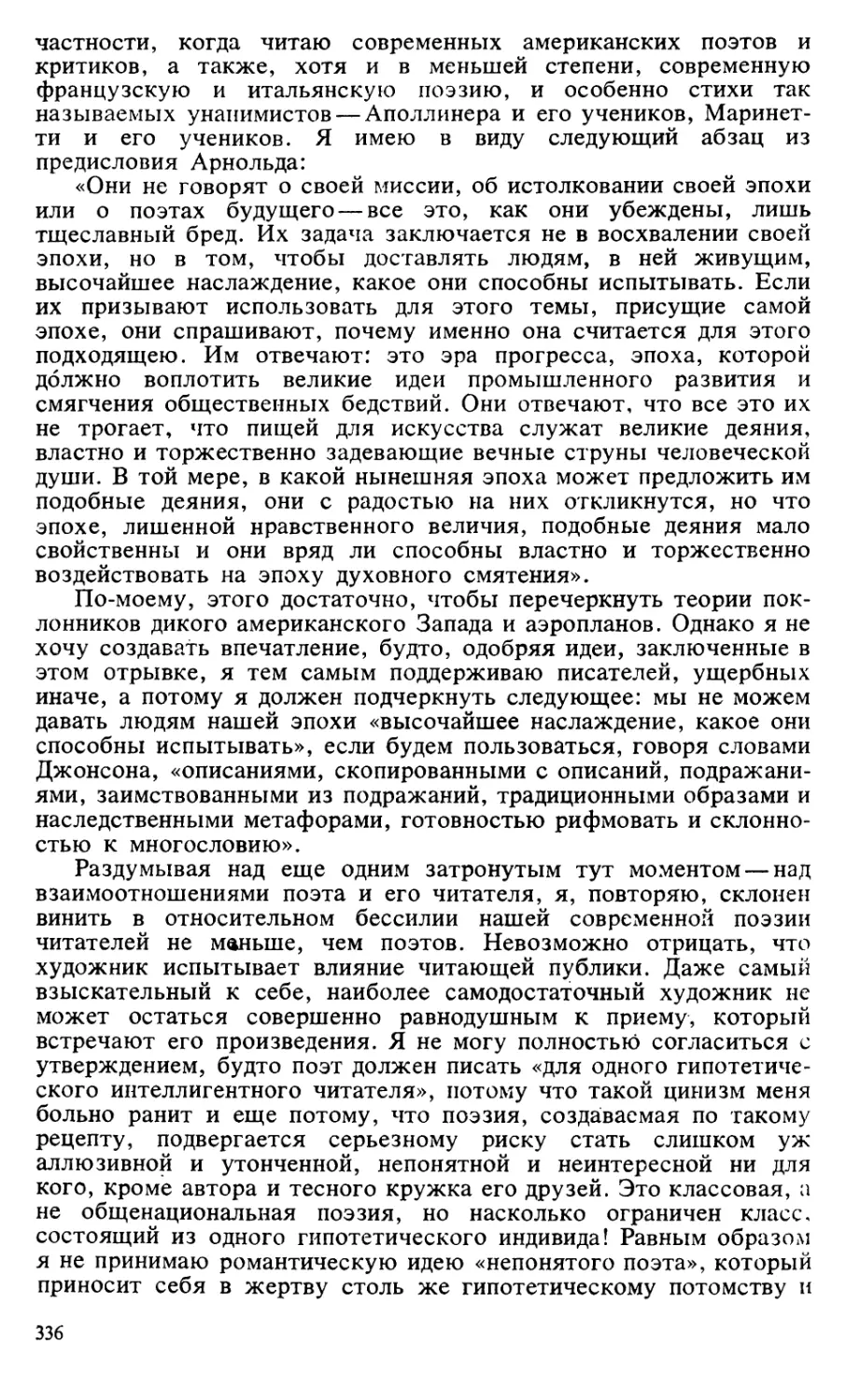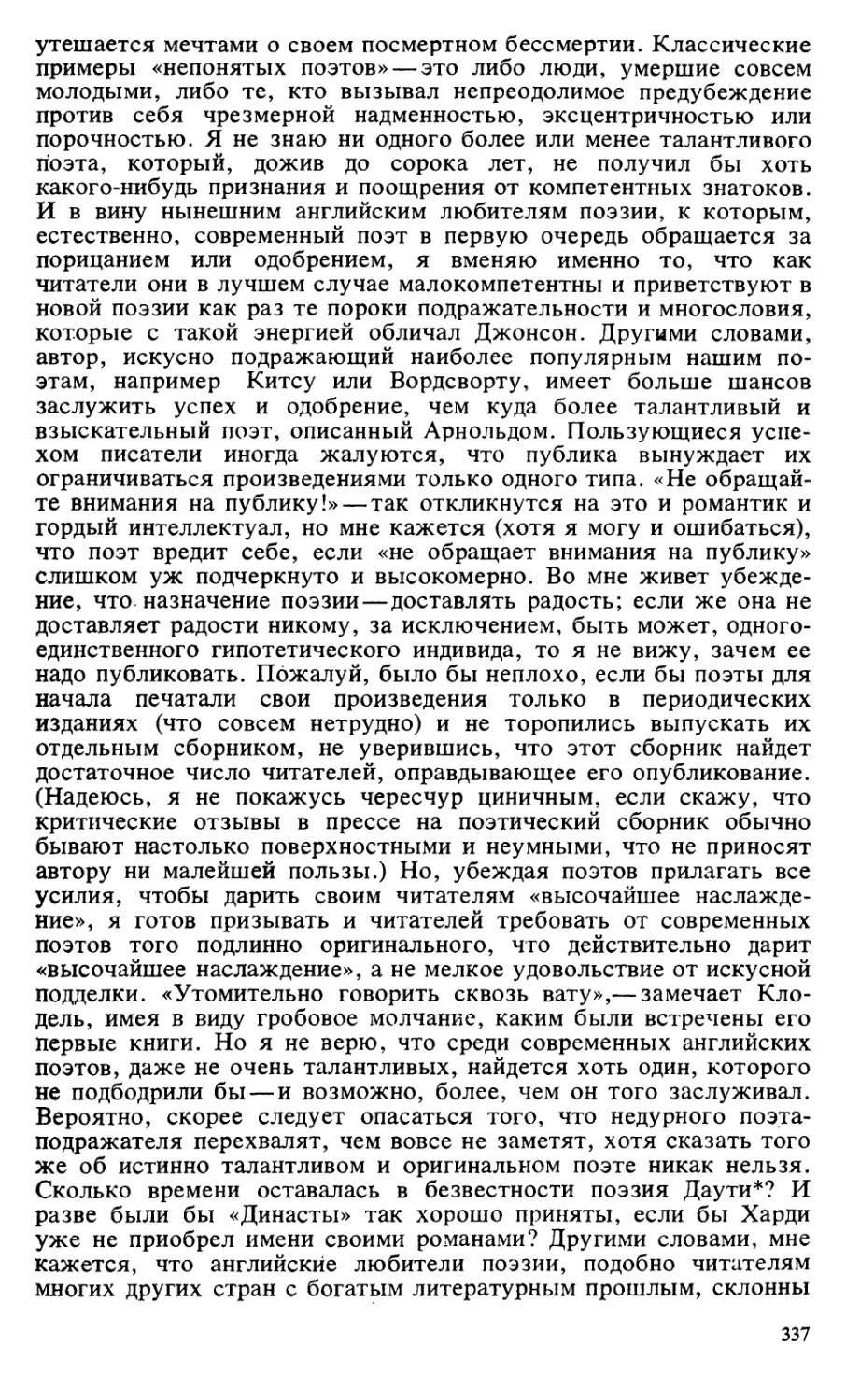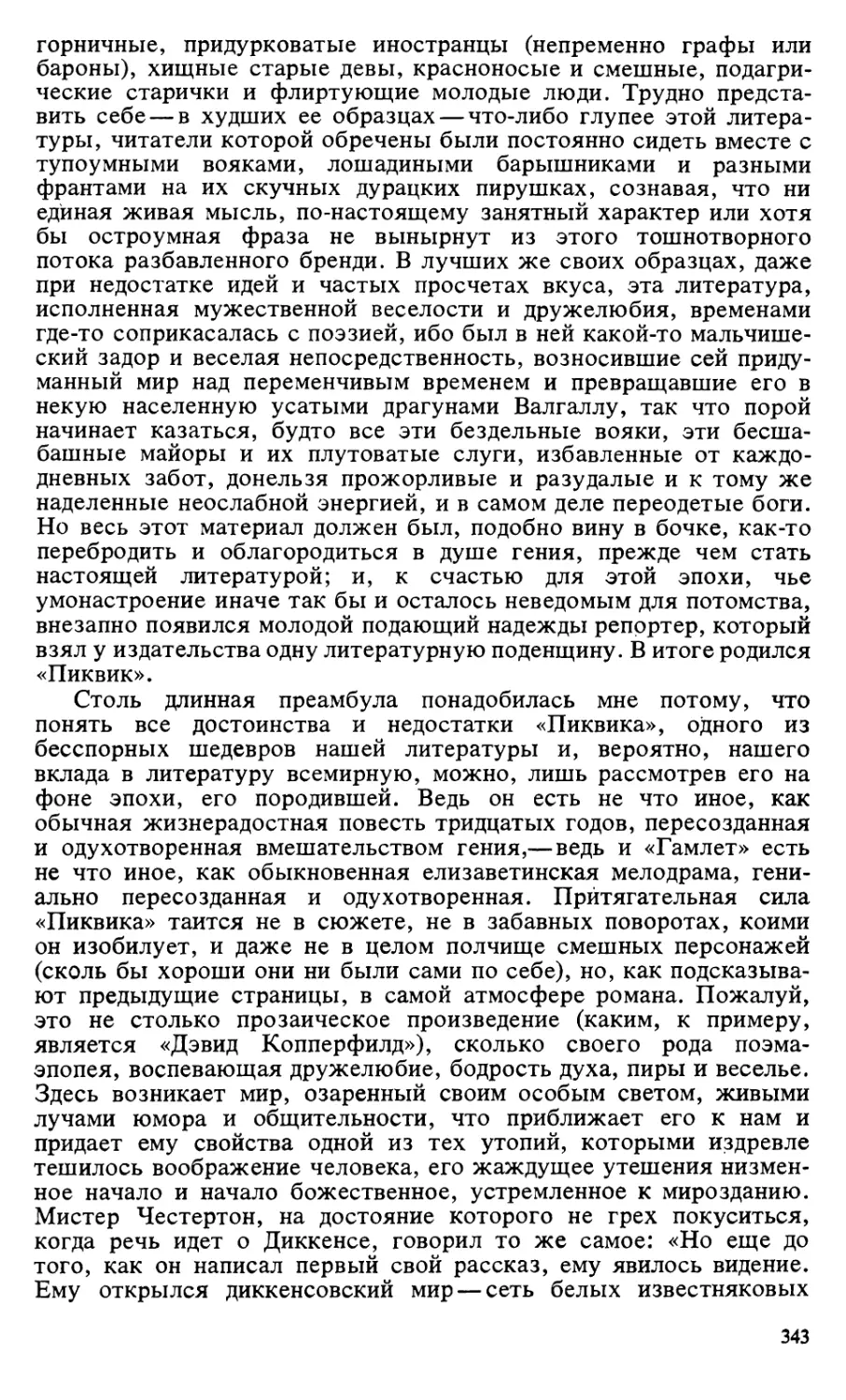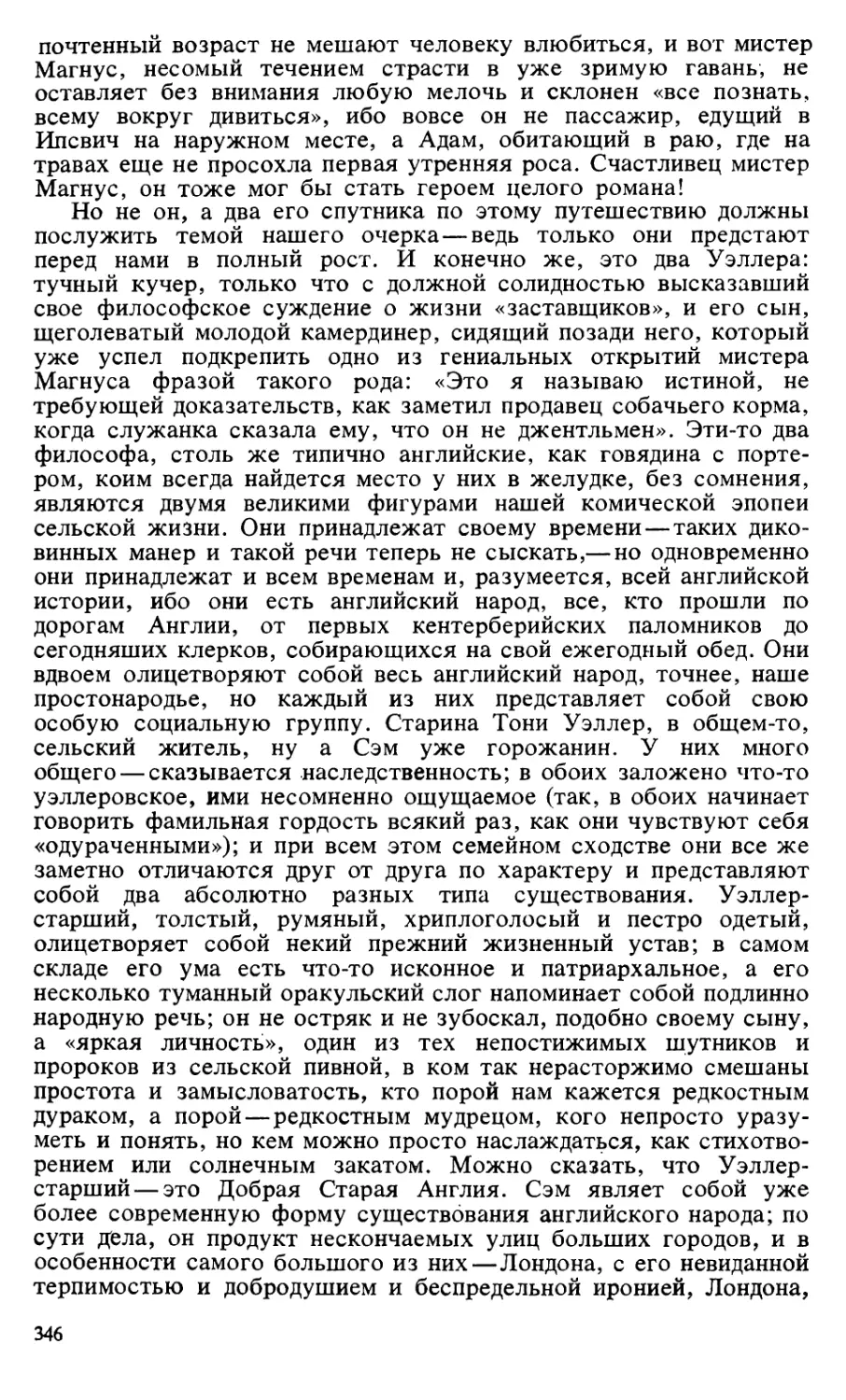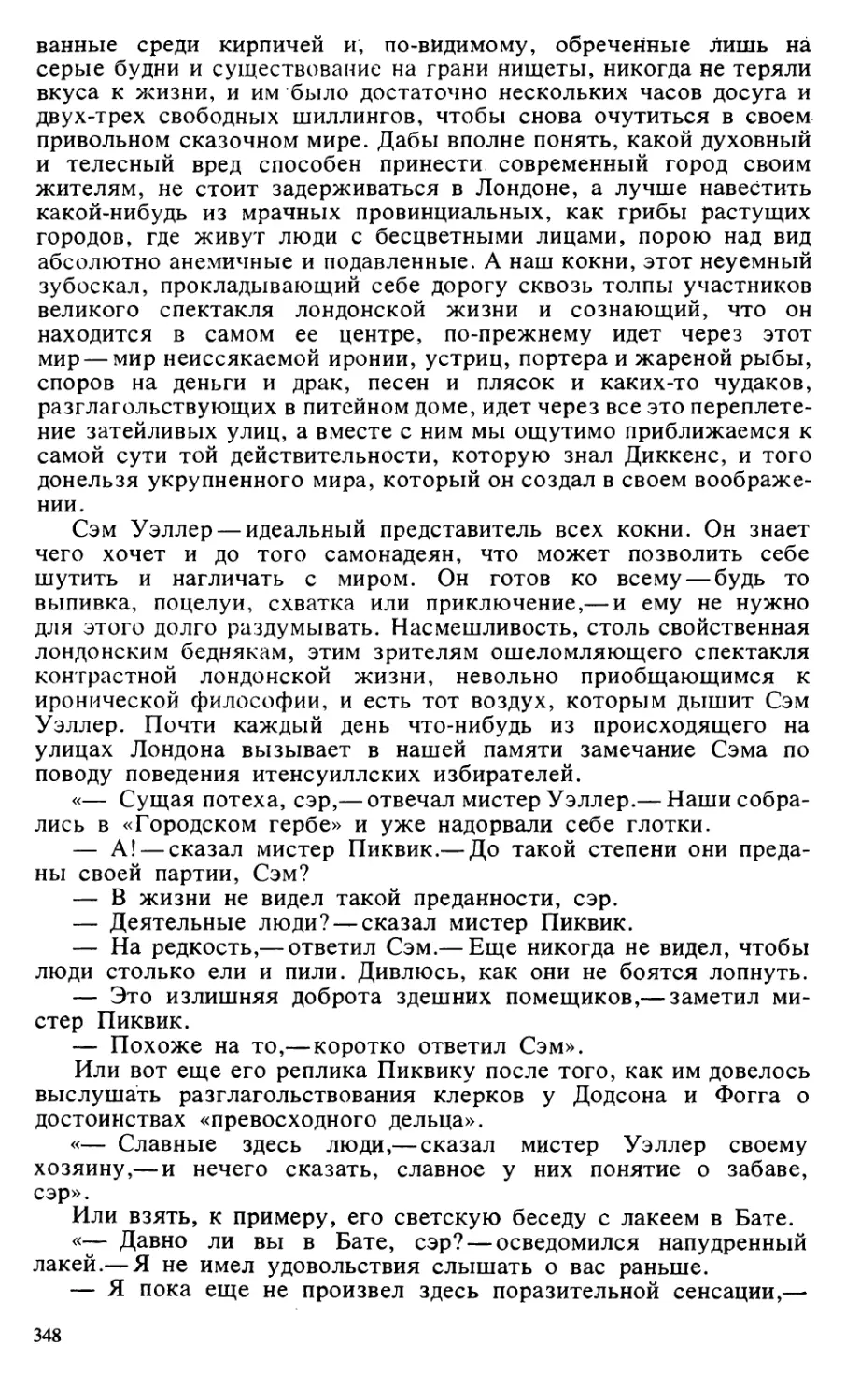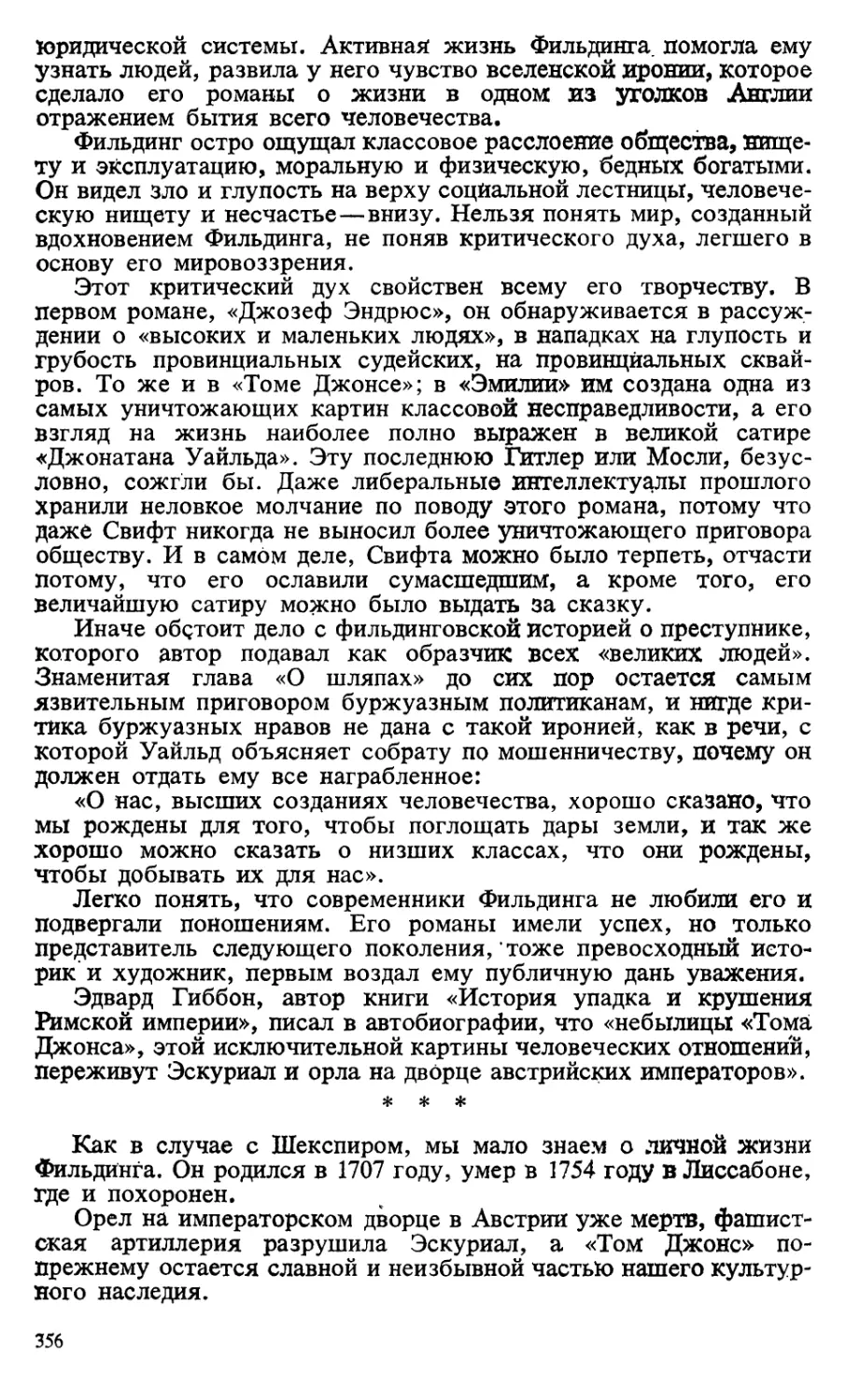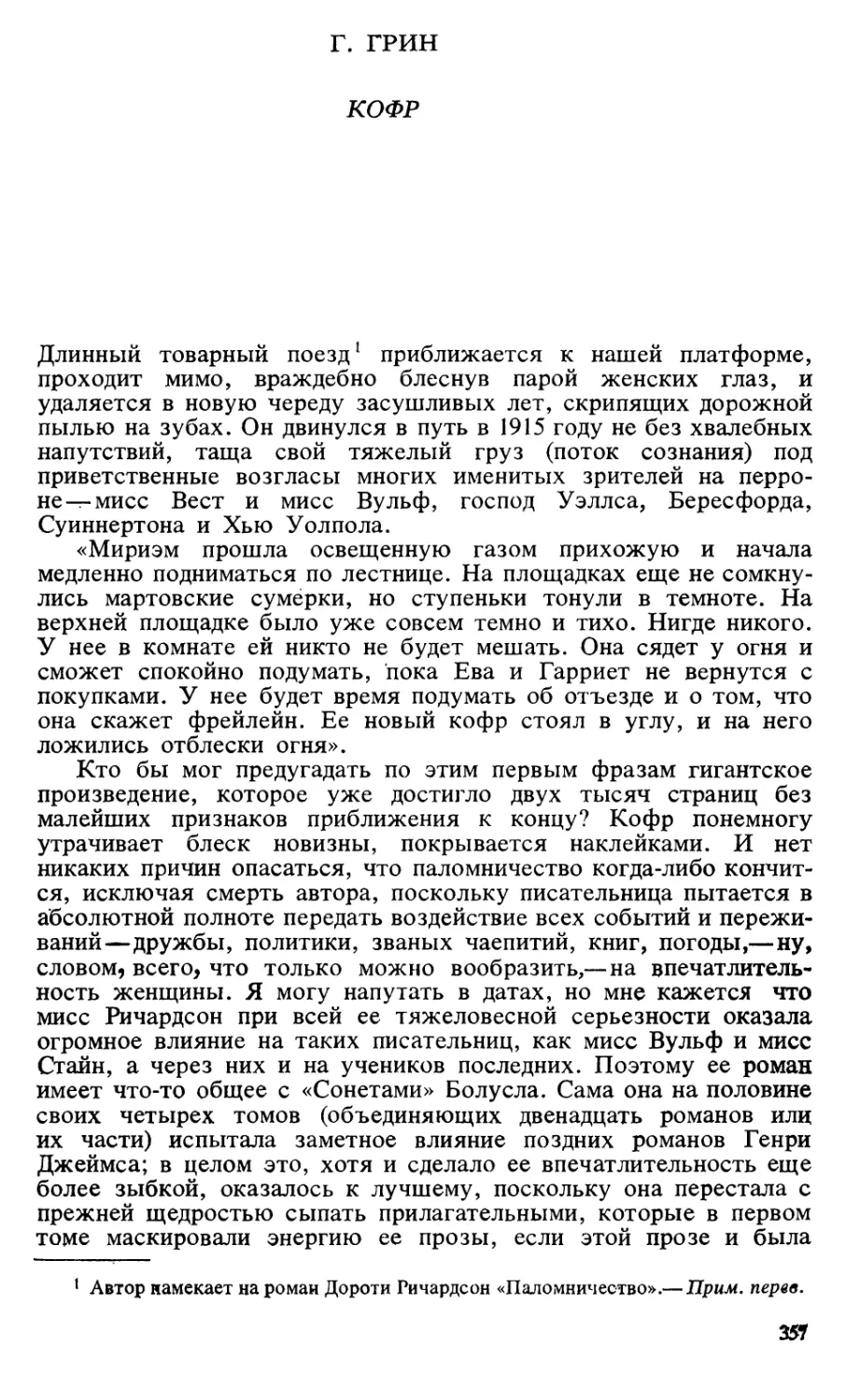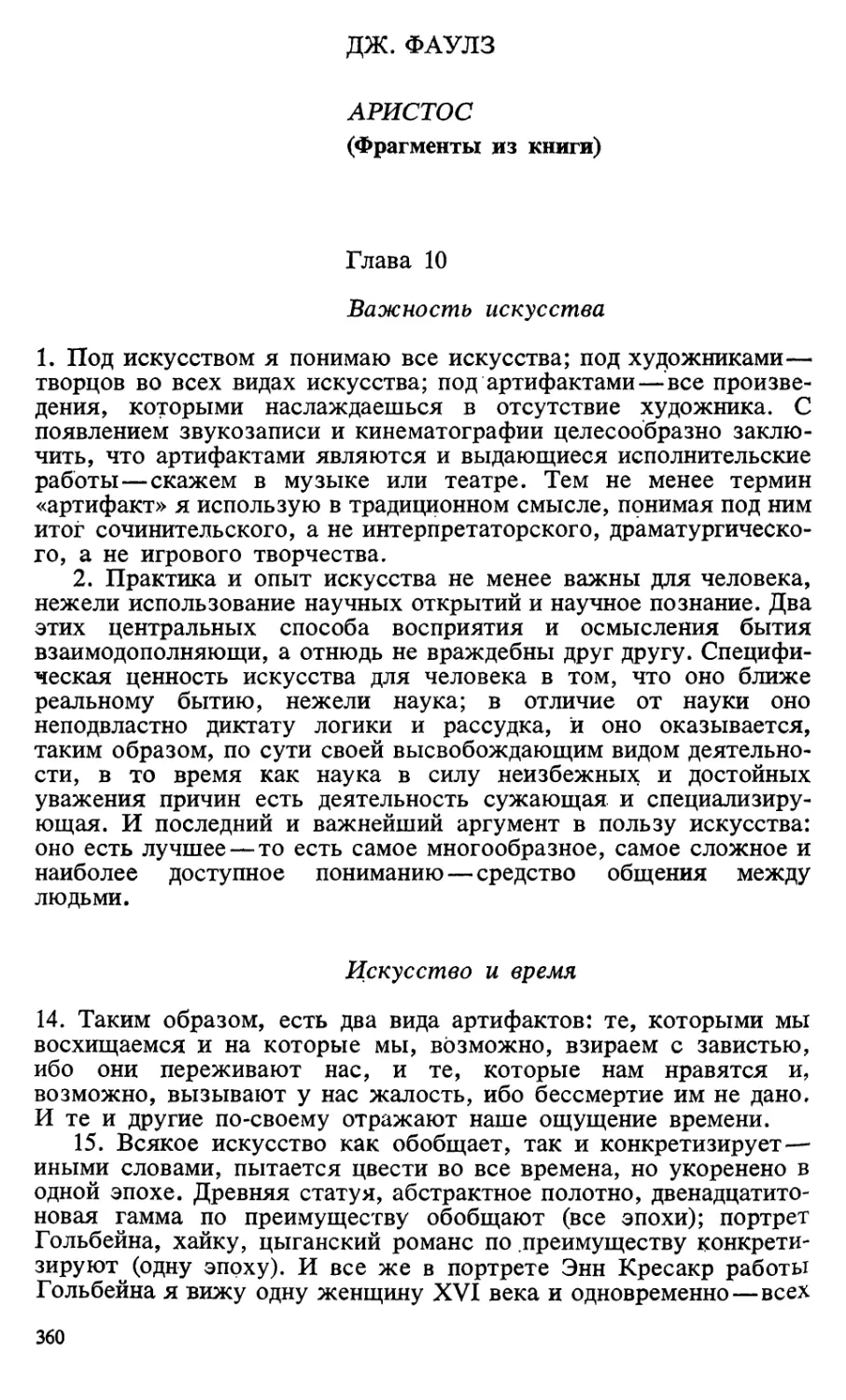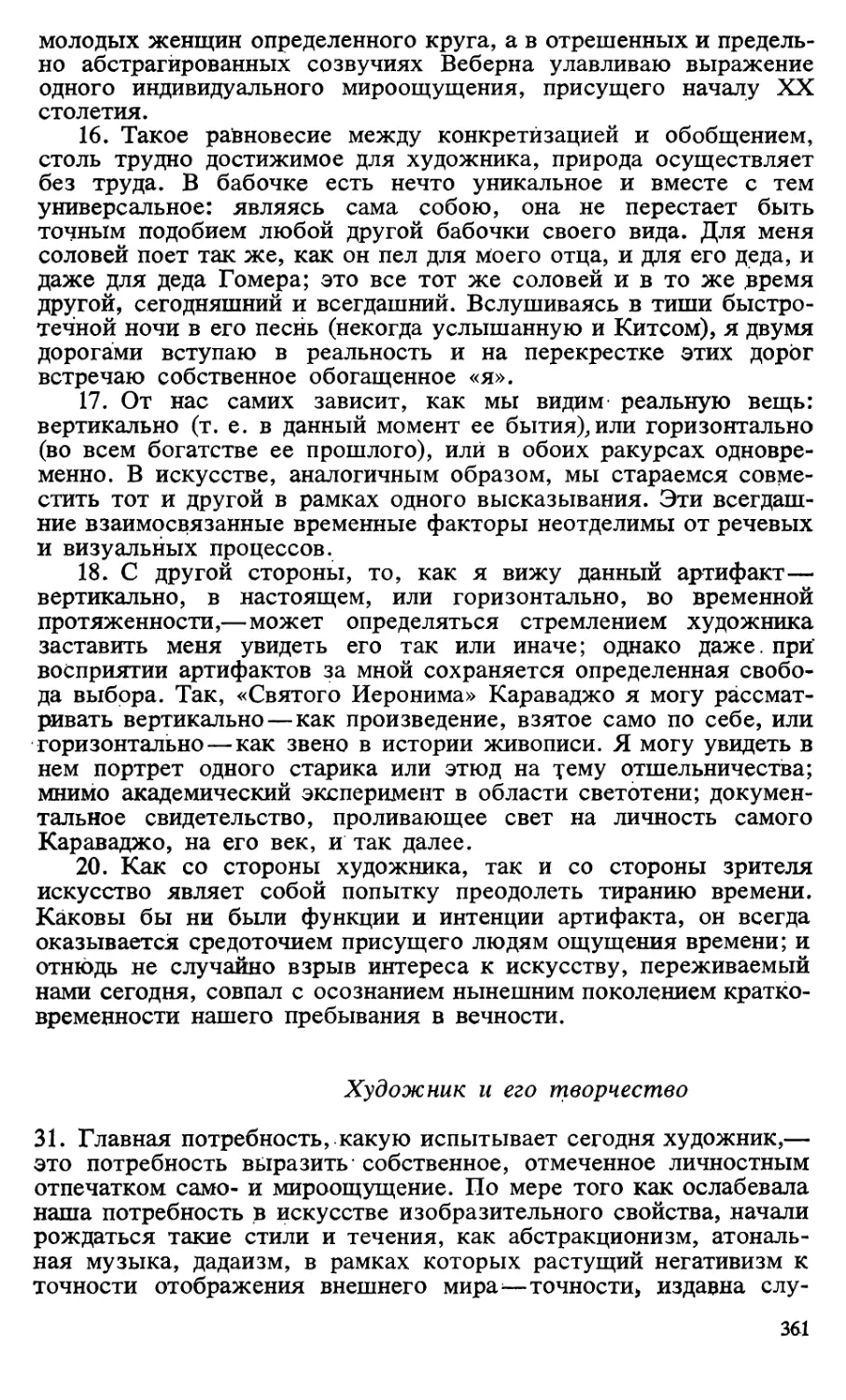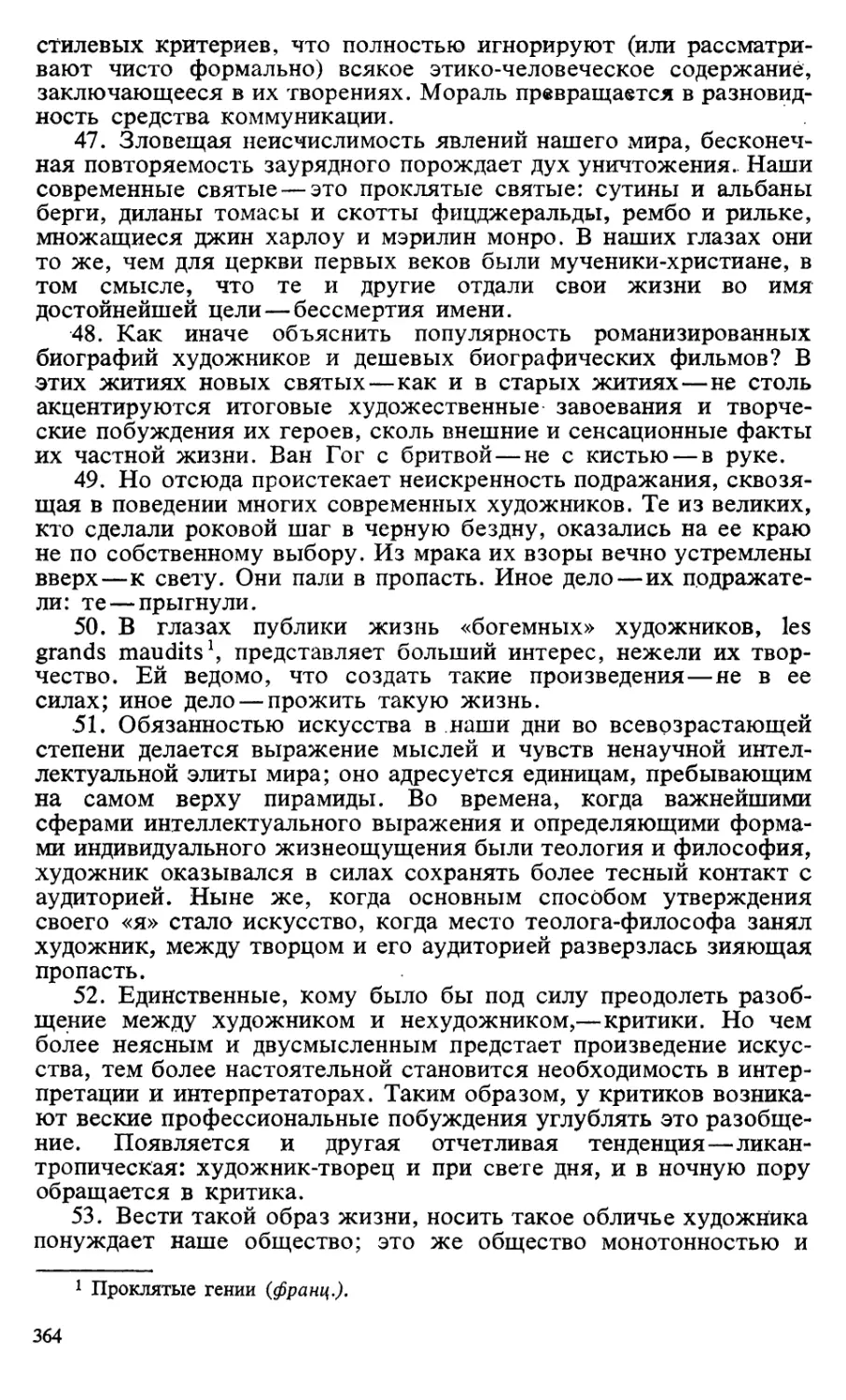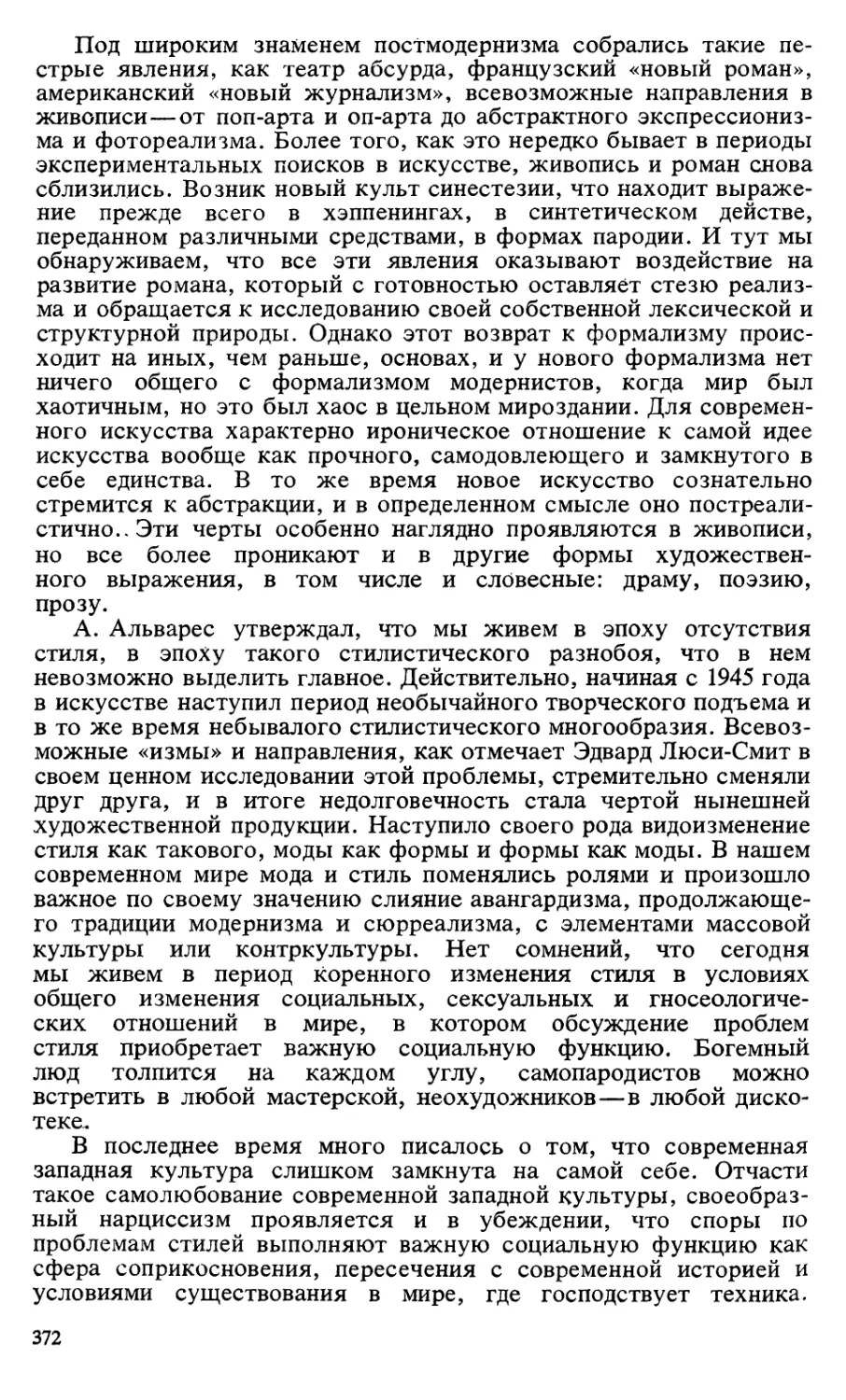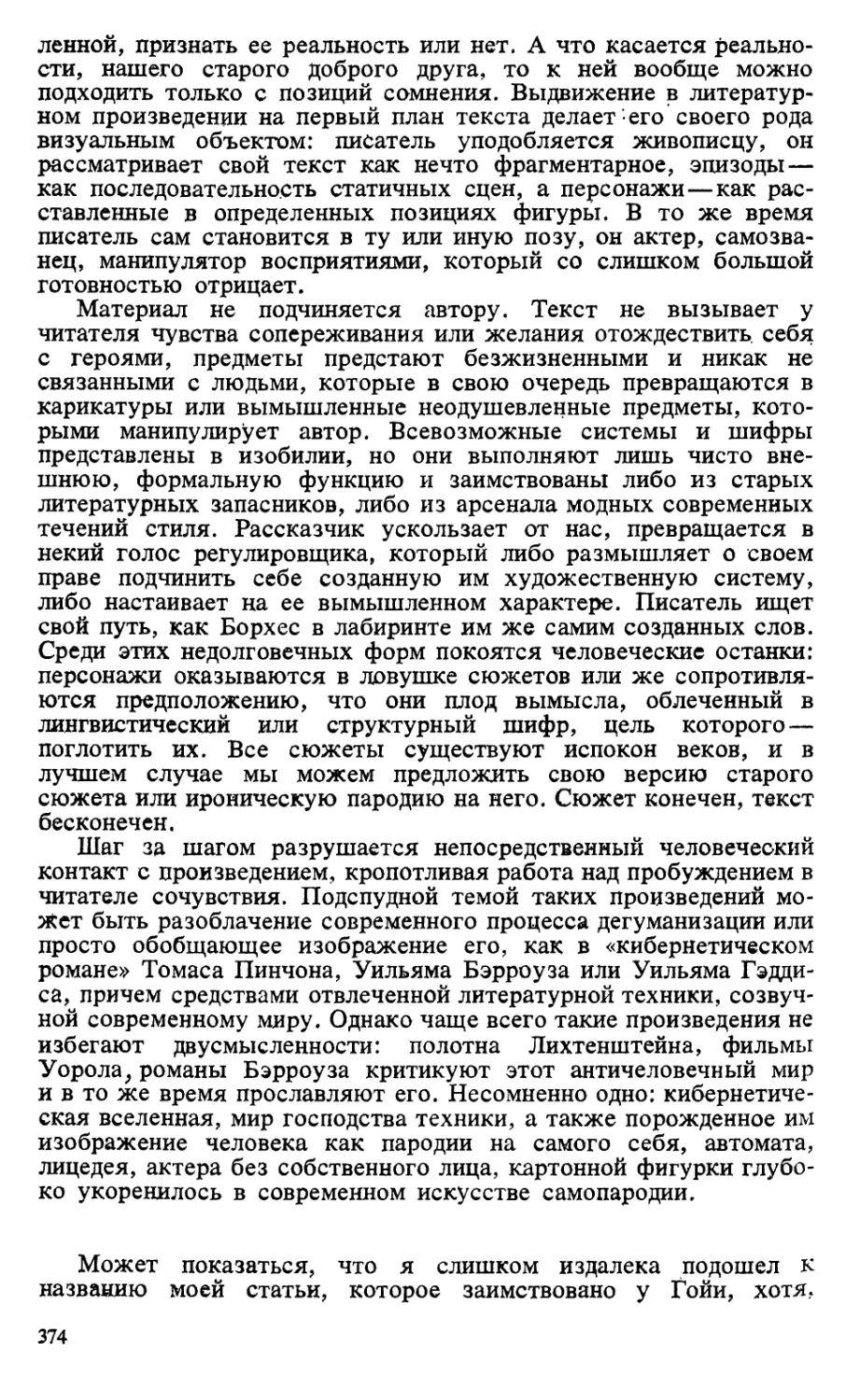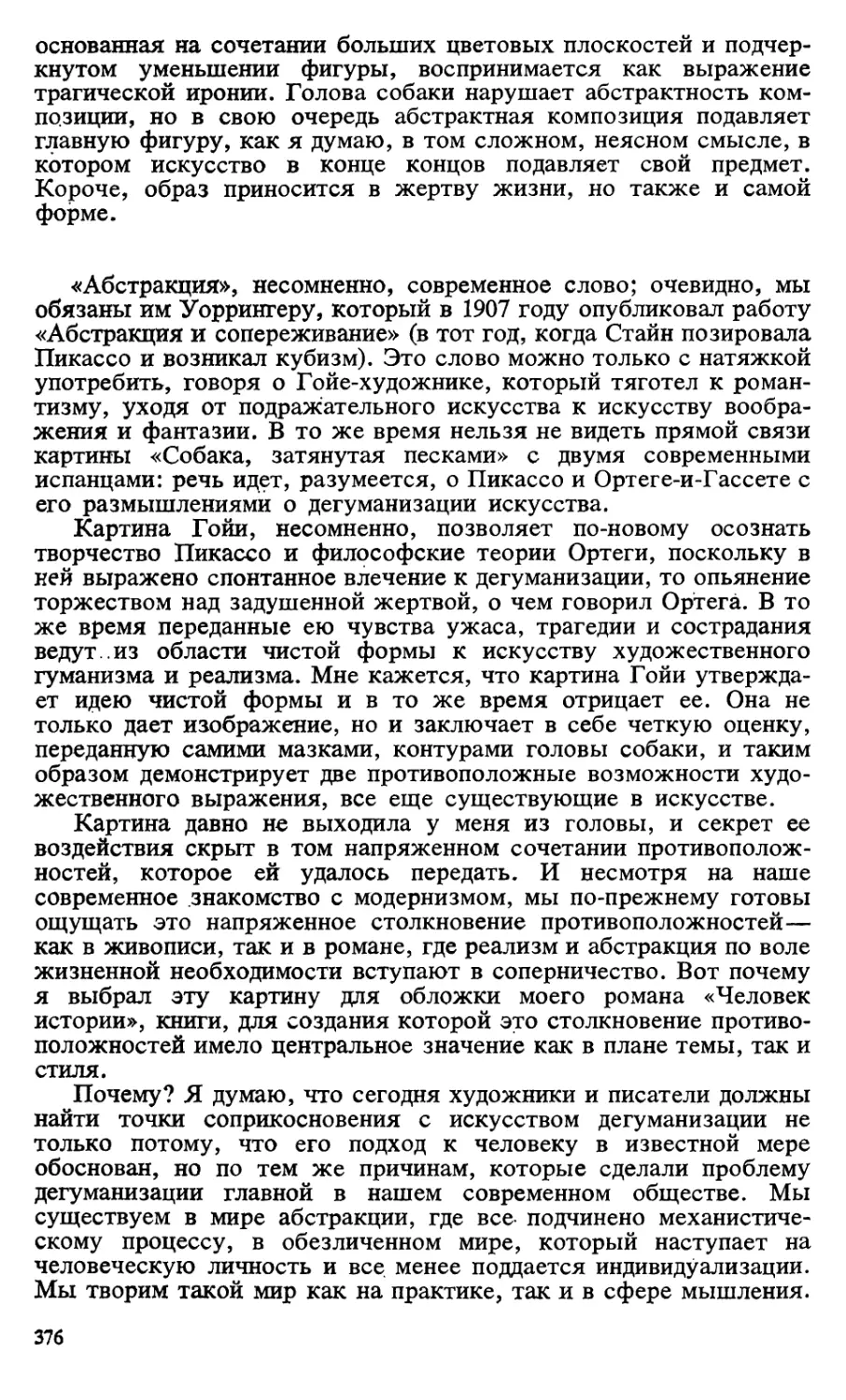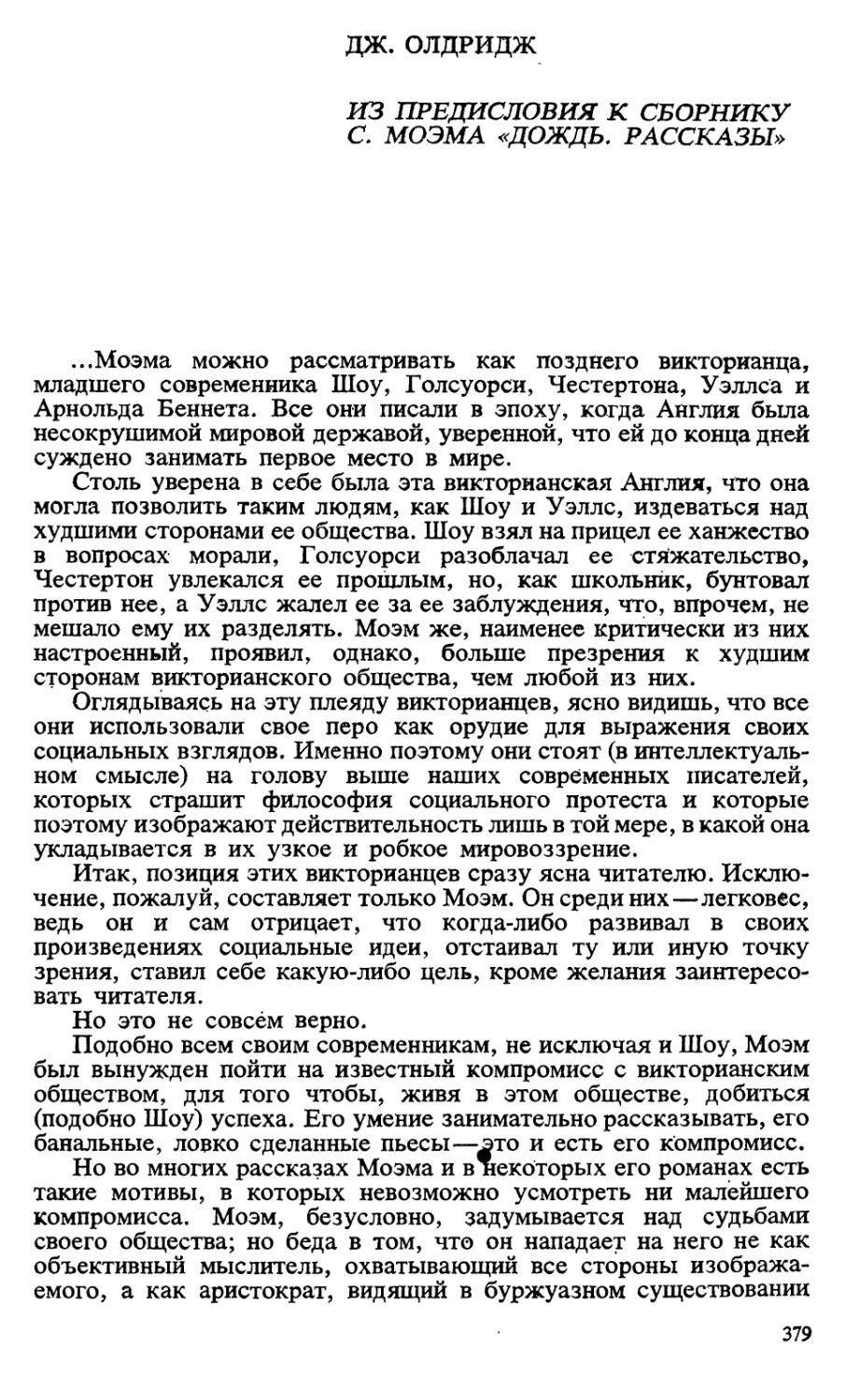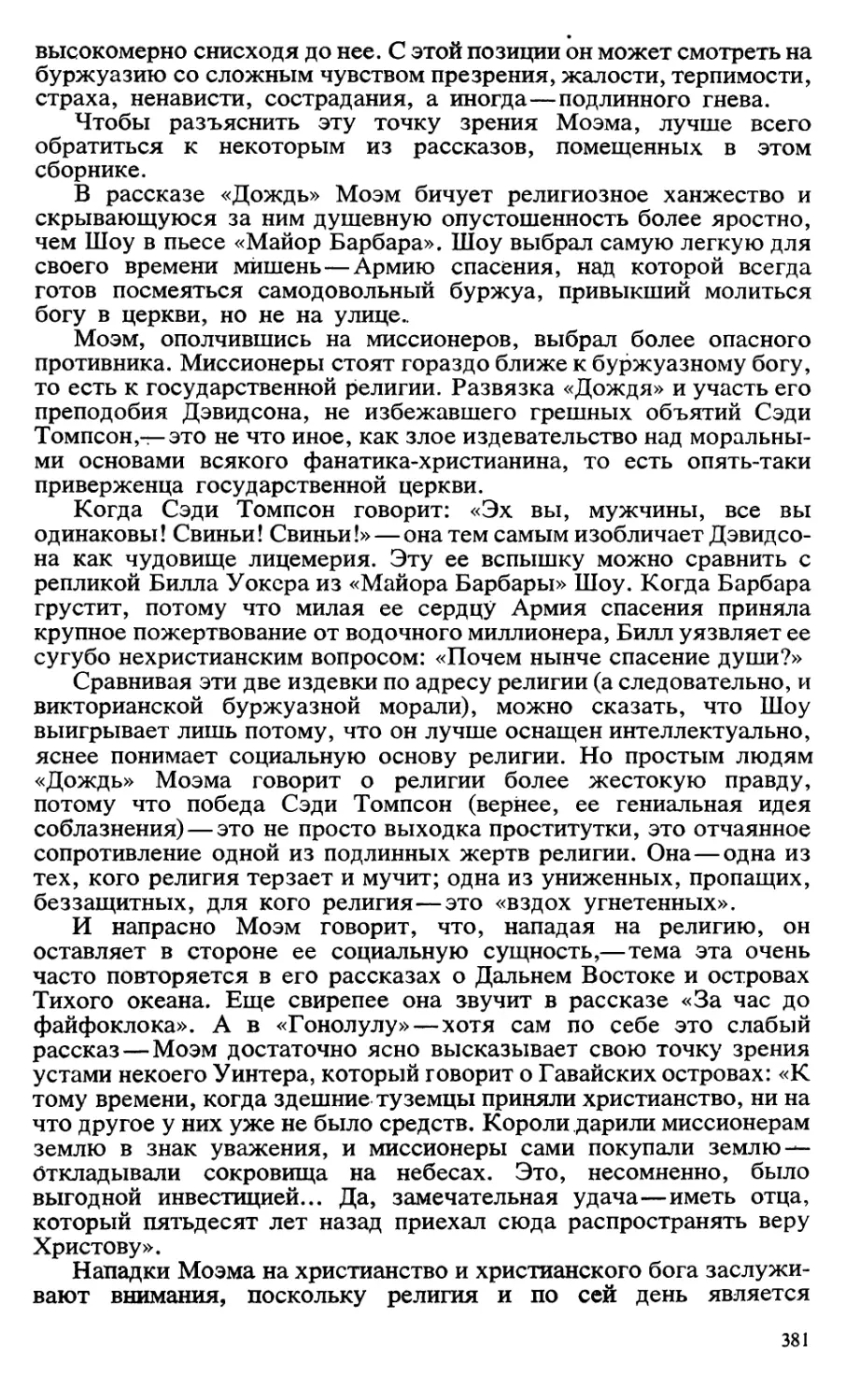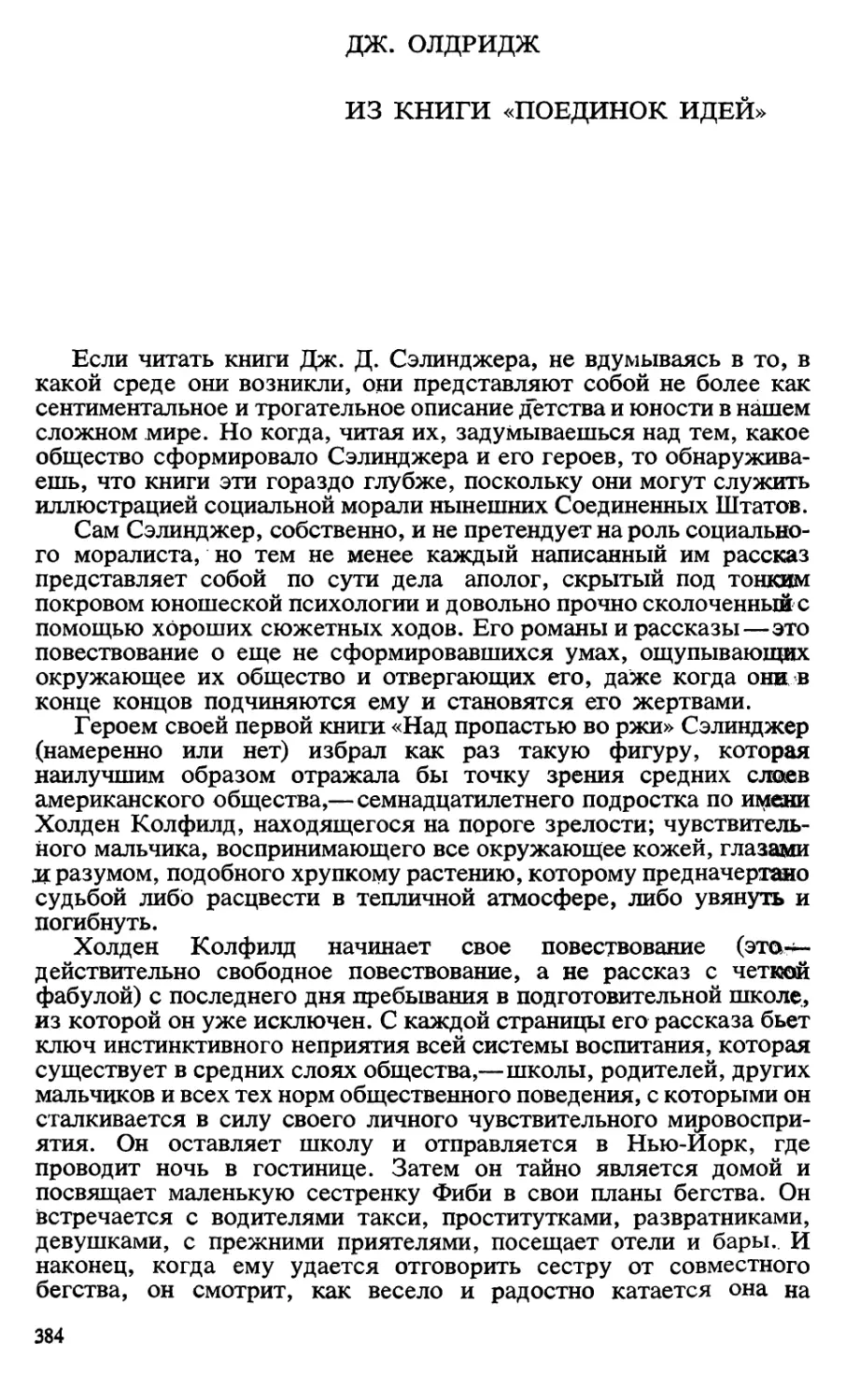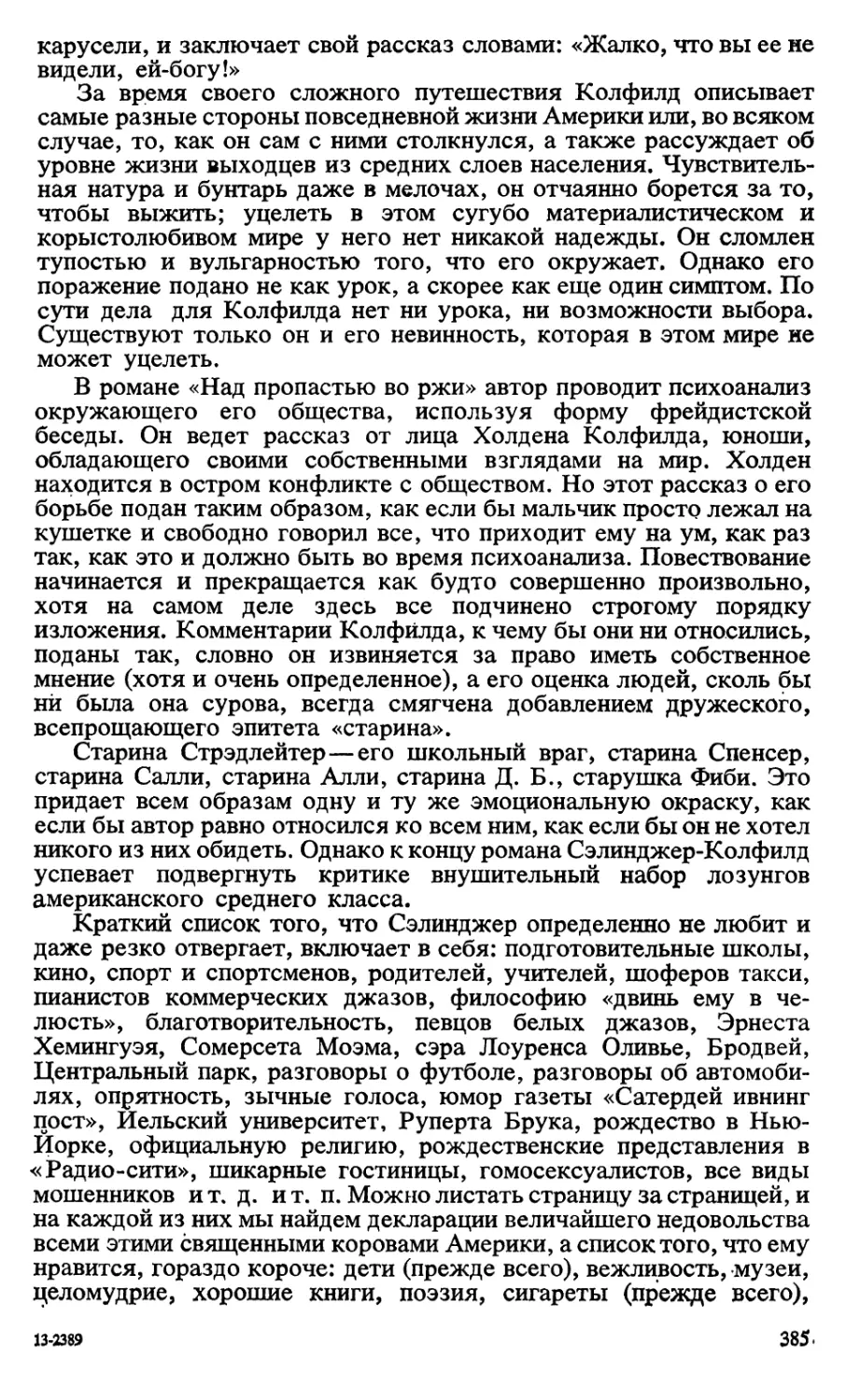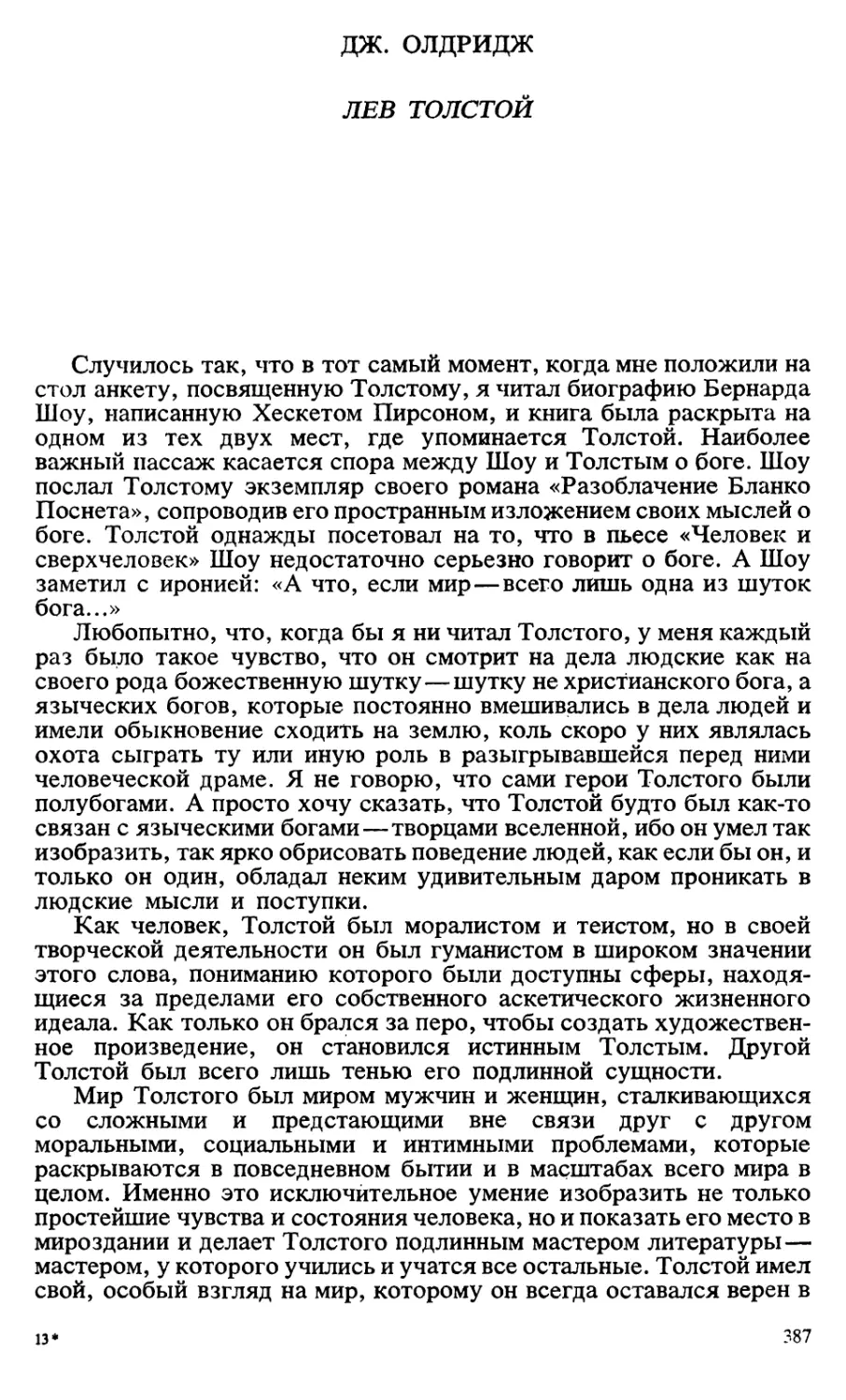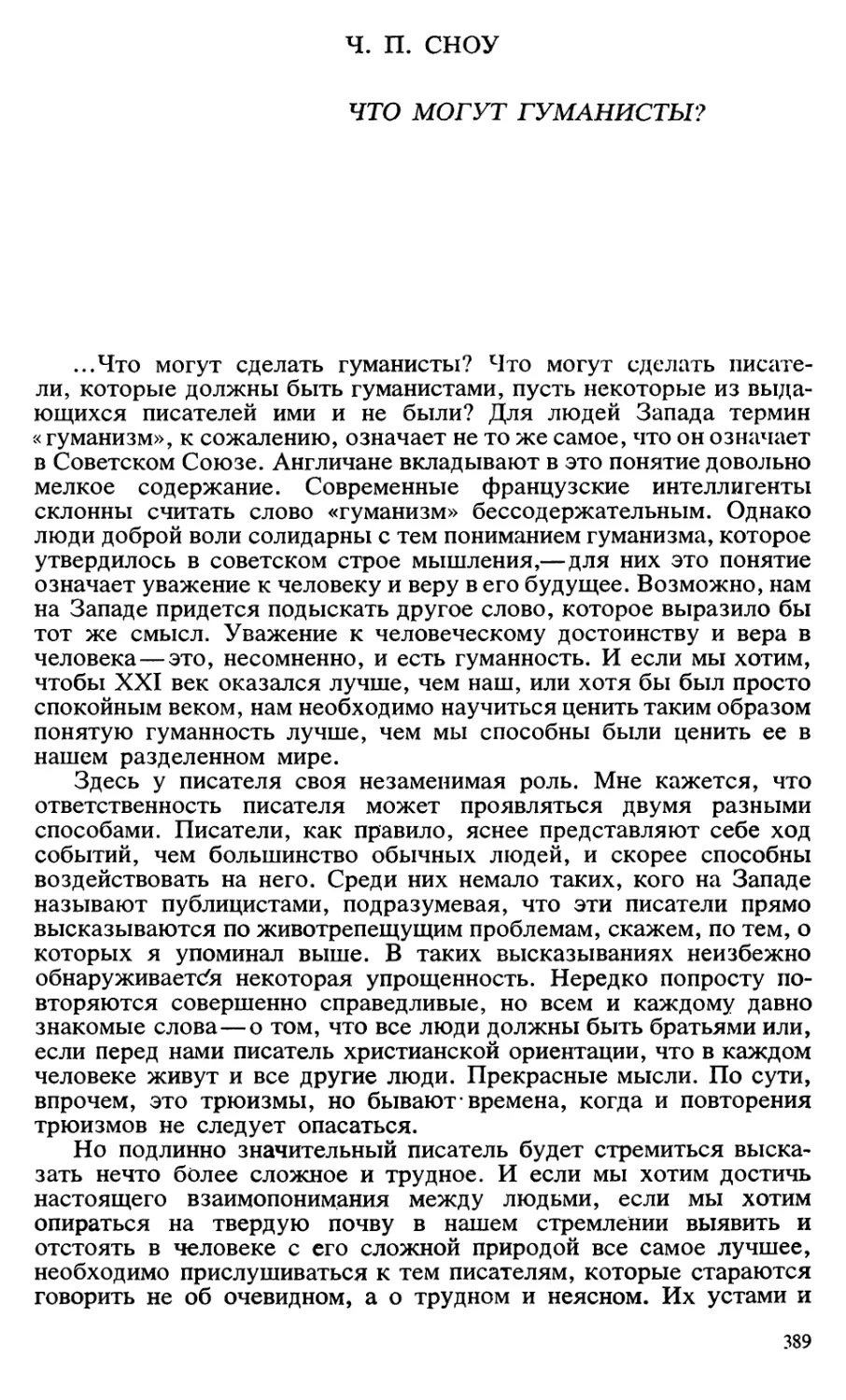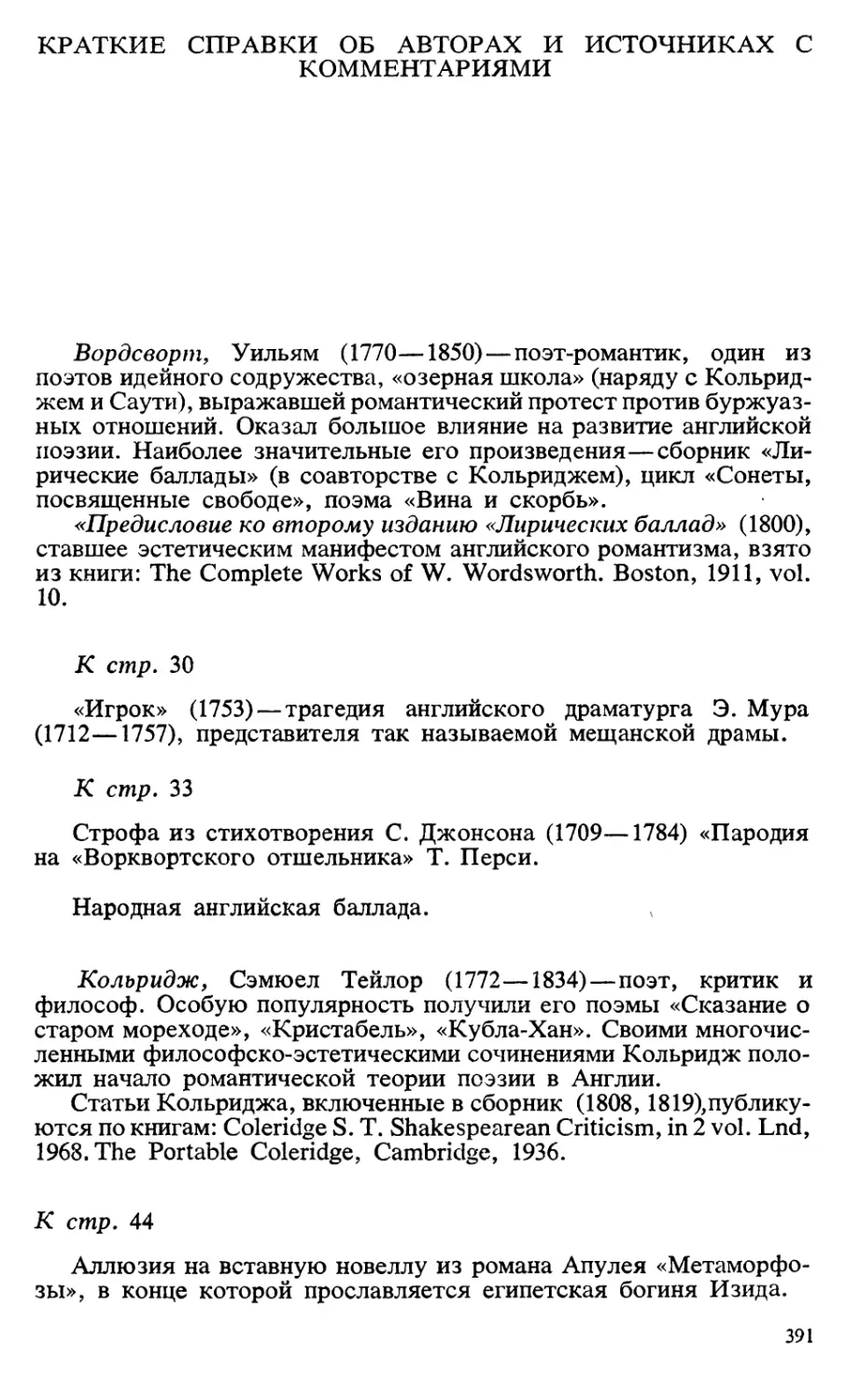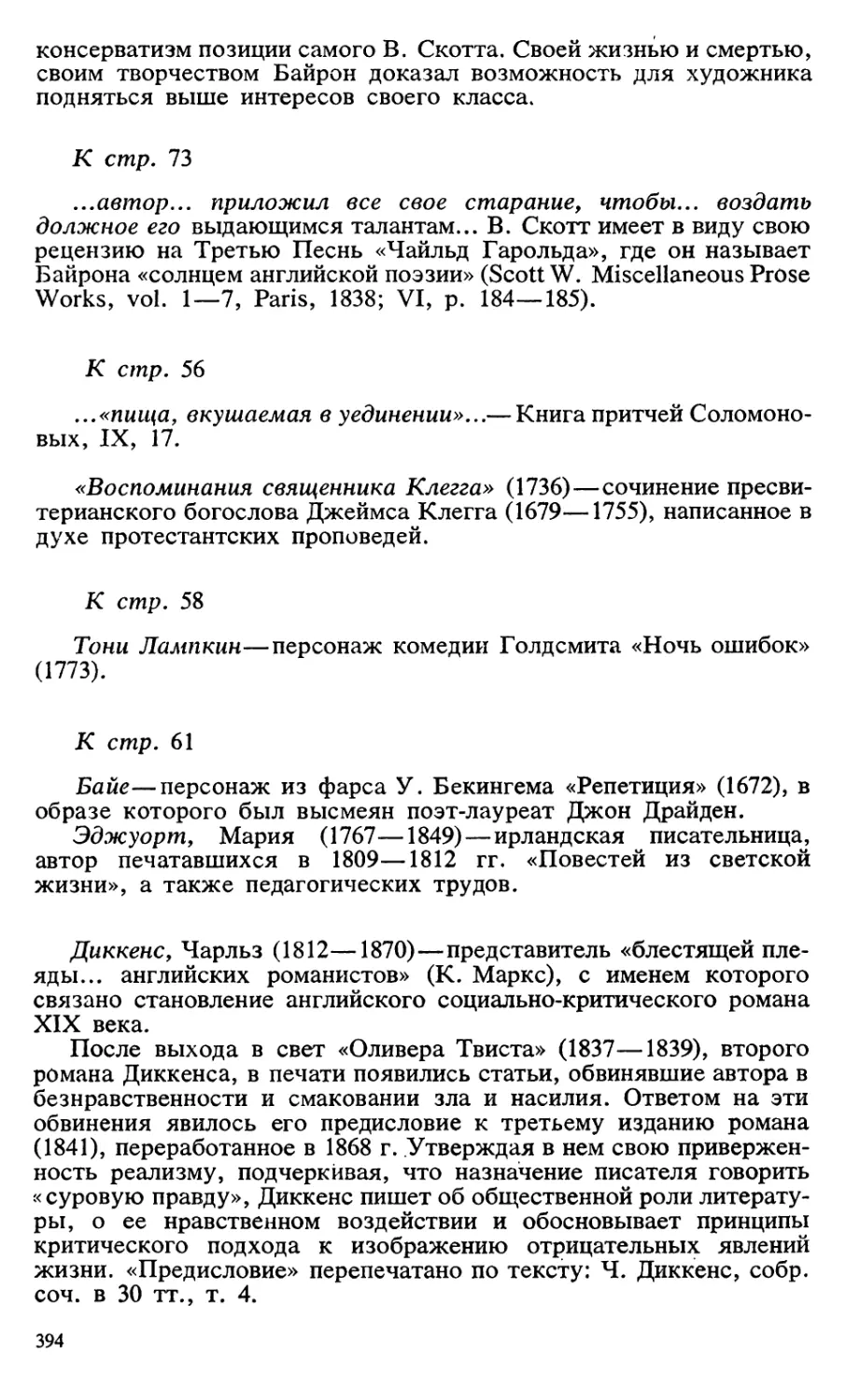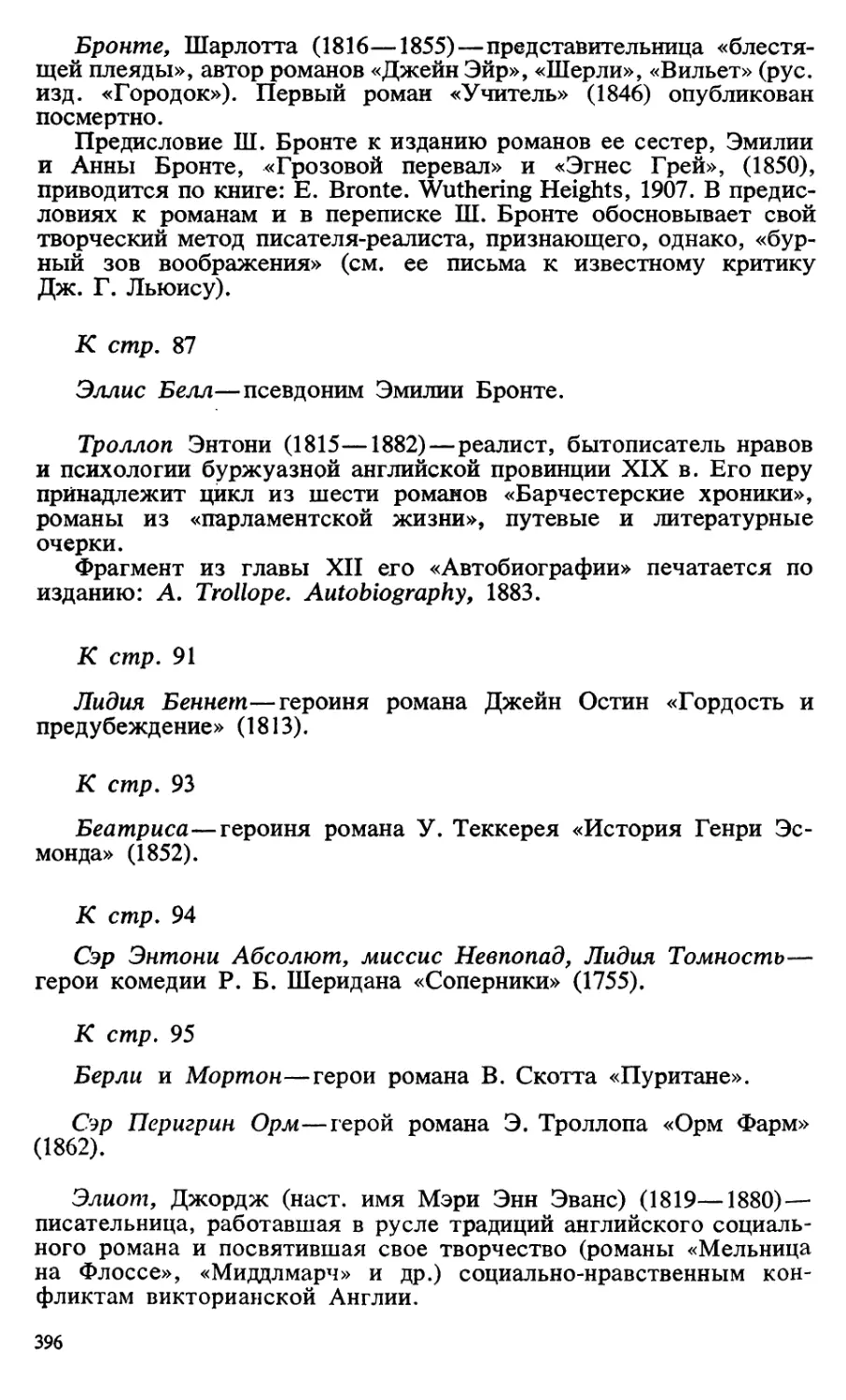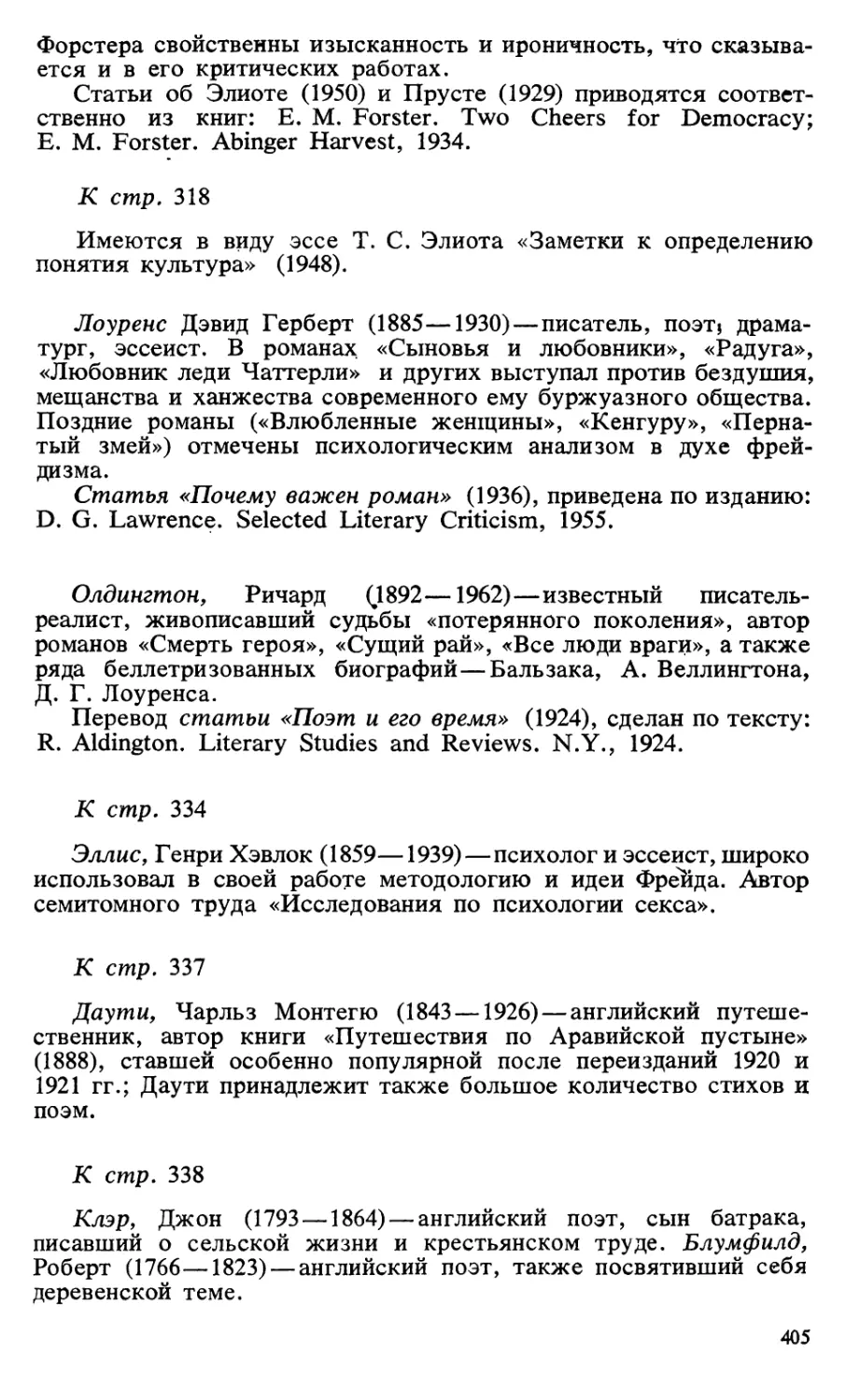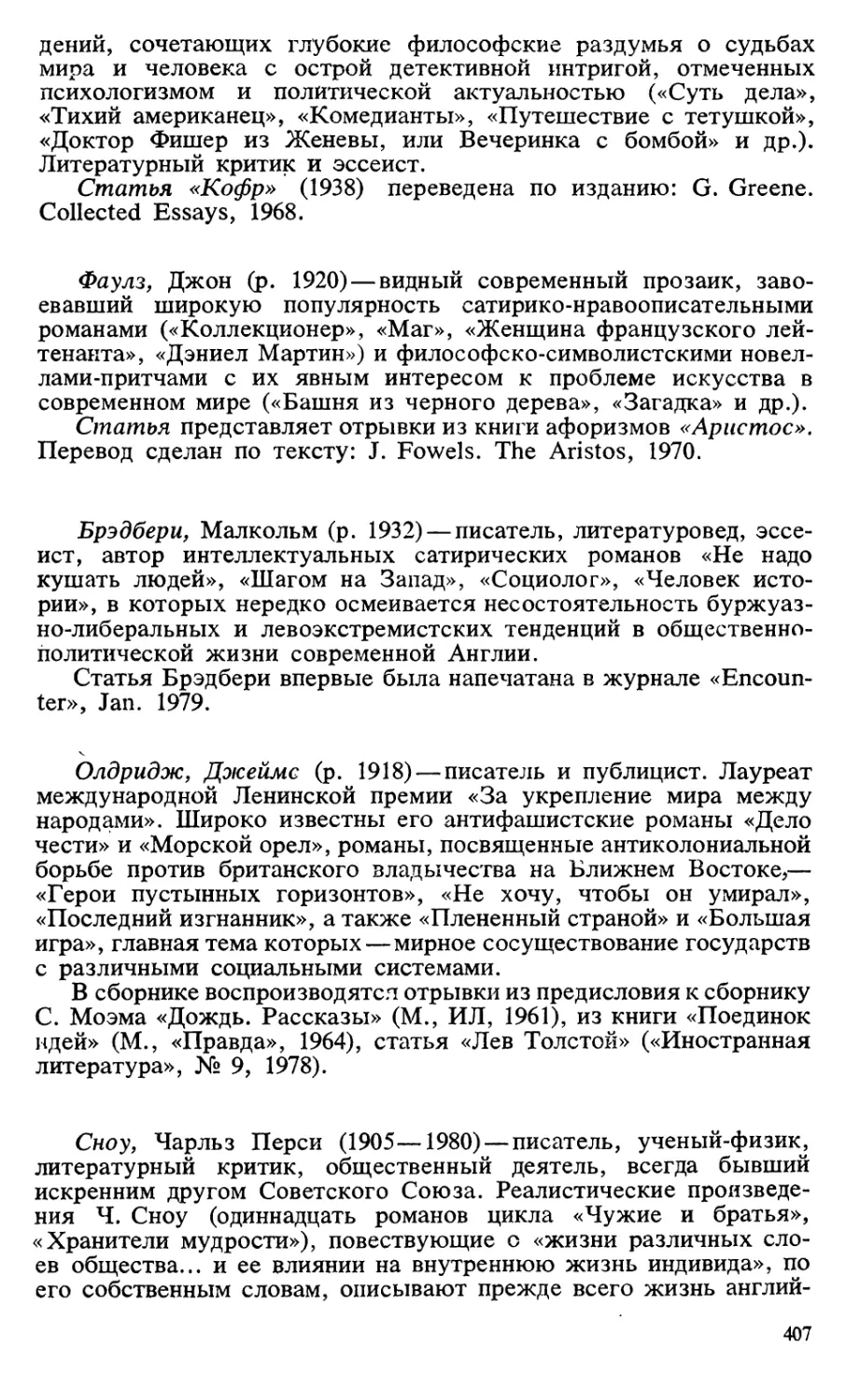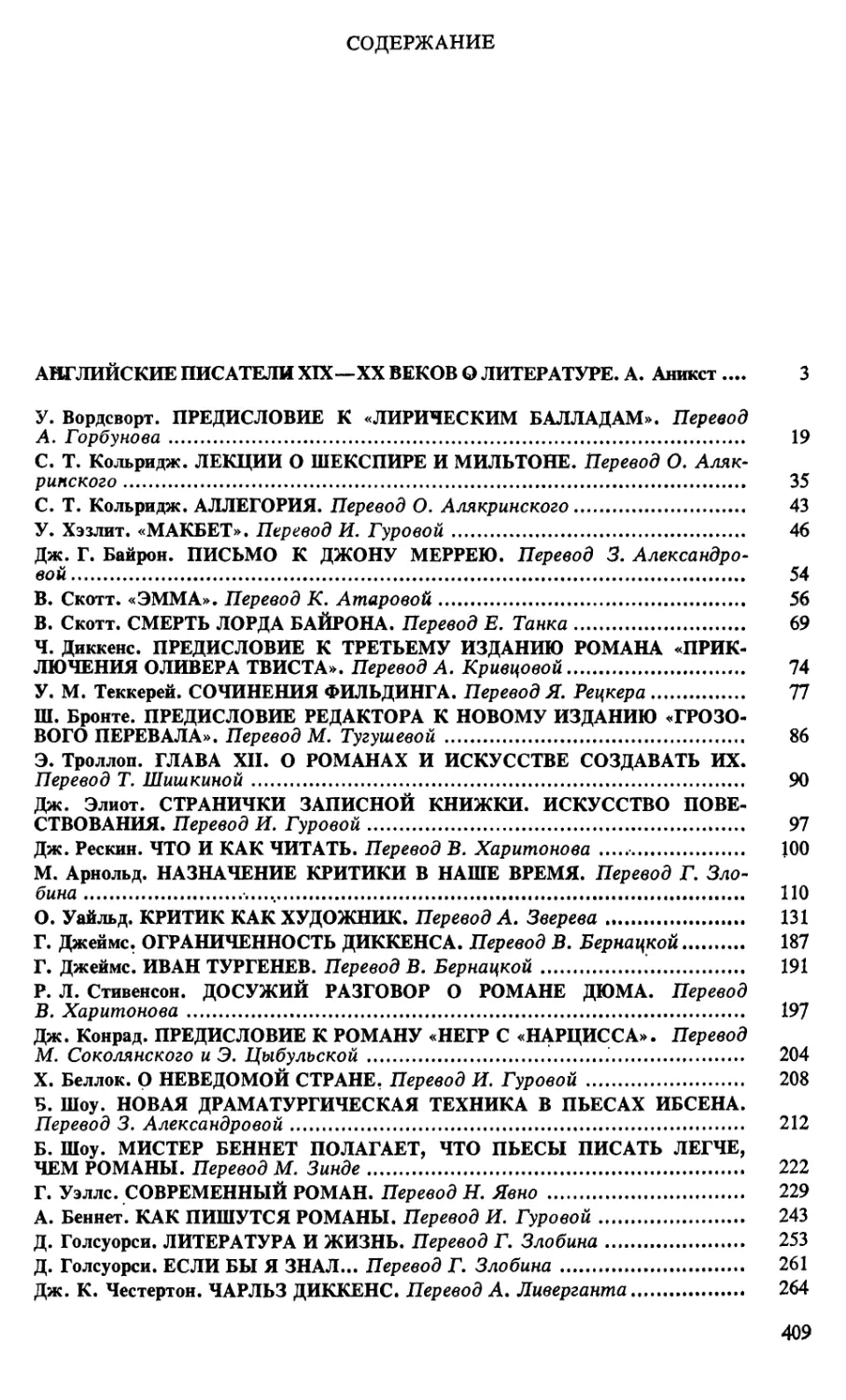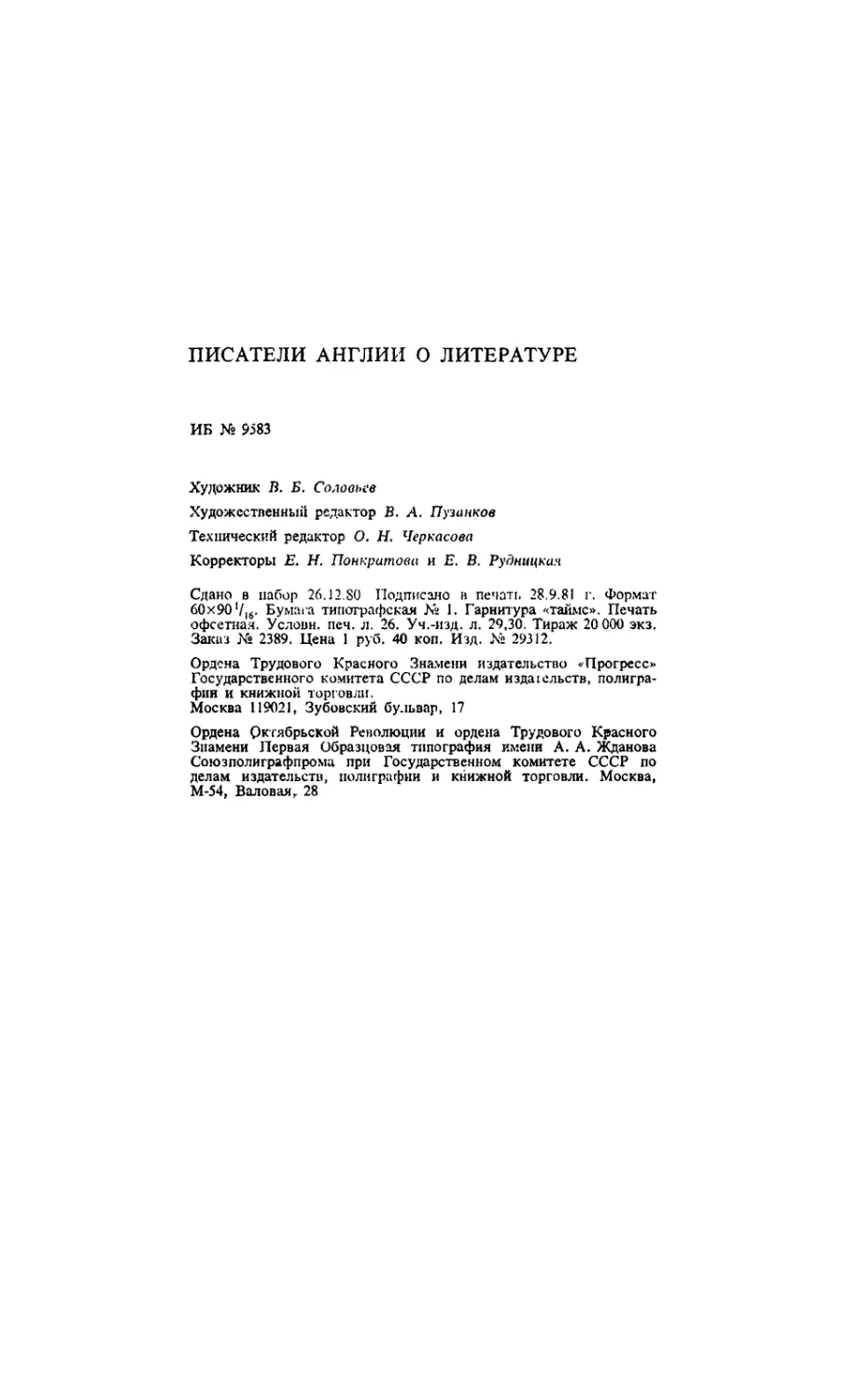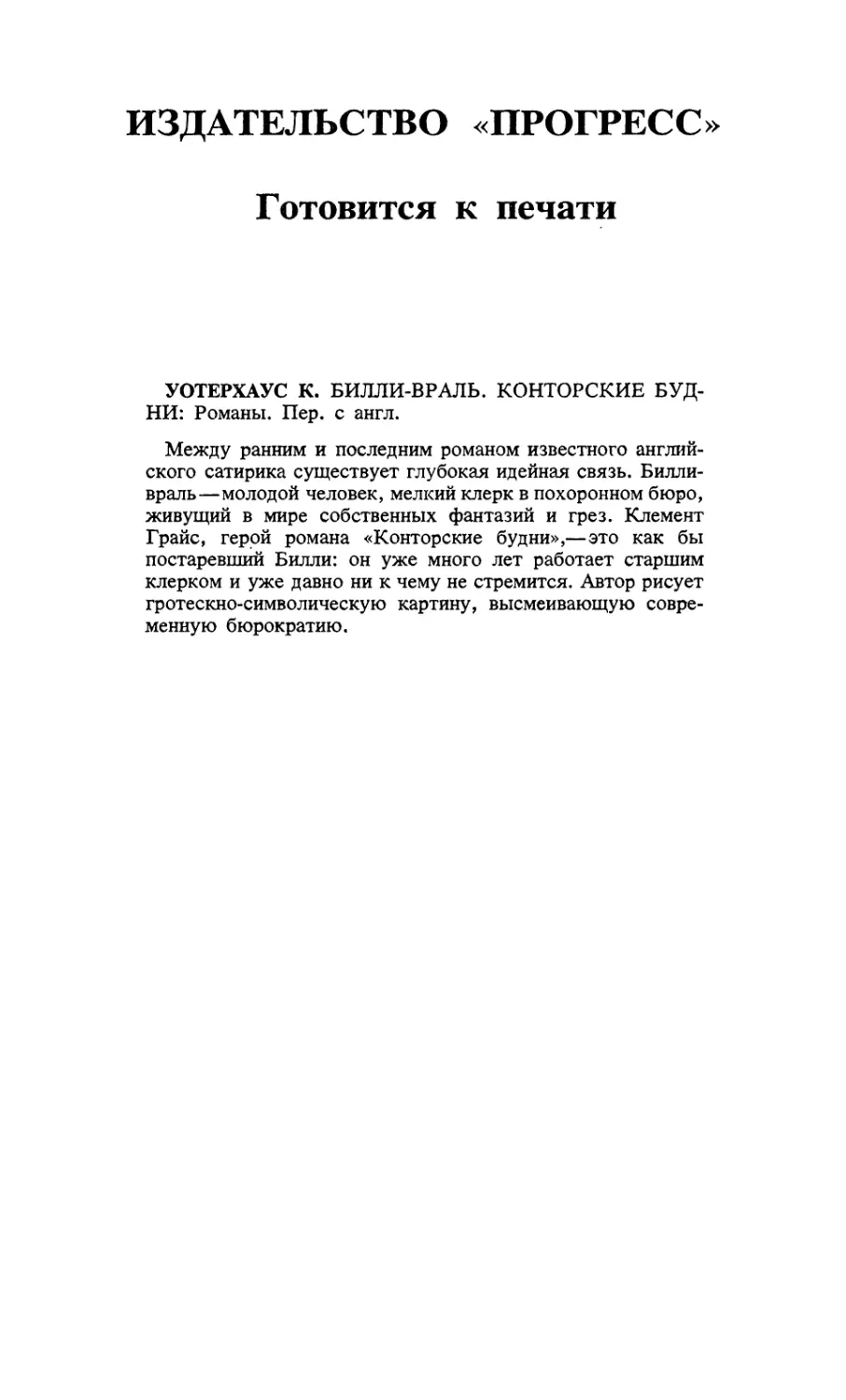Автор: А. Аникста А Атаровой К.Н. Тугушева М.П.
Теги: сборник статей литературная критика английская литература издательство прогресс
Год: 1981
Текст
ПИОКГЕЛИ
АНГЛИИ
О ЛИТЕРАТУРЕ
ПИСАТЕЛИ
АНГЛИИ
ОЛИТЕРАТУРЕ
ХГХ-ХХвв.
СБОРНИК СТАТЕЙ
Перевод с английского
Ш
Москва
«Прогресс»
1981
Предисловие А, А, Аникста
Составление К. Н, Атаровой
Редактор М. П. Тугушева
В сборник вошли наиболее интересные и концептуально важные
высказывания английских писателей XIX—XX вв., дающие представление
об основных этапах литературного процесса.
Читатель сможет познакомиться со статьями, предисловиями и
заметками У. Вордсворта, Ч. Диккенса, Ш. Бронте, У. Теккерея, М. Ар-
нольда, А. Беннета, Д. Голсуорси, Д. Г. Лоуренса, Дж. Фаулза, М. Брэд-
бери и других писателей.
Настоящий сборник продолжает серию, начатую книгами «Писатели
США о литературе» и «Писатели Франции о литературе».
Редакция литературоведения, искусствознания и лингвистики
Материалы, включенные в настоящий сборник, кроме отмеченных в
содержании знаком*, вышли на языке оригинала до 27 мая 1973 г.
© Составление, вступительная статья, комментарии, перевод на русский
язык, «Прогресс», 1981
7(Р02—115
П ■ —176—81 4603000000
006(01)—81
АНГЛИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ
XIX— XX ВЕКОВ О ЛИТЕРАТУРЕ
1
Хотя в XIX веке сложилось мнение, будто англичане по своей
натуре эмпирики, люди практические и к теоретизированию не
склонные, тем не менее в самых различных областях духовной
деятельности выдающиеся представители этой нации внесли вклад
в развитие теории естественных наук (Дарвин, Хаксли), физики
(Фарадей, Тиндал), философии (Джеймс Милль, Спенсер), эстети-
ки (Рескин, Моррис). Это же можно сказать и о понимании
литературы. Англия выдвинула тогда таких критиков, как Лэм,
Хезлит, Маколи, Арнольд, Лесли Стивен.
Конечно, писатели и поэты менее склонны к теоретизирова-
нию, ибо им присуще преимущественно образное мышление,
однако многие из них с большой глубиной и основательностью рас-
суждали о различных вопросах литературного творчества. Прав-
да, они не писали трактатов, как то делают ученые, но их выска-
зывания имели несомненную теоретическую ценность. В разные
периоды английской литературы последних двух столетий писате-
ли неоднократно выступали с декларациями своих творческих
принципов.
Каждая эпоха вырабатывает свои понятия о том, какою
должна быть литература. Глубоко укоренившиеся эстетические
понятия нелегко изменить. Писатели, стремившиеся обновить
поэзию, роман или драму, приблизить их к изменившейся действи-
тельности, представлялись и представляются староверам, привер-
женцам установившихся понятий, людьми, уклонившимися от
подлинных целей искусства. Тогда и возникает потребность
объяснить, что о произведениях, написанных с новых литератур-
ных позиций, нельзя судить по старым меркам. Ибо когда поэму,
Драму или роман одной эпохи оценивали по понятиям другого
времени, то неизбежно возникала недооценка только что появив-
шихся произведений. Вот почему Пушкину казалось необходимым
сказать своим современникам, судившим о его творчестве по
старым, чуждым ему эстетическим нормам: «Драматического
писателя должно судить по законам, им самим над собою
признанным». Добавим—не только драматического, но и всякого
писателя можно правильно оценить, лишь зная законы, которым
он следовал, создавая свои произведения.
Высказывания писателей о литературе представляют собой
главным образом объяснение тех художественных принципов,
которыми они руководствуются, создавая свои произведения. Но
3
тогда можно спросить: могут ли иметь теоретическое значение
высказывания писателя, говорящего о своем собственном творче-
стве? Да, если писатель этот значителен и создает новое или
примыкает к литературному направлению, приобретающему вес и
влияние в художественной жизни. То, что говорили о своем
творчестве Гюго, Стендаль, Бальзак, Гёте, Гофман, Гейне,
Пушкин, Гоголь, Толстой, имело теоретическое значение, потому
что они представляли целое направление литературного искусства.
Их произведения составляли основу романтизма или реализма,
составляли то важное новое, что появлялось в литературе и
требовало объяснения.
Эту задачу в основном выполняла и выполняет литературная
критика, хотя и писатели внесли значительный вклад в понимание
не только собственного творчества, но и в раскрытие существен-
ных сторон литературы вообще. Однако критика выполняет эту
задачу более систематически. Писатели, как правило, не стремят-
ся охватить весь круг вопросов теории литературы, выбирая лишь
то, что кажется особенно важным. Но от этого ценность их
суждений не становится меньше. Не уменьшает ее и субъектив-
ность суждений, встречающаяся, в частности, в тех статьях,
которые ныне публикуются. Выдающаяся личность, а таковой
является всякий значительный писатель, имеет право на свои
особые оценки литературных явлений. Ведь и теоретики, пишу-
щие, казалось бы, объективно, в конечном счете тоже не лишены
своих индивидуальных особенностей, отражающихся в той харак-
теристике, которую они дают явлениям литературы.
Всякий обращающийся к сфере оценок неизбежно сталкивает-
ся с разнообразием их. Это не означает отсутствия определенно-
сти и объективности, но требует от того, кто хочет разобраться в
данном круге вопросов, прежде всего историзма. Явления художе-
ственного творчества и теоретическое осмысление, их всегда несут
на себе печать времени. Она заметна во всех высказываниях
английских писателей, собранных в данной книге. В ней представ-
лено развитие литературных мнений писателей на протяжении
почти двух веков, когда через определенные промежутки времени
одно литературное направление сменяло другое.
2
XVIII век был по преимуществу веком прозаической литературы.
То была великая эпоха в развитии романа, и Англия явилась
страной, давшей всем остальным национальным литературам
блестящие образцы романа приключенческого, сатирического,
семейно-бытового, социально-бытового, сентиментального. Нель-
зя сказать, что в XVIII веке в Англии не было поэзии, но она
была по преимуществу рассудочной, не согретой живым чувством
и уж тем более лишенной страсти. Только отдельные ростки
более лирического характера изредка появлялись тогда в стране.
Они стали особенно заметными во второй половине столетия,
когда и в романе зазвучали ноты чувствительности, душевности,
стали появляться признаки возрождения эмоциональности.
4
В конце XVIII века под влиянием событий большого социаль-
но-политического значения возникло новое умонастроение. Про-
мышленный переворот в Англии и буржуазная революция во
Франции всколыхнули мир. Главное изменение в умах людей
состояло в том, что значительные слои общества стали терять
веру в способность разума изменить мир к лучшему, как то
утверждали мыслители XVIII века. Промышленный переворот,
введение машин, рост городов сопровождались обезземеливанием
английского крестьянства. Деревня начала вымирать, и писатели
забили тревогу. В числе первых, кто громко заговорил об этом,
были поэты, которых потом назвали романтиками,— Вордсворт и
Кольридж. Они глубоко восприняли призыв французского фило-
софа Жана-Жака Руссо, звавшего человечество отречься от
ложной цивилизации и вернуться к природе, к естественным
нормам жизни.
Оба поэта выбрали для жительства места, не затронутые
индустриализацией. Они воспевали простую жизнь, природу,
людей, близко стоящих к ней. Новая поэзия требовала и новых
художественных форм, и прежде всего обновления поэтического
языка. Предисловие Вордсворта к сборнику «Лирические баллады»,
написанному им и Кольриджем, было манифестом нового, романти-
ческого направления в поэзии. Вордсворт требовал приближения
языка поэзии и живой народной речи, отказа от риторических
украшений, поэтических условностей. Такой язык, обновленный
и приближенный к жизни, только и мог стать средством индивиду-
альной передачи эмоций и душевных настроений. Вордсворт
ставил чувство настолько выше рассудка, что видел наиболее
полное выражение «природной» человечности в детях, а также
людях умственно неполноценных, ибо они, как ему казалось,
выражают чувства в наиболее чистом и непосредственном виде.
Вордсворт отдавал поэзии решительное предпочтение перед
научным знанием. Поэзия в большей степени способна познать
жизнь, чем наука, считал он, ибо глубже проникает в суть
природы и человеческой души: «Поэзия—начало и венец всякого
знания, она так же бессмертна, как человеческое сердце. Поэти-
ческое познание мира более цельно и более глубоко, поэтому оно
вбирает и то, что дает наука, но всякое знание должно быть
одухотворенным, а без поэзии это не может быть достигнуто».
Романтическим является уже сам образ поэта, какой рисует
Вордсворт. Поэт отличается быстротой мысли, силой страсти. Но
главное даже не в этом, а в чувстве его единства с мировой
жизнью. Если поэты и писатели XVIII века рассудочно расчленя-
ли мир на отдельные составляющие его элементы, поэт-романтик
видит вселенную, мир как органическое целое, как огромное
живое существо. Все в мире одухотворено. Людям присуще
чувство своего единства с природой, а через нее — со всем
великим миром. Поэт—тот, кто сильнее чувствует то, что
способны чувствовать все остальные, и обладает особым даром с
наибольшей выразительностью воплотить видение мира в образы.
Однако если поэзия и представляет собою стихийное излияние
сильных чувств, это не означает, что поэт творит в состоянии
одержимости. Поэту необходима способность глубоко чувство-
5
вать, но для того, чтобы «заразить» своим чувством, он должен
обладать умением выражать пережитое, а это требует спокой-
ствия и обдуманности. В этом положении не было уступки
рассудочности, ибо истоки произведения—сильное чувство, испы-
танное поэтом; произведение становится действительным фактом
творчества, когда поэт силой своего искусства вызовет у читателя
или слушателя столь же сильное чувство.
Такого же взгляда придерживался Кольридж: «Поэзия—это
искусство передачи того, что мы хотим передать, о таким
расчетом, чтобы одновременно выразить и вызвать душевное
волнение, имеющее своим результатом непосредственное наслаж-
дение...» Вместе с тем Кольридж вводит в понимание поэзии
элемент историзма. Сравнивая Шекспира с древнегреческими
трагиками, он подчеркивает различие нравов и понятий разных
эпох, что и обусловливает различие в поэтическом строе произве-
дений.
Если Вордсворт в основном ограничился обоснованием своего
восприятия поэзии, то Кольридж посвятил критике много внима-
ния, например, проблеме раскрытия художественных особенно-
стей творчества. Шекспир стал в глазах большинства романтиков
образцом поэта, близкого к природе, владевшего умением поэти-
чески раскрывать и воспроизводить грандиозные страсти. Уильям
Хэзлит посвятил большое исследование «Характерам у Шекспи-
ра», в котором показал глубокое понимание великим драматургом
индивидуальных особенностей человеческой натуры. Шекспир дал
Вальтеру Скотту образцы художественного изображения прошло-
го, которыми тот воспользовался в своих романах, сочетав его с
опытом создания приключенческого романа, а также романа
семейно-бытового. Так как обобщенного выражения своих литера-
турных взглядов создатель исторического романа не оставил, то
приходится рассматривать лишь отдельные стороны его концепции.
Статья о романе Джейн Остин «Эмма» не только дает оценку этому
произведению, но показывает отношение Скотта к изображению
повседневного быта, нарисованного рукой писательницы-реалистки,
отказавшейся от канонов сентиментализма, свойственного романам
XVIII века.
Ни Вордсворт, ни Кольридж, ни Скотт не вступали в конфликт
с действительностью. Второе поколение английских романтиков
было настроено более революционно. Поэмы и драмы Байрона
проникнуты духом протеста против несправедливости и гнета, они
прославляют гордую, независимую личность, восстающую против
общества и даже самого бога («Каин»). При всем своем бунтар^
стве Байрон, однако, в вопросах теории оставался на позициях
классицизма, что сказалось в большинстве его высказываний о
литературе вообще и о собственном творчестве в частности.
Объяснялось это тем, что первое поколение романтиков было
враждебно общественно-политическим идеям просветителей XVIII
века, Байрон же сохранял веру в революционные идеалы XVIII
века с их культом разума и гармонии. Защищая и поэтику эпохи
Просвещения, в частности, он утверждал, что Поп более великий
поэт, чем все последующие. Но, даже превознося классициста
Попа, Байрон в своих произведениях был ярким романтическим
б
поэтом и воспользовался плодами той реформы поэтического
языка, которую совершили Вордсворт и Кольридж.
Поэтику революционно настроенных романтиков полнее всего
выразил в своей «Защите поэзии» Шелли. Еще в большей степени,
чем Вордсворт, возвышает Шелли поэзию над наукой. Для Шелли
поэт—глашатай передовых социальных истин, пророк грядущего
обновления общества. Как и Вордсворт, Шелли исходит из
органической связи человека с природой и космическими силами.
Освобождение человечества от всех форм насилия и гнета—вот
что должно быть главной темой поэзии и первой задачей поэта.
Романтизм в разных видах не был изжит в Англии до середины
XIX века, но свое господствующее положение в литературе он
утратил в конце первой трети столетия.
3
В 1832 году в Англии произошла парламентская реформа, значи-
тельно усилившая политические позиции буржуазии, хотя и
дворянство еще сохраняло достаточно привилегий. Романтическая
мечтательность и экзальтация уступили место новым настроени-
ям. Во всех сферах жизни утверждалась проза буржуазного быта.
Литература повернулась к нему лицом, критически его осмысляя.
Не романтические герои с их невероятными приключениями, не
красота природы, ие экзотические страны Юга и Востока, не
рыцарские времена, а современная действительность становится
главной темой литературы.
Чарльз Диккенс совершил великий переворот, посвятив свои
романы изображению темных сторон английской жизни. Когда он
впервые выступил с романом такого рода—«Оливером Тви-
стом»,— еще была жива традиция романтического изображения
представителей преступного мира. Со времен Шиллера литера-
туру заполняли фигуры «благородных» разбойников, что было
свойственно также французской и английской литературе. В
предисловии к «Оливеру Твисту» Диккенс коротко и ясно опреде-
лил свое отрицательное отношение к романтической традиции. Его
интересовали общественные причины, обусловливающие развитие
преступности, и в «Оливере Твисте», как и в некоторых других
романах, Диккенс выразительно показал социальные корни пре-
ступности как следствия классового неравенства в обществе.
Диккенс не любил отвлеченных рассуждений, предпочитая созда-
вать яркие картины жизни современного ему общества. Поэтому
количество его высказываний о литературе ограничено.
Больше* Внимания уделял критике его великий современник
Уильям Мейкпис Теккерей. Критику романтизма он дал в повести
«Ребекка и Ровена», представлявшей собой пародию на историче-
ские романы Вальтера Скотта. Как и Диккенс, Теккерей опирался
на опыт реалистического романа XVIII века. Искусству романи-
стов XVIII века он посвятил серию публичных лекций, изданных
под названием «Английские юмористы XVIII века». В очерках об
английских писателях прошлого Теккерей раскрывает свое пони-
мание реализма.
7
Критическое изображение буржуазного общества вызывало
ожесточение тех, против кого оно было направлено. Правда
жизни объявлялась безнравственностью. Со всей силой присуще-
го ему сарказма Теккерей обрушился на лицемерие буржуазии и
послушной ей критики. Он страстно отстаивал право писателя
изображать жизнь такой, как она есть. Заметим кстати, что
всесокрушающая сатира Свифта была не по нутру Теккерею.
Образцом писателя для него является Фильдинг, сочетающий
критику. пороков с изображением положительных характеров.
Гуманизм требовал, по мнению Теккерея, более мягкого взгляда
на человеческую природу, чем тот, который господствует в
«Путешествиях Гулливера». В этом вопросе Теккерей разделял
взгляд Диккенса, хотя оба были беспощадны в бичевании эгоизма
и корыстолюбия.
Реалистический роман, как известно, сочетал изображение
повседневной жизни с приключениями, тайнами, необыкновенным
стечением обстоятельств, в чем можно усмотреть неизжитое
влияние эстетики романтизма. Кроме того, занимательная интрига
должна была привлечь читательский интерес. В связи с этим
представляют несомненный интерес замечания Теккерея о компо-.
зиции лучшего романа Фильдинга «История Тома Джонса, найде-
ныша». «В нем нет ни одного, пусть самого незначительного,
эпизода, который не способствовал бы развитию действия, не
вытекал бы из предыдущего и не составлял бы неотъемлемой
части единого целого». Диккенс и Теккерей стремились к такой
композиции как к идеалу, но практические условия их работы
препятствовали этому, ибо романы печатались отдельными выпу-
сками еженедельно, а это налагало двойное обязательство —
делать каждый эпизод законченным и занимательным, все время
имея в виду его связь с романом в целом. Поэтому, хотя оба
писателя стремились к такой цельности, фактически их романы
тяготели к серии вполне завершенных эпизодор, далеко не всегда
создававших стройную композицию, подобную той, которой отли-
чается «Том Джонс».
Высказывания великих английских реалистов о литературе
лишь в малой степени передают дух и особенности их творчества.
Здесь перед нами пример того, насколько художественная продук-
ция неизмеримо богаче их теоретических суждений. И Диккенс, и
Теккерей оставляли теоретизирование на долю критиков, но мы
обладаем немалым числом обстоятельных исследований; показы-
вающих, как глубоко продумано было творчество обоих писате-
лей. Это далеко не единственный случай в литературе. Исключе-
ние составляет, пожалуй, Ш. Бронте, которая оставила немало
писем о природе своего творчества, но английские реалисты XIX
века вообще были скупы, когда надо было рассказать о своем
методе. Это было характерно и для периода, когда в истории
реалистического романа произошел значительный сдвиг. Джордж
Элиот, а за нею другие авторы отказались от некоторых элемен-
тов реалистического романа 1840-х и 1850-х годов. Исчез гротеск,
вытеснена была сатира, а взамен появилась объективность пове-
ствования; рассказ автора стал почти бесстрастным. Почти не
осталось места для необыкновенных происшествий. Восторже-
8
ствовало спокойное и медлительное повествование о вещах повсе-
дневных.
Реалистический роман нового типа все больше переходит от
изображения внешних событий к раскрытию внутреннего мира
человека. Таков художественный метод Джордж Элиот, писатель-
ницы, чье творчество открывает новый этап в истории английско-
го реалистического романа—возникает роман психологический и
проблемный. И опять с сожалением приходится констатировать,
что сама писательница оставила мало высказываний, которые
адекватно раскрыли бы ее художественный метод. Эта свободо-
мыслящая писательница смело ставила острые проблемы нрав-
ственности, решая их не в духе традиционной буржуазной морали.
Когда же мы читаем главу из автобиографии Энтони Тролло-
па, посвященную искусству романа, в полной мере возникает
«викторианская» атмосфера той эпохи. Писателю приходится
защищать литературу от обвинений в непристойности и безнрав-
ственности. Вместе с тем Троллоп проводит разделение современ-
ного ему романа на два вида—сенсационный и реалистический,
что соответствует положению, сложившемуся в литературе
1850—1870-х годов. Сенсационные романы того вида; который
создал Уилки Коллинз, увлекали читателей сюжетом. Свои
реалистические рЪманы Троллоп характеризует как произведения,
главным содержанием которых является изображение характеров.
Троллоп—противник внешнего трагизма, он считал, что траги-
ческое должно вытекать из повседневных ситуаций, лишенных
необычности. Примеры такого трагизма—жизнь леди Каслвуд в
«Генри Эсмонде» Теккерея и зависимость Рочестера от его
безумной жены в «Джейн Эйр»: «Мы тут видим мужчин и женщин
из плоти и крови, живые создания, мы сочувствуем им, и они
борются, несмотря на все свои несчастья...» При всей объектив-
ности повествования оно должно «тронуть сердце читателя и
вызвать на его глазах слезы».
Если критика буржуазии в социальном романе 1840-х годов
питалась широким демократическим движением, в котором глав-
ную роль играло первое политическое движение пролетариата—
чартизм, то поколение писателей, выступивших после 1848 года,
когда демократическим надеждам был нанесен удар, не имело
такой опоры. Джордж Элиот не переносила свое неприятие
буржуазной ограниченности в сферу непосредственно социально-
политическую. Ее протест был интеллектуальным и психологиче-
ским, она любила изображать своеобразные типы людей, «проте-
стантов*, неприемлемых для буржуазного общества. Троллоп же
был бытописателем умиротворенной Британии, с ее, казалось,
незыблемым бытием «средних классов».
4
Духом интеллектуального протеста было проникнуто поэтическое
творчество и особенно литературная критика Мэтью Арнольда. Его
удручало отсутствие в стране высокой духовной культуры. Ари-
стократы были в его глазах варварами, буржуазия — мещанством, а
9
народ—чернью. Главное средство для борьбы против филистер-
ства, духовного убожества буржуазии, по его мнению, критика —
политическая, религиозная и литературная. Все сферы жизни,
полагает Арнольд, требуют критического отношения, чтобы вы-
явить их духовную недостаточность, враждебность истинной
человечности. При несомненной ограниченности позиций Арнольда
его критика имела большое положительное значение, так как была
проникнута непримиримостью но отношению к бездуховности
викторианского общества.
Антибуржуазные настроения проявлялись и в возрождении
романтизма, лишенного бунтарства Байрона и Шелли, но неприми-
римо враждебного серости и убогости мещанского бытия.. Именно
эта враждебность лежала в основе творчества и литературно-
критических высказываний поэта и романиста Р. Л. Стивенсона.
Самый талантливый представитель неоромантизма любил все
необычное в жизни и авантюрно-увлекательное в литературе. Его
знаменитый «Остров сокровищ» был лишь одним из серии
приключенческих романов, которыми он увлек читающий мир,
противопоставив свои занимательные выдумки пошлой обыденно-
сти, прозаизму буржуазного существования, изображаемого в
романах реалистов и натуралистов конца века. В своей статье о
любимейшем романе — «Десять лет спустя, или Виконт де Браже-
лон» А. Дюма-отца—Стивенсон выражает восхищение, смешан-
ное с иронией, по поводу литературы, которая развлекает и
вместе с тем так враждебна сытому благополучию любителя
«золотой середины» — буржуа.
Значительные элементы критики современного уклада жизни и
его искусства содержатся в статьях эстетов и декадентов конца
XIX века. Подчеркнутый аморализм декадентов нередко был
вызовом мнимой благопристойности буржуазии. Чего она стоила,
Оскар Уайльд показал в своих комедиях «Женщина, не стоящая
внимания» и «Идеальный муж». Эстетизм Уайльда получил осо-
бенно интересное выражение в его литературно-критических
этюдах. Блестящие и остроумные, они направлены своим острием
против утверждения, что искусство должно быть познавательным,
наставлять читателя и приносить пользу.
В диалоге «Упадок лжи» персонаж, выражающий мнение
Уайльда, утверждает, что пошлый характер современной литера-
туры объясняется упадком искусства лгать и выдумывать. Лите-
ратуре нужны пленительность, красота и воображение. Шекспир,
по мнению Уайльда, небезукоризненный художник, ибо слишком
часто обращается к жизни. Вордсворт тоже одержим злополучной
идеей, будто за вдохновением надо обращаться к природе. Искус-
ство должно вырваться из «темницы» реализма, утверждает
Уайльд, оно никогда не выражает ничего, кроме себя.
В диалоге «Критик как художник» Уайльд высказывает такие
же парадоксальные взгляды. Уайльд столь же критичен по
отношению к буржуазной «культуре», как и Мэтью Арнольд:
«Посредственность в гармонии с посредственностью и немощь в
союзе^ с невежеством—вот зрелище,, которое нам порою дарит
английская^художественная жизнь», «всякому по силам сочинить
трехтомный роман. Просто надо ровным счетом ничего не знать
ю
ни о жизни, ни об искусстве». Основной тезис диалога—«По
отношению к рассматриваемому им произведению искусства кри-
тик оказывается в такой же ситуации, что и художник по
отношению к зримому миру форм и красок или незримому миру
страстей и мыслей». Оба независимы от жизни. Художник творит
свою действительность, а критик—свою, как она ему видится:
«Для критика произведение лишь повод для нового, созданного им
самим произведения, которое вовсе не обязательно должно иметь
сходство с тем, что оно разбирает».
Если для Мэтью Арнольда критика была серьезным делом,
имевшим целью улучшение жизни и развитие подлинной духовной
культуры, то для Уайльда она—интеллектуальная игра. Он,
конечно, не думает всего того, что говорят участники его
диалогов, многое в их речах всего лишь ирония, цель которой—
подразнить читателя и противопоставить ходячим истинам шутли-
вый парадокс, однако тем самым Уайльд обосновывает субъектив-
ность и индивидуализм в качестве главных элементов творчества.
5
Эстетизму и декадансу противостояло реалистическое движение
конца XIX—начала XX века. Оно питалось демократическим
протестом низов, вновь набиравшим силу движением пролетариата
и глубоким недовольством интеллигенции.
Далекий от политики и такой, казалось бы, замкнутый в чисто
творческих интересах писатель, как Генри Джеймс, попросту
бежал от бескультурья американского буржуазного мира, считая,
что в Англии он найдет более пригодную для творчества атмосфе-
ру. Новый реализм, начавший свое развитие в последние десятиле-
тия XIX века, решительно отгородился от реализма Диккенса. Для
Генри Джеймса Диккенс уже не реалист, а писатель, больше
полагавшийся на воображение, чем на знание подлинной действи-
тельности. Его характеры не живые люди, а маски. Школой
подлинного психологического реализма Г. Джеймс считал литера-
туру России и Франции. Ему, взыскательному художнику, тща-
тельно разработавшему эстетику современного романа, особенно
близок из русских авторов Тургенев, которого он называет
«писателем для писателей». Преклоняясь перед гением Л. Толсто-
го, Джеймс пишет, что его произведения «сама жизнь», но
подражать такому гиганту невозможно. Подчеркивая обаяние
прозы Тургенева, Джеймс отмечает, что он даже простейшие
вещи умеет окутывать дымкой поэзии. Генри Джеймс много
размышлял о природе реалистического романа, и предисловия к
его собственным романам предлагают разработанную систему
творческих принципов, обосновывающую метод анализа поведения
и психологии избранных представителей культурных слоев амери-
канского и европейского общества.
Эту линию развития литературы продолжал Джон Голсуорси,
сочетавший психологический анализ с мастерством социальной
типизации. Его «Сага о Форсайтах» и «Современная комедия» —
пожалуй лучшие образцы семейного эпоса в XX веке; Голсуорси
и
создал убедительные психологические портреты английских бур-
жуа и противостоящих им «блудных сыновей буржуазии»
(М. Горький). Голсуорси — последователь традиционных форм ре-
ализма XIX века, русской и французской литературных школ
Тургенева и Л. Толстого, Флобера и Мопассана. Не боясь показать-
ся старомодным, он полемизирует с представителями эксперимен-
тального романа начала XX века М. Прустом и Джеймсом
Джойсом.
До сих пор мы говорили о романе, который был главной
реалистической формой в английской литературе начиная с
времен Диккенса. В конце XIX века в Англии начался новый
расцвет драмы, представленный творчеством О. Уайльда и Бер-
нарда Шоу. Оба возродили искусство комедии, оба были мастера-
ми парадокса, но Шоу глубже Уайльда разрабатывал социальную
проблематику. Расцвет драмы в Англии начался благодаря вли-
янию Г. Ибсена, чьи проблемные драмы, содержащие острую
критику буржуазной морали, с трудом проникли на английскую
сцену. Шоу выступил с книгой «Квинтэссенция ибсенизма», в
которой, защищая Ибсена от нападок ханжеской буржуазной
критики, обосновал свой драматургический метод. Хотя Шоу
претендует лишь на то, что он будто бы лишь характеризует
особенности драматургического метода Ибсена, в действительно-
сти он дает теоретическое обоснование собственного творческого
метода. Во вторую половину XIX века на театре господствовала
«хорошо сделанная драма». Основатель этого жанра Эжен Скриб
и его продолжатели В. Сарду и Э. Ожье создали тип пьес с
занимательной и сложной интригой, в которых изображалась
жизнь аристократов и буржуа. В Англии этот жанр был лишен
«французской» фривольности, так как господствующие классы
викторианской эпохи лицемерно требовали соблюдения' буржуаз-
ных условностей.
Шоу выступил против драматургии, уводившей от действитель-
ных проблем общественной нравственности, и, как известно,
создал цикл «неприятных», а затем «приятных» (только по
названию) пьес, в которых остро критиковал эксплуатацию,
социальное неравенство и лицемерие, царившие в английском
буржуазном обществе. Пьесам с занимательной интригой он
противопоставил проблемную драму, или, как он это определил,
«пьесу-дискуссию».
Творчество Шоу, как и высказывания об искусстве, отличается
острой парадоксальностью, но в отличие от О. Уайльда здесь нет
легковесной игры понятиями. Писатель слишком озабочен соци-
альными проблемами, чтобы шутить ради шутки. Его остроумие
всегда имеет определенный социальный адрес, его сатира больно
язвила пороки ханжески настроенных средних классов.
В последней декаде XIX—начале XX века Шоу, Голсуорси и
писатели подобные им, сделавшие социальную тематику главным
содержанием своего творчества, продолжали две традиции реализ-
ма. Шоу, как он сам указывал, имел одним из своих предшествен-
ников Диккенса и, подобно ему, не боялся гротескно-заостренной
преувеличенности образов и ситуаций; Голсуорси, как уже сказа-
но, следовал другой линии реалистического искусства, сочетавшей
12
социальную тематику с психологизмом и достоверным изображе-
нием быта разных социальных слоев. Социально-критической
литературе противостояла новая разновидность романтического
искусства. Его самым одаренным представителем явился Джозеф
Конрад, мастер авантюрно-приключенческого романа. Его литера-
турное кредо сразу же обнаруживается в словах: «Художник
апеллирует к той части нашего существа, которая не зависит от
мудрости. К тому, что является даром, а не приобретением и,
следовательно, более долговечно. Он обращается к нашей способ-
ности восхищаться и удивляться, к ощущению тайны, окружа-
ющей нашу жизнь, к нашему чувству жалости, красоты и боли, к
скрытому чувству товарищества по отношению ко всему сущему и
к тонкой, но неистребимой вере в солидарность, объединяющую
многие одинокие сердца...»
В отличие от Стивенсона, увлекавшегося героикой и цельны-
ми, мужественными характерами (за исключением «Истории м-ра
Джекиля и м-ра Хайда»), Конрада интересуют люди с обыкновен-
ными качествами, подверженные слабостям, двойственные по
натуре. В его романах достаточно необыкновенных и, можно
сказать, романтических обстоятельств, но главное внимание писа-
тель уделяет не им, а тому, что происходит в душах его героев, и
в изображении этого он приближается к Достоевскому.
Мы не найдем такой глубины у Дж. К. Честертона, любителя
необычного и загадочного, мастера парадоксов, соперничавшего с
Шоу, но он обладал большим даром убеждения. Не случайно его
любимый герой—патер Браун, священник-детектив, которому
интуиция и своеобразная логика помогают распутывать самые
сложные дела. Не уступает в художественной силе романам и
новеллам Честертона его книга «Диккенс», принадлежащая к
числу лучших образцов английской литературной критики вообще.
Честертон создал яркий образ писателя, глубоко проник в мир его
воображения, исходя из своего понимания английского националь-
ного характера. Он, однако, с большей силой подчеркивал
традиционализм великого романиста, чем бунтарские, критические
элементы его творчества.
Хилери Беллок, автор юмористических стихов, исторических
сочинений, книг путешествий и многочисленных эссе, был консер-
вативен в своих общественно-политических взглядах, любил не-
обычное, тяготел к романтической старине и примыкал к направ-
лению, противопоставлявшему красочность, занимательность,
нравственный идеализм литературе социально-критической и ре-
алистической. Вместе с тем ни Честертон, ни Беллок не считали
главной целью литературы развлечение. Миру расчета, корысти
и эгоизма они противопоставляли положительные нравственные
идеалы, полагая при этом, что «золотой век» человечества позади.
Конец XIX века был отмечен в Англии также развитием
натурализма, ориентировавшегося на французские образцы, и
прежде всего Золя. Наиболее заметными представителями этого
направления были Джордж Гиссииг и Джордж Мур. К этой школе
примкнул, выступив позднее их, Сомерсет Моэм. Его литератур-
ная деятельность началась до первой мировой войны и продолжа-
лась долго, вплоть до нашего времени, но по литературной манере
13
Моэм принадлежал к писателям конца XIX—начала XX века. Его
всегда интересовали темные и печальные стороны жизни, которые
рн изображал с объективностью незаинтересованного наблюдате-
ля, несколько скептичного по отношению к идеальным представ-
лениям о человеческой природе. Свои творческие принципы Моэм
изложил в ряде книг, выступив также с опытами критической
оценки выдающихся авторов и классики. В этюде о «Братьях
Карамазовых» Достоевского хорошо выявлен взгляд Моэма на
главное в литературе. Оно состоит в разрушении всякого прекрас-
нодушного идеализма, воплощением которого для него является
Шелли, при этом Моэм раскрывает свое понимание двойственно-
сти творчества великого русского писателя. Моэм подчеркивает у
Достоевского тончайшее психологическое проникновение в тайны
зла и не останавливается перед тем, чтобы отождествить писателя
с Иваном Карамазовым. Моэм полагает, однако, что положитель-
ное начало в романе Достоевского получилось неубедительным,
что спорно. Сам Моэм как романист, драматург и новеллист
изображал преимущественно типы и явления, свидетельствующие
о господстве в человеке дурных начал, нередко приводящих людей
К гибели, нравственной и физической, и пожалуй, одной из
настоящих ценностей жизни считал-только творческий дар писате-
ля и художника.
6
Литература на переломе от XIX* к XX веку содержала достаточно
свидетельств глубокого кризиса английского капиталистического
общества. Бесчеловечность, лежавшая в основе социального
строя, обусловила кризис буржуазной идеологии, и это многооб-
разно отразилось в литературе. Идейная разноголосица переходи-
ла в разброд мнений и понятий. Официальная мораль перестала
даже в малой степени соответствовать действительным отношени-
ям, сложившимся в обществе, и литература показала это с самьгх
разных позиций—эстетских, как у Уайльда, неоромантических,
как у Конрада, социалистических, как у Шоу, с позиций буржуаз-
ного гуманизма, как у Голсуорси, с точки зрения натурализма,
как у С. Моэма. Первая мировая война 1914—1918 годов выявила
всю лживость и лицемерие общепринятой буржуазной морали.
Литература отразила это в потоке произведений, показывавших
полный распад привычных общественных устоев и разлад в
человеческих отношениях. Ярчайшее изображение этого процесса
'дали «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу и «Современная
комедия» Дж. Голсуорси. Духовное смятение, вызванное войной,
ярко выразил Р. Олдингтон в «Смерти героя», а идейный разброд
и абсурдность буржуазного бытия с болезненной иронией отражены
в романах молодого О. Хаксли. Недаром создателю «Контрапун-
кта» так^ нравился автор смешных бессмыслиц Эдвард Лир,
сделавший для поэзии то же, что Льюис Кэрролл своей «Алисой в
Стране Чудес» для прозы.
Смятение душ, брожение умов, перемены в быту и нравах не
могли не породить острые противоречия и в литературной жизни.
14
Еще в полную меру сил продолжали творить писатели предше-
ствующей эпохи—Шоу, Уэллс, Голсуорси, Беннет, а Вирджиния
Вульф откровенно заявила всем им (кроме Шоу, которого она йе
посмела задеть), что молодому поколению они больше не годятся
в духовные наставники. По ее мнению, их главный недостаток в
том, что они «материалисты», «заняты телом, а не духом», т. е.
озабочены материальными условиями существования, иначе гово-
ря, социально-экономическими проблемами, тогда как духовный
крах, одно из следствий войны, требовал, по ее словам, главное
внимание перенести на психологию человека.
И действительно возникло новое направление, стремившееся
проникнуть в самые тайники человеческих душ. Во Франции
Марсель Пруст создавал грандиозную эпопею «В поисках утра-
ченного времени», в Англии ирландец Джеймс Джойс в «Улиссе»
предпринял попытку проследить жизнь трех человек на протяже-
нии одного дня. Такое проецирование событий внешнего мира,
макрокосма в индивидуальный микрокосм, отвечало глубокой
духовной потребности интеллигентных слоев общества, искавших
корни всего случившегося во внутреннем мире человека. Такую
же цель тончайшего анализа душевных движений ставили себе
Дороти Ричардсон и Вирджиния Вульф. Стремясь уловить мель-
чайшие психические реакции, нюансы переживаний, погружаясь в
мир субъективных чувствований, они утрачивали ощущение цель-
ности мира. Нельзя отрицать известных достижений такой литера-
туры, проявивших в частностях понимание тончайших явлений
человеческой психики, но это было куплено ценой утраты
перспективы жизни в целом, постижения важнейших социально-
экономических законов, управляющих жизнью общества.
Другое направление романа представлено творчеством
Д. Г. Лоуренса, который в своем эссе «Почему имеет значение
роман» видит в литературе главное средство познать человека в
целом, не его душу, не тело, а всего человека, каков он в
подлинной жизни. Д. Г. Лоуренс воспринял от натуралистов их
подчеркнутый интерес к физиологической стороне жизни, но
столь же пристально изучал тончайшие движения психики челове-
ка. Беды современного человечества проистекают оттого, что оно
пренебрегает природой, и от этого страдает как тело, так и душа.
Привести, утверждает Лоуренс, к органическому единству все
физические и духовные стремления, цивилизацию и природу—
таков единственный путь, который выведет человека из тупика.
Эдвард Морган Форстер, также стремившийся постигнуть душу
современного человека во всей ее сложности, отвергал школу
«потока сознания». В статье о М. Прусте Форстер подверг
критике его художественный метод, в частности концепцию
времени; «Для Толстого время было чем-то размеренным, уклады-
вающимся в логические рамки летописи, для Пруста оно—нечто
прерывистое, как память или любовь. А при такой структуре мира
очень просто изображать человечество постоянно разрушающим-
ся и не знающим обновления». Как убедительно показывает
Форстер, для Пруста идея распада—коренное убеждение, выра-
жение отчаяния писателя, и этим объясняется пессимизм* прони-
зывающий всю картину жизни, рисуемую французским романи-
15
стом. Пессимизму Пруста Форстер противопоставил взгляд на
жизнь, присущий Данте. Заметим кстати, что при всем различии
их взглядов Форстер близок к тому пониманию великого флорен-
тийца, которое предложил в статье об авторе «Божественной
комедии» Т. С. Элиот.
Изощренности экспериментального психологического романа
Э. М. Форстер противопоставил простой, столь свойственный
англичанам «здравый смысл», не обывательски пошлый, а здра-
вый смысл интеллигентного человека, убежденного в том, что
жизнь отнюдь не бессмысленна и что писатель не имеет права
пренебрегать ее здоровыми началами.
Э. М. Форстер сохранял приверженность гуманистическим
ценностям прошлого, ему были глубоко чужды те тенденции
современной литературы, которые отбрасывали прогрессивные
завоевания гуманизма. Напротив, Т. С. Элиот продолжил идею
католического возрождения, которая была выдвинута уже Честер-
тоном. Поэтому для Элиота Данте велик не просто как поэт, но, в
частности, как поэт католический. Полемизируя с Элиотом,
Форстер ценит, прежде всего, в авторе «Божественной комедии» не
его религиозность, а его гуманизм. В споре о Данте, таким образом,
отразилась борьба двух тенденций английской буржуазной литера-
туры XX века. Для всех честных представителей буржуазной
интеллигенции стал очевиден кризис современного общества. Если
одни предлагали как средство от всех бед возвращение к религии, то
другие отстаивали идеологию либерального гуманизма. Форс-
тер представляет именно это направление, и к нему принад-
лежали также Беннет и Голсуорси. Но религиозное обращение
получило не одного адепта, в числе прочих оказался и Грэм
Грин.
В период между двумя войнами к движению буржуазного
либерального гуманизма примыкал О. Хаксли, в поздние годы,
после второй мировой войны, ударившийся в мистицизм; но,
пожалуй, крупнейшим представителем этого направления можно
считать Джона Бойнтона Пристли. Писатель многоликий и неров-
ный, Пристли противостоял пессимизму «потерянного поколе-
ния», верил в здоровые силы демократических слоев нации,
достаточно крепкие, так как они продолжают великую отечествен-
ную традицию, которой он воздал дань в блестящих критических
этюдах «Комические характеры в английской литературе». Инте-
ресные для литературоведов, они значительны в первую очередь
своим нравственным пафосом: пороки и недостатки общества и
отдельных людей заслуживают осмеяния, но английский юмор,
как его понимает Пристли, юмор Шекспира и Диккенса в первую
очередь, имеет своей глубочайшей основой веру в человека и в
человечество.
В XX веке в английской литературе продолжается борьба
прогрессивных и реакционных социально-политических тенденций,
борьба реализма против модернизма и формального эксперимента-
торства, уводящего от коренных проблем жизни, борьба социаль-
ного оптимизма против пессимизма и неверия в перспективы
прогрессивного общественного развития. Если 20-е годы прошли
под знаком разочарования интеллигенции в буржуазной культуре
16
и в поисках форм, способных отразить глубинные процессы
сознания, то в 1930-е годы успехи Советского Союза в осуще-
ствлении первых пятилеток и подъем широкого демократического,
антифашистского движения в Европе вызывают расцвет прогрес-
сивных тенденций в литературе. Новый подъем социального
романа, блестящие выступления Оксфордской школы поэтов,
усиление социально-критических мотивов в драматургии сопро-
вождались появлением на английской почве марксистской крити-
ки. Ее наиболее видные представители Ральф Фокс и Кристофер
Кодуэлл внесли в оценку литературного развития социально-
политические критерии.
Литературная ситуация после второй мировой войны отлича-
лась в Англии большой сложностью. В целом можно говорить о
том, что реалистическая традиция преодолевала крайности модер-
низма, но социально-экономическая и политическая обстановка в
стране, обусловленная тем, что Великобритания перестала быть
ведущей империалистической державой и превратилась во второ-
разрядное капиталистическое государство, во многом зависящее
от США, а также издержки научно-технической революции в
условиях капитализма обострили противоречия в области буржу-
азной культуры. Среди многих работ, характеризующих суще-
ственные стороны современной буржуазной литературы, несомнен-
ный интерес представляет эссе Малькольма Брэдбери. Как он
показывает, новыми формами модернизма или постмодернизма
явились литература абсурда и «новый роман», первые образцы
которых дала Франция. Интеллектуальному изыску противостоит
массовая или тривиальная литература, удовлетворяющая самые
пошлые вкусы, псевдокультура, маскирующая пустоту бездуховно-
сти. М. Брэдбери, справедливо заметив один из отрицательных
аспектов развития буржуазной литературы, а именно его модерни-
стский аспект, распространяет его на весь литературный процесс,
неправомерно принижая гуманистическую, реалистическую тради-
цию современной мировой литературы. В поисках выхода из
духовного тупика Брэдбери выражает желание,.чтобы писатели не
ограничивались констатацией того, что видят в мире, а давали
человечеству «надежные опоры в жизни», нравственные и духов-
ные, что, разумеется, с наибольшей эффективностью дано осуще-
ствить писателю, вооруженному передовым антибуржуазным миро-
воззрением, как о том справедливо пишет Джеймс Олдридж.
Вопреки тем, кто утверждает некоммуникабельность как ос-
новной закон жизни современного человека, Дж. Фаулз видит в
Искусстве лучшее средство преодоления индивидуалистической
замкнутости. Назначение литературы искажается, когда она
становится выражением только субъективного взгляда на жизнь,
разорванности связей, апологией насилия и всякого рода извраще-
ний, чего в буржуазной литературе—«в осуществление» принципа
«вседозволенности»—чрезвычайно много. Фаулз видит в поэзии
верное зеркало, отражающее действительность во всей ее сложно-
сти: именно поэзия способна сохранять и развивать лучшие
человеческие ценности. Можно с уверенностью утверждать, что
гуманистические тенденции, стремление к реализму в английской
литературе, в конечном счете, постоянно одерживали победу. О
17
том свидетельствует творчество Ч. П. Сноу, того же Грина,
лучшие произведения А. Мер док.
Было бы9 однако, ошибкой упрощенно оценивать отдельные
произведения тех или иных писателей в зависимости от их
мировоззрения или эстетических взглядов. Картина литературной
жизни весьма сложна. Т. С. Элиот, реакционер в политике, был,
несомненно, крупным поэтом, отразившим духовный кризис бур-
жуазного общества. Джойс—писатель, доведший до крайности
модернистское экспериментаторство, в силу чего некоторые эпи-
зоды его произведений становятся совершенно непонятными,
сделал также важные открытия в художественном изображении
человеческой психики. При всей своей критике эгоизма буржу-
азии Голсуорси в последний период жизни свойственны консерва-
тивные тенденции. Грэм Грин—убежденный католик, но он же
обнажил духовное опустошение человека в современном буржуаз-
ном обществе, не говоря уже о его смелых обличениях низмен-
ных методов колониальной политики английского империализма.
Трезвый критический подход к суждениям писателей Англии о
литературе исключает предвзятость. Нужно оценивать высказыва-
ния писателей диалектически, отделяя верное от неверного,
спорное—от истинного и справедливого. Необходимо помнить,
что те или иные мнения порождены определенной эпохой и
носят преходящий характер. Интересные сами по себе, суждения
английских писателей о литературе раскрываются полнее всего
при близком знакомстве с движением самой литературы. Предлага-
емая читателю книга, несомненно, поможет глубже осмыслить
идейное и художественное значение лучших произведений англий-
ской литературы за последние два века.
Л. Аникст
У. ВОРДСВОРТ
ПРЕДИСЛОВИЕ
К «ЛИРИЧЕСКИМ БАЛЛАДАМ»
Первый том этих Стихотворений уже предстал на суд публики. Он
был напечатан как эксперимент, который, я надеялся, поможет
установить, в какой мере, подвергнув метрической аранжировке
подлинную речь людей, находящихся в состоянии явного возбуж-
дения, можно передать характер их радости и ее степень, которые
Поэт сознательно постарается воспроизвести.
Я не переоценивал возможное воздействие этих Стихотворе-
ний: я льстил себя надеждой, что те, кому они должны понравить-
ся, прочтут их с более нежели обычным удовольствием; и, с
другой стороны, я прекрасно понимал, что те, кто не примет их,
прочтут их с более нежели обычной неприязнью. Результат
разошелся с моими цредположениями только в одном—
Стихотворения понравились большему числу читателей, чем я
смел надеяться, я могу угодить.
Кое-кто из моих друзей мечтает об успехе этих Стихотворе-
ний, веря, что если принципы, в соответствии с которыми они
создавались, были бы осуществлены, то возник бы новый род
Поэзии, способный возбудить непреходящий интерес всего чело-
вечества, весьма важный и по характеру и многообразию своего
нравственного воздействия; поэтому они посоветовали мне развер-
нуть в предисловии логическое обоснование теории, лежащей в
основе Стихотворений. Но мне не хотелось браться за работу,
зная, что Читатель с холодностью воспримет мои доводы, ибо он
может заподозрить, что мною главным образом руководило
эгоистическое и глупое желание убедить его в достоинстве этих
Стихотворений; еще большие сомнения я испытывал, понимая,
что едва ли возможно развернуть мысли и полностью развить
доводы, ограничив себя размерами предисловия. Ибо для того,
чтобы изложить суть предмета ясно и логично, что само по себе,
возможно, пришлось бы дать полный отчет о вкусах современных
читателей в нашей стране и определить, в какой мере эти вкусы
являются нормальными или извращенными, а это в свою очередь
невозможно без установления степени взаимодействия языка и
человеческого разума и воссоздания этапов развития не только
литературы, но и самого общества. Поэтому я намеренно отказал-
ся от последовательного обоснования своей теории. Но все же я
Чувствовал бы себя весьма неловко, если бы внезапно представил
на суд читателей без всякого предисловия Стихотворения, столь
разительно несхожие с теми, что в настоящее время вызывают
всеобщие похвалы.
19
Считается, что, приступая к созданию стихов, Автор берет на
себя обязательство следовать неким принятым нормам: он таким
образом уведомляет читателя, что определенный круг идей и
выражений будет представлен в его книге, все же прочее
решительно исключено из нее. Такого рода показатель, или
символ, который содержит в себе поэтическая речь, в разные
эпохи развития литературы должен был вызывать совершенно
различное отношение: например, в эпоху Катулла, Теренция и
Лукреция и во времена Стация и Клавдиана; или в нашей стране, в
эпоху Шекспира, Бомонта и Флетчера и во времена Донна и
Каули, или Драйдена, или Попа. Я не берусь с точностью
определить характер обещания, каковое Автору, пишущему в
стихах, следует дать читателям наших дней, но многим, несомнен-
но, покажется, что я не выполнил обязательств, которые добро-
вольно взял на себя. Те, кто привык к витиеватости и бессодержа-
тельности языка многих современных писателей, если все же и
дочитают эту книгу до конца, без сомнения, часто будут испыты-
вать странное и неловкое чувство: они будут искать поэзию и
неизбежно зададутся вопросом, по какому правилу этикета эти
строки могут претендовать на такое звание. Поэтому я надеюсь,
что читатель не осудит меня за попытку изложить суть моих
намерений, а также (насколько это зозможно в рамках предисло-
вия) объяснить некоторые главные причины, определившие выбор
моей задачи; таким образом, читателя по крайней мере не
постигнет неприятное чувство разочарования, а я смогу защитить
себя от одного из самых позорных обвинений, которые могут
быть выдвинуты против Автора, а именно: обвинения в лености,
мешающей ему установить, в чем заключается его долг, или,
когда долг ясен, мешающей его выполнить.
Итак, главная задача этих Стихотворений состояла в том,
чтобы отобрать случаи и ситуации из повседневной жизни и
пересказать или описать их, постоянно пользуясь, насколько это
возможно, обыденным языком, и в то же время расцветить их
красками воображения, благодаря чему обычные вещи предстали
бы в непривычном виде; наконец—и это главное,— сделать эти
случаи и ситуации интересными, выявив в них с правдивостью, но
не нарочито, основополагающие законы нашей природы; это в
основном касается способа, при помощи которого мы связываем
понятия, находясь в состоянии возбуждения. Мы выбрали глав-
ным образом сцены из простой сельской жизни, потому что в
этих условиях естественные душевные порывы обретают более
благодатную почву для созревания, подвергаются меньшему огра-
ничению и говорят более простым и выразительным языком;
потому что в этих условиях наши простейшие чувства выявляют
себя с большей ясностью и соответственно могут быть точнее
изучены и более ярко воспроизведены; потому что сельские
нравы, порожденные этими простейшими чувствами и неизбеж-
ным характером сельских занятий, понятнее и долговечнее; и,
наконец, потому, что в этих условиях человеческие страсти
приобщаются к прекрасным и вечным формам природы. Мы
также использовали и язык этих людей (очищенный от того, что
кажется его очевидными недостатками, от того, что постоянно и
20
справедливо вызывает неприязнь или отвращение), потому что
люди ежечасно вступают в общение с природой, от которой
произошла лучшая часть языка, и потому что благодаря своему
социальному положению и схожести и узости круга общения они
менее подвержены тщеславию и выражают свои чувства и мысли
простым и незамысловатым языком. Соответственно такой язык,
рожденный долгим опытом и постоянными чувствами, более вечен
и гораздо более философичен, чем язык, которым поэты часто
подменяют его, думая, что они оказывают себе и своему
искусству тем большую честь, чем больше они отделяют себя от
человеческих чувств и отдают предпочтение произвольным и
прихотливым формам выражения, поставляя пищу для переменчи-
вых вкусов и переменчивых аппетитов, ими же самими создан-
ных1.
Я не могу, однако, остаться глухим к раздающемуся сейчас
протесту против тривиальности и убожества как мысли, так и
языка, которыми некоторые из моих современников грешат в
своих стихах; я признаю, что, когда этот недостаток имеет место,
он более губителен для репутации писателя, чем претенциозность
и сомнительное новаторство, хотя все же следует признать, что он
менее вреден по своим последствиям. От таких произведений
стихотворения этой книги отличаются по крайней мере одним
свойством—каждое из них имеет достойную цель. Я не хочу
сказать, что я всегда начинал писать, поставив перед собой ясную,
продуманную цель, но характер моих размышлений, я полагаю,
так влиял на мои чувства и так их направлял, что описание
предметов, сильно возбуждающих эти чувства, как вы увидите,
всегда оказывается подчиненным какой-либо цели. Если я заблуж-
даюсь, я не вправе называть себя поэтом. Ибо истинная поэзия
представляет собой стихийное излияние сильных чувств; и, хотя
это верно, все хоть сколько-нибудь стоящие стихотворения на
любую возможную тему писали только люди, которые, будучи
наделены более чем обычной природной чувствительностью, в то
же время долго и глубоко размышляли. Ведь постоянный поток
наших чувств модифицируется и направляется нашими мыслями,
которые, по сути дела, обозначают испытанные нами ранее
чувства; размышляя над взаимосвязью этих общих обозначений,
мы открываем то, что является истинно значительным для
человека, а благодаря постоянному повторению этого процесса
наши чувства приходят в соответствие с важными явлениями,
пока наконец, если мы от рождения наделены повышенной
чувствительностью, в нашем сознании не возникнут определенные
ассоциации, слепо и механически повинуясь которым, мы опишем
предметы и выразим эмоции такого рода и в таком отношении
друг к Другу, что разум Читателя должен будет обязательно
дросветиться, а его чувства стать сильнее и чище.
Как сказано, каждое из этих Стихотворений преследует
определенную цель. Необходимо также упомянуть другую черту,
отличающую эти Стихотворения от основного потока поэзии
1 Здесь стоит заметить, что лучшие места у Чосера почти всегда написаны на
чистом и всякому понятном и по сей день языке.
21
наших дней; она заключается в^ том, что выраженное здесь
чувство придает значительность действию и обстоятельствам, а не
наоборот-
Чувство ложной скромности не помешает мне заявить, что я
обращаю внимание Читателя на это отличие не столько даже ради
самих Стихотворений, сколько ввиду общей значительности этого,
предмета. Предмет поистине значителен! Человеческий ум спосо-
бен испытывать волнение без вмешательства грубых и сильных
раздражителей; и человек должен обладать очень смутным пред-
ставлением о красоте и благородстве ума, если не знает этого,
равно как и того, что степень этих способностей возвышает одних
людей над другими. Поэтому мне кажетсл, что попытаться
пробудить и развить эти способности—одна из лучших целей,
которую писатель может поставить перед собой в любую эпоху;
но эта цель, прекрасная во всякое время, особенно важна в наши
дни. Ибо множество неизвестных доселе сил, объединившись,
действуют сейчас, стараясь притупить проницательность человече-
ского ума и, сделав его непригодным ко всякому самостоятельно-
му усилию, довести его до состояния почти дикарского отупения.
Наиболее действенными из этих сил являются важные государ-
ственные события, которые происходят ежедневно, и возраста-
ющее сосредоточение людей в городах, где единообразие занятий
порождает страсть к необычным происшествиям, которую свое-
временная информация ежечасно удовлетворяет. К этой тенденции
жизни и нравов и подлаживаются литература и театральное
искусство нашей страны. Бесценные творения писателей нашего
прошлого—я чуть было не сказал творения Шекспира и Мильто-
на—вытесняются романами ужасов, болезненными и пустыми
немецкими трагедиями и лавиной никчемных, и нелепых рифмован-
ных историй. Когда я размышляю об этой недостойной жажде
сильных ощущений, мне делается почти стыдно тех слабых
усилий, которые были предприняты в этом томе, чтобы противо-
стоять ей, а при виде огромных размеров этого повсеместного зла
меня бы охватила не столь уж позорная меланхолия, если бы не
мое глубокое убеждение, что существуют некоторые извечные и
неистребимые качества человеческого ума, равно как и великие и
неизменные цели, воздействующие на него, которые тоже извеч-
ны и неистребимы; и если бы это убеждение не сочеталось в моей
душе с верой в то, что приближается время, когда против ётого
зла последовательно выступят люди, наделенные большей силой,
которые и добьются более ощутимого успеха.
Столь подробно описав предмет и цель этих Стихотворений, я
прошу у Читателя разрешения изложить ряд мыслей, касающихся
их стиля, чтобы меня по крайней мере не обвинили в том, что л не
сделал того, чего делать не собирался. Читатель почти не
встретит в книге персонификаций абстрактных идей, она полно-
стью отвергнута как прием, обычно используемый, чтобы придать
стилю возвышенность и поднять его над стилем прозы. Я старался
подражать и, насколько возможно, воспроизвести не что иное, как
обычный разговорный язык людей; персонификации же вовсе не
являются стилистическим приемом, иногда подсказанным чув-
ством, и в этом качестве я пользовался ими; но л постарался
22
полностью отказаться от абстракций как от шаблонного стилисти-
ческого приема или как от особого языка, на котором будто бы
должны изъясняться поэты. Я хотел, чтобы Читатель соприкос-
нулся с подлинной жизнью, посчитав, что именно так я сумею
увлечь его. Пусть другие, идущие иными путями, тоже увлекут
его по-своему; я не имею ничего против этого, но предпочитаю
собственный путь. В этом томе вы также почти не найдете того,
-что принято называть поэтическим слогом; я столь же усиленно
старался избежать его, как другие обычно стараются его воспро-
извести; делал я это по уже названной мной причине— дабы
Приблизить мой язык к языку обыденной речи, а также потому,
что удовольствие, которое я хочу доставить Читателю, совершен-
но иного рода, чем то, которое, по мнению многих, является
истинной целью поэзии. Не входя в излишние подробности, я могу
дать Читателю более точное представление о стиле, в котором
намеревался писать, лишь сообщив ему, что я всегда стремился
ясно представить себе тему Стихотворений, и поэтому я надеюсь,
что мои описания не грешат против истины, а идеи выражены
языком, соответствующим их важности. Этим методом я должен
был достичь известных результатов, ибо он благоприятствует
одному свойству всякой хорошей поэзии, й именно здравому
смыслу, но это лишило меня возможности, использовать.большое
количество фраз и стилистических приемов, которые из поколе-
ния в поколение были общим достоянием поэтов. Я также счел
необходимым наложить на себя еще одно ограничение и воздер-
жался от употребления многих выражений, достойных и прекрас-
ных самих по себе, но столь часто и неуместно использовавшихся
плохими поэтами, Что с ними связаны такие неприятные чувства,
побороть которые вряд ли сможет какой-либо искусный [худож-
ник].
Если в стихотворении окажется несколько строк или даже
одна строка, язык которой звучит естественно и находится в
строгом согласии с законами метрики, но не отличается от языка
прозы, то многие критики, наткнувшись на эти, как они их
называют, прозаизмы, воображают, будто они сделали важное
открытие, и с ликованием осуждают поэта как человека, несведу-
щего в своей профессии. Эти люди хотели бы установить свод
правил, который читатели должны решительно отвергнуть, если
они хотят получить удовольствие от данной книги. Ведь можно с
легкостью доказать, что не только язык большей части любого
хорошего стихотворения, даже если оно самого возвышенного
характера, ни в чем, кроме размера, не должен отличаться от
языка хорошей прозы, но и то, что наиболее содержательные
места лучших стихотворений как раз написаны языком хорошей
прозы. Доказательством правильности этой мысли могут служить
бесчисленные отрывки из произведений почти любого поэта, в
том числе самого Мильтона. Чтобы в общей форме проиллюстри-
ровать это положение, приведу здесь небольшое сочинение Грея,
стоявшего во главе тех, кто теоретическими рассуждениями
стремился увеличить дистанцию между прозой и стихами, и
тщательнее любого другого поэта оттачивавшего свой поэтиче-
ский слог.
23
Бессильно утро, что улыбку Шлет,
И алый Феб, прогнавший мрак угрюмый,
И щебет птиц, не знающих забот,
И зелень нив: им не рассеять думы.
Глаза не видят явленных щедрот,
Не внемлет слух немолкнущему шуму,
Осиротевший дух тоска гнетет,
И красота не занимает ум мой.
А утро вновь улыбкой будит люд.
И взор ответный радостно-умилен;
Писк раздается в гнездах там и тут;
Быть обещает урожай обилен.
Умерших к жизни слезы не вернут,
И плач мой столь же горек, сколь бессилен*
Легко убедиться в том, что единственное место данного сонета,
имеющее хоть какую-нибудь ценность,—это выделенные строки;
очевидно также, что за исключением рифмы и употребления
слова fruitless вместо fruitlessly, что является дефектом, язык
этих строк совершенно не отличается от языка прозы.
Эта цитата показывает, что язык прозы может быть с успехом
использован в поэзии; к этому мы и вели, говоря, что язык
любого хорошего стихотворения в целом ничем не отличается от
языка прозы. Более того, можно с уверенностью сказать, что
между языком прозы и языком поэзии нет и не может быть
существенного различия. Мы любим находить сходство между
поэзией и живописью и не случайно зовем их сестрами; но как
нам с достаточной точностью обозначить степень родства, переда-
ющую близость поэзии и хорошей прозы? Обе они творятся и
воспринимаются одними и теми же органами чувств; плоть, в
которую они обе облечены, создана из одного и того же вещества,
их чувства родственны и почти тождественны, не обязательно
отличаясь друг от друга даже степенью; поэзия «проливает не
слезы, какими плачут ангелы»1 но естественные человеческие
слезы; она не может похвастаться какой-то особой божественной
кровью, которая отличала бы ее от прозы; человеческая кровь, и
никакая другая, струится в венах обеих.
Если мне возразят, что рифма и размер сами по себе являются
различием, устраняющим все, что я сказал о близком родстве
языка поэзии и прозы, и открывающим путь для других искус-
ственных разграничений, которые с легкостью приходят на ум, я
отвечу, что язык поэзии, представленной здесь, воспроизводит,
насколько это возможно, живую разговорную речь, что речь эта
там, где она передана с должным вкусом и тактом, сама по себе
будет отличием гораздо большим, чем можно поначалу предполо-
жить, и полностью отделит поэзию от вульгарности и убожества
обыденной жизни; и если добавить сюда еще размер, то возникнет
несходство вполне достаточное, чтобы убедить разумно мысляще-
го оппонента. Какое еще отличие нам нужно? Откуда ему
возникнуть? И где может оно существовать? Конечно же, не там,
где поэт говорит устами своих героев: здесь оно не нужно ни для
возвышения стиля, ни для необходимых якобы украшений; ибо,
если поэт правильно выбрал тему, она естественным образом и в
Д. Мильтон. «Потерянный рай».
24
надлежащем месте вызовет в нем чувства, слог которых, будучи
продуман верно и тщательно, обязательно окажется приподнятым
и красочным, насыщенным метафорами и образами. Я не стану
говорить о несоответствии, которое неприятно поразило бы
искушенного Читателя, если бы поэт добавил какие-либо неуме-
стные изыски красноречия к словам, внушенным естественным
чувством: достаточно сказать, что такие добавления излишни. И
вполне вероятно, что те отрывки, в которых многочисленные
метафоры и риторические фигуры необходимы, окажут большое
воздействие, тогда как в других случаях, когда чувства не столь
сильны, стиль будет сдержанным и умеренным.
Но поскольку удовольствие, которое, как я надеюсь, Стихотво-
рения, представленные здесь* доставят Читателю, целиком зависит
от правильного понимания этого предмета и поскольку он и сам
очень важен для воспитания нашего вкуса и нравственности, я не
могу ограничиться этими отдельными замечаниями. И если то, что
я собираюсь сказать, кому-то покажется напрасным трудом, а я
сам—человеком,, ведущим бой при отсутствии противника, то ему
можно напомнить, что, какие бы слова люди ни употребляли, на
деле мнение, которое я пытаюсь обосновать, неизвестно. Если
принять мои выводы и руководствоваться ими, насколько возмож-
но, наши суждения ив хвалебной, и в критической части о
произведениях крупнейших поэтов древности и нового времени
сильно разойдутся с нынешними, а наши моральные критерии,
влияющие на эти суждения и находящиеся под их влиянием,
будут, мне кажется, исправлены и очищены.
Рассматривая предмет нашего обсуждения в самом общем виде,
зададимся вопросом, что значит слово Поэт? Что такое Поэт?
К кому он обращается? И какого языка нужно ждать от него?
Это человек, говорящий с людьми; человек, правда, наделенный бо-
лее тонкой чувствительностью, большей способностью к восторгу
и нежности, обладающий большими знаниями человеческой при-
роды и более познающий радость от своих страстей и желаний
й радующийся более других людей обитающему в нем духу жизни,
с радостью взирающий на подобные страсти и желания, которые
проявляют себя повсюду, и обычно вынужденный творить их,
когда он их не находит. Помимо этих качеств, он более других
людей наделен склонностью воспринимать отсутствующие предме-
ты, как если бы они были рядом, способностью возбуждать в
своей душе страсти, которые весьма далеки от страстей, вызыва-
емых реальными событиями, и тем не менее (особенно когда они
связаны с радостью и удовольствием) гораздо больше напоминают
страсти, вызываемые реальными событиями, чем те, что обычно
испытывают другие люди, питаясь лишь импульсами интеллекта.
Благодаря этому, а также практике поэт обретает большую
быстроту и силу выражения мыслей и чувств, особенно таких,
которые по его желанию или по складу его ума рождаются в нем
без непосредственного внешнего воздействия.
Но какой бы мерой этой способности ни обладал пусть даже
величайший поэт, нет сомнения в том, что его язык по живости и
естественности не может не уступать языку, которым изъясняют-
ся в жизни люди, на самом деле переживающие те же страсти,
25
лишь бледную тень которых поэт способен воспроизвести или
просто счесть, что воспроизвел в [своих стихах].
Каким бы возвышенным нам ни хотелось видеть образ Поэта,
ясно, что, когда он описывает страсти или подражает им, его
работа носит отчасти механический характер в сравнении с
естественным накалом подлинных, невыдуманных действий и
страданий. Так что поэту захочется приблизить свои чувства к
чувствам людей, которые он описывает, более того, на короткое*
время полностью поддаться иллюзии и даже смешать и отожде-
ствить с их чувствами свои собственные, изменив лишь язык,
который при этом рождается в его сознании, поскольку он пишет
с определенной целью—доставить удовольствие. Здесь он тогда и
применит принцип отбора, о котором мы уже говорили. Этим он
устранит все неприятное или отталкивающее в переживаниях; он
не будет чувствовать необходимости приукрашивать или возвы-
шать, и, чем усерднее будет он придерживаться этого принципа,
тем полнее он ощутит, что никакие слова, подсказанные его
фантазией или воображением, не могут сравниться со словами,
порожденными действительностью и истиной.
Но те, кто не отвергает общий смысл этих рассуждений, могут
сказать, что, раз поэт не в состоянии всегда изъясняться языком,
каким бы пристало выражать чувство, так, как это делает язык,
внушенный этим чувством в повседневности, он должен смот-
реть на себя как на переводчика, не стесняющегося заменять
красоты, недоступные для его пера, красотами иного рода и
пытающегося порой превзойти оригинал, чтобы как-то компенси-
ровать потери общего порядка, с коими он вынужден мириться.
Но это означало бы поощрять леность и трусливое отчаяние.
Более того, так мыслят люди, рассуждающие о том, чего они не
понимают, воспринимающие поэзию как развлечение и пустое
Времяпрепровождение; с такой же серьезностью рассуждающие о
поэтическом вкусе, как если бы речь шла о чем-то незначитель-
ном, вроде любви к танцу на проволоке, или коньяку, или шерри.
Как мне известно, Аристотель сказал, что поэзия—самый фило-
софский вид литературного творчества; так оно и есть: ее
предмет—истина, не индивидуальная, не частная, но всеобщая и
действенная, не зависящая от стороннего подтверждения, но
прямо проникающая в сердце вместе с чувством; истина, сама
свидетельствующая о себе, делающая правомочным и безогово-
рочным суд, к которому она обращается и который платит ей тем
же. Поэзия представляет собой образ человека и природы.
Препятствия, мешающие биографу и историку быть точным и
тем самым приносить пользу, несравнимо больше препятствий, с
которыми сталкивается поэт, сознающий величие своего искус-
ства» Поэт подчиняется лишь одному требованию, а именно:
необходимости доставить непосредственное удовлетворение чита-
телю, обладающему не специальными познаниями адвоката, врача,
мореплавателя, астронома или натурфилософа, но общечеловече-
скими интересами. Кроме этого ограничения, ничего не стоит
между поэтом и образом вещей; тогда как между образом, с одной
стороны, и биографом и историком—с другой, существуют тысячи
препятствий.
26
Й пусть эта необходимость доставлять непосредственное удо-
вольствие не уничтожает искусства поэта. Совсем наоборот. Она
является признанием красоты вселенной, признанием тем более
искренним, что оно не формально, но опосредованно; задача легка
и проста для того, кто с любовью смотрит на мир: более того, это
дань уважения исконному и истинному достоинству человека,
великому первейшему принципу—удовольствию, благодаря кото-
рому он познает, чувствует, живет и движется. Даже наше
сочувствие всегда порождено удовольствием: я не хотел бы,
чтобы меня неправильно поняли, но всякий раз, когда мы
сочувствуем боли, можно обнаружить, что сочувствие наше
порождено и проявляет себя в едва заметном соединении с
удовольствием. Все наши познания, то есть общие принципы,
выводимые из рассмотрения определенных фактов, созданы удо-
вольствием и существуют в нас только благодаря удовольствиям.
Ученый, например, химик или математик, какие бы трудности и
неприятности ему ни пришлось выдержать, знает и чувствует это.
Как бы болезненно ни относился анатом к своим занятиям, его
знания доставляют ему радость, а если нет радости, нет и знаний. А
что же поэт? Он рассматривает человека и предметы, окружающие
его, в их взаимодействии, из которого рождается бесконечно
сложное переплетение боли и наслаждения; он рассматривает
природу человека, который в естественных условиях размышляет
•обо всем на основании своих практических познаний, со сложивши-
мися убеждениями, готовыми умозаключениями, в силу привычки
приобретающими свойство интуиции; он рассматривает человека,
который глядит на это сложное взаимодействие идей и ощущений и
везде обнаруживает .явления, возбуждающие его сочувствие,
которое благодаря устройству его природы сопровождается избыт-
ком удовольствия.
На этом знании, которым наделен всякий человек, и на этих
симпатиях, из которых мы, учась лишь в школе повседневной
жизни, черпаем радость, поэт главным образом и сосредоточивает
свое внимание. Он считает, что человек и природа в главном
согласны между собой, а человеческий ум—единственное зеркало
самых прекрасных и интересных свойств природы. Таким обра-
зом, поэт, побуждаемый этим чувством удовольствия, которое
сопутствует ему на протяжении всех его занятий, вступает в
общение с природой, проникаясь любовью сродни той, что ученый
благодаря долгому труду выработал в себе, имея дело с теми
областями природы, которые служат объектом его изучения.
Знание и поэта и ученого основано на удовольствии; но знание
первого является необходимой частью нашего существования,
нашим врожденным и неотъемлемым достоянием; знание второ-
го—частное и индивидуальное приобретение, трудно завоевыва-
емое и не связывающее нас с другими людьми узами привычной и
непосредственной симпатии. Ученый ищет истину, подобно дале-
кому и неизвестному благодетелю, он любит и лелеет ее в
одиночестве; поэт, поющий песнь, которую подхватывает все
человечество, радуется истине, подобно близкому другу и посто-
янному собеседнику. Поэзия является духом и квинтэссенцией
познания. Она выражает страсть, вдохновляющую ученого. Об-
27
разно говоря, о поэте можно сказать, как Шекспир сказал о
человеке, что он смотрит в будущее и прошлое. Он оплот
человеческой природы; защитник и хранитель, приносящий с
собой взаимопонимание и любовь. Вопреки различию почвы и
климата, языка и нравов, законов и обычаев, вопреки всему, что
постепенно ушло или было насильно выброшено из памяти, поэт
связует с помощью чувства и знания огромную человеческую
империю, охватывающую всю землю и все времена. Мысли поэта
направлены на все окружающее; хотя глаза и чувства поистине
его лучшие поводыри, однако он устремляется в любой конец, где
есть атмосфера чувств, в которой он может расправить свои
крылья. Поэзия — начало и венец всякого знания, она так же
бессмертна, как человеческое сердце. Если труды ученых когда-
либо и произведут в прямой или косвенной форме материальную
революцию в условиях нашего существования и наших привычных
представлениях о вещах, поэт и тогда будет продолжать свой
поиск; он не только с готовностью пойдет вслед за ученым,
откликаясь на общие косвенные воздействия, но и встанет рядом с
ним, одухотворяя чувством объекты самого исследования. Слож-
нейшие открытия химиков, ботаников, минералогов станут такими
же неотъемлемыми темами поэзии, как и любые другие, если
наступит время, когда эти открытия сделаются общим достояни-
ем, а обстоятельства, при которых ученые соответствующих
профессий обдумывали их, будут ощущаться нами как существа-
ми, наделенными способностью испытывать радость и страдание.
Если настанет время, когда то, что мы сейчас зовем наукой, став
общим достоянием, как бы облечется в плоть и кровь, поэт
пожертвует свое божественное вдохновение, чтобы помочь этому
преображению, и будет приветствовать возникшее таким образом
существо как дорогого ему и полноправного жителя в доме
человека. Это не значит, что художник, разделяющий возвышен-
ное представление о поээ*», которое я постарался нарисовать,
нарушит святость и подлинность созданных его воображением
образов скороспелыми и случайными украшениями и попытается
внушить восхищение к себе уловками, явно порожденными откро-
венным ничтожеством его темы.
Все, что мы сказали, относится к поэзии в целом, но особенно
к тем разделам сочинения, где поэт говорит устами своих героев;
и тут мы разделяем мнение, согласно которому большинство
людей с хорошим вкусом считает, что драматические отрывки тем
хуже, чем больше их язык отличается от естественного и чем
больше они носят на себе ртпечаток слога автора, присущего ему
лично или являющегося общим достоянием поэтов—людей, от
которых ждут особого языка, потому что они пользуются
[метрикой].
Таким образом, этот особый язык не следует искать в
драматических отрывках, но, быть может, он все же уместен и
необходим там, где поэт говорит с нами от себя лично. На это я
отвечу, отослав читателей к вышеприведенному определению
поэта. Среди перечисленных там качеств, которые прежде всего
формируют поэта, нет ни одного, отличающего его от других
людей иначе, как по степени. Сказанное можно вкратце свести к
28
следующему: от других людей поэт отличается главным образом
большей быстротой мыслей и чувств, возникающих без непосред-
ственного внешнего стимула, и большей силой выражения мыслей
и чувств, рождающихся в нем. Но эти страсти, и мысли, и чувства
суть страсти, и мысли, и чувства, присущие всем людям. С чем
же они связаны? Конечно, с нашими моральными переживаниями
и физическими ощущениями, а также с причинами, их побужда-
ющими; с действием стихий и явлениями внешнего мира; с бурей и
солнечным светом, с круговоротом времен года, с холодом и
жарой, с утратой друзей и близких, с огорчениями и обидами,
благодарностью и надеждой, со страхом и печалью. Эти и им
подобные чувства и явления описывает поэт, ибо они являются
чувствами всех людей и явлениями, вызывающими их интерес.
Поэт мыслит и чувствует, воодушевляясь человеческими страстя-
ми. Должен ли тогда его язык существенно отличаться от языка
всех остальных людей, наделенных тонкой чувствительностью и
ясным зрением? Можно было бы доказать, что не должен. Но
если предположить, что мы заблуждаемся, то поэт вправе был бы
тогда пользоваться особым языком, выражая свои чувства ради
собственного удовольствия или удовольствия людей, подобных
ему? Ведь поэты пишут не для [самих себя], но для всех людей.
Следовательно, если только мы не являемся сторонниками восхи-
щения, питаемого невежеством, и удовольствия, испытываемого
при знакомстве с непонятным, поэту необходимо спускаться с
этих воображаемых высот; и чтобы вызвать разумный отклик, он
должен выражаться так же, как выражаются другие люди. К
этому можно добавить, что, только отбирая слова из подлинного
разговорного языка или, что то же самое, творя точно в духе
такого выбора, поэт может твердо стоять на ногах, а мы будем
знать, чего ожидать от него. То же самое касается и размера, ибо
напомним читателю: характерная особенность размера в его
постоянстве и единообразии, а не — в отличие от так называемого
поэтического слога—в произвольности и зависимости от беско-
нечных капризов, которые никак нельзя предусмотреть. В одном
случае читатель находится в полной власти поэта, выбирающего
образы и слог для выражения чувств, в то время как в другом
размер следует определенным законам, которым и поэт и читатель
с готовностью подчиняются, потому что они четки и влияют на
чувства лишь там, где согласно вековой традиции они возвышают
и увеличивают удовольствие, с которым эти чувства сопряжены.
Теперь будет уместно ответить на очевидный вопрос, а именно:
почему, исповедуя подобные убеждения, я пишу стихи? Вдобавок
к соображениям, высказанным мною ранее, я заявляю: прежде
всего потому, что, как бы я ни ограничил себя, для меня все же
остается открытым самый ценный, по общему признанию, объект
всякой литературной деятельности, будь то проза или стихи,—
великие и всеобщие чувства людей, их наиболее распространен-
ные и интересные занятия и весь мир природы, доступный моему
взору, в бесконечных сочетаниях форм и образов. Допустив на
мгновение, что все интересное в этих объектах можно столь же
ярко описать в прозе, следует ли осуждать меня за стремление
Придать этим описаниям дополнительное очарование, которое, по
29
мнению всех народов, заключено в поэтическом размере? На это
скептики могут возразить, что лишь очень малая доля удоволь-
ствия, доставляемого поэзией, зависит от размера и что неразум-
но пользоваться размером, если ты отказываешься от других
стилистических приемов, обычно при этом употребляемых; если
же пойти таким путем, то удовольствие, извлекаемое из общего
воздействия ритма, будет скорее ослаблено благодаря воздей-
ствию, возникающему при нарушении привычных представлений
читателя. Тем* же, кто все еще считает, что для достижения
нужного эффекта следует сочетать размер с надлежащими укра-
шениями стиля, и кто, по-моему, сильно преуменьшает самосто-
ятельную роль размера, необходимо, по-видимому, поскольку это
касается данного тома, вспомнить, что до сих пор живут стихотво-
рения, написанные на совсем обыденные темы и в гораздо более
простом и безыскусном стиле, из поколения в поколение достав-
ляющие нам радость. Ну, а если простота и безыскусность—
недостаток, то исходя из вышесказанного вполне можно предпо-
ложить, что несколько менее простые и безыскусные стихотворе-
ния способны доставлять радость в наши дни; моя основная задача
и состояла в том, чтобы пояснить, что я сочинял, придерживаясь
этого убеждения.
Можно было бы, конечно, привести множество причин, объяс-
няющих, почему при мужественности стиля и значительности
темы метрически организованные слова всегда будут доставлять
людям радость в той мере, в какой поэт, познавший полноту этой
радости, стремится ее передать. Цель поэзии—вызвать возбужде-
ние, сопровождающееся повышенным удовольствием; но считает-
ся, что возбуждение—непривычное и хаотичное состояние ума;
мысли и чувства в этом состоянии не следуют друг за другом в
обычном порядке. Однако, если слова, вызывающие это возбуж-
дение, достаточно сильны сами по себе или если образы и чувства
порождают слишком болезненные ассоциации, возникает некото-
рая опасность, что возбуждение может перейти надлежащие
границы. Поэтому наличие чего-то постоянного, к чему ум
привык при разных настроениях и в менее возбужденном состо-
янии, обязательно должно умерить и сдержать страсти, переме-
жая их с обычным чувством, нетесно и необязательно связанным
со страстью. Это безусловно верно; а потому, хотя такое мнение
на первый взгляд может показаться парадоксальным, в силу
способности размера увеличивать условность языка и тем прида-
вать произведению некую зыбкую нереальность, не приходится
сомневаться, что ситуации и чувства, вызывающие в нас наиболь-
шую жалость, то есть те, которые связаны с чрезмерным
страданием, лучше воспринимаются в стихах, особенно рифмован-
ных, чем в прозе. Размер старинных баллад предельно безыску-
сен, но в них есть множество мест, которые подтверждают мою
мысль, и, я надеюсь, внимательно изучивший нижеследу-
ющие произведения найдет в них подобные примеры. Эта мысль
подтверждается также и собственным опытом читателя, который
с неохотой возвращается к печальным местам «Клариссы Гарлоу»
или «Игрока» *, тогда как творения Шекспира в самых трогатель-
ных сценах никогда не вызывают у нас жалости, переходящей
30
границы удовольствия,— эффект, который в гораздо большей
мере, чем кажется на первый взгляд, следует приписать слабым,
но постоянным и повторяющимся порывам радостного удивления,
порожденным размером. С другой стороны (это случается гораздо
чаще), если слова поэта несоизмеримы со страстью и неспособны
вызвать у читателя должную степень возбуждения, то (если
выбор размера не был сделан крайне неразумно) чувство удоволь-
ствия, которое по привычке ассоциируется у читателя с размером
как таковым, и чувство, веселое или меланхоличное, которое он
по привычке ассоциирует с данным размером, будет нести в себе
нечто сильно увеличивающее выразительность слов и способству-
ющее сложной задаче, которую поэт ставит перед собой.
Если бы я предпринял систематическую защиту изложенной
здесь теории, я должен был бы раскрыть разнообразные причины,-
обусловливающие удовольствие, которое мы испытываем от раз-
мера стихотворения. Одним из главных тут является принцип,
хорошо известный всякому внимательному исследователю предме-
та искусства, а именно удовольствие, которое мы получаем,
обнаруживая сходное в несходном. Этот принцип—важнейшая
пружина нашей умственной деятельности и ее основной двигатель.
Этот принцип движет нашими любовными увлечениями и всеми
страстями, с ними связанными, он оживляет наши повседневные
беседы; от точности, с которой мы воспринимаем сходное в
несходном и несходное в сходном, зависит наш вкус и моральные
убеждения. Было бы полезно применить этот принцип при
изучении размера и показать, что благодаря ему размер способен
доставить большое удовольствие, и посмотреть, каким образом
оно достигается. Но рамки предисловия не позволяют мне развить
эти мысли, и я должен ограничиваться общими замечаниями.
Я сказал, что поэзия представляет собой стихийное излияние
сильных чувств, ее порождает чувство, к которому мы в спокой-
ствии мысленно возвращаемся; мы размышляем над этим чув-
ством до тех пор, пока благодаря некой реакции спокойствие
постепенно не исчезнет и чувство, родственное тому, над которым
мы только что размышляли, постепенно не возникнет и не
закрепится в нашем сознании. В этом состоянии обычно начинает-
ся и продолжается процесс творчества; однако чувство любой
силы и степени связано с зависящим от него удовольствием,
поэтому при сознательном описании какой-либо страсти разум,
как правило, тоже испытывает удовольствие. Поскольку природа
в данном случае столь предусмотрительно поддерживает в челове-
ке чувство удовольствия, поэт должен воспользоваться предло-
женным ему уроком и с особым вниманием проследить, чтобы все
те чувства, какие он внушает читателю, при наличии у читателя
здравого и острого ума всегда несли с собой избыток удоволь-
ствия. Тогда музыка гармоничного размера, сознание преодолен-
ной трудности и смутное воспоминание об удовольствии, ранее
испытанном от таких же или подобных произведений, имеющих
рифму и размер, неясное, но постоянно снова возникающее
впечатление знакомости языка, столь похожего на язык реальной
жизни и все же с точки зрения метрики так сильно отличающего-
ся от него,—все это незаметно породит сложное чувство наслаж-
31
дения, совершенно необходимого, чтобы умерить боль, всегда
присутствующую в описаниях сильных страстей. Чувствительная
и страстная поэзия всегда производит такое впечатление, тогда
как в сочинениях более легкого характера непринужденность и
изящество, с которыми написаны стихи, служат, по общему
признанию, главным источником удовольствия, испытываемого
читателем. Однако все, что необходимо сказать по этому поводу,
можно выразить, заявив—и мало кто будет это отрицать,— что из
двух отрывков о чувствах, нравах и характерах, одинаково
хорошо написанных в прозе и в стихах, поэтический отрывок
будут читать в сто раз чаще, чем прозаический.
Быть может, при объяснении причин, побудивших меня писать
стихи, выбирая сюжеты из повседневной жизни и пытаясь
приблизить язык к разговорной речи, я слишком скрупулезно
защищал свои принципы, но вместе с тем я также коснулся
предмета, представляющего широкий интерес, и поэтому я скажу
еще несколько слов о самих Стихотворениях и о некоторых
недостатках, которые, по всей вероятности, найдут в них. Я отдаю
себе отчет в том, что возникавшие у меня ассоциации порой имели
частный, а не общий характер, и, следовательно, придавая им
слишком большое значение, я тем самым касался недостойных
предметов, но это беспокоит меня меньше, чем тот факт, что мой
язык, наверное, нередко страдал от произвольного соединения
чувств и идей с определенными словами и фразами, от чего никто
не гарантирован. Поэтому я не сомневаюсь, что в некоторых
случаях выражения, казавшиеся мне нежными и сентиментальны-
ми, могут вызвать у читателя даже смех. Если бы я был убежден,
что эти выражения ошибочны и что таковыми они будут казаться
и в будущем, я бы приложил все силы, чтобы исправить их.
Однако рискованно вносить исправления, основываясь лишь на
мнении отдельных личностей или даже групп людей, ибо, если
писатель не убежден или его чувства изменились, это, несомнен-
но, причинит ему большой вред: ведь чувства—его главная опора,
и, если он поступится ими в одном случае, ему, вероятно,
придется повторять это до тех пор, пока он не потеряет веру в
себя и не придет к полному краху. К этому можно добавить:
критику не следует забывать, что он подвержен тем же ошибкам,
что и поэт, и, возможно, даже в большей мере, ибо не сочтите за
самонадеянность, если я скажу, что большинство читателей, по
всей вероятности, не столь хорошо знакомы с разнообразными
оттенками значений слов, равно как и с непостоянством или
прочностью взаимоотношений определенных идей; более того,
поскольку предмет интересует их гораздо меньше, их суждения
могут быть легковесными и непродуманными.
Хоть я и надолго задержал внимание читателя, я надеюсь, он
разрешит мне предостеречь его против ошибочного критического
подхода к поэзии, язык которой сродни языку жизни и природы.
Подобные стихи являются успешным объектом пародий, велико-
лепным примером которых может служить следующая пародия на
строфу доктора Джонсона:
Когда намедни в котелке
Я вышел на проспект,
32
С таким же котелком в руке
Мне встретился субъект.*
Приведем здесь же строфу из «Детей в лесу»,* вызывающую
справедливое восхищение:
Так, взявшись за руки, гуляли
Детишки взад-вперед.
Но тот, кого они так ждали,
Не вышел из ворот.
В обеих этих строфах слова и их порядок ничем не отличаются
от обыденной речи. Здесь есть слова, например «проспект» и
«город», связанные с хорошо знакомыми нам представлениями;
однако одну стофу мы находим превосходной, другую же—
наглядным образцом пошлости. В чем разница? Не в размере, не в
языке, не в порядке слов; просто содержание строфы доктора
Джонсона пошло. Разбирая тривиальные и простенькие стишки,
хорошее представление о которых дает строфа доктора Джонсона,
не следует говорить: «это плохая поэзия» или «это не поэзия», но:
«тут мало смысла; это неинтересно само по себе и не может
возбудить никакого интереса»; образы здесь не продиктованы
осмысленными чувствами, порожденными мыслью, и не могут
взволновать ум или чувства читателя. Это единственно разумный
способ критики таких стихов. Зачем стараться доказать, что
обезьяна не Ньютон*, когда и так ясно, что она не человек?
Я должен попросить читателя, чтобы он судил эти Стихотворе-
ния, основываясь лишь на собственных чувствах и не думая о том,
что могут сказать другие. Как часто слышишь: я не имею ничего
против этого стиля или того или иного выражения, но таким-то
или таким-то людям они покажутся вульгарными или смешными,
С подобным родом критики, столь враждебным всякому разумно-
му непредвзятому суждению, сталкиваешься на каждом шагу;
пусть же читатель судит самостоятельно, основываясь на соб-
ственных чувствах, и, если стихи его тронут, пусть подобные
соображения не испортят ему удовольствия.
Если автор внушил нам уважение к своему таланту каким-либо
одним произведением, то следует помнить, что, возможно, и в тех
случаях, когда мы остались недовольны, он все же не написал
плохую или нелепую вещь; или, более того, помня об этом одном
произведении, нужно отнестись к тому, что нас разочаровало, с
большим, нежели обычно, вниманием. Это не только вопрос
справедливости, это тоже может, особенно в вопросах поэзии,
способствовать скорейшему развитию нашего вкуса; ибо безоши-
бочный вкус в поэзии, как и в других видах искусства, по мнению
сэра Джошуа Рейнолдса, —это талант благоприобретенный, та-
лант, порожденный размышлением и долгим изучением лучших
[образцов искусства. Я упомянул это вовсе не потому, что
^задавался смехотворной целью помешать неопытному читателю
бвыработать собственное суждение (я уже сказал, что хотел бы
видеть, как он рассуждает самостоятельно), но для того лишь,
Ьтобы оградить его от поспешных выводов и внушить, что, когда
Ьа поэзию не тратят много времени, суждения о ней могут
1-2889
зэ
оказаться ошибочными; и во многих случаях так оно обычно и
бывает.
Мне кажется, что лучше всего для достижения моей цели было
бы показать, в чем состоит и как возникает удовольствие,
которое, по общему признанию, доставляют стихотворения, со-
вершенно отличные от тех, которые я здесь старался рекомендо-
вать, ибо читатель скажет, что такие стихи нравятся ему, и что
тут поделаешь? Возможности любого искусства ограничены, и
читатель заподозрит, что, предлагая ему обрести новых друзей, я
требую, чтобы он отказался от старых. Кроме того, как я уже
сказал, читатель сам ощущает удовольствие, доставляемое ему
такими произведениями, которые он с любовью именует поэзией;
все люди привыкли испытывать благодарность и нечто вроде
благородной приверженности к тому, что с давних пор доставляет
им удовольствие: нам хочется не просто испытать удовольствие,
но испытать такое удовольствие, которое стало для нас уже
привычным. Эти чувства могут разбить многие доводы, и не мне
пытаться опровергнуть их; я всего-навсего полагаю, что читате-
лю, желающему в полной мере оценить предлагаемую мною
поэзию, придется отказаться от многих обычных пристрастий.
Если бы размеры предисловия позволили мне показать, как
возникают эти пристрастия, многие трудности оказались бы
преодолены и читателю было бы легче понять, что возможности
языка не столь ограничены, как ему может показаться, а поэзия
способна доставлять иные удовольствия, более чистые, постоян-
ные и утонченные. Я уже отчасти касался этого предмета, но я
вовсе не ставил перед собой задачи доказать, что поэзия другого
рода менее выразительна и менее достойна затраты умственной
энергий, и тем самым дать повод счесть, что, осуществив
поставленную мною цель, можно создать новый вид поэзии,
-которая будет поэзией истинной, способной вызвать непреходя-
щий интерес всего человечества, и в равной степени важной во
всем многообразии и значительности затронутых в ней моральных
проблем.
Прочитав вышесказанное и проанализировав наши стихотворе-
ния, читатель без труда поймет мою цель: он сможет решить, в
какой мере удалось ее осуществить и, что гораздо более важно,
стоило ли вообще к ней стремиться; от решения этих двух
вопросов и будет зависеть, оправдается ли моя надежда на успех
Стихотворений у широкого читателя.
С. Т. КОЛЬРИДЖ
ЛЕКЦИИ
О ШЕКСПИРЕ И МИЛЬТОНЕ
(лекция вторая)
Читателей возможно разделить на четыре категории.
Первую категорию составляют «губки»: они легко вбирают в
себя все, что им приходится читать, но тотчас и освобождаются
полностью от почерпнутых сведений.
Вторая категория—это «песочные часы»: чтобы как-то убить
время, они пропускают сквозь себя одну книгу за другой, а в
итоге остаются по-прежнему пусты.
Третья категория—«фильтры», у которых в памяти оседают
только жалкие крохи прочитанного.
И к четвертой категории относятся те, что подобны прекрас-
ным алмазам, столь же ценным, сколь и редким: они читают не
только с максимальной пользой для себя, но и другим дают
возможность воспользоваться их познаниями.
В предыдущей лекции я говорил о той небрежности, с которой
большинство людей относится к словам. В наше время часто
приходится слышать об этой вредной привычке, которая наносит
непоправимый ущерб, так как неминуемо ведет к искажению
значений слов, а в конечном счете и к порче языка в целом. В
прошлый раз я приводил в пример слово «вкус», но то, о чем я
говорю, относится не только к существительным и прилагатель-
ным, то есть к словам, обозначающим предметы и их признаки, но
также и к глаголам и глагольным формам. Например, причастие
«обремененный» нередко употребляется вопреки своему точному
Значению, как, в частности, в этой строке Мильтона: «...И слоны,
обремененные башнями». Аналогичным образом искажается и
смысл слова «добродетель». Первоначально оно обозначало лишь
физическую силу, затем стало обозначать силу духа и мужество,
а сейчас прочно вошло в класс слов, которыми определяются
разного рода моральные качества. Я привел лишь несколько
примеров, и любой из вас может легко увеличить их количество...
Настаивая на точности мысли и ее словесного выражения, я.
вместе с тем далек от того, чтобы проповедовать педантичную
Щепетильность в выборе тех или иных слов; такая щепетильность
может привести к тому, что ваша речь станет неестественно
чопорной. Д-р Джонсон любил повторять, что, ведя даже самую
непринужденную беседу, он всегда старается подыскать слово,;
которое в наибольшей мере передает нужный ему. смысл, В
известных пределах это стремление себя оправдывало, но, пос-
кольку он слишком уж неукоснительно придерживайся своего
2*
35
правила, его слог оказывался излишне манерным там, где следова-
ло бы сохранить легкость, и излишне официальным там, где
следовало бы сохранить простоту. Следует вообще иметь в виду,
что для удачного применения каких-то правил необходимо точно
знать, где именно их должно применять.
Мне не раз доводилось слышать вопрос, является ли Поп
великим поэтом; этот вопрос, на который одни со всей решитель-
ностью отвечают отрицательно, а другие—положительно, горячо
дискутируется на протяжении многих лет. И вот что странно: ни у
кого из спорящих никогда не возникало желания предварительно
выяснить, какой смысл вкладывается в слова «поэт» и «поэзия».
Поэзия не просто выдумка: если бы это было так, то и
«Путешествия Гулливера» можно было бы назвать поэтическим
произведением. Таким образом, прежде чем прийти к какому-либо
заключению относительно того, насколько велик Поп как поэт,
совершенно необходимо определить точное значение использу-
емых слов. Гармоничность стиха является не в большей степени
признаком поэзии, чем способность к выдумке—признаком поэта.
Оба эти признака нуждаются во многих дополнениях.
Мы не сможем приступить к рассмотрению вопросов из
области этической, политической или философской до тех пор,
пока мы не объясним и не уясним значения терминов, нами
употребляемых. Вот почему я считаю необходимым предуведо-
мить вас, какой смысл я сам вкладываю в слово «поэзия», прежде
чем обращусь к сопоставлению достоинств тех, кого люди
обыкновенно именуют «поэтами».
Слова употребляются двояким образом.
Во-первых, в расширительном смысле, когда данное слово
обозначает какое-то явление в целом. Так, в частности, могут
употребляться слова «поэзия» и «смысл»; мы говорим: «Эта
строка являет пример плохой поэзии» или: «Эта строка плохо
передает смысл» даже и в том случае, если в этих строках на
самом деле нет ни поэзии, ни смысла. Но если эти строки плохи с
точки зрения поэзии, то это не поэзия вовсе, и если они
невразумительны по смыслу, то в них и нет никакого смысла. То
же можно сказать и в отношении слова «размер»; если мы
говорим: «Здесь плохо выдерживается размер», то это означает,
что размер здесь вообще отсутствует.
Во-вторых, в философском смысле, когда слово указывает на
неотъемлемые признаки обозначаемого. Никто не станет считать
размер главным признаком поэзии; точно так же и рифма—это
еще не поэзия. Для поэзии необходимо еще что-то, но что
именно? Остроумие? Вряд ли, ибо остроумие может быть выказа-
но там, где нет никакой поэзии. Тогда, может быть, пристальное
исследование общественных нравов? Или какое-то особенное,
изысканное словоупотребление? Последнее, заметим, удовлетво-
ряет требованию современного вкуса, который звучание стиха
ставит превыше его смысла, но я льщу себя надеждой, что скоро
уже не останется поборников этого вкуса.
Греки и римляне в лучший период своего литературного
развития не знали подобных требований. Высокопарные эпитеты
Н замысловатые метафоры, составленные из напыщенных слов,—
36
Sto не поэзия. Простота—одна из ее непременных черт: разве
Можно выразиться проще, чем Катулл? Едва ли мы найдем у него
фразу или даже слово, которое нельзя услышать из уст просто-
людинки. Чтобы меня правильно поняли, я попытаюсь дать
следующее определение поэзии.
Поэзия—это искусство (можете подобрать более удачный
термин, если вам удастся его найти в нашем языке) словесного
воспроизведения окружающей природы и человеческих мыслей и
чувств, воздействующего на наши эмоции и производящего непос-
редственное наслаждение; причем наслаждение, вызываемое от-
дельными частями созданной картины, не должно уступать на-
слаждению, вызываемому всей картиной в целом.
Чтобы сделать мою мысль более ясной, могу выразить это
другими словами:
поэзия—это искусство передачи того, что мы хотим передать,
с таким расчетом, чтобы одновременно выразить и вызвать
душевное волнение, имеющее своим результатом непосредствен-
ное наслаждение; причем каждая часть поэтического произведе-
ния должна вызвать наслаждение, которое по своей интенсивности
не уступает наслаждению, производимому всем целым.
Вы, естественно, попросите меня объяснить, чем я руковод-
ствуюсь, давая такое определение поэзии. Отвечаю по порядку:
«Поэзия—это воспроизведение природы». Такого определения
недостаточно, ибо анатом и топограф тоже дают нам воспроизве-
дения природы, поэтому я добавляю:
«...и человеческих мыслей и чувств». Но тут могут заявить о
своих правах философы (а также и наши лучшие прозаики,
цравда, они с большей тщательностью, большим правдоподобием и
большими подробностями описывают то, что у поэта приобретает
концентрированный вид). Вот почему мне следует добавить:
«Это изображение должно воздействовать на наши эмоции».
Но тут необходимо подчеркнуть разницу между поэтом и проза-
иком, историком, да и вообще всеми теми, кто имеет дело не
только с природой и не только с человеческими чувствами, но и
Обращается непосредственно к человеку. Й поэтому я делаю такое
добавление:
«...и иметь своей целью доставить непосредственное наслажде-
ние». Достоинство поэзии определяется по тому, насколько
сильным оказывается наслаждение, ею производимое, и если поэт
не может доставить наслаждения, то он перестает быть поэтом в
глазах того, кто не испытывает ожидаемого наслаждения. И
все-таки нашему определению пока еще недостает точности,
поскольку мы можем назвать немало прозаиков, которые отнесут
его на свой счет. Поэтому я делаю такое уточнение: поэтическое
произведение не только должно иметь своим результатом непос-
редственное наслаждение, но «оно должно быть так построено,
чтобы каждая его составляющая часть доставила максимальное
наслаждение». Размер появляется естественно там, где его требу-
ет внутреннее движение чувства: предложения сами собой обрета-
ют упорядоченность и ложатся на бумагу ритмически оформлен-
ными. Стоит нам только взять в руки произведение поэта, как мы
Непременно обнаружим, что поэт находился в состоянии длитель-
37
ного возбуждения: именно оно и заставляет поэта изъясняться
языком, который, будучи неуместным в прозе, более всего
подходит поэзии.
Есть один порок, коего следует остерегаться всем, ибо ему
подвержены не только молодые поэты, но и старые, которые, не
являясь, впрочем, поэтами, мечтают о том, чего добиваются лишь
истинные поэты... Нет, я выбрал неудачное выражение;- они и не
могут мечтать о том, о чем их куриные мозги не имеют даже
слабого представления. Они не могут мечтать о славе, которая
дарует бессмертие лишь подлинно великим,
которой нас венчает благосклонно
Юпитер—тот, кто правый суд вершит1,
но они завоевывают репутацию — этот, о чем говорит сама
этимология слова, жалкий отголосок эха. Таким пороком обладал
автор «Ботанического сада»: я могу ручаться, что во всей поэме
вы не найдете и двадцати образов, которые можно было бы
назвать плодом поэтического вдохновения. Создается впечатле-
ние, что сию поэму писал галантерейщик, с тупым усердием
обряжавший куклу в роскошное платье. Д-р Дарвин приложил все
усилия к тому, чтобы довести свой стиль до верха изящества и
изысканности и выискивал для этого самые благозвучные и
претенциозные слова, какие только существуют в нашем языке.
Но это не поэзия, и к своему определению я делаю еще одно
добавление: истинный поэт стремится к тому, чтобы «каждая
часть поэтического произведения доставляла удовольствие, сораз-
мерное с удовольствием, которое доставляет все произведение в
целом». Необходимо принимать во внимание не только достоин-
ства отдельных эпизодов, но и всего целого, то есть эффекта,
производимого целым. Читая, к примеру, Мильтона, мы вряд ли
сможем назвать хотя бы одну строку, которая при ближайшем
рассмотрении оказалась бы удачной. Однако Мильтон и не
собирался корпеть над изготовлением того, что принято называть
«удачной строкой»: он стремился к созданию великолепных строф
и гармонически цельных поэм, к тому, чтобы, как он сам
выразился,
...стихи бежали чередой,
Сплетаясь тесно в звучный строй.
("L'Allegro")
И вот теперь, исходя из того определения, которое я только
что дал, я могу точно сказать, какой смысл я вкладываю в слово
«поэзия»: душевное волнение, сопряженное с наслаждением,—вот
ее происхождение и ее цель; наслаждение—вот тот магический
круг, из которого ни один поэт не имеет права выходить. Вам,
вероятно, покажется, что мое определение может быть, хотя бы
частично, приложено к живописи и к музыке, однако только в
поэзии мы имеем дело со словами и размером, так что данное
мною определение строжайшим образом относится, к поэзии и
Дж. Мильтон. Лисидас.
•3?
Только поэзии, побуждающей в нас радость, этот источник многих
добродетелей. Когда я был в Италии, один мой друг, который
питал любовь к живописи столь сильную, что она едва не
переходила в безумие,, и полагал предмет своей любви высшим
среди прочих искусств, ознакомившись с моим определением, не
мог не согласиться с ним и даже был вынужден признать
первенство поэзии.
Я никогда не забуду, какое острое чувство боли я испытал,
глядя в Риме на фрески Рафаэля и Микеланджело и размышляя о
том, что они сохранились только благодаря прочности материала,
на поверхности которого были написаны. Да, они живы, эти
нетленные памятники (нетленные лишь до тех пор, пока время
щадит стены зданий) гения и мастерства, между тем как множе-
ство других столь же прекрасных их творений оказалось добычей
ненасытной алчности или стало жертвой дикого варварства.
Человечество должно благодарить судьбу за то, что столько
великих произведений античной литературы дошло до нашего
времени, что мы имеем возможность держать в руках книги
Гомера, Евклида, Платона и являемся обладателями трудов
Бэкона, Ньютона, Мильтона, Шекспира и прочих знаменитых
мужей, которых дал миру наш остров. Их творения, по счастью,
Теперь уже нельзя уничтожить, они останутся с нами до самого
скончания времени—пока время, как выразился один великий
поэт эпохи Шекспира, не пустит свою стрелу в грудь смерти1 и
само не сгинет в пучине неизбежной катастрофы, ожидающей мир
господний.
Даже второе нашествие готов и вандалов не сможет подвер-
гнуть опасности их существование, ибо чудеса современной
Техники и благоговейное восхищение, которое они вызывают у
всего рода человеческого, обеспечат их сохранность. Вот уже
почти два столетия прошло с тех пор, как выпало перо из рук
Шекспира, но разве мы когда-нибудь перестанем его читать? Разве
он когда-нибудь перестанет дарить нам свет и радость? Лишь
теперь только он начинает пожинать первые плоды своей славы,
которая, доколе звучит на земле наш язык, будет неуклонно
расти. Английский язык даровал ему бессмертие, и точно так же
он даровал бессмертие английскому языку. Шекспир не может
умереть, и язык, на котором он писал, будет жить с ним вечно.
Но даже несмотря на это, вокруг имени нашего славного
соотечественника возникают всяческие кривотолки, которые мне
хотелось бы опротестовать. На континенте, как мы можем судить,
к произведениям Шекспира относятся по-разному: с восхищением
в Германии и с презрением во Франции. Среди прочих упреков,
бросаемых ему французами, наверное, громче всего звучит упрек
в том, что он-де не соблюдал священный закон трех единств,
которому оставались верны их собственные драматурги. Они,
понятное дело, считают, что после Корнеля и Расина лишь
Софокл являет собой совершенный образец драматургического
мастерства, о котором никто не имеет лучшего понятия, чем
1 Имеется в виду «Эпитафия» Б. Джонсона на смерть графини Пемброк.—
и. перев.
39
Аристотель. И поскольку «Гамлет», «Король Лир», «Макбет» и
другие шекспировские драмы отклоняются от этого образца и
соответственно нарушают все законы, они утверждают (не имея
достаточной смелости для того, чтобы подвергнуть сомнению
правильность образца и законов, сформулированных Стагиритом),
что Шекспир был неотесанным гением, что, хотя временами он
выказывает проблески вкуса и даже волнует сердце, в целом его
драмы изобцлуют неправильностями и что, короче говоря, он был
всего лишь дитя природы и не умел писать лучше, чем писал.
Есть одно старое и, как мне до сих пор всегда казалось, очень
верное латинское изречение: „Oportet discentem credere, edoctum
judicare"1. В нынешние времена все поменялось своими местами и
это изречение теперь приобрело вот какой вид: ,,Oportet discentem
judicare, edoctum credere . Существует лишь одно средство
против этого современного недуга, а именно: обретение знания.
Когда я сталкиваюсь с невеждами, берущимися судить о том, в
чем они несведущи, мне всегда приходит в голову забавное и, я
думаю, едва ли неподходящее сравнение: вот, кажется мне,
собрались в грязной канаве лягушки, которые будут оглашать
ночную тишину своим громким кваканьем до тех пор, пока их
обиталище не осветит яркий фонарь; только после этого они
прекратят свой душераздирающий концерт. А если быть более
снисходительным, можно сравнить невежд со светлячками, кото-
рые испускают слабое мерцание света, не видное при ослепля-
ющем великолепии полуденного солнца. И я не откажусь от своих
слов, пока не будет опровергнуто бытующее убеждение, будто
знания даются легко, и пока большинство не усвоит истину,
которую труднее всего усвоить,—что люди невежественны. Кто
угодно может с готовностью засвидетельствовать вам невеже-
ственность своих ближних, и только диву даешься, насколько
безгранична их вера в свою собственную непогрешимость.
Есть люди, которые твердо убеждены, что успешное освоение
математики возможно лишь в том случае, если абстрактные
формулы иллюстрируются наглядными примерами, имеющими
непосредственно чувственную очевидность. Нет ничего более
абсурдного и ошибочного, чем это убеждение: необходимо употре-
бить все наши силы на то, чтобы научить людей размышлять, а не
ощущать. Именно потому, что люди не умеют мыслить, что их
никогда не обучали этому занятию, Шекспир оказывается столь
трудным для восприятия. Для того чтобы составить верное
суждение о его эстетическом вкусе, надо прежде всего принять во
внимание особенности театрального искусства, сами условия
жизни той эпохи, когда блистал наш великий поэт. Если бы меня
попросили выделить какую-нибудь одну наиболее выдающуюся
черту его замечательного таланта, то я бы, вне всякого сомнения,
сказал: его эстетическое чувство—вот что кажется мне достой-
ным восхищения. К этой мысли я пришел после тщательного
сравнения драм Шекспира с драмами самых выдающихся его
современников.
1 Ученикам—прислушиваться, учителям—изрекать (лат.).
2 Ученикам—изрекать, учителям—прислушиваться (лат.).
40
Действительно, если судить о «Короле Лире» с точки зрения
теории, которую сформулировал Аристотель и которой подчинял-
ся Софокл, эта пьеса покажется нагромождением неправильно-
стей; и, далее, если предположить, что закон трех единств требует
от драматурга правдоподобия в изображении природы и'человека,
то Шекспиру можно предъявить обвинение в том, что он наполнил
свои пьесы чудесами и небылицами. И все-таки я буду утвер-
ждать, что оба, пусть каждый по-своему, избрали для себя вер-
ный путь и добились на своем поприще равно великолепных ре-
зультатов.
Не вдаваясь в освещение вопроса о происхождении греческого
театра—это должно быть известно любому просвещенному чело-
веку,— замечу, что правило трех единств учитывало размеры и
специфику архитектуры древних театров: в пьесах, которые там
ставились, в течение небольшого отрезка времени изображались
события, явно не умещавшиеся в этот временной промежуток.
Следовательно, надо предположить, что в те времена происходя-
щее на сцене могло восприниматься не более как условность. Но
то же и у нас: никто не думает, что трагический актер испытывает
подлинные физические муки, когда его на сцене пронзают мечом
или подвергают пыткам, или что герой комедии по-настоящему
радуется тому, как ловко он разыграл сцену объяснения в любви.
.Чтобы стать свидетелем настоящего страдания, следует посе-
тить городские лечебницы, а кто захочет лицезреть проявления
подлинного веселья, может отправиться на бал-маскарад. Мы
видим в театре не настоящие, а воссозданные страсти, подражание
реальным чувствам, а не реальные проявления этих чувств, и мы
Говорим «это хорошо» или «это плохо», судя по тому, соответ-
ствует или не соответствует действительности это подражание.
Более того, мы получаем удовольствие от театральных постано-
вок именно потому, что в них все выдумано, все неподлинно.
Будь страдания умирающего на сцене подлинными, разве нашелся
бы среди цивилизованных людей кто-нибудь способный испытать
удовольствие от подобного зрелища?
В древности, когда представления шли в огромных театрах,
было совершенно необходимо повышать голос так, что он звучал
неестественно громко и неприятно. Для того, чтобы это неприят-
ное впечатление как-то ослабить, были придуманы речитативы:
они в какой-то мере оправдывали искажение лица и напряжение
голоса актера, выступающего в цирке под открытым небом.
Кроме того, поскольку хор в античной драме на протяжении всего
действия находился на сцене, даже незначительное изменение
места действия оказывалось невозможным.
Английский театр в отличие от греческого сформировался в
совсем иных условиях: как и конституция, осеняющая наше
благоденствие, наш театр, имеющий, правда, куда более варвар-
ское происхождение, есть воплощение подлинной свободы, пре-
восходящей ту, которой славилось Афинское государство в период
его наивысшего политического расцвета. На сценах наших первых
театров ставили мистерии, написанные в основном по мотивам
библейских сюжетов, и, хотя театр тогда находился под эгидой
церкви, актеры позволяли себе отпускать по хЬду спектакля такие
41
кощунственные выражения и скабрезности, какие сегодня даже
самые отчаянные головы поостереглись бы произнести шепотом.
В этих мистериях действовали персонифицированные грехи и
пороки; от них и произошли шуты и клоуны, населяющие
позднейшие драмы.
По мере того как Шекспир все глубже постигал эстетические
запросы и самый дух своего времени, гений и тонкое художе-
ственное чутье научили его использовать эти традиционные
образы весьма своеобычно: с их помощью он добивался усиления
пафоса страдания и горя в наиболее волнующих сердце эпизодах.
Насколько это ему удавалось, видно на примере «Короля Лира»:
неуместные реплики Шута удивительным образом подчеркивают
эмоциональное напряжение той сцены, где престарелый монарх,
охваченный отчаянием, взывает к разбушевавшимся стихиям и
поверяет им свою обиду на неблагодарных дочерей:
...Вой, вихрь, вовсю! Жги, молния! Лей* ливень!
Вихрь, гром и ливень, вы не дочки мне,
Я вас не упрекаю в бессердечье.
Я царств вам не дарил, не звал детьми,
Ничем не обязал. Так да свершится
Вся ваша злая воля надо мной!
Я ваша жертва—бедный, старый, слабый!
Сразу же после этих слов вмешивается Шут, отчего драматиче-
ский эффект этой исполненной высокой страсти сцены только
усиливается.
Так же и в других драмах, хотя, быть может, в меньшей
степени, наш великий поэт обнаруживает свое восхитительное
умение создавать драматические ситуации, и вряд ли ему можно
поставить в вину хоть единожды, что он ввел образ шута, или
клоуна ради того лишь, чтобы вызвать в зале хохот, как это
делали многие из его именитых современников. Шекспир ставил
перед собой куда более серьезные и куда более высокие цели, и,
как кажется, только ему одному природа предоставила средства
для их успешного осуществления.
Король Лир. Акт ЛИ, сц. 2. Перевод Б. Пастернака.
С. Т. КОЛЬРИДЖ
АЛЛЕГОРИЯ
Если в сравнительном обороте опустить предмет, к которому
подобрано сравнение, то тогда получится метафора. Так, описы-
вая сражение герцога Веллингтона с Массеной, происшедшее во
время его португальской кампании, мы говорим: «И вот, наконец,
он покинул свои высокогорные укрытия и устремился вслед
отступавшему врагу, словно туча, сошедшая с вершины горы».
Здесь это сравнение. Если же мы скажем короче: «И вот,
наконец, туча устремилась вниз с горы и обрушила свои громы и
молнии на долину», то сравнение становится метафорой. Метафо-
ра же в свою очередь — составная часть аллегории. Правда, если
бы меня попросили определить аллегорию так, чтобы отличить ее
от басни, то я вынужден был бы признаться в неведении и
неспособности это сделать. В самом деле, аллегория может быть
двоякой: иногда она включает басню, в другом случае отличается
от басни. Басня—это более краткая и более простая форма
аллегории (тогда справедливо ее понимание в первом смысле), но
вместе с тем то, что не является басней, называется собственно
аллегорией. Скажем, пони—это небольшая лошадь, но лошадей,
которые вовсе не являются пони, тоже называют лошадьми.
Небольшое дерево называется кустом, и мы нисколько не рискуем
ошибиться, говоря, что в наших широтах лавр—это куст, а на
юге Европы — дерево. Можно со всей определенностью утвер-
ждать, что в басне не следует использовать аллегорические
персонажи и образы, олицетворяющие те или иные свойства,
смысл которых не был бы известен читателю заранее; в то же
время в аллегорию можно вводить олицетворения, впервые соз-
данные автором именно для данного случая. Вот почему живот-
ные, языческие боги, деревья, на основные свойства которых
указывают сами их названия, всегда были наиболее подходящими
dramatis personae1 басни. Медведь, лиса, тигр, лев, Диана, дуб, ива
являются общепринятыми метафорами неуклюжести, хитрости,
свирепого или величественного бесстрашия, целомудрия, несгиба-
емости и податливости; словом, надо принять за непременное
правило, что метафора, смысл которой разгадывается с трудом,
может быть использована в аллегории, но никогда — в басне.
Впрочем, это правило скорее является признаком хорошей басни,
нежели лежит в основе определения этого жанра; вообще, к
Действующие лица (лат.).
43
счастью, трудность, с которой сталкиваешься при определении
предмета или термина, почти всегда находится в обратно
пропорциональной зависимости от необходимости давать определе-
ние. Линней без особого труда выяснил отличительные черты
всевозможных семейств человекообразных обезьян, но испытал
затруднения, когда ему потребовалось указать строго научно
черты отличия человека от обезьяны; можно лишь надеяться, что
он имел возможность наблюдать не слишком большое число
особей каждого из этих видов, встреча с которыми могла бы
пошатнуть его четкое представление о разнице между ними.
Итак, мы можем без колебаний определить аллегорическое
произведение как такое, где выводится ряд персонажей и образов,
причем поступки одних и особенности других в завуалированной
форме либо становятся обозначением некоторых нравственных
свойств или отвлеченных построений ума, либо подразумевают
некие иные образы, лица, действия, события и обстоятельства,
так что несходство между изображаемым и подразумеваемым
всегда оказывается очевидным для чувственного восприятия или
воображения, в то время как их соотнесенность друг с другом
обнаруживается только умозрительно: при этом и тот и другой
образные планы составляют целостное единство.
Прекраснейшая аллегория из когда-либо существовавших—
повесть об Амуре и Психее, хотя и принадлежащая язычнику,*
несет на себе печать возникновения христианства и перетолкована
одним из тех философов, которые предприняли попытку внести
элементы христианства в ближневосточный и египетский плато-
низм, для того чтобы противопоставить затем этот последний
христианству. Первая же в полном смысле современная по форме
аллегория—это «Психомахия, или Борения Души» Пруденция,
христианского поэта V века. Приведенные примеры могут с
достаточной полнотой осветить происхождение и природу пове-
ствовательной аллегории, в которой произошло замещение мифо-
логической образности политеизма и которая отличается от оной
лишь тем, что с большей ясностью и вполне намеренно подчерки-
вает разницу, существующую между подразумеваемым смыслом и
выражающим его символом (причем неправдоподобие последнего
тоже с очевидностью подразумевается), так что аллегорические
персонажи становятся своего рода промежуточной ступенью
между образами реальных людей и голыми персонификациями.
Но именно по этой причине аллегория не может возбудить и
поддерживать в течение продолжительного времени сколько-
нибудь живой интерес, ибо если аллегорический персонаж будет
слишком индивидуализирован и наше внимание будет целиком к
нему приковано, то мы и не станем рассматривать его как
аллегорию; если же он покажется нам неинтересным, мы попро-
сту отбросим книгу в сторону. чСкучнейшие и наиболее несовер-
шенные места у Спенсера—те, где мы невольно принимаем его
персонажей за аллегории; на .довольно затруднительный вопрос,
почему образы Греха и Смерти у Мильтона нельзя оценивать
столь же сурово, я попытаюсь ответить в следующей лекции. Нас
всех приводит в восторг восхитительная аллегория, коей является
первая часть «Пути паломника». Вопреки стараниям автора заста-
44
вить читателя воспринимать изображаемое в аллегорическом
смысле — для чего он придумывал такие причудливые наименова-
ния, как Старая Глупость из Башни Честности и т. д. и
т. п.,— его набожность не смогла все же устоять перед его
гением: Беньян—Парнасский житель оказался сильнее Беньяна-
церковнослужителя. Читая это повествование, мы подпадаем под
власть иллюзии, внушаемой нам любым романом, который побуж-
дает нас, знающих с самого начала, что все в нем выдумка,
относиться к действующим лицам как к реально существующим
людям, которых соседи зовут по именам. Наиболее решительному
осуждению аллегорическое повествование подверг не кто иной, как
Тассо,* своим собственным разъяснением того, каким образом
читатель должен понимать персонажи и события в «Освобожден-
ном Иерусалиме». Слава Аполлону! Ничего подобного никогда бы
не придумал никто из смертных, и что приятнее всего, аллегори-
ческий смысл тотчас бы и улетучился, выказав при этом
свойство, прямо противоположное тому, коим обладают змеи: эти
появляются из своих нор, привлеченные звуками приятной мело-
дии, в то время как аллегория ускользает с ее первыми же
тактами и предается полному забвению, погружаясь в непрогляд-
ную тьму.
У хэзлит
«МАКБЕТ»
«Поэта взор в неистовстве объемлет
И ширь земли, и глубину небес.
Воображенье образы находит
Неведомые, и перо поэта
Им форму дарит, пустоте воздушной
Давая имя и под солнцем место».
«Макбет» и «Лир», «Отелло» и «Гамлет»—вот, по общему
мнению, четыре главные трагедии Шекспира. «Лир» поражает
сильнейшим напряжением страстей; «Макбет»—буйностью вооб-
ражения и стремительностью действия; «Отелло»—нарастанием
интереса и могучим чередованием чувств; «Гамлет»—тончайшим
развитием мысли и эмоций. Сила гения, воплощенная в этих
произведениях, вызывает благоговейное изумление, но не менее
изумительно и полное их несходство между собой. Эти порожде-
ния одного и того же ума ни в чем не повторяют друг друга.
Только скрупулезно следуя правде и природе, можно достигнуть
такой оригинальности и такой неповторимости. Один лишь
Шекспир обладал гением, способным соперничать с природой в ее
бесконечном разнообразии. Он — «наш единственный трагедии
творец». Его пьесы почти осязаемо воздействуют на дух и
рассудок. То, что он изображает, доходит до глубин нашего
сердца, становится частью нашего собственного опыта, запечатле-
вается в памяти так, словно мы были знакомы с людьми, о
которых он повествует, сами видели эти места и пережили эти
события. «Макбет» подобен точному рассказу о необычайном и
трагическом случае. В нем есть суровая строгость старинной
хроники, сочетающаяся со всем тем, чем только может расцве-
тить легенду воображение поэта. Замок Макбета, вокруг которого
«даже воздух нежит чувства», где «стриж гнездиться любит»,
обретает в наших мыслях реальное существование; сестры-
вещуньи во плоти встречают нас «в вересках»; «влекомый возду-
хом кинжал» медленно проплывает перед нашими глазами; «До-
брый Дункан», «Банко, весь в крови», встают перед нами; все, что
поражает мысли и чувства Макбета, точно так же поражает и нас.
Все, что действительно могло произойти, и все, что можно лишь
вообразить, то, что было сказано, то, что было сделано, движения
страстей и магические чары—все раскрывается перед нами с
абсолютной правдивостью и живостью. Шекспир умел находить
поразительные вступительные сцены, но в «Макбете» они особен-
но великолепны. Дикий пейзаж, стремительные смены ситуаций и
персонажей, вихрь событий, распаленные надежды—все это
просто потрясает. С первого появления ведьм, с их описания—
...Кто эти
Иссохшие и дикие созданья?
Нет на земле таких, хотя на ней
Они стоят,
46
наше сознание уже подготовлено к тому, что последует.
Эта трагедия равно замечательна и величавым потоком вообра-
жения, и бурностью действия, причем одно служит движущим
принципом другого. Неумолимое давление сверхъестественных
сил с удвоенной мощью гонит вперед волну человеческих стра-
стей. Сам Макбет словно увлекаем неистовством своей судьбы,
как хрупкое суденышко — ураганом. Он шатается, точно пьяный;
он гнется под бременем собственных намерений и чужих намеков;
положение, в которое он попадает, оказывается сильнее его;
суеверный ужас и жгучие надежды, пробужденные в нем предска-
заниями вещих сестер, рождают дерзкое и нетерпеливое желание
убедиться в верности их пророчеств и окровавленной рукой
сорвать завесу с неведомого будущего. Но борьба с судьбой и
совестью оказывается ему не по силам. Он то «напрягся и готов
на страшный шаг», то теряет мужество, и собственный успех
гнетет его и мучит. Деяние не менее, чем попытка, губит его.
Душу его томит раскаяние, она полна «неведомых терзаний». Его
реплики и монологи представляют собой темные загадки—загадки
без разгадок,—и он теряется в их лабиринте. В мыслях он
расплывчат и растерян, но действия его неожиданны и отчаянны,
потому что он не доверяет собственной решимости. Энергия его
порождается тревогой и душевным смятением. Его слепое устрем-
ление к целям, которые продиктованы честолюбием или мститель-
ностью, и ужас перед ними равно выдают смутное состояние его
чувств. Эта сторона его характера удивительно оттеняется благо-
даря контрасту с характером леди Макбет, чья непреклонная воля
и мужская твердость обеспечивают ей победу над зыбкой сове-
стью мужа. Она упрямо спешит воспользоваться случаем, кото-
рый открывает перед ними возможность сразу обрести всю
полноту власти и величия, всегда их манивших, и доводит дело до
конца без малейших колебаний или робости. Ее решимость
настолько колоссальна, что почти заслоняет колоссальность ее
преступления. Эта величественная в своем злодействе женщина
внушает нам ненависть, но мы страшимся ее больше, чем
ненавидим. Она не вызывает у нас отвращения и гадливости, как
Регана и Гонерилья. Она идет на преступление только ради
достижения великой цели, и главное в ней—не жестокосердость и
отсутствие естественных привязанностей, но гордая воля и неумо-
лимое упорство, которые не позволяют женской слабости и.
сожалениям отвратить-ее от раз выбранного черного намерения.
Действие, которое ее всесокрушающая решимость производит на
Макбета, прекрасно выражено в его восклицании:
Лишь сыновей рожай. Должна творить
Твоя неукротимая природа
Одних мужей!
Перевод Б. Пастернака
Настойчивость, с которой она старается «натянуть его реши-
мость, как струну», брошенный ему упрек—«не поддавайся
растерянности жалкой», заверение — «один лишь ковш воды—и
смыто все» показывают, как мало значит для нее зло. Ее
бесчувственное честолюбие пришпоривает «бока его решимости»,
47
и она сама завершает исполнение своего зловещего плана,
выказывая в преступлении ту же твердость духа, с какой при
других обстоятельствах терпеливо переносила бы страдания. Она
сознательно приносит в жертву все другие соображения, обдумы-
вая убийство Дункана, «чтоб наслаждаться властью и венцом все
дни и ночи мы могли потом», и это великолепно выражено в
заклинании, которое она произносит, услышав о «роковом при-
бытье короля к ней в замок»:
Ко мне, о духи смерти! Измените
Мой пол. Меня от головы до пят
Злодейством напитайте. Кровь мою
Сгустите. Вход для жалости закройте,
Чтоб голосом раскаянья природа
Мою решимость не поколебала.
Припав, к моим сосцам, не молоко,
А желчь из них высасывайте жадно,
Невидимые демоны убийства,
Где б злу вы ни служили. Ночь глухая,
Спустись, себя окутав адским дымом,
Чтоб нож не видел наносимых ран,
Чтоб небо, глянув сквозь просветы мрака,
Не возопило: «Стой!»
Когда слуга сообщает ей: «Король тут будет к ночи», она так
ошеломлена этим известием, которое далеко превосходит самые
безумные ее надежды, что кричит на него: «Ты рехнулся!» А
когда муж в письме рассказывает ей о предсказании ведьм, то,
памятуя о его склонности к колебаниям и сознавая, что ее
присутствие необходимо, чтобы подгонять его на пути к обещан-
ному величию, она восклицает:
... Спеши сюда. Я в уши
Волью тебе свой дух и языком
Смету преграды на пути к короне,
Которой рок и неземные силы
Тебя уже венчали.
Это неукротимое торжествующее ликование, это жадное пред-
вкушение победы, которые словно увеличивают ее рост и овладе-
вают всеми ее чувствами, этот почти зримый взрыв жгучей,
полнокровной страсти представляет разительный контраст с хо-
лодной, отвлеченной, беспричинной, угодливой злобностью ведьм,
которые также подталкивают Макбета на преступление, но просто
из зложелательности и любви к уродливости и жестокости. Это
исчадия мерзости, гнусные служительницы греха, злобствующие
из-за своей неспособности радоваться, стремящиеся губить и
уничтожать, потому что сами они нереальны, почти бесплотны и
существуют лишь наполовину. Но их отчужденность от человече-
ских симпатий, их презрение ко всему человеческому придает им
какое-то жуткое величие—то же, которое леди Макбет придает
всепоглощающая страсть. Ее порок заключается в избытке того
эгоистического принципа своекорыстия и возвышения рода, кото-
рый был неуязвим для сострадания и чувства справедливости и
всегда преобладал у варварских народов и в варварские времена.
Только какой-то отголосок этого принципа помешал ей убить
48
Дункана своей рукой, потому что спящий король напомнил ей
отца.
Говоря о характере леди Макбет, нельзя обойти молчанием то,
как играла эту роль миссис Сиддонс. Воображение умолкает при
подобном великолепии. Это было нечто сверхъестественное.
Точно к нам спустилась обитательница горних сфер, чтобы
поразить наш мир своим величием. Могущество осеняло ее чело,
страсть лилась из ее груди, точно из священного сосуда,— она
была воплощение Трагедии. Когда она выходила в сцене сомнам-
булизма, ее глаза были открыты, но смотрели бессмысленно. Она
выглядела как одурманенный человек, который не сознает, что
делает. Ее губы шевелились непроизвольно, все ее жесты были
импульсивными и механическими. Она скользила по сцене, как
привидение. Увидеть ее в этой роли было незабываемым событием
в жизни каждого зрителя.
На драматическую красоту характера Дункана, вызывающего
уважение и жалость даже у его убийц, указывалось уже не раз.
Образ этот значим сам по себе. Умение Шекспира извлечь
поразительный эффект из, казалось бы, самой обычной реплики
благодаря ее обрамлению наглядно проявляется, когда Дункан
сетует на то, как он обманулся в Кавдорском тане, и тут же
выражает глубочайшее доверие к преданности и благородству
Макбета:
...Мы, люди,
Читать по лицам мысли не умеем:
Ведь в благородство этого вассала
Я верил слепо.
(Обращаясь к Макбету)
Мой кузен достойный!
На мне еще лежит тяжелый грех—
Неблагодарность
и т.д.
Другим примером, показывающим, как Шекспир никогда не
упускал из виду ничего, что могло бы сильнее- оттенить или
подчеркнуть его главную тему, может послужить диалог между
Банко и Флиенсом.
Банко
Который час, мой мальчик?
! Флиенс
Месяц сел,
Но я не слышал, сколько прозвонили.
Банко
Садится он в двенадцать.
Флиенс
Нет, сейчас
Уж за полночь.
Банко
Возьми мой меч. На небе
Скупятся: там погашены все свечи.
Сон тяжкий, как свинец, меня долит,.
Но спать я не решаюсь.— Силы блага,
От грешных приходящих ночью мыслей
Меня оберегайте.
49
Не менее тонко передается наступление мрачного вечера перед
самым убийством Банко:
Тускнеет свет, и ворон в лес туманный
Летит...
Коня пришпорил запоздалый путник,
Спеша к ночлегу.
«Макбет», говоря в целом, строится на более сильно и
последовательно проведенном принципе контраста, чем любая
другая шекспировская пьеса. Действие его развивается на самом
краю пропасти и слагается из непрерывной борьбы между жизнью
и смертью. Поступки отчаянны, их следствия ужасны. Сводятся
вместе враждующие крайности, и они вступают в свирепую войну,
стремясь уничтожить друг друга. В этой трагедии все имеет
насильственный конец или насильственное начало. Свет и тени
наложены твердой рукой. Переходы от торжества к отчаянию, от
предельного ужаса к покою смерти внезапны и потрясающи:
каждая страсть сталкивается со своей противоположностью, и
мысли сшибаются и теснят друг друга, словно во мраке. Пьеса
представляет собой буйный хаос необычайного и запретного, так
что земля колеблется под нашими ногами. Гений Шекспира
развернулся в ней со всей своей мощью и смело вступил в самые
глухие пределы человеческой натуры и человеческих страстей.
Именно этим объясняются неожиданные и резкие стилистические
антитезы, огромное напряжение, превращающие языковые прос-
четы в перлы. «Бывал ли день ужасней и славнее?». «Такое безжа-
лостного с радостным смешенье»; «Люди, не болея, увядают быст-
рее, чем цветы на шляпах», «Цветок прелестный, а под ним змея».
Сцена перед воротами замка следует за появлением ведьм в степи,
а за ней совершается полночное убийство. Дункан ушел из
жизни до срока из-за союза измены и колдовства, а Макдуф
вырезан до срока из чрева матери, чтобы отомстить за его смерть.
Макбет после смерти Банко в чрезмерных выражениях сожалеет
о его отсутствии на пиру: «Я выпью за здоровье всех гостей и
Банко, друга нашего, который нас огорчил отсутствием своим»,
когда же появляется призрак Банко, вскрикивает: «Сгинь, скройся
с глаз!» — а после изчезновения призрака вновь «становится
человеком». Макбет решает избавиться от Макдуфа, чтобы
«крепко спать назло громам», и ободряет жену после сомнитель-
ного известия о бегстве Банко: «Воспрянь же духом: прежде чем
зареет под сводом храмов нетопырь и жук навеет дрему жестко-
крылым звоном, на зов Гекаты черной в ночь летя, свершится то,
что всех повергнет в ужас», В словах леди Макбет: «Не будь
Дункан во сне так схож с моим отцом, я все б сама свершила»
дочерняя любовь соседствует со стремлением к убийству, а
подстрекая мужа убить беззащитного короля, она в мыслях не
щадит ни младенцев, ни старости. Описание ведьм полно тех же
контрастов. Они «ликуют, когда кровь льется добрых королей»;
они принадлежат не земле и не воздуху, а земле и воздуху вместе;
50
ях можно было бы «счесть за старух, не будь у них бород»; они
делают все, что в их силах, чтобы Макбет достиг свершения
самой честолюбивой своей мечты,— но для того лишь, чтобы
предать его «в главнейшем», и, показав ему все могущество своего
колдовства, они злорадно упиваются его разочарованием и язвят
его: «Но разве это способно устрашить Макбета?» Подобные
примеры можно умножать еще и еще.
Главные черты в характере Макбета достаточно поразительны
и слагаются в то, что на первый взгляд можно счесть всего лишь
смелым, грубым, готическим абрисом. Однако, сравнивая его с
другими созданиями того же автора, мы замечаем абсолютную
правдивость и последовательность, которые неизменно соблюда-
ются в стремительном вихре событий. Макбет у Шекспира во всех
взлетах и падениях, во всех бурях страстей нигде не утрачивает
своей личности, как не утратил бы ее и реальный Макбет. Так, он
настолько не похож на Ричарда III, насколько это вообще можно
себе представить, хотя эти персонажи под рукой посредственно-
сти—или даже под рукой любого другого поэта—явились бы
более или менее преувеличенным повторением одной общей идеи.
Ведь оба они—тираны, узурпаторы, честолюбцы, оба храбры,
жестоки, коварны. Но Ричард жесток от природы, такова его
натура. Макбет становится таким под влиянием обстоятельств.
Ричард с рождения уродлив телом и духом, он просто не способен
на добро. Макбет полон «молочной незлобивостью», он прямоду-
шен, общителен, благороден. На преступление его толкает удоб-
ный случай, подстрекательство жены и пророчества. Судьба и
потусторонние силы искушают его добродетель и верность.
Ричарда, наоборот, не нужно искушать, он охотно идет к своей
честолюбивой цели по колено в крови, совершая преступление за
преступлением, подчиняясь только собственному необузданному
нраву и неукротимой злобе. Он бывает весел, лишь предвкушая
свои злодейства или упиваясь их успехом. Макбета же мысль об
убийстве Дункана преисполняет ужасом, его лишь с трудом
удается толкнуть на это убийство, а потом он мучится угрызени-
ями совести. Ричарду чужда всякая человечность, он не считается
ни с кровным родством, ни с мнением потомства, он не признает
никакой близости между собой и другими—он «сам по себе».
Макбет же не лишен душевной теплоты, доступен жалости и даже
в какой-то мере становится жертвой своей любви к жене. Среди
причин, из-за которых он устал от жизни, он называет потерю
Друзей, искренней любви своих сторонников и своего доброго
имени и сожалеет, что захватил корону бесчестными средствами,
так как не сможет передать ее своим потомкам:
...Так, значит,
Я душу погубил для внуков Банко,
Убил Дункана доброго для них...
Чтоб трон достался им, потомкам Банко!
В своем смятении он завидует тем, кого погрузил в вечный
сон: «Дункан лежит в могиле, от лихорадки жизни отсыпаясь».
Правда, он становится все бездушнее от преступления к преступ-
лению, «ужасами так пресыщен, что о злодействе думать приучил-
5J
ся без содроганья», . а под конец превосходит дерзостью и
кровавостью своих деяний даже леди Макбет, которая, будучи
лишена подобного побуждения к действию, становится «больна, не
телом, но душой», сходит с ума и умирает. Макбет пытается
спастись от мыслей о своих преступлениях, не желая думать о
последствиях, и подавляет раскаяние от содеянного, замышляя
новые убийства. Жестокость Ричарда совсем иная, она сочетает в
себе слабости человеческой страсти с бесцельной злобой дьявола.
Макбета на насилия и месть толкает необходимость, для Ричарда
же проливать кровь—развлечение.
В этих двух характерах заложены и другие коренные разли-
чия. Ричарда можно считать сугубо земным, практичным челове-
ком, бессердечным интриганом, который не считается ни с чем,
кроме собственных целей и средств к их достижению. Макбет не
таков. Суеверия того века, варварский строй общества, местная
природа и обычаи—все это придает его характеру дикое и
фантастическое величие. Странные события, совершающиеся
вокруг него, ввергают его в изумление и страх, и он в сомнении
стоит между миром реальности и миром воображения. Он видит
зрелища, скрытые от глаз смертных, и слышит неземные звуки.
И в его душе и вокруг него царят беспорядок и хаос; его
стремления обращаются против него, дробятся и рушатся. Он
оказался в двойных тенетах своего честолюбия и своей злой
судьбы. В характере Ричарда нет места ни воображению, ни
трагическому величию, он исчерпывается себялюбием. Противо-
речивые чувства не раздирают его грудь. Призраки, которые он
видит, являются ему только во сне, и в отличие от Макбета он не
живет все время во сне как наяву. Макбет обладает большой
энергией и мужеством, но он «подвержен всем влияниям небес».
Он не уверен ни в чем, кроме текущей минуты. Ричард среди бурь,
порождаемых его планами, ни на миг не утрачивает самооблада-
ния и использует каждое новое обстоятельство как орудие для
достижения своих далеко идущих целей. Когда он гибнет, мы
смотрим на него, как на свирепого зверя, попавшего в капкан, но
симпатий к Макбету мы не утрачиваем до конца, и он с новой
силой пробуждает ее в нас этим прекрасным заключительным
аккордом задумчивой грусти:
Немало пожил я: уже усеян
Земной мой путь листвой сухой и желтой,
Но спутников, столь нужных нам под старость—
Друзей, любви, почета и вниманья,—
Не вижу я; зато вокруг проклятья,
Негромкие, но страшные, и лесть,
Которую хотело б, да не смеет
Отвергнуть сердце бедное.
Мы можем представить себе, что заурядный актер вполне
сносно играет Ричарда, но мы не представляем, чтобы кто-то мог
как следует сыграть Макбета—изобразить человека, который
встретил вещих сестер. Все актеры, которых нам приходилось
видеть в этой роли, казалось, встречались с ними на подмостках
Ковент-Гарден или Друри-Лейн, а не в вересковой пустоши,
52
причем совершенно не верили тому, что видели. Бесспорно,
макбетовские ведьмы выглядят на современной сцене смехотвор-
но, но вряд ли и фурии Эсхила вызвали бы на ней больше
почтения. Развитие нравов и знаний влияет на театр и со
временем, возможно, уничтожит и трагедию и комедию. Воришки,
очищающие карманы зевак в «Опере нищих», вызывают куда
меньше смеха, чем когда-то; деятельность полиции и философия
приведут к тому, что убийства в пьесах Лилло и шекспировские
призраки безнадежно устареют, и в конце концов на сцене и в
реальной жизни не останется ровно ничего—ни дурного, ни
хорошего, ни привлекательного, ни пугающего.
Оригинальность шекспировских ведьм была подвергнута сомне-
нию, на что в своих заметках о поэзии ранних драматургов
отлично возразил мистер Лэм*:
«Хотя можно усмотреть некоторое сходство между колдовски-
ми чарами в «Макбете» и заклинаниями в указанной пьесе
(«Ведьма» Мидлтона), которая, как предполагается, была написана
раньше, это совпадение совершенно не умаляет оригинальности
Шекспира. Между его ведьмами и ведьмами Мидлтона существует
важнейшее различие. Вторые являются существами, к которым
может иногда обратиться за советом мужчина или женщина,
задумавшие какое-то страшное дело. Первые же вызывают на
кровавые злодеяния и пробуждают в людях дурные стремления. С
той минуты, как их глаза встречаются с глазами Макбета, он
остается во власти их чар. Эта встреча решает его судьбу. Он уже
не в силах освободиться от наваждения. Ведьмы Мидлтона могут
повредить телу, а эти губят душу. У мидлтоновской Гекаты есть
сын, грубый шут, у шекспировских ведьм детей нет и словно бы
не было родителей. Это — отвратительные уроды, и нам неизве-
стно, откуда они взялись и есть ли у них начало или конец. Они
лишены человечности и, по-видимому, не знают никаких родствен-
ных чувств. Они являются с громом и молнией и исчезают под
воздушную музыку. Вот и все, что нам о них известно. У них,
если не считать Гекаты, нет имен, и это усугубляет их таинствен-
ность. Имена, как и некоторые свойства, которыми Мидлтон
наделил своих ведьм, вызывают улыбки. Вещие сестры мрачны.
Их присутствие несовместимо со смехом. Однако ведьмы Мидлто-
на—тоже прекрасные творения, хотя они и не равны шекдпиров-
ским. Их власть также до некоторой степени распространяется на
дух и на разум. Они вызывают разлад, ревнивые ссоры, вражду,
«как толстый слой накипи на жизни».
Дж. Г. БАЙРОН
ПИСЬМО К ДЖОНУ МЕРРЕЮ
Пиза, 3 ноября 1821
Дорогой Меррей,
В обоих местах ничего нельзя менять, иначе Люцифер заговорит,
как епископ Линкольнский, а это совсем не в его духе. Теорию
«погибших миров» я заимствовал у Кювье и поясняю это в особом
примечании к предисловию. Второе место также написано соот-
ветственно характеру действующего лица, а если получается
чепуха—тем лучше; значит, она никому не повредит, и, чем
глупее выглядит Сатана, тем безопасней для всех. Что касается
«тревоги» и т. п., неужели вы действительно думаете, что подоб-
ные вещи могут кого-либо совратить? Разве мои персонажи
безбожнее, чем Сатана у Мильтона или Прометей у Эсхила? Или
даже саддукеи вашего завистливого пастора, сочинителя «Падения
Иерусалима»? Разве Адам, Ева, Ада и Авель не набожны, как сам
Катехизис?
Гиффорд слишком умный человек, чтобы думать, будто
подобные вещи могут оказывать серьезное действие; неужели
чтение поэмы способно кого-либо совратить? Прошу заметить,
что я не выражаю здесь моего личного символа веры; но мне
было необходимо, чтобы Каин и Люцифер говорили, как свой-
ственно их природе,—ведь в поэзии это всегда дозволялось. Каин
горд; если бы Люцифер посулил ему царства и пр., он возликовал
бы; но Демон хочет как можно более унизить его в собственных
его глазах, показывая ему бесконечность мира и собственное его
ничтожество, пока он не приходит в то состояние духа, которое
приводит к катастрофе; это у него—внутреннее раздражение, а
не обдуманное намерение или зависть к Авелю (иначе он был бы
презренным ничтожеством); это—ярость при виде несоответствия
между его возможностями и замыслами. И ярость эта направлена
более против Жизни и ее Творца, чем против живущих. Раскаяние
его приходит естественно, едва он видит следствия своего внезап-
ного поступка. Если бы поступок был намеренным, раскаяние
пришло бы позднее.
Последние три строки проклятия Евы вписаны в корректуру по
памяти и при этом неверно (ибо я не оставляю себе копий). Либо
оставьте эти три, либо замените тремя другими, какие больше
понравятся мистеру Гиффорду. В сверке я не вижу надобности;
это пустая трата времени.
Посвятите поэму Вальтеру Скотту; а если вы думаете, что он
предпочел бы, чтобы я посвятил ему «Фоскари», поместите
посвящение там. Об этом надо спросить его самого.
54
Первая ваша записка была довольно странной; но два других
письма, где приводятся мнения Мура и Гиффорда, все исправили.
Я уже говорил вам, что не умею переделывать заново. Я—как
тигр; когда мне не удается первый прыжок, я с рычанием
отступаю в свои джунгли; но уж если попадаю, то удар бывает
сокрушительным. Что касается мистера Моумена, то я принял его
весьма учтиво, в качестве вашего друга, и он с большой теплотой
говорил о вас. Как рядовой армии сочинителей, я не мог не отдать
честь одному из ее офицеров.
Я дал ему ту книгу с надписью, чтобы показать вам и дать вам
исправить ошибки. Остальное меня не касается, но вам досталось
поделом. Вы обошлись с Д[он] Ж[уаном] как мачеха—не то
стыдясь его, не то боясь, не то пренебрегая; и все это себе же в
убыток и никому не в честь. Слыханное ли дело, чтобы издатель
не ставил своего имени? Причины моего анонима я объяснил—
они чисто семейные. Некие путешествующие англичане, встретив-
шиеся мне недавно в Болонье, сказали, что вы стараетесь
отрицать всякую причастность к этому сочинению, а ведь это
двурушничество; что ж, тем хуже, ибо вам не скоро доведется
издать что-нибудь лучше.
Вас словно обижает слово «издатель». Как? Вы не хотите
поставить на титульном листе свое имя, а желаете, чтобы я
написал на чистом листе: «Дж. М., эсквайр»? Нет, Меррей! Вы
отличный малый, правда немного переменчивый и склонный
повторять мнение каждого, с кем поговорите (особенно последне-
го), но при всем том—хороший малый; и все-таки я никак не могу
назвать благородным ваше отношение к этой преследуемой книге,
которая пробила себе дорогу совершенно самостоятельно, без
вашей поддержки и какого-либо поощрения—критического или
книгопродавческого. За последние три песни вы меня отругали и
задерживали их более года; а между тем мне сообщили из Англии,
что (невзирая на опечатки) их хвалят, в том числе—американец
Ирвинг, а этим можно гордиться.
Через мистера Киннэрда вы получили мое письмо (открытое),
так что прошу не посылать впредь никаких рецензий. Я не хочу
читать ни плохих, ни хороших. Вальтер Скотт уже тринадцать
лет не читает рецензий на свои сочинения.
Бюст принадлежит не мне, а Хобхаузу. Я направил его вам, как
чиновнику Адмиралтейства и важной персоне в глазах таможенни-
ков. Прошу вычесть расходы на него, как и на все прочее.
Всегда ваш
Байрон
в. скотт
«ЭММА»
Хотя некоторые пороки цивилизованного общества встречаются
столь часто, что они едва ли осознаются как изъяны нравственно-
го облика, склонность к ним тщательно скрывается даже теми,
кто чаще всего им предается, так как ни один любитель
удовольствий не согласится добровольно называть себя грубым
титулом развратника или пьяницы. Можно подумать, что чтение
романов попадает в разряд подобных слабостей, так как среди
множества людей, не читающих почти ничего иного, трудно найти
хотя бы одного человека, обладающего достаточным мужеством
открыто признать, что у него есть вкус к этим легкомысленным
занятиям. Таким образом, роман—это чаще всего «пища, вкуша-
емая в уединении»*, и не только на туалетном столике Лидии
Томность можно найти «Тома Джонса» и «Перегрина Пикля»,
укрывшихся за сочинениями более серьезного и назидательного
характера. И, однако, получилось так, что ни в каком другом виде
сочинительства, включая даже поэзию, не упражняет свои силы
столько разнообразных талантов. Можно, пожалуй, добавить:
хотя подобные сочинения бывают украшены и возвеличены
усилиями гения, всепобеждающее очарование повествования тако-
во, что и самый худший из когда-либо написанных романов найдет
своего благосклонного читателя, предпочитающего лучше зевать
над ним, чем обратиться к творениям историка, моралиста или
поэта. Правда, мы слышали о таком неописуемо глупом романе,
владелец которого, забавляясь необычностью случая, предложил
эту книгу, состоящую из двух красиво переплетенных томиков в
l/i2 часть листа, любому, кто побожится, что прочитал ее от
корки до корки. Но хотя предложение это было сделано пассажи-
рам на борту ^судна Ост-Индской компании во время скучного и
долгого путешествия, «Воспоминания священника Клегга»* (а
таково было название этого злосчастного сочинения), полностью
исчерпали силы самого терпеливого и упорного любителя науч-
ных знаний на борту корабля и оказались бы прекрасным приме-
ром исключения из вышеупомянутого правила, если бы любовь к
славе не подвигла боцмана, человека мощного телосложения,
отважиться на попытку—и он одержал победу и завладел
наградой!
Рассудительный читатель сразу поймет, ведь мы защищаем
самих себя, утверждая, что все предаются этому занятию, и
подготавливаем его к тому, что имеем более широкое знакомство
56
с этим увлекательным видом литературы, совместимое с более
серьезными занятиями, к которым нас принуждают обязанности;
однако в действительности, когда мы представляем себе, сколько
часов, омраченных усталостью и тревогами, одиночеством старо-
сти и безбрачия, даже болью и нищетой, было скрашено чтением
этих легкомысленных томиков, мы не можем сурово порицать
источник, облегчающий столько человеческих горестей, или счи-
тать, что этот род литературы недостоин серьезного критического
анализа.
Если подобные оправдания приемлемы при обсуждении плодов
труда рядового романиста, то вдвойне обязанность критика отне-
стись с доброжелательностью и беспристрастностью к работам,
которые, подобно той, что сейчас перед нами, свидетельствуют о
знании человеческого сердца и об умении и решимости обратить
это знание на службу чести и добродетели. Автор уже известен
двумя романами, указанными на титульном листе; оба они,
особенно последний, привлекли—и справедливо—гораздо боль-
шее внимание публики, чем та легковесная продукция, которая
служит удовлетворению постоянного спроса на курортах и в
библиотеках. Они принадлежат к тому типу литературы, которая
появилась почти что на наших глазах и которая рисует характеры
и ситуации, имеющие более непосредственное отношение к тече-
нию обыденной жизни, чем это было дозволено прежними
правилами создания романа.
При своем появлении современный роман был законным
отпрыском рыцарского романа; и хотя художественные приемы и
общий склад композиции были изменены в угоду современным
требованиям, автор оставался связанным многими особенностями,
характерными для исходного романтического стиля. Это прежде
всего прослеживается в том, как развертывается повествование и
какие чувства приписываются литературным персонажам. Что
касается первого, то, хотя
Волшебный жезл лишился прежних чар,
А рыцари растаяли, как пар,
читатель все же ожидал погрузиться в поток приключений го-
раздо более интересных и необычайных, чем те, которые слу-
чаются с ним самим или с его ближайшими соседями. Герой уже
больше один-на-один не обращал в бегство армии своим мечом,
не рассекал надвое великанов и не завоевывал королевств. Но ему
полагалось претерпевать злоключения на суше и на море, погря-
зать в нищете, противиться искушениям, встречать то удары
судьбы, то ее ласки; и его жизнь представляла собой тревожное
поле страданий и побед. Правда, немногие романисты отважива-
лись лишить своего героя финального умиротворения и счастья,
хотя, согласно общепринятой моде,, он мог их достигнуть не ранее
последней главы повествования, лишь миновав завершающие,
самые ужасные испытания; поэтому, хотя преуспеяние занимало
ничтожное место в рассказе о его жизни, мы должны были
верить, когда автор расставался с героем, что оно будет долгим и
ничем не омраченным. Героиня обычно была осуждена на
57
неменыпие тяготы и опасности. Как правило, ее насильно умыкал,
как сабинянку, какой-нибудь неистовый поклонник. И даже если
ей удавалось избегнуть страшных бандитов в масках или коварно-
го развратителя, если ей не заматывали насильно голову плащом,
не сажали в карету с опущенными шторами и не везли неизвестно
куда, то и тогда на ее долю выпадали скитания, нужда, клевета,
одиночество, заточение; не раз будет она прикована к одру
болезни, не раз останется без единого шиллинга, прежде чем
автор соблаговолит защитить ее от преследований. Ожидалось,
что читатель должен сочувствовать всем этим ужасным случайно-
стям, так как события, столь далеко выходящие за пределы его
будничного опыта, должны были сразу же возбуждать его
любопытство и интерес. Но постепенно читатель осваивался в
мире вымысла, и приключения, происходящие в нем, сопоставлял
не с теми, что происходят в реальном мире, а лишь друг с другом.
Как бы ни были велики горести героя или героини, читатель был
исполнен непоколебимой веры в талант автора, который, как он
вверг их в несчастья, так в свое время, когда все события, по
выражению Тони Лампкина*, встанут на свои места, вызволит
своих любимцев из беды. М-р Крабб прекрасно выразил и свои, и
наши чувства на этот счет:
Пусть терпят те красавицы мученья,
Мы знаем — недалеко избавленье,
И не успеют прелести лица
Поблекнуть, как воспрянут их сердца
Под мирной сенью брачного венца,
А за былые горести в награду
Жизнь впереди сулит одни услады.
Перевод Ю. Левина
Короче говоря, романист в прежние времена должен был все
время топтаться между концентрическими кругами вероятности и
возможности, и, поскольку ему не позволялось переступить
последний, его повествование, чтобы поправить дело, почти всегда
дреступало границ^ первого. Так вот, хотя можно утверждать,
что превратности человеческой жизни подчас проводят человека
через столько же удивительных обстоятельств, сколько описано в
самом нелепом из подобных романов, всё же причины этих
обстоятельств и люди, в них замешанные, меняются по мере
развития судьбы искателя приключений и не способствуют созда-
нию ловко слаженного сюжета—предмета стремлений каждого
умелого романиста,—в котором все наиболее значительные дей-
ствующие лица внесут каждый свою долю в действие и в
подготовку драматического финала. В этом даже более, чем в
разнообразных и резких поворотах фортуны, заключается неправ-
доподобие романа. Жизнь человека либо бьет ключом, либо
застывает в неподвижности, как спокойное или даже зацветшее
озеро. В последнем случае человек стареет среди своих сверстни-
ков, которых он знает с детства, получает ровно столько радостей
и горестей, сколько уготовано ему его рождением, вращается в
одном и том же мире, и, помимо смен времен года, на него
влияют и он влияет на один и тот же круг людей, с которым он с
самого начала был связан. Наоборот, жизнь человека выдающего-
58
ся, искателя приключений напоминает реку, чье среднее течение
значительно удалено от места ее впадения в океан, равно как и от
скал и диких цветов, которые отражались в ее истоках; резкие
смены времени, места, обстоятельств гонят такого человека
вперед, от одной ситуации к другой, и обычно его приключения
связаны друг с другом только тем, что произошли с одним и тем
же лицом. Подобная история напоминает замысловатый вымыш-
ленный рассказ лишь настолько, насколько старинная драматиче-
ская хроника жизни и смерти какого-нибудь выдающегося лица,
где самые разнообразные участники появляются и исчезают,
словно на страницах истории, напоминает обыкновенную драму,
где каждый персонаж играет отведенную ему роль и каждый
момент действия ведет к общей развязке.
Мы возвращаемся ко второму существенному различию между
романом, каким он был раньше, и реальной жизнью, а именно к
различию в изображении чувств. Романист заявлял, что он
подражает природе, но это была, как говорят французы, la belle
nature1. Действительно, люди изображались только в самом
сентиментальном настроении, с сознанием, очищенным чувстви-
тельностью, доходящей до нелепости. В серьезных романах герой
обычно
В любви, как рыцарь, верен был обету.
И хотя в романах более юмористического толка он получал
некоторую свободу действия, то ли в соответствии с реальной
жизнью, то ли позаимствованную из «безнравственной» драмы,
однако высокие качества требовались даже от Перегрина Пикля и
Тома Джонса; и герой, в каких бы прегрешениях он ни был
повинен, был каждый раз старательно оправдан от обвинения в
непостоянстве сердечном. Героиня была, конечно, еще более
безукоризненна, и подарить ее привязанность кому-либо, помимо
возлюбленного, которому читатель предназначил ее с первой
встречи, было бы таким преступлением против чувств, на которое
в прежние времена ни один мало-мальски благоразумный автор не
отважился бы.
Таким образом, в этом и заключаются Два наиболее суще-
ственных и важных обстоятельства, отличающих прежние романы
от тех, что вошли в моду сейчас, и сближающих их с рыцарскими
романами. И нет сомнения, что умышленным закручиванием и
распутыванием интриги, сочетанием событий, новизной и странно-
стью поразительно непохожих на те, что происходят в повседнев-
ной жизни, писатели прежних лет развивали то естественное и
сильное чувство заинтересованности, которое основывается на
любопытстве; так же как чистотой, возвышенностью и романтич-
ностью изображения чувств они ублаготворяли те лучшие склон-
ности нашей натуры, в силу которых мы любим созерцать
человеческие добродетели, даже когда заведомо неспособны им
следовать.
Но как бы ни были могущественны источники подобных
чувств и интереса, они, как и любые другие, могут иссякнуть
Прекрасная природа (франц.).
59
вследствие привычки. Подражатели, которые бросались толпами
по каждой тропинке, проложенной великими художниками, вызы-
вали у публики ощущение пресыщенности. Первый писатель
нового направления возносится, как правило, на вершину славы,
на высоту, которая глазам его удивленных почитателей представ-
ляется поначалу почти чудесной. Время и подражание быстро
умаляют чудо, каждая очередная попытка является ступенью
постепенного сближения прежде обожествляемого автора и чита-
теля, раньше считавшего его величие недосягаемым. Тупость,
посредственность или достоинства подражателей в равной степени
губительны для первооткрывателя, так как показывают, как
можно утрировать его недостатки или приблизиться в какой-то
мере к его совершенству.
Материал (а и гений, и его презренный подражатель работают
с одним и тем же) тоже становится затасканным и привычным.
Жизнь общества в наш цивилизованный век предоставляет мало
случаев, которые можно описывать в мрачных, темных тонах,
вызывающих удивление и ужас: грабители, контрабандисты,
бейлифы, пещеры, темницы, сумасшедшие дома—все было ис-
пробовано, пока интерес к этому не иссяк. Таким образом, в
романе, как и в любом другом сочинении, рассчитанном на вкусы
публики, когда самые богатые и легко разрабатываемые залежи
истощены, предприимчивый автор, если он хочет добиться успеха,
должен обратиться к тем, которыми пренебрегали его предше-
ственники как неприбыльными или которых избегали потому, что
они требовали слишком большого умения и труда для извлечения
из них выгоды.
Соответственно за последние пятнадцать-двадцать лет возник
стиль романа, отличающийся от предшествующего тем, на чем
основан интерес; он не смущает нашу доверчивость и не волнует
наше воображение буйным разнообразием событий или теми
картинами романтических увлечений и чувствительности, которые
раньше были столь же неизменной принадлежностью вымышлен-
ных характеров, сколь редко они встречаются среди тех, кто
живет и умирает наяву. Эти волнующие события, в значительной
степени потерявшие пикантность из-за многократного и неблаго-
разумного их использования, были заменены искусством воспро-
изведения природы* какой она встречается в обыденной жизни, и
точным и потрясающим изображением—вместо роскошных сцен
мира воображаемого—того, что каждый день происходит рядом с
читателем.
Изощряясь в решении этой задачи, автор приносит явные
жертвы и сталкивается с особыми трудностями. Тот, кто рисует 1е
beau ideal1, в значительной мере избавлен, если изображаемые им
сцены и чувства впечатляющи и интересны, от трудной задачи
примирения их с возможностями обыденной жизни; но тот, кто
рисует сцены, происходящие сплошь и рядом, подставляет свое
произведение под удары критики, обширные возможности которой
дает читателю его собственный житейский опыт. Сходство статуи
с Геркулесом мы оставляем на совести автора; но любой может
Прекрасный идеал (франц.)-
60
критиковать изображение, выдаваемое за портрет друга или
соседа. Здесь нужно нечто большее, чем портретное сходство.
Изображение должно передавать дух и характер так же, как и
внешнее сходство, и, будучи лишено всего того, что, по выраже-
нию Байе*, призвано «возвышать и удивлять», оно должно
восполнять это, обнаруживая глубину знания и мастерство испол-
нения. Вот почему мы делаем отнюдь не малый комплимент
автору «Эммы», когда говорим, что, точно описывая события и
характеры, встречающиеся в жизни на каждом шагу, она создала,
зарисовки такой силы и оригинальности, что мы даже и не
вспоминаем о волнении, вызванном рассказом о необычайных
событиях или возникающем из наблюдений над умами, нравами и
чувствами, далеко превосходящими наши собственные. В литера-
туре подобного рода она стоит почти особняком, так как сцены,
принадлежащие перу мисс Эджуорт *, показывают более светскую
жизнь, отмеченную более романтическими событиями и замеча-
тельной силой воплощения и проявления национального характе-
ра. Автор «Эммы» ограничивается в основном средними классами
общества; те из ее персонажей, которые занимают самое высокое
положение, недалеко ушли от благовоспитанных провинциальных
джентльменов и леди, а те, кто обрисован с особой тщательно-
стью и оригинальностью, стоят, пожалуй, еще ниже на обще-
ственной лестнице. Повествование во всех ее романах состоит из
таких обыденных событий, какие может наблюдать почти каж-
дый; а действующие лица ведут себя согласно принципам и
побуждениям, в которых читатели узнают свои собственные,
равно как и принципы и побуждения своих знакомых. Род морали,
предлагаемый этими романами, также применим и к обыденной
жизни, как станет ясно из короткого резюме двух первых
произведений и более полного обзора того, которое в настоящее
время занимает наше внимание.
«Разум и чувствительность», первое из этих сочинений, пред-
ставляет собой историю двух сестер. Старшая — благоразумная
молодая леди, владеющая своими чувствами,— постепенно влюб-
ляется в молодого человека с прекрасными душевными качества-
ми и скромными дарованиями, который, к несчастью, оказывается
связанным необдуманной и неудачной помолвкой. В младшей
сестре преобладает влияние чувствительности и фантазии; она,
как этого и следовало ожидать, тоже влюбляется, но с большим
безрассудством и безудержностью. Ее возлюбленный, одаренный
всеми достоинствами внешнего блеска и живости, оказывается
неверен ей и женится на богатой. Интерес и достоинства этой
вещи всецело связаны с поведением старшей сестры, которой
приходится и переносить с твердостью свои собственные разоча-
рования, и поддерживать сестру, которая безудержно отдается
своему горю. Замужество недостойной соперницы в конце концов
освобождает возлюбленного старшей от неблагоразумной помол-
вки, в то время как младшая, поумневшая под воздействием
нравоучений, примера и жизненного опыта, дарит свою привязан-
ность вполне уважаемому и чуть-чуть слишком серьезному по-
клоннику, который питал к ней безответную любовь на протяже-
нии всех трех томов.
61
В «Гордости и предубеждении» автор знакомит нас с семей-
ством молодых девиц, воспитанных глупой и вульгарной матерью
и отцом, чьи хорошие качества скрыты под таким грузом лености
и равнодушия, что он предпочитает делать недостатки и безрас-
судства жены и дочерей скорее предметом сухого и насмешливого
сарказма, чем увещевания и обуздания. Это один из тех портретов
из обыденной жизни, который показывает талант нашего автора с
самой выгодной стороны. Один наш друг, которого писательница
никогда в жизни не видала и о котором не слыхала, был
немедленно признан в своем семействе прототипом мистера
Беннета, и мы не знаем, не носит ли он и посейчас это прозвище.
Некий м-р Коллинз, сухой, самодовольный и одновременно
подобострастный юнец, служитель церкви, нарисован с неменьшей
силой и точностью. Сюжет вещи связан в основном с судьбой
второй сестры; молодой человек, богатый и знатный, но надмен-
ный и сдержанный в обращении, влюбляется в нее, несмотря на
тень, бросаемую на предмет его увлечения вульгарностью и
неблаговидным поведением ее родственников. Леди же, наоборот,
задета пренебрежением к ее родным и близким, которое по-
клонник даже и не пытается скрывать; предубежденная против
него и по другим причинам, она отказывается от его руки, пред-
ложенной ей столь нелюбезно, и не подозревает, что сделала глу-
пость, пока случайно не оказывается в принадлежащем ее поклон-
нику весьма красивом поместье. Они случайно встречаются, как
раз когда благоразумие начинает брать в ней верх над предубеж-
дением, и после нескольких существенных одолжений, оказанных
ее семье, влюбленного поощряют возобновить ухаживания, и роман
кончается счастливо.
В «Эмме» еще меньше сюжета, чем в любом из предшеству-
ющих романов. Мисс Эмма Вудхаус, именем которой названа
книга,—дочь состоятельного и влиятельного джентльмена, прожи-
вающего в своем поместье недалеко от деревни Хайбери. Отец,
добродушный, глуповатый и мнительный человек, оставляет все
домашнее хозяйство h^s Эмму, сам же он занят только своим
летним и зимним моционам, своим врачом, своей овсянкой и
вистом. Последний составляется именно из того сорта людей из
соседнего Хайбери, какие занимают вакантные места за ломбер-
ным столом, когда деревня поблизости, а в кругу семьи не
находится ничего лучшего. Перед нами улыбчивый и любезный
викарий, питающий тщеславную надежду получить руку мисс
Вудхаус; перед нами миссис Бейтс, жена бывшего ректора,
потерявшая интерес ко всему на свете, кроме чая и виста; ее дочь
мисс Бейтс, добродушная, вульгарная и глуповатая старая дева;
м-р Уэстон, джентльмен открытого нрава и скромного дохода,
живущий поблизости, и его жена, приятная и одаренная особа,
бывшая гувернантка Эммы, нежно ее любящая. Среди всех этих
персонажей мисс Вудхаус выступает вперед, как принцесса,
превосходя всех окружающих умом, красотой, богатством и
талантами, обожаемая отцом и Уэстонами, вызывающая восхище-
ние и почти преклонение более смиренных партнеров по висту
Желанная цель большинства молодых_ девиц-—во всяком случае,
так принято предполагать—вступление в брак. Но Эмма Вудхаус,
вг
либо предвосхищая вкусы более позднего периода жизни, либо,
как добрый монарх, предпочитая благо своих подданных в
Хайбери собственным интересам, щедро занимается устройством
браков своих друзей, не строя собственных матримониальных
планов. Мы узнаем, что в прошлом ее усилия увенчались полным
успехом в отношении м-ра и м-с Уэстон, а к началу романа она
использует все свое влияние ради мисс Харриет Смит, безродной,
небогатой пансионерки, очень добродушной, очень хорошенькой,
очень глупенькой и, что более всего соответствует намерениям
Эммы, очень расположенной выйти замуж.
Этим матримониальным махинациям Эммы часто мешают—и
не только предостережения ее отца, который резко осуждает
любого, совершающего столь рискованный поступок, как вступле-
ние в брак, но и суровые порицания и увещания м-ра Найтли,
деверя ее сестры, здравомыслящего провинциального джентльме-
на тридцати пяти лет, который знает Эмму с колыбели и
единственный отваживается находить в ней недостатки. Эмма,
однако, несмотря на его порицания и предостережения, вынашива-
ет план выдать Харриет Смит замуж за викария; но, хотя ей
вполне удается отвлечь мысли своей глупенькой подруги от
честного фермера, сделавшего ей вполне достойное предложение,
и вдохновить ее на страсть к м-ру Элтону, однако что касается
другой стороны, то тщеславный священник совершенно неверно
истолковывает оказанное ему поощрение и объясняет расположе-
ние, которое он снискал у мисс Вудхаус, тайной влюбленностью с
ее стороны. Это в конце концов подвигает его на самонадеянное
признание в своих чувствах; получив отказ, он продолжает поиски
где-то на стороне и увеличивает общество Хайбери, вступив в
брак с энергичной молодой особой, обладательницей той круглой
суммы, которую принято определять в десять тысяч фунтов, и
сопутствующих самонадеянности и невоспитанности.
В то время как Эмма тщетно пытается опутать брачными
узами других, ее друзья строят подобные же планы относительно
ее самой и сына м-ра Уэстона от первого брака, который живет под
опекой, носит имя и является наследником богатого дядюш-
ки. К несчастью, м-р Фрэнк Черчилл уже подарил свою любовь
Джейн Фэрфакс, молодой леди с небольшим состоянием, но так
как этот роман держится в тайне, Эмма, когда на сцене появляет-
ся м-р Черчилл, подумывает, не влюбиться ли ей самой; вскоро-
сти, однако, излечившись от этой опасной склонности, она не
против уступить его своей покинутой подруге Харриет Смит.
Харриет между тем безнадежно влюбилась в м-ра Найтли,
твердохарактерного, склонного к назиданиям холостяка; а так как
вся деревня считает, что Фрэнк и Эмма влюблены друг в друга, то
перепутавшихся стремлений достаточно (будь книга более роман-
тического свойства), чтобы половина мужчин перерезала себе
горло, а у всех женщин разбились бы сердца. Но в Хайбери
Купидон разгуливает благопристойно и с большой осторожно-
стью, упрятав огонь факела под стекло фонаря, а не размахивая
им вокруг так, что можно поджечь дом. Вся эта путаница
приводит только к цепи ошибок и затруднительных ситуаций и к
разговорам на балах и званых вечерах, где автор обнаруживает
63
свое исключительное чувство юмора и знание жизни. Интрига
разрешается с удивительной простотой. Тетка Фрэнка Черчилла
умирает; его дядя, освободившись от ее дурного влияния, согла-
шается на его брак с Джейн Фэрфакс. М-р Найтли и Эмма при
помощи этого неожиданного события осознают, что они давно
уже любят друг друга. Возражения мистера Вудхауса против
замужества дочери преодолены страхами перед грабителями, а
также удобствами, которые он надеется извлечь из постоянного
присутствия в семье здоровяка зятя; легко же обратимые увлече-
ния Харриет Смит возвращаются, как чек с передаточной над-
писью, к ее прежнему поклоннику, честному фермеру, который
использует удачную возможность возобновить свои ухаживания.
Таков несложный сюжет истории, которую мы читаем с удоволь-
ствием, если не с глубоким интересом, и к которой, быть может,
захотим вернуться скорее, чем к одному из тех произведений, где
внимание приковано к сюжету во время первого чтения благодаря
сильно возбужденному любопытству.
Знание жизни и особый такт в изображении характеров,
которые читатель не может не узнать, чем-то напоминают нам
достоинства фламандской школы жирописи. Сюжеты редко быва-
ют изысканными и, разумеется, никогда—грандиозными, но они
выписаны близко к природе и с точностью, восхищающей
читателя. Это—достоинство, которое очень трудно проиллюстри-
ровать примерами, потому что оно пронизывает все сочинение и
не может быть понято из одного отрывка. Нижеследующее
представляет собой разговор м-ра Вудхауса с его старшей
дочерью Изабеллой, которая, как и отец, очень заботится о своем
здоровье и, подобно ему, имеет любимого врача. Надо предупре-
дить, что эта дама вместе с мужем, здравомыслящим и властным
человеком, приехала на неделю к отцу.
«В то время как всеЧотальные были заняты столь приятным
образом, м-р Вудхаус нарлаждался, изливая на дочь поток
подходящих случаю соболезнований и опасений.
— Бедная моя дорогая Изабелла,—сказал он, нежно беря ее
за руку и прерывая на несколько мгновений работу, предназначен-
ную одному из ее пяти малышей,—как давно, как ужасно давно
тебя не было здесь! И как ты, должно быть, устала после
поездки! Тебе следует лечь пораньше, дорогая моя, и я советую
немного овсяной каши перед сном. Мы вместе съедим по славной
миске овсяной каши. Эмма, дорогая моя, как ты думаешь, может
быть, нам всем поесть немного овсянки?
Эмма так не думала: она прекрасно знала, что оба м-ра Найтли
были столь же непоколебимы в этом вопросе, как и она сама, и
были заказаны только две миски. После еще некоторых разгла-
гольствований в пользу овсяной каши и удивления, почему не
все едят ее по вечерам, он продолжал говорить с серьезным
видом:
— Опасное это было дело, дорогая моя,—провести осень в
Саут-Энде, вместо того чтобы приехать сюда. Я всегда был
низкого мнения о морском воздухе.
— М-р Уингфилд рекомендовал его, сэр, самым настоятель-
ным образом, а не то мы не поехали бы. Он рекомендовал его
64
йсем детям, но особенно для больного горла маленькой Беллы—и
морской воздух, и купание.
— Ах, дорогая, но Перри сильно сомневается, что море для
нее полезно; а что до меня, то я давно уже твердо убежден, хотя,
быть может, и не говорил тебе раньше, что море очень редко идет
ца пользу кому бы то ни было. Уверен, что оно однажды чуть не
убило меня.
— Ну, полно!—воскликнула Эмма, чувствуя, что они затрону-
ли опасную тему.— Прошу вас, не говорите о море. Я начинаю
завидовать и чувствовать себя несчастной: подумать только, я его
щпсогда не видала! О Саут-Энде запрещено говорить, прошу вас.
Дорогая моя Изабелла, я не слыхала еще от тебя ни единого
вопроса о м-ре Перри, а он никогда не забывает тебя.
— Ах, добрый м-р Перри, как он поживает, сэр?
— Что ж, неплохо, но не совсем здоров. Бедняга Перри
страдает разлитием желчи, и у него нет времени позаботиться о
себе. Да, он говорил мне, что у него нет времени позаботиться о
себе—что очень грустно,—но в нем^ нуждается вся округа.
Думаю, нигде нет другого врача с такой «практикой». Да нигде и
це найдешь другого такого умницы.
— А м-с Перри и детки, как они? Детки подрастают? Я
глубоко ценю м-ра Перри. Надеюсь, он скоро заглянет к нам.
Ему будет так приятно посмотреть на моих малышей.
— Надеюсь, он будет здесь завтра, потому что у меня есть к
цему один-два довольно важных вопроса относительно моего
достояния. Но, дорогая, когда бы он ни пришел, тебе следует
показать ему горло маленькой Беллы.
— О, дорогой сэр, ее горло настолько улучшилось, что я о нем
почти це беспокоюсь. Либо купанье сослужило ей такую хоро-
шую службу, либо это стоит отнести за счет великолепного
растирания м-ра Уингфилда, которое мы время от времени
используем уже с августа.
— Вряд ли купанье могло пойти ей на пользу, дорогая моя; а
если бы я знал, что тебе нужно растирание, я обратился бы к...
— Мне кажется, ты совсем забыла м-с и мисс Бейтс,—сказала
Эмма.—Ты не спросила о них ни слова.
— О! Дорогие Бейтсы! Мне стыдно за себя, но ты упоминала о
дих дочти в каждом письме. Надеюсь, у них все благополучно.
Добрая старая м-с Бейтс! Завтра же вместе с детьми навещу
ее. Они всегда так рады видеть моих детей. А эта замечательная
мисс Бейтс! Такие исключительно достойные люди. Как они,
<#р?
— Ну, в целом неплохо, дорогая. Но бедная м-с Бейтс сильно
простудилась около месяца назад.
— Какая жалость! Но никогда так много не страдали от
простуды, как этой осенью. М-р Уингфилд сказал, что он не
знает, когда еще простуда была столь распространенной и
тяжелой, как этой осенью, за исключением периодов настоящей
инфлюэнцы.
— В какой-то мере это так, дорогая моя, но не до такой
степени, как ты говоришь. Перри сказал, что простуда была очень
распространенной, но не такой тяжелой, как ему часто случалось
S-2389
65
наблюдать в ноябре; Перри не считает это в целом нездоровым
временем года.
— Но я не слыхала, чтобы и м-р Уингфилд считал его очень
нездоровым, хотя—
— Ах, дорогая моя бедная девочка, все дело в том, что в
Лондоне всегда нездоровое время года. В Лондоне все нездоровы,
да и не может быть иначе. Ужасно, что тебе приходится там
жить—так далеко от нас!—и воздух такой плохой!
— Нет, право, у нас совсем не плохой воздух. Наша часть
Лондона почти самая лучшая. Вы не должны смешивать нас с
Лондоном в целом, дорогой сэр! Окрестности Брэнсвик-сквер
весьма отличаются от всего остального города. У нас такой
чистый воздух! Признаюсь, я не хотела бы жить в любой другой
части Лондона, едва ли найдется такая, где я решилась бы
держать детей, но у нас такой замечательный воздух! М-р
Уингфилд считает окрестности Брэнсвик-сквер самыми благо-
приятными в отношении воздуха.
— Ах, дорогая моя, это не то, что Хартфилд. Ты делаешь все,
что можешь, и все же после недели в Хартфилде все вы будете
совершенно другими людьми. Ты уже не та, что прежде. Сейчас я
не могу сказать, что кто-либо из вас выглядит хорошо.
— Грустно это слышать от вас, сэр, но уверяю, если не
считать небольших нервных, мигреней и сердцебиений, от которых
я никогда не могу полностью избавиться, я сама совершенно
здорова, а если дети перед сном были довольно бледны, так это
потому только, что они устали немного больше обычного от
поездки и радости приезда. Надеюсь, завтра вы убедитесь, что они
выглядят лучше, и уверяю вас, м-р Уингфилд говорил, что он
никогда не отправлял всех нас в таком хорошем состоянии.
Уверена по крайней мере, что вы\не думаете, будто м-р Найтли
выглядит плохо,—сказала она, с лЬбовью и тревогой взглянув на
мужа.
— Так себе, дорогая, не могу тебя порадовать. Думаю, что м-р
Джон Найтлй выглядит далеко не прекрасно.
— В чем дело, сэр? Вы что-то хотите сказать?—воскликнул
м-р Найтли, услыхав свое имя.
— Меня огорчает, любовь моя, что папа находит тебя не
совсем здоровым, но надеюсь, это только от легкой усталости. Ты
помнишь, я так хотела, чтобы ты повидал м-ра Уингфилда перед
отъездом,
— Дорогая моя Изабелла,—поспешно воскликнул он,—
умоляю, не заботься о том, как я выгляжу, занимайся лечением и
уходом за собой и детьми и позволь мне выглядеть так, как я
хочу.
— Я не совсем поняла, что вы рассказывали сейчас брату,—
вскричала Эмма,—о намерении вашего друга Грэма нанять бейли-
фа из Шотландии смотреть за своим поместьем. Но оправдает ли
это надежды? Не окажутся ли старые предрассудки слишком
сильны?
И она говорила в том же духе так долго и успешно, что когда
ей вновь пришлось обратить внимание на отца и сестру, то она не
услышала, ничего худшего, чем доброжелательные расспросы
66
Изабеллы о Джейн Фэрфакс, и хотя вообще-то Эмма не очень
благоволила к Джейн Фэрфакс, она рада была присоединиться к
похвалам в ее адрес».
Возможно, в приведенном выше отрывке читатель найдет и
достоинства, и недостатки автора. Первые определяются прежде
всего силой повествования, ведущегося искусно и точно, и
спокойными, хотя и комическими диалогами, в которых характе-
ры говорящих раскрываются, как в пьесе. Недостатки же,
наоборот, возникают из чрезмерной детализации, предусмотрен-
ной авторским замыслом.
Чудаки или простаки, такие, как старик Вудхаус и мисс Бейтс,
смешны, когда появляются впервые, но если их слишком часто
выдвигать на первый план и слишком долго на них задерживаться,
их болтовня начинает становиться такой же утомительной в
романе, как и в реальной жизни. В целом стиль этого автора так
же напоминает романы сентиментального или романтического
свойства, как поля, коттеджи и луга—ухоженные угодья роскош-
ного особняка или суровую величавость горного ландшафта. Они
не столь пленительны, как первые, и не столь грандиозны, как
второй, но они доставляют тем, кто часто их посещает, радость,
не идущую вразрез с опытом повседневной жизни, и—что еще
важнее—юный путник может возвратиться после такой прогулки
к обыденным занятиям, не рискуя потерять голову при воспомина-
нии о местах, по которым он блуждал.
Пару слов, однако, должны мы сказать в зашиту этого некогда
могущественного божества Купидона, повелителя богов и людей,
который в наши революционные времена атакован даже в соб-
ственных романтических владениях авторами, бывшими в прош-
лом его преданными жрецами. Нам прекрасно известно, что
первые увлечения редко заканчиваются счастливо—так и должно
быть в обществе столь цивилизованном, что оно рассматривает
ранние браки в высших классах, вообще говоря, как поступки
неблаговидные. Но ныне молодежь в нашем королевстве не
нуждается в том, чтобы ей преподавали доктрину себялюбия. Им
отнюдь не свойственно совершать эту ошибку—отдавать весь мир
или все блага его за любовь; и прежде чем авторы назидательных
романов неразрывно соединят Купидона с расчетливым благоразу-
мием, мы хотим, чтобы они поразмышляли над тем, как они могут
подчас способствовать замене более низкими, корыстными и
эгоистическими мотивами тех романтических чувств, которые их
предшественники разжигали чересчур пламенно. Кто из испытав-
ших в юности сильную страсть, какой бы романтической и
Несчастной она ни была, не сможет отнести за счет ее воздей-
ствия многое, что есть в его характере благородного, достойного,
бескорыстного? И если он вспоминает время, убитое в бесплод-
ных надеждах или омраченное сомнениями и разочарованиями, он
может мысленно задержаться и на многих других часах, вырван-
ных у глупости и распущенности и посвященных занятиям,
которые могли бы сделать его достойным предмета его любви
или, быть может, проложить путь к отличию, необходимому,
чтобы стать достойным возлюбленной. Даже вошедшая в привыч-
ку уступка чувствам, совершенно далеким от нас и от наших
а*
67
непосредственных интересов, смягчает, облагораживает и исправ-
ляет ум человека; и когда боль разочарований уже позади, те, кто
уцелел (а к счастью, таких большинство), не оказываются менее
мудрыми или менее достойными членами общества, оттого что
они испытали в молодости влияние страсти, которая была
справедливо определена как «нежнейшая, благороднейшая и
лучшая».
в. скотт
СМЕРТЬ ЛОРДА БАЙРОНА
Среди полного спокойствия в сфере политической жизни мы были
потрясены событием из совсем другой области: до нас дошло одно
из тех траурных известий, которые время от времени раздаются
как трубный глас архангела и сразу пробуждают душу всего
народа. Лорд Байрон, так долго и прочно занимавший первенству-
ющее место в общественном мнении, разделил участь всех
смертных. Он скончался в Миссолунги 19 апреля 1824 года.
Этот могучий гений, шествовавший между людьми как некто
высший по сравнению с простыми смертными, гений, чье всевла-
стие мы созерцали с удивлением и даже с некоторым трепетом,
словно не зная, ведет ли оно к добру или к злу, теперь покоится в
могиле так же просто, как и любой крестьянин-бедняк, помыслы
которого никогда не поднимались над будничными заботами.
Голоса справедливого порицания, равно как и голоса злобной
хулы, сразу же умолкли; нами овладело такое чувство, будто
внезапно исчезло великое небесное светило, исчезло в тот самый
момент, когда каждый телескоп был направлен на исследование
пятен, затмевающих его блеск. Теперь не время спрашивать, в
чем были ошибки лорда Байрона, в чем состояли его заблужде-
ния,—вопрос заключается в том, как заполнить пробел, возник-
ший в британской литературе.
Опасаемся, что для этого не хватит одного нынешнего поколе-
ния: оно произвело многих высокоодаренных людей; но среди них
все же нет никого, кто приближался бы к Байрону по оригиналь-
ности, а ведь именно она является главной отличительной чертой
гения.
Всего тридцать семь лет от роду, и уже столько сделано для
бессмертия! Так много времени было у него впереди, казалось
нам, близоруким смертным, чтобы поддержать и умножить свою
Славу, а также искупить ошибки в поведении и легковесность в
творчестве. Кто не пожалеет, что оборвался этот жизненный
путь, пусть не всегда прямой, что погас этот светоч, который,
Правда, иной раз ослеплял и смущал людей! Теперь еще одно
только слово на эту неблагодарную тему, прежде чем мы
расстанемся с ней навсегда.
Ошибки лорда Байрона происходили не от испорченности
Сердца, ибо природа не допустила такой аномалии, как соединение
столь необычного таланта с безнравственностью, и не от равноду-
шия к добродетели. Не было человека, наделенного сердцем,
69
более склонным к сочувствию, не было руки, которая щедрее
оказывала бы помощь обездоленным. Он больше чем кто-либо
был расположен от всей души восхищаться благородными поступ-
ками, когда был уверен, что совершаются они из бескорыстных
побуждений. Лорд Байрон не ведал унизительного проклятия,
тяготеющего над литературным миром. Мы имеем в виду ревность
и зависть. Но его удивительный гений был от природы склонен
презирать всякое ограничение, даже там, где оно необходимо.
Еще в школе он отличался только в тех заданиях, которые
выполнял по собственной охоте, а его положение знатного
молодого человека, притом наделенного сильными страстями и
бесконтрольно распоряжавшегося значительным состоянием, уси-
ливало прирожденную его нетерпимость по отношению к строго-
стям или принуждению. Как писатель он не снисходил до того,
чтобы защищаться от обвинений критики, как человек—не считал
себя подсудным трибуналу общественного мнения. Замечания,
высказанные другом, в чье расположение и добрые намерения он
верил, зачастую глубоко западали ему в душу, но мало насчитыва-
лось людей, которые могли или решались отважиться на столь
трудное предприятие. Он не терпел упреков, а порицание только
укрепляло его в заблуждениях, и часто он напоминал боевого
коня, который рвется вперед на стальные острия, пронзающие
ему грудь. В разгар мучительнейшего кризиса в его частной
жизни эта раздражительность и нетерпимость к критике достигли
такого предела, что он стал похож на благородную жертву боя
быков, которую сильнее бесят петарды, бандерильи и всякие
мелкие неприятности, причиняемые чернью, собравшейся вокруг
арены, нежели пика более достойного и, так сказать, законного
противника. Короче говоря, многие его проступки были своего
рода бравадой и презрительным вызовом тем людям, которые его
осуждали, и совершал он эти проступки по той же причине, по
которой их совершал драйденовский деспот — «чтоб показать, как
своевластен он».
Не приходится говорить, что в тех обстоятельствах подобное
поведение было ошибочно и вредоносно. И если благородный бард
добился своего рода триумфа, заставив весь мир прочитать стихи,
написанные на плачевную тему, только потому, что это были
его стихи, то вместе с тем он доставил низменный триумф своим
низменным хулителям, не говоря уже о глубоком огорчении,
которое причинил тем, чью похвалу выше всего ценил в спокой-
ные минуты своей жизни.
То же самое было и с его политическими выступлениями,
которые в некоторых случаях обретали характер угрожающий и
пренебрежительный по отношению к конституции его родины. На
самом же деле в глубине сердца лорд Байрон дорожил не только
тем, что он рожден британцем, но и своим званием, своим
знатным происхождением; к тому же он был особенно чувствите-
лен ко всякого рода оттенкам, составляющим то, что принято
называть манерами истинного джентльмена. Не подлежит сомне-
нию, что, несмотря на свои эпиграммы, на эту мелкую войну
острословия, от которой ему следовало бы воздержаться, он в
случае столкновения между партиями аристократической и демо-
70
критической всю свою энергию отдал бы на защиту той, к
которой принадлежал по рождению.
Взгляды на эту тему он выразил в последней песне «Дон
Жуана», и они полностью гармонируют с мнениями, которые он
изложил в своей переписке в тот момент, когда казалось, что на
его родине вот-вот возникнет серьезное столкновение противобор-
ствующих партий. «Если нам суждено пасть,—писал он по этому
поводу,—то пусть независимая аристократия и сельское дворян-
ство Англии пострадают от меча самовластного государя, который
по рождению и воспитанию настоящий, джентльмен, и пусть он
рубит нам головы, как рубили их некогда нашим предкам, но не
потерпим, чтобы нас перебили толпы головорезов, пытающихся
проложить путь к власти».
Точно так же он в очень сильных выражениях заявлял о своем
намерении бороться до последней крайности с тенденцией к
анархии, тенденцией, порожденной экономическими бедствиями и
используемой недовольными в своих целях. Те же чувства
выражены и в его поэзии:
Довольно демагогов без меня:
Я никогда не потакал народу,
Когда, вчерашних идолов кляня,
На новых он выдумывает моду.
Я варварство сегодняшнего дня
Не воспою временщику в угоду,
Мне хочется увидеть поскорей
Свободный мир—без черни и царей.
Но, к партиям отнюдь не примыкая,
Любую я рискую оскорбить..
Перевод Т Гнедич
Но мы вовсе не выступаем здесь защитниками Байрона—
теперь он—увы!—в этом не нуждается. Теперь его великие
достоинства получат всеобщее признание, а заблуждения—мы в
это твердо верим—никто и не вспомянет в его эпитафии. Зато все
вспомнят, какую роль в британской литературе он играл на
протяжении почти шестнадцати лет, начиная с первой публикации
«Чайлд-Гарольда». Он никогда не отдыхал под сенью своих
лавров, никогда не жил за счет своей репутации и пренебрегал тем
«обихаживанием» себя, теми мелочными предосторожностями,
которые второразрядные сочинители называют «бережным отно-
шением к собственной славе». Байрон предоставлял своей славе
самой заботиться о себе. Он не сходил с турнирной арены, его
щит не ржавел в бездействии. И хотя его высокая репутация
только увеличивала трудность борьбы, поскольку он не мог
создать ничего—пусть самого гениального,—что превзошло бы
всеобщую оценку его гения, все же он снова бросался в
благородный поединок и всегда выходил из него достойно, почти
всегда победителем. В разнообразии тем подобный самому Шек-
спиру (с этим согласятся люди, читавшие его «Дон-Жуана»), он
охватывал все стороны человеческой жизни, заставлял звучать
струны божественной арфы, извлекал из нее и нежнейшие звуки,
и мощные, потрясающие сердца аккорды. Едва ли найдется такая
страсть или такая ситуация, которая ускользнула бы от его пера.
71
Его можно было бы нарисовать подобным Гаррику, между
Рыдающей и Смеющейся музами, хотя, конечно, самые могучие
порывы он посвящал Мельпомене. Гений его был столь же
плодовитым, сколь и многосторонним. Величайшая творческая
расточительность не истощала его сил, а скорее оживляла их. Ни
«Чайлд-Гарольд», ни прекрасные ранние поэмы Байрона не содер-
жат поэтических отрывков более восхитительных, чем те, какие
разбросаны в песнях «Дон-Жуана»—посреди стихов, которые
автор роняет как бы невзначай, наподобие дерева, отдающего
ветру свои листья. Увы, это благородное дерево никогда больше
не принесет плодов и цветов! Оно срублено в расцвете сил, и
только прошедшее остается нам от Байрона. Нам трудно прими-
риться с этим, трудно себе представить, что навеки умолк голос,
так часто звеневший в наших ушах, голос, который мы часто
слушали, замирая от восторга, иногда с сожалением, но всегда с
глубочайшим интересом.
Потускнеет все, что блещет,—
Чем блестящей, тем быстрей...
Перевод Э. Липецкой
С чувством невыносимой скорби расстаемся мы с нашей темой.
Смерть подстерегает нас посреди самых серьезных, равно как и
посреди самых пустячных, занятий. Но есть нечто высокое и
утешительное в мысли, что она настигла нашего Байрона не тогда,
когда он был погружен в суетные дела, а когда тратил свое
состояние и рисковал жизнью ради народа, дорогого ему лишь
своей былой славой, ради собратьев, страждущих под ярмом
язычников-угнетателей.
После того как были написаны эти строки, нам стало известно
из самого авторитетного источника, что значение лорда Байрона
для дела греческих повстанцев оказалось даже большим, чем он
решался предположить. Все свое влияние Байрон направил на
лучшие и разумнейшие цели; и как это удивительно, что человек,
не отличавшийся, безусловно, осмотрительностью в своих личных
делах, с величайшей проницательностью прокладывал курс для
великой нации, попавшей в положение трудности необычайной!
Его пылкий, нетерпеливый характер был, видимо, укрощен
важностью предпринятого им дела; так боевой конь горячится и
становится на дыбы под легкой ношей, но идет ровной и
напористой рысью, оседланный воином в броне, направляющим
его в битву.
К Байрону постоянно обращались за советом и руководством,
когда нужно было примирить независимых и несогласных друг с
другом греческих вожаков, заставить их отказаться от зависти, от
наследственной вражды, от жалкой погони за личными выгодами
и объединить силы против общего врага. Его постоянной заботой
было отдалить рассмотрение разногласий по отвлеченным полити-
ческим вопросам и все усилия направить на восстановление
национальной независимости, без которой не может быть незави-
симо никакое настоящее правительство. К чести греческой нации
72
надо сказать, что она платила горячей благодарностью Байрону за
мудрое и бескорыстное усердие, с которым он поддерживал ее
дело. Продолжай он нести ее знамя, оно, возможно, не подвер-
глось бы сегодня опасности рухнуть—не столько из-за мощи
жестокого неприятеля, сколько из-за разногласий среди самих
греков.
Но Греции и всему миру суждено было лишиться этого
замечательного человека. И как в старые времена, гибель в
крестовом походе за свободу и человечность искупала самые
черные преступления, так и в наши дни она, несомненно, могла бы
загладить куда большие безумства, чем даже те, какие неистовое
злоречие приписывало Байрону.
Когда в газетах появились эти заметки о смерти лорда
Байрона, они привлекли к себе известное внимание и побудили
неких критиков выразить неудовольствие по тому поводу, что,
мол, автор выжидал, пока не опустится занавес над жизнью
великого современника, дабы отдать дань его гению. Не так,
однако, было в действительности: в самую несчастную для лорда
Байрона пору автор, не пытаясь оправдывать то, что не могло
быть оправданным, приложил все свое старание, чтобы во
всеуслышание воздать должное его выдающимся талантам, ле
скрывая ни своего- восторга, ни осуждения... при жизни лорда
Байрона, притом в период, когда обстоятельства сделали его
личность непопулярйой, мысли и чувства автора в отношении его
прославленного друга были теми же, какие он попытался выра-
зить в этом наброске.
Ч. ДИККЕНС
ПРЕДИСЛОВИЕ
К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ РОМАНА
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ОЛИВЕРА ТВИСТА»
В свое время сочли грубым и непристойным, что я выбрал
некоторых героев этого повествования из среды самых преступ-
ных и деградировавших представителей лондонского населения.
Не видя никакой причины в пору писания этой книги, почему
подонки общества (поскольку их речь не оскорбляет слуха) не
могут служить целям моральным в той же мере, как его пена и
сливки, я дерзнул верить, что это самое «свое время» может и не
означать «во все времена» или даже «долгое время». У меня были
веские причины избрать подобный путь. Я читал десятки книг о
ворах: славные ребята (большей частью любезные), одеты безуко-
ризненно, кошелек туго набит, знатоки лошадей, держат себя
весьма самоуверенно, преуспевают в галантных интригах, мастера
петь песни, распить бутылку, сыграть в карты или кости—
прекрасное общество для самых достойных. Но я нигде не
встречался (исключая Хогарта*) с жалкой действительностью.
Мне казалось, что изобразить реальных членов преступной
шайки, нарисовать их во всем их уродстве, со всей их гнусностью,
показать убогую, нищую их жизнь, показать их такими, каковы
они на самом деле—вечно крадутся они, охваченные тревогой, по
самым грязным тропам жизни, и, куда бы ни взглянули, везде
маячит перед ними большая черная страшная виселица,—мне
казалось, что изобразить это — значит попытаться сделать то, что
необходимо и что сослужит службу обществу. И я это исполнил в
меру моих сил.
Во всех известных мне книгах, где изображены подобные
типы, они всегда чем-то прельщают и соблазняют. Даже в «Опере
нищих» жизнь воров изображена так, что, пожалуй, ей можно
позавидовать: капитан Макхит, окруженный соблазнительным
ореолом власти и завоевавший преданную любовь красивейшей
девушки, единственной безупречной героини в пьесе, вызывает у
слабовольных зрителей такое же восхищение и желание ему
подражать, как и любой обходительный джентльмен в красном
мундире, который, по словам Вольтера, купил право командовать
двумя-тремя тысячами человек и так храбр, что не боится за их
жизнь. Вопрос Джонсона, станет ли кто-нибудь вором, потому что
смертный приговор Макхиту был отменен, кажется мне не
относящимся к делу. Я же спрашиваю себя, помешает ли
кому-нибудь стать вором то обстоятельство, что Макхит был
приговорен к смерти и что существуют Пичум и Локит. И,
74
вспоминая бурную жизнь капитана, его великолепную внешность,
огромный успех и великие достоинства, я чувствую уверенность,
что ни одному человеку с подобными же наклонностями не
послужит капитан предостережением и ни один человек не увидит
в этой пьесе ничего, кроме усыпанной цветами дороги, хоть она с
течением времени и приводит почтенного честолюбца к виселице.
В самом деле, Гэй высмеивал в своей остроумной сатире
общество в целом и, занятый более важными вопросами, не
заботился о том, какое впечатление произведет его герой. То же
самое можно сказать и о превосходном, сильном романе сэра
Эдуарда Булвера «Поль Клиффорд» который никак нельзя
считать произведением, имеющим отношение к затронутой мною
теме; автор и сам не ставил перед собой подобной задачи.
Какова же изображенная на этих страницах жизнь, повседнев-
ная жизнь Вора? В чем ее очарование для людей молодых и с
дурными наклонностями, каковы ее соблазны для самых тупоум-
ных юнцов? Нет здесь ни скачек галопом по вересковой степи,
залитой лунным светом, ни веселых пирушек в уютной пещере,
нет ни соблазнительных нарядов, ни галунов, ни кружев, ни
ботфортов, ни малиновых жилетов и рукавчиков, нет ничего от
того бахвальства и той вольности, какими с незапамятных времен
приукрашивали «большую дорогу». Холодные, серые, ночные
лондонские улицы, в которых не найти пристанища; грязные и
вонючие логовища—обитель всех пороков; притоны голода и
болезни; жалкие лохмотья, которые вот-вот рассыплются,—что в
этом соблазнительного?
Однако иные люди столь утонченны от природы и столь
деликатны, что не в силах созерцать подобные ужасы. Они не
отворачиваются инстинктивно от преступления, нет, но преступ-
ник, чтобы прийтись им по вкусу, должен быть, подобно
кушаньям, подан с деликатной приправой. Какой-нибудь Макаро-
ни* в зеленом бархате — восхитительное создание, ну а Сайке в
бумазейной рубахе невыносим! Какая-нибудь миссис Макарони—
особа в короткой юбочке и маскарадном костюме—заслуживает
того, чтобы ее изображали в живых картинах и на литографиях,
украшающих популярные песенки; ну а Нэнси—существо в
бумажном платье и дешевой шали—недопустима! Удивительно,
как отворачивается Добродетель от грязных чулок и как Порок,
сочетаясь с лентами и ярким нарядом, меняет, подобно замужним
женщинам, свое имя и становится Романтикой.
Но одна из задач этой книги — показать суровую правду, даже
когда она выступает в обличье тех людей, которые столь
превознесены в романах, а посему я не утаил от своих читателей
ни одной дырки в сюртуке Плута, ни одной папильотки в
растрепанных волосах Нэнси. Я совсем не верил в деликатность
тех, которым не под силу их созерцать. У меня не было ни
малейшего желания завоевывать сторонников среди подобных
людей. Я не питал уважения к их мнению, хорошему или плохому,
не добивался их одобрения и не для их развлечения писал.
О Нэнси говорили, что ее преданная любовь к свирепому
грабителю кажется неестественной. И в то же время возражали
против Сайкса — довольно непоследовательно, как смею я ду-
75
мать,—утверждая, будто краски сгущены, ибо в нем нет и следа
тех искупающих качеств, против которых возражали, находя их
неестественными в его любовнице. В ответ на последнее возраже-
ние замечу только, что, как я опасаюсь, на свете все еще есть
такие бесчувственные и бессердечные натуры, которые оконча-
тельно и безнадежно испорчены. Как бы там ни было, я уверен в
одном: такие люди, как Сайке, существуют, и, если пристально
следить за ними на протяжении того же периода времени и при
тех же обстоятельствах, что изображены в романе, они не
обнаружат ни в одном своем поступке ни малейшего признака
добрых чувств. То ли всякое более мягкое человеческое чувство в
них умерло, то ли заржавела струна, которой следовало коснуть-
ся, и трудно ее найти—об этом я не берусь судить, но я уверен,
что дело обстоит именно так.
Бесполезно спорить о том, естественны или неестественны
поведение и характер девушки, возможны или немыслимы, пра-
вильны или нет. Она—сама правда. Всякий, кто наблюдал эти
печальные тени жизни, должен это знать. Начиная с первого
появления этой жалкой несчастной девуш^си и кончая тем, как она
опускает свою окровавленную голову на грудь грабителя, здесь
нет ни малейшего преувеличения или натяжки. Это святая правда,
ибо эту правду бог оставляет в душах развращенных и несча-
стных; надежда еще тлеет в них; последняя чистая капля воды на
дне заросшего тиной колодца. В ней заключены и лучшие и
худшие стороны нашей природы — множество самых уродливых
ее свойств, но есть и самые прекрасные; это—противоречие,
аномалия, кажущиеся невозможными, но это — правда. Я рад, что
в ней усомнились, ибо, если бы я нуждался в подтверждении того,
что эту правду нужно сказать, последнее обстоятельство вдохнуло
бы в меня эту уверенность.
В тысяча восемьсот пятидесятом году один чудак-олдермен во
всеуслышание заявил в Лондоне, что острова Джекоба нет и
никогда не было *. Но и в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом
году остров Джекоба (по-прежнему место незавидное) продолжает
существовать, хотя значительно изменился к лучшему.
У. М. ТЕККЕРЕЙ
СОЧИНЕНИЯ ФИЛЬДИНГА
Перед нами прекрасно изданный том, отпечатанный чистым,
четким шрифтом и содержащий все творения одного из величай-
ших сатириков, писавших на английском языке. И хотя многое в
этой книге не отличается деликатностью новейшего романа
новейшей модной писательницы и хотя мы не рискнули бы
рекомендовать эту книгу юношам и молодым девицам, все же мы
очень рады появлению в свет общедоступного издания произведе-
ний этого великого писателя. Правда, кое-что в этих страницах,
полных здорового юмора, может покоробить читателя, но в
отличие от слезливо-сентиментальных романов они не могут
причинить ему вред, ибо в большинстве своем проникнуты
гуманностью, житейской мудростью и щедрой любовью к людям.
Том открывается превосходным жизнеописанием Фильдинга,
принадлежащим перу Томаса Роско, который воздает должное
заслугам великого сатирика и защищает его от нападок его
соперников, виршеплетов и знатных господ. Нельзя отрицать, что
Фильдинг был большим грешником и имел пристрастие к плохому
обществу. Мы имеем серьезные основания полагать, что он
повинен даже в более тяжких преступлениях, чем те, которые ему
вменяет Уолпол, обвинивший его в том, что .Он сидел за одним
столом с тремя ирландцами и слепым нищим, вместе с которыми
он угощался холодной бараниной и копченой грудинкой из одной
тарелки. Именно то, что писатель якшался с такой низменной
компанией, и привело в негодование критика. Если бы Фильдинг
ел ту же баранину на чистой скатерти и в аристократическом
обществе, то нам не твердили бы так часто о его пороках. Не
холодная баранина, а эта злосчастная грязная скатерть и эта
ужасная компания—вот что так шокировало высший свет.
Нынешнего читателя едва ли надобно предостерегать, что,
решившись провести часок-другой в обществе Фильдинга, он
рискует оказаться на все это время, в не слишком аристократиче-
ской компании. Поэтому те, кто страдает чрезмерной брезгливо-
стью и утонченным вкусом, пусть лучше держатся от него
подальше. Зато те, кто готов простить некоторую долю
грубости, чтобы побывать в обществе, где царит честность,
мужественность и доброта, едва ли найдут более подходящее
чтение, и вряд ли кто-либо из английских писателей может
соперничать с Фильдингом в проницательности и неподдельном
остроумии.
77
По словам биографа, Фильдинг был крепким, ладно скроенным
мужчиной, ростом несколько выше шести футов. Он был исклю-
чительно остроумным собеседником, и один знатный англичанин,
лично знакомый с Попом, Свифтом и другими членами знаменито-
го кружка острословов, утверждал, что Гарри Фильдинг превзо-
шел их всех. Он любил охоту и быструю езду и в недолгие дни
своего процветания держал лошадей и свору собак и разъезжал в
карете; подобному расточительству он приписывает в «Эмилии»
многие несчастья бедняги Бута. Девятнадцати лет от роду, не
имея никаких средств, он переехал в Лондон и зажил в свое
полное удовольствие, добывая на пропитание собственным умом.
Коротая время то за стаканом вина с лордами и светскими
щеголями, то в обществе актеров и актрис из труппы Гаррика, а
то и с другими, еще менее почтенными обитателями Ковент-
Гарден, молодой Фильдинг получил весьма разностороннее воспи-
тание, чем и объясняются многие недостатки и его самого, и его
произведений.
Вместе с Хогартом он дал нам любопытную картину нравов
своей эпохи. Письма Уолпола, при всей их холодной изысканно-
сти, ничуть не более нравстэенны, чем грубые картины Хогарта и
Фильдинга. Идеальный герой лорда Честерфилда отменно вежлив,
но зато лишен честности Тома Джонса или бедняги Уилла Бута с
его «плечами носильщика портшеза и икрами посыльного». Под-
жарый Урлпол на тонких ножках, слабый желудком, вечно
укрепляющий свой организм крепким чаем и хлебным пудингом и
способный опьянеть от рюмочки бургундского, конечно, не может
предаваться распутству с энергией дюжего грешника шести футов
ростом, всегда готового распить полдюжины бутылок каких
угодно напитков в какой угодно компании. Но и у сэра Хореса
есть тоже свои изящные грешки, которым он предается в своей
изящной компании, и он способен хихикать вместе со своими
графинями над гривуазными анекдотами, и возмущаться вслух
последними новостями, рассказанными Джорджем Селвином, и
быть не менее испорченным, чем Гарри Фильдинг, бражничающий
в таверне бог весть в каком обществе.
В наши дни свет не терпит сатиры во вкусе Хогарта и
Фильдинга, и, безусловно, эта нетерпимость в значительной
степени оправдана, ибо даже притворная добродетель и притвор-
ное целомудрие небесполезны, поскольку узда, налагаемая на
себя лицемером, в иных случаях послужит ему на благо. Но
всякий, кому случалось в ночное время проходить по Риджент-
стрит, или побывать за кулисами Оперы, или в любом театре
заглянуть в эту обитель блаженства—ложи бельэтажа,—конечно,
мог убедиться в том, что «Карьера мота» и «Карьера проститут-
ки» еще далеки от своего завершения и что юные франты в
спенсерах и макинтошах и соблазнительные сирены в нарядах по
последней парижской моде подвизаются в тех же ролях, что и
щеголи в завитых париках и треуголках и щеголихи в парче и
фижмах сто лет тому назад. Те же пороки существуют и ныне,
только теперь о них не принято говорить. То, что делалось
раньше, делается и теперь, .только мы не называем эти вещи
своими именами. Вот чем объясняется, по нашему разумению,
78
безнравственность Фильдинга. Что до Хогарта, то он уже стал
классиком, и мы позволяем ему, как и Шекспиру, такие вольности
речи, каких не простили бы никому другому.
Очень хорошо, что публика требует скромности, хотя бы и
притворной; что писатели вынуждены укрощать свое чувство
юмора и что, как им порой ни хочется высмеять безнравственное
в человеческом характере и в обществе, громогласное возмущение
таким нарушением приличий заставляет их молчать. Однако
беспристрастный наблюдатель, черпающий лишь малую толику
познания человеческой природы из книг, а большую его часть из
собственного жизненного опыта, отлично понимает, что персона-
жи Фильдинга и Хогарта—это те же герои Диккенса и Крукшен-
ка, только нарисованные с гораздо большей силой и искусством,
причем новые сатирики даже не смеют заикнуться о том, о чем их
старшие собратья говорили во весь голос.
Так не будем обвинять Фильдинга в безнравственности, а
лучше признаем, что его век был более откровенен, чем наш, и
переложим вину (если она существует) с писателя на его эпоху.
Но с другой стороны, в сочинениях Фильдинга есть немало
страниц,' посвященных изображению добродетели, страниц столь
мудрых и правдивых, что всякий может извлечь из них полезный
урок. Фильдинг дает правдивую картину жизни, и когда он рисует
добро, оно сияет особенным блеском по контрасту с пороком,
изображенным им столь же правдиво. Он старается по мере своих
сил и возможностей рассказать вам всю правду о человеческой
природе, и добро и зло в характерах его героев одинаково
жизненны. Том Джонс грешит, и его прегрешения описаны с
поразительной точностью, но затем приходит раскаяние, прямое
следствие его падения, и эта картина, конечно, трогательна и
поучительна. Бут вступает на скользкий путь (между нами говоря,
я не верю, чтобы и в наше время нашлось бы много таких, кто
без греха), но как чудесно его прозрение! Должны ли заявляющие
о своем намерении писать портрет с натуры стремиться к
точности изображения? Это настолько коварный вопрос, что мы
предпочитаем воздержаться от высказывания своего мнения.
Может быть, следует брать пример с того художника, который,
рисуя Ганнибала, изобразил его так, чтобы не видно было слепого
глаза. Фильдинг брал свою натуру в лоб. Так пусть же читатель
сообразно своим вкусам выбирает себе или художника, который
сделает с него портрет, или того, кто ограничится полупортретом.
Мы перечитали многие произведения Фильдинга в прекрасно
изданном мистером Роско томе. Вероятно, он не мог не включить
в него и пьес, но читатель вряд ли получит большое удовольствие
от знакомства с ними и вряд ли пожелает перечитывать их. Они
даже не блещут остроумием, хотя и очень сценичны. Фарквар в
возрасте Фильдинга тоже насыщал свои комедии живостью и
остротами. Фильдинг пишет небрежной, размашистой кистью, и
его пьесы решительно безнравственны. Его герои—дикари, а
героини—мы даже не смеем сказать, кто такие его героини, не
нарушая существующих в нынешний век приличий. Хогарт нари-
совал жизненный путь одной из них—верней, одной из тех,
Которая по профессии была тем, чем эти дамы являются по
79
природе. Юный Гарри Фильдинг шести футов ростом и двадцати
лет от роду, всегда готовый пустить в ход кулаки, или распить
бутылочку, или решиться на любое удальство, был повесой и
вертопрахом весьма распущенного нрава и, по всей видимости, не
думал ни о чем, кроме привольной и беззаботной жизни. Многие
его ошибки и грехи объясняются его цветущим здоровьем и
избытком жизненных сил. Но он был добрым малым, и трудно
найти равного ему по простоте и искренности душевной, и пусть в
зените своего дарования и в период наиболее щедрого проявления
своей общительности он якшался с многими особами обоего пола,
к которым другие на его месте повернулись бы спиной (впрочем,
эта общительность была его добродетелью, но в наш век мы бы не
рискнули выразить свои симпатии бедняжке Долл Тершит или
почтенной миссис Куикли), и пусть он одно время вел бурную и
грешную жизнь и водился со многими особами легкого поведения,
но- сердце его оставалось чистым, и, когда хорошая женщина
встретилась на его пути, он сумел оценить ее по заслугам. Он
женился на ней, и, хотя сэр Вальтер Скотт несколько пренебре-
жительно отозвался о романе, в котором Фильдинг вывел свою
первую жену, образ Эмилии так прекрасен и ее характер
нарисован с такой глубиной, что подобного ей, по скромному
мнению автора, мы не найдем ни у одного писателя, не исключая
и Шекспира. Просто удивительно, как мог старина Ричардсон,
высмеянный нашим безрассудным сатириком, быть до такой
степени ослепленным досадой и завистью к своему сопернику,
чтобы на заметить высоких достоинств этого превосходного
романа.
Эмилия уже была в могиле, когда Фильдинг нарисовал ее
пленительный портрет, и легко понять, как она должна была
любить и ценить этого великодушного, кроткого и любящего
человека, несмотря на все его ошибки, сумасбродства и прегреше-
ния. У нее было небольшое собственное состояние, а он как раз в
то время получил скромное наследство от матери. Он уехал с
женой в деревню и, как следовало ожидать от бережливого и
рассудительного Гарри Фильдинга, прожившего столько лет при-
певаючи без гроша за душой, вообразил, что пять или шесть
тысяч фунтов—это неисчерпаемое богатство. Он завел лошадей,
карету и свору гончих и широко раскрыл двери своего дома для
лучшего общества округи. Когда он растратил свой небольшой
капитал и увидел, что ему не остается иного выбора, как
работать, он вернулся в Лондон, принялся с ожесточением
изучать право и снова взялся за перо. Он жил, ни на минуту не
теряя бодрости духа, и любил свою бедную Эмилию так же
нежно, как прежде. Можно пожалеть, что он жил не по
средствам, что он не родился лордом или по меньшей мере
бережливым биржевым маклером, но тогда мы бы не имели
«Джозефа Эндрюса», и, уж конечно, после того, как он разорил-
ся, Эмилия продолжала его любить так же преданно, как если бы
он был богаче самого Ротшильда.
Биографы Фильдинга сходятся на том, что при благоприятных
обстоятельствах он мог бы добиться успеха на судебном поприще.
Но люди высокоодаренные, подобно Фильдингу, всегда наталкива-
80
ются на неблагоприятные обстоятельства, и, хотя он приобрел
солидные знания в области юриспруденции и обладал острым
умом, глубоким знанием человеческой души и, как говорят,
ораторским талантом, что могло бы сослужить ему большую
службу, все же надобно признать, что без усидчивого и упорядо-
ченного образа жизни все эти качества не могли ему обеспечить
успеха в судебной карьере, и Фильдинг так и не стал ни
лорд-канцлером, ни даже судьей. Рассказывают, что, придя домой
после вечерних возлияний, он обвязывал голову мокрыми салфет-
ками и.садился штудировать пандекты как самый заправский и
совершенно трезвый студент. Это вполне вероятно, но ведь есть
более надежные способы сохранять ясность ума, которыми автор
«Тома Джонса», по-видимому, пренебрегал. К этому времени он
уже подорвал свое здоровье и приобрел дурные привычки,
избавиться от которых у него не хватало силы духа, и расплатой
за его грехи столичного прожигателя жизни и распутство сельско-
го джентльмена была подагра и многие другие недуги.
Когда жизненные невзгоды стали упорно одолевать его, он
вступил с ними в мужественную борьбу. Не выпуская из рук пера,
он посылал статьи в журналы и газеты, писал брошюры, делал
переводы, печатал рецензии, словом, брался за любые литератур-
ные поделки, лишь бы прокормить семью. Этот беспорядочный
труд литературного поденщика, вынуждающий писателя размени-
ваться по мелочам и расходовать свои силы на пустяки, только
для того, чтобы оплатить счет неумолимого мясника, загубил не
один талант со времен Фильдинга, и счастье для него и для всего
мира, что еще в ту пору, когда его способности были в полном
расцвете, ему удалось получить должность, которая избавила его
от заботы о хлебе насущном, позволила ему собрать все силы
своего выдающегося ума и создать величайшую сатиру и два
самых монументальных романа из всех когда-либо написанных на
английском языке.
Следует отметить как важное свидетельство врожденной че-
стности художника совершенство формы этих его произведений,
тщательную разработку ситуаций, точность и мужественное
благородство его языка. Когда Фильдинг писал ради куска хлеба,
его стиль, характеры и сюжеты носили печать небрежности и
спешки. Да и как могло быть иначе? На улице его поджидал
судебный исполнитель мистер Снап с предписанием об аресте, а
дома жена и дети сидели без куска хлеба. Пусть еще много прорех
в его статье или пьесе, их нужно сбыть с рук, и как можно
скорей. Поистине он поступал бы бесчестно, если б задерживал
рукописи, когда его семья была лишена самого необходимого. Но
как только он вырвался из когтей унизительной нужды, его стиль
совершенно преобразился: из неряшливого и бесшабашного лите-
ратурного поденщика он превратился в одного из самых тщатель-
ных и взыскательных художников в истории нашей литературы.
Доктор Битти* дал высокую оценку «Тому Джонсу». Если
оставить в стороне вопрос о нравственности и рассматривать
роман как произведение искусства, нельзя отрицать, что это
изумительное создание человеческого гения. В нем нет ни одного,
пусть самого незначительного, эпизода, который не способствовал
81
бы развитию действия, не вытекал бы из предыдущего и не
составлял бы неотъемлемой части единого целого. Таково замеча-
тельное «провидение» художника (да простится нам это слово),
качество, которого не найдешь ни в каком ином литературном
произведении. Можно выбросить добрую половину из «Дон-
Кихота», можно дополнить, изменить, перекроить любой из
романов Вальтера Скотта, и они от этого ничуть не пострадают.
Родерик Рэндом и ему подобные герои проходят через целый ряд
злоключений, по окончании которых приглашают музыкантов и
играют свадьбу. Но в «Истории Тома Джонса» все события
неразрывно связаны друг с другом, от первой до последней
страницы, и просто диву даешься, с каким искусством автор
построил заранее весь костяк романа в своем мозгу, чтобы потом
перенести его на бумагу.
А теперь несколько слов о нашей любимой «Эмилии», которую
мы перечитали от доски до доски в прекрасном издании мистера
Роско. «Что касается капитана Бута, сударыня,— писал старина
Ричардсон одной из своих почитательниц,—то он уже отжил свой
век. Короче говоря, роман устарел так, как если бы он был
написан сорок лет тому назад». Но в действительности человече-
ская природа нисколько не изменилась со времен Ричардсона, и
если и теперь есть такие же распутники и распутницы, какие были
сто лет назад, то есть и теперь завистливые критики, какие были
и в те времена. Как охотно они предсказывают падение человека и
как неохотно мирятся с его возвышением! Стоит писателю
создать выдающееся произведение, как они начинают его поно-
сить, и если он t достигнет высот в своей области, то все его
бывшие товарищи ополчатся на него. Они не простят ему успеха.
А разве не разумней было бы, если б наши джентльмены пера,
следуя примеру французских литераторов, возымели esprit de
corps1, заявили, что их профессия не менее почетна, чем любая
другая, и, проникнувшись сознанием своей мощи, вместо того
чтобы охаивать каждого из своих собратьев, добившихся славы,
всеми силами помогали бы ему. Положение писателей скоро
изменилось бы, если бы благородная идея такого объединения
была претворена в жизнь. Однако мы очень отклонились от
нашего предмета, и, хотя Ричардсон питал острую неприязнь к
Фильдингу, это еще не дает нам оснований повторять избитую
истину, что литераторы завистливы.
Итак, несмотря на пророчества Ричардсона, роман, якобы
появившийся на свет мертворожденным, жив сто лет спустя и, как
я полагаю, будет жить до тех пор, пока существует английский
язык. Сам Фильдинг, дал ключ к пониманию своего произведения,
вложив в уста доктора Гаррисона следующие слова: «По природе
человек не бывает порочен; ему свойственны доброжелатель-
ность, милосердие и сострадание, стремление к почету и поощре-
нию и отвращение к позору и бесчестью. Дурное воспитание,
дурные обычаи, дурные привычки развращают человеческую
природу и толкают человека на стезю порока». Роман Фильдин-
га—это иллюстрация приведенных положений. Нрав и привычки
1 Чувство солидарности (франц.).
82
у бедняги Бута действительно дурные, но кто может отрицать
наличие благожелательности и сострадания к людям в душе этого
простого и доброго человека? Даже его пороки, если можно так
выразиться, мужественные пороки. Ни в одном из героев Филь-
динга нет ничего болезненного и слезливого, нет истерических
воплей самобичевания, столь характерных для псевдовысоконрав-
ственных романов сентиментального направления. Нет и попыток
найти ложные оправдания своим героям, как это делает, пусть
бессознательно, Шеридан в защиту блестящих негодяев—
персонажей своих комедий. В честных и открытых книгах
Фильдинга порок никогда не выдается за добродетель. Писатель не
боится называть вещи своими именами, и порок у него неизменно
бывает наказан. Но полюбуйтесь, к чему приводит такая че-
стность! Какая-нибудь не в меру стыдливая дама с ужасом
отбросит в сторону Фильдинга, но без зазрения совести вцепится в
«Джека Шеппарда» Эйнсуорта.* Хотя герой Эйнсуорта негодяй и
это прекрасно известно автору, у него не хватает смелости
изобразить его негодяем, и он старается держать его негодяйство
в тени, чтобы не оскорблять чувство приличия своих читателей.
Поэтому его произведение получилось нелепым, искусственным и
несравненно более безнравственным, чем все, что написано
Фильдингом. «Джек Шеппард»—книга безнравственная именно
потому, что действительность в ней приукрашена. Спартанцы
показывали своим детям пьяных рабов, лишь убедившись в том,
что эти рабы действительно пьяны. Притворное опьянение, не
выходящее за рамки приличий, но вызывающее смех, скорей
способно подтолкнуть молодого человека к пьянству, чем отпуг-
нуть его, и некоторые недавно появившиеся романы могут
возыметь такое же действие.
Не только образ Эмилии поражает в этом романе, ее красота и
наивное сознание своих чар, так тонко очерченные писателем, ее
душевная чистота и кротость, привлекающие к ней сердца
читателей до такой степени, что она кажется им не персонажем
романа, а живой женщиной, родным.и близким человеком, вроде
жены или матери, о добродетелях и обаянии которой даже
неудобно говорить на людях. Есть и другие персонажи, пусть и не
столь привлекательные, но не менее жизненные и яркие. Какая
замечательная фигура эта мисс Мэтьюс! Каким тщеславием
пронизаны все поступки этой беззастенчивой и пылкой особы!
Надо признать, что все краски этого портрета наложены кистью
большого мастера. С не меньшим искусством обрисован характер
флегматичной миссис Джеймс. «Неужто это моя Дженни?» —
восклицает бедная Эмилия, бросившись навстречу своей бывшей
приятельнице и увидев перед собой напыщенную и дышащую
холодом матрону, разодетую по последней моде, в кринолине
необъятной ширины. На что миссис Джеймс ответствует: «Суда-
рыня, мне кажется, я веду себя в соответствии с хорошим тоном».
И вслед за тем выражает удивление, что порядочные люди могут
жить так высоко—на четвертом этаже. «Что может быть
восхитительней зрелища, чем четыре онера на одной руке!» —
восклицает она, впервые в жизни отбросив свою флегматичность.
«Разве что три туза в покере». Какая тонкая ирония сквозит в
83
этих портретах. Ведь у каждого из нас среди наших знакомых
найдется и мисс Мэтьюс—воплощение бурного темперамента, и
миссис Джеймс—воплощение равнодушия и плоской самоуверен-
ности. А мистер Джеймс, этот добродушный малый, темперамент-
ный и беспринципный! А Бут, с его поразительными идеями
насчет христианской религии и самоуправства; какое удивительное
знание людей обнаруживает автор в обрисовке этих характеров,
какой поучительный урок может извлечь каждый, кто даст себе
труд поразмыслить над всем этим! Однако нынешний читатель
романов менее всего склонен к такого рода размышлениям. Он
предпочитает книги, которые как можно меньше заставляют
думать. Более того, вполне вероятно, что, прочитав этот роман и
обнаружив в нем свои портреты, мисс Мэтьюс и миссис Джеймс
объявят их злостными измышлениями автора.
Но вот что особенно важно подчеркнуть: необыкновенное
мастерство, с которым писатель рисует то хорошее, что есть в
выведенных им далеко не положительных героях. Это щедрость
Джеймса, добродушие его наивной жены, проблески добрых
чувств у мисс Мэтьюс; и даже старина Бут, в халате своей сестры
готовящий для нее декокт, и впрямь привлекательная фигура, и,
хотя мы смеемся над ним, мы не можем не любить его. К этому
смеху всегда примешивается некоторая доля нежности, и сам
автор любит предаваться таким смешанным чувствам и умеет
вызывать их у своих читателей. Всякий раз, повествуя о
каком-нибудь добром деле, честный Фильдинг загорается душой.
Некоторых писателей обвиняют в том, что они теряют чувство
меры, описывая злодеев. Наш же автор рисует их с философской
невозмутимостью. Напротив, он склонен увлекаться, описывая
положительных героев. Вам кажется, что вы видите слезы на его
мужественном лице, и он не пытается скрывать, что сострадание
к людям не чуждо его большому и чистому сердцу. Возможно,
это недостаток с точки зрения искусства, но недостаток очень
привлекательный.
Читателя, интересующегося подробностями жизни Фильдинга,
мы отсылаем к его биографии, написанной мистером Роско.
Жизнь Фильдинга, больше чем какой-либо из его романов, служит
воплощением идеи, которая пронизывает его «Эмилию». Никто не
расплачивался столь дорогой ценой за свои пороки и безрассуд-
ства. Потеряв состояние, он познал всю горечь нужды и униже-
ния; утратив здоровье, он стал жертвой физических страданий, и
эта кара за прегрешения тяготела над ним всю жизнь и свела его
преждевременно в могилу. Но даже когда нужда, горе и недуг
надломили его организм, его гордый и свободный дух восторже-
ствовал над ними, а трезвый и честный ум помог ему преодолеть
все невзгоды и сохранить философскую невозмутимость. Нежная
привязанность к семье поддерживала его до конца, и, хотя всех
его трудов едва хватало, чтобы прокормить себя и своих близких,
после его смерти остался преданный друг, столь высоко ценивший
его, что он принял на себя заботу о семье покойного и оградил ее
от нужды. Это что-нибудь да значит—быть связанным узами
дружбы с таким человеком, как Ральф Аллен; и Фильдинг, еще
когда оба они были живы, воздвиг памятник в честь своего друга,
84
памятник более прочный, чем любой монумент из бронзы или
мрамора, выведя его в своем романе под именем сквайра Олворти.
«Есть такой день,— писал Фильдинг в одном из посвящений
Аллену,— о наступлении которого ни один человек в королевстве
не может подумать без содрогания, кроме вас одного, сэр, это
день вашей смерти». Трудно придумать более тонкое признание
заслуг, и Фильдинг был не из тех людей, кто расточает хвалу
лицемерно.
Мужество, жизнерадостность, любовь к людям никогда не
покидали Фильдинга, и до самого смертного часа он неустанно
работал на своих детей. Но после его кончины лишь благодаря
великодушию одного из его почитателей-иностранцев, француз-
ского консула в Лиссабоне господина де Мейронне, на его могиле
было установлено приличное надгробие. Там он лежит, «от
лихорадки жизни отсыпаясь». Нет больше ни снедающих душу
забот, ни назойливых кредиторов, ни мучительных болей, ни
диких ночных оргий, ни раскатов веселого смеха. Заботу о его
жене и дочерях взял на себя его преданный друг. Видно, он и
впрямь избавился от забот и печалей, и так хочется верить в то,
что его исстрадавшаяся, но благородная душа обрела наконец
очищение и покой.
Ш. БРОНТЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
К НОВОМУ ИЗДАНИЮ
«ГРОЗОВОГО ПЕРЕВАЛА»
Я только что перечитал «Грозовой перевал» и впервые получил
ясное представление о том, что считается (и возможно, является)
его недостатками и как они выглядят в глазах других—тех, кто
ничего не знает об авторе романа, кому ничего не известно о
местности, где разворачиваются его события, для кого и жители,
и обычаи, и природные особенности существования на далеких
холмах и в долинах Вест-Райдинга, графство Йоркшир,—вещи
чуждые и незнакомые. Этим читателям роман «Грозовой перевал»
должен показаться произведением грубым и необычным. Дикие
пустоши северной Англии, поросшие вереском, могут быть для
них совсем неинтересны, диалект, манеры, самые жилища и
домашний обиход фермеров, рассеянных по холмам и долинам,
могут показаться весьма непонятными, а раз непонятными, то и
отталкивающими. Мужчины и женщины, от природы наделенные
хладнокровием, умеренностью чувств, ровностью ума, с колыбели
воспитываемые в уважении к выдержанности и спокойствию
языка и манер, вряд ли смогут с пониманием отнестись к
несдержанным, бурно проявляющимся страстям, неконтролиру-
емой враждебности и безудержным симпатиям необразованных
йоркширских крестьян и закутанных в толстые пледы
йоркширских сквайров, которых никто не воспитывал, никто не
обуздывал, кроме учителей, таких же грубых, как они сами.
Многие читатели будут также неприятно удивлены тем, что на
страницах романа немало слов, означенных полностью, в то время
как стало правилом печатать только начальные и последние их
буквы, заменяя прочерком те, что посредине.
Я могу сразу заявить, что в данном случае лишен возможности
принести читателю извинения, сам полагая правильным все слова
писать не сокращая. Обыкновение намекать одной или двумя бук-
вами на те сильные выражения, которыми вульгарные или не-
сдержанные уснащают свою речь, неприятно удивляет меня как
попытка, хотя и продиктованная лучшими намерениями, но
тщетная и ненужная. Не могу сказать, что такое обыкновение
добродетельно, что стоит таким образом щадить чувства или
скрывать пороки. Что же касается деревенской шероховатости
«Грозового перевала», я принимаю это обвинение, полагая в
данном качестве романа его достоинство. Да, роман шероховат. В
нем есть нечто от северных диких пустошей, он узловат, как
вересковый корень. И было бы странно, случись оно иначе: ведь
автор романа—уроженка этих мест, она сама выросла на вереско-
86
вых холмах. Разумеется, принадлежи она городу, ее произведе-
ния, буде такие вообще появились, носили бы совсем иной
характер. Даже если бы случайность или склонность заставили ее
выбрать сходный предмет повествования, она трактовала бы его
иначе. Будь Эллис Белл дамой или господином, привычным к
тому, что зовется «светом», его отношение к далеким и неизве-
стным литературе пределам, как и к их обитателям, отличалось
бы от того, что было свойственно девушке, воспитанной в
домашнем кругу и сельской глуши. В том, другом, случае ее
произведения были бы шире по охвату материала и тем понятнее,
но были бы они одновременно оригинальнее или правдивее, в этом
у меня уверенности нет. Вряд ли также в том, другом, случае
местные природа и обычаи описывались бы ею с таким сочув-
ствием.
Эллису Беллу* несвойственно было изображать вещи только
приятные для взгляда и описания. Места, где он жил, были для
него не просто пейзажем, но родным домом, он ими существовал,
точно так же, как обитающие здесь дикие птицы, или арендаторы,
или же растущий на этой земле вереск. Вот почему его изображе-
ние здешних мест таково, как должно быть: оно всеобъемлюще.
Что же касается человеческих характеров, тут дело обстоит иным
образом. Я должен признать, что о деревенском люде, среди
которого сестра жила, она знала не больше, чем монахиня об
окрестных жителях, иногда переступающих порог монастыря.
Характер моей сестры не был по природе общителен. Условия
жизни благоприятствовали ее стремлению к уединенной жизни,
усугубляя его. Она покидала дом, только когда шла в церковь или
на прогулку по холмам. Хотя ее чувства к окружающим были
доброжелательны, она никогда не искала общения и редко обща-
лась с ними. И все же ей были известны их замашки, разговор,
семейные предания, она могла с интересом слушать о них, точно и
детально представляя себе мелочи их жизни, но с ними самими
она редко беседовала. В результате ее сознание отбирало из
реальных фактов их бытия то, что было связано преимуществен-
но с трагическим и ужасным, что скрывалось в тайных семейных
анналах, то, что иногда оставляет в памяти неизгладимый отпеча-
ток. Ее воображение, которое но характеру своему было скорее
мрачным, чем светлым, скорее сильным, чем гибким, нашло в
этом трагическом и ужасном основу для создания таких персона-
жей, как Хитклиф, Эрншо и Кэтрин. Создавая их образы, она не
понимала, что творит. Если бы слушатель во время чтения
рукописи содрогнулся бы от болезненного впечатления, которое
производят такие яростные и беспощадные натуры, такие греш-
ные и падшие создания, -если бы автору пожаловались, что одно
лишь чтение некоторых живо написанных и страшных сцен может
спугнуть ночной сон, Эллис Белл не понял бы этих жалоб и
заподозрил бы жалующегося в неискренности. Проживи сестра
дольше, ее ум возрос бы, как сильное дерево, стал бы приветливее,
стройнее, шире и плоды его зрелости приобрели бы сочность и
румянец, даруемые солнечным теплом, но лишь время и опыт могли
оказать влияние на Зтот ум: воздействию других интеллектов он был
недоступен.
87
Признавая, что большая часть романа окутана «ужасом вели-
кой тьмы», что в его насыщенной грозовым электричеством
атмосфере нет-нет да и блеснет молния, позвольте мне указать на
те страницы, где все-таки чувствуется свет пасмурного дня и
присутствие неяркого солнца: это искренняя доброжелательность
и грубоватая преданность, которыми наделена Нелли Дин, посто-
янство и нежность, свойственные Эдгару Лицтону; некоторые при
этом подумают, что сии добродетели, воплощенные в мужчине,
сияют не так ярко, как если бы ими была украшена женщина, но
Эллис Белл никогда бы не понял такого умозаключения; ничто не
раздражало сестру больше, чем вымысел, будто верность и
милосердие, многострадальность и доброта любви, которые высо-
ко ценятся как привилегия дочерей Евы, становятся недостатками
у сыновей Адама. Она полагала, что сострадание и способность
прощать — самые божественные черты Верховного существа, ко-
торый создал и мужчину и женщину, а то, что осеняет вечной
славой главу господню, не может унизить никого из преходящего
рода человеческого. Это, далее, сдержанный юмор в изображении
старого слуги Джозефа, черты мягкости и веселья, одушевля-
ющие младшую Кэти. Более того, бурные чувства старшей
героини, носящей то же имя, не лишены странной привлекатель-
ности, своеобразной честности, уживающейся с ее исступленными
страстями или страстной исступленностью. Нельзя оправдать
лишь Хитклифа. Он, словно стрела, летит, никуда не уклоняясь со
своего пути, к проклятию и вечной погибели—с тех самых пор,
как «маленькое, черноволосое, темное, словно порождение сата-
ны», создание вынули из одеяла и поставили на кухонный пол, и
до того самого дня, когда Нелли Дин нашла его, сумрачного и
мощного, но бездыханно распростертого на кровати, отгорожен-
ной от остальной комнаты резными панелями, а глаза его были
широко открыты и, казалось, «потешались над ее попыткой
закрыть их, и полуоткрытый рот, и белые острые зубы потеша-
лись тоже».
У Хитклифа прорывается лишь одно человеческое чувство, и
это отнюдь не любовь к Кэтрин, потому что его любовь яростна и
бесчеловечна. Такая страсть могла неистово пожирать душу
какого-нибудь злого духа, это пламя сродни тому, в котором
томится осужденный на вечные муки владыка преисподней, и сама
неугасимость и бесконечная ярость этого иссушающего огня есть
воплощенный суд над Хитклифом, ибо он обречен носить адское
пламя с собой, куда бы ни направлялся; нет, единственное звено,
что соединяет Хитклифа с остальным человечеством,—это его
грубо выражаемое признание достоинства Гэртона Эрншо, юно-
ши, которого он обездолил, и еще полуосознанное уважение к
Нелли Дин. Не будь этих единственных черт человечности, можно
было бы считать его не отпрыском индуса или цыганки, но
демоном в образе человеческом, злым духом, исчадием ада.
Оправданно ли, желательно ли создание таких образов? Не
знаю. Вряд ли. Но я знаю твердо, что писатель, обладающий
творческим даром, не всегда властен над ним; дар этот, как ни
странно, иногда утверждает свою волю и действует сам по себе.
Он может низложить правила и принципы, те самые правила и
88
Принципы, которым писатель покорялся, возможно, в течение
долгих лет, а затем внезапно, без всякого предупреждения о
грядущем восстании наступает момент, когда эта творческая сила
не согласна больше «прилежно бороздить поля бесхитростным
узором», когда она презирает «многоголосый суд людской и
понуканьям пахаря не внемлет», когда наотрез отказывается
обжигать горшки и начинает высекать статуи из мрамора—и вот
перед вами Плутон или Юпитер, Тезифона или Психея, ундина
или мадонна—как повелит то Судьба или Вдохновение. Каким бы
ни было произведение, мрачным или радостным, полным ужасов
или божественной благодати, у нас нет иного выбора, как покорно
принять его. Что же до вас самого, номинального творца, ваше
участие—пассивная работа под диктатом, от которого нельзя
освободиться, в котором нельзя усомниться или отвратить его
молитвой, превозмочь или изменить по своему усмотрению. Если
результат труда будет привлекателен, мир станет хвалить того,
кто, возможно, хвалы не заслуживает; если отталкивающ, мир
ртанет проклинать того, кто в той же* малой степени заслуживает
хулы.
Роман «Грозовой перевал» был вытесан в заброшенной камено-
ломне, простыми орудиями, из материала, что оказался под
рукой. Скульптор нашел на дикой вересковой пустоши глыбу
гранита и узрел в необработанной массе черты лица свирепого,
темного, зловещего, не лишенные, однако, своеобразного величия
и силы. Скульптор работал грубым резцом, перед ним не было
живой натуры, одно лишь видение. Шло время, скульптор трудил-
ся, и bqt из неотесанной глыбы возник человек, и вот уже он стоит
перед нами---огромный, мрачный, нахмуренный, цолу статуя-
полускала. Как произведение искусства, он ужасен и демоничен,
как часть природы он почти прекрасен, он темно-серого, мягкого
цвета, мох покрывает его, а к ногам гиганта любовно прильнул
цветущий, в крошечных колокольчиках, медвяный вереск.
Керрер Белл
Э. ТРОЛЛОП
Глава XII.
О РОМАНАХ
И ИСКУССТВЕ СОЗДАВАТЬ ИХ
(Из книги «Автобиография»)
Тот, кто долго трудится в избранной им области, не может часто
не думать о том, какие .же плоды—хорошие или дурные —
приносит его труд. Я написал много романов, знаком со многими
авторами и потому могу утверждать, что подобные мысли
посещают не только меня. Однако, допуская, что читающая
публика полной мерой воздала этим писателям хвалу за. выказан-
ные каждым из них гениальность, изобретательность или же
упорство, я полагаю, что все они нуждаются в справедливой
оценке их выдающегося мастерства и общем понимании возвышен-
ной природы творчества.
Поэзии с согласия всего читающего человечества при-
надлежит самое почетное место в литературе. Ее благородная выра-
зительность и божественное изящество речи, без которых она
не найдет отклик у читателей, с прозой не сравнимы. Именно это
и делает поэзию поэзией. И когда она совершенна, тогда чита-
тель понимает, что ее автор — небожитель и потому может
поучать чуть ли не наравне с богом. Ну а тот, кто создает прозу,
подобных попыток не предпринимает и даже не смеет думать,
будто ему доступны лавры поэта. Однако природа поучения
одинакова, и все уроки приводят к одним и тем же следствиям.
Каждым писателем могут быть взлелеяны фальшивые чувства,
вызваны фальшивые представления о человечности, порождены
фальшивое благородство, фальшивая любовь, фальшивое покло-
нение; каждым из них может быть преподан порок вместо
добродетели. Но каждый из них в равной мере может внушить
подлинные благородство, любовь, смирение и человечность.
Самым же великим учителем будет тот, кто распространит эти
истины как можно шире.
Кстати, в настоящее время раскупается и читается много
романов, и потому сложилось весьма распространенное мне-
ние, что в лучшем случае они не' приносят вреда. Не только
молодые, но и старые представители обоего пола читают в
основном романы, а не стихи, потому что это более легкое
чтение, но делают при этом вид, будто поглощают послеобеден-
ный десерт, не без какой-то внутренней убежденности, что это не
нужно, если не вредно. Беру на себя смелость заявить, что они
ошибаются.
90
И все же создатели романов, которые стремятся положительно
оценивать собственное творчество, по всей вероятности, испыты-
вают сомнения, прежде чем прийти к подобному заключению.
Много размышляя о своем каждодневном труде и его природе, я
сначала был сильно обеспокоен, а затем и глубоко опечален
мнением осведомленных и разумных людей относительно труда
романистов. Но когда я отважился проанализировать их высказы-
вания, то мне показалось, что они порой недальновидны, а часто и
высокомерны. Я начал интересоваться природой наших романов,
обратившись к тем временам, когда их стали создавать на
английском языке, и пожелал выяснить, приносят они пользу или
вред. Помнится, в мои молодые годы им не принадлежало, как
сейчас, столь неоспоримое место в гостиных. Пятьдесят лет
назад, в царствование Георга IV, с ними не обращались так, как
это вынуждена была делать Лидия * в предшествующее правление,
когда при приближении старших «Перегрина Пикля» прятали под
подушку, а Эйнсуорта*—под диван. Однако семей, где разреша-
лось бы читать романы, было весьма немного, а часто это чтение
и вовсе запрещали.
В наше время, как общеизвестно, подобного запрета не
существует. Разве нельзя сказать о зрелой читающей публике,
что она слишком влиятельна, дабы безропотно отнестись к какому
бы то ни было запрету? Романы читают юные графини и
фермерские дочки, старые адвокаты и молодые студенты, читают
везде—в барских хоромах и в помещениях для прислуги, в
городских домах и коттеджах провинциальных священников. Дело
не только в том, что для благочестивых людей должны специаль-
но создаваться книги. В круг их чтения должны, входить и такие,
которые раньше эти же самые благочестивые л!оди сочли
бы неподобающими. Вот почему несколько лет назад редактор
журнала «Гуд уордс» просил меня написать роман, кото-
рый был отвергнут, когда я представил его, но теперь благо-
даря дальнейшим переменам в этой сфере, возможно, будет
принят.
Если будущее окажется именно таким, то есть чтение романов,
как я уже говорил, станет повсеместным явлением, то романы
начнут приносить пользу или вред. Временное развлечение едва ли
явится единственным итогом чтения, и безусловно, такого не
случится благодаря романам, которые взывают к воображению
или же стараются снискать сочувствие молодежи. Огромная часть
поучений, и гораздо более значительная, чем большинство из нас
может себе представить, исходит именно из книг, которые читают
представители всех возрастов. Молодые девушки узнают, чего
следует ждать и что они сами должны ожидать, когда у них
появляются возлюбленные, а молодые люди невольно постигают,
какими бывают, должны или могут быть соблазны любви, хотя я
допускаю, что немногие из молодых людей так плохо знают себя,
чтобы поверить мне на слово. Из чтения извлекаются и многие
другие уроки. В наши времена, когда добродетель грубо подавля-
ется честолюбивым стремлением быть великим, когда богатство —
кратчайший путь к тому, чтобы стать сильными мира сего, когда
искушения, которым подвластны люди, заставляют их равно душ-
91
но взирать на вопиющие пороки других, когда трудно усвоить
накрепко, что успех часто портит человека,— в такие времена
поведение людей будет зависеть во многом от того, что изо дня в
день рисуется им как путь к честным или бесчестным последстви-
ям. Если героиня романа добилась всего, что мир считает
наивысшей ценностью, но недостойным путем, хладнокровно
расточая свои чары и ласки, то иную женщину это побудит
поступить именно так же. Равно и другая, что привлекает наш
интерес, выставляя напоказ бесстыдную страсть, будет учить
остальных притворной пылкости. Молодой человек, становящийся
героем романа, а при этом, возможно, членом парламента и чуть
ли не премьер-министром благодаря ловкости, обману и показной
деловитости, завоюет многих последователей, чьи попытки
сделать карьеру будут на совести романиста, создавшего
образ вымышленного Калиостро. Есть такие Джеки Шеппарды,
которые не вламываются в дома и не бегут из тюрем, как
Макхиты, но заслуживают виселицы больше, чем персонажи
Гэя.
Романисту необходимо думать обо всем этом, что я и делал на
протяжении всей своей литературной жизни. Тогда для него делом
чести будет, насколько умело он распорядится характерами
людей, словами и поступками которых надеется заинтересовать
читателя. Очень часто романист испытывает искушение придумать
что-то ради эффекта, добавить слово или два здесь, приукрасить
там. Это, он полагает, в его силах и, будучи осуществленным,
вызовет восхищение. Абсолютный порок непристоен и мерзок. На
вкус и на запах, пока не привыкнешь, он отэратителен. В эти
пределы романист вряд ли вторгнется. Но в приграничной полосе,
по-видимому, произрастают душистые цветы и зеленеет трава.
Здесь-то и таится опасность. Романист не может быть скучным. В
этом случае он не принесет ни пользы, ни вреда. Романист должен
нравиться, и потому цветы и трава на этих нейтральных террито-
риях порой, весьма вероятно, дают ему столь легкую возмож-
ность развлекать!
Автору повествования необходимо развлекать, иначе он ничего
не достигнет. Но независимо от своего желания он должен и
поучать. Как же он может преподать уроки добродетели и
одновременно развлекать своих читателей? Все мы знаем, что
поучения не всегда приятны, да и трактаты по этике не доставля-
ют нам удовольствия в часы досуга. Но романист, не лишенный
совести, должен поучать с той же целью, что и священник, и
иметь свои собственные нравственные воззрения. Если он спосо-
бен успешно поучать, показав добродетель притягательной, а
порок отталкивающим, увлекая читателя, а не докучая ему, тогда,
я думаю, у мистера Карлейля не станет нужды считать автора
либо неудачником, либо невероятным глупцом либо же говорить
об отсутствии разумной содержательности художественного про-
изведения.
Я полагаю, немало писателей в своих трудах исходили из
нравственных убеждений. Этих писателей было так много, что
мы, английские романисты, можем даже похвастаться умением
обрисовать добродетель привлекательной, а порок отвратитель-
92
ным. Вспоминая прошлое поколение писателей, можно с уверен-
ностью сказать, что все это имелось в романах Эджуорт, Остин и
Вальтера Скотта. Обращаясь же к современности, я нахожу
наставления у Теккерея, Диккенса и Джордж Элиот. (Говоря так,
как и должен говорить каждому, кому попадутся эти строки, с той
личной незаинтересованностью, на которую могут претендовать
ушедшие от нас, и я могу похвалиться тем же в собственных
сочинениях.) Можно ли найти в произведениях шести великих
английских романистов, названных мной, сцену, эпизод или слово,
которые учили бы молодую девушку нескромности, а мужчину
непорядочности? Когда на страницах этих писателей мужчины
бесчестны, а женщины нескромны, то разве не всегда они
бывают наказаны? Не дело романиста заявлять прямо и просто:
«Поскольку вы, Лидия Беннет*, лгали здесь или вели себя
бессердечно там, забыв назидания вашей почтенной семьи, или же
вы, граф Лестер*, оказались неискренни в своих желаниях, или
же вы, Беатриса*, слишком любили блистать в свете, то посему
должны понести кару либо в этом, либо в ином мире». Дело
романиста показать, как по мере развития сюжета его Лидия, или
граф Лестер, или Беатриса будут развенчаны в глазах читателя
из-за своих пороков. Попробуйте изобразить женщину умной,
красивой, обольстительной, так, чтобы заставить мужчин влюб-
ляться в нее, а женщин чуть ли не завидовать ей, пусть она будет
бессердечна, лишена женской мягкости, домогающаяся, как Беат-
риса, пагубного великолепия,—и как же опасен будет этот образ!
А романист, который создаст его, причинит вред. Но если в конце
концов образ был выпестован таким, что о Беатрисе станут
говорить: «О! Только не быть такой! Пусть я не буду такой!» и
каждый молодой человек скажет: «Пусть не такую, как эта,
прижму я к своей груди. Все, что угодно, только не такую!»—то
разве в этом случае писатель не преподал наставления, и
возможно, лучше любого священника?
Изображение отношений между молодыми людьми часто при-
влекает внимание романиста. Все знают, что без любовной интриги
роман вряд ли будет интересен и получит признание. Подобных
произведений насчитывается очень мало, и, как правило, такие
попытки терпят крах, почему для благополучия финала требуются
нежные чувства; как исключение можно назвать «Пиквикский
клуб». Однако и в этом романе есть три или четыре молодые
пары, чьи любовные перипетии придают произведению притяга-
тельность. В «Мисс Маккензи» я сделал попытку создать роман
без любви, но в конечном счете заставил героиню влюбиться.
Следует учесть также, что в частых намеках на страсть, которые
Действуют главным образом на воображение молодежи, таится
опасность. Это писатель обязательно должен твердо знать и
постоянно задаваться вопросом, можно ли избежать этод опасно-
сти, и так, чтобы победило добро.
Изображать любовь необходимо еще и потому, что сама жизнь
заставляет романистов обращаться к этой теме. Страсть интересу-
ет или интересовала всех. Ее испытывает, испытал или ожидает
испытать каждый человек, или же он отвергает ее с настойчиво-
стью, всегда вызывающей интерес. Следовательно, если романист
93
может так развернуть события, чтобы принести добро и преподать
благотворный урок, изображая любовь, то польза от этого будет
велика. Если я могу научить политиков тому, что они скорее
преуспеют с помощью правды, а не лжи, то я делаю большое
дело, хотя это понимают не все. Если я в силах заставить юношу
и девушку поверить, что честность в любви принесет им счастье,
тогда, при условии, что мои произведения будут популярны, у
меня появится очень много учеников. Несомненно, страх перед
романами вызван опасением, что описание любви окажет возбуж-
дающее и вообще нездоровое воздействие на читателя. «Судары-
ня,—говорит сэр Энтони в пьесе,—библиотека для чтения в
городе — это вечнозеленое дерево дьявольского познания: оно
цветет круглый год. И уверяю вас, сударыня: кто постоянно
имеет дело с его листами, тот и до плода дойдет». Сэр Энтони
был, вне сомнения, прав, но он полагал само собой разумеющим-
ся, что стремление вкусить плод является злом. Романист,
пищущий о любви, думает иначе, полагая, что искренняя любовь
искреннего человека есть сокровище, которое девушка может по
справедливости получить в награду за свою добродетель. Однако,
если ей внушать одно лишь желание любви, она научится мечтать
только об этом. Я охотно верю, что девушку надо учить мечтать о
любви на примере Лоры Белл, любившей Пенденниса. Он, по
правде говоря, не был достойным человеком, как и хорошим
мужем, однако любовь девушки оказалась так прекрасна, а
любовь жены, когда она ею стала, так по-женски хороша и в то
же время нежна и бескорыстна, так благоговейна—в том смысле,
в каком жены должны благоговеть перед своими мужьями,—что я
не могу поверить, будто такая любовь может пойти во вред, а не
на пользу какой-нибудь девушке. Некогда существовало много
людей, а возможно, они есть и сейчас, и даже у нас в Анг-
лии, полагавших, что девушка ничего не должна и слышать о
любви до замужества. Так, несомненно, думали сэр Энтони
Абсолют и миссис Невпопад*. Но мне не кажется, что преж-
ние порядки лучше наших, коль дело касается чистоты нра-
вов. Лидия Томность, хотя и боялась, что тетка найдет у
нее книгу, все же прятала «Перегрина Пикля» у себя в библио-
теке.
Поскольку человеческая натура столь настойчиво взывает к
любви, вряд ли следует хранить по этому поводу молчание.
"Naturam expellas furca, tamen usque recurret"1. Есть страны, где,
согласно традиции высших классов, девушку воспитывают под
сенью брачного договора чуть ли не с колыбели и выдают замуж
прямо из женского монастыря, не дав ей насладиться той
свободой воображения, которой способствует чтение стихов и
романов. Я, право, не считаю, что подобные браки счастливее
наших.
Современные английские романы, как и английские писатели,
весьма разнообразны. Бывают романы, в которых изображаются
сцены высокого душевного накала, а бывают и такие, в которых
1 «Можешь природу хоть вилами гнать, она все же вернется» (лат.).
94
подобных сцен нет. Есть писатели, отдающие предпочтение
сильным чувствам, а есть их антиподы. Последних обычно
называют реалистами. Я — реалист. Моего друга Уилки Коллинза
дочти всегда относят к романистам, изображающим бурные
чувства. Читателям, которых привлекают реалистические романы,
по-видимому, доставляет удовольствие толкование характеров.
Тех же, кому нравятся романы, где описываются сильные
чувства, пленяет интрига и развитие сюжета. И часто в этих
случаях можно говорить о недостаточности писателя, проистека-
ющей из неумения и толковать характеры, и одновременно
разрабатывать сюжет. В хорошем романе должно быть и то и
другое, выполненное на самом высоком уровне. Если роману не
хватает одного из этих качеств, то искусство страдает. Пусть
читатели, отвергающие изображение бурных страстей, припомнят
эпизоды из произведений наших великих писателей, которые
более всего поразили их: встречу Ребекки и Айвенго в замке;
Берли и Мортона* в пещере; сумасшедшей, разорвавшей фату
невесты накануне свадьбы в «Джейн Эйр»; о леди Каслвуд,
когда она в негодовании говорит герцогу- Гамильтону о праве
Генри Эсмонда присутствовать на свадьбе его светлости с Беатри-
сой; могу еще добавить сюда леди Мэзон, делающую признание у
ног сэра Перегрина Орма*. Можно ли сказать, что создатели
этих сцен грешат изображением сверхъестественных чувств.
Несомненно, ряд страшных эпизодов, сменяющих друг друга без
всякой логики и последовательности и рассказанных жалкими,
бесцветными персонажами, безжизненными тупицами, которых
нельзя воспринимать как реальных людей, отнюдь не послужит не
только наставлению или развлечению читателя, но даже не
внушит ему страха. Нагромождение ужасов, которые «страшно»
изображены, не трогает искушенного и сведущего человека, оно
совсем не трагично и вскоре перестает пугать. Число подобных,
претендующих на трагизм моментов в повествовании может быть
бесконечно. Я могу рассказать о женщине, убитой на вашей же
улице, в соседнем доме; о том, что она была убита мужем через
неделю после свадьбы. И так я могу фантазировать без конца.
Могу сказать, что убийца поджаривал ее заживо и тому подобное;
что с прежней женой злодей обращался не менее жестоко, и
утверждать, что, когда убийцу вели на казнь, он сожалел лишь о
том, что и с третьей женой не сможет поступить подобным
образом. Нет ничего легче, как изобретать и нагромождать такие
вот страшные сцены. Если таковое сочинительство станет
единственной целью творчества писателя—а подобных романов
создано немало,—то вообразить что-либо скучнее и бесполезнее
просто невозможно. Однако совсем не поэтому мы избегаем
трагических ситуаций в прозаических произведениях. Как в
поэзии, так и в прозе, тот, кто может подчинить себе стихию
трагического,—большой мастер, он достигнет более высоких
целей, чем другой писатель, устремления которого не идут далее
скромных сфер повседневной жизни. «Ламмермурская невеста» —
трагедия от начала и до конца, хотя там есть и элементы
комического. Жизнь леди Каслвуд, о которой я уже говорил,—
трагедия. Ужасная зависимость Рочестера от его безумной жены
95
в «Джейн Эйр»—также трагедия. Но эти повествования пленяют
нас не только потому, что мы здесь видим мужчин и женщин из
плоти и крови: дело в том, что мы сочувствуем им за то, что,
несмотря на все свои несчастья, они борются. Секрет именно в
этом. Ни один роман не послужит целям комедии или трагедии, пока
читатель не сможет сочувствовать героям романа. Пусть писатель
так представит события, что сердце читателя будет тронуто, на его
глазах появятся слезы, и можно считать, что автор хорошо сделал
свое дело. И пусть в его прозе будет правда—правдивое описание,
правдивые характеры, правдиво изображенные люди. Если в них
будет такая правда, то, думается, роман не будет «затоплен
чувствами».
ДЖ. ЭЛИОТ
СТРАНИЧКИ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
ИСКУССТВО ПОВЕСТВОВАНИЯ
Каким способом лучше всего строить повествование? Поскольку
критерием служат интересы читателей, этих способов должно
быть несколько или даже много, и вряд ли существует один
наилучший. Ведь истории, которые предлагает нам жизнь, вызы-
вают у нас интерес в зависимости от того, как именно она их нам
предлагает, а уж тут возможно крайнее разнообразие. Обычно
желание узнать прошлое или будущее того или иного человека
возникает у нас, когда мы впервые видим его в необычном,
трогательном или смешном положении или же замечаем в нем
какие-то редкие качества. А потому мы либо наводим справки,
либо не упускаем возможности узнать о нем что-то новое, если
случай приходит нам на помощь без всяких наших стараний. Вот в
тюрьме среди щиплющих пеньку арестантов вы заметили тонкое
одухотворенное лицо, а некоторое время спустя то же незабыва-
емое лицо возникнет перед вами на церковной кафедре. Скучной
должна быть душа того, в ком не вспыхнет желание узнать
побольше о жизни, включающей подобные контрасты, пусть даже
сведения будут обрывочными и беспорядочными.
Или, например, мы слышим много необычного (или хоть что-то
необычное) о человеке, которого никогда не видели. Конечно,
вдруг оказавшись в одном с ним обществе, мы будем смотреть на
него с любопытством—все, что он станет говорить или делать,
обретет для нас особый смысл благодаря сведениям, почерпнутым
о нем прежде либо из какого-то разговора, главной, если не
единственной темой которого был он, либо из оброненного кем-то
случайного замечания. А может быть, источником их послужит
некая общеизвестная история, возможно, напечатанная, а возмож-
но, передающаяся из уст в уста.
Такие окольные пути к знанию всегда бывают самыми волну-
ющими, даже если речь вдет о неодушевленных предметах.
Химический опыт сообщает химии как науке особую увлекатель-
ность, придает ей значимость, какой она никогда не обрела бы для
нас, если бы мы сами не испытали радости открытия, наблюдая
нежданный результат того или иного процесса вроде превращения
твердого вещества в газ и наоборот. Существительное или
прилагательное, которое мы впервые встречаем в ситуации, когда
нам хочется понять всю полноту его смысла, глубоко запечатле-
вается в нашей памяти. Скудность сведений только разжигает
любопытство. Так же действует и память, благодаря случайному
4-2389
97
толчку воскрешая всю цепь событий: перед внутренним взором
мелькает что-то пережитое и всплывают предшествовавшие обсто-
ятельства, образующие начало эпизода, центральную часть кото-
рого память сохранила особенно живо. «А! Помню, как мне
пришлось говорить перед толпой с трибуны в Вестминстере,—вы
просто не поверите, что я мог оказаться в подобном положении.
Ну, так все началось, когда...» После чего следует ретроспектив-
ный рассказ.
Эффективность различных способов повествования, опира-
ющихся на подобные движения внешней и внутренней жизни,
зависит от мастерского владения образами и картинами, завора-
живающими внимание читателя; а вернее, она зависит от того, что
наши самые ранние, самые яркие впечатления, наши самые
заветные убеждения—это попросту образы, наложившиеся на
какие-то ощущения. Они представляют собой самые примитивные
орудия мысли. А потому нет ничего удивительного в том, что
ранняя поэзия предпочитала именно такой ход: сообщить о
смелом подвиге, о славной победе без всякого упоминания о
предшествовавшем. Потребность в упорядоченном повествовании
возникла позднее, вместе со способностью к размышлениям. Ни
один ребенок не останется равнодушным, когда из коробки
выскакивает чертик, но вдумчивый мальчуган, крохотный фило-
соф, обязательно захочет узнать, откуда в коробке взялся чертик.
Упорядоченно жизнь показывает нам лишь нашу собственную
биографию или пути, пройденные нашими близкими друзьями,
которых мы знаем чуть ли не с рождения, да,возможно, еще пути
наших детей. Однако необходимо огромное искусство, чтобы
превратить описание такого известного нам с самого начала
жизненного пути в стройное повествование о самом главном. В
подобных случаях сплетение ассоциаций почти наверное возьмет
верх над чувством меры. Такие повествования ab ovo (с самого
начала) годятся для тех, кто коротает долгие летние дни в
счастливом безделье, но не захватят и не увлекут занятых людей
в краткий час их досуга.
Однако простое начало с указанием времени действия, с
описанием обстановки и персонажей, мало-помалу подводящее к
более драматическим событиям и сценам без ретроспективных
реминисценций, имеет свои преимущества, оценивать которые
следует в зависимости от характера повествования. Динамический
рассказ, почти не перебивающийся диалогом, может быть чрезвы-
чайно интересен и особенно подходит для новеллы. Особого
очарования этот жанр достигает в новеллах французов—тут
англичане не могут сравниться с ними в мастерстве, так как
обычно ищут чего-то более грубого, чем та восхитительная утеха,
представляющая собой, по удачному описанию Лафонтена1, «вовсе
не то, что вызывает смех, но некое обаяние, особую приятность,
которая придает привлекательность всем предметам, даже самым
серьезным». Этой-то прелестью и проникнуты лучшие французские
1 Je n'appelle pas gayete се qui excite le rire, meme un certain charme, un air
agreable qu'on peut dormer a toutes sories de sujets, meme les plus serieux.—
Предисловие к «Басням» (Д. 3.).
98
новеллы. Впрочем, в таком смысле трудно найти что-нибудь
прелестнее первых глав «Векфильдского священника».
Но почему бы и не вести повествование самым хаотичным
способом, какой только могут подсказать автору его наклонности
и идиосинкразии, при условии, что мы получаем удовольствие?
Возражения против прихотливости, с какой Стерн строит пове-
ствование Тристрама Шенди, связаны не столько с фактом
перебивок, сколько с их своеобразием. Милейшим читателям
следовало бы задуматься над тем, что нередко они испытывают
скуку из-за негибкости собственного ума. Они похожи на пьяниц,
признающих только один напиток.
ДЖ. РЕСКИН
ЧТО И КАК ЧИТАТЬ
(Лекция первая из книги «Сезам и
Лилии»)
Я буду говорить о книгах: как мы читаем их и как можем и
должны их читать. Предмет основательный, скажете вы, и какой
обширный! Верно, он столь обширен, что я даже не буду
пытаться охватить его целиком. Я лишь постараюсь представить
на ваш суд те грешные мысли о чтении, что с каждым днем все
сильнее овладевают мною, когда я вижу, в какой мере обществен-
ное мнение определяется растущими успехами образования и как
соответственно растет и распространяется литература. Случилось
так, что я имею самое непосредственное отношение к школам с
разным социальным составом обучающихся; так вот, я получаю
множество писем от родителей, озабоченных образованием своих
детей. Подавляющее число этих писем поражает тем, что родите-
ли, в особенности матери, в первую очередь озабочены одним—
«местом в жизни»...
Действительно, в общественном сознании нашего неугомонного
народа в ряду наиболее распространенных побудительных устрем-
лений намерение добиться успеха занимает первое место; во
всяком случае, о нем объявляют с полнейшей откровенностью,
его полагают наиболее способным утолить упования юности. И
сегодняшним вечером я вижу свою цель в том, чтобы вместе с
вами решить: что конкретно стоит за этим стремлением—и что
должно стоять.
Вы согласитесь, что для человека скромного и честного
положение и должность ценны в той степени, в какой они
благотворны; что такой человек охотнее потянется к людям
разумным и сведущим, нежели к болванам и невеждам; что ему
небезразлично, в каком обществе вращаться. Наконец, и без
пережевывания избитых истин о ценности дружбы и влиянии
окружения вы, безусловно, признаете, что устройство вашего
собственного счастья и благополучия других людей находится в
прямой связи с искренностью желания обрести верных друзей и
мудрых советчиков и способностью умело выбрать и тех, и
Других.
Допустим, у нас есть желание и умение выбрать себе друзей и
советчиков—но ограниченны наши возможности! Многим, во
всяком случае, просто не из чего выбирать. Обычно мы завязыва-
ем отношения случайно либо по необходимости; мы вращаемся в
узком кругу лиц. Нужных нам людей мы не знаем; кого мы
знаем — те непременно отсутствуют, когда нужны позарез. Небо-
100
жители открываются взорам простых смертных на миг и смутно.
Вдруг выпадет счастье мельком увидеть великого поэта, услышать
звук его голоса; или задать вопрос ученому мужу и получить
добродушный ответ. Вдруг повезет навязать десятиминутный
разговор министру, и лучше бы он отмолчался, чем сказал в ответ
ничего не значащие слова; а не то посчастливится бросить на
дорогу перед принцессой букет цветов или перехватить благо-
склонный взгляд королевы. Мы страстно желаем этих счастливых
минут, тратим годы жизни, расходуем душевные и физические
силы, добиваясь чуть большего; а между тем есть общество,
всегда доступное нам, где с нами будут беседовать, не гнушаясь
нашим званием и родом занятий, ровно столько времени, сколько
мы сами пожелаем; в этом обществе приложат все силы, чтобы
говорить с нами изысканнейшим слогом, и будут только благодар-
ны, что мы им внимаем. Общество это многочисленно и деликат-
но, и посему можно им пренебрегать, раз не мы, а они в нас
заинтересованы,—так пусть себе томятся хоть целый день в
казенных тесных приемных, за дверцами книжных шкафов,
венценосцы и государственные мужи, которых мы не ставим ни в
грош, от которых за весь день не пожелаем выслушать ни единого
слова.
Предвижу и даже слышу возражения, что-де наше равнодушие
к благородному собранию, заклинающему выслушать его, и,
напротив, искательство перед особами, не столь благородными и
явно пренебрегающими нами, имеет основанием следующее: тут,
перед нами, живые люди, и нас привлекает знакомство с ними
самими, а не с их высказываниями. Пустая отговорка! Допустим,
вам не дозволено видеть лица вашего собеседника, вас проводят к
государственному деятелю или к принцу и просят оставаться за
ширмой,—неужели только поэтому вам неинтересно услышать их
речи. А вообразите ширму поменьше и не в четыре, а в два
складня—вот вам и книга в переплете, и слушайте хоть день
напролет не светскую трескотню, но размеренные., продуманные
речи мудрейших людей. И вы пренебрегаете честью получать
подобную аудиенцию!
Может статься, вы скажете: современники толкуют о том, что
происходит на наших глазах и живейшим образом задевает нас, и
нам хочется знать такие вещи. Но это неверно, дело обстоит
иначе: те же современники поведают о происходящем гораздо
лучше в своих писаниях, нежели в необязательном разговоре.
Впрочем, я признаю обоснованность вашего мнения, если небреж-
ным и рассеянным отпискам вы предпочитаете написанное обсто-
ятельно и надолго, и сейчас я поведу речь о книгах как таковых.
Ибо все книги разделяются на две категории: есть книги-
однодневки и есть книги вечные. Вдумайтесь в это различие—
здесь дело не только в качестве. Все это не значит, что плохая
книга долго не живет, а хорошая живет вечно. Здесь различие
видовбе. Есть хорошие книги-однодневки—и хорошие вечные
книги; и точно так же есть плохие книги-однодневки и плохие
вечные книги. Прежде чем идти дальше, я должен растолковать
обе эти категории.
Хорошая книга-однодневка—о плохих я даже не буду гово-
101
рить—это, говоря попросту, полезная либо приятная информация
от лица, с которым вы иначе не можете снестись, как через
печатное слово. Полезное сообщение может быть вам весьма
кстати; приятное же радует, словно беседа с сидящим рядом
внимательным другом. Яркие рассказы о путешествиях; добро-
душные и задорные полемические заметки; веселые, а то и гру-
стные повествования, облеченные в форму романа; строго доку-
ментальные отчеты, составленные подлинными участниками про-
исходивших событий,—все эти книги-однодневки, множащиеся с
общим ростом образованности, составляют характернейшую осо-
бенность и достояние нынешнего века; великое спасибо, что они
есть, и стыд и позор, если мы не сумеем должным образом
воспользоваться ими.
Однако худшее их употребление—это позволить им занять
место истинных книг, ибо, строго говоря, они вовсе не книги, но
письма, написанные печатными буквами. Сегодня письмо от друга
радует нас либо само по себе, либо своевременностью сообщенных
сведений, и не обязательно нам вечно хранить это письмо. Газета
очень кстати за завтраком, но читать ее весь день, конечно, не дело.
Иными словами, хотя и в книжном переплете, но живой рассказ о
постоялых дворах и дорогах, о погоде в прошлом году в таком-то
месте, либо какая-нибудь занимательная история, либо истинный
отчет о таких-то и таких-то событиях, весьма, может статься,
ценный для вас,—все это только длинное письмо и в подлинном
смысле слова «книгой» не является, это не «чтение».
Книга по. существу своему—это не проговоренные слова, а
написанные, и написаны они не с целью кому-то сообщить что-то,
но чтобы сохранить их надолго и наверняка. Книга-беседа
печатается только потому? что ее автор не может говорить с
тысячами людей одновременно; будь это возможно, он бы это
сделал—стало быть, в этом случае книга всего-навсего разносит
по свету его голос. Вы не можете побеседовать с другом, если он
в Индии; будь это возможно, вы не преминули бы это сделать;
однако это невозможно, и вы пишете,ему письмо—ваш голос
преодолевает расстояние. Но книги пишутся вовсе не для того,
чтобы сделать голос звучным и крылатым, но чтобы сберечь его.
Писателю вдруг открывается истина, польза и красота, и он
спешит поведать о них. Ему кажется, что до него никто ничего
подобного не высказывал—и никогда не выскажет впредь. И он
просто обязан высказать это, и высказать по возможности ясно и
благозвучно, прежде всего ясно. В его жизни забрезжила ясность,
явилась крупица истинного знания, он прозрел—в меру доступно-
го его светоносной и земной природе. Он жаждет сделать это
достоянием вечности, и, будь это возможно, он бы выбил на
скале: «Здесь лучшее, что есть во мне; в остальном, подобно всем
людям, я ел, пил, спал, любил и ненавидел; жизнь проходила, как
в тумане, но что-то осталось, а именно: мне дано было прозреть и
•узнать, и вот только это достойно памяти обо мне». «Это» и есть
его «творение»; в меру скромных человеческих сил и истинного
вдохновения он дал свой оттиск, оставил свое писание. И это я
называю Книгой.
102
Может быть, вы полагаете, что такого рода книг не существу-
ет?
Тогда я спрошу вас: а верите вы в то, что существует
честность, доброта? Или не верите, что мудрецам были свойствен-
ны и честность, и доброта? Надеюсь, среди нас нет несчастного,
думающего так. Поэтому честное и благое дело мудреца—это его
книга, его произведение искусства. К ней обязательно примешива-
ется и дурное—плохое исполнение, многословие, вычурность. Но
если читать так, как должно, то легко обнаружатся перлы—в
них-то и суть книги.
Люди, составлявшие украшение своего времени, только такого
рода книги и писали—великие предводители, великие государ-
ственные деятели, великие мыслители. Выбор велик, а жизнь
коротка. Истина не новая, но брались вы хоть раз расчислить,
сколь она кратка и какие возможности таит? Если вы читаете
одно, то другого вы уже не читаете, и, стало быть, упущенное
сегодня вы завтра не наверстаете—задумывались вы над этим?
Неужто вы предпочтете судачить с горничной или конюхом, когда
можете беседовать с королевами и королями? Или польстите себе
мыслью, что чувство собственного достоинства обязывает вас,
уподобясь многим, стремиться в избранное общество либо доби-
ваться аудиенции, между тем как вам открыт доступ в вечные
чертоги, где собралось общество со всего света, неисчислимое,
как сама вечность,—общество истинных избранников своего
времени и своего народа? Доступ в это общество открыт для вас
постоянно; по собственному желанию выбирайте себе любой чин
и звание; будучи допущены, вы можете быть изгнаны из этого
общества лишь по собственной вине; в обществе тамошних
аристократов вы вернее проверите присущий вам самому аристок-
ратизм, и побуждения, что в этой жизни влекут вас к высшим
ступеням общества, выявят свою подлинную ценность, как скоро
выяснится, какого места вы ищете в обществе призрачном.
«Какого места ищете,—говорю я и вынужден добавить,—и
какое сумеете заслужить». Ибо тамошняя аристократия не сродни
нынешней: в искателях ее общества она ценит лишь труд и
заслуги—ничего другого! У этих райских врат стоит страж,
недоступный власти золота, громкого имени и искусительного
обмана. Строго говоря, низость и пошлость через эти врата не
пройдут. У порога того предместья Сен-Жермен1 вас встретят
вопросами: «Достойны ли вы войти? Тогда—входите. Вы ищете
дружбы благородных душ? Станьте сами благородны, и вас
примут. Желаете собеседования с мудрейшими? Научитесь пони-
мать их язык—и да услышите. Вас не устраивают эти условия?
Тогда отойдите прочь. Возрастайте до нас, ибо мы к вам
спуститься не можем. Ваш вельможа—тот, может, и одарит вас
своей милостью, и ваш философ с похвальным усердием, может
быть, растолкует вам свой тезис; нам же не пристало лицедей-
ствовать и что бы то ни было разъяснять; возрастайте до наших
мыслей, если желаете вкусить их сладость, перенимайте наши
радости и горе, если желаете сопричислиться нам».
1 Аристократический квартал Парижа.
103
Вот, стало быть, какая стоит перед вами задача—и поверьте,
задача нелегкая. Если говорить коротко, вы должны полюбить
людей, среди которых желаете находиться. И не мните о себе
высоко: высокомерных они презирают. Вы просто должны лю-
бить их, и есть два средства выказать свою любовь.
Главное — это искреннее желание учиться у них и войти в круг
их мыслей. «Их мыслей», подчеркиваю я, ибо не следует искать у
них ваших собственных мыслей, ими высказанных. Если книгу
написал человек одного с вами ума—нет нужды читать эту книгу;
если же он умнее вас, то он о многом будет рассуждать отличным от
вас образом.
Нам приятно отзываться о книге: «Превосходная книга! Имен-
но так я и сам думаю». А правильнее испытывать другое чувство:
«Какая странная книга! Мне в голову не приходили подобные
мысли—и однако,я вижу, как они справедливы; пусть мне не дано
сейчас уразуметь их до конца—с божьей помощью я пойму их
позже». В таком смирении нет особой нужды, но одно следует
знать твердо: вы пришли к писателю набираться его ума, а не
утверждаться в своем собственном. Судите после, если сочтете
себя вправе, но прежде—внемлите. И еще: если это действитель-
но превосходный писатель, то знайте, что за один присест вы его
не постигнете, более того, вы лишь догадаетесь о всей его
глубине, и то нескоро. Это не означает, что писатель утаивает
свою мысль, нет, он ее высказывает и не жалеет для этого слов,
но высказывает не до концами, что самое странное, он блуждает
окольными путями, говорит загадками, словно раззадоривая вас.
Отчего это? Не знаю, и не берусь судить, откуда у мудрейших
мужей эта жестокосердая скрытность, что вынуждает их держать
под спудом заветнейшие мысли. Они таки поделятся ими, но не
бросив как подаяние, а вознаградив, ибо должны быть уверены,
что вы заслужили эту дань. Таков же порядок и в мире
материальных сокровищ. Золото. Нам с вами не понять, отчего бы
электрическим силам земли не выплеснуть разом все наличное
золото на вершины гор, дабы цари и народы знали, где находится
потребный им металл, и, не затрудняя себя работой в копях, без
тревог и надежды на случай, не тратя времени попусту, соскобли-
ли бы все это золото и начеканили монет, сколько им надобно*
Однако Природа действует иначе. Она укрывает золото в складках
земли, неведомо где, и можно копать хоть вечность—и ничего не
найти; а чтобы найти хоть самую малость, нужно работать и
работать, запасшись терпением.
Не составляет исключения и сокровшцница человеческой
мудрости. Когда вы подступаете к хорошей книге, вы должны
спросить себя: «Готов ли я работать, не покладая рук, как
работает австралийский рудокоп? В порядке ли мои кирка и
лопата и в хорошей ли форме я сам? Рукава засучены? Ровно ли
дышу, спокоен ли?» Рискуя вам надоесть, я продолжаю сравнение,
ибо оно чрезвычайно ценно, поскольку руда, которую вы ище-
те,—это мысль писателя, смысл высказанного им. Так вот: его
слова подобны горной породе, вы должны вгрызться в нее,
раскрошить и переплавить в горниле мысли. Чуткость, сметли-
вость и образование—вот ваши кирки, а плавильный горн—это
104
ваша растревоженная душа. Без этих инструментов, не раздув
этого огня, даже и не надейтесь постичь сокровенную мысль
писателя; зачастую требуется едва ли не ювелирная работа с
зубилом и неустанное поддержание огня, прежде чем выплавишь
один-единственный гран металла.
И потому я честно и ответственно заявляю, уверенный в своей
правоте, что прежде всего вы должны взять привычку пристально
вглядываться в слова, по слогам, более того—буква за буквой
постигая их значение. Ведь потому только, что звуки передаются
на письме буквами, «литерами», книги и называются «литерату-
рой», а люди, сведущие в книгах,— «литераторами», а не букини-
стами и не лингвистами. Однако прихоти этой терминологии
позволяют вывести незыблемое правило: можно перечитать все
книги в Британском музее (если, конечно, прожить достаточно
долго)—и буквально ни на шаг не продвинуться в своем образова-
нии; а можно прочесть десяток страниц хорошей книги, но
прочесть скрупулезно, по буковкам, и отныне вы навсегда
образованный человек—в известных пределах, разумеется. Скру-
пулезность, тщательность—в этом вся разница между образован-
ностью и необразованностью (здесь я выделяю чисто интеллекту-
альный момент). Образованный джентльмен не обязан знать много
языков, ему может вполне хватить его родного, и книг, может
статься, он прочел невеликое количество. Зато если уж он знает
язык, то знает его досконально; он не ошибется в произношении
того или иного слова; а главное, он знает иерархию слов; он с
первого взгляда отличит слова благородного, древнего происхож-
дения от нынешних выскочек; он помнит всю родословную
слов—и породненных через браки, и состоящих в отдаленном
родстве, и на какой порог их не пускали, и какие должности—и
когда—они занимали.
Все это вы должны усвоить накрепко, чтобы употреблять
слова к месту. В нашем языке едва ли не каждое слово прежде
было словом какого-нибудь другого языка—англосаксонского,
немецкого, французского, латинского или греческого (я уж не
говорю о языках Востока и неразвитых народов). Многие слова
прошли по всей цепочке, то есть прежде были греческими, потом
латинскими, потом французскими или немецкими и уж потом
только английскими; в устах каждого народа такое слово слегка
меняло свой смысл и сферу употребления, однако изначальное,
существенное значение удерживалось, и настоящие ученые умеют
смотреть в корень, пользуясь этим словом сегодня. Если вы не
знаете греческого алфавита—выучите его; выучите без скидок на
свой возраст и пол, если намереваетесь превратить чтение в
серьезное дело (само собой, это предполагает наличие хоть малого
досуга); цотом обзаведитесь хорошими словарями всех названных
выше языков #, если какое-нибудь слово вызывает у вас
сомнение, терпеливо доискивайтесь истины. Для начала проштуди-
руйте лекции Макса Мюллера; не отпускайте от себя слово, пока
не выведаете всю подноготную его. Труд, согласен, каторжный,
но интересный даже поначалу, а уж увлекательный сверх всякой
меры. Вы, наконец, закалите и дисциплинируете свой характер, а
ради этого одного стоит постараться.
105
Повторяю: вес это не значит, что вы знаете или обязаны знать
язырси греческий, латинский, французский... Целой жизни не
хватит на то, чтобы выучить любой язык в совершенстве. Но вы
без труда сможете определить значения, какие имело то или иное
английское слово и что из прежнего оно сохранило под пером
хорошего писателя.
Теперь же, с вашего позволения, я перейду от слов к делу и
вместе с вами прилежно прочту десяток-другой строк из насто-
ящей книги; вы сами убедитесь, что из этого выйдет. Я выберу
книгу, которая вам всем превосходно известна; более английские
слова, нежели в ней, трудно себе и представить, и однако мало кто
вдумывался в них по-настоящему. Я цитирую из «Лисидаса»:
А сзади водяного
Идет пенитель галилейских вод
С двумя ключами (ибо отворяет
Он золотым, железным" запирает)
И сокрушенно митрою трясет:
«Как жаль, что добрый пастырь умирает,
Но здравствует и процветает тот,
Кто не о стаде—о себе радеет,
Тот, у кого важнее нет забот,
Чем в праздник бражничать со стригалями
Да ссориться с почетными гостями;
Кто ремеслом пастушьим не владеет
И, слепоустый, брезгает трудами,
Без коих пастуху не преуспеть!
Дела мирские—вот его услада,
А коль дерзнет на пастьбе он запеть,
Его свирель фальшивит, раня слух.
Мрут его овцы от парши и глада.
Стоит у них в загоне затхлый дух,
И по ночам оттуда за ограду,
Которую забыл закрыть пастух,
Уносит жадный волк ягнят из стада,
И некому, увы, разбой пресечь...
Перевод Ю. Корнеева
Давайте поразмыслим над этим отрывком, вдумаемся в слова.
Прежде всего, не странно ли, что Мильтон в своей элегий не
только возводит святого Петра в епископское звание, но еще
облекает его в столь ненавистные протестантам атрибуты этого
сана? «Митрою трясет»! Мильтон не питал любви к епископам—
чего же ради на голове святого Петра оказалась митра? «С двумя
ключами». Если под этим понимать власть ключей *, то Мильтон
как бы признает притязания римских епископов, но лишь в
качестве поэтического допущения, ради красочности изображе-
ния, когда не грех сверкнуть и золотом ключей. Ошибочная
мысль! Имея дело с догматами жизни и смерти, великие люди не
опускаются до дешевых эффектов: фиглярствует ничтожество.
Мильтон говорит то, что думает, он выстрадал эту мысль и в
своем высказывании утверждает ее всей силою своего духа. Он не
приемлет лжеепископов, но истинные епископы ему близки; и
«пенитель галилейских вод» для него образец и глава истинной
1 То есть римско-католическую церковь.
106
епископской власти. Слова «и дам тебе ключи от Царства
Небесного» для него непререкаемая истина. Сколь бы он ни был
пуританином, он не вытравит эти слова из Книги на том лишь
основании, что бывали дурные епископы; более того, мы не
поймем Мильтона, если прежде не разберемся сами в этой строке;
негоже отводить от нее глаза, замыкать слух, словно от навета
враждебной секты. Напротив, здесь торжественно и во всеуслы-
шание утверждается то, что надлежит исповедовать всем сектам.
Возможно, мы лучше это поймем, если сейчас двинемся чуть
дальше, а потом снова вернемся к этому месту. Ведь совершенно
ясно, что упор на силу истинной духовной власти сделает более
весомыми в наших глазах обвинения против ложных притязателей
на власть и положение среди духовенства, против тех, «кто [...]
процветает [...] кто не о стаде—о себе радеет...».
Не подумайте, что эти слова Мильтон вогнал в строку, чтобы
сохранить стихотворный метр,—на такое способен лишь безответ-
ственный писака. Мильтону нужны все эти слова, эти—и никакие
другие, их ничто не заменит и к ним нечего добавить. В них
схвачена вся суть, характеры людей, бесчестно домогающихся
церковной власти.
А теперь пойдем дальше:
Кто ремеслом пастушьим не владеет
И, слепоустъщ брезгает трудами,
Без коих пастуху не преуспеть!
Здесь я задержусь., наткнувшись на необычное слово; вы
скажете: цеточная метафора, небрежная и нестрогая.
Отнюдь нет: именно ее резкость и выразительность заставляют
пристальнее вглядеться в строку, запомнить ее. Это двухтактное
слово чрезвычайно верно определяет характер, совместивший
полярно противоположные вершины церковной иерархии: епископ
и пастырь.
Епископ—это человек, который видит.
Пастырь—человек, который питает.
Слепец не может быть епископом.
И никого не напитает пастырь, чьи уста отверсты лишь для
своей утробы.
Сведите этих антиподов в одном лице—и вы получите «слепо-
устого». Попробуем осторожно развить нашу мысль дальше. Почти
все беды в Церкви шли от епископов, рвавшихся к власти, а не к
свету. Они видели себя со стороны—и не глядели вокруг. Между
тем их подлинное назначение не властвовать, а в лучшем случае с
пристрастием наставлять и осуждать: власть—должность коро-
левская; епископам же надлежит присматривать за стадом—
пересчитывать его, быть всегда готовым отчитаться за каждую
овцу. Понятно, что он не сможет отчитаться за души, если не
убережет численность своего стада. А посему первейшая обязан-
ность епископа—это обеспечить себе такое положение, при
котором он сможет знать всю подноготную о каждой живой душе
в своей епархии. Где-то в подворотне Билл и Нэнси крошат друг
другу зубы. Ведает ли об этом епископ? Видит ли? Куда смотрел
прежде? И сможет ли досконально разъяснить нам, отчего у
107
Билла вошло в привычку проламывать Нэнси голову? Если нет, то
он не епископ, хотя бы его венчала митра превыше Солсберийско-
го шпиля. Тот не епископ, кто лезет в капитаны, когда ему
положено быть марсовым матросом и видеть далеко вокруг.
«Нет,— возразите вы,—не епископа это дело — ходить за Биллом
по подворотням». Как! — его дело, стало быть, опекать лишь
тучных и густорунных овец, тогда как прочие (вернемся к
Мильтону) «мрут [...] от парши и глада [...] и по ночам оттуда за
ограду, которую забыл закрыть пастух (читай: епископ), уносит
жадный волк ягнят из стада, и некому, увы, разбой пресечь»?!
«И все же мы иначе представляем себе назначение епископа».
Дело хозяйское: я толкую лишь о том, в чем видели предназначе-
ние епископа святой Павел и—Мильтон. Может быть, правы они,
может—мы, но, читая их, мы не вправе навязывать им свои
представления.
Следуем дальше.
«Стоит у них в загоне затхлый дух».
Не удивлюсь, услышав в ответ какую-нибудь пошлость: что-де
запущенные телесно, эти страдальцы опекаются духовно —
получают духовную пищу.
А Мильтон свидетельствует: никакой духовной пищи им не
подают—они дышат затхлым духом. Возможно, слова резанут
вам слух, а образ представится расплывчатым. Но, как и в
прежнем случае, он точен в буквальном смысле слова. Откройте
латинский и греческий словари и найдите, что значит наше слово
«дух». В латинском ему приблизительно соответствует «дыхание»,
в греческом—«ветер». В Писании этими словами так и сказано:
«Дух дышит, где хочет», «Так бывает со всяким, рожденным от
Духа»1—рожденным от духа, иными словами, от дыхания господ-
него, и рожденным как телесно, так и духовно. Мы, например,
говорим: «вдохнуть душу», «испустить дух».
От разного дыхания дышит стадо: от духа господнего—и от
духа человеческого. С дыханием господа приходят здоровье,
жизнь и покой—таким райским воздухом дышат стада на горных
пастбищах; дыхание же человеческое (что называют «духовной
пищей») несет болезни и заразу, подобно болотным испарениям.
Тлетворный дух проникает внутрь, пучит человека, так вспухает,
разлагаясь, мертвое тело. И это в точности соответствует тому,
что несут ложные религии: распад, разложение. И вот уже
обращенные дети наставляют родителей; обращенные преступники
учат честных людей; обращенные болваны, полжизни проведшие
в идиотическом оцепенении, мнят себя Его избранниками и
посланцами; сектанты всех родов и мастей—католики и проте-
станты, приверженцы Высокой церкви и Низкой,—все, кто одних
себя видят правыми, а остальных заблудшими; и, наконец, те, кто
полагают, что человек спасется правой верой, а не праведными
делами,—все, все они исчадие тумана, облака, не проливающиеся
дождем, бесплотные и бескровные тела-пузыри, выдохшиеся
волынки в лапах врага рода человеческого... «Стоит у них в
загоне затхлый дух...»
1 Евангелие от Иоанна, гл. 3, стих 8.
108
В заключение вернехмся к словам о власти ключей, ибо теперь
мы поймем оставленную строку. Заметьте, как по-разному пони-
мают эту власть Мильтон и Данте: у последнего, например, мысль
слабее — оба ключа отмыкают райские врата, только один золо-
той, а другой — серебряный, и оба ключа святой Петр доверяет
ангелу-привратнику; и уж совсем непростое дело понять смысл
трех предвратных ступеней или тех же двух ключей. Мильтон же
золотым отворяет райские врата, железным замыкает узилище,
где содержатся лжепророки, которые «похитили ключи знания и
сами не вошли».
Видеть и напитать—так определили мы обязанности епископа
и пастыря; об исполнивших этот завет сказано: «Утоляющий
жажду сам утолен будет». Верно и обратное: отказавший в глотке
воды иссушен будет, а отказывающийся видеть—ослеплен, и оба
ввергнуты будут в вековечную темницу. А врата ее отворены уже
здесь и сейчас: осужденный небесами и жизнь свою влачит, как
кандальную цепь. Завещанное ангелам силы через апостола Петра
«Возьми его, и свяжи ему руки и ноги его, и исторгни»—в
известной степени метит в тех наставников, кто не подали
помощи, сокрыли хоть крупицу истины, поощрили ложное; и
осужденный сам отягощает готовящиеся ему оковы, и чем более
он блуждает, тем глубже падает, пока не сомкнутся над его
головой железные створы. «Отворяет он золотым, железным
запирает».
Я полагаю, из разобранных строк мы кое-что для себя
уяснили, а сколько еще осталось нераскрытого! Но мы и ставили
перед собой скромную задачу, слово за словом разбирая автора,
показать, что значит правильное чтение: разбираться в оттенках
мысли и выражения, ставить себя на место автора, поступаясь
собственным мнением и вникая лишь в его мысли. Вот тогда
можно с уверенностью сказать: «Так мыслил Мильтон», а
не: «Так мыслю я, невдумчиво прочитав Мильтона».
М. АРНОЛЬД
НАЗНАЧЕНИЕ КРИТИКИ
В НАШЕ ВРЕМЯ
Немало замечаний было высказано по поводу моих соображений,
которые я позволил себе изложить в заметках о принципах
перевода Гомера, соображений о критике и о значении критики в
наше время. Я писал: «В литературах Франции и Германии, как и
в духовной жизни Европы вообще, вот уже много лет преобладает
критическое направление, попытки во всех областях знания—в
теологии, философии, истории, искусстве, науке—увидеть предмет
таким, каков он есть на самом деле». Далее я заметил, что в силу
определенных факторов, действующих в нашей словесности, «едва
ли кто обратится к английской литературе в поисках того, в чем
более всего нуждается сейчас Европа—критики» и что это немало
сказалось на силе и значимости английской литературы. Многие
оппоненты заявляли, что место, которое я отвожу критике,
чрезмерно, они утверждали, что созидательное начало человече-
ского духа по самой своей природе превосходит начало критиче-
ское. А на днях, движимый прекрасной статьей мистера Шарпа* о
Вордсворте1, я в какой раз обратился к биографии поэта и
обнаружил среди высказываний этого великого человека, ко
мнению которого я в числе многих всегда должен прислушиваться
с глубочайшим почтением, замечание о критике, которое, кажет-
ся, оправдывает самое низкое мнение о ней. Вордсворт говорит в
одном из писем: «От авторов этих изданий (литературных обозре-
ний), которые заняты столь недобросовестным делом, нельзя
ожидать состояния духа, благоприятствующего уловлению тон-
чайших эманации столь чистой материи, каковой является истин-
ная поэзия». Достойный доверия собеседник поэта передает более
подробное суждение относительно этого же предмета: «Вордсворт
ставит критические способности гораздо ниже способностей сугу-
бо творческих, а сегодня он сказал, что если бы время, которое
поглощает критика чужих трудов, было отдано созданию
1 Не могу удержаться от мысли, что было бы полезно возродить практику,
которая была общепринята в прошлом столетии в Англии и которой поныне
следуют во Франции: печатать такого рода заметки знающего критика в качестве
предисловия к произведениям выдающегося автора. Статья мистера Шарпа, мне
кажется, может служить прекрасным введением для всех будущих изданий
Вордсворта; она написана с точки зрения почитателя, больше того—
последователя—так оно и должно быть, но, кроме того, последователю надобно
быть, как в данном случае, критиком, литератором, а не каким-нибудь родственни-
ком, что часто бывает, или другом автора, не обладающим сверх личных
симпатий достаточными качествами для таких занятий.
ПО
оригинальных произведений любого рода, то было бы лучше:
человек быстрее узнал бы свои возможности и вообще причиня-
лось бы меньше вреда. Неискренняя или злобная критика может
отравить умы, тогда как глупость в форме оригинальной поэзии
или прозы абсолютно безвредна».
Мы потребуем, однако, слишком многого от несовершенной
человеческой природы, если предположим, что автор, способный
более или менее успешно трудиться в одной области литературы,
добровольно обречет себя, даже во имя общественного блага, на
бесплодие и неизвестность в другой. Еще более трудно ожидать
этого от тех, кто питает слабость к сочинению «неискренней или
злобной критики», о которой говорит Вордсворт. Однако всякий
согласится, что «неискренняя или злобная критика» вообще не
нужна. Все охотно согласятся и с тем общим положением, что
критическая способность ниже созидательной. Но верно ли, что
критика сама по себе, по сути своей, занятие пагубное и вредное;
верно ли, что время, потраченное на критику, лучше было бы
использовать на сочинение оригинальных произведений любого
рода? Действительно ли Джонсону следовало бы написать еще
несколько «Ирен» * вместо того, чтобы браться за «Жизнеописания
поэтов»? Неужели сочинение «Церковных сонетов» более прилич-
ное занятие д^я самого Вордсворта, нежели создание знаменитого
«Предисловия», содержащего самую настоящую критику, в том
числе критику работ других авторов? Вордсворт сам был великий
критик, и можно лишь искренне пожалеть, что он оставил нам мало
критики. Гёте был одним из величайших критиков, и можно лишь
искренне порадоваться тому, что мы располагаем богатством его
многочисленных критических трудов.
Не тратя времени на очевидные преувеличения, содержащиеся
в высказывании Вордсворта, не пытаясь найти причины, их
породившие—а выявить таковые, я думаю, нетрудно,—критик
может воспользоваться случаем, чтобы спросить себя и свою
совесть, какую реальную пользу имеет или может иметь в каждый
данный момент его работа для его собственного разума и духа, а
также для разума и духа других.
Критические способности ниже созидательных. Верно. Но
соглашаясь с этим положением, надобно иметь в виду несколько
моментов. Несомненно, что проявление созидательных способно-
стей, свободная творческая деятельность есть высшая функция
человеческого духа, это доказывается тем, что человек обретает в
ней истинное счастье. Но равно несомненно, что люди могут
испытывать радость свободного творчества в иных занятиях, не
только создавая великие произведения литературы или искусства,
ибо в противном случае счастье было бы вообще недоступно,
разве что очень немногим. Люди находят удовлетворение в
благотворительности, в самообразовании, даже в критике. Это
необходимо принимать во внимание. Далее, проявление творческо-
го гения в великих произведениях литературы и искусства, какой
бы высоты оно ни достигало, возможно не во все эпохи и не при
всех обстоятельствах. В некоторых случаях усилия могут быть
потрачены впустую. Те усилия, которые могли бы быть более
плодотворно положены на подготовку к творческой активности, на
Ш
то, чтобы сделать ее возможной. Созидательная способность
имеет дело с определенными элементами, определенным матери-
алом. Что, если эти элементы, этот материал не созрели для
использования? В таком случае необходимо ждать, пока они
созреют. В литературе—я ограничу себя литературой, поскольку
проблема возникла в связи с ней,—необходимыми элементами
являются идеи, самые лучшие и самые распространенные в данное
время идеи относительно всех тех предметов, которые затрагивает
литература. Во всяком случае, мы можем с уверенностью
утверждать, что достойное или плодотворное приложение созида-
тельных способностей в литературе невозможно без обращения к
таким идеям. Я подчеркиваю: распространенные идеи, а не
просто вероятные в данное время, ибо литературный талант
обычно проявляется не в открытии новых идей—это, скорее,
дело философа. Высшее назначение художника состоит в синтезе
и изображении, а не анализе и изобретении; особенность таланта
заключается как раз в счастливой способности вдохновляться
определенной интеллектуальной и духовной атмосферой, опреде-
ленным кругом идей, когда он погружается в них; в способности
так преобразовывать эти идеи, чтобы представить их в наиболее
волнующих и привлекательных сочетаниях, коротко говоря —
создавая из идей прекрасные произведения. Для свободной работы
таланта нужна определенная атмосфера, он должен найти себя в
идеях, а добиться этого не легко. Вот почему так редки периоды
больших достижений в литературе, вот почему так много посред-
ственного в сочинениях людей действительно талантливых. Для
создания шедевра должны соединиться две энергии—энергия
человека и энергия времени, человеческих сил без сил эпохи—
недостаточно; созидательный талант успешно проявляется при
благоприятных обстоятельствах, а эти обстоятельства неподвла-
стны ему. Зато они более подвластны критическому таланту. Дело
критики, как я уже говорил, «во всех областях знания—в
теологии, философии, истории, искусстве, науке — увидеть пред-
мет таким, каков он есть на самом деле». Таким образом, кри-
тика создает в конечном счете такую духовную ситуацию, кото-
рой может достойно воспользоваться созидательный талант. Она
устанавливает порядок идей, если не абсолютно верный, то все же
более правильный, чем тот, который был прежде, помогает
наилучшим идеям занять господствующее положение. Затем эти
идеи проникают в общество, ибо истина проверяется жизнью, все
приходит в движение, начинает развиваться, и именно на такой
почве расцветают великие литературные свершения.
Если сузить рамки разговора, исключив соображения об
общем ходе развития таланта и общества—соображения, име-
ющие склонность становиться слишком абстрактными, неулови-
мыми, каждый понимает, что поэт, например, должен знать жизнь
и общество, прежде чем он займется ими в своих стихах. А
поскольку в нынешнее время жизнь и общество—предметы
довольно сложные, то значительное поэтическое творение подра-
зумевает и немалые критические усилия, иначе оно будет бедным,
малосодержательным и преходящим. Вот почему поэзия Байрона
в отличие от поэзии Гёте не вынесет испытания на долговечность;
112
оба обладали огромной поэтической мощью, но у Гёте она
питалась глубокой критикой, дававшей ему материалы для творче-
ства. Гёте глубже и полнее Байрона знал жизнь и общество, эти
непременные предметы поэзии. Он знал гораздо больше о них,
знал их лучше такими, каковы они есть на самом деле.
У меня давно уже сложилось впечатление, что во взрыве
творческой активности в нашей литературе, пришедшемся на
первую четверть нынешнего века, было что-то преждевременное и
что по этой причине произведения того периода, большинство из
них—несмотря на радужные надежды, которые связывались и
сейчас еще связываются с ними,—неизбежно окажутся более
преходящими, чем созданное в гораздо менее блестящие эпохи.
Эта преждевременность проистекает из того факта, что взрыв
произошел тогда, когда еще не накопился необходимый запас
знаний, когда недоставало материала для творчества. Другими
словами, английская поэзия первой четверти нынешнего столетия
с ее изобилием энергии и творческих талантов просто мало знала.
Отсюда малосодержательность у Байрона, бессвязность у Шелли,
и даже Вордсворту, несмотря на всю его глубину, поэтому так
недоставало завершенности и многообразия. Вордсворт мало
интересовался книгами и с пренебрежением относился к Гёте. Я
восхищаюсь Вордсвортом, таким, каков он есть, восхищаюсь
настолько, что не хотел бы видеть его иным, да и нелепо
представлять себе такого человека иным, чем он был на самом
деле, и предполагать, что он мог бы быть иным. Однако
Вордсворту следовало прочитать побольше книг, а среди них,
конечно же, произведения Гёте, которого он поносил, не читая;
этого-то и недоставало Вордсворту, чтобы стать еще более
великим поэтом, чем он есть, его мысли—богаче, а влиянию —
шире.
Разговор о книгах и чтении вообще может вызвать недоразу-
мение. Нашим поэтам того времени не хватало не то чтобы
начитанности: любил читать Шелли, очень много читал Кольридж.
А вот Пиндар и Софокл прочитали не так уж много книг,
повторяем мы по привычке, часто не вдумываясь в смысл того,
что говорим; Шекспир тоже не был охотником до чтения. Все так.
Но в Греции времен Пиндара и Софокла, равно как и в
шекспировской Англии, поэт жил в потоке идей, в высшей
степени вдохновляющих и питающих талант. Общество целиком
было пропитано свежей, живой и умной мыслью. Такое состо-
яние—вернейшая основа для проявления созидательных способ-
ностей, талант черпает в нем запас знаний, находит готовый
материал; все книги, вместе взятые, и все чтение имеют ценность
постольку, поскольку они подготовляют его. Даже когда такое
состояние еще не достигнуто, книги и чтение дают человеку
возможность построить некое умственное подобие его, мир разума
и духа, в котором он способен жить и работать. Конечно, этот
мир не заменит художнику живую жизнь и мысль, захватившую
всю нацию, как это было в эпоху Софокла или Шекспира. Однако,
помимо того что этот внутренний процесс может приближать
такие эпохи расцвета, он создает—при участии многих —
плодотворную обстановку оживления и заинтересованности.
113
Многосторонняя образованность и длительные объединенные уси-
лия различных критиков создали в Германии подобную обстанов-
ку для Гёте. Правда, там не было такого накала общенациональ-
ной жизни и мысли, как в Афинах времен Перикла или в елиза-
ветинской Англии. Отсюда слабые стороны творчества поэта.
Однако эта недостаточность в какой-то мере возмещалась цело-
стной культурой и свободным обменом идеями между многими
немцами. Здесь источник силы поэта. В Англии первой четверти
нынешнего столетия не было ни общенациональной жизни и
общенациональной мысли, характерных для века Елизаветы, ни
культуры, образованности и критики, какая была в Германии.
Созидательному поэтическому гению недоставало материала и
основы, чтобы-достичь успеха в высшем понимании слова, поэзия
не могла дать досконального объяснения мира.
На первый взгляд может показаться странным, что бурные
события Французской революции и того времени не принесли
богатого урожая талантливых произведений, сравнимых с теми,
которые дали великая пора расцвета Греции или Ренессанс с его
мощными драмами периода Реформации. Дело в том, что события
Французской революции приобрели характер, который существен-
но отличал их от похожих движений; последние представляли
собой главным образом чисто интеллектуальные и духовные
движения, где человеческий дух искал удовлетворения в самом
себе и большего цростора для работы. Французская революция же
быстро приняла политический, практический характер. Процес-
сы, происходившие при старом regime с 1700 года по 1789, гораздо
ближе по духу Ренессансу, нежели собственно революция.
Франция Вольтера и Руссо говорила европейскому уму неизмеримо
больше, нежели революционная Франция. Гёте резко отзывался о
революции, ибо она «отбросила назад развитие мировой культуры».
И как это верно по отношению к нашему Байрону и даже Ворд-
сворту: истоки их творчества лежат в великой традиции чувств,
а не разума; Однако движущая сила Французской революции—
этого предмета слепой любви и не менее слепой ненависти—исхо-
дила из человеческого интеллекта, а не практического смысла,
и это отличает ее от английской революции времен Карла I. Именно
это делает ее событием большего духовного значения, нежели
наша революция. Французская революция вызвала огромный
интерес во всем мире, хотя практические ее результаты скромнее
наших, она апеллировала ко всеобщему, определенному кругу
идей. 1789 год вопрошал: разумно ли это? Революция 1642 года
задавалась вопросом: законно ли это?—а в дальнейшем своем
развитии несколько иным: согласуется ли это с совестью? Такова
английская традиция, к которой—в определенных рамках—
дблжно относиться с глубочайшим почтением, ибо ее достиже-
ния—в определенных рамках—поистине громадны. Однако то,
что мы считаем законом в одном месте, отнюдь не является
таковым в другом, то, что является законом здесь и сегодня, не
будет здесь же законом завтра. Что же касается совести, то
веление совести у одного совсем не обязательно для других.
Старуха, швырнувшая стулом в голову облаченному в стихарь
проповеднику * в эдинбургской церкви святого Джайлза, ловинова-
114
лась импульсу, который миллионам других представителей челове-
ческого рода может остаться непонятным. Но установления
разума—это абсолютные, неизменные, универсальные законы.
Например, «считать десятками — вернее»—это положение имеет
силу для всякого и здесь, и в противоположном полушарии; во
всяком случае, я смел бы утверждать это, не живи мы в стране,
где отнюдь нельзя исключить возможности прочитать однажды
утром в «Тайме» письмо, автор которого будет утверждать, что
десятичная монетарная система'—полнейший абсурд.
Если задуматься над тем, как мало разумности и других столь
же достойных и воодушевляющих качеств содержится в мотивах,
которые в общем-то и побуждают огромные массы людей к
действию, 'то понимаешь, как замечательно, когда целая нация
восторженно преклоняется перед чистым разумом и охвачена
пылким стремлением сделать так, чтобы его установления востор-
жествовали. Несмотря на крайние формы, в которые вылился
этот энтузиазм, несмотря на все прегрешения и безрассудства, в
которых она запуталась, слава Французской революции—в мощи,
истинности и всеобщности тех идей, которые она приняла как
свои законы, в той страсти, с которой она сумела вдохновить
этими идеями массы—неповторимая и все еще жизнеспособная
сила. Французская революция есть и, вероятно, еще долго будет
самым великим и самым живым событием в истории. Хотя во
время революции она обернулась несчастьем, всякая глубокая и
искренняя приверженность духовным ценностям не лишена блага
и оставляет след, и Франция пожала плод своей страсти—
естественный, принадлежащий ей по праву, пусть и не столь
величественный, как ожидали: в этой стране живет самый
энергичный народ в Европе.
Однако маниакальное желание найти немедленное практиче-
ское и политическое применение замечательным идеям оказалось
фатальным. На эту тему мы можем рассуждать часами, здесь
англичанин попадает в свою стихию. И все, что мы имеем
обыкновение говорить, содержит немалую долю истины. Не
следует чрезмерно высоко ставить идеи сами по себе, ради них
самих, нельзя жить ими одними; но совсем другое дело—грубо
переносить их в политическую сферу и в соответствии с ними
насильственно перекраивать мир. Есть мир идей, и есть мир
действия; французы часто душат один, англичане—другой, но ни
тот, ни другой душить нельзя. Знакомый член палаты общин
сказал мне на днях: «Что-то неправильно? Это еще не недоста-
ток». Позволю себе усомниться в правоте его слов, ибо непра-
вильность сама по себе есть недостаток, правда, только в
абсолютном смысле и в сфере идей; она вовсе не обязательно
будет недостатком в сфере практической и политической в
определенное время и при определенных обстоятельствах.
Прекрасно сказал Жубер: "С'est la force et la droit qui reglent
toutes choses dans le monde; la force en attendant le droit"1,— сила
ждет, пока созреет право, и до тех пор сила, иначе говоря,
существующий порядок вещей, оправдана, является законным
1 «Сила и право властвуют над миром, сила ждет, пока созреет право» (франц.).
115
властелином. Право—категория моральная, оно подразумевает
внутреннее признание, свободное волеизъявление; право в отно-
шении нас не созрело, мы не доросли до права, пока не осознали и
не пожелали его.
Как и когда право преобразует и изменит силу, существующий
порядок вещей, и станет в свою очередь законным властелином
мира, зависит от того, как и когда мы осознаем и примем его в
должное время.
Если зачарованная своим новоизобретенным правом иная
нация попытается навязать его нам, представляя как наше право,
попытается насильственно заменить нашу силу чужим правом, то
это будет акт тирании и ему должно оказать сопротивление. И в
этом случае сводится на нет вторая, равновеликая часть заповеди:
сила ждет, пока созреет право. В том и заключается величайшая
ошибка Французской революции. Покинув чисто умственную
сферу и устремившись в область политики, ее идейное движение
прошло большой и памятный путь, но не принесло таких
духовных плодов, как Ренессанс, и, кроме того, вызвало противо-
действие, которое я назвал бы эпохой обособления и изоляции.
Оплотом эпохи обособления стала Англия, а ее глашатаем—
Бёрк. Вошло в обыкновение считать сочинения Бёрка, посвящен-
ные Французской революции, чересчур привязанными ко времени
и устаревшими, выразительной, но малосодержательной ритори-
кой, выдающей предрассудки и нетерпимость автора. Не стану
утверждать, что на них положительно сказалось тогдашнее
неистовство страстей, а в некоторых вопросах взгляды Бёрка не
были ограничены и выводы, следовательно, ошибочны. Однако в
целом и с учетом необходимых поправок труды Бёрка отличают
глубина, последовательность, правдивость, передающие филосо-
фию эпохи обособления, они рассеивают ту мрачную атмосферу,
которой окутана эта эпоха в силу самой ее природы, объясняют
сопротивление идеям Французской революции.
Однако Бёрк велик тем, что едва ли не единственным в Англии
привнес в политику мысль, насытил политику мыслью. Скоро
забудут, что его идеи оказались на службе эпохи обособления, а
не эпохи добрососедства. Будут помнить, что он настолько жил
идеями, настолько был полон ими, что смог подняться над своим
временем и политикой английских тори. Достижения его не
умалялись гневом д-ра Прайса* и либералов. Их даже не умаляли
похвалы Георга III и консерваторов. Величие Бёрка в том, что он
пребывал в мире, совершенно недоступном ни английским либера-
лам, ни английским консерваторам, в мире идей, а не лозунгов и
узкопартийных интересов. Насколько далеко от истины утвержде-
ние, будто он «ради партии поступался тем, что предназначалось
для всего человечества», свидетельствует тот факт, что уже под
занавес своей непримиримой борьбы с Французской революцией,
после обвинения ее деятелей в ложных претензиях, несерьезности,
сумасбродстве, он, искренне убежденный во вредоносности рево-
люции, закончил свои заметки о наиболее эффективных способах
борьбы с ней замечательными словами: «По моему мнению, зло
укореняется, поскольку существует. Исцелить зло можно тогда,
когда сила, мудрость и знания соединятся с добрыми намерениями
116
в гораздо большей мере, чем это удалось сделать мне. Я покончил
с этим предметом, смею надеяться, навсегда. На протяжении
последних двух лет он доставил мне немало горьких минут. Если в
человеческих делах назрели большие перемены, умы людей
должны приспособиться к ним; мнения и настроения общества
устремятся в этом направлении. Все сомнения и все надежды
будут приближать перемены. Упорствующие же в сопротивлении
неодолимому повороту в человеческих делах будут противиться
воле самого Провидения, а не просто людским намерениям, они
предстанут не твердыми и решительными мужами, а упрямыми и
капризными детьми». «Размышления о французских делах», поме-
ченные декабрем 1791 года, были едва ли не последними в его
жизни написанными страницами.
Этот ответ Бёрка самому себе всегда казался мне одним из
лучших мест в английской, да и не только английской, литературе.
Именно это я и называю — жить идеями, то есть видеть обе
стороны вопроса; долго и убежденно, собрав все душевные силы,
отстаивать одно мнение, видеть и слышать, как единомышленни-
ки, словно заведенная машина, твердят одно и то же и в
одинаковых выражениях и не могут вообразить ничего иного, и
все же сохранить способность думать самостоятельно, и отдавать-
ся течению мысли, даже если оно приведет к другому мнению, и,
подобно Валааму, говорить только то, «что бог вложил в уста
его». Я не знаю более замечательной способности и, должен
добавить, более противоанглийской. Ибо типичный англичанин
похож на знакомого мне члена палаты общин, который твердо
верит в то, что неправильность—не недостаток. Англичанин
похож на современника Бёрка лорда Окленда, который в заметках
о Французской революции писал о «некоторых негодяях, мнящих
себя философами, якобы способных установить новый обществен-
ный порядок». Англичанина неслучайно назвали политическим
животным: он так высоко ставит политику и практические дела,
что идеи в его глазах легко превращаются в объект неприязни, а
мыслители—в «негодяев», потому что идеи и мыслители нагло
вмешиваются в политику и практические дела. Хорошо, если бы
эта неприязнь и пренебрежение ограничивались идеями, которые
выхватывают из другой области и механически переносят в
практический мир, но эти неприязнь и пренебрежение обязательно
распространяются на идеи как таковые, на всю духовную жизнь.
Практика—все, свободная игра ума—ничто. Англичанину и в
голову не придет, что свободное размышление обо всем на
свете—это само по себе наслаждение, предмет мечтаний, источ-
ник, питательных веществ, без которых национальный дух погиб-
нет в конце концов от истощения, что бы общество ни предлагало
взамен. Давно замечено, что слово любопытство, которое в
других языках используется в положительном смысле и обознача-
ет прекрасное, тонкое свойство человеческой природы, а имен-
но—бескорыстную любовь к игре ума ради нее самой,—давно
замечено, повторяю, что в нашем языке это слово носит
совершенно иной, отрицательный и уничижительный смысл. Кри-
тика, истинная критика, по сути своей есть проявление именно
этого человеческого свойства. Она подчиняется побуждению
117
узнавать лучшее из того, что известно и осмыслено в мире
независимо от практических дел, политики и других подобных
вещей; ценить знания и мысль, приближающиеся к этому пределу,
без каких бы то ни было посторонних соображений. Мне кажется,
что практический английский характер не питает особого располо-
жения к этим побуждениям, а если раньше и были таковые
побуждения, то они совершенно притупились в долгую, душную,
губительную пору обособленности, последовавшую за Француз-
ской революцией.
Однако эпохи обособленности не вечны, в силу естественного
хода вещей за ними следуют эпохи общения и добрососедства.
Такой период начинается, кажется, в- нашей стране. Во-первых,
давно исчезла опасность насильственного вторжения иностранных
идей в нашу практическую деятельность; как путешественник из
известной басни,* мы несколько распахнули плащ. Далее, в
условиях длительного мира, к нам постепенно и без всякой
злонамеренности начнут проникать европейские идеи и смешивать-
ся, пусть каждый раз в весьма умеренной степени, с нашими
собственными понятиями. Указывают на иссушающее, ожесточа-
ющее воздействие нашего стремительного материального прогрес-
са, но мне кажется, что он может, хотя и не обязательно,
привести к возникновению духовной жизни; человек, вполне
устроивший свою судьбу и решающий, чем бы ему еще заняться,
может вспомнить, что он наделен интеллектом, что интеллект
способен быть источником величайших наслаждений. Я охотно
допускаю, что усмотреть сейчас такой результат наших забот о
железных дорогах, предпринимательстве, жажде к обогащению—
это уже вопрос убежденности, однако посмотрим, не носит ли
подобная убежденность истинно пророческий характер. Наши
удобства, путешествия, неограниченная свобода твердо и спокой-
но, как мы того пожелаем, следовать установлениям, родившимся
из наших понятий,—все это способствует возникновению склон-
ности более свободно обращаться к самим идеям, обсуждать их,
проникать в их суть. Появятся проблески любопытства—в
иноязычном смысле этого слова, и именно из любопытства
критика должна извлечь пользу. Сначала она, потом—когда та
завершит свое дело—истинное созидание, которое, как я уже
отметил, неизбежно следует за периодом критики. Чрезвычайно
важно ясно представить, каким принципом следует руководство-
ваться английской критике, чтобы воспользоваться открывающи-
мися перед ней возможностями и заложить основы для буду-
щего. Этот принцип можно определить одним словом—
беспристрастность. Как критике остаться беспристрастной?
Держаться в отдалении от того, что мы называем «практическим
взглядом на вещи», неукоснительно следовать закону своей
собственной природы, который состоит в том, чтобы давать
простор мысли, чего бы она ни коснулась. Никогда не руковод-
ствоваться вторичными, политическими и практическими сообра-
жениями—чересчур многие склонны подчинять идеи этим сообра-
жениям; может быть, так оно и следует подчинять, у нас, во
всяком случае, идеи подчиняют сиюминутным соображениям
предостаточно, но это не имеет ничего общего с критикой. Ее
118
дело, как я уже отмечал, просто изучать лучшее из того, что уже
известно или осмыслено, и в свою очередь распространять знания,
создавать обмен верных и свежих идей. Она должна заниматься
этим честно и на достойном уровне. На этом роль критики
кончается, она не должна принимать в расчет вопросы осуще-
ствления идей и практических последствий, вопросы, о которых
позаботятся и без нее. Иначе критика—помимо того, что она
изменит своей природе,— будет тащиться по заезженной колее,
как это было у нас до сих пор, и упустит предоставившуюся ей
возможность. Что сейчас мешает нашей критике? Ее сдерживают
и душат именно практические соображения. Критика не служит
своим собственным интересам. Наши издания принадлежат людям
и партиям и должны служить практическим целям. Так как люди
и партии держат практические цели на первом месте, а умствен-
ные интересы на втором, то простора для мысли в них ровно
столько, сколько нужно для достижения практических целей. У
нас нет изданий типа «Revue des Deux Mondes», можно сказать,
рупора свободной игры интеллекта, ставящего себе целью понять
и распространять лучшее из того, что известно и осмысленно в
мире. Зато у нас есть «Эдинбургское обозрение», орган старых
вигов, однако и свободной игры интеллекта там ровно столько,
сколько потребно, чтобы быть таковым; у нас есть «Трехмесячное
обозрение», орган тори, и свободной игры интеллекта там ровно
столько, сколько потребно, чтобы быть таковым; у нас есть
«Британское трехмесячное обозрение», орган политической оппо-
зиции, и свободной игры интеллекта там ровно столько, сколько
потребно, чтобы быть таковым; у нас есть «Тайме», орган
среднего, довольного собой, обеспеченного англичанина, и свобод-
ной игры интеллекта там ровно столько, сколько потребно, чтобы
быть таковым. Можно перечислять все разнообразные политиче-
ские и религиозные группировки в нашем обществе; каждый
имеет свой критический орган, но идея объединить эти издания
ради общего блага—свободной, беспристрастной игры интеллек-
та—не встречает поддержки. Попросту говоря, игре интеллекта
недостает простора; стоит ей хоть немного освободиться от
давления практических соображений, ее тут же приструнивают,
дают почувствовать цепи. На днях мы видели печальный тому
пример—достойное всяческого сожаления прекращение выхода
«Национального и зарубежного обозрения».* Наверное, никакое
другое критическое издание не обладало у нас такой образованно-
стью, таким полетом живой мысли, но это его не спасло,
«Дублинское обозрение» подчиняет игру интеллекта практическим
заботам английского и ирландского католицизма и благополучно
здравствует. По всей вероятности, иначе и быть не может—люди
объединяются в группировки и партии, каждая из этих группиро-
вок и партий имеет свое издание, служащее интересам этой
партии. Но было бы совсем неплохо, существуй еще и критика,не
пропагандист и не противник чьих-то интересов, а целиком и
полностью независимая от них. Только такая критика может
приобрести достаточный вес и приблизиться к конечной цели—
создавать обмен верных и свежих идей. Наша критика так
неуверенно чувствовала себя в чисто интеллектуальной сфере, так
119
слабо обособлялась от практики, была так пристрастна и полемич-
на, что плохо выполняла свою высшую духовную задачу, которая
заключается в том, чтобы уберечь человека от вульгарного,
отупляющего самодовольства, чтобы вести человека к совершен-
ству, побуждая его задуматься над прекрасным, над совершен-
ством, над сообразностью общего порядка вещей. В полемическом
запале практической критики люди не видят полнейшее несовер-
шенство собственной практической деятельности и усердно дока-
зывают обратное, чтобы лучше оградить ее от нападок, и это
губительно сказывается на них самих. Если б они чувствовали
себя увереннее в практических вопросах, то это могло бы
натолкнуть их на размышления о духовном совершенстве и их
духовные горизонты постепенно становились бы шире. Сэр
Чарльз Эддерли сказал, обращаясь к уорикширским фермерам:
«Говорят об улучшении породы. Лучшая порода в мире—это
раса, которую представляем мы сами, все мужчины и женщины,
старая англосаксонская раса. Суровый климат, затянутое облака-
ми небо, небогатая природа нашей страны родили сильных людей,
поставили нас выше всех остальных». М-р Робак обратился к
ножевщикам Шеффилда со следующими словами: «Я смотрю
вокруг и задаюсь вопросом о положении в Англии. Разве
кто-нибудь угрожает нашей собственности? Разве каждый не
может высказать то, что думает? Разве нельзя в полнейшей
безопасности пройти всю Англию из конца в конец? Где еще в
мире есть что-нибудь подобное, было ли такое вообще в истории?
Нигде и не было. Молю, чтобы мы как можно дольше наслажда-
лись нашим невиданным благоденствием». Мы еще не ступаем по
площадям Небесного града, и потому такое восторженное самолю-
бование таит в себе опасность для слабой человеческой природы.
Das wenige verschwindet leicht dem Blicke
Der vorwarts sieht, wie viel noch iibrig bleibt,—
говорит Гёте. В вольном переводе это означает: «То малое, что
мы сделали, кажется ничем, когда посмотришь вперед и увидишь,
сколько еще предстоит сделать». Разве это не лучшее направление
мыслей, пока слабое человечество пребывает в земной юдоли
трудов и испытаний?
Не то чтобы сэр Чарльз Эддерли и мистер Робак по натуре
неспособны рассуждать здраво, им просто некогда задуматься
из-за разноголосицы мнений, которыми мы все живем, и сугубо
практического оборота, который принимают наши мысли. Перед
ними противник, чья цель отнюдь не идеальна, и, ревностно
отстаивая свою практику от нападок новаторов, они доходят до
того, что объявляют ее идеальной. Кто-то предлагает ввести
имущественный ценз в шесть фунтов при голосовании, отменить
церковный налог, или ввести обязательную сельскохозяйственную
статистику, или урезать права местного самоуправления. Как
естественно в ответ на эти предложения—вполне вероятно, что
негодные и несвоевременные,— взять тоном повыше и решительно
1 Как мало пройдено, когда мы видим,
Как долог путь, лежащий впереди {нем).
120
заявить: «Наша порода выше всех остальных. Старая англосак-
сонская раса—лучшая в мире! Молю, чтобы мы как можно
дольше наслаждались нашим невиданным благоденствием. Где еще
в мире есть что-нибудь подобное, было ли такое вообще в
истории?» И пока критика будет откликаться на эти дифирамбы,
настаивая, что древняя англосаксонская раса превосходила бы все
остальные еще более, не существуй церковного налога, что
благодаря шестифунтовому имущественному цензу при голосова-
нии мы наслаждались бы нашим невиданным благоденствием еще
долее, до тех пор голоса «Лучшая порода во всем мире!» будут
звучать громче и громче, и обе стороны, потеряв из виду все
утонченное и идеальное, замкнутся в абсолютно безжизненной
сфере, где невозможно никакое духовное развитие. Пусть критика
оставит в покое церковный налог и имущественный ценз и самым
чистосердечным образом, без единой мысли о нововведениях
противопоставит дифирамбам заметку, которую я нашел в одной
газете сразу же после знакомства с выступлением мистера
Робака. «В Ноттингеме совершено отвратительное детоубийство.
Молодая женщина по фамилии Рэгг утром в субботу сбежала из
работного дома вместе со своим незаконнорожденным ребенком.
Ребенок вскоре был найден на Мэпперли Хиллз задушенным
насмерть. Рэгг находится под стражей».
Только и всего; но до чего красноречивы эти скупые строки в
сравнении с панегириками сэра Чарльза Эддерли и мистера
Робака, на какие печальные размышления они наводят! «Лучшая
во всем мире старая англосаксонская порода!» — сколько жесто-
кого и уродливого в этой лучшей породе. Рэгг!1 Говорим об
идеальном совершенстве, а задумался ли кто-нибудь над тем,
какие грубые черты нашей нации, какой ужасный изначальный
изъян в нашем духовном складе обнаруживает распространение
среди нас таких чудовищных имен, как Хиггинботэм, Стиггинс,
Багг! Жителям Ионии и Аттики повезло в этом отношении куда
больше, чем представителям «лучшей расы», и на берегах Илис-
са не было бедняжки Рэгг! «Наше невиданное благоденствие» —
сколько жестокого, нищенского, гнусного вторгается в наше
благоденствие и коверкает его: работный дом, угрюмые Мэпперли
Хиллз—тот, кто побывал там, надолго запомнит их—мрак, дым,
холод, задушенный незаконнорожденный ребенок. «Где еще в
мире есть что-нибудь подобное, было ли вообще такое в истории?»
Хочется ответить: нет и не было, и уж во всяком случае не стоит
сожалеть об этом. И последний штрих—мелкий, жуткий, бесче-
ловечный: Рэгг находится под стражей. В неразберихе нашего
невиданного благоденствия мы забыли, что Рэгг—женщина, а
также—стоит ли говорить о такой мелочи?—со всей мощью
нашей старой англосаксонской породы мы отсекли у человека,
как какое-то излишество, христианское имя.
Человеческий дух извлекает пользу из таких контрастов,
критика служит делу совершенствования, выявляя их. Избегая
бесплодных конфликтов, уходя из круга, где ценятся только узкие
и относительные понятия, критика может утратить кое-что от
1 Лохмотья (англ.).
121
своей сиюминутной значимости, зато она получит доступ к более
широким и совершенным понятиям, перед которыми находится в
долгу. Мистер Робак пренебрежет оппонентом, который в ответ
на напыщенные речи только и пробормочет себе под нос: «Рэгг
находится под стражей». Но никаким другим образом не избавить-
ся от преувеличений и высокомерия, не склонить мистера Робака
к сдержанности, не заставить его взять более спокойный и вер-
ный тон.
Скажут, что я предлагаю слишком сложные, слишком опосре-
дованные принципы критической деятельности, что,покидая сферу
практической жизни и погружаясь на манер индусов в созерца-
тельность, критика обрекает себя на медленную незаметную
работу. Может быть, она действительно незаметна и медленна, но
это единственная подобающая критике работа. Большинство
человечества никогда не горело желанием видеть вещи такими,
какие они есть на самом деле, люди всегда будут довольствоваться
неполноценными идеями. На неполноценных идеях по необходимо-
сти вертится вся человеческая деятельность. Это означает, что
всякий, кто ставит себе целью видеть вещи такими, как они есть,
окажется в очень узком кругу—кругу единомышленников. Но
только благодаря решительной работе этого узкого круга людей
полноценные идеи вообще могут получить хождение. Шумный
поток практической жизни ошеломляет и притягивает даже
самого невозмутимого наблюдателя, увлекая его в свои водоворо-
ты—тем более там, где практическая жизнь бьет ключом, как в
Англии. Однако лишь сохраняя невозмутимость, не вставая на
точку зрения практического человека, критик может сослужить
службу последнему; и лишь искренне следуя своим путем, сумев
убедить даже практиков в своей искренности, критик избежит
недоразумений, которые постоянно ему угрожают.
Практический человек не склонен проводить тонкие различия
между вещами и явлениями, между тем именно в тонких различи-
ях проявляются истина и высокая культура. Практического
человека невозможно убедить в чем бы то ни было, пока не
успокоишь его относительно своих собственных практических
намерений. Трудно, очень трудно убедить практика в том, что
явление, которое он привык видеть с одной стороны, которое он
бесконечно ценит и которое, может быть, действительно заслужи-
вает всяческих похвал и восхищения, если смотреть на него
только с этой стороны, может оказаться не столь полезным и
прекрасным, если посмотреть на него с другой, хотя при этом оно
и сохранит в глазах практиков свои притягательные качества. Как
найти достаточно бесхитростный язык, как доказать безупречную
чистоту наших намерений, дабы иметь возможность во всеуслы-
шание заявить, что даже британская Конституция, которая с
практической точки зрения выглядит замечательным феноменом
прогресса и нравственности, предстает совсем в ином свете, если
посмотреть на нее с отвлеченной точки зрения? Когда в нашей
священной Конституции видишь компромиссы, мелочную привер-
женность к фактам, ужас перед теорией, нарочитое отсутствие
четких определений, то она кажется—да простит мне тень лорда
Соммерса!—огромной машиной для выделывания филистеров.
122
Как Коббету, опаленному порохом многих политических битв,
сказать такое англичанину—политическому животному—и быть
понятым? Что делать мистеру Карлейлю, чтобы его поняли
после опубликования «Современных памфлетов»? А каково мисте-
ру Рескину с его воинствующей политической экономией? Я
утверждаю, что критик должен держаться подальше от непосред-
ственной практики в политической, социальной и гуманитарной
сфере, если он хочет взяться за свободное, отвлеченное изучение
предметов и явлений, тогда он может в свое время внести
определенный вклад даже в эту сферу, но естественным, прису-
щим только ему образом, и потому убедительно.
Как бы ни был критик осмотрителен, его чаще всего будет
встречать непонимание, особенно в нашей стране. Люди у нас
неспособны усвоить, что без свободного, беспристрастного изуче-
ния предметов и явлений немыслимо достичь истины и высот
культуры. Они так погружены в практическую жизнь, так
привыкли черпать оттуда все представления, что склонны думать,
будто ход самой жизни приведет нас к истине и высотам культуры
и что думать иначе—вздорное оригинальничание. «Все мы—
terrae filii—земные люди,—воскликнет какой-нибудь красноречи-
вый ревнитель.—Все обыватели. У нас свои понятия о жизни,
других нам знать не нужно. Давайте развернем общественное
движение, организуемся, сколотим партию, чтобы набраться
новых знаний и достичь истины, и назовем партию либеральной,
давайте держаться вместе и поддерживать друг друга. И чтобы
никакой чепухи вроде независимой критики, интеллектуальных
тонкостей, рассуждений о немногих избранных и толпе. Зачем
нам какие-то иностранные идеи, мы сами все изобретем по ходу
деда. Если кто-нибудь из нас скажет правильные вещи, похлопаем
ему, если кто-нибудь сморозит глупость, тоже похлопаем: мы ведь
все принадлежим к единому движению, все либералы, все ищем
правду». В таком случае искание Правды превращается в много-
людное приятное времяпрепровождение—тут, пожалуй, будет и
председатель, и секретарь, и реклама, и всеобщее оживление
вокруг вспыхнувшего ненароком скандала, и крохотное разномыс-
лие, чтобы испытать радость от преодоленных трудностей, но в
общем—много щума и мало мысли. Как просто делать, как
трудно думать!—заметил Гёте. Критика подстерегает множество
искушений поддаться общему движению, примкнуть к партии,
стать одним из terrae filii—отказаться неприлично, смотрите,
сколько почтенных людей принадлежит к terrae filii. Но долг
критика в том, чтобы отказаться, а если его сопротивление
тщетно, то он по крайней мере должен воскликнуть вслед за
Оберманном: Perrisons en resistant1.
Я сам имел возможность испытать всю трудность сопротивле-
ния, когда несколько времени назад рискнул подвергнуть критике
знаменитый первый том епископа Коленсо2. Я й сейчас время от
1 Погибаем, но не сдаемся (франц.).
2 Моя нелюбовь к личным нападкам и контроверзам настолько искренна, что я
воздерживаюсь перепечатывать заметки, содержащие критику книги д-ра Коленсо,
хотя немало времени прошло с того момента, когда возник повод для этой критики.
Однако после всего, что произошло, я чувствую себя обязанным заявить
123
времени слышу вокруг себя отголоски поднявшейся тогда бури.
Она разыгралась из-за недоразумения почти что неизбежного.
Требуется немалая умственная культура, дабы ясно понимать, что
наука и религия — это две совершенно различные области. Боль-
шинство же постоянно смешивают их, но, к счастью, это не имеет
особого значения, потому что большинство в действительности
живет настоящей религией, хотя и воображает, что живет ложной
наукой. В первом томе д-р Коленсо* сделал все, чтобы усугубить
эту путаницу и превратить ее в опасное заблуждение1. Я охотно
допускаю, что он действовал из лучших побуждений и в полней-
шем неведении относительно результатов того, что он делает. Но,
как говорит Жубер, «невежество в области моральной оправдыва-
ет преступление, но в интеллектуальной само является тягчайшим
преступлением». Я критиковал умозрительную путаницу д-ра
Коленсо. И тут же поднялся крик: «Что такое? Либерал нападает
на либерала! Разве автор не принадлежит к тому же движению?
Разве он не поборник правды? Разве епископ Коленсо тоже не
ищет правду? Поэтому соблаговолите отзываться о его книге
уважительно. Вот д-р Стэнли тоже поборник правды, и вы
отзываетесь о его книге уважительно. Зачем такое оскорбитель-
ное разграничение? Обе книги великолепны, превосходны, либе-
ральны, тем более книга епископа Коленсо, потому что она
смелее и принесет большую практическую выгоду либеральному
делу. Неужели вы хотите поощрить к нападкам на собрата-
либерала его, наших и ваших непримиримых врагов — «Церковное
и государственное обозрение» и «Хронику», этих англиканских
носорогов и евангелических гиен? Поэтому помолчите, или нет,
говорите, говорите как можно громче, восторгайтесь...»
Критика не имеет права быть грубой и неразборчивой. К
сожалению, бывает, что человек, ищущий истийу, напишет книгу,
которая основана на ложной концепции. Даже практическая
выгода от книги в глазах настоящего критика ничего не говорит в
ее пользу, если книга ошибочна по высшему счету. На наших
глазах одна дама, тоже ищущая истину, обладающая недюжинны-
ми сочинительскими способностями, правда, немного злоупотреб-
ляющая ими, очевидно, под воздействием практического духа
английского либерального движения,—так вот эта дама в своем
обзоре религиозной жизни Европы расценивает книги епископа
Коленсо и мсье Ренана как явления одного порядка, как работы,
имеющие «огромное значение», написанные «с большим талантом,
силой и искусством», причем книга епископа Коленсо ставится,
пожалуй, выше — во всяком случае мисс Кобб специально указы-
вает, что испытала чувство благодарности за то, что епископу
чистосердечно и окончательно: я нисколько не раскаиваюсь в том, что напечатал
заметки. Больше того, я не могу удержаться и не повторить ради блага д-ра
Коленсо и его читателей одну фразу из тогдашних моих рассуждений: «Есть
правда науки и правда религии, и правда науки не станет правдой религии, пока ее
не сделать религиозной правдой». И я хочу добавить следующее: пусть люди науки
преподают нам науку, а люди религии — религию.
1 Утверждалось, что я «совершил преступление против литературной критики
и культуры вообще, пытаясь просветить невежд». Надо ли указывать, что невежд
не просветить, если потакать их заблуждениям.
124
Коленсо «даны силы постичь и мужество преподать столь
глубокие истины». В том же духе высказывались некоторые
авторы популярных изданий, сравнивая епископа Коленсо с
Лютером. Как раз неверных, преувеличенных оценок такого рода
и обязана избегать, по-моему, критика. Наиболее весомым доказа-
тельством угасания критического духа в Англии служит самый
факт шумного успеха книги епископа Коленсо у нас, причем в то
время, когда в религиозной литературе Германии большим успе-
хом пользуется работа доктора Штрауса, а во Франции—мсье
Ренана. Книга епископа Коленсо основывается на полнейшем
непонимании существенных элементов проблемы религии—в том
виде, как она стоит сейчас. Поэтому книга, пусть написанная из
благих побуждений, не представляет решительно никакой ценно-
сти для критики, которая стремится овладеть самыми достойными
знаниями и мыслями по данному предмету. Что до книги мсье
Ренана, то в ней предпринята попытка нового синтеза сюжетов
Четвероевангелия. Попытка, по-моему, преждевременная, может
быть, вообще неосуществимая, но определенно неудавшаяся. Во
всяком случае, приходится пока соглашаться с высказыванием
Флери относительно переделок евангельского предания: «Quicon-
que s'imagine la pouvoir mieux ecrire, ne l'entend pas» К В сущности,
мсье Ренан сам вынес приговор своей работе, когда в предвидении
критики сказал: «Если бы мне предложили новую версию лично-
сти Христа, я отверг бы ее; в самой ясности этой версии
заключалось бы доказательство ее несостоятельности». Его
друзья могут справедливо возразить, что после того, как мсье
Ренан самолично увидел Святую землю и те места, где разворачи-
валось событие, легшее в основу евангельского предания, его
мысли могли принять иное направление и предание облеклось бы в
другие формы, что в данном случае следует вспомнить цицеронову
максиму: «Hemodoctus unquam mutationem consilii in constantiam
dixit esse»2—передумать не значит быть непоследовательным.
Однако с точки зрения критики, первоначальная версия мсье
Ренана более верна, так как новая переработка не так захватыва-
ет, не так находит нас, если воспользоваться удачным высказы-
ванием Кольриджа о Библии. И тем не менее попытка мсье Ренана
важна и представляет реальный интерес—так, при всех трудно-
стях предмета автор предлагает новый синтез сведений, содержа-
щихся в Новом завете, а не просто ополчается на них подобно
Вольтеру, не сбрасывает их со счета, как повелось в обществе, но
воздвигает на них новое здание, смотрит на них с новой,
нетрадиционной, непривычной точки зрения, а именно в этом и
состоит суть проблемы религии, как она стоит теперь, и только
работая в этом направлении можно* решить ее.
В том же духе, с каким она рассыпается в похвалах епископу
Коленсо, вслед за множеством других глубокомысленных либера-
лов среди нашей расы и в Америке мисс Кобб мужественно
принимается воссоздавать религию будущего или по крайней мере
1 «Тот, кто воображает, что может написать лучше, не чувствует его» {франц.).
2 «Ни один мудрец не скажет, что перемена решения есть непоследователь-
ность» (лат.).
125
исполнена решимости сделать это. Мы не должны довольствовать-
ся негативной критикой, говорит она и ей подобные, мы должны
быть позитивны и конструктивны. Отсюда обилие таких работ,
как ее недавний «Религиозный долг» и сочинения других авторов,
более значительные, всем памятные. Они часто хорошо написаны,
их авторами движут убеждения и искреннее желание принести
пользу людям, и не исключено, что им удастся принести пользу.
Однако их недостаток в том, что они имеют нечто общее, если
позволительно такое сравнение, с Британским лечебным коллед-
жем, что на Нью-роуд. Всякий знает Британский лечебный
колледж—это внушительное здание с фигурами льва и богини
здоровья на фасаде (я не вполне уверен насчет богини здоровья,
хотя убежден, что лев—это лев). Здание делает честь возможно-
стям доктора Моррисона и его учеников, но никак не отвечает
представлениям о том, каким должен быть Британский лечебный
колледж. У нас преклоняются перед личной предприимчивостью и
болезненно относятся к вмешательству со стороны общества—
потому-то в Англии полно таких учреждений: громкая вывеска, за
которой ничего нет. Они делают честь личной инициативе, но, к
сожалению, портят наши вкусы, ибо мы забываем о том, каким
действительно величественным, благородным и прекрасным долж-
но быть общественное учреждение. То же самое можно сказать о
религиях будущего, которые сочиняют мисс Кобб и другие. Как и
Британский лечебный колледж, они делают честь своим авторам,
но из-за них мы забываем, какими действительно величественны-
ми, благородными и прекрасными должны быть религиозные
произведения. Исторически существующие религии при всех их
недостатках обладали такими качествами, ими должно быть
пронизано всякое истинное религиозное чувство, и мы обедним
наш дух, если примем религию будущего без них. Как же
действовать критике в таком случае? Встать на практическую
точку зрения и рукоплескать либеральному движению и его
успехам ради пользы общего дела, не отвергая помпезных
настроений религий будущего? Никоим образом. Напротив, снова
и снова выражать неудовлетворенность такими сочинениями, пока
они не приблизятся'к идеалу.
Все это элементарные принципы критики, но им никогда не
быть в чести. У нас в стране им почти не следуют, и критик
наталкивается на огромные препятствия. Вот почему надо снова и
снова утверждать эти принципы. Критика должна быть независи-
мой от практического духа и его целей. Ее не должны удовлетво-
рять даже те практические усилия, которые делаются из самых
лучших побуждений, если они обедняют и ограничивают идеаль-
ную сферу. Критика не должна спешить к цели только потому,
что эта цель имеет практическое'значение. Критика должна быть
терпеливой, должна научиться ждать, должна быть гибкой и
уметь примкнуть к чему-то и вовремя отойти. Она должна
различать и поддерживать тенденции, которые способствуют
полноте духовного совершенствования, даже если они исходят от
силы, которая в практической сфере приносит вред. Она должна
видеть духовную недостаточность и распознавать иллюзорность
тех сил, которые благотворны в практической сфере. И делать
126
это, не отдавая предпочтение ни одной силе и не сталкивая их в
практической сфере друг с другом. Когда посмотришь, например,
на Английский бракоразводный суд, то видишь учреждение,
имеющее, вероятно, определенное удобство в практическом отно-
шении, но до чего же чудовищное в отвлеченно-нравственном: оно
не запрещает развод, но и не делает процедуру пристойной, оно
позволяет мужу избавиться от жены или жене от мужа, но
сначала вынуждает их пройти невыразимый позор и бесчестье,—
так вот, когда посмотришь на это милое учрежденьице с его
переполненными залами, газетными сплетнями и денежными
тяжбами, учрежденьице, на котором словно запечатлелся несрав-
ненный образ неисправимо вульгарного Британского филистера,
то позволительно задуматься, нет ли в брачной доктрине католи-
цизма и в самом деле чего-то облагораживающего. Или же когда
протестантизм в силу своих якобы рациональных и интеллекту-
альных основ ставит критике чрезмерно жесткие правила, критика
может и должна напомнить, что домогательства протестантизма
ни на чем не основаны и вредны, что движение Реформации
носило скорее этический, нежели интеллектуальный характер, что
Лютерова доктрина благодати столько же отвечает требованиям
духа, сколько и философия истории у Боссюэ, а круг идей
епископа из Дарема* согласуется с чистым разумом не больше,
чем у папы Пия IX. Однако это не дает критике право забывать о
положительной роли протестантизма в практической и моральной
сферах и о том, что даже в интеллектуальной сфере он, пусть
неверно, оступаясь, продолжал традиции Ренессанса, тогда как
католицизм буквально лег у него на пути.
Недавно я слышал, как один рассудительный и энергичный
человек сравнивал недостаток энтузиазма, отсутствие какого-то
общего дела у молодежи в нашей стране с тем, что было во
времена его молодости двадцать лет назад. «Какими реформатора-
ми мы были тогда!—восклицал он.— Сколько страсти, горения. А
наши споры! Не было такого установления церкви и государства,
которое мы не хотели бы переделать!» Нынешнее затишье он с
сожалением расценивал как духовный упадок. Я же склонен
видеть в этом затишье начавшийся поворот к новому этапу
духовного прогресса. Долгое время самые молодые и горячие
среди нас рассматривали явления сквозь призму политики и
практических дел. Мы увидели все, что можно было увидеть, и
исчерпали возможность такого подхода. Давайте же испробуем
теперь менее пристрастный взгляд на вещи, давайте обратимся к
безмятежной жизни ума и духа. Там тоже есть свои опасности, но
они нам пока не угрожают. Давайте позаботимся о том, чтобы
спокойно пополнять наш запас новых и верных идей, а не бежать
на площадь с первой пришедшей в голову мыслишкой, пытаясь
выдать ее за общее правило. В конце концов наши идеи помогут
миру в его развитии. Может быть, лет через пятьдесят ненормаль-
ность в деятельности какого-либо учреждения будет считаться
недостатком в палате общин, и тогда мой знакомый парламента-
рий перевернется в гробу. Тем временем давайте попытаемся
сделать так, чтобы в английской литературе абсурдность катего-
рического утверждения считалась недостатком и вызывала несог-
127
ласие через двадцать лет. Трудно даже вообразить, что перемены
произойдут так быстро. Ab integro saeclorum nascitur ordo1.
Если я чрезмерно долго говорил о позиции критики в отноше-
нии политики и религии, то потому, что именно в этих жгучих
вопросах она чаще всего рискует сбиться с пути. Более же всего
мне хотелось подчеркнуть подход критики к явлениям вообще,
необходимость верного тона и взвешенных суждений. Теперь
возникает также вопрос, каковы же, собственно, предмет и
материал литературной критики. Здесь, как и всюду, ее линия
поведения определяется законом ее бытия, законом, который
повелевает беспристрастно изучать лучшее из того, что известно
и осмыслено в мире, и помогать тем самым обмену свежими и
верными идеями. Англия—еще не весь мир, и естественно, что
немало из того лучшего, что известно и осмыслено в мире,
рождается не в Англии, а за границей, и естественно, что именно
это мы знаем хуже всего, тогда как английские идеи осаждают
нас со всех сторон, отнюдь не давая забыть об их существовании.
Поэтому английский литературный критик должен сосредоточить-
ся на иностранной мысли, уделив особое внимание той ее части,
которая по тем или иным причинам может ускользнуть от него,
хотя сама по себе является важной и плодотворной.
Часто говорят, что дело критика—вынести суждение; в
известном смысле, так оно и есть. Но ценно лишь то суждение,
которое ненавязчиво формируется в ясном и справедливом уме
наравне с новым знанием, и, следовательно, знание, постоянное
овладение новыми знаниями есть первейшая забота критика.
Критик окажет лучшую услугу читателю, если сообщит ему
новые сведения и лишь потом выскажет ему свое суждение, но
ненавязчиво, во вторую очередь, как своего рода сопровождение и
совет, а не абстрактное указание. Иногда, правда, определяя
место писателя в литературе и сопоставляя его произведения с
образцами, критика имеет дело с содержанием настолько знако-
мым, что сообщать сведения не нужно, и тогда ему остается
суждение, формулировка принципов и последовательное примене-
ние их. При этом есть опасность уйти в абстракции, и лучший
способ избежать их—все время сохранять живое, непосредствен-
ное ощущение правдивости того, о чем пишешь; как только это
ощущение пропадает, значит, что-то неладно. Однако при всех
обстоятельствах рассуждение и применение принципов сами по
себе—не очень благодарная работа для критика; как и математи-
ка, она тавтологична и не может дать радости созидательной
деятельности, которая приходит только с новым знанием.
Позвольте, могут возразить мне, все ваши рассуждения ничего
не стоят; говоря о критике, мы имеем в виду нечто другое: когда
мы говорим о критике и критиках, мы имеем в виду критику
текущей, сегодняшней английской литературы; вы толкуете о
роли критики вообще, так адресуйтесь именно к ней. Мне очень
жаль, но боюсь, что я не оправдаю этих ожиданий. Я связан
моим же определением критики: беспристрастное изучение и
Перемены рождаются долго (лат.).
128
распространение лучшего из того, что известно и осмыслено в
мире. Много ли в текущей английской литературе произведений,
которые принадлежат тому «лучшему, что известно и осмыслено
в мире?» Боюсь, что немного, гораздо меньше, чем в текущей
литературе Франции цли Германии. Что же, может быть, мне
пересмотреть определение критики, дабы угодить некоторым
пищущим английским критикам, которые, что ни говори, вольны
выбирать свои занятия? Но это означало бы подчинить критику
тем самым чуждым им практическим соображениям, о которых я
говорил. Критикам, кто имеет дело с массой сегодняшней англий-
ской литературы—хотя ее следовало бы вообще игнорировать,—
можно посоветовать поверять ее, насколько это возможно, образ-
цами того лучшего, что известно и осмыслено в мире; что для
распознания этих образцов критик должен постараться овладеть
одной большой литературой, помимо отечественной, при этом чем
более она непохожа, на нашу, тем лучше. Но в конечном счете
меня интересует критика, подготовляющая нас для будущего, та,
которую единственно имеют в виду сейчас, когда повсюду в
Европе столь большое значение придается критическому духу, В
интересах интеллектуального и духовного развития такая критика
рассматривает Европу как одну большую конфедерацию, где все
члены, вооружившись знаниями древних культур Греции, Рима и
Востока, а также знаниями друг о друге, объединяют усилия ради
достижения общей цели. Наибольшего прогресса в интеллектуаль-
ной и духовной сфере добьется та современная нация, которая,
пренебрегая частными, местными, временными преимуществами,
неуклонно выполняет эту программу. Но разве это не означает,
что и мы тоже, каждый из нас добьется тем большего, чем
тщательнее будет следовать ей?
Как много дел ожидает нас! Какое выбрать, какое даст пищу
уму, поддержит наше стремление к совершенству? На этот вопрос
и должен дать ответ критик сначала себе, а потом другим,
оглядывая раскинувшиеся перед ним необозримые пространства
жизни и литературы. Из такого представления о задачах критики
и возникли собранные в этой книге заметки; в таком представле-
нии и заключено единство этих заметок, сколько бы они ни
разнились с предметом.
Я закончу тем, с чего начал: испытывать чувство созидания—
это величайшее счастье и величайшее доказательство того, что
человек живет. Оно доступно и критику. Но для этого критика
должна быть искренней, простой, гибкой, пытливой, постоянно
расширяющей умственный горизонт пишущего. Тогда критик в
немалой степени познает радость созидания, которое проницатель-
ный и совестливый человек предпочтет посредственному, пустому,
неполноценному творчеству. Бывают времена, когда иное просто
невозможно.
И все-таки в полной мере радость созидания присуща только
истинному творчеству. В литературе нельзя забывать об этом. Но
какой настоящий писатель об этом забудет! Не каждый день
одаренная натура овладевает верными, живительными идеями и
творит, вдохновляясь ими, так что мы можем оценить незауряд-
ное явление по достоинству. Оглядываясь на эпохи Эсхила и
5-2389
129
Шекспира, мы чувствуем их величие. В такие эпохи литература
живет истинной жизнью. Там—обетованная земля, и критика
может лишь звать туда. Нам не дано ступить на обетованную
землю, мы умрем в пустыне. Но стремиться попасть в обетован-
ную землю, издали поклониться ей—значит подняться над совре-
менниками и непременно заслужить уважение потомков.
О. УАЙЛЬД
КРИТИК КАК ХУДОЖНИК
Часть первая
С некоторыми замечаниями о том,
как важно ничего не делать
Действующие лица: Джилберт, Эрнест
Место действия: Библиотека в особняке на Пиккадилли с
видом на Грин-парк
Джилберт (за фортепьяно): Мой дорогой Эрнест, что вас
насмешило?
Эрнест (отрываясь от чтения): Вступительная глава этого
тома мемуаров, который я нашел у вас на столе.
Джилберт: Покажите-ка. А, я еще не читал. И как?
Эрнест: Я полистал, пока вы играли, и кажется, в общем
недурно, хотя современные мемуары мне обычно не нравятся. Их
все больше пишут люди, у которых либо память слаба, либо
ничего не было особенного, чтобы вспоминать,—впрочем, по
этой-то причине они и пользуются популярностью, ведь англий-
ская публика чувствует себя всего свободнее, когда видит перед
собою какую-нибудь безликость.
Джилберт: О да, снисходительность публики достойна удивле-
ния... Она все готова простить, кроме таланта. Признаюсь,
однако, что люблю всякие мемуары. Меня в них привлекает
форма, точно так же, как и сам рассказ. В литературе неприкры-
тое себялюбие восхитительно. Оно нас зачаровывает в письмах
людей столь разных, как Цицерон и Бальзак, Флобер и Берлиоз,
Байрон и мадам де Севинье. Как ни странно, его встречаешь не
столь уж часто, но, встретив, всегда ему радуешься и нескоро об
этом забываешь. Руссо всегда будут почитать за то, что он
признался в своих грехах не в исповедальне, а перед всем миром,
да и Челлини доставляет нам наслаждение не только своими
бронзовыми спящими нимфами в замке короля Франциска, даже
не одним своим зелено-золотым Персеем, демонстрирующим луне
с флорентийской открытой галереи бездонный страх, который
некогда обратил в камень живую жизнь. Мы точно так же
наслаждаемся и автобиографией этого проходимца, равного кото-
рому не знал Ренессанс, и смакуем этот рассказ о его величии и
его лозоре. Не суть важны мнения пишущего, его нрав, его
успехи. Он может оказаться скептиком наподобие господина де
Монтеня или святым наподобие угрюмого сына Моники* —
главное, чтобы он поведал нам свои секреты, и мы будем им
внимать с благоговением. Я убежден, что не может и не должен
сохраниться воплотившийся в кардинале Ньюмене образ мыслей,
если можно так назвать это отрицание высшего значения мысли
б*
131
как способ разрешить проблемы, волнующие мысль. Тем не менее
нам никогда не прискучит наблюдать, как мечется эта беспокой-
ная душа из одного тупика в другой. Никогда не утратит для нас
своей притягательности пустая церковь в Литлморе, где «утро
дышит парами тумана и прихожане редки», и всякий раз при виде
зацветающего вокруг храма Троицы львиного зева вспоминается
восторженный студент, которому это ежегодное цветение каза-
лось пророческим знаком вечности собственного его единства с
Благостной Матерью его юности — с Верой, и в мудрости своей и
в безумии страдающей от невозможности осуществить самое
себя. О да, очарованию автобиографии противиться невозможно.
До чего глуп, ничтожен, полон тщеславия секретарь Пепис, а ведь и
он проложил себе дорогу в стан Бессмертных, болтая в своей
книге о том 6 сем и памятуя, что достоинства его мемуаров найдут
тем несомненнее, чем меньше скромности и такта он проявит,—
вот он и предстает перед нами в «просторном пурпурном халате с
шитьем и золотыми пуговицами», который ему так нравится
описывать, и, упиваясь сам, приводя и нас в восхищение,
повествует он о голубой нижней юбке индийской работы, приоб-
ретенной им для супруги, о «славных свиных потрохах», о
«превосходном телячьем фрикасе по-французски», которое он так
обожает, и о том, как он играл в шары с Уиллом Джойсом, и как
«любезничал с прелестными дамами», и как декламировал по
воскресеньям «Гамлета», и как пиликал в будни на скрипке, и как
еще, то гнусностью, то пошлостью, заполнял свои дни. Впрочем, и
в обыденной жизни себялюбие не лишено привлекательности.
Когда нам что-то рассказывают не о себе, а о других, обыкновен-
но испытываешь скуку. Но, рассказывая о себе, люди почти
всегда становятся интересными и стали бы просто совершенством,
будь у нас возможность захлопнуть их вроде надоевшей книги.
Эрнест: Оселок* тут бы добавил, что в этом «будь» особенно
много верного. Итак, вы всерьез полагаете, что каждому следова-
ло бы сделаться своим собственным Босуэллом? Но что за судьба
ждет тогда наших прилежных составителей биографий и сборни-
ков воспоминаний!
Джилберт: Стоит ли о них сожалеть! Это ведь всего лишь
трутни, и ничего больше. У всякого выдающегося человека теперь
есть ученики, но биографии всегда пишут иуды.
Эрнест: Помилуйте!
Джилберт: И все же это так. Прежде мы канонизировали
своих героев. Теперь вошло в обычай их вульгаризировать.
Дешевые издания великих книг—это великолепно, но великий
человек выглядит в дешевом издании просто ужасающе.
Эрнест: Простите, Джилберт, в кого вы метите?
Джилберт: Ах, конечно же, во всех наших третьеразрядных
литераторов. Куда нам деваться от всех этих господ, спешащих к
дому почившего поэта или живописца наперегонки с посыльным
из похоронной конторы и забывающих, что их единственная
обязанность—хранить торжественное молчание? Да что о них
толковать! Это же просто гробокопатели от литературы. Один
присваивает себе прах, а другой тлен, душа же им неподвластна.
Давайте я нам. лучше поиграю Шопена, или, может быть, Дворжа-
1»
ка? «Фантазию» Дворжака, хотите? Такая страстная музыка, и
гамма у него такая своеобразная.
Эрнест: Благодарствуйте, пока мне что-то не хочется музыки.
Она слишком уж расплывчата. К тому же вчера я обедал с
баронессой Бернштейн, женщиной во всех отношениях очарова-
тельной, если не считать того, что она все время говорит о
музыке, и так, словно ее записывают не нотами, а немецкими
предложениями. Какое счастье, что музыка, как бы она ни
звучала, ни в малой степени не напоминает германскую речь.
Патриотизм порой выражается в формах просто ужасающих. Нет,
Джилберт, не надо больше играть. Пересаживайтесь и давайте
побеседуем. Будем беседовать, пока в эту комнату не ворвется
белорогий день. В звуке вашего голоса есть нечто замечательное.
Джилберт (вставая): Мне сегодня как-то трудно разговорить-
ся. Как жестоко с вашей стороны смеяться надо мной! Я не шучу!
Где сигареты? Благодарю вас. Обратите внимание, до чего
изящны эти нарциссы по одному в вазе. Словно из янтаря
пополам со слоновой костью. Похожи на работы греков лучшего
периода. Так что вас рассмешило в исповеди этого казнящегося
академика? Расскажите, сделайте милость. После Шопена у меня
такое чувство, как будто я только что рыдал над ошибками и
грехами, в которых неповинен, и трагедиями, не имеющими ко
мне отношения. Музыка всегда на меня так действует. Начинаешь
чувствовать прошлое, о котором не задумывался, и появляется
ощущение печали и горя, прежде не вызывавших ни капли из
глаз. Мне легко вообразить человека, жившего вполне заурядной
жизнью, пока случайно он не услышал какую-нибудь необычную
музыку и вдруг понял, что его душа, сама того не ведая, испытала
ужасные потрясения, переживая радости, и страхи, и безудер-
жные романтические увлечения, и муку добровольного от них
отказа. Так расскажите же, что вы прочли, Эрнест. Мне нужно
отвлечься.
Эрнест: Я только не уверен, что это хоть чуточку заниматель-
но. Мне показалось: вот просто превосходный пример истинной
значимости той художественной критики, к которой мы приучены.
Слушайте же, некая дама вполне серьезно спросила однажды
этого, как вы выразились, кающегося академика, действительно
ли он собственной рукой написал свой знаменитый «Весенний день
в Уайтли» или «В ожидании последнего омнибуса»—ну, что-то в
таком духе.
Джилберт: А он и впрямь писал сам?
Эрнест: Вы неисправимы. И все-таки, серьезно говоря: зачем
нужна художественная критика? Почему не предоставить худож-
ника самому себе, чтобы он создавал, буде к тому стремится,
новый мир или отображал мир, который нам известен и которым,
полагаю, мы бы все пресытились, если бы Искусство, с его
тонким даром отбора и отточенной способностью подмечать
существенное, не очищало для нас этот мир, придавая ему, пусть
на мгновенье, вид совершенства. Мне кажется, воображение
создает—или должно создавать—вокруг себя сферу уединенно-
сти, ибо оно всего привольнее чувствует себя среди молчания и
одиночества. Что за дело художнику до крика и брани критики?
133
Отчего те, кто сами не способны творить, берут на себя смелость
суждения о творчестве? Что они могут об этом знать? Если
созданное художником просто для понимания, объяснения не
нужны...
Джилберт: А если созданное им непонятно, объяснения
преступны.
Эрнест: Я этого не говорил.
Джилберт: Но должны были сказать. В наши дни осталось
мало вещей таинственных, и нельзя позволить, чтобы отбирали
еще одну. Члены Броунинговского общества, подобно теологам из
числа приверженцев широкой церкви или авторов, печатающихся
в Вальтерскоттовской библиотеке великих писателей, как мне
кажется, все свое время тратят на то, чтобы внушить публике
мысль об избранничестве, пока в него никто не перестанет верить.
Мы полагали, что Броунинг был мистик, а нам втолковывают, что
он попросту не умел связно объясниться. Мы воображали себе,
что он стремился нечто скрыть от чужих глаз, а нас уверяют, что
ему почти не с чем было предстать перед публикой. Я говорю
только о его сбивчивых произведениях. А в общем и целом он был
великий человек. К сонму олимпийцев он не принадлежал, но, кик
настоящий титан, во всем был не довершен и несовершенен.
Наблюдательностью он не отличался, а поэтическое вдохновение
посещало его лишь изредка. В его поэзии повсюду чувствуется
борьба с самим собой, усилие и добровольно наложенная узда, и
идет он не от переживания к художественной форме, а от более
или менее определившейся мысли к полному хаосу. И все равно
остается великим. Его называют мыслителем—он и впрямь все
время мыслил, причем все время вслух; впрочем, его влекла не
самая мысль, а ее ход. Ему нравился механизм мышления сам по
себе, а не то, что изготовляется с помощью этого механизма.
Каким образом дурак доходит до своей глупости — это для него
было так же интересно, как обретение высокого ума. И этот вот
замысловатый механизм мысли так его зачаровывал, что к языку
он относился презрительно, в лучшем случае считал его несовер-
шенным средством выражения. Рифма, это причудливое эхо,
разносящееся по склонам холма муз, когда поэт говорит и
слышит в ответ свой же голос; рифма, у настоящего художника
делающаяся более чем вещественным добавлением к метрической
красоте стиха, становящаяся духовным добавлением к выражен-
ной мысли и страсти, так что с нею возникнет, быть может, новое
настроение, или забьет новый источник идей, или—благодаря
самой ее очаровательности и схваченному в ней звуковому
созвучию — откроется златая дверь, в которую тщетно стучалось
Воображение; эта рифма, способная превратить наш простой язык
в речь богов, эта единственная струна, которую мы добавили
греческой лире, У Роберта Броунинга оказывалась странным,
плохо работающим инструментом, порою заставляя его, поэта,
рядиться в костюм низкопробного комедианта и слишком часто
побуждая взнуздывать Пегаса с цинической усмешкой того, кто
не верит в собственное дело. Случаются минуты, когда он глубоко
нас трогает своей скрежещущей музыкой. Если он способен
извлечь музыку, только порвав струны своей лютни, он их рвет.
J34
не колеблясь, и они издают резкие, диссонирующие звуки, так что
никакая афинская цикада, чьи трепетные крылья одним своим
движением рождают мелодию, не вспорхнет на инкрустированную
деку, чтобы придать плавность движению такой музыки и упоря-
дочить интервалы. Все так, но Броунинг был велик, и пусть под
его руками слова превращались в самую обыкновенную глину —
он умел из нее вылепить мужчин и женщин, которые и по сегодня
живы. После Шекспира не было столь шекспировской личности.
Шекспир умел петь миллионами голосов, Броунинг—заикаться на
тысячи ладов- Вот и сейчас, когда я говорю о нем—и не в упрек
ему, а в похвалу,— по этой комнате бродит целый сонм теней,
вызванных в памяти его стихами. Смотрите, вон Фра Липпо
Липпи, и его щека все еще горит от страстного девичьего поцелуя.
А вон страшный Саул, и в его тюрбане сверкают царские
сапфиры, достойные его величия. И Милдред Грешем здесь, и
испанский монах, испепеляемый бушующей в нем ненави-
стью, и Блоутрэм, и Бен Эзра, и епископ св. Праксида. Отродье
Сетебоса что-то бормочет в углу, и Сибальд, заслышав шаги
Пиппы, смотрит прямо в измученные глаза Оттимы, питая
оiвращение к ней, и к собственному греху, и к самому себе.
Бледный словно бесцветный шелк его камзола. король с грустью
наблюдает хитрым взглядом двурушника, кдк слишком ему
преданный Стрэдфорд идет навстречу неотвратимой своей судьбе,
а Андреа вздрагивает, заслышав донесшийся; из сада сигнал,
который подали его двоюродные братья, и приказывает своей
беспорочной жене спуститься к ним. Да, Бррунинг велик. Его
будут вспоминать, но как? Как поэта? Увы, нет. О нем вспомнят
как о творце сюжетов, быть может, самом непревзойденном из
всех рассказчиков, какие у нас были. Никто другой не обладал
таким чувством драматической ситуации, и пусть даже он не умел
разрешать возникавших перед ним самим вопросов—он умел
ставить вопросы, а нужно ли требовать чего-нибудь еще от
художника? Как создатель характеров, он рядом с тем, кто создал
Гамлета. И, преуспей он больше в красноречии, стал бы с ним
вровень. Единственный, кто достоин коснуться края его мантии,—
это Джордж Мередит. Он Броунинг прозы, и, значит, сродни
настоящему Броунингу, который писал стихами то, что должно
было быть выражено прозой.
Эрнест: Отчасти вы правы, но вы сказали не все. И подчас вы
судите пристрастно.
Джилберт: Трудно быть беспристрастным к тому, что лю-
бишь. Вернемся, впрочем, к тому, с чего начали. Так о чем это вы
говорили?
Эрнест: Если чуть упростить, о том, что в лучшие свои дни
искусство прекрасно обходилось без критиков.
Джилберт: Кажется, Эрнест, мне уже приходилось слышать
такое мнение. Оно не без смысла, как всякая ошибка, и наводит
скуку, словно надоевший приятель.
Эрнест: Тем не менее оно справедливо. Да-да, и напрасно вы с
укоризною покачиваете головой. Оно полностью справедливо. В
лучшие дни искусства не было никаких художественных крити-
ков. Из куска мрамора скульптор высекает величественного
135
белоснежного Гермеса, который таился в этой глыбе. Подма-
стерья покрыли статую воском и позолотой, придав ей тон и
завершенность, и, увидев эту работу, пораженный мир немеет от
восхищения. Льется в песчаную форму расплавленная медь, и
красная река металла, остыв, облекает благородные очертания
божественного тела. Невидящие его глаза обретают зрение, когда
на статуе появятся финифть или граненые бриллианты. Локоны,
похожие на гроздья гиацинта, приобретают упругость под ножом
резчика. И когда дитя Лето* устанавливали на пьедестал где-
нибудь в темном, расписанном фресками храме или среди колонн
залитого солнцем портика, прохожие, 8i& XafxitpoTcttov BaivoVTeg
& Bpwaaieepos*, осознавали, что их жизнь чем-то вроде бы стала
легче,— в них пробуждалась мечта, а может быть, странная и
захватывающая радость, и с нею шли они дальше в свои дома, к
своим будням, или же, наоборот, через ворота города уходили к
тем излюбленным нимфами лугам, где юная Федра окунает ступни
в свежий ручей и где они сами, устроившись на мягкой траве под
высокими, шепчущимися под ветром деревьями и цветущими agnus
cactus, задумывались о чуде красоты и испытывали непривычное
им благоговение, которое сковывает уста. В те дни художник был
свободен. Собственными руками набрав глины по речным берегам
и вооружившись простым инструментом из дерева или кости, он
создавал формы столь прекрасные, что их потом отдавали
мертвым в качестве утешения на долгую дорогу, и мы их по сей
день находим в старых гробницах по желтым склонам Танагры
среди поблекшего золота и выцветшей парчи, среди остатков
волос и костей. На свежештукатуренной стене, где пятнами
пылает толченый оранжевый камень, порой смешанный с молоком
и сушеным шафраном, художник изображал путника, устало
шагающего среди пурпурных полей, усеянных белыми головками
асфодели,—того, «в чьих веках тяжесть войн троянских», Полик-
сену,- дочь Приама, или умудренного и хитроумного Одиссея,
накрепко привязанного веревками к мачте своего корабля, чтобы
пение сирен не пропало для него, но и не сбило с пути, и того же
Одиссея на берегах прозрачного Ахерона, где по выложенному
камешками дну мелькают тени рыб, и бегущих от грекоь три
Марафоне персидских солдат в их хитонах и тюрбанах, и талеры в
крохотном Саламинском заливе, столкнувшиеся в разгар боя
своими обитыми медью носами. Он писал заостренной серебряной
палочкой и углем на пергаменте, на специально обработанных
кипарисовых досках. На слоновой кости, на розовой терракоте он
писал воском, разводя его соком олив, а потом погружая в
раствор раскаленное железо, чтобы смесь застыла. Филёнка, и
мрамор, и льняной холст становились чудесным материалом, когда
к ним прикасалась его кисть, а жизнь, видя, как возникает
собственный ее образ, утихомиривалась и замолкала. Она вся
принадлежала художнику—<от рассевшихся кружком на рыночной
площади торговцев до пастуха, завернувшегося в плащ, перед тем
как улечься спать на холме, от нимфы, прячущейся средь листьев
лаврового дерева, и высматривающего ее в полдень фавна, до
Неспешно двигаясь в струях прозрачного воздуха {греч.).
136
царя, которого слуги несли в длинных, затененных зеленью
носилках, установив их на своих натертых маслом плечах, и
обмахивали веерами из павлиньих перьев. Перед ним проходили
мужчины и женщины, чьи лица выражали то довольство, то
печаль. Он вглядывался в них, их тайны становились его
достоянием. Формой и цветом он наново создавал мир.
Все изящные искусства тоже были подвластны ему. Он
подносил камень к вращающемуся кругу—и являлось фиолетово-
аметистовое ложе Адониса, а через складки сардоникса мчалась
со своими псами Артемида. Брусок золота он превращал в розы
для ожерелья или браслета. Из золота выковывал он гирлянду на
шлем победителя, или застежки для финикийской туники, или
маску почившей царственной особы. На оборотной стороне
зеркала из серебра он изображал Фетиду, которую несут наяды,
или томящуюся любовью Федру с ее нянюшкой, или уставшую от
воспоминаний Персефону, которая прикалывает маки к локонам.
Горшечник сидел в своей лачуге, и из бесшумно двигающегося
круга поднималась под его руками, словно цветок розы, прекрас-
ная ваза. Ее основание, стенки и горлышко он украшал, нанося
тонкий абрис листа оливы, или веточку аканта, или растущую и
пенящуюся волну. А потом красными или черными красками
изображал игры и состязания юношей, изображал солдат в
полном боевом облачении с необычными геральдическими знаками
на щитах и особым образом устроенными защитными козырьками
на шлеме — этих воинов, вознесшихся в своих раковинообразных
колесницах над рвущимися вперед конями, изображал пиры богов
и творимые ими чудеса, изображал героев в минуты их торжества
и минуты испытаний. Подчас он тонкими кровавыми линиями по
белому фону изображал томную фигуру жениха и его невесту, а
над ними—парящего Эрота, который напоминает одного из
ангелов Донателло, того, что смеется, покачивая своими крыль-
ями, где позолота смешана с лазурью. На закруглении вазы он
писал имя своего друга KAL02 ALKIBIAAH2 или KAL02
XAPMIAHE1—они поведают нам о тех временах. А по краю
простой белой чашки рисовал оленя, тянущегося к свежей листве
дерева, или отдыхающего льва—что подскажет фантазия. На
крохотной бутылочке для благовоний смеялась причесывающаяся
Афродита, и Дионис с перепачканными суслом ногами плясал по
стенкам кувшина для вина, а вслед ему выстраивались обнажен-
ные торсы менад, и старик Силен растягивался на пропахших
дымом шкурах или потрясал своим волшебным копьем, увенчан-
ным заточенной еловой шишкой или увитым темным плющом. И
никто не докучал художнику, пока он работал. Никто не отрывал
его от дела нудными разглагольствованиями. Никто не лез к нему
со своими мнениями. Арнольд где-то замечает, что на берегах
Илисса не нашлось места для Хиггинботэма*. По этим берегам,
дорогой мой Джилберт, не собирались кретины от искусства,
обучающие провинцию, как ей стать еще провинциальнее, а
всякую серость натаскивающие в умении судить и рядить о
живописи. На этих берегах не находилось прилежных болтунов,
1 Благородный Алкивиад, благородный Хармид (греч.)
137
которые в наших тоскливых художественных журналах делятся
мнениями о том, чего решительно не понимают. По заросшим
камышом берегам этого маленького ручья вы нигде бы не нашли
наших до смешного ничтожных газетчиков, вздумавших монопо-
лизировать право суждения, когда им самое бы время оправды-
ваться на скамье подсудимых. У греков не было художественных
критиков.
Джилберт: Вы великолепны, Эрнест, но ваши мысли ужасно
спутаны. Боюсь, вы говорите со слов кого-то, кто старше вас.
Это дело всегда опасное, и если у вас выработается такая
привычка, вы еще убедитесь, что для независимости интеллекта
она прямо-таки фатальна. Что до современных журналов, не мне
их защищать. Свое право на существование они защитят сами,
сославшись на великий дарвиновский закон выживания вульгар-
нейших. Я же хочу поговорить о литературе.
Эрнест: Но в чем разница между литературой и журналами?
Джилберт: В том, что журналы читать невозможно, а
литературу просто не читают. Только и всего. А вот ваше
утверждение, что у греков не было художественных критиков,—
это абсурд. Вернее было бы сказать, что все греки были
художественными критиками.
Эрнест: Вы шутите?
Джилберт: Ничуть. Мне, впрочем, не хотелось бы разрушать
набросанную вами восхитительную неверную картину отношений
между эллинским художником и интеллектуальными стремлени-
ями его эпохи. Способность точно описать то, чего никогда не
было,—не только истинное призвание историка, но еще и не-
отъемлемое достояние каждого, кто не лишен таланта и культуры.
Еще менее хотелось бы мне вещать в высокопросвещенном стиле.
Таким стилем либо прикрывается невежество, либо возмещается
праздность ума. А то, что принято именовать просветительством,
представляет собой облюбованный безмозглыми филантропами
глупый способ усмирять справедливый гнев обозленных масс.
Полно, давайте-ка я лучше сыграю какую-нибудь безумную,
раскаленную вещицу Дворжака. Эти блеклые фигуры на гобеле-
нах улыбаются нам, а мой бронзовый Нарцисс уже смежил свои
тяжелые веки. Незачем нам о чем-то всерьез дискутировать. Я
слишком хорошо знаю, что в наш век серьезно относятся лишь к
людям бесцветным, и слишком опасаюсь, что когда-нибудь и меня
поймут именно так, как следовало бы. Неужели вы хотите
настолько меня унизить, чтобы я принялся вам сообщать полез-
ные для вас сведения? Образование—замечательное дело, надо
лишь хоть иногда вспоминать о том,, что ничему, что стоит знать,
научить невозможно. Вот через щель в портьерах видна луна,
похожая на сломанную серебряную тарелку. А окружившие ее
звезды вроде позолоченных пчел. И нёбо—твердый, пустой
внутри сапфир. Отправимся в эту ночь. Прекрасна мысль, но еще
прекраснее приключение. Кто знает, вдруг мы повстречаем
Флоризеля, этого принца богемы*, или прелестную кубинку,
которая нам поведает, что она совсем другая, чем кажется.
Эрнест: Вы все гнете свое. Но я настаиваю на том, чтобы мы
вернулись к нашей теме. Вы утверждаете, что все греки были
138
художественными критиками. Так какие образцы этой критики,
они нам оставили?
Джилберт: Мой милый Эрнест, да пусть бы до нас не дошло
ни фрагмента из художественной критики Эллады и времен
эллинизма, все равно осталось бы истиной, что греки были
прирожденными критиками и изобрели саму художественную
критику, как и всякую другую. Ведь чем мы больше всего
обязаны грекам? Доставшимся нам в наследство духом критиче-
ского суждения. Они умели критически судись о вопросах религии
и науки, и эту свою способность распространили на искусство, на
те два высших» и труднейших искусства, относительно которых
они нам оставили самую безупречную систему суждений, какую
знает история;
Эрнест: А что это за два высших и труднейших искусства?
Джилберт: Жизнь и Литература, жизнь и самое совершенное
средство изображения жизни. Что касается первого, принципы,
которыми руководствовались греки, невозможно осуществить в
эпоху, столь изуродованную ложными идеалами, как наша. Что
касается второго, часто их принципы изложены столь тонко, что
мы их едва способны уразуметь. Признавая самым совершенным
из искусств то, которое наиболее полно изображает* человека во
всей его бесконечной изменчивости, они довели умение критиче-
ски воспринимать язык, рассматриваемый только как материал
такого искусства, до того совершенства, которого мы с нашими
градациями рационального и эмоционального едва ли сможем
когда-нибудь достичь,— скажем, ритмику прозы они постигали
столь же точно, как в наши дни постигает музыкант законы
гармонии и контрапункта (надо ли добавлять, что их художествен-
ное чутье оказалось куда более верным). И в этом они были
правы, как правы были всегда и во всем. С тех пор как появилось
книгопечатание и фатальным образом развилось пристрастие к
чтению наших средних и низших сословий, литература все больше
и больше старалась подчиниться потребностям зрения, а потреб-
ностям слуха все меньше и меньше, хотя, если уж говорить о
действительном искусстве» наслаждение оно. должно было достав-
лять именно слуху и всегда руководствоваться его потребностями.
Даже сочинения Пейтера, в общем-то самого совершенного из
ныне живущих мастеров английской прозы, часто напоминают
кусок мозаики куда больше, чем музыкальный пассаж, то и дело
лишаясь истинной и живой ритмики слова, а с нею и той свободы,
того богатства воздействий, которые она создает. Мы и впрямь
превратили литературу в известного рода композицию и относим-
ся к ней как к форме, обладающей некоторыми неочевидными
законами. Греки же рассматривали литературу просто как способ
запечатлеть события. Для них точкой отсчета всегда было
произносимое слово с его музыкой и ритмикой. Средством
выражения был голос, а критиком — слух. Мне иногда кажется,
что слепота Гомера на самом деле — художественный миф, соз-
данный во времена истинной критики для того, чтобы напоминать
нам не о том лишь, что великий поэт—:это всегда провидец,
постигающий мир не физическим, а духовным зрением, а еще и о
том, что он настоящий цевец, чья песня рождается из музыки,
139
когда, вновь и вновь про себя повторяя каждую свою строку, он
схватывает тайну ее мелодии и во тьме находит слова, окружен-
ные светом. Так или иначе, но ведь и великий английский поэт
главным образом слепоте — как счастливому случаю или как
важнейшей причине — обязан торжественностью движения и рос-
кошеством звучания поздних своих стихов. Когда незрячий
Мильтон не смог больше писать, он принялся петь. И кто сравнит
ритмы «Комуса». с ритмами «Самсона-Борца» или «Потерянного и
Обретенного Рая»! Ослепнув, Мильтон, как и всякий, кто оказал-
ся бы на его месте, создавал стихи исключительно на слух, и
поэтому в них зазвучала уже не волынка, не свирель, а могучий
многоярусный орган, чьи перекликающиеся звуки полны гомеров-
ской величавости, хотя наш поэт и не добивался живой
естественности Гомера,—и мильтоновская поэзия осталась в
английской литературе единственным, что не подвластно времени,
ибо она выше времени, она с нами навеки, она бессмертна самой
своей формой. Да, как много потеряли писатели, оттого что
принялись писать. Нужно, чтобы они вновь начали говорить. Это
должно стать нашей задачей, и тогда, возможно, мы сумеем хоть
отчасти оценить проникновенность художественной критики
греков.
Пока что нам это недоступно. Иногда, написав страницу
прозы, которую по скромности своей считаю абсолютно безуп-
речной, я вдруг со страхом подумаю: а не повинен ли я в этом
безнравственном сюсюканье, появляющемся вместе с трохеями и
трехстопными размерами, в этом преступлении, за которое про-
свещенный критик эпохи Августа безжалостно и справедливо карал
блистательного, хотя и несколько парадоксального Эгезия. Когда
промелькнет такая мысль, я весь холодею и задаюсь вопросом, не
будет ли со временем полностью предан забвению наш превосход-
ный автор*, как-то в безудержном порыве щедрости пожелавший
разъяснить малообразованной части общества свою ужасную
идею, будто жизнь на три четверти состоит из правил поведе-
ния,—и только оттого, что выяснилось неверное расположение
пеанов в его повествовательных строфах.
Эрнест: А вы, однако, злы.
Джылберт: Как не разозлиться, когда меня с серьезным
видом уверяют, что у греков не было художественной критики! Я
мог бы понять утверждения вроде того, что творческий гений
греков весь ушел в критику, но если мне говорят, что народ,
которому мы обязаны духом критики, сам был к критике
неспособен,— это уж слишком. Вы ведь не потребуете от меня,
чтобы я прочел вам лекцию о греческой художественной критике
от Платона до Плотина. Ночь эта слишком прекрасна для таких
занятий, и если бы нас сейчас слышала луна, лик ее покрылся бы
от слез новыми пятнами, хотя довольно и тех, что есть.
Вспомните всего лишь об одном эстетическом трактате, неболь-
шом, но совершенном,— об Аристотелевой «Поэтике». Он несо-
вершенен по форме, потому что скверно написан да, видимо, и
представляет собой только заметки к лекции об искусстве или
разрозненные записи к какой-то большой книге; но высказанные в
нем мысли, как и общий тон рассуждений,—это совершенство.
140
Платон раз и навсегда определил нравственное воздействие искус-
ства, .его значение для культуры в целом и для воспитания
человеческой личности, а у Аристотеля искусство рассматривает-
ся не с моральной, а с чисто художественной точки зрения.
Конечно, и Платон коснулся многих собственно художественных
категорий, как-то: важность единства в произведении искусства,
необходимость определенной тональности и гармонии, эстетиче-
ское значение внешних форм, отношение зрительных искусств к
сущему миру и вымысла — к действительности. Он, быть может,
первым пробудил в душе человеческой стремление, которое и мы
ощущаем неутоленным,— стремление познать связь между Красо-
той и Истиной и место Красоты в Космосе нравственной и
интеллектуальной жизни. Идеальное и действительное, как он их
характеризует, многим могут показаться до некоторой степени
абстракциями, если ограничиваться тем метафизическим бытием,
в границах которого у него заключены эти категории, но
перенесите их в сферу искусства, и сразу же откроется, что они
по-прежнему полны живого содержания. И быть может, Платону
суждено жить и дальше именно как критику Красоты, а мы
найдем для себя новую философию, дав иное обозначение всей
той области, которая была предметом его размышлений. Аристо-
тель же, как и Гёте, рассматривает искусство по преимуществу в
его конкретных проявлениях, обращаясь, например, к трагедии и
анализируя материал, из которого она строится,— ее язык, ее
предмет, каким является жизнь, ее метод, каким оказывается
драматическое действие, условия ее осуществления, каковые
создает представление на театре, ее логику, проступающую в
сюжете, и ее конечное эстетическое значение, заключающееся в
чувстве красоты, запечатленном в ощущениях сострадания и
смирения. То очищение, одухотворение природы, которое он
именует катарсисом, по сути своей является художественным, как
это понимал и Гёте, а не этическим, как полагал Лессинг.
Задавшись целью подвергнуть анализу прежде всего впечатление,
оставляемое художественным произведением, Аристотель иссле-
дует это впечатление вплоть до его первоистоков. Как физиолог и
психолог, он знает, что нормальное осуществление каждой
функции определяется энергией. Быть способным к какой-то
страсти и отказаться от нее — значит добровольно ограничить и
обузить самого себя. Миметическое воспроизведение жизни в
трагедии освобождает душу от «многих опасностей», способствуя
очищению и одухотворению человека, создавая достойный, высо-
кий повод .для того, чтобы пришли в действие его эмоции,—и
происходит не только одухотворение, но еще и прикосновение к
области тех благородных переживаний, о которых человек мог бы
и вовсе не знать, и, таким образом, катарсис, как мне порой
представляется, непосредственно подразумевает обряд посвяще-
ния, если не обозначает именно и только этот обряд, что мне
иногда тоже приходило в голову. Я, разумеется, касаюсь «Поэти-
ки» лишь в самом общем виде. Но вы могли убедиться, какой это
превосходный образец эстетической критики. Подумайте, кто,
кроме философа-грека, мог бы столь глубоко анализировать
искусство? Познакомившись с Аристотелем, уже не удивляешься
141
тому, что александрийцы уделяли художественной критике такое
огромное внимание, и каждый из них, кто питал склонность к
творчеству, задумывался над вопросами стиля и манеры, размыш-
ляя о больших академических школах живописи,—к примеру, о
коринфской школе, стремившейся сохранить строгие традиции
древности, и о школах реалистического или импрессионистского
толка, старавшихся воспроизводить действительную жизнь, да и о
многом другом: о допустимой степени идеализации в портрете, о
художественной ценности эпических форм в столь позднюю
эпоху, как та, в какую они жили, о том, каков должен быть
предмет искусства. Да, похоже, и тех, кто лишен художественных
наклонностей, тоже влекло в ту пору к вопросам, сопряженным с
литературой, с искусством,—вспомните только, как часты тогда
были обвинения в плагиате, так и сыпавшиеся либо из уст
бездарностей с их злобой и немочью, либо из уст тех, кто не мог
создать ничего своего и поэтому всего громче кричал о грабеже в
надежде, что такие вопли создадут впечатление, будто у них и
впрямь было что украсть. Уверяю вас, Эрнест, о художниках
греки судачили ничуть не меньше, чем судачат в наше время, и у
них тоже были свои пристрастия, свои грошовые выставки, свои
гильдии художников и подмастерьев, свои прерафаэлиты и свои
реалисты, как и лекции об искусстве, трактаты об искусстве,
историки искусств, археологи и все прочее. Что говорить, ведь
даже руководители странствующих театральных трупп брали с
собой в дорогу драматического критика и оплачивали его хвалеб-
ные отзывы очень щедро. Все то, что мы считаем современным в
современной жизни, идет от греков. А все, что почитается
анахронизмом, идет от средневековья. Не кто иной, как греки,
создали для нас всю систему художественной критики, а насколь-
ко у них было развито критическое чутье, можно судить уже по
тому факту, что с наибольшей тщательностью они критически
осмысляли, как я уже сказал, сам язык. Ведь материал, с
которым имеет дело живописец или ваятель, по сравнению со
словом скуден. Потому что слово обладает музыкой столь же
пленительной, как та, что возникает при игре на скрипке или на
лютне, и красками столь же живыми и богатыми, как те, что
предстают перед нами на полотне венецианской или испанской
работы, и пластикой не менее завершенной и выверенной, как та,
какой мы любуемся, разглядывая работу в мраморе или бронзе,
но еще оно обладает мыслью, и страстью, и духовностью,
которые принадлежат ему, и только ему. Если бы художественная
критика греков ограничилась исключительно языком, они все
равно были бы величайшими критиками в мире. Постичь принци-
пы самого высокого из искусств — значит постичь принципы всех
искусств.
Однако! Луна уже прячется за этими облаками фосфорного
цвета. Из рыжеватой этой гривы или кучи осенних листьев она
смотрит, словно глаз скрывающегося в засаде льва. Она опасает-
ся, что я сейчас заговорю о Лукиане и Лонгвине, о Квинтилиане и
Дионисе, о Плинии, Фронтоне и Позании—всех тех, кто во
времена античности писал или высказывался об искусстве. Но ей
незачем этого бояться. Меня утомила прогулка по мрачной,
142
мрачной, безликой пещере, где свалены факты. И теперь мне
ничего не остается, как прибегнуть к божественному fxovoxpovos
tiSouti1 еще одной сигареты. У сигарет есть хоть то достоинство,
что ойи никогда не дают чувства полного удовлетворения.
Эрнест: Пожалуйста, вот мой портсигар. Сигареты недурны, я
их получаю прямо из Каира. Наши дипломаты тем лишь и
хороши, что посылают друзьям превосходный табак. Ну, посколь-
ку луна спряталась, продолжим наш разговор. Охотно признаю,
что я был не прав, говоря о греках. Как вы убедительно доказали,
они все были художественными критиками. Согласен, и мне их
немного жаль. Творческая способность выше, чем критическая.
Их просто нельзя сопоставлять.
Джилберт: А противопоставлять их—это чистый произвол.
Без критической способности невозможно никакое художествен-
ное творчество — серьезное, конечно. Вы упомянули о тонком
даре отбора и отточенной способности подмечать существенное, с
помощью которой художник доносит до нас жизнь и придает ей на
мгновенье вид совершенства. Ну, так этот дар отбора, эта
безупречная тактичность умолчаний, это все'и есть критическая
способность в одном из своих наиболее характерных проявлений,
и кто лишен ее, тот ничего не создаст в искусстве. Определение,
которое дал Арнольд: литература—это критика жизни,—не верх
совершенства, если говорить о форме, но зато оно свидетельству-
ет, как ясно он понимал значение критического элемента во
всяком творческом акте.
Эрнест: Мне бы следовало сказать еще и о том, что великие
художники творят бессознательно, что они «умнее, чем сами
понимают»,—кажется, так где-то выразился Эмерсон.
Джилберт: На деле все по-другому, Эрнест. Творческая
работа воображения всегда осознанна и контролируема. Нет таких
поэтов, у которых песня просто лилась бы из души. Во всяком
случае, великих поэтов. Великий поэт создает песни, потому что
решает их создать. Так в наши дни, и так было всегда. Подчас мы
склонны думать, будто голоса, звучавшие в раннюю пору поэтиче-
ского искусства, были проще, были свежее и естественнее, чем
сегодня, и будто мир, постигнутый и исхоженный поэтами-
древности, сам по себе заключал нечто поэтическое, не требуя
почти никаких изменений, чтобы сделаться песней. Теперь на
Олимпе лежит толстый слой снега, а его крутые, обрывистые
склоны голы и невыразительны, но нам кажется, что когда-то
белоногие Музы на рассвете ступали здесь по лепесткам покры-
тых росой анемонов, а вечерами Аполлон пел пастухам, скитав-
шимся в горных долинах. Мы при этом видим реальным в былых
веках то, чего желаем—или нам кажется, что желаем,—для
нашего времени, вот и все. Чувство истории изменяет нам. Любое
столетие, создавая свою поэзию, в этом смысле становится
временем искусственности, а его художественное наследие, в
котором нам видится самое простое и естественное порождение
эпохи, в действительности предстает порождением совершенно
осознанных усилий. Поверьте, Эрнест, неосознанного искусства
1 Исключительному наслаждению (греч).
143
не существует, а осознанность—это то же самое, что дух
критики.
Эрнест; Понимаю, что вы имеете в виду, и здесь немало
верного. Но не станете же вы отрицать, что великие поэмы,
созданные щ заре мира, эти явившиеся в первобытные времена,
лишенные авторства, коллективно слагавшиеся поэмы порождены
воображением целых народов, а не отдельных лиц.
Джшберт: Только до той черты, пока эти поэмы не становят-
ся истинной поэзией. Пока они не приобретают прекрасной
формы. Потому что искусства нет там, где нет стиля, а стиля нет,
если нет единства, единство же создает личность. Конечно, у
Гомера были под рукой старые сказания и сюжеты, как и у
Шекспира были исторические хроники, пьесы и новеллы, из
которых он мог черпать, но ведь это всего лишь грубый материал.
Их брали и создавали форму, чтобы они стали песней. Они
становились достоянием того, кто их сделал прекрасными. Они
являлирь из духа музыки,
И потому являлись ниоткуда,
И потому являлись навсегда.
Чем глубже погружаешься в изучение жизни и поэзии, тем
отчетливее сознаешь, что за всем достойным восхищения стоит
творческая индивидуальность и не время создает человека, а
человек создает свое время. Я даже склонен полагать, что любой
миф или легенда, в которых нам видятся недоумения, страхи и
фантазии племени или страны, в истоке своем являются творени-
ем какой-то определенной личности. Мне кажется, к такому
заключению приводит удивительно небольшое число известных
нам мифов. Но не следует нам погружаться в область сравнитель-
ной мифологии. Будем и дальше говорить о критике. Вот о чем я
хочу сказать. Эпоха, лишенная критики,—это либо эпоха, в
которую искусство не развивается, становясь неприкосновенным
и ограничиваясь копированием тех или иных форм, либо та, что
вообще лишена искусства. Были и эпохи, оказавшиеся нетворче-
скими в обыкновенном значении слова, такие эпохи, когда человек
прилагал свои усилия к тому, чтобы навести порядок в собствен-
ной сокровищнице, отделив золото от серебра, а серебро от
свинца, пересчитав бриллианты и дав имена жемчужинам. Но не
было творческой эпохи, которая вместе с тем не стала бы и
эпохой критики. Ибо не что иное, как критическая способность,
создает свежие формы. Критическому инстинкту обязаны мы
каждой возникающей новой школой и каждым новым участком,
предоставляемым искусству, чтобы оно его взрыхляло. По сути,
среди ныне используемых искусством форм нет ни одной, которая
не досталась бы нам как наследие критического сознания Алек-
сандрии, где эти формы сложились как определенные типы, или
были придуманы, или доведены до совершенства. Говорю об
Александрии не оттого лишь, что здесь греческая духовная
традиция в наибольшей степени обрела свое самосознание, в
конечном счете переходя в скептицизм и в теологию, а еще и
потому, что не к Афинам, а к Александрии обращался за
примерами Рим; а культура и вообще-то сохранилась лишь
144
благодаря тому, что до известной степени сохранилась латынь.
Когда во времена Ренессанса Европу одухотворили произведения
греков, для этого почва была уже отчасти готова. Впрочем,
копаться в истории—дело утомительное и обычно чреватое
ошибками, так что скажем просто: искусство своими формами
обязано критическому сознанию греков. Ему мы обязаны и
эпосом, и лирикой, и—целиком—драмой во всех ее воплощениях,
включая и бурлеск, а также идиллией» романтическим романом,
романом приключений, эссе, диалогом, ораторским жанром, лек-
циями (за которые греков, наверно, надо бы предать суду) и
эпиграммой во всем широком значении этого слова. В общем, мы
их должники во всем, за исключением сонета,—хотя, любопыт-
ным образом, в антологии обнаруживается нечто сходное, если
иметь в виду характер развития мысли,—и еще американской
журналистики, ибо с нею не сравнится ничто на свете, а также
баллад на шотландском просторечье, относительно которых один
из наших самых прилежных писателей недавно высказался в том
духе, что вот жанр, где второстепенные поэты должны дружными
усилиями добиться по-настоящему романтического звучания своих
виршей. Любая новая школа, едва возникнув, принимается поно-
сить критику, а меж тем она и не возникла бы, не будь человек
наделен критической способностью. Один творческий импульс
создает не новаторство, а подражание.
Эрнест: Вы характеризуете критику как существенную часть
творчества, и эту вашу идею я полностью принимаю. Но что есть
критика сама по себе? У меня выработалась глупая привычка
читать периодику, и сдается мне, что современная критика
большей частью лишена всякого смысла.
Джилберт: Как большей частью и современное искусство.
Посредственность в гармонии с посредственностью и немощность
в союзе с невежеством—вот зрелище, которое нам порою дарит
английская художественная жизнь. Я, впрочем, не совсем справед-
лив. Как правило, критики—понятно, я имею в виду лучших из
них, тех, кто пишет для шестипенсовых газет,—люди куда более
просвещенные, чем те, которым они должны посвящать свои
статьи. JHo иного ждать нельзя, ведь критика требует куда больше
культуры, чем творчество.
Эрнест: В самом деле?
Джилберт: Я вполне серьезно. Всякому по силам сочинить
трехтомный роман. Просто надо ровным счетом ничего не знать
ни о жизни, ни об искусстве. А у рецензентов, я полагаю, есть
особые трудности, и они в том, что необходимо поддерживать
определенный литературный уровень. Когда нет стиля, никакой
уровень невозможен. Бедные рецензенты оказываются в положе-
нии репортеров при полицейском участке, расположившемся в
стане литературы, и вынуждены информировать о новых преступ-
лениях рецидивистов от искусства. Их подчас корят тем, что они
не дочитывают произведений, о которых должны отзываться. Да,
не дочитывают. И уж, во всяком случае, не должны их дочиты-
вать. Не то они превратятся в неизлечимых мизантропов или, да
позволено мне будет воспользоваться словечком одной из хоро-
шеньких выпускниц Ньюнхэма, в неизлечимых женофобов. Да и
145
зачем читать до конца? Чтобы узнать возраст и вкус вина, никто
не станет выпивать весь бочонок. В полчаса можно безошибочно
установить, стоит книга чего-нибудь* или нет. Хватит и десяти
минут, если обладать инстинктивным чувством формы. Кому
охота тащиться через весь скучный волюм? Довольно и первой
пробы—я думаю, более чем довольно, знаю, и в живописи,
и в литературе подвизается немало кустарей, которые вообще
отрицают критику. И они правы. Их произведения по интел-
лектуальному уровню никак не связаны со своим веком. Они
не доставляют нам никакого прежде не изведанного наслажде-
ния. Они не намечают новых мыслей, не пробуждают новых
страстей, не добавляют новой красоты. Так к чему о ник толко-
вать? Лучше предоставить их забвению, которого они заслужи-
вают.
Эрнест: Но. дорогой мой,—простите, что я вас прерываю,—
не слишком ли далеко вас заводит это пристрастие к критике? В
конце концов и вы не можете оспаривать, что создать нечто куда
труднее, нежели говорить об уже созданном.
Джилберт: Создать труднее, чем говорить о созданном?
Ничего подобного. Это обычное и глубокое заблуждение. Гово-
рить о чем-то гораздо труднее, чем это «что-то» создать. В
обыденной жизни мы это видим совершенно ясно. Каждый может
создавать историю. Лишь великие люди способные ее писать. Нет
ни поступков, ни переживаний, которые не роднили бы нас с
низшими животными. Возвышает нас над ними, как и друг над
другом, только язык—язык, являющийся родителем, а не дети-
щем мысли. Право же, деяние всегда незамысловато, и когда оно
перед нами является в своем наиболее тягостном, иначе сказать,
наиболее последовательном виде, каковым, на мой взгляд, нужно
признать деловую жизнь, мы видшм, что это всего лишь прибежи-
ще для людей, которым больше решительно некуда себя деть.
Увольте, Эрнест, не говорите мне о деянии. Это занятие слепое,
подвластное внешним воздействиям и двигаемое побуждениями,
природа которых неясна. Занятие неполноценное по самой своей
сущности, поскольку оно во власти случая, и не ведающее
собственного смысла, ибо оно всегда не в ладу со своей же# целью.
В основе его нехватка воображения. Оно вроде соломинки для
тех, кто не умеет мечтать.
Эрнест: Вы, Джилберт, обращаетесь с миром так, точно это
стеклянный шарик. Вертите его в пальцах, как угодно вашей
фантазии. Вы только и делаете, что ставите историю с ног на
голову.
Джилберт: В том и состоит наша единственная обязанность
перед историей. И это не последняя задача из тех, что должен
решить дух критики. Полностью постигнув управляющие жизнью
научные законы, мы поймем, что только у людей действия больше
иллюзий, чем у мечтателей. Они не представляют себе, ни почему
они что-то делают, ни что из этого выйдет. Им кажется, что на
этом вот поле ими посеяна сорная трава, для нас же оно
оказывается великолепной житницей, а вот здесь для наших
наслажделий разбили они пышный сад, но появились заросли
чертополоха, если не хуже. Ни минуты не представляя себе, куда
146
оно идет, Человечество сумело отыскать свой путь только
поэтому.
Эрнест: Так вы находите, что в деятельной жизни всякая
осознанная цель—мираж?
Джилберт: Хуже чем мираж. Доживи мы до возможности
наглядно убедиться в том, к каким результатам привели наши
действия, очень вероятно, что тех, кто себя называет высоконрав-
ственными, мучило бы бессмысленное раскаяние, а те, кого
именуют порочными, преисполнились бы умиления своим благо-
родством. Каждый мелкий наш поступок перерабатывается гран-
диозной машиной жизни, которой ничего не стоит обратить в
ненужный прах наши добродетели или же преобразовать наши
прегрешения в элементы новой цивилизации, более великолепной
и поразительной, чем все предшествующие. Но ведь люди—рабы
слов. Они обрушиваются на то, что окрестили материализмом, и
забывают, что не было ни одного материального усовершенство-
вания, которое не помогло бы росту духовности в мире, тогда как
едва ли найдутся, если вообще отыщутся, такие духовные
устремления, которые не завершались бы пустыми надеждами,
напрасно истощавшими заложенные в мире силы, и бесплодными
начинаниями и ничему не способствующими или попросту вредны-
ми поверьями. То, что обозначили как Грех, есть существенный
элемент прогресса. Без него мир начал бы загнивать, дряхлеть,
обесцвечиваться. Благодаря своей ненасытимости Грех обогащает
человеческий опыт. Благодаря особенно в нем выраженному
тяготению к индивидуализму спасает нас от монотонности типич-
ного. Противостоя ныне принятым понятиям о морали, он
оказывается один с высочайшей этикой. А эти превозносимые
всеми добродетели! Что это такое? Природе, как пишет господин
Ренан, мало дела до чистоты нравов, и, может быть, позор
Магдалины, а не собственное целомудрие избавило от поруганий
наших современных Лукреций. Благодеяния влекут за собой
вереницу зол, и это должны были признать даже те, для кого
филантропия стала частью жизненного кредо. Само существова-
ние такого человеческого качества, как совесть, о которой теперь
говорится столько вздора и которой по невежеству так гордятся,
указывает только на несовершенство нашего развития. Совесть
должна слиться с инстинктом, если мы разовьемся достаточно
тонко. Самообуздание—не более как средство задержать соб-
ственное развитие, а самопожертвование—это остаток дикарского
ритуала членовредительства, напоминание о том преклонении
перед болью, которое в истории принесло столько зла да и сейчас
каждый день требует новых жертв, воздвигнув свои алтари.
Добродетели! Кто знает, в чем они? Не вы. И не я. И никто. Мы
тешим свое тщеславие, отправляя на казнь преступника, потому
что, допусти мы, чтобы он жил, он мог бы нам показать, как
много от его преступления выиграли мы сами. Блажен святой
подвижник в муках своих. Ему не придется ступать по стерне
своей жатвы.
Эрнест: Вы излишне резки, Джилберт. Вернемся на литера-
турные пастбища, оно куда приятнее. Так с чего вы начали? С
того, что говорить о созданном труднее, нежели создавать?
147
Джилберт (помедлив): Да, кажется, я начал с этой простой
истины. Теперь-то вы убедились, что я прав? Действуя, человек
уподобляется марионетке. Описывая, он становится поэтом. В
этом вся тайна. На песчаных равнинах под Илионом было не бог
весть как трудно пускать заостренные стрелы, натянув узорчатый
лук, и ударять длинным, каленным на огне копьем в огнеподобную
медь и щит из сырой кожи. Царице-изменнице было не так уж
сложно расстелить для своего супруга финикийские ковры и
потом, когда он дремал в мраморной ванне, набросить ему на
голову пурпурную сеть, позвав ничем не примечательного своего
любовника, чтобы сквозь ячейки он пронзил ножом сердце,
которое лучше бы разорвалось еще в Авлиде. Самой Антигоне,
пусть женихом ожидала ее Смерть, было легко взобраться в
полдень на холм, где царило зловоние, и доброй землей засыпать
нагое тело несчастного, которого лишили даже могилы. Но что
сказать о тех, кто все это описал? О тех, кто всем этим людям дал
живой облик и вечную жизнь? Разве мы не назовем их более
великими, чем те, кого они воспели? «Повержен божественный
Гектор», и Лукиан рассказывает, как в мрачном подземном мире
Менипп увидел иссохший череп Елены, поразившись, что ради
столь ничтожной награды снаряжали все эти боевые корабли, и
гибли все эти закованные в кольчуги прекрасные юноши, и
величественные города обращались в развалины. Но день за днем
подобная лебедю дщерь Леды выходит на окружившие город
стены и смотрит, как под ними кипит война. Седобородые
мудрецы восхищены ее красотой, и она стоит рядом с царем.
Возлюбленный ее почиет на точеном ложе, отделанном слоновой
костью. Он испытывает свой праздный меч и расчесывает
пышные кудри. Сопровождаемый оруженосцем и слугой, обходит
палатки воинов первый ее муж. Ей видны его блестящие на
солнце волосы, и кажется ей, что она слышит—может, и впрямь
слышит—этот властный бестрепетный голос. А рядом с нею, во
дворе сын Приама застегивает свои кованые доспехи. Обвились
вокруг его шеи нежные руки Андромахи. Он снимает шлем и
кладет его на землю, чтобы не напугать младенца-сына. Ахилл в
благоухающем одеянии сидит за расшить!ми занавесями своего
шатра, а друг души его уже готов к бою — позвякивает золото и
серебро на его сбруе. Из великолепного ковчега, который
положила Ахиллу на путь его мать Фетида, достает царь Мирми-
донский прекрасный кубок, чьих краев никогда не касались губы
мужей, очищает его серою и, охладив светлоструйной водой,
омыв руки, наполняет заблестевший сосуд черным вином, а затем
расплескивает густую виноградную влагу по земле в честь Того,
кого чтили в хладной Додоне не моющие ног пророки, и возносит
Ему мольбу, не ведая, что моление его напрасно, ибо храбрый как
лев Патрокл, этот первый из друзей, должен встретить свой конец
в схватке с двумя троянцами, Эвфорбом Панфоидом, чьи локоны
перевиты златой нитью, и сыном Приама. И это все фантомы? *
Бесплотные фигуры, исчезающие, словно туман в горах? Тени,
что живут лишь в песне? О нет, это люди во плоти. А вы толкуете
о деяниях. Да много ли они значат? Они исчезают, едва иссякнет
энергия, которая для них потребна. Они лишь недостойная
148
уступка прозе жизни. Мир создают певцы, и создают его для
мечтателей.
Эрнест: В ваших устах все это звучит так убедительно.
Джилберт: Потому что это правда. На разрушенных стенах
Трои возлежит ныне ящерица, словно статуэтка из зеленоватой
бронзы. Сова свила себе гнездо во дворце Приама. По опустевшей
равнине гонят пастухи своих овец и коз, а там, где под солнцем
поблескивали на темном, как вино, спокойном, точно бы на него
вылили масло, море, на olvovj/ttovtos1, как говорит Гомер, обшитые
с носа медью, выкрашенные в огненный цвет громадные галеры
данайцев, теперь качается в своей утлой лодке одинокий рыбак и
посматривает за поплавками заброшенной сети. Но все так же
каждое утро открываются врата твердыни, и пешими или в
колесницах, влекомых конями, выступают на битву бойцы, из-под
железных своих масок бросая гордый вызов врагам. И весь день
кипит яростный бой, а когда падает ночь, зажигаются у палаток
огни и факел полыхает при входе. Живущим в мраморе или на
фреске дано испытать из всей жизни лишь один высокий миг, и в
своей красоте он вечен, но все же сказалось в нем всего
одно-единственное переживание или единственный раз постигну-
тое чувство покоя. Тем же, кому дал жизнь поэт, доступны
бесконечные переживания радости и страха, мужества и отчаяния,
наслаждения и страдания. Искрометным или печальным карнава-
лом проходят весны и осени, годы летят перед ними, как на
крыльях, или плетутся, точно с кандалами по ногам. Им знакома
и юность, и взрослость, они были когда-то детьми, и вот они уже
старики. Для святой Елены, какой увидел ее у окна Веронезе,
всегда будет стоять рассвет. Всегда будут нести ей ангелы в этом
спокойствии утра знак божьего страдания. Прохладный утренний
ветерок век за веком будет развевать златотканый платок,
укрывший ее лицо. А для любовников Джорджоне, лежащих на
невысоком холме вблизи города Флоренции, вечным останется
жгучее солнце полудня и то оцепенение пылающего лета, когда
грациозная обнаженная девушка едва соберется с силами, чтобы
поднести к мраморной чаше свой закругленный сосуд чистейшего
стекла, и длинные пальцы музыканта так и будут неподвижно
покоиться на лютне. Вечные ранние сумерки, в которых танцуют
у Коро нимфы вокруг серебряных французских тополей. Они
всегда будут кружиться в сумерках, эти хрупкие, прозрачные
фигурки, чьи трепетные ножки словно бы и не касаются
намокших от росы трав, по которым они ступают. Но те, кому
судьба ступать по жизни в эпической поэме, драме или романе,
увидят, как месяц за месяцем сначала круглится, а затем меркнет
луна, и как первую вечернюю звезду сменяет последняя, предут-
ренняя, и как от восхода до заката переливается красками день со
всеми его ослепительными бликами и всеми тенями. Для них, как
и для нас, распускаются и вянут цветы, а земля, эта зеленокосая
богиня Кольриджа, для их наслаждения меняет свои уборы.
Скульптора влечет к концентрированности, чтобы достичь мига
совершенства. Образ, схваченный живописцем, лишен начал
1 Винного цвета море (греч.).
149
духовного роста и перемены. Если этим образам неведома смерть,
то оттого лишь, что им слишком мало ведома жизнь, ибо тайны
жизни и смерти доступны тем, и только тем, кто подвластен
движению времени и располагает не одним Настоящим, но и
будущим, и способен встать над прошлым, обретая величие, так
же как и низринуться в прошлое, в котором невзгоды и горе.
Движение, эта главная проблема для зрительных искусств, в
сущности, может быть передано одной Литературой. Она одна
показывает нам тело в его стремительности и душу в ее
беспокойстве.
Эрнест: Да-да, я вас понимаю. Однако же чем выше мы
ставим художника, тем ниже должны оценить роль критика.
Джилберт: Отчего так?
Эрнест: Оттого что лучшее, что он нам способен дать,
окажется не более чем отголоском богатой музыки, бледной
тенью ясно очерченной формы. Очень возможно, что жизнь и
впрямь хаос, как вы утверждаете, что ее муки ничтожны, а
героика недостойна; что дело Литературы из грубого материала
непосредственного бытия создавать иной мир, более чудесный,
нетленный и истинный, чем тот, что открывается обыденному
зрению и побуждает обыденную душу искать в нем для себя
совершенства. Но ведь, если этот иной мир создан прикосновени-
ем великого художника, он окажется столь целостным и совер-
шенным, что критику просто нет в нем занятия. Теперь я
понимаю, что говорить о созданном гораздо труднее, чем созда-
вать, и охотно с этим соглашаюсь. Но мне кажется, что эта
здравая и разумная мысль, кстати, весьма утешительная для
наших чувств и пригодная в качестве девиза для любой литератур-
ной академии мира, применима только к отношениям, существу-
ющим между Искусством и Жизнью, но никак не к отношениям,
связывающим Искусство и Критику.
Джилберт: Да ведь Критика сама искусство. И как художе-
ственное творчество предполагает развитую критическую способ-
ность, без которой ею, собственно, не существует, так и Критика
является творчеством в самом высоком значении слова. По сути,
Критика является и творческой, и независимой.
Эрнест: Независимой?
Джилберт: Да, независимой. Требовать от Критики какого-то
низменного подражания или сходства справедливо ничуть не
больше, чем требовать этого от поэзии или ваяния. По отноше-
нию к рассматриваемому им произведению искусства критик
оказывается в той же ситуации, что и художник по отношению к
зримому миру форм и красок или незримому миру страстей и
мыслей. Для того чтобы сделать свое искусство совершенным,
критику даже нет нужды отыскивать наиболее плодотворный
материал. Все сгодится для его целей. И подобно тому, как из
чувственности и нечистоплотности любовных увлечений неумной
жены провинциального аптекаря, обитающего в скверном горо-
дишке Ионвиль-л'Аббэй под Руаном, Постав Флобер оказался
способен создать классический роман, ставший шедевром стиля,
так и настоящий критик, полагающий удовольствие в том, чтобы
растрачивать свой дар наблюдательности на темы столь малозна-
150
чительные, да я просто ничтожные, как отчетная выставка в
Королевской академии за этот год и за любой другой или же
стихи Льюиса Морриса, романы Оне, пьесы Генри Артура
Джонса, сможет создать произведение, безупречное по своей
красоте, проницательности и тонкости ума. А почему бы и нет?
Ничтожество неодолимо хгритягивает к себе всех, кто наделен
блестящим интеллектом, а глупость—тот вид Bestia Trionfans,1
который всегда способен привлечь внимание мудрых, заставляя их
покинуть свое обиталище. И много ли значит тема для художника,
столь творческого, каким является критик? Не меньше, но и не
больше, чем она значит для романиста или для живописца. Он
схож с ними в том, что умеет находить свои мотивы повсюду.
Меру его сил покажет истолкование темы, потому что нет таких
тем, которые не таили бы в себе возможностей блеснуть
проникновенностью и смелостью.
Эрнест: Так Критика—это и вправду творческий акт?
Джилберт: Отчего бы ей и не быть им? Критика тоже имеет
дело с материалом, которому должна придать форму и новую, и
восхитительную. Можно ли что-нибудь к этому добавить, опреде-
ляя, например, поэзию? Я бы назвал критику творчеством внутри
творчества. Великие художники от Гомера и Эсхила до Шекспира
и Китса не выискивали свои темы в жизни, а обращались к
мифам, легендам и преданиям—так и критик берет материал,
который, так сказать, был для него очищен другим, уже добавив-
шим сюда форму и цвет, рожденные воображением. Больше того,
поскольку истинно высокая Критика представляет собой чистей-
шую форму личного впечатления, я бы даже сказал, что
по-своему она является более творческой, чем творчество,— она
ведь всего меньше связана какими-то установлениями, внешними
по отношению к ней самой, и фактически сама служит собствен-
ным оправданием, являясь, как сказали бы греки, целью в самой
себе и для самой себя. Уж во всяком случае, ей не приходится
тащить на своих плечах бремя жизнеподобия. На нее не оказыва-
ют ни малейшего воздействия недостойные порывы к жизненно
узнаваемому, все эти трусливые уступки требованиям оглядывать-
ся на то, что с докучной регулярностью чаще всего повторяется и
в частной и в общественной жизни. Литературный вымысел
можно поверять реальностью. То, что исходит из души> поверять
нечем.
Эрнест: Из души?
Джилберт: Конечно, из души. Вот что такое высокая Крити-
ка— это хроника жизни собственной души. Она увлекательнее,
чем история, потому что занята одной собой. Она восхитительнее
философии, ибо ее предмет не абстрактен, а конкретен и реален, а
не расплывчат. Это единственная подлинная автобиография, рас-
сказывающая не о событиях чьей-то жизни, а о заполнивших ее
мыслях, не об обстоятельствах и поступках, являющихся плодом
случайности или физической необходимости, а о том, что пережил
дух и какие мечты родило воображение. Меня неизменно забавля-
ет глупое тщеславие тех современных художников и писателей,
1 Торжествующее животное (лат.).
151
которые чуть ли не всерьез полагают, будто главная обязанность
критика в том, чтобы разглагольствовать насчет их второсортных
произведений. Самое лучшее, что обычно можно сказать о
современном искусстве, сводится к тому, что оно чуть менее
вульгарно, чем жизнь, а критик, отмеченный безупречным вкусом
и безошибочным чувством утонченного, всегда предпочтет вгля-
дываться в серебряное зеркало или в изящно сотканное полотно,
отворачиваясь от хаоса и безвкусицы окружающей жизни,—пусть
зеркало почти стерлось, а полотно все в дырах. Его единственная
цель в том, чтобы запечатлеть собственные импрессии. Это для
него создаются картины, пишутся книги и обращается в скульпту-
ру мрамор.
Эрнест: Мне приходилось встречать и другое понимание
Критики.
Джилберт: О да, чья изощренная память всем нам внушает
восторг и чья свирель однажды заманила Прозерпину далеко от ее
сицилийских полей, заставив ее пройтись, и не понапрасну, по
фиалкам и лилиям луга; как-то было сказано, что истинная цель
Критики—видеть предмет сам по себе таким, каков он есть. Но
это весьма серьезное заблуждение, и тем самым игнорируется
самая совершенная из форм Критики, по сути своей являющейся
чисто субъективной и стремящейся нам поведать собственную
тайну, а не чьи-то секреты. Высокая Критика постигает искусство
не как средство выражения, а как чистой воды импрессию.
Эрнест: Ну, этого не может быть.
Джилберт: И все же это так. Что мне за дело до того,
справедливо ли судит Рескин о Тернере? Какое это имеет
значение? Его могучая, величественная проза, чьи благородные
ритмы дышат такой страстью и огнем, чье звучание достойно
симфонии, чьи эпитеты и краски на особенно удавшихся страни-
цах поразительно емки и точны,— его проза по меньшей мере
такое же замечательное произведение искусства, как и любой из
этих прекрасно написанных закатов, которые теперь высыхают и
трескаются в Английской галерее, а иногда кажется, что даже
более замечательное: не только потому, что, не уступая в
красоте, проза превосходит живопись в своей нетленности, но еще
и потому, что ее воздействие на нас более многообразно,—в этих
длинных ритмизированных фразах душа ведет разговор с другой
душой не одним языком формы, языком цвета, хотя автор ими
владеет безукоризненно, но к тому же языком интеллекта и
чувства, вдохновенного постижения и поэтичной цели; да, это
более замечательное произведение, ибо оно принадлежит Литера-
туре, которая для меня высшее из искусств. Не все ли равно, к
примеру, что Пейтер, разбирая Мону Лизу, вложил в нее смысл,
совершенно чуждый замыслу Леонардо? Художник, может быть,
был просто зачарован увиденной им необычной улыбкой—так
иногда считают; я же всякий раз, идучи прохладными залами
Лувра и останавливаясь перед этой странной фигурой, которую
точно осенил слабый подводный свет, когда она расположилась
«на мраморном сиденье в образованном горами фантастическом
амфитеатре», шепчу про себя: «Она древнее тех камг^й, что ее
окружили; словно вампир, она много раз умирала и возрождалась,
152
и ей ведомы тайны иного мира; она достигла предельных глубин
морских и хранит память о том, что видела там в давние, давние
дни; с караванами восточных купцов странствовала она в далекие
земли за златотканой парчой; и, как Леда, была матерью Елены
Троянской и, как святая Анна, матерью Марии; и все это в ней
хранится легким звуком лиры или флейты, напоминая о себе
только утонченностью, которой наделены изменчивые ее черты и
отмечен ее взгляд, ее руки». И я поворачиваюсь к своему
спутнику, говоря: «В этом странном видении на краю моря
воплотилось все, что человек, за тысячелетие испытав великое
множество переживаний, носит как желанное для себя»,— а он
отвечает: «Да, вот голова, которой «памятны все страсти мира», и
оттого печать усталости различима во взоре».
Так полотно становится для нас удивительнее, чем оно есть, и
раскрывает нам тайну, которой в действительности не ведает, и
музыка этой мистической прозы звучит в наших ушах столь же
пленительно, как звучала Джоконде флейта, вызвавшая эту
тонкую, коварную ее улыбку. Вы спросите, как отозвался бы
Леонардо, услышь он от кого-нибудь о своей картине, что «в ней
воплотились все думы и весь опыт мира, отдавшие себя без
остатка, чтобы довести до предела выразительности эту художе-
ственную форму, вобравшую в себя и естественность греков, и
греховный гедонизм Рима, и мечтательность средневековья с его
духовными амбициями и бесплотными страстями, и вновь пробу-
дившееся язычество, и аморальность, явленную семейством
Борджиа». Возможно, он сказал бы, что ни о чем этом не думал,
добиваясь только определенного сочетания линий и цветовых
бликов, а также новизны и необычности комбинаций голубых и
зеленых тонов. Так вот по этой самой причине критика, о которой
я веду речь, и есть критика наивысшего порядка. Произведение
искусства она воспринимает просто как исходную точку для
нового творчества. Она не ограничивается — будем хоть это
считать несомненным—тем, чтобы выяснить истинные побужде-
ния художника и принять их как конечную истину. И в этом она
права, потому что значение всего прекрасного открывается душой
воспринимающего по меньшей мере точно так же, как и душой
создающего. Да нет же, именно душа воспринимающего находит в
прекрасном мириады новых значений, и делает прекрасное прек-
расным для всех нас, и постигает особое отношение этого
прекрасного к нашему веку, так что оно становится необходимой
частью нашей жизни и символом того, за что мы молимся, а
может быть, вознося за него молитвы, и опасаемся как реально-
сти. Чем больше я изучаю этот предмет, тем чаще, Эрнест,
убеждаюсь в том, что красота зрительных искусств, подобно
музыкальной красоте, по преимуществу импрессивна и она может
быть нарушена—часто и впрямь нарушается—избытком интел-
лектуальных усилий, приложенных художником. Ведь завершен-
ное произведение обретает собственную жизнь и может сказать
нам нечто очень далекое от того, что было вложено в это
произведение его творцом. Слушая увертюру к «Тангейзеру», я
иногда воочию вижу перед собой этого пригожего рыцаря,
неслышно ступающего по россыпи цветов на лугу, и слышу голос
153
Венеры, обращающейся к нему из пещеры на горном склоне. Но
случается, что передо мной тогда проходят тысячи других
образов—и мой собственный образ, и образы моей жизни или
жизни тех, кого любил и к кому охладел, и давно испытанных
страстей, и тех, которые так и не были испытаны, как их ни
жаждал. Сегодня эта музыка может пробудить ту ЕРПС TIN
АДУ NAT IN1, которая ударом молнии поражает многих, кто
убежден, что живет спокойно и бестревожно, и заставляет их
полной чашей испить яд безграничного желания и ослабеть,
выдохнуться, пасть без сил в нескончаемой погоне за тем, что
недостижимо. А завтра наподобие той музыки, о которой расска-
зывают Аристотель и Платон,—высокой дорической музыки
греков—та же увертюра оказывается способной исцелдть, как
лекарь, становясь чем-то вроде обезболивающего препарата и
проливая бальзам на душевные раны, так что «дух обретает
гармонию со всем сущим». Но ведь это можно сказать не об одной
музыке, а обо всех искусствах. У красоты смыслов столько же,
сколько у человека настроений. Красота—это символ символов.
Красота открывает нам все, поскольку не выражает ничего.
Являя нам себя, она являет весь огненно яркий мир.
Эрнест: Но разве то, о чем вы говорите, можно назвать
критикой?
Джилберт: Высшей Критикой, так как осмысляется не
отдельное произведение искусства, а сама Красота, и чудом
оказывается наполненной форма, которую, быть может, худож-
ник оставил пустой, или сам не смог понять, или понял не до
конца.
Эрнест: Значит, высшая Критика—творчество в большей
мере, нежели само художественное творчество, а главная цель
критика в том, чтобы увидеть рассматриваемый им предмет таким,
каким- он на деле не является. Я правильно понял вашу теорию?
Джилберт: Да, это и есть моя теория. Для критика произведе-
ние лишь повод для нового, созданного им самим произведения,
которое вовсе не обязательно должно иметь сходство с тем, что
он разбирает. Одна из примет совершенства формы в том, что в
нее можно вкладывать все на свете и видеть в ней все, что хочется
видеть; а Красота, придающая произведению всеобщность и
художественность, в свою очередь обращает критика в творца и
подсказывает тысячи вещей, не приходивших в голову тому, кто
ваял эту статую, писал это полотно, обтачивал этот драгоценный
камень.
Не понимая ни природы высшей Критики, ни очарования
высшего Искусства, иногда говорят, чтс? критики предпочитают
писать о тех полотнах, где есть сюжет или жанровая сцена,
обычно взятая из литературы или из истории. Но это не так.
Такого рода картины на самом деле даже чрезмерно понятны. Они
стоят в одном ряду с иллюстрациями, но и с этой точки зрения
должны быть оценены очень низко, потому что лишь ставят
жесткий предел воображению вместо того, чтобы его будоражить.
Я уже говорил, что у живописца совсем другая область, чем у
Любовь к невозможному (греч.).
154
поэта. Последнему жизнь принадлежит во всей своей абсолютной
полноте и целостности, ему доступна и та красота, которую
человек видит, и та, что открывается его слуху; не только на
мгновение явившееся изящество формы или промелькнувшая
радостная гармония цвета подвластны ему, но и вся гамма чувств,
весь законченный в себе цикл мысли. Живописец же ограничен
настолько, что лишь через то или иное положение лица и тела
способен передать тайну души, лишь через условные образы
передать идеи, лишь в физических соответствиях показать психо-
логию, И до чего же прямолинейно он вынужден действовать,
убеждая нас, будто разорвавшаяся чалма мавра говорит о благо.-
родной ярости Отелло, а развевающиеся на штормовом ветру
патлы какого-то старого шута знаменуют исступленное безумие
Лира1 Но его, кажется, ничто не в силах удержать. Наши
почтенные живописцы, как правило, всю свою никому не нужную
жизнь паразитируют на ниве, вспаханной поэтами, пытаясь в
зримых формах и красках донести чудо того, что незримо,
высокое значение того, что нельзя увидеть воочию. Естественно,
что их картины внушают бесконечную скуку. Искусство невыра-
зимого они низвели до уровня самоочевидности, а ведь как раз
очевидное менее всего заслуживает созерцания. Не хочу сказать,
будто у поэта и живописца не может быть одной и той же темы.
Такие темы всегда были и всегда будут. Но если поэт может
прибегать к зрительным образам, а может и избегать их,
живописец всегда ими связай. Он ограничен не тем, что видит в
природе, а тем, что должно быть видно на холсте.
И потому, мой милый Эрнест, такого рода картины неспособ-
ны увлечь критика. Он обратится к произведениям, побуждающим
его размышлять, воображать, грезить, к тем, которые обладают
высоким свойством недоговоренности и как бы навевают мысль,
что даже из их мира есть тропа в другой, более широкий мир.
Говорят, что трагедия художника—это его неспособность осуще-
ствить свой идеал. Но истинная трагедия, которая все время
подкарауливает художника, в том, что он осуществляет свой
идеал слишком полно. Ведь осуществленный идеал лишается
своего чуда и тайны, становясь всего только отправной точкой для
другого, отличного от него идеала. Оттого музыка является
совершенным типом искусства. Она никогда не открывает своего
высшего секрета. И это же, кстати, объясняет, почему так важно
в искусстве умение ограничивать себя. Ваятель без сожаления
отказывается от достоверности цвета, живописец — от жизненного
соответствия пропорций создаваемых им фигур, и такой отказ
позволяет им избежать чрезмерно выраженного уподобления
Реальности, которое вело бы к плоскому копированию, как и
чрезмерно полного осуществления Идеала, которое означало бы
чистый интеллектуализм. Самой своей незавершенностью Искус-
ство обретает завершенность в красоте, тем самым апеллируя не к
способности узнавания и не к рациональному суждению, а только
к художественному чувству, которое, включая в себя узнавание и
суждение в качестве предпосылок понимания, подчиняет их
чистому синтетическому впечатлению от работы художника,
постигнутой в целом, и, вобрав в себя все чужеродные эмоци-
155
ональные элементы, возможные в данном произведении, саму эту
чужеродность опознает как сложность и как средство построения
более высокой гармонии, обогащающей конечное восприятие.
Теперь вам ясно, почему критик-художник не признает тех
упрощенных художественных явлений, в которых смысл сводится
к какой-то одной идее и которые оказываются выпотрошенными и
ненужными, едва эта идея высказана,— такой критик ценит в
искусстве все, что обладает богатством фантазии и настроения,
блеском воображения и красотой, делающей небезосновательной
любую интерпретацию, а вместе с тем ни одну интерпретацию не
признающей как окончательную. Бесспорно, между творчеством
этого критика и произведением, побудившим его к творчеству,
окажется нечто общее, однако это будет не то сходство с
Природой, которое обнаруживается в создании пейзажиста или
портретиста, как бы подносящего к ней зеркало, а скорее, то, что
существует между Природой и искусством художника-декоратора.
Так, на персидских коврах не вытканы цветы, но все равно пышно
цветут тюльпан и роза,и мы наслаждаемся ими, пусть и не находя
их зримых форм и очертаний; так, жемчужный и пурпурный
перелив морских раковин откликается в венецианском соборе св.
Марка; так, своды поразительной часовни в Равенне полыхают
золотыми, зелеными, сапфировыми красками павлиньего хвоста,
хотя птица Юноны и не парит под этим расписным куполом; и
точно так же критик воспроизводит в своем произведении то, о
котором он пишет, но никогда не имитирует его впрямую, а
отчасти даже достигает своего эффекта отказом от наглядного
сходства, ибо таким способом он доносит не только смысл, но и
тайну Красоты и, преображая все искусства в искусство слова,
раз и навсегда решает вопрос о целостности Искусства.
Однако же пора ужинать. Потолкуем теперь о достоинствах
пулярки и шамбертена, а уж затем вернемся к вопросу о критике
как интерпретаторе произведений.
Эрнест: Так вы все-таки допускаете, что хоть изредка критик
может воспринимать свой предмет таким, каков он в действитель-
ности.
Джилберт: Не сказал бы. Впрочем, быть может, допущу,
•когда поужинаем. Ужин обладает способностью менять мнения.
Часть вторая
С некоторыми замечаниями о том,
как важно дискутировать обо всем на
свете.
Эрнест: Пулярка замечательно удалась, шамбертен восхитителен,
а теперь вернемся к нашему разговору.
Джилберт: Право, не стоит. В разговоре следует касаться
всего, не сосредоточиваясь ни на чем. Обсудим лучше тему.,, о
которой я собираюсь писать, «Моральное возмущение, его причи-
ны и способы его утихомирить»; или вот еще тема—«Как
выживают Терситы» (на примере английских юмористических
журналов); да можно поговорить о чем хотите.
156
Эрнест: Нет-нет, я хочу продолжить о критике и критиках.
Вы сказали, что высшая Критика имеет дело с искусством не как
средством выражения, а как чистой импрессией и оттого является
и творческой, и независимой, по сути, сама становясь искусством
и занимая по отношению к художественному творчеству то же
место, что занимает творчество по отношению к зримому миру
форм и красок или же незримому миру чувств и мыслей. Так
скажите теперь, может ли критик иногда стать подлинным
интерпретатором произведения?
Джилберт: Да, если ему этого хочется, критик может
сделаться интерпретатором. Симпатически восприняв произведе-
ние искусства как целое, он может обратиться затем непосред-
ственно к анализу или разбору данного произведения и в этой, на
мой взгляд, низшей области найти для себя много занимательного.
Цель его, однако, неизменна: не объяснять произведение искусства.
Он может стремиться к тому, чтобы еще глубже сделать тайну
произведения, окутывая его, как и его создателя, атмосферой
чуда, столь притягательной и для богов, и для поклоняющихся им.
Простым смертным «ужасающе привольно на Сионе». Их манит
возможность прогуляться рука об руку с поэтом, и в невежестве
своем они рассуждают гладко да складно: «К чему нам читать то,
что пишут о Шекспире и Мильтоне? Лучше перечтем их пьесы и
стихи. И довольно». Но познание Мильтона, как заметил покой-
ный ректор Линкольн-колледжа, дается лишь в награду за упорное
его изучение. Кто хочет верно понять Шекспира, должен изучить
отношения Шекспира с Ренессансом и Реформацией, с веком
Елизаветы и веком Якова; он должен разбираться в истории
борьбы между классическими формами и новыми романтическими
веяниями, между школой Сидни, Дэниела и Джонсона, с одной
стороны, и с другой—школой Марло и его сына, превзошедшего
отца; он должен знать, каким материалом располагал Шекспир и
как им пользовался, а также, как в XVI и XVII столетиях
ставились пьесы на театре, как сковывали театральные условия
свободу творческой фантазии и как они ей помогали, какова была
в те времена литературная критика, каких канонов придержива-
лась, к чему стремилась, как этого добивалась; ему необходимо
располагать сведениями о том, как развивался английский язык, а
также и английский стих—и рифмованный, и белый; ему придет-
ся заняться греческой драмой и теми отношениями, которые
существовали между творцом Агамемнона и творцом Макбета;
словом, ему надо будет многому выучиться, чтобы сопрягать
елизаветинский Лондон с Афинами эпохи Перикла и постичь
истинное место Шекспира в истории европейской драмы и драма-
тургии всего мира. Критик определенно окажется интерпретато-
ром, однако он не станет смотреть на Искусство как на
загадочного Сфинкса, чью пошлую загадку разгадает и раскроет
для всех тот, кому он ранил ногу и кто не ведал его имени. О
нет, критик, скорее, увидит в Искусстве богиню, чью тайну он
постарается усугубить и чье величие сочтет своей обязанностью ц
правом сделать еще более чудесным в глазах людей.
И здесь, Эрнест, произойдет странная вещь. Критик и вправду
сделается интерпретатором, но не таким, который попросту на
157
новый лад повторяет то, что было вложено в его уста. Ведь
только вступая в общение с искусством других народов, искусство
любой страны приобретает ту отдельную, индивидуальную жизнь,
которую мы подразумеваем, говоря о его национальной особенно-
сти, и точно так же, по занятной аналогии, лишь выявляя во все
большей степени собственную личность, критик может интерпре-
тировать личность и произведения других, и чем сильнее сказыва-
ется в интерпретации его индивидуальность, тем интерпрета-
ция становится достовернее, и полнее, и убедительнее, и прав-
дивее.
Эрнест: А я бы сказал, что в критике индивидуальность
только помеха.
Джилберт: Напротив, она помогает постижению. Хотите
понять других—пристальнее смотрите в самого себя.
Эрнест: И каков же будет результат?
Джилберт: Это я вам сейчас покажу, и всего лучше—на
конкретном примере. Полагаю, что над всеми возвышается
литературный критик, поскольку его поле шире, видение про-
страннее, а материал ценнее, но вместе с тем каждое из искусств
как бы требует своего критика. Актер — вот критик драмы. Он
являет нам создание поэта в новых условиях, прибегая к методу,
специфичному для его ремесла. Он имеет дело с письменным
словом, и средством постижения у него становится действие на
сцене, жесты, голос. Музыкальный критик—это певец, или
скрипач, или . флейтист. Гравер лишает работу живописца ее
прекрасных красок, зато в новом материале выявляет для нас
истинное качество ее цветовой гаммы, тонов и оттенков, компози-
ционных центров, таким образом делаясь ее критиком, поскольку
критик тот, кто представляет нам художественное произведение в
форме, отличной от той, что ему была изначально присуща, а
использование нового материала—это акт и творческий, и крити-
ческий. У скульптора тоже есть свой критик, которым может
оказаться резчик, как было у греков, или художник наподобие
Мантеньи, который пытался передать на полотне красоту пласти-
ческих линий и симфоническое величие многофигурных барель-
ефов. И кого бы из критиков-художников в любом искусстве мы
ни взяли, очевидно, что для подлинной интерпретации абсолютно
необходима собственная личность. Исполняя «Аппассионату», Ру-
бинштейн доносит до нас не только Бетховена, но и самого себя, и
поэтому Бетховен доходит абсолютным—тот Бетховен, который
переосмыслен щедро одаренной художественной натурой и стано-
вится для нас живым и поразительным благодаря присутствию
еще одной яркой индивидуальности. То же самое происходит,
когда талантливый актер играет Шекспира. Собственная его
индивидуальность оказывается необходимым элементом интерпре-
тации. Иногда говорят, что актеры нам показывают своих
Гамлетов вместо шекспировского; и этот вздор — несомненный
вздор,— к сожалению, повторяет очаровательный, изящный писа-
тель, недавно покинувший суетный мир литературы ради сонного
покоя палаты общин,— я подразумеваю автора "Obiter Dicta". А
на самом деле нет никакого шекспировского Гамлета. Если в
Гамлете есть определенность как в творении искусства, в нем
158
также есть и невнятица, как в любом явлении жизни. Гамлетов
столько же, сколько видов меланхолии.
Эрнест: Так много Гамлетов?
Джшгберт: Да. А поскольку искусство создает личность, лишь
личность способна и к его постижению, а подлинное критическое
толкование рождено встречей этих двух личностей.
Эрнест: Так, значит, критик в качестве интерпретатора вкла-
дывает в произведение не меньше, чем черпает из него, обогащая
в такой же степени, как и заимствуя?
Джшгберт: Он всегда показывает произведение в каких-то
новых отношениях с нашим веком. Он всегда напоминает, что
великие произведения полны жизни,—в сущности, полны жизни
они одни. Он это чувствует настолько глубоко, что,* по моему
убеждению, с прогрессом цивилизации, по мере того как мы
станем существами более высокой организации, избранные ду-
ши—те, что прикосновенны к критике и к культуре,— с каждой
новой эпохой будут питать все меньший и меньший интерес к
действительной жизни и все свои впечатления постараются извле-
кать исключительно из тех предметов, которые осенило своим
присутствием Искусство. Потому что жизнь удручающе бесфор-
менна. Она подстраивает свои катастрофы не тем людям и не теШ*
способами. Ее комедиям присущ гротескный ужас, а ее трагедии
разрешаются фарсом. Стоит к ней приблизиться—и последует
жестокий удар. Все в ней либо тянется слишком долго, либо
слишком быстро обрывается.
Эрнест: Ах, несчастная жизнь! Несчастная человеческая
жизнь! Неужто вас не трогают даже слезы, которые, по слову
римского поэта, неотделимы от ее сущности?
Джилберт: Боюсь, что даже слишком быстро трогают. Когда
оглядываешься на жизнь, столь трепетную, столь насыщенную
переживаниями, заполненную мгновениями столь жарких исступ-
лений и радостей, все это кажется каким-то сном или грезой. Что
такое нереальное, если не те страсти, которые когда-то жгли
точно огнем? Что такое невероятное, если не то, во что когда-то
пламенно верил? Что такое невозможное? То, что когда-то
совершил сам. Нет, Эрнест, жизнь нас только обманывает
иллюзиями, как кукольник, дергающий марионеток за веревочку.
Мы взываем к ней о наслаждении. И она нам его дарит, а за ним
по пятам идут горечь и разочарование. Высокое горе обрушивает-
ся на нас, и мы думаем, что наши дни окрасятся в багровые цвета
истинной трагедии, но она от нас ускользает, и на ее место
является нечто куда менее достойное, и как-нибудь холодным
ветреным утром, на том пороге, за которым ждет нас тяжелый
воздух старости, ее седины и ее безмолвие, мы вдруг заметим, как
с каменным, бестрепетным сердцем, с чувством холодного любо-
пытства рассматриваем прядь золотистых волнующихся волос,
когда-то до безумия боготворимых и осыпаемых страстными
поцелуями.
Эрнест: Так что же, жизнь—это всегда неудача?
Джилберт: На взгляд художника—несомненно. И главное,
что на этот взгляд делает ее неудачей как раз то, что придает
жизни ее отвратительное спокойствие, самый факт, что пережи-
159
тое невозможно испытать еще раз в точности так же. Насколько
все по-иному в мире Искусства! На полке прямо за вами стоит
«Божественная комедия», и я знаю, что, вновь ее раскрыв на
известном мне месте, я еще раз почувствую испепеляющую
ненависть к лицу, не причинившему лично мне никакого вреда,
или буду растроган безмерной любовью к той, кого никогда не
увижу. Нет такой страсти и такого чувства, которыми не было бы
способно одарить нас Искусство, и тот, кто проник в его тайну,
может наперед узнать, какой его ждет жизненный опыт. Мы
можем теперь выбирать свой день и час. Можем сказать себе:
«Завтра на рассвете отправляемся со стариком Виргилием в
долину теней»,—и смотрите-ка, рассвет застает нас в потусторон-
нем мире, а сын Мантуи уже рядом с нами. Мы проходим через
врата, фатальные для надежды, и с состраданием или со злорад-
ством взираем на ужасы иного мира. Проходит перед нами
повапленный народ лицемеров в давящих одеждах из позолоченно-
го свинца. Гонимые вечным ветром, исхлестанные ледяным
дождем, смотрят на нас с мольбою обжоры, и теоретик рукамр
рвет собственную плоть. Мы вступаем в одичалый лес Гарпий, где
при надломе кричит от боли и темнеет кровью каждый сук. Из
стонущей пламенем восьмой глуби обращается к нам Улисс, а
когда вслед за ним из огненного жала возникает великий
гибеллин, мы на миг испытаем с ним вместе гордость победы над
мукой такого ложа. Парят в пурпурном мареве те, кто осквернил
мир красотою своего греха, а мастер Адамо из Брешии, чеканив-
ший фальшивую монету, корчится от расширяющих его телесных
соков—водянка, породив в нем застой, обратила тело его в
подобие какой-то чудовищной лютни. Он молит нас склонить к
нему взоры, мы останавливаемся с ним рядом и слышим из его
распаленных иссохших губ рассказ о том, как день и ночь мечтает
он о казентинских ручьях, по мягким руслам свергающих с
зеленых гор свежие струи. А рядом посмеивается над его бедой
троянский грек и лжец Синон. Он кулаком бьет Адамо в тугой
живот и получает пощечину в ответ—они сцепились, и мы не в
силах оторваться от зрелища их позора и их каждодневной муки.
Но Виргилий уже зовет нас дальше к вознесенному строю башен,
к этому строю гигантов, среди которых царь Немврод, звенящий в
свой рог. Нас ждут ужасные картины, и, почувствовав на своих
плечах одеяние Данте, а в груди—биение его сердца, мы
неустрашимо движемся им навстречу. Мы обходим кругом Сти-
гийское болото и к челну посланного нам навстречу Флегия
бросается Ардженти. Через невылазную топь он тянет к нам
руки, но мы плывем мимо. Слыша, как он заходится в агонии, мы
исполняемся радости, и Виргилий нас ободряет в твердости этого
презрения. А теперь мы скользим по холодным кристальным
водам Коцита, и из этой ледяной глади, как травинки из земли,
высовываются головы осужденных. Вот мы чуть не споткнулись
о такую голову, это Бокка. Он не хочет открыть своего имени, и
мы прядь за прядью выдираем его волосы, не обращая внимания
на вопли. Альбериго умоляет снять ледяной гнет с его взора,
чтобы скорбь излилась слезою. Мы даем ему это обещание, а
потом, выслушав его жестокий рассказ, забираем свое слово
160
назад и уходим прочь—и это не варварство, но снисхождение, ибо
кто же пал ниже, чем осыпавший благодеяниями гонимых Богом и
при этом точивший нож? Мы видим, как корчится в зубах
Люцифера Иуда Искариот и как корчатся в этих же зубах убийцы
Цезаря. Мы потрясены. Мы выходим вновь узреть светила.
В стане Чистилища дышится свободнее, священная гора ведет
вверх, к беспримесному свету дня. Нас ждет здесь покой, который
отчасти изведают и те, кому суждено на время здесь задержать-
ся,— но вот, бледная от яда, выпитого в Маремме, проходит мимо
нас мадонна Пия, и тут же Йемена, все так же глубоко
погруженная в печаль. Новые и новые души предстают нам, и мы
переживаем то раскаяние, то счастье. Тот, кого горе его вдовы
сделало привычным к сладостной полынной горечи боли, расска-
зывает нам о Нелле, которая молится на своем одиноком ложе, а
из уст Бонконте мы узнаем, что одной вдовьей слезинки достало
бы, чтобы оградить умирающего грешника от кары ангела адских
врат. Сорделло, этот гордый и бесстрастный ломбардский дух,
рассматривает нас издалека, точно спящий лев. Узнав, что
Виргилий тоже мантуанец, он бросается ему на шею и падает
перед ним на колени, узнав, что он поэт Рима. В этой долине, где
сияние трав и цветов берет верх над блеском серебра и ограненно-
го изумруда, лазури и дуба-светляка, певцами становятся те, кто в
земной жизни были властителями,—но не раскроет губ для пенья
тот, кто был Рудольфом Габсбургским, и бьет себя в грудь
кулаком французский король Филипп Смелый, и сидит одиноко
английский Генрих. А мы взбираемся все выше по чудесным
ступеням, и ярче обычного разгораются звезды, а песнь былых
королей уж еле слышна—вот, наконец, мы и достигли семи
златых дерев и входа в Земной Рай. В колеснице, предшествуемой
впряженным Грифоном, является в венке олив, под белым
покрывалом Та, что облачена в зеленый плащ и огненное платье.
Старое пламя вспыхивает в нас. Это Беатриче, это она, кого мы
чтим. Тает лед, который сжимал нам сердце. Безудержные слезы
хлынут в этот миг из наших глаз, и мы смиренно склонимся до
самой земли, зная, что есть на нас грех. А поейе покаяния и
очищения, после того, как мы испьем Леты и испьем Эвнои,
возлюбленная души нашей вознесет нас в Рай Небесный. Из
вечной небесной жемчужины склоняется к нам лицо Пиккарды
Донати. Красота ее завораживает нас на минуту в нашем
странствовании по Луне, и когда, словно камень, стремительно
идущий ко дну, лик ее исчезает, мы охвачены печалью. Нежную
Венеру населяют любвеобильные. Здесь мы встретим сестру
Эдзелино Куниццу, возлюбленную души Сорделло, и Фолько,
вдохновенного певца Прованса, в скорби об умершей Азале
принявшего монашество, и ханаанскую блудницу, чью душу—
первой среди всех—исцелил Иисус. На Солнце увидим мы
Иоахима Флорского, и там же услышим, как Фома Аквинский
рассказывает о св. Франциске Ассизском, а Бонавентура—о св.
Доминике. По сверкающим рубинам Марса приблизится к нам
Каччагвида. Он нам поведает о том, как ранит стрела, пущенная
из лука изгнанья, как горестен устам чужой ломоть и как трудно
сходить и восходить по ступеням на чужбине. На Сатурне
6-2389
161
умолкает душа, и даже Та, кто ведет нас, не смеет улыбнуться.
Взмывают и падают пламена в пролетах златой лестницы. И
наконец, нам предстает празднество под сенью Таинственной
Розы. Беатриче обращает взгляд к сиянью Вечного Истока и уже
не оторвется от него. Великое видение открылось нам, и мы
постигли, что Любовь движет солнцем и всеми звездами.
Да, мы способны перенестись на шесть столетий назад и идти
рядом с великим флорентийцем, склоняясь перед тем же алтарем,
что и он, деля его восторг и его презрение. А если нам прискучит
старина и захочется постичь собственный наш век во всей его
тщете и низменности, разве нет таких книг, которые за один час
позволят пережить больше, чем обычная жизнь за десяток
бесцветных лет? Вон у вас под рукой маленький томик в зеленой,
как воды Нила, коже, тисненной кувшинками и инкрустированной
слоновой костью. Это книга, так нравившаяся Готье, это шедевр
Бодлера. Откройте на той странице, где напечатан грустный
мадригал, начинающийся так:
Que m'importe que tu sois sage?
Sois belle! et sois triste!1—
и вы начнете поклоняться грусти, как никогда не поклонялись
радости. Теперь читайте дальше, о человеке, истязующем самого
себя, и высокая музыка этих стихов войдет в ваше сознание,
окрасив собою каждую мысль, и на минуту вы станете тем, кто
это написал,—впрочем, нет, не на минуту, потому что отчаяние,
вами не пережитое, будет вас снедать долгими лунными ночами с
их обнаженной болью и пустыми днями, когда ни разу не
покажется солнце, а горе другого вам самому будет надрывать
сердце. Прочтите книгу от начала и до конца, раскройте свою
душу хоть для одной из выразившихся в ней тайн, и она потребует
других, она уже не сможет жить без этой сладкой отравы и будет
каяться в странных преступлениях, которых не совершала, и
искать искупления тех жестоких наслаждений, которых вовсе не
изведала. А если вы устанете от этих цветов зла, обратитесь к
другим цветам, растущим в саду Пердиты, и охладите свое
горящее чело, окунувшись в их росу,— пусть их красота принесет
покой вашей душе; или же пробудите спящего в забытой могиле
обходительного сирийца Мелеагра * и потребуйте от возлюбленного
Гелиодоры музыки, ибо в его песнях тоже заключен аромат
цветов: красных цветов граната, и пахнущего миррой ириса, и
сплетшихся нарциссов, и темно-синих гиацинтов, и майорана, и
гибкой телекии. Как он любил запахи, стоящие под вечер над
бобовым полем, и пахучий нард, когда он колосится по склонам
сирийских холмов, и яркую зелень чабреца, изящного, словно
винный кубок. Когда любимая проходила по саду, ноги ее
казались ему лилиями, ступающими по лилиям. Нежнее спящих
маковых лепестков, мягче фиалок были ее дышавшие фиалкой
губьь И это для нее хранили в своих чашах дождевую влагу
стройные нарциссы, а анемоны забывали о Сицилии, звавшей их
1 Что мне за дело до того, что ты умна? Довольно быть прекрасной и печальной
(франц.).
162
под свое небо. И ни крокус, ни нарцисс, ни анемон не сравнились
бы с нею красотой.
Странная это вещь — способность поэзии заражать читающего
выраженным в ней переживанием. Мы мучаемся от тех же
недугов, что и поэты, отдающие нам свою боль. Давно недвижные
уста продолжают говорить нам, а сердца, обратившиеся в прах,
все так же с нами делятся своим счастьем. Мы спешим запечат-
леть поцелуй на кровоточащих губах Фантины, мы скитаемся за
Манон Леско по всему свету. Любовное безумие финикийской
царицы * принадлежит нам, как принадлежит нам и ужас Ореста.
Нет такой страсти, которой мы не могли бы почувствовать, и
такого наслаждения, которого не могли бы испытать, и мы
свободны сами выбирать для этого время. Жизнь! Ах, жизнь! Не
надо к ней обращаться за тем, чтобы почерпнуть опыт и
осуществить заложенное в нас. Она ведь неизменно обуздана
обстоятельствами, и смысл ее невнятен, и нет в ней того тонкого
соответствия формы и духа, которого одного жаждет натура
художника, натура критика. За все, что она создает, мы должны
платить слишком дорого, й даже самую мерзкую ее тайну мы
покупаем ценой чудовищной и безмерной.
Эрнест: Стало быть, Искусство достаточно для нас во всем?
Джилберт: Во всем. Потому что Искусство не ранит нас. В
театре мы проливаем слезы — это нашли выход неощутимые,
бесплодные переживания, которые и должно пробудить Искус-
ство. Мы плачем, но не от настоящей боли. Мы охвачены
скорбью, но в ней нет горечи. В реальной жизни скорбь, как
заметил где-то Спиноза, мостит собою путь к совершенству в его
первичном, недостаточном виде. Та же скорбь, которой мы
одарены Искусством, и очищает, и посвящает, если мне позволено
будет еще раз вспомнить великого критика-грека. Через Искус-
ство, и только через Искусство, способны мы постичь, в чем
наше совершенство; через Искусство, и только через Искусство,
способны защититься от низменных опасностей, которыми полно
действительное существование. Это так не потому лишь, что из
всего доступного нашей фантазии ничто не заслуживает осуще-
ствления, но и потому, что душевные силы, как и силы физиче-
ские, неким высшим законом ограничены и в протяженности
своей, и в действенности. Можно изведать определенную сумму
переживаний, и не больше. И много ли значат радости, которыми
нас пытается соблазнить жизнь, как и напасти, которыми она
хотела бы растлить и искалечить наш дух, если у нас перед
глазами те, кто никогда не существовал, но в ком мы нашли
истинную тайну счастья, и если мы уже выплакали все наши
слезы, когда видели смерть тех, кто, как Корделия или дочь
Брабанцио, никогда не умрет?
Эрнест: Но послушайте, во всем, что вы говорите, есть, мне
кажется, нечто в корне чуждое морали.
Джилберт: Все искусство аморально.
Эрнест: Все искусство?
Джилберт: Да. Ибо цель искусства — переживание во имя
переживания, тогда как цель жизни и той ее практической
организации, которую мы называем обществом,— переживание во
б*
163
имя действия. Общество, представляющее собой исток и основа-
ние всякой морали, существует лишь для концентрации человече-
ской энергии и для того, чтобы обеспечить продолжение самого
себя, ту здоровую стабильность, которой оно требует,— оно,
несомненно, вправе требовать от каждого, чтобы он обогащал
общее дело производительным трудом в той или иной форме, гнул
спину, чтобы каждодневный урок был выполнен. Преступника
общество нередко прощает, мечтателя—никогда. Прекрасные
бесплодные эмоции, которые в нас пробуждает искусство, ему
ненавистны, и тирания его кошмарных социальных представлений
столь безгранична, что в Клубе частных суждений и прочих
доступных широкой публике местах к вам то и дело бесстыдно
пристают с вопросами о том, чем вы занимаетесь, тогда как
единственный вопрос, который цивилизованный человек должен
бы скромно задавать другому человеку,— это о чем он размышля-
ет. Все эти здравомыслящие, оптимистически настроенные люди,
конечно же, руководствуются лучшими побуждениями. Наверное,
оттого они так нестерпимо докучливы. Но кто-то обязан им
растолковать, что Созерцание, почитаемое в обществе самым
страшным из грехов, для высокой культуры и есть истинное
назначение человека.
Эрнест: Созерцание?
Джилберт: Созерцание. Я уже говорил, что обсуждать создан-
ное гораздо труднее, чем создавать. Теперь закончу эту мысль:
ничёгонеделанье—самое трудное в мире занятие, самое трудное и
самое духовное. Для Платона с его жаждой мудрости это было
высшее проявление энергии. И к этому же вела святых и
мистиков средневековья их жажда святости.
Эрнест: Так мы существуем для того, чтобы ничего не делать?
Джилберт: Избранные существуют, чтобы не делать ничего.
Действие и ограниченно, и относительно. Безграничны и абсолют-
ны видения того, кто бездеятелен и наблюдателен, кто мечтателен
*г одинок. Но мы, явившиеся к концу нашего удивительного века,
слишком просвещены и привержены к критике, интеллектуально
слишком утонченны и слишком жадны до изощренных наслажде-
ний, чтобы променять жизнь как таковую на какие угодно
размышления о жизни. Для нас citta divina уж больно скучен, а
fruitio Dei1 лишено смысла. Метафизика не в ладу с нашим
темпераментом, а религиозная одержимость вышла из моды. Тот
мир, в котором философ академической складки становится
«свидетелем всех времен и соучастником всякого опыта», щ деле
вовсе не идеальный мир, а только мир абстрактных идей. Вступая
в него, мы не находим для себя пищи в этой холодной математике
мысли. Врата Града Божия для нас теперь закрыты. Их охраняет
Невежество, и чтобы за них проникнуть, нам надо бы отречься от
всего того, что мы в себе считаем высшим. Довольно, что верили
наши отцы. Отпущенные нашему роду способности верить они
исчерпали до конца. Их законным наследством для нас стал так их
страшивший скептицизм. Вырази они его в слове, он мог бы и не
сделаться нашей неизбывной мыслью. Нет, Эрнест, нам не
Небесный град... общение с Богом (итал>).
164
вернуться к тому, чем жили святые. От грешников мы узнали для
себя куда больше. Мы неспособны сделаться философами, а
мистики лишь сбивают нас с пути. Пейтер где-то пишет: покажите
мне человека, который променял бы чудо линий одного-
единственного розового лепестка на все это бесформенное, неощу-
тимое Бытие, которое так высоко ставит Платон. Что нам
Озарение Филона, Бездна Экхарта, Видения Бёме, сам чудовищ-
ный Рай, представший перед ослепленным своей мечтой Сведен-
боргом? Все это ничтожно перед желтым вскриком одинокого
нарцисса посреди поля перед самым примитивным из зрительных
искусств; ведь если Природа — это материя, стремящаяся стать
душой, то Искусство — это душа, выражающая себя в материаль-
ном, а значит, и в самых грубых своих проявлениях оно
адресуется в равной мере и к чувственному и к духовному. Для
художественной натуры все смутное отталкивающе. Греки были
народом художников, поскольку были избавлены от ощущения
бесконечности. Как Аристотель, как Гёте после чтения Канта, мы
жаждем конкретного, и ничто, кроме конкретного, не может нас
удовлетворить.
Эрнест: И к чему же вы ведете?
Джияберт: Мне думается, с развитием духа критики мы
сможем постичь не только собственную жизнь, а коллективную
жизнь человечества и тем самым сделаться абсолютно современ-
ными в истинном значении этого слова. Тот-, для кого наличное —
единственно наличествующее, ничего не понимает в той эпохе, в
которой живет. Чтобы понять XIX век, надо понять все века,
предшествовавшие ему и внесшие что-то в его облик. Чтобы хоть
отчасти понять самого себя, надо понять все о других. Не должно
остаться такого душевного состояния, которое было бы бессильно
пробудить в нас сочувствие, и ни одной отошедшей формы жизни,
которую мы не могли бы вновь сделать живой. Разве это
невозможно? Я считаю, что вполне. Научный принцип наследова-
ния, объяснивший механику всякого деяния и освободивший нас
от добровольно взваленного нами на себя обременительного груза
моральной ответственности, фактически стал оправданием созер-
цательной жизни. Он нам показал, что никогда мы не бываем
менее свободны, чем в том случае, когда пытаемся действовать.
Он нас связал по рукам и ногам, словно охотничьи силки, и теперь
пророчество нашей судьбы начертано на стене огромными буква-
ми. Можно его и не читать, ибо оно в нас самих. Можно и не
замечать его, ибо оно отразится в зеркале, куда глядит наша
душа. Вот Немезида, отбросившая свою повязку. Это последняя
Парка, и самая страшная. Это единственная в кругу богов, чье
подлинное имя нам известно.
Но пусть в практической, внешней жизни она лишила энергию
ее свободы, а деятельность присущего ей права выбора, в сфере
субъективной, где всевластна душа, эта богиня, эта пугающая
тень приходит к нам, неся в руках бесчисленные дары — дар
необычности духовной организации и особой подверженности
внешним впечатлениям, дар несдержанной страсти и холодного
безразличия, дар сложности, многоликости мысли, таящей в себе
непримиримые начала, дар таких страстей, которые восстают друг
165
против друга. И поэтому мы живем не собственной своею
жизнью, но жизнями ушедших, а наша душа не изолированная
духовная субстанция, делающая нас личностями, служащая на-
шим целям и данная нам для нашей радости. Нет, это субстанция,
уже себя проявлявшая в страшных . местах и находившая себе
приют в древних гробницах. Она поражена многими хворями и
помнит о жестоких грехах. Она мудрее нас самих, и мудрость ее
горька. Она внушает нам неосуществимые стремления и заставля-
ет гнаться за тем, что—мы знаем—не может быть обретено. И
все же, Эрнест, одно ее благодеяние несомненно. Она способна
унести нас далеко от того окружения, чья красота слишком
привычна, чтобы открыться в полной мере, и чье ужасное
уродство, чьи отвратительные посягновения мешают совершен-
ству наших порывов. Она помогает нам оставить век, в который
мы родились, и перенестись в другие времена, где мы не
чувствуем себя чужими. Она способна нас научить тому, как
бежать от собственного нашего опыта, постигая опыт тех, кто
более велик, чем мы. Отчаяние Леопарди, проклинающего жизнь,
делается нашим отчаянием. Играет на своей свирели Феокрит, и
мы смеемся, точно бы став нимфами и пастухами. Завернувшись в
волчью шкуру, вместе с Пьером Видалем убегаем мы от своры
псов, а облачившись в латы Ланселота, вместе с ним бежим из
дворца королевы. Абеляр осенил нас рясой, когда мы ему
исповедовались в нашей любви, а Вийон отдал свои перепачкан-
ные лохмотья, чтобы и мы превратили невзгоды в песню. Рассвет
мы видим глазами Шелли, а когда скитаемся вместе с Эндими-
оном, луна влюбляется в нашу юность. Нам принадлежит ужас
гибнущего Атиса, и нам же — бессильная ярость и благородная
печаль Кибелы. Вам кажется, что это воображение позволяет нам
прожить столько жизней? Да, конечно, воображение, а воображе-
ние— продукт наследования. Оно лишь сконцентрированный опыт
человечества.
Эрнест: Но при чем тут дух критики?
Джияберт: Культура, которую делает для нас доступной это
усвоение опыта человечества, совершенствуется только духом
критики и, можно сказать, едина с ним. Кто же истинный критик,
если не тот, в ком живут мечты, и идеи, и чувства бесчисленных
поколений и кому не чужда никакая форма мысли, кому ни один
эмоциональный порыв не покажется непостижимым? И кто
носитель истинной культуры, как не тот, кому огромные познания
и твердость принципов отбора послужили основой для того, чтобы
превратить инстинктивное чувство в обдуманный критерий, помо-
гающий безошибочно отделять в искусстве выдающееся от мелоч-
ного, так что сопоставлением он уясняет себе тайны любой
школы и любого стиля, проникая в их смысл и звучание всех этих
голосов, и вырабатывает в себе тот дух чуждой всему внешнему
любознательности, который знаменует собою цветение интеллек-
та, ибо является и его жизненной почвой, и позволяет достичь
интеллектуальной ясности, сравняться—я вовсе не преувеличи-
ваю— с Бессмертными, как называют постигших «все лучшее,
что постиг и что передумал мир».
Да, Эрнест, созерцательная жизнь, та жизнь, что видит свою
166
цель не в деянии, а в бытии, и не просто в бытии, а в
становлении,— вот чем может нас одарить дух критики. Так
живут боги: либо размышляя о собственном своем величии, как
говорит Аристотель, либо, как казалось Эпикуру, невозмутимым
взглядом посторонних наблюдая трагикомедию ими же созданного
мира. И мы можем жить, как они, посвятив себя наблюдению
разного рода сцен, разыгрываемых перед нами человеком и
природой, и чувствуя в себе соответствующее переживание. Мы
можем стать носителями духа, отгородившись от всякого деяния,
и сделаться совершенством, если полностью откажемся от прису-
щей нам энергии. Мне часто кажется, что нечто подобное
чувствовал Броунинг. Шекспир погрузил Гамлета в стремитель-
ный поток жизни, заставив в муках осознать свое назначение. А
Броунинг мог бы показать Гамлета, познающего свое призвание
усилиями мысли. События, игра жизненных сил—для него все
это либо нереально, либо лишено смысла. Протагонистом траге-
дии жизни он сделал душу, а действие считал единственным
элементом драматургии, который чужд драматическому. Ну, а для
нас BL02 0ЕПРНТ1КО21 во всяком случае единственный истин-
ный идеал. На мир мы будем смотреть из высокой башни Мысли.
Сосредоточенный, самоуглубленный, обладающий завершенно-
стью— вот каким должен быть художественный критик, который
созерцает жизнь, и ни одна наудачу пущенная стрела не пробьет
его боевого облачения. Ему не о чем тревожиться. Он постиг, как
надо жить.
Аморальна ли такая жизнь? Конечно, и аморальны все виды
искусства, за исключением тех низших чувственных или дидакти-
ческих форм, которые стараются побудить к действию —
пагубному или благотворному. Любое действие принадлежит
области этики. Цель же искусства просто в том, чтобы создавать
настроение. Непрактична ли эта жизнь? Ах, быть непрактичным
совсем не так просто, как воображает себе невежественный
обыватель. Будь это просто, как много выиграла бы Англия! Нет
в мире страны, больше нуждающейся в непрактичных людях, чем
наша. Мы без конца унижаем Мысль, то и дело соотнося ее с
практикой. Кто из погруженных в суету реальной жизни всерьез
мог бы притязать на то, что наделен способностью объективного
интеллектуального суждения о чем угодно,—кричащий на всех
перекрестках политик, занудный социальный реформатор, узколо-
бый священнослужитель, только и думающий, что о бедствиях не
представляющей интереса части общества, с которой он связал
свою жизнь? Профессии всегда сопутствует пристрастность. Надо
делать карьеру, и поэтому надо занимать какую-то позицию. Наш
век — это время перегруженных работой и не получивших сносно-
го образования, когда люди стали столь трудолюбивы, что
сделались безмерно глупы. И простите за резкость, я не могу не
считать, что такую судьбу они заслужили. Самый надежный
способ ничего не уразуметь относительно жизни заключается в
попытках стать ей полезным.
Эрнест: Замечательная мысль, Джилберт.
Жизнь в созерцании (греч.).
167
Джилберт: Я в этом не уверен, но у нее есть хотя бы то
небольшое достоинство, что она верна. Что побуждения творить
добро для других производят на свет великое множество ханжей и
лицемеров, это еще меньшее из зол. Ханжа—преинтересный
предмет для психологов, и хотя из всех видов позерства мораль-
ное всего отвратительнее, умение встать в позу уже чего-то стоит.
Оно говорит о том, что человек понимает, как важно восприни-
мать жизнь с определенной и обоснованной точки зрения. Самый
факт, что Гуманные Наклонности не в ладу с Природой, посколь-
ку они помогают выживанию никчемностей, должен бы заставить
людей науки с презрением отнестись к такого рода дешевым
добродетелям. Экономисту следовало бы восстать против этих
устремлений, так как они уравнивают транжир с накопителями, а
значит, препятствуют самым действенным—в силу того, что они
самые низменные,— стимулам к развитию производства. На
взгляд же мыслителя, истинный вред, причиняемый этой чувстви-
тельностью, в том, что она встает препятствием на пути знания и
поэтому мешает нам справиться со всеми общественными вопроса-
ми. Мы теперь тщимся в колыбели уморить грядущий кризис,
грядущую революцию, как это называют мои друзья-фабианцы, и
с этой целью направо и налево раздаем мелкие подачки. Так вот,
когда кризис, или же революция, разразится, мы окажемся
бессильны, ибо не обладаем никакими знаниями. Поэтому не
будем обманывать себя, Эрнест. Англия не станет цивилизованной
до той поры, пока список ее колоний не пополнится Утопией.
Обменять кое-какие из подвластных ей территорий на эту страну
было бы куда как выгодно. Нам нужны непрактичные люди,
умеющие заглянуть за пределы наличествующего и поразмыслить
над тем, что не ограничено сегодняшним днем. Притязающие на
власть над народом способны ее завоевать, лишь рабски следуя за
толпой. А пути богам проторяет лишь тот, чьи суждения звучат
гласом паломника в пустыне.
Вы, может быть, сочтете, что размышление ради чистой
радости мысли и созерцание во имя созерцания таят в себе черты
эгоизма. Если вы так думаете, не говорите этого вслух. Нужен
крайне эгоистичный век вроде нашего, чтобы начали обоже-
ствлять самопожертвование. Нужен крайне жадный до накопи-
тельства век вроде того, в который мы живем, чтобы поступаться
высокими интеллектуальными добродетелями во имя пустых,
сугубо эмоциональных порывов, увенчанных непосредственными
практическими приобретениями. И все эти современные филан-
тропы и плакальщики, прожужжавшие нам уши насчет долга
перед ближним,—они тоже не достигают своих целей. Ведь
прогресс человечества определяется прогрессом личности, и там,
где больше не считается самым главным рост культуры каждого в
отдельности, сразу оказывается сниженным, если не вовсе утра-
ченным, интеллектуальный уровень. Доведись вам познакомиться
на каком-нибудь обеде с человеком, всю жизнь посвятившим
самообразованию,— согласен, это редкий в наши дни тип, но он
все же порой встречается,—вы, уходя, почувствуете себя обога-
щенным и ощутите, что вас на миг коснулся и осветил вашу
жизнь высокий идеал. Но храни вас боже, Эрнест, оказаться
168
рядом с человеком, всю жизнь стремившимся образовывать
других. Какой ужас! До чего гнетуще это невежество, с неизбеж-
ностью увенчивающее фатальную привычку всем и каждому
навязывать свои мнения! И до чего узок горизонт таких людей!
До чего утомляют они и нас, и, должно быть, самих себя, до
бесконечности повторяя и пережевывая одни и те же мысли! Ни
признака интеллектуального искания. Все один и тот же порочный
круг.
Эрнест: Меня удивляют ваши интонации, Джилберт. Вам,
видно, в недавнюю пору самому довелось испытать этот, как вы
выражаетесь, ужас?
Джилберт: Мало кому удалось его избежать. Мне говорят,
что этот вот наставник отправился за границу. Как бы хорошо,
чтобы и не возвращался. Однако тип, который он собою—и
далеко не в самом худшем проявлении — представляет, просто
всевластен у нас; и если в сфере этической самая тоскливая
фигура—это филантроп, то в сфере интеллектуальной достойным
его соответствием оказывается тот, кто так озабочен просвещени-
ем других, что никак не выберет времени для собственного
просвещения. Поверьте, Эрнест, истинным идеалом для человека
является рост собственной культуры. Это понимал Гёте, которо-
му мы впрямую обязаны больше, чем кому-нибудь другому во
времена греков. Греки это тоже понимали и оставили как
завещение мыслящим людям нашей эпохи доктрину созерцатель-
ной жизни, равно как и критический метод, совершенно необходи-
мый, чтобы вполне ее осуществить. Это, и только это, придало
величие Ренессансу и подарило нам Гуманизм. Это, и только это,
могло бы придать величие и нашему веку, ибо истинная слабость
Англии заключается не в том, что она недостаточно вооружена и
не успела укрепить свое побережье, и не в нищете, ползущей по
мрачным, лишенным солнца кварталам, и не в пьянстве, которое
неистовствует по омерзительным закоулкам, но всего только в
том, что ее идеалы носят эмоциональный, а не интеллектуальный
характер.
Я не спорю с тем, что интеллектуальный идеал трудно
достижим, и уж особенно с тем, что потребуются, вероятно,
долгие годы, чтобы он приобрел привлекательность в глазах
толпы. Питать симпатии к обездоленным куда как просто. Питать
симпатии к мысли намного труднее. Ведь обычные люди очень
плохо себе представляют, что такое мысль, и похоже, уверены,
будто вынесли той или иной идее смертный приговор, объявив ее
рискованной, хотя лишь такие идеи и обладают истинной интел-
лектуальной ценностью. Идея, не таящая в себе риска, вообще не
заслужила того, чтобы называться идеей.
Эрнест: Вы не перестаете удивлять меня, Джилберт. То вы
объявляете, что всякое искусство по своей сути аморально. А то,
кажется, хотите объявить по сути своей рискованной всякую
мысль.
Джилберт: Но ведь на практике так оно и есть. Благоденствие
общества покоится на привычке и неосознанном инстинкте, а
основой основ его стабильности как здорового организма является
полное отсутствие у его граждан какой бы то ни было умственной
169
жизни. Огромное большинство людей, прекрасно это зная, есте-
ственно привержены той великолепной системе, которая их
возвышает настолько, что приравнивает к машинам, и они с такой
яростью восстают против проявлений интеллекта в любом затра-
гивающем жизнь вопросе, что так и хочется назвать человека
разумным животным, всякий раз утрачивающим почву под нога-
ми, если ему необходимо действовать согласно требованиям
разума. Оставим, впрочем, практическую жизнь и не будем
больше касаться зловезучих филантропов — пусть на них распро-
странится действие законов, выведенных мудрецом с Желтой
реки, этим Чан Цзе с его миндальными глазами, доказавшим, что
такие вот неугомонные хлопотуны о благе и убили простое,
нерассуждающее стремление к добру, которым наделен человек.
Даже говорить о них скучно, и мне уже очень хочется вернуться в
ту область, где критика свободна.
Эрнест: В область интеллекта?
Джилберт: Да. Вы помните, я говорил, что критик—личность
по-своему столь же творческая, как и художник, чьи произведе-
ния могут, в сущности, обладать ценностью только в той мере, в
какой пробуждают у критика какое-то особое движение мысли и
чувства, которое он способен воплотить в форме не менее
законченной, а может быть, и более замечательной и сделать
красоту еще прекраснее, еще совершеннее, потому что она у него
предстанет по-новому выраженной. Мне кажется, вы восприняли
эту мысль несколько скептически. Возможно, я ошибаюсь.
Эрнест: Настоящего скептицизма она у меня не вызвала,
однако должен заметить, что произведение критика, каким вы его
характеризуете—а в этом случае оно, несомненно, является
творческим,— мне представляется по необходимости чисто субъ-
ективным, меж тем как величайшие творения искусства всегда
объективны, точнее, объективны и надличностны.
Джилберт: Различие между произведением объективным и
субъективным полностью исчерпывается внешней его формой.
Оно случайно, а не существенно. Всякое художественное творче-
ство до конца субъективно. Самый пейзаж, который рассматривал
Коро, по собственному его свидетельству, является только на-
строением, переживаемым им самим, а великие персонажи грече-
ской и английской драмы, которые, как нам кажется, обладают
независимым существованием, вовсе не связанным с жизнью
создавших их поэтов, окажутся, если хорошенько поразмыслить,
всегда лишь самими этими поэтами—не такими, какими они себя
считали, а такими, какими те себя не считали и какими, однако
же, странным образом на миг сделались, оттого что они рассужда-
ли именно так. Мы никогда не можем выйти за пределы самих
себя, и в творчестве не может быть ничего такого, что не
заключено в творце. Я бы даже сказал так: чем объективнее
кажется нам произведение, тем оно на деле субъективнее. Быть
может, Шекспир и вправду встречал на лондонских улицах
Розенкранца и Гильденстерна или видел, как бранятся на площади
слуги из враждующих семейств, однако Гамлет вышел из его
души и Ромео был рожден его страстью. Оба они были частью его
природы, которой он придал зримые формы, они были импульса-
170
ми, так сильно в нем выявившимися, что он, точно бы против
своей охоты, оказался вынужден облечь их в плоть и кровь,
отправив их странствовать не по прозаичной обыденной жизни,
где многое их сковывало бы, стесняло и мешало достичь вершин,
а по той возвышенной стезе искусства, где Любовь и впрямь
может найти высшее свое торжество в Смерти, и можно пронзить
шпагой подслушивающего, который прячется за ковром, и всту-
пить в схватку с врагом в свежевыкопанной могиле, и заставить
преступного короля испить чашу собственной вины, и беседовать
с призраком своего отца, в полном боевом облачении являющимся
при лунном свете из одной укутанной таинственным туманом
стены и исчезающим в другой. Реальное действие не принесло бы
Шекспиру удовлетворения и не позволило бы выразить себя,
поскольку оно ограничено; и подобно тому как он достиг всего,
ибо ничего не делал, пьесы показывают нам его полностью,
потому что он в них никогда не говорит нам о себе,— мы здесь
видим его характер, его истинную душу куда яснее, чем даже в
этих странных, полных излишества сонетах, где умеющим видеть
он открыл тайный уголок своего сердца. Да, объективность
формы достигается крайней субъективностью содержания. Чело-
век менее всего оказывается самим собой, говоря о собственной
персоне. Позвольте ему надеть маску, и вы услышите от него
истину.
Эрнест: Стало быть, критик, связанный субъективной фор-
мой, с неизбежностью менее способен выразить самого себя,
нежели художник, в чьем распоряжении всегда остаются формы
надличностные и объективные?
Джилберт: Вовсе не обязательно и даже совсем напротив,
если только он признает, что критика в любой ее форме является
на высшей своей ступени не более как настроением и что мы
всего правдивее перед самими собой, когда мы непоследователь-
ны. Критик-художник, последовательный лишь в признании красо-
ты всех вещей, всегда ищет свежих впечатлений, дознаваясь, в
чем тайна обаяния любой школы, и, может быть, преклоняя
колена перед чужими алтарями или же, если так велит его
фантазия, осмеивая странных новых богов. То, что другие
именуют прошлым, вне всяких сомнений, скажет что-то о них
самих, но о конкретном человеке не скажет ничего. Если человек
вглядывается в свое прошлое, он не заслуживает никакого
будущего. Сумев выразить какое-то настроение, незачем к нему
возвращаться. Вы напрасно смеетесь, это так. Еще вчера нас
зачаровывал реализм. Он создавал nouveau frisson1, к чему и
стремился. Но мы разобрались в его природе, и он нам прискучил.
И еще не успел кончиться отпущенный ему день, как в живописи
заявила о себе школа света, а в поэзии школа символов, и в
истерзанной России неожиданно возродился дух средневековья,
захватив нас на минуту своим бескомпромиссным восприятием
жизни как боли,—я разумею не исторические средние века, но
определенный душевный настрой. Сегодня же мы жаждем роман-
тического, и вот уже его ветер всколыхнул листву растущих в
1 Притягательное ощущение новизны (франц.).
171
долине рощ, а на залитой солнцем вершине холма явилась
Красота, неслышно по ним ступая в своем роскошном одеянии.
Конечно, еще дотлевают старые формы творчества. С тоскливым
однообразием художники еще стараются правдиво изобразить
самих себя или друг друга. Но Критика всегда в движении, и
критики всегда стремятся идти дальше.
Критик и вообще не связан субъективной формой выражения.
В его распоряжении и метод драмы, и метод эпоса. Он может
прибегнуть к диалогу, как тот, кто заставил Мильтона разговари-
вать с Марвеллом о сущности комедии и трагедии, а Сидни —
размышлять вслух о природе литературы, расположившись с
лордом Бруком под сенью пенсхерстского дуба; он может избрать
и повествовательную форму, к которой склонен Пейтер, в каждом
из своих воображаемых портретов — кажется, так и названа его
книга? — под видом свободной ассоциативной прозы предлагающий
нам образчик тонкой и изящной критики, касающейся то живопи-
си Ватто, то философии Спинозы, то языческих элементов в
искусстве раннего Ренессанса, то истоков Aufklarung, этого
просветительства, в прошлом столетии охватившего Германию и
столь много значившего для нашей культуры,— может быть, этот
его очерк всего богаче мыслями. Диалог, этот прекрасный жанр,
который облюбовали творческие критики всего мира от Платона
до Лукиана, и от Лукиана до Джордано Бруно, и от Бруно до
великолепного старого язычника, так восхищавшего Карлей-
ля,—диалог, конечно, всегда останется формой выражения, осо-
бенно привлекательной для мыслителя. В диалоге можно и
выразить себя, и утаить то, что не хочется выставлять на
всеобщее обозрение; он придает форму любой фантазии и
достоверность любому переживанию. Диалог позволяет рассмот-
реть предмет со всех точек зрения, так что он нам предстает во
всей своей целостности, подобно тому как показывает нам то или
иное явление скульптор, добиваясь полноты и живой верности
впечатления за счет того, что главная мысль в своем развитии
выявляет и множество побочных ответвлений, которые в свою
очередь позволяют глубже раскрыть эту основную идею, и
положенный в основу план обретает завершенность благодаря
добавлениям, появляющимся уже в ходе его осуществления и
дающим вместе с тем почувствовать непосредственность этого
процесса и его чарующую непредугаданность.
Эрнест: К тому же можно вывести на сцену воображаемого
противника в споре, в нужный момент обратив его на свою
сторону при помощи какой-нибудь невероятной софистики.
Джилберт: Ах, обращать на свою сторону так несложно! Зато
как трудно обратить самого себя. Чтобы достичь того, во что
действительно веришь, приходится говорить устами человека,
вовсе не похожего на тебя самого. Познание истины требует,
чтобы познающий вообразил себе мириады заблуждений. Ибо что
есть Истина? Если дело идет о религии, это не более чем
известное мнение, которое сумело продолжаться веками. Если
иметь в виду науку, истина в ней—последняя и самая громкая
сенсация. Ну, а в искусстве — это последнее из пережитых нами
настроений. Теперь, Эрнест, вы убедились, что критик располага-
172
ет столь же многочисленными объективными формами выраже-
ния, как и художник. Рескин облекает свои критические опы-
ты в формы прозы, полной воображения, и он восхитителен
в своих непоследовательностях и противоречиях; Броунинг
предпочитал белый стих, заставляя поэтов и живописцев де-
литься с ним своими тайнами; Ренан пользуется диалогом,
Пейтер — художественной прозой, а Россетти обогатил
музыку сонета красками Джорджоне и энгровской точностью
композиции, не говоря уже о его собственных красках
и композиционных приемах, и, владея столь разнообразны-
ми формами выражения, особенно глубоко чувствовал, что
высшим из искусств остается литература, а первым, самым
богатым из изобразительных средств всегда было и будет
слово.
Эрнест: Ну что же, раз критик владеет всеми объективными
формами, какие, скажите, качества должны отличать истинного
критика?
Джилберт: А как вы считаете?
Эрнест: Я бььсказал, что прежде всего критик должен судить
по справедливости.
Джилберт: Нет-нет, только не по справедливости. Критик
просто не может быть справедлив в обычном значении слова.
Действительно беспристрастное мнение мы высказываем лишь о
том, «что не представляет для нас никакого интереса, и именно
поэтому беспристрастное мнение в свою очередь не представляет
решительно никакой ценности. Способные увидеть обе стороны
предмета абсолютно неспособны увидеть предмет в его истинно-
сти. Искусство—это страсть, и в вопросах искусства Мысль
неизбежно окрашивается переживанием, а оттого она, скорее,
текуча, нежели определенна, и ее невозможно сузить так, чтобы
она превратилась в научную формулу либо богословскую догму,
ибо она всегда сопряжена с неуловимо меняющимся—мгновенье
от мгновенья—настроением. И обращается Искусство к душе, а
душа может стать пленником разума, как и пленником тела.
Понятно, предвзятости следует избегать; но, как заметил еще
столетие назад великий француз*, в таких вещах у каждого
должны быть свои предпочтения, а если есть предпочтения,
невозможна справедливость. Один только торговец на аукционе
способен бесстрастно восторгаться всеми школами поровну. О
нет, справедливость не является свойством истинного критика. И
даже необходимым условием критики. Каждая форма искусства,
которая нам открывается, на время захватывает нас, тесня все
прочие. Мы должны без остатка отдаться всякому произведению,
о котором судим, и лишь тогда нам откроется его тайна. Й при
этом мы не должны, да мы просто не можем думать ни о чем
другом.
Эрнест:Ио по крайней мере истинный критик будет рациона-
лен или и это необязательно?
Джилберт: Рационален? Существует два способа не любить
Искусство, Эрнест. Один из них заключается в том, чтобы его
просто не любить. Другой в том, чтобы любить его рационально.
Ведь Искусство — это не без оттенка сожаления отмечал еще
173
Платон — создает в зрителе, в слушателе своего рода божествен-
ное безумие. Само оно возникает не из вдохновения, однако
внушает вдохновение другим. Рассудок — совсем не та область,
которую оно затрагивает. Если любишь Искусство, его надо
любить превыше всего в мире, а против такой любви восстает
рассудок, если только прислушиваться к его голосу. Нет ни следа
здравомыслия в поклонении красоте. Оно слишком всемогуще,
чтобы отличаться здравомыслием. И те, в чьей жизни оно
занимает главное место, всегда будут казаться чистой воды
визионерами.
Эрнест: Ну уж по крайней мере критику необходима искрен-
ность.
Джилберт: В скромных пределах искренность опасна, в
беспредельности же своей просто губительна. Истинный критик,
разумеется, полностью искренен в приверженности принципу
красоты, однако он ищет красоту во всех веках и в творчестве
всех школ, и он не примирится со стремлением связать его по
рукам той или иной общепринятой системой мышления или же
стереотипным восприятием вещей. Он выразит себя во многих
формах, тысячами различных способов, и ему всегда интересны
необычные ощущения и небанальные взгляды. Свое подлинное
единство он обретает в постоянной изменчивости, и только в ней.
Он не сделается рабом собственных мнений. Ведь в интеллекту-
альной жизни разум—это развитие, разве не так? Суть мысли,
как и суть жизни,—это ее постоянное движение вперед. Не
пугайтесь слов, Эрнест. То, что называют неискренностью, на
деле лишь способ, посредством которого мы обогащаем свою
личность.
Эрнест: Похоже, я заблуждаюсь во всех своих представлени-
ях о критике.
Джилберт: Из тех качеств критика, которые вы назвали,
два—искренность и справедливость — если и не полностью при-
надлежат морали, то граничат с нею, меж тем как первым
условием критики является умение видеть, что область Искусства
и область Этики абсолютно самостоятельны и отделены друг от
друга. Когда их смешивают, возвращается Хаос. В Англии их
теперь очень часто смешивают, и хотя наши новоявленные
пуритане не в силах уничтожить прекрасное, им почти удается,
пусть только на миг, извратить прекрасное, прибегая к своей
похотливой ригористичности. Свои мнения они, как ни жаль,
излагают главным образом в журналах. В самом деле жаль,
потому что о современных журналах можно сказать много
хорошего. Доводя до нашего сведения мнения йичего не понима-
ющих в искусстве, они дают нам ощутить степень невежества
толпы. Старательно информируя о событиях текущей жизни, они
нас лучше всего убеждают в том, насколько эти события
незначительны. Год за годом дискутируя лишь о том, что не
обладает ни малейшей важностью, они позволяют понять, что
действительно необходимо культуре и без чего она вполне
обойдется. Но им не следовало бы поручать статьи о современном
искусстве жалким тартюфам. Тем самым они сводят на нет свои
же достоинства. Но есть свое оправдание и для статей тартюфов,
174
для заметок чедбендов1. Они выявляют всю узость тех пределов,
в которых этика и нравственные соображения способны оказы-
вать какое бы то ни было воздействие. Наука остается вне сферы
действия морали, поскольку она имеет дело с истинами внешнего
порядка. Искусство остается вне сферы действия морали, пос-
кольку имеет дело с прекрасным, бессмертным и вечно изменчи-
вым. Морали принадлежат области низшие и менее интеллекту-
альные. Впрочем, оставим в покое этих громогласных пуритан, в
них есть нечто забавное. Кого не насмешат пресерьезные увере-
ния заурядного журналиста, что необходимо ограничить тематику
Искусства! Ограничить надо бы — и я надеюсь, что ограничат,—
круг тем некоторых наших газет и тех, кто для них пишет. Они
только тем и занимаются, что откапывают грубые, грязные,
отвратительные факты жизни. С недостойной жадностью набра-
сываются они на разные прегрешения, совершаемые второсортной
публикой, и с рвением безграмотных щелкоперов, со множеством
достоверных и унылых подробностей описывают поступки никому
не интересных людей. Но кто же возьмет на себя смелость
ограничивать тематику художника, который свидетельствует о
фактах жизни, вместе с тем преображая их по законам красоты,
так что они становятся способны пробуждать сострадание и
благоговение, и выявляет все богатство их оттенков, и то
чудесное, что в них заключено, и их подлинное этическое
значение,—ведь художник творит из них мир более истинный, чем
сама реальность, и обладающий более высоким, более благородным
смыслом. Уж пусть и не пытаются ограничить его апостолы этой
новомодной газетной правдивости, представляющей собой всего
только вековечную вульгарность, выступившую словно под увели-
чительным стеклом. Как и апостолы этого новомодного пуритан-
ства, на поверку оказывающегося лишь воплем лицемерия, неспо-
собного придать себе сносного выражения ни в устной речи, ни на
бумаге. Да смешно и предположить, что эти ограничения подей-
ствовали бы. Бог с ними, с этими ничтожными людишками,
вернемся к тем творческим качествам, которые потребны истин-
ному критику.
Эрнест: Так что же это за качества? Назовите их, пожалуй-
ста.
Джилберт: Первое, чем должен обладать критик,—это особо-
го рода душевный склад, наиболее восприимчивый к красоте и к
различным впечатлениям, которые в нас возбуждает красота. При
каких условиях и каким образом возникает в народе ли, в
личности такого рода душевный склад—этого мы сейчас касаться
не будем. Заметим только, что он существует и что есть в нас
чувство красоты, отличное от всех других чувств и стоящее выше
их, отличное от разума, от благородных устремлений, от свойств
души и по значимости своей не уступающее всему, что я
назвал,—то чувство, которое одних побуждает творить, а других,
кто, как мне представляется, наделен еще более утонченным
духом, склоняет просто созерцать. Чтобы это чувство обрело
1 Персонаж из романа 4. Диккенса «Холодный дом». Лицемерный проповед-
ник.
175
свою чистоту и совершенство, ему необходима особая, изящная
среда. Иначе оно притупляется, а то и вовсе чахнет. Помните то
замечательное место у Платона, где он говорит, как следует
воспитывать юношество, с особой настоятельностью выделяя
важность окружения и подчеркивая, что человек должен расти
среди прекрасных внешних картин и звуков, чтобы эта материаль-
ная красота подготовила его к восприятию красоты высшей,
духовной? Сам того не сознавая и не ища рациональных обоснова-
ний, он должен проникаться истинной любовью к красоте,
которая—о чем без устали нам напоминает Платон—является
высшей целью воспитания. В нем мало-помалу должен вырабо-
таться такой склад характера, который заставит его просто и
естественно отдать предпочтение добру перед злом и, отворачива-
ясь от всего вульгарного и дисгармоничного, побуждением отто-
ченного инстинктивного вкуса стремиться ко всему, что отмечено
изяществом, прелестью и очарованием. В свое время такой вкус
приведет как к высшей ступени к появлению самосознания и
критического чутья, но для начала пусть он существует в чистом
своем виде, в качестве воспитанного инстинкта, и «тот, кто
приобрел эту истинную культуру внутреннего человека, уверен-
ным и незамутненным взором подметит упущения и недостатки в
искусстве и природе, а вкус, который не может ошибиться,
побудит его воздать хвалу должному, и принять это должное в
свою душу, и оттого сделаться выше и достойнее, и верно
распознать зло, отвергнув и осудив его,—и все это придет еще в
младые лета, когда человек не может знать, для чего это
необходимо»; так вот, впоследствии разовьется дух критичности
и самосознания, и он «поймет, что это, и встретит приветствием,
как друга, с которым давно его сблизило полученное им воспита-
ние». Надо ли говорить, Эрнест, как далеко отошли англичане от
такого идеала; да и вы без труда представите себе насмешливую
улыбку на лоснящемся лице обывателя, которому вам вздумалось
бы объяснять, что истинная цель воспитания—привить любовь к
красоте, а методы такого воспитания—это выработка определен-
ного душевного склада, совершенствование вкуса и пробуждение
духа критики.
Да, даже и для нас отчасти сохранилась живописность окружа-
ющей среды, и нудные речи наших наставников и профессоров
значат очень мало, когда можно побродить под серыми аркадами
Модлин-колледжа или послушать, как флейтой звучит голос певца
в часовне Уэйнфлит, и растянуться на зеленой лужайке среди
причудливых, пятнистых, точно змеи, лилий, и смотреть, как
сожженный солнцем полдень заставляет чистым золотом гореть
металлические флюгеры на башенках, или постоять в Крайстчер-
че на внутренней лестнице под сумрачными сводами, где гнездятся
тени прошлого, или задержаться на минуту в резных дверях дома
Лода в колледже Св. Иоанна. И не только в Оксфорде или
Кембридже способно пробудиться, окрепнуть, дойти до совершен-
ства чувство красоты. Повсюду в Англии видны следы Ренессанса
декоративных искусств. Уродство отжило свой век. Даже в
жилищах богачей есть приметы вкуса, а те, кто небогаты, сумели
придать своим обиталищам грациозность,- завершенность и гармо-
176
ничность. Калибан1, этот вечно шумящий, жалкий Калибан
полагает, будто все на свете живет лишь до той поры, пока он в
раздражении корчит свои гримасы. Но если он больше не
насмешничает, то лишь оттого, что сам встретил насмешку более
едкую и разящую, чем его собственная,—вот ему и пришлось
теперь изведать горечь того молчания, которое вечной печатью
сковало его чудовищные, раздутые уста. Все поныне сделанное
главным образом представляет собой расчистку дороги. Разру-
шать неизменно труднее, чем создавать, а когда разрушать
приходится глупость и вульгарность, задача эта требует не только
мужества, но и презрения. Но, мне кажется, она в известной мере
уже решена. Мы избавились от безобразного. Теперь нужно
создавать прекрасное. И хотя миссия эстетического движения в
том, чтобы привить дух созерцания, а не дух творчества, все же,
поскольку творческий инстинкт ярко выражен в кельтах — а
главная роль в искусстве принадлежит именно кельтам,— я не
вижу причин, по которым в будущем мы не могли бы пережить
по-своему столь же великого и необычного Ренессанса, как тот,
что много столетий тому назад ознаменовал собой в итальянских
городах новое рождение Искусства.
Вне сомнения, чтобы воспитывать необходимый душевный
склад, мы должны обратиться к декоративным искусствам, к тем,
которые способны нас трогать, а не к тем, что нас поучают.
Современная живопись дарит нам минуты восторга. Хотя бы
отдельные ее явления. Но этими картинами невозможно жить, они
слишком умны, слишком утверждающи, слишком интеллектуаль-
ны. Их смысл чрезмерно ясен, а метод чрезмерно определен. То,
что они хотят нам сказать, постигается очень быстро, а тогда они
становятся докучливы, словно родственники. Мне чрезвычайно
нравятся многие парижские и лондонские художники-
импрессионисты. Этой школе пока все еще присущи тонкость и
достоинство. Порой ее композиции и цветовые сочетания приво-
дят на память недостижимую красоту бессмертного творения
Готье, его «Мажорной симфонии в белом»—этого безукоризнен-
ного шедевра красочности и музыкальности, быть может, навеяв-
шего и стиль, и названия некоторых лучших импрессионистских
полотен. На том фоне, когда общим правилом стало горячо
приветствовать всякое невежество, смешивая причудливое с прек-
расным и вульгарное с истинным, эти художники кажутся
достигшими исключительно многого. В их набросках есть блеск и
законченность эпиграммы, их пастели очаровательны, как пара-
доксы, а что до их портретов, то при всех обвинениях, обрушива-
емых на них заурядностью, невозможно отрицать того присут-
ствующего в них неповторимого и поразительного очарования,
которое отличает лишь творения чистой фантазии. Но не могут
удовлетворить даже импрессионисты, как они ни серьезны и как
ни значительны. Мне они нравятся. Основной для них белый тон с
многообразными сиреневыми оттенками составил в искусстве
цветовой гаммы целую эпоху. Мгновенье не создает личность, но
1 Персонаж из пьесы У. Шекспира «Буря» —дух зла, вульгарности и грубой
силы.
177
импрессиониста оно создает, а как бесконечно много можно
сказать о мгновенье, запечатленном в искусстве, этом, по слову
Россетти, «памятнике мгновенью». И кроме того, они пробуждают
ассоциации. Прозреть слепых они не заставили, но хотя бы
заметно выправили зрение близоруких, и если их вождей в полной
мере отличает подлинное незнание жизни, свойственное прежнему
времени, то молодые уже слишком умны, чтобы впадать в какую
бы то ни было чувствительность. Но при всем том и они упрямо
видят в живописи что-то вроде автобиографии, написанной для
безграмотных, и на своих грубых, намалеванных холстах вечно
стараются поведать о собственных никому не нужных характерах
и мнениях, такого толка вульгарными акцентами портя искушен-
ное презрение к природе, которое в них составляет особенность
самую замечательную и оказывается единственным проявлением
.*х скромности. В конце концов устаешь от творений индивидов,
чья индивидуальность так навязчива и, как правило, неинтересна.
В пользу новой парижской школы, чьи приверженцы называют
себя архаистами, можно сказать немного больше, ибо она не
желает, чтобы художник полностью зависел от капризов погоды,
ищет идеал искусства не просто в атмосферных эффектах, а
скорее в рождаемых воображением красоте композиции и яркости
цветовой гаммы и, не довольствуясь плоским реализмом изобра-
жающих то, что они перед собой видят, пытается найти нечто
достойное видения — не одного лишь физического, непосредствен-
ного видения, но прежде всего возвышенного видения души,
несопоставимо более широкого по духовному охвату, как и
несопоставимо более значительного по художественной задаче. Во
всяком случае, эти живописцы соблюдают требования декоратив-
ности, необходимой каждому взыскующему совершенства искус-
ству, и у них достает художественного чутья, чтобы не ставить
перед собой глупой, ничтожной цели добиться абсолютной новиз-
ны формы, к чему стремились, губя свое творчество, многие
импрессионисты. Откровенно декоративное искусство в итоге и
предстает тем, которое необходимо для жизни. Из всех зритель-
ных искусств оно одно способно и пробудить настроение, и
помочь формированию нужного душевного склада. Чистый цвет,
не испорченный смыслом и не подкрепленный избранной формой,
подсказывает душе тысячи вещей. Гармония, таящаяся в тонком
соотношении линий и цветовых блоков, находит в нашем сознании
зеркальное отражение. Повторяемость узора дарует нам чувство
успокоения. Изобретательность композиции будоражит воображе-
ние. В самой привлекательности для нас использованного худож-
ником материала таятся ростки культуры. И это еще не все.
Сознательно отказываясь видеть в Природе идеал красоты, как и
отвергая подражание Природе, которым вдохновляется заурядный
художник, декоративное искусство подготавливает к восприятию
произведений, созданных полетом воображения, и, помимо этого,
помогает развиваться чувству формы, являющемуся фундаментом
и для творчества, и для критики. Истинный художник тот, кто
идет не от переживаний к форме, а от формы к мысли и страсти.
Неверно полагать, что вначале он обдумывает идею и потом
говорит себе: «Я выражу эту идею в четырнадцати стихах,
178
написанных таким-то размером»,—нет, вначале он должен по-
стичь красоту сонета как формы, постичь его особую музыку и
особую рифму, и сама форма подскажет, чем она должна быть
заполнена, чтобы обрести интеллектуальное и эмоциональное
значение. Случается, что превосходного поэта, истинного худож-
ника начинают поносить по той причине, что ему, пользуясь этой
затасканной, глупой фразой, «нечего сказать». Однако же, имей
он что сказать, так и сказал бы и вышла бы еще одна
банальность. Как раз оттого, что у него нет никакого нового
откровения, он способен создавать прекрасное. Свое вдохновение
он черпает в форме, в чистой форме, как и подобает художнику.
Переживай он страсть впрямую, это его погубило бы. Все, что
происходит на самом деле, уже испорчено для искусства. Вся
скверная поэзия порождена искренним чувством. Быть естествен-
ным— значит быть очевидным, а быть очевидным — значит быть
нехудожественным.
Эрнест: Неужели вы и вправду так считаете?
Джилберт: А что вас удивляет? Не в одном лишь искусстве
материальное становится духовным. В любой области жизни
форма—начало вещей. Платон говорит, что ритмичные, согласо-
ванные движения в танце сообщают гармонию, ритмичность и
жизни духа. Формы суть пища веры, воскликнул Ньюмен в одну
из тех своих минут полной искренности, которые так в нем
восхищают, давая почувствовать, кто он на самом деле. И он был
прав, хотя, наверное, и не понимал, до чего он ужасающе прав. В
заповеди верят не оттого, что они разумны, а оттого, что их
часто повторяют. Да, Форма—это все. В ней тайна жизни.
Сумейте выразить свою печаль, и она станет вашей отрадой.
Сумейте выразить радость, и она многократно возрастет. Вам
хочется испытать любовь? Пускайте в ход привычный словарь
любви, и слова создадут то чувство, которое для непосвященных
будто бы потребовало таких слов. Вам гложет сердце тоска?
Погрузитесь в глубины ее лексики, учитесь говорить о ней у
принца Гамлета и королевы Констанс *, и вы удостоверитесь, что
целительна сама способность ее выразить и что Форма, рождая
страсть, убивает боль. Так вот, возвращаясь к Искусству, не что
иное, как Форма, создает и критический склад ума, и даже
художественный инстинкт, эту никогда не изменяющую способ-
ность воспринимать все на свете под знаком красоты. Научитесь
поклоняться Форме, и не будет в искусстве такой тайны, которая
вам осталась бы недоступной, да еще хорошенько запомните, что
и в критике и в творчестве все решает душевный настрой и что
художественные школы, существовавшие в истории, следует
сближать не по эпохам, а по характерным чертам духовности,
привлекавшим каждую из них.
Эрнест: Ваши мысли о воспитании великолепны. Только
сумеет ли ваш критик, сформировавшийся в самой изысканной
среде, хоть отчасти влиять на искусство? Вы в самом деле
думаете, что был хоть один художник, всерьез прислушивавшийся
к критике?
Джилберт: Критик воздействует самим фактом своего суще-
ствования. Он представляет мысль в ее безукоризненной выверен-
179
ностй. В нем культура эпохи находит свое высшее осуществление.
Нельзя требовать, чтобы он ставил перед собою иные цели, кроме
самосовершенствования. Хорошо сказано: потребность интеллекта
лишь в том, чтобы ощущать себя живым. У критика вполне
возможно желание влиять непосредственно, только тогда уже не
на отдельную личность, а на все свое время, которое он будет
стремиться пробудить к сознательной жизни и тем самым к
творчеству, воплощающему в себе новые устремления и запросы,
которые критик глубже всего постиг благодаря особой остроте
своего зрения и тонкости своих переживаний. Искусство, которое
мы видим сегодня, будет его интересовать меньше, чем искусство
завтрашнего дня, и еще гораздо меньше, чем искусство прошедше-
го, ибо те, кто возделывает художественную ниву в наш век,
право же, немногого стоят. Конечно, они стараются изо всех сил,
и в результате мы получаем все самое худшее, что только
возможно в искусстве. Худшее всегда ведь увенчивает собой
самые благие побуждения. И кроме того, дорогой мой Эрнест,
если человек достиг сорока и сделался королевским академиком,
членом клуба «Антей», признанным и читаемым романистом, на
чьи книги велик спрос в пригородных железнодорожных киосках,
то, может быть, и занятно развенчать его мнимое значение, но
пытаться его переделать бессмысленно и скучно. Для него самого
лучше, что так,—я не сомневаюсь, что вытерпеть наказание йе
так болезненно, как снести переделку, представляющую собой то
же наказание в наиболее усугубленной моральной форме; кстати,
вот почему в нашем обществе совершенно не умеют возвращать к
нормальной жизни закоренелых преступников, которые весьма
интересны как явление.
Эрнест: А вы не допускаете мысли, что лучшим судьей стихов
будет поэт, как живописец—лучшим судьей картин? Всякое
искусство должно ориентироваться прежде всего на художников,
которые ему служат. Их мнения наверняка должны быть самыми
ценными.
Джияберт: Всякое искусство ориентируется лишь на художе-
ственный душевный склад. Оно не обращено к собственным
профессионалам. Само себя оно считает универсальным, и во всех
своих проявлениях оно едино. Художник не только не может быть
в искусстве лучшим из судей,— если он истинно велик, он и
вообще не может судить о произведениях, созданных другими, да
навряд ли способен судить и о собственных работах. Та сосредо-
точенность видения, которая и обращает простого смертного в
художника, самой своей предельностью подавляет способность
тонкого восприятия и оценки. Энергия, пробуждаемая творче-
ством, устремляет творца прямо к его цели, не допуская, чтобы
он отвлекался хоть на миг. Он словно несется на колеснице, а
колеса вздымают вокруг него плотные облака пыли. Боги спрята-
ны за ними друг от друга. Они способны замечать лишь
поклоняющихся им. Но и только.
Эрнест: Так вы считаете, что великий художник не может
оценить красоту произведений, не им самим созданных?
Джилберт: Он просто лишен такой возможности. Прочитав
«Эндимиона», Вордсворт нашел в нем всего лишь живость
180
языческого мироощущения, а Шелли, который не выносил буднич-
ной, повседневной обыкновенности, остался глух к стихам
Вордсворта, раздражавших его своей формой, Байрон же, этот
великий страстотерпец, не сумевший до конца осуществить самого
себя, был не в силах по достоинству оценить как поэта, воспевав-
шего облака1, так и того, кто восхвалял озера2, и ему осталась
недоступна магия Китса. Еврипид со своим реализмом внушал
отвращение Софоклу. Эти потоки горячих слез не пробуждали в
нем никакой музыки. Мильтон, наделенный особым чувством
возвышенного стиля, ничего не понял в методе Шекспира, как и
сэр Джошуа3 в методе Гейнсборо. Скверные художники вечно
восторгаются друг другом. Они именуют свои восторги широтой
вкуса и свободой от предвзятости. Но истинно крупный мастер не
способен представить себе, что можно показывать жизнь и
творить красоту не теми способами, которые он избрал для
самого себя. Творчество целиком поглощает и растворяет в себе
критическую способность, ему отпущенную. Оно не оставляет
ничего, что пошло бы на суждение о других. Лишь по той
причине, что человек сам ничего не может создать, он может
сделаться достойным судьей созданного другим.
Эрнест: Вы действительно так думаете?
Джшгберт: Да, потому что творчество суживает пределы
видения, созерцание же их раздвигает.
Эрнест: Ну а как насчет техники? Ведь у каждого искусства
есть особая техника.
Джияберт: Несомненно, и своя грамматика, и свой материал.
Но во всем этом нет ничего непостижимого, так что и несведущий
вполне может оказаться точен в суждении. И есть законы, на
которых основывается Искусство, точные и строгие, осуще-
ствиться они могут лишь при условии, что воображение претворит
их в такую красоту, когда все они до одного будут воспринимать-
ся не как правила, а как исключения. Техника—это на самом деле
личность художника. Вот почему мастер и не способен ей
обучить, а подмастерье не в силах ее перенять, понять же ее
может критик-художник. Для великого поэта существует только
одна музыка—его собственная. Для великого художника нет
никаких приемов живописи, кроме используемых им самим.
Оценить все формы, все методы творчества способен критик-
художник, и только он. Искусство обращается непосредственно к
нему.
Эрнест: Ну, кажется, я уже исчерпал свои вопросы. И
должен признать, что...
Джилберт: Ах, только не торопитесь со мною соглашаться.
Когда со мною соглашаются, у меня всегда такое чувство, что я
где-то напутал.
Эрнест: Не беспокойтесь, я вовсе не собираюсь уточнять, в
чем я с вами согласен, а в чем нет. Задам, однако, еще один
вопрос. Вы мне объяснили, что критика—это творчество, искус-
ство. Какое у нее будущее?
1 Шелли.
2 Вордсворт.
3 Английский художник Рейнолдс.
18]
Джилберт: Будущее принадлежит именно критике. Темы для
творчества с каждым днем становятся все беднее и по глубине, и
по многообразию. Провидение вкупе с мистером Уолтером Безан-
том* исчерпали область очевидного. Если творчество вообще
будет продолжаться, то лишь при непременном условии, что оно
проникнется духом критики больше, чем в настоящее время.
Старые тропы и пыльные столбовые дороги изъезжены вдоль и
поперек. Слишком уж много ног по ним прошло, чтобы сохрани-
лась их притягательность, да и не осталось той новизны и
неожиданности, которая могла бы привлечь к ним романтиков.
Человек, который сегодня пожелает заинтересовать нас своей
фантазией, должен либо предложить совершенно новый фон, либо
приоткрыть самые сокровенные уголки человеческой души. Пер-
вое решение избрал для себя Редьярд Киплинг. Перелистывая его
«Простые сказки с гор», чувствуешь себя словно бы расположив-
шимся в тени пальм и читающим книгу жизни при ослепительных
вспышках вульгарности. Яркие краски восточных базаров утомля-
ют глаз. Все эти измученные делами, живущие второсортной
жизнью индийские англичане выглядят до невероятности нелепо
среди окружающей их пышной природы. Рассказчик понятия не
имеет о стиле, и как раз поэтому его рассказам присущ
своеобразный газетный реализм. Если судить о нем по критериям
литературы, Киплинг — это большой талант, который задыхается
на каждом слове. Если же руководствоваться критериями жиз-
ни—это репортер, знакомый со всем вульгарным лучше, чем кто
угодно другой до него. Диккенс знал внешний облик вульгарности
и ее комедийную сторону. Киплинг знает ее душу и ее серьезный
аспект. Он первый наш знаток второсортности, в узкую щелку он
сумел разглядеть вещи поразительные, а созданный в его расска-
зах фон—это настоящее искусство. Что же касается другого
решения, его предпочли Броуиинг и Мередит. Но на ниве
душевной интроспекции дела еще непочатый край. Иногда слы-
шишь, что литература становится уж слишком мрачной. В том,
что относится к области психологии, она никогда не была
достаточно мрачной. Мы здесь коснулись лишь самого верхнего
слоя. В каждой белоснежной клеточке мозга хранится куда
больше чудесного и ужасного, чем предполагали даже те, кто,
подобно автору «Красного и черного», пытались застать душу в ее
самых интимных состояниях и вырвать у жизни самые заповед-
ные ее тайны. Впрочем, не вечно же удастся открывать никем
прежде не описанные ландшафты и нравы, да и дальнейшее
углубление интроспекции как бы не оказалось фатальным для
творческой способности, которую с помощью такого способа
хотят обогатить свежим материалом. Лично я склонен думать, что
творчество ожидает печальная судьба. Побуждения, его вызыва-
ющие, слишком примитивны, слишком естественны. Не знаю, так
или нет, но уж во всяком случае несомненно, что темы для
творчества постоянно сокращаются, в то время как темы для
критики численно растут день ото дня. Сознание наше все время
оказывается в новых отношениях с миром, мы то и дело находим
новые точки зрения. С развитием жизни не иссякает потребность
в обуздании хаоса формой. Не было эпохи, когда в Критике так
182
нуждались бы, как в наш век. Лишь с ее помощью Человечество
может осознать, какой фазы оно теперь достигло. В начале нашей
беседы, Эрнест, вы спросили меня, для чего нужна Критика. Это
все равно что спрашивать, для чего нужна мысль. Именно
Критика, как пояснял Арнольд, создает интеллектуальную атмос-
феру времени. Именно Критика, как я сам надеюсь как-нибудь
пояснить, делает разум совершенным инструментом. Нашей систе-
ме образования мы обязаны тем, что захламили свою память
грудами бессвязных фактов, а затем прилежно стараемся нагру-
зить других нашими прилежно скопленными знаниями. Мы учим,
как запоминать, и никогда не учим, как расти. Нам и в голову не
приходило попытаться обрести более развитую способность вос-
приятия и классификации фактов. Ее умели воспитывать в себе
греки, и, соприкасаясь с их критическим интеллектом, мы не
можем не признать, что доступные нам темы во всех отношениях
шире и разнообразнее, чем у них, однако лишь их метод даст
возможность совладать с этими темами. Одна заслуга по праву
останется за Англией — она изобрела и.утвердила институт Обще-
ственного Мнения, являвшийся попыткой придать организован-
ность невежеству массы и сообщить ему столь высокое значение,
что оно становится прямо физической силой. Но эта сила никогда
не могла притязать на союз с Мудростью. Если рассматривать
английский душевный склад в качестве орудия мысли, его надо
признать грубым и недейственным. Усовершенствовать его может
только одно — рост критического инстинкта.
Опять же Критика, развиваясь и накапливая опыт, создает
необходимые предпосылки культуры. Из массы созданного ху-
дожниками и как попало сваленного в груду она умеет выделить
существенное и ценное. Покажите мне человека, который желает
сохранить свой вкус и чутье формы, но при этом отважился бы
подступиться к чудовищным нагромождениям скопившихся за
историю мира книг, где спотыкается мысль и пиршествует
безграмотность! Нить, которая позволит нам выбраться из этого
тоскливого лабиринта, в руках Критики. А если о той или иной
эпохе не осталось никаких свидетельств и ее история для нас
погибла или вовсе и не была написана, Критике по силам
воссоздать это прошлое по самому скромному реликту языка
тогдашнего искусства, как человек науки по крохотной косточке и
даже по отпечатку лапы на камне может воссоздать летающего
дракона или ящерицу-титана, некогда заставлявших почву присе-'
дать под своей тяжестью, и вытащить на свет божий чудище,
тысячелетия назад скрывшееся в пещере, и заставить левиафана
вновь всплыть на поверхность кипящего от возмущения моря.
Доисторическая история—это царство критика-филолога и архе-
олога. Ему открывается происхождение вещей. Самоочевидные
свидетельства ушедших времен обычно обманчивы. Лишь филоло-
гическая критика позволит узнать о тех веках, которые не
оставили по себе наглядной памяти, больше, чем мы знаем о
столетиях, от которых дошли летописи и хроники. Такая критика
может то, чего не могут ни физика, ни метафизика. Она может в
точных научных понятиях охарактеризовать весь ход становления
человеческого разума. Она может то, что не по силам Истории.
183
Она может узнать, что думал человек до того, как он выучился
письму. Вы спрашивали, какое влияние способна оказывать
Критика. Думаю, я уже ответил на этот вопрос, но можно
добавить еще вот что. Ведь это Критика роднит нас со всем
человечеством. Манчестерская школа пыталась научить людей
пониманию их братства, показывая, как для всех них в коммерче-
ском смысле выгодно состояние мира, а не войны. Чудесный мир
эта школа хотела изобразить жалкой рыночной площадью, где
встречаются покупатель и продавец. Она апеллировала к самым
низким инстинктам и потерпела провал. Война следовала за
войной, и интересы торговцев не удержали Францию и Германию
от кровавой схватки. В наше время есть другие школы, старающи-
еся воздействовать на элементарные эмоции или пускающие в ход
мелочные догмы, подкрепленные туманными кодексами абстрак-
тной этики. Учреждают столь любезные чувствительным сердцам
общества мира, носятся с мыслью о международном арбитраже
без применения оружия, такой увлекательной для тех, кто никогда
не заглядывал в книги по истории. Но элементарных эмоций мало.
Они чересчур уж непостоянны, чересчур тесно связаны с темпе-
раментом; да немного пользы принесет и арбитражный совет, для
всеобщего блага заранее лишенный силы приводить свои решения
в действия. Хуже Несправедливости лишь одно —Справедливость,
из чьих рук вынули меч. Когда Правда не есть к тому же и Сила,
она есть Зло.
Нет, не эмоции породнят нас с человечеством, как не породнит
нас и жажда практических выгод. Только сознательно в себе
выработанной привычкой к интеллектуальной критичности сможем
мы стать выше национальных предрассудков. Гёте — прошу
понять меня правильно — был немцем из немцев. Он любил свою
страну, как никто другой. Ее люди были ему дороги, и он стал их
пастырем. Но когда ее поля и виноградники топтал кованый сапог
Наполеона, он молчал. «Разве можно создать песнь ненависти, не
ненавидя?— сказал он Эккерману.— И разве могу я, для которого
в целом свете важна лишь культура, противоборствующая варвар-
ству, ненавидеть народ, принадлежащий к числу самых цивилизо-
ванных и столь много сделавший для моего собственного духовно-
го воспитания?» То, о чем в новое время первым сказал Гёте,
станет, я верю, исходным пунктом всеобщего братства будущего.
Критика покончит с предрассудками наций, настойчиво говоря о
том, что человеческий разум един во всем многообразии своих
проявлений. Если возникнет мысль объявить войну другой стране,
мы вспомним, что тем самым пытаемся разрушить часть собствен-
ной культуры, и может быть, даже важнейшую. До тех пор, лока
в войне видят зло, она воегда будет обладать известной привлека-
тельностью. Когда в ней научатся видеть вульгарность, она не
привлечет никого. Конечно, такая перемена произойдет нескоро и
в ней не сразу отдадут себе отчет. Никто не скажет: «Нельзя
воевать с французами, потому что у них прекрасная проза»,—
однако по той причине, что у французов прекрасная проза,
невозможно будет ненавидеть Францию. Дух интеллектуальной
критичности сплотит Европу, и это будут узы намного более
прочные, чем те, что грезятся коммерсанту или слезливому
184
филантропу. Они подарят нам мир, ставший следствием истинного
понимания вещей.
И это еще не все. Критика, никакое суждение не считая
окончательным и не связывая себя ничтожными поверьями какой
угодно секты или школы, создает тот чистый философский строй
мысли, для которого истина важна сама по себе и ничуть не
утрачивает важности, если она заведомо недостижима. Как редко
встречается такой строй мысли в Англии и как он нам необходим!
Английский разум вечно мечется от одного к другому. Интеллек-
туальные силы нашей нации попусту растрачиваются в глупых,
гнусных препирательствах второразрядных политиков или третье-
разрядных теологов. И высокий пример той «прекрасной разум-
ности», о которой так проницательно говорил Арнольд,—увы, так
плохо понятый, вынужден был нам явить человек науки. Автору
«Происхождения видов» уж никто не откажет в философской
ясности ума. Посетите обычные для Англии проповеди, послушай-
те ораторов на обычных для нас собраниях, и вы исполнитесь
либо презрения, как Юлиан, либо равнодушия, как Монтень. Мы
во власти фанатиков, чья самая худшая особенность заключается
в искренности. Собственно, мы понятия не имеем ни о чем, хоть
отдаленно напоминающем свободное движение мысли. Возмуща-
ются согрешившими, но не грешник, а глупец—вот наибольшее
из наших зол. Нет греха, кроме глупости.
Эрнест: Однако хороши же ваши антиномии!
Джилберт: Критик-художник всегда мыслит антиномиями и
схож в этом с мистиком. Сделаться образцом добродетели проще
простого, если принять вульгарное представление о том, что есть
добро. Всего-то и нужно проникнуться жалким страхом, позабыть
о воображении и о мысли да усвоить мещанскую жажду респекта-
бельности. Эстетика выше этики. Она принадлежит сфере более
высокой духовности. Научиться видеть красоту вещей—это пре-
дел того, чего мы способны достичь. В становлении личности
даже обретенное ею чувство цвета важнее обретенного понимания
добра и зла. По сути, в границах цивилизации сознания эстетика
занимает по отношению к этике примерно то же место, что
половой отбор по отношению к естественному в границах физиче-
ского мира. Этика, подобно естественному отбору, делает возмож-
ным сам факт существования. Эстетика, подобно половому
отбору, делает жизнь привлекательной и чудесной, дополняя ее
новыми формами и создавая прогресс, многообразие и изменчи-
вость. Достигая истинной культуры, что является нашей целью,
мы достигаем совершенства, о котором мечтали святые, совер-
шенства тех, для кого грех невозможен, и не оттого, что они
аскетически сдерживают себя, а потому, что в своих полностью
свободных поступках не могут нанести урона душе, они не могут
возжелать ничего, что причинило бы ей вред,— а душа есть
сущность столь священная, что она способна претворять в
подлинное богатство опыта, в подлинную тонкость восприятия
мира, в подлинную новизну мысли все поступки и страсти,
которые для пошлой публики были бы пошлостью, для безграмот-
ных—позором, для живущих постыдной жизнью — гадостью. Что
же здесь опасного? Впрочем, опасность есть—ее, как я уже
185
говорил, заключает в себе всякий идеал. Смотрите-ка, ночь уже
кончается, лампа чуть светит. Не могу не сказать вам еще об
одном. Вы отрицаете Критику как бесплодное занятие. XIX
век—это поворотный пункт в истории, и таким его сделали два
человека: Дарвин и Ренан, критик Книги Природы и критик
Писаний Творца. Не понимать этого — значит не понять смысла
одной из самых важных эпох, которые выпало пережить миру.
Творчество всегда тащится за своим веком. А направляет этот век
Критика. Дух Критики и Всемирный Дух суть единство.
Эрнест: И если я не ошибаюсь, владеющий этим духом или
владеемый им не будет делать ничего?
Джилберт: Подобно Персефоне, о которой рассказывал Лэн-
дор, этой мечтательной, нежной Персефоне, воздушными шагами
ступающей по асфоделям и амарантам в цвету, он «погрузится
глубоко в покой недвижный, который смертных удручает и радует
богов». Он будет всматриваться в мир и постигать его тайну.
Соприкасаясь с божественным, он сам войдет в священный сонм.
Его жизнь будет совершенством — именно его жизнь, и ничья
другая.
Эрнест: Сегодня я услышал от вас много странного, Джил-
берт. Вы утверждали, что говорить о созданном труднее, чем
создавать, и что ничегонеделанье—труднейшее занятие в мире;
вы утверждали, что все Искусство аморально, и что всякая мысль
таит в себе опасность, и что критика в большей степени
творчество, чем само творчество, и что высшая Критика та,
которая находит в произведении вещи, отнюдь не подразумева-
ющиеся художником, и что истинным судьей становишься именно
потому, что ничего не можешь создать сам, и что настоящий
критик не бывает ни справедлив, ни искренен, ни рационален.
Друг мой, да вы мечтатель!
Джилберт: Да, я мечтатель. Ведь мечтатель — это тот, кто
находит свою тропу только при лунном свете, а наказание его в
том, что он видит рассвет раньше, чем все другие.
Эрнест: Наказание?
Джилберт: И награда. Вот видите, уже рассвело. Поднимите
шторы и настежь откройте окна. Как свеж утренний воздух!
Пиккадилли лежит у наших ног, словно длинная серебряная лента.
Слабый, подкрашенный пурпуром туман еще стоит над парком, и
пурпурные тени тянутся от белых домов. Спать уж поздно.
Пойдемте в Ковент-Гарден, полюбуемся розами. Пойдемте!
Мысль утомила меня.
Г. ДЖЕЙМС
«НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
«Наш общий друг» представляется нам самым слабым произведе-
нием Диккенса. И это не случайный просчет, но результат
затянувшегося кризиса творчества. Книге недостает вдохновения.
В течение последних десяти лет Диккенс с таким явным трудом
пишет «Холодный дом», роман вымученный, чувствуется напря-
жение и в «Крошке Доррит», что же касается рассматриваемого
произведения, то оно, вдобавок, и довольно грубой выработки.
Конечно, чтобы предотвратить обычные возражения, огово-
римся сразу: никто, кроме Диккенса, не мог бы его написать. А
кто мог бы, действительно? Кто еще вывел бы в романе
энергичную женщину, найдя такую восхитительно точную деталь,
как то, что она, будучи не в духе, натягивает на руки перчатки и
обвязывает голову носовым платком, а кроме того, постоянно
одергивает домашних: «Тише! Молчать!» Нет нужды говорить, что
образ миссис Реджинальд Уилфер пронизан несомненным и
первоклассным юмором. От нас требуется, и мы смеемся от всей
души, когда читаем, как, посадив дочь в экипаж миссис Боффин
на глазах у исполненных зависти соседей, она следующие чет-
верть часа триумфально возвышается на крыльце «в состоянии
благоговейного экстаза». Когда же она рассказывает, как в доме
ее отца собиралось самое изысканное общество, мы также
смеемся над ее заверениями, что она встречала там в одно и то же
время сразу трех графов, обменивавшихся за столом между собой
исключительно изысканнейшими шутками. Но все же достоинства
этой книги отступают на задний план, стоит лишь вспомнить
примеры искрометного юмора, бьющего через край в каждой
строчке ранних произведений Диккенса.
Если мы скажем, что разработка сложной сюжетной линии
выдает опытную руку, то это вряд ли будет достойным писателя
комплиментом. Если бы мы считали это достоинством, то могли
бы пойти и дальше и поздравить его с успешной фабрикацией
чтива —поступая таким образом, мы бы только облекли в слова
чувство, не покидавшее нас на протяжении всей книги. Редко,
размышляли мы, встретишь роман, в котором было бы так много
слов и так мало истинного чувства, мысли или знаний.
В своих книгах Диккенс всегда щедро черпал из области
фантастического, и пока воображение писателя было живым и
ярким, оно помогало ему создавать великие произведения. Но
когда воображение покинуло его, вымысел стал плохим подспорь-
187
ем. Образы мистера Уилфера, Боффина, леди Типпинз, Лэмлов,
мисс Рен и даже Юджина Рэйберна безжизненные, вымученные и
механические. Из его юмора ушла душа. Не будет преувеличени-
ем сказать, что выведенные в романе характеры — набор эксцен-
тричностей — не имеют никакой связи с реальной жизнью.
В раннем творчестве в экстравагантном стиле Диккенса царила
относительная последовательность, которой была свойственна
гротесковая заостренность. Мы, возможно, никогда не встречали
Ньюмена Ноггса, Пекснифа или Микобера, но они были своего
рода безукоризненным логическим завершением типов людей,
которых мы неоднократно встречали. Здесь же, среди заполнивших
страницы марионеток, мы не видим ни одного лица, которое
можно было бы отнести к какому-нибудь реально существу-
ющему типу. У Диккенса читатель всегда вынужден принять
какое-то количество персонажей или образов, сотканных из
чистой фантазии автора, но он с радостью идет на это, потому что
именно здесь — поэзия автора. Особая красота и сила этих
исключительных характеров всегда вознаграждают читателя за
уступчивость. Теперь от читателя требуют такого же доверия,
которое, однако, никак не вознаграждается.
Что мы получим, если примем на веру такой образ, как мисс
Рен? Эта молодая девушка принадлежит к категории особенно
удававшихся Диккенсу характеров, он умел с их помощью, делая
акцент то на одном, то на другом, вызывать у нас поочередно то>
смех, то слезы. Теперь же мы видим лишь дешевое зубоскальство
и дешевую патетику. Мисс Дженни Рен — несчастная коротышка,
у которой, как она сама часто напоминает, «спина болит» и «ноги
не слушаются», она мастерит куклам платья и вечно тычет в
воздух иголкой в непосредственной близости от людей, с которы-
ми беседует, уверяя, что ей известны их «фокусы и повадки». Так
же как и в прочих «несчастненьких» Диккенса, в ней есть нечто от
монстра: у нее неправильная фигура, она нездорова, неестественна
и принадлежит к внушительной армии калек, слабоумных и
детей-вундеркиндов, ведущих битву за сентиментальные идеалы
писателя на страницах его книг,— малютка Нелл, Смайк, Поль
Домби.
Неудача постигла Диккенса не только при создании положи-
тельных образов, но и отрицательных. Плут Райдергуд, принадле-
жа к разряду людей, который Диккенс особенно хорошо знал,
отвратителен, так сказать, в меру. Но кто видел таких мерзавцев,
как Лэмлы и Фледжби? Люди, конечно, могут быть порочны в
такой степени, но не в таких проявлениях. Разве стали бы два
элегантных мошенника стараться быть столь вызывающе бесчело-
вечными—трудно найти подходящее слово для определения ха-
рактера их порочных действий, в основе которых не лежит
какая-нибудь определенная заинтересованность. Встреченные на-
ми где-то в середине романа слова «человеческая природа»
выглядят чужеродными, потому что именно «человеческой приро-
ды»-то там и нет.
Человечество — нечто другое, чем Боффины, Лэмлы, Уилферы
и Вениринги. Это понятие, соединяющее людей, а не размежевы-
вающее. У вышеназванных персонажей нет между собой ничего
188
общего, кроме того, что все они абсолютно непохожи на
большинство живущих на земле людей. Не приведи господь,
чтобы мир был таким, каким он изображен в «Нашем общем
друге». Но, к счастью, общество, состоящее из чудаков, немысли-
мо. Лишь правила дополняют друг друга, исключения так и
остаются исключениями. Общество держится на природном разу-
ме и естественных чувствах. Представить себе общество, которое
зиждется на чем-то ином, невозможно, Но где же в книге
мудрецы, без которых остановилась бы жизнь? Где природа?
Если добрая половина персонажей книги задумана как гроте-
ски, то где же в таком случае полноценные герои? Справедливо-
сти ради не будем искать их среди наиболее слабых персонажей,
каковыми являются его традиционные характеры вроде Джона
Гармона, Лиззи Хэксем или Мортимера Лайтвуда, однако можно с
уверенностью заявить, что мы не найдем их и среди наиболее
удачных порождений авторского воображения—его фантасмаго-
рических героев.
Возьмем, к примеру, Юджина Рэйберна и Брэдли Хэдстона.
Они занимают срединное положение между достоверными харак-
терами и гротесками. Оба любят одну и ту же женщину, и
вражда, которую питает Хэдстон к Рэйберну, лежит в основе
одной из важнейших сюжетных линий книги. Рэйберн —
джентльмен, Хэдстон — выходец из народа. Рэйберн — хорошо
воспитанный, небрежный, элегантный, скептичный бездельник;
Хэдстон—трудолюбивый, вспыльчивый и честолюбивый молодой
учитель. Из столкновения столь противоречивых характеров
могла бы развиться замечательная история. Однако при условии
жизненности героев. Верный же себе Диккенс превращает их в
ходячие манекены, а конфликт, который мог бы возникнуть
между ними, сходит на нет. Рэйберн слоняется по улице, руки в
брюки, во рту сигара, и несет вздор, а неподалеку с тростью в
руках ходит, кусая губы и сжимая кулаки, Хэдстон.
В книге есть сцена, в которой Рэйберн дерзко высмеивает
учителя, а тот, не умея ответить на тонкие колкости светского
человека, лишь молча кипит от ярости. В сцене виден ум автора,
но сама по себе она неудовлетворительна. Если бы читатели не
боялись таких резких выражений, мы назвали бы ее вульгарной,
имея в виду не сам факт нежелательности словесной перепалки
между двумя джентльменами, а удивительное ничтожество их
натур. Другими словами, драматические возможности этой сцены
велики, а авторское решение беспомощно. Уж, конечно, более
сильные искры должно было высечь это столкновение двух
мужчин, двух воль, двух страстей, а вместо этого мы получаем
мальчишеские остроты Рэйберна и мелодраматические пошлости
Хэдстона.
Такие сцены помогают установить пределы художественной
интуиции Диккенса. Интуиция — возможно, слишком сильное сло-
во, ибо мы убеждейы, что в основе его метода лежит стремление
скользить по поверхности вещей. Если бы мы осмелились как-то
определить степень его литературного дарования, то назвали бы
Диккенса величайшим из поверхностных романистов. Мы понима-
ем, что это определение понижает Диккенса в литературной
189
табели о рангах, которую он украшает, но, говоря так, мы вполне
отдаем себе в этом отчет. По нашему мнению, помещать Диккенса
в ряды величайших романистов было бы оскорблением человече-
ской природы, потому что, повторяем, он создавал лишь марионе-
ток. Он не прибавил ничего к нашему пониманию человеческого
характера. Он хорошо владеет лишь двумя приемами: умеет
примирить читателя, с одной стороны, с банальностью, а с
другой — с эксцентричностью. Необходимость первого — сом-
нительна, а манера, в которой Диккенс его использует, часто
носит налет шарлатанства. Зато вб втором — он непревзойден:
здесь Диккенс—честный, вызывающий восхищение художник.
Однако каков же все-таки истинно великий романист? Для него
не существует никаких альтернатив, никаких странностей, он
служит лишь человеческой природе. Ему не ускользнуть от
нее — она все равно его настигнет. Поэтому только он может
понять, где правда, а где ложь, и только он имеет право вскрывать
истину или заблуждаться. Диккенс — великий созерцатель и юмо-
рист, но философ он никудышный.
Некоторые, возможно, скажут, что это к лучшему, мы же
настаиваем, нет, к худшему. Потому что романисту рано или
поздно потребуется и это умение. Когда Диккенс создает характе-
ры, подобные Микоберу, Боффину, Пиквику, et hoc genus omne1,
он, конечно, может обойтись и без него, потому что, при всем
нашем уважении к писателю, здесь нет серьезной литературы. Но
когда он начинает рассказывать историю страсти, подобную
истории Хэдстона и Рэйберна, он становится моралистом, а не
только художником. Он должен знать не только людей, но и
человека, а знать человека—это и означает быть философом.
Писатель, который знает только людей, при условии, что он
наделен юмором Диккенса и его воображением, создаст для нас
картины и лица, которые, несомненно, вызовут признательность,
так как он увеличит наше знание о мире. Когда же он начнет
писать о мужчинах и женщинах, чей удел не сводится к бедности,
слабости или паясничанию, но лежит в их полной и неосознанной
привязанности к обычным и здоровым человеческим эмоциям, то
весь его юмор, все его воображение не поможет ему, если он не
переломит себя и не перейдет к обобщениям, в которых един-
ственно и заключается настоящее величие произведения искус-
ства.
Все это, возможно, выглядит как весьма сложный разговор о
весьма простом деле. Но это, скорее, весьма простой разговор о
весьма сложном деле. История, в основе которой лежат те
обычнейшие страсти, в которых мы видим истинное и окончатель-
ное выявление характера, должна быть рассказана в духе интел-
лектуального превосходства над этими страстями. Другими слова-
ми, автор должен понимать, о чем он говорит. Чтение книги,
написанной таким образом,— одно из самых возвышенных пере-
живаний, доступных человеческому разуму. Чтение же книги,
написанной по-иному, напротив, оставляет чрезвычайно тягостное
и невыгодное впечатление.
И так далее того же рода (лат.).
190
Г. ДЖЕЙМС
ИВАН ТУРГЕНЕВ
(1818—1883)
По-видимому, не найдется другого иностранного автора, кото-
рый бы столь органично, как Тургенев, вошел, но мнению
англоязычного читателя, в канон Всемирной литературы. Так
случилось вовсе не потому, что он старался понравиться иностран-
цам, поступался своей авторской независимостью или хотя бы
помышлял об этом, а потому, что само своеобразие подобного гения
принесло ему еще при жизни особое уважение у иностранной
публики. В этом отношении его позиция уникальна: наряду с
прочим именно русский аромат его прозы помог ему обрести
признание.
Родился Тургенев в 1818 году в городе Орле, в самом сердце
России, а умер в 1883 году в Буживале, неподалеку от Парижа,
проведя большую часть жизни в Германии и Франции, чем вызвал
у себя на родине осуждение, которое склонны выносить отсут-
ствующему,—своего рода плата за предполагаемые путешествия и
развлечения за границей. Принадлежа к сословию крупных
помещиков и обладая значительным состоянием, он являл собой
редкий пример писателя, для которого вопрос доходности литера-
турного промысла был абсолютно неважен, это роднило его с
Толстым, его прославленным современником, в других отношени-
ях совсем на него непохожим. Чтобы представить исключитель-
ность его ситуации, вообразим себе крупного плантатора, скажем,
из Вирджинии или Каролины, исповедующего «северные» принци-
пы и становящегося (не только в силу вышеизложенного, но
главным образом благодаря выдающемуся дарованию) крупным
американским писателем, одним из величайших писателей мира.
Рожденный при деспотическом социальном и политическом строе,
Тургенев всем своим сердцем, всеми своими нравственными
устремлениями был на либеральной стороне; это имело свои
последствия еще в юности, после его пребывания в немецком
университете, когда он, позволив себе неосторожно пошутить на
людях, вызвал подозрения в высоких кругах и был осужден на
временную ссылку—жительство в своем имении. Возможно, это
помогло собрать материал для книги, с которой начинается его
слава,— «Записок охотника», вышедшей в двух томах в 1852 году.
Часто говорят, что это замечательное собрание зарисовок простой
деревенской жизни времен крепостничества имело такое же
непосредственное отношение к великому декрету Александра II,
как знаменитый роман Бичер Стоу — к освобождению негров. Во
191
всяком случае, бесспорно, что сельские очерки Тургенева появи-
лись, как и «Хижина дяди Тома», в нужный момент, с тем лишь
исключением, что поначалу они не вызвали большого интереса—
пример искусства слишком тонкого, чтобы быть тут же понятым,
искусства, затрагивающего скорее глубины, нежели поверхность
явлений.
Писателю достаточно скоро стало ясно, что такого рода
влияние можно с тем же успехом осуществлять издалека: он
путешествовал, жил за границей, в начале 60-х годов обосновался
в Германии, приобрел недвижимость в Баден-Бадене и жил там в
последние годы расцвета этого города, конец преуспеванию
которого положила франко-прусская война. После войны он
связал свою судьбу с потерпевшей стороной, выстроил дом в
Париже и, если не считать кратких отлучек, провел там в
очаровательной вилле на берегу Сены, недалеко от Парижа,
остаток своих дней. Его дружеские связи и привязанности в мире
искусства и литературы были многочисленны и изысканны, он
никогда не женился, неторопливо занимаясь все эти годы творче-
ством— именно тогда утвердилась его европейская, как принято
говорить, слава, хотя в Соединенных Штатах публика, возможно,
оказалась эстетически более чутка.
Тем временем Толстой, который был моложе его на десять
лет, достиг своей творческой зрелости, хотя «Война и мир» и
«Анна Каренина» принесли их автору всемирную славу после
смерти Тургенева. Одним из последних дел, которые предпринял,
будучи уже на смертном одре, старший писатель, было послание
Толстому (отношения с которым за последние годы у него
разладились в связи с некоторыми обстоятельствами, о которых
нет нужды упоминать), где он призывал того вернуться к своему
труду гения, от которого Толстой к тому времени столь
прискорбно и безжалостно отрекся.
«Я на смертном одре. Выздороветь я не могу—и думать об
этом нечего. Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как
я был рад быть Вашим современником, и чтобы выразить Вам
мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к
литературной деятельности. Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда
все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что
просьба моя так на Вас подействует!! Друг мой, великий писатель
Русской земли,—внемлите моей просьбе!»
Эти слова, одни из самых трогательных, без сомнения, с
которыми когда-либо обращался один носитель великого духа к
другому, проливают косвенный (хотя я бы предпочел сказать—
прямой) свет на природу и характер художественного темперамен-
та Тургенева. Это до такой степени так, что жаль, я лишен
возможности, сознавая все несходство темпераментов этих двух
писателей, использовать его для характеристики Тургенева. Было
бы упрощением сказать, что Толстой писал, с точки зрения
русских, для отечественного потребления, а Тургенев—для ино-
странцев: «Войну и мир» в Европе и Америке читали, возможно,
больше, чем «Дворянское гнездо», «Накануне» или «Дым», но это
отнюдь не противоречит моему утверждению, что автор последних
трех книг—популярнейший в западном мире писатель. Я бы
192
назвал Тургенева в определенном смысле писателем для писате-
лей—с художественным влиянием чрезвычайно полезным и глу-
боким. Чтение книг Толстого, разворачивающихся перед нами,
как сама жизнь,— событие значительное, переживание волнующее
для каждого из нас, и все же с его именем не связано
представление о вечно чарующем обаянии писательского мастер-
ства, о спокойной неотразимости описаний, которые сияют,
освещая нам путь, в произведениях его предшественника. Толсто-
го можно сравнить с необъятным озером, в котором отражается
мир, с колоссом, впряженным в упряжку, в которой седок—сама
жизнь, он что-то вроде слона, которого заставили тащить за собой
не карету, а целый каретный сарай. Сам он справляется со своим
делом успешно, но для других такой путь—катастрофа; если
ученики не слоновьей природы, то он лишь собьет их с пути и
погубит.
Постепенно, в течение тридцати лет, Тургенев—твердо, нето-
ропливо, с перерывами и выжиданиями—закладывает основы
своего четкого творческого кредо. Первое, что отмечаешь в его
произведениях,—это их выразительность, то, к чему писатель
постоянно стремился (что бросается в глаза, даже когда он
многословен) и чего он так часто достигал с поразительным
блеском. У него есть шедевры всего в несколько страниц, самые
совершенные его вещи подчас самые краткие. Множество его
коротких рассказов, эпизодов как будто отхвачены ножницами
Атропос, но многих из них мы не знаем, так как зависим (в связи
с малочисленностью у нас лиц, читающих по-русски) от француз-
ских и немецких версий, являющихся вместо оригинального
текста источником для перевода. Переводы романов и «Записок
охотника» собраны в девятитомном издании м-с Гарнет*. Здесь
мы, на наш взгляд, встречаемся с удивительной стороной творче-
ской судьбы писателя, а именно с его редким даром пробуждать
интимные чувства даже у тех людей, которые не могут наслаж-
даться языком его произведений, для которых вопрос стиля
практически просто не существует. Оставляя в стороне посторон-
ние соображения, скажем: этого писателя невозможно читать, не
проникаясь уверенностью, что на своем родном языке он является
ярким примером художника, открывающего нам щедростью сво-
его таланта торжествующую истину единства содержания и
формы, этих неизбежных сторон одной медали. Одним словом—
примером художника, чье творчество самим своим существовани-
ем отвергает избитое утверждение, что предмет и стиль, как
эстетические категории и как практические данности,—вещи
различные и изолированные. Мы сознаем, читая Тургенева не на
родном его языке, что не получаем представления о его собствен-
ном индивидуальном почерке.
Но свидетельством тому, что автор постоянно присутствует в
своих творениях, является особенное обаяние его прозы, улавли-
ваемое нами, то, что обращенная к нам маска, хотя и лишенная
его собственного выражения, все же прекрасна. Эта красота (раз
уж мы пытаемся формулировать) есть род совершенного вопло-
щения обыденного. Его писательский удел — это мир чувств и
характеров, мир отношений, которые жизнь порождает ежечасно
7.2889
193
и повсюду: в целом он редко обращался к чуду случайности, к
мгновениям на острие времени и пространства, его вотчина — это
грандиозная область страсти и побуждения, привычного, неизбеж-
ного и сокровенного — сокровенного в счастье и в горе. Ни одна
из избранных им тем не кажется нам исчерпывающей, и, однако,
мы ощущаем, что жизненность их заключена внутри, а не
достигается извне с помощью всяческих приемов, наподобие
колющих предметов, издавна применявшихся в конных скачках на
римских карнавалах, чтобы заставить животных бежать. В рас-
сказанных им историях нет ни малейшего намека на «завлекатель-
ный» сюжет, они, так же как и изображенная в них ситуация,
развиваются как сама жизнь. Его первая книга от начала до конца
свидетельствовала о том, что мы определили бы как самое
чарующее в нем: простейшие, житейские вещи он окутывает
утонченной дымкой поэзии. Именно так ведет он свой рассказ,
насыщенный отголосками и свидетельствами нужды и бедствия;
во всем—рок, безумие и жалость, и восторг, и красота. Лиризм
«Записок охотника», их юмор, неистощимость поиска открыли
миру наблюдателя, наделенного редким даром воображения. Каче-
ства эти в равной мере относились и к малым вещам, и к
большим: нищета, благочестие, простота, терпение крепостного
крестьянина соседствовали с естественным величием жизни зем-
ли, воздуха, зимы, лета, полей и лесов; там присутствовали тени
его эксцентрических сельских соседей, странных местных чуда-
ков, находили место стародавние обычаи и предрассудки, подслу-
шанные тайны, выхваченные из жизни, впечатления, почерпнутые
из долгого тесного контакта природы и человека, охваченного
охотничьей страстью. Великолепно сложенный, наделенный боль-
шой природной силой, Тургенев с его любовью к охоте или,
скорее, благодаря вдохновению, которое он черпал в ней, мог бы
служить для художника моделью могучего охотника, если бы
такой образ не расходился столь категорически с его обычной
мягкостью—той кротостью, которая часто бывает у людей,
знающих о своих необычайных физических данных. Он, скорее,
являл собой модель сичьного человека в момент отдыха: массив-
ный, на голову выше остальных, он улыбался почти по-детски, а в
голосе его звучало простодушие. Еще больше контрастировало с
этим могучим обликом его творчество, в котором было так много
нежности, волшебства, проникновенности и емкости.
Если я назову, в порядке написания, такие произведения, как
«Рудин», «Отцы и дети», «Вешние воды» и «Новь», в добавление к
трем вышеназванным романам, то они-то и будут краеугольным
камнем величественного памятника его труду с прочным фунда-
ментом, без каких-либо пустот. Список его небольших произведе-
ний слишком длинен, чтобы приводить его полностью, назову
лишь несколько особенно впечатляющих: «Переписка», «Посто-
ялый двор», «Бригадир», «Собака», «Жид», «Призраки», «Муму»,
«Три встречи», «Первая любовь», «Несчастные», «Ася», «Дневник
лишнего человека», «История лейтенанта Ергунова», «Степной
король Лир». Трудно выделить какой-либо из его романов, обычно
предпочтение отдается «Дворянскому гнезду» или «Отцам и
детям». Я лично склоняюсь к изумительному «Накануне», отлично
194
понимая, что в перечне таких блестящих произведений «быть
изумительным» не означает полное первенство. Пожалуй, только
самое длинное из его произведений, «Новь», напечатанное незадол-
го до смерти писателя, не может выдержать сравнения с другими
романами: хотя в нем тоже рассыпано множество красот, все-таки
он второсортен.
Во всех этих произведениях мы неизбежно встречаемся с
одним и тем же—характером, выявленным и художественно
рсмысленным. Знание характера было у Тургенева тем маяком,
который направлял его как художника, и можно дать о нем общее
представление, сказав, что, даже используя этот дар забавы ради,
он достигал значительного драматического эффекта. Ни у одного
писателя не было такого острого глаза и умения с такой иронией
и одновременно лиризмом создать индивидуальный портрет. Он
видел своего героя во всех его минутных настроениях и особенно-
стях—видел наследственные черты склада его личности, его
особенные проявления слабости и силы, уродства и красоты,
чудачества и обаяния, умея при этом выделить в этом безбреж-
ном жизненном потоке нечто характерное для личности во всем
многообразии ее отношений и контактов—личность, либо борющу-
юся, либо безвольно плывущую по течению—пылинка, уносимая
водами. Это ему дает, при всей непритязательности такого метода,
особый охват, оберегает его редкий дар выявления индивидуально-
го от сухости, схематизма, от (Опасности впасть в карикатуру. Он
понимает столь многое, что мы удивляемся, как ему удается все
это описать; и действительно, его изобразительные средства—это
абстрактная проекция, картина, где ничто не объяснено и все
заключено в себе. Он настолько человечен, что можно только
удивляться, как ему удается так умело владеть ситуацией, а
чувство сострадания в нем столь глубоко и всеобъемлюще, что
свойственное ему любопытство просто необъяснимо. В его произ-
ведениях постоянно присутствует поэзия, но это отнюдь не делает
изображенную в них реальность менее достоверной. У него есть
редкий дар прирожденного романиста, обладающего неиссякаемой
свободой и жизнеспособностью, наделять вызванные им к жизни
характеры абсолютной автономностью, а также бесспорное пре-
имущество перед второсортными беллетристами с их странной
манерой представлять и объяснять своих героев при помощи
осуждения или одобрения, предпочитающих идти кратчайшим
путем, предвосхищая эмоции и суждения, которые могли бы
возникнуть об их героях не у самого вдумчивого читателя. И все
же его система, которую можно было бы определить как
детализированное описание, с ее ясностью имеет неоспоримое
преимущество перед работой менее зрелого моралиста.
Характеры — его конек, но я должен тут же оговориться, что
они отнюдь не являются синонимами, в нашем западном представ-
лении, решительности и преуспевания. Его герой — оторванный от
жизни, почти беспомощный, недальновидный одиночка. Его обре-
ченную на провал борьбу за успех писатель изображал с таким
блеском. Автора занимает преимущественно проблема воли, в
своих размышлениях он имеет в виду пресловутую печальную
фигуру, которая, видимо, встречается в основном среди его
7*
195
соотечественников.. Он намекает нам, что не раз наблюдал крах
таких людей, видя источник их общей трагедии в отчаянном
авантюризме, с которым те впутываются в самые рискованные
предприятия, приводящие их к неизбежным разоблачению и
поражению. Но если мужские персонажи в целом именно таковы,
то женские компенсируют их слабости; большинство его героинь
изумительно сильные личности и подчас, можно прибавить, даже
вызывают восхищение. Это справедливо в отношении большого
числа женских персонажей—молодых женщин, девушек, особен-
но «героинь»; по своей удивительной нравственной красоте,
тончайшей отделке души они образуют в современном романе
поразительнейшую группу. Они героини до кончика мизинца, их
героизм скромен и непараден, лишь они, кажется, сохранили в
себе энергию решать и действовать. Елена, Лиза, Татьяна,
Джемма, Марианна—можно продолжить этот список, оживив в
памяти их образы, но у меня недостанет места назвать их всех.
Они кажутся нам живыми благодаря тем изумительным нежней-
шим мазкам, которые есть во всех произведениях Тургенева, с
помощью которых он убеждает и покоряет нас.
Сам он видел главную свою опасность в приверженности к
детали, слабости композиции, ему недоставало дара совмещения
различных впечатлений. Но ни один из романистов не был столь
точен и последователен, ни в одном из них величие не рождалось
из истины, не ограниченной ничем, кроме предмета изображения и
самой идеи. Эта идея, этот предмет—вспышка, высеченная из
скрещения сокровеннейших вещей,—всегда вызывают жгучий
интерес как нераспечатанная телеграмма. Плодотворная свобода,
с которой он—при всей своей исключительной деликатности—
обращался со святая святых нашего внутреннего мира, мира
тончайших побуждений, несет в себе то, что можно кратко
назвать благородной незаинтересованностью; отсутствие этого
свойства в его соперниках приводит к тому, что они пытаются
привлечь наше внимание вульгарными приемами к вульгарным
проблемам.
Р. Л. СТИВЕНСОН
ДОСУЖИЙ РАЗГОВОР
О РОМАНЕ ДЮМА
Книгам, которые мы чаще всего перечитываем, не обязательно
отданы наши самые светлые восторги, мы предпочитаем их
другим и возвращаемся к ним в силу самых разных причин, как в
жизни почему-то отдаем предпочтение одним друзьям перед
другими. Один-два романа Скотта, Шекспир, Мольер, Монтень,
«Эгоист»* и «Виконт де Бражелон» составляют кружок моих
задушевных друзей. За ними выступает изрядная компания
добрых приятелей, во главе ее «Путь паломника», а чуть
отстав — «Библия в Испании». Есть на моих полках порядочное
число таких книг, что смотрят на меня с укором—в свое время
они побывали у меня в руках, но я редко заглядываю в них, как
редко заходишь в дома, что не стали родным домом. Я не наладил
добрых отношений—и стыжусь в этом признаться—с Вордсвор-
том, Горацием, Бернсом и Хэзлитом. И наконец, есть разряд
книг, которым дано торжествовать лишь минуту—они сверкают»
поют, пленяют, а затем возвращаются во мрак забвения, ожидая,
когда вновь пробьет их,час. То улыбаясь мне, то дуясь на меня,
наиболее значительны среди них Виргилий и Херрик, которые
были бы в числе самых моих близких друзей, если бы
Их миг единый длился целый год.
Своей шестерке, сколь ни разнородна она по составу, я верен всю
жизнь и рассчитываю сохранить верность до гроба. Я не читал
Монтеня от корки до коркц, но мне не по себе, если я долго не
заглядываю в него, я испытываю восхищение от прочитанного
всегда, как впервые. У Шекспира я не читал «Ричарда Ш»,
«Генриха VI», «Тита Андроника» и «Все хорошо, что хорошо
кончается»; насильно не полюбишь, и я уже никогда их не прочту,
зато в расплату за свою бесчувственность я готов вечно читать
остального Шекспира. Приблизительно такая же история и с
Мольером, другим славным именем в христианском календаре. Но
не пристало этим царственным фигурам занимать уголок в
маленьком эссе, и я смиренно кланяюсь их. теням и следую
дальше. Мне трудно сказать, сколько раз я перечитывал «Гая
Мэннеринга», «Роб Роя» или «Редгонтлета», поскольку читать их я
начал очень рано. «Эгоиста» же я читал четыре или пять раз, а
«Виконта де Бражелона» — пять, если не все шесть.
Люди с другими привязанностями, возможно, будут озадачены,
197
что в нашей скоротечной жизни я уделил столь много времени
произведению столь малоизвестному, как названное последним. Я
тоже поражаюсь, но не выбору своего сердца, а людскому
безразличию. Заочно я познакомился с «Виконтом» в лето
господне 1863, когда имел счастливый случай глазеть на распис-
ные десертные тарелки в одном отеле в Ницце. В подписях
встречалось имя д'Артаньяна, которого я приветствовал как
старого друга, ибо годом раньше читал о нем в книге мисс Янг. А
прочел я роман впервые в одном из тех пиратских изданий,
которыми в ту пору наводнял книжный рынок Брюссель, так что
набежала целая библиотечка аккуратных пухлых томиков. Тогда я
мало постиг достоинства книги—в моей памяти замечательно
сохранилась сцена казни д'Эмери и Лиодо, что по-своему свиде-
тельствует о глупости тогдашнего мальчишки, который способен
увлечься свалкой на Гревской площади и напрочь забыть о
посещении д'Артаньяном небезызвестных финансистов1. Следу-
ющий раз я читал роман в своем иентлендеком затворничестве,
зимой. Проведя обычно день в обществе пастуха, я возвращался
засветло, меня приветливо встречали у порога, преданная собака
сломя голову уносилась по лестнице за моими домашними
туфлями; подсев к очагу, я зажигал лампу и проводил в
одиночестве долгий тихий вечер. Впрочем, отчего же я называю
его тихим, когда в его течение врывались стук копыт, ружейный
треск и словесная перепалка? И пребывал я не в одиночестве,
обзаведясь столькими друзьями. Я вставал от книги, отбрасывал
шторы, смотрел в шотландский сад, расчерченный квадратами
снега и сверкающего остролиста, на белые холмы, посеребренные
зимней луной. А потом снова уводил глаза к той многолюдной и
солнечной панораме жизни, где так легко забыться, забыть
тревоги и окружение: здесь совсем городская суета, свет рампы
выхватывает достопамятные лица, слух упивается восхитительной
речью. Нити этой эпопеи я тянул за собою в постель, просыпал-
ся, держа их в руках, с восторгом погружался в книгу за
завтраком и с болью откладывал потом ради собственных дел, ибо
никакая часть света не может так прельстить меня, как эти
страницы, и даже мои собственные друзья для меня менее
осязаемы и, боюсь, менее любимы, чем д'Артаньян.
С тех пор я то и дело брал любимую книгу и читал с любого
места, а сейчас я опять кончил читать ее с начала до конца—в
пятый раз, с вашего позволения,— испытав еще большую радость,
чем прежде, и более осмысленный восторг. Возможно, я проникся
к ней неким чувством собственника—ведь я совершенно свой
человек во всех шести томах. Возможно, думаю я, д'Артаньяну
доставляет радость, что я читаю о нем, и Людовику XIV это
приятно, и Фуке бросает на меня взгляд, и Арамис, хотя он знает,
что я его недолюбливаю, тоже играет ради меня—и он не
скупится на лесть, словно я и есть заправила всего этого
балагана. И возможно, если я не остерегусь, я нафантазирую
нечто вроде того, что нафантазировал себе Георг IV после битвы
при Ватерлоо, а именно: что среди моих произведений одно из
То есть Фуке и Кольбера.— JlptiM. персе.
198
первых мест по времени создания и, видит бог, по значению
принадлежит «Виконту». Как бы то ни было, я объявляю себя его
решительным защитником, я испытываю одновременно боль и
недоумение, видя, что в известности он уступает «Графу Монте-
Кристо» или старшему своему собрату—«Трем мушкетерам».
Если читатель уже познакомился с заглавным героем на
страницах книги «Двадцать лет спустя», то название нашего
романа может отпугнуть его. Читатель, чего доброго, сочтет за
благо устраниться, вообразив, что все шесть томов подряд он
обречен неотступно следовать за Бражелоном, кавалером с
отменными манерами и превосходной речью — и при этом наводя-
щим смертельную скуку. Напрасные страхи! Я, например, провел
свои лучшие годы с этими шестью томами под рукой, а знаком-
ство мое с Раулем не пошло дальше вежливого поклона, и когда,
устав притворяться живым, он удостаивается страданий и, видимо,
вот-вот умрет, мне невольно вспоминается фраза из предыдущего
тома: «Наконец-то он сделал хоть что-нибудь!—вздохнула мисс
Стюарт (а говорила она как раз о Бражелоне).— И то хорошо».
Повторяю; я вспоминаю это невольно, уже в ту минуту, когда
умирает Атос и мой любимый д'Артаньян разражается безудер-
жными рыданиями,—тогда я сожалею о своем легкомыслии.
Может случиться и так, что читатель книги «Двадцать лет
спустя» убоится новой встречи с Лавальер. Что же, и здесь он
прав, хотя и не в такой степени. Луиза просто не получилась. Ее
творец старался на совесть, она полна благих намерений, ничего
худого не таит за душой, иногда сболтнет истину, иногда даже
завоюет на миг наше расположение. Но я никогда не завидовал
победе короля. Мало сказать, что я не сочувствовал Бражелону в
его поражении: я не придумал бы ему горшего Наказания—не за
то, что он размазня, но за то, что лишен воображения,—как
пожелать ему жениться на этой даме. Королева-мать меня
очаровывает, от этой царственной кокетки я снесу даже нестерпи-
мые обиды, вместе с королем я навожу трепет й смягчаюсь в том
памятном эпизоде, когда он является сделать принцессе выго-
вор— и остается флиртовать, и мое сердце обмирает в груди де
Гиша, когда наконец звучат слова «Так любите меня». Но Луиза
никаких чувств во мне не пробуждает. Читатели не преминут
отметить, что все сказанное писателем о красоте и прелести своих
созданий ничему не служит, что мы сразу сами во всем
разбираемся, что стоит героине открыть рот, как в один миг,
словно шелуха, словно золушкин наряд, спадают превосходные
заочные рекомендации и сама себя разоблачившая героиня пред-
стает либо немощной и хворой девицей, либо дюжей базарной
торговкой. Это хорошо известно писателям: очень часто героиня
начинает превращаться в «дурнушку» и против этой напасти
почти немыслимо найти средство. Я сказал: писатели, но имею-то
я в виду одного конкретного писателя*, чьи произведения хорошо
знаю, хотя не могу их читать; этот писатель провел не одну
бессонную ночь у одра своих чахлых марионеток, словно колдун,
истощая свое искусство в попытках вернуть им молодость и
красоту. Есть, конечно, другие героини, они высоко парят, не
ведая подобных тревог. Кто усомнится в очаровании Розалинды?
199
Один огонь жарче ее. Кто оспорит неувядающее обаяние Роз
Джослин, Люси Деборо или Клары Миддлтон? Прелестные
женщины, прелестные имена—они украшают репутацию своего
духовного отца, Джорджа Мередита. Элизабет Беннетт еще слова
не сказала, а я уже у ее ног. Они не осрамятся, как Дюма с
бедняжкой Лавальер. Я утешаюсь единственно тем, что ни одна из
них, за исключением первой, не посмела бы дернуть д'Артаньяна
за усы.
Но что это, некоторые еще мнутся на пороге романа, не
решаясь войти? Да, в столь обширном здании есть множество
черных лестниц и всяких служебных помещений, до которых
далеко не каждый охотник, и, уж во всяком случае, следовало
дать побольше свету в прихожей, и точно, книга движется
неторопливо вплоть до семнадцатой главы, где д'Артаньян отправ-
ляется на поиски друзей. Зато какая сразу разворачивается
феерия! Похищение Монка; обогащение д'Артаньяна; смерть
Мазарини; восхитительная авантюра с Белль-Ил ем, где Арамис
обводит д'Артаньяна вокруг пальца, и ее развязка (том 5, глава
XXVIII), оставляющая моральное превосходство за д'Артаньяном,
амурные приключения в Фонтенбло, рассказ Сент-Эньяна о том,
что поведала ему дриада, события, связавшие де Гиша, де Варда и
Маникана; Арамис делается Генералом ордена иезуитов; Арамис в
Бастилии; ночной разговор в Сенарском лесу; снова Белль-Иль;
смерть Портоса и последнее, но едва ли не главное—укрощение
молодым королем неукротимого д'Артаньяна. Где еще найдете вы
такое эпическое разнообразие и благородство действия, зачастую,
согласен, несбыточного, зачастую отдающего арабскими сказка-
ми, но всегда по силам человеческим? И если на то пошло, в
каком другом романе больше присутствует человек целиком и при
ясном свете дня, радуя глаз, не вооруженный микроскопом? Где
еще обнаружите вы столько здравого смысла, веселого задора и
столь безупречное и восхитительное литературное мастерство?
Простые души, я знаю, порою вынуждены довольствоваться
чтением развязных переводов. Однако этот стиль невозможно
сохранить в переводе: он воздушен, как бисквит, и прочен, как
шелк, многословен, как деревенская сплетня, точен, как военное
донесение, с множеством погрешностей, но никогда не скучный,
ничем не замечательный и, однако, единственно верный. И
наконец—ибо должен быть конец и у похвального списка,—какой
другой роман одушевлен столь добродушной и благотворной
моралью?
Да, прибавлю я,—и моралью, хотя мисс Янг сообщила мне имя
д'Артаньяна с единственной целью предостеречь от более близко-
го знакомства с его носителем. Все сколько-нибудь хорошие книги
проповедуют мораль, но мир велик, и моральные ценности не
однозначны. Из двух людей, погрузившихся в «Тысячу и одну
ночь» под редакцией Ричарда Бертона, одного покоробят низмен-
ные подробности, другой останется к ним равнодушен, возможно,
они даже придутся ему по вкусу, зато его в свою очередь
возмутит склонность к мошенничеству и жестокость персонажей.
Точно так же одного читателя огорчат сентенции каких-нибудь
богобоязненных мемуаров, другого смутит мораль «Виконта де
200
Бражелона». Важно заметить, что оба читателя по-своему бу-
дут правы. В жизни и в искусстве мы всегда досаждаем друг дру-
гу, невозможно загнать в картину настоящее солнце, невозмож-
но выставить в книге абстрактную истину (если таковая вообще
существует), достаточно, если в картине будет отблеск того
слепящего света, что не дает нам прямо взглянуть на небо, и
достаточно, если в книге даже на скверну упадет отражение
великой благодати. Я не стану рекомендовать «Виконта» человеку,
взыскующему пуританской, как мы ее называем, морали. Пуза-
тый мулат, великий обжора и труженик, скопидом и транжир,
острослов и хохотун, человек добрейшей души и—увы! —
сомнительной честности,—этот автор еще не предстал миру в
полный рост; он еще ждет своего мастера с твердой и любящей
рукой; но, сколько ни выкажи художник искусства и терпимости,
это не будет портрет пуританина. Дюма, конечно, думал не о себе,
а о Планше, заставив старого слугу д'Артаньяна сделать замеча-
тельное признание: «Сударь, я из тех людей, которые созданы,
чтобы радоваться всему, что они встречают на своем пути». Он
думал, повторяю, о Планше, в отношении которого лучше и не
скажешь, но эти слова можно отнести и к создателю Планше,
возможно, ему самому приходила в голову такая мысль, ибо
послушайте, что следует за этими словами: «Д'АрТаньян уселся на
подоконник и стал размышлять по поводу философии Планше».
Если человеку все в жизни по душе, то вряд ли стоит ожидать от
него рвения к пассивным добродетелям—его привлекают лишь
активные качества, воздержанность—пусть сама* мудрая, самая
благотворная—в глазах такого судьи только скаредность и отдает
кощунством. Таким человеком был Дюма. Сдержанность была
чужда его сердцу, как и добродетельная бережливость (за что ему
приходилось больно расплачиваться), а ведь в ней безопасность
художника. В «Виконте» Дюма пришлось уделить много места
соперничеству между Фуке и Кольбером. Историческая справед-
ливость целиком на стороне Кольбера, который олицетворяет
честность по долгу службы и финансовую грамотность. И Дюма
отлично сознавал это, в чем проговорился по крайней мере
трижды: впервые истина мелькнула в шутливом диспуте в садах
Сент-Манде и была высмеяна самим Фуке; потом ее мимоходом
коснулся Арамис в Сенарском лесу; и, наконец, в речи, исполнен-
ной достоинства, ее определенно высказал Кольбер-победитель.
Однако самому Дюма был ближе Фуке, любивший пожить шумно
и на широкую ногу, ценивший острое словцо, покровитель
искусств и неутомимый труженик,—и с тем большей симпатией
создавал он его портрет. Меня почти умиляет, с какой настойчи-
востью защищает Дюма честь Фуке. Может, он не ведал, что
незапятнанная честь и расточительство не дружат между собой?
Вряд ли: на примере собственной жизни он знает это слишком
хорошо—и тем упорнее защищает остатки чести. Честь пережи-
вает рану, честь торжествует и на пустом месте. Человек
воскресает после бесчестия, среди руин он забивает новые сваи,
когда переламывается шпага, он хватается за кинжал. Таков в
книге Фуке, таким был в жизненных схватках Дюма.
Цепляться за остатки добрых качеств достойно человека, но
201
чтобы апология несовершенства обозначала нравственную пози-
цию автора — это вряд ли. Позиция проявляется не здесь — она в
характере д'Артаньяна. В нем тот урок нравственности, что
составляет одно из главнейших достоинств книги, делает радо-
стным ее чтение и возвышает ее над более удачливыми соперница-
ми. Атос с годами все больше склоняется к морализаторству и
проповедует вялые истины, зато из д'Артяньяна выходит человек
такого острого ума, такой несгибаемости, доброты и справедливо-
сти, что ему покоряешься без рассуждений. Он не щеголяет
прописными добродетелями, его природная любезность не в духе
салонных предписаний—он может повести себя весьма рискован-
но; показная сердобольность не в его складе — это вам не Уэсли и
не Робеспьер; ни в добре, ни в зле его сердце не знает крайностей,
но в целом это человек без фальши, словно полновесный золотой.
Если читатель не случайно набрел на «Виконта», а честно одолел
все пять томов «Трех мушкетеров» и «Двадцати лет спустя», то
он, конечно, не забыл, какую злую шутку, недостойную джентль-
мена, сыграл однажды д'Артаньян с миледи. И поэтому умиляет
нестрогой расплатой эпизод, где старый капитан извиняется перед
сыном человека, которого он подменил в любовной сцене. Если
бы мне предстояло подобрать себе или моим друзьям добродетели,
я бы отправился за ними к д'Артаньяну. Этим я не хочу сказать,
что столь же безупречного характера нет, положим, у Шекспи-
ра,—просто я никого так не люблю у Шекспира. Незримые очи
стерегут каждый шаг, очи, закрывшиеся навеки, и очи, еще не
нашедшие нас, и их обладатели видят нас в сокровеннейшие
минуты, мы трепещем их—это наши свидетели и судьи. Можете
смеяться, но в моей жизни пара таких очей принадлежит
д'Артаньяну, только не тому, которого мы знаем по мемуарам и
кому отдавал свое предпочтение Теккерей, в чем, смею думать.
оставался одинок, не д'Артаньяну во плоти, а д'Артаньяну на
бумаге, исписанной чернилами,—творению Дюма, а не природы.
Вот особое отличие и победа художника: быть не просто
правдивым—стать любимым, не просто убеждать, но —
очаровывать.
«Виконт» замечателен еще в одном отношении: я не припомню
другого художественного творения, где с таким удивительным
тактом было бы показано окончание жизненного пути. Недавно
меня спросили, исторгал ли у меня Дюма смех либо слезы.
Признаться, в пятый раз читая «Виконта», я неожиданно рассме-
ялся над портновским методом Коклена де Вольера*, и, вероят-
но, это меня чуточку обескуражило, так что в оправдание себе
я потом не сгонял улыбку с лица. Слезы? — не знаю. Если вы
приставите пистолет к моему лбу, я вынужден буду согласиться,
что у повествования чрезвычайно легкая поступь: еще толчок — и
оно оторвется от земли, любителям пушечного грома и опаля-
ющих страстей оно может показаться несообразным с начала до
конца. Я полагаю иначе: ни обед, ни книга не будут для меня
плохи, если я сажусь за них с теми, кого люблю, а главное, со
страниц последнего тома исходит какое-то особенное очарование.
На вас веет приятной и бодрящей грустью, за которой кроется
мужество, а не истерика. Многолюдный и шумный день этой
202
длинной истории постепенно окутывают сумерки, гаснут огни, и
один за другим уходят герои. Они уходят по одному, но их уход не
оставляет горького осадка—молодость занимает их место. Все
вырастает, все ослепительнее сверкает Людовик XIV — вместе с
Солнцем занимается новая Франция, а нам и полюбившимся
ветеранам близок и желанен конец. И читать об этом—значит
самим готовиться к нему. Когда нагрянет и наш сумрачный час,
как хотелось бы встретить его с таким же душевным спокойстви-
ем!
Моя бумага кончается; на границе с Голландией бухают
осадные пушки, и я в пятый раз прощаюсь со старым другом,
принявшим славную смерть на поле боя. Прощай! Нет—до
свиданья! Мы и в шестой раз, дорогой д'Артаньян, похитим Монка
и поскачем в Белль-Иль.
ДЖ. КОНРАД
Предисловие к роману
«НЕГР С „НАРЦИССА"»
Произведение, которое претендует (хоть и смиренно) на право
называться произведением искусства, должно подтверждать это
каждой строкой. А саАмо искусство может быть определено как
целеустремленная попытка воздать высшую справедливость види-
мому миру, выявляя правду, многостороннюю и единую, лежа-
щую в основе каждой его части. Это попытка найти в его
очертаниях, в его цвете, в его свете и тенях, в формах материи и в
жизненных явлениях основное, стойкое и неотъемлемое —
единственно объясняющее и убедительное — качество: саму
правду их существования.
Следовательно, художник, подобно мыслителю или исследова-
телю, отыскивает истину и обращается к людям. Заинтересовав-
шись каким-то аспектом мира, мыслитель погружается в идеи,
исследователь—в факты; оттуда, вскоре всплывая, взывают они к
тем свойствам нашего существа, которые особенно необходимы в
этом рискованном предприятии—жизни. Они авторитетно обраща-
ются к нашему здравому смыслу, к нашему интеллекту, к нашей
жажде покоя или стремлению к непокою; нередко — к нашим
предрассудкам, иногда—к нашим страхам, часто — к нашему
эгоизму и всегда—к нашей доверчивости. И к словам мыслителя
и исследователя прислушиваются с почтением, так как они заняты
серьезными вопросами: развитием нашего ума и надлежащей
заботой о нашем теле, осуществлением наших честолюбивых
замыслов, приумножением нашего состояния и прославлением
наших изысканных целей.
Иное дело художник.
Столкнувшись с тем же загадочным зрелищем, художник
уходит в себя, и в этой уединенной области напряжения и борьбы
он, если посчастливится, находит слова, чтобы обратиться к
людям. Его обращение адресовано не столь явным нашим каче-
ствам: той части нашей натуры, которая из-за тяжелых условий
существования вынуждена прятаться под оболочкой более стой-
ких и суровых качеств, как уязвимое тело—под стальными
доспехами. Его обращение менее громко, более проникновенно,
менее отчетливо, более волнующе и быстрее забывается.
И все же его воздействие остается навсегда. Меняющаяся
мудрость следующих друг за другом поколений отбрасывает идеи,
ставит под сомнение факты, разрушает теории. Но художник
апеллирует к той части нашего существа, которая не зависит от
204
мудрости. К тому, что является даром, а не приобретением и,
следовательно, более долговечно. Он обращается к нашей способ-
ности восхищаться и удивляться, к ощущению тайны, окружа-
ющей нашу жизнь, к нашему чувству жалости, красоты и боли, к
скрытому чувству товарищества по отношению ко всеАму сущему и
к тонкой, но неистребимой вере в солидарность, объединяющую
многие одинокие сердца; солидарность в мечтах, в радости, в
печали, в стремлениях, в иллюзиях, в надежде, в страхе, которая
привязывает людей друг к другу: мертвых к живым и живых к
еще не родившимся.
И только такой ход рассуждения или, скорее, чувства может в
какой-то мере объяснить цель попытки, предпринятой в последу-
ющей повести1: представить беспокойный эпизод из мрачной
жизни нескольких человек из огромного числа неприметных,
сбитых с толку, простых и бессловесных людей. Если есть хоть
капля справедливости в высказанном выше убеждении, то очевид-
но, что нет на земле такого великолепия или темного уголка,
которые не заслуживали бы хоть мимолетного взгляда удивления
и жалости. Тогда собственно побуждением можно оправдать суть
произведения. Но мое предисловие, которое является всего лишь
признанием в побуждении, на этом не может окончиться, так как
признание еще не завершено.
Литература — если она вообще претендует на причастность к
искусству—должна взывать к темпераменту. И действительно, она
должна быть—подобно живописи, музыке, всем видам искус-
ства— обращением одного темперамента к другим, многочислен-
ным темпераментам, чья тонкая и непреодолимая сила придает
быстротекущим событиям их истинное значение и создает нрав-
ственную, эмоциональную атмосферу места и времени. Для
большей действительности нужно стремиться к передаче впечатле-
ний через отдельные ощущения; и фактически это нельзя сделать
как-то иначе, ибо темперамент (индивидуальный или коллектив-
ный) не поддается убеждению.
Следовательно, все искусство обращается прежде всего к
чувствам, и художественный замысел, воплощаясь на бумаге,
также должен адресоваться прежде всего к чувствам, если
преследуется высокая цель — привести в действие скрытый двига-
тель ответных эмоций. Литература должна всемерно стремиться к
пластике скульптуры, к цветовому богатству живописи, к волшеб-
ной многозначительности музыки—этого искусства всех ис-
кусств. И лишь будучи полностью, непоколебимо преданным
совершенному слиянию формы и содержания, постоянно заботясь
об облике и звучании фраз, можно приблизиться к пластике,
цвету и можно на мгновение заставить заиграть свет волшебной
многозначительности над банальной внешностью слов, стертых,
изношенных веками небрежного употребления.
Искреннее стремление достичь этой творческой цели—идти по
этому пути до тех пор, пока не оставят силы, идти, невзирая на
сомнения, усталость и упреки. В этом единственное веское
1 Конрад называет «Негр с ,,Нарцисса4'», как и некоторые другие свои
романы, повестью.— Прим. перев.
205
оправдание для прозаика. И если совесть его чиста, он может
ответить тем, которые от избытка мудрости, ищущей во всем
немедленной пользы, требуют, чтобы их поучали, успокаивали,
утешали, развивали, поддерживали, пугали, поражали или очаро-
вывали: «Я поставил себе целью силой печатного слова заставить
вас слышать, заставить вас чувствовать и, наконец, прежде
всего — заставить вас видеть. Это — и ничего более, но в этом
все. Если мне это удастся, то вы обретете (соответственно вашим
заслугам) поощрение, успокоение, страх, очарование—все, чего
вы требуете, и еще, может быть, тот проблеск правды, о котором
вы забыли попросить».
Выхватить из безжалостного движения времени отрезок жиз-
ни— значит сделать лишь первый шаг к решению задачи. Эта
задача, к которой приближаешься с осторожностью и верой,
заключается в том, чтобы без колебаний, выбора и страха
задержать выхваченный отрезок перед всеми взорами в свете
неподдельного настроения. Это значит показать его трепет, его
цвет, его форму и через его движение, его очертания и цвет
обнажить его истинную суть—открыть его воодушевляющую
тайну: напряжение и страсть, лежащие в основе каждого впечат-
ляющего мгновения. В целенаправленной попытке такого рода
можно, если посчастливится, случайно достичь столь полной
искренности, что наконец представленное зрелище горя или
страдания, ужаса или радости пробудит в сердцах зрителей то
чувство неизбежной солидарности—солидарности в загадочности
появления на свет, в труде, в радости, в надежде, в неопределенно-
сти судьбы,—которое привязывает людей друг к другу и все
человечество к окружающему миру.
Очевидно, что тот, кто правомерно или ошибочно разделяет
изложенные выше убеждения, не может придерживаться никаких
преходящих канонов своего ремесла. Их непреходящая часть—
истина, которую каждый только пытается скрыть,—должна
остаться с ним как самое ценное его приобретение, а все эти
Реализм, Романтизм, Натурализм, даже непризнанный Сентимен-
тализм (от которого, как от нищего, исключительно трудно
отделаться),—все эти идолы после непродолжительной дружбы
должны оставить художника хотя бы на пороге храма во власти
его нравственных сомнений и явного осознания трудностей его
работы. И в этом неуютном одиночестве последний крик: «Искус-
ство для искусства»—утрачивает очарование своей видимой амо-
ральности. Он остался далеко позади. Он уже перестал быть
криком и слышится только как шепот, часто невнятный, но
временами слегка ободряющий.
Так иногда, непринужденно растянувшись в тени дерева у
дороги, мы наблюдаем за движением труженика на дальнем поле и
некоторое время спустя нехотя начинаем задумываться, чем же
этот парень занят. Мы наблюдаем за движениями его тела,
взмахами рук, видим, как он наклоняется, выпрямляется, задумы-
вается, начинает снова. Наш досуг был бы еще приятнее, если б
нам была известна цель его усилий. Знай мы, что он пытается
поднять^камень, вырыть ров, выкорчевать пень, мы смотрели бы с
большей заинтересованностью на его усилия. Мы склонны про-
206
стить несоответствие между его движениями и спокойствием
пейзажа и, если настроены дружелюбно, можем простить его
неудачу. Нам понятна его цель, да в конце концов, парень
старался, и, возможно, у него не хватило сил, а может быть, не
хватило умения. Мы прощаем, идем своей дорогой и забываем.
Нечто подобное происходит и с работниками искусства. Искус-
ство долговечно, а жизнь коротка, и до успеха очень далеко. И
поэтому, сомневаясь в том, хватит ли сил идти так далеко, мы
говорим немного о цели—цели искусства, которая, подобно самой
жизни, увлекательна, трудна, туманна. Она—не в ясной логике
торжествующего результата, не в раскрытии одной из тех
бездушных тайн, которые называются Законами Природы. Она не
менее возвышенна, однако более трудна.
Приостановить на мгновение руки, занятые земной работой,
заставить людей, зачарованных дальними целями, бросить взгляд
на форму и цвет, на свет и тени окружающего мира; заставить их
остановиться ради взгляда, ради вздоха, ради улыбки—такова
цель, трудная и ускользающая, достижимая только немногими. Но
иногда достойным и везучим удается выполнить и эту задачу. А
когда она выполнена—смотрите!—в этом вся правда жизни: миг
прекрасного видения, вздох, улыбка и возврат к вечному покою.
X. БЕЛЛОК
О НЕВЕДОМОЙ СТРАНЕ
Лет десять назад—а может быть, немного меньше, а может быть,
немного больше—мне встретился на Юстон-роуд, этой Имперской
дороге, некий молодой человек, моложе меня, мой знакомый, хотя
и не очень близкий. Накрапывал дождь, и букинисты (которые на
этой улице редкость) принялись укрывать клеенкой свой товар.
Мой знакомый огорчился, потому что он хотел купить дешевую
книгу, которая доставила бы ему истинное удовольствие.
Но трудность заключалась в том, что у него не было никаких
увлечений, и истинное удовольствие ему могла доставить только
книга, которая описывала бы, или объясняла бы, или, точнее
сказать, чуть обрисовывала бы, или (как выразились бы богосло-
вы) благовестила бы,-или (как сказали бы последователи Платона)
отражала бы Неведомую Страну — как он полагал, его подлинную
родину.
Я уже два года знал, что у него есть обыкновение разыскивать
такие книги, и, недоумевая, все-таки сочувствовал его поискам.
Этот голод отчасти утоляло почти любое произведение, рисовав-
шее перед его умственным взором некое место, куда его всегда
влекло, но куда—как он давно догадывался, а теперь был уже
почти уверен—человек не проложил ни единого прямого пути. Он
с жадностью покупал романы о путешествиях на Луну и планеты,
от самых дрянных до самых лучших. Он любил утопии и не
брезговал даже такими прозаичными книгами, как описания
реальных путешествий, лишь бы преувеличения в них или
романтический стиль дали ему возможность глотнуть дурманяще-
го напитка, без которого он томился. Не знаю, искал ли молодой
человек того удовольствия, которое дают иллюзии (слово «дурма-
нящий» я употребил не без колебаний), или же, как он постоянно
утверждал, удовольствия вспомнить былое, а может быть, как
подчас был склонен думать я, это было удовольствие от утоления
той жажды, что в конце концов будет утолена в душе каждого
человека. Но во всяком случае, он искал этого удовольствиях
жадностью, далеко превосходящей жадность, с какой голодный
ищет пищу. То был не просто голод, но страсть.
И в этот вечер он нашел такую книгу.
Как известно, старые книги плохо раскупаются с лотков, и
почему-то их продавцы вполне довольствуются тем, что товар их
служит библиотекой бедным любителям чтения, причем библиоте-
кой, достойной всяческих похвал, ибо все ее полки открыты для
208
всех и на читателя не налагается никаких обязательств, кроме
одного — не красть, да и то более во избежание вмешательства
уголовного закона. Поэтому при обычных обстоятельствах мой
знакомый тольксг пролистал бы книгу и оставил бы ее на лотке,
но на этот раз ему улыбнулась удача. Сыграл ли тут роль
начинающийся дождь, или же внезапно нахлынувшее ощущение
полного своего одиночества в столь ужасную погоду в столь
ужасном городе толкнуло его заручиться немым собеседником на
более долгий срок, или же при виде меня его смутила мысль, что,
не купив книгу, он выдаст свою бедность,—но, какова бы ни была
причина, он ее купил. А поскольку он купил эту Книгу, я также
прочел ее и нашел в ней, как нашел и он, наиболее полное
выражение всего, что мне известно о Неведомой Стране, гражда-
нином которой он был: как чудак—полагал я тогда, как мудрец —
думаю я теперь.
То, что лучше всего может быть выражено словами, следует
выражать в стихах. Но стихи творятся медленно... хотя нет; их
вообще не творят, потому что они—эманация духа, жемчужина,
которая нарастает вокруг раздражающей песчинки и медленно
воплощает квинтэссенцию красоты и желаний, долгое время
таившихся безмолвно в душе того, кто ее растит. Бог свидетель,
эта Неведомая Страна сотни раз открывалась в стихах. Будь я
уверен в правильности своего произношения, я процитировал бы
две строки из «Одиссеи», в которых Неведомая Страна предстает
с той же ясностью, с какой внезапно открывается необъятный вид
с горного перевала, когда после долгого подъема туманы рассе-
иваются и ты зришь внизу перед собой нежданный и чудный
край—вид, подобный тому, который приветствует путника, когда
он спускается с Сольдеу в скромную, укрытую от мира республи-
ку Андорру. Точно так же она иногда мелькает в творениях
немцев — во всяком случае, я вспоминаю, как одна женщина
уверяла меня, что у Шиллера есть песня, дарящая именно то
откровение, о котором я говорю. Благодарение небу, английские
стихи отнюдь не скудны подобным чувством — чувством, необхо-
димым для того, чтобы душа жила. Например, кто не знает этих
строк:
Нет для нее ни слова, ни понятья
В речах людей. Блаженная Страна!
И еще—те проблески, которые рассыпал, забавляясь,
Шекспир, точно человек, который владеет большим дубовым
сундуком, до краев полным драгоценных камней, и время от
времени с доброй улыбкой зачерпывает горсть-другую и дарит их
своим гостям. Я цитирую по памяти, но думаю, что строки эти
звучали приблизительно так:
Взгляни—заря в накидке рыже-алой
Стоит на взлобье дальнего холма.
Или еще:
Сгорели свечи ночи, день веселый
На цыпочках бежит с туманных гор.
209
Они невольно заставляют меня отвлечься... Каким образом
сумел человек добиться подобного? Мне вспоминается, как мы
спорили с одним моим знакомым, который искренне считал, будто
талант Шекспира слишком перехваливают, и в конце длинной
перепалки я обнаружил, что он не имеет в виду Шекспира как
поэта. Ну хорошо, пусть как поэт, но каким образом он этого
добивался?
Китсу это удавалось постоянно — особенно в «Гиперионе».
Мильтон в четвертой книге «Потерянного рая» достигает этого в
такой степени, что вдумчивый человек, прочитав ее до конца
перед отходом ко сну, непременно проснется утром с таким
чувством, будто вернулся из долгого путешествия. Добивается
этого и Уильям Моррис, особенно в стихотворении о молитве над
рожью. Ну, а Виргилий, поэт Виргилий — он все время добивается
этого, непрерывно, словно таково уж его ремесло. Кто не помнит
пловца, увидевшего Италию с гребня волны? *
И опять разрешите мне отвлечься. Как поэты добиваются
этого? (Я имею в виду не вопрос, откуда они черпают свое
могущество, как я только что спрашивал о Шекспире; но каким
образом слова, простые или сложные, создают подобный эф-
фект?) Очень часто прилагательные отсутствуют, а то и вовсе нет
никаких определений: только подлежащее со сказуемым, утвер-
ждение и объект. Никаких подробных описаний, и тем не менее
сцена встает перед нами в более ярких цветах, в более точных
очертаниях и более поразительная по своему воздействию, чем
все, что мы видим собственными глазами,— за исключением, быть
может, того, что мы видим в редчайшие моменты высшего
напряжения чувств, которое нисходит на нас неведомо откуда,
принося с собой ощущение завершенности и зрелости.
Умеет это и Катулл. Первые строки брачной песни, начина-
ющиеся Vesper adest1, настолько сильны, что стоит прочесть
их — и сразу видишь Апеннины.
Достигает этого и неведомый творец шотландской песни,
особенно в хватающей за горло строке:
И видим мы во сне Гебриды...
Все они это умеют, поэты, спасибо им, и мне остается только
вернуться к грустной мысли, что в прозе добиться подобного
невозможно...
Милые друзья, мои читатели, как я хотел бы, чтобы это было
возможно и в прозе! Ведь тогда, если бы я знал, как это делается,
я нарисовал бы вам Неведомую Страну так, что потом каждый
пейзаж преображался бы для вас, ибо за ним проглядывала бы,
брезжила бы и сияла бы Неведомая Страна, на которой покоится
наш скучный и однообразный мир.
Но, возразите вы мне, проза тоже на это способна, и
процитируете конец «Пути паломника» — произведения поистине
удивительного. Или, что еще убедительнее, поскольку тут мы
скорее сойдемся, сошлетесь на то общее впечатление, которое
Вечер уж тут {лат.).
210
оставляет книга, толкнувшая меня написать все, что вы прочли,—
«Хрустальный век» Хадсона. Я не отрицаю, что и проза способна
подняться до этого, но тогда ее уже нельзя называть прозой, ибо
она вдохновенна. Внимательно прочитав подобную прозу (напри-
мер, историю Руфи в Библии, где такая сила достигнута в полной
мере), вы обнаружите ту же магию, те же чары. Недаром тема
Руфи в изгнании вдохновила двух европейских поэтов, причем
трудно решить, какое из их творений более национально и,
следовательно, более велико — стихи Виктора Гюго в «Легендах
веков» или поразительные четыре строки Китса.
Недавно на Финдонскую ярмарку пришел пастух. Он пригнал
своих овец с востока, из Льюиса, и в глазах его отражались
необъятные просторы—вот почему глаза пастухов и горцев
отличаются от глаз всех остальных людей. Когда я увидел его, он
волок овец мистера Фултона за задние ноги, чтобы они шли куда
надо. И случилось так, что в этот день овцы мистера Фултона
проданы не были, и пастух погнал их назад через деревушку
Финдон и вверх по склонам высокого Даунса. Я пошел с ним,
чтобы послушать его, ибо пастухи говорят не так, как другие
люди. И когда мы взобрались на отрог Чэнктонбери и взглянули
на Уилд, простертый перед нами, как Небесные Равнины, он
сказал мне:
— Как я сюда ни поднимусь, мне всякий раз кажется, будто
внизу там совсем новое место, будто я вовсе и не исходил его с
овцами вдоль и поперек. Совсем оно другое, если смотреть сверху.
Он добавил, что не может разобраться, почему это так. Тут я
понял, что он, подобно мне, все время ощущает Неведомую
Страну, и обрадовался. Но больше мы об этом не говорили, пока
не спустились в Стенинг. Там мы посидели и выпили, но все равно
больше про это не говорили, а потому и по сей день нам известно
про это ровно столько, сколько мы знали, когда пустились в путь,
и сколько вы знали, когда я начинал писать прочитанное вами, да
и теперь знаете не больше, а только одно: что под знакомыми нам
местами скрыта Неведомая Страна, являющаяся нам лишь в
минуты откровения.
А достигнем ли мы в конце концов этой страны или не
достигнем—решить невозможно.
Б. ШОУ
НОВАЯ
ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
В ПЬЕСАХ ИБСЕНА
До чего грустную картину являет собой современная критика! Она
погребена под целой горой фраз и формул, которые проникают к
критикам в мозг и оттого кажутся им жизненно важными, хотя
для всех остальных эти формулы только мертвый и тоскливый
хлам (в этом-то и состоит весь секрет академического педантиз-
ма). До сего дня критики слепы к новой технике создания
популярных пьес, между тем как целое поколение признанных
драматургов изо дня в день демонстрирует ее у них под носом.
Главным из новых технических приемов стала дискуссия. Раньше
в так называемых «хорошо сделанных пьесах» вам предлагались: в
первом акте — экспозиция, во втором—конфликт, в третьем — его
разрешение. Теперь перед вами экспозиция, конфликт и дискус-
сия, причем именно дискуссия и служит проверкой драматурга.
Критики тщетно протестуют. Они утверждают, что дискуссия не
сценична, что искусство не должно поучать. Однако ни драматур-
ги, ни публика не обращают на них ни малейшего внимания.
Дискуссией ибсеновский «Кукольный дом» покорил Европу. И
сегодня серьезный драматург видит в ней не только пробный
камень для своего таланта, но и главный козырь своей пьесы.
Иногда он даже ищет повод заранее заверить публику, что не
преминет использовать в своей пьесе это последнее нововведение.
Именно к этому неизбежно должна была прийти драма, если ей
суждено было когда-нибудь подняться выше младенческого спроса
на сказочки без морали. Мораль детей бескомпромиссна и
деспотична, морализаторство для них—невыносимая пошлятина.
Мораль взрослых в большинстве случаев так же бескомпромис-
сна, как детская, и поэтому либо целиком условна и лишена
этического значения (как правила уличного движения или неписа-
ный закон, по которому на просьбу отпустить ярд тесьмы
продавец отрежет вам тридцать шесть дюймов, не пытаясь
как-нибудь иначе толковать слово «ярд»), либо это этическое
значение слишком очевидно и не оставляет места для обсуждения.
(Например, даже в том случае, когда коридорный медлит с
подачей вам горячей воды для бритья, вы все равно не перережете
ему в гневе бритвой горло, чего бы вам ни стоили ваша выдержка
и самообладание).
Если пьеса представляет собой просто рассказ о том, как
злодей пытался разлучить честную молодую пару обрученных и,
оклеветав мужчину, пытался добиться руки женщины или же
212
устранил соперника с помощью подлога, убийства, лжесвидетель-
ства и других банальностей Ньюгетского календаря *, то введение
в нее дискуссии, разумеется, будет смехотворным. Нормальным
людям обсуждать здесь нечего. И всякая попытка обрушиться,
как Чедбенд, на гнусность этих преступлений будет немедленно
отвергнута как, выражаясь словами Мильтона, «моральный
лепет».
Для того, кто часто ходит в театр, возможности такого рода
драмы очень скоро исчерпываются. После двадцати спектаклей
зритель уже в состоянии предугадать возможный поворот любых
интриг и событий, которые только могут лечь в основу такой
пьесы. Иллюзия реальности вскоре пропадает. Да, по сути дела,
она вряд ли когда-либо радовала взрослых; ведь только очень
Маленьким детям сказочная королева могла казаться чем-то
большим, нежели актрисой. Но в том возрасте, когда мы
перестаем принимать тех, кого видим на сцене, за участников
действительных событий и знаем, что это просто актеры и
актрисы, на нас действует обаяние исполнителя. Ребенок был бы
смертельно обижен, узнав, что сказочная королева—это просто-
напросто мисс Смит, напоминающая королеву только одеждой,
Но, став взрослым, он идет в театр специально, чтобы увидеть эту
самую мисс Смит, и ее искусство и красота так вдохновляют его,
что он восхищается пьесами, которые без нее кажутся ему
невыносимыми. Так возникают пьесы, написанные специально для
Популярных исполнителей, а популярные исполнители благодаря
Обаянию, с каким они играют в этих пьесах, поднимают цену
ничего не стоящих произведений. Однако с коммерческой точки
зрения все такие предприятия очень и очень ненадежны. Обаяние
некоторых актеров совершенно не зависит от пьесы, и бывает,
что только одно их участие в ней определяет ее успех или провал.
Но таких актеров очень мало, и поэтому нашим театрам — всем
или хотя бы большинству—трудно надеяться на актеров больше,
чем на пьесу. Кроме того, в природе нет таких актеров, которые
могли бы создавать все из ничего. У нас были актеры — от
Гримальди до Садерна, Джефферсона и Генри Ирвинга (не говоря
уже о теперешних исполнителях), которым раз в жизни удавалось
в пьесу, обреченную без их участия на провал, ввести некий
образ, целиком созданный ими самими. Но ни один из них больше
не смог ни повторить свой подвиг, ни спасти от провала то
множество пьес, в которых он играл. В конечном счете, когда
театр насытит иллюзии детей и утолит страсть взрослых к чарам,
ничто не сможет привлекать к нему зрителей, кроме постоянного
притока оригинальных пьес. Это особенно справедливо в отноше-
нии Лондона, где расходы и волнения, связанные с посещением
театра, достигли таких размеров, что только удивляешься, отчего
это разумные и взрослые люди вообще ходят в театр. Кстати, как
правило, они туда и не ходят.
По сути дела, сегодня может считаться интересной только та
пьеса, в которой затронуты и обсуждены проблемы, характеры и
поступки героев, имеющие непосредственное значение для самой
аудитории. Бережливая публика хочет за свои деньги получить
что-то от просмотренных ею пьес, причем она не просто уносит
213
это «что-то» с собой, но и использует в дальнейшем в своей
жизни. Перед этим пасуют все банальные предостережения
театральной кассы. Напрасно опытный режиссер твердит, что в
театр люди ходят развлекаться, а не слушать проповеди; что им
не вынести длинных монологов; что в пьесе должно быть не
больше восемнадцати тысяч слов; что спектакль нельзя начинать
раньше девяти и кончать позже одиннадцати часов; что нужно
избегать политических и религиозных тем; что нарушение этих
золотых правил толкнет публику к дверям варьете; что в пьесе
непременно должна быть героиня с дурным нравом, причем
сыгранная очень обаятельной актрисой, и так далее и тому
подобное. Все эти советы действительны только для тех пьес, в
которых нечего обсуждать. Но ими может пренебречь автор, если
он моралист, спорщик и, кроме того, еще искусный драматург. От
такого автора—в пределах, неизбежно устанавливаемых временем
и человеческой выносливостью,— зрители стерпят все, если толь-
ко они достаточно культурны и образованны, чтобы оценить
особую форму его искусства. Трудность заключается здесь в том,
что в наши дни зрелые и образованные люди не ходят в театр, как
не читают дешевых романчиков. А если драматурги и готовят им
особую пищу, то они не реагируют на нее, отчасти потому, что у
них нет привычки ходить в театр, а отчасти потому, что не
понимают: новый театр совсем не похож на все обычные театры.
Но когда они в конце концов поймут это, их будет привлекать к
себе уже не холостая перестрелка репликами между актерами, не
притворная смерть, венчающая сценическую битву, не пара
театральных любовников, симулирующих эротический экстаз, и
не какие-нибудь там дурачества, именуемые «действием»,—а сама
глубина пьесы, характеры и поступки сценических героев, кото-
рые оживут благодаря искусству драматурга и актеров.
До этих пределов и расширил Ибсен старую драматическую
форму. До определенного момента в последнем действии «Куколь-
ный дом»—это пьеса, которую можно переиначить в банальней-
шую французскую драму, вымарав лишь несколько реплик и
заменив знаменитую последнюю сцену счастливым сентименталь-
ным концом. И уж конечно, это было первое, что сделали с
пьесой театральные «мудрецы», и она, ощипанная таким образом,
не имела никакого успеха и не обратила на себя сколько-нибудь
заметного внимания. Но именно в этом месте последнего акта
героиня вдруг совершенно неожиданно для «мудрецов» прерывает
свою эмоциональную игру и заявляет: «Нам надо сесть и обсу-
дить все, что произошло между нами». Благодаря этому совер-
шенно новому драматургическому приему, этому, как сказали
бы музыканты, добавлению новой части «Кукольный дом»
и покорил Европу и основал новую школу драматического искус-
ства.
С этого времени дискуссия вышла далеко за пределы послед-
них десяти минут пьесы, во всем остальном «хорошо сделанной».
Введение дискуссии в финал пьесы вообще было неудачно—не
только потому, что зрительный зал к этому времени был уже
утомлен, но и потому, что вся пьеса становилась понятной только
в самом конце спектакля, когда первые акты прояснялись в свете
214
финальной дискуссии. Практическая польза моей книги1 совер-
шенно очевидна: ведь пока зритель не прочтет те страницы,
которые я посвятил той или иной пьесе, он вряд ли поймет ее с
одного спектакля, если подойдет к ней, как большинство наших
театралов, с обычными идеалистическими предубеждениями.
Итак, сегодня наши пь.есы, в том числе и некоторые мои,
начинаются с дискуссии и кончаются действием, а в других
дискуссия от начала до конца переплетается с действием. Когда
Ибсен вторгся в Европу, дискуссия уже сошла со сцены, а
женщины еще не писали пьес. Но уже через двадцать лет они
стали это делать лучше, чем мужчины. Их пьесы с первого до
последнего акта были страстной дискуссией. Действие в них тесно
связано с обсуждаемой ситуацией. Если она неинтересна, затаска-
на, или, может быть, плохо разработана, или грубо сфабрикова-
на— пьеса неудачна; если же она значительна, нова, убедительна
или хотя бы волнует — пьеса хороша. Но, так или иначе, пьеса без
спора и без предмета спора больше уже не котируется как
серьезная драма. Она может, конечно, радовать того ребенка,
который всегда в нас живет, радовать как кукольное представле-
ние о Панче и Джуди. Но в наши дни никому и в голову не придет
видеть в «хорошо сделанной пьесе» нечто большее, чем коммерче-
скую продукцию, которую обычно не принимают в расчет при
обсуждении современных направлений серьезной драмы. В самом
деле, за те десять лет, что прошли со дня лондонской премьеры
«Кукольного дома», зрители стали так презирать шитые белыми
нитками избитые приемы Сарду, что применять их теперь опасно.
И драматурги, настойчиво «строившие» пьесы на старый француз-
ский лад, отказались от этого не из-за недостатка идей, а из-за
того, что их техника безнадежно устарела.
В новых пьесах драматический конфликт строится не вокруг
вульгарных склонностей человека, его жадности или щедрости,
обиды и честолюбия, недоразумений и случайностей и всего
прочего, что само по себе не порождает моральных проблем, а
вокруг столкновения различных идеалов. Конфликт этот идет не
между правыми и виноватыми: злодей здесь может быть сове-
стлив, как и герой, если не больше. По сути дела, проблема,
делающая пьесу интересной (когда она действительно интересна),
заключается в выяснении, кто же здесь герой, а кто злодей. Или,
иначе говоря, здесь нет ни злодеев, ни героев. Критиков поражает
больше всего отказ от драматургического искусства. Они не
понимают, что в действительности за всеми техническими новше-
ствами стоит неизбежный возврат к природе. Сегодня естествен-
ное— это прежде всего каждодневное. И если стремиться к тому,
чтобы кульминационные моменты пьесы что-то значили для
зрителя, они должны быть такими, какие бывают и у него если не
ежедневно, то по крайней мере раз в жизни. Преступления, драки,
огромные наследства, пожары, кораблекрушения, сражения
и громы небесные — все это драматургические ошибки, даже
если такие происшествия изображать эффектно. Конечно, если
провести героя сквозь тяжелые испытания, они смогут при-
1 «Квинтэссенция ибсенизма».— Прим. ред.
215
обрести драматический интерес, хотя и будут слишком явно
театральными, ибо драматург, не имеющий большого опыта
личного участия в подобных катастрофах, естественно, вынужден
подменять возникающие в нем чувства набором штампов и
догадок.
Короче, несчастные случаи сами по себе не драматичны; они
всего лишь анекдотичны. Они могут служить основой фабулы,
производить впечатление возбуждать, опустошать и вызывать
любопытство, могут обладать дюжиной других качеств. Но
собственно драматического интереса в них нет, как нет, например,
никакой драмы в том, что человека сбили с ног или что его
переехала машина. Развязка «Гамлета» не стала бы драматичней,
если бы Полоний свалился с лестницы и свернул себе шею,
Клавдий умер в припадке белой горячки, Гамлет задохнулся от
напора своих философских размышлений, Офелия скончалась от
кори, Лаэрта убила дворцовая стража, а Розенкранц и Гильден-
стерн утонули в Северном море. Даже и сейчас эпизод с
королевой, которая случайно выпивает яд, вызывает подозрение,
что автор хотел поскорее убрать ее со сцены. Эта смерть—
единственная драматургическая неудача произведения. Тонны от-
личной бумаги были напрасно измараны писателями, которые
воображали, что они способны создать трагедию, заставив своих
героев погибнуть в последнем акте случайной смертью. В действи-
тельности же никакой несчастный случай, пусть самый кровавый,
не может быть сюжетом настоящей драмы, тогда как спор между
мужем и женой о том, жить ли им в городе или в деревне, может
стать началом самой неистовой трагедии или же добротной
комедии.
Могут сказать, что все в жизни случайно, что характер
Отелло — случайность, характер Яго — другая случайность, а то,
что им привелось встретиться друг с другом в венецианской
армии,— и вовсе случайность из случайностей. И Торвальд Хель-
мер с таким же успехом мог бы жениться не на Норе, а на миссис
Никльби. На такие разговоры не стоит обращать внимания. Факт
остается фактом: брак не более случаен, чем рождение и смерть,
или, скажем иначе, все это обычно случается с каждым. И если
во всех мужчинах есть кое-какие черты Торвальда Хельмера, а во
всех женщинах—черты Норы, то ни их характеры, ни их встречи,
ни их браки не случайны.
При всей своей занимательности, при том, что герой вызывает
у нас сочувствие, при той трепетной звучности, какой один только
мастер языка смог добиться художественной чеканкой, сюжет
«Отелло», безусловно, куда более случаен, чем сюжет «Кукольно-
го дома». Вместе с тем он для нас и меньше значит, и менее
интересен. Он живет до сих пор не благодаря придуманным в нем
недоразумениям, украденному платку и тому подобному, и даже
не благодаря своим благозвучным стихам, а в силу затронутых в
нем вопросов о природе человека, брака, ревности. Однако это
была бы несравненно лучшая пьеса, если б в ней просто и
серьезно обсуждалась чрезвычайно интересная проблема, поладит
ли простой мавританский солдат с «утонченнейшей» венецианской
светской дамой, если он женится на ней. Сейчас основой
216
существующей пьесы является ошибка. И хотя ошибка может
служить поводом к убийству—этому вульгарному суррогату
трагедии,— она не может вызвать к жизни подлинную трагедию в
ее современном смысле.
Думающие люди интересуются Камерой ужасов не больше,
чем собственным домом, а убийцами, их жертвами и разного рода
злодеями—не больше, чем собой. И с того момента, как человек
обретает достаточно смекалки, чтобы не глазеть на восковых
кукол, он окажется уже на полпути к тому, чтобы утратить
интерес к Отелло, Дездемоне и Яго — и ровно настолько, насколь-
ко возрастает этот интерес у полиции. Слабость Кассио к
спиртному гораздо понятнее большинству из нас, чем ревность
Отелло, который душит жену или перерезает себе горло, чем теат-
ральное мошенничество Яго. Лучшим доказательством этого слу-
жит то, что коллеги Шекспира по профессии, прибегавшие ко
зсем его сенсационным нововведениям, нагромождавшие пытки на
убийства и кровосмешение на измены — пока они не стали
большими Иродами, чем сам Ирод,— сейчас забыты. Шекспир
же пережил их всех потому, что относился к заимствованным им
сенсационным ужасам как к чисто внешним аксессуарам, как к
поводу для драматизации человеческого характера, каким он
выглядит в нормальном мире. Наслаждаясь его пьесами и обсуж-
дая их, мы бессознательно пренебрегаем всеми изображенными
там сражениями и убийствами. Комментаторы никогда так не
заблуждаются и вместе с тем никогда не кажутся столь остроум-
ными, как в случаях, когда всерьез принимают Гамлета за
сумасшедшего, Макбета—за разбойника из Горной Шотландии, а
пакостников вроде Ричарда и Яго — за мрачных злодеев эпохи
Возрождения. Пьесы, в которых появляются такие фигуры,
Можно переделать в комедии, не заменив и волоска в бородах
Героев. Шекспир, если бы нашелся человек, который решился
приписать все это драматургу, мог бы ответить, что большинство
преступлений—это случайности, которые происходят с точно
такими же людьми, как мы, и что Макбет при благоприятных
обстоятельствах мог бы стать образцовым ректором Стратфорда.
Он мог бы прибавить, что настоящий преступник—это полоумное
чудовище, случайность среди людей, годная на сцене лишь в
качестве второстепенного персонажа, такого, как Джонс, второй
убийца, и тому подобное. Но так или иначе, а факт остается
фактом: Шекспир все еще живет благодаря своей близости к
Ибсену, а не к Уэбстеру и другим. Гамлет удивляется, когда
обнаруживает, что в нем «нет желчи», чтобы придерживаться
идеалистических условностей, и что никакие риторические рас-
суждения об обязанности отомстить за «убийство дорогого отца»
и уничтожить «блудливого, вероломного, злого подлеца»-убийцу
ничего как будто не меняют в семейных отношениях во дворце
Эльсинора. Но все это не мешает нам рассуждать о Гамлете и
ходить в театр его слушать, тогда как более древние гамлеты,
которым чужды были ибсеновские колебания и которые, притво-
рившись сумасшедшими, заворачивали придворных в гобелены,
чтобы потом их сжечь, и проделывали все это, твердо придержи-
ваясь правил театральной школы толстого мальчика из «Пиккви-
217
ка» («Я жду мурашек на вашей коже»), так же мертвы сейчас, как
бараны Джона Шекспира*.
Под влиянием Ибсена наша драма в этом отношении далеко
ушла вперед, и теперь кажется странным предпочитать его
Шекспиру лишь на том основании, что он избегает старых
катастрофических развязок елизаветинской трагедии, в финале
устилавших сцену мертвыми телами. Единственно возможный
основательный упрек в адрес Ибсена со стороны критиков из его
собственного лагеря относится как раз к уцелевшим у него
остаткам старой школы, так сильно повышающим смертность в
последних актах его пьес. Умирают ли Освальд Алвинг, Хедвиг
Экдал, Росмер и Ребекка, Хедда Габлер, Сольнес, Эйолф,
Боркман, Рубек и Ирена естественной драматургической смертью
либо же они умерщвляются в классической или шекспировской
манере? И потому ли это происходит, что зрители ждут крови за
свои деньги, или же потому, что трудно заставить людей
внимательно следить за чем-либо, не припугнув их каким-нибудь
страшным бедствием? Правильность тех и других предположений
так легко обосновать, что я отказываюсь от дальнейшего их
обсуждения.
Послеибсеновское поколение драматургов, по-видимому, счита-
ет, что все эти убийства и самоубийства навязаны Ибсену. В
чеховском «Вишневом саде», например, где сентиментальные
идеалы нашего любезного и просвещенного класса собственников,
восторгающихся Шуманом, разлетаются в прах под рукой не
менее беспощадной, чем рука Ибсена, хотя она и более ласкова, в
«Вишневом саде», повторяю, не происходит ничего более страш-
ного, чем крушение семьи, которая не может позволить себе
содержать свой старый дом. В пьесах Грэнвилл-Баркера кампания
против нашего общества ведется уже со всей ибсеновской
непримиримостью. Единственное самоубийство (в его «Потере»)
не меняет дела, ибо ни Парнелл, ни Дилк (то есть участники
основной интриги) с собой не покончили.
Мне самому ставили в вину, что герои моих пьес «говорят, но
ничего не делают», подразумевая под этим, что они не совершают
уголовных преступлений. Между тем настоящая развязка заклю-
чается вовсе не в том, чтобы, как Александр, разрубить гордиев
узел ударом меча. Когда души людей опутаны законами и
общественным мнением, гораздо трагичнее оставить их терзаться
в этих путах, чем сразу покончить с их несчастьями и вызвать у
зрителей целительные угрызения совести. Судья Брак был, в
общем, прав, когда говорил, что люди так не поступают. Если бы
они так поступали, идеалисты, право же, давно бы образумились.
Но в пьесах Ибсена катастрофа, даже если она кажется
натянутой и даже если бы без нее пьеса кончалась трагичнее,
никогда не бывает случайной. Ибсен никогда не писал пьес только
ради самих катастроф. Ближе всего к случайности смерть
маленького Эйолфа, который падает с пирса и тонет. Этот эпизод
подчеркивает одну замечательную драматическую функцию слу-
чайности: она способна пробудить людей. Когда Англия оплакива-
ла смерть малютки Нелл и Поля Домби, сильная душа Рескина
была исполнена презрения. Романистам, отчаявшимся продать
218
свои книги, он предложил формулу: «Когда вы не знаете, о чем
писать,— убейте ребенка!» Но Ибсен убил маленького Эйолфа не
ради искусственного пафоса. Лучший способ погубить постановку
«Маленького Эйолфа» — это показать его как сентиментальную
историю об утонувшем крошке. Драматизм пьесы заключается в
том, что Алмерс и его жена осознали всю презренность и всю
отвратительную злобу своей жизни, которую они идеализировали,
считая, что она полна блаженства и поэзии. Они были так глубоко
погружены в сон, что пробуждение их могло быть вызвано только
жестокой встряской. Это как раз и есть та ситуация, при которой
в драме может понадобиться случайность. Случайность может
потрясти: отсюда и происшествие с Эйолфом.
Что касается смертей в последних актах у Ибсена, то это не
что иное, как избавление от останков драматургически исчерпан-
ных характеров. Падение Сольнеса с башни так же откровенно
символично, как и падение Фаэтона с колесницы Солнца. Мертвые
тела у Ибсена—это тела людей, уже выдохшихся и духовно
уничтоженных. Он, например, не убивает Хильду, как Шекспир
убил Джульетту. Он потому так безжалостен к Хедвиг и Эйолфу,
что смертью этих детей хочет разоблачить их родителей. Но если
бы он написал «Гамлета», то никто не был бы убит в последнем
акте, кроме разве Горацио, корректная никчемность которого
могла бы вызвать у Фортинбраса желание сбить с него спесь
своим мечом. Шекспировские смерти у Ибсена надо искать где-то
поблизости от фру Ингер, в его юношеских пьесах, которых я в
своей книге не касаюсь.
Драма возникла в древности из сочетания двух желаний:
желания танцевать и желания послушать историю. Танец превра-
тился в оргию; история стала ситуацией. Когда Ибсен начал
писать пьесы, искусство драматурга сводилось к искусству изоб-
ретать ситуацию; при этом считалось, что чем она оригинальнее,
тем лучше пьеса. Ибсен, наоборот, считал, что чем ситуация
ближе нам, тем интереснее может быть пьеса. Шекспир выводил
на сцене нас самих, но в чуждых нам ситуациях: ведь наши дяди
редко убивают наших отцов и не часто становятся законными
мужьями наших матерей. Мы не встречаемся с ведьмами. Наших
королей не всегда закалывают, и не всегда на их место вступают
те, кто их заколол. Наконец, когда мы добываем деньги по
•векселю, мы не обещаем уплатить за них фунтом нашей плоти.
■ Ибсен удовлетворяет потребность, не утоленную Шекспиром.
[Он представляет нам не только нас самих, но нас самих в наших
Собственных ситуациях. То, что случается с его сценическими
'героями, случается и с нами. Первым следствием этого является
несравненно большее значение для нас его пьес но сравнению с
шекспировскими. Второе следствие заключается в их способности
Жестоко ранить нас и пробуждать в нашей душе волнующую
надежду на избавление от тирании идеалов, вызывая перед нами
видения более совершенной будущей жизни.
Эти перемены в содержании пьес с неизбежностью повлекли за
собой и перемены в их форме. Когда драматический поэт
способен дарить вам надежды и видения, то такая старая
мудрость, как «все искусство сцены заключается в нагнетании»,
219
сразу становится наивной, и ее можно оставить только тем
незадачливым драматургам, которые, не умея создавать на сцене
ничего действительно интересного, постоянно пытаются убедить
аудиторию, что «сейчас вот-вот должно что-то произойти». Все
старые трюки, которыми хотят завоевать и удержать внимание
зрителя, кажутся глупыми и никчемными там, где драматург
пронзает людей до самого сердца, показывая им воочию жесто-
кость поступков, которые они совершили вчера или собираются
совершить завтра.
Пьеса под названием «Смерть Гонзаго», которую Гамлет
заставляет играть перед своим дядей, весьма безыскусна, но она
производит на Клавдия большее впечатление, чем произвел бы
«Эдип» Софокла, потому что в ней говорится о самом Клавдии.
Таким образом, писатель, овладевший искусством Ибсена, может
спокойно пренебречь всеми старыми приемами, завязкой, кульми-
нацией, развязкой, так же как современный стрелок пренебрегает
пороховыми рожками, пистонами и пыжами, просто не зная, как
ими пользоваться. Ибсен заменил эти приемы меткими выстрела-
ми по публике, заманиванием зрителей в ловушку, парированием
их возражений, постоянным выискиванием самых болезненных
мест их совести.
Никогда не обманывайте аудиторию—гласило старое правило.
Новая школа, напротив, стала хитростью толкать зрителя на
неверное умозаключение, а затем в следующем акте обвинять его
за это ошибочное умозаключение, тем самым часто тяжко его
унижая. Если, презирая что-нибудь, вы все же снимаете перед
этим шляпу или восхищаетесь тем, что должны ненавидеть,—вам
не устоять перед драматургом, который сумел нащупать ваши
больные места и объяснить вам, что вы больны. Драматург знает,
что, пока он учит и действует во спасение своей аудитории, он
может быть уверен в ее напряженном внимании, как уверен в нем
дантист или благовествующий ангел. Волшебством своего искус-
ства он может заставить вас забыть боль, которую сам причиняет
вам, или заронить в вас радостные надежды и пробудить муже-
ство, но он ни за что не станет, как прежде, нагнетать в зале
бессмысленные, старые как мир ожидания, не связанные ни с
прошлым, ни с будущим зрителя.
Вот отчего и поднялся крик о том, что послеибсеновская
пьеса—вовсе не пьеса, что ее техника, не соответствующая
описанной Аристотелем,—вовсе не техника. Я не буду останавли-
ваться на этом; не стоит снова здесь вышучивать моего друга
А. Б. Уокли, как я делал это в прологе к «Первой пьесе Фанни».
Но я хочу еще раз напомнить, что новая техника нова только для
современного театра. Она использовалась священниками и орато-
рами еще до существования ораторского искусства. Эта техника—
род игры с человеческой совестью, и она практиковалась драма-
тургом всякий раз, когда он был способен на это. Риторика,
ирония, спор, парадокс, эпиграмма, притча, перегруппировка
случайных фактов в упорядоченные и разумные сценические
ситуации—все это и самые древние и самые новые элементы
искусства драмы. И ваши «построение сюжета» и «искусство
нагнетания» не больше, чем уловки театрального таланта и
220
результат морального бесплодия, а отнюдь не оружие драматиче-
ского гения. В театре Ибсена мы отнюдь не обольщенные им
зрители, убивающие свободное время на хитроумное и забавное
развлечение. Мы—«преступники в театре»1. И техника пустого
времяпрепровождения там так же неуместна, как на суде по делу об
убийстве.
Драматургическое новаторство Ибсена и последовавших за ним
драматургов состоит, таким образом, в следующем: во-первых, он
ввел дискуссию и расширил ее права настолько, что, распростра-
нившись и вторгшись Bi действие, она окончательно с ним
ассимилировалась. Пьеса и дискуссия стали практически синони-
мами. Во-вторых, сами зрители включились в число участников
драмы, а случаи из их жизни стали сценическими ситуациями. За
этим последовал отказ от старых драматургических приемов,
понуждающих зрителя интересоваться несуществующими людьми
и невозможными обстоятельствами; отказ от заимствований из
судебной практики, от техники взаимных обвинений и разрушения
иллюзии, от техники достижения истины через знакомые идеалы
и, наконец, замена всего этого свободным использованием всех
видов риторического и лирического искусства оратора, священни-
ка, адвоката и народного певца.
1 У. Шекспир. Поли. собр. соч., т. 6. М., 1960, «Гамлет», акт 2, сцена 2, с. 66.
Перевод М. Лозинского.
Б. ШОУ
МИСТЕР БЕННЕТ ПОЛАГАЕТ,
ЧТО ПЬЕСЫ ПИСАТЬ ЛЕГЧЕ,
ЧЕМ РОМАНЫ
(Арнольд Беннет. Мастерство писателя.
Лондон, 1916)
Я не сразу понял, почему редактор «Нейшн» прислал мне эту
книжку Беннета на рецензию. Автор размышляет в ней на
узкопрофессиональные темы и в приятной, довольно остроумной
манере развлекает литературных дилетантов всякими безвредными
пустяками по поводу приемов письма. Что же, у такого заслужен-
ного романиста, как мистер Беннет, есть на это все права. Ну а я
тут при чем? Мне-то зачем отбивать кусок хлеба у какого-нибудь
молодого критика?
Разгадку я нашел на семьдесят шестой странице, открыва-
ющейся следующими словами: «Есть одна причина, по которой
пьесу создать легче, чем роман». Тут я и попался! Я вовсе не
желал знать эту причину, настолько возмутительным показался
мне пассаж. Но несмотря на потрясение, бросить книгу я уже не
мог и выяснил, где зарыта собака—дело оказалось в том, что
«пьеса короче». Конечно, короче. Но ведь и Библия короче
лондонского телефонного справочника. «Простите за такое длин-
ное письмо,— сказал как-то Паскаль.— У меня не было времени
писать кратко».
Нет, я не собираюсь спорить. Я никогда не спорю. Я просто
возьму одну из самых коротких, самых известных и самых
напряженных сцен в английской драматургии и переделаю ее в
главу из романа, причем таким слогом, каким пишут мои друзья
Беннет и Голсуорси, когда им лень писать пьесы.
МАКБЕТ
Пьеса Уильяма Шекспира.
Акт пятый. Сцена восьмая.
Дунсинан. Окрестности замка Макбета.
Входит Макбет.
Макбет
Зачем, подобно римскому безумцу,
Кончать с собою, бросившись на меч?
Пока живых я вижу, лучше буду
Их убивать.
Входит Макдуф.
222
Макдуф
Сюда, проклятый пес!
Макбет
Из всех людей я лишь с одним тобой
Встречаться не хотел. И так уж кровью
Твоих домашних дух мой отягчен.
Макдуф
Я слов не нахожу. Тебе их скажет
Мой меч. Ты негодяй, какому нет
Достойного названья.
Они бьются
Макбет
Труд пропащий.
Ты легче можешь воздух поразить,
Чем нанести своим мечом мне рану,
Бей им по уязвимым черепам—
Я защищен заклятьем от любого,
Кто женщиной рожден.
Макдуф
Так потеряй
Надежду на заклятье! Пусть твой демон,
Которому служил ты, подтвердит:
До срока из утробы материнской
Был вырезан Макдуф, а не рожден.
Макбет
Язык отсохни, это возвестивший!
Он сразу мужество во мне сломил!
Не надо верить прорицаньям ада.
Проклятье им за их двоякий смысл!
Слова их не обманывают слуха,
Чтоб тем полней надежды обмануть.
Я не дерусь с тобой.
Макдуф
Так сдайся, трус!
Останься жить диковинкою века.
Твое изображенье на шесте
Поставим мы, как выставляют чудищ,
И выведем под вывескою: «Здесь
Тирана можно видеть».
Макбет
Я не сдамся.
Перед Малькольмом землю целовать
И яростной толпы проклятья слушать?
Хотя Бирнам напал на Дунсинан
И не рожден ты женщиной, мой недруг,
Мне хочется, свой щит отбросив прочь,
Пробиться напролом в бою с тобой,
И проклят будь, кто первый крикнет: «Стой!»
Удаляются, сражаясь.
Макбет
Роман Арнольда Беннета, Джона Голсуорси или кого угодно
другого.
223
Последняя глава
Значит, ему все-таки не уйти от поражения. Битву он проигрыва-
ет. Его солдаты даже не сражаются и уже сообщили старому
Сиварду, что готовы сдаться на милость победителя, если им
оставят жизнь. А старый вояка, чьего сына он, Макбет, только
что прикончил, не упустит случая.
Так стоило ли стольких убивать? Дункан, Банко, семья
Макдуфа — да, он пролил реку крови: жаль, что все это не
сон—ведь убитые были бы тогда живы и любили бы его.
Как заливаются ласточки! Слегка придурковатый Банко всегда
очень нежно относился к ласточкам. Но покойница жена, кото-
рую эти англичане упорно величают леди Макбет, спорила с
Банко, доказывая, что ласточки не соблюдают элементарных
требований санитарии—они прямо кишат какими-то клопами и
заносят их в замок, где насекомых и без того хватает. Однако
Дункан вставал на сторону Банко, а когда покойница сама стала
королевой, то не позволила ломать гнезда. Ей хотелось во всем
придерживаться вкусов Дункана—не дай бог подумают, что
Макбеты не знают, как положено жить королям. И вот ласточки
теперь заливаются, они всегда заливаются, когда не ловят мух.
Он вдруг вспомнил, что так и не сказал жене правду про
Банко, и у него даже сердце заколотилось. Она-то думала, будто
он совершил убийство из-за предсказания ведьм—ведь именно
потомки Банко должны были стать королями. А на самом деле
просто из-за того, что Банко задирал нос — экий он, мол,
добродетельный. Это всегда противно, а когда через пару минут
нужно отправляться на убийство—так и вообще вынести нельзя.
Тому, кто ничего не делает, легко быть добродетельным, а
человеку действия не до совести. У ленивых танов, засевших по
своим родовым поместьицам, нет ни капли честолюбия, вот они и
болтают всякую чушь про совесть, чтобы оправдать свою лень.
До чего все-таки прекрасное утро! Разве найдешь что-нибудь
золотистей этого золотого вереска, голубее голубого неба и белее,
этих облаков? С вершины холма он почти различал Римскую
стену на юге и Форс Бридж на севере. Ветер слегка переменил
направление: позже, видимо, пойдет дождь. Но лесной голубь, не
обращая внимание на дурной знак, ворковал: «Глянь, две гули! На
две гули». Макбет мрачно улыбнулся. Он уже получил не менее
тысячи этих «гулей», а глупая птица уговаривает его взять еще
две. В прежние времена он запустил бы в нее камнем, но сейчас
не стал. Все—тщета! Ты все время куда-то рвешься, кого-то
убиваешь, ездишь советоваться с ведьмами, а что .в конечном
итоге? Голубь воркует то же самое, небеса такие же голубые,
облака белые, а вереск желтый. К дьяволу небо! К черту вереск!
Пропади пропадом голуби! А не покончить ли со всем этим, как
кончил когда-то римский безумец после битвы при Филиппи?
Макбет поставил меч рукояткой на плитняк и наклонился над ним.
Броситься на острие, вот и все, а лесной голубь пусть себе
воркует, пока не посинеет,—Макбет будет уже далеко, там, где
сейчас Дункан. А где он все-таки слышал про Филиппи? Ведь
римскую историю он вряд ли проходил, а вот поди же—знает.
224
Неужели люди перед смертью знают все на свете? Его передерну-
ло. Странно, что других он отправлял на тот свет не без
удовольствия, а вот к самоубийству чувствует явное отвращение.
Хотя и в самоубийстве есть приятная сторона: оно освобождает от
всех забот о будущем. К тому же, не думая о последствиях,
можно сначала поубивать сколько угодно людей. Нет, бог даст, он
еще проткнет парочку врагов перед тем, как наступит его черед.
Макбет высоко подкинул меч за клинок и поймал за рукоятку.
Голубиного воркования он уже не слышал.
Что такое? Неужели это голубь назвал его «проклятым псом»?
Повернувшись, он увидел Макдуфа — сверкая очами, тот стоял
между ним и солнцем. Если бы солнце било Макдуфу в глаза,
вряд ли бы он смог так сверкать. Не дурак, подошел именно с той
стороны, с какой нужно.
Макдуф? Да, Макдуф, против которого призрак, вызванный
старыми ведьмами, предостерегал его. Человек, чью семью он
вырезал! Немудрено, что он так смотрит. Любой на его месте
смотрел бы так же. А Банко, тот сверкал открытыми глазами даже
после смерти, только вот мысли в глазах не было. А у Макдуфа
сейчас есть: видно, размышляет о том, что солнце бьет в глаза
противнику.
Как все-таки заливаются ласточки! И воздух свежий! И жизнь
прекрасна! По склону холма разбегается множество живописных
тропинок, приведших его и Макдуфа именно в это место. Что же,
не приди Макдуф по одной из тропинок, пришел бы по другой.
Такова жизнь — всегда загадочная, временами ироничная. Ветер
затих, стяг перестал полоскаться и безжизненно повис. Какие-то
птицы и сверчки, напуганные его хлопаньем, теперь присбедини-
лись к концерту ласточек. Снова заскулил лесной голубь: «Ну
глянь на гулю! Ну глянь!» Резкий, скрежещущий звук внезапно
оторвал Макбета от любования пейзажем. Он снова взглянул на
человека, опасаться которого ему советовал призрак.
Пригнувшись, Макдуф точил о плитняк меч. Он сидел на
корточках, так что из-под юбки торчали острые коленки, и со
скрежетом ритмично водил мечом взад и вперед. Инстинкт
подражания толкнул Макбета взяться за то же занятие. Но из-за
толстых ног ему было труднее присесть. Королям всегда нелегко
сгибаться, да иногда приходится—судьба заставляет. Теперь уже
скрипели два меча. Птицы перестали распевать и с насторожен-
ным удивлением прислушивались. Только сойка хохотала.
Макбет ее услышал, и что-то заставило его губы расползтись в
ухмылке. Такое ощущение, словно тебе вдруг открылась какая-то
истина! Когда умирала жена, он попросил у доктора лекарство от
плохого настроения, но доктор не смог помочь. Тогда он обратил-
ся к привратнику, давно подметив, что тот один живет беззаботно,
презирает суету и смеется даже тогда, когда никого не мучают и
ни над кем не издеваются. Привратник сказал, что жизнь не так
уж плоха, если видеть в ней и смешные стороны. А сегодня утром
старый Сивард пригвоздил его к воротам, так как привратник
отказался открыть их врагу. Нашел ли он и в этом какие-нибудь
смешные стороны? Нет, все-таки есть что-то забавное в том, как
они, сидя на корточках, точат о плитняк свои мечи, хотя, видит
8-2389
225
бог, что тут смешного, если, конечно, предсказаниям ведьм
нельзя доверять. Призраки настаивали, что рожденный женщиной
Макбету не страшен. Но не они ли так же категорически
утверждали, что он непобедим, пока Бирнамский лес не двинется
на Дунсинан? Однако же он сам видел, как маршировал лес.
Он решил дать Макдуфу последний шанс. Надоело ему убивать
людей с такой фамилией. И он посоветовал противнику убираться.
Тот попытался ответить, но слов не нашел и, хватив ртом
воздух, бросился вперед. Все слова должен был сказать за него
меч.
Макбет не испугался, хотя знал, что уже не такой, каким был
прежде. После захвата трона он начал крепко выпивать — этого от
него ждали подданные. Но секунд на сорок хорошего боя его
хватит, а там он войдет в клинч и уж куда-нибудь да всадит
кинжал. Тем более и Макдуф, если судить по красному, распух-
шему носу, далеко не трезвенник. Хотя нос у него мог распухнуть
совсем и не от пьянства, а от слез по «домашним»? Не успел
Макбет кончить мысль, как Макдуф, сделав ложный выпад,
яростным ударом постарался уязвить его в пах. Макбет быстро
опустил щит, но удар все равно не достиг цели. Он успокоился, а
противник с тем же успехом продолжал наносить удары. Макбет
торжествовал. Наконец гордость за свою заколдованную жизнь
взяла верх над осторожностью, и он объяснил Макдуфу, почему
тот зря старается.
Но результат оказался совсем не таким, какого он ждал. В
глазах Макдуфа почему-то вспыхнула бешеная радость.
Что это значит?
Макбет недолго оставался в неизвестности. Словно в воду
опущенный, он слушал, как Макдуф рассказывал такое... такое,
чего не слышал ни один смертный. Здесь его слова по цензурным
соображениям повторить нельзя. Нам хватит того, что речь шла о
грубо сделанной нашими предками, до эффективной акушерской
операции. Она без сомнения доказывала, что Макдуф не был
рожден обычным образом.
После рассказа Макбет понял, что не будет больше сражаться.
Нет, он и сейчас не был напуган. Не выбило его из колеи и новое
предательство ведьм. Он просто не мог заставить себя ударить
этого недоноска. Все равно что пожирать кошек. Поэтому он
решительно отказался продолжать поединок.
Макдуф, само собой, обозвал его трусом. Но он и ухом не
повел: свою смелость он доказывал не раз, и Макдуфу никто
не поверит; да и вообще — какой здравомыслящий шотландец
станет биться с нерожденным противником? Но тут Макдуф на-
мекнул на ужасные вещи: разгром, унижения, даже позорный
столб.
Запел жаворонок. Далеко внизу холма по грязной дороге,
сворачивающей к подвесному мосту, шли остатки Бирнамского
леса. Над шагающим дубом неподвижно парил сокол. У ствола
поблескивало на латах солнце, а ноги явно принадлежали старому
солдату, который из хитрости выбрал дерево потяжелее, чтобы
опоздать к сражению. Но старый он или молодой, сейчас солдат
явно торопился к дележу награбленного и другим приятным
226
забавам в захваченном замке. На дубе виднелись и гнезда.
Интересно, а как птицы реагируют на эту трусцу?
Внезапно его охватила ярость. Ведь прежде всего он зем-
левладелец. Взбеситься можно, когда кто-то без всякого права
передвигает твой лес. Только подумать, Бирнамский лес, его
собственность, двигают в Дунсинан, а он должен терпеть? Нет уж,
пусть Макдуф рожден не так, как надо,— от этого у него
организм, возможно, слабее, и он не выдержит хорошего натиска.
Надо попробовать. Макбет собрался духом, крепко ухватился за
меч и закричал: «Ну, налетай, Макдуф, давай несись!»
Более неудачного призыва он не смог бы придумать, даже если
бы захотел. Ведь когда Макдуф получил известие об убийстве
жены и сына, он удивил гонца следующим восклицанием:
Всех бедненьких цыплят? До одного?
О изверг, изверг! Всех моих хороших?
Привыкший с детства к лошадям, он ничего не смыслил в
домашней птице. Курами занимались женщины, поэтому Маль-
кольму, хотя и глубоко тронутому горем Макдуфа, от этих
«цыплят» стало так смешно, что он чуть не забился в истерике.
Анекдот пошел гулять, и кое-что достигло ушей Макдуфа. А
человек он был нервный, чувствительный к насмешкам. С той
поры любой намек на кур доводил его до бешенства. И после
этого рокового слова «несись» у Макбета уже не оставалось
надежд на спасение.
Да он и не был готов к внезапной атаке. С детства в самые
важные минуты жизни на него вдруг нападала какая-то рассеян-
ность: он начинал рассматривать пейзажи и размышлять о флоре
и фауне данного места. Когда, например, Макбет пришел сказать
жене, что все подготовлено к убийству Банко, он почему-то
произнес: «Меркнет свет. Летит к лесной опушке ворон». Так и
теперь яростный вопль Макдуфа достиг его ушей в тот момент,
когда его внимание было всецело поглощено лесным голубем. Тут
же он ощутил, как зубы врага откусывают ему нос, а кинжал
входит под ребра.
Когда к месту поединка подошел Малькольм, от Макбета
оставалась лишь груда фарша. «Теперь будет знать!»—тяжело
дыша, сказал Макдуф и, надувшись, замер.
Похоронили Макбета на тихом кладбище в Дунсинане рядом с
женой. Малькольм воздвиг на могиле величественный памятник—
надо же поддерживать королевские обычаи! Да и надгробную
надпись сделали вполне приличную. Никаких упреков, никакой
ненужной горечи. Там просто говорилось, что Макбет правил
страной вслед за Дунканом.
В Дунсинане продолжают петь птички. Все еще воркует
голубь, раздавая свои «гули», но слушает его теперь Малькольм.
И не нам судить его, как не нам судить Макбета. Он опережал
свое время. Его называют злодеем, но, существуй тогда пресса,
после небольшого денежного пожертвования он стал бы героем. И
надо отдать ему должное — чем-чем, а скрягой он не был.
8*
227
Конец
Вот как пишутся романы! Я не буду задаваться праздным
вопросом, легко это или нет. Любое искусство либо легко, либо
невозможно. Но нечто похожее я могу создавать тысячами
страниц, стоя на голове. Уверен, что увлекись я на пару месяцев
техникой, то изобрел бы приставку к пишущей машинке, вроде
тех арифмометров, которые недавно появились в продаже, и она
бы тоже могла так писать. Самое же странное, что публика
довольна. Она глотает подобное чтиво по триста страниц в один
присест, а вот Шекспира жалует не очень. Решено! Когда у меня
начнется маразм, я стану писать романы. А Арнольд Беннет пусть
пишет тогда пьесы.
Г. УЭЛЛС
СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН
Обстоятельства часто заставляют меня обращаться мыслями к
роману, к тому, как создается роман, в чем его значение, что он
собой представляет и каким может быть, и еще задолго до того,
как написать свой первый роман, я стал профессиональным
критиком. Теперь вот уже двадцать лет я пишу романы и пишу о
романах, но мне кажется, будто только вчера вышла моя рецензия
в «Сэтердей ревью» на книгу мистера Джозефа Конрада «Каприз
Олмейера» — кстати, первая большая и положительная статья о
его творчестве. Я посвятил роману столько лет своей жизни —
можно ли рассчитывать, что я буду говорить о нем в примиритель-
ных и осторожных тонах? Я считаю роман поистине значитель-
ным и необходимым явлением в сложной системе беспокойных
исканий, что зовется современной цивилизацией. Во многих
отношениях, мне думается, без него просто не обойтись.
Все сказанное, я знаю, расходится с установившимися взгляда-
ми. Мне известно, что существует теория, признающая за
романом единственное назначение — развлекать читателя. Вопреки
очевидным фактам этот взгляд господствовал в период деятельно-
сти великих писателей, который мы теперь называем викториан-
ской эпохой, он живет и поныне. Пожалуй, возникновением своим
эта теория обязана скорее читателям, нежели читательницам. Ее
можно назвать теорией Усталого Гиганта. Читателя представляют
как человека, обремененного заботами, изнемогающего от тяжких
трудов. С десяти до четырех он не выходил из своей конторы,
разве что часа на два в клуб, перекусить, или же — играл в гольф,
а может быть, он провел весь день в парламенте — заседал и
голосовал в палате общин; удил рыбу, участвовал в жарких
спорах по поводу какой-то статьи закона, писал проповедь или
занимался еще чем-то столь же серьезным и важным—ведь вся
жизнь человека обеспеченного состоит из тысячи подобных дел.
Но вот наконец пришли желанные минуты отдыха, и Усталый
Гигант берется за книгу. Не исключено, что он в дурном
настроении—быть может, его обыграли в гольф, или леска
запуталась в ветвях дерева, или падают самые надежные акции,
или днем, когда он выступал в суде, судья, страдающий болезнью
желудка, был с ним крайне резок. Ему хочется забыть о
жизненных невзгодах. Он хочет рассеяться. Он ждет, чтобы его
подбодрили и утешили, он ищет в книге развлечения—в первую
очередь развлечения. Ему не нужны ни мысли, ни факты, ни тем
229
более проблемы. Он жаждет унестись мечтой в призрачный мир,
где героем будет он сам и где перед ним предстанут красочные,
светлые и радостные видения: всадники и скакуны, наряды из
кружев, принцессы, которых спасают, получая в награду любовь.
Он хочет, чтобы ему нарисовали забавные трущобы и веселых
нищих, чудаков-рыболовов и скрашивающие нашу жизнь благие
порывы. Ему нужна романтика, но без присущих ей опасностей, и
юмор, но без тени иронии, и он считает, что долг писателя —
поставлять ему подобное чтиво, этакую сладкую водицу. Вот в
чем заключается теория Усталого Гиганта по отношению к
роману.
Наша критика руководствовалась этой теорией вплоть до
англо-бурской войны, а потом с нами, вернее, со многими из нас
что-то произошло, и эти взгляды утратили былую силу. Быть
может, они обретут ее вновь, а может случиться, что этого уже
не произойдет никогда.
В наши дни и художественная литература и критика взбунтова-
лись против Усталого Гиганта—преуспевающего англичанина. Я
не могу назвать ни одного мало-мальски известного писателя,
разве что У. У. Джейкобса, который согласен потакать облачен-
ным в туфли и халат любителям легкого чтения. Пока что мы
выяснили, что наш Усталый Гигант, скучающий читатель,—это
всего-навсего поразительно ленивое, несобранное и вялое суще-
ство, и все мы пришли к единодушному выводу, что любыми
путями нужно заставить его упражнять свои мыслительные
органы. Итак, я уже достаточно сказал о существующем мнении,
будто роман—это нечто вроде безобидного дурмана, который
скрашивает досуг человеку со средствами. На самом деле роман
никогда не ограничивался подобной ролью, и я сомневаюсь, чтобы
он мог ею ограничиться,— свидетельством тому сама природа
этого жанра.
Мне думается, женщины никогда не разделяли до конца
теорию Усталого Гиганта. Женщины ведь гораздо серьезнее
относятся не только к жизни, но и к литературе. Женщинам
независимо от характера и взглядов не свойственно праздное и
трусливое скудоумие, на котором зиждется теория Усталого
Гиганта; и когда в начале девяностых годов — а респектабельное
английское легкомыслие оставило особенно глубокий след в
нашей литературе этого периода—участились бунтарские
всплески, все искреннее и непримиримое, что выявилось в среде
читающих и пишущих, шло в основном от женщин и обличало
вред распространенного тогда поверхностного отношения к худо-
жественной литературе. Читательницы всех возрастов и читатели,
главным образом молодые, упорно требуют романов содержатель-
ных и реалистических, и вот к этим-то непрерывно растущим
требованиям должен прислушиваться романист—так он сможет
постепенно выйти из-под влияния порядком всем надоевших, но
тем не менее весьма распространенных в современной Англии
идей.
И чтобы утвердить роман как серьезный Литературный жанр, а
не простое развлечение, нужно, мне думается, высвободить его из
тенет, которыми его опутали неистовые педанты, стремящиеся
230
навязать роману какую-то обязательную форму. В наши дни
любой вид искусства должен прокладывать себе путь между
скалами пошлых и низкопробных запросов, с одной стороны, и
водоворотом произвольной и неразумной критики — с другой.
Когда создается новая область художественной критики, или,
попросту говоря, объединяется группа знатоков, взявших на себя
право поучать всех остальных, эти знатоки выступают единым
строем, и они не судят о книге по непосредственным впечатлени-
ям, а создают наукообразные теории и, дабы ни в чем не уступить
науке, а то и превзойти ее, создают классификацию, эталоны,
сравнительные методы, обязательные правила.
У них вырабатывается свое чувство стиля — чаще всего это не
более как стремление навязать писателю замысловатые приемы
или приемы, претендующие на своеобразие, причем професси-
ональный критик даже не ищет в них достоинств, он просто
считает их достойными похвалы. Этот взгляд очень глубоко
проник в критические суждения о романе и драме. Все мы не раз
слышали поучительное высказывание, что такой-то спектакль
очень интересен, занимателен от начала до конца и глубоко
волнует зрителя, но по таинственным техническим причинам в
основе его лежит «не пьеса»; точно так же по столь же
непостижимым причинам оказывается, что такая-то книга, хоть
вы и прочли ее с истинным удовольствием, «не роман». От романа
требуют, чтобы по форме он был очерчен так же строго, как
сонет. Около года назад, к примеру, в одном еженедельнике, если
не ошибаюсь отражающем взгляды некоторых религиозных об-
щин, разгорелись жаркие споры о том, каким должен быть роман
по. объему. Критику надлежало приступать к своей нелегкой
задаче с сантиметром в руках. Со всей ответственностью к этому
вопросу подошла «Вестминстер газетт»: опросили множество
литераторов обоего пола, требуя, чтобы перед лицом «Тома
Джонса», «Векфилдского священника», «Мещанской истории» и
«Холодного дома» был дан точный и определенный ответ—каков
должен быть объем романа. Мы отвечали по-разному, кто более,
кто менее вежливо, сама же попытка обсудить эту проблему
свидетельствует, мне кажется, о том, насколько широко распро-
странилась в газетах и журналах, в кругах, создающих мнение
публики, тенденция навязать роману определенный объем и
определенную форму. В заметках и статьях, которые последовали
за этим опросом, опять промелькнула тень нашего друга, Устало-
го Гиганта. Нам заявили, что ему нужен такой роман, который
можно прочесть между обедом и последней рюмкой виски в
одиннадцать часов вечера.
Без сомнения, в этом слышится отголосок полузабытых
рассуждений Эдгара Аллана По о новелле. Эдгар Аллан По
определенно утверждает, что рассказ лишь тогда рассказ, когда
его можно прочитать в один присест. Но роман и новелла — вещи
совершенно разные, и соображения, которые заставили американ-
ского писателя ограничить рассказ одним часом чтения, немысли-
мы, когда дело касается произведений большого объема. Рас-
сказ— произведение по форме простое, во всяком случае, он
должен таким быть; его цель — произвести единое и сильное
231
впечатление, он должен овладеть вниманием читателя уже в
экспозиции и, не давая ослабнуть интересу, нагнетая впечатления,
неуклонно вести к кульминации. Человеческому вниманию есть
предел, поэтому и действие рассказа должно укладываться в
определенные рамки; оно должно разгореться и угаснуть, прежде
чем читатель отвлечется или устанет. Но роман я считаю
произведением многоплановым, в нем не одна нить повествования,
а целый узор; сначала вас увлекает, вызывает ваш интерес, что-то
одно, потом другое, вы оставляете книгу и снова возвращаетесь к
ней, и, мне кажется, не следует как бы то ни было ограничивать
объем романа. От других жанров художественной литературы
роман отличается одним исключительно ценным свойством —
искусством создания образов, а в искусно созданном образе нас
увлекает его развитие, мы не стремимся поскорее узнать судьбу
героя, и что до меня, то я охотно признаюсь, что все романы
Диккенса, как они ни длинны, кажутся мне слишком короткими.
Обидно, что у Диккенса герои так редко переходят из одного
романа в другой. Мне хотелось бы встретить Микобера, Дика
Свивеллера и Сару Гэмп не только в тех романах, где они
описаны, но и на страницах других книг; вспомним, как Шекспир
провел великолепного Фальстафа во всем его блеске через целый
ряд пьес. Диккенс лишь раз воспользовался этим приемом —
перенес Пиквикский клуб в «Часы дядюшки Хамфри». Опыт
оказался неудачным, и писатель никогда больше к этому приему
не прибегал. После Диккенса наступили времена, когда объем
романа стал сокращаться, когда сюжет подчинил себе образы и
стремление к занимательности возобладало над описаниями; тому,
говорят, виной соображения низменного порядка, гинеи, шиллинги
и пенсы—не будем о них распространяться,—но сегодня я с
радостью замечаю по многим признакам, что время господства
этой узости и ограниченности прошло, что налицо все предпосыл-
ки к дальнейшему развитию гибкой и свободной формы романа. В
Англии это новое направление зародилось как протест против
нетерпимых взглядов на художественное мастерство (о них я еще
буду говорить в этой статье), и оно стремится возродить гибкую,
свободную форму, непринужденную манеру переходить от одной
темы к другой, право отвлекаться от основной мысли, присущие
раннему английскому роману — «Тристраму Шенди» или «Тому
Джонсу»; кроме того, это направление черпает силы в других
странах, в таких необычных и смелых начинаниях, как, скажем,
«Жан-Кристоф» Ромена Роллана. Эти два источника определяют
собой двойственный характер нового направления: если в Англии
тяготеют к последовательному и многостороннему описанию, то
французских писателей отличает стремление к исчерпывающему
анализу. Мистер Арнольд Беннет использует обе эти формы
широкого изображения действительности. Его великолепная «По-
весть о старых женщинах», где он свободно переходит от образа к
образу, от сцены к сцене, во многих отношениях самый лучший
роман из всех, что написаны на английском языке и в современ-
ных английских традициях, а теперь в «Клеихенгере» и в других
обещанных нам романах этого цикла он всесторонне, подробно и
многообразно показывает развитие и изменение одного или двух
232
характеров — такой метод является главной особенностью совре-
менного европейского романа большого объема. Если для «Пове-
сти о старых женщинах» характерна многосторонняя описатель-
ность, то для «Клейхенгера» — исчерпывающий анализ: писатель в
совершенстве овладел методами обоих новых литературных
течений.
«Жана-Кристофа», превосходным переводом которого мы обя-
заны мистеру Кеннану, я упоминаю здесь потому, что считаю его
типичным образцом романа нового направления; но у этого
романа, где, кроме главного героя, появляются всего два-три
сопутствующих ему персонажа, а сам герой, его мысли и
переживания изображены так полно и красочно, есть предше-
ственник еще более значительный, он дошел до нас из Франции
благодаря мистеру Беннету и мистеру Кеннану. «Жан-Кристоф»,
как и другие подобные ему произведения, берет начало из
великолепной книги Флобера, которая осталась неоконченной,—я
говорю о «Буваре и Пекюше». Флобер почти всю жизнь посвятил
созданию самой строгой и сдержанной прозы на свете — даже
прозу Тургенева не назовешь более сдержанной и строгой,—и его
творчество увенчалось этим радостным и печальным чудом,
истинным кладезем мудрости. У нас эта книга малоизвестна,
кажется, она еще не переведена на английский язык, но она
существует, и если читатель о ней не знает, то я сделаю ему
подарок, открыв секрет, что есть такая книга, читать которую все
равно что бродить по прекрасному лесу, полному чудес. И если
Флобер был европейским писателем, освободившим роман от оков
строгой формы, то мы, приверженцы английского направления,
школы многопланового романа, должны навсегда преисполниться
благодарности к тому, кто для меня остается самым искусным,
несравненным, величайшим художником — я подчеркиваю, худож-
ником—среди всех, кого Англия дала миру, к истинному создате-
лю романа, Лоренсу Стерну...
К новелле и к роману следует предъявлять совершенно
различные требования, ибо путаница в этом вопросе ведет к
наставлениям—так, что ли, их назвать? — в духе «Вестминстер
газетт», когда поучают, к чему должен стремиться романист и
каким должен быть объем романа, и, кроме того, создают разные
нелепые запреты и правила, касающиеся литературных приемов и
стиля. И делается ошибочный вывод, что цель романа, как и
новеллы,— произвести единое, насыщенное впечатление. Это по-
рождает благодатную почву для всякого рода заблуждений. В
рецензиях на произведения художественной литературы постоян-
но встречаешь жалобы, что то или иное в романе неоправданно. В
новелле очень легко сбиться на неоправданные детали, и это
губительно для произведения. Когда человек убегает от тигра, он
не будет останавливаться, чтобы нарвать ромашек, растущих у
тропинки, по которой бежит, и вряд ли ему достанет времени
любоваться бархатным мхом на стволе дерева, куда он взбирает-
ся, спасаясь от опасности,— вот так же стремительно должно
развиваться действие рассказа. Цель новеллы — создавать иллю-
зию напряженного действия, а роман, напротив, нетороплив, как
завтрак в саду теплым летним утром, и если писатель в счастли-
233
вом расположении духа, все детали оправданны; дрозд на садовой
дорожке и лепесток, который падает с цветущей яблони ко мне в
кофе, оказываются так же уместны, как яйцо на тарелке и
ломтик хлеба с маслом на столе, как и все, что разрушает эту
иллюзию; и поэтому такие, скажем, приемы, как авторские
отступления, какие-то замечания, заставляющие нас вспомнить,
что мы имеем дело не с правдой, а с вымыслом, стилистические
перебивки, несерьезный тон, пародийность, бранные слова — все
это может прийтись писателю на руку. Бывает и так, что все это
не только не идет ему впрок, а, напротив, мешает, и читателя
коробит, режет ему слух, он не в силах читать, но тут речь идет
лишь о трудностях мастерства, перед которыми истинный худож-
ник не отступает, как хороший охотник не страшится самых
высоких барьеров. Почти во всех романах, которые завоевали
себе прочное место среди величайших произведений мировой
литературы, не только от начала и до конца чувствуется личность
автора, но встречаются также его откровенные и непосредствен-
ные излияния. Самый неудачный пример авторских отступлений,
который даже отпугивает от такого приема,— это, ' конечно,
отступления Теккерея. Но мне думается, беда Теккерея не в том,
что ему нравятся отступления, а в том, что, прибегая к ним, он
использует удивительно нечестные приемы. Я согласен с покой-
ной миссис Крейджи, что Теккерею была свойственна какая-то
глубоко укоренившаяся пошлость. Пошлой выглядит его притвор-
но вдумчивая, наигранная поза светского человека; совсем не этот
человек, а беззастенчивый, нахальный задира, который после
обеда с наглым видом греется у камина, надуваясь от сытости и
спеси, ибо он весьма преуспел и в литературе и в свете,— вот кто
выступает от первого лица в романах Теккерея. Это не сам
Теккерей, это не искренний человек, который смотрит вам в
глаза, изливает душу и ждет вашего сочувствия. Однако, крити-
куя Теккерея, я вовсе не отвергаю в принципе авторских
отступлений.
Следует признать, что выступать от своего имени перед
читателем—прием для романиста крайне рискованный; но когда
это делают безо всякой фальши, непосредственно, будто в дом
приходит из темноты человек и рассказывает об удивительных
вещах там, за.дверью — как, например, из самых практических
соображений поступает мистер Джозеф Конрад в «Лорде Джи-
ме»,—тогда это создает определенную глубину, субъективную
реальность, какой ни за что не добиться, если занять позицию той
холодной, почти нарочитой беспристрастности, которая свойствен-
на, скажем, произведениям мистера Джона Голсуорси. И в
некоторых случаях вся прелесть романа, все мастерство писателя
именно в таких отступлениях, свидетельством чему романы
«Элизабет и ее немецкий садик» и «Элизабет в Рюгене» *.
Итак, я все время яростно нападаю на то, что пагубно для
романа и ограничивает его возможности, я за полную свободу
развития его формы и устремлений; но, кроме того, мне хочется
поговорить о романе вообще, о том, как, если это практически
возможно, его следует ограничивать. Определить, что такое
роман,— задача отнюдь не из легких. Его не создавали по заранее
234
выработанным правилам. Роман — это явление, которое глубоко
вросло в современную жизнь, на него возложена такая огромная
ответственность, он достигает таких результатов, каких не могли
предвидеть его создатели. В большинстве своем выдающиеся
творения человека постепенно стали играть совсем не ту роль,
которая им предназначалась. Вспомним, к примеру, каким источ-
ником вдохновения, эмоций, эстетических чувств стал потом
крестовидный абрис готического собора, и подумаем еще о том,
что в свое время никто не мог себе представить, какой восторг и
восхищение будут вызывать у потомков беломраморные статуи
античной Греции и Рима, утратившие с годами краски, которыми
покрывали их творцы. Старинную мебель и вышивки мы воспри-
нимаем сейчас и ценим как произведения искусства, а ведь те
мастера, что их создавали, видели в них только предметы
обстановки. И роман, без сомнения, вырос из обычной сказки, из
любви к сказке, свойственной и старым и малым — всем на свете.
Понадобилось немало времени, чтобы мы создали роман о жизни
обычных людей с достоверными и разумными поступками в
отличие от рыцарского романа о сказочных существах, которых
автор откровенно наделяет блеском, дивным очарованием, изобра-
жает в радужных красках и которые живут в мире не столь
суровом, как наш, и полном чудес. Роман—это произведение, не
допускающее — во всяком случае, оно не должно допускать—
явного вымысла. Автор берет на себя задачу показать вам
обстановку и людей не менее реальных, чем те, которых вы
постоянно видите в омнибусах. Мне думается, что можно созда-
вать романы, преследующие эту и только эту цель. Такой роман
может служить вам развлечением, вот как если бы вы смотрели
из окна на улицу или слушали легкую музыку. Но почти всегда
роман нечто большее, и его воздействие гораздо значительнее. В
романе содержится определенная мораль. У читателя остается
впечатление не только от описываемых событий, но и от
поступков, которые представлены в привлекательном или непри-
влекательном свете. Может статься, что мораль эта в конечном
счете неубедительна, а впечатления поверхностны, тем не менее
они неизбежно присущи любому роману. Даже если писатель
стремится к объективности или претендует на нее, все-таки
помимо его воли герои его становятся своего рода образцами, а
идеи романа, как вам известно, наводят читателя на всевозмож-
ные размышления. Чем выше мастерство, чем убедительнее
приемы, тем большую пищу для размышлений дает автор.
И кроме того, писателю не удается скрыть свое отношение к
тому или иному герою: поступки одного он одобряет, восхищается
ими, поступки другого — порицает и осуждает. Я думаю, мистер
Беннет, например, не поставил бы этого себе в заслугу, но
беспристрастному читателю очевидно, что своего Карда он любит
всей душой и восхищается им, как Ричардсон восхищался сэром
Чарльзом Грандисоном, или что миссис Хамфри Уорд находит
свою Марселлу прелестной и весьма достойной юной особой. И
мне думается, именно поэтому роман—это не просто изложение
вымышленных событий, но и разбор, оценка этих событий и,
следовательно, мыслей, идей, которые вызвали эти события к
235
жизни, и что в этом заключается истинная и всевозрастающая
ценность романа — или, чтобы не вызывать нареканий, скажем,
пожалуй, так: в этом истинное и всевозрастающее значение
романа и писателя в жизни современного общества.
Я не сделаю открытия, заметив, что роман, как и драма,
служит могучим орудием нравственного воздействия. В Англии
это понимают с тех самых пор, как роман занял свое место среди
прочих явлений в жизни общества. Это признают одинаково и
писатели, и читатели, и даже те, кто никогда и ни при каких
обстоятельствах романов не читает. Ричардсон писал с целью
сугубо назидательной, а «Том Джонс» — сильный и действенный
призыв быть милосердными и снисходительными к тем, кто пошел
в жизни неверным путем. Но если не считать Фильдинга и сделать
еще некоторые исключения, неизбежные при критических обоб-
щениях, все-таки нужно признать, что существует определенное
различие между романом прошлого и, позвольте его так назвать,
современным романом. Это различие отражает изменения в
общественной мысли. Оно состоит в том, что прежних установив-
шихся взглядов на принципы морали и нормы поведения сейчас
нет и в помине. Не то чтобы прежде в этих вопросах существова-
ло полное единодушие — огромные разногласия наблюдались все-
гда,— просто в те времена свои взгляды отстаивали настойчиво,
убежденно, безоговорочно, в наши дни такого уже не встретишь.
Наш век — век бальфурианский*, и даже религия ищет себе опору
в сомнениях, владеющих человеком. Быть может, в прошлом
встречалось не больше расхождений во взглядах, чем теперь, но
эти расхождения были значительно более непримиримы, им была
свойственна такая непримиримость, которая, на наш взгляд,
граничит с беспощадностью. Католик и слышать не хотел о
протестантах, турках, неверующих, он слушал о них, только когда
их поносили и проклинали. Вы точно знали, что хорошо, а что
дурно. Священник вас в этом наставлял, а от романа требовалось
лишь одно: чтобы прямо или косвенно он подтверждал незыбле-
мость этих искренних, хоть и малопривлекательных, заблуждений.
Окажись вы протестантом — и вас так же нелегко было бы сбить
с толку. Если кому и была ведома истина, то лишь узкому кругу
ваших единомышленников, причем к этому же кругу принадлежа-
ли и все самые добродетельные люди. Все на свете было им ясно,
и учиться чему-нибудь вне этих тесных рамок они не считали
нужным. Неверующие, представьте себе, были ничуть не лучше и
столь же рьяно отстаивали свое кредо, лишь употребляя по мере
необходимости отрицание «не». Люди самых разных убеждений —
католики, протестанты, атеисты, кто угодно — твердо знали, что
добро есть добро, а зло есть зло, что мир делится на хороших и
дурных; хороших нужно любить, помогать им, восхищаться ими, а
дурных—так повелевает добродетель—нужно обличать, можно
даже и лгать им, подавлять, не стесняясь в средствах, дабы
восторжествовать над пороком. Таков был дух времени. Роман
отражал этот незыблемый дух, и наивысшее проявление человеко-
любия в романе заключалось в том, чтобы показать, как порой
под личиной негодяя кроется истинное и редкое благородство и,
наоборот, за внешностью святого прячется лицемер. В то время
236
не умели подходить к человеческим достоинствам и добродетелям
с глубоко укоренившимися сомнениями, критической оценкой и
одновременно с терпимостью, какие свойственны большинству
людей в наши дни.
Поэтому читатель той поры, как и нынешний читатель в
провинциальных английских городках, судил о романе исходя из
убеждений, которые ему привили семья и священники — пастор
или католический патер. Если эти убеждения совпадали с идеей
романа, то читатель роман одобрял, если же нет — осуждал, и
подчас с изрядным пылом. Роман, если его безусловно и безогово-
рочно не предавали анафеме как нечто совсем ненужное и
вызывающее брожение умов, рассматривали всего лишь как
проводник идей, внушенных пастором, или патером, или каким-
либо иным наставником. Роман утверждал догму, которой нужно
было следовать, и ему позволяли смиренно свидетельствовать в ее
пользу. Роман оценивали положительно, если он отвечал высоким
взглядам мистера Чедбенда; его объявляли никуда не годным,
если он не нравился мистеру Чедбенду. И только перешагнув через
трупы таких вот негодующих и разоблаченных чедбендов, роман
сможет вырваться из оков унизительного рабства.
Что же до противоречий между авторитетами и теми, кто их
критикует, то это извечные противоречия человеческого обще-
ства. Это противоречия между установленным порядком и новыми
веяниями, между ограничениями и свободой. Такими были проти-
воречия между жрецом и пророком в древней Иудее, между
Фарисеем и Назареянином, между реалистом и номиналистом,
между церковью и францисканцами и лоллардами, между почтен-
ным обывателем и артистом, между теми, кто порядка ради готов
срезать любые ростки нового, передового в человеческом обще-
стве, и этими юными побегами, которые все-таки пробиваются,
несмотря ни на что. И сейчас, в период, когда общество крепнет и
растет, мы одновременно наблюдаем, как мысль высвобождается
из-под гнета и рвется вперед, мы переживаем небывалый расцвет
мысли—такого еще не знала история. Жестокой критике подвер-
гаются самые устои человеческой жизни, все взгляды, нормы и
правила поведения. И роман неизбежно в меру своей искренности
и возможностей должен отражать происходящее и деятельно
способствовать исканиям и бесчисленным переменам, которые
порождает наш бурный и творческий век.
Я вовсе не хочу сказать, что роман непременно от начала и до
конца насыщен мотивами этих обширных и чудодейственных
противоречий. Просто роман — неотъемлемая часть конфликтов
современности. Сущность великой революции мысли, которую мы
сейчас переживаем, революции, философским аспектом которой
яйляется возрождение и провозглашение номинализма под именем
прагматизма, состоит в том, что она утверждает значительность
индивидуальной инстанции в противовес обобщению. Все наши
социальные, политические, моральные проблемы рассматривают-
ся в духе нового, в духе поиска и эксперимента, которому чужды
отвлеченный подход и правила дедукции. Мы все яснее и яснее
понимаем, например, что изучение социальной структуры—дело
пустое и бессмысленное, если не подходить к нему как к
237
изучению связей и взаимодействия отдельных личностей, которы-
ми движут самые различные побуждения, которых связывают
старые традиции и увлекают порывы, порождаемые обстановкой
напряженных умственных исканий. И все наши представления об
отношениях человека с человеком, о справедливости, о том, что
разумно и необходимо с точки зрения общества, остаются
неприемлемыми, негодными; они могут оказаться бесполезными
или даже причинять вред, как платье не по мерке, как тесная
обувь.
И вот здесь приходят на помощь достоинства и возможности
современного романа. Мне кажется, только роман дает нам
возможность обсуждать большинство проблем, которые сейчас
грозной силой в несметном числе встают перед нами. Почти
каждая из них в основе своей проблема психологическая, и не
просто психологическая, а такая, существом которой является
понятие «индивидуальность». Разбираться в большинстве этих
вопросов с помощью каких-то определенных приемов или обобще-
ний— все равно что ставить кордон в джунглях. Охота начинается
лишь тогда, когда кордон позади и вы углубились в самую чащу.
Возьмем, к примеру, целый клубок противоречий, порожден-
ных тем, что наш государственный аппарат все время усложняет-
ся. Где только можно, мы насаждаем чиновников, и лишь за
последние несколько лет возникло множество новых областей, в
которых повседневная жизнь человека тесно связана с канцеляр-
щиной. Однако мы все еще не даем себе труда разобраться в
любопытных изменениях, которые происходят в том или ином
человеке, когда его выделяют из общей толпы, наделяют полно-
мочиями, обязанностями и уставами и если даже не заставляют
облечься в мундир, то заставляют по-казенному мыслить. Это
явление представляет очевидный, глубокий и всевозрастающий
интерес в плане общественном и личном. И если говорить о
процессе общественной и политической консолидации, который
продолжается вот уже четверть века, то сейчас он явно обретает
все большую и большую интенсивность, и зачастую энергичные,
весьма достойные и более или менее благодушные люди, чья
политическая деятельность, явная или закулисная, ведет к подоб-
ным изменениям, даже не подозревают, что окончательное реше-
ние этой проблемы всецело зависит от взаимосвязи между
государством, с одной стороны, и слабыми, нерешительными,
совсем не похожими друг на друга человеческими существами—с
другой. Эти люди считают, что любого юнца племянника можно
превратить в чиновника того типа, который их устраивает,—в
некое сочетание богоподобной добродетели, ума и безотказной
механической способности подчиняться. И только роман, по-
моему, предоставляет нам возможность убедить людей, что такая
точка зрения неоправданна, и выступить с разумной и действенной
критикой государственного аппарата, ведущей к плодотворному
анализу его деятельности и к оздоровлению и очищению всей
официальной сферы вообще. Однако роман еще не повел наступ-
ления на эту сторону нашей жизни и не показал пестрой игры
человеческих устремлений, которые ей присущи.
Есть у нас, правда, образ Бамбла, портрет невежественного
238
мелкого чиновника, написанный мастерски и беспощадно. Англий-
скому читателю достаточно одной этой фигуры, чтобы увидеть в
истинном свете, кто осуществлял положения Закона о бедных.
Это пример того, как благие намерения и псевдонаучные взгляды
на общество облекаются в плоть и кровь бездарного, самонадеян-
ного, наглого невежды. Один этот образ сделал больше, чем сто
Королевских Комиссий. По сути дела, Диккенс говорит: выраба-
тывайте какие угодно меры, а что в них толку, если такой Бамбл
претворяет их в жизнь. Но Бамбл — почти единичный литератур-
ный пример. Мы склонны забывать, что этот чиновник воплотил в
себе всего лишь одну черту бюрократической системы, и поэтому
часто усматриваем в нем изображение чиновничества вообще, и
едва лишь муниципалитет в каком-то городке затеет спор о
целесообразности электрического освещения улиц, как тот или
иной противник принимается яростно обвинять его в бамблеризме.
На плечи Бамбла возложили непосильную ношу, и мы ждем, что
современный роман создаст множество других образов, которые
станут в один ряд с Бамблом, показывая различные стороны и
черты этой сложнейшей проблемы — бюрократизма. Бамбл—
непревзойденное воплощение тупости и жестокости, которые
проявляет чиновник, не понимающий своих обязанностей. Я бы
всякому кандидату на должность управляющего работным домом
устраивал суровый экзамен по «Оливеру Твисту». Но я не требую
от писателя только карикатуры или сатиры. Нужно показать все
стороны государственной службы, показать, как она подчас
нелепа и порочна, как может изуродовать человека, какое
порождает в нем тщеславие, но нельзя забывать и про надежды,
которые не нее возлагают, плодотворную деятельность, прису-
щую ей, удовлетворение, которое она приносит, ее цели служения
обществу и ее благородное назначение. Мне могут ответить, что я
предъявляю непомерные требования, что нельзя ждать от наших
романов и романистов столь глубокого проникновения в суть
вещей, такого мастерства. Тем хуже для нас, и я не отступлюсь
от своего утверждения. Сложной общественной системе наших
дней не обойтись без романа, обладающего именно такими
качествами, только такой роман сумеет проложить путь взаимопо-
ниманию между людьми, раскрыть по-настоящему существо чело-
веческих отношений. Успехи цивилизации в конечном счете
зависят от такого взаимопонимания и от естественной терпимости
и доброжелательности. Если мы не в силах вызвать у людей
больший интерес друг к другу, более настойчивое стремление
разобраться друг в друге, указывать друг другу на недостатки,
создать более разумные связи, чем те, что существуют в наши
дни, если нельзя добиться, чтобы общественные классы научи-
лись соразмерять свои потребности, делиться опытом, проявлять
взаимное уважение и доброжелательность,-—значит, нам никогда
не побороть нынешних противоречий, не справиться со своей
неустроенностью, а трудности человеческого существования оста-
нутся такими же, как и сейчас, когда они напоминают глыбы
огромной лавины, которая с грохотом несется по склону горы. И
в великом деле просвещения и объединения людей именно роману,
по-моему, дано многое наметить и многое свершить.
239
На все это вы можете ответить так: мы принимаем главную
посылку, но почему только художественная проза должна играть
главную роль в этом неизбежном процессе объединения человече-
ства на, так сказать, дружественных началах? Не большую ли
пользу принесет, скажем, биографический и автобиографический
жанр? Разве нет у нас поэзии или, наконец, драматургии?
Что касается театра, то я считаю его превосходной и действен-
ной формой творчества, которая открывает перед зрителем
доходчивые и захватывающие ситуации, но, по-моему, хотя драма
дает возможность высказывать необычные суждения, будоражить
мысль (мистер Шоу, например, в совершенстве владеет этим
приемом), она мало что делает для развития наших интересов,
мало что добавляет к идеям, движущим нами. И если рассматри-
вать театр как средство высказывать необычные суждения и
будоражить мысль, то, по-моему, это довольно-таки сложное и
дорогостоящее средство. С таким же успехом можно вооружиться
карандашом и повсюду не стенах писать какие угодно оригиналь-
ные высказывания. Драма оказывает на нас сильное воздействие,
но это, на мой взгляд, слишком объективный метод воздействия,
она не может по-настоящему влиять на общество, а ведь именно
такова, мне думается, задача цивилизации —расширять круг чело-
веческих интересов, добиваться истинного взаимопонимания меж-
ду людьми. Если сопоставить произведения биографического и
автобиографического характера с романом, то на первый взгляд—
следует это признать —роман проигрывает. Вы можете сказать: к
чему нам все эти плоды писательского воображения, эти вымыш-
ленные, иллюзорные существа, мнения, поступки, когда есть
книги о подлинных событиях, об истинных происшествиях, о
реальных людях? И в ответ услышите: «Да, но, по сути дела, это
далеко не так». Ведь именно из-за того, что биографическое
произведение описывает подлинных людей и подлинные события,
из-за того, что оно стремится затронуть вопросы, которым
суждено еще долго волновать читателя, и рассчитывает на
интерес современников, переживших героя, именно поэтому такое
произведение не может быть по-настоящему ценным и правдивым.
Оно совершенно искажает истину и делает это самым опасным
способом — замалчивая ее. Представьте себе Гладстона—какая
это, наверное, была могучая, необычная, удивительная натура, и
вспомните «Жизнь Гладстона» лорда Морли, этот холодный,
величественный портрет. Жизни там нет и в помине, это скорее
набальзамированные останки: ни чувств, ни переживаний, ни
страстей, внутренности—и те аккуратно удалены. Во всех биогра-
фических произведениях есть что-то от некролога, какой-то холод
и почтительность; что же касается автобиографии, то, хотя
человеку дано раскрыть душу тысячами всевозможных путей,
подчас неосознанно, никому не дано разобраться в самом себе и
познать самого себя. Этот жанр если и удается, то лишь
хвастунам и лжецам по природе, всяким вашим челлини и
казановам, которые взирают на себя со стороны с неподдельным
восхищением. Кроме того, роману неведомы ни крайняя скован-
ность автобиографии, ни связывающая по рукам и по ногам
ответственность биографа. Роман —произведение свободное, неза-
240
висимое. Его персонажи придуманы, созданы воображением, и их
можно описывать, не утаивая своих мыслей. Поскольку вы их
сами придумали, вы знаете, что они никак не воспрепятствуют
полету вашей творческой фантазии, и они выходят гораздо
убедительнее, чем подлинные люди и события. Успех и неуспех
романа зависят от того, усомнится ли читатель в его жизненной
правде или поверит в нее. А в исторических, биографических
произведениях, Синих книгах и других вещах подобного рода
единственная правда, какую можно найти,— это сухие факты.
Теперь вы знаете требования, которые я предъявляю к
роману: он должен быть посредником между различными слоями
общества, проводником идей взаимопонимания, методом самопо-
знания, кодексом морали, он должен служить для обмена мнени-
ями, быть творцом добрых обычаев, критиковать законы и
институты, социальные догмы и идеи. Роман должен стать
домашней исповедальней, просвещать, ронять зерна, из которых
развивается плодотворное стремление познать самого себя. Поз-
вольте мне здесь высказать свою точку зрения с предельной
ясностью. Я вовсе не хочу сказать, что романист должен взять на
себя задачи какого-то учителя, проповедника с пером в руке и
наставлять людей, во что им верить и как поступать. Роман — это
не новая разновидность амвона, да и человечество уже не на том
уровне, когда над людьми властвуют проповеди и догмы. Но
писатель станет самым всесильным из художников, ведь ему
предстоит давать советы, создавать образцы, обсуждать, анализи-
ровать, внушать и всесторонне освещать то, что поистине пре-
красно. Он будет не поучать, а убеждать, призывать, доказывать и
объяснять. Высказав свою точку зрения, я подвел вас к требова-
нию, которое сейчас изложу: романисту должна быть предостав-
лена полная свобода выбора темы, жизненного явления и литера-
турных приемов; или, если я вправе выступать от имени других
писателей, вернее было бы сказать, что мы не предъявляем
требований, а сообщаем о своих намерениях. Мы приложим все
силы, чтобы всесторонне и правдиво показывать жизнь. Мы на-
мерены заняться проблемами общества, религии, политики. Мы не
можем воссоздавать образы людей, не располагая этой свободой,
этим неограниченным полем деятельности. Какой смысл писать о
людях, если нельзя беспрепятственно обсуждать религиозные
верования и институты, влияющие на эти верования или, наобо-
рот, не умеющие оказать на них влияние. Какой толк изображать
любовь, верность, измены, размолвки, если нельзя остановить
взгляд на различиях темперамента и природных свойствах челове-
ка, на глубоких страстях и страданиях, что порождают столько
бурь в жизни людей. Мы займемся всеми этими проблемами, и,
чтобы преградить путь развитию воинствующего романа, понадо-
бятся куда более серьезные препятствия, чем недовольство
провинциальных библиотекарей, осуждение со стороны некоторых
влиятельных персон, издевательские шуточки одной газеты и
упорное молчание другой. Мы будем писать обо всем. О делах, о
финансах, о политике, о неравенстве, о претенциозности, о
приличиях, о нарушении приличий, и мы добьемся того, что
всяческое притворство и нескончаемый обман будут сметены с
241
лица земли чистым и свежим ветром наших разоблачений. Мы
будем писать о возможностях, которые не используют, о красоте,
которую не замечают, писать обо всем этом, пока перед людьми
не откроются бесчисленные пути к новой жизни. Мы обратимся к
юным, любознательным, исполненным надежд с призывом бороть-
ся против рутины, спеси и осторожности. И жизнь сойдет на
страницы романа еще до того, как будет достигнута наша цель.
А. БЕННЕТ
КАК ПИШУТСЯ РОМАНЫ
I
Романист—это человек, на которого жизнь производит такое
волнующее впечатление, что он испытывает неодолимую потреб-
ность поделиться им с другими и выбирает художественную прозу
как наиболее действенную форму для облегчения своих чувств.
Подобно прочим художникам, он не в силах сохранить молчание,
довольствуясь тем, что сам знает неизвестное другим и горит
желанием провозгласить свою новость во всеуслышание, он
должен высказаться—слишком уж потрясающе, слишком захва-
тывающе то, что ему известно! От остальных художников он
отличается только одним: больше всего его ошеломляет не
поддающаяся определению человеческая натура и взятая в целом
система существования. И разумеется, сам он—результат эволю-
ции от простейшего к сложному. Простейшую форму романиста
вы можете наблюдать и сейчас в кафе, в клубах или на углах
улиц, когда эти особи сумбурно и топорно обрисовывают перед
приятелями свое видение жизни.
Они принадлежат к низшему кругу художников, но они—
художники, и излюбленный ими жанр представляет собой основу
основ романа. По бесчисленным и очень занятным ступеням вы
можете подняться от них к крупнейшим художникам, чьи видение
жизни, всеобъемлющее, сложное и могучее, требует для должно-
го своего воплощения великой традиционной формы романа,
настолько усовершенствованной великими мастерами прошлого,
что пока роман по-прежнему стоит выше всех остальных жанров,
какими пользуется искусство.
Я не собираюсь доказывать, что роман следует считать
высочайшей из всех великих традиционных форм. Даже если
какая-то из них его и превосходит, меня не слишком интересует,
какая именно. Я последовательно считал Шартрский собор,
некоторые греческие статуи, моцартовского «Дон Жуана» и
жонглирование Поля Секевалли самым прекрасным, что только
есть в мире,—не говоря уж о великолепии Шекспира или
Нижинского. И тем не менее все-таки можно утверждать, что
истинное первенство остается за художественной прозой как
литературной формой. (Даже современная эпическая поэзия почти
всему, что ей известно, научилась от художественной прозы.)
Роман обладает—и всегда будет обладать—преимуществом всеох-
ватывающего масштаба. Собор святого Петра в Риме — безделка в
сравнении с «Войной и миром» Толстого, и можно с полной
243
уверенностью утверждать, что во всяком случае в нынешнюю
геологическую эпоху никто не станет читать эпической поэмы,
даже если она вдвое короче «Войны и мира», при условии, что
кто-нибудь такую поэму напишет.
Давно известно, что романисты (включая драматургов, кото-
рые суть разновидность романистов) вырывают хлеб изо рта
других художников. Живописцы широко занимаются браконьер-
ством, а композиторы — еще шире, но проделки и живописцев, и
композиторов бледнеют перед алчной ненасытностью романистов.
И если дерзостные покушения живописцев и композиторов навле-
кали на них всяческие беды, то романисты браконьерствовали,
колонизировали и аннексировали с полнейшей безнаказанностью.
Вряд ли найдется хоть какой-нибудь интересный аспект жизни,
начиная от пейзажей и кончая социологией, который уже не был
бы нынче отображен в художественной прозе. И во всяком случае
не существует такого аспекта, который не мог бы быть в ней
отображен. Незачем возвращаться к доскоттовским временам,
чтобы убедиться, насколько теперь возвеличился роман. Он
продолжал завоевывать огромные территории и после «Жермина-
ля». За последние пятнадцать лет он еще набрался силы. Если бы
он принял цвет, которым отмечаются на картах владения Британ-
ской империи, вскоре карты всей Вселенной пришлось бы
печатать только красными. Какое бы место ни отводилось ему в
иерархии форм, в настоящее время у него нет соперников в
эмоциональной передаче видения жизни. Он является сейчас—и
еще долго останется—той формой, к которой инстинктивно
обращается художник с наиболее широким кругозором, ибо он
предоставляет наиболее обширные возможности и легко приспо-
сабливается к потребностям художника. Более того, если нынеш-
ние темпы его прогресса не замедлятся, роман вновь займет
блистательную высоту, на которую его поднял и где оставил
богатырь Бальзак в 1850 году. Итак, пожалуй, вопрос о ранге
романа можно считать исчерпанным.
II
Рассматривая качества, необходимые романисту, два из них мы
можем считать для него должными. Во-первых, это чувство красо-
ты, без которого художник-творец существовать не может.
Каждый художник-творец в определенной степени наделен этим
чувством. Он художник только потому, что наделен им. Художник
творит по велению инстинкта. А инстинкт никогда не понудит
человека использовать материал, который его отталкивает,—это
очевидно. И столь же очевидно, что о какой бы жизни ни писал
романист, он в нее влюблен, он зачарован ею — то есть он узрел в
ней красоту. Иначе он не стал бы о ней писать. Красота может
быть странной, или же он сумел уловить... нет, он уловил
красоту, которую до него никто не смог увидеть, или даже он
уловил красоту, которую никто, за исключением редких чудаков,
никогда не увидит и не в силах увидеть. Но сам он эту красоту
узрел. С увлечением прочитав роман, более чем глупо утвер-
244
ждать, будто его автор лишен чувства красоты. (Самый факт, что
вы с интересом перелистывали его страницы, уже опровергает
критику такого рода — критику столь же проницательную, как
утверждение рецензента: «Господин Имярек создал волнующее
произведение, но, к сожалению, он не умеет писать». Ведь
господин Имярек написал все же книгу и явно умеет писать так,
чтобы взволновать рецензента!) Умный человек скажет только,
что у него самого восприятие красоты иное, чем у художника, о
котором идет речь.
Почти всех самобытных романистов обязательно упрекали в
отсутствии чувства красоты, но этот упрек редко можно услы-
шать по адресу посредственных романистов. Однако даже в
крайних случаях он несправедлив, а вернее, он особенно неспра-
ведлив именно в крайних случаях. Я подразумеваю тут вовсе не
таких писателей, как Золя,— Золя никогда не вдавался в крайно-
сти. Я имею в виду, например, Гиссинга, истинного экстремиста,
который, как признано теперь, видел несомненную и ранее никем
не обнаруженную красоту в тех формах существования, к
которым до него не снисходил ни один художник. Я также имею в
виду Гюисманса—случай еще более крайний. Пожалуй, ни одна
книга не навлекала на себя столько обвинений в уродливости, как
роман Гюисманса «Семейный очаг» и его очерки «Обо всем». В
них со злостью воспроизведено то, что принято считать унылым
безобразием обычной будничной жизни. В то же время им обоим
присуще своеобразное очарование, и их, несомненно, будут
читать, когда «Собор»1 канет в забвение. И невозможно поверить,
будто Гюисманс — что бы ни утверждал он сам — не был заворо-
жен потаенной красотой того, о чем он писал, и не упивался ею.
Второе качество, которое необходимо для романиста, да и для
всякого художника,— это страстная напряженность, с какой он
видит. Без этого у художника не возникает потребности расска-
зать о том, что он видит. Его видение не будет его мучить, и у
него не возникнет желания делиться им с другими. Каждый
оттенок чувства, испытываемого читателем, художник должен
испытать прежде сам, и гораздо более интенсивно. Не так уж
редко можно услышать, как читатель, глубоко тронутый острой
печалью повествования, жалуется на бесчувственность писателя.
Подобные люди не имеют ни малейшего представления о процессе
художественного творчества.
III
Постулировав чувство красоты и страстную напряженность виде-
ния, необходимо рассмотреть еще одно важное качество романи-
ста— качество, которое само по себе практически заменяет
остальные и отсутствие которого сводит их на нет: тонкость духа.
Дух великого романиста тоже должен быть великим. Он должен
быть отзывчивым, чутким, мужественным, честным, мягко иро-
1 Имеется в виду роман В. Гюго «Собор Парижской богоматери».— Прим.
перев.
245
ничным, нежным, справедливым, милосердным. Такой писатель
должен стремиться к идеалу, но не забывать, что мы живем в
земном несовершенном мире. А самое главное — его дух должен
опираться на здравый смысл. Короче говоря, его духу должно
быть присуще благородство. Без этого ему никогда не достичь
подлинной высоты. Сущность его духа — вот что решает, на
каждой странице, в каждое мгновение; вот то стекло, сквозь
которое он видит мир. Все прочие качества второстепенны, и их
можно скинуть со счета. Фильдинг не имеет себе равных среди
английских романистов потому, что широта и благородство его
духа остаются непревзойденными. Его читают с искренним
восторгом, так как читатель в каждой строке ощущает тесное
соприкосновение с его чудесной личностью, и никакое развитие
литературной техники у более поздних романистов не поставит его
положение под угрозу. Он отойдет на второе место не прежде,
чем за перо романиста возьмется некто, обладающий духом еще
более благородным. Славу Диккенса подрывает все более крепну-
щее убеждение, что сущность его духа была пошловатой, что у
него не хватило мужества долго смотреть в лицо истине и что его
восприятию свойственна грубоватость. Примерно то же можно
сказать и о Теккерее, чей дух оказался недостаточно всеобъемлю-
щим для столь грандиозной личности и несвободным от недостат-
ков, противопоказанных бессмертию.
Сказать то, что я собираюсь сказать, мне нелегко—да это и
опасно в любой стране, где художники пренебрегают формой.
Однако я вынужден признаться, что с течением лет придаю все
меньше и меньше значения литературной технике. Я ценю
хорошую форму и постоянно боролся за то, чтобы она получила в
Англии больше признания, но теперь все сильней убеждаюсь, что
история современной художественной литературы свидетельствует
не в мою пользу. За исключением Тургенева, все великие
романисты мира, если исходить из моих мерок, либо вовсе не
думали о форме, либо не знали, что это такое. Большая ошибка
думать, будто лучшие иностранные романы показывают более
тонкое чувство формы, чем лучшие английские. Бальзак грешил
против нее как мог. Он не справлялся даже с фразой, не говоря
уж о форме всей книги. Ну, а если говорить о романисте даже
еще более великом, чем Бальзак,— о Стендале, то его презрение к
форме общеизвестно. Стендаль был способен напи^ть в своем
шедевре: «Да, кстати, мне следовало бы до этого сообщить вам,
что герцогиня...»! Ну, а еще более великий романист, чем Бальзак
и Стендаль,— Достоевский? Поразительные, недосягаемые
«Братья Карамазовы» — какой это бесформенный, наспех выло-
манный кусок золота! Любой преподаватель заочных курсов, за
двенадцать занятий обучающий искусству создания художествен-
ных произведений, без всякого труда укажет, где Достоевский
нескладен и небрежен. Какой приговор вынес бы этой книге
Флобер после подробного критического ее разбора? И какое имел
бы его приговор значение? Или, если взять пример не с таких
высот: в литературной технике покойный «Марк Резерфорд» * до
конца оставался неуклюжим дилетантом, что не мешало ему быть
романистом, достойным всяческого восхищения.
246
А рассматривая великих формалистов, Ги де Мопассана и
Флобера, можем ли мы утверждать, что блестящая литературная
техника спасает их или хоть чуточку искупает слабости их духа?
Оба — исключительные художники, и оба теперь неудержимо
сходят на положение второстепенных писателей. Поскольку чело-
веческая натура такова, какова она есть, а книги Мопассана
пронизаны эротикой, их и дальше будут читать с интересом, но
его место уже определено. Теперь, несмотря на все его блиста-
тельные достоинства, никто не отнесет Мопассана к звездам
первой величины. А низложение Флобера представляет собой одно
из поразительнейших явлений в современной французской крити-
ке. Теперь обнаружилось, что дух Флобера был все-таки недоста-
точно благороден — что на самом деле это был жестокий и несколь-
ко анемичный дух. «Бувар и Пекюше» — вот завершающее доказа-
тельство того, что Флобер перестал видеть несовершенный чело-
веческий мир и впал в заблуждение, словно бы считая, что
родился не на той планете. Блеск его формальной техники
потускнел, и глупцы даже ставят этот блеск ему в упрек. Только
в одной узкой области человеческой деятельности его благород-
ство как будто неоспоримо — в литературной технике. Его письма
были посвящены главным образом вопросам литературной техни-
ки, и в настоящее время они кажутся лучшим его произведением,
так как стали редкостным источником вдохновения для его
собратьев-художников. Таким образом, я возвращаюсь к тому,
что важнейшее качество художника (кроме двух постулирован-
ных) заключается в сущности его духа. Только она, и ничто
другое, создает ему друзей и врагов, влияние же литературной
техники невелико и преходяще. И повторяю, сказать это мне
было нелегко.
Я начинаю склоняться к мысли, что величайшие творцы
художественной прозы в силу своей таинственной природы обре-
чены быть дилетантами. В каждом великом художнике, возможно,
кроется дилетант. Не знаю, почему это так—разве что, упоенные
своей силой, они не в состоянии покорно смиряться с путами
систематического образования и докучных упражнений ради со-
вершенства в том, что имеет лишь второстепенное значение.
Бесспорно, ни один из великих художников не был эрудирован-
ным ученым. У великого художника есть другие цели. И все
художники, как великие, так и малые, в глубине души сознают,
что в искусстве немало искусственности и что во многом эта
искусственность порождалась нетерпеливым стремлением полно-
стью предаться творчеству и извинительным нежеланием переде-
лывать что-то дважды, трижды, десять раз подряд—задача
поистине противоестественная! Мы все можем кивать на Шекспи-
ра, который весьма мало занимался полировкой и методы которо-
го заставили бы Флобера поморщиться. Собственно говоря, все
последние годы дилетантизм Шекспира демонстрировался весьма
наглядно. Но это никого как будто не трогает. Будь Флобер великим
художником, он, возможно, был бы в большей степени
дилетантом.
247
IV
Важнейшей частью бедной, остающейся в загоне литературной
техники является композиция, или построение романа. Это та
часть искусства—любого искусства,— которая по значимости
следует за «вдохновением» (чрезвычайно емкое слово, подразуме-
вающее все, что художник получает от природы и что не может
быть приобретено со стороны). Менее важную часть литератур-
ной техники — гораздо-гораздо меньшую! — можно называть орна-
ментированием.
Правил построения романа очень немного, но они весьма
существенны. Тем не менее великие романисты часто пренебрега-
ли ими или игнорировали их — в ущерб своей работе. На мой
взгляд, первое правило заключается в том, что интерес должен
быть сфокусирован в одном месте, его не следует рассеивать
равно по всему полотну. Сравнение одного искусства с другим
всегда опасно, но, право же, уподоблять роман холсту живописца
очень удобно. Если композиция картины хороша, взгляд зрителя
притягивается к какой-нибудь одной точке. Если же его с равной
силой притягивают несколько точек, мы упрекаем живописца за
то, что он сделал свою картину менее интересной. С романом дело
обстоит точно так же. Роману необходимы одна, две, три фигуры,
которые высятся над остальными. Место этих фигур — на перед-
нем плане, остальных — на среднем или заднем.
Далее, такие фигуры, будь они святыми или грешниками,
должны рисоваться с большим сочувствием, чем остальные. Если
это невозможно, значит, вдохновение обмануло художника. Вы-
бор протагониста должен определяться только одним—любовью к
нему. А чем же еще? Раса героев необходима искусству. Но героя
делают героем не столько поступки, сколько сочувствующее
понимание художника. Утверждение, будто герой исчез из совре-
менной литературы, нелепо. Изменились лишь его характерные
черты, что вполне естественно, так как время меняет все. Когда
Теккерей писал «роман без героя», он написал роман с первоклас-
сным героем, и никто не понимал этого лучше, чем он сам. Имел
же он в виду только то, что ему надоели наборы избитых свойств,
считавшихся в его эпоху обязательными для героя, и он изменил
стереотип. С тех пор Доббин успел нам приесться, и стереотип
уже изменился несколько раз. Настанет и тот фатальный час,
когда нам надоест и Пондерво*.
Великий романист, в котором творческая сила бьет через край,
постоянно должен бороться с искушением рассредоточить инте-
рес. Толстой в обоих своих главных произведениях не сумел
устоять перед этим соблазном. «Анна Каренина» — это не один
роман, но два, что сопряжено с соответствующим ущербом. Ну а
но страницам «Войны и мира» читатель блуждает неделями, точно
по лесу, заплутавшись, утратив чувство направления, не находя
никаких вех и время от времени обнаруживая перед собой
таинственные лица, которые он то ли прежде никогда не видел, то
ли успел забыть. Мередит совершил ту же ошибку, хотя и не
столь бросающуюся в глаза. Кто может твердо определить,
которая из сестер Флеминг является героиней «Роды Флеминг»?
248
Чуть ли не двести страниц подряд Роды почти нет и в помине.
Автор же не раз словно забывает, что мелкий плут Алджернон
все-таки не герой его книги.
Второе правило построения романа (возможно, это всего лишь
вариация первого) заключается в необходимости непрерывно
поддерживать интерес. Его можно усугублять, но не ослаблять.
Тут речь идет о той части композиции, которую мы называем
действием или интригой. Под интересом я подразумеваю увлека-
тельность самой истории, а не непрерывную игру авторского ума,
расшивающего канву. Действие хорошо в той мере, в какой
история остается интересной. Если интерес утрачивается, значит,
плох сюжет. Других критериев для оценки сюжета нет. Читатели
определенного типа склонны считать интригу интересной, если
«вы не догадываетесь, что будет дальше». Однако в некоторых
скучнейших из когда-либо написанных романов совершенно невоз-
можно угадать, что будет дальше, но только вам решительно
безразлично, что будет, а чего не будет*. Было бы правильнее
сказать, что интрига хороша, если «вам обязательно хочется
узнать, что будет дальше»! Хорошая интрига заставляет вас с
нетерпением отгадывать, чем все кончится.
Если читатель сбит с толку, но не умышленно, для достижения
определенного эффекта, а по неловкости, из-за дилетантизма,
значит, сюжет плох. В прекрасных романах подобное несчастье
случается редко, но по-настоящему хорошее произведение подсте-
регает другая опасность: в решительный момент читателя дразнят,
бесцельно, напрасно или по небрежности переключая интерес с
главной цели на побочную. Грустный пример такого дешевого
фокуса можно найти в тридцать первой главе «Роды Флеминг»,
когда автор, прекрасно понимая, что читателю не терпится узнать
про встречу Робертса и Роды, все-таки не в силах преодолеть свое
нелепое и капризное пристрастие к Алджернону и посвящает
страниц шестнадцать проделкам молодого мошенника с незакон-
ной тысячей фунтов. То, что эти шестнадцать страниц написаны
блестяще, не может оправдать безобразного нарушения компози-
ции романа.
Послевикторианские защитники викторианской художествен-
ной прозы имеют обыкновение указывать, что, хотя «событий-
ный» сюжет во многих великих романах бывает рыхлым и
небрежно сделанным (то есть, попросту говоря, неряшливым),
«идейный сюжет» обычно крепко сбит, строен и логичен. Право
же, я не в состоянии понять, каким образом идейный сюжет
может существовать независимо от событийного (точно так же,
как невозможно представить себе дух вне материи). Но даже
допуская, что идейный сюжет способен существовать сам по себе
и что эта таинственная штука по форме стоит выше своего
грубого партнера, событийного сюжета (во что я решительно не
верю), даже тогда я продолжаю утверждать, что неряшливость в
построении событийного сюжета остается серьезнейшим грехом.
Из английских романов мне в этой связи приходят на ум главным
образом произведения «Марка Резерфорда», Джордж Элиот,
сестер Бронте и Энтони Троллопа.
Еще одно важное композиционное правило требует, чтобы
249
сюжет на протяжении всей книги оставался в рамках одной
какой-то системы условностей. Все сюжеты—даже в произведе-
ниях наших самых неприкосновенных современников-
натуралистов— являются и не могут не являться стилизацией
жизни. Мы воображаем, будто создали систему условностей,
более близкую к жизненной правде, чем системы наших предше-
ственников. Пусть так, но приближение это столь невелико, что
остается практически незаметным. В полдень авиатор, возможно,
находится ближе к солнцу, чем моторист, но в сравнении со всей
длиной пути до солнца высота, достигнутая авиатором, не состав-
ляет сколько-нибудь заметной разницы. Ни одному романисту
пока еще не удалось—и никогда не удастся—приблизиться к
жизни на расстояние хотя бы в сотню миллионов миль. Мы
просто не в силах увидеть, как еще мы далеки от жизни.
Недостатки новой системы условностей обнаруживаются по мере
ее утверждения. Убеждение, будто «натуралисты» наконец-то
создали конечную формулу, обеспечивающую жизненную правду,
просто нелепо. «Натуралист» — всего лишь определение, выража-
ющее самодовольство.
Точно так же просто нелепо высмеивать как «условные»
сюжеты, построенные в пределах более старой системы условно-
стей. А именно с этой стороны особенным нападкам подвергался
Диккенс. Я и сам на него нападал. Однако в пределах своей
системы сюжеты Диккенса превосходны, они практически свобод-
ны от дилетантизма и несут в себе все признаки отточенного
мастерства. Кстати, Диккенс не бросался от одних условностей к
другим, в чем, несомненно, повинны некоторые из нас. Томаса
Харди тоже упрекали за условность его сюжетов, но ведь Харди
принадлежит к тем редким романистам, которые создают соб-
ственную систему условностей, отвечающую их навязчивой идее.
А навязчивая идея Харди сводится к тому, что сверхъестествен-
ная воля прихотливо играет людьми, и он вновь и вновь воплощает
эту идею с виртуозностью, которая должна бы пробудить смире-
ние в сердцах натуралистов — однако не пробудила. Сюжет «Жите-
лей лесов» — один из самых блестящих примеров тончайшего
символического иллюстрирования идеи, какого только удавалось
достичь романисту. В сравнении с ним символизм Ибсена кажется
топорным. Вы можете сказать, что ничего подобного в реальной
жизни произойти не могло бы, но это относится к любому
роману. Вероятность того, что происходящее в романе могло
произойти в действительности, крайне мала, да это и естественно.
Условности необходимы, и долг романиста—быть правдивым в
пределах своей системы условностей. Подавляющее большинство
романистов все еще не исполняют этого долга. Почему, собствен-
но, мы должны быть умнее своих отцов? А мы вовсе их и не
умнее — по крайней мере, так считаю я.
V
Обойдя молчанием соблазнительный, но второстепенный вопрос
об орнаментировании, я в заключение коснусь вопроса о том, как
создается подобие жизни—ежедневная, ежечасная пряжа суще-
250
ствования, за которой читатель следит от страницы к странице.
Романист выбрал тему, весь ею проникся, набросал план постро-
ения книги. Теперь живой зародыш ждет развития в полноценный
организм. Откуда и как раздобывает романист ту живую ткань,
которая служит ему материалом? Ответ: он отсекает ее от себя.
Первоклассное произведение художественной литературы всегда в
конечном счете автобиографично и обязательно должно быть
таким. Чем еще могло бы оно быть? Пусть романист записывает
наблюдения, чтобы затем воспользоваться ими. И пусть он развил
в себе способность придумывать события, прямо противоположи
ные тому, от которого он отталкивается. Сочинить психологию он
не способен. Порой случается, что кто-то поверяет ему свои
чувства и мысли, крайне ценные для его занятий. Однако
подобные удачи выпадают настолько редко, что их можно не
учитывать. Он способен по каким-то внешним признакам отгады-
вать скрытые психические процессы. Он может использовать
живых людей для создания своих персонажей, развивая и делая
неузнаваемыми их характеры, но все это пустяки. И всякие
специальные исследования—тоже пустяки. Когда нужна подлин-
ная творческая работа—а она нужна для каждой страни-
цы,— эффективную опору романист обретает только в себе
самом, своей цели он достигает, практически ничего не приду-
мывая, а только аранжируя и варьируя то, что сам чувствовал
и видел.
Изучение жизни любого первостепенного романиста неизбеж-
но показывает, что его романы полны автобиографических под-
робностей. Однако в действительности каждый хороший роман
куда более биографичен, чем может выявить самое дотошное
исследование. Проницательный критик способен выделить и про-
следить во внешней, событийной биографии писателя источники
отдельных эпизодов, настроений и действующих лиц романа, но
внутренняя автобиография, его духа, пронизывающая каждую
страницу и животворящая ее, далеко не всегда поддается обнару-
жению. Для создания каждого персонажа в каждом эпизоде
романист в поисках убедительных деталей должен вновь и вновь
анализировать ту часть своей личности, которая соответствует
данному персонажу. Основу писательского таланта составляет его
вселенский гуманизм. В результате этого (а может быть, и по
причине этого — сказать не берусь) в его собственной личности
есть что-то от всех людей. Прирожденный романист всякий раз,
когда ему неясно поведение данного персонажа в данных обсто-
ятельствах, может без опасения спросить себя: «А как бы я
поступил в таком случае?»—и дать ответ в романе. Что и
происходит на практике. Хороший роман—это всегда автобиогра-
фия, окрашенная в цвета всего человечества.
Поскольку природа художественной литературы но необходи-
мости автобиографична, именно этим объясняются творческие
повторы, на которые обречены все романисты, включая и самых
великих. Они опять и опять поддаются наиболее сильным импуль-
сам собственной природы. Им постоянно чудится, будто с
помощью наблюдений они сумели создать совершенно новый
характер, но на поверку он оказывается прежним—еще одним
251
триумфом их собственной психологии. Романист может добиться
вполне заслуженной известности, создав один-единственный тип
характера, но вновь и вновь выводя его в разных обличиях. И
даже самые великие способны создать не более десятка по-
настоящему различных типов. В составленном Серберром и
Кристофом словаре персонажей Бальзака на шестистах страницах
большого волюма даны сведения о двух с лишним тысячах
действующих лиц, но среди них не наберется и дюжины действи-
тельно самостоятельных типов. Ни один художник не повторял
себя с таким апломбом и с таким успехом, как Бальзак. Его
скупец, его порочная восхитительная актриса, его порочная
восхитительная герцогиня, его молодой светский щеголь, его
добродетельный молодой человек, его героическая страдающая
чистая девушка, его ангелоподобные жена и мать, его бедный
родственник и бедная родственница и, наконец, его верный глупый
слуга — все они то и дело появляются на страницах «Человеческой
комедии» под новыми и новыми именами. Точно то же, как
доказал Фрэнк Харрис, наблюдается и у Шекспира. Гамлет, иринц
Датский,— это всего лишь последний и величайший из целой
вереницы шекспировских гамлетов.
И наконец, можно спросить, в чем же заключается конкрет-
ный процесс обработки материала, добытого из жизни и из
личности художника,— процесс преображения жизни в искусство?
Такого процесса не существует. То есть осознанного процесса.
Система условностей, выбранная художником, дает ему иллюзию
правдивости. Сознательно художник только исключает, отбирает,
аранжирует. Но пусть он остерегается изменить иллюзии—тогда
процесс становится сознательным и дает очень плохие результа-
ты. Это — сентиментальность, семя смерти в его произведении.
Каждый художник сталкивается с искушением быть сентимен-
тальным или циничным, что практически одно и то же. А если он
поддается искушению хотя бы на миг, читатель шепчет в сердце
своем: «В жизни так не бывает!» И иллюзия читателя тоже
рассеивается. Читатели делятся на две категории — на врагов
художника и на его друзей. Первые (а имя им легион) восхищают-
ся две недели или год. Они терпеть не могут бескомпромиссной
борьбы за правду. Им положительно нравится, когда художник
поддается искушению и изменяет ей. В этом случае они восклица-
ют: «Как мило!» Вторые способны ценить беспощадность в борьбе
за правду. И если шепчут в сердце своем: «Жизнь такой не
бывает!», то это потому, что им стыдно за художника. Их
немного, очень немного, но какая это энергичная горстка! И
бессмертие дарят именно они.
Д. ГОЛСУОРСИ
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ
Что такое литература? Поскольку писателю лучше, пожалуй,
умереть, прежде чем о нем станут говорить, то условимся
произведение не считать литературой до тех пор, пока жив его
создатель; но даже в этом случае трудно подыскать определение
из-за бесконечного множества книг и постоянно меняющихся
мнений о них. Трудно представить, что в этом зале найдутся два
человека, которые сумели бы более чем за две минуты догово-
риться о том, что же считать литературой. Вероятно, все мы
признаем Шекспира. Но кроме него, кого назвать еще? Ведь не
станем же мы метить наших поэтов так, как метим яйца —
«свежие», дабы они оставались таковыми на длительный срок.
Нет, писатели сами ставят себе дату.
Я лично склонен безо всяких на то оснований считать
литературой лишь то, что я сам успел прочитать; этот предрассу-
док помогает мне исключить много больших имен. Но, отвлекаясь
от личных вкусов, надо сказать, что разложить Литературу но
статьям так же трудно, как постановщику выбрать для своего
театра пьесу, которую ждет Публика,— с той только разницей,
что ему приходится делать выбор до того, как Публика выразила
свое желание, а нам — после, и какое это огромное утешение! Но,
с другой стороны —увы! — наша Публика в отличие от театраль-
ной, которая живет сегодняшним днем,— это многие поколения. В
1900 году превосходно обходятся без того, чем упивались в 1600-м.
Какое-нибудь имя в 1830-м превозносят, а в 1930-м бранят.
Литература оставляет следы не на земле, а на зыбучих песках
Времени, и я сочувствую сыщику, который должен по тем следам
обнаружить беглеца. Так что в любом случае определение
литературы будет, мне кажется, неполным. Но вот на днях я
беседовал со знакомым мне писателем, который, штудируя старые
пьесы, попытался узнать, отчего же литературное произведение
сохраняет долговечность. Он пришел к выводу, что дело в
жизненности характеров. Полагаю, он был недалек от истины,
если говорить о пьесах и романах; правда,останется найти нечто,
что было бы применимо к поэзии. По-видимому, можно сказать
так: чтобы быть Литературой с большой буквы, произведение
должно нести на себе печать подлинной индивидуальности. Оно по
своей сущности должно быть непохоже на то, что было создано
прежде.
Приходилось ли вам когда-нибудь видеть скелет змеи — одного
из самых удивительных и изящных земных созданий? Так вот,
Литературу можно сравнить со скелетом бесконечной змеи:
253
каждый позвонок чем-то отличается от предыдущего и все-таки
таинственным образом соединен с ним. Или позвольте мне
привести другой пример ииз естественной истории. Несколько лет
назад, будучи в Нью-Йорке, я видел диплодока, гигантскую
рептилию с огромным костяком, причудливым хвостом и очень
маленьким ртом — нет, отнюдь не живого диплодока, хотя порой
встречаешь не менее замечательных чудовищ с еще меньшим
ртом. Я спросил у профессора, который показывал нам музей:
«Скажите, профессор, как это громадное существо могло насы-
титься, если у него такой рот?» Он посмотрел на меня недоброже-
лательно, как бы говоря: «Вы спросили о том, что я как раз
собирался объяснить». Я хочу сказать, что Литература — это
своего рода диплодок с огромным скелетом, хвостом, до конца
которого никогда не добраться, и крохотным ртом, которым она
постоянно покусывает Жизнь. Я употребляю это слово, так ска-
зать забегая вперед, вполне отдавая себе отчет, что некото-
рые считают, будто Литература должна быть в самых холодных
отношениях с Жизнью — ей достаточно лишь кивнуть издали и
первой прошествовать к столу. А другие считают, что Литература
должна быть живее самой Жизни, должна спешить и скакать, не
заботясь о таких пустяках, как стройность, отбор, форма или
извлечение из Жизни какой-нибудь морали, если позволительно
употребить это избитое словечко; что Литература должна, по сути
дела, придерживаться правил так называемого бихевиоризма—
подобно композитору-ультрамодернисту, который принимается
сочинять музыку с молитвой: «О господи, только не сложилась
бы мелодия!» Мне известны эти взгляды, но я безнадежно
старомоден: для меня Литература начинается тогда, когда Жизнь
высекает искру из темперамента художника, причем не та жизнь,
которая высекает искру из полицейского отчета и газетной
статьи,—нет отнюдь, но все огромное, бурлящее, шумное действо
с его разнообразием красок и запахов, глубинами и тьмой, и
каждый из нас—незаметный отдельный участок этого действа,
вступающий, всякий на свой лад, во взаимодействие со всеми
остальными его участниками. И вот когда это взаимодействие
достаточно очевидно, у какого-нибудь счастливца возникают
видения, облекающиеся затем в слова,—вот тут и рождается
литературное произведение. Этот новый крохотный сверкающий
позвонок, не признанный, быть может, поначалу, в положенный
срок занимает свое место в бесконечном спинном хребте Литера-
туры. Литература—словно нитка драгоценных камней, и ни один
из них не похож на другой. Подчеркиваю, у Литературы—прямой
позвоночник, я всецело полагаюсь на него и до ужаса боюсь
всяких искривлений. Оглядываясь назад, на прошлое, можно без
труда различить спинной хребет развития Литературы. А те, кто
пытается переломить этот хребет и начать все заново, бессмыс-
ленно тратят время—свое собственное и тех, кто вынужден
смотреть на их кривляния.
Как бы ни были, например, любопытны эксперименты, превра-
щающие роман в калейдоскоп событий в духе иных молодых
авторов, в энциклопедию семейной жизни в духе Пруста, в вихрь
несвязных ощущений в духе Эдгара Уоллеса, в трактат по
254
психологическому микроанализу в духе уж не знаю кого,—я
убежден, что лет через тридцать об этих экспериментах забудут и
останутся жить только те романы, в которых есть характеры и
сюжет.
Я также убежден, что из стихов останутся лишь те, содержа-
ние или ритм которых каким-то непонятным образом затрагивает
наши чувства. О живописи я вообще не осмелюсь сказать, что
хотелось бы, ибо художники, как я заметил, еще обидчивее
литераторов. Разве забыть, как возмутился один знаток в берлин-
ской картинной галерее, когда я позволил себе не согласиться с
ним в том, что некий конгломерат почтовых марок, линий,
прочерченных мелом, гвоздей и старых автобусных билетов,
размещенных в определенном порядке на холсте,— более волну-
ющая картина, чем «Сикстинская мадонна»? Что до музыки, то
никакие силы не принудят меня отказаться от убеждения, что
через тридцать лет люди будут так же тянуться к мелодичности и
позабудут о неудобоваримых изделиях из сельскохозяйственных и
промышленных шумов, которые так нравятся их изготовителям.
Более того, сообщу вам по секрету, на ушко: я сильно подозре-
ваю, что к тому времени саксофоны, как и джазовые инструмен-
ты прошлого — арфы, псалтерионы и кимвалы,— займут свое
место в музеях и игра на них там будет преследоваться по закону,
ставшему статьей Конституции.
Из всего этого вы можете, вероятно, заключить, что я
убежденный реакционер, который с пренебрежением относится ко
всяким экспериментам. Ничуть не бывало! В искусстве экспери-
мент так же необходим, как и в науке, он способствует движению
вперед и иногда приносит свои плоды. Но не следует забывать
одной очевидности: только тогда писатель может создать долго-
вечное произведение, когда эксперимента настоятельно требует
сама тема. Тем же, кто экспериментирует лишь из желания во что
бы то ни стало быть оригинальным, удается на какое-то время
завладеть воображением невзыскательных сограждан, привлечь
внимание порхающих мотыльков, но,писания их быстро сходят на
нет, как сходит роса под солнечными лучами, или, выражаясь
слогом современной поэзии, стираются, как в поцелуе краска с
губ.
Лет пятнадцать назад в Лондоне была выставка работ одного
скульптора, где демонстрировалось много отличных нормальных
вещей. Но вот однажды в зал впорхнули две молодые особы; они
недовольно перелетали с цветка на цветок, пока Цаконец одна из
них не заметила огромную сидячую фигуру, составленную из
неправильных эллипсоидов, которая, присвоив себе имя Венеры,
добивалась внимания посетителей. Перед этой сверхновинкой
наша молодая особа остановилась, если вообще мотыльки могут
стоять на месте, и позвала: «Милочка, вот она, Венера!» Потом,
склонив головку набок, добавила: «Она очаровательна, не правда
ли?» Такие мотыльки есть и сейчас, и они по сей день льнут к
произведениям оригинальным ради оригинальности, потому что им
прожужжали уши всякие крикуны, которым подавай «оригиналь-
ное» во что бы то ни стало.
Вернемся, однако,к Литературе. Сейчас мы переживаем время,
255
насыщенное экспериментами настолько, что нам, писателям,
приходится нелегко. Нас, пожалуй, меньше всего заботит, не
обратилась ли поэзия нынче в прозу, а проза в поэзию. И
пожалуй, больше всего нас заботит, стоит ли вообще при
сложившихся обстоятельствах писать и поэзию и прозу. Мы,
кажется, теперь рады всему, что появляется, и все встречаем
приветственными возгласами. Вокруг вышедших книг поднимается
шумиха, так что им с трудом удается пережить издательскую
рекламу. Редкую книгу не назовут «великой». «Шедевры» и
«талантливые вещи» растут, как крыжовник, и их столь же
охотно потом валят в компот. Когда-нибудь —но не скоро —
издатели и рецензенты поймут, что эпитеты вроде «великий» и
«талантливый» лучше оставить беспристрастному и проницатель-
ному судье — Времени, необыкновенно похожему на сборщика
налогов, которого не проведешь заниженными цифрами доходов.
Во всей этой барабанной трескотне есть, правда, одно преимуще-
ство: книги сразу же получают известность. Это полезно, хотя и
таит в себе опасность для молодых писателей. Когда знатоки в
былые дни хвалили начинающих авторов — как, скажем, хвалили
Мередита, Конрада или Стивена Крейна,—то можно было пору-
читься, что книги их не будут продаваться. Если же теперь
начинают хвалить писателя, то его книга немедленно выпускается
пятнадцатью изданиями, а самого автора корреспонденты закиды-
вают просьбами высказать мнение насчет сухого закона, челове-
ка-горы, контроля над рождаемостью и других потрясающих
новостей, и если у нашего автора голова не очень крепкая, то в
его —а еще чаще ее — глазах очень быстро все переворачивается
вверх ногами.
Вот почему, наверно, большинство сограждан считает писате-
лей немного свихнувшимися. Люда покупают наши книги, однако
приговаривают: «Уж эти литераторы!» —словно бы убежденные,
что мы все путаем и ценности наши ложны. Это верно по
отношению ко многим из нас, и это прискорбный факт, ибо долг
писателя — понимать все хотя бы приблизительно правильно,
обладать острым зрением, глубоко чувствовать и размышлять и
выражать более ясно, чем остальные, то, что мы видим,
чувствуем и думаем. Чтобы не даром есть свой хлеб, нам
нужно быть терпеливыми, достаточно скромными и незави-
симыми, всегда сохранять чувство юмора и меры и жар души.
Теперь у нас немало способных молодых писателей. Думаю,
что уровень художественной выразительности высок, как никогда.
Значит, дело не в таланте и не в техническом мастерстве, а в том,
чтобы сохранять спокойствие ума, а в сердце—то, о чем стоит
рассказать; дело в том, чтобы не поддаваться ребяческому
желанию непременно поразить читателя и не погружаться в
мутные воды умствования и усложненного стиля.
Прежде чем говорить о Жизни, позвольте высказать еще одну
мысль. Любой художник, живописец, музыкант или писатель —
это паломник. К какой святыне он идет на поклонение? Чей лик
узреть бредет он безводными пустынями, неся крест своего
таланта? Лик красоты и лик истины—или морду скачущего
сатира и золотого тельца? Какова цель и предназначение искус-
256
ства? Настала пора на привалах снова задаться этим вопросом.
Десятилетиями, бывало, ответ казался очевиден, но наше десяти-
летие не из таких. Нас со всех сторон манят миражи. Они сияют,
колеблются, рассеиваются. И это дурно. Ведь художник—будь то
музыкант, живописец, скульптор или писатель—дитя многих
поколений, воистину верующих, которые с высоко поднятой
головой шагали, не сводя глаз с путеводной звезды. Для нас же
теперь звезда то замерцает неуверенно, то на мгновение прочертит
на небе огненный след, а порой и погаснет вовсе. И все-таки
найдется ли среди нас хоть один, который—когда догорит костер,
иссякнут разговоры и в трубках кончится табак—не видел- бы ту
звезду и не знал бы ответа? На вопрос, ради чего мы отдаемся
искусству, есть только один верный ответ:
Ради большего блага и величия человека.
А теперь о Жизни. Здесь вряд ли нужно подыскивать определе-
ния. Все согласятся, что Жизнь—это великое и заманчивое
приключение.
Мы лишь однажды берем билет на станцию Неизвестность,
лишь однажды пересекаем страну, именуемую Жизнью. Чем мы
заняты в пути, что совершаем во время этого долгого или
короткого странствия, зависит от склонностей нашего характера.
Многие, по-видимому, считают, что мы живем в вульгарный
век сенсаций: вздернутые в небо вывески и кричащие газетные
заголовки, реклама и стандартизация. И все-таки наш век пока
самый просвещенный в истории человечества. Практически все
умеют, например, читать. Могут возразить: «Да, но что читают?
Детективные романы, скандальную хронику и спортивные ново-
сти». Я понимаю, что «Эдип-царь», «Гамлет» и «Фауст» не идут в
сравнение с воскресными приложениями и чтивом о сыщиках. Но
все равно количество книг, ежегодно выпускаемых в западных
странах, постоянно приближается к количеству населения. Каж-
дое событие и каждая проблема становится достоянием широкой
публики. Театры, кинематограф, радио, даже лекции способству-
ют этому процессу. Но они не могут и не должны заменить
чтение, потому что, читая, мы можем остановиться и подумать,
тогда как, слушая или следя глазами, мы не можем остановиться
и подумать: кто-то непременно препятствует этому-. Опасность
нашего века не в том, что мы останемся невежественными, а в
том, что мы утрачиваем способность думать сами. Перед нами все
чаще возникают какие-нибудь задачи, но пытаемся ли мы сами
найти ответы, кроме как в кроссвордах и в детективных романах?
Все реже и реже. Мы все больше склоняемся к тому, что полегче
и попроще. Но легкий путь к знанию почти всегда оказывается
самым долгим. Ничто не сравнится со знаниями, которые получены
самостоятельно.
Чтение—лучшее средство от стандартизации и упрощения,
свойственных нашему высокомашинизированному веку. Чтение
расширяет наши представления о жизни, нравах и нуждах других
людей; книга удивительно помогает человеку выйти за пределы
своего «я».
Тут я подхожу к важному положению философии, или, лучше
сказать, науки счастья.
9-2389
257
Для подавляющего большинства людей счастье — в постоянной
поглощенности своим делом, чувствами или мыслями. Мы не
бываем по-настоящему счастливы, если не отдаемся чему-нибудь
без остатка. Я не хочу сказать, что мы особенно несчастны, когда
заняты собственной персоной, но в такие минуты мы живы лишь
наполовину. Толстой говорил, что, когда человек смотрится в
зеркало, он не так красив, как есть на самом деле. Нам еще
предстоит узнать, как он сделал это потрясающее открытие:
подобно большинству философских суждений Толстого, оно не
столь просто, как может показаться. Как бы там ни было,
самозабвение—вот ключ к счастью. И забывать о своем «я»
можно по-разному. Знакомый мне знаменитый хирург начал, еще
мальчишкой, с того, что платил своим соученикам по десять
центов за то, что они позволяли ему вырывать у них зубы.
Общеизвестно, что политики тоже счастливы.
Да, существует бесконечно много способов самозабвения, и
один из них—созерцание красоты. Я забывал обо всем на свете,
когда любовался Гранд-кэньоном в Аризоне, ученицами Айседоры
Дункан, «Нирваной» Сент-Годенса на кладбище Рок Крик в
Вашингтоне или пустыней в Египте, залитой лунным светом.
Однако я ни за что не взялся бы отрицать, что самозабвение
может привести иногда к курьезным последствиям. Мой знакомый
художник писал однажды портрет одной русской танцовщицы и
так забылся, что до пояса нарисовал ее обращенной к себе лицом,
а ниже пояса—спиной, и послал картину на выставку. Правда, в
ту пору он ходил в экспрессионистах.
Позвольте мне вернуться к разговору о Жизни.
Никому не придет в голову спрашивать—даже у ученого,—что
такое жизнь. Возникновение Жизни так же непостижимо, как и
происхождение Вселенной. Мы можем бесконечно размышлять о
бытии, делать умозрительные выводы, но только до какого-то
предела: никакие размышления и выводы не приведут нас к
всеобъемлющему пониманию Жизни. Это—единственное досто-
верное знание. Но кто захочет, чтобы было иначе? Без элемента
неизвестности жизненная игра теряет смысл. Разгадайте вечную
загадку—и все остановится, не будет Вселенной, не будет ни вас,
ни меня, ничего. Вера не есть исключительная принадлежность
определенных религиозных вероучений. Лучшая вера—это убеж-
денность, что во всем, что было, есть и будет, заключена воля к
Совершенству. Всякий, кто придерживается этого убеждения,
участвует в процессе совершенствования. Способный созерцать
красоту, ,он испытывает потребность сам внести в Жизнь красоту;
обладая чувством меры, испытывает потребность поступать сооб-
разно этому чувству. И какими бы путями ни повели нас красота
и чувство меры, это всегда пойдет на благо всему человеческому
обществу, ибо они отдаляют нас от трясины, куда гонят людей
жадность,и насилие. Можно взять любые стороны Жизни, чтобы
показать, как насущна сейчас любовь к красоте и сообразности.
Позвольте мне взять вопрос о мире. Вопрос? Уже одно то, что
возможен такой вопрос,—чудовищная нелепость в глазах каждо-
го, кто питает любовь к красоте и сообразности. Во время
мировой войны мы видели столько смерти и разрушений, сколько
258
до того не знал мир. Но с усовершенствованием авиации и
отравляющих веществ опустошения, что принесла мировая война,
покажутся детскими игрушками по сравнению с катастрофой,
которой грозит будущая война между великими державами. В
условиях такой войны население каждой страны, принимающей в
ней участие, точнее, те, кто уцелеет, будут, по-видимому, вынуж-
дены забиться, словно крысы, под землю, в сточные трубы или,
словно зайцы, обезумев от страха, спасаться бегством в горы. В
войнах будущего (если они вспыхнут) на большие города, эти
нервные центры страны, сразу же обрушатся такие удары с
воздуха, от которых еще не найдено и, наверно, не будет найдено
защиты, они будут разрушены фугасными бомбами или парализо-
ваны химическими, и вполне вероятно, что сухопутные армии и
флот, которые так зависят от этих нервных центров, вообще не
вступят в действие. В такой войне не останется места самоотвер-
женности и героизму, не останется места чести и славе, ничему,
даже погребальным почестям и возбуждению минувшей войны.
Не будет никакого различия между старым и молодым, между
мужчиной, женщиной или ребенком, между больным и здоровым:
людей не спасет ни религия, ни самая высокая культура, не будет
ничего, кроме летящих невидимых предметов, кроме смерча с
небес, кроме опустошений, болезней, смерти. Если между велики-
ми, так называемыми цивилизованными, нациями не установится
мир, то можно без преувеличения предположить, что всех
постигнет одинаковая судьба и каждая страна, участвующая в
войне, канет в вечность и от нее останется только жалкая тень.
Это не панический крик, а трезвый голос рассудка.
Некоторые уверяют, что войны исчезнут лишь тогда, когда
изменится человеческая природа. Но человеческая природа оста-
ется неизменной. Холодные, расчетливые люди всегда будут
преследовать собственные цели; всегда будут слепые, тупоголо-
вые фанатики-националисты; всегда будут слабые, пассивные
люди, которые спохватываются, когда уже поздно; всегда будет
стадная психология толпы.
На наше счастье, существует действенный механизм для.
предотвращения войны.
Кроме того, есть спасительные перемены и в отношении к
войне. В 1914 году рассудительные и трезвые люди предполагали
(хотя впоследствии оказались неправыми), что война может пойти
на пользу их странам; теперь же, в 1930-м, ни один рассудитель-
ный и трезвый человек не тешит себя подобными иллюзиями.
Когда несколько сотен сброшенных с самолетов химических бомб
могут поразить города с огромным населением, ни один здраво-
мыслящий человек не будет ратовать за войну. Верить в то, что
мир необходим, считалось до 1914 года чудачеством. Но в 1930
году не верить в то, что мир необходим,— значит быть непроходи-
мым идиотом. Опять-таки это голос трезвого рассудка.
Человечество переживает странную, мучительную эпоху. Нам
угрожает опасность куда более страшная и жестокая, чем бывало
в самые страшные времена прошлого, и все же не было века,
который можно сравнить с нынешним по бессознательному
стремлению к человечности, по искреннему желанию искоренить
о*
259
бедствия и пороки, от которых страдают люди. Мы с большим,
чем когда-либо, знанием, умением и гуманностью лечим болезни;
мы более научно*, справедливо и милосердно относимся к преступ-
никам и животным (хотя далеко не в достаточной степени); мы,
как никогда, озабочены тем, чтобы избавиться от социального и
экономического зла. И если бы удалось обеспечить мир, одолеть
нависший над нами призрак истребления, мы понемногу подошли
бы к самому гуманному в истории веку—веку справедливости и
процветания. Каким благом для всех нас была бы уверенность в
том, что война между цивилизованными нациями—кошмар прош-
лого. По моему разумению, не должно проходить дня без того,
чтобы каждый из нас не повторил себе: «Ради всего святого, что
есть в нас, не надо войны!»
Позвольте мне несколько оставшихся минут посвятить кое-
каким мыслям о прекрасном. Вероятно, для одного прекрасное
означает одно, для другого—другое. И все-таки, когда любой из
нас видит, слышит или читает то, что кажется ему прекрасным,
он испытывает то же самое, различающееся только степенью
чувство, как и остальные,—драгоценное и возвышающее чувство.
Мальчишеский голосок в хоре, корабль под парусами, распуска-
ющийся цветок, город ночью, пение дрозда, хорошее стихотворе-
ние, тень листвы, прелестный ребенок, звездное небо, храм,
яблоня весной, чистокровный скакун, звон колокольчиков овечьей
отары среди холмов, журчащий ручей, бабочка, молодой месяц,
тысяча других предметов, звуков, слов, которые будят в нас
мысли о прекрасном,—все это капельки благодатного дождя,
оберегающего нашу душу от засухи. Быть может, мы не замечаем
этой тихой, освежающей струи, но она постоянно с нами. Война
принесла с собой бунт против прекрасного в искусстве, литерату-
ре и живописи—бунт, который уже сейчас стихает и стихнет, я
верю, совсем. Мы удивились бы, поняв, как дорожим красотой,
сами того не сознавая, и как мало без нее осталось бы в жизни
радости. Красота—это улыбка на лике земли, улыбка для всех, и
нужно лишь иметь глаза, чтобы видеть ее, и настроение, чтобы
чувствовать.
Я повторяю слова, которыми я начал разговор о Жизни. Мы
лишь однажды берем билет до станции Неизвестность—иными
словами, чтобы обойтись без машины в этом сверхмашинном
веке, мы лишь однажды отправляемся пешком по Жизни, омыва-
емые ливнями и палимые солнцем.
Если подумать, все мы бродяги, и никто не знает, что несет
ему день и где он приклонит голову, когда наступит ночь. Но если
мы научимся помогать ближнему своему, хранить мужество и,
отдаваясь всем сердцем, забывая о себе, хорошо делать свое дело;
если мы научимся привносить в Жизнь немного красоты хотя бы
тем только, что будем наслаждаться ею; если мы научимся
стремиться к миру и сумеем обеспечить его; если мы научимся
без страха смотреть в лицо Тайне и в то же время ощущать
вечное движение Духа в подлунном мире—тогда наша Жизнь
будет прожита недаром. Да, тогда поистине наша жизнь будет
прожита недаром.
Д. ГОЛСУОРСИ
ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ...
Редактор «Триады» любезно попросил меня написать коротенькую
статеечку о том, как стать писателем. Если бы я знал... Ему
следовало бы обратиться к моему другу Арнольду Беннету.
Думаю, что мой личный опыт мало чем поможет, а то и
вообще не поможет будущим писателям, но в качестве такового
он будет к услугам читателей «Триады».
Мне и в голову не приходило взяться за сочинительство до
того момента, как я достиг двадцати семи лет и восьми месяцев. И
вообще это пришло в голову не мне, а той, кто еще не стала моей
женой. «Почему бы тебе не попробовать писать?—сказала она.—
Ты вполне годишься для этого». Я выслушал ее с легкой
усмешкой человека, который знает, что к чему. Если вас
взрастили в английской закрытой школе и английском университе-
те, если вы питаете склонность к развлечениям и путешествиям,
являетесь адвокатом без практики, зато имеете небольшой само-
стоятельный доход, то вряд ли принимаете Литературу всерьез,
однако вы можете пожелать доставить удовольствие той, которую
любите. Я приступил к делу. За два года я написал девять
рассказов. Они страдали всеми мыслимыми и немыслимыми
недостатками. За одним-двумя исключениями в них не было
ничего своего: писаны они в подражание Киплингу, они топорны,
экстравагантны по теме, без истинного чувства и глубокой мысли.
Я собрал их вместе и по совету друга-писателя Конрада отправил
издателю. Тот с похвальной осторожностью выразил готовность
напечатать их, но только за мой счет, и прислал смету. Мне было
жаль потраченного времени и труда, и я принял предложение.
Рассказы были напечатаны. Тем временем я приступил к роману и
начал понимать, что такое «чувствовать характер» и «передавать
Настроение». И все же это был плохой роман, он, как говорится,
не был «выписан». Техника хромала, персонажи были деревянные,
фразы либо чересчур многословные, либо недосказанные. Роман
был принят другим издателем на условиях так называемого
отсроченного гонорара. Он и в самом деле был так отсрочен, что
мне ничего не перепало.
К тому времени я писал уже четыре года и потратил на это
около сотни фунтов. Примерно тогда же я начал читать Тургенева
(в английском переводе) и Мопассана по-французски. Это были
цервые писатели, которые доставили мне настоящее эстетическое
наслаждение и одновременно показали, как важно соразмерять
тему и быть лаконичным. Вдохновленный ими, я принялся за
261
второй роман, «Вилла Рубейн». Эта вещь вышла гораздо лучше, в
ней было настроение, художественное равновесие, и все-таки она
тоже не была «выписана» как следует. Лет семь спустя я дважды
переделал текст, и он приобрел тот вид, в котором существует
сейчас. Роман был опубликован на прежних условиях: я снова
ничего не получил. Потом я взялся за четыре повести, которые
тематически связаны с «Виллой Рубейн». Работа над ними
доставила мне такое удовольствие и радость, каких я не испыты-
вал прежде. Повести были «выписаны» лучше, чем все предыду-
щие, но их тоже пришлось сурово «отделать» через несколько лет
при переиздании вместе с «Виллой Рубейн». Одна из mix,
«Рыцарь», была первоначально напечатана в журнале, и я получил
за нее пятнадцать фунтов, хотя книжное издание четырех пове-
стей не принесло мне ни пенса. Вот так и получилось, что в 1902
году, после семи лет работы и четырех выпущенных книг, я
истратил семьдесят пять фунтов, не говоря уже о побочных
расходах, но так и не сделал себе литературного имени. Потом
настал решительный момент: я начал книгу, которая впоследствии
получила название «Остров фарисеев». Первый вариант назывался
«Язычник» и представлял собой цепочку эпизодов, рассказанных
Ферраном от первого лица. Когда рукопись была почти закончена,
я показал ее Эдварду Гарнету*.
— Все это прекрасно, дорогой мой,—сказал он.—Но не
стоило представлять этого парня изнутри. Откуда вам знать, что
творится в душе у такого бродяги? Покажите его со стороны,
через свою собственную личность.
Я заскрежетал зубами от ярости, потом стиснул зубы, придумал
Шелтона и переписал книгу. И все равно она была сыровата.
— Лучше, гораздо лучше! — отозвался Эдвард Гарнет.—
Попробуйте-ка еще раз!
Я снова скрежетал зубами, снова стискивал их, снова перепи-
сывал. В 1904 году роман был напечатан, это была первая книга
под моим собственным именем. Я заработал на ней, если не
ошибаюсь, фунтов пятьдесят, но даже эта дважды переписанная
книга не была «выписана» по-настоящему. Мне пришлось прове-
сти генеральную чистку, чтобы она приобрела окончательную
форму в 1908 году.
Таким образом, к 1906 году, перед тем как появиться «Соб-
ственнику», я писал почти одиннадцать лет, но не заработал ни
денег, ни сколько-нибудь известного имени. «Собственник» отнял
у меня почти три года, но роман был наконец «написан». Я
получил известность, обеспечил себе литературную независимость
и постоянный, растущий доход.
Уроки всего сказанного не так просты, как могут показаться.
Не все рождаются писателями—вот первый урок.
Пока такие писатели учатся «писать», им нужен самостоятель-
ный доход или служба—это второй урок.
Тот, кто хочет писать и обладает упорством довести начатое
дело до конца, со временем добьется своего—это третий урок.
Если человек идет своим путем и не за тем, чтобы понравиться
публике, издателю или редактору, у него в конечном счете
получается лучше, чем у других. Это четвертый урок.
262
Не делать ошибку, не начинать слишком рано—это пятый
урок. Сначала поживите, потом пишите. Я повидал жизнь и
немало бессознательно впитал в себя до того, как начал писать, но
и в двадцать восемь лет я начал слишком рано. Самый насыщен-
ный в духовном отношении период моей жизни приходится на
1895—1904 годы. Вот почему «Остров фарисеев» и особенно
«Собственник» гораздо глубже моих ранних книг.
Будущий писатель может, вероятно, черпать вдохновение и
уверенность у двух-трех мастеров, но получает больше вреда, чем
пользы, от остальных—это шестой урок. У старого или живого
мастера, близкого ему по духу, он научится чувству, которое
соответствует его собственному темпераменту, и научится техни-
ке, которая соответствует его собственным нуждам. И когда под
этим вдохновляющим воздействием у будущего писателя окрепнут
крылья, он отряхнет всякое побуждение подражать.
Этим, я думаю, и исчерпываются уроки моего личного опыта.
ДЖ. К. ЧЕСТЕРТОН
ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
Слава Диккенса давно пережила то время, когда было принято
измываться над его литературным дарованием, однако и по сей
день многие позволяют себе относиться к Диккенсу весьма
снисходительно. Сама по себе нелюбовь к Диккенсу основывается
на странном убеждении, будто литература обязана копировать
действительность. Когда мода на реализм достигла своего апогея,
не составляло труда показать, что в природе не существует
человека отвратительней Квилпа, напыщеннее Снодграсса, бессо-
вестнее Ральфа Никльби, трогательнее Малютки Нелли. Но мы
устали от реализма. Мы вдруг прозрели и поняли, что искусство
не имеет ничего общего с копированием. Как это ни странно, но
то самое движение, которое вознесло Обри Бердсли *, воскресило
увядшую было славу Диккенса.
Более остальных повредили Диккенсу его же почитатели,
которые незаслуженно превозносили его умение писать «как в
жизни», в то время как истинным его достоинством было не
умение писать «как в жизни», а великий дар живописать. Когда
Диккенса обвиняют в преувеличении, его принято защищать так:
«Я сам был знаком с человеком, который был вылитым Пексни-
фом». Справедливости ради скажем, что встретить Пекснифа так
же непросто, как Калибана. Кроме того, уже сам по себе факт,
что на свете существует живой человек, похожий на Пекснифа,
мог бы служить доказательством, что Диккенс слабый писатель.
Подобно тому как в природе не может существовать двух людей,
абсолютно похожих друг на друга, в литературе не может быть
вымышленного персонажа, точь-в-точь воспроизводящего живого
человека. Литературный герой всегда отличается от живых
людей. Его страсти и чувства, эмоции и воспоминания должны в
гамме своей создать новую краску на палитре жизни. И если
правда, в чем я не сомневаюсь, что во всей вселенной никогда не
существовало и не будет существовать человека точь-в-точь как
миссис Микобер, значит, миссис Микобер—порождение истинной
литературы. Потому мы и говорим, что герои Диккенса столь же
жизненны, как сама жизнь.
Стало быть, в привычном утверждении, что великое искусство
«подобно жизни», заложен несравненно более глубокий, смысл,
чем кажется на первый взгляд. Да, великая литература подражает
жизни, и не потому, что она дотошна в скрупулезном описании
изгиба ветки или рисунка на ковре, не потому, что литературные
264
герои говорят и ведут себя так же, как в жизни; великая
литература подобна жизни, ибо она, как и жизнь, безудержна в
своем вдохновении, непреклонна в своем воздействии; ей, как и
всякому живому существу, свойственно надеяться, вспоминать и
неоглядно верить в свое бессмертие. Иными словами, великая
литература подобна жизни, сродни ей, потому что она жива. Из
этого следует, что всякий почитатель таланта Диккенса вовсе не
должен притворяться, будто его кумир не преувеличивает. Дик-
кенс преувеличивает, как преувеличивает сама Природа, заставляя
птиц щебетать, а котенка гоняться за собственным хвостом.
Пафос всего его творчества—радость жизни, а художественное
преувеличение—совершенно необходимое свойство великой лите-
ратуры радости.
Непонимание Диккенса происходит от того, что его критики
напрочь забыли о существовании древней как мир литературы
радости* С некоторых пор нам стало казаться, что литература—
это прибежище слабых натур, воспаленного воображения, скры-
тых пороков; что литература должна по преимуществу создавать
настроение тоски, колебания, неуверенности, рефлексии. Мы
запамятовали о ее великом предназначении доставлять радость,
забыли о том самом неистощимом источнике наслаждений, живи-
тельная влага которого и есть высшее проявление литературы в ее
самом традиционном понимании.
Диккенс кажется нам вульгарным, безвкусным и устаревшим
по той простой причине, что он для нас слишком крепкий напиток.
Его необъятная портретная галерея, бесконечные похождения его
героев, непрерывные разговоры и рассуждения, его неистощимый
реализм и трезвая фантазия—все это различные проявления
безграничных возможностей искрометного воображения, которого
мы лишены. Диккенс был последним великим комиком, после его
смерти слова «великий» и «комический» перестали быть синонима-
ми. Мы забыли, что Аристофан и Рабле не уступают Эсхилу и
Данте, что их безрассудство мудрей и основательней нашей
мудрости, что их скабрезности пережили сотни философских
теорий. Диккенс преувеличивает, но это не недостаток, а достоин-
ство; его преувеличения сродни гигантомании великого француз-
ского юмориста, чудовищная жизнерадостность которого породи-
ла веселого великана, снявшего купола с собора Парижской
богоматери, для уздечки лошади. Диккенс олицетворяет собой то
жр, что и Рабле,—комическую невоздержанность, беспредельную
радость, смахивающую временами на дьявольское наваждение.
За мрачной действительностью, за повышенной эмоционально-
стью у Диккенса просматривается неизменное чувство радости
жизни, подобно тому, как за беспристрастностью Теккерея
скрыта его порывистость и чувствительность, подобно тому, как за
страстностью Готорна скрывается фатализм и обреченность.
Жизнелюбие Диккенса подтверждается еще и тем обстоятель-
ством, что лучше всего ему удавался образ человека, не отмечен-
ного ни честью, ни богатством, который никогда не унывает и
который наделен завидным умением упиваться счастьем сегодняш-
него дня, не задумываясь о невзгодах завтрашнего.
Ни один из его ходульных героев, ни одна из кукольных
265
героинь не могут сравниться с Уильямом Микобером. Ему под
стать и Дик Свивеллер; и тот и другой представляют, по сути
дела, один тип—шарлатана и болтуна, весь капитал которого
заключается в броских умозаключениях и перевранных воспоми-
наниях. И того и другого в равной степени отличает завидное
непостоянство, крайняя нищета, безумная страсть к дешевому
чтиву, постоянные невзгоды и, наконец, уникальная живучесть.
Дураки и жулики, они держатся не за общество, а за собственную
душу, из нее черпая свое неуемное жизнелюбие.
Любопытно, что в изображении героев, близких себе по духу,
Диккенс в гораздо большей степени реалист, чем фантазер.
Комичный пустослов-домовой Пексниф — фигура чисто фарсовая:
такого лицемера еще не видел свет. Жутковатый Сквирс, напро-
тив, фигура совершенно гротесковая, но столь же неживая. Зато в
образе Микобера и Свивеллера (особенно последнего) Диккенс
верен жизни: и тот и другой знают цену своим выдумкам и
никогда не променяют отличное расположение духа на туго
набитый кошелек. В изображении этих персонажей Диккенс
поднимается на невиданную литературную высоту, он затрагивает
вопросы, старые как мир и сложные, как человеческая душа. Не
проливают ли эти два персонажа свет на страшную трагедию
Ирландии, которая, столько пережив, заливается задорным
смехом? Однако главная проблема, которой касается здесь Дик-
кенс,—это проблема бедности, проблема существования бедняков,
которых он любил. Он видел дальше, чем сотни статистиков и
экономистов-филантропов. Кажется, не было на свете более
непримиримого радикала, чем он. Он знал, как никто другой, что
все подсчеты и выкладки—преходящее, а человек будет жить
вечно.
ДЖ. К. ЧЕСТЕРТОН
РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО
ДЖЕЙН ОСТИН
В недавней газетной полемике об одних и тех же неумных
условностях, свойственных- всем поколениям, предшествующим
нашему, кто-то сказал, что в мире Джейн Остин девице полага-
лось падать в обморок, когда ей делали предложение. Тем, кому
случалось читать хоть что-нибудь из Джейн Остин, подобное
утверждение покажется несколько комичным. Элизабет Беннет,
например, получает два предложения от двух весьма самоуверен-
ных и даже деспотических поклонников и отнюдь не падает в
обморок. Уж точнее было бы сказать, что они падают. Во всяком
случае, занятно будет узнать тем, кто хочет позабавиться, и
полезно для тех, кто нуждается в поучении, что самое раннее
произведение Джейн Остин можно назвать сатирой на басню о
трепетной деве. «Остерегайтесь обмороков... хотя иногда они и
могут показаться приятными и освежающими, однако, поверьте,
если к ним прибегать слишком часто и в неподходящую погоду,
они в конце концов окажутся разрушительными для организма».
Это говорит умирающая София, обращаясь к оплакивающей ее
Лауре; и все же находятся сейчас критики, способные приводить
эти слова как доказательство, что все светское общество пребываг
ло в обморочном состоянии в течение первого десятилетия XIX
века. На самом деле соль этой маленькой пародии в том, что
обморок от избытка чувствительности—вымысел и только поэто-
му автором и высмеивается. Лаура и София комично нежизнепо-
добны, оттого что им приходится падать в обморок, тогда как
настоящие леди этого не делают. И те наши изобретательные
современники, которые утверждают, что настоящие леди все же
падали в обморок, по существу, обмануты Лаурой и Софией и
верят им вопреки Джейн Остин. Они верят не людям того
времени, а самым нелепым тогдашним романам, которым даже
читавшие их современники не верили. Критики же проглотили все
высокопарности «Удол^фских тайн» и даже не заметили комизма
«Нортенгерского аббатства».
Поэтому если в ранних романах Джейн Остин и есть явное
предвосхищение ее последующих произведений, то прежде всего
сатиры «Нортенгерского аббатства». Об этом предвосхищении
мы скажем ниже, а прежде—несколько слов о самих романах как
предмете истории литературы. Всем известно, что писательница
оставила незавершенный фрагмент, позднее опубликованный под
названием «Уотсоны», и законченную повесть в письмах, которую
267
она явно решила не издавать, названную «Леди Сьюзен». Все
пристрастия—предрассудки, ведь вкус не регламентируется, но
признаюсь, мне кажется странной случайностью, что такая
сравнительно скучная вещь, как «Леди Сьюзен», уже издана, а
такая сравнительно живая, как «Любовь и дружба», прежде не
издавалась. Во всяком случае, это один из курьезов литературы,
что такие литературные курьезы случайно остаются в безвестно-
сти. Разумеется, правильно замечено, что можно зайти слишком
далеко, высыпая содержимое оставленной гением мусорной корзи-
ны на голову читателей, и что в некотором смысле корзина для
бумаг столь же священна, что и могила. Но не претендуя
самонадеянно на большее право решать этот вопрос, чем любой
другой человек, полагающийся на собственный вкус, я все же
позволю себе сказать, что с радостью оставил бы «Леди Сьюзен»
в корзине для бумаг, если б мог собрать по кусочкам «Любовь и
дружбу» для собственного домашнего альбома: это вещь, читая
которую, можно смеяться снова и снова, как над великими
бурлесками Пикока и Макса Бирбома.
Джейн Остин оставила своей сестре Кассандре все, что имела,
в том числе эти и другие рукописи; второй их том, включающий
рукописи, был оставлен Кассандрой брату, сэру Френсису Остину,
адмиралу. Он передал их дочери Фанни, которая в свою очередь
отдала их своему брату Эдварду, ректору Барфрестоуна в Кенте,
отцу м-с Сэндерс, мудрому решению которой мы обязаны
публикацией этих первых фантазий ее двоюродной бабки (опаса-
ясь путаницы, мы не назовем ее здесь великой1). Пусть каждый
решает сам за себя; но я-то думаю, что она добавила нечто весьма
важное к литературе и к истории литературы и что целые возы
печатных материалов, обычно получающих высокую оценку и
публикуемых с сочинениями всех великих писателей, далеко не
так показательны и значительны, как эти юные забавы. Потому
что «Любовь и дружба» и несколько подобных же страниц в
приобщенных к ней фрагментах действительно потрясающий
бурлеск, значительно превосходящий то, что дамы тех времен
называли «приятной болтовней». Это одна из вещей, которые тем
с большим удовольствием читаешь, что они с удовольствием
писались; другими словами, тем лучше, что они ранние, потому
что от этого они полны веселья. Говорят, Остин написала эти
вещи, когда ей было семнадцать, очевидно так же, как многие
ведут семейный журнал: в рукопись включены медальоны работы
ее сестры Кассандры. Все в целом исполнено того хорошего
настроения, которое всегда скорее проявляется в своем кругу, чем
на людях, подобно тому, как дома смеются громче, чем на улице.
Многие из восхищающихся талантом Оогин не подготовлены к
такого рода юмору, многие, возможно, не восхитятся письмом к
молодой леди, «чьи чувства были слишком сильны для ее слабого
ума» и которая, между прочим, замечает: «Я убила отца в очень
нежном возрасте, с тех пор я убила и мать, а теперь собираюсь
убить сестру». Лично мне это кажется восхитительным—не
1 Словосочетание great great-aunt можно прочесть двояко: «великая двоюродная
бабка» и «двоюродная прабабка».
268
поведение, а признание. Но в юморе Остин, даже и на этой стадии
литературного развития, ощущается не только веселость. Есть
там почти всюду какое-то совершенство бессмыслицы. Есть там и
немалая доля чисто остиновской иронии. «Благородный юнец
сообщил, что его зовут Линдсей, однако у нас есть особые
причины утаить этот факт и именовать его в дальнейшем
Тальботом». Неужели кто-то способен желать, чтобы это пропало
в корзине для бумаг? «Она была не более чем добродушная,
любезная и внимательная молодая дама, и как таковую нам не за
что было ее не любить—мы могли лишь презирать ее». Разве это
не первый легкий набросок фигуры Фанни Прайс? Когда раздает-
ся громкий стук в дверь Сельской Хижины на Аске, отец героини
спрашивает о природе звука, и путем осторожных умозаключений
ему удается определить его как последствие стучания в дверь. «Да
(вскричала я), не иначе кто-то стучит, чтобы его впустили». «Это
уже другой вопрос, который нам нечего и пытаться решить—для
чего человек может стучать (ответил он),—хотя в факте самого
стука в дверь я уже почти убежден». В раздражающей неторопли-
вости и логичности ответа не предвосхищен ли другой, более
знаменитый отец, не услыхали ли мы в какое-то мгновение
незабываемый голос м-ра Беннета?
Но для наслаждения веселостью этих многообразных пустяч-
ков и пародий есть и более веская причина литературоведческого
характера. М-р Остин-Ли, по-видимому, считает их недостаточно
серьезными для репутации его великой родственницы, но величие
не всегда создается серьезными, то есть высокопарными, веща-
ми. Сама причина, тем не менее, настолько серьезна, что может
удовлетворить любого, потому что касается основополагаю-
щих свойств одного из тончайших литературных талантов.
В высшей степени живой психологический интерес, почти
равный психологической загадке, вызывает любое раннее произ-
ведение Джейн Остин, и тому немало причин, хотя бы и
следующая, на которую до сих пор недостаточно обращалось
внимание. Как ни была велика писательница, ее никогда и никто
не считал поэтом, но она была прекрасным примером того, что
обычно говорят о поэтах—в ней все было первозданно, естествен-
но. Более того, по сравнению с ней некоторые поэты кажутся
искусственны. Многие из тех, кто воспламенил мир своими
идеями, оставили по крайней мере вполне убедительное рассужде-
ние о том, что воспламенило их самих. Люди, подобные Кольрид-
жу и Карлейлю, зажгли свои факелы от фантазии немецких
мистиков и философов-неоплатоников; они прошли сквозь такое
горнило культуры, где и менее плодовитые натуры воспылали бы
творческим духом. Джейн Остин ничто не воспламеняло, ничто не
вдохновляло и ничто не толкало ее к гениальности; она просто
родилась гением. Ее пламень, великий ли, малый, исходил от нее
самой, был ее собственным созданием, как огонь первобытного
человека, добывшего его трением двух сухих деревяшек. Некото-
рые скажут, что ее дерево слишком уж сухо. Однако нет
сомнения, что своим художественным мастерством она придала
интерес тому, что тысячи подобных ей сделали бы скукой.
Ничто—ни в обстоятельствах ее жизни, ни в использованном ею
269
материале—не предполагало появления такой творческой силы.
Если сказать, что она была стихийна, это может показаться
неверным и неуместным. Если настаивать, что она была самобыт-
на, это может показаться даже несколько безответственным. Но
подобные возражения будут исходить от критиков, не понима-
ющих по-настоящему, что имеется в виду под стихийностью и
самобытностью. Очевидно, под этим можно подразумевать «лич-
ность» в истинном смысле слова. Ее дарование абсолютно; оно
неразложимо на влияния. Ее сравнивали с Шекспиром, и правда, к
ней применима известная шутка: некто сказал, что мог бы писать,
как Шекспир, если б только голова его была устроена подобным
же образом. В данном случае нам видится тысяча старых дев,
сидящих за тысячей чайных столиков; все они могли бы написать
«Эмму», если б только голова у них была так же устроена, как у
Остин.
Вот почему, даже говоря о ее самых ранних и незрелых
опытах, интересно заглянуть «в голову», а не в зеркало. Остин
может еще и не сознавать собственного «я», но в отличие от
великого множества искусньхх имитаторов она осознает себя
только самой собой. Ее сила, даже в первых, самых слабых ее
проявлениях, идет изнутри, а не извне. Интерес, который она
вызывает, как личность, обладающая безупречным инстинктом
разумной критики жизни,—одна из главных причин, оправдыва-
ющих изучение ее ранних произведений: это интерес к психологии
художественного творчества. Я не назову это качество артистиче-
ским темпераментом, потому что ни в ком не было так мало
скучищи, именуемой этими словами, как в Джейн Остин. И хотя
уже одного этого достаточно для исследования начала ее творче-
ства, это исследование становится еще более оправданным теперь,
когда мы знаем, как именно оно началось. Это более чем
обнаружение документа, это познание природы вдохновения. И
вдохновение это было тем же, что и в «Гаргантюа» и «Пиквике»,—
грандиозным вдохновением комического.
Если покажется странным, что мы называем ее стихийным
художником, может показаться не менее странным, если назвать
ее художником необузданным. Ранние ее страницы выдают сек-
рет— по природе она была необузданна. Ее мощь, как и у других,
проистекала из умения контролировать себя и управлять необуз-
данностью. Но за тысячей ее тривиальностей ощущается присут-
ствие и давление этой живописи. Остин могла быть и сумасброд-
ной, когда хотела. Она была полной противоположностью накрах-
маленной и худосочной старой деве; когда хотела, она была
способна на буффонаду, подобно батской вдове*. Именно это и
сообщает несокрушимую силу ее иронии. Это и придает потряса-
ющую весомость ее сдержанности. Где-то глубоко в этой писа-
тельнице, считавшейся бесстрастной, все же таилась страсть, но
эта страсть была своего рода веселой издевкой, пафосом борьбы
со всем, что представлялось ей болезненным, вялым или непрохо-
димо глупым. Выкованное ею оружие было такой тонкой отделки,
что мы могли бы не узнать об этих ее качествах, не бросив
беглого взгляда в то горнило незрелости, где оно ковалось.
Наконец, есть еще два обстоятельства, над которыми я предлагаю
270
критикам и газетным корреспондентам поразмыслить на досуге.
Первое — эта реалистка, упрекая романтиков, прежде всего упре-
кала их за то, чем так восхищалась бунтующая мысль,— за их
восхваление неблагодарности к родителям, за готовность при-
знать, что старики всегда ошибаются. «Нет,— восклицает благород-
ный юнец в «Любви и дружбе»,— никто обо мне не скажет, что я
ублажал отца». И второе — нет и тени намека на то, что этот
независимый ум, эту смеющуюся душу хоть сколько-нибудь
тяготила сугубо домашняя рутина. Погруженная в нее, Остин
писала какую-нибудь историю, замкнутую домашним кругом,
словно вела дневниковые записи между приготовлением пирогов и
пудингов, даже не удосужившись выглянуть в окно и заметить
Великую французскую революцию.
с. моэм
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
ДОСТОЕВСКОГО
Между писателем-человеком и творцом существует определенный
разлад, и ни у кого, по-моему, он не был явственнее, чем у
Достоевского. Вероятно, это удел всякой творческой личности,
но, поскольку писатель работает со словом, несоответствие его
поведения и проповедуемых идей резче бросается в глаза. Сравни-
те прекраснодушный идеализм Шелли, его любовь к свободе,
справедливости с его холодным эгоизмом и равнодушием к боли,
причиняемой другим *. И я не сомневаюсь, что многие композиторы
и художники были столь же эгоистичны и бессердечны, но их
великолепные мелодии и картины очаровывают нас, заставляя
прощать неблаговидные поступки. Видимо, дар к творчеству,
вполне естественный для детства и юности, становится болезнью,
если не исчезает у человека в зрелые годы, и эта болезнь может
развиваться лишь за счет нормальных человеческих качеств, лишь
на почве всевозможных пороков—самые сладкие дыни, как
известно, вырастают на голом навозе.
Достоевский был не только тщеславным, раздражительным и
безвольным человеком, каким его описывают биографы. Ведь не
кто иной, как он, дал жизнь Алеше—пожалуй, самому обаятель-
ному и доброму герою во всей мировой литературе. И именно он
создал святого старца Зосиму. Алеша, кстати, задуман как
центральная фигура «Братьев Карамазовых», о чем с достаточной
ясностью говорит первое предложение: «Алексей Федорович Кара-
мазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора
Павловича Карамазова, столь известного в свое время (да и
теперь еще у нас припоминаемого) по трагической и темной
кончине своей, приключившейся ровно тринадцать лет назад и о
которой сообщу в своем месте». Достоевский слишком опытный
писатель, чтобы ни с того ни с сего выделять в начале именно
этот персонаж. Однако в книге—в том виде, в каком мы ее
получили,—Алеша по сравнению со своими братьями Дмитрием и
Иваном играет лишь второстепенную роль. Он появляется и
исчезает из романа, почти не оказывая влияния на других.
Собственная же его активная деятельность связана только с
горсткой школьников, она высвечивает его трогательную доброту
и любовь к людям, но совсем не определяет развитие сюжета.
Дело в том, что «Братья Карамазовы», насчитывающие в
переводе миссис Гарнет восемьсот тридцать восемь страниц,
являются лишь частью замысленного Достоевским произведения.
272
В последующих томах писатель намеревался разработать образ
Алеши, подвергнуть его всевозможным испытаниям и через
страшные грехи и страдания привести к «спасению». Но смерть
помешала ему довести замысел до конца, а книга так и осталась
незаконченной. Тем не мецее «Братья Карамазовы» — одна из
самых выдающихся книг всех времен и народов,, занимающая
первое место в том небольшом ряду романов, которые стоят
несколько особняком от остальных замечательных творений,—ее
ближайшими соседями тут являются «Грозовой перевал» и «Моби
Дик». И это очень «густое» произведение: я вряд ли оказал бы
Достоевскому добрую услугу, если бы попытался охватить книгу
полностью. Он обдумывал ее долго и, несмотря на денежные
затруднения, работал над ней куда тщательнее, чем над любым
другим романом, кроме разве что первого. Писатель вложил в нее
все свои мучительные сомнения, потребность верить в то, что
отвергал его разум, все яростные поиски смысла жизни. Лучше я
скажу, чего читателю не стоит ожидать от романа, поскольку
никто не вправе требовать от автора того, что он не мог или не
хотел дать. Во-первых, «Братья Карамазовы» не реалистическое
произведение. Достоевский не отличался особой наблюдательно-
стью, к тому же и не стремился к правдоподобию. Поэтому
поведение его персонажей трудно судить по стандартным меркам
обычной жизни. Их поступки до безумия нелепы, да и мотивы
этих поступков явно нелогичны. Олицетворяя различные страсти,
гордыню, чувственность, ненависть, они мало похожи на характе-
ры, которые вы тут же распознаете, стоит вам взяться за романы
Джейн Остин или Флобера. У тех герои списывались с жизни, а
затем благодаря авторскому мастерству и таланту становились
значительнее, чем в жизни. У Достоевского же это сгустки
растерзанного и болезненного субъективного сознания. Но, сов-
сем не жизнеподобные, его герои тем не менее трепетно живы.
Надо еще отметить, что роман страдает от многословия,
болезни, которую Достоевский и раньше знал за собой, но от
которой никогда не мог излечиться. Даже по переводу можно
заметить неряшливость его письма. Великий писатель, Достоев-
ский был посредственным художником слова. Ну а юмор у
него—просто примитивный: г-жа Хохлакова—как бы комическая
«отдушина» в этой книге—просто скучна. Недостаточно индиви-
дуализированы и все три молодые женщины. Lise, Катерина
Ивановна и Грушенька одинаково истеричны, злы, вспыльчивщ.
Стремясь властвовать и измываться над мужчинами, которых они
любят, героини в то же время жаждут сами покориться им и
терпеть от них муки. Нет, их не объяснишь!
Мужчины вылеплены добротнее. Об Алеше я уже несколько
слов сказал; великолепно написаны в романе и сумасбродный шут
старик Карамазов, и era внебрачный сын Смердяков—
непревзойденное воплощение злого начала. Однако у старого
греховодника есть два других сына; Дмитрия снисходительный
человек определил бы как худшего врага самому себе—
вульгарному и хвастливому задире, пьянице и моту, ему совершен-
но все равно, какими способами добывать деньги на свои
развлечения, кстати наивные и жалкие, как у школьника. Чего
273
стоит один нелепый кутеж с Грушенькой! Когда же Дмитрий
начинает лепетать о собственной чести, то выглядит просто
отвратительно. В романе он, в общем-то, становится главным
героем, что является, по-моему, недостатком — судьба такого
никчемного человека мало кого заинтересует. А вот женщины,
как это часто случается, Дмитрия любят, но в чем состоит для
них его привлекательность, Достоевский так и не показал. И
все-таки одна его эскапада кажется мне знаменательной: украден-
ные деньги Дмитрий везет Грушеньке, которую страстно любит,
чтобы та смогла выйти замуж за когда-то соблазнившего ее
человека. Это напоминает эпизод из жизни самого писателя:
когда-то он пытался одолжить деньги и выдать Марию Исаеву, с
которой был помолвлен, замуж за ее любовника—«благородного
и симпатичного» учителя. Таким образом Достоевский наделяет
Дмитрия, жестокого эгоцентрика, каким был сам, и своим
собственным мазохизмом. Не является ли мазохизм главным
способом самоутверждения в его мире?
До сих пор я лишь критиковал роман, и читатель вправе
спросить, почему я называю его одним из величайших произведе-
ний мировой литературы, если в нем столько недостатков. Что
же, во-первых, от «Братьев Карамазовых» невозможно оторвать-
ся. Достоевский был не только великим писателем, но и—что не
всегда совпадает—очень искусным романистом, умеющим талан-
тливо драматизировать любую ситуацию. Здесь имеет смысл
рассказать, какими методами он настраивал читателя на особую,
острую восприимчивость. Он собирал, например, героев вместе и
заставлял их обсуждать что-нибудь до непонятности бредовое, а
затем постепенно все объяснял с мастерством Эмиля Габорио,
умело распутывающего в своих детективных романах таинствен-
ные преступления. И эти нескончаемые разговоры в «Братьях
Карамазовых» вызывают захватывающий интерес, который До-
стоевский остроумным'приемом еще и подстегивает: действующие
лица произносят свои реплики с необъяснимым волнением—
начинают дрожать, меняться в лице, зеленеть. Поэтому самые
обычные слова получают какую-то таинственную многозначитель-
ность, и, в конце концов, все это так взвинчивает читателя, что он
совершенно готов к потрясению, когда случается нечто действи-
тельно серьезное.
Но все вышеизложенное—дело техники, величие же «Братьев
Карамазовых» коренится в значительности их проблематики.
Многие исследователи говорили, что роман посвящен поискам
бога, а я бы сказал, что основной здесь стала тема зла. Вот мы и
подошли к Ивану, второму сыну старика Карамазова—наиболее
интересному и наименее приятному из героев романа. Уже
высказывалась идея, что именно Иван выражает сокровенные
мысли и убеждения Достоевского. Так оно, видимо, и есть.
Проблему зла писатель поднимает в пятой и шестой книгах, а их
он считал наиглавнейшими в романе. Из этих двух книг, а именно
"Pro u Contra" и «Русский инок», первая значительно сильнее. В
ней Иван и рассуждает о зле, которое представляется человече-
скому уму несовместимым с существованием всемогущего и
всеблагого господа. В качестве примера Иван приводит ничем не
274
заслуженные страдания детей. Вполне понятно, что взрослые
должны страдать за свои грехи, но муки «неповинных деток»
возмущают и сердце, и разум. Кстати, Ивану безразлично, бог ли
создал человека или человек бога: он готов верить в существова-
ние высшей силы, но принять жестокость созданного богом мира
не может. Ему кажется, что безвинные не должны терпеть муки
за грехи виновных, а если они все-таки терпят, то бог либо зол,
либо его вообще не существует. Тут я и остановлюсь, пусть
читатель сам займется Pro u Contra. Надо только добавить, что
Достоевский никогда еще не писал с такой мощью. Но затем сам
испугался того, что написал. Доказательства были явно убеди-
тельными, да вывод противоречил его вере, а именно: вселенная,
несмотря на все зло и муки, все-таки прекрасна, поскольку
является божьим творением. Если любить все живое в мире, то
любовь эта искупит страдания, и каждый разделит общую вину.
Страдание за грехи других станет тогда моральным долгом
истинного христианина. Вот во что Достоевский хотел веровать.
Но, написав "Pro u Contra", тут же поспешил дать что-то вроде
опровержения. И никто лучше его самого не понимал, что
получилось оно неудачным—скучным и неубедительным.
Так что проблема зла все еще ждет решения, а на предъявлен-
ные Иваном Карамазовым обвинения ответа пока нет.
В. ВУЛЬФ
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Делая любой обзор современной литературы, пусть самый свобод-
ный и небрежный, трудно не считать само собой разумеющимся,
что современная практика искусства в какой-то мере усовершен-
ствовалась по сравнению со старой. Со своими незамысловатыми
инструментами и примитивным материалом Фильдинг, могут ска-
зать, работал отлично, а Джейн Остин—еще лучше, но сравните
их возможности с нашими! Их шедевры, несомненно, оставляют
какое-то странное ощущение упрощенности. Однако сравнивать
создание литературного произведения с созданием, к примеру,
машины целесообразно лишь на первый взгляд. Сомнительно,
чтобы на протяжении веков, много узнав о том, как делаются
машины, мы узнали хоть что-нибудь о том, как создается
литература. Мы не стали писать лучше; можно лишь сказать, что
мы движемся, слегка отклоняясь то в одном направлении, то в
другом, но с тенденцией к круговому движению, если наблюдать
весь путь с достаточно высокой точки. Само собой, мы и не
пытаемся занять, хотя бы на краткий миг, эти командные высоты.
На равнине, в толпе, полуслепые от пыли, мы с завистью
оглядываемся на тех более счастливых воителей, чья битва
выиграна, чьи победы несут такой ясный отпечаток совершенства,
что мы с трудом удерживаемся, чтобы не считать их борьбу менее
тяжелой, чем наша. Пусть судит о том историк литературы; ему
предстоит сказать, находимся ли мы в начале, в конце или
посередине великого периода художественной прозы, потому что
снизу, с равнины мало что можно увидеть. Мы знаем только, что
нас вдохновляют и благодарные и враждебные чувства, что одни
пути ведут к плодородным землям, а другие—в пустыню; и вот об
этом-то и стоит, пожалуй, попытаться поговорить.
Итак, мы враждуем не с классиками, и если мы говорим о
ссоре с м-ром Уэллсом, м-ром Беннетом и м-ром Голсуорси, то
отчасти потому, что просто благодаря самому факту их физиче-
ского существования их творения обладают несовершенством,
свойственным всему живущему, дышащему, обыденному, что дает
нам право обращаться с ними так, как мы сочтем нужным. Но
верно и то, что, хотя мы признаем за ними тысячу достоинств,
свою безграничную благодарность мы отдаем м-ру Харди, м-ру
Конраду и—в значительно меньшей степени—м-ру Хадсону за
его романы «Пылающая земля», «Зеленые дворцы» и «О далеком
и давнем». М-р Уэллс, м-р Беннет и м-р Голсуорси заронили
276
столько надежд и столько раз не оправдывали их, что благодар-
ность мы испытываем, скорее, за то, что они могли бы сделать,
но не сделали и чего мы, конечно, не смогли бы, но, конечно,и не
захотели бы сделать. Одной фразой не выразишь всех тех
обвинений или сожалений, которые возникают у нас в связи с
работой, такой большой по объему и обладающей столькими
качествами, вызывающими как восхищение, так и противополож-
ные чувства. Если все же попытаться сформулировать наши
чувства одним словом, то надо сказать, что эти три писателя—
материалисты. Именно потому, что они заняты телом, а не духом,
они и разочаровали нас и оставили нас в убеждении, что чем
скорее английская литература повернется к ним спиной (насколь-
ко возможно вежливее) и уйдет—пусть даже в пустыню,—тем
лучше будет для ее души. Само собой, нельзя одним словом
поразить сразу три разных мишени. В случае с м-ром Уэллсом
оно оказывается довольно далеко от центра. И однако, даже в
этом случае, думается, мы можем указать на роковой изъян его
гения, на огромный ком глины, примешавшийся к золоту его
вдохновения. Но м-р Беннет, пожалуй, самый большой преступ-
ник из троих, в той же степени, в какой и самый большой мастер.
Он может создать книгу так хорошо построенную, так добротно
сработанную, что даже самому придирчивому критику трудно
увидеть, через какую трещину или щель может проникнуть гниль.
Не сквозит из окна, не поддувает с пола. И все-таки, что, если
жизнь откажется обитать там? Создатель «Повести о старых
женщинах», Джорджа Кэннона, Эдвина Клейхенгера и множества
других персонажей мог бы утверждать, что он преодолел эту
опасность. Его персонажи живут даже неожиданно полной
жизнью, но остается спросить, как они живут и ради чего? Все
чаще и чаще они покидают, как кажется, прекрасные виллы
«Пяти городов» и проводят время в мягко обитом железнодорож-
ном купе первого класса, нажимая бесчисленные звонки и кнопки;
и судьбой, к которой они движутся с такой роскошью, становит-
ся, все более и более бесспорно, вечное блаженство в лучшем
отеле Брайтона. М-ра Уэллса не назовешь материалистом в том
смысле слова, что он чрезмерно заботится о добротности своих
изделий. Его ум слишком щедр в своих симпатиях, чтобы много
заботиться об аккуратности и вещественности своих созданий. Он
материалист от широты и доброты сердца, взваливающий на свои
плечи работу, которую должны были бы исполнять государствен-
ные служащие, и от избытка идей и фактов почти не имеющий
времени понять или забывающий о важности того, что созданные
им характеры сыроваты и грубоваты. И какой более уничтожа-
ющей критике можно подвергать созданный им мир,и землю его и
небеса, чем то, что они должны быть населены, сейчас и во веки
веков, его Джоаннами и Питерами?* Разве неполноценность их
натур не принижает любые идеалы и институты, какими только ни
одаряет героев щедрость их создателя? Да и на страницах книг
м-ра Голсуорси, как бы глубоко мы ни уважали его честность и
гуманность, не найдем мы то, чего ищем.
Итак, если ко всем этим книгам мы приклеиваем общий ярлык
с одним только словом «материалисты», мы имеем в виду, что их
277
авторы пишут о несущественных вещах, что они затрачивают
массу искусства и массу труда, выдавая незначительное и прехо-
дящее за истинное и вечное.
Нужно признать, что мы требовательны, более того, мы
затрудняемся обосновать наше неудовольствие, объяснив, чего же
именно требуем. Мы формулируем свой вопрос в разное время
по-разному. Но он настойчиво появляется вновь, когда мы
откладываем прочитанный роман со вздохом: «А стоило ли? Зачем
все это написано?» Может ли быть, что из-за тех небольших
отклонений, которые совершает время от времени человеческий
дух, м-р Беннет «со своим великолепным аппаратом для уловления
жизни промахнулся, попав на один-два сантиметра мимо цели?
Жизнь ускользает, а без жизни, пожалуй, ничто не имеет
значения». Прибегать к подобной фигуре речи—значит признаться
в собственной неспособности ясно выражать свои мысли, но мы
едва ли улучшим дело, говоря, как это склонны делать критики, о
реальности. Признавая за собой этот недостаток, которым страда-
ет вся литературная критика, рискнем высказать мнение, что для
нас сейчас в самом модном художественном жанре скорее
отсутствует, чем наличествует то, что мы ищем. Назовем ли мы
это жизнью или духом, правдой или реальностью, это—самое
существенное—ушло прочь, вперед, отказавшись носить тот
неподходящий наряд, которым мы снабдили его. И все-таки мы
упорно и добросовестно продолжаем кроить свои тридцать две
главы по модели, которая все менее и менее отражает наше
видение мира. Такой огромный труд, затраченный на доказатель-
ство добротности и жизнеподобия повествования, не только труд
ненужный, но труд, направленный до такой степени не туда, куда
надо, что он затуманивает, затемняет замысел произведения.
Писателя как бы обязывает не его собственная свободная воля,
но какой-то могущественный и безжалостный тиран, который
держит его в рабстве, обеспечить сюжет, обеспечить комедию,
трагедию, любовную интригу и ощущение достоверности, бальза-
мирующее все в целом столь безупречно, что, если бы персонажи
ожили, они оказались бы одетыми, вплоть до пуговиц, по самой
последней моде. Тирану подчиняются, роман создается в точном
соответствии с его требованиями. Но иногда, а с течением
времени все чаще и чаще, по мере того как страницы заполняются
привычным образом, мы переживаем минуты сомнения, спазмы
протеста. Разве это похоже на жизнь? Такими ли должны быть
романы?
Взгляните вглубь, жизнь, кажется, далеко не «такая». Всмот-
ритесь хоть на минуту в обычное сознание в обычный день. Мозг
получает мириады впечатлений—обыденных, фантастических, ми-
молетных или врезающихся с твердостью стали. Со всех сторон
наступают они, этот неудержимый ливень неисчислимых частиц, и
по мере того как они падают, как они складываются в жизнь
понедельника или вторника, акценты меняются, важный момент
уже не здесь, а там, так что если бы писатель был свободным
человеком, а не рабом, если бы он мог писать то, что хочет, а не
то, что должен, если бы он мог руководствоваться собственным
чувством, а не условностями, то не было бы ни сюжета, ни
278
комедии, ни трагедии, ни любовной интриги, ни развязки в
традиционном стиле и, возможно, ни единой пуговицы, пришитой
по правилам портных с Бонд-стрит. Жизнь—это не ряд симмет-
рично расположенных светильников, жизнь — это сияющий ореол,
полупрозрачная оболочка, окружающая нас с момента зарожде-
ния нашего сознания и до его исчезновения. Не в том ли задача
романиста, ^ чтобы описать этот изменчивый, непознанный и
необъятный дух, какие бы заблуждения и трудности при этом ни
обнаружились, с наименьшей возможной примесью чужеродного и
внешнего? Мы ратуем не только за смелость и искренность; мы
полагаем, что истинный материал художественной прозы несколь-
ко отличается от того, каким сила привычки заставляла нас
считать его раньше.
Во всяком случае, именно в этом ключе мы и стремимся
определить особенности, отличающие работу нескольких молодых
писателей (из которых м-р Джеймс Джойс самый значительный)
от их предшественников. Они пытаются подойти ближе к жизни и
передать более искренно и точно то, что интересует и трогает их,
даже если для этого .им надо отбросить большую часть условно-
стей, которые обычно соблюдаются романистами. Давайте описы-
вать мельчайшие частицы, когда они западают в сознание, в том
порядке, в.каком они западают, давайте пытаться разобрать узор,
которым все увиденное и случившееся запечатлевается в созна-
нии, каким бы разорванным и бессвязным он нам ни казался.
Давайте не будем брать на веру, что жизнь проявляется полнее в
том, что принято считать большим, чем в том, что принято
считать малым. Любой, кто прочел «Портрет художника в
юности» или обещающего быть гораздо более интересным «Улис-
са», который печатается сейчас в «Литтл ревью», отважится на
подобного рода предположение о замысле м-ра Джойса. Для нас,
пока перед нами только фрагмент, такое утверждение — не уверен-
ность, а рискованное предположение, но каким бы ни было
намерение в целом, несомненно, что оно предельно искренно и что
результат, даже если он покажется нам трудным для понимания и
неприятным, безусловно значителен. В отличие от тех, кого мы
назвали материалистами, м-р Джойс духовен; он стремится любой
ценой обнаружить мерцание того сокровенного пламени, которое
посылает свои вспышки сквозь мозг, и чтобы передать это, он
отбрасывает с величайшей смелостью все, что представляется ему
побочным—будь то достоверность, связность или любой другой
из тех указателей, которые поколениями направляли воображение
читателя, когда ему .нужно представить то, чего он не может ни
потрогать, ни увидеть. Сцена на кладбище, например, и с ее
блеском, и с ее омерзительностью, с бессвязицей и с внезапными
озарениями, так несомненно приближается к движению сознания,
что, во всяком случае при первом чтении, трудно не назвать ее
шедевром. Если нам нужна сама жизнь, здесь, без сомнения, мы
ее находим. Правда, если мы попытаемся сказать, чего бы нам
еще хотелось и почему вещь столь оригинальная проигрывает при
сравнении, если брать по большому счету, с «Юностью» * или
«Мэром из Кэстербриджа», мы промямлим нечто невнятное.
Можно было бы сказать просто и с этим покончить—роман
279
проигрывает из-за сравнительной бедности ума его создателя. Но
можно пойти немного дальше и задуматься: а не связано ли наше
ощущение, будто нас поместили в ярко освещенную, но тесную
комнату, ограничили в движениях и заперли, вместо того чтобы
дать простор и свободу,—с некоторой ограниченностью, связан-
ной с методом в той же мере, что и с умом. Не метод ли
сковывает творческую силу? Не благодаря ли методу не ощущаем
мы ни веселья, ни великодушия, но всегда сосредоточены на «я»,
которое, несмотря на всю свою восприимчивость, никогда не
охватывает и не воссоздает того, что вне или помимо его? Не
усиливает ли акцент, сделанный на непристойности, возможно с
назидательной целью, ощущения йеловкости и отчуждения? Или
просто в любой попытке создать столь оригинальное явление
гораздо легче, особенно для современников, ощутить, чего ей не
хватает, чем сказать, что она дает? Во всяком случае нельзя
анализировать «метод» как бы со стороны. Любой метод хорош,
каждый метод хорош, если он позволяет выразить то, что мы
хотим выразить, будучи писателями-, и подводит нас ближе к
замыслу автора, если мы читатели. Достоинство этого метода в
том, что он подводит нас ближе к тому, что мы были готовы
назвать самой жизнью; разве чтение «Улисса» не показывает,
сколько жизни обычно изгоняется и игнорируется, и разве .это не
потрясение, открыв «Тристрама Шенди» или даже «Пенденниса»,
убедиться, что существуют не только другие стороны жизни, но и
более важные?
Как бы то ни было, сейчас, а вероятно, и раньше, перед
романистом стоит задача изобрести средства свободно писать, о
чем он хочет. Он должен набраться храбрости и сказать, что его
интересует теперь «то», а не «это», только из «того» и должен он
создавать свое произведение. Для современных писателей «тем»
предметом интереса являются, очевидно, непознанные глубины
психологии. Поэтому сразу же несколько смещаются акценты;
основное внимание переносится на то, что раньше считалось
несущественным, и сразу же становятся необходимы иные очерта-
ния формы, трудные для восприятия, немыслимые для наших
предшественников. Только современный писатель, возможно,
только русский счел бы интересной ситуацию, которую Чехов
положил в основу рассказа «Гусев». Несколько русских солдат
лежат больные на борту судна, возвращающегося в Россию.
Приводится несколько обрывков разговоров и мыслей, потом один
из солдат умирает и его уносят; разговор между остальными
продолжается еще некоторое время, пока сам Гусев не умирает и,
«как морковь или редиску», его не выбрасывают за борт. Акценты
сделаны в таких неожиданных местах, что поначалу кажется,
будто там вообще нет акцентов; и только позднее, когда глаз
привыкает к сумеркам и различает очертания вещей в комнате,
видим мы, насколько завершен рассказ, как глубок и как верно в
соответствии со своим видением Чехов отбирает то, другое и
третье и располагает все вместе так, чтобы получить нечто новое.
Но невозможно сказать «это комично» или «это трагично», так же
как и нельзя быть уверенным (ведь нас учили, что рассказы
должны быть короткими и завершенными), что это—нечто
280
расплывчатое и незавершенное—следует вообще называть рас-
сказом.
В самых предварительных заметках о современной английской
литературе едва ли можно обойтись без упоминания о русском
влиянии, а уж если упомянуты русские, рискуешь почувствовать,
что писать о какой бы то ни было литературе, кроме их
собственной,— пустая трата времени. Если мы ищем понимания
души и сердца, где еще мы найдем понимание такое глубокое?
Если мы устали от собственного материализма, то самый незначи-
тельный из их романистов обладает благодаря своей принадлежно-
сти к этой нации естественным преклонением перед человеческим
духом. «Учись сочувствовать людям... Но пусть это сочувствие
идет не от ума, потому что это легко —от ума—а от сердца, от
любви к ним». Во всех великих русских писателях мы обнаружи-
ваем черты святости, если сочувствие к чужим страданиям,
любовь к ближним, стремление достичь цели, достойной самых
строгих требований духа, составляют святость. Именно их свя-
тость заставляет нас стесняться нашей собственной бездуховной
посредственности и превращает столько знаменитых наших рома-
нов в мишуру и надувательство. Заключения, к которым приходит
русский ум, такой проникновенный и сострадательный, пожалуй,
неизбежно поэтому проникнуты безысходной печалью. Более
точно было бы сказать, что русскому уму не свойственно
приходить к каким-либо заключениям. Это ощущение—что отве-
та нет, что, если честно разобраться, жизнь ставит вопрос за
вопросом, которые должны звучать и звучать и после того, как
рассказ окончен на безнадежной вопросительной ноте,—
наполняет нас глубоким и в конечном счете непокорным отчаяни-
ем. Возможно, они правы; несомненно, они видят дальше нас, они
лишены наших вопиющих дефектов видения. Но возможно, и мы
видим, что ускользает от них, а иначе почему примешивается к
нашей подавленности голос протеста? Голос протеста—это голос
другой и более древней культуры, которая, как кажется, скорее
воспитала в нас инстинкт радоваться и бороться, а не страдать
и сочувствовать. Английская литература от Стерна до Мередита
свидетельствует о нашем естественном наслаждении юмором и
комедией, красотой земли, деятельностью ума и великолепием
тела. Но любые умозаключения, которые можем мы вывести на
основании сравнения двух столь неизмеримо далеких литератур,
бесплодны, если не считать того, что они наполняют нас
пониманием бесконечных возможностей искусства, напоминают
нам, что горизонт беспределен и ничто, никакой метод, никакой
эксперимент, даже самый буйный, не должен быть запрещен.
Непозволительны лишь фальшь и претенциозность. «Подходящего
для литературы материала» не существует, всё подходящий
материал для литературы, любое чувство, любая мысль, любое
свойство мозга и духа должно использоваться, ни одно ощущение
не может быть некстати. И если бы мы могли вообразить
искусство ожившим и оказавшимся среди нас, оно, несомненно,
просило бы нас сокрушать и терзать его не меньше, чем почитать
и любить, потому что именно это возвращает ему молодость и
утверждает его владычество.
В. ВУЛЬФ
РУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Если уж мы часто сомневаемся, могут ли французы или амери-
канцы, у которых столько с нами общего, понимать английскую
литературу, мы должны еще больше сомневаться относительно
того, могут ли англичане, несмотря на весь свой энтузиазм,
понимать русскую литературу. Можно спорить до бесконечности
о том, что разумеется под словом «понимать». Каждый в силах
привести в пример писателей, особенно американских, которые
говорили с величайшей прозорливостью о нашей литературе и о
нас самих, писателей, которые прожили всю жизнь среди нас и
которые в конце концов выполнили и необходимые формальности,
чтобы стать подданными короля Георга. И однако—понимают ли
они нас, не остались ли они навсегда иностранцами? Поверит ли
кто-нибудь, что романы Генри Джеймса написаны человеком,
выросшим в том обществе, которое он описывает, или что его
критические высказывания об английских писателях принадлежат
человеку, прочитавшему Шекспира без ощущения, что Атланти-
ческий океан и две-три сотни лет на дальнем берегу этого океана
отделяют его культуру от нашей? Иностранец часто достигает
особой проницательности, беспристрастности и умения смотреть с
неожиданной точки зрения, но не того отсутствия стесненности,
не той легкости, сплоченности и чувства общих ценностей,
которые обеспечивают непринужденность, ясность и быстроту
взаимопонимания в дружеском общении.
Но не только это отделяет нас от русской литературы, есть и
гораздо более существенная преграда—языковые различия. Из
всех, кто упивался Толстым, Достоевским и Чеховым за послед-
ние двадцать лет, наверное, один или двое могли читать их
по-русски. Наше признание достоинств этих писателей опирается
на оценки критиков, которые не прочли ни единого слова
по-русски, никогда не видали России, даже не слыхали живой
русской речи и которым приходится слепо и безоговорочно
полагаться на работу переводчиков.
Все сказанное сводится к тому, что мы судим о целой
литературе, не представляя себе ее стиля. Когда каждое слово в
предложении переведено с русского на английский,. причем не-
сколько переиначивается смысл, а тон, сила и ритмическое
ударение в их взаимосвязанности меняются полностью—не остает-
ся ничего, кроме оголенной и огрубленной вариации смысла. При
таком обращении русские писатели похожи на людей, лишивших-
282
ся во время землетрясения или железнодорожной катастрофы не
только одежды, но и чего-то более утонченного и существенно-
го—привычной манеры поведения, индивидуальных причуд харак-
тера. Остается что-то весьма мощное и впечатляющее, как
подтверждают англичане своим фанатичным восхищением, но
неясно ввиду всех этих искажений, в какой степени можем мы
полагаться на самих себя, на то, что мы ничего не извратили,
ничего не приписали, не внесли ложных акцентов.
Они лишились одежды во время какой-то ужасной катастро-
фы, говорим мы, потому что подобная фигура речи позволяет
передать образ людей, напуганных до такой степени, что они даже
и не пытаются скрыть или замаскировать свое естество, который
вызывает в нашем воображении благодаря ли переводу, или более
глубинным причинам простота и гуманность русской литературы.
Мы обнаруживаем, что эти качества пронизывают ее насквозь;
они так же очевидны во второстепенных писателях, как и в
великих. «Учись быть близким людям. Я бы даже добавил—
сделай себя необходимым для них. Но пусть это сочувствие идет
не от ума, потому что это легко — от ума,— а от сердца, от любви
к ним». «Кто-то из русских»,—немедленно скажет каждый, где
бы ему ни встретилась эта цитата. Простота, отсутствие напря-
женности, представление, что в мире, исполненном несчастий,
главная обязанность человека—понять наших ближних, «и не
умом—потому что это легко—умом,— а сердцем»,—вот то обла-
ко, которое окутывает всю русскую литературу, которое соблаз-
няет нас отдохнуть от нашего иссушающего блеска раскаленных
дорог под его сенью; и конечно, последствия губительны. Мы
ведем себя принужденно и неестественно; отказавшись от прису-
щих нам достоинств, мы пишем с показной добротой и простотой,
что в высшей степени омерзительно. Мы не можем произнести
«брат» с простой убежденностью. У м-ра Голсуорси есть рассказ,
где один персонаж обращается так к другому (оба они беспредель-
но несчастны). И немедленно все становится напряженным и
неестественным. Английский эквивалент слова «брат» —
«дружище»—совершенно иное слово, в нем есть что-то насмешли-
вое, непередаваемый оттенок юмора. Пусть они встретились в
крайней нужде-г-мы уверены, что два англичанина, называющих
так друг друга, найдут работу, наживут состояние, проведут
последние годы жизни в роскоши и оставят приличную сумму
денег,.чтобы бедолагам на набережной не пришлось называть друг
друга «брат». Но именно общее страдание — а не общее счастье,
труды, желания—создает чувство братства. Именно «глубокая
печаль», которую д-р Хэгберг Райт считает типичной для русских,
и создает их литературу.
Конечно, подобное обобщение, если в нем и есть доля правды,
когда оно относится к литературе в целом, трансформируется, как
только мы обратимся к творчеству гениального писателя. Тут же
возникнут другие вопросы. Видно, что понятие гуманности и
простоты не просто; оно в высшей степени сложно. Люди,
лищившиеся одежды и манер, оглушенные железнодорожной
аварией, говорят вещи рурозые, резкие, неприятные, жесткие,
даже если они говорят их не сдерживаясь, с непринужденностью,
283
порожденной в них катастрофой. Однако ощущение не простоты,
а замешательства—вот наше первое впечатление от Чехова. О чем
это и почему он сделал из этого рассказ? — спрашиваем мы, читая
рассказ за рассказом. Человек влюбляется в замужнюю женщи-
ну, они расстаются и встречаются, и мы оставляем их за
разговором об их положении и о том, как освободиться от этих
«невыносимых пут».
«— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову... И
казалось, что еще немного—и решение будет найдено, и тогда
начнется новая, прекрасная жизнь». Это конец... Почтальон везет
студента на станцию, и всю дорогу студент пытается заставить
его разговориться, но почтальон молчит. Вдруг он неожиданно
произносит: «Посторонних не велено возить... Не дозволено!» И
он ходит взад и вперед по платформе с выражением злобы на
лице. «На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние
ночи?» И снова—рассказ кончается.
Но конец ли это, скажем мы? У нас, скорее, чувство, будто
мы проскочили сигнал остановки, или как если бы мелодия вдруг
резко оборвалась без ожидаемых нами заключительных аккордов.
Эти рассказы не завершены, скажем мы, и будем далее анализи-
ровать их, исходя из представления, что рассказ должен быть
завершен так, как мы привыкли. Но, ожидая обычной концовки,
мы поднимаем вопрос о нашей собственной пригодности в каче-
стве читателей. Там, где напев знаком, а конец акцентирован—
влюбленные соединились, негодяи посрамлены, интриги раскры-
ты,—как в большинстве викторианских романов, мы едва ли
ошибемся, но там, где напев непривычен и кончается на
вопросительной ноте или на сообщении, что герои продолжают
разговор, как у Чехова, нужно обладать очень смелым и обо-
стренным литературным чутьем, чтобы расслышать этот напев и
особенно те последние ноты, которые завершают мелодию.
Возможно, надо прочесть очень много рассказов, прежде чем мы
почувствуем—и это чувство необходимо для того, чтобы мы
испытали удовлетворение,—как части складываются в единое
целое и как Чехов не просто бессвязно перескакивает с предмета
на предмет, но задевает то ту, то иную струну, с определенным
намерением—полностью выразить то, что он хочет сказать.
Нужно долго ломать себе голову, чтобы обнаружить, в чем
главный смысл этих странных рассказов. Слова самого Чехова
ведут нас в правильном направлении: «У родителей наших был бы
немыслим такой разговор, как вот у нас теперь,— говорит он,—по
ночам они не разговаривали, а крепко спали; мы же, наше
поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем,
правы мы или нет». И социальная сатира, и психологическая
утонченность в нашей литературе берут свое начало в этом
беспокойном сне, в этом непрерывном говорении; и все же есть
огромная разница между Чеховым и Генри Джеймсом, Чеховым и
Бернардом Шоу. Это очевидно—но в чем она? Чехов тоже не
безразличен к порокам и несправедливостям социальной структу-
ры; условия жизни крестьянства ужасают его, но реформистское
рвение не для него — не им надлежит нам удовлетвориться.
Сознание глубоко интересует его, он самый тонкий и дотошный
284
исследователь человеческих взаимоотношений. Но снова—нет,
цель не в этом. Быть может, его больше всего интересуют не
взаимоотношения души с другими душами, но проблемы души и
здоровья, души и добра? Эти рассказы всегда раскрывают
какую-либо неестественность, позу, неискренность. Какая-то жен-
щина вступает в фальшивые отношения; какой-то мужчина иско-
веркан бесчеловечностью жизненных обстоятельств. Душа боль-
на; душа излечилась; душа не излечилась. Такова сущность его
рассказов.
Но как только глаз привыкает к полутонам, половина «концо-
вок» других художественных произведений рассеивается как дым;
они похожи на транспаранты с подсветкой — аляповатые, крича-
щие, поверхностные. Сведение концов с концами в последней
главе — свадьба, смерть, утверждение ценностей, о которых
столько трубят, которые так акцентируют,—становится самым при-
митивным приемом. Ничто не разрешилось, чувствуем мы, ничто
не сложилось должным образом. Однако метод, которому, как
кажется нам сначала, свойственны небрежность, незавершенность,
интерес к пустякам, теперь представляется результатом изощ-
ренно-самобытного и утонченного вкуса, смело отбирающего,
безошибочно организующего и контролируемого честностью,
равной которой мы не найдем ни у кого, кроме самих же русских.
На эти вопросы, возможно, нет ответа, но, однако, давайте никог-
да не будем подтасовывать доказательства, чтобы получить нечто
нам подходящее, благопристойное, льстящее нашему самолюбию.
Быть может, это плохой способ завоевать расположение публики,
в конце концов она привыкла к более громкой музыке и более
резким ритмам; но он записал мелодию так, как она звучала. В
результате, когда мы читаем эти рассказики ни о чем, горизонт
расширяется и душа обретает удивительное чувство свободы.
Читая Чехова, мы обнаруживаем, что повторяем слово «душа»
снова и снова. Им пестрят его страницы. Старые пьянчуги
свободно употребляют его: «...ты высоко поднялся по службе,
туда и не доберешься, но у тебя нет души, дорогой мой ... а без
этого нет и силы». Действительно, именно душа—одно из главных
действующих лиц русской литературы. Тонкая и нежная, подвер-
женная уйме причуд и недомоганий у Чехова, она гораздо
большей глубины и размаха у Достоевского; склонная к жесто-
чайшим болезням и сильнейшим лихорадкам, она остается основ-
ным предметом внимания. Быть может, именно поэтому от
англичанина и требуется такое большое усилие, чтобы перечесть
«Братьев Карамазовых» или «Идиота». Душа чужда ему. Даже
антипатична. В ней мало чувства юмора и совсем нет комизма.
Она бесформенна. Она очень слабо связана с интеллектом. Она
смутна, расплывчата, возбуждена, не способна, как кажется,
подчиниться контролю логики или дисциплине поэзии. Романы
Достоевского — бурлящие водовороты, самумы, водяные смерчи,
свистящие, кипящие, засасывающие нас. Душа—вот то вещество,
из которого они целиком и полностью состоят. Против нашей
воли мы втянуты, заверчены, задушены, ослеплены—и в то же
время исполнены головокружительного восторга. Если не счи-
тать Шекспира, нет другого более волнующего чтения Мы
285
открываем дверь и попадаем в комнату, полную русских генера-
лов, их домашних учителей, их падчериц и кузин и массы
разношерстных людей, говорящих в полный голос о своих самых
задушевных делах. Но где мы? Разумеется, это обязанность
романиста сообщить нам, находимся ли мы в гостинице, на
квартире или в меблированных комнатах. Никто и не думает
объяснять. Мы—души, истязаемые, несчастные души, которые
заняты лишь тем, чтобы говорить, раскрываться, исповедоваться,
обнажать, пусть вырывая их с мясом и нервами, те душераздира-
ющие грехи, которые кишат в глубине нас. Но по мере того как
мы слушаем, наше замешательство понемногу рассеивается. Нам
протянули канат, мы ухватились за монолог; брошенные в воду,
мы едва держимся на поверхности; лихорадочно, неистово устрем-
ляемся мы все дальше и дальше, то погружаясь с головой, то в
момент озарения понимая более, чем когда-либо раньше, и делая
такие открытия, какие обычно возможны лишь в гуще жизни во
всей ее полноте. В то время, как мы спешим, мы все подмечаем —
имена людей, их взаимоотношения, то, что они остановились в
гостинице Рулетенбурга, что Полина вовлечена в интригу с
маркизом де Грие,— но как все это несущественно по сравнению с
душой! Важна только душа, ее страсть, ее смятение, ее удивитель-
ное сплетение красоты и порока. И если мы вдруг взвизгиваем от
смеха, если нас сотрясают самые отчаянные рыдания—что может
быть естественнее?—тут нечего объяснять. Скорость, с какой мы
живем, так велика, что искры летят из-под колес. Более того,
когда развита такая скорость и видны составные части души—не
по отдельности, в юмористических и патетических сценах, как
видятся они нашему медлительному английскому уму, но мелька-
ющие, запутанные в сложных взаимопереплетениях,—
открывается новая панорама человеческого сознания. Старые
границы размываются. Люди в одно и то же время и негодяи и
святые; их действия одновременно прекрасны и достойны презре-
ния. Мы любим и ненавидим в одно и то же время. Нет четкого
разделения добра и зла, к которому мы привыкли. Часто те, к
кому мы испытываем наибольшую симпатию, величайшие пре-
ступники, и самые жалкие грешники вызывают в нас сильнейшее
восхищение и любовь.
Брошенному в пучину волн, избитому и помятому о прибреж-
ные камни английскому читателю нелегко почувствовать себя
непринужденно. Он привык к обратному процессу в своей соб-
ственной литературе. Если бы мы захотели рассказать о любви
генерала (а для нас прежде всего было бы очень трудно не
посмеяться над генералом), мы бы начали с его дома, мы бы
живописали его окружение. И лишь покончив со всем этим,
попытались бы взяться за самого генерала. Более того, в Англии
царит не самовар, а чайник; время ограничено; пространство
заполнено людьми; ощущается влияние других точек зрения,
других книг, даже других эпох. Общество разделено на низшие,
средние и высшие классы, каждый со своими традициями, своими
манерами и в какой-то степени со своим языком. Существует
постоянное давление, заставляющее английского романиста неза-
висимо от его желания замечать эти барьеры, и—как следствие —
286
ему навязывается порядок и определенная форма; он более
склонен к сатире, чем к состраданию, к исследованию общества,
чем к пониманию индивидуумов как таковых.
Подобные ограничения не связывали Достоевского. Ему все
равно—из благородных вы или простых, бродяга или великосвет-
ская дама. Кто бц вы ни были, вы сосуд этой непонятной
жидкости, этого мутного, пенистого, драгоценного вещества—
души. Для души нет преград. Она перехлестывает через край,
разливается, смешивается с другими душами. Незамысловатая
история банковского служащего, которому нечем заплатить за
бутылку вина, перерастает, прежде чем мы поняли, как это
случилось, в историю жизни его тестя и пятерых содержанок
этого тестя, с которыми тот гнусно обращается, и жизни
почтальона, и поденщицы, и княгини, которая квартирует в тех же
домах, потому что ничто не остается за пределами мира Достоев-
ского; и когда он устает, то не останавливается—он идет вперед.
Он не может сдерживать себя. И обрушивается на нас—
раскаленная, жгучая, противоречивая, великолепная, ужасная,
гнетущая—-человеческая душа.
Остается величайший из романистов—потому что как еще
можем мы назвать автора «Войны и мира»? Покажется ли нам и
Толстой чуждым, трудным, иностранцем? Есть ли какая-либо
странность в его видении мира, такая, которая, во всяком случае
до тех пор, пока мы не признаем себя его учениками и не
потеряем собственного лица, держит нас поодаль в сомнении и
замешательстве? С первых же слов мы можем быть твердо
уверены в одном—перед нами человек, котррый видит то, что мы
видим, который движется так же, как привыкли двигаться
мы—не от внутреннего к внешнему, а от внешнего к внутренне-
му. Перед нами мир, где стук почтальона слышен в восемь утра,
где люди ложатся спать между десятью и одиннадцатью. И
человек здесь—не дикарь и не дитя природы, он образован, он
испытал все виды жизненного опыта. Он один из тех прирожден-
ных аристократов, кто полностью использует свои привилегии. Он
столичный житель, не провинциал. Его чувства, его интеллект—
острые, мощные, полнокровные. Есть что-то гордое и величе-
ственное в натиске на жизнь такого духа и тела. Кажется, ничто
не ускользает от него. Ничто не промелькнет незамеченным. И
поэтому никто не может так передать возбуждение охоты,
красоту лошадей и всю яростную желанность мира для чувств
здорового молодого человека. Каждая веточка, каждое перышко
прилипает к своему магниту. Он замечает красненькое или
голубенькое детское платьице и то, как лошадь помахивает
хвостом, слышит звук кашля и видит движение человека, пыта-
ющегося засунуть руки в зашитые карманы. И то, что его
безошибочный глаз наблюдает в манере кашлять или в движениях
рук, его безошибочный ум соотносит с чем-то потаенным в
характере, так что мы знаем его людей не только по тому, как
они любят, какие у них взгляды на политику и бессмертие души,
но и по тому, как они чихают и давятся от кашля. Даже при
переводе мы чувствуем, что нас усадили на вершину горы и дали в
руки подзорную трубу. Все удивительно и совершенно четко. Но
287
внезапно, как раз в момент ликования, когда мы, глубоко дыша,
чувствуем себя одновременно напряженными и свободными, ка-
кая-нибудь деталь—голова человека, быть может,—тревожно
надвигается на нас из картины, как бы выхваченная самой
интенсивностью своей жизни. «Вдруг что-то странное случилось
со мной; сначала я перестала видеть окружающее, потом лицо его
исчезло передо мной, только одни его глаза блестели, казалось,
против самых моих глаз; потом мне показалось, что глаза эти во
мне, все помутилось, я ничего не видела и должна была
зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и страха,
которые производил во мне этот взгляд». Снова и снова разделяем
мы чувства Маши из «Семейного счастия». Закрываешь глаза,
чтобы избежать чувства наслаждения и страха. Часто наслажде-
ние сильнее. В этой истории есть два описания: девушки,
гуляющей в саду со своим возлюбленным, и четы молодоженов,
танцующей в гостиной,—в которых заключено ощущение счастья
такой силы, что мы откладываем книгу, чтобы лучше им
проникнуться. Но всегда ощущение страха заставляет нас, подоб-
но Маше, стремиться избежать того взгляда, который направил на
нас Толстой. Чувство ли это, какое тревожит нас и в реальной
жизни, подсказывающее, что такое счастье, как он описывает,
слишком сильно, чтобы длиться, что мы на пороге катастрофы?
Или же сама полнота нашего наслаждения в чем-то сомнительна и
заставляет нас спросить вместе с Позднышевым из «Крейцеровой
сонаты»: «Но зачем жить?» Жизнь—главное для Толстого, как
душа—для Достоевского. И всегда в чашечке сверкающего,
блестящего цветка этот скорпион—«зачем жить?». Всегда в
центре книги какой-нибудь Оленин, или Пьер, или Левин, вбира-
ющий в себя весь человеческий опыт, .все щупающий и пробу-
ющий в этом мире и никогда не перестающий спрашивать, даже
если он наслаждается этим: каков смысл этого, каковы должны
быть наши цели? Перед нами не проповедник, который успешно
изобличает наши желания, перед нами человек, который познал
их, который сам предавался им. И когда он осмеивает их, мир
действительно рассыпается в прах у нас под ногами. Таким
образом, страх смешивается с удовольствием, и из трех великих
русских писателей Толстой более всего нас захватывает и более
всего отталкивает.
Но наш ум отражает пристрастия своего отечества, и нет
сомнения: когда ему попадается такая далекая литература, как
русская, наши суждения могут сильно отклоняться от истины.
В. ВУЛЬФ
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ»
«Тристрам Шенди», хотя и первый роман Стерна, был написан ко
времени, когда многие закончили уже свой двадцатый, то есть
когда автору было сорок пять лет. Однако этой вещи присущи все
признаки зрелости. Ни один молодой писатель не отважился бы на
такие вольности с грамматикой и синтаксисом, и смыслом, и
благопристойностью, и давно утвердившейся традицией писания
романов. Нужен был большой запас уверенности в себе, присущей
зрелому возрасту, и его равнодушие к осуждению, чтобы рис-
кнуть так шокировать начитанных нетрадиционностью стиля, а
почтенных—свободой нравов. Но рискованный шаг был сделан, и
успех был неслыханный. Все великие, все придирчивые были
очарованы. Стерн стал кумиром Лондона. Правда, в грохоте
хохота и аплодисментов, приветствовавших книгу, можно было
расслышать протестующий голос неискушенной широкой публи-
ки, утверждавшей, что подобное поведение священника оскорбля-
ет церковь и что архиепископ Йоркский должен вынести по
меньшей мере порицание. Архиепископ, кажется, так ничего и не
предпринял, но Стерн, хотя внешне этого почти не обнаружил,
принял критику близко к сердцу. А сердце это получило и другой
удар после публикации «Тристрама Шенди». Элиза Дрейпер,
предмет его страсти, уехала к мужу в Бомбей. В своей следующей
книге Стерн намеревался отразить происшедшую в нем перемену
и доказать, что ему присущи не только блеск остроумия, но и
глубина чувства. По его собственным словам: «Мое намерение
было научить нас любить мир и наших ближних больше, чем мы
это обычно делаем». Воодушевляемый этими намерениями, и
начал он повествование о небольшой поездке во Францию,
которое назвал «Сентиментальным путешествием».
Но если Стерн мог изменить к лучшему свои манеры,
облагообразить стиль ему было невозможно. Этот стиль стал
такой же неотъемлемой частью его существа, как большой нос
или блестящие глаза. С первых же слов: «Во Франции,—сказал
я,—это устроено лучше»—мы оказываемся в мире «Тристрама
Шенди». Это мир, где может случиться все, что угодно. Невоз-
можно вообразить такую шутку, насмешку или всплеск поэзии,
*гго не блеснули бы вдруг сквозь прореху, которую это удивитель-
но острое перо сделало в частой изгороди английской прозы. И
можно ли винить за это Стерна? Знает ли он сам, что скажет в
следующий момент, несмотря на всю решимость вести себя
10.2389
289
примерно? Отрывочные, не связанные между собой предложения
так же быстры и, как кажется, столь же бесконтрольны, как
фразы, слетающие с губ блестящего рассказчика. Сама пункту-
ация соответствует речи, не письму, и ассоциируется со звучани-
ем голоса. Ход мыслей, их внезапность и непоследовательность
скорее ближе к жизни, чем к литературе. В подобном общении с
читателем есть интимность, позволяющая безнаказанно обронить
то, что, сказанное на людях, было бы воспринято как двусмыс-
ленность. Под влиянием этого необычайного стиля книга как бы
приобретает прозрачность. Исчезают обычные церемонии и ус-
ловности, которые держат читателя и писателя на расстоянии.
Мы приближаемся к жизни, насколько это возможно.
Что Стерн достигает этой иллюзии только благодаря исключи-
тельному мастерству и колоссальному труду, очевидно и без
обращения к рукописям. Так как, хотя писатели всегда одержимы
верой, что можно отбросить все церемонии и условности письмен-
ного текста и говорить с читателем непосредственно, как с
собеседником, любой, кто брался за этот эксперимент, или просто
немел от трудностей, или увязал в неописуемом хаосе и многосло-
вии. Стерну так или иначе удалось справиться с этой трудностью.
Ничьи произведения, кажется, не проникают настолько в самые
извивы и закоулки индивидуального сознания, не выражают его
сменяющиеся настроения, не отзываются на его малейшие капри-
зы и побуждения—однако результат получается точен и строен.
Предельная текучесть сосуществует с предельным постоянством.
Как если бы прилив сновал по отмели, оставляя каждую
выпуклость и вмятину на песке словно высеченными в мраморе.
Никто, конечно, не нуждается так, как Стерн, в свободе
самовыражения. Потому что в отличие от писателей, чей дар
надличен, в силу чего Толстой, например, может создать характер
и оставить нас с ним наедине, Стерн должен всегда присутствовать
лично и помогать нам в общении. Мало или почти ничего не
осталось бы от «Сентиментального путешествия», если изъять
оттуда все, что мы называем самим Стерном. Здесь нет ни
полезных сведений, ни последовательной философии. Он оставля-
ет Лондон, как сообщает он нам, «с такой поспешностью, что ему
и в голову не пришло, что мы воюем с Францией». Ему нечего
сказать о картинах или церквах, о бедности или о процветании
деревни. Да, он путешествовал по Франции, но дорога часто
проходила через его собственное сознание, и его главные приклю-
чения связаны не с разбойниками и опасностями, а с движениями
его собственного сердца.
Такое изменение видения было само по себе смелым нововве-
дением. До того путешественник соблюдал определенные законы
пропорций и перспективы. Кафедральный собор в любой книге
путевых очерков высился громадой, а человек—соответственно—
казался рядом с ним маленькой фигуркой. Но Стерн был способен
вообще забыть про собор. Девушка с зеленым атласным кошель-
ком могла оказаться намного важнее Нотр-Дам. Потому что не
существует, как бы намекает он, универсальной шкалы ценностей.
Девушка может быть интереснее, чем собор; дохлый осел
поучительнее, чем живой философ. Все это лишь вопрос точки
290
зреция. Глаза Стерна были так устроены, что маленькие вещи
часто виделись ему крупнее больших. Беседа с цирюльником о
буклях парика говорила ему больше о национальном характере
французов, чем высокопарные речи их государственных деятелей.
«Думаю, что я скорее увижу важные отличительные черточки
национального характера в этих нелепых minutiae1, чем в наиваж-
нейших государственных делах, когда все великие люди говорят и
поступают настолько похоже друг на друга, что я не поставлю и
девяти пенсов, что сумею их различить».
Потому что, если хочешь схватить сущность вещей, как и
полагается сентиментальному путешественнику, нужно искать ее
не на больших проспектах средь бела дня, а в неприметном уголке
в темном проходе. Нужно обучиться своего рода стенографии,
которая облекает взгляды и движения в простые слова. К этому
искусству Стерн давно приучил себя:
«Со своей стороны вследствие долгой привычки я делаю это
настолько механически, что, гуляя по улицам Лондона, все время
продолжаю заниматься этим переводом: не раз стоял я около
кружка, где не было произнесено и трех слов, и выносил оттуда
десятка два различных диалогов, которые я вполне мог бы
записать и присягнуть в их верности».
Именно таким образом Стерн и переключает наш интерес с
внешнего на внутреннее. Бесполезно обращаться к путеводителю;
мы должны просить совета у собственного разума; только он
ответит нам, что важнее — кафедральный собор, осел или девушка
с зеленым атласным кошельком. В этом предпочтении извивов
собственного сознания путеводителю с его изъезженными боль-
шими дорогами Стерн удивительно близок нашему веку. В этом
внимании к молчанию, а не речи, Стерн—предшественник совре-
менных писателей. Потому-то он и гораздо ближе нам сегодня,
чем его великие современники ричардсоны и фильдинги.
Но есть и различие. Несмотря на весь свой интерес к
психологии, он гораздо более подвижен и менее углублен, чем
стали впоследствии мастера этой в какой-то мере «сидячей»
школы. Он в конце концов все же рассказывает историю,
продолжая путешествие, какими бы произвольными и непредска-
зуемыми ни были его приемы. Несмотря на все его отклонения,
мы все же преодолеваем расстояние между Кале и Меданом на
пространстве всего в несколько страниц. Как бы его ни интересо-
вал способ, каким он видит вещи, вещи как таковые тоже остро
интересовали его. Его отбор прихотлив и субъективен, но ни один
реалист не превзойдет его в передаче ощущения момента. «Сенти-
ментальное путешествие»—это вереница портретов, вереница
сцен—монах, дама, шевалье, торгующий pates2, девушка в книж-
ной лавке, Ла Флер в своих новых штанах. И хотя полет этого
рассеянного ума зигзагообразен, как у стрекозы, нельзя отрицать,
что стрекоза эта имеет свою систему и выбирает цветы не
наобум, а за их изысканную гармонию либо великолепную
дисгармонию. Мы попеременно смеемся и плачем, иронизируем и
1 Мелкие подробности (лат,).
2 Пирожками (франц.).
10*
291
сочувствуем. В мгновение ока переходим мы от одного чувства к
его противоположности. Эта слабая связь с общепринятой реаль-
ностью, это пренебрежение упорядоченной последовательностью
повествования делают Стерна почти поэтом. Он может выразить
мысли, которые обычный романист оставил бы без внимания, на
языке, который, даже если бы обычный романист мог овладеть
им, выглядел бы нестерпимо чужеродным на его страницах.
«В запыленном черном кафтане мрачно подошел я к окну и
увидел весь свет в желтом, голубом и зеленом, несущийся на
кольцо удовольствий. Старики со сломанными копьями, в шлемах,
потерявших забрала, молодые в блестящих доспехах, отливающих
золотом, разукрашенных всеми яркими перьями Востока,—все-
все неслись туда за славой и любовью, подобно зачарованным
рыцарям на турнирах давно прошедших времен».
У Стерна много подобных пассажей, полных чистейшей
поэзии. Их можно вырвать из текста и читать отдельно, и
однако—так как Стерн был мастером искусства контрастов,— они
гармонично соседствуют друг с другом на странице. Его свежесть,
его веселость, никогда не изменяющая ему способность удивлять
и поражать,—все это следствие любви к контрастам. Он подводит
нас к самому краю бездны души, мы успеваем мельком заглянуть
в ее глубину, а в следующий момент нас уже умчали в другую ее
сторону полюбоваться зелеными пастбищами.
Если Стерн и огорчает нас, то по другой причине. И здесь
вина, хотя бы частично, лежит на публике—той самой публике,
которая была шокирована, которая вопила после публикации
«Тристрама Шенди», что писатель—циник и заслуживает лишения
сана. К несчастью, Стерн счел нужным ответить.
«Из-за того что я написал «Тристрама Шенди» (говорил он
лорду Шелберну), мир вообразил, что я гораздо больший шенди-
анец, чем я когда-либо был в действительности... Если его
(«Сентиментальное путешествие») не сочтут целомудренной кни-
гой, да будет с теми, кто прочел его, милость господня—ведь
воображение у них и вправду пылкое!»
Поэтому в «Сентиментальном путешествии» Стерн постоянно
напоминает, что он прежде всего чувствителен, сострадателен,
гуманен, что выше всего он ценит благопристойность и сердечную
простоту. Но как только писатель хочет доказать, что он именно
такой или эдакий, у нас возникают сомнения. Потому что, делая
излишний акцент нд. качествах, которые нам следует в нем
замечать, он огрубляет и пересаливает, так что вместо юмора мы
получаем фарс, а вместо чувства—чувстаительность. Здесь,
вместо того чтобы быть убежденным в нежности стерновского
сердца, которая при чтении «Тристрама Шенди» никогда не
ставится под сомнение, мы начинаем в Яей сомневаться, так как
ощущаем, что Стерн не столько озабочен вещью как таковой,
сколько ее воздействием на наше мнение о нем. Вот вокруг него
собрались нищие, и он дает patfvre honteux1 больше, чем намере-
вался сначала. Но сознание его не сосредоточено целиком и
полностью на нищих, оно частично обращено и к нам, ему
Бедному оборванцу (франц.).
292
хочется знать, оценили ли мы его доброту. И поэтому заключи-
тельные слова: «и мне показалось, что он благодарен мне больше,
чем все остальные»,— помещенные, чтобы сильнее выделить их, в
конце главы, раздражают своей приторностью, как нерастворив-
шийся сахар на дне чашки. В самом деле, главный недостаток
«Сентиментального путешествия» связан со стремлением Стерна
убедить нас в доброте его сердца. Это, несмотря на все великоле-
пие, создает ощущение однообразия, как если бы автор обуздал
присущую ему разносторонность и живость вкусов, чтобы никого
не обидеть. Все настроения подчинены одному, слишком однооб-
разно доброму, нежному и сострадательному, чтобы быть совер-
шенно естественным. Не хватает разнообразия, мощи, грубости
«Тристрама Шенди». Стерновская забота о чувствительности идет
в ущерб присущему ему остроумию; нас приглашают взирать,
пожалуй, уж слишком долго на скромность, простоту и доброде-
тель, застывшие уж слишком картинно, чтобы на них любова-
лись.
Существенно, однако, для происшедшей в наше время смены
вкусов, что нас задевает именно стерновская сентиментальность, а
не его безнравственность. В глазах XIX века все написанное
Стерном было омрачено его поведением как мужа и влюбленного.
Теккерей бичевал его своим добродетельным негодованием, вос-
клицая, что «в сочинениях Стерна нет ни единой страницы, в
которой не было бы чего-нибудь, что следовало бы изъять,—
скрытой развращенности, намека на непристойность». Для нас
теперь высокомерие викторианского романиста представляется не
менее непростительным, чем измены священника из XVIII столе-
тия. Где викторианцы осуждали ложь и легкомыслие, теперь
гораздо очевиднее смелость и блеск самовыражения, превраща-
ющего все жизненные невзгоды в шутку.
В действительности же «Сентиментальное путешествие», нес-
мотря на все свое легкомыслие и остроумие, основывается на
чем-то фундаментально философическом. Конечно, такая филосо-
фия— философия удовольствия — была совсем не в моде в викто-
рианскую эпоху; философия, по которой необходимо так же
хорошо вести себя в малом, как и в большом, по которой
удовольствия, даже других людей, более желательны, чем страда-
ния. Бесстыдник имел дерзость утверждать, что он «всегда был
влюблен в какую-нибудь красотку», и добавлять: «Надеюсь, так
будет продолжаться до самой смерти, ибо я глубоко убежден, что,
если когда-нибудь совершу низкий поступок, это будет в проме-
жутке между двумя влюбленностями». Несчастный имел смелость
заявлять устами одного из своих героев: ,,Mais vive la joie... Vive
1'amour et vive la bagatelle!"1 Хоть он и был священником, у него
достало вольномыслия заметить, когда он смотрел на танцующих
французских крестьян, что в них видна возвышенность духа,
отличная от той, которая проистекает из грубого веселья. «Одним
словом, я полагал, что узрел Религию, слившуюся с танцем».
Постичь связь между религией и удовольствием было смело-
1 Да здравствует радость... Да здравствует любовь и да здравствует пустячок!
{франц.).
293
стью со стороны священника. Однако, возможно, его извиняет то,
что ему самому было очень нелегко обрести религию счастья.
Если вы уже немолоды и в долгах, если жена ваша—женщина
неприятная, если, колеся по Франции в почтовой карете, вы то и
дело умираете от кровохарканья, тогда гнаться за счастьем нелег-
ко. И все-таки гнаться нужно. Нужно порхать по свету, подгляды-
вая и высматривая, тут наслаждаясь флиртом, там подавая
милостыню, не упуская ни одного, даже самого маленького луча
солнечного света. Нужно шутить шутки, даже если шутка и не
совсем пристойна. Даже в обыденной жизни нужно почаще
восклицать: «Приветствую вас, маленькие сладостные любезно-
сти, так как вы умягчаете дорогу жизни!» Нужно—но хватит
говорить о том, что нужно; Стерн не очень-то любил употреблять
это слово. Только когда откладываешь книгу в сторону и
вспоминаешь ее соразмерность, занятность, чистосердечную
жизнерадостность, проявляющуюся в самых разных сторонах
жизни, и блистательную легкость и красоту, с которыми они
переданы, только тогда понимаешь, какая твердая вера поддержи-
вала писателя. Не был ли этот, согласно Теккерею, трусливый
человек, который заигрывал со многими женщинами столь без-
нравственно и легкомысленно и писал любовные письма на бумаге
с золотым обрезом, когда ему, больному, следовало лежать в
постели или писать проповеди,—не был ли он на свой собствен-
ный лад стоиком, моралистом и наставником? Большинство
великих писателей в конечном счете таковы. А что Стерн был
великим писателем, сомневаться не приходится.
Т. С. ЭЛИОТ
ДАНТЕ
I
Ад
Я знаю по опыту, что мне легче оценить стихи, если я мало знал о
поэте. Цитата, наблюдение, пылкая статья могут оказаться той
случайностью, которая побудит читать именно его; но тщательное
изучение жизни и эпохи всегда мешало мне. Я не защищаю
невежества; правило это не применишь к чтению греков или
римлян. И все же, когда поэт пишет на твоем языке или на
чужом, но существующем и ныне, его можно читать без подготов-
ки» Во всяком случае, лучше обратиться к ученым трудам, потому
что тебе нравятся стихи, чем вообразить, что стихи тебе
нравятся, тогда как ты просто начитался ученых трудов. Я
страстно любил некоторых французских поэтов, когда еще не мог
пристойно перевести хотя бы две их строчки. Когда же я стал
читать Данте, удовольствие и понимание разошлись еще дальше
друг от друга.
Я не советую вам учить итальянский язык лишь после того,
как вы прочитаете Данте; но многого просто не нужно знать, пока
вы не прочитали из него хоть немного со всем удовольствием,
какое может дать поэзия. Говоря это, я избегаю двух крайностей,
подстерегающих критика. Можно сказать, что Данте порадуется
тот, кто проникнет в его мировоззрение, замысел, скрытый
смысл; можно сказать, что все это неважно, стихи его — стихи, и,
чтобы полюбить их, совсем не нужно рассматривать каркас,
который помог поэту, когда он творил, но не поможет читателю.
Вторую ошибку делают чаще, и потому, наверное, многие знают
из всей поэмы только «Ад» или отрывки из него. Вкус к
«Божественной комедии» зреет постепенно. Если при первом
чтении вы ничего в ней не нашли, вы и не найдете; если же
какие-то стихи поразили вас, вам захочется понять ее лучше, и
ничто не остановит вас, кроме лени.
Стихи Данте удивительны тем, что в определенном смысле их
очень легко читать. Это доказывает, что истинная поэзия говорит
с нами прежде, чем мы ее поймем (я не утверждаю обратного:
если стихи надо прежде понять, это не значит, что они плохи).
Когда узнаешь больше, можно проверить это впечатление; но,
читая Данте и других поэтов на языках, которые я не очень
хорошо знаю, я убедился, что оно не выдумка. Дело не в том, что
я не понял того или иного места, или придумал что-нибудь, или
вспомнил свое. Впечатление бывало свежим и, мне кажется,
объективным, как истинное «поэтическое чувство». Когда чита-
ешь Данте в первый раз, и ощущение это, и мои слова получают
295
немало убедительных подтверждений. Я не хочу сказать, что язык
его прост.— он достаточно сложен; непросто и содержание, и то,
как оно выражено. Нередко, выражая мысль, он с такой силой ее
сжимает, что нужен целый абзац, чтобы ясно передать три
строчки, и целая страница, чтобы их прокомментировать. Я имею
в виду иное: можно сказать (хотя слово это мало что значит само
по себе), что Данте:—самый всеобщий из стихотворцев, писавших
на новых языках. Не «величайший», не «самый понятный» —
Шекспир и разнообразнее, и лучше видит детали; всеобщность
Данте связана не только с ним самим. Итальянский язык
Дантовых времен обретал особые преимущества из-за близости
своей к языку всеобщему, латыни. В языках, которыми приходи-
лось пользоваться Шекспиру и Расину, много больше «местного».
Это ничуть не значит, что хуже писать стихи по-английски или
по-французски. Но народный язык Италии в конце средних веков,
когда им пользовались поэты, был еще очень близок к латыни,
ибо все они, как и Данте, привыкли размышлять О философии,
вообще об отвлеченных предметах на средневековом латинском
языке. Средневековая же латынь—язык тончайший; на ней
писали прекрасную прозу и прекрасные стихи, и она была чем-то
вроде высокоразвитого литературного эсперанто. Когда мы чита-
ем новых философов по-английски, по-французски, по-немецки
или по-итальянски, нас поражают национальные различия мысли.
Современные языки все больше обособляют отвлеченное мышле-
ние (единственный наш общий язык—математика); средневековая
латынь стремилась подчеркнуть и выразить то, о чем могут
думать люди самых разных наций. Мне кажется, в флорентийской
речи Данте немало этой всеобщности, и само уточнение («флорен-
тийская» речь) только подчеркивает ее, ибо снимает современное
деление на разные народы. Чтобы любить французские или
немецкие стихи, надо, наверное, иметь хоть какую-то склонность
к французскому или немецкому складу ума. Данте—итальянец и
патриот, но прежде всего он европеец.
Отличие это—одна из причин Дантовой «легкости», и мы
можем поговорить подробней о том, в чем она выражается. Стиль
Данте особенно светел. Мысль его бывает темна, слово—светло
или хотя бы прозрачно. У английских поэтов слова темноваты, и в
этом—часть их прелести. Я не хочу сказать, что английские
стихи хороши лишь «словесными красотами». Дело в другом:
каждое слово влечет за собой ассоциации, а слова самих ассоци-
аций уводят нас еще дальше. Громоздкость эта—наша, «местная»,
она порождена особой цивилизацией, то же самое есть и в других
современных языках. Итальянский язык у Данте, в сущности, тот
же, что теперь; но его не назовешь современным. Культура Данте
была не культурой одной страны, а культурой всей Европы.
Конечно, я понимаю, что прямота речи есть и у других поэтов,
гворивших до Реформации и Ренессанса, особенно у Чосера и
Вийона. Конечно, у Данте немало с ними общего. Они похожи,
так похожи, что невозможно любить одного из них, если не
любишь других; а с началом Возрождения поэты стали писать
темнее и тяжелее. Но у Данте, при всем его сходстве с ними,
гораздо больше и ясности, и всеобщности.
296
Иностранцу, плохо знающему итальянский, легко читать Данте
и по другим причинам, но все они связаны с главным: Европа тех
времен, при всей ее раздробленности и смуте, была в духовном
смысле гораздо более цельной, чем нам кажется. Народы разде-
лил не Версальский договор, национализм родился задолго до
него; а разобщение, завершившееся при нас этим договором,
началось вскоре после Данте. Одна из причин Дантовой «лёгко-
сти»—в том, что... но сперва я поговорю о другом.
Я объясню, почему я сказал, что Данте «легко читать», а не
стал пространно рассуждать об его «всеобщности». Слово это
куда как проще, но я не хочу, чтобы вы подумали, будто Данте
обладал всеобщностью, которой нет у Шекспира, Мольера или
Софокла. У Данте не больше «всеобщего», чем у Шекспира;
однако мне кажется, что мы лучше понимаем Данте, чем
понимают иностранцы тех, кого я назвал. Шекспир, даже Софокл,
даже Расин и Мольер пишут о таких же общечеловеческих вещах,
но им приходится использовать более «местные» средства. Как я
уже говорил, итальянский у Данте очень близок по ощущению к
средневековой латыни, а средневековые философы, которых
читал и он, и все образованные люди его времени родились в
разных странах. Св. Фома Аквинский был итальянцем, предше-
ственник его Альберт был немцем, Абеляр — французом, Гугон и
Ричард из Сен-Виктора—шотландцами. Чтобы понять, каким
орудием пользовался Данте, сравните начало «Ада»:
Nel mezso del camnrin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
che la diritta via era smarrita
(Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном
лесу, утратив правый путь во тьме долины1) со стихами, сопро-
вождающими приход Дункана в замок Макбета:
Дункан
Стоит в приятном месте этот замок.
Здесь даже воздух нежит наши чувства—
Так легок он и ласков.
Ванко
Летний гость,
Стриж, обитатель замковых карнизов,
Ручается присутствием своим,
Что небеса здесь миром дышат. В зданье
Нет уголка иль выступа стены,
Где б он ни свил висячего жилища;
И я заметил: стриж гнездиться любит
Лишь там, где воздух чист.
Перевод Ю. Корнеева
Я не берусь утверждать, что даже в одной строке Данте мы все
понимаем и ценим так же, как понимает и ценит образованный
итальянец. Но я скажу, что при переводе Шекспира на итальян-
Цитаты из «Божественной комедии» даны в переводе М. Лозинского.
297
ский теряется больше, чем при переводе Данте на английский.
Как найдет чужеземец слова, чтобы выразить по-своему то
сочетание близости и отдаленности, которыми отмечены многие
фразы Шекспира?
Я не сужу о том, чей язык лучше, для меня вопрос этот лишен
смысла; я просто говорю, что иностранцу легче понять Данте.
Причина не в том, что Данте выше как поэт, а в том, что он
писал, когда Европа еще была более или менее единой. Даже если
бы Чосер или Вийон жили в те же самые годы, они—и по языку,
и по самому месту — были дальше от центра Европы.
Однако Данте прост и по другой, довольно сложной, причине.
Он не только думал, как думал тогда всякий образованный
европеец, но и метод применял, понятный всем. В этой статье я не
стану обсуждать, правильно или пет толкуются его аллегории.
Мне важно лишь одно: аллегория употреблялась тогда повсеме-
стно и потому, как это ни странно, способствовала понятности и
простоте. Для нас она чаще всего сложна и утомительна, словно
головоломка. Мы связываем ее со скучными поэмами (в лучшем
случае — с «Романом о розе»), а в поэмах прекрасных ее не
замечаем. Однако не замечаем мы именно того, из-за чего у таких
поэтов, как Данте, слог особенно светел.
Тому, кто читает впервые первую песнь «Ада», совсем не
нужно гадать, что означают лев, леопард и волчица. Для начала
лучше об этом не знать и не думать. Подумаем не о том, что
скрыто за данным образом, а о другом, противоположном: почему
вообще идея эта выражена аллегорией. Представим себе мышле-
ние, которое и хочет, и нривыкло выражать себя в аллегории, а
для искусного стихотворца аллегория — это ясный зрительный
образ. Ясные же зрительные образы много насыщенней; когда
они что-то значат—не обязательно понимать, что именно, но,
видя образ, мы должны помнить, что значение в нем есть.
Аллегория—лишь один из поэтических приемов, но прием этот
приносит поэту много выгод.
Данте наделен зрительным воображением, но не таким, каким
наделен современный художник, пишущий натюрморт. В те
времена люди еще имели видения. Это было для них навыком
души. Мы утратили его, но он ничуть не хуже тех, которые нам
остались. Мы видим только сны и уже не помним, что видения
(теперь они являются лишь больным и неграмотным) были и
глубже, и ярче, и целомудренней снов. Мы и не сомневаемся, что
сны наши приходят снизу: быть может, это отражается на снах.
Сейчас я прошу читателя об одном: чтобы он отбросил, если
может, предубеждения против аллегорий и понял хотя бы, что они
были не пустым приемом, помогавшим писать стихи, когда нет
вдохновения, а истинным навыком души, который на высоте своей
мог создать не только великого мистика или святого, но и
великого поэта. Благодаря аллегории и может любить Данте тот,
кто не очень хорошо знает итальянский язык. Слова меняются,
глаза у нас—все те же. Аллегория была не местным, а
всеевропейским приемом письма.
Данте-хочет, чтобы мы увидели то, что видел он. Поэтому
язык его очень прост, метафор у него очень мало, ибо аллегория
298
с метафорой не в ладу. Его сравнения отличает одна особенность,
о которой стоит поговорить.
В замечательной XV песне «Ада» есть знаменитое сравнение,
которое особенно хвалил Мэтью Арнольд, и был прав. Оно
покажет нам, как использует Данте эту стилистическую фигуру.
Он говорит, что толпа погибших душ смотрела на него и на
Виргилия сквозь полумглу:
i si ver noi aguzzeva le ciglia,
come vecchio sartor fa nella cruna
(и каждый бровью пристально повел, как старый швец, вдевая
нить в иголку).
Такое сравнение просто помогает нам четче увидеть все, что
сообщил нам Данте в предыдущих строчках.
...А Клеопатра
Как будто спит, и красотой ее
ВТОРОЙ АНТОНИЙ аМОГ бы опьяниться.
Перевод М. Донского
У Шекспира образ гораздо сложнее, чем у Данте, и сложнее,
чем нам кажется. Грамматически это сравнение, но, конечно,
«спит» — метафора. Сравнение Данте помогает нам яснее увидеть,
какими были люди, оно объясняет; сравнение, употребленное
Шекспиром, действует не вглубь, а вширь, оно что-то прибавляет
к тому, что мы видели (на сцене или в своем воображении): мы
вспоминаем о прелести Клеопатры, сыгравшей такую роль и в
собственной ее жизни, и в мировой истории, и мы видим, что
прелесть эта превозмогла самую смерть Все здесь неуловимей,
туманней и сложнее, и, чтобы это понять, надо хорошо знать
язык. Когда поэты делают такие открытия, незачем спорить, кто
из них выше. Но если хотите, вся поэма Данте — огромная
метафора, и в ее стихах отдельным метафорам места нет.
Поэтому лучше сперва привыкать к поэме по частям и
останавливаться на том, что понравилось, ибо все равно ничего не
поймешь полностью, пока не знаешь целого. Мы не поймем,
почему на вратах ада написано:
Giustizia mosse il mio alto Fattore;
fecemi Ja dlvina Potestate
ja somma Sapienza e il primo Amore
(Был правдою мой Зодчий вдохновлен; я высшей силой, полнотой
всезнанья и первою любовью сотворен), пока не взойдем на
высшее небо и не возвратимся оттуда. Но мы можем понять ту
сцену, которая, первая из всех, поражает многих читателей —
встреча с Паоло и Франческой трогает нас не меньше, чем любые
стихи, и этого на первый раз достаточно. Ее предваряют два
сравнения, таких же «объясняющих», как то? которое я приводил:
Е come gli stornei ne portan Tali
nel freddo tempo, a schiera larga e piena,
cosi quel fiotto gli spirit! mali
299
(И как скворцов уносят их крыла в дни холода, пустым и длинным
строем, так эта буря кружит духов зла);
Е come i gru van cantando lor lai
facendo in aer di se lunga riga,
cosi vid'io veniz, traendo guai,
ombre portate della detta briga
(Как журавлиный клин летит на юг с унылой песнью в высоте
надгорной, так предо мной, стеная, несся круг).
Мы видим и чувствуем, чтб происходит с погибшими душами
влюбленных, хотя еще не понимаем, какой смысл вкладывает в
это Данте. Такая сцена сама по себе дает нам не меньше, чем
пьеса Шекспира, которую читаешь отдельно от других. Мы не
поймем Шекспира ни с первого чтения, ни с одной пьесы. Все его
пьесы связаны, если читать их по порядку, и долгие годы уйдут на
то, чтобы хоть как-то, хоть неполно, разгадать узор его ковра. Я
даже не уверен, знал ли он сам разгадку. Вероятно, узор этот
богаче, чем у Данте, но он и сложнее. Нам все понятно, когда мы
видим строки:
Noi leggevamo un giorno per diletto
di Lancellotto, come amor lo strinso;
soli eravamo e senza alcun sospetto.
Per piu fiate gli occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel que ci vinse.
Quando leggemmo il disiato riso
esser baciato da contanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso
la bocca mi bacio tutto tremante.
(В досужий час читали мы однажды о Ланчелоте сладостный
рассказ. Одни мы были, был беспечен каждый. Над книгой взоры
встретились не раз, и мы бледнели с тайным содроганьем; но
дальше повесть победила нас. Чуть мы прочли о том, как он с
лобзаньем прильнул к улыбке дорогого рта, тот, с кем навек я
связана терзаньем, поцеловал, дрожа, мои уста.)
Когда мы найдем этой сцене место во всей «Комедии» и
увидим, как связана эта кара с другими видами кары, очищения и
награды, мы оценим глубокий и тонкий смысл строки, которую
произносит Франческа:
se fosse amigo il re dell' universo
(когда бы нам был другом Царь Вселенной), или другой строки,
такой:
Amor, che a nullo amato amar perdona
(Любовь, которая не прощает любви тем, кого любит1), или,
наконец, той, которую мы приводили:
questi, che mai da me non fia diviso
1 Перевод дословный.
300
(тот, с кем навек я связана терзаньем).
Когда мы читаем «Ад» впервые, перед нами проходят чередой
чудовищные, но ясные образы, они связаны, они друг друга
дополняют. Вот мелькает' человек, и мы запоминаем его по одной
совершенной фразе, как эта, например, где говорится про гордого
Фаринату дельи Уберти:
ed ei s'ergea col petto e colla fronte,
come avesso lo inferno in gran dispetto
(а он, чело и грудь вздымая властно, казалось, ад с презреньем
озирал).
Видим мы и длинные сцены, которые остаются в памяти сами
по себе. Мне кажется, сильнее всего трогают при первом чтении
эпизоды с Брунетто Латини (песнь XV), с Улиссом (песнь XXVI),
с Бертраном де Борном (песнь XXVIII), с мастером Адамо (песнь
XXX) и с Уголино (песнь XXXIII).
Хотя я считаю, что не стоит пропускать другие эпизоды, и
советую дождаться этих сцен, я все же помню, что именно они
привлекли меня при первом чтении, особенно сцены с Брунетто и
Улиссом, к которым меня не подготовили ни аллюзии, ни цитаты.
Их можно сопоставить; хотя в первой Данте говорит о своем
любимом наставнике, а во второй—о легендарном герое антично-
го эпоса, обе они поражают нас. Мы испытываем то удивление,
которое Эдгар По считал самой сутью поэзии. Лучший пример —
последние строки, где Данте отпускает погибшего учителя, кото-
рого так любил и чтил:
Poi si rivolse, е parve di coloro
che coronno a Verona il drappo verde
per la campagna; e parvo di costoro
quegli che vince e non celui che perde
(Он повернулся и бегом помчался, как те, кто под Вероною бежит
к зеленому сукну, причем казался тем, чья победа, а не тем, чей
стыд).
Читателя поразят эти стихи, даже если он и не знает про
состязания в беге, где призом был кусок зеленого сукна; когда
Брунетто, павший очень низко, бежит как победитель, кара его
обретает окраску, которую может дать лишь великая поэзия. Об
Улиссе, невидимом в пламени, Данте пишет:
Lo maggior corno della fiamma antica
comincio a crollarsi mormorando,
pur como quella cui vento af atica.
Indi la cima qua e la menando
come fosse la lingua che parlasse,
gitto voce di fuori e disse: 'Quando
me diparti* da Circe, che sottrasse
me piu d'un anno la presso a Gaeta...
(С протяжным рокотом огонь старинный качнул свой больший
рог; так иногда томится на ветру костер пустынный. Туда клоня
вершину и сюда, как если б это был язык вещавший, он издал
голос и сказал: «Когда расстался я с Цирцеей, год скрывавшей
меня вблизи Гаэты...»).
301
Строки эти порождены лишь поэтическим воображением, их
можно понять вне места, времени и замысла всей поэмы.
Поначалу нам покажется, что сцена с Улиссом ни с чем не
связана, что это отступление, что Данте разрешил себе отдохнуть
от строгой христианской догмы. Но когда мы узнаем всю поэму,
мы поймем, как тонко и точно расставил он и реальных
людей—своих врагов, друзей, современников, и исторических
лиц, и героев легенд, Писания, античного эпоса. Его упрекали и
над ним смеялись за то, что он поместил в ад тех, кого знал и
ненавидел; но люди эти, как Улисс, преображены, чтобы служить
целому, ибо все они—и жившие, и нежившие — олицетворяют
виды греха, муки, вины и воздаяния, а потому становятся одинако-
во реальными и современными. Мне кажется, сцену с Улиссом
особенно легко читать и потому, что англичанину много скажет
сравнение ее с прекрасной поэмой Теннисона. Стоит отметить, что
у Данте все гораздо проще. Теннисону, как почти всем поэтам,
даже тем, кого мы зовем великими, приходится нажимать, чтобы
добиться воздействия. Например, строчка о море, которое «много-
голосо стонет», типичная и для Теннисона, и для Виргилия,
слишком литературно, для Данте, и потому — слабее прочего у
него. Только у Шекспира такие строки не кажутся напыщенными
и не уводят от главного:
Мечи вы спрячьте, их изъест роса.
Улисс и его спутники проходят черех Геркулесовы столпы, узким
проливом
ow'Ercolo segno И suoi riguardi
accioche l'uon piu eltre non si notta
(где Геркулес воздвиг свои межи, чтобы пловец не преступил
запрета).
'О frati', dissi, che per cento milia
perigli siete giunti all' occidente,
a juesta tante picciola vigilia
de' vostri sensi, ch'e del rimanente.,
non vogliate negar l'esperienza
di retro al sol, del mondo senza gente.
Considerate la vostra semenza,
fatti non foste a viver come bruti
ma per seguii virtute e conoscenza.
(О братья—так сказал я,— на закат пришедшие дорогой много-
трудной! Тот малый срок, пока еще не спят земные чувства, их
остаток скудный отдайте постиженью новизны, чтоб, солнцу
вслед, увидеть мир безлюдный! Подумайте о том, чьи вы сыны:
вы созданы не ддя животной доли, но к доблести и знанью
рождены).
n'apparve una montagna bruna
per la distanza, e parvomi alta tanto
quanto veduta non n'aveva alcuna.
Noi ci allegrammo, e tosto torno in pianto,
302
che dalla nuova terva un turbo nacque,
e percosso del Iegno il primo canto.
The volte il fe 'girar con tutte l'acque,
alia quarta levar la poppa in suso,
e la prora ire in giu, com' altrui piacque,
infin cheil mar tu sopra no richiuso.
(Когда гора далекой грудой темной открылась нам; от века своего
я не видал еще такой огромной. Сменилось плачем наше торже-
ство: от новых стран поднялся вихрь, с налета ударил в судно,
повернул его три раза в быстрине водоворота; корма взметнулась
на четвертый раз, нос канул книзу, как назначил Кто-то, и море,
хлынув, поглотило нас).
Историю Улисса, рассказанную Данте, читаешь как увлека-
тельный роман, как хорошую историю. У Теннисона Улисс
прежде всего погруженный в себя поэт. Теннисонова поэма—
плоская, о двух измерениях; все, что в ней есть, увидел бы обычный
англичанин, склонный к красотам слога. При первом чтении Данте
мы можем не знать, что это была за гора и что означают слова
«как назначил Кто-то», но все равно ощутим третье измерение,
глубину.
Подчеркну еще раз, что Данте был в высшей степени прав,
когда среди исторических лиц поместил пусть одного человека,
которого даже сам он считал, наверное, лишь литературным
героем. Так снимается обвинение в том, что он отправлял людей в
ад по мелочным и личным причинам. Мы вынуждены вспомнить,
что ад—не место, но состояние; что Данте даровал и блаженство,
и гибель не только тем, кто жил на свете, но и тем, кого породило
воображение; что думать об аде, а то и ощущать его можно, хотя
он и состояние, лишь в чувственных образах; и, наконец, что
воскресение плоти значит больше, чем нам кажется. Но такие
мысли приходят, когда прочитаешь поэму не один раз; радоваться
ей при первом чтении можно и без них.
Поэма создает у нас и ощущение единого мига, и ощущение
целой жизни. Примерно это мы испытываем, когда очень любим
человека. Вот первое, неповторимое мгновение, когда мы удивле-
ны, поражены, даже испуганы (Ego Dominus tuus1); его не
забудешь и полностью не воспроизведешь, но оно лишится
смысла, если не захватит нас целиком, не обретет глубины и
умиротворения. Почти все стихи мы перерастаем, изживаем, как
изживаем и перерастаем почти все страсти. Поэма Данте—одна
из тех, до которой надеешься дорасти только к концу жизни.
Наверное, труднее всего читать в первый раз последнюю,
XXXIV песнь. Видение Сатаны покажется жутким и нелепым,
особенно если нам запал в память кудрявый демонический герой в
поэме Мильтона; оно слишком похоже на фреску в Сиенне.
Самую суть зла так же невозможно ограничить видом и местом,
как и Дух Божий. Признаюсь, иногда мне кажется, что дьявол у
Данте страдает, как всякий погибший человек, а я чувствую, что
дух зла страдает иначе, и муки его надо иначе изображать. Скажу
лишь, что никто не справился бы лучше с таким отвратительным
Я господь твой (лат.).
303
делом; Данте сделал все, что мог. Английского читателя покоро-
бит,что Кассий и Брут, благородный Брут,—там же, где Иуда,
ибо мы привыкли к шекспировским Бруту и Кассию. Но если
верно то, что я сказал об Улиссе, Данте был прав и здесь. Если
же вы не сможете читать последнюю песнь, прошу вас об
одном—подождите, пока вы не прочитаете последнюю песнь
«Рая» (выше которой, на мой взгляд, поэзия еще не поднималась и
подняться не может) и не сживетесь с ней. Там Данте восполняет
с лихвой любые недостатки XXXIV песни «Ада». А может быть,
читая «Ад» впервые, пропустите ее и вернетесь к началу песни III:
Per me siva nella citta dolente;
per me siva пе1Г eterno dolore;
per me siva tre la perduta gente1;
Griustizia mosse il mio alto Fattore;
fecemi la divina Potestate,
la somma Sapienza e il primo Amore.
1 Я увожу к отверженным селеньям;
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
(Перевод следующей терцины см. выше.— Прим. перев.)
Т. С. ЭЛИОТ
БАЙРОН
Факты, относящиеся к большей части жизни Байрона, были в
последние годы подробно изложены и в полном согласии друг с
другом истолкованы сэром Гэролдом Николсоном и мистером
Куэннелом, благодаря чему личность Байрона стала понятнее
нынешнему поколению. Никто, однако, не предлагал подоб-
ного рода интерпретации поэзии Байрона. Творчество Вордсворта,
Кольриджа, Шелли и Китса обсуждалось и обсуждается со
всевозможных точек зрения в университетских и прочих аудито-
риях. Но Байрона и Скотта оставили в покое. Между тем,
казалось бы, Байрон, во всяком случае, ближе к кругу интересов
современного критика. Любопытно было бы поэтому —если бы
набралось полдюжины эссе о нем —поглядеть, к какого рода
согласию мы можем прийти. Настоящий очерк — попытка полот
жить начало такому разговору.
Трудности подстерегают нас сразу. Прежде всего трудно
возвратиться в качестве критика к поэту, стихи которого в свое
время были предметом первых юношеских восторгов для множе-
ства наших современников—кроме тех, кто по молодости своей
не читал поэтов того периода. Рассказы престарелых родственни-
ков о разных эпизодах нашего детства обычно нагоняют на нас
томительную скуку; такое же уныние нагоняют и стихи Байрона,
вдовь перечитанные много лет спустя: перед умственным взором
возникают различные образы, вспоминаются вирши в духе «Дон
Жуана*, опубликованные в школьном журнале и пропитанные
разочарованностью и цинизмом, какие возможны лишь в шестнад-
цатилетнем возрасте. Придется преодолеть препятствия и менее
Персонального свойства. Объем поэтического наследия Байрона,
соотнесенный с его качеством, производит гнетущее впечатление;
кзясется, будто он никогда ничего не вычеркивал. Однако подоб-
ная плодовитость неминуема у поэта байроновского типа, и само
отсутствие жесткого отбора в его сочинениях показывает, какого
рода интерес питал он к поэзии и что в поэзии не привлекало его
Интереса. Мы цривыкли воспринимать поэзию как нечто в высшей
степени концентрированное, как некую квинтэссенцию, но, если
бы Байрон стал извлекать квинтэссенцию из своих стихов, от них
Не осталось бы ровным счетом ничего. Разобравшись в том, что
Именно он делает, мы увидим—только так и можно это делать.
Если короткие его стихи оставляют ощуш;ение, что в большинстве
Случаев так же, если не лучше, мог написать Том Мур, то в
305
больших поэмах Байрону удается такое, в чем равных ему не
было и нет.
Порой есть смысл подойти к творчеству поэта, полностью
потерявшего расположение читающей публики, следуя каким-то
новым и непривычным путем. Если мой подход к Байрону
представляется реальным лишь мне одному, пусть другие критики
внесут свои коррективы, во всяком случае, он поможет разрушить
некоторые устоявшиеся предрассудки и выработать новые крити-
ческие оценки и мнения. Вот почему я предлагаю считать Байрона
шотландцем—шотландцем, а не шотландским поэтом, так как
писал он по-английски. Единственным поэтом-современником, с
которым он мог бы соперничать и о котором неизменно отзывался
с глубочайшим уважением, был Вальтер Скотт. Я всегда заме-
чал— впрочем, это могло быть и мое воображение—известное
сходство между бюстами обоих поэтов,—что-то общее в форме
головы. Сравнение это льстит Байрону, и стоит лишь вглядеться в
оба лица, как всякое сходство исчезает. Если кому-нибудь
нравится держать в доме бюсты, то рядом с бюстом Вальтера
Скотта существовать можно. Есть нечто благородное в этом лице,
нечто великодушное, в нем ощущается внутренний, быть может, и
неосознанный покой, присущий тем большим писателям, кото-
рым дано было быть и большими людьми. Но Байрон—это
мясистое лицо, говорящее о склонности к полноте, этот слабый
рот, это выражение тривиального беспокойства и, что хуже всего,
этот невидящий взгляд поглощенного собой красавца,—в бюсте
Байрона отражен человек, который был с головы до ног трагиком
из бродячей труппы. Но именно актерская природа Байрона
помогла ему овладеть определенными познаниями: познанием
внешнего мира, в котором он призван был играть предначертан-
ную себе роль, и познанием самого себя—той части самого себя,
которая эту роль играла. Познания были, разумеется, неглубокие,
но в своих рамках—достаточно точные.
О шотландском начале в поэзии Байрона я буду еще говорить в
связи с «Дон Жуаном». Существует, однако, один очень важный
элемент в самом характере Байрона, о чем стоит упомянуть еще
до того, как мы обратимся к его поэзии: элемент, обусловленный,
видимо, шотландскими его истоками. Речь идет о присущем ему
особого рода «демонизме»—упоении ролью существа проклятого,
обрекшего себя на вечные муки, приводящего весьма устраша-
ющие доказательства этой обреченности. Заметим, однако, что
«демонизм» Байрона существенно отличается от явления, порож-
денного в странах католицизма «романтическим страданием» (тер-
мин мистера Праза). Я совсем не убежден также, что можно
объяснить эту черту достигнутым в Англии и характерно англий-
ским комфортабельным компромиссом между христианством и
язычеством. Такая настроенность могла возникнуть лишь в стране,
народ которой пропитан духом кальвинистской теологии.
«Демонизм» Байрона—если он вообще заслуживает такого
названия—носит смешанный характер. В известной мере Байрон
разделял прометеевские порывы Шелли и романтическую страсть к
Свободе — эта страсть, которая сочеталась с представлением о
себе как о человеке действия^ подвигла Байрона на греческую
зоб
авантюру. И это прометеевское начало сливается в нем с
сатанинским (в мильтоновском понимании слова). Романтическая
концепция образа Сатаны у Мильтона основательно проникнута
прометеевским мироощущением, а гордость он рассматривает как
добродетель. Трудно установить с определенностью, был ли
Байрон истинно гордым человеком или ему нравилось слыть
гордым. И хотя в одном человеке могут уживаться оба эти свойства,
различие между ними от этого не уничтожается. Тщеславным
человеком Байрон был во всяком случае, и выражалось это самым
немудрящим образом;
... Но я не жалуюсь: мои два предка ведь
Радульфус и Эрнейс поместий получили
Штук сорок восемь тут (ведь надо же суметь!),
Самоотверженно служа знаменам Вилли.
«Дон Жуан». Перевод Г. Шенгели
Кроме того, налет нереальности смягчал ощущение Байрона, что
над ним тяготеет проклятие: для человека, столь поглощенного
самим, собой и тем, как он выглядит в глазах окружающих, ничто
за пределами собственной особы не может быть по-настоящему
реальным. Вот почему нельзя обнаружить в его «демонизме»
какую-либо связную или рациональную основу. Похоже, что ему
удавалось совмещать несовместимое: видеть в себе одновременно
и личность, преступления которой поставили ее вне и над
человеческим сообществом, и существо, добрая и великодушная
природа которого была искажена преступлениями, совершенными
против нее людьми. Именно такое непоследовательное существо и
возникает в поэмах Байрона под именами Гяура, Корсара, Лары,
Манфреда и Каина: лишь в образе Дон Жуана он приближается к
истинному представлению о самом себе. Но самым реальным и
глубоким во всей этой причудливой мешанине из верований,
убеждений и поз представляется мне элемент, связанный с
перетолкованным на свой лад кальвинизмом предков Байрона по
материнской линии.
Одна из причин нынешнего забвения Байрона заключена, мне
кажется, в том, что наибольшие читательские восторги вызывали
в свое время самые его претенциозные покушения на поэтичность,
которая при ближайшем рассмотрении оказалась подделкой—
одним лишь звучным провозглашением общих мест, без малейшей
глубины или значительности. Выразительный образчик этой
обманной поэтичности—известнейшая строфа в конце XV Песни
«Дон Жуана»:
Меж двух миров, на грани смутной тайны
Мерцает жизни странная звезда.
Как наши знанья бедны и случайны!
Как многое сокрыто навсегда!
Прилив столетий темный и бескрайний
Смывает грани, толпы и года.
Лишь мертвых царств угрюмые могилы
В пространствах мира высятся уныло.
Перевод Т. Гнедич
307
Это стихи, которые были бы вполне на месте в школьном
журнале. Истинное мастерство Байрона — совсем на ином уровне.
Достоинства его повествовательной поэзии, с которыми мы
встречаемся в «Дон Жуане», не менее примечательны и в ранних
поэмах. Перед тем как начать свой очерк, я заново перечитал эти
стихотворные повести, впервые со времен моей мальчишеской
страсти к Байрону, и, признаюсь, приступил к чтению с большой
опаской. Они написаны увлекательно. Каким бы абсурдным ни
представлялся нам взгляд на жизнь, заключенный в этих истори-
ях, сами истории рассказаны очень хорошо. Байрон и вправду
заслуживает самой высокой оценки как рассказчик: не могу
привести ни одного имени поэта, который читался бы с большим
увлечением, кроме Чосера,—разве что Кольридж, которого Бай-
рон поносил и у которого очень многому научился. Но Кольридж
ни разу не решился на столь длинное повествование. Фабулы
Байрона—если их вообще можно так называть—предельно про-
сты. Интерес повествованию придает прежде всего свободно и
плавно льющийся стих, который Байрон время от времени
искусно варьирует, чтобы избежать монотонности, а затем—
изумительный дар отступлений. Умение отклониться от темы —
искусство, авторские отступления—одно из ценнейших качеств
каждого рассказчика. Авторские отступления в поэмах Байрона
поддерживают наш интерес к фигуре рассказчика, что в свою
очередь разжигает еще больший интерес к самой истории. Надо
думать, что читателей—современников Байрона это свойство
просто зачаровывало, ибо и теперь, решившись прочесть поэму до
конца, мы не сможем не почувствовать мощной притягательности
личности автора. Если прочесть вслух взятые на выборку нес-
колько строк, они, скорей всего, вызовут веселый смешок в
любой аудитории:
...Случалось ли тебе видать
Глаза печальные газельи?
Вот так ее глаза темнели
И так казалися томны.
..Души в них нежной было много...
Перевод С. Ильина
но вся поэма, прочитанная подряд, будет слушаться с неослабева-
ющим вниманием. «Гяур»—длинная поэма, фабула ее весьма
незамысловата, хотя следовать за ней подчас нелегко. Христи-
анин, по-видимому грек, ухитрился—как именно, нам не рассказа-
но— завести знакомство с молодой обитательницей гарема, а
может быть, и любимой женой мусульманина по имени Гассан.
Пытаясь бежать вместе со своим христианином-возлюбленным,
Лейла была поймана и убита; в ходе дальнейших событий
христианин с друзьями устраивает засаду Гассану и убивает его. В
должный срок мы узнаем, что историю этой вендетты или часть
ее рассказывает сам Гяур, исповедуясь престарелому монаху.
Исповедь его носит, однако, весьма странный характер: Гяур явно
не испытывает раскаяния и четко дает понять, что если и стал
грешником, то не по своей вине. Видимо, к исповеди побуждает
308
его, скорее, тот же мотив, что и Старого Моряка, чем желание
получить отпущение грехов, что вообще вряд ли было возможно,
однако прием этот позволяет несколько запутать действие. Я уже
заметил, что разобраться во всем происходящем не так уж
просто. В начале мы читаем длинное обращение к былой славе
Греции—тема, которую Байрон умел варьировать с большим
искусством. Появление Гяура обставлено весьма драматично:
Чу... Топот звонкий раздается,
Какой же всадник там несется
На скакуне во весь опор?
и мы имеем возможность взглянуть на него глазами мусульмани-
на:
...В твоем лице я вижу след
Страстей... щадит их бремя лет.
Этого достаточно, чтобы мы поняли: Гяур интересная личность,
потому что он-то, возможно, и есть сам лорд Байрон. Затем
следует длинный пассаж о запустении дома Гассана, где ныне
обитают лишь паук, летучая мышь, сова, одичавший пес и сорная
трава. Из этого мы заключаем, что поэт перескочил прямо в
финал рассказа, что Гяур, очевидно, уже убил Гассана,—так оно,
разумеется и есть. Ни один Джозеф Конрад не сумел бы с
ббльшим искусством кружить вокруг да около главного события.
Засим нам сообщают, что некий груз был тайно сброшен в
воду,— мы предполагаем, что это мертвое тело Лейлы. После чего
следует пассаж, в котором автор поочередно размышляет о
Красоте, Разуме и Раскаянии. Внезапно снова появляется живая
Лейла, только на один миг, но это всего лишь еще один отход от
последовательности событий. А затем мы оказываемся свидетеля-
ми неожиданного нападения Гяура с его шайкой разбойников на
Гассана и его свиту,— быть может, через несколько месяцев или
даже лет после гибели Лейлы, и тут уж нельзя усомниться в том,
что Гассан убит:
...И не одна зияет рана
На теле мертвого Гассана.
...Но глаз открытых выраженье
Сулит лишь ненависть и мщенье.
Потом происходит восхитительйая смена метра, сопровождающая
внезапный переход на другую тему,—именно в тот самый момент,
когда это и требовалось:
В окно доносится с лугов
Негромкий звон колокольцов
От стад верблюжьих. Мать Гассана
Сквозь дымку легкую тумана
Печально смотрит из окна...
После чего следует нечто вроде надгробного слова Гассану,
по-видимому, произнесенное другим мусульманином. И вот снова
309
возникает Гяур—девять лет спустя—в монастыре: мы слышим,
как один их монахов отвечает на расспросы об этом госте. Нам не
совсем ясно, в качестве кого поселился Гяур в монастыре;
очевидно, монахи приняли его, ни о чем не справляясь, а ведет он
себя среди них чрезвычайно странно. Мы узнаем, однако, что
пребывание свое в монастыре на этих привилегированных услови-
ях он оплатил весьма крупным денежным вкладом. Финал по-
эмы—исповедь Гяура одному из монахов. К чему бы греку тех
времен так мучиться угрызениями совести (будучи при этом
совершенно нераскаянным) из-за убийства мусульманина в че-
стном—по тем понятиям—бою и отчего следует осуждать Лейлу
за попытку бегства от мужа и повелителя, с которым ее
соединили явно против воли,—на эти вопросы мы так и не
получаем ответа.
Я довольно подробно рассмотрел «Гяура», имея целью пока-
зать удивительную изобретательность Байрона-рассказчика. Неза-
мысловатая история рассказана им очень замысловато, от нас
утаивают какие-то факты, которые нам следовало бы знать
раньше, а поведение действующих лиц кажется порой столь же
необъяснимым, сколь туманны и запутанны их мотивы и чувства.
И все же автор не просто выходит из положения—он выходит из
положения именно как повествователь. Здесь Байрон уже прояв-
ляет тот самый дар, что с еще большим эффектом обнаруживает-
ся в «Дон Жуане», и если «Дон Жуан» читается и поныне, то лишь
из-за своих повествовательных достоинств, которые чувствуются
уже в ранних поэмах.
Стоит, по-моему, отметить, что Байрон основательно усовер-
шенствовал жанр conte по сравнению с Муром и Скоттом,— если
мы не хотим свести причины его популярности к простому
капризу читающей публики либо к умело эксплуатируемому
личному обаянию поэта. Конечно же, и то и другое играло свою
роль. Но прежде всего дело заключалось в том, что стихотворные
повести Байрона представляли собой более зрелую стадию этой
переходной поэтической формы, нежели поэмы Скотта, так же,
как поэмы Скотта—более зрелую форму, чем поэмы Мура.
«Лалла Рук» Мура—хронологически построенный стихотворный
цикл, части которого связаны тяжеловесными прозаическими
объяснениями обстоятельств (моделью здесь послужила «Тысяча
и одна ночь»). Скотт усовершенствовал эту прямолинейную
повествовательную манеру, введя в свои поэмы фабулу того же
типа, что позднее появляется в его романах. Байрон же соединил
экзотику со злободневностью и самым эффективным образом
развил приключенческий элемент стихотворного повествования.
Я считаю, что и сама версификация у Байрона куда сильнее,
но в стихах этого типа необходимо прочесть большой кусок,
чтобы составить себе верное представление, и нельзя сравни-
вать их достоинства, приводя короткие цитаты. Для определе-
ния авторства Мура или Байрона в каждом взятом наугад
отрывке надо быть знатоком, что превосходит мои возможно-
сти. Однако, по-видимому, каждый, кто читал недавно поэмы
Байрона, согласится, что он не может быть автором таких вот
строк:
310
Ах, тел непогребенных вид,
Где лунный луч едва скользит;
От смрада, что наполнил ночь,
Стервятник улетает прочь.
И лишь гиена рыщет там
По улицам и площадям.
Как страшен в полуночный час
Полуживому взгляд ужасный
Сверкающих огромных глаз
Во мраке мертвенно-безгласном!
Это — отрывок из «Лаллы Рук», отчеркнутый, видимо в знак
одобрения, каким-то читателем в экземпляре, принадлежащем
Лондонской библиотеке.
Мне представляется, что «Чайльд Гарольд» уступает по своим
достоинствам этой группе поэм («Гяур», «Абидосская невеста»,
«Корсар», «Лара» и т. д.)- Конечно, время от времени Байрон
подстегивает наш угасающий интерес каким-нибудь пышным
пассажем, но пышные пассажи не настолько удаются ему, чтобы
выполнить задачу, возлагаемую на них автором:
...Ты топчешь прах Империи,—смотри!
Как раз то самое, что требуется здесь для оживления
читательского интереса, но в последующей строфе, посвященной
битве при Ватерлоо, на мой взгляд, есть явная фальшь, и строфа эта
может послужить характерным примером фальшивого тона, к
которому обычно прибегает Байрон, когда старается быть поэтич-
ным.
Ты топчешь прах Империи,— смотри!
Тут Славу опозорила Белл она.
И не воздвигли статую цари?
Не встала триумфальная колонна?
Нет! Но проснитесь,—Правда непреклонна:
Иль быть Земле и до скончанья дней
Все той же? Кровь удобрила ей лоно,
Но мир на самом страшном из полей
С победой получил лишь новых королей.
Перевод В. Левика
В наше время, когда почти утрачен вкус к самому типу досто-
инств, присущих поэзии Байрона, выявление ее пороков и
слабостей представляет особую трудность. Вот почему мы не
можем в полной мере воздать должное инстинкту, благодаря
которому Байрону удается в «Чайльд Гарольде», а еще более
эффективно — в «Беппо» или «Дон Жуане» избежать монотонно-
сти, ловко переходя с одной темы на другую.
Кардинальное его достоинство—в том, что он никогда не
бывает скучен. Однако, согласившись, что поэзии его присущи
позабытые нами достоинства, мы по-прежнему ощущаем фальши-
вое звучание большинства пассажей, некогда вызывавших общий
восторг. Откуда же эта фальшь, где ее истоки?
Какие бы неверные ноты ни звучали в стихе Байрона, ошибкой
было бы именовать эту фальшь риторичностью. Слишком много
понятий наслоилось на этот эпитет, и если мы попытаемся
311
объяснить я определить характер поэзии Байрона, назвав ее
риторической, то нам придется отказаться от этого определения,
говоря о поэзии Мильтона и Драйдена, между тем в приложении к
их стиху эпитет «риторический» имеет свой положительный
смысл. Постигающие их порой неудачи—более высокого поряд-
ка, чем иные удачи Байрона. Каждому из них присущи своя,
резко индивидуальная манера и чувство языка; даже в самых
слабых стихах они проявляют интерес к слову как таковому.
Каждого из них можно узнать по единственной строке, имея все
основания заметить: вот своя собственная манера обращения с
языком. Такого индивидуального звучания не найдешь в строке
Байрона. Возьмем хотя бы несколько строк из пассажа о
Ватерлоо в «Чайльд Гарольде»—пассажа, который вполне может
фигурировать в «Настольном сборнике цитат», и мы увидим—
большой поэзии здесь нет:
...Танцуйте же! Сон изгнан до рассвета,
Настал любви и радости черед...
«Чайльд Гарольд». Перевод В. Левика
О Байроне, как ни об одном из столь же прославленных поэтов,
можно с уверенностью сказать, что он ничем не обогатил язык,
не открыл ничего нового в его звучании, не углубил значения
отдельного слова. Не могу привести в пример ни одного поэта его
ряда, который с такой легкостью мог бы сойти за хорошо
знающего язык и пишущего на нем иностранца. Любой, самый
обычный англичанин умеет говорить по-английски, но в каждом
поколении находится совсем немного людей, которые способны
писать по-английски; именно на этом неосознанном взаимодей-
ствии между множеством людей, говорящих на живом языке, и
немногим числом пишущих на нем и зиждется сохранность и
дальнейшее развитие языка. Подобно ремесленнику, который
говорит на великолепном английском языке на работе или в
пивной, но, мучительно сочиняя письмо, обращается к языку
мертвому, как газетная передовица—к уснащенному выражени-
ями типа «водоворот» или «столпотворение», Байрон пишет на
языке мертвом либо умирающем.
Его нечувствительность к слову, из-за чего ему приходится
затратить множество слов, чтобы привлечь наше внимание,
указывает—в практическом аспекте —на общий недостаток вос-
приимчивости. Я сказал «в практическом аспекте», потому что
занимает меня восприимчивость поэта, а не его частная жизнь;
ибо, если писатель не владеет языком для выражения своих
чувств, он с таким же успехом может обойтись и без оных. Нет
надобности сравнивать его описание Ватерлоо с описанием Стен-
даля, чтобы ощутить, как не хватает у Байрона частных подроб-
ностей, но стоит отметить, что тонкость восприятия, присущая
прозаику Стендалю, вносит в его прозу поэтические моменты,
совершенно не уловленные Байроном. Байрон сделал для нашего
обращения с языком примерно то же, что делают повседневно
авторы наших газетных и журнальных передовиц. Мне кажется,
что этот изъян куда важнее, чем банальность его философических
отступлений. Каждый поэт бывает порой банален, каждый поэт
312
высказывает мысли, уже высказанные прежде. Если фраза
Байрона кажется избитой, а мысль—поверхностной, то дело
здесь не столько в недостатке идей, сколько в недостаточном — на
школьном уровне—владении языком.
«Но ведь Гюго был также плоть от плоти этого народа». Слова
Пеги все время приходили мне на ум, пока я размышлял о
Байроне: «Не те стихи, что поют в нашей памяти, но стихи,
которые звучат и отзываются в памяти, как зов трубы, стихи
вибрирующие, трепещущие, звенящие, как фанфара, гулкие, как
пушечный залп, вечный бой барабана, который будет греметь в
памяти французов еще долгое время спустя после того, как
барабанщики перестанут шагать впереди полка».
Однако Байрон не был «плоть от плоти» народной ни в
Лондоне, ни в Англии, а лишь на родине своей матери. Вот самая
волнующая строфа из его размышлений о Ватерлоо:
Но грянул голос: «Кемроин, за мной!»
Клич Лохьела, что, кланы созывая,
Гнал гордых саксов с Элбина долой.
Подъемлет визг волынка боевая,
Тот ярый дух в шотландцах пробуждая,
Что всем врагам давать отпор умел,—
То кланов честь, их доблесть родовая,
Дух грозных предков и геройских дел,
Что славой Эдвина и Дональда гремел.
«Чайлъд Гарольд». Перевод В. Левина
«Дон Жуан» стал величайшей из поэм Байрона благодаря
сочетанию многих причин. Заимствованная у итальянцев строфа
превосходно подчеркивает достоинства и скрывает слабости его
стиха—подобным же образом, как всадник или пловец, он
чувствовал себя более непринужденно, чем спешившись и
на суше. У него был несовершенный поэтический слух, способный
лишь на создание грубоватых звучаний, а в этой легкой, неторопли-
вой строфе, с ее большей частью женскими и лишь иногда—^
тройными окончаниями он словно напоминает нам все время, что, не
слишком-то в общем стараясь, пишет ничуть не хуже, а быть
может, и лучше поэтов, относящихся к своему стихотворству с
торжественной серьезностью. И в самом деле, Байрон лучше
всего тогда, когда он не прилагает видимых усилий быть поэтич-
ным— как в той, уже приведенной мною строфе, что начинается
словами:
Меж двух миров, на грани смутной тайны...
Однако там, где у Байрона нет особых претензий на многозначи-
тельность, он достигает удивительно многообразного эффекта.
Дар отступлений—искусство, с каким он неприметно отдаляется
от своей темы (обычно для разговора о самом себе), чтобы
внезапно вернуться к прерванному рассказу,— в «Дон Жуане»
достигает своих высот. Непрерывное подшучивание, насмешливый
тон—избранная им строфа со своей итальянской моделью весьма
способствует этому умонастроению — великолепным образом ней-
трализует напыщенность, которая так претила читателю в ранних
313
поэмах Байрона, а мотивы социальной сатиры, в которой Байрон
всегда искренен, помогают ему сосредоточиться на своей теме.
Если* в этой сатире и нет особой глубины, то но крайней мере она
правдоподобна. Автопортрет Байрона, возникающий в поэме,
намного честнее, чем в ранних его вещах. Это обстоятельство
стоит рассмотреть подробнее. В своей превосходной работе
«Байрон и необходимость рока» Шарль Дюбо приводит большой
отрывок из «Лары» — автопортрет поэта. Следует отдать должное
Дюбо; он сумел оценить значение этого пассажа; следует подчер-
кнуть также, что Байрон полиостью заслуживает похвал, которые
адресует ему Дюбо в связи с этим пассажем. Мне эти строфы
тоже представляются великолепным образцом самоанализа, но
анализа личности, в значительной степени выдуманной —
искусственного творения, возникшего в ходе работы над поэмой.
Потому-то Байрон и понимал так хорошо «самого себя», что эта
собственная личность была в большой мере собственным его
изобретением и только эту свою выдуманную личность он и
понимал до конца. Если догадка эта верна, то зрелище человека,
способного на такие неимоверные затраты энергии и упорства
ради столь мелкой и ненужной цели, не может не вызывать у нас
чувство ужаса и жалости. Впрочем, к этим чувствам неизбежно
должны примешаться и сострадание и смирение, стоит лишь
подумать, что большинство из нас грешит той же самой склонно-
стью, пусть и не в такой упорной и резко выраженной форме.
Иначе говоря, Байрон сделал профессию из слабости, время от
времени проявляющейся у большинства людей, и успех его в этом
предприятии заслуживает нашего грустного восхищения. Однако в
«Дон Жуане» мы встречаем нечто гораздо более близкое к
подлинному самораскрытию. Ибо сам Жуан вопреки всем блиста-
тельным свойствам, которыми наделил его Байрон, чтобы его
герой мог занять подобающее место в среде английской аристок-
ратии,— фигура отнюдь не героическая. Правда, нет ничего
смешного или нелепого в том присутствии духа д смелости,
которые он обнаруживает при кораблекрушении, а также в его
отважном поведении на поле боя во время войны с турками; тут
он проявляет физическую храбрость и способность на героизм,
которые мы охотно готовы признать за самим Байроном. Однако,
когда речь заходит о его отношениях с женщинами, мы не
обнаруживаем в Жуане ни героизма, ни даже большого чувства
собственного достоинства и в этой манере изображения ощущаем
элемент истинной, а не только притворной правдивости.
Бросается в глаза—что, мне думается, подтверждает мнение
мистера Питера Куэннелла—неизменно пассивная роль, которую
избирает себе Жуан во всех любовных эпизодах. Даже Гайдэ, это
дитя природы, при всей своей невинности и неведении предстает
скорее соблазнительницей, чем соблазненной. Это — самый про-
странный и тщательно разработанный из всех любовных эпизодов
поэмы, и, мне кажется, он заслуживает очень высокой оценки.
Правда, трудно до конца поверить в невинность Жуана после
всего, что нам известно о раннем посвящении его в таинства
любви донной Джулией, но это вовсе не значит, что эпизод
написан фальшиво. Невинность Жуана—всего лишь другое обо-
314
значение пассивности Байрона, и, вспомнив эту пассивность, мы
обнаружим подлинное понимание человеческого сердца и отзовемся
на такие строки:
Ах, в этот светлый одинокий час
Они так юны были, так прекрасны,
Так далеки от посторонних глаз,
Так им сердца подсказывали властно
Извечное решенье, каждый раз
Влекущее геенны дождь ужасный
На головы влюбленных...
«Дон Жуан». Перевод Г. Гнедич
Мы чувствуем, что возлюбленный Гайдэ и донны Джулии—
именно тот человек, что в дальнейшем может стать фаворитом
Екатерины Великой,— можно предположить, что Байрон готовил
себя к созданию образа монархини в течение восьми месяцев,
проведенных в обществе графини Оксфордской. И по-прежнему
герой сохраняет если не самую невинность, то удивительную
пассивность, столь схожую с невинностью. Заметны различия
между первой и второй частями поэмы, рисующими приключения
Жуана в разных странах и в Англии. В первой части сатирические
моменты несущественны, фабула носит пикарескный характер, и
построена она превосходно. Изобретательность Байрона безотказ-
на. Эпизод кораблекрушения—он настолько хорошо знаком, что
нет надобности приводить цитаты—это нечто совсем новое и
очень удачное, хотя Байрон и пережал немного в кульминацион-
ной сцене каннибализма. Последнее бурное приключение Жуана
происходит сразу же по прибытии его в Англию, когда на пути в
Лондон он подвергается нападению грабителей с большой доро-
ги,—и здесь, также мне кажется, в надгробном слове убитому им
разбойнику есть нечто до той поры не появлявшееся в английской
поэзии:
Он мир лишил великого героя—
Том-капитан был парень первый сорт!
Краса «малин», по взлому и разбою
Не в первый раз он побивал рекорд.
Очистить банк и смыться от конвоя
Умел он изумительно, как черт,
Как он шикарил с черноокой Салли!
Все воры королем его считали.
Перевод Т. Гнедич
Отличнейшая строфа.
Ничуть не похоже на Крабба, скорее, заставляет вспомнить
Бернса.
Наиболее важная часть поэмы, по моему твердому убежде-
нию,—последние четыре песни. Для того чтобы сатирически
изобразить весь род людской, требуется талант либо более
светлый и жизнерадостный—как у Рабле,—либо более глубокий
И мучительный—как у Свифта. Но Байрон в заключительных
главах «Дон Жуана» обращается к английской действительности, в
которой не осталось более для него ничего романтического.
Сфера его наблюдений ограничена тем, что он знает досконально,
315
а способность к наблюдению предельно обострена резкой враж-
дебностью к этой действительности. Суждения его точны, хотя и
могут быть по-прежнему поверхностными. Очень вероятно, что он
так и не сумел бы полностью осуществить свой первоначальный
замысел; успешное завершение рассказа о чудовищной компании
гостей, собравшейся в загородном доме, быть может, требовало
какой-то веселости, какого-то чувства комического, чего Байрон
был лишен от природы. Возможно, что он не сумел бы справиться
с фигурой Авроры Рэби — фигурой замечательной, одним из
самых серьезно задуманных характеров, которые возникают на
сатирическом фоне повествования. И поскольку характер этот
оказался слишком серьезным, слишком реальным для того мира,
который знал Байрон, возможно, ему пришлось бы обеднить этот
образ, свести его на уровень обычных романтических героинь. Но
зато лорд Генри и леди Аделина Амондевилл — персонажи, точно
соответствующие уровню понимания, доступного Байрону, и в
этих образах есть достоверность, за что, быть может, автору до
сих пор не было отдано должное.
Особое место, которое занимают эти последние песни «Дон
Жуана» среди лучшего, что создано Байроном, объясняется, на
мой взгляд, тем, что само содержание их дало ему наконец
возможность показать подлинное чувство. Чувство это —
ненависть к лицемерию. И если оно подкреплялось эмоциями
более личными и более мелочными, эмоциями юнца, познавшего
унизительность жизни в убогой квартире, рядом с эксцентричной
матерью, юнца, неуклюжего и непривлекательного в свои пятнад-
цать лет, юнца, с которым не хотела танцевать Мери Чаворт,
который все время оставался, странным образом, чужаком среди
столь хорошо знакомого ему светского общества, то неясность
самого происхождения его враждебности к английскому обществу
только прибавляет ей интенсивности. А лицемерие света, ставшее
предметом его сатиры, полярно противоположно по характеру
своему лицемерию самого Байрона. Вряд ли можно назвать
Байрона лицемером, притворщиком—разве лишь в первоначаль-
ном смысле этого слова—лицедей. Он был актером, тратившим
огромные усилия на то, чтобы слиться с избранной ролью, и сама
поверхностность его культивировалась им как часть этой роли.
Анализируя поэзию Байрона, трудно избежать анализа личности
этого человека, но Байрон-человек и так уже всегда привлекает
гораздо больше внимания, чем его творчество, поэтому я предпо-
читаю в рамках этого небольшого очерка заниматься в первую
очередь именно его творчеством. Я хочу подчеркнуть свою
главную мысль: сатирическое изображение Байроном английского
общества в последних песнях «Дон Жуана», на мой взгляд, не
имеет себе равных во всей литературе Англии. Он поступил
правильно, сделав героем этого сборища в загородном доме
испанца,— восприятие и неприятие английского общества у Байро-
на в высшей степени схожи с тем, как воспринял бы и что бы не
принял в нравах этого общества наблюдательный и смышленый
чужеземец.
Завершая разговор о «Дон Жуане», нельзя пройти мимо еще
одной его части, которая еще резче оттеняет различие между этой
316
поэмой и любой другой сатирой английского автора: стихи
Посвящения. Стихотворное посвящение Саути представляется мне
одним из самых бодрящих образцов оскорбительной брани,
когда-либо появившихся на английском языке: .
Боб-Саути! Ты — поэт, лауреат
И представитель бардов — превосходно!
Ты ныне, как отменный тори, ат-
тестован: это модно и доходно.
Ну как живешь, почтенный ренегат?..
Перевод Т. Гнедич
Таков зачин, и далее на том же накале, без какого-либо
ослабления или смягчения идут все семнадцать строф подряд. Не
сравнишь это с сатирой Драйдена, еще менее — Попа, скорее,
быть может, вспоминаются Холл или Марстон, но оба они —
сапожники рядом с Байроном-сатириком. Да, собственно говоря,
это вообще не английская сатира; по сути это не что иное, как
fluting, и всем своим духом и направленностью ближе всего к
сатире Данбара.
Иным это сравнение может показаться сомнительным, но мне
лично оно принесло возможность извлечь больше удовольствия из
чтения Байрона и, думается, более справедливо оценить его, чем
когда-либо прежде. Не буду утверждать, что Байрон — наш Вийон
(да и Данбар и Берне по другим причинам тоже не могут быть
уподоблены французскому поэту), однако мне удалось открыть в
нем некоторые свойства, помимо поэтической избыточности,
обычно не присущие английской поэзии, а также отсутствие
некоторых пороков, весьма ей присущих. Что же до собственных
его пороков, то кажется, будто у каждого из них есть удивительно
похожий близнец, принявший облик достоинства. Склонность к
шарлатанству он совмещает с необыкновенной открытостью, по-
зер— он в то же время оказывается poete contumaco в стране, где
царит чопорная важность; бесконечное притворство и самообман
уживаются в нем с безрассудной, не боящейся унижения искрен-
ностью; в нем есть нечто и от вульгарного патриция, и от полного
достоинства забулдыги, и при всем своем поддельном «сатанизме»,
тщеславном стремлении к дурной славе он и вправду полон
суеверий и окружен дурной славой. Все это я говорю о качествах
и слабостях, отражающихся в его творчестве и важных для
оценки его творчества, не о частной его жизни, которая меня не
занимает.
3. М. ФОРСТЕР
ДВЕ КНИГИ Т. С. ЭЛИОТА
I. К определению понятия культуры
У Т. С. Элиота несколько ипостасей: есть мистер Элиот-поэт и
есть два мистера Элиота—литературных критика. Элиот как поэт
добился потрясающих успехов и осыпан самыми высокими поче-
стями и у нас, и за границей. Однако к данной книжке* он
отношения не имеет. В ней господствуют Элиоты-критики, и, хотя
они нигде не входят в противоречие друг с другом, между ними
существует явное различие. Различаются они в зависимости от
того, к какой аудитории обращаются. Большая часть книги
адресована утонченному, высокообразованному читателю, и в
целом эта часть не получилась. В конце же напечатаны тексты
трех радиопередач для широкой публики, они-то как раз удались.
Создается впечатление, что проза Элиота становится ясной,
яркой, уверенной именно тогда, когда он берется просвещать:
пример тому—прекрасная работа о Данте. Но стоит ему обра-
титься к тем, кто может с ним поспорить, как он начинает
осторожничать, оговариваться, перестраховываться, а слог его
делается тяжелым. Чего стоит одно заглавие! Разговор идет не
просто о культуре, не о понятии культуры, даже не об определе-
нии этого понятия, а о заметках «к определению понятия...». Что
же, хитрый и осторожный заголовок сразу отобьет охоту возра-
жать. Но до чего нескладно он звучит!
Опубликованные в книге радиопередачи делались на Германию
и были переведены на немецкий. В первой из них Элиот
рассказывает о единстве европейской культуры и приписывает
богатство английской словесности связям с Европой. Во второй
речь идет о распаде европейской культуры в последние двадцать
лет и читатель отсылается к «Крайтириэн» — прекрасному журна-
лу, который Элиот сам и издавал. А вот третья передача
получилась явно слабее, в ней автор как раз углубляется в
рассуждения по поводу «определения понятия культуры», а когда
возвращается из глубин назад, нам остается только гадать,
глубоко ли он углублялся. Культура у него связывается и с
семьей, если, конечно, толковать семью правильно. Она ассоци-
ируется в определенных обстоятельствах и с... с чем только она
не ассоциируется! И уж определенно — с христианством. В этом
месте у читателя появляется более твердая почва под ногами. Мы
чувствуем—а Элиот и хочет, чтобы мы почувствовали,—что
религиозная вера для него важнее всего на свете и что произведе-
ния искусства набирают силу лишь в русле религии, под влиянием
318
религии. Это влияние может быть и отрицательным: «...только
христианская культура могла породить... Ницше». Но что касает-
ся Европы, оно, это влияние, вообще-то благотворно. Там, где нет
христианства, нет ничего. Но при этом христианство должно быть
санкционированного типа: мистер Элиот все больше и больше
впадает в богословие. Так, щелчок по носу от него получают
авторы книги, озаглавленной «Церковь рассматривает свои зада-
чи». Неправильно они понимают эти задачи. И тут мы тоже
получаем возможность более детально понять осторожно изло-
женные идеи элиотовских радиопередач. В них много глубокого и
тонкого, много спорного и заставляющего думать. В конечном
итоге приходится признать, что культура имеет еще большее
значение, чем мы предполагали. Но к сожалению, ее смысл не
стал для нас более ясным. В хитросплетениях оговорок и
постулатов теряются и ее очертания, и направление ее развития.
Книге предпослана цитата из лорда Эктона: «Наши исследова-
ния могут быть какими угодно, только не бесцельными». Если
принять во внимание целеустремленный интерес Элиота к религи-
озным спорам, этот эпиграф выглядит не особенно уместным.
Эктон тоже был глубоко религиозным человеком. Но при этом он
принадлежал к убежденным либералам. Про мистера Элиота,
несмотря на всю его многосторонность, этого не скажешь.
2. «Вечеринка с коктейлями». Комедия
Комедия, где одну из героинь распинают на муравейной куче, не
может быть смешной в обычном смысле этого слова, и взявшему-
ся читать «Вечеринку с коктейлями» нужно приготовиться к
определенным трудностям. На сцене некоторые из этих трудно-
стей, вероятно, исчезнут: в прошлом году пьесу доброжелатель-
но приняли на Эдинбургском фестивале, а сейчас она с огромным
успехом идет в Нью-Йорке. Видимо, лица и голоса актеров, их
костюмы придают ей вещественную наглядность, которой не
хватает тексту.
А в каком же положении оказывается не зритель, а читатель?
С самого начала он попадает в какую-то призрачную клиниче-
скую атмосферу. Уже в первом акте становится ясно, что с
некоторыми из героев, если не со всеми, что-то не ладно: они с
несчастным видом и без перерыва болтают, много пьют, а
Лавиния, которая должна была помогать своему мужу Эдварду на
вечеринке, уходит от него. Во втором акте читатель получает
дотешный сюрприз — драматический нокаут, если можно так
выразиться. Он узнает, что трое из второстепенных гостей были
на самом деле врачами, втершимися в компанию, чтобы собрать
информацию о своих ничего не подозревающих пациентах. Чело-
век, который на вечеринке играл роль шута и не имел даже имени,
оказывается главным врачом сэром Генри Харкорт-Рилли. Теперь
он восседает у себя в кабинете со своими помощниками: Джулией
(ее принимали за пустую, сварливую старуху) и Алексом, притво-
рявшимся путешественником и хваставшим большими связями
(они, кстати, оказываются настоящими), Но вот приходят пациен-
319
ты — Эдвард и Лавиния. К вящему неудовольствию обоих, им
делают очную ставку, подчеркивают схожесть их болезней, но
какого-либо эффективного лечения не прописывают. Затем появ-
ляется Силия, с которой у Эдварда была интрижка. Состояние
Силии уже иное, более необычное. Ее мучает ощущение вины—
при этом не за что-то конкретное, а вины вообще, и она жаждет
«искупления». Ей объясняют, какое необходимо лечение, и
направляют в больницу, результат пребывания в которой не могут
предвидеть даже эксперты. Врачи ждут и четвертого пациента, но
тот не приходит, так как полностью погряз в земной суете.
Кончается акт торжественными и трогательными тостами за
благополучие Силии. Тут читателю становится ясно, что он
находится перед лицом церкви, с помощью пастырей наставля-
ющей детей своих на путь истинный.
В третьем акте нам сообщают, чем кончается дело. Эдвард и
Лавиния помирились, счастливо живут в своей прежней квартире
и опять собираются устроить вечеринку. Большего им не дано. Ни
их ссора, ни примирение особой важности не представляют. Что
касается суетного молодого человека, то он еще больше погряз в
земной суете. А вот о Силии нам рассказывают другое. Она
выбрала путь «служения Господу», стала монахиней, сестрой
милосердия и мучительно погибла среди дикарей. Ее страдания
обсуждаются подробно, даже с некоторым злорадством, что,
несомненно, находится в соответствии с религиозными взглядами
автора и его «комедией». Но с точки зрения эстетики здесь не все
в порядке: эти страдания коробят читателя, сбивают с толку.
Христианская этика искупления, угрожающе нависшая над ним с
конца второго акта, слишком уж резко падает на голову. Нельзя
без удивления читать, как врачи-священники, потягивая напитки,
анализируют проблемы «удачного» мученичества.
Несовершенства «Вечеринки с коктейлями» не распространя-
ются на ее язык. Пьеса выписана превосходно, ясно. С языком
Т. С. Элиот может делать все, что угодно. На этот раз он избрал
непринужденно-разговорную стихотворную форму, которая зву-
чит как проза, но при этом искрится переливами интонаций,
искусными подхватами, легко выдерживая, когда надо, любой
эмоциональный накал. На сцене такой слог вывезет любое
содержание, а подкрепленный добротной режиссурой, сделает
пьесу куда менее трудной для понимания.
Э. М. ФОРСТЕР
ПРУСТ
Скотт Монкриф перевел «В поисках утраченного времени» очень
добротно — точно и вдумчиво; дифирамбы его работе пели самые
компетентные судьи, мой же голос в хоре не столь громок лишь
потому, что мне хотелось, чтобы по-английски роман читался
легче, чем по-французски. Но все трудности оригинала Монкри-
фом тщательно воспроизведены. Начинаясь совсем просто, фраза
постепенно раскручивается, словно ее гонит ветром по лугу;
кое-где торчат живые изгороди вводных оборотов, качают голов-
ками цветы сравнений, и, только пройдя изрядный путь, вы
натыкаетесь на основное сказуемое, затаившееся в траве раненой
куропаткой, и, глядя на бедняжку, спрашиваете себя: а стоило ли
так долго брести, да еще с ружьями и собаками; сочетается ли это
сказуемое с тем подлежащим, которое попалось вам пятнадцатью
строчками выше, и почему это оно стояло в винительном падеже?
Но такие уж Пруст создает преграды. И ни один серьезный
охотник не захочет их обойти. Возможно, Скотт Монкриф прав,
заставляя английского читателя участвовать в охоте и через
яростную муштру каждого предложения в отдельности прийти к
пониманию мастерства произведения в целом.
Произведение в целом! В целом оно в десять раз длиннее
обычного романа и непостижное, словно жизнь, правда, жизнь,
как ее воспринимает современный интеллигент. И все-таки между
жизнью и романом Пруста существуют явные различия, и все они
не в пользу Пруста. Но поскольку главные их черты схожи,
можно утверждать, что это произведение ярче, чем любое другое,
воплотило в себе дух нашего времени. Как документу современно-
сти ему нет цены. Историк, изучающий начало Римской империи,
найдет в проницательных стихах Виргилия не только подвиги
Энея, но и замаскированную печаль тех, кто бежал от республи-
канских бурь и опасностей свободы; специалист по позднему
средневековью заметит у Данте не одну субъективную игру
воображения, но и описание последнего, самого великого кресто-
вого похода, который должен был завершиться на небесах. Точно
так же, читая у Пруста о суетливом и вполне незначительном
герое и о снобизме Сен-Жерменского предместья, летописец
начала XX века увидит тут вас и меня. И скажет: «Не знаю, как
насчет художественных достоинств, но это — эпос, отразивший
Дух эпохи». А потом добавит (чем, вероятно, вызовет у нас
недоумение, если мы еще не разучились прислушиваться к словам
Мудрых людей): «Это был век приключений».
П-2389
321
Конечно же, ни вас, ни меня, ни самого Пруста не втянешь в
опасные приключения. Об авантюрах подобного рода в книге нет
и речи: лавры замка Германтов пожухли задолго до того, как
начинается действие; военные страсти Сен-Лу кажутся несколько
старомодными, нелепыми, как геральдические львы, а если сквозь
туман проступают фортификационные укрепления Донсьера и
гремят трубы, то тут и не пахнет серьезным призывом к битве.
Даже когда начинается Большая война, то она в романе — грязное
и слабоумное чудовище, ощетинившееся убийствами; в ее зловон-
ном мраке ковыляет в поисках удовольствий барон Шарлю, а роль
Жанны д'Арк получает госпожа Вердюрен. Так что рыцарских
или романтических приключений здесь не найти. Но персонажи
книги хотят жить, автору нравится писать о них, и если мы
спросим: «Зачем, если мир такой скверный?»—то получим ответ,
который явно найдет отклик в наших душах: «А затем, что нам
хочется знать, каким будет завтра». Завтрашний день, возможно,
окажется не лучше сегодняшнего, а то и хуже, но в нем есть одна
особая привлекательность — он еще не наступил. Копающийся в
себе, явно несчастный, Пруст, несомненно, был полон жизненных
сил — иначе не выдюжил бы произведения такого объема,— и
будущее вызывало у него жгучий интерес. Он сам и его герои
крепко держатся за существование, хотя по логике вещей должны
кончать самоубийством; пусть болезнь душит их, но хоть одним
глазком, хоть краешком глаза они все-таки с любопытством
рассматривают нашу неуютную землю. Да, «В поисках утраченно-
го времени» является эпосом любопытства и отчаяния. А что до
приключений, то они вполне современны, поскольку это приклю-
чения духа, нервов, мозга, когда человек без всякой цели
устремляется навстречу тому, сам не зная чему.
Если начать с отчаяния, то оно у Пруста далеко не поверхно-
стное— не теория, а глубинное ощущение, постулат; поэтому тема
гибели в его мире звучит естественно, как «музыка сфер».
Посмотрите, с какой настойчивостью его притягивает к себе
болезнь. Конечно, немощь и смерть ожидают каждого из нас, но
мы ощущаем их со всей остротой, только когда ухаживаем за
больным, проходим через больничную палату или болеем сами.
Для Пруста же болезнь была повседневной реальностью. Болез-
нетворные микробы йи на секунду не прекращают свою работу
среди гостей на обедах и званых вечерах: у Свана на лице пятна
берлинской лазури, увешанную бриллиантами герцогиню д'Ор-
вилье гложет рак, а бабушка героя кокетливо позирует фотогра-
фу после удара. Но важно, что кровь в жилах от ужаса не стынет.
Пруст был слишком большим художником, чтобы радоваться
суетливым судорогам танца смерти. Его герои — живые люди, а не
разряженные скелеты или умозрительные абстракции, обсужда-
ющие музыку Вентейля. Просто они более явно подвержены
разрушению, чем мы с вами. Питая недоверие ко всяким ужасам,
избегая явных трагедий и редко испытывая жалость, Пруст
добился вполне оригинального взгляда на неустойчивость челове-
ческого существования, и тут имеет смысл сравнить его с Львом
Толстым.
Эпилог «Войны и мира» радостным не назовешь: время
322
изменило Николая и Наташу далеко не в лучшую сторону, но
ритмичные взлеты и падения в сменах поколений все-таки
приглушают тоску. Пруст же в конце «Обретенного времени» все
так же привязан к своим старым героям, не восполняя молодежью
их редеющие ряды. Нет, он, конечно, знакомит нас с новым
поколением: так, титул госпожи де Сент-Эверт носит теперь
девушка, а не прежняя нервозная карга. Но рассказывает он о
молодых только для того, чтобы дать пощечину старикам.
Бурление юной жизни его не интересует, а дети и вообще
остаются за пределами романа. Взгляды Пруста на человечество
(в этом смысле) явно ограниченны, а мешали ему его своеобразные
представления о времени. Для Толстого время было чем-то
размеренным, укладывающимся в логические рамки летописи, для
Пруста оно — нечто прерывистое, как память или любовь. А при
такой структуре мира очень просто изобразить человечество
постоянно разрушающимся и никогда не знающим обновления.
Однако вера Пруста в идею распада не поверхностное, не
умственное увлечение, ее истоки лежат в глубинах его отчаяния.
Любые личные отношения пронизаны в романе отчаянием и
безнадежностью. Пруст без конца подчеркивает живущую в
человеке беспричинную жестокость: верная служанка Франсуаза
мучает судомойку, избрав для этого необычное оружие — спаржу,
а в конце убийством Бермы Пруст словно ставит последнюю
точку кровью. И какие только другие отвратительные пороки,
кроме жестокости, не открывает он в нас. Страшнейший из
них—неспособность любить и быть любимым. Пусть А и Б (если
применить алгебраические символы) — это два человека, которые,
находясь не в особенно тесных светских отношениях, вполне
ладят. Но вот А влюбляется в Б, и взаимопонимание между ними
тут же исчезает, потому что своей любовью А превращает Б в
некую величину X. Но Б ведь не знает, что он X, не может вести
себя, как X, и, выслушав обвинение в двуличности, отвечает
подобными же обвинениями. Дело кончается ссорой. Если же
любовь взаимна, то положение становится совсем невыносимым,
так как теперь фальсификацией заняты сразу оба: А превращает
Б в X, а Б превращает А в У. Обвинения в жестокости и обмане
нарастают в двухкратном, четырехкратном размере: как в двух
бракованных зеркалах, разгорячившиеся влюбленные отражаются
и искажаются друг в друге до бесконечности. Взаимная страсть,
слава богу, редка, но, когда она зарождается, она приносит такие
муки, по сравнению с которыми неразделенная любовь кажется
просто счастьем.
Итак, основная теория человеческих отношений у Пруста
полностью пессимистична: чем дороже нам какой-либо человек,
тем меньше мы его понимаем. Данте по этому поводу был иного
мнения. И в данном случае стоит несколько отвлечься от
современности и вспомнить взгляды на любовь, бытовавшие
шесть веков назад. Автор «Божественной комедии» верил: чем
сильнее мы любим людей, тем лучше их понимаем. Его теория,
таким образом, была полностью оптимистична. Знание у него
равнялось любви, любовь знанию, и Беатриче не могла быть
Беатриче, если бы поэт не надеялся встретить ее на небесах. На
и*
323
этой грешной, несовершенной земле он, конечно, тоже ошибался,
превращая ее в X и ожидая чего-то, что она могла ему дать не
больше, чем Одетта Свану. Но в раю иллюзии рассеиваются, а
любовь очищается от случайностей земного существования. В
конце .концов мир между сердцем и разумом восстановлен, и они
начинают свое истинное бытие. Таким образом, взгляды Данте и
Пруста диаметрально противоположны, и не из-за разницы в их
характерах, а потому, что первый жил в те годы, когда люди во
что-то верили.
Сам я—дитя века безверия, и взгляды Пру рта мне ближе, но
надо ведь принимать во внимание и здравый смысл, который
человек не совсем теряет даже в страсти. И потом, не очень ли
писатель преувеличивает роль ревности? Только она, по его
мнению, и питает любовь. Когда, например, его герою надоедает
Альбертина и он собирается ее бросить, уже одно подозрение,
будто она полюбила другого, делает ее снова желанной. Марсель
опять готов на все, лишь бы удержать подругу,—на жестокость,
жертвы, любую нелепость. Подобные же чувства пронизывают
оба других серьезных любовных романа в книге, делая мир
Пруста куда менее уютным, чем реальный мир. Что же, и мы,
бывает, ревнуем, но не все поголовно и не всегда; а спасает нас в
какой-то мере работа—приходится зарабатывать на жизнь. Герои
же Пруста только то и делают, что вкушают сладость и—соот-
ветственно— горечь праздности. Тут уж «Пруст» и «жизнь» сов-
сем не тождественны; жизнь куда привлекательнее, и поэтому
будущий историк XX века поймет—этот эпос любопытства и
отчаяния, может быть, в чем-то и ухватил нашу с вами суть, да
только не полностью.
В заключение мне хотелось бы сказать несколько слов о
любопытстве Пруста. Оно совершенно неисчерпаемо. Словно
какое-то странное насекомое, оно упрямо ползает по Франции,
редко глядя вниз, никогда вверх, и шевелит усиками-антеннами,
пытаясь познать как сферу социальной жизни, так и сферу
искусства. Сам Пруст не всегда может решить, какую же из сфер
он предпочитает больше, и, как всякое тонко организованное
существо, склоняется то в ту, то в другую сторону. Но в
конечном итоге он все-таки отдает предпочтение искусству.
Бергот, Эльстир, Вентейль, Берма и даже любитель Сван значи-
тельно превосходят хозяек салонов, политиков, лифтеров и
влюбленных: они тоже, конечно, умрут, а их произведения будут
неправильно поняты, но все-таки—сильнее тут нельзя сказать,—
все-таки искусство лучше. Недаром на последних страницах герой
романа собирается стать писателем. Он устраивает смотр всему,
чем владеет, вытаскивает на свет забытое, и это забытое на
мгновение оживает, чтобы тут же растаять и навсегда кануть в
Лету. Но мгновение это — мгновение художника, который одно-
временно должен и вспоминать, и творить. Кстати, о методе
Пруста, о его прыжках в память, из которых сложился шедевр, в
интересном эссе рассказывает Клайв Белл.
«В поисках утраченного времени» создан как бы двойным
любопытством. Сначала это любопытство носило «социальный»
характер: Пруст ходил на нудные приемы, заводил скучные
324
знакомства, подхватывал редкие болезни и на собственном опыте
познал, что значит быть снобом, ревнивцем, сиротой или калекой
с красным носом. А затем наступила пора иного, уже художе-
ственного любопытства. Пруст стал вспоминать все эти светские
рауты, очистил их от яда, и они начали приносить не боль, но
пользу. Даже любовь, самая мучительная из иллюзий, сделалась
полезной: А и Б под микроскопом анализа теперь копошились,
словно бактерии в пробирке, совсем безвредные и вполне подходя-
щие в качестве персонажей книги. Нет, любопытство Пруста не
совсем такое же, как ваше или мое, но он ведь и был не такой
симпатичный, как мы с вами, и уж куда как чутче, тоньше, умнее.
Его пытливость принадлежит нашему времени, его отчаяние тоже
сродни нашему, пусть нас временами и осеняют проблески
надежды. Так что не совсем, не полностью, но он все-таки
является нашим представителем; для будущего историка XX века
существующее сходство окажется достаточным, и эпический
размах романа будет оценен.
Д. Г. ЛОУРЕНС
ПОЧЕМУ ВАЖЕН РОМАН
У нас любопытные представления о самих себе. Мы мыслим себя
как тело с живущим в нем духом, тело с живущей в нем душой,
тело с живущим в нем умом. Mens sana in corpore sano1. Годы
выпивают вино и в конце концов вышвыривают бутылку вон, при
этом бутылкой, естественно, оказывается тело.
Это странная разновидность суеверия. С какой стати, глядя на
свою руку, с таким знанием дела выводящую эти строки, я
должен считать, что она абсолютное ничто по сравнению с
направляющим ее умом? Есть ли на самом деле сколько-нибудь
существенное различие между моей рукой и моим мозгом? Или
моим умом? Моя рука жива, в ней бьется пульс ее собственной
жизни. Прикосновением она встречает всю чуждую вселенную и
познает неизмеримое множество вещей. Моя рука, пишущая эти
строки, весело скользит вдоль листа, подпрыгивает, как муравей,
ставя точку над «i», ощущает холод стола, слегка утомляется,
если я пишу слишком долго, обладает собственными рудиментами
мысли и в не меньшей мере является частью моего «я», чем мой
мозг, мой ум или моя душа. С какой стати должен я воображать,
что у меня есть некое большее «л», нежели моя рука? Поскольку
моя рука абсолютно жива, живо мое «я».
В то же время, поскольку это касается меня, мое перо вовсе
не живо. Мое перо не есть мое живое «я». Мое живое «я»
кончается кончиками моих пальцев.
Я — это все живое во мне. Любая мельчайшая клетка моих
ладоней, любая крохотная веснушка, волосок, складка кожи. И
все живое во мне — это «я». Мои ногти, эти десять маленьких
посредников между мной и неодушевленной вселенной, переходят
таинственный Рубикон, отделяющий меня живого от вещей
наподобие моего пера — с моей точки зрения, неживых.
Но коль скоро моя рука, вплоть до последней клеточки, живет,
коль скоро живет мое «я», что же тогда остается на долю
«бутылки», или «сосуда», или «консервной банки», или «сосуда
скудельного» и прочей чепухи в том же роде? Верно, если я
порежу руку, она будет сочиться кровью, как вскрытая жестянка
с вишнями. Но тогда окажется, что и рассеченная кожа, и
задетые вены, и кости, которые никогда не должны выходить на
поверхность,— все это столь же живо, как и льющаяся кровь. И
В здоровом теле здоровый дух (лат).
326
обнаружится, что все разговоры о консервных банках или
глиняных сосудах — полнейший вздор.
Вот что вы узнаете, если вы — романист. И вот чего вы,
скорее всего, не знаете, если вы проповедник, или философ, или
ученый, или просто недалекий человек. Если вы проповедник, вы
разглагольствуете о душах, витающих в небесах. Если вы рома-
нист, вам ведомо, что рай умещается на вашей ладони или на
кончике вашего носа, ибо и та, и другой живут, живут и
составляют часть живого человеческого «я» — а это больше, чем
можно с определенностью сказать о рае. Рай—нечто следующее
за жизнью, а меня, откровенно говоря, не занимает ничего из
того, что находится вне ее пределов. Если вы философ, вы
рассуждаете о бесконечности и всеведающем чистом духе. Но,
взяв в руки роман, вы немедленно убеждаетесь, что бесконеч-
ность не более чем ручка к пресловутому сосуду человеческого
тела; что же до знания, то, сунув палец в огонь, постигаешь
истину, что огонь обжигает, посредством опыта столь бесспорно-
го и всепроникающего, что по сравнению с ним нирвана кажется
всего лишь догадкой. О да, мое тело, мое живое «я», постигает, и
постигает чувственно. А что касается суммы всех знаний, то она
не может быть чем-то большим, нежели вместилище всего, что я
познаю моим телом, а вы, дорогой читатель, постигаете своим.
Эти проклятые философы вещают с таким видом, будто на них
снизошло откровение и они воспарили умом и телом, почему стали
несравненно важнее, нежели прежде, когда они скрывали под
рубашкой только земную наготу. Чепуха. «Я» каждого человека,
не исключая и философа, кончается кончиками его пальцев.
Таков предел его живого «я». Что же до слов, мыслей, вздохов и
откровений, слетающих с его уст, они суть лишь определенное
число колебаний в эфире, отнюдь не способных к самостоятель-
ной жизни. Но если эти колебания достигнут другого человека, он
сможет включить их в ритм своей жизни, и жизнь его, может
статься, примет новую окраску, подобно хамелеону, перескочив-
шему с бурого камня на зеленый лист. Все это прекрасно. Но ни
йа йоту не меняет того, что так называемый дух, или завет, или
учение, исходящие от философа или святого, сами по себе вовсе
Не живут в пространстве; подобно радиограмме, они лишь колеба-
ния в эфире, Все эти разговоры о духе—простое сотрясение
воздуха. Если вас, живого человека, оно побуждает к новой
жизни, то лишь благодаря тому, что вы живы и ваше живое «я»
Вбирает в себя неисчислимое множество стимулов и побудителей.
Но утверждать, что завет или дух, к которому вас приобщили,
важнее вашего живого тела, нелепо. То же можно было бы
сказать о картофеле, поданном к обеду.
, Ничто не имеет значения, кроме жизни. А я со своей стороны
йе нахожу жизни ни в чем, кроме как в живущем. Жизнь с
большой буквы — это только человек живущий. Даже кочан
Капусты под дождем — это живой кочан. Все живущее изумляет. А
Все мертвое второстепенно по отношению к живущему. Лучше
?кивая собака, чем мертвый лев. Но лучше живой лев, чем живая
§обака. С'est la vie!1
1 Такова жизнь! (франц.)
327
Заставить считаться с этой простой истиной святого, или
философа, или ученого, кажется, невозможно. Все они в изве-
стном смысле отступники. Святой жаждет обратить самого себя в
духовную пищу для многих. Даже Франциск Ассизский—и тот
превратил себя в подобие какого-то ангельского торта, от которо-
го каждый может отрезать себе кусочек. Но ангельский торт —
это гораздо меньше, чем живое «я». И у бедного св. Франциска
были основания просить на смертном одре прощения у собствен-
ного тела: «О тело мое, прости все зло, что я причинял тебе все
эти годы моей жизни!» Ведь его тело не было облаткой, которую
вкушают во храме.
Философ же со своей стороны, коль скоро он наделен
способностью мыслить, заключает, что не имеет значения ничто,
кроме мысли. Совсем как кролик, который, убедившись, что
может оставлять на земле маленькие шарики, вдруг решил бы,
что ничто, кроме этих шариков, не важно. Что касается ученого,
то для меня как живого человека его интеллект совершенно
бесполезен. В глазах ученого я мертв. Он кладет под микроскоп
частицу моего мертвого «я» и называет ее мной. Он расчленяет
меня на куски и объявляет мной то один, то другой кусок. Мое
сердце, печень, желудок—все это с научной точки зрения было
равнозначно мне, если поверить ученому; а ныне «я» — это мой
мозг, или мои нервы, или мои железы, или нечто более
новомодное из области тканей.
Итак, я категорически отрицаю, что «я» — это душа, или тело,
или ум, или интеллект, или мозг, или нервная система, или связка
желез, или любая другая из частей моего существа. Целое
больше, чем часть. И потому мое живое «я» необъятнее, нежели
моя душа, дух, тело, ум, сознание или что бы то ни было,
являющееся всего лишь одной из частей моей личности, Я—чело-
век, и я жив. Я—живой человек и намерен оставаться живым
человеком, пока смогу.
По этой причине я—романист. И, будучи романистом, я
чувствую свое превосходство перед святым, ученым, философом и
поэтом, каждый из которых в совершенстве изучил одну из сторон
живого человека, но неспособен объять его целиком.
Роман—ясная книга жизни. Книги не есть жизнь. Они только
колебания в эфире. Но роман—это колебание, которое может
заставить затрепетать всего живого человека. Что больше, чем
могут сделать поэзия, философия, наука или любое другое
колебание, производимое книгой в эфире.
Роман — книга жизни. В этом смысле Библия—огромный
беспорядочный роман. Вы можете сказать: она о боге. Но в
действительности она о живом человеке. Адам, Ева, Сарра,
Авраам, Исаак, Иаков, Самуил, Давид, Вирсавия, Руфь, Эсфирь,
Соломон, Иов, Исайя, Иисус, Марк, Иуда, Павел, Петр—кто все
они, как не живой человек, с начала до конца? Живой человек, а
не отдельные его части. Даже господь бог — еще один живой
человек, бросающий в пламенных кущах каменные скрижали
Моисею.
Надеюсь, вы уже постигаете мою мйсль о том, почему роман
как вид колебания в эфире обладает ни с чем не сравнимой
328
важностью. Платон будит во мне совершенное, идеальное суще-
ство. Но оно лишь часть меня. Совершенство — только часть
личности в непривычном гриме живого «я». От Нагорной пропове-
ди трепещет мой альтруистический дух. Но он тоже лишь часть
моего существа. Десять заповедей пробуждают во мне ветхого
Адама, напоминая, что где-то в глубине я — вор и убийца и что
мне следует быть начеку. Но даже ветхий Адам—всего лишь
часть моего «я».
Меня не может не волновать, когда все эти стороны моего
существа оживают, приходят в трепет, переполняются мудростью
жизни, но я хочу, чтобы когда-нибудь во мне затрепетало все мое
«я», в его полноте и целостности.
И этот трепет, разумеется, должен всколыхнуть глубины
моего живого существа.
Однако если трепет рождается из общения с книгой, это
Происходит лишь тогда, когда целостный роман раскроет мне
себя. Библия — но вся Библия, а кроме того, и Гомер, и
Шекспир — вот непревзойденные старые романы. В них есть все
для всех людей. А это значит, что в своей целостности они
затрагивают все живое «я», которое и есть сам человек, высящий-
ся над любой из его частей. Они заставляют все дерево трепетать
От нового прилива жизни, а не просто способствуют росту в одну
сторону.
Я не хочу больше расти только в какую-нибудь одну сторону.
Й если я могу этого избежать, не хочу побуждать еще кого-либо
двигаться в некоем заданном направлении. Заданное направление
Кончается тупиком. В настоящее время мы и находимся в
тупике.
Я не верю ни в блистательное откровение, ни в боговдохновен-
ное Слово. «Трава иссохнет, цветок увянет, но Слово Господне
Пребудет вовеки». Вот какими вещами мы забили себе головы.
Трава действительно высыхает, но оттого и становится еще
зеленее после дождя. Цветок увядает, и оттого раскрывается
йовый бутон. Но Слово Господне, изреченное человеческими
устами и не перестающее быть обычным колебанием в эфире, все
больше и больше утрачивает свежесть, звучит все более и более
Монотонно, и, наконец, мы обращаем к нему неслышащее ухо, и
оно перестает существовать — безвозвратнее, нежели любая вы-
сохшая трава. Ведь это трава, а не Слово, подобно орлу,
рождается заново.
; Мы не должны и искать абсолютов или абсолюта. Покончим
раз и навсегда с мерзкой тиранией абсолютов! Нет ни абсолютно-
го добра, ни абсолютной правоты. Все течет и меняется, и даже
Ьамая смена вещей не абсолютна. Целое — это странный набор по
видимости несвязанных частей, скользящих одна вдоль другой.
* Например, я, живой человек, представляю собой любопытней-
ший набор несвязанных частей. Мое сегодняшнее «да» причудли-
во отличается от вчерашнего. У моих завтрашних слез не будет
Ничего общего со слезами, пролитыми мною год назад. Если та,
•Kdro я люблю, всегда будет неизменной, я перестану любить ее.
|Ведь я и продолжаю ее любить лишь потому, что она все время
меняется, побуждая меня преодолевать инерцию неподвижности, и
329
сама в свою очередь неустанно перерождается под воздействием
перемен во мне. Застынь она в неподвижности, я мог бы с равным
успехом влюбиться в перечницу.
В процессе всех этих перемен во мне остается нечто цельное.
Но упаси меня боже пытаться конкретизировать это нечто. Скажи
я о себе: «Я такой-то и такой-то» и останься я верен данному
определению, я немедленно превращусь в стабильный и неодушев-
ленный предмет вроде фонарного столба. Мне никогда не узнать,
в чем именно заложены моя цельность, моя индивидуальность,
мое «я». Мне не дано узнать этого. Распространяться о моем «я»
бессмысленно: это всего лишь означало бы, что я составил
какое-то представление о самом себе и теперь пытаюсь выстроить
и выровнять себя согласно данной модели. Что заведомо обречено
на неудачу. По мерке готового костюма можно выкроить ткань,
но нельзя срезать с вашего живого тела выступающие куски с
тем, чтобы оно вполне отвечало заданным меркам вашего пред-
ставления о нем. Можно, правда, затянуть себя в тиски идеально-
го корсета. Но даже у идеальных корсетов со временем меняются
фасоны.
Давайте учиться у романа. В романе персонажи могут только
жить. Если они продолжают быть хорошими согласно модели,
или плохими согласно модели, или даже способными к перерожде-
нию согласно модели, они перестают жить и роман умирает.
Персонаж в романе должен жить; в противном случае он — ничто.
Мы в реальной жизни аналогичным образом должны жить, или
мы — ничто.
Разумеется, то, что мы подразумеваем под словом «жить»,
столь же не поддается описанию, сколь и то, что мы подразумева-
ем под словом «быть». Заложив в голову представление о том, что
они понимают под Жизнью, люди начинают затем выкраивать
свои жизни по меркам. Они бегут в пустыню то в поисках бога, то
в поисках золотого тельца; они жаждут то вина, женщины и
песен, то воды, политической реформы и голосов на выборах.
Никогда не угадаешь, что взбредет им на ум: от истребления
ближних с помощью смертоносных бомб и раздирающего легкие
газа до основания дома для подкидышей, проповеди вечной Любви
и выступления в качестве соучастника на бракоразводном процес-
се.
Во всем этом чудовищном сумбуре необходимо что-то вроде
ориентира. Нет смысла изобретать разные «Ты не должен!».
Что же остается? Искренне, непредвзято вглядеться в роман и
увидеть, в чем вы живой человек, а в чем — живой труп. Вы
можете любить женщину как живой мужчина, а можете обладать
ею как мертвец. Вы можете и обед ваш поглощать как живой
человек или как механически жующий труп. Будучи живым
человеком, вы можете выстрелить в вашего врага. Но, будучи
пугающе жизнеподобным манекеном, вы можете швырять бомбы
в людей, которые вам не враги и не друзья, а всего лишь
существа, по отношению к которым вы мертвы. Что преступно,
когда существа эти оказываются живыми.
Быть живым, быть живым человеком, быть цельным живым
человеком — вот в чем суть. И в лучших своих образцах роман, и
330
прежде всего роман, может помочь вам. Он может помочь вам не
быть мертвецом в вашей жизни. То-то и то-то в мужчине сегодня
сохраняет лишь видимость жизни, бродит по дому и улице
ожившим скелетом; то-то и то-то окончательно умерло в женщи-
не. Как у фортепиано, половина клавишей которого онемела.
Но в романе вы отчетливо видите, когда мужчина превращает-
ся в живой труп, когда женщина внутренне мертвеет. Вместо
теорий о правом и неправом, добре и зле вы можете, если
захотите, развить в себе инстинкт к постижению жизни.
В жизни всегда существуют правое и неправое, доброе и злое.
Но то, что право в одном случае, неправо в другом. И в романе вы
видите, как один персонаж на глазах становится трупом в силу так
называемой «нравственности» его натуры, а другой—по причине
так называемой «безнравственности» ее. Ощущение правого и
неправого инстинктивно; но это инстинкт целостного человеческо-
го сознания: телесного, интеллектуального и духовного одновре-
менно. И только в романе все эти стороны находят полное
развитие или по крайней мере могут получить полное развитие,
когда мы осознаем, что сама жизнь, а не инертная безопасность,
есть первопричина существования. Ибо из полного развития всех
этих сторон кристаллизуется то единственное, что имеет значе-
ние: цельность мужчины, цельность женщины, живой мужчина и
живая женщина.
Р. олдингтон
ПОЭТ И ЕГО ЭПОХА
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что отношение
поэта к его эпохе не должно быть его собственным изображени-
ем, что он не должен ни сознательно отвергать действительность,
ее открытия, дух своей эпохи, ни объявлять себя их истолковате-
лем. В первой ошибке были сильнейшим образом повинны
романтики, во второй'—футуристы, а также другие школы и
отдельные писатели, теперь уже забытые или впавшие в безвест-
ность. Однако позиция романтиков, даже в крайних ее проявле-
ниях, более терпима и менее вредна, потому что материал поэзии
остается примерно одним и тем же во все эпохи и еще потому, что
человек все-таки не может оставаться совсем уж в стороне от
новых идей, присущих его времени. Итак, поэт не должен
объявлять себя «толкователем своей эпохи», он может брать темы
и, пожалуй, формы из давних времен, но, поскольку он не может
укрыться — и не должен этого желать — от «духа своего времени»,
его творчество будет выражением духа его эпохи в той мере, в
какой он способен его постигнуть и усвоить. Это вовсе не значит,
что сейчас он возьмется излагать в стихах идеи Эйнштейна в меру
своей в них осведомленности и сочинять «поэмы относительно-
сти», но самый факт, что ему об этом что-то известно, уже
отличает его от всех предшественников, и лишь в такой—и
только в такой! — мере он оказывается «истолкователем своей
эпохи».
Нынешняя эпоха—эпоха брожения и неясности, однако вовсе
не гнетущая и жуткая невнятица, как воображают некоторые, а,
скорее, симптом, обнадеживающий симптом того, что мы восста-
ем против духовных врагов человечества, имя которым—
загнивание и упадок, и что мы пытаемся ассимилировать много
новых идей, придать им порядок и гармонию. Но если эпоха и
смутна (возможно, все эпохи представляются неясными живущим
в них и требуется перспектива времени, чтобы озарить их
скрытую от глаза упорядоченность), это еще не причина, чтобы
смутными были искусство и та его ветвь, которую мы называем
поэзией. Какая-то часть современной английской поэзии, значи-
тельная часть французской и (если меня не ввели в заблуждение)
еще более значительная часть немецкой отличаются несомненной
смутностью. С другой стороны, очень значительная часть совре-
менной поэзии, и в частности английской, застойна и перепевает в
ухудшенном варианте то, что гораздо лучше уже было исполнено
раньше. И в том и в другом случае читатель испытывает
разочарование. Он чувствует, что в поэзии, которую я назвал
332
смутной, есть много энергии, проникновенности, таланта, но она
не поднимается до высот искусства, поскольку лишена упорядо-
ченности. В то же время он чувствует, что упорядоченность
поэзии, которую я назвал застойной, произвольна, фальшива и
тупа. Поэзия, которой ищет этот гипотетический читатель,
которая, по его убеждению, может быть создана и будет создана,
пока еще не вырвалась на простор. Возможно, во многом это
объясняется тем, что поэты лелеют неверные представления об
искусстве, тем, что они не пришли к решению, каким должен
быть их путь, а если и пришли, то к неверному. Несомненно,
нынешнее время богато разнообразными поэтическими талантами,
но поэты словно не умеют правильно распорядиться своими
дарованиями. Им словно не удается вложить в свои стихи
прекрасные мысли и идеи, так что гораздо интереснее
слушать современных поэтов (с глазу на глаз, а не в большом
обществе!), чем читать их стихи. Наверное, многие и многие
удивлялись не меньше меня, что такие умные, тонкие, чуткие,
столько знающие люди создают произведения столь незначитель-
ные, неряшливые и робкие, хотя, как мне кажется (возможно, я
излишне оптимистичен), сейчас в области поэзии у нас работает
почти столько же талантливых и тонких людей, как в первой
четверти XVII века (если исключить Шекспира и Донна)1.
У наших современников несравненно больший запас идей и
представлений, чем у драматургов той эпохи, они много ближе к
истинной утонченности и более чутки, чем тогдашние лирические
поэты, и тем не менее они совершенно не способны превзойти ни
буйную, щедрую плодовитость тех драматургов, ни пленительное
изящество и беззаботное благородство стихотворцев. Или «язык у
них связан властью»? Ибо языки у них, несомненно, связаны—и
у них, и у нас одинаково. Я хочу сказать вовсе не то, что стихов
пишут слишком мало (уж скорее наоборот!), но то, что поэты не
вкладывают в свои произведения и сотой доли присущих им
духовного богатства и глубины мыслей. Будущие эпохи, огляды-
ваясь на нас, решат, что мы были либо чересчур покладисты и
услужливы, либо пусты и несобранны, что наша поэзия была,
возможно, упорядоченной, но слабосильной, возможно, энергич-
ной, но бесформенной. Вину за это мне хочется возложить не
только на слабости самих поэтов, но в равной мере и на
невежество, самодовольство и снобизм читателей. Суть в том, что
наша эпоха могла бы и должна была бы не уступать в богатстве
хорошей, если не великой, поэзии XVII века, а на деле, несмотря
на внушительный объем поэтической продукции, она по качеству
значительно беднее того, что создавалось в периоды между 1600 и
1622, 1700 и 1722, J 800 и 1822 годами и превосходит лишь скудную
в поэтическом отношении эпоху 1500—1522 годов.
Пора положить конец этому длинному отступлению и вернуть-
ся к проблеме связи между поэтом и его временем. Этот довольно
неопределенный термин открывает возможности для множества
самых разных изысканий. Можно, например, спросить, почему
1 Утверждение это, безусловно, рискованное, но я его оставляю как свиде-
тельство если не большой проницательности, то благожелательности.
333
одни эпохи более благоприятны для создания поэзии, чем другие;
или почему в век Елизаветы джентльмену было стыдно не уметь
написать сонета или сочинить песню и спеть ее самому, аккомпа-
нируя себе на лютне, тогда как в эпоху Георга V ни один
джентльмен ничего подобного себе не позволит, а на поэта
смотрят как на довольно комичного, если не вовсе темного
субъекта. Можно еще исследовать отношения между искусством
и наукой, их аналогии и различия и явную взаимную враждеб-
ность. Или же можно противопоставить понятия о поэзии у
писателей эпохи Данте (когда «благородными» темами для поэта
считались Война, Любовь и Бог) с вероятным понятием о ней
наших современников, учитывая, что мы считаем войну омерзи-
тельным варварством, что наши теории любви в основном сводят-
ся к физиологии (все мы читали Фрейда и господина Эллиса*) и
что в подавляющем большинстве мы верим, что не люди созданы
богом, а бог — людьми. Таким образом, написанные теперь «геро-
ические» поэмы, или любовные стихи в духе Петрарки, или
религиозные медитации рискуют показаться образованным чита-
телям надуманными и нелепыми. Ретроспективно Гомер, Петрарка
и Данте доставляют нам наслаждение, но у нас нет ни малейшей
надежды воскресить героическую эпопею и канцоны, воспева-
ющие мистическую любовь или видения ада, чистилища и рая.
Современное воображение вовсе не уступает в живописности во-
ображению XIII века, но оно, несомненно, работает в иных на-
правлениях, опирается на иные предпосылки и действует в иных
условиях. Пошлые представления, будто наука уничтожила по-
эзию, что эксперимент низложил фантазию, не выдерживают
критики, так как сама наука всегда окружена тайнами (дважды
два, как нас уверяют, всегда равно четырем, и зрелище звездных
небес, прежде считавшееся порождающим благоговение доказа-
тельством раз навсегда установленного порядка, теперь иллюстри-
рует видимость связей, в действительности никогда не существо-
вавших). Но если поэт не может и не должен брать темой предмет
науки, ему следует иметь представление о последних научных
открытиях. Одно из характерных свойств науки заключается в
том, что старое в ней непрерывно вытесняется новым, тогда как в
искусстве ничто не вытесняет предшествующего. Передо мной
лежит французская песенка XIII века, автор которой неизвестен.
Но он, несомненно, верил в троицу, в первопричину всего сущего,
в то, что Солнце обращается вокруг Земли, а возможно, и в то,
что единорога может изловить только непорочная девственница.
Большинство из нас ни во что подобное не верит, и, однако, такие
строки доставляют нам лишь удовольствие.
Губок милых нет милее —
Сколь их сладостен привет!
Розы нету их алее —
Обойди хоть целый свет.
Щечек этих белый цвет
Даже ландыша нежнее.
Но когда сказала: «Нет»,—
Я простился сразу с нею,
И прекрасный взор
Стал мне скучен с этих пор.
334
Какой мы делаем из этого вывод? Очень простой: хотя с 1300
года наши научные представления изменились полностью, искус-
ство просто развилось. Наука 1300 года кажется нам скучной и
нелепой, но тогдашнее искусство все еще дарит радость. Однако
не стоит думать, будто современный поэт относится к своему
искусству так же, как средневековый певец; он может испытать
те же чувства, но они подействуют на него иначе и будут
выражены иначе. Вот пример того, как современный певец
раскрывает ту же тему:
Тебя любить — нешуточное дело:
Проблема пола. Роль души и тела,
Души и тела, тела и ду... Но —
О женщины, вам все осточертело!
Любовь моя, не любишь ты давно.
Я не возьму на себя смелость утверждать, что маленькое
стихотворение мсье Пеллерена будет доставлять читателям в 2522
году такое же удовольствие, как средневековая песенка в 1922
году — ведь его отличает та злополучная неясность и смутность, о
которой я говорил с таким сожалением, однако эти две цитаты
свидетельствуют и о том, что материал поэзии остается прежним
и что позиция поэта, а следовательно, и воплощение этого
материала должны меняться. Боже избави, чтобы я приписал
пустячку мсье Пеллерена глубину, о которой он и не думал, но
тем не менее я не слишком отступлю от истины, сказав, что его
позиция вполне гармонирует с высказанной им в другом месте
идеей, что человечество — «ничтожная пылинка в космической
необъятности», абсолютно современной идеей, невозможной для
средневекового поэта. Я чувствую (хотя, быть может, и гипербо-
лизированно), что первому поэту живется гораздо уютнее и
спокойнее в его вселенной, напоминающей часы, которые заводит
и смазывает человекообразный бог, нежели поэту современному,
терзающемуся ничтожеством человека, зыбкостью и преходяще-
стью всех дел человеческих и ошеломленному колоссальными
тайнами, связанными с нашими понятиями о вселенной. Так, и
только так, наука влияет на искусство, и только так можем мы
признавать поэзию «современной».
В этом смысле инстинкт, помешавший большинству англий-
ских поэтов нашей эпохи приняться вслед за Маринетти восхва-
лять автомобили или впадать в истерику по поводу аэропланов,
мне кажется здравым и похвальным. Стоит вспомнить, что в
горячке поклонения механике, которая сопровождала развитие
железных дорог, Французская академия предлагала поэтам сход-
ные темы, но все эти произведения давно и полностью забыты.
Есть много спорного в предисловии Арнольда к вышедшему в
1853 году сборнику его стихов и особенно в той настойчивости, с
которой он утверждает, что в основе поэзии лежит чисто
Классическая идея «благородных деяний»1. Тем не менее в его
словах заключена для нас большая мудрость, и нам следует
.тщательно их взвесить. Я вспоминаю об этом предисловии, в
1 Тем самым он отрицает «личную поэзию», занимавшую такое большое место
в творчестве, например, Гейне, Донна и Верлена.
335
частности, когда читаю современных американских поэтов и
критиков, а также, хотя и в меньшей степени, современную
французскую и итальянскую поэзию, и особенно стихи так
называемых унанимистов — Аполлинера и его учеников, Маринет-
ти и его учеников. Я имею в виду следующий абзац из
предисловия Арнольда:
«Они не говорят о своей миссии, об истолковании своей эпохи
или о поэтах будущего — все это, как они убеждены, лишь
тщеславный бред. Их задача заключается не в восхвалении своей
эпохи, но в том, чтобы доставлять людям, в ней живущим,
высочайшее наслаждение, какое они способны испытывать. Если
их призывают использовать для этого темы, присущие самой
эпохе, они спрашивают, почему именно она считается для этого
подходящею. Им отвечают: это эра прогресса, эпоха, которой
должно воплотить великие идеи промышленного развития и
смягчения общественных бедствий. Они отвечают, что все это их
не трогает, что пищей для искусства служат великие деяния,
властно и торжественно задевающие вечные струны человеческой
души. В той мере, в какой нынешняя эпоха может предложить им
подобные деяния, они с радостью на них откликнутся, но что
эпохе, лишенной нравственного величия, подобные деяния мало
свойственны и они вряд ли способны властно и торжественно
воздействовать на эпоху духовного смятения».
По-моему, этого достаточно, чтобы перечеркнуть теории пок-
лонников дикого американского Запада и аэропланов. Однако я не
хочу создавать впечатление, будто, одобряя идеи, заключенные в
этом отрывке, я тем самым поддерживаю писателей, ущербных
иначе, а потому я должен подчеркнуть следующее: мы не можем
давать людям нашей эпохи «высочайшее наслаждение, какое они
способны испытывать», если будем пользоваться, говоря словами
Джонсона, «описаниями, скопированными с описаний, подражани-
ями, заимствованными из подражаний, традиционными образами и
наследственными метафорами, готовностью рифмовать и склонно-
стью к многословию».
Раздумывая над еще одним затронутым тут моментом — над
взаимоотношениями поэта и его читателя, я, повторяю, склонен
винить в относительном бессилии нашей современной поэзии
читателей не меньше, чем поэтов. Невозможно отрицать, что
художник испытывает влияние читающей публики. Даже самый
взыскательный к себе, наиболее самодостаточный художник не
может остаться совершенно равнодушным к приему, который
встречают его произведения. Я не могу полностью согласиться с
утверждением, будто поэт должен писать «для одного гипотетиче-
ского интеллигентного читателя», потому что такой цинизм меня
больно ранит и еще потому, что поэзия, создаваемая по такому
рецепту, подвергается серьезному риску стать слишком уж
аллюзивной и утонченной, непонятной и неинтересной ни для
кого, кроме автора и тесного кружка его друзей. Это классовая, а
не общенациональная поэзия, но насколько ограничен класс,
состоящий из одного гипотетического индивида! Равным образом
я не принимаю романтическую идею «непонятого поэта», который
приносит себя в жертву столь же гипотетическому потомству и
336
утешается мечтами о своем посмертном бессмертии. Классические
примеры «непонятых поэтов» — это либо люди, умершие совсем
молодыми, либо те, кто вызывал непреодолимое предубеждение
против себя чрезмерной надменностью, эксцентричностью или
порочностью. Я не знаю ни одного более или менее талантливого
поэта, который, дожив до сорока лет, не получил бы хоть
какого-нибудь признания и поощрения от компетентных знатоков.
И в вину нынешним английским любителям поэзии, к которым,
естественно, современный поэт в первую очередь обращается за
порицанием или одобрением, я вменяю именно то, что как
читатели они в лучшем случае малокомпетентны и приветствуют в
новой поэзии как раз те пороки подражательности и многословия,
которые с такой энергией обличал Джонсон. Другими словами,
автор, искусно подражающий наиболее популярным нашим по-
этам, например Китсу или Вордсворту, имеет больше шансов
заслужить успех и одобрение, чем куда более талантливый и
взыскательный поэт, описанный Арнольдом. Пользующиеся успе-
хом писатели иногда жалуются, что публика вынуждает их
ограничиваться произведениями только одного типа. «Не обращай-
те внимания на публику!»—так откликнутся на это и романтик и
гордый интеллектуал, но мне кажется (хотя я могу и ошибаться),
что поэт вредит себе, если «не обращает внимания на публику»
слишком уж подчеркнуто и высокомерно. Во мне живет убежде-
ние, что назначение поэзии — доставлять радость; если же она не
доставляет радости никому, за исключением, быть может, одного-
единственного гипотетического индивида, то я не вижу, зачем ее
надо публиковать. Пожалуй, было бы неплохо, если бы поэты для
начала печатали свои произведения только в периодических
изданиях (что совсем нетрудно) и не торопились выпускать их
отдельным сборником, не уверившись, что этот сборник найдет
достаточное число читателей, оправдывающее его опубликование.
(Надеюсь, я не покажусь чересчур циничным, если скажу, что
критические отзывы в прессе на поэтический сборник обычно
бывают настолько поверхностными и неумными, что не приносят
автору ни малейшей пользы.) Но, убеждая поэтов прилагать все
усилия, чтобы дарить своим читателям «высочайшее наслажде-
ние», я готов призывать и читателей требовать от современных
поэтов того подлинно оригинального, что действительно дарит
«высочайшее наслаждение», а не мелкое удовольствие от искусной
подделки. «Утомительно говорить сквозь вату»,— замечает Кло-
дель, имея в виду гробовое молчание, каким были встречены его
первые книги. Но я не верю, что среди современных английских
поэтов, даже не очень талантливых, найдется хоть один, которого
не подбодрили бы —и возможно, более, чем он того заслуживал.
Вероятно, скорее следует опасаться того, что недурного поэта-
подражателя перехвалят, чем вовсе не заметят, хотя сказать того
же об истинно талантливом и оригинальном поэте никак нельзя.
Сколько времени оставалась в безвестности поэзия Даути*? И
разве были бы «Династы» так хорошо приняты, если бы Харди
уже не приобрел имени своими романами? Другими словами, мне
кажется, что английские любители поэзии, подобно читателям
многих других стран с богатым литературным прошлым, склонны
337
больше приветствовать умелые вариации на старые темы, чем
подлинно новые творения. Возможно, так было всегда — во вся-
ком случае, я знаю, что не раз ловил себя на желании предпочесть
хорошую подражательную новую поэзию более оригинальным и,
следовательно, более трудным для восприятия произведениям. К
тому же почти неистощимый запас уже апробированных прекрас-
ных поэтических произведений так и соблазняет не искать того
менее гарантированного удовольствия, какое может подарить
самая новая поэзия. Очень легко убедиться, что пока не следует
читать мистера Бландена, поскольку ты еще не знаком с Клэром*
и Блумфилдом*. Тем не менее хорошая современная поэзия
представляет для нас интерес, какого уже не представит для
следующих поколений, и мы поступаем неверно и глупо, если
беремся опрометчиво утверждать, будто хорошей современной
поэзии не существует. Она существует. Однако разве мы не в
праве призывать поэтов к попыткам сделать свои произведения
еще более способными дарить «высокое наслаждение»? И, как
читатели поэзии, разве мы не должны остерегаться поставить
менее совершенное выше более совершенного?
Не знаю, возможно ли извлечь из всех этих отступлений от
темы какие-либо принципы или рецепты совершенства. Я возвра-
щаюсь к моему утверждению, а вернее, чувству, что поэты
нынешнего поколения, хотя и достаточно богаты талантом, хотя
высоко одарены духовно и интеллектуально, тем не менее пока
сумели развить свои потенциальные поэтические возможности
лишь в ничтожной степени. Словно они согласились с пошлым
взглядом, взглядом модного романиста, будто поэзия-г-это своего
рода милая, но пустяковая традиционная игра, в которую надле-
жит играть только обаятельным дилетантам. Поэты словно бы
сознательно заморили свое искусство голодом, обрекли его на
скудную диету постоянного подражания, но не жизни, а себе
самому. Однако можно с полной уверенностью утверждать, что
поэзия составляет самую вечную, самую ценную и доставляющую
радость часть литературы, что тот, кто глух к поэзии, лишен
вкуса и не способен испытать величайшее наслаждение, какое
может доставить литература. Достижения английских поэтов
прошлого столь разнообразны и значительны, что нас можно
извинить, если мы, как нация перестали создавать новую перво-
классную поэзию или хотя бы добротную поэзию классом ниже.
Последние два-три десятилетия нам представляются относительно
бесплодными, но не исключено, что при взгляде из будущего они
такими не покажутся. В любом случае ни одна нация не способна
создавать неиссякающий поток шедевров. Периоды продуктивно-
сти должны сменяться периодами покоя. Английская литература
богата неожиданностями, и (кто знает) возможно, следующее по-
коление увидит новый поэтический взрыв, равный по силе взры-
вам первой четверти XVII и XIX веков. Но в любом случае отчаи-
ваться нет нужды: нынешнее поколение все же передало светоч
дальше, и возможно, поэтам потребуется чуть больше пыла и
дерзаний, а их читателям—чуть больше энтузиазма и взыска-
тельности, чтобы наступил новый богатейший период, в природе
которого мы не столь уверены, сколь в надежде его увидеть.
О. ХАКСЛИ
ЭДВАРД ЛИР
Мало чьи сочинения я читаю больше, чем однажды, и конечно,
среди таких авторов — Эдвард Лир. Нонсенс, как и высокая
поэзия, с которой он весьма тесно связан, как философские
построения, как всякое создание фантазии, отстаивает духовную
свободу человека перед лицом всех угнетающих обстоятельств.
Пока человеческий разум еще волен изобретать Квангла Вангла и
Коноплянца, бродить, как ему вздумается, по Великой Громбу-
лийской Долине и Гнанклиборским Холмам, победа за нами. Само
существование нонсенса очень близко подводит к доказательству
того недоказуемого постулата веры, который нам остается при-
нять без оговорок—или сгинуть самым жалким образом; он
гласит: жить на этом свете стоит. Когда обстоятельства складыва-
ются так, чтобы доказать мне с неопровержимостью силлогизма,
что жить на этом свете не стоит,—тогда я беру Лира и он утешает
меня и освежает. Я читаю его и чувствую, как славно, что я жив,
ибо с Лиром мне разрешена вся моя несуразность.
Лир — подлинный поэт. Разве его нонсенс — что-нибудь иное,
чем лирическая фантазия, слегка свернувшая со своей обычной
дороги? И как всякий истинный поэт, Лир понимает слово: слово
само в себе, драгоценное и звучное, как музыкальная фраза,
самостоятельное, как человеческое существо. Марло рассказыва-
ет нам о досугах божественного Зенократа, Мильтон — о том, как
падают листья в Долине Теней, Лир — о Коноплянце на штопорно-
пробочной лапке, о зубчатых ложках, о вещах медынных и
бонтонных.
Льюис Кэрролл писал бессмыслицу, преувеличивая смысл,—
некую избыточную логичную логику. Игра его слов интеллекту-
альна. Лир, поэт по преимуществу, творил бессмыслицу из
избытка лирического воображения, он играл словами ради одного
их звучания и блеска. Его нонсенс — более чистый образец жанра,
поскольку он более поэтичен. Чуть измените тональность — и
«Донг со светящимся Носом» окажется одной из достопамятней-
ших романтических поэм XIX века. А изысканный «Янги Банги
Бей»! В одной из поздних книг Тенниссона есть очаровательная
миниатюра, посвященная Катуллу. Она начинается так:
О, скорей из Десензано,
К нашей Сирмио скорей!
И на веслах мы домчались —
О, venusta Sirmio1.
1 О, милая Сирмио (лат.).
339
Можно ли на миг усомниться в том, что Тенниссон, когда писал
эти слова, думал о великолепной начальной строфе «Янги Банги»:
У залива Коромандель
Тыква ярче и крупней.
Там в лесах необозримых
Бродит Янги Банги Бей.
Лично я отдам предпочтение лировскому стихотворению — оно
и полней, и богаче.
Дар Лира во всей красе раскрывается в Нелепицах, или
лимериках, как научились их называть позже. Я хочу заметить,
что Лир в лимериках — не только поэт и рисовальщик (а уникаль-
ность его рисунков мистер Нэш, попытавшись недавно соперни-
чать с Лиром, только подтвердил), но й глубокий социальный
мыслитель. Ни одно исследование о Лире не будет полным без
нескольких по крайней мере замечаний по поводу «Их» в
лимериках. «Они» — это все на свете, это «средний человек»,
«они» — это то, что в передовицах дешевой прессы назвали бы:
«Все здравомыслящие Мужчины и Женщины». «Они» — это Обще-
ственное мнение. И в большинстве своем лимерики — не что иное,
как эпизоды, извлеченные из истории вечной борьбы между
гением и эксцентриком и его ближними. Общественное мнение
повсеместно ненавидит эксцентричность. Вот, например, очарова-
тельный Старец из Верхнего Пфальца, который стоял себе на
кончике пальца. Но «Они» (с присущей им неспособностью
оценить художника по достоинству) сказали: «Грустно. Это
выглядит гнусно, глупый старец из Верхнего Пфальца». В
некоторых случаях, когда эксцентрик имеет наклонности преступ-
ного гения, «Они», несомненно, правы: Господин из Гонконга,
который целый день извлекал звуки из гонга, конечно, заслужи-
вал суровой кары. (Но «Они» напали и на совершенно невинного
Старика из Вероны только за то, что он танцевал кадрили с
вороной.) Или этот Господин из Добруджи, который вел себя
хуже и хуже. «Они», смею сказать, были вправе при помощи
молотка урезонить его слегка. Но тут уже встает проблема
общественного наказания и отношений между личностью и обще-
ством.
Когда же «Их» оставляет агрессивность, в «Них» развивается
идиотская любознательность. «Они» выспрашивают у Старика из
Лиможа, правда ли его ботинки из кожи. «Они» донимают
Господина на Скале кретинскими вопросами о Пчеле, которая так
ужасно ему досаждала. В таких поединках гении и эксцентрики
часто одерживают верх над косной туго думной толпой. Так,
Господин, Проживающий в Берде, который скакал верхом на
медведе, сразил «Их» наповал. Когда «Они» спросили: «Вам,
должно быть, ужасно?» — Он ответил: «Прекрасно (на рисунке
медведь галопирует ventre a terre *), я люблю флопсиканских
медведей». А иной раз эксцентрик буквально заманивает «Их» в
ловушку. Хотя бы этот Старичок из Тенистого Парка, который
извинялся и долго, и жарко. «Они» поинтересовались: «Но
1 Животом по земле (франц.).
340
позвольте, за что же?» — и Он ответил: «Вы унылые рожи. Я
намерен Вас выгнать из парка». Но вероятно, в конце концов
«Они» с ним расквитались.
Случается, выдающийся человек избирает тактику Малларме.
Он бежит от грубой неотвязной толпы:
La chaire est, helas, ct j'ai lu tous les livres.
Fuir, la-bas, fuir...1
Несомненно, именно с этими словами на устах Господин из
Вердена (чья находчивость — особенно для символиста — была
несравненна) приценивался к рысаку, которого оседлал, и на
полном скаку Он умчался от граждан Вердена. Он избрал лучшую
долю, ибо угодить толпе невозможно. Старика из Междуречья
считали же земляки лишенным добросердечья — и потому только,
что с ним, видите ли, ездили в бричке свинья и три птички. А
трогательный Дед из Гранады (к нему я испытываю особенное
сочувствие, поскольку он до боли напоминает мне самого меня),
который ничего не делал как надо. «Они» сказали: «Если думаешь,
дед, жарить в туфле омлет, не видать тебе больше Гранады».
А нравятся «Им» все те, кто делает глупейшие вещи и обладает
вульгарнейшими манерами. О Господине из Кении знакомые были
весьма высокого мнения — благодаря тому, что он изящно испол-
нял водевили, когда в колокол били. А жители Милета обожали
тех, что придерживался этикета—то есть зонтики покупали и
сидели в подвале. Естественно: только этого и можно было от них
ожидать.
2 Печальна плоть, увы, и книги все прочел, Бежать туда, бежать... (франц.)
ДЖ. Б. ПРИСТЛИ
ДВА УЭЛЛЕРЛ
(Из книги «Комические характеры
в английской литературе»)
В нашей литературе есть один любопытный период, и по сей день
в должной мере не изученный критикой. Он начался примерно в
двадцатые годы прошлого столетия и завершился где-то около
сороковых; кратко его можно охарактеризовать как период
некоего безудержного оптимизма или, если хотите, период, когда
преобладало шумливое и веселое умонастроение. Мир со всеми
его обитателями тогда еще чувствовал себя в безопасности; для
всего хватало и времени и досуга; прекрасное лицо земли еще не
было обезображено, и чугунка, мчащая джентльменов в цилин-
драх из Бирмингема в Лондон со скоростью целых двадцать миль
в час, еще не изгнала с дорог почтовые кареты и не оставила без
работы трактирщиков, еле ступающих под тяжестью подносов с
дешевым спиртным; новые идеи, кроме разве что вызывавшего
благопристойный интерес животного магнетизма или же френоло-
гии, появлялись нечасто и не привлекали большого внимания, и
Дарвин еще не поведал миру свою мрачную теорию происхожде-
ния видов, а мистер Арнольд еще не осчастливил нас своим
пониманием культуры. Англия в большей мере, чем когда-либо,
была островом, чуть ли не самостоятельным континентом, кото-
рый не желал знаться с Европой и блаженствовал в разливанном
море ромового пунша и доброго старого черного хереса из
Ост-Индии; она осушала стакан за стаканом, поедала свои пудинги
и сыры, культивировала свои чудачества и отпускала свои
шуточки в этаком провинциальном и почти что буколическом
воодушевлении. Этот период породил литературу, отличную своим
оптимизмом от всего написанного до и после; как раз в те дни
появились Бархэм, Худ, Левер*, Сертис, Теодор Хук, Мэрриет,
Пикок, Уоррен и Уокер со своим «Оригиналом» и сотня других;
даже критика подчинилась господствующей тенденции, откуда и
возник Кристофер Норт со своими «Шумными ночами в таверне
Эмброза». Как бы там ни было, но в бесчисленных томах,
которые, заправляясь спиртным, создавали эти господа, родился
целый мир, отражавший представление о райской жизни, скажем,
какого-нибудь драгунского капитана; мир, где скакали на лошадях,
пили грог, ели устриц и жареные почки с перцем (что так гневно
осуждал По, нападая на Левера), угощались макаронами и
негусом, встречались в трактирах, рассказывали курьезные исто-
рии и устраивали всевозможные розыгрыши; здесь толпились
обходительные мошенники с пышными бакенбардами, разбитные
342
горничные, придурковатые иностранцы (непременно графы или
бароны), хищные старые девы, красноносые и смешные, подагри-
ческие старички и флиртующие молодые люди. Трудно предста-
вить себе — в худших ее образцах — что-либо глупее этой литера-
туры, читатели которой обречены были постоянно сидеть вместе с
тупоумными вояками, лошадиными барышниками и разными
франтами на их скучных дурацких пирушках, сознавая, что ни
единая живая мысль, по-настоящему занятный характер или хотя
бы остроумная фраза не вынырнут из этого тошнотворного
потока разбавленного бренди. В лучших же своих образцах, даже
при недостатке идей и частых просчетах вкуса, эта литература,
исполненная мужественной веселости и дружелюбия, временами
где-то соприкасалась с поэзией, ибо был в ней какой-то мальчише-
ский задор и веселая непосредственность, возносившие сей приду-
манный мир над переменчивым временем и превращавшие его в
некую населенную усатыми драгунами Валгаллу, так что порой
начинает казаться, будто все эти бездельные вояки, эти бесша-
башные майоры и их плутоватые слуги, избавленные от каждо-
дневных забот, донельзя прожорливые и разудалые и к тому же
наделенные неослабной энергией, и в самом деле переодетые боги.
Но весь этот материал должен был, подобно вину в бочке, как-то
перебродить и облагородиться в душе гения, прежде чем стать
настоящей литературой; и, к счастью для этой эпохи, чье
умонастроение иначе так бы и осталось неведомым для потомства,
внезапно появился молодой подающий надежды репортер, который
взял у издательства одну литературную поденщину. В итоге родился
«Пиквик».
Столь длинная преамбула понадобилась мне потому, что
понять все достоинства и недостатки «Пиквика», одного из
бесспорных шедевров нашей литературы и, вероятно, нашего
вклада в литературу всемирную, можно, лишь рассмотрев его на
фоне эпохи, его породившей. Ведь он есть не что иное, как
обычная жизнерадостная повесть тридцатых годов, пересозданная
и одухотворенная вмешательством гения,— ведь и «Гамлет» есть
не что иное, как обыкновенная елизаветинская мелодрама, гени-
ально пересозданная и одухотворенная. Притягательная сила
«Пиквика» таится не в сюжете, не в забавных поворотах, коими
он изобилует, и даже не в целом полчище смешных персонажей
(сколь бы хороши они ни были сами по себе), но, как подсказыва-
ют предыдущие страницы, в самой атмосфере романа. Пожалуй,
это не столько прозаическое произведение (каким, к примеру,
является «Дэвид Копперфилд»), сколько своего рода поэма-
эпопея, воспевающая дружелюбие, бодрость духа, пиры и веселье.
Здесь возникает мир, озаренный своим особым светом, живыми
лучами юмора и общительности, что приближает его к нам и
придает ему свойства одной из тех утопий, которыми издревле
тешилось воображение человека, его жаждущее утешения низмен-
ное начало и начало божественное, устремленное к мирозданию.
Мистер Честертон, на достояние которого не грех покуситься,
когда речь идет о Диккенсе, говорил то же самое: «Но еще до
того, как он написал первый свой рассказ, ему явилось видение.
Ему открылся диккенсовский мир — сеть белых известняковых
343
дорог, карта, испещренная множеством причудливых городов,
грохочущие дилижансы, многоголосые базарные площади, шум-
ные постоялые дворы, чудаки и бахвалы. Это и был «Пиквик».
Итак, если притягательная сила «Пиквика» таится скорее в его
комической атмосфере, нежели в его персонажах (хоть их около
сотни, и по большей части комических), то естественно напраши-
вается предположение, что фабула в нем менее важна, чем
кажется поначалу. Извлеките какую-нибудь его причудливую
фигуру из того мира, в котором она обитает, и с ней произойдет
то же, что с маленькой рыбкой, только что сверкавшей серебром
и золотом в зеленоватой воде, а теперь вдруг вынутой из нее:
утеряв свою красоту и блеск, она лишь открывает рот и бьется у
вас на ладони. Большинство комических персонажей «Пиквика»,
выхваченных из книги, мгновенно уменьшаются и блекнут; мы
уже не в состоянии понять, чем нас только что забавляли эти
заводные игрушки, господа Потт, Лео Хантер и прочие, но стоит
нам вернуть их на место, и они тут же вновь обретают свою
самобытность.
Вопрос осложняется еще тем, что Диккенс зачастую менял
свое отношение к иным из главных героев (слегка видоизменяя
характер книги по мере того, как вживался в нее), так что на
первых страницах мы видим одних людей, а на последних —
других: мы как бы наблюдаем их в движении. Так мистер Пиквик
сперва кажется нам глуповатым и напыщенным старым ослом,
который всего-навсего служит поводом для разного рода розыгры-
шей и шуток; но к моменту его благополучного водворения в
Даличе он уже превращается для нас в почтенного старого
джентльмена, глубокомысленного и весьма симпатичного, то есть
становится совсем другим человеком. Подобные же перемены
происходят и с господами Снодграссом и Уинклем, которые
постепенно из фарсовых фигур превращаются в серьезных моло-
дых людей, благородных и доблестных любовников. Впрочем, ни
в первичном своем состоянии, ни в последующем оба они не так
уж и комичны. Среди второстепенных персонажей — а причудли-
вая их толпа на редкость велика в этой книге — любой читатель
без труда может выбрать себе того, кто ему больше по вкусу.
Так, должен признаться, я с юных лет питаю нежность (не
разделенную почти никем из моих друзей) к нашему старому
знакомцу мистеру Джинглю — не к тому жалкому раскаявшемуся
грешнику, которого мы встречаем в конце книги, а к продувному
малому, чья необычная стенографическая речь звучит в наших
ушах на протяжении многих начальных глав. Есть что-то неотра-
зимое в том, как этот третьестепенный персонаж умудряется быть
на переднем плане- в каждой ситуации, возникая внезапно в
совершенно неожиданных местах. Его появление в палатке во
время матча крикетистов Дингли Делла с объединенным Магльто-
ном («Сюда — сюда — превосходная затея — море пива—огромные
бочки; горы мяса—целые туши; горчица—возами; чудесный
денек — присаживайтесь — будьте как дома — рад вас видеть —
весьма!») является одной из лучших сцен романа, где так живо
рассказывается о том, как человек этот, неизвестно откуда
взявшись, тут же стал главным действующим лицом, а потом себе
344
«...ел, пил и болтал без устали». Должен признаться, что каждое
его последующее появление становится все менее интересным; и
все же припоминаю, как сожалел я о том, что Диккенс не написал
целой книги о приключениях этого забавного плута, и как его
раскаяние в конце романа всегда раздражало меня: ведь это же
все равно, как если бы пустилась каяться какая-нибудь сорока!
Ну а до чего великолепны оба студента-медика! Трудно найти
что-нибудь смешнее описания вечеринки у Боба Сойера, во время
которой внизу распаляется гневом миссис Редль, готовясь сыграть
роль злого рока, неутомимый Джек Хопкинс рассказывает потря-
сающие истории из больничной практики, меж тем как жеманный
джентльмен в прюнелевых ботинках силится вспомнить свой
прославленный анекдот, господа Нодди и Гантер, затеяв нелепую
ссору, кричат друг другу «сэр!», а в финале злополучной пирушки
Бен Аллен провожает пиквикистов до самого Лондонского моста,
сообщая им о своем решении перерезать горло любому сопернику
Боба Сойера, после чего он разражается слезами, нахлобучивает
шляпу на глаза и, вознамерившись воротиться домой, принимается
громко стучать в дверь конторы рынка Боро, временами задремы-
вая на ступенях, и стучит так до рассвета в твердой уверенности,
что он здесь живет. В толпе второстепенных персонажей, кото-
рые то набегают, как волна, то уносятся, как ветер, по крайней
мере один пользуется моей особой симпатией, и это тот «рыжево-
лосый субъект внушительного вида, востроносый, обладающий
привычкой загадочно выражаться и птичьей манерой вскидывать
голову после каждой произнесенной фразы», а именно попутчик
мистера Пиквика в его путешествии в Ипсвич, мистер Питер
Магнус. Есть своеобразное обаяние в том, с каким живым
интересом и изумлением относится мистер Магнус ко всему
вокруг—словно он только что появился на свет. То обстоятель-
ство, что оба они с мистером Пиквиком едут на крыше почтовой
кареты в один и тот же город с намерением остановиться в одной
и той же гостинице, переполняет его чувством восторга от
возможности таких совпадений. Любую банальность он изрекает с
огромным воодушевлением (он прямо заявляет: «Я не любитель
оригинального. Мне оно не нравится, не вижу никакой необходи-
мости в нем»). Все удовольствия (например, беседа с попутчиком)
и все страхи (например, опасение потерять багаж) гиперболизиру-
ются в его уме. Уже собственное имя рождает у него восторг, и
он радостно сообщает, что его инициалы совпадают со словами
"post meridiem", так что «в спешных записках близким приятелям»
он может просто подписываться—«Пополудни», что чрезвычайно
их забавляет. Трудно допустить, чтобы подобный человек, этакое
рыжеволосое чудо в очках, мог когда-нибудь утратить равновесие
духа. Приставая ко всем подряд не хуже болячки, он при этом
никогда и нисколько не раздражается, предпочитая беспокоить
других, но не беспокоиться самому. Но возможно, здесь есть и
другое объяснение. Мистер Магнус едет в Ипсвич делать предло-
жение одной особе — той самой леди средних лет в желтых
папильотках, в чью спальню случайно забредает мистер Пиквик,
поэтому не исключено, что перед нами просто по уши влюблен-
ный мистер Магнус. Рыжие волосы, очки, пытливый нос и
345
почтенный возраст не мешают человеку влюбиться, и вот мистер
Магнус, несомый течением страсти в уже зримую гавань, не
оставляет без внимания любую мелочь и склонен «все познать,
всему вокруг дивиться», ибо вовсе он не пассажир, едущий в
Ипсвич на наружном месте, а Адам, обитающий в раю, где на
травах еще не просохла первая утренняя роса. Счастливец мистер
Магнус, он тоже мог бы стать героем целого романа!
Но не он, а два его спутника по этому путешествию должны
послужить темой нашего очерка — ведь только они предстают
перед нами в полный рост. И конечно же, это два Уэллера:
тучный кучер, только что с должной солидностью высказавший
свое философское суждение о жизни «заставщиков», и его сын,
щеголеватый молодой камердинер, сидящий позади него, который
уже успел подкрепить одно из гениальных открытий мистера
Магнуса фразой такого рода: «Это я называю истиной, не
требующей доказательств, как заметил продавец собачьего корма,
когда служанка сказала ему, что он не джентльмен». Эти-то два
философа, столь же типично английские, как говядина с порте-
ром, коим всегда найдется место у них в желудке, без сомнения,
являются двумя великими фигурами нашей комической эпопеи
сельской жизни. Они принадлежат своему времени — таких дико-
винных манер и такой речи теперь не сыскать,— но одновременно
они принадлежат и всем временам и, разумеется, всей английской
истории, ибо они есть английский народ, все, кто прошли по
дорогам Англии, от первых кентерберийских паломников до
сегодняших клерков, собирающихся на свой ежегодный обед. Они
вдвоем олицетворяют собой весь английский народ, точнее, наше
простонародье, но каждый из них представляет собой свою
особую социальную группу. Старина Тони Уэллер, в общем-то,
сельский житель, ну а Сэм уже горожанин. У них много
общего — сказывается наследственность; в обоих заложено что-то
уэллеровское, ими несомненно ощущаемое (так, в обоих начинает
говорить фамильная гордость всякий раз, как они чувствуют себя
«одураченными»); и при всем этом семейном сходстве они все же
заметно отличаются друг от друга по характеру и представляют
собой два абсолютно разных типа существования. Уэллер-
старший, толстый, румяный, хриплоголосый и пестро одетый,
олицетворяет собой некий прежний жизненный устав; в самом
складе его ума есть что-то исконное и патриархальное, а его
несколько туманный оракульский слог напоминает собой подлинно
народную речь; он не остряк и не зубоскал, подобно своему сыну,
а «яркая личность», один из тех непостижимых шутников и
пророков из сельской пивной, в ком так нерасторжимо смешаны
простота и замысловатость, кто порой нам кажется редкостным
дураком, а порой—редкостным мудрецом, кого непросто уразу-
меть и понять, но кем можно просто наслаждаться, как стихотво-
рением или солнечным закатом. Можно сказать, что Уэллер-
старший— это Добрая Старая Англия. Сэм являет собой уже
более современную форму существования английского народа; по
сути Дела, он продукт нескончаемых улиц больших городов, и в
особенности самого большого из них—Лондона, с его невиданной
терпимостью и добродушием и беспредельной иронией, Лондона,
346
где, как на оселке, беспрерывно оттачивается остроумие его
неимущих обитателей.
Хотя Сэм, очевидно, родился в деревне, основную часть своей
жизни он провел в Лондоне; и пусть он даже появился на свет не в
Сити, душой он, конечно, настоящий лондонец, ибо, пожалуй, в
нем, как ни в ком другом, воплотились черты подлинного кокни.
Он прошел хорошую школу жизни. «А вот как вышвырнуло меня
вверх тормашками в мир поиграть в чехарду с его напастями,—
рассказывает он мистеру Пиквику.— Поначалу я работал у раз-
носчика, потом у ломовика, потом был рассыльным, потом
коридорным. А теперь я—слуга джентльмена». Он спал под
арками моста Ватерлоо и знает в городе все ночлежки, включая и
«двухпенсовую веревку» — «дешевую ночлежку, по два пенса за
койку». Родитель Сэма спешит сообщить мистеру Пиквику, что в
свое время он порадел-таки о воспитании сына: «...я отпускал его
одного бегать по улицам, когда он был малышом, чтобы он сам
выпутывался из беды. Это единственный способ сделать мальчика
сметливым, сэр». Сэм с успехом прошел через эти университеты.
Его сведения о Лондоне, как мы узнаем, пространны и своеобраз-
ны. Когда мистеру Пиквику требуется узнать, где можно полу-
чить стакан грога (чтобы избавиться от неприятного привкуса
Додсона и Фогга), Сэм, нимало не задумываясь, сообщает:
«Второй поворот направо, предпоследний дом по той же стороне.
Займите отделение у самого камина, там у столика нет средней
ножки, а у других есть, и это очень неудобно». (И как же нам
повезло, что они выбрали именно эту таверну, ведь как раз здесь
впервые появляется Уэллер-старший.) Столь же пространны и
своеобразны сведения Сэма о жизни в целом. Впрочем, его
беганье по улицам, его многочисленные и весьма разнообразные
занятия, его знакомство с арками мостов и ночлежками лишь
помогли ему отточить свой юмор; они сделали более холодным его
ум, но не сердце; так возник новый для литературы образ, на что
указывал мистер Честертон, а именно смышленый комедийный
слуга, знающий жизнь куда лучше своего барина, но при этом
отнюдь не плут.
Приобретенный опыт породил у Сэма, как и у большинства
истинных философов, циничное отношение к мелочам жизни:
выборам и махинациям адвокатов,— однако у него уцелела вера в
реальные ценности — еду и питье, путешествия и приключения,
службу и любовь. Будучи настоящим кокни, он по большей части
справедливо воспринимает происходящее как некое грандиозное
зрелище, на которое умный человек может глядеть и посмеивать-
ся да по временам кивать головой и подмигивать другим веселым
философам. Лондон уже многие годы является величайшим из
городов и, наверно, самой долговечной из всех великих столиц,
которые краткий срок покичились перед миром живописностью
своих башен и кружевом своих улиц, а затем по воле богов
рассыпались в прах; и долговечнее прочих столиц он, наверно,
оказался потому, что всегда превосходил их терпимостью. Душа
Лондона была недоступна ожесточению; никогда добрая улыбка и
легкая ирония не исчезали полностью вместе с солнечным лучом
из лабиринта его темных улиц. Его неимущие обитатели, замуро-
347
ванные среди кирпичей и, по-видимому, обреченные лишь на
серые будни и существование на грани нищеты, никогда не теряли
вкуса к жизни, и им было достаточно нескольких часов досуга и
двух-трех свободных шиллингов, чтобы снова очутиться в своем
привольном сказочном мире. Дабы вполне понять, какой духовный
и телесный вред способен принести современный город своим
жителям, не стоит задерживаться в Лондоне, а лучше навестить
какой-нибудь из мрачных провинциальных, как грибы растущих
городов, где живут люди с бесцветными лицами, порою над вид
абсолютно анемичные и подавленные. А наш кокни, этот неуемный
зубоскал, прокладывающий себе дорогу сквозь толпы участников
великого спектакля лондонской жизни и сознающий, что он
находится в самом ее центре, по-прежнему идет через этот
мир — мир неиссякаемой иронии, устриц, портера и жареной рыбы,
споров на деньги и драк, песен и плясок и каких-то чудаков,
разглагольствующих в питейном доме, идет через все это переплете-
ние затейливых улиц, а вместе с ним мы ощутимо приближаемся к
самой сути той действительности, которую знал Диккенс, и того
донельзя укрупненного мира, который он создал в своем воображе-
нии.
Сэм Уэллер — идеальный представитель всех кокни. Он знает
чего хочет и до того самонадеян, что может позволить себе
шутить и нагличать с миром. Он готов ко всему — будь то
выпивка, поцелуи, схватка или приключение,— и ему не нужно
для этого долго раздумывать. Насмешливость, столь свойственная
лондонским беднякам, этим зрителям ошеломляющего спектакля
контрастной лондонской жизни, невольно приобщающимся к
иронической философии, и есть тот воздух, которым дышит Сэм
Уэллер. Почти каждый день что-нибудь из происходящего на
улицах Лондона вызывает в нашей памяти замечание Сэма по
поводу поведения итенсуиллских избирателей.
«— Сущая потеха, сэр,— отвечал мистер Уэллер.— Наши собра-
лись в «Городском гербе» и уже надорвали себе глотки.
— А! — сказал мистер Пиквик.— До такой степени они преда-
ны своей партии, Сэм?
— В жизни не видел такой преданности, сэр.
— Деятельные люди? — сказал мистер Пиквик.
— На редкость,— ответил Сэм.— Еще никогда не видел, чтобы
люди столько ели и пили. Дивлюсь, как они не боятся лопнуть.
— Это излишняя доброта здешних помещиков,— заметил ми-
стер Пиквик.
— Похоже на то,— коротко ответил Сэм».
Или вот еще его реплика Пиквику после того, как им довелось
выслушать разглагольствования клерков у Додсона и Фогга о
достоинствах «превосходного дельца».
«— Славные здесь люди,— сказал мистер Уэллер своему
хозяину,—и нечего сказать, славное у них понятие о забаве,
сэр».
Или взять, к примеру, его светскую беседу с лакеем в Бате.
«— Давно ли вы в Бате, сэр? — осведомился напудренный
лакей.— Я не имел удовольствия слышать о вас раньше.
— Я пока еще не произвел здесь поразительной сенсации,—
348
пояснил Сэм,— потому что я и другие модные джентльмены
приехали только вчера вечером.
— Славное местечко, сэр,— сказал напудренный лакей.
— Похоже на то,— заметил Сэм.
— Хорошее общество, сэр,— продолжал напудренный лакей.—
Лучшая прислуга, сэр.
— Я бы тоже так сказал,— отозвался Сэм.— Приветливые
простые ребята, слова из них не вытянешь.
— О, совершенно верно, вот именно, сэр,— подтвердил напуд-
ренный лакей, истолковав замечание Сэма как величайший ком-
плимент.— Вот именно. Вы это употребляете, сэр? — осведомился
рослый лакей, извлекая маленькую табакерку с лисьей головой на
крышке.
— Да, но чихаю,— ответил Сэм.
— Признаюсь, это нелегко, сэр,— согласился рослый лакей.—
К этому нужно привыкать постепенно, сэр. Лучше всего практи-
коваться на кофе. Я долго носил с собой кофе. Он очень
напоминает рапе, сэр.
Резкий звонок поставил напудренного лакея перед постыдной
необходимостью спрятать лисью голову в карман и поспешить со
смиренной физиономией в «рабочий кабинет» мистера Бентама.
Кстати, знал ли кто человека, который ничего не читает и ничего
не пишет, но у которого не было бы маленькой задней комнаты,
именуемой «рабочим кабинетом»?
— Вот ответ, сэр,— сказал напудренный лакей.— Боюсь, что
он покажется вам обременительным по величине.
— Не стоит об этом говорить,— отозвался Сэм, беря письмо в
самодельном конвертике.— Есть надежда, что мое истощенное
тело как-нибудь выдержит.
— Надеюсь, мы еще встретимся, сэр,— сказал напудренный
лакей, потирая руки и провожая Сэма до порога.
— Благодарю вас, сэр,— отозвался Сэм,— но не трудитесь, не
утомляйтесь чрезмерно; вы очень любезны. Подумайте, как вы
нужны обществу, и не допускайте, чтобы вам повредила непосиль-
ная работа. Ради ваших ближних берегите свое спокойствие; вы
только подумайте, какая бы это была потеря!
С этими патетическими словами Сэм Уэллер удалился.
— Это очень странный молодой человек,— сказал напудрен-
ный лакей, глядя вслед мистеру Уэллеру; физиономия лакея явно
выражала, что он не может его раскусить».
Зато в нем отлично разобрались потомки.
Сэм шутник вдумчивый и сознательный — пожалуй, он даже не
шутник, а остроумец,— и вы навряд ли встретите у него какую-
нибудь невзначай оброненную нелепицу. Его смешные рассказы,
вроде, скажем, тех невообразимых повествований, коими он
потчует своего доверчивого хозяина, кажутся мне наименее
интересными, хотя было время, когда я просто упивался историей
про пирожника с кошками, или другой — про грузного старого
Джентльмена с часами, или еще той, где говорится про меланхо-
личного джентльмена, который из принципа заказал на три
Шиллинга сдобных пышек, съел их, а потом пустил себе пулю в
Лоб; впрочем, вполне возможно, что я потому мальчиком так
349
любил все эти сказки, что обсасывал каждую из них до последней
смешинки. Признаюсь и в большей ереси, а именно, что я в
отличие от многих поклонников «Пиквика» не питаю также
особого пристрастия к шутливым сравнениям Сэма Уэллера и его
образным иносказаниям. Часть из них, подобно шутке о солдате,
приговоренном к плетям, превратилась в некий свод расхожих
цитат, а две-три —и среди них, конечно, уже приводившаяся
выше острота относительно продавца собачьего корма—являются
настоящими перлами, которые бережно хранит наша память; и
тем не менее львиная доля этих iiiytoK, по-моему, не так уж
смешна и довольно натужна. По-настоящему же Сэм Уэллер
значителен той ролью, которая отведена ему в повествовании, а
вовсе не в качестве автора забавных афоризмов. Пожалуй, самое
лучшее из всего придуманного Диккенсом—это отношения между
Сэмом и его барином, исполненные комизма и при этом глубоко
правдивые и, пусть это звучит странно, символичные; ибо если
предположить, что Сэм Уэллер является достойным представите-
лем простых англичан, то нетрудно вывести из этих отношений
почти всю историю нашего народа. Ведь Сэм одновременно и
отчаянно предан, и отчаянно непочтителен; словом, он по самой
сути своей индивидуалистичен и независим, что вообще присуще
его соотечественникам, и в особенности беднякам, обитающим в
больших городах; впрочем, он, подобно им, откровенно чтит и
поддерживает существующую аристократическую традицию, сра-
зу узнавая настоящего «женльмена». По мере того как движется
повествование и мистер Пиквик из старого дурака незаметно
превращается в некоего тучного английского Дон-Кихота в очках
и гетрах, отношения между слугой и господином углубляются. По
справедливому замечанию мистера Честертона, свойственное Сэ-
му жизнерадостное знание жизни призвано компенсировать еще
более жизнерадостное незнание жизни его барина; и вот неуемный
зубоскал с лондонских улиц отправляется в тюрьму, чтобы
посвятить себя заботам об этом воплощенном младенце, и ничто
не может принудить его вернуться на волю.
Мистер Уэллер-старший, как уже говорилось, во многом
похож на сына, но при том, что ему отведена в записках меньшая
роль, он, мне думается, куда смешнее. Он принадлежит другому
миру и вместе со своим трактиром и каретой вызывает у нас в
памяти образы сельской жизни, тогда как Сэм непременно
заставляет нас вспоминать о лондонских улицах. Этот старый
кучер исполнен какой-то особой деревенской степенности и
важности, за которыми, однако, таится огромное чувство юмора.
Он, подобно Сэму, философ, о чем тот не упускает случая нам
сообщить.
«— Да вы философ, Сэм,— сказал мистер Пиквик.
— Должно быть, это у нас в роду, сэр,— ответил мистер
Уэллер.— Мой отец очень налегает теперь на это занятие. Мачеха
ругается, а он свистит. Она приходит в раж и ломает ему трубку,
а он выходит и приносит другую. Она визжит во всю глотку и—в
истерику, а он преспокойно курит, пока она не придет в себя. Это
философия, сэр, не правда ли?»
Это вершина философии: перенесенная из сферы размышле-
350
ний в сферу поступков и прошедшая там через суровые испыта-
ния, она выходит из них победительницей. Разумеется, в основе
всей системы взглядов мистера Уэллера-старшего заложен страх
перед вдовой. Как мы узнаем от Сэма еще при первой с ним
встрече в «Белом олене», не случись крючкам из Докторс-
Коммонс навязать старому Уэллеру лицензию на брак, когда он
пришел туда после смерти первой жены, оставившей ему четыре-
ста фунтов стерлингов, он бы уже второй раз не женился и мы
были бы лишены возможности насладиться его умозаключениями,
порожденными житейским опытом. Он, так сказать, философ-
практик. Нам нетрудно уловить это уже из первых его речей,
когда он, Сэм и мистер Пиквик встречаются в таверне.
«— Ну, Сэмми,— сказал отец,— я тебя не видел больше двух
лет.
— Что и говорить, старина! — ответил сын.— Как мачеха?
— Я тебе вот что скажу, Сэмми,— начал мистер Уэллер-
старший с большой торжественностью.— Не было на свете вдовы
лучше этой моей второй суженой — славное было создание,
Сэмми, а теперь скажу об ней одно: она была такая на редкость
приятная вдова, и как жаль, что она изменила свое положение!
Она не годится в жены, Сэмми.
— Не годится? — переспросил Уэлл ер-младший.
Мистер Уэллер-старший покачал головой и ответил со
вздохом:
— Я проделал это на один раз больше, чем следовало, Сэмми,
на один раз. Бери пример с твоего отца, мой мальчик, и всю
жизнь остерегайся вдов, в особенности если они держат трактир.
Подав с большим пафосом этот отеческий совет, мистер
Уэллер-старший набил трубку табаком из жестянки, которую
носил в кармане, и, раскурив новую трубку от прежней, начал
весьма энергически дымить».
Вскоре мы убеждаемся, что наш философствующий старый
кучер способен превращать свои личные и частные горести в
общечеловеческие проблемы. Так он открыл верное средство от
подагры:
«— Подагра, сэр,— отвечал мистер Уэллер,— это напасть, ко-
торая приключается от слишком покойной жизни со всеми
удобствами. Если когда-нибудь вас скрутит подагра, сэр, тотчас
женитесь на вдове, у которой голос очень зычный и которая
понимает, как им пользоваться, и у вас подагры как не бывало.
Чудесное лекарство, сэр. Я принимаю его регулярно и могу
поручиться, что оно прогоняет всякую болезнь, которая происхо-
дит от слишком веселой жизни.
Открыв этот бесценный секрет, мистер Уэллер осушил второй
стаканчик, подмигнул, глубоко вздохнул и медленно удалился».
Вся сила его здравомыслия воплотилась в его отношении к той
разновидности евангелического христианства, которая пользуется
особым покровительством миссис Уэллер и представляет собой
некое соединение чая, гренок, ананасного грога, фланелевых
жилетов и душеспасительных носовых платков для негритянских
младенцев. Характеристика, которую пастырь Стиггинс дает
старому Уэллеру, называя его «сосудом гнева», в действительно-
351
сти является ему похвалой и признанием его недюжинного ума и
супружеской выдержки. Не то чтобы старик не знал пределов
своих возможностей, просто за всем этим стоит несомненная
мудрость, о чем ясно свидетельствует его ответ Сэму, когда тот
спрашивает его, почему он вообще позволяет мистеру Стиггинсу
совать свой красный нос в «Маркиза Гренби».
«Мистер Уэллер устремил серьезный взгляд на сына и отве-
тил:
— Потому что я женатый человек, Сэмивел, потому что я
женатый человек. Когда ты женишься, Сэмивел, ты поймешь
многое, что сейчас не понимаешь, но стоит ли столько мучиться,
чтобы узнать так мало, как сказал приютский мальчик, дойдя до
конца азбуки,— это дело вкуса. Я думаю, что не стоит».
Этот замечательный ответ говорит нам куда больше, чем все
книги, написанные на эту тему.
Тони Уэллер, как и сын, располагает массой любопытных и
необычайных сведений, которые находят себе выражение во
множестве мудрых замечаний о жизни. Есть здесь, к примеру,
высказывание о связи бедности со страстью к устрицам и
маринованной лососине, страсти, возрастающей вместе с нищетой,
каковой предмет обсуждается на крыше кареты, едущей в Ипсвич,
к немалой пользе мистера Пиквика, готового записывать все на
свете. Есть здесь и другое высказывание — касательно «заставщи-
ков», о которых мистер Уэллер-старший придерживается того
мнения, что «все эти люди повстречались с каким-нибудь разоча-
рованием в жизни...». «А потому они.ушли от мира и заперлись в
этих будках, чтобы жить в одиночестве и чтобы отомстить людям,
заставляя их платить пошлину». Конечно, многие из его философ-
ских мыслей неизбежно должны казаться туманными какому-
нибудь поверхностному читателю и требуют более глубокого
исследования, чем мы можем себе позволить на страницах данного
очерка. Когда они вместе с Сэмми. обсуждают его «валентинку»,
некоторые из высказанных им литературных суждений отличают-
ся несомненной тонкостью, хотя нельзя не сожалеть о том, что
столь зрелый мыслитель испытывает такое отвращение к поэзии.
«— Уж не стихи ли это? — перебил отец.
— Нет,— ответил Сэм.
— Очень рад это слышать,— сказал мистер Уэллер.— Стихи
ненатуральная вещь. Никто не говорит стихами, разве что
приходский сторож, когда он является за святочным ящичком, или
уорреновская вакса да ролендовское масло, а не то какой-нибудь
плаксивый парень. Никогда не опускайся до поэзии, мой маль-
чик!..»
Пожалуй, он действительно прав, утверждая, что слово «одура-
ченный» здесь уместнее, чем слово «одурманенный», хотя послед-
нее «понежней будет»; и, пожалуй, многие строгие судьи присо-
единятся к его вопросу: «Что толку называть молодую женщину
Венерой или ангелом?.. Ты можешь называть ее грифоном, или
единорогом, или уж сразу королевским гербом, потому что, как
всем известно, это коллекция диковинных зверей...» При том, что
он человек более глубокомысленный и вдумчивый, чем его сын,
он, судя по всему, заметно уступает ему в практических делах.
352
Так, его совет мистеру Пиквику, что тому лучше всего на суде
«наплевать на репутацию и держаться за алиби», хоть и подан от
души, но навряд ли может быть с пользой применен. Дальнейшие
его планы по спасению мистера Пиквика, из Флитской тюрьмы
(бегство «в складной кровати» или в одежде старушки) пусть и-
очень изобретательны, однако скорее оригинальны, нежели при-
годны для дела; то же касается и последней его затеи, измыслен-
ной им совместно с его приятелем-столяром и состоящей в том,
чтобы вынести старого джентльмена в рояле—что и говорить,
весьма хитрый замысел!
«В нем нет никакой машины... Он там свободно поместится ив
шляпе и в башмаках, а дышать будет через ножки, они внутри
выдолбленные. Нужно запастись билетами в Америку. Американ-
ское правительство ни за что не выдаст его, когда узнает, что он
при деньгах, Сэмми. Пусть хозяин живет там, пока не помрет
миссис Бардл или пока не повесят Додсона и Фогга (мне кажется,
Сэмми, что это случится раньше), а тогда пусть возвращается и
пишет книгу про американцев. Это окупит все расходы с
излишком, если он им хорошенько всыплет!»
Как раз в этих юридических делах и проявляется главная
слабость мистера Уэллера-старшего. Те из нас, кто числит себя
среди поклонников Тони*Уэллера, человека и философа,.не могут
не сожалеть о его прискорбном восхищении мистером Соломоном
Пеллом,. этим упитанным «другом лорда-канцлера», и мы с
грустью читаем, как наш старик, явившись в сопровождении
целой толпы друзей-кучеров, с благоговейным восторгом созерца-
ет процесс потребления этим стряпчим несметного множества
порций рома на три пенса. Вторая слабость старого мистера
Уэллера, касающаяся вдов, есть, по его собственному признанию,
уже нечто совсем другое, поскольку вдовы — исключение из
любого правила и одна вдова стоит по меньшей мере двадцати
пяти обычных женщин; это, по его словам, «любовная слабость»,
ахиллесова пята, которая имелась не только у мистера Уэллера,
но также и у прочих великих людей—героев и гигантов мысли,—
достаточно вспомнить Сократа с его Ксантиппой или Наполеона с
его Жозефиной. Обстоятельство, породившее гибель империй,
заставило и нашего кучера пережить временное унижение, но,
хоть он и не сумел отыскать какое-нибудь спасительное средство
для себя самого, он откроет его другим—для того он и стал
философом.
У нас нет здесь места анализировать все смешные, а порой и
трогательные эпизоды, в которых участвуют два Уэллера. В
конце романа оба они находят себе пристанище—Сэм в доме
мистера Пиквика в Даличе, а. старый мистер Уэллер неподалеку от
Шутерс-Хилла в придорожном трактире (где его, разумеется, тоже
высоко почитают как оракула), в одной из тех гаваней домашнего
тепла и уюта, в которые Диккенс любит помещать своих
благородных героев, прежде чем навсегда с ними проститься. Мы
улыбаемся при мысли о столь неожиданном завершении этой
эпопеи в солидном и навевающем дрему викторианском интерьере;
оказывается, герои изъездили все эти известняковые дороги
Англии и прошли через все свои удивительные приключения лишь
12-2389
353
для того, чтобы в конце жизни спать в мягкой постели и
угощаться сдобными пышками и крепкой мадерой в обществе
семи скучных соседей, приглашенных на седло барашка. И все же
таков был финал многих реальных эпопей—невероятных подви-
гов и актов мужества; и именно эта мечта о тепле и уюте и
скучной благопристойности заставляла множество людей риско-
вать жизнью в бурных морях или в окопах и годами поддерживала
в них мужество под багровым враждебным небом. Стоит вспом-
нить, что позднее Диккенс попробовал воскресить своих любимых
героев, однако попытка эта не увенчалась успехом: что-то было
утеряно, ущла куда-то прежняя безоблачность; автору предстояло
создать другие, столь же забавные и колоритные фигуры, но он
никогда уже не смог воспроизвести атмосферу своего первого
романа, которая родилась из навечно утраченного впоследствии
настроения и, несомненно, была чем-то вроде майского утра
английского юмора, когда Дух Комизма, еще юный и наивный,
вдруг пустился резвиться, подобно школьнику, отпущенному с
уроков.
Р. ФОКС
ГЕНРИ ФИЛЬДИНГ,
ГЕНИЙ ВЕКА ПРОЗЫ
Генри Фильдинг, автор «Тома Джонса», последней книги, Ш-
которой, по словам Теккерея, «английскому романисту разрешили
показать человека», вправе претендовать на то, Чтобы разделить
со Свифтом место величайшего гения века прозы в английской
литературе.
Культура буржуазии в Англии в период ее расвдета отразилась
в поэзии Марло, Шекспира и Мильтона. После того как великая
революция XVII века окончательно определила направление,
которое был вынужден выбрать этот класс в своей борьбе за
власть, после брака по расчету между буржуазией и аристокра-
тией в конце столетия наступил век прозы.
Это был век, в котором господствовали Свифт и Фильдинг. Оба
были гениями, ведущими странную, необычную жизнь, хоти
каждый из них и занимал официальные посты в новом государе
стве: первый—крупный церковный пост, второй—судьи на Боу-
стрит. Каждый понимал жизнь своего времени и принимал ее,
видел в новой социальной системе ее низменную и отталкива-
ющую изнанку.
Фильдинг, однако, не отшатнулся от нового человека с тем же
отвращением, что Свифт. Сам ошибаясь и оставаясь при этом
по-настоящему человечным, он выстроил в своих четырех рома-
нах великий воображаемый мир, превосходную картину не только
того века, но Человека вообще, создания истории.
Сам Фильдинг любил подчеркивать исторический характер
своего творчества. Он видел в персонажах реальных людей в
прошлом, настоящем и будущем, существа, живущие в истории.
Он упорно считал, что его искусство эпично,, и написал «Тома
Джонса» — первую современную эпопею, утвердившую роман на
такой высоте, которую с тех пор могли достичь только великце
русские писатели XIX века.
Фильдинг, хотя и происходил из аристократической семьи (его
отец был генералом, служившим под началом Мальборо, а семья
претендовала на родство с домом Габсбургов), был беден и жил
"только литературным трудом. Его юность и ранняя зрелость
прошли в причудливой среде лондонской богемы начала XVIII
века в постоянной борьбе за кусок хлеба.
Подобно всем крупным английским писателям, он был журна-
листом, политическим деятелем. Когда дни нищеты ушли в
прошлое и влиятельное лицо добыло ему пост судьи, он боролся
со страшными злоупотреблениями в судах и неэффективностью
ia*
355
Юридической системы. Активная: жизнь Фильдинга, помогла ему
узнать людей, развила у него чувство вселенской иронии, которое
сделало его романы о жизни в одном из уголков Англии
отражением бытия всего человечества.
Фильдинг остро ощущал классовое расслоение общества, нище-
ту и эксплуатацию, моральную и физическую, бедных богатыми.
Он видел зло и глупость на верху социальной лестницы, человече-
скую нищету и несчастье—внизу. Нельзя понять мир, созданный
вдохновением Фильдинга, не поняв критического духа, легшего в
основу его мировоззрения.
Этот критический дух свойствен всему его творчеству. В
первом романе, «Джозеф Эндрюс», он обнаруживается в рассуж-
дении о «высоких и маленьких людях», в нападках на глупость и
грубость провинциальных судейских, на провинциальных сквай-
ров. То же и в «Томе Джонсе»; в «Эмилии» им создана одна из
самых уничтожающих картин классовой несправедливости, а его
взгляд на жизнь наиболее полно выражен в великой сатире
«Джонатана Уайльда». Эту последнюю Гитлер или Мосли, безус-
ловно, сожгли бы. Даже либеральные интеллектуалы прошлого
хранили неловкое молчание по поводу этого романа, потому что
даже Свифт никогда не выносил более уничтожающего приговора
обществу. И в самом деле, Свифта можно было терпеть, отчасти
потому, что его ославили сумасшедшим, а кроме того, его
величайшую сатиру можно было выдать за сказку.
Иначе обдтоит дело с фильдинговской историей о преступнике,
которого автор подавал как образчик всех «великих людей».
Знаменитая глава «О шляпах» до сих пор остается самым
язвительным приговором буржуазным политиканам, и нигде кри-
тика буржуазных нравов не дана с такой иронией, как в речи, с
которой Уайльд объясняет собрату по мошенничеству, почему он
должен отдать ему все награбленное:
«О нас, высших созданиях человечества, хорошо сказано, что
мы рождены для того, чтобы поглощать дары земли, и так же
хорошо можно сказать о низших классах, что они рождены,
чтобы добывать их для нас».
Легко понять, что современники Фильдинга не любили его и
подвергали поношениям. Его романы имели успех, но только
представитель следующего поколения, тоже превосходный исто-
рик и художник, первым воздал ему публичную дань уважения.
Эдвард Гиббон, автор книги «История упадка и крушения
Римской империи», писал в автобиографии, что «небылицы «Тома
Джонса», этой исключительной картины человеческих отношений,
переживут Эскуриал и орла на дворце австрийских императоров».
# # #
Как в случае с Шекспиром, мы мало знаем о личной жизни
Фильдинга. Он родился в 1707 году, умер в 1754 году в Лиссабоне,
где и похоронен.
Орел на императорском дворце в Австрии уже мертв, фашист-
ская артиллерия разрушила Эскуриал, а «Том Джонс» по-
прежнему остается славной и неизбывной частью нашего культур-
ного наследия.
356
Г. ГРИН
КОФР
Длинный товарный поезд1 приближается к нашей платформе,
проходит мимо, враждебно блеснув парой женских глаз, и
удаляется в новую череду засушливых лет, скрипящих дорожной
пылью на зубах. Он двинулся в путь в 1915 году не без хвалебных
напутствий, таща свой тяжелый груз (поток сознания) под
приветственные возгласы многих именитых зрителей на перро-
не— мисс Вест и мисс Вульф, господ Уэллса, Бересфорда,
Суиннертона и Хью Уолпола.
«Мириэм прошла освещенную газом прихожую и начала
медленно подниматься по лестнице. На площадках еще не сомкну-
лись мартовские сумерки, но ступеньки тонули в темноте. На
верхней площадке было уже совсем темно и тихо. Нигде никого.
У нее в комнате ей никто не будет мешать. Она сядет у огня и
сможет спокойно подумать, пока Ева и Гарриет не вернутся с
покупками. У нее будет время подумать об отъезде и о том, что
она скажет фрейлейн. Ее новый кофр стоял в углу, и на него
ложились отблески огня».
Кто бы мог предугадать по этим первым фразам гигантское
произведение, которое уже достигло двух тысяч страниц без
малейших признаков приближения к концу? Кофр понемногу
утрачивает блеск новизны, покрывается наклейками. И нет
никаких причин опасаться, что паломничество когда-либо кончит-
ся, исключая смерть автора, поскольку писательница пытается в
абсолютной полноте передать воздействие всех событий и пережи-
ваний—дружбы, политики, званых чаепитий, книг, погоды,—ну,
словом, всего, что только можно вообразить,—на впечатлитель-
ность женщины. Я могу напутать в датах, но мне кажется что
мисс Ричардсон при всей ее тяжеловесной серьезности оказала
огромное влияние на таких писательниц, как мисс Вульф и мисс
Стайн, а через них и на учеников последних. Поэтому ее роман
имеет что-то общее с «Сонетами» Болусла. Сама она на половине
своих четырех томов (объединяющих двенадцать романов или:
их части) испытала заметное влияние поздних романов Генри
Джеймса; в целом это, хотя и сделало ее впечатлительность еще
более зыбкой, оказалось к лучшему, поскольку она перестала с
прежней щедростью сыпать прилагательными, которые в первом
томе маскировали энергию ее прозы, если этой прозе и была
Автор намекает на роман Дороти Ричардсон «Паломничество».— Прим. первв.
357
свойственна энергия. «Большая, шелковистая, душистая, розовая,
полностью раскрывшаяся роза»—вот только одна фраза в абзаце,
содержащем 41 прилагательное, определяющее 15 существитель-
ных. Или просто Мириэм стала старше, более несчастной, менее
лиричной? Чудовищная субъективность романа полностью раство-
ряет личность автора в характере ее героини. Мисс Ричардсон
больше нет, а есть одна Мириэм—Мириэм уезжает учиться
английскому языку в немецкой школе, снова уезжает, чтобы стать
учительницей в одном из северных районов Лондона, гувернанткой в
загородном поместье, секретаршей зубного врача на Уимпол-стрит.
И все это время накапливаются обломки ее дружбы с разными
женщинами, описания одежды, квартир, встреч на заседаниях
Фабианского общества—Мириэм, пишущая рецензии, Мириэм
среди первых велосипедисток, Мириэм, постигшая социализм и
женские права, читающая Золя по абонементу у Мьюди (это,
безусловно, некоторая неточность), а потом Ибсена, запоздало и
без толку теряющая девственность на странице 281 четвертого тома.
Книга не спеша переводит дух, а мы еще не добрались до начала
мировой войны.
Отдельные описания прекрасны, из потока сознания иногда
возникают четкие характеры — русский еврей Шатов, ждущий на
углу с розой в руке, посещающий Британский музей, жалкая и
трогательная компаньонка, бывшая медицинская сестра Элинор
Дир, чахоточная мещанка, бессовестно и неуемно пролагающая
себе путь по чужим жизням. И есть места, где мысли Мириэм,
узорчатые, как якобитский стиль, обретают в обстановке зубно-
го кабинета захватывающую импрессионистическую поэтичность,
свойственную Ричардсон, например, в описании чувств перепуган-
ного пэра.
«За обрывистой невнятицей его объяснений, когда он стоял
пристыженный, умоляющий, светский до самого легкого движе-
ния ресниц, словно приехал прямо со скачек,—настолько, что ее
мысленный взгляд увидел свисающий с его плеч по диагонали
ремень с биноклем, а на его голове серый цилиндр и последний
штрих его туалета—яркую розу в петлице, она узрела его
приятную жизнь, ближайшие ее недели, самые лучшие, самые
солнечные недели весеннего сезона, нарушенные необходимостью
каждые несколько дней подолгу переносить неприятные ощуще-
ния, а иногда и резкую боль, неумолимо напоминающие, что тело
необратимо разрушается, а смерть неизбежна».
Однако боюсь, что все это теряется в общем впечатлении
усталости (возможно, это—дань похвалы упорству мисс Ричар-
дсон), усталости от лучших лет жизни, проведенных нами с
серьезной, довольно сентиментальной и самодовольной женщиной.
Ведь метод мисс Ричардсон, лишенный малейшей иронии и
абстрактности, страдает тем недостатком, что столь частые
похвалы тонкости или уму Мириэм словно переадресованы авто-
ру. (Невольно вспоминаются американки, восклицающие в разго-
воре с незнакомыми людьми: «Он меня просто обожал!») Что же
касается метода, то в 1915 году он мог представляться желанным
освобождением от тирании «сюжета», но время мстит: после
двадцати лет субъективности мы с облегчением возвращаемся к
358
старой диктатуре, к отвлеченному и объективному раскрытию
темы, а этот роман, не замечая сигналов опасности, продолжает
катить вперед и вперед: кофр, на этот раз с австрийским или
швейцарским ярлыком, покачивается на полке, и Мириэм, все
столь же впечатлительная, усматривает слишком уж большой
смысл в чашке кофе, в срезанной розе, тумане или закате.
ДЖ. ФАУЛЗ
АРИСТОС
(Фрагменты из книги)
Глава 10
Важность искусства
1. Под искусством я понимаю все искусства; под художниками—
творцов во всех видах искусства; под артифактами—все произве-
дения, которыми наслаждаешься в отсутствие художника. С
появлением звукозаписи и кинематографии целесообразно заклю-
чить, что артифактами являются и выдающиеся исполнительские
работы—скажем в музыке или театре. Тем не менее термин
«артифакт» я использую в традиционном смысле, понимая под ним
итог сочинительского, а не интерпретаторского, драматургическо-
го, а не игрового творчества.
2. Практика и опыт искусства не менее важны для человека,
нежели использование научных открытий и научное познание. Два
этих центральных способа восприятия и осмысления бытия
взаимодополняющи, а отнюдь не враждебны друг другу. Специфи-
ческая ценность искусства для человека в том, что оно ближе
реальному бытию, нежели наука; в отличие от науки оно
неподвластно диктату логики и рассудка, и оно оказывается,
таким образом, по сути своей высвобождающим видом деятельно-
сти, в то время как наука в силу неизбежных и достойных
уважения причин есть деятельность сужающая и специализиру-
ющая. И последний и важнейший аргумент в пользу искусства:
оно есть лучшее — то есть самое многообразное, самое сложное и
наиболее доступное пониманию — средство общения между
людьми.
Искусство и время
14. Таким образом, есть два вида артифактов: те, которыми мы
восхищаемся и на которые мы, возможно, взираем с завистью,
ибо они переживают нас, и те, которые нам нравятся и,
возможно, вызывают у нас жалость, ибо бессмертие им не дано.
И те и другие по-своему отражают наше ощущение времени.
15. Всякое искусство как обобщает, так и конкретизирует—
иными словами, пытается цвести во все времена, но укоренено в
одной эпохе. Древняя статуя, абстрактное полотно, двенадцатито-
новая гамма по преимуществу обобщают (все эпохи); портрет
Гольбейна, хайку, цыганский романс по преимуществу конкрети-
зируют^ (одну эпоху). И все же в портрете Энн Кресакр работы
Гольбейна я вижу одну женщину XVI века и одновременно—всех
360
молодых женщин определенного круга, а в отрешенных и предель-
но абстрагированных созвучиях Веберна улавливаю выражение
одного индивидуального мироощущения, присущего началу XX
столетия.
16. Такое равновесие между конкретизацией и обобщением,
столь трудно достижимое для художника, природа осуществляет
без труда. В бабочке есть нечто уникальное и вместе с тем
универсальное: являясь сама собою, она не перестает быть
точным подобием любой другой бабочки своего вида. Для меня
соловей поет так же, как он пел для моего отца, и для его деда, и
даже для деда Гомера; это все тот же соловей и в то же зремя
другой, сегодняшний и всегдашний. Вслушиваясь в тиши быстро-
течной ночи в его песнь (некогда услышанную и Китсом), я двумя
дорогами вступаю в реальность и на перекрестке этих дорог
встречаю собственное обогащенное «я».
17. От нас самих зависит, как мы видим реальную вещь:
вертикально (т. е. в данный момент ее бытия),, или горизонтально
(во всем богатстве ее прошлого), или в обоих ракурсах одновре-
менно. В искусстве, аналогичным образом, мы стараемся совме-
стить тот и другой в рамках одного высказывания. Эти всегдаш-
ние взаимосвязанные временные факторы неотделимы от речевых
и визуальных процессов.
18. С другой стороны, то, как я вижу данный артифакт—
вертикально, в настоящем, или горизонтально, во временной
протяженности,—может определяться стремлением художника
заставить меня увидеть его так или иначе; однако даже, при
восприятии артифактов за мной сохраняется оп]ределенная свобо-
да выбора. Так, «Святого Иеронима» Караваджо я могу рассмат-
ривать вертикально — как произведение, взятое само по себе, или
горизонтально — как звено в истории живописи. Я могу увидеть в
нем портрет одного старика или этюд на тему отшельничества;
мнимо академический эксперимент в области светотени; докумен-
тальное свидетельство, проливающее свет на личность самого
Караваджо, на его век, и так далее.
20. Как со стороны художника, так и со стороны зрителя
искусство являет собой попытку преодолеть тиранию времени.
Каковы бы ни были функции и интенции артифакта, он всегда
оказывается средоточием присущего людям ощущения времени; и
отнюдь не случайно взрыв интереса к искусству, переживаемый
нами сегодня, совпал с осознанием нынешним поколением кратко-
временности нашего пребывания в вечности.
Художник и его творчество
31. Главная потребность, какую испытывает сегодня художник,—
это потребность выразить собственное, отмеченное личностным
отпечатком само- и мироощущение. По мере того как ослабевала
наша потребность в искусстве изобразительного свойства, начали
рождаться такие стили и течения, как абстракционизм, атональ-
ная музыка, дадаизм, в рамках которых растущий негативизм к
точности отображения внешнего мира=—точности* издавна слу-
361
жившей критерием профессионального мастерства,—и традицион-
ным представлениям о долге художника пред этим миром становил-
ся нормой; взамен последних эстетика такого рода течений
предусматривала развертывание наивозможно широчайшего поля
для безошибочного выражения неповторимого художнического «я».
Именно остро ощущаемая художниками потребность в Lebensra-
um1, иными словами—испытываемое ими чувство заточенности в
массе собратьев по ремеслу, лежит в основе того беспрецедентного
«высвобождения» индивидуальных стилей, изобразительно-
выразительных приемов и средств (то есть использования факту-
ры), какое имело место в нашем столетии. Тюрьма уничтожает
индивидуальность; и этого-то более всего опасается сегодня
художник.
32. Но коль скоро основной задачей искусства становится
выражение индивидуальности, интересы зрительской аудитории
неминуемо отступают в глазах художника на второй план; и этой
пренебрегаемой творцом аудитории в свою очередь не остается
ничего иного, как отвергнуть его вдвойне эгоистическое творче-
ство— особенно когда все прочие эстетические задачи настолько
утрачивают для него значение, что артифакт предстает каждому,
кто не располагает дополнительными данными об авторском
замысле, замкнутом в себе самом.
33. Тогда возникают—как и возникли в действительности—
два противоположных лагеря: лагерь художников, озабоченных
самовыражением и самооценкой, ожидающих, что зрители придут
к ним из чувства долга перед «чистым» или «неподдельным»
искусством, и другой лагерь—лагерь художников, знающих, что
публика любит, когда ей льстят, когда ее забавляют и развлека-
ют, и эксплуатирующих этот инстинкт аудитории. В такого рода
ситуации нет ничего нового, но никогда еще? эти два лагеря не
были столь четко разграничены и столь антагонистичны.
34. Все искусство внутреннего ощущения становится, таким
образом, трудной для восприятия формой автопортрета. Худож-
ник во всем, как в зеркале, видит себя. Профессиональные
стороны искусства терпят ущерб; мастерство предстает даже
«неискренним» и «коммерческим». Хуже того, желая скрыть
заурядность, банальность или алогичность своего внутреннего
мира, художник оказывается способен намеренно вводить в свое
творчество элементы двусмысленности или герметичности. Пос-
леднее легче осуществить в живописи и музыке, нежели в
литературе, ибо слово представляет собою более точный символ;
поэтому ложную двусмысленность и герметичность легче распо-
знать в литературе, чем в других искусствах.
Искусство и общество
35. Но тирания самовыражения—отнюдь не единственный фак-
тор, с которым вынужден считаться современный художник. Одна
из наиболее бросающихся в глаза примет нашей эпохи—
1 Жизненное пространство (нем.).
362
повсеместная манипуляция и в массовых и более рафинированных
зрелищах и искусстве крайними проявлениями насилия, жестоко-
сти, зла, неустойчивости, патологии, хаоса, двусмысленности,
безверия и анархии. Хэппи энд становится «сентиментальным»,
«открытие» или трагические финалы — «реальными». Часто гово-
рят, что те или другие движения в искусстве суть не что иное, как
отражение тех или других движений в истории. Наш век,
очевидно, неистов, жесток и тому подобное; так каким же. ещё,
как не «черным», суждено быть порождаемому этим веком
искусству?
36. Но из этого следует, что художнику несвойственно вдох-
новляться задачами более высокими, нежели задача держать
зеркало перед окружающим миром. Не то чтобы преобладающая
часть «черного» искусства нашего времени не была, увы, истори-
чески оправданной; однако такой его колорит зачастую становит-
ся результатом неправомерного давления, оказываемого на искус-
ство обществом. Художник творит в «черном спектре» потому,
что этого ожидает от него общество — отнюдь не потому, что
таково его истинное предпочтение.
40. Искусство сегодня поставлено перед необходимостью прив-
носить в действительность то, что в прошлом привносилось в нее
невежеством и социальными и материальными условиями суще-
ствования: неустойчивость, насилие и произвол. Это—извращение
подлинного его назначения.
42. Художник может избрать своей участью не быть художни-
ком, но он не может сознательно избрать себе участь художника.
Художники и нехудожники
43. Начиная с конца XVIII столетия художественный опыт все
более присваивает себе функции опыта религиозного. Подобно
тому как в средние века церковь изобиловала священнослужителя-
ми, бывшими по натуре художниками, наш век полон художников,
которым следовало бы родиться служителями культа.
44. Разумеется, многие из современных художников не согла-
сятся с тем, что по природе они—неудавшиеся служители
культа. Ибо на место служения добру они поставили служение
художественной «истине». Когда-то у каждого порога царило так
много несправедливости; в этих условиях нетрудно было уразу-
меть, что значит «творить добро». Но в наши дни даже дидактиче-
ское искусство гораздо более озабочено поисками верного эстети-
ческого или художественного выражения морали, нежели утвер-
ждением ее.
45. Справедливо, что точнейшее выражение морали наилучшим
образом служит ее утверждению: стиль — это мысль. Однако
избыток заботы о том, как выразить мысль,' обнаруживает
тенденцию к девальвации самой мысли; подобно тому как многие
священнослужители, озабоченные тонкостями ритуала и искус-
ством изложения кредо, забывали об истинном призвании, к
которому их обязывал сан, многие из нынешних художников
оказываются столь незрячи ко всему, что выходит за рамки
363
стилевых критериев, что полностью игнорируют (или рассматри-
вают чисто формально) всякое этико-человеческое содержание,
заключающееся в их творениях. Мораль превращается в разновид-
ность средства коммуникации.
47. Зловещая неисчислимость явлений нашего мира, бесконеч-
ная повторяемость заурядного порождает дух уничтожения.. Наши
современные святые — это проклятые святые: сутины и альбаны
берги, диланы томасы и скотты фицджеральды, рембо и рильке,
множащиеся джин харлоу и мэрилин монро. В наших глазах они
то же, чем для церкви первых веков были мученики-христиане, в
том смысле, что те и другие отдали свои жизни во имя
достойнейшей цели — бессмертия имени.
48. Как иначе объяснить популярность романизированных
биографий художников и дешевых биографических фильмов? В
этих житиях новых святых—как и в старых житиях—не столь
акцентируются итоговые художественные завоевания и творче-
ские побуждения их героев, сколь внешние и сенсационные факты
их частной жизни. Ван Гог с бритвой—не с кистью — в руке.
49. Но отсюда проистекает неискренность подражания, сквозя-
щая в поведении многих современных художников. Те из великих,
кто сделали роковой шаг в черную бездну, оказались на ее краю
не по собственному выбору. Из мрака их взоры вечно устремлены
вверх—к свету. Они пали в пропасть. Иное дело—их подражате-
ли: те—прыгнули.
50. В глазах публики жизнь «богемных» художников, les
grands maudits1, представляет больший интерес, нежели их твор-
чество. Ей ведомо, что создать такие произведения—не в ее
силах; иное дело — прожить такую жизнь.
51. Обязанностью искусства в наши дни во всевозрастающей
степени делается выражение мыслей и чувств ненаучной интел-
лектуальной элиты мира; оно адресуется единицам, пребывающим
на самом верху пирамиды. Во времена, когда важнейшими
сферами интеллектуального выражения и определяющими форма-
ми индивидуального жизнеощущения были теология и философия,
художник оказывался в силах сохранять более тесный контакт с
аудиторией. Ныне же, когда основным способом утверждения
своего «я» стало искусство, когда место теолога-философа занял
художник, между творцом и его аудиторией разверзлась зияющая
пропасть.
52. Единственные, кому было бы под силу преодолеть разоб-
щение между художником и нехудожником,—критики. Но чем
более неясным и двусмысленным предстает произведение искус-
ства, тем более настоятельной становится необходимость в интер-
претации и интерпретаторах. Таким образом, у критиков возника-
ют веские профессиональные побуждения углублять это разобще-
ние. Появляется и другая отчетливая тенденция—ликан-
тропическая: художник-творец и при свете дня, и в ночную пору
обращается в критика.
53. Вести такой образ жизни, носить такое обличье художника
понуждает наше общество; это же общество монотонностью и
1 Проклятые гении (франц.).
364
конформностью своего бытия толкает его на создание «черных»
произведений искусства и зрелищ. Художник, испытывающий на
себе подобный диктат, с точки зрения общества выполняет
полезную функцию. Однако я убежден, что такая функция не
является функцией искусства.
54, Подлинная первичная функция искусства заключается от-
нюдь не в том, чтобы врачевать болезни и несовершенства
общества, но в том, чтобы наряду с наукой быть путеводной
звездой в существовании людей.
Поэзия и человечество
70. Я не верю, как можно верить в наш демократический век, что
все великие искусства равнозначны; хотя, как и у людей, у них
есть все основания требовать равных прав на существование в
обществе. Литература, и в частности поэзия,—главнейшее и
ценнейшее из них* В дальнейшем понятием «поэзия» я буду
обозначать все, что находит выражение в запоминающемся
слове—иначе говоря, то, что чаще всего (но не обязательно)
традиционно подразумевают под этим термином.
78. Слово неотделимо от любой художественной ситуации:—
помимо всего прочего потому, что наше восприятие других
искусств не может найти никакого иного воплощения, кроме
словесного. Происходит это оттого, что слово — самое точное и
всеохватывающее орудие человека, а поэзия—прочно запада-
ющее в память использование этого самого точного и всеохваты-
вающего орудия.
79. Ряд ученых утверждают, что точнейшим орудием человека
является математический символ; и действительно, в семантиче-
ском плане некоторые уравнения и теоремы строго и неподдельно
поэтичны. Однако их точность есть точность в пределах одной
особой • сферы, выделенной в силу вполне понятных причин
практического свойства из клубка реального бытия. Поэзия,
стремясь к наибольшей точности выражения, не прибегает к
такому вычленению из общего. Наука—это в буквальном смысле
слова точность любой ценой; поэзия в буквальном смысле
слова—всеохватность любой ценой.
80. Наука—это всегда нечто в скобках; поэзия — напротив—
выведенное за скобки.
84. «Блестящие обобщения» больших поэтов отнюдь не явля-
ются псевдоуравнениями или псевдоопределениями, ибо явления и
эмоции, которые они суммируют и определяют, действительно
существуют и в то же время не могут быть суммированы или
определены как-либо иначе. Ситуация, охватываемая большин-
ством поэтических высказываний, столь сложна, что ее может
объять лишь поэзия. Подобно тому как уравнение может быть
объявлено неверным в силу ошибочности данных, положенных в
его основу, можно «опровергнуть» и поэтическое высказывание,
коль скоро оно не становится достоянием памяти—будучи либо
недостаточно емким семантически, либо за пределами семантики
не отлившимся в достаточно совершенную форму. Более одарен-
ный поэт побеждает менее одаренного.
365
87. Поэзию часто презирают за то, что язык ее не «интернаци-
онален» в отличие от языка музыки и живописи. Это ее расплата
за обладание точнейшим из орудий, Но то же орудие делает ее
самым открытым из искусств, наименее подверженным эксплуата-
ции и в последнюю очередь становящимся добычей тиранов.
88. Многие считают, что за то достойное жалости положение,
в каком пребывает сегодня поэзия, поэтам некого винить, кроме
самих себя. Разумеется, они виновны (и истоки их вины восходят
К движению символистов) в опасном смешении категорий языка
музыки и языка как такового. Сама по себе нота незначима; то
или иное значение она обретает, будучи помещена в соседство с
другими; и даже тогда, в рамках определенной гармонической
группы или мелодического ряда, значение это не абсолютно: оно
варьируется в зависимости от темперамента, этнического типа и
музыкального опыта слушателя. Музыка—«язык», высшая кра-
сота которого заключается в многозначности, притом в много-
значности внелингвистического свойства; короче, музыка не есть
язык, так что данное уподобление ложно. От языка же, которым
пользуется поэзия, значение неотделимо; большинство так назы-
ваемых «музыкальных» выразительных средств в поэзии: аллите-
рация, эвфония, ассонанс, рифма—на деле являются ритмически-
ми средствами,пособниками метра.Подлинный брат поэзии—танец,
в истории рода человеческого предшествовавший музыке. Именно
из этого уходящего в прошлое смешения категорий музыки и
поэзии проистекает стихийный поток усложненной образности и
двусмысленности, столь характерный для искусства постсимволи-
стской поры. Малларме и его последователи дерзнули насиль-
ственно сочетать браком музыку и поэзию. Изменчивость, под*
важность, мерцающую текучесть музыки Вагнера и Дебюсси они
попытались передать в звучащих словах, но слова не вынес ли
тдкого бремени, и в итоге эффект мерцания, фонетически едва
ощутимый, несравненно более чувствительно затронул сферу
словесных значений. Я отнюдь не склонен приуменьшать смелость
и совершенство творений Малларме, но практическим следствием
этого смешения для опыта всех искусств новейшего времени
явилось то? что изощренная игра символами, умение менять их
местами, выстраивая и перестраивая прихотливые модели, хожде-
ние по кругу, склонность двигаться к цели с помощью логарифми-
ческой линейки, когда для ее достижения достаточно простого
сложения, стали восприниматься как безошибочно современные и
самые действенные в творческом плане приемы письма. Разумеет-
ся, названные приемы могут быть современными и действенными;
хотелось бы, однако, чтобы сопутствующие им «безошибочно» и
«самые»' с меньшей готовностью принимались как должное.
89. Стремясь воплотить свое видение действительности, по-
эзия, как и другие искусства, прибегает к сгущению, отбору,
искажению и эмфазе; однако самая точность ее материала и
неизмеримо усложняющий дело фактор языкового значения нес-
колько замедляют эффект ее воздействия; а в век невротической
озабоченности краткостью земного срока и неизбежностью смер-
ти девизом существования становится немедленность. И все-таки
даже теперь поэзия в большей мере остается душой нации, ее
366
неповторимой тайной, ее святая святых, нежели любое другое
искусство.
90. Если в данный момент она начинает казаться анахрониз-
мом, то лишь потому, что внезапно нахлынувшая волна механиче-
ских средств, коммуницирующих аудиовизуальные образы, грозит
всему миру общелингвистической анемией, вырождением языка.
Большая часть аудитории, в которой на данном этапе эволюции
преобладают представители недавно освободившегося от наемного
рабства пролетариата, все еще видящие в искусстве скорее
случайный источник наслаждения, нежели глубинный источник
правды, естественно, с гораздо большей легкостью постигает
непосредственно увиденную и услышанную красоту, чем красоту,
запечатленную в языковых знаках, побуждающих к работе мысль
и воображение.
94. По сути своей поэты — защитники смысла и порядка. Если
в прошлом они столь часто ополчались на устоявшиеся представ-
ления и формы общественного устройства, то они делали это во
имя утверждения форм более совершенных. Пределом реально-
сти, с нашей, сугубо относительной человеческой точки зрения,
являются хаос и анархия; и поэты—наша последняя линия
защиты. Полагая, что поэзия занимает последнее по важности
место в ряду наших искусств, ми уподобляемся генералам, распу-
скающим самые боеспособные свои войска.
95. Лелейте поэтов; нам казалось, что в мире еще много
гигантских гагар — пока с лица земли не исчезла последняя.
М. БРЭДБЕРИ
«СОБАКА, ЗАТЯНУТАЯ ПЕСКАМИ»
Абстракция и ирония
В первой части своей статьи я писал о важнейшей перемене,
происходившей в живописи и литературе в конце XIX века, когда
система знаний и представлений о мире, на которую опиралось
реалистическое искусство, начала распадаться, позитивизм всту-
пил в борьбу с интуитивизмом, социология с психологией,
натурализм с эстетизмом* и из этого сложного конгломерата
постепенно возникло современное искусство абстракции. В исто-
рии искусства это была решающая по своему значению перемена,
и ей уделялось огромное внимание по мере того, как мы
осознавали, что в искусстве и по сегодня сказываются послед-
ствия этого перехода к модернизму.
Возникновению модернизма давали много различных объясне-
ний, но каждое из них прежде всего и неизменно подчеркивало
бурный и коренной характер происшедших перемен. В работе
«Современное искусство» (1933) Герберт Рид назвал модернизм
«внезапным разрывом со всей традицией», когда «цель, ради
которой создавалось европейское искусство на протяжении послед-
них пяти столетий, была безоговорочно отвергнута». Эти слова
Рида выразили общепризнанную точку зрения, что же касается
самой природы свершившихся перемен или их причин, то здесь
единодушия гораздо меньше.
Одно из интереснейших объяснений предложено испанским
философом Ортегой-и-Гассетом. в эссе «Дегуманизация искус-
ства». В толковании Ортеги, «дегуманизация»—сложное понятие,
в основу которого положено утверждение, что причины, вызвав-
шие к жизни новое искусство, по сути, носили античеловечный
характер; это было искусство элиты, сознательно отдаляющееся
от народных масс, неспособных в своем будничном существовании
к наслаждению прекрасным.
«...Немногие могут правильно воспринимать произведение ис-
кусства, прозрачность которого подобна прозрачности оконного
стекла. Вместо этого они смотрят сквозь него и наслаждаются
той реальностью человеческого бытия, которая открывается им в
этом произведении»1.
«Дегуманизация» Ортеги весьма напоминает модную сейчас
теорию «остранения». Ортегу интересуют главным образом измене-
1 Jose Ortega у Gasset, Dehumanization of Art and Writings on Art and
Culture, N. Y., 1972.
368
ния в изображении человеческой личности. Он особенно подчерки-
вает, что в произведениях современного искусства гуманистическое
содержание все больше уступает место форме и игре. «Для
современного художника,—утверждает Ортега,—... эстетическое
наслаждение заключается... в торжестве над человеческим матери-
алом. Вот почему он должен демонстрировать свою победу, каждый
раз изображая задушенную жертву».
Эта «задушенная жертва»—исчезающие остатки человеческо-
го, сохранившаяся частица гуманистического, которые он
неизменно обнаруживает в современном искусстве и литерату-
ре. В результате возникает «инверсия» старых форм искус-
ства:
«Прежде реальность была перегружена метафорами, выпол-
нявшими роль украшений; сейчас существует тенденция к уничто-
жению излишней подпорки поэзии или реальности и «реализации»
метафоры, к тому, чтобы сделать ее res poetica1».
Однако в отличие от многих современных критиков, например
Герберта Рида, Ортега не считает полный разрыв с прошлым
чем-то новым. С исторической точки зрения дегуманизация, хотя
и принимает теперь ранее не известные формы, не представляет
собой чего-то небывалого; это скорее возрождение в обновленном
варианте извечной иконоборческой традиции. «Во все великие
периоды расцвета искусства его создатели тщательно следили за
тем, чтобы избежать в искусстве человеческого содержания»,—
замечает он. Поэтому XIX век и реализм, который мы часто
представляем как магистральное направление искусства, Ортега
считает отклонением, «крайним заблуждением» в истории эстети-
ческого вкуса. Именно тогда, утверждает Ортега, искусство
обратилось к гуманизму, потребовало от нас отождествления,
сочувствия, сопереживания; между тем, продолжает он, произве-
дения такого рода «лишь отчасти можно считать произведениями
искусства или художественными объектами». Реализм и гуманизм
существуют в полной гармонии; в гуманистическом искусстве
люди, дома и горы превращаются в «наших добрых старых
друзей».
Подобная точка зрения позволяет также объяснить, почему
роман и связанный с ним способ сюжетного повествования
достигли совершенства в XIX веке и почему роману отводится
такое значение для понимания нашей проблемы. В другой работе,.
«Мысли о романе», Ортега высказывает предположение, что для
романа характерна, так сказать, врожденная склонность к очело-
вечиванию, пристрастие к «воображаемой психологии», которая
может стать слишком живой и достоверной.
Подобная точка зрения Ортеги, разумеется, не нова. Роман
издавна считался, и прежде всего его творцами, той художествен-
ной формой, которая позволяла наиболее успешно сосредоточиться
на воспроизведении обыденной реальности, пристальном анализе
отношений между персонажами, позволяла раскрыть драматизм
внутренней жизни героев, создать неторопливое условное повество-
1 Здесь: предметом поэзии (лат.).
369
вайиё, в котором человеческая жизнь предстает связанной с
развитием общества и истории; при этом читатель отождествляет
себя с этой вымышленной жизнью, пишет Ортега, поскольку
«вымышленные персонажи предстают, как живые люди». Но Ортега
также справедливо замечает, что новые формы абстрактного
искусства оказывают своеобразное воздействие на роман. Посколь-
ку романы тяготеют к созданию «вымышленной картины человече-
ской реальности», дегуманизация в них обретает характер иронии;
эта ирония присутствует и в других видах искусства, например в
живописи, прежде всего портретной, но в литературе ей отводится
особая роль.
Доводы, выдвинутые Ортегой, имели крайне важное значение
для понимания современных художественных форм и форм
искусства вообще, однако было бы неверно думать, что «дегумани-
зация» искусства носила односторонний характер и выражалась
только в усилении художественного момента в искусстве. Действи-
тельно, для многих писателей, таких, как Гертруда Стайн и
Вирджиния Вульф, значение нового направления определялось
прежде всего тем, что оно позволяло раскрыть внутреннюю
сущность искусства как такового и в то же время проникнуть в
глубины человеческой природы, творить искусство, сочетающее
сознательное и бессознательное, эстетические устремления с
творческими усилиями разума или «id».
Но были и другие писатели, которые вкладывали в новые
теории абстрактной формы совсем иной смысл: для них они были
реакцией на современную историю, представляющую собой про-
цесс дегуманизации. «Насколько можно судить, новая «тенденция
к абстракции» достигнет своего наивысшего выражения не столь-
ко в простых геометрических формах архаического искусства, но
главным образом в более сложных формах, ассоциирующихся в
нашем сознании с идеей техники»,— заявил Т. Э. Хьюм под
влиянием Бергсона и Уоррингера. Примечательно то, что он
высказал эту мысль в лекции «Современное искусство» в 1914
году, в сезон вортисизма и «Взрыва»*, уже предвещавших
европейскую бойню с ее новейшими техническими средствами
массового уничтожения. Новые абстракции футуризма, вортнсиз-
доа и экспрессионизма оказали также несомненное воздействие на
изменение теории характера у Д. Г. Лоуренса, сформулирован-
ной им в 1915 году в известном письме к Эдварду Гарнетту по
поводу романа «Влюбленные женщины»: «Я увлечен нечеловече-
ской волей, можете называть это физиологией или, как Маринет-
ти, физиологией материи. Меня не очень волнует, что такое
женщина... Вы не должны искать в моем романе выражение
старого неизменного ego — характера...»
Сходные формы могут возйикнуть в силу различных причин.
Абстракция может вырасти из стремления к формальным новше-
ствам или эстетическому освобождению. Но она может быть и
ответной реакцией, поиском эстетического аналога тем историче-
370
ским процессам технологизации, механизации и обезличивания,
которые вытеснили человеческую фигуру из центра бытия,
стерли различия между одушевленными и неодушевленными
предметами, изменили комлозициойные соотношения человека и
вещи.
После разрушительной войны, которая уничтожила многие
традиционные ценности культуры, спутала все нравственные
понятия, устоявшиеся социальные отношения, отвергла старую
фразеологию и поколебала прочную уверенность в том, что
человек может с пользой для себя участвовать в жизни общества
или в ходе истории, к двадцатым годам на первый план выступили
внешние причинные связи, усиливая в искусстве иронию и
абстракцию.
Страх перед небытием, ощущение враждебности окружения,
убеждение, что в мире властвует механистическое разрушение
жизни,— все эти черты современного сознания, которые Фредерик
Д. Гофман весьма плодотворно исследует в книге «Жестокое
«нет»: смерть и современное воображение», привели в послевоен-
ном мире тридцатых годов к возникновению нового понятия
формы. Убитый или раненый на поле боя, человек в историческом
или социальном окружении, как Тайтженс, Джейк Барнс, Кли-
форд Чаттерли*, приковывали к себе внимание, равно как и
люди-автоматы, захваченные пляской в шутовском хороводе
утратившего всякий смысл общества. Так возникли бергсониан-
ские персонажи Во, герои Кафки во власти тоталитарного
государственного аппарата, «человек без свойств» Музиля, загнан-
ный в безликую пустоту. Иными словами, дегуманизация стала не
просто возможным содержанием искусства, но фактором истории.
В модернизации мира, утрате духовного начала, в господстве
жестокого механистического процесса терялось человеческое
«я»—и следствием этого становилось отчуждение, беззащитность
перед лицом существования, осознание абсурдности человеческого
бытия.
Итак, в литературе утверждаются два типа абстракции: с одной
стороны, эстетизированные портреты сознания, как у Вирджинии
Вульф, а с другой—механические шуты Ивлина Во, лицедейству-
ющие на сцене жизни. Литература все больше усваивала абст-
рактную интонацию иронии, что означало не обращение к новому
содержанию, а отказ от содержания вообше. Даже когда
модернизм миновал вершину своего расцвета и в романе
тридцатых — пятидесятых годов начал проявляться чисто абстракт-
ный формализм, а затем наступил период возрождения
реализма, это господство дегуманизации и иронии как художест*
венного принципа в изображении человеческой личности тем не
менее продолжалось.
Разумеется, сегодня модернистский стиль отошел в прошлое.
Модернизм стал понятием историческим. Но похоже, что мы
вступили в период возрождения экспериментаторства, и реализм в
романе после периода возрождения подвергается серьезному
пересмотру. Начался новый эстетический период, и нам выдан
удобный флаг, под которым можно пускаться в плавание. На этом
флаге значится—«постмодернизм».
371
Под широким знаменем постмодернизма собрались такие пе-
стрые явления, как театр абсурда, французский «новый роман»,
американский «новый журнализм», всевозможные направления в
живописи—от поп-арта и оп-арта до абстрактного экспрессиониз-
ма и фотореализма. Более того, как это нередко бывает в периоды
экспериментальных поисков в искусстве, живопись и роман снова
сблизились. Возник новый культ синестезии, что находит выраже-
ние прежде всего в хэппенингах, в синтетическом действе,
переданном различными средствами, в формах пародии. И тут мы
обнаруживаем, что все эти явления оказывают воздействие на
развитие романа, который с готовностью оставляет стезю реализ-
ма и обращается к исследованию своей собственной лексической и
структурной природы. Однако этот возврат к формализму проис-
ходит на иных, чем раньше, основах, и у нового формализма нет
ничего общего с формализмом модернистов, когда мир был
хаотичным, но это был хаос в цельном мироздании. Для современ-
ного искусства характерно ироническое отношение к самой идее
искусства вообще как прочного, самодовлеющего и замкнутого в
себе единства. В то же время новое искусство сознательно
стремится к абстракции, и в определенном смысле оно постреали-
стично.. Эти черты особенно наглядно проявляются в живописи,
но все более проникают и в другие формы художествен-
ного выражения, в том числе и словесные: драму, поэзию,
прозу.
А. Альварес утверждал, что мы живем в эпоху отсутствия
стиля, в эпоху такого стилистического разнобоя, что в нем
невозможно выделить главное. Действительно, начиная с 1945 года
в искусстве наступил период необычайного творческого подъема и
в то же время небывалого стилистического многообразия. Всевоз-
можные «измы» и направления, как отмечает Эдвард Люси-Смит в
своем ценном исследовании этой проблемы, стремительно сменяли
друг друга, и в итоге недолговечность стала чертой нынешней
художественной продукции. Наступило своего рода видоизменение
стиля как такового, моды как формы и формы как моды. В нашем
современном мире мода и стиль поменялись ролями и произошло
важное по своему значению слияние авангардизма, продолжающе-
го традиции модернизма и сюрреализма, с элементами массовой
культуры или контркультуры. Нет сомнений, что сегодня
мы живем в период коренного изменения стиля в условиях
общего изменения социальных, сексуальных и гносеологиче-
ских отношений в мире, в котором обсуждение проблем
стиля приобретает важную социальную функцию. Богемный
люд толпится на каждом углу, самопародистов можно
встретить в любой мастерской, неохудожников—в любой диско-
теке.
В последнее время много писалось о том, что современная
западная культура слишком замкнута на самой себе. Отчасти
такое самолюбование современной западной культуры, своеобраз-
ный нарциссизм проявляется и в убеждении, что споры по
проблемам стилей выполняют важную социальную функцию как
сфера соприкосновения, пересечения с современной историей и
условиями существования в мире, где господствует техника.
372
Выдвижение на первый план проблем стиля в подходе к искусству
и литературе привело к рассуждениям о метаискусстве, паракри-
тике, сюрлитературе, но в то же время эта сосредоточенность на
стиле со временем приобретает явный оттенок иронии. Трудно
выделить какую-нибудь господствующую черту, определяющую
общую ситуацию в современном искусстве. Для него характерны
прежде всего такие явления, как абстрактный экспрессионизм,
поп-арт, оп-арт и кинетическое искусство, фотореализм, минима-
лизм и концептуальное искусство, хэппенинги и прочие направле-
ния, порожденные огромным разнообразием питающей их куль-
турной среды. Но если такая господствующая черта и существует,
то это, разумеется, недолговечность, заключенная в самом содер-
жании этого искусства, и как следствие ее—непроизвольное
тяготение к пародии и самопародии.
Одно время казалось, что дороги живописи и литературы
расходятся. После второй мировой войны в литературе произошло
явное возрождение реализма — «сердитые» писатели в Англии,
неоэкзистенциалисты во Франции, писатели-моралисты в еврей-
скоамериканской литературе пятидесятых годов. Но постепенно и
все более широко начался процесс сближения живописи и
литературы; художники и писатели сообща пытались заново
определить сущность творческого процесса, при этом они отверга-
ли как реалистическое копирование действительности, так и
герметическую замкнутость модернизма. Вновь появился на свет
стилизованный реализм, представленный фотореалистической жи-
вописью, работами таких художников, как Хокни и Колфилд, а
также «литературой факта». Но в то же время произошло и
возрождение модернистской абстракции, но уже наполненной
новым чувством отчаяния, что нашло выражение в пустотах
минималистской живописи, в молчании персонажей беккетовских
пьес. Традиционный холст изжил себя, его осквернили, перекро-
или; текст же переиначили, высмеяли, расщепили.
В то время как художники сосредоточились на технических
приемах письма как таковых, писатели обратились к лексической
поверхности текста. Они создавали недолговечные тексты, в
которых главное значение имели не персонажи, призывающие
читателей к сопереживанию, не те или иные системы ценностей и
даже не композиционные приемы, например использование приема
«точки зрения», а произвольные ритмы, возникающие из противо-
постановления старых структур, свободных вариантов композиции
или пародии на структуру и форму. Таким образом произведение
искусства становится конструкцией, игрой с бесчисленным коли-
чеством вариантов. Традиционные отношения между художником,
полотном и зрителем, а также между писателем, персонажем,
сюжетом, текстом и читателем сами превратились в предмет
произвольного художественного воспроизведения.
Итак, искусство становится средством, с помощью которого
жизнь со всеми ее случайностями и непредвиденностью можно
играючи подчинить определенному порядку, в зависимости от
обстоятельств наделить жизнь смыслом или объявить ее бессмыс-
373
ленной, признать ее реальность или нет. А что касается реально-
сти, нашего старого доброго друга, то к ней вообще можно
подходить только с позиций сомнения. Выдвижение в литератур-
ном произведении на первый план текста делает его своего рода
визуальным объектом: писатель уподобляется живописцу, он
рассматривает свой текст как нечто фрагментарное, эпизоды —
как последовательность статичных сцен, а персонажи—как рас-
ставленные в определенных позициях фигуры. В то же время
писатель сам становится в ту или иную позу, он актер, самозва-
нец, манипулятор восприятиями, который со слишком большой
готовностью отрицает.
Материал не подчиняется автору. Текст не вызывает у
читателя чувства сопереживания или желания отождествить, себя
с героями, предметы предстают безжизненными и никак не
связанными с людьми, которые в свою очередь превращаются в
карикатуры или вымышленные неодушевленные предметы, кото-
рыми манипулирует автор. Всевозможные системы и шифры
представлены в изобилии, но они выполняют лишь чисто вне-
шнюю, формальную функцию и заимствованы либо из старых
литературных запасников, либо из арсенала модных современных
течений стиля. Рассказчик ускользает от нас, превращается в
некий голос регулировщика, который либо размышляет о своем
праве подчинить себе созданную им художественную систему,
либо настаивает на ее вымышленном характере. Писатель ищет
свой путь, как Борхес в лабиринте им же самим созданных слов.
Среди этих недолговечных форм покоятся человеческие останки:
персонажи оказываются в ловушке сюжетов или же сопротивля-
ются предположению, что они плод вымысла, облеченный в
лингвистический или структурный шифр, цель которого —
поглотить их. Все сюжеты существуют испокон веков, и в
лучшем случае мы можем предложить свою версию старого
сюжета или ироническую пародию на него. Сюжет конечен, текст
бесконечен.
Шаг за шагом разрушается непосредственный человеческий
контакт с произведением, кропотливая работа над пробуждением в
читателе сочувствия. Подспудной темой таких произведений мо-
жет быть разоблачение современного процесса дегуманизации или
просто обобщающее изображение его, как в «кибернетическом
романе» Томаса Пинчона, Уильяма Бэрроуза или Уильяма Гэдди-
са, причем средствами отвлеченной литературной техники, созвуч-
ной современному миру. Однако чаще всего такие произведения не
избегают двусмысленности: полотна Лихтенштейна, фильмы
Уорола, романы Бэрроуза критикуют этот античеловечный мир
и в то же время прославляют его. Несомненно одно: кибернетиче-
ская вселенная, мир господства техники, а также порожденное им
изображение человека как пародии на самого себя, автомата,
лицедея, актера без собственного лица, картонной фигурки глубо-
ко укоренилось в современном искусстве самопародии.
Может показаться, что я слишком издалека подошел к
названию моей статьи, которое заимствовано у Гойи, хотя,.
374
вероятно, принадлежит не самому художнику, так как речь идет
об одном из панно «Дома глухого», выполненных им на стенах его
загородного дома где-то хмежду 1814 и 1819 годами; впоследствии
эти панно были перенесены на полотно и выставлены в Прадо.
Гойя был художником романтического склада и находился во
власти противоречивых стремлений. В нем соединялся создатель
парадных портретов и чувственных обнаженных мах, беспощад-
ный карикатурист и точный хроникер войны и политических
событий, придворный живописец и мятежный романтик-бунтарь.
Эпиграф его ранней серии офортов «Капричос» («Сон разума
рождает чудовищ») раскрывает романтическую расплывчатость
его мировосприятия. Тот же афоризм подходит и к панно «Дома
глухого», созданным в самый мрачный период жизни художника,
после утраты им политических иллюзий, в период добровольного
отшельничества, глухоты и тяжелой болезни, отчаяния и углубля-
ющегося нигилизма. В этих гротескных, сюрреалистических
полотнах нельзя не увидеть выражение смятенности и ужаса, эти
картины страдания и жестокости написаны болью; кажется,
болезнь художника воплотилась в образы, извлеченные из самых
тайных глубин воображения; и в то же время в картинах
присутствуют конкретные черты страшного, истерзанного войной
мира насилия. Бедный и мрачный колорит, искаженные лица,
наводящие ужас сюжеты: Сатурн, пожирающий своих детей;
шабаш ведьм на поле боя.
Картины «Дома глухого» образуют единый цикл, но «Собака,
затянутая песками» выделяется среди прочих своим абстрактным
характером: при первом взгляде на картину даже не возникает
уверенности, что перед нами вообще предметная живопись. На.
картине отчетливо видны две большие цветовые соприкасающиеся
плоскости. На первом плане картины менее определенно просматри-
вается третья цветовая плоскость. Внизу под линией пересечения
двух основных плоскостей—настораживающее серое пятно, и,
даже убедившись что картина представляет нечто вполне конкрет-
ное—композицию неба и песка,—мы не сразу понимаем, что же на
ней изображено. Из этих.наслоений возникает пронзительное по
силе воздействия изображение головы собаки с бесцветными,
широко раскрытыми глазами.
Трудно понять, почему эта голова без тела: что это, игра
перспективы и тело скрывается за складкой песка? Или же, как
подсказывает название, собаку затянули зыбучие пески и еще
через мгновение голова также исчезнет под ними? Как бы то ни
было, наше понимание картины преображает ее. Это уже не
образец холодного современного абстракционизма, как могло
показаться, но творение фантастического реализма. Абстракция
присутствует как окружение, несущее в себе угрозу, давящее и в
конце концов уничтожающее. Любая живая фигура на полотне—
как и герой в романе—вызывает у зрителя соучастие, сопережи-
вание и создает ощущение подлинности; именно это ощущение
подлинности превращает для нас полотно Гойи в картину жизни,
где господствует окружение, пустыня, ничто. Реставрация, кото-
рая потребовалась после переноса картины в музей, возможно,
усилила ее абстрактный характер, но тем не менее ее композиция,
37$
основанная на сочетании больших цветовых плоскостей и подчер-
кнутом уменьшении фигуры, воспринимается как выражение
трагической иронии. Голова собаки нарушает абстрактность ком-
позиции, но в свою очередь абстрактная композиция подавляет
главную фигуру, как я думаю, в том сложном, неясном смысле, в
котором искусство в конце концов подавляет свой предмет.
Короче, образ приносится в жертву жизни, но также и самой
форме.
«Абстракция», несомненно, современное слово; очевидно, мы
обязаны им Уоррингеру, который в 1907 году опубликовал работу
«Абстракция и сопереживание» (в тот год, когда Стайн позировала
Пикассо и возникал кубизм). Это слово можно только с натяжкой
употребить, говоря о Гойе-художнике, который тяготел к роман-
тизму, уходя от подражательного искусства к искусству вообра-
жения и фантазии. В то же время нельзя не видеть прямой связи
картины «Собака, затянутая песками» с двумя современными
испанцами: речь идет, разумеется, о Пикассо и Ортеге-и-Гассете с
его размышлениями о дегуманизации искусства.
Картина Гойи, несомненно, позволяет по-новому осознать
творчество Пикассо и философские теории Ортеги, поскольку в
ней выражено спонтанное влечение к дегуманизации, то опьянение
торжеством над задушенной жертвой, о чем говорил Ортега. В то
же время переданные ею чувства ужаса, трагедии и сострадания
ведут.из области чистой формы к искусству художественного
гуманизма и реализма. Мне кажется, что картина Гойи утвержда-
ет идею чистой формы и в то же время отрицает ее. Она не
только дает изображение, но и заключает в себе четкую оценку,
переданную самими мазками, контурами головы собаки, и таким
образом демонстрирует две противоположные возможности худо-
жественного выражения, все еще существующие в искусстве.
Картина давно не выходила у меня из головы, и секрет ее
воздействия скрыт в том напряженном сочетании противополож-
ностей, которое ей удалось передать. И несмотря на наше
современное знакомство с модернизмом, мы по-прежнему готовы
ощущать это напряженное столкновение противоположностей—
как в живописи, так и в романе, где реализм и абстракция по воле
жизненной необходимости вступают в соперничество. Вот почему
я выбрал эту картину для обложки моего романа «Человек
истории», книги, для создания которой это столкновение противо-
положностей имело центральное значение как в плане темы, так и
стиля.
Почему? Я думаю, что сегодня художники и писатели должны
найти точки соприкосновения с искусством дегуманизации не
только потому, что его подход к человеку в известной мере
обоснован, но по тем же причинам, которые сделали проблему
дегуманизации главной в нашем современном обществе. Мы
существуем в мире абстракции, где все подчинено механистиче-
скому процессу, в обезличенном мире, который наступает на
человеческую личность и все менее поддается индивидуализации.
Мы творим такой мир как на практике, так и в сфере мышления.
376
Опасность состоит в том, что мы создаем его без всякой на то
надобности, через манипуляции со стилем. Но в конце концов,
стиль—это не теоретические абстракции или сугубо эстетическое
явление; стиль—это выражение при помощи ясной грамматики
природы опыта, переживаемого в данный исторический момент, и
именно поэтому стиль должен претерпевать соответствующие
изменения. Вряд ли можно ожидать от наших художников, что
они создадут общества, отличающиеся стройностью и глубиной,
если наши архитекторы, планировщики городов, социологи и
политики этого не делают и сделать не в состоянии. Самое
большее, на что мы можем рассчитывать,—это фантастические
видения таких обществ, запечатленные художниками в иных,
вымышленных мирах. Обращаясь к изображению такого мира, как
наш, художники должны найти язык, стиль и грамматический строй
которого отвечали бы нашему времени. В этом и заключается
назначение всякого подлинного стиля. Мне кажется, что такой
стиль должен непременно основываться на грамматике строгих
связей между объектом и субъектом, грамматике настоящего
времени, поскольку нами утрачена историческая преемственность, а
история — это процесс, который происходит здесь и сейчас,
процесс, к которому мы непричастны, наблюдая со стороны за
ходом дней, за приметами времени, изменениями моды, стиля
стилей.
Нас окружает гнетущая атмосфера, которую мы сами себе
создали. В моем романе «Человек истории» она воплощается в
мире многоэтажных гаражей, торговых центров и жалких гетто, в
мире бетонных коробок для мысли, именуемых школами и
университетами, в которых мы предписываем образцы такого
общества, в котором сами существуем. Среди этого ландшафта
мы должны отыскать человеческую фигуру. В представлении
моего главного героя, человек—всего лишь актер на зыбкой
социальной сцене, исполнитель ролей, недолговечный лицедей,
чья игра лишена глубины и богатого содержания. Такой мир, такое
восприятие человека, такой художественный стиль нашли отраже-
ние во многих наших лучших картинах, фильмах, романах.
Например, в полотнах Хокни, фильмах Антониони, романах
Хандке.
Побуждаемые естественным стремлением, мы- хотели бы,
чтобы романы, картины, фильмы не ограничивались констатацией
такого мира, а давали бы нам надежные опоры в жизни,
изображая человечных героев и воспроизводя мир как старого
доброго друга. Это вполне понятное и неизбежное желание, и
многое в будущем зависит от его осуществления. Но мы должны
понять, почему сейчас художнику трудно пойти навстречу этому
желанию. Я думаю, что сила и выразительность картины Гойи
«Собака, затянутая песками» достигается тем, что художнику
удалось выразить «гуманистическое содержание» и в то же время
занять позицию отстраненности; к тому же стремился и я в своем
романе. Внутренняя борьба Гойи между гуманистическим реализ-
мом и абстракцией, его восприятие абстрактного как выражения
трагедии и ужаса бытия раскрывают нам важные истины, от
которых мы не должны отказываться. Главное достоинство
377
романа—этой теперь уже старой литературной формы, в которой
издавна шла борьба между реализмом и сюжетным повествовани-
ем, с одной стороны, и абстракцией и чистой формой — с
другой,— заключается в том, что жанр романа выдерживает
решающий по своему значению спор между гуманизмом и
абстракцией. На мой взгляд, этим, по сути дела, определяется
жизненность и значение романа сегодня.
ДЖ. ОЛДРИДЖ
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К СБОРНИКУ
С. МОЭМА «ДОЖДЬ. РАССКАЗЫ»
...Моэма можно рассматривать как позднего викторианца,
младшего современника Шоу, Голсуорси, Честертона, Уэллса и
Арнольда Беннета. Все они писали в эпоху, когда Англия была
несокрушимой мировой державой, уверенной, что ей до конца дней
суждено занимать первое место в мире.
Столь уверена в себе была эта викторианская Англия, что она
могла позволить таким людям, как Шоу и Уэллс, издеваться над
худшими сторонами ее общества. Шоу взял на прицел ее ханжество
в вопросах морали, Голсуорси разоблачал ее стяжательство,
Честертон увлекался ее прошлым, но, как школьник, бунтовал
против нее, а Уэллс жалел ее за ее заблуждения, что, впрочем, не
мешало ему их разделять. Моэм же, наименее критически из них
настроенный, проявил, однако, больше презрения к худшим
сторонам викторианского общества, чем любой из них.
Оглядываясь на эту плеяду викторианцев, ясно видишь, что все
они использовали свое перо как орудие для выражения своих
социальных взглядов. Именно поэтому они стоят (в интеллектуаль-
ном смысле) на голову выше наших современных писателей,
которых страшит философия социального протеста и которые
поэтому изображают действительность лишь в той мере, в какой она
укладывается в их узкое и робкое мировоззрение.
Итак, позиция этих викторианцев сразу ясна читателю. Исклю-
чение, пожалуй, составляет только Моэм. Он среди них—легковес,
ведь он и сам отрицает, что когда-либо развивал в своих
произведениях социальные идеи, отстаивал ту или иную точку
зрения, ставил себе какую-либо цель, кроме желания заинтересо-
вать читателя.
Но это не совсем верно.
Подобно всем своим современникам, не исключая и Шоу, Моэм
был вынужден пойти на известный компромисс с викторианским
обществом, для того чтобы, живя в этом обществе, добиться
(подобно Шоу) успеха. Его умение занимательно рассказывать, его
банальные, ловко сделанные пьесы—это и есть его компромисс.
Но во многих рассказах Моэма и в некоторых его романах есть
такие мотивы, в которых невозможно усмотреть ни малейшего
компромисса. Моэм, безусловно, задумывается над судьбами
своего общества; но беда в том, что он нападает на него не как
объективный мыслитель, охватывающий все стороны изобража-
емого, а как аристократ, видящий в буржуазном существовании
379
недостойную и вульгарную пародию на настоящую жизнь. Бальзак,
восхищаясь аристократией, в то же время относился с восхищением
и уважением к ее социальной противоположности — французскому
крестьянину и ремесленнику, а ненавидел превыше всего средние
слои общества—насквозь продажную буржуазию.
Близка к этой позиции и позиция Моэма (который очень высоко
ставит Бальзака). И хотя в Англии нет крестьянства, которым он
мог бы восхищаться, он уважает рабочего человека, а к нормам
жизни английской буржуазии проявляет презрение, перерастающее
порой в такую жгучую ненависть, какой не найдешь ни у Голсуорси,
ни у Шоу, при всем превосходстве их как социальных мыслителей.
Чтобы понять эту черту Моэма, нужно кое-что понять в самом
английском обществе.
Когда Альфред Дулитл, мусорщик в пьесе Шоу «Пигмалион»,
жалуется, что стал жертвой «буржуазной морали», он не только
шутит по поводу своей неожиданной респектабельности, он
выражает ужас бунтовщика, чувствующего, что его засасывает
буржуазная трясина. Для свободомыслящего человека, как Дулитл,
это смерть.
Всем нашим социальным бунтовщикам знаком этот страх—от
Дулитла до самого Шоу. Хорошему человеку угрожает нечто
большее, чем буржуазная мораль,—ему угрожает весь буржуазный
строй жизни, которому подчинено английское общество. Преклоне-
ние перед титулами, бесхребетный парламент, удобная религия,
строгое соблюдение приличий, жестокие имущественные барьеры,
нелепый снобизм, аффектированная речь, сугубая забота о себе и о
своем потомстве—все убеждает это общество в собственном
благополучии.
Мы живем с этими критериями. На них равняется не только
буржуазия, но и рабочий класс, и аристократия (во всяком случае,
публично; что она делает в своем кругу—это другое дело), и даже
королевское семейство; и, наконец, что очень важно, на них
вынуждена равняться интеллигенция.
Но буржуазные критерии не все плохи. Наша буржуазия
выработала для применения в своей среде высокого порядка
вежливость и внимательность в обхождении...
В силу этой вежливости и внимательности наша буржуазная
трясина становится еще более опасной, потому что вежливость и
внимательность в быту делают жизнь хотя бы сносной. И в
этом—главное оружие нашей пресловутой британской терпимости.
Буржуазные слои нашего общества научились делать жизнь
сносной друг для друга, и тем самым они помогают сносить и
лицемерие своего общества; более того, они самое лицемерие
возводят в правило.
Поэтому всякий серьезный критик должен прежде всего отойти
на безопасное расстояние от буржуазии с ее предательскими
критериями, чтобы с самога начала не оказаться ими зараженным.
Каждый из упомянутых мною писателей по-своему отходил в
сторону от буржуазии, по-своему ограждал себя от ничтожности,
скуки и отупения, которые неизбежны, если принять эти критерии и
жить, сообразуясь с ними.
Моэм, повторяю, защищается от буржуазии, как аристократ,
380
высокомерно снисходя до нее. С этой позиции он может смотреть на
буржуазию со сложным чувством презрения, жалости, Терпимости,
страха, ненависти, сострадания, а иногда—подлинного гнева.
Чтобы разъяснить эту точку зрения Моэма, лучше всего
обратиться к некоторым из рассказов, помещенных в этом
сборнике.
В рассказе «Дождь» Моэм бичует религиозное ханжество и
скрывающуюся за ним душевную опустошенность более яростно,
чем Шоу в пьесе «Майор Барбара». Шоу выбрал самую легкую для
своего времени мишень—Армию спасения, над которой всегда
готов посмеяться самодовольный буржуа, привыкший молиться
богу в церкви, но не на улице..
Моэм, ополчившись на миссионеров, выбрал более опасного
противника. Миссионеры стоят гораздо ближе к буржуазному богу,
то есть к государственной религии. Развязка «Дождя» и участь его
преподобия Дэвидсона, не избежавшего грешных объятий Сэди
Томпсон,-г-это не что иное, как злое издевательство над моральны-
ми основами всякого фанатика-христианина, то есть опять-таки
приверженца государственной церкви.
Когда Сэди Томпсон говорит: «Эх вы, мужчины, все вы
одинаковы! Свиньи! Свиньи!» — она тем самым изобличает Дэвидсо-
на как чудовище лицемерия. Эту ее вспышку можно сравнить с
репликой Билла Уоксра из «Майора Барбары» Шоу. Когда Барбара
грустит, потому что милая ее сердцу Армия спасения приняла
крупное пожертвование от водочного миллионера, Билл уязвляет ее
сугубо нехристианским вопросом: «Почем нынче спасение души?»
Сравнивая эти две издевки по адресу религии (а следовательно, и
викторианской буржуазной морали), можно сказать, что Шоу
выигрывает лишь потому, что он лучше оснащен интеллектуально,
яснее понимает социальную основу религии. Но простым людям
«Дождь» Моэма говорит о религии более жестокую правду,
потому что победа Сэди Томпсон (вернее, ее гениальная идея
соблазнения)—это не просто выходка проститутки, это отчаянное
сопротивление одной из подлинных жертв религии. Она—одна из
тех, кого религия терзает и мучит; одна из униженных, пропащих,
беззащитных, для кого религия—это «вздох угнетенных».
И напрасно Моэм говорит, что, нападая на религию, он
оставляет в стороне ее социальную сущность,—тема эта очень
часто повторяется в его рассказах о Дальнем Востоке и островах
Тихого океана. Еще свирепее она звучит в рассказе «За час до
файфоклока». А в «Гонолулу»—хотя сам по себе это слабый
рассказ—Моэм достаточно ясно высказывает свою точку зрения
устами некоего Уинтера, который говорит о Гавайских островах: «К
тому времени, когда здешние туземцы приняли христианство, ни на
что другое у них уже не было средств. Короли дарили миссионерам
землю в знак уважения, и миссионеры сами покупали землю —
Откладывали сокровища на небесах. Это, несомненно, было
выгодной инвестицией... Да, замечательная удача—иметь отца,
который пятьдесят лет назад приехал сюда распространять веру
Христову».
Нападки Моэма на христианство и христианского бога заслужи-
вают внимания, поскольку религия и по сей день является
381
существенной составной частью буржуазной морали. И это не
случайное настроение писателя. Уже более тридцати лет имя Моэма
стоит в списке членов Общества рационалистов—старинной и
широко известной английской организации, которая вот уже
шестьдесят лет ведет наступление на христианскую религию.
Нет нужды разбирать все рассказы Моэма, но несколько слов о
другом «островном» рассказе — «Падение Эдварда Барнарда» —
помогут выявить еще одну черту буржуазного общества, особенно
ненавистную Моэму.
В этом рассказе точка зрения автора выражена совершенно
открыто: он отдает предпочтение человеку, жаждущему красоты
(пусть даже это связано с бегством от действительности), перед
грубым дельцом, жаждущим только денег и успеха. Это ясно
всякому; и то же отношение к честолюбию буржуа мы видим во
многих рассказах. Снова и снова Моэм ополчается на примитивный
культ денег—не потому, что он чувствует, как жестоко богатство,
но просто потому, что презирает ту жизнь, на какую обрекла себя
буржуазия своим невежественным филистерством и погоней за
материальными ценностями. Он ненавидит снобизм буржуа—не
потому, что ненавидит снобизм вообще, но потому, что это мелкий
снобизм. Сам он сноб высшего класса или представляется таковым.
Как бы то ни было, широкий размах ему импонирует.
К сожалению, в конечном счете большая часть рассказов и
романов Моэма вызывает чувство досады—почему автор остано-
вился на полпути, не сплавил свой ум и свои взгляды в
убедительный социальный комментарий, выраженный в художе-
ственных образах.
Однако почти все его современники (да и нынешние писатели
тоже) вызывают еще большую досаду, потому что, если даже их
социальная позиция яснее и критическое понимание своего времени
у них выше, они редко проявляют жгучую ненависть ко всему
подлому, редко ведут бескомпромиссные поиски настоящего
решения. Это особенно верно применительно к Англии, потому что
наше классовое воспитание всегда было по существу воспитанием
социальной изоляции и социального расслоения.
Моэм, с его снобистским и подчас невежественным подходом к
жизни, несомненно оторван от народа. Но с еще большим
основанием можно сказать то же самое о многих наших прогрессив-
ных деятелях и левых мыслителях, которые верят в социализм для
рабочих, а своих сыновей отдают в аристократические школы, дабы
и в них воспитали там чувство социального превосходства.
Я утверждаю это в защиту Моэма, потому что именно такие
люди склонны отмахнуться от него как от нестоящего писателя. Но
Моэм хотя бы ненавидит худшие стороны буржуазной жизни и
выступает против них порою более убедительно, чем наши
политически сознательные писатели.
От этого Моэм еще не становится героем. Но это ставит его
выше мелких интеллектуальных снобов и политических начетчиков,
у которых не хватает мужества разобраться в жизни буржуазного
общества.
Отбросьте половину того, что написал Моэм,—на здоровье!
Смейтесь сколько хотите над его идеалом аристократа, здраво
382
рассуждающего, сидя в красном кожаном кресле в своем клубе на
Сент-Джеймс-стрит. Иногда Моэм пишет ужасно, так что плохое у
него действительно плохо. Но зато хорошее в его творчестве, на мой
взгляд, несравненно лучше того, что хорошо у более сильных
интеллектуально писателей—Честертона, Беннета, Уэллса; их-то
принимают всерьез как социальных критиков, а между тем они
никогда не выступали против лицемерия буржуазного общества с
классовых позиций.
Слабость Моэма по сравнению с ними заключается в том, что он
довольствуется изображением отдельного человека. Шоу и Честер-
тон, подобно Моэму, тоже упивались парадоксальностью в поведе-
нии людей, и все трое часто изображали противоречивость и
неожиданные повороты в поведении человека, чтобы сделать свои
произведения более захватывающими. Но в то время как Моэм
обычно не идет дальше такого показа, Шоу и Честертон больше
вдумывались в моральную основу такой парадоксальности и
находили для нее каждый свои объяснения—обычно социальные.
Более осознанная социально-политическая позиция (или хотя бы
социально-политическое любопытство) могла бы и Моэма соблаз-
нить на более серьезные выводы. Но Моэм попросту не выработал
собственной социально-политической точки зрения—не потому,
что это его страшило, а то ли из снобистского нежелания мыслить
социально, то ли от чрезмерного увлечения поведением отдельного
человека.
Об этом стоит пожалеть: если бы он выработал мировоззрение,
достойное его ненависти ко всему подлому и низкому и ею
отвращения к буржуазным критериям, он в самом деле был бы
неповторимым явлением в современной литературе.
Если социальные взгляды Моэма все же дают себя чувство-
вать—не только в частностях, но и в более широком смысле,— это
можно объяснить его врожденной человечностью, которая сказы-
вается наперекор его решимости скрывать свои чувства.
Так, «Непокоренная», рассказ о фашистской оккупации Фран-
ции, имеет мало равных себе по глубине проникновения в
мелкобуржуазную психологию немца, на которой и строилась
нацистская идеология во всей ее жестокости. Но, кроме того, в этом
рассказе есть искреннее сочувствие к ненависти, снедающей
французскую женщину Аннет, которая торжествует не только над
врагом, но и над столь же мелкобуржуазными понятиями своих
родителей (согласившихся на компромисс), и автор сумел показать,
как глубоко человечна эта ненависть к оккупантам, толкнувшая ее
даже на убийство собственного ребенка.
Есть ли в английской или американской литературе рассказ о
фашистской оккупации, который в этом смысле можно было бы
поставить рядом с «Непокоренной»? Я такого не знаю...
ДЖ. ОЛДРИДЖ
ИЗ КНИГИ «ПОЕДИНОК ИДЕЙ»
Если читать книги Дж. Д. Сэлинджера, не вдумываясь в то, в
какой среде они возникли, они представляют собой не более как
сентиментальное и трогательное описание детства и юности в нашем
сложном мире. Но когда, читая их, задумываешься над тем, какое
общество сформировало Сэлинджера и его героев, то обнаружива-
ешь, что книги эти гораздо глубже, поскольку они могут служить
иллюстрацией социальной морали нынешних Соединенных Штатов.
Сам Сэлинджер, собственно, и не претендует на роль социально-
го моралиста, но тем не менее каждый написанный им рассказ
представляет собой по сути дела аполог, скрытый под тонким
покровом юношеской психологии и довольно прочно сколоченный с
помощью хороших сюжетных ходов. Его романы и рассказы—это
повествование о еще не сформировавшихся умах, ощупывающих
окружающее их общество и отвергающих его, даже когда они в
конце концов подчиняются ему и становятся его жертвами.
Героем своей первой книги «Над пропастью во ржи» Сэлинджер
(намеренно или нет) избрал как раз такую фигуру, которая
наилучшим образом отражала бы точку зрения средних слтев
американского общества,— семнадцатилетнего подростка по имени
Холден Колфилд, находящегося на пороге зрелости; чувствитель-
ного мальчика, воспринимающего все окружающее кожей, глазами
д разумом, подобного хрупкому растению, которому предначертано
судьбой либо расцвести в тепличной атмосфере, либо увянуть и
погибнуть.
Холден Колфилд начинает свое повествование (эта+-
действительно свободное повествование, а не рассказ с четкой
фабулой) с последнего дня пребывания в подготовительной школе,
из которой он уже исключен. С каждой страницы его рассказа бьет
ключ инстинктивного неприятия всей системы воспитания, которая
существует в средних слоях общества,—школы, родителей, других
мальчиков и всех тех норм общественного поведения, с которыми он
сталкивается в силу своего личного чувствительного мировоспри-
ятия. Он оставляет школу и отправляется в Нью-Йорк, где
проводит ночь в гостинице. Затем он тайно является домой и
посвящает маленькую сестренку Фиби в свои планы бегства. Он
встречается с водителями такси, проститутками, развратниками,
девушками, с прежними приятелями, посещает отели и бары. И
наконец, когда ему удается отговорить сестру от совместного
бегства, он смотрит, как весело и радостно катается она на
384
карусели, и заключает свой рассказ словами: «Жалко, что вы ее не
видели, ей-богу!»
За время своего сложного путешествия Колфилд описывает
самые разные стороны повседневной жизни Америки или, во всяком
случае, то, как он сам с ними столкнулся, а также рассуждает об
уровне жизни выходцев из средних слоев населения. Чувствитель-
ная натура и бунтарь даже в мелочах, он отчаянно борется за то,
чтобы выжить; уцелеть в этом сугубо материалистическом и
корыстолюбивом мире у него нет никакой надежды. Он сломлен
тупостью и вульгарностью того, что его окружает. Однако его
поражение подано не как урок, а скорее как еще один симптом. По
сути дела для Колфилда нет ни урока, ни возможности выбора.
Существуют только он и его невинность, которая в этом мире не
может уцелеть.
В романе «Над пропастью во ржи» автор проводит психоанализ
окружающего его общества, используя форму фрейдистской
беседы. Он ведет рассказ от лица Холдена Колфилда, юноши,
обладающего своими собственными взглядами на мир. Холден
находится в остром конфликте с обществом. Но этот рассказ о его
борьбе подан таким образом, как если бы мальчик просто лежал на
кушетке и свободно говорил все, что приходит ему на ум, как раз
так, как это и должно быть во время психоанализа. Повествование
начинается и прекращается как будто совершенно произвольно,
хотя на самом деле здесь все подчинено строгому порядку
изложения. Комментарии Колфилда, к чему бы они ни относились,
поданы так, словно он извиняется за право иметь собственное
мнение (хотя и очень определенное), а его оценка людей, сколь бы
ни была она сурова, всегда смягчена добавлением дружеского,
всепрощающего эпитета «старина».
Старина Стрэдлейтер—его школьный враг, старина Спенсер,
старина Салли, старина Алли, старина Д. Б., старушка Фиби. Это
придает всем образам одну и ту же эмоциональную окраску, как
если бы автор равно относился ко всем ним, как если бы он не хотел
никого из них обидеть. Однако к концу романа Сэлинджер-Колфилд
успевает подвергнуть критике внушительный набор лозунгов
американского среднего класса.
Краткий список того, что Сэлинджер определенно не любит и
даже резко отвергает, включает в себя: подготовительные школы,
кино, спорт и спортсменов, родителей, учителей, шоферов такси,
пианистов коммерческих джазов, философию «двинь ему в че-
люсть», благотворительность, певцов белых джазов, Эрнеста
Хемингуэя, Сомерсета Моэма, сэра Лоуренса Оливье, Бродвей,
Центральный парк, разговоры о футболе, разговоры об автомоби-
лях, опрятность, зычные голоса, юмор газеты «Сатердеи ивнинг
пост», Иельский университет, Руперта Брука, рождество в Нью-
Йорке, официальную религию, рождественские представления в
«Радио-сити», шикарные гостиницы, гомосексуалистов, все виды
мошенников и т. д. и т. п. Можно листать страницу за страницей, и
на каждой из них мы найдем декларации величайшего недовольства
всеми этими священными коровами Америки, а список того, что ему
нравится, гораздо короче: дети (прежде всего), вежливость, музеи,
целомудрие, хорошие книги, поэзия, сигареты (прежде всего),
13-2389
385.
виски, Ринг Ларднер, Скотт Фитцджеральд, монахини, честность и
любой искренний поступок, кто бы его ни совершил.
В целом это детский взгляд на мир, мир, полный надежд
невинности. Говоря о себе, Сэлинджер как-то писал: «Некоторые из
моих лучших друзей—дети. Вообще-то все мои лучшие друзья—
дети». Это не случайно. В том мире, который на каждой странице
книги описан Сэлинджером как насквозь фальшивый, в том
обществе, где вкусы совершенно извращены (вкусы, но не
ценности—Сэлинджер по существу никогда их не затрагивает),
писатель может восхищаться только неоформившимся миром
детской невинности и стремиться остаться в нем. У него нет другого
выбора, нет иных желаний—ничего, кроме сожаления о потерян-
ном рае чистой детской души.
ДЖ. ОЛДРИДЖ
ЛЕВ ТОЛСТОЙ
Случилось так, что в тот самый момент, когда мне положили на
стол анкету, посвященную Толстому, я читал биографию Бернарда
Шоу, написанную Хескетом Пирсоном, и книга была раскрыта на
одном из тех двух мест, где упоминается Толстой. Наиболее
важный пассаж касается спора между Шоу и Толстым о боге. Шоу
послал Толстому экземпляр своего романа «Разоблачение Бланко
Поснета», сопроводив его пространным изложением своих мыслей о
боге. Толстой однажды посетовал на то, что в пьесе «Человек и
сверхчеловек» Шоу недостаточно серьезно говорит о боге. А Шоу
заметил с иронией: «А что, если мир—всего лишь одна из шуток
бога...»
Любопытно, что, когда бы я ни читал Толстого, у меня каждый
раз было такое чувство, что он смотрит на дела людские как на
своего рода божественную шутку-—шутку не христианского бога, а
языческих богов, которые постоянно вмешивались в дела людей и
имели обыкновение сходить на землю, коль скоро у них являлась
охота сыграть ту или иную роль в разыгрывавшейся перед ними
человеческой драме. Я не говорю, что сами герои Толстого были
полубогами. А просто хочу сказать, что Толстой будто был как-то
связан с языческими богами—творцами вселенной, ибо он умел так
изобразить, так ярко обрисовать поведение людей, как если бы он, и
только он один, обладал неким удивительным даром проникать в
людские мысли и поступки.
Как человек, Толстой был моралистом и теистом, но в своей
творческой деятельности он был гуманистом в широком значении
этого слова, пониманию которого были доступны сферы, находя-
щиеся за пределами его собственного аскетического жизненного
идеала. Как только он брался за перо, чтобы создать художествен-
ное произведение, он становился истинным Толстым. Другой
Толстой был всего лишь тенью его подлинной сущности.
Мир Толстого был миром мужчин и женщин, сталкивающихся
со сложными и предстающими вне связи друг с другом
моральными, социальными и интимными проблемами, которые
раскрываются в повседневном бытии и в масштабах всего мира в
целом. Именно это исключительное умение изобразить не только
простейшие чувства и состояния человека, но и показать его место в
мироздании и делает Толстого подлинным мастером литературы—
мастером, у которого учились и учатся все остальные. Толстой имел
свой, особый взгляд на мир, которому он всегда оставался верен в
13*
387
творчестве, и никому еще не удалось сравняться с ним в умении
представить историю как дело рук простых человеческих существ,
которые порой жертвы в сети событий, а порой сами играют в них
сознательно выбранную роль.
Каждого, кто читает Толстого, обогащает его мир. Женщины
поражаются тому, с какой легкостью и точностью он улавливал
чувства молодых, замужних, греховных, непорочных, наконец,
обыкновенных женщин. То же самое можно сказать о любом
мужчине, читающем Толстого. Рано или поздно обнаруживаешь в
том или ином толстовском персонаже целую гамму собственных
эмоций и душевных движений. Это ощущает и простой крестьянин и
князь. В этом универсальность Толстого, побеждающая классовое
и даже национальное в его мышлении. Толстовские французы в
«Войне и мире» так же убедительны, как и его русские. Простые
солдаты изображены у него с таким же совершенством, как и его
генералы.
Толстой понимал и счастье, и боль, но, изображая то или другое
из этих чувств, он показывал, что в жизни есть большая сила,
нежели людские страдания и наслаждения. Он говорит, что боли,
любви, долга, мужества, чести, трусости, стыда—всего этого
недостаточно. По сути дела он говорит, что за пределами этих
чувств и над ними действует некая жизненная сила, и, подобно Шоу,
он верит в эту силу всем своим существом. Вот почему вы
заканчиваете любую книгу Толстого с таким ощущением, словно вы
пережили что-то в реальной жизни. Она становится больше чем
книгой, она превращается в часть вашего опыта.
Толстой—один из немногих писателей, которые не нуждаются в
эпитафии или в монументе для увековечения их памяти. Его
литературное творчество—вот эпитафия и памятник его. Толстой
так же жив сегодня, как был жив в прошлом и как всегда будет жив
в будущем, пока люди способны читать и пока мужчины и женщины
способны любить, смеяться, плакать, страдать и отчаянно пытают-
ся понять друг друга.
Ч. П. СНОУ
ЧТО МОГУТ ГУМАНИСТЫ?
...Что могут сделать гуманисты? Что могут сделать писате-
ли, которые должны быть гуманистами, пусть некоторые из выда-
ющихся писателей ими и не были? Для людей Запада термин
« гуманизм», к сожалению, означает не то же самое, что он означает
в Советском Союзе. Англичане вкладывают в это понятие довольно
мелкое содержание. Современные французские интеллигенты
склонны считать слово «гуманизм» бессодержательным. Однако
люди доброй воли солидарны с тем пониманием гуманизма, которое
утвердилось в советском строе мышления,—для них это понятие
означает уважение к человеку и веру в его будущее. Возможно, нам
на Западе придется подыскать другое слово, которое выразило бы
тот же смысл. Уважение к человеческому достоинству и вера в
человека—это, несомненно, и есть гуманность. И если мы хотим,
чтобы XXI век оказался лучше, чем наш, или хотя бы был просто
спокойным веком, нам необходимо научиться ценить таким образом
понятую гуманность лучше, чем мы способны были ценить ее в
нашем разделенном мире.
Здесь у писателя своя незаменимая роль. Мне кажется, что
ответственность писателя может проявляться двумя разными
способами. Писатели, как правило, яснее представляют себе ход
событий, чем большинство обычных людей, и скорее способны
воздействовать на него. Среди них немало таких, кого на Западе
называют публицистами, подразумевая, что эти писатели прямо
высказываются по животрепещущим проблемам, скажем, по тем, о
которых я упоминал выше. В таких высказываниях неизбежно
обнаруживается некоторая упрощенность. Нередко попросту по-
вторяются совершенно справедливые, но всем и каждому давно
знакомые слова—о том, что все люди должны быть братьями или,
если перед нами писатель христианской ориентации, что в каждом
человеке живут и все другие люди. Прекрасные мысли. По сути,
впрочем, это трюизмы, но бывают времена, когда и повторения
трюизмов не следует опасаться.
Но подлинно значительный писатель будет стремиться выска-
зать нечто более сложное и трудное. И если мы хотим достичь
настоящего взаимопонимания между людьми, если мы хотим
опираться на твердую почву в нашем стремлении выявить и
отстоять в человеке с его сложной природой все самое лучшее,
необходимо прислушиваться к тем писателям, которые стараются
говорить не об очевидном, а о трудном и неясном. Их устами и
389
говорит настоящее искусство. Для меня, как правило (впрочем, это
не значит—всегда), высшие образцы искусства те, в которых
присутствует мысль о том, какой должна быть жизнь. Только
писатель, если это настоящий писатель, ни в коем случае не должен
здесь выдумывать ничего такого, чего в жизни нет. Его долг—
осознать и резкую противоречивость человеческой индивидуально-
сти, и возможности человека творить добро. Жизнерадостные
картины будущего рисовать несложно. Но писательское слово
будет правдивым лишь при том условии, что эта вера в будущее
явится итогом непредвзятого исследования жизни—настолько
глубокого, насколько это в возможностях таланта каждого
художника.
КРАТКИЕ СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ И ИСТОЧНИКАХ С
КОММЕНТАРИЯМИ
Вордсворт, Уильям (1770—1850) — поэт-романтик, один из
поэтов идейного содружества, «озерная школа» (наряду с Кольрид-
жем и Саути), выражавшей романтический протест против буржуаз-
ных отношений. Оказал большое влияние на развитие английской
поэзии. Наиболее значительные его произведения—сборник «Ли-
рические баллады» (в соавторстве с Кольриджем), цикл «Сонеты,
посвященные свободе», поэма «Вина и скорбь».
«Предисловие ко второму изданию «Лирических баллад» (1800),
ставшее эстетическим манифестом английского романтизма, взято
из книги: The Complete Works of W. Wordsworth. Boston, 1911, vol.
10.
К стр. 30
«Игрок» (1753) — трагедия английского драматурга Э. Мура
(1712—1757), представителя так называемой мещанской драмы.
К стр. 33
Строфа из стихотворения С. Джонсона (1709—1784) «Пародия
на «Ворквортского отшельника» Т. Перси.
Народная английская баллада.
Кольридж, Сэмюел Тейлор (1772—1834) — поэт, критик и
философ. Особую популярность получили его поэмы «Сказание о
старом мореходе», «Кристабель», «Кубла-Хан». Своими многочис-
ленными философско-эстетическими сочинениями Кольридж поло-
жил начало романтической теории поэзии в Англии.
Статьи Кольриджа, включенные в сборник (1808,1819), публику-
ются по книгам: Coleridge S. Т. Shakespearean Criticism, in 2 vol. Lnd,
1968. The Portable Coleridge, Cambridge, 1936.
К стр. 44
Аллюзия на вставную новеллу из романа Апулея «Метаморфо
зы», в конце которой прославляется египетская богиня Изида.
391
JFC стр. 45
Tacco Торквато (1544—1595) в эпической поэме «Освобожден-
ный Иерусалим» (1575) противопоставляет аллегорию подража-
нию. Первая в отличие от второго выявляет скрытую сущность
предмета. (В комментариях к статьям Вордсворта и Кольриджа
использованы материалы из книги «Литературные манифесты
западноевропейских романтиков». Изд-во Московского Универси-
тета, 1980.)
Хэзлит, Уильям (1778—1830)—критик и публицист либераль-
но-демократического направления. Вошел в историю прежде всего
как теоретик романтизма и автор историко-критических эссе
(«Лекции об английских поэтах», «Лекции об английской драме...»
и др.). В 1817 году издал серию эссе под названием «Персонажи
шекспировских пьес». Эссе о Макбете (1817) по праву считается
одним из лучших. Переведен из кн.: Essays, ed. by Van Dyke Shelly,
N. Y., 1924.
К стр. 53
...в своих заметках о поэзии ранних драматургов...—В 1808 г.
Чарльз Лэм издал антологию «Английские драматические поэты,
современники Шекспира, с сопроводительными заметками», кото-
рая привлекла живейшее внимание к елизаветинской драматургии:
как выразился один из современников, Лэм «открыл дверь в
комнату, которая всеми считалась закрытой».
Байрон, Джордж Ноэл Гордон (1788—1824)—поэт-роман-
тик, оказал огромное влияние на все литературное направление
романтизма. Создатель типического образа романтического
(«байронического») героя, мятущегося, неприкаянного, вольнолю-
бивого одиночки, находящегося в разладе с обществом и самим
собой («Чайльд Гарольд», «восточные» поэмы («Корсар», «Гяур»,
«Лара», «Абидосекая невеста»), философские трагедии «Каин»,
«Манфред», поэма «Дон Жуан»).
Письмо к Меррею (1821) перепечатано из кн.: «Дневники.
Письма». М., Изд-во АН СССР, 1963.
Скотт, Вальтер (1771 —1832) — поэт и романист, основатель
жанра западноевропейского исторического романа, ставшего од-
ним из популярных жанров эпохи романтизма. Творчество Скотта
отмечено зарождением реалистических тенденций и историзма в
описании событий и характеров.
В 1815 г. издатель Д. Меррей, только что выпустивший новый
роман Джейн Остин «Эмма», обратился к В. Скотту с просьбой
написать рецензию. Статья без подписи автора была помещена в
мартовском номере «Квотерли ревью» за 1816 г. и явилась первой
крупной критической работой о творчестве писательницы. Статья
392
приводится по тексту: Jane Austin. The Critical Heritage, 1968. В
статье «Смерть лорда Байрона» (1824) В. Скотт, говоря об
«ошибках» поэта, стремится из самых благородных побуждений
«оправдать» его перед лицом враждебного общественного мнения.
После разрыва Байрона с женой лондонский свет начал травлю
поэта. В салонах распространяется пасквиль «Анти-Байрон»,
автором которого считают Георга IV. Перед домом поэта была
разобрана мостовая, в окнах выбиты стекла. Его поэтическая
популярность, достигшая вершины в последние годы жизни, после
отъезда из Англии приобретает скандальный оттенок. В последу-
ющие десятилетия он усугубляется публикацией книг Г. Бичер-
Стоу «Истинная история жизни леди Байрон» (1869) и «Оправдание
леди Байрон» (1870). Внимание публики привлекают больше
обстоятельства семейной жизни Байрона, нежели его произведения.
Многие западные литературоведы XX века вообще отказывают
Байрону в праве называться великим поэтом, находя в его
творчестве проявление «вульгарности», «дурного вкуса»
(О. Хаксли, А. Тейт), порицая его «самодовольство», «скверный»
характер (Т. С. Элиот). Издающиеся труды о жизни и творчестве
поэта по-прежнему отмечены весьма специфическим вниманием к
его интимной жизни. Можно сказать, что самое неизменное и
благодарное признание Байрон-поэт, Байрон-человек получил в
России. Его переводили М. Лермонтов, А. Плещеев, А. Майков,
Л. Мей, А. К. Толстой, А. Блок, В. Брюсов. В трудах советских
исследователей особенное внимание уделяется демократическим
тенденциям творчества Байрона. Изучение великого наследия
Байрона продолжается довольно интенсивно и в разных аспектах:
работы о языке и стиле поэта (Е. Клименко), его влиянии на
европейских романтиков (И. Неупокоева); по-новому освещаются
некоторые спорные проблемы его творчества в трудах Н. Дьяконо-
вой, Л. Сидорченко, И. Дубашинского. Статья В. Скотта перепеча-
тывается из собр. соч. в 20 тт., т. 20.
К стр. 70
Имеется в виду политическая сатира Д. Драйдена (1631 —1700)
...стихи, написанные на плачевную тему... В. Скотт подразуме-
вает «Стихотворения по поводу разрыва с женой», опубликованные
Байроном в день отъезда из Англии.
...То же самое было и с его политическими выступлениями...
Автор намекает на «Речь при обсуждении билля о ткацких станках»,
произнесенную Байроном в палате лордов 27 февраля 1812 г. в
защиту ноттингемских ткачей.
К стр. 71
...всю свою энергию отдал бы на защиту той, к которой
принадлежал по рождению... Действительно, многое во взглядах
Байрона было противоречиво: ненависть к тирании, любовь к
свободе сочетались с культом аристократизма и т. д. Однако в
трактовке политических симпатий и антипатий Байрона сказался
393
консерватизм позиции самого В. Скотта. Своей жизнью и смертью,
своим творчеством Байрон доказал возможность для художника
подняться выше интересов своего класса.
К стр. 73
...автор... приложил все свое старание, чтобы... воздать
должное его выдающимся талантам... В. Скотт имеет в виду свою
рецензию на Третью Песнь «Чайльд Гарольда», где он называет
Байрона «солнцем английской поэзии» (Scott W. Miscellaneous Prose
Works, vol. 1—7, Paris, 1838; VI, p. 184—185).
К стр. 56
...«пища, вкушаемая в уединении»...— Книга притчей Соломоно-
вых, IX, 17.
«Воспоминания священника Клегга» (1736)—сочинение пресви-
терианского богослова Джеймса Клегга (1679—1755), написанное в
духе протестантских проповедей.
К стр. 58
Тони Лампкин—персонаж комедии Голдсмита «Ночь ошибок»
(1773).
К стр. 61
Вайе—персонаж из фарса У. Бекингема «Репетиция» (1672), в
образе которого был высмеян поэт-лауреат Джон Драйден.
Эджуорт, Мария (1767—1849)—ирландская писательница,
автор печатавшихся в 1809—1812 гг. «Повестей из светской
жизни», а также педагогических трудов.
Диккенс, Чарльз (1812—1870)—представитель «блестящей пле-
яды... английских романистов» (К. Маркс), с именем которого
связано становление английского социально-критического романа
XIX века.
После выхода в свет «Оливера Твиста» (1837—1839), второго
романа Диккенса, в печати появились статьи, обвинявшие автора в
безнравственности и смаковании зла и насилия. Ответом на эти
обвинения явилось его предисловие к третьему изданию романа
(1841), переработанное в 1868 г. Утверждая в нем свою привержен-
ность реализму, подчеркивая, что назначение писателя говорить
«суровую правду», Диккенс пишет об общественной роли литерату-
ры, о ее нравственном воздействии и обосновывает принципы
критического подхода к изображению отрицательных явлений
жизни. «Предисловие» перепечатано по тексту: Ч. Диккенс, собр.
соч. в 30 тт., т. 4.
394
К стр. 74
...Но я нигде не встречался (исключая Хогарта) с жалкой
действительностью...—имеются в виду серии сюжетных гравюр
родоначальника реалистической живописи в Англии Уильяма
Хогарта (1697—1764) «Карьера мота», «Карьера шлюхи», «Выбо-
ры» и др., сатирически изображавшие быт и нравы различных слоев
общества.
К стр. 75
Макарони—насмешливое прозвище английских щеголей
XVIII в., создавших в Лондоне свой «макаронический клуб».
К стр. 76
...один чудак-олдермен... заявил в Лондоне, что острова
Джекоба нет и никогда не было.—В 1850 г. в газете «Обсервер»
было помещено выступление лондонского олдермена сэра Питера
Лори, в котором он утверждал, что остров Джекоба (район
лондонских трущоб, описанный в «Оливере Твисте») «существует
единственно лишь в романе мистера Диккенса, написанном 10 лет
назад», и что сам писатель якобы признал это. Диккенс отклик-
нулся на это заявление новым предисловием к роману (издание
1850 г.), в котором содержалось опровержение, полное язвитель-
ного сарказма.
Теккерей, Уильям Мейкпис (1811 —1863)—писатель реалист,
один из «блестящей плеяды», автор «Книги снобов», «Ярмарки
тщеславия», «Пенденниса», «Истории Генри Эсмонда» и других
романов. Публикуемый очерк впервые напечатан в газете «Тайме»
2 сентября 1840 г. Становление литературных взглядов Теккерея
проходило под огромным влиянием английской просветительской
литературы XVIII в., и прежде всего Фильдинга, которого в ранний
период творчества он считал своим идеалом писателя. В конце 50-х
годов Теккерей несколько пересмотрел свое отношение к Фильдин-
гу, делая вольную или невольную уступку викторианским вкусам
(см. его очерки «Английские юмористы XVIII века» в собр. соч.
У. Теккерея, т. 7).
К стр. 81
Битти, Джеймс (1735—1803)—шотландский поэт и публицист,
профессор философии, друг Джонсона, Гаррика и Голдсмита,
автор «Эссе о природе и неизменности истины» (1770).
К стр. 83
«Джек Шеппард» (1839) — роман Уильяма Эйнсуорта (1805—
1882), написанный в жанре «ньюгетского романа» (от названия
лондонской уголовной тюрьмы), для которого характерно роман-
тическое приукрашивание нравов преступного мира.
395
Вройте, Шарлотта (1816—1855)—представительница «блестя-
щей плеяды», автор романов «Джейн Эйр», «Шерли», «Вильет» (рус.
изд. «Городок»). Первый роман «Учитель» (1846) опубликован
посмертно.
Предисловие Ш. Бронте к изданию романов ее сестер, Эмилии
и Анны Бронте, «Грозовой перевал» и «Эгнес Грей», (1850),
приводится по книге: Е. Bronte. Wuthering Heights, 1907. В предис-
ловиях к романам и в переписке Ш. Бронте обосновывает свой
творческий метод писателя-реалиста, признающего, однако, «бур-
ный зов воображения» (см. ее письма к известному критику
Дж. Г. Льюису).
К стр. 87
Эллис Белл—псевдоним Эмилии Бронте.
Троллоп Энтони (1815—1882)—реалист, бытописатель нравов
и психологии буржуазной английской провинции XIX в. Его перу
принадлежит цикл из шести романов «Барчестерские хроники»,
романы из «парламентской жизни», путевые и литературные
очерки.
Фрагмент из главы XII его «Автобиографии» печатается по
изданию: A. Trollope. Autobiography, 1883.
К стр. 91
Лидия Беннет—героиня романа Джейн Остин «Гордость и
предубеждение» (1813).
К стр. 93
Беатриса—героиня романа У. Теккерея «История Генри Эс-
монда» (1852).
К стр. 94
Сэр Энтони Абсолют, миссис Невпопад, Лидия Томность—
герои комедии Р. Б. Шеридана «Соперники» (1755).
К стр. 95
Берли и Мортон—герои романа В. Скотта «Пуритане».
Сэр Перигрин Орм—герой романа Э. Троллопа «Орм Фарм»
(1862).
Элиот, Джордж (наст, имя Мэри Энн Эванс) (1819—1880) —
писательница, работавшая в русле традиций английского социаль-
ного романа и посвятившая свое творчество (романы «Мельница
на Флоссе», «Миддлмарч» и др.) социально-нравственным кон-
фликтам викторианской Англии.
396
Статья «Искусство повествования» (1884) взята из кн.: Leaves
from a Notebook, 1884.
Рескин, Джон (1819—1900) — писатель, историк, публицист и
теоретик искусства, оказавший своими работами большое влияние
на формирование взглядов и вкусов современников. Критиковал
буржуазную реальность с романтических позиций, призывая к
возрождению средневековых творческих форм ручного труда.
Автор книг «Политическая экономия искусства», «Сезам и Ли-
лии», состоящей из трех лекций, «Времена и течения» и др. На
русском языке лекции были опубликованы в 1900 г. В настоящем
сборнике лекция первая (1865) публикуется в новом переводе из
кн.: Heydrick, В. A. Types of the Essay, N.Y., 1921.
Арнольд, Мэтью (1822—1888) — поэт, искусствовед и критик,
В поэзии (сб. «Заблудившийся бражник») развенчивал миф о
всеобщем викторианском процветании. В литературоведении ут-
верждал метод социально-исторического анализа.
Статья «Назначение критики в наше время», впервые опубли-
кованная в ноябрьском номере «National Review» за 1864 г.,
создавалась для подготавливаемого в то время сборника Арнольда
«Критические очерки» (1865) (вторая серия очерков под этим же
названием издана в 1888 г.). На русский язык статья была
переведена в 1902 г. по инициативе Л. Толстого. (Мэтью Арнольд.
Задачи современной критики, М., «Посредник», 1902.)
В настоящем издании статья дается в новом переводе, сделан-
ном по тексту: Essays in Exposition, ed. by В. Kurt> JjJ..Yl,''1914.
К стр. 110
...статьей мистера Шарпа о Вордсворте...— статья профес-
сора Джона Шарпа «Вордсворт: человек и поэт» была напечатана
в журнале «North British Review», 1864.
К стр. Ill
«Ирена»—единственная пьеса Сэмюела Джонсона, трагедия в
5 актах, написанная белым стихом, в 1749 г, поставленная
Гарриком в театре Друри-Лейн и выдержавшая 9 представлений.
Первые три акта были написаны Джонсоном еще в юношеском
возрасте.
К стр. 114
...Старуха, швырнувшая стулом в голову... проповеднику...—
Арнольд имеет в виду случай, происшедший в 1637 г. в церкви
Сент-Джайлс в Эдинбурге после введения нового обряда богослу-
жения; описан Бертоном в «Истории Шотландии» (т. 7).
397
К стр. 116
Прайс, Ричард (1723—1791)—писатель и нонконформистский
проповедник. В ноябре 1789 г. в проповеди, впоследствии опублико-
ванной, высказался в поддержку Французской революции. Это
выступление Прайса побудило Берка к написанию «Размышлений о
революции во Франции».
К стр. 118
...как путешественник из известной басни, мы несколько
распахнули свой плащ.—Имеется в виду басня Эзопа о ветре и
солнце,, поспоривших, кто из них скорее заставит путешественника
снять плащ.
К стр. 119
...прекращение выхода «Национального и зарубежного обозре-
ния».— Этот журнал либерально-католического направления начал
издаваться в 1862 г. под редакцией лорда Эктона и быстро
завоевал популярность, главным образом, благодаря рубрике
«Заметки о книгах». Однако в 1864 г. строгая религиозная цензура
заставила Эктона закрыть журнал, что вызвало большой резонанс
не только в Англии, но и за рубежом.
К стр. 124
...в первом томе д-р Коленсо...—Джон Уильям Коленсо
(1814—1883) — английский епископ провинции Наталь в Южной
Африке, автор серии трактатов о Пятикнижии (1862—1879),
содержащих критический анализ библейских текстов. В 1863 г.
"М. Арнольд откликнулся на его работу статьей «Епископ и
философ».
К стр. 127
...епископа из Дарема...—Имеется в виду Чарльз Томас
Баринг (1807—1879), английский богослов, автор работ, выдер-
жанных в духе евангелизма.
Уайльд, Оскар (1854—1900) — писатель, драматург, эссеист,
публицист, виднейший представитель эстетизма в английской
литературе XIX в., автор романа «Портрет Дориана Грея»,
морально-аллегорических сказок, остросюжетных социально-
бытовых комедий («Идеальный муж», «Женщина, не стоящая
внимания» и др.), статей о литературе и искусстве, публицистиче-
ского трактата «Душа человека при социализме».
Статья «Критик как художник» впервые была опубликована в:
О. Wilde. Intentions, 1891, дается в новом переводе.
398
К стр. 131
Сын Моники—св. Августин.
К стр. 132
Оселок—персонаж из комедии Шекспира «Как вам это понра-
вится».
К стр. 136
Дитя Лето—Апполон.
К стр. 137
Илисс—река в Греции, упоминается Геродотом. Хиггинбо-
тэм—в данном случае имя нарицательное газетного репортера,
пишущего о художественных выставках.
К стр. 138
Флоризель—так называл себя в подражание персонажу из
«Зимней сказки» Шекспира наследный принц Уэльский, будущий
английский король Георг VI, подписывая свои письма актрисе
Мэри Робинсон, выступавшей в роли Пердиты.
К стр. 148
...Иэто все фантомы?—Ср. «Илиада», песни XI, с. 220—235.
К стр. 162
Мелеагр— здесь имеется в виду греческий поэт, автор любовных
и эротических стихов, а также эпиграмм (род. между 140 и 130—ум.
ок. 60 г. до н. э.), живший в Тире (Сирия).
К стр. 173
...Великий француз—имеется в виду М. Монтень.
К стр. 179
...королева Констанс—героиня пьесы У. Шекспира «Король
Джон».
К стр. 182
Безант, Уолтер (1836—1901)—писатель, критик, историк
буржуазно-либерального направления.
399
Джеймс, Генри (1843—1916) — англо-американский пи-
сатель, автор многочисленных социально-психологических
романов («Вашингтон-сквер», «Бостонцы», «Послы», «Женский
портрет», «Крылья голубки» и др.), отмеченных стилистиче-
ским мастерством. Статья «Наш общий друг» (1865) сыграла
большую роль в определении Джеймсом его творческого метода,
в основе которого лежит не «банальное» воображение и фан-
тазия, а глубокий и постоянный самоконтроль, рождающий от-
точенность стиля, гармоничность композиции и психологическую
тонкость в обрисовке характеров. Его представление о художе-
ственном совершенстве приводило иногда к фетишизации повество-
вательной техники, что побудило Г. Уэллса охарактеризовать
романы Г. Джеймса как «исключительно произведения искусства,
подчиненные изобразительному единству».
Статья «Наш общий друг» взята из кн.: The Portable Henry James,
ed. by M.D. Zabel, N.Y., 1978.
Статья «Иван Тургенев», впоследствии выходившая под назва-
нием «Тургенев и Толстой», впервые была опубликована в 1897 г.
Тургенева Джеймс воспринимал и пропагандировал как писателя,
обладающего «даром прирожденного романиста».
К стр. 193
Гарнет, Констанс (1862—1946)—переводчица, активно знако-
мившая своих соотечественников с творчеством русских писателей.
Ее переводы открыли для них и сделали достоянием английской
культуры произведения Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехо-
ва. Жена литературного критика Э. Гарнета.
Стивенсон, Роберт Льюис (1850—1894)—широко признанный
мастер приключенческого романа («Остров сокровищ», «Черная
стрела» и др.), основоположник и теоретик неоромантизма, один из
зачинателей современной психологической прозы.
Статья Стивенсона (1887) воспроизводится по изданию: Memoirs
and Portraits, 1923.
К стр. 197
«Эгоист»—роман английского писателя Джорджа Мередита
(1828—1909).
К стр. 199
Очевидно, имеется в виду У. М. Теккерей и его роман «Ярмарка
тщеславия»,
К стр. 202
Контаминация настоящей фамилии и сценического псевдонима
французского драматурга Ж.-Б. де Мольера (Поклена).
400
Конрад, Джозеф (наст, имя Юзеф Теодор Конрад Коженев-
ский) (1857—1924) — английский романист, поляк по национально-
сти, неоромантик. В центре его произведений (романы «Лорд
Джим», «Негр с «Нарцисса», «Сердце тьмы») — борьба гордых и
одиноких героев, отвергнутых буржуазным обществом. Автор
статей об английских и французских писателях. Его теория романа
оказала заметное воздействие на развитие экспериментальной,
психологической прозы XX века.
Предисловие перепечатывается из подборки высказываний Дж.
Конрада о литературе, опубликованной в журнале «Вопросы
литературы» № 7, 1978.
Беллок, Джозеф Хилери (1870—1953)—писатель, публицист и
историк. Автор сатирических социально-политических романов
«Смена кабинета», «Министр почт» и других, полемической
«Истории Англии» и биографий Дантона и Наполеона. Как
публицист выступал идейным противником Б. Шоу и Г. Уэллса.
Статья «О неведомой стране» (1907) переведена по изданию.
Мс Cullogh B.W.: Book of Modern Essays, 1926.
К стр. 210
Имеется в виду Эней, после многодневного путешествия по
бурному морю увидевший италийский берег.
Шоу, Джордж Бернард (1856—1950)—драматург, критик,
публицист. Создатель драмы-дискуссии на социально-этические
темы («Домй вдовца», «Профессия миссис Уоррен», «Пигмалион»,
«Дом, где разбиваются сердца» и др.). В борьбе с догматизмом и
традиционными представлениями широко пользовался художе-
ственным приемом парадокса. Принимал активное участие в
социалистическом движении, один из создателей Фабианского
общества. Автор многочисленных статей о музыке и театре.
Глава из книги Шоу «Квинтэссенция ибсенизма», (1891),
перепечатывается из сборника: Бернард Шоу о драме и театре. М.,
1963. Вторая статья впервые была напечатана в «Nation» 11 марта
1916.
К стр. 213
... Ньюгетский календарь—многотомная хроника уголовных
преступлений.
К стр. 218
...Бараны Джона Шекспира...— Отец великого драматурга,
перчаточник по ремеслу, занимался также продажей овечьей
шерсти.
401
Уэллс, Герберт Джордж (1866—1946) — классик научно-
фантастической литературы, автор социальных произведений. В
своих романах («Машина времени», «Человек-невидимка», «Когда
спящий проснется» и др.) связывал проблемы научного прогресса с
проблемами социальными и нравственными. Был членом социали-
стического Фабианского общества, отстаивая, однако, позиции
буржуазного реформизма.
Статья «Современный роман» (1911), перепечатана из:
Г. Уэллс, собр. соч. в 15 тт., т. 14.
К стр. 234
«Элизабет и ее немецкий садик», «Элизабет в Рюгене» (полное
название: «Приключения Элизабет в Рюгене»)—романы англий-
ской писательницы Мэри Анет Рассел (1866—1941), писавшей под
псевдонимом Элизабет, графиня фон Арним. Вошла в историю
английской литературы главным образом как автор романа «Эли-
забет и ее немецкий садик» (1898), занимательного рассказа о
природе и близких людях, отмеченного наблюдательностью, юмо-
ром и искренностью тона.
К стр. 236
Уэллс имеет в виду книгу английского государственного и
политического деятеля Бальфура Артура Джеймса (1884—1930)
«В защиту философии сомнения».
Беннет, Арнольд (1807—1931) — писатель, драматург и критик,
автор бытовых, нравоописательных романов, рисующих жизнь
английской провинции XIX века («Анна из Пяти городов»,
«Клейхенгер» и др.).
Статья Беннета была впервые опубликована в 1913 г.
К стр. 246
...покойный «Марк Резерфорд»...— псевдоним английского писа-
теля Уильяма Хейла Уайта (1831 —1913).
К стр. 248
Пондерво—герой романа Г. Уэллса «Тоно Бенгэ».
Голсуорси, Джон (1867—1933)—критический реалист, драма-
тург, новеллист, создатель крупных социально-эпических поло-
тен о жизни буржуазной Англии конца XIX—первой трети XX ве-
ка—трилогий «Сага о Форсайтах», «Современная комедия» и «По-
следняя глава». Его знаменитые пьесы «Серебряная коробка»,
«Правосудие», «Схватка» обновили английскую драматургию нача-
ла XX в., смело повернув ее к острым'социальным проблемам.
Много писал по вопросам отношения литературы к действительно-
402
сти, реализма и романтизма. Критиковал современную «психологи-
ческую школу» романа, выступившую против критического, соци-
ально-реалистического романа «Уэллса, Беннета и Голсуорси» как
«устаревшего», «старомодного» жанра.
Статья «Литература и жизнь» (1930) печатается по тексту:
Дж. Голсуорси., собр. соч. в 16 тт., т. 16. Вторая работа (1937) взята
из кн.: J. Galsworthy. Glimpses and Reflections, 1937.
К стр. 262
Гарнет, Эдвард (1868—1937)—литературный критик, много
помогавший Голсуорси в годы его ученичества. К советам Гарнета
писатель прислушивался и впоследствии, когда его литературная
репутация была уже упрочена. Гарнет по-настоящему оценил и
признал талант Голсуорси только в 1905 г., ознакомившись с
рукописью «Собственника».
Честертон, Джилберт Кит (1874—1936) — писатель и мысли-
тель, один из крупнейших представителей детективной литерату-
ры. Книги Честертона—романы о сыщике-священнике отце Бра-
уне («Неверие отца Брауна» и др.), романы «Наполеон из
Ноттингхилла», «Человек, который был четвергом» и другие—
отмечены эксцентричностью, парадоксальностью суждений и высо-
кой занимательностью. Честертон—автор литературоведческих и
религиозно-философских работ, многочисленных эссе, интересной
монографии о творчестве Диккенса.
Статьи о Диккенсе (1902) и о Джейн Остин (1923) переведены из
книги: G. К. Chesterton. The Apostle and the Wild Ducks and other
Essays, 1975.
К стр. 264
Бёрдсли, Обри Винсент (1872—1898) — английский художники
писатель, был художественным редактором знаменитых печатных
органов эстетизма «Желтая книга» (1894—1897) и «Савой» (1896).
К стр. 270
Батская вдова—персонаж из «Кентерберийских рассказов»
английского средневекового поэта Дж. Чосера (1340?—1400).
Моэм, Уильям Сомерсет (1874—1965)—писатель, драматург,
эссеист. Мастер остросюжетных романов и пьес, проникну-
тых тонким психологизмом («Бремя страстей человеческих»,
«Луна и грош», «Театр», рассказы), где в традициях реализма выра-
жено неприятие мещанских нравов и лицемерных условностей бур-
жуазного общества. Для Моэма характерна постановка острых
этических проблем, в частности проблемы «искусство и личность».
Отрывок из статьи о Достоевском (1954) взят из кн.: W. S. Maug-
ham, The Novels and their Authors, 1954.
403
К стр. 272
В данном случае С. Моэм повторяет обвинения буржуазных
биографов Шелли, использовавших личное несчастье поэта (само-
убийство его первой жены) и его гражданский брак с Мэри Годвин
как повод к обвинениям в жестокости и аморальности.
Вулъф, Вирджиния (1882—1941)—прозаик и литературный
критик. Творчество (романы «Миссис Дэллоуэй», «К маяку»,
«Волны» и др.) отмечено чертами экспериментаторства и близко к
литературе «потока сознания», основоположником которой в
литературе XX в. был Дж. Джойс. Виднейшая представительница
английской «психологической прозы» 20-х гг. (наряду с Д. Ричард-
сон и Мэй Синклер). Романисты «психологической школы» своей
основной творческой задачей считали воспроизведение тончайших
нюансов психологии индивида, что в произведениях и самой
В. Вульф, и других представителей данной школы нередко совер-
шалось в ущерб социальному анализу взаимоотношений личности
и общества.
Включенные в сборник статьи (1925, 1925, 1932) взяты из
сборника: V. Woolf. The Common Reader, 1938.
К стр. 277
...— населены ... Джоаннами и Питерами...—имеется в виду
роман Г. Уэллса «Джоанна и Питер. История воспитания» (Joan and
Peter. The Story of Education, 1918).
К стр. 279
«Юность»—повесть Дж. Конрада (1902).
Элиот, Томас Стирнс (1885—1965) — англо-американский поэт и
критик, оказал большое влияние на развитие англоязычной поэзии
XX века. В произведениях Элиота (поэмы «Бесплодная земля»,
«Полые люди», стихотворная драма «Убийство в соборе» и др.)
передано наряду с неприятием буржуазной цивилизации ощущение
трагичности жизни, духовного тупика и беЪсилия человека перед
лицом судьбы. Элиот-критик—один из основоположников фор-
мального метода в литературоведении. Вместе с тем многие его
работы, отмеченные огромной эрудицией и тонкостью стилистиче-
ского анализа, представляют значительную ценность.
Статья Элиота «Данте» (1920) взята из сборника: Т. S. Eliot. The
Sacred Wood. Essays on Poetry and Criticism, 1934, «Байрон» (1926)
переведена из сб.: Т. S. Eliot, «On Poetry and Poets» (1957).
Форстер Эдвард Морган (1879—1970) — писатель и литератур-
ный критик, автор психологических романов на семейно-бытовые
и моральные темы («Куда боятся ступить ангелы», «Самое
длинное путешествие», «Комната с видом» и др.). Повествованию
404
Форстера свойственны изысканность и ироничность, что сказыва-
ется и в его критических работах.
Статьи об Элиоте (1950) и Прусте (1929) приводятся соответ-
ственно из книг: Е. М. Forster. Two Cheers for Democracy;
E. M. Forster. Abinger Harvest, 1934.
К стр. 318
Имеются в виду эссе Т. С. Элиота «Заметки к определению
понятия культура» (1948).
Лоуренс Дэвид Герберт (1885—1930)—писатель, поэт* драма-
тург, эссеист. В романах «Сыновья и любовники», «Радуга»,
«Любовник леди Чаттерли» и других выступал против бездушия,
мещанства и ханжества современного ему буржуазного общества.
Поздние романы («Влюбленные женщины», «Кенгуру», «Перна-
тый змей») отмечены психологическим анализом в духе фрей-
дизма.
Статья «Почему важен роман» (1936), приведена по изданию:
D. G. Lawrence. Selected Literary Criticism, 1955.
Олдингтон, Ричард (Д892—1962)—известный писатель-
реалист, живописавший судьбы «потерянного поколения», автор
романов «Смерть героя», «Сущий рай», «Все люди враги», а также
ряда беллетризованных биографий—Бальзака, А. Веллингтона,
Д. Г. Лоуренса.
Перевод статьи «Поэт и его время» (1924), сделан по тексту:
R. Aldington. Literary Studies and Reviews. N.Y., 1924.
К стр. 334
Эллис, Генри Хэвлок (1859—1939)—психолог и эссеист, широко
использовал в своей работе методологию и идеи Фре1йда. Автор
семитомного труда «Исследования по психологии секса».
К стр. ЪЪ1
Даути, Чарльз Монтегю (1843 —1926) — английский путеше-
ственник, автор книги «Путешествия по Аравийской пустыне»
(1888), ставшей особенно популярной после переизданий 1920 и
1921 гг.; Даути принадлежит также большое количество стихов и
поэм.
К стр. 338
Клэр, Джон (1793 —1864) — английский поэт, сын батрака,
писавший о сельской жизни и крестьянском труде. Блумфилд,
Роберт (1766—1823) — английский поэт, также посвятивший себя
деревенской теме.
405
Хаксли, Олдос (1894—1963) — писатель и. эссеист, работавший
в жанре так называемого интеллектуального романа или «романа
идей». Автор антиутопии «Прекрасный новый мир» о стандартизи-
рованном технократическом обществе. Последние романы Хаксли,
« Обезьяна и сущность», «Остров», проникнуты неверием в социаль-
ный прогресс и абсолютизацией биологических свойств человече-
ской природы.
Статья «Эдвард Лир» (1923), взята из сборника: A. Huxley. On
the Margin. Novels and Essays, 1923.
Пристли, Джон Бойнтрн (p. 1894)—прозаик, драматург, лите-
ратурный критик, эссеист. Романы Пристли («Добрые товарищи»,
«Улица Ангела», «Чудотворец», «Сэр Майкл и сэр Джордж»,
«Это—старая страна» и др.), его остросюжетные и философско-
символические пьесы («Опасный поворот», «Визит инспектора»,
«Время и семья Конвей») посвящены социально-нравственным
проблемам современного английского буржуазного общества. В
лучших произведениях военных лет «Затемнение в Грэтли»,
«Дневной свет в субботу» проявились социально-реформистские
иллюзии Пристли, но также и убежденность в праве английского
народа устроить жизнь после войны на более справедливых
общественных основах. Автор широкоизвестных критических
работ «Комические персонажи английских писателей», «Англий-
ский роман». Из эссе Пристли 70-х гг.' особое значение имеет книга
«Англичане», посвященная проблемам традиций в жизни страны,
национального характера, особенно интересующим писателя в
настоящее время. Статья «Два Уэллера» (1925) взята из кн.:
J. В. Priestley. The English Comic Characters. 1925.
К стр. 342
Левер, Чарльз Джеймс (1806—1872)—ирландский романист, в
произведениях которого восторженно описывались жизнь и подви-
ги ирландских военных и развлечения высшего света. Сочинения
Левера подверг критике не только Э. По, но и его соотечествен-
ник У. Теккерей, написавший пародию на его романы (см.
«Романы прославленных сочинителей»).
Фокс, Ральф (1900—1937) — писатель и критик-марксист. В
книге «Роман и народ» обосновал возможность метода социалисти-
ческого реализма в литературах капиталистических стран. Автор
романа об СССР «Штурм неба», «Биография Ленина»41 литератур-
но-критических статей о Дж. Голсуорси, Г. Уэллсе и др. Погиб в
Испании, сражаясь за свободу Республики в рядах интербригадов-
цев.
Статья «Генри Фильдинг» (1937) взята из книги: R. Fox. The
Novel and the People. Moscow, 1956.
Грин, Грэм (p. 1904) — один из наиболее значительных и
противоречивых современных писателей-реалистов, автор произве-
406
дений, сочетающих глубокие философские раздумья о судьбах
мира и человека с острой детективной интригой, отмеченных
психологизмом и политической актуальностью («Суть дела»,
«Тихий американец», «Комедианты», «Путешествие с тетушкой»,
«Доктор Фишер из Женевы, или Вечеринка с бомбой» и др.).
Литературный критик и эссеист.
Статья «Кофр» (1938) переведена по изданию: G. Greene.
Collected Essays, 1968.
Фаулз, Джон (р. 1920) — видный современный прозаик, заво-
евавший широкую популярность сатирико-нравоописательными
романами («Коллекционер», «Маг», «Женщина французского лей-
тенанта», «Дэниел Мартин») и философско-символистскими новел-
лами-притчами с их явным интересом к проблеме искусства в
современном мире («Башня из черного дерева», «Загадка» и др.).
Статья представляет отрывки из книги афоризмов «Аристов».
Перевод сделан по тексту: J. Fowels. The Aristos, 1970.
Брэдбери, Малкольм (р. 1932) — писатель, литературовед, эссе-
ист, автор интеллектуальных сатирических романов «Не надо
кушать людей», «Шагом на Запад», «Социолог», «Человек исто-
рии», в которых нередко осмеивается несостоятельность буржуаз-
но-либеральных и левоэкстремистских тенденций в общественно-
политической жизни современной Англии.
Статья Брэдбери впервые была напечатана в журнале «Encoun-
ter», Jan. 1979.
Олдридж, Джеймс (р. 1918) — писатель и публицист. Лауреат
международной Ленинской премии «За укрепление мира между
народами». Широко известны его антифашистские романы «Дело
чести» и «Морской орел», романы, посвященные антиколониальной
борьбе против британского владычества на Ближнем Востоке,—
«Герои пустынных горизонтов», «Не хочу, чтобы он умирал»,
«Последний изгнанник», а также «Плененный страной» и «Большая
игра», главная тема которых—мирное сосуществование государств
с различными социальными системами.
В сборнике воспроизводятся отрывки из предисловия к сборнику
С. Моэма «Дождь. Рассказы» (М., ИЛ, 1961), из книги «Поединок
идей» (М., «Правда», 1964), статья «Лев Толстой» («Иностранная
литература», № 9, 1978).
Сноу, Чарльз Перси (1905—-1980) — писатель, ученый-физик,
литературный критик, общественный деятель, всегда бывший
искренним другом Советского Союза. Реалистические произведе-
ния Ч. Сноу (одиннадцать романов цикла «Чужие и братья»,
«Хранители мудрости»), повествующие с «жизни различных сло-
ев общества... и ее влиянии на внутреннюю жизнь индивида», по
его собственным словам, описывают прежде всего жизнь англий-
407
ской интеллигенции, технической и гуманитарной. Этим двум
важнейшим тенденциям в интеллектуальной жизни общества была
посвящена знаменитая лекция Сноу «Две культуры» (см. русский
перевод М., «Прогресс», 1973). Автор интересной биографической
книги об Э. Троллопе.
Сноу питал огромный интерес и уважение к русской и
советской литературе и многое сделал для ее популяризации у
себя на родине.
«Что могут гуманисты»—отрывок из статьи, опубликованной
в журнале «Вопросы литературы», № 12, 1976.
СОДЕРЖАНИЕ
АНГЛИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ XIX—XX ВЕКОВ О ЛИТЕРАТУРЕ. А. Аникст .... 3
У. Вордсворт. ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЛИРИЧЕСКИМ БАЛЛАДАМ». Перевод
A. Горбунова — 19
С. Т. Кольридж. ЛЕКЦИИ О ШЕКСПИРЕ И МИЛЬТОНЕ. Перевод О. Аляк-
ринского 35
С. Т. Кольридж. АЛЛЕГОРИЯ. Перевод О. Алякринского 43
У. Хэзлит. «МАКБЕТ». Перевод И. Гуровой 46
Дж. Г. Байрон. ПИСЬМО К ДЖОНУ МЕРРЕЮ. Перевод 3. Александро-
вой 54
B. Скотт. «ЭММА». Перевод К. Атаровой 56
В. Скотт. СМЕРТЬ ЛОРДА БАЙРОНА. Перевод Е. Танка 69
Ч. Диккенс. ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ РОМАНА «ПРИК-
ЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА». Перевод А. Кривцовой 74
У. М. Теккерей. СОЧИНЕНИЯ ФИЛЬДИНГА. Перевод Я. Рецкера 77
Ш. Бронте. ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА К НОВОМУ ИЗДАНИЮ «ГРОЗО-
ВОГО ПЕРЕВАЛА». Перевод М. Тугушевой 86
Э. Троллоп. ГЛАВА XII. О РОМАНАХ И ИСКУССТВЕ СОЗДАВАТЬ ИХ.
Перевод Т. Шишкиной 90
Дж. Элиот. СТРАНИЧКИ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. ИСКУССТВО ПОВЕ-
СТВОВАНИЯ. Перевод И. Гуровой 97
Дж. Рескин. ЧТО И КАК ЧИТАТЬ. Перевод В. Харитонова 100
М. Арнольд. НАЗНАЧЕНИЕ КРИТИКИ В НАШЕ ВРЕМЯ. Перевод Г. Зло-
бина , ПО
О. Уайльд. КРИТИК КАК ХУДОЖНИК. Перевод А. Зверева 131
Г. Джеймс. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ДИККЕНСА. Перевод В. Бернацкой 187
Г. Джеймс. ИВАН ТУРГЕНЕВ. Перевод В. Бернацкой ! 191
Р. Л. Стивенсон. ДОСУЖИЙ РАЗГОВОР О РОМАНЕ ДЮМА. Перевод
В. Харитонова 197
Дж. Конрад. ПРЕДИСЛОВИЕ К РОМАНУ «НЕГР С «НАРЦИССА». Перевод
М. Соколянского и Э. Цибульской '. 204
X. Беллок. О НЕВЕДОМОЙ СТРАНЕ. Перевод И. Гуровой 208
Б. Шоу. НОВАЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В ПЬЕСАХ ИБСЕНА.
Перевод 3. Александровой 212
Б. Шоу. МИСТЕР БЕННЕТ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ПЬЕСЫ ПИСАТЬ ЛЕГЧЕ,
ЧЕМ РОМАНЫ. Перевод М. Зинде 222
Г. Уэллс. СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН. Перевод Я. Явно 229
А. Беннет. КАК ПИШУТСЯ РОМАНЫ. Перевод И. Гуровой 243
Д. Голсуорси. ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ. Перевод Г. Злобина 253
Д. Голсуорси. ЕСЛИ БЫ Я ЗНАЛ... Перевод Г. Злобина 261
Дж. К. Честертон. ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС. Перевод А. Ливерганта 264
409
Дж. К. Честертон. РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО ДЖЕЙН ОСТИН. Перевод
К. Атаровой 267
С. Моэм. «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» ДОСТОЕВСКОГО. Перевод М. Зин-
де 272
В. Вульф. СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. Перевод К. Атаровой 276
В. Зульф. РУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ. Перевод К. Атаровой 282
В. Вульф. «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». Перевод К. Атаро-
вой 289
Т. С. Элиот. ДАНТЕ. Перевод Н. Трауберг 295
Т. С. Элиот. БАЙРОН. Перевод И. Левидовой 305
Э. М. Форстер. ДВЕ КНИГИ Т. С. ЭЛИОТА. Перевод М. Зинде 318
3. М. Форстер. ПРУСТ. Перевод М. Зинде 321
Д. Г. Лоуренс. ПОЧЕМУ ВАЖЕН РОМАН. Перевод Н. Палъцева 326
Р. Олдингтон. ПОЭТ И ЕГО ЭПОХА. Перевод И. Гуровой- 332
О. Хаксли. ЭДВАРД ЛИР. Перевод О. Седаковой 339
Дж. Б. Пристли. ДВА УЭЛЛЕРА. Перевод Р. Померанцевой 342
Р. Фокс. ГЕНРИ ФИЛЬДИНГ, ГЕНИЙ ВЕКА ПРОЗЫ. Перевод Э. Переслеги-
ной 355
Г. Грин. КОФР. Перевод И. Гуровой .'■ 357
Дж. Фаулз. АРИСТОС. Перевод Н. Палъцева 360
М. Брэдбери. «СОБАКА, ЗАТЯНУТАЯ ПЕСКАМИ» АБСТРАКЦИЯ И ИРО-
НИЯ *. Перевод Н. Васил ьевой 368
Дж. Олдридж. Из предисловия к сборнику С. Моэма «Дождь. Рассказы» 379
Дж. Олдридж. Из книги «ПОЕДИНОК ИДЕЙ» 384
Дж. Олдридж. ЛЕВ ТОЛСТОЙ 387
4. П. Сноу. ЧТО МОГУТ ГУМАНИСТЫ? 389
КРАТКИЕ СПРАВКИ ОБ АВТОРАХ И ИСТОЧНИКАХ, С КОММЕНТАРИ-
ЯМИ: Г. М. Шейнман, Е. К. Нестерова, А. М. Зверев, Т. Н. Шишкина 391
ПИСАТЕЛИ АНГЛИИ О ЛИТЕРАТУРЕ
ИБ № 9583
Художник В. Б. Соловьев
Художественный редактор В. А. Пузанков
Технический редактор О. Н. Черкасова
Корректоры Е. И. Понкритова и Е. В. Рудницкая
Сдано в набор 26.J2.S0. Подписало и печать 28.9.81 г. Формат
60x907|б. Бумага типографская № 1. Гарнитура «тайме». Печать
офсетная. Условн. печ. л. 26. Уч.-изд. л. 29,30. Тираж 20 000 экз.
Заказ j\r2 2389. Цена 1 руб. 40 коп. Изд. № 29312.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство <'Прогресс»
Государственного комитета СССР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли.
Москва 119021, Зубовский бульвар, 17
Ордена Окгябрьской Революции и ордена Трудового Красного
Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва,
М-54, Валоваяг 28
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС
Вышла в свет
»
ЛЫОИС Н. СИЦИЛИЙСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ: Роман.
Пер. с англ.
Произведения Нормана Льюиса уже издавались в нашей
стране: «Вулканы над нами», «Зримая тьма», «От руки брата
его».
Этот остросюжетный политический роман разоблачает
связи сицилийской и американской мафии с разведыватель-
ными службами США.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
Вышла в свет
ПИМ Б. ОСЕННИЙ КВАРТЕТ: Роман. Пер. с англ.
Роман известной писательницы посвящен весьма актуаль-
ной проблеме западного мира — проблеме одиночества, от-
чуждения между людьми. Автор тонко анализирует нацио-
нальную специфику этого явления, рассказывая о судьбе
четырех пожилых одиноких героев, ставших жертвами
буржуазного образа жизни, буржуазных представлений о
жизненных ценностях.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
Готовится к печати
УОТЕРХАУС К. БИЛЛИ-ВРАЛЬ. КОНТОРСКИЕ БУД-
НИ: Романы. Пер. с англ.
Между ранним и последним романом известного англий-
ского сатирика существует глубокая идейная связь. Билли-
враль—молодой человек, мелкий клерк в похоронном бюро,
живущий в мире собственных фантазий и грез. Клемент
Грайс, герой романа «Конторские будни»,—это как бы
постаревший Билли: он уже много лет работает старшим
клерком и уже давно ни к чему не стремится. Автор рисует
гротескно-символическую картину, высмеивающую совре-
менную бюрократию.