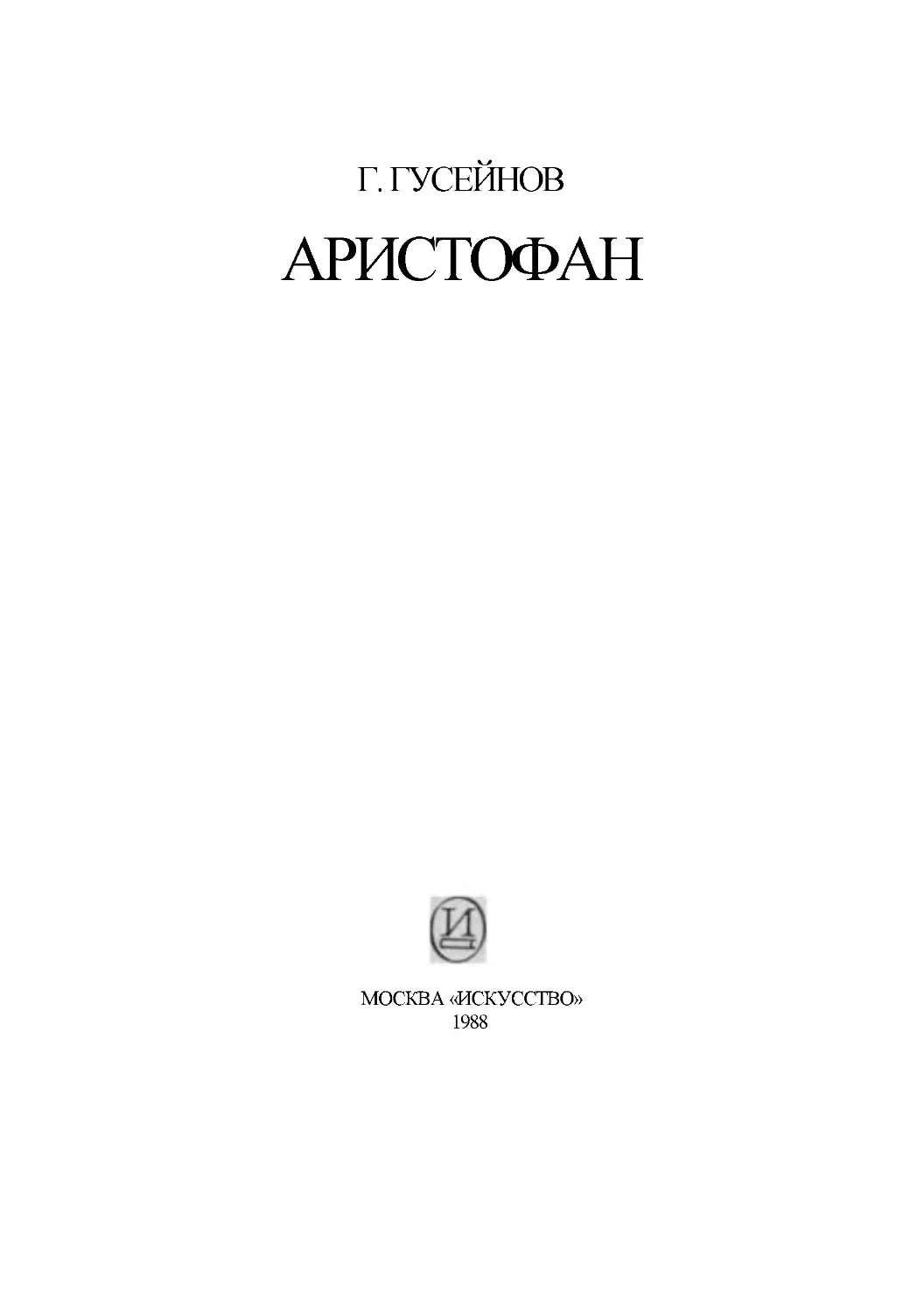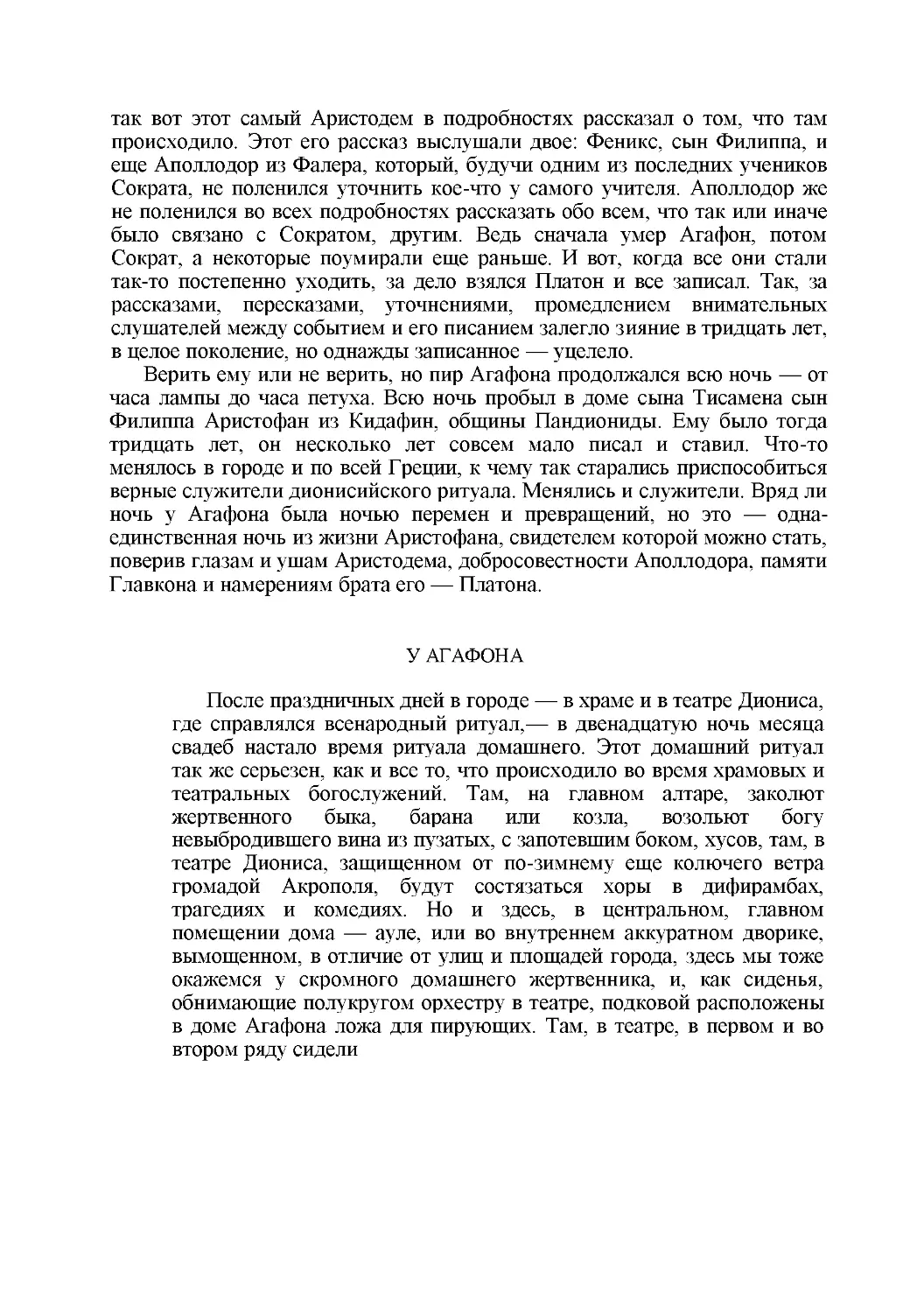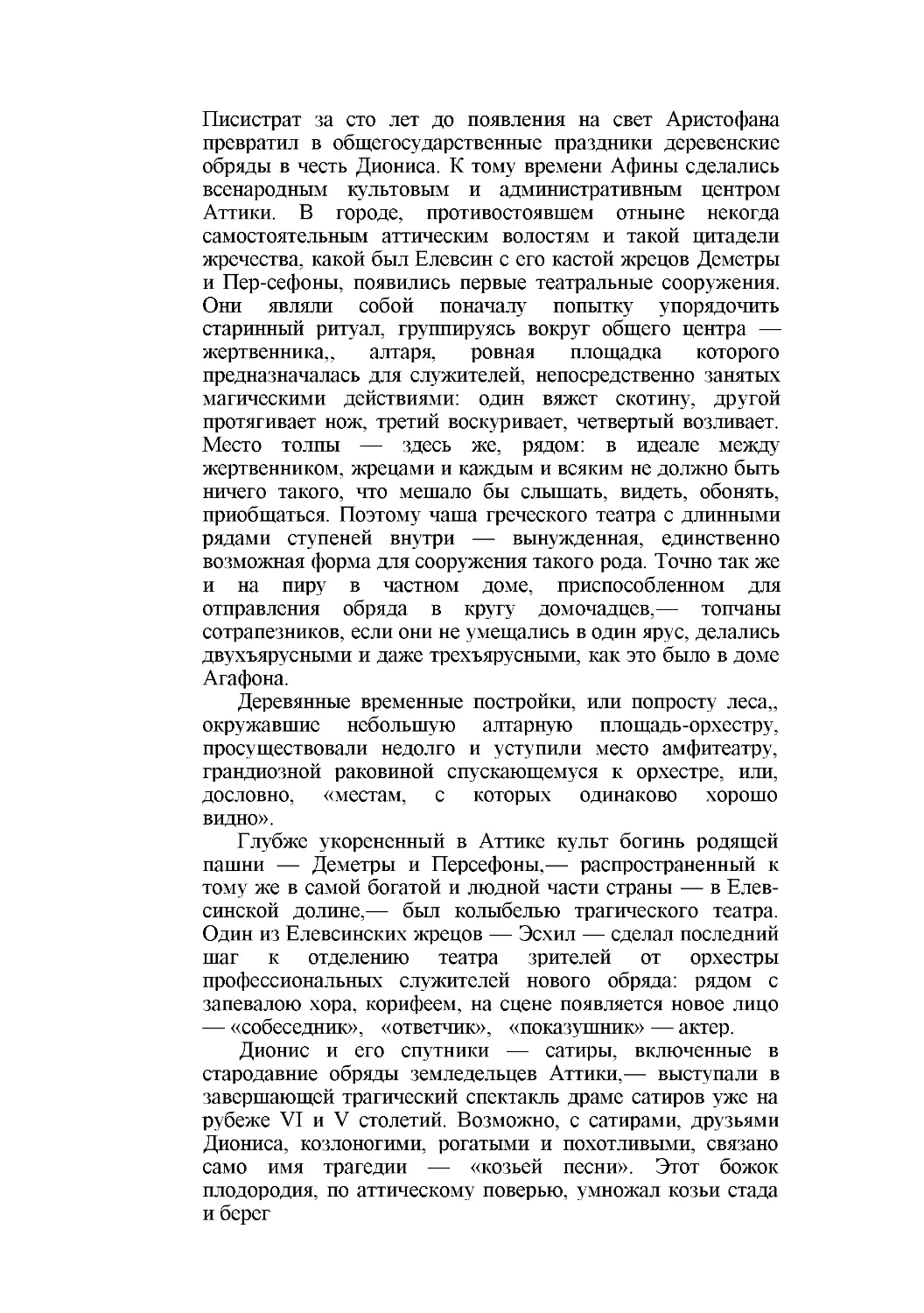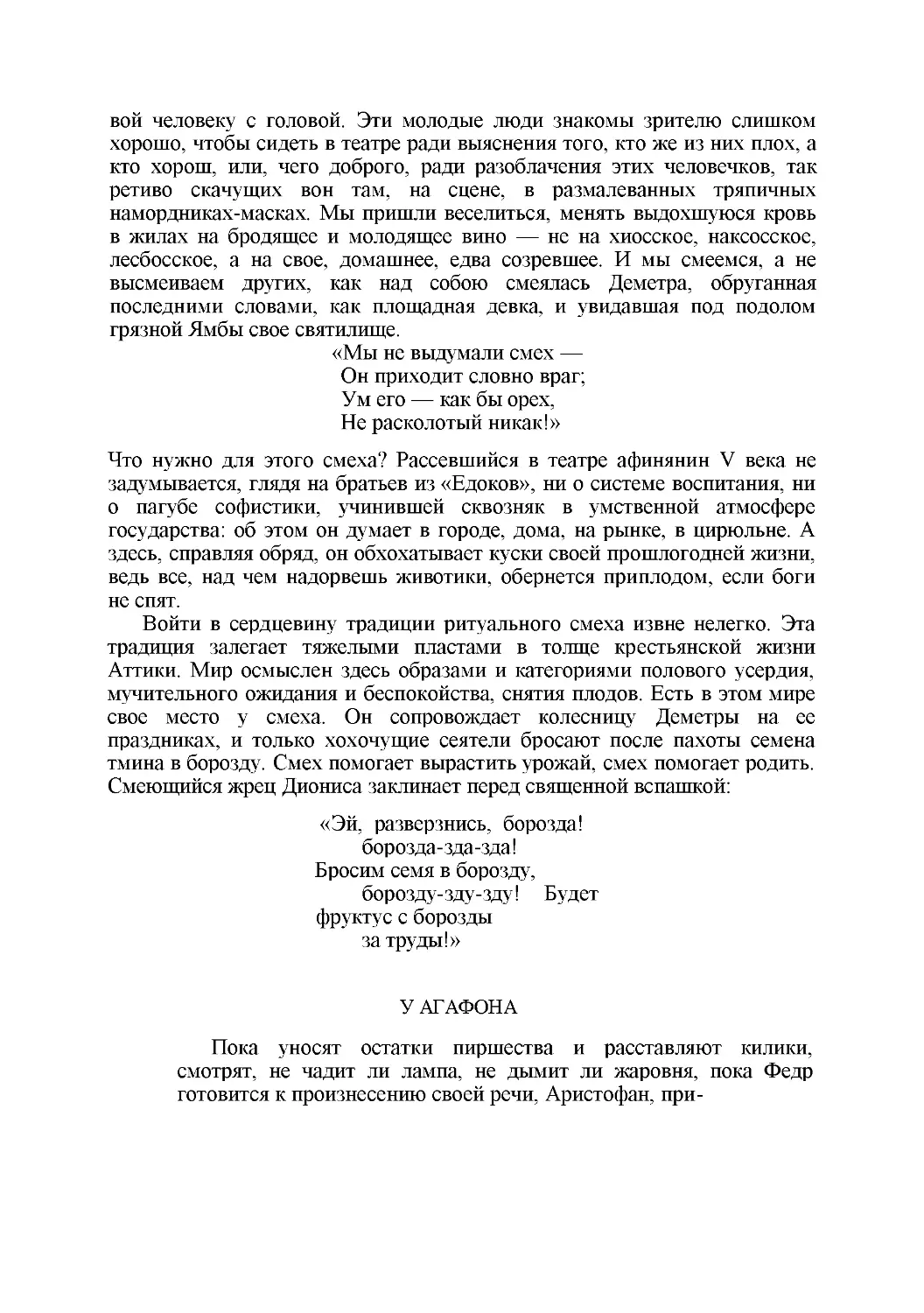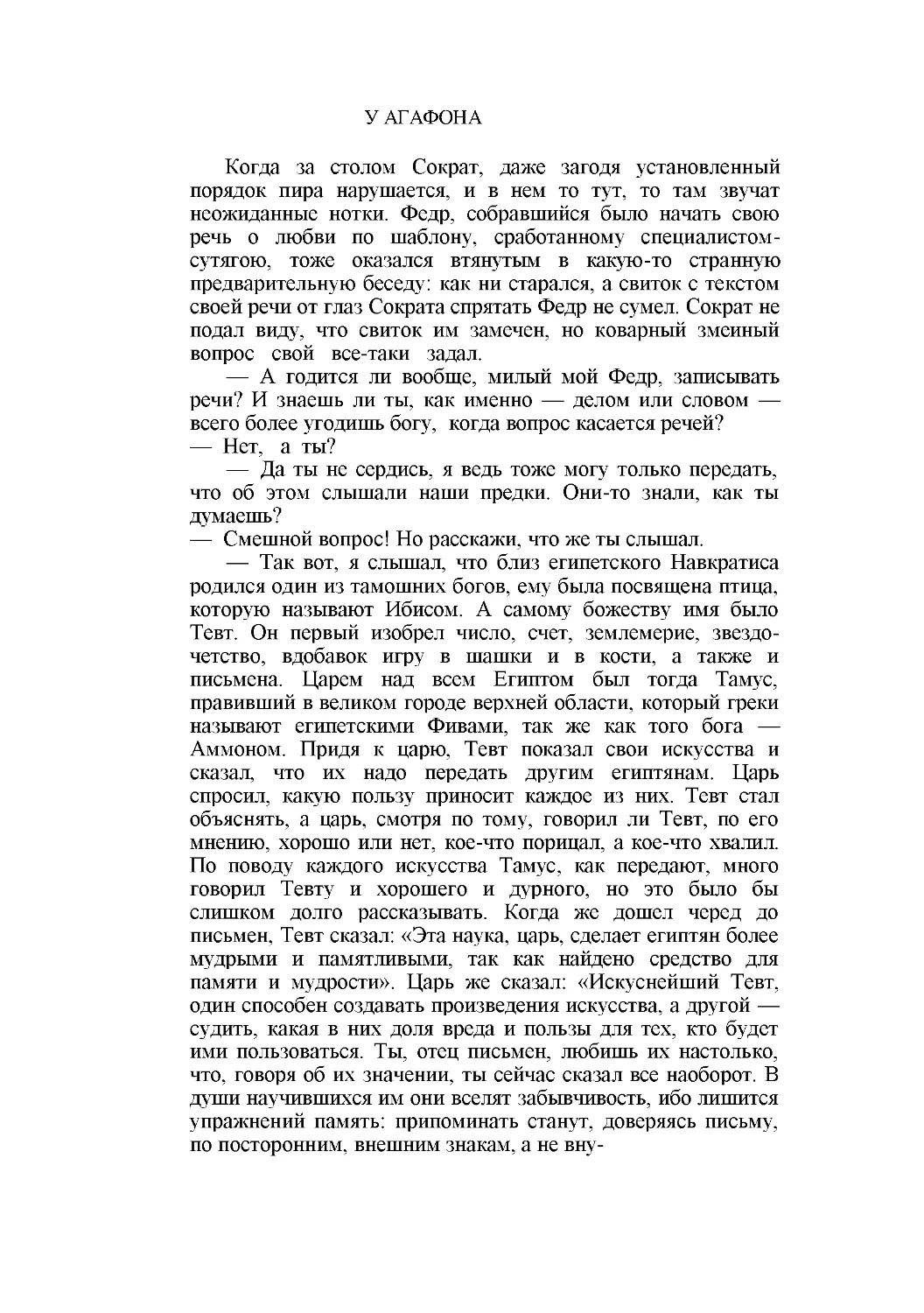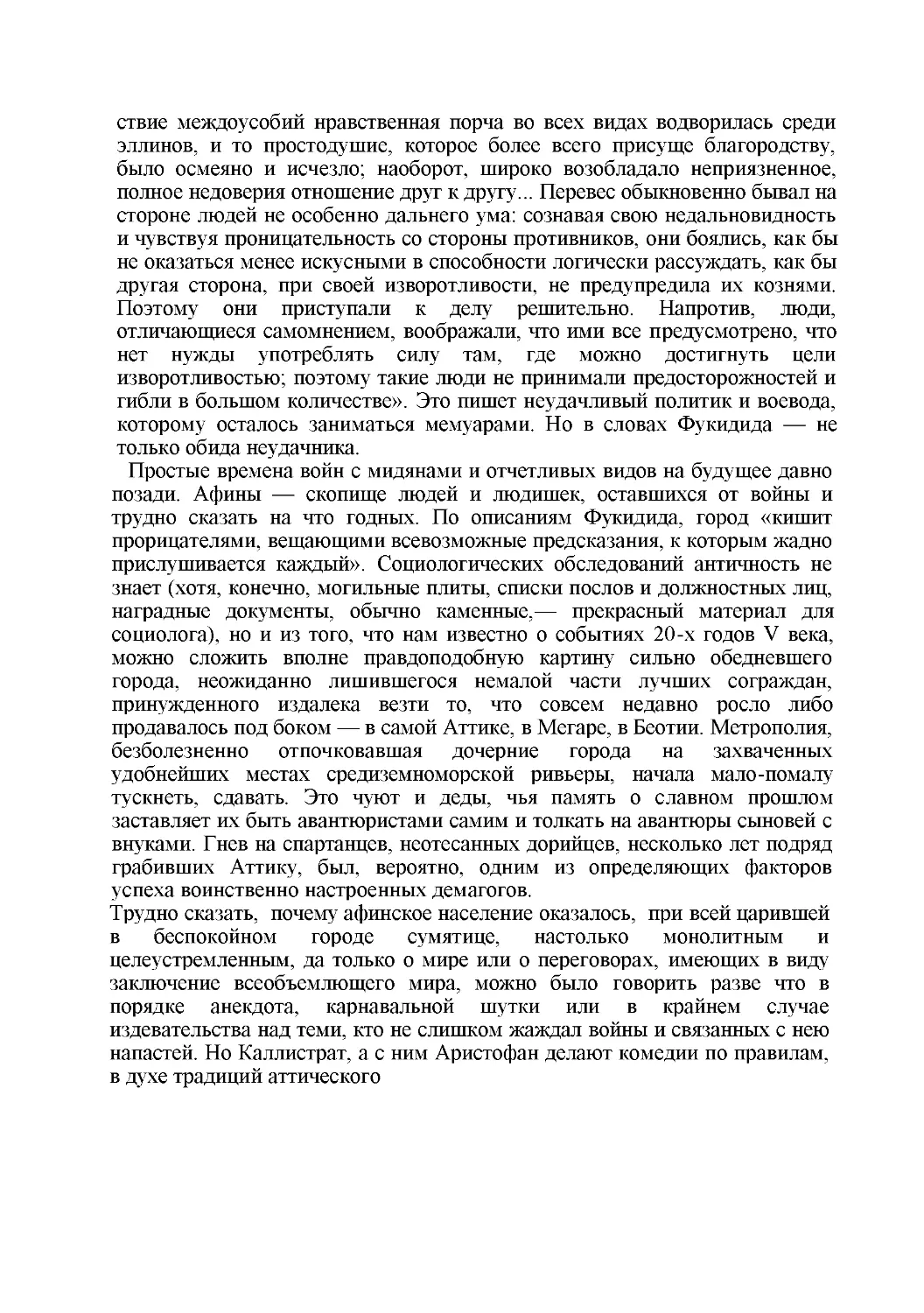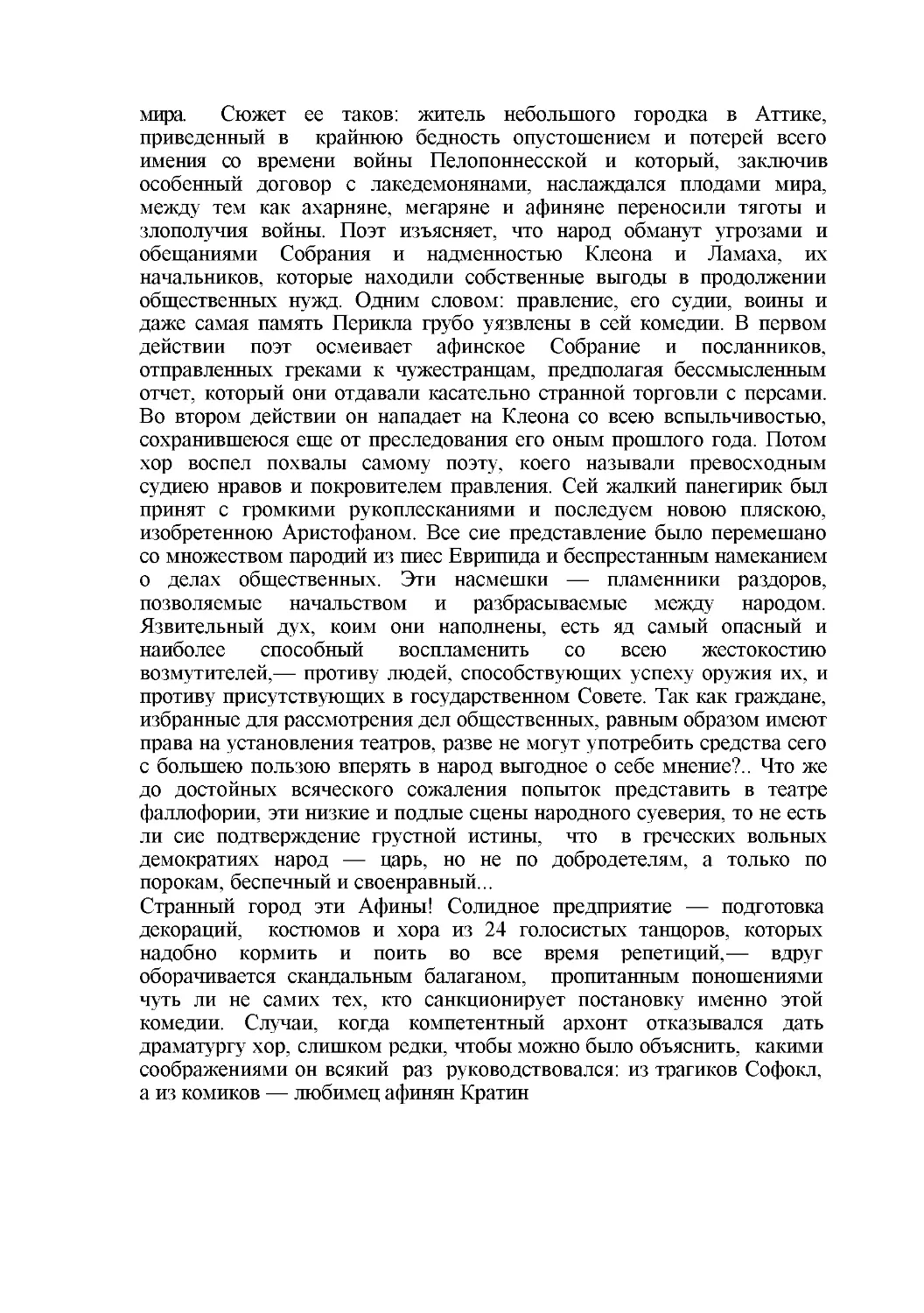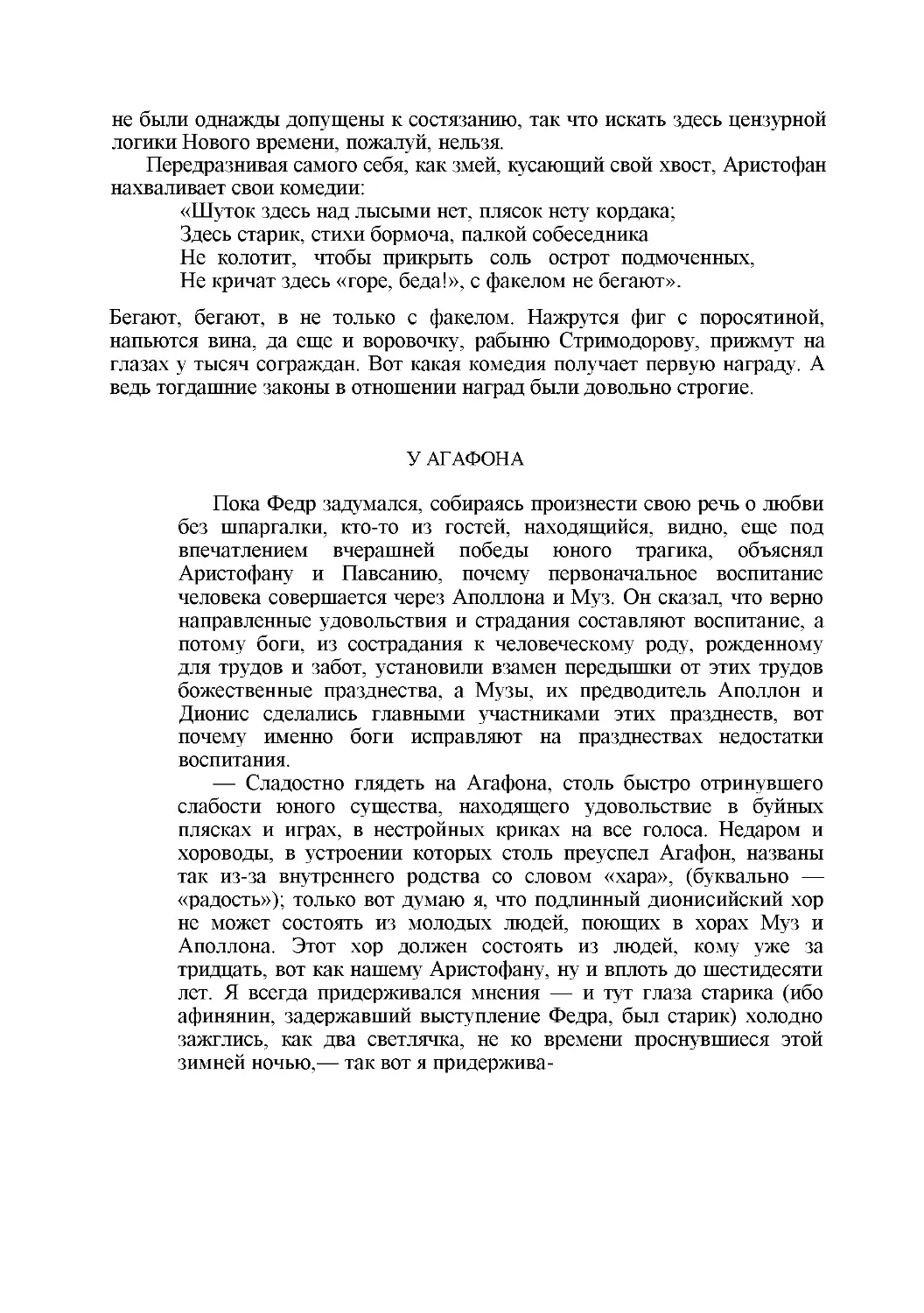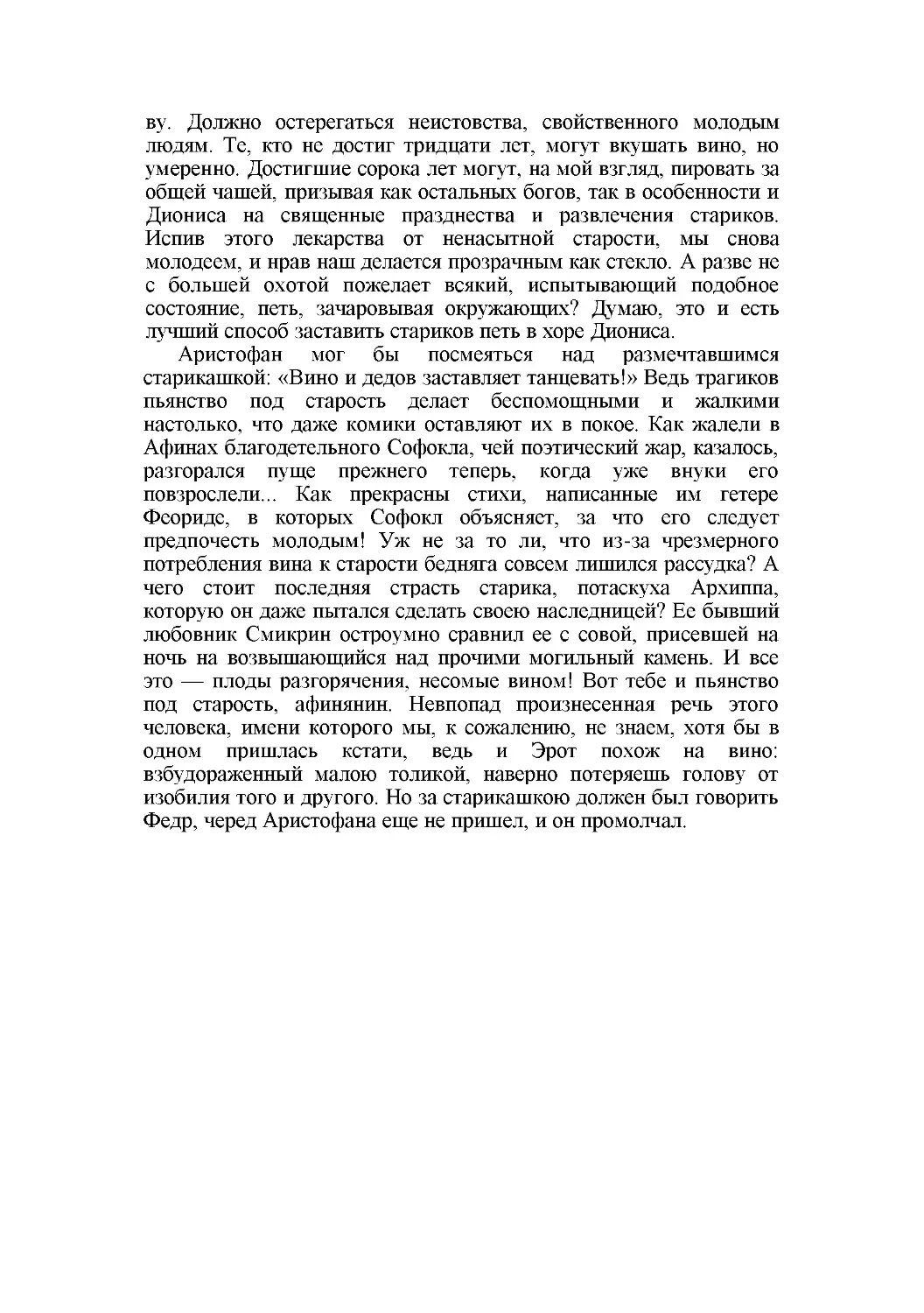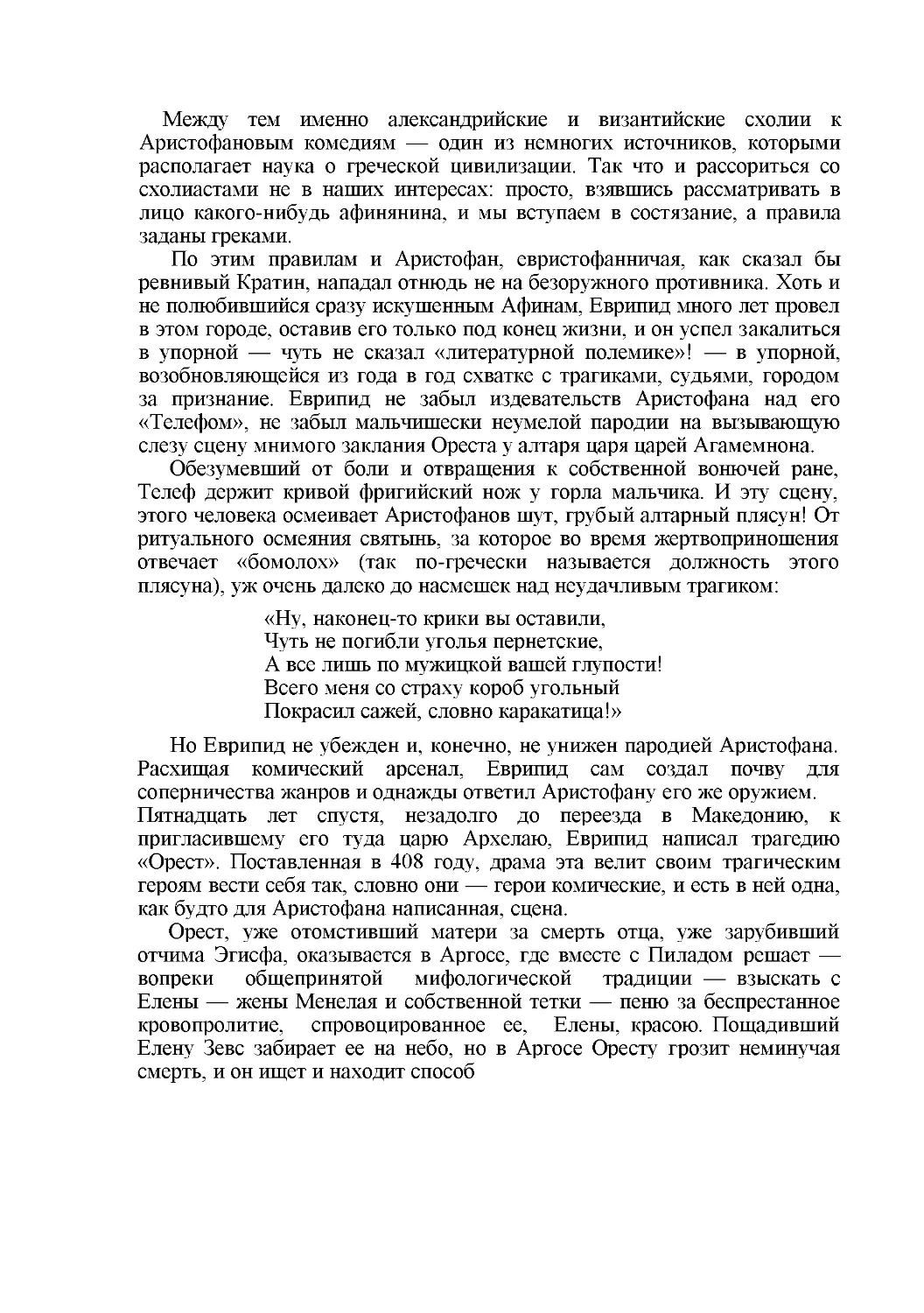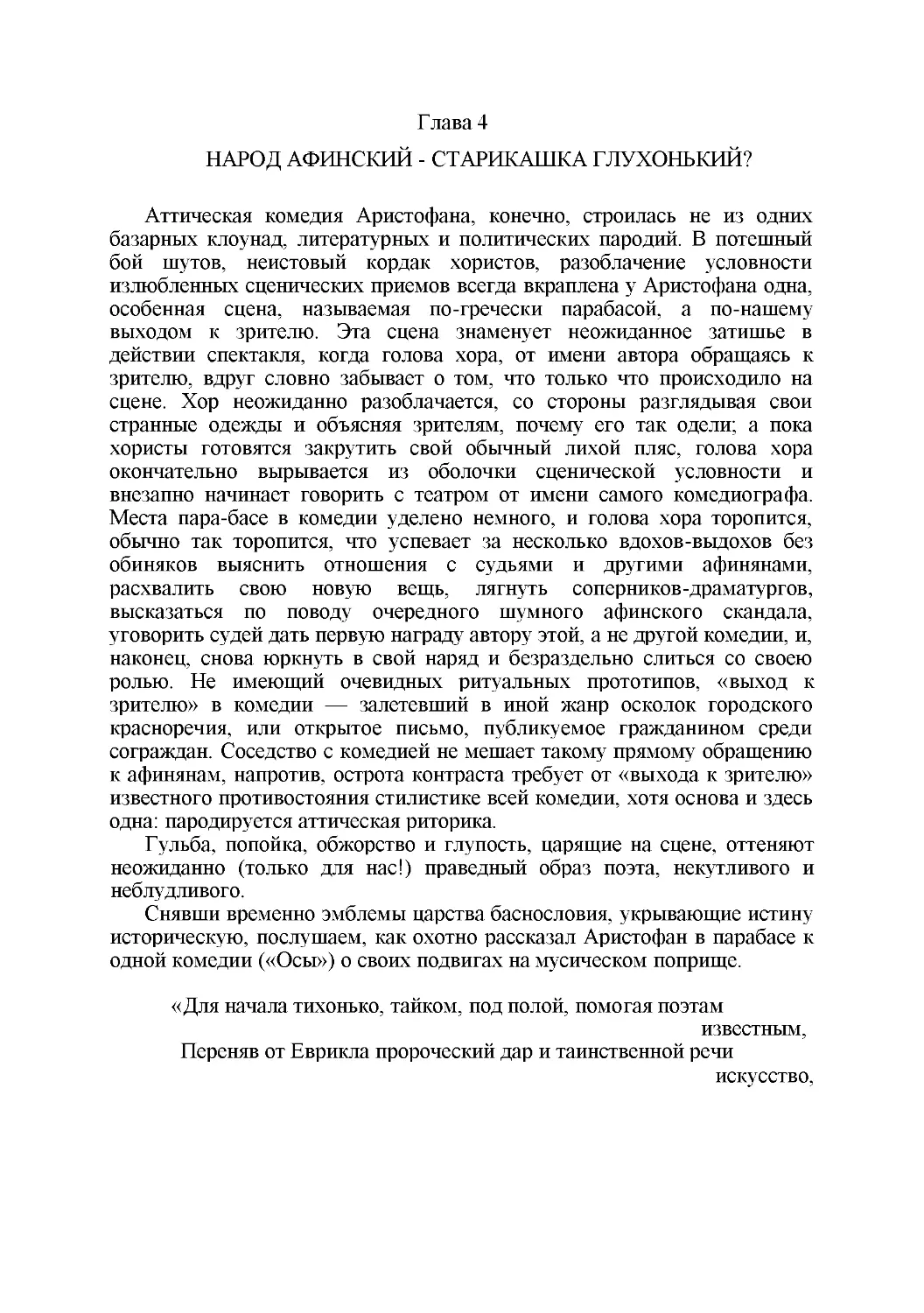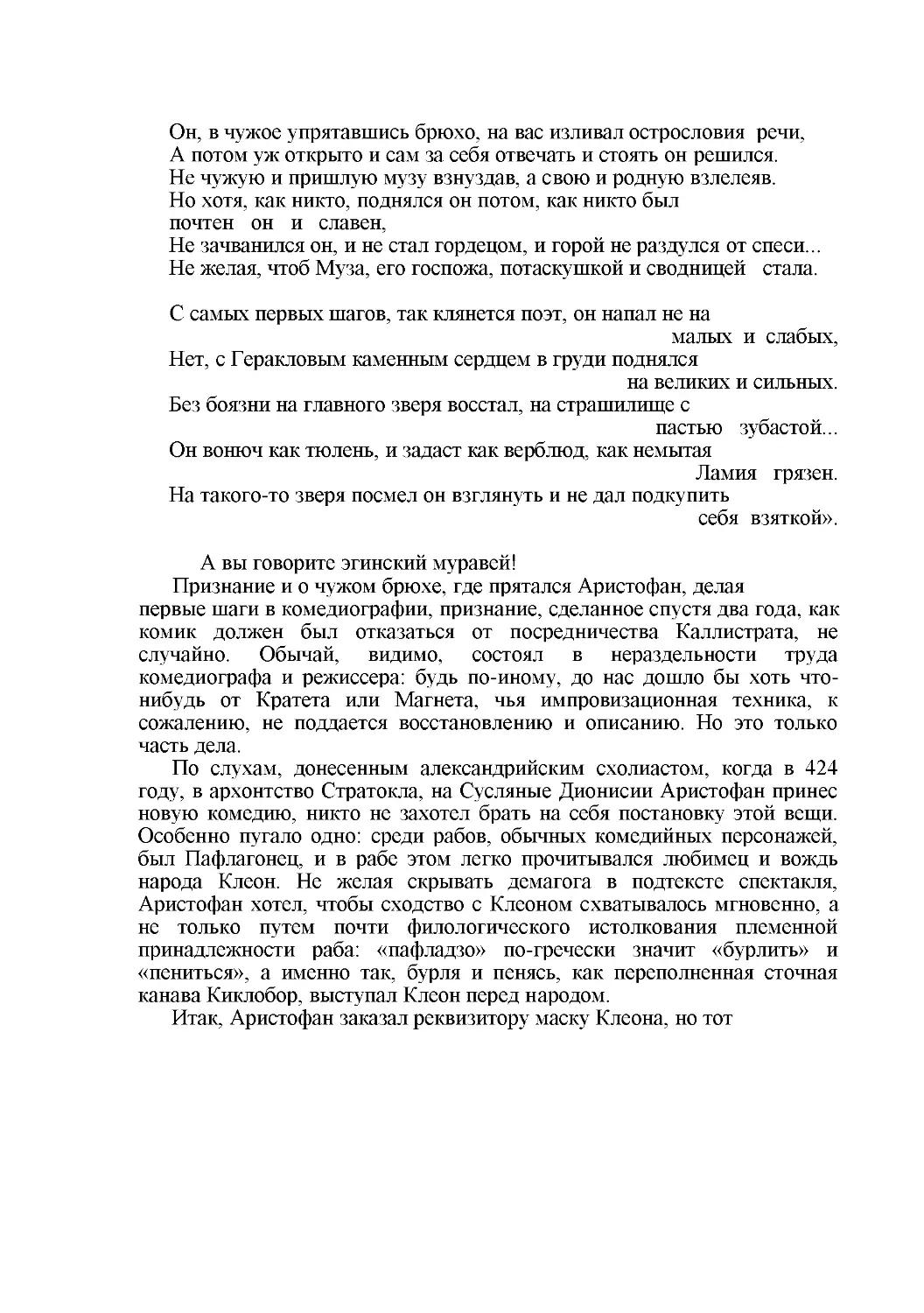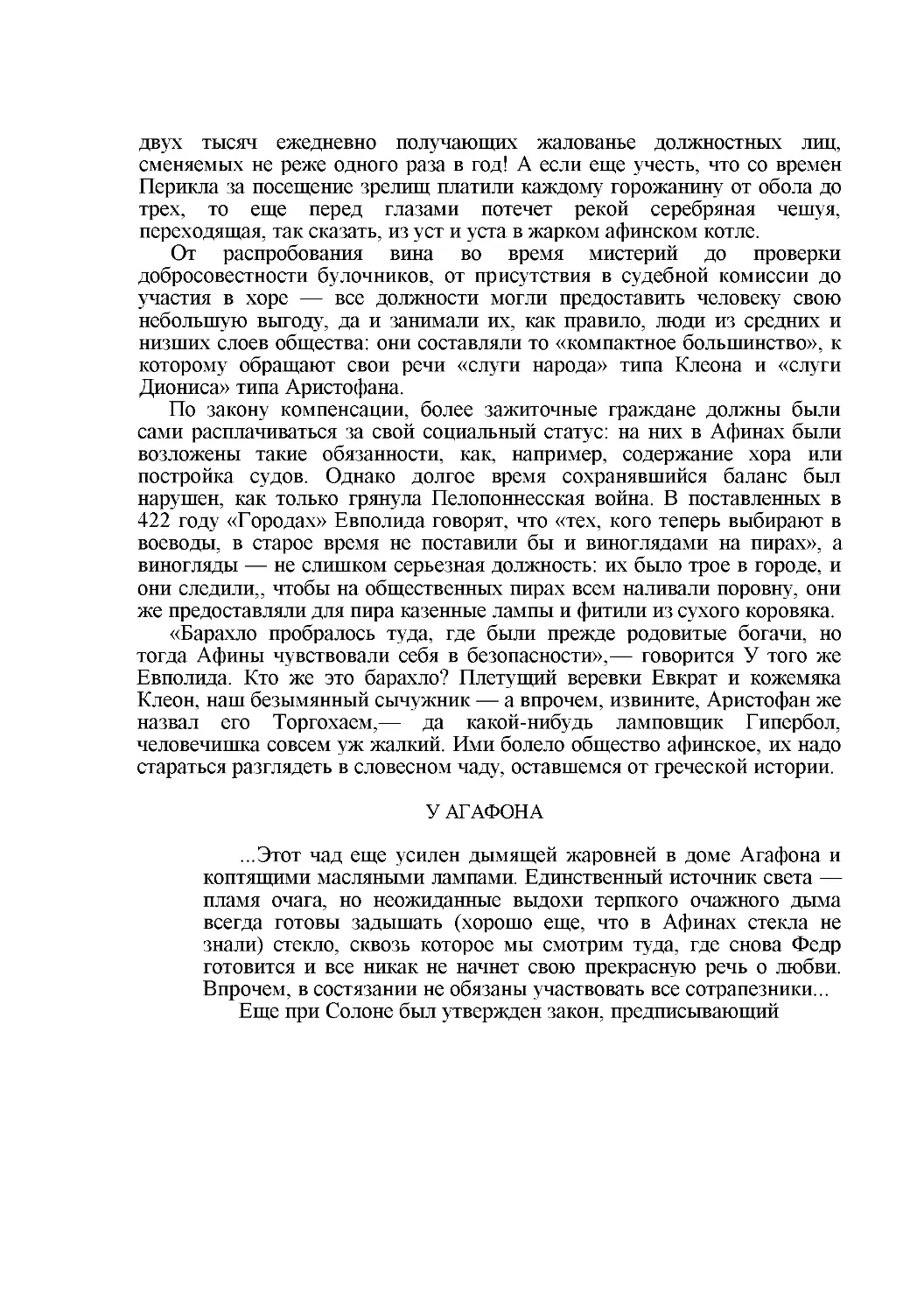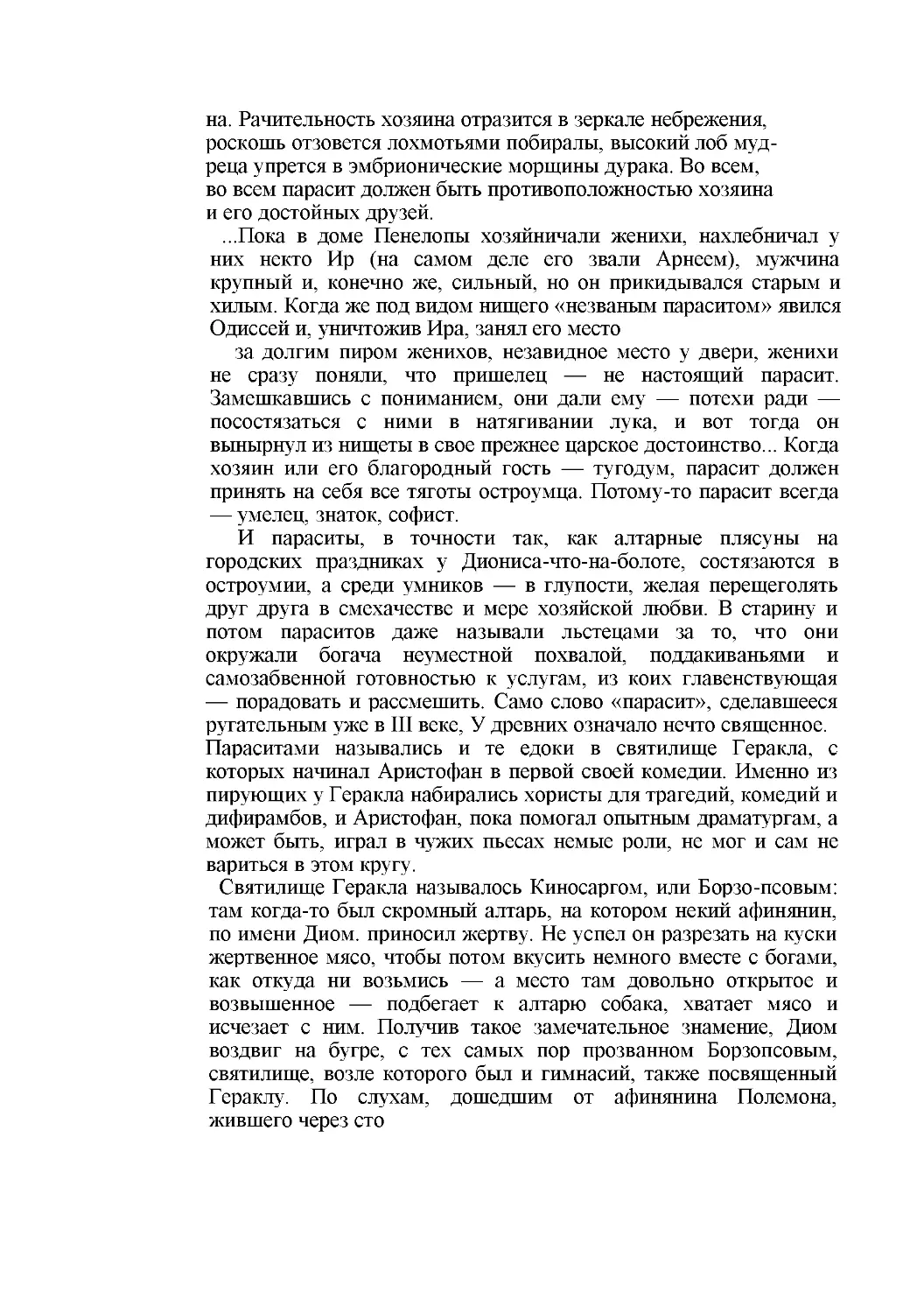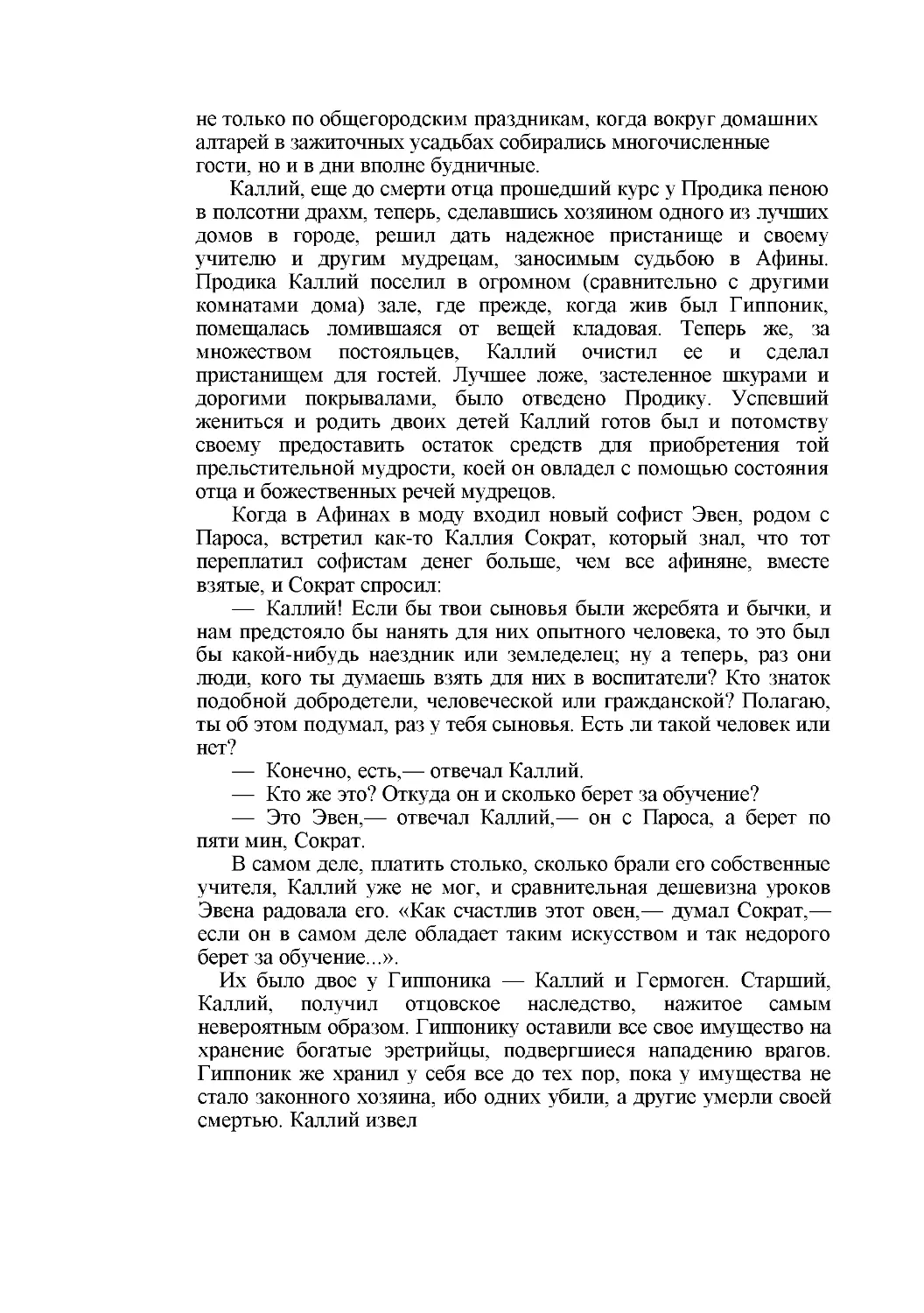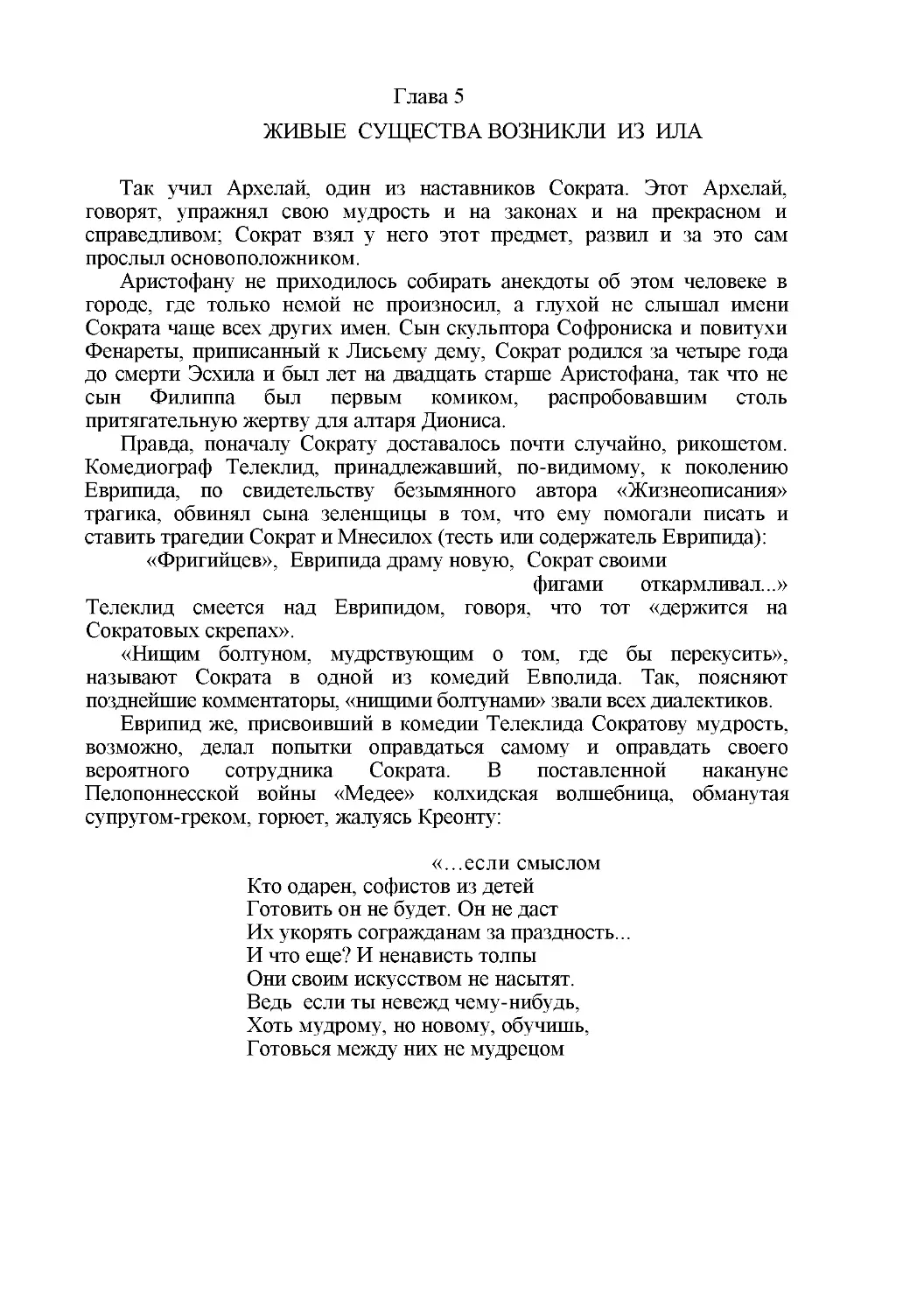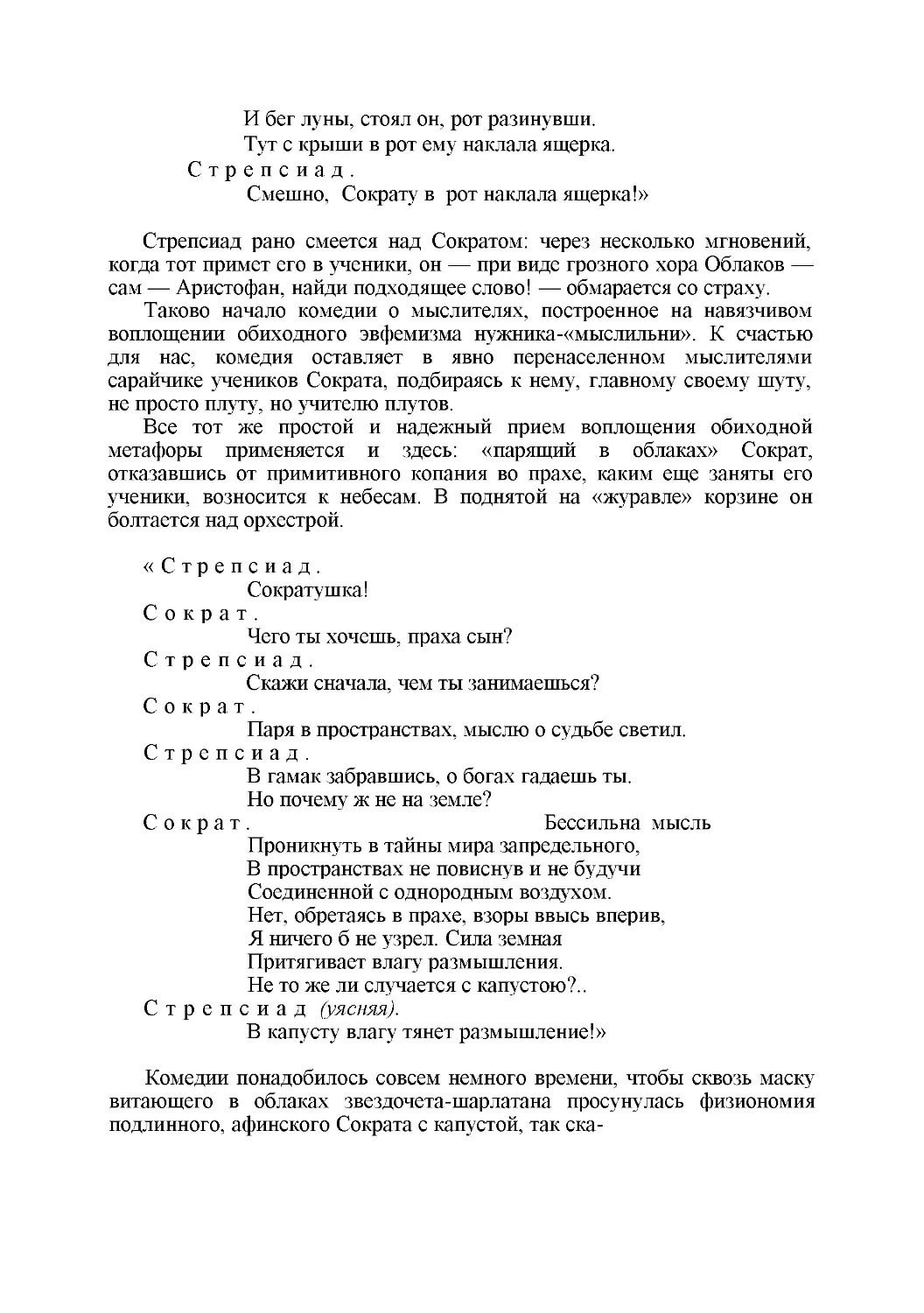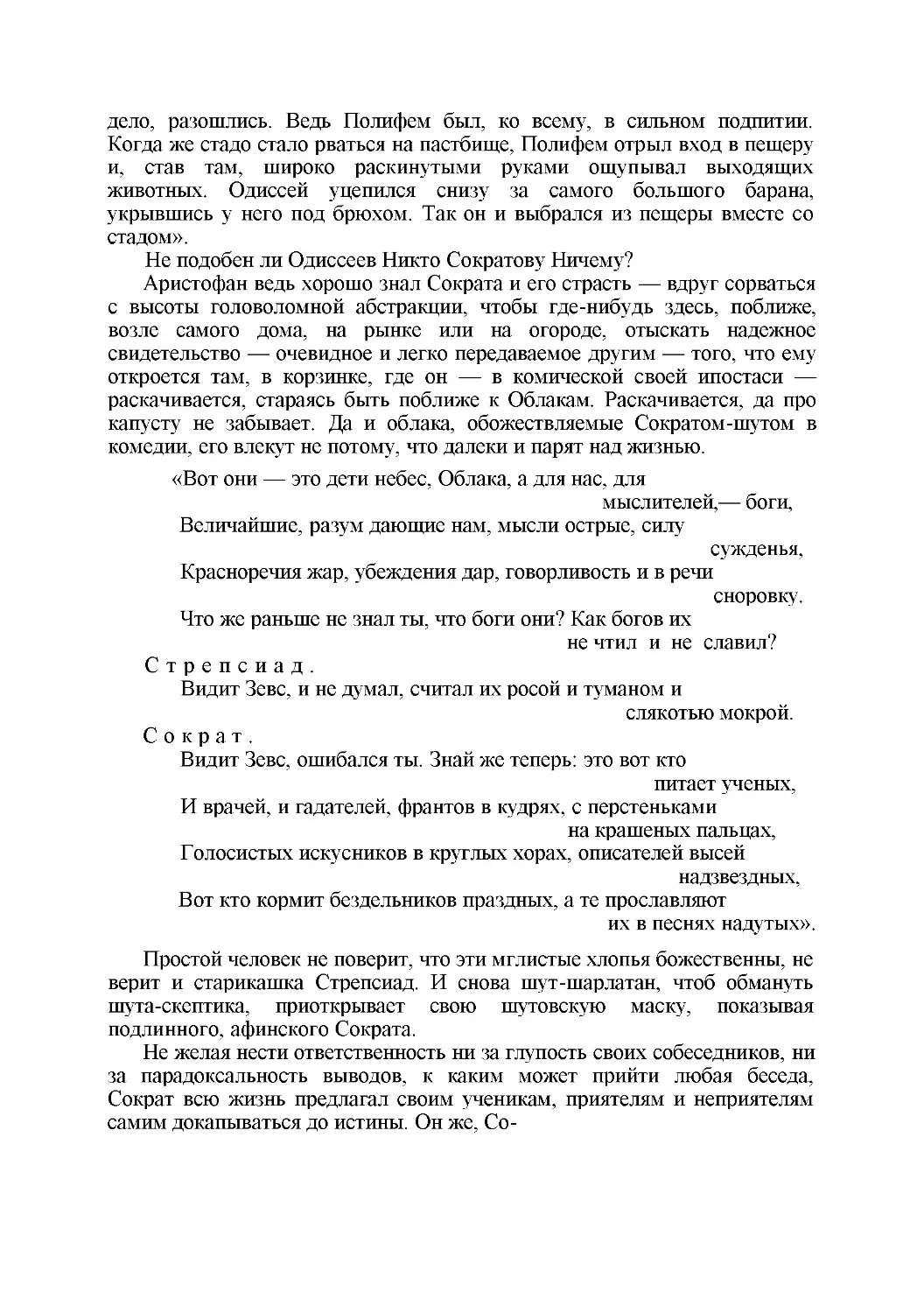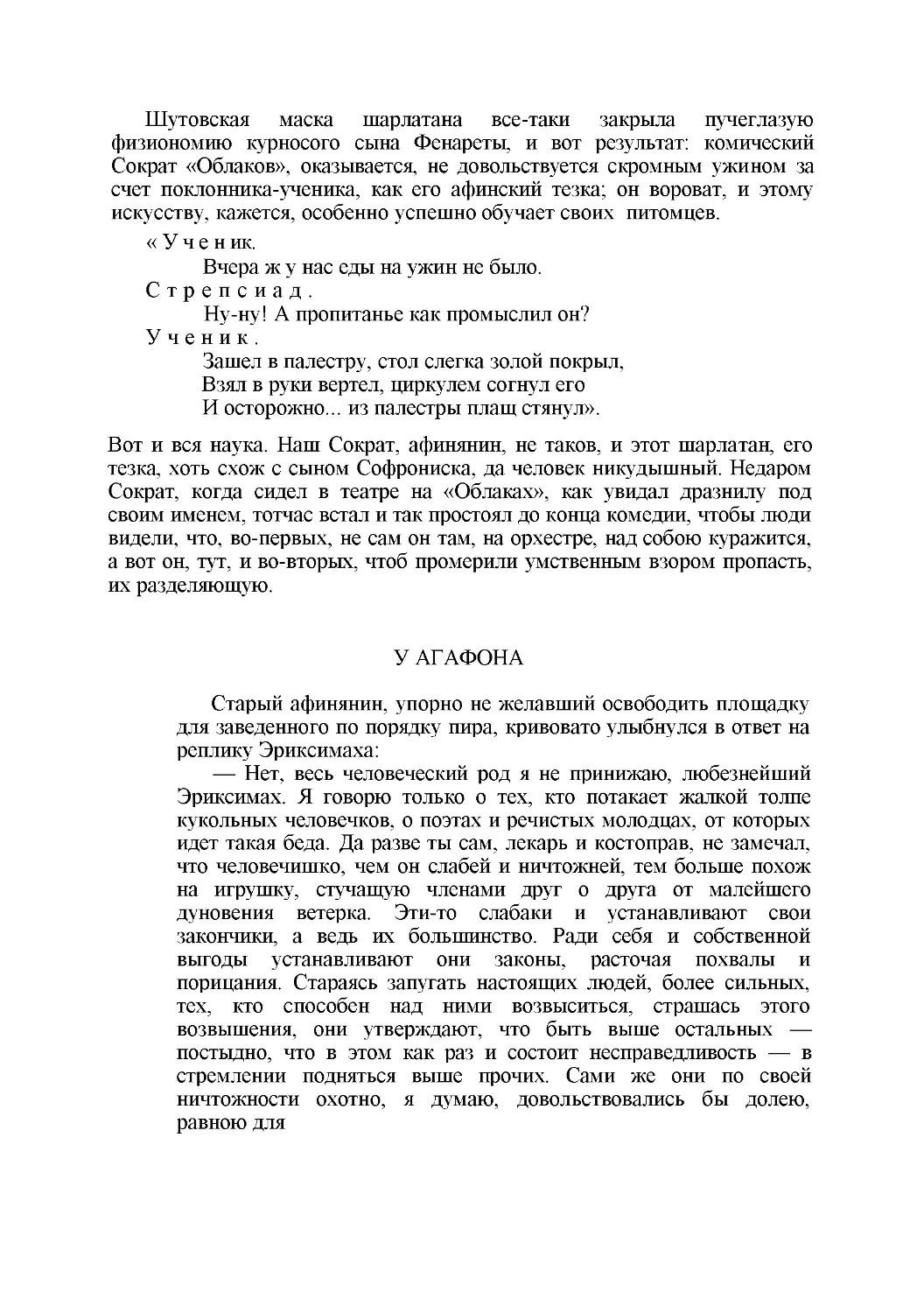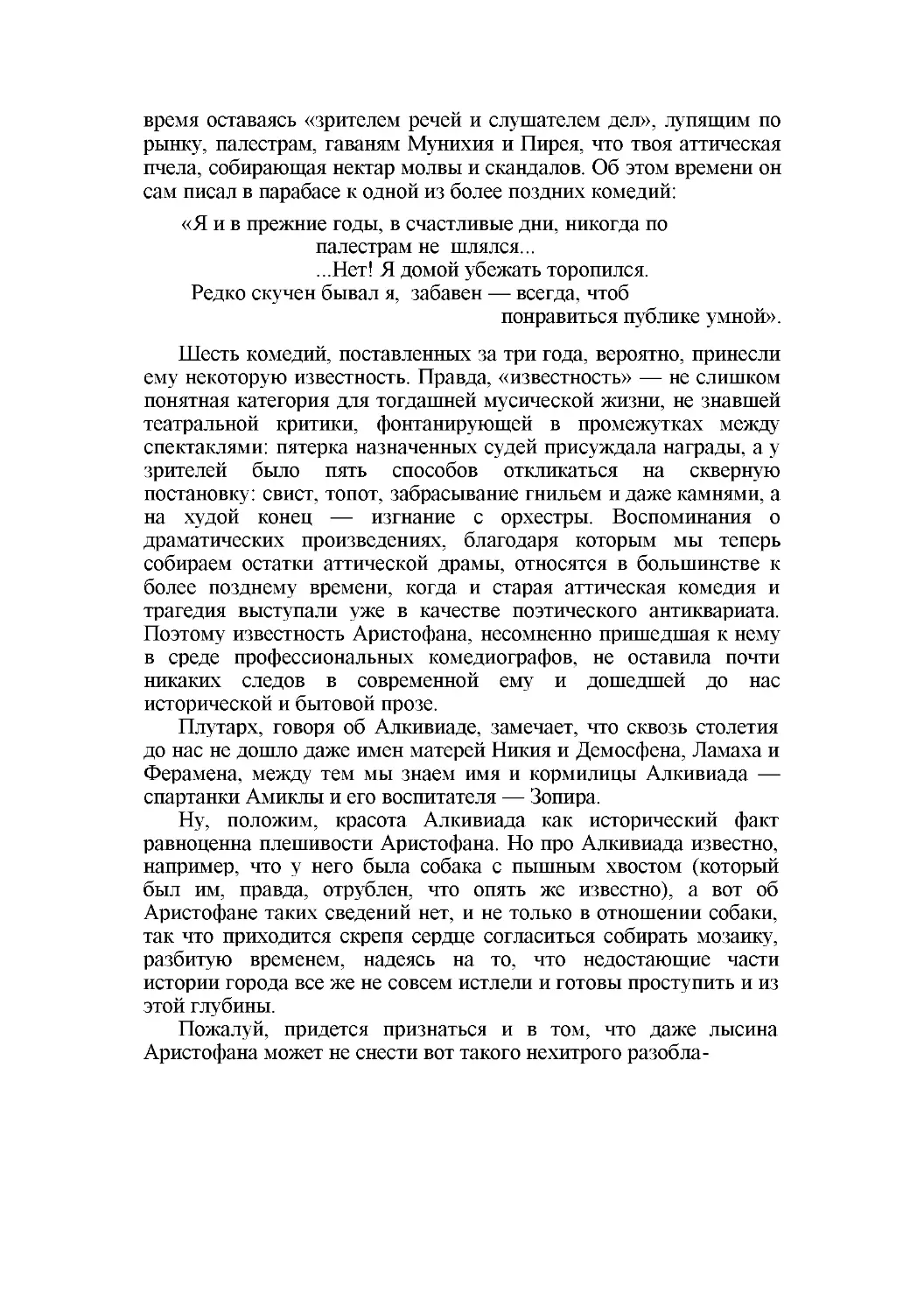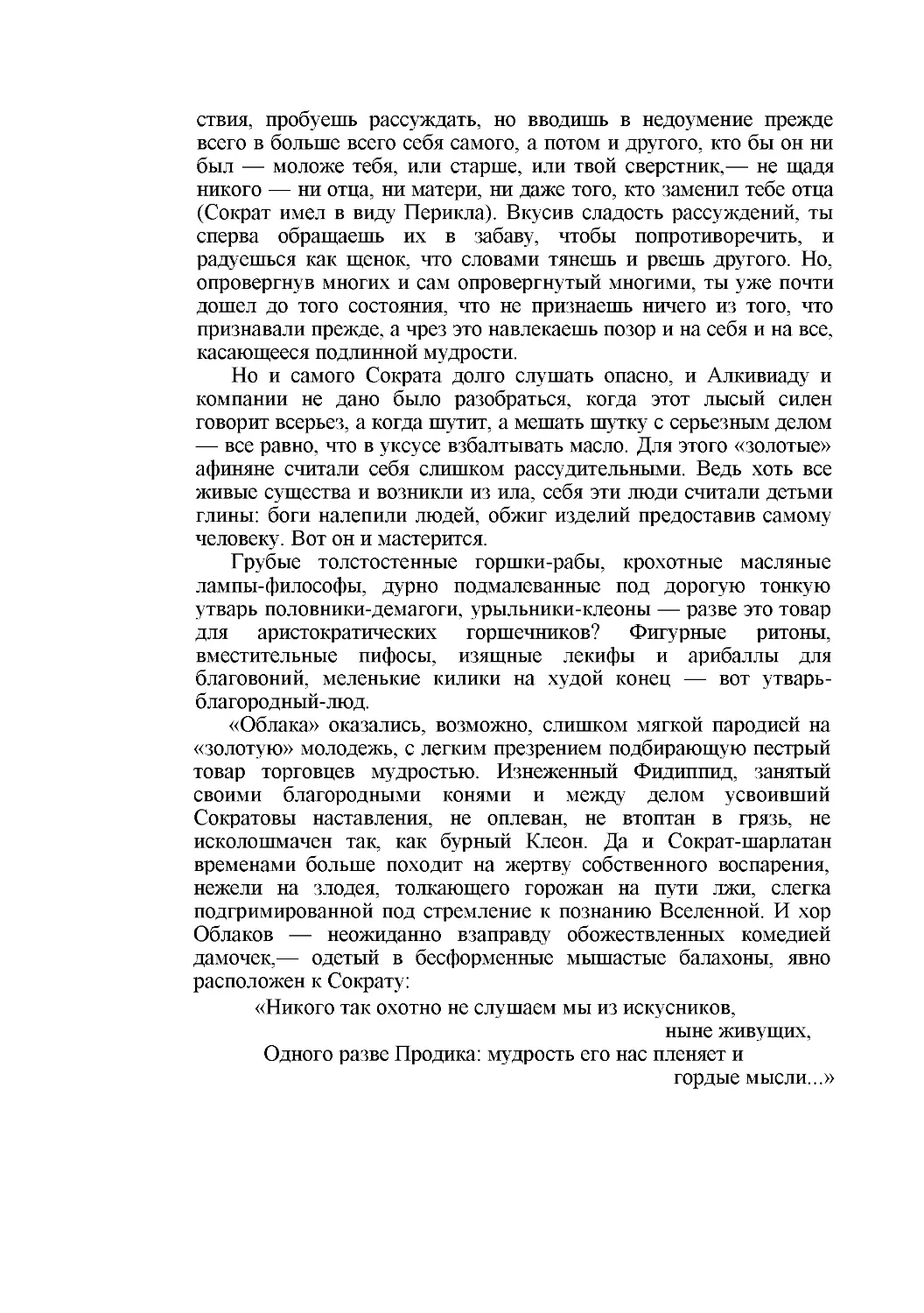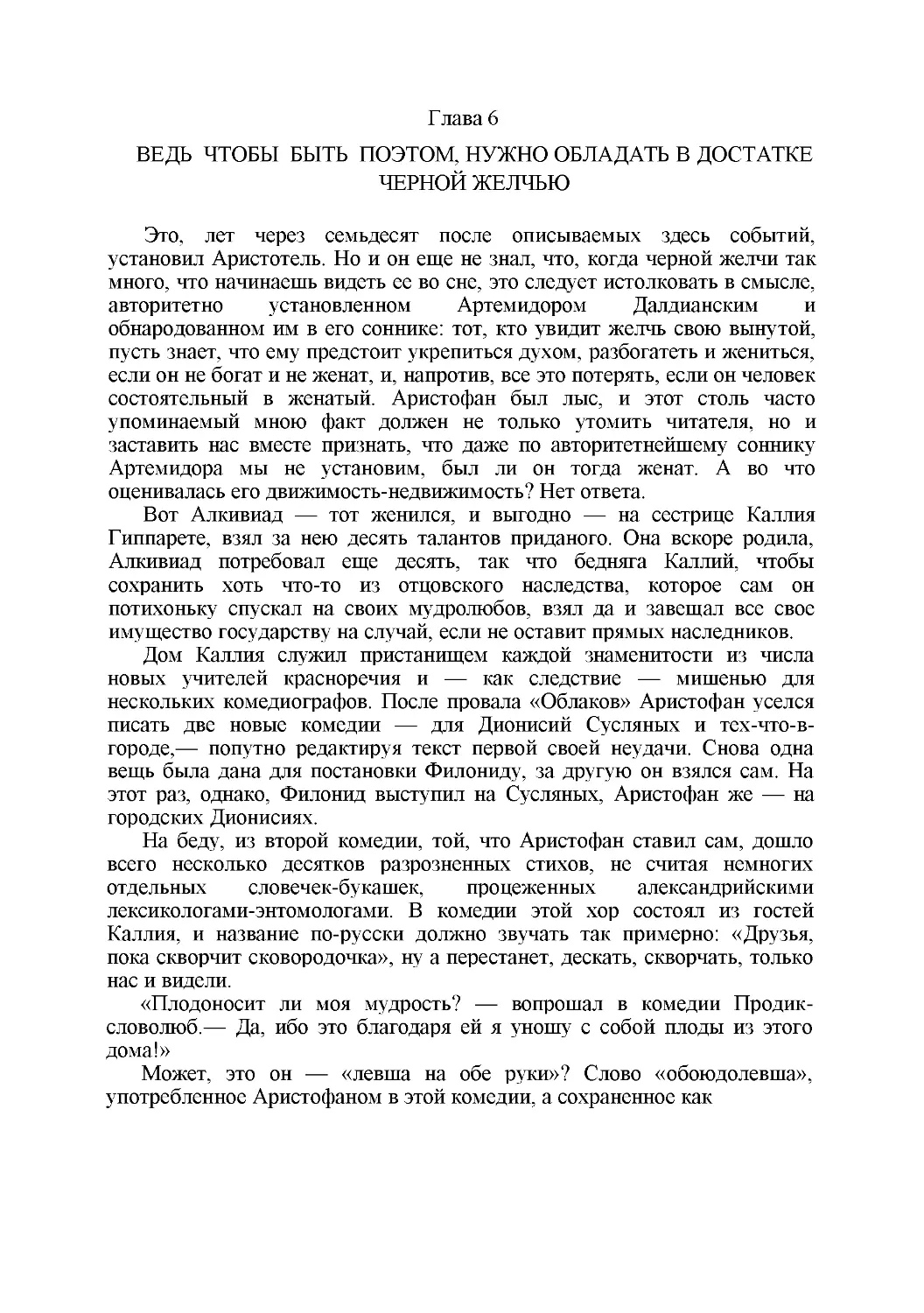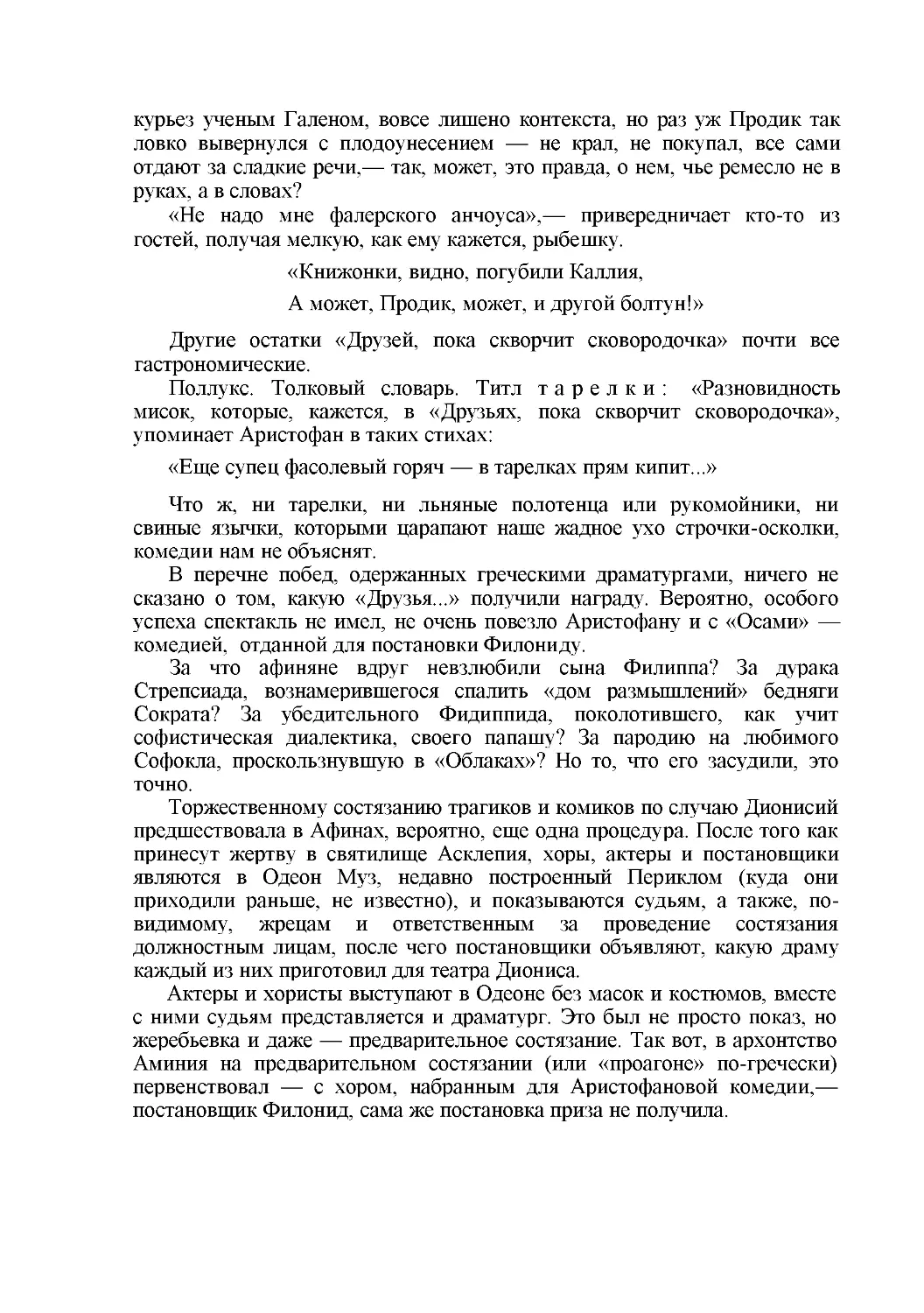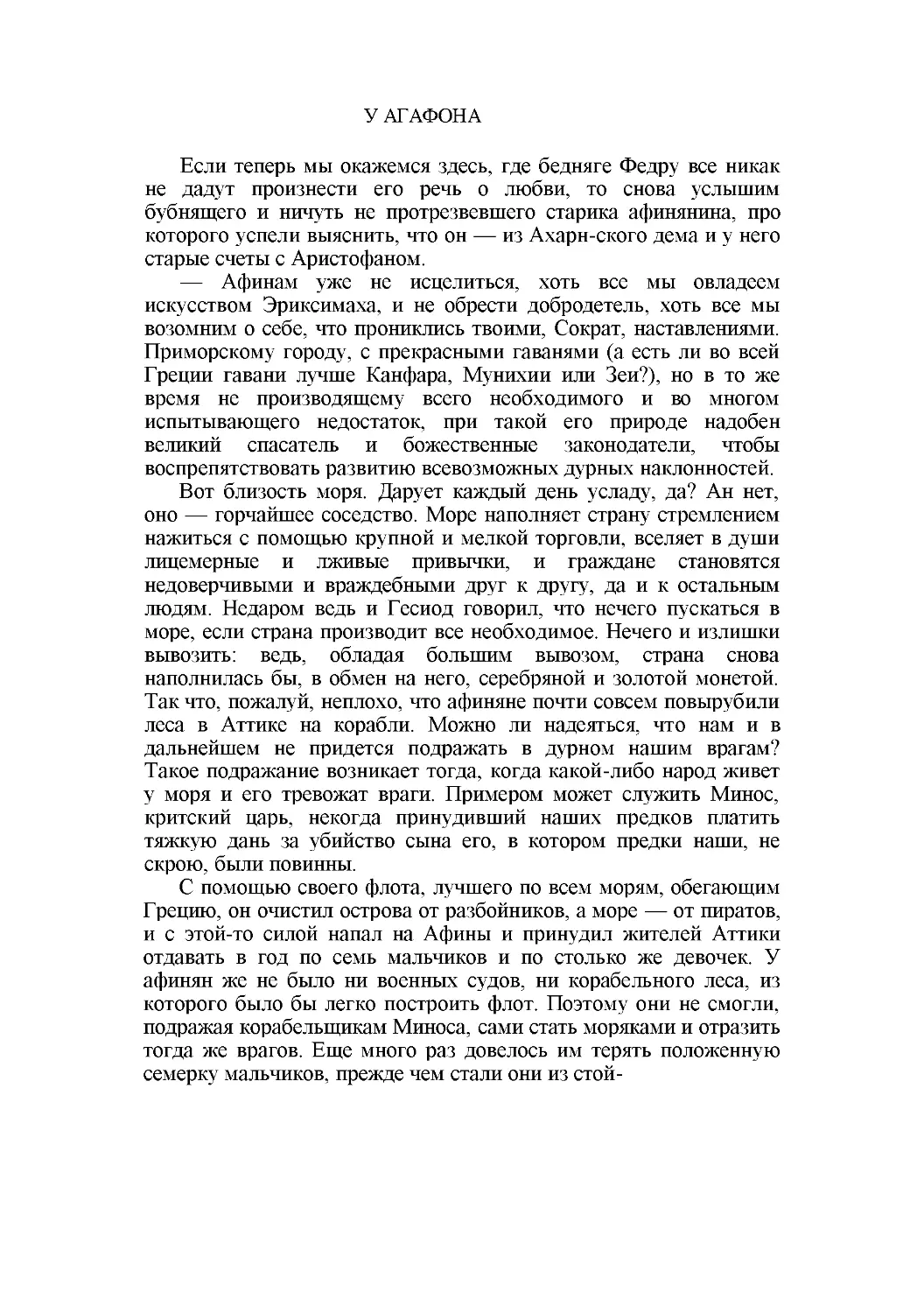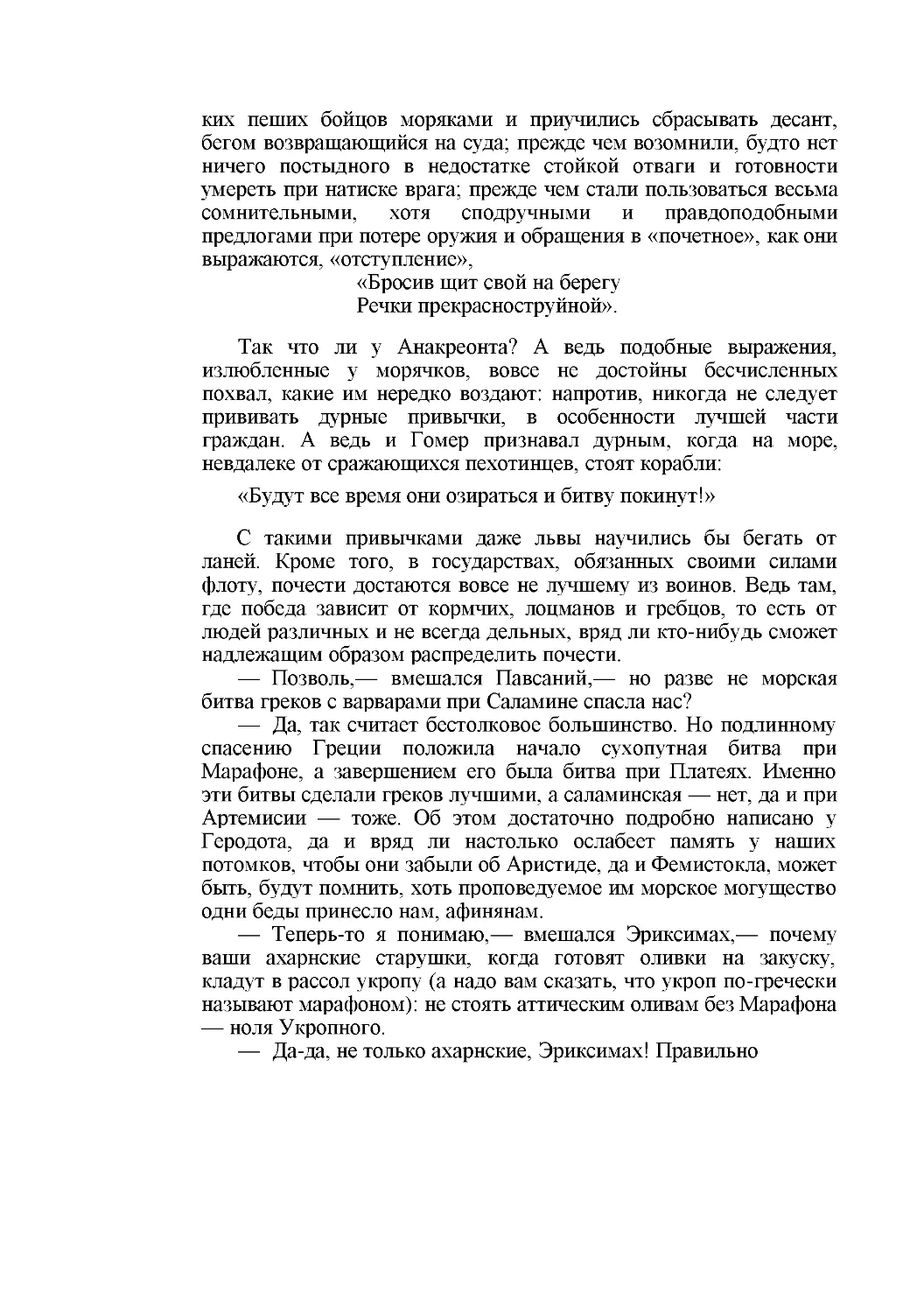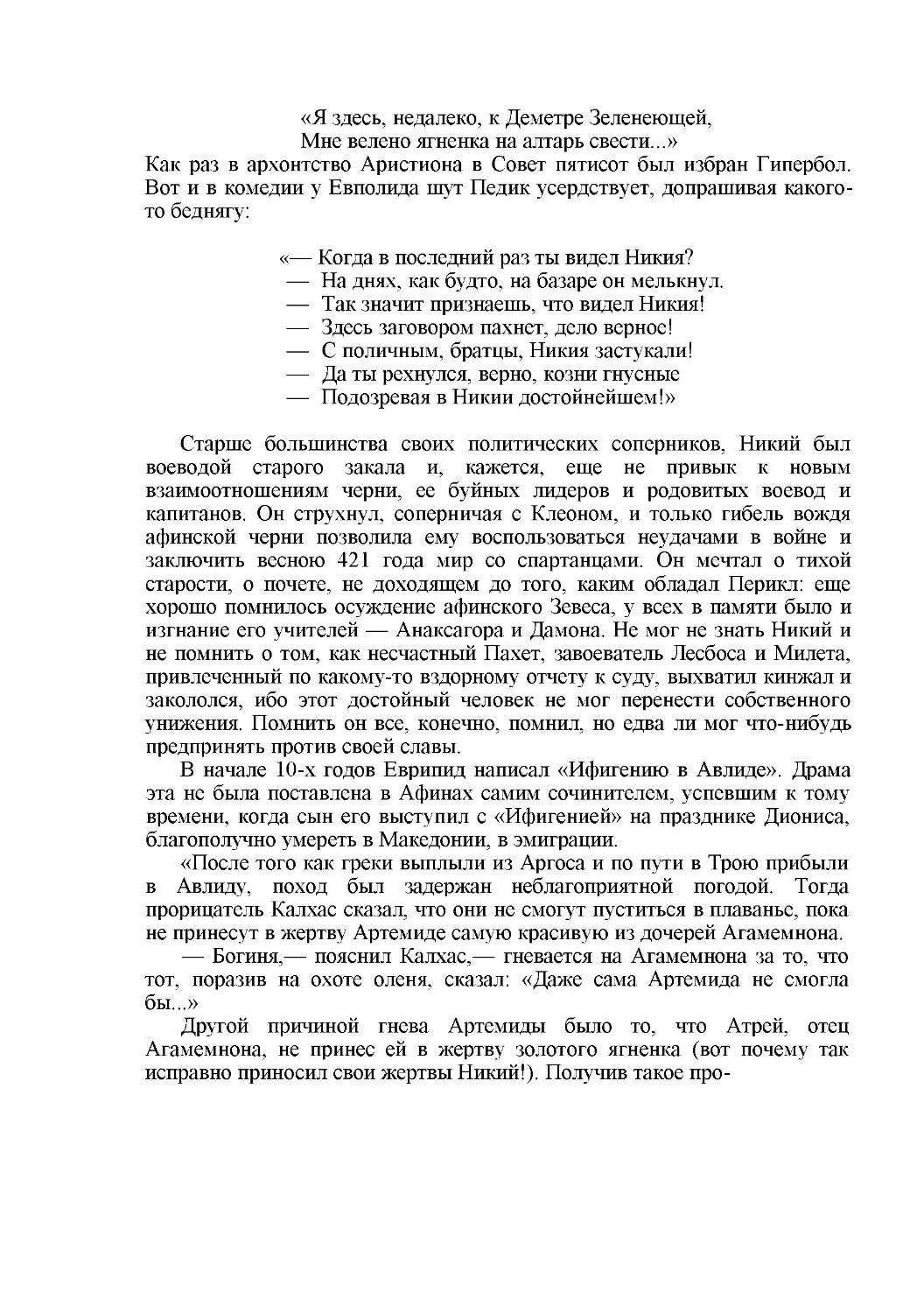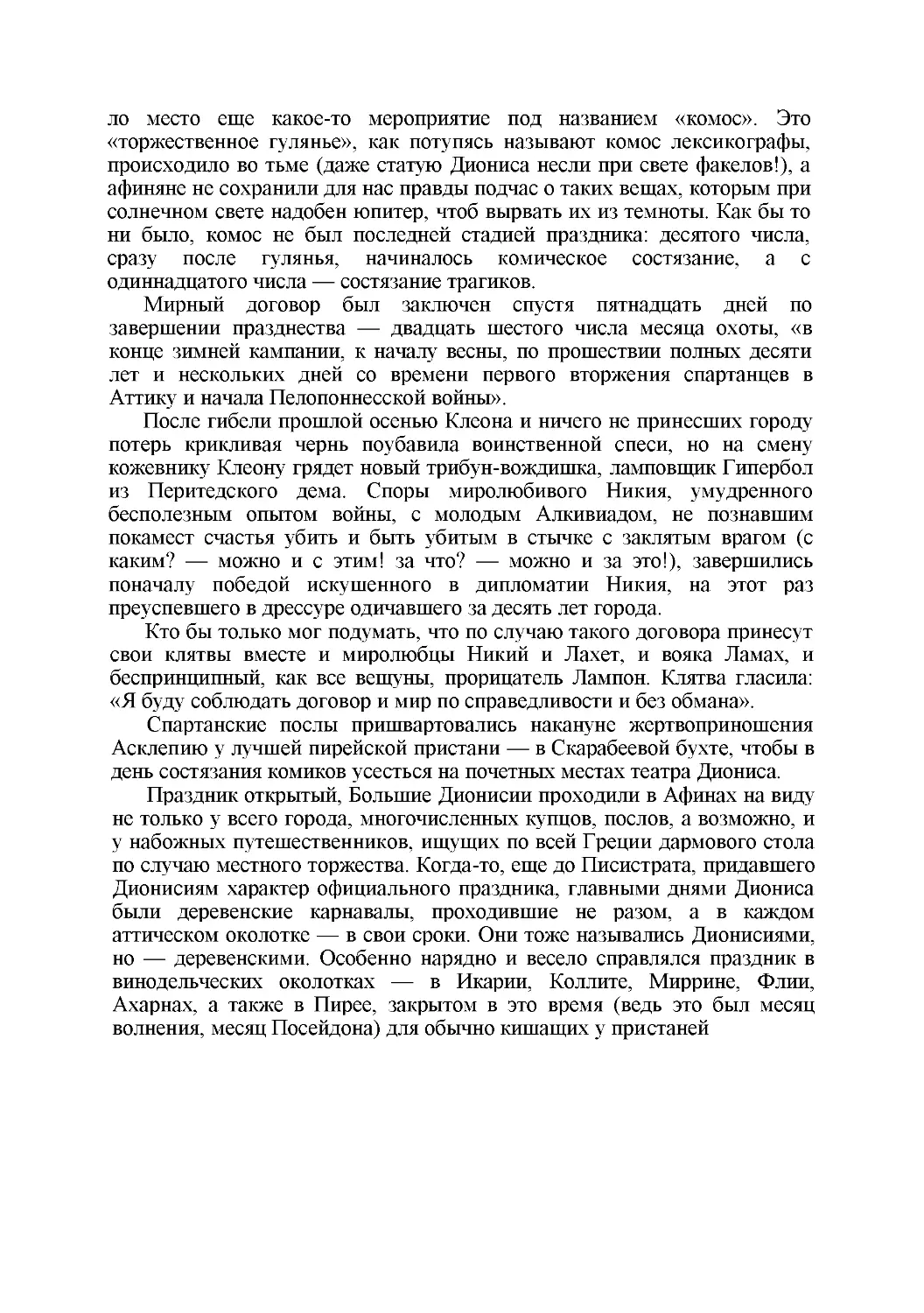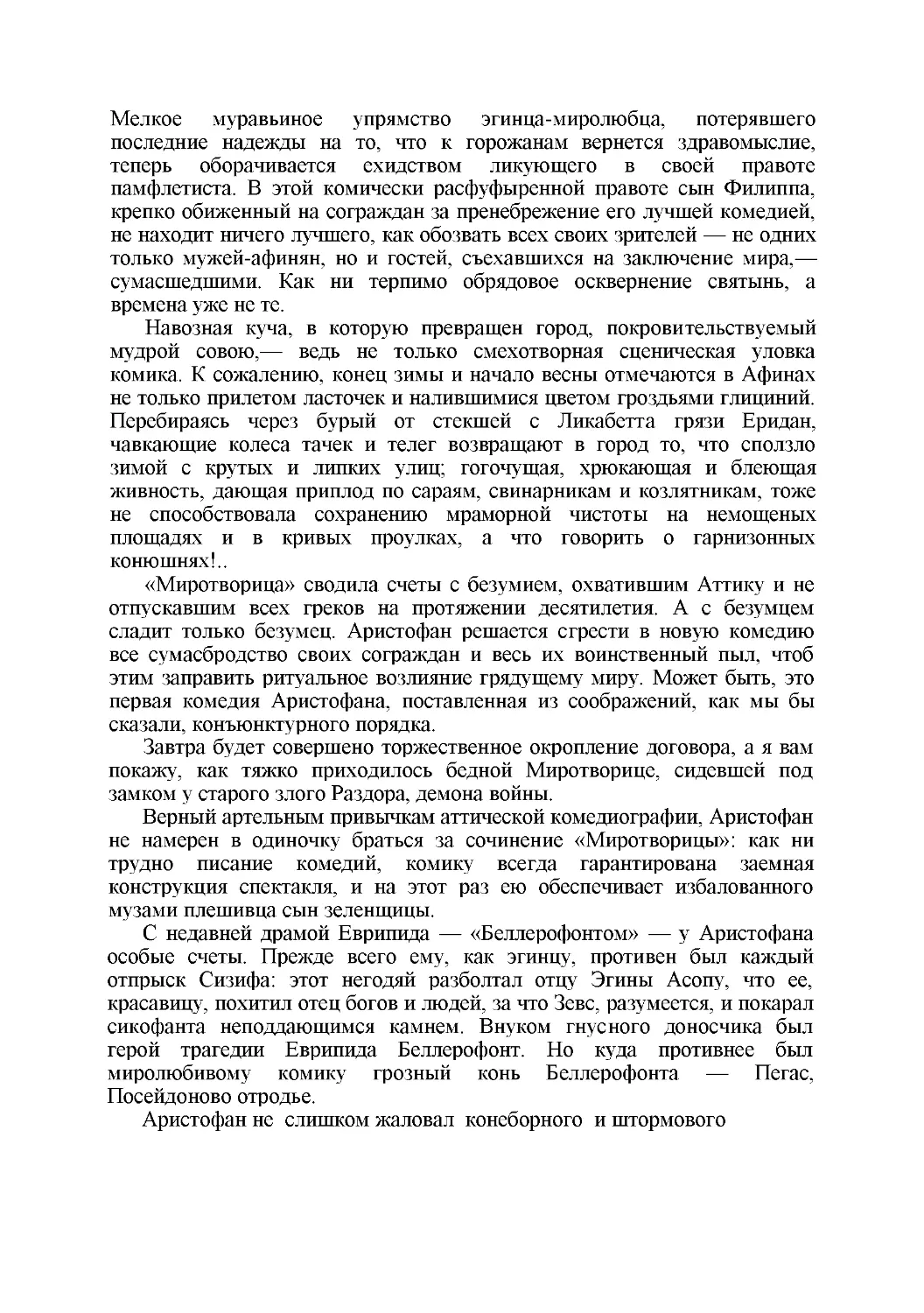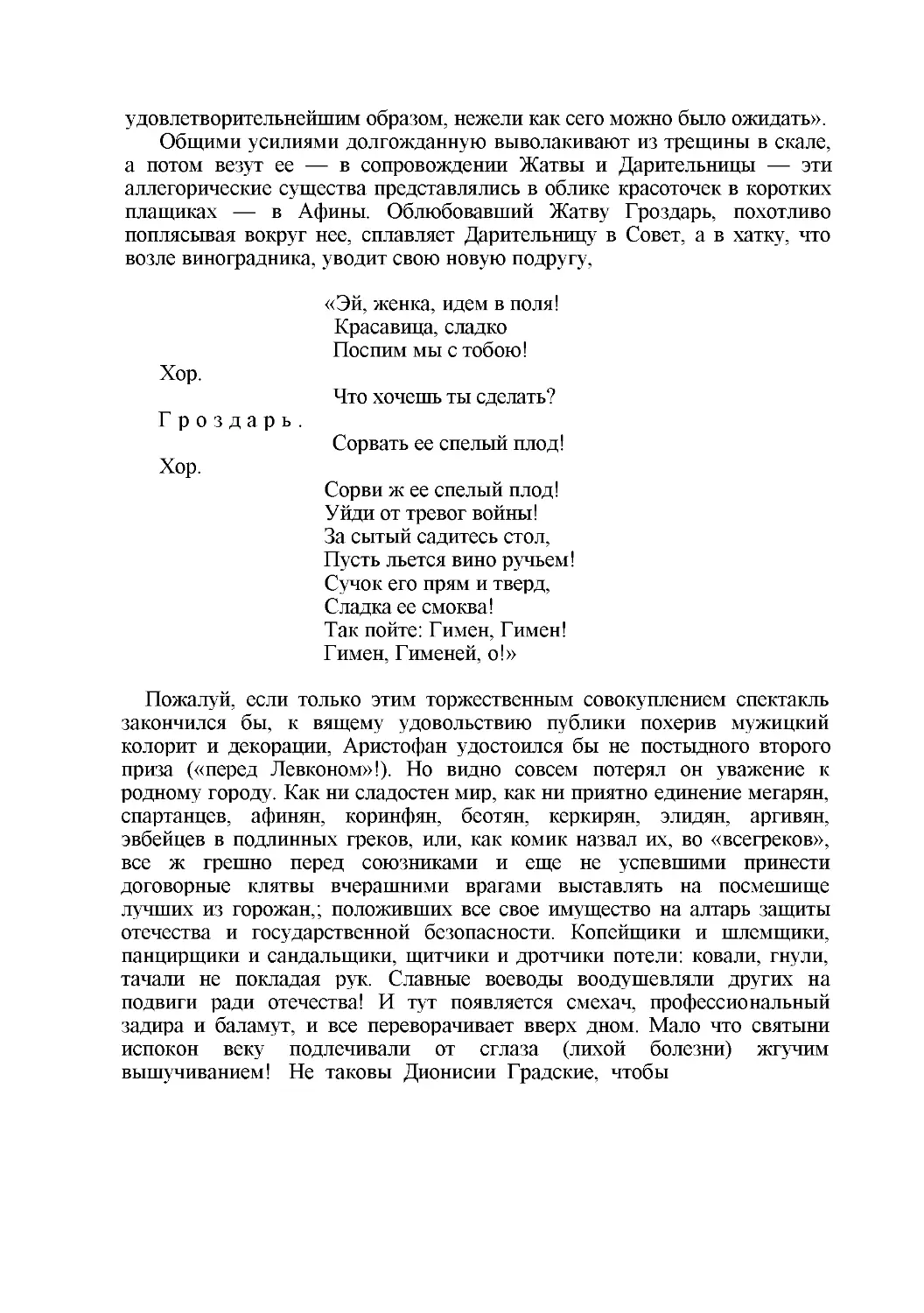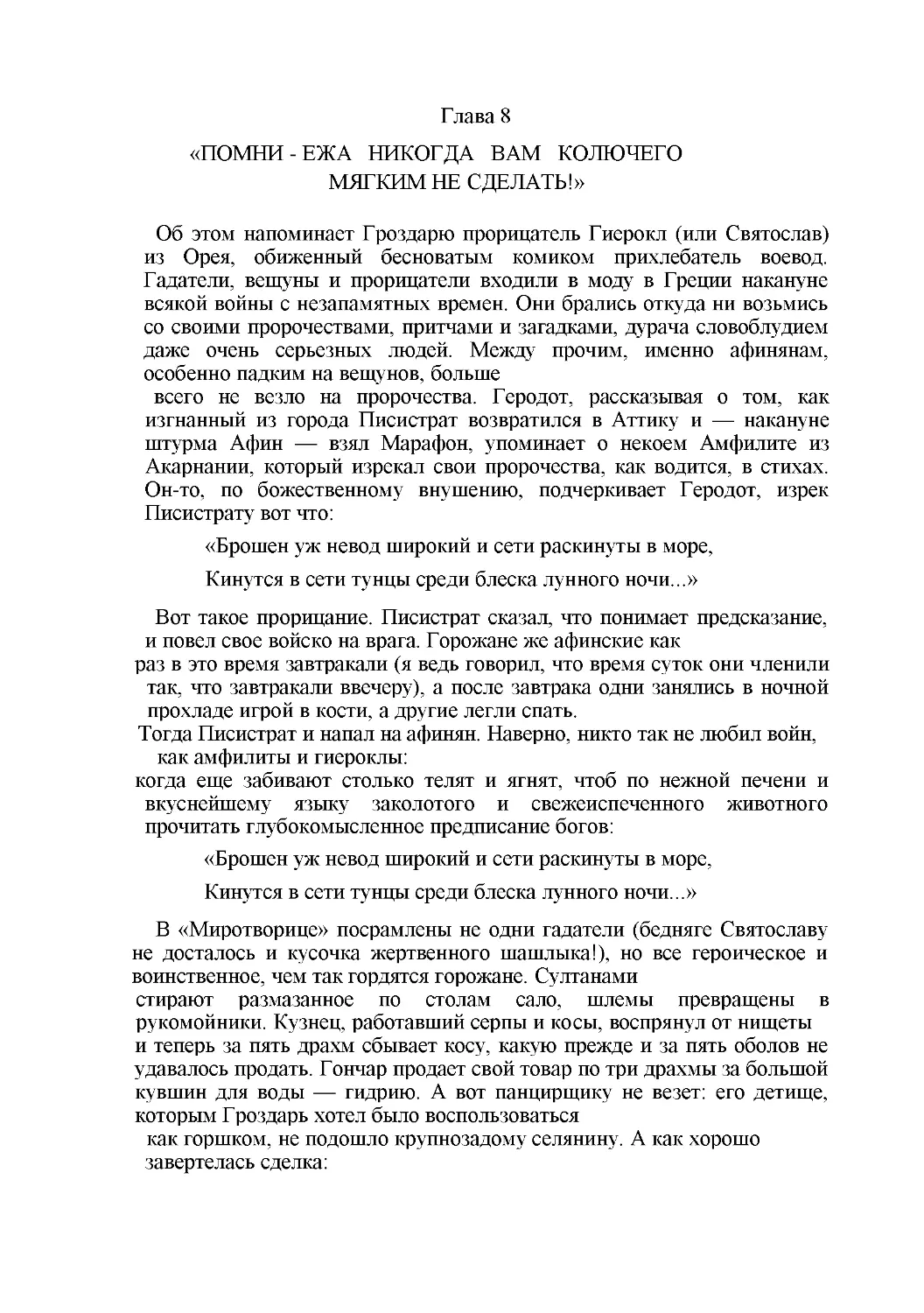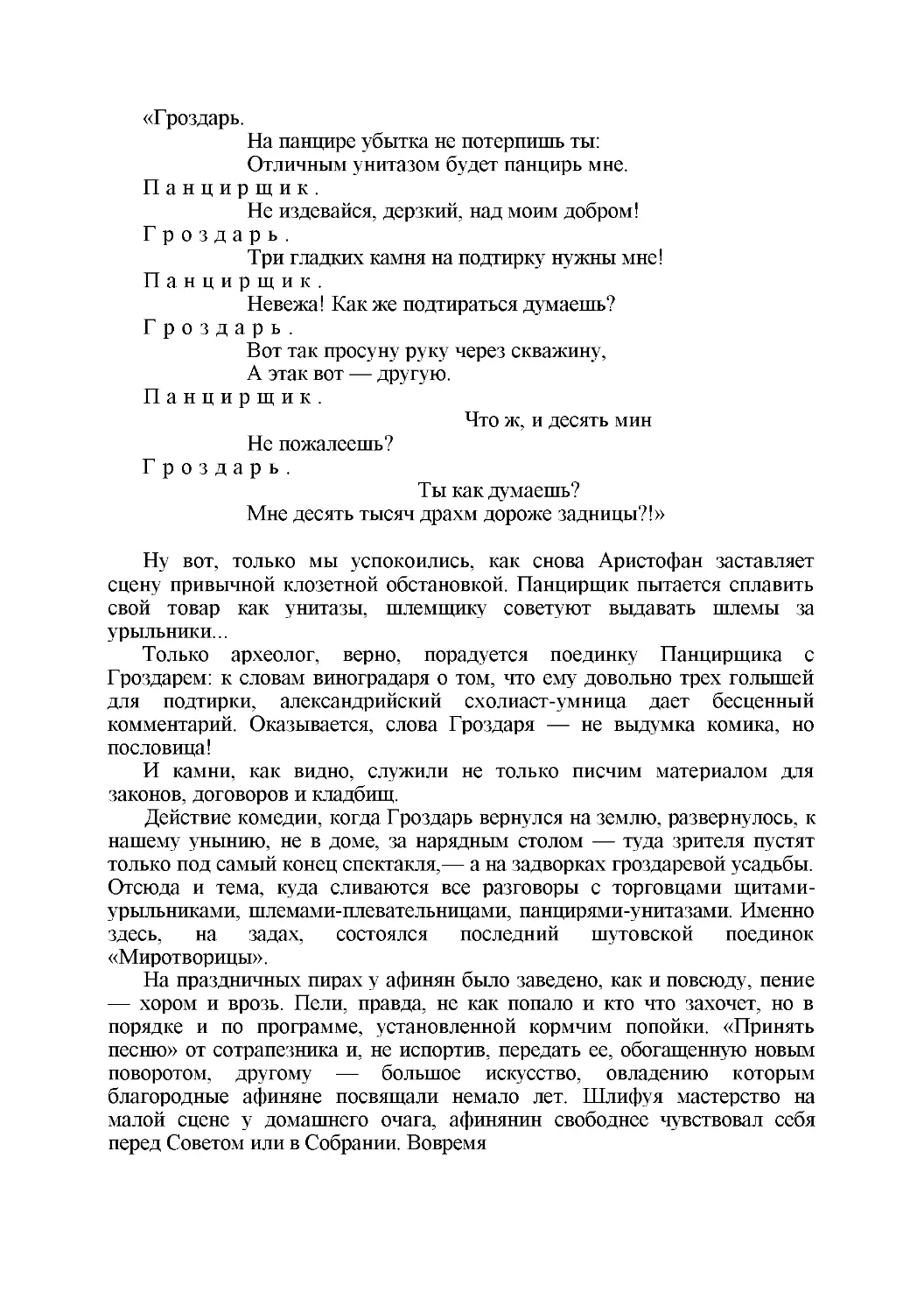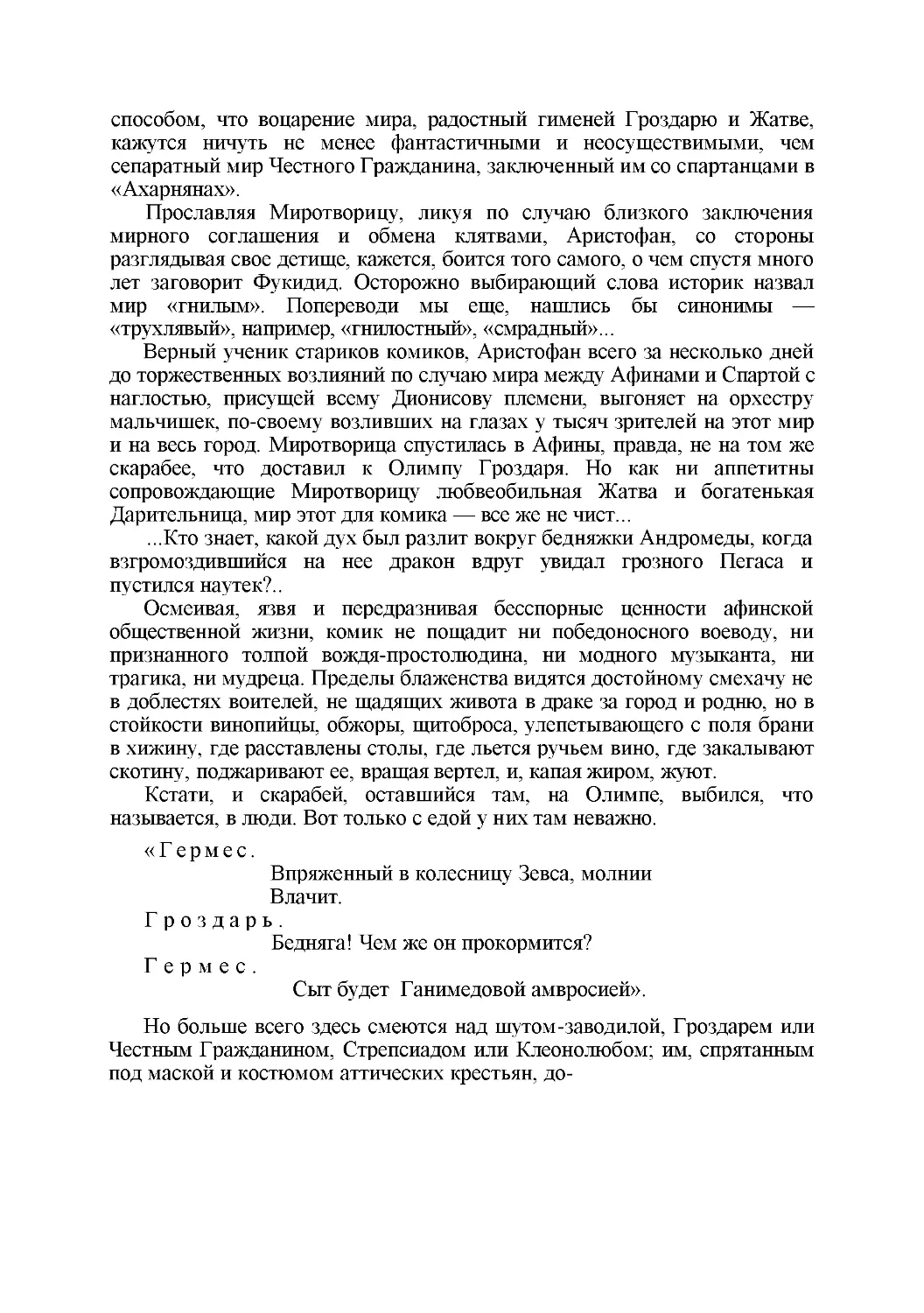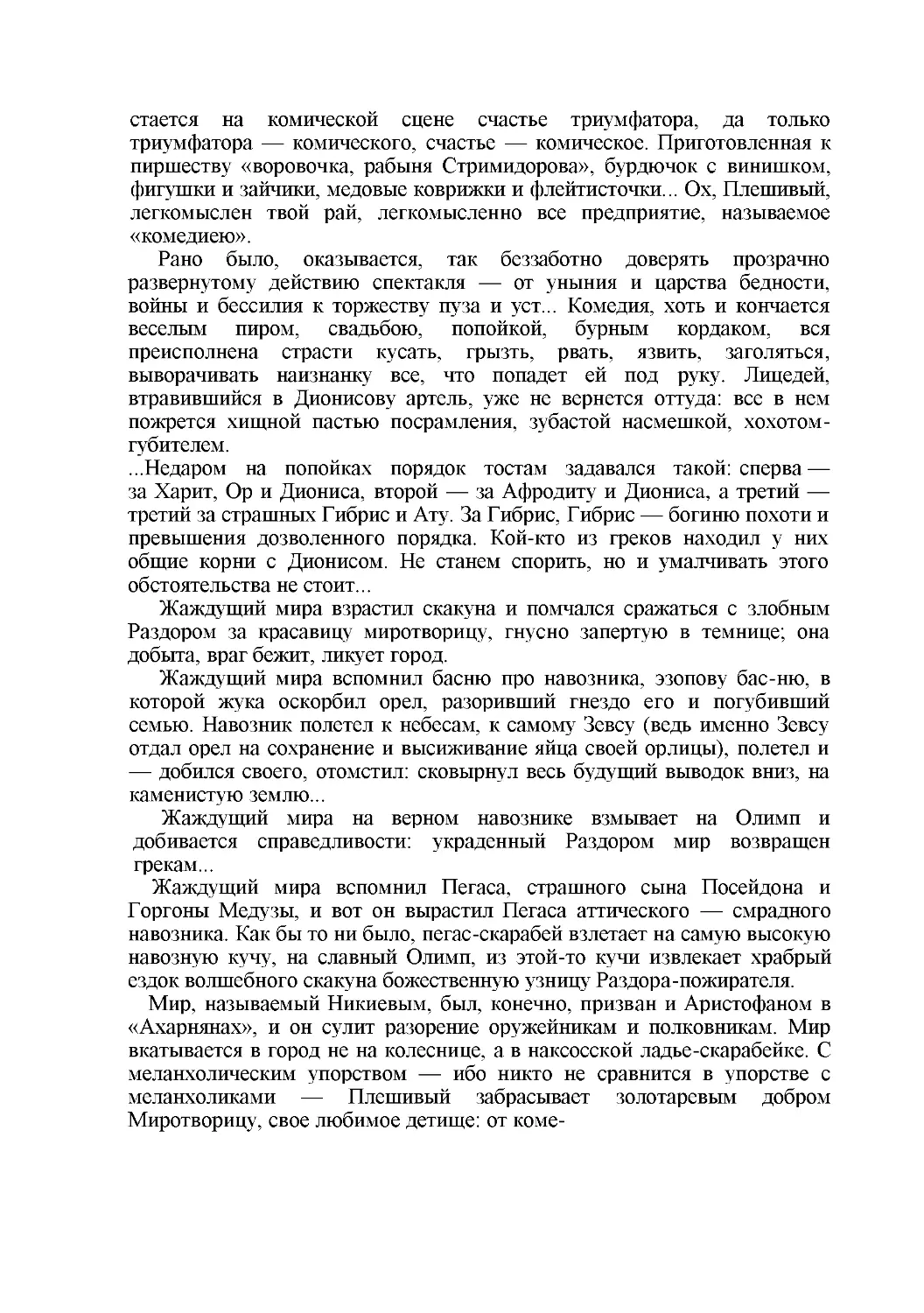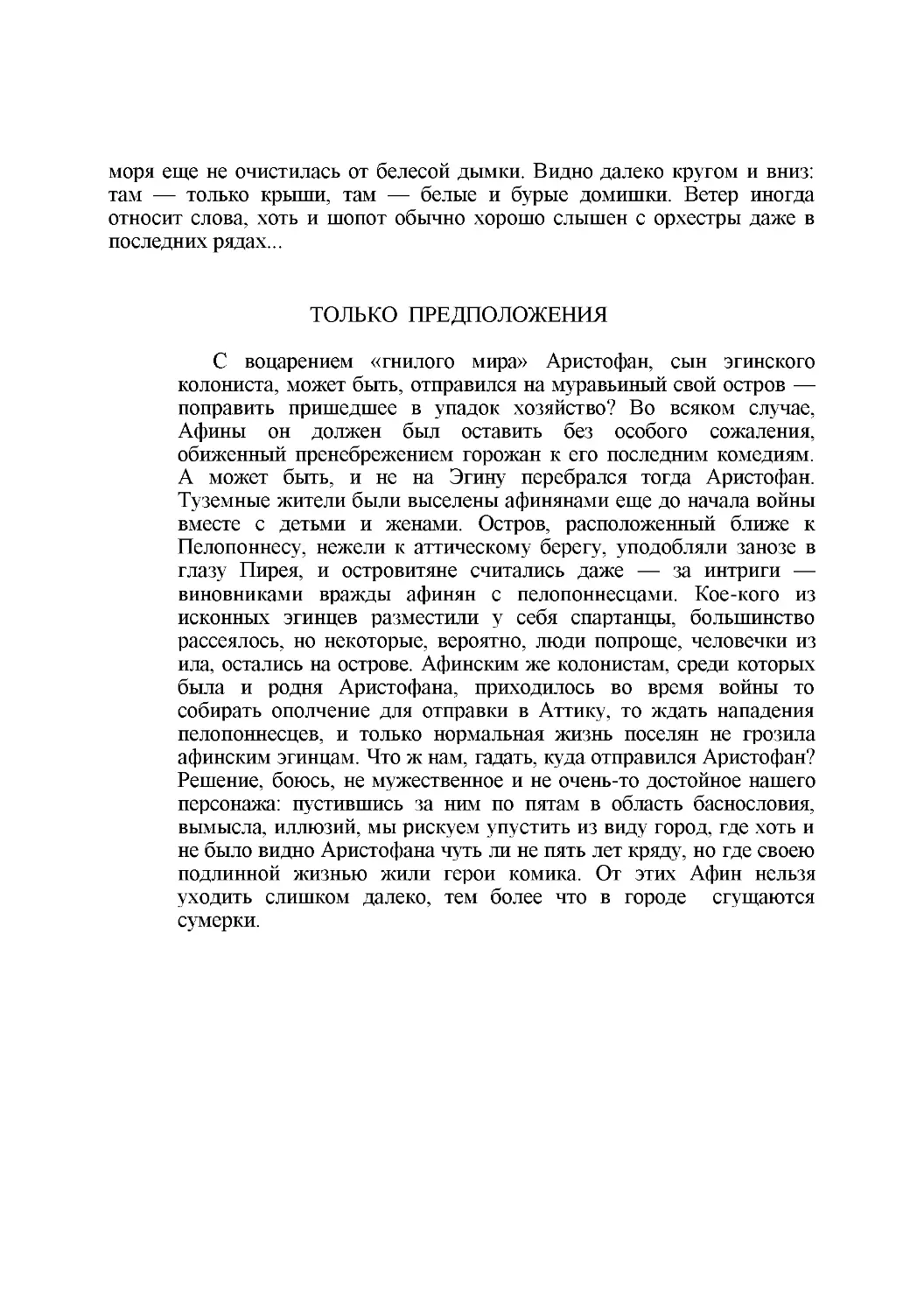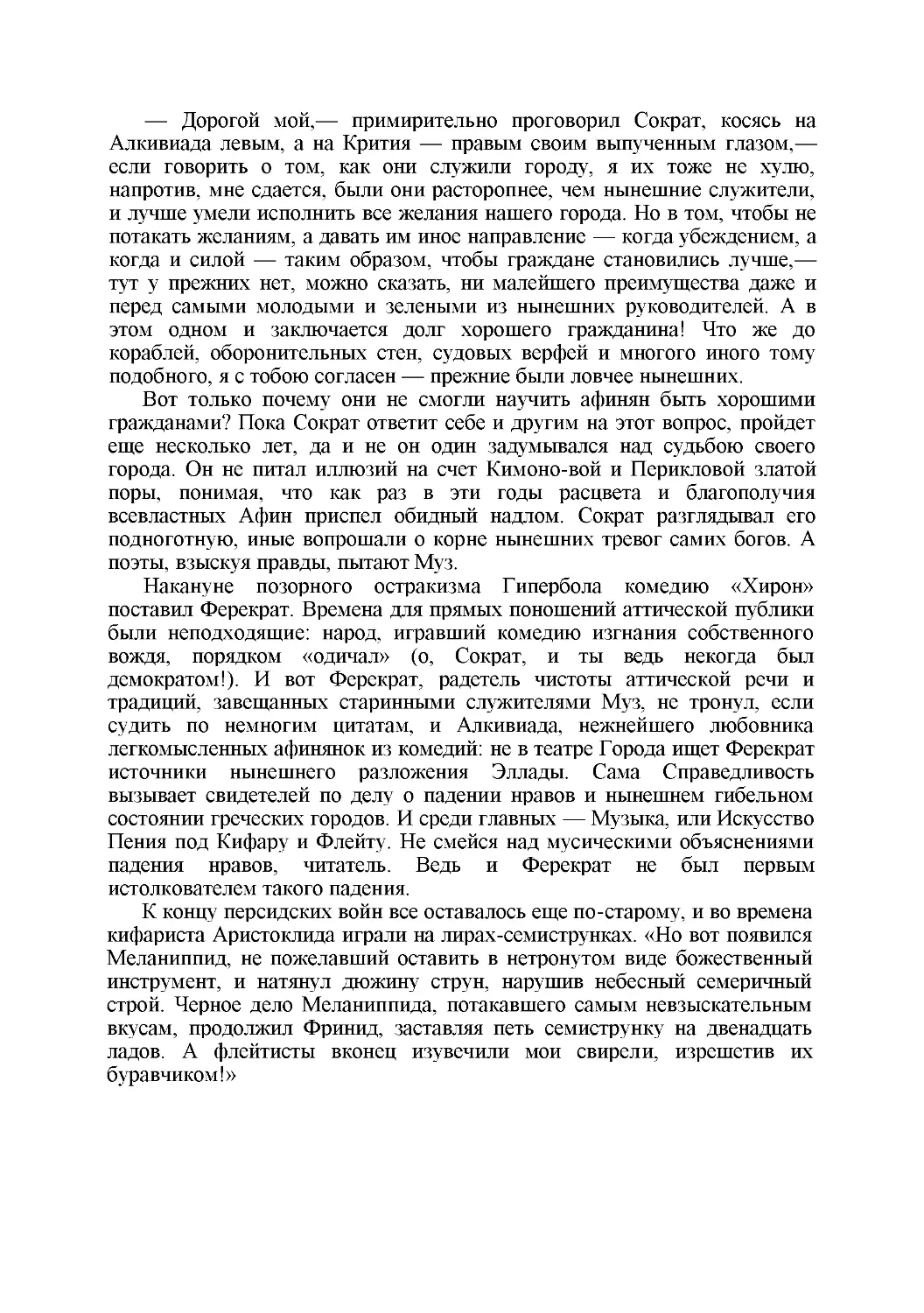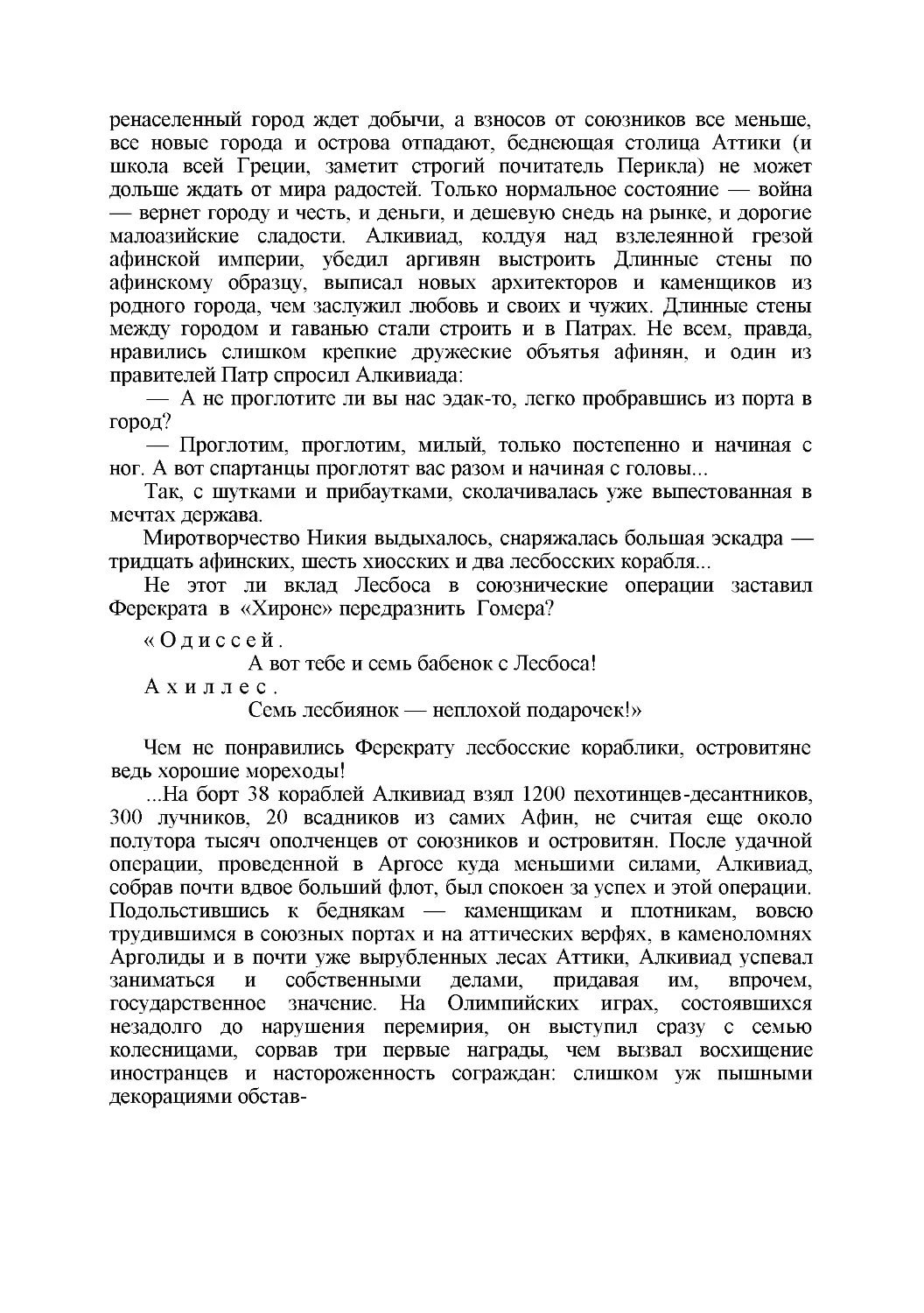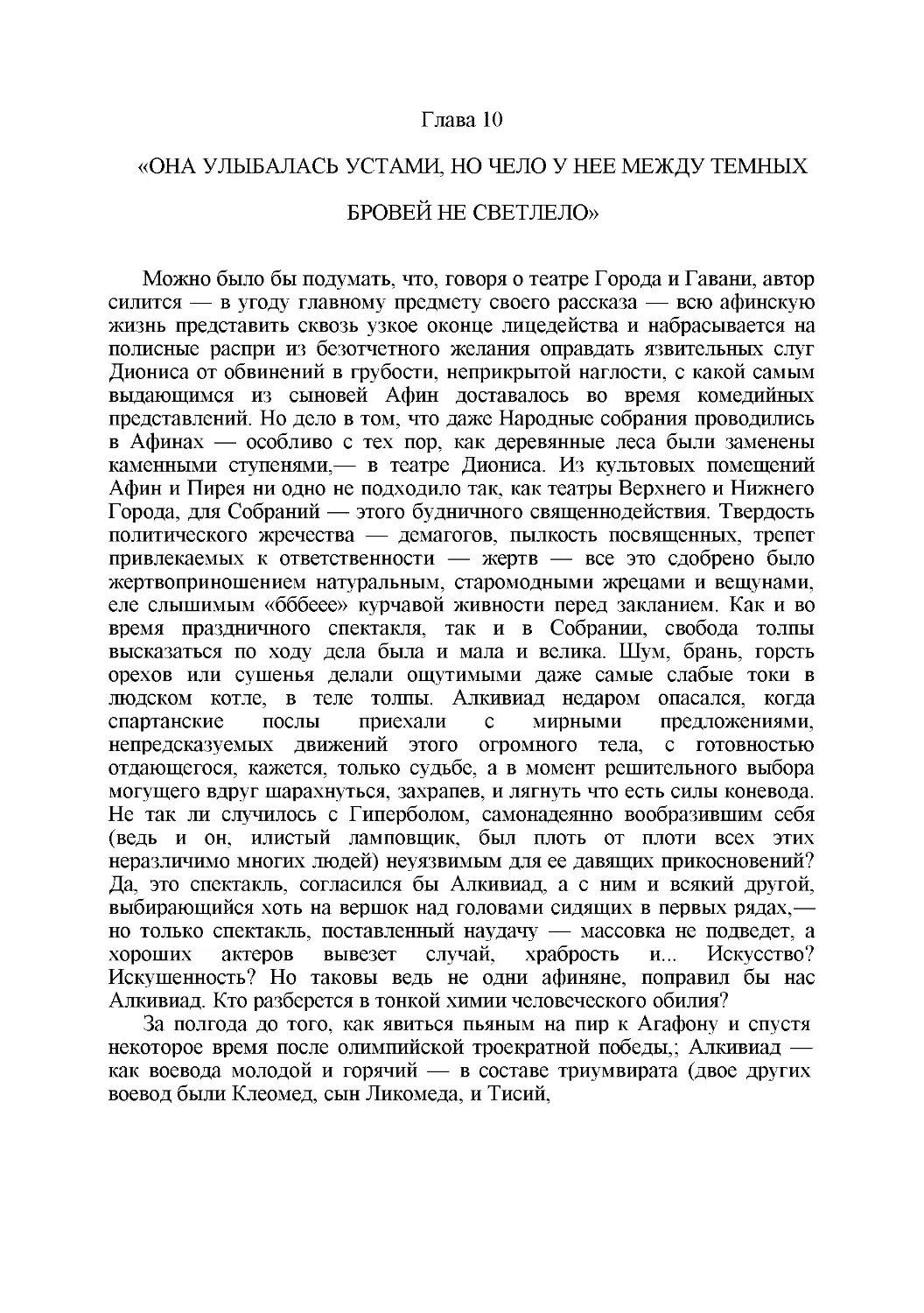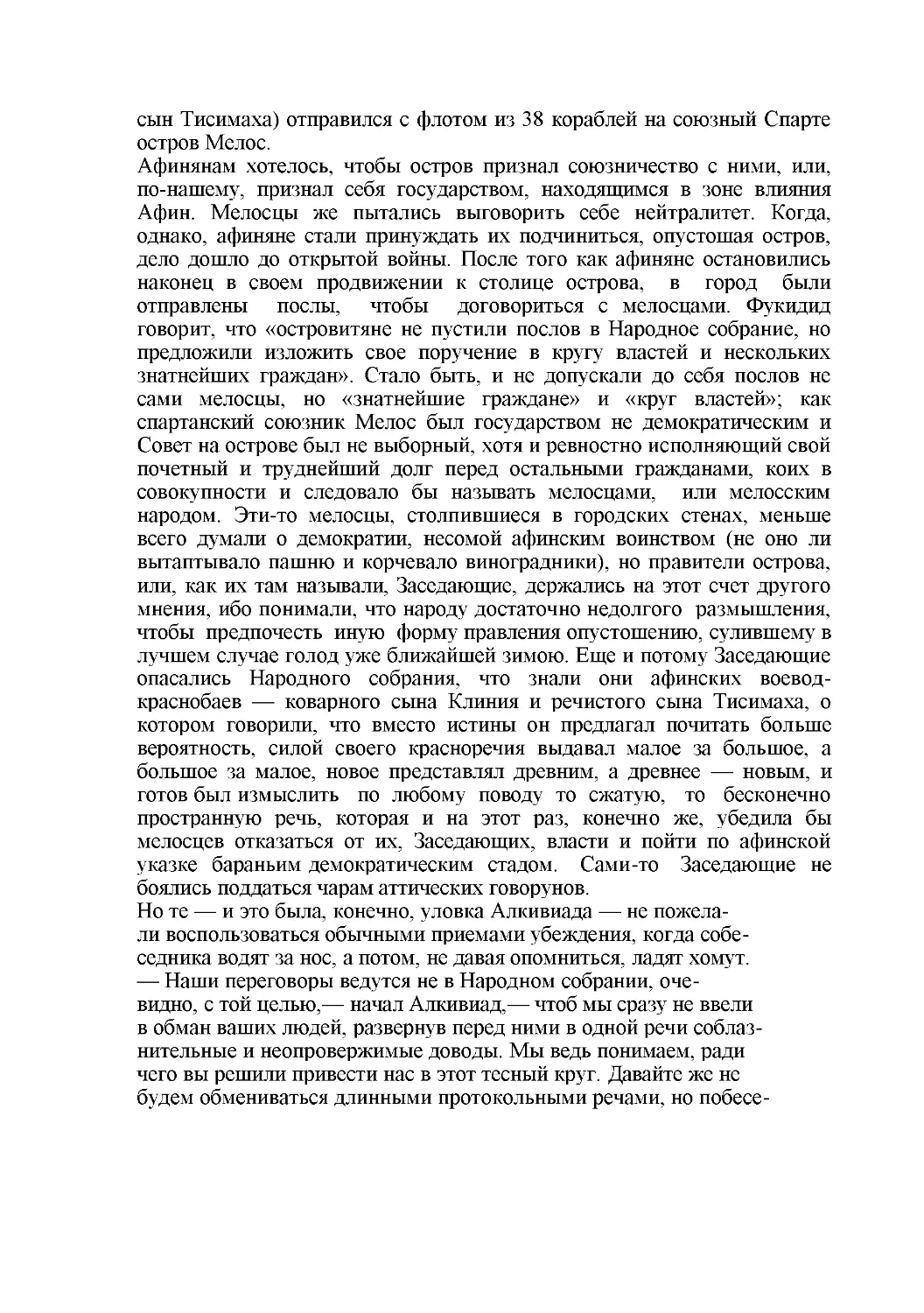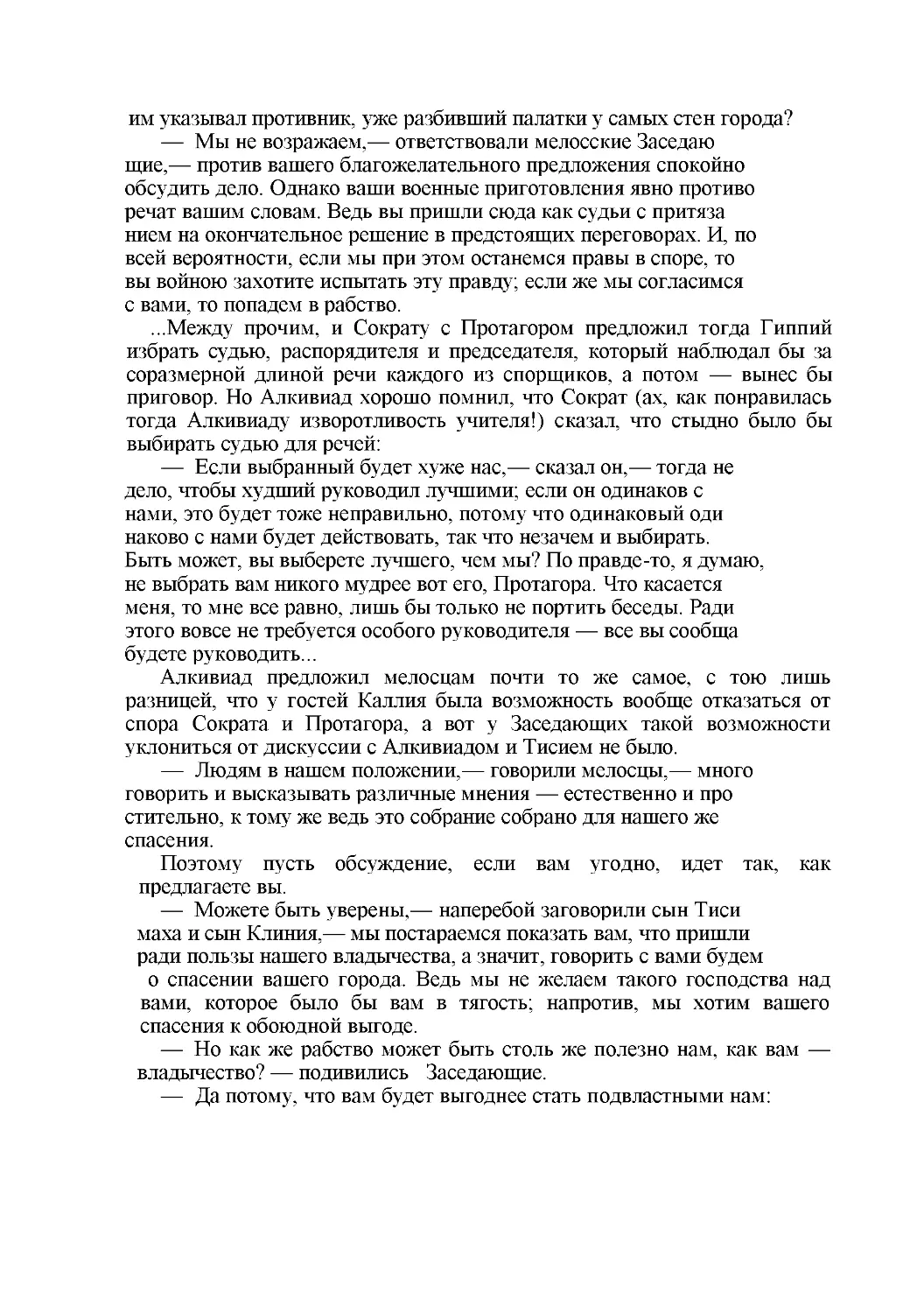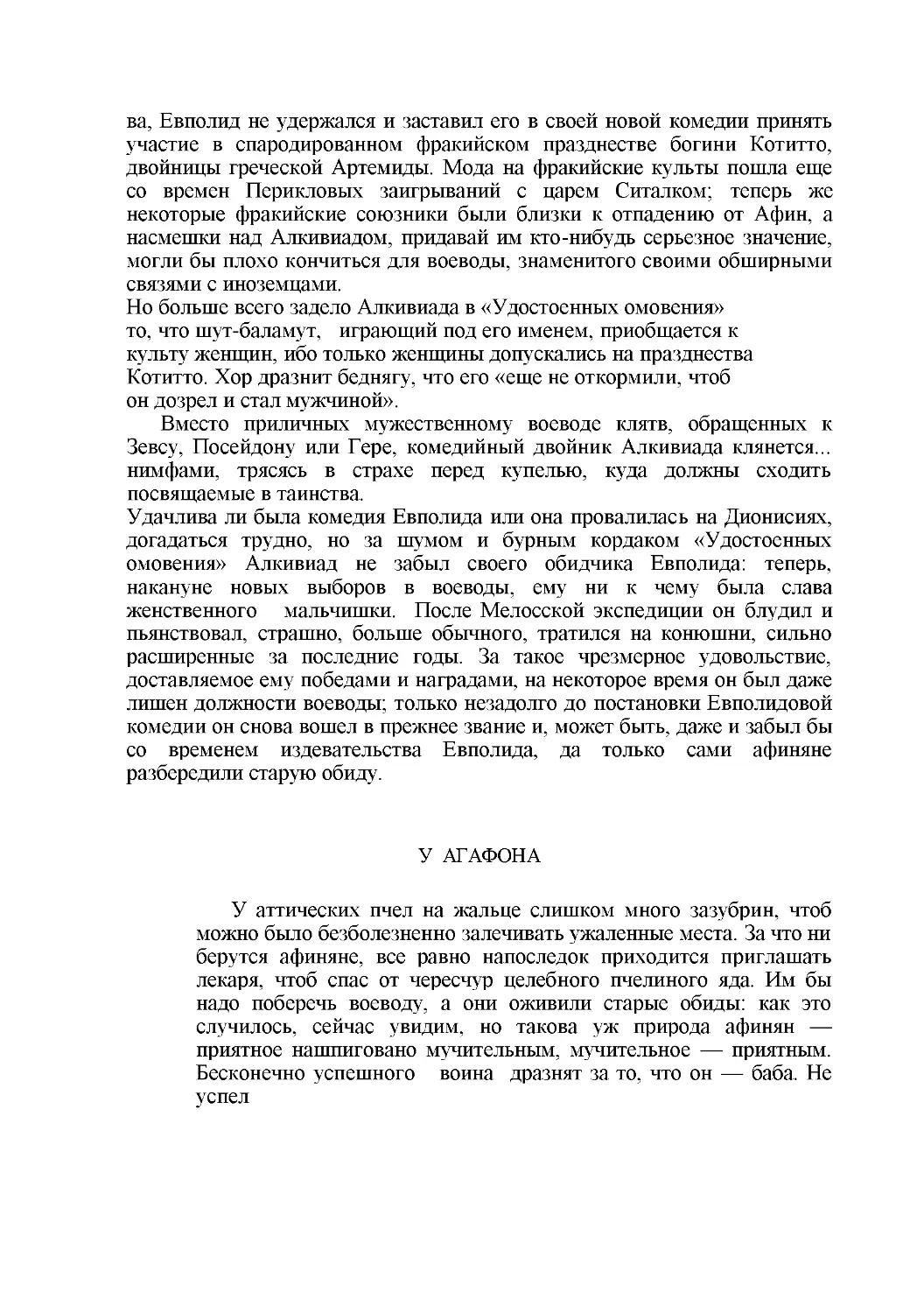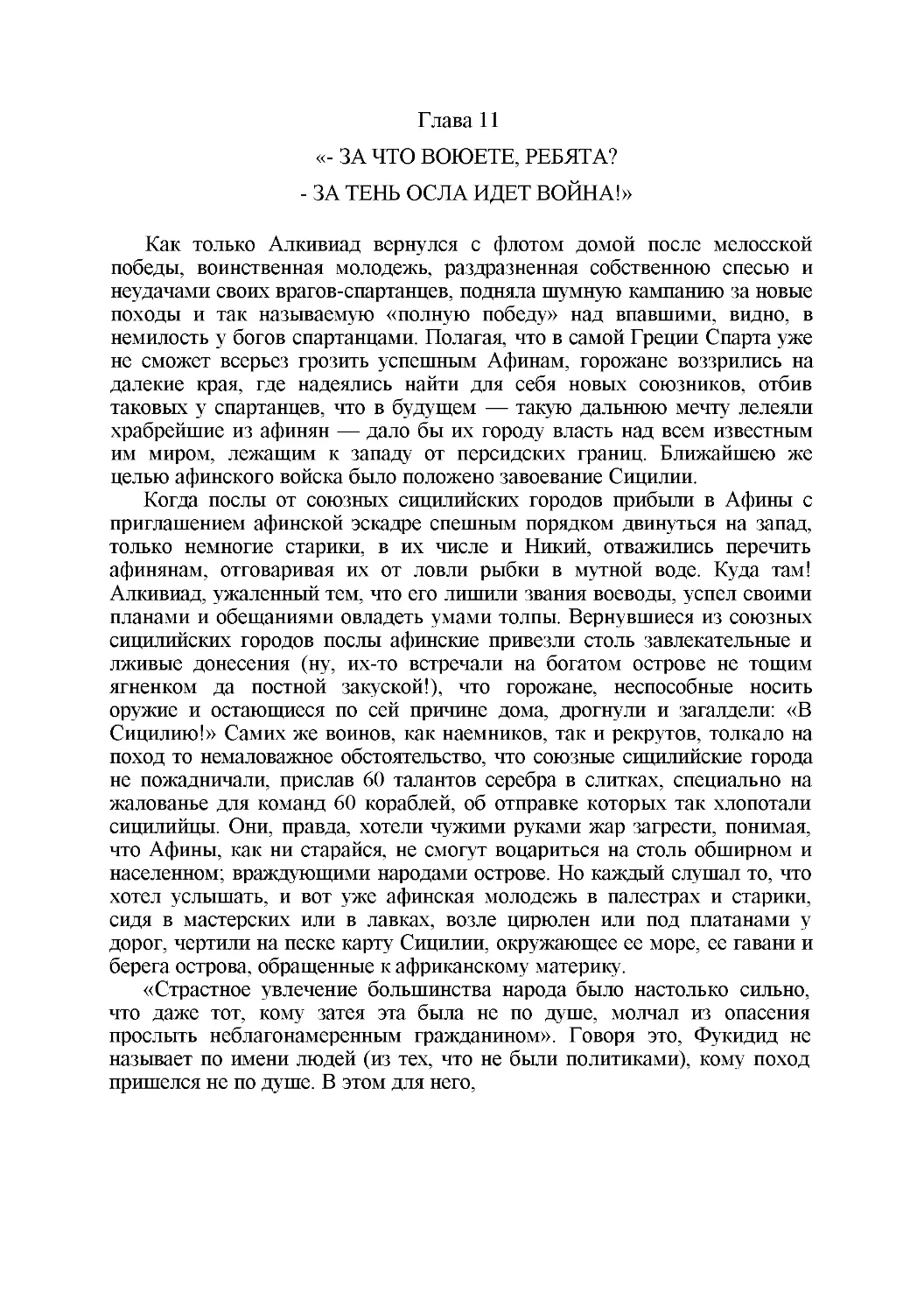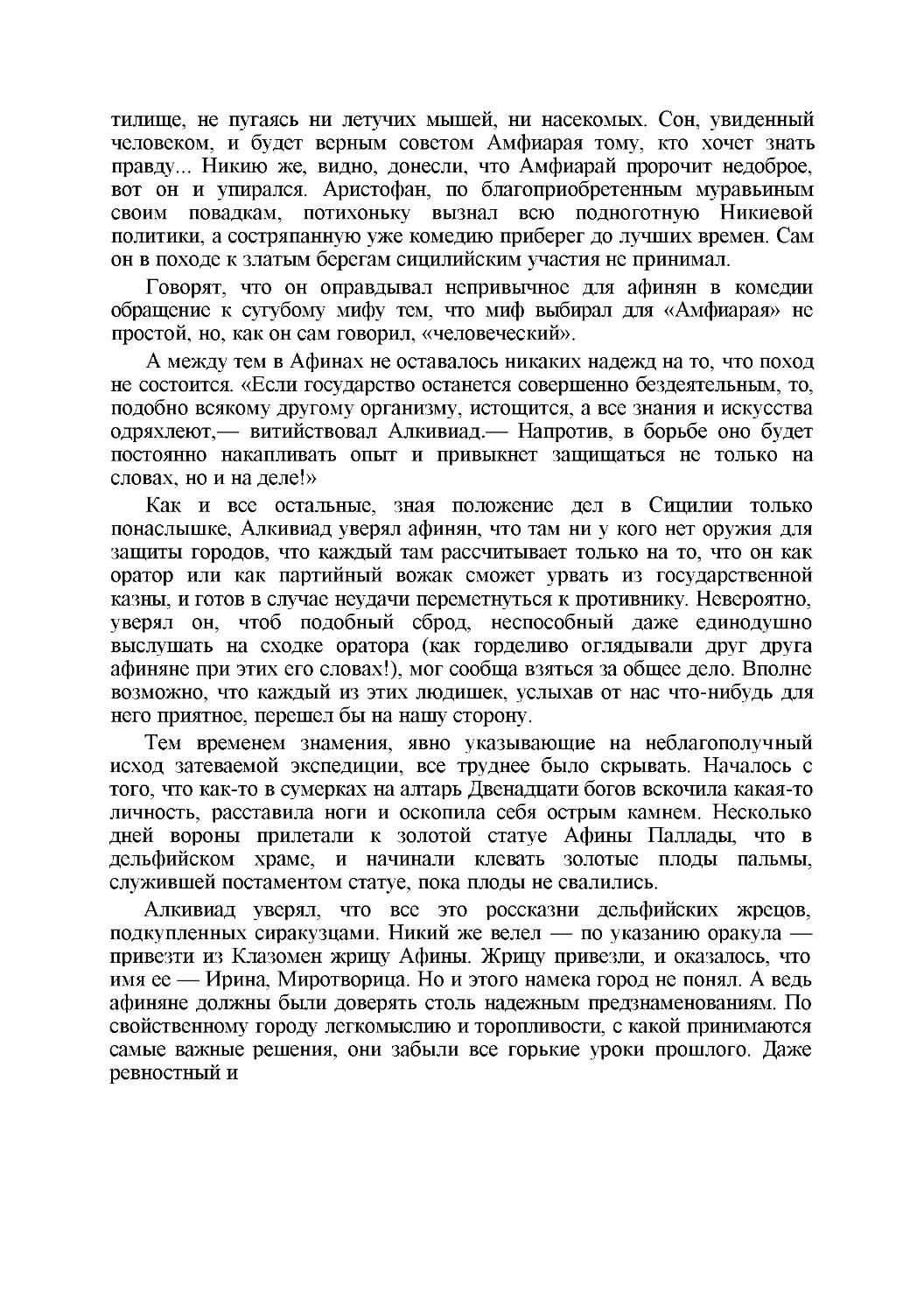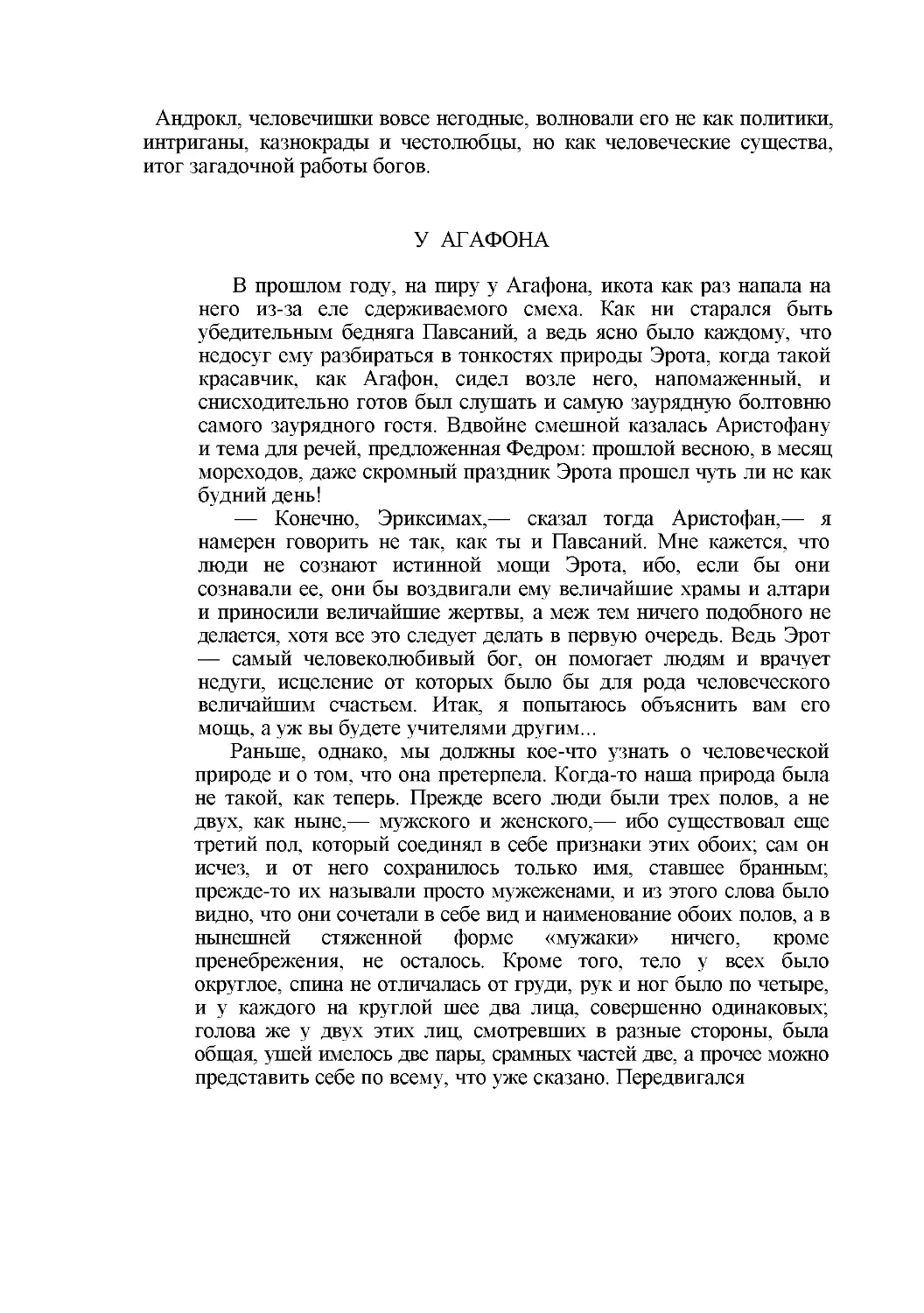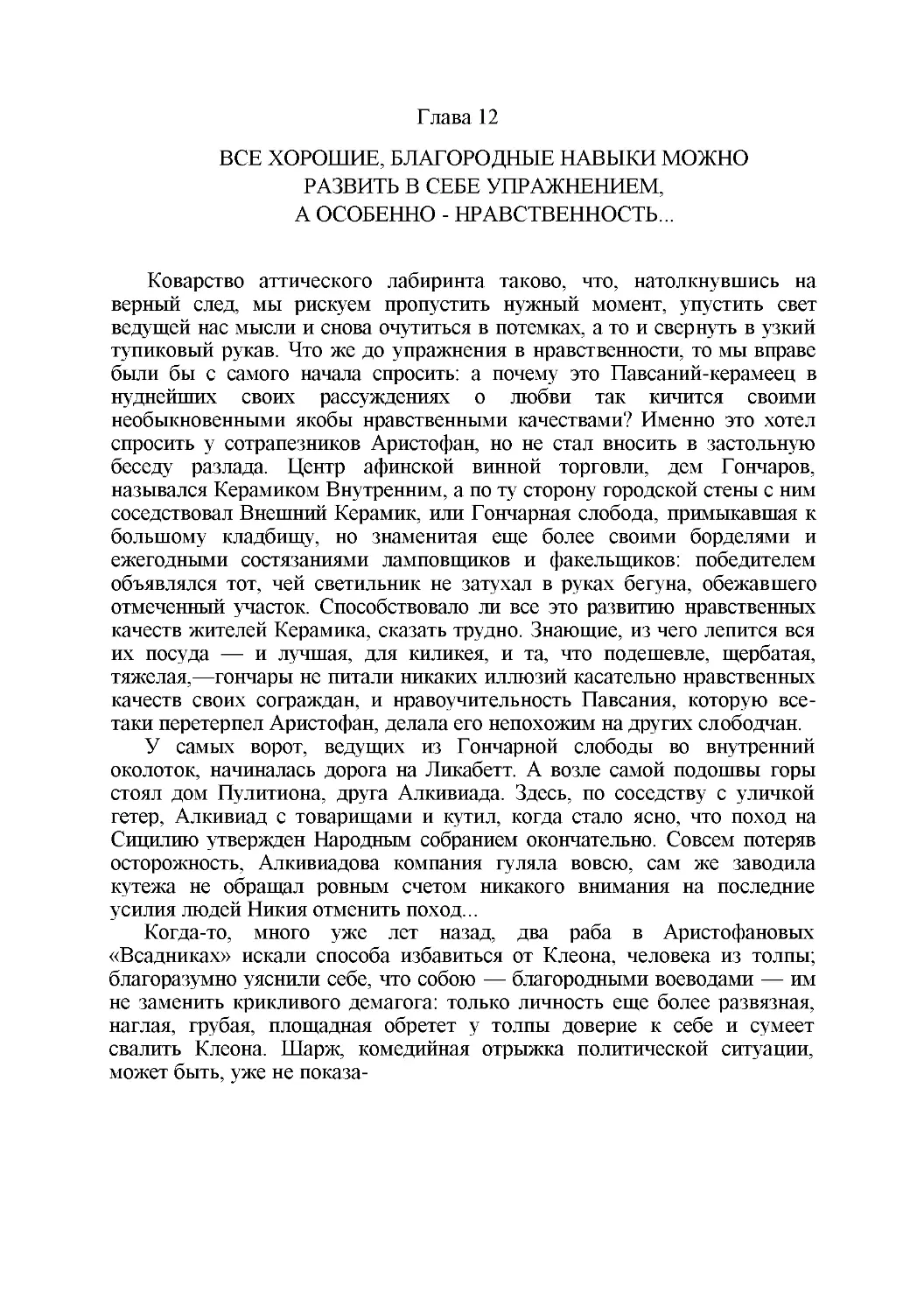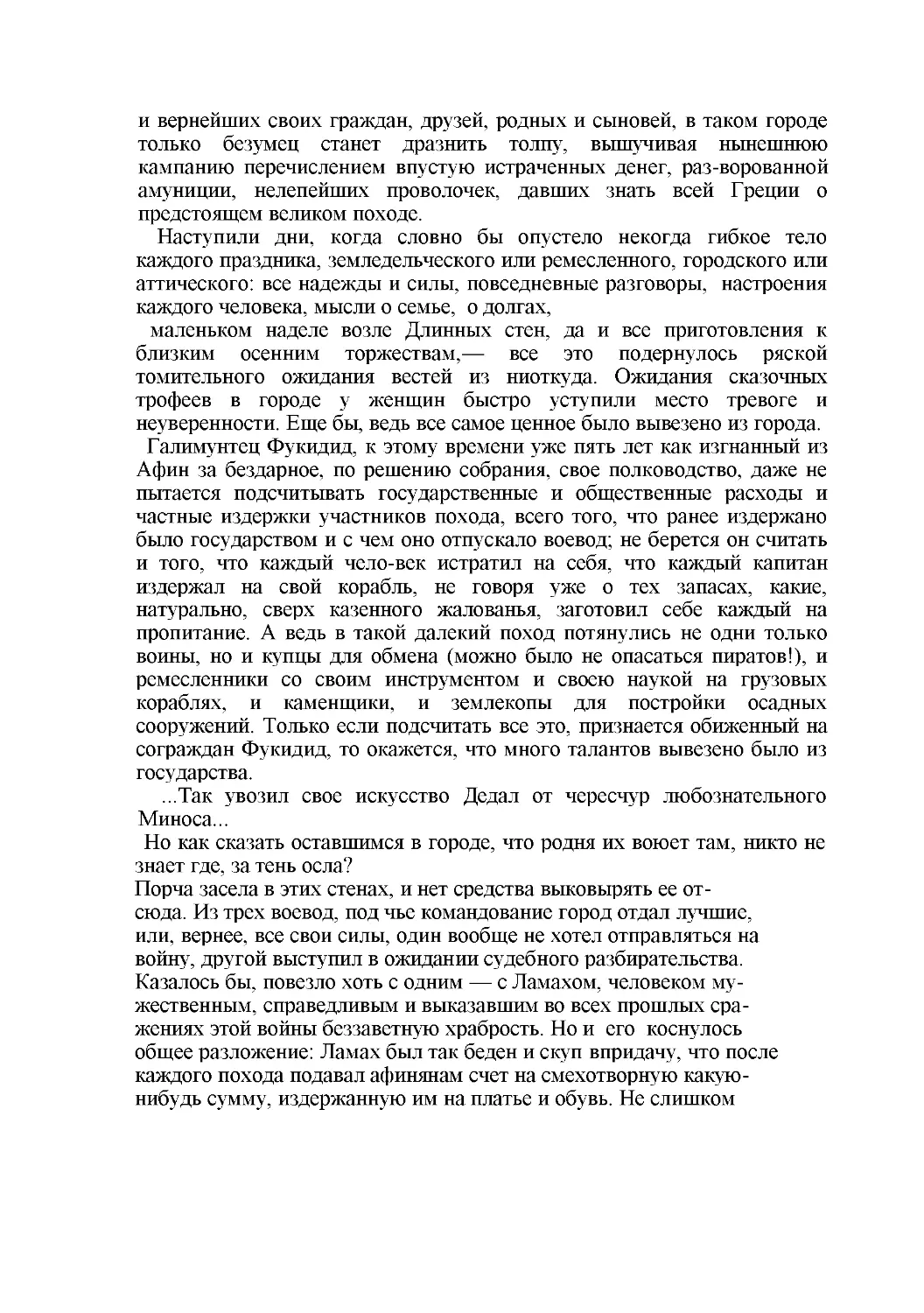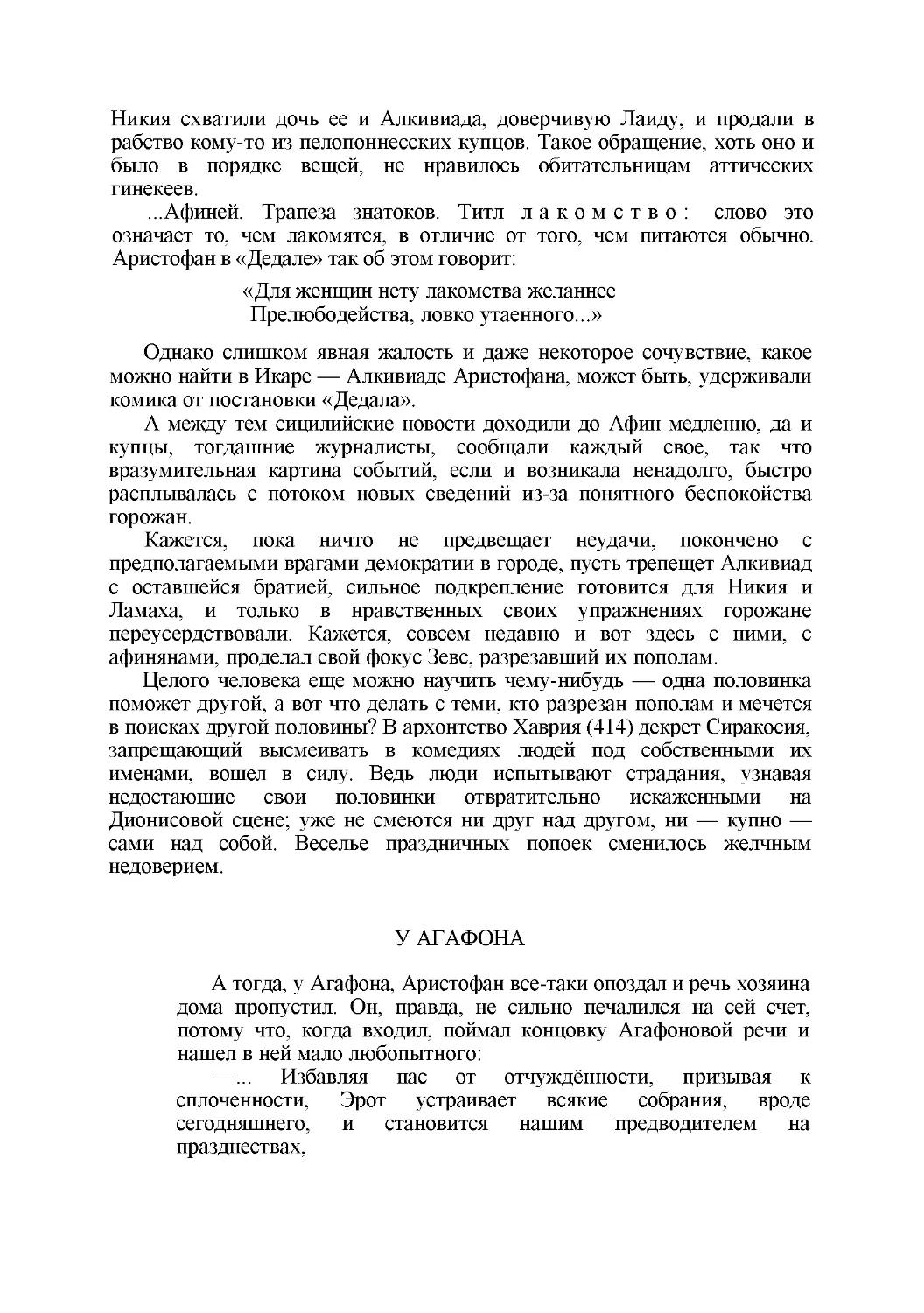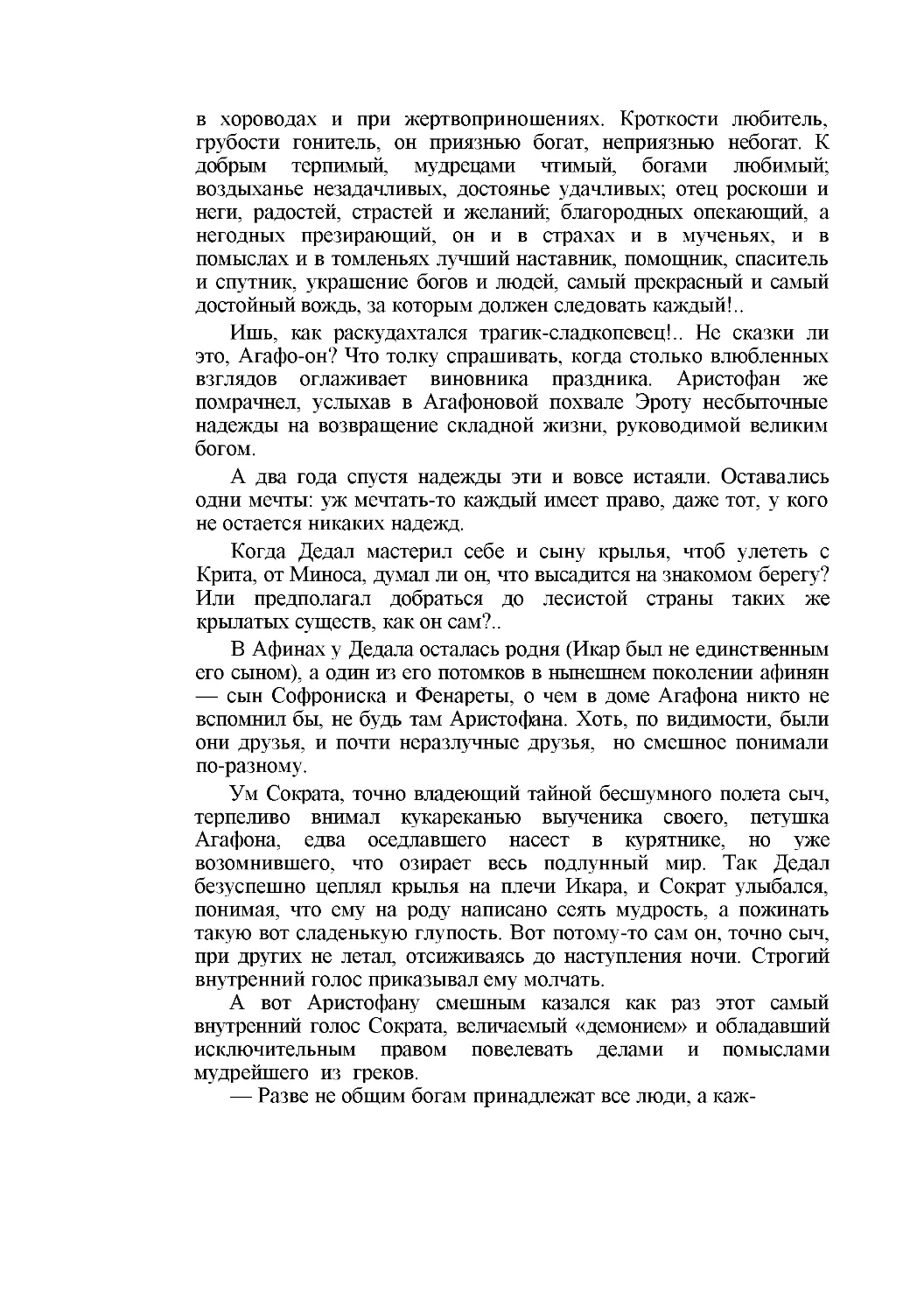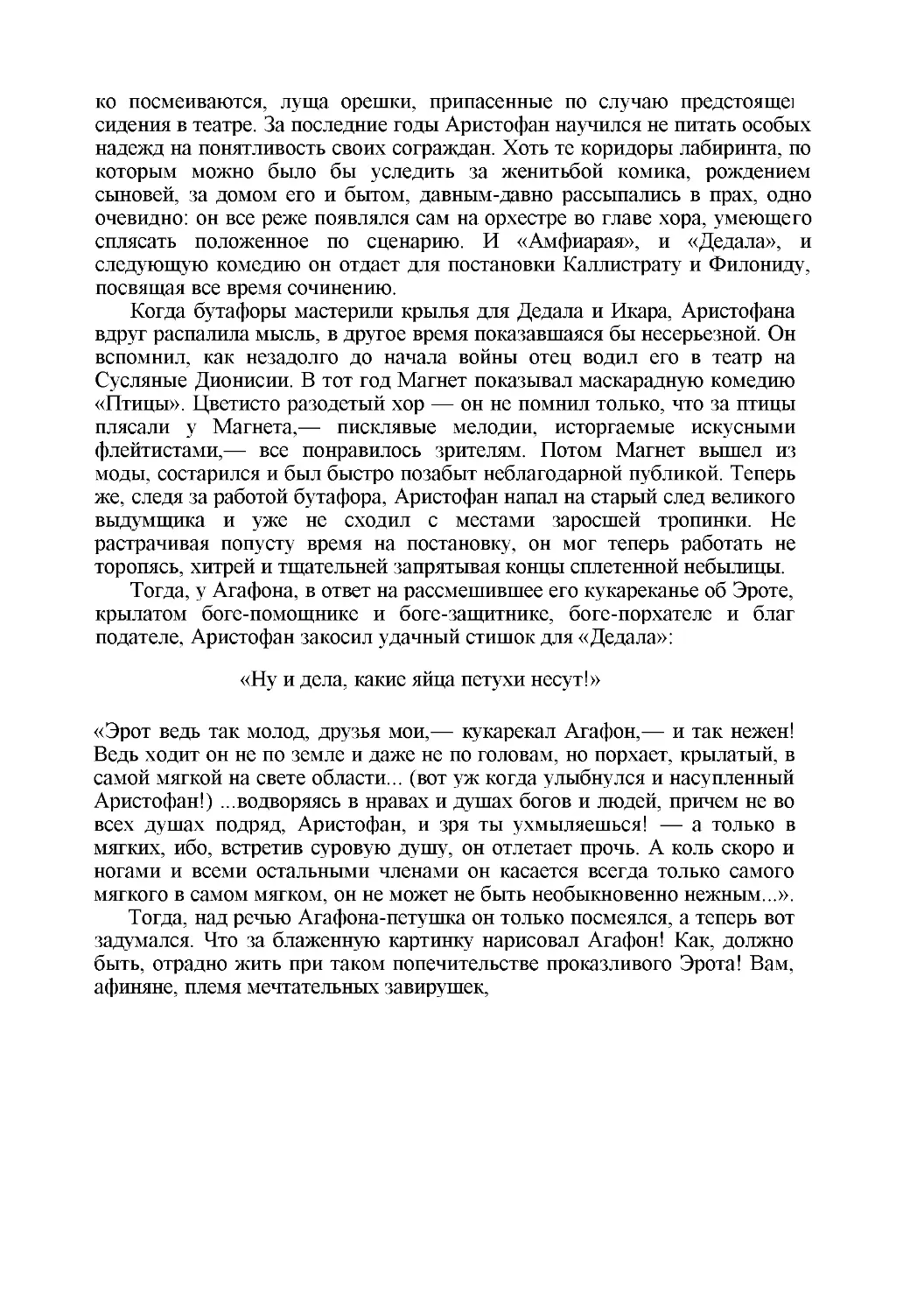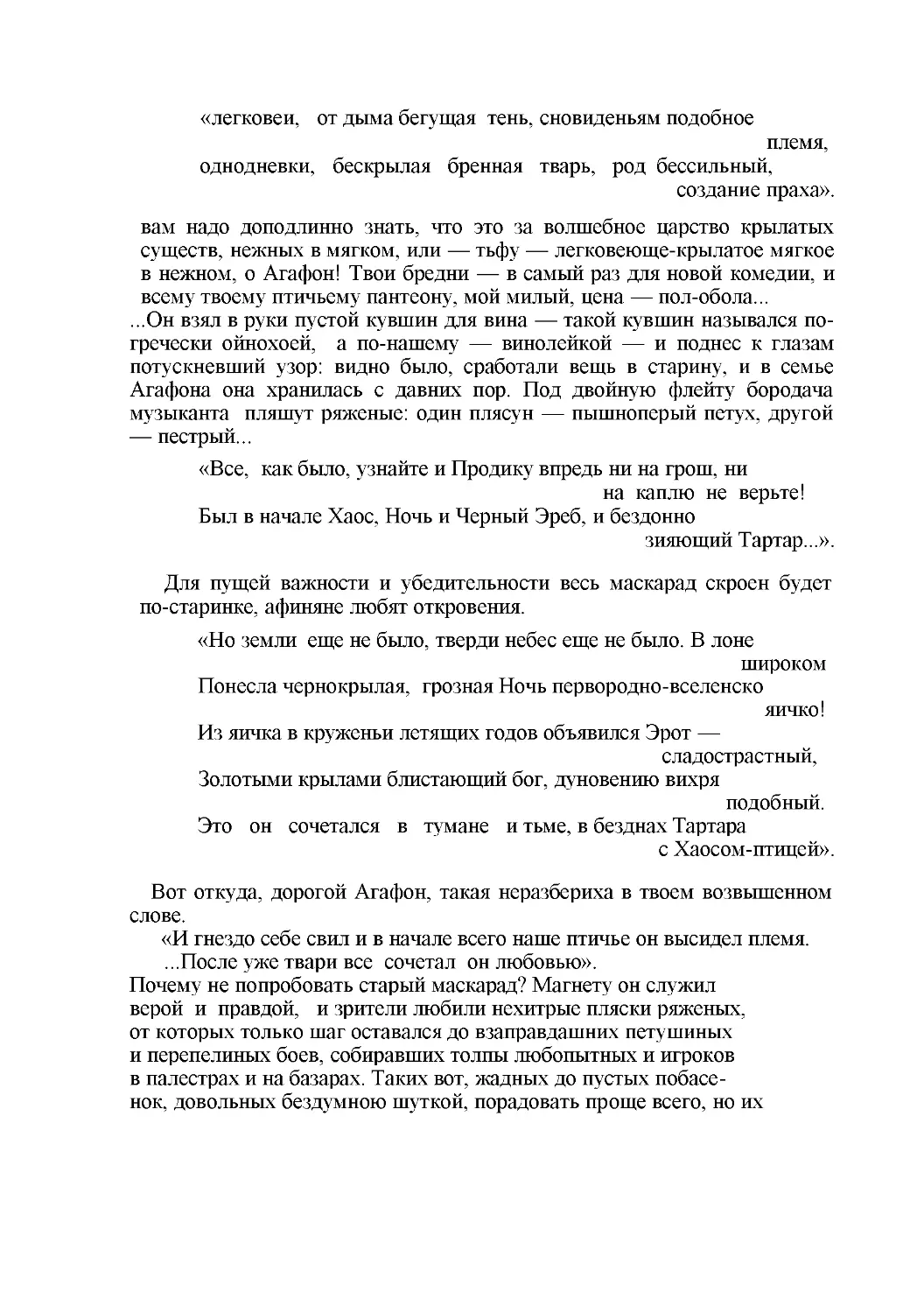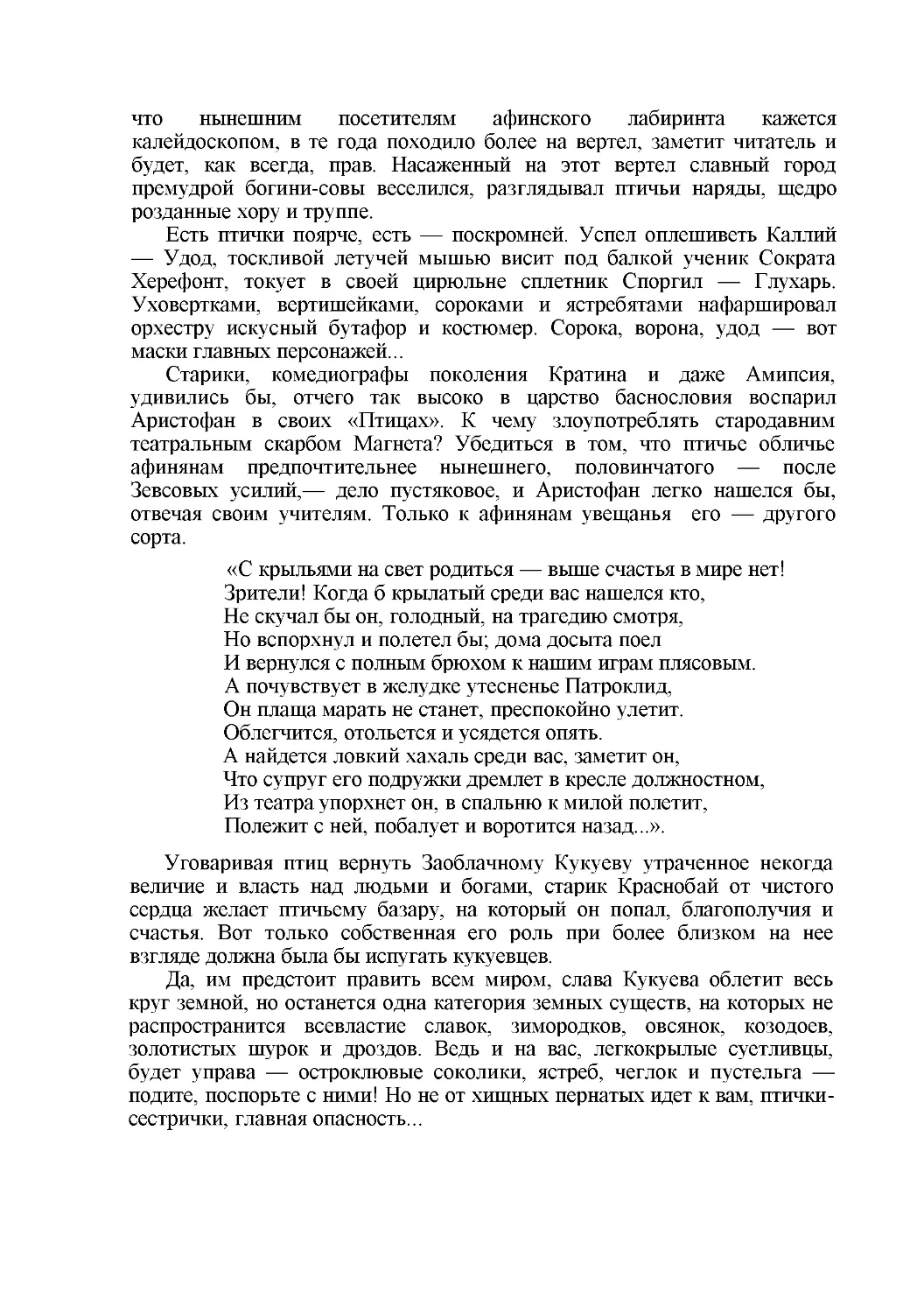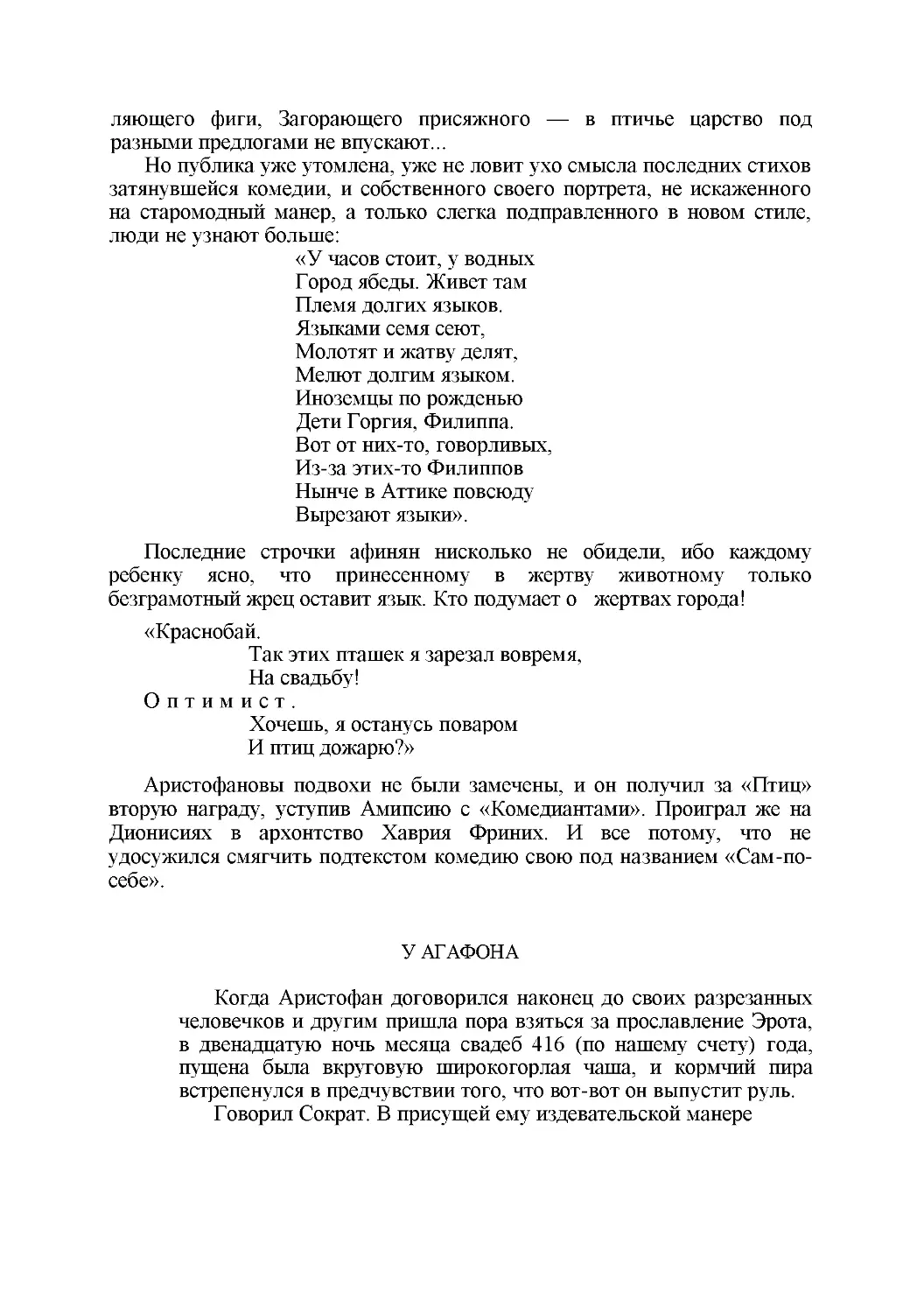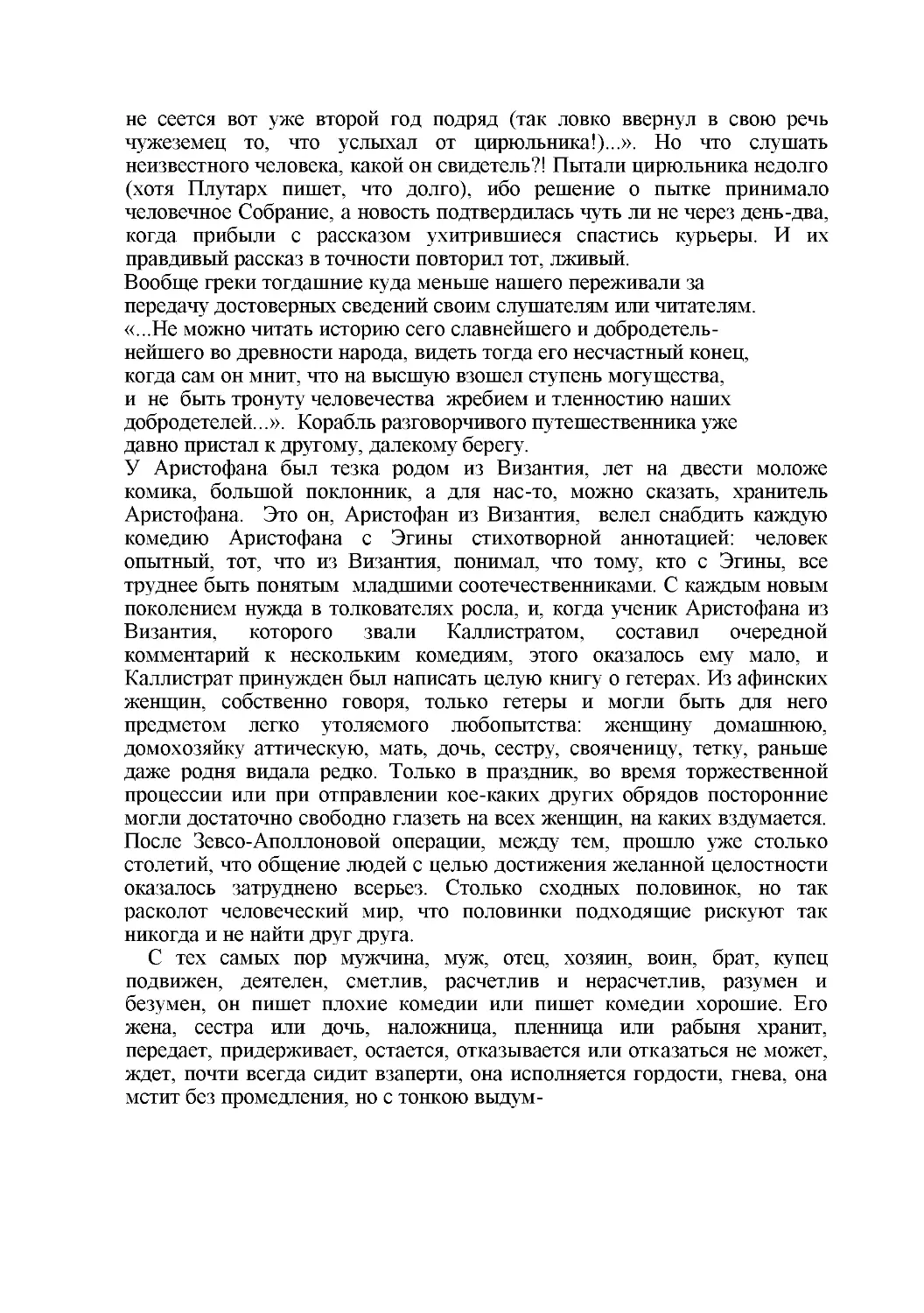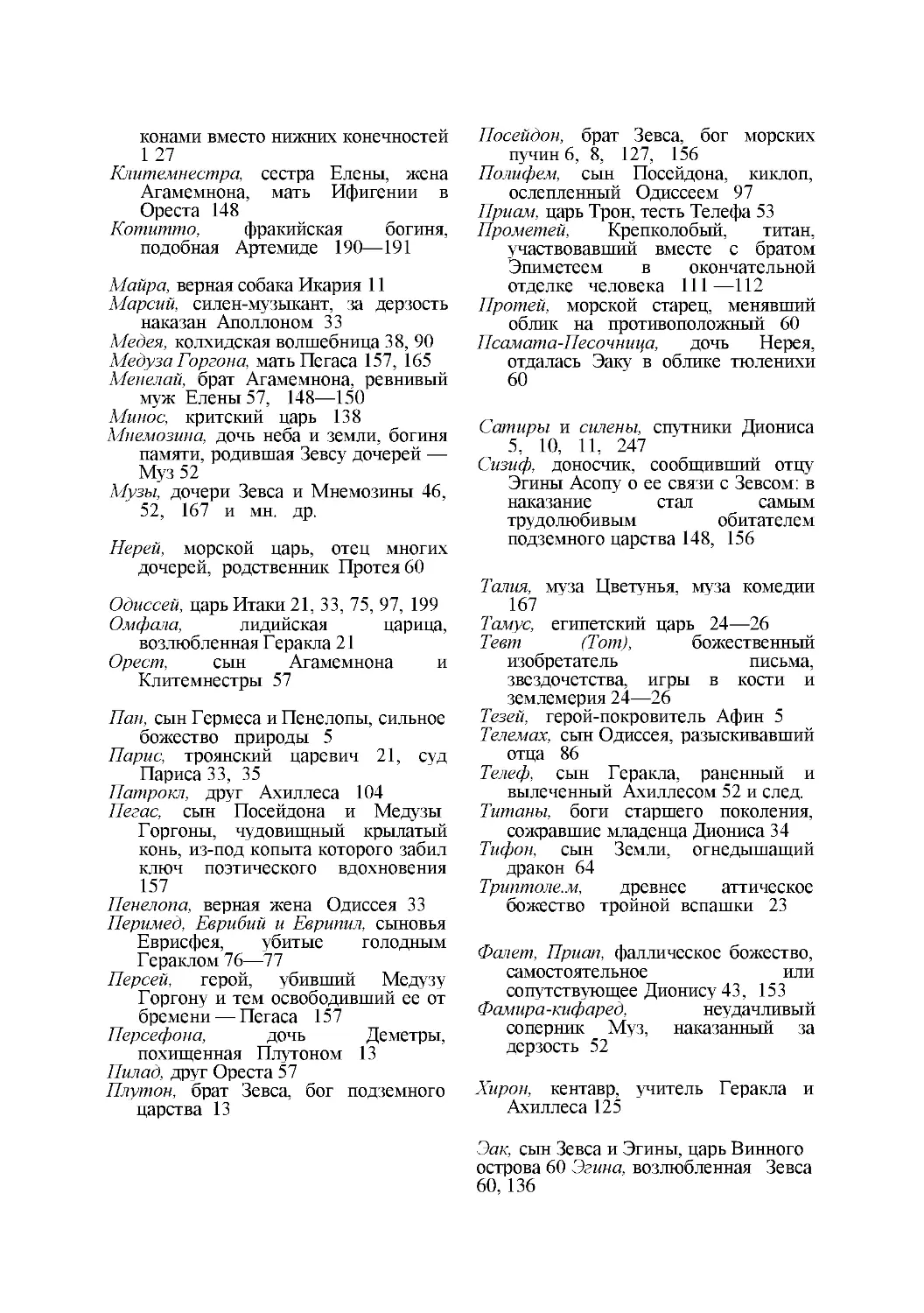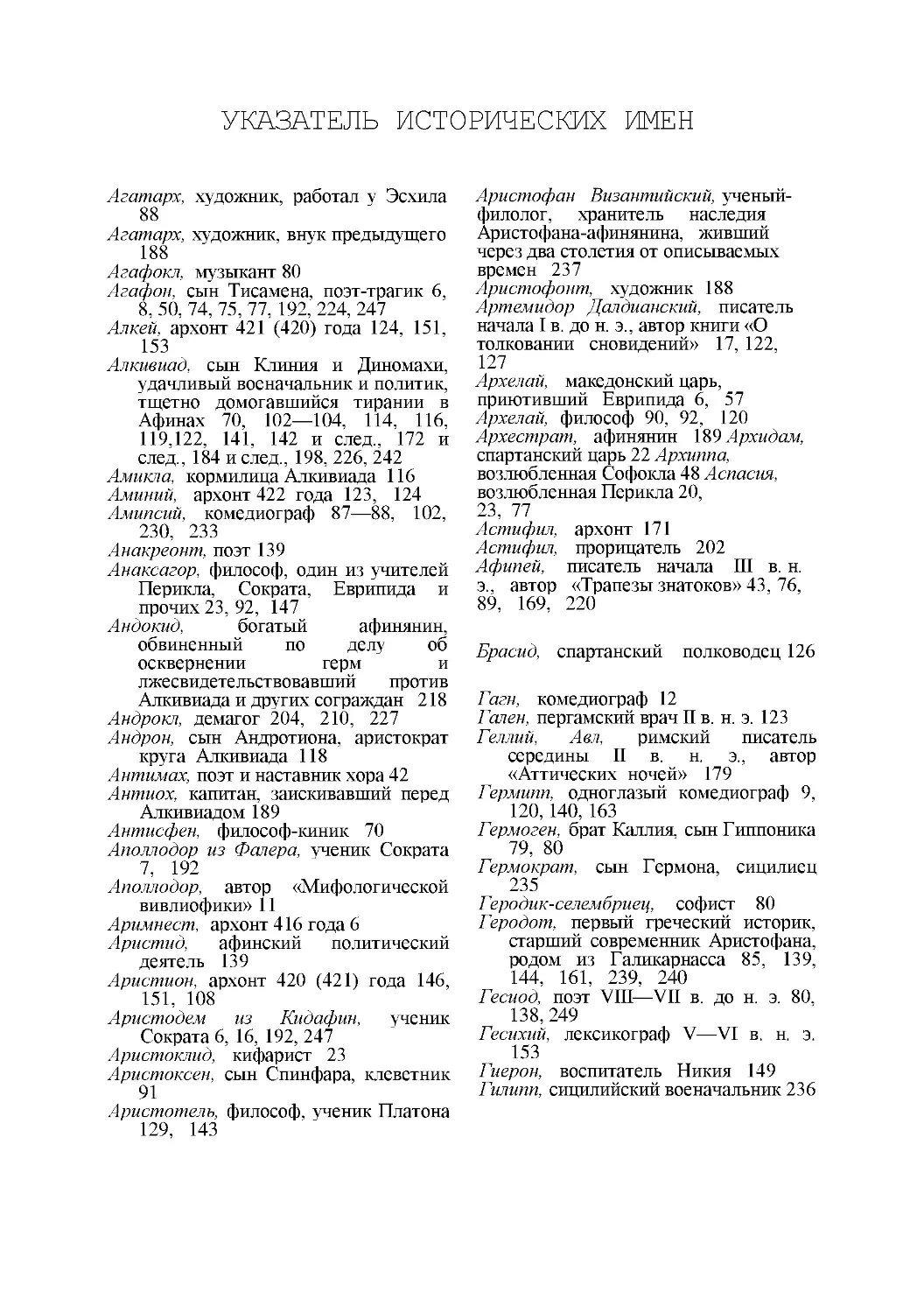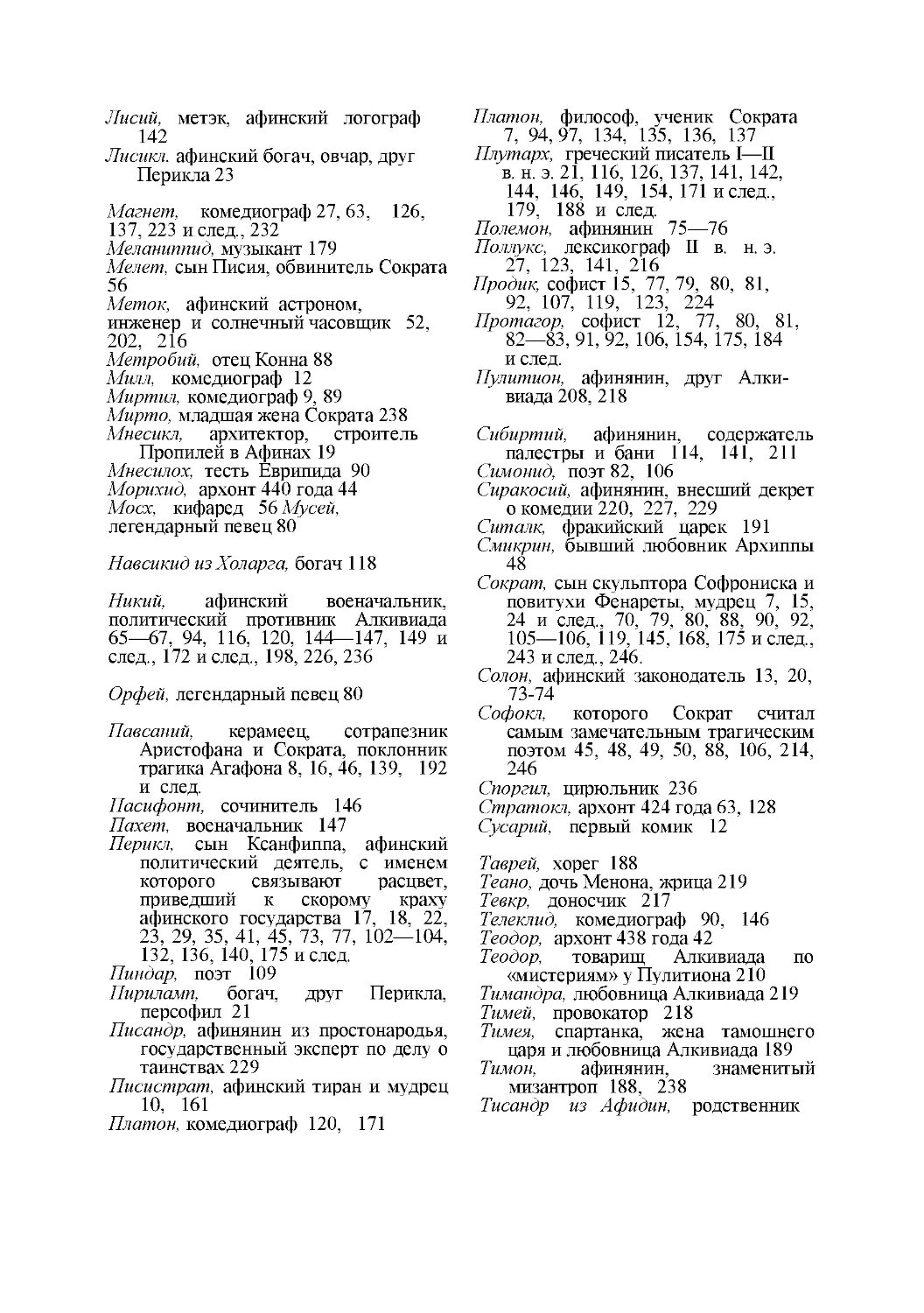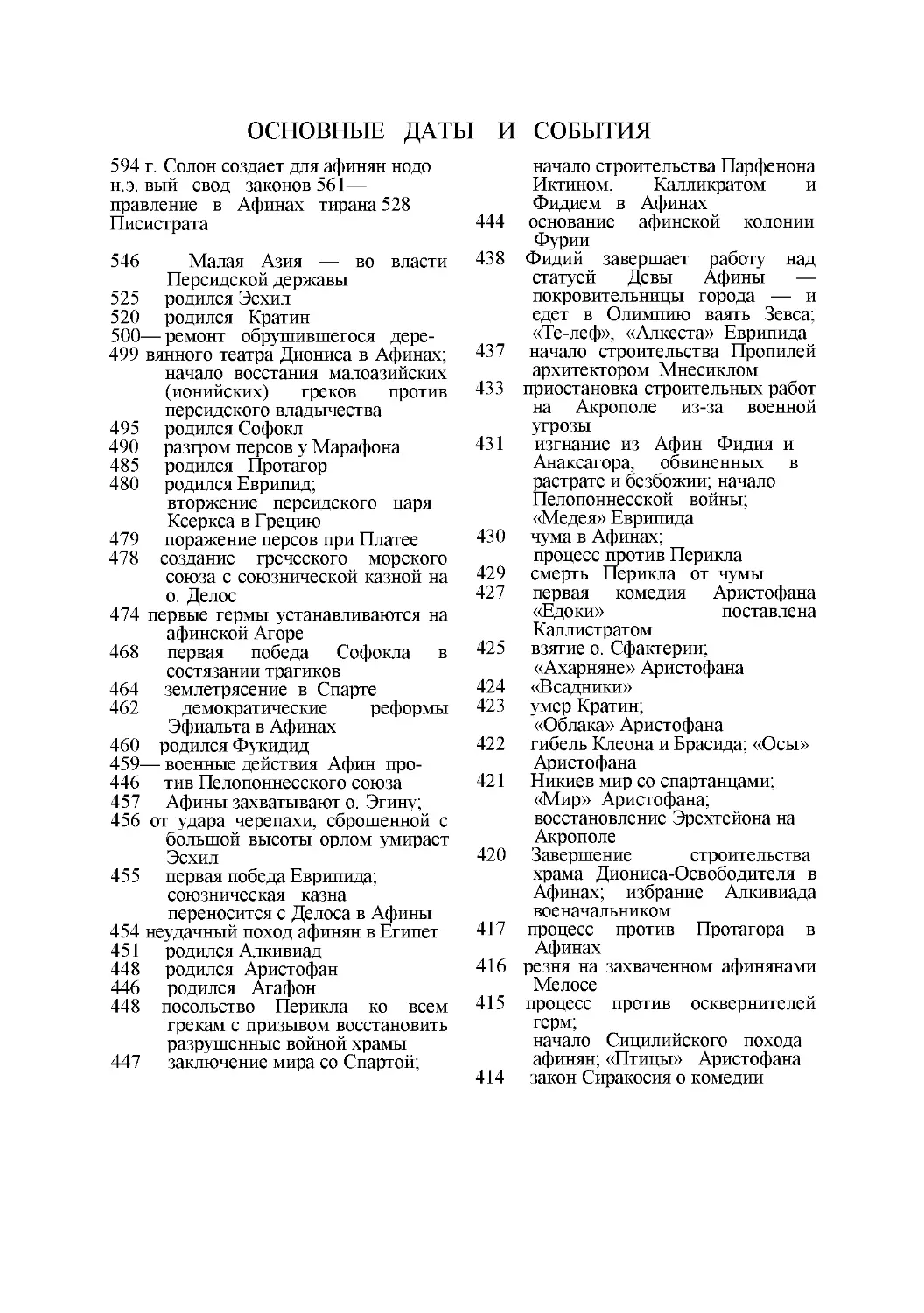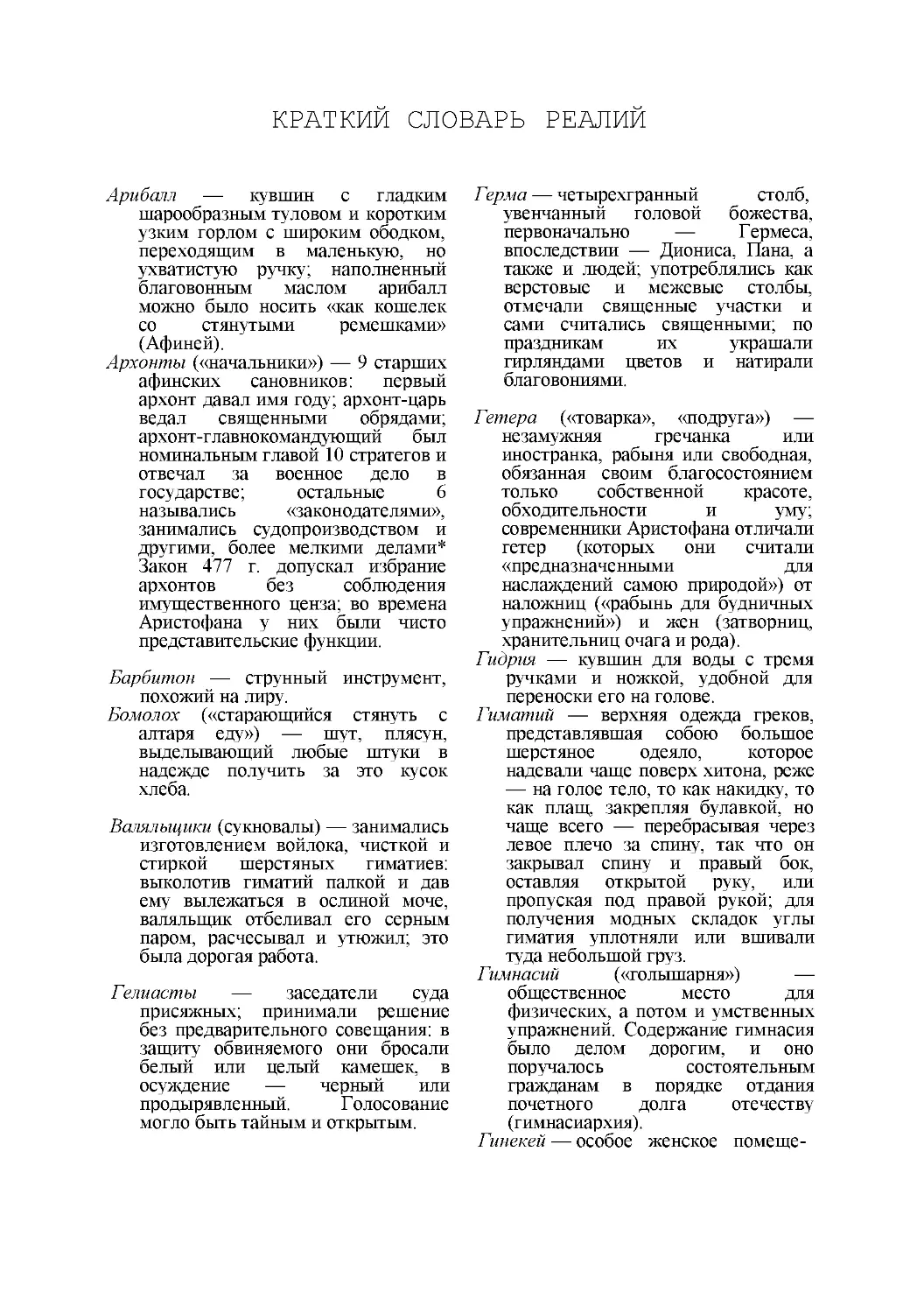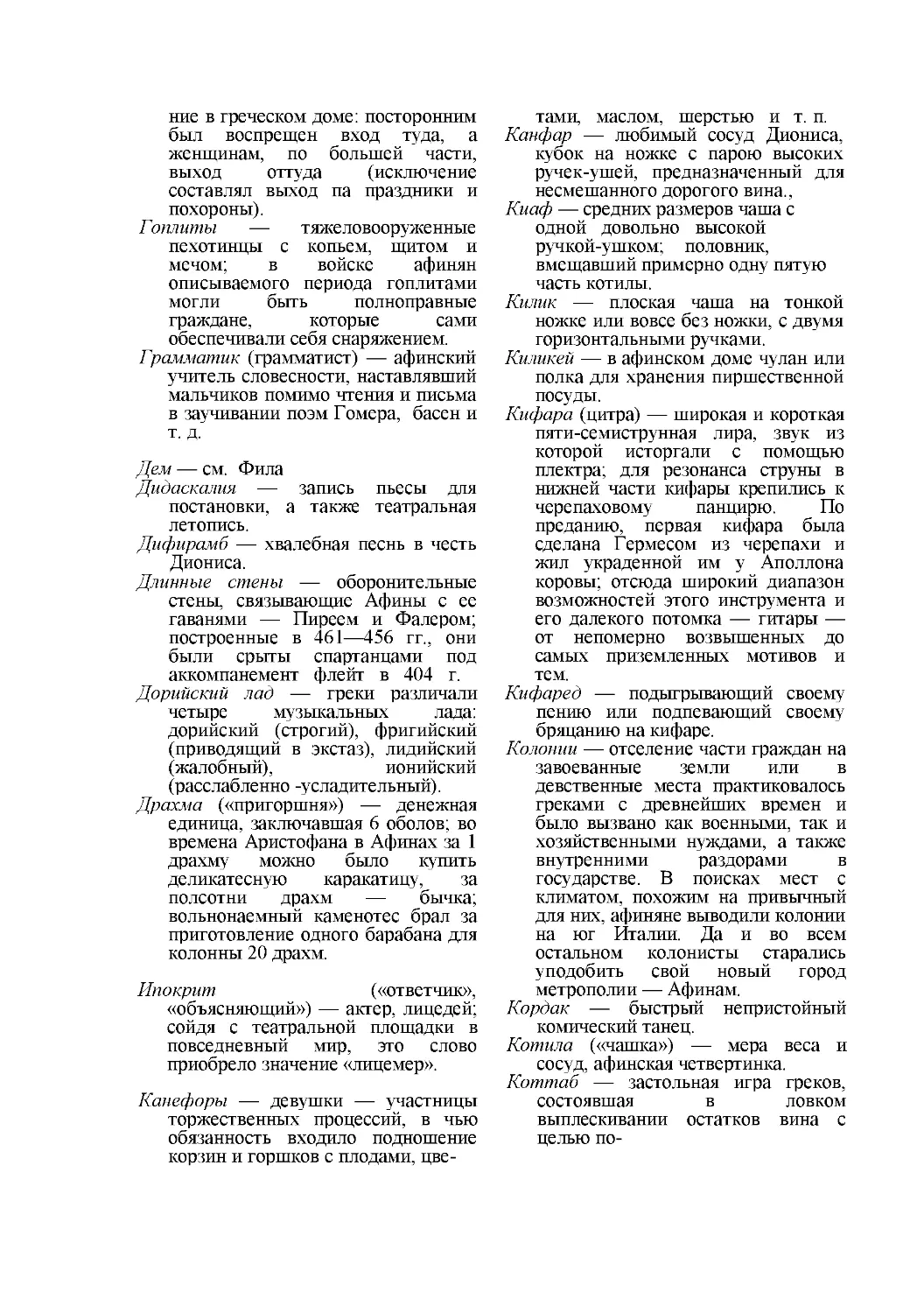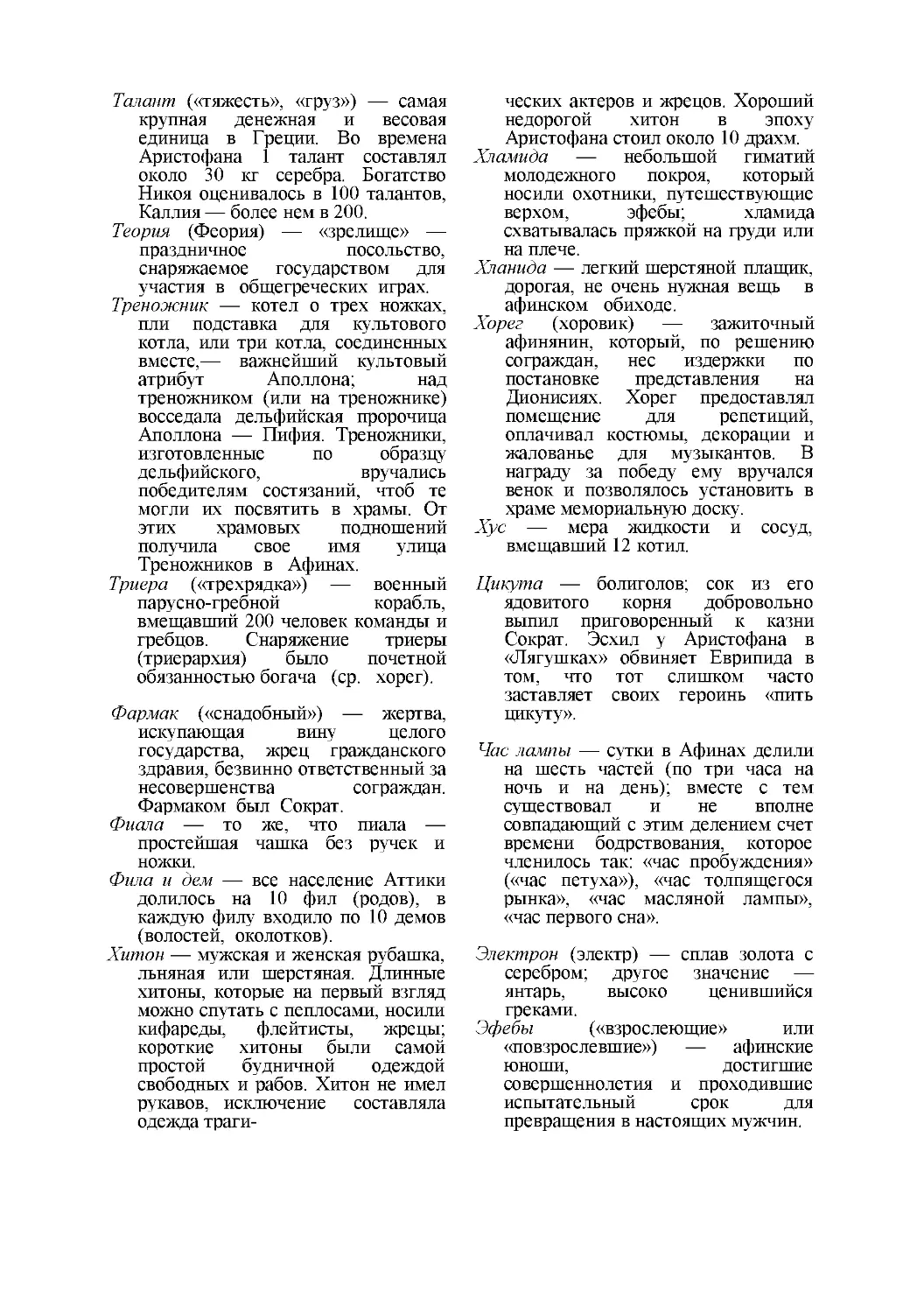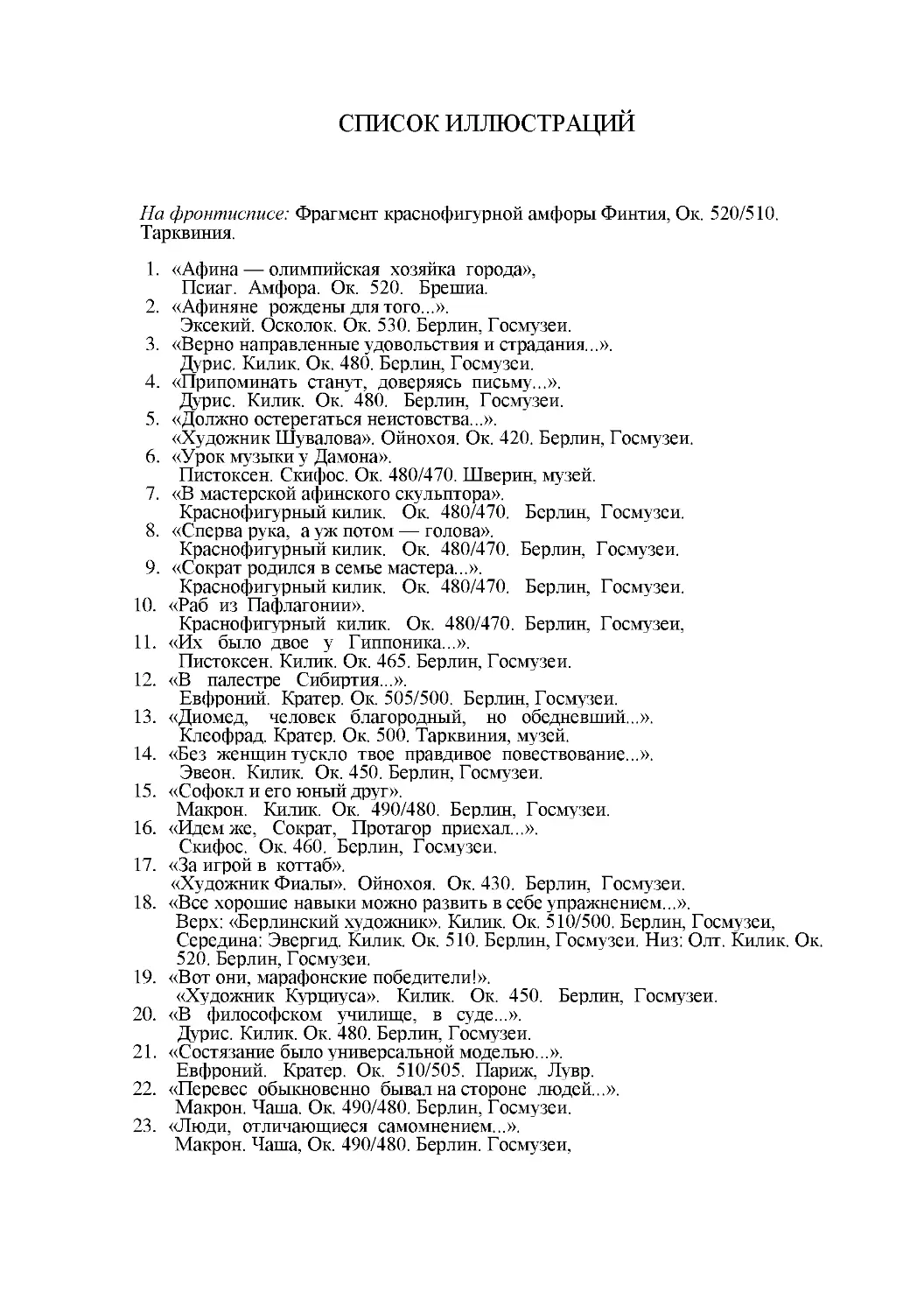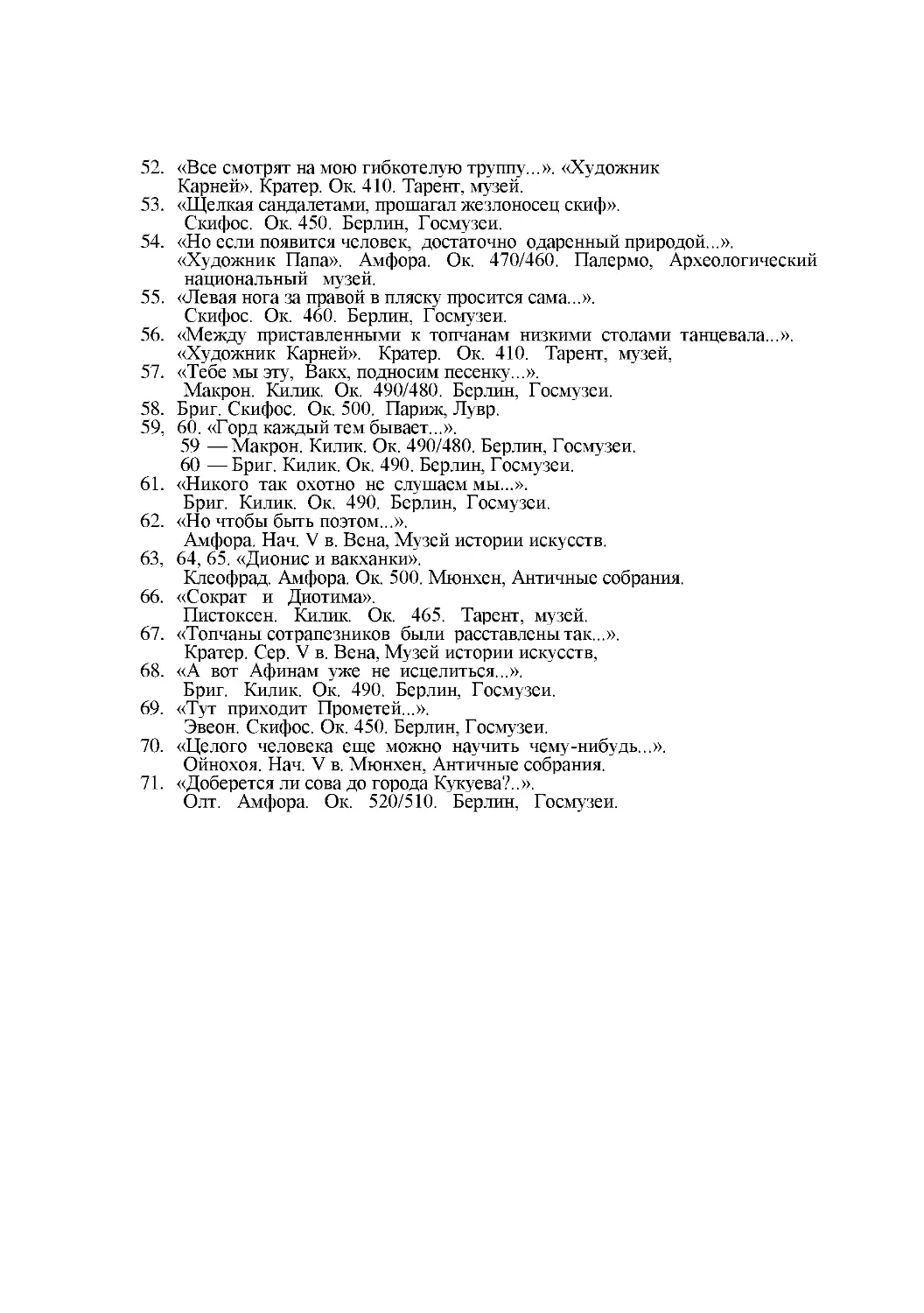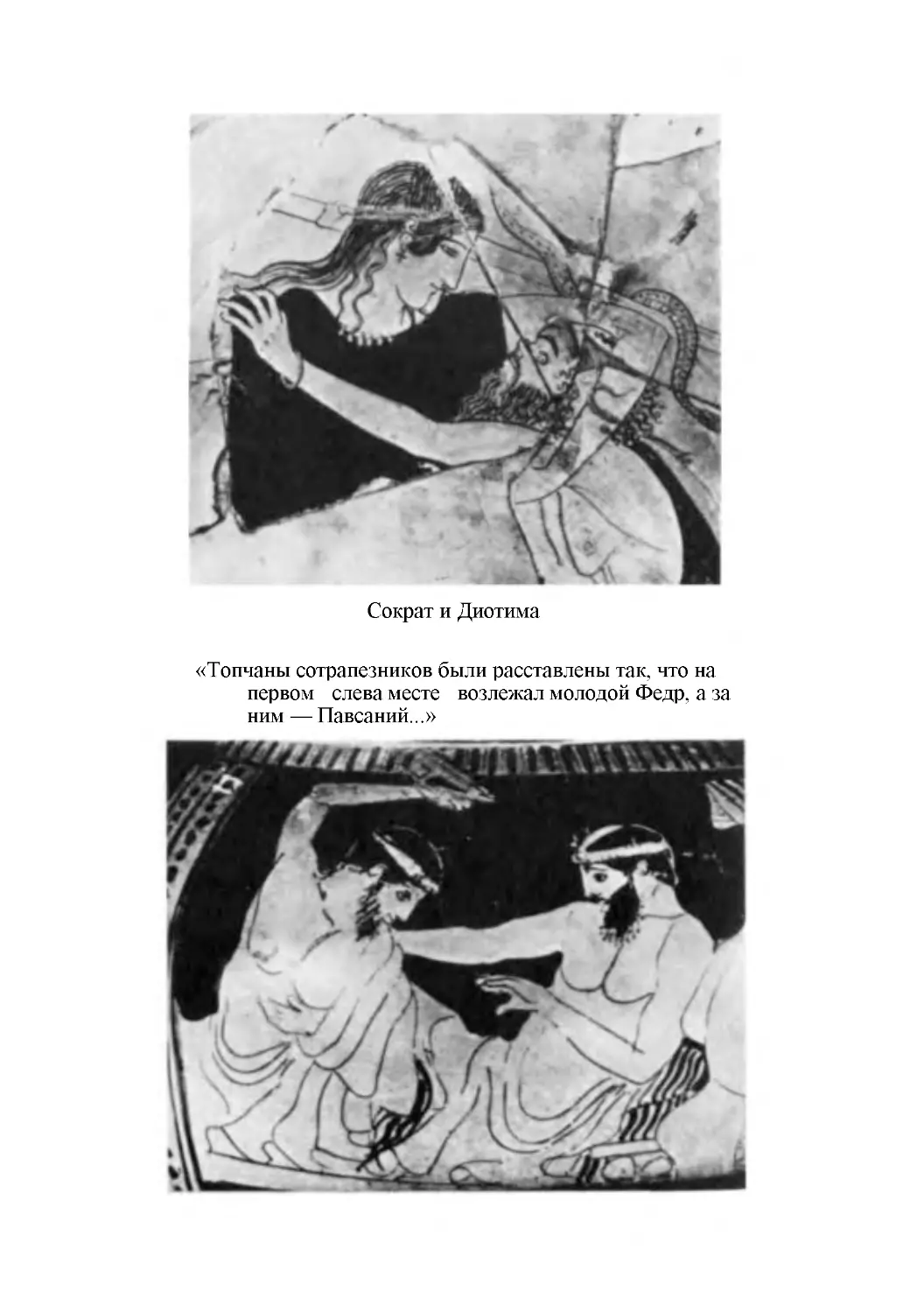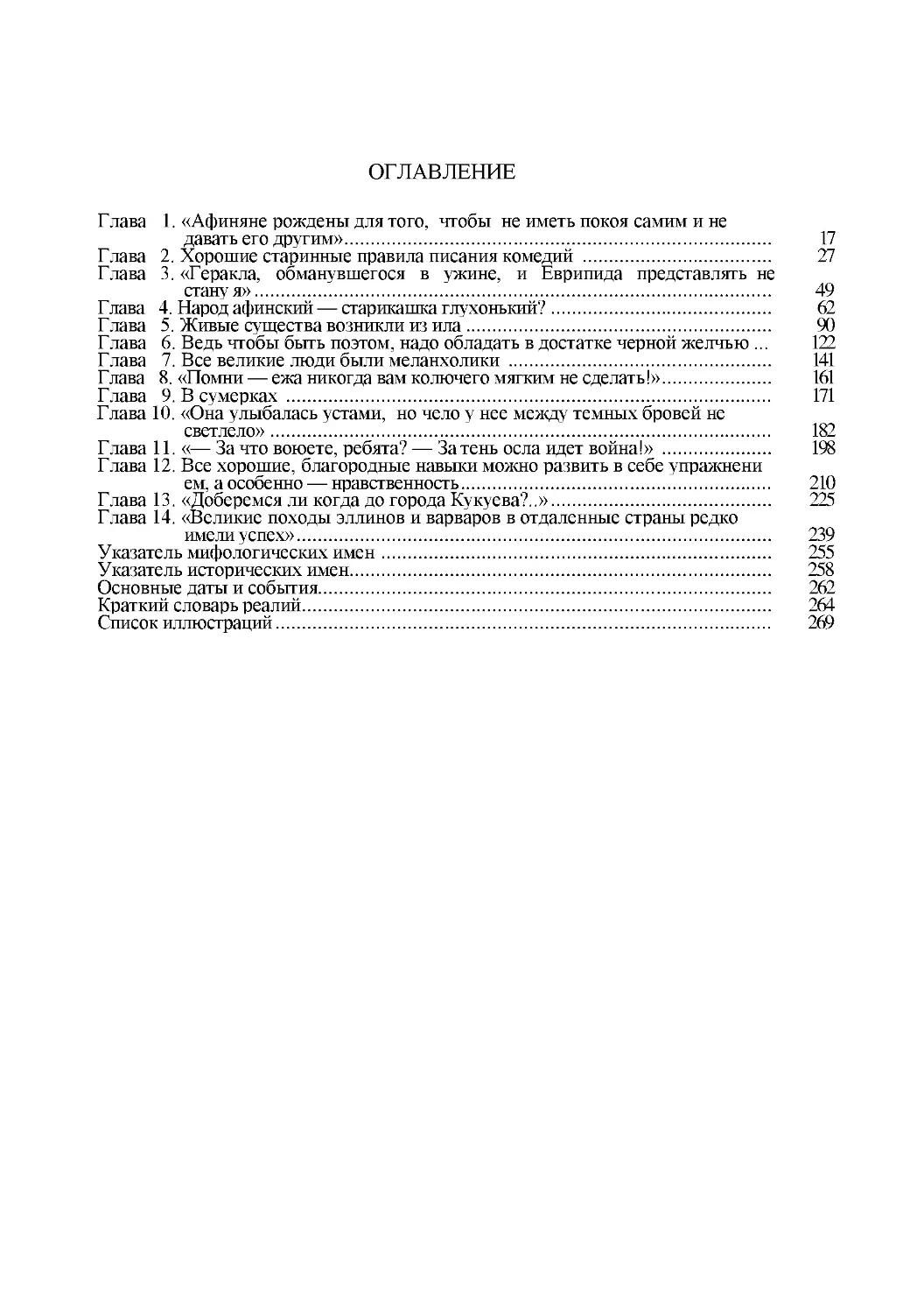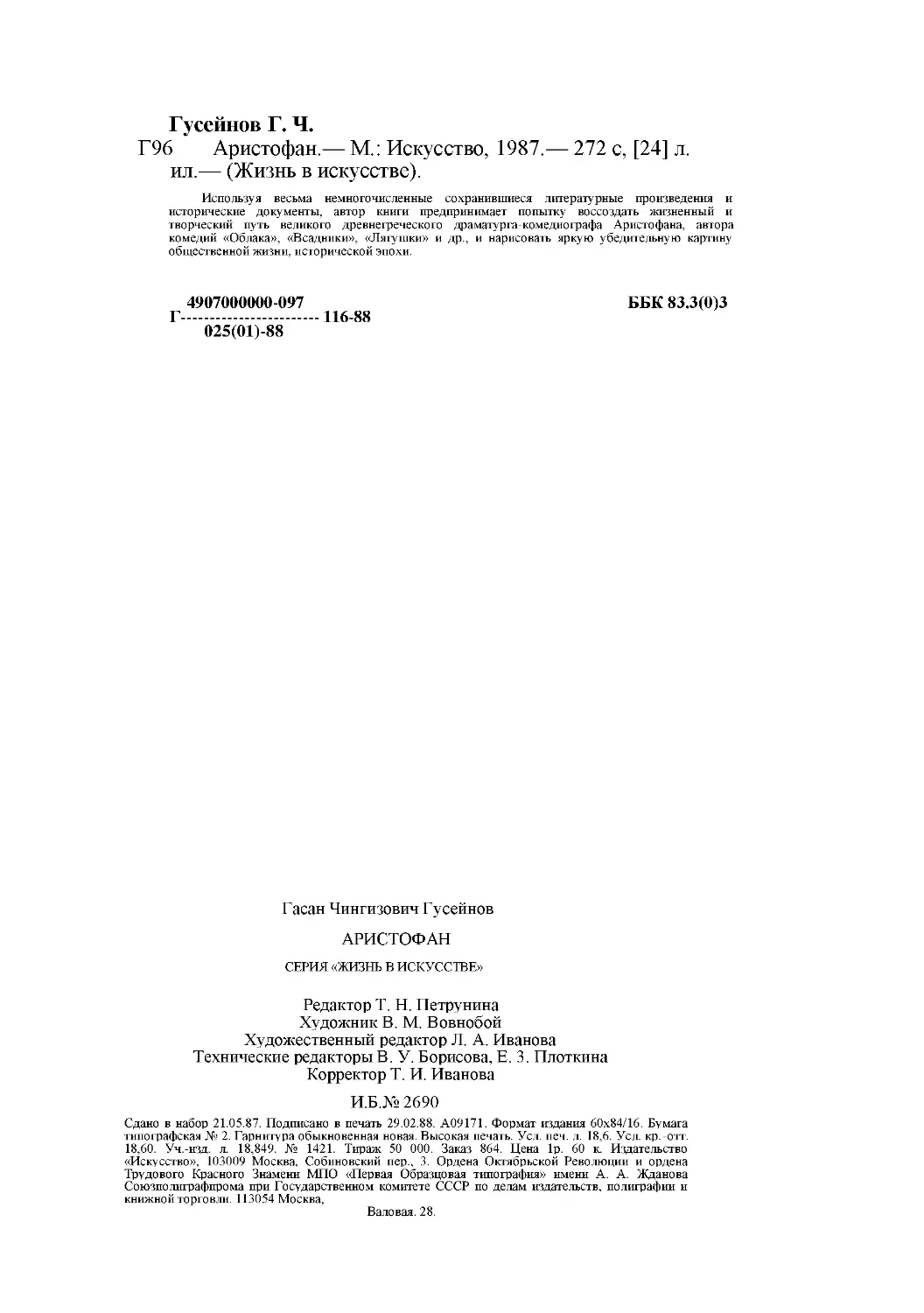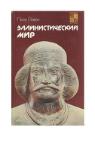Текст
Г. ГУСЕЙНОВ
АРИСТОФАН
МОСКВА «ИСКУССТВО»
1988
ББК 83.3(0)3
Г 96
Рецензенты:
доктор филологических наук,
профессор А. Ф. ЛОСЕВ
доктор филологических наук,
профессор А. А. ТАХО-ГОДИ
Г
4907000000-097
025(01)-88
116-88
© Издательство «Искусство», 1988 г.
Памяти Ларисы
Владимировны ЛевинскойГринберг
Впереди в легкой хламиде идет, пританцовывая, молодой человек,
играющий на сиринге — губной гармонике Пана, связанной из пяти
тростниковых дудочек; у босоногого дударя едва заметный хвостик
пляшет в такт танцу и хриплому жужжанию сиринги. За ним спешит с
плетеным коробом молодая женщина — канефора: из-под съехавшей
камышовой крышки разлепились асфодели и гиацинты, сквозь прутья
заметны тяжелые гранаты и липкие смоквы. За канефорой торопится
мальчик с кадильницей, источающей легкий дух ладана. За ним в
отстиранном ослиной мочой шерстяном хитоне шествует жилистый
мужчина, понукающий крепкой рукой кудрявого круглорогого барана в
праздничных ленточках. За ними вприпрыжку движется флейтист:
щербинка тонкой глины киафа образует зияние от самых уст флейтиста, и
вот виден только кожаный ремешок, узелком завязанный на затылке, а
сама двойная рогатая флейта не видна. За флейтистом важно выступают
ветвеносцы: масличные ветви — ветви священного дерева Афины,
подрагивают в их руках. А вот сатиры пляшут вокруг лодки на колесах и
толкают вперед морскую телегу. А на ней застыл в своем неколеблемом
тяжелом пеплосе, затканном густым узором, Дионис-Элевтер, ДионисОсвободитель. В одной руке у него — зазеленевший побегами посох, в
другой — виноградная лоза. Она тянется вверх и там гибким зонтом
раскрывается над увенчанной головой Диониса. Спотыкаясь, догоняет
шествие силен, влачащий опорожненный канфар. И снова в легкой
хламиде идет, пританцовывая, сатир-дударь.
...Прежде чем наполнить вином этот тонкостенный киаф, нужно взять
немного хорошо просушенного аравийского мирта, щепоть сухого укропа,
ресничку шафрана, подсушенный стебель бальзамина, добавить туда
корицы и сварить, а отвар, пока он еще достаточно горяч, разлить по
киликам, киафам, канфарам, фиалам и ри-тонам, предварительно снятым с
той полки, где хранится особая, пиршественная посуда. С тою же
тщательностью приготовляют и большие амфоры, стамны, пелики,
кратеры, в которых на пиру предстоит мешать чистые слезы нимф с
черной кровью Диониса.
Аттические гончары и вазописцы каждый праздник Диониса отмечали
особой посудой, которая дожидалась своего часа в священном для
каждого дома месте — киликее. Это только мидийцы, знаете ли, не ценят
тонкой глины, по внешним и внутренним стенкам которой вьется узор,
возят Диониса, распевают гетеры, Тезей крутит рога Минотавру,
грохочут, стонут, свистят флейты,
рожки и тимпаны в руках у сатиров,— вот мидийцы и дают на пирах
глиняные чаши впавшим в немилость вельможам, пока остальные гости
едят и пьют на серебре и золоте.
В Аттике больше всего работы было у горшечников зимой: от месяца
Посейдона в ее начале до охотничьего месяца Артемиды в начале весны
следуют друг за другом главные праздники Диониса — деревенские
Дионисии, и старые, Цветочные, и городские, и сусляные, празднества
Давильни.
Сусляные Дионисии отмечали среди своих. Забродившее сусло, густой
виноградный сок, уже пустивший хмельные пузыри, приходится на месяц
свадеб, хотя когда-то и месяц свадеб именовался месяцем вина! Саронская
переправа бурна, пуст Пирей, в Афинах — только свои — ни гостей, ни
посольств. Но северный ветер — борей — уже слабее, и после
торжественных
шествий
и
жертвоприношения
Освободителю,
состоявшегося в дионисовом-что-на-болоте храме, рядом — в театре
Диониса — начинаются состязания драматургов.
В год, с которого мы должны начать жизнеописание Аристофана, а это
был год архонства Аримнеста, или капитуляции мелосцев, или изгнания
Гипербола, или, по нашему счету, 416 год до н. э.*, в двенадцатую ночь
месяца свадеб, был обновлен богатый киликей трагика Агафона, сына
Тисамена-афинянина.
Агафон впервые показывал свою трагедию на Сусляных Дионисиях,
вообще же к трагедиям на этом празднике отношение было сдержанное:
Сусляные Дионисии — праздник комедиографов, трагедия на них —
редкость. Но и тут одержанная победа почетна и приятна. Щедро
награжденный хоровик, счастливый драматург, его друзья и поклонники
тотчас по объявлении результата состязания устроили пир-симпосий в доме
победителя Агафона. Нанятые за немалые деньги певцы, получившие в
награду кто — лоснящийся мех, кто — расписную амфору вина, обедали в
этот день за счет хоровика, в обязанность которого входило содержание
хора на протяжении почти всей зимы: впереди еще были Великие
Дионисии!
Из тех же, кто пришел на пир к Агафону, мы узнаем не многих. На
киафе, запечатлевшем дионисийское шествие, виден каждый палец
молодой гречанки, несущей короб с цветами и фруктами, очерчена каждая
складка на пеплосе самого Освободителя, но лица тех, кто мог разливать из
нашего киафа, лица гостей Агафона,— в не-рассеиваемом тумане. Лет
через десять после победы Агафона, когда сам он уже давно оставил
Афины и жил в Македонии, при дворе Архелая, вернейший ученик
Сократа, коротышка Аристодем из Кидафин, довольный, что ему удалось
тогда попасть к Агафону,
* Все даты, указанные в тексте, — до нашей эры.
так вот этот самый Аристодем в подробностях рассказал о том, что там
происходило. Этот его рассказ выслушали двое: Феникс, сын Филиппа, и
еще Аполлодор из Фалера, который, будучи одним из последних учеников
Сократа, не поленился уточнить кое-что у самого учителя. Аполлодор же
не поленился во всех подробностях рассказать обо всем, что так или иначе
было связано с Сократом, другим. Ведь сначала умер Агафон, потом
Сократ, а некоторые поумирали еще раньше. И вот, когда все они стали
так-то постепенно уходить, за дело взялся Платон и все записал. Так, за
рассказами, пересказами, уточнениями, промедлением внимательных
слушателей между событием и его писанием залегло зияние в тридцать лет,
в целое поколение, но однажды записанное — уцелело.
Верить ему или не верить, но пир Агафона продолжался всю ночь — от
часа лампы до часа петуха. Всю ночь пробыл в доме сына Тисамена сын
Филиппа Аристофан из Кидафин, общины Пандиониды. Ему было тогда
тридцать лет, он несколько лет совсем мало писал и ставил. Что-то
менялось в городе и по всей Греции, к чему так старались приспособиться
верные служители дионисийского ритуала. Менялись и служители. Вряд ли
ночь у Агафона была ночью перемен и превращений, но это — однаединственная ночь из жизни Аристофана, свидетелем которой можно стать,
поверив глазам и ушам Аристодема, добросовестности Аполлодора, памяти
Главкона и намерениям брата его — Платона.
У АГАФОНА
После праздничных дней в городе — в храме и в театре Диониса,
где справлялся всенародный ритуал,— в двенадцатую ночь месяца
свадеб настало время ритуала домашнего. Этот домашний ритуал
так же серьезен, как и все то, что происходило во время храмовых и
театральных богослужений. Там, на главном алтаре, заколют
жертвенного быка, барана или козла, возольют богу
невыбродившего вина из пузатых, с запотевшим боком, хусов, там, в
театре Диониса, защищенном от по-зимнему еще колючего ветра
громадой Акрополя, будут состязаться хоры в дифирамбах,
трагедиях и комедиях. Но и здесь, в центральном, главном
помещении дома — ауле, или во внутреннем аккуратном дворике,
вымощенном, в отличие от улиц и площадей города, здесь мы тоже
окажемся у скромного домашнего жертвенника, и, как сиденья,
обнимающие полукругом орхестру в театре, подковой расположены
в доме Агафона ложа для пирующих. Там, в театре, в первом и во
втором ряду сидели
жрецы: в главном кресле — жрец Диониса-Освободителя,
рядом — жрецы Зевса — свой у олимпийского, свой у
Советчика, свой — у Спасителя, жрец Афины-Советчицы, и
Диониса-флейтиста, и Деметры с Персефоной, и Аполло-наувенчанного-лавром, и Ликийского, и Делосского, и
Пифийского, по два кресла у жрецов Артемиды и
Посейдона, а во втором ряду сидели в театре Диониса
жрецы Тезея и Гефеста, Муз и Асклепия, двенадцати богов.
Здесь, в доме Агафона, жрецов не встретишь, но
частному лицу довольно и младших служителей богов: это и
сам Агафон, и сын Акумена Эриксимах, ученик Асклепия,
лекарь, и Аристофан, слуга Диониса и Афродиты. Они
возлежат за трапезой, опершись на скатанные под локоть
циновки. После жертвоприношения и ужина, в час, когда
зажигают масляную лампу и начинается счет новому дню, к
пирующим выходит флейтистка. Теперь по вековой
традиции, после совершения положенных возлияний,
сотрапезникам предстоит почтить Диониса и Аполлона —
песней, созерцанием танца под флейту или барбитон.
Но в двенадцатую ночь месяца свадеб 416 года на пиру у
Агафона вышла маленькая заминка, и запомнилась эта ночь
как раз благодаря тому, что один из гостей, поклонник
Агафона Павсаний-керамеец, когда подошел к концу ужин и
была пропета благодарственная молитва, пожаловался на
неважное самочувствие. Сын Акумена терапевт Эриксимах,
услышав о том, что и Агафон и даже Аристофан
отказываются по-прежнему продолжать вчерашний пир,
облегченно вздохнул: афинские драматурги — слуги
Диониса — иногда не знали меры. Когда-то Эсхил вывел на
сцену пьяного Ясона в окружении собутыльниковаргонавтов. Еври-пид еще несколько лет назад прислуживал
виночерпием на празднике Фаргелий. Правда, в старину
мешали пять котил вина с одной котилой воды, а теперь,
устыдившись, вина на котилу воды берут только две
котилы. Все равно, как говорится, кораблик в вине — без
руля!
Топчаны сотрапезников, расставленные полукругом,
были распределены в ту ночь так, что на первом слева —
главном — месте возлежал молодой Федр из Мирринунта,
за ним расположились Павсаний, Эриксимах и остальные, а
кто — Аристодем, получивший место в этом, левом
крыле,— не запомнил: все внимание его было обращено на
тех, кто лежал напротив, на Аристофана, Агафона и
Сократа. Между приставленными к топчанам низкими
столами танцевала в такт своей музыке флейтистка, но
Эриксимах в предвкушении беседы удалил ее на женскую
половину,
в гинекей, и кормчим пира стал Федр. Было решено почтить
бога состязанием в речах — без принудительных фракийских
тостов и фессалийских пущенных вкруговую чаш.
С пиршества начинал и Аристофан. Свою первую
комедию — «Едоки» — он написал в год архонтства
Диотима, и она была поставлена на Сусляных Дионисиях в
архонтство Евклеса (или в 427 году) под именем актера
Каллистрата. На конкурсе комедия получила второе место (не
слишком почетное, ибо шла война, и тогда игрались только
три комедии вместо довоенных пяти). Аристофан был, по
собственным его словам, еще мальчишкой и, видно, толькотолько выходил из-под родительской или учительской опеки.
Никто не знает, о чем эти «Едоки». Известно, что хор, по
которому и дается имя старой аттической комедии, состоял
из так называемых почитателей Геракла, собиравшихся на
совместные трапезы в честь своего героя. Из нескольких
десятков стихов, оставшихся от «Едоков», действия не
сложить. Было там что-то о сыновьях какого-то афинянина:
один сын — умный и скромный, а другой — сквернослов,
выпивоха и сибарит.
* * *
Аристофана победил на конкурсе кто-то из сыновей
Лисида — то ли одноглазый Гермипп, то ли пропойца
Миртил. В моде тогда еще были комедии грубые, резкие,
пропитанные деревенскою похабщиной и руганью, комедии
старинного покроя. Персонажи не выбегут на сцену без
волочащегося по земле фалла, сшитого из бычьего хвоста с
подкрашенной кисточкой или кривовато сработанного из
сухой виноградной лозы. Они подерутся прямо на проскении,
издавая вопли и терпкие рулады мегарских шуток о грудях,
крепких, как груша, и сладких, как хурма, да о ночных
горшках.
Комедия так близка к временам, когда она не была еще
допущена на орхестру, когда она просто была уличной
гульбой виноградарей и пастухов.
На Великих Дионисиях первая комедия в театре была
поставлена за восемь лет до начала Мидийской войны (в 487
году), а на Сусляных Дионисиях — спустя еще полвека, как
раз около того времени, когда появился на свет Аристофан.
Четыре поколения зрителей сменилось с тех пор, как под
именем трагедии старинный земледельческий ритуал
развалился из игрища, в котором человек из толпы мог стать
жрецом, на зрелище и ремесло. Афинский правитель
Писистрат за сто лет до появления на свет Аристофана
превратил в общегосударственные праздники деревенские
обряды в честь Диониса. К тому времени Афины сделались
всенародным культовым и административным центром
Аттики. В городе, противостоявшем отныне некогда
самостоятельным аттическим волостям и такой цитадели
жречества, какой был Елевсин с его кастой жрецов Деметры
и Пер-сефоны, появились первые театральные сооружения.
Они являли собой поначалу попытку упорядочить
старинный ритуал, группируясь вокруг общего центра —
жертвенника,,
алтаря,
ровная
площадка
которого
предназначалась для служителей, непосредственно занятых
магическими действиями: один вяжет скотину, другой
протягивает нож, третий воскуривает, четвертый возливает.
Место толпы — здесь же, рядом: в идеале между
жертвенником, жрецами и каждым и всяким не должно быть
ничего такого, что мешало бы слышать, видеть, обонять,
приобщаться. Поэтому чаша греческого театра с длинными
рядами ступеней внутри — вынужденная, единственно
возможная форма для сооружения такого рода. Точно так же
и на пиру в частном доме, приспособленном для
отправления обряда в кругу домочадцев,— топчаны
сотрапезников, если они не умещались в один ярус, делались
двухъярусными и даже трехъярусными, как это было в доме
Агафона.
Деревянные временные постройки, или попросту леса,,
окружавшие небольшую алтарную площадь-орхестру,
просуществовали недолго и уступили место амфитеатру,
грандиозной раковиной спускающемуся к орхестре, или,
дословно, «местам, с которых одинаково хорошо
видно».
Глубже укорененный в Аттике культ богинь родящей
пашни — Деметры и Персефоны,— распространенный к
тому же в самой богатой и людной части страны — в Елевсинской долине,— был колыбелью трагического театра.
Один из Елевсинских жрецов — Эсхил — сделал последний
шаг к отделению театра зрителей от орхестры
профессиональных служителей нового обряда: рядом с
запевалою хора, корифеем, на сцене появляется новое лицо
— «собеседник», «ответчик», «показушник» — актер.
Дионис и его спутники — сатиры, включенные в
стародавние обряды земледельцев Аттики,— выступали в
завершающей трагический спектакль драме сатиров уже на
рубеже VI и V столетий. Возможно, с сатирами, друзьями
Диониса, козлоногими, рогатыми и похотливыми, связано
само имя трагедии — «козьей песни». Этот божок
плодородия, по аттическому поверью, умножал козьи стада
и берег
от порчи овец. За сатирами торопятся в город силены —
остроухие бородачи с конскими хвостами, вечно пьяные,
вислопузые.
Вековая традиция Елевсинских мистерий надолго
определила характер трагического действия, но и лишенное
строгой
иерархичности,
свободное
от
кастовости
простонародное, деревенское, диковатое дионисийство, как
показывает драма сатиров, ужилось с Деметрой и
Персефоной, как в конце концов ужились фриасийские и
елевсинские пашни с виноградниками Икарии и восточной
Аттики. Да и первые театральные сооружения появляются в
краях виноградных и рядом с Дионисом Освободителем,
примыкая к его святилищам, как в театре Диониса в Афинах,
что на южном склоне Акрополя, как в Форике и Икарии.
Ведь Деметра-пашня и Дионис-гроздарь, по преданию,
явились в Аттику вместе. Деметра нашла радушный прием в
Елевсине, а Диониса встретил Икарий, по имени которого,
говорят, и была впоследствии названа та часть Аттики, что
возле Марафона. Икарий получил от Диониса виноградную
лозу.
Александрийский мифограф Аполлодор сообщает в
третьей книге своей «Вивлиофики», как крестьяне
«распробовали напиток и, найдя его волшебным, напились,
не смешивая с водой, сверх меры, а затем, сочтя себя
отравленными, убили Икария. Когда настало утро, и они
протрезвели, они похоронили убитого. Дочь его Эригона
стала искать повсюду отца, и собака Икария, которую звали
Майра, привыкшая всюду следовать за хозяином, показала,
где зарыт труп». Сатиры откопали неправедно убитого и не
по закону зарытого Икария и пристыдили крестьян. С тех
пор те не могут пить чистую кровь Диониса, но, смешивая ее
со слезами нимф, вспоминают по праздникам старинное
преступление, а сатиры, показав свою непременную силу и
власть, за каждым представлением трагической трилогии
вытаптывают орхестру козьим копытом, секут пропитанный
козьим духом воздух козьими своими хвостами. Сатирова
драма, теперь известная лишь по плохо читаемым
фрагментам, может быть, самая печальная из утрат
греческой драмы. По ее следам в театр Диониса пришла и
комедия. Как именно отделились беспокойные деревенские
жрецы, провонялые козопасы и виноградари-гроздари от
зрителей, собравшихся в театре, сказать трудно. Но важно
другое: тогда именно и появилась комедия.
О первых авторах ее слабо предание. Ясно, конечно, что
первым аттическим комиком был икариец. То был некто
Сусарий, сын Филинна. В награду за хорошее выступление
хора Сусарий получил корзину сушеных фиг и мех вина.
Были когда-то знамениты и Милл, притворявшийся глухим,
и икариец Гагн, и косноязычный Екфантид по прозвищу
Дымарь. Одни имена. Ни строчки. Более или менее
достоверные сведения о старой аттической комедии
относятся к 30-м годам V столетия, или ко времени, когда
комедия была принята в театрах Форика, Икарии, Афин и
Пирея уже около полувека.
*
*
*
«Самое трудное дело на свете — писание комедий», и Аристофан мог
понять это задолго до того, как сам взялся за него. Дело даже не в том, что
комедиографу надобно придумать сюжет, в то время как трагик
обращается к уже готовому мифу. Трудность — в самой природе смеха,
что просыпается у зрителей.
Каркас педагогической интриги в первой комедии Аристофана так,
кажется, прост и прямо связан с афинской исторической реальностью
последней трети V столетия. Рассказ о двух братьях, получивших один —
традиционное, другой — модное воспитание, отсылает нас к 30—40-м
годам века, когда в Афинах объявляются новые учители и воспитатели —
софисты Протагор, Горгий и другие, в основном иностранцы, немедленно
попавшие под огонь пестунов-традиционалистов — грамматистов,
кифаристов и гимнастов,— через руки которых проходили все афинские
головы, пока обладатели их не достигали совершеннолетия. На таком
конфликте, в силу его постоянства не утратившем значения для
Аристофана и позднее, в течение многих столетий будет построена еще не
одна пьеса. Но историческая плоть, облекая этот каркас в комическом
театре V века, нуждается в прояснении. Ведь даже если нам удастся
убедить себя в том или ином значении слова, фразы, сюжета, мы никуда
не уйдем от людей, сидящих в театре Диониса на местах, закрепленных за
ними, в проходах, разделяющих секторы амфитеатра, стоят жезлоносцы,
вооруженные дубинками. Зрители, собирающиеся в честь праздника со
всей Аттики, сидят, развалившись на подостланных матрасах, и на
протяжении разыгрываемого действа сосут винцо из бурдюков, что по
традиции означает одобрение пьесы, или жуют финики и сушеные
смоквы, демонстрируя неудовольствие, а то еще грызут каштаны и орехи,
разбрасываемые прямо из орхестры в театр актерами: этот остаток
первобытного земледельческого ритуала, впрочем, уже выходил из
употребления в начале IV века. Неизвестный комедиограф, старший
современник Аристофана, говорит: «Настоящий поэт должен получше
угостить зрителей, чтобы каждый ушел — как
с роскошного пира,— напившись и наевшись того, что нравится, чтобы в
музыкальных соусах не было недостатка». Но над чем смеется толпа
валяльщиков шерсти, башмачников, цирюльников, зеленщиков,
кожевников, горшечников, канатчиков? В чем разносолы, обещанные
безымянным комиком, и где сама соль? Во всяком случае, не там, где нужно
размышлять. Недаром Евполид, не раз побеждавший Аристофана,
говорит Афинам: «О город, ты скорее счастлив, чем умен!»
К концу драматического состязания большинство зрителей, во всяком
случае, могло и не отдавать себе отчета в том, что происходит там, внизу, на
орхестре. Хорошо слышен «музыкальный соус» — хриплые флейты да
скрипучие кифары, бьющий в лоб похабный анекдот, терпкое вино кордака
— танца до седьмого пота. Аттический крестьянин V—IV веков недалеко
ушел от своих предков и от своих богов, впервые явившихся предкам.
Именно этот зритель — козопас или мельник, каменщик или угольщик —
будет оставаться для нас трудно разрешимой загадкой.
Когда Деметра, оскорбленная тем, что владыка подземного царства
Плутон похитил дочь ее, Персефону, явилась в Елевсин в облике плачущей
нищей старухи, развеселить ее вызвалась одна крестьянка, служанка Ямба, и
сделано это было самым простым, как говорят, способом. Что было сил
выругавшись, Ямба задрала свой и без того короткий подол перед носом
Деметры. Богиня увидела и рассмеялась. Смех ее, означающий, заметит
специалист, возвращение к матери-Земле любовной и плодоносящей силы,
вызывали с тех пор каждый год аттические крестьяне, называя ям-бистами
тех, кто носил по городу искусно сработанный фалл-чудодей, любезный
земле, ожидающей вспашки. Ритуальная ругань — чем забористей, тем
действенней — сопутствует с тех пор любому празднику земледельца.
Заставить рассмеяться несмеяну (таков эпитет Деметры, печально сидевшей
возле бесплодной скалы над ручьем), да так, чтобы она не переставала
смеяться как можно дольше,— трудное дело. Ясно только, что суть этого
смеха — в прямоте и недвусмысленности.
***
Два братца из «Едоков» Аристофана учились у разных учителей. Один
— у приверженцев старинных устоев: у грамматиста, устрояющего
надежную гомеровскую мудрость в голове своего ученика тем, как славно
заучит он избранные стихи Феогнида или Солона; у кифариста учится он,
ходя с любезным богам ин-струментом. А другой,
афинский франт,
берет уроки плетения словес проникающих прямо в душу, он учится у
знатока Фрака тому, что значит быть знатоком и как должно жить голо-
вой человеку с головой. Эти молодые люди знакомы зрителю слишком
хорошо, чтобы сидеть в театре ради выяснения того, кто же из них плох, а
кто хорош, или, чего доброго, ради разоблачения этих человечков, так
ретиво скачущих вон там, на сцене, в размалеванных тряпичных
намордниках-масках. Мы пришли веселиться, менять выдохшуюся кровь
в жилах на бродящее и молодящее вино — не на хиосское, наксосское,
лесбосское, а на свое, домашнее, едва созревшее. И мы смеемся, а не
высмеиваем других, как над собою смеялась Деметра, обруганная
последними словами, как площадная девка, и увидавшая под подолом
грязной Ямбы свое святилище.
«Мы не выдумали смех —
Он приходит словно враг;
Ум его — как бы орех,
Не расколотый никак!»
Что нужно для этого смеха? Рассевшийся в театре афинянин V века не
задумывается, глядя на братьев из «Едоков», ни о системе воспитания, ни
о пагубе софистики, учинившей сквозняк в умственной атмосфере
государства: об этом он думает в городе, дома, на рынке, в цирюльне. А
здесь, справляя обряд, он обхохатывает куски своей прошлогодней жизни,
ведь все, над чем надорвешь животики, обернется приплодом, если боги
не спят.
Войти в сердцевину традиции ритуального смеха извне нелегко. Эта
традиция залегает тяжелыми пластами в толще крестьянской жизни
Аттики. Мир осмыслен здесь образами и категориями полового усердия,
мучительного ожидания и беспокойства, снятия плодов. Есть в этом мире
свое место у смеха. Он сопровождает колесницу Деметры на ее
праздниках, и только хохочущие сеятели бросают после пахоты семена
тмина в борозду. Смех помогает вырастить урожай, смех помогает родить.
Смеющийся жрец Диониса заклинает перед священной вспашкой:
«Эй, разверзнись, борозда!
борозда-зда-зда!
Бросим семя в борозду,
борозду-зду-зду! Будет
фруктус с борозды
за труды!»
У АГАФОНА
Пока уносят остатки пиршества и расставляют килики,
смотрят, не чадит ли лампа, не дымит ли жаровня, пока Федр
готовится к произнесению своей речи, Аристофан, при-
двинув ноги к жаровенке, замечает, что недаром и толкова-тели
сновидений (а впрочем, понять его можно было и по-другому: тем
же словом — ипокрит — афиняне называли актеров), так вот и
они говорят, что пить холодную воду хорошо для всех, а горячая
вода означает болезни и бессилие, ибо по природе вода не горяча.
Пить вино понемногу, из мелкой посуды, да не напиваясь
допьяна,— вот великое благо. Не ты ли, Сократ, говорил об этом
на ужине у Кал-лия, несколько лет назад, когда у него, если
помнишь, показывал своих акробатиков один сиракузянин. Ты
сказал тогда, что вино укрощает печали, как мандрагора —
человека, но как масло — огонь, так вино возбуждает сим-патию!
Я бы добавил, что дурно не только пить много вина, но и
находиться в большой компании собутыльников.
— Окажись тут молодой Кратил,— заметил Эриксимах,— он бы не замедлил поправить тебя, любезный, до
казывая нам, что вино-ойнос справедливо носит это имя,
ибо оно одного корня с онео, что значит «приношу пользу».
Вы же, друзья, сами после вчерашнего понимаете, что за
перепоем следует похмелье, а это состояние — источник вражды.
А посему предлагаю, воздавая почести Дионису, просить
Освободителя даровать нам только чувство взаим-ной симпатии. И
скажу я так же, как Меланиппа у Еврипи-да: «Вы не мои слова
сейчас услышите», а нашего Федра. Сколько раз Федр при мне
возмущался. «Не стыдно ли, Эриксимах, что, сочиняя другим
богам и гимны и пэаны,. Эроту, такому могучему и великому богу,
ни один из нас и никто из поэтов, а их было множество, не написал
даже похвального слова! Или возьми почтенных софистов: Геракла
и других они восхваляют в своих писаниях прозой, как, например,
достойнейший Продик. Все это еще не так удивительно, но
однажды мне попалась книжка, в которой превозносились
полезные свойства соли, да и другие вещи в таком роде не раз
бывали предметом усерднейших восхвалений, а Эрота до сих пор
никто не отважился достойно воспеть, и великий этот бог остается
в пренебрежении!» Федр, думаю, прав. Так отдадим должное
Федру, доставим удовольствие и ему, тем более что нам,
собравшимся здесь, подобает, по-моему, почтить этого бога. Пусть
каждый из нас, справа по кругу, скажет как можно лучше
похвальное слово Эроту, и первым пусть начнет Федр, который и
возлежит первым и является отцом этой беседы.
— Против твоего предложения, Эриксимах,— сказал
Сократ,— никто не подаст голоса. Ни мне, раз я утверж
даю, что не смыслю ни в чем, кроме любви, ни Агафону с
Павсанием, ни, подавно, Аристофану — ведь все, что он делает,
связано с Дионисом и Афродитой,— да и вообще никому из тех,
кого я здесь вижу, не к лицу его отклонять. Правда, мы,
возлежащие на последних местах, находимся в менее выгодном
положении; но если речи наших предшественников окажутся
достаточно хороши, то с нас и этого будет довольно. Итак, в
добрый час, пусть Федр положит начало и произнесет свое
похвальное слово Эроту!
Все как один согласились с Сократом и присоединились к его
пожеланию. Но всего, что говорил каждый, Аристодем не
запомнил, да и Аполлодор не запомнил всего, что пересказал ему
Аристодем.
Глава 1
«АФИНЯНЕ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ НЕ ИМЕТЬ ПОКОЯ САМИМ
И НЕ ДАВАТЬ ЕГО ДРУГИМ»
Если ночью тебе приснится, что ты облысел и лоб твой осеняет
блестящая плешь, авторитетно сообщает Артемидор Далдианский, значит,
и тебе суждена доля насмешек и неудач на нынешнем твоем поприще. Если
же во сне нащупаешь, что лысина образовалась у тебя на макушке, знай: в
старости ждут тебя бедность и бессилие. Ну а, по счастью, обнаружив во
сне, что лыс, как колено, пойми это как благое предзнаменование — для
бегущего, ибо он убежит без помех, для испуганного, ибо никто не возьмет
его силой: ухватить не за что. А вот для всех остальных это означает
потерю главного украшения их жизни.
Аристофан облысел наяву и будучи еще молодым человеком. Судя по
тому, что сбылось в его жизни, первые проплешины появились у него надо
лбом. Старшие комики научили его обращать внимание на голову и
прическу так рано, что, стыдясь поспешного продвижения залысин к
темени, Аристофан сделался похож на силена, и прозвище Плешивый не
отставало от него даже в те лета, когда, скорее, отсутствие плеши выделяет
человека среди сверстников.
Если, однако, и была голова в Греции, возбуждавшая комедийную
страсть, то это была голова Перикла. Аристофан был еще прилежным
учеником своих учителей, когда сын Ксанфиппа Перикл, вождь народа и
один из десяти афинских воевод (занимавший эту должность по-гречески
звался «стратегом»), был впервые назван сначала Тыквенной башкою,
потом — Зевесом-голова-луковицей и Фисташкой. Чем шире шагал
Перикл, утоляя свое честолюбие и рвение руководителя, тем язвительнее
на каждых новых дионисийских празднествах жалили слугу народа слуги
Диониса.
За семнадцать лет до начала Пелопоннесской войны, в 447 году, над
головою толп, сошедшихся в театр Диониса, на южном крыле Акрополя
началось строительство. В отрогах Парнета тесали мрамор, сотни быков
везли его в Афины, тысячи рук втаскивали на Акрополь и здесь стали
строить храм покровительнице города — великой богине-воительнице,
хладнокровной и мудрой Афине. Занявший господствующую над городом
высоту, Парфенон был достроен за год до начала войны. Там в золоте и
слоновой кости стояла Афина. Сквозь почти прозрачный у поверхности
мрамор тяжелых квадров, составивших храм, вдруг зловеще блеснут
Невидимые зернышки металла, и мысль афинян обращается к тому,
что собрано в недрах храма за бесчувственным хором дорических колонн,
за спиною богини, в сундуках из бурого камня, спрятанных от солнца за
торжественным каре колонн ионических: здесь золотые чаши и чаши из
электрона, венки, щиты, шлемы и золоченые мечи, серебряные
вызолоченные маски, бронзовые грифы, золотые змеиные головы, крепко
схватывающие пряжки с орлиными клювами, складные металлические
сиденья, шитые золотом азиатские балдахины, статуи из слоновой кости,
дорогие лиры, хиосские и милетские головы, пурпурные плащи, колчаны,
по-мидийски отделанные и содержащие в одной отделке все свое
воинское богатство.
Это богатство и погубило Афины. Строились новые корабли,
начинались новые войны. «Город,— говорил Перикл,— достаточно
снабжен необходимым для войны, поэтому излишек в денежных
средствах следует употребить на постройки: все ремесла будут оживлены,
никто не станет сидеть сложа руки, весь город будет служить на
жалованье и сам заботиться о своем благоустройстве и пропитании».
Афины кипели — в ход пошли лес и камень, медь, слоновая кость, золото,
черное дерево и кипарис.
За два десятилетия небывалого строительства в центре крестьянской
Аттики вырос настоящий город, со своими скульпторами, лепщиками,
медниками, каменщиками, красильщиками, золотых и серебряных дел
мастерами, токарями по слоновой кости, художниками, делающими
орнаменты, бесчисленными купцами, тележниками, коннозаводчиками,
извозчиками, канатчиками, ткачами, шорниками. Перенаселенный город
отправляет все новых колонистов — на острова, во Фракию, в Италию.
«Все, что было хорошего на Сицилии или в Италии, на Кипре, в
Египте, в Лидии, на берегах Понта, в Пелопоннесе или где бы то ни было,
все свозилось в Афины»,— рассказывает современник. Из Фурий,
кажется, колонии, основанной на месте знаменитого Сибариса, попала в
Афины и мода на жаркие бани, а из Карфагена — на пестротканые ковры
и пузатые подушки; египтяне везут папирус, ткань для парусов и крепкие
снасти для нового флота; Сирия шлет благовония, Геллеспонт — селедку,
Пафлагония — сладкие каштаны и маслянистый миндаль, Родос —
кишмиш и инжир, славный Крит — кипарис для богов, Сиракузы — сыр и
поросят, Италия — зерно и скот, Фригия — рабов, Аркадия — наемников,
Финикия — айву, пшеницу и, конечно же, финики; из Кирены везут
инкрустированные рукоятки мечей и легкие щиты, обтянутые бычьей
кожей.
Были укреплены гавани в Пирее и Мунихии, а Иктин, тот, что строил
Парфенон вместе с Калликратом, соединил Афины с Пиреем длинными
стенами. Архитектором, или главным инженером, был на строительстве
друг Перикла, скульптор Фидий, сын Хармида,
состарившийся и, к слову сказать, совсем облысевший за время
строительства. Под его надзором Мнесикл всего за пять лет построил
Пропилеи — торжественные врата, ступенями вводящие на Акрополь.
С этим строительством (не без наущения самого Перикла) народ
связывал участие богов в делах Афин. Вот что, по рассказам кого-то из
современников,
передает
Плутарх:
«Замечательный
случай,
происшедший во время постройки, доказал, что Афина не только не
имела ничего против нее, но еще принимала близкое участие в работе.
Один из самых старательных и расторопных мастеров оступился, упал с
высоты и расшибся так сильно, что лекаря отказались лечить его.
Перикл был опечален. И вдруг ему является во сне богиня и называет
снадобье, воспользовавшись которым Перикл скоро и без труда
вылечил больного. В память этого он поставил в Акрополе, возле
алтаря, находившегося там и раньше, медную статую Афиныцелительницы».
Новшества, принятые в Афинах во времена Перикла, современники
связывали, конечно, с желанием этого человека надолго оставить свое
имя в памяти сограждан. Даже персидская мода, что должна была бы
напугать афинян, так недавно встречавшихся с персами на суше и на
море, пришлась им по душе: из весел и мачт персидского флота
построенный Периклом Песенный зал для мусических состязаний, или
Одеон, имел покатую конусообразную крышу, несколько рядов
сидений амфитеатром и колонн: за образец, говорят, была взята палатка
персидского царя. Комедиографы, сопровождавшие весь ход
строительства вышучиванием и полагавшимися по такому случаю
издевательствами, не могли пройти мимо явного сходства Одеона
Перикла с кожаным шлемом, призванным скрывать луковую голову
воеводы. «Вон идет Зевес-голова-луковицею, Периклес, с Одеоном на
макушке»,— дразнил его Кратин.
Вот первая загадка аттического смеха: на протяжении всего
строительства, многочисленных войн, которыми украшал Перикл себя
и свой город, комедиографы на Дионисиях — и чем дальше, тем
больше — последними словами называли сего государственного мужа.
«Собиратель голов», «самый длинный язык в Элладе», «царь сатиров»,
да еще Фидий устраивает ему встречи с женами его же друзей, а
Пириламп, перенявший у персов любовь к пестро-хвостым павлинам,
дарит приплод своей небольшой фазаньей фермы любовницам вождя
народа, а сам вождь, не довольствуясь всем этим, нашел себе
милетянку-гетеру и открыто живет с нею.
Все больше огораживающиеся Афины матросов и ремесленников,
воевод, казнокрадов и сутяг словно живут одной жизнью, а
крестьянская Аттика, в напряженном слежении времен года и бурном
чествовании своих богов,— другой. Пересекаясь на Дионисиях в
театре, два мира эти поначалу не мешали друг другу
в повседневной жизни. Комедиографы, осмеивая Афины, своих стратегов
и свою политику, не вмешивались, однако, когда после праздников
наступало время заниматься теми же делами всерьез, не их это было дело.
Точно так же и воеводы — политики-профессионалы, наблюдая во время
театральных представлений на Дионисиях себя и свои действия в жгучем
соусе анекдота, не хватались за копья и луки, не бежали, стуча
сандалиями, за жезлоносцами, ибо древний обряд комедии
предусматривает для них, здоровых и богатых, облеченных властью и
почетом, только такую роль.
Жизнь города течет как будто по двум руслам: руслу обряда и руслу
истории. Человек в них пребывает одновременно. Исторический Перикл
строит Парфенон, ведет жестокие войны, он храбр и презирает толпу, но
благочестив и велит расставить по всему городу статуи богов, чтобы не
одни только гермы вострились на каждом углу. Комический Периклбашка-тыквою тщится выглядеть Зевсом, а подражает персидскому царю,
делает вид, что строит новый город, а строительство не двигается с места,
хочет воевать, но труслив и прячется в постели своей милетской красотки.
В обоих Периклах все — чистая правда, но первый Перикл — олимпиец,
афинский политик и вождь народа, а второй — аттический житель на
Дионисиях, выскочка, с которым община должна поговорить на своем
языке. И она говорит. А Перикл молчит, соблюдая неписаный закон
традиции.
Этому способствовало, впрочем, и то, что Аттика и Афины, составляя
вместе «народное тело», не были однородны и встречались помимо базара
только в праздник. Но могучие боги, общие боги сломали гармонию дела
и смеха, грубую схему которой мы только что миновали, но еще долго
будем нуждаться в ней.
Содержательницей одного из увеселительных домов местечка Скир
(учредил их еще великий Солон) была дочь некоего Аксиоха из Милета,
носящая обычное для женщин ее профессии прозвище — Желанная, или
Аспасия. Ее-то и полюбил наш афинский громовержец. В романической
истории Э. Курциуса, знаменитого историка XIX века, она «приковывала
к себе сердца не какими-нибудь заученными чарующими средствами —
это была натура высокая, одаренная глубоким пониманием всего
прекрасного, необыкновенно счастливо и гармонично развитая. Впервые
увидали афиняне все сокровища эллинской культуры, соединенные в
женщине, и с изумлением взирали на это чудное явление. Настоящее же
значение для Афин она получила с того дня, когда узнала Перикла и когда
между ними возникла взаимная любовь; прочная связь, в которую
вступил с нею Перикл (он в самом деле выдал свою первую жену замуж
за другого, чтобы жить со своею, как сказано у Плутарха, «горячо
любимою Аспасиею»), доказывает,
что отношения их опирались не на жажду наслаждения или на мимолетный
порыв. Это был истинный брачный союз, не получивший общественного
признания только потому, что Аспасия была иностранкою; это был союз,
основанный на преданнейшей и нежнейшей любви и расторгнутый только
смертью, союз, бывший источником обильнейшего семейного счастья, в
котором никто так не нуждался, как этот удалившийся от всех внешних
развлечений и неутомимо трудящийся государственный человек».
Для Аспасии выбирал Перикл пестрейших павлинов Пирилам-па, а в
городе ее звали Деянирой, погубившей своего Геракла, Омфалой, от любви
к которой лишился рассудка Одиссей, и даже Герой, совлекающей —
вместе с одеждами своими — Зевеса-суп-руга с путей «неутомимо
трудящегося» бога. Из-за Аспасии, говорят, Перикл начал войну с
самосцами, разбившими милетян, ее земляков. Но дела приняли совсем
дурной оборот, когда
«...в Мегаре пьяные молодчики Симетту,
девку уличную,
выкрали. Мегарцы,
распаленные обидою,
Двух девок тут
украли у Аспасии.
И вот причина
распри междуэллинской:
Три уличные
девки. Грозен, яростен
Перикл, великий
Олимпиец молнией
И громом небеса
потряс, страну потряс, Издал приказ, скорее,
песню пьяную:
«Изгнать мегарцев с рынка
и из гавани, Мегарцев гнать и на земле и на
море!» Изголодавшись,
в
Спарту
за
подмогою Мегарцы обратились, умоляя их
О
девках
изменить
постановление.
Просили нас довольно — мы не сжалились.
Тут лязг мечей раздался и доспехов стук» *.
Стихи эти выкрикивал со сцены мужичок Дикеополь из Аристофановых «Ахарнян», когда Пелопоннесской войне шел уже шестой год, и,
как спустя несколько столетий напишет Плутарх, «трудно было решить, изза чего собственно началась война». Афинские острословы говорили, что
хоть в одном Пелопоннесская война напоминает Троянскую: обе развязаны
из-за женщин. Но три богини, поссорившиеся из-за яблока и Елена,
похищенная Парисом, а рядом — три проститутки и содержательница
притона. Вот до чего ехидна греческая история!
* Цитаты из сохранившихся комедий Аристофана приводятся в переводе
Адр. Пиотровского, фрагменты — в переводе автора.
Итак, война началась, и именно это заставило Аристофана прервать
обучение у кого-то из афинских педологов. Он оказался в среде гроздарей
и пахарей, пастухов с собаками и овцами, жирных мельников и
угольщиков из Ахарн, тощих гиметтских пасечников, которые собрались
в Афинах в ожидании нападения спартанского войска под
предводительством царя Архидама. Предоставляя спартанцам разорение
Аттики, Перикл снарядил флот для нападения на пелопоннесский берег.
В разгаре лето,
«...город
весь
исполнился
Военных
криков,
триерархов
гомоном,
Наем,
продажа,
кормы золоченые,
В
амбарах
давка,
лавки
осажденные,
Меха,
кадушки,
поручни
дубленые,
Чеснок,
оливки,
луковки
сушеные,
Венки,
селедки,
пьяницы,
танцовщицы,
А
в
гавани
удары
весел
поднятых,
Уключин визг, матросов свист, горнистов писк,
Рожки, фанфары, флейты, барабанов бой».
Аристофан оставался в городе, когда афинский флот из сотни
трехрядных кораблей (на каждом таком корабле умещалось от двух до
пяти сотен команды и десанта, но почему он, собственно, назывался
трехрядным, точно не установлено: то ли гребцы сидели в три яруса, то ли
втроем работали одним веслом), так флот был отправлен к Пелопоннесу, а
сухопутное войско во главе с Периклом разоряло окрестности
пограничной Аттике Мегариды, пока спартанцы, которых привел
Архидам, услышав о нападении афинского флота, срочно ретировались за
Истм.
За два года Архидамовой войны облик города совершенно
переменился. И дело не только в том, что затихало грандиозное
строительство, затеянное Периклом. Неудачливый лохаг * из Галимун-та,
написавший впоследствии историю этой войны, сын Олора Фу-кидид
рассказывает, что крестьяне Аттики пришли в Афины в самый разгар лета,
не успевши снять урожай, когда Архидам уже приступил к опустошению
Елевсинской и Фрийской долины, прогнал афинскую конницу возле
соленых Рейтов и верстах в восьми от Афин (или, по аттическому счету, в
60 стадиях) остановился лагерем в местечке Ахарны. Когда бежавшие с
насиженных мест крестьяне «явились в Афины, то помещений там
нашлось для немногих; кое-кто нашел приют у друзей или родственников.
Большинство же поселилось на городских пустырях, во всех святынях
богов и героев, за исключением расположенных на Акрополе и не* Командир кавалерийского подразделения — лоха; звание, соответствующее
есаулу.
которых других, крепко запертых святилищ. Под давлением нужды
заселен был даже Пеларгик, лежащий у подножия Акрополя и
необитаемый в силу заклятия. Многие устроились в крепостных
башнях и вообще где и как могли: город не мог вместить в себя
всех собравшихся; впоследствии они заняли даже длинные
стены,, поделивши их между собою, и большую часть Пирея».
Тесно стало и в одном из Кидафинских проулков, возле улицы
Треножников, где жил Аристофан. В городе, имевшем в
окружности меру дневного пути, не было воды: в летнюю жару
колодцы почти пересыхали, а единственный родник, знаменитый
Девяти-струйный Ключ, расположенный возле храма елевсинских
божеств — Деметры, Коры и Триптолема,— был заповедным.
Отсутствие питьевой воды вместе с необычайной скученностью
людей,; коз, овец, свиней и разнообразной птицы, а также,
конечно, собак и лошадей, довольно быстро привело к болезни,
успевшей за одну сезонную вспышку выкосить изрядное число
горожан. Недоброжелатели Перикла винили именно его в том,
что «летом множество людей принуждены жить в куче в хибарах
и душных шалашах, где негде повернуться, жить в праздности,
ничего не делая, тогда как раньше они проводили время на
чистом, вольном воздухе. Виной этому тот, кто во время войны
запер сельское население в стенах города, кто, не употребляя ни
на что массу людей, загнал их, как скот, и предоставил заражать
друг друга, не прибегая ни к каким средствам для перемены или
облегчения их положения». Не помогло и то, к чему решил
прибегнуть Перикл: он снарядил полтораста кораблей и осадил
Эпидавр, но во время осады болезнь вспыхнула и во флоте. Это
окончательно разрушило карьеру афинского «Зе-веса»: народным
собранием он был лишен звания воеводы и присужден к уплате
крупного штрафа. Дела Перикла шли под откос уже давно: был
осужден и умер в тюрьме при загадочных обстоятельствах
Фидий, обвиненный в оскорблении Афины — скульптор на щите
богини с наружной стороны среди персонажей битвы греков с
амазонками не постеснялся запечатлеть себя и Перикла рядом с
богами. Пришлось оставить Афины учителю Перикла —
Анаксагору; с трудом спас Перикл от осуждения свою, как
ласково прозвал ее один поздний комментатор, «учительницу» —
Аспасию. Затем умер сын, успевший перед тем обвинить отца в
связи с невесткой; и вот, повесив ладанку на шею, умирает он
сам. Аспасию берет себе овчар и купец Лисикл, друг Перикла.
Приходят новые люди, наступают новые времена.
У АГАФОНА
Когда за столом Сократ, даже загодя установленный
порядок пира нарушается, и в нем то тут, то там звучат
неожиданные нотки. Федр, собравшийся было начать свою
речь о любви по шаблону, сработанному специалистомсутягою, тоже оказался втянутым в какую-то странную
предварительную беседу: как ни старался, а свиток с текстом
своей речи от глаз Сократа спрятать Федр не сумел. Сократ не
подал виду, что свиток им замечен, но коварный змеиный
вопрос свой все-таки задал.
— А годится ли вообще, милый мой Федр, записывать
речи? И знаешь ли ты, как именно — делом или словом —
всего более угодишь богу, когда вопрос касается речей?
— Нет, а ты?
— Да ты не сердись, я ведь тоже могу только передать,
что об этом слышали наши предки. Они-то знали, как ты
думаешь?
— Смешной вопрос! Но расскажи, что же ты слышал.
— Так вот, я слышал, что близ египетского Навкратиса
родился один из тамошних богов, ему была посвящена птица,
которую называют Ибисом. А самому божеству имя было
Тевт. Он первый изобрел число, счет, землемерие, звездочетство, вдобавок игру в шашки и в кости, а также и
письмена. Царем над всем Египтом был тогда Тамус,
правивший в великом городе верхней области, который греки
называют египетскими Фивами, так же как того бога —
Аммоном. Придя к царю, Тевт показал свои искусства и
сказал, что их надо передать другим египтянам. Царь
спросил, какую пользу приносит каждое из них. Тевт стал
объяснять, а царь, смотря по тому, говорил ли Тевт, по его
мнению, хорошо или нет, кое-что порицал, а кое-что хвалил.
По поводу каждого искусства Тамус, как передают, много
говорил Тевту и хорошего и дурного, но это было бы
слишком долго рассказывать. Когда же дошел черед до
письмен, Тевт сказал: «Эта наука, царь, сделает египтян более
мудрыми и памятливыми, так как найдено средство для
памяти и мудрости». Царь же сказал: «Искуснейший Тевт,
один способен создавать произведения искусства, а другой —
судить, какая в них доля вреда и пользы для тех, кто будет
ими пользоваться. Ты, отец письмен, любишь их настолько,
что, говоря об их значении, ты сейчас сказал все наоборот. В
души научившихся им они вселят забывчивость, ибо лишится
упражнений память: припоминать станут, доверяясь письму,
по посторонним, внешним знакам, а не вну-
тренней силой, сами по себе. Стало быть, ты нашел средство не
для памяти, а для припоминания. И ученикам ты дашь видимость
мудрости, а не мудрость, так что они у тебя будут многое знать
понаслышке, не усваивая, и казаться многознающими, оставаясь в
большинстве невеждами, невыносимыми в общении.
— Ты, Сократ, легко сочиняешь и египетские и какие тебе
угодно повести.
— Рассказывали же в святилище Зевса Додонского, что слова
дуба были первыми прорицаниями. Людям тех времен — ведь они
были не так умны, как вы теперь,— довольно было, по их
простоте, слушать дуб или скалу, лишь бы только те говорили
правду. А для тебя, наверно, важно, кто говорит и откуда он, ведь
ты не смотришь только на то, так ли все на самом деле или иначе.
— Прости, Сократ; а с письменами, видно, так оно и есть, как
уверял тот фиванец.
— Глуп и тот, дорогой мой Федр, кто рассчитывает
запечатлеть свое искусство и знание в письменах, и тот, кто
надеется вновь извлечь его из письмен нетронутым и годным к
употреблению. Оба чрезвычайно простодушны и, в сущности, не
знают прорицания Аммона, раз они записанную речь ставят выше,
чем напоминание человека, сведущего в том, что записано. В этом,
Федр, ужасная особенность письменности, поистине сходной с
живописью: ее порождения стоят как живые, а спроси их — они
величественно молчат. То же самое и с сочинениями. Думаешь,
будто они говорят, как мыслящие существа, а если кто спросит о
чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда
твердят одно и то же. Всякое сочинение, однажды записанное,
находится в обращении везде — и у людей понимающих и, равным
образом, у тех, кому вовсе не пристало читать его,— и не знает, с
кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или
несправедливо ругают его, оно нуждается в помощи своего отца, а
само не способно ни защищаться, ни помочь себе.
Потому-то, если сочинитель составил свои произведения, зная,
в чем истина, и может защитить их, когда кто-нибудь станет
проверять его сочинения, и если он способен на словах указать на
слабые стороны им написанного, то такого человека следует
называть не по его сочинениям, а по той цели, к которой были
направлены его старания.
— Как же ты предлагаешь его называть,— спросил Федр.
— Название «мудрого», Федр, по-моему, для него слиш-
ком громко, и пристало только богу. Любитель мудрости,
философ, или что-нибудь в этом роде, вот что больше подходит для
него и звучит получше.
Ну а у кого за душой нет ничего более ценного, чем то, что он
сочинил или написал, кто долго возился со своим произведением и
так и сяк, то склеивая его части, то уничтожая их,— того ты, по
справедливости, назовешь поэтом?
Федр согласился с Сократом и решил говорить сам. Другой
немаловажный недостаток записанного сочинения был лучше
известен Аристофану, внимательно прислушавшемуся к тому, что
говорил Сократ.
Глава 2
ХОРОШИЕ СТАРИННЫЕ ПРАВИЛА ПИСАНИЯ КОМЕДИЙ
Его дразнили «рожденным с четвертой попытки» за то, что первые свои
три комедии он только написал сам, а поставлены они были Каллистратом и
Филонидом. Участившаяся с тех пор практика передачи своей пьесы
другому лицу была редкостью в годы, когда Аристофан начинал. За два же
поколения до него комику зачастую вообще не приходилось записывать
текст комедий: пестрый обрядовый арсенал заполнял и основную сюжетную
линию действия и большинство его рукавов. Только «парабаса», или «выход
к зрителю», в котором автор заговаривал с публикой от первого лица и
касался злобы дня афинского, так вот только этот выход и мог требовать
специальной записи. По столь прозаической причине уже у ближайших
потомков такого, кажется, замечательного комика, каким был Магнет, не
осталось почти никаких надежных о нем сведений.
«Вот и Магнет старинный был вами забыт, с сединами
познал он бесчестье,
Хоть без счета он славных трофеев воздвиг, побеждая
противников хоры, Хоть
на разные пел ради вас голоса, по-лидийски играл
и на лире, И
по-птичьи порхал, и пчелою жужжал, и веселой
лягушкою квакал, Да
себе не помог. Только старость пришла, позабыта
победная юность».
Схолиаст (византийский комментатор) «Всадников», где предводитель
хора от лица Аристофана произносит эти слова, объясняет порхание и
кваканье тем, что Магнет вывел якобы на сцену ряженых — хоры птиц, пчел
и лягушек. Есть, говорит, краска такая, лягушаткой называется, которой
Магнет вымазал лица актеров,— тогда еще не выдумали масок,— поясняет
схолиаст,— а также и гиматии, которые за эту свою болотную окраску
получили название лягушачьих плащей.
Тут нужно заметить, что поверх исподнего, которое по-гречески
называлось соматием и в котором актер издали казался совсем голым,
надевались хитон и гиматий. Цвет гиматия говорил о своем Персонаже не
менее определенно, чем реплики актера или хористов, вот почему, как
свидетельствует знаток Поллукс, наименование одежд надобно связывать не
с животными прототипами вроде лягушки, но лишь с условным языком
цветов. А впрочем, что точно означали перечисленные Поллуксом плащилягушатки, или
цвета морской волны, или пурпурные, или гнедые, сказать трудно.
Благоразумие требует признать, что язык плащей моложе языка петухов и
лягушек, ос и лошадей. Хористы, обряженные разными птицами,
засвидетельствованы бесспорно на греческой вазе начала V века,
хранящейся в Британском музее: два бородача, одетые удодами, пляшут
под звуки двойной флейты на фоне длинных ветвей маслины —
священного дерева Аттики. Но вазы вазами, а отсутствие писаного
сценария лишает нас и большей части сатировой драматургии.
Правда, записать еще не значит сохранить: от «Едоков» и
«Вавилонян», второй комедии Аристофана, остались рожки да ножки,
счет сохранившимся комедиям мы ведем с третьей — с «Ахарнян», и
ставил ее тоже Каллистрат, многоопытный актер и наставник труппы. С
Аристофаном они были вдвойне земляками: и по Эгине, острову в
Саронском заливе, где, как считается, родился Аристофан и где у
Каллистрата был надел земли, и по Кидафинам, где оба проживали. К
тому же в начале 20-х годов Аристофан был еще слишком молод и едва
ли сумел бы как должно наставить свой хор — это было трудное дело.
Прежде всего требовалось «попросить» хор, потом тебе его «давали»,
давал разрешение архонт («начальник» или «заведующий»), назначавший
хорега — богача, несшего (в порядке выполнения почетного долга перед
отечеством) расходы по содержанию всей постановки. Драматургу
оставалось поставить вещь на сцене. И тут все — от мизансцен до
куплетов и танцев — лежало на наставнике хора, которым часто
оказывался сам драматург. Особенно прославился когда-то Эсхил,
придумавший, говорят, пышные костюмы, декорации и замечательные
новые танцевальные фигуры. К тому времени, однако, когда начинал
Аристофан, разделение труда уже проникло в театральное дело.
«Удивлялись нередко друзья, почему до сих пор не просил
у архонта
Для себя он актеров и хора; так вот, что просил через
нас передать он:
Не без разума так поступает поэт и не в страхе, но так
полагая —
Комедийное дело не шутка, но труд. Своенравна комедии
муза,
И хоть многие ласк домогались ее, лишь к немногим она
благосклонна».
Так в парабасе «Всадников» голова хора объясняет, почему только
четвертую комедию свою Аристофан поставил самостоятельно. Да и к
вам, зрители афинские, бросаться в объятия боязно:
«И любви вашей цену он знает. Она кратковечна, как летние
травы.
И любимцев былых, только старость придет, предаете вы
быстро забвенью».
Может быть, Аристофан серьезнее других относился именно к
литературной отделке своих сочинений и больше походил на тех, кто, по
словам Сократа, «долго возился со своими произведениями и так и сяк,
то склеивая его части, то уничтожая их».
Вторую свою комедию — «Вавилоняне» — он отдал на постановку
Каллистрату спустя всего два месяца после Сусляных Дионисий, где
вторую награду получили «Едоки». Великие Дионисии, для которых были
написаны «Вавилоняне», проходят куда пышнее остальных праздников
Диониса. Со всех союзных островов сплываются в Афины данники:
празднуя главный праздник Диониса, они вносят вклады в общую
союзническую казну, хранящуюся с недавних пор в Афинах, на
Акрополе. И вот в театре Диониса, что у Акрополя, при полном стечении
как своих, так и гостей представляют комедию «Вавилоняне».
«Богатый златом» Вавилон, с «смешанным-перемешанным», как
назвал его Эсхил, человечеством своим,— вот хор комедии; интриганы и
жуликоватые афинские чиновники, обкрадывающие общую казну,— вот
актеры...
Война, разорившая Аттику,— за три года спартанское войско трижды
опустошало плодороднейшие долины, пока аттическая деревенщина
толпилась в Афинах и за Длинными стенами либо ломала копья за
границей,— война и привела к тому, что единственным источником
существования для афинского государства сделался союзный фонд. Война
уносила лучших и деятельнейших афинян, взамен подарив городу сброд,
умевший только драть глотки на сходке. Старики, непригодные к
схваткам и одуревшие от безделья и, наверное, голода, быстро
прибавляющие в числе инвалиды и теряющие мирное ремесло воители,
мастеровые и крестьяне, галдящие на базаре и в цирюльнях,— вот они,
новые Афины.
Самые отпетые крикуны — демагоги (с тех самых пор это слово
приобрело свое нынешнее значение), избранные на важные должности,—
входили во вкус государственной деятельности и правили хрупким
суденышком власти с невозмутимостью пьяных корабельщиков.
Представляя на сцене этих молодых сыновей афинской демократии,
комедиограф попадал в трудное положение, куда более трудное, чем даже
пять или десять лет назад, когда ему приходилось выводить на сцену,
скажем, ряженого Периклом.
Балаганная, безалаберная возня, плясовая суматоха и шум,
цементирующие действие аттической комедии, мало-помалу стано-
вились основными признаками афинской политической жизни. И хотя в
целом сценическая площадка и атмосфера театра служили достаточным
водоразделом между повседневной жизнью и ее комедийным
переживанием, они могли вдруг сближаться, и в точке сближения
проскакивала болезненная искра.
Называвший себя «сторожевым псом народа» Клеон, человек новой
формации, «хрюканьем перекормленной свиньи» возбуждающий толпу на
собраниях. Клеон, чьи речи Аристофан уподобляет чавкающей жиже
Киклобора, афинской клоаки, Клеон даже людям сдержанным казался
скорее новомодным шутом, чем традиционным «любимцем народа» типа
Перикла. Когда остальные еще вели себя пристойно, Клеон уже начал
кричать на собраниях, украшая свою речь сквернословием и заголяясь. Он
глоткой прорвался к влиянию и затем к власти почти так же, как
расположения публики добивались старые комедиографы, нанизывающие
сальность на грубость и резкость на терпкость.
Демагог, легко узнавая себя в персонаже комедии, либо даже просто в
куплетах актеров и припевках хора, не может теперь по старинке, вместе
со всеми, предаваться вековой стихии обряда, не лишающего его как
политика ни власти, ни должностей, ни влияния. Теперь они — Клеон и
его комедийный дразнила — одного поля ягоды: глядеть на то, как Клеон
первый витийствует в собрании, проходящем иной раз здесь же, в чаше
театра, и глядеть на то, как отплясывает Клеон второй в разрисованном
искусным бутафором наморднике,— это значит глядеть на одно и то же.
Ко всему еще и насмешки над недалекими афинскими союзниками,
позволявшими афинянам расхищать союзную казну, раздавались в тот
день в театре, заполненном частью самими союзниками, а это удваивало
силу любой нападки. Высмеянные при чужих должностные лица и
любимцы народа, в первую очередь демагог Клеон, свой, крутого замеса,
кожевник, не могли стерпеть благосклонного, кажется, отношения
публики к поставленной Каллистратом комедии.
Приезжий сказал бы, что первых правителей афинских скорее можно
узнать по наглости, с которой оскорбляют их, нежели по знакам их
достоинства. Короче говоря — а говорить короче разочарованного
читателя заставит то, что комедия «Вавилоняне» не сохранилась,—
Аристофану гораздо меньше повезло с его вторым сочинением, чем с
первым. Хоть поставлены «Вавилоняне» были под чужим именем, текст
— это знали все — принадлежал его руке (вот она, опасность записи, не
названная Сократом!), его-то и привлек к суду Клеон, сын кожевника,
человек нрава буйного и неукротимого, не имеющий, как думали
приверженцы старинных взглядов, никаких дарований, предполагаемых в
участнике государственного правления.
Обвинение включало два параграфа. По первому Аристофан
объявлялся иностранцем, самовольно всучившим свою комедию для
постановки на Великих Дионисиях, где состязаться могли лишь исконные
афиняне. Хотя невиновность комика по этому пункту обвинения и была
доказана, а параграф об иностранном происхождении был весьма
распространенным в афинской сутяжной практике, всякое обвинение
такого рода таило серьезную опасность: ведь следствия в Афинах не вели,
и победу одерживал тот, кто убедительнее своего оппонента выступит
перед судьями. Обвинение же в иностранном происхождении в городе,
где официально зарегистрированные иноземцы — метэки — не имели
политических прав, должно было вылиться в лучшем случае в изгнание
Аристофана из Афин.
Количество дел по этому обвинению возросло в особенности теперь, в
первые неспокойные годы Пелопоннесской войны. Пользуясь
неразберихой военных приготовлений и скученностью населения, метэки
и даже рабы греческого происхождения ухитрялись иногда вписывать
себя каким-то образом в списки полноправных граждан, а сами афиняне
из какой-нибудь корысти могли заявлять о незаконном присвоении теми
прав гражданства. Пока такого рода обвинения раздавались на
Дионисовых праздниках в театре, публика расценивала их только как
необходимую черточку того или иного комического персонажа: таков
«пафлагонец» Клеон, «фракиец» Клеофон, «фригиец» Гипербол. Но
другая сценическая
площадка — одно из афинских судилищ — отнесется к тому же
обвинению иначе. Правда, сам Аристофан, родившийся на Эгине и,
возможно, живший там, когда Каллистрат ставил его «Едоков», не терял
афинского гражданства своего отца Филиппа и матери Зенодоты и был
прописан по Кидафинам. Второй параграф, объясняет нам схолиаст,
вменял в вину Аристофану оскорбление афинского народа и его вождей.
Весною, на Великих Дионисиях, где Аристофан осмелился — пусть через
подставное лицо, состязаться в искусстве с маститыми комиками, стихают
морские бури, расчищается небо над Саронской переправой, и в Пирее
швартуются корабли и корабли союзников; самые почетные гости
являются в театр. «Внушать презрение к должностным лицам гораздо
опаснее на празднествах общественных, где также присутствуют
иностранцы, нежели на сборищах одних только сограждан того, который
являлся предметом сих осмеяний. Даже надлежало бы всегда некоторым
образом укрывать погрешности, а не выставлять их на посмеяние целой
Греции, ибо тогда Уже они неизгладимы!» Так или около того мог бы
прозвучать и голос Клеона, когда он тягался в суде с Аристофаном.
Только Клеон был крут, груб, зол, он был хам.
Но и по второму параграфу обвинения Аристофан был счастли-
во оправдан, ибо — так мог бы звучать голос либерального адвоката —
«афиняне, хотя с удовольствием смотрят в театре на обвиненных, а
иногда даже оклеветанных величайших чиновников своих, осмеянных со
всею вольностию и дерзостию комедиографов, но предоставляют первым
распоряжение дел и не возжигают за это ни зерном менее фимиама на
алтарях последних!».
Правда, за два последующих года Аристофан на Великих Дионисиях
не показал ни одной комедии и, как человек (по убеждению одного
ученого византийца) осторожный, выставил две комедии на Дионисиях
Сусляных, где и хористами и хоровиками могли выступать метэки. Хотя
все это так, Аристофану едва ли грозило какое-нибудь наказание в
Афинах первых лет Пелопоннесской войны.
«И то, что сам я от Клеона вытерпел За драму
прошлогоднюю, мне памятно: Меня в совет он
поволок, клеветами И ложью оплевал, бурлил и
пенился, Слюною обливался, и едва-едва Не
захлебнулся я в навозной лужище».
Так вспоминает судебный процесс над собою сам Аристофан год
спустя в «Ахарнянах».
Афинянину, недовольному другим афинянином, не обязательно
требовалось вызывать его в суд. Довольно было, предварительно выпив в
компании друзей, встретить своего обидчика где-нибудь в темном
переулке и поколотить его. При этом оказаться наказанным рисковал
лишь тот, кто ранил своего противника в голову — ну, скажем, черепком
или палкой. А намять противнику бока — это даже похоже на доблесть.
Темных переулков в тогдашних Афинах искать не приходилось, и хотя
каждый почти афинянин, которого нелегкая задерживала до вечера гденибудь на площади или за городом, возвращался домой с тяжелым
посохом в руке и часто в сопровождении раба, несущего факел, кривые и
узкие афинские улочки, называемые по-гречески «ущельицами», в самом
деле походили больше на овражистые тропы, сжатые глинобитными
стенами, сквозь крохотные оконца в которых по ночам как раз выливали
помои и нечистоты. Для того чтобы подкараулить и избить в таком месте
человека, не надо было, пожалуй, ждать и наступления ночи. К тому же
улицы афинские не мостились, и валявшиеся на земле камни, черепки от
разбитой посуды нередко пускались в ход, особенно в случае
сопротивления, неожиданно оказанного обороняющимся противником.
Клеон, уже однажды заставивший Аристофана явиться в суд
ответчиком, едва ли стал вторично испытывать судьбу, тем более
что неудачливому истцу нужно было сделать всего один шаг к тому,
чтобы превратиться в обвиняемого клеветника. Поэтому Клеон дождался
удобного случая, когда осмелевший Аристофан снова выступил с
нападками против него в очередной комедии. Собравши своих
сподвижников, Клеон так отделал нашего комедиографа, что никто из
свидетелей избиения даже не решился прийти к нему на помощь. А ведь в
Афинах принято было встревать в чужую драку. Вероятно, общественное
мнение было на стороне Клеона, а не Аристофана. А значит, вступали в
силу обычные правила.
Состязание, говорят нам, было универсальной моделью общественной
жизни афинян, хотя разнообразные прототипы этой модели (борьба за
власть в общине, за дочь вождя, за привилегии) кажутся непременными
атрибутами общественного бытия. Эта модель воплощена не только во
множестве мифов, из глубины которых отчетливо видна ее структура. Нет
ни одной сферы общественной жизни Афин, где состязание не
оказывалось бы решающим методом вынесения окончательного
приговора о чем бы то ни было. Не условное, выраженное английским
понятием «спорт» соревнование, но схватка, стычка, безоглядный спор —
вот вершитель всякого дела. Греческая состязательная модель отличается
еще и тем, что она не может реализоваться келейно, но только — на виду
у всех, у всего города, у друзей и знакомых, на не обязательно имеющей
четкие границы сценической площадке. Единственным юридическим
ограничителем состязательного произвола и насилия оказывался у афинян
жребий, но и он не заменял, а лишь подкреплял принцип схватки.
Аполлон не наказывает Марсия, музыканта-силена, только за то, что тот
осмелился соперничать с ним в мусическом деле. Нет, он прежде выберет
судей и одержит победу, а после уже сдерет шкуру с побежденного.
Одиссей дал каждому жениху Пенелопы шанс овладеть многомощным
луком, а значит, и властью, а значит, и женой, и только после их
неудачных попыток взялся сам за лук и стрелы и перебил своих
оскорбителей. Афродита, Афина и Гера, когда богиня Распря подбросила
им яблочко с надписью «прекраснейшей», начали свое состязание с того,
что выбрали судью и соревновались перед ним, правда уже не в красоте,
но в красноречии и щедрости.
Точно так же греческие драматурги, лица вполне исторические, не
могли удовлетвориться показом своих драм, но подвергались подлинному
профессиональному суду: судьи разбирали, чья постановка успешнее, чья
не вызвала энтузиазма у афинян, и раздавали награды. Конкурсы
скульпторов и художников, приуроченные к общегреческим
празднествам, происходили на тот же драматический лад: на суд зрителей
выносились не просто законченные произведения, но сам процесс их
творения. В одном ряду с Олимпийскими или Немейскими играми, на
которых атлеты со
всей Греции выбирали проворнейших и крепчайших, стоят споры о том,
кто — лучший исполнитель гомеровских поэм, кто — лучший флейтист
или кифаред...
Главный жанр городской и художественной жизни Афин того
времени, когда Аристофан выступил с первыми комедиями,—
политическая борьба. Развитие этого жанра, обусловившее небывалый
взлет словесных искусств, знало своих мастеров и гениев, но творения его
эфемерны, и при всей своей значимости в момент появления на свет (как
разгорались афиняне после речей Перикла!) они впоследствии
выдыхаются, так что к ним уже нечувствительны последующие
поколения. Даже современникам остается немногое: уже Фукидид,
говорят, передавая речи Перикла, рассказывая о договорах и клятвах,
которыми обменивались греки, немало присочинил к тому, что помнил.
***
Дионис с его виноградной лозою не сразу был принят богами,,
особенно ревнивая Гера его невзлюбила. И вот она его убила, подослав
титанов. Титаны, чтоб не оставлять следов, съели, перемазавшись кровью,
семь кусков, на которые был ими разорван младенец Дионис. Афина,
правда, сохранила сердце убитого. И пока титаны плясали, празднуя
удачу, свой обычный танец сирто, она приготовила из сердца снадобье и
дала его на ужин Семеле. Та съела, понесла, но не доносила: захотелось
ей увидеть огненного отца своего ребенка. Убив любопытную молнией,
должен был сам Зевс снова рожать Диониса, вынашивая его в своих
чреслах.
Другие говорят еще, что титаны поймали Диониса при помощи
детских игрушек и зеркала, что был он потом раздроблен на части и
помещен в котел, но Зевс, почуяв запах, налетел, чтобы схватить жиру с
жертвенного мяса, да только увидал, как титаны, установив котел на
треножник затейливо скрученной бронзы, варят, а потом, надевши кусок
на черный вертел, держат еще чуть-чуть «над Гефестом», как говорит
Гомер, и тогда он поразил титанов молнией, а члены Дионисова тела
передал отроку Аполлону для погребения, но тот не послушался Зевса,
отнес его на Парнас и сшил там из кусков вполне приличное тело, как
шьют лоскутные одеяла. Лежал сшитый Дионис, побитый, и жаловался на
тяжкие раны. Виноградник погрустнел, лоза потемнела, почернела каждая
кисть и стала плакать. Однако же не навсегда слезы. Зевс, знающий почти
все наперед, оживил сына и прогнал титанов.
И о зеркале вспомнил Дионис, когда, возрожденный, решил самым
страшным и верным способом отомстить титанам. Вымазавшись отжатым
в осенних давильнях багряным соком — так когда-то его кровь размазали
по мохнатым своим мордам жадные тита-
ны, - Дионис, хохоча и радуясь найденному средству, дразнит, и снова
дразнит, и дразнит, и дразнит поникших духом титанов.
* * *
Соседствующий, а значит, соперничающий с комедией большой театр
городской жизни пародируется комиками с тою же запальчивостью и с
тем же чувством безнаказанности, с каким возрожденный Зевсом Дионис
дразнит своих родственников-титанов. Отношения соперничества, в
каковых стоит друг к другу все в греческом мире, здесь преображены, ибо
здесь сражаются, завладев оружием соперника, забравшись в его
оболочку, подделавшись под него. Являясь в театр Диониса, город
глядится в кривое зеркало, до поры до времени безболезненно перенося
грубость и кислоту комедийного смеха.
Незадолго до смерти Перикла старший современник Аристофана,
знаменитый Кратин, поставил комедию «Дионисалександр», где «отец
народа» был представлен эдаким «кентавром» или «конепетухом» —
Дионисом, трусоватым слабаком, взявшимся, подобно троянцу Парису
(таково более известное имя Александра), судить красоту богинь.
Дионисалександр-Перикл, впустивший спартанцев в Аттику и давший им
вытоптать посевы и виноградники, не слишком боялся плевков, без труда
долетавших до него в приличествующее для поношений время. Нечего
было опасаться и Кратину. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, а
комедия — дело хмельное. Непереносимо оно для того, кто путает с
ночью день, а с потешною схваткой — войну настоящую. На город таких
неразличающих довольно двоих или троих, и тогда от путаницы не
убережется никто.
Перикл умер, а война продолжалась. На Сусляных Дионисиях 425
года состязаются три комедии: «Потерпевшие кораблекрушение»
Кратина, «Молодая луна» Евполида и «Ахарняне» Аристофана (и
Каллистрата). «Ахарняне» были удостоены первой награды.
Впервые за несколько лет к афинянам приходит подобие военного
успеха: флот, отправившийся было в Сицилию, задержан непогодой.
Вернувшись к греческим берегам, он швартуется у подвластного Спарте
порта Пилос. Захватив Пилос, афиняне оттянули спартанское войско,
регулярно вытаптывающее Аттику: пелопоннесцы понимали, писал
Фукидид, «что пилосское дело близко их касается, к тому же на этот раз
они вторглись в Аттику рано, когда хлеб был еще зелен, и потому для
большей части их войска не хватало съестных припасов, в Аттике они
поэтому оставались недолго, сего 15 дней». В спешном порядке
ретировавшись за Истм или пустившись морем вокруг Пелопоннеса,
спартанцы первым делом заняли островок Сфактерию, запирающий
пилосскую бухту, но оказались сами запертыми на острове сильным
афинским флотом.
Среди спартанцев, блокированных на Сфактерии, оказалось немало
спартиатов, представителей правящей касты, и это заставило правителей
Спарты немедленно заключить перемирие и отправить послов в Афины
для заключения мирного договора. Однако афинские демагоги, любившие
ловить рыбку в мутной воде, на мир не пошли, стараясь забрать целиком
нежданный подарок судьбы. И все-таки осада тянулась вяло, Сфактерия
не сдавалась. Пришлось самому Клеону, ярому противнику мирного
договора со Спартой, лично взяться за дело, и он добился успеха, пригнав
в Афины две сотни пленных спартанцев. Странный сплав энтузиазма,
надежд и беспокойства, вызванного неожиданным успехом, и усталость, и
все тот же переполненный город, предчувствующий новые напасти.
Ослабевший за зиму город встречает Сусляные Дионисии.
Жаль, даже фабулы конкурировавших тогда с «Ахарнянами» комедий
Кратина и Евполида мы не знаем. Легче было бы понять, почему именно
«Ахарнянам» досталась награда. Ученый византиец Аристофан
справедливо относит «Ахарнян» к числу «отлично сработанных» комедий
своего тезки, но и он не объясняет, чем руководствовались судьи,
присуждая главный приз Каллистрату, а не таким знаменитым мастерам
жанра, редко терпевшим поражение, да к тому же от молодого комика.
Отвлекающие на время от повседневных забот и страстей праздники не
дают прямых ответов тому, кто озабочен буднями.
А будничные Афины — уже не те, что были при Перикле. «Во время
мира и благополучия как государства, так и отдельные люди питают
более честные намерения, ибо они не попадают в положение, лишающее
людей свободы действия,— говорит Фукидид.— Напротив, война, лишив
людей житейских удобств в повседневной жизни, оказывается
насильственной наставницей и настраивает страсти большинства
сообразно с обстоятельствами...». Широкие мазки Фукидида объясняют,
может быть, только половину дела, но у нас нет другой панорамы
афинской жизни тех лет.
«Извращено было общепринятое значение слов в применении их к
поступкам. Безрассудная отвага считалась храбростью и готовностью к
самопожертвованию за друзей, предусмотрительная нерешительность —
трусостью под благовидным предлогом, хитрость — мудростью... Родство
связывало людей меньше, чем политические кружки... Доверие друг к
другу скреплялось в них не столько уважением к божеским законам,
сколько соучастием в тех или иных противозаконных деяниях... Большая
часть людей предоставляет называть себя ловкими злодеями, чем
добродетельными простаками: последнего названия они стыдятся, первым
гордятся. Источник всего этого — жажда власти, которой люди
добиваются из корыстолюбия и тщеславия... Таким образом, вслед-
ствие междоусобий нравственная порча во всех видах водворилась среди
эллинов, и то простодушие, которое более всего присуще благородству,
было осмеяно и исчезло; наоборот, широко возобладало неприязненное,
полное недоверия отношение друг к другу... Перевес обыкновенно бывал на
стороне людей не особенно дальнего ума: сознавая свою недальновидность
и чувствуя проницательность со стороны противников, они боялись, как бы
не оказаться менее искусными в способности логически рассуждать, как бы
другая сторона, при своей изворотливости, не предупредила их кознями.
Поэтому они приступали к делу решительно. Напротив, люди,
отличающиеся самомнением, воображали, что ими все предусмотрено, что
нет нужды употреблять силу там, где можно достигнуть цели
изворотливостью; поэтому такие люди не принимали предосторожностей и
гибли в большом количестве». Это пишет неудачливый политик и воевода,
которому осталось заниматься мемуарами. Но в словах Фукидида — не
только обида неудачника.
Простые времена войн с мидянами и отчетливых видов на будущее давно
позади. Афины — скопище людей и людишек, оставшихся от войны и
трудно сказать на что годных. По описаниям Фукидида, город «кишит
прорицателями, вещающими всевозможные предсказания, к которым жадно
прислушивается каждый». Социологических обследований античность не
знает (хотя, конечно, могильные плиты, списки послов и должностных лиц,
наградные документы, обычно каменные,— прекрасный материал для
социолога), но и из того, что нам известно о событиях 20-х годов V века,
можно сложить вполне правдоподобную картину сильно обедневшего
города, неожиданно лишившегося немалой части лучших сограждан,
принужденного издалека везти то, что совсем недавно росло либо
продавалось под боком — в самой Аттике, в Мегаре, в Беотии. Метрополия,
безболезненно отпочковавшая дочерние города на захваченных
удобнейших местах средиземноморской ривьеры, начала мало-помалу
тускнеть, сдавать. Это чуют и деды, чья память о славном прошлом
заставляет их быть авантюристами самим и толкать на авантюры сыновей с
внуками. Гнев на спартанцев, неотесанных дорийцев, несколько лет подряд
грабивших Аттику, был, вероятно, одним из определяющих факторов
успеха воинственно настроенных демагогов.
Трудно сказать, почему афинское население оказалось, при всей царившей
в
беспокойном
городе
сумятице,
настолько
монолитным
и
целеустремленным, да только о мире или о переговорах, имеющих в виду
заключение всеобъемлющего мира, можно было говорить разве что в
порядке анекдота, карнавальной шутки или в крайнем случае
издевательства над теми, кто не слишком жаждал войны и связанных с нею
напастей. Но Каллистрат, а с ним Аристофан делают комедии по правилам,
в духе традиций аттического
ритуального веселья. Эти традиции обязывают комедиографа и наставника
хора вывернуть наизнанку будни и быт и совершить целебный обряд над
утробой.
* * *
Зевс ошибся, когда набросился на титанов, кипятивших убитого ими
Диониса в котле, на треножнике, ведь титаны варили Диониса, чтобы дать
ему настоящую жизнь. Так Медея вываривала тлен из барана, превращая
его в ягненка, так боги держат над огнем своих избранников, чтоб
укрепить их члены.
На Сусляных Дионисиях факелоносец зовет: «Иакх, о Иакх, сын
Семелы, дарующий благо, приди!» Он трясет факелом, а когда принесены
первые жертвы, глашатай призывает хоры с наставниками, и вот на сцену
выскакивает обманщик-шут-акробат-дурачок-драчун. Имя его — да
простят ему боги такое нахальство — Честной Гражданин, или просто
Честной — Дикеополь. Как будто такой же, как все, этот мужичок,
потерявший из-за войны немалую часть своего добра и вынужденный
переселиться в город, зол, как были злы все афиняне, но только злится он
не на спартанцев-разорителей, а на самих афинян. Ведь они думают о чем
угодно, сидя в Народном собрании, о новых союзах и новых походах, с
фракийским царьком ведут дела, добра не сулящие, все интригуют, казну
совсем спустили
«...а о мире нет
У них заботы. Город мой! О город мой!
Всегда я первым прихожу в собрание,
Часы просиживаю в одиночестве,
Вздыхаю здесь, зеваю здесь, скучаю здесь,
Пишу, скребусь, рыгаю, философствую,
О тишине тоскую, на поля гляжу
И город ненавижу. О село мое!
Ты не кричишь: углей купите, уксусу;
Ни «уксусу», ни «масла», ни «купите» — нет.
Ты сам рождаешь все без покупателя.
Теперь решил я твердо без стеснения
Кричать, стучать, перебивать оратора,
Когда о мире говорить не станет он».
По всем правилам жанра, нашему дураку везет: в городе появляется
другой персонаж старинных сельских маскарадов — колдунишка
Обоюдобог, объясняющий происхождение своего необыкновенного имени
(дескать, бессмертный он, и вся родня его — боги). Обоюдобог тащит с
собою три бурдюка, наполненные вином трех сортов, и вино то — не
простое, а волшебное. Купивший бурдюк может добиться, как обещает
Обоюдобог, ни много ни мало —
мира со спартанцами, с союзниками их и прочими врагами Афин.
ЧЕСТНОЙ Гражданин, хлебнув невыбродившего сусла замирения,
торопится распробовать кислятину десятилетнего мира и наконец
завладевает последним бурдюком, с вином нежнейшего букета, а с ним
— и миром на два поколения вперед... Честной отхлебывает пьет, и вот
он уже захмелел и вот вполне готов к своей комической роли...
Стойкий облик комического заводилы (протагониста), сложившийся
некогда в Мегаре, сохраняют и Честной с Амфитеем: бурдюк, брюхо или
мешок, под тяжестью которого сгибается чело-вечишко, посох, суковатая
палка или болтающееся в ногах удилище, невысокие сапожки из
сыромятной кожи — котурны, пробковая, обтянутая размалеванным
полотном маска, карикатуризирующая физиономию,— вот, собственно,
весь костюм шута. Старинный герой потешных дорийских представлений
— потасовок и непристойных сценок,— такой забияка и балагур не сразу
вошел в культурный обиход греков, издревле населявших земли, по
которым прокатились дорийские племена. Хотя с тех давних пор
противоборство ионийских Афин и дорийской Спарты — один из
постоянных факторов исторического бытия Греции,
столетиями
проходившая культурная и языковая ассимиляция, как правило, не
позволяет отчетливо провести границу между разнородными по
происхождению элементами старой аттической комедии. Виновата все та
же состязательная модель: соперники сплелись так густо, что не простотаки распознать, кто где.
Вот Честной Гражданин из «Ахарнян». Он, конечно, афинянин,
виноградарь-гроздунок и огородник, но нет в нем ни марафонских
доблестей, ни любви к отечеству: обжора, мечтающий кутнуть, встречая
праздники.
«Нагнать в лесу красивую воровочку,
Фракиянку, рабыню Стримодорову,
Схватить ее, обнять ее, прижать ее!»
Самая забористая ругань не запретна его устам, и все краски он видеть
желает в одном, эротическом, спектре. Этот тип — не сосед, не «один из
афинян», но он и не условная театральная маска, Появляясь по
праздникам в городе в облике слуги Диониса — актера, берущего на себя
труд временного его воплощения, это существо, как выпущенный из
бутылки джинн, торопится акробатически, но вполне серьезно, наряжаясь
как подобает, прожить несколько месяцев жизни сограждан-афинян на
свой лад. Ему разрешено это давней традицией, как разрешено было
сыграть свою драму сатирам, мохноногим плясунам: ведь это они
завершали трагическую трилогию простодушным
спектаклем,
расколдовывая мелкотравчатой стилистикой Марсия мусические чары
тра-
гедии. Но в драме сатиров пародийный элемент не выражен так, как в
комедии. Честному Гражданину — в самом имени его вызов городу! —
предстоит схватиться со всеми, и, хоть сам он забияка, соперничество в
том, чем силен каждый из его противников,— труднейшая задача. Она
облегчается только в одном отношении: с появлением на проскении
традиционной маски драчуна-шута, матерщинника и нахала, все прочие
вероятные обитатели сцены преображаются.
Обстановка вывернутого наизнанку устройства городской жизни
заставляет зрителей безошибочно узнавать в фанфароне, распустившем
перья на султане, раздувшем лоснящееся брюхо своего щита с
изображением Горгоны, в горе-вояке, с трудом ворочающем мозгами, но
упорно готовящемся к драке, одного из выдающихся воевод
Пелопоннесской войны, афинянина Ламаха.
Поглядим, из кого составлен хор комедии. Это — жители Ахарн,
поселка, что в двух часах ходьбы на север от Афин. Они живут в лесистой
части Аттики, где, впрочем, растет и виноград, а занимаются главным
образом тем, что жгут хворост на древесный уголь; в военное время
самые крепкие из мужчин числом около трех тысяч, собирают по
тяжелому щиту, шлему и по копью, являются в Афины, оттуда — в
Пирей, где грузятся на корабли, либо стоят гарнизоном на границе, ну и,
одним словом, служат в армии, в так называемой тяжелой пехоте, или
гоплитами. Именно благодаря ахарнским пехотинцам была одержана
победа над индийцами у Марафона, именно они, оставив на милость
врагу домочадцев, высаживаются на Сфактерии, в Пилосе, на других
островах и в других городах, добывая славу Афинам. Но здесь, у
Диониса-что-на-болоте, совсем другие ахарняне, или, может быть,
слишком те? Марафонские победители, теперь дряхлые старики,
углекуры и виноградари, сбежавшиеся в Афины со своими увесистыми
посохами в руках.
«Кряжистый, древний, крепкий, несговорчивый,
Кремневый люд, вояки марафонские».
Жалкие в своих призывах к войне до победного конца, они ведут
потешный бой с Честным Гражданином за то, что тот каждому
предлагает возлить немного богам, помириться со Спартой из
волшебного бурдюка.
Достоверна ли эта картина?
С точки зрения ее прямого соответствия афинской жизни, настроениям
людей, отношению к полководцам, традициям, героям, безусловно, нет.
Рожи комических персонажей молодого Аристофана слишком кривы,
чтобы можно было справить по ним любимый классический образ.
Исторические курватуры, возле которых должен с недоумением
остановиться неискушенный читатель Аристо-
фана, грозят толкнуть на соблазнительный путь модернизации,
аналогически приближающий к правде,— путь, следуя которым
приходят к пониманию Аристофановых комедий как политической
сатиры.
Между тем в самом понятии «политическая сатира», если
попробовать применить его к Аристофану, таится колючий парадокс.
С одной стороны, это как будто вполне греческое понятие, восходящее
к «полису» как определенной форме государственности, а к
«сатировой» драме как определенной художественной форме. С
другой стороны, возникший только в Новое время термин
«политическая сатира» не имеет ничего общего с греческой
действительностью V—IV веков. Ведь для грека, и в частности
афинянина, этой эпохи «политика», или все то, что связано с жизнью
гражданской общины, именуемой полисом, не представляет собою
сферу человеческой жизни, лежащую вне семьи и ремесла, обряда и
трудов на мусическом поприще.
Ни семья, ни ремесло, ни обряд, ни ремесла мусические не
противопоставлены в рамках полисной жизни политике, ибо они
просто-напросто представляют собою разные жанры самой политики.
Человек же, не охваченный этой жанровой сетью, частное лицо,
неминуемо выпадает для сограждан из полисного бытия в бесполисное небытие. Человек, навязывающий себя полису как
самоценную политическую единицу (например, как возможного
«руководителя»), подвергается жесточайшему наказанию: его
отлучают от полиса на десять лет или до конца жизни.
Когда в эпитафии «отца трагедии» Эсхила мы прочитаем, что это был
замечательный воин, участвовавший в Саламинском и Марафонском
сражениях, и не найдем ни звука об Эсхиле-трагике, мы не удивимся:
это не патриотический жест, но упоминание лишь о самых главных
заслугах перед полисом. Аристофан, для которого такая полисная
установка — единственно возможная, был — в этом и только в этом
смысле — «политическим» комедиографом. До тех пор
пока
«политика» (управление государством, ведение войны и заключение
мира) не стала мало-помалу уделом профессионалов, известное
разделение труда и сосуществование разнообразных политических
жанров — от трагедии до гимнастических состязаний — оказывалось
возможным и даже приводило к расцвету которых из этих жанров в то,
что называют самостоятельным видом искусства. Именно так, от
жертвенного алтаря, через вытоптанный плясовой круг, через сход
горожан
и,
наконец,
мраморно-ступенчатую
раковину
прослеживается зарождение, расцвет и упадок аттического театра.
Но уже при Перикле произошло, как говорится в схолии к 67
стиху «Ахарнян», тревожное событие: за пятнадцать лет до
постановки третьей комедии Аристофана, в архонтство Морихида
(440), в Афинах был принят закон, временно запрещающий комедии
появляться на афинской сцене. Закон сохранял силу два года, в архонтство
Главкина и Теодора, а в 437 году, в архонтство Евтимена, был отменен.
Позднее Антимах, сам поэт и наставник хора, человек, впрочем, дрянной
— ведь он не пожелал даже раскошелиться на обед для участников хора,
нанятых на прошлогодних Сусляных Дионисиях,— да к тому же вечно
сопливый, этот-то Антимах и внес в Народное собрание предложение о
запрете выводить в комедиях кого-либо из сограждан под его собственным
именем. Законопроект этот не был тогда принят.
Но комедиографы старшего поколения, такие, как грубиян Кратин, да и
молодой Аристофан, поначалу не замечают перемен, и, хотя Аристофану
пришлось, после стычек с Клеоном, выставлять свои вещи не на Великих
Дионисиях, а на Сусляных, он в течение нескольких лет, опьяненный
первыми успехами, как «осел на возлияниях» (так называет колючий
Кратин невнимательных балбесов), с тем же упорством работает по
правилам, как заведено.
И, как заведено, с первых же мгновений представления, Честной
Гражданин «Ахарнян» напоминает публике, как демагог Клеон, получив
взятку в пять талантов от союзных островов, должен был, к удовольствию
Честного, отдать эти деньги всадникам в порядке компенсации
нанесенного им оскорбления, не ясно, правда, какого: слова Честного из
«Ахарнян» — единственный источник... Достается всем должностным
лицам: и послам, проедающим и пропивающим казну в длительных
заграничных поездках, ничего не приносящих Афинам, кроме моды на
павлинов, и доносчикам-сикофантам, снующим по городу в надежде засечь
незаконную торговую сделку или просто найти слабака, который не устоит
перед шантажом.
Главное, к чему стремится Честной, покупая бурдюк вина ценою в
тридцатилетний мир,— право торговать с враждебными Афинам Мегарой
и Беотией. И тут перед глазами не слишком сытой афинской публики, за
шесть лет войны соскучившейся по изобильным ларькам и лавкам Старой
Агоры и Керамика, разыгрывается буйный праздник живота, да и,
пожалуй, не только живота. Вот является на сымпровизированный рынок
Честного мегарец, взваливший на спину мешок с товаром. Всем, видать,
товар хорош, да вот только — мегарский. Уж мегарец-то, публика знает, и
здесь, на базаре, сумеет отколоть мегарскую, распохабную шутку.
Трудно сказать, почему о них идет такая слава, но только в дорийской
прямоте и сальности шуток никто в Греции, кажется, не превзошел
мегарцев. Так и на этот раз, затолкав в мешок нежных, еще не обросших
щетинкою хрюшек, к жертве предназначенных, мегарский купчишка
торопится сбыть их Честному:
«За связку чесноку продам одну тебе,
За соли горсть — другую. Что, не дорого?»
Честной покупает их, но хрюшки и в самом деле к жертвоприношению
не готовы. «У них,— объясняет Честной,— еще щетинка я хвостики не
отросли». Услужливый схолиаст, стыдливо оберегая читателя от
мегарских сомнений, поясняет: «Бесхвостых животных нельзя
приносить в жертву богам». То-то. Но к жертвоприношению не готов и
Честной. Он бросает свинкам горсть сушеных фиг, но будет ли сыта та
свинка сушеною фигой?
Тут на помощь спешит торговец из Фив, беотиец. В «Ахарнянах» он
извлекает на пробу Честному свой лучший товар — маринованного
копаидского угря, который нравится Честному куда больше, чем
аттическая виноградная лоза или узкий кожаный ремешок, свисающий
грустным хвостом. Копаидского угря Честной забирает даром («Я у
тебя беру его в счет пошлины!»): вот теперь и обряды можно
справлять!
Драматичная история распространения фаллического культа в
Аттике вполне объяснит двусмысленность, которой пронизан весь
эпизод с купцами. Одни говорят, что культ Фалла, или, иначе, Фалета,
или Приапа, явился в Афины вместе с Дионисом, другие — что сам по
себе. Как бы то ни было, когда афиняне, после случая с Икарием, не
захотели приобщиться к культу Освободителя, Дионис повредил слегка
отцов благороднейших аттических семейств, и бедные афиняне
утратили всякую способность к деторождению. Деметрины жрецы в
Елевсине оказались бессильны, пришлось обратиться к дионисийским.
Явившийся жрец знал, конечно, заранее, в чем там дело, смело взял все
в свои руки и к зиме осчастливил потомством жену первого архонтабасилевса, или царя.
— Если хотите, чтобы вас, нечестивцев, простил Освободитель и к
семьям вашим вернулось плодородие, пусть каждый вылепит из
лучшей глины по сотне фаллов и обожжет их как следует,— заявил
жрец.— Ведь это амулеты жизни.
Так что недаром комедия излишествует в своем разнообразии и
насмешках, сею дерзостию напоминая о первоначальных ее опы-тах!
Греческий антиквар Афиней, рассуждая в своей «Трапезе знаков» о
том, как разнообразны имена мастеров шутейного дела, потехи,
акробатики,
фокусов и неприличностей,
заставляет одного из
трапезующих в его книге признаться, что в Афинах всегда было немало
и своих, аттических, и приезжих шутов. Их называли и «бродягами», и
«обезьянками», в Спарте их зовут «выставляющими, на Сицилии —
«импровизаторами», в Италии «флиаками», фиванцы, которые все
всегда называют по-своему, дали им прозвище «вольных».
Большинство же, говорится у Афинея, зовет их
просто «умельцами», «хитрецами», «мудрецами» — софистами. Эти
актеры пляшут в масках, в венках, в хитонах в белую полоску, так
называемых тарентинках, в густых венках из чабреца, фиалок или
плюща, без масок, со всех сторон сходятся, под звуки флейт, в плясовой
круг, припевая:
«Тебе мы эту, Вакх, подносим песенку
И возлияния, по-эолийски скромные»,
ну и так далее. В «Ахарнянах» он заставляет Честного Гражданина
отправить па крышу жену, чтоб оттуда глядела на процессию, а самому
—
«На пир спешить, с кувшинами, с корзинами!
Жрец Диониса за тобой послал меня.
Поторопись, тебя лишь дожидаются,
А остальное все уж приготовлено:
Столы, скамьи, тазы, подушки, коврики,
Венки, помада, девочки, печенье,
Изюм, коврижки, пряники, маковники,
Танцовщицы, гармодиевы песенки...».
Со всех ног бегут к нему афиняне, а хор стариков ахарнян, уже
убежденный в правоте Честного, оставляет весь свой воинственный пыл,
и только герой Ламах, получивший обидную рану спартанским копьем,
тихо стонет в углу на носилках. Так, вываляв в патетических стонах и
раздразнив сладострастным соседством мира героя нынешней войны
Ламаха и марафонских ветеранов-ахарнян, Аристофан добился
благосклонности судей и публики.
Каких еще афинян угодно видеть у Диониса-что-на-болоте, в городе,
в Пирее, в оливковых рощах и вдоль виноградников, среди крепко
пахнущих коз и гиметтских пчел, месящих жужжанием зной? Может
быть, тех афинян, что у Элиана, тех, которые «в древности ходили в
пурпурных гиматиях и пестротканых хитонах, носили высокие прически,
скрепляли их золотыми шпильками и увешивались золотыми
украшениями. Рабы несли за ними шезлонги, чтобы им не сидеть где
попало. Таковы были марафонские победители». Где они, эти афиняне?
Узнаем ли мы их по такому мечтательному описанию?
В другом месте Элиан тоже правильно пишет: «Если больному льву
ничто не приносит облегчения, единственное лекарство для него —
съесть обезьяну». Откуда он все знает?..
Уже самый план комедии, объяснил бы свой гнев классицист,
внушенный единственно духом возмущения, имеет главной целью
доказать не человеколюбивыми и истинными рассуждениями, но одними
обворожительными видами и предложениями, выгоды
мира. Сюжет ее таков: житель небольшого городка в Аттике,
приведенный в крайнюю бедность опустошением и потерей всего
имения со времени войны Пелопоннесской и который, заключив
особенный договор с лакедемонянами, наслаждался плодами мира,
между тем как ахарняне, мегаряне и афиняне переносили тяготы и
злополучия войны. Поэт изъясняет, что народ обманут угрозами и
обещаниями Собрания и надменностью Клеона и Ламаха, их
начальников, которые находили собственные выгоды в продолжении
общественных нужд. Одним словом: правление, его судии, воины и
даже самая память Перикла грубо уязвлены в сей комедии. В первом
действии поэт осмеивает афинское Собрание и посланников,
отправленных греками к чужестранцам, предполагая бессмысленным
отчет, который они отдавали касательно странной торговли с персами.
Во втором действии он нападает на Клеона со всею вспыльчивостью,
сохранившеюся еще от преследования его оным прошлого года. Потом
хор воспел похвалы самому поэту, коего называли превосходным
судиею нравов и покровителем правления. Сей жалкий панегирик был
принят с громкими рукоплесканиями и последуем новою пляскою,
изобретенною Аристофаном. Все сие представление было перемешано
со множеством пародий из пиес Еврипида и беспрестанным намеканием
о делах общественных. Эти насмешки — пламенники раздоров,
позволяемые начальством и разбрасываемые между народом.
Язвительный дух, коим они наполнены, есть яд самый опасный и
наиболее
способный
воспламенить
со
всею
жестокостию
возмутителей,— противу людей, способствующих успеху оружия их, и
противу присутствующих в государственном Совете. Так как граждане,
избранные для рассмотрения дел общественных, равным образом имеют
права на установления театров, разве не могут употребить средства сего
с большею пользою вперять в народ выгодное о себе мнение?.. Что же
до достойных всяческого сожаления попыток представить в театре
фаллофории, эти низкие и подлые сцены народного суеверия, то не есть
ли сие подтверждение грустной истины, что в греческих вольных
демократиях народ — царь, но не по добродетелям, а только по
порокам, беспечный и своенравный...
Странный город эти Афины! Солидное предприятие — подготовка
декораций, костюмов и хора из 24 голосистых танцоров, которых
надобно кормить и поить во все время репетиций,— вдруг
оборачивается скандальным балаганом, пропитанным поношениями
чуть ли не самих тех, кто санкционирует постановку именно этой
комедии. Случаи, когда компетентный архонт отказывался дать
драматургу хор, слишком редки, чтобы можно было объяснить, какими
соображениями он всякий раз руководствовался: из трагиков Софокл,
а из комиков — любимец афинян Кратин
не были однажды допущены к состязанию, так что искать здесь цензурной
логики Нового времени, пожалуй, нельзя.
Передразнивая самого себя, как змей, кусающий свой хвост, Аристофан
нахваливает свои комедии:
«Шуток здесь над лысыми нет, плясок нету кордака;
Здесь старик, стихи бормоча, палкой собеседника
Не колотит, чтобы прикрыть соль острот подмоченных,
Не кричат здесь «горе, беда!», с факелом не бегают».
Бегают, бегают, в не только с факелом. Нажрутся фиг с поросятиной,
напьются вина, да еще и воровочку, рабыню Стримодорову, прижмут на
глазах у тысяч сограждан. Вот какая комедия получает первую награду. А
ведь тогдашние законы в отношении наград были довольно строгие.
У АГАФОНА
Пока Федр задумался, собираясь произнести свою речь о любви
без шпаргалки, кто-то из гостей, находящийся, видно, еще под
впечатлением вчерашней победы юного трагика, объяснял
Аристофану и Павсанию, почему первоначальное воспитание
человека совершается через Аполлона и Муз. Он сказал, что верно
направленные удовольствия и страдания составляют воспитание, а
потому боги, из сострадания к человеческому роду, рожденному
для трудов и забот, установили взамен передышки от этих трудов
божественные празднества, а Музы, их предводитель Аполлон и
Дионис сделались главными участниками этих празднеств, вот
почему именно боги исправляют на празднествах недостатки
воспитания.
— Сладостно глядеть на Агафона, столь быстро отринувшего
слабости юного существа, находящего удовольствие в буйных
плясках и играх, в нестройных криках на все голоса. Недаром и
хороводы, в устроении которых столь преуспел Агафон, названы
так из-за внутреннего родства со словом «хара», (буквально —
«радость»); только вот думаю я, что подлинный дионисийский хор
не может состоять из молодых людей, поющих в хорах Муз и
Аполлона. Этот хор должен состоять из людей, кому уже за
тридцать, вот как нашему Аристофану, ну и вплоть до шестидесяти
лет. Я всегда придерживался мнения — и тут глаза старика (ибо
афинянин, задержавший выступление Федра, был старик) холодно
зажглись, как два светлячка, не ко времени проснувшиеся этой
зимней ночью,— так вот я придержива-
юсь мнения, что у нас в Афинах каждый человек, взрослый ли
ребенок, мужчина или женщина,— словом, весь целиком полис
должен беспрестанно петь для самого себя очаровывающие песни, в
которых будет выражена мера общей любви к отечеству и благу.
Они должны и так и эдак постоянно видоизменять и разнообразить
песни, чтобы поющие испытывали удовольствие и даже
ненасытную страсть к песнопениям. Так не песни ли стариков,
умудренных опытом и пропитанных разумом, более всего целебны
для государства?
Старик, торжествуя, возвысил голос и стал говорить, обращаясь
уже не к одному собеседнику, но ко всем пирующим. Чуть зачадила
масляная лампа, и следующие слова его сопровождало легкое
потрескивание.
— Но всякий человек, достигший преклонных лет,
преисполняется отвращением к песням, ему делается стыдно, и тем
больше, чем он делается старше и рассудительнее. А как бы он стал
стыдиться, если бы ему пришлось петь в театре, выступая перед
пестрой толпой людей? А тут ведь у нас как? Был когда-то в силе
старинный эллинский закон: судья восседает в театре не как ученик
зрителей, но, по справедливости, как их учитель, чтобы мешать тем,
кто хочет доставить зрителям неподобающее и ненадлежащее
удовольствие. Такой судья скажет: «Пой, старик! Учи этот сброд!»
Этот закон не был таким, как нынешние италийские и сицилийские
законы, предоставляющие решение толпе зрителей, так что
победителем оказывается тот, за кого всего больше поднято рук.
Этот закон погубил и самих поэтов, ибо они в своем творчестве
стали приноравливаться к дурному вкусу своих судей, так что
зрители теперь сами себя воспитывают. Он извратил и удовольствие,
доставляемое
театром,
ибо
следовало,
чтобы
зрители
усовершенствовали свой вкус, постоянно слыша о нравах лучших,
чем у них самих!
Но я отвлекся, ведь если бы слабые старики стали петь натощак,
как это делают при своих упражнениях хоры, готовясь к состязанию,
они делали бы это уж совсем без удовольствия, а стыд и неохота
достигли бы крайней степени. Но они должны петь, и вопрос только
в том, как заставить их петь охотно. Тут я установил бы закон, чтобы
дети До 18 лет совершенно не вкушали вина. Эриксимах нам
растолкует, что не надо ни в теле, ни в душе к огню добавлять огонь,
прежде чем человек не достигнет того возраста, когда можно
приняться за труд, и когда вино, проходящее, как известно, через
легкие, не будет так сильно кружить голо-
ву. Должно остерегаться неистовства, свойственного молодым
людям. Те, кто не достиг тридцати лет, могут вкушать вино, но
умеренно. Достигшие сорока лет могут, на мой взгляд, пировать за
общей чашей, призывая как остальных богов, так в особенности и
Диониса на священные празднества и развлечения стариков.
Испив этого лекарства от ненасытной старости, мы снова
молодеем, и нрав наш делается прозрачным как стекло. А разве не
с большей охотой пожелает всякий, испытывающий подобное
состояние, петь, зачаровывая окружающих? Думаю, это и есть
лучший способ заставить стариков петь в хоре Диониса.
Аристофан мог бы посмеяться над размечтавшимся
старикашкой: «Вино и дедов заставляет танцевать!» Ведь трагиков
пьянство под старость делает беспомощными и жалкими
настолько, что даже комики оставляют их в покое. Как жалели в
Афинах благодетельного Софокла, чей поэтический жар, казалось,
разгорался пуще прежнего теперь, когда уже внуки его
повзрослели... Как прекрасны стихи, написанные им гетере
Феориде, в которых Софокл объясняет, за что его следует
предпочесть молодым! Уж не за то ли, что из-за чрезмерного
потребления вина к старости бедняга совсем лишился рассудка? А
чего стоит последняя страсть старика, потаскуха Архиппа,
которую он даже пытался сделать своею наследницей? Ее бывший
любовник Смикрин остроумно сравнил ее с совой, присевшей на
ночь на возвышающийся над прочими могильный камень. И все
это — плоды разгорячения, несомые вином! Вот тебе и пьянство
под старость, афинянин. Невпопад произнесенная речь этого
человека, имени которого мы, к сожалению, не знаем, хотя бы в
одном пришлась кстати, ведь и Эрот похож на вино:
взбудораженный малою толикой, наверно потеряешь голову от
изобилия того и другого. Но за старикашкою должен был говорить
Федр, черед Аристофана еще не пришел, и он промолчал.
Глава 3
«ГЕРАКЛА, ОБМАНУВШЕГОСЯ В УЖИНЕ,
И ЕВРИПИДА
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НЕ СТАНУ Я...»
Обычай рассказывать друг о друге одни колючие небылицы, в чем
можно было бы заподозрить греческих писателей позднейшего времени,
таких, как сплетники, трапезовавшие под стилом филолога Афинея,—
старый обычай, но он — лишь эпизод в аттической войне словами за
слова в сем баснословном царстве слов, и жертв здесь не меньше, чем в
бесконечной Пелопоннесской войне. И, только подозревая злой умысел
в вывертывании наизнанку полисной жизни, можно удивляться тому, с
какой яростью набрасываются комики на поэтов трагических. («...
Можно ли полагаться на благонамеренность сих писателей? Не они ли
поносили недавно Перикла? Не они ли не щадят и Клеона? Так что им
Еврипид?!..»)
В самом деле, комедия, допущенная на государственные
драматические состязания спустя несколько десятилетий после
появления там трагедии, самим своим названием претендует на столь
близкое родство с последней, что той уже никогда не избавиться от
этой родни: комедию называли в просторечии «тригодией», или
«винными песнопениями», да и титаны, не забудем, родня Дионису.
Полемическая позиция, или, выражаясь более ясно, отношения
войны, в каких выступала комедия к трагедии, сложились уже Давно.
Стоило кому-то из трагиков внести изменение в традиционную
жанровую форму, молниеносно, кажется, отражается оно в комедии. Не
успел Эсхил выпустить на орхестру пьяного героя — им был Ясон в
«Кабирах»,— как Кратет, самый незлобивый из старых комедиографов,
высмеял великого трагика, составив из пьяниц целый хор в «Соседях».
Не успел Софокл ввести третьего актера, как этим его нововведением
воспользовался Кратин: неразберихи и шума на без того
перенаселенном пятачке комедийной сцены (двойной хор комедии
состоял из 24 человек против 12-15 трагических хористов)
прибавилось, а этого ему и надо было.
Вышучивая сценические приемы трагиков, комедиограф, однако, с
куда большей страстью набрасывался на своих собратьев по артели.
Аристофан грызется с Евполидом за то, что тот «обокрал мою славную
прошлогоднюю комедию», а сам Евполид клянется, что
это
он
помогал
Аристофану
ставить «Ахарнян», и Кратин обвиняет
Аристофана в плагиате у Евполида.
Выпады против трагиков оставались в тени политической и
профессиональной полемики, которая связывала комедиографов, только
до тех пор, пока на сцене не очутился трагик Еврипид.
Не пользовавшийся особым успехом у афинской публики — из
девяноста приписываемых ему традицией драм только четыре получили
первую награду еще при его жизни,— Еврипид был самым дерзким из
трагиков нарушителем традиций. Ни Эсхил, обогативший музыкальную и
танцевальную партитуру трагедии, ни Софокл, усложнивший структуру
постановки, ни даже молодой Агафон, сделавший фабулой трагедии
повседневные житейские сюжеты, не отличались столь опрометчивой
смелостью. Не признанный при жизни, но тем более упорный и
плодовитый, Еврипид мало заботился о традиционной стройности
постановки и трагической выдержанности фабулы. Не побоявшись
забраться в сюжетные кладовые комедиографов, он выволакивает для
трагедии гуляку и обжору Геракла, слегка счищает с него привычное
комическое оперение, зычный голос, широкий зад, поросший курчавой
шерстью, и заставляет одного из любимых героев комического театра
служить и по разряду трагедии...
...Геракл, надо сказать, был природной жертвой весельчаков, хотя и у
него самого изредка, чуть отпустит наследное упрямство, просыпалось
чувство юмора. Первая же комедия была разыграна для него родным
отцом. Заносчивый сын требовал свидания с божественным родителем, но
Зевс-то знал, что такая встреча пахнет жареным Геркулесом, и решил
подшутить: он выбрал себе барана — большого, по росту,— ободрал его,
отрезал голову, затем натянул на себя, так сказать, руно и, держа перед
собою волшебно увеличившуюся в размерах криворогую баранью башку,
показался Гераклу. Уууу, мол,— забодаю! Геракл обиделся и больше
встреч не искал...
...Он появляется в первой же из дошедших до нас драм Еврипида, в
«Алкесте», повествующей о том, как Геракл возвращает жизнь царице,
согласившейся умереть вместо своего мужа, Адмета.
Он приглашен в дом, откуда только что вынесли Алкесту. Ад-мет
скрывает от Геракла правду, и чревоугодливый герой усаживается
пировать. Узнав, однако, обо всем, Геракл решает наказать самое смерть
и, сразившись с нею, возвращает смирившемуся с горем Адмету
похищенную им, Гераклом, из самого подземного царства его, Адмета,
жену.
Явно пародируя комического Геракла-болтуна, по слабости ума
забывающего в трудах Диониса и Афродиты свой тяжкий удел, Еврипид *
вводит его в трагедию как странного, хоть и дорогого, гостя:
* Еврипид цитируется в переводе И. Ф. Анненского.
«Гостей видал я многих. Приходили
Из разных стран к Адмету и за стол
За пировой садились. Но такого
Мне не пришлось еще у очага
Сажать... Царя он в трауре находит
И все-таки идет в его чертог.
Мы подали что есть: другой бы, скромный,
Уважив горе, голод утолил
Поставленным на стол... А этот просто
Нас загонял... Ну, кончился обед —
Берет он кубок емкий: чистым даром
Земли его он наполняет черной
И пьет, пока огонь вина по жилам
Не побежал. Зеленой веткой мирта
Тогда чело он увенчал хмельное
И начал петь. То был какой-то лай...
Какого-то проныру, вора, плута,
Грабителя, быть может, угощать
Я должен, не почтив царицы мертвой».
Так жалуется раб Адмета, прислуживавший Гераклу. А тот излагает
рабу свое кредо, мало подходящее трагическому герою:
«Ты знаешь ли, в чем наша жизнь? Поди,
Не знаешь, раб? Куда тебе! Ну что же,
Узнай: нам смертным суждена могила,
И никому не ведомо из нас,
Жив будет ли наутро. Нам судьба
Путей не открывает: ни наукой,
Ни хитростью ее не купишь тайн.
Сообрази ж и веселись. За кубком
Хоть день да твой, а завтра, чье-то завтра?
Ты из богов почти особо, друг,
Сладчайшую для смертного, Киприду.
И — в сторону все прочее! Моим
Словам, коль прав тебе кажусь я, следуй.
А, кажется, я прав... Пойдем со мной,
Венками мы украсимся, и живо
От мрачных дум веселый плеск вина
О кубка борт тебя, поверь, отчалит...»
В дальнейшем, правда, этот, комический, Геракл в трагедии Еврипида
преображается в подлинного героя. Но как стерпеть вторжение трагика в
чужую жанровую сферу? Сын нерадивой зеленщицы Клито, рогоносец и
вор чужих стихов, не умеющий справиться
с
торопливо
развивающимися событиями своих драм,
Еврипид выкатывает на сцену платформу на колесах, а за декорационной
стенкой устанавливает «журавля»; чтоб было на чем спускать богов в эту
заваренную трагиком кутерьму! Такими-то фокусами оскорбляют
трагедию.
Первому на стило попал Еврипид похабнику Фриниху. Он был не
намного старше Аристофана, а известен тем, что не любил ученых и
модников: это от него в комедии «Отшельники» досталось Метону за
постройку фонтана в Колоне и солнечных часов на Пниксе. К счастью для
Еврипида, до нас не дошли Фриниховы «Музы», где, по слухам, сами
дочери Мнемозины судили трагика. Что же, Еврипид в роли Марсия или
на худой конец Фамиры-кифареда — это недурная тема для Аристофана,
и он тоже найдет еще время для суда над Еврипидом. А пока
комедиографы усердно транжирят Еврипидов арсенал, поддразнивая
трагика и порицая за неуважение к традициям. В этом один безымянный,
но ученый платоник обвиняет Аристофана, вспоминая, как смеялся
Кратин над наскоками молодого соперника: «Он его ругает, да сам ему же
и подражает, одно слово — Евристофан!»
Но как не гневаться комедиографу, работающему по правилам! И
дело ли трагика врываться в чужой дом! Вот к чему приводит чрезмерная
начитанность: не довольствуясь компанейским стилем афинского
образования, Еврипид завел у себя дома собственную библиотеку. Это
последнее обвинение, трудно согласуемое с происхождением от зеленной
торговки, о чем не писали в Греции только ленивые,— свидетельство
самозабвенности облаивания, каковою всегда отличался Аристофан, а
вовсе не противоречие дурно состряпанного иска. Да это и не облаивание
даже, а настоящие укусы: «облаивать», «кусать» и «огрызаться»,
«лизать», «отрыгивать» и «жалить» — вот распространеннейшие из
терминов, какими описывают свою полемику сами аттические писатели.
Аристофан впервые сцепился с Еврипидом (и вот возник Евристофан,
спешит подсказать кусачий Кратин), когда трагику шел шестой десяток, а
молодой поэт даже не осмеливался самостоятельно ставить свои комедии.
Но впиться в Еврипида он осмелился. Еврипид не ограничился тем, что
посягнул на привилегии комедиографов в изображении любимого
дорийского смехача, Геракла, он взялся за потомство любимого сына
Зевса, написав трагедию об одном из многочисленных случайных
отпрысков победоносного героя — о царе мисийцев Телефе. И на Телефа
были у комиков неотъемлемые права, доказательством чему пусть будет
миф об этом человеке.
Сын Геракла и дочери аркадского царя Авги, Телеф прожил трудную
молодость (о которой не здесь рассказывать), а в зрелые годы сделался он
царем Мисии. И вот однажды, когда мисийцы воевали с греками, войско
Телефа, уже одержавшее было победу,
наткнулось на сопротивление Ахиллеса и отступило, да так поспешно,
что даже сам Телеф, не обратив внимания на изуродованную его войском
обитель Диониса — виноградник, повсюду разбросавший цепкие плети,
— об эти-то плети споткнулся, упал, да так неловко, что Ахиллес поранил
его копьем. Обиженный на Телефа за потраву, Дионис не позволял его
ранам залечиться. Оракул же Ликийского Аполлона предсказал
недугующему царю, что мучительную рану его залечить может лишь тот,
кто ее нанес, и вот, вконец истощенный, Телеф, одетый в лохмотья,
является в Аргос и просит Ахиллеса об исцелении, но Ахиллес не
соглашается. Он требует от Телефа, который был зятем Приама, выдать
грекам морской путь в Трою. Агамемнон, аргосский владыка и главный
воевода греков, не велит отходчивому Ахиллесу (которому было тогда 15
лет) лечить Телефа. Отчаявшись, зловонный сын Геракла хватает
малолетнего сына Агамемнона, Ореста, приставляет к горлу его нож и,
стоя возле алтаря, требует положить конец страшным мукам. Агамемнон
уступает, Ахиллес готовит снадобье, соскоблив ржавчину с копья,
вырезанного из ясеня, росшего некогда на горе Пелион, и не без помощи
Диониса, дав снадобью выбродить и настояться, излечивает Телефа.
Благодарный на радостях выбалтывает грекам морской путь в Трою и
посвящает Дионису храм.
Этот миф и сделал Еврипид фабулой своей трагедии под названием
«Телеф». Вознесши зрителя на высочайшую степень ужаса, касательно
несчастного жребия Телефа по получении вельми обидной (помните, как
страдали от похожего недуга афиняне, обидевшие Диониса?) раны, автор
трагедии ниспускает в хитром механизме бога с небес, и все оканчивается
в последней сцене гораздо удовлетворительнейшим образом, нежели как
сего можно было ожидать.
Много лет спустя Аристофан будет обманывать своих зрителей,
посмеиваясь, впрочем, над собственным обманом:
«Двоих рабов болтливых мы не выведем,
Орехами бросающихся в зрителей,
Геракла, обманувшегося в ужине,
И Еврипида представлять не станем вам».
Но в «Ахарнянах», хоть и без двух рабов, без ненасытного Геркулеса,
без явных следов грубоватого ритуала «осеменения» публики, Еврипид
все-таки появляется, да к тому же не в последний раз. К нему является за
помощью Честной Гражданин: обозленные ахарнские ветераны не дают
Честному говорить, так что для вящей убедительности он решает
«принарядиться самым жалким образом».
«Дай мне лохмотья из твоей трагедии,
Здесь хору речь сказать мне нужно длинную».
Впуская Честного в, как вы говорите, творческую лабораторию
трагика, сам комедиограф примеряется к режиссерским приемам не
боящегося риска поэта. Поставленный на Великих Дионисиях «Телеф»
был достаточно свеж в памяти, чтобы зрителям и судьям не приходилось
спрашивать друг у друга, что смешного находит комик в намерении
Честного пырнуть ножом корзину с древесным углем — любимое детище
ахарнских угольщиков: не так разве Телеф держал над алтарем
маленького Ореста? «Землячки, беднячки, уголечки! Ужель их убьешь?»
— вопят ахарнские углекуры. Но Честной непреклонен, шантажом
заставляя ахарнян дать ему время для оправдания:
«Друга, всех друзей дороже, я хочу у вас убить.
Есть и у меня заложник. Унесу и заколю!»
Чисто литературный предмет пародии Аристофана на удивление
мирно соседствует с ритуальной непристойностью фаллических шествий,
ибо они — ветви одного дерева. Переодетый крестьянином шут, Честной
не может справиться со своей сценической задачей прежними средствами,
в облике эдакого простачка-гроздаря, ничтоже сумняшеся заключившего
мир со спартанцами (а может, просто купившего бурдюк недурного
винишка?), наивно справляющего Дионисии в обществе мегарских
потаскух. Вот почему Аристофан нарушает сценические иллюзии,
посмеиваясь над самим собой, а заодно обвиняет в сем грехе (в
нарушении иллюзий, а не в посмеивании) — Еврипида.
У дома трагика — привратник. Александрийский схолиаст видит в
нем отпущенника Еврипида, профессионального актера Кефисофонта, о
котором говорили, что он был соавтором многих драм своего хозяина.
Сам Еврипид, по словам привратника,
«И дома и не дома, как поймешь — пойми!..
Душою за стихами он гоняется,— Не дома, значит.
Сам же, ноги вверх, творит
Трагедии.
Ч е с т н о й . О Еврипид блаженнейший!
Твой раб, и тот исполнен дивной мудрости!»
Под смех зрителей, уже давно знакомых с выдвижной платформой,
потребной для вводных эпизодов, на сцену выкатывается комната
Еврипида, или, вернее, реквизиторская его труппы. Но где
приличествующие трагедии пурпурные хитоны, где чаши, алтарная
бронза, великолепные сандалии, пеплосы?
«И что тут за лохмотья театральные,
Отрепья? Так недаром ты — поэт бродяг».
Для каждого страдальца, хромого или мучимого зловонными язвами,
для убийцы, забрызганного кровью,— много их, стонущих и болтающих,
бродит по преданьям греческой старины,— для каждого припасен у
Еврипида свой костюм. Отвергнув несколько предложений, Честной
выбирает рубище Телефа. Еврипид щедр:
«Слуга! Подай ему хламье Телефово,
Висит оно повыше тряпок Ининых,
С Фиестовыми рядом. На, возьми-ка их».
Телеф пробрался в Аргос инкогнито, под видом последнего нищего из
нищих мисийского царства, в шапке, закрывающей глаза и уши. Такую
же потребовал у Еврипида Честной.
«Ведь нищему я должен уподобиться,
Собой же не по виду быть — по сущности.
Чтобы тотчас меня узнали зрители,
А хор, опешив, встал в оцепенении,
И я б его речами одурачить мог».
Так, посмеявшись над драматургической стратегией Еврипида,
Честной начинает грабеж реквизиторской трагика и с жадностью
уличного приставалы выпрашивает прогоревший плетеный фонарик —
корзинку с вставленной в нее свечою,— неряшливо отделанную
глиняную плошку, какие-то бинты для ран и, наконец, «корзинку
зелени». Последняя просьба — недвусмысленный и прозрачный для
афинян намек на мамашу-зеленщицу. До самого же Еврипида, как ему и
положено по комедийной роли, на протяжении всего эпизода
сохраняющего возвышенный тон и «трагический» выговор, насмешка
доходит не сразу. Но Честной не отступает:
«О Еврипид мой! Славный, милый, сладенький!
Пускай погибну, если попрошу потом!
Дай мне капусты, попроси у матери!
Е в р и п и д . Ты дерзким стал. Замкните двери крепкие».
Под одобрительный смех публики тележка с Еврипидом и всем его
сценическим скарбом выкатывается за орхестру.
Приходится заметить, кстати, невозможность достоверного описания
облика аттической сцены конца V века. Перестройки, и весьма
существенные, сделанные в конце следующего, IV столетия, не говоря
уже о позднейших разрушениях и реставрациях, позволяют только
предположить наличие деревянных декораций,
возможно, в виде разрисованных щитов, за которыми скрывалась
подвижная платформа и из-за которой в нужный момент выносил свою
ношу «журавль». Строгий почитатель одних достоверных сведений
скажет о греческом театре только, что с одной стороны он кругл, а с
другой — четвероуголен.
На этой сцене Аристофан ведет себя еще почти совсем так, как его
старинные учители, когда еще не было мраморной раковины амфитеатра,
а зрители помещались на нескольких деревянных скамьях-лесах вокруг
пыльной орхестры: расколдовать трагедию с ее марионеточными
страстями афинских человечков, которым взамен высокого героизма
предков предлагают унылые стоны и вопли впавших в нищету мисийцев;
усевшись на любимого конька, уличать другого в том, чем сам не
преминешь воспользоваться, когда в традиционных хороводных приемах
станет тесно; куснуть больнее модного трагика, и не за то, что он «враг»
или «бездарь».
Александрийские и византийские схолиасты рады стараться, толково
разъясняя каждое слово, поспешно брошенное ругливым комиком.
Написано у Аристофана:
«И вновь я злился злобою трагической:
Разинув рот, Эсхила ждал трагедии,
А тут глашатай: Феогнид, введи свой хор!
Так по сердцу меня тут и ударило».
Тут как тут схолиаст: Феогнид — плохой трагик, прозванный за сухость и
чрезмерную возвышенность слога «снегом»; какой-то Мосх — дурной
кифаред из Акраганта, совсем безголосый; «некоторые, впрочем,
говорят,— добавляет схолиаст,— что его звали Мосхом (ягненком, понашему) за то, что он, победив в состязании кифаредов, в награду получил
ягненка». А вот Дексифей, о котором у Аристофана просто сказано, что
он «встал с мелодией фиванскою», объявлен кифаредом хорошим и
даже победителем песенного состязания на Пифийских играх. «Впрочем,
некоторые,— добавляет для очистки совести схолиаст,— говорят, что
Дексифей чересчур холоден». Кажется, только Херида, флейтиста и
кифареда, дружно поносимого комиками, и схолиасты в один голос
причисляют к худшим из музыкантов. «Этот Херид,— говорится в схолии
к одной из Аристофановых комедий,— был кифаредом, о нем упоминает
Ферекрат в «Дикарях»:
«— Кто хуже всех играет на кифаре и поет?
— Сын Писия Мелет.
— Ну а после — кто?
— Постой-ка... Ну, конечно, это же Херид...»
А я ставлю семь против одного, что Херид, пузатый коротышка,
прозванный за неуклюжесть «вороненком», был из лучших слуг Аполлона
и Муз!
Между тем именно александрийские и византийские схолии к
Аристофановым комедиям — один из немногих источников, которыми
располагает наука о греческой цивилизации. Так что и рассориться со
схолиастами не в наших интересах: просто, взявшись рассматривать в
лицо какого-нибудь афинянина, и мы вступаем в состязание, а правила
заданы греками.
По этим правилам и Аристофан, евристофанничая, как сказал бы
ревнивый Кратин, нападал отнюдь не на безоружного противника. Хоть и
не полюбившийся сразу искушенным Афинам, Еврипид много лет провел
в этом городе, оставив его только под конец жизни, и он успел закалиться
в упорной — чуть не сказал «литературной полемике»! — в упорной,
возобновляющейся из года в год схватке с трагиками, судьями, городом
за признание. Еврипид не забыл издевательств Аристофана над его
«Телефом», не забыл мальчишески неумелой пародии на вызывающую
слезу сцену мнимого заклания Ореста у алтаря царя царей Агамемнона.
Обезумевший от боли и отвращения к собственной вонючей ране,
Телеф держит кривой фригийский нож у горла мальчика. И эту сцену,
этого человека осмеивает Аристофанов шут, грубый алтарный плясун! От
ритуального осмеяния святынь, за которое во время жертвоприношения
отвечает «бомолох» (так по-гречески называется должность этого
плясуна), уж очень далеко до насмешек над неудачливым трагиком:
«Ну, наконец-то крики вы оставили,
Чуть не погибли уголья пернетские,
А все лишь по мужицкой вашей глупости!
Всего меня со страху короб угольный
Покрасил сажей, словно каракатица!»
Но Еврипид не убежден и, конечно, не унижен пародией Аристофана.
Расхищая комический арсенал, Еврипид сам создал почву для
соперничества жанров и однажды ответил Аристофану его же оружием.
Пятнадцать лет спустя, незадолго до переезда в Македонию, к
пригласившему его туда царю Архелаю, Еврипид написал трагедию
«Орест». Поставленная в 408 году, драма эта велит своим трагическим
героям вести себя так, словно они — герои комические, и есть в ней одна,
как будто для Аристофана написанная, сцена.
Орест, уже отомстивший матери за смерть отца, уже зарубивший
отчима Эгисфа, оказывается в Аргосе, где вместе с Пиладом решает —
вопреки общепринятой мифологической традиции — взыскать с
Елены — жены Менелая и собственной тетки — пеню за беспрестанное
кровопролитие, спровоцированное ее, Елены, красою. Пощадивший
Елену Зевс забирает ее на небо, но в Аргосе Оресту грозит неминучая
смерть, и он ищет и находит способ
заставить Менелая отказаться от мести. Схватив Гермиону, дочь Менелая
и Елены, Орест делает то же, что некогда совершил над ним самим
Телеф, приставив ей нож к горлу, он вот-вот заставит Менелая
покориться; тот упрямо огрызается, и тогда спасительный «журавль»,
управляемый за сценой проворным механиком, выносит на орхестру
Аполлона:
«Смири свой гнев, Атрид! Перед тобой
Латоны сын и просит: «Успокойся!»
И ты мечом девице угрожать
Повремени, Орест! Внемлите богу.
Разгневанный на Менелая, ты
Его жену убить хотел... Глядите,
Там, в глубине эфирной, уж звездой
Она горит и смерти избежала.
Я спас ее из-под ножа. Так ЗевсОтец велел. Он дочери бессмертной
Дал светлый трон в обители небес.
Чтоб с Кастором она и Полидевком
Спасением сияла для пловцов.
Ты, Менелай, возьмешь жену другую;
Ее красой бессмертные вражду
Меж вас зажгли, где столько и фригийцев
И эллинов погибло, чтобы тем
Освободить вам землю от наплыва
Преступного и дерзкого. Орест,
Тебе судьба в невесты Гермиону
Из-под ножа готовит, а еще
Ты обещал Пиладу дать сестру:
Отдай ее — Электру ждет блаженство...»
С усилием развязав затянутый Еврипидом узел, чтобы привести
важнейшие — последние — мгновения трагедии в соответствие с
мифологической традицией, Аполлон как будто специально призван для
того, чтобы показать, к какой сумятице сведется жизнь, если люди сами
попытаются распоряжаться чужой, да и своей судьбой.
Однако же не слишком ли стремительно перерождение Ореста и
Менелая из бешеных от крови зверобоев в благодарных богам глуповатых
«мужчин»? Не тянет ли оборванцем Телефом оттуда, с алтаря, где Орест
склонился с мечом над тонкошеей Гермионой? А если да, случайное ли
это повторение приема — вознести зрителя на высочайшую степень
ужаса, касательно несчастного жребия Ореста по умерщвлении своей
матери, чтобы потом, ниспустив с небес Аполлона, окончить все гораздо
удовлетворительнейшим образом, нежели как сего можно было ожидать?
Еврипид дает ге-
роям своей драмы столь недопустимую свободу, что само вмешательство
богов приобретает оскорбительный для трагической музы комический
эффект. А язык! От Аристофановой комедии «Рассаживающиеся
женщины» осталось две строки: «Да, да, я тоже говорю на этом
сладостном (Еврипидовом) языке, но мои речи — не для тех, кто
толпится на базаре, как у него».
В 425 году в «Ахарнянах» спор о трагедии, об истинной трагедии,
развязанный Евристофаном, только начался. Впереди Дионисовы потные
дни состязаний в театре, Дионисовы пьяные ночи. Их не так уж много в
году, этих дней и ночей, но смиримся, мы допущены только туда, да и то
не всегда, не всюду.
Можно только предположить, что Еврипид, презрительно
относившийся к своим критикам, не снисходил до вероятных
профессиональных споров, имевших место в промежутках между
драматическими состязаниями. Когда Честной приходит к трагику, он
обращается к тому со словами: «Еврипи-ид, Еврипидушка, выслушай
меня, если ты хоть когда-нибудь прислушаешься хоть к кому-то из
людей!»
Аристофан, а ему в 425 году шел еще третий десяток, едва ли мог
нападать на подходящего к своим 60 годам поэта за то, что тот не
прислушивается к его, Аристофана, мнению о правилах писания
трагедий. Остается думать, что несговорчивость с собратьями по
служению Музам, Аполлону и Дионису — обычный предмет нападок на
Еврипида. Впрочем, это только предположение. Но, с младых ногтей
взявшись за Еврипида, до самой смерти трагика Аристофан не даст ему
покоя. Певец хворых и нищих, сочиняющий вдвоем с отпущенником
своим, Кефисофонтом, опошливший трагедию и рабской мудростью
оскорбляющий Муз, кто это? Евристофан.
Его, а не Еврипида, отделывает Аристофан в «Ахарнянах»: пародируя
трагика, комик, сын баснословия, слагает новые стихи, ваяет нового
поэта, созидает новое царство, в котором смешна бесконечная похожесть
на правду, оправленная в бесконечное ненеправдоподобие.
Евристофан любезен творческому духу афинян, да и всех греков,
любящих переставлять у всего на свете члены и глядеть, что из этого
выйдет. Собственно, воспитали их такими сами боги, умеющие создавать
из мнимостей полные жизни существа.
Иксион, воспылав страстью к Гере, попытался овладеть ею, но
настоящая Гера, супруга отца богов и людей, конечно, оказалась ему не по
зубам, и вот Зевс слепил из облака мираж жены своей, с коим и сошелся
Иксион. За слухи, распускаемые Иксионом, что, мол, он спал с самою
Герой, Зевс жестоко наказал его, но героподобная тучка успела
произвести на свет потомство, прижитое от Иксиона. То были кентавры.
С тою же живостью и по той же модели комедия создавала
Евристофана. Собственно, Аристофан, рассуждая сугубо аттически,
собирал Евристофана по крупицам, и, чтоб не удивляться впредь,
разбирая этот мозаический образ, «выследим бога», поглядим, не
приложил ли и здесь Зевс свою ловкую руку.
Мы найдем афинянина Аристофана родившимся па Эгине или
проведшим там детство, пору закладывания характера человека, пока он
еще мягок и податлив (греческое «характер» и происходит от глагола
«харассо» и означает «вырезанное», «процарапанное», «отчеканенное»), а
что могло быть вырезано из маленького Аристофана на Эгине?
Когда Зевс принес свою очередную возлюбленную — Эгину — на
остров, получивший впоследствии имя первой своей госпожи, и там
совокупился с нею, остров этот, прозывавшийся тогда Винным, был
безлюден. Рожденный Эгиной Эак оказался единственным человеком на
Винном. Сперва Эак, муж, по единодушному мнению мифографов,
благочестивейший, пытался сойтись — с целью продолжения рода — с
дочерью морского царя Нерея Псаматой-Песочницей, но та, как и все
морские божества, и ее отец, и Протей, и Фетида, то и дело меняла свой
облик, чем вконец изнуренный Эак был огорчен несказанно, и все же он
породил сына с Псаматою, принявшей в момент зачатия облик тюленихи.
— Ну а что же Аристофан? — спросите вы. А то, что Эак,
недовольный трудностями заведения рода человеческого на своем
острове, попросил Зевса снабдить его подданными, что тот и исполнил,
превратив в людей населявших остров муравьев. Возникшее из муравьев
(по-гречески «мирмиков») племя мирмидонян жило с тех пор на Эгине.
«...а нравы, какие и прежде
Были, у них и теперь: бережливый народ, работящий,
Цепкий к наживе притом, а что наживет, то припрячет...».
Среди таких людей и прожил Аристофан первые годы жизни. Кто ж
теперь удивится его хватке, способности впиться и цепко держаться за
раз схваченное в муравейнике комедий!
Пожалуй, слишком строгий критик скажет, что не дело искать в
мифах истины. «Когда поэты,— скажет он,— поместили в сочинения свои
иносказания, прибавив еще к ним новые, знаменование их утратилось и
сохранился один смысл, буквальный: поверхность осталась, но
содержание потеряно. Истина историческая покрылась эмблемами. Таким
образом, изобретатели аллегории, желая истину покрыть завесою, лишили
ее существенного достоинства. Мифология же греческая, смешавшись с
Историею, сделалась одною из главных причин сумнительности
последней».
Голос критика, как голос рассудка, должен несколько отрез-
вить нас.
В самом деле, не среди муравьев-мирмидонян живет
Аристофан, не о кентаврах, сфингах и минотаврах думает он, когда
евристофанничает его комедия. Но полагать, что «знаменование мифов
утратилось и сохранился один смысл буквальный», наивно. Афиняне,
усевшиеся в театре Диониса,— а их-то никак нельзя упускать из виду,—
придерживались на этот счет другого мнения. Но к ним обращено в
комедии не только ритуальное смехачество, изукрашенное красною
краской вина Дионисова и радужной красотой Афродиты.
«Не гневайтесь на меня, мужи-зрители, что я, нищий, говорю здесь,
среди афинян, и размышляю о городе, играя тригедию. Да ведь и
тригедия знает, где правда, и вот я скажу вам правду, хоть это и ой какая
правда! Мы ведь почитаем Диониса иод именем Псилаха, ибо «псила»
по-дорийски значит «крылья»...».
Глава 4
НАРОД АФИНСКИЙ - СТАРИКАШКА ГЛУХОНЬКИЙ?
Аттическая комедия Аристофана, конечно, строилась не из одних
базарных клоунад, литературных и политических пародий. В потешный
бой шутов, неистовый кордак хористов, разоблачение условности
излюбленных сценических приемов всегда вкраплена у Аристофана одна,
особенная сцена, называемая по-гречески парабасой, а по-нашему
выходом к зрителю. Эта сцена знаменует неожиданное затишье в
действии спектакля, когда голова хора, от имени автора обращаясь к
зрителю, вдруг словно забывает о том, что только что происходило на
сцене. Хор неожиданно разоблачается, со стороны разглядывая свои
странные одежды и объясняя зрителям, почему его так одели; а пока
хористы готовятся закрутить свой обычный лихой пляс, голова хора
окончательно вырывается из оболочки сценической условности и
внезапно начинает говорить с театром от имени самого комедиографа.
Места пара-басе в комедии уделено немного, и голова хора торопится,
обычно так торопится, что успевает за несколько вдохов-выдохов без
обиняков выяснить отношения с судьями и другими афинянами,
расхвалить свою новую вещь, лягнуть соперников-драматургов,
высказаться по поводу очередного шумного афинского скандала,
уговорить судей дать первую награду автору этой, а не другой комедии, и,
наконец, снова юркнуть в свой наряд и безраздельно слиться со своею
ролью. Не имеющий очевидных ритуальных прототипов, «выход к
зрителю» в комедии — залетевший в иной жанр осколок городского
красноречия, или открытое письмо, публикуемое гражданином среди
сограждан. Соседство с комедией не мешает такому прямому обращению
к афинянам, напротив, острота контраста требует от «выхода к зрителю»
известного противостояния стилистике всей комедии, хотя основа и здесь
одна: пародируется аттическая риторика.
Гульба, попойка, обжорство и глупость, царящие на сцене, оттеняют
неожиданно (только для нас!) праведный образ поэта, некутливого и
неблудливого.
Снявши временно эмблемы царства баснословия, укрывающие истину
историческую, послушаем, как охотно рассказал Аристофан в парабасе к
одной комедии («Осы») о своих подвигах на мусическом поприще.
«Для начала тихонько, тайком, под полой, помогая поэтам
известным,
Переняв от Еврикла пророческий дар и таинственной речи
искусство,
Он, в чужое упрятавшись брюхо, на вас изливал острословия речи,
А потом уж открыто и сам за себя отвечать и стоять он решился.
Нe чужую и пришлую музу взнуздав, а свою и родную взлелеяв.
Но хотя, как никто, поднялся он потом, как никто был
почтен он и славен,
Не зачванился он, и не стал гордецом, и горой не раздулся от спеси...
Не желая, чтоб Муза, его госпожа, потаскушкой и сводницей стала.
С самых первых шагов, так клянется поэт, он напал не на
малых и слабых,
Нет, с Геракловым каменным сердцем в груди поднялся
на великих и сильных.
Без боязни на главного зверя восстал, на страшилище с
пастью зубастой...
Он вонюч как тюлень, и задаст как верблюд, как немытая
Ламия грязен.
На такого-то зверя посмел он взглянуть и не дал подкупить
себя взяткой».
А вы говорите эгинский муравей!
Признание и о чужом брюхе, где прятался Аристофан, делая
первые шаги в комедиографии, признание, сделанное спустя два года, как
комик должен был отказаться от посредничества Каллистрата, не
случайно. Обычай, видимо, состоял в нераздельности труда
комедиографа и режиссера: будь по-иному, до нас дошло бы хоть чтонибудь от Кратета или Магнета, чья импровизационная техника, к
сожалению, не поддается восстановлению и описанию. Но это только
часть дела.
По слухам, донесенным александрийским схолиастом, когда в 424
году, в архонтство Стратокла, на Сусляные Дионисии Аристофан принес
новую комедию, никто не захотел брать на себя постановку этой вещи.
Особенно пугало одно: среди рабов, обычных комедийных персонажей,
был Пафлагонец, и в рабе этом легко прочитывался любимец и вождь
народа Клеон. Не желая скрывать демагога в подтексте спектакля,
Аристофан хотел, чтобы сходство с Клеоном схватывалось мгновенно, а
не только путем почти филологического истолкования племенной
принадлежности раба: «пафладзо» по-гречески значит «бурлить» и
«пениться», а именно так, бурля и пенясь, как переполненная сточная
канава Киклобор, выступал Клеон перед народом.
Итак, Аристофан заказал реквизитору маску Клеона, но тот
побоялся, как боялись и актеры, взяться за представителя нового
поколения демократии. Я, правда, и сам боюсь, что портретная маска, о
которой хором пишут схолиасты и многие исследователи Нового
времени,— не более чем фикция: только цвет ее был заметен зрителям, да
к тому же и масок для каждой роли, вероятно, требовалось несколько.
Когда персонаж здоров и полон сил — коричневая, в знак уединения —
белая, для тех, кого ждут напасти,— бледно-зеленая, для тех, кто
спешит,— темно-красная, для строящих козни — розовая. Но как бы там
ни было, пришлось Аристофану самому, без маски, загримировав
физиономию, выступить в опасной роли.
«И отважно и рьяно он бросился в бой с огнедышащим зычным
Тифоном».
Не Клеон ли таскал Аристофана в суд, не Клеон ли с братией
поколотил начинающего драматурга, не пришла ли пора понять, что
прошли времена терпимости и уважения к старинному обряду осмеяния?
Для Аристофана, видно, не пришла. Так не упрямый ли эгинский муравей
он после этого?
Ревнивый Кратин, проигравший молокососу Аристофану и в новом
состязании Диониса-что-на-болоте, сказал потом, что Аристофан ставил
свою новую комедию тоже не сам, но с помощью Евполида, у которого он
многое позаимствовал. Об этом же сообщается в древних схолиях к
поставленным в 424 году «Всадникам». Плешивый комик, думаю, в
плагиате не повинен, но помощь Евполида в первой постановке
молодому, подающему надежды драматургу весьма вероятна. К тому же,
судя по словам Аристофана о его «тайном прислуживании другим
поэтам», известная артельность могла быть присуща труду
комедиографов, ведь дело тут не только в профессиональных качествах
«заводилы», наставника хора или декораторов спектакля: ограниченное
время репетиций не могло не требовать от участников спектакля
импровизационной подвижности, которая в свою очередь предполагает
свободу обращения с традиционными, клишированными приемами и
отработанными сюжетными ходами.
Затеяв, как придется сказать, чисто политическую сатиру, Аристофан
искал для своей комедии прочную традиционную модель. Вошел в силу
Клеон, получивший за успех экспедиции в Пилос и на Сфактерию
высшие почести, какими афиняне могли удостоить гражданина: он
приобрел право столоваться в Пританее — доме, выстроенном возле
святилища Аглавры, в начале улицы Треножников, где за
счет
государства обедали лучшие граждане.
Воинственный афинянин, сын Клеонима, владельца небольшом
кожевенной мастерской, Клеон был выходцем из той самой толпы, к
которой обращена Аристофанова комедия, а значит, не самым
простым орешком, беззастенчиво шелушимым. Кроме обеда в Пританее
Клеон удостоился и почетного места в первом ряду театра, а это отчасти
облегчало задачу Аристофана, ведь, осмеивая при всех бурно-пламенного
Клеона, комик словно расписывается в своей заверенной веками
придурковатости, снова сводя к аттической традиции вседозволенности
прямой и грубый выпад против воеводы и грозного любимца толпы.
Полнота силы, в какую входил, смакуя выпавшее ему на долю, Клеон,
подзадоривала комика. Не слабее манила к себе егозливых слуг Диониса и
сама толпа афинян, жадная до лести и глупых успехов. Обращаясь к ним в
парабасе «Ахарнян», голова хора ругает сограждан:
«Только стоило прежде союзным послам обольстить вас
приветственной речью,
«О венчанный фиалками город!» И вы за венки, за фиалки
тотчас же
Все отдать были рады и, ноги поджав, горделиво орлами
сидели.
А другой, кто, скрывая корысть, говорил о «лоснящихся
блеском Афинах»,
Добивался всего за лоснящийся блеск, хоть и сельди и щуки
лоснятся».
Народ, довольный, что дела пошли в гору, и готовый на любую
авантюру, предложенную ему удачливым сегодня воеводой, народ,
исполненный единодушного энтузиазма, нуждается теперь, на исходе
зимы, накануне первых весенних недель, лишь в том, «чтоб вспрыснуть
мозг и до добра додуматься».
Клеон, захватив на Сфактерии спартиатов, одержал не совсем чистую
победу, ведь осадил остров и взял Пилос другой военачальник —
Демосфен (которого не следует путать с тезкой-оратором, жившим на
несколько поколений позднее), Демосфен, слишком вяло проводивший
осаду. А месяц спустя после возвращения триумфатора Клеона, в начале
осени, афинский воевода, избранный на следующий год, сын Никерата
Никий совершил успешную, хотя в военном отношении бесполезную
вылазку в Коринф, впервые воспользовавшись для этой операции
всадниками в качестве десанта (обыкновенно
десант
составляли
пехотинцы-гоплиты). В этих всадников нарядил потом Аристофан хор
своей комедии «Всадники». Успех Никия, но сопряженный с особым
риском, вызвал, конечно, куда меньший энтузиазм в Афинах, чем триумф
Клеона, но он подбрызнул масла в огонь и без того обуревающего город
патриотического костра.
Сравнительная вялость воевод старого типа, отпрысков знатных
семейств, приводила к тому, что выходец из простонародья Клеон, может
быть, казался городу чем-то вроде «подлинного
сына демократии», а так как с ним связывали и будущие военные успехи
Афин, понятное упоение расцветом демократических идеалов могло
некоторое время царить в городе, покровительствуемом мудрой Афиной.
Семь лет тянувшаяся война дала передышку, как будто просила еще
совсем чуть-чуть новых усилий.
Таков в общих чертах исторический подмалевок нового детища Аристофана. Но — самое трудное дело на свете — писание комедий. А
в историческом афинском подмалевке недостает ключевой маски,
расписывать которую, кстати, никто бы не боялся: это — маска заводилы,
шута-победителя, царя комедии, собственно того самого шута, из-за
которого комедия исстари называлась тригедией, что, переводи мы
правильно, означало бы: «песнопения тех, кто вымазал рожи винного
ягодой». Но искать маску пришлось недолго. Строение комедии само
подскажет если не ключ, то хоть замочную скважину.
Выживший из ума старик Народ, недовольный своими старыми
рабами — Никнем и Демосфеном,— обзаводится новым, пафлагонским.
Пафлагонцы вообще считались в Афинах рабами дешевыми, ибо были они
нерадивы и вороваты, но этот до службы у Народа был торговцем кожами,
грубияном и базарным крикуном, направо и налево надувающим хоть
кого, этот стоил всех пафлагонцев. Двум обыкновенным рабам, с их
тривиальными рабскими пороками,— Демосфену-пьянице, Никию —
безграмотному тугодуму и воришке — противостоит раб новой формации,
дерзкий и наглый, не удовлетворенный обычными способами
сосуществования с хозяином:
«Бобов грызун, сварливый, привередливый;
Народ афинский, старикашка глухонький,
На рынке прошлом он себе раба купил,
Кожевника, рожденьем пафлагонца. Тот
Пройдоха страшный, негодяй отъявленный.
Нрав старика тотчас же раскусить сумел
Кожевник наш и стал ему поддакивать,
Подкармливать словечками лукавыми,
Подмасливать и льстить: «О государь народ!..»
Бездельник, присваивающий чужие достижения, лишь бы остаться в
чести у хозяина, кожевник-пафлагонец — это все тот же балаганный
шут,
клоун,
разыгравшийся под маской Клеона. В конце
представления хозяин Парод признается:
«Ворам я слепцом кажусь,
Сквозь пальцы на все смотрю,
А сам не спускаю глаз...»
А на сцене, как в волшебной сказке, где негодяю, по уговору,
предоставлено на время управление государством царит Клеон.
Но ритуальная смена власти затянулась: кожевник вошел во вкус, и вот
уже остальным рабам делается невмоготу сожительство с этим
проходимцем. Решившись на самоубийство, Демосфен и Никий
выбирают слишком пышную смерть — отравление бычьей кровью,
хлебнув которой, говорят, погиб Фемистокл. Но яд незаметно подменен
вином, и, как профессионал, коря Никия за недоверие к целебным
свойствам вина, Демосфен ведет себя совсем в духе наступающих за
орхестрой празднеств Диониса:
«Вино ты вредным обозвать осмелился?
Да ты найдешь ли что вина полезнее?
Кто пьян, тот и богат и тароват во всем,
И счастлив, и догадлив, и находчив он.
Он в тяжбах побеждает и соседям мил.
Живей, живее притащи бутылку мне,
Чтоб в голову полезли думы путные».
Оказывается, только хлебнув вина, можно добиться того, к чему
стремятся Демосфен с Никнем. Не забудем, что и зрители афинские
готовы к встрече Сусляных Дионисий и дома у каждого припасен не один
мех молодого вина.
С пьяных глаз заглянули рабы в припрятанное Кожевником
пророчество о печальной судьбе узурпатора хозяйской любви.
Фантастические толкования читаемой бражником Демосфеном
околесицы убеждают обоих злополучных рабов в том, что от Кожевника,
из-за которого с них уже семь шкур спустили в доме, власть должна
перейти к представителю смежной, но еще более сомнительной для
эконома специальности — к изготовителю и продавцу колбас.
Собственно, колбасы, замечу, афиняне не знали, и речь шла, скорее всего,
о сычуге с жареными потрохами, приправленными зеленью и чесноком.
Словом, еще более широкое поле для махинаций, чем в торговле кожами.
Одуревшие от вина без закуски, Демосфен с Никием обнадежены
пророчеством, сулящим избавление от негодяя-пафлагонца, но где им
взять сычужных дел мастера?
«Колбасник? Боги, ремесло чудесное!
Но где же, где же мы возьмем колбасника?»
И снова, по законам волшебной сказки, сбываются хмельные
надежды, и на сцене, изображающей теперь рыночный пятачок,
появляется с лотком, беспорядочно заваленным сомнительной снедью,
новый шут, будущий соперник шута старого, он же — новый владыка, не
сулящий добра пафлагонцу. Бестолковый, но с хитрецой, знающий себе
цену, но кичливый как павлин. Удивляясь, как это он, полуграмотный
торговец, будет руководить го-
сударством,
Демосфен — лишь бы не ускользнул
победитель кожевника! — утешает его:
«Заправишь славно. Делай то, что делаешь.
Мели, толки, покруче фарш замешивай,
Подперчивай, подсаливай, подмасливай,
Да посласти словечками повкрадчивей.
А в общем, как рожден ты демагогом быть:
С пропойным басом, проходимец рыночный,
Всем одарен ты, чтобы стать правителем!»
прореченный
Этого сычужника не хочет упустить и Аристофан. Безраздельное
господство на сцене одного шута — большая редкость в комедии, как
редкостно для Афин господство одного демагога в Народном собрании.
Подходящая маска — еще больший пройдоха, еще больший нахал, еще
больший задира, чем Кожевник пафлагонский. Перед поединком
Демосфен заставляет будущего нового ключника Народа выпить чарку
вина и закусить чесноком: так кормили петухов перед боями, вошедшими
в моду в Афинах после персидских войн.
Но вот боец готов к схватке. По законам обряда он должен победить
старого потешного царя. Вся комедия — поединок рабов за кормушку
Народову, а Народ — судья, притворившийся глухим, непонятливым,
подслеповатым старикашкой, о котором пословица аттическая: старики —
вдвойне дети. Ему-то, кажется, все равно, кто победит, все равно, от кого
получить «тушеных почек: успевать бы в рот совать!».
«А кто из вас сытнее угостит меня,
Тому я тотчас Пникса передам бразды».
Победителю кроме власти достается и главное ритуальное
обязательство: он должен вернуть силу и молодость дряхлому,
состарившемуся Народу-властелину. А что же достается побежденному?
Ни наказания, ни побоев от прогнавшего его хозяина. Побежденный
съеден, его нет, а в театре — он просто тихонько снимает маску и
растворяется в толпе. Аристофан переигрывает немного: сычужник,
открывший свое настоящее имя — Агоракрит по-гречески, а по-нашему,
вспомни мы отечественных скалозубов,— Торгохай, или Базарный
крикун,— так вот Торгохай назначает пафлагонца своим преемником:
«Да пустяки, мое пусть ремесло возьмет!
И у ворот пусть торг ведет колбасами!
Мешая всласть ослятину с собачиной,
Напившись пьяным, с девками ругается
И воду из-под бань хлебает мыльную».
Совершив обряд вываривания зла и тлена, Торгохай вынимает
из пузатого банного чана помолодевшего Народа. Тот, увидав, что перед
ним подлинный жрец-лекарь, уделяет Торгохаю ежедневный обед в
Пританее и отобранное у пафлагонского кожевника место жреца-лекаря в
театре Диониса.
Повторив традиционный для праздника Диониса обряд, Аристофан как все комедиографы и старшего и его поколения, насыщает
действие лишь узнаваемыми, близкими, своими лицами, словами
и шутками. Без них обряд обречен на умирание и утрату главных
своих целебных свойств.
Оскорбления, вылитые с орхестры прямо в глаза и уши оскорбленных,
стоит заподозрить в них политическую дискуссию, сделают крайне
сомнительной для Аристофана возможность целым и невредимым
покинуть театр Диониса-что-на-болоте и вернуться к себе, в город, в
кидафинейский проулок, где невдалеке от мастерских резчиков и
плотников, вероятно, стоял его дом. А он добился первой награды,
полной победы в театральном состязании.
Клеон, конечно, сразу узнал себя в первом, побиваемом шуте,
оставленном в городе «меж банщиков и девок руготню вести». За столь
явное сходство он с братией и набросился на бедного комика, но как
взбудоражишь под праздник афинян или, как Аристофан обращается к
ним во «Всадниках», разинян, не вытолкнув их самих на сцену в
хороводном карнавальном наряде?
Правдивы ли обвинения Аристофана? — спросит прямодушный
читатель.
Слуга народа, демагогическими посулами добившийся от Народного
собрания неограниченных полномочий, или храбрый воевода, пленивший
храбрейших врагов города? Преследующий личные выгоды политик, «в
тумане войны ловко мошенничающий среди своих и союзников», как
говорит о нем шут Аристофан, Злодей, понимающий, по словам
Фукидида, что «с водворением мира его скверные поступки будут виднее,
а клеветнические наветы его будут внушать менее доверия»? Или, может
быть, герой и борец за простое афинское счастье? Комедиограф не
отвечает на эти вопросы. В историческом Клеоне ему надобна только
одна ипостась шута, пробравшегося к алтарю с жертвенным мясом,
вкусно пахнущим жарким, духовито фырчащим и дымящим только чуть-чуть, потому что пригорело оно самую малость. Вообще, всякий
дорвавшийся до этого мяса, по исходной задаче комедии, есть лицо,
подходящее для нового жертвоприношения, не кровавого, но тоже
серьезного. Другими словами, не акробат, клоун и смехач ради осмеяния
Клеона выбегает на орхестру по мановению сигнального рожка, но
смешащий сходством Клеон ради вызывающего радость, целебного и
заведенного акробата, клоуна, смехача.
А осмеяны ли сами афиняне-разиняне? Олицетворяющий их во
«Всадниках» Народ так до конца комедии и остается блудливым
глухарьком; увидев приведенных Торгохаем откуда-то нимф мира, он
распускает слюни:
«О Зевс святой и чтимый! Вот красавицы!
А можно мне их поприжать, скажи, дружок?»
Сами о себе афиняне, конечно, думали иначе и о прошлом вспоминали
благоговейно. «...Молодые люди тогда (когда? ну, когда-то...) не
проводили время в игорных домах, ни среди флейтисток и в тому
подобных местах, в которых теперь проводят целые дни,— а писано это в
начале IV столетия,— в харчевне закусить пли выпить не решился бы
никто, даже порядочный раб... Людей бойких и способных вышучивать,
которых в нынешнее время называют даровитыми, тогдашние люди
считали ничтожными... Город не был переполнен тяжбами, обвинениями,
чрезвычайными взносами, нищетой, войнами, но люди сохраняли
спокойствие во взаимных отношениях и поддерживали мир со всеми
остальными...». Эта убаюкивающая характеристика, принадлежащая
Исократовой «Ареопагитике» и относящаяся к временам, когда первые
комики зарабатывали первые свои награды на городских праздниках,
особенно занятна, если мы случайно вообразим физиономии
валяльщиков, башмачников и плотников, кузнецов, пасечников и купцов,
портовых бродяг и рыночных торговцев, а ведь это они присудили первую
награду «Всадникам». Странные люди эти афиняне! Даже самые мудрые
современники и творцы событий, о которых идет у нас речь, с трудом
объясняли себе, отчего так странны их сограждане, все эти Хармины и
Харинады, Харитимиды и Комархиды, Херилы и Херефонты...
В эти годы начинал политическую карьеру племянник Перикла
Алкивиад. Он хотел воспитать в себе презрение к толпе и обратился за
помощью к Сократу. Тот, чтобы ободрить юношу, спросил:
— Разве ты не презираешь вон того башмачника?
Получив утвердительный ответ, Сократ продолжал:
— Ну а этого разносчика или шорника? — Алкивиад согласился и
тут.
— Так вот,— продолжал Сократ,— афинский народ состоит из
подобных людей. Если ты презираешь каждого в отдельности, тебе
следует презирать и всех купно.
Так сын Софрониска и Фенареты внушал чувство собственного
достоинства сыну Клиния и Диномахи.
Как простить тебе, Сократ, не первую уже аристократическую
выходку!
При Народном собрании был Совет пятисот. Избирали в Совет по
полсотни мужчин от каждой общины-филы. Выборы происходи-
ли раз в году, а входить в Совет каждый гражданин мог только дважды в
жизни. Государственный год делился в Афинах на десять частей — по
числу периодов, потребных для того, чтобы представители каждой
общины могли попеременно вести текущие дела Совета. Ответственные
представители, избранные в Совет по пять человек от каждой общины,
назывались властителями, или пританами, а десять периодов, членящих
год, назывались прятаниями. Члены Совета, которыми могли быть
афиняне, достигшие тридцатилетнего возраста, получали по пять оболов
в день за выполнение своих обязанностей. Принимавшие
непосредственное участие в управлении государственными делами в
качестве пританов столовались в Пританее, а обед там был — не какойнибудь кусок соленой рыбы за пол-обола. Да и пять оболов, получаемые
членами Совета,— не такая скромная сумма, как может показаться: за три
обола сукновал выстирает шерстяной гиматий, за два обола в Афинах
конца V века вам продали бы шесть котил (по-нашему два литра)
среднего вина, носильщик за день работы получал четыре обола, а если к
пяти оболам членов Совета прибавить еще один, то тогда получится
драхма, и на эти деньги можно купить половину жареного поросенка или
расплатиться с мельником за ночной помол урожая ячменя с небольшого
участка. Что же касается расходов на пищу духовную, то толкователь
сновидений возьмет не больше двух оболов за свою услугу, столько же
стоили румяна и пудра для одного актера, не дороже двух оболов была и
переправа с Эгины в Пирей.
Но мы отвлеклись на пять оболов, получаемые пританами, не для
того, чтобы считать слюнявое аттическое серебро: афинянин ходил без
кошелька, за губой держа кругловатые монетки с вычеканенной на них
совой-Афиной. Мелочь эту называли чешуей.
Когда Клеон одержал свою знаменитую пилосскую победу, ему, я
говорил уже, был предоставлен ежедневный обед в Пританее. А
Демосфен и Никий, комедийные рабы, уговаривая Торгохая вступить в
схватку с Клеоном комическим, кожевником, пафлагонским
проходимцем, обещают ему — спьяну, разумеется, — полную власть над
городом:
«Вертеть Народом будешь и стратегов брить,
Судить, рядить и девок в Пританей водить».
Да и все действие комедии — бесконечная попойка (с нее начали
опальные рабы Народа) и пиршество на чужой счет (своею жратвой
Кожевник и Сычужник пытаются добиться благосклонности Народа).
Дело идет лишь о том, как добиться лучшей и полней-шeй дармовщины.
Как во всякой жертвоприносительной традиции, с которой изначально
связано дармовое кормление определенной категории людей, входящих в
общину, в комическом теат-
ре действие строится вокруг модифицированного алтаря или очага. Возле
него — соперничающие алтарные плясуны-чародеи: кто одолеет, тот и
сожрет лучший кус жертвенного мяса. Так спроецирована на искони
действующий ритуальный источник злободневная политическая
ситуация.
Бросающаяся в глаза метафорическая техника комедиографа, легко
превратившая все звенья обряда в безошибочно узнаваемую пародию на
город, может смутить нас монотонностью харчевни, с ее неустанным
пережевываньем и проглатыванием пищи.
Государственная деятельность в Афинах Клеона и в комедиях
Аристофана превращается из доблестного исполнения долга перед
отечеством в игру за похлебку.
«Клеон до того, как стал заниматься политикой, не имел имущества,
которое можно было бы заложить, а после этого оставил имущества на 50
талантов (т. е. 6 тысяч драхм)». Так ли уж неприлично было наживаться
на государственной службе, это еще вопрос, хотя в старину правители
скорее издерживались, занимаясь политикой и «служа народному делу»,
чем умножали свое богатство. Другими представлялись и Аристофану
герои прежних сражений:
«Угощенья в Пританее не просили, а теперь
И сражаться без награды полководцы не хотят!»
Так по крайней мере думали противники афинской демократии.
Множество ограничений, накладываемых на отправляющих
большинство должностей, приводило в Афинах к тому, что постоянно
сменявшийся государственный аппарат пропускал через сито своих
многочисленных синекур чуть ли не всех взрослых полноправных
граждан.
Кроме пятисот членов Совета в Афинах одновременно на службе
государства находились десять хранителей казны, десять чиновников по
взысканию налогов с метэков, откупщиков, десять аудиторов, столько же
помощников аудиторов, столько же проверщиков и еще столько же
помощников проверщиков, столько же заведующих священными
местами, столько же городских смотрителей — по пяти в городе и в
Пирее,— десять смотрителей рынков, столько же проверщиков весов в
городе и пять таких проверщиков в Пирее, тридцать пять контролеров
хлебной торговли, десять надзирателей за грузами, одиннадцать
милиционеров и столько же тюремщиков, сорок мировых судей по демам,
пять дорожных чиновников, три писца, двадцать жрецов, десять старших
чиновников-архонтов, десять распорядителей на играх и праздниках,
сотня сторожей и пирейских доков и акропольских хранилищ. Прибавьте
к этому еще более тысячи чиновников вне Афин, и выйдет около
двух тысяч ежедневно получающих жалованье должностных лиц,
сменяемых не реже одного раза в год! А если еще учесть, что со времен
Перикла за посещение зрелищ платили каждому горожанину от обола до
трех, то еще перед глазами потечет рекой серебряная чешуя,
переходящая, так сказать, из уст и уста в жарком афинском котле.
От распробования вина во время мистерий до проверки
добросовестности булочников, от присутствия в судебной комиссии до
участия в хоре — все должности могли предоставить человеку свою
небольшую выгоду, да и занимали их, как правило, люди из средних и
низших слоев общества: они составляли то «компактное большинство», к
которому обращают свои речи «слуги народа» типа Клеона и «слуги
Диониса» типа Аристофана.
По закону компенсации, более зажиточные граждане должны были
сами расплачиваться за свой социальный статус: на них в Афинах были
возложены такие обязанности, как, например, содержание хора или
постройка судов. Однако долгое время сохранявшийся баланс был
нарушен, как только грянула Пелопоннесская война. В поставленных в
422 году «Городах» Евполида говорят, что «тех, кого теперь выбирают в
воеводы, в старое время не поставили бы и виноглядами на пирах», а
виногляды — не слишком серьезная должность: их было трое в городе, и
они следили,, чтобы на общественных пирах всем наливали поровну, они
же предоставляли для пира казенные лампы и фитили из сухого коровяка.
«Барахло пробралось туда, где были прежде родовитые богачи, но
тогда Афины чувствовали себя в безопасности»,— говорится У того же
Евполида. Кто же это барахло? Плетущий веревки Евкрат и кожемяка
Клеон, наш безымянный сычужник — а впрочем, извините, Аристофан же
назвал его Торгохаем,— да какой-нибудь ламповщик Гипербол,
человечишка совсем уж жалкий. Ими болело общество афинское, их надо
стараться разглядеть в словесном чаду, оставшемся от греческой истории.
У АГАФОНА
...Этот чад еще усилен дымящей жаровней в доме Агафона и
коптящими масляными лампами. Единственный источник света —
пламя очага, но неожиданные выдохи терпкого очажного дыма
всегда готовы задышать (хорошо еще, что в Афинах стекла не
знали) стекло, сквозь которое мы смотрим туда, где снова Федр
готовится и все никак не начнет свою прекрасную речь о любви.
Впрочем, в состязании не обязаны участвовать все сотрапезники...
Еще при Солоне был утвержден закон, предписывающий
достаточным афинянам приглашать к себе на торжественные обеды
менее состоятельных сограждан, которым было присвоено
соответствующее звание — параситы, или нахлебники.
Приглашенный парасит обязан явиться на пир, ибо там он — лицо
священное, берегущее от сглаза и порчи зажиточного патрона
своего. Закон Солона с тою же строгостью предписывал
приглашенному параситу являться на праздник к патрону, с какой
запрещал приходить туда тому, кто приглашен не был. Явиться на
пир без приглашения может только самый отпетый из параситов; в
Греции притчей во языцех были островитяне с Миконоса: они
являлись без приглашения к знакомым и незнакомым, так что
возникла поговорка «явиться в гости по-миконски». А еще парасита,
пришедше го без приглашения в разгар попойки, когда ни хозяину,
ни гостям уже никакого дела нет до того, кто там еще просит у
привратника разрешения войти,— такого парасита называли
«асюмболон», или, по-нашему, «пришедшим без символа». Что
это за символ? Ну, во-первых, просто — мельчайшая из мелких
денежная единица, половинка самой мелкой монеты, а как таковая
— входной жетон к тому, у кого осталась другая половинка монеты.
Поэтому «пришедший без символа» может быть и гостем, не
внесшим ни гроша в складочный пир, и нахалом параситом,
явившимся без пригласительного билета.
Так вот на параситов и была изначально возложена роль
развлекателей, вызывающих всех остальных на смех, спор, все
новые славословия богам и хозяину дома. Парасит является в дом
полной противоположностью изобилию и богатству, там царящему.
Как сотни лет назад, в гомеровские времена, и как спустя еще
многие столетия придворные королевские шуты, параситы должны
всегда соответствовать этой своей главной роли: они получают за
столом кусок, как и все, но они, не внесшие ни пол-обола, не входят
вместе с другими сотрапезниками в общий пиршественный круг.
Когда-то, идя на пир, афинянин вел за собою раба, нагруженного
снедью, и, явившись в дом, хозяин которого предоставлял
пирующим вино, посуду, топчаны и флейтисток, укладывался на
топчан перед столом, на котором раб его, какой-нибудь Тибий или
Сосия, раскладывал принесенный ужин. Такая складчина,
изначально связанная с тем, что каждому доставался особый кусок
жертвенного животного, заколотого на общинном алтаре, была
вытеснена денежными взносами: гости скинутся — хозяин
приготовит.
Само ycтpoйcтвo пира и заготовка вина — дело недешевое,
особенно если соберется такая компания, как у Агафо-
на. Рачительность хозяина отразится в зеркале небрежения,
роскошь отзовется лохмотьями побиралы, высокий лоб мудреца упрется в эмбрионические морщины дурака. Во всем,
во всем парасит должен быть противоположностью хозяина
и его достойных друзей.
...Пока в доме Пенелопы хозяйничали женихи, нахлебничал у
них некто Ир (на самом деле его звали Арнеем), мужчина
крупный и, конечно же, сильный, но он прикидывался старым и
хилым. Когда же под видом нищего «незваным параситом» явился
Одиссей и, уничтожив Ира, занял его место
за долгим пиром женихов, незавидное место у двери, женихи
не сразу поняли, что пришелец — не настоящий парасит.
Замешкавшись с пониманием, они дали ему — потехи ради —
посостязаться с ними в натягивании лука, и вот тогда он
вынырнул из нищеты в свое прежнее царское достоинство... Когда
хозяин или его благородный гость — тугодум, парасит должен
принять на себя все тяготы остроумца. Потому-то парасит всегда
— умелец, знаток, софист.
И параситы, в точности так, как алтарные плясуны на
городских праздниках у Диониса-что-на-болоте, состязаются в
остроумии, а среди умников — в глупости, желая перещеголять
друг друга в смехачестве и мере хозяйской любви. В старину и
потом параситов даже называли льстецами за то, что они
окружали богача неуместной похвалой, поддакиваньями и
самозабвенной готовностью к услугам, из коих главенствующая
— порадовать и рассмешить. Само слово «парасит», сделавшееся
ругательным уже в III веке, У древних означало нечто священное.
Параситами назывались и те едоки в святилище Геракла, с
которых начинал Аристофан в первой своей комедии. Именно из
пирующих у Геракла набирались хористы для трагедий, комедий и
дифирамбов, и Аристофан, пока помогал опытным драматургам, а
может быть, играл в чужих пьесах немые роли, не мог и сам не
вариться в этом кругу.
Святилище Геракла называлось Киносаргом, или Борзо-псовым:
там когда-то был скромный алтарь, на котором некий афинянин,
по имени Диом. приносил жертву. Не успел он разрезать на куски
жертвенное мясо, чтобы потом вкусить немного вместе с богами,
как откуда ни возьмись — а место там довольно открытое и
возвышенное — подбегает к алтарю собака, хватает мясо и
исчезает с ним. Получив такое замечательное знамение, Диом
воздвиг на бугре, с тех самых пор прозванном Борзопсовым,
святилище, возле которого был и гимнасий, также посвященный
Гераклу. По слухам, дошедшим от афинянина Полемона,
жившего через сто
лет после Аристофана, и сохраненным Афинеем, мудрым
египтянином, жившим через пятьсот лет после Полемона, в
Борзопсовом святилище Геракла стояла стела с вырезан ным
законом, принятым народным собранием по предложению
Алкивиада: «Жрец должен совершать ежемесячные очистительные
жертвоприношения только в обществе параситов. Параситы же
должны быть только из подлого люда (или незаконнорожденных)
и их детей, как было установлено еще предками. Аще кто не
захочет параситировать, вести его в судилище».
Ошибется тот, кто решит, что все должностные лица в
Афинах были простыми нахлебниками остального, «неутомимо
трудящегося», населения. Но то, что институт параситии,
узаконенный еще в почти былинные времена,— дело вполне
государственное, а параситы — вполне государственные
служащие, тут сомневаться не приходится.
Точнее, может быть, сказать о параситии как о профессии, а
не только как о временно отправляемой должности, подобно,
скажем, виноглядству или воеводству. Тогда, пожалуй, параситы
попадут у нас в разряд башмачников, зеленщиков, валяльщиков,
каких-нибудь
сундучников,
сандалыциков,
доносчиков,
флейтисток и удильщиков...
По некоторым сведениям, параситами назначали в старину
представителей от каждого дема на один год. Те, чьи родители
были исконными афинянами, становились параситами Аполлона, а
вот параситы, пользуемые в культе Геракла и обедавшие на
Борзопсовом бугре, могли набираться только из сыновей отцаафинянина и матери-иностранки. Такой порядок сохранялся в
честь сыновей Геракла: преследуемые Еврисфеем, они скрылись у
афинян, которые приютили детей уже успевшего к тому времени
вознестись на небо героя; когда, однако, им пришла пора покинуть
Афины и переселиться па Пелопоннес, оказалось, что прежде им
необходимо очиститься от набежавших за годы скитаний грехов,
вот и пришлось сыновьям Геракла прожить много лет в Аттике,
возле Марафона. В память этого гостевания дорийцев и
сохранился в Аттике обряд кормления нахлебников.
Афиняне, правда, хорошо помнили еще и другую историю,
случившуюся с самим Гераклом в доме Еврисфея. Исполнив уже
все заказанные ему подвиги, Геракл был приглашен на
жертвоприношение, затеянное Еврисфеем. Когда торжественно
забитое и запеченное животное подали к столу, оказалось, что
лучшие куски достались сыновьям Еврисфея, Перимеду,
Еврибию и Еврипилу, тогда как герой дол-
жен был довольствоваться костями. Разгневанный Геракл, по
своему обыкновению, тотчас убил всех троих. С тех самых пор и
скромнейших служителей культа Геракла старались накормить
поплотнее, чтобы не будить в них ярости, перешедшей к ним по
наследству от необузданного их патрона.
Параситы составили хор не одной комедии. Они появились в
«Едоках» Аристофана еще в 427 году, а в 421-м, в архонтство
Алкея, комедию «Параситы» поставил Евполид, сын Сосиполида.
Хоть Евполид и отличался эксцентричностью — это ведь он
впервые заставил своего героя подоткнув хламиду, облегчиться
прямо в орхестре, приговаривая с натуги: «Ах, что ж было делать
бедняжке, у которой не оказалось даже ночного горшка!» — так
вот, что касается Евполида, ничего особенного в выведении им на
сцену параситов не было.
Люди этой уважаемой профессии не были все на одно лицо,
как и афинские рукодельницы плели не одинаковые венки: один
— для песен за чашей, другой — для победителя, третий — для
участника торжественного шествия. Была, однако, главная черта
профессии, всем параситам общая: их искусство эфемерно.
Небывалая свобода от материального инструмента (не считать же
таковыми голову, язык и брюхо!) и редкая свобода перемещения
вместе со всеми своими произведениями — сладкозвучными
речами и легкими мыслями — вот что отточило несказанное
искусство парасита. Брать хлеб и деньги за то, что ничего не
стоит, чем не может воспользоваться никто из покупателей!
В Афины, где парасития издревле процветала как религиозный
обряд и государственный институт, уже в конце персидской войны
стали являться люди, чья сфера деятельности, как мы бы теперь
сказали, требуя продолжительного досуга и немного сытого
самодовольства, никак не могла воплотиться в подобающих ей
формах.
Еще когда Агафон был отроком, Перикл не сошелся с
Аспасией, а до начала Пелопоннесской войны оставалось Два
года, в Афины приехал Протагор. Он остановился в доме У богача
Каллия и, окруженный завороженными почитателями, открыл
небывалую школу жизни и слова.
Добродетели, равно как и тому, каким путем идти к ней, силою
мысли учит афинян другой софист — Продик, приехавший с
Кеоса. Прибывший в Афины в разгар Пелопоннесской войны
Горгий-сицилиец даже оставил выгодную Должность посланника,
сделавшись учителем красноречия в городе, где, казалось, хоть
отбавляй ораторов. Элидец Гип-
пий, первым переставший довольствоваться ужином за порцию
послеобеденной мудрости, признавался потом кому-то: «Если б ты
знал, сколько денег я заработал, ты бы изумился — сто пятьдесят
мин (или, по знакомому счету, пятнадцать тысяч драхм) — и в
кратчайший срок!» Много меньше Гиппия — всего пять мин —
брал за курс своей мудрости паросец Эвен.
По происхождению — почти наверняка нет, но по жанровой
форме, избранной ими для своей деятельности,— определенно и
софисты — те же параситы. Порадовать хозяина, окружить его
умственной заботой и сладкими речами: кто не может спеть и
сыграть, спляшет, а кто не сумеет сплясать, расскажет или, чего
доброго, научит.
За время Пелопоннесской войны институт параситии
переродился. Афины сделались богаче параситами по признанию,
чем параситами по службе. Пока война не разгорелась, Аристофан
успел боднуть понаехавших в Афины новомодных учителей жизни,
но вот война разыгралась не на шутку, и прожорливые мудрецы с
совсем уж плохонькой на вил своею мудростью ловили немногих
афинских богачей и, пользуясь — сознательно или бессознательно
— старинной традицией, прилипали к ним, уча компанию ищущих
поприща молодых афинян-разинян тому, как прожить человеку в
этих разбушевавшихся и неподвластных здравым поступкам
обстоятельствах.
Комедиограф, вцепившийся в глотку демагогу, отбивающему
у него, профессионала, трудный шутовской хлеб, комедиограф,
покусавший трагика за то, что тот разворовал его, комика,
арсенал, этот комедиограф не был бы таковым, не сцепись он —
хотя бы в порядке выполнения служебных обязанностей — с
конкурентом-софистом, проникшим в город, где, кажется, было
тесно и одному лицедею.
Уже в «Едоках», поставленных в 427 году, Аристофан
схватился с новыми учителями афинян, но за несколько лет войны
в городе скопилась туча софистов-флейтистов и софистовакробатов, софистов-шутов и софистов-говорунов, софистовкифаристов и софистов-гомеристов; к муравейнику софистики
был приобщен и Аристофан.
А когда мудрейший из всех Протагор во второй раз приехал в
Афины в конце 20-х годов, он остановился снова У Каллия, сына
богача Гиппоника, чье наследство теперь проматывалось с
размахом и аттической беспорядочностью. В доме Каллия,
говорят, собирались самые мудрые из афинских мудробрехов.
Знаменитые софисты-приезжие и проходившие у них выучку
туземцы собирались в этом доме, и
не только по общегородским праздникам, когда вокруг домашних
алтарей в зажиточных усадьбах собирались многочисленные
гости, но и в дни вполне будничные.
Каллий, еще до смерти отца прошедший курс у Продика пеною
в полсотни драхм, теперь, сделавшись хозяином одного из лучших
домов в городе, решил дать надежное пристанище и своему
учителю и другим мудрецам, заносимым судьбою в Афины.
Продика Каллий поселил в огромном (сравнительно с другими
комнатами дома) зале, где прежде, когда жив был Гиппоник,
помещалась ломившаяся от вещей кладовая. Теперь же, за
множеством постояльцев, Каллий очистил ее и сделал
пристанищем для гостей. Лучшее ложе, застеленное шкурами и
дорогими покрывалами, было отведено Продику. Успевший
жениться и родить двоих детей Каллий готов был и потомству
своему предоставить остаток средств для приобретения той
прельстительной мудрости, коей он овладел с помощью состояния
отца и божественных речей мудрецов.
Когда в Афинах в моду входил новый софист Эвен, родом с
Пароса, встретил как-то Каллия Сократ, который знал, что тот
переплатил софистам денег больше, чем все афиняне, вместе
взятые, и Сократ спросил:
— Каллий! Если бы твои сыновья были жеребята и бычки, и
нам предстояло бы нанять для них опытного человека, то это был
бы какой-нибудь наездник или земледелец; ну а теперь, раз они
люди, кого ты думаешь взять для них в воспитатели? Кто знаток
подобной добродетели, человеческой или гражданской? Полагаю,
ты об этом подумал, раз у тебя сыновья. Есть ли такой человек или
нет?
— Конечно, есть,— отвечал Каллий.
— Кто же это? Откуда он и сколько берет за обучение?
— Это Эвен,— отвечал Каллий,— он с Пароса, а берет по
пяти мин, Сократ.
В самом деле, платить столько, сколько брали его собственные
учителя, Каллий уже не мог, и сравнительная дешевизна уроков
Эвена радовала его. «Как счастлив этот овен,— думал Сократ,—
если он в самом деле обладает таким искусством и так недорого
берет за обучение...».
Их было двое у Гиппоника — Каллий и Гермоген. Старший,
Каллий, получил отцовское наследство, нажитое самым
невероятным образом. Гиппонику оставили все свое имущество на
хранение богатые эретрийцы, подвергшиеся нападению врагов.
Гиппоник же хранил у себя все до тех пор, пока у имущества не
стало законного хозяина, ибо одних убили, а другие умерли своей
смертью. Каллий извел
все деньги на Продика, Гиппия, Протагора и Эвена, а младшему
брату его, Гермогену, оставалось учиться у того, кто денег за
обучение не брал, а сам о себе говорил, что в деле софистов не
искусен,— у Сократа, ревновавшего афинян к иностранным
учителям
мудрости и добродетели.
«Софистика
стала
профессией,— жаловался Сократ,— приобретать, менять,
продавать, торговать умственным товаром, а именно знанием
добродетели и того, как установить всеобщее согласие! А кто
толкует о согласии? Горгий, воронин сын, который в собственнойто частной жизни не убедил троих прожить согласно — себя
самого, жену и служанку!» Больше всего сердило Сократа то, что
в спорах с софистами желающему приходилось принимать
софистические правила игры Протагор уверял своих слушателей,
что «софистическое искусство древнее, однако владевшие им
древние мужи, опасаясь враждебности и зависти, которую оно
вызывало, скрывали его. Одним служила прикрытием поэзия, как
Гомеру Гесиоду, другим — таинства и прорицания, как
последователям Орфея и Мусея, а некоторым — я знаю точно! —
даже гимнастика, как, например, Икку-тарентинцу, и софисту
нашего времени,— продолжал
Протагор,— Геродикуселембрийцу, мегарцу родом, который никому в этом не уступит;
музыку же сделал прикрытием ваш Агафокл, великий софист, и
Пифоклид Кеосский, и
многие другие». Но вот артель
мыслителей открылась и сразу была окружена новыми
почитателями.
Как ни родственна, однако, софистика другим художествам, с
чем легко бы примирились и слуги Диониса, сами-то софисты
относились ко всем прочим искусствам как к прикрытию своего,
главного. Ибо только они, искусные в речах софисты, обращаются
к единственному осязаемому источнику мысли и всякого знания
— к их словесному телу.
Как-то Сократ был приглашен кем-то из учеников на ужин,
где открытые уроки давал один из них. «Да только бы не надул
нас софист,— причитал ревнивый Сократ,— только бы не надул,
выхваляя то, что продает, как те купцы или разносчики, что
торгуют телесного пищей. Потому что и сами они не знают, что в
разносимых ими товарах полезно, а что — вредно для тела, но
расхваливают все ради продажи; и покупатели этого не знают,
если только не случится кто-нибудь, сведущий в гимнастике или
врач. Так же и те, что развозят по городам знания и там продают их
оптом и в розницу всем желающим. Хоть они и выхваляют всем
чем торгуют, но, может быть, друг мой, из них некоторые и не
знают толком, хорошо ли то, что они продают. И точно
так же не знают и покупатели, разве случится кто-нибудь,
сведущий во врачевании души. К тому же, запомни, в
приобретении знаний гораздо больше риска, чем в покупке
съестного. Снедь и напитки, купив их у лавочника или
трактирщика, можно унести в сосудах, и, прежде чем принять в
свое тело в виде еды или питья, их можно хранить дома и
посоветоваться, призвавши знающего человека, что следует есть
или пить, а чего не следует, а также — сколько и в какое время.
При такой покупке риск невелик. Знания же нельзя унести в
сосуде, а поневоле придется, уплатив цену, принять их в
собственную душу и, научившись чему-нибудь, уйти либо с
ущербом для себя, либо с пользой».
Для слуг Диониса, параситов Гераклова храма с Борзо-псового
бугра, из которых сначала по жребию, а потом по выбору
комедиографа набирали актеров и хоры, танцоров и музыкантов,
или софистов мусических, новоявленные мудрецы, или софистымыслители, были обидными конкурентами.
Город, изъязвленный войною, уже не мог выставлять на
праздниках по пять комедий-соперниц, ограничиваясь тремя для
Дионисий Великих и Сусляных; накал внетеатральной
конкуренции комиков, поэтов, кифаристов и флейтистов достиг к
концу 20-х годов почти предела, прошли времена беззаботной
комедии Магнета и времена полновластья одинокого гиганта —
Кратина...
Толпу раздражало в софистах богатство, если они были богаты
и заламывали бессовестно крупные гонорары, как это делали
Протагор и Продик; но еще сильнее, еще больнее жалила их
показушная нищета какого-нибудь Сократа или кого-то из
окружающих его псевдобосяков; особенно враждебно, говорят,
настроены были к нему,— видно, за бойкот своих изделий —
афинские кожевники и башмачники. «Не беда еще, будь эти люди
безумцами,— шуршало в толпе,— нет, они хорошо знают, что
делают; куда безумнее мальчишки, дающие им деньги; а еще
безумнее родня, пускающая к ним своих мальчишек; а безумнее
всех города, позволяющие им приходить и не изгоняющие их,—
иногородний ли вздумает делать что-нибудь подобное, или свой,
афинянин!»
А между тем ничего не было в городе слаще для слуха толпы,
чем хорошо поставленный голос записного оратора. Фукидид
рассказал в своем журнале Пелопоннесской войны о том, как
Клеон, уязвленный насмешками над своею манерой выступать
перед народом, обращался к Собранию:
— Вы привыкли быть зрителями речей и слушателями дел! О
будущих предприятиях, об осуществимости их вы судите по речам
ловких ораторов, о событиях, уже совер-
шившихся, вы заключаете не по тому, что сами видите, а по тому,
что слышите из уст ораторов, искусных в обличении. Вы в
совершенстве владеете искусством самообмана благодаря разным
новшествам, предлагаемым речетворцами, следовать же
собственным решениям вы не желаете; вы — рабы всего
необычайного, а то, что уже вошло в обиход, вы презираете.
Каждый из вас особенно хочет показать, что он сам может быть
хорошим оратором; если же он сам на это не способен,
показывает, что желает бороться с такими ораторами, чтобы не
показаться человеком, идущим на поводу у других, и потому он
готов заранее одобрить любую остроумную мысль. Вообще,
афиняне, приятное для слуха покоряет вас, и вы более похожи на
зрителей, сидящих перед софистами, чем на людей,
совещающихся о делах государственных.
Так сердится государственный человек, слуга и нахлебник
города, недовольный тем, к чему могут привести горожанкормильцев новомодные учителя жизни.
А тех, кто занят на мусическом поприще, обманщики софисты
задевали того больше. Ведь они действительно до поры до
времени скрывали подлинный смысл своих трудов и подлинный
предмет своего знания. Только Протагор, теперь старик, уже лет
сорок занимавшийся своим искусством, до такой степени был
уверен в себе, что, в то время как другие скрывали это свое
умение, открыто возвестил о нем перед всеми эллинами и,
назвавшись софистом, объявил себя учителем образованности и
доблести и первым признал себя достойным взимать за это плату.
Выбрав слабенького человечка, ночью спящего и пускающего
ветры, днем жующего и сидящего на корточках,— страшно
подумать — мерою всех вещей, а вечно туманную мысль его —
единственным надежным инструментом постижения вселенной,
Протагор заставил многих афинян, имеющих досуг и аттическую
склонность к поединкам, презреть традиционные утехи, игры и
мусические наслаждения.
Когда он приехал в Афины в третий раз, а было это около 421
года, Сократ пришел поговорить с ним в дом Каллия и был немало
утомлен навязанным ему Протагором филологическим разбором
одного стихотворения Симонида. Такие разборы всегда украшают
застолье, и не меньше чем коттаб — игра, за которой пирующие
должны были, навострившись, до последней капли выплеснуть
остатки вина из своего килика в тот, что пустым дожидался на
общем столе,— так не меньше коттаба приятен пирующему
афинянину такой филологический разбор. Но Сократ заявил, что
разговоры о
поэзии более похожи на пирушки невзыскательных людей
с улицы.
_ Они ведь не способны по своей необразованности об
щаться за вином друг с другом сами, своими собственны
ми словами, и поэтому ценят флейтисток, дорого оплачивая
заемный голос флейт, и общаются друг с другом их голосом.
Я уже не говорю о тех, кто собирает дорогие причиндалы
для коттаба, о людишках совсем пропащих. Но где за вином
сойдутся люди настоящие и образованные, там не увидишь
ни флейтисток, ни танцовщиц, ни арфисток,— там общают
ся , довольствуясь сами собою, без этих пустяков и ребячеств,
беседуя собственным голосом, по очереди говоря и слушая,—
и все это благопристойно, даже если и очень много выпито
вина. Так и собрания, подобные нашему, когда сходятся
такие люди, какими нас признает толпа, ничуть не нужда
ются в чужом голосе, ни даже в поэтах, которых к тому же
невозможно спросить, о чем у них, собственно, говорится.
Люди из толпы ссылаются на них в своих речах, но одни ут
верждают, что поэт хотел сказать одно, а другие — что со
всем иное. Так они рассуждают о предмете, который не могут
доказать. Люди же образованные отказываются от таких бе
сед и общаются друг с другом собственными силами, в своих
речах испытывают друг друга и подвергаются испытанию.
Подобным людям, кажется мне, должны больше подражать и
мы с тобою, Протагор, и, отложивши поэтов в сторону, сами
собственными нашими силами вести беседу друг с другом,
исследуя истину, да и нас самих!
Протагор не возражал, и беседа у них потекла без пом ех...
Самодовольство профессиональных мыслителей-параситов и
внимание, которым их отмечали афинские богачи,— вот что
пришпоривало комиков, или, как их еще называли,
Дионисопараситов, ибо они кормятся при своем боге. И тут своим,
афинским мудрецам доставалось особенно сильно: на своих всегда
нападают с большим ожесточением, чем на любого, самого
опасного чужака. Ни от кого не терпел столько выпадов Клеон, а
ведь оба они были приписаны к Кидафинскому дему.
* * *
... Видно, не судьба была Федру произнести свою речь о любви
без помех. Опьяневший старик, которого никто из
присутствовавших не называл по имени, отчего оно нам и не
известно, вдруг забеспокоился, отставил килик на тонкой ножке
(такие килики вошли в моду недавно: вина в них вхо-
дило меньше, но на вид они казались вместительней
обыкновенных, без ножки) и даже присел на топчане, сердито
поглядывая на гостей.
— А я утверждаю,— начал он, словно продолжая давно
начатую мысль.— Ни в одном государстве никто не знает, что
характер игр влияет на установление законов и определяет, будут
ли они прочными или нет. Если дело поставлено так, что одни и те
же лица принимают участие в одних и тех же играх, соблюдая при
этом одни и те же правила, радуясь одним и тем же забавам, то все
это служит незыблемости также и всех серьезных узаконений. Если
же молодые колеблют это единообразие игр, вводят новшества,
ищут постоянно перемен и считают приятными разные вещи, если
они недовольны всегда своим внешним обликом и убором, не
признают раз навсегда установленных правил о том, что
благообразно, а что безобразно, но особенно высоко чтят людей,
которые постоянно вводят какие-то новшества, что-то иное,
непривычное во внешний облик, в цвета и в другие подобные
вещи, то мы должны сказать, что для государства нет ничего более
гибельного, чем все это. Все это незаметно изменяет нравы
молодых людей и заставляет их бесчестить старое и почитать
только новое.
— Так ты говоришь о презрении к старине в государстве? —
спросил кто-то.
— Да, именно об этом, хотя,— и тут афинянин глянул на
Агафона,— хотя и под видом старины случаются у нас оскорбления
великих традиций. Когда какое-либо должностное лицо совершает
от лица государства какое-то жертвоприношение, то вслед за этим
является туда хор, становится неподалеку от алтаря, а иной раз и
подле него самого, и начинает извергать всяческое злословие по
адресу священнодействия, смущая души слушателей своими
словами, ритмами и жалобнейшими гармониями; и кто больше
всех вызывает слез у тех, кто только что совершил
жертвоприношение, тот получает победную награду. Неужели не
пора отменить этот обычай? А если, допустим,— и тут старикашка,
сузив глаза, посмотрел на плешивого комика,— после
совершенного жертвоприношения и сожжения жертвенных
животных чей-нибудь сын или брат, по собственному почину,
встанет подле алтаря и жертв и всячески начнет злословить,
неужели, спросим мы, это не породит уныния в его отце и в
остальных родственниках и не явится дурным предзнаменованием
и предвещанием? Если когда-то граждане и должны выслушивать
подобные вопли, например, в несчастливые или нечистые дни, то
для этого следует нанимать, ско-
какие-нибудь иноземные хоры, а первым образцом для всяких
песнопений должно быть благоречье, что означает чередование
молчания и речи в нужных пропорциях. Почему же не все племя
поэтов способно вполне отличить благо от зла? Ведь если какой-то
поэт в своем сочинении, в напеве или в словах грешит в этом
отношении, людские молитвы будут неправильны, и это заставит
наших граждан в самых серьезных делах молиться не о том, что
следует. Поэтому поэт не должен творить ничего вопреки обычаям
государства, вопреки справедливости, красоте и благу. Свои
творения он не должен показывать никому из частных лиц, прежде
чем покажет их назначенным для этого судьям и стражам и
получит их одобрение.
Старик опьянел, и некоторые слова его, утратив связность,
заставляли остальных гостей напрячься, чтоб дослушать до конца
и эту тираду человека, которого никто не решался прервать, ибо на
пиру не полагалось перебивать и скандалить.
— Теперь думают, что серьезные заботы должны существовать
ради игр. Так, считают, что серьезные вопросы, связанные с
войной, надо хорошенько упорядочить ради мира. Но то, что
бывает на войне,— это по своей природе вовсе не игра и не
воспитательное средство, достойное нашего упоминания: и сейчас
оно не таково, и впредь не будет таким. А мы-то говорим, будто
для нас оно самое важное. Каждый должен как можно дольше и
лучше провести свою жизнь в мире. Так что же, наконец,
правильно? Надо жить играя. Что ж это за игра?
Жертвоприношения, песни, пляски, чтобы уметь снискать себе
милость богов, а врагов отразить и победить в битвах. Но с
помощью каких песен и плясок можно победить то и другое?
Трудный вопрос! Самим, конечно, самим и петь и плясать, но не
всюду и не по всякому поводу, вот что я скажу! Галикарнасец
Геродот много лет назад рассказывал мне о своем путешествии в
Египет. Там не так, как у вашей братии, Аристофан. Там, ну на
тамошних Дионисиях, никто себе ничего из бычачьего хвоста не
мастерит. Каждый египтянин вечером накануне праздника
закалывает в честь Диониса поросенка перед дверьми своего дома
и затем отдает его свинопасу, который продал ему поросенка. А
шествуют они с куклой величиной с локоть, и куклы эти
приводятся в движение с помощью шнурков, которые подымают и
опускают что надо... Женщины Носят их по селениям в
сопровождении флейтиста. О куклах этих существует священное
сказание, о котором Геродот не счел нужным распространяться.
Картина куда пристой-
ней нашей. Да ведь и другие образцы для этого были указа-ны и
пути проложены,- которыми надобно идти, если считать, что
Гомер был прав, говоря:
«Многое сам, Телемак, ты своим угадаешь рассудком;
Многое демон откроет тебе благосклонный: не против
Воли бессмертных, я думаю, был ты рожден и воспитан». Точно
так же должны мыслить и наши питомцы, считая, что отчасти им
уже вдоволь дано указаний о жертвоприношениях и хороводных
плясках, отчасти же боги внушат им, в честь кого и в какое время
надо их совершать, чтобы, играя, снискать милость богов и
прожить согласно свойствам своей природы. Ведь люди в большей
своей части куклы и лишь немного причастны истине.
— Как принижаешь ты наш человеческий род, уважаемый! —
тихо возмутился Эриксимах.
Аристофан и тут смолчал, но, пожалуй, с последними словами
старика согласился.
* * *
К концу 20-х годов Аристофану, уверовавшему в свою непобедимость,
вдруг перестало везти. К Дионисиям-что-в-городе 423 года он готовился
больше года: после «Всадников», принесших ему победную награду,— а
этот праздник приходится на месяц свадеб, или последний месяц зимы,—
комедиограф ждал до весим следующего года, до месяца охоты, когда
справлялись Дионисии-что-в-городе.
Война со спартанцами все затягивалась, но военные действия были
перенесены за пределы Аттики; хоть они были безуспешны для афинян,
передышка и вероятное временное замирение отодвинули на задний план ставшие привычными спартанские напасти: во
«Всадниках» Аристофан уже почти о войне не вспоминает. Как слуга
Диониса, был он человеком богобоязненным и военные страсти афинян
не приносил до поры до времени в жертву своей Музе из понятного страха
перед богами. Фукидид говорит, что в начале летней кампании, которая
случилась вскоре после постановки «Всадников», «под новолуние было
частичное солнечное затмение, а в первые десять дней того же месяца
произошло землетрясение». Только легкомысленный человек отнесся бы
без смущения к сочетанию двух столь грозных знамений.
Готовя для Дионисий-что-в-городе новую комедию, Аристофан не
взялся за постановку сам, снова воспользовавшись услугами
профессионального режиссера. На этот раз он обратился не к
Каллистрату, о котором безымянный автор «Жизнеописания Аристофана»
говорит, что тот ставил комедии более «частного» характера,
но к Филониду, который, по свидетельству того же автора, брался за
постановку комедий «общественных». Филонид этот и сам написал
несколько комедий: сохранились три названия — «Котурны», «Телега» и
«Дружелюбец»,— да с десяток разрозненных стихов. В молодости же был
он не то писцом, не то... сукновалом. Эта неопределенность — вполне в
духе аттической комедии — вызвана маленькой неясностью в рукописи
лексикона Суды. Хоть написано там «сукновал» (по-гречески «гнафевс»),
но исследователям Нового времени кажется странным, чтоб сукновал
вдруг отказался от своей хлопотной, но доходной профессии ради еще
более хлопотной, во едва ли обогащающей: отсюда конъектура «графевс»
(по-нашему писец, переписчик, а может быть, переписчик ролей для
актеров?). Словом, легче объяснить Филонида-писца, нежели Филонидасукновала.
Как бы то ни было, именно Филонид ставил новую вещь Аристофана
на Дионисиях 423 года. Хор получили еще два комика: великий Кратин,
ревновавший афинскую публику к эгинскому выскочке, и Амипсий.
Аристофан имел неосторожность не испугаться Кратина, над которым
успел одержать победу. Сварливая ли жена, минутное отрезвление,— он,
говорят, не просыхал последние годы,— злость ли на молодое поколение
комиков,— не знаем мы, что заставило Кратина напоследок удариться в
спор за награду на Дионисиях. Плутарх говорит, что некоторые
комедиографы, желая смягчить остроту своих нападок, занимаются
самобичеванием: так, Аристофан осмеивает собственную плешь, а
Кратин написал «Бутылку». О «Бутылке»-то у нас и речь.
Комедия сия, видимо, вызвала всеобщее одобрение, которое можно
объяснить как раз тем, над чем задумался Плутарх. Ничего не боящийся
больше Кратин, не надевая маски, вывел в комедии себя самого в
качестве себя самого — шута, обманщика, вакханта. Жена его, Комедия,
рассказано в схолиях к «Всадникам» Аристофана, задумала оформить
развод с мужем, изменившим ей с потаскухой Бутылкой, и бутылкой не
простой, а любовно оплетенной камышом, для лучшего вина! Друзья
Кратина, составившие хор комедии, защищают старика, оправдывая его
собственным танцем, Да и тем, что Комедия явилась сама в городской
театр Диониса, да к тому же — в новую комедию Кратина. Обращаясь к
довольным зрителям, хор друзей поет:
«Царь Аполлон! Ты в этот рокот вслушайся:
В полхора глотка, водопад грохочущий,
Гортань — Илисс, ну с чем еще сравнить его?
Ведь если глотку не заткнете вы ему,
Стихами всю округу запрудит он вам!»
Таков был Кратин.
Обе оставшиеся комедии на конкурсе Дионисий 423 года — «Конн»
Амипсия и «Облака» Аристофана — оказались, на беду, почти
близнецами.
В комедии Амипсия, названной по имени человека, у которого уроки
музыки брал Сократ, научившийся играть на лире, когда уже был в летах.
Кстати, еще над отцом этого Конна, городским писцом Метробием, в свое
время вдоволь наиздевался Кратин. Ну а у Амипсия хор в «Конне»
состоял из мыслителей, а шутом-забиякой был Сократ. В единственном
дошедшем до нас четверостишии Сократ назван «мужем, который лучше
некоторых, но хуже большинства». «Откуда у тебя такое рванье? —
спрашивает хор льстецов-параситов-мудрецов.— И не слишком ли ты
презираешь кожемяк, разгуливая босым? Вот ведь человек,— признаются
торговцы мудростью,— голодает, а в параситы с нами не идет!»
Амипсия позднейшие комментаторы и критики считали поэтом
сдержанным. В словаре Суды он упомянут в числе троих отличающихся
«холодностью» комедиографов (двое других там — Фриних и Ликис). Он
был сверстником Аристофана, которого и дразнил больше всех прочих за
боязнь выступлений перед афинянами под собственным именем. Это
Амипсий назвал Аристофана «рожденным с четвертой попытки». Может
быть, в этой насмешке была не только шутка, однако, скорее всего,
современники не усматривали в практике передачи комедии для
постановки режиссеру новых веяний разделения труда между актером,
режиссером и поэтом.
Во времена эсхило-марафонские, когда поэт и актер принимали почти
одинаковое участие в постановке, так что режиссерские функции либо
распределялись равномерно, в порядке импровизации, либо — в
зависимости от темперамента участников спектакля — полностью
передавались поэту или постановщику. Что касается Эсхила, то он сам
был и поэтом, и режиссером, и актером, и даже художника Агатарха он
сам наставлял в искусстве декоратора. Поколение Софокла и — в полной
мере — поколение Еврипида имеют дело уже с более сложной структурой
отношений: поэт-постановщик набирает актеров в качестве постоянных
помощников, не считая, разумеется, исполнителей хоровых партий,
выделяемых трагикам «под праздник». К концу столетия, когда и трагики
и комики получали вместе с хором выпавших им по жребию актеров,
импровизационная техника уже утрачивается вполне, а независимость
поэта от труппы в конечном счете приводит к тому, что поэт постепенно
делается подсобником артели слуг Диониса: некогда боговдохновенный
певец, импровизатор и чародей в римские времена служит поставщиком
сценария для карабаса-барабаса. К счастью для Аристофана, до этих
времен Афинам V века еще слишком далеко, раз даже нерегулярная
передача
пьесы
профес-
сиональному режиссеру делалась заметной вещью и даже предметом
осмеяния.
Впрочем, возможно, и Аристофан передал «Облака» Филониду не
потому, что сам не мог справиться с постановкой: за два месяца до
Великих Дионисий, как говорят некоторые, Аристофан поставил на
Дионисиях Сусляных комедию «Каботаж». Если судить по немногим
стихам, сохранившимся от этой комедии, в ней было что-то о
Пелопоннесской войне, о спартанцах. Вот только что?
Один из собеседников ученой «Трапезы знатоков» Афинея, приводя
драгоценный стих из «Каботажа», делает это с единственной целью
рассказать сотрапезникам своим о том, как принято было в старину
готовить анчоуса.
«О том, что анчоуса нужно подержать в рассоле, прежде чем испечь
на угольях, свидетельствует Аристофан в «Каботаже»: «Ужо, тебе,
рыбешка, угодившая в рассол!» «А рассол этот,— приговаривает
Миртил,— называли Фасосским рассолом».
Нужно быть очень смелым человеком, чтобы восстанавливать
содержание комедии по такому и подобным остаткам. Предположение
же, что речь в ней идет о войне между афинянами и спартанцами,
основано
на
небольшой
статейке
знаменитого
«Большого
Корнесловника», в которой говорится вот что. Титл Н е п р о м ы тая
ш е р с т ь — то же, что неочищенная шерсть, о чем у Аристофана в
«Каботаже»:
«Привет, спартанец! Пряжу оба мы с тобой
Сучили непромытую и грубую...»
Ну так вот, возможно, на этот самый «Каботаж» Аристофан тратил все
силы и время, потребные для постановки спектакля на Дионисиях-что-вгороде, и был просто вынужден обратиться к Филониду, чтобы спасти
комедию, хор для которой ведь уже получен и можно репетировать.
Спасти «Облака» не удалось. Кратин за «Бутылку» получил первый
приз, Амипсий за «Копна» — второй, а «Облака» Аристофана —
Филонида провалились.
Глава 5
ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА ВОЗНИКЛИ ИЗ ИЛА
Так учил Архелай, один из наставников Сократа. Этот Архелай,
говорят, упражнял свою мудрость и на законах и на прекрасном и
справедливом; Сократ взял у него этот предмет, развил и за это сам
прослыл основоположником.
Аристофану не приходилось собирать анекдоты об этом человеке в
городе, где только немой не произносил, а глухой не слышал имени
Сократа чаще всех других имен. Сын скульптора Софрониска и повитухи
Фенареты, приписанный к Лисьему дему, Сократ родился за четыре года
до смерти Эсхила и был лет на двадцать старше Аристофана, так что не
сын Филиппа был первым комиком, распробовавшим столь
притягательную жертву для алтаря Диониса.
Правда, поначалу Сократу доставалось почти случайно, рикошетом.
Комедиограф Телеклид, принадлежавший, по-видимому, к поколению
Еврипида, по свидетельству безымянного автора «Жизнеописания»
трагика, обвинял сына зеленщицы в том, что ему помогали писать и
ставить трагедии Сократ и Мнесилох (тесть или содержатель Еврипида):
«Фригийцев», Еврипида драму новую, Сократ своими
фигами
откармливал...»
Телеклид смеется над Еврипидом, говоря, что тот «держится на
Сократовых скрепах».
«Нищим болтуном, мудрствующим о том, где бы перекусить»,
называют Сократа в одной из комедий Евполида. Так, поясняют
позднейшие комментаторы, «нищими болтунами» звали всех диалектиков.
Еврипид же, присвоивший в комедии Телеклида Сократову мудрость,
возможно, делал попытки оправдаться самому и оправдать своего
вероятного
сотрудника
Сократа.
В
поставленной
накануне
Пелопоннесской войны «Медее» колхидская волшебница, обманутая
супругом-греком, горюет, жалуясь Креонту:
«...если смыслом
Кто одарен, софистов из детей
Готовить он не будет. Он не даст
Их укорять согражданам за праздность...
И что еще? И ненависть толпы
Они своим искусством не насытят.
Ведь если ты невежд чему-нибудь,
Хоть мудрому, но новому, обучишь,
Готовься между них не мудрецом
Прослыть, а тунеядцем. Пусть молвою
Ты умников, которых город чтит,
Поставлен хоть на палец выше будешь —
Ты человек опасный. Эту участь
Я тоже испытала. Чересчур
Умна Медея — этим ненавистна
Она одним, другие же, как ты,
Опасною ее считают дерзость».
Медея (Сократ?), похоже, противостоит здесь софистам-параситам
как обладательница подлинной мудрости болтливым «тунеядцам». Едва
ли, однако, такое противопоставление, имеющее, может быть, историкофилософский резон, значило что-нибудь для афинян второй половины V
века. Хоть Сократ, в отличие от большинства других профессиональных
мудрецов, не брал денег за преподносимые им уроки мудрости, он был
таким же параситом, как и они, только параситом, довольствующимся
немногим. Единственный человек, утверждавший обратное,— сын
Спинфара Аристоксен, сообщающий, что Сократ наживался на
перекупках: вложит немного денег, соберет прибыль, все спустит и
начинает сначала.
Мудрецы являлись на рынок, когда он был в самом поту, и начинали
свою торговлю, когда приходили лучшие покупатели. Мудрец — что
твой лоточник, и он идет следом за покупателем к нему домой, торгуя
понемногу, за ужином. Такой мудрец всегда рад нырнуть вглубь слова:
это его стихия. Один из них, говорят, удивлялся ошибке, случившейся с
именем Протагора, отца-основателя мудрословия о человеке. Перевод с
греческого имени Протагора двояк: с одной стороны, имя его можно
толковать — «Первый (мастер) произносить речи», толковать, стало
быть, как кличку, а с другой — он — «Тот, кто раньше всех является на
рынок», и хотя между этими переводами нет видимого противоречия,
профессиональный мудрец отыскал неточность, объяснив, что на самомто деле Протагора должны были бы назвать Плифагором, или «Тем, кто
полон речей», или «Тем, кто является на рынок, когда он уже полон».
Пучеглазый лысый босяк, в рваном плаще слоняющийся по рынку или
сидящий где-нибудь на берегу Кефиса в окружении нескольких
почитателей, завороженно вслушивающихся в знойные парадоксы: «Как
много всего здесь, на рынке, без чего можно обойтись человеку!»,
«Насколько слаще терпеть напасти, нежели быть причиною чужих!» —
этот человек был первосортным жертвенным существом для комической
музы. Причастный к театральному миру, как мы бы теперь сказали, если
и не через артель Еврипида, то, уж во всяком случае, благодаря своей
комической из-
вестности, Сократ сделался конкурентом Аристофана задолго до пира у
Агафона.
Он родился шестого числа месяца начатков (или Фаргелия) в
нечистый день афинского календаря, день, когда совершаются очищения,
когда лучше бы не появляться на свет, появившемуся же судьба быть
фармаком — пожизненным жрецом гражданского здравия.
В деталях функции этих жрецов афинских не поддаются
восстановлению; в древности они, безусловно, находились на
содержании у общины, но судя по бедности Сократа, пробивающегося
чем бог послал, ему доставалось совсем немного, а может быть, в конце
V века афинский бюджет уже не знал такой статьи расхода. Уберегать
город от сглаза и порчи, к чему сводилась, по всей видимости, главная
функция жреца-фармака, было в исторические времена делом
неприбыльным.
В старину этих жрецов под конец жизни постигала печальная участь:
их увешивали гирляндами неспелых плодов, выводили — в год по паре
— за город, где побивали камнями, снимая этим тяжкие грехи,
скопившиеся за год в Афинах. Сократу такая страшная кончина уже как
будто не грозила, но терпеть некоторые неудобства от своего — мы бы
теперь сказали специфического — жреческого сана, и даже нищету, и
даже кое-что похуже ему казалось возможным.
«Так как в спорах он был сильнее, то нередко его колотили и таскали
за волосы, а еще того чаще осмеивали и поносили; но он принимал все
это не противясь. Однажды, даже получив пинок, он и это стерпел, а
когда кто-то подивился, он объяснил: «Если бы меня лягнул осел, разве
стал бы я подавать в суд?» Это сообщает Деметрий Византийский.
Как жрец гражданского здравия, мудрейший из афинских шутов,
побеждавший в спорах Протагора и Гиппия, Продика и себя самого,
Сократ — подобно жертвенному барану, которого не выпускают из
овчарни,— никогда не покидал Афин и не путешествовал, если не
считать его участия в военных действиях во время Пелопоннесской
войны, да и те происходили в нескольких часах пешего хода от города.
В молодости, однако, он (говорят, вместе с Еврипидом) слушал
приехавшего в Афины Анаксагора, а потом Архелая, который первым
объявил, что звук рождается от сотрясения звука.
Один из учеников Сократа в «Облаках» Аристофана рассказывает,
как — применительно к тончайшему зуду — развил сей взгляд на
происхождение звука ученик Архелая, сын Софрониска и Фенареты:
«Ученик Сократа.
Мудрец сфетийский, Херефонт, спросил его,
Как мыслит он о комарином пении:
Трубит комар гортанью или задницей?
Ст р е п с и а д .
И что ж сказал о комарах почтеннейший?
Уч е н и к С о к р а т а .
Сказал он, что утроба комариная
Узка. Чрез эту узость воздух сдавленный
Стремится с силой к заднему отверстию.
Войдя за узким ходом в расширение,
Из задницы он вылетает с присвистом,
Ст р е п с и а д .
Тромбоном оказался комариный зад!»
Мусическими же искусствами занимался Сократ у Дамона и
Конна.
Оставшиеся в Афинах после Перикла мастера всякого дела и
начавшаяся война были причиной того, что рядом с традиционным
воспитанием, через которое прошли все афиняне, возникли «кружки
высшего самообразования». Тлен, коснувшийся вещного могущества
города, дал пищу огненной пляске мысли, которая металась по домам,
придорожным рощам и цирюльням Афин. Она не была сосредоточена в
одном человеке, но для нас Сократ — ее символ. II пусть мы испугаемся
протуберанцев «комариного тромбона», сквозь слезы умиления
вспоминающие Сократа ученики заставляют вздрагивать и нас при виде
того, как он идет по кривоколенным оврагам афинских улиц,
ненавидимый городом башмачников, сукновалов и политиков...
* * *
...— Что за бескорыстная охота за истиной, которой занят этот
Уродливый оборванец? Пикантное пристрастие к его обществу
финской «золотой» молодежи только подчеркивает лживость его
и их. Этот-то пройдоха из любого положения выйдет героем. А каково нам, с ним бок о бок живущим согражданам?
«Однажды поздней ночью он возвращался с пира,— рассказывает
Элиан. — Несколько отчаянных юношей, услышав об этом,
запаслись факелами и масками Эриний и устроили ему засаду. Эти
бездельники постоянно подшучивали так над людьми. Сократ не оробел,
спокойно остановился и стал задавать вопросы, как привык это делать в
Ликее или в роще Академа». Рассуждая о нравственности и добродетели в
местах, откуда и та и другая далеки дальше далекого, он даже жену завел
такую, чтоб семейная жизнь его была у всех на виду. Но когда о нем
судачил весь город, Сократ не обращал ровным счетом никакого
внимания, приговаривая только: «Меня это не касается»
Вот только когда комики насмехались над ним, выводя его в роли
главного шута-бахвала, Сократ прислушивался к этим на-смешкам: если
они поделом, так они нас и исправят, а если нет, «меня это не касается».
Не задели его и «Облака» Аристофана. Традиция склонна считать
портрет Сократа, нарисованный Аристофаном, резкой и мстительной
карикатурой. Они в самом деле были слишком хорошо знакомы, чтобы
получившийся у Аристофана портрет оказался подобием с размытыми
очертаниями. Нет, у него настоящий Сократ «бродит босой, озираясь
направо, налево, ходит чванно и важно в лохмотьях худых, задрав нос...».
Ничего не придумал Аристофан назвав «школу» Сократа «мыслильней»,
или «домиком задумчивости».
Действительно, уча, как говорит Платон, по улицам и садам, на
прогулках, пирах и в дружеской беседе, Сократ едва ли выбирал самое
правильное — на взгляд педологической традиции! — место для занятий,
так что единственная лаборатория, мастерская мыс ли, где и учитель и
ученики имели определенный шанс сосредоточиться, отрешившись от
неустанной, с высунутыми языками погони за истиной, это место — «дом
задумчивости». Там и селится Сократ в комедии Аристофана.
Мне пришлось немного сгустить краски, сказав, что нам теперь
практически ничего не известно о том, как выглядели декорации аттического
театра V века. Кое-какие вещи, хотя и восстанавливаемые по косвенным
уликам, можно считать вполне достоверными. Кроме технических
приспособлений, вроде журавля или выдвижной платформы, основные
декорационные компоненты спектакля оставались неподвижными, переходя
от эпизода к эпизоду внешне совершенно неизменными, хотя из слов
действующих лиц мы каждый раз узнаем, что находимся то на месте, где
собирается народ на Собрание, то в доме, то на рынке. Высокая степень
условности, свойственная всякой ритуальной модели, истощившей свой
первоначальный буквальный смысл, в театре Аристофана сама становится
объектом комической насмешки, словно комедиограф вознамерился наконец
посрамить себя самого за профессионально-штампованную приверженность
традиционным приемам. Именно такова символика «Облаков».
Спектакль, начавшийся на обыкновенном дворе обыкновенного
афинского дома, поначалу не предвещает ничего необычного и в
дальнейшем. Замороченный старикашка Стрепсиад — маска
«жалующегося шута», знакомая нам но Никию и Демосфену
«Всадников», по полководцу Ламаху последних сцен «Ахарнян», a
афинской публике — по вековой традиции шутовских поединков,-этот
Стрепсиад мечтает избавиться от долгов, излечив от расточительности
сына. Мечты, однако, одуряют старика, и мы, следя его
глазами за всем происходящим, вдруг обнаруживаем волшебные
превращения, помимо нашей воли совершающиеся на сцене.
Оглядывая свой обыкновенный двор с его обыкновенными
постройками, Стрепсиад внезапно комически прозревает, когда видит в
глубине двора (в театре ото была центральная часть установленных на
орхестре декораций) плотно прикрытую дверцу в свой нужник. Он
толкает сына Фидиппида и спрашивает:
«Калиточку ты видишь, домик маленький?
Фидиппид. Конечно, вижу, но, отец, зачем он нам?
С т р е п с и а д . Мыслильня это для умов возвышенных. Здесь
обитают мудрецы...»
С этих слов Стрепсиада и начинается вторая жизнь дверки
декорационного щита на орхестре — жизнь волшебная. Нет ничего
удивительного в том, что нужник в афинском обиходе назывался
«мыслильней». Неудивителен и обычный для обрядовой традиции прием
воплощения метафоры. Интересно другое: действию, всему спектаклю
отныне предстоит развиваться в двух плоскостях. На переднем, бытовом,
знакомом плане — несчастный отец Стрепсиад, пытающийся облегчить
напасти городской жизни: тут дверка на орхестре — приметный для
всякого афинского двора ход; а план волшебный, эдакое Зазеркалье, в
которое Стрепсиад проваливается сквозь дверь в собственный клозет,—
городская мода на профессиональных мыслителей, готовых кого угодно и
где угодно обучить тому, что умеют. Ну а умеют, в общем, то, что умеют
все.
Известная декорационная скованность — одна-единственная дверь на
орхестре не дает действию ситуативного простора — оказывается, по
существу, стержнем комического спектакля: философское училище, куда
попадаешь тем же путем, что в сортир Стрепсиада, исторически
недостоверно, ибо софисты не занимали в Афинах никакого специально
им отведенного для занятий помещения, но рынок, придорожная тень,
бывшая кладовая Каллия — все это так похоже на школу Сократа-шута у
Аристофана, что прямодушный взгляд увидит, чего доброго, в
софистическом училище историческое свидетельство об афинском
университете V века.
А в сарайчике Стрепсиада ученики мудреца упражняются, разглядывая
вздыбленным задом звездное небо, выясняют, что комариный голос так
высок и вместе зудлив все из-за той же задницы, но комариной; здесь же
случаются у Сократа и неудачи:
«На той неделе истина великая
Погибла из-за ящерицы,
Ст р е п с и а д .
Как же так?
Ученик.
В полночный час, исследуя движение
И бег луны, стоял он, рот разинувши.
Тут с крыши в рот ему наклала ящерка.
Стрепсиад.
Смешно, Сократу в рот наклала ящерка!»
Стрепсиад рано смеется над Сократом: через несколько мгновений,
когда тот примет его в ученики, он — при виде грозного хора Облаков —
сам — Аристофан, найди подходящее слово! — обмарается со страху.
Таково начало комедии о мыслителях, построенное на навязчивом
воплощении обиходного эвфемизма нужника-«мыслильни». К счастью
для нас, комедия оставляет в явно перенаселенном мыслителями
сарайчике учеников Сократа, подбираясь к нему, главному своему шуту,
не просто плуту, но учителю плутов.
Все тот же простой и надежный прием воплощения обиходной
метафоры применяется и здесь: «парящий в облаках» Сократ,
отказавшись от примитивного копания во прахе, каким еще заняты его
ученики, возносится к небесам. В поднятой на «журавле» корзине он
болтается над орхестрой.
«Стрепсиад.
Сократушка!
Сократ.
Чего ты хочешь, праха сын?
Стрепсиад.
Скажи сначала, чем ты занимаешься?
Сократ.
Паря в пространствах, мыслю о судьбе светил.
Стрепсиад.
В гамак забравшись, о богах гадаешь ты.
Но почему ж не на земле?
Сократ.
Бессильна мысль
Проникнуть в тайны мира запредельного,
В пространствах не повиснув и не будучи
Соединенной с однородным воздухом.
Нет, обретаясь в прахе, взоры ввысь вперив,
Я ничего б не узрел. Сила земная
Притягивает влагу размышления.
Не то же ли случается с капустою?..
С т р е п с и а д (уясняя).
В капусту влагу тянет размышление!»
Комедии понадобилось совсем немного времени, чтобы сквозь маску
витающего в облаках звездочета-шарлатана просунулась физиономия
подлинного, афинского Сократа с капустой, так ска-
зать, в зубах. Это ведь — не совсем та капуста, которая растет в комедиях
вокруг Еврипида, сына зеленной торговки. Капуста Сократа — другого
огорода.
От сократиков младшего поколения — Платона и Ксенофонта — нам
известна одна черта их учителя, кой-кого раздражавшая, другим
облегчавшая путь к истинам, охотою за коими прославился сын
Софрониска и Фенареты. «Без умолку и без передышки ты толкуешь о
поварах и лекарях, о башмачниках и сукновалах, о напитках и кушаньях,
вечно перебирая всякий вздор, как будто о нем идет у нас беседа!» —
набрасывается на Сократа один из дерзких юношей, пожелавших от торговцев мудростью их патентованного
товара с бессрочной гарантией.
Он в самом деле словно бы не был готов к рассуждениям об
отвлеченных предметах, о смысле и круговороте жизни, о человеческих слабостях и силах. «Я знаю только, что я ничего не знаю»,—
говорил Сократ. Это «ничего» состояло, впрочем, из нехитрой городской
жизни афинян, снующих по рынку, галдящих в Собрании или в театре
(что часто было одним и тем же), тачающих сандалии или плащи,
натирающихся маслом перед тем, как схватиться в песчаном борцовском
кругу, сучащих шерсть на женской половине, в гинекее, или стригущих своих овец широкой медной бритвой. Это
«ничего» и было известно Сократу. Мы не ошибемся, если Сократово
«ничего не знаю» уподобим обману другого греческого хитреца, итакийца
Одиссея — а островитяне, пожалуй, еще похитрее,— о котором
рассказывают вот что.
«Однажды Одиссей высадился на земле киклопов. С двенадцатью
спутниками он покинул корабль. Поблизости от моря находилась пещера,
и Одиссей вошел в нее, неся мех с вином, подаренным ему жрецом
Аполлона. Пещера эта принадлежала Полифему, сыну Посейдона и
нимфы Тоосы. Полифем был великан, дикарь и людоед; единственный
глаз его находился посреди лба. Спутники Одиссея разожгли костер и,
зарезав несколько козлят, пообедали. Когда киклоп пришел, он загнал все
стадо в пещеру и завалил выход огромным камнем. Увидев спутников
Одиссея, он тут же поужинал несколькими. Одиссей предложил ему
отведать вина, чтоб утолить жажду. Выпив немного, Полифем попросил
еще. Выпив и это, он спросил Одиссея, как его имя. Одиссей ответил, что
имя его — Никто. Тогда Полифем пообещал съесть его в последнюю
очередь, добавив, что это подарок, которым он, Полифем, отмечает его
как гостя. Затем упившийся сын Тоосы захрапел. Одиссей же, отыскав
пастуший посох Полифема, вместе с четырьмя оставшимися спутниками
заострил его, обжег на костре и ослепил Полифема. Тот стал громко
кричать, созывая живущих вокруг киклопов. Они собрались и стали
спрашивать Полифема, кто его обидел. Полифем же вопил: «Никто», и
тогда киклопы, понятное
дело, разошлись. Ведь Полифем был, ко всему, в сильном подпитии.
Когда же стадо стало рваться на пастбище, Полифем отрыл вход в пещеру
и, став там, широко раскинутыми руками ощупывал выходящих
животных. Одиссей уцепился снизу за самого большого барана,
укрывшись у него под брюхом. Так он и выбрался из пещеры вместе со
стадом».
Не подобен ли Одиссеев Никто Сократову Ничему?
Аристофан ведь хорошо знал Сократа и его страсть — вдруг сорваться
с высоты головоломной абстракции, чтобы где-нибудь здесь, поближе,
возле самого дома, на рынке или на огороде, отыскать надежное
свидетельство — очевидное и легко передаваемое другим — того, что ему
откроется там, в корзинке, где он — в комической своей ипостаси —
раскачивается, стараясь быть поближе к Облакам. Раскачивается, да про
капусту не забывает. Да и облака, обожествляемые Сократом-шутом в
комедии, его влекут не потому, что далеки и парят над жизнью.
«Вот они — это дети небес, Облака, а для нас, для
мыслителей,— боги,
Величайшие, разум дающие нам, мысли острые, силу
сужденья,
Красноречия жар, убеждения дар, говорливость и в речи
сноровку.
Что же раньше не знал ты, что боги они? Как богов их
не чтил и не славил?
Стрепсиад.
Видит Зевс, и не думал, считал их росой и туманом и
слякотью мокрой.
Сократ.
Видит Зевс, ошибался ты. Знай же теперь: это вот кто
питает ученых,
И врачей, и гадателей, франтов в кудрях, с перстеньками
на крашеных пальцах,
Голосистых искусников в круглых хорах, описателей высей
надзвездных,
Вот кто кормит бездельников праздных, а те прославляют
их в песнях надутых».
Простой человек не поверит, что эти мглистые хлопья божественны, не
верит и старикашка Стрепсиад. И снова шут-шарлатан, чтоб обмануть
шута-скептика, приоткрывает свою шутовскую маску, показывая
подлинного, афинского Сократа.
Не желая нести ответственность ни за глупость своих собеседников, ни
за парадоксальность выводов, к каким может прийти любая беседа,
Сократ всю жизнь предлагал своим ученикам, приятелям и неприятелям
самим докапываться до истины. Он же, Со-
крат, будет только надежным спутником, расставляющим там, где прошли,
вешки, чтобы не заблудиться. Эти вешки — вопросы и ответы, карабкаясь
по которым, начинало учебу и поколение самого Сократа. Он просто всех
превзошел в искусстве задавать упрямые вопросы, которые сильнее ума
человеческого: ведь слово — природы божественной, а люди все
произошли из ила, так что по слабости своей и вязкости безропотно ему,
слову, подчиняются. « С о к р а т .
А теперь на вопросы мои отвечай!
Стрепсиад.
Задавай! Что угодно, отвечу!
— Никогда ты не видел, скажи, в небесах облаков, на
кентавра похожих?
На быка, на пантеру, на волка?
— Видал, Зевс свидетель, видал! Ну так что же?
— Как хотят, обернуться умеют они. Завитого увидят
красавца,
Вот из этих кудрявых, распутных гуляк, из породы козла —
Ксенофонта,
И тотчас, издеваясь над бешенством их, превратятся
в блудливых кентавров».
Стрепсиад, уверовав в то, что Облака — истинные боги, легко
принимающие облик, который нужен для того, чтобы сладить с
разношерстным человеческим племенем, желает получить полную
ясность и разузнать, кто же стоит над Облаками.
«— Кто же навстречу друг другу их гонит, скажи? Ну не
Зевс ли, колеблющий тучи?
— Да нимало, не Зевс. Это Вихрь!
— Ну и ну! Значит Вихрь! И не знал я, деревня,
Что в отставке уж Зевс и на месте его нынче Вихрь
управляет Вселенной.
Только что ж ничего не сказал ты еще о грозе и громов
грохотанье?
— Ты ведь слышал: набухнув водой дождевой, облака друг
на друга стремятся
И, как сказано, лопнув, как полный пузырь, громыхают
и гулко грохочут.
— Как поверить тебе?
— Объясню тебе все на примере тебя самого же.
До отвала наевшись рубцов отварных на гулянии
панафинейском,
Ты не чувствовал шума и гуда в кишках и бурчанья
в стесненном желудке?
— Аполлон мне свидетель, ужасный отвар. Все внутри
баламутится сразу
И гудит словно гром, и ужасно урчит, и шумит, и свистит,
и клокочет.
Для начала легонько, вот этак: бурр-бурр, а потом уж
погромче бурр-бурр-бурр.
И нельзя удержаться, до ветра бегу, а в утробе как гром:
бурр-бурр-бурр-бурр.
— Ну, прикинь: если столько грозы и громов в животишке
твоем, так подумай,
Как чудовищно воздух безмерно большой и бурчит, и
гремит, и грохочет.
— Все понятно теперь: так от ветра, от туч говорят у нас
«ходим до ветра».
Объяснив гром, Сократ заставляет самого Стрепсиада разведать, откуда
берутся молнии. Недолго думая, счастливый старик, усевшись на
любимого конька Сократа, погружается в самую сердцевину великой
истины:
«Зевс свидетель мне, то же случилось со мной на Диасиях
нынешних. Помню,
Колбасу кровяную я жарить взялся для родных, да забыл
ее взрезать.
Так надулась она, стала круглой, как шар, и внезапно
возьми, да и лопни!
Все глаза залепила начинкою мне и сожгла, словно молнией,
щеки».
С таким сообразительным учеником не пропадешь, заключил Сократ,
и Стрепсиад принят в школу.
На орхестре, правда, прием в школу выглядит не столь лучезарно.
Стрепсиад ведь недаром жалуется на свое брюхо; как ни хитро вплетены в
шутовской наряд педагога-шарлатана портретные черты Сократа из
Лисьего дема, сценическое содержание эпизода понимается однозначно:
Стрепсиад пытается протолкнуться в свой нужник, но это не так-то просто
сделать. Сначала будь любезен объяснить, кто ты такой, потом изволь
сменить Зевса и традиционных богов на что-нибудь приличествующее
дому, в который стучишься, наконец, выкажи сообразительность,
достойную будущего мыслителя, и вот тогда тебе можно будет
уподобиться всем тем ученикам, что, усевшись на корточки,
оккупировали отхожее место, отныне по праву принадлежащее и тебе.
Гермес-владыка! Выведи нас из этой клозетной комедии! Теперь
понятно, за что прокатили Аристофана недовольные «Облаками» судьи!
Так, пожалуй, возопил бы чересчур привередливый
читатель. Но все-таки трудно сказать, почему же «Облака» постигла такая
неудача. Аристофану пришлось год спустя переделывать комедию, он
написал новый вариант, так называемые «Другие Облака», но эта его
комедия поставлена не была.
В дальнейшем, к сожалению, когда Аристофановы комедии стали
входить в школьный обиход, оба варианта слились, так что теперь не
очень-то ясно, где именно в дошедших до наших дней «Облаках» остатки
первых, а где — вторых. С некоторой долей уверенности можно сказать,
что начало и туалетная экспозиция всей комедии — рецидив первого,
отвергнутого судьями варианта, а, например, выход хора к зрителю —
несомненный остаток второго.
Как раз по поводу неудачной постановки «Первых Облаков»
Аристофан жалуется афинянам:
«Вам уж я однажды ее предложил. Трудней всего
Мне она досталась, и что ж? Пред толпою грубою
Незаслуженный потерпел я провал. Виной тому
Вы, толковые, знатоки! Ради вас старался ж я!»
Рекламируя новый вариант комедии, Аристофан, вероятно,
противопоставляет его старому:
«Как пристойны нравы ее, сами поглядите вы:
Твердой кожи плотный кусок не подвешен спереди,
Сверху красный, толстый, большой — детям на посмешище...
За новинку выдав старье, надувать не стану вас.
Только с новым вымыслом к вам прихожу я каждый год.
Если ж я и речи мои вам теперь понравятся,
Прослывете вы навсегда судьями разумными».
Афиняне хорошо знают, что могут означать слова о разуме в устах
охальника Аристофана, и он был, вероятно, прав, не попросив хора для
«Других Облаков». И все же, хотелось бы разузнать поточнее, что
именно переделал Аристофан в «Облаках», чтобы приспособить
комедию к требованиям судей, да только это желание едва ль
выполнимо.
В доставшемся нам тексте «Облаков» Сократ, между прочим, успешно
справляется с просьбой Стрепсиада сделать его записным говоруном,
способным отбиться языком, или, как сказал бы сам Стрепсиад,
«оттрепаться» от любого кредитора. Но оказалось, что сын Стрепсиадов
— юный Фидиппид — еще более способный ученик, ему-то и
принадлежит в комедии пальма первенства: он начинает поколачивать
папашу, убеждая его в том, что побои от сына — великое благо.
Может быть, за это пострадали «Облака»? Вероятно, и это сказалось.
Не хочется обманывать ни себя, ни других, как делает это
фантазер Элиан: «Публика рукоплескала поэту,— пишет он,— как
никогда в другой раз, кричала, что он победил, приказывая судьям
поставить первым в списке Аристофана, а не кого другого». К сожалению,
это не так: Аристофан ведь сам жалуется на постыдное поражение.
Перерабатывая комедию, он добавил еще одну, заключительную,
сцену: избитый Стрепсиад, запалив факел, с визгом подлетает к
обиталищу мудрецов, вконец испортивших ему сына, и поджигает его.
Может быть, в новом варианте комедия должна была хорошо кончаться
для обиженных папаш, перестающих, кажется, понимать законы
аттической комедийной сцены. Но театр Диониса так никогда и не увидал
этого финала, вот и остается любителям старины жаловаться вместе с
Элианом на судей: «Не смешно ли? Ксенокл победил, а Еврипид побежден!
Амипсий победил, Аристофан побежден! Одно из двух: либо вынесшие это
решение — дураки и невежды, либо они были подкуплены. И то, и другое
абсурдно и совершенно недостойно афинян».
Что ж, «если больному льву ничто не приносит облегчения, ему
остается только съесть обезьяну»...
***
Среди поклонников Сократа — не комического, настоящего —
самым знаменитым был Алкивиад, сын Клиния и Диномахи. Когда
Филонид поставил Аристофановы «Облака», Алкивиаду было двадцать
пять лет, и Сократ давно уже «держал за уши», как пошутил Клеанф,
этого картавого честолюбца.
То была их семейная черта: отец Алкивиада Клиний прославился,
построив на собственные средства трехрядный корабль, хотя по правилам
должен был только оснастить его. Греческие писатели наперебой
расписывают необычайную красоту Алкивиада: во всяком возрасте
красота его не увядала и делала его, по словам Плутарха, «любимцем и
приятным членом общества». «Не у всех красавцев,— жалуется
Еврипид,— прекрасна осень, но на долю Алкивиада выпало это счастье
благодаря его прекрасному сложению и здоровому телу».
...Здоровое, прекрасное, телесное, красивое, цветущее. Человеку
Нового времени, кажется, трудно отдаться этим ценностям греческого
мира как абсолюту. Может быть, да почти наверняка, читатель должен
быть раздражен зрелищем прекрасного в афинском исполнении,
кудрявыми мальчиками и умащением бород. Требуются разъяснения, и
они воспоследуют, но время для разъяснений еще не пришло...
Когда отец Алкивиада погиб в сражении, опекуном ребенка сделался
дядя — Перикл. Близость к неутомимо трудящемуся
государственному мужу, с одной стороны, и босоногому учителю
мудрости — с другой, оказалась губительной для мальчика, ищущего
подвигов, достойных его славного рода, а софистически-политическое
воспитание, помноженное на врожденное властолюбие, сулило опасности
городу. Как Фидиппид обошел Стрепсиада, так и Перикл был посрамлен
своим воспитанником.
Случилось так, что Перикл провел в Собрании закон, по которому
полноправными афинянами должны были считаться лишь те, кто может
подтвердить свое происхождение от афинянина-отца и афинянки-матери.
Прошло несколько лет, у Перикла родился сын от милетянки Аспасии, по
нему-то и ударил новый закон. Презрительно наблюдавший за вождем
народа Алкивиад, уже изрядно, кружась вокруг Сократа, понаторевший в
словопрении, пришел как-то к своему опекуну и спросил его:
— Скажи, мог ли бы ты объяснить мне, что такое закон?
— Конечно,— ответил Перикл.
— Так объясни мне.
— Законы, Алкивиад,— это все то, что народ в Собрании примет и
напишет с указанием, что следует делать и чего не следует.
— Какою же мыслью народ при этом руководится,— хорошее
следует делать или дурное?
— Хорошее, мой мальчик, конечно, не дурное.
— А если не народ, но, как бывает в олигархиях, немногие соберутся
и напишут, что следует делать,— это что?
— Все, что напишет властвующий в государстве класс, обсудив, что следует делать, называется законом.
— Так если и тиран, властвующий в государстве, напишет
гражданам, что следует делать, и это закон?
— Да,— поморщившись, ответил Перикл,— все, что напишет тиран,
пока власть в его руках, и это называется законом.
— А насилие и беззаконие,— спросил Алкивиад,— что такое,
Перикл? Не то ли, когда сильный заставляет слабого не убеждением, а
силой делать, что ему вздумается?
— Мне кажется, да,— сказал Перикл.
— Значит, и все, что тиран пишет, не убеждением, а силой заставляя
граждан делать, есть беззаконие?
— Мне кажется, да,— отвечал Перикл,— я беру назад свои слова, что
все, что пишет тиран, не убедивши граждан, есть закон.
— А все то, что пишет меньшинство, не убедивши большинство, но
пользуясь своею властью, должны ли мы это назвать насилием или не
должны?
— Мне кажется,— отвечал Перикл,— все, что кто-нибудь заставляет
кого-нибудь делать, не убедивши,— все равно, пишет ли он это или
нет,— будет скорее насилие, чем закон.
— Значит, и то, что пишет весь народ, пользуясь своею властью
над людьми состоятельными, а не убедивши их, будет скорее насилие,
чем закон?
— Ах, Алкивиад,— отвечал Перикл,— и мы в твои годы были мастера
на такие штуки...
Рассказавший об этом разговоре Ксенофонт сам был учеником и
почитателем Сократа, от которого, как видно, каждый брал, что сам хотел
получить, Алкивиад же «более всего стремился покорить себе толпу
чарующей силою слова».
Уже древние комментаторы видели в Фидиппиде из «Облаков»
пародию на Алкивиада. Действительно, спустивший все родительские
деньги на коневодство и коногонство Фидиппид недалеко ушел от
Алкивиада, на всю Аттику прославившегося своими лошадьми;
Фидиппид в «Облаках» — племянник Мегакла, афинянина из
знатнейшего рода Алкмеонидов, а исторический Алкивиад — внук
настоящего Мегакла Алкмеонида.
Фидиппид — не первый у Аристофана образчик маски из молодых да
раннего вождя, получившего модное образование. В «Едоках»,
поставленных, кстати, тем же Филонидом, афинянам уже встречался
стиляга, обученный плетению словес. Но за пять лет, прошедших со
времени постановки первой комедии, этот стиляга вырос: его зовут
Алкивиад, он — верный ученик Сократа, он готовит разом три колесницы
для Олимпийских игр, а, пренебрегая дедовскими законами, спит с кем
захочет. От комика Ферекрата дошли обрывки комедии «Лже-Геракл»,
среди них — двустишие:
«Алкивиад, мужчиною не сделавшись,
Уж мужем каждой женщине в Афинах стал».
Возможно, и вся комедия вертелась вокруг Геракла-Алкивиада.
Сократ, конечно, несет не всю полноту ответственности за воспитание
этого человека, хоть он и жил с ним в одной палатке во время войны,
оберегая, как Патрокл — молодого Ахиллеса во время Троянской осады,
от превратностей воинского случая.
«Беспорядочный образ жизни», которым, по словам Фукидида, был
знаменит Алкивиад в пору юности, не был оставлен им в более зрелые
годы, наоборот, в эту беспорядочность легко вошли спорадические
встречи с Сократом. Плутарх, со слов кого-то из современников, говорит,
что Сократу в его любви (и, добавим мы, наставническом усердии)
приходилось бороться с богатыми и сильными соперниками. Только
иногда Алкивиад оказывался всецело в его руках, и тогда он слушал
Сократовы слова, они хватали его за душу, и он плакал, но чаще
переходил на сторону параситов, прельщавших его одними чувственными
наслаждениями, и тогда он выскальзывал из рук Сократа, жил в бегах и
был всюду преследуем своим учителем, которого одного стыдился и
боялся, презирая всех остальных.
Фидиппид из «Облаков» поначалу не хотел идти в учение к Сократу
(«Чему ж там можно научиться доброму?»). Но отец все-таки привел его в
философское училище:
«Смелей! Учи! Он у меня понятливый.
Ребеночком еще таким вот крохотным
Кораблики лепил он, клеил домики,
Из дерева вырезывал повозочки,
А из кожурок — лягушат. Что думаешь?
Смотри ж, речам обеим научи его,
Правдивой, честной речи и кривым речам,
Которыми одолевают правые,
А нет — одной лишь кривде научи его!»
Аристократ по матери, Фидиппид мечтает о славе предков, о
возрождении традиций древнего рода Алкмеонидов, о том, что и сам он
займет подобающее место в городе и станет клеить не игрушечные
кораблики и домики. А ученье, куда толкает его Стрепсиад, оказывается
неожиданным подспорьем для осуществления цели: овладевая искусством
побивания правды кривдою, Фидиппид повертывает свое оружие против
отца и делается хозяином положения, тогда как Стрепсиад окончательно
сходит с ума.
Аристократические сверстники Аристофана, с соответствующими
происхождению их политическими амбициями, задыхались в
демократическом афинском муравейнике; толпа чистильщиков плащей,
плотников и мельников до поры до времени держала на строгом
ошейнике слуг народа, избираемых на важнейшие государственные
должности: любого, кто проявлял неумеренное, на взгляд толпы, рвение в
государственных делах и тем ставил себя над городом, Собрание
народное могло подвергнуть «остракизму», или, по-нашему,
«черепкованию»,— выслать из города на десять лет. Вообще-то было два
вида черенкования: один предусматривал конфискацию имущества, а
другой нет. Черепкование называлось так потому, что имена граждан, ему
имеющих подвергнуться, писались на черепочках; если черепочков
набиралось достаточно много (ну, конечно, и кворум должен быть и
испорченных черепков не слишком много), тогда — а происходило
черепкование регулярно — спасения не было. Ясно, что для
удовлетворения аристократических амбиций нужна была бесконечная
дипломатическая виртуозность, новая политическая стратегия.
Комический Фидиппид учится в философском училище, чтобы
Помочь отцу избавиться от кредиторов, но идет дальше и избавляется от
опеки собственного отца.
Афинская молодежь круга Алкивиада ходит к Сократу тоже Не для
того, чтобы научиться добродетели, умению распознавать за
быстротекущими днями устойчивое начало, дающее подлинную
опору в жизни. Им надобно искусство Сократа Убедительного, потребна
новая технология уничтожения противников словом. Вот до каких пор им
может пригодиться Сократ: лишь бы сдержать толпу веским оборотом,
неожиданным поворотом мысли, а где надо — лестью и обещаниями.
В самом деле, традиционные афинские дядьки-педагоги могли только
раздражать стремящихся к первенству молодых аристократов. Чему
научит учитель гимнастики, жалкий раб, эту ораву мальчишек, ведущих
потешный бой в палестре? Чему научат все эти флейтисты, фиванские
дударики? Пусть фиванцы и играют на своих свирелях, затыкающих им
рты, так что ни спеть, ни слова сказать уж нельзя под эту рваную музыку.
То ли дело лира или кифара, говорил Алкивиад. И вот уже флейта
выходит из моды, и молодежь вовсю учится играть и петь под кифару,
достойный инструмент достойных потомков Афины и Аполлона.
Алкивиад шутил по этому поводу, что, мол, недаром богиняградодержица выбросила флейту, чтоб та не раздувала у ней прекрасное
лицо, а бог-стреловержец и дирижер Муз (Мусагет по-гречески) даже
содрал кожу с зарвавшегося флейтиста. А чему научат жалкие
грамматики, бездумно зазубрившие Гомера и Симонида и теперь
вколачивающие в головы мальчишек им самим непонятные стихи!
Это, традиционное, воспитание продолжалось до тех пор, пока
мальчики не достигали 16 лет. Усиленные занятия гимнастикой, верховой
ездой, сопровождавшие время превращения отрока в юношу, сменялись
военной службой, срок которой колебался в зависимости от разных
факторов; в войну он, понятно, был более протяженным. На этом
воспитание гражданина заканчивалось, ему оставалось хорошо себя
вести, участвовать в общегородских мероприятиях, а когда наступал
стандартный возраст мудрости, такими вот, с Солоном и Феогнидом в
голове, крепостью в ногах и курчавою растительностью на лице,
афинских мужчин — воинов, мужей и
отцов — принимала
государственная жизнь.
При таком воспитании, хоть оно и почиталось в Афинах наилучшим,
оказывалось, что управлением государства люди занимаются не
профессионально, а как бы между прочим. Отличился человек в какомнибудь деле, тут же народ готов почтить его завидной должностью, как и
случилось с Софоклом, избранным — в знак благодарности за постановку
прекрасной трагедии — воеводой. В государстве, где должности
переходили из рук в руки с калейдоскопической быстротой и
неожиданностью, нужда в профессиональных политиках возрастала по
мере усиления угрозы самому существованию города. А мудрость,
потребная для управления городом, оказалась сродни той, что всюду
носили с собою торговцы-софисты, превратившие в товар самый
мыслительный процесс,— у кого подороже, да пощедрее на слова, как у
Горгия или Прота-
гора, а у кого — совсем дешевый, как у Сократа. Последний вообще
жаловался, что «мудрость у него какая-то плохонькая», и рядом с
роскошным искусством Горгия или Продика, боюсь, он не прибеднялся:
ведь толкует он все о каких-то лекарях, да о хлебопеках, да о
мешочниках, да об огородниках.
К тому же Сократ, не требуя с учеников денег, сознавался как будто,
что не дает им никакой гарантии в овладении ими его ремеслом. Наконец,
он брал за правило любую мысль, любую самую отвлеченную проблему
прощупывать с ее житейской, или, выражаясь культурнее, моральной ее
стороны. Эти-то наставления аристократическая афинская молодежь
любила менее всего, а Сократ в ней видел цель своего мудролюбия.
Он, правда, отдал дань естественнонаучным изысканиям, когда учился
у Анаксагора, и итог этих изысканий комически передернут
Аристофаном в «Облаках», где Стрепсиад расписывает чудеса,
ожидающие человека в философском клозете, куда набились мудрецы.
«Послушать их,
Так небо — это просто печь железная,
А звезды в этой печке — словно уголья».
Комического Сократа-естествоиспытателя волнует, чем поет комар, да
отчего трещит громами туча, напоровшаяся на товарку, Наш афинянин из
Лисьего дема — и Аристофану это было известно — сам в поисках
мудрости перепробовал много учителей, прежде чем остался стоять в
своем рваном плаще в аттическом уголке, со своими, незаемными
мыслями, да с мудростью, которая рвется не за облака, а в души людские.
Сократ прекрасно понимал, что он нужен этой молодежи как
интеллектуальный трамплин, открывающий перед ними оперативный
простор политической карьеры. Но его тяжкое гражданское жречество не
позволяло отклониться от повседневных размышлений.
«Есть воля в тебе и отважная мысль.
Будет пускай удача с ним!
Он, не глядя на старость,
Не побоясь плеши своей,
Тяжелый груз новых наук
Вздумал вместить в череп седой,
Хочет постигнуть мудрость».
Нет, это не о Сократе, это о набивающемся ему в ученики Стрепсиаде.
Комический Сократ, впуская старика в философское училище, взимает
гонорар авансом, снимая с будущего послушника последний плащ с
сандалиями вкупе; Стрепсиад обещал еще мешок муки, но соловья
баснями не кормят.
Шутовская маска шарлатана все-таки закрыла пучеглазую
физиономию курносого сына Фенареты, и вот результат: комический
Сократ «Облаков», оказывается, не довольствуется скромным ужином за
счет поклонника-ученика, как его афинский тезка; он вороват, и этому
искусству, кажется, особенно успешно обучает своих питомцев.
« У ч е н ик.
Вчера ж у нас еды на ужин не было.
Стрепсиад.
Ну-ну! А пропитанье как промыслил он?
Ученик.
Зашел в палестру, стол слегка золой покрыл,
Взял в руки вертел, циркулем согнул его
И осторожно... из палестры плащ стянул».
Вот и вся наука. Наш Сократ, афинянин, не таков, и этот шарлатан, его
тезка, хоть схож с сыном Софрониска, да человек никудышный. Недаром
Сократ, когда сидел в театре на «Облаках», как увидал дразнилу под
своим именем, тотчас встал и так простоял до конца комедии, чтобы люди
видели, что, во-первых, не сам он там, на орхестре, над собою куражится,
а вот он, тут, и во-вторых, чтоб промерили умственным взором пропасть,
их разделяющую.
У АГАФОНА
Старый афинянин, упорно не желавший освободить площадку
для заведенного по порядку пира, кривовато улыбнулся в ответ на
реплику Эриксимаха:
— Нет, весь человеческий род я не принижаю, любезнейший
Эриксимах. Я говорю только о тех, кто потакает жалкой толпе
кукольных человечков, о поэтах и речистых молодцах, от которых
идет такая беда. Да разве ты сам, лекарь и костоправ, не замечал,
что человечишко, чем он слабей и ничтожней, тем больше похож
на игрушку, стучащую членами друг о друга от малейшего
дуновения ветерка. Эти-то слабаки и устанавливают свои
закончики, а ведь их большинство. Ради себя и собственной
выгоды устанавливают они законы, расточая похвалы и
порицания. Стараясь запугать настоящих людей, более сильных,
тех, кто способен над ними возвыситься, страшась этого
возвышения, они утверждают, что быть выше остальных —
постыдно, что в этом как раз и состоит несправедливость — в
стремлении подняться выше прочих. Сами же они по своей
ничтожности охотно, я думаю, довольствовались бы долею,
равною для
всех. Об этих человечках-куколках, об этом сброде я и говорил,
что его надо только умело сдерживать ловкой рукой в его
кукольных пределах. Дай им волю! Они объявят несправедливым
и постыдным стремление подняться над толпой, и это назовут
несправедливостью, хотя сама природа провозглашает, что это
справедливо, когда лучший выше худшего и сильный выше
слабого. Что это так — видно по всему и повсюду: и у животных и
у людей — если взглянуть на города и народы в целом,— видно,
что признак справедливости таков: сильный повелевает слабым и
стоит выше слабого.
По какому праву Ксеркс двинулся походом на Грецию, а его
отец — на скифов? Несть числа примерам! И подобные люди
действуют, думается мне, в согласии с природою права и —
клянусь Зевсом! — в согласии с законами самой природы, хотя он
может и не совпадать с тем законом, какой устанавливаем мы и по
какому стараемся вылепить самых лучших и решительных среди
нас.
Мы берем их в детстве, словно львят, и приручаем
заклинаньями и ворожбою, внушая, что все должны быть равны и
что именно это прекрасно и справедливо. Но если появится
человек, достаточно одаренный природою, чтобы разбить и
стряхнуть с себя все оковы, я уверен, он освободится, он втопчет в
грязь все наши писания, и волшебство, и чародейство, и все
противные природе законы, и, воспрянув, явится перед нами
владыкою, бывший наш раб,— вот тогда-то и просияет
справедливость природы, а мудрецы (вроде тебя, подумал Сократ)
перестанут сетовать на кукольный человеческий род.
Мне кажется, что и Пиндар высказывается в том же роде в
песне, где говорит:
«Закон надо всеми владыка,
Над смертными и бессмертными».
И дальше:
«Творит насилье рукою могучей,
Прав он всегда,
В том мне свидетель Геракл: некупленных...
когда...»
Как-то так у него говорится, точно не помню, что, дескать,
Герион коров и не продавал и не дарил, а Геракл все-таки их
угнал, считая это природным своим правом, потому что и коровы
и все добро слабейшего и худшего должно принадлежать
сильнейшему и лучшему.
В этом убедишься и ты, Сократ, если бросишь наконец
философию и приступишь к делам поважнее. Да, разумеется, есть
своя прелесть и у философии, если ею заниматься умеренно и в
молодом возрасте, так сказать, натощак. Но стоит задержаться на
ней дольше, чем следует, и она — погибель для человека! Если
даже ты очень даровит, но посвящаешь философии более зрелые
годы свои, ты неизбежно останешься без того опыта, какой нужен,
чтобы стать человеком достойным и уважаемым. Ты останешься
несведущ в законах своего города, в том, как вести с людьми
деловые беседы, не важно, частные или государственного
назначения, важно лишь, что ты останешься совершенно несведущ
в человеческих нравах. И, к чему бы ты тогда ни приступил, чем
бы ни занялся — своим ли домашним делом или
государственным,— ты будешь смешон! Тут выходит как раз по
Еврипиду:
«Горд каждый тем бывает и к тому стремится,
День щедро тратя свой, забыв о времени,
В чем сам себя легко способен превзойти».
И чем он слаб, того избегает и то бранит, а иное хвалит — из
добрых чувств к самому себе.
Знакомство с философией прекрасно в той мере, в какой с ней
знакомятся ради образования, и нет ничего постыдного, если
философией занимается юноша. Но если он продолжает свои
занятия и возмужав, это уже смешно, Сократ. На Дионисиях-что-вгороде, бывших в архонтство Исарха, Аристофан как раз показал
нам всем такого деда, вздумавшего преуспеть в философии. Глядя
на таких философов, как этот Стрепсиад Аристофанов, я
испытываю то же чувство, что при виде взрослых людей, которые
по-детски лепечут или резвятся. Когда я смотрю на ребенка,
которому еще к лицу и лепетать и резвиться, мне бывает приятно,,
я нахожу это прелестным и подобающим детскому возрасту
свободного человека. Когда же я слышу маленького мальчика,
говорящего вполне правильно, внятно и отчетливо, по-моему, это
отвратительно — мне это режет слух и кажется чем-то рабским. Но
когда слышишь, как лепечет взрослый, и видишь, как он по-детски
сюсюкает и резвится, это кажется смехотворным, недостойным
мужчины и заслуживающим кнута.
Так же отношусь я и к приверженцам философии. Видя
увлечение ею у безусого юноши, я очень доволен, я даже считаю
это признаком благородного образа мыслей, того же, кто совсем
чужд философии, считаю человеком низменным,
который сам никогда не найдет себя пригодным ни на что
прекрасное и благородное. Но когда я вижу человека в летах,
который и не думает расставаться с философией, тут уж, Сократ,
ну, прости, не обойтись без кнута! Как бы ни был даровит такой
человек, наверняка он теряет мужественность, держась вдали от
середины города, его площадей и собраний, где проставляются
мужи. Он прозябает до конца жизни в неизвестности, шепчась по
углам с тремя или четырьмя мальчишками, и никогда не слетит с
его губ свободное, громкое, дерзновенное слово.
Что до меня, Сократ, я отношусь к тебе вполне дружески и
желаю тебе добра. Но разве ты сам не видишь, как постыдно
положение, в котором находишься и ты и все остальные
безудержные философы? Послушайся меня, дорогой наш Сократ,
«прекрати свои изобличения, обратись к благозвучию дел»,
обратись к тому, что принесет тебе славу здравомыслия, «оставь
другим уловки эти тонкие» — не знаю, как их называть —
вздором или пустословием,— поверь, «они твой дом опустошат
вконец», как говорится у Еврипида. Ты, верно, не знаешь, откуда
взялись на земле люди. Послушай-ка, что говорит мне об этом
Протагор. Было время, когда боги-то были, а смертных родов еще
не было. Когда же и для них приспел срок рождения, стали боги
создавать их в глубине земли, из жижи и огня, примешав еще
всякие соли, вступающие в соединения с тем и другим. Когда же
вознамерились люди вывести их на свет, то приказали Прометею и
Эпиметею — Крепколобому и Крепкому Задним Умом —
украсить их и распределить силы, подобающие каждому роду.
Крепкий Задним Умом выпросил у Крепколобого позволение
самому распределять силы: «А когда распределю,— сказал он,—
тогда ты посмотришь». Уговорив его, он произвел распределение.
При этом одним уделил он силу без быстроты, другим, слабым,
напротив, даровал быстроту; одних вооружил, других оставил по
природе безоружными, но зато придумал для них какую-то иную
силу во спасение. Кого из них облек он малостью, тем уделил
крылатый лет, а то — подземную обитель, а кого возрастил
величиною, того тем самым и спас; и так, распределяя все
остальное, он всех уравнивал. Это он устроил из осторожности,
чтобы не исчез ни один род. Давши им способы избегать
взаимоистребления, придумал Крепкий Задним Умом и средства
против Зевсовых времен года; он одел их густыми волосами и
толстыми шкурами, способными защитить и от зимней стужи и от
зноя и служить каждому, когда пойдет он отдыхать в свою нору,
своей
собственной самородной подстилкой; он обул одних копытами,
других же толстой кожей, в которой нет крови. Потом для разных
родов изобрел он разную пищу — для одних овощи из земли, для
других — плоды древесные, а для третьих — коренья. А
некоторым дал силу питаться, пожирая других животных. При
этом он сделал так, что плотоядные размножаются меньше, а те,
которых они уничтожают, гораздо больше, чтобы тем спасти их
род.
Но на то и был он прозван Крепким Задним Умом, что не
заметил в упоении творчества, что роздал все силы бессловесным
тварям, а род человеческий оставался у него еще неукрашенным.
Пока Крепкий Задним Умом недоумевал, что теперь делать,
приходит Крепколобый, чтобы проверить распределение да
пройтись рукою мастера, и видит, что все прочие животные во
всем прилично устроены, человек же наг и необут, без постели и
без оружия. А тем временем наступил предназначенный день,
когда следовало и человеку выйти из земли на свет. И вот в
недоумении, какое бы найти средство помочь человеку, крадет
Крепколобый премудрое уменье Гефеста и Афины вместе с огнем,
потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться.
В том и состоит дар Крепколобого человеку. Благодаря этому
люди овладели уменьем поддерживать свое существованье, но им
еще не хватало уменья жить сообща — оно было у Зевса, войти в
обитель Зевса, в его акрополь, Крепколобому уже не было
возможности, да и страшны были стражи Зевса. Крепколобый
проник только в общую мастерскую Гефеста и Афины, где они
предавались своим любимым занятиям — кузнечеству да
ткачеству. Украв у Гефеста искусство обращаться с огнем, а у
Афины — другое уменье, Крепколобый дал их человеку для его
благополучия, но сам же за это потом пострадал.
Человек же, с тех пор как он сделался причастным
божественному уделу, первым и единственным средь всех живых
существ стал прежде всего признавать богов и принялся возводить
им алтари, затем вскоре стал он искусно расчленять звуки своего
еще грубого голоса, давать всему названия, а также изобрел
жилища, одежду, обувь, постель и добыл пропитание из почвы.
Устроившись таким образом, люди попервоначалу обитали в
рассеянии селений, а тем более городов тогда не было, люди
погибали от зверей, так как были во всем их слабее, а главное, у
них не было еще умения действовать сообща, часть которого
составляет военное дело. И вот люди стали стремиться собраться
вместе и строить города для своей безопасности. Но чуть они со-
бирались вместе, так сейчас же начинали обижать друг друга,
потому что у них не было уменья жить сообща: опять приходилось
им расселяться и гибнуть.
Зевс, опасаясь, как бы не пропал человеческий род, посылает
Гермеса ввести среди людей совестливость и правду, чтобы они
объединяли их стройным
общественным
порядком
и
дружественной связью.
Вот и спрашивает Зевса Гермес, каким же образом дать людям
правду и совестливость: «Так ли их распределять, как
распределено уменье? А оно распределено вот как: одного,
владеющего, положим, искусством врачевания, хватает на многих,
в нем не сведущих, то же и со всеми прочими мастерами. Значит,
правду и совестливость мне тоже так установить среди людей или
же уделить их всем?»
«Всем,— возопил Зевс,— пусть все будут к этому причастны!
Не бывать государству, если только немногие будут причастны к
ним, как бывают причастии к другим знаниям. И закон положи от
меня, чтобы всякого, кто не может быть причастен совестливости
и правде, убивать как язву общества».
Так-то, Сократ, и вышло по этой причине, что афиняне, как и
все остальные люди, когда речь заходит о плотницком умении или
об умении в каком-нибудь другом ремесле, думают, что лишь
немногим пристало участвовать в совете, и если кто, не
принадлежа к этим немногим (мы бы сказали, специалистам),
подаст совет, его не принимают, как ты говоришь, и правильно
делают, скажу я со своей стороны. Когда же они приступают к
совещанию по части доблести гражданской, где все дело в
справедливости и благоразумии, тут принимают они, как и
следует, совет всякого человека, ибо всякому подобает быть
причастным этой доблести, а иначе и государствам не быть. Вот в
чем, Сократ, здесь причина. И всякому человеку так или иначе
необходимо быть причастным доблести — в противном случае ему
не место среди людей.
A принимая в советчики по общественным делам и медника и
сапожника, афиняне относят доблесть к предметам обучения и
воспитания. Пока родители живы, они с раннего детства учат
детей и вразумляют их. Чуть только ребенок начинает понимать
слова, и кормилица, и мать, и дядька, и сам отец бьются над тем,
чтобы он стал как можно лучше, научая и показывая ему при
всяком слове и деле, что это
вот — справедливо, а то — несправедливо, это вот — прекрасно, а
то — гадко, это — благочестиво, а то — нечестиво, это ты делай, а
то — не делай; и хорошо, если ре-
бенок добровольно слушается; если же нет, то его, словно деревцо,
что пошло вкривь и вкось, выпрямляют запретами и ударами.
Старик, верно, не знал, что Алкивиад рос немного иначе: не его
выпрямляли запретами и ударами, а он — своих учителей. В
палестре развратного Сибиртия он вытянул прутом раба —
тренера и массажиста — и наповал сразил беднягу, а отцу хозяина
того самого дома, где теперь он сидел уже в качестве почетного
гостя, хотя молодого, ведь только что его избрали воеводою, так
вот Гиппонику он залепил оплеуху, причем сделал это не в порыве
детской страсти и без всякого желания отомстить за что-то
уважаемому человеку, а просто так — из шалости, на спор с
друзьями. Вот тоже деревцо, любезный!
— А потом,— продолжал он,— когда посылают детей к
учителям, велят каждому гораздо больше заботиться о
благонравии детей, о грамоте и игре на кифаре. Учителя об этом и
заботятся: когда дети усвоили буквы и готовы воспринимать
написанное, как до той поры понимали с голоса, учителя кладут
им на стол творения хороших поэтов, чтобы они их читали, и
заставляют детей усваивать их — а там много наставлений, много
похвал и прославлений древних доблестных мужей,— чтобы
ребенок, соревнуясь, подражал им и стремился стать таким же.
Опять же и кифаристы со своей стороны заботятся о
здравомыслии и о том, чтобы молодежь не бесчинствовала. К тому
же когда они научатся играть на кифаре, учат их опять-таки
творениям хороших песнетворцев и заставляют души мальчиков
свыкаться с гармонией и ритмом, чтобы они стали более кроткими
и, проникшись хорошими ритмами и гармонией, стали пригодны и
для речей и для деятельности — ведь и вся жизнь человека
нуждается в ритме и гармонии.
Кроме того, посылают мальчиков к учителю гимнастики,
чтобы крепость тела содействовала благомыслию и не
приходилось бы из-за телесных недостатков робеть на войне и в
прочих делах.
Так поступают те, у кого больше возможностей, а больше
возможностей у тех, кто богаче. Их дети, начав ходить к учителям
с самого раннего возраста, позже всех перестают учиться. После
того как они перестают учиться, государство в свою очередь
заставляет их изучать законы и жить сообразно с ними, согласно
предписаниям, чтобы не действовать произвольно и наудачу. Не с
тех бери пример, кто копается в мелочах, опровергая друг друга,
но с тех, кто владеет богатством, силою и проистекающими из
этого бла-
гами! А главное — умерь свое педагогическое рвение и перестань
учить других тому, от чего сам всю жизнь страдаешь и будешь
страдать!
— Счастливую находку сделал я, придя на этот пир к Агафону
и встретив тебя, незнакомец! — возопил Сократ.— Но не
выслушать ли нам сперва Федра, а я уж тогда объясню тебе,
красноречивый мой, что мешает мне послушаться тебя.
Сократ, пожалуй, мог бы сразу возразить старому афинянину,
что тот напрасно так гневается на него, да и на торговцев
мудростью — софистов. «Какой же я детовод,— должен был
подумать Сократ,— вернее было бы назвать меня детолюбом. Да
не таков ли и ты, старичок?» И все-таки Сократ заговорил:
— Мы с тобою, как я погляжу, находимся в одинаковом
состоянии. Хотя ты и замечательный человек, а всякий раз, что бы
ни сказали твои любимцы, какое бы мнение ни выразили, ты не в
силах им возражать, но бросаешься из одной крайности в другую.
В Собрании, если ты что предложишь, а народ афинский окажется
другого мнения, ты мигом повертываешься вслед и предлагаешь,
что желательно афинянам. Вот и обо мне тебе приходится всякий
раз слышать нечто подобное. Пойми это и, чем дивиться моим
речам, заставь лучше умолкнуть мою любовь — философию.
Да, потому что без умолку твердит она, друг мой,— и всегда одно
и то же, ведь она не так ветрена, как моя другая любовь; сын
Клиния сегодня говорит одно, завтра другое. Но не время мне
теперь защищать философию, прости меня, Федр... Сократ умолк,
и ненадолго воцарилось неловкое молчание. Не напрасно ли
вспомнил афинянин про Стрепсиада из «Облаков»? Едва ли
приятно было Аристофану напоминание о неудачной комедии, да
и не заставил ли он этим других гостей поймать некоторое
сходство его со Стрепсиадом? Кто ответит на этот вопрос?
Спор с афинянином тянулся бы и дальше, не оставь мы дом
Агафона в ожидании того, когда настанет черед Федра произнести
свою речь о любви.
* * *
Сверстник Алкивиада, Аристофан был смолоду слишком занят
Дионисовой артелью, так что к Афинам с произведениями своего
искусства он — как и все прочие драматические поэты — выходил
только в праздники, в остальное
время оставаясь «зрителем речей и слушателем дел», лупящим по
рынку, палестрам, гаваням Мунихия и Пирея, что твоя аттическая
пчела, собирающая нектар молвы и скандалов. Об этом времени он
сам писал в парабасе к одной из более поздних комедий:
«Я и в прежние годы, в счастливые дни, никогда по
палестрам не шлялся...
...Нет! Я домой убежать торопился.
Редко скучен бывал я, забавен — всегда, чтоб
понравиться публике умной».
Шесть комедий, поставленных за три года, вероятно, принесли
ему некоторую известность. Правда, «известность» — не слишком
понятная категория для тогдашней мусической жизни, не знавшей
театральной критики, фонтанирующей в промежутках между
спектаклями: пятерка назначенных судей присуждала награды, а у
зрителей было пять способов откликаться на скверную
постановку: свист, топот, забрасывание гнильем и даже камнями, а
на худой конец — изгнание с орхестры. Воспоминания о
драматических произведениях, благодаря которым мы теперь
собираем остатки аттической драмы, относятся в большинстве к
более позднему времени, когда и старая аттическая комедия и
трагедия выступали уже в качестве поэтического антиквариата.
Поэтому известность Аристофана, несомненно пришедшая к нему
в среде профессиональных комедиографов, не оставила почти
никаких следов в современной ему и дошедшей до нас
исторической и бытовой прозе.
Плутарх, говоря об Алкивиаде, замечает, что сквозь столетия
до нас не дошло даже имен матерей Никия и Демосфена, Ламаха и
Ферамена, между тем мы знаем имя и кормилицы Алкивиада —
спартанки Амиклы и его воспитателя — Зопира.
Ну, положим, красота Алкивиада как исторический факт
равноценна плешивости Аристофана. Но про Алкивиада известно,
например, что у него была собака с пышным хвостом (который
был им, правда, отрублен, что опять же известно), а вот об
Аристофане таких сведений нет, и не только в отношении собаки,
так что приходится скрепя сердце согласиться собирать мозаику,
разбитую временем, надеясь на то, что недостающие части
истории города все же не совсем истлели и готовы проступить и из
этой глубины.
Пожалуй, придется признаться и в том, что даже лысина
Аристофана может не снести вот такого нехитрого разобла-
чения: афинские маски имели вид колпака с забралом, и, если
колпак не был специально украшен султаном воеводы, или
петасом, шапкой Гермеса, или пышным венком, он оставался
обыкновенною лысиной, а прозвище Аристофана в таком случае
одним из эвфемизмов для слова л и ц е д е й .
Когда Аристофан ступил на мусическое поприще, ему было не
больше лет, чем Алкивиаду, только что покончившему с
традиционной школой и ищущему новых путей для осуществления
своих замыслов, а замыслил он первенствовать в городе и в
Греции. Аристофан не принадлежал, по всей видимости, к знатным
афинским семьям, не был он и бедняком, хотя имущественные
различия в Афинах не так существенны, как семейные и родовые:
лучше быть нищим афинянином, чем богатым метэком. Пойдя в
артель комиков, Аристофан погрузился в мир, для которого
соблюдение традиций и цеховая обособленность были главной
гарантией существования.
Консерватизм ритуала, определивший в конечном счете
характер творчества всех без исключения комедиографов, которых
традиция относит к старой аттической комедии, не позволяет
всерьез браться за выяснение подлинных воззрений Аристофанаафинянина на что бы то ни было через буквальный анализ
высказываний персонажей его комедий, через разделение
комических типов Аристофана на «хороших» — крестьян,
виноградарей и пастухов,— и «плохих» — воевод, трагиков,
мудрецов и вождей народа.
Артель Диониса, как всякий цех со своими вековыми
традициями и незыблемыми правилами, точно так же подчиняла
себе всякого, кто вознамерился на этом поприще добыть себе
славу, как сверстники Аристофана из аристократических семейств
должны были подчинять свои личные пристрастия, даже черты
характера той задаче, ради которой они выбирались на сцену
Собрания, Рынка или Гавани.
К тому же — при всей универсальности состязательной
модели, толкавшей комиков на крепкую драку с политиками,
мыслителями-параситами
PI
другими
конкурентами,—
будничность политических амбиций Алкивиада и юношей его
круга, преломленная в балаганных мусических амбициях слуг
Диониса, непоправимо искажается атмосферой всеобщего
праздника: афинянам никогда бы не пришло в голову, что комедии
можно ставить просто так, в дни, посвященные, например, другим
богам, в «Дионисовы будни».
Философы, на которых набросился Аристофан в «Облаках»,
сидят здесь же, в театре, и после вынесения судьями решения о
победе Кратина они отправятся к нему на попой-
ку, как это мог бы сделать и Аристофан, ведь они точно так же
пришли бы к нему, несмотря на шутовскую маску и обидноклозетное царство, которым наградил комедиограф персонажа по
имени Сократ.
Жанровая форма, принятая скопившимися в Афинах
любомудрами,— парасития — была неоднородна: Сократ, парасит
бескорыстный, не желал иметь ничего общего с пара-ситамиторговцами. Свободные афиняне кичливы, и торговцы —
харчевники, трактирщики и разносчики — люди второго сорта не
только для бездельников, живущих на каждодневные
государственные оболы, им отпускаемые за собрания и заседания,
но и для ремесленников и своекоштных «аристократов».
Юношество, присутствующее на интеллектуальных концертах,
затеваемых этими новыми мудрецами, не так уж часто стремилось
к тому, чтобы сделать профессией именно это искусство, как того
хотел, например, сын Аполлодора Гиппократ, а также некоторые
другие сыновья состоятельных родителей. Честолюбивая афинская
молодежь из хороших семей стремилась к параситии более
высокого полета, и приближались они к мудрословию —
Сократову ли, Протагорову ли — только затем, чтоб оттолкнуться
и устремиться к другим орбитам — Совет, Собрание, Флот.
Алкивиад начал заниматься философией не один, а в компании
с друзьями. Тисандр из Афидин — ему, родственнику Перикла,
предстояло отправиться послом в Персию, и в 423 году он туда
отправился,— Андрон, сын Андротиона из Гаргетта, бравший
уроки у Гиппия и мечтавший о высших государственных
должностях, если же таковых для него не отыщется — к созданию
подходящей высшей государственной должности. Четвертым был
Навсикид из Холарга, владелец мельницы и скотного двора со
свиньями и даже коровами; Навсикиду понадобилось немного
заемной мудрости, чтоб избавиться от множества почетных
обязанностей, которые ему, как и всем другим богачам,
приходилось иметь в Афинах.
Эти четверо, говорят, держали однажды совет, до каких
пределов следует продолжать занятия философией, и — Алкивиад
потом проболтался в этом Сократу — верх взяло мнение, что
особой глубины и обстоятельности искать не надо, наоборот, они
призывали друг друга к осторожности: как бы незаметно себе не
повредить чрезмерною мудростью.
— Так ведь не подлинной мудрости искали вы,— ругал
Алкивиада Сократ.— Обретя какое-то, как тебе кажется,
сокровище разумения, ты приходишь в восторг от удоволь-
ствия, пробуешь рассуждать, но вводишь в недоумение прежде
всего в больше всего себя самого, а потом и другого, кто бы он ни
был — моложе тебя, или старше, или твой сверстник,— не щадя
никого — ни отца, ни матери, ни даже того, кто заменил тебе отца
(Сократ имел в виду Перикла). Вкусив сладость рассуждений, ты
сперва обращаешь их в забаву, чтобы попротиворечить, и
радуешься как щенок, что словами тянешь и рвешь другого. Но,
опровергнув многих и сам опровергнутый многими, ты уже почти
дошел до того состояния, что не признаешь ничего из того, что
признавали прежде, а чрез это навлекаешь позор и на себя и на все,
касающееся подлинной мудрости.
Но и самого Сократа долго слушать опасно, и Алкивиаду и
компании не дано было разобраться, когда этот лысый силен
говорит всерьез, а когда шутит, а мешать шутку с серьезным делом
— все равно, что в уксусе взбалтывать масло. Для этого «золотые»
афиняне считали себя слишком рассудительными. Ведь хоть все
живые существа и возникли из ила, себя эти люди считали детьми
глины: боги налепили людей, обжиг изделий предоставив самому
человеку. Вот он и мастерится.
Грубые толстостенные горшки-рабы, крохотные масляные
лампы-философы, дурно подмалеванные под дорогую тонкую
утварь половники-демагоги, урыльники-клеоны — разве это товар
для аристократических горшечников? Фигурные ритоны,
вместительные пифосы, изящные лекифы и арибаллы для
благовоний, меленькие килики на худой конец — вот утварьблагородный-люд.
«Облака» оказались, возможно, слишком мягкой пародией на
«золотую» молодежь, с легким презрением подбирающую пестрый
товар торговцев мудростью. Изнеженный Фидиппид, занятый
своими благородными конями и между делом усвоивший
Сократовы наставления, не оплеван, не втоптан в грязь, не
исколошмачен так, как бурный Клеон. Да и Сократ-шарлатан
временами больше походит на жертву собственного воспарения,
нежели на злодея, толкающего горожан на пути лжи, слегка
подгримированной под стремление к познанию Вселенной. И хор
Облаков — неожиданно взаправду обожествленных комедией
дамочек,— одетый в бесформенные мышастые балахоны, явно
расположен к Сократу:
«Никого так охотно не слушаем мы из искусников,
ныне живущих,
Одного разве Продика: мудрость его нас пленяет и
гордые мысли...»
Ни Сократа, ни Алкивиада — Фидиппида Аристофанова
комедия не оплевывает, не лягает и не втаптывает в грязь с тем
рвением, каким отличился Аристофан, сражаясь с Клеоном. Да и у
других комиков илистое, по Архелаю, человечество всегда было в
куда меньшей чести, чем тонкая глина, белая кость.
В эти годы большое влияние в городе стал забирать некий
Гипербол из Перитедского околотка, человек низкого
происхождения и тем более удачливый политик. «Дурные отзывы
о нем нисколько не смущали его,— говорит Плутарх.— Его никто
не любил, но для народа он часто служил орудием для
забрасывания грязью и клеветою выдающихся граждан», под
коими Плутарх понимает, конечно, людей благородных. Кратин и
Аристофан, Гермипп и Евполид, комик Платон — каждый
истощал свое остроумие на политической
удачливости
Гипербола.
Делегат в Дельфийскую амфиктионию (съезд представителей
городов-союзников, собиравшийся весной в Дельфах) в 424 году,
он был избран триерархом, или командиром эскадры, а в 421 году
стал членом Совета пятисот, но комики не унимались. Только
Аристофан, изнуренный облаиванием Клеона, не принимал,
кажется, особого участия в поношении Гипербола. В
непоставленных «Других Облаках» голова хора, выходя к
зрителю, должен был говорить:
«Эти ж, только раз сплоховать стоило Гиперболу,
Затолкали насмерть плута, да в придачу мать его.
Первым Евполид набежал, «Мариканта» вывел он,
Подлый, подло он обокрал наших славных «Всадников»,
Пьяную старуху приплел, вот и все,— для кордака...
Тут к нему Гермипп подскочил, облевал Гипербола.
Подбежали прочие все, чтоб лягнуть Гипербола.
В мутных водах ловят они, словом говоря моим,
Тот, кто любит шуточки их, на мои не смотрит пусть!»
Точно так же, как другие «облевывали» Гипербола, Аристофан
обходился и с Клеоном, а вот благородного воеводу Никия, сына
Никерата, выведенного в «Земледельцах» на Дионисиях-что-вгороде в архонтство Исарха, в 424 году, Аристофан, осмеивает
куда мягче, насколько можно судить по остаткам этой комедии.
«Земле делец .
Хочу пахать и сеять.
Хор.
А кто ж тебе мешает?
Земледелец.
Да вы же сами, и вот вам десять тысяч, только
избавьте меня от государственной службы!
Хор.
Ну что ж, с Никиевыми у нас их будет двадцать
тысяч!»
Миролюбивый взяткодатель — не такое уж сильное обвинение!
Не за слабость ли обличительного натиска поплатился
Аристофан и «Облака» провалились не за клозетное смехачество
Стрепсиада?
Да ведь и проигрывал Аристофан не кому-нибудь — Евполиду!
В архонтство Алкея на городских Дионисиях он победил комедией
«Параситы». Незадолго до того умер отец Каллия Гиппоник;
наследник, окруженный софистами всех мастей — от Протагора до
последнего афинского пьяницы,— и был главным героем комедии.
Это о Протагоре сказано у Евполида, что он «бахвалится, толкуя о
небесных явлениях, но ест по-нашему, по-земному». Мудрец, он
советовал гостям Каллия прочистить легкие вином (чтоб не было
заметно лжи в твоих речах, заметил бы Сократ). Но от «Параситов»
осталось слишком мало, чтоб можно было восстановить облик
спектакля. Любопытные из Александрии, Рима или из Малой Азии,
возблагодарим их с Зевсом за труды, в поисках ответов на вопросы
бытовые и грамматические выуживали по строке из имевшихся у
них сочинений древних авторов, а мы уж развариваем эти крупицы,
воображая, о чем шла речь у Евполида или Кратина. Ну откуда,
например, известно, что Каллий прокутил свое имущество на
пиршестве духа? Откуда известны суммы, истраченные этим
мудролюбом? А из толкового словаря Поллукса. Титл мина:
«Аттическая мина содержит сто драхм, что ясно из «Параситов»
Евполида.
Эконом: Запиши, на ужин сотню драхм. Слуга:
Сделано.
Эконом: Другую мину, запиши, для параситов: Бывает, правда, и
наоборот, когда в поисках ценных подробностей аттического
мироустройства вдруг ни на что не натыкаешься. Поллукс. Титл
р у к о м о й н и к : «слово — у Евполида в «Параситах» —
«пропал мой рукомойничек!»
Какой? Где? Сколько он стоил, ворон его унеси?! Кто подавал
его? Пропал твой рукомойник, Евполид.
Глава 6
ВЕДЬ ЧТОБЫ БЫТЬ ПОЭТОМ, НУЖНО ОБЛАДАТЬ В ДОСТАТКЕ
ЧЕРНОЙ ЖЕЛЧЬЮ
Это, лет через семьдесят после описываемых здесь событий,
установил Аристотель. Но и он еще не знал, что, когда черной желчи так
много, что начинаешь видеть ее во сне, это следует истолковать в смысле,
авторитетно
установленном
Артемидором
Далдианским
и
обнародованном им в его соннике: тот, кто увидит желчь свою вынутой,
пусть знает, что ему предстоит укрепиться духом, разбогатеть и жениться,
если он не богат и не женат, и, напротив, все это потерять, если он человек
состоятельный в женатый. Аристофан был лыс, и этот столь часто
упоминаемый мною факт должен не только утомить читателя, но и
заставить нас вместе признать, что даже по авторитетнейшему соннику
Артемидора мы не установим, был ли он тогда женат. А во что
оценивалась его движимость-недвижимость? Нет ответа.
Вот Алкивиад — тот женился, и выгодно — на сестрице Каллия
Гиппарете, взял за нею десять талантов приданого. Она вскоре родила,
Алкивиад потребовал еще десять, так что бедняга Каллий, чтобы
сохранить хоть что-то из отцовского наследства, которое сам он
потихоньку спускал на своих мудролюбов, взял да и завещал все свое
имущество государству на случай, если не оставит прямых наследников.
Дом Каллия служил пристанищем каждой знаменитости из числа
новых учителей красноречия и — как следствие — мишенью для
нескольких комедиографов. После провала «Облаков» Аристофан уселся
писать две новые комедии — для Дионисий Сусляных и тех-что-вгороде,— попутно редактируя текст первой своей неудачи. Снова одна
вещь была дана для постановки Филониду, за другую он взялся сам. На
этот раз, однако, Филонид выступил на Сусляных, Аристофан же — на
городских Дионисиях.
На беду, из второй комедии, той, что Аристофан ставил сам, дошло
всего несколько десятков разрозненных стихов, не считая немногих
отдельных
словечек-букашек,
процеженных
александрийскими
лексикологами-энтомологами. В комедии этой хор состоял из гостей
Каллия, и название по-русски должно звучать так примерно: «Друзья,
пока скворчит сковородочка», ну а перестанет, дескать, скворчать, только
нас и видели.
«Плодоносит ли моя мудрость? — вопрошал в комедии Продиксловолюб.— Да, ибо это благодаря ей я уношу с собой плоды из этого
дома!»
Может, это он — «левша на обе руки»? Слово «обоюдолевша»,
употребленное Аристофаном в этой комедии, а сохраненное как
курьез ученым Галеном, вовсе лишено контекста, но раз уж Продик так
ловко вывернулся с плодоунесением — не крал, не покупал, все сами
отдают за сладкие речи,— так, может, это правда, о нем, чье ремесло не в
руках, а в словах?
«Не надо мне фалерского анчоуса»,— привередничает кто-то из
гостей, получая мелкую, как ему кажется, рыбешку.
«Книжонки, видно, погубили Каллия,
А может, Продик, может, и другой болтун!»
Другие остатки «Друзей, пока скворчит сковородочка» почти все
гастрономические.
Поллукс. Толковый словарь. Титл т а р е л к и : «Разновидность
мисок, которые, кажется, в «Друзьях, пока скворчит сковородочка»,
упоминает Аристофан в таких стихах:
«Еще супец фасолевый горяч — в тарелках прям кипит...»
Что ж, ни тарелки, ни льняные полотенца или рукомойники, ни
свиные язычки, которыми царапают наше жадное ухо строчки-осколки,
комедии нам не объяснят.
В перечне побед, одержанных греческими драматургами, ничего не
сказано о том, какую «Друзья...» получили награду. Вероятно, особого
успеха спектакль не имел, не очень повезло Аристофану и с «Осами» —
комедией, отданной для постановки Филониду.
За что афиняне вдруг невзлюбили сына Филиппа? За дурака
Стрепсиада, вознамерившегося спалить «дом размышлений» бедняги
Сократа? За убедительного Фидиппида, поколотившего, как учит
софистическая диалектика, своего папашу? За пародию на любимого
Софокла, проскользнувшую в «Облаках»? Но то, что его засудили, это
точно.
Торжественному состязанию трагиков и комиков по случаю Дионисий
предшествовала в Афинах, вероятно, еще одна процедура. После того как
принесут жертву в святилище Асклепия, хоры, актеры и постановщики
являются в Одеон Муз, недавно построенный Периклом (куда они
приходили раньше, не известно), и показываются судьям, а также, повидимому, жрецам и ответственным за проведение состязания
должностным лицам, после чего постановщики объявляют, какую драму
каждый из них приготовил для театра Диониса.
Актеры и хористы выступают в Одеоне без масок и костюмов, вместе
с ними судьям представляется и драматург. Это был не просто показ, но
жеребьевка и даже — предварительное состязание. Так вот, в архонтство
Аминия на предварительном состязании (или «проагоне» по-гречески)
первенствовал — с хором, набранным для Аристофановой комедии,—
постановщик Филонид, сама же постановка приза не получила.
Впрочем, другие говорят, что дело было совсем не так и что не было
никаких состязаний, а просто Аристофан поставил на Дионисиях одну
свою комедию сам, а другую ставил Филонид, и называлась та комедия,
что поставлена была Филонидом, «Предварительное состязание», с неюто и одержал победу режиссер.
И в том и в другом случае, однако, предпочтение было отдано хоть и
Аристофановой комедии, но в чужой постановке. Второе место, добытое
Аристофаном, не было успехом еще и потому, что третье, самое позорное,
досталось Левкону, который выставил за всю жизнь три комедии и
трижды занимал последнее место. В архонтство Аминия, в 422 году, он
проиграл с «Послами», в архонтство Алкея, в 421-м,— с
«Однополчанами», и лишь комедия «Осел с поклажей», тоже, впрочем,
провалившаяся, неожиданно впустила достойного быть забытым поэта в
греческий обиход. Имя его вошло в пословицу, вот только, к несчастью
для комика, благодаря его ослу.
«Левкон несет об одном, осел Левкона несет совсем другое». Эта
пословица объясняется в словаре Суды так: крестьянин по имени Левкон,
уложив в переметную суму мехи с медом, засыпал сверху по мере ячменя
и, взвалив все это на осла, направился в Афины, ибо знал, что за ячмень
пошлина невелика. Перегруженный осел, на беду, свалился у заставы, и
сборщики пошлин развопились, что мед, дескать, товар контрабандный...
Чем кончилось дело, не знаю, но читатель ошибется, разгневавшись на то,
что ради объяснения провала Аристофана пришлось забраться в чужую
ослиную комедию. В этом виноваты только сами Аристофан, Филонид и
Левкон, и так уж, бедняга, ничем больше не сумевший прославиться.
Хорошо еще, что осел был в Греции животным уважаемым, и, оставляя
Левкона навеки в паре с его поневоле правдивым спутником, мы не
обидим неудачливого комика.
Осел — единственным недостатком этого кроткого существа, как
известно, является упрямство, здесь проявившееся в нежелании
животного отпустить автора и читателя восвояси,— так вот осел,
возможно, не был таким уж главным героем комедии Левкона,
предпочитавшего, судя по названиям, ставить вполне человеческие на вид
комедии. С этого начинал и Аристофан, в первые спектакли свои
пускавший животных разве что готовыми к столу.
Хор же у Аристофана составляли — по традиции — либо люди, либо
необыкновенные существа вроде Облаков, или Всадников, ибо коней в
театр Диониса не пускали.
Навыки конструировать невероятные муляжи и чучела тогдашним
декораторам и бутафорам перешли по наследству от предков, наваявших
по всему городу Гермесов без рук, без ног, да зато с фаллом-вешалкой для
праздничного увенчания. Эти столбы, называемые Гермами, служили
когда-то и верстовыми вехами;
под новолуние их умывали женщины, да и вообще в городе следили за
сохранностью или, вернее будет сказать, благополучием Гермесов: им
дарили ячменные лепешки на меду и лепешки с сыром.
Гермы, однако же, тут ни при чем, но ничего удивительного в
изготовлении костюмов для Облаков, например, афинские костюмеры и
реквизиторы не замечали.
Кстати, о кентаврах, похожими на которых выглядели Всадники во
«Всадниках». Комедию под названием «Хироны» за десять лет до
Аристофановых «Всадников» поставил Кратин, сумевший управиться с
двадцатью четырьмя кентаврами, эдаким комически размножившимся
учителем Геракла и Ахиллеса: это его, кентавра Хирона, по ошибке
Геракл застрелил из лука. Были и другие удивительные хоры у
комедиографов старшего поколения — Киклопы у Каллия, сатиры у него
и у Кратета; сатиры, впрочем, слишком похожи на нас с вами, чтобы из-за
пары рожек да копыт считать их чудищами.
Первые же хоры из существ, которых живыми — без должного
уразумения — не назовешь, составил кудесник Кратин. Задолго до
Пелопоннесской войны, в пору цветения, когда нарождаются лучшие
замыслы, Кратин поставил две комедии. Одна называлась «Дидаскалии»,
другая — «Законы».
Если серьезный человек возьмется за точный перевод слова
«дидаскалия», то, по некотором размышлении, он скажет, что
«дидаскалия» — это биобиблиографический указатель афинской
драматургии. Кто победил, да какой комедией, да про что комедия. Теперь
попробуем разглядеть хор этих самых Биобиблиографических Указателей.
Наглядно представив себе, на что он похож (ради Афины-градодержицы,
не думайте о книжных кубарях и каталожных ящиках-противнях:
дидаскалия, по крайней мере в исходном состоянии, представляла собою
свиток), увидим, может быть, перехваченные шнурком задрапированные
фигуры хористов?
Как выглядят Законы? Как каменные плиты с насеченным на них
текстом? Костюмеры Кратина, вероятно, знали это. Как знали они и то, во
что одеть хор Облаков. Для каждого типа хора, несомненно,
существовала костюмерная традиция.
Больше других именно Кратину Аристофан подражал поначалу,
принадлежа, может быть, к одной артели с Евполидом. Но в подражании
едва ли он отличался постоянством. Уже в молодости был он вполне готов
к перемене судьбы и к возможному неуспеху. Потому-то первые годы
служения Дионису и Музам он посвятил черновой работе, полагая, что
прежде,
«Чем кормило схватить, должен быть он гребцом, а потом
уж и лоцманом зорким,
Чтоб природу ветров своевольных понять и уж после
умелой рукою
Самому свой корабль направлять и вести...»
Среди традиционных аттических комедийных хоров, пришедших от
древнего танца охотников и пасечников Гиметта или из далеких горных
стран, был один, расцветший задолго до начала Пелопоннесской войны,
но хорошо знакомый Аристофану по комедиям старика Магнета. Если
правда, что Магнет жил незадолго до войны, Аристофан, конечно, видел
его постановки. Когда голова хора Всадников выходит к зрителю в
комедии, его устами укоряет Аристофан афинян за то, что они
пренебрегли прекрасным искусством Магнета, который «и по-птичьи
порхал, и москитом жужжал, и веселой лягушкою квакал». Таковы были
хоры знаменитого старика в комедиях «Птицы», «Лягушки», «Москиты».
Магнет же придумал, что физиономии актерам можно разукрасить не
только багрянцем сусла, но и другими цветами: серо-зеленый грим
«лягушатка» — его открытие.
Магнет был, вероятно, уже прочно забыт афинской публикой, состав
которой сильно изменился из-за войны, и Аристофан едва ли ошибся,
когда оживил в новой комедии старинную хороводную технологию
Магнета. Так возникли «Осы».
Была, правда, и другая причина обращения Аристофана к хору
ряженых, никак не связанная с желанием комика вернуть себе
расположение толпы. Несмотря на ослабление гнета войны: главные
забияки, афинянин Клеон и спартанец Брасид, погибли, шли переговоры о
долгосрочном мире,— самый стиль аттической жизни переменился.
Озлобленное безрезультатными напастями население никогда не
отличалось единством и миролюбием по отношению к ближним — не
только врагам. А теперь, по словам Фукидида, «как обыкновенно бывает в
государствах больших и владычествующих над другими, сделано было
много ошибок»...
Впрочем, афинянам на роду было написано, по авторитетнейшему
свидетельству древнего мифа, сперва совершать глупости, а потом
расплачиваться за них с помощью богов. Толпа, приученная к тому, что
государство — из-за чрезмерной скученности насельников — вынуждено
само поддерживать ее существование — раздачей суточных, денег на
зрелища, вознаграждений за формальное исполнение многими тех
обязанностей, которые должны исполняться немногими знатоками,—
толпа превратилась, жалуется полтысячи лет спустя Плутарх, из скромной
и работящей в расточительный и своевольный сброд. Аристофан
побаивается его и забирается в безопасное «царство баснословия»,
наряжая новый хор в насекомых.
...Сын запер отца своего, сутяжных дел мастера, и сам стерег, и всем
домашним наказал стеречь, чтоб тот, снедаемый недугом аттическим, не
сбежал на очередное гулкое осиное суда заседание. Отец, понятное дело,
сопротивляется, просится наружу, а сотоварищи его по трудам и
соратники по недугу являются к дому своего вожака и норовят своими
острыми посохами-жалами (ведь и одеты они в спектакле осами) отбить
старика у родни и вернуть в лоно праведной государственной жизни, в
серый рой свой... Так древнегреческий критик описывал спектакль под
названием «Осы».
Не знаю, враждебны ли осы муравьям, родственникам эгинца
Аристофана, но пчелам, аттическим тотемам-домовым, они точно враги.
Мудрый аналитик Артемидор, съевший собаку на ночных фантазиях рода
людского, заявляет коротко и ясно: «Осы — зло для всякого, и доброму и
нехорошему человеку они сулят одно — смерть». К развитию этого
взгляда, наверно, и Аристофан причастен своею комедией.
За что ты так не любишь славные демократические Афины,
Аристофан? Отговорки о том, что, дескать, комедия — не политический
памфлет, что это — ритуальный жанр, что осмеивать все драгоценное для
страны и сограждан в определенные традицией дни — дело полезное, все
отговорки такие — недостаточное оправдание то незлобивым, а то до
крови укусам. Каждая отметина — от «Ахарнян» на теле развоевавшегося
города, от «Всадников» — на народных трибунах, верных псах афинян,—
нуждается еще и в иных оправданиях.
Что бы нам ответил на это Аристофан? Что он добропорядочный
гражданин, что нет в нем ни ненависти к народу афинскому, ни желания
умалить демократию? Но страсть к склокам, к спорам, к уничтожению
соседа и воцарению в его имении, вправе был бы ответить комик,—
главная из неуемных страстей моих сограждан. В Аттике и великие боги
становятся сутягами, неудивительно, что населяющий эту страну народ
также весьма наклонен к пронырству. Когда в Аттике еще царил Кекропс,
чье тело к низу от пупа было позаимствовано у дракона, туда, где теперь
начинаются Длинные стены, уходящие к Пирею, явились Посейдон и
Афина.
Посейдон, желая утвердить свое право на обладание этой местностью,
стукнул древком трезубца скалу, откуда струею хлынула морская вода;
возникший источник еще и теперь показывают приезжим афиняне. Но
потом к Кекропсу пришла Афина и вырастила — на глазах у
любопытного царя — маслину; далекие потомки той маслины тянулись
вдоль дороги от города к Елевсину еще две тысячи лет. Так было
положено начало спору между богами — кому обладать Аттикой?
Зевс разрешил этот спор, судьями сделав не Кекропса и местных
жителей, но — ведь не мог он не знать характер насельников
Аттики, не умевших и между собою сохранить мир,— призвал самих
олимпийских богов, числом двенадцать. Эта-то дюжина — от нее пошла в
городе мода на присяжных заседателей — присудила победу Афине.
Посейдон обиделся, затопил Фриасийскую долину, где остались следы
той божественной обиды — соленый источник Рейты. Зевс думал
притушить в афинянах страсть к сутяжничеству, учредив суд присяжных,
но вышло все наоборот.
Присяжные заседатели в Афинах назывались «гелиастами». Слово это,
если быть точным, и означает «заседатели», а буквально — «преющие все
вместе». Заседали они на площади, которая называлась Гелиея, или в
«месте для заседаний и прений». Открытая солнцу, площадь эта
связывалась, однако, афинянами с именем солнечного бога Гелиоса, а
заседатели по такой, народной этимологии представлялись афинянам
жрецами этого божества. Вот почему, как ни странно это покажется
многим, для большей исторической достоверности надобно сделать вид,
что подлинный корень давно забыт, и звать гелиастов Загорающими.
Ошибется тот, кто решит, будто присяжные заседатели — бездельники:
никто в демократических Афинах не был столь усерден в исполнении
своих обязанностей. Просто собирались Загорающие на площади под
названием «Солнечная» — Гелиея. Составлялся этот суд из достигших
тридцати лет мужчин, избираемых архонтами по шестьсот человек от
каждого рода-филы. Куда двенадцати олимпийцам до этой совокупной
мудрости. Избранные по жребию шесть тысяч Загорающих делились на
палаты. Дел было невпроворот, подтверждением чему служит, чтоб
ограничиться только одним примером, палата, где шли процессы над
вещами, случайно убившими человека.
Было время, когда участие в суде присяжных не вознаграждалось,
оставаясь почетным долгом гражданина. Но вот явился Периклсобиратель-голов и купил Загорающих, или, вернее, купил людей для
Загорания: он установил вознаграждение за посещение присяжными
судебных бдений. Вознаграждение-то составляло всего один обол, но к
началу войны, когда еще годные к воинской службе отправились — кто
верхом, кто на трехрядках, кто пешком — воевать, в городе из членов
суда присяжных остались одни немощные старики, для которых и обол —
состояние. Наставшее подорожание заставило повысить плату
Загорающим вдвое, и к началу 20-х годов они приносили домой за щекою
уже два обола. А в архонтство Стратокла, в 425 году, когда власть в
Собрании забрал вождь народа Клеон, жалованье судей возросло до трех
оболов. Так сказать, суди и радуйся.
Получив возможность каждое судебное разбирательство закусывать
тремя оболами, Загорающие не просто сохранили свои громадные
полномочия (они, скажем, могли обжаловать любое реше-
ние Совета или Собрания). Суд сделался самым выгодным из всех видов
государственной службы. Мало того, если на Собрание, за появление в
котором
сознательные
граждане
тоже
получали
небольшое
вознаграждение, афиняне могли являться от силы трижды в месяц, то
судейским и ежедневные бдения нипочем. Были бы дела. А дел как раз
хватает — спрос рождает предложение. Развитая система судебного
преследования требует пищи и получает ее.
«Когда я был членом Совета,— ублажает Клеон-пафлагонец старика
Народа во «Всадниках»,— я предоставил тебе громадные суммы из
государственной казны, для чего одних я пытал, других душил, у третьих
вымогал, не заботясь об отдельных человечках, лишь бы угодить тебе!
Может ли быть гражданин, любящий тебя больше моего?»
В «Облаках» один из учеников Сократа показывает Стрепсиаду карту,
сработанную в училище:
«— А здесь изображенье всей вселенной. Вот
Афины. Видишь?
— Пустяки, не верю я:
Присяжных здесь не видно заседателей...»
Как и большинство других избираемых по жребию чиновников,
Загорающие избирались на год, так что участие в суде принимали
практически все взрослые жители Афин, за исключением, конечно, тех,
кто был занят реальной деятельностью,— войной, торговлей,
земледелием. Остающиеся же зарабатывали чем могли. Стрепсиад
недаром считает первым доказательством того, что перед ним Афины, а
не другой какой греческий город, наличие присяжных. Раз заведенная,
машина судопроизводства сама взялась за поставку приносящих доход
дел.
«Так как население в крайних демократиях бывает очень
многочисленным, то затруднительно бывает устраивать Народные
собрания без назначения платы за посещение их,— объясняет положение
дел мудрейший Аристотель.— Там, где у государства нет необходимых
доходов, такой порядок очень тягостен для людей состоятельных: ведь в
таком случае приходится добывать средства для платы путем
установления чрезвычайных налогов и конфискаций по неправедному
решению суда».
И без того склонный к пронырству народ породил целую армию
профессиональных доносчиков, лжесвидетелей и шантажистов, часто не
за страх, а за совесть преследовавших ни в чем не повинных сограждан.
Этим людям было присвоено наименование, некогда принадлежавшее
таможенным чиновникам,— «сикофанты», или
«выявляющие
[контрабандные] фиги». Плоды священного
дерева Деметры запрещено было вывозить из Аттики, недаром и
«смоковничать» значило по-гречески «шантажировать».
Клеон, убегающий от взбунтовавшихся всадников и воевод, ищет
помощи у присяжных:
«О старейшины, о судьи! Трехгрошовые друзья!
Я ли правдой и неправдой не растил вас, не кормил?
Помогите, избивают заговорщики меня!
Всадники.
И за дело! Ты ведь общий жрешь без жеребьевки пай!
Ты ведь щупаешь, как смоквы, у ответчиков бока:
Что, созрели уж для взятки или пусть еще растут?
Ты ведь ищешь среди граждан побогаче дурачков,
Почестнее, поглупее выбираешь простака,
С херсонесского надела вызываешь и в суде
Мигом скрутишь, на лопатки опрокинешь и с сумой
Пустишь по миру скитаться. Всем давно ты омерзел!»
Ну, уж и омерзел. Напротив, расцвет «трехгрошовых друзей» был еще
впереди.
Члены клуба трех оболов, куда попеременно вступали все ни на что
другое не способные афиняне, рассаживались ввечеру на нагретых за день
камнях Солнечной площади, развешивали «уши зонтиком», как говорит
Сычужник из «Всадников», и — то-то сласть! — судили.
Как оторвешь афинского пенсионера от этой сласти? Кто возьмется?
Никто и не возьмется: только шуту Дионисову достанет наглости
передразнить достойнейшего человека, положившего мирную старость на
алтарь правосудия. Переодевшись таким вот грибком, выхрамывает на
орхестру Аристофанов актер. Имя его — Клеонолюб, и он берется
доказать сыну своему, чье имя — Клеонагрыз, что нет и не может быть
образа жизни милее и слаще, нежели тот, который так скрасил ему,
Довольному, жалкую старость.
— Какое еще существо так счастливо, блаженно и избалованно, так
страшно, как я, старый судья? Едва только встану с постели, а уж у
барьера суда меня поджидают ответчики: все важны — в сорок пуд. Ктото изливает жалобные речи: «Смилуйся, отец, молю тебя, если и сам ты
когда-нибудь хапнул, занимая должность или доставляя припасы во время
войны». А этот проситель не знал бы даже о моем существовании, если
ему не пришлось уже разок побывать в суде. Выслушав эти жалобы и
отерши свой гнев, я иду в судилище, но там обещаний не исполняю, а
только слушаю, как стараются выкрутиться подсудимые. Одни стонут про
свою
бедность,
к
действительным
несчастьям
прибавляют
несуществующие, пока не сравняются со мною в нищете. Иные
рассказывают
нам сказки! другие — какую-нибудь смешную басню Эзопа; а те —
острят, чтоб я рассмеялся и сменил гнев на милость. А если это не
подействует, подсудимый тащит за руку своих ребятишек, а я слушаю;
они, насупившись, лепечут, а отец, дрожа, молит меня, как бога,
освободить его ради них от отчета...
«А когда на скамью к нам актер попадет, так легко из суда
не уйдет он.
Нет, сначала пускай он присяжным прочтет из «Ниобы»
заветные строчки.
Если ж выиграть тяжбу сумеет флейтист, так пускай
в благодарность за это
Подвязавши под щеки ремни, из суда нас проводит он
маршем прощальным».
А если отец, умирая, назначит в завещании свою дочь-наследницу комунибудь в замужество, мы, не глядя в завещание и на раковину,
торжественно наложенную на печать, отдаем девицу тому, кто нас сумеет
склонить мольбами. И делаем мы все это, не неся никакой
ответственности ни перед кем. Недаром Совет и Собрание, затрудняясь
решить какое-нибудь дело, постановляют передать виновных судьям. Сам
крикливый Клеон, всех сгрызая, нac носит на руках, бережет, мух
отгоняет от нашей немощи. А как забыть упомянуть то, что приятней
всего:
«Вот представь, я с получкой домой прихожу, вся семья
выбегает навстречу.
Ублажают меня — я паек им принес,— а дочурка, та
выскочит первой.
И мне ноги умоет, в маслом натрет, и прижмется, и
«папочка» скажет,
Поцелует и, в рот язычком проскочив, все три грошика
выудит живо».
Что возразить Клеонолюбу? Сын его, Клеонагрыз, как и прежние
сыновья Аристофановых комедий, оказывается находчивей отца;
уподобившись своей льстивой сестрице, он называет Клеонолюба
«папочкой» и на пальцах доказывает отцу, что тот посажен в бездну
обмана мнимыми его благодетелями.
— Вычисли-ка общую сумму взносов, поступающих от городовсоюзниц, а кроме этого, еще подати, таможенные пошлины, судебные,
прибавь доходы с рудников, рынков, пристаней, аренды, аукционы; в
итоге получится у тебя не меньше двух тысяч талантов. Из этой суммы в
год на вас, судебных грибков, уходит полтораста талантов.
— Что ж это,— возмущается Клеонолюб,— и десяти процентов не
наберется для нас, православных?
— То-то и оно-то.
— Куда ж утекают остальные денежки?
— Да все к тем же, кто надсадно вопит:
«...никогда не предам бедняков и матросов
афинских!
За беднейший народ буду биться всегда!» Вот к кому.
И, поверив их лести,
Сам же ты, мой родитель, на выборах им над собою
вручаешь господство».
Вот ты и грызешь обрезки от своей власти. Союзники-то, как
заметили, что такая орава — шутка ли, шесть тысяч зонтоухих! —
кормится чем бог послал из урны для голосования, не получая
сладостей,— вас ни во что и не ставят, а вождям в подарок несут и
бочонки с соленьями, и вино, и ковры, сыр, мед, сезам, а в придачу —
подушки, чаши, венки, плащи, ожерелья, дорогую посуду. А тебе,
покорившему всех их, союзников наших, ценою стольких тягот на суше и
на море, никто не даст и головки чесноку в приправу к рыбке,
поджаренной на угольках. Ты и рад, когда тебе подбросят три обола,
добытые тобою же, но столькими трудами. А какой-нибудь защитник,
сын вот этого Херея, расставив вот так вот ноги да раскачиваясь всем
тщедушным телом своим, получит — за то, что выступает защитником,—
целую драхму, если даже опоздает на процесс. А дадут ему да прокурору
взятку, они вдвоем и усердствуют перед тобою, словно пильщики: один
тянет, другой отпускает, ты же, отвислая челюсть, смотришь на казначея,
а хитрости их не замечаешь. А ведь и вы все могли бы быть богачами!..
Еще Перикл, по свидетельству Фукидида, «возбуждал мужество
афинян перечислением денежных средств»...
Клеонагрыз предлагает фантастический план обогащения афинян за
счет «тысячи городов», подвластных градодержице Афине:
«Если б было приказано каждому взять на хлеба два десятка
афинян,
Двадцать тысяч всех граждан могли бы прожить, в молоке
новотельном купаясь,
От столов не вставать, и венков не снимать, и коврижкою
с медом кормиться.
Вот достойное родины нашей житье, вот награда бойцам
марафонским».
А ты, как сборщик оливок, бегаешь за тем, кто поманит мелкой
монеткой. В Аристофановой комедии Клеонолюб поверил Клеонагрызу,
сын переубедил отца, молодой шут победил старого шута, и
кончается комедия торжеством пьяного старика, возомнившего себя
разбогатевшим, уверовавшего, что вот оно, счастье,
«И вот теперь, напившись и налопавшись,
Наслушавшись флейтисток и довольный всем,
Плясать принялся, пляшет напролет всю ночь»
и только припевает:
«Наши гибкие кости проворно скользят
В легкослаженной чаше суставов!»
Что понравилось, а что не пришлось по душе судьям и зрителям в театре
Диониса-что-на-болоте, сказать трудно. Война, казалось, подходила к
концу, в город вернулись афинские вояки, и возможно, что Аристофан
воспользовался случаем самому поддразнить Загорающих танцорами,
одетыми в коварно жалящих ос.
«Рой за роем, строй за строем, словно осы на цветы,
Вылетаем — те к архонту, в суд одиннадцати — те,
Те в театре заседают, те у городской стены.
Жалим встречных-поперечных, достаем на прожитье».
Политическая храбрость Аристофана, конечно, не так уж велика, как
хотелось бы думать современному читателю его комедии. Мало того, что
праздник Диониса в эти годы все еще отводился для публичного осмеяния
государственных святынь (не святы разве зонтоухие, на которых уже
мухи садятся, а они все преют в заседаниях!), Аристофан ведь завершает
комедию ко всеобщему удовольствию и замирению. Беспорядочная
пляска Клеонолюба как будто заставляет нас считать его торжество
итогом комедии: дескать, не глядите, что мы — зонтоухие губошлепы,
вон как мы спляшем, когда придет наш час! А вы говорите, что нам
только в баню ходить, кости парить.
Когда Клеонагрыз, сын Клеонолюба, начинает высмеивание
присяжных за то, что они довольствуются жалкими обрезками власти, он
говорит, что «в этих делах ум комика — не лучший инструмент» для
объяснения. Аристофан, похоже, прибедняется, как вызванные в суд
богачи, выставляющие напоказ дырявые плащи, снятые на денек с рабов.
«Ос» он начал писать, может быть, уже давно, когда Клеон только
ввел свой декрет об увеличении платы Загорающим, но эта комедия
оказалась последней из тех, где вождю народа достается от кусачего
поэта. Смерть избавила Клеона и от театра войны, где он получил свою
последнюю рану, и от театра Диониса, где ему напоследок была уготована
роль пасечника осиного гнезда.
Сказочные насекомые, костюмы, позаимствованные у Магнета,
акробатические номера, выделываемые Клеонолюбом, танцы, бесконечной
вереницей проходящие сквозь спектакль, мало помогают современным
исследователям смастерить из «Ос» политическую памфлет-бомбу.
Для комедии наступали несладкие времена. Традиционная
праздничная перевернутость обычных житейских и политических связей и
отношений, балаганное воцарение последнего сопляка, поругание
достойного гражданина перестают восприниматься горожанами на
верный, обрядовый лад. Еще на Сусляные Дионисии, когда в театре полно
гроздарей из деревень, традиционная ругливая, забористо-бранная
комедия принимается безоглядно, но Дионисии-что-в-городе — насколько
нам известно, с тех пор, как Клеон привлек Аристофана к суду за
оскорбление, если комик нам не врет,— Великие Дионисии, на которых,
может быть, в театре сидит публика почище, теперь не очень-то жалуют
старинного деревенского фарса. Вот Аристофан и сетует в «Осах», что
зрители больше не понимают того, о чем говорит им поэт, потому и
засудили судьи прошлогодние «Облака» (с «Осами» ему все-таки больше
повезло).
Как наступали эти времена?
Много десятилетий спустя Платон, цепкий ученик Сократа,
познакомившийся с Аристофаном, когда тот был уже знаменитым
человеком, а сам он ходил еще в Сократовых мальчишках и звали его
Аристоклом, писал, что, «когда в силе были древние законы, народ ни над
чем не владычествовал, но в некотором смысле добровольно им
подчинялся». Вот и Платон невзлюбил за что-то афинскую демократию!
Любопытно, между тем, в чем именно сам Платон видит истоки своей
нелюбви. Послушаем его: «Тут особенно важны были законы касательно
мусического искусства, если уж разбирать с самого начала чрезмерный —
до нынешнего гибельного состояния — расцвет свободной жизни. Ведь
когда-то мусическое искусство различалось по видам и формам. Один вид
песнопений составляли молитвы к богам, называемые гимнами;
противоположность составлял другой вид песнопений — их по большей
части называют френами-заплачками; затем шли пэаны и, наконец,
дифирамб, уже своим названием намекающий, я думаю, на рождение
Диониса. Как особый вид песнопений дифирамбы называли номами (или,
по-нашему, законами), а точнее, «законами под кифару». После того, как
это и кое-что другое было установлено, не дозволено стало злоупотреблять
обращением одного вида песен в другой. Распознать же их суть, а вместе с
тем найти их знатока, а найдя, наказать неповинующегося,— это не было
делом свистков и нестройных воплей толпы, как теперь; и не
рукоплесканиями воздавали хвалу, но было постановлено, чтобы те, кто
занимается воспитанием, выслушивали их в молчании до конца; дети же,
их
руководители и большинство народа вразумлялись при помощи
указующего жезла.
При таком порядке большинство граждан повиновалось охотно и не
осмеливалось высказывать шумом свое суждение. После этого, с
течением времени, зачинщиками невежественных беззаконий стали
поэты, одаренные по природе, но не сведущие в том, что справедливо и
законно в области Муз. В вакхическом исступлении, одержимые
наслаждением сверх дозволенного, смешивали они плачи с гимнами,
пэаны с дифирамбами, на кифарах подражали флейтам, все перемешивая
между собой; невольно, по неразумию, они извратили мусическое
искусство, словно оно не содержало никакой правильности и словно
мерилом в нем служит только наслаждение, испытываемое тем, кто
получает удовольствие независимо от его собственных качеств.
Сочиняя такие творения и излагая подобные учения, они внушили
большинству беззаконное отношение к мусическому искусству и дерзкое
самомнение, заставляющее их считать себя достойными судьями.
Поэтому-то театры, прежде спокойные, стали оглашаться шумом, точно
зрители понимали, что прекрасно в Музах, а что нет. И вместо господства
лучших в театрах воцарилась какая-то непристойная власть зрителей. (Я и
сам не ожидал, что Платон так не любит славные демократические
Афины, но что делать — он получил слово!). Если бы при этом здесь
возникло только господство благородных людей из народа, еще не было
бы чрезмерной беды. Но теперь с мусического искусства началось у нас
всеобщее мудрствование и беззаконие, а за этим последовала свобода.
Все стали бесстрашными знатоками, бесстрашие же породило
бесстыдство. Ибо это дерзость — не страшиться мнения лучшего
человека и, пожалуй, худшее бесстыдство — следствие чересчур далеко
зашедшей свободы. За этой свободой последовало нежелание подчиняться
правителям, затем стали избегать подчинения отцу с матерью (тут
придется согласиться, что и Аристофан приложил руку, но ведь доводы
Фидиппида, побивающего папашу, только вульгарному человеку
покажутся серьезными: если петух лупит отца-петуха, почему человеку не
делать того же? Если отец колотил сына тому во благо, то не во благо ли
отцу его колотит сын? Не говорим ли мы, что старики — вдвойне дети?),
а потом следует и неподчинение всем старшим и их вразумлениям, а в
конце приходит стремление не слушаться и законов.
Достигнув этого предела, уже не обращают внимания на клятвы,
договоры, даже на богов! Здесь проявляется так называемая древняя
титаническая природа: в своем подражании титанам люди вновь
возвращаются к прежнему состоянию и ведут тяжелую жизнь,
преисполненную бедствий.
Однако ради чего я говорю все это? (В самом деле, Платон?) Мне
кажется, наше рассуждение нужно иной раз осаживать, точно коня: иначе
нас понесет необузданность речи. А нам надо, по пословице, «не ронять с
осла поклажи»...
Вот странная судьба. Мы думали, что наш комик ни при чем, что он
старался творить как заведено, по традиции, но вот скученный город, и
без того дурно и без всякого плана построенный, переполненный чернью,
ввергнутый в военную авантюру бессовестными демагогами и воеводами,
всякими периклами и клеонами, наделавшими своею страстью к власти
такого, что народ оказался как будто в рабстве у себя самого...
Когда-то народ гляделся в комедийное кривоватое зеркало по
праздникам, уступая им всю тяжесть оскорбления и поругания
собственной мифологически преувеличенной чести, зная, что есть время
подрезать виноград, и время замазывать лица багряной кровью Диониса,
и время воевать...
Но вот настали времена, когда все перевернулось и перемешалось.
Платон говорит, что беда вся в том, как перемешались гимны с плачами,
флейты с кифарами. Он, тогда носивший имя Аристокла, все прекрасно
помнил и в старости, когда писал то, что только что мы прочитали. Так
что ж это значит? Что имеет в виду Платон, когда жалуется: «...на
кифарах подражали флейтам, все перемешивая между собой..?» Может
быть, Еврипида, впустившего комического заводилу Геракла на
трагическую сцену? Может быть, Перикла, убедившего считать
очевидное благополучие мнимым, а поиски неверной военной удачи гдето за морем — надежной гаванью (не так ли сделал он, впустив
спартанцев в Аттику, афинян же отправив воевать подальше от своих
берегов?)? Может быть, Клеона, превратившего в посмешище самое
государственную жизнь?..
Говорят, однажды собравшийся народ долго сидел, поджидая Клеона.
Он пришел сильно опоздав, с венком на голове (а венки, заметим,
надевали за винопитием, вроде того, как когда-то, но позже, лет через
тысячи две, стали надевать за столом салфетку, чтоб не капнуть соусу иль
не забрызгаться жиром или красным вином, но у венка-то цель совсем
иная, ритуальная: вино пьют лишь под сенью богов, из коих кому
посвящен сельдерей, кому — мирт, кому — колючая сосна), ну, словом,
явился Клеон в собрание в венке и попросил отложить это собрание до
завтра.
— Я,— говорит,— занят сегодня, так как хочу угостить приехавших
ко мне гостей. До этого я приносил жертвы богам...
Афиняне со смехом поднялись с мест. Собрание не состоялось.
Несколько столетий спустя Плутарх рассудил об этом так: «Афиняне
скорее не могли удержаться от смеха, нежели верили
ему, вообще имея привычку весело смеяться над его легкомыслием и
глупостью»...
Вот так, афиняне, мудрый Плутарх считал вас смешливыми.
А может быть, Платон имеет в виду афинских присяжных,
перепутавших праведный суд со старческими своими пересудами на
разогретой солнцем площади, где они собирались в начале дня?
Много вопросов задаешь, пожалуется читатель. Задавал бы еще
больше, если бы не знал, что летом и день в Афинах начинался с вечера,
по-нашему часов с шести, когда спадала жара, вот тогда-то старики осы и
собирались на своей Солнечной площади. А в летнюю жару ночь
оказывалась для афинян серединой дня, а утро — его концом. Так что
полуночником, скорее, оказывается не Сократ, простоявший как-то всю
ночь напролет, обдумывая важную мысль, пока не улетела, а какойнибудь сварливый судейский, снующий по дому в одуряюще жаркие часы
в поисках удостоверения личности — дощечки, дающей право на
получение положенных трех оболов, каких-нибудь ракушек-печаток,
кусочка воска и всяких других атрибутов своего завтрашнего судейства.
Что мы с вами думаем — день, в Афинах ночь, а что мы с вами думаем
ночь — день. Ночь... Ночь афиняне чтили так высоко, что часто называли
ее не мрачным «ночь», а достойным Гекаты именем —«благомысленная».
Для того чтобы государство было свободным, внутренне
дружелюбным и обладало разумом, Платон, переживший напасти,
которые начались с описываемых здесь времен, предложил выбрать, с
одной стороны, самый деспотический, а с другой — самый свободный
государственный строй, к каковому он относил демократические Афины
Перикловых и сразу за ними последовавших времен. «Посмотрим же,
какой из них более правильный. Если ввести и там и тут некоторую
умеренность, в одном из них ограничить власть, а в другом свободу, тогда
в них наступит особое благополучие; если же довести рабство и свободу
до крайнего предела там и тут, то получится вред и там и тут».
Ввести умеренность... А разве не к этому стремились и афиняне,
Платон? Из тех, притом, кого слепили из глины, а не из ила. Но что толку
стремиться, скажете вы, если судьбою предначертано иначе. Чтоб не
ронять с осла поклажу, напомню, в чем вознамерился разобраться: как
вышло, что везучий плешивец, изо всех сил взлелеивая лучшие традиции
комической музы, к самому полузабытому Магнету отправившись за
костюмами, почему Аристофан перестает находить понимание в родных
стенах Дионисова святилища? «Осы» немного помогли нам разобраться: в
вертепе сутяг, не дающих и дня покоя порядочному человеку, только
безумец останется оптимистом, а меланхолический комедиограф — разве
не нонсенс даже для все перевернувших вверх дном афинян? Только речи
Платона, пожалуй, усложнили задачу.
У АГАФОНА
Если теперь мы окажемся здесь, где бедняге Федру все никак
не дадут произнести его речь о любви, то снова услышим
бубнящего и ничуть не протрезвевшего старика афинянина, про
которого успели выяснить, что он — из Ахарн-ского дема и у него
старые счеты с Аристофаном.
— Афинам уже не исцелиться, хоть все мы овладеем
искусством Эриксимаха, и не обрести добродетель, хоть все мы
возомним о себе, что прониклись твоими, Сократ, наставлениями.
Приморскому городу, с прекрасными гаванями (а есть ли во всей
Греции гавани лучше Канфара, Мунихии или Зеи?), но в то же
время не производящему всего необходимого и во многом
испытывающего недостаток, при такой его природе надобен
великий спасатель и божественные законодатели, чтобы
воспрепятствовать развитию всевозможных дурных наклонностей.
Вот близость моря. Дарует каждый день усладу, да? Ан нет,
оно — горчайшее соседство. Море наполняет страну стремлением
нажиться с помощью крупной и мелкой торговли, вселяет в души
лицемерные и лживые привычки, и граждане становятся
недоверчивыми и враждебными друг к другу, да и к остальным
людям. Недаром ведь и Гесиод говорил, что нечего пускаться в
море, если страна производит все необходимое. Нечего и излишки
вывозить: ведь, обладая большим вывозом, страна снова
наполнилась бы, в обмен на него, серебряной и золотой монетой.
Так что, пожалуй, неплохо, что афиняне почти совсем повырубили
леса в Аттике на корабли. Можно ли надеяться, что нам и в
дальнейшем не придется подражать в дурном нашим врагам?
Такое подражание возникает тогда, когда какой-либо народ живет
у моря и его тревожат враги. Примером может служить Минос,
критский царь, некогда принудивший наших предков платить
тяжкую дань за убийство сына его, в котором предки наши, не
скрою, были повинны.
С помощью своего флота, лучшего по всем морям, обегающим
Грецию, он очистил острова от разбойников, а море — от пиратов,
и с этой-то силой напал на Афины и принудил жителей Аттики
отдавать в год по семь мальчиков и по столько же девочек. У
афинян же не было ни военных судов, ни корабельного леса, из
которого было бы легко построить флот. Поэтому они не смогли,
подражая корабельщикам Миноса, сами стать моряками и отразить
тогда же врагов. Еще много раз довелось им терять положенную
семерку мальчиков, прежде чем стали они из стой-
ких пеших бойцов моряками и приучились сбрасывать десант,
бегом возвращающийся на суда; прежде чем возомнили, будто нет
ничего постыдного в недостатке стойкой отваги и готовности
умереть при натиске врага; прежде чем стали пользоваться весьма
сомнительными, хотя сподручными и правдоподобными
предлогами при потере оружия и обращения в «почетное», как они
выражаются, «отступление»,
«Бросив щит свой на берегу
Речки прекрасноструйной».
Так что ли у Анакреонта? А ведь подобные выражения,
излюбленные у морячков, вовсе не достойны бесчисленных
похвал, какие им нередко воздают: напротив, никогда не следует
прививать дурные привычки, в особенности лучшей части
граждан. А ведь и Гомер признавал дурным, когда на море,
невдалеке от сражающихся пехотинцев, стоят корабли:
«Будут все время они озираться и битву покинут!»
С такими привычками даже львы научились бы бегать от
ланей. Кроме того, в государствах, обязанных своими силами
флоту, почести достаются вовсе не лучшему из воинов. Ведь там,
где победа зависит от кормчих, лоцманов и гребцов, то есть от
людей различных и не всегда дельных, вряд ли кто-нибудь сможет
надлежащим образом распределить почести.
— Позволь,— вмешался Павсаний,— но разве не морская
битва греков с варварами при Саламине спасла нас?
— Да, так считает бестолковое большинство. Но подлинному
спасению Греции положила начало сухопутная битва при
Марафоне, а завершением его была битва при Платеях. Именно
эти битвы сделали греков лучшими, а саламинская — нет, да и при
Артемисии — тоже. Об этом достаточно подробно написано у
Геродота, да и вряд ли настолько ослабеет память у наших
потомков, чтобы они забыли об Аристиде, да и Фемистокла, может
быть, будут помнить, хоть проповедуемое им морское могущество
одни беды принесло нам, афинянам.
— Теперь-то я понимаю,— вмешался Эриксимах,— почему
ваши ахарнские старушки, когда готовят оливки на закуску,
кладут в рассол укропу (а надо вам сказать, что укроп по-гречески
называют марафоном): не стоять аттическим оливам без Марафона
— ноля Укропного.
— Да-да, не только ахарнские, Эриксимах! Правильно
поется у насмешника Гермиппа; не помню уж, как там точно, но
помню, что всем предписано у него крошить укроп в оливки, чтоб
свежа была память о Марафоне! А от саламинской морской победы
только и толку было, что весла да мачты для Одеона...
Аристофан с любопытством придвинулся к жаровенке, возле
которой, упершись кулачками в дряблые бедра, восседал
ахарнянин.
— Что ж, разве не знаете вы, что после окончания битвы
эллины снесли на саламинский берег все найденные обломки
кораблей, опасаясь возвращения персов. Но сильный ветер с
запада подхватил весь этот лес, в который, так сказать, вернулись
корабли, и пригнал его к аттическому берегу, к мысу Колиада,
оправдав тем самым старинное пророчество, которого никто не
мог понять и в котором говорилось, что «колиадские женщины
будут жарить лепешки на веслах». Жгли их, правда, не долго, и
Перикл утер нос всему свету, пустив нежданный трофей на
перекрытия и балки Одеона.
Глава 7
ВСЕ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ БЫЛИ МЕЛАНХОЛИКИ
Поллукс. Толковый словарь. Титл ш а й к а : из «Земледельцев»
Аристофана ясно, что речь идет о банной принадлежности:
«Как из города в деревню доберемся мы с тобой,
Так у нас и шайка будет, чтобы мыться не спеша».
В городе в войну было туго с банями, тогда, вероятно, и были
организованы так называемые «бани народные». Где именно они
помещались, теперь сказать трудно. Известно одно место в Пирее под
названием Сирангий, или, по-нашему, Пещеры, где было святилище героя
Сиранга, который, говорят, и выдолбил эти пещеры, расширив расселину
в скале. Там были сначала бани, а потом Сирангий превратился в
убежище для лихих людей. Да и разве можно уподобить свои домашние
баньки с чистой шаечкой, с неспешностью предбанной и еще утроенной
тихостью послебанной беседы, шумным переполненным баням народным,
о которых даже
грязнуля Диоген из Синопа век спустя говорил, что помывшемуся в них
надобно найти новую, дабы отмыться. Чистым позором и разорением
оказались для афинян эти народные бани. Жаль, не могу сказать, сколько
стоил визит туда, ясно только, что бедным присяжным это было по
карману (вернее, чтоб не пользоваться анахронистической терминологией, «по зубам»).
— А вот человеку благородному и богатому не пристало париться в
одной каморке с грязным судейским сморчком. Горячие бани к тому же
считались чересчур изнеживающими для молодежи, упражняющей в
палестре хрящи и мускулы свои. Только испорченные, по мнению горожан, мальчики позволяли себе это постыдное
увлечение парной. Может быть, в палестре Сибиртия, человека
развращенного и склонного к чрезмерной холе тела, передавшего и
потомкам свои пороки, в палестре этого Сибиртия вместо скромных
скребков и холодной родниковой воды для закалки, Алкивиад вкупе с
товарищами тешился и горячею ванною. Плутарх, со слов завистливых
современников Алкивиада, говорит о нем так: «Выказывая способности
государственного человека, обнаруживая ум и талантливость во всем, он,
с другой стороны, жил в роскоши, неумеренно пил, отдавался любовным
похождениям и даже одевался по-женски, волоча по рынку дорогие
одежды, и, кроме того, страшно тратился. Чтобы ему было мягче
спать, он приказывал вырезывать части палубы на корабле,—
постель его должна была не лежать на кипарисовых досках палубы, но висеть на ремнях. Он заказал себе золоченый щит и не велел
делать на нем никаких государственных знаков и надписей, а только
нарисовать Эрота с молнией в руке».
Такому человеку у Сибиртия и жаркой бани не жалко. Ради него,
когда он стал юношей, жены бросали мужей.
Поведение «золотой» молодежи должно было казаться чересчур
экстравагантным в демократических Афинах. Сыновья и внуки
победителей персов, эти отпрыски лучших семейств, раздражали толпу
пристрастием к персидским модам и образу жизни. Жажда первенства
проявлялась у задыхающихся во власти черни аристократов
безостановочным соперничеством в том, кто больше денег отдает на
празднествах, кто больше жертвует богам, кто держит возле себя больше
прихлебателей, чьи колесницы резвей, у кого больше поклонников, кого
внимательней слушают в собраниях. Алкивиад превосходил всех, но
иногда — даже себя самого. Если верить Феофрасту, говорит Плутарх, а
он-то считал Феофраста не просто любознательным человеком, но даже
нашел возможным его как историка сравнить с любым из философов, так
как не поверить Феофрасту? — а он говорил, что Алкивиад умел
мастерски находить подходящие выражения, если же ему приходилось
искать не только то, что нужно было говорить, но и необходимо было
облечь в соответствующие слова и выражения (мы бы сказали, выступить
экспромтом), он, не находя их, часто путался, останавливался в середине
речи, молчал и оставался так некоторое время, стараясь схватить и
подобрать ускользавшее от него слово, произнося которое в конце концов,
он так картавил, если было там обо что, так сказать, картавить, что
впечатление от убедительности всего этого словоизвержения смазывалось,
и ему оставалось полагаться только на свое обаяние.
Плутарх рассказывает, что щедрость Алкивиада при пожалованиях на
государственные нужды, его издержки на содержание хоров, его дары
городу, в великолепии которых никто с ним не мог тягаться, заставляла
афинян прощать ему остальное и относиться к нему со снисхождением,
называя его проступки шуточками или даже считая их любезностью с его
стороны.
Вернее будет предположить, однако, что Алкивиаду просто некуда
было деться в окружении уже знакомых нам присяжных насекомых.
Богачи находились в афинском осином гнезде под постоянной угрозой
конфискации имущества, а идиллическое благодушие афинской толпы,
ласково относившейся к проделкам Алкивиада, с лихвой компенсируемым
его пышными взносами, вкладами и пожертвованиями,— одна из легенд
благочестивого Плутарха. Метэк Лисий, промышлявший писанием
судебных речей — как обвинительных, так и защитительных,— писал для
одного из приговоренных к конфискации богачей: «Если теперь вы дадите
клеветникам обмануть себя и конфискуете мое имущество,
то не получите и двух талантов. Так что вам выгоднее оправдать меня не
только ради своей репутации, но и в денежном отношении: куда больше
пользы будет у вас, если имущество останется в моих руках».
Доносы, обвиняющие богатых в серьезных преступлениях, как
правило, становились особенно многочисленны, когда мелела
государственная казна, нечем оказывалось платить жалованье членам
Совета, присяжным и прочим чиновникам. Воевода-аристократ,
потерпевший неудачу в незначительной стычке с врагами, посол,
заподозренный в предательстве афинских интересов,— любой богач, чуть
только Загорающие насекомые почувствуют в его доме звон дорогой
посуды, становится жертвой конфискации.
Обставлялись они торжественно донельзя. Обвиненный в
преступлении против государства, когда уже ясно было, что его изгоняют
из отечества, проклинался как враг народа, а потом — как бы во
искупление тяжкой вины и в благодарность за то, что у него не отнимают
жизнь,— лишался состояния. «Люди, радеющие о сохранении
государственного строя,— делает заключение об этой практике
рассудительнейший Аристотель,— должны противодействовать этому,
издав закон, в силу которого имущество осужденных по судебному
приговору не должно становиться народной собственностью, не должно
вноситься в государственную казну, но должно быть священным (мы бы
сказали, передаваться в храмовые фонды для нужд богослужения). Тогда
намеревающиеся совершить преступление будут нисколько не меньше
опасаться совершить его, а толпа будет иметь меньше склонности к
осуждению подсудимых, зная, что она от этого ничего не получит...».
Богачу, чтобы не быть обвиненным в тайных кознях против
государства, оставалось одно — жить на виду, чтобы каждый босяк знал
всю подноготную аристократа. Каллий, выдавший сестру за Алкивиада,
был окружен не одними параситами-мудрецами, его дом кишел и
обыкновенными, а затеваемые в его доме диспуты, если только правдивы
наши афинские информаторы, оказывались бесплатным спектаклем для
толпы.
Я уже говорил, что у Алкивиада была замечательно большая и
красивая собака, за которую он заплатил семьдесят мин. Он отрубил у нее
ее необыкновенно красивый хвост. Друзья бранили его и говорили, что
все ужасно недовольны его поступком с собакой и ругают его. Он
улыбнулся в ответ и сказал: «Мое желание сбылось: я хотел, чтобы
афиняне болтали об этом, а не говорили обо мне чего-нибудь похуже!»
Может быть, из-за этого комикам мало что оставалось на Дионисово
поругание от самых знатных афинских семейств? Молодые «шуты для
толпы» вроде Каллия или Алкивиада, как и шуты комедийные, их
конкуренты, мечтали о том, как сбросить постылое
ярмо, как воспарить, одним — у комедийного алтаря, другим — здесь, в
будничном городе. Известность, слава, сами по себе вызывающие
опасения у демократов как симптомы тиранических намерений молодых
аристократов, и в самом деле оказывались единственным легальным
средством преодоления изнурительного владычества насекомых, которых
между собою они должны были называть не осами, а, скорей, как-нибудь
по-другому.
В «Осах» Клеонолюб, законопаченный сыном в собственном доме,
пытается выбраться наружу, жалуясь: эх, кабы сделался я... Следующее
греческое слово, имеющее в виду некое насекомое, к сожалению, с трудом
находит себе единогласно принятую русскую пару. Переводчик и знаток
Аристофана А. Пиотровский видел за словом «серфос» препротивного
таракана, словолюбивые составители словарей говорят, что это — «род
комара» или «крылатый муравей», а кое-кто считает, что «серфос» —
изящный гнус. Хрен редьки не слаще, да и Алкивиад не постеснялся бы
назвать гнусом достойного старика, бедного и больного, всегда начеку,
всегда ищущего, чем набить брюхо, неутомимо жужжащего в чужом доме
в поисках дармовщинки, кормящегося — сознаюсь! — и духовною
пищею в какой-нибудь в цирюльне, где богатые юноши сбривают усики,
не тронув бороденок — ишь, лаконские привычки! — где собираются все
городские сплетни, кто приехал, да что привез, да кто уехал, да когда
вернется, а мы хапнем разом... За что так не любит Алкивиад родные
демократические Афины?
То ли дело Никий, сын Никерата. Руководствуясь, правда, теми же
соображениями, что Алкивиад, Никий, даже принося драгоценные
пожертвования в храмы (еще Плутарх — спустя полтысячи лет! — видел
на Акрополе подаренную им статую Паллады, уже, впрочем, утратившую
позолоту, и небольшое святилище, построенное Никием Дионису), даже
затевая невиданные хороводы, Никий оставался человеком тихим и
скромным, а то и вовсе как бы терпел неудачу.
Вообще-то трудно сказать, как именно Никий попал в разряд людей, о
которых многое известно. Есть тут для нас какой-то парадокс. Ну,
историки, понятное дело, интересуются только двумя вещами — властью
и войнами. Трудно представить две более неинтересные сферы
человеческого существования, но на то они и историки, чтобы не замечать
главного. Сотни страниц исписал Фукидид, сотни страниц исписал
Геродот и — ну ни одного лица вблизи. Все какие-то «собрал», «двинул»,
«избежал сражения», «сказал послам», и никогда — «зябко поежился»,
«сладко зевнул», «отошел в сторону и стал стряхивать песок с влажных от
пота сандалий». Что толку, что через несколько столетий другие начнут
лихорадочно исправлять положение! С Аристофаном, скажем, все ясно:
сам он — как личность, как «автор», да как кто угодно —
ровным счетом никому из историков не интересен, он достояние не
исторических Афин, иных — бытовых, вневременных, мифологическипраздничных. Нет нужды историку следить за хитросплетениями его
жизни. Он — глина, горшечники — другие люди, люди круга Перикла и
Клеона, Алкивиада и Никия, Гипербола и Ламаха. Скажут, это слишком
грубое деление, но водораздел проходит именно так: серьезная литература
ни одним словом не упоминает о жизни «слуг Диониса», ибо жизнь эта
для нее — предмет слишком низменный.
Почему же тогда мы должны так пристально всматриваться в совсем
чужие, кажется, нашему комедиографу физиономии? Что, потому лишь,
что только их физиономии и видны? Не скрою, и поэтому тоже. Но
главное — в другом. Алкивиад и Никий, Перикл и Клеон отбрасывают по
две тени: одну — на летописцев и биографов своих, другую — на
комическую сцену. Не пробуя стянуть эти тени, нужно отказываться от
самого желания понять хоть отчасти то, что делалось за сценою
будничного города и за комедийной сценой.
Читатель давно уже заметил, что, передвигаясь по нашим
воображаемым Афинам, мы словно идем среди там и сям оставшихся
стен, иногда наудачу принимая за остатки домов те, что стоят под прямым
углом друг к другу. По золотому правилу Ариадны мы там и сям цепляем
за шероховатости стен своих аттических руин тонкую нить, преследуя
только одну цель — увидеть, как падали тени на эти улицы и стены,
постараться понять, чьи то были тени, услышать, может быть, и голоса.
Впрочем, это только рядом с Никием впадаешь в элегический транс:
соседство Аристофана и компании не снесет таких настроений, так что с
Никием надобно торопиться.
Набожность его особенно, говорят, проявилась на Делосе. Туда
различные города посылали хоры для пения гимнов в честь Аполлона.
Священные посольства эти назывались «теориями» и отправлялись
каждый год в один и тот же день, который был, кстати, днем рождения
Сократа. Зрелище прибытия хоровых посольств хоть и было достаточно
пышным, тускнело обыкновенно из-за того, что выгрузка в порту
происходила как попало, тут же толпилось население, заставляло прямо у
кораблей, без распевки, начинать пение. Хористы в спешке едва успевали
переодеться да надеть мятые венки. Когда же за очередную «теорию»
взялся Никий, он высадился с нею на соседний островок, выгрузив и
жертвенных животных и подарки, а ночью навел между ним и Делосом
мостик, построенный еще в Афинах и великолепно украшенный
позолотой и живописью, венками и коврами. На рассвете он повел через
мост торжественную процессию в честь бога — великолепно одетый хор,
распевающий гимны. После жертвоприношения, пира
и угощения он принес в дар богу медную пальму и посвятил Аполлону это
место, купленное за десять тысяч драхм. На доходы с него делосцы
должны были приносить жертвы, устраивать обеды для параситов и
молить богов о ниспослании Никию всевозможных благ.
Но неудачи — иногда совсем мелкие — все же преследовали этого
человека неотступно, и здесь тоже не все было ладно. По рассказу
Плутарха, пальму его уронил впоследствии ветер, причем она упала на
огромную статую, поставленную гостями с Наксоса, уронив и ее. Если
верить Фукидиду, для которого Никий был образцом благоговения перед
богами, упавшая пальма должна была повергнуть беднягу в полнейшее
уныние. Сочинитель диалогов Пасифонт рассказывал еще, что Никий
ежедневно приносил богам жертвы и держал у себя в доме прорицателя,
причем делал вид, что советуется с ним исключительно по
государственным делам, а сам в большинстве случаев советовался о своих
собственных, особливо же о своих серебряных рудниках в окрестностях
Лаврия, приносивших ему солидный доход.
Тут, надо признаться, было о чем советоваться. Так как состояние
Никия выражалось в основном в деньгах (тысяча его рабов трудилась на
оброке во Фракии), множество людей обращалось к нему за помощью: он
давал одинаково и тем, кто мог повредить ему, и тем, кто заслуживал
помощи. «Для негодяев выгодна была его трусливость, для честных людей
— доброта»,— резюмирует любитель хиазмов Плутарх.
Комедиографическое свидетельство шантажа, от которого так страдал
Никий, осталось от поэта Телеклида, в чьей комедии «Правдолюбцы»
выведен гнусный доносчик, откровенничающий о своих достижениях:
«Харикл дал мне мину за то, чтоб я не выдал его происхождения: ведь
он был первенцем из детей, купленных его матерью и выданных мужу за
его собственных. А Никий, сын Никерата, вручил мне целых четыре
мины. Но про него я не скажу, за что: он мужик неплохой и, сдается мне,
соображает...»
По дороге от Афин к местечку Колон, не доходя Кефисского берега,
стояло святилище Деметры Зеленеющей. Место довольно тихое,
избавленное от многолюдных шествий и общегородских празднеств
богини.
Туда застенчивый Никий исправно приносил жертвы, но и здесь
настигали его любопытные глаза комиков.
В год, когда Никию удалось заключить долгожданный мир со
Спартой, в архонтство Аристиона, в 421 год, Евполид поставил комедию,
где протагонистом был шут в маске Гипербола. Несколько стихов из этой
комедии сохранили черты нашего скромного богача:
«Я здесь, недалеко, к Деметре Зеленеющей,
Мне велено ягненка на алтарь свести...»
Как раз в архонтство Аристиона в Совет пятисот был избран Гипербол.
Вот и в комедии у Евполида шут Педик усердствует, допрашивая какогото беднягу:
«— Когда в последний раз ты видел Никия?
— На днях, как будто, на базаре он мелькнул.
— Так значит признаешь, что видел Никия!
— Здесь заговором пахнет, дело верное!
— С поличным, братцы, Никия застукали!
— Да ты рехнулся, верно, козни гнусные
— Подозревая в Никии достойнейшем!»
Старше большинства своих политических соперников, Никий был
воеводой старого закала и, кажется, еще не привык к новым
взаимоотношениям черни, ее буйных лидеров и родовитых воевод и
капитанов. Он струхнул, соперничая с Клеоном, и только гибель вождя
афинской черни позволила ему воспользоваться неудачами в войне и
заключить весною 421 года мир со спартанцами. Он мечтал о тихой
старости, о почете, не доходящем до того, каким обладал Перикл: еще
хорошо помнилось осуждение афинского Зевеса, у всех в памяти было и
изгнание его учителей — Анаксагора и Дамона. Не мог не знать Никий и
не помнить о том, как несчастный Пахет, завоеватель Лесбоса и Милета,
привлеченный по какому-то вздорному отчету к суду, выхватил кинжал и
закололся, ибо этот достойный человек не мог перенести собственного
унижения. Помнить он все, конечно, помнил, но едва ли мог что-нибудь
предпринять против своей славы.
В начале 10-х годов Еврипид написал «Ифигению в Авлиде». Драма
эта не была поставлена в Афинах самим сочинителем, успевшим к тому
времени, когда сын его выступил с «Ифигенией» на празднике Диониса,
благополучно умереть в Македонии, в эмиграции.
«После того как греки выплыли из Аргоса и по пути в Трою прибыли
в Авлиду, поход был задержан неблагоприятной погодой. Тогда
прорицатель Калхас сказал, что они не смогут пуститься в плаванье, пока
не принесут в жертву Артемиде самую красивую из дочерей Агамемнона.
— Богиня,— пояснил Калхас,— гневается на Агамемнона за то, что
тот, поразив на охоте оленя, сказал: «Даже сама Артемида не смогла
бы...»
Другой причиной гнева Артемиды было то, что Атрей, отец
Агамемнона, не принес ей в жертву золотого ягненка (вот почему так
исправно приносил свои жертвы Никий!). Получив такое про-
рицание, Агамемнон послал к жене своей, Клитемнестре, Одиссея, прося
прислать Ифигению и сославшись на то, что он обещал выдать ее замуж
за Ахиллеса в награду за согласие принять участие в походе. Когда
Клитемнестра прислала дочь, Агамемнон подвел девицу к алтарю и
собрался заколоть...».
Лапидарная версия мифа не устраивала Еврипида: в его трагедии
чувствительный Менелай, из-за ветреной жены которого, Елены, что была
к тому же сестрой Клитемнестре, затеялось жертвоприношение, так вот
Менелай предложил брату своему, Агамемнону, закончить поход и
разойтись по домам, раз приходится платить такую несусветную цену за
похищенные у него Парисом ласки.
«О смерти Ифигении для выгод
Моих прошу тебя не помышлять.
Как? Ты в слезах, а я на пире буду?..
А г а м е м н о н.
Твои слова охотно похвалой
Венчаю, брат мой, но теперь — увы,
Мне больше нет возврата, и ножа
От дочери я отклонить не властен.
Менелай.
Как? Кто ж тебя заставит дочь убить?
— Все войско, все ахейцы мне велят!
— Ты чересчур, Атрид, боишься черни!
— А если жрец откроет правду им?
— Зачем? Нетрудно упросить его.
— Честолюбиво всех пророков племя,
К тому ж еще замешанный тут есть...
— Кто там, скажи, Атрид, тебя пугает?
— Исчадия Сизифа не забудь.
— Ну, Одиссей нам повредить не сможет...
— Как знать, лукав он и приспешник черни.
— Да, это так, честолюбив он страшно.
— А ты представь его среди толпы:
Распишет им, как дочь обрек я раньше
Богине на алтарь и как потом
Назад сыграл. Возбуждены ахейцы,
Сам знаешь, брат, и ярость их в толпе
Зажечь легко. И вот по наущенью
Оратора они на нас с ножом...
О, тяжело, и выхода не сыщешь.
Тебя прошу теперь я, Менелай:
По лагерю пройди и Клитемнестре
Не дай разведать тайны нашей... Я ж
Тем временем к Аиду дочь отправлю».
Когда Агамемнон остается наедине с собою, он произносит слова, в
которых еще Плутарх замечал исповедь Никия, верного народу афинского
воеводы:
«Им хорошо, незнатным... могут плакать,
Когда хотят, и сердце в речи вылить...
Стоящий наверху стыдится слез:
Они его бесчестят... Гордость правит
Царями, а посмотришь — так они
Рабы своей же черни, да... и только...
Пред этим морем бедствий я — не царь...»
Как у Еврипида Агамемнон понял, что толпа не даст ему переменить
судьбу, «сыграть назад», так и Никий видел, что оставаться ему покорным
жрецом Ареса, но от жреца так недалеко жертвенное животное, уже
готовое к закланию. Он отказывался от ведения трудных и далеких
походов, но, приняв начальство, вел себя осторожно, что почти всегда
приносило победу. Его ласкала толпа, но он, понимая опасности
вознесения, прятался за спиною божества, говоря, что военное счастье —
подарок городу, а он — лишь слабый посредник.
Из страха перед Выявляющими фиги он старался не садиться за стол с
гостями и ел в одиночку, в отличие от аристократической молодежи —
Алкивиада, Каллия, Пола или юного Гиппократа (тезки знаменитого
врача). Случилось ему быть архонтом, и страданиям его не было предела:
он оставался в присутствии до поздней ночи, на заседание Совета
приходил раньше всех, а покидал его последним. В остальное время он
сидел взаперти у себя дома. Его немногочисленные друзья выходили к
посетителям и просили извинить его: он и теперь, дескать, занимается
государственными делами. Плутарх говорит, что у Никия был
воспитателем Гиерон, выдававший себя за сына Диониса-Медного,
давшего афинянам совет чеканить медную монету, из-за чего им
пришлось впоследствии завести кошельки. Гиерон этот устраивал для
Никия тайные встречи с гадателями и распускал в народе слухи, что
Никий ведет трудовую и незавидную жизнь исключительно в интересах
государства. «Даже в бане и за столом,— говорил Гиерон,— ему
приходится заниматься государственными делами. А о своих он и не
заботится, посвящая все время вам, афиняне. Вот почему он так скверно
чувствует себя, груб и неприятен в общении с друзьями. Другие на его
месте сумели приобрести и друзей и богатство благодаря ораторской
трибуне и теперь живут прекрасно. Видно, государственные дела для них
— шутка!»
Страх перед толпой, заставлявший молодого Алкивиада быть
экстравагантным и вызывающим, а старого Никия — необщительным и
смешным своими суевериями и удивительным в воеводе ми-
ролюбием, страх только в одном делал похожими этих во всем чуждых
друг другу людей — в пышности пожертвований, в масштабах
расточительства. Только Алкивиад всегда старался сам оставаться на
виду, а Никий любил затеряться в коллективе. Поэтому Никий много
тратился на постановку трагедий, организацию гимнастических
состязаний, Алкивиад же сам выступал на Олимпийских играх, правя
собственными колесницами.
В Афинах жил некто Диомед, человек благородный, но обедневший,
друг Алкивиада, желавший получить победную награду в Олимпии.
Узнав, что у аргосцев есть колесница, составляющая общественную
собственность, он попросил Алкивиада купить ее для него: ведь ни для
кого не было тайной, что в Аргосе Алкивиад пользуется большим
влиянием и имеет многих друзей. Тот купил ее, но приказал записать на
свой счет в Олимпийскую программу, не обратив внимания на
разозленного Диомеда, который призывал в свидетели и богов и людей.
Плутарх говорит, что из-за этого даже начался какой-то процесс. Не
понимал Диомед, что купи ему Алкивиад колесницу, тотчас вокруг этого
подарка пойдут толки: мол, сын Клиния покупает себе человека для того,
чтоб было на кого опереться, задумывая тиранический переворот, мало
ему простых прихлебателей! А сам Алкивиад отшучивался баснями про
фракийца Диомеда, обладателя четверки кобылиц, питавшихся
человечиной. Когда Геракл угнал их у Диомеда, фракиец пустился в
погоню, но был растерзан собственными кобылками. Вот от какой
прореченной старинным мифом судьбы избавил Алкивиад тезку
фракийского жокея!
Никий всякий раз, когда был хорегом, одерживал победы.
Рассказывают, что однажды, во время представления трагедии, на сцену
вышел его красавец великан-раб, побритый и разодетый в костюм
Диониса. Афинянам понравилась эта сцена, и они разразились рукоплесканиями. Тогда Никий встал, сказал, что считает
преступлением иметь рабом человека, посвященного богу, и немедленно
отпустил молодого раба на свободу.
Различия в тактике расточительства у обоих выдающихся
представителей афинской аристократии никак не отражались на стратегии
их поведения — обезопасить себя от непредсказуемого гнева толпы.
А между тем различия эти оказались губительными для Афин. Они
касались, к несчастью, войны и мира, искушенной зрелости и
искусительной молодости. Никий пережил экспансию Перикла, тяжесть
первых десяти лет войны, принудительный героизм Клеона, воевавшего,
по словам Фукидида, «в уверенности, что с водворением мира низости его
легче обнаружатся, а доносы будут внушать меньше доверия». Никий и
заключил со спартанцами 50-летний мирный договор, который
возобновлялся ежегодно, для
чего спартанцы должны были являться в Афины на Дионисии, а афиняне
— в Лакедемон на Гиакинфии.
Историки будут потом — вслед за Фукидидом — называть этот мир
«гнилым», и Фукидид, возможно, был прав, когда писал: «Если кто-либо
не будет считать за войну те шесть лет и десять месяцев, что стороны
воздерживались от походов в земли друг друга, тот будет ошибаться». Но
гнилой мир лучше крепкой войны, и когда спартанские послы прибыли в
Афины на Дионисии-что-в-городе в архонтство Аристиона, в 421 году, их
ждали торжества, установленные в качестве одного из главнейших
государственных праздников еще при Писистрате.
Как заведено, чучело Диониса-Освободителя выносят из святилища,
находившегося либо в самом театре Диониса, либо где-то рядом, и несут к
другому домику божества, в рощу героя Академа, лежащую в двух
верстах к северо-западу от городской стены. После представления
культовую статую Диониса привозят назад. Увитый плющом и
виноградом Дионис-истукан одевался в нарядные пеплосы до пят, пестро
изотканные лучшими мастерицами города. Процессией ведал архонт,
чьим именем маркировали год (к Дионисиям-что-в-городе архонтом был
уже, может быть, не Аристион, а Алкей), он и отряжал эфебов (понашему, «взрослеющих») — юношей, проходивших испытательный срок
перед тем, как в качестве мужчин браться за семейные и государственные
дела. Взрослеющие, разодетые в традиционные костюмы сатиров, катили
повозку с Дионисом туда и обратно, а заодно вели жертвенного бычка на
алтарь. Поминая старинные неприятности, вызванные нежеланием
афинян почтить молодого бога, все гости праздника присылали
Освободителю глиняные, деревянные, камышовые, гладкие, суковатые и
кто знает какие еще, эбеновые, кожаные ли, амулеты жизни: их посылают
колонисты из Фурий и Бреи, большие тяжелые несут ахарняне, а за
процессией выступают девицы, несущие корзины: пестрят, дыша нежным
ароматом, первые весенние цветы, сушеные смоквы и подсохшие за зиму
гранаты с впавшими боками и проступившими сквозь истончившуюся
кожуру очертаниями зернышек.
Торжественная процессия, называемая по-гречески «помпой»,
приходилась на середину праздника — она начиналась восьмого числа
месяца охоты, под вечер, а накануне (или утром того же дня, по нашему
счету) в святилище Асклепия приносили жертву покровителю врачевания
и предку всех докторов. Вслед за этим сначала в храме, а после постройки
Одеона — в сем святилище муз проходила жеребьевка и
предварительный конкурс хоров. Девятого числа, после совершения
шествия, выступали с песнопениями первые хоры — мужчин и
мальчиков. Вечером, в канун десятого числа месяца охоты — святого дня
для афинских комиков — име-
ло место еще какое-то мероприятие под названием «комос». Это
«торжественное гулянье», как потупясь называют комос лексикографы,
происходило во тьме (даже статую Диониса несли при свете факелов!), а
афиняне не сохранили для нас правды подчас о таких вещах, которым при
солнечном свете надобен юпитер, чтоб вырвать их из темноты. Как бы то
ни было, комос не был последней стадией праздника: десятого числа,
сразу после гулянья, начиналось комическое состязание, а с
одиннадцатого числа — состязание трагиков.
Мирный договор был заключен спустя пятнадцать дней по
завершении празднества — двадцать шестого числа месяца охоты, «в
конце зимней кампании, к началу весны, по прошествии полных десяти
лет и нескольких дней со времени первого вторжения спартанцев в
Аттику и начала Пелопоннесской войны».
После гибели прошлой осенью Клеона и ничего не принесших городу
потерь крикливая чернь поубавила воинственной спеси, но на смену
кожевнику Клеону грядет новый трибун-вождишка, ламповщик Гипербол
из Перитедского дема. Споры миролюбивого Никия, умудренного
бесполезным опытом войны, с молодым Алкивиадом, не познавшим
покамест счастья убить и быть убитым в стычке с заклятым врагом (с
каким? — можно и с этим! за что? — можно и за это!), завершились
поначалу победой искушенного в дипломатии Никия, на этот раз
преуспевшего в дрессуре одичавшего за десять лет города.
Кто бы только мог подумать, что по случаю такого договора принесут
свои клятвы вместе и миролюбцы Никий и Лахет, и вояка Ламах, и
беспринципный, как все вещуны, прорицатель Лампон. Клятва гласила:
«Я буду соблюдать договор и мир по справедливости и без обмана».
Спартанские послы пришвартовались накануне жертвоприношения
Асклепию у лучшей пирейской пристани — в Скарабеевой бухте, чтобы в
день состязания комиков усесться на почетных местах театра Диониса.
Праздник открытый, Большие Дионисии проходили в Афинах на виду
не только у всего города, многочисленных купцов, послов, а возможно, и
у набожных путешественников, ищущих по всей Греции дармового стола
по случаю местного торжества. Когда-то, еще до Писистрата, придавшего
Дионисиям характер официального праздника, главными днями Диониса
были деревенские карнавалы, проходившие не разом, а в каждом
аттическом околотке — в свои сроки. Они тоже назывались Дионисиями,
но — деревенскими. Особенно нарядно и весело справлялся праздник в
винодельческих околотках — в Икарии, Коллите, Миррине, Флии,
Ахарнах, а также в Пирее, закрытом в это время (ведь это был месяц
волнения, месяц Посейдона) для обычно кишащих у пристаней
купеческих судов. Во время этих, зимних, Дионисий, сделавшихся
прототипом для большого общеаттического праздника в Афинах, даже
рабы участвовали в застолье. Только Кронии — торжества в честь
дедушки богов и людей, предоставляли рабу равный с хозяевами кусок за
пиршественным столом, а также некоторые другие права, упоминание
коих неприлично. Знамениты были деревенские Дионисии и своим
веселым состязанием — Танцем Бурдюка: на надутый и смазанный
маслом бурдюк нужно было вскочить и продержаться там, отплясывая
некий танец. Дольше всех протанцевавший победитель получал в награду
этот самый бурдюк, но не пустой, а наполненный вином.
Главной же отличительной особенностью меньших, простонародных
Дионисий-что-в-деревне было другое: Диониса чтили на этом празднике
не в облике брадато-лозастого истукана, разодетого в пурпурный пеплос,
но в откровенной и агрономически наивной, ничем и никем не
замещенной, бесхитростно вздернутой ипостаси сучка-Приапа, или, поаттически, красавца Фалета. Греческая обрядовая посуда, дошедшая с тех
времен в виде подчас почти слепых осколков, заставляет признать, что
именно длиннющий
Фалет деревенских
Дионисий,
пестро
татуированный и поддерживаемый механиком-силеном, был подлинным
прообразом «журавля», на котором в театре Диониса спускают с небес
богов или раскачивают Сократа в его звездочетском гамаке. Культовые
изображения Фалета — от установленной на платформе мачты-журавля,
превратившейся впоследствии в любимейший сценический механизм
Еврипида, до окропляемых служительницей грибков-сморчков
или
собранных
в
котелок
глазастых рыбешек — ошеломляюще
разнообразны. Правда, Фалет — слуга Диониса — царил на Сусляных
Дионисиях, и в «Ахарнянах», победивших в архонтство Евтина, в 425
году, Аристофан не поленился заставить своих хористов и актеров
изобразить деревенскую процессию, с домашним амулетом, знакомую
каждому зрителю. А может быть, это было напоминание об обряде, уже
забытом горожанами?
Но здесь, на Дионисиях-что-в-городе, комику надлежало быть более
сдержанным. Обжегшись на «Облаках», провалившихся на празднике
позапрошлого года, Аристофан не добился успеха и с «Друзьями, пока
скворчит сковородочка», поставленными год назад. Теперь, в архонтство
Алкея, соперниками Аристофана были те же Евполид и Левкон, с кем сын
Филиппа состязался «Друзья-ми...» на Дионисиях прошлого года.
Левкон, как всегда, проиграл, что мало кого удивило. Единственное
двустишие, дошедшее от его комедии «Однополчане», сохранено в
словаре Гесихия. Титл
П а а п и д:
этот человек прислал в дар
афинянам кое-какую посуду. О нем Левкон в «Однополчанах» говорит
так:
«Гляди, Мегакл, подарки Паапидовы
Гиперболом пройдошистым украдены...»
Обвинения в казнокрадстве в комедии — не новость, и едва ли Левкон
провалился из-за поношений выбившегося в любимцы народа Гипербола:
его кусали все, куснул и Аристофан. Да и в употреблении принадлежащей
государству утвари («использование служебного положения в корыстных
целях») нетрудно было обвинить и прорвавшихся к власти демагогов (в
чем Аристофан обвинял Клеона и во «Всадниках») и аристократов: сын
Эрасистрата Феак выступил даже с речью против Алкивиада, где говорил,
что Алкивиад ежедневно употреблял за столом все множество золотых и
серебряных сосудов, составлявших собственность государства и
потребных на время торжественных процессий и возлияний. Плутарх
объясняет, что Алкивиад «считал их как бы собственными».
Разбитый в пух и прах Левкон спас от позора Аристофана, не
сумевшего и на этот раз превзойти Евполида. За «Параситов» Евполид
получил первый приз. Философские комедии, комедии с философами и
про философов входили в моду вместе с «Облаками», но — через другие
ворота. «Параситы» Евполида были комедией-попойкой, комедиейпирушкой, в которой Протагор (Сократ в «Облаках») советует прочищать
легкие вином, а кто-то из персонажей, ища, как доходчивей объяснить
степень своего обжорства, говорит, что «жрет жравмя», о чем с тоской,
кажется, пишет александрийский комментатор «Облаков», столь чуждых
кулинарного экстаза Евполидовых «Параситов».
«Все в доме Каллия радует сердце,
Камбала в масле, заяц печеный и крабы вареные,
Девочки, попкой, как телки, вертящие».
Аристофан лишь отдавал дань Скарабеевой пристани, возле которой
пришвартовались корабли с послами спартанскими.
— Если же ты, насмешник и злоречивейший из комиков, намекаешь
на город Афины, унавоженный, по твоим словам, за годы великой войны...
Страшно подумать: чем могла обернуться эта угроза!..
Втолковывая зрителям и судьям, чем он руководствовался, отходя в
новой комедии от традиционных приемов балагана с его драчливыми
рабами и жравмя жрущими гераклами, Аристофан все не может забыть
поражения своих «Облаков»:
«Всю привычную рухлядь и пакостный вздор, болтовню
балаганную эту
Уничтожил поэт, он искусство свое возвеличил до неба, как
башню
Из возвышенных мыслей, из важных речей, из тончайших,
не гаерских шуток».
Перепробовав все средства привлечения благосклонности публики,
Аристофан прибегает к самому простому:
«А вдвойне и особо плешивых прошу
Посодействовать мне и в победе помочь.
А когда победить мне удастся сейчас,
На пирах, на попойках кричать будут все:
«Дать плешивому это, плешивому то,
И сластей, и орехов! Не жаль ничего
Для него, кто храбрее и доблестней всех,
Для поэта с блистательной плешью!»
Вслушиваясь в Аристофановы парабасы, начинаешь думать, что он
только прикидывается серьезным, благомысленным доброжелателем
города, уничтожившим безвкусное и пошлое поэтическое тряпье...
Непоследовательность, конечно, комику в вину не вменяется, но уж
слишком гордиться своим искусством, прятаться в сиянии собственной
лысины и одновременно призывать к наказанию за это — такое
лицемерие смутит кого угодно.
Он отказывает в столе комическому Геркулесу, нашедшему приют
даже в звучном трагическом спектакле Еврипида, но взамен рисует не
какое-нибудь интеллектуальное пиршество в духе затеянного у Каллия
его гостями и не пародию на него, цветисто разукрашенную кулинаром
Евполидом, он находит обжору, прикормленного, видно, еще в
«Облаках». Только здесь нужник Стрепсиада — уже не философское
училище Сократа, но конюшня Гроздаря, а скакун в конюшне —
Скарабей:
«Да, ну и жрет, проклятый! Как силач-борец,
Налег на корм и челюстями клацает.
И головою вертит, и ногами мнет.
Так скручивает корабельщик снасть свою,
Когда для барок толстые канаты вьет.
Тварь гнусная, прожорливая, смрадная!
Кто из божеств всевышних произвел его,
Не знаю. Но не Афродита, думаю.
И не Хариты также...»
На кого и за что так гневается раб Гроздаря, с отвращением месящий
для навозника дерьмовый фарш («Где нос бы мне купить
непродырявленный?»)? Не слишком ли велик риск начинать комедию
теми же ароматами, за которые на Больших Дионисиях Аристофану
уже пришлось расплатиться жестоким провалом?
Мелкое муравьиное упрямство эгинца-миролюбца, потерявшего
последние надежды на то, что к горожанам вернется здравомыслие,
теперь оборачивается ехидством ликующего в своей правоте
памфлетиста. В этой комически расфуфыренной правоте сын Филиппа,
крепко обиженный на сограждан за пренебрежение его лучшей комедией,
не находит ничего лучшего, как обозвать всех своих зрителей — не одних
только мужей-афинян, но и гостей, съехавшихся на заключение мира,—
сумасшедшими. Как ни терпимо обрядовое осквернение святынь, а
времена уже не те.
Навозная куча, в которую превращен город, покровительствуемый
мудрой совою,— ведь не только смехотворная сценическая уловка
комика. К сожалению, конец зимы и начало весны отмечаются в Афинах
не только прилетом ласточек и налившимися цветом гроздьями глициний.
Перебираясь через бурый от стекшей с Ликабетта грязи Еридан,
чавкающие колеса тачек и телег возвращают в город то, что сползло
зимой с крутых и липких улиц; гогочущая, хрюкающая и блеющая
живность, дающая приплод по сараям, свинарникам и козлятникам, тоже
не способствовала сохранению мраморной чистоты на немощеных
площадях и в кривых проулках, а что говорить о гарнизонных
конюшнях!..
«Миротворица» сводила счеты с безумием, охватившим Аттику и не
отпускавшим всех греков на протяжении десятилетия. А с безумцем
сладит только безумец. Аристофан решается сгрести в новую комедию
все сумасбродство своих сограждан и весь их воинственный пыл, чтоб
этим заправить ритуальное возлияние грядущему миру. Может быть, это
первая комедия Аристофана, поставленная из соображений, как мы бы
сказали, конъюнктурного порядка.
Завтра будет совершено торжественное окропление договора, а я вам
покажу, как тяжко приходилось бедной Миротворице, сидевшей под
замком у старого злого Раздора, демона войны.
Верный артельным привычкам аттической комедиографии, Аристофан
не намерен в одиночку браться за сочинение «Миротворицы»: как ни
трудно писание комедий, комику всегда гарантирована заемная
конструкция спектакля, и на этот раз ею обеспечивает избалованного
музами плешивца сын зеленщицы.
С недавней драмой Еврипида — «Беллерофонтом» — у Аристофана
особые счеты. Прежде всего ему, как эгинцу, противен был каждый
отпрыск Сизифа: этот негодяй разболтал отцу Эгины Асопу, что ее,
красавицу, похитил отец богов и людей, за что Зевс, разумеется, и покарал
сикофанта неподдающимся камнем. Внуком гнусного доносчика был
герой трагедии Еврипида Беллерофонт. Но куда противнее был
миролюбивому комику грозный конь Беллерофонта — Пегас,
Посейдоново отродье.
Аристофан не слишком жаловал конеборного и штормового
Посейдона, соперника Афины. Посейдон сошелся с Горгоной Медузой,
родившей ему крылатого коня-урода, брыкливого Пегаса. Сын своего
отца, знаменитого грубостью и страшной разбросанностью облика, и
матери, от одного взгляда на которую превращалось в камень все живое,
Пегас этот по-разному рисовался предкам Аристофана. Только наивные
потомки возомнили о Пегасе, что это был сказочный конь — крылатая
душа, копытом выбивший источник вдохновения для стольких поэтов.
Комик, плешивый комик, вот кто знал подлинную природу скакуна,
порожденного божественными родителями. У Посейдона в самом деле
была охота к конному заводу: он слыл главным лошадником на Олимпе.
Но вот чем могла ответить Горгона Медуза на эту жажду супруга породить
конька? Ведь даже породив Пегаса, она не выпускала его на свет божий до
тех пор, пока Персей не снес ей голову своим мечом-кладенцом.
Взгромоздившись на Пегаса, умчался Персей спасать от страшного
чудовища Андромеду. Бедный дракон так напугался Пегасова вида, что
почти без бою уступил Персею приготовленную для него Андромеду.
После этого отец Пегаса, Посейдон, подарил лошадку внуку Сизифа
Беллерофонту. Верхом на крылатом уроде Беллерофонт сразил Химеру,
одолел амазонок, совершив попутно еще множество других устрашающих
подвигов. Еврипид, однако,— любитель печальных сюжетов,— знал, что
Беллерофонт не насытился обладанием волшебного ратоборца и,
пришпоривая его, решил взлететь на сыне Посейдона в чертог
олимпийцев: он ведь не знал, куда можно, а куда нельзя заявляться
подобным созданьям. Пегас, поднявшись уже на изрядную высоту, вдруг
возьми да взбрыкни, хлопни крыльями, да и сбей наездника со спины на
землю — только перья, одно или два, трепыхались в крепко сжатых
пальцах Беллерофонта, пока он летел к земле. Свалившись, Беллерофонт,
конечно, охромел, а Пегаса, чтоб больше не пугал людей, боги поместили
среди звезд.
Прикидывая, где б ему взять такого же иноходца для комедии,
Аристофан не случайно выбрал скарабея. Жук крупный, никогда не
оставляющий желания попасть на небо и с этой целью — что твой Сизиф
— вечно разгоняющий катыш конского навоза, потребный для вознесения,
скарабей — пусть некрасив и смраден — обладает отличнейшими
навигационными характеристиками. Недаром наксосские островитяне по
образцу волшебного жука строили свои ладьи на весельном и парусном
ходу! Пусть наш конек — не сын Посейдона, только до самых небес
своего седока он доставит — не в пример Посейдонову отродью.
Итак, костяк фабулы готов. Как ни печальна участь Еврипидовой
трагедии, разворованной Гроздарем, взгромоздившимся на своего конька,
Аристофан нимало не стесняется своею пародиею на Пегаса и его
незадачливого наездника. Преимущества своего
решения комик излагает все в том же элегантном ключе, уже так печально
знакомом. На совет дочери:
«Не лучше ли Пегаса оседлать тебе?
Богам ты показался бы трагичнее» —
Гроздарь отвечает:
«Да нет, чудачка. Корма мне двойной запас
Тогда б был нужен. А теперь, чем сам кормлюсь,
Добром тем самым и жука кормлю затем».
Выбирая жертву для пародии, эгинский муравей уже не слезает со
своего конька и скачет, направо и налево размахивая остроумием.
Впрочем, некоторые читатели Нового времени находили в
«Миротворице» более цинизма, нежели остроумия.
В самом деле, от одного только жучка достается и Еврипидову Пегасу
вкупе с Беллерофонтом и Персеем, и послам, причалившим к Скарабеевой
пристани Пирея, а может быть, и комику Скарабею (по-гречески имя его
Канфар), тому самому Скарабею, который больше всего хорош тем, что
придумал словцо «обоюдолюбимый». Пусть лексикограф Фотий
объясняет вам, что это значит.
Доктор Магаффи, всего на сто лет менее нашего удаленный от
Аристофана, немного слишком строг к нему за ассенизационные дублеты,
коими страдает «Миротворица».
«Комедия эта,— пишет д-р Магаффи,— более блестящая и
фантастическая, чем «Осы», но слишком пропитана цинизмом, который,
как бы ни был он забавен, обезображивает многие из позднейших
произведений поэта и им же самим осуждался в более ранних пьесах.
Некоторые места в парабасе и других частях списаны Аристофаном с его
прежних произведений, и все-таки мы не можем не удивляться уменью
поэта обработать в совершенно иной инсценировке и по иному плану тот
же самый сюжет, который он уже обработал в «Ахарнянах». Кажется, что
фантастический элемент гораздо более овладел поэтом в этот период его
жизни».
Про фантастический элемент Дж. Магаффи сказал тоже правильно:
скарабей ведь — не просто вонючий навозник, нудное насекомое. Он —
священен, и недаром египтяне чтут его как бога. А египтян Аристофан
уважал. За благочестивость, я думаю, больше всего. В «Миротворице»,
между прочим, из богов один только Гермес, лицемерный взяточник,
сидит на опустевшем комическом Олимпе, откуда остальные боги
съехали, чтоб не слышать, как потерявшие в братоубийстве голову люди
просят их о пощаде и помощи в продолжении войны до победного конца.
Подкупленный Гроздарем Гермес помогает грекам добраться до
заключенной в темнице Миротворицы, и все заканчивается, как обычно,
«гораздо
удовлетворительнейшим образом, нежели как сего можно было ожидать».
Общими усилиями долгожданную выволакивают из трещины в скале,
а потом везут ее — в сопровождении Жатвы и Дарительницы — эти
аллегорические существа представлялись в облике красоточек в коротких
плащиках — в Афины. Облюбовавший Жатву Гроздарь, похотливо
поплясывая вокруг нее, сплавляет Дарительницу в Совет, а в хатку, что
возле виноградника, уводит свою новую подругу,
Хор.
Гроздарь.
Хор.
«Эй, женка, идем в поля!
Красавица, сладко
Поспим мы с тобою!
Что хочешь ты сделать?
Сорвать ее спелый плод!
Сорви ж ее спелый плод!
Уйди от тревог войны!
За сытый садитесь стол,
Пусть льется вино ручьем!
Сучок его прям и тверд,
Сладка ее смоква!
Так пойте: Гимен, Гимен!
Гимен, Гименей, о!»
Пожалуй, если только этим торжественным совокуплением спектакль
закончился бы, к вящему удовольствию публики похерив мужицкий
колорит и декорации, Аристофан удостоился бы не постыдного второго
приза («перед Левконом»!). Но видно совсем потерял он уважение к
родному городу. Как ни сладостен мир, как ни приятно единение мегарян,
спартанцев, афинян, коринфян, беотян, керкирян, элидян, аргивян,
эвбейцев в подлинных греков, или, как комик назвал их, во «всегреков»,
все ж грешно перед союзниками и еще не успевшими принести
договорные клятвы вчерашними врагами выставлять на посмешище
лучших из горожан,; положивших все свое имущество на алтарь защиты
отечества и государственной безопасности. Копейщики и шлемщики,
панцирщики и сандальщики, щитчики и дротчики потели: ковали, гнули,
тачали не покладая рук. Славные воеводы воодушевляли других на
подвиги ради отечества! И тут появляется смехач, профессиональный
задира и баламут, и все переворачивает вверх дном. Мало что святыни
испокон веку подлечивали от сглаза (лихой болезни) жгучим
вышучиванием! Не таковы Дионисии Градские, чтобы
высмеивать и это, да к тому же поносить имена тех, кто успел безвозвратно
уйти в Аид, на суд к подземному царю...
Хотя заключение мирного соглашения было к моменту постановки
«Миротворицы» делом решенным, горожане никогда вполне не
соглашались ни с этим миром, ни с каким другим. Только грозившее
разорение заставило афинян, спартанцев, мегарян и других условиться о
временном прекращении военных действий. Те, кто считал себя
победителем, надеялись окопаться и укрепиться, те же, кто думал, что
победу забрали враги, радели о реванше. А в самом городе старый Никий
мечтал о том, чтоб уйти на покой заслуженным генералом, не боясь угрозы
черепкования с изъятием нажитого добра.
Только ретивый Алкивиад прозорливо оценил собравшихся в Афинах
«всегреков» как почти готовое к лепке сырье для грядущего
политического гиганта и решил самолично взяться за укрощение
одичавших толп огнем и мечом, горном и мехом. Он изучает персидский,
проникается тучным духом азиатского полновластия, но до поры до
времени топит интимные амбиции в шутовских причудах и привычном для
беспокойного города маскараде. Чтоб разогреть афинян и островитян,
спартанцев и аргивян, ему нужно горнило войны: смешать и подогреть, а
там — и лепить на свой лад.
Вояки, привыкшие горделиво сражать неприятеля по старинке,—
мужественный Ламах, неподкупный капитан Формион — из опасения, что
с наступлением мира им грозит безработица, возбуждали патриотический
пыл афинян, называя соглашение поражением и оправдывая
беспрестанное военное буйство справедливыми ссылками на
человеческую природу.
Глава 8
«ПОМНИ - ЕЖА НИКОГДА ВАМ КОЛЮЧЕГО
МЯГКИМ НЕ СДЕЛАТЬ!»
Об этом напоминает Гроздарю прорицатель Гиерокл (или Святослав)
из Орея, обиженный бесноватым комиком прихлебатель воевод.
Гадатели, вещуны и прорицатели входили в моду в Греции накануне
всякой войны с незапамятных времен. Они брались откуда ни возьмись
со своими пророчествами, притчами и загадками, дурача словоблудием
даже очень серьезных людей. Между прочим, именно афинянам,
особенно падким на вещунов, больше
всего не везло на пророчества. Геродот, рассказывая о том, как
изгнанный из города Писистрат возвратился в Аттику и — накануне
штурма Афин — взял Марафон, упоминает о некоем Амфилите из
Акарнании, который изрекал свои пророчества, как водится, в стихах.
Он-то, по божественному внушению, подчеркивает Геродот, изрек
Писистрату вот что:
«Брошен уж невод широкий и сети раскинуты в море,
Кинутся в сети тунцы среди блеска лунного ночи...»
Вот такое прорицание. Писистрат сказал, что понимает предсказание,
и повел свое войско на врага. Горожане же афинские как
раз в это время завтракали (я ведь говорил, что время суток они членили
так, что завтракали ввечеру), а после завтрака одни занялись в ночной
прохладе игрой в кости, а другие легли спать.
Тогда Писистрат и напал на афинян. Наверно, никто так не любил войн,
как амфилиты и гиероклы:
когда еще забивают столько телят и ягнят, чтоб по нежной печени и
вкуснейшему языку заколотого и свежеиспеченного животного
прочитать глубокомысленное предписание богов:
«Брошен уж невод широкий и сети раскинуты в море,
Кинутся в сети тунцы среди блеска лунного ночи...»
В «Миротворице» посрамлены не одни гадатели (бедняге Святославу
не досталось и кусочка жертвенного шашлыка!), но все героическое и
воинственное, чем так гордятся горожане. Султанами
стирают размазанное по столам сало, шлемы превращены в
рукомойники. Кузнец, работавший серпы и косы, воспрянул от нищеты
и теперь за пять драхм сбывает косу, какую прежде и за пять оболов не
удавалось продать. Гончар продает свой товар по три драхмы за большой
кувшин для воды — гидрию. А вот панцирщику не везет: его детище,
которым Гроздарь хотел было воспользоваться
как горшком, не подошло крупнозадому селянину. А как хорошо
завертелась сделка:
«Гроздарь.
На панцире убытка не потерпишь ты:
Отличным унитазом будет панцирь мне.
Панцирщик.
Не издевайся, дерзкий, над моим добром!
Гроздарь.
Три гладких камня на подтирку нужны мне!
Панцирщик.
Невежа! Как же подтираться думаешь?
Гроздарь.
Вот так просуну руку через скважину,
А этак вот — другую.
Панцирщик.
Что ж, и десять мин
Не пожалеешь?
Гроздарь.
Ты как думаешь?
Мне десять тысяч драхм дороже задницы?!»
Ну вот, только мы успокоились, как снова Аристофан заставляет
сцену привычной клозетной обстановкой. Панцирщик пытается сплавить
свой товар как унитазы, шлемщику советуют выдавать шлемы за
урыльники...
Только археолог, верно, порадуется поединку Панцирщика с
Гроздарем: к словам виноградаря о том, что ему довольно трех голышей
для подтирки, александрийский схолиаст-умница дает бесценный
комментарий. Оказывается, слова Гроздаря — не выдумка комика, но
пословица!
И камни, как видно, служили не только писчим материалом для
законов, договоров и кладбищ.
Действие комедии, когда Гроздарь вернулся на землю, развернулось, к
нашему унынию, не в доме, за нарядным столом — туда зрителя пустят
только под самый конец спектакля,— а на задворках гроздаревой усадьбы.
Отсюда и тема, куда сливаются все разговоры с торговцами щитамиурыльниками, шлемами-плевательницами, панцирями-унитазами. Именно
здесь, на задах, состоялся последний шутовской поединок
«Миротворицы».
На праздничных пирах у афинян было заведено, как и повсюду, пение
— хором и врозь. Пели, правда, не как попало и кто что захочет, но в
порядке и по программе, установленной кормчим попойки. «Принять
песню» от сотрапезника и, не испортив, передать ее, обогащенную новым
поворотом, другому — большое искусство, овладению которым
благородные афиняне посвящали немало лет. Шлифуя мастерство на
малой сцене у домашнего очага, афинянин свободнее чувствовал себя
перед Советом или в Собрании. Вовремя
пропетая песня, уместно вспомянутый стих высоко ценились среди
афинян, тронутых поэтическим тленом,
«Гроздарь.
Гостей моих сынишки, глянь, идут сюда,
Чтобы отлить. Да заодно испробовать
Те песни, что решили на пирушке спеть.
А ну-ка, мальчик! Что пропеть ты думаешь?
Сын Л а м а х а.
«Воинов вооруженных поем мы...».
Гроздарь.
Да что ты, любезный!
«Воины вооруженные» сгибли. О чем же поешь ты?
И Миротворица в Аттике снова. Зачин неудачный.
Сын Ламаха.
«Только друг к другу они подошли, устремляясь на битву,
Тотчас же сшиблись щитами и медью доспехов звенящих...»
Гроздарь.
Вот еще «сшиблись щитами»! Чтоб мне о щитах и не слышать.
Сын Л а м а х а.
Ну так о чем же мне петь? Подскажи мне, чего ты желаешь?
Гроздарь.
Вот что: «Войною насытившись, приналегли на жаркое».
Это вот пой, как, насытившись, жрали и допьяна пили!»
Вся комическая традиционность возвращения из голодных и
смертоубийственных краев несчастий повседневной жизни в сказочный
мир вечного обжорства, сладких попоек и гульбы, как ни придерживайся
комик обычая, нежданно оказывается для коварного поэта предметом
нового осмеяния, осмеяния, возведенного, как заметил бы дотошный
читатель, в степень.
Торжественная проверка певцов перед первым выступлением на
празднике Миротворицы происходит поспешно, возле ограды,
повернувшись к которой, нервно справляют нужду два мальчика:
воинственный сын Ламаха и миролюбивый отпрыск Клеонима,
вечно поносимого в комедиях обжоры (таков он у Евполида) и
вороватого прихлебателя (таков — у Гермиппа).
Хитро опережая действие спектакля, Аристофан на глазах у публики
осмеивает пафос собственной комедии: «посвященная воцарению
долгожданного мира», как уточнил бы смысл комедии толковательполитик, «Миротворица» окружена какими-то писающими у забора
мальчишками, вымазанными в навозе домочадцами Гроздаря,
откормившего знатного навозника. Комик словно отстраняется от
собственной комедии и от спектакля. Великое для всей Греции событие,
уже воспетое в «Ахарнянах» и призываемое теперь, в «Миротворице»,
оказывается, достижимо столь странным
способом, что воцарение мира, радостный гименей Гроздарю и Жатве,
кажутся ничуть не менее фантастичными и неосуществимыми, чем
сепаратный мир Честного Гражданина, заключенный им со спартанцами в
«Ахарнянах».
Прославляя Миротворицу, ликуя по случаю близкого заключения
мирного соглашения и обмена клятвами, Аристофан, со стороны
разглядывая свое детище, кажется, боится того самого, о чем спустя много
лет заговорит Фукидид. Осторожно выбирающий слова историк назвал
мир «гнилым». Попереводи мы еще, нашлись бы синонимы —
«трухлявый», например, «гнилостный», «смрадный»...
Верный ученик стариков комиков, Аристофан всего за несколько дней
до торжественных возлияний по случаю мира между Афинами и Спартой с
наглостью, присущей всему Дионисову племени, выгоняет на орхестру
мальчишек, по-своему возливших на глазах у тысяч зрителей на этот мир
и на весь город. Миротворица спустилась в Афины, правда, не на том же
скарабее, что доставил к Олимпу Гроздаря. Но как ни аппетитны
сопровождающие Миротворицу любвеобильная Жатва и богатенькая
Дарительница, мир этот для комика — все же не чист...
...Кто знает, какой дух был разлит вокруг бедняжки Андромеды, когда
взгромоздившийся на нее дракон вдруг увидал грозного Пегаса и
пустился наутек?..
Осмеивая, язвя и передразнивая бесспорные ценности афинской
общественной жизни, комик не пощадит ни победоносного воеводу, ни
признанного толпой вождя-простолюдина, ни модного музыканта, ни
трагика, ни мудреца. Пределы блаженства видятся достойному смехачу не
в доблестях воителей, не щадящих живота в драке за город и родню, но в
стойкости винопийцы, обжоры, щитоброса, улепетывающего с поля брани
в хижину, где расставлены столы, где льется ручьем вино, где закалывают
скотину, поджаривают ее, вращая вертел, и, капая жиром, жуют.
Кстати, и скарабей, оставшийся там, на Олимпе, выбился, что
называется, в люди. Вот только с едой у них там неважно.
«Герм ес.
Впряженный в колесницу Зевса, молнии
Влачит.
Гроздарь.
Бедняга! Чем же он прокормится?
Гермес.
Сыт будет Ганимедовой амвросией».
Но больше всего здесь смеются над шутом-заводилой, Гроздарем или
Честным Гражданином, Стрепсиадом или Клеонолюбом; им, спрятанным
под маской и костюмом аттических крестьян, до-
стается на комической сцене счастье триумфатора, да только
триумфатора — комического, счастье — комическое. Приготовленная к
пиршеству «воровочка, рабыня Стримидорова», бурдючок с винишком,
фигушки и зайчики, медовые коврижки и флейтисточки... Ох, Плешивый,
легкомыслен твой рай, легкомысленно все предприятие, называемое
«комедиею».
Рано было, оказывается, так беззаботно доверять прозрачно
развернутому действию спектакля — от уныния и царства бедности,
войны и бессилия к торжеству пуза и уст... Комедия, хоть и кончается
веселым пиром, свадьбою, попойкой, бурным кордаком, вся
преисполнена страсти кусать, грызть, рвать, язвить, заголяться,
выворачивать наизнанку все, что попадет ей под руку. Лицедей,
втравившийся в Дионисову артель, уже не вернется оттуда: все в нем
пожрется хищной пастью посрамления, зубастой насмешкой, хохотомгубителем.
...Недаром на попойках порядок тостам задавался такой: сперва —
за Харит, Ор и Диониса, второй — за Афродиту и Диониca, а третий —
третий за страшных Гибрис и Ату. За Гибрис, Гибрис — богиню похоти и
превышения дозволенного порядка. Кой-кто из греков находил у них
общие корни с Дионисом. Не станем спорить, но и умалчивать этого
обстоятельства не стоит...
Жаждущий мира взрастил скакуна и помчался сражаться с злобным
Раздором за красавицу миротворицу, гнусно запертую в темнице; она
добыта, враг бежит, ликует город.
Жаждущий мира вспомнил басню про навозника, эзопову бас-ню, в
которой жука оскорбил орел, разоривший гнездо его и погубивший
семью. Навозник полетел к небесам, к самому Зевсу (ведь именно Зевсу
отдал орел на сохранение и высиживание яйца своей орлицы), полетел и
— добился своего, отомстил: сковырнул весь будущий выводок вниз, на
каменистую землю...
Жаждущий мира на верном навознике взмывает на Олимп и
добивается справедливости: украденный Раздором мир возвращен
грекам...
Жаждущий мира вспомнил Пегаса, страшного сына Посейдона и
Горгоны Медузы, и вот он вырастил Пегаса аттического — смрадного
навозника. Как бы то ни было, пегас-скарабей взлетает на самую высокую
навозную кучу, на славный Олимп, из этой-то кучи извлекает храбрый
ездок волшебного скакуна божественную узницу Раздора-пожирателя.
Мир, называемый Никиевым, был, конечно, призван и Аристофаном в
«Ахарнянах», и он сулит разорение оружейникам и полковникам. Мир
вкатывается в город не на колеснице, а в наксосской ладье-скарабейке. С
меланхолическим упорством — ибо никто не сравнится в упорстве с
меланхоликами — Плешивый забрасывает золотаревым добром
Миротворицу, свое любимое детище: от коме-
дии ничто не услышит похвалы, никто не получит поцелуя. Укусы, пинки
и помои. Афиняне! Ваш город — навозная куча, вы — драчуны и
задаваки, но не лучше вас и спартанцы, длинноволосые грубияны,
начесноченные, что твои петухи перед боем. Но ваш чесночок Раздор уже
высыпал в ступку! Вы слишком слезливы, мегарцы-луководы, Раздор
топчет в ступке и ваш лучок, вот вы и гоните слезу от бессилья.
Разжиревшие сицилийцы-овчарники, сыровары, хитрецы-дорийцы,
думаете, вас не заметит Раздор? Не пожалеет он и нашего, аттического
меда, им сдобрит протертую в ступке Грецию и сожрет, молчаливый
чавкун.
...Со страху накормив жука, Гроздарь спасает греческие города,
вызволив богиню и ее подруг...
На каждой новой ступени комического воплощения событий комик
оставляет в силе угрозу недопонимания: зритель успел уверовать в
таинственную силу вонючего пегасика. Вот разрастается волшебство, вот
скарабей, фыркая, возносит Гроздаря. Зритель успевает отвлечься от
условности «журавля», с помощью которого ловкий «рабочий сцены»
подымает шута над орхестрой, как вдруг играющий бесхитростного
виноградаря смехач замечает, что до Зевсова престола еще далеко, а под
ним, в самом городе и в Пирее. будничные нужды горожан грозят
прервать удачно начатый полет:
«Что ты делаешь? Эй! Кто там сел за нуждой
В Непутевом проулке, в Пирее? Эгей!
Ты погубишь, погубишь меня! Закопай!
И тимьяна цветущего куст посади,
И душистого масла налей, а не то
Я сломаю хребет и погибну — тому
Будет зад твой, конечно, виною».
Хоть жук и не сворачивает с заветной тропы, ведущей по небу прямо
на Олимп, настоящий, некомический город бьет в глаза ошарашенному
Гроздарю: он описывает то же, что видно почти всем согражданам;
пожалуй, им видно даже немного дальше: ведь Гроздарь верхом на
скарабее раскачивается не выше пятого-седьмого ряда амфитеатра, и эта
комическая дальнозоркость, помноженная на прозрачные намеки о
кораблях с послами в гавани, заставляет зрителей потешаться уже не над
клоунадой жукопарения, не над волшебной сказкой про нового Пегаса, но
над неожиданным вылетом Гроздаря — теперь уже за пределы самой
комедии. Он летит на волшебном жуке, но — над настоящим городом,
только видит он в Афинах лишь одну из многих беспокойных граней
существования.
Есть, однако, границы у царства баснословия, а комедия безжалостна
и к себе самой. Начав свой полет над орхестрой театра
Диониса, Гроздарь размечтался о том, что вон, несут его волшебныe
силы, и сказочный жук так мил и пригож:
«Подымайся бодрей, мой Пегас, веселей
Шевелись, золотою уздою звеня!
Пусть сверкает зубов белоснежный оскал...»
Но Комедия уже недовольна благополучием собственного слуги.
Пришла пора отрезвить безраздельно царящего на сцене клоуна. Ибо
только она, прихотливая Муза-Цветунья (так, по-гречески Талией,
называли потом музу комедии), диктует спектакль всей труппе.
Захламившие сцену машины — журавель и платформа,— навязшие в
зубах приемы — все эти «разглядывания сверху» и «подглядывания в
щелку», ходовые насмешки, давно успевшие поглупеть ситуации, они
ведь тоже не полновластны в комедийной кухне Аристофана. Комедия
не нуждается в особых приемах, чтобы посрамить и себя самое: чуть
отпустит канат машинист-журавельщик, «напугается», словно забыв про
спектакль трусливый актеришка, и вот уже в толпу запущен чуждый
стих обманчивого экспромта:
«Ай-яй-яй-яй! Как страшно! Не до шуток мне!
Эй ты, машинный мастер, пожалей меня!»
Может быть, самыми эффектными комедийными сценами оказывались
именно те, что обнажали механизм и структуру самого спектакля.
Затверженный сценарий никогда не был мечтой комедиографа и
постановщика. Когда же к нему пришлось прибегнуть, комику осталось
самолично нарушать ранее намеченный ход действия неожиданным для
публики выталкиванием шута или хора из комедийной ситуации в
смешную сценическую очевидность: вот мужичок, подцепленный
журавлем, вот бутафорский жук-скарабей, а вон там, за щитом
декораций,— рабочий сцены, неловко качнувший журавля. Чудодейство
рассеивается, остается смехотворная шелуха беспорядочной возни с
разбушевавшейся театральной машиной.
Издревле воспитанная на неустанном разоблачении и передразнивании, аттическая комедия пародирует не только театр городской жизни или трагический театр Еврипида. Она свободна от
нежных чувств к себе самой, и высшая мера вышучивания присуща
отношению комедии к любому — и даже лучшему — собственному
спектаклю. В следовании характеру комической музы Аристофан
был не оригинален, и над собственной плешью он смеется больше,
чем все комики вместе взятые, и собственные спектакли успевает
высмеять громче любого соперника на Дионисиях.
Когда хор крестьян, узревших спасителя Гроздаря, сходится у
олимпийской кучи, по сценарию ему полагается немного попля-
сать в привычном кордаке. Хор пляшет, обрадованный близким
освобождением Миротворицы. Крестьяне и рады бы остановиться, больно
уж затянулась пляска,— но от радости —
«гляди,
Хоть стою на месте, ноги — сами ходят ходуном...
Левая нога за правой в пляску просится сама.
Счастлив я, свищу, ликую, и кряхчу, и хохочу!
Словно злую старость сбросил, так я рад, что кинул щит».
Как правило, кордак служил в спектакле интермедией, но чуткий к
незаметным ложным импровизациям комик ломает тонкую перегородку
между бессюжетным танцем хора и действием комедии и делает
Гроздаря, неуклюжего наездника ледащего конька, беспомощной жертвой
неуемного вихристого пляса.
Мост между амфитеатром и орхестрой иногда суживается, но никогда
не пропадает вовсе: парабасой ли или такими вот насмешливыми
разоблачениями собственных сценических приемов на живую нитку
сработанный спектакль старается вернуть зрителей в плясовой круг.
Иногда эти старания удаются: Сократ недаром принужден был стоять во
все время демонстрации комедии, где его тезка был главным шутом. Но
древняя практика соборного посрамления святынь обречена на неудачу,
фривольные выходы к зрителю, «дерзкие нарушения иллюзии»,
поименное выкликание некоторых из известнейших Дионисовых
заседателей — все это мало-помалу выходит из употребления. Когда
зритель
делается
невольным
участником
событий,
когда
неистовствующий на орхестре лицедей вдруг обращается к театру поверх
шутовской маскировки, афинянам потребна не язвительная насмешка, от
которой они отвыкают, но добродушное покалывание и льстивое
подмигивание, мол, «мы-то с вами, о мудрейшие зрители, понимаем друг
друга...».
Год спустя после неудачи «Миротворицы» Аристофан, как говорят
некоторые, предпринял новую попытку поставить комедию о
долгожданном мире; поставленная на Сусляных Дионисиях в архонтство
Аристиона, в 420 году «Другая Миротворица» не слишком отличалась от
своей первой ипостаси и победы комику не принесла. Горожане, видно, за
время войны погрубели, изящная двусмысленность, всегда приносившая
успех не одному Аристофану, больше не в чести, да и не чуют они
двусмысленности, иначе разве отдали бы первый приз Ферекрату? С его
«Дикарями» состязалась «Другая Миротворица».
Ферекрат, впервые выступивший со своей комедией за два года до
начала войны, считался самым что ни на есть аттическим из аттических
комиков, но написанные им два десятка хороших
комедий безвозвратно замурованы в темнице аттической истории. Хотя о
«Дикарях» его кое-что известно.
Некий афинянин, расплевавшись со взбесившимися согражданами,
потерявшими всякий стыд и уважение друг к другу, ищет в некотором
царстве, в некотором государстве покоя и блаженства. Однако же. страна,
куда он попал, оказалась населенной такими непотребными дикарями,
такою испорченною публикой, что бедняге оставалось только рыдать по
благовоспитанности, кротости, бесконечном человеколюбии и чувстве
собственного достоинства, коими — особливо по контрасту — обладали
афиняне. Хоть комплимент, преподнесенный Ферекратом афинской
публике, был сработан откровенно грубо, зрителей в театре Диониса он
вполне устроил.
Стоит заметить, что в этом случае самодовольным афинянам следовало
бы остеречься: слишком похожи они на Ферекратовых дикарей, чьи
повадки, хоть они и противопоставлены совершенному (комически,
правда) нраву афинян, случайно уцелели в том разгроме, что учинила
история творческому наследию самого аттического комедиографа Афин.
Уцелели, конечно, не сами повадки, а только с л о в е ч к и ,
предусмотрительно припрятанные аккуратным, но торопливым Афинеем
вместе со всем тем, что осталось от его бесконечной филологической
трапезы, один из участников которой — Кинульк,— рассуждая о
с о р о к о н о ж ках, заметил: «Сороконожка, когда испытывает нехватку
пищи, принимается за себя самое, чему свидетельством — стихи комика
Ферекрата в его «Дикарях» (вот они, ваши повадки, афиняне!):
«на оливках, на кореньях
мы сидим, а если голод
одолеет злою ночью,—
что твои сороконожки,
собственным закусим пальцем!»
Так и город Афины, когда дела идут неважно, берется первым долгом
за своих: не хватает пол-обола для голодного судьи, а у вас всегда в
запасе толстосумы на подкорм.
...Когда-то, давным-давно это было, когда царствовал у богов Кронос,
Зевсов отец, а у людей до владык еще не додумались, и вы, говорит
Ферекрат, были дикарями человечными: «...тогда еще не было у вас рабов,
всяких Манетов и Сикид, и женщины сами целый день крутились в доме,
а когда, по ночам, начиналась м о л о т ь ба, так вся деревня дрожала от
стука цепов». О чем это говорит Ферекрат? Афиняне не спрашивали об
этом...
Они глядели вниз, на равнину, уходящую к морю. Островки темной
зелени и серебристые оливковые рощи по правую руку тонут в бьющем
навстречу солнечном свете. Неспокойная лента
моря еще не очистилась от белесой дымки. Видно далеко кругом и вниз:
там — только крыши, там — белые и бурые домишки. Ветер иногда
относит слова, хоть и шопот обычно хорошо слышен с орхестры даже в
последних рядах...
ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
С воцарением «гнилого мира» Аристофан, сын эгинского
колониста, может быть, отправился на муравьиный свой остров —
поправить пришедшее в упадок хозяйство? Во всяком случае,
Афины он должен был оставить без особого сожаления,
обиженный пренебрежением горожан к его последним комедиям.
А может быть, и не на Эгину перебрался тогда Аристофан.
Туземные жители были выселены афинянами еще до начала войны
вместе с детьми и женами. Остров, расположенный ближе к
Пелопоннесу, нежели к аттическому берегу, уподобляли занозе в
глазу Пирея, и островитяне считались даже — за интриги —
виновниками вражды афинян с пелопоннесцами. Кое-кого из
исконных эгинцев разместили у себя спартанцы, большинство
рассеялось, но некоторые, вероятно, люди попроще, человечки из
ила, остались на острове. Афинским же колонистам, среди которых
была и родня Аристофана, приходилось во время войны то
собирать ополчение для отправки в Аттику, то ждать нападения
пелопоннесцев, и только нормальная жизнь поселян не грозила
афинским эгинцам. Что ж нам, гадать, куда отправился Аристофан?
Решение, боюсь, не мужественное и не очень-то достойное нашего
персонажа: пустившись за ним по пятам в область баснословия,
вымысла, иллюзий, мы рискуем упустить из виду город, где хоть и
не было видно Аристофана чуть ли не пять лет кряду, но где своею
подлинной жизнью жили герои комика. От этих Афин нельзя
уходить слишком далеко, тем более что в городе сгущаются
сумерки.
Глава 9
В СУМЕРКАХ
Между прочим, тем летом, когда поселенцы из Афин перебрались на
Эгину, случилось солнечное затмение. Некоторое время солнце имело вид
полумесяца, и на небе появилось даже несколько звезд. Фукидид,
сообщивший об этом, не сказал ничего о том, как отнеслись к
предзнаменованию новоявленные эгинцы, да только и аттическому улью и
эгинскому муравейнику ничего хорошего не предвещали звезды,
вылупившиеся на жарком небе сразу после полудня. К тому же в годы
войны в Греции часто случались землетрясения, временами
удерживавшие греков от беспрерывной драки; хотя Аристофан и не
проваливался в образовавшиеся трусом трещины, вполне способные и на
сокрушение храмов, он-таки пропал из виду. Пришлось ли ему нести
воинскую службу или обзавестись семьей, все это не просочилось сквозь
скаредные фильтры последующих столетий, но комическая сцена не
опустела и без Аристофана. От этих лет, правда, не сохранилось почти ни
кусочка комедий в словарях и схолиях, но известно, что именно тогда с
первыми спектаклями выступил в театре Диониса комик Платон, тезка
философа, может быть, служивший актером у кого-то из стариков, а с
первой комедией своей — «Муравьями» — выступивший в архонтство
Астифила. Потом он поставил «Победы», высмеивающие заключенный со
спартанцами мир, который горделивым афинянам-разинянам
казался
триумфом победителей, а потом — «Гипербола». «Гипербол», еще
сохранивший традиционный стиль крутых комедийных поношений,
оказался одним из последних выступлений артели Диониса в амплуа
привселюдного оскорбителя — в глаза и по имени — процветающего
вождя и любимца народа. Правда, времена менялись, и Платон
высмеивал Гипербола, уже хорошо чувствуя неуверенность демагога: ни
вызов в судилище, ни избиения уже не грозили новому комику; всем была
памятна скандальная история Аристофана, едва не заеденного клыкастым
Клеоном.
Сменивший Клеона Гипербол не пользовался ни влиянием, ни славой
своего предшественника, успевшего и на поприще воеводства
зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Гипербол, последний
человек из Перитедского округа, продавец светильников, личность,
служившая мишенью беспощадных нападок комиков, был спокоен, когда
его поносили поэты, и самая кислая ругань нисколько не коробила этого
отпетого, по оценке Плутарха, интригана. Он относился к общественному
мнению с презрением, повторяет Плутарх слова кого-то из современников
Гипербола,— поведение, в котором некоторые видят смелость и
мужество, но
которое в действительности надо называть нахальством и глупостью. Как
разгорячился из-за тебя Плутарх, Гипербол! И как, наверное, бушевал
Платон-комик! «Его никто не любил, но для народа он часто служил
орудием забрасывания грязью и клеветою выдающихся граждан». А чего
ему было бояться? Кого бояться, если ты беден и взять с тебя нечего? Вот
он и не боится. А зря. Комики в самом деле — народ неопасный:
пошуметь на праздник всякий любит. Кто их послушает, когда дойдет до
дела? Иначе обстоит оно с драматургами Города и Базара.
В затеваемых авантюрах каждый, кто заплетал свою политику,
сколачивал тесные «бандочки» своих людей,— не важно, играли они на
войну, как Алкивиад, или ставили на мир, как Никий,— так вот каждый
таким способом начинал возвышаться над остальным городом и более
мелкими противниками, мало-помалу овладевая несложной, но хлопотной
техникой манипулирования согражданами. Воеводы из благородных, со
времен Перикла хорошо усвоившие демагогические приемы крикунов из
толпы, всегда опасались, однако, решительного высовывания, мгновенно
вызывавшего у людей подозрения в тиранических намерениях. Круговая
порука власти, царившая в свободных Афинах и делавшая каждого
гражданина вместе рабом и хозяином города, представляла собою чуткую
паутину, решительно обволакивающую каждого, кто вознамерился
слишком сильно стянуть на себя приводные нити городской жизни.
Для упорядочивания процедуры черенкования — конфискации
имущества и высылки возвысившегося человека — было решено
объявлять о торжественном собрании по этому случаю за две притании,
или, по-нашему, за два с половиной месяца: этот срок был достаточен для
того, чтобы начавшие высовываться вовремя свернулись, а к изгнанию
намеченной жертвы город успел бы подготовиться получше. Плутарх,
рассуждая об остракизме как о мере «для уменьшения постоянно
возрастающей известности и влияния некоторых граждан, присуждаемых
к изгнанию», добавляет, что «мера эта служила скорее чувству зависти,
нежели страха». Для изгоняемого, правда, не так важно, из каких именно
соображений его подвергают столь тяжкому наказанию. Но человек
небогатый волновался меньше, ведь черепкование без конфискации
применялось исключительно редко и чаще всего тогда, когда имущество
черепкуемого оценивалось не слишком высоко. Именно поэтому
небогатый ламповщик Гипербол не боялся предстоящего черепкования:
не было еще случая, чтобы «защитника народа» — так почти официально
именовалась должность демагога — изгоняли из города. Куда больше
шансов быть подвергнутым остракизму у Феага, сына Эрасистрата, у
Никия, вынужденного ввязываться в споры с воинственной молодежью,
Алкивиада, по всей Греции
ищущего удовлетворения своих амбиций. Город тоскует по ревностной и
неустрашимой политике сладких Перикловых времен, когда в Афины
стекалось богатство, и само имя «афинянин» звучало как высшая похвала.
Но стоит только кому-то из благородных начать завязывать новые
узелки власти, стоит Феагу отправиться для переговоров в Сицилию, а
вслед за тем Никию с товарищами — в Спарту, а потом Алкивиаду — в
Аргос, как патриотическая чернь взбрыкивается, задетая возможной
угрозой иностранного влияния, а заподозренная в проспартанских или
проаргосских настроениях знать вскипает от внутреннего разлада, и вот
уже Никий берется утопить Алкивиада, Алкивиад — Никия, Феаг —
обоих, и оба они — Феага.
Молодежь, проголодавшаяся по военной славе, интриговала против
Никия и его сторонников, угомонившиеся вояки ругались с
неугомонными ветеранами, жаждавшими новых побед, и равно всем
грозил «самый дерзкий и испорченный нравственно гражданин Афин»
(так называет Гипербола, конечно, Плутарх). Аристократы, повинуясь,
как сказал бы и Платон, классовому чутью, объединили усилия и успешно
сбросили Гипербола в яму, вырытую им самим для Феага, или Никия, или
Алкивиада. Народ сперва весело смеялся, когда выяснилось, что
черенковали Гипербола, а не кого-нибудь из знати, но потом опомнился:
благородные провели народ, ибо человек, заслуживающий, скорее,
колодок, как думал все тот же Плутарх, был подвергнут наказанию,
которым ему впору было гордиться как наградой. Почуяв, что этот
демократичнейший из всех афинских законов может быть использован
против самих же «защитников народа», Собрание в дальнейшем от
черепкования воздерживалось, и Гипербол оказался последним
черенкованным афинянином. Правда, эти запоздалые ограничения
полновластия черни уже ничего не могли изменить. Раздор набирал силу,
толпа была взбаламучена видами победоносной войны и бредила
прежним могуществом, мудростью прежних властителей города. «Ах, как
жилось в их грезах Кимоновым Афинам!..» Как ни дивны Перикловы
времена, а величие города было заложено еще при старике Кимоне. Это
ведь он на деньги от персидской кампании выстроил южную стену
Акрополя, заложил фундамент для Длинных стен. Местность там, кстати,
была болотистая, а Кимон прочно укрепил ее, засыпал болото
множеством возов щебня, пустил на дно его тяжелые валуны. Он первым
украсил город прелестными местами для прогулок, городскую площадь
обсадил платанами, Академию, находившуюся в безводной местности,
превратил в рощу, богато орошаемую, с тенистыми аллеями и открытым
местом для бега. В отношении других греков он не употреблял на-
силия, думали афиняне, а только брал от нежелающих участвовать в
походах деньги и пустые корабли, предоставляя им, рисовавшим картины
мирной жизни, заниматься своими домашними делами и превращаться
благодаря своей роскошной жизни и глупости из воинов в мирных
землепашцев и купцов. Афинян же Кимон сажал по очереди толпами на
корабли и, приучая их к лишениям военной службы, вскоре, вследствие
жалованья и денег, вносимых союзниками, сделал их господами
легкомысленных и трусливых давальцев. Афиняне не расставались с
морем, всегда были вооружены, кормили сами себя и становились
хорошими вояками, а уклонявшиеся от военной службы союзники
приучились поэтому бояться их и льстить им, незаметно превращаясь в их
подданных и рабов.
Кимон, конечно, был не в моде в Афинах Никия и Алкивиада,. ведь
никто из сограждан за всю историю города не любил так спартанцев и не
был почитателем Спарты, как Кимон, считавший, что превосходство
Афин над Спартой сделает Элладу «хромою». Но как бы то ни было
именно Кимон был одним из отцов-основателей аттической славы, и
Кимоновы времена грезились афинянам в дни Пелопоннесской войны в
дурманящем ореоле вечного благополучия и непререкаемой власти над
всею Грецией. Вспоминая о Кимоне, только слабодушный не думал о
сохранении ревностной и неустрашимой афинской политики. Во главе с
Кимоном они захватили Эйон на Стримоне и продали его жителей, потом
высадились на Скирос, что в Эгейском море, продали в рабство его
жителей, а остров заселили колонистами, потом они заставили сдаться
каристян, потом покорили отпавших было наксосцев. Впоследствии та же
участь постигла и другие города. Вот каков был неустрашимый и
ревностный сын Мильтиада, не употреблявший насилия в отношении
остальных греков...
Кто назвал бы умело разыгранной драмой события в городе, на базаре,
в гавани, тот не ошибся бы, и только в поисках жанровой принадлежности
этой драмы, возможно, зашел бы в тупик. Дело было бы чистопородной
комедией, ограничься оно черепкованием людишек вроде Гипербола и
рабским страхом аристократических интриганов перед клыкастой чернью.
Времена золотого Кимона, наследника побед над персами, и серебряного
Перикла, придавшего Афинам опасный статут столицы эллинства,
времена роста и расцвета проходят. После первых неудачных лет войны
население города на три четверти разбавлено отъявленным сбродом,
деревенщиной, бездельниками, дезертирами, женщинами и инвалидами, а
цветут теперь не Кимоновы рощи, но повсюду вынюхивающие жирно
пахнущий след доносчики, сидящие на жалких подачках судейские, да
еще на всем ухитряющиеся погреть руки торгаши, да красноречивые
бахвалы вкупе с безумствующими фисиками, толкующими о каких-то
«законах природы», да нашедшие кров и стол
в тесноте аттической столицы акробаты и эквилибристы, в том числе
орудующие языком. Простолюдью неуютно в собственном городе. В
Афинах Кимона и Перикла, тогда еще просто большой деревне, они почти
все знали друг друга — кто из какого околотка, кто чей сын, где чьи
наделы, где дома, какой у кого скот, а теперь в разросшейся толпе своего
встречаешь не так уж и часто. Все больше незнакомых лиц. «Да, все мы
говорим на одном языке, все, слава богам, ионийцы, и все мы одинаково
одеты, в одинаково дырявых плащах, одинаково протертых сандалиях, с
одинаковыми посохами в руках, но ведь это только в театре паяц
поименно выкликает нас с орхестры, и держимся мы толпою, чтоб,
расчленив, нельзя было нас одолеть, и решения свои принимаем все
больше единогласно, чтоб внутренним раздором никому не дать завладеть
нами. Вот только по имени мы не знаем друг друга, мы — народ».
* * *
...Сократ, пока мы еще не слишком далеко отошли от дома Каллия,
попробовал возразить Протагору, что в отношении Перикла и его
приемышей тот все-таки заблуждается.
— Ответь мне вот на какой вопрос,— попросил Сократ.— Как ты
думаешь, афиняне благодаря Периклу стали лучше или же, наоборот,
развратились по его вине? Я по крайней мере только и слышу, что Перикл,
впервые установив и введя жалованье, превратил афинян в лодырей,
трусов, пустомель и корыстолюбцев.
— Уж не от молодцев ли с изуродованными ушами слышал ты это,
Сократ? — вмешался в разговор Алкивиад. А надо вам заметить, что
изуродованные уши — примета драчуна-спартанца, целыми днями
борющегося ради предоставления крепкого тела спартанскому войску.
— Молчал бы лучше,— одернул Алкивиада Сократ и, уже обращаясь
к нему, продолжал так: — Но вот что я уже не от других слышал, а знаю
точно, и ты тоже знаешь, что сперва Перикл пользовался доброю славой, а
афиняне не присуждали его ни к какомy позорному наказанию, пока сами были «хуже», когда же заслугами
Перикла сделались честны и несказанно благородны — к концу его
жизни,— то осудили его за воровство и чуть было смертного приговора не
вынесли, считая его, видно, скверным гражданином.
— Ну так что же, признать по этой причине Перикла
дурным? — прямо спросил Алкивиад.
— Во всяком случае, скотник, присматривающий за ослами,
лошадьми или быками, казался бы дурным при таких обстоятельствах,— если бы он принял животных смирными, и они не лягали бы его,
и не бодались, и не кусались, а потом, под его присмотром, вдруг
одичали. Или тебе не кажется дурным скотник — кто бы
он ни был и за каким бы скотом ни ходил,— у которого животные
дичают? Да или нет?
— Да, да — только бы тебе угодить!
— Тогда угоди мне еще раз и скажи: человек тоже одно из живых
существ?
— Не иначе!
— Стало быть, Перикл присматривал за людьми?
— Да.
— Что же получается? Не следовало ли им, как мы с тобой только что
установили, сделаться под его присмотром справедливее, если он
действительно хорош и искусен в государственном управлении?
— Непременно, Сократ.
— Но справедливые смирны, как говорит Гомер. А ты что скажешь?
То же, что Гомер?
— Ну, да.
— Но у Перикла они одичали и вдобавок накинулись на него самого,
чего он уж никак не ожидал.
— Ты хочешь, чтоб я согласился с тобою?
— Только если находишь, что я прав, дорогой мой Алкивиад.
— Ну, будь по-твоему.
— А если одичали, значит, сделались несправедливее и хуже?
— Пусть будет так.
— Выходит, стало быть, что Перикл не был искусен в
государственном управлении?
— Да, не был, если верить тебе.
— Нет, клянусь Зевсом, и тебе тоже, раз ты не отказываешься от того,
с чем раньше соглашался.
Алкивиад понимал, на что вызывает его ревнивый и сильный спорщик
— Сократ, проницающий юного воеводу, уже пожалевшего, что так
опрометчиво перебил лысого хитреца, при всех поносившего афинян.
Сократ ведь знал о нем и кое-что еще, покамест утаенное от города.
...Однажды Алкивиад пришел в дом к Периклу, желая переговорить с
ним. Ему отвечали, что Перикл занят составлением отчета для
представления его афинянам. «Лучше б он подумал о том, как бы не
давать афинянам никакого отчета» — так сын Клиния и Диномахи острил
в присутствии сына Софрониска и Фенареты, и Сократ не забыл того, что
сорвалось тогда с уст любимого ученика.
Вспыхнувший было спор утих, ибо речь Протагора все еще волновала,
как кажется, Сократа.
— Вот видишь, Протагор, мы с Алкивиадом установили, что
даже Перикл не был искусен в управлении государством. А что
говорить о Кимоне! Разве те самые афиняне, которых он выхажи
вал, не подвергли его черепкованию, чтобы десять лет не слышать
его голоса? И с Фемистоклом поступили точно так же, приговорив его к
изгнанию, или нет? А Мильтиада, победителя при Марафоне,
постановили сбросить в пропасть и сбросили бы, если бы не вмешался притан. Будь они, однако ж, все четверо людьми достойными и
дельными, как ты утверждаешь, никогда бы с ними не случилось ничего
подобного. Так не бывает, чтобы хорошие колесничии сперва не падали
с колесницы, а потом, когда выходят коней
и сами станут опытнее, тогда бы вдруг начали падать.— Не бывает так
ни в управлении колесницей, ни в любом ином деле. Или ты другого
мнения?
— Нет-нет,— ответил Протагор.— Вот только за лошадей,
раз ты сам выбираешь примеры, мой милый Сократ, я позволю
себе возразить, что кочевники, савроматы, те, например, держат очень
много лошадей, употребляя их не только для войны и состязаний, но
приносят в жертву своим богам и едят, а лошадиные копыта собирают,
вычищают кремневыми скребками, тонко нарезают на пластинки,
похожие на чешую дракона, а кто не видал дракона, знает, вероятно,
зеленую сосновую шишку. Эти кусочки они пробуравливают, сшивают
воловьими и лошадиными жилами и приготовляют панцири, которые
нисколько не уступают эллинским ни в красоте, ни в прочности, потому
что так же хорошо выдерживают удары с близкого, как и с далекого
расстояния. Льняные-то панцири в сражении никуда не годятся, ведь при
сильном ударе они пропускают и легкий дротик. Они хороши на охоте,
потому что львы и барсы путаются в них зубами и когтями. Льняные
панцири я видал в нескольких храмах, а особенно много в Гринии,
где есть прекрасная роща Аполлона, состоящая из плодовых деревьев, да
и из неплодовых, но имеющих приятный запах или красивый вид...
— Постой-постой, ты что-то отвлекаешься от темы, милей
ший,— прервал Протагора Сократ.— Итак, значит, мы, по-видимому (а все-таки сбил его маленько Протагор!), вообще не знаем
ни одного человека в нашем городе, который оказался бы хорош и
искусен в государственном управлении. Да и Алкивиад, наверное,
подтвердит, что («Ай, молодец Протагор, уязвил-таки силена
проклятого! В самый раз — необъезженных да брыкливых— в огонь, а
для дела и копыта сгодятся!») в нынешние времена так
оно и есть, а мы только что увидели, что и те четверо ничем не лучше нынешних. Если они и были ораторами, то истинным красноречием
все равно не владели, ибо в таком случае они не потерпели
такого крушения, да и льстивым, или параситическим, красноречием они тоже владели, пожалуй, слабо.
— И все же, Сократ, нынешним-то до них куда как далеко:
ведь никто из них не способен на такие дела, какие совершал любой
из тех четырех.
— Дорогой мой,— примирительно проговорил Сократ, косясь на
Алкивиада левым, а на Крития — правым своим выпученным глазом,—
если говорить о том, как они служили городу, я их тоже не хулю,
напротив, мне сдается, были они расторопнее, чем нынешние служители,
и лучше умели исполнить все желания нашего города. Но в том, чтобы не
потакать желаниям, а давать им иное направление — когда убеждением, а
когда и силой — таким образом, чтобы граждане становились лучше,—
тут у прежних нет, можно сказать, ни малейшего преимущества даже и
перед самыми молодыми и зелеными из нынешних руководителей. А в
этом одном и заключается долг хорошего гражданина! Что же до
кораблей, оборонительных стен, судовых верфей и многого иного тому
подобного, я с тобою согласен — прежние были ловчее нынешних.
Вот только почему они не смогли научить афинян быть хорошими
гражданами? Пока Сократ ответит себе и другим на этот вопрос, пройдет
еще несколько лет, да и не он один задумывался над судьбою своего
города. Он не питал иллюзий на счет Кимоно-вой и Перикловой златой
поры, понимая, что как раз в эти годы расцвета и благополучия
всевластных Афин приспел обидный надлом. Сократ разглядывал его
подноготную, иные вопрошали о корне нынешних тревог самих богов. А
поэты, взыскуя правды, пытают Муз.
Накануне позорного остракизма Гипербола комедию «Хирон»
поставил Ферекрат. Времена для прямых поношений аттической публики
были неподходящие: народ, игравший комедию изгнания собственного
вождя, порядком «одичал» (о, Сократ, и ты ведь некогда был
демократом!). И вот Ферекрат, радетель чистоты аттической речи и
традиций, завещанных старинными служителями Муз, не тронул, если
судить по немногим цитатам, и Алкивиада, нежнейшего любовника
легкомысленных афинянок из комедий: не в театре Города ищет Ферекрат
источники нынешнего разложения Эллады. Сама Справедливость
вызывает свидетелей по делу о падении нравов и нынешнем гибельном
состоянии греческих городов. И среди главных — Музыка, или Искусство
Пения под Кифару и Флейту. Не смейся над мусическими объяснениями
падения нравов, читатель. Ведь и Ферекрат не был первым
истолкователем такого падения.
К концу персидских войн все оставалось еще по-старому, и во времена
кифариста Аристоклида играли на лирах-семиструнках. «Но вот появился
Меланиппид, не пожелавший оставить в нетронутом виде божественный
инструмент, и натянул дюжину струн, нарушив небесный семеричный
строй. Черное дело Меланиппида, потакавшего самым невзыскательным
вкусам, продолжил Фринид, заставляя петь семиструнку на двенадцать
ладов. А флейтисты вконец изувечили мои свирели, изрешетив их
буравчиком!»
Так жалуется Музыка, и жалобам этим полтысячи лет спустя поддакивает
Плутарх: «Игра на флейте монотонности предпочла тогда необычайную
пестроту звучания. До Меланиппида поэты нанимали флейтистов, чтобы
те подыгрывали на репетициях и во время выступлений. Но времена
переменились». Что случилось?
— А то, что в пестроте звучания флейтисты отыскали собственную
прелесть и пожелали выступать соло, гордынею отринув старинное
мудро-однообразное подвывание и подвизгивание хору, исполнявшему
вдохновенные дифирамбы.
Это и погубит вас, афиняне! Флейта вышла из повиновения, и нам уже
не вернуть блаженной простоты и надежности старины. «Другое дело —
Спарта»,— как приговаривал Кимон. «Серьезнейший эллинский историк
Фукидид,— объяснит нам Авл Геллий в своих «Аттических ночах»,—
говорит, что лакедемоняне, превосходнейшие воины, пользовались в
битвах мелодиями флейт, притом вовсе не в силу какого-либо
религиозного обряда, не ради священной церемонии, не для того, чтобы
возбуждать и воспламенять сердца, что производят рога или горны,
напротив, для того, чтобы умерять их движения и делать их более
правильными, что достигается мерного игрою на флейтах. Посему в
схватках с неприятелем и в начале сражения лакедемоняне считали
наиболее подходящим для сохранения жизни и поддержания храбрости
удерживаться от неумеренной ярости более нежными звуками». Эстет
Геллий уже не знает ни старинных аттических флейт, ни тех, что сухим
отрывистым свистом дирижировали в натиске спартанской пехотой, вот
он и фантазирует про «нежные звуки». Мы-то знаем, что у флейты
«голос нервный».
Впрочем, только легкомысленному комику пристало искать причину
афинских неурядиц в дырочках свирелей, в струнах лир. Может быть, на
самом театре военных действий отыщется корень свалившихся на город
бед? Ведь положение портилось день ото дня. И аргивяне и спартанцы
очень быстро раскусили ненадежное партнерство афинян и (как водится,
повоевав немного) решили заключить между собою союз на 50 лет,
решившись разбирать возникающие между ними споры по заветам
отцов, прибегая к третейскому судье. Этот союз двух
могущественнейших государств Пелопоннеса придал силы настроенным
на войну сторонникам Алкивиада. Новый Пелопоннесский союз
интриговал уже и во Фракии, побудив несколько городов, прежде
союзных Афинам, отпасть и примкнуть к пелопоннесцам. Алкивиад,
мечтавший опробовать свой грозный титул воеводы, немедленно отплыл
на 20 кораблях в Аргос, схватил там 300 аргивян, сочувствовавших
спартанцам и под спартанским покровительством упразднивших
демократию в Аргосе, и высадил их на Эгину, ставшую уже некоторое
время назад афинским пересыльным лагерем для военнопленных. Пе-
ренаселенный город ждет добычи, а взносов от союзников все меньше,
все новые города и острова отпадают, беднеющая столица Аттики (и
школа всей Греции, заметит строгий почитатель Перикла) не может
дольше ждать от мира радостей. Только нормальное состояние — война
— вернет городу и честь, и деньги, и дешевую снедь на рынке, и дорогие
малоазийские сладости. Алкивиад, колдуя над взлелеянной грезой
афинской империи, убедил аргивян выстроить Длинные стены по
афинскому образцу, выписал новых архитекторов и каменщиков из
родного города, чем заслужил любовь и своих и чужих. Длинные стены
между городом и гаванью стали строить и в Патрах. Не всем, правда,
нравились слишком крепкие дружеские объятья афинян, и один из
правителей Патр спросил Алкивиада:
— А не проглотите ли вы нас эдак-то, легко пробравшись из порта в
город?
— Проглотим, проглотим, милый, только постепенно и начиная с
ног. А вот спартанцы проглотят вас разом и начиная с головы...
Так, с шутками и прибаутками, сколачивалась уже выпестованная в
мечтах держава.
Миротворчество Никия выдыхалось, снаряжалась большая эскадра —
тридцать афинских, шесть хиосских и два лесбосских корабля...
Не этот ли вклад Лесбоса в союзнические операции заставил
Ферекрата в «Хироне» передразнить Гомера?
«Одиссей.
А вот тебе и семь бабенок с Лесбоса!
Ахиллес.
Семь лесбиянок — неплохой подарочек!»
Чем не понравились Ферекрату лесбосские кораблики, островитяне
ведь хорошие мореходы!
...На борт 38 кораблей Алкивиад взял 1200 пехотинцев-десантников,
300 лучников, 20 всадников из самих Афин, не считая еще около
полутора тысяч ополченцев от союзников и островитян. После удачной
операции, проведенной в Аргосе куда меньшими силами, Алкивиад,
собрав почти вдвое больший флот, был спокоен за успех и этой операции.
Подольстившись к беднякам — каменщикам и плотникам, вовсю
трудившимся в союзных портах и на аттических верфях, в каменоломнях
Арголиды и в почти уже вырубленных лесах Аттики, Алкивиад успевал
заниматься и собственными делами, придавая им, впрочем,
государственное значение. На Олимпийских играх, состоявшихся
незадолго до нарушения перемирия, он выступил сразу с семью
колесницами, сорвав три первые награды, чем вызвал восхищение
иностранцев и настороженность сограждан: слишком уж пышными
декорациями обстав-
лял сын Клиния свое появление перед греками. Получив с колесницами
своими то, чего давно добивался, Алкивиад пустился праздновать
успех, предоставив городу торопливые сборы в новый поход, смоление
канатов, тачанье панцирей из бычьей кожи, острение копий и весь тот
жертвоприносительный вздор, в дыму которого мелькают сухонькие, но
прожорливые старикашки вещуны, юркие воришки из Пирея, Скамбонид
Марафона. Рабы и женщины приносят домашние отворотные жертвы,
пекут лепешки и готовят иную снедь, как положено, на три дня;
околоточные старшины сверяют списки ополченцев...
...В доме Каллия провожали красавца Автолика. Старикашка Ликон,
хмурый недоброжелатель Сократа, собрался увести Автолика к себе, а
Каллий говорил, что и здесь хватает благоуханного масла для умащения
бород и усов. «В знак нашей взаимной любви, в знак дружбы!»—
приговаривал он.
— Негоже мужчине источать ароматы флейтисток,— удержи
вал Каллия Сократ,— как гимнаст и будущий воин он должен
благоухать потом и мускусом.
— А от нас,— встрепенулся Ликон,— от нас, стариков, чем
должно пахнуть, если мы уже не можем заниматься гимнастикой и войною?
— Добродетелью,— без промедления ответствовал Сократ.
Глава 10
«ОНА УЛЫБАЛАСЬ УСТАМИ, НО ЧЕЛО У НЕЕ МЕЖДУ ТЕМНЫХ
БРОВЕЙ НЕ СВЕТЛЕЛО»
Можно было бы подумать, что, говоря о театре Города и Гавани, автор
силится — в угоду главному предмету своего рассказа — всю афинскую
жизнь представить сквозь узкое оконце лицедейства и набрасывается на
полисные распри из безотчетного желания оправдать язвительных слуг
Диониса от обвинений в грубости, неприкрытой наглости, с какой самым
выдающимся из сыновей Афин доставалось во время комедийных
представлений. Но дело в том, что даже Народные собрания проводились
в Афинах — особливо с тех пор, как деревянные леса были заменены
каменными ступенями,— в театре Диониса. Из культовых помещений
Афин и Пирея ни одно не подходило так, как театры Верхнего и Нижнего
Города, для Собраний — этого будничного священнодействия. Твердость
политического жречества — демагогов, пылкость посвященных, трепет
привлекаемых к ответственности — жертв — все это сдобрено было
жертвоприношением натуральным, старомодными жрецами и вещунами,
еле слышимым «бббеее» курчавой живности перед закланием. Как и во
время праздничного спектакля, так и в Собрании, свобода толпы
высказаться по ходу дела была и мала и велика. Шум, брань, горсть
орехов или сушенья делали ощутимыми даже самые слабые токи в
людском котле, в теле толпы. Алкивиад недаром опасался, когда
спартанские
послы
приехали
с
мирными
предложениями,
непредсказуемых движений этого огромного тела, с готовностью
отдающегося, кажется, только судьбе, а в момент решительного выбора
могущего вдруг шарахнуться, захрапев, и лягнуть что есть силы коневода.
Не так ли случилось с Гиперболом, самонадеянно вообразившим себя
(ведь и он, илистый ламповщик, был плоть от плоти всех этих
неразличимо многих людей) неуязвимым для ее давящих прикосновений?
Да, это спектакль, согласился бы Алкивиад, а с ним и всякий другой,
выбирающийся хоть на вершок над головами сидящих в первых рядах,—
но только спектакль, поставленный наудачу — массовка не подведет, а
хороших актеров вывезет случай, храбрость и... Искусство?
Искушенность? Но таковы ведь не одни афиняне, поправил бы нас
Алкивиад. Кто разберется в тонкой химии человеческого обилия?
За полгода до того, как явиться пьяным на пир к Агафону и спустя
некоторое время после олимпийской троекратной победы,; Алкивиад —
как воевода молодой и горячий — в составе триумвирата (двое других
воевод были Клеомед, сын Ликомеда, и Тисий,
сын Тисимаха) отправился с флотом из 38 кораблей на союзный Спарте
остров Мелос.
Афинянам хотелось, чтобы остров признал союзничество с ними, или,
по-нашему, признал себя государством, находящимся в зоне влияния
Афин. Мелосцы же пытались выговорить себе нейтралитет. Когда,
однако, афиняне стали принуждать их подчиниться, опустошая остров,
дело дошло до открытой войны. После того как афиняне остановились
наконец в своем продвижении к столице острова, в город были
отправлены послы, чтобы договориться с мелосцами. Фукидид
говорит, что «островитяне не пустили послов в Народное собрание, но
предложили изложить свое поручение в кругу властей и нескольких
знатнейших граждан». Стало быть, и не допускали до себя послов не
сами мелосцы, но «знатнейшие граждане» и «круг властей»; как
спартанский союзник Мелос был государством не демократическим и
Совет на острове был не выборный, хотя и ревностно исполняющий свой
почетный и труднейший долг перед остальными гражданами, коих в
совокупности и следовало бы называть мелосцами, или мелосским
народом. Эти-то мелосцы, столпившиеся в городских стенах, меньше
всего думали о демократии, несомой афинским воинством (не оно ли
вытаптывало пашню и корчевало виноградники), но правители острова,
или, как их там называли, Заседающие, держались на этот счет другого
мнения, ибо понимали, что народу достаточно недолгого размышления,
чтобы предпочесть иную форму правления опустошению, сулившему в
лучшем случае голод уже ближайшей зимою. Еще и потому Заседающие
опасались Народного собрания, что знали они афинских воеводкраснобаев — коварного сына Клиния и речистого сына Тисимаха, о
котором говорили, что вместо истины он предлагал почитать больше
вероятность, силой своего красноречия выдавал малое за большое, а
большое за малое, новое представлял древним, а древнее — новым, и
готов был измыслить по любому поводу то сжатую, то бесконечно
пространную речь, которая и на этот раз, конечно же, убедила бы
мелосцев отказаться от их, Заседающих, власти и пойти по афинской
указке бараньим демократическим стадом. Сами-то Заседающие не
боялись поддаться чарам аттических говорунов.
Но те — и это была, конечно, уловка Алкивиада — не пожелали воспользоваться обычными приемами убеждения, когда собеседника водят за нос, а потом, не давая опомниться, ладят хомут.
— Наши переговоры ведутся не в Народном собрании, очевидно, с той целью,— начал Алкивиад,— чтоб мы сразу не ввели
в обман ваших людей, развернув перед ними в одной речи соблазнительные и неопровержимые доводы. Мы ведь понимаем, ради
чего вы решили привести нас в этот тесный круг. Давайте же не
будем обмениваться длинными протокольными речами, но побесе-
дуем, чтобы вы могли судить не по одной речи, но прерывать нас и
возражать по любому поводу в случае несогласия с нами. Согласны вы с
таким предложением?..
...За годы политической борьбы Алкивиад кое-чему научился и сам, но
эту вот манеру — в самом начале переговоров навязать противнику свой
стиль спора — он усвоил еще тогда и благодаря Сократу.
А тогда Сократ, выслушав красноречивого Протагора, почуял, что
трудно ему будет одолеть, если и дальше запевалой в споре останется
Протагор, ведь стоило Протагору кончить, присутствующие зашумели:
как хорошо он говорит! А Сократ сказал:
— Протагор! Я на беду человек забывчивый и, когда со мною говорят
пространно, забываю, о чем речь. Вот если бы случилось мне быть тугим
на ухо, ты бы ведь счел нужным, собираясь со мною разговаривать,
громче произносить слова, так и теперь, имея дело с забывчивым, ты мне
расчленяй ответы и делай их покороче, чтобы я мог за тобою следовать.
— Как же прикажешь мне отвечать кратко? Короче, чем нужно?
— Никоим образом,— уверил его Сократ.
— Значит, так, как нужно?
— Да.
— А насколько кратко я буду тебе отвечать: насколько мне кажется
нужным или насколько тебе?
— Слышал я, однако, Протагор, что ты и сам способен и другого
умеешь научить об одном и том же говорить, по желанию, или так
длинно, что речь у тебя никогда не прервется, или так коротко, что никто
не превзойдет тебя в краткости. Если хочешь со мною беседовать,
применяй второй способ — краткословие.
— Сократ! — сказал Протагор.— Я уже со многими людьми
состязался в речах, но если бы я поступал так, как ты требуешь, и
беседовал бы так, как мне прикажет противник, я никого бы не превзошел
столь явно, и имени Протагора не бывало бы между эллинами.
— Видишь ли, Сократ,— вмешался тогда в их спор Каллий,—
кажется, Протагор прав, считая, что ему разрешается разговаривать, как
он хочет, а тебе — как ты хочешь.
Но тут Алкивиад возразил:
— Нехорошо ты говоришь, Каллий. Сократ ведь признается,
что не умеет вести длинные речи и уступает в этом Протагору; что
же касается ведения беседы и уменья задавать вопросы и отвечать
на них, то я бы удивился, если бы он в этом уступил хоть кому-то.
Вот мне и кажется, что Сократ говорит дело: нужно, чтоб каждый
выказал, к чему он склонен...
А что было делать мелосцам, если способ ведения переговоров
им указывал противник, уже разбивший палатки у самых стен города?
— Мы не возражаем,— ответствовали мелосские Заседаю
щие,— против вашего благожелательного предложения спокойно
обсудить дело. Однако ваши военные приготовления явно противо
речат вашим словам. Ведь вы пришли сюда как судьи с притяза
нием на окончательное решение в предстоящих переговорах. И, по
всей вероятности, если мы при этом останемся правы в споре, то
вы войною захотите испытать эту правду; если же мы согласимся
с вами, то попадем в рабство.
...Между прочим, и Сократу с Протагором предложил тогда Гиппий
избрать судью, распорядителя и председателя, который наблюдал бы за
соразмерной длиной речи каждого из спорщиков, а потом — вынес бы
приговор. Но Алкивиад хорошо помнил, что Сократ (ах, как понравилась
тогда Алкивиаду изворотливость учителя!) сказал, что стыдно было бы
выбирать судью для речей:
— Если выбранный будет хуже нас,— сказал он,— тогда не
дело, чтобы худший руководил лучшими; если он одинаков с
нами, это будет тоже неправильно, потому что одинаковый оди
наково с нами будет действовать, так что незачем и выбирать.
Быть может, вы выберете лучшего, чем мы? По правде-то, я думаю,
не выбрать вам никого мудрее вот его, Протагора. Что касается
меня, то мне все равно, лишь бы только не портить беседы. Ради
этого вовсе не требуется особого руководителя — все вы сообща
будете руководить...
Алкивиад предложил мелосцам почти то же самое, с тою лишь
разницей, что у гостей Каллия была возможность вообще отказаться от
спора Сократа и Протагора, а вот у Заседающих такой возможности
уклониться от дискуссии с Алкивиадом и Тисием не было.
— Людям в нашем положении,— говорили мелосцы,— много
говорить и высказывать различные мнения — естественно и про
стительно, к тому же ведь это собрание собрано для нашего же
спасения.
Поэтому пусть обсуждение, если вам угодно, идет так, как
предлагаете вы.
— Можете быть уверены,— наперебой заговорили сын Тиси
маха и сын Клиния,— мы постараемся показать вам, что пришли
ради пользы нашего владычества, а значит, говорить с вами будем
о спасении вашего города. Ведь мы не желаем такого господства над
вами, которое было бы вам в тягость; напротив, мы хотим вашего
спасения к обоюдной выгоде.
— Но как же рабство может быть столь же полезно нам, как вам —
владычество? — подивились Заседающие.
— Да потому, что вам будет выгоднее стать подвластными нам:
ведь в противном случае вы претерпели бы жесточайшие бедствия. Наша
же выгода в том, чтобы не нужно было вас уничтожать.
...Алкивиад, лучший из тогдашних греческих лицедеев, понимал,
конечно, что за этой риторикой стоят опаснейшие для Афин угрозы. «Если
мы, даже победив, подчиним себе этот разоренный город, то все-таки
останемся без доходов, от которых и зависит наше могущество. А в случае
неудачи мы наживем себе новых врагов, кроме уже существующих, и нам
придется бороться с собственными союзниками, в то время как воюют
обыкновенно с заклятыми врагами». Но и против этого соображения
имелось, казалось, в запасе кое-какое средство, а потому ни Алкивиад, ни
Тисий не стеснялись слов, поддерживаемых флотом из сорока кораблей и
тремя тысячами лучших десантников, возле палаток которых мерцали
желтые огоньки костров...
— Но почему все-таки вы не согласитесь оставить нас нейтральными,
не врагами вам, а друзьями, с условием, что мы не вступим ни в один из
союзов? — недоумевали мелосцы.
— Да очень просто! Ведь для нас вредна не столько ваша вражда,
сколько такая дружба, на которую подданные наши взирали бы как на
свидетельство нашей слабости, тогда как ненависть и вражда к нам будет
служить доказательством нашего могущества.
Тисий был учеником Горгия, и ему пришлась по душе только что
составленная фигура, вполне убедившая и мелосцев в том, что по части
убедительности афиняне быстро уходят вперед.
— Но неужели вы хотите всех нейтральных островитян сделать
своими врагами? Ведь, увидев нашу участь, они поймут, что когда-нибудь
придет и их черед. И если вы для удержания своего господства, а
подчиненные вам — ради избавления от него, отваживались на
величайшие опасности, то мы, пока еще свободные, были бы
величайшими трусами, если бы не использовали все средства к спасению,
прежде чем стать рабами. Если мы тотчас уступим вам, то лишимся всякой
надежды, если же будем действовать, то у нас останется хоть надежда
выстоять.
— Надежда, утешение во всякой опасности,— вяло заговорил
Алкивиад,— если и повредит человеку, располагающему избытком
средств, то не погубит его окончательно. Но тот, кто ставит на карту все
свое состояние (ведь надежда по природе расточительна), видит ее полную
обманчивость лишь в момент полного крушения, когда уже поздно
остерегаться. Вы — бессильны, ваше существование на волоске. Не
повторяйте ошибок большинства людей, которые в беде или во время
недуга, когда спасение еще не превышает человеческих возможностей,
пренебрегши действительными надеждами, обращаются к призрачным и
прибегают к предсказаниям, оракулам и подобным обманкам, которые
верящим в них несут только гибель.
— Боги нас не оставят,— сказали мелосцы.
— Со стороны божества, я полагаю, и мы можем не опасаться
поражения,— уверенно произнес Тисий.— Ваши собственные силы
слишком слабы, а спартанцы далеко. Так что не стоит вам поддаваться
тому ложному чувству чести, которое в явных и несущих позор и
опасность положениях чаще всего толкает людей на гибель.
— Да-да,— подхватил Алкивиад, спеша сказать последнее слово в
этом споре не только на деле, но и здесь, на словах,— многие ведь заранее
видели, что им предстоит, но так называемое чувство чести
соблазнительной силой этого слова довело их до того, что они,
склонившись перед ним, попадали в непоправимые беды. И безрассудство
всегда оказывалось сильнее неблагоприятных обстоятельств. Так что
будьте благоразумны и не думайте, что вашей чести противоречит отказ
от сопротивления великой державе, которая выставляет умеренные
требования: присоединиться к союзу с нею, платить необременительный
взнос, сохраняя при этом владение землей. Не настаивайте только из
упрямства на худшем.
Но мелосцы не согласились. «Наше мнение и воля неизменны, и мы не
желаем,— сообщили они назавтра афинским воеводам,— в один миг
отказываться от свободы в городе, существующем уже семь столетий. Мы
предлагаем вам мир и дружбу, но в войне хотим остаться нейтральными и
просим вас покинуть нашу страну, заключив приемлемый для обеих
сторон договор».
Афиняне плотно осадили город и ждали удобного момента для
приступа, пока спартанские союзники медлили с помощью (они было
выступили,
да
пограничные
жертвоприношения
оказались
неблагоприятными, и пришлось вернуться по домам). Алкивиад — для
полной уверенности в победе — высиживал мелосцев всю зиму и только
перед самыми Дионисиями-что-в-городе, вызвав подкрепление под
началом Филократа, сына Демея, штурмом взял город и пленил
умирающих от голода островитян, запертых в его стенах.
А потом афиняне перебили всех взрослых мужчин и обратили в
рабство женщин и детей. Затем они колонизовали остров, отправив туда
500 поселенцев.
В колонизации Алкивиад уже не принимал участия: он праздновал в
Афинах славную победу. Ему, правда, было досадно, что ни он, ни Тисий,
при всей натасканности в речах, так и не сумели словом и, так сказать, без
единого выстрела захватить Мелос, но устранение мелосских мужчин
освобождало афинян от угрозы сопротивления и возмездия. Вот только
Сократ, прежде искавший случая встретиться с Алкивиадом, теперь,
кажется, избегал его, а комики, прежде насмешничавшие над
благородными в меру, теперь распоясались, словно аристократ-воевода —
та ж илистая
площадная шваль, что Клеон или Гипербол. Он ведь не пачкается
подкупом черни: что меняет обол для нищего в жизни государства? Он
дает им воевать и работать. Каменотесы и плотники афинские строят в
Аргосе и Патрах, пятьсот колонистов рыщут по Мелосу, вылавливая
попрятавшихся в городе и по всему острову туземцев; сотни других — и
не только афинян, но и союзников — теперь больше думают не о бремени
налогов и не о том, где раздобыть полдрахмы на праздник, а надеются на
новую победоносную войну, нисколько не смущаясь напряжением, в
котором город сводил концы с концами. Удивительная симпатия, с какой
относились к нему афиняне, закрывала глаза сограждан на выходки
Алкивиада, частью совершаемые по пьяному делу, частью раскрывающие
глубины его трезвой натуры. Никто не ругал сына Клиния ни за
варварское насилие над живописцем Агатархом, ни за избиение Таврея,
осмелившегося одержать победу над Алкивиадом в подготовке хора для
празднества. Еще меньше негодования и пересудов вызвала и его
мелосская наложница, сын от которой воспитывался в доме Алкивиада
наравне с полноправным наследником: в этом видели даже проявление
человеколюбия воеводы, как будто не он вырезал мужское население
Мелоса. Полтысячи лет спустя Плутарх негодует за это на афинян. Но
ведь никто из них в этом убийстве не усматривал преступления. Разве что
боги печалились, но афиняне и этого не чувствовали: живописец
Аристофонт даже выставил картину, где представил Немею, обнявшую
сидящего рядом Алкивиада. Молодежи картина нравилась, старики же
ворчали, находя, что в писании портретов заключен тиранический дух,
противный демократическому духу города. Только болтливый, как,
впрочем, и все параситы, босяк Тимон не побоялся подойти к Алкивиаду
и сказать ему: «Ты молодчина, дитя мое, что становишься все более и
более известен. В тебе растет большое зло для людей!» Сказано это было
с улыбкой, но Алкивиад видел хмурые брови Тимона.
Точил он зуб и на комиков. В год славной мелосской победы, может
быть, и Аристофан выступил с первой за несколько лет комедией под
названием «Занимающие места», но не на него и не за эту комедию
свирепел внук Мегакла от прикосновений Музы-Цветуньи к своей
личности. Больше других досаждал Алкивиаду Евполид.
Хитроумный политик, знающий цену точно рассчитанному
словесному удару, Алкивиад давно перестал относиться к делам
Дионисовой артели как к очередному отправлению безобидного обряда,
сулящего только радость и смех толпе. Он был ровесник Аристофана и
хорошо помнил, как ужом на сковородке извивался Клеон, кажется,
ничего не опасавшийся, бесстрашный и в собрании и в войске, а вот с
комиком не пожелавший чиниться третей-
ским судом. Стародавняя манера слуг Диониса не щадить никого из
подставленных под жало известности и насмешки хороша, пока люди,
сработанные из ила, берутся за управление государством или, вернее,
всем этим сбродом башмачников, торговцев, толстых мельников.
Мужланы! Им только набить брюхо, выдуть все равно какого вина,
переспать все равно с какой бабенкой — хоть самой вонючей рабынькой
из сыроварни или птичницей по колено в гусином помете! Им довольно
грошовой власти, и они безропотно передают друг другу полномочия,
ничего не добиваясь в галдеже судилищ и собраний, кроме жалкой
полудрахмовой подачи, и в своей свободе от чуждого владычества
становятся худшими рабами собственной власти.
Толпа — это тело, лишенное головы, а клеоны и гиперболы — разве
это головы? Они оказались там, где нужна голова, но не располагают
достаточным разумом для ее замены.
Вслушиваясь в то, что говорил Сократ, Алкивиад составлял себе не
только определенное мнение о городе, в котором судьба была ему жить и
добиваться достойной его предков славы. Он искал случая и копил силы
для того, чтобы придать то рыхлому, а то напружиненному телу толпы
устойчивый облик объезженной хорошим коноводом кобылы, верхом на
которой всю остальную Грецию можно сделать сперва табуном, а потом—
помогут боги — и конюшнею.
Может быть, этот соблазнительный мираж заставлял Алкивиада
упражняться в выездке более, нежели во всех других искусствах, а
конному заводу отдавать недели, много лучшие тех, что он проводил с
Гиппаретой, дочерью Гиппоника, или мелосской своей возлюбленной,
или жестковатой, но страстной и сладостной Тимеей, царственной
спартанкой.
Архестрат говорил, что Греция не перенесла бы двоих Алкивиадов. И сам он тоже не любил встречать своих комических двойников на Дионисовой сцене. Любовь афинян к
зрелищам, всегда
вызывавшая в нем презрение, казалась ему удобнейшей слабостью
сограждан, когда
ему самому надо было добиться от города признания или сочувствия в исполнении задуманного.
По мнению Плутарха, успешная карьера Алкивиада началась
случайно, но сам рассказ знаменитого Херонейца доказывает обратное.
Алкивиад узнал, что граждане собрались у одного из алтарей и делают добровольные пожертвования в казну. Он подошел и
сделал взнос от себя. Народ встретил его поступок «рукоплесканиями и
радостными криками», так что Алкивиад, замечает Плутарх, забыл о перепеле, который был у него под плащом. Когда
испуганная птица улетела, афиняне пришли в еще больший вос-
торг. Многие кинулись ловить птицу. Это удалось капитану Антиоху,
поймавшему птицу и передавшему ее Алкивиаду, вследствие чего Антиох
приобрел себе покровителя. Что до перепела, то, ясное дело, был он
нарочно припрятан под плащом, чтоб только возбудить восторг у жадных
до знамений афинян.
Открытый образ жизни Алкивиада — в нем ведь только ворчливые
старики находили тиранические амбиции — был тем безостановочным
спектаклем, за пределами которого ему не хотелось видеть конкурентов.
Не давало ему покоя всеобщее уважение афинян к вещунам и жрецам, как
афинским, так и чужеземным, начинавшим пользоваться почетом по мере
распространения на материке и в Пелопоннесе новых азиатских культов.
Презрение к суеверной толпе и вместе трезвая расчетливость
заставляли его в целях политической косметики представляться
человеком, до того чтущим богов, что не только в общественной, но и в
частной жизни находит он время, средства и силы справлять
всевозможные культы, приносить дорогие жертвы; друзья с Лесбоса
присылали ему мелкий скот для таких пышных домашних
жертвоприношений.
Разыгрывая перед афинянами свой спектакль, Алкивиад вовсе не был
готов к тому, чтобы покорно сносить пародию на него, сработанную кемнибудь из комиков. Сдержанный Аристофан, может быть, из-за своих
приятельских отношений с ним, а может, из опасений перед ним и
симпатий к политикам-аристократам Алкивиада задевал несильно, ни разу
не учинив смеходейства вокруг комедийного двойника сына Клиния и
Диномахи. Другое дело — Евполид.
Комментаторы, жившие несколькими столетиями позднее, полагали,
что Евполид был комиком посмелее Аристофана. Уверенности тут, правда,
быть не может, да и Аристофан один отвечает за смелость и трусость всех
остальных, от кого дошли лишь стихотворные осколочки, но Евполид,
говорят, действительно был последним комиком, выпустившим шутазаводилу в маске и под именем Алкивиада, воеводы и оратора,
находившегося в зените могущества в год постановки ругательной
комедии. По свидетельству схолиастов, это был последний спектакль,
главным персонажем которого оказалось здравствующее и процветающее
политическое лицо. «Воевода и оратор Алкивиад сломал эту старинную
традицию, утвердив еще Клеоном предложенный запрет выводить в
комедии афинян под собственными именами». Таков текст схолии.
Непосредственным поводом к запрету послужила, вероятно, комедия
Евполида под названием «Удостоенные священного омовения». Зная
излюбленную манеру Алкивиада рядиться перед согражданами в пышные
одежды жреца или посвященного в таинст-
ва, Евполид не удержался и заставил его в своей новой комедии принять
участие в спародированном фракийском празднестве богини Котитто,
двойницы греческой Артемиды. Мода на фракийские культы пошла еще
со времен Перикловых заигрываний с царем Ситалком; теперь же
некоторые фракийские союзники были близки к отпадению от Афин, а
насмешки над Алкивиадом, придавай им кто-нибудь серьезное значение,
могли бы плохо кончиться для воеводы, знаменитого своими обширными
связями с иноземцами.
Но больше всего задело Алкивиада в «Удостоенных омовения»
то, что шут-баламут, играющий под его именем, приобщается к
культу женщин, ибо только женщины допускались на празднества
Котитто. Хор дразнит беднягу, что его «еще не откормили, чтоб
он дозрел и стал мужчиной».
Вместо приличных мужественному воеводе клятв, обращенных к
Зевсу, Посейдону или Гере, комедийный двойник Алкивиада клянется...
нимфами, трясясь в страхе перед купелью, куда должны сходить
посвящаемые в таинства.
Удачлива ли была комедия Евполида или она провалилась на Дионисиях,
догадаться трудно, но за шумом и бурным кордаком «Удостоенных
омовения» Алкивиад не забыл своего обидчика Евполида: теперь,
накануне новых выборов в воеводы, ему ни к чему была слава
женственного мальчишки. После Мелосской экспедиции он блудил и
пьянствовал, страшно, больше обычного, тратился на конюшни, сильно
расширенные за последние годы. За такое чрезмерное удовольствие,
доставляемое ему победами и наградами, на некоторое время он был даже
лишен должности воеводы; только незадолго до постановки Евполидовой
комедии он снова вошел в прежнее звание и, может быть, даже и забыл бы
со временем издевательства Евполида, да только сами афиняне
разбередили старую обиду.
У АГАФОНА
У аттических пчел на жальце слишком много зазубрин, чтоб
можно было безболезненно залечивать ужаленные места. За что ни
берутся афиняне, все равно напоследок приходится приглашать
лекаря, чтоб спас от чересчур целебного пчелиного яда. Им бы
надо поберечь воеводу, а они оживили старые обиды: как это
случилось, сейчас увидим, но такова уж природа афинян —
приятное нашпиговано мучительным, мучительное — приятным.
Бесконечно успешного воина дразнят за то, что он — баба. Не
успел
он отпраздновать копейно-кинжальную победу на Мелосе и
конную — в Олимпии, как народ лишает его звания воеводы, и вот
уже он пьет как частное лицо. Не поймешь вас, афиняне!
За год до постановки «Удостоенных омовения» и за несколько
часов до того, как появиться на пиру Агафона, Алкивиад устроил
попойку в кругу ближайших соратников и друзей. К Агафону его
не позвали, а ему хотелось повидать кое-кого из тех, кто, как он
знал, собрался у трагика. Он не знал только, что среди
приглашенных был и Сократ. Пока наяривает шустрая
флейтисточка, винным духом пропитывается взволнованный
Алкивиад, в доме Агафона речь зашла как раз о том странном и
необъяснимом свойстве, из-за которого человеку постороннему
впору было бы принять афинян за чистой воды безумцев...
Лучше бы пожалели беднягу Алкивиада: как ему быть?
Отправиться к молоденькому Агафону — соблазнительно;
искусный захватчик, Алкивиад мог не страшиться соперника
вроде Павсания из Гончарной слободы. Но собственный его
поклонник, колючий Сократ, тоже может оказаться там, а
ревнивому Алкивиаду не слишком приятно будет видеть
предпочтение, оказанное другому. После мелосской резни
немногие из прежних поклонников сохранили к нему теплое
отношение, а Сократ нарочно искал встреч с сыном Клиния, чтобы
при всех окатить его презрением, сменив прежнюю привязанность
на полнейшее равнодушие к персоне своего ученика.
...А у Агафона успели выступить тем временем и другие гости.
Но Аристодем, из чьих уст о пире Агафона узнал впоследствии
Аполлодор, с неизбежными упущениями пересказавший все
Главкону, в свою очередь передавшему слышанное брату своему
— Платону,— так вот уже Аристодем не помнил, о чем говорили
другие, но речь поклонника Агафона — керамейца Павсания —
все же запомнилась ему.
Павсаний, хоть был он человек незаметный и на пир попал
случайно, первым почуял, что за самым древним, самым
почтенным, самым могущественным из богов — а именно так
восхвалял Эрота Федр — скрывается вовсе не одно божество.
— По-моему, Федр, мы неудачно определили свою задачу,
взявшись восхвалять Эрота вообще,— начал Павсаний,— что
было бы правильно, будь на свете один Эрот. Но ведь их больше, а
раз так, правильнее будет сначала установить и условиться,
какого именно Эрота хвалить. Вот я и по-
пытаюсь исправить дело, сказав сперва, какого Эрота надо
хвалить, а потом уже воздав ему достойную этого бога хвалу. Все
мы знаем, что нет Афродиты без Эрота; значит, будь на свете одна
Афродита, Эрот был бы тоже один. Но коль скоро Афродиты две,
то и Эротов должно быть два. А этих богинь, конечно же, две:
старшая, что без матери, дочь Урана, которую мы и называем
поэтому Уранией, или Небесной, и младшая, дочь Дионы и Зевса,
которую мы именуем Доступной, или Площадной.
Так вот, Эрот Афродиты Доступной способен на что угодно,
это как раз та любовь, которой любят люди заурядные. А такие
люди любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души,
и любят они тех, кто поглупее, заботясь только об удовлетворении
своих желаний и не задумываясь, прекрасно ли это. Вот почему
они и способны на что угодно: на хорошее и на дурное в равной
степени. Ведь идет эта любовь как-никак от богини, которая по
своему происхождению причастна и к женскому и к мужскому
началу. Эрот же Афродиты Небесной восходит к богине, которая
причастна только к мужскому началу, но не к началу женскому
(да ведь она ж богиня, Павсаний!) и отдает предпочтение тому,
кто сильней от природы и наделен большим разумом.
Конечно, люди достойные сами устанавливают себе такой
закон, но надо бы запретить это и поклонникам пошлым, как
запрещаем мы им, насколько это в наших силах, любить
свободнорожденных женщин...
«Насколько это в наших силах»,— это Павсаний, человек из
толпы, сказал точно. Кто воспрепятствует любовным
похождениям
Алкивиада,
например?
Конечно,
закон,
позволяющий обманутому мужу убивать и жену свою и того, кто
наставил ему вместе с нею рога, если только оба были застигнуты
на месте преступления, такой закон был делом хорошим, но кто
возьмется бороться с блудодеем Алкивиадом?
Павсаний говорил и дальше, но конец его речи был скучен
сугубою своею назидательностью: он пытался связать воедино
любовь к юношам и любовь к мудрости и всяческой доблести, что
вызвало даже улыбки на лицах гостей Агафона, Аристофан же
вообще с трудом сдерживал смех. Чтобы не показаться человеком
неприличным, комик сделал вид, что поперхнулся— благо
обильная закуска была расставлена перед ним на столике. Тут,
однако, на него напала нешуточная икота, так что он не мог уже
говорить — подходил как раз его черед — и вынужден был
обратиться к
ближайшему своему соседу — Эриксимаху — с такими словами:
— Либо прекрати мою икоту, Эриксимах, либо говори
вместо меня, пока я не перестану икать.
Эриксимах отвечал:
— Ну что ж, я сделаю и то и другое. Мы поменяемся
очередью, и я буду держать речь вместо тебя, а ты, когда
прекратится твоя икота, вместо меня. Но покуда я буду
говорить, ты подольше задержи дыхание, и твоя икота
пройдет. Если же она все-таки не пройдет, прополощи горло
водой. А уж если с ней вовсе не будет сладу, пощекочи
перышком в носу и чихни. Если проделать это разок-дру
гой, она пройдет, как бы сильна ни была.
— Начинай же,— отвечал Аристофан,— а я последую твоему
совету.
— Поскольку Павсаний, прекрасно начав свою речь, закончил
ее не совсем удачно,— вступил Эриксимах,— я попытаюсь
придать ей завершенность. Что Эрот двойствен, это, по-моему,
очень верное наблюдение. Но наша наука, наука врачеванья,
показывает мне, что живет он не только в человеческой душе, не
только в ее стремлении к прекрасным людям, но и во многих
других ее порывах, да и вообще во многом другом на свете — в
телах любых животных, в растениях, во всем сущем, ибо он бог
великий, удивительный и всеобъемлющий, причастный ко всем
делам богов и людей.
Двойственный этот Эрот заключен в самой природе тела. Ведь
здоровое и больное начала тела различны и непохожи, а
непохожее стремится к непохожему и любит его. Следовательно, у
здорового начала один Эрот, у больного начала — другой.
А так как врачебное искусство — это наука о любовных
влечениях тела к наполнению и опорожнению (раб как раз в это
мгновенье наполнял холодной водою грубо сработанный килик с
отбитой ручкой — из тех, что в ходу целый день,— и Аристофан
собрался начать полосканье), отсюда следует, что тот, кто умеет
различать среди этих влечений прекрасные и дурные, тот сведущий
врач, а кто добивается перемены, замещая в теле одну любовь
другой, создавая нужную любовь там, где ее нет, но где она
должна быть, и удаляя оттуда ненужную, такой человек просто
великий знаток своего дела. Ведь тут требуется установить
дружбу между самыми враждебными началами и внушить им
взаимную любовь.
Самые же враждебные начала — это холодное и горя-
чее, горькое и сладкое, влажное и сухое, твердое и мягкое ну и
тому подобное...
Все глядели на Эриксимаха, чтоб не смущать беднягу
Аристофана, безуспешно задерживавшего дыхание и теперь
отказавшегося от этого приема и вовсю булькающего водой,
полоща глотку и сплевывая в тазик, поднесенный услужливым
рабом Агафона.
— Благодаря своему умению внушать этим враждебным
началам любовь и согласие,— продолжал Эриксимах, глядя на
сражающегося с икотой соседа,— наш предок Асклепий, как
утверждают присутствующие здесь поэты — а я им верю,— и
положил начало нашему ремеслу. Всецело подчинено Эроту не
только врачебное искусство, друзья мои, но также гимнастика, и
земледелие, и музыка, да и все прочие дела человеческие и
божественные.
— А война? — спросил невнятно сквозь бульканье
Аристофан.
— Даже свойства времен года, и те зависят от обоих этих
Эротов! Когда началами, о которых я говорил, теплом и холодом,
сухостью и влажностью, овладевает Эрот благонравный, они
сливаются друг с другом разумно и гармонично, год бывает
изобильный, он приносит всему живому здоровье, не причиняя
вреда. Но когда времена года попадают под власть любви
разнузданной, она многое губит и многое портит.
Ведь из-за этого бывают заразные и другие болезни,
поражающие животных и растения...
— И людей, людей! — перебил его измученный икотой
Аристофан, уже отчаявшийся и полосканьем избавиться от
злосчастных спазмов пищевода, как назвал про себя Эриксимах
напавший на комика веселый недуг.
— Да, конечно, Аристофан, и людей. Ибо и иней, и град, и
медвяная роса происходят от таких неумеренных и
неупорядоченных любовных влечений, знание которых, когда
дело касается звезд и времен года, именуется астрономией.
Но и жертвоприношения и все, что относится к искусству
гадания и в чем состоит общение богов и людей, тоже связано с
охраной любви и врачеванием ее. Ведь всякое нечестие
начинается тогда, когда не чтут благонравного Эрота, не
угождают ему, не отводят ему во всем первого места, а оказывают
все эти почести другому Эроту. На то и существует искусство
гаданья, чтобы следить за любовными влечениями и врачевать их,
вот и получается, что гаданье — это творец дружбы между богами
и людьми, ведь только оно
знает, какие любовные влечения направлены к добру, а какие
кощунственны.
Будь хороший гадатель у Алкивиада на Мелосе, ему ни за что
не пришло бы в голову убеждать афинян в необходимости
вырезать всех мужчин этого острова, ведь не просил же он
содействия Собрания, когда обрюхатил мелосскую наложницу!
Вот вам пример, когда два Эрота тянут одного человека в разные
стороны, и один порождает неуемное буйство, кровавое
преступление, а другой — усладу и теплые звездные ночи даже в
сырую и холодную осеннюю пору.
Возможно, в своем похвальном слове Эроту я многого не
сказал, хотя так вышло не по моей воле — уж очень ты громко
чихал, любезный мой Аристофан! Но если я что-либо упустил из
виду, твое дело, дорогой, дополнить мою речь, кстати, и твоя
икота прошла.
— Да, прошла, но только после того, как я сильно расчихался,
и я даже удивляюсь, что приличное поведение человеческого тела
достигается таким шумным и таким щекотным способом.
— Ну что ты делаешь, Аристофан! — перебил его
Эриксимах.— Ты острословишь перед началом речи, и мне
придется теперь следить, чтобы ты не зубоскалил, а ведь ты мог
бы говорить без помех.
— Ты прав, Эриксимах,— отвечал смеющийся Аристофан,—
беру свою остроту обратно. Но следить за мною тебе не придется,
ибо не того боюсь я, что скажу что-нибудь смешное — это было
бы мне только на руку и вполне в духе моей музы-цветуньи,— а
того, что стану всеобщим посмешищем.
— Так легко тебе от меня не отделаться, Аристофан! Будь
начеку и говори так, словно тебе предстоит держать ответ за свои
слова.
Нужно заметить, что Эриксимах сказал все это только потому,
что в доме Агафона он был на этот раз назначен кормчим попойки
и Аристофана предупреждал, остерегаясь обычных для
Дионисовой артели фокусов и неприличных шуток. Но уже и в
городе чрезмерное смеходейство не в чести. Теперь, когда
пиршество в доме Агафона осталось в прошлом и для тех, о ком
наше повествование, возвращение к событиям двенадцатой ночи
месяца свадеб 416 года не будет представлять никакого труда:
речь Аристофана уже произнесена, она записана, и мы услышим
ее, когда дело потребует разъяснений. Пока что довольно и тех,
какими снабдили Павсаний и Эриксимах недоумение читателя
каса-
тельно странностей образа жизни и нравов афинян. Пожалуй, и
впрямь не дело — искать в мифах растолкования истины
исторической, и перечисли нам Эриксимах еще дюжину Эротов
поименно, вряд ли прояснится хоть шаг в том рукаве нашего
сумрачного помещения, куда завели меня быстрый Алкивиад,
неторопливо въедливый Сократ и так долго отсутствовавший
Аристофан. А впрочем, Эриксимах напрасно предупреждал
Аристофана быть осторожнее, тот и так старался не высовываться,
пряча в царстве волшебства и баснословия свои подлинные
соображения.
Глава 11
«- ЗА ЧТО ВОЮЕТЕ, РЕБЯТА?
- ЗА ТЕНЬ ОСЛА ИДЕТ ВОЙНА!»
Как только Алкивиад вернулся с флотом домой после мелосской
победы, воинственная молодежь, раздразненная собственною спесью и
неудачами своих врагов-спартанцев, подняла шумную кампанию за новые
походы и так называемую «полную победу» над впавшими, видно, в
немилость у богов спартанцами. Полагая, что в самой Греции Спарта уже
не сможет всерьез грозить успешным Афинам, горожане воззрились на
далекие края, где надеялись найти для себя новых союзников, отбив
таковых у спартанцев, что в будущем — такую дальнюю мечту лелеяли
храбрейшие из афинян — дало бы их городу власть над всем известным
им миром, лежащим к западу от персидских границ. Ближайшею же
целью афинского войска было положено завоевание Сицилии.
Когда послы от союзных сицилийских городов прибыли в Афины с
приглашением афинской эскадре спешным порядком двинуться на запад,
только немногие старики, в их числе и Никий, отважились перечить
афинянам, отговаривая их от ловли рыбки в мутной воде. Куда там!
Алкивиад, ужаленный тем, что его лишили звания воеводы, успел своими
планами и обещаниями овладеть умами толпы. Вернувшиеся из союзных
сицилийских городов послы афинские привезли столь завлекательные и
лживые донесения (ну, их-то встречали на богатом острове не тощим
ягненком да постной закуской!), что горожане, неспособные носить
оружие и остающиеся по сей причине дома, дрогнули и загалдели: «В
Сицилию!» Самих же воинов, как наемников, так и рекрутов, толкало на
поход то немаловажное обстоятельство, что союзные сицилийские города
не пожадничали, прислав 60 талантов серебра в слитках, специально на
жалованье для команд 60 кораблей, об отправке которых так хлопотали
сицилийцы. Они, правда, хотели чужими руками жар загрести, понимая,
что Афины, как ни старайся, не смогут воцариться на столь обширном и
населенном; враждующими народами острове. Но каждый слушал то, что
хотел услышать, и вот уже афинская молодежь в палестрах и старики,
сидя в мастерских или в лавках, возле цирюлен или под платанами у
дорог, чертили на песке карту Сицилии, окружающее ее море, ее гавани и
берега острова, обращенные к африканскому материку.
«Страстное увлечение большинства народа было настолько сильно,
что даже тот, кому затея эта была не по душе, молчал из опасения
прослыть неблагонамеренным гражданином». Говоря это, Фукидид не
называет по имени людей (из тех, что не были политиками), кому поход
пришелся не по душе. В этом для него,
пожалуй, не было и необходимости, настолько убедительны были
доводы главного противника — Никия.
«Ведь если даже мы выступим не только с равными, но и с превосходящими силами, то и таким образом нам нелегко будет и
одолеть врага, и сохранить свое войско. Представьте себе, афиняне,— убеждал их Никий,— что мы собираемся основать город
во вражеской стране с иноплеменным населением. И тут успех
зависит не только от вашего правильного решения, но еще в большей степени — от счастья, а его людям уловить труднее всего.
Поэтому в предстоящем походе нам придется как можно меньше
полагаться на счастье и выступить с достаточными силами, которые, как можно надеяться, обеспечат нам хотя бы безопасность.
Тому же, кто держится иного мнения, я готов уступить должность
воеводы». Но афиняне не послушали Никия, так мечтали они о
походе. Ветераны надеялись, что теперь-то уж они точно покорят те
государства, против которых выступали, и были уверены в абсолютной невозможности понести поражение при столь значительных силах; люди зрелого возраста желали поглядеть далекую
страну и надеялись, что останутся в живых; простолюдье, в том
числе и воины, рассчитывали получить жалованье во время похода
и настолько расширить афинское владычество, чтобы пользоваться
жалованьем непрерывно и впредь.
Никий пытался воздействовать на толпу нападками на Алкивиада,
вразумляя выживающих из ума ветеранов:
— Если кто, радуясь избранию в стратеги (Алкивиада успели вновь
назначить воеводой), тем более что он для такой должности слишком
молод, советует вам выступить в поход, имея при этом в виду только
личные выгоды, желая вызвать всеобщее удивление своим конным
заводом, то не позволяйте ему прославиться ценой опасности для всего
города. Такие, как он,— не только расточители в собственном доме —
вы ведь знаете, что коневодство — дело недешевое,— такие опасны для
всего государства. С тревогой смотрю я на сидящих здесь юнцов,
сторонников этого человека, и потому обращаюсь к вам, ветераны! Не
дайте рядом сидящему запугать вас, не позволяйте упреками в трусости
помешать вам голосовать против войны! Не покушайтесь, как эти
желторотые, на бесспорные границы, отделяющие нас от Сицилии:
слишком дол-го плыть вдоль берега Ионийским заливом, слишком
открыто сицилийское море!
Но Никий не имел ни многих, ни влиятельных сторонников, Все было
напрасно. Алкивиад, снисходительно пригласив своего противника
остудить свое юношеское рвение умудренностью старика, призвал
афинян назначить обоих ответственными за экспедицию, надеясь, что в
случае неуспеха можно будет свалить вину на брюзгу, заражающего
войско апатией. «Пока я еще в расцвете
сил, а Никий славится своим счастьем, используйте нас обоих!» — так
говорил Алкивиад.
Третьим воеводою в поход на Сицилию был назначен Ламах, чья
горячность мыслилась афинянам недостающей специею в полководческом
соусе из храбрости Алкивиада и осторожности Никия.
Никогда еще не чувствовал себя Аристофан так нехорошо, как в
месяцы подготовки к сицилийскому походу. Никто из комиков не решался
ни шуткою, ни грубостью вмешаться: Город сам, добровольно взялся
играть комедию, и комику остается мало-помалу отказаться от
привычных шутовских приемов. Опасливый Аристофан долго роется в
старушечьих сказках, утоляющих прихотливую страсть его потрошить
беспокойные недра событий, обнажая то, что хочется спрятать, ан —
нельзя! В наступившей тишине Дионисовой артели он берется за комедию
с подтекстом. Такого чудища аттическая сцена еще не видывала у комиков.
До сих пор, благо самые дерзновенные речи опирались на стародавний
обычай — спасать поношением от настоящей гибели всерьез — комику
незачем было прятать труппу и фабулу всей постановки в укромные дали
мифа, оставляя зрителя с его догадками касательно подлинного смысла
увиденного и услышанного со сцены. Жизнь родного города постепенно
отучает комедиографов от излишней вольности. Учитесь у трагиков,
подсказывает пока еще трезвый Дионис.
Перед самым собранием, решившим-таки отправить войско и флот в
Сицилию, на Дионисиях-что-в-городе выставил трагическую тетралогию
Еврипид. Три трагедии, как обычно, успеха ему не принесли, но концовка
представления — драма сатиров «Киклоп» — обрадовала недалеких
афинян. Представленные в драме Одиссей и его спутники (читай: афиняне,
водительствуемые хитроумным Алкивиадом) пристают к берегам Сицилии
(читай: берега Сицилии), где живет страшный киклоп Полифем (читай:
варвары-островитяне). Тяжкие муки и нешуточные потери среди
спутников Одиссея (читай: тяготы войны, грозящие афинскому войску)
заставляют Одиссея напрячь природный ум и одолеть киклопа, всадив
ему раскаленный кол в единственный глаз (читай: сплотившись в битвах,
афиняне одолеют сицилийских недругов-варваров). Техника подтекста до
смешного проста, но Аристофану непривычно это новое амплуа
комедиографа: будить, убаюкивая, дразнить, уговаривая дразнимого не
обращать внимания на того, кто дразнит. Да теперь еще прибавляется
новая трудность: ведь не поймешь, где в этом городе границы подлинной
сцены,— кто подлинный драматург, а кто — мнимый; то ли это театр
Диониса, когда он отдан в распоряжение лицедеев, то ли — театр,
заполненный Народным собранием, комик ли насмехается над полити-
ками, жонглирующими доводами, или политик веселит город своею
умело составленною клоунадой?
Никий, успевший состариться, но не ставший за долгие годы смелее,
Никий, прячущий трусость свою за блестящими военными успехами, на
этот раз — в поисках последнего средства — торопится пригласить
наилучших жрецов и гадателей. Но жрецы и гадатели, прежде верные
ему, теперь боялись и даже, говорят, прятали неблагоприятные для
афинян предсказания и знамения. К тому же у Алкивиада были в
распоряжении другие жрецы. Из древних оракулов он выводил лживое
заключение, что в Сицилии афиняне встретят громкую славу. Какую? На
это оракул не указывает. Но разве можно думать иное, кроме победной
славы?! Послали гонца к оракулу Аммона, и тот вернулся с нужным
ответом: «Все сицилийцы готовы к афинскому плену!»
Жалеючи Никия, Аристофан отыскивает миф, с тех самых пор
служивший грустнеющим аттическим гончарам сюжетом для росписи
ваз. Жил был некогда Амфиарай-аргивянин, сын Оиклея, и был он
прорицателем. Зная за ним это божественное искусство, разные воеводы
приглашали его с собою в походы. Плавал он и за золотым руном в
Колхиду; но однажды, когда сын Эдипа Полиник отправлялся на Фивы,
чтоб отнять у родного брата власть над городом, Амфиарай от участия в
походе отказался, ибо чудилось ему, что не вернется никто назад из
семерых вождей, каждому из которых предназначена была своя башня
для того, чтобы взять приступом семивратные Фивы... Вот и стал он и сам
отказываться и других отговаривать от похода. Однако обманом его
удалось заманить в кампанию семерых против Фив, где погибли и сами
вояки и респектабельный прорицатель: Полиник-то ошибался, думая, что
не полководец для гадателя, а гадатель — для полководца. Набожный
Никий, может быть, был бы даже польщен такою пародией, да только
Аристофан не успел — из понятных опасений перед воинственно
настроенной публикой — поставить «Амфиарая» ни в этом, ни в
следующем году, в разгар экспедиции, когда всякое публичное сомнение
в успехе дела было бы расценено как злонамеренный пасквиль и даже
ворожба.
Амфиарая, грустно взгромаздывающегося на колесницу, потом любили
рисовать на вазах, а пока не пришла ему пора горевать. И только знающие
люди перешептывались, что, мол, удалось человеку Никия пробраться в
святилище Амфиарая и получить самое надежное свидетельствопророчество касательно предстоящего похода...
А надо сказать, получить ответ в святилище Амфиарая — дело очень
трудное: сперва надобно очиститься от всякой скверны самому, потом
принести в жертву барашка, а потом, завернувшись в
еще черную и липкую от крови шкуру его, улечься спать в свя-
тилище, не пугаясь ни летучих мышей, ни насекомых. Сон, увиденный
человеком, и будет верным советом Амфиарая тому, кто хочет знать
правду... Никию же, видно, донесли, что Амфиарай пророчит недоброе,
вот он и упирался. Аристофан, по благоприобретенным муравьиным
своим повадкам, потихоньку вызнал всю подноготную Никиевой
политики, а состряпанную уже комедию приберег до лучших времен. Сам
он в походе к златым берегам сицилийским участия не принимал.
Говорят, что он оправдывал непривычное для афинян в комедии
обращение к сугубому мифу тем, что миф выбирал для «Амфиарая» не
простой, но, как он сам говорил, «человеческий».
А между тем в Афинах не оставалось никаких надежд на то, что поход
не состоится. «Если государство останется совершенно бездеятельным, то,
подобно всякому другому организму, истощится, а все знания и искусства
одряхлеют,— витийствовал Алкивиад.— Напротив, в борьбе оно будет
постоянно накапливать опыт и привыкнет защищаться не только на
словах, но и на деле!»
Как и все остальные, зная положение дел в Сицилии только
понаслышке, Алкивиад уверял афинян, что там ни у кого нет оружия для
защиты городов, что каждый там рассчитывает только на то, что он как
оратор или как партийный вожак сможет урвать из государственной
казны, и готов в случае неудачи переметнуться к противнику. Невероятно,
уверял он, чтоб подобный сброд, неспособный даже единодушно
выслушать на сходке оратора (как горделиво оглядывали друг друга
афиняне при этих его словах!), мог сообща взяться за общее дело. Вполне
возможно, что каждый из этих людишек, услыхав от нас что-нибудь для
него приятное, перешел бы на нашу сторону.
Тем временем знамения, явно указывающие на неблагополучный
исход затеваемой экспедиции, все труднее было скрывать. Началось с
того, что как-то в сумерках на алтарь Двенадцати богов вскочила какая-то
личность, расставила ноги и оскопила себя острым камнем. Несколько
дней вороны прилетали к золотой статуе Афины Паллады, что в
дельфийском храме, и начинали клевать золотые плоды пальмы,
служившей постаментом статуе, пока плоды не свалились.
Алкивиад уверял, что все это россказни дельфийских жрецов,
подкупленных сиракузцами. Никий же велел — по указанию оракула —
привезти из Клазомен жрицу Афины. Жрицу привезли, и оказалось, что
имя ее — Ирина, Миротворица. Но и этого намека город не понял. А ведь
афиняне должны были доверять столь надежным предзнаменованиям. По
свойственному городу легкомыслию и торопливости, с какой принимаются
самые важные решения, они забыли все горькие уроки прошлого. Даже
ревностный и
неустрашимый Кимон, об участии которого напоминал им мужественный
старик Никий, даже Кимон, победитель победителей, мог бы сослужить
им последнюю добрую службу...
Это было как раз в год рождения Аристофана. Афиняне отправлялись
тогда походом на Кипр и в Египет, снарядив могучий флот из двухсот
кораблей. Кимону, тогдашнему воеводе, приснился сон. Снилось ему — а
сны воеводы подлежат всенародному обсуждению,— что лает на него
злая собака и вместе с лаем говорит ему человеческим голосом: «Иди, ты
понравишься мне и моим щенкам». Хотя Плутарх и говорит, что сон этот
чрезвычайно труден для толкования, нашелся у Кимона друг, посидонец
Астифил, понаторевший в мантике, который сказал, что сон предвещает
ему смерть, а войску — неудачу: если собака лает, она — враг человеку,
врагу же нельзя угодить ничем другим, как собственною смертью. Смесь
же лая с человеческим голосом доказывает, что враги — иностранцы,
использующие в качестве наемников и греческие войска. Проснувшись,
Кимон приказал принести жертву Дионису. Когда жрец убил животное,
тысячи муравьев брали по кусочку успевшую свернуться кровь, носили к
Кимону и складывали на ноготь большого пальца его ноги; у печени
жертвы не было лопасти, вот Кимон и умер весною, в разгар экспедиции,
а флот вернулся в Афины ни с чем. Но память у вас, афиняне, за тридцать
с лишком лет ослабела, и уроки прошлого больше ничему вас не учат.
Теперь, как и тогда, ослепленные своими недавними удачами,
афиняне надеялись достичь не только возможного, но и недоступного,
лишь применяя большие или меньшие средства. Может быть, и Фукидид,
сын Олора, написавший историю той войны, понимал бесполезность
военных успехов и потому провалил амфипольскую кампанию?
«Неожиданные почти повсеместные успехи афинян,— разъясняет
мудрый
галимунтец,—
и
внушили
афинянам
великую
самоуверенность...».
Немногие понимали это. Астроном Метон, начальник одного из
подразделений афинского войска, от страха ли или из боязни идти
именно в этот поход, прикинулся сумасшедшим и сжег собственный дом.
Плутарх замечает, что рассказывали, будто он и не прикидывался
сумасшедшим, но сжег новый свой дом «в грустном виде», а потом
явился на площадь и стал просить сограждан, из уважения к его прошлым
добродетелям и жалости к нынешнему несчастью, уволить от участия в
походе его сына, который был уже назначен капитаном одного из
кораблей, снаряженного уже в Пирейской верфи.
Уже и Сократ от верного своего божественного внутреннего голоса
узнал, что поход кончится неудачно для города, и сообщил об этом своим
друзьям и знакомым.
У многих беспокойство вызывало и то, что отплытие флота назначено
было на нечистые дни праздника в честь Адониса. Его справляют
женщины. По всему городу выносят статуи Адониса, изображения своих
покойников, которые женщины символически хоронят, рыданиями
оглашая пустеющие на это время улицы, поют похоронные песни, бьют
себя в грудь. Происходит все это не в самих проулках-переулках
афинских, но на крышах афинских домов, куда женщины выбирались по
лесенкам, ведущим прямо из гинекея, и где совершался обряд мнимых
похорон истуканов. За несколько дней до этого праздника в горшках
высаживали семена аниса и латука, и теперь вот пробившаяся в
горшочках зелень выносилась на плоские крыши. Приходился праздник
как раз на середину лета, когда свежая зелень успевала уже забуреть, а
частью и зачахнуть, и только темно-зеленые и серебристо-серые кущи,
там и сям пробитые наливающимися плодами, виднелись повсюду в
тяжелом солнечном мареве. Жалкая бледная зелень не ко времени
проснувшейся рассады делала «садики Адониса» (так называли об эту
пору афинские крыши, вообще-то служившие жителям города летними
спальнями) очагом грусти и беспокойства. Занятые хозяйственными
заботами, жены и рабыни будущих воинов, гребцов и всех прочих,
снаряжаемых в поход, вероятно, отмечали праздник скромнее обычного, и
только гетеры — ведь Адонис был возлюбленным Афродиты! —
справляли его по обыкновению ревностно.
Противники войны, однако, не теряли надежды на то, что
скоропалительно принимающие важнейшие решения афиняне готовы
будут — случись только какое-нибудь из ряда вон выходящее
происшествие — сыграть назад. На этот раз Алкивиад, Ламах и
некоторые вожди толпы успели вручить большей части судовых команд
часть жалованья — для остающихся в городе домочадцев,— а толпе,
неспособной к несению воинской службы, обещали обильные раздачи.
Все было устроено таким образом, что в день решающего собрания
демагог Демострат, обратившись прямо к Никию, сказал, что нечего под
разными предлогами откладывать поход, и внес предложение
предоставить стратегам полную власть как относительно приготовлений к
войне, так и ведения ее в самой Сицилии. Народ утвердил решение. Все
было готово к отплытию флота. Алкивиад праздновал удачу, Аристофан
же сочинял «Амфиарая». Он все больше входил во вкус, выкраивая для
комедии сюжеты человеческой мифологии. Обезумевший город больше
не казался ему странным или достойным привычной хулы сбродом
жуликов и лжепророков. Симпатии, всегда испытываемые к Алкивиаду,
со временем потускнели, но порыва к стычкам и ссорам Аристофан почти
не испытывал, и даже новые демагоги, Демострат
Андрокл, человечишки вовсе негодные, волновали его не как политики,
интриганы, казнокрады и честолюбцы, но как человеческие существа,
итог загадочной работы богов.
У АГАФОНА
В прошлом году, на пиру у Агафона, икота как раз напала на
него из-за еле сдерживаемого смеха. Как ни старался быть
убедительным бедняга Павсаний, а ведь ясно было каждому, что
недосуг ему разбираться в тонкостях природы Эрота, когда такой
красавчик, как Агафон, сидел возле него, напомаженный, и
снисходительно готов был слушать и самую заурядную болтовню
самого заурядного гостя. Вдвойне смешной казалась Аристофану
и тема для речей, предложенная Федром: прошлой весною, в месяц
мореходов, даже скромный праздник Эрота прошел чуть ли не как
будний день!
— Конечно, Эриксимах,— сказал тогда Аристофан,— я
намерен говорить не так, как ты и Павсаний. Мне кажется, что
люди не сознают истинной мощи Эрота, ибо, если бы они
сознавали ее, они бы воздвигали ему величайшие храмы и алтари
и приносили величайшие жертвы, а меж тем ничего подобного не
делается, хотя все это следует делать в первую очередь. Ведь Эрот
— самый человеколюбивый бог, он помогает людям и врачует
недуги, исцеление от которых было бы для рода человеческого
величайшим счастьем. Итак, я попытаюсь объяснить вам его
мощь, а уж вы будете учителями другим...
Раньше, однако, мы должны кое-что узнать о человеческой
природе и о том, что она претерпела. Когда-то наша природа была
не такой, как теперь. Прежде всего люди были трех полов, а не
двух, как ныне,— мужского и женского,— ибо существовал еще
третий пол, который соединял в себе признаки этих обоих; сам он
исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным;
прежде-то их называли просто мужеженами, и из этого слова было
видно, что они сочетали в себе вид и наименование обоих полов, а в
нынешней стяженной форме «мужаки» ничего, кроме
пренебрежения, не осталось. Кроме того, тело у всех было
округлое, спина не отличалась от груди, рук и ног было по четыре,
и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых;
голова же у двух этих лиц, смотревших в разные стороны, была
общая, ушей имелось две пары, срамных частей две, а прочее можно
представить себе по всему, что уже сказано. Передвигался
такой человек либо прямо, во весь рост,— так же как мы теперь, но
тогда одна часть шла вперед, а другая — назад,— либо, если очень
торопился, шел колесом, занося ноги вверх и перекатываясь на
восьми конечностях, что позволяло ему быстро бежать вперед. Да,
а полов-то было три потому, что мужской искони происходит от
Солнца, женский — от Земли, а совмещающий оба эти пола
«мужак» — от Луны, поскольку и Луна совмещает оба эти начала,
но как-то не слишком удачно. Что же касается шаровидности этих
существ и их передвижения, которое похоже было на бег травы,
которую скифы называют «перекати-поле», то и тут сказывалось
сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью,
они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов. А
однажды даже пытались совершить восхождение, или попросту
вкатиться на небо: у Гомера (если помните) этот эпизод из нашей
прошлой жизни описан там, где он рассказывает об Эфиальте и
Оте.
И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с
ними, и не знали, как быть: убить их всех, поразив род людской
громом, как когда-то гигантов,— но тогда и боги лишатся почестей
и приношений от людей; но и мириться с таким бесчинством тоже
нельзя. Наконец, Зевс, насилу кое-что придумав, говорит:
«Кажется, я нашел способ и сохранить людей и положить конец их
буйству, уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них пополам, и
тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для
нас, потому что число их увеличится. И ходить они будут прямо, на
двух ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут
буянить, я рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на
одной ножке!»
Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают
перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском. И
каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Зевса, должен
был повернуть в сторону разреза лицо и половину шеи, чтобы,
глядя на свое увечье, человек становился скромней, а все
остальное велено было залечить. И Аполлон поворачивал лица и,
стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок, к одному месту,
именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди
живота отверстие, которое и носит ныне название пупка.
Разгладив складки и придав груди четкие очертания — для этого
ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на
колодке складки кожи,— возле пупка и на животе Аполлон
оставлял немного морщин, на память о прежнем сос-
тоянии. При этом постарался, чтобы он при движении не вертелся
на месте вокруг своей оси.
И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая
половина с вожделением устремлялась к другой половине, они
обнимались, сплетались и, страстно желая снова срастись, умирали от
голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать
порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых
выискивала себе любую другую свободную половину и сплеталась с
нею, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины,
то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины.
Так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, придумывает другое
устройство: он переставляет вперед срамные их части, которые до того
были у них обращены в ту же сторону, что прежде лицо, так что семя
они изливали на землю, как кузнечики. Переместил же он их срамные
части, установив тем самым оплодотворение мужчинами женщин, для того
чтобы при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и
продолжался род, а когда мужчина сойдется с мужчиной или женщина с
женщиной — достигалось все же удовлетворение от соития, после чего
они могли бы передохнуть, взяться за дела и позаботиться о других
своих нуждах. Вот с каких давних пор свойственно людям влечение друг
к другу, любовь, которая, соединяя прежние половины, пытается сделать
из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу.
Итак, каждый из нас — это половинка человека, рассеченного на две
части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину.
Вот почему, если бы Гефест спросил у любящих, чего они больше всего
на свете жаждут, они сказали бы ему: «Чтоб ты сковал нас так, чтоб нам
уж не расковаться». А причина этому та, что такова была изначальная
наша природа и мы составляли нечто целостное.
Значит, любовью называется жажда целостности и стремление к ней.
Прежде, повторяю, мы были чем-то единым, а теперь, из-за нашей
несправедливости, мы поселены богами порознь, но стремление к
целостности в нас еще, к счастью, достаточно сильно для жизни. Если
что и смущает еще немного, так это то, что некоторые люди пытаются
воссоздавать прежнюю целостность, минуя поиски недостающей
половины, как, например, всем нам известный сын Клиния Алкивиад,
которого смело можно назвать «мужа-ком», ибо мужское и женское
начала в нем с каждым годом все больше сплетаются, а сказать, что он
где-то нашел или ищет достойную себя половину, такого не скажешь.
Но это
кстати, а я имею в виду вообще всех нас и хочу сказать, что наш
род достигнет блаженства тогда, когда мы вполне удовлетворим
Эрота и каждый найдет соответствующий себе предмет любви,
чтобы вернуться к своей первоначальной природе, исцелиться
вполне. Такова, Эриксимах, моя речь об Эроте, она мало похожа
на твою, но ты не вышучивай ее, ибо вопреки требованиям моего
ремесла я старался быть предельно серьезным, пока говорил!
— Мне пришлась по душе твоя речь, Аристофан,— сказал ему
Эриксимах,— но к прежней целостности нам уж, конечно, не
вернуться, хотя развитие хороших, благородных навыков
возможно чрез упражнения, особенно же упражнения в области
нравственной, лишь бы только не быть разрезанными пополам еще
раз.
— Да-да,— добавил Аристофан,— существует опасность, что,
если мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще раз, и
тогда мы уподобимся выпуклым надгробным изображениям,
которые как бы распилены вдоль носа, а ведь это не жизнь!
— А тут ты противоречишь сам себе, Аристофан,— вмешался
Сократ.— Чем скорее рассекут нас боги, тем, может быть, целее
мы будем и — в человеческом смысле — рельефнее: как
распрямится душа, избавленная от этого ощипанного цыплака с
крабьими ухватками, у которого если что и заостряется в течение
жизни, так и то — нос, а не взгляд, а если что и разбухает, так
спесивое брюхо, а никак не ум. Хоть я и очень далек от мысли, что
разбираюсь в причинах таких вещей, мне кажется, что я хорошо
понял твою побасенку. Сам-то я не решаюсь судить даже тогда,
когда единицу делят пополам или единицу прибавляют к единице.
То ли единица, к которой прибавили другую, стала двойкой, то ли
прибавляемая единица и та, к которой прибавляют, вместе
становятся двумя через прибавление одной к другой; пока каждая
из них была отдельно от другой, каждая оставалась одной, и двух
тогда не существовало, но вот они сблизились, и я спрашиваю себя:
в этом ли причина возникновения двух — в том, что произошла
встреча, случившаяся при взаимном сближении? И если кто
разделяет единицу, я не могу больше верить, что двойка
появляется именно по этой причине — через разделение, ибо тогда
причина будет как раз противоположной причине образования
двух: только что мы утверждали, что единицы сближались и вот —
прибавляется уже одна к другой, а теперь, оказывается, одна от
другой отделяется и легко отнимается! Так вот, Аристофан,
сдается мне, что твое божественное рассекание — оно
не уменьшает нас самих и человеческого в нас, но совсем наоборот, всякий
раз вдвое увеличивает, а будущих, рельефных, камбальных, полуносых,
одноглазых,— если и ждет какое новое чувство, так это будет глубокое
удовлетворение.
Отчаявшись увидать, когда другие рассекут пополам нас, афинян, я
подумывал даже о том, что, может, стоит предложить пританам какоенибудь мелкое усекновение, вроде египетского обрезания, да только
скоро понял, что не поможет.
— Вот и я, Сократ,— перебил его тут старый ахарнянин, — слежу за
твоими разговорами с молодежью — и в Пирее, и в Ликее, и даже в
палатке во время осады Потидеи (тому уж лет пятнадцать),— и все ты
расспрашиваешь и слушаешь этих юнцов, а они все норовят, точно
пташки, занять место на сучке твоего внимания, и от разговора к разговору
самый последний мозгляк вырабатывает в себе эту скверную привычку то
прибавлять к единичке единичку, то отымать, и за этим вот тебя впускают
в палестру, а после выходит, что у нас не воины, а одни сплошные
диалектики. Рассказали тебе препоучительнейшую басню, а ты и тут
ухитрился всех нас заморочить своими каверзами.
Старик засопел и, засунув в рот задравшийся клок бороды, умолк.
Глава 12
ВСЕ ХОРОШИЕ, БЛАГОРОДНЫЕ НАВЫКИ МОЖНО
РАЗВИТЬ В СЕБЕ УПРАЖНЕНИЕМ,
А ОСОБЕННО - НРАВСТВЕННОСТЬ...
Коварство аттического лабиринта таково, что, натолкнувшись на
верный след, мы рискуем пропустить нужный момент, упустить свет
ведущей нас мысли и снова очутиться в потемках, а то и свернуть в узкий
тупиковый рукав. Что же до упражнения в нравственности, то мы вправе
были бы с самого начала спросить: а почему это Павсаний-керамеец в
нуднейших своих рассуждениях о любви так кичится своими
необыкновенными якобы нравственными качествами? Именно это хотел
спросить у сотрапезников Аристофан, но не стал вносить в застольную
беседу разлада. Центр афинской винной торговли, дем Гончаров,
назывался Керамиком Внутренним, а по ту сторону городской стены с ним
соседствовал Внешний Керамик, или Гончарная слобода, примыкавшая к
большому кладбищу, но знаменитая еще более своими борделями и
ежегодными состязаниями ламповщиков и факельщиков: победителем
объявлялся тот, чей светильник не затухал в руках бегуна, обежавшего
отмеченный участок. Способствовало ли все это развитию нравственных
качеств жителей Керамика, сказать трудно. Знающие, из чего лепится вся
их посуда — и лучшая, для киликея, и та, что подешевле, щербатая,
тяжелая,—гончары не питали никаких иллюзий касательно нравственных
качеств своих сограждан, и нравоучительность Павсания, которую всетаки перетерпел Аристофан, делала его непохожим на других слободчан.
У самых ворот, ведущих из Гончарной слободы во внутренний
околоток, начиналась дорога на Ликабетт. А возле самой подошвы горы
стоял дом Пулитиона, друга Алкивиада. Здесь, по соседству с уличкой
гетер, Алкивиад с товарищами и кутил, когда стало ясно, что поход на
Сицилию утвержден Народным собранием окончательно. Совсем потеряв
осторожность, Алкивиадова компания гуляла вовсю, сам же заводила
кутежа не обращал ровным счетом никакого внимания на последние
усилия людей Никия отменить поход...
Когда-то, много уже лет назад, два раба в Аристофановых
«Всадниках» искали способа избавиться от Клеона, человека из толпы;
благоразумно уяснили себе, что собою — благородными воеводами — им
не заменить крикливого демагога: только личность еще более развязная,
наглая, грубая, площадная обретет у толпы доверие к себе и сумеет
свалить Клеона. Шарж, комедийная отрыжка политической ситуации,
может быть, уже не показа-
лись бы таковыми теперь, когда люди Никия в поисках уязвимейшего
места в поведении врага наткнулись на то, что было подсказано —
комедией.
...Евполид, высмеявший женственного Алкивиада под маской невинной
девицы, справляющей обряд священного омовения, меньше всего
рассчитывал на реальные политические последствия своей комедии.
«Удостоенные омовения» были поставлены в старо-модном тригедийном
стиле и пользовались успехом: и вертлявая задница сына Клиния, и его
жреческие амбиции, и потаенная трусость, искусно забранная в воинскую
доблесть и жестокость драчуна,— все было спародировано метко, так что
гладкое осиное жало комедии под разными углами успело повторить укол
в больную точку.
А пока кутежи его гремели на всю округу, в городе случилось событие,
принятое всеми горожанами весьма близко к сердцу. В одну ночь
оказались изуродованы лица большинства расставленных по городу герм
— и у тех, что стояли возле святилищ, и у тех, что сторожили частные
дома. Чьих рук это было дело, никто не знал. Десять тысяч драхм
обещали городские власти тому, кто донесет им на преступников. Даже
рабам и иностранцам разрешено было выступить с доносом по этому делу
безбоязненно, не страшась следственной пытки, ибо свидетельство раба
всегда удостоверялось пыткой в Афинах. Быстро распространился
слух, что это гнусное преступление — дело рук заговорщиков, желающих,
дорвавшись до войска, упразднить демократию. Ведь самые верные сыны
ее поумирали, а теперь подросло новое поколение, что-то у него на уме?
Другие считали виновниками коринфян, которые сделали это в угоду
своим сиракузским колонистам, чтобы заставить афинян хотя бы
помедлить с нападением на Сицилию. Некоторые — в основном молодые
ополченцы — не видели в этом никакой дурной приметы, считая
виновниками дерзких своих сверстников, которые, надравшись не сумели
сдержать воинского жара и поколотили священные лики гермесов. Но
Совет и Собрание, смешав гнев со страхом, в течение нескольких дней
собирались и обсуждали обстоятельства дела, приглашая все новых
свидетелей. Застрахованный своею благочестивостью от всякого
обвинения, понуро молчит Никий. Но почуяли рыбку в мутной воде
Загорающие. Демагоги, напуганные чрезмерным доверием толпы к
воеводам, ловят шанс отлучить от войска влиятельнейших аристократов.
На волне затеваемого процесса не один выскочка мечтал о приобретении
влияния в Афинах, оставляемых столькими и куда более достойными
соперниками.
Только доносами, жалким кляузничеством и оставалось заниматься
сидящей дома мелкоте. Но пока поход еще не оконча-
тельно отделил человечков от воинства, шпаки петушатся, серьезное дело
военных приготовлений мешается с серьезнейшим делом об осквернении
герм.
И вот демагог Андрокл приводит в Совет, а потом тащит и в Собрание
нескольких метэков и рабов, да еще подговаривает Фессала, сына Кимона,
подать донос. Правда, донос этот был не о гермах, а о недавнем
надругательстве над другими статуями, совершенном какими-то
молодыми людьми из озорства, под пьяную руку. Доносчики
рассказывали, что сами видели, как в доме Пулитиона и еще в нескольких
домах Гончарной слободы и других предместий совершались
кощунственные пародии великих елевсинских мистерий. Сын Кимона
Фессал (говорят, он приревновал Алкивиада к Пулитиону) накатал свой
донос в лицах. Сам Пулитион разыгрывал у него жреца-факелоносца,
керамеец Теодор — глашатая, Алкивиад же играл роль главного жреца —
Вызывающего богинь! Мало-мальски трезвый человек рассудил бы, как
недалеко ушел донос Фессала от Евполидовой пьески, разобрался бы в
последних попытках Никия отклонить сограждан от похода, но демагоги
знали, что делали. Правда, полного изгнания Алкивиада они пока не
требовали, опасаясь, как бы кому-нибудь из них самих не пришлось занять
его место в войске: ведь так точно Клеон залез в собственную могилу! Но
они во весь голос вопили, что кощунственное пародирование мистерий и
повреждение герм — лишь малая часть грандиозного заговора,
преследующего цель свержения демократии, а главный виновник —
Алкивиад.
Понимая, что готовое к отплытию войско во всем поддержит своего
воеводу, обещавшего им все золото мира, демагоги, эти воеводы
остающихся дома, рассудили так: «Пусть он снимается с якоря, пожелаем
ему счастливого пути, а когда война кончится, он явится домой на суд!»
Ведь они понимали, что в его отсутствие в городе можно будет собрать
достаточно улик для куда более тяжких обвинений, чем простая пьяная
пародия на таинство, а заодно они думали втихаря расправиться с теми из
не ушедших в поход, кто успел за последние дни выказать готовность
действовать заодно с Алкивиадом в городских делах. Алкивиад понял их
хитрость, но сделать ничего не мог, так и не разобравшись, на что идет,
куда отплывает — то ли полководить, то ли во временную ссылку, то ли в
предварительное заключение: с корабля ведь не спрыгнешь в воду.
К середине лета море окончательно успокоилось, триеры едва
покачивались в Пирейском порту, кивая сотнею мачт родным берегам —
плешивым скалам, круто сходящим в воду, далеким, прямым и
неколеблемым кипарисам, мрачно наблюдающим закат. В ожидании
вечернего бриза афиняне столпились у берега. В этот момент разлуки они
вдруг явственно почуяли опасность, и всех
их охватила тревога, не просыпавшаяся там, наверху, в Собрании, в дни
принятия рокового решения.
На адмиральском корабле, на корме которого ему соорудили гамак,
Алкивиад вдруг заметил мелькнувшее среди команды знакомое лицо.
Свет уже сжимался в сумерки, и Алкивиад не сразу объяснил себе
неприятное чувство, подбавившее горечи в нынешнее его состояние. Да
это же Евполид! Сын Сосиполида был, оказывается, любителем морского
дела и неплохим пловцом, так что его недаром вписали в команду первого
корабля эскадры. Но, увидав негодяя, Алкивиад не давал себе времени на
размышление: гребцы уже сушили весла, поскрипывала под парусом
мачта, в одиночку влача корабль, а этот жалкий сатир здесь и во все
неблизкие дни и ночи похода будет мелькать своею рожей перед ним, уже
натерпевшимся от сограждан! Недаром все-таки сын Клиния упражнялся
в палестре Сибиртия, недаром взнуздывал стольких коней: он легко
перебросил за борт почти не сопротивлявшегося комика. Свободного
человека, аристократа, не изнуренного рабским трудом, иссушающей
жилы поденщиной, можно узнать по такой вот хватке и силе. Но и
Евполида можно понять. Что толку спорить и тратить силы на борьбу,
если все равно рано или поздно будешь выброшен за борт. Лучше
поберечь силы на обратный путь. Теплое море, звездное небо, еле
слышимый дух отдымивших жертвенных костров с берега, массивные
туши афинских парусников, загадочное причмокивание волн, еле
слышный уже голос Алкивиада — слабый на экспромты, он вдруг
сымпровизировал двустишие:
« Ты мне в театре Диониса лишь омовенье устроил, Я же тебя утоплю —
эта поглубже лохань!» Ишь, картавый, последнее слово за собой оставить
хочет. Но последнее слово не было сказано ни тем, ни другим, а
неискушенному человеку, может быть, показалась бы символической
(о, античное слово!) сцена возвращения первой жертвы Сицилийской
кампании. Евполиду еще повезло, что он не попал под тянувшийся
следом корабль: эскадра еще не нарушила стройный порядок парадного
отплытия, еще впереди была гонка на веслах до Эгины. Пока еще вы
сыты, гребцы, пока еще не терзает вас жажда, пока только звезды,
прохлада мешаются с горячим береговым ветром, как мешали вино с
водою жрецы, совершившие возлияния на берегу. Евполид саженками
жилится к Скарабеевой бухте, а эскадре на завтра назначено, минуя
Эгину, стать на рейд у Керкиры, где уже поджидали с полсотни союзных
кораблей.
Если и в эти годы Евполид с Аристофаном продолжали работать
в одной артели, оба могли бы и посмеяться и вспомнить детские
годы, когда Алкивиад был еще тщедушным мальчишкой, побиваемым более сильными противниками. Раз стал он бороться, его одо-
левали. Чтоб не проиграть схватку, он пребольно укусил более сильного
драчуна, едва успевшего избежать настоящей раны. «Ты, Алкивиад,
кусаешься, как баба!» — сказал он. «Напротив,— отвечал сын Клиния,—
как лев!»
Богатые на яркие роли каждодневные спектакли Собрания этого года,
к несчастью, теснят и самых отпетых выдумщиков. Отложив на время
«Амфиарая», Аристофан берется за новую комедию, рассчитывая успеть с
нею к Сусляным Дионисиям. Взыскуя человеческой мифологии, он
быстро находит сюжет...
Дедал и сын его, Икар, запертые Миносом в Лабиринте — благо
Минотавра нет больше в живых, и построенная Дедалом темница
пустует,— нашли-таки способ бежать. Хитроумный мастер изготовил
крылья для себя и для сына, скрепив перышки восковым клеем...
...Так и Никий — он будет у нас Дедалом — с Алкивиадом — а этот
пусть будет Икаром — решились искать свободы от родных Афин в
заморской авантюре...
Дедал наказал поднявшемуся в воздух Икару не подниматься
слишком высоко, чтобы клей, соединяющий перья, не растопился бы
жарким завистливым солнечным лучом, и не опускаться слишком близко
к воде, чтобы соленое море не разъело неверные скрепы тонкого клея...
...Не зарься на Сицилию, Италию и Карфаген, мальчишка, задастый
кентаврик! Довольствуйся тихими мелосскими играми, казни или милуй
фракийцев, играй в прятки с аргивянами, мантинеянами и хоть со
спартанцами, но знай меру, глупый, болтливый, картавый! Не опускайся
до подкупа пустых человечков из толпы, не резвись в пьяных кутежах
керамейцев! Раскаешься, Алкивиад!..
...Но Икар пренебрег советами отца и, увлеченный полетом,
подымался все выше и выше. Клей расплавился, и Икар погиб, упавши в
море, названное Икарийским. Дедал же благополучно завершил перелет и
прибыл в сицилийский порт Камик...
...Афинский флот, повторяя маршрут Дедала, с грехом пополам добрался
наконец и до Сицилии, где воеводы, каждый таща в свою сторону, взялись
— купно и поодиночке — уговаривать союзников присоединиться к
афинянам, уговаривать нейтральные города сдаваться, а врагам
угрожать... Аристофан, сочиняя «Дедала», меньше всего думал о том, как
трудно работать на подтексте: ни театральной критики, ни теории
мусического искусства афиняне слугам Диониса предложить не могли.
Лишь практические рекомендации, возникающие от времени до времени у
знатоков своего дела, имели цену, да еще ценен был собственный навык.
Этот навык и подсказывал Аристофану, что в городе, по мановению его
же, города, руки лишенном лучших
и вернейших своих граждан, друзей, родных и сыновей, в таком городе
только безумец станет дразнить толпу, вышучивая нынешнюю
кампанию перечислением впустую истраченных денег, раз-ворованной
амуниции, нелепейших проволочек, давших знать всей Греции о
предстоящем великом походе.
Наступили дни, когда словно бы опустело некогда гибкое тело
каждого праздника, земледельческого или ремесленного, городского или
аттического: все надежды и силы, повседневные разговоры, настроения
каждого человека, мысли о семье, о долгах,
маленьком наделе возле Длинных стен, да и все приготовления к
близким осенним торжествам,— все это подернулось ряской
томительного ожидания вестей из ниоткуда. Ожидания сказочных
трофеев в городе у женщин быстро уступили место тревоге и
неуверенности. Еще бы, ведь все самое ценное было вывезено из города.
Галимунтец Фукидид, к этому времени уже пять лет как изгнанный из
Афин за бездарное, по решению собрания, свое полководство, даже не
пытается подсчитывать государственные и общественные расходы и
частные издержки участников похода, всего того, что ранее издержано
было государством и с чем оно отпускало воевод; не берется он считать
и того, что каждый чело-век истратил на себя, что каждый капитан
издержал на свой корабль, не говоря уже о тех запасах, какие,
натурально, сверх казенного жалованья, заготовил себе каждый на
пропитание. А ведь в такой далекий поход потянулись не одни только
воины, но и купцы для обмена (можно было не опасаться пиратов!), и
ремесленники со своим инструментом и своею наукой на грузовых
кораблях, и каменщики, и землекопы для постройки осадных
сооружений. Только если подсчитать все это, признается обиженный на
сограждан Фукидид, то окажется, что много талантов вывезено было из
государства.
...Так увозил свое искусство Дедал от чересчур любознательного
Миноса...
Но как сказать оставшимся в городе, что родня их воюет там, никто не
знает где, за тень осла?
Порча засела в этих стенах, и нет средства выковырять ее отсюда. Из трех воевод, под чье командование город отдал лучшие,
или, вернее, все свои силы, один вообще не хотел отправляться на
войну, другой выступил в ожидании судебного разбирательства.
Казалось бы, повезло хоть с одним — с Ламахом, человеком мужественным, справедливым и выказавшим во всех прошлых сражениях этой войны беззаветную храбрость. Но и его коснулось
общее разложение: Ламах был так беден и скуп впридачу, что после
каждого похода подавал афинянам счет на смехотворную какуюнибудь сумму, издержанную им на платье и обувь. Не слишком
заметная у лица частного, эта странность особенно некстати вылезала
теперь, когда город соскреб последнее. Чем не шуты, чем не фарс! Но не
за одной сицилийской импровизацией следил Аристофан, сочиняя
«Амфиарая» и «Дедала».
Самый старый из воевод, трагик Софокл, оставленный за
ненадобностью в Афинах, был так же мало пригоден для командования
тыловыми пограничными гарнизонами, как до глубокой старости не умел
отказаться от мелких слабостей, выдающих мальчика из хорошей
афинской семьи.
А между тем оставшимся в городе предстояло, по древнейшему
обычаю, совершенствоваться в нравственности, воспитывать детей,
состязаться в рвении, бдительности, неподкупности, непримиримости и
других добродетелях истинного гражданина. Да только мудрено поэту —
и даже такому великому, как Софокл,— направить на путь подлинной
добродетели столь разношерстную и на разные голоса галдящую толпу.
Вожди народа и те с трудом обслуживают компактное городское
большинство скудным ресурсом своей государственной мудрости.
Никогда прежде не боявшийся своих сограждан, беззаботно наскакивая и
на самых грозных людей из толпы, Аристофан натыкался теперь на чужие
и, он сказал бы, отрешенные от Диониса лица. Они не для того, видно, и
пьют теперь, чтобы размягчить заскорузлые души, вглядеться в
Дионисово зеркало, чтобы новый свой облик лепить по обнаруженной в
зеркале истинной модели.
Еще тогда, у Агафона, высказавшись об Эроте, Аристофан вышел во
дворик, к ограде, за малой нуждой. Возле него притулился болтливый
старичок из Ахарн. Пришедший к какой-то постоянной и нормальной для
себя ступени опьянения, ахарнянин не торопясь порылся в складках
гиматия и усмехнулся:
— Вот видишь, Аристофан, лишь небольшая часть исключительных
по своей природе людей, получивших превосходное воспитание, может
удержать себя в надлежащих границах, когда сталкивается с какиминибудь нуждами и вожделениями. Я-то, понятное дело, старик, а тебе
стыдно так быстро переполняться. А все почему? — не очень следя за
связностью мысли, но теперь уже строго продолжал он.— Потому что не
любишь ты афинян, мой дорогой! Если бы мне в самом деле пришлось бы
устанавливать законы, то относительно злословия будет один закон для
всех: пусть никто никого не злословит! Если же люди расходятся во
мнениях, то надо их понять и наставить — как противника, так и
присутствующих,— всячески воздерживаясь от злословия. Дело в том,
что из взаимных поношений вырастает женская привычка обзывать друг
друга позорными именами. Так из пустяка, из легковесных сначала слов,
вырастает действительная ненависть и самая тяжкая вражда. Спорщик с
удовольствием отдается чувст-
ву гнева, пренеприятному чувству, Аристофан! Снова становится дикой
та часть его души, которая была некогда укрощена воспитанием. Дай
рукомойник, Тибий,— обратился он к рабу.
Аристофан заторопился было назад, в дом, ему хотелось послушать,
что скажет Агафон, но ахарнянин удержал его.
— Но как же так? — Он почему-то вдруг ехидно подмигнул мутным
глазом.— Ведь и вы, сочинители комедий, стремитесь подымать людей
на смех. Допустимы ли ваши выступления, когда они без гнева
высмеивают в комедиях сограждан? Не разграничить ли нам здесь две
стороны: забаву и ее противоположность? Ну, в виде забавы всякому
дозволено говорить о любом человеке смешные вещи, но — без гнева, без
гнева, Аристофан! Тому же, кто высмеивает неприязненно и с гневом,
этого разрешить нельзя. Я бы вообще определил законом, кому
разрешается осмеяние, а кому нет. Комическому, ямбическому или
мелическому — отогнул поэт три пальца — поэту вовсе не разрешается
ни на словах, ни с помощью жестов высмеивать кого-либо из сограждан,
все равно, делается ли это с гневом или без гнева. А ты не смейся, вот
увидишь, придет такой день, когда устроители состязаний будут изгонять
из страны ослушника! В лучшем случае заплатишь три мины Дионису.
— Что ж, никому и пошутить нельзя будет? — осведомился комик,
пока Тибий сливал ему из рукомойника.
— Почему, можно, однако лишь в том случае, если она совершается
без гнева, как забава. Всерьез и с гневом это не разрешается. А различать
это должны будут попечители воспитания молодежи, жаль, нет у нас пока
таких общественных попечителей, но когда они будут! Что одобрит
попечитель, то человек, сочинивший анекдот или шутку, может
использовать публично; а что попечитель отвергнет, того этот человек не
должен никому показывать и не должен дать застигнуть себя на том, что
он научил этому другого, раба или свободнорожденного. В противном
случае он будет признан плохим гражданином и ослушником законов.
Так что поберегись, мой милый!
Таких, как этот старичок, и надо было теперь остерегаться. Кое-кто из
комиков уже понял это. К чему, в самом деле, гневные насмешки!
Ненавязчивые рекомендации дорогим согражданам: как сохранить
добытую
доблесть,
какой
образ
жизни
избрать
человеку
рассудительному, как лучше пропустить над головой злой рой из
растревоженного улья?
В один из дней первого после отплытия флота праздника Диониса
выступил с комедией Фриних, сын Евполида. Для афинянина,
привыкшего исстари толпиться, делиться, враждовать, радоваться и
грустить так, словно это касалось другого в не меньшей степени, чем его
самого, странной бы показалась новая комедия Фриниха,
названная — по главному герою ее — «Сам-по-себе». «Сам-по-себе» не
сохранился, разумеется, и ничего бы о нем нельзя было и подумать, если
бы не умение комиков придумывать новые необыкновенные слова, за что
филологические сухари — византийские книжники и александрийские
писари — извлекли на свет божий и несколько строчек из «Самого-посебе».
Поллукс. Словарь. Титл х о л о с т о й : Аристофан говорит
неженатый, а Фриних придумал слово «безбабый», «безрабий» — это о
том, кто живет без раба, «бессловесный» — кто настолько не любит
людей, что вечно молчит, «безулыбый» — все тот же мизантроп:
«Сaм-пo-ceбe — вот подлинное имя мне,
Без бабы, без супруги то есть, я живу,
Безрабий, безулыбый — сам себе голова».
Уже освоивший технологию подтекста, Фриних и посмеивается над
Самим-по-себе и ласков к нему. Грубиян, отшельник и мизантроп, над
которым толпа смеется как над форменным умалишенным, Сам-по-себе
не лезет, как шустрый Аристофанов Честной, на орхестру за правдой, не
сражается, как Стрепсиад, за уважение к себе сына, да у него и детей нет:
«Такой уж я старик, бездетный и безбабый». Сам-по-себе презирает
больше всего как раз тех, кто суется во все дела общественные,
государственные, принимая в них столько участия, что малейшая неудача
тотчас расценивается всеми согражданами как злонамеренный саботаж
мнимого энтузиаста. Не так ли пострадал Метон из Левконейской
слободы, астроном аттический, протянувший водопровод до самого
Колона? Всюду совал он свой длинный нос и умелые руки, а под конец
жизни ничего лучшего не нашел, как прикинуться сумасшедшим!
А как же еще спастись в Афинах человеку, не разумеющему в технике
подтекста? Метон — бесхитростный естествоиспытатель. Он подарил
афинянам прекрасный новый календарь, позволивший заранее знать
точную дату любого праздника, чтоб лучше приготовиться к нему. Он
мастерит солнечные часы, чертит планы новых городов, основанных
Афинами. Куда ж он скроется, успешный?..
Как ужаленные кружили по городу доносчики, расследуя дела о
кощунстве Алкивиада с товарищами и о повреждении герм. Не проверяя
достоверности показаний Выявляющих фиги, афиняне в своей
подозрительности принимали все за чистую монету. На основании
доносов и сомнительных улик, представленных негодяями, в темницу
попали многие ни в чем не повинные люди. Обвинителей можно было бы
легко схватить за руку, но афиняне слышали только то, что хотели
услышать. Когда одного из Выявляющих спросили, каким образом узнал
он в лицо тех, кто уродовал
гермы, тот отвечал, что светила луна, но случай этот произошел в
новолуние, чем был бы смущен всякий приличный человек, но не этот
пройдоха: он вел себя по-прежнему, продолжая бросать в оковы новых и
новых людей. Не добившись удачи на поприще вождизма, стряпали
новые доносы какой-то Диоклид и какой-то Тевкр. Они, быть может, и
были чем-то в Афинах, но им, как проявившим особые способности в
доносительстве, афинская история забыла все прочее, оставив их навеки
при сем непыльном деле. Уже просто жить в этом городе представляло
собою едва ли не большую опасность, чем страдать от морской болезни
или лежать в лагерном шалаше недалеко от врага, готового в любую
минуту сделать вылазку.
Удивительная готовность сограждан
подозревать друг друга в преступлении, выдуманном в самом зародыше
уже первым из усердной кучи доносчиков, расталкивала прежде шумные
дружеские компании, закрывала рты базарным крикунам, так что
некоторые даже предпочитали оковы постоянному страху тех, кто ходил
на свободе. Вот он откуда, человеконенавистник Фриниха, Сам-по-себе.
Тесное тюремное помещение, не приспособленное для одновременного
содержания
такого
количества
заключенных,
мало-помалу
переполнялось людьми, а виновников осквернения герм так и не нашли.
Упражняясь в бдительности и других существенных для жизни
нравственных качествах, например, готовности донести на родного брата,
если на того падало подозрение в злокозненном отношении к городу,—
ведь на обучении этому и зиждется прочный каркас любви и доверия
граждан к афинскому отечеству,— ища кратчайших и легчайших путей
выражения своей преданности общине, афиняне сами не заметили, как в
короткое время то, чего не могла достичь многолетняя война, вдруг
случилось.
Радея за общие интересы, благо отечества, священные установления
касательно общения с божеством, они—и те, кого успели забить в
колодки, и те, кто успел убежать за границы Аттики, и те, кто
усердствовал на поприще Выявления фиг,— открыли для себя, что
государство государством, народ народом, а только бы божество не
оставило каждого из них в отдельности в тиши и покое. Город
доносчиков и заключенных рискует преобразиться в город заключенных
доносчиков. Эта угроза, вполне прочувствованная Советом, была
неизбежной. Придуманное властями средство было единственной, хоть
временной, но действенной мерой.
Хотя тюрьма была уже переполнена, никто из колодников не
сознавался в приписываемых ему грехах. И только один человек,
аристократ Андокид, был в самом трудном положении. Из герм,
изуродованных в ночь накануне отплытия афинской эскадры,
невредимыми остались немногие, а в центральных околотках города
таковой была только одна — и притом замечательно большая,—
то была герма возле дома Андокида. Подсаженный к Андокиду Тимей,
человек незнатный, но умный и смелый, как потом подумал о нем
Плутарх, убедил несчастного сделать признание, указав на то, что даже
если он и не виновен, то все же ему выгоднее признаться и просить
снисхождения. Ведь так он и сам спасется и положит конец подозрениям
в городе и всеобщей травле. Тимей уговорил Андокида — чтоб дело
выглядело правдоподобней — донести и на себя и на других сограждан.
Он же объявил, что на основании решения Народного собрания прощение
получит только признавшийся добровольно. «Смотри,— поощрял он
Андокида,— лучше уж спасти свою жизнь хотя бы ложью, чем умереть
позорно и незаслуженно обвиненным в таком преступлении. Имея же в
виду пользу Государства, пожертвуй немногими подозрительными
лицами и спаси от народной ярости многих честных граждан».
Андокид донес на себя и кое-кого еще, включая, между прочим,
ближайших слуг своих, единственных свидетелей всей этой неправды.
Сам он был тут же выпущен на свободу и выслан из Афин, а все те, на
кого он донес, после краткого чрезвычайного разбирательства были
казнены, за исключением немногих бежавших и приговоренных заочно.
Покончив с виновниками осквернения герм, афиняне взялись за тех,
кто пародировал таинства в доме Пулитиона. За Алкивиадом послали
казенный корабль — «Саламинию> — с приказом немедленно, но
незаметно заманить сына Клиния с несколькими сообщниками на борт,
чтоб затем сразу доставить в Афины для суда и казни.
Судьба Икара — Алкивиада из Аристофанова «Дедала», уже готового
к постановке, воплощалась в действительности тем стремительней, чем
менее сам комик надеялся поставить свою комедию на сцене у Диониса.
Не ясно, когда в действительности состоялась постановка «Дедала».
Успел ли к тому времени Алкивиад улизнуть от собиравшихся похитить
его чиновников с «Саламинии», или он был еще только по пути в Фурии.
Известия об этом пришли в Афины только через несколько недель. Он
вышел на берег в Фуриях, где и «Саламиния» бросила ненадолго якорь, а
корабль Алкивиада — ведь официально он не считался пленником —
остался стоять на рейде. Так вот ночью на легкой шлюпке-скарабейке он
добрался до города, где скрылся. Афинские шпионы сбились с ног,
обшаривая порт, старую часть города — бывший Сибарис, с его недавно
отстроенными
банями,
некогда
более
всего
остального
способствовавшими падению нравов, а потом и всего этого государства
наслаждений,— но так и не нашли ни Алкивиада, ни его спутников.
Кто-то из прежних знакомцев, а теперь фурийский колонист, узнал
сына Клиния и спросил у него:
— Неужели ты, Алкивиад, не веришь своему отечеству? Почему ты
не сдашься своим?
— О, я верю ему во всем, поверь мне,— отвечал ему внук Мегакла,—
но там, где дело идет о моей жизни, я не поверю даже матери: и она, по
ошибке, может положить вместо белого камня черный!
Тем временем он договорился уже с купцами пелопоннесскими о
времени и об условиях бегства в один из нейтральных пока городов
полуострова.
Учиненное в городе разбирательство начали, зачитав обвинение
Фессала, сына Кимона:
«Сын Кимона Фессал из лакиадского околотка обвиняет сына Клиния
Алкивиада из скамбонидского околотка в оскорблении богинь, Деметры и
Персефоны, а оскорблял он их тем, что показывал их у себя дома своим
товарищам, причем сам был одет в платье Вызывающего Богинь,
Пулитиона нарядил факельщиком, Теодора — глашатаем, остальную
компанию называя «посвященными в таинство» и «сподобившимися
разглядеть божество». Все это нарушает законы и правила,
установленные жрецами елевсинских мистерий, Евмолпидами и
Кериками. В качестве наказания я требую у суда казни преступника с
воспоследующей конфискацией всего имущества, равно как и
оглашением во всех городских святилищах проклятий сына Клиния,
которые должны быть привселюдно произнесены всеми жрецами и
жрицами города!»
Афиняне приговаривают его к смерти, хватают и казнят его
товарищей и сообщников, торопясь очистить город от аристократических
заговорщиков, пока войско не вернулось с Победой.
Узнав, что город приговорил его к смерти, он только расхохотался и
заметил: «О, я докажу им, что я жив!»
Аристофан, посмеиваясь, глядел на усердие обвинителей Алкивиада.
Они учли все, кроме одного. Его слишком любили женщины. Они, хоть и
не имели ни гражданских, ни политических прав, обладали, однако, в
Афинах, как и повсюду в патриархальных государствах, в л и я н и е м ,
а это не шутка. Проклинали жрицы Алкивиада, думается, понарошку, а
одна так даже спаясничала. То была Теано, дочь Менона, из Агравлы, и
она заявила, что как жрица может произносить одни благословения, а
проклятия пусть оглашают политики и вояки. Еще и другое не нравилось
той половине Афин, что сидела взаперти в гинекее и до сих пор почти не
показывалась в моем повествовании.
Не выловив Алкивиада, афинские чиновники велели Никию поймать
оставшуюся в одном из сицилийских городов любовницу его Тимандру,
но Тимандры там тоже не оказалось, и тогда люди
Никия схватили дочь ее и Алкивиада, доверчивую Лаиду, и продали в
рабство кому-то из пелопоннесских купцов. Такое обращение, хоть оно и
было в порядке вещей, не нравилось обитательницам аттических
гинекеев.
...Афиней. Трапеза знатоков. Титл л а к о м с т в о : слово это
означает то, чем лакомятся, в отличие от того, чем питаются обычно.
Аристофан в «Дедале» так об этом говорит:
«Для женщин нету лакомства желаннее
Прелюбодейства, ловко утаенного...»
Однако слишком явная жалость и даже некоторое сочувствие, какое
можно найти в Икаре — Алкивиаде Аристофана, может быть, удерживали
комика от постановки «Дедала».
А между тем сицилийские новости доходили до Афин медленно, да и
купцы, тогдашние журналисты, сообщали каждый свое, так что
вразумительная картина событий, если и возникала ненадолго, быстро
расплывалась с потоком новых сведений из-за понятного беспокойства
горожан.
Кажется, пока ничто не предвещает неудачи, покончено с
предполагаемыми врагами демократии в городе, пусть трепещет Алкивиад
с оставшейся братией, сильное подкрепление готовится для Никия и
Ламаха, и только в нравственных своих упражнениях горожане
переусердствовали. Кажется, совсем недавно и вот здесь с ними, с
афинянами, проделал свой фокус Зевс, разрезавший их пополам.
Целого человека еще можно научить чему-нибудь — одна половинка
поможет другой, а вот что делать с теми, кто разрезан пополам и мечется
в поисках другой половины? В архонтство Хаврия (414) декрет Сиракосия,
запрещающий высмеивать в комедиях людей под собственными их
именами, вошел в силу. Ведь люди испытывают страдания, узнавая
недостающие свои половинки отвратительно искаженными на
Дионисовой сцене; уже не смеются ни друг над другом, ни — купно —
сами над собой. Веселье праздничных попоек сменилось желчным
недоверием.
У АГАФОНА
А тогда, у Агафона, Аристофан все-таки опоздал и речь хозяина
дома пропустил. Он, правда, не сильно печалился на сей счет,
потому что, когда входил, поймал концовку Агафоновой речи и
нашел в ней мало любопытного:
—... Избавляя нас от отчуждённости, призывая к
сплоченности, Эрот устраивает всякие собрания, вроде
сегодняшнего, и становится нашим предводителем на
празднествах,
в хороводах и при жертвоприношениях. Кроткости любитель,
грубости гонитель, он приязнью богат, неприязнью небогат. К
добрым терпимый, мудрецами чтимый, богами любимый;
воздыханье незадачливых, достоянье удачливых; отец роскоши и
неги, радостей, страстей и желаний; благородных опекающий, а
негодных презирающий, он и в страхах и в мученьях, и в
помыслах и в томленьях лучший наставник, помощник, спаситель
и спутник, украшение богов и людей, самый прекрасный и самый
достойный вождь, за которым должен следовать каждый!..
Ишь, как раскудахтался трагик-сладкопевец!.. Не сказки ли
это, Агафо-он? Что толку спрашивать, когда столько влюбленных
взглядов оглаживает виновника праздника. Аристофан же
помрачнел, услыхав в Агафоновой похвале Эроту несбыточные
надежды на возвращение складной жизни, руководимой великим
богом.
А два года спустя надежды эти и вовсе истаяли. Оставались
одни мечты: уж мечтать-то каждый имеет право, даже тот, у кого
не остается никаких надежд.
Когда Дедал мастерил себе и сыну крылья, чтоб улететь с
Крита, от Миноса, думал ли он, что высадится на знакомом берегу?
Или предполагал добраться до лесистой страны таких же
крылатых существ, как он сам?..
В Афинах у Дедала осталась родня (Икар был не единственным
его сыном), а один из его потомков в нынешнем поколении афинян
— сын Софрониска и Фенареты, о чем в доме Агафона никто не
вспомнил бы, не будь там Аристофана. Хоть, по видимости, были
они друзья, и почти неразлучные друзья, но смешное понимали
по-разному.
Ум Сократа, точно владеющий тайной бесшумного полета сыч,
терпеливо внимал кукареканью выученика своего, петушка
Агафона, едва оседлавшего насест в курятнике, но уже
возомнившего, что озирает весь подлунный мир. Так Дедал
безуспешно цеплял крылья на плечи Икара, и Сократ улыбался,
понимая, что ему на роду написано сеять мудрость, а пожинать
такую вот сладенькую глупость. Вот потому-то сам он, точно сыч,
при других не летал, отсиживаясь до наступления ночи. Строгий
внутренний голос приказывал ему молчать.
А вот Аристофану смешным казался как раз этот самый
внутренний голос Сократа, величаемый «демонием» и обладавший
исключительным правом повелевать делами и помыслами
мудрейшего из греков.
— Разве не общим богам принадлежат все люди, а каж-
дый — своему? — спрашивали его собеседники и собутыльники.
— Общим, конечно, общим,— посмеивался Сократ.— Вы вот
думаете, что я здесь сижу потому, что тело мое состоит из костей и
сухожилий, а кости твердые и отделены друг от дружки суставами,
а сухожилия то напрягаются, то расслабляются, окружая кости
вместе с мясом и кожею, которая все охватывает. А поскольку
кости свободно ходят в суставах, сухожилия, растягиваясь и
натягиваясь, позволяют мне сгибать ноги и руки. Вот по этой-то
причине, по-вашему, я и сижу теперь здесь, подобрав правую ногу
под левую ляжку! Клянусь собакой, эти жилы и эти кости,
увлеченные вашими общими богами (великие боги простят меня,
понимая, что я имею в виду), эти мышцы и сухожилия, повторяю я,
уже давно бы проводили время в другом месте, да и вас бы тут, я
думаю, не было: вы ведь просто оглушили свое внутреннее ухо,
оно у вас и вылезло все наружу, совсем разучившись
прислушиваться к тому бессмертному голосу, что всякому
человеку успевает подать знак — «воздержись!»
— И мы теперь слышим, как урчит твой демоний перед тем,
как призвать верховного бога — Вихря,— под одинокий мрачный
смешок буркнул кто-то из гостей. Никто все-таки не поддержал
его, и даже Аристофан поморщился от неуместности этой шутки.
Как ни дерзок Сократ в своих рассуждениях о божественном, а
суеверие афинян удерживало их от возражений: только оно и
говорило им самим — «воздержись!» Кто сплюнул себе за пазуху,
кто надкусил черенок лаврового листа, кто торопливой молитвой
призвал бога-покровителя.
Глава 13
«ДОБЕРЕМСЯ ЛИ КОГДА ДО ГОРОДА КУКУЕВА?..»
— Два афинянина, купив себе по птице-проводнице,— начинает
схолиаст,— ушли из города, от забот и тревог его, от Загорающих,
Заседающих, Выявляющих, ушли искать счастья. И случилось им
встретить мудрого Удода, и решили они все вместе построить новый
город, который в точном переводе с греческого называется Кукуев —
Коккигия...
Собственно, Аристофан, сидючи в Афинах, мечтал о Кукуеве —
волшебном граде всеобщего благополучия, изобилия и, как видно уже из
названия города, приближенности к богам,— Аристофан стремился туда
не более чем все остальные афиняне. В поисках нового города они были,
пожалуй, пошустрей и резво откликались на призывы сотворить
сказочное царство прямо здесь, в Афинах.
«Для начала мы завоюем сицилийские города, затем подчиним себе
италийских эллинов, после чего покорим карфагенские владения, а там и
самих карфагенян. В кратчайшие сроки расправившись со всем этим, мы
обложим Пелопоннес силами присоединившихся к нам греческих городов
и множества наемников-иберийцев и других храбрейших воинов из стран,
лежащих возле самых Геракловых столпов. Мы усилим флот, построив
множество военных кораблей из прекрасного леса Италии. Сокрушив
Пелопоннес, мы установим наше владычество над всем миром,
омываемым морями!» Так торопился выстроить свой Кукуев воевода
Алкивиад, ибо он понимал, что в строительстве городов красноречие —
половина дела, а другую половину рассчитывал содрать с афинян и их
союзников.
Но мечтатели послабее сидели здесь, на месте, и чем дальше,
тем меньше надежды оставалось у них на превращение Афин в
чертоги всеэллинского могущества. Старики, вроде того ахарнянина, что вместе с комиком справлял нужду на задворках Агафоновой усадьбы, искали виновников промедления и задержки,
мешающих поскорей приблизиться к желанной цели. Мудрецы,
вроде Сократа и Метона, побаивались собственного понимания и
прикидывались пустыми человечками, недалекими жертвами старческого своего слабоумия. Комикам оставалось разыскивать собственные пути, не претендуя на то, что за анекдотами и побасенками их кто-то высмотрит физиономию учителя толпы старинного
покроя.
Когда актеришка кричит со сцены, что, мол, «детей наставляет дядька,
а взрослых людей — поэт», зрители наши — башмачники,
разносчики и шорники, ткачи, и сукновалы, и присяжные — толь
ко посмеиваются, луща орешки, припасенные по случаю предстоящего
сидения в театре. За последние годы Аристофан научился не питать особых
надежд на понятливость своих сограждан. Хоть те коридоры лабиринта, по
которым можно было бы уследить за женитьбой комика, рождением
сыновей, за домом его и бытом, давным-давно рассыпались в прах, одно
очевидно: он все реже появлялся сам на орхестре во главе хора, умеющего
сплясать положенное по сценарию. И «Амфиарая», и «Дедала», и
следующую комедию он отдает для постановки Каллистрату и Филониду,
посвящая все время сочинению.
Когда бутафоры мастерили крылья для Дедала и Икара, Аристофана
вдруг распалила мысль, в другое время показавшаяся бы несерьезной. Он
вспомнил, как незадолго до начала войны отец водил его в театр на
Сусляные Дионисии. В тот год Магнет показывал маскарадную комедию
«Птицы». Цветисто разодетый хор — он не помнил только, что за птицы
плясали у Магнета,— писклявые мелодии, исторгаемые искусными
флейтистами,— все понравилось зрителям. Потом Магнет вышел из
моды, состарился и был быстро позабыт неблагодарной публикой. Теперь
же, следя за работой бутафора, Аристофан напал на старый след великого
выдумщика и уже не сходил с местами заросшей тропинки. Не
растрачивая попусту время на постановку, он мог теперь работать не
торопясь, хитрей и тщательней запрятывая концы сплетенной небылицы.
Тогда, у Агафона, в ответ на рассмешившее его кукареканье об Эроте,
крылатом боге-помощнике и боге-защитнике, боге-порхателе и благ
подателе, Аристофан закосил удачный стишок для «Дедала»:
«Ну и дела, какие яйца петухи несут!»
«Эрот ведь так молод, друзья мои,— кукарекал Агафон,— и так нежен!
Ведь ходит он не по земле и даже не по головам, но порхает, крылатый, в
самой мягкой на свете области... (вот уж когда улыбнулся и насупленный
Аристофан!) ...водворяясь в нравах и душах богов и людей, причем не во
всех душах подряд, Аристофан, и зря ты ухмыляешься! — а только в
мягких, ибо, встретив суровую душу, он отлетает прочь. А коль скоро и
ногами и всеми остальными членами он касается всегда только самого
мягкого в самом мягком, он не может не быть необыкновенно нежным...».
Тогда, над речью Агафона-петушка он только посмеялся, а теперь вот
задумался. Что за блаженную картинку нарисовал Агафон! Как, должно
быть, отрадно жить при таком попечительстве проказливого Эрота! Вам,
афиняне, племя мечтательных завирушек,
«легковеи, от дыма бегущая тень, сновиденьям подобное
племя,
однодневки, бескрылая бренная тварь, род бессильный,
создание праха».
вам надо доподлинно знать, что это за волшебное царство крылатых
существ, нежных в мягком, или — тьфу — легковеюще-крылатое мягкое
в нежном, о Агафон! Твои бредни — в самый раз для новой комедии, и
всему твоему птичьему пантеону, мой милый, цена — пол-обола...
...Он взял в руки пустой кувшин для вина — такой кувшин назывался погречески ойнохоей, а по-нашему — винолейкой — и поднес к глазам
потускневший узор: видно было, сработали вещь в старину, и в семье
Агафона она хранилась с давних пор. Под двойную флейту бородача
музыканта пляшут ряженые: один плясун — пышноперый петух, другой
— пестрый...
«Все, как было, узнайте и Продику впредь ни на грош, ни
на каплю не верьте!
Был в начале Хаос, Ночь и Черный Эреб, и бездонно
зияющий Тартар...».
Для пущей важности и убедительности весь маскарад скроен будет
по-старинке, афиняне любят откровения.
«Но земли еще не было, тверди небес еще не было. В лоне
широком
Понесла чернокрылая, грозная Ночь первородно-вселенско
яичко!
Из яичка в круженьи летящих годов объявился Эрот —
сладострастный,
Золотыми крылами блистающий бог, дуновению вихря
подобный.
Это он сочетался в тумане и тьме, в безднах Тартара
с Хаосом-птицей».
Вот откуда, дорогой Агафон, такая неразбериха в твоем возвышенном
слове.
«И гнездо себе свил и в начале всего наше птичье он высидел племя.
...После уже твари все сочетал он любовью».
Почему не попробовать старый маскарад? Магнету он служил
верой и правдой, и зрители любили нехитрые пляски ряженых,
от которых только шаг оставался до взаправдашних петушиных
и перепелиных боев, собиравших толпы любопытных и игроков
в палестрах и на базарах. Таких вот, жадных до пустых побасенок, довольных бездумною шуткой, порадовать проще всего, но их
не научишь с должной расстановкой вкушать плоды божественного
ремесла Цветуньи. Для них пусть громоздится баснописный Заоблачный
Кукуев, птичье царство. Из сундуков вынимаются пыльные маски и
наряды комической старины во главе с Прометеем, а за главных пусть
играет шутовская пара — Большой и Маленький, доверчивый Оптимист и
Краснобай.
«Птиц» он писал для строгих к поэту Дионисий-что-в-городе, да и
декрет Сиракосия и предостерегающее плаванье Евполида мало
способствовали писанию комедий в старом стиле. В нынешних Афинах,
когда пишешь пиесу, прежней беспечности отдаваться опасно.
Праздники-то в городе общие, но в комедии есть свои слова для толпы,
свои — для высоколобых метонов и сократов, свои — для судей, свои —
для богов. Собственно, так было всегда, и Магнет и Кратин знали это не
хуже Аристофана. Но иным был город. Пьяным кордаком тешится
невзыскательное простолюдье, публика почище да построже ждет веского
слова, прибауточной мудрости, затейливых каламбуров; судьям надобна
божественная лепота постановки; да и собратья по артели, зная цену
комедийному благолепию, ждут своего результата. Только безмолвные
боги всегда довольны комиками: если найдете кого-то из афинских
драматургов нагрузившимся после неудачной постановки его вещ»,
знайте — так ласкает слуг своих Дионис, дарующий неудачнику только
одну новую неприятность — с утра похмелье.
Богов ублажать афиняне умеют, труднее обстоит дело с
разношерстицей зрителей и судей. Пока они знали друг друга в лицо, или,
по крайности, главы семей и околоточные старшины все были знакомцы,
любая насмешка, пусть самая дерзкая и грубая,— это всегда загадка с
общей разгадкой для всех. Она может быть спрятана, а может лежать на
поверхности, но никогда не вызовет разночтений: и простолюдину, и
жрецу, следящему за неразглашением священных таинств, и аристократу,
не желающему водиться с Дионисовой артелью, дана одна, общая чаша
спектакля. Только мерою умственного черпака различались афинские
зрители, но смеются все они купно над одним и тем же — над себе
подобными клеонами, честными, стрепсиадами, ламахами, Сократами,
метонами. Но сегодня город, растравленный раздором, клыками встретил
бы «Ахарнян» и «Всадников», и Аристофан осваивался в новой
обстановке.
Поначалу, в поисках новых приемов, он думал просто
съевристофанничать — сыграть комедию с трагической фабулой.
Изысканный «Амфиарай», за ним — «Дедал» ему, однако, удачи не
принесли. Трагикомическая утонченность мешала добиться успеха и у
толпы, и у судей, и у своих.
Теперь куда больше стало в Афинах мужланов, переселившихся из
отдаленных аттических деревень, «мужаков», в танце под
флейту находящих всю усладу праздника. Для них ему не жалко
нагородить с три короба, лишь бы остались довольны. Пускай потешатся
маскарадом, вспомнят Магнета, забудут привычную откровенность
(«Пусть никто никого не злословит!»). Не для них теперь учительная
мудрость и забота поэта. Да и на судей большой надежды у комика нет:
это не прежние знатоки, а та же корыстолюбивая чернь, за взятки
готовая отдать победу кому угодно.
«Ну-ка, птички, замолвим слово судьям о победе нашей комедии»,—
крякает предводитель птичьего хора:
«Присудите нам победу — счастьем мы осыплем вас!
Сам Парис таких подарков от богинь не получал.
Первое — а кто из судей всей душой не любит сов?
— Сов серебряных, Лаврийских будет вам не сосчитать.
В вашем доме поселятся, угнездятся в кошельках,
Выводить начнут совяток и полушек наплодят...»
Нужно заметить, что пожелать афинянину сову — вещь более
серьезная, чем если бы ему желали быка, ибо бык чеканился на монетах
достоинством в две, а сова — в четыре драхмы, и это ради них, ради сов
и бычков, ломают копья за морем...
«Да не все еще: как в храмах, жить вы будете теперь.
Мы коньки на ваших кровлях разукрасим петушком,
А получите местечко, захотите куш урвать
— Острый коготь ястребиный в ваши руки мы дадим.
Пригласят вас на пирушку — толстым зобом наградим,
Кто ж наградой нас обидит, медный зонтик тот пускай,
Словно статуя, нацепит: чуть он выйдет погулять
Без зонта в накидке белой, разом отомстим ему,
— Птицы стаями слетятся, славно вымажут врага».
Только в парабасе комедии поэт так бесстрашно угрожает судьям. На
самом-то деле ему боязно связываться с согражданами, Слишком споро
развиваются события. Вчера еще Алкивиад был на вершине могущества,
а вот сегодня — уже изгнанник, приговоренный к смерти, городу же и
дела нет до того, что ведь это он, Алкивиад, был зачинщиком
сицилийской авантюры, а Никий, командующий теперь экспедицией,
всеми силами этой самой экспедиции препятствовал. Куда там! Новые
подкрепления шлют афиняне Никию и Ламаху, все зримее
осуществление мечты, взращенной Алкивиадом в алчных душах
сограждан, а никто и не вспоминает осужденного на смерть отца своей
мечты. Теперь и мифологическая маска может оказаться слишком
опасным портретом скрытого за нею лица.
Аристофан достаточно долго работал над «Птицами», чтобы
окончательно убедиться в том, что события последних двадцати
лет миновали привычные для его города стадии медлительного обретения
недугов, вражды с врагами и дружбы с друзьями. Афины, а с ними и вся
Греция миновали и стадию в иных случаях спасительной героической
горячки — это по ее поводу вопрошал Фукидид: «Разве не смешно, что
даже города и целые народы лгут сообща и открыто?» Горячка позволила
друзей обратить в рабство, с врагами обменяться торжественными
возлияниями, а главное — она возвела события и поступки афинян на
ступень Божественного Калейдоскопа. Разрезанные Зевсом и Аполлоном
человеки, как кусочки цветного стекла в волшебной трубке калейдоскопа,
меняют места и позы при малейшем повороте цилиндра, именуемого ими
бытием. Люди эти не владеют больше собою, и Аристофан, ничтоже
сумняшеся рассказавший открытую ему правду о роде человеческом в
доме у Агафона, уже в общих чертах придумал, как сам он, уже родивший
в Афинах двух сыновей, появится перед толпой. Да, теперь ему
приходилось позаботиться и о сыновьях. Слуга Диониса — человек
маленький, но из таких маленьких людей состоит город, в котором даже
мертвец не может быть уверен в своем посмертном будущем.
Отличившийся во время дознания по делу о гермах и таинствах
Андрокл, сын Андротиона, а с ним — Писандр, бывший государственным
экспертом по делу о таинствах, требовали, раз Алкивиаду удалось
избежать суда и казни, подвергнуть этому наказанию сына его от
Гиппареты, сестры Каллия: ведь уже само имя мальчика — Алкивиад —
сидело занозой в здоровом теле народного негодования. Так агитировали
толпу вожди.
Да и декрет Сиракосия не шутка, и верного сходства в комедийных
масках нечего больше искать у Аристофана. Довольно с вас, смешливые
афиняне, одного Евполида, еле-еле доплывшего тогда в Скарабеевой
бухте до берега.
На этот раз, для птиц, ему понадобились маски необычные.
Благоразумие требовало эту необычность скрыть, и в продолжение всего
спектакля пестрящий по орхестре птичий хор отвлекает внимание
невзыскательного зрителя от странности шутовского дуэта — Краснобая
и Оптимиста. Странность обоих шутов состояла не в том, что они, в
отличие от персонажей, имеющих конкретные исторические прототипы,
представляли собою некий собирательный образ «авантюриста»,
«легковерного дурака» или «простофили» вроде Стрепсиада. С
последними все было гораздо проще, и комику не приходилось страдать
от нехватки стихотворного и тряпичного реквизита. Зеленый гиматий для
старухи, белый — для старика, красный — для юноши; белый хитон —
для девиц да жриц; черный либо серый гиматий для парасита; маски,
надеваемые на манер колпака,— с прорезями для глаз, ушей, носа и губ —
выворачивались наизнанку, когда основная окраска эпизода из
мрачной преображалась в веселую, победитель становился побежденным, а
жалкий неудачник торжествовал. Подобающими костюму стихами
снабжал шута поэт. Аккомпанемент спектакля, для которого приглашались
флейтисты, поспешал за движениями и темпераментом каждого персонажа,
только бездарному музыканту пришло бы на ум сопровождать одноцветной
музыкой пляску стариков ахарнян и божественных облакинь, птиц из
города Кукуева и всадников из Афин. Раз появившись на орхестре,
комический персонаж, алтарный плясун, шут-задира, шут-заводила, шут
побиваемый и шут побеждающий так до конца и не теряет примет своей
маски, костюма и речи. У него может измениться настроение, он может
проигрывать в начале спектакля и вывернуться в конце, как случилось с
Честным в «Ахарнянах», но он не меняет раз намеченной линии поведения
и, подобно отчеканенной монете, номинального достоинства не теряет.
Пока не было нужды в подтексте, пока сколь угодно великих и
знаменитых можно было безбоязненно засаживать под такую маску, комик
не торопился беспокойно одергивать свою Музу, допуская одно лишь
пикантное покалывание узнаваемых жертв насмешки. Обряд требует
звучного поношения, подлинной брани, беспощадности, и, покуда есть в
городе артель знатоков этого дела, только злонамеренный человек может
пожелать каких-нибудь нововведений.
Мало этого, спектакль, число персонажей которого нередко
переваливало за десяток,— это, не считая двадцати четырех хористов,
держался всего-навсего на трех актерах, причем основная нагрузка падала
на заводилу, но и двум другим артистам приходилось не намного легче. В
«Ахарнянах», где троице такой приходилось выдерживать натиск двадцати
ролей, одному лицедею с промежутками в десять минут требовалось
выскакивать на орхестру в роли Вестника, Дочери Честного, Еврипида,
Ламаха, Мегарца, Беотийца, Крестьянина, Гетеры и наконец снова Ламаха.
Стремительное переодевание и пятиминутное переключение с роли на роль
без малейшего ущерба для привычного темпа требовали от аттического
актера подлинного родства с Дионисом.
Сценический облик персонажа при таком распределении сил крохотной
труппы, конечно, не страдал только благодаря отчетливой костюмировке и
маскировке. Но декрет Сиракосия нарушил идиллическое равновесие
узнаваемой сегодняшней жертвы насмешки и насмехающегося вечного
шута в его закрепленном традицией наряде. Под знакомой маской бахвала
уже не спрячешь воеводу Ламаха, как в «Ахарнянах», под маской
плутующего раба не посмеешь показывать всеобщего любимца Клеона, как
во «Всадниках».
Что за город! Заповедник чиновников и вождей! В Перикловы
времена вас щипали на Дионисиях, точно кур, ни одна черточка вашего
поведения, ни одна второпях брошенная фраза не пропадали для комика
даром — все отыскивалось любопытным драматургом, все заносилось на
вощеную дощечку цепким колючим стилом. В открытости,
определенности насмешки была и своя прелесть для жертвы, ибо этим она
была застрахована от разночтений и кривотолков. Теперь же предельная
ясность ритуальной ситуации пугает. «Как обыкновенно бывает в
государствах больших и владычествующих над другими, сделано было
много ошибок». Фукидид, говоря это об Афинах, меньше всего имел в
виду декрет Сиракосия и вызванные им последствия в судьбе старинной
аттической комедии: он вообще ни разу не упоминает ни одного
комедиографа в своей «Истории», как не перечисляет он поименно ни
вазописцев, ни каменщиков, ни живописцев, переживших одну с ним
войну и, как он сам бы сказал, одну чуму.
Невозможность поддразнить очередного деятеля напрямик, монтируя
традиционные маску и костюм с личными приметами избранной жертвы, и
заставила Аристофана не вмешиваться больше в постановку — с нею
справятся Филонид да Каллистрат,— но засесть за одно только писание
комедий. Только здесь теперь достижимо то, что прежде доставалось
даром, по неписаным законам обычая. Оказывается, однако, можно и не
добиваться портретного сходства, не дразнить Алкивиада за его
картавость, а Клеона за варварскую манеру плеваться с трибуны. Все
будет иначе. Как обычно, стремительно сменяют одна другую маски и
гиматии, нетронутым остается стук кордака — из акации резанными
подошвами сандалет по кипарисовой палубе орхестры.
Мутный ток подтекста на первый взгляд спасает новых кандидатов от
обряда праздничной порки, торжественного поругания. Но только на
первый взгляд.
Чуть приоткроется из-под маски Краснобая физиономия Алкивиада,
тут как тут поспевает поэт, и вот уже не Алкивиад перед зрителем, но —
Горгий-софист; только покажется Горгий, маска дернется, прыгнет, а из-за
нее уже высовывается Писандр, только что назначенный за усердие в
Выявлении оскорбителей таинств — архонтом по делам богослужебным.
Даже проницательнейший будет поначалу обречен на неудачу, возьмись
он за поиски мнимой жертвы новой комедии и ее шутов. Вот она — здесь,
рядом, но в каком странном виде!
Аристофан как назло раздробил все афинское кукольное политическое
человечество на члены, запузырив обломки в кривляку-маскукалейдоскоп. Поворот — выскакивает Алкивиад, поворот — Горгий,
поворот — Писандр. Кое-чьи члены превратились за две с лишком тысячи
лет в такую труху, что не видны больше другие участники тогдашних
жарких событий. В самом деле то,
что
нынешним
посетителям
афинского
лабиринта
кажется
калейдоскопом, в те года походило более на вертел, заметит читатель и
будет, как всегда, прав. Насаженный на этот вертел славный город
премудрой богини-совы веселился, разглядывал птичьи наряды, щедро
розданные хору и труппе.
Есть птички поярче, есть — поскромней. Успел оплешиветь Каллий
— Удод, тоскливой летучей мышью висит под балкой ученик Сократа
Херефонт, токует в своей цирюльне сплетник Споргил — Глухарь.
Уховертками, вертишейками, сороками и ястребятами нафаршировал
орхестру искусный бутафор и костюмер. Сорока, ворона, удод — вот
маски главных персонажей...
Старики, комедиографы поколения Кратина и даже Амипсия,
удивились бы, отчего так высоко в царство баснословия воспарил
Аристофан в своих «Птицах». К чему злоупотреблять стародавним
театральным скарбом Магнета? Убедиться в том, что птичье обличье
афинянам предпочтительнее нынешнего, половинчатого — после
Зевсовых усилий,— дело пустяковое, и Аристофан легко нашелся бы,
отвечая своим учителям. Только к афинянам увещанья его — другого
сорта.
«С крыльями на свет родиться — выше счастья в мире нет!
Зрители! Когда б крылатый среди вас нашелся кто,
Не скучал бы он, голодный, на трагедию смотря,
Но вспорхнул и полетел бы; дома досыта поел
И вернулся с полным брюхом к нашим играм плясовым.
А почувствует в желудке утесненье Патроклид,
Он плаща марать не станет, преспокойно улетит.
Облегчится, отольется и усядется опять.
А найдется ловкий хахаль среди вас, заметит он,
Что супруг его подружки дремлет в кресле должностном,
Из театра упорхнет он, в спальню к милой полетит,
Полежит с ней, побалует и воротится назад...».
Уговаривая птиц вернуть Заоблачному Кукуеву утраченное некогда
величие и власть над людьми и богами, старик Краснобай от чистого
сердца желает птичьему базару, на который он попал, благополучия и
счастья. Вот только собственная его роль при более близком на нее
взгляде должна была бы испугать кукуевцев.
Да, им предстоит править всем миром, слава Кукуева облетит весь
круг земной, но останется одна категория земных существ, на которых не
распространится всевластие славок, зимородков, овсянок, козодоев,
золотистых шурок и дроздов. Ведь и на вас, легкокрылые суетливцы,
будет управа — остроклювые соколики, ястреб, чеглок и пустельга —
подите, поспорьте с ними! Но не от хищных пернатых идет к вам, птичкисестрички, главная опасность...
Аристофан начал писать «Птиц» еще до начала сицилийского похода.
Работа была в разгаре, когда вспыхнули процессы над осквернителями и
оскорбителями. Те, кому удалось скрыться из города — в основном
аристократы,— были поставлены вне закона: обвинением в безбожии,
думали демагоги, легче удастся отвратить толпу от популярных
полковников, принесших городу победы в минувшие год-два. Но не такое
простое дело — перекричать друг друга на птичьем базаре. За гомоном
толпы пока не слышны голоса птицеловов, хотя опытные политики чуяли
их присутствие. За выдачу тех, кто уклонился от разбирательства и бежал
либо скрывался в городе, назначено крупное вознаграждение. Птицы
тщатся поймать птицеловов!
А впрочем, они выбрали самое удачное время — пока в Афинах ни
воевод, ни войска: не считать же таковым пузатых таможенников,
пограничников и резервистов. Замыслившим недоброе против Кукуева
поддержки ждать неоткуда...
Но вы ловите птицелова, афиняне, а ведь он давно уже засел в городе,
и только собственный ваш писк, щелк и свирк мешают расслышать
отчетливый шорох силков.
«Вертишеек продает он по семи за медный грош.
Фаршированных тетерок выставляет напоказ,
Перья в клювы продевает куропаткам и дроздам,
А голубок держит в клетке и заманивать в силки
Заставляет беззаботных, легкокрылых голубей.
Вот что мы вам объявляем. Тот из вас, кто под замком
Во дворе пернатых держит, пусть отпустит их тотчас!
Не хотите, берегитесь: птицы вас захватят в плен,
Скрутят, свяжут и поставят, как приманку напоказ!»
Только напрасны уговоры комика.
Он никогда еще не сочинял столь длинных комедий, и вот, пока
писал, успели стрястись события, повергшие медлительного сочинителя в
недоумение и тоску...
Алкивиад, осужденный и загнанный, бежал в Спарту и оттуда теперь
расставляет силки против своих соотечественников. Мелосский
победитель Филократ, сын Демея, нелегально живет в Афинах и
разыскивается властями. С Сицилии — никаких вестей, только: Никий
воюет медленно и вяло, Ламах и войско его храбры, но на ход войны не
влияют, ибо бедность лишала воеводу подобающей этой должности
значительности. Надеждами тешится город, и к тому, кто придумал
отправиться за море, совсем как перелетные птицы, еще не иссякла
симпатия.
«О устроитель города воздушного,
Не знаешь сам, как на земле ты славишься,
Как много у страны твоей поклонников!
Пока дворцов ты не построил облачных,
Лакедемоном бредили афиняне,
Не мылись и не брились, бородатыми
Сократами расхаживали с палками.
Сейчас все бредят птицами. С охотою
Все подражают птичьему обычаю:
Едва с перин поднявшись, ото сна вскочив,
Летят, как птицы, за крапивным семенем,
Листки на стенах разжевать торопятся,
Потом на рынке слухами питаются...».
Взялся он за Магнетов реквизит, да так и не может оторваться, уж
больно удачным оказался маскарад. Идут месяцы, первые эпизоды
разучивают певцы и актеры, а комедия все не кончается! В клубящемся
реве навязчивых кукуевских фантазий он выгребает к берегу, досадуя на
то, что не успел как должно проработать текст, злясь на сорокуСиракосия, заставившего всю артель отказаться от заветов старого
доброго времени, когда не надо было оправлять вас, афиняне, в перышки,
клювики, хвостики. А теперь вот только над флейтисткой и посмеешься.
« К р а с н о б а й . О Зевс великий, что за птичка чудная!
И нежная и белая!
Оптимист.
А знаешь ли,
Ее бы я пощупал с удовольствием!
Не удержусь и поцелую милую!
Краснобай.
Несчастный! Ведь у милой — длинный, острый клюв.
Оптимист.
Я облуплю, как скорлупу яичную,
С ее лица чешуйки! Поцелую! Вот!»
Только уверенный в себе комик возьмется дразнить собственную
бутафорию...
А публике радостно позабыть на время передряги, тревогу,
засмотреться на предлинный спектакль в добротном стиле Магнета, и
только внимательный, только проницательный и чуткий к подвохам
заметил бы, пожалуй, как опрометчивы сограждане ого, что ловят за
пернатыми комедиантами веселый портрет народа афинского, успешно
защитившего себя от птицеловов. Пестро птичье царство, суматоха царит
в Заоблачном Кукуеве, флейтистка-соловьиха, крикливые сойки,
скрипучие сороки отвлекают беспечных афинян от обидной для них
привередливости комика: достойнейших из достойных, людей из народа
— потомственного Выяв-
ляющего фиги, Загорающего присяжного — в птичье царство под
разными предлогами не впускают...
Но публика уже утомлена, уже не ловит ухо смысла последних стихов
затянувшейся комедии, и собственного своего портрета, не искаженного
на старомодный манер, а только слегка подправленного в новом стиле,
люди не узнают больше:
«У часов стоит, у водных
Город ябеды. Живет там
Племя долгих языков.
Языками семя сеют,
Молотят и жатву делят,
Мелют долгим языком.
Иноземцы по рожденью
Дети Горгия, Филиппа.
Вот от них-то, говорливых,
Из-за этих-то Филиппов
Нынче в Аттике повсюду
Вырезают языки».
Последние строчки афинян нисколько не обидели, ибо каждому
ребенку ясно, что принесенному в жертву животному только
безграмотный жрец оставит язык. Кто подумает о жертвах города!
«Краснобай.
Так этих пташек я зарезал вовремя,
На свадьбу!
Оптимист.
Хочешь, я останусь поваром
И птиц дожарю?»
Аристофановы подвохи не были замечены, и он получил за «Птиц»
вторую награду, уступив Амипсию с «Комедиантами». Проиграл же на
Дионисиях в архонтство Хаврия Фриних. И все потому, что не
удосужился смягчить подтекстом комедию свою под названием «Сам-посебе».
У АГАФОНА
Когда Аристофан договорился наконец до своих разрезанных
человечков и другим пришла пора взяться за прославление Эрота,
в двенадцатую ночь месяца свадеб 416 (по нашему счету) года,
пущена была вкруговую широкогорлая чаша, и кормчий пира
встрепенулся в предчувствии того, что вот-вот он выпустит руль.
Говорил Сократ. В присущей ему издевательской манере
он словно забыл об Эроте и воспел хвалу — кому бы вы думали?
— женщине, какой-то там мантинеянке, что научила его, как
уверял прехитрый силен уже очень пьяных своих собеседников,
пониманию любви, жизни, а вкупе с ними и философии — словом,
всему, чем жив такой человек, как Сократ. А Эрота-беднягу они с
Диотимой (так звали мантинеянку) изваяли в речах своих уродом,
босоногим бродягою да к тому же пройдохой, хотя пройдохой
философическим и немного божественного происхождения. И этото чудище, провокатор, из нужды не вылезающий, заставляет
каждого человека стремиться к бессмертию, к занебесным далям
блаженства, ко всему светлому, сияющему, безмятежному. Сквозь
гул свежевыпитого слушал собутыльника Аристофан и
аргументацию пропустил мимо ушей. Когда тот кончил, и
мудрейшая женщина перестала устами силена дурманить
серьезных людей, уязвляя их мужское достоинство, вдруг
распахивается дверь, в пестрых лентах, увитый плющом, обнимая
за плечи маленькую флейтистку, входит какой-то пьяный тип. Его
сразу узнали все. Да и трудно было не узнать нарядившегося
Дионисом Алкивиада, чья слава гремела по всей Греции после
недавней олимпийской победы, по чьему следу от дома к дому,
как псы, торопятся новоявленные друзья и поклонники. Эта
картина — Алкивиад — Дионис, в пышном наряде, в обнимку с
флейтисткой или мальчишкой-флейтистом, румяный, не знающий
пока ни поражений, ни обид,— надолго запомнилась всем, кто
сидел и лежал в пиршественном зале у Агафона.
— А вот и я! Примете ли вы в собутыльники очень пья
ного человека или нам уйти? Дайте только мне увенчать
Агафона, и не смейтесь надо мной раньше времени.
Он велел мальчику принести из киликея ритон на восемь
котил и наполнил его вином.
— Вы, я вижу, трезвы. Это не годится, и пока вы как следует
не нагрузитесь, кормчим пира буду я.
— Разуйте Алкивиада, — сказал Агафон слугам, — чтобы он
возлег с нами третьим.
— С радостью,— сказал Алкивиад,— но кто же наш третий
сотрапезник?
Тут он увидел Сократа, которого не замечал до тех пор, пока
не перегреб с своей головы на Агафонову ленты, венки и цветы,
мешавшие его и без того хмельному взгляду попадать куда надо.
— Что ты тут делаешь, Сократ? Тебе надо было возлечь
рядом с Аристофаном или кем-нибудь еще, кто сам смешон
или нарочно смешит других, что тебе делать рядом с самым
красивым из трагиков? Ну да ладно, дай ему несколько ленточек,
Агафон: ты победил только вчера, а он своими речами — всех и
всегда одолевает. И пусть он первый отхлебнет вина из этого
ритона — ему все равно, выпьет, сколько ни прикажешь, и ни
чуточки не опьянеет.
— Да что же это, Алкивиад,— вмешался Эриксимах.—
Неужели мы не будем ни беседовать, ни петь за чашей, а станем
просто хлестать для утоления жажды? До твоего прихода мы
договорились, что каждый из нас по очереди скажет, как можно
лучше, речь об Эроте и прославит его. Речь Сократа была, как
всегда, наилучшей, но и ты можешь сказать свое слово.
— Все это здорово, Эриксимах, достойнейший сын
достойнейшего и благоразумнейшего отца! «Стоит многих людей
один врачеватель искусный»,— как сказал Гомер. Но пьяному
человеку не по силам тягаться в красноречии с трезвым. А кроме
того, ты что, правда, поверил всему, что Сократ сейчас говорил?
Пора бы знать: что бы он тут ни говорил, все обстоит как раз
наоборот. Единственное, что я могу тут рассказать, это — правда
про него. Ты-то сам позволишь мне, Сократ?
— Правду,— ответствовал Сократ,— я не только позволю, но
и велю говорить.
— А расскажу я о том, друзья мои, как этот пучеглазый
Марсий, всегда дающий волю рукам, стоит мне при нем похвалить
не его, а кого-нибудь другого, бога ли, человека ли,— этот вот
флейтист пренебрег моею бескорыстной дружбой и неувядаемой
красотой. Я ведь поверил каждому его слову и был готов пойти за
ним, и тут выяснилось, что наш учитель не берет нас, пестуемых, с
собой, и дороги не показывает, заставляя нас самих самим себе
растолковывать каждый шаг. А сам — ни туда ни сюда.
— Ответственности боится,— объяснил ахарнянин.
Глава 14
«ВЕЛИКИЕ ПОХОДЫ ЭЛЛИНОВ И ВАРВАРОВ
В ОТДАЛЕННЫЕ СТРАНЫ
РЕДКО ИМЕЛИ УСПЕХ»
Если бы Фукидид сумел внушить эту простую мысль своим согражданам
лет за двадцать до того, как разместил ее в голове и на устах сицилийца
Гермократа, сына Гермона, может быть, тогда все было бы иначе. Но
Аристофан недаром поведал историю о разрезанном человечестве, только
унылые, чахлые, едва способные ухватить улизнувший момент стилом
своим историки никогда не пускали действительно сведущих и знающих
толк в таких вещах, как история, людей на свои страницы. Но нечего
сетовать на слепоту историков.
Сицилийское предприятие —
поначалу незаметно для самих афинян — отделило город жен от града
мужей. Вместе с ополчением, со всем флотом, с пехотой лучшего набора,
а потом еще дважды с пехотой очень хорошего и просто хорошего набора
уплывали легендарные афинские доблести, туда уходили Афины
историков, там суждено было городу испытать все то, к чему он так долго
готовился. Уже на исходе первого года экспедиции, когда заводила
похода оказался приговоренным к смерти, а первый противник авантюры
— во главе войска, мало кто понимал, с чего, собственно, все началось.
Не менее пяти тысяч афинских семей, начал бы свои объяснения
любитель счислений,— а это большинство достаточного городского
населения — лишились лучших членов. В Афинах как будто вправду
случилось то, о чем рассказал Аристофан на пиру Агафона: в городе
остались женские половинки тех, кто раньше представлял собою
смешанное существо из мужчины и женщины.
Отсюда, из Афин, сицилийского берега не видно: Сикилия, как
называли остров греки, очень далеко, все, что произошло на острове с
войском и воеводами, известно со слов одного человека, который по воле
случая, пересаживаясь с корабля на корабль, кинув припортовые рынки,
надолго задерживающие путешественников и купцов, однажды утром
оказался в пирейской гавани, сойдя с купеческого корабля,
принадлежавшего какому-то нейтральному городу. Так вышло, что в
Афинах никто еще не знал о последних днях флота и армии, хотя
известий и ждали со дня на день. Как бы то ни было, а приезжему первым
делом нужно помыться, побриться, справиться о свежих городских
новостях, и сделать все это сразу можно только у цирюльника. Для
поддержания разговора чужеземец счел своим долгом высказать
соболезнования по случаю гибели на Сикилии столь славных мужей,
столь доблестных полководцев, какими были Никий, Ламах, Демосфен...
«По смерти Ламаха,— рассказывал чужеземец,— Никий убоялся
войском един предводительствовать: прежде противореча Ламаху, он
принужден был иметь какое-либо мнение. Но никакого уже не имел, как
все в его осталось ведомстве. Вы же, афиняне, пославши в помощь
Никию Демосфена и Евримедона, ошиблись: сии вожди, будучи весьма
несходных нравов и потому несогласны, не имели бы успеха и в
наилегчайшем предприятии. Сиракузяне же, вспомоществуемые
коринфянами и спартянами, и под предводительством Гилиппа
освободили город свой от осады...».
Слушая чужеземца, цирюльник поначалу обращал внимание только на
выговор его и посмеивался про себя, думая, что человека этого учил
языку греческому какой-нибудь старикашка, трепач, заброшенный с
семьею в отдаленный колониальный город, но стоило цирюльнику
услыхать «освободили город свой от осады», как стал он вслушиваться
внимательнее...
«Многократно разбитые в море и на сухом пути соотечественники
твои, и заключенные некоторым образом в Сикилии, где они не могли
ожидать подвозу съестных припасов, и откуда им невозможно было
укрыться, принуждены были предаться власти неприятеля. Воины были
проданы как рабы или посланы в каменоломную работу, а полководцы
ваши, Никий и Демосфен, избежали уготованной им казни, предавая сами
себя смерти! Странно, что ты не знаешь о столь близко касающемся тебя
и всего города несчастье!»
Цирюльник не добрил чужеземца, наспех обулся и бросился в Афины.
По пути он нигде не останавливался, ни с кем не заговаривал, чтоб не
расплескать ужасную весть. Тучный, бежал он с трудом, а когда добежал,
последние остатки сил и разума оставили его, и он не сумел
вразумительно объяснить, когда да кто ему все это рассказал. Закатывая
глаза, он бормотал о каком-то чужеземце, о таких страшных и вместе
нелепых вещах, что начальство решило для верности применить пытку.
Но и под пыткой (его привязали к колесу) он повторил, что из проданных
в рабство лучше всех устраивается на Сикилии тот, кто знает больше
стихов из Еврипида, ибо все там большие поклонники драматурга. Еще
говорил он, что несчастный час Афин приспел, раз даже его, честно
принесшего весть о гибели войска, сочли смутьяном и фантазером. Дело
в том, что чужеземец добрился у коллеги нашего правдеца, успел
поужинать в харчевне, выспаться и утром быть уже далеко от Афин на
корабле, держащем путь к персидским берегам.
«По чрезвычайных расходах и уронах в Сикилии,— продолжал он
рассказывать кому-то из попутчиков,— афиняне уже не смогут
противиться лакедемонянам. Казна их истощена, людей, могущих носить
оружие, почти нет. Не имея ни кораблей, ни матросов, едва некоторое
морем пропитание получат. Аттика не пашется,
не сеется вот уже второй год подряд (так ловко ввернул в свою речь
чужеземец то, что услыхал от цирюльника!)...». Но что слушать
неизвестного человека, какой он свидетель?! Пытали цирюльника недолго
(хотя Плутарх пишет, что долго), ибо решение о пытке принимало
человечное Собрание, а новость подтвердилась чуть ли не через день-два,
когда прибыли с рассказом ухитрившиеся спастись курьеры. И их
правдивый рассказ в точности повторил тот, лживый.
Вообще греки тогдашние куда меньше нашего переживали за
передачу достоверных сведений своим слушателям или читателям.
«...Не можно читать историю сего славнейшего и добродетельнейшего во древности народа, видеть тогда его несчастный конец,
когда сам он мнит, что на высшую взошел ступень могущества,
и не быть тронуту человечества жребием и тленностию наших
добродетелей...». Корабль разговорчивого путешественника уже
давно пристал к другому, далекому берегу.
У Аристофана был тезка родом из Византия, лет на двести моложе
комика, большой поклонник, а для нас-то, можно сказать, хранитель
Аристофана. Это он, Аристофан из Византия, велел снабдить каждую
комедию Аристофана с Эгины стихотворной аннотацией: человек
опытный, тот, что из Византия, понимал, что тому, кто с Эгины, все
труднее быть понятым младшими соотечественниками. С каждым новым
поколением нужда в толкователях росла, и, когда ученик Аристофана из
Византия, которого звали Каллистратом, составил очередной
комментарий к нескольким комедиям, этого оказалось ему мало, и
Каллистрат принужден был написать целую книгу о гетерах. Из афинских
женщин, собственно говоря, только гетеры и могли быть для него
предметом легко утоляемого любопытства: женщину домашнюю,
домохозяйку аттическую, мать, дочь, сестру, свояченицу, тетку, раньше
даже родня видала редко. Только в праздник, во время торжественной
процессии или при отправлении кое-каких других обрядов посторонние
могли достаточно свободно глазеть на всех женщин, на каких вздумается.
После Зевсо-Аполлоновой операции, между тем, прошло уже столько
столетий, что общение людей с целью достижения желанной целостности
оказалось затруднено всерьез. Столько сходных половинок, но так
расколот человеческий мир, что половинки подходящие рискуют так
никогда и не найти друг друга.
С тех самых пор мужчина, муж, отец, хозяин, воин, брат, купец
подвижен, деятелен, сметлив, расчетлив и нерасчетлив, разумен и
безумен, он пишет плохие комедии или пишет комедии хорошие. Его
жена, сестра или дочь, наложница, пленница или рабыня хранит,
передает, придерживает, остается, отказывается или отказаться не может,
ждет, почти всегда сидит взаперти, она исполняется гордости, гнева, она
мстит без промедления, но с тонкою выдум-
кой, ибо располагает временем, пока сидит взаперти в окружении товарок
своих, и есть время все обдумать, и есть время овладеть волшебством,
тайным знанием, и применять его не в одном только ткачестве, но и в том,
что издавна слывет мужским делом. Клитемнестра выткала тенета для
Агамемнона, Ариадна дала роковой клубок Тезею, Пенелопа за ткацким
станком обманывала женихов, одна сжигает полено жизни, другая пишет
письмо на смерть, третья дает пропитанный ядами плащ, и так без конца
они пугают несчастный, ослабленный войнами и кутежами мужеский род,
человеческий род.
Надобно, впрочем, не забывать, что у слуг Диониса только с
женщинами никогда не было больших проблем, ибо и сам бог их,
Освободитель, по авторитетнейшему свидетельству словаря Суды,
«совершает все то, что подобает мужчине, претерпевая, наряду с этим, и
все то, что положено женщине». Это знание таинственной, как вы бы
сказали, женской психологии столько раз выручало слуг Диониса. Еще
первый жрец его, за чрезвычайную волосатость прозванный Черноногом,
с успехом пользуя охваченных дионисийской страстью женщин, получал
гонорары, в которые современникам Аристофана уже было так же трудно
поверить, как и нам. Когда вакханками стали дочери тиринфского царя
Прета, Черноног получил в награду за исцеление царевну в жены и
полцарства. Потом позвали его к себе аргосцы, у которых та же беда
приключилась со всеми горожанками. Черноног и тут запросил
полцарства, аргосцы медлили и торговались, и за это Черноног
потребовал еще треть царства для братца своего, Бианта. Что делать было,
согласились аргосцы...
И так повсюду, где родятся страстные женщины, дождутся наживы
слуги Диониса. Суетлив и непостоянен мужеский род, до конца надежно
женское племя. Легкомысленный и злоречивый Тимон, сын Эхекратида
из Коллита, Тимон, мизантроп и безбожник, мог сказать об Афинах, что
славный «сей град вскормил больше гетер, чем любой другой город,
славный мужами!». Вы, помнящие Фемистокла с его квадригою, пли
Перикла с Аспасиею, или Сократа с Диотимою (уж умолчу о Ксантиппе,
да был еще слушок в Афинах, что во время войны, чтоб не падала
численность населения, велели Сократу, жрецу гражданского здравия,
взять себе в жены еще и Мирто), вы, помнящие, конечно, сразу укажете
на другой немаловажный недостаток нашего правдивого повествования.
Твой лабиринт сухой и безлюдный, скажете вы, и он останется таким, до
тех пор пока женские лица — пусть тени их! — не покажутся в его
закоулках. Но откуда, откуда же им появиться в наших патриархальных
Афинах?! Разве из сказочки, из старушечьих баек о том, как когда-то
ворвались верхами в город амазонки,
как захватили они акрополь, как зажали мужское войско, да так, что
тошно стало всему Тезееву царству. Я устал повторять, что Аристофан
ведь был эгинцем, а раз так, читатель и сам должен помнить, что
рассказывал об этом острове старший современник комика, добрейший
галикарнассец Геродот. Может быть, одного этого рассказа будет
довольно для того, чтоб понять наконец, почему Аристофан (инородец и
тайный враг афинян) так рисует нам этот богами возлюбленный город,
этот народ, трудолюбивейший и свободнейший, его демократию, его
славных вождей, его судей, воителей, драматургов! Стародавняя же
вражда эгинян к афинянам началась оттого, что островитяне всегда были
вероломны. Давным-давно, когда Эгина принадлежала могущественному
городу Эпидавру, случился в Эпидавре неурожайный год, за ним пришел
другой. Дельфийский оракул на вопрос о том, что делать эпидаврийцам,
дал совет воздвигнуть статуи богиням плодородия Дамии и Авксесии, и
тогда, мол, все напасти прекратятся. Когда же эпидаврийцы попытались
изготовить статуи из бронзы или мрамора, Пифия объявила, что богам
угодны лишь фигуры, вырезанные из дерева маслины, и притом не дикой,
а взращенной человеком. Тогда эпидаврийцы обратились к афинянам с
просьбой позволить им вырубить одно-единственное дерево, потому что,
говорят, в те времена только в Аттике они и росли. Вырубайте, сказали
афиняне, но учтите, что олива — священное древо Афины, а потому,
воздвигнув кумиры своих богов, вы должны немедля принести жертвы и
нашей богине и совершать ежегодное жертвоприношение впредь.
Независимо от урожаев и приплода скота. Эпидаврийцы благополучно
вырезали из ствола деревца своих божков и начали было наслаждаться
хорошими урожаями, как вдруг от союза с ними отпали эгиняне, в знак
наглой глумливости позволившие себе похитить из кумирни статуи,
сработанные из афинской маслины. Приплыли они с истуканами на свой
остров и уволокли их от берега подальше вглубь страны, где
умилостивляли богинь жертвами, плясками и насмешливыми песнями
женских хоров, наподобие тех, что пела Деметре Ямба в Елевсине. В
песнях этих хоров, рассказывал Геродот, никогда не высмеивались
мужчины, а всегда только местные женщины. После того как эгиняне
похитили истуканов, эпидаврийцы отказались выполнять обязательства,
взятые ими перед афинянами: теперь, говорили они афинянам, требуйте
жертвоприношений с эгинян. Но эгиняне и слышать ничего не хотели —
они не собирались расплачиваться за то, что досталось им как военный
трофей. О том, что случилось потом, афиняне и эгиняне рассказывают поразному. Расхождение у них очевидное: афиняне утверждали, что послали
на Эгину один-единственный боевой корабль, команде которого было
велено возвратить вырезанные из аттической маслины фигу-
ры. В разгар работы, когда натянутые как струна канаты готовы были вотвот лопнуть — так неподатливы оказались богини,— вдруг начался трус,
грянул гром, и моряки афинские, потерявши рассудок, сцепились друг с
другом и друг дружку перебили. Только один остался цел, да и тот,
наверное, потому, что из суеверия в команду не включали четное число
гребцов и воинов. Он один и вернулся в Фалерскую гавань.
Эгинская версия, конечно, иная: афиняне напали на их остров
множеством кораблей, и эгинянам пришлось уклониться от морского
сражения. Зато на берегу десантников поджидали в засаде союзники
эгинян — аргивяне. Афиняне высадились на эгинский берег, но в разгар
работы, когда натянутые как струна канаты готовы были вот-вот лопнуть
— так неподатливы оказались богини,— вдруг начался трус, грянул гром,
и моряки афинские попытались бежать к кораблям, но дорогу им
преградили аргивяне, и только один афинянин спасся от резни и
воротился в Аттику.
Геродот пишет, что тот благополучно возвратился домой, но тут же
поправляется: ведь ему пришлось там предстать пред женами воинов,
погибших на Эгине. Когда жены узнали, что он один спасся и мужья их
не вернутся домой, на них напало такое бешенство, что они искололи
беднягу своими булавками до смерти. До смерти перепугались афинские
мужчины. Они не знали, как им наказать женщин, и велели им
переодеться в ионийское платье и никогда больше не носить дорийского.
С тех самых пор афинянки стали носить полотняные хитоны, не
требующие застежек и булавок. Другое дело — эгинянки. Те ввели
обычай делать заколки вдвое длиннее против прежнего, и в святилище
богинь (тех самых, что были изготовлены из аттической маслины) они
первым долгом приносили в дар свои булавки и застежки, аттическим же
изделиям туда дороги не было.
Прошли годы и десятилетия. Но Геродот, рассказавший эту историю,
счел нужным добавить, что еще и в его время — а он был всего одним
поколением старше Аристофана — на Эгине и в Аргосе женщины
хвалились своими заколками необычайной длины и притом хорошо
помнили, отчего держится эта странная мода. Не потому ли и Аристофан
смеется над мужской половиной афинского человечества?
Неженки и дряхлецы, да для вас ли управление городом? Каждый из
вас готов за чашей порассуждать, чья доблесть крепче, чьи муки горше,
чья героическая гибель слаще, но как пришли вы — купно и поодиночке
— к тому, что обессилел ваш город, обескровлены роды и семьи?..
«Демократическое правление требовало много ума, знания дела и
особенно красноречия. Молодые люди хороших фамилий, дыша
честолюбием, желали учиться управлению государством...».
«Странное дело — каждый афинянин в одиночку перехитрит лисицу,
а как соберутся все вместе в театр на собрание, весь их ум
улетучивается...».
«Да, мы принимаем ошибочные решения, но проходит время, и боги
даже наши ошибки обращают нам в пользу...».
«Ты только посмотри, Праксагора, что за болван мой муж, что за
дурак — твой, когда собираются вместе!..»
«Самый негодный пустозвон распоряжается судьбами города, пока
народ сидит с выраженьем безмозглой куклы!..»
«Да, бывает, что мы ошибемся, но ведь боги обращают нам на пользу
и эти ошибки!..»
«Владычество толпы превратилось в тиранию...».
«Но отнимать его у нее несправедливо, увы!..»
«А отказываться опасно, увы!..»
Наудачу ссыпав на одну страницу голоса «настоящих» афинян, афинян
— историков и ораторов, и восклицания Аристофановых масок, мы
рискуем признать, что снова, как в старые времена, разбиты все преграды
между толпой и жрецами, отправляющими обряды. У шестеренок
демократического механизма поломались зубья, перетерлись оси, так что
даже вполне разумные действия, предпринимаемые афинянами,
перегревают агрегат, не принося ни малейшего облегчения городу. Тотчас
после сицилийского разгрома насмерть напуганные остатки мужского
города собрали крохи сил своих и сколотили новый флот,
патрулировавший побережье и делавший попытки удержать отпадающие
от Афин все новые и новые острова, города-побратимы. Вот когда вконец
отощала Аттика. Цвет воинства мертв, второсортная пехота и гребцы — в
море, в стенах же города странная картина: чернь побаивается
аристократических товариществ, еще так недавно скрывавшихся от чужих
глаз в загородных домишках кое-кого из наименее заметных членов;
слабый афинский гарнизон ожидает вестей с морского фронта, а народ
словно смирился с тем, как мало-помалу отказывается от полновластья,
как, чтоб избежать окончательного краха, приходится завязывать дружбу
с заклятым врагом — чужаками-мидянами — и вместе противостоять
пелопоннесцам. А на фоне внешнеполитических интриг, переговоров с
персами и Алкивиадом, уже успевшим порвать с пелопоннесцами и снова
домогавшимся возвращения на родину, все крепче делаются узлы гетерийтовариществ, вспоминающих о былом «отеческом строе», когда каждый в
городе знал свое место и чернь не сходилась за полушку в день вершить
дела государства. Ни один тиран, ни одна война с захватчиками не могла
сравниться с последствиями кровопускания сицилийского, добровольно
предпринятого самим народом этого свободнейшего города Эллады.
Теперь
не было ничего такого, что могло бы помочь. Вчерашние мальчики, не
успевшие принять участие в сикилийско-кукуевской авантюре, но усердно
занимавшиеся в палестрах и гимнасиях и вкусившие сполна
прельстительной мудрости софистов, как и удручающей глупости тыловых
витий-демагогов, молодые аристократы и были самой подходящей
компанией для тех, кто, как Алкивиад или Критий, Ферамен или Фриних,
ждал часа возрождения прежних афинских доблестей, возрождения
старинного «отеческого строя». Что ж с того, что каждый вкладывает свое в
представление об «отеческом строе»? Не Сократ ли научил их тому, что
начальники не те, кого выбирает себе толпа, а те, кто умеет управлять?
Тут было и много такого, чему теперь верится с трудом. Род
коллективного умопомешательства, а только так и можно квалифицировать
случившееся тогда, заставлял людей проделывать то, (о чем скажи им вчера
— засмеяли бы. Ну ладно, после разгрома в Сицилии никого уже не
удивишь тем, что снова в городе пусто, а где-то на Самосе (там
швартовался флот и квартировали пехотинцы) большая часть афинского
войска ждет своего часа. Здесь, на месте, в Афинах, сгустились тучки над
одряхлевшим демосом, аристократические юнцы и даже люди постарше, те
самые, кого — не забудем этого! — дразнили «бабами» комики,— эти-то
люди и забирают влияние. Пройдет несколько лет, и люди будут думать,
что тогда в Афинах не обошлось без заговора, что демократия была
свергнута лишь потому, что силы демократические были подорваны
войною, и вот тогда, мол, аристократы нанесли решающий удар, и
воцарилась «олигархия». Сначала у кормила стеснилось 400 правителей,
потом их стало 5000, потом крушили головы и имущество сограждан
знаменитые Тридцать тиранов... Но все это впереди, и все, по счастью, за
пределами нашего повествования. Мы теперь добрались до перевала, до
поворота, до точки, откуда этот путь вниз, пусть тернист, но хорошо виден
и будет виден читателю все отчетливей, и тут в проводниках хватит одного
Аристофана. Но к перевалу, к повороту осталось сделать еще несколько
шагов, а туман здесь — гуще некуда.
...Как относился Аристофан к тому, что в назревавшей перемене власти
бывшие м а л ь ч и к и интригуют шустрее других? Он ведь все-таки
симпатизировал когда-то Алкивиаду, и потом вот еще нюанс: Фукидид
рассказывает, что накануне прихода к власти и отмены платы за
отправление государственных должностей в город были вызваны афинские
колонисты с Эгины, «заранее вооруженные», и они, вместе с тремястами
андросцев, эгестян и каристян, обеспечили комендантский час в Афинах на
первые дни захвата власти правительством 400. Но это так, к слову... Как
проходили в эти годы смятения, переворотов, казней и изгнаний
комические состязания, не понимаю. Райские кущи какие-то
грезились комикам все отчетливей, и тем отчетливей, чем жутче
складывалась жизнь вокруг них.
Откуда берутся чудные фантазии Сократа, друга Аспасии и ученика
Диотимы? Как отвязаться от трагической истерики Еврипида, от его
обезумевших федр и медей?..
Как мало надо, чтоб, оставшись в Афинах, здесь, среди вас, убежать
далеко, под скорлупку фантазии, и там оставаться, пока, если дадут боги,
не иссякнет убийственное мужество, не наложат умельцы ярма на
кичливую выю демоса, не воспоется хвала спасителям отечества. Но и
под скорлупкой баснословия пусть внимательный различит всю правду.
Покончено с мужским выродившимся племенем. Это женщины
соберутся все вместе и откажут мужчинам в ласках — вот и
Пелопоннесской войне конец. Женщины соберутся вместе и осудят
Еврипида — вот и конец наветам на женское племя. Женщины соберутся
вместе и захватят власть в государстве — вот и настали блаженные
времена...
Все чаще появляется загробное царство на сцене театра Диониса.
Страна блаженных, где все переполнено богатством и достигнуто,
наконец, полное изобилие. Так — в комедии Ферекрата «Рудокопы». У
Аристофана искали счастья в заоблачном Кукуеве, Ферекрат отправляет
своих смеходеев в преисподнюю, жирную, плодовитую, сладкую,
желанную.
От «Рудокопов» дошли только кусочки-фрагменты всей этой сласти.
«Реки вкусной похлебки на улицах несут долбленые ложки, и половники,
и пирожки, постепенно пропитываемые густым соусом и без помех
заглатываемые мертвецами. Скворчащие колбаски и сычуг лежат на
берегу, что ваша галька и ракушки. Фаршированная рыба, угри в
свекольном гарнире, и все это под ароматнейшими подливками. Рядом на
подносах.— окорока, нежнейшая буженина, говяжьи рубцы, в
крепчайшем бульоне вываренные мослы, а рядом — на пшеничном
бескрайнем хлебе — разместились нежнейшие подрумяненные
поросятки, шматы творога и сметана, а вокруг самых уст покойничков
порхают печеные дрозды, умоляющие, чтоб их съели в окружении
источающих тончайший дух анемонов и миртовых кустов. Без ветвей и
чего-то на ветви похожего, сами собою висят в воздухе яблоки. В
легчайший газ задрапированы девушки, зачерпывают половничком
полные чаши вина, терпкого, букета необычайного. И всякому, кто съест
или отопьет хоть самую малость, тотчас все возвращается — и даже вдвое
против прежнего...».
В тошнотворном раю Ферекратовых «Рудокопов» нам не побывать:
комедия не сохранилась. Как птичий рай, так и рай для брюха, сумрачная
кукуевщина комедии как никогда равнодушно
принимается
полуголодными горожанами. Оскудели пирше-
ственные столы, едва-едва хватает скотины для праздничных закланий...
Может быть, благодаря беспрецедентному оттоку туда, в подземное
царство, аттических мужчин афинские женщины обрели вдруг чуть
большую свободу действий, стали чаще или вообще появляться на улице,
посещать базары, а может быть, и театр? Но и при этом — одни веретена
да пряжа, молитвы, мятные лепешки — богам, а в деревне — тот же труд
с мотыгой, что и у мужа, и вот еще одно дело — колдовство. Вот откуда
ты, мантинеянка Диотима, вот почему должен был вспомнить тебя
Сократ.
От этих лет дошло до нас несколько комедий Аристофановых. В них
на разные лады обыгрывается одна, куда более прежних упорная тема, и
она-то заставила нас напоследок вспомнить о женщинах: скудно было без
них наше правдивое повествование, и, боюсь, таким оно и останется до
конца. Ведь все, что нам известно о великих классических Афинах, перед
последним закатом которых мы остановились теперь, написано
мужчинами для мужчин и со слов мужчин. Только Сократ в ночь с
двенадцатого на тринадцатое число месяца свадеб своею сказкою про
Диотиму ввел нас в искушение. Аристофан же и вовсе рискнул обмануть
не одно столетие, заставив своих лицедеев сыграть в совсем уж
фантастических пиесах. В комедии под названием «Демобилизация» (так
звать там протагонистку, с позволения сказать) женщины соберутся
вместе, женщины со всей Греции, и откажут мужчинам в ласках — вот и
Пелопоннесской войне конец...
...В день Народного собрания граждан, не посвященных в заговор
против демократии, отпустили, как обычно, по домам; мальчики же из
хороших семей получили приказ тихо ожидать с оружием в руках...
Когда женщины захотят чего-нибудь, уж они-то добьются: пройдет
день, другой, и вот они, мужички-эллины, собираются под громадою
Акрополя:
« А ф и н я н ин.
Ты кто такой? Мужчина иль чудовище?
Спартанец.
Глашатай я, свидетель Зевс! Пришел сюда...
Афинянин.
А это что под мышкой, ты копье несешь?
Спартанец.
Да нет же, видят боги!
Афинянин.
Что ты вертишься?
Накидкою закрылся! Или опухоль —
С дороги?
Спартанец.
О мой Кастор! Привязался же,
Болтун!
А ф и н я н и н . Да ты жениться хочешь, бедненький!
А это что же?
Спартанец.
Трость лакедемонская!
А ф и н я н и н (раскрывается).
Тогда и это — трость лакедемонская?
Теперь у нас одна беда! По городу
Как со свечами бродим, спотыкаемся...».
...Прочь, прочь, охальник с твоею «Демобилизацией»! Послушаем
Фукидида, он расскажет, как было дело:
«...Расставив своих людей в ключевых местах города, Четыреста (и все
— мальчики из хороших семей!) прибыли каждый с кинжалом под
одеждой. С ними было также 120 молодых воинов на случай рукопашной
схватки с противниками. Заговорщики проникли в помещение Совета,
когда там заседали избранные по жребию советники, и велели им,
получив свое жалованье, убираться; они принесли с собой жалованье
советникам за остающееся время их годичной службы и выдавали деньги
при выходе советников из помещения совета. Вскоре они отменили
большую часть постановлений демократического правительства и
послали глашатая к Агису, царю лакедемонян, с заявлением, что
Четыреста желают мира, полагая, что и для царя было разумнее всего
вступить в переговоры с ними, чем с вероломной демократией.
«...Ведь женщины к себе и прикоснуться нам
Не позволяют, прежде чем с Элладою
Не заключим мы мира и согласия...».
Желая уберечь своего мальчика от троянских напастей, Фетида
спрятала Ахилла среди девиц — дочерей царя Ликомеда,— переодев
сына, разумеется, тоже в девичье платье. Когда Зевс, убоявшись ревнивой
Геры, отдал маленького Диониса под присмотр Гермесу, тот переодел
мальчишку в девчачье платье. Старый прием, но хороший, хоть и до
поры. Во всяком случае, с тех времен, как Гермес проделал это с
Дионисом, все слуги великого бога считают своим долгом первейшим
вводить такое п е р е о д е в а н и е — часто лишь в знак благочестивого
смирения перед своим божеством. Так и Аристофан занялся
переодеванием, и, как ни горько читателю, оставшемуся в Афинах без
женского общества, все героини нашего комика — не женщины, но
переодетые «мужаки».
...Рассказывают, что в Педасе, откуда, кстати, родом был старшина
евнухов персидского царя, всякий раз как жителям города
или их соседям угрожала в скором времени какая-нибудь беда, у
тамошней жрицы Афины вырастала предлинная борода. Уж и педасийцы
перестали удивляться этому, нечего смущаться и нам, понимающим, кто
скрывается за пришедшими в собрание женщинами из новых комедий
Аристофана...
Чудаки, усматривавшие некогда в появлении женщин на
Аристофановой сцене отзвуки семейной жизни комедиографа или (еще
того веселее) его вклад в теорию эмансипации женщин в Греции, чудаки
эти теперь повывелись. Теперь кажется, в общем, ясным делом, что в
городе безумцев только большее безумие не грозит драматургу провалом.
Накануне перемен городского правления, когда «в Аттике повсюду
вырезают языки» (Фукидид: «Некоторых из своих противников они
предпочли устранить и казнили, других бросили в темницу, третьих,
наконец, отправили в изгнание...»), теперь только самая невинная, а
значит, самая нелепая, не имеющая ровным счетом никаких следов
повседневности на своем лике фантазия может быть принята. Женщины у
него соберутся вместе и откажут мужчинам в ласках — вот и
Пелопоннесской войне конец. Женщины соберутся вместе и осудят
Еврипида — вот и конец наветам на женское племя. Но Еврипид уже
давно оставил Афины, он скоро умрет на чужбине, и кто поверит, что это
его стихи, страстные монологи Медеи и Федры, спасали афинских
пленников на Сицилии?
Но женщины соберутся вместе и захватят власть в государстве — вот
и настали блаженные времена. Кто всерьез возьмется читать,
представлять и слушать все это?
Ведь всерьез в городе теперь не проживешь. Все разрушилось как бы
вдруг, как бы без подготовки, никто не ждал гибели, хотя теперь, идя по
следам сумасшедших фантазий комика, даже глухой расслышит
предупреждения Зевса. Зевс разрезал людей, чтоб уменьшить их силу.
Может быть, для того же греки были разрезаны на афинян и лакедемонян,
афиняне — на мужей, мужаков и женщин? Но нам лучше остановиться
здесь, пока еще жив Еврипид, он еще не уехал во Фракию, где через
несколько лет умрет, и еще духом его обогатится комедия. Еще жив
Софокл, сыновья еще не притянули его к суду за слабоумие, и Муза его
свежа. Еще жив Сократ, и никто еще не догадывается о том, что город
скоро решит разыграть таинство умерщвления жреца гражданского
здравия, и чашка с цикутой будет поднесена ко рту невозмутимейшего из
смертных. Еще жив Алкивиад, он еще надеется попасть в Афины, у него
здесь хватает друзей, и он побывает в родных стенах прежде, чем сбежит
во Фракию, где будет, однако ж, настигнут и убит, убит десятками стрел.
Да и Аристофана, наверное, только недавно отыскала его не-
достающая половинка, и оба сына подрастают в доме, и через десяток лет
им можно будет передать дело.
Но к этому времени в городе несколько раз сменится власть, он будет
повержен, и в поверженном городе от Аристофана и всей его артели
потребуют других песен, других танцев, других комедий. Может быть,
это будут лучшие комедии Аристофана. Во всяком случае, в Новое время
они ценились побольше тех, с которыми мы успели встретиться в
аттическом лабиринте. Но писать о них теперь — не значит ли
уподобиться Мидасу? Тот вознамерился изловить Силена. Чтоб поймать
хитреца, надобно было его напоить, и тогда Мидас решил налить вина
прямо в колодец в саду, где, как он знал, в прохладе коротает жаркое
время рогатый пузатый коротыш. Но Силен не поймался *.
...Мне не удастся объяснить, почему перед попойкой полагалось
подкрепиться миндалем, а лучший миндаль рос на Кипре и Наксосе, где и
вино — лучше некуда.
«Дай пожевать мне миндаля наксосского,
Дай мне винишка пососать наксосского...».
Кто-то просит об этом кого-то в какой-то комедии Евполида. Не
объяснить мне и того, почему лиловели багровые виноградины, когда
вдоль виноградника высаживали капусту...
Платон говорит, что перед смертью Сократ просил друзей принести
обещанного им петуха в жертву Асклепию. Храм бога врачевания был в
Ахарнах, а другой — на Эгине. Спустя несколько десятилетий (а тем
более столетий!) после смерти Сократа часть вины за осуждение и казнь
этого человека придется нести нашему комику, ведь он высмеял
мудрецов-параситов под его, Сократа, личиной. Но на обрыве нашего
повествования нужно предполагать, что и Аристофан был среди друзей
сына Софрониска и Фенареты, когда петуху острым ножом отсекали
голову на алтаре Асклепия во славу Сократа. Ведь там, у Агафона, когда
выговорился пьяный Алкивиад, когда новая ватага празднующих
расположилась в беспорядке среди пирующих у трагика, когда все они
вповалку заснули, Аристодем вдруг пробудился. Светало, пели петухи.
Проснувшись, Аристодем увидел, что одни спят, другие разошлись по
домам, а бодрствуют еще только Агафон, Аристофан и Сократ, которые
пьют из большой чаши, передавая ее по кругу слева направо, причем
Сократ ведет с ними беседу. Всех его речей Аристодем не запомнил,
потому что не слыхал их начала и к тому же подремывал. Суть же беседы,
рассказывал он потом, состояла в том, что Сократ вынудил их обоих
признать, что один и тот же
* Впрочем, по македонскому сказанию, Силен был-таки изловлен сыном
Гордия в его саду, там, где растут дикие розы с 60 лепестками, чей аромат и
одурманил бедолагу.
человек должен уметь сочинить и комедию и трагедию и что искусный
трагический поэт — всегда искусный комедиограф, и наоборот. Оба по
необходимости признали это, уже не очень следя за его рассуждениями:
их клонило ко сну, и сперва уснул Аристофан, которому снился Египет,
где, как известно, все наоборот, где не едят баранины, но приносят в
жертву коз, где тесто месят ногами, а глину руками, где пишут справа
налево, а говорят, что слева направо, где женщины ходят на рынок
торговать, а мужчины сидят дома и ткут, где мужчины носят тяжести на
голове, а женщины на плечах, где отрубленные головы жертвенных быков
продают на базаре грекам, а если греков там нет — выбрасывают в Нил;
где, предпочитая опрятность красоте, делают обрезание, но не терпят
даже вида бобов, считая их нечистыми плодами; где сыновья не обязаны
содержать престарелых родителей, а дочери должны это делать даже
против воли, где на деснах крокодилов гнездятся пиявки, а в уши их вдеты
золотые кольца, где жрецы не едят рыбы, но каждый день вдоволь
наедаются бычьего мяса и гусятины на закуску к привозному
виноградному вину или ячменному пиву местного производства, где в
Бубастисе чтут Артемиду, а в Бусирисе — Исиду, причем по пути в
Бубастис женщины трещат в трещотки, мужчины играют на флейтах, а в
Бусирисе те и другие предаются самобичеванию; где сбривают себе
брови, когда в доме околевает кошка, а всю остальную растительность,
когда околевает пес, где землероек и ястребов везут хоронить в Буто,
ибисов — в Гермополь, а волков и медведей хоронят там, где найдут; где
в Фивах крокодилов почитают священными и после смерти
бальзамируют, а в Элефантине преспокойно употребляют в пищу, где
здоровье сохраняют клистирами и рвотными средствами, но вся страна
полна лекарей, где при постройке пирамид на редьку, лук и чеснок для
рабочих истратили полторы тысячи талантов серебра, где растительное
масло называется кики, а Диониса зовут Осирисом.
Потом, когда уж совсем рассвело, уснул Агафон. Ему приснился
Эсхил, заговоривший по-персидски.
Маломужественный Аристодем (впрочем, афиняне наградили его
более грубым эпитетом) не упомянул того, что Сократ завернул потом в
тряпку полагавшийся ему по закону пиршества мятный пряник, который
готовили для того, кто перепьет остальных, сам при этом не пьянея,
конечно! Ушли они вместе. Придя в Ликей и умывшись, Сократ провел
остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой
отдохнуть.
Но, как пчела, оставившая в ранке жало, он уже не отойдет от
Аристофана ни на шаг, а бедный комик, как, в сущности, большинство
других древних сочинителей, так и не успеет объясниться
ни
со
зрителем, ни с читателем в потомстве.
Его собутыльник, Сократ, преспокойно осушит фиалу цикуты в
тюремной постели, и поминай как звали! О нем, благодетельнейшем и
целомудреннейшем, будут скорбеть и выть века, называя его высокомерие
скромностью, похотливость горением духа, юродство мудростью,
уродство красотой, добрую жену его Ксантиппу ославят мегерой, а тихий
комик прозябнет в неизбывном мраке недоверия.
Что все-таки он хотел сказать? Как это — одному человеку одинаково
хорошо сочинить и трагедию и комедию? Аристофан не понимал этого до
самого дня суда над Сократом. Ужас, охвативший комика, когда он
услышал в речи обвинителя свои старые развеселые шуточки из
«Облаков», заставил его вспомнить ту ночь у Агафона. «Сначала —
комедию, а после — трагедию...».
Не он ли убедил сограждан в том, что Сократ растлевает молодежь,
уча ее представлять черное белым, а белое зеленым? Не он ли доказывал
— и доказал, что тот вводит новых богов? Всё — он.
Что с того, что в Афинах его будут читать и учить наизусть
школьники, что через несколько столетий тысячи свитков с пояснениями
к едва ли не каждому слову из его комедий испишут ученые Александрии,
а один восхищенный византиец, уписистым почерком перекатавший все,
что можно было найти, даже взял себе его имя! Чтить-то, чтить все равно
они будут только Сократа. Как «поэт» означает у греков — Гомер, так
«комик» будет означать — Аристофан. Да, он возвысится один: ни
Кратин, ни Евполид, никто из его современников не переберется через
хребет времени с своим поэтическим скарбом. Но злопамятные варвары,
ни дня не проведшие в Перикловых Афинах, не видавшие ни дома на
улице Треножников, ни того, как тяжко вздыхал сын Филиппа по сыну
Софрониска и Фенареты, пока держал петуха за связанные шпористые
ноги в храме Асклепия,— они еще назовут его «презренным и низким
человеком, приготовившим яд, коим гнусные судьи погубили самого
добродетельного человека Греции».
А начнет многознающий херонеец Плутарх. Он расскажет, сколь
вопиюща его непристойность в словах и действиях, сколь грубыми
должны быть те простаки, на каких рассчитана его комедия. «Толпе он
противен, а людям рассудительным — и подавно. Его поэзия подобна
состарившейся гетере, которая изображает из себя достойную хозяйку и
жену: толпе несносно ее бесстыдство, а честные люди гнушаются ее
распущенности и злонравия. Его остроты, слишком едкие и шершавые,
хороши для того лишь, чтоб ранить, но не врачевать. Шутовство его не
гражданственно, ибо все шуты у него — слабоумные, и смех его не
смешит, сам достойный осмеяния, а любовь нехороша, ибо
непристойна...».
Предчувствие грядущей литературной критики такого сорта не
обмануло, как вы говорите, нашего комедиографа, и мало-помалу он
бросил это хлопотное дело, самое трудное дело на свете, писание
комедий, как когда-то старый друг его, Сократ, бросил писать басни,
чтобы никто потом не тревожил его тень филологическими аккордами.
Правда, можно сколько угодно гадать об аристофановских
предчувствиях. Единственная материя в его жизни, данная нам в
платоновских ощущениях,— это икота лысого слуги Диониса. К утру он
уснул в доме Агафона и теперь, счастливец, видел новый сон. Еще не
лишенный своей доли надежд, пусть он удержит и нас, знающих остаток
пути.
* * *
«В пору, когда артишоки цветут, и, на дереве сидя,
Быстро, размеренно льет из-под крыльев трескучих цикада
Звонкую песню свою средь томящего летнего зноя,
— Козы бывают жирнее всего, а вино всего лучше,
Жены всего похотливей, всего слабосильней мужчины:
Сириус сушит колени и головы им беспощадно,
Зноем тела опаляя. Теперь для себя отыщи ты
Место в тени под скалой и вином запасися библинским.
Сдобного хлеба к нему, молока от козы некормящей,
Мяса кусок от телушки, вскормленной лесною травою,
Иль первородных козлят. И винцо попивай беззаботно,
Сидя в прохладной тени и насытивши сердце едою,
Свежему ветру Зефиру навстречу лицом повернувши,
Глядя в прозрачный источник с бегущею вечно водою.
Часть лишь одну ты вина наливай, воды же три части».
Пусть так — летним сном Гесиода — закончится и для нас
двенадцатая ночь холодного афинского месяца свадеб.
УКАЗАТЕЛЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН
Агамемнон, царь Микен, предводитель
греческого войска в троянском
походе 53
Адонис, возлюбленный Афродиты,
почитавшийся женщинами 203
Алкеста,
жена
царя
Адмета,
принявшая смерть вместо мужа, но
выведенная из загробного царства
Гераклом 50 и след.
Амфиарай, прорицатель 200 и след.
Аполлон, предводитель Муз (Мусагет)
106, бог-скорняк, снявшей кожу с
Марсия 33, сшивший из лоскутков
Диониса 34, участвовавший в
предпринятом
Зевсом
перекраивании
человеческого
существа 205, увенчанный лавром,
Ликийский, Делосский 8
Артемида,
богиня-охотница,
требующая от людей выполнения
всех обещаний 8, 147, 190
Асклепий,
бог
врачевания,
сын
Аполлона 8, 123
Асоп, отец Эгины 146
Ата,
губительное
божество
ослепляющего гнева 165
Атрей, отец Агамемнона и Менелая,
забыл принести в жертву Артемиде
золотого ягненка 147
Афина,
богиня-покровительница
города, целительница 5, 19, 23 и
след., 127
Афродита, богиня любви и красоты,
дочь Зевса, мать Эрота 8, Небесная
и Доступная 192 и след.
Ахиллес, внук Эака, греческий герой,
один из главных участников
Троянской войны 53, 104, 125
Беллерофонт,
внук
Сизифа,
оседлавший Пегаса и сразивший
Химеру; за попытку взлететь с
Пегасом
на
Олимп
наказан
хромотой и слепотой 156—157
Гелиос, бог солнца 128
Гера, олимпийская супруга Зевса
21, 34, 245 Геракл, сын Зевса 9,
25, 50, 75, 125,
155
Герион, трехглавый великан 109
Гермес, сын Зевса, покровитель жу-
ликов, по просьбе отца наделивший
людской род совестливостью ИЗ, 124,
125, 158, 245
Гермиона, дочь Елены и Менелая 58
Гефест, бог огня и ремесел 8, 34
Гибрис, богиня дерзости, похоти,
вообще превышения установленных
порядков 165
Дедал и его сын Икар, улетевшие от
критского царя Миноса 212 и след.
Деянира, ревнивая жена Геракла 21
Деметра
и
Персефона,
богини
плодородия 8, 10, 23, 127, 146,
239
Диом,
афинянин,
воздвигший
святилище Геракла на Борзопсовом
бугре 75
Диомед,
злодей,
растерзанный
собственными
кобыламилюдоедками 150
Дионис, бог плодоносящих сил земли,
растительности,
виноградарства,
виноделия, Освободитель 5, Дионис
Флейтист 8 и мн. др.
Еврисфей, возлюбленный Геракла,
замучивший
героя
своими
просьбами 76
Елевсин, культовый центр Деметры и
Персефоны 10, 127
Елена, сестра Клитемнестры, жена
Менелая, похищенная Парисом 21
Зевс,
отец
богов
и
людей,
Олимпийский, Советчик, Спаситель
8,
34,
Додонский,
владыка
священного дуба, шелестевшего
правду 25
Ир, он же Арней, нищий в доме
Пенелопы, наказанный Одиссеем
75
Иксион, дерзкий человек, имевший
вожделение к Гере 59
Икарий, первый гостеприимец Диониса
в Аттике И, 43
Калхас, прорицатель в греческом
войске 147 Кекропс, первый царь
Аттики с дра-
конами вместо нижних конечностей
1 27
Клитемнестра, сестра Елены, жена
Агамемнона, мать Ифигении в
Ореста 148
Котитто,
фракийская
богиня,
подобная Артемиде 190—191
Майра, верная собака Икария 11
Марсий, силен-музыкант, за дерзость
наказан Аполлоном 33
Медея, колхидская волшебница 38, 90
Медуза Горгона, мать Пегаса 157, 165
Менелай, брат Агамемнона, ревнивый
муж Елены 57, 148—150
Минос, критский царь 138
Мнемозина, дочь неба и земли, богиня
памяти, родившая Зевсу дочерей —
Муз 52
Музы, дочери Зевса и Мнемозины 46,
52, 167 и мн. др.
Нерей, морской царь, отец многих
дочерей, родственник Протея 60
Одиссей, царь Итаки 21, 33, 75, 97, 199
Омфала,
лидийская
царица,
возлюбленная Геракла 21
Орест,
сын
Агамемнона
и
Клитемнестры 57
Пан, сын Гермеса и Пенелопы, сильное
божество природы 5
Парис, троянский царевич 21, суд
Париса 33, 35
Патрокл, друг Ахиллеса 104
Пегас, сын Посейдона и Медузы
Горгоны, чудовищный крылатый
конь, из-под копыта которого забил
ключ поэтического вдохновения
157
Пенелопа, верная жена Одиссея 33
Перимед, Еврибий и Еврипил, сыновья
Еврисфея,
убитые
голодным
Гераклом 76—77
Персей, герой, убивший Медузу
Горгону и тем освободивший ее от
бремени — Пегаса 157
Персефона,
дочь
Деметры,
похищенная Плутоном 13
Пилад, друг Ореста 57
Плутон, брат Зевса, бог подземного
царства 13
Посейдон, брат Зевса, бог морских
пучин 6, 8, 127, 156
Полифем, сын Посейдона, киклоп,
ослепленный Одиссеем 97
Приам, царь Трон, тесть Телефа 53
Прометей,
Крепколобый,
титан,
участвовавший вместе с братом
Эпиметеем
в
окончательной
отделке человека 111 —112
Протей, морской старец, менявший
облик на противоположный 60
Псамата-Песочница,
дочь
Нерея,
отдалась Эаку в облике тюленихи
60
Сатиры и силены, спутники Диониса
5, 10, 11, 247
Сизиф, доносчик, сообщивший отцу
Эгины Асопу о ее связи с Зевсом: в
наказание
стал
самым
трудолюбивым
обитателем
подземного царства 148, 156
Талия, муза Цветунья, муза комедии
167
Тамус, египетский царь 24—26
Тевт
(Тот),
божественный
изобретатель
письма,
звездочетства, игры в кости и
землемерия 24—26
Тезей, герой-покровитель Афин 5
Телемах, сын Одиссея, разыскивавший
отца 86
Телеф, сын Геракла, раненный и
вылеченный Ахиллесом 52 и след.
Титаны, боги старшего поколения,
сожравшие младенца Диониса 34
Тифон, сын Земли, огнедышащий
дракон 64
Триптоле.м,
древнее
аттическое
божество тройной вспашки 23
Фалет, Приап, фаллическое божество,
самостоятельное
или
сопутствующее Дионису 43, 153
Фамира-кифаред,
неудачливый
соперник Муз, наказанный за
дерзость 52
Хирон, кентавр, учитель Геракла и
Ахиллеса 125
Эак, сын Зевса и Эгины, царь Винного
острова 60 Эгина, возлюбленная Зевса
60, 136
Эпиметей, Крепкий Задним Умом,
титан, участвовавший вместе с
братом Прометеем в окончательной
отделке человека 111 — 112 Эригона,
дочь Икария 11 Эринии, богини
мщения 93
Эрот, сын Афродиты 14—16, 192
и след.
Ямба, служанка, рассмешившая
горюющую Деметру 13, 239 Ясон,
предводитель аргонавтов 8, 49
УКАЗАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ИМЕН
Агатарх, художник, работал у Эсхила
88
Агатарх, художник, внук предыдущего
188
Агафокл, музыкант 80
Агафон, сын Тисамена, поэт-трагик 6,
8, 50, 74, 75, 77, 192, 224, 247
Алкей, архонт 421 (420) года 124, 151,
153
Алкивиад, сын Клиния и Диномахи,
удачливый военачальник и политик,
тщетно домогавшийся тирании в
Афинах 70, 102—104, 114, 116,
119,122, 141, 142 и след., 172 и
след., 184 и след., 198, 226, 242
Амикла, кормилица Алкивиада 116
Аминий, архонт 422 года 123, 124
Амипсий, комедиограф 87—88, 102,
230, 233
Анакреонт, поэт 139
Анаксагор, философ, один из учителей
Перикла, Сократа, Еврипида и
прочих 23, 92, 147
Андокид,
богатый
афинянин,
обвиненный
по
делу
об
осквернении
герм
и
лжесвидетельствовавший
против
Алкивиада и других сограждан 218
Андрокл, демагог 204, 210, 227
Андрон, сын Андротиона, аристократ
круга Алкивиада 118
Антимах, поэт и наставник хора 42
Антиох, капитан, заискивавший перед
Алкивиадом 189
Антисфен, философ-киник 70
Аполлодор из Фалера, ученик Сократа
7, 192
Аполлодор, автор «Мифологической
вивлиофики» 11
Аримнест, архонт 416 года 6
Аристид, афинский политический
деятель 139
Аристион, архонт 420 (421) года 146,
151, 108
Аристодем из Кидафин, ученик
Сократа 6, 16, 192, 247
Аристоклид, кифарист 23
Аристоксен, сын Спинфара, клеветник
91
Аристотель, философ, ученик Платона
129, 143
Аристофан Византийский, ученыйфилолог, хранитель наследия
Аристофана-афинянина, живший
через два столетия от описываемых
времен 237
Аристофонт, художник 188
Артемидор Далдианский, писатель
начала I в. до н. э., автор книги «О
толковании сновидений» 17, 122,
127
Архелай, македонский царь,
приютивший Еврипида 6, 57
Архелай, философ 90, 92, 120
Архестрат, афинянин 189 Архидам,
спартанский царь 22 Архиппа,
возлюбленная Софокла 48 Аспасия,
возлюбленная Перикла 20,
23, 77
Астифил, архонт 171
Астифил, прорицатель 202
Афипей, писатель начала III в. н.
э., автор «Трапезы знатоков» 43, 76,
89, 169, 220
Брасид, спартанский полководец 126
Гагн, комедиограф 12
Гален, пергамский врач II в. н. э. 123
Геллий,
Авл,
римский
писатель
середины II в. н. э., автор
«Аттических ночей» 179
Гермипп, одноглазый комедиограф 9,
120, 140, 163
Гермоген, брат Каллия, сын Гиппоника
79, 80
Гермократ, сын Гермона, сицилиец
235
Геродик-селембриец, софист 80
Геродот, первый греческий историк,
старший современник Аристофана,
родом из Галикарнасса 85, 139,
144, 161, 239, 240
Гесиод, поэт VIII—VII в. до н. э. 80,
138, 249
Гесихий, лексикограф V—VI в. н. э.
153
Гиерон, воспитатель Никия 149
Гилипп, сицилийский военачальник 236
Гипербол, афинский демагог 6, 31,
73, 120, 145, 146, 152, 171—173
Гиппарета, сестра Каллия, дочь
Гиппоника, жена Алкивиада
122,189
Гиппий, софист 77, 92, 118
Гиппократ, сын Аполлодора, тезка
знаменитого врача 118, 149
Гиппоник, богатый аристократ, отец
Каллия 79, 114
Главкин, архонт 439 года 42
Главком, брат Платона-философа 7
Гомер, легендарный поэт 80, 106,
139, 176, 180
Горгий, софист 12, 77, 80, 106, 186,
229
Дамон, учитель Сократа 93, 147
Дексифей, кифаред 56
Деметрий Византийский, схолиаст
92 Демострат, афинский демагог,
203 Демосфен, афинский
военачальник,
тезка оратора, жившего много
позже 65, 66, 94, 116, 235 и ислед.
Демофонт, кравчий 48
Диоген из Синопа, киник 141
Диоклид, доносчик 217
Диомед, обманутый друг Алкивиада
150
Диотима, мантинеянка, наставница
Сократа 234, 243, 244
Евклес, архонт 427 года 9
Евполид, сын Сосиполида,
комедиограф, современник л
соперник Аристофана 13, 35, 36,
49, 77, 120, 125, 146, 154, 163, 190,
191, 209, 211, 227
Еврипид, поэт-трагик 8, 15, 45, 49, 50,
52-54, 55, 57—59, 88, 90— 92, 102,
110, 136, 147, 154 и след., 156,
167, 198 и след., 243, 246
Евтимен, архонт 437 года 42
Евтин, архонт 425 года 153
Екфантид-Дымарь, комедиограф 12
Зенодота, мать Аристофана 31
Зопир, воспитатель Алкивиада 116
Икк, знаменитый гимнаст 80
Иктин, архитектор, строитель
Парфенона, см. Калликрат 18
Исарх, архонт 424 года 110
Исократ, оратор 70
Каллий,
афинский
богач,
сын
Гиппоника,
спустивший
все
состояние на софистов 15, 77, 79,
82, 95, 122, 143, 184 и след.
Калликрат, архитектор, строитель
Парфенона см. Иктин, 18
Каллистрат, постановщик комедий
Аристофана 27, 28, 30, 35, 37,
86, 223
Каллистрат, ученик Аристофана
Византийского 237
Кефисофонт, актер Еврипида 54, 59
Кимон, сын Мильтиада, афинский
политический деятель, почитатель
Спарты 173 и след. 202
Клеомед, сын Ликомеда, военачальник
182
Клеон, сын Клеонима, афинский
демагог 30-33, 36, 42, 63, 64, 67—
69, 71, 72, 81, 119, 126, 128— 130
Клеофон, афинский демагог 31
Клито, зеленщица, мать Еврипида
51 Конн, учитель Сократа 88, 93
Кратил, афинский филолог 15
Кратин, комедиограф, старший
современник и соперник
Аристофана 19, 35, 36, 42, 45, 49, 57,
87, 88, 117, 120, 125, 225
Критий, сын Каллесхра, аристократ
круга Алкивиада, впоследствии —
один из Тридцати тиранов 178,
242
Кратет, комедиограф 49, 63, 125
Ксантиппа, жена Сократа 238
Ксенокл, трагик 102
Ксенофонт, ученик Сократа, писатель
и историк 97, 104
Ксеркс, сын Дария, персидский царь
109
Лаида, дочь Алкивиада и Тимандры,
ставшая впоследствии знаменитой
гетерой 220
Ламах, военачальник 40, 44, 45, 94,
116, 145, 152, 160, 213, 226 и след.,
236
Лампон, прорицатель 152
Лахет, военачальник 152
Левкон,
комедиограф,
всегда
проигрывавший состязания 124,
153— 154
Леотихид, сын Алкивиада и Тимеи 189
Лисий, метэк, афинский логограф
142
Лисикл. афинский богач, овчар, друг
Перикла 23
Магнет, комедиограф 27, 63, 126,
137, 223 и след., 232
Меланиппид, музыкант 179
Мелет, сын Писия, обвинитель Сократа
56
Меток, афинский астроном,
инженер и солнечный часовщик 52,
202, 216
Метробий, отец Конна 88
Милл, комедиограф 12
Миртил, комедиограф 9, 89
Мирто, младшая жена Сократа 238
Мнесикл, архитектор, строитель
Пропилей в Афинах 19
Мнесилох, тесть Еврипида 90
Морихид, архонт 440 года 44
Мосх, кифаред 56 Мусей,
легендарный певец 80
Навсикид из Холарга, богач 118
Никий,
афинский
военачальник,
политический противник Алкивиада
65—67, 94, 116, 120, 144—147, 149 и
след., 172 и след., 198, 226, 236
Орфей, легендарный певец 80
Павсаний,
керамеец,
сотрапезник
Аристофана и Сократа, поклонник
трагика Агафона 8, 16, 46, 139, 192
и след.
Пасифонт, сочинитель 146
Пахет, военачальник 147
Перикл, сын Ксанфиппа, афинский
политический деятель, с именем
которого
связывают
расцвет,
приведший к скорому краху
афинского государства 17, 18, 22,
23, 29, 35, 41, 45, 73, 77, 102—104,
132, 136, 140, 175 и след.
Пиндар, поэт 109
Пириламп, богач, друг Перикла,
персофил 21
Писандр, афинянин из простонародья,
государственный эксперт по делу о
таинствах 229
Писистрат, афинский тиран и мудрец
10, 161
Платон, комедиограф 120, 171
Платон, философ, ученик Сократа
7, 94, 97, 134, 135, 136, 137
Плутарх, греческий писатель I—II
в. н. э. 21, 116, 126, 137, 141, 142,
144, 146, 149, 154, 171 и след.,
179, 188 и след.
Полемон, афинянин 75—76
Поллукс, лексикограф II в. н. э.
27, 123, 141, 216
Продик, софист 15, 77, 79, 80, 81,
92, 107, 119, 123, 224
Протагор, софист 12, 77, 80, 81,
82—83, 91, 92, 106, 154, 175, 184
и след.
Пулитион, афинянин, друг Алкивиада 208, 218
Сибиртий, афинянин, содержатель
палестры и бани 114, 141, 211
Симонид, поэт 82, 106
Сиракосий, афинянин, внесший декрет
о комедии 220, 227, 229
Ситалк, фракийский царек 191
Смикрин, бывший любовник Архиппы
48
Сократ, сын скульптора Софрониска и
повитухи Фенареты, мудрец 7, 15,
24 и след., 70, 79, 80, 88, 90, 92,
105—106, 119, 145, 168, 175 и след.,
243 и след., 246.
Солон, афинский законодатель 13, 20,
73-74
Софокл, которого Сократ считал
самым замечательным трагическим
поэтом 45, 48, 49, 50, 88, 106, 214,
246
Споргил, цирюльник 236
Стратокл, архонт 424 года 63, 128
Сусарий, первый комик 12
Таврей, хорег 188
Теано, дочь Менона, жрица 219
Тевкр, доносчик 217
Телеклид, комедиограф 90, 146
Теодор, архонт 438 года 42
Теодор, товарищ Алкивиада по
«мистериям» у Пулитиона 210
Тимандра, любовница Алкивиада 219
Тимей, провокатор 218
Тимея, спартанка, жена тамошнего
царя и любовница Алкивиада 189
Тимон,
афинянин,
знаменитый
мизантроп 188, 238
Тисандр из Афидин, родственник
Перикла, был послом в Персии
118
Тисий, сын Тисимаха,
военачальник 182-186
Феаг, сын Эрасистрата, соперник
Алкивиада и Никия, военачальник
154, 172, 173
Федр из Мирринунта, сотрапезник
Аристофана и Сократа на пиру у
Агафона 9, 15—16, 24 и след., 115,
192
Фемистокл, афинский политический
деятель 139
Феникс, сын Филиппа, афинянин 7
Феогнид, поэт-лирик 13
Феогнид, поэт-трагик 56
Феорида, гетера 48
Феофраст,
философ,
ученик
Аристотеля 142
Ферамен,
аристократ,
один
из
Тридцати тиранов 116, 242
Ферекрат, комедиограф 56, 104, 168,
169, 180, 243 и след.
Фессал, сын Кимона, доносчик 210 и
след., 219
Фидий, сын Хармида, скульптор, друг
Перикла 18—19, 23
Филипп, отец Аристофана 7, 31
Филократ, сын Демея, военачальник
187, 231
Филонид,
постановщик
комедий
Аристофана 27, 87, 89, 102, 122,
123, 223
Формион, капитан 160
Фотий, византийский патриарх и
ученый IX в., 158
Фрасимах, аристократ 13
Фринид, музыкант-новатор 178
Фриних, комедиограф 52, 215, 216, 233
Фринонд,
афинянин,
нехороший
человек 34
Фукидид, сын Олора, галимунтец,
афинский лохаг и историк 22, 3437, 69, 81, 86, 126, 132, 144, 146,
150, 151, 164, 171, 197, 213, 227,
229, 235, 245
Хаврий, архонт 414 года 220, 233
Херид, кифаред 56
Эвен с Пароса, софист 78, 79, 80
Элиан, сочинитель II—III вв. н. э, 44,
93, 102
Эриксимах, сын Акумена, афинянин,
лекарь, сотрапезник Аристофана,
избавивший
комедиографа
от
приступа икоты 8, 15, 47, 86, 108,
139, 192 и след., 207
Эсхил, поэт-трагик, 8, 10, 28, 29, 49, 90,
248
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
594 г. Солон создает для афинян нодо
н.э. вый свод законов 561—
правление в Афинах тирана 528
Писистрата
444
546
438
Малая Азия — во власти
Персидской державы
525 родился Эсхил
520 родился Кратин
500— ремонт обрушившегося дере499 вянного театра Диониса в Афинах;
начало восстания малоазийских
(ионийских)
греков
против
персидского владычества
495 родился Софокл
490 разгром персов у Марафона
485 родился Протагор
480 родился Еврипид;
вторжение персидского царя
Ксеркса в Грецию
479 поражение персов при Платее
478 создание греческого морского
союза с союзнической казной на
о. Делос
474 первые гермы устанавливаются на
афинской Агоре
468 первая победа Софокла в
состязании трагиков
464 землетрясение в Спарте
462
демократические
реформы
Эфиальта в Афинах
460 родился Фукидид
459— военные действия Афин про446 тив Пелопоннесского союза
457 Афины захватывают о. Эгину;
456 от удара черепахи, сброшенной с
большой высоты орлом умирает
Эсхил
455 первая победа Еврипида;
союзническая казна
переносится с Делоса в Афины
454 неудачный поход афинян в Египет
451 родился Алкивиад
448 родился Аристофан
446 родился Агафон
448 посольство Перикла ко всем
грекам с призывом восстановить
разрушенные войной храмы
447 заключение мира со Спартой;
437
433
431
430
429
427
425
424
423
422
421
420
417
416
415
414
начало строительства Парфенона
Иктином,
Калликратом
и
Фидием в Афинах
основание афинской колонии
Фурии
Фидий завершает работу над
статуей
Девы
Афины
—
покровительницы города — и
едет в Олимпию ваять Зевса;
«Те-леф», «Алкеста» Еврипида
начало строительства Пропилей
архитектором Мнесиклом
приостановка строительных работ
на Акрополе из-за военной
угрозы
изгнание из Афин Фидия и
Анаксагора, обвиненных в
растрате и безбожии; начало
Пелопоннесской войны;
«Медея» Еврипида
чума в Афинах;
процесс против Перикла
смерть Перикла от чумы
первая комедия Аристофана
«Едоки»
поставлена
Каллистратом
взятие о. Сфактерии;
«Ахарняне» Аристофана
«Всадники»
умер Кратин;
«Облака» Аристофана
гибель Клеона и Брасида; «Осы»
Аристофана
Никиев мир со спартанцами;
«Мир» Аристофана;
восстановление Эрехтейона на
Акрополе
Завершение
строительства
храма Диониса-Освободителя в
Афинах; избрание Алкивиада
военачальником
процесс против Протагора в
Афинах
резня на захваченном афинянами
Мелосе
процесс против осквернителей
герм;
начало Сицилийского похода
афинян; «Птицы» Аристофана
закон Сиракосия о комедии
413
солнечное
затмение,
истолкованное
суеверным
Никием как знак сицилийской
катастрофы; гибель
Никия,
пленение афинского войска на
Сицилии
412 мятеж афинских союзников
411 государственный переворот в
Афинах; умирает Евполид
408 возвращение Алкивиада в Афины
406 смерть Еврипида и посмертная
постановка
«Ифигении
в
Авлиде», «Вакханок»;
404
400
399
388
387
смерть Софокла и учреждение
его
культа
под
именем
Дексиона;
посмертная
постановка «Эдипа в Колоне»
падение Афин;
гибель Алкивиада
умирает в изгнании Фукидид;
восстановление демократии в
Афинах
процесс
над
Сократом,
самоубийство
Сократа
по
приговору суда
умер Аристофан
Платон основывает Академию
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ РЕАЛИЙ
Арибалл — кувшин с гладким
шарообразным туловом и коротким
узким горлом с широким ободком,
переходящим в маленькую, но
ухватистую ручку; наполненный
благовонным
маслом
арибалл
можно было носить «как кошелек
со
стянутыми
ремешками»
(Афиней).
Архонты («начальники») — 9 старших
афинских сановников: первый
архонт давал имя году; архонт-царь
ведал
священными
обрядами;
архонт-главнокомандующий
был
номинальным главой 10 стратегов и
отвечал за военное дело в
государстве;
остальные
6
назывались
«законодателями»,
занимались судопроизводством и
другими, более мелкими делами*
Закон 477 г. допускал избрание
архонтов
без
соблюдения
имущественного ценза; во времена
Аристофана у них были чисто
представительские функции.
Барбитон — струнный инструмент,
похожий на лиру.
Бомолох («старающийся стянуть с
алтаря еду») — шут, плясун,
выделывающий любые штуки в
надежде получить за это кусок
хлеба.
Валяльщики (сукновалы) — занимались
изготовлением войлока, чисткой и
стиркой
шерстяных
гиматиев:
выколотив гиматий палкой и дав
ему вылежаться в ослиной моче,
валяльщик отбеливал его серным
паром, расчесывал и утюжил; это
была дорогая работа.
Гелиасты
—
заседатели
суда
присяжных; принимали решение
без предварительного совещания: в
защиту обвиняемого они бросали
белый или целый камешек, в
осуждение
—
черный
или
продырявленный.
Голосование
могло быть тайным и открытым.
Герма — четырехгранный
столб,
увенчанный головой божества,
первоначально
—
Гермеса,
впоследствии — Диониса, Пана, а
также и людей; употреблялись как
верстовые и межевые столбы,
отмечали священные участки и
сами считались священными; по
праздникам
их
украшали
гирляндами цветов и натирали
благовониями.
Гетера («товарка», «подруга») —
незамужняя
гречанка
или
иностранка, рабыня или свободная,
обязанная своим благосостоянием
только
собственной
красоте,
обходительности
и
уму;
современники Аристофана отличали
гетер (которых они
считали
«предназначенными
для
наслаждений самою природой») от
наложниц («рабынь для будничных
упражнений») и жен (затворниц,
хранительниц очага и рода).
Гидрия — кувшин для воды с тремя
ручками и ножкой, удобной для
переноски его на голове.
Гиматий — верхняя одежда греков,
представлявшая собою большое
шерстяное
одеяло,
которое
надевали чаще поверх хитона, реже
— на голое тело, то как накидку, то
как плащ, закрепляя булавкой, но
чаще всего — перебрасывая через
левое плечо за спину, так что он
закрывал спину и правый бок,
оставляя открытой руку, или
пропуская под правой рукой; для
получения модных складок углы
гиматия уплотняли или вшивали
туда небольшой груз.
Гимнасий
(«голышарня»)
—
общественное
место
для
физических, а потом и умственных
упражнений. Содержание гимнасия
было делом дорогим, и оно
поручалось
состоятельным
гражданам в порядке отдания
почетного
долга
отечеству
(гимнасиархия).
Гинекей — особое женское помеще-
ние в греческом доме: посторонним
был воспрещен вход туда, а
женщинам, по большей части,
выход
оттуда
(исключение
составлял выход па праздники и
похороны).
Гоплиты
—
тяжеловооруженные
пехотинцы с копьем, щитом и
мечом;
в
войске
афинян
описываемого периода гоплитами
могли
быть
полноправные
граждане,
которые
сами
обеспечивали себя снаряжением.
Грамматик (грамматист) — афинский
учитель словесности, наставлявший
мальчиков помимо чтения и письма
в заучивании поэм Гомера, басен и
т. д.
Дем — см. Фила
Дидаскалия — запись пьесы для
постановки, а также театральная
летопись.
Дифирамб — хвалебная песнь в честь
Диониса.
Длинные стены — оборонительные
стены, связывающие Афины с ее
гаванями — Пиреем и Фалером;
построенные в 461—456 гг., они
были срыты спартанцами под
аккомпанемент флейт в 404 г.
Дорийский лад — греки различали
четыре
музыкальных
лада:
дорийский (строгий), фригийский
(приводящий в экстаз), лидийский
(жалобный),
ионийский
(расслабленно -усладительный).
Драхма («пригоршня») — денежная
единица, заключавшая 6 оболов; во
времена Аристофана в Афинах за 1
драхму можно было купить
деликатесную
каракатицу,
за
полсотни
драхм
—
бычка;
вольнонаемный каменотес брал за
приготовление одного барабана для
колонны 20 драхм.
Ипокрит
(«ответчик»,
«объясняющий») — актер, лицедей;
сойдя с театральной площадки в
повседневный мир, это слово
приобрело значение «лицемер».
Канефоры — девушки — участницы
торжественных процессий, в чью
обязанность входило подношение
корзин и горшков с плодами, цве-
тами, маслом, шерстью и т. п.
Канфар — любимый сосуд Диониса,
кубок на ножке с парою высоких
ручек-ушей, предназначенный для
несмешанного дорогого вина.,
Киаф — средних размеров чаша с
одной довольно высокой
ручкой-ушком; половник,
вмещавший примерно одну пятую
часть котилы.
Килик — плоская чаша на тонкой
ножке или вовсе без ножки, с двумя
горизонтальными ручками.
Киликей — в афинском доме чулан или
полка для хранения пиршественной
посуды.
Кифара (цитра) — широкая и короткая
пяти-семиструнная лира, звук из
которой исторгали с помощью
плектра; для резонанса струны в
нижней части кифары крепились к
черепаховому
панцирю.
По
преданию, первая кифара была
сделана Гермесом из черепахи и
жил украденной им у Аполлона
коровы; отсюда широкий диапазон
возможностей этого инструмента и
его далекого потомка — гитары —
от непомерно возвышенных до
самых приземленных мотивов и
тем.
Кифаред — подыгрывающий своему
пению или подпевающий своему
бряцанию на кифаре.
Колонии — отселение части граждан на
завоеванные
земли
или
в
девственные места практиковалось
греками с древнейших времен и
было вызвано как военными, так и
хозяйственными нуждами, а также
внутренними
раздорами
в
государстве. В поисках мест с
климатом, похожим на привычный
для них, афиняне выводили колонии
на юг Италии. Да и во всем
остальном колонисты старались
уподобить свой новый город
метрополии — Афинам.
Кордак — быстрый непристойный
комический танец.
Котила («чашка») — мера веса и
сосуд, афинская четвертинка.
Коттаб — застольная игра греков,
состоявшая
в
ловком
выплескивании остатков вина с
целью по-
пасть в другой сосуд, чашку весов,
которые
должны
от
этого
попадания
издать
звук,
опрокинуться или пойти на дно еще
большего сосуда.
Котурны — театральная обувь: у
комических танцоров — мягкие
сапожки-чулки для танцев, без
различия правого и левого; у
трагических актеров — высокие
деревянные сандалии, подымавшие
актера выше обычного роста.
Кратер — глиняный сосуд довольно
больших размеров для смешивания
вина с водой, имеющий вид
опрокинутого колокола на ножке.
Лекиф — фаллообразный сосуд, по
устройству
тождественный
арибаллу;
наполненный
благовониями, он был атрибутом
погребального обряда (лекиф на
ножке оставлялся в склепе), а также
наградой юношам, отличившимся в
палестре.
Мантика — искусство гадания и
предсказания будущего; Еврипид
считал лучшим видом мантики
«хорошее соображение». Греки
умели гадать по грому, молнии,
ветру, радуге, кометам, облакам,
дождю, огню, внутренностям и
поведению животных, по воде,
растопленному олову,
свинцу,
золоту, воску, по разбитым яйцам и
решету,
игральным
костям,
толкованию
сновидений,
по
случайно попавшимся на глаза
словам, по расположению звезд на
небе и родимых пятен на теле, по
полету, крикам, посадке птиц и по
тому, как они клюют.
Метэк («чужедомный») — живущий в
Афинах иногородний грек; он не
имел гражданских прав и должен
был выбрать себе покровителя из
полноправных граждан, платить
налог и исполнять повинности. В
случае неуплаты налога метэк мог
быть продан в рабство, у метэка без
покровителя
конфисковывали
имущество, а его самого изгоняли.
За
хорошее
исполнение
повинностей (осо-
бенно воинской) метэка могли
наградить
правом
покупки
собственного дома и земельного
участка.
Мина — весовая и денежная единица,
равная 100 драхмам; 10 серебряных
мин составляют одну золотую. 60
мин составляют один талант.
Эгинская мина была тяжелее и
дороже аттической.
Мистерия
—
таинство,
обряд,
доступный
только
для
посвященных,
приносящих
искупительные жертвы божеству и
за это получающих от него
очищение. В Аттике отправлялись
Елевсинские
мистерии,
посвященные богиням плодородия
— Деметре и Персефоне. У
замужних женщин был и другой
праздник
этих
богинь
—
Фесмофории, а также День Зонтов,
когда из Афин в местечко Скир
несли белые зонтики.
Обол — мелкая афинская весовая и
денежная единица, включавшая 8
халков (т. е. около одного грамма);
эгинский обол был тяжелее и
дороже аттического. В Афинах
времен Аристофана можно было за
обол
купить
морского
ежа,
куропатку, игрушечную детскую
колясочку из глины, а в харчевне —
вертел с семью зябликами.
Ойнохоя («винолейка») — сосуд для
розлива вина с красиво изогнутой
ручкой, одним или несколькими
рыльцами на горлышке.
Орхестра
(«место
пляски»)
—
пространство между скеной и
амфитеатром.
Остракизм («черепкование») — мера,
введенная в Афинах против
граждан,
выделявшихся
среди
остальных
богатством
или
чрезмерной
известностью
и
популярностью; если 6.000 граждан
приносили на собрание по черепку
с именем такого человека, его
изгоняли из Афин на 10 лет, часто
конфискуя при этом имущество.
Палестра — частный (в отличие от
гимнасия) клуб в Афинах, где
мальчики из хороших семей учи-
лись борьбе, гимнастике и хорошим
манерам. Взрослым вход в палестру
был воспрещен (ср. гинекей) .
Парабаса — прямое обращение хора К
зрителю от имени поэта, мало или
совсем не связанное с фабулой
постановки.
Параситы — в древности жрецы, т. е.
совместно пожирающие жертву,
потом — кормящиеся от чужих
жертвоприношений,
потом
—
нахлебники, тунеядцы, незваные
гости.
Пеплос — длинное, до пят, одеяние, у
женщин — до плеч открывающее
руки, украшенное вышивкой и
богато окрашенное. В Афинах в
пеплос
наряжали
актеров,
изображавших богов, а также
статуи во время процессий.
Петас — войлочная шляпа с
широкими полями, защищавшими
от палящего солнца; из богов петасом с крылышками пользовался
Гермес — главный олимпийский
летун и путешественник.
Пифос — самый большой глиняный
сосуд
греков,
имевший
вид
огромного яйца; чтоб оно не
падало, его зарывали в землю,
оставляя торчать горло с крышкой,
чтоб доставать и убирать припасы,
или ставили на подставку, в редких
случаях усекая нижний конец.
Пникс — площадь народных собраний
и сходок в Афинах, где ораторы
выступали, забравшись на валун.
Помпа — торжественное шествие на
празднестве в честь божества.
Пританы и Пританей — Афинский
Совет пятисот делился на 10 секций
по 50 человек от каждой филы.
Каждая
секция
ведала
государственными делами 35—36
дней в году, созывая Народные
собрания и т. п.; этот период
назывался
пританией.
50
председателей секций назывались
пританами. Пританей — место
заседаний пританов, где они также
столовались за государственный
счет. Иногда стол в Пританее
предоставлялся
отличившимся
гражданам. В очаге пританейской
кухни
поддерживали
вечный
огонь.
Проскений — передняя часть скены,
кулисы.
Пэан — торжественная
хоровая
песнь в честь Аполлона.
Ритон — сосуд для питья с широким
горлом,
нижней
частью,
представляющий
голову
или
туловище животного — коня, быка,
кабана,
зайца.
Пьющий
мог
припасть губами как к краям
ритона,
так
и
к
дырочке,
просверленной в стилизованном
языке или ноздре животного.
Сикофант («выявляющий фиги») —
доносчик-профессионал,
сообщавший афинскому начальству о
запрещенном вывозе из Аттики
смокв.
Один
из
схолиастов
Аристофана сообщает, что впервые
сикофантом назвали доносчика,
указавшего на человека, который во
время голода
вкусил плоды
священной смоковницы. Несмотря
на крупные штрафы и даже угрозу
смертной казни за ложный донос,
сикофанты не перевелись, донося
уже не только по фиговым, но и
всяким другим делам.
Сиринга — свирель, принадлежавшая
Пану: делалась из нескольких
тростниковых дудочек (до девяти)
различной длины, скрепленных
воском.
Стратег
(«воевода»)
—
государственный министр; чтоб
стать стратегом в Афинах, нужно
было иметь в Аттике недвижимости
на 100 мин и законных сыновей не
моложе 10 лет. Стратег ходил в
хламиде и венке, мог созывать
народное собрание и восседал на
почетном
месте
в
театре.
Одновременно в городе избирали
10
стратегов.
Старший
был
главнокомандующим и верховным
военным судьей, он набирал войско
и распоряжался деньгами. Перикл
оставался на этой должности 15 лет.
Схолиаст
—
истолкователь,
комментатор древних текстов.
Талант («тяжесть», «груз») — самая
крупная денежная и весовая
единица в Греции. Во времена
Аристофана 1 талант составлял
около 30 кг серебра. Богатство
Никоя оценивалось в 100 талантов,
Каллия — более нем в 200.
Теория (Феория) — «зрелище» —
праздничное
посольство,
снаряжаемое государством для
участия в общегреческих играх.
Треножник — котел о трех ножках,
пли подставка для культового
котла, или три котла, соединенных
вместе,— важнейший культовый
атрибут
Аполлона;
над
треножником (или на треножнике)
восседала дельфийская пророчица
Аполлона — Пифия. Треножники,
изготовленные
по
образцу
дельфийского,
вручались
победителям состязаний, чтоб те
могли их посвятить в храмы. От
этих
храмовых
подношений
получила
свое
имя
улица
Треножников в Афинах.
Триера («трехрядка») — военный
парусно-гребной
корабль,
вмещавший 200 человек команды и
гребцов.
Снаряжение
триеры
(триерархия)
было
почетной
обязанностью богача (ср. хорег).
Фармак («снадобный») — жертва,
искупающая
вину
целого
государства, жрец гражданского
здравия, безвинно ответственный за
несовершенства
сограждан.
Фармаком был Сократ.
Фиала — то же, что пиала —
простейшая чашка без ручек и
ножки.
Фила и дем — все население Аттики
долилось на 10 фил (родов), в
каждую филу входило по 10 демов
(волостей, околотков).
Хитон — мужская и женская рубашка,
льняная или шерстяная. Длинные
хитоны, которые на первый взгляд
можно спутать с пеплосами, носили
кифареды, флейтисты, жрецы;
короткие хитоны были самой
простой
будничной
одеждой
свободных и рабов. Хитон не имел
рукавов, исключение составляла
одежда траги-
ческих актеров и жрецов. Хороший
недорогой
хитон
в
эпоху
Аристофана стоил около 10 драхм.
Хламида — небольшой гиматий
молодежного
покроя,
который
носили охотники, путешествующие
верхом,
эфебы;
хламида
схватывалась пряжкой на груди или
на плече.
Хланида — легкий шерстяной плащик,
дорогая, не очень нужная вещь в
афинском обиходе.
Хорег (хоровик) — зажиточный
афинянин, который, по решению
сограждан, нес издержки по
постановке
представления
на
Дионисиях. Хорег предоставлял
помещение
для
репетиций,
оплачивал костюмы, декорации и
жалованье для музыкантов. В
награду за победу ему вручался
венок и позволялось установить в
храме мемориальную доску.
Хус — мера жидкости и сосуд,
вмещавший 12 котил.
Цикута — болиголов; сок из его
ядовитого
корня
добровольно
выпил приговоренный к казни
Сократ. Эсхил у Аристофана в
«Лягушках» обвиняет Еврипида в
том, что тот слишком часто
заставляет своих героинь «пить
цикуту».
Час лампы — сутки в Афинах делили
на шесть частей (по три часа на
ночь и на день); вместе с тем
существовал
и
не
вполне
совпадающий с этим делением счет
времени бодрствования, которое
членилось так: «час пробуждения»
(«час петуха»), «час толпящегося
рынка», «час масляной лампы»,
«час первого сна».
Электрон (электр) — сплав золота с
серебром; другое значение —
янтарь,
высоко
ценившийся
греками.
Эфебы
(«взрослеющие»
или
«повзрослевшие») — афинские
юноши,
достигшие
совершеннолетия и проходившие
испытательный
срок
для
превращения в настоящих мужчин.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
На фронтисписе: Фрагмент краснофигурной амфоры Финтия, Ок. 520/510.
Тарквиния.
1. «Афина — олимпийская хозяйка города»,
Псиаг. Амфора. Ок. 520. Брешиа.
2. «Афиняне рождены для того...».
Эксекий. Осколок. Ок. 530. Берлин, Госмузеи.
3. «Верно направленные удовольствия и страдания...».
Дурис. Килик. Ок. 480. Берлин, Госмузеи.
4. «Припоминать станут, доверяясь письму...».
Дурис. Килик. Ок. 480. Берлин, Госмузеи.
5. «Должно остерегаться неистовства...».
«Художник Шувалова». Ойнохоя. Ок. 420. Берлин, Госмузеи.
6. «Урок музыки у Дамона».
Пистоксен. Скифос. Ок. 480/470. Шверин, музей.
7. «В мастерской афинского скульптора».
Краснофигурный килик. Ок. 480/470. Берлин, Госмузеи.
8. «Сперва рука, а уж потом — голова».
Краснофигурный килик. Ок. 480/470. Берлин, Госмузеи.
9. «Сократ родился в семье мастера...».
Краснофигурный килик. Ок. 480/470. Берлин, Госмузеи.
10. «Раб из Пафлагонии».
Краснофигурный килик. Ок. 480/470. Берлин, Госмузеи,
11. «Их было двое у Гиппоника...».
Пистоксен. Килик. Ок. 465. Берлин, Госмузеи.
12. «В палестре Сибиртия...».
Евфроний. Кратер. Ок. 505/500. Берлин, Госмузеи.
13. «Диомед, человек благородный, но обедневший...».
Клеофрад. Кратер. Ок. 500. Тарквиния, музей.
14. «Без женщин тускло твое правдивое повествование...».
Эвеон. Килик. Ок. 450. Берлин, Госмузеи.
15. «Софокл и его юный друг».
Макрон. Килик. Ок. 490/480. Берлин, Госмузеи.
16. «Идем же, Сократ, Протагор приехал...».
Скифос. Ок. 460. Берлин, Госмузеи.
17. «За игрой в коттаб».
«Художник Фиалы». Ойнохоя. Ок. 430. Берлин, Госмузеи.
18. «Все хорошие навыки можно развить в себе упражнением...».
Верх: «Берлинский художник». Килик. Ок. 510/500. Берлин, Госмузеи,
Середина: Эвергид. Килик. Ок. 510. Берлин, Госмузеи. Низ: Олт. Килик. Ок.
520. Берлин, Госмузеи.
19. «Вот они, марафонские победители!».
«Художник Курциуса». Килик. Ок. 450. Берлин, Госмузеи.
20. «В философском училище, в суде...».
Дурис. Килик. Ок. 480. Берлин, Госмузеи.
21. «Состязание было универсальной моделью...».
Евфроний. Кратер. Ок. 510/505. Париж, Лувр.
22. «Перевес обыкновенно бывал на стороне людей...».
Макрон. Чаша. Ок. 490/480. Берлин, Госмузеи.
23. «Люди, отличающиеся самомнением...».
Макрон. Чаша, Ок. 490/480. Берлин. Госмузеи,
24. «Чем не юный Алкивиад?».
Пистоксен. Скифос. Ок. 470. Шверин, музей.
25. «Сладостно глядеть на Агафона...».
Гермонакт. Стамнос. Ок. 460. Мюнхен, Античные собрания.
26. «Таков был кусачий Кратин».
Олт. Килик. Ок. 520/510. Берлин, Госмузеи.
27. «Сибиртий, учитель юношества».
«Художник Пана». Амфора. Ок. 480/470. Шверин, музей.
28. «В гинекее».
Онесим. Килик. Ок. 480. Брюссель, Королевские музеи искусства и истории.
29. «О Зевс, святой и чтимый!..».
Краснофигурная амфора. Ок. 480. Вена, Музей истории искусств.
30. «Так гадала в отцовском доме Аспасия...».
Бриг. Килик. Ок. 490. Париж, Лувр.
31. «Так наставляла она Перикла...».
Краснофигурная амфора. Ок. 480. Вена, Музей истории искусств.
32. «В гинекее».
Дурис, Килик. Ок. 480. Берлин, Госмузеи.
33. «Под новолуние Гермесов умывали женщины...».
«Художник Курциуса». Килик. Ок. 450. Берлин, Госмузеи.
34. «Бери копаидского угря, не пожалеешь!».
«Художник Амимоны». Скифос. Ок. 470. Альтенбург, музей.
35. «Ларец Пандоры».
«Афинский художник». Лекиф. Ок. 460. Брюссель, Королевские музеи
искусства и истории.
36. «Муза на Геликоне».
«Художник Ахиллеса». Лекиф. Ок. 440. Частное собрание.
37. «Взгляд из Олимпийского гинекея».
Олт. Килик. Ок. 510. Тарквиния, музей.
38. «То, что бывает на войне...».
Эксекий. Осколок. Ок. 530. Берлин, Госмузеи.
39. «Прощание».
«Художник колончатого кратера». Ок. 470. Афины, Национальный
музей.
40. «Пой, старик, учи этот сброд!..».
Пистоксен. Скифос. Ок. 470. Шверин, музей.
41. «Если дело поставлено так, что одни и те же люди...».
Софил. Осколок диноса. Нач. VI в. Афины, Национальный музей.
42. «Как бы ни был даровит человек...».
Чернофигурная ойнохоя. Нач. V в. Мюнхен, Античные собрания.
43. «Что за бескорыстная охота за истиной?..». «Берлинский
художник». Ок. 490. Берлин, Госмузеи.
44. «В мире много сил великих...».
Чернофигурная амфора. Сер. VI в. Мюнхен, Античные собрания.
45. «Так же проницателен был молодой Сократ».
«Художник Карней». Кратер. Ок. 410. Тарент, музей.
46, 47, 48, 49. «Я говорю только о тех...».
46 — Эвергид. Килик. Ок. 510. Берлин, Госмузеи.
47 — Килик. Ок. 500/490. Берлин, Госмузеи.
48 — Школа Херия. Килик. Ок. 510/500. Берлин, Госмузеи.
49 — Олт. Килик. Ок. 520. Берлин, Госмузеи.
50. «Силен, занятый воспитанием Диониса».
Килик. Ок. 460. Берлин, Госмузеи.
51. «Об этих людях я и говорил...».
«Художник Карней». Кратер. Ок. 410. Тарент, музей.
52. «Все смотрят на мою гибкотелую труппу...». «Художник
Карней». Кратер. Ок. 410. Тарент, музей.
53. «Щелкая сандалетами, прошагал жезлоносец скиф».
Скифос. Ок. 450. Берлин, Госмузеи.
54. «Но если появится человек, достаточно одаренный природой...».
«Художник Папа». Амфора. Ок. 470/460. Палермо, Археологический
национальный музей.
55. «Левая нога за правой в пляску просится сама...».
Скифос. Ок. 460. Берлин, Госмузеи.
56. «Между приставленными к топчанам низкими столами танцевала...».
«Художник Карней». Кратер. Ок. 410. Тарент, музей,
57. «Тебе мы эту, Вакх, подносим песенку...».
Макрон. Килик. Ок. 490/480. Берлин, Госмузеи.
58. Бриг. Скифос. Ок. 500. Париж, Лувр.
59, 60. «Горд каждый тем бывает...».
59 — Макрон. Килик. Ок. 490/480. Берлин, Госмузеи.
60 — Бриг. Килик. Ок. 490. Берлин, Госмузеи.
61. «Никого так охотно не слушаем мы...».
Бриг. Килик. Ок. 490. Берлин, Госмузеи.
62. «Но чтобы быть поэтом...».
Амфора. Нач. V в. Вена, Музей истории искусств.
63, 64, 65. «Дионис и вакханки».
Клеофрад. Амфора. Ок. 500. Мюнхен, Античные собрания.
66. «Сократ и Диотима».
Пистоксен. Килик. Ок. 465. Тарент, музей.
67. «Топчаны сотрапезников были расставлены так...».
Кратер. Сер. V в. Вена, Музей истории искусств,
68. «А вот Афинам уже не исцелиться...».
Бриг. Килик. Ок. 490. Берлин, Госмузеи.
69. «Тут приходит Прометей...».
Эвеон. Скифос. Ок. 450. Берлин, Госмузеи.
70. «Целого человека еще можно научить чему-нибудь...».
Ойнохоя. Нач. V в. Мюнхен, Античные собрания.
71. «Доберется ли сова до города Кукуева?..».
Олт. Амфора. Ок. 520/510. Берлин, Госмузеи.
Здесь представлены афиняне и их боги—
герои большой городской сцены, но без
комических масок, в том облике, который,
может, грезился им самим.
Посуда, сохранившая эти изображения,
покрывалась росписью и обжигалась в афинских
гончарных мастерских когда за сто лет, когда за
одно-два поколения до Аристофана, и если не
сами эти вещи, то точно такие же или очень
похожие видел без сомнения сам комедиограф.
И нам нет смысла отказываться от этого
зрелища аттических совершенств.
Афина— олимпийская
хозяйка города
«Афиняне
рождены для того,
чтобы не иметь
покоя самим
и не давать его
другим...»
«Верно направленные удовольствия
и страдания
составляют воспитание»
«Припоминать станут, доверяясь письму,
а не внутренней силой,
сами по себе...»
«Должно остерегаться
неистовства, свойственного
молодым людям,
ибо характер игр
влияет на установление
законов...»
Урок музыки у Дамона
В мастерской афинского
скульптора
«Сперва рука, а уж
потом — голова»
Сократ родился в семье мастера,
выделывавшего
такие большие медные штуки
Раб из Пафлагонии
«Их было двое у Гиппоника:
Каллий и Гермоген...»
«В палестре Сибиртия занимались
только мальчики из хороших семей»
«Диомед,
человек благородный,
но обедневший...»
«Без женщин
тускло твое
правдивое повествование...»
Софокл
и его
юный друг
«Идем же, Сократ, Протагор приехал...»
За игрой в коттаб
«Все хорошие навыки
можно развить
в себе упражнением,
а особенно нравственность...»
Вот они, Марафонские
победители!
В философском училище,
в суде,
в загробном царстве?
«Состязание
было универсальной моделью
общественной жизни афинян...»
«Перевес обыкновенно бывал на стороне людей не
особенно дальнего ума...»
«Люди, отличающиеся самомнением,
воображали, что ими все предусмотрено»
Чем не юный
Алкивиад?
«Сладостно глядеть на Агафона,
столь быстро отринувшего
слабости юного существа,
находящего удовольствие
в буйных плясках, в
нестройных криках...»
Таков был
кусачий Кратин
Сибиртий,
учитель юношества
В гинекее
«О Зевс, святой и чтимый! Вот красавицы!»
Так гадала
в отцовском доме
Аспасия...
Так наставляла
она Перикла...
В гинекее
«Под новолуние
Гермесов умывали женщины,
следившие за их сохранностью
и благополучием...»
«Бери копаидского угря, не пожалеешь!»
«Ларец Пандоры»
Муза на Геликоне
Взгляд из
Олимпийского гинекея
«То, что бывает на войне, это по
своей природе вовсе не игра.
Прощание
«Пой, старик,
учи этот сброд!.
«Если дело
поставлено так,
что одни и те же
люди
принимают участие
в одних и тех же
играх...»
«Как бы ни был даровит человек,
наверняка он теряет мужественность,
держась вдали от середины города,
где ищут и находят славу...»
«Что за бескорыстная охота за истиной?..»
«В мире много сил великих, но сильнее
человека нет на свете никого...»
Так же проницателен был молодой Сократ
Я говорю только о тех,
кто потакает жалкой толпе кукольных человечков
Силен, занятый воспитанием Диониса
«Об этих людях я и говорил, что их надо
только умело сдерживать ловкой рукой
в их кукольных пределах...»
«Все смотрят
на мою
гибкотелую труппу
и дают мне хлеба...»
«Щелкая сандалетами,
прошагал
полицеский скиф»
«Но если появится человек,
достаточно одаренный
природой, чтобы разбить
и стряхнуть с себя
все оковы...»
«Левая нога за правой в пляску просится сама: Счастлив
я, свищу, ликую, и кряхчу, и хохочу!»
«Между приставленными к топчанам
низкими столами
танцевала в такт своей музыке
флейтистка...»
«Тебе мы эту, Вакх, подносим песенку, И
возлияния, по-эолийски скромные...»
«Горд каждый тем бывает и к тому стремится, В чем сам
себя легко способен превзойти...»
«Никого так охотно не слушаем мы
Из искусников, ныне живущих...»
«Но чтобы быть поэтом,
нужно обладать
в достатке черной
желчью!»
Дионис и вакханки
Сократ и Диотима
«Топчаны сотрапезников были расставлены так, что на
первом слева месте возлежал молодой Федр, а за
ним — Павсаний...»
«А вот Афинам уже не исцелиться,
хоть все мы овладеем
искусством Эриксимаха...»
«Тут приходит Прометей
и видит,
что все животные вполне
прилично устроены,
человек же наг
и не обут,
без постели и без крова»
«Целого человека еще можно научить чему-нибудь, а вот что
делать с теми, кого разрезали пополам, кто мечется в поисках
другой половины?..»
«Доберется ли сова до города Кукуева?..»
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. «Афиняне рождены для того, чтобы не иметь покоя самим и не
давать его другим».................................................................................
Глава 2. Хорошие старинные правила писания комедий ....................................
Глава 3. «Геракла, обманувшегося в ужине, и Еврипида представлять не
стану я» ..................................................................................................
Глава 4. Народ афинский — старикашка глухонький? ..........................................
Глава 5. Живые существа возникли из ила ..........................................................
Глава 6. Ведь чтобы быть поэтом, надо обладать в достатке черной желчью ...
Глава 7. Все великие люди были меланхолики ..................................................
Глава 8. «Помни — ежа никогда вам колючего мягким не сделать!».....................
Глава 9. В сумерках ............................................................................................
Глава 10. «Она улыбалась устами, но чело у нее между темных бровей не
светлело» ...............................................................................................
Глава 11. «— За что воюете, ребята? — За тень осла идет война!» .....................
Глава 12. Все хорошие, благородные навыки можно развить в себе упражнени
ем, а особенно — нравственность ...........................................................
Глава 13. «Доберемся ли когда до города Кукуева?..» ..........................................
Глава 14. «Великие походы эллинов и варваров в отдаленные страны редко
имели успех» ..........................................................................................
Указатель мифологических имен ..........................................................................
Указатель исторических имен................................................................................
Основные даты и события......................................................................................
Краткий словарь реалий.........................................................................................
Список иллюстраций ..............................................................................................
17
27
49
62
90
122
141
161
171
182
198
210
225
239
255
258
262
264
269
Гусейнов Г. Ч.
Г96
Аристофан.— М.: Искусство, 1987.— 272 с, [24] л.
ил.— (Жизнь в искусстве).
Используя весьма немногочисленные сохранившиеся литературные произведения и
исторические документы, автор книги предпринимает попытку воссоздать жизненный и
творческий путь великого древнегреческого драматурга-комедиографа Аристофана, автора
комедий «Облака», «Всадники», «Лягушки» и др., и нарисовать яркую убедительную картину
общественной жизни, исторической эпохи.
4907000000-097
Г------------------------ 116-88
025(01)-88
ББК 83.3(0)3
Гасан Чингизович Гусейнов
АРИСТОФАН
СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»
Редактор Т. Н. Петрунина
Художник В. М. Вовнобой
Художественный редактор Л. А. Иванова
Технические редакторы В. У. Борисова, Е. 3. Плоткина
Корректор Т. И. Иванова
И.Б.№ 2690
Сдано в набор 21.05.87. Подписано в печать 29.02.88. А09171. Формат издания 60x84/16. Бумага
типографская № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,6. Усл. кр.-отт.
18,60. Уч.-изд. л. 18,849. № 1421. Тираж 50 000. Заказ 864. Цена 1р. 60 к. Издательство
«Искусство», 103009 Москва, Собиновский пер., 3. Ордена Октябрьской Революции и ордена
Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли. 113054 Москва,
Валовая. 28.