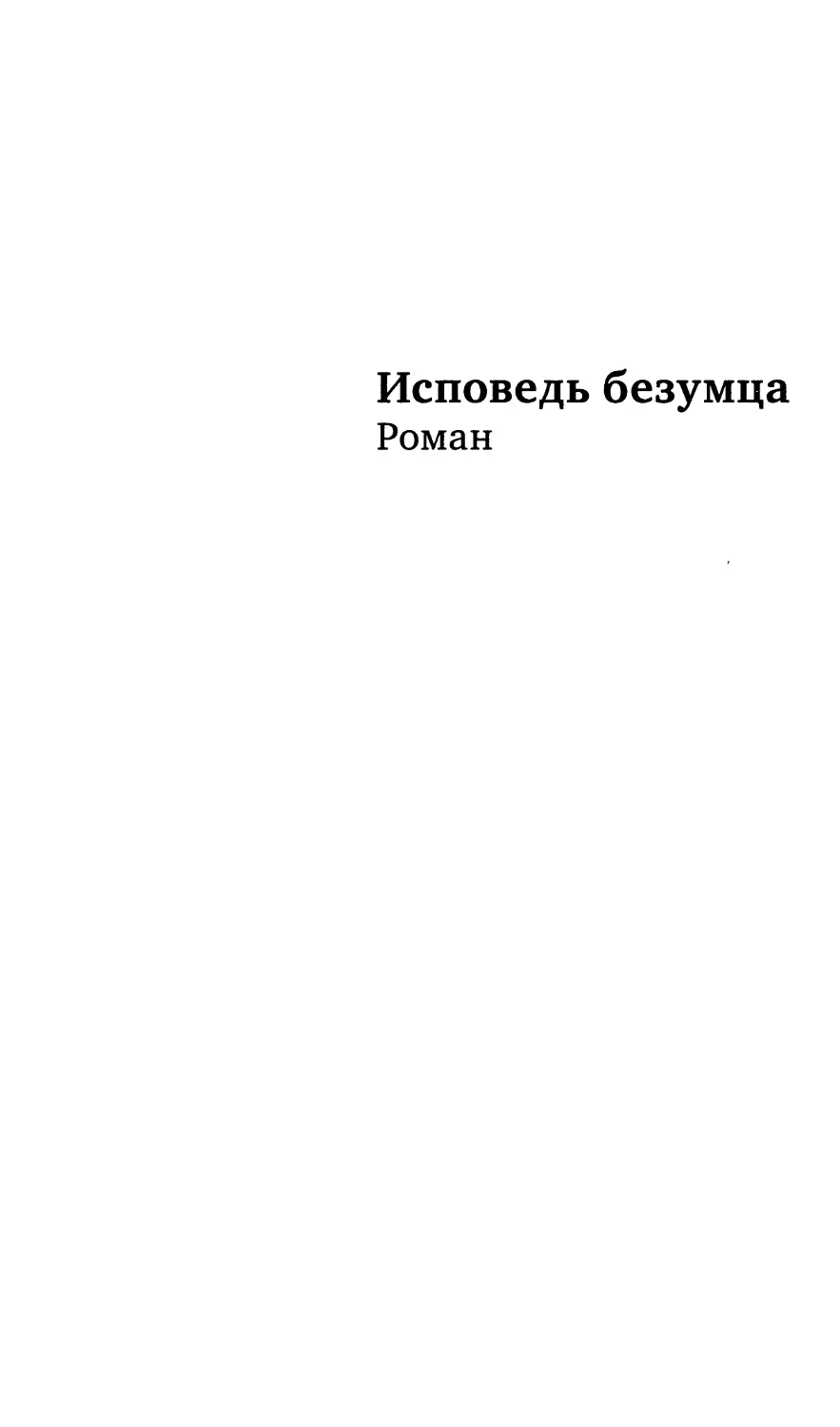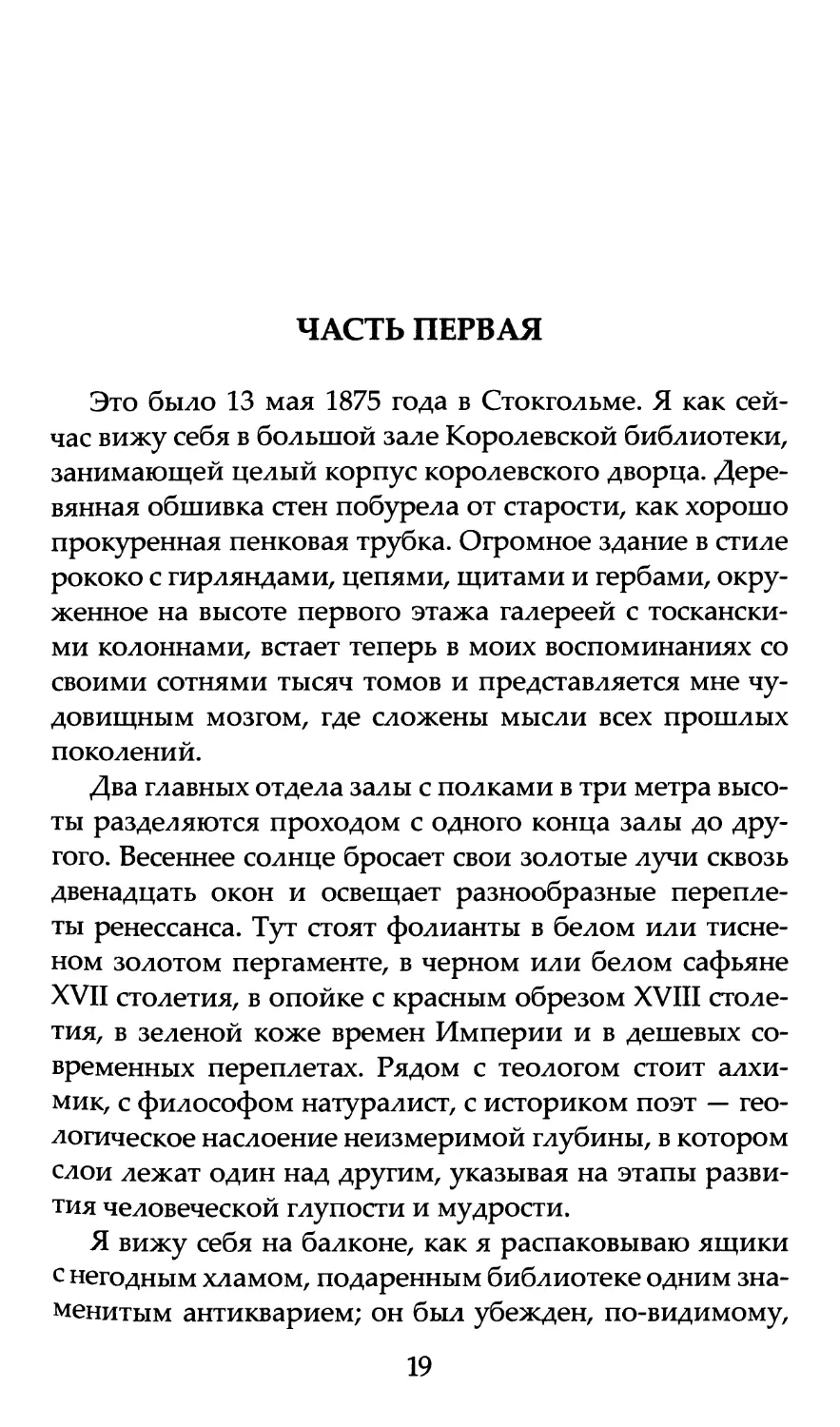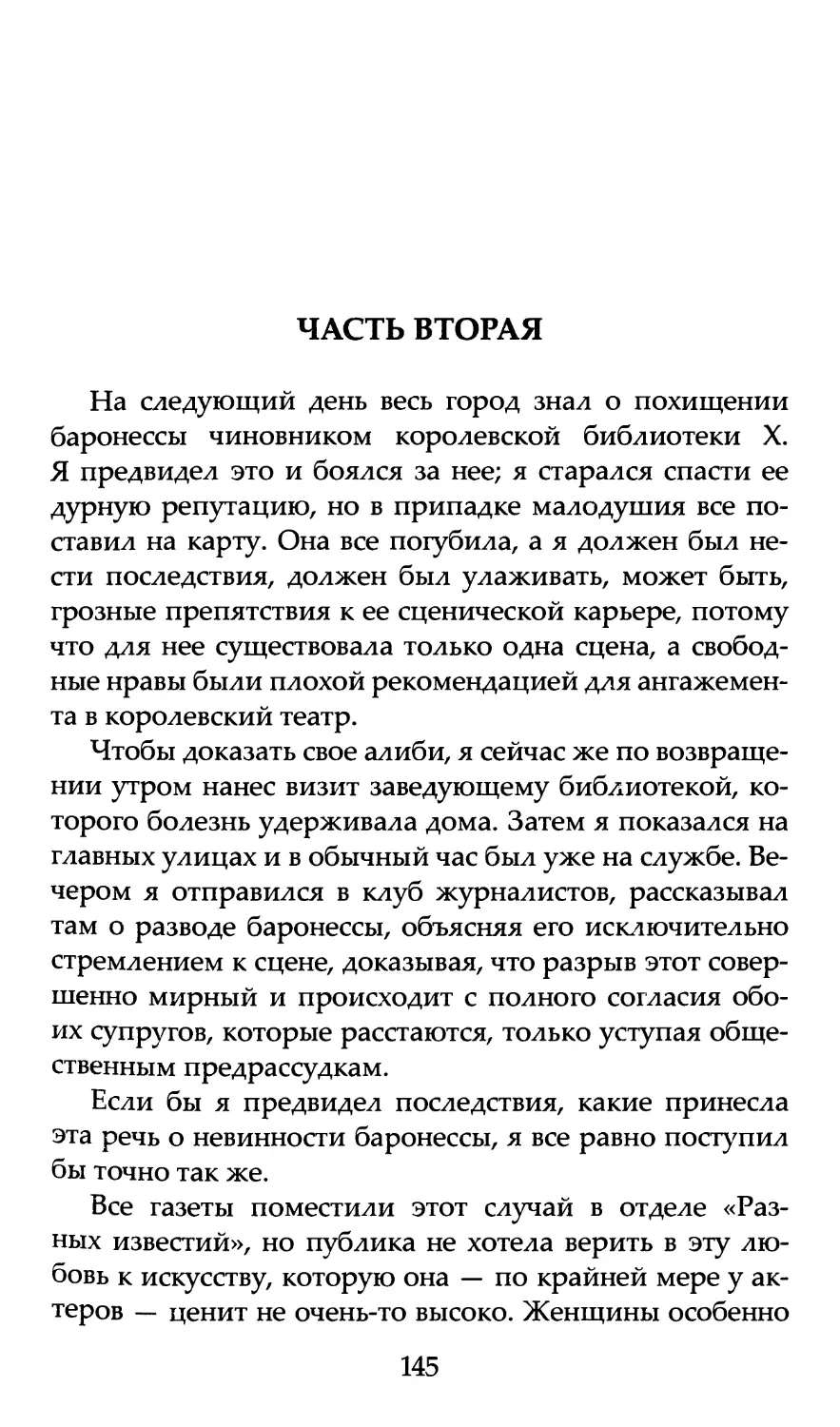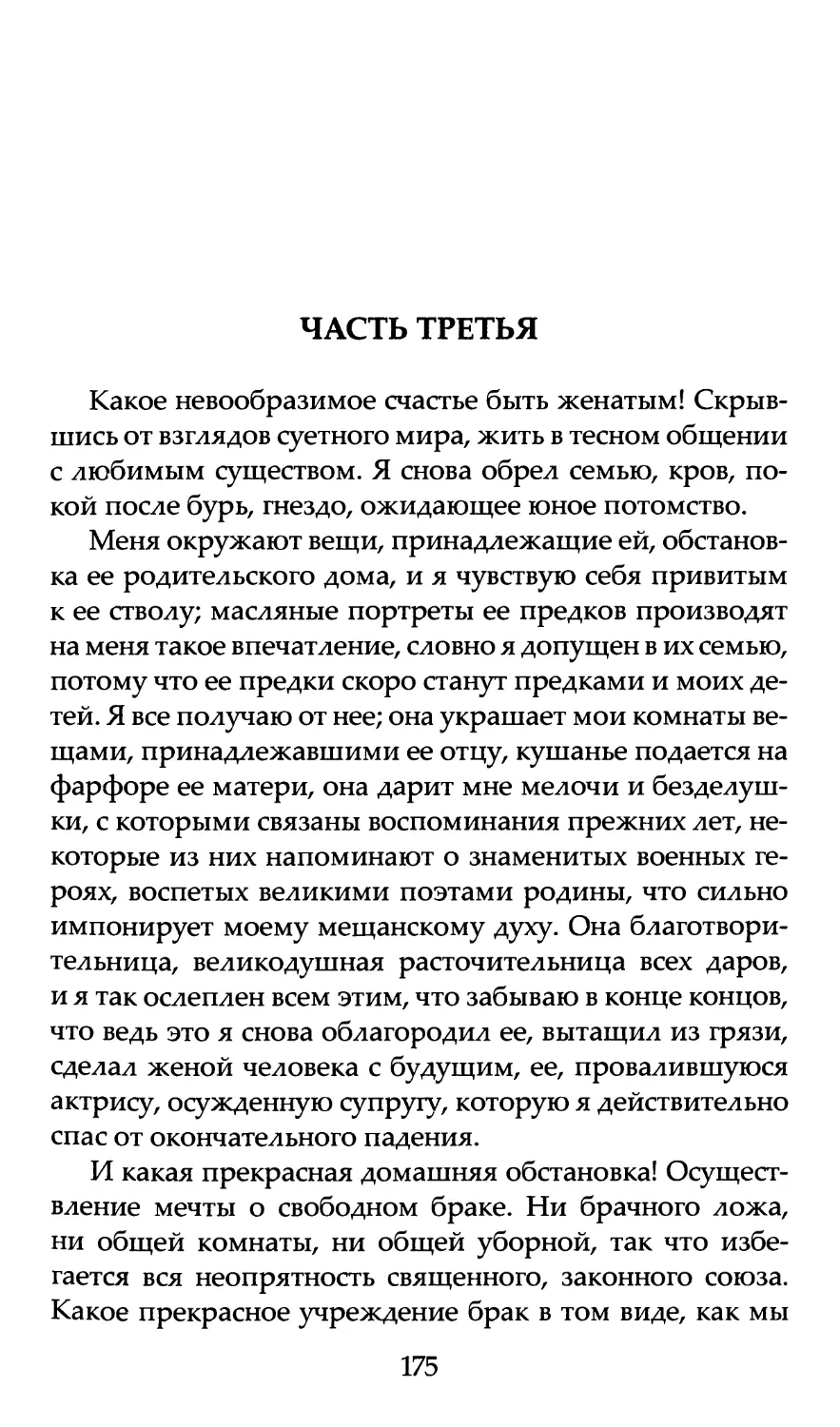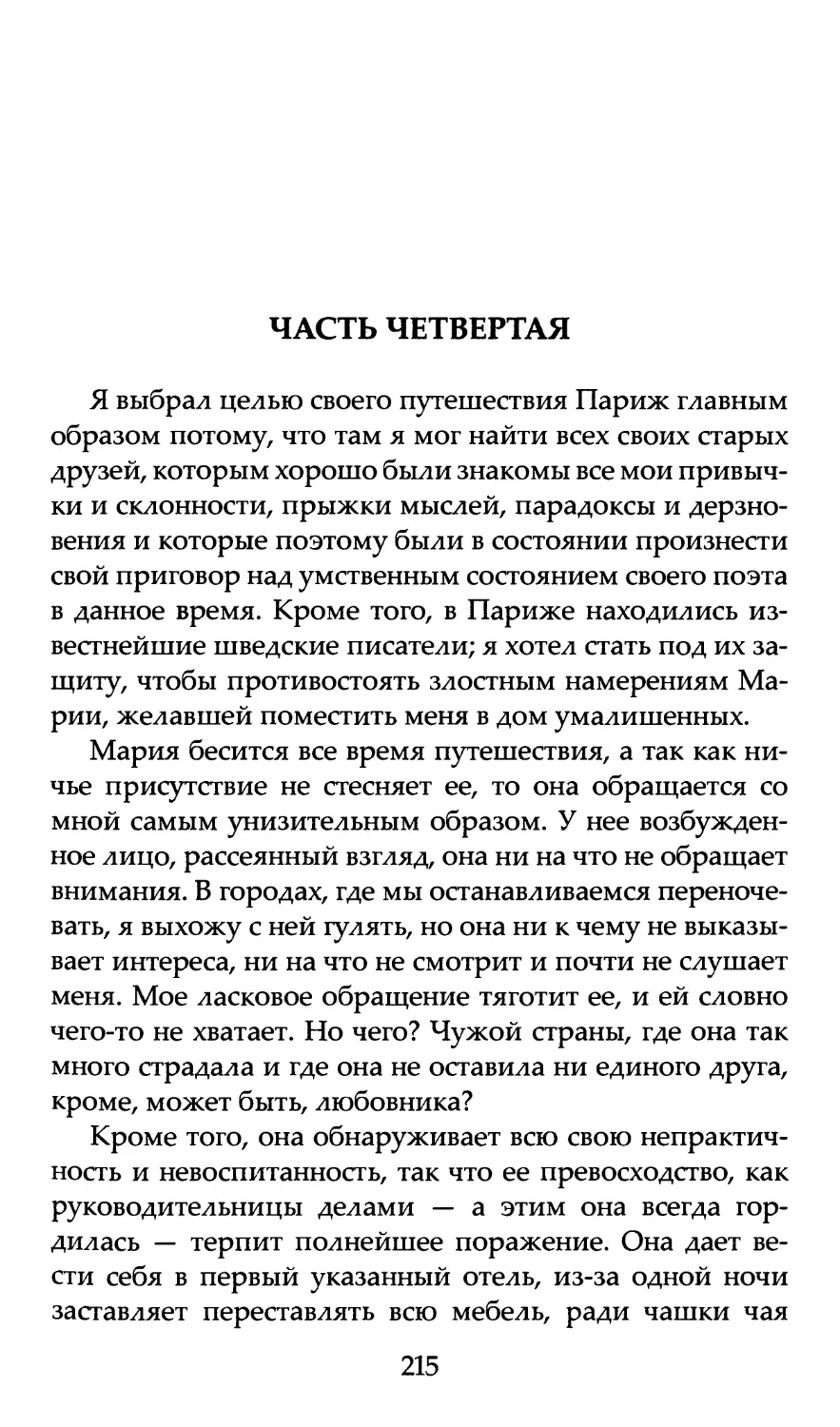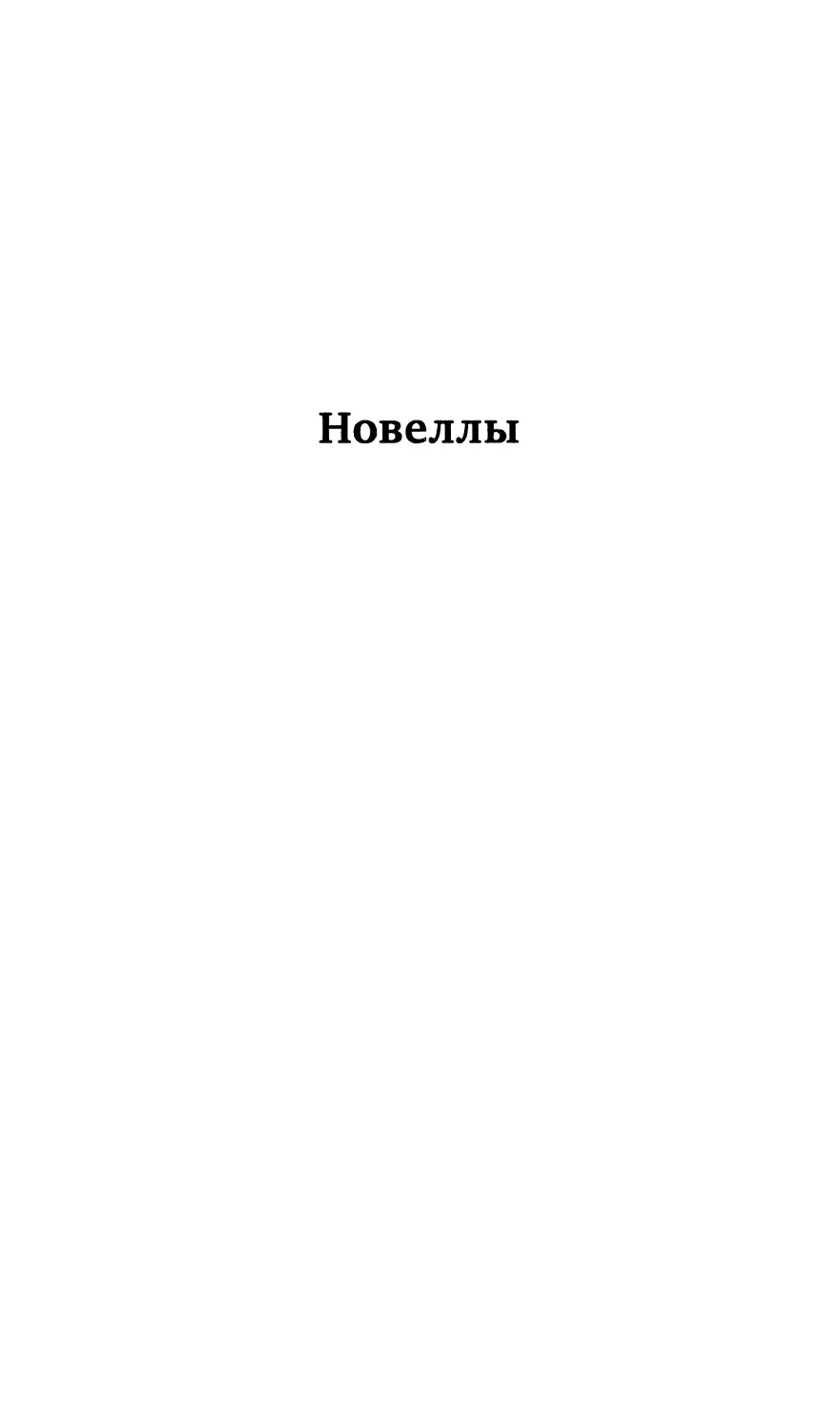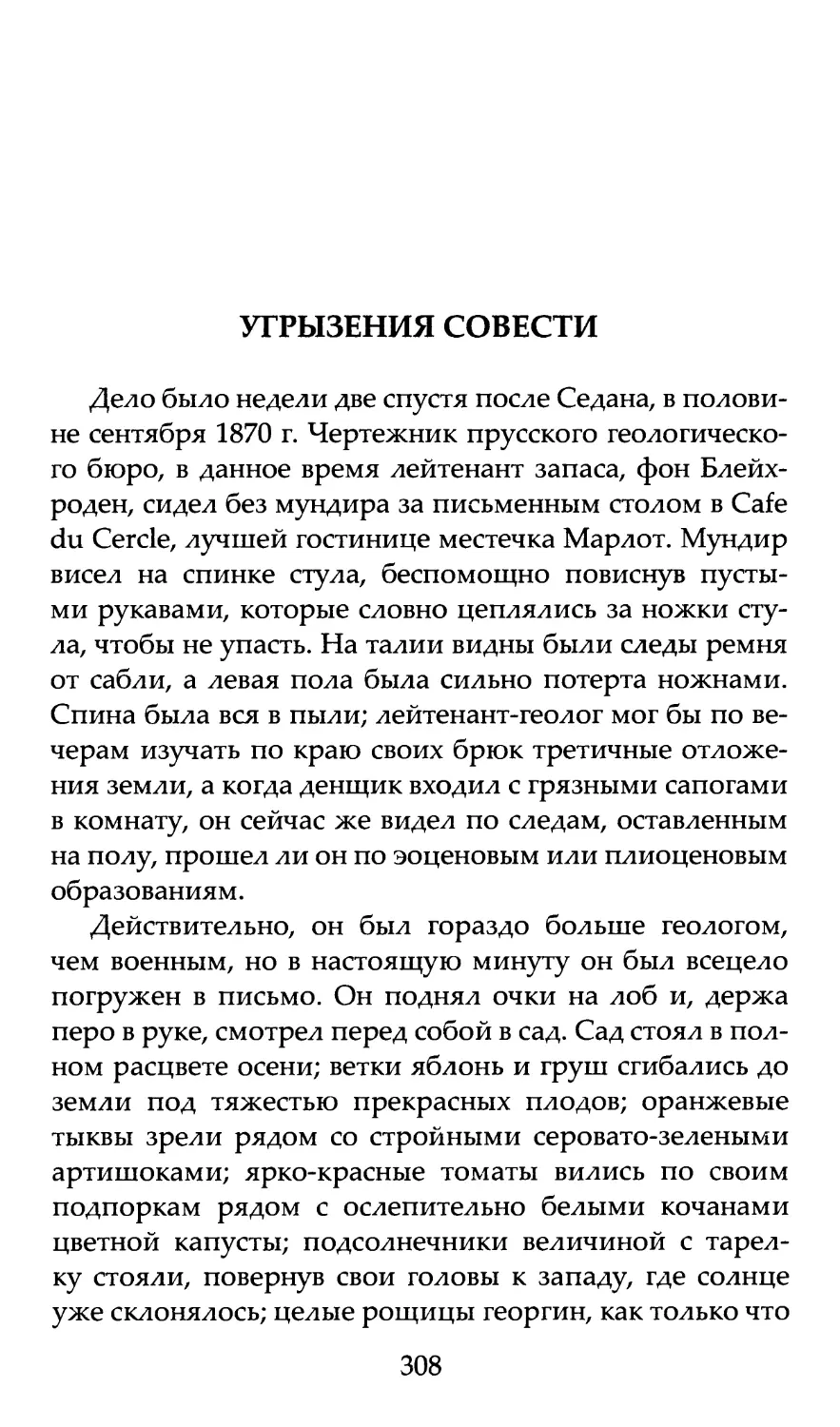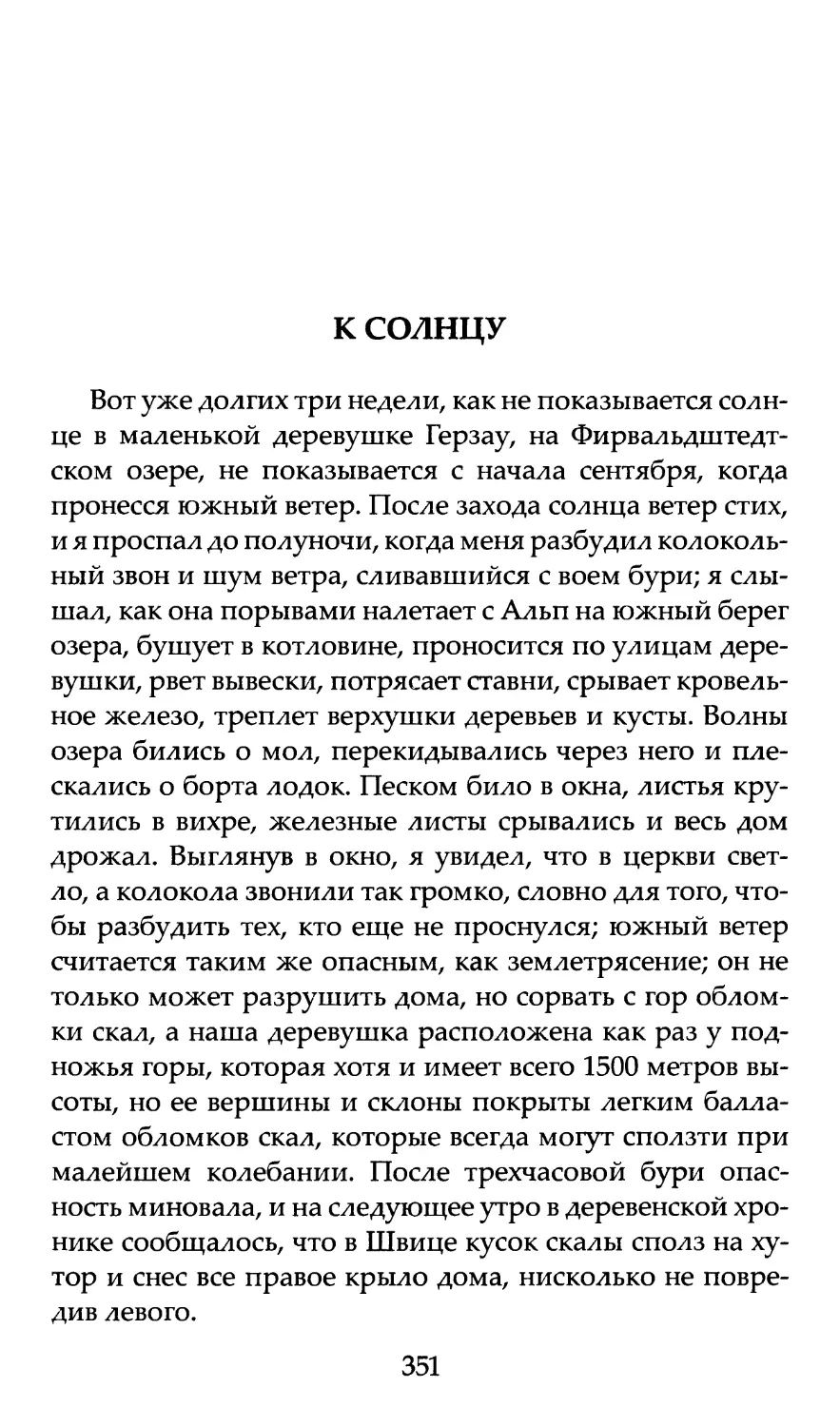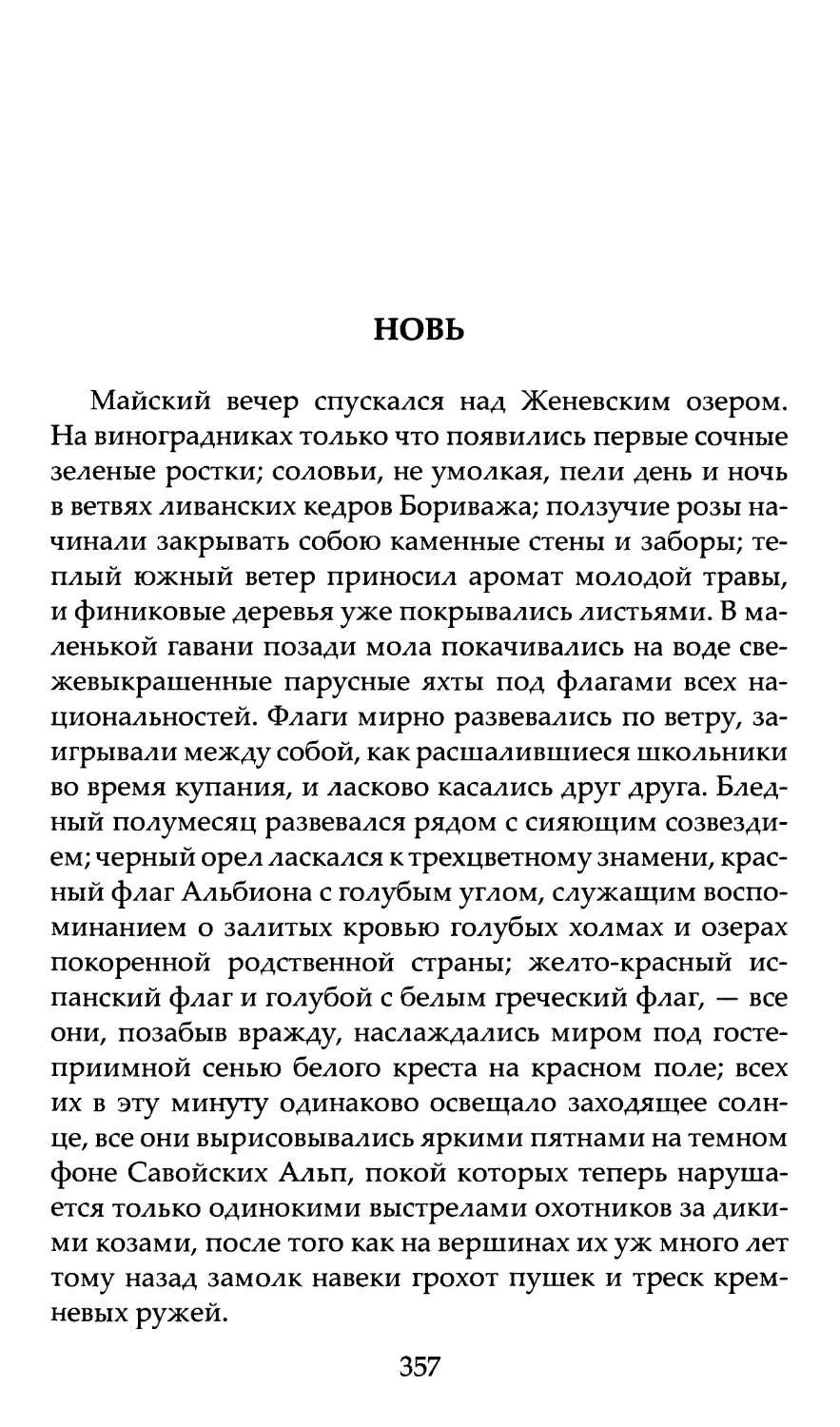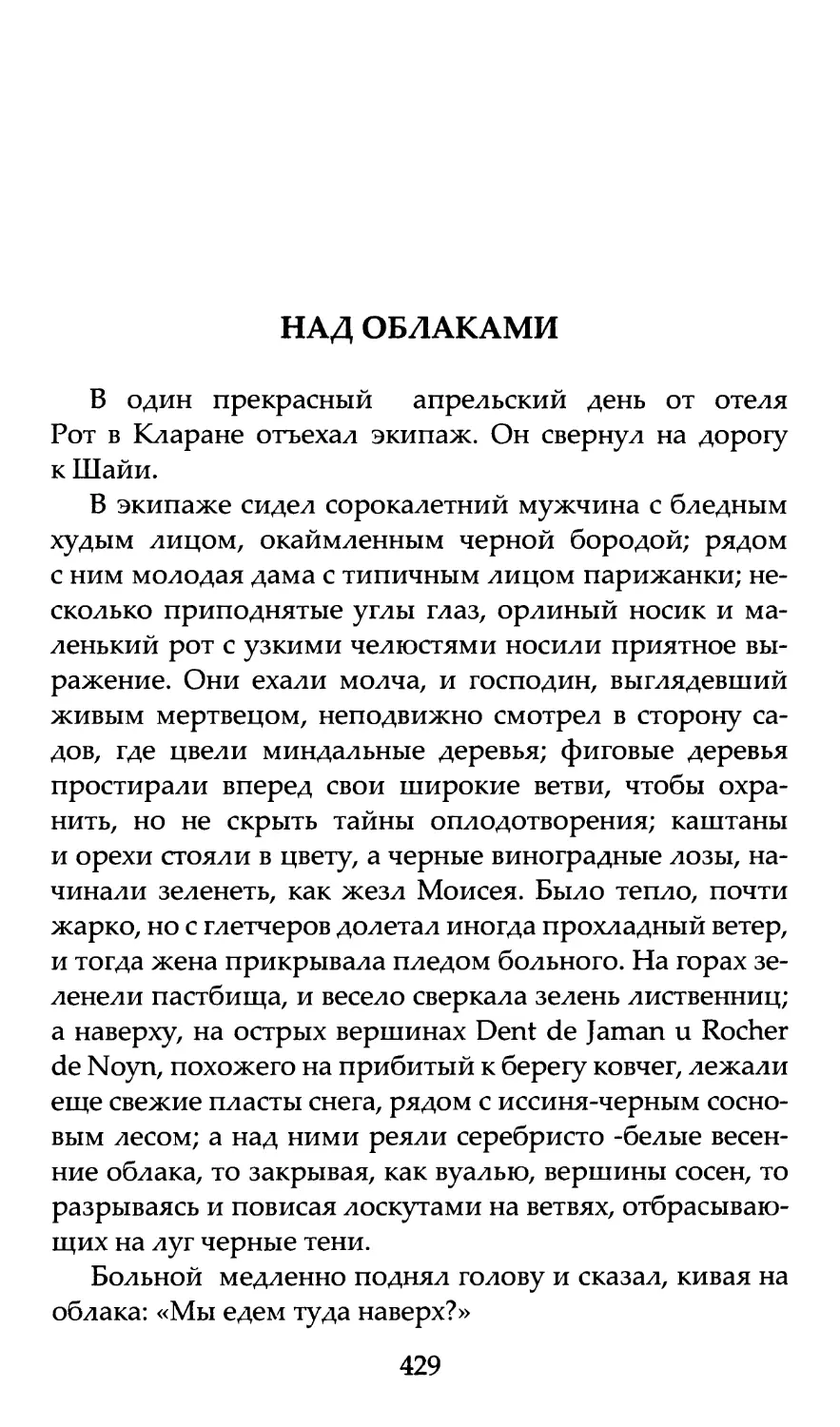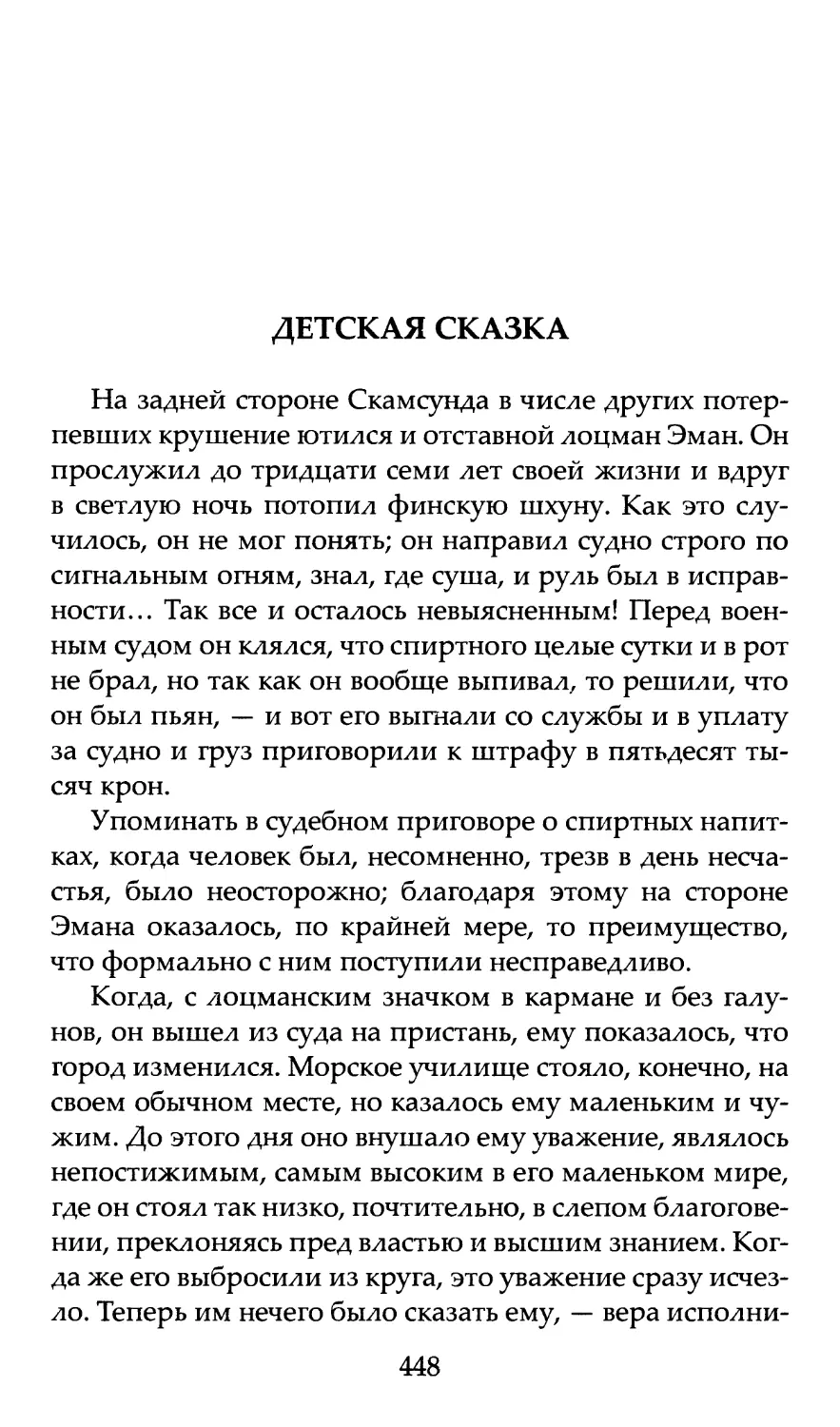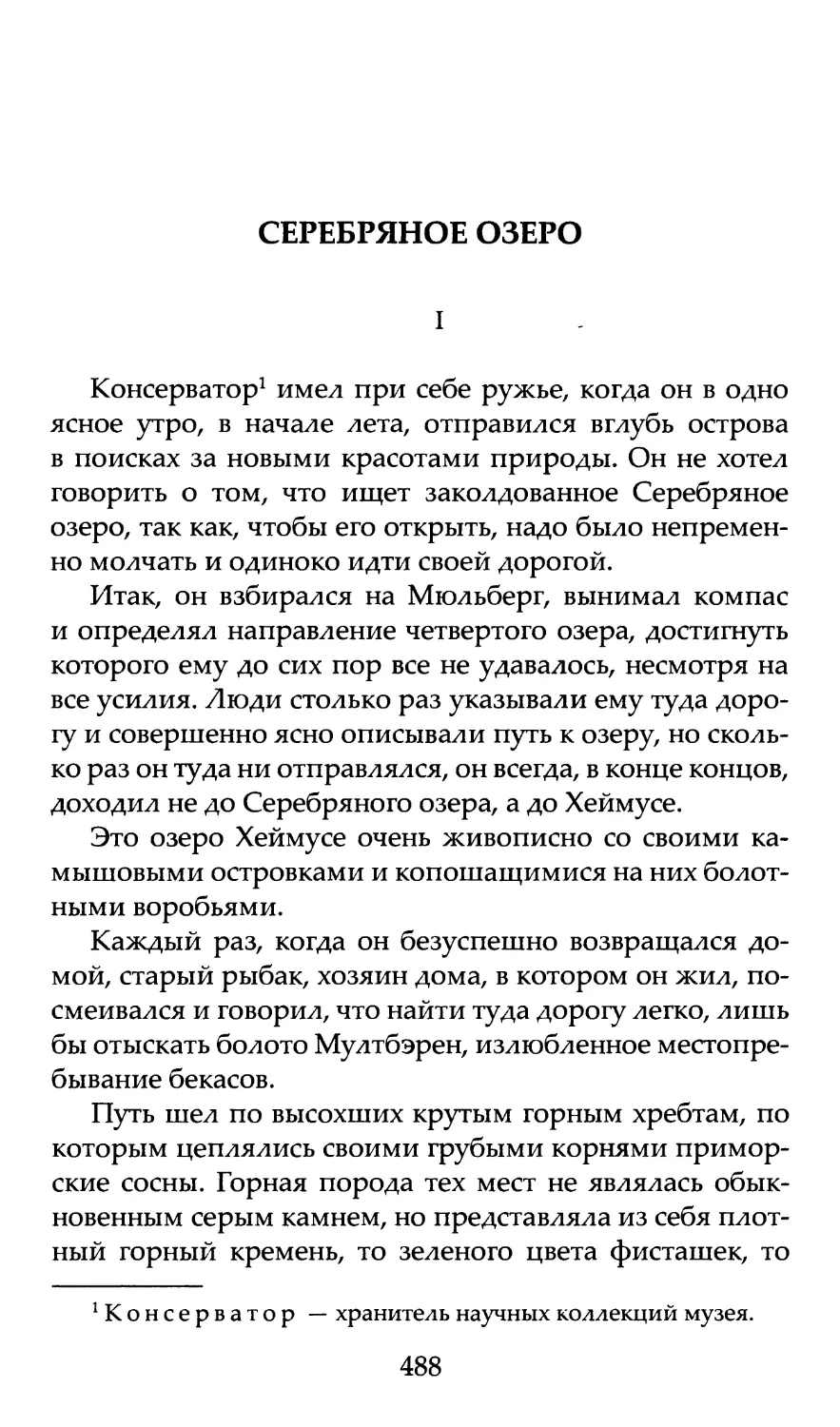Автор: Стриндберг Ю.А.
Теги: литература на шведском языке художественная литература переводная литература натурализм экспрессионизм театр абсурда шведская литература стринберг
ISBN: 978-5-4224-0013-3
Год: 2010
Юхан Август
СТРИНДБЕРГ
Юхан Август
СТРИНДБЕРГ
Юхан Август
СТРИНДБЕРГ
a; S
S Я
я 2
03 X
СХ S
vo сг
о о
и и
1 2 3 4 5
том
Исповедь безумца
Новеллы
Москва 2010
шкниговвг
КНИЖНЫЙ КЛУБ I BOOKCLUB
УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)
С85
Оформление художника А. БАЙДИНОЙ
Составитель Е. ТЮКАЛОВА
Стриндберг Ю. А.
С85 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3: Исповедь безумца: Роман / Пер. с швед. В. Рудиной; Новеллы / Пер. с
швед.; Сост. Е. Тюкалова. — М.: Книжный Клуб Кни-
говек, 2010. — 512 с.
ISBN 978-5-4224-0013-3 (т. 3)
ISBN 978-5-4224-0010-2
Самый известный шведский писатель-прозаик, драматург и живописец, основоположник современной шведской литературы и современного театра Юхан Август Стриндберг (1849—1912) еще при своей
жизни стал подлинным властителем дум европейской интеллигенции.
Его книги переведены на все основные европейские языки, включая
русский, пьесы и драмы идут в театрах не только Швеции, но и Франции, Германии, России. За пределами Швеции Стриндберг приобрел
известность как один из ведущих реформаторов современной драмы.
Его пьесы предвосхитили появление экспрессионизма и театра абсурда.
В развитии стиля Стриндберг отправной платформой был натурализм, а конечной — тот ранний экспрессионизм , который уже с конца XIX века возникал эпизодически в литературе ряда европейских
стран.
В третий том собрания сочинений вошли новеллы и роман
«Исповедь безумца».
УДК 821.113.6
ББК 84(4Шве)
ISBN 978-5-4224-0013-3 (т. 3)
ISBN 978-5-4224-0010-2
© Книжный Клуб Книговек, 2010
Исповедь безумца
Роман
ВВЕДЕНИЕ
Я сидел за столом с пером в руках, когда со мной сделался припадок лихорадки: целых пятнадцать лет я не
был ни разу серьезно болен, и этот внезапный припадок
испугал меня. Не то, чтобы я боялся смерти, нет, совсем
нет. Мне было 38 лет, за мной лежала шумно проведенная жизнь, в которой я не совершил ничего значительного и не осуществил всех своих юношеских мечтаний;
голова моя была еще полна планов, и этот припадок
был мне крайне нежелателен. Вот уже четыре года, как
я живу с женой и детьми в полудобровольном изгнании
в баварской деревушке, как затравленное животное; незадолго перед этим ко мне были предъявлены крупные
иски, имущество мое было описано, я был опозорен, выброшен на улицу; и теперь мною владело одно только
чувство мести даже в ту минуту, когда я свалился в постель. Теперь-то началась борьба. Не имея сил позвать
на помощь, лежал я одиноко в своей комнатке под чердаком, лихорадка трясла меня, как лист, сжимала мне
горло, сводила судорогой колени к груди, в ушах у меня
стучало, и глаза, казалось, вылезали из орбит. Я не сомневался, что это смерть проникла ко мне в комнату
и набросилась на меня.
Но я не хотел умирать. Я сопротивлялся; это была
ожесточенная борьба; нервы натягивались, кровь бушевала в жилах, мозг крутился в какой-то дикой пляске. Но
вдруг меня охватила уверенность, что я должен погибнуть в этой смертельной схватке; я перестал бороться,
7
откинулся на спину и покорно отдался во власть страшного чудовища.
Невыразимое спокойствие охватило все мое существо, благотворная сонливость сковала члены, сладостный покой пролился по всему моему телу, тот покой,
которого я уже давно не знал за эти долгие годы тяжелого труда.
Без сомнения, это была смерть: постепенно гасло во
мне желание жить, я переставал чувствовать, сознавать,
думать.
Когда я проснулся, возле моей постели сидела жена
и пытливо глядела на меня тревожным взглядом.
— Что с тобой, дорогой друг? — спросила она.
— Я болен, — отвечал я, — но как хорошо быть больным!
— Что ты говоришь? И ты говоришь это серьезно?
— Конец мой близок; по крайней мере, я надеюсь на
это.
— Не оставляй же нас, Бога ради, без крова! — воскликнула она. — Что станется с нами в чужой стране без
друзей, без средств!
— Я оставлю тебе страховую премию, — успокоил
я ее. — Это не много, но тебе хватит, чтобы вернуться на
родину.
Она не подумала об этом раньше и продолжала несколько успокоенная:
— Но надо же тебе помочь, дружочек, я и шлю за
доктором.
— Нет, я не хочу доктора!
— Почему?
— Потому что... потому что я не хочу. Вместо слов
мы обменялись красноречивым взглядом.
— Я хочу умереть, — упрямо повторил я. — Жизнь
мне противна, прошлое представляется мне клубком
ниток, распутывать который дальше я не чувствую сил.
Пусть наступит мрак! Давайте занавес!
Она холодно выслушивала эти благородные излияния.
8
— Опять прежнее недоверие, — сказала она.
— Да, опять! Прогони призрак! Ты одна можешь это
сделать!
Она привычным жестом положила руку на мой лоб.
— Легче тебе так? — льстиво спросила она тоном
прежней материнской заботливости.
— О да, гораздо легче!
Прикосновение этой маленькой ручки, так тяжело
тяготевшей над моей судьбой, действительно обладало
силой отгонять мрачные призраки и рассеивать тайные
сомнения.
Немного спустя припадок повторился еще сильнее
первого. Жена пошла приготовить успокоительное питье. Оставшись на минуту один, я приподнялся взглянуть в окно. Это было широкое трехстворчатое окно,
увитое снаружи виноградом; между его зеленью мелькали обрывки ландшафта: вблизи вершина айвы с ее прекрасными золотисто-желтыми плодами среди темнозеленой листвы, а дальше яблони, растущие на лужайке,
башня часовни, голубой кусочек Боденского озера, а совсем вдали Тирольские Альпы.
Стояла середина лета, все кругом было залито отвесными лучами полуденного солнца — картина была поразительно красива.
Снизу доносился говор скворцов, сидевших на лестнице у виноградника, гоготанье молодых уток, стрекотанье кузнечиков, колокольчики коров; к этому веселому концерту примешивался смех детей и голос жены,
отдававшей кому-то распоряжения. Она разговаривала
о моей болезни с женой садовника.
Тогда меня снова охватило желание жить, и я содрогнулся от страха перед смертью. Нет, я не хотел умирать,
ведь мне надо еще исполнить столько обязанностей, загладить столько проступков.
Томимый угрызениями совести, я чувствовал настоятельную потребность покаяться, испросить у мира
в чем-то прощение, унизить себя перед кем бы то ни
9
было. Я чувствовал себя виновным, совесть мою терзало
какое-то неведомое преступление.
Я горел желанием облегчить мое сердце полным
признанием моей воображаемой вины.
Во время этого припадка слабости, вызванного прирожденной робостью, вошла моя жена, неся в кружке
успокоительное питье. Шутливо намекая на манию преследования, которой я страдал одно время, она отхлебнула от питья, прежде чем подать его мне.
— Оно не отравлено, — сказала она, улыбаясь.
Мне стало стыдно, я не знал, что ответить на это,
и чтобы доставить ей удовольствие, залпом выпил всю
кружку.
Успокоительное питье, запах которого напомнил
мне родину, где таинственные свойства бузины являются народным культом, привело меня в сентиментальное
настроение, перешедшее наконец в раскаяние.
— Выслушай меня, дорогое дитя, пока я еще жив.
Сознаюсь, я был бессовестным эгоистом, я разбил твою
сценическую карьеру ради моей литературной славы;
я сознаюсь во всем этом, прости меня.
Отвернувшись, она старалась успокоить меня словами, но я прервал ее и продолжал:
—Когда мы женились, мы решили по твоему желанию, что твое приданое останется в твоих руках; и все-
таки я его растратил, чтобы покрыть легкомысленно
взятые на себя обязательства; и это больше всего тяготит меня, потому что в случае моей смерти ты не будешь иметь права на мои изданные произведения. Позови нотариуса, чтобы я мог завещать тебе мое мнимое или действительное состояние. И тогда ты можешь
вернуться к своему искусству, которое ты бросила ради
меня.
Она уклонялась от разговора, стараясь обратить его
в шутку, советовала мне немного заснуть, уверяла, что
все пройдет, что смерть не наступает так быстро.
10
Я бессильно схватил ее за руку, просил посидеть со
мной, пока я буду спать, снова умолял ее простить мне
все страдание, которое я причинил ей, и все не выпускал
ее руки из своих; сладостная усталость снова сомкнула мне глаза, я коченел как лед под лучами ее больших
глаз, с бесконечной нежностью смотревших на меня, под
ее поцелуем, которым она, как холодной печатью, прикасалась к моему горячему лбу и я погрузился в неизъяснимое блаженство.
Когда я очнулся от моей летаргии, было уже светло.
Солнце проникало сквозь штору с изображением веселого ландшафта и, судя по доносящимся снизу звукам,
было, вероятно, часов пять утра. Я проспал всю ночь, не
просыпаясь, без сновидений.
Чашка чая была еще не убрана с ночного столика,
кресло жены стояло еще на своем месте, но я был закутан в лисью шубу, и ее мягкие волоски нежно щекотали
мне подбородок.
Мне казалось, что я в первый раз выспался за последние десять лет, таким свежим и отдохнувшим чувствовал .себя мой переутомившийся мозг. Неистово мятущиеся мысли соединились в порядке в стройные, сильные ряды, мо1ущие выдержать приступы болезненных
угрызений совести — симптом телесной слабости у вырождающегося субъекта.
Прежде всего мне вспомнились два темных события
моей жизни, в которых я каялся вчера на смертном одре
перед моей горячо любимой женой; они тяготели надо
мной долгие годы и вчера отравили мне минуты, которые я принял за предсмертные.
Теперь я хочу ближе подойти к вопросу, которого
я никогда не разбирал основательно, смутно сознавая,
что не все в нем обстоит, как надо.
Посмотрим же ближе, говорил я себе, в чем собственно моя вина, действительно ли я вел себя, как подлый
11
эгоист, принесший в жертву своим честолюбивым планам сценическую карьеру своей жены. Посмотрим, как
было в действительности.
В то время, когда мы вступали в брак, она занимала
в театре второстепенное положение, ей давали только
вторые и даже третьи роли. Выступая вторично, она потерпела неудачу, благодаря отсутствию таланта, апломба, уменья олицетворять характер, одним словом, у нее
не было ни малейшего сценического дарования. Накануне свадьбы она получила синюю тетрадку с ролью
в две фразы, которые говорит компаньонка в какой-то
пьесе.
Сколько слез и горя принес этот брак, разбивший
славу артистки. Еще так недавно она была так интересна, она — баронесса, бросившая мужа из любви к своему искусству.
Виноват в этом был, разумеется, я; началось падение и кончилось оно неожиданным увольнением — после двух лет страданий над синими тетрадями с ролями,
становившимися все тоньше.
В то время как рушилась ее сценическая карьера,
я выступил как романист и имел успех, действительный,
бесспорный успех. Раньше я писал небольшие пьесы,
постановка которых не имела для меня большого значения, теперь же я начал работать над крупным произведением, над произведением, имевшим определенную
цель доставить моей горячо любимой жене ангажемент,
которого она так жаждала. Я принялся за работу, впрочем, довольно неохотно, потому что уже давно старался провести новшества в драматическом искусстве, но на
этот раз я поступился своими литературными убеждениями. Я должен был принудить публику смотреть мою
дорогую жену, обратить на нее внимание, несмотря на
всех известных артисток, и привлечь к ней все симпатии
этого упрямого народа. Но ничто не помогло.
Пьеса успеха не имела, артистка провалилась, публика протестовала против разведенной и вторично
12
вышедшей замуж женщины, и директор поспешил нарушить контракт, не представлявший для него никакой
выгоды.
Да разве это моя вина, спросил я себя, вытягиваясь на
постели, вполне довольный собой после этого первого
расследования. О, как хорошо иметь спокойную совесть!
И с чистым сердцем я вспоминал дальше.
Целый год прошел в слезах и печали, хотя у нас и родилась в это время страстно жданная дочурка.
В жене вдруг с новой силой проснулась страсть к театру. Мы обегали все театральные бюро, осаждали всех
директоров, делали рекламы, но нигде не добились
успеха, всюду нас любезно выпроваживали.
К провалу своей драмы я отнесся равнодушно; но,
так как моим стремлением было занять почетное место
в мире писателей, то я не хотел больше писать пьес для
странствующих комедиантов, но я не желал подвергать
нашу совместную жизнь случайным превратностям;
я ограничился той чашей, которую мне пришлось испить при этом неудавшемся опыте.
В конце концов это было выше моих сил. Я воспользовался своими связями с одним театром в Финляндии
и устроил наконец своей жене ряд гастролей.
Но зато себе я только повредил этим! За целый месяц
соломенного вдовства, забот о кухне и доме я получил
умеренное утешение в виде двух ящиков венков и букетов, которые она привезла к супружескому оча1у.
Но она была так счастлива, так довольна и прелестна, что я был вынужден сейчас же написать директору
об ангажементе.
Подумайте, я решил бросить родину, друзей, положение, издателей, чтобы исполнить ее каприз. Но что
же делать, когда любишь.
К счастью, у директора не оказалось места для актрисы без репертуара.
Разве и это была моя вина? Я готов был плясать от радости. Как хорошо время от времени производить такое
13
следствие. На сердце становится легко; я, наверное, снова помолодею и посвежею.
Ну, а что было потом? Потом пошли дети, один, другой, третий, — их было слишком много.
Но жена все не бросала мысли о сцене. Должно же
это наконец кончиться. В это время открылся новый
многообещающий театр. Чего же проще, как предложить театру свою пьесу, на этот раз с главной женской
ролью, сенсационную вещь, затрагивающую модный
женский вопрос.
Сказано — сделано!
Итак, это будет драма, женская роль, подходящие
к обстоятельствам костюмы, колыбель, лунный свет, бандит в противовес мужу под башмаком, трусу, влюбленному в жену (таков должен быть я); я, беременная жена
(это было так ново), монастырь и тому подобное.
Артистка имела колоссальный успех, а автор провалился, да еще как!
Она была спасена, а мое поражение было полное, несмотря на ужин в сто франков, устроенный директору.
В этом я не был виноват! Кто был мучеником? Разумеется, я! И все-таки все порядочные женщины смотрели на меня как на чудовище, разбившее карьеру своей
жены. Уже сколько лет совесть терзает меня за это, и я
не имею ни одного спокойного дня. Сколько раз меня
упрекали за это прямо в лицо перед чужими людьми!
Я? Да ведь как раз наоборот! Да, одна карьера разбита.
Но чья? И кем?
Ужасное подозрение просыпается во мне, и улыбка
слетает с губ при мысли, что я мог бы умереть с этим
обвинением без единого защитника, который мог бы
смыть с меня это пятно.
Остается еще растраченное приданое. Я помню,
меня вывели однажды в фельетоне под заглавием «Расточитель приданого». Я отлично помню, как мне совали в нос, что моя жена содержит своего мужа. Под впечатлением этих красивых выражений, я зарядил мой ре¬
14
вольвер шестью пулями. Рассмотрим дело, ведь его же
обсуждали, вынесем приговор, ведь считали же возможным произнести его.
Приданое моей жены, десять тысяч франков, заключалось в каких-то сомнительных акциях; я поместил их
за свой собственный счет в закладные из 50 процентов
номинальной стоимости. Но в это время разразился всеобщий крах, и результат получился плачевный: бумаги
упали, и в критическую минуту их нельзя было продать.
Я вынужден был заплатить мой заем из 50 процентов.
Позднее банкир, выпустивший негодные акции, выплатил моей жене по 25 процентов; вот актив, полученный
после ликвидации банковских дел.
Вот задача для математика: сколько же я собственно
растратил?
Мне кажется — ничего. Непродаваемые бумаги приносят владельцу их действительную стоимость, между
тем как я, благодаря личному поручительству, повысил
доход на двадцать пять процентов.
Положительно в этом деле я виноват так же мало, как
и в первом.
А угрызения совести, отчаянье, частые покушения на
самоубийство! И снова поднимаются подозрения, прежнее недоверие, горькое сомнение, и я прихожу в бешенство при мысли, что я был близок к тому, чтобы умереть
грешником. Отягченный заботами и работой, я никогда не мог найти время, чтобы разобраться в путанице
слухов, намеков, туманных фраз, которые мне приходилось выслушивать. И пока я жил погруженный в работу, из болтовни завистников, из сплетен в кафе вырастала злая легенда. А я сам — я верил положительно всему
миру, кроме себя самого! Неужели действительно возможно, что я не сходил с ума, не был болен, что я не дегенерат? Неужели действительно возможно, что я спокойно дал обморочить себя возлюбленной сирене, чьи
маленькие ножницы были бы в состоянии обрезать волосы Самсону, когда он преклонит ей на колени голову,
15
переутомленную заботами о ней самой и детях. В продолжение десятилетнего сна в объятиях волшебницы
он доверчиво и безмятежно лишался своей чести, мужественности, любви к жизни, разума, всех своих пяти
чувств и многих других!
Неужели возможно, — мне стыдно подумать об
этом, — чтобы во всей этой сутолоке, преследующей
меня годами, как призрак, могло зародиться незначительное, бессознательное преступление, вызванное неопределенным стремлением к власти, невыясненным
желанием женщины покорить мужчину в этой борьбе
двух существ, называемой браком!
Я решил все исследовать; я поднялся, соскочил с кровати, как расслабленный, отбрасывающий воображаемые костыли, быстро оделся, чтобы пойти взглянуть на
жену.
Я заглянул в полуоткрытую дверь, и очаровательная
картина предстала моим восхищенным глазам. Она лежала на кровати, зарывшись головкой в белые подушки,
по которым как змеи извивались ее золотистые волосы;
кружево рубашки спускалось с плеча, открывая девичью
грудь; ее нежное, гибкое тело вырисовывалось под полосатым белым с красным одеялом, маленькая прелестная
ножка с прозрачными безупречными ноготками на розовых пальчиках, слегка изогнувшись, выглядывала из-
под него; это было совершенное, художественное произведение, античный мрамор, в который влилась жизнь.
Невинно улыбаясь, с целомудренной материнской радостью смотрела она на трех маленьких кукол, которые
возились и ныряли в подушки, как в сено. Обезоруженный этим чудным зрелищем, я сказал сам себе: «Берегись, если баронесса играет с детьми!»
Приниженный и связанный величием материнства,
я подошел робко и неуверенно, как школьник.
— А, ты уже встал, мой милый, — приветствовала
она меня изумленно, но не с тем приятным изумлением, какого бы я желал. Я пробормотал какое-то объясне¬
16
ние и наклонился поцеловать жену, но дети бросились
на меня и едва не задушили.
Неужели это преступница? — спрашивал я себя, уходя, побежденный оружием целомудренной красоты, открытой улыбкой этих уст, еще никогда не согрешивших
ложью! Тысяча раз нет! Я ушел, убежденный в противном. Но ужасные сомнения снова овладели мною. Почему она так холодно отнеслась к неожиданному улучшению моего здоровья? Почему она не осведомилась
о припадках лихорадки, о том, как я провел ночь? И чем
объяснить мне разочарование на ее лице, ее почти неприятное изумление, смущенную, насмешливую улыбку, когда она меня увидала здоровым и бодрым? Может быть, в душе она надеялась найти меня мертвым
в это чудное утро, освободиться от глупца, делавшего ее
жизнь невыносимой? Надеялась она получить две тысячи франков страховой премии, которые открывали ей
новый путь для достижения ее цели?
Тысяча раз нет! И все-таки! Сомнения проникали мне
глубоко в сердце, сомнения во всем, в честности моей
жены, в законности детей, сомнения в моей способности
суждения, сомнения, беспощадно преследующие меня.
Во всяком случае, пора разобраться во всем этом;
я должен быть уверен или умереть. Или тут скрывается
преступление, или я безумец! Я должен теперь открыть
истину. Обманутый муж? Пожалуй, только бы знать об
этом! Тогда я мог бы отомстить презрительной усмешкой. Есть ли хоть один мужчина, уверенный в том, что
он единственный избранник? Проглядывая мысленно всех моих друзей юности, теперь женатых, я вижу,
что все они, конечно, были более или менее обмануты.
И они ничего не подозревают, счастливцы! Не надо быть
мелочным, нет! Равные права, равные обязанности! Но
только не знать — это опасно! Знать — это главное! Если
человек проживет даже сто лет, то и тогда он не будет
знать в точности, как живет его жена. Он может знать
общество, весь свет и не проникнуть ни на шаг в душу
17
своей жены, жизнь которой связана с его жизнью. Поэтому счастливые мужья и любят так вспоминать беднягу Бовари!
А я хочу знать наверное! Я хочу дознаться! Чтобы отомстить! Какое безумие! Кому? Избраннику? Они доказывают только законность прав мужа! Жене? Не надо быть
мелочным! Погубить мать этих ангелов? Это безумие!
И все-таки я во что бы то ни стало должен знать истину. И для этого я предпринимаю основательное, тайное,
по моему даже научное расследование; я использую все
новые данные психологических наук, внушение, чтение
мыслей, душевные пытки; я не откажусь даже и от старинных приемов: взлом, воровство, перехватывание писем, обман. Что это — мономания, припадок, умопомешательство? Не мне судить об этом; пусть осведомленный читатель произнесет в последней инстанции свой
приговор, если он беспристрастно прочтет эту книгу! Он
найдет здесь, может быть, элементы физиологии любви,
отрывки из патологической психологии и, кроме того,
отдел криминальной философии.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Это было 13 мая 1875 года в Стокгольме. Я как сейчас вижу себя в большой зале Королевской библиотеки,
занимающей целый корпус королевского дворца. Деревянная обшивка стен побурела от старости, как хорошо
прокуренная пенковая трубка. Огромное здание в стиле
рококо с гирляндами, цепями, щитами и гербами, окруженное на высоте первого этажа галереей с тосканскими колоннами, встает теперь в моих воспоминаниях со
своими сотнями тысяч томов и представляется мне чудовищным мозгом, где сложены мысли всех прошлых
поколений.
Два главных отдела залы с полками в три метра высоты разделяются проходом с одного конца залы до другого. Весеннее солнце бросает свои золотые лучи сквозь
двенадцать окон и освещает разнообразные переплеты ренессанса. Тут стоят фолианты в белом или тисненом золотом пергаменте, в черном или белом сафьяне
XVII столетия, в опойке с красным обрезом XVIII столетия, в зеленой коже времен Империи и в дешевых современных переплетах. Рядом с теологом стоит алхимик, с философом натуралист, с историком поэт — геологическое наслоение неизмеримой глубины, в котором
слои лежат один над другим, указывая на этапы развития человеческой глупости и мудрости.
Я вижу себя на балконе, как я распаковываю ящики
с негодным хламом, подаренным библиотеке одним знаменитым антикварием; он был убежден, по-видимому,
19
что обеспечивает себе бессмертие, надписав на каждом
томе свой девиз.
Так как я был суеверен, как всякий атеист, то это изречение, бросающееся мне в глаза на каждой книге, которую я вынимал, произвело на меня известное впечатление. Даже в несчастье этот честный малый не терял надежды; это было его счастьем. А я потерял уже всякую
надежду на постановку моей трагедии в пяти актах, шести картинах и трех превращениях, а что касается моего
повышения, то для этого должны были умереть семеро
кандидатов, находящихся в полном здравии, из которых
четверо получали жалованье. В двадцать шесть лет с месячным жалованьем в 20 франков и пятиактной трагедией в каморке под крышей имеешь большую склонность
к самому мрачному пессимизму, этому новому изданию
скептицизма, который так удобен для непризнанных гениев, ищущих в нем замену сытного обеда и слишком
скоро износившегося платья.
Член ученой богемы, заменившей собою прежнюю
художественную богему, сотрудник известных газет
и научных журналов, скудно платящих, акционер общества для перевода «Философии бессознательного»,
последователь свободной, но не бесплатной любви, обладатель неопределенного титула королевского секретаря, автор двухактной пьесы, постановленной в Theatre
Royale, я с трудом удовлетворял насущным потребностям моей жалкой жизни. В конце концов, я начал ненавидеть жизнь. Но во мне еще не умерло желание жить,
и поэтому я делал все возможное, чтобы продлить это
жалкое существование и размножить свой род. И надо
сказать, что пессимизм, воспринятый буквально толпой
и обманчиво спутанный с ипохондрией, ведет к тому,
что начинаешь созерцать жизнь с ясной и утешительной точки зрения. Если весь мир, собственно, ничто,
к чему же делать столько шума, особенно если истина
является чем-то случайным? Разве только теперь открыто, что вчерашняя истина завтра считается безумием;
20
так к чему же тратить свои юношеские силы на открытие нового безумия? Единственно несомненный факт —
это смерть, поэтому мы и живем. Но для кого, для чего?
После того, как весь строй, уничтоженный в конце прошлого столетия, снова был введен при вступлении на
престол Бернадота, этого покаявшегося якобинца, поколение 1860 года, к которому принадлежал я, увидало, что все его надежды рассеиваются вследствие парламентских реформ, осуществленных с таким шумом.
Обе палаты, заменившие собою собрание четырех сословий, состояли большей частью из крестьян, обративших парламент в городской совет, где они мирно
и спокойно обсуждали свои мелкие делишки и откладывали в сторону все важные вопросы. Политика явилась перед нами в виде компромиссов местных и личных интересов, так что последний след веры в то, что
тогда называлось идеалом, распался при столкновении
с горькими принципами. Прибавим к этому религиозную реакцию, наступившую после смерти Карла XV,
при воцарении королевы Софии Нассауской, и станет
ясно, что для появления пессимизма были и другие
основания кроме личных неудач. Почти задохнувшись
от пыли, я открыл окно, выходившее на Львиный Двор,
чтобы впустить немного свежего воздуха и полюбоваться на открывающийся вид. Легкий ветерок, напоенный
благоуханием тополей, колыхал распустившиеся ветки сирени. Жимолость и молодой виноград уже начали обвивать решетку своей светлой зеленью; акации
и платаны еще не цвели, им, вероятно, были знакомы
капризы мая. И все-таки это весна, хотя под молодой
зеленью ветвей и кустов и виднеются еще темные ветви.
А над балюстрадой, украшенной дельфийскими фарфоровыми вазами с голубыми гербами Карла XII, высились колоннами мачты стоящего в гавани парохода,
разукрашенного в честь Его Величества, а дальше между берегами лиственниц и хвой выступает темно-зеленая полоса залива. Все суда на рейде распустили свои
21
национальные флаги, которые более или менее символизируют различные страны. Кроваво-красный, как
ростбиф, флаг Англии, испанский, красный с желтым,
полосатый, как жалюзи мавританского балкона; полосатый, как матрацный тик, флаг Соединенных Штатов,
веселая трехцветка Франции рядом с мрачным флагом
не снимающей траура Германии с железным крестом
в углу; дамская рубашка Дании, скромная трехцветка
России. Все колышется рядом под зеленовато-голубым
северным небом. Отовсюду несется шум экипажей,
свистков, колоколов, лебедок; запах машинного масла, соленых сельдей, кожи, съестных припасов, к которому примешивается благоухание сирени. Все эти запахи освежались по временам западным ветром, рябившим зеркально-спокойную поверхность северного
моря.
Я оставил книги и высунулся в окно, чтобы освежить
все свои пять чувств; в это время шла смена часовых,
и оркестр играл марш из Фауста. Музыка, знамена, цветы, голубое небо — все это так захватило меня, что я не
заметил, как вошел служитель с почтой. Он тронул меня
за плечо, передал мне письмо и сейчас же вышел.
Письмо было от дамы. Я быстро распечатал его, предчувствуя что-то приятное, и я не ошибся.
«Приходите сегодня вечером ровно в пять часов
к дому номер 65 на улице Регента. Там вы меня встретите. Примета: сверток нот».
В последний раз я был одурачен одной маленькой
плутовкой, поэтому я был очень не прочь хорошенько вознаградить себя. Но одно злило меня. Мое мужское самолюбие было оскорблено уверенным, почти повелительным тоном. Что это вздумалось этой малютке
так неожиданно напасть на меня! Что воображают себе
эти дамы, составившие себе такое низкое мнение о нашей добродетели? Она не просит разрешения, она просто отдает приказание своей жертве. Кроме того, я был
приглашен вечером на загородную поездку и не испы¬
22
тывал ни малейшего желания среди белого дня ухаживать на главной улице. Когда пробило два часа, я отправился на сборище моих коллег в лаборатории нашего
химика. Комната уже была полна докторов и кандидатов медицины и философии, собравшихся обсудить сегодняшний праздник. Я извинился, и меня засыпали
вопросами о тех причинах, по которым я отказывался
принять участие в проектируемой вечером оргии. Я показал письмо опытному в их делах зоологу; он покачал
головой и глубокомысленно заметил:
— Это не подойдет! Такие выходят замуж, но не продаются! Животное с семейными инстинктами! Да, это
дело серьезное! Но как хочешь! Приходи после, ты встретишь нас в парке, если это прельщает тебя и если дама
окажется другого сорта.
И таким образом в назначенный час я очутился перед указанным домом и ждал появления прекрасной
незнакомки. Этот сверток нот был как свадебное объявление в газетах и колебал мое решение, но в эту минуту я увидал перед собой даму, первое впечатление от
которой — а ему я придаю большое значение, — было
в высшей степени неопределенное. Возраста неопределенного, между двадцатью девятью и сорока двумя,
вид отчасти искательницы приключений, нечто среднее между художницей и синим чулком, порядочной
девушкой и кокоткой, эмансипированной женщиной
и кокеткой. Она представилась мне как невеста моего старого друга, оперного певца, который поручал
ее моему покровительству, — позднее это оказалось
ложью.
Она была похожа на птичку и болтала без умолку.
В полчаса она посвятила меня во все, что она думает
и чувствует. Но это очень мало интересовало меня, и наконец я спросил ее, чем могу быть ей полезен.
— Я должен быть охранителем молодой девушки? —
воскликнул я. — Но ведь вы не знаете, что я самый легкомысленный малый!
23
— Ах, это вам так кажется, я прекрасно знаю вас, —
возразила она. — Вы просто несчастны, и вас надо отвлечь от ваших мрачных мыслей.
— Вы думаете, что действительно знаете меня; но вам
известно только мнение вашего жениха о моей особе.
Но спорить с ней было напрасно, она знала все и читала в сердцах людей. Она была одна из тех назойливых
особ, которые стремятся властвовать над умами и в то же
время залезают в самые сокровенные уголки сердца. Она
умела красиво писать письма и засыпала ими всех выдающихся людей, давала советы, изливалась в наставлениях молодежи и любила руководить судьбами людей.
Властолюбивая, она занялась спасением душ и охраной
всего мира; поэтому она и почувствовала призвание спасти меня; одним словом, интриганка чистейшей воды,
не особенно умная, но с чудовищной женской страстью
к приключениям.
Я начал поддразнивать ее, насмехаясь над миром,
людьми и Богом. Она назвала меня отсталым.
— Но, милая барышня, что вам до этого? Все мои
в высшей степени современные идеи кажутся вам отсталыми! А ваши идеи, исходящие из прошлых эпох, общие места моих юных лет, давно оставленные мною, кажутся вам совершенно новыми! Откровенно говоря, то,
что вы предлагаете мне за свежие фрукты, это просто
консервы в белых плохо закупоренных жестянках. От
них даже пахнет, знаете ли.
Вне себя от бешенства, она, не прощаясь, убежала от
меня.
Покончив с ней, я отыскал своих товарищей в парке,
где мы и прокутили всю ночь.
На следующее утро, еще не вполне очнувшись, я получил письмо, полное женского пустословия, упреков,
излияний, сожаления, снисходительности и добрых пожеланий духовного благополучия; в заключение она
опять назначала мне свидание — я должен был нанести
визит старухе, матери ее жениха.
24
Как человек опытный, я знал, что мне придется выдержать снова целые потоки увещеваний; и, чтобы отделаться как можно дешевле, я надел на себя маску полнейшего равнодушия к вопросам, касающимся Бога,
мира и всего прочего.
Какое совпадение! Молодая особа в туго зашнурованном, опушенном мехом платье, в шляпе Рембрандт, приняла меня очень дружески; преисполненная нежности,
как старшая сестра, избегала всех опасных тем, так что
при нашем обоюдном желании понравиться друг другу
души наши вели между собой восхитительный разговор.
После визита мы отправились погулять в прекрасный весенний вечер.
Будучи в мефистофельском настроении духа, а также
из желания отомстить за ту скучную роль доброго товарища, которую я должен был играть, я признался ей,
что почти уже помолвлен; принимая во внимание, что
я в это время сильно ухаживал за одной девушкой, это
было ложью только наполовину.
Тогда она взяла на себя роль бабушки, начала сокрушаться о молодой девушке, расспрашивать об ее характере, внешности, положении. Я набросал ей портрет,
могущий возбудить в ней ревность. После этого разговор стал более односложен. Действительно, интерес ее
ко мне упал, так как ангел-хранитель увидал перед собой соперницу в деле спасения моей души. Мы расстались, не рассеяв незаметно установившейся между нами
холодности.
На следующий день разговор вращался все время
около любви и моей воображаемой невесты.
После того, как мы целую неделю ходили по театрам,
концертам, совершали прогулки, она незаметно стала
поверенной моей жизни, наши ежедневные встречи обратились в твердую привычку, от которой я не мог освободиться.
Возможность пользоваться разговором с хорошо образованной женщиной доставляет почти чувственное
25
наслаждение, это было соприкосновение душ, ласки
умов, наслаждение чувств.
Однажды утром она была совершенно вне себя; она
прочла мне отрывки из письма, полученного накануне
от жениха; он бесился от ревности. Теперь она призналась мне, что поступала против указаний жениха. Справедливо предчувствуя, что дело примет дурной оборот,
он рекомендовал ей быть как можно осторожнее по отношению ко мне.
— Я не понимаю такой сильной ревности, — презрительно сказала она.
— Потому что вы не понимаете любви, — ответил я.
— Ах, эта любовь!
— Эта любовь, сударыня, есть дошедшее до высшей
точки чувство собственности, а ревность — это боязнь
потерять ее.
— Собственность! Вот еще — собственность!
— Обоюдная собственность, видите ли. Каждый взаимно владеет другим.
Она не хотела понимать такого рода любви; любовь — это чувство бескорыстное, возвышенное, целомудренное, неописуемое!
Короче говоря, она не любила своего жениха, который, как я понял из ее слов, был безумно влюблен
в нее.
Она рассердилась и откровенно призналась, что никогда не любила его.
— И вы все-таки выходите за него замуж?
— Потому что он погибнет без меня.
— Опять спасение души!
Она была так раздражена, что начала уверять, что она
с ним даже не помолвлена.
Так, значит, мы оба солгали. Это дает мне надежду!
Мне не оставалось ничего другого, как быть тоже откровенным и объявить, что моя помолвка была выдумкой; теперь зависело от нас воспользоваться нашей свободой.
26
Ревность ее пропала, и старая игра началась сначала.
Я послал ей письменное объяснение в любви, которое
она переслала своему жениху. Он не замедлил в следующем же письме осыпать меня грубой бранью.
Тогда я обратился к красавице с просьбой объясниться и выбрать одного из нас. Но она остерегалась это сделать; она была готова выбрать нас обоих, трех, четырех,
видеть как можно больше у своих ног и просила только
позволения втайне боготворить.
Она была настоящей кокеткой, помешанной на мужчинах, целомудренной полиандриеткой!
Но я был совершенно ослеплен, у меня не было ничего лучшего, уличная любовь опротивела мне, а моя одинокая каморка нагоняла на меня тоску.
Незадолго до ее отъезда я пригласил ее посетить библиотеку, я хотел ослепить ее, показать себя в обстановке, которая должна была поразить крошечные мозги
высокомерной птички. Я водил ее из галереи в галерею
и выставлял на вид все свои библиографические познания; я заставлял ее восхищаться миниатюрами, рисунком букв средних веков, автографами великих людей;
я цитировал великие исторические события, запечатленные в манускриптах и старопечатных книгах, и она
чувствовала себя подавленной в своем ничтожестве.
— Да ведь вы ученый! — воскликнула она.
— Разумеется, сударыня.
— Бедный певец, — пробормотала она.
Я думал, что таким путем я выбью певца из позиции.
Не тут-то было! Актер грозил мне в письмах револьвером, обвинял меня, что я отнял у него невесту, доверенную моим попечениям. Я же старался дать ему понять,
что я ничего не украл у него, потому что он не владел ничем, что он мог бы отдать на хранение. На этом переписка кончилась, и воцарилось угрожающее молчание.
Приближался день отъезда. Накануне вечером я получил от моей красавицы взволнованное письмо, в котором она сообщала мне приятную новость. Она прочла
27
мою трагедию нескольким особам из высшего крута,
близко стоящим к театру. Мое произведение произвело
на этих особ сильное впечатление, и они льстили себя
надеждой познакомиться с автором. Подробности она
расскажет мне при свидании. В назначенный час отправились мы с ней по магазинам, где она делала свои последние закупки; она все время говорила о моей драме,
но, не видя с моей стороны никакой склонности к протекции, она прибегла к другому способу, чтобы убедить
меня.
— Мне противно, милое дитя, стучаться к чужим людям и болтать обо всем, кроме самого главного. Я должен идти к ним, как нищий, и клянчить.
Я только что начал красноречиво излагать свою
мысль, как вдруг она остановилась против элегантной,
прекрасно одетой, стройной дамы.
Она представила меня баронессе У., которая сказала
мне несколько слов, заглушенных шумом улицы. Я пробормотал несколько бессвязных слов, раздраженный,
что меня хитростью заманили в ловушку. Это несомненно было условлено заранее.
На прощанье баронесса повторила свое приглашение, подсказанное ей фрёкен X.
В баронессе меня больше всего поразило свежее, как
у ребенка, лицо, несмотря на ее двадцать пять лет. У нее
была головка школьницы, маленькое личико, окаймленное белокурыми, непокорными, золотистыми волосами, плечи принцессы, талия гибкая, как рукоятка
хлыста, ее манера наклонять голову говорила об откровенности, любезности, рассудительности. Можно ли допустить, чтобы эта девственная мать могла безнаказанно наслаждаться моей трагедией! Она была замужем за
гвардейским полковником, и у нее была трехлетняя девочка. Она питала большую склонность к сцене, но высокое положение ее мужа не давало ей возможности выступить, тем более, что ее тесть только что получил звание камергера.
28
Так обстояло дело, когда мой майский сон исчез вместе с пароходом, увозившим мою красавицу к ее актеру. Теперь он вступил в мои права, и ему, наверно, было
приятно читать мои письма к его невесте в отместку за
такое же мое поведение: в последнее время мы всегда
читали его письма вместе. И даже на пристани, в минуту нежного расставания, она умоляла меня как можно скорее посетить баронессу. Это были ее последние
слова.
На месте этих невинных мечтаний, так непохожих на
дикую любовь ученой богемы, воцарилась пустота, которую надо было чем-нибудь заполнить. Тесная дружба с женщиной своего круга, соединение двух личностей
с одинаковыми взглядами доставляли мне драгоценное
наслаждение, которого я давно был лишен, благодаря
ссоре с родными.
Стремление к семейной жизни, подавленное вечным
пребыванием в кафе, снова проснулось, благодаря общению с простой, но в общепринятом смысле вполне приличной женщиной. И вот вечером, часов в шесть, я стоял у ворот дома в Северной Аллее.
Какое совпадение! Это был когда-то дом моих родителей, где я прожил жесточайшие годы моей жизни, где
я пережил все внутренние бури возмужалости, первое
причастие, смерть матери и прибытие мачехи. Охваченный внезапным недомоганием, я испытывал искушение повернуть назад и бежать отсюда, я боялся снова обрести все страдания моей юности. Передо мной лежал
знакомый двор, могучий ясень, расцвета которого я так
ждал некогда каждую весну, мрачный дом на краю глубокого песчаного оврага, угрожавший обвал которого
вызвал понижение наемной платы.
Но, несмотря на эти грустные воспоминания, я овладел собой, вошел, поднялся наверх и позвонил. Мне казалось, что отец по-прежнему отворит мне дверь. Но появилась горничная и прошла вперед доложить обо мне.
Вслед за ней вышел барон и встретил меня как нельзя
29
более сердечно. Это был человек лет тридцати, сильный и большой, с благородной осанкой, с манерами настоящего светского человека. На его крупном, несколько отекшем лице светились голубые глаза, имевшие
несколько тусклое выражение, как и его улыбка, принимающая горькую складку и говорящая о разочаровании
и неудавшихся планах.
Гостиная, наша прежняя столовая, была обставлена в несколько небрежном, художественном стиле. Барон носил имя одного из знаменитых генералов, нечто
в роде Кондо или Тюренна, его родины; ему удалось собрать фамильные портреты эпохи 30-летней войны в белых кирасах и париках а 1а Людовик XIV; они выглядели
несколько странно среди ландшафтов дюссельдорфской
школы.
Там и тут стояла старая, переделанная вызолоченная
мебель вперемежку с современными стульями и пуфами. Все углы были заставлены, все дышало уютностью,
миром и домовитостью.
Вошла баронесса, она была очаровательна, сердечна, проста и любезна. Но на их лицах я прочел какое-то
смущение и замешательство, причину которых я скоро
открыл. По голосам, доносившимся из соседней комнаты, я понял, что у них гости; я извинился, что пришел
не в урочный час. У супругов были в гостях родственники, сошедшиеся на партию виста, и через несколько минут я уже сидел в семейном кругу: камергер, полковник Д., мать и тетка баронессы. Как только старики
уселись за карты, мы, представители молодежи, занялись беседой. Барон говорил о своей любви к живописи; благодаря стипендии Карла XV, он кончил курс
в Дюссельдорфе. Таким образом между нами нашлась
точка соприкосновения, потому что я тоже был когда-
то стипендиатом этого короля, но только на литературном поприще. Разговор шел о живописи, театре
и личности нашего покровителя. Но наша беседа начала постепенно охладевать, потому что старики время
30
от времени вмешивались в наш разговор, касались
острых вопросов, терзали едва закрывшиеся раны, так
что под конец я почувствовал себя в этом разнородном
обществе чужим и отвергнутым. Я встал и простился. Барон с баронессой проводили меня в переднюю
и здесь, далеко от стариков, они, по-видимому, сняли
свои маски и пригласили меня в следующую субботу
обедать в тесном семейном кругу. После короткого разговора на площадке лестницы мы расстались добрыми
друзьями.
В назначенный день я отправился к трем часам в Северную Аллею. Хозяева встретили меня как старого испытанного друга и, не задумываясь, посвятили меня
в интимную сторону своей жизни. Обед прошел в обмене откровенностями. Барон, не разделявший взглядов
своих товарищей по службе, принадлежал к партии
недовольных, созданной правлением нового короля.
Завидуя победоносной популярности своего брата, новый властелин заботливо отстранял все, что с любовью
выращивал его предшественник, так что друзья старого
режима с их свободной откровенностью, терпимостью,
стремлением к прогрессу, образовали группу оппозиции, не вмешивавшуюся, впрочем, в мелочную борьбу
выборов. Перебирая воспоминания прошлого, мы сошлись во взглядах, и все мои прежние мещанские предрассудки против дворянства, поколебавшиеся со времени парламентской реформы 1865года, теперь вполне рассеялись и превратились в сочувствие пасшему
величию. Баронесса, родившаяся в Финляндии и только недавно выехавшая оттуда, сначала не принимала
участия в нашем дружеском разговоре. Но когда обед
кончился, она села за фортепиано и сыграла несколько
песен; барон и я показали себя непризнанными талантами в дуэте Веннерберга. Как быстро мчались часы!
Потом мы прочли маленькую пьеску, игранную недавно в Королевском театре; роли мы разделили между
собою.
31
После различных развлечений воцарилось вдруг молчание, обыкновенно наступающее, когда люди слишком
быстро стараются выказать себя, чтобы заставить себя
оценить. Ко мне снова вернулось чувство подавленности, и я затих.
— Что с вами? — спросила баронесса.
— Здесь живут призраки, — объяснил я. — Вы знаете, я целые века тому назад жил в этих комнатах. Да,
это было век тому назад, я так уже стар.
— И нам не удается прогнать призраков? — продолжала баронесса с материнской нежностью.
— Ах, нет, — возразил барон, — только одна особа
в состоянии рассеять мрачные призраки. Не правда ли,
ведь вы жених фрёкен X.?
— Ах, барон, это был потерянный труд.
— Как, разве она помолвлена с другим?
— Вы еще спрашиваете?
— Ах, очень жаль! Эта молодая девушка настоящее
сокровище и, судя по всему, она относилась к вам очень
сочувственно.
Тут я снова начал бранить бедного актера. Мы вместе негодовали на злополучного певца, который принуждал бедную девушку против ее воли полюбить его.
В конце концов, баронесса объявила, что она все уладит
во время пребывания в Финляндии, куда она вскоре собиралась съездить.
— Этого не будет, — уверяла она, преисполнившись
гневом при мысли о браке, к которому хотят принудить
такую прекрасную девушку, планы которой совершенно иные.
Часов в семь я поднялся и простился. Но меня так настойчиво просили остаться, что я готов был подумать,
что они скучают, оставшись одни, несмотря на то, что
они женаты всего три года и имеют ребенка, похожего
на ангела. Вечером ждали кузину баронессы, и они хотели познакомить нас, чтобы я высказал свое мнение о молодой девушке.
32
Во время этого разговора горничная подала барону письмо. Он распечатал его, прочел, не вставая, пробормотал несколько отрывистых слов и передал письмо
жене.
— Это невероятно! — воскликнула она, прочтя письмо. На утвердительный кивок мужа она обратилась ко
мне как к другу.
— И это моя самая любимая кузина! Представьте себе,
мои дядя и тетка запрещают ей ходить к нам, потому что
свет позволяет себе болтать всякий вздор о моем муже!
— Это уж слишком! — прибавил он. — Прекрасной,
невинной, несчастной девушке нравится бывать у нас,
молодых людей, ее единомышленников, и это дает повод к сплетням.
Может быть, они заметили скептическую улыбку на
моем лице, но во всяком случае разговор охладел, наступило смущенное молчание, плохо скрытое предложением пройтись по саду.
После ужина, часов в десять, я наконец простился и,
выйдя из дому, мысленно стал припоминать все, что видел и слышал в этот богатый впечатлениями день.
Несмотря на внешнее счастье супругов, несмотря на
их взаимную нежность, в их жизни, несомненно, было
какое-то темное пятно. Озабоченные, смущенные лица
и скрытность указывали на какое-то горе и заставляли
предполагать тайны, открытия которых я боялся.
Зачем, спрашивал я себя, это уединение, эта жизнь
на краю предместья? Они казались мне потерпевшими
кораблекрушение, — так радовались они, найдя человека, первого, который пришел к ним и которому они сейчас же раскрыли свои сердца.
Меня главным образом занимала баронесса. Я старался представить себе ее образ, но меня совершенно
сбивало с толку соединение противоречивых черт характера: преисполненная добрых желаний, грациозная,
упорная, энтузиастка, участливая, сдержанная, холодная, порывистая, капризная и мечтательная; она не была
33
слишком худа, но, благодаря простым гладким платьям,
ниспадающим широкими складками, как на одежде святой Цецилии, она казалась одухотворенной, как женщина византийской живописи; ее сложение говорило о чистоте линий и поразительной красоте; иногда бледные,
окаменевшие черты ее маленького личика оживлялись
и озарялись какой-то порывистой радостью. Мне трудно было решить, в руках кого из супругов была власть.
Он, как солдат, привык командовать, но, благодаря изнеженности, он имел послушный вид, скорее по природной вялости, чем по слабости воли. Они обращались
друг с другом дружески, но без пыла первой любви,
и мое появление пробудило в них потребность вызвать
передо мною воспоминания прошлого. Одним словом,
они питались реликвиями и скучали вдвоем; доказательство — частые приглашения, посыпавшиеся на меня после первого визита.
Накануне ее отъезда в Финляндию я пришел с прощальным визитом. Был чудный июньский вечер. Я вышел на двор и вдруг увидал ее за садовой оградой у куста. Я остановился, пораженный этим невероятно прекрасным зрелищем. Она была вся в белом, пикейное
белое платье, отделанное великолепным русским кружевом, алебастровое ожерелье, застежка и браслеты
тоже из алебастра; ее окружало сияние, как свет фонаря, лучи которого проходят сквозь молочные стекла. К этому примешивалась зелень 1устой листвы, которая отбрасывала мертвенные тени на светлые и теневые блики на ее бледном лице, с горящими, как два
угля, глазами. Меня охватило глубокое волненье, словно это было видение. Во мне снова поднялось глубоко
дремавшее стремление поклоняться и боготворить, пустота наполнилась, потерянное религиозное чувство,
потребность молитвы вернулись в новом виде. Бог был
свергнут, на его месте появилась женщина; но женщина — одновременно девственница и мать; и, когда я видел рядом с ней ее маленькую дочь, я не мог себе объ¬
34
яснить, как могло совершиться ее рождение. Взаимные
отношения супругов никогда не указывали на чувственную сторону, такой бесплотной казалась мне их дружба. Для меня эта женщина была воплощением чистой,
недосягаемой души, влитой в чудное тело, как приписывает это святое писание умершим душам. Одним
словом, я поклонялся ей, не стремясь к ее обладанию.
Я боготворил ее такою, как она была; как жену и мать,
и так, как она была — как жена этого человека, как мать
этого ребенка. И поэтому для того, чтобы наслаждаться счастьем поклонения, присутствие ее мужа являлось
мне существенно необходимым. Ведь без мужа, думалось мне, она будет вдовой, а я не уверен, буду ли я тогда боготворить ее. Может быть, как мою жену? Нет! Во-
первых, мне и в голову не приходила такая богохульная
мысль; потом, выйдя за меня замуж, она перестала бы
быть женой этого человека, матерью этого венка, хозяйкой этого дома. Да, так, как она сейчас есть — не
иначе! Да, с этим домом были связаны священные воспоминания, это была также глубоко лежащая склонность низших классов поклоняться аристократии, чистой крови, которую перестанут почитать, если она
когда-нибудь сойдет с пьедестала; итак, мое поклонение этой женщине во всем было схоже с прежней религией, которую я отринул от себя. Поклоняться, жертвовать собой, страдать без малейшей надежды добиться
чего-нибудь другого, кроме наслаждения поклонения,
жертвы и страдания.
Я хотел быть ее ангелом-хранителем, охранять ее так,
чтобы сила моей любви наконец привязала ее ко мне.
Я старательно избегал оставаться с ней наедине, чтобы мы — во вред ее мужу — не подружились слишком
близко.
А теперь, когда я увидел ее у кустарника, она была
одна. Мы обменялись несколькими ничего незначащими словами. Но внезапно ей передалось мое внутреннее
волнение, и, когда я взглянул на нее горящим взором,
35
в ней проснулась потребность довериться мне. Она заговорила о том, как ей тяжело даже на короткое время
расстаться с мужем и ребенком. Она настоятельно просила меня посвящать им мое свободное время и также
не забывать и ее, так как она едет отстаивать мои интересы перед фрёкен X.
— Вы очень любите ее? — спросила она, пытливо
смотря на меня.
— Вы спрашиваете? — отвечал я, всецело подавленный тяжелой ложью.
И в эту минуту я убедился, что моя весенняя любовь
была только фантазией, шуткой, ничем.
Боясь запятнать ее прикосновением моей мнимой
любви и завести ее в тончайшие изгибы моего чувства,
заботясь оградить ее от самого себя, я коротко прервал опасный разговор, спросив о бароне. Она спрятала
лицо, потому что прекрасно поняла значение моего вопроса, а, может быть, теперь я допускаю это мое смущение перед ее победоносной красотой, доставило ей удовольствие. Может быть, в эту минуту она сознала ужасную волшебную силу, которую она проявила над этим
Иосифом, равнодушие которого было только внешнее,
развязность которого была только вынужденная.
— Вы скучаете в моем обществе, — произнесла она, —
мне надо обратиться за подкреплением.
И она звонким голосом позвала мужа, который сидел
в своей комнате в первом этаже.
Окно распахнулось, и появилось дружеское лицо барона, который кивнул нам с простодушной улыбкой.
Вскоре затем он вышел в сад. На нем была парадная
форма королевских гвардейцев. Он был великолепен
в темно-синем мундире с серебряными и шелковыми
нашивками. Его мужественное полное лицо оказалось
резким контрастом с алебастрово-белым обликом жены.
Это была прекрасная пара; каждый выделял достоинства другого. Это было ослепительное зрелище, художественное произведение. После ужина барон предложил
36
мне сопровождать их на следующий вечер на пароход,
с которым уезжала баронесса; мы, то есть он и я, можем
слезть на последней пограничной станции; это предложение, которое я счел себя обязанным принять, по-
видимому, доставило удовольствие баронессе; она радовалась при мысли о прекрасной летней ночи на палубе
парохода в Стокгольмском заливе.
В десять часов вечера мы встретились на пароходе,
который вскоре и отошел. Ночь была ясная, небо горело оранжевыми красками, море было голубое и спокойное. Бегущие мимо берега мелькали в этом странном,
фантастическом освещении, которое казалось зрителю
и заходом и в то же время восходом солнца. К полуночи наше оживление, возбуждаемое все новыми, блестящими мыслями, все снова пробуждающимися воспоминаниями, упало, и нас охватила сонливость; лица в сумраке рассвета казались бледными, и утренний ветерок
холодком пробегал у нас по членам. Нас охватила внезапная сентиментальность, и, случайно сведенные судьбой, мы заключили вечную дружбу; мы словно предчувствовали роковую нить, которой позднее суждено было
связать нас. Я чувствовал себя не совсем здоровым, недавно оправившись от лихорадки, а они обращались со
мной, как с больным ребенком. Баронесса кутала меня
в свой плед, усаживала на защищенное от ветра место,
подавала мне мадеру в дорожной фляжке, говорила со
мной с материнской нежностью, и я охотно допускал
все это. Сон, смыкающий мне глаза, делал меня нежным
и мягким, и моя замкнутая душа раскрывалась. Не привыкший к этой женской нежности, я погружался в благоговейное преклонение, и мой мозг, возбужденный бессонницей, плавал в поэтических мечтах.
Все дикие сны бессонной ночи принимали образы,
темные, мистические, веселые, вся сила подавленного
таланта раскрывалась в легких видениях. Я говорил не
смолкая, целые часы я черпал вдохновение в двух парах глаз, слушавших меня, не уставая. Я чувствовал, как
37
мое бренное тело разрывалось в неугасимом огне мыслительной машины, и мало-помалу я потерял сознание
своего телесного существа.
Взошло солнце, сотни мелких островков, мелькавших в бухте, осветились; ветви елей с их серно-желтыми
иглами окрасились в медно-красный цвет; в окнах прибрежных хижин отразилось солнце; из дымовых труб
поднимался дым и напоминал о кофе; рыбачьи лодки
идут на парусах осматривать сети; кричат чайки, чуя маленьких селедок в темно-зеленых волнах.
На пароходе еще все тихо, путешественники спят
в каютах, только мы втроем сидим на задней палубе,
и капитан сверху наблюдает за нами и удивляется, о чем
мы можем рассказывать друг дру1у целыми часами.
Уже три часа утра, когда из-за мыса появляется лоцманская шлюпка. Пора прощаться. Залив отделяется от
моря всего несколькими широкими островами, чувствуется уже бурное море, и слышен шум волн о последние
крутые утесы.
Наступает минута прощанья. Они целуются в сильном волнении. Потом она страстно жмет мне руку обеими руками, со слезами на глазах; она поручает моим
заботам своего мужа и просит утешать его во время его
двухнедельного вдовства. А я низко поклонился и поцеловал ее руку, не думая о том, что этого не следовало
бы делать и что я невольно выдаю свои тайные чувства.
Пароход остановился, шлюпка замедлила ход, и скоро
лоцман очутился уже на палубе. Я сошел по трапу, и вот
мы с бароном уже в лодке.
Пароход, как колосс, высился над нами. Оттуда кивала нам, облокотившись на перила, ее маленькая головка
с влажными от слез детскими глазками. Винт пришел
в движение, колосс вздрогнул, взвился русский флаг,
и мы закачались на волнах, махая мокрыми от слез платками. Ее тонкое личико становилось все меньше, нежные черты затушевывались, и нам были видны только ее
большие глаза, которые тоже скоро исчезли; мгновенье
38
спустя мы видели только белый вуаль, развевающийся над японской шляпой, и батистовый платок, которым она махала; потом только белое пятно, белую точку
и потом только колосса, бесформенную массу, окутанную дурно пахнущим дымом.
Мы высадились на таможенной станции, обращенной летом в купальный курорт. В деревне все еще спало, и на пристани никого не было; мы стояли и следили
за пароходом, который лавировал, чтобы повернуть направо и скрыться за мысом, служившим последней преградой от моря.
В ту минуту, как исчез пароход, барон, рыдая, бросился мне на шею, и мы стояли несколько минут обнявшись и не произнося ни слова.
Что вызвало в эту минуту эти слезы, бессонница или
ясная ночь? Было ли это смутное предчувствие или просто жалость? Я и теперь не MOiy этого объяснить.
Молча и печально направились мы в деревню напиться кофе; но ресторан был еще заперт, и мы пошли
блуждать по улицам. Маленькие домики стояли запертыми, и занавеси были спущены. За деревней мы вышли
в пустынное место, где находились шлюзы. Вода была
чистая и прозрачная, и мы омыли ею глаза. Потом я вынул из несессера чистый носовой платок, мыло, зубную
щетку и одеколон. Барон насмешливо улыбнулся на
мою утонченность, но это не помешало ему с благодарностью принять принадлежности этого импровизированного туалета. Вернувшись назад в деревню, мы почувствовали запах жженого угля, проникавший сквозь
листву прибрежной ольхи. Я знаком дал понять барону,
что это был последний привет парохода, донесенный до
нас морским ветерком. Но он этого не понял.
За кофе он имел очень печальный вид со своим большим сонным лицом, опухшими чертами и безутешным
выражением. Между нами воцарилась какая-то неловкость, и он, погруженный в свою печаль, хранил упорное молчание.
39
Иногда он дружески пожимал мне руку и просил извинить за расстроенный вид, а минуту спустя снова погружался в необъяснимую задумчивость. Я делал все
возможное, чтобы оживить его, но гармония не возобновлялась, узы были порваны. Его лицо, прежде такое
ласковое, стало мало-помалу принимать пошлое и грубое выражение. Отражение очарования и одухотворенной красоты его прелестной жены исчезло, и наружу
выступил человек невежественный. Я не знаю, о чем он
думал. Отгадал ли он, что происходит во мне? Судя по
быстрой смене его обращения, его обуревали противоположные ощущения: то он жал мою руку и называл
меня своим первым и единственным другом, то поворачивался ко мне спиной.
А я, к ужасу своему, заметил, что мы живем только
для нее и благодаря ей. Солнце для нас закатилось, и мы
оба потеряли свою индивидуальную окраску.
Вернувшись в город, я хотел проститься с ним, но он
настойчиво просил проводить его, и я согласился.
Когда мы вошли в опустевшую квартиру, нам показалось, что кто-то умер, и мы снова заплакали. Смутившись, я решил обратить все в шутку.
— Ну, разве это не смешно, барон, — гвардейский
полковник и королевский секретарь плачут...
— Но слезы облегчают, — отвечал он.
Потом он велел привести девочку, появление которой снова усилило нашу печаль.
Было девять часов утра. Так как мы оба очень устали, то он предложил мне лечь на диван, а сам он пойдет в спальню. Он подложил мне под голову подушку,
прикрыл меня своей шинелью и пожелал мне доброй
ночи, продолжая благодарить за то, что я не оставил его
одного.
В его братской нежности я чуял влияние его жены,
наполнявшей все его мысли, и я погрузился в глубокий
сон, причем, засыпая, я видел, как он тихонько подошел
ко мне и спросил еще раз, удобно ли мне.
40
Я проснулся к обеду. Он уже встал. Он боялся одиночества и предложил мне отправиться в парк и пообедать там. Я согласился, и мы целый день провели вместе, причем мы болтали о том и о другом, а больше всего
о женщине, к которой были прикованы наши жизни.
Два дня подряд я не виделся с ним и искал одиночества; для этого я удалился в библиотеку, в нижний
этаж, — прежде скульптурный зал, — который являлся самым подходящим убежищем для моего настроения. Большая зала в стиле «рококо» выходила на Львиный двор; в ней хранились рукописи. Я расположился
здесь, взяв первую попавшуюся рукопись, которая казалась мне достаточно старой, чтобы отвлечь мои мысли
от недавних событий. Но чем дальше я читал, тем сильнее сплеталось прошлое с настоящим, и пожелтевшие
письма королевы Кристины шептали мне признания
баронессы. Я избегал моего обычного ресторана, чтобы
не встречаться с друзьями. Я не хотел осквернять своего языка болтовней с безбожниками, которые ничего не
должны были знать о моем новом веровании; я ревниво охранял свою особу, которая в будущем должна быть
посвящена ей одной. Выходя на улицу, мне хотелось,
чтобы передо мной шли маленькие певчие и звоночками возвещали народу о приближении святыни, которую я нес в сокровищнице моего сердца. Мне казалось,
что я несу по улицам скорбь и печаль о королеве, мне
хотелось крикнуть миру, чтобы он обнажил головы перед смертью, перед моей мертворожденной любовью,
не имевшей никакой надежды на жизнь.
На третий день около часу дня я был выведен из моего оцепенения музыкой проходящего мимо отряда
гвардейцев; она играла траурный марш Шопена. Я подбежал к окну и увидал, что смену ведет барон. Он кивнул
мне с лукавой усмешкой; это он велел играть любимую
пьесу баронессы, и музыканты не знали, что они играют
41
в честь нас обоих перед толпой, которая ничего не подозревала.
Через полчаса барон пришел ко мне в библиотеку.
Я провел его по темным коридорам, заставленным шкафами и полками, в залу рукописей в нижнем этаже. Он
был в хорошем настроении и передал мне содержание
письма, полученного от жены. Все шло как нельзя лучше; в письме была записка ко мне, которую я быстро
пробежал, стараясь по возможности скрыть мое волнение. В простом, сердечном тоне она благодарила меня
за заботы об ее муже и признавалась, что ей очень польстила моя печаль после ее отъезда. В настоящее время
она находилась у «ангела-хранителя», она очень ее полюбила и расхваливала ее характер; в конце письма она
подавала мне некоторые надежды. Это было все.
Так значит, эта противная женщина, этот «ангел-
хранитель» любит меня; воспоминание о ней наполняло меня ужасом. Теперь помимо моей воли я вынужден
был играть роль любовника, я был впутан в отвратительную, может быть, бесконечную комедию. Действительно, нельзя безнаказанно шутить с любовью. Попав в ловушку, я в бешенстве старался беспристрастно взглянуть
на это неопрятное существо с монгольскими глазами,
серым лицом и красными руками. С дьявольской радостью представлял я себе ее соблазнительные приемы,
которыми она заставила меня полюбить себя, ее подозрительный вид, навлекший на меня насмешливые замечания со стороны моих друзей; они спрашивали
меня, как зовут девку, с которой я шляюсь по предместьям города.
С злой радостью думал я об ее хитростях, уловках
и упорстве в погоне за мной, об ее манере вынимать часы
из-за корсета, так, чтобы был виден кусочек белья. А то
воскресенье, когда мы гуляли в парке! Мы шли по главной аллее, но она вдруг предложила свернуть в чащу.
У меня волосы стали дыбом от ужаса, потому что такие прогулки в кусты пользовались вполне заслуженной
42
славой. Но на мое возражение, что это было бы неприлично, она сумела только ответить:
— Ах, что такое прилично!
Она хотела нарвать анемонов под орешником; она
свернула с аллеи и пошла в кусты. Я смущенно последовал за ней. Найдя укромное местечко за кустами, она
села, расправив платье так, чтобы можно было видеть
ее ноги, хотя и маленькие, но некрасивые. Наступило неловкое молчание, и она напомнила мне древних
распутниц Коринфа, приходивших в бешенство, если
их заставляли ждать обычного физического акта. Она
простодушно глядела на меня, и на этот раз я обязан
моей добродетелью только ее необыкновенному безобразию.
Все эти мелочи, о которых я до сих пор не думал, давили меня теперь, когда являлась возможность, что она
бросится в мои объятия, и я молил Бога о победе певца
в этой борьбе за любовь. Но я должен был надеть маску
и запастись терпением.
Пока я читал записку, барон сидел на столе, заваленном старинными книгами и рукописями. Он играл саблей и имел очень растерянный вид, словно испытывая
перед штатскими свою слабость в литературных познаниях, и на все мои попытки заинтересовать его научными трудами он отвечал одной фразой:
— Это, должно быть, очень интересно.
А я, подавленный величием его чина, орденами, шарфом, парадным мундиром, старался восстановить равновесие, выказывая ему мои познания; но я достиг только того, что он стал обнаруживать знаки беспокойства.
Сабля и перо; долой дворянина, доро1у гражданину! Может быть, ясновидящая женщина инстинктивно предчувствовала, кому принадлежит будущее, когда позднее она выбрала своим детям отца из грядущей
аристократии ума.
И мной и бароном овладело какое-то бессознательное смущение, несмотря на все его старание держаться
43
со мной как с равным. Не раз он высказывал даже свое
уважение к моей учености, показывая этим свое невежество в этой области; но если ему вдруг приходило в голову поважничать передо мной, то довольно было одного
слова о баронессе, чтобы сбить его с позиции. В ее глазах
наследственный герб не имел никакой цены, и парадный гвардейский мундир должен был склониться перед
покрытым книжной пылью сюртуком ученого. Может
быть, он сам понял это, когда надел блузу художника
и записался простым учеником в мастерскую? И все-
таки в нем замечалось влияние утонченного воспитания и предрассудки традиций; ревнивая вражда ученых
и военных перешла ему в плоть и кровь.
В настоящую минуту ему было необходимо излить
кому-нибудь свои горести, и он пригласил меня к себе
обедать.
После кофе он предложил мне написать баронессе;
он сам подал мне перо и бумагу. Не видя возможности
отказаться, я мучился, подыскивая банальные фразы,
чтобы скрыть свое чувство.
Окончив письмо, я подал его, не запечатывая, барону, чтобы принудить его этим прочесть.
— Я никогда не читаю чужих писем, — сказал он притворно гордым тоном.
— А я, — отвечал я, — никогда не пишу чужой жене,
не дав прочитать мужу.
Он одним взглядом пробежал записку и запечатал
ее вместе со своим письмом, улыбаясь ничего не говорящей улыбкой.
Я не видел его целую неделю, и наконец как-то вечером мы встретились с ним на улице. Он, казалось, очень
обрадовался, увидя меня, и мы отправились в кафе, где
он мог излить мне свою душу, как своему преданному
ДРУ^-
Он провел несколько дней на даче у кузины своей
жены. Еще не зная этой очаровательной особы, я уже
оценил ее влияние на поведение барона. Он сбросил
44
с себя свою обычную надменность и грусть. Лицо его
имело живое веселое выражение, он обогатил свою речь
несколькими вульгарными выражениями сомнительного вкуса, даже звук его голоса сильно изменился. Какая слабая воля, подумал я, он поддается всем влияниям; это чистый лист, на котором самая слабая женская
рука может чертить все глупости и фантазии неразвитого ума.
Барон сделался совершенно опереточным героем. Он
острил, рассказывал скандальные истории и был шумно весел. В штатском он потерял все свое очарование.
А когда после ужина, уже несколько навеселе, он предложил поехать к девицам, он стал мне прямо противен!
Ничего, кроме расшитого мундира, перевязи, орденов!
Ничего!
Когда его опьянение дошло до высшей точки, он начал мне поверять тайны своей супружеской жизни.
Я прервал разговор и встал недовольный, несмотря на
его уверения, что его жена разрешила ему развлекаться
на стороне во время его вдовства. Это показалось мне невероятным и еще больше убедило меня в целомудренности образа мыслей баронессы. Наконец на рассвете
мы расстались, и я отправился домой, смущенный всеми нескромными признаниями, которые мне пришлось
выслушать.
Жена, влюбленная в мужа, дает ему полную свободу после трех лет супружества, не требуя взамен такого же права! Это изумительно! Противоестественно,
как любовь без ревности, свет без тени. Непостижимо!
Он меня уверил, что его жена целомудренная натура.
Опять неестественно! И мать и девушка одновременно,
как я уже думал раньше; целомудрие — свойство высшей породы, душевная чистота, являющаяся культурным достоянием высших классов. Так мечтал я в моей
юности, когда девушки светского общества внушали
мне только чувство поклонения, не будя моей чувственности. Детские мечты, сладостное незнание женщины,
45
этой загадки, разгадать которую труднее, чем может думать старый холостяк.
Наконец баронесса вернулась; она сияла здоровьем
и молодостью, освежившись воспоминаниями и общением с друзьями юности.
— Вот и голубь, принесший оливковую ветвь, — сказала она, подавая мне письмо от моей мнимой невесты.
Я прочел высокомерную, бесцветную болтовню, излияния бездушной женщины, синего чулка, хотевшей
завоевать свободу браком с каким бы то ни было мужчиной.
Прочтя письмо с плохо сыгранной радостью, я захотел наконец очистить свою совесть в эту тяжелую минуту.
— Не можете ли вы мне сказать, — начал я, — что же
она — невеста этого певца?
— И да и нет!
— Она дала ему согласие?
— Нет!
— Она хочет выйти за него?
— Нет!
— А хотят этого ее родители?
— Они не выносят его.
— Но почему же она непременно хочет принадлежать ему?
— Потому что я не знаю!
— Она меня любит?
— Может быть!
— Тогда она просто помешана на мужчинах!
— Она решила выйти за того, кто может ей предложить больше благ! Разве это не правда? Разве она понимает что-нибудь в любви?
— Что вы понимаете под словом любовь?
— Говоря откровенно, это чувство, которое подавляет все другие, стихийная сила, перед которой ничто не
46
может устоять; любовь — она подобна грому, бурному
проливу, потоку, буре...
Она взглянула прямо мне в лицо и не сделала мне ни
одного упрека в защиту своей приятельницы.
— И вы так ее любите? — спросила она.
В эту минуту меня охватило желание открыть ей
правду; но что же тогда мне останется? Связь будет порвана; а эта ложь, которая должна охранить меня от преступной любви, стала мне теперь необходимой. Я уклонился от прямого ответа и просил ее больше не заговаривать об этом; прелестное чудовище умерло для меня,
и мне будет очень тяжело забыть ее.
Баронесса делала все возможное, чтобы утешить
меня, но должна была признаться, что певец был очень
опасен; на его стороне было то преимущество, что он
мог влиять личным присутствием.
Соскучившись нашим разговором, барон прервал
нас замечанием, что можно обжечь пальцы, вмешиваясь в чужие любовные дела.
Щеки баронессы вспыхнули от гнева при этом грубом замечании, и мне пришлось рассеять надвигавшуюся бурю.
Камень скатился; ложь, первоначально бывшая шуткой, все росла; боязнь и стыд привели меня к тому, что я
наконец сочинил сам себе историю и поверил ей. Я взял
на себя роль несчастного влюбленного, играть которую
мне было не трудно, принимая во внимание настоящее
положение вещей. Только предметом моей любви была
не она.
Таким образом, я был готов запутаться в сетях, расставленных мною же самим. В один прекрасный день
я нахожу у себя визитную карточку господина X, таможенного чиновника, другими словами, отца моего чудовища. Я сейчас же ответил на его визит. Маленький
старичок, до неприятного похожий на дочь, карикатура
47
на карикатуру. Он обошелся со мной, как с будущим
зятем; расспрашивал меня о моей семье, сбережениях, видах на будущее. Дело грозило принять серьезный оборот. Что делать? Я старался показаться ему как
можно незначительнее, чтобы отвлечь от себя его отеческое планы. Цель его путешествия в Стокгольм была
мне слишком ясна. Он думал избавиться от ненавистного певца; или же красавица решила выбрать меня
и послала своего агента поймать меня. Но я был неумолим, уклонялся от встреч, пропустил даже обед у баронессы, измучил беднягу тестя постоянной погоней
за мной, отговаривался серьезной работой в библиотеке, пока наконец он не уехал раньше назначенного
срока.
Если бы певец знал, кому он был обязан своим несчастливым браком, когда он женился на своей мадонне? Он не узнал этого никогда и приписывал себе одному честь победы.
После этого произошло новое событие, имевшее решающее значение для судьбы всех нас. Баронесса внезапно уехала с своей маленькой дочкой. Было начало августа. Ссылаясь на расстроенное здоровье, она выбрала
курорт «Мариенфриден», пустынное местечко на Ме-
фарском озере, где жила с родителями ее кузина.
Этот поспешный отъезд вскоре по возвращении удивил меня. Но, так как это меня не касалось, то я воздержался от всяких вопросов. Через три дня барон пригласил меня к себе. Он был беспокойно и нервно настроен
и таинственно сообщил мне, что баронесса скоро вернется.
— Почему? — спросил я, будучи не в силах скрыть
своего изумления.
— Потому что... у нее расстроены нервы; климат ей
не подходит, она пишет очень неясно, это сильно меня
беспокоит. Я вообще не всегда понимаю ее; ей приходят
в голову такие безумные мысли; между прочим, ей кажется, что ты сердишься на нее.
48
— Как мне следовало держать себя?
— Ну, разве это не глупо? — продолжал он. — Во всяком случае, я тебя убедительно прошу, не показывай никакого удивления, когда она вернется; она стыдится своего непостоянства, а так как она невероятно горда, то
сделает что-нибудь необдуманное, если увидит, что ты
насмехаешься над ее капризами.
Ну вот, скрытые беды начинают выходит наружу, подумал я. С этой минуты я стал готовиться к отступлению, я боялся впутаться в роман страстей, катастрофа
которого должна была скоро разразиться.
Первое приглашение я отклонил под плохо выдуманным и фальшивым предлогом. Затем последовала
встреча с бароном, который спросил меня о причинах
моего не дружеского отношения. Я не знал, что ответить;
он же воспользовался моим замешательством и взял
с меня слово поехать вместе с ними за город.
Баронесса выглядела слабой и утомленной, только
глаза ее блестели. Я был сдержан, говорил ледяным тоном и держался очень далеко. После про1улки на пароходе мы зашли в знакомый ресторанчик, где условились
встретиться с дядей барона.
Ужин на открытом воздухе прошел довольно скучно; перед нами расстилалось темное озеро, окруженное мрачными горами, над нами шелестели столетние
липы, и чернели их стволы.
Разговор тянулся вяло и касался вещей безразличных. Я заметил, что между супругами произошла какая-
то размолвка, и не хотел присутствовать при вспышке.
К несчастью, барон с дядей встали, им надо было переговорить наедине. Теперь пришло время взрыву.
Баронесса вдруг обернулась ко мне.
— Вы знаете, что мой муж был очень недоволен моим
внезапным возвращением?
— Не имею ни малейшего понятия.
— Представьте, он надеялся каждое воскресенье навещать прелестную кузину.
49
— Сударыня, — прервал я ее, — не лучше ли вам
принести ваши жалобы в присутствии самого обвиняемого?
Что я сказал? Это было грубо, это был строгий, прямой выговор, который я бросил в лицо неверной жене
в защиту существа одного пола со мной.
— Это уж слишком! — воскликнула она, то бледнея,
то краснея.
— Да, это слишком, сударыня!
Этим было все сказано! Все было кончено.
Когда тут же приблизился ее муж, она быстро подошла к нему и взяла его под руку, как бы ища защиты от
врага. Барон заметил это, но не понял.
На пристани я откланялся, ссылаясь на визит на соседнюю виллу. Я вернулся в город, сам не знаю как. Ноги
несли бездушное тело, жизненные нити были порваны,
по дороге плелся только труп.
Один, опять одинокий, без семьи, без друзей! Нечему поклоняться! Божества больше не было, мадонна
низвергнута, на ее месте выступила женщина, коварная,
вероломная, выпустившая когти. Желая сделать меня
своим поверенным, она совершила первый шаг, ведущий к разрушению брака; и в эту минуту во мне проснулась ненависть одного пола к другому. Она оскорбила во мне мужчину и человека, я чувствовал себя союзником ее мужа в борьбе против женщин. Я заключил
перемирие со своей добродетелью. Я не гордился этим,
потому что мужчина берет только то, что ему дают; он
никогда не бывает вором; только женщина ворует, или
продает себя. И единственный случай, когда она бескорыстно идет на опасность потерять все, — это, к сожалению, измена мужу. Публичная женщина продается,
жена продается, и только изменница отдает любовнику
то, что она крадет у мужа. Но я не хотел иметь ее любовницей, она всегда внушала мне только дружбу; охраняемая присутствием ребенка, она всегда была закована в броню материнского достоинства; а так как у нее
50
был муж, то меня ничто не соблазняло пользоваться наслаждениями, которые нечисты сами по себе и облагораживаются только полным и безраздельным обладанием.
Разбитый и уничтоженный добрался я до моей одинокой комнатки, покинутый всеми, потому что с самого
начала моего знакомства с баронессой я порвал все сношения с товарищами.
Я жил под крышей в довольно большой комнате;
ее два широких окна выходили на новую гавань, залив
и скалистые утесы южного предместья. Перед окнами
я устроил скромный садик. Бенгальские розы, азалии
и герань по очереди снабжали меня цветами для тайного поклонения мадонне и ее ребенку. У меня вошло
в привычку каждый день при наступлении вечера спускать занавеси, ставить полукругом горшки с цветами,
а посреди освещенный лампой портрет баронессы. Она
была изображена на нем молодой матерью с бесконечно чистым, но несколько строгим выражением лица
и прелестной головкой, окаймленной белокурыми волосами; на ней было светлое платье с высоким воротом
и кружевным воротником; рядом с ней на столе стояла
маленькая девочка, вся в белом; она глядела на зрителя
своими глубокими печальными глазами. Перед этим
портретом я писал письма «К моим друзьям», которые
я на следующий день отправлял по адресу барона. Это
был единственный исход для моих писательских наклонностей, и я изливал в них всю глубину моей души.
Чтобы направить на правильный путь этот неудачный
художественный дар, я посоветовал баронессе поискать
в литературной деятельности исход для своих поэтических фантазий. Я принес ей художественные образцы
всех литератур и дал ей первые указания к литературной деятельности путем замечаний, сравнений и объяснений, к которым я прибавлял иногда свои советы
и практические указания. Она не особенно заинтересовалась этим и высказала сомнение в своей способности
51
быть писательницей. На это я возражал, доказывая,
что каждый образованный человек обладает способностью написать по крайней мере письмо и, следовательно, носит в себе более или менее развитой писательский дар. Но это ничему не по могло, — страсть
к театру слишком глубоко и прочно укоренилась в ней.
Ей казалось, что у нее природное сценическое дарование, а так как, благодаря своему положению, она не
могла выступить на сцене, то ей нравилось разыгрывать роль мученицы, что шло в ущерб ее супружескому
счастью. Ее муж, мой соучастник в той благотворной
идее, которую я высказывал исключительно из тайной
цели не довести супругов до разрыва, был мне очень
благодарен, но не решался выступить открыто. Я становился все настойчивее перед сопротивлением баронессы.
— Возьмите что-нибудь из вашей жизни, — писал
я, — у вас была очень разнообразная жизнь; возьмите
несколько листов бумаги, перо, будьте искренни, и вы
станете писателем, — цитировал я ей известные слова
Берне.
— Тяжело переживать вторично горести жизни, —
отвечала она. — Нет, я стремлюсь к искусству, чтобы
найти забвение, воплощаясь в характеры, совершенно
отличные от моего.
Я никогда не задавался вопросом, что она хочет забыть, потому что, в сущности, я не знал ее прошлого. Боялась ли она помочь разрешению загадки или дать ключ
к пониманию ее характера? Стремилась ли она к сценическому искусству, чтобы спрятать себя за его масками
или прославиться в ролях, более значительных, чем она
сама?
Исчерпав все доводы, я посоветовал ей начать с переводов, чтобы усовершенствовать свой стиль и завести
знакомство с издателями.
— А хорошо оплачиваются переводы? — спросила
она.
52
— Довольно хорошо, но надо основательно знать свое
дело, — отвечал я ей.
— Не думайте, что я такая жадная, — возразила
она, — но работа, не дающая никакого действительного
результата, совсем не привлекает меня.
Она была одержима манией современных женщин
самой зарабатывать свой хлеб. Барон скептически улыбался, он предпочитал, по-видимому, чтобы жена его
больше занималась домом, чем зарабатывала пару
пфеннигов на приходящее в упадок хозяйство.
С этого дня она начала осаждать меня просьбами достать ей переводы и отыскать издателя. Чтобы выпутаться из этого дела, я принес ей две короткие статейки для
отдела смеси одного иллюстрированного журнала, который ничего не платил за это.
Прошла целая неделя, а работа, которую свободно
можно было сделать в два часа, все еще была не кончена. А когда барон осмелился подразнить ее, называя бездельницей, которая любит поспать до полудня, она так
вспылила, что, несомненно, это было ее больное место.
После этого я перестал заводить об этом разговор, вовсе
не желая бросать яблоко раздора между супругами.
Так обстояли дела, когда разразилась гроза.
Сидя за столом у себя в мансарде и перечитывая письма баронессы, я почувствовал, как сжалось мое сердце.
Это была отчаявшаяся душа, согнутая сила, не проявленный талант, совершенно, как я. Отсюда и зародилась
наша симпатия. Я страдал из-за нее, как из-за больного органа, введенного в мою страдающую душу, съежившуюся и неспособную испытывать даже ужаснейших
ощущений боли.
И что же она сделала, за что лишилась моего сочувствия? Охваченная справедливой ревностью, она пожаловалась на свое супружеское несчастье. А я оттолкнул
и жестко упрекнул ее вместо того, чтобы образумить ее,
что было бы совсем не трудно, судя по словам ее мужа,
так как она давала ему полную свободу.
53
Меня охватила бесконечная жалость к этой женщине, в духовном и телесном образе которой было скрыто
столько тайн и противоречий. Мне казалось в эту минуту, что я совершил несправедливость, наводя ее на ложный путь. Мое отчаяние становилось все сильнее, и я сел
писать ей; я просил у нее извинения и умолял забыть
происшедшее между нами, я хотел изгладить дурное
впечатление, ссылаясь на недоразумение. Но я не находил подходящих слов, перо неподвижно лежало у меня
в руке, и, охваченный усталостью, я бросился на постель.
Проснувшись на следующее утро, я увидел теплый
пасмурный августовский день. Разбитый и печальный
отправился я в библиотеку; не было еще восьми часов,
но у меня был ключ, и я мог войти и провести там в одиночестве три часа до открытия. Я бродил по проходам
между двумя рядами книг, охваченный чувством восхитительного одиночества в интимном общении с величайшими умами древности.
По временам я вынимал один из томов и старался
сосредоточиться на чем-нибудь, чтобы забыть тяжелое
впечатление вчерашней сцены. Но ничто не могло изгладить запятнанного образа низвергнутой мадонны.
Поднимая глаза от страниц книги, которые я пробегал, не понимая ни слова, мне казалось, что я вижу ее,
как в какой-то галлюцинации, нисходящей по ступеням
лестницы, которая бесконечной перспективой убегала
в конце низкой галереи. Я видел, как она идет вниз, придерживая складки голубого платья, так что видны ее маленькие ножки, видел, как она вызывала меня на измену своим острым взглядом, заманивала своим лживым,
сладострастным взором, который я в первый раз открыл
у нее вчера. И этот призрак будил во мне чувственные
желания, которые я подавлял в себе три месяца, — таким целомудренным сделала меня окружавшая ее атмосфера чистоты; доказательство, что вожделения, как
54
говорят, начинают индивидуализироваться, когда сосредоточиваются на одном единственном существе. Несомненно, я стремился к ней, представлял ее себе нагой,
переносил на ее белое тело все линии ее одежды, известные мне наизусть. И как только мои мысли нашли себе
цель, я начал рассматривать художественное издание
итальянских музеев, содержавшее в себе снимки всех известных скульптур. Я хотел произвести научное исследование, чтобы открыть формулу этой женщины; я думал найти вид и род, от которого она происходит. Выбор был огромный. Венера, полногрудая, с широкими
бедрами, нормальная женщина, уверенная в победе своей красоты, ожидающая мужа! Это не она. Юнона, плодовитая мать с ребенком, благословенная детьми женщина, раскинулась на супружеском ложе, заставляя ценить все очарование ее чудного тела. И это не то! Может
быть, Минерва, синий чулок, старая девственница, скрывающая под мужскими латами свою плоскую грудь? Ни
в каком случае!
А Диана! Бледная супруга ночного светила, боящаяся
дневного света и свирепая в своем вынужденном целомудрии; скорее мальчик, чем девушка, благодаря неправильности сложения, не мо1ущая простить Актеону, что
он застал ее во время купанья. Тип Дианы, может быть,
и подошел бы, но не ее род! Будущее решит это! И это
нежное тело, эти прелестные члены, эти изящные формы, эта гордая улыбка, эта скрытая под покровом грудь
жаждали крови и тайных наслаждений? О, какая ужасная мысль!
В своих поисках я перелистал все художественные издания, собранные и хранимые в богатой королевской
коллекции, рассматривая различные снимки целомудренной богини. Я делал сравнения, искал подтверждения своих взглядов, как ученый бросался с одного конца
длинной залы на другой, потому что каждое сочинение
делало ссылки на то или другое, и в этом прошло время
55
до наступления рабочего часа, когда приход моих товарищей вернул меня к моим обязанностям.
Вечером я решил пойти в клуб к друзьям. Когда я вошел в лабораторию, меня встретили адским шумом, от
которого у меня сразу повеселело на сердце. Посреди
комнаты стоял в виде алтаря стол, украшенный черепом
и огромным кубком с синильной кислотой перед ним.
Кругом стояли стаканы пунша, наполняемые из реторты; товарищи были уже несколько навеселе. После
того, как мне подали дистилляционную колбу, содержащую около пол-литра, и я залпом опустошил до дна,
все члены общества крикнули в один голос пароль клуба «Проклятье!», на что я отвечал, затянув известную
«Песнь бездельника».
После этого введения поднимается всеобщий шум,
ужасные крики, и, приветствуемый громкими восклицаниями, я произношу свою глупую речь. В высокопарных стихах с анатомическими выражениями восхваляется женщина, как олицетворение неспособности мужчин
веселиться между собой.
Я опьянял себя гнусными речами, профанацией мадонны, болезненным результатом неудовлетворенных
желаний. Вся моя ненависть против моего ложного божества прорвалась наружу, и я ощутил некоторое чувство горького утешения. Собутыльники мои, бедные
малые, знающие любовь только по публичным домам,
в восхищении слушают, как я мешаю с грязью женщину
из общества, недоступную им.
Опьянение все возрастает. Мне приятно слышать
мужские голоса после долгого нежного мяуканья фальшивой честности и лицемерной невинности. Словно
снимаешь маску, отбрасываешь мнимую святость, прикрывающую ничтожество. Я вижу перед собой свое божество, как оно предается всем излишествам супружеской любви, только чтобы рассеять скуку мучительного
56
существования. На нее, отсутствующую, изливаю я все
низости, нападки, оскорбления, в слепой ярости, что
я не обладаю ею, потому что я боюсь измены, несмотря
ни на что.
Лаборатория является в эту минуту моему воспламененному взору, как чудовищная оргия всех страстей,
дивные стаканчики на полках сверкают всеми цветами
радуги: пурпурный — свинцовой охры, оранжевый —
хром-калия, желтый — сернистой сурьмы, зеленый —
углекислоты, синий — медного купороса. Воздух отравлен табачным дымом и запахом аракового пунша, приготовленного с лимоном; он будит неясное воспоминание
о живых землях; на расстроенном пианино терзают траурный марш Бетховена; бледные силуэты пьющих, подобно теням, мелькают в сизых облаках дыма; золотая
перевязь лейтенанта, черная борода доктора, череп с пустыми глазными впадинами, шум и крик, невероятная
какофония, — все вместе вызывает разные образы; все мешается в моем разгоряченном мозгу — и вдруг раздается
призыв одним единодушным криком: «К женщинам»!
И все хором начинают петь: «Вино и любовь — вот
истинная цель жизни!»
Мы хватаем пальто и шапки, и все общество отправляется на улицу.
Полчаса спустя вся банда сидит уже у женщин; заказывают ужин, зажигают огонь, и сатурналии начинаются живыми картинами...
Проснувшись поздно утром в своей комнате, я с удивлением почувствовал, что почти вполне владею собой.
Нездоровые ощущения исчезли, и культ мадонны рассеялся, как дым, в наслаждениях этой ночи. Я смотрел
теперь на мою любовь, как на слабость духа и тела —
в то время оба казались мне имеющими одно значение.
Приняв холодную ванну и плотно позавтракав, я отправился на работу, довольный, что все кончилось так
57
хорошо. Работа шла необыкновенно легко, и часы быстро летели.
Было уже половина первого, когда служитель доложил мне о приходе барона.
«Так, значит, еще не все кончено», — подумал я, готовясь к мо1ущей произойти сцене.
Барон вошел сияющий и веселый; он сердечно пожал мне руку и пригласил принять участие в про1улке
на пароходе в курорт Федертелье, где давался любительский спектакль.
Я отговаривался, ссылаясь на неотложные дела.
— Но моя жена очень просила вас ехать с нами, —
возразил он, — и к тому же Бэби тоже поедет...
Бэби это была кузина. Он уговаривал меня так настойчиво и трогательно, так дружески смотрел на меня
своими добрыми глазами, что я почувствовал, как решение мое начинает колебаться. Но вместо того, чтобы согласиться прямо, я спросил:
— А как себя чувствует баронесса?
— Вчера она была нездорова, ей было очень плохо, но
сегодня ей лучше. Скажите мне, дорогой друг, — продолжал он, — что собственно произошло третьего дня
между вами? Жена мне рассказала, что в ваш разговор
вкралось недоразумение, и вы без всякой причины рассердились на нее.
— Даю вам слово, — отвечал я несколько неуверенно, — я сам не понимаю этой истории. Может быть,
я выпил лишнее, и у меня вырвалась какая-нибудь глупость.
— Оставим это, — возразил он, — и станем добрыми друзьями по-прежнему. Ведь вы знаете женщин, они
такие восприимчивые... Так вы согласны, правда? Мы
встретимся около четырех часов!
Я согласился.
Необычайная загадка: недоразумение! И все-таки она
страдала! Страдала из страха, от досады, или еще от какой другой причины?
58
События приняли интересный оборот, когда на сцену выступила маленькая незнакомка; и не без сердечного трепета я отправился к четырем часам на назначенную пристань.
Подойдя к друзьям, я сразу заметил, что баронесса
приветствует меня с нежностью сестры.
— Ведь вы не сердитесь на меня за мою резкость, —
начала она, — я так легко раздражаюсь...
— Не будем говорить об этом, — прервал я ее и отыскал ей местечко на защищенной стороне мостков.
— Господин**, фрёкен***, — представил барон, и я увидал молодую девушку лет восемнадцати, похожую на субретку; именно такой я и представлял ее себе. Она была
небольшого роста, с незначительным личиком, одета
просто, но с легким оттенком искусственного изящества.
А баронесса! Бледная, с впавшими щеками, такая худенькая! Браслеты звенели на ее руках, платье с закрытым воротом; можно было видеть голубые жилки возле ушей, которые как-то особенно выступали, благодаря
небрежной прическе. Она была дурно одета в негармоничные, кричащие цвета. В эту минуту она положительно была некрасива. Она внушала мне глубокую жалость,
и я искренно сожалел о моей вчерашней несправедливости. Как мог я принять ее за кокетку! Она скорее была
мученицей!
Святая, терпящая незаслуженное несчастье!
Пароход отошел; чудный августовский вечер на Ме-
ларском озере располагал к тихой мечтательности.
Случайно или намеренно барон с кузиной заняли места рядом настолько далеко от нас, что мы не могли слышать их разговора. Наклонившись к молодой девушке,
барон болтал, смеялся и шутил с веселым, помолодевшим лицом жениха.
По временам он бросал нам лукавый взгляд, на который мы кивали ему с улыбкой.
— Не правда ли, какая веселая эта малютка? — спросила меня баронесса.
59
— Кажется, да, баронесса, — отвечал я, не зная хорошенько, какое надо при этом сделать лицо.
— Она так хорошо умеет развеселить моего мужа;
я совершенно лишена этого дара, — прибавила она,
взглядывая на них с улыбкой искренней симпатии.
В эту минуту на лице ее отразился отпечаток подавленной печали, осушенных слез, сверхчеловеческого отречения; словно облако пронеслось по нему то неясное
отражение доброты, самоотверженности и покорности,
которое встречается обыкновенно у женщин, ожидающих ребенка, и у молодых матерей.
Охваченный раскаянием и стыдом за мое необоснованное мнение о ней, я с трудом подавил слезы и постарался завести простой разговор.
— И вы не ревнуете?
— Нисколько, — отвечала она с открытой улыбкой,
без малейшего следа злобы. — Вам это покажется странным, но это так: я люблю моего мужа, он человек честный, и я обожаю эту прелестную малютку. Это все так
невинно. Ревность заставляет нас дурнеть, а в моем возрасте надо обращать на это внимание.
А на самом деле ее подавленное состояние высказывалось душераздирающим образом; охваченный бессознательным сочувствием, я отеческим тоном просил
ее накинуть шаль, чтобы не простудиться на сильном
ветру. Я набросил ей на плечи пушистый платок, так
что он обрамлял и ее лицо, выделяя его нежную красоту.
Как она была прекрасна, когда благодарила меня
улыбкой! На лице ее появилось счастливое выражение
и как бы благодарность ребенка, тоскующего по ласке.
— Бедный мой муж, я так рада, что вижу его наконец
веселым. Вы не поверите, сколько у него забот.
— Баронесса, — решился я наконец сказать, — я не
хочу быть нескромным, но скажите мне, ради всего святого, что с вами; ведь не надо быть особенно проницательными, чтобы заметить, что в вашей жизни есть ка¬
60
кое-то больное место. Я не Moiy помочь ничем, кроме
доброго совета, но если я могу быть вам полезен в этом
смысле, рассчитывайте всецело на мою дружбу.
И тут я узнал, что моего бедного друга непрестанно мучил страшный призрак грозящего им разорения.
Незначительное жалованье барона пополнялось до сих
пор из приданого баронессы, но в последнее время это
приданое оказывалось весьма фантастичным, так как
большая его часть находилась в ненадежных бумагах. Барон поэтому собирался выйти в отставку и искал места
в банке.
— И поэтому, — добавила она, — я и хотела использовать свой талант, чтобы увеличить наш заработок. По
моей вине он попал в такое положение, я испортила ему
всю карьеру...
Что тут можно было сказать или сделать?
Такой серьезный вопрос решить было трудно.
Я постарался обрисовать дело с поэтической точки
зрения; вообразил, что все это пустое и, нарисовав ей
беззаботное будущее, полное радостных перспектив,
постарался статистически доказать ей, что вскоре наступит улучшение в экономическом положении и бумаги снова поднимутся; я приводил сказочные аргумен-
ты, создал, как по волшебству, новые реформы армии,
которые поведут за собой неожиданные повышения по
службе.
Все это были поэтические измышления, но, благодаря моей фантазии, я придал ей мужество и надежду
и привел ее даже в хорошее расположение духа.
Высадившись на берег, мы отправились попарно гулять по парку в ожидании начала спектакля. Я не обменялся еще ни одним словом с кузиной, так всецело
завладел ею барон; он нес ее манто, глядел на нее горящим взглядом, изливал на нее потоки слов и обдавал ее своим дыханьем, а она оставалась равнодушной
и холодной, с ледяным взором и строгим выражением
лица. Время от времени она, по-видимому, вставляла
61
в разговор односложные замечания, вызывавшие громкий смех барона, но на ее лице не вздрагивал ни один
мускул. Судя по веселому выражению лица барона,
можно было заключить, что она все время говорила намеками или даже двусмысленностями. Наконец, театр
отперли, и мы вошли поскорее занять свободные места.
Занавес взвился. Баронесса была в восторге видеть снова
сцену и вдыхать смешанный запах размалеванного холста, сырого дерева, белил и пота.
Играли «Каприз». Мною внезапно овладело какое-то
недовольство, не то благодаря горькому сознанию моей
неудавшейся жизни, для которой навсегда закрыта сцена, не то вследствие вчерашнего кутежа. Когда занавес
упал, я поднялся и потихоньку прошел обратно в ресторан подбодрить себя двумя рюмками абсента. Представление между тем кончилось. Друзья мои пришли ужинать, как было условлено. Они казались усталыми и с
трудом сдерживали свою досаду на мое бегство. Стол
был накрыт при всеобщем молчании. Вчетвером разговор завязывается не так легко; кузина молчит высокомерно и сдержанно.
Наконец начинается обсуждение меню.
Баронесса, спросив моего мнения, выбирает наконец,
закуску но барон резко отменяет ее заказ; этот тон задел меня за живое, мною овладевает бешенство, и, делая
вид, что я не понял его, я заказываю выбранную ею закуску для двоих, для нее и меня.
Барон смертельно побледнел. В воздухе чувствовалась гроза, но не было произнесено ни слова.
Удивляясь своему собственному мужеству ответить
невежливостью на оскорбление, что во всякой другой
цивилизованной стране вызвало бы серьезное столкновение, я молча принялся за еду. Баронесса, приободрившись благодаря моей храброй защите ее прав, подсмеивалась надо мной, стараясь меня рассмешить. Но
старание ее было напрасно. Никакой разговор не был
возможен; нам нечего было сказать друг другу, и мы с ба¬
62
роном только обменивались грозными взглядами. Наконец, мой противник начал шептаться со своей спутницей, которая отвечала ему кивком головы и мелким
движением iy6; при этом она все время бросала на меня
презрительные взгляды.
Кровь бросилась мне в голову, и буря уже готова была
разразиться, когда совершенно непредвиденное обстоятельство вдруг послужило нам громоотводом.
Веселая компания, занимавшая комнату рядом с нашей, уже с полчаса немилосердно барабанила по рояли,
а теперь, окончательно развеселившись, они запели хором, не обращая внимания на открытые двери.
— Затворите дверь, — приказал барон кельнеру. Но
едва дверь затворилась, как ее снова распахнули, и певцы продолжали петь, бросая вызывающие слова.
Это был удобный для меня предлог разразиться гневом.
Я вскочил с места, в два прыжка очутился у двери и захлопнул ее перед носом распевающей компании. Искра
в бочке пороха произвела бы тот же эффект, как мое решительное выступление против врага. После короткой
борьбы, когда я крепко держался за ручку двери, дверь
уступила силе, и я очутился среди разъяренной толпы,
которая набросилась на меня, готовая вступить в драку.
В ту же минуту я почувствовал, как чья-то рука легла мне
на плечо и взволнованный голос обращался к чести этих
господ, набросившихся в таком большом числе на меня
одного... Это была баронесса; забыв приличие и хороший тон, она последовала внезапному побуждению, говорящему о более теплом чувстве, чем, может быть, она
хотела показать. Ссора кончилась, и баронесса, пытливо
глядя на меня, сказала:
— Вы храбрый, маленький герой; а как я испугалась
за вас!
Барон спросил счет и велел позвать старшину.
Между нами снова воцарилась полная гармония, и мы
единогласно от души возмущались невоспитанностью
63
местных жителей. Слепую бешеную ревность и оскорбленное чувство чести мы сообща излили не бездельников полицейских, и дома за стаканом пунша дружба наша снова загорелась ярким пламенем, так что мы
даже не заметили, что старшина так и не появился.
На следующее утро мы сошлись в кафе, веселые и довольные, что вышли из неприятного положения, последствий которого нельзя было предвидеть.
После кафе мы отправились пройтись по набережной канала, по-прежнему парами и на известном расстоянии друг от друга. Дойдя до шлюза, где канал делает поворот, барон остановился и обернулся к жене
с нежной, почти влюбленной улыбкой.
— Ты помнишь это место, Мария? — спросил он ее.
— Да помню, милый Густав! — отвечала она с любящим и в то же время печальным выражением лица.
И она объяснила мне: — Здесь он объяснился мне в любви однажды вечером, когда мы смотрели на падающие
звезды, стоя под этой самой березой...
— Три года тому назад... — докончил я ее фразу. —
А теперь вы снова возвращаетесь к старым воспоминаниям, и живете прошлым, потому что настоящее не
дает вам никакого удовлетворения.
— Довольно, — это заведет нас слишком далеко...
Я ненавижу прошлое и благодарю моего славного мужа,
что он избавил меня от тщеславной матери; я бы задохнулась под ее нежным деспотизмом. Нет, я обожаю моего Густава, он мой самый верный друг...
— Как вам угодно, баронесса, я всегда согласен с вами,
чтобы сделать вам приятное.
В назначенный час пароход отплыл обратно в город, и после поездки по голубому озеру с тысячью зеленых островков мы пристали к набережной и распростились.
Я решил приняться за работу с строгим намерением
вырвать из души это безумие, принявшее вид женщины; но я скоро увидел, что не рассчитал, что есть силы
64
сильнее меня самого. На следующий же день я получил
приглашение на обед к баронессе, праздновавшей в этот
день годовщину своей свадьбы.
Отказаться было невозможно, и, несмотря на мои
опасения, что наша дружба может нарушиться, я явился к ним в назначенный час. Представьте же себе мое
изумление, когда я нашел весь дом в беспорядке, благодаря большой уборке; барон был в отвратительном
настроении, баронесса еще не выходила и просила
меня извинить за запоздавший обед. Прогулка по маленькому садику с сердитым, голодным бароном, едва
скрывавшим свое нетерпение, отняла у меня последние остатки искусства поддерживать разговор, так что
наша беседа замерла окончательно, и после получаса
унылого молчания мы сочли за лучшее вернуться в столовую.
Стол был уже накрыт и уставлен закусками, но хозяйка все еще не появлялась.
— Пойдем и закусим немножко, — предложил мне
барон.
Я всячески уговаривал его подождать, я хотел пощадить впечатлительность баронессы. Но он ничего не хотел слушать; я очутился между двух огней, и мне ничего
не оставалось, как покориться.
Наконец вышла прелестная, помолодевшая баронесса; она была прекрасно одета в свои любимые цвета — желтое с лиловым; платье из прозрачного шелка
великолепно сидело на ней, обрисовывая ее девичью талию, личико, очерченные плечи и стройные, изящные
руки. Я поспешил поднести ей букет роз с пожеланием еще многих лет празднования этого дня и, извиняясь за наше невежливое нетерпение, свалил всю вину на
барона.
Она сделала гримасу, увидев беспорядок на столе,
и бросила мужу упрек, который звучал больше горечью,
чем шуткой; барон сейчас же возразил на эти несколько
незаслуженные упреки. Я поспешил прервать их спор,
65
заговорив о последнем вечере, о чем, впрочем, мы уже
достаточно наговорились с бароном.
— А как вам понравилась моя прелестная кузина? —
спросила меня баронесса.
— Необыкновенно! — воскликнул я.
— Не правда ли, милый друг, этот ребенок настоящее сокровище! — воскликнул барон с таким серьезным
участием и состраданием, как будто дело шло о невинности, преследуемой тиранами.
Но баронесса, подхватив слово «ребенок», жестко отпарировала:
— Посмотрите, как это прелестное бэби растрепало
волосы моему мужу.
Действительно пробор барона исчез, волосы его были
развиты a la cheval, усы закручены кверху, что совершенно меняло выражение его лица. Но по ассоциации идей
я заметил, что и баронесса позаимствовала у очаровательной кузины некоторые мелочи в прическе, туалете
и даже манерах. Можно было подумать, что химическое
сродство вполне проявилось здесь между двумя живыми существами.
Между тем обед тянулся тяжело и грузно, как повозка, потерявшая четвертое колесо. К кофе ждали необходимого теперь четвертого члена нашего квартета, не налаживающегося больше в трио. За десертом я произнес
тост в честь супругов, тост самый обыденный, без всякого подъема, как отстоявшееся шампанское.
Супруги обнялись, охваченные воспоминаниями
прежних лет, и под влиянием ласки они сделались
снова влюбленными и нежными, как актер становится наконец сам печальным, изображая искренние слезы. Или под пеплом, может быть, еще тлел огонь, готовый разгореться, если искусная рука сумеет вовремя
раздуть его. Трудно было предсказать, чем все это кончится.
Мы сошли в сад и сели в беседке, откуда была видна
аллея. Разговор тянулся вяло, а рассеянный барон, на¬
66
сторожившись, выглядывал на улицу, не идет ли кузина.
Вдруг он бросился из беседки, оставив нас одних, вероятно с намерением пойти навстречу гостье.
Оставшись наедине с баронессой, я почувствовал некоторое смущение; я был не очень конфузлив, но она
имела очень странную привычку пристально оглядывать меня с ног до головы, хваля ту или другую мелочь
в моем туалете. После долгого неловкого молчания она
вдруг рассмеялась и указала рукой по тому направлению, куда скрылся барон.
— Как он влюблен, мой милый Густав! — заметила
она.
— Да, кажется, — отвечал я. — А вы не ревнуете?
— Нисколько! — возразила она. — Я обожаю эту прелестную маленькую кошечку. Ну, а как чувствуете себя
вы, что испытывает ваше сердце при виде моей прелестной кузины?
— Я чувствую себя прекрасно, баронесса. Говоря совершенно откровенно и не желая вас обидеть, я должен
признаться, что она, эта дама, не внушает мне особой
симпатии.
И это была правда. С первого же взгляда эта девушка, принадлежащая, как я, к среднему сословию, невзлюбила меня. Я был для нее неудобный свидетель или,
вернее, опасный соперник, охотящийся на одном участке с ней, который она отвела себе, чтобы быть принятой
в общество. Своими маленькими светло-серыми проницательными глазками она сразу разглядела во мне особу, знакомство с которой не принесет ей никакой пользы, и своим буржуазным инстинктом она считала меня
карьеристом. До известной степени она была права, потому что, знакомясь, я имел только целью найти людей,
заинтересованных моей драмой, но влияние моих друзей в театральных сферах оказалось выдумкой финки,
и о моем произведении никогда не заходил разговор,
кроме нескольких общепринятых комплиментов по его
адресу.
67
Барон, легко поддающийся каждому влиянию, показал своим обращением со мной, вполне изменившимся в присутствии кузины, что он начинает смотреть на
меня глазами коварной красавицы.
Нам, впрочем, пришлось недолго ждать, пока оба союзника появились у решетки, громко смеясь и болтая.
Малютка в этот вечер была необыкновенно оживлена. Она болтала на жаргоне уличных мальчишек, говорила всевозможные двусмысленности с таким милым
и невинным видом, словно не понимала скрытого смысла слов; она курила и пила, ни на минуту не забывая держать себя как женщина и даже, скорее, как молоденькая
дама. Ни малейшего оттенка мужественности или эмансипации, ни следа щепетильности. Одним словом, она
была очень забавна, и часы быстро летели.
Но одно заставляло меня предугадывать грядущие
события — это та необычная веселость баронессы, с которой она принимала каждую двусмысленность, срывавшуюся с уст кузины. Тогда на ее лице появлялась нехорошая улыбка, чувственное выражение, и это указывало,
что она глубокий знаток во всех тайных наслаждениях.
Во время нашей веселой болтовни явился еще дядя
барона: старый вдовец и полковник, внимательный к дамам, с любезными манерами несколько свободного старомодного типа ухаживания, прикрываясь близким
родством, он был признанным любимцем дам, расположение которых он умел быстро заслужить.
Поэтому он давал себе полную свободу ласкать их, целовать ручки, гладить по щечкам; при его появлении обе
дамы с радостным криком бросились ему в объятия.
— А, малютки, будьте осторожнее! Две за раз — это
слишком для такого старого малого. Не играйте с огнем!
Лапки прочь, или я ни за что не ручаюсь!
Баронесса протянула ему папиросу, которую она
держала во рту:
— Дай мне немножко огня, дядя! — весело закричала она.
68
— У меня его больше нет, девочка; он потух пять лет
тому назад, — отвечал он с лукавой усмешкой.
Баронесса слегка ударила его по щеке, но старик схватил ее руку обеими руками и погладил до локтя.
— Ты совсем не так худа, милочка, как кажется, —
продолжал он, ощупывая ее мягкую белую руку!
Баронесса позволяла ему это, по-видимому довольная комплиментом; все с тою же чувственной улыбкой
она подняла рукав и показала свою изящную, словно точеную белоснежную руку. Вдруг она вспомнила о моем
присутствии, но было уже поздно, я уже уловил искру
неукротимого пламени, сверкнувшего в ее глазах, на
лице женщины, охваченной влюбленным опьянением.
По рассеянности я уронил в эту минуту спичку, которой
хотел закурить папиросу, между сорочкой и жилетом.
С криком ужаса баронесса бросилась ко мне и, протянув руки, закричала вся красная от волнения: «Горите!
Горите!» Испугавшись, я отскочил в сторону, прижимая
ее руки к груди, чтобы затушить огонь; потом, несколько
сконфуженно выпустив ее руки, я выразил взволнованной баронессе мою глубочайшую благодарность, делая
вид, что я избежал большой опасности.
Мы оживленно болтали до самого ужина. Солнце зашло; из-за купола обсерватории выплыл месяц и осветил яблони в нашем фруктовом саду; мы начали отгадывать названия сорта плодов, висевших на ветвях и полускрытых в зелени, которая казалась бледно-зеленой
при лунном свете. Обычно кроваво-красный канваль казался желтоватым пятном, астраханские яблоки выглядели серо-зелеными. Ранеты — коричневато-красными,
а остальные сливались в один тон. То же самое было и с
цветами на клумбах. Георгины приняли самые странные оттенки, гвоздики сияли окраской чуждой планеты, крупные маргаритки сверкали ослепительными цветами.
— Посмотрите баронесса, — обратился я к ней, —
как все основывается на воображении. Нет ни одной
69
самостоятельной окраски; все зависит от света. В конце
концов — все только иллюзия.
— Все? — повторила она, остановившись передо
мной и пронизывая меня взглядом своих глаз, казавшихся во мраке необычайно большими.
— Все, баронесса, — солгал я совершенно опьяненный этим реальным видением из плоти и крови, пугавшим меня своей красотой.
Ее несколько растрепавшиеся белокурые волосы, осенили ореолом ее освещенное луной лицо; чудно пропорциональная фигура поднималась высоко и гибко
в полосатом платье, цвета которого превратились в черный и белый.
Левкои изливали свой опьяняющий аромат, кузнечики трещали в мокрой от росы траве, тихий ветерок слегка колыхал деревья, сумерки окутывали нас в свой мягкий покров, все звало к любви, и только честная трусость
удерживала признанья.
Вдруг с одной ветки, поколебленной ветром, упало яблоко. Она нагнулась поднять его и протянула мне
с многозначительной улыбкой.
— Запретный плод, — пробормотал я, — нет, баронесса, благодарю вас.
Чтобы загладить эту глупость, невольно вырвавшуюся у меня, я поспешил придумать объяснение, сославшись на скупость владельца дома.
— Что скажет на это хозяин?
— Что вы по меньшей мере рыцарь без упрека, —
возразила она, как бы упрекая меня в боязни, и при
этом она искоса взглянула на беседку, где барон и кузина укрылись от наших взглядов.
Подали ужин. Когда мы встали из-за стола, барон
предложил нам всем пройтись и проводить милое дитя
домой.
Выйдя из ворот, барон предложил кузине руку и, обратившись ко мне, сказал отеческим тоном:
70
—Предложите руку моей жене, любезный друг, и покажите, что вы кавалер.
Мне стало страшно. Вечер был теплый; она несла накидку на руке; прикосновение ее руки, мягкие очертания
которой чувствовались сквозь шелк, пробежало во мне
как электрический ток и пробудило во мне необычное
ощущение; мне казалось, что я чувствую, где кончается
рукавчик сорочки — как раз у дельтаобразной мышцы
моей руки. Я был так возбужден, что мог бы рассказать
все анатомическое сложение прелестной руки. Ее бицепс, этот могучий элеватор, играющий первенствующую роль при объятии, тесно прижавшись к моей руке,
ритмически сжимал ее. Идя рядом с ней, я ощущал формы ее тела под задевающим меня платьем.
— С вами очень ловко идти под руку; вы, вероятно,
прекрасно танцуете! — ободряла она меня в моем смущенном молчании.
А немного спустя, заметив состояние моих возбужденных нервов, она насмешливо спросила меня с полным превосходством опытной женщины:
— Вы дрожите?
— Да, баронесса, мне холодно.
— Так наденьте пальто, мой друг, — ласково произнесла она своим нежным голосом.
Когда я надел пальто, как своего рода броню, я почувствовал себя лучше защищенным от тепла, переливавшегося из ее тела в мое. Но ритмичность, с какой ее
маленькие ножки шли в такт с моими шагами, так всецело соединяла мою нервную систему с ней, что мне казалось, словно я двигаю четырьмя ногами, как, удвоившееся существо.
Во время этой прогулки происходило нечто вроде прививки растений, которую садовники производят
при помощи соприкосновения двух ветвей.
С этого дня я уже не принадлежал себе. Эта женщина проникла мне в кровь. Токи нашей нервной системы
7L
достигли крайней степени напряжения; проснувшаяся
в ней чувственность требовала от меня удовлетворения.
Неужели мы этого так и не сознавали? В этом и был весь
вопрос.
Вернувшись к себе в комнату, я задал себе вопрос,
чего я собственно желаю. Бежать и достичь счастье в чужой стране или погибнуть. Я сейчас же составил план
поездки в Париж, центр цивилизации, чтобы зарыться
там в библиотеках или музеях и окончить свою работу.
Приняв это решение, я сейчас же начал приводить
его в исполнение; мне посчастливилось устроить все
очень быстро, и через месяц я уже мог начать прощальные визиты. Но мне пришлось уступить настояниям
друзей и остаться еще несколько недель, пережидая период осенних бурь, так как я решил ехать на пароходе
в Гавр.
К тому же в начале октября должна была праздноваться свадьба сестры, и таким образом дело затягивалось.
В продолжение всего этого потерянного времени
одно приглашение следовало за другим. Кузина вернулась к родителям, мы по-прежнему проводили вечера
втроем, и барон, снова попав под влияние жены, был
со мной крайне любезен. Успокоенный моим предстоящим отъездом, он вернулся к своему прежнему дружескому обращению.
Однажды вечером мы сидели интимным кружком
у матери баронессы. Небрежно развалясь на диване, она
положила голову на колени матери и призналась ей, что
пылает страстью к одному знаменитому артисту. Было
ли это сказано с намерением подвергнуть меня пытке
и посмотреть, какое впечатление произведет на меня
это признание, — не знаю. Факт тот, что старуха, гладя
дочь по волосам, сказала, обращаясь ко мне:
— Слышите, сударь, если вы когда-нибудь соберетесь
писать роман, то вот вам тип пылкой женщины. У нее
всегда есть какое-нибудь увлечение кроме мужа.
72
— Это совершенно верно, дорогой друг, — прибавила баронесса. — И в настоящую минуту это очаровательный X.
— Ну, не безумная она! — улыбнулся мне барон более лукаво, чем хотел этого.
Пылкая женщина! Это слово запечатлелось в моей
памяти, если даже это шутка, то все-таки ее произнесла пожилая женщина, ее мать, и следовательно в этом
была хоть крупица правды.
Накануне моего отъезда я пригласил моих друзей на
холостой ужин к себе в мансарду. Моя комнатка по этому случаю приняла праздничный вид, а чтобы скрыть
недостаток мебели, я превратил ее в нечто в роде храма. Между оконными нишами, в одной из которых стоял мой письменный стол и цветы, а в другой моя маленькая библиотека, стоял диванчик, прикрытый искусственной тигровой шкурой, укрепленной незаметными
гвоздиками.
Налево стоял большой диван, покрытый пестрым
чехлом, а над ним на стене висела раскрашенная географическая карта; направо комод и зеркало, оба в стиле
ампир с медными украшениями; шкаф с гипсовым бюстом и умывальник, который для такого торжественного
случая был спрятан за оконные занавеси. Стены, украшенные гравюрами в рамах, представляли весьма разнообразную картину, и общий вид производил впечатление чего-то античного.
На потолке висела фарфоровая люстра; ее трещины
и разбитые места были умело прикрыты искусственным
плющом, который я незадолго перед этим стащил у своей сестры. Я отыскал эту люстру у одного старьевщика;
она напоминала старинную церковную утварь. Под люстрой стоял накрытый стол. На белоснежной скатерти
стоял горшок цветущих бенгальских роз; их многочисленные розовые цветы среди темной зелени ниспадающего плюща давали праздничное впечатление. Вокруг
розового куста стояли разноцветные рюмки, красные,
73
зеленые, опаловые, купленные по случаю на распродаже, и каждая имела какой-нибудь недостаток. То же самое было с приборами: тарелки, солонки и сахарница
были из китайского, японского, мариенбергского и всякого другого фарфора.
Ужин состоял из холодных блюд, которых было около дюжины, но все они имели больше значение с декоративной точки зрения, чем с существенной, так как
главным блюдом были устрицы. Остальными необходимыми приготовлениями к парадному ужину, такому необычному в мансарде под крышей, я обязан моей
квартирной хозяйке. С немым одобрением созерцал
я все эти приготовления. Эта смесь впечатлений напоминала одновременно работу поэта, исследования ученого и склонность к гастрономии и цветам, что указывало отчасти на женское влияние. Это можно было бы
принять за свадебный ужин вдвоем, если бы не стояло третьего прибора, за ночь наслаждений, — но для
меня это был пир примирения. Мою комнату не посетила ни одна женщина со времени разрыва с тем ужасным созданьем, каблучки которого оставили ясные
следы на деревянной ручке дивана. В зеркале над комодом уже давно не отражалась ничья женская грудь.
И теперь целомудренная, образованная женщина, молодая мать, освятит своим присутствием это жилище,
бывшее свидетелем горя, нужды и тоски. Но это был
также и священный пир, так поэтически представлялся
он мне; потому что я решил пожертвовать для счастья
моих друзей моим сердцем, покоем и, может быть,
жизнью.
Все было готово, когда на лестнице послышались
шаги. Я поспешил зажечь свечи, поправить букеты, и через минуту мои гости стояли уже в дверях, задыхаясь от
подъема на четвертый этаж.
Я отворил. Ослепленная таким блестящим освещением баронесса захлопала в ладоши, как при виде удавшейся декорации.
74
— Да вы великолепный режиссер! — воскликнула
она.
— Да, баронесса, я играю в театре, но позвольте...
Сняв с нее манто, я поздоровался с ней и предложил
сесть на диван. Но ей не сиделось на месте. С любопытством женщины, никогда не видавшей холостой квартиры, но из родительского дома прямо перешедшей под
власть мужа, она начала подробно оглядывать мою комнату. Начав с письменного стола, она взяла в руки мою
ручку, перелистала бювар, как бы подозревая скрытую в нем тайну; затем она подошла к моей библиотечке и беглым взглядом окинула корешки книг. Проходя мимо зеркала, она остановилась, поправила волосы
и расправила кружево на вырезе платья, так что стало
видно легкое очертание груди, потом она оглядела мебель, с наслаждением понюхала цветы, слегка вскрикивая от восторга. Наконец, обойдя всю комнату, она спросила меня совершенно наивно без всякой задней мысли,
как бы ища чего-то глазами,
— Ну, а где же вы спите?
— На диване, баронесса.
— Ах, как, должно быть, приятно быть холостяком! —
воскликнула она. В душе ее, казалось, затрепетали далекие девичьи мечты.
— Иногда это бывает весьма печально, — отвечал
я ей.
— Печально быть господином самого себя, иметь
свой собственный угол, без всякой ответственности! Ах,
я мечтаю о свободе, брак в сущности бремя! Не правда
ли, дорогой? — обратилась она к барону, который ответил, принужденно улыбаясь:
— Да, это скучная история!
Подали ужин, и мы соли за стол. После первой рюмки вина мы развеселились. Но скоро мы вспомнили,
что это последнее свидание перед разлукой, наше веселое настроение омрачилось некоторой грустью, и мы
стали вызывать воспоминания прошлого. Мы еще раз
75
пережили все маленькие приключения и совместные
прогулки и повторяли то, что было сказано по тому или
другому поводу. Глаза горели, сердца переполнялись
любовью, мы пожимали друг другу руки и чокались.
Часы быстро летели, и с все возрастающей грустью
мы чувствовали, что близится час разлуки. По знаку
жены барон вынул из кармана кольцо с опалом и подал
его мне, торжественно возгласив:
— Прими, дорогой друг, эту безделушку на память
и в благодарность за твою преданную дружбу; да будет
судьба благоприятна твоим стремлениям, это мое самое
горячее пожелание тебе, потому что я люблю тебя, как
брата, и ценю, как человека благородного! Счастливого
пути, и скажем не прощай, а до свиданья!
Человека благородного! Так значит он понял меня!
Он следил за нами! Нет! Не может быть! В изысканных
выражениях барон в виде намеков вылил добрую дозу
брани на голову бедной Сельмы, которая заставила замолчать свое сердце и отдалась человеку, которого она
нисколько не любила, одним словом субъекту, который
был обязан своим счастьем только одному благородному человеку.
Этим благородным человеком был я! Мне было стыдно, но, увлекаясь искренностью этого простого, бесхитростного сердца, я вообразил себя действительно несчастным и безутешным, и ложь так вкоренилась в мою
душу, что за ней совершенно не видно было действительности.
Баронесса, обманутая моим искусным маневром
и холодным отношением к ней, приняла уверенный
тон и с материнской нежностью старалась ободрить
меня.
— Оставим эту девушку в покое. Мир велик, найдутся и получше этой дурочки. Не грустите, милый друг,
она была не особенно благоразумна, если не хотела вас
подождать. И кроме того, я про нее слышала немало хороших историй, которых не могу вам повторить.
76
И с плохо скрытым удовольствием она окончательно
низвергла моего бывшего кумира.
— Представьте себе, она хотела увлечь одного лейтенанта из очень хорошей семьи, и она гораздо старше,
чем говорит... настоящая кокетка, поверьте мне!
По недовольному движению барона она поняла свою
ошибку, начала жать мне руку, изливаться в сердечных
излияниях, признавалась в своей братской любви ко мне
и произносила непрерывные тосты, которые все витали
в высших сферах и, казалось, никогда не кончатся.
Ее разгоревшееся лицо сияло от удовольствия,
а грустные глаза так нежно смотрели на меня, что у меня
не оставалось никакого сомнения в искренности ее симпатии ко мне. Она просто была большое, доброе дитя,
безупречно честное, и я поклялся свято исполнить свое
намерение, если бы даже мне грозила смерть. Мы встали из-за стола, чтобы проститься, может быть навсегда.
Баронесса вдруг расплакалась и спрятала лицо на груди мужа.
— Я положительно сошла с ума, привязавшись так
к нашему другу! — воскликнула она. — Его отъезд так
сильно расстраивает меня. — И, повинуясь внезапному
порыву, отчасти чистому, отчасти чувственному, бескорыстному и не совсем безразличному, страстному и в то
же время ангельски непорочному, она бросилась на глазах мужа мне на шею и простилась со мной, осенив меня
крестным знамением.
Моя старуха хозяйка, стоя в дверях, отирала слезы,
и мы расплакались все трое. Это была великая, незабвенная минута. Жертва была принесена.
Около часу я лег в постель, но спать не мог. От беспокойства опоздать на пароход я не мог сомкнуть глаз.
Утомленный бурно проведенной неделей, возбужденный до крайности излишеством в питье, выбитый из
колеи праздностью, раздосадованный все откладывающимся отъездом и совершенно разбитый волнениями
последнего вечера, я беспокойно метался по подушке
77
до самого рассвета. Зная свое безволие и к тому же ненавидя железные дороги, эти катящиеся тюрьмы, про
которые кто-то сказал, что их толчки вредят спинному
мозгу, я решил ехать морем, чтобы отрезать себе всякий путь к бегству. Пароход отходил в шесть часов утра,
и в пять часов за мной приехала карета. Совершенно
один отправился я в дорогу. Октябрьское утро было ветреное, пасмурное и холодное, на ветвях деревьев виднелся иней. Когда я проезжал по Северному мосту, мне
показалось, что у меня галлюцинация — я увидел барона, шедшего в том же направлении, как ехала моя карета. Но это действительно был он; он встал так рано
против своего обыкновения, чтобы проститься со мной.
Тронутый до глубины души этим неожиданным доказательством дружбы, я почувствовал всю незаслуженность ее и горькое раскаяние в своих дурных мыслях о нем. Придя на пристань, он поднялся на пароход,
осмотрел мою каюту, представился капитану и просил
его заботиться обо мне. Одним словом, он вел себя, как
старший брат или верный друг, и мы обнялись со слезами на глазах.
— Береги себя, дружище, — посоветовал он мне, —
мне кажется, ты не совсем здоров.
Действительно, я чувствовал себя очень плохо, но
крепился, пока пароход не снялся с якоря. Тогда меня
вдруг охватил ужас при мысли о долгом путешествии,
не имеющем никакой разумной цели, и я почувствовал
бешеное желание броситься в море и вплавь вернуться
на берег. Но у меня не хватило сил выполнить это намерение, и я продолжал нерешительно стоять на палубе
и махать платком в ответ на прощальные приветствия
моего друга, фигура которого скоро скрылась за судами,
стоящими на рейде.
Я ехал на транспортном судне, сильно нагруженном,
с одной единственной каютой. Я отыскал свою койку и повалился на нее с намерением проспать первые
сутки, чтобы лишить себя всякой надежды на бегство.
78
Но после получасового глубокого забытья я вдруг проснулся, как от толчка — обычное следствие неумеренного питья и бессонных ночей. Вся безнадежная действительность предстала в эту минуту передо мной. Я встал
и поднялся на палубу. Берега тянулись темные и холодные с обнаженными деревьями, желтовато-серыми
лугами, в расщелинах скал лежал уже снег. Вода казалась серой с коричневатыми пятнами, небо пасмурное,
свинцовое; палуба была грязная, матросы грубые, из
кухни доносился отвратительный запах, одним словом
все действовало на меня подавляюще. Я испытывал непреодолимое желание поделиться с кем-нибудь своими чувствами, но не видел никого из пассажиров. Я взобрался на капитанский мостик поболтать с капитаном. Но это был угрюмый, нелюбезный медведь. Итак,
я заключен на целые десять дней один в обществе людей, ничего не понимающих, бессердечных. Это была
пытка!
Я снова принялся быстро бегать с одного конца палубы на другой, как будто так дело шло скорее. Мой раз-
горяченый мозг работал под сильным давлением; мысли вихрем неслись одна за другой, давно забытые воспоминания просыпались во мне, теснясь и перегоняя
друг друга, и среди всего этого хаоса меня мучила непрестанная боль, которую, подобно страшной зубной
боли, трудно было определить и назвать. Чем дальше
уходило судно в море, тем сильнее становилось это внутреннее напряжение; это были словно нити, связующие
меня с родиной, семьей и с ней, нити, готовые порваться. Качаясь между небом и землей на высоко вздымающихся волнах, я чувствовал, как пол колеблется подо
мной, и сознание заброшенности и одиночества вселяло в меня страх перед всем миром. Без сомнения, это
было следствием прирожденной слабости; я помню, что
даже двенадцати лет я плакал, когда мать уезжала в гости, несмотря на то, что физически я был сильно развит
для своего возраста. Я отношу это к преждевременным
79
родам матери или, вернее, к попыткам вызвать выкидыш, что часто бывает в семьях, богато награжденных
потомством. Во всяком случае это создало во мне нерешительность, появляющуюся каждый раз, как мне приходится менять местожительство, и в эту минуту, когда я расставался с привычной дружеской средой, меня
охватил панический ужас перед будущим, далекой страной и экипажем судна. Восприимчивый, как несформи-
ровавшийся ребенок, нервы которого лежат сейчас же
под еще окровавленной кожей, обнаженный, как рак,
прячущийся под камни в период линянья, я ощущал
малейшее понижение барометра; я бродил по пароходу в поисках души более сильной, чем моя, крепкого рукопожатия, тепла человеческого тела, ободряющего, дружеского взора. Я метался по передней палубе,
как белка в колесе, и мысленно рисовал себе десять мучительных дней, какие мне предстояло здесь провести.
И подумать, что я провел на пароходе всего только час!
Час такой же длинный, как целый тоскливый день. Ни
искры надежды избежать этого ужасного путешествия!
И хотя я старался образумить себя, но снова и снова падал духом.
Что собственно заставило тебя уехать? Кто имеет право критиковать твой поступок, если ты вздумаешь вернуться? Никто! И все-таки... стыд, смешное положение,
честь! Нет, я должен рассеять все надежды! К тому же до
прибытия в Гавр пароход никуда не заходит. Итак, храбро в путь! Но мужество зависит от физических и нравственных сил, а мне в эту минуту не хватало ни того,
ни другого. Гонимый и преследуемый этими черными
мыслями, я решил перейти на заднюю палубу, потому
что все снасти и мачты передней части судна были мне
уже знакомы до отвращения, как много раз прочитанная книга. Войдя в стеклянную дверь, я едва не натолкнулся на даму, сидевшую сзади рубки под защитой от
ветра. Это была пожилая особа вся в черном, седая, с печальным лицом.
80
Она ответила мне по-французски, и знакомство завязалось.
После первых незначительных слов мы поведали друг
другу о цели нашего путешествия: ее поездка тоже была
не из веселых. Она — вдова лесопромышленника, гостила у родственников в Стокгольме и теперь возвращается
в Гавр ухаживать за сыном, который заболел душевной
болезнью и находится в лечебнице. Рассказ этой дамы,
такой простор! в своей душераздирающей краткости,
произвел на меня потрясающее впечатление, и эта история, поразившая мой несколько расстроенный мозг, может быть, и послужила исходной точкой всего, что затем
случилось со мной.
Дама вдруг прервала свой рассказ, с беспокойством
взглянула на меня и участливо воскликнула:
— Что с вами?
— Со мной, сударыня?
— Да! У вас совсем больной вид! Вы не хотите попробовать немного заснуть?
— Действительно, я не спал прошлую ночь и чувствую себя несколько возбужденно. К сожалению, последнее время я страдаю бессонницей, и все мои попытки вернуть сон ни к чему не ведут.
— Ну, этому я попробую помочь. Идите в каюту
и ложитесь, я принесу вам лекарство, от которого вы заснете даже стоя.
Она встала и, нежно подталкивая, заставила меня
пойти лечь. Затем она вышла на минуту и вернулась
с пузырьком какой-то ароматичной жидкости, налила
ее в ложку и подала мне.
— Прекрасно, теперь вы заснете, — сказала она.
Я поблагодарил ее. Как нежно и заботливо закутала
она меня в одеяло. Она изливала на меня материнскую
нежность, какую встречают дети, прижимаясь к груди
матери. Ласковое прикосновение ее рук успокаивало
меня, и через несколько минут сладостная сонливость
овладела мною. Мне казалось, что я маленький ребенок
81
и моя мать нежно возится около моей постельки, но
мало-помалу бледные черты матери смешались с прекрасным лицом баронессы и физиономией соболезнующей дамы, только что ушедшей от меня, и, охраняемый
явлением этих трех женщин, я растворился, как краска,
и потерял сознание окружающего.
Проснувшись, я не помнил, снилось ли мне что-
нибудь, но меня неотступно преследовала одна мысль,
зародившаяся во мне, быть может, во сне. Я должен вернуться к баронессе, или я сойду с ума.
Дрожа от холода, я вскочил с моей койки, влажной от
сырого ветра, проникающего отовсюду. Я вышел на палубу; небо было пасмурно, воющие волны бились о судно, перекатывались через палубу и бросали мне в лицо
снопы брызг.
Взглянув на часы, я высчитал, сколько мы должны
были пройти во время моего сна; мне показалось, что
мы находимся в Норркопингском заливе, отрезанные
от всякой возможности вернуться. Окружающий ландшафт казался мне совершенно незнакомым, все эти рассеянные маленькие бухты, скалистые берега, хижины,
спускающиеся там и сям к берегу, очертания парусов
на рыбачьих лодках. И при виде этой чуждой природы меня охватила тоска по родине. Слепое бешенство
душило меня; я с отчаянием сравнивал себя с партией
сельдей, отправляемых на этом транспортном судне, помимо моей воли, повинуясь какой-то высшей силе, называемой честью. Излив свое бешенство, я почувствовал себя разбитым. Облокотясь в полном изнеможении
на борт, я подставил свое пылающее лицо под брызги
пены, жадным взором следя за отдельными точками берега, стараясь уловить хоть луч надежды и строя планы,
как, хотя бы и вплавь, достигнуть берега.
Чем дольше смотрел я на берег, тем спокойнее становился мой дух, мирная радость без всяких особенных
причин разлилась у меня в душе, возбужденная мысль
не работала с прежним безумием, передо мной всплыли
82
картины ясных летних дней, воспоминания из моей далекой юности, причем я сам не мог понять причину такого мирного настроения. Пароход готовится обогнуть
мыс; из-за елей показываются крыши красных домиков
с белым карнизом, над беседкой маленького садика высится флаг, мостик, часовня, колокольня, кладбище...
Это сон! Или галлюцинация?
Нет, это скромный курорт, в окрестностях которого я проводил каждое лето еще ребенком; он был расположен на маленьком островке, и как раз в том домике наверху я был с друзьями прошлою весною. Она и он
провели в нем вместе со мною ночь после поездки по
морю и прогулки в лесу... Да, конечно, на том холмике
под ясенями на балконе я любовался ее прелестным личиком, сияющем в ореоле белокурых волос; на ней была
маленькая японская шляпа с голубой вуалью, ее изящная ручка, затянутая в лайковую перчатку, махала мне
сверху, что обед готов... И мне кажется, что я вижу ее на
балконе, как она машет мне платком и зовет меня своим глубоким голосом... и вот пароход замедляет ход,
машина останавливается, и приближается лоцманская
лодка... Раз, два, три... внезапная мысль, как молния
пронзает меня, одним прыжком я вскакиваю по лестнице на капитанский мостик и решительным тоном обращаюсь к капитану:
— Спустите меня на берет, или я сойду с ума!
Он пытливо смотрит на меня и, не отвечая, испуганно, словно видя перед собой сумасшедшего, зовет штурмана и быстро отдает ему приказание:
— Свезите этого господина и его багаж на берег, он
болен.
Мгновенье спустя, я уже сидел в лоцманской лодке,
которая мчалась так быстро, что через пять минут мы
уже достигли берега.
Так как я отличался необыкновенной способностью
притворяться глухим и слепым, то дошел до гостиницы, не видя и не слыша ничего, что могло бы задеть мое
83
самолюбие; ни физиономию лоцмана, проникшего
в мою тайну, ни оскорбительных замечаний носильщика. Придя в гостиницу, я занял комнату, заказал абсент,
закурил сигару и погрузился в размышления.
Сумасшедший я или нет? Была ли опасность так близка, чтобы вызвать эту поспешную высадку на берег?
В моем положении в данную минуту я не считал себя
компетентным судить об этом; я вспомнил, что сумасшедшие, по мнению врачей, не сознают своего помешательства и что связность их мыслей нисколько не служит
доказательством против их ненормальности. Я начал,
как исследователь, разбирать все аналогичные случаи
уже бывшие со мной в моей жизни. Будучи в университете, я заболел таким сильным нервным расстройством
от разных волнений, самоубийства товарища, неудачной любви и боязни будущего, что среди бела дня боялся оставаться один в комнате, так как мне сейчас же начинало казаться, что я вижу самого себя. Мои товарищи
по очереди дежурили у меня по ночам, комната ярко
освещалась свечами, и огонь пылал в печи.
Другой раз в припадке отчаяния от всевозможных
неприятностей я бросился за город в поля, блуждал по
лесу, взобрался наконец на высокую ель, уселся верхом
и обратился с речью к соснам, желая заглушить своим
голосом их шум и воображая себя народным оратором. Это местечко было невдалеке, на том же маленьком острове, где я часто проводил лето и мыс которого
виднелся вдали. Пережив мысленно это событие во всех
его смешных подробностях, я пришел к убеждению, что
я во всяком случае переживаю первую стадию помешательства.
Что же надо делать? Разве не следует мне заранее известить моих друзей, прежде чем слух об этом распространится по городу? Но стыд, позор причислить себя
к умственно невменяемым! Это было невыносимо!
И в то же время мне было противно лгать и притворяться, что все равно никого бы не обмануло. Мучимый
84
сомнениями, хватаясь то за один, то за другой план, как
выбраться из этого лабиринта, я принял вдруг решение
бежать от всех томительных мучений, предстоящих мне,
отыскать себе в лесу укромный угол, спрятаться в него
и погибнуть, как дикий зверь, ожидающий смерти.
Приняв это решение, я перебежал уличку, перелез
через скользкие скалы по мху, сырому от осенних дождей, пересек паровое поле и достиг изгороди, за которой
дремал с закрытыми ставнями наш прежний домик. Он
весь сверху донизу зарос диким виноградом, который
теперь облетел и открывал голые, серые колья.
Созерцание этого священного для меня места, где
развился зародыш нашей любви, пробудило во мне снова страсть, заглушенную в моей душе другими заботами. Облокотясь на сломанные, деревянные перила балкона, я плакал и рыдал, как заблудившееся дитя.
Я помню, читал в «Тысяче и одной ночи», что юноши
заболевают от неудовлетворенной любви и выздоравливают единственно от обладания возлюбленной. Мне
вспоминается также, что в шведских народных песнях
молодые девушки, не имея надежды обладать предметом своих мечтаний, чахнут и умоляют мать изготовить
им ложе смерти. И даже старый скептик Гейне воспевал
людей того племени, которое умирает, когда полюбит.
Моя любовь, должно быть, действительно была настоящей, так как я впал в детство, поддался власти одной
единственной мысли, единому образу, единому чувству,
сделавшему меня слабым и безвольным, так что я был
способен только безнадежно плакать.
Чтобы несколько рассеяться от своих мыслей, я направил свои взоры на прекрасный вид, расстилающийся у моих ног. Тысячи островов, поросших елями и соснами, плавали в огромном заливе Балтийского моря,
где они становились все меньше и меньше, превращаясь в островки, утесы и рифы до отдаленнейших очертаний залива, где виднеется уже линия моря и разбиваются волны о крутые преграды последних скал.
85
Облака, висящие на пасмурном небе, отражались
в воде узкими полосами всевозможных темных окрасок, проходя всю скалу цветов от бутылочно-зеленого
и васильково-синего до белоснежного цвета пены. Из-
за укреплений, построенных на одном отвесном островке, поднялся как из невидимого источника черный столб
дыма и разостлался над волнами, а вслед за тем обрисовался темный силуэт транспортного парохода, при виде
которого сердце мое сжалось, как при виде свидетеля
моего позора. Я крепко стиснул зубы и убежал в лес.
Войдя под готические своды сосен, где ветер поет среди свай свои псалмы, я преисполнился болью своей печали: здесь бродили мы, когда солнце освещало первую
зелень и распускались пурпурно-красные побеги елей,
пахнущие, как земляника, когда можжевельник рассыпал вокруг свою желтую пыльцу, а анемоны пробивались сквозь прошлогоднюю листву.
Здесь по этому темному мягкому мху ступали, как
по ковру, ее маленькие ножки, а сама она своим звонким, как колокольчик, голоском распевала народные
финские песни. Внезапный луч света озарил мои воспоминания, и я увидел две чудовищные сосны, растущие
из одного корня, между тем как вершины их, склоняясь
под порывами ветра, скрипя, касались друг друга. Отсюда отправилась она к болоту нарвать водяных цветов.
С усердием гончей собаки старался я отыскать следы
ее обожаемых ножек, отпечатка которых я не мог проглядеть, как бы легок он ни был. Пригнувшись к земле,
почти ползком я осматривал землю, ища и шаря широко раскрытыми глазами, но ничего не находил. Все
было затоптано скотом, и я с таким же успехом мог
бы отыскивать следы нимфы этого леса, как отпечаток
башмачков моей возлюбленной. Ничего, кроме лужиц
грязной воды, коровьего помета, шампиньонов, мухоморов, дождевиков, наполовину или совсем сгнивших,
и оборванных стеблей цветов. Подойдя к грязному болоту, я утешил себя на минуту мыслью, что эта трясина
86
имела честь отражать в себе очаровательнейшее в мире
личико, и я с напряжением старался различить листья
кувшинок среди поблекших листочков, упавших с растущих по ту сторону болота берез, но все было напрасно. Я снова пустился в путь и зашел еще глубже в лес,
где шум листвы становился тем глуше, чем выше были
стволы дерев.
В глубоком отчаянии и горькой тоске я начал громко рыдать, и слезы текли у меня по щекам; я сбивал ногами мухоморы, вырывал можжевельник и колотился
о деревья. Я сам не знал, чего я хотел. Жгучее стремление снова увидеть ее, бесконечное томление по ней, которую я слишком любил, чтобы жаждать ее обладания,
охватили меня. И теперь, когда все было кончено, я хотел умереть, так как не мог жить без нее.
С хитростью помешанного я придумывал достоверный способ смерти, я желал умереть от воспаления легких или чего-нибудь подобного. Я несколько недель пролежу в постели, снова увижу ее и прощусь с ней, целуя
ее руку.
Несколько успокоенный этим заботливо набросанным планом, я повернул к берегу; мою задачу было легко выполнить, потому что шум волн ясно доносился до
меня.
Спуск был отвесный, вода глубока, все было по моему желанию. С тщательной заботливостью, совсем не
указывающей на мои злостные намерения, я разделся,
сложил мои вещи под молодой ольхой, а часы спрятал
под выступ скалы. Ветер был резкий, и теперь, в октябре, в воде должно было быть немного выше ноля. Разбежавшись на скале, я бросился вниз головой в волны
и немного спустя вынырнул с таким ощущением, словно я был погружен в пылающую лаву: я вынес с собой
воспоминание о виденных на дне водорослях, прикосновение которых еще царапало мне икры. Я поплыл дальше, подставляя свою грудь пенящимся волнам, приветствуемый криком чаек и карканьем ворон.
87
Когда силы мои истощились, я повернул обратно и достиг берега. Теперь наступила минута приступить к самому главному. По всем указаниям для купаний главная опасность заключается в долгом пребывании в обнаженном виде на открытом воздухе. Поэтому я сел на
выступ скалы, наиболее открытый ветрам, и предоставил им хлестать мою спину, пока кожа на ней не сморщилась. Мускулы непроизвольно сокращались, а грудная клетка вдавилась, как бы инстинктивно желая оградить благородные органы, лежащие внутри. Чувствуя
невозможность оставаться на одном месте, я схватился за крепкий сук ольхи. Держась изо всех сил за дерево, сгибающееся под моим судорожным объятием, мне
удалось усидеть на месте. Ледяное дуновение, как раскаленное железо, пронизывало мою спину; я был убежден, что прием мой удался, и поспешил одеться. Но наступил уже вечер, и, когда я вошел в лес, было совсем
темно. Мне стало страшно, и я только ощупью мог выбраться на дорогу. Под влиянием этого дикого страха
чувства мои настолько обострились, что я мог узнавать
породу дерева по одному только шелесту его листвы.
Это было положительно сказочно! Низкими басами гудели ели, плотные и густые хвои которых казались чудовищными пирамидами; более высоким тоном пели
длинные и подвижные иглы сосен, своим свистом напоминая шипенье тысячи змей; отрывистое трепетание
березы будило детские воспоминания о жгучих страданиях первых чувственных порывов; шелест немногих не
опавших сухих дубовых листьев напоминал шорох бумаги, перешептывание кустов можжевельника звучало
почти как голоса женщин, шепчущихся между собой,
и глухо шумели ольхи, когда ветер срывал с них сухой
хворост. Я открыл в себе способность отличать еловую
шишку от сосновой только по звуку, с каким она падает
на землю. По одному запаху узнавал я близость шампиньонов, а нервы моих пальцев, казалось, различали, наступаю я на плауновый мох или обыкновенный.
88
Руководимый чутьем, я добрался до кладбища и вошел в него. Там я наслаждался музыкой плакучих ив,
длинные ветви которых бились о могильные камни.
Наконец, заледенев от холода и вздрагивая от малейшего шороха, я вернулся в деревню и по огням нашел
дорогу в гостиницу.
Войдя к себе в комнату, я отправил телеграмму барону, в которой сообщил ему о моей внезапной болезни и вынужденной высадке на берег. Затем на нескольких листках бумаги я набросал подробное признание
в моем душевном состоянии, указывал на прежние случаи и просил о молчании.
— Совершенно измученный лег я в постель, уверенный, что я действительно схватил лихорадку и, позвонив девушку, велел ей послать за врачом... Но так как
такового не оказалось, то я попросил привести мне священника, которому я мог бы передать мою последнюю
волю.
С этой минуты я начал готовиться или умереть или
сойти с ума.
Священник пришел. Человек лет тридцати, тип деревенского парня в праздничной одежде. Рыжий, с тусклыми глазами и веснушчатым лицом, он не внушил
мне ни малейшей симпатии, и я долго не мог произнести ни одного слова, потому что я положительно не
знал, что я могу доверить этому человеку без образования, без опытности старца и без знания человеческого
сердца. С робостью деревенского жителя перед горожанином он стоял посреди комнаты, пока я не предложил
ему знаком сесть. После этого он обратился ко мне с расспросами.
— Вы позвали меня, сударь. У вас, вероятно, есть
горе.
-Да.
— Так как все счастье наше покоится в Иисусе...
Хотя для меня счастье было в другом, но я оставил его
говорить, не противореча. А он, проповедник Евангелия,
89
начал говорить монотонно и безучастно, как машина.
Старые знакомые фразы из катехизиса приятно убаюкивали мой мозг, а присутствие человека, подходившего
к моей душе с духовной стороны, подкрепляло меня. Но
молодого священника вдруг охватило сомнение в моей
искренности, и он спросил:
— Вы истинно веруете, сударь?
— Нет, — отвечал я, — но продолжайте, это меня
успокаивает.
И он снова принялся говорить. Непрерывный звук
его голоса, блеск его глаз, теплота, исходящая от его
тела — все это так магнетически действовало на меня,
что через полчаса я заснул. Когда я проснулся, магнетизера моего уже не было, а девушка принесла мне из аптеки лекарство с строгим предписанием не принимать
большой дозы, потому что содержимого пузырька было
достаточно, чтобы убить человека. Разумеется, оставшись один, я поспешил разом опустошить весь пузырек
и с твердым намерением умереть я завернулся в одеяло
и снова заснул.
Проснувшись на следующее утро, я нисколько не
удивился, увидев комнату всю залитую ярким солнечным светом, так как, всю ночь мне снились отчетливые, красочные сны. Я вижу сон, следовательно я еще
жив, говорю я себе и начинаю ощупывать свое тело,
чтобы констатировать лихорадку и первые симптомы
воспаления легких. Но, несмотря на все желание найти себя больным, я чувствую себя сравнительно хорошо. Несколько тяжелая голова работала ясно, но уже
4 не так бурно, как прежде, а двенадцатичасовой сон
вернул мне мои жизненные силы, которые, благодаря
физическим упражнениям с детства, сохранились в целости.
Мне подают телеграмму, извещающую меня о приезде моих друзей с двухчасовым пароходом.
Меня снова охватило чувство стыда. Что я скажу, какой вид приму?
90
Моя проснувшаяся мужественность пугается унизительного положения, и после короткого раздумья я решаю остаться здесь до первого парохода, чтобы продолжать свой путь. Таким образом честь будет спасена,
и посещение моих друзей будет только последним прощанием. Но, вспоминая прошедший вечер, я испытываю отвращение к самому себе. Как могло случиться, что
такой сильный ум, такой скептик, как я, мог поддаться
такой слабости? А обращение за помощью к священнику! Чем я могу объяснить себе такой глупый поступок?
Я пригласил его в качестве государственного чиновника, а он поступил, как гипнотизер! А общество увидит
в этом мое обращение. Может быть, еще поверят в неслыханные признания, в последнюю исповедь преступника на смертном одре. Какой прекрасный повод для
сплетен деревенских жителей, находящихся в непосредственном общении с городом! Какая богатая пища для
болтовни женщин!
Отъезд за границу и как можно скорее, — вот единственный способ спасти невыносимое положение. И,
приняв на себя роль потерпевшего кораблекрушение,
я провел все утро, расхаживая по балкону, то справляясь с барометром, то изучая путеводитель. Часы быстро
летели, и пароход показался в устье морского рукава,
прежде чем я решил, следует ли мне сойти вниз или
остаться здесь. Так как меня нисколько не прельщало
дать представление толпе, то я остался в своей комнате.
Через несколько минут я уже слышал взволнованный
голос баронессы, справляющейся у хозяйки о моем здоровье. Я сошел вниз ей навстречу, и немногого не хватило, чтобы она не поцеловала меня перед всеми. В своем
волнении она не переставала сетовать на мою болезнь,
наступившую вследствие переутомления, и советовала мне вернуться в город и отложить путешествие до
весны.
Она была в ударе. На ней было меховое пальто, придававшее ей вид ламы, так плотно облегали ее стройную
91
фигуру длинные мягкие волоски. Щеки ее покраснели от
морского ветра, а глаза, возбужденные радостью свиданья, глядели с бесконечной нежностью. Я напрасно восставал против ее заботливости о моем здоровье, заявляя,
что я совершенно поправился, между тем как ей казалось,
что я выгляжу, как скелет, и неспособен пошевельнуться,
одним словом — она обращалась со мной, как с ребенком. И эта роль матери как нельзя лучше шла к ней. Нежным, ласковым тоном она шутливо называла меня «он»,
кутала в свою шаль, завязывала салфетку, наливала вина
и указывала мне, что я должен делать. Она была истинной матерью! Если бы она могла отдаваться своему ребенку, как отдавалась мне, мужчине, скрывающему свой
любовный пыл, зверю, охваченному страстью! В этом
виде больного ребенка, закутанного в ее шаль, я кажусь
себе самому волком в постели съеденной бабушки, который собирается проглотить и Красную Шапочку.
Мне было стыдно перед ее наивным, законным супругом, который так заботливо отнесся ко мне и избавил меня от всех тягостных расспросов. И, несмотря на
все это, я был невинен, и сердце мое было замкнуто; на
все любезности баронессы я отвечал с почти оскорбительной холодностью.
За десертом, когда уже близился час отъезда, барон
вдруг предложил мне вернуться вместе с ними и занять в их доме комнату, которую они отдавали в полное мое распоряжение. К чести своей должен сказать,
что ответил ему решительным «нет», предчувствуя неминуемую опасность, которая скрывается в такой игре
с огнем; я объявил им мое непоколебимое решение пробыть здесь еще неделю до полного выздоровления и затем вернуться в город в свою мансарду.
И так и осталось, несмотря на неоднократные приглашения моих друзей. И как странно: как только я переставал быть слабым и обнаруживал мужественную
волю, баронесса сразу лишала меня своей дружбы.
А чем нерешительнее и податливее был я на ее капризы,
92
тем сильнее она восхищалась мной и хвалила мое благоразумие и рассудительность.
Она властвует надо мной и балует меня, но как только я оказываю серьезное сопротивление, она опускает
руки и является существом неприятным, почти недружелюбным.
При обсуждении вопроса о моем переселении к ним
она настаивала на всевозможных преимуществах этого
проекта; таким образом можно было видеться всегда,
без приглашений.
— Но, баронесса, — возражал я, — что будет говорить свет о молодом человеке, поселившемся у молодых супругов.
— Что нам за дело до света и людских пересудов?
— Но ваша мать и тетка... и, наконец, мое мужское
самолюбие против таких поступков, которые могут быть
приняты за какую-то несамостоятельность...
— Оставьте ваше самолюбие! Может быть, вы считаете мужественным разбить себе голову и не пикнуть?
— Да, баронесса, показать свою силу — это мужественно.
Она рассердилась, так как не признает существующей разницы полов. Ее женская логика так сбивает
меня с толку, что я обращаюсь к барону, который отвечает мне насмешливой улыбкой, преисполненной презрения к женским рассуждениям.
Наконец около шести часов пароход отходит и увозит моих друзей, а я возвращаюсь один в гостиницу.
Вечер великолепный. Солнце заходит в ярких оранжевых тонах, темно-синие воды заволакиваются беловатой пеленой, и на горизонте из-за елей медленно поднимается медно-красный месяц.
Я сижу в столовой, облокотясь на стол, погруженный
в свои мысли, то мрачные, как смерть, то снова легкие
и ясные, когда ко мне подходит хозяйка.
— Сударь, молодая дама, которая только что уехала,
ваша сестра?
93
— Нет, она мне не сестра.
— А! Удивительно, как вы похожи. Можно побожиться, что вы родные.
Так как я не был расположен к беседе, то разговор погас, породив во мне все-таки целый ряд новых мыслей.
Возможно ли, задавался я вопросом, чтобы мое непрестанное общение с баронессой за последнее время
наложило отпечаток на мое лицо, или можно ли допустить, что лица наши стали схожи между собой, благодаря шестимесячному непрерывному духовному союзу? Вызывает ли инстинктивное желание нравиться во
что бы то ни стало бессознательный подбор выражений
лица и манеры глядеть, и подчиняются ли более слабые
более сильным?
Возможно, что происходит такое объединение душ
и что теперь мы интимнее владеем друг другом, чем
прежде. Случай или, скорее, инстинкт сыграл свою первенствующую роль, и камень неудержимо покатился,
увлекая за собой все, лежащее на его пути, — честь, благоразумие, счастье, верность, добродетель и воздержанность.
А эта суровая честность пылкого юноши, непременно
желающего оставаться в своей мансарде, в возрасте, когда чувственные порывы обуревают его плоть и кровь! Неужели, в сущности, она легкомысленная женщина? Она?
О, тысячу раз нет! Я чтил ее за ее искренность, ее откровенность, честность и материнскую нежность. Правда,
она была эксцентрична и неуравновешенна, сама сознавала это и признавалась в своих ошибках, но дурной она
не была, решительно нет. Даже в маленьких шалостях,
которые она придумывала, чтобы развеселить меня, она
проявляла скорее желание взрослой женщины позабавиться над смущением робкого юноши, чем возбудить
в нем чувственное влечение.
Мне оставалось только разогнать вызванных мною
демонов; и, чтобы сбить с толку моих надсмотрщиков,
я отправился на почту и написал письмо на старую тему
94
о моей несчастной любви и приписывал свой порыв отчаяния успеху певца, отнявшему у меня все виды на будущее. В виде литературного опыта я прилагаю два стихотворения, обращенных к «ней», написанных страстным стилем, и предоставляю баронессе принять это по
своему благоусмотрению. Ни на письмо, ни на стихи
я никогда не получил ответа, оттого ли, что этот прием
был слишком избит или тема перестала уже быть интересной.
Последующие дни, тихие и спокойные, много помогли моему выздоровлению. Окружающий ландшафт
принял окраску обожаемого существа, и даже лес, в котором я провел такие мучительные часы, теперь улыбался мне; когда я гулял в нем по утрам, то не оставалось
и следа ужасных воспоминаний, связанных с местом, где
я боролся со всеми демонами человеческой души. Один
только ее приезд и уверенность снова свидеться с ней
вернули мне жизнь и рассудок.
Я знал по опыту, что не всегда неожиданное возвращение бывает приятно, и входил в дом баронессы не без
некоторого смущенного колебания.
Уже на дворе замечалось приближение зимы по облетевшим деревьям, убранным скамьям, дырам в садовой ограде, вместо калиток, по крутящимся сухим листьям и соломе, заткнутой в щели погреба. При входе в гостиную мне стеснило грудь от душного воздуха,
идущего от раскаленной кафельной печи, бело и резко выделявшейся на стене, как развешенное полотно.
Двойные рамы уже вставлены и оклеены бумагой; лежащая между рамами вата похожа на снег и придает
большой комнате вид мертвецкой. Я с трудом старался отогнать ее настоящее убранство и вызвать в памяти
прежний вид строгого мещанства: голые стены, неприкрытый деревянный пол. Я представляю себе унылый
обеденный стол, похожий со своими восемью ногами
на паука, и сидящие за ним старые лица отца и мачехи.
95
Баронесса встретила меня очень сердечно, но вид
у нее был печальный, и казалось, она пережила какое
то разочарование. Тесть и дядя играли с бароном в карты в соседней комнате. Поздоровавшись с игроками,
я остался один с баронессой. Она села в кресло ближе
к лампе и начала вязать. Молчаливая и печальная, она
предоставила мне одному вести разговор, который за
недостатком ответов превратился в настоящий монолог. Она сидела в углу у печки, и я смотрел #на нее, как
она сидит, склонившись над работой и не поднимая головы. Таинственная и как бы погруженная в самое себя,
она, казалось, совсем забыла о моем присутствии, так
что я подумал, что явился не вовремя и что возвращение
мое произвело дурное впечатление.
Вдруг мои усталые взоры падают на пол, и я вижу
под скатертью ее ногу из-под высоко поднявшейся юбки.
Изящная ножка, плотно обтянутая белым чулком и завязанная под коленкой пестро вышитой подвязкой, обнаруживала очаровательные мускулы, которые сводят
нас с ума, давая широкое поле фантазии, которая рисует себе всю ее фи1уру. И затем изящно выгнутая ступня
с высоким подъемом в домашней туфле...
В эту минуту я просто подумал о случайной небрежности; только позднее я понял, что женщина инстинктивно чувствует, если нога у нее открыта выше, чем следует. Несколько смущенный очаровательным зрелищем,
я меняю тему и искусным маневром перехожу к моей
мнимой любви.
Она поднимает голову, резко поворачивается ко мне
и, глядя мне прямо в лицо, говорит:
— Вы, должно быть, очень постоянны в своих симпатиях?
Мои глаза упорно стремятся заглянуть под скатерть, где неясно рисуются белоснежный чулок и красная лента, но я взглядываю прямо ей в глаза, кажущиеся
еще больше от света лампы, и отвечаю твердо и решительно:
96
— К несчастью, да!
Шорох карт и возгласы игроков сопровождают эту
исповедь без признания.
Воцаряется тяжелое молчание. Она продолжает вязать и опускает платье. Очарование исчезло, и осталась
только безразличная, плохо одетая женщина; через четверть часа я простился, ссылаясь на нездоровье.
Придя домой, я достал свою драму с твердым намерением переработать ее и, отдавшись ревностному труду, вырвать из себя эту безнадежную любовь, которая
может привести только к преступлению, ненавистному
мне инстинктивно как что-то отвратительное и низкое.
Этим я обязан моему моральному воспитанию. И я твердо решил порвать эту связь, становившуюся с каждым
днем все опаснее.
Неожиданный случай пришел мне на помощь; два
дня спустя я получаю приглашение привести в порядок
библиотеку одного частного лица, живущего в своем загородном доме.
Я очутился в старинном дворянском замке семнадцатого столетия, в зале, сверху донизу заставленной книгами. Это было целое путешествие по отдельным эпохам
моей родины. Я нашел здесь полную шведскую литературу, начиная с рукописей прошлого столетия до последней современной новинки. И я всецело погрузился
в книги, ища забвения; это прекрасно удалось мне, так
как по прошествии первой недели я совершенно не заметил отсутствия моих друзей. И вот в субботу вечером,
приемный день баронессы, ординарец королевской
гвардии является ко мне с письмом от барона, в котором
он приглашает меня, упрекая за мое исчезновение. Я испытываю горькое удовольствие, отсылая не менее любезный отказ, и указываю на то, что теперь я уже больше не господин своего времени.
Проходит еще неделя, и снова появляется ординарец,
на этот раз в парадной форме, и передает мне записку
от баронессы, которая в трогательных словах умоляет
97
меня навестить барона — он простудился и лежит в постели. Кроме того, она спрашивает меня о моем самочувствии. Отказаться на этот раз невозможно, и я отправляюсь к моим друзьям.
У баронессы утомленный вид, а слегка простуженный барон скучает, лежа в спальне, куда меня и вводят.
Вид этого святилища, до сих пор скрытого от меня, снова пробуждает во мне инстинктивное отвращение к совместной супружеской жизни в общей спальне, где супруги не стесняются ни при каких случаях, требующих
уединения. Громадная постель, на которой лежит барон, выдает всю неопрятность интимной жизни, а гора
подушек рядом с больным указывает на обычное место
баронессы. Туалет, умывальник и полотенца — все кажется мне неприятным, и я должен был закрыть на все
это глаза, чтобы скрыть свое отвращение.
После короткой беседы у постели больного баронесса пригласила меня в гостиную выпить рюмку ликера,
и едва мы остались одни, как она заговорила порывисто,
как бы отгадав мои мысли:
— Не правда ли, это отвратительно?
— Что такое?
— Ах! Вы меня понимаете! Эта женская жизнь без
цели, без смысла, без дела! Ах! Я гибну в ней!
— Но, баронесса, у вас есть ребенок, воспитанием которого вы можете заняться, а потом у вас будут и другие
дети.
— Я не хочу иметь больше детей; я не создана быть
нянькой.
— Не нянькой, но матерью в благороднейшем значении этого слова...
— Мать, хозяйка! Это одно и то же! А что, по-вашему,
я должна делать, когда две прислуги и без меня прекрасно ведут хозяйство? Нет, я хочу жить.
— Как артистка?
-Да!
— Но все обстоятельства против вас!
98
— Я это знаю слишком хорошо. И поэтому я гибну
от тоски и отупения. О, как мне все это противно!
— А писательство? Ведь это далеко не такая противная профессия, как актерская!
— Драматическое искусство для меня выше всего, и,
что бы там ни было, я никогда не утешусь, что отказалась от своего призвания ради иллюзии!
Барон позвал нас.
— Что с ней? — спросил он меня.
— Ах, все театр, — отвечал я.
— Она положительно сумасшедшая.
— Она вовсе не такая сумасшедшая, как кажется, —
возразила баронесса, выходя из комнаты и громко хлопая дверью.
— Послушай, старый дружище, — поведал мне барон, — она больше не спит по ночам.
— Чего ей нужно?
— Она играет на рояли, дремлет на диване в гостиной и просматривает хозяйственные счета. Посоветуй,
молодой ученый, чем тут можно помочь.
— Ей надо иметь детей! И побольше!
Он делает странное лицо. Потом старается сдержаться.
— Врач запретил это, потому что первые роды были
очень трудные... а кроме того материальные причины...
ты понимаешь...
Я понял и поостерегся продолжать дальше эту щекотливую беседу. К тому же я был еще слишком юн,
чтобы понимать, что больные женщины предписывают
сами врачам все, что те им назначают.
Баронесса вернулась с ребенком и уложила его в железную кроватку, стоящую рядом с бароном. Девочка
начала плакать и не хотела спать. После долгих напрасных попыток успокоить ребенка мать принесла po3iy.
Я никогда не мог видеть без гнева, чтобы били ребенка,
и выступал в подобным случаях даже против отца; и теперь я вмешался, едва скрывая свое раздражение.
99
— Простите, что я вмешиваюсь в ваши дела, — обратился я к ней, — но неужели вы думаете, что ребенок
плачет без серьезной причины?
— Она просто непослушна!
— Так у нее, вероятно, есть причина не слушаться.
Может быть, она устала, и наше присутствие и свет лампы беспокоят ее.
Она казалась смущенной и вероятно поняла невыгодную роль мегеры, — она согласилась со мной, и я встал,
чтобы проститься.
Заглянув так неожиданно в глубину их интимной
жизни, я на несколько недель излечился от своей любви, и должен сознаться, что сцена с розгой много способствовала к поддержанию во мне неприятного воспоминания.
Осень прошла пасмурно и мрачно; подошло Рождество. Приезд одной новобрачной четы из финляндских
друзей баронессы несколько обновил наши отношения,
готовые порваться. Благодаря стараниям баронессы,
я получал многочисленные приглашения и появлялся в черном сюртуке на ужинах, обедах и даже танцевальных вечерах. Бывая в этом не слишком избранном
обществе, я замечал, что у баронессы появляются несколько развязные манеры, а под маской чрезмерной
искренности она сама ухаживает за молодыми людьми, причем она всегда искоса наблюдает за мной, чтобы поглядеть, какое это производит на меня впечатление. Совершенно невероятно, как далеко она заходила
в своих шутках; я отвечал ей оскорбительной холодностью, вызванною как чувством порицания ее пошлого поведения, так и болью при виде того, как обожаемое существо унижается до степени простой кокетки.
К тому же это, казалось, забавляло ее, потому что она
удерживала все общество до утра; это еще больше укрепляло меня во взгляде, что я имею дело с женщиной,
страдающий от неудовлетворенных желаний и скучающей у семейного очага, с женщиной, сценическое при¬
100
звание которой основывается только на неизменном
тщеславии, стремлении выставить себя на показ и насладиться жизнью. Веселая, живая и остроумная, она
обладала искусством блистать и всегда была центром
среди гостей, не столько благодаря своей красоте, как
своей обходительности, которая покоряла даже ее врагов. Она была всегда так неудержимо весела и так нервно возбуждена, что даже самые равнодушные невольно
смотрели на нее и слушали ее, но мне казалось, что в ту
минуту, как нервы ее падали и она забивалась в угол,
волшебство рассеивалось, и никто больше не обращал
на нее внимания. В общем она была тщеславна, властолюбива, пожалуй даже бессердечна, она всегда стремилась окружить себя молодыми людьми, а к дамам относилась с оскорбительным равнодушием. Она вероятно вбила себе в голову видеть меня порабощенным,
покоренным и вздыхающим у ее ног. Однажды после
новых триумфов в одном обществе она отважилась
на решительный шаг. В безумном ослеплении она рассказывает одной приятельнице, что я совершенно влюблен в нее. Придя однажды к этой приятельнице, я неосторожно высказываю надежду встретить у нее баронессу.
— Так вы пришли, чтобы видеться с ней, — поддразнивает меня хозяйка дома. Это очень любезно с вашей
стороны.
— Нет, сударыня, говоря откровенно, баронесса сама
пригласила меня придти к вам.
— Так это свидание?
— Если вам угодно это так называть!
Во всяком случае, не я пропустил его! Действительно баронесса сама придумала этот визит; я пришел по
ее приглашению; она хотела скомпрометировать меня
этой выходкой, сама оставаясь в стороне.
Чтобы отомстить, я испортил ей целый ряд праздников своим отсутствием, отняв у нее удовольствие любоваться моими страданиями. А как я страдал! Блуждая
101
по улице под окнами дома, куда — я знал — она приглашена, я испытывал жгучую боль, дрожа от ревности,
представляя ее себе в объятиях танцора, в голубом шелковом платье, с развевающимися белокурыми локонами, ее очаровательную фигурку, скользящую на самых
крошечных подошвах в мире!
Прошел Новый год, приближается весна. Мы проводим время или в празднествах или сидя дома втроем, что было невыразимо скучно; узы дружбы рвались
и снова завязывались, у нас происходили ссоры и перемирия, мелкие стычки и сердечные, дружеские излияния. Я уходил и снова возвращался.
Близился март, этот ужасный месяц, когда в холодных странах наступает время любви и судьбы любящих решаются сами собой, когда разбиваются сердца
и порываются все священные обеты, узы чести, семьи
и дружбы.
Барон снова отправившийся на службу в первых
числах марта, приглашает меня как-то провести вечер у него на гауптвахте. Человеку среднего сословия,
отпрыску мелкобуржуазной семьи, ничто не внушает
большего уважения, как вид почетных знаков высшей
власти. Проходя по коридорам с моим другом, где ему
на каждом шагу отдают честь офицеры, я слышу звон сабель, оклики часовых и треск барабана, пока мы не входим в ордонанс-зал.
Я дрожу в душе при виде военных эмблем и невольно склоняюсь перед портретами знаменитых генералов;
отнятые при Лютцене и Лейпциге знамена, другие, служащие для ежедневного употребления, бюсты царствующего короля, шлемы, щиты, военные планы — все это
возбуждает во мне беспокойство низших классов перед
атрибутами господствующей власти.
В этой внушительной обстановке полковник значительно вырос в моих глазах, и я стараюсь держаться поближе к нему, чтобы в случае нужды прибегнуть к его
защите.
102
Когда мы входим в служебную комнату, к нему приближается лейтенант и стоя отдает ему честь, и я чувствую себя подавленным этой иерархией офицерства,
которое по отношению к дамам является явным соперником ученых и заклятым врагом детей народа. Ординарец приносит пунш, и мы закуриваем сигары. Барон
показывает мне альбом полка, художественное собрание эскизов тушью и углем, на которых изображены
все выдающиеся офицеры, служащие уже двадцать лет
в королевской гвардии — предмете восхищения и зависти гимназистов во времена моей юности, доставлявших
себе ежедневное удовольствие присутствовать при именах караула. Мое мелкобуржуазное чувство радуется,
видя изображения этих избранников в комичном виде,
и, рассчитывая на сочувствие ставшего несколько демократичным барона, я позволяю несколько скромных выходок против вооруженного соперника. Но пограничная черта демократизма барона иная, чем у меня, и он
не слишком дружелюбно принимает мои шутки. Дух
корпорации одерживает верх, и, нервной рукой перебирая листы, он останавливается на рисунке, изображающем восстание 1868 года.
— Да, да; мы славно разделались с этими канальями, — говорит он, злобно усмехаясь.
— Ты тоже участвовал в этом?
— Разумеется. Я был послан с моим отрядом охранять трибуну, возведенную вокруг памятника; эту трибуну осаждала толпа. Кто-то еще бросил в мое кепи камень. Это вынудило меня раздать патроны. К несчастью,
по приказу короля велели прекратить огонь, и я остался
мишенью для камней толпы. Суди сам, мог ли я относиться иначе к этим канальям!
И после короткого молчания, во время которого он
пытливо смотрел на меня, он продолжал, смеясь:
— А ты еще помнишь эту историю?
— О, я прекрасно все это помню. Я принимал участие в студенческом шествии.
103
Я умолчал о том, что находился в толпе, которая пришла в ярость при виде трибуны, отведенной для абонентов и исключавшей народ из национального праздника,
умолчал, что я стоял на стороне возмутившихся и, как
ясно помню, бросал камнями в солдат.
В эту минуту при аристократическом произнесении
слова «канальи» мне стало понятно чувство страха, охватившее меня при входе во вражеский лагерь, и в моем
воображении весь вид моего друга изменился так сильно, что я окончательно упал духом. Вся ненависть рас,
классов и традиций как непроходимая стена поднялась
между нами, и, когда я увидел, как он оправляет рукой
саблю, эту эмблему грубой силы, почетное отличие,
украшенное шифром и короной короля, я ясно почувствовал, что дружба наша была искусственная, созданная руками женщины, бывшей единственным звеном
между нами. Он принял высокомерный тон, а выражение его лица все больше и больше подходило к окружающей обстановке и отдаляло его от меня. Чтобы направить его мысли в другую сторону, я переменил тему
разговора, вдруг осведомившись об его жене и дочери.
Его лицо сразу прояснилось и приняло свое обычное,
добродушное выражение. Я снова почувствовал почву
под ногами и под милостивым взором людоеда, ласкающего мальчика с пальчик, я принялся вырывать великану три волоска.
— Послушай, старый дружище, — обратился я к нему, — Матильда приедет к Пасхе?
— Конечно! — отвечал он.
— Отлично, так я поухаживаю за ней, — весело сказал я.
Выпив залпом стакан, он воскликнул насмешливо,
с ласковой улыбкой людоеда:
— Что ж, попробуй!
— Я попробую; может быть, впрочем, она уже помолвлена?
104
— Нет, насколько мне известно — нет! Но, мне кажется, я слышал... впрочем, попробовать не мешает.
И затем прибавил с убеждением:
— Впрочем, даром будешь стараться!
Это беспощадное предупреждение звучало презрением, и это оскорбление вызвало во мне дерзкое решение помериться силой с этим высокомерным болтуном
и счастливой комбинацией оградить себя от преступной любви, направив ее на другое существо, и в то же
время отмстить за баронессу, оскорбленную в своих законных чувствах.
Наступил вечер, и я встал, чтобы идти домой. Полковник проводил меня мимо часовых, и мы пожали друг
другу руку у решетчатых ворот, которые захлопнулись
за мной слишком быстро, словно выгоняли меня.
Наступила весна; снег таял, и улицы освободились
от своего ледяного покрова; голодная детвора продает
уже подснежники, на выставках цветочных магазинов
азалии, рододендроны и ранние розы красуются во всем
своем блеске. Апельсины сверкают в фруктовых лавках, омары, алжирская цветная капуста и редиска украшают окна гастрономических магазинов. Солнце сияет
в пенящихся волнах реки; около северного моста у набережных суда появились уже в новой окраске, заново
выкрашенные в зеленый или багряный цвет. Отяжелевшие под тяжестью лет мужчины снова набираются силы
под теплыми лучами солнца, и начинается период всеобщей любви. Горе слабым, когда кругом сам по себе совершается подбор и чувство любви дает все новую пищу
гибельным страстям!
Очаровательная волшебница приехала и поселилась
у барона. Я очень любезен в обращении с ней, а она насмехается надо мной с видом человека, заранее обо всем
осведомленного. Мы играем в четыре руки на рояле,
105
и она прижимается правой грудью к моей левой руке.
Баронесса замечает это и страдает. Барон вне себя от
ревности и награждает меня гневными взглядами. То кажется, что он злится за жену, то ревнует к кузине.
Когда он оставляет жену и шепчется с кузиной по
углам, я вступаю в разговор с покинутой женщиной.
Тогда он начинает горячиться и обращается к нам с нескромными вопросами, прерывающими наш разговор.
Иногда я отвечаю ему намеренно насмешливо, но чаще
всего не обращаю на это внимания.
Однажды вечером мы обедаем в тесном кружке. Мать
баронессы тоже была с нами. Она полюбила меня, но
осторожная, как все старые женщины, боялась, не скрывается ли здесь какого-нибудь обмана.
Вдруг, в порыве материнской нежности и предчувствии неведомых бед, она схватила меня за обе руки
и произнесла, пристально глядя на меня:
— Добрый друг, я твердо убеждена, что вы человек
порядочный. Я не понимаю, что собственно происходит
в этом доме. Обещайте мне все время следить за моей
дочерью и, если случится то, что не должно случиться,
то обещайте прийти ко мне и все мне сказать.
— Обещаю вам, сударыня, — отвечал я, целуя ей
руку, по русскому обычаю, так как она была замужем за
русским офицером.
И я сдержал слово.
Мы словно танцуем на краю пропасти. Баронесса
бледна как смерть, какая-то застывшая и холодная. Барон ревнует, раздражается и со мной почти груб. Я ухожу, но на следующий же день за мной присылают
и встречают меня с распростертыми объятиями. Все сваливается на недоразумение, хотя мы прекрасно понимаем друг друга. Один Бог знает, что происходит в их доме.
106
Однажды вечером красавица Матильда удаляется к себе
в комнату померить бальный туалет. Барон тоже выходит и оставляет меня наедине с женой. Поболтав с полчаса, я осведомляюсь о моем друге.
— Он исполняет роль горничной при Матильде, —
объясняет мне баронесса.
И, как бы оправдывая его, прибавляет:
— Она еще дитя, и между родными это позволительно! Не следует думать ничего дурного.
Потом говорит изменившимся голосом:
— Вы так ревнивы!
— А вы, баронесса?
— Может быть, буду ревновать и я.
— Дай Бог, чтобы это было вовремя! Это пожелание
друга.
Барон входит в сопровождении молодой девушки,
одетой в зеленоватое бальное платье с таким большим
вырезом, что видны очертания груди.
Я делаю вид, что ослеплен, и, прикрывая глаза рукой,
отступаю назад.
— Ах! — восклицаю я. — На вас опасно смотреть,
фрёкен!
— Не правда ли, как она хороша? — спрашивает меня
баронесса несколько неуверенным тоном.
Барон уводит ее, и мы опять остаемся одни.
— Почему вы последнее время так обращаетесь со
мной? — говорит она со слезами в голосе и с видом побитой собаки.
— Я? Я этого не замечал, — отвечаю я.
— Вы страшно изменились, и я бы очень желала
знать, в чем я провинилась.
Она подвигается ближе, смотрит на меня блестящими глазами, дрожит, и... я поднимаюсь.
— Видите ли, баронесса, мне начинает казаться очень
странным отсутствие вашего мужа. Мне не нравится эта
оскорбительная доверчивость с его стороны.
— Что вы хотите этим сказать?
107
— Я нахожу... вообще... жену не оставляют так вдвоем с молодым человеком, особенно если сам запираешься в комнате с молодой девушкой, когда она...
— Знаете, вы оскорбляете меня! У вас такая манера
говорить...
— Здесь дело вовсе не в манере говорить! Мне это
противно! Я презираю вас, если это не оскорбляет вашего достоинства. Что они там делают?
— Они заняты туалетом Матильды! — отвечает она
с невинным лицом и смеется. — Что же мне делать?
— Мужчина не присутствует при туалете дамы, если
не находится с ней в любовной связи.
— Она еще ребенок, по его словам, и она смотрит на
него, как на отца.
— Я бы никогда не позволил играть в папу и маму
своим детям, а тем более взрослым.
Она встает, чтобы позвать барона.
Мы проводим вечер в занятиях гипнотизмом. Я провожу руками над лицом баронессы, и она уверяет, что
это действует успокоительно на ее нервы. Вдруг, когда
она уже готова погрузиться в гипнотический сон, она
вскакивает и кричит, глядя на меня неподвижным взглядом:
—Оставьте меня! Я не хочу! Вы хотите заколдовать
меня!
— Ну, так испробуйте вы на мне свою гипнотическую
силу, — обращаюсь я к ней.
И она начинает производить те же манипуляции, каким только что подвергалась сама.
За пианино наступает подозрительное молчание;
опуская глаза, я заглядываю между ножек и лирообразной педалью инструмента. Мне кажется, что я вижу
сон, и быстрым движением я вскакиваю с места. Барон выходит из-за пианино и предлагает мне стакан
пунша.
Мы все поднимаем стаканы и чокаемся. Барон обращается к жене с просьбой:
108
—Выпей же в знак примирения с Матильдой.
— За твое здоровье, маленькая волшебница, — говорит улыбаясь баронесса.
И затем обращается ко мне:
—Представьте, мы поссорились с ней и как раз из-за
вас.
Я не знал, что собственно мне следует ответить, но,
помолчав немного, сказал:
— Вы не хотите высказаться яснее, баронесса?
— Никаких объяснений, — хором заявили они.
— Очень жаль, — отвечал я, — мне кажется, что мы
и так молчим слишком долго.
Настроение становится несколько напряженным, мы
прекращаем опыты, и я откланиваюсь.
«Из-за меня!» — повторял я, роясь в своей совести.
Что все это значит? Была ли это наивная выходка несдержанного духа? Две женщины ссорятся из за мужчины! Или баронесса до того обезумела, что способна выдать себя таким образом!
Разумеется нет! Так значит тут кроется другая причина!
«Что собственно происходит в этом доме?» — спрашиваю я себя, вспоминая странную сцену, поразившую
меня в тот вечер, не смея утверждать, что я видел что-
нибудь неприличное, так невероятно казалось мне все
это.
Эти вспышки ревности без повода и причины, опасения старухи матери, возбуждение баронессы, казалось,
вызванное весенним воздухом, все это мешалось в моих
мыслях, кипя и пламенея, так что после ночи раздумья
я снова принял решение бежать от этих грозных и, может быть, непоправимых ударов судьбы.
С этим намерением я встал рано утром и написал
рассудительное, искреннее письмо, где я в почтительных выражениях признавался в излишнем злоупотреблении дружбой и без дальнейших объяснений просил извинить меня, обвиняя себя в том, что я нарушил
109
согласие между родными, и я Бог знает что еще взваливал на себя.
Результатом этого было то, что выходя к обеду из библиотеки я случайно встретился с баронессой. Она стояла на Северном мосту; окликнув меня, она повела меня
в аллею на площади Карла XII. Она почти со слезами
умоляла меня опять бывать у них, не требовать никаких
объяснений и по-прежнему оставаться их другом.
Как она была прелестна в этот день! Но я любил ее
слишком чисто, чтобы погубить ее.
— Уходите отсюда, или вы испортите свою репутацию! — серьезно сказал я ей, пытливо оглядывая гуляющих, взгляды которых смущали нас. Идите сейчас же домой, если не хотите, чтобы я прогнал вас.
Она взглянула мне прямо в глаза с таким жалобным
выражением, что я готов был упасть перед ней на колени, целовать ее ноги и умолять о прощении.
Но я повернулся к ней спиной и свернул на боковую
дорожку.
Пообедав, я взбирался по лестнице на свою мансарду довольный своей чистой совестью — но с разбитым
сердцем. О, она обладала изумительным уменьем, эта
женщина, смотреть прямо в лицо мужчине!
Короткий отдых восстановил мои силы. Я взглянул
на календарь, висящий на стене.
13 марта! «Ид мартовских поберегися, Цезарь!» —
прозвучала у меня в ушах знаменитая фраза шекспировской трагедии; в эту минуту вошла служанка и подала
мне записку от барона.
Он приглашал меня провести с ним вечер, потому что
баронесса была нездорова, а Матильда уходила в гости.
У меня нет сил противиться, и я отправляюсь в гости
к барону. Баронесса, бледная как смерть, выходит ко мне
навстречу, прижимает мои руки к своей груди и благодарит меня в красноречивых, теплых словах за мое милосердие, что я не лишаю ее друга и брата из-за каких-то
недоразумений и пустяков.
110
— Она положительно сходит с ума! — шутит барон,
отводя ее от меня.
— Да, я схожу с ума от радости, что к нам снова вернулся наш маленький друг, который хотел навсегда нас
покинуть! — И она плачет!
— Она очень страдала вчера, — говорит оправдывающе барон, которого смущает эта поистине трогательная
сцена.
Бедная женщина производит впечатление больной
лихорадкой, глаза ее мрачно сверкают и кажутся огромными, щеки ее бледны до синевы. К тому же она кашляет чахоточным кашлем, потрясающим все ее нежное
тело.
Приходят дядя и тесть, в камине зажигают огонь, около которого хотят скоротать вечерние часы, не зажигая
ламп.
Она садится возле меня, мужчины заводят между собой политический спор.
Я вижу в полумраке, как светятся ее глаза, чувствую
излучение ее тела, вероятно еще разгоряченного после
этого истерическая припадка. Ее платье касается моей
ноги, она склоняется к моему плечу, чтобы спросить
меня о чем-то, неслышно для других, и шепчет мне неожиданный вопрос:
— Вы верите в любовь?
— Нет, — ударяю я ее словно обухом по голове
и встаю, чтобы переменить место.
«Она сходит с ума по мужчине», — думаю я и, боясь
что она наделает еще каких-нибудь глупостей, предлагаю зажечь лампу.
Во время ужина дядя и тесть обсуждают хорошие качества маленькой Матильды, ее склонность к хозяйству
и искусство в рукоделиях. Мой друг опоражнивает один
стакан пунша за другим, разражается восторженными
похвалами и с пьяными слезами на глазах жалуется на
дурное обращение, какое милое дитя терпит в родительском доме. Дойдя до апогея скорби, он смотрит на
111
часы и вдруг поднимается с места, словно призываемый
службой.
— Простите, господа, — сказал он, — но я обещал малютке зайти за ней. Не беспокойтесь. Оставайтесь, пожалуйста, через час я вернусь.
Старик барон-отец уговаривает его остаться, но хитрец ловко выпутывается из дел, сочиняя целую историю и ссылаясь на честное слово. И он исчезает, потребовав от меня, чтобы я дождался его возвращения.
Еще с четверть часа мы сидим за столом, а затем переходим в гостиную. Но старики чувствуют потребность
остаться наедине и удаляются в комнату дяди, который
незадолго перед этим переселился к племяннику.
Я проклинаю судьбу, заманившую меня в ловушку,
которую я так старательно избегал; я надеваю панцирь
на свое взволнованное сердце и настораживаюсь, как
охотничья собака, готовый дать отпор всякой попытке
к трогательной или любовной сцене.
Прислонясь к печке, я спокойно курю свою сигару
и холодно и молча ожидаю, что будет. Баронесса первая
нарушает молчание.
— За что вы ненавидите меня?
— Я ненавижу вас.
— Вспомните, как вы обошлись со мной сегодня
утром.
— Молчите!
Этой грубостью без всякого разумного основания
я дал промах. Она догадывается, и через мгновенье все
уже сказано.
— Вы избегаете меня, — продолжает она. — Отлично!
А знаете, что заставило меня уехать в Мариенфриден?
На секунду воцаряется молчание и затем я отвечаю:
—Может быть, я не ошибусь, предположив, что по
той же самой причине, по какой я хотел уехать в Париж?
— Так, теперь все ясно, — говорит она.
— И что же дальше? — спрашиваю я.
112
Я ожидаю сцены, но она спокойно смотрит на меня
растроганным взором. Мне следовало прервать опасное
молчание.
— Ну, если уж вы открыли мою тайну, так выслушайте меня. Если вы хотите, чтобы я изредка посещал ваш
дом, будьте благоразумны! Видите ли, любовь моя так
возвышенна, что я могу жить возле вас, не требуя ничего больше, как только видеть вас. Но в ту минуту, как вы
забудете ваш долг и выражением лица или движением
выдадите нашу тайну, я все открою вашему мужу, и вы
знаете, что тогда произойдет.
В пылком экстазе она подняла глаза к небу:
— Клянусь вам в этом! Как вы велики, какой вы сильный и добрый! О! я преклоняюсь перед вами! Ах! Мне
стыдно, мне хотелось бы превзойти вас в честности, мне
хотелось бы... Хотите, я скажу все Густаву!
— Если хотите, да! Но тогда мы больше никогда не
увидимся. И наконец, разве это его касается?
— В моем чувстве к вам нет ничего преступного, и,
наконец, если бы он даже знал все, разве он был бы
в состоянии задушить мое чувство? Никого не касается, кому я отдаю свою любовь, если моя страсть не
захватывает чужих владений. Впрочем, поступайте, как
хотите.
— Я готов ко всему!
— Нет, нет; нет никакой необходимости говорить
ему, тем более, что он сам позволяет себе много вольностей...
— Простите, но я не разделяю вашего взгляда на сходство наших положений.
— Если ему нравится позорить себя, тем хуже для
него! Это не причина... Нет!
Экстаз был нарушен, мы спустились на землю.
— Нет, — продолжал я. — Но вы должны сознаться,
что это даже комично! Этого никогда еще не бывало, это
даже оригинально! Люди любят друг друга, объясняются, и дело на этом кончается!
ИЗ
— Это стильно! — восклицает она и по-детски всплескивает руками.
— Во всяком случае не в стиле фельетона!
— И как хорошо остаться честными!
— Это по крайней мере самый легкий способ!
— И мы будем видеться по-прежнему без боязни...
— И без угрызений!
— И больше не будет никаких недоразумений! Но
скажите, ведь не Матильду вы...
— Тише!..
Дверь отворяется, и для пополнения банальности
оба старика возвращаются после посещения известного
укромного уголка, держа в руках маленький фонарик.
Они проходят через гостиную во внутренние комнаты.
— Заметьте, — говорю я, — что жизнь состоит из
мелких забот и великих мгновений и что действительность совсем не похожа на поэтический вымысел. Разве
бы я решился воспроизвести в точности только что пережитую сцену в каком-нибудь романе или драме? Вообразите себе: любовное объяснение без объятий и коленопреклонение, без потока слов, и затем влюбленные,
застигнутые двумя стариками с фонариком в руках! Это
равнялось бы величию Шекспира, изображающему
Юлия Цезаря в халате и туфлях, когда ночью его мучают бессвязные сны.
Раздается звонок, и появляется барон с прекрасной
Матильдой. Чувствуя угрызения совести, он был с нами
крайне любезен. А я, выступая в моей новой роли и желая ввести его в заблуждение, рискнул на смелую ложь:
— А мы тут целый чае ссорились с баронессой.
Он поглядел на меня исподлобья и отошел, как бы
выслеживая, словно борзая собака, напавшая на ложный след; я простился и ушел.
Какая беспримерная наивность верить в целомудренную любовь! В самом уж сохранении тайны лежит опас¬
114
ность. Это то же, что тайно зачатый ребенок; оно растет
вместе с стремлениями наших душ и наконец прорывается наружу. Мы старались примирить наши прежние
чувства и пережить еще год в томительной тайне. Мы
пустились на хитрости; мы встречаемся у моей сестры;
она замужем за учителем гимназии, который, несмотря
на свое старинное знатное имя, держится в стороне от
общества. Мы назначаем свидания, сначала вполне невинные, но страсть наша растет, и пробуждаются желания. Через несколько дней после объяснения она передает мне связку писем, частью написанных еще до 13
марта, частью после объяснения, — свидетелей ее страданий и любви, из которых первые совсем не были предназначены для прочтения.
Понедельник.
Дорогой друг!
Я стремлюсь к тебе — как и все почти дни. Благодарю
тебя, что ты позволил мне вчера говорить с тобой, не делая саркастической гримасы, что ты, по-видимому, усвоил себе за последнее время. Зачем эта насмешка? Если
бы ты знал, как я страдаю от этого! Когда я приближаюсь к тебе с полным доверием, когда мне больше всего
нужна твоя дружба, ты вдруг надеваешь эту маску! Зачем? Разве тебе надо прятаться от меня! Ведь сам же ты
в одном из писем сознался, что это маска. Я надеюсь на
это, я сознаю это и все-таки страдаю. Тогда мне приходит в голову мысль: я опять сделала ошибку. Что он подумает обо мне?
Как ревниво отношусь я к твоей дружбе. Как я боюсь навлечь на себя твое презрение! Ты должен всегда быть искренним и добрым со мной. Ты должен забыть, что я женщина — я сама так часто забываю об
этом.
Я рассердилась на тебя вчера не за то, что ты сказал,
но я была поражена и оскорблена. Неужели ты думаешь,
что я была способна вызывать ревность мужа и мстить
115
таким бесчестным путем? Представь только себе, чего
я достигну, если верну его себе опасным путем возбуждения ревности? Что будет в результате? Он начнет относиться к тебе недружелюбно, и мы перестанем видеться. А что станется со мной без твоего общества, которое
стало для меня дороже моей жизни?
Я люблю тебя с нежностью сестры, а не капризом кокетки... Правда, бывают минуты, когда я не могу больше ждать, когда меня охватывает желание взять в свои
руки твою прекрасную голову, заглянуть в твои искренние умные глаза, и, нет сомнения, я запечатлела бы поцелуй на твоем ясном челе, в которое я влюблена, но это
был бы самый чистый поцелуй из всех, какие ты получал. Это заложено в моей нежной натуре, и если бы ты
был женщина, я бы так же любила тебя, при том условии, если бы я могла уважать женщину так же сильно,
как уважаю тебя
Как я счастлива, что тебе не нравится Матильда!
Надо быть женщиной, чтобы радоваться этому. Но
что же ты хочешь! Ведь я вижу, как все преклоняются
перед ней. Это отчасти и моя вина. Я поддерживала эту
склонность, в которой видела просто детскую забаву,
и допустила мужа запутаться в ее сети, уверенная, что
все-таки владела его сердцем. В результате я наказана
обманом.
Среда.
Он влюблен в нее и признался мне в этом. Их отношения зашли очень далеко, а я смеюсь над этим. Представь себе: проводив тебя до дверей, он возвращается,
схватывает меня за руки, заглядывает в глаза, — я дрожу, совесть моя нечиста, — он умоляет меня: «Мария, не
сердись! Позволь мне сегодня вечером пойти к Матильде, я так влюблен!» Смеяться мне или плакать? А я мучаю себя угрызениями совести за то, что люблю тебя без
всякой надежды и ничего не требуя. Что за глупая фантазия — честь! Пусть он наслаждается своей чувственной
116
любовью; ты всегда будешь со мной, мои женские желания не так пылки, чтобы я могла забыть свои обязанности супруги и матери. Но заметь противоречие и двойственную природу моих чувств. Я люблю вас обоих и не
могла бы жить без него, честного, благородного друга,
а также и без тебя!
Пятница.
Наконец, наконец ты поднял завесу, скрывавшую тайну моего сердца. И ты не презираешь меня. Божественная доброта! Ты даже любишь меня! Слово, которого
ты не хотел произнести: ты любишь меня! Я виновата,
я преступница, потому что люблю тебя. Да простит мне
это Господь! И в то же время я люблю и его и никогда бы
не смогла расстаться с ним.
Как это странно! Любима! Нежно любима! И тобою
и им! Я так счастлива, так спокойна — моя любовь не
может быть преступной, иначе я испытывала бы раскаяние, или я так испорчена! Ах, как мне стыдно, что я первая сказала тебе об этом! Как раз в эту минуту Густав
открывает мне свои объятия, и я упаду в них! Я верна!
Да! Зачем не охранил он меня раньше, когда еще было
время!
Это все как роман, каков-то будет конец? Умрет героиня, а герой женится на другой? Или они разойдутся
в разные стороны, и все в заключение кончится добродетельно? Если бы я была сейчас с тобой, я поцеловала бы
тебя в лоб с тем же благоговением, как верующие прикасаются к изображению Христа, откинув от себя все низменное и порочное...
Лицемерие это или нет? Или одно плотское влечение, под которым скрываются желания, внушает ей эти
полурелигиозные грезы? Нет, не только оно одно! Желание продолжить свой род усложнилось, и даже у животных физические свойства усиливаются благодаря
117
любви. Так значит тело и душа влюблены оба, и одно
ничто без другой. Если дело идет только о физическом
влечении, то почему же бросать великана для слабого,
больного нервами юноши? Если же дело касается только души, то к чему же томление по поцелую, это поклонение моим маленьким, розовым ногтям, это восхищение моим гордым челом, моими волнистыми волосами?
Или, может быть, ее чувственность безгранично возбужденная необузданностью мужа, пробуждает в ней эти
галлюцинации? Или, быть может, она инстинктивно
чует, что мой юношеский пыл может доставить ей больше наслаждения, чем вялые ласки ее мужа? Она не ревнует мужа, следовательно — больше не любит в нем возлюбленного. Но она сильно ревнует меня, — значит, она
меня любит!
Однажды в гостях у моей сестры с ней случился истерический припадок. Она бросается, рыдая на диван.
Она жалуется на недостойное поведение мужа, который
собирается идти вечером с кузиной на бал в офицерское
собрание.
В припадке безумия она прижимает меня к своей
груди и целует меня в лоб, а я осыпаю ее поцелуями!
Петля затянута, и с этой минуты я в ее власти.
Вечером я читал «Эксельсиор» Лонгфелло. Увлеченный этим прекрасным стихотворением, я не спускаю
с нее глаз, и лицо ее, словно загипнотизированное, отражает всю игру моего лица. Она производит впечатление безумной, ясновидящей. После ужина за ней в карете приезжает горничная. На улице, несмотря на мои
возражения, она заставляет меня сесть в карету, а горничной валит поместиться на козлах. Очутившись одни
в карете, мы обнимаемся, не произнося ни слова, и я чувствую, как ее нежное тело дрожит и трепещет под моими поцелуями и она все сильнее и сильнее прижимается ко мне. Но я снова отступаю перед преступлением
118
разрушить семью и доставляю ее домой нетронутою,
пристыженную, пожалуй даже взбешенную.
У меня не остается больше никакого сомнения. Она
хотела соблазнить меня. Она первая поцеловала меня
и сделала все первые шаги. Но с этой минуты я совершенно серьезно занимаю место обольстителя, потому
что я все-таки не Иосиф, несмотря на мои твердые принципы чести.
На следующий день я назначаю ей свидание в национальном музее.
Я с восхищением гляжу, как ее царственная фигура
в черном бархатном костюме, выложенном гусарским
шнуром, поднимается по мраморной лестнице под вызолоченным куполом и ее маленькие ножки стучат по
пестрым каменным плитам. Я иду ей навстречу и приветствую ее, преклоняя колена, как паж. Ее красота, расцветшая под моими поцелуями, поразительна. Сквозь
нежную кожу ее щек видно, как кровь струится по жилам. Ее почти девственная фигура приобрела жизнь
в моих объятиях, Пигмалион вдохнул жизнь в мрамор
и обладает теперь богиней. Мы садимся перед статуей Психеи, завоеванной во время тридцатилетней войны. Я целую ее щеки, губы, глаза, и она принимает мои
поцелуи с опьяняющей улыбкой счастья. Я играю роль
обольстителя, соблазнителя и вывожу на сцену все софизмы оратора и все искусство поэта.
— Покиньте, — говорю я, — этот преступный дом, бегите из этих опороченных комнат, от этой жизни втроем, за которую я презираю вас. (Я не говорю ей «ты»,
чтобы не сводить ее с пьедестала). Вернитесь к вашей
матери, посвятите себя вашему святому искусству, через
год вы сможете выступить и тогда вы будете свободны
и сможете устроить жизнь по-своему.
Она подбрасывает жару в огонь, возбуждает меня,
я весь пылаю и наговариваю ей массу невероятных слов,
119
все только с целью выманить у нее обещание сознаться
во всем мужу. Последствия мы возьмем на себя!
— А если все это кончится плохо? — замечает она.
— Пусть для нас наступит ад, но без уважения к самому себе и к вам я не Moiy любить вас. Вы боитесь, вы хотите пользоваться наградой, но отступаете перед жертвой! Будьте так же велики, как ваша красота, решитесь
на смертельный прыжок, рискуя даже разбиться. Пусть
все погибнет, только не честь! Через несколько дней,
если будет так продолжаться, вы будете моей, не сомневайтесь в этом, потому что я люблю вас, как молния, которая поразит вас, люблю вас, как солнце любит росу,
и я выпью вас! Идите на эшафот! Пожертвуйте вашей
головой, но сохраните незапятнанными руки. Вы, может
быть, думаете, что я унижусь до того, чтобы вести эту
игру! Никогда! Или все или ничего!
Она делает вид, что противится, и этим прибавляет пороху в огонь. Она жалуется на притязания мужа
и срывает покров с их интимной жизни; одна мысль об
этом приводит меня в бешенство.
Он, человек глупый, бедняк как и я, без будущего, содержит двух любовниц, а я, человек таланта, будущий
аристократ ума, вздыхаю и томлюсь в пламенном кипении моей крови!
Она внезапно меняет разговор, старается меня успокоить, напоминая мне наше решение оставаться братом
и сестрой.
— К черту братские чувства, глупые, детские выдумки! Муж и жена, любовник и любовница! Я обожаю вас,
ваше тело и душу, белокурые волосы и вашу порядочность, самые маленькие ножки в Швеции и вашу искренность, ваши глаза, сверкающие даже во мраке кареты, волшебную улыбку, белые чулки и красную подвязку...
-Но...
— Да, знатная королева, я все это видел. Я буду кусать
вас за горло, я задушу вас поцелуями и раздавлю в сво¬
120
их объятиях! Ах, я силен, как божество, я всю вас вопью
в себя! Вы думаете, я слаб. Нет, я мнимый больной, или,
скорее, притворяюсь им. Берегитесь раненого льва, не
ходите в его пещеру, он заласкает вас на смерть. Прочь
отвратительную маску! Я жажду обладать вами с первой
минуты нашей встречи, и история с семьей была пустая
выдумка! Что мне в дружбе этого милого барона! Я человек среднего сословия, провинциал, бедняк! Он презирает меня, а я завидую ему!
Ее, по-видимому, не поражают эти откровения, не
открывающие ей ничего нового; мы знали уже все, не
признаваясь ни в чем.
Мы расстаемся, твердо решив не встречаться раньше,
чем она не признается ему во всем.
В страхе и трепете сижу я целый день в своей комнате
и жду известий с поля битвы. Чтобы рассеяться я выбрасываю на пол целый мешок бумаге и старого хлама и погружаюсь во всю эту кучу, чтобы разобрать ее и привести в порядок. Но мысли мои далеко, и я ложусь на весь
этот хлам, подложив руки под голову; я мечтаю и гляжу
на люстру. Я жажду ее поцелуев и строю планы ее дальнейшего обольщения. Она очень чувствительна и наполовину идет мне навстречу; я решаюсь на этот шаг; если
он не удастся, отступление будет трудно.
Я закуриваю сигару и представляю себе, что лежу на
траве; мне доставляет удовольствие смотреть на мою старую комнатку снизу вверх. Все кажется мне в новом свете. Диван, свидетель стольких бурных любовных сцен,
будил во мне желания, быстро охлаждающиеся при
мысли, что все может быть испорчено благодаря моей
глупой порядочности.
Стараясь рассмотреть со всех сторон это понятие,
становящееся на пути моих страстных стремлений, я нахожу в нем много трусости, боязни последствий, некоторую жалость к человеку, которому грозит воспитать
121
чужого ребенка, крупицу отвращения к нечистому общению, немного истинного уважения к женщине, которую я не желал бы видеть униженной, частицу сожаления о ребенке, несколько капель сочувствия к матери
возлюбленной в случае скандала, и в глубочайших тайниках моего страдающего сердца неопределенное сознание трудности отделаться от любовницы, которую навязал себе. Нет, говорю я, или все или ничего! Я должен
обладать ею один и на всю жизнь!
Среди этих мечтаний я слышу тихий, осторожный
стук в дверь, маленькая головка заглядывает в комнату;
лукавая улыбка заставляет меня вскочить с моего ложа
и бросает в бархатно-нежные объятия любимой женщины.
После града поцелуев в ее посвежевшие от холода
губы я спрашиваю:
— Ну, что же он сказал?
— Ничего; я ему еще не сказала.
— Так вы погибли! Уходите!
Затем я снимаю с нее манто; предвкушая удовольствия дальнейшего раздевания, я снимаю с нее шляпу
и веду к дивану. Затем она объявляет мне:
—Мне не хватает мужества. Я хотела увидеть вас еще
раз, прежде чем объясниться. Бог знает, не кончится ли
все это разлукой...
Я закрываю ей рот поцелуем, подвигаю к ней столик,
достаю из шкафа бутылку вина и стаканы. Рядом я ставлю горшок цветущих роз и две свечи; вместо скамеечки
я подкладываю ей под ноги книгу Ганса Сакса, старинное драгоценное издание в тисненом кожаном переплете с изображением Лютера и позолоченными застежками; я взял ее из королевской коллекции.
Я наливаю вина, срываю розу и вкалываю и в ее пышные белокурые волосы. Выпив стакан за ее здоровье и за
наше счастье, я падаю в восхищенье на колени перед
ней.
— Как вы прекрасны.
122
Она в восторге, впервые видя меня в роли влюбленного поклонника; она берет мою голову, целует ее и перебирает пальцами мои волнистые волосы. Ее красота
внушает мне благоговение и кажется мне святыней, так
сильно я люблю ее. Она очарована, видя меня без железной маски, упоена моими сердечными излияниями
и любит меня бешено, безумно, видя, что я способен на
глубокую, почтительную и в то же время страстную любовь.
Я целую ее башмачки и пачкаю о них губы, я целую
ее колени, не прикасаясь даже к краю ее одежды; я люблю ее такой, как она есть, одетой, целомудренной, как
ангел, нисшедший на землю, одетый и прячущий свои
крылья под одеждой.
В конце концов слезы выступают у меня на глазах, и я
сам не понимаю почему.
— Вы плачете? — говорит она. — Что с вами?
— Я не знаю, я так счастлив!
— Так вы можете плакать! Вы — скованный из железа!
— О, мне очень хорошо знакомы слезы!
Как женщина опытная, она думает, что понимает
мою тайную скорбь; через несколько времени она встает и проявляет интерес к разбросанному по полу хламу.
Она плутовски улыбается и говорит:
— Когда я вошла, вы лежали точно на траве; как прекрасно зимой иметь сено!
С этим словами она опускается на кучу бумаг, я сажусь рядом с ней. И под бурей поцелуев кумир постепенно опускается, готовый упасть.
Я наклоняю ее все ниже и ниже, осыпаю поцелуями,
чтобы не дать ей времени стряхнуть опьяняющий огонь
моих взглядов и поцелуев. Я притягиваю ее к себе, и мы
лежим в траве, как двое влюбленных, мы отдаемся друг
другу, как ангелы, вполне одетые, не выполняя грубого
акта. Мы поднимаемся свободные, удовлетворенные, не
испытывая угрызений совести, как не павшие ангелы.
123
О как изобретательна любовь! Грешишь, не совершая настоящего греха, отдаешься, не совершая падения.
О, эта нежная, драгоценная любовь опытной женщины.
Она милосердна к бедному юноше и более счастлива давая, чем получая.
Вдруг она вскакивает, возвращается к действительности и собирается уходить.
— Так до завтра!
— До завтра!
Она все ему сказала и она осуждена, потому что он
плакал.
Он плакал горькими слезами! Наивен он или хитрит?
И то и другое! Любовь часто вызывает обман чувств,
а мнение, какое мы составляем о себе, обманчиво.
Но он не сердится на нас, он разрешает нам оставаться по-прежнему друзьями, с условием, чтобы мы не нарушали целомудрия.
Он благороднее нас, пишет она мне, он великодушнее и любит нас обоих!
Какое мягкосердечие! Он терпит в своем доме присутствие человека, которого целовала его жена, и он считает нас существами бесполыми, разрешая нам прежнее
интимное общение.
Этим он оскорбляет во мне мужчину — и я отвечаю
ему на это равнодушным полным разрывом.
Сегодня я все утро провел у себя; я испытал жесточайшее разочарование. Я откусил от яблока, а теперь его хотят отнять у меня. Она, божество мое, раскаивается; она
испытывает угрызения совести и осыпает меня упреками, она, соблазнительница! Дьявольская мысль приходит мне в голову. Может быть, она нашла меня слишком
невинным? Или досада на мою сдержанность заставила
ее отступить? Она ведь не останавливалась перед престу¬
124
плением, которое так страшило меня, следовательно, ее
любовь сильнее моей. Но приди хоть еще раз, мое блаженство, и тогда ты увидишь!
В десять часов утра я получаю записку от барона:
жена его тяжко заболела, и он просит меня прийти.
Я отказываюсь. Оставьте меня в покое! Я не хочу больше нарушать ваш супружеский мир! Забудьте обо мне,
как я забуду о вас.
В полдень я получаю от барона вторую записку.
«Мы возобновим наши старые дружеские отношения. Я уважаю тебя, так как убежден, что ты поступал,
как человек порядочный. Но ни слова больше о случившемся. Вернись, как брат, в мои объятия, и пусть все будет по-прежнему».
Трогательная простота, полное доверие этого человека тяжело ложатся мне на сердце. Я пишу ему серьезное
письмо, прошу его не играть с огнем и предоставить мне
свободу действия.
В три часа еще записка. Баронесса умирает, у нее
только что был доктор, она желает меня видеть. Барон
умоляет меня прийти. И я иду! Как я безволен!
Входя, я слышу сильный запах хлороформа; лампа
в гостиной приспущена. Барон обнимает меня со слезами на глазах.
— Что с ней? — спрашиваю я холодно, как врач.
— Я не знаю, но она едва не умерла.
— А что сказал доктор?
— Ничего! Он ушел, покачивая головой и сказал:
«Это не моя специальность».
— И он ничего не прописал?
— Ничего!
Он ведет меня в столовую, обращенную в комнату
больной. Она лежит на диване, неподвижная, ослабевшая, с распущенными волосами и горящими как уголь
глазами. Она протягивает руку, и муж вкладывает ее
в мою. Потом он выходит в гостиную и оставляет нас
125
одних. Сердце мое замкнуто, недоверчиво, настороже
при этой необычной комедии.
— Вы знаете, что я едва не умерла, — начинает она.
-Да!
— Это вас огорчает?
— Разумеется!
— И у вас нет ни искры жалости, ни слова сожаления?
— Ваш супруг здесь!
— Да! Но ведь он позволил нам...
— Что с вами, баронесса?
— Я очень больна! Я должна обратиться к женскому
врачу!
-А!
— Я этого очень боюсь! Это ужасно! А как я страдала!
Положите мне руку на голову! Ах, как хорошо! Улыбнитесь же мне хоть немного! Ваша улыбка оживляет меня!
— Барон...
— Вы хотите уйти, покинуть меня...
— Чем я Moiy служить вам, баронесса?
Она плачет.
— Неужели вы хотите, чтобы я разыгрывал из себя
любовника здесь, в вашем доме, стена об стену с вашим
мужем и вашим ребенком!
— Вы чудовище! Вы бессердечны! Вы...
— Прощайте, баронесса!
Я удаляюсь. Барон провожает меня через гостиную,
но не достаточно быстро, чтобы я не заметил женского
платья, мелькнувшего за портьерой в соседнюю комнату; это будит во мне подозрение, что здесь разыгрывается какая-то комедия.
Барон хлопает дверью так громко, что 1ул разносится по всему дому, и мне начинает казаться, что меня выгнали.
Несомненно я был свидетелем какой-то печальной
драмы, какой-то двойственной игры.
Какая таинственная болезнь! Истерия! В научном переводе: нимфомания, в вольном — бешенство самки, ко¬
126
торое долгие годы подавлялось и прикрывалось стыдливостью, а теперь каждое мгновенье может найти себе исход в нарушении брака.
Эта женщина, жившая в полубезбрачии, боявшаяся зачатия, так как не хотела иметь детей, постоянно
возбужденная неудовлетворенными ласками, толкается не утихшими страстями в объятия любовника, к нарушению брака. Но в ту минуту, как любовник принадлежит ей, он отступает и оставляет ее неудовлетворенной!
Как печален такой брак, как жалка такая любовь!
Дойдя до конца моего анализа, я составил себе следующее твердое мнение: супружеская жизнь не удовлетворяла ни мужа, ни жену, и оба стремились сойти с прямого пути; неудовлетворенные желания толкали каждого из супругов к другому существу, обещавшему им
больше наслаждений. Разочаровавшись во мне, баронесса снова вернулась к мужу; и теперь, когда любовник воспламенил жену, мужу легче доставить ей желаемое.
Итак, они снова примирились, и все кончено! Черт
проваливается, и занавес падает!
Нет, этого-то и не случилось!
Она приходит ко мне, и я выманиваю у нее полнейшее признание. В первый год брака она совершенно не
понимала радостей любви, опьянения семейным счастьем. После рождения ребенка муж несколько охладел
к ней, а из боязни новой беременности они стали принимать предохранительные меры.
— И вы никогда не испытывали наслаждения с этим
человеком, имеющим вид великана?
— Почти никогда! То есть... иногда!
— А теперь!
Она краснеет.
— Теперь врач посоветовал ему не стеснять себя...
127
Она откидывается на диване и закрывает глаза рукой.
Возбужденный этими интимными подробностями, я позволяю себе нежный приступ. Она, прерывисто
дыша, отдается моим ласкам, но в решительную минуту
раскаивается и отталкивает меня.
Изумительная загадка! Это начинает меня раздражать.
Чего она хочет от меня? Всего, она требует высшего
наслаждения, но боится преступления, боится незаконного ребенка. Я привлекаю ее к себе, осыпаю поцелуями, чтобы опьянить ее; она поднимается, во всяком случае, разочарованная меньше, чем в последний раз. Что
мне теперь делать? Объяснить ей все до мелочей? Но
ведь мы уже покончили с теориями! Сообщить ей подробности?
Она продолжает бывать у меня. Она ложится на диван, оправдываясь болезненной усталостью. Но теперь
мне уже стыдно играть в сдержанность, я бешусь на этот
стыд, боюсь даже проиграть все дело; я употребляю насилие, если тут может быть речь о насилии; и я поднимаюсь, как победитель, счастливый и довольный собой;
у меня такое чувство, словно я уплачиваю ей долг. А она
выпрямляется, делает жалкую мину и вздыхает. Что сталось с гордой баронессой? Она боится последствий. На
ее затуманенном лице появляется горькое разочарование, являющееся всегда, когда приносишь первую жертву любви и быстро, без нужного покоя, стремишься насладиться.
— И больше ничего?
Она медленно уходит, а я гляжу ей вслед из окна
и тоже вздыхаю:
— И больше ничего?
Сын народа победил белую кость; человек среднего
класса добился любви женщины благородной расы, сви¬
128
нопас мешает свою кровь с кровью принцессы. Но какою ценой!
Поднимается целая буря, разносятся сплетни, и репутация баронессы гибнет.
Мать посылает за мной и просит меня прийти. Я иду
к ней.
— Это правда, что вы любите мою дочь?
— Это правда, сударыня.
— И вы этого не стыдитесь?
— Это для меня честь.
— Она призналась мне, что горячо любит вас.
— Я это знал, сударыня. Я очень огорчен за вас, я бесконечно сожалею о последствиях этого, но изменить ничего не Moiy. Мы любим друг друга, это прискорбный
факт; но в этом нет ничего преступного. Как только мы
сознали опасность положения, мы во всем признались
барону. Дело велось весьма корректно и открыто.
— Мне не в чем упрекнуть вас за ваш образ действий,
но вы должны спасти честь моей дочери и ее ребенка,
честь семьи! Ведь вы же не хотите сделать нас несчастными?
Бедная старуха плачет. Она рассчитывала только на
дочь, которая должна была поддержать честь семьи.
Это возбуждает мою жалость, и я отступаю перед ее горем.
— Приказывайте, сударыня, я все исполню.
— Уезжайте отсюда.
— Хорошо, сударыня, я обещаю это, но при одном
условии.
— Каком?
— Отправьте фрёкен Матильду домой!
— Это обвинение!
— Даже донос! Мне кажется, ее пребывание в доме
барона вовсе не необходимо для их семейного счастья.
— Я с вами согласна. О, этот бесенок; она получит по
заслугам. А вы уезжайте завтра!
— Сегодня же вечером!
129
В эту минуту на сцене появляется Мария без всяких
объяснений.
— Вы останетесь здесь, — приказывает она, — а Матильда должна уехать.
— Почему? — спрашивает с удивлением мать.
— Потому что развод решен. Густав выставляет меня
перед зятем Матильды погибшей женщиной, но они ведут неверную игру.
Какая тяжелая сцена! Есть ли хирургическая операция, какую можно было бы сравнивать с разрывом семейных уз? Тут все страсти, вся неопрятность глубочайших тайников души выходят на сцену!
Баронесса отводит меня в сторону и передает мне
содержание письма, написанного бароном Матильде,
в котором он обливает нас грязью и клянется ей в вечной любви; это письмо доказывает, что он с первой минуты обманывает нас.
Лавина скатилась и похоронила под собой и правых
и виноватых.
Начинаются бесконечные истории, которым и конца не видать. Разражается новое несчастье. Банк в этом
году не выдает дивиденда, и грозит разорение. Приближается нужда, и, благодаря этому обстоятельству, развод решен окончательно, так как барон не в состоянии
содержать семью. Чтобы сохранить внешнее приличие,
барон спрашивает свое начальство, сможет ли он остаться в полку, если жена его выступит на сцене. Начальство дает ему понять, что это невозможно. Прекрасный
случай свалить все на аристократические предрассудки. Между тем баронесса вследствие какой-то женской
болезни обращается к врачу; она остается в доме барона, но держится от него вдалеке. Она не бывает больше
одна, всегда лихорадочно возбуждена, мрачна, и мне нелегко ободрить ее, хотя я прилагаю все усилия, чтобы
придать ей хоть немного моей юношеской уверенно¬
130
сти. Я рисую ей ее будущее артистки, свободную жизнь
в собственной комнатке, такой же, как моя, где все ее существо и все ее мысли будут принадлежать ей одной.
Она слушает меня, не отвечая; и мне кажется, что поток
моих слов электризирует ее, как гальванический ток, но
не проникает в сознание.
План развода установлен так: после всех мероприятий, требуемых законом, она поедет в Копенгаген, где
живет ее дядя. Там шведский консул вручит ей запрос
об ее мнимом бегстве, на что она заявит ему о своем желании расторгнуть брак. Затем она возвращается в Стокгольм и может свободно распоряжаться своей будущностью. Приданое остается мужу, так же как и вся обстановка, кроме некоторых предметов, которые она хочет
взять с собой; ребенок остается у барона, пока тот не
вступит в новый брак, и баронесса имеет право ежедневно видеться с дочерью.
При обсуждении денежного вопроса происходит
крупный скандал. Покойный отец баронессы предоставил ей самой распоряжаться своей частью наследства,
чтобы спасти остатки растраченного состояния. Но разными интригами мать присвоила это наследство себе,
выплачивая зятю определенную сумму. Теперь же, когда дело дошло до судебного разбирательства, барон требует, чтобы завещание было выполнено по закону. Старуха теща, у которой остается весьма скромная пожизненная рента, приходит в бешенство и в припадке злобы
открывает своему брату, отцу прекрасной Матильды,
глаза на барона. Разражается целая буря, на сцене появляется полковник и грозит барону отставкой; назревает
целый процесс.
Теперь все старания баронессы направлены на то,
чтобы помочь отцу своего ребенка. Чтобы выгородить
его, она взваливает на меня неблагодарную роль козла
отпущения. Я должен писать дяде, должен брать вину
на себя, должен засвидетельствовать невинность барона и кузины, должен просить прощенья у отца во всех
131
преступлениях, которые совершил я, кающийся соблазнитель.
Все задумано втихомолку, и баронесса любит меня,
как женщина любит человека, который приносит
в жертву обожаемым ножкам возлюбленной свою честь
и самоуважение.
И вот я, несмотря на мое намерение держаться вдали
от всех семейных дрязг, марающих меня, я впутываюсь
в отвратительную историю.
Теща награждает меня бесчисленными визитами, напоминает о моей любви к ее дочери, восстановляет против барона, но все напрасно, так как я принимаю указания только от баронессы. К тому же я стою на стороне
отца, берущего себе ребенка: ему одному должно принадлежать наследство.
И это апрель! Это весна любви! Возлюбленная больна; в невыносимых совещаниях обе семьи перемывают
свое грязное белье, причем я вовсе не желал присутствовать; слезы, ссоры; это была какая-то вспышка, при которой выступила наружу вся грязь, скрытая под маской
воспитания. Все это я получаю за то, что разорил осиное
гнездо.
И как от этого страдает любовь! Любимую женщину видишь всегда возбужденную спорами, с красными
от гнева щеками и массой юридических выражений на
устах — все это очень плохое средство для укрепления
любви.
Я по-прежнему стараюсь передать ей мои утешительные мысли, мои иногда обманчивые надежды, так
как моя нервная сила истощается, и она принимает их,
высасывает мой мозг, выжигает мое сердце. Она превратила меня в помойное ведро, в которое она бросает весь
свой мусор, свои огорчения, досаду и заботы.
И в таких мучениях провожу я мою жизнь, в заботах
и скорби влачу свое жалкое существование. Приходя вечером и заставая меня за работой, она дуется, и я дол¬
132
жен убивать два часа на слезы и поцелуи, уверяя ее в своей любви.
Моя любовь к ней превращается в непрестанное поклонение, рабскую покорность, постоянные жертвы.
Сознание ужасной ответственности подавляет меня,
так как я думаю о той минуте, когда несчастье, т. е. рождение ребенка, заставит меня назвать ее своей женой. На
весь год у нее осталось только три тысячи франков, и эти
деньги предназначены на подготовку для театра. Я начинаю бояться за ее сценическую карьеру. У нее еще довольно сильный финский акцент, и в ее внешности многое не подходит для сцены. Чтобы рассеять ее, я заставляю ее читать стихи и вхожу в роль учителя. Но она вся
поглощена своими заботами, а незначительные успехи,
какие она замечает, приводят ее в отчаяние.
Ах, как печальна наша любовь! Ее вечный страх иметь
ребенка и моя неопытность в тайнах обмана соединяются для нас в сплошное страдание; и все это из-за любви, которая должна была стать источником, из которого я хотел черпать силы и бодрость, так необходимые
в моем гнетущем положении. Только что пробудившаяся веселость снова исчезает благодаря ее страху, и мы
расстаемся недовольные, обманутые в надежде на высшее счастье.
Бывают минуты, когда меня влечет к уличным женщинам, и в сущности говоря, как ни несовершенна наша
любовь, она доставляет нам духовные радости, может
быть, более продолжительные, а неутоленный, неугасимый пыл свидетельствует о продолжительности нашей
любви.
Первого мая подписаны все бумаги, отъезд назначен на третье. Она приходит ко мне и садится ко мне на
колени.
— Вот я, — кричит она, — бери меня!
133
Так как мы никогда не говорили о свадьбе, то я не совсем понимаю, о чем она говорит. Мне кажется, в ее положении более удобным переехать на другую квартиру.
И вот мы сидим в моей каморке задумчивые и печальные. Теперь, когда я знаю, что все дозволено, искушение
слабеет. Она упрекает меня в холодности, и я спешу доказать ей противное. Теперь она обвиняет меня в чувственности. Она требует поклонения, фимиама и молитв.
Затем следует дикая вспышка, и в припадке истерии
она заявляет, что я ее больше не люблю. Уже начинается! Бесконечные уговоры и лесть наконец образумливают ее; но теперь она снова усаживается за стол, приведя меня в полное отчаяние. Теперь она меня любит.
Чем униженнее она видит меня, на коленях, маленьким
и ничтожным, тем сильнее она восхищается мной. Она
не хочет меня мужественным и сильным, и, чтобы заслужить ее любовь, я становлюсь жалким и несчастными.
Она успокаивается, разыгрывает из себя нежную мать
и утешает меня.
Мы ужинаем у меня; она накрывает на стол и подает
кушанье. Потом я хочу воспользоваться своими правами любовника, диван обращается в кровать, и я раздеваю ее.
Тут снова просыпается любовь, девственница, юная
девушка принадлежит мне! Какой нежной и тонкой становится чувственность в отношении женщины, которую
любишь. К этому духовному единению не примешивается ничего животного, и нельзя сказать, где оно начинается и где кончается.
Успокоенная наблюдениями, которые она производит только теперь, она всецело отдается мне и испытывает полнейшее удовлетворение; она счастлива и благодарна, сияет красотой, а глаза ее лучатся от блаженства.
Моя жалкая мансарда превращается в храм, в сверкающий дворец; я зажигаю сломанную люстру, рабочую
лампу, свечи, чтобы осветить блаженство и радость жизни, единственное, для чего нам стоит жить.
134
И эти опьяняющие моменты удовлетворенной любви
руководят нами на тернистом пути скорби, это — воспоминания тех радостей, что хотела омрачить нам зависть;
тем сильнее и продолжительнее будет чистая любовь.
— Не говори ничего о страданиях любви, — говорю
я ей. — Преклонись перед откровенной природой, чти
Бога, который заставляет нас быть счастливыми даже
против нашей воли.
Она молчит, потому что она счастлива. Возбуждение
утихает, лицо оживляется и наполняется тепло пульсирующей кровью при бурных объятиях: влажные от наслаждения глаза отражают пламя свечи, окраска сетчатой оболочки выделяется резче, как у птиц в период
любви. Она кажется шестнадцатилетней девушкой, —
так нежны и чисты ее формы.
Ее маленькая запавшая в подушки головка с растрепавшимися волосами кажется головкой ребенка. Ее маленькое тело, скорее стройное, чем худое, лежит полуприкрытое батистовой рубашкой, похожей на греческий
хитон, которая бесчисленными складками обтягивает
бедра, скрывая то, что должно быть скрыто, но обнажая
колени, где соединяется столько прелестных мускулов,
связок и жил, образуя путаницу линий как на жемчужной раковине; а сквозь кружева, покрывающие грудь как
решеткой, видны две козочки с розоватыми мордочками и плечи, словно выточенные из слоновой кости.
Вот лежит оно, мое божество; она замечает, что я любуюсь ею, потягивается, потирает глаза, искоса бросая
на меня полные любви взгляды, полустыдливо, полувы-
зывающе.
Как целомудренна в своей наготе любимая женщина, в самозабвении отдающаяся любовнику! А мужчина,
превосходящий по уму женщину, счастлив только тогда,
когда соединяется с существом, равным ему. Мои прежние любовные похождения, мое общение с уличными
женщинами представляется мне теперь животным развратом, регрессом, вырождением. Разве вырождение —
135
белая кожа, совершенные по форме ноги с розоватыми ноготками, ровными как клавиши пианино, нежная
рука? Взгляните на это дикое, неукротимое существо, на
блестящие волосы, тонкие руки, недостаток мускулов
и множество нервов! Красота женщины — это совокупность качеств, которые достойны быть приведены в гармонию с мужчиной, который сумеет оценить их. Муж
не умел ценить этой женщины, она перестала ему нравиться и с тех пор перестала принадлежать ему. Ее красота не была ему больше доступна, и на мне лежала задача заставить распуститься этот цветок, видимый только для избранных.
Какое богатое наслаждение в обладании возлюбленной! Это подобно выполнению долга и должно бы быть
преступлением! Сладкое преступление, дивная кража,
божественная бесчестность!
Бьет полночь. В казармах сменяется караул. Я иду
провожать ее домой.
Во время длинного пути я высказываю ей новые надежды, нелепые планы, зародившиеся в наших горячих объятиях; она прижимается ко мне, как если бы это
прикосновение укрепляло ее, и я возвращаю ей то, что
получаю от нее. Подойдя к калитке, она вспоминает, что
забыла ключ. Как это неприятно! Но, желая показать
ей свою храбрость, я перелезаю через высокую калитку, спрыгиваю одним прыжком на двор и стучу в дверь,
готовый к бурной встрече с бароном. Моя робкая душа
жаждет ссоры с бароном на глазах возлюбленной; таким
образом возлюбленный попадает в герои! На счастье
вниз спускается служанка и отпирает дверь; мы прощаемся спокойно и холодно под презрительным взглядом
служанки, ничего не отвечающей, когда мы говорим ей
«добрый вечер».
Теперь она убеждена в моей любви и злоупотребляет ею. Сегодня она была у меня. Сначала она восхва¬
136
ляет своего бывшего мужа. Глубоко огорченный отъездом кузины, он сдался на просьбы баронессы и обещал
проводить ее на вокзал, где мы оба должны присутствовать, чтобы не придать ее отъезду вида поспешного
бегства.
К несчастью, барон, уже переставший сердиться на
меня, дал уговорить себя и примет меня сегодня вечером, а чтобы заставить замолчать сплетни, он согласился на этих же днях показаться со мной на улице.
Как ни восхищался я благородством этого наивного,
прямодушного человека, но сильно восстал против этого плана.
— Я должен нанести ему это оскорбление? Никогда, — отвечал я.
— Но раз дело идет о моем ребенке, — возразила
она.
— Но, дорогая, его честь тоже чего-нибудь да стоит!
Честь других была для нее безразлична. А я был просто фантазер!
— Но это уже слишком! Ты толкаешь меня в пропасть, ты позоришь всех нас! Это неслыханно, это бестактно!
А она начинает плакать. Слезы делают ее еще упорнее, и после целого часа рыданий и упреков я обещаю
ей сделать все, что она захочет, я бешусь на этот деспотизм и проклинаю эти кристальные капли, еще более
усиливающие власть ее чарующих глаз.
Положительно она сильнее нас обоих и водит нас
за нос к нашему позору! Чего она хочет добиться этим
примирением? Она боится, что между соперниками
разразится борьба не на живот, а на смерть, и благодаря этой борьбе возникнут разные нежелательные разоблачения.
Какое мученье создает она мне, заставляя меня идти
в этот опустевший дом! Эта ужасная эгоистка не знает
совершенно те жертвы, которые ей приносят. Она взяла с меня клятву, что я буду опровергать все сплетни
137
о кузине и буду доказывать невинность ее поведения.
С тяжелым сердцем и подгибающимися коленями отправляюсь я на это последнее свидание. В саду цветут
вишни, благоухают нарциссы. Кустарник, возле которого мне явилось ее волшебное видение, стоит весь
в зелени, грядки выделяются в траве, как могилы; мысленно я вижу, как покинутое дитя блуждает тут по саду
со служанкой и учит уроки; девочка будет расти, развиваться и в один прекрасный день узнает, что мать бросила ее!
Я вхожу по лестнице мрачного дома, стоящего на
краю песчаного обрыва, и во мне просыпаются грустные
воспоминания юности. Дружба, родство, любовь — все
прошло здесь, а теперь и нарушение брака, каково бы
оно ни было, осквернило порог этого дома. Но кто виноват?
Баронесса отворяет мне дверь и целует меня тайком
за дверями гостиной. В это мгновенье я ненавижу ее
и невольно отталкиваю ее от себя. Это напоминает мне
приемы прислуги в сенях, и сердце мое сжимается! За
дверями! Распутная женщина, ни гордости, ни достоинства!
Она делает вид, что принимает это за робость, и просит меня войти в гостиную, как раз в тот момент, когда я ясно сознаю всю унизительность моего положения
и решаю вернуться назад. Но она удерживает меня одним взглядом и порабощает. Бессильный перед ее решимостью, я сдаюсь.
В гостиной все указывает на разрушение семьи; кругом на мебели лежит белье, платье, нижние юбки, принадлежности туалета; на пианино кружевные рубашки,
так хорошо мне знакомые; на письменном столе целая
груда панталон; чулки, еще недавно возбуждавшие мой
восторг, теперь вызывают во мне отвращение! А она ходит среди всего этого, подходит то к тому, то к другому,
складывает, пересчитывает, без стыда и совести.
138
Неужели я так испортил ее за это короткое время,
спрашиваю я себя, глядя на эту выставку интимных вещей порядочной женщины.
Она оглядывает туалеты и откладывает в сторону то,
что требует починки.
Мне кажется, словно я осужден присутствовать при
собственном обезглавливание; горькое чувство поднимается во мне. Но она не обращает внимания, прислушивается одним ухом к моей болтовне и ждет барона,
который что-то пишет, запершись в столовой.
Наконец дверь отворяется; я вздрагиваю; мое волнение принимает совсем другую форму при виде ребенка,
который пришел спросить о причине всего этого беспорядка.
В сопровождении пуделя своей мамы она подходит
ко мне, чтобы я, как и раньше, поцеловал ее. Я краснею,
сержусь и дрожащим голосом упрекаю мать.
— Вы могли бы, по крайней мере, избавить меня от
этого мученья.
Она меня не понимает.
— Мама уезжает, деточка, но она скоро вернется
и привезет тебе игрушек.
Пудель помахивает мне хвостом. И он тоже? Наконец
выходит барон.
У него утомленный, разбитый вид; он дружески здоровается со мной, пожимает мне руку. Но он не в силах
произнести ни слова. И я тоже почтительно молчу перед лицом этого непоправимого горя.
Он выходит.
Темнеет; служанка входит зажечь лампы, не здороваясь со мной. Подают ужин, и я собираюсь уходить. Но
барон, поддерживаемый женой, так сердечно и трогательно просит меня остаться, что я сдаюсь.
Мы снова садимся за стол втроем. Это торжественная, незабвенная минута. Мы говорим обо всем, со слезами на глазах спрашиваем себя, — кто виноват. Никто, —
139
судьба, ряд случайностей. Мы пожимаем друг другу
руки, чокаемся, заключаем дружеский союз, все, как
раньше. Одна только баронесса сохраняет свое настроение; она набрасывает план завтрашнего дня, встречу на
вокзале, про1улку по городу, и мы подчиняемся всем ее
распоряжениями. Наконец я поднимаюсь. Барон ведет
нас в гостиную, соединяет наши руки и говорит глухим
голосом:
— Будь ее другом, моя роль кончена. Охраняй ее, защищай против злого света, развивай ее талант, ты лучше можешь сделать это, чем я, простой солдат. Бог да
сохранит вас на вашем пути!
После этого он выходит, запирает за собой дверь
и оставляет нас одних.
Был ли он искренен в эту минуту? Мне так казалось,
а теперь я положительно убежден в этом. Своим чувствительным сердцем — если вообще оно у него было —
он любил нас обоих и не хотел бы видеть мать своего ребенка в руках врага.
Возможно, что позднее, под дурным влиянием, он
изменился, и теперь обманывал нас. Все это не подходило к его прежнему характеру; но после несчастья каждый стремится снять с себя подозрение в том, что он был
обманутым.
В шесть часов вечера я иду на центральный вокзал.
Поезд в Копенгаген отходит в 6 часов 15 минут, а баронессы и барона еще не видно.
Все представляется мне последним актом драмы,
и я с дикой радостью жду развязки. Еще четверть часа,
и наступит покой. Мои расстроенные нервы жаждут
успокоения, и эта ночь должна вернуть мне нервные
силы, затраченные на любовь к опытной женщине.
Наконец она подъезжает в экипаже — как всегда
с опозданием.
140
Она как безумная быстро бежит мне навстречу.
— Он не сдержал слова, изменник! Он не приедет!
Она говорит так громко, что обращает на себя внимание
проходящей мимо публики.
Это очень прискорбно, но в душе я уважаю его за это
и из чувства противоречия отвечаю:
— Он поступил правильно и как нельзя более благоразумно.
— Купи скорее билеты до Копенгагена, — приказывает она, — иначе я опоздаю.
— Нет, — отвечаю я, — если я поеду тебя провожать,
это будет иметь вид похищения, и завтра весь город будет говорить об этом.
— Что мне за дело! Иди скорее!
— Нет, я не хочу!
В эту минуту меня охватывает глубокая жалость, положение невыносимо, это грозит ссорой — ссорой между любящими.
Она схватывает меня за руки, зачаровывает взглядом,
обезоруживает меня. Волшебница бросает меня на землю, связывает мою волю, и я сдаюсь.
— Но только до Катариненгольма, — умоляю я.
— Хорошо!
Она поспешно сдает багаж.
Все потеряно, даже честь, и меня ждет мучительная
ночь.
Поезд трогается. Мы одни в купе первого класса. Отсутствие барона гнетет нас. Это совершенно непредвиденная опасность и дурное предзнаменование.
Томительное молчание царит в вагоне, и мы ждем,
кто заговорит первый. Наконец она не выдерживает:
— Ты меня больше не любишь!
— Может быть, — отвечаю я, измученный историями всего этого месяца.
— А я всем пожертвовала для тебя!
Вот опять начинаются упреки!
141
— Твоей любви, а не мне! Впрочем, я приношу тебе
всю мою жизнь. Ты сердишься на Густава; свали свой
гнев на мою голову и успокойся!
Она плачет, плачет! Вот это свадебная поездка! Нервы мои закалились, я надеваю свой панцирь. Я делаюсь
бесчувственным, суровым, непроницаемым.
Не будь так наивна, чтобы верить, что ты разрешаешь сложный вопрос, равнодушно относясь и к измене
мужа и к обольстителю! Разве я соблазнял тебя? Будь искренна сама с собой и со мной, когда мы одни, без свидетелей.
Оставь в стороне свои чувства! Сегодня тебе нужно
все благоразумие! Выплачь все свои слезы и потом успокойся! Ты сильная, и я поклонялся тебе как королеве,
как властительнице, я подчинялся тебе, так как считал
себя более слабым. Не доводи же до того, чтобы я начал презирать тебя! Не сваливай всю вину на меня одного! Вчера вечером я поразился великой мудростью Густава, он понял, что важнейшие события в жизни невозможно сводить к одному рычагу. Кто несет на себе вину?
Ты, я, он, она, грозящее разорение, твоя страсть к театру,
женские болезни, наследство твоего дедушки, который
трижды разводился, ненависть к семье твоей матери,
передавшей тебе слабость характера, бездеятельность
твоего мужа, которому его служба оставляет слишком
много свободного времени, мои низменные, мещанские
взгляды, случайная связь с финкой, столкнувшая меня
с тобой, бесчисленное множество внутренних побуждений, из которых мы сознаем только очень немногие.
Нет, она не хочет быть искренней, да и не может, потому что это противно женской природе. Она чувствует
себя соучастницей, терзается угрызениями совести и хочет избавиться от них, сваливая всю вину на меня.
Я оставляю ее в покое и погружаюсь в упорное молчание. Наступает ночь; я опускаю окно и, облокотившись
на дверцу, слежу за темными рядами елей, из-за которых медленно поднимается луна. Затем мелькает озеро,
142
обсаженное березами, а дальше ручей и ольхи по берегам. Иногда меня охватывает дикое желание броситься
из вагона, освободиться от этой тюрьмы, где меня караулит враг, где волшебница держит меня в плену. Великая
ответственность за будущее давит меня, как кошмар, на
мне лежат заботы о жизни этой чужой женщины, ее будущих детей, ее матери, тетки, целой семьи на вечные
времена. Я должен буду заниматься ее театральной карьерой, должен буду нести на себе все ее страдания, разочарования, неудачи, и наступит день, когда она выбросит меня на улицу, как выжатый лимон, меня, всю мою
жизнь, мой мозг, мою кровь в отплату за любовь, которую я даю ей и она принимает и которую, по ее мнению,
она приносит мне в жертву! Галлюцинация влюбленного, половой гипноз!
Она упорно молчит до десяти часов; еще один час,
и мы расстанемся.
Теперь она просит о прощенье и вытягивает ноги на
противоположный диван, притворяясь внезапно усталой. До сих пор я оставался спокойным и сильным, несмотря на ее нежные взгляды, ее слезы, ее хитросплетенную логику, но при виде ее обожаемых ножек, маленького кончика ее башмачка я слабею.
На колени, Самсон! Положи голову ей на колени,
прижмись к ее бедрам, проси у нее прощенья за свои
жестокие слова, которых она не поняла, отрицай свой
разум, откажись от своей веры и обожай ее! Ты раб! Ты
теряешься перед ее белым чулком, вид которого отнимает у тебя силы поднять весь мир на свои плечи! А она,
она любит тебя только потому, что ты лежишь во прахе, она подкупает тебя минутным опьянением, слишком
дешевым для нее самой, ничего тебе не дающим, но высасывающим у тебя капли твоей крови!
Паровоз свистит, мы приближаемся к последней
станции. Она матерински целует меня, крестит, хотя
она протестантка, поручает меня Boiy, просит меня заботиться о себе и не грустить.
143
Поезд исчезает во мраке, и я почти задыхаюсь в волнах каменноугольного дыма.
Наконец я вдыхаю свежий ночной воздух, воздух свободы. Но только на минуту.
В деревенской гостинице я падаю, изнемогая от тоски. Я люблю ее, люблю такой, какой она явилась мне
в минуту разлуки; и во мне встают воспоминания о первых днях нашей связи, как она, жена и мать в одно и то
же время, ласково и нежно ласкала меня, как ребенка.
И я люблю ее и горячо жажду ее, как женщины. Может быть, это противоестественное стремление? Или
я жертва игры природы? Моя любовь порочна, потому что я жажду обладать ею, моей собственной матерью? Моя любовь — это бессознательное кровосмешение сердца?
Я спрашиваю письменных принадлежностей и пишу
ей письмо, в котором поручаю Boiy заботу об ее благополучии.
Первый этап падения мужчины достигнут, остальные сами собой последуют за ним до отупения, до границы безумия.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
На следующий день весь город знал о похищении
баронессы чиновником королевской библиотеки X.
Я предвидел это и боялся за нее; я старался спасти ее
дурную репутацию, но в припадке малодушия все поставил на карту. Она все погубила, а я должен был нести последствия, должен был улаживать, может быть,
грозные препятствия к ее сценической карьере, потому
что для нее существовала только одна сцена, а свободные нравы были плохой рекомендацией для ангажемента в королевский театр.
Чтобы доказать свое алиби, я сейчас же по возвращении утром нанес визит заведующему библиотекой, которого болезнь удерживала дома. Затем я показался на
главных улицах и в обычный час был уже на службе. Вечером я отправился в клуб журналистов, рассказывал
там о разводе баронессы, объясняя его исключительно
стремлением к сцене, доказывая, что разрыв этот совершенно мирный и происходит с полного согласия обоих супругов, которые расстаются, только уступая общественным предрассудкам.
Если бы я предвидел последствия, какие принесла
эта речь о невинности баронессы, я все равно поступил
бы точно так же.
Все газеты поместили этот случай в отделе «Разных известий», но публика не хотела верить в эту любовь к искусству, которую она — по крайней мере у актеров — ценит не очень-то высоко. Женщины особенно
145
не шли на эту удочку — покинутый ребенок являлся для
них отягчающим вину обстоятельством.
Между тем я получаю от нее письмо из Копенгагена! Это сплошной вопль скорби! Подавленная бременем
угрызений совести и тоской по ребенке, она приказывает мне немедленно приехать к ней; родные ее мучат и заодно с бароном, как она думает, не выдают ей бумаг, необходимых для развода.
Я решительно отказываюсь ехать и в своем гневе
пишу угрожающее письмо барону; он отвечает мне заносчиво, и между нами наступает полный разрыв.
Одна телеграмма, две телеграммы, и мир восстановлен; бумаги отыскались, и можно начать процесс.
Чтобы рассеять мрачное настроение, я пишу ей по вечерам и снабжаю ее необходимыми указаниями; я советую ей работать, изучать ее искусство, посещать театры,
а чтобы доставить ей заработок, рекомендую ей писать
корреспонденции, которые я брался устроить в одной
распространенной газете.
Никакого ответа, и я имею все основания думать, что
мои достойные советы плохо воспринимаются этим независимым умом.
Прошла целая неделя забот, беспокойства и работы,
когда однажды утром мне подают в постель письмо из
Копенгагена.
Она весела и спокойна; она не может скрыть некоторой гордости по поводу ссоры между мной и бароном,
а так как мы оба послали ей наши письма, то ей легко
судить об этом. Она находит стиль в его письме и восхищается моим мужеством.
«Как жаль, — прибавляет она, — что два таких славных человека не могут оставаться друзьями!» Затем она
рассказывает мне о своих развлечениях. Она веселится, посещает клуб начинающих художников, что мне не
особенно нравится. В сопровождении молодых людей,
которые ухаживают за ней, она посещает театр Варьете,
пленила одного юного музыканта, порвавшего с семьей
146
ради искусства, — трогательная аналогия с ее судьбой!
Тут же приложена подробная биография юного мученика и просьба не ревновать!
Что это? — думаю я, смущенный насмешливым и в то
же время сердечным тоном этого письма, которое, как
мне кажется, было написано в несколько приподнятом
настроении! Неужели эта холодная, сладострастная мадонна принадлежит к классу прирожденных проституток, неужели она кокетка?
Я сейчас же отвечаю ей выговором, колю правдой
в глаза, называю ее мадам Бовари и настоятельно прошу
очнуться от этого сна на краю бездны.
В ответ на это в доказательство своего высшего доверия она пересылает мне письма, полученные от юного энтузиаста. Любовные письма! Старая игра словами,
дружба, невыразимая симпатия душ, целый репертуар
обычных, использованных уже нами самими, фраз. Брат
и сестра, материнские чувства, товарищи и другие нежные названия, за которыми прячутся любовники, чтобы
в конце концов заключить игру животной страстью!
Этого не следовало думать! Одержимая, бессознательная грешница, ничему не научившаяся из ужасных
часов последних двух месяцев, хотя сердца трех людей
пылали на раскаленной печи! А я превращен в козла отпущения, ширму, чучело, я 6eiy сломя голову, чтобы
расчистить жизненный путь для комедиантки, которая
снова разрушит его.
Новое страдание! То, чему я поклонялся, ниспровергнуто в грязь!
А потом меня охватывает невыразимая жалость,
я предугадываю будущую судьбу этой порочной женщины и клянусь снова возвысить ее, поддержать и спасти от неминуемого падения, если даже это будет мне
стоить моих последних сил.
Ревность! Отвратительное слово, выдуманное женщиной, чтобы ввести в заблуждение мужчину, который
обманут или готов стать таковым! Она злоупотребляет
147
им; при первом выражении неудовольствия со стороны
супруга она ослепляет его этим словом: ревность. Ревнивый муж, обманутый муж. И есть женщины, которые
равняют ревнивого мужа с бессильным, так что в конце
концов они закрывают глаза и становятся действительно
бессильными перед такими упреками.
Через две недели она возвращается: прекрасная, посвежевшая, полная приятных воспоминаний, потому что
она веселилась! Но в ее туалете я нахожу следы экстравагантности дурного тона. Прежде такая простая и изящная, что с нее брали пример, теперь она превратилась
в даму, которой самой следует позаимствовать у других.
Встреча гораздо холоднее, чем можно было ожидать,
и после тягостного молчания разражается гроза.
Опираясь на поклонение своего нового друга, она разыгрывает из себя неприступную, дразнит и вышучивает
меня, и когда она кладет свое новое платье на мой истрепанный диван, она повторяет старую игру, и вся ненависть выливается в жгучем объятии; а остаток бешенства
изливается во взаимных упреках. Утомленная моей неумеренной страстностью, которая не соответствует ее вялой природе, она начинает плакать.
— Как ты можешь думать, — восклицает она, — что
я играю с этим юношей? Обещаю тебе никогда больше
не писать ему, хотя он может за это упрекнуть меня в невежливости!
Невежливость! Это тоже одно из ее боевых словечек.
Мужчина ухаживает за ней, заходит дальше, чем принято, она все спокойно принимает, боясь быть невежливой!
На мое несчастье она купила себе новые башмаки,
совсем крошечные, и я всецело отдаюсь на ее милость
и гнев, я погиб! На ней черные чулки, обрисовывающие
ее икры, а ее колени выделяются над ними белые, живые.
Ее черные ноги, виднеющиеся из-под волн юбок, имеют в себе что-то дьявольское. Чтобы войти в эту область,
где сочетаются небо и ад, я заключаю договор с дьяволом. Устав от вечной боязни, я лгу. После тщательных
148
розысков в библиотеке я нашел секрет обманывать природу и предлагаю ей средство вполне безвредное; я говорю ей, что у меня органический недостаток, который
если не совершенно исключает возможность иметь детей, то, во всяком случае, делает меня почти безопасными. В конце концов, я сам начинаю этому верить, и она
предоставляет мне свободу действий, взваливая на меня
всю ответственность.
В это же время она переезжает к матери и тетке,
живущим на самой оживленной улице города во втором этаже. Баронесса под угрозой своих посещений ко
мне заставляет меня приходить к ней, хотя совсем не
весело проходить мимо двух старух, стоящих на часах
и к тому же все время моего визита подслушивающих
у дверей.
Теперь она начинает понимать, что она потеряла.
Она, баронесса, замужняя женщина, хозяйка дома, снизошла на степень ребенка, живущего под надзором матери, запертого в одной комнате на положении инвалида. И целыми днями мать вспоминает, что она растила
дочь для почетного положения, а дочь вспоминает тот
счастливый час, когда пришел ее муж и освободил ее из
материнской тюрьмы. А горькие ссоры по этому поводу, слезы и жесткие слова, которые я выслушиваю каждый вечер, когда я посещаю ее, посещаю в тюрьме, с свидетелями за дверью!
Родным надоедают эти тягостные посещения, и мы
рискуем назначать свидания в общественном саду; но,
подставляя себя под презрительные взгляды толпы, мы
попадаем из огня в полымя.
Весеннее солнце, озаряющее нашу печаль, противно
нам; мы стремимся к мраку, с нетерпением ждем зимы,
чтобы скрыть свой позор; а близится лето с его длинными белыми ночами.
Все отстраняется от нас. Настроенная сплетнями, моя
сестра начинает относиться к нам недружелюбно. На
последнем вечере бывшая баронесса, чтобы подбодрить
149
себя, начала пить; она выпила слишком много, начала
говорить речи и в конце концов заслужила себе порицание всех замужних женщин и презрение мужчин.
— Развратная женщина! — заявляет один женатый
господин по секрету моему зятю, который спешит мне
это передать.
Однажды в воскресенье вечером мы были приглашены к моей сестре; мы явились в назначенный час. Нас как
громом поражают слова служанки, что господ нет дома,
они приглашены в гости.
Это был апогей унижения. Мы провели весь вечер
у меня в комнате, полные отчаяния, готовые дойти до
самоубийства. Я спустил занавеси, чтобы скрыться от
дневного света, и жду сумерек, чтобы проводить ее домой. Но солнце садится так поздно, а в восемь часов
мы начинаем чувствовать голод. У меня нет денег, у нее
тоже, и в доме у меня нет ни еды, ни питья. Нас охватывает предчувствие нужды, и я провожу ужаснейшие
часы моей жизни. Упреки, холодные поцелуи, бесконечные слезы, угрызения совести, враждебность.
Я предлагаю ей идти ужинать к матери, но она не выносит солнечного света; кроме того, она не сумеет объяснить свое раннее возвращение домой, так как рассказала о приглашении моей сестры. С обеда, с двух часов,
она ничего не ела, и печальная перспектива лечь голодной спать будит в ней животные инстинкты. Она выросла в богатом доме, привыкла к роскоши, не знает бедности, и сердце ее наполняется горечью. Мне голод давно
знаком, еще с юных лет; но мне невыразимо тяжело видеть в таком положении любимую женщину. Я обыскиваю шкаф и ничего не нахожу. Я роюсь в ящиках письменного стола; наконец, среди разных сувениров, сухих цветов, розовых записочек и полинявших ленточек
я нахожу две конфеты, сохраненные мною на память об
одних поминках. Я предлагаю ей конфеты, завернутые
в черные бумажки с серебряными полосками. Какое печальное угощенье, напоминающее собою катафалк!
150
Подавленный, в полном отчаянии я разражаюсь проклятиями против честных женщин, запирающих перед
нами дверь, отталкивающих нас.
За что эта ненависть и презрение? Разве мы совершили преступление, нарушили нравственность? Нет! Нам
предстоит открытый, законный развод, удовлетворяющий всем требованиям закона.
— Мы были слишком порядочны, — утешается
она, — мир полон негодяев. Открытое бесстыдное нарушение брака терпится, а развод нет. Прекрасная нравственность!
Мы согласны в этом.
Но как бы то ни было, преступление установлено; оно
грозит нам, и мы склоняемся под ударами судьбы.
Я кажусь себе уличным мальчишкой, разорившим
птичье гнездо. Мать унесена, и птенчик лежит на земле
и жалобно пищит, так как ему не хватает согревавшей
его матери. А отец? В один воскресный вечер, как сегодняшний, отца оставили одного в его разоренном гнезде, где прежде собиралась вся семья: одного в гостиной,
где смолкло фортепьяно, одного в столовой, где он одиноко вкушает свою пищу, одного в спальне...
— Нет, — прерываю я себя, — я имею полное основание думать, что он сидит, развалившись на диване у камергера, зятя кузины, и сытый и веселый пожимает руку
своей Матильды, этого бедного, ослепленного ребенка,
и передает ей невероятные истории о дурном поведении
его недостойной супруги, не находившей никакого удовольствия в гаремной жизни. Охраняемые симпатией
и уважением этого лицемерного мира, они кидают в нас
первый камень!
После еще более глубокого рассмотрения этого вопроса я заявляю, что барон насмеялся над нами, что он
нарочно освободился от жены, чтобы жениться на другой, которая противозаконно присвоит себе приданое.
Но она сердится!
— Не говори о нем дурно! Это моя вина!
151
— Почему не говорить о нем дурно? Разве его особа
священна?
По-видимому, да, я заметил, что она всегда защищает его против моих нападок.
Связывают ли ее с бароном общие классовые интересы? Или в ее жизни есть тайны и секреты, благодаря
которым барон может выступить ее опасным врагом?
Одним словом, это несомненный факт, так же как ее неизменная нежность к барону, несмотря на его явную неверность ей.
Наконец солнце садится, мы расстаемся. Я сплю тревожным сном голодного; мне снится, что на шее у меня
мельничный жернов, который я стремлюсь поднять
к небу.
Неудач все больше. Мы справляемся у директора театра о разрешении дебютировать госпоже X. Он отвечает, что правление театров не может вести переговоров
с сбежавшей женой!
Все рушится! Через год средства ее истощатся, и она
будет выброшена на улицу. А я, жалкий член богемы,
должен буду спасать ее!
Чтобы удостовериться в этой печальной новости, она
отправляется к известной трагической актрисе, ее подруге, с которой она часто встречалась в обществе и которая тогда ползала как собака у ног белокурой баронессы,
«этого маленького эльфа».
Великая трагическая актриса, нарушительница брака, состарившаяся в разврате, встречает честную грешницу оскорблениями и указывает на дверь!
Чаша переполнена!
Теперь остается только месть, какою бы то ни было
ценой!
— Отлично, — говорю я ей. — Ты будешь писательницей! Напиши драму и поставь ее на нашей же сцене!
Зачем ты будешь унижаться, когда можешь возвысить¬
152
ся? Ты должна унизить эту комедиантку и одним прыжком стать выше нее! Вскрой лживое, лицемерное, развратное общество, открывающее свои салоны распутству, но закрывающее их перед разведенной женой! Это
прекрасный материал для драмы!
Но у нее мягкая натура, она неспособна сильно воспринимать впечатления и воплощать их.
— Не надо мести!
Трусливая и в то же время мстительная, она предоставляет месть Богу, что выходит то же самое, и возлагает на него всю ответственность.
Но я не успокаиваюсь, и счастливый случай приходит мне на помощь. Один издатель предлагает мне составить иллюстрированную детскую книжку.
— Послушай, — говорю я Марии, — напиши мне
текст, ты получишь за это сто франков.
Я приношу ей материал и создаю иллюзию, что
она выполнила всю работу, и она получает сто франков. Но какой ценой! Издатель требует, чтобы я поставил свое имя на иллюстрированной книжке после того,
как я выступал, как драматург. Это литературная проституция! И сколько радости для моих противников,
которые уже давно клялись в моей бездарности как писателя!
Наконец я достаю ей корреспонденции в одну утреннюю газету. Она пишет посредственную статью, и ее
принимают. Но редакция не платит.
Я мечусь по городу в поисках луидора, который и передаю авторше с добродетельной ложью, что получил
его из редакции.
Бедная Мария! Какая для нее радость передать этот
ничтожный заработок своей безутешной матери, которая ввиду своего стесненного положения должна во всем
отказывать себе и снимать меблированную комнату.
Обе старухи начинают смотреть на меня, как на своего спасителя. Они вытаскивают из письменных столов
рукописи переводных пьес, не принятых ни в одном
153
театре; они верят в мое могущество устроить их постановку; они взваливают на меня массу совершенно невыполнимых поручений, которые отрывают меня от работы, и я впадаю в крайнюю нужду.
В этой праздности тают мои сбережения, падают
силы, и наконец я перестаю обедать и возвращаюсь
к старой привычке ложиться спать без ужина.
Ободренная заработком Мария принимается писать
пятиактную пьесу. Мне представляется, что я передал ей
все семена моего поэтическая дарования, и, пересаженные на эту девственную почву, они дают ростки и поднимаются вверх, между тем как я становлюсь бесплодным, подобно почве, отдавшей свое плодородие и умирающей. Побежденный, я чувствую близость смерти,
и мозг мой истощается, применяясь к мозговой деятельности женской головки, работающей иначе, чем мужская. Я положительно не понимаю, что побуждает меня
преувеличивать литературные способности этой женщины, толкая ее на путь писательницы; ведь я ничего не
читал написанного ею, за исключением писем, иногда
искренних, по большей же части написанных более чем
в обыденном тоне. Она готовится стать воплощением моего поэтического дара и я ставлю ее на место моего подавленного таланта. Ее личность так привилась к моей,
что она является только новым органом моего существа.
Я существую только через нее и я, дающий ей жизнь корень, влачу свое подземное существование, питая это деревцо, поднимающееся к небу в роскошном цвету; и я
радуюсь этому, не думая о том, что наступит день, когда
черенок отделится от высохшего ствола и будет гордиться присвоенной себе способностью к процветанию.
Первый акт ее драмы готов. Я читаю его. Не поддаваясь влиянию своего воображения, я нахожу его превосходным и с искренними поздравлениями выражаю писательнице свое величайшее восхищение. Она сама поражена своим талантом, и я рисую перед ней блестящую
будущность писательницы. Но тут планы наши меняют¬
154
ся. Мать Марии вспоминает об одной своей приятельнице, художнице, владелице великолепного имения, очень
богатой, и, что еще гораздо важнее, близком друге первого артиста королевского театра и его жены; оба открытые
враги первой трагической актрисы. Под ручательством
незамужней художницы артистическая пара берется подготовить Марию к дебюту. Чтобы переговорить об этом,
Мария приглашается на две недели к этой приятельнице, где она должна встретиться с великим артистом и его
женой, которая, к довершению счастья, получила от директора очень благоприятные известия. Он опровергает прежние злые сплетни, которые распространяла мать
Марии, чтобы охладить ее страсть к театру.
Наконец, она спасена; я вздыхаю свободно, я опять
могу спать и работать.
Она проводит там две недели и, судя по ее редким
письмам, веселится. Она готовится с артистами к дебюту,
и они объявили, что она не без сценического дарования.
Вернувшись, она нанимает в деревне комнату с полным пансионом. Таким образом она освобождается от
своих тюремщиц и может свободно принимать меня вечером в субботу и воскресенье. Жизнь начинает наконец, посылать нам улыбки, несколько омраченные еще
не зажившими ранами после последней операции. Но
среди природы меньше чувствуешь тяжесть социальных
предрассудков, а под лучами яркого летнего солнца быстрее исчезают горестные мысли.
В начале осени состоялся ее дебют под протекцией
двух известных имен, и сплетни смолкают. Роль ее мне,
впрочем, не нравится — незначительная туалетная роль
в старой пьесе. Но артист, занимавшийся с Марией, рассчитывал на симпатии публики, так как героиня отказывает маркизу, желающему жениться на ней для украшения своего салона, и предпочитает короне и богатству
маркиза благородное сердце бедного молодого человека.
155
Я уже давно перестал быть ее руководителем и могу
на свободе заняться моими научными трудами; я намереваюсь написать трактат для какой-нибудь академии и заслужить известность библиографа и ученого.
С пылким рвением погружаюсь я в этнографические изучения крайнего востока. Это действовало как опиум на
мой мозг, истощенный пережитыми столкновениями,
неудачами и огорчениями. Побуждаемый честолюбием
занять выдающееся положение наряду с обожаемой женой, перед которой открывалась блестящая будущность,
я работал с необычайным усердием, с утра до ночи проводя время в подвалах королевского дворца, дрожа в холодном и сыром воздухе, и с пренебрежением относился к недостатку питания и денег.
Объявлен день дебюта Марии, и в это же время умирает ее дочь от туберкулеза мозга.
— Это наказание, — объявляет бабушка, с радостью
вонзая в сердце дочери отравленное острие кинжала;
она ненавидит ее, опозорившую их семью.
Пораженная горем Мария день и ночь проводит у постели умирающего ребенка в доме разведенного супруга,
под охраной своей бывшей невестки. Бедный отец глубоко потрясен потерей свое единственной радости. Разбитый, подавленный горем, он выражает желание видеть своего прежнего друга, чтобы несколько освежить
себя воспоминаниями прошлого. Однажды вечером после погребения ребенка служанка докладывает мне, что
без меня был барон и просил меня прийти к нему.
Я не желал возобновления резко порванных отношений и отклонил приглашение в вежливой форме.
Через четверть часа ко мне приходит Мария вся
в трауре и со слезами просит меня исполнить просьбу
неутешного барона.
Я нахожу эту миссию совершенно неподходящей,
указывая на мнение света, на двусмысленность такого
156
положения. Она обвиняет меня в предвзятом мнении,
умоляет, обращается к моему благородному сердцу, так
что я наконец соглашаюсь на этот неприятный визит.
Я поклялся никогда больше не вступать в старый дом,
где разыгралась вся драма. Вдовец переехал на новую
квартиру близ моего дома и неподалеку от Марии, так
что мне не пришлось преодолевать своего отвращения
к бывшему жилищу супругов; и вот я отправился с разведенной женой к ее бывшему мужу.
Горе, печаль, мрачный, скорбный вид дома, где еще
чувствуется смерть, — все это вместе взятое заставляет меньше чувствовать всю фальшь и ненужность этой
встречи.
Привычка видеть их вместе предохраняет меня от
вспышек ревности, а достойное, сердечное поведение
барона дает мне спокойную уверенность. Мы ужинаем,
пьем и играем в карты. Все происходит, как в добрые,
старые дни.
На следующий день мы сходимся у меня, затем у Марии, которая снимает теперь комнату у одной старой
девы. Мы начинаем вести нашу прежнюю жизнь, и Мария счастлива, видя нас снова вместе. Это успокаивает
ее, а так как все мы очень чувствительны, то это никого
не оскорбляет в его глубочайших чувствах. Барон смотрит на нас, как на тайно помолвленных, и любовь его
к Марии, по-видимому, угасла. Иногда он даже поверяет нам свои любовные огорчения по поводу прекрасной
Матильды, запертой в родительском доме и недоступной барону. А Мария то дразнит, то утешает его. И он
нисколько не старается теперь скрывать своих истинных
чувств, которые он сначала отрицал.
Но постепенно эта интимная жизнь принимает беспокоящий меня характер, во мне пробуждается если не
ревность, то, во всяком случае, недовольство. Однажды
Мария мне сообщает, что она оставалась у барона обедать, так как ей надо было переговорить с ним относительно наследства дочери, наследником которой был
157
отец. Я протестовал против такого рвения и нахожу его
совершенно неуместными. Она смеется мне в лицо и вышучивает мою борьбу с предрассудками, и в конце концов я сам начинаю смеяться над этим. Это смешно и необычно, но смеяться над светом считается признаком хорошего тона; и прекрасно, что торжествует добродетель.
С этих пор она часто навещает барона, и я даже думаю, что они развлекаются, читая вместе ее роли.
До сих пор все обходилось без шума, и моя ревность
молчала под влиянием привычки и иллюзии смотреть
на них, как на супругов. Но однажды вечером Мария
приходит ко мне одна. Я снимаю с нее пальто, и против
обыкновения она очень долго оправляет свой туалет. Так
как я понимаю в тайнах дамского туалета, то чую что-
то неладное. Продолжая говорить, она садится на диван
против зеркала и, беседуя несколько принужденным тоном, она посматривает на себя в зеркало и старается незаметно поправить волосы.
Страшное подозрение мелькает у меня в голове,
и не в силах сдержать своего волнения, я резко спрашиваю ее:
— Где ты была сейчас?
— У Густава!
— Что ты там делала?
Она делает быстрое движение, но сдерживается и отвечает:
— Я читала роль!
— Ты лжешь!
Она возмущается моей бессмысленной подозрительностью, осыпает меня градом упреков, и я снова сдаюсь.
К сожалению, мы должны прервать наше объяснение,
так как приглашены к барону, и мне приходится приостановить свои дальнейшие исследования.
Вспоминая теперь этот случай, я готов принести клятву, что справедливо упрекал ее в бигамии в тесном смысле
этого слова. Но она так искусно околдовывала меня словами и гипнотизировала, что я снова поддавался обману.
158
Что же происходило? Вероятно, следующее. Она обедает вдвоем с бароном; пьет потом кофе и ликеры; ее
охватывает усталость, обычная после еды; барон предлагает ей прилечь на софу, что было ее любимейшим
удовольствием, ну, а все остальное приходит постепенно само собой. Одиночество, полное доверие, воспоминания помогают супругам, не испытывающим чувства стыда. Покинутый муж, обреченный на холостую
жизнь, становится нежен, и дело делается само собой.
Зачем отказываться от наслажденья, которое никому не
вредит, принимая во внимание, что оскорбленная сторона ничего не узнает об этом? Она свободна, потому
что не получает от своего любовника наличных денег;
а нарушать данное слово не считается дурным в глазах
женщин. Может быть, она сожалела о потере мужа, так
всецело подходившего к ней; может быть, удовлетворив
свое любопытство и произведя сравнение, она испытывала действительную потребность в лучшем спутнике
в любовной борьбе, где робкий и нежный, как бы пылок он ни был, всегда имеет меньше значения в глазах
некоторых женщин. И вероятно она, разделявшая ложе
мужа и тысячи раз раздевавшаяся и одевавшаяся в присутствии мужчины, знавшего все тайны ее тела, не стеснялась принять после обеда пикантный десерт, предложенный ей при закрытых дверях, особенно если она
чувствовала себя свободной от обязанностей и ее чувствительное женское сердце было полно сострадания
к покинутому. И даю слово, будь я на месте этого, если
не оскорбленного, то все-таки обманутого мужа, клянусь
всеми древними и новыми богами, если бы я был брошен ради другого и держал возлюбленную в руках, она
не вышла бы нетронутой из моей спальни!
Но тогда, когда милые губы непрестанно говорили
возвышенные слова о чести, приличии и доброй нравственности, я отгонял прочь все эти подозрения. Почему? Потому что женщина, любимая порядочным человеком, всегда будет торжествовать над ним. Он льстит
159
себя мыслью, что он единственный, он хочет быть единственным, а веришь всегда тому, чего хочешь.
Теперь вспоминаются мне слова моего знакомого,
жившего напротив барона. Совершенно невинно он как-
то при встрече со мной уронил замечание о почве, приносящей плоды двоим сразу. Правда, тогда я не понял
смысла этой насмешки, но она запомнилась мне, хотя
с тех пор прошло уже двенадцать лет. Почему она одна
сохранилась в моей памяти из всех слов и фраз, какие
я слышал в то время и потом забыл? Может быть потому, что теперь ее верность кажется мне невероятной, совершенно немыслимой, невозможной!
Впрочем, в те минуты, когда мы оставались с бароном одни, он выказывал всегда сильный интерес к уличным девицам; и однажды вечером, когда мы ужинали
в ресторане, он спросил у меня адрес известных домов!
Чтобы потом вернее обмануть меня!
Кроме того, его обращение с Марией приняло форму унизительной вежливости, а ее поведение напоминало кокотку, между тем как ее страсть ко мне гасла все
больше и больше.
Наконеи, состоялся дебют. Успех был несколько искусственный. Любопытство видеть на подмостках баронессу, симпатия буржуазии к дворянке, нарушившей
брак благодаря условностям и предрассудкам; холостяки засыпали ее цветами; затем друзья, родственники
и приверженцы великого трагика, так или иначе заинтересованные в успехе дебюта.
После спектакля барон пригласил нас на ужин, на котором присутствовала также барышня, квартирная хозяйка Марии.
Все были в восторге от успеха и сияли от чувства удовлетворения. Мария оставила румяна на щеках и слегка
подведенные глаза и сохранила пышную прическу светской дамы. Она мне не понравилась. Это не была уже
девственница-мать, любившая меня, это была актриса
160
с наглым выражением лица и вульгарными манерами,
она болтала без умолку, не давала никому сказать слова
и приняла оскорбительно высокомерный тон.
Она воображала, что достигла вершин искусства; на
мои возражения она отвечала пожатием плеч и почти
снисходительно бросала замечания:
— Ты этого не понимаешь, мой милый!
Барон имел вид несчастно влюбленного. Он хотел поцеловать ее, но боялся меня. Выпив чрезмерное количество мадеры, он начал изливаться в горьких жалобах,
что искусство, божественное искусство требует таких жестоких жертв! Подготовленные газеты писали об успехе,
и ангажемент казался верным.
Двое фотографов оспаривали друг у друга честь снять
ее в роли, а одно маленькое новое издательство издало
ее биографию с портретом восходящей звезды. Рассматривая портреты моей обожаемой жены я с изумлением видел, что ни один из них не похож на оригинал. Неужели за короткий промежуток одного года так сильно
изменился ее характер и выражение лица? Или же она
совершенно другая, когда, глядя на нее, я вижу в ней отражение любви, нежности и жалости, таящихся в моих
глазах? На фотографиях я вижу неизменно грубое, наглое выражение, черту сильного кокетства, соблазняющую, вызывающую мину. А одна поза положительно
вызывает во мне ужас. Она наклонилась вперед, облоко-
тясь на спинку низкого стула и бесстыдно выставляя напоказ свою обнаженную грудь, полуприкрытую веером,
покоящимся на вырезе платья. Взоры ее словно погружены в чьи-то глаза, только не мои, потому что моя любовь, созданная из уважения и нежности, никогда не ласкает ее с тем наглым сладострастием, которое воспламеняет уличных девиц. Эта фотография производит на
меня такое же впечатление, как непристойные картинки, продающиеся у дверей кафе; я отбрасываю ее.
— Ты не хочешь взять портрета твоей Марии, — говорит она жалобным тоном, сразу указывающим на все ее
ничтожество, в чем она серьезно никогда не признается.
161
— Ты больше меня не любишь!
Когда женщина упрекает любовника, что он ее больше не любит, это значит, что она сама перестала любить
его; и я действительно замечаю, как гаснет ее чувство.
Она чувствует, что ее ничтожная душа впитала из
моей мужество и смелость, необходимые для достижения ее целей, и теперь начинает отделываться от своего
кредитора. Слушая меня, она крадет мои мысли и потом делает вид, что пренебрегает ими.
— Ты этого не понимаешь, мой милый!
Невежда чистейшей воды, умеющая немного болтать по-французски, получившая посредственное образование, выросшая в деревне, не знакомая ни с театром,
ни с литературой, обязанная мне тем, что я научил ее
чистому шведскому языку, посвятил в тайны просодии
и метрики, она обращается со мной как с каким-то ничтожеством.
Теперь, когда должен состояться ее второй дебют,
я выбираю сам ей роль; большую роль в мелодраме, на
которой держится репертуар. Она отказывается! Но через несколько времени сообщает мне, что ее выбор остановился на этой же самой пьесе. Я разбираю с ней роль,
указываю ей на костюмы, намечаю эффектные места, советую относиться к ним осторожно и обрисовываю характерные черты роли.
Теперь между мной и бароном возникает тайная
борьба. Он, директор театра королевской гвардии и руководитель играющих солдат, считает себя знатоком театрального искусства, и Мария выбирает его учителем,
так как он лучше понимает ее так называемые идеи,
а меня отвергает. Добродушный полковник создал свою
собственную эстетику театра и считает ее реализмом.
И в своем реализме ставит банальность, обыденность
и пошлость выше всего.
Я ценю этот принцип, когда дело идет о современной
драме, развертывающейся в круге повседневной жизни,
но он совершенно неприменим к английской мелодра¬
162
ме. Сильные страсти выражаются иначе, чем салонная
болтовня.
Эта разница слишком тонка для посредственного ума,
который стремится обобщить каждый отдельный случай.
В день дебюта Мария считает нужным показать мне
свои платья. Несмотря на мои возражения и просьбы,
она выбрала себе пепельно-серую материю, придающую ей мертвенно-бледный вид. В ответ она выставляет
мне чисто женскую причину:
— Но великая артистка X., создавшая эту роль, играла ее в сером платье.
— Совершенно верно, но она не блондинка, как ты,
а что идет к брюнетке, то не идет блондинке.
Она меня понимает и сердится!
Я предсказываю ей неудачу, и действительно ее второй дебют кончается полным провалом!
Сколько слез, упреков и ссор!
К довершению несчастья, на следующей неделе великая артистка, празднуя какой-то юбилей, выступает
в этой же роли, имеет большой успех и получает корзину цветов и целый ворох венков!
Разумеется, вину в неуспехе Мария взваливает на
меня, так как я его предсказал, и еще теснее сближается
с бароном, благодаря симпатии, связующей между собой людей ничтожных.
Я, ученый, драматический писатель, театральный
критик, знаток всех литератур, знакомый, благодаря сокровищнице библиотеки, с литературными явлениями всего мира, я отбрасываюсь в сторону, как негодный
хлам, со мной обращаются, как с собакой.
Все-таки, несмотря на неудачный дебют, ее приглашают на оклад в две тысячи четыреста франков в год, и она
спасена. Но для нее навсегда закрыта карьера великой
артистки. Ей дают вторые роли светских дам, когда нужно показать туалет, и все ее время проходит в совещаниях
с портнихами. Три, четыре и даже пять туалетов в один
вечер поглощают все и без того небольшое жалованье.
163
Какое горькое разочарование! Сколько душераздирающих сцен, когда тетрадки ролей становятся все тоньше
и едва содержат в себе десяток фраз. Ее комната превращается в мастерскую, полную образчиками, материями
и лоскутами. Она, мать, светская дама, бросившая общество и туалеты, чтобы посвятить себя святому искусству,
превратилась в портниху, которая до полуночи просиживает за швейной машиной, чтобы показаться буржуазной публике в виде светской дамы.
А жизнь актрисы на маленькие роли, которая часами в бездействии должна ждать своего выхода, стоя за
кулисами! Здесь развивается вкус к сплетням, пикантным рассказам, грязным историйкам, порыв к высотам искусства пропадает, крылья опускаются, волочатся по земле и в конце концов мешаются с уличной
грязью.
А несчастье не дремлет, и однажды, когда переделываются все одни и те же платья и не хватает средств на
новые, у нее отбирают роли светских дам, и она становится простой статисткой!
Во время всех этих бед немало огорчений доставляет
ей ее мать, эта Кассандра, предвидевшая все заранее; публика, соединяющая в одно много нашумевший развод
и смерть ребенка, восстает против бессердечной матери
и неверной супруги.
Директор театра должен уступить протесту публики; знаменитый трагик отрекается от нее, заявляя, что
он ошибся в ее таланте.
Сколько шума и горя из-за каприза непоследовательной женщины!
Среди всех этих бедствий умирает несчастная мать от
какой-то сердечной болезни, нажитой, говорят, благодаря скорби о павшей дочери.
И тут моя честность заставляет меня прийти на помощь; я возмущаюсь против этого несправедливого мира
и нечеловеческой силой пытаюсь вырвать ее из болота.
Самое подходящее средство для этого — журналистика. Теперь, когда она должна благодарить каждого, кто
164
старается поднять ее, она принимает мое предложение
создать для нее еженедельный журнальчик по вопросам
театра, музыки, искусств и литературы. Она будет введена в область критики и фельетона и этим самым проложит себе путь к будущим издателям. Она вносит в предприятие двести франков, я беру на себя редактирование
и корректуры. Сознавая свою неспособность в качестве
администратора и кассира, я предоставляю ей распоряжаться экспедицией и объявлениями, в чем ей может
помочь заведующий газетной экспедицией.
Первый номер составлен и, кажется, довольно удачно. Передовая статья одного молодого художника, корреспонденция из Рима, другая из Парижа, музыкальная
критика одного известного писателя, сотрудника одной
из крупных газет Стокгольма, литературное обозрение,
написанное мною и, наконец, фельетон и критика первых представлений Марии.
Все удалось как нельзя лучше, но успех опасной попытки основан на том, чтобы первый номер вышел в назначенный срок; но для этого у нас не хватает необходимых средств и кредита.
Горе мне, что я доверил нашу судьбу женщине!
В день выхода журнала она по обыкновению спит до
полудня. Вполне уверенный, что журнал вышел, я отправляюсь в город, но всюду встречаю насмешливые лица.
— Где же можно достать ваш замечательный журнал? — спрашивают меня многие.
— Везде, — отвечаю я.
— Нигде!
Я иду в газетный киоск, там его нет, в типографию —
он еще не вышел из печати!
Все пропало! Следует горячая ссора с экспедитор-
шей, которая ссылается в свое оправдание на свое врожденное легкомыслие, полное незнакомство с издательским делом; в конце концов она сваливает всю вину на
заведующего, которому она передала весь материал.
Она потеряла свои деньги, а я — честь и колоссальный, неоплаченный труд.
165
Единственная мысль утешает меня в моем унынии:
«Мы гибнем невинно!»
Я предлагаю ей умереть вместе, ей потому, что, благодаря своим несчастьям, она стала ни к чему не способна, мне потому, что я раздавлен этой последней неудачной попыткой поднять ее.
— Умрем, — говорю я. — Не будем лежать трупами
на улице и мешать движению порядочных людей.
Она не согласна.
— Ты труслива, труслива, моя прелестная Мария! Гораздо бесчестнее заставлять меня быть зрителем твоего
падения под смех и насмешки света!
Я бегу в пивную, напиваюсь и крепко засыпаю.
Проснувшись, я отправляюсь к ней. Острым взглядом
пьяного я впервые замечаю происшедшую в ней перемену к худшему. Комната неопрятная, платье безобразное,
небрежно надетое, маленькие обожаемый ножки всунуты в стоптанные туфли, чулки в некрасивых складках.
О, какая глубина падения!
Ее язык обогатился грубыми выражениями актерского жаргона, движения, словно заимствованные с улицы,
лицо ее полно ненависти, 1убы злобно сжаты.
Она сидит, склонившись над работой, и не глядит на
меня, словно погруженная во мрачные думы.
Не поднимая головы, она вдруг произносит глухим
голосом:
— Ты знаешь, Аксель, что должна в нашем положении женщина требовать от мужчины?
Мне становится страшно, но, все еще надеясь, что
я неверно ее понял, я спрашиваю несмело:
— Что?
— Чего требует любовница от своего любовника?
— Любви!
— А еще?
— Денег!
Грубое слово отнимает у нее желание спрашивать
дальше; я догадался, что понял ее, и ухожу.
Девка! С подгибающимися коленами тащусь я по
пасмурным осенним улицам. Это уже последняя сту¬
166
пень! Плата за любовь! Без всякого стыда она берет это
своей профессией!
Если бы она жила в нужде и лишениях! Но она только что получила от матери мебель и бумаги на сумму
несколько тысяч франков, правда, в несколько сомнительных акциях; кроме того, она еще получила жалованье из театра.
Это было необъяснимо! Вдруг мне приходит в голову
эта девица, ее квартирная хозяйка и интимная подруга.
Это была отвратительная женщина с подозрительными манерами сводницы, лет тридцати пяти; у нее не
было состояния, она ничего не зарабатывала, всегда нуждалась; но на улице появлялась в роскошных крикливых
туалетах, втиралась во все семьи, чтобы в конце концов
что-нибудь призанять, и вечно жаловалась на свою несчастную судьбу. Низкая особа, ненавидевшая меня, потому что она отгадала, что я вижу ее насквозь.
Теперь мне вспоминается случай, которому я тогда,
несколько месяцев назад, не придал никакого значения.
Эта особа выманила у одной подруги Марии, живущей
в Финляндии, обещание ссудить ей тысячу франков. Но
обещания та не сдержала. По настояниям этой особы
и чтобы спасти честь своей финляндской подруги, осаждаемой требованиями, Мария берет на себя достать денег. Это ей удается. Но финляндская подруга осыпает
ее за это упреками. Во время последующих объяснений
эта особа объявила себя невинной и свалила всю вину
на Марию. Еще тогда я выразил свое нерасположение
и подозрение относительно этой сомнительной личности; я просил Марию порвать с этой женщиной, приемы которой были весьма похожи на вымогательство.
Но нет, у нее было слишком много оправданий для
лукавой подруги; а позднее она совершенно иначе осветила этот случай и повернула дело так, как будто тут вышло недоразумение; а еще несколько времени спустя все
это превратилось в вымыслы моей порочной фантазии!
Может быть эта авантюристка и внушила Марии
мысль подать мне счета за ее любовь? Очень возможно;
167
потому что ей было очень трудно произнести слово, не
подходившее к ее прежнему способу выражений. Так,
по крайней мере, мне хотелось верить и надеяться. Если
бы она потребовала возвращения денег, потраченных на
журнал — это было бы чисто женской математикой; или
если бы она настаивала на браке, но супружество было
ей противно. Больше не было никакого сомнения! Дело
шло о любви и чувственности, которые я вызывал в ней
моими ласками, о бесчисленных поцелуях и измятых
юбках. Одним словом, мне подали за все счет! А если бы
я со своей стороны подал ей счет за мои ежедневные заботы о ней, за разбитые нервы, за мой мозг, кровь, имя,
честь, за мои страдания и мою карьеру!
Нет, она одна была обязана уплатить по счету и не
имела ко мне никакого встречного иска. Я проводил вечера в кафе и на улице, раздумывая над проблемой падения. Почему так больно видеть падение человека? Разве мы не видим в этом чего-то противоестественного,
принимая, что природа требует развития и шагов вперед и что каждый шаг назад указывает на упадок сил?
Точно то же и в общественной жизни, где каждый индивидуум стремится к материальному или моральному совершенствованию. А эта женщина, которую я встретил
двадцатилетней, молодой, прекрасной, свободной, искренней, приветливой и воспитанной, как быстро и как
низко пала она в течение этих двух лет!
Я был готов взять все на себя, чтобы уменьшить ее
вину; это было бы для меня утешением. Но я не имел никакого желания делать из себя козла отпущения! Я внушал ей культ красоты, порядочности, благородства, и по
мере того, как она присваивала себе вульгарные актерские манеры, я облагораживался; я научился изящным
манерам, утонченным приемам и светскому языку, я выработал в себе сдержанность, управляющую волнением
и являющуюся отличительной чертой людей высшего
класса. В делах любви я по-прежнему оставался целомудренным, я щадил чувство стыда; я был всегда настороже, чтобы не оскорбить чувства красоты и нравствен¬
168
ности, потому что они одни только прикрывают животную сторону акта, который для меня возникает больше
из души, чем из тела.
В подобных случаях я применяю силу, но не пошлость, я избиваю, но не раню, я называю вещи их настоящим именем, но никогда не смакую грязных двусмысленностей, мой порыв исходит из глубины моего
существа, порождается минутой, вызывается положением вещей, но никогда я не цитирую опереток или пикантных журнальчиков.
Я люблю опрятность и красоту в жизни, я отказываюсь от приглашения на обед, если у меня нет чистой сорочки; я никогда не показываюсь возлюбленной полуодетым или в туфлях; я предлагаю ей бутерброд, простой стакан пива, но всегда на чистой скатерти.
Следовательно, не мой пример заставил ее пасть
ниже среднего уровня. Она меня больше не любит и поэтому она не имеет больше желания нравиться мне. Она
заботится только о внешности, она чистится и наряжается только для публики, и этим самым она становится
публичной женщиной, которая, в конце концов, подает
счет за те и другие ласки!
На следующий день я заперся в библиотеке. Я оплакиваю свою любовь, свою чудную, безумную божественную любовь! Все погребено, и на поле битвы любви все
тихо. Двое мертвых и столько раненых для удовлетворения чувственности одной женщины, не стоящей пары
старых башмаков! Если бы ее чувственность оправдывалась желанием иметь детей, если бы она хоть руководилась бессознательным инстинктом проституток, которые
бывают матерями, которые отдаются, чтобы отдаваться.
Но она ненавидит детей, она считает унизительным родить их. Одним словом, это испорченная натура, которая низводит чувства материнства на степень простого
наслаждения. Она предназначена для вымирания расы
и, сознавая себя существом вырождающимся, обреченным на гибель, она прячется за красивые фразы о жизни
для великих целей, для блага человечества.
169
Она внушает мне ужас, я хочу забыть ее. Я брожу под
буками и не в силах отогнать преследующий меня проклятый образ. Она не возбуждает во мне больше желаний, она отвратительна мне, но глубокая жалость, почти
отеческое чувство возлагают на меня ответственность за
ее будущее. Если я покину ее, она совсем погибнет, она
пойдет на содержание к барону или станет любовницей
первого встречного.
Бессильный поднять ее, не имея сил вытащить ее из болота, я должен свыкнуться с мыслью остаться навеки прикованным к ней, должен видеть, как совершается ее падение, которое и меня тянет ко дну, так как желание жить
и работать совершенно угасло во мне. Стремление к самосохранению и надежды исчезли; я ничего не хочу, ничего
не желаю; я стал бояться людей, и случается, что, подойдя
к дверям ресторана, я поворачиваю обратно и отказываюсь от обеда, возвращаюсь домой и ложусь на диван, закутавшись в одеяло. Как раненое насмерть животное, лежу
я недвижимый, с пустой головой, не в состоянии ни спать,
ни думать, ожидая наступления болезни или конца.
Сидя однажды в задней комнате ресторана, наполненной влюбленными парочками и одинокими обтрепанными юбками, которые боятся дневного света, я вздрагиваю при звуках знакомого голоса, окликнувшего меня.
Это был один неудачник, архитектор, принадлежащий к тому странному кругу людей, члены которого
рассеяны по всему свету.
— Ты еще жив, — приветствует он меня, сидя за столиком напротив.
— Отчасти! А ты?
— Недурно, завтра уезжаю в Париж, получил от
одного идиота в наследство десять тысяч франков.
— Желаю счастья!
— К несчастью, я должен один растрачивать наследство.
— Несчастье не так велико, я знаю твою необыкновенную способность тратить целые состояния.
170
— Совершенно верно! Если хочешь, поедем вместе!
— Я готов!
— Итак, решено!
— Решено!
— Завтра вечером, в шесть часов, в Париж?
— А потом?
— Пулю в лоб!
— Черт возьми! Откуда у тебя такая мысль?
— Ее мне внушила твоя физиономия, на которой написано самоубийство.
— Болтун!
Итак, чемодан готов и в Париж! Придя вечером к Марии, я сообщил ей о своем счастье.
Она с искренней радостью встречает эту новость, желает мне счастья и неоднократно повторяет, что это освежит меня. Одним словом, она довольна, осыпает меня
материнскими заботами, которые глубоко трогают меня;
мы провели вечер вместе, несколько опечаленные, полные воспоминаний прошлого; о будущем мы почти не
говорили, мы больше не верим друг другу. Так мы расстались, предоставив будущему снова соединить нас.
Путешествие действительно молодит меня, я вызываю воспоминания юности и испытываю такую острую
радость, что забываю два года бедствий, и ни на одну
минуту у меня не является желания поговорить о ней.
Вся драма с разводом представляется мне кучей навоза,
мимо которого проходишь молча, отплевываясь и не
оборачиваясь. Иногда я смеюсь исподтишка, как беглец,
решивший не давать себя поймать вторично, и я всецело
испытываю чувство должника, ускользнувшего от своих
кредиторов в неведомую для них страну.
В Париже в продолжение двух недель мы посещали
театры, музеи, библиотеки. Не получая писем от Марии, я жил в надежде, что она утешилась и что все идет
прекрасно в этом лучшем из миров.
171
Но, спустя некоторое время, утомившись безумной
суетней и сильными, новыми впечатлениями, я теряю
ко всему интерес и просиживаю целыми днями в своей
комнате, читаю газеты, охваченный чувством какого-то
необъяснимого томления.
Тут встает передо мной призрак бледной молодой
женщины, образ девы-матери, и больше не покидает
меня. Образ распутной актрисы исчез из моей памяти,
и на поверхность всплывает только баронесса, похорошевшая, помолодевшая, ее жалкое тело превратилось
в чудную плоть, о которой мечтали аскеты обетованной
страны.
Среди этих скорбных и все-таки чарующих мечтаний
приходит письмо от Марии, в котором она с полным
отчаянием сообщает мне о своей беременности и говорит, что восстановить ее честь можно только браком. Не
медля ни минуты, я уложил свой чемодан и отправился прямо в Стокгольм, чтобы обвенчаться с ней. Ни разу
не возникло у меня сомнения в том, что я отец ребенка; и после того как я спокойно грешил полтора года,
я несу последствия, как милость, как конец всех страданий, как факт, который, неся с собой массу ответственности и опасностей, все же является исходным пунктом
для чего-то нового, неведомого. Кроме того, еще с детства брак являлся мне чем-то привлекательным, единственной формой совместной жизни обоих полов, —
и жизнь вдвоем нисколько не пугала меня. Теперь же,
когда Мария почувствовала себя матерью, любовь моя
получила новый толчок и вышла очищенной и облагороженной из нашей незаконной связи.
При моем возвращении Мария встретила меня очень
немилостиво; она сильно разбранила меня за мой обман. Вынужденный к тяжелому объяснению, я объясняю ей свойство некоторых средств, которые уменьшают
опасность, не устраняя ее совсем. К тому же в продолжение прошлого года мы не раз переживали сильную
тревогу; и то, что случилось теперь, не должно было нас
172
особенно поражать. Она ненавидит брак и в своем дурном обществе наслушалась, что замужняя женщина —
раба, работающая на мужчину. Так как я сам боюсь рабства, то предлагаю ей современный брак, соответствующий моим склонностям.
Квартира из трех комнат, одна для жены, другая для
мужа и одна общая. Ни своего хозяйства, ни прислуги; обед приносят из ресторана, завтрак и ужин готовит
приходящая служанка. Таким образом легко сосчитать
расход, и устраняется всякий повод к сплетням.
Чтобы сразу отстранить от себя всякое подозрение,
что я живу на воображаемое состояние моей жены,
я предлагаю полный раздел имуществ. В северных странах приданое считается бесчестием для мужа, в цивилизованных же странах оно является вкладом супруги,
который вызывает представление о ее независимости от
мужа. Чтобы совершенно сгладить дурное впечатление,
немцы и датчане ввели в обычай, что новобрачная приносит с собой обстановку, так что супруг должен всегда
испытывать чувство благодарности, живя у своей жены,
и она взамен этого может воображать, что живет в своем
доме и кормит своего супруга.
Мария незадолго перед этим получила в наследство
от матери обстановку, состоящую из вещей, не имеющих никакой цены, но для наследницы они были связаны с воспоминанием прошлого и имели старинный
вид. А так как обстановки хватало на шесть комнат, то
зачем же покупать новую для трех? Она требует, чтобы
она обставила квартиру, и я с удовольствием соглашаюсь. Остается еще главный пункт: будущий ребенок. По
счастью, вынужденные скрывать его рождение, мы быстро приходим к соглашению. Новорожденного мы поместим в городе же у кормилицы, пока не наступит благоприятный момент, чтобы усыновить его.
Свадьба назначена на 31 декабря, остающиеся до этого два месяца я употребляю на то, чтобы создать себе
прочное положение.
173
Так как Мария в скором времени должна была покинуть театр, я снова берусь за перо и в конце первого месяца я уже передаю издателю томик рассказов, принятых очень благосклонно.
Мне посчастливилось, и меня пригласили в библиотеку ассистентом с определенным окладом в тысячу двести франков; а когда коллекции переведут в новое здание,
я буду получать еще шестьсот франков в виде добавочного содержания. Это огромное для нас счастье, и я начинаю надеяться, что несчастье устало преследовать нас.
Крупный финский журнал приглашает меня литературным критиком по пятидесяти франков за статью; а правительственный шведский орган, издаваемый
Академией, поручает мне художественные рецензии по
тридцати пяти франков за столбец, не считая гонорара
за корректуру издаваемых в это время классиков.
И все это сыплется на меня в эти два месяца, самые
тяжелые и значительные в моей жизни.
Наконец выходят мои рассказы и имеют солидный
успех, дающий мне имя художника в этой области. Книга моя, кроме того, причисляется к тем, которые создают эпохи, потому что я первый ввел современный реализм в шведскую литературу.
Как я счастлив, что моя бедная, обожаемая Мария
может выйти замуж за значительного человека, имеющего звание королевского секретаря и ассистента библиотеки, за человека, слава которого все растет, обещая
блестящее будущее. Наступит день, когда я снова смогу
открыть перед ней сценическую карьеру, которая в настоящую минуту закрыта для нее, благодаря, может
быть, незаслуженной неудаче.
Судьба улыбается нам со слезами на глазах. Я продаю свой скарб, увязываю узелок, прощаюсь с моей мансардой, свидетельницей моих страданий и радостей,
и отправляюсь в темницу, которой боится каждый, но
не мы, предвидевшие все опасности, удалившие все камни преткновения. И все-таки...
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Какое невообразимое счастье быть женатым! Скрывшись от взглядов суетного мира, жить в тесном общении
с любимым существом. Я снова обрел семью, кров, покой после бурь, гнездо, ожидающее юное потомство.
Меня окружают вещи, принадлежащие ей, обстановка ее родительского дома, и я чувствую себя привитым
к ее стволу; масляные портреты ее предков производят
на меня такое впечатление, словно я допущен в их семью,
потому что ее предки скоро станут предками и моих детей. Я все получаю от нее; она украшает мои комнаты вещами, принадлежавшими ее отцу, кушанье подается на
фарфоре ее матери, она дарит мне мелочи и безделушки, с которыми связаны воспоминания прежних лет, некоторые из них напоминают о знаменитых военных героях, воспетых великими поэтами родины, что сильно
импонирует моему мещанскому духу. Она благотворительница, великодушная расточительница всех даров,
и я так ослеплен всем этим, что забываю в конце концов,
что ведь это я снова облагородил ее, вытащил из грязи,
сделал женой человека с будущим, ее, провалившуюся
актрису, осужденную cynpyiy, которую я действительно
спас от окончательного падения.
И какая прекрасная домашняя обстановка! Осуществление мечты о свободном браке. Ни брачного ложа,
ни общей комнаты, ни общей уборной, так что избегается вся неопрятность священного, законного союза.
Какое прекрасное учреждение брак в том виде, как мы
175
осуществили его. Благодаря отдельным спальням, является прекрасный случай желать друг другу доброй ночи
так часто и долго, как желаешь, и каждый раз с новой
радостью здороваться по утрам, справляясь о сне и здоровье другого. А тайные и нежные посещения спальни,
которым предшествует всегда игра в ухаживанье вместо
насилия, которое влечет за собой общая постель.
И как хорошо работается дома! Жена сидит возле
письменного стола и шьет пеленки для будущего ребенка. Прежде мы тратили ужасно много времени на свиданья.
Через месяц совместной жизни наступают преждевременные роды, появляется на свет девочка, слабенькая,
едва живая. Ее сейчас же относят к известной своей добросовестностью акушерке, которая живет неподалеку
от нас; но через два дня малютка уходит в неведомый
мир без боли и страданий от недостатка жизненных сил,
получив крещение от акушерки.
Мать встречает это известие с угрызениями совести,
к которым, несомненно, примешивается чувство освобождения, так как теперь с нее снимается масса забот
и она избегнет осуждения света за ребенка, слишком
рано появившегося на свет.
И теперь с обоюдного согласия произносится решение: детей больше не надо! Жизнь вдвоем, жизнь двух
товарищей, мужа и жены, без лишений в любви, каждый за себя прокладывает себе путь к своей цели. Так
как она больше не доверяет моей безопасности, то мы
прибегаем к простейшим и в то же время безвредным
средствам.
Покончив с этим вопросом и отстранив грозящую
опасность, мы начинаем жить спокойно, обсуждая свое
будущее. Семья моя отвернулась от меня, и я не принес
с собой в семью никаких тягостных родственных связей;
а жена, у которой в городе только одна тетка, также не
стесняет меня своей родней, что всегда служит помехой
для новобрачных.
176
Но немного спустя, недель через шесть, я замечаю,
что за спиной жены к нам втерлись две непрошенные
особы.
Во-первых пудель, породы Кинг-Чарльз, отвратительное существо с гноящимися глазами, который встречает
меня оглушительным лаем каждый раз, как я возвращаюсь домой, словно я не принадлежу к числу домашних.
Я не выношу собак, этих защитников трусов, не имеющих мужества кусаться самим; а эта собака еще антипатичное мне, как наследие прежнего брака, вечное напоминание об отставленном супруге. Когда я в первый раз
наказал его, жена сделала мне легкий упрек; она оправдывалась тем, что отвратительное животное было для
нее последней памятью об умершей дочери, что она никогда не считала меня таким жестоким и так далее.
Однажды я заметил, что чудовище запачкало большой ковер в гостиной. Я наказал собаку, чем навлек на
себя упреки, будто я мучитель, истязающий неразумные существа.
— Но как же быть, мое дитя; ведь глупые животные
не понимают человеческих слов.
Она плачет и заявляет, что боится такого злого человека, как я.
Чудовище продолжает пачкать дорогой ковер.
Я решаю приняться за его воспитание и стараюсь
убедить жену, что собаки очень понятливы и, запасшись
терпением, можно совершить чудеса.
Она приходит в бешенство и в первый раз указывает
мне на то, что ковер принадлежит ей.
— Так убери его. Я вовсе не брал на себя обязательства жить в клозете.
Ковер остается, за собакой следят больше, чем прежде, приняв во внимание мою строгость.
Потом начинаются новые неудачи!
Чтобы уменьшить расходы, а главным образом, чтобы избежать лишних хлопот, готовя горячий ужин, я решил есть его холодным. Но, зайдя однажды вечером
177
в кухню, я застаю там служанку, которая жарит на сковородке телячьи котлеты.
— Для кого эти котлеты?
— Для собаки!
Входит жена.
— Дорогая моя...
— Я плачу за это из своих денег!
— Отлично; но я ем холодный ужин, и ты кормишь
меня хуже, чем собаку, которую я содержу на свой счет.
Какая добрая! Она платит из своих денег.
Мало-помалу пуделя начинают чтить как божество,
как мученика, и она заключает союз с подругой, еще новой подругой, для поклонения этому чудовищу, которого они украшают, повязав ему на шею голубую ленточку. И прелестные женщины оплакивают людскую злобу, воплощенную в моей особе.
Во мне пробуждается смертельная ненависть к этому нарушителю мира, который толчется повсюду. Жена
устроила ему ложе из подушки, набитой пером, и кучи
платков. Собака загораживает мне дорогу, когда я прихожу к ней здороваться по утрам или захожу к ней вечером. А в субботу вечером, после целой недели упорного
труда, когда я рассчитываю посидеть с женой у камина
за стаканом вина, беседуя о прошлом и будущем, она
проводит три часа в кухне, разводит огонь и переворачивает весь дом, чтобы вымыть это чудовище.
«Неужели она злая?» — задаю я себе вопрос, видя ее
обращение со мной.
— Она злая? С ее добрым сердцем, она, приносящая
в жертву свое семейное счастье для бедного покинутого
животного! — говорит подруга.
Эта низость переходит все границы!
Одно время мне начинает казаться, что обед, приносимый из ресторана, невероятно плох; но милое дитя со своим покоряющим добродушием внушает мне, что я стал
очень требователен. И я ей верю, потому что у нее открытая и искренняя душа. Об этом она всегда говорит сама.
178
Наконец наступает роковой обед. На тарелках лежат
только кости и жилы.
— Что это ты нам принесла, милая? — спрашиваю
я служанку.
— Сегодня обед был неплохой, но барыня мне приказала отложить лучшие куски для собаки...
Застигнутая на месте преступления женщина —
опасное явление, потому что все ее вины вчетверо тяжелее падут на твою же голову.
Она сражена, уличена во лжи, даже больше того, —
в мошенничестве, потому что уверяла, что кормит собаку на свои деньги.
Немая, побледневшая, она внушает мне только жалость; мне стыдно за нее. Не желая видеть ее унижения,
я проявил себя великодушным победителем; я утешал
ее, потрепал по щеке и просил не огорчаться такими пустяками.
Но она не терпела великодушия и разразилась упреками. Я невоспитанный мужик, если готов уличать ее
перед прислугой, я плохо выдрессированное животное.
Да, и все это я! За этим последовал сильный истерический припадок, она вскочила из-за стола, бросилась на
софу, кричала как безумная, рыдала и вопила, что умирает.
Я ей не верил и сказал ледяным тоном.
— И вся эта история из-за собаки!
Она отчаянно рыдает, сильный кашель потрясает ее
еще слабое после родов тело; я еще раз вдаюсь в обман
и посылаю за доктором.
Он приходит, выслушивает ее, щупает пульс и раздраженный уходит. В дверях я его задерживаю и спрашиваю;
— Что с ней?
— Ничего, — отвечает он, надевая пальто.
— Ничего?
— Ровно ничего! Ведь вы знаете женщин... Прощайте!
179
Если бы я знал тогда то, что знаю теперь, когда я открыл средство сразу излечивать как сильные, так и слабые истерические припадки! Но тогда я еще ничего не
знал; я целовал ее глаза и молил о прощении. За что?
Она прижимает меня к своей груди, называет своим
послушным ребенком; я должен беречь ее, ведь она
такая слабая и хрупкая, что когда-нибудь умрет, если
ее милое дитя еще раз повторит подобную ужасную
сцену.
Чтобы доставить ей полное удовольствие, я подзываю чудовище, глажу его по спине, и за это целые полчаса меня дарят небесными взглядами.
С этих пор собака невозбранно пачкает повсюду, она
поступает так словно из мести! Я удерживаю свое бешенство и жду благоприятного случая, чтобы избавиться от всей этой грязи, в которой я принужден жить.
Удобный момент наступает. Придя один раз к обеду,
я нахожу жену в слезах и глубоком трауре, стол не накрыт, служанка отправилась на поиски убежавшей собаки.
Я скрываю свою радость, мне все-таки жаль видеть ее
в таком горе; но она не может понять того простого факта, что я сочувствую ее печали, хотя и испытываю удовлетворение, что мой враг исчез со сцены.
Она догадывается о том, что происходит во мне, и накидывается на меня:
— Ты радуешься, не правда ли? Тебя забавляет горе
твоего ближнего; ты злодей. И ты меня больше не любишь!
— Я люблю тебя, дорогая, но я ненавижу твою собаку!
— Если ты любишь меня, то должен любить и собаку.
— Я люблю тебя, иначе я бы тебя ударил!
Действие этих слов было ужасно. Ударить женщину,
мыслимо ли это — ударить! Она горячится и упрекает
меня, что это я выпустил или отравил собаку.
180
После того, как я съездил в полицию и даже на живодерню, нарушитель нашего покоя, наконец, отыскался.
Это событие празднуется весьма торжественно, во всем
этом принимает участие подруга, которая начинает смотреть на меня, как на отравителя или, во всяком случае,
на человека, способного на что-либо подобное.
С этих пор собака запирается в комнате моей жены
и гнездышко любви, изящно убранное мною, превращается в собачью конуру. И без того тесная квартира становится еще меньше, и наша совместная жизнь нарушена.
На все мои возражения она отвечает, что это ее комната.
Я снова начинаю готовиться к ужасному крестовому походу. Я предоставляю ей томиться, пока в ней не заговаривает кровь и она сама не зовет меня.
— Ты больше не заходишь ко мне здороваться, — говорит она.
— Пока дверь будет заперта, я не приду.
Она дуется; я дуюсь тоже и вкушаю горечь безбрачия целых две недели; я вынуждаю ее приходить ко мне
в комнату, вымаливать наслаждения, которого она жаждет. Это навлекает на меня ее ненависть, пока настроение ее снова не меняется.
Наконец она сдается и решается убить собаку. Но
вместо того, чтобы приступить к этому сразу, она приглашает подругу, устраивает прощальную сцену «последних минут приговоренного» и в решительный момент она на коленях умоляет меня поцеловать отвратительное животное в знак примирения, потому что
и пудели имеют душу и, как знать, не встретим ли мы
их в другом мире.
Конец песни тот, что я дарю осужденному жизнь, за
что получаю нелепое доказательство ее благодарности.
Иногда мне кажется, что я заперт в сумасшедшем доме;
но все это не кажется таким дурным, когда любишь!
Поверят ли, что эта сцена с последними минутами
приговоренного к смерти пуделя повторялась два раза
в год и что эта мука продолжалась шесть лет?
181
Юный друг, читая эту правдивую исповедь, ты вероятно испытывал боль, когда ты в две минуты пробежал
историю о пуделе; ты не откажешь мне в твоем глубоком
сочувствии, если ты триста шестьдесят пять дней помножишь на шесть и еще высчитаешь, сколько тут будет часов; тогда ты удивишься, что я еще жив. И если я действительно сумасшедший, как утверждает моя жена, то
я спрашиваю тебя, кто в этом виноват, как не я сам, так
как не решался отравить пуделя!
Вернемся к подруге. Это была старая дева лет за пятьдесят, загадочная, бедная, полная идеалов, давно уже
оставленных мною.
Она утешительница моей жены, которая плачет у нее
на груди, когда я обижаю пуделя; она выслушивает все
ее возмущения против брака, рабства и угнетения женщин.
Она довольно скромна и не вмешивается в нашу домашнюю жизнь, так, по крайней мере, мне кажется, насколько я могу видеть при чудовищной работе, отнимающей у меня все время и делающей меня совершенно
слепым и глухим. Но, мне кажется, я знаю, что она занимает у жены деньги; на это я ничего не имею возразить;
но однажды я вижу, как подруга несет к закладчику целый пакет золотых и серебряных вещей, чтобы, заложив
их, взять себе деньги.
На это я осмеливаюсь сделать жене почтительное замечание, что, несмотря на введенный у нас раздел имущества, она злоупотребляет нашей дружбой. Я, ее муж,
отягчен долгами, и я первый, кому она должна была
бы принести эти доказательства своей дружбы. А так
как каждый свободен обратиться с этим, то я и прошу
ее одолжить мне ее процентные бумаги, чтобы заложить их.
Она возразила, что теперь, благодаря понижению
цен, бумаги потеряли почти всю свою ценность и едва
182
ли могут быть проданы, и, кроме того, ей неприятно
иметь с мужем денежные счеты.
— И имеешь их без всяких поручительств с женщиной, живущей на пенсию в семьдесят пять франков в год!
Это поразительно! А мужу, с которым связаны твои интересы, ты отказываешь в поддержке на будущее.
Наконец она соглашается и передает мне весьма сомнительные акции на сумму три тысячи пятьсот франков.
С этих пор она начинает разыгрывать из себя мою
благодетельницу и позднее распространила среди всех
знакомых слух, что она создала мне известность, пожертвовав всем своим приданым. Как будто еще до знакомства с ней я не выказал себя талантливым драматургом
и новеллистом. Но мне доставляет удовольствие стоять
ниже ее, быть ей обязанным за все, за мою жизнь, счастье и будущность.
В брачном контракте я настаивал на разделении иму-
ществ главным образом потому, что ее денежные дела
была спутаны с делами барона; он был ее должником.
Но вместо того, чтобы уплатить наличные деньги, он выдал заемную расписку. Несмотря на все принятые мною
меры предосторожности, на следующий же день после свадьбы меня вызвали в Национальный банк, чтобы
поручиться за эту сумму. На все мои возражения банк
утверждал, что, выйдя вторично замуж, жена моя потеряла свои права и я должен ручаться за ее платежеспособность; и, несмотря на мое величайшее нежелание,
я вынужден был подписать документ и поставить свое
имя рядом с именем барона. Если бы я тогда знал, что
я делаю! Но я был доверчивый глупец; я считал правильным все, что было принято в аристократических кругах.
Барон явился с визитом к новобрачным однажды вечером, когда у меня в комнате сидел один из моих друзей. Посещение нас моим предшественником
183
показалось мне совершенно ненужным, но, так как он
не избегал своего заместителя, то я принял его спокойно. Но, провожая моего друга в переднюю, я не счел
нужным представить его барону. Этим я заслужил порицание жены, упрекнувшей меня в невоспитанности.
Я ответил, упрекнув и ее и барона в таком же отсутствии
такта.
Завязался горячий спор, из которого я должен был
убедиться, что мне совершенно не хватает воспитания.
Мы перескакивали с одного на другое, и, воспользовавшись удобным случаем, я попросил у нее объяснения по
поводу некоторых картин, перевезенных из дома барона
и теперь украшавших стены моей комнаты.
— Подарки не возвращают, если не хотят оскорбить
друзей, — отвечала она мне, — к тому же ведь он сохраняет вещи, которые ты дарил ему в знак дружбы и доверия.
Прекрасное слово «доверие» успокаивает меня. Но
другой предмет бросается мне в глаза и будит неприятные воспоминания.
— Откуда у тебя этот письменный стол?
— От моей матери!
Это была правда, но она умолчала, что раньше он
стоял в квартире ее прежнего мужа!
Какое отсутствие деликатности, какая нечуткость, какое невнимание к моему чувству чести! Не было ли это
сделано намеренно, чтобы унизить меня перед светом?
Попал я в когти мегеры!
Не возражая на ее дьявольскую логику, я порешил
отдаться на ее милость и немилость, убежденный, что
ее тонкое воспитание поможет мне во всех сомнительных случаях, где не будет хватать моих знаний. У нее был
огромный запас ответов на все. Барон никогда ни одной
вещи не купил для дома, все принадлежит ей одной.
И раз барон был согласен пользоваться обстановкой
моей жены, то я-то уж совершенно спокойно мог сохранить вещи, принадлежащие моей собственной жене.
184
Последнее сообщение, что барон пользуется вещами моей жены, доставило мне живейшее удовольствие.
А так как картины в моей гостиной служили также доказательством доверия и указывали на идеальный характер наших отношений, то они там и остались висеть.
И к тому же я был так наивен, что считал своей обязанностью называть любопытным имя подарившего их.
Если бы я знал тогда, что я, человек среднего класса, обладаю врожденным чувством такта и деликатности, которое часто встречается в низших кругах и совершенно отсутствует в высших, несмотря на весь внешний
лоск, каким они прикрывают свою вульгарную душу!
Если бы я знал, какого рода была женщина, которой
я вверил мою судьбу! Но я ничего не знал!
Поправившись после родов, Мария почувствовала потребность снова начать выезды. Она бегает по театрам для изучения своего искусства, посещает публичные празднества, а я остаюсь дома и работаю. Под знаменем замужней женщины она снова принята в салоны,
закрывшиеся перед разведенной. Она настаивает, чтобы я всюду сопровождал ее, потому что появление в обществе без мужа производит дурное впечатление. Но
я не обращаю на это внимания; я указываю на договор
о личной свободе, который мы заключили между собой. Я предоставляю ей полную свободу бывать, где ей
угодно.
— Говорят, что никогда не видно моего мужа.
— Прекрасно, — отвечаю я, — они это поймут!
В заключение «муж» становится предметом насмешек, и жена приучается обращаться с ним свысока.
Оставаясь в одиночестве дома, я работаю над этнографическим сочинением, которое должно способствовать моему повышению в библиотеке. Я нахожусь в переписке сучеными Парижа, Берлина, Петербурга, Пекина, Иркутска, и на моем письменном столе стягиваются
185
нити сети, охватывающие собой весь старый свет. Мария
этого не понимает и сердится, что я ничего не пишу для
сцены. Я советую ей подождать и не смотреть на мои работы как на пустую трату времени. Но она ничего не хочет знать о моих научных исследованиях Китая, которые
ничего не приносят, и за мое сократовское терпение начинает мучить меня, как Ксантиппа, упрекая, что я трачу ее приданое (опять это приданое!) на пустяки!
Во время этой жизни, полной горечи и наслаждений,
меня тяготит еще беспокойство о театральной будущности Марии. Уже в марте появились слухи о сокращении
труппы королевского театра. В конце мая должны были
возобновляться контракты. Три месяца экстренного пролития слез, сверх обычных, и к тому же еще полный дом
актеров-неудачников. Мой дух, ставший аристократичным, благодаря развитию знания и таланта, возмущается против этого ничтожного общества бездарностей
и невежд, которые с видом величайшей мудрости изрекают оскорбительные банальности, заимствованные из
актерского лексикона.
Испытав все мучения от присутствия на подобных
сборищах идиотов, я заявляю жене, что я больше не
в состоянии участвовать на них; я даю ей совет держаться подальше от этих отверженных и ничтожных, которые только унижают нас и отнимают у нас мужество.
На это она возражает, насмехаясь над аристократами.
— Да, я аристократ, — отвечаю я ей, — в том смысле, что я стремлюсь к вершинам таланта и только к ним,
а не к холмам мнимой, унаследованной аристократии.
Но это не мешает мне испытывать все страдания «обездоленного».
Когда я теперь спрашиваю себя, как мог я столько лет
прожить с моей женой, которая терзала меня, по волоску вырывала мои волосы, вместе с подругой и собакой
обкрадывала меня, то мне кажется, я должен приписать
это моей нетребовательности и моей аскетической фи¬
186
лософии, которая учила меня не судить строго людей.
Но главной причиной была моя любовь. Я люблю ее так,
что даже бываю ей в тягость, и иногда она дает мне понять, что моя привязанность ей мешает. Но в те минуты, когда она ласкает меня, когда я кладу мою разгоряченную голову на ее колени под нежное прикосновение
ее рук, играющих с моей львиной гривой, — тогда все
забыто, все прощено, и я счастлив и неосторожно признаюсь, что жизнь моя висит на нитке, клубок от которой она держит в своих руках. И она привыкает к мысли
о своем главенстве надо мной, а благодаря ложному понятию, какое я пробуждаю в ней моим добровольным
унижением, за мной мало-помалу укрепляется роль несовершеннолетнего ребенка.
С этого времени я всецело отдаюсь в ее власть,
и в очень скором времени она начинает злоупотреблять
своим положением.
Наступает, лето и Мария с горничной переезжает
на дачу. Чтобы ей не оставаться одной всю неделю, когда служба удерживает меня в городе, она берет на пансион свою подругу, несмотря на мое опасение, что она
не в состоянии будет платить за него, и на мое указание
на ограниченность наших средств. Но Мария называет
меня жадным скупцом, видящем во всех одно дурное,
и я как всегда сдаюсь, чтобы избежать самого худшего —
вынужденного вдовства.
Проводя целую неделю соломенным вдовцом, я приветствую воскресенье, как обетованный день, с радостным сердцем сажусь в поезд, иду полмили пешком под
палящими лучами солнца, неся вина и закуски на воскресенье. По дороге я радуюсь мысли о встрече с Марией, как она встретит меня с распростертыми объятиями,
распущенными волосами и раскрасневшимися щеками,
мысленно вкушаю уже приготовленный к моему приезду обед, потому что я еще ничего не ел после утреннего кофе. Наконец появляется чистенький домик между
елей на берегу озера. В ту же минуту я вижу, как Мария
187
и ее подруга быстро направляются к купальне. Я кричу во все горло и убежден, что они должны слышать
меня, но они ускоряют шаги, словно убегая, поворачиваются ко мне спиной и исчезают в купальне. Что это
значит?
При входе в дом меня встречает служанка, она делает
смущенное лицо и, видимо, ожидает неприятных расспросов.
— Где барыня?
— Ушла купаться.
— А обед?
— Будет готов только к четырем часам, потому что
барыня и барышня встали очень поздно, а барышня отнимает у меня все время на свое одевание.
— Ты слышала, как я кричал?
— Очень ясно!
Итак, они убежали, подгоняемые угрызениями совести; а я усталый и голодный должен ждать еще два
часа.
И такой прием после целой недели работы и тоски;
меня оскорбляет мысль, что она убежала, как школьница выкинувшая глупую шутку!
Наконец она возвращается. Она находит меня на софе
спящим, в отвратительном настроении. Словно ничего
не произошло она целует меня, чтобы разогнать бурю.
Но нервам нельзя приказывать, пустой желудок не будет сыт словами, и опечаленное сердце не утешится лицемерными поцелуями!
— Ты сердишься?
— Сердятся мои нервы, пощади хоть их!
— Я ведь не кухарка!
— Я и не думаю требовать этого! Но не мешай кухарке делать свое дело!
— Но согласись, милый, что фрёкен Амалия, как жилица, имеет право требовать услуг горничной.
— Ты слышала, как я тебя звал?
188
- Нет!
Она лжет! Как это больно!
А обед, мой праздничный пир, превращается в мучение. Мария плачет и проклинает брак, священный, радостный брак, единственное счастье, она плачет на груди подруги и расточает свои поцелуи отвратительному
пуделю.
Жестокое, неверное, лживое — чувствительное сердце!
И так с бесконечными вариациями продолжается все
лето; и я провожу мои воскресенья в обществе двух глупых женщин и пуделя, убежденный, что всему виною
мои расстроенные нервы; и Мария с фрёкен Амалией
советуют мне обратиться к врачу.
А в воскресенье утром, когда я хочу прокатиться на
лодке по озеру, моя обожаемая не выходит до обеда, занятая своим туалетом, я иду гулять один, а потом становится уже поздно.
И чувствительное сердце, колющее меня, как булавками, плачет целое утро о кролике, которого садовник
убил для обеда, и вечером, лежа в постели, сознается,
что молилась Богу, чтобы кролик не слишком страдал
под ножом.
Один психиатр указывал недавно, как на симптом
безумия, на преувеличенную любовь к животным в связи с бессердечностью к людям. И эта женщина молится за кролика и губит человека! И всегда с улыбкой на
устах.
В последнее воскресенье, которое мы проводим на
даче, Мария отводит меня в сторону, льстит моему великодушию, взывает к моей жалости и просит меня освободить Амалию от платы за пансион, так как ее средства
очень ограничены.
Я соглашаюсь без малейших возражений, не выражая даже своего удовольствия, что я оказался прав, не
высказывая подозрения, что все это была подстроенная
189
заранее игра. Она с ног до головы вооружена готовыми
ответами на все вопросы и прибавляет в заключение:
— Впрочем, я могу заплатить за нее!
Совершенно верно, но ведь неудобства и неприятности, какие она причинила мне, останутся неоплаченными? Но с женщин ведь нечего много спрашивать!
В новом году всеобщий крах потрясает страну; банк,
акции которого мне одолжила Мария, лопается, и заем
должен быть покрыт. Я должен уплатить сумму, за которую поручился, и тут-то и наступает беда! К счастью,
после бесконечных затруднений я получаю отсрочку на
год.
Ужасный год! Ужаснейший из всех!
Успокоившись немного, я как можно скорее принимаюсь за дело. Продолжая службу в библиотеке, я начал большой современный роман нравов, пишу во всевозможных журналах и газетах, и все еще нахожу время
продолжать свой научный труд. Мария, положение которой в театре очень шатко, получает из милости приглашение еще на год с окладом, уменьшенным до тысячи четыреста франков. Теперь я стою выше ее, так как
банковский крах совершенно разорил ее.
Она в ужаснейшем настроении духа и вымещает все
на мне. Чтобы восстановить равенство, она вспоминает
свою личную свободу и пытается занять денег, но всюду
встречает обидный отказ, который, разумеется, переносится на меня.
Не рассуждая, руководимая в сущности самыми добрыми намерениями, она вредит мне, думая спасти себя
и облегчить мне заботы!
Но при всем желании признать ее добрые намерения, я не могу удержаться, чтобы не останавливать ее.
Она вечно недовольна; и в характере ее появилась
скрытность. Некоторые случаи указывают мне вскоре на
190
ее душевное состояние, которое вызывает во мне положительно беспокойство.
В театре должен был состояться маскарад, и я взял
с нее твердое обещание не надевать мужского костюма. Она клянется мне, так как я на этом настаиваю по
причинам, которых я не могу уяснить сам себе. На следующий день я узнаю, что она была в черном сюртуке,
и мужчины пригласили ее на ужин. Ложь рассердила
меня, но ужин окончательно вывел меня из себя.
— Разве я не свободна? — возразила она мне.
— Нет, — отвечаю я, — ты замужем! Мы связаны
между собой, так как ты носишь мое имя; если ты мараешь свою репутацию, то моя репутация страдает от этого еще больше.
— Так значит я не свободна?
— Нет, никто не свободен в союзе, где каждый разделяет судьбу другого, связанную с его судьбой. Подумай,
что бы ты сказала, если бы узнала, что я ужинал с дамами!
Она заявляет, что все-таки свободна в своих поступках; она свободна пятнать по своему разумению мою репутацию, вообще делать все, что ей угодно. Какая дикая
женщина! Под свободой она понимает суверенитет деспота, попирающего честь и счастье другого!
После этого случая, кончающегося ссорой, слезами
и истерическими припадками, всплывает другой, который беспокоит меня тем сильнее, что я недостаточно
знаком с тайнами половой жизни, аномалии которой
пугают меня, как все, чего сразу не понимаешь.
Так однажды вечером, когда горничная готовила постель Марии в комнате соседней с моей, я слышу тихие
восклицания и подавленное хихиканье, словно кого-то
щекочут. Это мне не нравится, и в необъяснимом беспокойстве, переходящем в бешенство, я сразу распахиваю
закрытую дверь и застаю Марию, которая жмет грудь
девушки и пытается ее поцеловать.
191
— Что вы здесь делаете, дуры! — кричу я.
— Мы с ней играем, — отвечает нагло Мария. — Какое тебе дело?
— И очень большое. Ступай отсюда!
С глазу на глаз я объясняю ей всю непристойность ее
поведения.
Она, как и прежде, кидает мне в лицо мое «грязное
воображение» и упрекает меня в развращенности, так
как я всюду вижу одно распутство.
Опасно поймать женщину на месте преступления;
и жена выливает на меня целое помойное ведро брани.
Раз уж разговор коснулся этого вопроса, я ей напоминаю, что прежде она сама признавалась в своей безумной любви к кузине, красавице Матильде; на это она
заявляет откровенно и совершенно невинно, что сама
удивлялась, как женщина может быть так страстно влюблена в другую.
Успокоенный этим наивным признанием, я вспоминаю, что Мария в гостях у моего зятя совершенно открыто, не краснея и не сознавая неуместности этого, говорила о своей любви к кузине.
Но я все-таки не доверяю ей и в нежных выражениях советую оставить эти шалости, вначале, может быть,
и невинные, но могущие повести к непредвиденным последствиями
Она же болтает всякие пустяки, обращается со мной,
как с глупцом, — она всегда обращается со мной, как
с последним невеждой — и наконец объявляет, что все
мои рассуждения неверны.
К чему объяснять ей, что уголовное уложение наказывает подобные преступления каторжными работами! К чему упрашивать ее понять, что прикосновение
к грудным соскам женщины возбуждает в ней чувственность! В медицинских книгах это называется пороком.
Все убеждения напрасны!
Я распутник, опытный во всех пороках, и она стремится продолжать свою невинную игру!
192
Она такая невинная преступница, что ее скорее следует запереть в каком-нибудь доме и поручить ее воспитание подходящим для этого женщинам, чем заключить ее в тюрьму.
К концу весны в нашем доме появляется новая подруга, актриса лет тридцати, еще хорошо сохранившаяся, которой также грозит увольнение, — она подруга
Марии по несчастью и потому достойна ее сожаления.
Мне грустно глядеть на эту когда-то известную красавицу, которую по каким-то неведомым причинам выбрасывают за дверь, может быть потому, что на сцене должна выступить дочь первой трагической актрисы, а каждая победа требует гекатомбы жертв.
Тем не менее она была мне крайне несимпатична, она
казалась хитрецом, высматривающим добычу; казалось,
она льстит мне и обвораживает меня, чтобы обмануть
мою проницательность.
По временам между старой и новой подругой происходят сцены ревности, одна безжалостно нападает на
другую; но на это я не обращаю никакого внимания.
В конце лета оказывается, что Мария снова беременна, рождения ребенка надо ждать в феврале. Это поражает нас, как громовой удар; теперь все дело в том, чтобы на всех парусах домчаться в гавань, прежде чем наступит знаменательное событие.
В ноябре я выпускаю в свет свой роман, он имеет шумный успех и приносит мне много денег — мы спасены!
Я достиг цели, пробился, признан известным писателем, вздыхаю свободно после долголетней нужды, и мы
с необычной радостью ждем рождения ребенка. Мы заранее уже окрестили его, а к Рождеству накупили подарков, расставили их, и все друзья спрашивали нас, как
поживает «детка», словно она уже родилась.
Упрочив за собой славу, я снова пытаюсь реабилитировать Марию и завоевать ей сценическую карьеру. Для
193
этого я пишу четырехактную пьесу для королевского театра, я создаю симпатичную женскую роль, чтобы вернуть Марии расположение публики. И как раз в день
рождения дочери я получаю извещение, что драма моя
принята и главная роль поручена Марии.
Все идет как нельзя лучше в этом лучшем из миров,
а рождение ребенка снова укрепляет связь между родителями.
Наступили лучшие времена моей жизни; мы не терпим ни в чем недостатка. Мать, уважаемая, любимая, готовая снова ожить, расцветает своей прежней красотой,
и все, что было несправедливого к первому умершему
ребенку, превращается в удвоенную заботливость о новорожденном.
Наступает лето, я MOiy взять отпуск на несколько
месяцев; мне хотелось бы пожить с семьей на каком-
нибудь уединенном зеленом островке в Стокгольмском
заливе.
В это же время я получаю крупное вознаграждение
за мой научный труд. Мое исследование удостаивается
особенной чести быть прочитанным в Institut de France
перед Академией, наук, меня выбирают в члены научные заграничные общества, а русское Императорское географическое общество удостаивает меня медали.
В тридцать лет я добился почетного места в литературе и науке, передо мной открывается блестящая будущность, и я счастлив, что MOiy сложить все мои трофеи, к ногам Марии, которая сердится на меня за то, что
я нарушил равновесие. И я стараюсь еще больше принизить себя, чтобы избавить ее от унижения принадлежать
мужчине, который стоит выше ее. Как великан, я позволяю ей играть моей бородой, и скоро она начинает злоупотреблять этим, она унижает меня перед прислугой,
в присутствии друзей дома и, главное, на глазах своих
подруг. Возвеличенная мною, она становится заносчивой и, чем сильнее я унижаюсь, тем больше топчет она
меня. Я оставляю ее в заблуждении, что она создала мою
194
славу, которую она, по-видимому, игнорирует и презирает, мне доставляет удовольствие стоять ниже ее, быть
пренебрегаемым мужем очаровательной женщины, так
что в конце концов она начинает считать себя гением.
Это же проявляется и в незначительных эпизодах повседневной жизни. Так как я очень хороший пловец, то
я учу Марию плавать и, чтобы подбодрить ее, представляюсь трусом, и ей весело хвастаться предо мной и выставлять меня в смешном виде, и этим она доставляет
мне невыразимое удовольствие.
И, поклоняясь в женщине матери, я совершенно забываю, что я связан с тридцатилетней женщиной. Опасный момент близок, показались уже многие тревожные
признаки, может быть и незначительные, но несущие
в себе зародыш многих столкновений.
После родов к разладу духовному присоединяется
и телесный, и любовные объятия тяготят нас. Когда она
чувственно возбуждена, она становится бесстыдна, как
кокотка, а желая возбудить мою ревность или охваченная необузданными дикими желаниями, она предается
беспокоящему меня сладострастию.
Однажды в ясное утро мы выплыли далеко в озеро на парусной лодке в сопровождении молодого рыбака. Я управляю рулем и большим парусом, рыбак —
фоком. Он сидит напротив моей жены. Ветер падает,
и в лодке становится тихо. Вдруг я замечаю, что рыбак
исподтишка поглядывает на ноги моей жены, но мне не
видно, выставляет ли она жну намеренно. В то же время
я замечаю, что Мария жадно смотрит на тело рыбака.
Я притворяюсь глубоко задумавшимся и делаю движение, чтобы напомнить ей о моем присутствии. А Мария
с большим самообладанием переводит взгляд на большие сапоги юноши и довольно неискусно прикрывается
глупым вопросом.
— Скажи-ка, что стоит пара таких сапог!
Я спрашиваю себя, как мне отнестись к этому глупому вопросу. Чтобы обрезать нить ее нехороших мыслей,
195
я под каким-то предлогом желаю поменяться местами. Я стараюсь забыть взволновавшую меня неприятную сцену, я уверяю себя, что я нехорошо видел, но мне
вспоминаются подобные же сцены, когда она глядела на
меня своим чарующим взглядом и всматривалась в линии моего тела, скрытые одеждой.
Неделю спустя, мое подозрение снова проснулось,
благодаря одному случаю, почти окончательно разбившему мои надежды пробудить мать в этой испорченной
женщине.
Один из моих друзей, навестив нас, был очень любезен с Марией, на что она отвечала ему довольно некрасивым кокетством. Когда стемнело, мы пожелали друг
другу спокойной ночи, и Мария отправилась спать.
Но, полчаса спустя, я услыхал на балконе голоса, вышел и застал Марию и друга сидящими за бутылкой
коньяку. Я принимаю невинный вид, но на следующий
день я осыпаю ее упреками в наглости, с какой она делает меня посмешищем всего общества.
Она только смеялась и уверяла, что я слишком подозрителен, что у меня испорченное воображение, — одним словом, разыграла свою обычную роль.
Я сержусь, а с ней делается истерический припадок,
и вот я прошу простить мне мою несправедливость, которая заключается в том, что я нахожу неприличным ее
странное поведение.
Но меня окончательно обезоруживает ее боевая фраза:
— Неужели ты думаешь, мой милый, что я еще раз
хочу пережить все неприятности развода?
С мыслью о жертвах последних лет я спокойно засыпаю сном обманутого мужа.
Что такое кокетка? Женщина, которая соблазняет.
А кокетство? Это завлечение и ничего больше. А ревность? Боязнь потерять самое дорогое! А ревнивец? Муж,
который делает себя посмешищем по той смешной причине, что ему не нравится потерять самое дорогое!
196
Успех мой растет; долги уплачены, золото положительно сыплется на меня; хотя я выдаю достаточно
много на хозяйство, но оно ведется очень беспорядочно; Мария заведует всей кассой, ведет счета и постоянно требует еще денег. Это снова вызывает горячие
ссоры.
В это же время кончается ее сценическая карьера, и я
должен нести на себе все последствия этого. Разумеется,
это моя вина, так как она вышла за меня замуж. Роль, которую я написал для нее, забыта; она испортила ее, сыграла в высшей степени бледно.
В это же время мало-помалу возникает это отвратительное явление, называемое «женским вопросом», благодаря пьесе знаменитого норвежского мужчины — синего чулка; и безумие порабощенных женщин охватывает все слабые души. Но я не поддаюсь этому, и меня
объявляют врагом женщин.
Когда однажды в пылу ссоры я позволил себе храбро высказать Марии всю правду, она вознаградила себя
сильным истерическим припадком. К этому времени
появились уже великие открытия девятнадцатого века
в области невропатологии. И они были просты, как и все
серьезные вещи.
Пока больная продолжает еще рыдать, я хватаю бутылку с водой и громовым голосом изрекаю магическую
фразу:
— Вставай или я оболью тебя!
Рыдания мгновенно смолкают, и в глазах обожаемой
женщины светится величайшее изумление, сердечная
благодарность и смертельная ненависть.
Сначала я испугался; но во мне проснулся мужчина, и я не отступаю; я еще раз поднимаю бутылку и говорю:
— Брось свои фокусы, или я тебя утоплю!
Она встает и бранит меня негодяем, подлецом, низким человеком — доказательство, что лекарство подействовало!
197
Вы, мужья, — обманывают вас, или нет, — поверьте,
я самый ваш искренний и преданный друг. Я завещаю
вам драгоценное средство излечивать величайшее притворство, и будьте уверены, что оно надежно!
С этой минуты моя гибель — вопрос решенный для
моей жены, и обожаемая женщина начинает ненавидеть меня! Так как я опасный свидетель ее женских причуд, то весь ее пол обрекает меня на материальную и моральную гибель, и мстительница берет на себя трудную
и неблагодарную задачу замучить меня до смерти.
Затем после страшной борьбы новая подруга берется жилицей в меблированную комнату, отделенную от
нашей квартиры. Мария даже хотела взять ее на пансион. Но против этого я решительно восстал. Несмотря на всю осторожность, я всюду в квартире натыкаюсь на прекрасную подругу и ее платья, так что, в конце концов, мне начинает казаться, что у меня две жены.
А когда я хочу провести вечерок с женой, она забирается в комнату подруги, и они вдвоем высмеивают меня,
курят мои сигары и пьют мой пунш. Я начинаю ненавидеть подругу и почти уже не скрываю этого. И каждый
раз, когда я бываю недостаточно вежлив с «бедным ребенком», Мария осыпает меня упреками. После того как
я снова отвоевываю свою жену мне — ее мужу — и ее ребенку, которого она поручила противной сорокалетней
мегере, — прекрасная подруга заводит дружбу с кухаркой, и обе они напиваются моим пивом, так что служанка засыпает у плиты и портит кушанья, не считая уже
невероятного расхода на пиво, доходящего до пятисот
бутылок в месяц. В конце концов мне начинает казаться,
что прекрасная подруга не прочь и от мужской дружбы
и что она выбрала меня своей добычей. Однажды Мария
показывает мне пальто, которое я должен ей купить; фасон и цвет мне не нравятся, и я предлагаю выбрать другое. Подруга оставляет его для себя, и дело на этом кончается. Через две недели магазин присылает мне счет за
пальто на имя моей жены. Разобрав все дело, я увидел,
198
что Марию убедили обмануть мужа приемом, хорошо
известным в театральном полусвете.
По обыкновению весь гнев виновной изливается
на меня, и я советую Марии порвать опасную дружбу
с авантюристкой. Дело идет все хуже и хуже! В другой
раз Мария, разыгрывая из себя сострадательную женщину и покорную cynpyiy, смиренно обращается ко мне
со странной просьбой разрешить ей проводить бедное
дитя к одному старому другу ее покойного отца, у которого та хочет попросить взаймы. Эта просьба поражает меня, я чую опасную ловушку, так как знаю дурную
репутацию подруги, про которую говорят, что она живет со стариками, и, охваченный страхом, я умоляю Марию именем ее невинного ребенка пробудиться от сна,
который столкнет ее в пропасть. В ответ она кидает мне
свою вечную фразу о моем испорченном воображении.
С больной головы на здоровую!
По случаю завтрака, который дает красавица, чтобы вырвать у одного знаменитого актера обещание жениться, новое явление окончательно вылечивает меня от
моей летаргии.
Распили уже несколько бутылок шампанского,
и дамы — по обыкновению — опьянели. Мария сидит
в кресле, а на ее коленях лежит красавица-подруга, которую она обнимает и горячо целует. Привлеченный
странным зрелищем, которое, казалось, подтверждало
ходившие сплетни, знаменитый актер подзывает своего
приятеля и указывает ему на женщин.
— Полюбуйся-ка на них!
Без сомнения, это был намек на ходившие сплетни,
и под шутливым возгласом скрывался слишком явный
намек.
Что было делать?
Придя домой, я начал умолять Марию очнуться от
самообмана и ради чести ребенка бросить это странное
поведение, губящее ее репутацию. Она откровенно сознается, что ей доставляет удовольствие видеть красивых
199
девушек, что она целует их грудь и что подруга была не
единственной, то же самое она проделывала и с другими приятельницами и ни за что не откажется от этой невинной игры, которая может казаться развратом только
моему испорченному воображению.
Нет никаких сил заставить ее понять свое заблуждение! Мне остается только вызвать новую беременность,
чтобы пробудить в ней материнское чувство! Она приходит в бешенство, но ее положение снова приковывает
ее на несколько месяцев к семейному очагу.
После родов в ней замечаются новые черты. Страх
перед последствиями ее порочных наклонностей заставляет ее разыгрывать кокетку, или же в ней снова пробудился инстинкт женщины, но с этих пор она начинает
ревностно ухаживать за мужчинами, все это происходит
слишком явно, чтобы я мог серьезно ревновать ее.
Теперь, не имея ангажемента и занятий, она открыто проявляет свой капризный, деспотический, отвратительный характер и ведет смертельную войну.
Однажды она начинает мне доказывать, что трех служанок держать дешевле, чем двух, а так как нет никакого смысла спорить с помешанной, я беру ее за руку
и вывожу за дверь. Она клянется мне отмстить и нанимает третью служанку, в результате никто не занимается
хозяйством, все идет Бог знает как, а три служанки ежедневно напиваются и устраивают со своими любовниками свадебные пиры. К довершению моего семейного
счастья заболевает ребенок. Это влечет за собой увеличение штата до пяти служанок (не считая двух врачей)
и дефицит в пятьсот франков в один месяц. Я удваиваю
свои старания покрыть его, но мои нервы начинают отказываться служить мне.
Кроме того, она вечно попрекает меня за растрату
ее сомнительного приданого, заставляет меня высылать
в Копенгаген пенсию ее тетке, которая тоже упрекает
меня, что я растратил ее состояние, и утверждает, что
мать Матильды настоятельно требовала, чтобы Мария
200
обязалась делиться с теткой. Это еще новая история —
я получаю в наследство тетку, которая ничего не делает и ни к чему не способна, но обладает весьма алчным
характером; особенно принимая во внимание, что все
состояние — один вымысел. Но я соглашаюсь, я даже
даю убедить себя поручиться за прежнюю подругу, таинственную авантюристку № 1. Я обязуюсь выполнять
все, потому что обожаемая моя решила продавать мне
свои знаки внимания и в награду за одно объятие я объявляю, что виноват во всем я, что я растратил ее состояние и состояние ее тетки, что я разбил ее карьеру, женясь на ней, что я подточил ее здоровье. С этой минуты
в наш брак введена легальная проституция.
Благодаря моей покорности, она сочиняет басню
о моих злодействах, эта басня проникает в скандальную
прессу и разносится по городу подругами, выгнанными
мною из дому.
Она охвачена бешеным безумием разорить меня.
В этом году я выдал ей на хозяйство двенадцать тысяч
франков и все-таки я вынужден взять у издателя аванс.
Когда я жалуюсь на наши огромные расходы, она возражает:
— Зачем же ты плодишь детей и делаешь несчастной
жену? И я тоже загубила всю свою жизнь ради бездельника.
На это я отвечаю:
— Дитя мое, когда ты была баронессой, твой муж выдавал тебе три тысячи франков и делал долги впридачу,
а теперь ты получаешь втрое!
Она не отвечает и заставляет меня томиться, а когда наступает ночь, я соглашаюсь, что три тысячи в три
раза больше, чем двенадцать, соглашаюсь, что я ничтожество, честолюбец, тщеславный глупец, возвысившийся на счет своей обожаемой жены, обожаемой именно
в ночном одеянии!
Чтобы излить свою желчь, она пишет первую главу романа, где дело идет о порабощенной женщине,
201
эксплуатируемой преступным мужем, между тем как
ее образ белокурой, кроткой матерински-нежной мадонны проходит во всех моих произведениях; я курю ей
фимиам и создаю бессмертную легенду об этой чудной
женщине. Божьей милостью ниспосланной в полную
скорби жизнь поэта. Ее отвратительная личность, окруженная незаслуженным ореолом, появляется во всех
критических статьях, неустанно восхваляющих писате-
ля-пессимиста.
И чем больше я страдаю от необузданных порывов
этой женщины, тем сильнее стараюсь я позолотить ее
головку мадонны; чем сильнее гнетет меня действительность, тем высший полет приобретают мои мечты об
обожаемой! О, моя дорогая!
Иногда мне кажется, что она ненавидит меня и с радостью избавилась бы от меня, чтобы начать все это
с третьим. Иногда мне кажется даже, что у нее есть любовник, потому что в ее чертах я замечаю какой-то незнакомый мне отпечаток, и мое подозрение подтверждается ее холодностью к моей любви.
В наш брак внезапно врывается настоящая ревность,
и широко распахиваются двери ада.
Она вдруг объявляет, что она больна; она не знает
чем именно; у нее болит где-то в спине, не то в позвоночнике, не то в пояснице. Я зову детского врача, старого
университетская друга. Он находит ревматические узлы
в спинных мышцах и прописывает массаж. Я ничего не
могу возразить против этого, так как дело ясно, и Мария начинает свои ежедневные визиты к врачу. Так как
мне незнакомы особенности этого лечения, то, погруженный в работу, я не обращаю на это внимания! Боли
очевидно у нее не сильные, потому что она всегда на ногах, посещает театры и бывает в гостях, где засиживается
очень поздно.
Когда мы были однажды в гостях, одна дама жаловалась на недостаток женщин-врачей, так как при медицинском осмотре и при лечении дамы вынуждены раз¬
202
деваться перед мужчинами. И, обращаясь к Марии, она
спросила:
— Не правда ли, это очень неприятно?
— Ах, но ведь это же доктор!
Только теперь стала мне ясна сущность массажа, особенно благодаря сладострастному выражению лица Марии, так хорошо знакомому мне, и страшное подозрение сжало мне сердце.
Она раздевается перед холостяком, известным развратником, и ничего не говорит мне об этом. Оставшись
наедине, я обращаюсь к ней с вопросом. Она, нисколько
не смущаясь, объясняет мне, как все происходит. Она не
снимает юбок, но поднимает рубашку, обнажая спину.
— И тебе не стыдно?
— Чего?
— Ведь меня же ты стыдишься!
Два дня спустя тот же врач заходит взглянуть на одного из детей. Из моей комнаты я слышу более чем странный разговор между женой и врачом, затем смех и шепот. Потом дверь отворяется, и оба выходят, насмешливо улыбаясь.
Обуреваемый мрачными мыслями я довольно неудачно завожу разговор, мы говорим о женских болезнях.
— Ты ведь понимаешь, старина, в женских болезнях... не так ли?
Мария бросает на меня взгляд, исполненный такой злобы и ненависти, что дрожь пробегает у меня по
спине.
После ухода врача она обрушивается на меня. На это
я кидаю ей в лицо: «Девка!»
Слово это вырвалось у меня против воли в каком-то
внезапном порыве.
Но раскаяние сейчас же начинает терзать меня,
и в присутствии детей я падаю перед ней на колени
и в слезах прошу прощенья.
Она разыгрывает из себя оскорбленную, и только через два часа мне едва удается успокоить ее.
203
Чтобы загладить свою отвратительную несправедливость, под влиянием ее возрастающей ненависти я решаюсь отпустить ее в Финляндию поразвлечься и отдохнуть; в продолжение нескольких недель она будет выступать там на сцене.
С этой целью я списываюсь с директором театра и,
получив согласие, стараюсь раздобыть денег.
Наконец она уезжает, одерживает патриотические
победы и получает венки от родственников.
Во время ее отсутствия я с детьми живу в деревне;
я внезапно заболеваю и, думая, что близок к смерти, вызываю ее телеграммой, что никак не могло нарушить ее
планов, так как гастроли ее были уже кончены.
Найдя по возвращении меня уже здоровым, она обвиняет меня в том, что я ложной телеграммой оторвал
ее от невинного удовольствия погостить у родных.
По ее возвращении к домашнему очагу я открываю
в ней новые черты характера, внушающие мне опасения.
Против своего обыкновения она, оставшись наедине со мной, всецело и страстно отдается наслаждениям
любви...
Откуда это внезапное самозабвение и полное отсутствие страха перед беременностью, задаю я себе вопрос,
но не имею никакого желания исследовать его. В следующие дни она все время говорит о своих развлечениях
в Финляндии и, выпив лишнее, рассказывает мне, что
познакомилась на пароходе с одним инженером. Это
был образованный современный человек, который внушал ей убеждение, что никаких грехов не существует,
все зависит от обстоятельств и судьбы.
— Совершенно верно, дитя мое; но всякий поступок
влечет за собой последствия. И допустив даже, что нет
никаких грехов, так как нет никакого личного Бога, мы
все-таки ответственны перед теми, кому мы наносим
несправедливость; и, если не стоит говорить о грехе, то
остается все-таки преступление, пока существует закон;
204
и, откидывая теологическое понятие греха, мы сохраняем все-таки представление о возмездии или, если хочешь, мести тому, кто нанес нам вред.
Она становится серьезна, но делает вид, что не поняла. Наконец она заявляет:
— Мстят только злые люди!
— Согласен, но на свете так много злых людей; и никогда нельзя быть уверенным, что не встретишь более
сильного, который не даст безнаказанно ранить себя!
— Судьба управляет всеми нашими поступками.
— Конечно, но судьба направляет также и кинжал
в руке мстителя.
В конце месяца у нее выкидыш.
Измена кажется мне несомненной! С этих пор подозрительность моя все растет, потому что ее поступки начинают внушать мне опасение.
В это же время она начинает внушать мне, что я безумец и что вся моя подозрительность происходит от извращенного воображения.
Еще раз она прощает меня, и в знак примирения
я пишу драму с главной женской ролью, которую никак
нельзя испортить. Семнадцатого ав1уста я передаю ей
дарственную запись на мою драму, по которой она может ставить ее где ей угодно и играть любую роль. Я два
месяца работал над этим подарком, который она приняла без единого слова благодарности, как жертву, подобающую ее величеству отставленной актрисе.
А между тем хозяйство все больше идет в упадок, и я
ничего не Moiy поделать, потому что малейшее замечание или указание встречается как оскорбление и отклоняется. И я должен сложа руки смотреть на воровство
прислуги и на небрежный уход за детьми.
К беспорядку в доме присоединяются еще вечные
ссоры.
Вернувшись из поездки в Финляндию, которую она
совершила на мой счет, она привезла с собой двести
франков, оставшиеся ей от гастролей. Так как все деньги
205
у нее, то мне приходится запоминать все это на память.
Но до назначенного срока она просит у меня денег.
Изумленный этим неожиданным требованием, я осмеливаюсь вежливо спросить, что же она сделала со своими деньгами. Она одолжила их своей подруге. Она ссылается на закон и утверждает, что имеет право располагать тем, что зарабатывает своим личным трудом.
— А я? — спрашиваю я ее. — Отнимать у хозяйства
не значит распоряжаться.
— Женщина — совсем другое дело!
Порабощенная женщина! Раба, заставляющая мужа
работать на нее! Вот результаты увлечения женским вопросом!
Все, что говорил Эмиль Ожье о разделении имуществ
в браке, осуществилось; муж обращен в раба. И действительно, есть мужчины, которые вдаются в обман и сами
себе роют могилу!
По мере того как росло мое семейное несчастье,
я прибег к моей литературной славе, чтобы искоренить
старинные предрассудки и вкоренившиеся суеверия, тяготеющие над отжившим обществом. Я издаю томик сатир и бросаю полные пригоршни камней в известнейших шарлатанов столицы, причисляя к ним и бесполых женщин. Меня обвиняют в клевете, и Мария умеет
извлечь из этого выгоды. Она заключает союз с моими
врагами, день и ночь разыгрывает из себя порядочную
женщину и жалуется на свое несчастье быть связанной
с таким ужасным человеком; теперь она забывает, что,
кроме сатирика, существуют еще известный романист
и драматург. Она — святая мученица и считает вполне уместным оплакивать несчастную будущность своих
детей, которые должны нести на себе последствия бесчестной деятельности своего порочного отца, растратившего ее приданое, разбившего ее сценическую карьеру и так дурно обращающегося с ней. В это же время
в одной продажной газете появляется заметка, сообщающая что я сошел с ума! И подкупленная статья распро¬
206
страняет все сказки, измышленные Марией и ее подругами, со всеми грязными вымыслами, которые теснятся
в этой порочной женской головке.
Она выиграла игру и теперь, видя меня низвергнутым, она поднимает голову и разыгрывает святую мать
погибшего ребенка и своим очаровательным обращением со всеми, кроме мужа, она завоевывает себе всех моих
друзей, как истинных, так и ложных. Изолированный от
всех, отданный во власть вампиру, я отказываюсь от всякой обороны. Разве я могу поднять руку на мать моих
ангелов, на женщину, которую я все еще обожаю?
Никогда!
Я сдаюсь. Теперь на людях она обращается со мной
крайне нежно, зато дома — с оскорбительным презрением.
Излишек работы и неприятностей наконец сражают меня, и я заболеваю; я страдаю головными болями, расстройством нервов и желудочным недомоганием. Странные последствия умственного переутомления!
Удивительно, что все эти болезни проявляются тогда,
когда я объявляю свое намерение ехать за границу; это
был единственный способ вырваться из сети бесчисленных друзей, окружающих мою жену и постоянно выражающих ей свое сочувствие.
Разбитый, уничтоженный, лежу я на диване, смотрю
на играющих детей, мысленно переживаю прежние
прекрасные дни и готовлюсь к смерти; я не хочу оставлять никаких записок о причинах моей смерти, о моих
низменных подозрениях!
Я хочу исчезнуть, убитый женщиной, которой я прощаю!
Лимон выжат, и Мария смотрит на меня взглядом,
словно вопрошающим, скоро ли я перейду в другой
мир, чтобы она могла спокойно пользоваться доходами с полного собрания сочинений знаменитого писателя, а пожалуй, и добиться от правительства пенсии для
детей.
207
Поднятая своим сценическим успехом, который я создал ей своей пьесой, — солидным успехом, доставившим
ей звание первой трагической актрисы — она получает
еще роль, которую желает. Эту роль она проваливает;
теперь она сознает, что это я создал и реабилитировал
ее, и ненависть моей должницы растет с каждым днем.
Она обращается во все театры, надеясь получить ангажемент, но все напрасно. Наконец она заставляет меня
написать в Финляндию, я должен покинуть родину, друзей и издателей и поселиться среди ее друзей, т. е. моих
врагов. Но финны не хотят ее, и карьера ее кончена.
В это же время она разыгрывает из себя эмансипированную женщину, свободную от всяких обязанностей по
отношению к мужу и детям, и, так как мое здоровье не
позволяет мне принимать участия на артистических вечеринках, то она посещает их одна. Иногда она возвращается только под утро, пьяная, поднимает такой шум,
что будит весь дом, и я с отвращением слышу, как она
проходит в комнату детей, где теперь спит.
Что мне делать в таких случаях? Образумить жену?
Нет! Развестись? Нет! Семья стала для меня организмом,
живой составной частью которого являюсь я сам. Я не
мог бы жить один; один с детьми без матери — тоже нет;
моя кровь течет по большим артериям, исходящим из
моего сердца, разветвляющимся в чреве матери и кончающимся в маленьких тельцах детей. Это целая система кровеносных сосудов, переплетающихся между собой, и если обрезать хоть один из них, я потеряю жизнь
и кровь, которая погибнет бесследно. Поэтому измена
жены является тем более ужасным преступлением, и я
готов кричать вместе с известным писателем: «Убить
ее!»; ведь я убит насмерть сомнением в моем потомстве,
сомнением, вызванным во мне бессовестной матерью.
Мария же, ставшая в высшей степени либеральной
в вопросе о правах женщины, изрекает новую истину,
что жена нисколько не наказуема, изменяя мужу, потому что она не его собственность.
208
Я не могу унизиться до шпионства и не хочу никаких
доказательств — это было бы моей смертью. Мне нравится постоянно заблуждаться, жить в воображаемом
мире, который я Moiy окутывать поэтической дымкой.
И все же я люблю детей, они принадлежат моему существу, как будущая жизнь, и теперь, когда я лишен надежды на загробную жизнь, я колеблюсь в воздухе, как
призрак, и впитываю воздух случайно выросшими корнями.
Мария, по-видимому, нетерпеливо следит за проблесками моей жизни и, лаская меня, как нежная мать,
в присутствии посторонних, оставшись наедине, она изводит меня. Чтобы ускорить мою смерть, она начинает
ужасно обращаться со мной. Теперь она изобрела новую
пытку. Во время моих припадков слабости она обращается со мной, как с расслабленным, и в высшей стадии
своей мании величия она грозит мне побоями, заявляя,
что она сильнее меня. И она подходит ко мне, уже подняв руку. Тогда я вскакиваю, схватываю ее за обе руки
и бросаю на диван.
— Сознайся, что, несмотря на свою слабость, я сильнее тебя! — кричу я ей.
Она не сознается и с жалобной миной, бесясь на свою
неудачу уходит, грозя мне.
В борьбе она пользуется всеми преимуществами, которыми обладает как женщина и актриса. Подумать
только, что я, заваленный работой, бессилен перед
праздной женщиной, которая целый день на свободе
плетет интриги, так что в скором времени муж запутается в их сетях, охватывающих его со всех сторон.
В то время как она выставляет меня перед всем светом каким-то расслабленным, чтобы добиться оправдания своему преступлению, я умалчиваю от стыда и сожаления об ее телесном недостатке, появившемся после
первых родов и усилившемся после последующих. Позволит ли себе муж, никогда и никому не доверявший
тайн брака, рассказывать о недостатках своей жены?
209
Она преследует меня с неукротимой злобой, а я снова и снова прошу ее милости, для достижения которой
я хватаюсь за средства, противные мне, но которые мо-
iyr доставить ей желаемое удовлетворение. Итак, у нее
не было никакой причины жаловаться; но у нее была собачья порода, она хотела наслаждаться всем, хотя бы это
стоило счастья ее самой и детей. «В любви побеждает
только тот, кто бежит», учил Наполеон, великий знаток
женщин. Но бегство невозможно пленнику, а еще более
приговоренному к смерти.
Я отдохнул, и мысли мои прояснились; так как я освобожден от работы, то подготовляю вылазку из крепости,
которая охраняется Марией и одураченными ею друзьями. Я прибегаю к военной хитрости и посылаю врачу
письмо, в котором высказываю свое опасение, что мне
грозит безумие, и предлагаю в виде лечения поездку за
границу. Врач соглашается, и я спешу сообщить Марии
мое неизменное решение.
— Это предписал доктор.
Это было ее выражение, когда она предписывала докторам то, что ей было желательно. При моем заявлении
она бледнеет:
— Я не хочу покидать родину!
— Родину! Твоя родина Финляндия, и я положительно не понимаю, что ты теряешь в Швеции, где у тебя нет
ни родных, ни друзей, ни театра.
— Я не хочу!
— А почему?
Она запинается, но затем произносит:
— Потому что ты меня пугаешь! Я не хочу оставаться
с тобой одна.
— Ягненок, которого ты ведешь на ленточке, пугает
тебя, разве это правда?
— Ты низкий человек, и я не хочу оставаться беззащитной с тобой!
У нее есть любовник, или она боится, что я доживу до
того дня, когда преступление будет открыто.
210
Я внушаю ей страх, я, который, унижаясь, как собака,
ползаю в грязи, преклоняясь перед ее белыми чулками;
я дал обрезать свою львиную гриву и надел холку лошади; я закрутил кверху усы и ношу открытые воротнички,
чтобы соперничать с опасными конкурентами.
Ее боязнь еще больше пугает меня и будит мои подозрения.
У этой женщины есть любовник, которого она не хочет покинуть, или же она боится дня расплаты, говорю
я себе; но ей я ничего не даю заметить.
После бесконечных ссор она берет с меня обещание
вернуться в продолжение года.
И я даю слово!
Желание жить возвращается ко мне; я готовлюсь
кончить к зиме томик стихотворений, который должен выйти в свет после моего отъезда. С весной в душе
и со свежими силами я воспеваю обожаемую женщину,
чья синяя вуаль, развевающаяся на соломенной шляпе,
с первой же встречи сделалась моим знаменем, которое
я вывесил на мачте, отправляясь в бурное море.
Однажды вечером я читаю эти стихи в семейном кру-
iy одному другу. Мария внимательно слушала. Когда
я кончил, она разразилась слезами, встала и поцеловала меня в лоб.
Какая великолепная актриса! Она старается ввести
в заблуждение моего друга, и тот действительно начинает меня считать ревнивым глупцом, которому небо даровало такую любящую жену.
— Она любит тебя, старина, — убеждает меня мой
юный друг, и четыре года спустя он приводит эту сцену, как неопровержимое доказательство верности моей
жены.
— В ту минуту она была искренна, я клянусь в этом, —
утверждает он.
Искренна в своем раскаянии, да! По отношению к любящему мужу, который публичную женщину воспевает
как мадонну! Не так ли, мой милый?
211
Между тем наш дом освобождается наконец от подруг. Последняя, красавица, исчезла с моим лучшим другом, одним выдающимся ученым. Красавица, без всяких
средств, жившая бесплатно у меня в доме, ухватилась за
бедного малого, целый год жившего в вынужденном целомудрии.
Она соблазнила его в карете, которую она заказала
в одну темную ночь, чтобы уехать куда-то, и принудила его жениться, устроив целый скандал в одной семье,
куда оба они были приглашены. Теперь, достигнув пристани, красавица сбросила маску и в одном доме напилась до того, что назвала Марию развратной. Один из
моих приятелей, бывший при этом, счел своим долгом
сообщить мне об этом.
Мария сразу объявляет, что этого не могло быть, но
я указываю подруге на дверь, а вместе с ней лишаюсь
и друга.
У меня нет ни малейшей охоты разбирать в чем дело,
но грубое слово «разврат», произнесенное ее подругой,
как острие кинжала вонзается мне в сердце. А краткие
намеки, исходящие все из того же источника, и неясные
слухи о дурном поведении Марии во время ее путешествия в Финляндию дают новую пищу моим старым подозрениям; мне снова вспоминаются преждевременные
роды, философия о неумолимости судьбы, неожиданно проснувшееся сладострастие, давно позабытое, — все
это укрепляет меня в моем решении бежать.
Мария пришла к заключению, что очень недурно
жить с больным поэтом, и она разыгрывает из себя сестру милосердия, сиделку, а при случае и надзирательницу при сумасшедшем. Она окружает себя ореолом
святой, самостоятельно распоряжается за моей спиной
и заходит так далеко — как я узнал впоследствии, — что
занимает от моего имени деньги у моих друзей. В то же
время из квартиры исчезают некоторые дорогие вещи
из мебели, переданные для продажи авантюристке —
подруге № 1.
212
Это возбуждает мое внимание, и я впервые задаю
себе страшный вопрос: неужели у Марии есть тайные
расходы?
Что значат иначе таинственные поступки и чем объяснить неслыханные расходы по хозяйству? И на что они
идут?
Я получаю теперь жалованье министра, больше любого генерала, а веду жалкую жизнь, словно к ногам
моим привешены гири. Вообще мы живем просто, как
только можно. Мы как простые мещане едим дурно
приготовленную пищу, часто испорченную, мы пьем,
как рабочие, пиво и водку и плохой коньяк, от которого отказываются даже наши друзья; я курю только трубку, никогда не доставляю себе никаких удовольствий,
за исключением редких вечеров, когда я выхожу поразвлечься.
И только однажды, выйдя окончательно из себя, я совершаю преступление, спросив у опытной в этих делах
дамы, не слишком ли высоки наши расходы по хозяйству. Она смеется мне в лицо, слыша эту огромную цифру, и уверяет, что это положительно безумие.
Итак, у меня есть причина подозревать тайные, непредвиденные расходы. Но на что? На родных, теток,
подруг или любовников, которым она платит за свиданья? Кто скажет об этом мужу, ведь каждый — я не
знаю, из каких побуждений — становится на сторону нарушителя брака.
После бесконечных приготовлений назначается наконец день отъезда. Тут возникает новое затруднение, которое я предчувствовал и которое влечет за собой целый
ряд горестных сцен. Пудель еще жив; он причинил мне
невыносимые страдания особенно потому, что в своей
заботе о собаке жена отнимала от детей все лучшие куски. И все-таки наступает минута, когда кумир Марии,
мой злой гений, к моей невыразимой радости готовится
окончить свой жизненный путь; он был уже такой старый, весь покрытый болячками, грязный и вонючий.
213
Мне кажется, Мария сама хочет смерти собаки; но, так
как она понимает, какое огромное удовольствие это доставит мне, и сердится уже при мысли, что обрадует
меня, то она оттягивает до бесконечности вопрос о пуделе и подыскивает утонченные мучения, чтобы заставить
меня подороже заплатить за это желаемое избавление.
Она устраивает прощальную пирушку, для этого
случая режет курицу, от которой я получаю только кости ввиду моего слабого здоровья; затем она разыгрывает душераздирающую сцену и уезжае! наконец с чудовищем в город. Через два дня она в краткой записке
извещает меня о своем приезде, словно пишет убийце.
Опьяненный счастьем, став свободным после шести тяжелых лег, я иду ей навстречу, предполагая встретить ее
одну. Она встречает меня, как отравителя, и отталкивает со слезами на глазах, когда я хочу поцеловать ее. Она
держит в руках большой, странной формы пакет и погребальным шагом направляется к дому. Она привезла
мертвую собаку! Я должен присутствовать при погребении. Один рабочий готовит гроб, двое других могилу,
я стою в стороне и смотрю на погребение убитого любимца. Это было трогательно! Мария молится за жертву и за убийцу, присутствующие смеются; водружается
крест, избавивший меня наконец от чудовища, самого
по себе неповинного, но воплотившего в себе всю злобу
женщины, слишком трусливой, чтобы открыто мучить
мужчину.
Через несколько дней траура и воздержания от поцелуев — она не хотела целовать убийцу — мы уезжаем
в Париж.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Я выбрал целью своего путешествия Париж главным
образом потому, что там я мог найти всех своих старых
друзей, которым хорошо были знакомы все мои привычки и склонности, прыжки мыслей, парадоксы и дерзновения и которые поэтому были в состоянии произнести
свой приговор над умственным состоянием своего поэта
в данное время. Кроме того, в Париже находились известнейшие шведские писатели; я хотел стать под их защиту, чтобы противостоять злостным намерениям Марии, желавшей поместить меня в дом умалишенных.
Мария бесится все время путешествия, а так как ничье присутствие не стесняет ее, то она обращается со
мной самым унизительным образом. У нее возбужденное лицо, рассеянный взгляд, она ни на что не обращает
внимания. В городах, где мы останавливаемся переночевать, я выхожу с ней гулять, но она ни к чему не выказывает интереса, ни на что не смотрит и почти не слушает
меня. Мое ласковое обращение тяготит ее, и ей словно
чего-то не хватает. Но чего? Чужой страны, где она так
много страдала и где она не оставила ни единого друга,
кроме, может быть, любовника?
Кроме того, она обнаруживает всю свою непрактичность и невоспитанность, так что ее превосходство, как
руководительницы делами — а этим она всегда гордилась — терпит полнейшее поражение. Она дает вести себя в первый указанный отель, из-за одной ночи
заставляет переставлять всю мебель, ради чашки чая
215
призывает хозяина гостиницы и поднимает в коридоре
невообразимый шум, навлекающий на нас унизительные замечания; она пропускает удобнейшие поезда, отправляет по ошибке багаж на отдаленнейшие станции
и, уезжая, раздает всей прислуге одну марку.
— Ты трус, — говорит она, когда я делаю ей замечание по этому поводу.
— А ты невоспитанная неряха!
Настоящая увеселительная про1улка это ужасное путешествие!
Приехав в Париж, мы попадаем в общество моих
друзей, которые не поддаются ее чарам, и она вся съеживается, так как видит, что попала в ловушку. Больше
всего ее злит тесная дружба, которая завязалась у меня
с знаменитым норвежским поэтом. Она боится его, потому что одно слово этого человека может все разъяснить в мою пользу.
Однажды вечером на банкете художников и писателей поднимается вышеуказанный поэт и провозглашает
тост за меня, как представителя современной шведской
литературы.
Тут же присутствует и бедная Мария, мученица, вступившая в брак с памфлетистом, заслужившим дурную
славу у ее бесполых подруг. Мне жаль видеть, как она
подавлена громкими аплодисментами всех участников
банкета; и, когда оратор просит у меня обещания, что
я по крайней мере еще два года проведу за границей,
я не могу больше противостоять печальным взглядам
моей жены. Чтобы утешить ее и доставить ей удовольствие, я отвечаю, что в моем браке все важные решения
принимаются по взаимному соглашению супругов; я заслуживаю благодарный взгляд Марии и симпатию всех
присутствующих дам.
Но оратор ничего не хочет слышать, он настаивает
на моем дальнейшем пребывании и предлагает присутствующим осушить стаканы «за мое двухлетнее пребывание за границей».
216
Должен сознаться, я никогда не мог понять этого
упорства моего друга, хотя я уже и тогда чувствовал, что
между ним и моей женой ведется борьба, причины которой я не знал. Был ли он опытнее меня, или отгадал
своим проницательным умом нашу тайну, так как сам
был женат на очень странной женщине?
Все это тайны, которых я до сих пор не могу понять!
После трех месяцев, проведенных в Париже, где
жена моя чувствовала себя очень неприятно, так как
увидела признанное всеми выдающееся положение
своего мужа, она начала ненавидеть великий город, непрестанно возбуждала меня против ложных друзей, которые еще принесут мне несчастье. Но тут наступает
новая беременность и бездна снова открывается передо
мной.
Сомнения в моих отеческих правах рассеиваются благодаря тому обстоятельству, что, мне кажется, я MOiy доказать не только день, но и момент зачатия, припоминая
все подробности.
Мы переезжаем во французскую Швейцарию и поселяемся в пансионе, чтобы избежать всяких неприятностей из-за хозяйства. Теперь она снова властвует надо
мной, так как здесь я одинок и беззащитен.
Она начинает с того, что выдает себя за сиделку при
умалишенном, заключает союз с доктором, предупреждает хозяина и хозяйку и собирает целое ополчение из
служанок, лакеев и пансионеров. Я как в плену, изолированный от людей, мо1ущих понимать меня. За табльдотом эта безумная мстит мне за свое поражение в Париже; она разглагольствует все время и выкладывает
весь вздор, который я оспаривал тысячи раз. А так как
общество мелких необразованных мещан из вежливости
не возражает на ее глупости, то и я вынужден молчать,
из чего она заключает о своем превосходстве. К тому же
она выглядит больной и страдающей, словно томимой
какой-то заботой, а ко мне она проявляет нескрываемую
ненависть.
217
Все, что я люблю, ей противно. Она равнодушна
к Альпам, потому что я люблю их, она ненавидит прогулки, избегает оставаться со мной наедине. Она понимает мое желание обуздать ее, говорит «да», когда я говорю «нет», и наоборот — одним словом, я ей противен.
А я, одинокий в чужой стране, я вынужден искать ее
общества, и, когда мы не разговариваем друг с другом,
чтобы не вызвать ссоры, я доволен уже, видя ее возле
себя, не чувствуя себя отрезанным от мира.
Когда беременность уже установлена, я считаю себя
вправе беспрепятственно предаваться любви; у нее уже
нет причины отталкивать меня, и она изобретает новые
способы вести меня на помочах; видя мое удовлетворение ничем не стесняемыми ласками, так как предохранительные меры больше не нужны, она злится на меня
за то, что я доставляю себе удовольствие.
Слишком много счастья для меня, так как мое нервное расстройство происходило главным образом от воздержания! Между тем в моей нервной болезни желудка
наступает ухудшение, и скоро я уже не могу есть ничего твердого; по ночам я просыпаюсь от болей в желудке и невыносимой изжоги, которую я пытаюсь успокоить холодным молоком. Мой утонченный мозг мутится
от соприкосновения с менее развитым мозгом, и, когда
я пытаюсь установить между ними созвучие, это вызывает у меня судороги. Заговаривая с посторонними, я сейчас же смолкаю, так как вижу, что они принимают меня
за помешанного.
Итак, я молчу целых три месяца и наконец замечаю,
что голос мой стал глухим от недостатка упражнений
и я потерял почти всякую способность речи.
Взамен этого я начинаю переписку с моими друзьями в Швеции, но их сдержанные ответы, оскорбительное сожаление и отеческие советы показывают мне, что
они думают о моем умственном состоянии.
Она торжествует, а я чувствую, что слабею и проявляю первые признаки мании преследования.
218
Почему мании? Меня преследуют, так весьма логично считать себя гонимым! Одним словом, я впадаю
в детство и, охваченный непреодолимой слабостью, целый день лежу на диване; голова моя покоится на коленях Марии, рукой я обнимаю ее за талию, как в «Pieta»
Микеланджело. Я прижимаюсь к ее груди, называю
себя ее ребенком; муж превращается в ребенка, жена
становится матерью. Она смотрит на меня с улыбкой,
иногда торжествующей, иногда нежной. Это самка паука, пожирающая самца после того, как он оплодотворил ее.
Во время моей болезни Мария ведет таинственную
жизнь. До обеда, то есть до часу дня она лежит в постели. Потом без всякой определенной цели она идет в город и возвращается только к ужину, иногда даже опаздывает. Меня спрашивают о жене.
— Она в городе, — отвечаю я; и, в конце концов, все
начинают посмеиваться.
Ни разу подозрение не пришло мне в голову, ни разу
я не подумал о шпионстве.
После ужина она остается в салоне и болтает с чужими ей людьми.
Ночью она пьет коньяк со служанкой, и они о чем-то
шушукаются, но я не решаюсь унизиться до подслуши-
ванья у дверей.
Почему? Потому что есть поступки, для которых считаешь себя слишком порядочным.
Почему? Потому что это вкореняется в нас воспитанием, как и всякая нравственность.
Три месяца спустя я поражаюсь чрезмерными расходами по хозяйству, теперь, когда все счета уплачены,
я легко могу их рассчитать.
Пансион по 12 франков в день составляет в месяц
круглую сумму в 360 франков, а я выдавал Марии ежемесячно по тысяче франков, следовательно излишек
в 600 франков уходил на побочные расходы.
219
Когда я потребовал от нее отчета, она с бешенством
отвечала, что все было истрачено на непредвиденные
расходы.
— Триста шестьдесят франков на обычные расходы
и шестьсот на непредвиденные! Кажется, ты принимаешь меня за дурака?
— Ты дал мне тысячу франков, но большую часть из
них ты сам истратил.
Я начинаю высчитывать. Табак (очень плохой, считая
сюда и сигары по 2 сантима) десять франков; почтовые
расходы десять франков; что же еще?
— Уроки фехтования.
— Один единственный час: три франка.
— Верховая езда.
— Два часа: пять франков.
— Книги.
— Книги: десять франков. Это составляет тридцать
восемь франков. Ну, возьмем даже сто франков, и то
остается пятьсот франков на непредвиденные расходы.
Это невероятно!
— Так ты думаешь, что я тебя обкрадываю?
Что мне на это отвечать? Ничего! Итак, я негодяй,
и все подруги в Швеции будут осведомлены о быстром
росте моего безумия.
Таким образом прочно создается легенда о моем сумасшествии; и в течение года мой облик принимает все
более резкие черты, и вместо безупречного поэта создается мифологическая фи1ура в мрачных тонах, указывающая на преступный тип.
Попытка бежать в Италию, где у меня есть друзья
одного со мной направления в искусстве, не удается, и ко
времени приближения родов мы возвращаемся обратно на Женевское озеро. После рождения ребенка Мария
украшает себя мученическим венцом порабощенной
женщины, бесправной рабы и настойчиво умоляет меня
позволить окрестить новорожденного. Она прекрасно
знает, что незадолго перед этим я открыто отрекся от
220
суеверия христианского вероисповедания и что мое положение писателя известного направления запрещает
мне выполнять церковные обряды.
Хотя она совсем не религиозна, целых десять лет не
посещала церкви и кто знает как давно не была у исповеди, но молится за пуделя, кроликов и приговоренных
к смерти кур, а теперь она упорно стоит на том, чтобы
совершить крещенье по всей форме, без сомнения только потому, что я просил ее в будущем освободить меня
от всех этих обрядов, которые с моей стороны были бы
только ханжеством и стояли бы в прямом противоречии
с моими основными убеждениями.
Она умоляюще смотрит меня со слезами на глазах,
обращается к моему великодушию, моему милосердию, так что я наконец сдаюсь, оставляя за собой право
не присутствовать при крещении. Она целует мне за это
руки, горячо благодарит за доказательство моей любви,
так как это для нее вопрос не только совести, но и всей
жизни.
Крещение совершается. Вернувшись домой, она
в присутствии свидетелей смеется над ним, разыгрывает свободомыслящую, изображает церемонию в смешном виде.
Насмехается даже тем, что вовсе не знает религии,
в которую записан ее сын.
Выиграв игру, она смеется над ней, и вопрос жизни
был не что иное, как поле битвы, на котором я потерпел
поражение.
Я снова унижен и побежден, исполнив прихоть властолюбивой женщины!
В это время к нам неожиданно приезжает одна шведка, принимающая участие в вопросах женской эмансипации, и с первой же встречи она открыто становится на
сторону Марии, и я погиб. В виде оружия она привезла позорную книгу одного бесполого мужчины, отвергнутого и осмеянного всеми партиями и унизившегося
до измены своему полу, снискав расположение синих
221
чулков всего цивилизованного мира. Прочтя «Мужчину
и Женщину» Эмиля Жирардена, я постиг весь женский
вопрос со всеми его последствиями, которые клонятся
к тому, чтобы низринуть мужчину, заменить его женщиной и снова водворить права материнства.
Лишить престола истинного господина вселенной,
создавшего цивилизацию и благодеяния культуры, творца великих идей в искусстве и ремеслах, одним словом, во
всех областях, чтобы возвеличить глупых женщин, которые никогда не принимали участия в цивилизаторской
деятельности, за некоторыми незначительными исключениями, — для меня это был вызов, брошенный всему
моему полу; и, когда я подумаю, что снова могут возвыситься представительницы бронзового века, эти зоологические люди, эти полуобезьяны, эти орды диких зверей, во мне возмущается все мое мужское начало; и, как
это ни странно звучит, я исцеляюсь от моей болезни, вызванной во мне отвращением к ухищрениям женщины,
стоящей духовно ниже меня, но превосходящей меня
полным отсутствием нравственного чувства. В смертельной борьбе двух рас победителем должен оказаться менее развитой и более испорченный, а получаемая при
этом выгода для мужчин весьма сомнительна ввиду их
врожденного уважения к женщине, и к тому же на стороне женщин то преимущество, что о ее жизни всегда кто-нибудь заботится и ей остается много свободного времени для борьбы. Вот почему я отношусь к этому
вопросу очень серьезно. Я вооружаюсь для борьбы и готовлю книгу7, которая должна стать перчаткой, которую
я брошу в лицо эмансипированным женщинам, желающим добиться свободы порабощением мужчины.
Наступает весна, и мы переезжаем в другой пансион.
Вскоре я попадаю в самый боевой огонь; меня окружают
двадцать пять женщин, дающих мне необходимый материал для моей книги против захвата прав мужчин. Через три месяца книга моя выходит в печати. Это сборник
рассказов из супружеской жизни; в предисловии я изла¬
222
гаю целый ряд горьких истин для тех, кого это касается;
ход мыслей приблизительно следующий: женщина не
рабыня, потому что она и ее дети живут трудом мужчины; женщина никогда не бывает порабощена, потому
что она сама выбирает свою роль, или природа указывает ей ее место, и она пребывает под охраной мужчины,
исполняя свои материнские обязанности; женщина не
равна мужчине в области интеллекта, а мужчина стоит
ниже ее в деятельности созидания; итак, женщина непригодна при великой цивилизаторской работе, потому
что мужчина лучше ее понимает эту свою задачу; а по
теории эволюции, чем глубже разница между полами,
тем сильнее и крепче потомство. Поэтому маскулинизм,
т.е. равенство полов, является регрессом, бессмысленностью, последним козырем романтизирующих и идеализирующих социалистов.
Женщина, необходимый придаток мужчины и в духовном отношении его создание, не должна участвовать
в правах мужчин, потому что она «другая половина» человечества только в численном отношении, в другом же
отношении она является только шестою частью. Поэтому следует предоставить рынок труда мужчине, пока он
обязан заботиться о жене и детях, и помнить, что каждое
дело, отнимаемое у мужчины, порождает еще и одну
старую деву или проститутку.
О бешенстве маскулинисток и их страшной силе
можно составить себе понятие по тому, что они потребовали конфискации моей книги. К сожалению, у них
не хватило ума довести до конца свое дело, которое они
называли защитой религии. Таким образом глупые выдумки бесполых существ были поставлены на одну ступень с религией.
Мария решительно противится моему путешествию
на родину, так как наши средства не позволяют нам переехать всей семьей. Она боится оставить меня без надзора; еще больше она боится, что мое открытое выступление перед судом опровергнет слухи о моем безумии.
223
В это же время она заболевает, не страдая никакой
определенной болезнью, и вынуждена лежать в постели. Тем не менее я решаю уехать, чтобы лично выступить на суде, и действительно уезжаю.
Письма, которые я пишу ей во время этих мучительных шести недель, когда над моей головой висит приговор к двум годам каторжных работ, дышат любовью,
пробудившейся благодаря разлуке и вынужденному
безбрачию. Мой переутомившийся мозг рисует мне ее
образ в поэтических, золотых красках, а воздержание
и тоска приводят к тому, что я снова облекаю ее в белые одежды ангела-хранителя. Все безобразное, низменное и дурное исчезает, и снова выступает мадонна моих
первых любовных мечтаний. Дело доходит до того, что,
встретив старинного коллегу по журналистике, я признаюсь ему, что под влиянием этой благородной женщины, я стал лучше и чище. Это заявление облетает все
газеты соединенных королевств.
Посмеялось ли над этим мое чудовище? Публика по
крайней мере вознаградила себя смехом, которому нет
цены. Ответы Марии на мои нежные письма указывали
на живой интерес к денежной стороне всего этого дела,
которая росла вместе с овациями, устраиваемыми мне
в театре и на улицах. Она внезапно меняет свое мнение,
говорит об ограниченности судей и горячо жалеет, что
не может лично присутствовать при всем этом.
На мои любовные излияния она отвечает сдержанно
и ограничивается общими фразами: «надо понять, надо
догадаться»; касаясь нашего несчастного брака, она объясняет его тем, что я никогда не понимал ее. Между тем
я готов поклясться, что скорее она не понимала ни словечка из того, что я ей говорил.
Среди писем было одно, пробудившее во мне старые подозрения. Чтобы напугать ее, я сообщил ей, что,
если вырвусь из сетей правосудия, то предпочту переселиться за границу. Она сердится, умоляет меня, грозит
лишить меня своей любви, взывает к моей жалости, за¬
224
клинает меня именем моей матери, объявляет, что она
каменеет при одной мысли не видать больше «родины»
(не Финляндии), что это убьет ее.
Откуда эта внезапная настойчивость, спрашиваю
я себя и до сих пор не могу найти этому объяснения.
Наконец суд оправдал меня, и я возвращаюсь назад
в Женеву, где я устроил свою семью на время моего отъезда. К моему великому изумлению на вокзале меня
встречает Мария, свежая и здоровая, хотя несколько
смущенная, несмотря на то, что по письмам она все время лежала в постели.
Но скоро я оправляюсь, а вечер и ночь вознаграждают меня за все пережитые неприятности. На следующий
день я открываю, что пансион полон студентами и уличными девицами; прислушиваясь к разговорам, я начинаю понимать, что Мария находит удовольствие играть
в карты и пить в этом дурном обществе; мне противны
грязные вольности, которые я слышу в изобилии. Она
по-прежнему разыгрывает из себя мать со всеми этими студентами; она находится в тесной дружбе с самой
отвратительной женщиной из всего общества, эта особа является к столу совершенно пьяная и имеет ужасающее сходство с жирной свиньей.
И в этом вертепе дети мои прожили целых шесть недель! А мать ничего не видит, ничего не говорит, она потеряла последний стыд. И ее мнимая болезнь не мешала
ей принимать участие в сборищах этой подозрительной
компании!
Она называет меня ревнивцем, консерватором, аристократом, и прежние стычки разгораются с новой силой.
Теперь на сцену выступает вопрос о воспитании детей. Простая крестьянка, не имеющая ни малейшего
представления о своем деле, возведена в воспитательницы и вместе с матерью совершает ужаснейшие глупости.
225
Обе ленивые женщины любят спать до полудня, и дети
вынуждены тоже валяться в постели, а если они нарушают приказание, их бьют. Но туг вмешиваюсь я и без
дальнейших разговоров поднимаю детей утром, и они
приветствуют меня радостными криками, как своего избавителя. Жена моя ссылается на свободу личности, которая состоит в том, чтобы подавлять свободу другого,
если он хочет вставать рано. И поэтому мономания этого слабого, ничтожного мозга, желающего во что бы то
ни стало уравнять то, что не может быть равным, вносит ужаснейший хаос в нашу семью. Моя старшая дочь,
умная, развитая, с первых лет привыкшая рассматривать
у меня иллюстрированные издания, продолжает пользоваться этим правом, как старшая, а так как я не разрешаю этого младшим, которые не умеют обращаться со
старинными, дорогими изданиями, не попортив их, то
мать упрекает меня в несправедливости.
Все должно быть равно!
Все? И размер платья и башмаков тоже? Она не отвечает и называет меня безумным.
— Каждому по способностям и заслугам. Одно для
старших, другое для младших!
Она не хочет этого понимать, и я выставляюсь несправедливым отцом, который «ненавидит» младшую
дочь. И, откровенно говоря, я больше люблю первую девочку, потому что она старше, потому что у нас с ней общие воспоминания о первых, лучших днях моей жизни,
потому что она раньше младшей вступила в сознательный возраст, а может быть также и потому, что младшая
родилась в то время, когда я уже сомневался в верности
моей жены. Впрочем, справедливость матери выражается в полнейшем равнодушии к детям, которое она проявляет, бывая дома; она совершенно чужда детям, которые все сильнее привязываются ко мне, и это возбуждает наконец ревность матери. Чтобы сгладить это, я завел
обыкновение передавать матери все игрушки и конфеты
для детей, чтобы вызвать в них любовь к ней.
226
Таким образом дети стали частью моей жизни,
и в мрачные минуты, когда одиночество тяготит меня,
общение с этими маленькими существами снова привязывает меня к жизни и даже к моей жене. И тогда всякая
мысль о разводе кажется мне неосуществимой. Это печальное положение привело меня в конце концов к полнейшему порабощению.
Последствия моего нападения на маскулинисток
дают себя знать. Шведские газеты осыпают меня нападками и делают мою жизнь невозможной; произведения мои запрещены в продаже, и, гонимый из города
в город, я 6eiy во Францию. Но в Париже друзья мои
отворачиваются от меня и заключают союз с моей женой. Затравленный, как дикий зверь, я меняю поле битвы, а когда приближается нужда, я нахожу наконец нейтральное пристанище в одной деревушке, населенной
художниками, в окрестностях Парижа. Здесь я снова попадаю в сети, запутавшись в которых я провожу десять
самых ужасных месяцев моей жизни.
Общество состоит из молодых скандинавских художников; это большею частью люди необразованные, из
крестьян, прежние ученики ремесленников, такие же
различные по происхождению, как и по способностям,
и, что еще хуже, некоторые из дам, которые отбросили
все предрассудки, обнаруживают нелепую любовь к гер-
мафродитской литературе и воображают, наконец, что
они во всем равны с мужчиной. С целью скрыть свой пол
они принимают внешние признаки мужчин; они курят,
напиваются, играют на бильярде и, кроме того, предаются запретной любви. Дальше идти некуда!
Чтобы не быть одиноким, я завожу знакомство с Двумя из этих чудовищ. Одна из них так называемая литераторша, другая художница. Сначала меня посещает
литераторша, потому что я знаменитый писатель. Но
это возбуждает ревность моей жены, и она старается
227
переманить на свою сторону эту союзницу, которая кажется мне достаточно просвещенной, чтобы оценить по
достоинству высказанные мною положения против по-
луженщин.
Между тем целый ряд случаев снова наводит меня на
мрачные мысли, и через несколько времени необузданно прорывается мономания, о которой так много говорилось прежде.
Однажды вечером мы с Марией пили в саду кофе
с одним пожилым господином, только недавно приехавшим из Швеции. Было еще светло, и я мог наблюдать за
выражением лица Марии. Пожилой господин рассказывал мне о том, что произошло нового в Швеции после
моего отъезда. При этом он упомянул имя того врача,
который делал Марии массаж. Она прерывает его рассказ и спрашивает:
— Ах, вы знаете доктора X?
— Он очень известен... мне кажется, он имеет определенную репутацию...
— Развратника, — договариваю я.
Лицо Марии бледнеет, и бесстыдная улыбка пробегает по ее губам, обнажая зубы. Разговор обрывается среди всеобщего смущения.
Оставшись с ним наедине, я попросил его сообщить
мне слухи относительно мучившего меня вопроса. Он
клялся мне, что об этом не ходит никаких сплетен. Но
после целого часа настоятельных просьб с моей стороны
он произносит загадочное утешение:
— Впрочем, дорогой друг, если есть один такой, то
будьте уверены, их найдется много!
Это было все, но с этого дня имя доктора никогда не
произносилось Марией, которая всегда называла все
слухи ложными, открыто произнося это имя, словно хотела приучить себя называть его, не краснея. Она следовала при этом влечению, подавлявшему все сомнения.
Испуганный этим странным открытием, я начинаю
искать в памяти какие-нибудь указания на это и вдруг
228
вспоминаю одну книгу, появившуюся во время процесса, которая хотя и проливает не совсем ясный свет на
дело, но позволяет все-таки найти нити, ведущие к источнику всех этих слухов. Это была драма одного известного норвежского писателя феминиста, изобретателя безумной теории равенства полов. Не помню уж,
каким образом книга попала мне в руки. Теперь мне
все ясно, все вызывает ужасные предположения относительно репутации моей жены. Содержание драмы следующее:
Один фотограф (прозвище, которое мне дали за мой
роман, взятый из действительной жизни) женится на
одной сомнительной особе, бывшей любовнице одного
крупного землевладельца. Жена поддерживает хозяйство из тайного фонда, оставшегося после прежнего любовника.
Кроме того, она ведет все дело мужа, лентяя, который
проводит все свое время, пьянствуя в обществе бездельников. Это извращение фактов было допущено автором,
потому что он знал, что Мария занимается переводами,
но он не знал, что я бесплатно исправлял их и сам же
платил за них гонорар.
Дело еще ухудшается, когда несчастный фотограф
узнает, что его обожаемая дочь, преждевременно родившаяся на свет, не его ребенок и что жена одурачила его,
выходя за него замуж. В довершение позора обманутый
муж позволяет себе взять значительную сумму денег
в виде вознаграждения от прежнего любовника жены.
Под этим я понимаю заем Марии под поручительством барона, за который после свадьбы должен был поручиться и я.
Но что касается незаконного рождения дочери, то
в этом нет и следа сходства, потому что наша дочь родилась только два года спустя после свадьбы. Но что это?
Умершая девочка! Я напал на след! Умерший ребенок,
принудивший нас к браку, который без этого бы не состоялся!
229
На вечер я готовлю крупную сцену, я хочу подвергнуть Марию перекрестному допросу, придав ему вид
защиты нас обоих; ведь мы оба подверглись нападкам
этого орудия маскулинисток, несомненно получившего
деньги за свое грязное дело.
Когда Мария возвращается домой, я сердечно здороваюсь с ней и прошу сесть.
— В чем дело?
— Очень важный случай, близко касающийся нас
обоих. — Я передаю ей содержание пьесы, настаивая на
подробности, что актер загримировался мною.
Она молчит, обдумывая план действия, но она, видимо, взволнована.
Я начинаю свою речь:
— Если это действительно было так, скажи мне, и,
я клянусь тебе, прощу тебя; потому что если действительно умершая девочка была не моя, ты имела на это право, так как ты была связана со мной весьма неопределенным обещанием. Ты могла свободно располагать собой,
ты ведь ничего не получала от меня. Что касается героя
драмы, то, мне кажется, он поступает, как человек с сердцем, который не способен замарать будущего своей дочери и жены, а то, что он берет деньги для обеспеченья дочери, я считаю вполне законным вознаграждением.
Она внимательно слушает меня, и ее дух, в глубине
своей мещанский, хватается за приманку, но не проглатывает ее. Судя по затишью, осветившему ее лицо, искаженное угрызениями совести, ее по-видимому удовлетворяет признание ее прав распоряжаться своим телом,
потому что она не получала от меня денег; она даже ценит обманутого мужа, признавая за ним «благородное
сердце».
Мне не удается вырвать у нее признания, и я продолжаю свою речь; я перекидываю ей золотые мостки для
защиты, отклоняю ее совет принять меры для реабилитации нас и предлагаю в свою очередь написать роман,
чтобы обелить нас перед светом и детьми.
230
Моя речь длится целый час; она сидит все это время
за моим столом в необыкновенном волнении, играя ручкой от пера, и не произносит ни слова, кроме нескольких восклицаний.
Успокоившись, я иду пройтись и сыграть партию на
бильярде. Когда я вернулся, Мария все еще сидела на
том же месте, неподвижная, как статуя, — так просидела она два часа.
Услышав мои шаги, она поднимает на меня глаза.
— Ты хотел поймать меня в ловушку? — спрашивает она.
— Нисколько! Неужели ты думаешь, я в состоянии
потерять мать своих детей?
— Я считаю тебя способным на все, ты хочешь освободиться от меня, как тогда, когда ты подослал господина У*** (имя еще не упомянутого моего приятеля) соблазнить меня, чтобы уличить меня в измене.
— Кто тебе это сказал?
— Анна!
Это была возлюбленная Марии, последняя подруга
перед нашим отъездом. Месть лесбиянки!
— И ты этому поверила?
— Конечно! Но, видишь ли, я водила за нос и тебя
и господина У***, вас обоих.
— Так ты меня обманывала с третьим?
— Я этого не говорю!
— Да ведь ты созналась. Если ты обманывала нас обоих, следовательно обманывала и меня. Разве это не логично?
Как виновная, она сердится и требует доказательств.
— Доказательства!
А я, поверженный в прах открытием этого позорного поступка, превосходящего по гнусности все, что я мог
предполагать в человеке, я опускаю голову, падаю на колени и молю о пощаде.
— И ты поверила этому! Ты могла поверить, что
я хочу расстаться с тобой; я, твой верный друг, покорный
231
муж, я, который не могу жить без тебя! Ты жаловалась
на мою ревность, ты видела, как женщины хотели увлечь
меня и как я выставлял их перед тобой отвратительными созданиями — и ты поверила этому!
Ее охватывает жалость, и в минутной откровенности
она признается, что никогда этому не верила.
— Ты все-таки обманывала меня, сознайся, и я прощу тебя. Освободи меня от мрачных мыслей, томящих
меня. Признайся!
Она ничего не говорит и только называет господина
У*** негодяем.
Мой лучший друг негодяй! Я жажду смерти, жизнь
мне невыносима!
За ужином Мария необычайно внимательна ко мне,
а когда я ложусь спать, приходит ко мне, садится на кровать, пожимает мне руки, целует глаза и наконец разражается слезами; она совершенно разбита.
— Ты плачешь, мое дорогое дитя, скажи, что тебя печалит, я утешу тебя!
Она произносит бессвязные слова, восхваляет мое
благородное сердце, мою доброту, мое великодушное
отношение к горестям этого мира.
Какое противоречие! Я обвиняю ее в измене, а она ласкает и прославляет меня.
Но искра брошена, и пожар разгорается. Она обманула меня. Я должен знать, с кем. Это самая тяжелая неделя моей жизни; я страстно борюсь с прирожденными
и унаследованными принципами, результатом нашего
воспитания; я готов совершить преступление. Я решаюсь
распечатывать письма, адресованные Марии, чтобы быть
в курсе дела. И, несмотря на неограниченное влияние которое я оказываю ей, разрешая распечатывать в мое отсутствие мои письма, я колеблюсь нарушить священный
закон, драгоценнейший плод молчаливого общественного договора, запрещающий нарушать тайну писем.
Но я не могу больше противиться искушению, я теряю всякое уважение к себе и вот однажды держу в ру¬
232
ках распечатанное письмо и дрожу, словно моей чести
произнесен смертный приговор. Я читаю письмо авантюристки — подруги № 1.
В насмешливом и презрительном тоне говорит она
о моем безумии и просит милосердного Бога избавить
Марию от ее несчастья, отняв у меня мой помутившийся разум.
Списав эти отвратительные строки, я снова запечатываю конверт, который она должна получить с вечерней
почтой. В нужную минуту я передаю жене письмо и сажусь рядом с ней, следя за выражением ее лица.
Дойдя на второй странице до того места, где речь
идет о пожелании мне смерти, она разражается диким
хохотом.
Итак, моя обожаемая видит конец угрызениям своей
совести только с моей смертью. Ее последняя надежда
избежать последствий преступления покоится на моей
смерти. Тогда ей выдадут сумму, в которую застрахована
моя жизнь, она получит пенсию после знаменитого поэта, выйдет снова замуж, или останется очаровательной
вдовой. Обожаемая моя!
Итак, я приговорен к смерти и, чтобы ускорить катастрофу, я начинаю пить абсент, что приводит меня в прекрасное настроение, и играть на бильярде, что успокаивает мой разгоряченный мозг.
Между тем обстоятельства складываются еще хуже,
чем прежде. Литераторша, делавшая вид, что сочувствует мне, переходит на сторону Марии; между ними царит
такая нежная любовь, что снова начинают ходить злые
сплетни. В то же время подруга литераторши начинает
ревновать ее, что еще подтверждают дурные слухи. Однажды вечером, лежа в постели, устав от моих объятий,
Мария спрашивает, не люблю ли я мадемуазель.
— Нисколько! Эту пьяную женщину! Неужели ты
считаешь это возможным?
— А я совсем влюблена в нее! Разве это не странно?
Я даже боюсь оставаться с ней наедине.
233
— Чего же тебе надо от нее?
— Я не знаю! Целовать ее! Она такая прелестная...
Неделю спустя мы пригласили к себе из Парижа друзей с их женами; это все были художники, — люди без
всякого стыда и предрассудков.
Мужчины приезжают, жены же остаются, они ссылаются на всевозможные предлоги, чтобы не оскорблять
нас.
Затем скандальное поведение мужчин выводит меня
из себя.
С обеими подругами Марии они обращаются, как
с девицами легкого поведения, и во время всеобщего
пьянства я замечаю, как Мария несколько раз позволяет
себя поцеловать какому-то лейтенанту.
Я требую объяснения и поднимаю на них бильярдный кий.
— Ах, ведь это друг детства, родственник, — возражает Мария. — Не будь смешным! И вообще в России целуются очень охотно, а мы русские подданные!
— Это ложь! — кричит один из приятелей. — Они не
родственники, это ложь!
Я готов убить ее, и только мысль лишить детей и отца
и матери удерживает меня.
Вспомни историю о пуделе; ты не откажешь мне
в твоем глубоком сочувствии, если ты триста шестьдесят пять дней помножишь на шесть и еще высчитаешь,
сколько тут будет часов; тогда ты удивишься, что я еще
жив. И если я действительно сумасшедший, как утверждает моя жена, то я спрашиваю тебя, кто в этом виноват,
как не я сам, так как не решался отравить пуделя!
Кончив песнь, Мария садится рядом с уродиной, которая встает и берет Марию за голову; широко раскрыв
рот, она захватывает губы Марии и втягивает их в свою
отвратительную пасть.
234
Это уже совершенно плотская любовь, говорю я себе,
чокаюсь с русской и окончательно напаиваю ее, так что
она, в конце концов, падает на колени, смотрит на меня
блуждающими глазами и, прислонясь к стене, хохочет,
как безумная.
Я еще никогда не встречал такого безобразия в образе человека, и мои взгляды на женскую эмансипацию
принимают на будущее время определенную форму.
После скандала на улице, когда художница, сидя на
камне, дико выла, празднество кончилось, и на следующий день подруги исчезли.
Мария переживает ужасный кризис, и мне становится ее жаль. Ее охватывает невыразимая тоска по подруге, она ужасно страдает и представляет из себя зрелище несчастно влюбленной. Она ходит одна гулять в лес,
поет любовные романсы, отыскивает места, где бывала
ее подруга, одним словом проявляет все симптомы глубоко раненого сердца, и я начинаю наконец бояться за
ее рассудок. Она несчастна, и мне никак не удается отвлечь ее мысли на другое. Она отклоняет мои ласки и отталкивает меня, когда я хочу поцеловать ее, и я начинаю
смертельно ненавидеть эту подру1у, укравшую у меня
любовь жены.
Мария нисколько не старается скрывать причину своего горя и оповещает весь мир о своих терзаниях и любовной тоске. Это положительно невероятно.
Во время этой горестной разлуки подруги ведут горячую переписку, и однажды в бешенстве от моего вынужденная вдовства я перехватываю письмо уехавшей
подруги. Настоящее любовное послание! Моя белая курочка, моя кошечка, умная Мария с нежными, благородными чувствами и рядом с ней грубый муж, дурак,
полоумный! А затем попытки увлечь ее, склонить бежать! Я восстаю против совратительницы и однажды вечером, о, праведный Боже, при лунном свете происходит настоящий бой; она кусает мне руки, а я тащу ее на
235
берег реки, чтобы утопить ее как кошку, и только мысль
о детях заставляет меня очнуться.
Я решаюсь на самоубийство, но перед смертью я хочу
рассказать свою жизнь. Первая часть уже готова, когда в деревне распространяется новость, что датчанки на
лето сняли квартиру.
Я сейчас же велю уложить чемоданы, и мы переезжаем в немецкую Швейцарию.
Веселое местечко Ааргау — это Аркадия, где почтмейстер сам водит стада на пастбища, бургомистр правит единственным в городе дилижансом, где молодые
девушки хотят выйти замуж девственными, где парни
стреляют в цель и бьют в барабан, это сказочная страна; страна светлого пива и соленых колбас, родина
игры в кегли, Габсбургов и Вильгельма Телля, народных праздников, простых сердечных песен и душевных
идиллий.
Воспаленный мозг снова успокаивается, я воскресаю,
а Мария, утомленная борьбой, замыкается в полнейшее
равнодушие. Игра в шашки вводится в наш дом в виде
громоотвода, опасные разговоры заменяются постукиваньем шашек, а славное, успокаивающее пиво сменяет
абсент и возбуждающее вино.
Влияние окружающего начинает сказываться, и я не
перестаю удивляться, что после стольких бурь жизнь
опять проясняется и душа наша настолько эластична, что может выдержать столько потрясений; наступает полное забвение прошлого, и в мечтах я воображаю
себя счастливейшим супругом вернейшей из жен.
У Марии нет ни знакомых, ни подруг, и она обращается к своим материнским обязанностям; дети носят
теперь платья, скроенные и сшитые их матерью, и она
не устает заниматься с ними все время. Но она начинает как-то слабеть, прежнее веселое настроение исчезает, наступает время зрелого возраста. Какое горе, когда
236
у нее выпадает первый зуб! Бедная Мария! Она плакала,
прижимала меня к себе и умоляла не лишать ее моей
любви. Ей уже тридцать семь лет, волосы редеют, грудь
опускается, как волны после бури, лестницы становятся
слишком высоки для ее маленьких ножек, и легкие тяжело дышат при малейшем напряжении. И при этом
я люблю ее еще сильнее, потому что теперь она всецело
принадлежит детям и мне, хотя я и вижу перед собой
расцвет моей второй весны, мои силы крепнут, здоровье
поправляется. И вот наконец она принадлежит исключительно мне; охраняемая от искушений, она состарится под моей охраной и затем посвятит всю свою жизнь
детям.
Признаки ее выздоровления проявляются самым
стремительным образом, и, сознавая опасность быть женой молодого тридцативосьмилетнего мужчины, она
оказывает мне честь, ревнуя меня, она начинает обращать больше внимания на свою наружность и не забывает являться настоящей женщиной при моих ночных
посещениях.
Принимая во внимание мою чисто моногамическую
натуру, ей не грозит никакой опасности, но вместо того,
чтобы злоупотреблять моим положением, я делаю все
возможное, чтобы избавить ее от ужаснейших страданий ревности, успокаивая ее проявлениями моей обновленной любви.
Осенью я предпринимаю долгое трехнедельное путешествие. Мария все еще упорно считает меня больным
и старается отговорить меня от такого опасного намерения.
— Это может убить тебя, мой милый!
— Ну, это мы еще посмотрим.
Путешествие стало для меня вопросом чести, этот геройский поступок должен пробудить ее любовь ко мне
как к мужу.
237
Я возвращаюсь укрепленный невероятными усилиями, загорелый, сильный и цветущий. Она смотрит на
меня восхищенно и вызывающе; но на ее лице замечается легкое разочарование. Я обращаюсь с ней, как с возлюбленной и женой, я обнимаю ее за талию и пользуюсь своими правами мужа, хотя и проехал безостановочно сорок часов. Она еще не знает, как ей следует
отнестись к этому; она изумлена, боится выдать свои настоящие чувства, и, может быть, ее пугает, что в муже
может проснуться требовательный мужчина. Собравшись с мыслями, я замечаю какую-то перемену во внешности Марии; присмотревшись, я вижу, что она вставила себе фальшивый зуб, что делает ее моложе, а некоторые мелочи в туалете указывают на преднамеренное
кокетство; продолжая свои наблюдения, я наталкиваюсь
на чужую девочку лет четырнадцати, с которой у Марии
завязалась тесная дружба. Они целуются, вместе гуляют,
купаются, и я вижу, что нам необходимо уехать.
Мы переезжаем в немецкий пансион на Фирваль-
штедтское озеро.
Тут происходит новая история и наиболее опасная.
В том же доме живет некий лейтенант. Мария ухаживает за ним, они играют в кегли и гуляют в саду в то время, как я работаю.
За табльдотом мне начинает казаться, что они обмениваются нежными взглядами, не разговаривая между собой. Говоря откровенно, мне кажется, что своими
взглядами они выражают свою любовь. Я решаюсь сейчас же поймать ее, я наклоняюсь вперед и заглядываю
ей в лицо. Застигнутая врасплох, она скользит взглядом
по виску лейтенанта и переводит его на стену, где висит
плакат пивного завода. Смутившись, она произносит
первое, что приходит ей в голову:
— Что это за завод?
— Ты перемигивалась с лейтенантом, — отвечаю я.
Она опускает голову, как лошадь, затянутая на мундштуке, и сердито молчит.
238
Однажды вечером, ссылаясь на усталость, она прощается со мной и уходит к себе в комнату. Я тоже ложусь и читаю, когда вдруг слышу, как Мария поет внизу
в салоне, где стоит пианино.
Я приказываю горничной позвать жену.
— Скажите моей жене, чтобы она сейчас же шла
сюда, или я сойду вниз и ударю ее при всех!
Мария сейчас же приходит, красная от стыда; с невинной миной она спрашивает меня о причине такого
странного приказания, запрещающего ей быть в обществе, среди которого были и дамы.
— Меня возмущает не это, а твои хитрости, ты заставляешь меня уйти из салона, чтобы оставаться там
одной.
— Ну, хорошо, если ты так хочешь, я пойду спать.
Какая невинность, какое внезапное послушание! Что
же произошло?
За осенью следует снежная, пасмурная, унылая зима.
Мы остаемся последними в этом скромном пансионе.
По случаю холода мы обедаем в большой, пустынной
зале ресторана. Однажды утром какой-то человек крепкого телосложения, с виду лакей, довольно красивый
для своего звания, присаживается за стол выпить стакан
вина.
Мария, следуя своей необузданности, устремляет
пристальный взгляд на посетителя, следит за линиями
его тела и погружается в задумчивость. Посетитель уходит, по-видимому несколько смущенный таким почетным вниманием.
— Какой красавец! — восклицает Мария, обращаясь
к хозяину.
— Это мой бывший портье, — отвечает он.
— Правда? У него такая изящная внешность, что редко встречается в его звании. Он положительно красавец!
И к изумлению хозяина она начинает распространяться о подробностях мужской красоты.
239
На следующий день, когда мы выходим в зал, портье
уже сидит на своем месте. Он принарядился, надел
праздничное платье, тщательно причесал волосы и бороду, и имеет вид, словно уже знает о своей победе. Нахал кланяется нам и, получив в ответ грациозный поклон моей супруги, усаживается с сознанием своей красоты. Это великолепно!
На следующий день он снова является с намерением
познакомиться. С истинно лакейской любезностью он
заводит разговор с моей женой, пересыпая его комплиментами, какие можно слышать только у ворот; он обращается прямо к моей жене, не прибегая к обычному
приему познакомиться сначала с мужем.
Это положительно невероятно!
Я знаю только одно, что Мария в присутствии мужа
и детей ведет с ним разговор, выказывая себя веселой,
любезной и очаровательной. Я снова пытаюсь открыть
ей глаза, прошу подумать о своей репутации и получаю
в ответ обычную фразу об «испорченном воображении».
Затем появляется новый красавец в образе деревенского табачного торговца. Это толстый парень, у которая Мария покупает разные мелочи. Он хитрее лакея
и старается сначала завоевать меня; к тому же он гораздо предприимчивее. В первый же раз он нагло смотрит
прямо в лицо Марии и затем громко обращается к хозяину:
— Какая красивая семья! О Боже!
Сердце Марии воспламеняется, и поклонник появляется ежедневно.
Однажды вечером он выпивает лишнее и становится
смелее. Он подходит к нам с шашками в руках и, наклоняясь к Марии, просит рассказать ему сущность игры.
Я делаю ему возможно вежливое замечание, и он отходит на свое место. Но Мария обладает чувствительным
сердцем и считает себя обязанной вознаградить оскорбленного лавочника; она обращается к нему и спрашивает наудачу:
240
— Вы играете на бильярде?
— Нет, сударыня или, вернее, очень плохо с вашего
позволения!
С этими словами он встает и предлагает мне сигару.
Я отказываюсь, и он с тем же предложением обращается к Марии.
— А вы, сударыня?
К счастью для нее, для лавочника и для будущего
всей нашей семьи она отказывается, рассыпаясь в любезной благодарности.
Как может мужчина предложить даме сигару в ресторане, в обществе мужа?
Глупый я ревнивец, или жена моя ведет себя так пошло, что пробуждает чувственность в первом встречном
мужчине?
После это я устраиваю ей у себя в комнате сцену, чтобы пробудить ее от кошмара, в котором она бессознательно идет верным путем к гибели. Я представляю ей
счет, перечисляю все ее старые и новые грехи и анализирую ее ничтожнейшие поступки.
Она выслушивает меня молча, бледная и смущенная. Затем она поднимается и уходит к себе. Но теперь
я в первый раз в жизни беру на себя роль шпиона, я схожу по лестнице, подхожу к ее двери и подсматриваю
в замочную скважину.
Там сидит горничная, ярко освещенная лампой, так
что мне ясно видно ее. Мария взволнованно и с жаром
рассказывает ей о моих несправедливых подозрениях,
как обвиняемая, которая оправдывается. Она повторяет мои выражения, словно желая этим освободиться от
них.
— Я невиновна! Хотя было много случаев для греха.
Он сумасшедший, в этом нет никакого сомнения, мне кажется, он хочет отравить меня. У меня уже появляются
какие-то боли в желудке... Нет, я этого не думаю!.. Мне
следует бежать в Финляндию, правда?.. Но это убьет его,
потому что он любит детей...
241
Что все это значит, как не угрызения совести, выгнанные на свет из самых тайных уголков жены. Она охвачена страхом и ищет защиты на груди женщины! Испорченный ребенок, позорная преступница, но прежде всего несчастная!
Терзаясь горем, я не сплю всю ночь. Около двух часов
Мария начинает страшно кричать во сне — и это уже
не в первый раз, — мне становится жаль ее, и я стучу ей
в стену, чтобы пробудить ее от ужасного кошмара.
Наутро она благодарит меня за помощь; я ласкаю ее,
жалею и спрашиваю, не хочет ли она покаяться другу.
— В чем? Ничего нет!
Если бы в эту минуту она во всем призналась мне,
я бы простил ее, так сильно трогали меня ее мучения
совести, так сильно любил я ее, несмотря на ее падение,
а может быть именно благодаря этому! Она была несчастной! А как могу я поднять руку на несчастную!
Но вместо того, чтобы освободить меня от моих
ужасных сомнений, она всеми силами противится этому, она готова уже считать меня безумным, а инстинкт
самосохранения заставляет ее сочинить историю с некоторыми чертами, взятыми из действительности; и эта
выдумка должна служить ей щитом против угрызений
совести.
К новому году мы отправились в Германию и поселились на Боденском озере.
Когда мы прибыли в Германию, страну солдат, где господствует еще отцовское право, Мария со своими нелепыми воззрениями на мнимые права женщин, почувствовала себя совершенно одинокой. Здесь женщинам
закрыт доступ в университет, здесь приданое жены офицера вносится в военное министерство, как неприкосновенная семейная собственность, здесь все должности занимают мужчины, главы семьи.
Мария бьется, как рыба в сетях, и первая же ее попытка окружить себя женщинами терпит неудачу. Здесь
наконец я встречаю поддержку среди женщин, и бедная
242
моя Мария теряет всякое значение. Я знакомлюсь с офицерами, собираюсь с силами и в силу приспособления
перенимаю от них настоящие мужские манеры; мужчи1
на снова просыпается во мне после десятилетней кастрации.
В это же время я снова начинаю носить волосы по-
прежнему; мой голос, потускневший от постоянной
привычки утешать нервную женщину, снова становится
звучным и ясным, впалые щеки полнеют, и, приближаясь в сорока годам, все мое физическое существо расцветает. Близко общаясь с дамами нашего пансиона, я привыкаю вести разговор, так что Мария, мало симпатичная этим дамам, остается в стороне.
Теперь она начинает бояться меня и однажды утром
в первый раз после свадьбы она приходит, совершенно
одетая, ко мне в комнату и застает меня еще в постели.
Я неясно понимаю эту внезапную перемену, но после
бурного объяснения я соображаю, что она ревнует меня
к горничной, которая приходит ко мне по утрам топить
печь. К тому же она заявляет, что ей не нравятся мои новые манеры.
— Я презираю все мужское и я начинаю ненавидеть
тебя, когда ты становишься таким.
Да, она дарила свою любовь, как ни незначительна
она была, пажу, салонному шаркуну, слабому ребенку;
женолюбица не могла любить в муже мужчину, хотя
и восхищалась этим в других.
Дамы очень приветливо относятся ко мне, и я ищу
их общества, они всегда окружают меня чисто женским,
пленительным теплом, внушающим мужчине почтительную любовь и безграничную преданность; но мужчина относится так только к действительно женственным женщинам.
Теперь, когда заходит речь о близком возвращении
на родину, во мне просыпается старое подозрение, и я
боюсь близкого общения с прежними приятелями, потому что я не знаю, сколько из них было любовниками
243
моей жены. Чтобы покончить со всеми сомнениями,
я навожу все справки. Уже раньше я обращался к моим
друзьям в Швеции, прося мне выяснить слухи о неверности моей жены; но, разумеется, никто откровенно не
ответил мне.
Всем жалко мать, и никто не заботится об отце, отданном в жертву насмешкам.
Я изучаю в это время новую психологическую науку, связанную с чтением мыслей, и по вечерам в салоне
я показываю дамам в виде игры манипуляции Бишофа
и других. Мария относится к этому недоверчиво, называет меня спиритом, высмеивает меня, как свободомыслящая суеверного, и осыпает насмешками, чтобы отклонить меня от этих опытов, опасных для нее.
Чтобы обмануть ее, я делаю вид, что сдаюсь и перестаю заниматься гипнозом, но неожиданно принимаюсь
за него, когда мы остаемся одни.
Однажды вечером мы сидели одни в столовой друг
против друга; я постепенно перевожу разговор на гимнастику и заинтересовываю ее настолько, что она увлекается разговором; тогда, благодаря ли внушению моей
воли или ассоциации идей, которые должны пойти по
намеченному мною пути, она переходит на разговор
о массаже, и отсюда ее мысли прямо перескакивают
к боли, вызываемой массажем, она вспоминает свои визиты к врачу и говорит:
— Массаж причиняет сильную боль, я чувствую ее
и сейчас, когда вспоминаю об этом...
Я поймал ее! Она опускает голову, чтобы скрыть свою
мертвенную бледность, губы ее шевелятся, желая заговорить о чем-то другом; глаза полуоткрыты, воцаряется
ужасное молчание, которое я стараюсь продлить. Мысли
ее на всех парах мчатся по данному мною направлению,
и она напрасно старается удержать их. Перед ней бездна,
и стремления туда нельзя остановить. Со страшным напряжением она встает, спасаясь от моего проницательная взгляда, и исчезает в дверях, не произнеся ни слова.
244
Удар попал в цель!
Через несколько минут она возвращается с прояснившимся лицом; она хочет показать мне благотворное
действие массажа на моей голове, она становится позади меня и начинает царапать мне голову. К несчастью
я сижу против зеркала, я исподтишка взглядываю в него
и ловлю отражение ее бледного, как смерть, искаженного лица, глаза ее боязливо скользят по моим чертам,
и взгляды наши встречаются.
Теперь я понял ее.
Против всех своих привычек, она садится мне на колени, обнимает меня за шею и объявляет, что она смертельно устала.
— Что ты еще сделала дурного, что ты ласкаешь
меня? — спрашиваю я ее.
Она прячет голову на моей груди, целует меня и уходит, пожелав мне доброй ночи.
Это не доказательства, имеющие значение для судьи,
но для меня этого довольно, так как я знаю все ее приемы.
Я не хочу возвращаться на родину, где честь моя может быть поругана, где я ежедневно должен буду встречаться с людьми; в которых я подозреваю любовников
моей жены. Я бегу, не желая давать повод высмеивать
меня как обманутого мужа.
Я уезжаю в Вену.
Когда я остаюсь один в комнате отеля, передо мной
встает некогда обожаемый мною образ; я неспособен работать, я начинаю писать ей письма и в заключение ежедневно отправляю ей по два любовных письма. Чужой
город представляется мне могилой, и в толпе я блуждаю, как труп. Но вскоре фантазия моя начинает работать, она населяет эту пустыню, она создает сказку, чтобы ввести и Марию в мою мертвую обстановку. Я воображаю, что Мария должна стать знаменитой певицей;
245
чтобы осуществить этот сон и представить себе Марию
на фоне красот города, я посещаю директора консерватории и, пресыщенный и презирающий театры, все вечера провожу в опере и концертах. Сообщая обо всем,
что я вижу и слышу, Марии, я пробуждаю этим в себе
интерес ко всему. Возвращаясь из оперы, я сажусь за
письменный стол, подвергаю строжайшей критике пенье певиц и делаю сравнения, которые все клонятся
в пользу Марии.
В то же время я посещаю картинные галереи и всюду вижу я Марию. В Бельведере я часами простаиваю
перед Венерой Гвидо Рени, во всем схожей с моей возлюбленной; в конце концов меня охватывает тоска по
ее телу; я укладываю чемодан и немедленно возвращаюсь домой. Ясно, я околдован этой женщиной, и нет
никакой возможности освободиться от нее.
Какое чудное возвращение! Мои любовные письма
словно воспламенили Марию: она ждет меня в маленьком садике, я сердечно целую ее и, взяв ее голову в свои
руки, спрашиваю:
— Какими чарами ты владеешь, маленькая волшебница?
— А! так ты хотел бежать от меня?
— Да, это была попытка к бегству! Но ты оказалась
сильнее меня, и я сдаюсь.
Войдя в свою комнату, я нахожу на столе цветущую
розу.
— Так ты любишь меня немножко, мое чудовище!
Она смущается, как молоденькая девушка, краснеет,
и я погиб, погибла моя честь, мои силы сбросить с себя
цепи, без которых я уже не могу жить.
Целый месяц мы проводим в весеннем опьянении,
в ничем не нарушаемой любви, мы поем дуэты под аккомпанемент пианино, играем в шашки, и этим кончаются лучшие дни, какие мы провели за последние пять
лет. Какая весна перед осенью! Мы совсем не думали
о том, что должна наступить зима.
246
Я снова запутался в цепях; Мария уверена, что опять
околдовала меня, и возвращается к своему прежнему
равнодушию. Она одевается небрежно, несмотря на мои
просьбы, появляется в обществе без фальшивых зубов;
я предвижу, что благодаря этому наши отношения невольно охладятся. Ее страсть к женщинам проявляется с новой силой, и тем опаснее, что она направлена на
девочек-подростков.
Однажды я устроил вечеринку с танцами и пением
и пригласил одного офицера с его четырнадцатилетней
дочерью, нашу хозяйку, ее дочь, девочку лет пятнадцати, и еще одну барышню в этом же возрасте.
После ужина я к ужасу своему замечаю, что Мария,
подвыпив, собрала вокруг себя девочек, бросает на них
жадные взгляды и целует их со страстностью, какую
я видел в ней, когда она пела лесбийские песни.
Офицер следит за ней из-за угла и готов вмешаться. Мне представляется уж тюрьма, каторжные работы и неизбежный скандал; я подхожу к группе девочек
и разлучаю их, приглашая танцевать.
Когда мы остаемся одни, я начинаю осыпать Марию
упреками, и бурная ссора длится до самого утра. Она выпила лишнее и помимо воли высказывается откровенно,
я узнаю страшные, неожиданные вещи.
Охваченный гневом, я повторяю все свои обвинения
и прибавляю к ним еще одно, которое мне самому кажется преувеличенным.
— И этими таинственными болезнями, — говорю
я, — ты вызвала мои мозговые заболевания...
— Негодяй, ты думаешь, я тебя заразила...
— Я совсем не думал об этом, я хотел только привести симптомы отравления цианистым калием. В эту минуту у меня в мозгу мелькает воспоминание, я припоминаю один случай, который показался мне таким непонятным, что быстро исчез из памяти.
Но теперь подозрение с новой силой просыпается во мне. Затем эта защита, равняющаяся обвинению?
247
Мое подозрение относится к одному месту в анонимном
письме, которое я получил после процесса; Мария называется в нем «проституткой из Зедертелье».
Что это значит? Примемся за расследование. Когда
барон, первый муж Марии, познакомился с ней в Зедертелье, она считалась невестой одного лейтенанта, про
которого было известно, что он совершенно обессилел
от раз1ульной жизни. Бедняга Густав был встречен, как
освободитель, и сыграл таким образом роль обманутого; это можно было так же заключить из горячей благодарности Марии, обнаружившейся во время развода,
так как она утверждала, что он спас ее от опасности, —
яснее она не высказывалась. Но проститутка из Зедертелье! А замкнутость, в которой жили молодые супруги,
вдали от общества, никогда не приглашаемые тем кругом, к которому они принадлежали!
Может быть, мать Марии, бывшая гувернантка, родом из буржуазной семьи, увлекала финляндского барона, отца Марии? Может быть, после катастрофы, скрываясь в Швеции от долгов, вдова в крайней нужде пала
до того, что продала свою дочь?
Эта старуха, шестидесятилетняя кокетка, внушала
мне большую антипатию, смешанную с чувством сожаления; у нее была наружность авантюристки, она была
алчна и жадна до наслаждений, смотрела на мужчин,
как на удобный объект для эксплуатации, она настоящая совратительница мужчин; она самым беззастенчивым образом завещала мне свою сестру, заманила своего зятя, барона, мнимым приданым, которое ей удалось
скопить, обманув всех кредиторов.
Бедная Мария! Из этого запятнанного прошлого
и встают ее угрызения совести, беспокойство и мрачные мысли. Когда я вспоминаю далекое прошлое, я легко объясняю себе теперь горячие ссоры, происходившие
между матерью и дочерью, я вспоминаю бывшие события и таинственные признания Марии, что по временам
ее неудержимо влекло вцепиться матери в горло.
248
Хотела она принудить ее молчать? Вероятно; потому
что «она грозила поссорить меня с Марией, открыв всю
правду».
А антипатия Марии к этой матери, которую барон
называл «дрянью». А ведь это было вызвано только неясным признанием, что она применяла все искусство кокетства, чтобы заполучить себе мужа.
В силу всего этого во мне созревает непоколебимое
решение бежать во что бы то ни было. Я уезжаю в Копенгаген, чтобы собрать все сведения о женщине, которая носит мое имя.
Встречает меня в таком явном смертельном ужасе,
что это одно объясняет мне больше, чем все далекое путешествие.
Еще целых два месяца я влачу свои цепи, затем 6eiy
в четвертый раз, теперь уже в Швейцарию; но цепи мои
не железные, которые можно сломать, а из эластичного каучука, и, чем больше они вытягиваются, тем сильнее тянут меня назад. Я опять возвращаюсь. Она серьезно начинает презирать меня, я противен ей, потому что
она убеждена, что бегство для меня это смерть, ее единственная надежда.
В это время я заболеваю, и мне кажется, что я умру.
Я решаю изложить все события прошлого. Придя
к убеждению, что я обманут вампиром, я хочу жить,
очистить себя от грязи, которой закидала меня эта женщина, хочу снова войти в жизнь, чтобы отмстить за себя,
собрав доказательства ее обманов.
После многолетнего отсутствия я снова встречаю своих соотечественников и замечаю, что, благодаря горячим стараниям Марии и ее подруг, обо мне составлено
определенное мнение.
Она превратилась в святую мученицу, а я безумец,
воображающий себя рогоносцем!
249
Можно разбить себе голову! Меня слушают, покровительственно улыбаются и разглядывают, как невиданного зверя! Не добившись ни крупицы правды, так как
все отвернулись от меня, особенно же неудачники, для
которых мое падение было единственным средством
возвыситься, я возвращаюсь назад в свою тюрьму.
Во мне просыпается ненависть, что гораздо страшнее
равнодушия, потому что она оборотная сторона любви;
я мог бы формулировать это так: я не ненавижу ее, потому что люблю. И однажды в воскресенье, когда мы сидим в роще, по какому-то незначительному поводу разряжается электрическая энергия, накоплявшаяся целых
десять лет. И я в первый раз бью ее. Целый град пощечин сыплется ей на лицо, а когда она пытается оказать
сопротивление, я валю ее на землю. Она испускает
страшный крик, а минутное облегчение, какое я испытываю, обращается в страх, когда перепуганные дети начинают громко плакать. Ударить женщину, мать, это
позор, низость, преступление против природы! И при
детях! Мне кажется, что солнце скрылось за облаками,
мне противна жизнь. И все-таки в моей душе наступает затишье, как после бури, и чувство удовлетворения,
словно я выполнил свой священный долг. Я жалею о случившемся, но не раскаиваюсь. Каковы причины, таковы
и результаты. Вечером Мария идет гулять при лунном
свете. Я иду ей навстречу и обнимаю ее. И она не отталкивает меня, она плачет. После объяснения она провожает меня в мою комнату, где мы предаемся любви далеко за полночь.
Какая странная семейная жизнь! Днем я ее бью,
а ночи мы проводим вместе!
Какая удивительная женщина! Она целует своего палача!
Если бы я это знал, я стал бы бить ее еще десять лет
тому назад и теперь был бы счастливейшим супругом.
Пусть заметят себе это все обманутые мужья!
250
Но она мечтает о мести. Несколько дней спустя она
приходит ко мне в комнату и после предисловия и бесчисленных оговорок признается, что один раз, один
единственный раз подверглась насилию, а именно во
время своей поездки в Финляндию.
Таким образом мои подозрения подтверждаются!
Потом она просит меня не думать, что это происходило много раз, а главное не подозревать, что у нее был
любовник.
Это значит: не один раз и несколько любовников!
— Так ты изменяла мне и, чтобы обмануть общество,
ты придумала сказку о моем помешательстве. И, чтобы
скрыть свое преступление, ты хотела замучить меня насмерть. Ты преступница! Я требую развода.
Она падает на колени и, заливаясь слезами, просит
у меня прощения.
— Я прощаю тебя, но разведусь с тобой!
На другой день она спокойнее, на следующий уже
овладевает собой, а на третий принимает вполне невинный вид:
— Так как я откровенно призналась во всем, мне не
в чем упрекнуть себя!
Она более, чем невинна, — она мученица и обращается со мной с оскорбительным снисхождением.
Она не имеет и понятия о последствиях своего преступления и не понимает дилеммы, какую я должен разрешить. Останусь ли я рогоносцем на посмешище всего
мира, или уеду — несчастье остается все то же, и я человек погибший.
Несколько пощечин и целый день слез за десять лет
мучений — это не справедливость.
И я бегу в последний раз, не имея мужества проститься с детьми.
В воскресенье утром я сажусь в Констанце на пароход, я хочу отыскать своих друзей во Франции и затем
написать роман об этой женщине, которая является ярким типом эпохи бесполых женщин.
251
В последнюю минуту появляется Мария, взволнованная, со слезами на глазах и к несчастью такая прекрасная, что каждому может вскружить голову. Я остаюсь
холодным и равнодушным, я принимаю ее лицемерные
поцелуи, не отвечая на них.
— Скажи, что мы все-таки друзья, — просит она
меня.
— Враги на все то недолгое время, что мне остается
прожить!
После этого она уходит.
И, когда пароход отплывает, я вижу, как она мечется по пристани, стараясь еще удержать меня волшебной
силой своего взгляда, который столько лет обманывал
меня; она бегает взад и вперед, как брошенная собака!
Я жду, чтобы она бросилась в воду, и тогда я прыгну за
ней, и мы утонем вместе в последнем объятии. Но она
поворачивается и исчезает за поворотом улицы. Она
оставляет только воспоминание об ее чарующем образе
и ее маленьких ножках, которые десять лет я чувствовал
на своей спине, не пожаловавшись на это ни разу в своих сочинениях; я обманывал публику, скрывая действительные поступки этого чудовища и прославляя ее в своих стихах.
Чтобы вооружиться против тоски по ней, я сейчас же
схожу вниз в столовую и сажусь за табльдот; но при первом же блюде меня душат слезы, и я вынужден снова выйти на палубу.
Я гляжу на зеленеющий холм и на беленький домик
на нем, где остались мои малютки, как в разоренном
гнезде, без защиты и корма; я испытываю острую боль,
и сердце мое сжимается.
Я кажусь себе куколкой шелковичного червя, из которая пароходная машина выматывает шелк, и при каждом повороте колеса я ощущаю в себе все большую пустоту, и холод охватывает меня по мере того, как тянется нитка.
Это приближается смерть!
252
Какой однородный и жизненный организм — семья!
Я бессознательно почувствовал это еще во время первого развода, когда я страшился преступления и угрызения совести едва не убили меня. А она изменница, убийца ничего не боялась!
Из Констанца я еду поездом в Базель. И это воскресный день!
Если бы я верил в Бога, я молил бы его избавить от
подобных мучительных часов даже моих злейших врагов!
Поезд трясет меня, мои нервы, мозг, кровеносные сосуды, внутренности, и я приезжаю в Базель, выпотрошенный, как скелет.
В Базеле меня охватывает внезапное стремление посетить все те места в Швейцарии, где мы жили, чтобы
насытиться воспоминаниями о ней и о детях.
Я провожу неделю в Женеве, в Анси, переезжаю
из отеля в отель, без отдыха и сна, мечусь кругом, как
осужденный, как вечный жид; все ночи я провожу в слезах и вызываю в памяти образ возлюбленной, я посещаю места, где мы бывали вместе, и на берегу Женевского озера бросаю хлеб чайкам, которых так любили
мои дети.
Каждый день жду я письма от Марии, но напрасно.
Она слишком хитра, чтобы давать в руки врагу письменные доказательства; а я ежедневно пишу по несколько
любовных писем, в которых всецело прощаю ее; но я их
не отправляю.
Право, господа судьи, если бы у меня было предрасположение к безумию, то, уверяю вас, оно проявилось
бы в эти часы безутешной тоски.
У меня больше нет сил сопротивляться, и я начинаю фантазировать; я воображаю себе, что признание
Марии было ловушкой, чтобы отстранить меня и снова сойтись с другим таинственным, неведомым любовником, а в худшем случае даже с любовницей, подругой датчанкой! Я вижу своих детей во власти отчима или
253
в когтях «мачехи», кормящейся доходами с полного собрания моих сочинений.
Тут снова просыпается во мне чувство самосохранения, и я прибегаю к хитрости. Так как для меня совершенно необходимо жить с моей семьей, чтобы быть в состоянии писать, то я решаю вернуться и остаться с ними,
пока не кончу свой роман, но в то же время я хочу собрать точные данные о преступлении Марии. Итак,
я воспользуюсь ею, так что она не будет этого и подозревать, и она сама будет орудием моей мести, которое
я отброшу после использования его.
С этой целью я посылаю ей краткую, холодную телеграмму, в которой сообщаю ей о взятии обратно просьбы о разводе; я пишу, что она должна подписать некоторые документы и для этого вызываю ее в Романс-горн на
берегу Боденского озера.
Я снова оживаю, на следующий день выезжаю и приезжаю как раз вовремя. Страдания целой недели забыты,
сердце бьется спокойно, глаза блестят, грудь выпрямляется, как только я различаю на другом берегу холм, где
живут мои дети, пароход подходит к берегу, но Марии
я не вижу. Наконец она входит на палубу, похудевшая,
постаревшая на десять лет. Какой удар для меня видеть
старухой мою молодую жену!
У нее трясущаяся походка, красные от слез глаза, впалые щеки и заострившийся подбородок!
Теперь я испытываю только жалость, вытесняющую
все чувства неприязни и ненависти; я готов принять ее
в свои объятия; но вдруг я отступаю, выпрямляюсь и принимаю вид парня, приехавшего на случайное свиданье.
Одна мысль пронизывает мой мозг, когда я вблизи разглядываю Марию, ставшую поразительно похожей на ее
подругу-датчанку; она во всем схожа с ней, внешностью,
манерой держать себя, жестами, прической, выражением лица! Может быть, она сыграла со мной эту шутку?
Может быть, Мария пришла ко мне прямо из объятий
своей любовницы?
254
Воспоминание о двух случаях, бывших в начале этого лета, подтверждает мое подозрение. Во-первых,
я поймал ее однажды, когда она спрашивала у хозяина соседнего с нами пансиона, нет ли у него свободных
комнат.
— Для кого? для чего?
Затем она добилась у меня разрешения ходить по вечерам в соседний дом играть на рояле.
Не выводя из всего этого никаких положительных доказательств, я решил все-таки не упускать из виду всех
этих мелочей и, провожая Марию в отель, я повторяю
себе роль, которую я решил разыграть.
Она говорит, что сильно больна, но, несмотря на это,
сохраняет свое хладнокровие и задает мне ясные и верные вопросы относительно дела о разводе; она сбрасывает с себя вид страдалицы и обращается со мной как
нельзя более гордо, так как мое отношение не обнаруживает и следа сожаления. Во время этого разговора она
так сильно напоминала свою подругу, что меня охватывало искушение открыть свою игру и прямо спросить,
как поживает фрёкен. К тому же она принимала трагические позы, бросившиеся мне в глаза, — это был прием
ее подруги — и делала своеобразный жест рукой, опираясь на стол.
Я дал ей выпить крепкого вина; она выпила стакан
его залпом и скоро опьянела. Тогда я воспользовался
случаем спросить ее о детях. Она разразилась слезами
и призналась, что она провела самую ужасную неделю
в своей жизни, так как дети с утра до вечера не переставали звать отца; она убеждена, что не сможет жить без
меня. Заметив, что на моей руке нет больше обручального кольца, она страшно испугалась.
— Где твое обручальное кольцо? — спросила она.
— Я продал его в Женеве и на эти деньги отправился
к женщинам, чтобы, по крайней мере, до некоторой степени восстановить равенство.
Она бледнеет.
255
— Если мы квиты, — говорит она, запинаясь, — то мы
можем все начать сначала.
— Только ты можешь считать, что мы сквитались! Ты
допустила поступки, которые имеют гибельные следствия для семьи, так как они возбуждают сомнения в законности детей. Ты совершила преступление, ты разбила будущность своего потомства, испортила жизнь
четырех людей, твоих трех детей сомнительного происхождения и твоего мужа, который, как обманутый муж,
стал посмешищем всего мира. Какие последствия имеют мои поступки? Никаких!
Она плачет, а я предлагаю ей предоставить разводу идти своим путем; она может остаться в моем доме
моей любовницей, а после смерти я усыновлю всех детей.
— Разве это не тот свободный союз, о котором мечтала ты, проклинавшая брак?
Она задумывается, но мое предложение ей неприятно.
Ну что же? Ведь ты мне говорила, что хочешь взять
место воспитательницы в доме какого-нибудь вдовца!
Я тот вдовец, какой тебе нужен.
Об этом надо подумать; дай мне время на это! А пока
ты вернешься к нам?
Если ты позовешь меня!
Пойдем же!
И я возвращаюсь в шестой раз, но теперь с твердым
намерением воспользоваться своим положением, чтобы
написать нашу историю и отомстить.
История кончена, моя дорогая, я отомстил за себя,
и теперь мы квиты!
Новеллы
ВОЗВРАТ К ПРОШЛОМУ
Стоял светлый и солнечный день на берегу Женевского озера, а солнце ярко горело на высотах над Уши и Лозанной. Павел Петрович, садовод в Уши, поднимался по
Avenue de la Gare с маленькой тачкой, наполненной розами, пучками салата и артишоками. Он отправлялся на
рынок в Лозанну. Пот тек у него по лбу и не скатывался в маленькие честные глазки только благодаря густым
бровям; но зато с висков капли пота стекали на светло-
рыжую бороду, окаймлявшую его лицо. Розы начали
уже вянуть под лучами солнца, и салат свертывал свои
листочки, как бы защищаясь от жары. Павел остановился, снял синюю блузу и осторожно положил ее на тачку.
Отер лоб и продолжал свой путь дальше.
На Avenue du Theatre солнце, казалось, палило еще
сильнее. Здесь он снова остановился, бросил долгий
взгляд на Женевское озеро, как бы мысленно освежая
свой горячий лоб холодными дуновениями со снежной
вершины Dent d’Oche, глубоко вздохнул, как бы накачивая в себя свежий воздух, прежде чем войти в город,
всегда такой душный для него. Когда он стоял, сняв шляпу, мимо него прошла дама с молодым человеком.
— Посмотри, это русский, — сказала она; и господин
остановился, глядя на Павла.
— Какой он смешной, — сказал молодой человек.
И лицо Павла действительно принимало смешное выражение, когда на него смотрели чужие. Оно все
сжималось в мелкие складочки, как лист подорожника,
259
когда дети вырывают стебель и дергают за обнажившиеся жилки листа. Это не было подергиванье одного мускула, как при тике, но все нервы лица словно были соединены с гальваническим током. Павел почувствовал
это, надел шляпу и пошел дальше. Прошел через площадь Святого Франциска на улицу Святого Франциска,
которая в рыночные дни закрыта для экипажей и занята
торговцами зеленью, сидящими вдоль тротуаров. Увидев Павла с тачкой, они хотели загородить ему дорогу,
но он начал им объяснять, что он не вьючное животное,
хотя и имеет такой вид, и потому он имеет право проехать здесь. Женщины позвали полицейского. Он истолковал закон не в пользу Павла, так что ему пришлось снова взбираться кверху и, пройдя через площадь Святого
Франциска, спуститься к почте, по спуску Пепине. Павел
не был ни удивлен, ни подавлен. Он уже давно перестал
удивляться тому естественному явлению, что конкуренты всеми способами стараются затруднить друг другу
проход. Когда он спустился на Центральную улицу, где
было его место в нескольких шагах от книжного магазина Бонда, он открыл свою тачку, снял дышло, надел блузу, которая с темными манчестерскими брюками придавала ему вид швейцарского рабочего, и стал на свое
место, поджидая покупателей.
Когда он стоял так в толпе народа, один, среди завистливых конкурентов, которые не могли равняться
с ним в его специальности роз, один на краю тротуара узкой вымощенной улицы, сточные желоба которой
проходили под его тачкой, и когда он увидел этих шумных, вспотевших, запыленных людей в рабочей одежде, проходящих мимо с тяжестями и орудиями в руках,
сердце его тоскливо сжалось и мысли понеслись далеко к громадным, плоским, некрасивым полям окрестностей Москвы.
Он не верил больше ни в церковный звон, ни во что
подобное, но теперь ему не хватало этого. Сладкое благоухание его роз, к которому примешивается отврати¬
260
тельный запах лука и сельдерея из соседских корзин, вызывало тошноту, и он испытывал жгучую тоску по белым
березам и простому шиповнику. Ему не хватало маленькой церкви, выкрашенной в красную и зеленую краску,
с золотым куполом, ему не хватало молчания степи, разодетых по праздничному мужиков в их ярко вышитых
рубашках и баб в оранжевых сарафанах. Это слабость,
думал он, люди не могут стать лучше или счастливее от
колокольного звона или сарафанов, — но все-таки он
тосковал по ним. Прочь отсюда, где не ценишь солнца,
потому что весна длится ползимы; прочь от этой улицы, этого сточного желоба, этой враждебной ему толпы; от этих устаревших людей с их устаревшими сердцами и мыслями; от этих иностранцев, приезжающих
сюда любоваться природой, как театральной феерией,
с балкона первоклассного отеля. Наконец какая-то покупательница перебила течение его мыслей.
— Что стоят артишоки? — спросила она.
— Двадцать пять сантимов, сударыня, — отвечал он.
Она пощупала листочки, словно желая убедиться,
что они не поддельные, сделала кислую мину, означавшую: «это дорого!», и прошла дальше.
«Откуда этой гусыне знать, сколько могут стоить артишоки? — подумал он про себя. — Если бы она арендовала землю, которая теперь так дорога, покупала удобрение, которое так дорого, покупала семена, сеяла их,
пересаживала молодые растеньица, такие нежные, что
до них едва решаешься дотронуться, еще раз пересаживала бы их, поливала, полола сорные травы, покрывала
их зимой и жила бы все время в беспокойстве, достоят
ли они до весны, ждала год и два, два раза триста шестьдесят пять дней, пока они дадут первый цветок, тогда бы
она не говорила, что двадцать пять сантимов дорого; но
она не занимается этим и потому ничего этого не понимает. Я знаю, она учительница и берет три франка за то,
что в продолжение часа говорит на своем языке с особой, желающей изучить ее язык. Она сидит в мягком
261
кресле в теплой комнате, ничем ни рискуя, беседуя о театре и погоде; затем встает и уходит со своими тремя
франками. Но она считает, что этого мало для бедной,
несчастной учительницы».
Неподалеку в яме стояли и работали два газопроводчика. Взгляд Павла упал как раз на них, когда он кончил
свои размышления на экономическую тему.
«Эти вон, — продолжал он думать, — зарабатывают
тридцать сантимов в час, в десять раз меньше, чем она,
которая сидит в теплой комнате в кресле и разговаривает о театре и погоде. Мне кажется, что в нашем превратном мире, заработная плата стоит в обратном отношении к тяжести труда! Это очень знаменательно, но еще
ни один экономист не коснулся этого вопроса, и если
бы кто-нибудь из них решился сделать это, то сейчас же
было бы заявлено, что он вовсе не экономист».
Такие злые мысли думались Павлу Петровичу в такой прекрасный день, но он уже давно отверг всякое поклонение прекрасному.
Шли часы; солнце поднялось из-за крыш, и от стен
и камней шел жар, как от пекарской печи. Толпа покупателей рассеивалась, и скоро Павел остался почти один со
своими конкурентами. Но чем становилось позднее, тем
изысканнее особы появлялись на улице. Подошли одна,
другая знатные или богатые дамы, только что вставшие
и желающие купить цветы. Служанки закупили зелень
раньше, чтобы поспеть к обеду. Павел продал три розы
в горшках, по четыре франка за штуку; теперь у него
оставалась только одна чайная роза, — так называемая
Celine Forestier, похожая по цвету на вино Вильнёв, когда оно не поддельное и слегка отдает в зеленый цвет. Это
был пятилетний побег. Пять лет ухаживал он за ним, как
за ребенком. Дрожащими руками проделал он опасную
операцию прививки дорогого черенка, привезенного за
две мили, к дикому стволу, выращенному из семени. Он
перевязал рану, омыл ее, заботился о молодом побеге,
как о больном; доставлял ему тень, поливал его; зимой
262
держал в своей комнате и ради него отказался от своей
излюбленной трубки. Он выращивал его пять лет; растение стало как бы членом семьи. Он видел его первые цветочные почки, и дети его закричали от радости, когда он
раскрыл свои бархатистые, золотистые как топаз лепестки, нежные, как щечки ребенка, а его жена поцеловала
их. А теперь он должен был его продавать на улице, на
краю тротуара. Да, он должен был его продать, потому
что детям его нужны были новые башмаки, чтобы идти
гулять с родителями, сегодня в праздник.
Подошел англичанин и спросил, сколько стоит цветок.
— Шесть франков, сэр!
Англичанин вынул пять франков и сказал: «Вот, получите!» Он привык, что его обирают, и знал, с кем имеет дело.
— Шесть франков, — повторил Павел.
— Она не настоящая, — сказал англичанин и отошел.
— Потом подошел американец.
— Сколько вы хотите за эту Malmaison? — спросил
он.
— Пятнадцать франков, — отвечал Павел.
— Это хороший сорт, — сказал тот и заплатил.
Павлу казалось, что деньги жгут ему руки; но тут же
он поставил новый экономический тезис: «Я исповедую,
что достоинство товара зависит от цены, а не цена от достоинства!» Он сделал несколько шагов вниз по тротуару и подошел к окнам книжного магазина. Он взглянул
на новые книги, такие старые-старые, несмотря на новые
заглавия. Но пробегая так по заголовкам, глаза его остановились на новой немецкой книге, изданной известнейшим в Германии издателем — Брокгаузом в Лейпциге
«Что делать? Рассказ о новых людях» Чернышевского. Не
раздумывая ни минуты, пошел он к своей тачке, сложил
оставшуюся зелень и пустился в обратный путь. Он насвистывал, поднимаясь к площади Святого Франциска,
263
а когда он вошел к башмачнику напротив собора, лицо
его снова начало нервно подергиваться, как раньше на
Avenue du Theatre. Он купил детям башмаки и отправился затем на Bazar Vaudois купить игрушек. А потом
он схватил рукоятки тачки и почти бегом побежал вниз
к Уши.
* * *
По дороге к Веве сворачивает вниз маленькая холмистая тропинка между кладбищем и католической часовней. На полдороге влево сворачивает тропинка, достаточно широкая, чтобы могла проехать тачка.
Там находилась маленькая ферма, защищенная от
северных ветров высокими каштановыми и ореховыми деревьями величественного Mont Vert, а с приозерной стороны громадным зданием парка Beau Rivage; на
этой ферме Павел Петрович с женой устроил садоводство и питомник роз. При входе туда открывалось прекрасное зрелище. Стройные ремонтантные и чайные
розы стояли длинными рядами в полном цвету, подобранные по краскам. Marechal Niel с их пышным желтым цветком, на основании лепестков которого еще лежал слабый оранжевый оттенок, словно отблеск солнечного заката, стояли в самом заднем ряду. За ними
следовали маленькие твердые головки Gloire de Dijon,
желтые, как сырой шелк, с оттенком мадеры, и сильно
благоухающие. Серовато-желтый опенок шафрана, режущий глаза; затем целый ряд белых boules de neige,
бархатисто-белых, с легким красноватым оттенком на
конце бутонов, как бы воспоминания о сильных днях
расы, когда в ее жилах текла красная кровь; затем белые,
как слоновая кость, цветы премированной Madame Pittet;
бархатные пурпуровые розы Дамаска, вишневые Jules
Margottin, темно-красные Noisette, кровавые, как венозная кровь, словно напитавшиеся жизнью из липкой почвы поля битвы и пробуждающие грустные мысли; но
рядом с ними стояли, улыбаясь, как молодые счастливые
264
девушки, розовато-красные Province, цвела пышная, но
бледная La France, похожая на девушку после бальной
ночи, а вдоль всех этих рядов стояли, лежали и поникали низкорослые простые месячные розы, подобные детским личикам, которые не поэтичные англичане так прекрасно прозвали Maidens Blush. Вид этого розового леса
и вдыхание его аромата опьяняли чувства. Он разом пробуждал все ощущения: сырой, как хорошо приготовленное мясо, опьяняющий, как вино, волнующий, как близость женщины, невинный, как ласка ребенка, как пение ангела; дымящееся мясо и огненная мадера, румяна
и крылья ангелов, женская грудь и поцелуй ребенка, сера
и утренняя заря, кровь и молоко, пурпур и полотно!
Но Павел Петрович не глядел на розы с этой точки
зрения, он был «новый человек» и глядел на вещи совершенно иначе.
Сад был разделен на четыре части: одна для злаков,
другая для зелени, для овощей и для цветов. Цветы, по
мнению Павла Петровича, были необходимым злом; они
были последней уступкой его эстетическому чувству,
жалкое наследство, от которого будут свободны его дети.
В северной части сада стояла ферма; это была старинная постройка, в которой скотный двор и сараи соединялись с жилым домом. При своем переселении
в Швейцарию Павел Петрович мечтал провести в жизнь
опрощение, о котором так много писали и без которого
погибнет человек будущего в великой, но мирной и закономерной борьбе, которая близится. Поэтому при
своем устройстве он, главным образом, рассчитывал
на самопомощь. Его не особенно печалило, что он не
может сразу вырвать с корнем все потребности, вложенные в него плохим воспитанием. Но он считал своею обязанностью проводить в жизнь свою идею, чтобы его дети нашли уже что-нибудь сделанным, когда
придет их черед. В конце концов он старался по мере
возможности делать все сам и, что еще важнее, приучил
себя и свою семью довольствоваться малым. На скотном
265
дворе у него стояли: корова, две овцы, две козы, кролики, куры и пара гусей. Кроме того, у него водились голуби и пчелы; их медь заменял в доме сахар. Из кукурузы, самого доступного и дешевого злака, он делал хлеб,
который не был так хорош, как пшеничный, но все-таки
был лучше черного ржаного. Свой чай (кофе он никогда не пил) выращивал он сам. В университете в Харькове, где он изучал медицину в продолжение шести лет,
он жил на крайне простом столе. За эго время он до такой степени привык к плохому чаю, что когда на седьмой год он начал пить настоящий чай, то он показался ему хуже прежнего. Когда затем он узнал, что шесть
лет он пил экстракт из вишневых листочков и находил
его вкусным, он решил так продолжать и теперь. В его
саду было много таких «чайных деревьев». Шить самим
себе одежду они с женой считали еще преждевременным, чтобы это могло окупиться. Крепких напитков он
больше не потреблял. В юности он много пил, приучившись к этому дома и в университете. Теперь он считал
просто глупым прибегать к крепким напиткам, потому что в наше время надо сохранять ясные мысли и свежие силы. Но отвыкнуть от крепких напитков ему было
нелегко, потому что его организм требовал их, как организм морфиниста требует своей части яда; но мало-
помалу он достиг этого. И теперь, чувствуя крепость организма, спокойствие чувств и гармонию сил, он строго
осуждал бессмысленность употребления возбуждающих средств, которые туманят мозг человека, делают его
неспособным рассуждать и соображать, и совершенствование будущего казалось ему осуществимым только людьми трезвыми. А поэты, написавшие такую массу
лжи, разве бывали безумцами, за своими галлюцинациями, не видевшими действительности, какова она есть.
Все решения, определявшие судьбы народов, принимались с незапамятных времен в опьянении пира. Великие
идеи французской революции зародились в винных парах передовых банкетов. Ни один комитет не мог рабо¬
266
тать без еды или питья; все великие речи произносились
в состоянии полубезумия, и потом еще жаловались, что
не хватает хлеба; ведь миллионы акров земли были покрыты виноградниками, и хлеб перегоняли в водку! Был
ли мир мудр? О, нет, Павел уже давно перестал это думать. Но когда он начал в России проповедовать трезвость, его встречали с мало остроумным ответом: «Ведь
ты сам был пьяница!» На это Павел мог только отвечать:
«Именно поэтому! Кто сам не пил, тот не может говорить против того, чего сам не испытал».
Павел вступил в «современный брак» с девушкой из
хорошей семьи. Они заключили словесный договор, но
не давали друг другу никаких обещаний, потому что по
опыту знали, что сдержать слово не зависит от воли его
давшего. Теперь у них было двое детей. Работу они поделили так, что жена взяла на себя заботу о детях, потому
что ей это больше подходило, чем Павлу; она вела также
домашнее хозяйство, потому что понимала в этом больше, чем Павел. Но она не убирала его комнаты; он делал
это сам, и это брало у него всего полчаса. Обед готовили
они вместе. Павел, кроме того, мыл полы; это служило
ему даже развлечением, и к тому же это было трудно для
жены, особенно когда она ждала ребенка. У них не было
прислуги, потому что они не хотели иметь рабов у себя
в доме, но Павел имел «сотрудника», который сначала
был садовником, а теперь компаньоном Павла и кроме
содержания получал соответствующую часть прибыли.
Павел звал его по имени — Бернгард, а Бернгард звал
его — Павел Петрович. Они так условились между собой, чтобы не вспоминать несправедливого разделения
на хозяев и работников. Для поддержания своей жизни им требовалось работать только шесть часов в день;
остальное время они проводили в отдыхе, развлечении,
чтении и письме. И Павел писал очень много.
Когда он с тачкой вошел на двор, обе его девочки выбежали ему навстречу и поцеловали его. Это были две
белокурые малютки в свободных, прямых полотняных
267
платьицах и простых соломенных шляпах, совсем непохожие на девочек модных журналов. В дверях стояла
жена. Небольшого роста пепельная блондинка, смуглая,
с большими черными глазами и приятно округлым
овалом лица. Волосы лежали мягкими прядями, и отдельные завитки спадали на уши, затылок и лоб. Она
выглядела спокойно и безмятежно, но налет грусти лежал на когда-то веселых чертах. Это был след печали по
чему-то прошлому, разрыва с милыми, но ничтожными
воспоминаниями, пережитой борьбы с воспитанием,
жалостью и предрассудками.
— Добрый день, Павел! — сказала она.
— Добрый день, мои дорогие, — отвечал он, поцеловав жену и детей.
— Принеси стул отцу, — сказала мать старшей девочке, лет пяти.
— Нет, Анечка, — сказал Павел, — Вера не должна
быть рабой.
— Я не хочу, — уже ответила Вера.
— Разве можно так говорить, — остановила ее мать.
— Да, — сказал Павел, — так надо отвечать. Кто не
научится хотеть и выражать свою волю в юности, тот
вырастет человеком безвольным или лжецом! Анечка!
Зачем мы должны воспитывать детей своими рабами?
В восемь лет Вера уже пойдет в жизнь. В ней мы не будем иметь рабы, а ведь мы не собираемся воспитывать
их, чтобы они подставляли стулья другим. Но если Вера
хочет принести мне стул, то я ее поблагодарю, потому
что она сделает это добровольно.
— Ты прав, Павел Петрович, — сказала мать. — Но
я не всегда могу смотреть на вещи с новой точки зрения.
— Мне это тоже не всегда удается, друг мой, но надо
приучать себя к этому. Я говорю не о тебе, а о нас обоих!
Но я вижу, ты уже накрыла, позови Бернгарда.
Бернгард был маленький широкоплечий швейцарец
с черными усами и черными взъерошенными волосами,
268
небольшими глазами и сильно развитой спиной, носящей следы «la hotte», неизменной корзины, которую
горные жители носят на спине. Он сложил молитвенно
руки и затем сел за стол.
— Неужели Бернгард никогда не отвыкнет от этого? — спросил Павел.
— Нет, я привязан к этому сильнее, чем к белому
вину.
— Свобода совести, свобода совести, Павел Петрович, — предостерегающе сказала Анна Ивановна.
— Благодарю, друг мой, что ты напомнила мне об
этом! Это верно! Прости меня, Бернгард!
— Ну, как шла сегодня торговля? — спросила Анна.
— И хорошо и дурно, — отвечал Павел. — Полезное
стоит низко в цене, а бесполезное высоко.
Обед, состоявший из грибного пирога, кролика и маринованных огурцов, прервал на время беседу присутствующих. После обеда был подан чай в неизменном самоваре.
— Сегодня праздник, — сказал Павел.
— Да, — сказала жена, вздохнув.
— Ты вздыхаешь, Анечка, тебе сегодня тяжело?
— Она наклонилась и положила голову ему на колени.
— Плачь, дорогая, тебе будет легче, — сказал Павел,
поглаживая ее по волосам.
— Да, если ты тоже будешь плакать!
— Я уже давно покончил со слезами, — сказал Павел. — В этом нет никакого достоинства. Это выходит
само собой.
— Разве не тяжело обрабатывать чужую землю? —
спросила Анна.
— Родная земля была жестче, но на ней легче было
работать. Но это все пустяки. Вся земля наша мать!
— Скажи, что ты тоскуешь о том клочке земли, который ты вырвал из смертельных, убийственных объятий
269
степи; скажи, что ты сегодня хотел бы быть там и видеть, как цветут твои яблони, распускаются розы и зреет
земляника! Скажи это, Павел, и тогда я скажу тебе, как
я тоскую!
— Я и не отрицаю; как только я начал возделывать нашу землю, сеять семена, сажать деревья и увидал цветущим этот неплодородный уголок, я почувствовал себя с ним связанным. Связывать себя было неразумно. Я вырвал с корнем свои воспоминания, порвал
нежнейшие узы, дал растоптать свиньям свою личность
и все-таки я чувствую себя несвободным. Когда мои мысли стремятся на родину, они обращаются не к временам
моего детства, когда я учился быть рабом, не к могилам
отца и матери, не к нашим тяжелым воспоминаниям
о прежнем обманчивом величии, они стремятся к клочку земли, где росла моя пища, к белым березам, под которыми я обдумывал свежие, новые мысли, к черным соснам, баюкавшим мое страдание, но больше всего, а теперь почти неизменно, к обработанному мною клочку
земли. Видишь, какой я материалист и эгоист! Помнишь ты дождливую осень, когда я сажал кусты сирени;
как мы вязли в глине, таская сырые кустарники, которые
я принес со станции. Помнишь, как я копал гряды для
земляники и до поздней ночи с огнем сажал полузавяд-
шие кустики. Помнишь, как прислали наконец яблони
и я должен был за полверсты ходить за водой для поливки. А крестьяне сидели и стояли у забора, насмехались
и удивлялись, — к чему это все.
— А затем, — продолжала Анна, — мы переехали
осенью в город. Ты сидел и разглядывал свои планы. Тут
росло одно, а там другое. И когда наступили морозы, ты
начал беспокоиться, что растения померзнут. Ты не знал
ни одного спокойного дня. А когда мы снова приехали
туда весной, шесть яблонь погибло. Николай сказал, что
это от мороза, а Андрей сказал, что Николай вылил на
них щелок. И тогда ты заплакал.
— Неужели? О какая слабость!
270
— Да, ты заплакал, но не о деревьях, а о злобе людей!
— О невежество, Анна!
— О невежество, да! И тогда ты посадил новые деревья, ты посадил сотни яблонь, груш, слив и вишен
и сказал крестьянам, что они получат с них плоды и побеги. И тогда, Павел Петрович, наступило «великое событие», и мы должны были уехать. С тех пор ты ничего не слышал о нашем участке, но ты думаешь о нем
и тоскуешь!
— Слабость, Анна, пустяки, мелочь! Теперь я об этом
больше не думаю! Не думаю! Но не будь так печальна!
У меня радостно на душе, потому что сегодня я испытал
большую радость.
— Расскажи, расскажи!
Павел налил новую чашку чая; в это время подошел
почтальон; он принес открытку и письмо. Павел прочел
сначала открытку.
— Она, по крайней мере, не распечатана, — сказал
он прежде чем прочитать. В открытке, имевшей на себе
русский штемпель, стояли следующие слова:
«Если божество солнца освещает своими живительными лучами гниющий труп, то почему же оно не может осветить и письмо?»
— Гм... — сказал Павел, — что это может значить?
— Ты это наверняка увидишь из письма, — отвечала Анна.
— Ты права, но письмо, конечно, было распечатано;
на нем остались жирные следы усов, украшавших любезный рот, запечатывавший письмо.
Павел прочел:
«Павлу Петровичу, садоводу. Уши, Лозанна. Согласно вашему распоряжению, завтра будут высланы шесть
бочонков икры по два рубля, без упаковки.
Готовый к услугам Дмитрий Баранов».
271
Павел молча сидел, обдумывая эти слова, но не мог
найти в них никакого смысла. Для него было несомненно, что письмо зашифровано!
Анна старалась помочь ему доискаться смысла, но
безуспешно. Тогда Павел бросил распечатанное письмо
на стол и сказал:
— Поговорим о чем-нибудь другом, а тогда что-ни-
будь придет в голову. Мы говорили о том, что сегодня
у меня была радость. Да, большая радость, давно я такой
не испытывал! Анна, — продолжал Павел, — вот уже
двадцать лет, как Чернышевский написал свою книгу!
Ее запретили в России! Запретили истину в ее чистейшем, прекраснейшем виде! А самого его сослали в Сибирь, чтобы раскаялся в том, что он сказал истину. Достаточно ты сильна сегодня, Анна?
— О да, — отвечала она.
— Так что ты спокойно, не краснея, можешь слушать
чтение одной очень старой книги?
— Какой книги?
— «Знаменитую Россию» поборника истины Уоллеса.
— Павел Петрович, ты сам неспокоен, говоря это слово «поборник истины».
— Да, но мне кажется, что старые слова так сильно
укоренились в нас, что мы слышим их эхо в самих себе,
иначе умы наши возмутятся. Я чувствую себя сегодня таким веселым и спокойным, что хочу почитать книгу доктора Мекензи Уоллеса.
Ты сказал слово «доктор» таким презрительным тоном, из которого видно, что ты совсем неспокоен.
— Тем больше причин читать ее.
Павел встал и пошел за упомянутой книгой. Потом
он попросил девочек пойти и нарвать жасмину. Дрожащими пальцами он перелистывал книгу. Потом он начал читать громким и ясным голосом, без всякого тенденциозного оттенка.
272
«Многие агитаторы утверждают, что они ученики
Чернышевского, человека, занимавшего особо выдающееся положение в периодической русской печати
в эпоху великих реформ; затем он был сослан в Сибирь,
где находится и теперь еще. Но я думаю, что он лично
никогда не признал бы их таковыми...»
Анна сделала движение рукой, и кровь бросилась
ей в лицо. Но Павел продолжал: «И я не сомневаюсь,
что он не питал бы ни малейшей симпатии к тем типам
этой категории, которых мне случалось видеть».
Анна повернулась на соломенном стуле так, что его
ножки врезались в песок. Но Павел продолжал читать
все тем же бесстрастным голосом, как и раньше: «За исключением одного романа, написанного им в тюрьме
и который, по справедливости, — он запнулся на этом
слове и прочел всю фразу сначала, не останавливаясь на
нем, — не может считаться выражением его истинных
воззрений в разумные минуты, остальные его сочинения
всегда полны здравого смысла и разумной умеренности. Чернышевский, несомненно, принимал в свое время крупное участие в разрешении вопроса реформы,
систематически отклонял все предложения безумных
политических демонстраций и теперь, после пятнадцатилетнего изгнания, разумеется, вполне искупил увлечения своей юности».
— Хорошо это написано? — спросил Павел, тяжело
передохнув.
— Хорошо, — отвечала Анна.
Павел продолжал: «В заключение взглянем, в какой
степени можно придавать серьезное значение всем этим
тайным обществам. Представляют ли они действительную опасность для государства? Я думаю, каждый хорошо знающий Россию не колеблясь ответит на этот вопрос отрицательно. Некоторые агитаторы приходили
даже в своих предприятиях к обратным результатам».
Павел поднял глаза от книги и увидал мертвенно-
бледное лицо жены. Он встал и пошел с книгой к дому.
273
— На сегодня довольно, — сказал он. — Но полезно,
Анна, преодолевать себя. Каждый раз, как я читаю эту
книгу, я чувствую, как я расту. Сегодня я могу даже улыбаться.
— До этого я еще не дошла, — сказала Анна. — Все
эти слова я слышала еще от моего старого, почтенного
отца, говорившего их с убеждением.
— И твой старый почтенный отец, слышал их от своего почтенного отца. Опасно иметь почтенных отцов!
Чернышевский уже умер и не должен больше каяться «в увлечениях своей юности». Теперь, через двадцать
лет, евангелие его издано по-немецки в трех прекрасных
томах самым крупным и уважаемым издателем Германии, как раз перед законом князя Бисмарка о социалистах. Что мы можем сказать на это? Если бы я был верующий, я пошел бы в воскресенье в церковь, и возблагодарил бы Бога за его милосердие.
— Это большое событие, Павел Петрович, такое большое, что мы не можем еще усмотреть все последствия
его. Наконец мир узнает эту книгу.
— Не говори таких громких слов, Анечка. Мир уже
думал об этом, но теперь он научится это знать; Чернышевский обладал любовью, и поэтому слова его должны
трогать людей. Если божество солнца освещает своими
лучами и гниющий труп... гм... почему же оно не может осветить и письмо? Теперь я понял!
Павел встал и подошел к столу, на котором на солнце
лежала открытка и письмо.
— Погляди Анечка, погляди, — сказал он, — это от
Дмитрия.
Письмо, лежавшее открытым под лучами солнца, покрылось теперь бесконечным числом желтовато-
красных букв, написанных особыми чернилами. Павел
прочел половину письма вслух. В нем говорилось о «делах», как это называлось среди заговорщиков. Вторую
половину он прочел про себя. Анна хотела спросить его
о содержании письма, но удержалась, потому что у нее
274
не было привычки вмешиваться в дела, о которых умалчивал Павел.
Павел сунул письмо в карман.
— Хотите прокатиться по озеру? — спросил он. —
Сегодня праздник, и мы можем дать себе отдых.
Он встал, чтобы скрыть нервное подергиванье лица.
Анна тоже встала и пошла одевать детей.
* * *
Около полудня они сели в Уши на лодку, и Павел начал грести в открытое озеро. Буковые и каштановые леса
Савойских Альп выглядели как косматая шерсть, а наверху на Comette de Bise лежали еще пласты снега. Галь-
ветские Альпы на запад от Шильона вздымались, как гигантский собор, посеревший от старости, а обе башни
Mayen и D’Ai поднимались над ущельем, словно построенный гигантами собор; улыбаясь, лежали покрытые виноградниками холмы Lavaux; они могучей лестницей
поднимались к скалистым храмам Cubly и Folly. Почти
отвесная стена Dent de Mordes стояла как мексиканский
храм, в восемь тысяч футов высоты, с блестящей белой
крышей от свежевыпавшего снега. На востоке мерцало
Женевское озеро, сливаясь с берегом, и казалось бесконечным открытым морем, уходящим за горизонт. Но,
приглядевшись к ослепительному свету, глаз начинал
различать голубоватую Юру, светившуюся как длинное
легкое облачко.
— Разве не таким представляем мы себе небо? — сказала Анна.
— Это прекрасная страна, — сказал Павел, — но она
не наша.
— Видишь, как глубоко вкоренилось в нас чувство
собственности, Павел Петрович, — заметила Анна. — Не
наша! Но ведь земля принадлежит всем.
— Она должна была бы принадлежать всем. Она
когда-то принадлежала всем, и это время снова наступит!
275
Он греб по спокойной воде, и капли медленно спадали с весел. Настроение было невеселое, и они молча
пристали к маленькому мысу, недалеко от Лютри, где
стояло маленькое кафе, с виноградной беседкой, и развевались зеленые с белым флаги кантона.
— Хочешь, пристанем к берету и посидим немного
в тени? — сказал Павел.
Анна ничего не имела против. Они пристали к берегу и вышли.
На дворе за большим столом сидела хозяйка и шила
пестрое шелковое платье. Это была сорокалетняя толстая женщина, здоровое лицо которой выражало довольство и беспечность. Рядом с ней стояла девочка лет
десяти и играла в серсо. Перед хозяйкой стояла рюмка портвейна, и она даже не думала подняться навстречу посетителям, как будто это было не ее дело или она
сама изображала гостью. В дверях маленького кафе появилась высокая женская фигура лет тридцати в крайне модном утреннем туалете, целью которого было обрисовать как можно сильнее ее великолепные формы.
У нее было бледное, но полное лицо, а большие черные
глаза были окружены широкой синевой, как бриллианты на синем бархате футляра. Черты ее лица напоминали окаменелый лик медузы, а в углах рта лежала неизменная, холодная складка сладострастья, которая могла
быть и выражением безграничной печали. Она смерила
Анну с ног до головы, оглядела ее платье, башмаки, руки
и волосы, словно обыскивая ее или желая себе усвоить
ее манеру одеваться. Она обратилась к Павлу с гордой
усмешкой и спросила, чего им угодно?
— Два сифона, — отвечал он не глядя на нее...
— А что еще? — продолжала медуза.
— Стаканы, — отрезал Павел.
Медуза побледнела, гордо повернулась, как оперная
королева, и ушла.
— Почему ты так недружелюбно обошелся с этой несчастной? — спросила Анна.
276
— Может быть, несчастной, может быть, счастливой
и порочной, — сказал Павел.
— Несчастная, если даже и порочная, — сказала Анна.
— Кто продает себя, тот порывает с природой.
— Нужда вызывает вызов, — сказала Анна.
— Подите поиграйте с девочкой, — сказал Павел обращаясь к Вере и Софии.
Девочка с серсо насмешливо поглядела на детей и пошепталась с хозяйкой. Вера и Софья, не двинулись с места.
— Подите и поиграйте с девочкой, — сказала Анна.
— Нет, я не хочу, — сказала Вера, взглянув большими
печальными глазами на десятилетнюю кокетку.
— Тогда не надо, — сказала Анна. — Почему ты знаешь, Вера, что она нехорошая?
— Я не знаю, — сказала девочка и прижалась к матери.
Медуза вернулась и небрежно подала сифоны, не говоря ни слова. Потом она присела к хозяйке за стол и начала пришивать к рубашке кружево. По временам она
бросала на Анну вызывающие взгляды.
— Сегодня праздник, — сказал Павел, наливая стаканы.
— Ты печален, Павел Петрович, — сказала Анна.
— О да, — сказал Павел, — мне уже поздно было начинать новую жизнь!
В это время во двор вошел человек средних лет, в котором Павел узнал одного торговца из Лозанны.
Он приподнял шляпу, поклонился Павлу, улыбнулся
Вере и присел к хозяйке. Затем он заказал полбутылки
Ville-Neuve и три рюмки портвейна, которыми он угостил женщин и девочку; они пили и болтали с ним на
местном наречии, причем женщины по временам искоса поглядывали на посетителей.
— Теперь, — сказал Павел, — он рассказывает, что
мы русские беглецы, изгнанники из родины, и они все
смотрят на таких интересных личностей! Как интересно
277
быть изгнанником, как интересно быть вырванным, подобно дереву, из почвы, лежать с обнаженными корнями
под лучами солнца и чувствовать, как сок усыхает под корой; как интересно нигде, где бы ни жил, не иметь права
гражданства, потому что не имеешь бумаг; как интересно видеть около себя на почте переодетого полицейского, когда получаешь денежное письмо; как интересно не
иметь доступа в библиотеки и музеи, потому что не имеешь свидетельства от своего правительства, что ты предатель народа; как интересно в чужой свободной стране
не иметь права обратиться за помощью к представителю страны, консулу, агенту Лиги Иезуитов, когда тебя
преследуют, унижают и оскорбляют. А интереснее всего было раньше, когда дети, возвращаясь с прогулки по
набережной домой, приносили поклон от знатных русских и научились у них спрашивать, скоро ли повенчаются папа и мама! Взгляни, какими глазами смотрит теперь на тебя медуза! Как она радуется, когда торговец
рассказывает, что ты со мной не обвенчана. Видишь, как
она презирает тебя! Она такая снисходительная к самой
себе, она презирает тебя! Слышишь! Обвенчана! Она,
которая при первом же случае, когда устанет от своей
жизни, выйдет замуж за первого встречного, только чтобы переменить свое имя и обеспечить свою старость!
Как полна предрассудков самая свободная от предрассудков женщина!
— Кто ее сделал такой, Павел?
— Воспитание; да, правда, я был несправедлив! Но
пойдем, мне неприятно здесь оставаться!
— Нет, останемся, Павел; это полезно — видеть перед собой живою старую жизнь. Это закалит нас!
— Сегодня праздник, — продолжал Павел, не трогаясь с места. — Теперь он рассказывает, что ты была девушка из богатой семьи, влюбилась в студента медицины и после «великого события», ушла с ним в жизнь.
А он, этот торговец, обвенчан, но женатым его назвать
нельзя, потому что иначе он не сидел бы и не пьянство¬
278
вал все утро с пустыми женщинами, чтобы к полудню
вернуться к жене и обеду.
Ты сегодня слаб, мой милый Павел, — сказала
Анна. — Ты не можешь привыкнуть относиться равнодушно к мнению других.
— Да, я сегодня слаб, — сознался Павел. — Но на это
у меня есть причины, если не оправдания. Мы топим
свои предрассудки как кошек, привязав им камень на
шею, а когда веревка размокнет, трупы снова всплывают кверху.
— Скажи же мне, что пишет Дмитрий, — сказала
Анна. — Я знаю, что это мучит тебя. — Скажи, тебе будет легче!
Павел вынул письмо, разложил его на столе и начал
читать.
«Мне случайно пришлось заехать на твой хутор. Ты
можешь себе представить, с каким волнением я снова увидал этот маленький уголок, где я провел столько
безмятежных часов. Я зашел в домик и вспомнил, как
однажды в субботу, когда Анна была в городе, мы выкрасили в зеленый цвет ее ставни. Дождь смыл краску,
потому что мы положили в нее слишком много скипидару. Изгородь сирени, которую мы сажали вокруг пристроек, торчала обнаженными прутьями, потому что
скот взрыл землю вокруг корней и попортил их. От розовых кустов не осталось и следа, потому что люди, поселившиеся на хуторе, выплескивали на них всякие помои. Я вошел через калитку в сад. Он весь зарос чертополохом. Я искал гряды с земляникой, но всюду рос только
высокий мохнатый чертополох и сорные травы. На месте
яблонь были ямы; по-видимому, их пересадили. В крыжовнике было еще немного жизни, но частью он завял,
частью выродился, так что вместо крупного английского крыжовника росли маленькие, как горох, зеленые
ягодки. Парники обратились в сорные ямы. Я избавляю
тебя от дальнейших подробностей. Я отыскал Николая,
279
который спрятался на сеновале; он сказал мне, что Андрей разрушил весь сад; но когда я встретил Андрея, то
он мне сказал, что Николай продал деревья и растения
соседям, после того как твое именье было конфисковано.
Когда я подумаю, сколько добра сделал ты этому Николаю, как ты дружил с ним и как ты... (и т. д., — прервал
себя Павел.) Твою кобылу Фанни я увидал запряженной
в плуг. (Это справедливо, — пробормотал Павел, — мы
все должны работать!) Она... (и т. д.) Потом я прошел на
скотный двор. Не знаю, какой несчастным случай привел меня сюда в этот день, я попал как раз на бойню.
Твоя лучшая корова Звезда лежала, обливаясь кровью,
закатив глаза, с большой раной на шее... (и т. д.) Оглядев весь этот ужас опустошения, я пошел через деревню
домой; перед каждой избой я видел фруктовые деревья
в полном цвету, и тогда я подумал: «Павел работал для
счастья других, и, где он посеял, они пожнут; и это, по
обычным понятиям, печальное известие он примет если
не с радостью, то все-таки не увидит в нем ничего дурного, потому что Павел новый человек и хочет работать не
только для себя и для своих.»
Он замолчал и сложил письмо.
— Легче теперь? — спросила Анна.
— Да, относительно это еще тяжело, но я чувствую
себя легче. Недаром Иисус Назаретянин запрещал своим ученикам владеть чем-либо. Ничто не связывает так
духа, как собственность. Боязнь потерять не дает мирно жить, надежда на наследство отнимает покой. Разве не удивительно, что новые люди, как и первые христиане, подумали об освобождении от собственности.
Теперь я свободен, Анна, и теперь я воспользуюсь моей
свободой!
— Но твой друг Николай! Это обидно!
— Да, какая потеря! Но мы должны приучиться не
смотреть на своих друзей, как на свою собственность!
Откровенно говоря, мне кажется, что мне больше всего
280
жаль Фанни; она привыкла ходить в упряжи, привыкла к уходу и ласке. Бедная Фанни! Ты получила такое
тонкое воспитание! Не хочешь ли теперь поехать домой,
Анна?
Они встали и пошли к лодке.
* * *
Павел Петрович проснулся однажды в середине марта в три часа. Ему показалось, что жена зовет его, но когда он начал прислушиваться, все было тихо. В доме и на
улице стояла тишина. Через ставни проникали лучи рассвета, слабые, зеленоватые от зеленых перекладин ставень. Он любил эту торжественную тишину, к которой
долго не мог привыкнуть, как городской житель. В тишине он слышал миролюбивые голоса, полные любви
и надежды, говорившие серьезные, нужные слова о будущем; голоса прошлого звучали, как жалобные тоскливые вопли зовущих на помощь страдальцев.
— Шит, шит, шит, — послышалось чириканье воробьев. — Шит, шит, шит, — раздалось с другого куста, где
на ночь поместилось другое семейство. Проснулся черный дрозд и начал свой унылый напев, меланхоличный,
словно певец чувствовал, что он родился на свет бессильным выразить свою радость. Проснулся веселый зяблик, радостно и беззаботно повторяющий без конца
свою коротенькую песнь в четыре такта; пеночка, знающая, что она первый тенор, запевает свою арию, которая хотя и не образец искусства, но представляет из
себя длинную тему с вариациями; отовсюду наперебой
слышится пенье; с лавровых кустов, с кипарисов и кедров, магнолий и буков, со всех кустов и деревьев с зимней зеленью поднимается оглушительный хор, из которого выделяются сильные, неопределенные звуки песни
дрозда.
Павел встал и открыл дверь на балкон. Навстречу
ему ворвались потоки света. Солнце еще не взошло. Синее, как опрокинувшееся небо, лежало озеро, и из его
281
глубины поднимались Савойские Альпы, по громадным склонам которых раскинулись все четыре времени
года. Внизу, на берегу, стоят вечнозеленые кусты и деревья, из которых Laurus Tinea была уже покрыта, как
летом, белыми цветочками. В садах росла капуста и латук. Несколько выше, в области весны, стояли как бы
осыпанные розоватым снегом цветущие персиковые деревья. Светло зеленела молодая зелень ореховых деревьев, и цвели примулы и анемоны; несколько выше стоял буковый лес, еще темный как осенью, а еще выше лежал снег, белый, блестящий с голубоватым отливом,
розовеющий в первых лучах солнца. Теперь все птицы
пели разом. А над прямым гребнем Rocher de Naye появилась полоса света с красновато-желтой каймой, как
кожа апельсина; через расселину проникает луч, быстро проносится над бездной новый луч, целый сноп лучей, и наконец появляется нерешительный и трепетный
край солнца, как если бы он качался на своей старой,
потертой оси. И тени пугливо бежали к подножью гор
и прятались в сосновых лесах, чтобы отдохнуть там до
вечера.
Павел подошел по балкону к окну жены. Белая гардина была неплотно спущена; ему не видно было Анны, но
были видны дети. Вера свесила голову с подушки и широко раскинула открытые ручонки. Ее личико распухло
от сна, а ротик был полуоткрыт, и обнажил беленькие
маленькие зубки. На лице ее играла улыбка, и ему казалось, что сквозь закрытые веки он видит взгляд голубых глаз. Павел тяжело вздохнул, как если бы его самой
дорогой надежде грозило что-то неведомое. Теперь он
услыхал слабый стон с постели жены, но он не хотел ее
будить. Ей, вероятно, снилось что-нибудь печальное из
прошлого, которое она никогда не могла забыть. Он вернулся в свою комнату и в одних чулках сошел в сад. Он
оглядел свои шпалерники абрикосов и персиков, которые уже отцвели и покрылись мелкими плодами; он
приветствовал пчел, которые уже вылетели на работу;
282
отсюда он хотел пройти на скотный двор, когда услыхал громкие стоны из комнаты жены. Он взбежал вверх
по лестницей прислушался у двери. Он услыхал, что она
жалобно звала его. Он постучал в дверь и вошел. Анна
повернула к нему красное от боли лицо.
— Почему, Анна Ивановна, ты не послушалась, когда
я просил тебя пригласить какую-нибудь женщину, пока
есть время? Что же нам теперь делать; Бернгард уехал
к своим, и мне придется оставить тебя одну.
— Не упрекай меня теперь, милый Павел, но иди
скорей.
— Прости, дорогая — сказал Павел и провел рукой
по ее воспаленному лбу.
Вера проснулась при новых стонах матери. Она поднялась на постели, с ужасом взглянула на мать и сказала:
— Папа не должен делать маме больно.
— Нет, дорогая деточка, папа не делает маме больно,
но мама больна.
Павел поцеловал жену и выбежал из комнаты. Когда он добежал до калитки, он снова услыхал ее крик, как
вопль скорби, пронзивший пенье птиц, как предостерегающий крик для тех, кто ликующе справлял свадьбу
без боязни, без мысли о боли рожденья, о боли смерти.
Он бежал вверх к Лозанне, бежал так скоро, что сердце
у него билось и кровь стучала в висках. Когда он добежал до кладбища с черными кипарисами, ноги его подкосились, и все его тело начало дергаться и дрожать. Он
стоял неподвижно, уцепившись за кладбищенскую решетку. Колени его подгибались, и все тело обмякло как
под действием гальванического тока. Он глядел сквозь
прутья решетки на могилы и упал бы без чувств, если б
не обжег руки о крапиву. Тогда он очнулся, вспомнил
о жене и позвал на помощь. В окне дома католического
священника, стоявшего напротив кладбища, показалось
жирное красноватое лицо в белом ночном чепце; это был
священник, который только что проснулся, и услышал
283
зов. Увидя искаженное лицо Павла и поникшее тело,
он подумал, что это пьяный возвращается домой после
ночной попойки, и он быстро закрыл окно, произнеся
одно только слово: «Пьяница!»
Но Павел продолжал звать на помощь. Он поднимал кулаки к небу, рвал на себе волосы, проклинал тех,
кто сломил в тюрьме его силы, вынуждая у него сознание в том, чего он не знал; и теперь он раскаивался, что
ему удалось избежать смерти, потому что в эту минуту
жизнь казалась ему тяжелее, чем когда-либо. Он с тоскою
думал о петербургской крепости, где страдал он один,
между тем как теперь он страдал за жену и должен был
признаться, что страдать за других гораздо тяжелее, чем
за самого себя. Он видел комнату Анны, где она лежала,
удерживая стоны, чтобы не испугать детей. Наконец из
соседнего дома вышел фермер и подошел к нему.
— Что с вами? — участливо спросил он.
— Я болен! — отвечал Павел. — Но моя жена лежит
в родах. Ради бога, бегите в Лозанну к акушерке и попросите ее немедленно пойти в «Розовое Садоводство»,
в Уши. Обо мне не заботьтесь. Бегите скорее, да благословит вас Бог!
Фермер хотел сначала помочь Павлу, но тот повторил свою просьбу и начал ползти вниз с холма домой.
По временам он останавливался, откидывал острые
камни и произносил проклятия. Встречным он мог показаться черепахой, которая старается выпрямиться,
чтобы взглянуть на небо глазами, как всякое другое творение Божье. Пот струился у него по лицу и бороде,
и пена выступала на губах.
— Взгляни на человека! — вырвалось у него. — Взгляни на человека, повергнутого наземь Творцом мира! О
Боже! Deus optimus, maximus! взгляни как Твои наместники превращают людей в ползучую тварь и разбивают
им спины, когда они хотят поднять голову. Взгляни, как
они оскорбляют Твое творение, взгляни, как они подавляют все великие открытия гениев, которые должны бы
284
служить для объединения народов! Они украли молнию
с неба, чтобы поражать нас. Ах, Боже! Долго ли это будет длиться?
Он съежился, как бы стыдясь своего разговора вслух,
и пополз дальше по улице, ведущей к его дому.
Тут он снова услыхал вопли жены. Он не мог ползти
дальше; эти жалобные стоны терзали его нервы. Он покатился вниз, спеша домой. Приблизившись, он услыхал отчаянный, беспомощный плачь детей. Слезы текли у него по щекам и мешались с дорожной пылью, так
что лицо его стало неузнаваемо. Наконец ему удалось
добраться до водоема и погрузиться в холодную воду.
Холодная ванна подействовала на него успокоительно,
и тело его начало расправляться. Немного спустя, он вышел из ванны, побежал в свою комнату и надел сухую
одежду. Через минуту он уже был у постели жены.
— Она сейчас придет, — прошептал он, наклоняясь
над ней, — сейчас...
Затем он вынес детей в соседнюю комнату и начал их
одевать. Но они не переставали плакать и звать мать. Потом он оставил их на минуту и побежал к матери, которая упала ему на руки, корчась от боли. Потом он выбежал на балкон посмотреть, не идет ли уже акушерка.
Он взывал к Богу, потому что он верил в Бога, хотя и не
верил в силу молитвы изменить мелочи повседневной
жизни. Он молился Богу, как его научили с детства, потому что в эту минуту он был слаб. А природа улыбалась
кругом, так не гармонируя с его печалью, и птицы пели
так же весело, как и раньше. А затем он опять поспешил в дом помочь Софии надеть чулки и потом опять
к Анне, у которой снова начались боли, и, поднявшись
на постели, она припала к нему на грудь, как бы желая
умереть вместе с ним. Приступ болей стих, и она лежала
с красными щеками, распустившимися волосами и горящими глазами. Он развел огонь, потом побежал к Софии и Вере и снес им все книги с картинками, все фотографии, какие у него были. Потом он открыл комод
285
и, по указаниям, Анны стал выбирать детские вещи. Затем, он побежал в погреб за ванной. Когда он поднимался с ванной по лестнице, раздался страшный крик, ужаснее, чем все предыдущие, а когда он вошел в комнату,
Анна тихо лежала с ясной улыбкой на лице, бледная,
спокойная, затаив дыхание. Под одеялом раздался писк,
который все рос и превратился в слабый живой крик,
так хорошо знакомый Павлу. Он обрадовался, что все
уже кончено; он был врач и знал, что опасность миновала, но он не мог заставить себя приподнять одеяло, нет,
в нем для этого еще было слишком много старого человека. Для всякой другой женщины, да, но не для жены.
Он чувствовал себя перед новой дьявольской дилеммой, которая так же трудна, как и прежняя, но он не мог
преодолеть себя, не мог. Почему он не мог? Этого он не
знал, но это и было. Он услыхал шаги на лестнице, выбежал из комнаты и столкнулся с акушеркой. Он обнял ее
и ввел в комнату. Потом он пошел к девочкам и отвел их
в сад.
Ему дышалось легче, хотя ноги его еще дрожали. Он
взглянул на горы; они стояли равнодушные и блестящие
как всегда, и небо было ясно. Он нарвал тацетов и тюльпанов и сделал букет, подобрав спокойные белые и розоватые тона.
Через полчаса акушерка вышла на балкон и кивнула ему. Через мгновение он был уже наверху и держал...
сына, своего сына! Такой чудной радости он не испытывал
еще никогда и он не мог понять, почему это доставляло
ему больше радости, чем рождение первой дочери. Держал ли он в руках свое подобие? Было ли это дитя тем ребенком, в котором он увидит осуществление своей мечты
о новом человеке. Свежий, новый побег из старого ствола,
который не будет учить всех глупостей, каким учили его,
и которые, подобно сорным травам, нельзя уничтожить
одним разом; представитель грядущего поколения, который, может быть, родился с новыми мыслями, новым мозгом и новым сердцем! Может быть! И он положил сына на
286
грудь матери, где он должен спать и расти, в то время как
родители будут работать над тем, чтобы создать новых достойных родителей человеку нового времени.
* * *
Несколько дней спустя Павел Петрович сидел у постели Анны. Разговор шел вяло и скоро совсем замолк,
и слышно было только слабое дыхание новорожденного.
Но оба знали, о чем думает каждый из них. Павел знал,
что Анна думает: «Вот мы говорим о сотне вещей, которые совсем не важны для нас». А Павел думал: «О чем
она хочет говорить?»
Наконец Анна заговорила мягко и нежно, и слова ее
звучали почти как мольба:
— Павел Петрович, у меня к тебе есть просьба!
— Значит, что-нибудь против моего желания, Анна
Ивановна, потому что иначе тебе незачем просить! — отвечал с беспокойством Павел.
— Да, — слабо произнесла Анна.
— Это что-то непредвиденное! Говори!
— Не сердись на меня, Павел, не презирай меня, не
отказывай мне! Позволь окрестить нашего мальчика.
Павел сидел, по-видимому, совершенно спокойный.
— Возврат к прошлому! Гм!.. Это вполне естественно,
но и естественные явления не всегда бывают приятны;
вот, например, если молния ударит в дымовую трубу.
Это очень прискорбно, Анна Ивановна! Мы обошлись
без священника при заключении нашего брака, а теперь
мы идем к нему и просим прощения. Это, право, прискорбно.
— Мы не идем к ним просить прощения! И почему ты
говоришь «мы»? Ты тут ни при чем, все сделаю я одна!
— Ребенок все-таки не перестанет быть и моим ребенком; и я должен буду признаться, что мой ребенок
был крещен! Это дурной пример для друзей.
— Ты ставишь друзей, между мной и тобой? — несколько резко спросила Анна.
287
— Нет, — отвечал Павел, — и ты не должна произносить слово «друзья» с такой неприязнью. Ты знаешь,
что это не одна личность или несколько, это само дело!
Вопрос этот разрешить очень трудно! Павел Петрович
считает преступным посвятить своего ребенка Владыке
Силы и Власти, а Анна Ивановна считает преступным,
или чем-то вроде этого, не окрестить ребенка. Как бы
разрешил этот вопрос Соломон — не мудрец Соломон,
а Соломон законодатель — это мы знаем, но ведь, Анна
Ивановна, мы не можем обратиться к законам, которых
мы не признаем!
— Поэтому, Павел Петрович, я и прошу позволить
мне окрестить ребенка, я прошу!
— Я подыщу какой-нибудь сильный довод против
самого себя, Анна, дорогая, чтобы исполнить твое желание. Друзья будут говорить: «Какой стыд, Павел Петрович обошелся без попов, когда женился, а теперь позволяет своей жене за своей спиной крестить своего ребенка». Что ответит на это Павел?
— Он ответит: я исполнил желание жены, потому
что я люблю ее.
— Но тогда друзья скажут: «Он любит жену больше
чем истину; Павел не тот, кого мы ищем!»
— Простой, незначительный случай вы раздуваете
в целое событие.
— Отдать своего ребенка не единомышленникам —
не незначительный случай! И подумай, Анна, если ты
потом раскаешься в этом, а это наверное так и будет!
— Когда же прекратятся эти разногласия, Павел? Неужели ты думаешь возможно единение между супругами, когда в самом их союзе больше всего и встречается
разногласий?
— При настоящих отношениях мне кажется это совершенно невозможным, но именно поэтому, Анна, мне
и хотелось, чтобы мы начали изменять эти отношения
с рождением ребенка! Я не упрекаю тебя, это могло бы
288
случиться и со мною, и тогда между нами произошел
бы такой же разговор, только наоборот! Что нам делать?
Я ни на что не решусь, не выслушав тебя! Не можем ли
мы в этом случае согласовать наши желания? Можем ли
мы в одно и то же время окрестить и не окрестить? Можем ли мы прийти к какому-нибудь соглашению, не насилуя своей совести? И не придется ли в конце концов
одному покориться другому? И разве это подчинение не
разорвет наш союз? Что ты скажешь на это?
— Это очень грустно, Павел, но что же нам делать?
Я не могу совладать с собой, я не буду знать покоя, если
ребенок не будет окрещен! Это глупо, суеверно, но я не
могу избавиться от этого!
— Я понимаю тебя, Анна! Я знаю, что телесные потрясения вызывают духовные колебания и тогда то, что
таилось на дне, всплывает на поверхность; я знаю, что
умирающие часто возвращаются к своим детским верованиям; доказательством этого может служить Вольтер,
вернувшийся в бессознательном состоянии к своим первоначальным верованиям; я знаю, что и теперь еще могу
разглядывать пузырьки в чае или испугаться темноты,
этому меня нянька научила в детстве! Крести ребенка,
Анна, но я не буду присутствовать при обряде! И не будем больше говорить об этом!
Анна схватила его за руку и поцеловала ее.
— Благодарю, дорогой, дорогой Павел; ты доставил
мне такое огромное счастье!
— Мы больше никогда не будем касаться этого вопроса, Анна! Я не мог отказать тебе! Ведь это твой ребенок!
— И твой также, Павел, и закон на твоей стороне, потому что он повелевает, чтобы ребенок следовал религии отца. Но ведь законы создают мужчины против женщин!
— Нет, Анна Ивановна, законы создаются и мужчинами и женщинами, потому что ведь у нас были
289
и государыни, издававшие законы; законы созданы мужчинами и женщинами высших классов против мужчин
и женщин низшего класса. Будем справедливы и соединимся вместе против закона!
* * *
Павел согласился на просьбу Анны против своего желания, но не чувствовал себя побежденным. Анна
же приняла согласие Павла, как подарок, и считала
себя обязанной ему. В первый же раз, как Павел выразит какое-нибудь желание, она должна будет исполнить
его, даже против своей воли. Покой ее был нарушен.
Она ежедневно и ежечасно видела перед собой своего
кредитора. Она каждую минуту боялась, что он явится
со своим требованием. Все ее мысли сосредоточились
на одном вопросе: что он потребует? Она представляла
себе всевозможные требования и, считая себя обязанной
выполнить их, как бы они ни шли вразрез ее желаниям,
она видела в этом покушение на свою личность; она не
могла сказать «нет», потому что это был долг, который
она должна заплатить. Душа ее не была больше свободна. Но она не могла отказаться от мысли окрестить ребенка, так сильны были в ней предрассудки. И если бы
даже она теперь отступила, согласие Павла уже было
подарено ей. Павел чувствовал, что что-то легло между
ними, но не мог устранить этого. Говорить об этом было
невозможно. Все случилось очень просто и изменить
этого было нельзя. Он боялся оскорбить жену, вызвать
новое разногласие и замкнулся в себе. Теперь он не мог
быть уверен, что в Анне не проснутся и другие взгляды
прежних времен. Анна чувствовала себя еще более виновной, видя деликатность Павла, и сознание вины все
росло в ней. Ежедневно и ежечасно видеть перед собой
своего кредитора и знать, что живешь только благодаря
его великодушию, пробуждало в ней чувство какой-то
отчужденности и даже враждебности к Павлу. С другой
стороны Анне казалось, что, возвращаясь к своим преж¬
290
ним воззрениям и верованиям, она как бы снова становилась самой собой. Она почти радовалась, что у нее
мысли, которых не разделяет Павел, которые исключительно принадлежат ей и не получены от Павла, потому что все новые взгляды она заимствовала от него. Ее не
угнетало, что старинные воззрения она получила от родителей и наставников, потому что они шли не от него,
а это казалось ей самым главным.
День крестин наступил. Бернгард должен был быть
свидетелем. Ребенка одели в нарядные крестильные
одежды. Павел пришел из сада в комнаты помочь одеть
девочек, которые тоже должны были присутствовать.
Это великодушие вызвало ванне неприятное чувство.
Она старалась увидеть в этом насмешку, но при всем
желании это не удалось ей. Они были одеты и готовы
к отъезду. Анна коротко простилась. Павел поцеловал
детей. Ему хотелось сказать, чтобы они берегли ребенка,
но раздумал. Анна и без того не забудет об этом. И они
уехали.
Павел остался в комнатах. Было послеполуденное
время, кругом стояла тишина, и Павел, оставшись впервые совсем один в доме, испытывал какое-то странное
чувство. Они ушли; все, которые жили благодаря ему
и жизнь без которых была ему в тягость. Он немало поработал для будущего и не ждал результата раньше нескольких поколений. Когда прошли первые минуты
грусти, он вышел на балкон. Теперь ему дышалось легче.
Он не должен больше с утомительным волнением следить за своими мыслями, словами, выражениями. В тишине и одиночестве мысли его прояснялись. И когда он
почувствовал, что мысли его идут смелыми шагами, не
встречая зацепок и препятствий, к нему снова вернулись
мужество и надежда. Он почувствовал возможность выбраться из лабиринта, в который его замуровало воспитание. Сомнение рассеялось, и во всех этих нежных узах
он увидал только узы. Что, если Анна потребует, чтобы дети ходили в школу, где они научатся быть такими
291
же дурными, каким и он был когда-то! А у него было
основание бояться этого. Тогда ему снова придется сделать насилие над своей совестью — исполнить ее желание. А этого он не мог. Он, стремящийся к всеобщей
свободе совести, начнет с того, что будет сам насиловать
свою совесть? Нет! Если он не сделаете этого, то он никогда не начнет осуществлять своего идеала будущего!
И если он не начнет со своих детей, то кто же начнет тогда? Он будет продолжать работать над изменением всего строя, искоренением предрассудков, и тогда они пойдут вслед за другими. И он должен оставить надежду
начать со своих. Пусть будет так! Он пойдет своим одиноким, опасным путем, куда бы он ни привел его. Ему
ничего больше не остается. Тогда он, может быть, совершит что-нибудь великое и полезное. Это была страшная
жертва, горькое разочарование, но судьба этого хотела!
Но если у него не хватит сил, если он погибнет? Тогда
другие продолжат его дело. А пока к чему эти кичливые
слова! Он хочет сначала испытать себя.
Он подошел к письменному столу Анны и написал
на бумаге:
«Я уезжаю на несколько дней. Будь здорова!
Твой Павел».
Потом он собрал в дорожный мешок немного одежды и хотел идти. Но в дверях он обернулся. Он взглянул на пустую колыбель с маленькой впадиной от головки на подушке и на кроватки девочек. У него потемнело
в глазах, словно их заволокло черное облако, и он вышел. Он сошел к мосткам пристани и стал ждать парохода, идущего в Эвиан на Савойский берег.
Мостки выдавались далеко в озеро, и ему казалось,
что он направляется в бесконечное пространство. Перед
ним расстилалось голубое озеро и голубые горы; между
досками мостков просвечивала голубая вода. Это была
как бы дорога, ведущая к вечности. Он сел на лавку на
самом краю. Мысли его успокоились и текли плавно из
292
желания ли не останавливаться на случившемся или от
радостного сознания свободы, — он не знал, но мозг его
уже давно отвык погружаться в мечты.
Подошел пароход. Павел сел на носовую часть, повернувшись спиной к швейцарскому берегу. Он чувствовал
потребность что-нибудь предпринять. Он вынул записную книжку и начал в ней писать. И так он писал, пока
они не подошли к Эвиану. Дело было к вечеру. Павел берег деньги, поэтому взял комнату в скромном отеле Lion
d'or, откуда открывался вид на озеро и швейцарский
берег. Умывшись, он сел к столу перечитать написанное. Он радовался, видя массу новых мыслей и сознавая, что голова его работала свободно и непринужденно. Все существо его, казалось, выросло, и он испытывал
то же ощущение роста, когда лежишь в темноте и голова кажется невероятно большой. Он заказал себе чашку
чая и сел с ней к окну. Он глядел на противоположный
берег, видел лозаннский собор, башню Уши и здание
Beau Rivage. Но он смотрел на них совершенно спокойно. Огромная голубая водная поверхность отделяла его
от прошлого. Он перешел через пропасть, сломал мост
и обломки побросал в глубину. Возврата не было. Одну
минуту он чувствовал колебание, но затем снова овладел
собой. После этого он спустился в скромную столовую,
сел один за маленький столик и спросил себе есть. За
соседним столом сидели два француза, которые имели
вид купцов. Павел завязал с ними разговор. Они говорили о торговле, о пошлинах, о политике, и Павел, сам
того не замечая, держался старинного взгляда. Он глядел на вещи со старинной точки зрения и ни одним словом не противоречил своим собеседникам. Он испытывал какое-то теплое чувство удовольствие, слушая, как
его голос звучит в дружеской беседе с другими людьми; это было такое же теплое чувство, как при встрече
давно не видавшихся друзей. И мысль работала без напряжения и оглядки; слова лились свободно, и он чувствовал сильное влечение к этим людям. Они говорили
293
об охранительных пошлинах, в которых он открыл новую полезную сторону, гуманитарную тенденцию, когда дверь растворилась и вошел юноша в сопровождении
священника. Юноша держался непринужденно и имел
вид сына богатого человека. Он был хорошо одет, в руках он держал бедекер и английскую палку с дорогим
набалдашником. Священник выглядел в своей длинной
черной одежде как старая женщина. Он помог своему
воспитаннику снять пальто и хотел усадить его поближе к камину... Но мальчик приглядел себе уже другое
место и не хотел сидеть у камина. Священник, занимавший, по-видимому, должность среднюю между слугой
и наставником, покорно повиновался. Когда они сели,
мальчик начал читать бедекер, священник же придвинул стол к своему воспитаннику и подтянул конец ковра
ему под ноги. Во всей его заботливости сквозила какая-
то женская нежность, но ученик принимал все эти знаки
внимание гордо и небрежно. Заказав обед, священник
вынул маленький черный молитвенник и начал вполголоса читать молитвы; беспрестанно прерываемые вопросами ученика. Священник отвечал ему кивком головы, не переставая шевелить губами, или односложно,
дочитав фразу. Наконец он сунул молитвенник в карман, встал, взял пальто и с мягкой настойчивостью хотел
накинуть его на плечи своего юного господина. Но тот
сбросил пальто на пол. Священник, улыбаясь, поднял
его, отряхнул пыль и положил на стул рядом со своим
юным повелителем. Павел, вообще недолюбливавший
священников за приносимое ими зло, почувствовал некоторое возмущение, видя, как попирают его заботы.
Священник готовил салат, пока его молодой питомец
проглядывал карточку вин. Старик, олицетворявший
собой самоотречение и покорность, поминутно спрашивал у своего маленького деспота, сколько он должен
налить масла, достаточно ли он взял уксуса, соли и перца. Один из купцов, также заметивший выходки юного посетителя, желая подшутить над священником, ска¬
294
зал: «Мне кажется, наступит дурная погода, слетаются
вороны». Священник, прекрасно знавший, что их называют воронами, отвечал: «А может быть, наступит и хорошая погода, добрые господа. Вороны клюют иногда
зерна на полях, но зато они обирают гусениц!» Павел
не мог не сознаться, что священник прав. Швейцария
страна бедная, и, если священники собирают подаяние
у богатых, то они зато помогают и бедным. Когда Павел
встал, чтобы идти к себе, он чувствовал глубокую симпатию к священникам, которые, по крайней мере, заботились не только о земном благополучии. Он поднялся
к себе и лег.
Он заснул тяжелым сном и проспал до четырех часов
утра. Он очнулся и вскочил с кровати? Что такое случилось? Прежде всего ему припомнились его последние
ощущение вчерашнего вечера. Он разделял взгляды торговцев и симпатизировал священнику. Как это произошло? Разве его свободный до сих пор разум надел на себя
узду и повернул обратно? Что такое случилось? Он покинул жену и детей, потому что мысли его жены вследствие
физического потрясения поддались тому же изменению,
что и его мысли вчера. Его охватила дрожь. Он почувствовал внутри себя пустоту. Он чувствовал, что он как
бы привязан к эластичным нитям. Он вытянулся от них
как можно дальше, но теперь они тянули его назад. Разве он может порвать? Нет! Нет! Он переехал озеро и взял
с собой свою большую голову, но сердце его осталось на
другом берегу. И теперь, когда сердце не снабжало его
кровью, голова его была пуста. Он думал вчера, что мозг
его свободен, но он был пуст. Какие глупые мысли вышли вчера из-под его руки! Чего искал он в пошлых торговцах вчера вечером? Крови для своего пустого мозга?
И он получил старую, черную, запекшуюся кровь.
Он оделся и вышел. Сошел вниз к берегу. Виноградники лежали среди мертвых ореховых деревьев, похожих на лес, покрывавший Голгофу; и юные, свежие
виноградные побеги обвивались вокруг этих мертвых
295
стволов. И через месяц эти черные, невзрачные стволы
покроются молодой зеленью. Он подумал, что он похож теперь на вырванное с корнями дерево, которое
уже больше не зацветет; он почувствовал, что не может
уже дать никакого молодого ростка, потому что ему еще
в юности облили корни серной кислотой, и ему остается
только ждать зелени от других. Но он мог быть таким же
шпалерником, опорой, по которой будут виться к солнцу юные побеги.
Ему хотелось, хотя он и был мертв, выступить за свой
счет и зацвести молодым лесом, но на это он уже не годился. Он был нужен на другое. Если он упадет, то весь
виноградник закачается и упадет вместе с ним. И разве
слабые ростки не помогали ему держаться прямо. Теперь он понял, что он не мог стоять сам собою! Он вернулся в свою комнату и сел за письмо к Анне, но не мог
ничего написать. Он начал писать о том, что брак бессмыслица, что он никогда не может быть уверенным
в том, что она снова навернется к прошлому. Но тут ему
послышалось, что нежный голос тихо шепчет ему на ухо:
«Павел Петрович, будь справедлив. Разве ты не пережил
тоже возврата к прошлому, возврата к самому ярому романтизму, когда ты требовал неосуществимого от жизни, хотя и знал закон возврата к прошлому, предвидел
это, знал, что мы люди дряхлого, переходного времени?
Брак никогда не будет совершенен, даже среди подрастающего поколения, потому что в жизни нет ничего совершенного. Разве наш брак не лучше многих? Так почему же ты недоволен? Будем продолжать наш путь вместе; наш союз, основанный на безграничной симпатии,
не является смыслом брака; брак создан для будущих
поколений». На это Павел мысленно ответил: «Правда,
но если брак создан для будущих поколений, будем вместе работать для них, а не против них». Голос говорил:
«Так вернись и работай с нами, а не иди один в мир говорить с ветрами. Потому что один ты сделаешь так же
мало, как сделаю одна я. Но ведь мы любим друг друга,
296
Павел. Любовь — это тайна, в которую мы никогда не
сможем проникнуть. Это не симпатия, потому что прежде мы относились друг к другу неприязненно, а все-
таки мы любили друг друга. Ты чувствуешь, как влечет
тебя назад, как часть тебя осталась на другом берегу озера. Это не равенство взгляда, потому что взгляды могут
меняться, и это не прочное основание; это то, что оно
есть — это любовь; два эгоизма, соединившихся в одно;
но мы были слишком эгоистичны, чтобы отказаться от
своего эгоизма, который мы украшали старыми словами: личность, индивидуальность. Я поддалась одному
призыву из прошлого, ты — другому, не менее тяжелому, потому что тебя покинуло благоразумие, и ты слишком много потребовал от жизни. Требуй меньше, и это
будет лучше!»
Павел встал с места. Действительность со всеми ее мелочами встала перед ним. Сад стоял без призора, сорная трава не выполота, розовые кусты дали дикие побеги, пчелы роились и улетали! А дети! Вера, его старший
ребенок! Она родилась в тяжелое время, когда в доме не
всегда был хлеб. Но она принесла с собой новую жизнь,
новые силы и мужество на всех. С мыслью о ней он двигал горами. А потом она подросла и сидела у него на коленях за письменным столом, когда он поправлял ее работы. А ее маленькие заботы, когда родилась сестренка!
Все внимание и любовь уже не принадлежали ей одной.
Она испытывала разочарование и грустила. Это был ее
первый горький опыт в жизни. Ей все приходилось делить с Софией — кукол, пирожное, любовь родителей.
Но у отца были две руки, чтобы водить их, и двое колен,
на которых они сидели. Но все-таки она была не единственная. А потом София, быстро заметившая, что она
не была такой желанной, как сестра, что ей приходилось
просить того, что Вера получала без всякой просьбы, что
ей приходится завоевывать себе свои права. Здесь было
чему поучиться, здесь можно было видеть, как не должно быть, как все это должно быть впоследствии. А кто же
297
будет заботиться о доме и пище? Как глупо, как романтично глупо поступил он вчера! Совершенно как в романе, когда берут чемодан и уезжают.
Павел позвонил служанке и спросил счет. Он не хотел продолжать своей романтики и писать глупое письмо. Он не хотел сидеть здесь и мучиться еще целый день,
когда они беспокоятся о нем на другом берегу озера,
Нет, он с первым же пароходом поедет обратно, пойдет
прямо домой к Анне и скажет: «Я поступил глупо!»
* * *
На следующий день после обеда Анна и Павел сидели внизу в саду и говорили о том, что произошло. Павел
сидел прижавшись к ней, он как бы искал у нее защиты
и тепла и, продев свою руку под ее, словно просил ее вести его за собой.
— Наш злейший враг, Анна, это естественное начало человека, отражение высшего существа, которое
чувствует себя в единении со всеми другими индивидуумами своего рода; оно ломает острие нашей великой справедливой ненависти, оно склоняет нас к жалости к нашим врагам, оно делает нас слабыми, когда мы
должны нанести удар, и награждает нас раскаяньем,
когда удар уже нанесен; подумай, раскаяньем в прекраснейшем поступке, который освобождает нас на целые
столетия. Ничто не сокрушает нас так, как потеря расположения наших близких. Приходилось ли тебе испытывать, как леденеет сердце, встречая холодный взгляд
прежнего друга, который не хочет тебя больше знать;
ты знаешь, что прав не он, а ты, и все-таки в эту минуту
ты считаешь правым его, а не себя. Анна, я никогда не
забуду, как я, ты помнишь, будучи еще не вполне сознательным издал в Москве свою книгу. Никто не мог отрицать ее правдивости, но никто не решался принять
ее серьезно. Решено было считать это все за плод фантазии и приписали ее успех исключительно литературным достоинствам. Тактика была довольно разумна. Все
298
наперебой начали восхвалять художественность изображения, и хорошо заряженный, метко направленный
выстрел превратили в ракету, пущенную вверх по воздуху, где она разлетается красивым, разноцветным огненным дождем, приветствуемая аплодисментами. Но
пошли еще дальше. Меня пригласили в артистический
кружок. Умнее этого ничего нельзя было придумать.
Я никогда не забуду этого вечера. Я встретил здесь лицом к лицу всех наших врагов; всех, кому посчастливилось талантом или знанием добиться крупных имен. Но
я встретил там еще множество людей, не обладающих
ни талантом, ни знанием, но в их руках была власть,
и они присутствовали здесь. В залах было светло и тепло; на стенах висели картины, полы были покрыты мягкими коврами, потолки позолочены, столы гнулись под
тяжестью яств и напитков. Ни одного гневного взгляда; все ласково кивали мне, словно желая сказать: «Мы
понимаем друг друга; ты перейдешь на нашу сторону,
и мы все забудем». И я, только что вышедший из моей
темной камеры, страдавший от лишений и пренебрежения, я был среди них. И какими человечными и маленькими были они вблизи. И как скромно держались
власть имущие, зная, что здесь они только из милости.
Они преклонялись перед даром природы, называемым
талантом. Моя неопытность была ослеплена, и я сейчас же подыскал софизм, чтобы оправдать их. Они сошлись вместе, рассуждал я, но для того, чтобы в таланте приветствовать щедрую природу, которая расточает
свои гениальные дары; я был так воспитан, что еще верил в гениев. Но если бы тогда зрение мое было острее,
я увидел бы, что все они держались, как-то сконфуженно, как бы спрашивая самих себя: что я сделал? Я тоже
гений? И многие по справедливости могли задать себе
вопрос: что я здесь делаю? Позднее, после ужина, когда мы сидели в интимном кружке, я разговаривал как
раз с двумя нашими злейшими врагами об эмансипации, и я мог только удивляться с какой гуманностью
299
они трактовали этот вопрос; редактор реакционного
органа, как тебе известно, наш заклятый враг, поднял
стакан и просил присутствующих приветствовать мое
вступление в их благородное общество. Он горячо говорил о моем таланте, все время о таланте! — и ни одним словом не коснулся моей книги. Все сидели как на
иголках, ждали какой-нибудь вспышки, неприятного
вмешательства. Но ничего не произошло. Слова оратора растрогали меня; я радовался, слыша от врага благородные, человеческие мысли; я устыдился своей несправедливой ненависти и — я раскаялся в моем ударе. Раскаялся, Анна! Когда речь была кончена, все чокнулись
со мной — никто не уклонился от этого! Растроганный
я поднял свой бокал, искренно радуясь, что люди оказались лучше, чем я о них думал, как вдруг я увидел на
другом конце стола, в группе мрачных лиц, два пылающих глаза, устремленных прямо на меня! Это был Иван,
художник. Он улыбался презрительно, с сожалением!
Я смутился, в коротких словах поблагодарил за тост
и почувствовал что-то тяжелое на душе!
Когда я пришел в клуб в следующий раз, меня приветствовали еще горячее. Я видел, как враги обнимали друг друга, редакторы враждебных газет мирно сидели вместе и обсуждали горячие темы, артисты, которые раньше освистывали друг друга, пели вместе, пили
вместе и целовались уже поздно ночью. Что это такое?
Слабость характера? Нет, это было естественное начало
человека, выступившее наружу, когда на несколько часов
были отложены в сторону поводы и причины вражды.
Были ли они неискренни? Нет, в эту минуту они были
искренни, потому что верили в то, что думали, и держались тех взглядов, которые высказывали. Они радовались, как и я, что они хоть минуту могут быть людьми, маленькими простыми людьми, потому что здесь не
было ничего не понимающей публики, которую можно
дурачить. Они улыбались как авгуры над своими снятыми доспехами, но улыбка их была добродушна. А зав¬
300
тра они опять сделаются авгурами, опять дикими зверями. После ужина я схватил бокал, чтобы сказать что-
нибудь, я не знал хорошенько что, но сердце мое было
переполнено, когда чья-то сильная рука взяла у меня
стакан и кто-то прошептал мне на ухо: «Берегись, Павел Петрович! Будь осторожен! Слушай, но не говори!
Ты человек переходного времени, но ты должен перейти, а не отступить! Ты должен закалить свое сердце, ты
должен идти одиноким путем и ненавидеть, потому что
кто может любить, как ты, тот ненавидеть может сильнее, чем другие!»
Это был Иван, которого мы называли «Грозным».
— Почему я должен ненавидеть? — спросил я еще
полный своего теплого чувства.
— Ты должен ненавидеть ложь, потому что ты любишь истину.
— А разве сегодня эти люди лгут? — спросил я.
— Не сегодня, Павел, сегодня они искренни, любезны, просты, но завтра, когда ты их не будешь видеть, они
будут лжецами.
Завтра, — подумал я.
— А что же сделает их завтра лжецами, Иван?
— Оковы, которые мы разорвем, Павел, которые ты
разорвешь!
Мы вышли с Иваном из клуба. Мы блуждали с ним
целую ночь, и после я никогда больше не ходил туда, потому что я знал свою слабость. Как же не жалеть людей?
Разве они не достойны любви? Ах, но они не хотят порвать
свои оковы! Анна, если бы я продолжал бывать у них,
я перешел бы на их сторону! Иван спас меня! Тогда! Но
я потерял уверенность в себе. Вчера в Эвиане я встретил
одного священника, которым командовал двенадцатилетний мальчик. Мне стало жаль старика. Другие посетители насмехались над ним, а я участливо отнесся к нему.
Вчера утром на пароходе мы снова встретились с ними.
«Ага! — сказал один из пассажиров — иезуит сторожит
наследство!» Я часто думаю, Анна, что вся наша работа
301
разобьется о человеческую природу, не умеющую ненавидеть! О! мы должны научиться ненавидеть!»
— Оковы, да, Павел, но не людей, — сказала Анна.
— Но мы не можем порвать оковы, не поранив рук,
которые держат их, Анна! И тем хуже для них!
— Папа, папа! — закричала Вера из дверей. — Тебя
кто-то спрашивает!
Павел встал и пошел к двери, как всегда беспокоясь,
если кто-нибудь приходил к нему. Он не ожидал ничего хорошего. Но, увидя бледное лицо гостя, он побежал
ему навстречу и обнял его.
— Иван, дружище, мы только что говорили о тебе, —
сказал он. — Иди сюда, Анна здесь!
Иван был бледный, худой человек с длинным лицом,
окаймленным черной бородой, таким длинным, что
подбородок его заходил за воротник. Когда Павел поцеловал его, он вздрогнул, но потом с преувеличенной
горячностью ответил на его приветствие. Неровным шагом последовал он за Павлом в сад, и, глядя со стороны,
его нельзя было принять за друга.
— Ты из Женевы? — спросил Павел.
— Да, — пасмурно отвечал Иван. — Здравствуйте,
Анна Ивановна, — продолжал он. — Вы не узнаете меня;
с тех пор как мы расстались я пережил много горя. Я потерял сына, моего сильного, здорового сына.
— Бедный, бедный Иван, — сказала Анна и взглянула
по направлению к дому, как бы прислушиваясь.
Иван имел очень унылый вид.
— Бедный друг, — сказал Павел, — ты сильно изменился.
Иван сел на скамью и глядел на песок.
— Ты опростился, Павел, — наконец заговорил он.
— Да, — отвечал Павел, — столько же по воле, как
и поневоле. Бороться со слугами мне было очень тяжело, особенно с тех пор, как я нахожу, что они правы; но
я был также прав, избегнув этих столкновений, и теперь
я обрел мир. Это была непрестанная борьба. Проверять
302
их счета, уличать их обманы отнимало времени больше,
чем выполнение их обязанностей. Теперь я сам мету пол
и взамен этого я сам господин в своей комнате. Прежде
служанка каждую минуту могла меня попросить оттуда
для уборки, а если я выходил не по первому ее требованию, она портила обед и говорила барыне, что виноват
в этом барин. Тогда барыня шла к барину и дружески
замечала ему, что он должен пускать Амалию вовремя
убирать комнату. Тогда барин принимал это за приказание Амалии и оскорблялся — и так далее!
— Так ты веришь еще в силу примера низшего класса? — спросил Иван.
— Нет, примеры должны идти сверху, но реформы
могут идти и снизу!
Наступило молчание. Павел заметил, что его слова не
вызывают сочувствия в его старом друге. Неужели горе
так всецело овладело им?
— У меня есть много новостей, Иван, — продолжал
он.
Иван вздрогнул. Анна, наблюдавшая за ним, сделала
Павлу знак, но он не понял его и думал, что она советует уйти из сада, где работал Бернгард. Поэтому он пригласил Ивана пройти с ним в комнату, где у него лежало
письмо. Он предложил Ивану сесть за письменный стол,
а сам поместился против него, отпер ящик и подал ему
недавно полученное письмо. Иван, казалось, пожирал
письмо глазами и некоторые строчки перечел несколько раз. В то время как он читал, кто-то постучал в дверь.
Вошел Бернгард и передал Павлу письмо. Прочтя письмо, Павел побледнел, как полотно, и начал следить за
Иваном, который все так же жадно изучал письмо. На
лице его он нашел новые линии, новое выражение глаз
и складку у рта, какой он не знал до сих пор. Это был
не прежний Иван, не тот, что отнял у него стакан, когда
он хотел сказать речь «врагам». Тихо выдвинул он ящик,
вынул телеграфный бланк и начал писать на нем. Потом он встал, подал Ивану полученное письмо, коротко
303
и твердо произнеся: «Прочти», подошел к окну и бросил из него телеграмму.
Иван поднял голову, одним взглядом пробежал письмо, содержащее всего несколько строк: «Берегись Ивана,
он служит теперь в жандармах его величества».
— Это правда, — сказал он, кладя письмо рядом с собой на стол. — Я раскаялся, Павел Петрович! Как пришло раскаяние, я не знаю, но когда умер мой сын, то мне
казалось, что тело мое положено в ступу и измельчено
в куски. А когда оно приняло свой прежний вид, то моя
старая душа заняла место новой. Но я никогда не жалел
об этом. Старая душа была для меня как старый, вновь
обретенный друг. Вот как это было!
— Это не все, Иван! — сказал Павел. — Когда умер твой
ребенок, ты терпел большую нужду. Ты был в то время
репортером на маневрах в Харькове. Тут ты и встретился
с высшими властями. Они подавали вам руку и говорили
любезные слова. Ты был ослеплен! Вот в чем все дело!
— Не осуждай меня, Павел! — сказал Иван со слезами на глазах.
— Ты уже осужден, — отвечал Павел.
Они смотрели друг на друга, как два тигра, готовые
броситься один на другого.
— Хочешь расстаться без вражды, Иван? — продолжал Павел. — Оставишь ты в покое писавшего это письмо, пока он не спасется? Подумай о его детях, Иван!
— Я сделаю это, Павел!
— Так ты сомневаешься в своем новом призвании?
— А кто не сомневается?
— Не в главном, Иван; мы можем сомневаться только
в мелочах. Почему ты не выступаешь с громовыми речами против наших поступков, почему ты не проявляешь
себя открыто в своей новой роли?
— Я устал! О, я так устал! Я очень несчастен!
— Я тебе верю, Иван; ты очень несчастен, потому что
ты потерял веру в будущее.
— Да, оно безнадежно!
304
— Оно кажется тебе таким, потому что ты потерял
веру. Они потратили две тысячи лет, чтобы выстроить
это здание; мы не можем в течение двадцати пяти лет
снести его до основания и построить новое. Моисей
блуждал с детьми Израиля по пустыне, пока не вымерли старцы, а за это время он создал новое поколение, которому суждено было увидать Ханаан. Пусть наши кости
развеет песок пустыни, это наш удел, но все-таки будем
работать для будущего: это все, что мы можем сделать.
Но скажи мне, Иван, какой софизм увлек тебя, ведь не
мог же ты поступить так беспричинно?
— Называй это софизмом, — сказал Иван, — а для
меня это была важная причина. Да, вы обращаетесь
с этими людьми как с преступниками и считаете их обманщиками. А я знаю, что намерения их добрые и в худшем случае они обмануты сами.
Павел задумался на минуту, потом сказал: «Иван, теперь ты не отделяешь лиц от дела. Мы не обращаемся
с ними, как с преступниками, это неправда, мы приносим их в жертву нашему делу; мы не отделяем личности от дела; мы не можем обсуждать и рассматривать
их побуждение, обманщики они или обмануты, у нас на
это нет ни времени, ни охоты; их поступки служат им
приговором, и если на пути дела стоит чья-нибудь личность — прочь ее с дороги! Я никогда не слыхал, чтобы
они приговаривали к смертной казни убийство, но всегда убийцу, они создают тюрьмы не против воровства, но
против воров. Если я закидываю человеку петлю на шею
и говорю ему: «Стой спокойно, или я задушу тебя!» —
то если он не стоит спокойно, разве это я задушил его?
Разве он сам не вызвал этого несчастья? Оставь софизмы,
Иван! Не возвращайся в Женеву, я послал туда уведомление о тебе. И клянись — нет, обещай в память твоего
сына и — почему бы нет — нашей прежней дружбы, что
ты ничего не предпримешь против Дмитрия!
— Как я могу это обещать? — сказал Иван. — Моя
служба...
305
— Я освобождаю тебя от твоей службы до завтра, пока
Дмитрий успеет получить мою телеграмму и уехать с вечерним поездом. На сегодняшнюю ночь ты мой гость.
Павел встал. Иван тоже хотел подняться, но Павел
произнес:
— Ты останешься здесь! Дверь отперта, окно открыто, но я говорю тебе, как человеку с петлей на шее: стой
смирно, или я задушу тебя! Ты понял! Завтра в пять часов утра ты можешь уйти. Прощай, Иван! Лучше, если
пути наши никогда не встретятся больше и мы сможем
забыть друг друга.
— Не презирай меня, Павел! Подумай, ведь у меня
была жена и дети! Мне надо было жить!
— Что нужно жить, я этому не верю; верно одно: мы
должны умереть! А если мы хотим жить, то, мне кажется, для этого не надо продавать своей души, надо опроститься, или, как говорят верные: пожертвовать своим
благом. Я тебя не презираю, потому что я знаю общественные законы, исказившие законы природы, и я знаю
также естественный закон развитие и регресса. Прощай!
Павел вышел. Сойдя вниз в сад, он встретил Анну. Он
взял ее за руку, как бы ища в ней защиты, и начал ходить
с ней взад и вперед.
— Отправила телеграмму? — спросил он.
— Да, — отвечала Анна. — Теперь будет еще и еще
труднее. Ты еще надеешься?
— Я должен!
Они ходили взад и вперед по дорожкам сада. Заходящее солнце отбрасывало красноватый отблеск на вершины Альп. Облака сгустились над вершинами, и выпавший снег покрыл зеленые луга и буковые леса. А ниже,
в каштановых рощах, шел дождь.
— Посмотри, Анна Ивановна, на горах только что
была весна, а теперь пришла зима, и весны уже нет!
О, выпадет много снега, очень много.
— Но завтра, Павел, — отвечала Анна, — завтра
снег растает, и весна пойдет дальше; вершины снова
306
зазеленеют, и под лучами солнца распустятся новые
цветы. Она идет вперед, вперед!
Спустились сумерки. Савойские Альпы стояли черные, как стена, как восьмисотэтажный дом. И вдруг, как
бы на шестисотой лестнице чудовищного дома загорелся огонек и сиял сквозь дождь и мрак.
— Видишь этот свет наверху в Альпах? — сказал Павел. — Чем сильнее сгущается мрак, тем ярче он светит;
какое чудесное и прекрасное свойство света!
— Это горные путники, пережидающие ночь, чтобы
утром приветствовать солнце, — сказала Анна.
— Если их не снесет лавина!
— Но если пронесется лавина, Павел, значит, наступила весна! И тогда мы все поднимемся на вершину
и будем рвать драгоценные эдельвейсы при солнечном
свете, при луне, в бурю и непогоду! Пусть пронесется лавина!
— Она должна пронестись, Анна, иначе никогда не
наступит весна!
УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ
Дело было недели две спустя после Седана, в половине сентября 1870 г. Чертежник прусского геологического бюро, в данное время лейтенант запаса, фон Блейх-
роден, сидел без мундира за письменным столом в Cafe
du Cercle, лучшей гостинице местечка Марлот. Мундир
висел на спинке стула, беспомощно повиснув пустыми рукавами, которые словно цеплялись за ножки стула, чтобы не упасть. На талии видны были следы ремня
от сабли, а левая пола была сильно потерта ножнами.
Спина была вся в пыли; лейтенант-геолог мог бы по вечерам изучать по краю своих брюк третичные отложения земли, а когда денщик входил с грязными сапогами
в комнату, он сейчас же видел по следам, оставленным
на полу, прошел ли он по эоценовым или плиоценовым
образованиям.
Действительно, он был гораздо больше геологом,
чем военным, но в настоящую минуту он был всецело
погружен в письмо. Он поднял очки на лоб и, держа
перо в руке, смотрел перед собой в сад. Сад стоял в полном расцвете осени; ветки яблонь и груш сгибались до
земли под тяжестью прекрасных плодов; оранжевые
тыквы зрели рядом со стройными серовато-зелеными
артишоками; ярко-красные томаты вились по своим
подпоркам рядом с ослепительно белыми кочанами
цветной капусты; подсолнечники величиной с тарелку стояли, повернув свои головы к западу, где солнце
уже склонялось; целые рощицы георгин, как только что
308
выбеленное полотно, пурпуровых, как свежая кровь,
грязно-красных, как мясо, серо-желтых, пестрых, одноцветных, пятнистых, казалось, имели, как единый, великий концерт красок. Посыпанные песком дорожки
охранялись двумя рядами громадных левкоев; бледнолиловые, ослепительно белые, желтые — они открывали далекую перспективу до виноградников, целого леса
серых стволов, обвитых зеленью, средь которой краснели тучные гроздья. А дальше желтоватая равнина не
сжатых нив, спелые колосья которых, отягченные зернами, склонялись до земли, при малейшем ветре возвращая земле дарованные ею зерна. А совсем на заднем
плане дубы и буки леса Фонтенебло выделялись своими
контурами, как зубцы причудливых брабантских кружев, а вершины их золотились под заходящими лучами солнца. Последние пчелы еще жужжали вокруг цветов; чирикала на яблоне; от левкоев поднимался сильный приторный запах, как из парфюмерного магазина,
когда проходишь мимо него. Лейтенант сидел неподвижно, держа перо в руке и, видимо, любуясь всей этой
картиной. Какая чудная страна, думал он, и мысли его
обращались к песчаным равнинам его родины с редкими жалкими соснами, которые протягивали к небу
свои узловатые ветви, как бы прося сжалиться над ними
и не дать им погибнуть в леске. По прекрасной картине,
окаймленной, словно рамой, очертаниями окна, с правильностью маятника мелькало ружье часового; его
блестящий штык перерезывал картину пополам и поворачивал как раз под грушевым деревом, отягченным
прекрасными зеленоватыми и желтоватыми грушами
«Наполеон». Одну минуту лейтенант было подумал попросить его шагать в другом направлении, но не осмелился. Чтобы избавиться от мелькания штыка, он стал
смотреть налево, на двор. Там стояли кухонные строения с желтой стеной без окон, по которой распростерся старый узловатый виноградный ствол, подобно скелету млекопитающего, выставленному в музее; на нем
309
не было ни зелени, ни гроздьев, он давно уже высох
и стоял теперь как распятье, простирая свои длинные
руки и пальцы, словно готовый схватить и зажать в свои
объятия часового, каждый раз когда он приближался
к нему.
Лейтенант отвел взгляд от окна и бросил его на письменный стол. Там лежало неоконченное письмо к его
молодой жене, на которой он женился четыре месяца
назад, за два месяца до войны. Рядом с подзорной трубой и картой французского генерального штаба лежала
«Философия бессознательного» Гартмана и «Parerga und
Paralipomena» Шопенгауэра. Он вдруг встал и несколько раз прошелся по комнате. Это была столовая и зала
собрания разбежавшейся теперь колонии художников.
Стены были украшены картинами масляными красками, воспоминания о солнечных часах прекрасной, свободной от вторжения чужестранцев страны, которая
так великодушно распахивает перед иностранцами двери своих художественных школ и выставок. Здесь были
танцующие испанки, римские монахи, берега Нормандии и Бретани, голландские ветряные мельницы, северные рыбацкие деревушки и швейцарские Альпы.
В одном углу валялся ореховый мольберт, словно желая спрятаться в тени от грозных штыков. На нем висела палитра с не совсем еще просохшими красками.
На вешалке еще осталось несколько ярко-красных беретов художников, носящих на себе следы пота и несколько выцветших от солнца и дождя. Лейтенант чувствовал
себя неловко, как человек, забравшийся в чужую квартиру и ожидающий, что хозяин вернется и застанете
его. Он перестал ходить по комнате и сел к столу кончать письмо. Первые строки уже были написаны; они
были полны нежных слов любви, тоски и забот, потому
что недавно он получил известие, что его надежда быть
отцом подтвердилась. Он начал писать, скорее как бы
разговаривая с кем-нибудь, чем сообщая новости или
умозаключения:
310
«Так, например, пройдя с сотней человек четырнадцать часов без еды и питья, мы напали в лесу на
отставшую телегу с провиантом. Знаешь, что тогда случилось? Наголодавшись до того, что глаза у них лезли
на лоб, они бросились, как голодные волки, на еду, а так
как провианту было недостаточно, то между ними началась драка. Моей команды никто не слушал, а когда сержант, обнажив саблю, подступил к ним, то они свалили
его с ног ударами прикладов! Шестнадцать человек остались на месте ранеными и полуживыми. Успевшие захватить пищу наелись до того, что тут же заболели, принуждены были лечь на землю и вскоре заснули. Это брат
восстал на брата, это были дикие звери, бившиеся из-за
добычи!
Или когда мы получили приказ немедленно возвести укрепление... Мы находились в безлесной местности; для выполнения нашей работы у нас были только
виноградные стволы и лозы. Как возмутительно было
видеть, как виноградник был опустошен в один час, как
были вырваны стволы с зеленые и гроздьями связаны
в охапки, смоченные соком полуспелых раздавленных
гроздьев. В один час мы разрушили работу сорока лет!
И для того, чтобы под этим прикрытием стрелять в тех,
кто сажал эти лозы!
Или когда мы засели в несжатом пшеничном поле,
где зерна, как снежинки, сыпались вокруг наших ног
и колосья гнулись, готовые совсем полечь при первом
дожде. Неужели ты думаешь, моя милая, любимая, дорогая, что после таких поступков можно спокойно спать
ночью. А ведь я исполнял только свой долг. И еще смеют говорить, что сознание исполненного долга — лучшая подушка!
Но бывают и еще худшие случаи! Ты, может быть,
слышала, что французское население для подкрепления
своей армии поднялось целыми массами и образовало
вольные отряды, которые под именем вольных стрелков
охраняют свои дома и поля! Прусское правительство не
311
пожелало признать за ними права солдат и приказало их расстреливать, как шпионов и изменников! Оно
основывалось на том, что войну ведут государства, а не
отдельные индивидуумы. А разве солдаты не индивидуумы? Разве эти вольные стрелки не солдаты? Они носят
серый мундир, как егерский полк, а ведь мундир делает человека солдатом! Но они не зарегистрированы, возражают на это! Да, они не зарегистрированы, потому
что правительство не имело времени переписать их, что
весьма возможно, благодаря трудности сообщений по
открытой местности! Сейчас у меня в бильярдном зале
сидят три таких пленника, и я каждую минуту жду приказа из главной квартиры об их участи».
Он перестал писать и позвонил денщика. Денщик,
бывший в соседней комнате, немедленно предстал перед лейтенантом.
— Ну, что наши пленники? — спросил фон Блейх-
роден.
— Ничего, господин лейтенант, они очень веселы
и играют на бильярде!
— Принеси им несколько бутылок белого вина, только не крепкого!.. Все спокойно?
— Точно так, все спокойно, господин лейтенант!
Фон Блейхроден продолжал писать:
«Совершенно особенный народ эти французы! Три
вольных стрелка, о которых я только что говорил и которых, быть может (я говорю «быть может» потому, что все
еще надеюсь на благоприятный исход), через несколько
дней приговорят к смерти, играют теперь на бильярде
с соседней комнате, и я слышу, как кии стучат о шары!
Какое веселое презрение к жизни! Как прекрасно с таким чувством уходить из мира! Или, может быть, это доказывает, что жизнь имеет очень мало цены, если можно так легко расстаться с ней. Мне кажется, это так, когда
не связан такими нежными узами, как я, которые привязывают к жизни. Ты, конечно, понимаешь меня и не
312
подумаешь, что я считаю себя связанным... Ах, я сам
не понимаю, что пишу, я не спал уже несколько ночей,
и голова моя так...»
В дверь постучали. На окрик лейтенанта «войдите»
дверь отворилась, и вошел деревенский священник. Это
был человек лег пятидесяти, с ласковым и печальным,
но в то же время решительным видом.
— Господин лейтенант, — начал он, — я пришел испросить у вас разрешения поговорить с пленными.
Лейтенант встал и взял мундир, предложив пока священнику сесть на диван. Но когда он застегнул узкий
мундир и твердый воротник стянул ему шею, ему показалось, что все его благороднейшие чувства тесно зашнурованы, а кровь, текущая к тайникам его сердца, остановилась на своем пути. Опершись рукой о стол, он сказал:
— Я к вашим услугам, господин пастор, но я не думаю, что пленные удостоят вас своим вниманием: они
сильно заняты игрой на бильярде!
— Мне думается, господин лейтенант, — отвечал пастор, — что я знаю свой народ лучше, чем вы! Один вопрос: вы намереваетесь расстрелять ваших пленных?
— Разумеется, — отвечал фон Блейхроден, уже вполне войдя в свою роль. — Войну ведут государства, а не отдельные индивидуумы!
— Так с вашего позволения, господин лейтенант, вы
и ваши солдаты не индивидуумы!
— С вашего позволения, господин пастор, в данную
минуту — нет!
Он положил письмо к жене под промокательную бумагу и продолжал:
— В данную минуту я только представитель союзных
германских государств.
— Действительно, господин лейтенант, ваша милостивая императрица, да сохранит ее Господь, тоже была
представительницей союзных германских государств,
313
когда она обратилась с воззванием к немецкой женщине оказать помощь раненым, и я знаю тысячи французов, которые благословляют ее, в то время как нация
проклинает вашу нацию! Господин лейтенант, именем
Спасителя (тут священник встал и, схватив руку врага,
продолжал дрожащим от слез голосом) умоляю вас, обратитесь к ней...
Лейтенант готов был сдаться, но снова овладел собой
и отвечал:
— У нас женщины еще не получили права вмешиваться в политику.
— Очень жаль, — отвечал священник и выпрямился.
Лейтенант прислушался к какому-то движению за
окном и очевидно не слышал его ответа. На лице его выразилось беспокойство, и, несмотря на стягивающий его
воротник, вся кровь отлила от его лица.
— Прошу вас, сядьте господин пастор, — сказал он,
не глядя на него. — Доступ к пленным для вас свободен,
но подождите одну минуту!
Он высунулся в окно, и теперь ясно был слышен лошадиный топот по сухой земле.
— Нет, не входите еще к ним, господин пастор, —
произнес он, задыхаясь. Священник остановился; лейтенант высунулся насколько мог в окно. Лошадиный топот все приближался, перешел, все замедляясь, в шаг и,
наконец стих. Послышался звон сабель и шпор, шаги,
и фон Блейхроден получил наконец письмо. Он быстро
разорвал конверт и прочел.
— Который час? — спросил он сам себя. — Шесть!
Итак, господин пастор, через два часа пленные будут
расстреляны без суда и следствия!
— Это невозможно, господин лейтенант, нельзя же
так легко отправлять людей в вечность!
— Вечность или нет, но в приказе сказано, что все
должно быть кончено к вечеру, если я не хочу, чтобы
меня сочли за единомышленника вольных стрелков.
А затем следует строгий выговор, что я не выполнил еще
314
приказа от 31 августа. Господин пастор, подите к ним,
поговорите с ними и избавьте меня от тяжелой обязанности...
— Вам представляется неприятным выполнить законный приговор!
— Но ведь я тоже человек, господин пастор! Или вы
этому не верите?
Он, задыхаясь, расстегнул мундир и начал ходить
взад и вперед по комнате.
— Почему мы не можем всегда быть людьми? Почему мы всегда должны быть двойственны.
— О, о, господин пастор, идите и поговорите с ними!
Они семейные люди? Есть у них жены и дети? Может
быть, родители?
— Они все еще холосты, — отвечал священник. —
Но ведь вы можете, по крайней мере, подарить им эту
ночь!
— Это невозможно! В приказе сказано «до вечера»,
а на рассвете мы уже двинемся дальше. Идите к ним, господин пастор! Идите к ним!
— Да, я пойду! Но когда будете выходить, господин
лейтенант, не забудьте надеть мундир, иначе вам может
выпасть та же участь: ведь только мундир делает солдатом!
И священник вышел...
В сильном волнении дописал фон Блейхроден последние строки письма. Потом он запечатал его и позвонил денщика.
— Отправьте это письмо, — сказал он вошедшему, —
и пришлите сюда сержанта.
Вошел сержант.
— Трижды три будет двадцать семь... нет, трижды
семь будет... Сержант, возьмите трижды... Возьмите
двадцать семь человек и через час расстрелять пленных.
Вот приказ!
— Расстрелять их? — нерешительно переспросил
сержант.
315
— Да, расстрелять! Выберите народ поотчаяннее, кто
уже побывал в огне. Вы понимаете, например, № 86,
№ 19, действуйте тихо и осторожно! А мне отберите сейчас отряд из шестнадцати человек. Отборных молодцов!
Мы отправимся на рекогносцировку в Фонтенебло, а к
моему возвращению все должно быть кончено. Понимаете?
— Шестнадцать человек для господина лейтенанта,
двадцать семь для пленных, да сохранит Господь господина лейтенанта!
И с этими словами он вышел.
Лейтенант заботливо застегнул мундир, опоясал портупею и взял в карман револьвер. Потом он закурил сигару, но сейчас же оставил ее — ему не хватало воздуха.
Он смахнул пыль с письменного стола. Взял носовой платок и вытер ножницы, сургуч и коробку спичек. Линейку и ручку он положил рядом под прямым углом с промокательной бумагой. Потом он начал приводить в порядок комнату. Сделав это, он вынул гребенку и щетку
и поправил перед зеркалом волосы. Он поднял палитру
и пощупал свежи ли краски, ощупал все красные береты
и попробовал установить мольберт. Не было ни одного
предмета в комнате, до которого бы он не дотронулся.
Когда раздались шаги и позвякивание оружием его маленького отряда, он был уже готов и сейчас же вышел
к ним. Скомандовал: «Налево кругом марш!» — и выступил из деревни. Он словно бежал от нашествие врага,
и отряд с трудом поспевал за ним. Выйдя в поле, он велел солдатам вытянуться в одну линию, один за другим,
чтобы не топтать хлеба. Он шел, не оборачиваясь, а идущий за ним солдат замечал, как по временам его плечи
вздрагивали и съеживались как бы от страха или ожидания удара сзади. На опушке леса он скомандовал остановиться. Он велел своим людям передохнуть и не двигаться с места, пока он один пойдет в лес.
Очутившись один и убедившись, что его никто не видит, он остановился, глубоко вздохнул и свернул в чащу
316
на узкую тропинку, ведущую к Волчьему ущелью. Кустарники и низы стволов уже тонули в тени, но вершины буков и елей еще горели на солнце. Ему казалось,
что он лежит на темном дне озера и смотрит сквозь зеленую воду наверх, на дневной свет, который ему больше не суждено увидеть. Большой, чудный лес, раньше
так успокоительно действовавший на его больной мозг,
был сегодня вечером такой негармоничный, холодный,
неприятный! Жизнь раскрывалась перед ним бессердечной, противоречивой, полной двойственности, а сама
природа была какой-то жалкой в его бессознательном
навязчивом представлении. Здесь тоже велась отвратительная борьба за существование, хотя и бескровная,
но такая же жестокая, как и в мире. Он видел, как маленькие дубки топорщились, заглушая нежные побеги
кустов, которые так и останутся навсегда побегами; из
тысячи буков едва один сумеет уцелеть и вырасти в гиганта, в свою очередь отнимая жизнь у других. А беспощадный дуб, простирая свои узловатые ветви, снова желая забрать себе все солнце, вступает еще в подземную
борьбу. Его длинные корни расползаются под землей
во всех направлениях, отнимают у соседей малейшую
частицу пищи, и, если дубу не удастся заглушить противника, лишив его солнца, он замаривает его голодом
под землей. Дуб уже истребил сосновый лес, но мстителем явился бук, медленным, но верным, потому что его
крепкие соки убивают все окружающее. Бук нашел способ отравления, и яд его непреодолим; ни одна травка
не может расти в его тени, но почва вокруг него была
черная, как могила, и будущее было за ним.
Фон Блейхроден шел все дальше и дальше. Он саблей прокладывал себе дорогу в чаще, не думая о том,
сколько он губит юных дубов и сколько калек обрекает
он к жизни. Он вообще едва ли думал о чем-нибудь, потому что все его душевные ощущения были словно истолчены в ступе. Он тщетно пытался собрать свои мысли, они сейчас же снова рассеивались и текли дальше;
317
воспоминания, надежды, злоба, нежность и единая, великая ненависть против всего ложного, что по неизбежной силе вещей, управляет миром, смешались в его мозгу, как будто температура его внутреннего огня быстро
поднялась и обратила в жидкую форму все твердые составные части его мозга. Он часто вздрагивал и вдруг разом замер, — со стороны Марлот донесся звук барабана,
пронесшийся над полем и повторенный эхом Волчьего
ущелья. Сначала продолжительная, дробь: тррррррром!
И потом удар за ударом, тяжелые, глухие, словно заколачивают гроб и боятся нарушить тишину дома. Тррром!
Тррром! Тром-тром! Он вынул часы. Без четверти семь!
Все произойдет через четверть часа! Он хотел вернуться,
чтобы видеть это! Нет, ведь он же сам убежал! Он ни за
что на свете не хочет этого видеть! Потом он взобрался
на дерево. Отсюда ему была видна деревня, такая светлая и веселая среди садов, и церковная башня, возвышающаяся над крышами. Больше он ничего не видел. Он
держал в руках часы и следил за секундной стрелкой!
Она бегала по маленькому циферблату так быстро, так
быстро! Длинная минутная стрелка передвигалась каждый раз, как секундная обегала круг, а часовая стрелка,
казалось, стояла неподвижно, хотя незаметно двигалась
и она.
До семи оставалось только пять минут. Он крепко
ухватился за гладкую черную буковую ветвь. Часы дрожали в его руке, кровь стучала в ушах, и голова горела
как в огне. Крак! — раздался звук, словно ломали доску
и над черепитчатого крышей и белой яблоней поднялся голубой дымок, поплыл над деревней голубоватобелый, как весеннее облачко, и вдруг над облаком появилось одно колечко, другое, много, словно стреляли
не в стену, а в воздух по голубям.
Не все были так дурны, как я думал, мелькнуло у него
в голове, когда он слезал с дерева, несколько успокоившись после случившегося. Теперь зазвонил маленький деревенский колокол, возглашая душевный мир
318
и покой для мертвых, исполнивших свой долг, но не
для живых, исполнивших свой! Солнце зашло, бледно-
желтый месяц начал краснеть и светить ярче, когда лейтенант подвигался со своим отрядом к Монкуру, все
еще преследуемый звуками колокола. Отряд вышел
на большое Немурское шоссе, и казалось, что эта дорога, обсаженная двумя рядами тополей, была создана исключительно для маршировки. И они шли, пока
не наступила ночь. В последних рядах начали уже перешептываться и совещаться, не обратиться ли к капралу
с просьбой доложить лейтенанту, что местность не безопасна и уже пора вернуться на постой, чтобы успеть
выступить с рассветом, когда сам лейтенант вдруг скомандовал: «Стой!» Они находились как раз на возвышенности, откуда было видно Марлот. Лейтенант стоял неподвижно, весь насторожившись, как гончая при
виде целого выводка тетеревов. Снова забил барабан!
Часы на Монкуре пробили девять и потом забили в Грё-
це, Бурроне, Немуре, и тогда на всех маленьких колокольнях начали звонить к вечерне, одно звонче других;
но над всеми выделялся марлотский колокол. Он словно кричал: «Спаси-спаси! спаси-спаси!» А фон Блейхро-
ден не мог спасти. А теперь словно из-под земли раздался удар и почва заколебалась: это был ночной залп
в главной квартире, в Шалоне. И сквозь легкие вечерние облака, которые подобно большим кускам ваты парили над маленькой речкой Лунной, выглянул месяц
и осветил реку, которая подобно потоку лавы выливалась вдали из темной громады леса Фонтенебло, подобного вулкану. Вечер был теплый, но солдаты были бледны, и летучие мыши подлетали совсем близко, задевая
их за уши, как всегда при виде чего-нибудь белого. Все
знали, о чем думал лейтенант, но они никогда еще не
видали его таким странным и боялись, что не все обстояло благополучно в этой бесцельной рекогносцировке,
посреди проезжей дороги. Наконец капрал осмелился
подойти к нему и в форме рапорта доложить, что зорю
319
уже пробили. Фон Блейхроден послушно, как приказ,
выслушал это донесение и скомандовал идти обратно.
Когда, час спустя, они вступили в первые улицы Мар-
лота, капрал заметил, что правая нога лейтенанта была
словно сведена судорогой в колене и шел он не по прямой линии. На рыночной площади лейтенант бросил
свой отряд, не дождавшись молитвы.
Ему не хотелось возвращаться домой. Что-то влекло
его прочь! С широко раскрытыми глазами и раздувающимися ноздрями бегал он взад и вперед, как гончая.
Он оглядывал стены и старался уловить хорошо знакомый запах. Но он ничего не замечал и никого не встретил. Он хотел видеть, где «это» произошло. Но в то же
время он и боялся. В конце концов он утомился и пошел домой. На дворе он остановился и обошел вокруг
кухонные постройки. Здесь он натолкнулся на сержанта и так испугался, что принужден был прислониться
к стене. Сержант тоже испугался, но сдержал себя и доложил:
— Я искал господин лейтенанта, чтобы сделать рапорт!
— Хорошо, хорошо! Все хорошо! Идите к себе и ложитесь! — отвечал фон Блейхроден, как бы боясь выслушать подробности.
— Все благополучно, господин лейтенант, но...
— Хорошо! Ступайте, ступайте! Ступайте! — Он говорил так быстро и безостановочно, что сержант не
успевал вставить ни одного слова и каждый раз, как он
открывал рот, его прерывал поток речи; наконец он решил покориться и идти своей дорогой.
Лейтенант перевел дух; у него отлегло от сердца, как
у ребенка, избегнувшего наказания.
Он прошел в сад, месяц ярко освещал желтую стену кухни, и виноградный ствол простирал свои тощие
ветви, как в долгом-долгом томлении. Но что это? Два,
три часа тому назад он был мертв, без зелени, только судорожно извивались серые сухие ветки, а теперь ствол
320
зазеленел и на нем висели прекрасные, красные гроздья?
Он подошел поближе взглянуть, тот же ли это ствол.
Подойдя к стене, он ступил во что то липкое и почуял приторно-противный запах мясной лавки. И теперь
он увидел, что это был все тот же виноградный ствол, но
штукатурка на стене была расстреляна и обрызгана кровью. Так это было здесь! Здесь произошло это!
Он сейчас же пошел прочь. Войдя в сени, он оступился обо что-то скользкое, приставшее к его ногам. Он снял
сапоги и выкинул их на двор. Затем он прошел в комнату, где ждал его ужин. Он был страшно голоден, но
не мог есть. Он остановился и пристально глядел на накрытый стол. Все было так хорошо приготовлено; белое,
нежное масло было окружено маленькими редисами,
на белой скатерти была вышита метка, которая, как он
заметил, не имела начальных букв ни его имени, ни его
жены; круглый овечий сыр красиво лежал на виноградных листках; прекрасный белый хлеб, так не похожий
на черный, ржаной, красное вино в граненом графине
и розоватые ломтики жиге, — все, казалось, было приготовлено дружеской рукой, а не из боязни контрибуции
и требований. Но ему было страшно прикоснуться к еде.
Он схватил звонок и позвонил. Сейчас же вошла хозяйка
и молча остановилась у дверей. Она стояла, глядя ему на
ноги, и ждала приказаний. Лейтенант не знал, что ему
нужно, и не помнил, зачем он позвонил. Но он должен
был что-нибудь сказать.
— Вы сердитесь на меня? — проговорил он.
— Нет, сударь, — тихо отвечала женщина. — Вам что-
нибудь угодно, сударь? — спросила она, снова взглядывая на его ноги.
Он поглядел на пол, чтобы понять, на что она смотрит, и увидал, что он стоит в одних носках и по всему
полу идут красные следы с отпечатком пальцев, потому
что носки его разорвались от долгой ходьбы.
— Дайте мне вашу руку, добрая женщина, — сказал
он, протягивая ей свою.
321
— Нет, — отвечала женщина, взглянула ему прямо
глаза и вышла.
Это оскорбление как бы придало мужества фон
Блейхродену; он взял стул и сел к столу. Он поднял
крышку над блюдом с мясом, но услыхав запах мяса, он
почувствовал себя дурно; он встал, открыл окно и выкинул на двор все блюдо. Он дрожал всем телом и чувствовал себя больным. Свет резал ему глаза, и все яркие краски раздражали его. Он выбросил за окно бутылку вина
и все, что было красного: редиски, береты, палитра —
все последовало за ним. После этого он лег в постель.
Пролежав немного, он различил голоса в соседней комнате. Он не хотел подслушивать, но слова доносились до
него. Он понял, что там пили пиво и разговаривали два
капрала. Они говорили:
— Крепкие молодцы были те два невысокие, ну
а длинный был слаб.
— Это еще не значит, что он был слаб, если он как
тряпка повалился у стены, ведь он просил привязать его
к стволу, потому что он хотел стоять.
— Ну, а разве другие, черт меня побери, не стояли
сложив руки на груди, словно перед фотографом?
— Да, а когда священник вошел к ним в бильярдную
и сказал, что пришел их конец, то у них ноги подкосились, так, по крайней мере, рассказывал сержант, но они
не кричали и не просили о пощаде!
— Да, чертовы молодцы! Твое здоровье!
Фон Блейхроден зарывался головой в подушку и зажимал себе уши! Потом он встал. Словно какая-то сила
толкала его к двери, за которой шла беседа. Ему хотелось еще послушать, но солдаты понизили голос. Он
подкрался к двери и, согнувшись, приложил ухо к замочной скважине.
— А ты видел наших солдат? Лица у них были серые,
как вот этот пепел в трубке, и многие стреляли в воздух.
— Только не болтай об этом.
322
— Они получили по заслугам. Они вернулись на несколько фунтов легче, чем пошли!
— Точно дроздов расстреливали картечью.
— А ты видел маленьких певчих в красном, они жгли
ладан и пели? А те покатились на гряды гороха, как воробьи, трепыхали руками, как крыльями, и закатывали
глаза.
— А потом пришли старухи и подобрали их останки!
— О! О! О! Ничего не поделаешь — мы на войне! Твое
здоровье!
Фон Блейхроден наслушался довольно; кровь прилила ему к голове, и он не мог спать. Он вышел в соседнюю
комнату и попросил солдат разойтись.
Потом он разделся, намочил голову холодной водой,
взял Шопенгауэра и лег. Он читал с сильно бьющимся
сердцем: «Рождение и смерть в равной степени относятся к жизни и находятся между собой в равновесии,
как взаимные условия или как полюсы общего процесса жизни. Мудрейшая из всех мифологий — индийская,
выражает это тем, что своему богу Шиве с ожерельем
из мертвых голов, символу разрушения и смерти, дает
атрибутом лингам, символ зарождения... Смерть — это
болезненное развязывание узла, завязанного в сладострастии творчества; она могущественное разрешение
основной ошибки нашего существования; это — освобождение от заблуждения».
Он выронил книгу; ему казалось, что кто-то кричит
и бьется на его постели! Кто же лежит здесь? Он увидал тело, нижняя часть которого была сведена судорогами, а грудь напряженно выпятилась, и из-под простыни
раздавался какой-то странный, глухой крик. Да ведь это
было его собственное тело! Разве он раздвоился, что он
видит и слышит сам себя, как другого человека? Крик
все не смолкал! Дверь растворилась, и вошла хозяйка,
вероятно не дождавшись ответа на стук.
323
— Что прикажите, господин лейтенант? — спросила она с горящими глазами и какой-то особенной улыбкой.
— Я? — переспросил больной, — ничего! Но ему, по-
видимому, очень плохо и надо бы позвать доктора.
— Здесь нет доктора, нас всегда лечил священник, —
отвечала женщина, уже не улыбаясь.
— Тогда пошлите за священником! — сказал лейтенант, — хотя он их недолюбливает!
— Но если он болен, он нуждается в них! — сказала
хозяйка и исчезла.
Когда вошел священник, он прямо подошел к постели и взял за руку больного.
— Как вы думаете, что с ним? — спросил Блейхро-
ден. — Чем он болен?
— Угрызениями совести! — коротко ответил священник.
Фон Блейхроден возмутился:
— Угрызения совести в том, что он исполнил свой
долг!
— Да, — сказал священник и, намочив полотенце,
обвязал им голову больного. — Выслушайте меня, если
можете. Вы приговорены! Ваша участь еще ужаснее, чем
тех троих! Слушайте меня хорошенько! Мне знакомы
эти симптомы! Вы стоите на границе безумия. Вы должны попытаться до конца продумать эту мысль! Думайте
о ней сильно, и вы почувствуете, как успокаивается ваш
ум. Смотрите на меня и, если можете, следите за моими словами! У вас произошло раздвоение личности! Вы
видите себя, как другого человека. Как вы дошли до этого? Видите, общественная ложь заставляет нас всех раздваиваться. Когда вы сегодня писали вашей жене, вы
были искренний, простой, добрый человек; но, говоря
со мной, вы были другим! Как актер теряет в себе человека и весь является скопищем своих ролей, так и общественный деятель состоит, по крайней мере, из двух личностей. Когда вследствие потрясения, возбуждения, ко¬
324
лебания мысли в душе образуется трещина, то природа
человека раздваивается, созерцает другого себя.
Я вижу на полу книгу, которая мне хорошо знакома. Это был очень глубокий человек, может быть, единственный. Он созерцал все ничтожество и суету нашей
земной жизни, словно он научился от нашего Господа,
но все-таки он продолжал оставаться двойственным, потому что жизнь, происхождение, привычки, человеческая слабость тянули его к себе. Слышите, сударь, я читал в своей жизни не только молитвенник! И я говорю,
как врач, а не как священник, потому что мы оба, — не
теряйте моей мысли — понимаем друг друга! Неужели
вы думаете, я не чувствую проклятия двойственной жизни, какую я веду! Я не сомневаюсь в священных вопросах,
потому что они перешли мне в плоть и кровь. Но я знаю,
когда я говорю, я говорю не во имя Бога! Мы питаемся
ложью еще в чреве матери, мы впитываем ее с молоком
ее груди, и кто при современных условиях мог бы говорить только истину... да, да. Вы следите за мной?
Больной жадно слушал его, и глаза его, не моргая,
пристально смотрели на священника.
— Обратимся теперь к вам, — продолжал священник. — Существует маленький изменник с факелом
в руках, маленький ангел, который ходит с корзиной роз
и посыпает ими отбросы жизни; это ангел лжи и называется он Красотой! Язычники в Греции поклонялись
ему, властелины покровительствуют ему, потому что он
помрачает зрение народа и он не видит вещей, каковы
они в действительности. Он проходит по миру и сеет обманы! Почему вы, военные, одеваетесь в пышные мундиры с золотом и яркими красками? Почему вы живете всегда под звуки музыки, с развевающимися знаменами? Не для того ли, чтобы скрыть то, что лежит за вашим
блеском? Если бы вы любили истину, вы ходили бы как
мясники в белых блузах, чтобы ясно были видны пятна
крови; вы ходили бы с ножом, как мясник на бойне с топорами, залитыми кровью и липкими от сала! Вместо
325
музыкантов вы гнали бы перед собой толпу воющих людей, людей сошедших с ума от вида поля битвы; вместо
знамен вы несли бы саваны, а в обозе везли бы гробы.
Больной, извиваясь в судорогах, складывал умоляюще руки и кусал себе пальцы. Священник глядел на это
страшное зрелище жестоко, неподвижно, с ненавистью
и продолжал:
— По природе ты добрый малый, и я хочу наказать
в тебе не этого доброго человека, нет, я наказываю тебя,
как представителя, каким ты называл себя, и твое наказание послужит другим предостережением! Хочешь
увидеть их трупы? Хочешь?
— Нет, во имя Бога! — закричал больной в ужасе; холодный пот страха выступил на нем, и рубашка липла
к плечам.
— Твоя трусость доказывает, что ты человек и трус,
как все люди.
Эти слова, как удар плети, сразу отрезвили больного.
Лицо его приняло спокойное выражение, тело выпрямилось, и спокойно, как человек совершенно здоровый,
он сказал:
— Ступай отсюда, посланец дьявола, ты сведешь
меня с ума!
— Но я не приду больше, если ты будешь звать меня, —
сказал тот, — подумай об этом! Помни, не моя вина, если
ты не сможешь заснуть; может быть, это вина тех, что лежат там, в бильярдной зале! На бильярде, слышишь?
Он распахнул дверь в бильярдную и в комнату больного ворвался сильный запах карболовой кислоты!
— Нюхай, нюхай ты! Это не то, что нюхать порох; это
не то, что телеграфировать об этом домой: «Крупное
поражение, трое мертвых, и один сумасшедший, слава
Всевышнему!» Это не то, что писать стихи и бросать цветы на улицу и плакать в церкви! Это не победа! Это бойня, слышите, это бойня, мясник!
Фон Блейхроден вскочил с постели и бросился из
окна. На дворе его схватили несколько человек солдат, от
326
которых он отбивался, кусаясь. Потом его связали и отвели в амбулаторию главной квартиры, а оттуда, признав его сумасшествие, его перевели в госпиталь.
* * *
Солнечное утро в конце февраля 1871 года. По крутому подъему близ Лозанны медленно поднималась
молодая женщина под руку с господином средних лет.
Она была на последнем месяце беременности и тяжело
опиралась на руку спутника. Лицо ее было молодое, но
мертвенно-бледное от горя, и одета она была в черное.
Спутник ее не был одет в траур, из чего встречные заключали, что он ей не муж. Он казался сильно огорченным, наклонялся по временам к маленькой женщине
и что-то говорил ей; потом он снова погружался в свои
мысли. Дойдя до площади перед прежней таможней,
они остановились перед гостиницей «А l'ours».
— Еще подъем? — спросила она.
— Да, сестренка, — отвечал он. — Присядем отдохнуть.
И они опустились на скамью перед гостиницей. Сердце ее билось медленно, а грудь тяжело дышала, словно
ей не хватало воздуху.
— Мне жаль тебя, брат, — сказала она. — Я вижу, ты
скучаешь о своих!
— Ради Бога, сестра, не будем говорить об этом, —
возразил он. — Когда я думаю о своих, я знаю, что нужен там при посеве, но ведь ты моя сестра, а свою кровь
и плоть не бросишь в нужде.
— Теперь мы увидим, — продолжала госпожаа фон
Блейхроден, — поможет ли ему этот воздух и это новое
лечение. Как ты думаешь?
— Разумеется, да, — отвечал брат, глядя в сторону
чтобы скрыть неуверенное выражение лица.
— Какую зиму пережила я во Франкфурте. Как жестока бывает судьба! Мне кажется, я легче перенесла бы
его смерть, чем такое погребение заживо.
327
— Но надежда живет всегда, — сказал брат безнадежным тоном. Он задумался о своих детях и полях. Но он
сейчас же устыдился своего эгоизма, что он не может так
же живо, как она, чувствовать это горе, свалившееся на
него без всякой вины с его стороны, и он вознегодовал
на себя.
В эту минуту откуда-то с высоты раздался звонкий,
долгий крик, похожий на свисток локомотива, и потом
еще раз.
— Разве так высоко в горах проходит железная дорога? — спросила госпожаа фон Блейхроден.
— Да, вероятно, — отвечал брат и прислушался, широко раскрыв глаза.
Крик снова повторился! Теперь казалось, что кричит
утопающий.
— Вернемся домой, — сказал господин Шанц, побледнев как полотно. — Ты не сможешь сегодня подняться так высоко, а завтра мы возьмем экипаж.
Но она хотела идти во что бы то ни стало. И они снова
пустились в путь. Это был тяжелый подъем. В зеленой
изгороди боярышника, окаймлявшей дорогу, прыгали
черные дрозды с желтоватыми клювами; по стенам, увитым плющом, бегали наперегонки ящерицы и исчезали
в расщелинах; весна стояла в полном расцвете, да впрочем весны и не было, а по краям дороги цвели примулы и подснежники. Но путники ни на что не обращали внимание. Дойдя до половины подъема, они снова
услышали таинственные крики. Словно охваченная внезапным предчувствием, госпожа фон Блейхроден взглянула на брата своим тревожным взглядом, как бы желая
прочесть в его глазах подтверждение своего подозрения, и потом беззвучно поникла на дорогу, желтоватая
пыль которой окружила ее как облаком. Она лишилась
чувств.
Пока брат соображал, как ему поступить, случайный прохожий уже побежал за экипажем. Когда молодую женщину положили в экипаж, она почувствовала
328
приближение родов, и теперь из глубочайших долин
скорби раздавалось два крика, призыв двух людей; а господин Шанц, потерявший шляпу, стоял на тропинке и думал, глядя на ясное весеннее небо: «Если бы эти
крики донеслись туда! Но, должно быть, это слишком
высоко!»
Наверху, в больнице, фон Блейхроден был помещен
в комнате, выходившей на юг. Стены были обиты войлоком и выкрашены в бледно-голубой тон, на котором
можно было различить легкие контуры ландшафта. Потолок изображал шпалерник с виноградными лозами.
Пол был устлан ковром, а под ковром лежал слой соломы. Мебель была набита конским волосом, и вся деревянная обшивка была обтянута материей.
Из комнаты нельзя было угадать, где находится дверь;
этим от больного отдалялась всякая мысль о бегстве или
о заключении, что при возбужденном состоянии опаснее всего. В окна на всякий случай были вставлены решетки, но все они имели вид лилии и зелени и были так
хорошо выкрашены, что их нельзя было принять за решетки.
Безумие фон Блейхродена имело форму угрызений
совести. Он убил виноградаря при таинственных условиях, в которых он никак не мог признаться по той простой причине, что он их не помнил. Теперь он сидел
в тюрьме и ждал исполнения приговора, потому что
он был приговорен к смерти. Но у него бывали и минуты сознания. Тогда он прикалывал к стенам большие
листы бумаги и исписывал их силлогизмами. Тогда он
вспоминал, что приказал расстрелять вольных стрелков; но он не помнил, что был женат; посещение жены
он принимал как визит ученика, которому он давал уроки логики. Он установил следующее положение: вольные стрелки были изменники, и приказ предписывал
расстрелять их! Однажды его жена, обязанная во всем
329
соглашаться с ним, имела неосторожность выразить сомнение в том, что вольные стрелки изменники. Тогда
он сорвал со стены все свои листы с выводами и сказал,
что он готов посвятить двадцать лет на доказательство
этого положения, потому что каждое положение прежде всего надо доказать. Кроме того, он составлял великие проекты для блага человечества. «К чему клонятся все наши стремления здесь на земле? — спрашивал
он. — Почему правит король, проповедует священник,
сочиняете стихи поэт, пишет художник. Чтобы доставить телу азот. Азот самое дорогое из всех средств питания, поэтому мясо стоит дороже всего. Азот — это
интеллект, поэтому-то богатые, питающиеся мясом,
развитее других, которые питаются углеводом. В настоящее время на земле не хватает азота, и поэтому возникают войны, стачки рабочих, пиетизм и государственные перевороты. Надо открыть новый источник азота.
Фон Блейхроден открыл его, и теперь наступит всеобщее равенство; свобода, равенство и братство наконец
осуществятся на земле. Этот неисчерпаемый источник
называется — воздух. Он содержит в себе 79 процентов
азота, и надо каким бы то ни было образом привести
к тому, чтобы легкие прямо потребляли его и перерабатывали в пищу для тела, без того, чтобы он стущал-
ся предварительно в жирах, зерновых хлебах и овощах,
чтобы потом в виде мяса животного переходить в тело.
Над этой проблемой будущего работал фон Блейхроден. С разрешением ее землепашество и скотоводство
станут совершенно излишними, и золотой век снова воцарится на земле.» А потом он опять погружался в мысли о совершенном убийстве и чувствовал себя
глубоко несчастным.
В то самое февральское утро, когда госпожа фон
Блейхроден шла по дороге к больнице и принуждена была вернуться, муж ее сидел в своей новой комнате и глядел в окно. Сначала он смотрел на виноградную
зелень на потолке и на ландшафты на стенах, потом он
330
уселся в покойное кресло у окна, откуда открывался свободный вид. Он был спокоен, потому что вечером принял холодную ванну и хорошо провел ночь. Он знал, что
стоит февраль, но не знал, где он находится. Первое, что
ему бросилось в глаза, это отсутствие снега, и это изумило его, потому что он никогда не был в южных странах.
Перед окном стояли зеленые лавровые кусты, сплошь
усеянные белыми бутонами, и лавровишневые с их вечно блестящей, светло-зеленой листвой, буксы, ильм, весь
обвитый плющом так, что казалось, что дерево стоит
в полной зелени. По травке, усеянной примулами, шел
человек и резал серпом траву, а маленькая девочка, идя
за ним, сгребала ее. Он снова взял календарь и прочел:
«Февраль». Косят в феврале. Где же я? Потом взгляд его
погрузился за пределы сада, и он увидел мягкие склоны глубокой долины, зеленые, как летние луга; там и тут
виднелись маленькие деревушки и церкви; высокие плачущие ивы были покрыты молодой зеленью. «В феврале», — подумал он снова. За лугами лежало озеро, спокойное, светло-голубое, как воздух, а на другом конце
озера лежала голубая страна; над голубой страной высилась горная цепь; но над горной цепью лежало еще
что-то другое, похожее на облака; эти облака были свежи и нежны, как свежевымоченная шерсть, но они имели острые очертания, по которым проходили по временам какие-то легкие тени. Он не знал, где он находится,
но это было так прекрасно, что он не мог быть на земле.
Или он умер и перешел в другой мир? Во всяком случае
это не Европа! Вероятно, он умер! Он погрузился в тихие мечты и старался освоиться со своим новым положением.
Он снова выглянул в окно и увидал всю залитую солнцем картину, окаймленную рамой окна и пересеченную
резными узорчатыми решетками, которые резко выделились и как бы колебались в воздухе. Сначала он испугался, но быстро успокоился; он опять начал глядеть на
картину, особенно на острые розовато-красные облака.
331
И тогда он почувствовал неожиданную радость и свежесть в голове; у него было такое ощущение, словно все
извилины его мозга лежали сильно перепутавшись, а теперь начали распутываться и ложиться по местам. И он
так обрадовался, что в груди у него что-то запело, но так
как он никогда в жизни не пел, то вместо пенья из его
груди вырывались одни крики, крики восторга, и это
они-то донеслись до его жены и повергли ее в отчаянье.
Проведя так с час времени, он вдруг вспомнил картину,
виденную им в каком-то кегельбане в окрестностях Берлина; на ней изображался швейцарский ландшафт, и теперь он понял, что находится в Швейцарии и что острые
облака — это Альпы.
Когда доктор, делая свой вторичный обход, зашел
к фон Блейхродену, он застал его спокойно сидящим на
стуле перед окном, и его невозможно было оторвать от
созерцания прекрасного вида. Но он был в полном сознании и вполне понимал свое положение.
— Доктор, — сказал он, указывая на решетки, — зачем вы загораживаете такой прекрасный вид? Разве вы
не хотите позволить мне подышать воздухом? Мне кажется, это было бы мне полезно, и я вам обещаю не убегать!
Доктор взял его за руку, стараясь незаметно пощупать ему пульс.
— Пульс только семьдесят, милый доктор, — сказал
пациент, — и я спокойно спал всю ночь. Вам нечего бояться.
— Меня радует, — сказал врач, — что лечение действительно помогло вам. Вы можете погулять.
— Знаете, доктор, — заговорил оживленно больной, — мне кажется, что я умер и снова вернулся к жизни на другой планете, так здесь прекрасно! Никогда мне
и не мечталось, что земля может быть так прекрасна!
— Земля везде прекрасна, друг мой, где ее еще не испортила культура, а здесь природа так сильна, что она
противостоит всем попыткам человека. Неужели вы ду¬
332
маете, что ваша страна всегда была так некрасива, как
теперь? Нет, там, где теперь песчаные пустыни, не могущие прокормить и козы, некогда шумели прекрасные
леса дубов, буков и сосен, в тени которых водилось много дичи, и тучные стада отборного северного скота откармливались желудями.
— Вы последователь Руссо, доктор, — произнес пациент.
— Руссо был женевец, господин лейтенант! Там вон,
на берегу озера, в той глубокой бухте, что видно как раз
за вершиной илима, там родился он, страдал, там были
сожжены его «Эмиль» и «Общественный договор», эти
евангелия природы, и там налево у подножья Валлийских Альп, где находится маленький Кларан, написал он
книгу любви, «Новую Элоизу». Вы видите перед собой
Женевское озеро!
— В этой тихой долине, — продолжал врач, — где
живут мирные люди, искали спасение все раненые духом! Видите направо, за маленьким мысом с башнями
и тополями — там Ферней. Туда бежал Вольтер, непризнанный в Париже, и здесь он обрабатывал землю и построил храм Высшему Существу. А там дальше лежит
Коппэ. Там жила госпожа Сталь, злейший враг предателя Наполеона, та, что осмелилась учить французов,
своих соотечественников, что немецкая нация не заклятый враг Франции, потому что нации не ненавидят друг
друга! А здесь налево, на берегу этого спокойного озера, проклинала истерзанная душа Байрона, который
подобно связанному Титану вырвался из сетей, которыми реакция хотела связать его сильную душу. И здесь
в «Шильонском узнике» он излил всю ненависть к тирании, накипевшую в его душе. А вон там под высотами Граиммон у маленькой рыбачьей деревушки он пытался однажды утопиться, но жизнь его еще не совершила своего круга. Сюда бежали они все, не могущие
вынести запаха тления, которое, как холера, тяготело
над Европой после посягательств Священного Союза
333
на только что завоеванные права революции, т. е. человека. А здесь на тысячу футов вниз под вашими ногами творил Мендельсон свои грустные песни, здесь Гуно
написал своего Фауста. Разве вы не видите, что вдохновило его написать Вальпургиеву ночь? Вот те пропасти
Савойских Альп! Здесь гремел Виктор Гюго своим резким стихом против декабрьских изменников! А здесь —
поразительная шутка судьбы — в маленьком, тихом,
скромном Веве, куда никогда не залетал северный ветер, сам ваш император старался забыться от ужасных
картин Садовой и Кэннигтретца. Там скрывался русский Горчаков, когда он почувствовал, что почва колеблется под его ногами; здесь Джон Руссель омыл с себя
всю политическую неопрятность и дышал свежим, чистым воздухом; здесь старался Пьер привести в порядок
свои мысли, часто противоречивые и спутанные, благодаря скрещивающимся политическим потокам, но, по-
моему, все-таки всегда честные. И пусть теперь, когда
он должен разделить судьбу своего народа, вспомнит
он о невинных часах, когда его ум на покое мог вступать
в прения сам с собой здесь, среди мягкого, но строгого величия природы. А там, в Женеве, господин лейтенант! Там никогда не жил король со своим двором, но
там родилась мысль, такая же великая, как христианство, и апостолы ее тоже носят крест, красный крест на
белом знамени! И когда маузеровские орудия целились
во французского орла, а французские ружья в немецкого, другие свято держали красный крест, те, которые не
склонятся перед черным крестом, и я думаю, будущее
победит этим знаменем.
Пациент, спокойно выслушавший эту необычную
речь, такую чувствительную, чтобы не сказать сантиментальную, и больше подходящую священнику, чем врачу,
чувствовал себя несколько смущенным.
— Это все мечты, доктор, — сказал он.
— Вы тоже начнете мечтать, когда поживете здесь месяца три, — отвечал врач.
334
— Так вы верите в целебную силу природы? — спросил пациент уже менее скептично, чем раньше.
— Я верю в бесконечную силу природы, которая может помочь болезням культуры! — отвечал врач. — Чувствуете вы себя достаточно сильным выслушать хорошую новость? — продолжал он, пристально глядя на
больного.
— Вполне, доктор!
— Ну, так мир заключен!
— Боже... какое счастье! — вырвалось у больного.
— Да, разумеется, — сказал врач, — но не расспрашивайте меня, сегодня вы ничего больше не должны знать!
Подите погулять, но помните одно! Ваше выздоровление не пойдет так гладко, как вы думаете! У вас могут
быть повторные припадки! Воспоминания, видите ли,
наш злейший враг и... ну, идите за мной!
Доктор взял больного за руку и повел его в сад. Никакие решетки и стены не загораживали дороги; сад был
обнесен живой изгородью, но за изгородью шли глубокие, широкие канавы, которые нельзя было перепрыгнуть. Лейтенант искал слов для выражения своего восторга, но он чувствовал, что старые, знакомые слова плохо подходили к выражению его чувств, и он кончил тем,
что смолк, прислушиваясь к чудной, тихой музыке нервов. Ему казалось, что все струны его души звучали согласно, и он ощутил покой, какого он не знал уже много,
много лет.
— Вы все-таки надеетесь на мое выздоровление? —
спросил он врача с грустной улыбкой.
— Вы на пути к выздоровлению, как я вам уже сказал,
но вы еще не вполне здоровы.
Они дошли до маленьких сводчатых ворот, в которые
стремились пациенты в сопровождении служителей.
— Куда они все идут? — спросил больной.
— Идите за ними и вы увидите, — сказал врач, — разрешаю вам это.
335
Фон Блейхроден вышел в ворота. Врач знаком подозвал к себе служителя.
— Спуститесь вниз в отель Фокон к госпоже фон
Блейхроден, — сказал он, — поклонитесь ей и передайте, что в здоровье ее мужа наступило улучшение, но он
еще не вспомнил о ней. А когда вспомнит о семье — он
будет спасен!
Служитель ушел, а врач поспешил за больным.
Фон Блейхроден вошел в большую залу, не напоминавшую ничего из виденного до сих пор. Это не была ни
церковь, ни театр, ни аудитория, ни ратуша, но все вместе взятое. На заднем плане находилась ниша с тремя
окнами с разноцветными стеклами; цвета были мягкие,
нежные, словно подобранные художником, и свет, проникавший сквозь них, казался единым великим гармоничным Dur-аккордом. Он производил на больного то
же впечатление как аккорд c-dur, которым Гайдн рассекает мрак хаоса, когда в его оратории после долгой мучительной работы хора разобраться в хаотических силах
природы, Господь восклицает: «Да будет свет!», и ему
вторят херувимы и серафимы.
Под окном была сталактитовая ниша, из свода которой тихо струился маленький фонтан, падающий в бассейн. Колонны, окружавшие нишу, не принадлежали
ни к какому известному стилю и были сплошь покрыты темным мягким мохом. Нижние панели стен были
украшены еловыми ветвями; а стены украшены вечнозелеными растениями: лаврами, каменным дубом,
омелой; все в орнаментах, но без всякого определенного стиля, иногда они как бы образовывали буквы, но затем снова переходили в мягкие фантастичные очертания растений, напоминающие арабески Рафаэля. По
окнам висели большие венки, как на майских праздниках, а вдоль фриза потолка тянулся орнамент, непохожий ни на египетский лотос, ни на греческий меандр,
ни на римские вариации аканта, ни на фантастичность
336
романтики, ни даже на трилистник и крестовник готики. Фон Блейхроден, оглядевшись, увидел, что зала заставлена скамьями, на которых в тихом благоговении
сидят пациенты лечебницы. Он сел на одну из скамей
и услыхал возле себя вздох. Он увидел человека лет сорока, который плакал, закрыв лицо руками. У него был
нос с горбиной, усы и борода, и в профиль он был похож на портрет, виденный им на французских монетах. Это, несомненно, был француз. Так вот где им пришлось встретиться, враг сидел рядом с врагом, и каждый оплакивал что-то свое. Что? Что они исполнили
свой долг сынов родины! Фон Блейхродена охватило
какое-то волнение и беспокойство, как вдруг раздалась тихая музыка. Орган играл какой-то хорал на Dur;
это не была лютеранская или католическая, кальвинистская или греческая музыка; но она говорила душе,
и больному казалось, что он слышит слова, полные
утешения и надежды. И вот на кафедру вошел человек и остановился полускрытый сталактитовой нишей.
Это был священник? Нет, он был одет в светло-серый
костюме, в открытый жилет была видна крахмальная
рубашка и он носил голубой галстук. В руках у него не
было книги. Но он заговорил. Он говорил мягко и просто, как говорят в обществе друзей; он говорил о Завете
христианства любить ближнего, как самого себя, терпеливо, милостиво и всепрощающе относиться к врагам; он говорил о том, что Христос представлял себе
все человечество как единый народ, но что злая натура человека противодействовала великой идее и все человечество сгруппировалось в нации, секты, школы; но
он все-таки выразил твердую надежду, что скоро осуществятся основные тезисы христианства. Проговорив
с четверть часа, он сошел с кафедры, вознося краткую
молитву к Всемогущему Боту, не называя Иисуса, Деву
Марию, Святого Николая, Анастасию или других святых, что указывало бы на одно из официальных вероисповеданий и могло бы возбудить страсти.
337
Фон Блейхроден проснулся, как от сна. Так он в церкви! Он, который уже пятнадцать лет ни разу не был
в церкви, которому так наскучила мелочность религиозных распрей. И здесь, в сумасшедшем доме, он встречает осуществление свободной церкви; здесь католики,
православные, лютеране, кальвинисты, цвинглианцы,
англиканцы сидят рядом, и общая их молитва несется
к общему Boiy. Какой уничтожающей критикой явилась эта зала для всех этих сект, которые эгоизм людей
обратили во столько же религий, пожирающих и поносящих одна другую! Какое подкрепление для нападок
«неверующей» церкви на это политико-династическое
христианство!
Фон Блейхроден обвел глазами эту великолепную
залу, чтобы отогнать вызванные им страшные картины. Глаза его долго блуждали, пока наконец не остановились на стене напротив кафедры. Там висел огромных размеров венок, и в нем стояло написанным слово, буквы которого были составлены из еловых ветвей.
Он прочел французское слово Noel и перевел его себе
«Рождество». Какой поэт замыслил это? Какой знаток
человечества, какой глубокий ум постиг, как разбудить
самое прекрасное и чистое из всех воспоминаний? Разве помраченный разум может не ощутить жгучей жажды света и ясности, вспоминая этот праздник света, когда темные дни приходят к концу с наступлением нового
года, или, по крайней мере, дают на это надежду! Разве мысль о детстве, когда никакие религиозные разговоры, полемическая ненависть, тщеславные пустые мечты
не затемняли правосознание чистого разума, разве эта
мысль не пробудит в душе отзвуков, которые заглушают весь тот звериный вой, что раздается в жизни в борьбе за хлеб, а еще чаще за славу! Он задумался и спросил
себя: как может человек, такой добрый в детстве, становиться чем старее, тем хуже? Учат ли нас быть дурными
воспитание, школа — это ценное достояние культуры?
338
Возможно! Чему учат нас первые учебники? — думал
он. Они учат, что Бог — мститель, что грехи отцов наказываются в детях до третьего и четвертого колена; они
учат нас, что герои — эти люди, восстановляющие народ против народа и грабящие земли и государства; что
величайшие люди — это те, кому удалось добиться той
славы, ничтожность которой все видят и к которой все-
таки все стремятся; государственные мужи — это те, что
хитростью достигают крупных, но не высоких целей, вся
заслуга которых заключается в отсутствии совести и которые всегда побеждают в борьбе с людьми, имеющими
совесть! И чтобы наши дети могли научиться всему этому, родители переносят всевозможные жертвы, отречение и страдание, разлучаясь с детьми! Разве весь мир не
сумасшедший дом и разве это место не самое благоразумное, где он когда-либо был?!
Он снова глядел на единственное слово, написанное
в церкви, и мысленно повторял его; в отдаленных тайниках его памяти начала восстановляться картина, так же
как на серой пластинке негатива, когда фотограф, вынув
ее из аппарата, поливает железным купоросом. Ему казалось, что он вспоминает свой последний рождественский вечер. Последний? Нет, тогда он был во Франкфурте. Так значит, предпоследний. Это был первый вечер,
что он провел в доме своей невесты, потому что накануне они обручились. Он видел уютный домик старого
священника, своего тестя; он видел низкую залу с белым
буфетом, фортепьяно, чижиком в клетке, бальзамином
на окнах, шкафом с серебряным кофейником, трубками
частью из пенки, частью из красной глины; а по комнате
ходит дочь хозяина дома и вешает на елку орехи и яблоки. Дочь хозяина дома! Тут словно молния пронизала
его помрачившееся сознание, словно прекрасная, безопасная зарница поздним летом, когда любуешься на нее
с балкона не боясь громовых ударов. Он был помолвлен,
он был женат, у него есть жена; она снова привязывает
339
его к жизни, которую он раньше так ненавидел и презирал. Но где же она? Он должен видеть, отыскать ее сейчас же! Он хочет сейчас же идти к ней или он умрет... от
нетерпения.
Он быстро вышел из церкви и сразу натолкнулся на
врача, который поджидал его, чтобы видеть результат
посещения церкви. Фон Блейхроден схватил врача за
плечи и, глядя ему прямо в глаза, спросил прерывающимся голосом:
— Где моя жена? Ведите меня сейчас же к ней. Сейчас же! Где она?
— Она с дочерью ждет вас в городе на Rue de Rourg, —
спокойно отвечал врач.
— Моя дочь? У меня дочь! — воскликнул больной
и зарыдал.
— Вы очень чувствительны, господин фон Блейхроден, — сказал, улыбаясь, врач.
— Да, доктор, здесь легко стать таким.
— Так идите и одевайтесь, — сказал доктор, беря его
за руку, — через полчаса вы будете у своих и снова обретете себя самого.
И они прошли в обширные сени дома.
* * *
Фон Блейхроден был вполне современный тип. Правнук французской революции, внук Священного Союза,
сын 1830 г., он попал в переходное время между революцией и реакцией. Когда в двадцать лет он очнулся к сознательной жизни, повязки спали у него с глаз; он увидал,
в какую паутину лжи был он окутан от общепринятого
христианства до фетишизма династии; ему показалось,
что он или только что очнулся или что он один единственно разумный заперт в сумасшедшем доме. И, не
видя ни малейшего выхода оттуда, где бы навстречу ему
не смотрели штыки или жерла орудий, он пришел в отчаяние. Он перестал думать о чем бы то ни было, даже
о спасении, и бросился в туманящий, как опиум, песси¬
340
мизм, чтобы по крайней мере обмануть боль, если уж не
было спасения. Шопенгауер стал его другом, а позднее
он полюбил Гартмана, как самого прямолинейного выразителя истины.
Но общество звало его и требовало, чтобы он избрал
себе карьеру. Фон Блейхроден погрузился тогда в научные исследования и избрал из них науку наименее соприкасающуюся с современностью, геологию, или, вернее, одну из отраслей ее, изучающую жизнь животных
и растений исчезнувшего мира, палеонтологию. Спрашивая себя, для пользы ли человечества, он мог только
ответить: для пользы самого себя! Как средство забвения!
Он не мог прочесть газеты, чтобы не встал перед ним фанатизм в виде ужасного безумия, и поэтому он держался вдали от всего, что касалось современности и окружающего мира. И он уже начал надеяться дожить свои дни
спокойно и безмятежно в этом с трудом завоеванном
отупении. Потом он женился; он не мог избежать этого
неизменного закона природы. В супруге он снова обрел
то душевное состояние, которое ему посчастливилось
искоренить в себе, и она стала для него его прежним,
чувствительным Я, на которое он мог радоваться тихо
и спокойно, не выходя из своего укрепления. Она как
бы дополняла его, и он начал уже успокаиваться, но в то
же время он чувствовал, что вся его будущая жизнь построена на двух краеугольных камнях; один из них была
его жена; если он упадет, то разрушится все его здание.
Когда через два месяца после брака ему пришлось расстаться с ней, он перестал быть самим собой. Ему казалось, словно ему не хватает одного глаза, одного легкого,
одной руки, и поэтому он так легко поддался, когда над
ним разразился удар!
При взгляде на ребенка что-то новое зародилось в его
природной душе, которую он называл так в отличие от
общественной души, созданной воспитанием. Он чувствовал теперь себя связанным с семьей, чувствовал, что
не умрет, когда наступит его смерть, но что душа его
341
будет продолжать жить в ребенке; одним словом, он
вполне сознавал, что душа его действительно бессмертна, если даже его тело погибнет в борьбе химических
сил. Он чувствовал себя обязанным жить и надеяться,
хотя по временам его еще охватывало отчаянье, когда
он слышал, как его единомышленники во вполне естественном опьянении победой приписывали счастливый
исход войны нескольким отдельным личностям, созерцавшим поле битвы в подзорные трубы из своих экипажей. Но он порицал в себе этот пессимизм, препятствующий развитию в нем нового сознания, благодаря дурным примерам; из сознания долга он стал оптимистом.
Но он не решался вернуться на родину, боясь снова стать
малодушным; он вышел в отставку, реализировал свое
небольшое состояние и остался в Швейцарии.
* * *
Теплый ясный вечер в Веве осенью 1872 года. В маленьком пансионе La Cedre звонок прозвонил к обеду,
и вокруг большого обеденного стола сошлись пансионеры, хорошо знакомые между собой и живущие дружной семьей, как всегда бывает с людьми, когда они встречаются на нейтральной почве. Сотрапезниками фон
Блейхродена и его жены были грустный француз, которого мы уже встретили в больничной церкви, англичанин, двое русских, немец с женой, испанское семейство
и две тирольки. Беседа по обыкновению текла мирно
и дружески, иногда слегка задевая жгучие вопросы, но
никогда не доводя до вспышек.
— Я никогда не думал, что земля может быть так неестественно прекрасна, как здесь, — говорил фон Блейхроден, любуясь ландшафтом, видневшимся через открытую дверь веранды!
— Природа везде прекрасна! — произнес немец. —
Но, мне кажется, прежде у нас болели глаза!
342
— Это правда, — подтвердил англичанин, — но здесь
она прекраснее, чем в других странах! Случалось вам,
господа, слышать рассказ о диких племенах, кажется,
германцах или венграх, когда они впервые поднялись на
Dent Jaman и увидели Женевское озеро? Они подумали,
что небо опрокинулось на землю и так испугались, что
вернулись обратно. Об этом наверно написано в путеводителе!
— Мне кажется, — заговорил один из русских, —
что чистый, свободный от лжи воздух, которым мы дышим здесь, заставляет нас находить все таким прекрасным, хотя я не моту отрицать, что эта прекрасная природа производит также и обратное действие на наш ум
и мешает нам запутаться в сетях всех наших предрассудков. Но подождите, как только умрут наследники
Священного Союза, как только будут срублены вершины деревьев, то и наша трава снова зазеленеет в лучах
солнца.
— Вы правы, — сказал фон Блейхроден, — но нам не
понадобится рубить деревья! На это есть другие средства, более человеческие. Был некогда писатель, написавший посредственное драматическое произведение,
успех которого зависел от того, кто будет играть главную
женскую роль. Он отправился к первой актрисе и спросил ее, хочет ли она играть эту роль. Она ответила отрицательно. Тогда он забылся настолько, что напомнил ей,
что по контракту ее могут заставить играть. «Это правда — отвечала она, — но я могу создать много затруднений!» Мы тоже можем заставить наших властелинов.
В Англии это является теперь только вопросом бюджета. Парламент вотирует сокращение их удельных имений — и они пойдут своей дорогой! Это путь законных
реформ! Не правда ли, сударь?
— Совершенно верно, — отвечал англичанин. —
Наша королева имеет право играть в крокет и в мяч, но
она не должна вмешиваться в политику!
343
— Но войны! войны! Прекратятся ли они когда-
нибудь? — заговорил испанец.
— Когда женщина получит право голоса, армии будут распущены, — сказал фон Блейхроден. — Не правда
ли? — обратился он к жене.
Госпожа фон Блейхроден кивнула утвердительно.
— Потому что, — продолжал фон Блейхроден, — какая же мать, какая жена или сестра захотят отпустить
своего сына, мужа или брата на эту бойню! И когда не
будет никого, возбуждающего людей друг против друга,
тогда исчезнет и так называемая расовая ненависть. Человек добр, но люди злы, думал наш друг Жан-Жак, и он
был прав. Почему жители этой прекрасной страны более миролюбивы? Почему они выглядят довольнее, чем
в других странах? Над ними не стоят ежедневно и ежечасно грозные призраки; они знают что сами выбирают своих правителей; им нечему завидовать, и ничто не
оскорбляет их. У них нет ни королевской свиты, ни военных смотров, ни парадных спектаклей, при которых слабый человек поддается искушению преклоняться перед
нечистым или несправедливым. Швейцария это миниатюрная модель, по которой будет построена Европа будущего!
— Вы оптимист! — сказал испанец.
— Да, — сказал фон Блейхроден, — а прежде я был
пессимистом!
— Итак, вы думаете, — продолжал испанец, — что
то, что возможно в маленькой стране, как Швейцария,
с тремя миллионами людей и только тремя языками,
может быть осуществимо во всей огромной Европе?
Фон Блейхродена, казалось, охватило сомнение, но
тут заговорила одна из тиролек.
— Простите, — сказала она — вы, сомневаетесь, что
это может быть осуществимо в Европе с ее шестью или
семью языками. Вам кажется, что опыт при стольких
различных нациях был бы слишком смел! А что, если
я укажу вам на страну с двадцатью национальностя¬
344
ми: китайцы, японцы, негры, краснокожие и все европейские нации соединены в одной стране: такова будет
вселенная будущего. А я это видела, потому что я была
в Америке.
— Браво! — сказал англичанин. — Господин испанец,
вы побиты!
— А вы, — продолжала тиролька, обращаясь к французу — вы оплакиваете Эльзас-Лотарингию. Я это вижу!
Война реванша представляется вам неизбежной, вы не
можете допустить, чтобы Эльзас-Лотарингия оставалась
немецкой. Вам кажется, что вы стоите перед неразрешимым вопросом!
Француз утвердительно вздохнул.
— Ну, а если Европа будет, как Швейцария, соединенными штатами, тогда ведь Эльзас-Лотарингия не
будет ни французской, ни немецкой, она будет просто
Эльзас-Лотарингией! Разрешен ли вопрос?
Француз любезно поднял стакан и поблагодарил наклонением головы и грустной улыбкой.
— Вы улыбаетесь, — снова продолжала веселая девушка. — Мы слишком долго улыбались улыбкой отчаянья и недоверия. Будет! Мы собрались здесь из разных
стран Европы! Здесь в этих стенах, где нас никто не подслушивает, мы можем говорить то, что думают наши
сердца, но в народных собраниях, в газетах, в книгах мы
трусим, мы не смеем перестать улыбаться, мы следуем по течению! Чему, собственно, поможет плач? Слезы и жалобы — это орудие трусости! Мы боимся за свое
сердце! Да, печально видеть свой труп, но видеть тела
других на поле битвы, когда возвращающихся ожидает
музыка и цветы, это прекрасно! Вольтер стонал и плакал, потому что он еще боялся за свое сердце, но Руссо заживо разрезал себя, вынул сердце из груди и держал его против солнца, как делали старики ацтеки,
принося жертвы. О, в их жестокости таилась глубокая
мысль. А кто преобразовал человечество, кто сказал нам,
что мы стоим на неверном пути? Руссо! Женева сожгла
345
его книги, но новая Женева воздвигла ему памятник.
Что думаем мы в глубине души, то думают, не высказывая, и все. Дайте нам только свободу высказывать это
вслух!
Русские подняли свои стаканы и прокричали на своем языке слова, понятные только им одним. Англичанин наполнил свой стакан и только что хотел произнести тост, как вошла служанка и подала ему телеграмму.
Разговор на минуту смолк; англичанин с видимым волнением прочел телеграмму, затем сложил ее, положил
в карман и задумался. Обед приближался к концу, и начинало смеркаться. Фон Блейхроден сидел молча, погрузившись в созерцание открывающегося вида. Последние лучи заходящего солнца резко ложились на Mont
Grammont и Dent d'Oche; нежно розовели виноградники
и каштановые леса на горах Савойского берега; Альпы
сияли в сыром вечернем воздухе и, казалось, были сотканы из того же воздушного вещества, как свет и тени. Они
высились, как бестелесные громады, угрюмые и темные
с теневой стороны, с грозными, мрачными расселинами, но с солнечной стороны — ясные, улыбающиеся! Он
думал о последних словах тирольки, и Mont Grammont
представлялся ему колоссальным сердцем, обращенным острием к небу, пылающим, раненым, иссеченным,
исходящим кровью сердцем всего человечества, которое
возносилось к солнцу в единой великой жертве, отдавая
все лучшее и дорогое, чтобы всего достигнуть.
Темное, серовато-синее вечернее небо вдруг прорезали лучи света, и над пологим савойским берегом взвилась огромная ракета и поднялась так высоко, что казалось достигала Dent d’Oche; она остановилась, закачалась, как бы оглядывая внизу прекрасную землю, прежде
чем разорваться; это длилось несколько секунд, и она начала падать; но, спустясь всего на несколько метров, она
разорвалась с громким треском, только через несколько
минут достигшим Веве; и в то же мгновенье небо заволокло огромное белое облако, принявшее форму пра¬
346
вильного четырехугольника — белый огненный флаг;
раздался новый выстрел, и на белом флаге вырисовался
красный крест.
Все обедавшие вскочили с мест и бросились на веранду.
— Что это значит? — вскричал потрясенный фон
Блейхроден.
Никто не знал или не хотел ответить, потому что
в эту минуту ракеты, как из кратера, летели одна за другой над зубцами Вуарон и рассыпались разноцветными
огнями, отражавшимися в громадном зеркале спокойного озера.
— Ladies and gentlemen! — громко произнес англичанин, в то время как лакей ставил на стол поднос с бокалами шампанского. — Ladies and gentlemen! — повторил он. — Это значит, как я вижу из полученной мною
телеграммы, что сегодня закончил свои работы первый
интернациональный третейский суд, собравшийся в Женеве. Это означает, что не допущена война между двумя народами, или, что было бы еще хуже, война против
будущего, что сотни тысяч американцев и столько же
англичан обязаны жизнью этому дню. Алабамский вопрос решен в пользу не Америки, а справедливости,
не в ущерб Англии, а к будущему благополучию. И вы
все еще думаете, господин испанец, что войны неустранимы? Улыбайтесь, господин француз, но улыбайтесь
сердцем, а не губами. А вы, господин пессимист, видите
ли вы, наконец, что таким же путем может быть разрешен вопрос и о вольных стрелках, не вмешивая сюда ни
стрелков, ни расстрела? А вы, господа русские, я не знаю
вас лично, но неужели вы думаете, что ваша современная теория о вырубке леса так справедлива? Разве вы не
думаете, что лучше начать с корня? Это несомненно вернее и спокойнее! Как англичанин, я должен бы чувствовать себя побежденным; я горжусь моей страной, как
и всякий англичанин, но сегодня я имею на это право,
потому что Англия первая из европейских государств
347
аппелировала к суду чести, вместо суда железа и крови! И я желаю и вам и всем много таких поражений, какое мы испытали сегодня, потому что это научит нас побеждать! Поднимем наши стаканы, господа, за красный
крест, во имя которого мы, несомненно, победим!
Фон Блейхроден остался в Швейцарии. Он не мог
оторваться от этой природы, которая ввела его в новый
мир, прекраснее того, какой он покинул.
По временам он снова испытывал угрызения совести,
но доктор приписывал все это нервности, присущей
в наше время всем интеллигентным людям. Фон Блейхроден решил выяснить вопрос о совести в небольшой
статье, которую он хотел опубликовать. Его тезис, прочитанный друзьям, заслуживал внимания. С немецким
глубокомыслием он проник в самый корень вопроса
и открыл, что существует два рода совести: 1) естественная, 2) искусственная. Первая совесть, по его мнению, это
естественное чувство справедливости. Эта совесть так тяжело тяготела над ним, когда он велел расстрелять вольных стрелков. Он заглушал ее, уверяя себя, что в данном
случае он был жертвой повиновения начальству. Искусственная совесть состояла, напротив, из а) силы привычки, б) повиновения начальству. Сила привычки так
глубоко вкоренилась в фон Блейхродена, что иногда на
прогулке по утрам его вдруг пугала мысль, что он пропускает занятия в геологическом бюро; он становился печален, беспокоен и испытывал чувство школьника, убежавшего из школы. И он делал над собой невероятные усилия, чтобы оправдать свою совесть тем, что
он получил вполне законную отставку. Но тогда перед
ним всплывало их бюро; товарищи, наблюдающие друг
за другом, чтобы открыть ошибку другого, которая послужила бы к их собственному возвышению; подчиненные, ожидающие, затаив дыхание, приказаний и распо¬
348
ряжений; и ему казалось, что он снова был там. И тогда
его опять терзала совесть, возложенная на людей заповедями высших классов. Первую заповедь — любить короля и отечество, — было ему трудно держать. Король
ввергнул отечество в бедствие войны, чтобы создать своему родственнику новое отечество, то есть превратить его
из пруссака в испанца. Разве король любил свое отечество? Разве вообще короли любят свое отечество? Правители Англии были уроженцы Ганновера; в Германии
была кронпринцесса англичанка, во Франции королева
испанка, в Швеции король француз, а королева немка.
Если, следуя этим высоким образцам, менять свою национальность, как платье, подумал фон Блейхроден, то
космополитизм может рассчитывать на блестящую будущность. Но его мучило, что заповеди начальства несовместимы с жизнью! Он любил свою страну как очаг,
но не как государство. Начальству национальность была
нужна в виде отбывающих воинскую повинность, сборщиков податей, охранителей трона, потому что без национальностей не могло быть и княжеских домов. Отсюда
происходят так часто издаваемые законы против пере-
селения.Фон Блейхроден прожил в Швейцарии уже два
с половиной года, как вдруг получил из Берлина приказ о возвращении ввиду тревожных слухов о войне. На
этот раз Пруссия выступала против России, той самой
России, которую она три года тому назад провозглашала своей «нравственной» поддержкой против Франции.
Фон Блейхроден считал непорядочным выступать против друзей, и так как он знал, что народы собственно
ничего не имели один против другого, то он и спросил
у жены совета, как он должен разрешить эту новую задачу; он по опыту знал, что женская совесть ближе к естественной, чем мужская. Подумав с минуту, жена отвечала:
— Быть немцем — больше, чем быть пруссаком, для
этого и основан был германский союз; но быть европейцем еще выше, чем быть немцем; а быть человеком еще
349
важнее, чем быть европейцем. Ты не можешь переменить национальности, потому что все «национальности»
враги между собой, а к врагам не переходят, если только
ты не монарх, как Бернадот или генерал-фельдмаршал,
как граф Мольтке. Тебе остается только нейтрализиро-
ваться. Сделаемся швейцарцами! Швейцария — не национальность!
Фон Блейхроден, видя такое простое и счастливое
разрешение вопроса, отправился сейчас же узнать, что
для этого надо сделать. Представьте же его изумление
и радость, когда он узнал, что уже выполнил все условия, чтобы стать швейцарским гражданином (в этой
стране нет поданных) так как прожил в стране, не выезжая, два года.
Фон Блейхроден нейтрализировался, но, как он ни
счастлив, все-таки иногда он бывает не в ладу со своей
совестью.
К СОЛНЦУ
Вот уже долгих три недели, как не показывается солнце в маленькой деревушке Герзау, на Фирвальдштедт-
ском озере, не показывается с начала сентября, когда
пронесся южный ветер. После захода солнца ветер стих,
и я проспал до полуночи, когда меня разбудил колокольный звон и шум ветра, сливавшийся с воем бури; я слышал, как она порывами налетает с Альп на южный берег
озера, бушует в котловине, проносится по улицам деревушки, рвет вывески, потрясает ставни, срывает кровельное железо, треплет верхушки деревьев и кусты. Волны
озера бились о мол, перекидывались через него и плескались о борта лодок. Песком било в окна, листья крутились в вихре, железные листы срывались и весь дом
дрожал. Выглянув в окно, я увидел, что в церкви светло, а колокола звонили так громко, словно для того, чтобы разбудить тех, кто еще не проснулся; южный ветер
считается таким же опасным, как землетрясение; он не
только может разрушить дома, но сорвать с гор обломки скал, а наша деревушка расположена как раз у подножья горы, которая хотя и имеет всего 1500 метров высоты, но ее вершины и склоны покрыты легким балластом обломков скал, которые всегда могут сползти при
малейшем колебании. После трехчасовой бури опасность миновала, и на следующее утро в деревенской хронике сообщалось, что в Швице кусок скалы сполз на хутор и снес все правое крыло дома, нисколько не повредив левого.
351
После этого сильного, жаркого ветра деревню и озеро окутал туман. Небо покрыто тучами, но дождя нет,
нет и солнца. Так проходят три недели, и все начинает
казаться в мрачном сером свете. Альпийский ландшафт,
высившийся перед глазами, потерял свой характер с тех
пор, как видно только на сто метров выше стен, и сердце
сжимается тоской. Все путешественники разъехались,
гостиницы стоят пустыми и подходит ноябрь, мрачный
и унылый. Дни медленно тянутся один за другим, и тоскливо ждешь, когда можно зажечь огонь. Безнадежно
серое небо, серое озеро, серый ландшафт.
Ни ветра, ни дождя, ни грома. Природа, обычно такая богатая переменами, теперь невыносимо однообразна, спокойна, тиха, так безмятежна, что начинаешь жаждать землетрясения. Когда гаснет источник света, тускнеют все краски, взор притупляется и душа погружается
в сонливость, граничащую с леностью.
Когда я однажды вечером начал жаловаться старшине на такое долгое отсутствие солнца, он ответил с присущим швейцарским немцам спокойствием:
— Солнце! Его целый день можно видеть на верхнем
утесе.
Верхний утес — одна из небольших альпийских вершин, окаймляющих котловину, в которой мы живем;
она лежит всего на двести метров ниже Сполительма
и поэтому на нее охотно совершают экскурсии юные
англичане. Как поклонник солнечного света, я решил
предпринять восхождение к солнцу, и однажды на рассвете ноябрьского дня я отправился в путь.
Живя у подножья горы, которая, как я упомянул, может, подобно вулкану, извергать дождь камней, жители
непрестанно готовятся предстать на суд вечности и ежедневно утром, днем и вечером посещают церковь. Поэтому теперь в восемь часов утра я уже встречал прихожан с молитвенниками в руках. Две пожилые женщины, которым надо пройти полмили до церкви, молятся
всю дорогу, перебирая четки. Одна из них читает «Ave
352
Maria», а другая возглашает «In saecula saeculorum.
Amen!» И так всю дорогу! Если эта молитва по четкам
и не принесет пользы, то во всяком случае она удержит
язык от злословия, как небезызвестный свист, предписанный, если верить одному анекдоту, графскому слуге,
когда он отправлялся в винный погреб.
Покинув женщин и проезжую дорогу, чтобы начать
подъем, я сразу попал под власть ярких и сильных впечатлений. На первом же перекрестке стоит ореховое дерево с прибитым к нему изображением Христа и дощечкой, извещающей путников, что с этого дерева во
время сбора плодов упал крестьянин Зеппи и разбился
насмерть. Боже, смилуйся над его душой и помилуй его,
аминь!
На другом повороте стоит маленькая чудная ниша,
выложенная белым кирпичом. Через решетку видно изображение Святого Семейства, писанное, может быть,
еще в шестнадцатом веке, и под ним подпись, что приговоренные к смерти, отправляясь на место казни, останавливались у этой часовенки и произносили свою последнюю молитву. Итак, я поднимался по пути казни
и через несколько минут достиг лобного места. Это была
прелестная открытая площадка на выступе, обращенном
к морю, с таким великолепным видом, что кажется по-
истине утешением проститься с жизнью, видя перед собою панораму, которая открывается здесь на Пилась, Ак-
сеншток, Буоксергорн, Бюргеншток. И даже Вольтер согласился бы, чтобы его тайно поносили здесь, а этого он
больше всего боялся в жизни, так что Руссо, вполне справедливо, упрекал его за то, что он охотно дал бы себя повесить, если бы к виселице была прибита доска с его именем. Немного дальше, внизу, на берегу озера виднеется
часовня Детоубийства, где какой-то обезумевший от горя
отец убил своего голодного ребенка. Эти четыре картины
печально мерцают в тусклом утреннем свете. И я спешу
прочь от этих кровавых картин, скорее наверх, туда где
светит солнце!
353
Область каштанов скоро кончается, исчезают ореховые деревья, и начинается буковый лес. Передохнув около пастушьей хижины, возле которой паслись
великолепные коровы, под охраной безобразного пса,
я вошел в облака, окутавшие меня туманом и скрывающие ландшафт. Глядеть становится трудно, глаза горят;
деревья и кусты словно окутаны дымом, и миллионы паутинок, протянувшихся между ветвей, сплошь покрыты
капельками воды, и кажется, что лесная фея развесила
для просушки тысячи кружевных платочков.
Туман затрудняет дыхание, осаждается на сюртуке,
бороде, волосах, бровях, распространяет неприятный,
затхлый запах, делает камни гладкими и скользкими,
так что по ним трудно идти, и затемняет всю глубину
леса, где стволы деревьев исчезают волнообразной серой пелене, и видишь перед собой всего на несколько
саженей. Я должен пройти с тысячу метров сквозь этот
туман, сквозь это серое, холодное чистилище, прежде
чем я достигну неба, и я иду с полным доверием к слову старшины, что туман рассеется прежде, чем я достигну вершины Альп, за которой начинается серое
Ничто.
Со мной нет барометра, но я чувствую, что поднялся
уже высоко, что туман начинает рассеиваться, и я приближаюсь к чистому воздуху. Меня охватывает легкое
опьянение, как после хорошего вина, и теперь в лощину сверху падает слабый свет, как первые лучи рассвета, проскальзывающие сквозь ставни; стволы деревьев
обрисовываются яснее, глаза видят дальше, и ухо улавливает звон колокольчиков коров где-то наверху. Надо
мной, вверху, золотое облако; еще несколько быстрых
шагов, и низкие кустарники буков сверкают золотом,
медью, бронзой, серебром, когда прорвавшиеся лучи
солнца падают на пожелтевшую, но еще не облетевшую
листву.
Я стою среди холода и сырости осеннего дня, но перед собой вижу залитый солнцем летний ландшафт.
354
Мне вдруг вспоминается поездка на парусах по Мэ-
лару, когда я сидел на солнечном свету, а сбоку, с над-
ветренной стороны, неподалеку от меня проносилась
туча с градом. И теперь я стою наконец в области солнца, вижу выше себя северный ландшафт с елями и березами, вижу зеленые лужайки и рыжих коров; вижу
маленькие хижинки, на пороге которых сидят старушки
и вяжут чулки своим старикам, которые работают внизу; вижу гряды картофеля и кустарники лаванды, георгины и ноготки.
Я предоставляю солнцу высушить мои волосы и пальто, согреть мое озябшее тело. Я проветриваю свою шляпу под лучами пылающего Создателя и Светоносца вселенной; мне все равно, состоит ли он извечно пылающего водорода или из еще непризнанного элемента гелия.
Прародитель, зародивший без женщины мировые тела,
Всемогущий, дарующий жизнь и смерть, властный над
холодом и зноем, летом и зимой, засухой и урожаем!
Насладившись зрелищем лета и зеленью травы,
я взглянул вниз во мрак и глубины, через которые я прошел сюда. Над озером, которого не видно отсюда, лежит мрак и холод, но уже не темные и холодные, а подобные блестящей белой расчесанной шерсти, освещенной сверху лучами солнца и скрывая под собой сумрак
и грязную землю; а над этой белой крышей поднимаются, сверкая, снеговые вершины Альп, словно из сгустившегося серебряного облака, словно превратившиеся
в кристаллы воздух и солнечный свет, весенние льдины,
всплывшие на поверхность моря только что выпавшего
снега. Это буквально надземный ландшафт, рядом с которым такой банальной кажется идиллия коров с колокольчиками, пасущихся под березами.
Но теперь среди окружающей мертвой тишины
снизу, где печальные люди, дрожа, блуждают в тумане, доносится шум какого-то плеска, который все приближается и за которым глаза словно следят под покровом облака. Это словно шум мельницы, потоки дождя,
355
волны прилива! Теперь снизу поднимается крик, вопль,
словно жители всех четырех кантонов кричат о помощи
против Ури-Ротштока, но это всего только свист парового катера, и эхо утеса многократно повторяет его в чистом воздухе, после того как он доносится сюда сквозь
пелену тумана.
Наступает полдень!
Мне пора спуститься вниз, вернуться к мраку сырости и грязи и, может быть, ждать еще три недели, прежде чем я увижу солнце.
новь
Майский вечер спускался над Женевским озером.
На виноградниках только что появились первые сочные
зеленые ростки; соловьи, не умолкая, пели день и ночь
в ветвях ливанских кедров Бориважа; ползучие розы начинали закрывать собою каменные стены и заборы; теплый южный ветер приносил аромат молодой травы,
и финиковые деревья уже покрывались листьями. В маленькой гавани позади мола покачивались на воде свежевыкрашенные парусные яхты под флагами всех национальностей. Флаги мирно развевались по ветру, заигрывали между собой, как расшалившиеся школьники
во время купания, и ласково касались друг друга. Бледный полумесяц развевался рядом с сияющим созвездием; черный орел ласкался к трехцветному знамени, красный флаг Альбиона с голубым углом, служащим воспоминанием о залитых кровью голубых холмах и озерах
покоренной родственной страны; желто-красный испанский флаг и голубой с белым греческий флаг, — все
они, позабыв вражду, наслаждались миром под гостеприимной сенью белого креста на красном поле; всех
их в эту минуту одинаково освещало заходящее солнце, все они вырисовывались яркими пятнами на темном
фоне Савойских Альп, покой которых теперь нарушается только одинокими выстрелами охотников за дикими козами, после того как на вершинах их уж много лет
тому назад замолк навеки грохот пушек и треск кремневых ружей.
357
Веселые, радостные люди спешили толпою в парк
Бориважа посмотреть на цветущую магнолию. Там стояло сказочное дерево с темными гибкими ветвями без
единого листика, но покрытое от самого корня до вершины тысячами белых колоколов с фиолетовыми жилками. Садовник вырубил вокруг магнолии лавровые
деревья и японский кизил для того, чтобы эта царица
южных солнечных стран могла показать свою красоту
удивленным людям. К ней подходили с благоговением,
смех и шутки почтительно умолкали, и чужеземцы, видевшие ее в первый раз, стояли перед ней, как перед откровением, смущенные и серьезные. Хотелось подойти
к ней ближе и потрогать ее руками, чтобы убедиться в ее
реальности, но гладко выстриженный газон удерживал
толпу в почтительном отдалении. Крикливая пестрота тюльпанов на грядках поблекла, ее затмила величественная красота простых белых цветов, белых, как наряд невесты или как саван мертвеца, и черный кедр простирал над ней свои длинные ветви, на которых торчали,
как пальцы, молодые побеги, как бы благословляя первую красавицу на весеннем свадебном пиру.
На скамейке у самого озера сидели две пожилые
дамы.
Обе они были одеты элегантно, может быть даже
слишком элегантно для своего возраста. Одна из них
держала в руках книжку английского журнала, страницы которого она рассматривала с помощью золотой лорнетки. У нее было поблекшее, желтое строгое лицо, и нос
ее имел ту благородную форму, которая по общепринятому мнению служит верным признаком, указывающим
на богатство родителей и благородство характера. Когда
она отрывалась от книги и смотрела на самый красивый
в мире ландшафт, лицо ее принимало такое выражение,
как будто при сотворении Альп и даже самого солнца
творцом было сделано какое-нибудь крупное упущение.
Ее сестра казалась олицетворением добродушия,
снисходительности и довольства. Она ласково, как бы
358
в знак одобрения, кивала всему, что попадало ей на глаза, и старалась всегда избегать тени и всего печального,
а когда это ей не удавалось, она закрывала глаза и мечтала о чем-нибудь прекрасном. Если при ней начинали рассказывать про какое-нибудь несчастие или про
совершенное где-нибудь преступление, она всегда просила позволения не слушать, говоря, что она не может
помочь случившейся беде, а потому подобные разговоры доставляют ей только лишнее страдание. Она обмахивалась сложенной газетой.
Между двумя дамами сидела молодая девушка. По
швейцарским понятиям, она была красавицей. У нее
были белокурые волосы, красивый овал лица, низкий
лоб, прямой и узкий нос. Такую форму носа заботливые
мамаши стараются получать искусственно и с этой целью всячески сдавливают широкие носы своих дочерей.
Высокая грудь, прямые плечи и узкая талия напоминали рисунки средневековых красавиц. На коленях молодой девушки лежала раскрытая книга, но она не читала
и беспокойно оглядывалась кругом. Она смотрела на лебедя, плававшего у самого берега с только что вылупившимися птенцами. Она смотрела на маленьких американцев, спускавшихся с купальными костюмами в руках
к купальням. Она смотрела на паруса лодок, плававших
там далеко в просторе озера. Она смотрела на белых чаек,
свободно летевших куда им угодно. Наконец, осмотрев
все, она захлопнула книгу и сказала усталым голосом:
— Хорошо быть лебедем!
— Лебедем? — спросила строгая незамужняя тетка. — Какие глупости! Лебедям приходится каждый год
в апреле месяце выводить пятерых птенцов!
— Милая Бланш, что с тобою сегодня? — спросила
добродушная тетка. У нее умер муж и единственный ребенок.
— Со мною? Ничего, — отвечала Бланш и покраснела.
После этого они замолчали.
359
Мимо них прошла компания английских туристов с альпенштоками и рюкзаками на плечах. Молодые люди шли с девушками под руку, и у всех был веселый и счастливый вид. Глядя на гамаши, короткие юбки
и шотландские шапочки молодых англичанок, Бланш
подумала о том, что у них очень мужественный вид в таком наряде. Они будут спать ночью в шалаше, проснутся
на заре и будут подниматься в горы. Они будут есть хлеб
с сыром и запивать белым вином. Все это они будут делать одни, без родителей, теток и гувернанток. И Бланш
почувствовала себя пленницей, которую стерегут двое
часовых. Если бы она попросила разрешение искупаться, они бы пошли за ней с двумя термометрами; если бы
она вздумала поехать на лодке, они захватили бы с собою трех лодочников и два молитвенника; если бы она
захотела пойти гулять с подругами, они бы тоже пошли
с ними гулять. Когда ей приходила в голову шаловливая
мысль, они догадывались об этом и уличали ее. Когда ее
начинали волновать непонятные и смутные чувства, они
испытующе смотрели на нее. Она ненавидела их. Она готова была убежать от них на край света или броситься
в озеро, но при этой мысли ее дрессированное сердце
чувствовало какой-то укор. Она начинала укорять себя
в неблагодарности. Эти две женщины жили только для
нее, она была их единственной радостью. Она была их
радостью, но какую радость доставляли они ей? Правда,
они кормили ее и давали ей воспитание, но ребенок за
это не может быть благодарным, потому что он еще не
понимает, что такие заботы достойны благодарности.
Правда, они давали ей совсем особое образование.
Она предназначалась к тому, чтобы отомстить за свой
пол. Она должна была сделаться студенткой и доказать
всему миру, что женщина умственно не ниже мужчины. Мир в этом никогда не сомневался, а строгая тетка
была в этом глубоко убеждена. Она должна была отомстить за все обиды, которые были нанесены мужчинами строгой тетке тем, что ни один лейтенант кавалерии
360
не ухаживал за ней. Кроме того, она должна была заменить добродушной тетке ее умершего мужа и ребенка. Поэтому на долю ее доставалась вся любовь и нежность, которые были предназначены этим двум покойникам. Такова была ее двойная жизненная задача, но
все это не удовлетворяло Бланш. Незадолго перед этим
она читала про антропоморфных обезьян, у которых самец пользовался неограниченной властью и заставлял
все молодое поколение жить только для себя. Потом,
когда молодежь вырастала, она неизменно устраивала
форменную революцию и таким образом получала свободу. И Бланш думала о том, что законы природы, по-
видимому, не везде одинаковы.
Мимо них прошла с пением толпа студентов. С барабанным боем и развевающимися знаменами они спустились к озеру, где их ждали лодки, украшенные флагами.
Разноцветные фуражки и пестрые ленты на куртках корпорантов, свободные движения молодых гребцов и бодрящий бой барабанов, как-то странно волновали сердце девушки.
Тетка, читавшая английский журнал, посмотрела
сквозь лорнетку на студентов строгим и злобным взором,
как будто бы хотела им сказать: «Постойте, мы вам покажем!» А Бланш в это время думала: «Через три недели
и я буду студентом, но мужчиной я не буду никогда!»
Из мрака прошлого до нас доносится и звучит в наши
дни один и тот же стон женских голосов: «Если бы я могла быть мужчиной!» Откуда этот стон? Не есть ли это
протест против владычества мужчин?
Но ведь Бланш угнетали две женщины, а все мужчины восстают против угнетения. Может быть, в этом стоне культура выносит сама себе смертный приговор? Может быть, это крик искалеченной и истерзанной природы, которая предпочитает полное уничтожение пола,
вопреки законам природы, полусвободной полураб-
ской жизни? И разве женщины добиваются свободы не
так же упорно, как и мужчины?
361
Бланш хотелось домой. Ей что-то нездоровилось. Становилось прохладно. Старые дамы поднялись, и строгая
тетя Берта, которой было тяжело ходить, по старой привычке взяла Бланш под руку. И они медленно пошли,
тихо передвигая ноги. Бланш слышала пение студентов,
доносившееся с простора озера. Но она должна была
повернуться спиной к залитому солнцем ландшафту
и идти по направлению к серому мрачному городу. Ей
хотелось побегать, но тяжелая рука тетки удерживала ее
на месте, как костыль калеку. Она чувствовала, как худая старческая рука опиралась на ее руку. Она чувствовала себя связанной неразрывными узами со старостью
и прикованной к эгоистической нежности, которая всегда воображает, что дает там, где она только получает.
Медленно, шаг за шагом, как похоронная процессия,
шли они по направлению к железнодорожной станции.
Приходилось постоянно останавливаться, чтобы дать
отдохнуть тете Берте.
Потом они уселись в купе и сидели в нем молча и рассматривали вывески и афиши на стенах вокзала. Потом
поездь медленно потащил их через туннель в Лозанну.
После ужина Бланш должна была идти на именины
к подруге, жившей через улицу. В десять часов за ней
должна была прийти прислуга, чтобы проводить ее домой. Но Бланш нездоровилось в этот вечер, и она предпочла остаться дома. У нее болела голова, и ее знобило. Бланш ушла в свою комнату, расположенную позади спальни теток, и попросила разрешение остаться
одной, так как она собиралась заниматься. Комната
была большая и светлая со множеством всевозможных
безделушек. Мягкая мебель была обита материей и покрыта подушками, пол был устлан ковром, и на стенах
висели картины. Но вместо туалета стоял кабинетный
шкафчик, вместо комода — огромный письменный стол
с многочисленными ящиками и полочками, а по обеим
362
сторонам окна красовались два огромных книжных шкафа. Среди стройных рядов книг бросались в глаза синие
обложки милой «Revue Suisses и ярко-красная (Revue
des deux Mondesi). Стол был завален учебниками и тетрадями. Бланш села за стол и стала их перелистывать.
Перед ней лежали те самые освободители, при помощи которых она должна была сделаться равной с мужчинами. И Бланш думала о том, что при всем желании
она еще не чувствовала признаков этого освобождения.
Даже напротив, с каждым днем голова становилась тяжелее, а мысли менее свободными. Во всех этих книгах,
одобренных и рекомендованных государством, не было
ни одного слова о свободе. В них говорилось о разных несуществующих вещах, о том, что было и уже больше никогда не повторится, но о настоящей жизни, о том, что
совершается кругом, и о будущем там не говорилось ничего. В этих книгах было какое-то сплошное прославление человеческой глупости. Там с похвалой говорилось
о великом реформаторе Кальвине, который сам, едва избавившись от смерти на костре за непризнание таинства
причащения, приказал сжечь Михаила Сервета за то,
что он не соглашался признать Святой Троицы. Там восторженно говорилось о клятвопреступнике и анархисте
Вильгельме Телле, который, строго говоря, даже не был
честным человеком, потому что нарушил данную клятву
и взбунтовал народ. Бланш не могла понять, как можно
ухитриться так близко подойти к зяблику, чтобы сосчитать его кроющие перья, а это было необходимо сделать,
чтобы отличить его от дрозда. Она была твердо уверена
в том, что ни за что не примет навозника за жужелицу,
и для этого ей не надо было считать тарзальные членики. Она также была убеждена, что на рынке сумеет отличить красноглазку от карпа, даже не зная сколько у них
чешуй в боковой линии. В жизни ей едва ли предстояло когда-либо иметь дело с прямоугольным треугольником и едва ли могла представиться необходимость доказывать какому-нибудь скептику, что квадрат гипотенузы
363
равен сумме квадратов обоих катетов. Она также не могла понять, зачем ей могут понадобиться логарифмы;
она не собиралась делаться мореплавателем, да кроме
того, Колумб открыл Америку, совершенно не зная логарифмов, изобретением которых прославился Лейбниц двумя столетиями позже. Она не могла сообразить,
какую пользу могли ей принести последние открытия
астрономия, потому что египтяне составили календарь,
не зная Гершелевского телескопа. Она не видела никакого толка в законах Архимеда и Бойля-Мариотта, потому
что Эдисон без них сумел изобрести телефон. В таком
случае, в чем же заключалась сила этих книг, которые
должны были дать ей свободу? Заключалась ли она в дипломе или в той мести, о которой беспрестанно твердили тетки? Но Бланш не понимала, кому она должна
была мстить. Мужчины ее никогда не обижали, а угнетали ее только женщины. Когда была жива мать Бланш,
она неотступно была при ней, а отца никогда не бывало дома. Потом учительницы стали запирать ее, как арестантку. Учителей у нее никогда не было. Только один
раз был учитель музыки, но он хотел умереть из любви
к ней, и за это его прогнали. Тетки берегли ее, как зеницу ока. Но берегли они ее не от несчастий на улице, не от
пожаров и землетрясений, а от чего-то худшего. Они берегли ее от скверных мальчишек. А скверные мальчишки были всегда ласковы и любезны, и Бланш за это предпочитала их своим подругам, которые были завистливы
и злы. И Бланш не могла понять, почему ее так оберегали от мужчин и за что она должна была им мстить. Она
думала о том, что, если когда-нибудь она будет настолько сильна, что сможет сражаться с своими врагами, то
сила ее будет направлена не против мужчин. Она мечтала о том, что придет мужчина и освободит ее. И она
представляла себе этого мужчину обязательно пахнущим табаком, в грязных сапогах и с небритым лицом,
одним словом таким, каких презирала и не выносила
его тетя Берта.
364
Она оглянулась в комнате, ища какого-нибудь выхода. Но выхода не было. Она была в каменном мешке, в мышеловке, а снаружи лежали кошки и караулили свою жертву. Бланш встала и начала ходить по ковру
из угла в угол, как узник по своей тюрьме. У нее болела
голова. Она достала бутылку с уксусом из шкафчика; по
мнению тети Берты, студентка не могла иметь туалетного стола. Она намочила уксусом полотенце и обернула
им голову. Потом она посмотрелась в зеркало; все лицо
было красно, кроме темных кругов под глазами. Был ли
это избыток здоровья, которое не могли подорвать ученые книги, или это был признак болезни? Как бы то ни
было, но краснота лица не пришлась ей по вкусу, она
приложила склянку ко рту, выпила большой глоток уксуса с таким видом, будто она уже давно привыкла к этому напитку, и затем поставила склянку на прежне место.
После этого она открыла окно, высунулась в него и хотела вдохнуть свежего воздуха, но горячий воздух был сух,
и ветер нес с собой столько пыли, что она поспешила закрыть окно и спустила штору. Она поставила лампу на
столике около дивана. Рядом на этажерке стояла шкатулка с духами. Бланш посмотрела на нее, потом оглянулась на дверь, подошла к ней на цыпочках, прислушалась и заперла задвижку. Сделав это, она подошла
к шкафу, достала из него меховую пелерину на голубой
шелковой подкладке, накинула ее на плечи, забралась
с ногами в дальний угол дивана и поставила себе на колени шкатулку с духами.
Было что-то странное и неестественное во всей обстановке этой комнаты, освещенной матовым светом лампы.
Отдельные предметы напоминали то девичью комнату, то каморку студента, то комнату коммерсанта.
На диване сидела хозяйка с лицом девочки и затылком
мальчика, с чернильными кляксами на пальцах, как
у школьника, и с красивой ногой с высоким подъемом,
как у танцовщицы. Стоячий крахмальный воротничок
365
и галстук, завязанный узлом, как-то не гармонировали
с девичьей грудью. Неприятный запах уксуса смешивался с ароматом духов, которыми она прыскала вокруг
себя. Сперва полился дождь с сладким запахом нарцисса и иланг-иланга, от которого воздух в комнате наполнился одуряющим ароматом. С раздувающимися ноздрями и широко открытым ртом Бланш вдыхала опьяняющий воздух, и кровь снова усиленно приливала к ее
щекам, побледневшим от уксуса. Потом полился мелкий дождик с запахом ландышей, непорочным и чистым, как весенний аромат майских цветов. Она закрыла
глаза, и в ее воображении проносились знакомые образы, светлые весенние пейзажи, не скошенные луга, цветущие фруктовые деревья, резвящиеся дети и высоко плывущие облака. Ей чудились звуки альпийской свирели,
шум ручья, гудки пароходов и пение молодых голосов.
В эту минуту вся ее печальная, однообразная серая молодость была забыта. Молитвы и учебники, примерки
и камфарный спирт, разговоры о ренте и сплетни, экзамены и награды, докучливые ласки и строгая любовь. Потом мечты подернулись туманом, яркие образы потускнели и их заменили воспоминания о будничной серой
действительности. Тогда она снова открыла коробку, на
ковер снова полился душистый дождик, и в ее воображении стали проноситься картины ранней осени с свежескошенными лугами. Сено убрано, пестрые цветы стали
сухим кормом и готовы превратиться в экспортное масло. Лето уже прошло, и настала осень. Нет, не надо осени! Бланш взяла другой флакон с духами фиалки. И из
пестрых узоров пыльного ковра стали вырастать фиалки
и подснежники, голуби ворковали на солнце, и снег таял.
Лебеди целовались клювами, и рыбы метали икру, в траве трещали кузнечики и смолистые почки каштана набухали, чтобы потом, распустившись цветком, исполнить
свое назначение при свете весеннего солнца.
Бланш закрыла глаза. Грудь дышала порывисто,
и кровь горячей волной приливала к щекам. Вот она
366
в летний вечер сидит в Фрейбургском соборе. Темнеет,
и орган звучит в неясном сумраке. Дверь в часовню гроба
Господня открыта. Там лежит тело Спасителя. Звуки органа гремят победно: dies irae, dies ilia, dies irae, dies ilia...
Это голоса людей, это голоса ангелов, это голоса титанов;
они хотят поднять купол и вырваться наружу, а на дворе
становится все темнее, и разноцветные окна ст. портретами королей и святых теряют краски и становятся черными. Стройные колонны сдвигаются вместе, как тополевая аллея, и ряды скамеек собираются в одну кучу, как
перепуганная людская толпа. Вдруг раздается страшный
удар грома. Можно подумать, что по крыше кто-то провез батарею громыхающих пушек. Фиолетовая молния
озаряет купол и освещает в часовне у алтаря образ святого Франциска. Сразу становится так светло, что можно разобрать слова над алтарем: «Распни свою плоть!»
Орган, заглушаемый громом, вступает в единоборство
с стихией, и незримый органист берет один за другим
могучие аккорды. Потом наступает пауза, во время которой звучит только флейта, потом к ней присоединяются
высокие и низкие октавы, ее подкрепляют терции, подхватывают септимы, и звуки рассыпаются в квинтах. Потом присоединяются еще новые голоса, гобои и фаготы,
vox humana и голос ангельских труб. Педали гремят в аккордах басов, и необъятные звуки несутся, как хоры титанов, как смелые вызовы врагу, как громкие стоны страдающего человечества. Но гром становится сильнее, и эхо
в Фрейбургских Альпах и в глубоких долинах Сирины
удваивает гул и грохот ударов. Орган выбивается из сил,
он ревет и гремит, он кричит и стонет, но вот новая молния, за ней следует новый удар, и кажется, что все листовое железо на свете сброшено с неба на висячий чугунный мост. Стекла дребезжат, и двери хлопают. Орган
стихает. Он побежден, у него нет больше сил, чтобы бороться, но он еще не хочет сдаваться. Сначала раздается
пение с аккомпанементом флейты, и постепенно мотив
переходит в знакомый светский романс, потом начинают
367
прорываться удалые звуки какой-то дикой плясовой песни. Тонкие белые трубы органа превращаются в огромные свирели, пухлые щеки золоченых ангелов начинают
раздуваться, подбородки вытягиваются и украшаются
козлиными бородками, в кудрявых волосах появляются
острые маленькие рожки. Херувимы лукаво подмигивают глазами и играют на свирелях гимны в честь Фавна,
бога лесов, бога природы и плодородия.
Верхушки колонн покрываются листьями, и воздух
оглашается веселым пением птиц. Под сморщенной синеватой кожей святого Франциска начинает просвечивать розовое мясо, и он в виде счастливого юноши беззаботно уходит с Марией Магдалиной на верхние хоры,
и там они любовно отпускают друг другу грехи. Из часовни гроба Господня выходит Аполлон с колыхающимися бедрами и развитой грудной клеткой. Он с веселой
улыбкой смотрит на плачущих у гроба женщин, простирает руку в знак своей победы над смертью и победоносно говорит: «Христос воскрес!» Под землею в это время
слышен стук; это мертвецы хотят выйти из своих гробов
и кричат: «Слово было плотью!»
От этого шума Бланш проснулась. Лампа еще горела на столе. Воздух в комнате был невыносимо удушлив.
Кто-то стучался в дверь.
Бланш вскочила, открыла задвижку и упала, рыдая,
на стул. Все тело ее вздрагивало от рыданий. Тетки уложили ее в постель, развели в камине огонь и напоили ее
ромашкой.
Экзамен прошел благополучно, и в этот вечер Бланш
сидела дома с тетками, пригласившими к чаю нескольких подруг. Тетя Берта сияла, как подушка, утыканная
иголками. Бланш чувствовала себя спокойной, как человек только что избавившийся от опасности. Наступила
уже жара, поэтому окна оставались открытыми весь вечер, и с улицы доносился веселый гул. Бланш знала, что
новые студенты собирались устроить праздник; один из
товарищей даже просил ее принять в нем участие, но
368
у нее не хватало смелости попросить об этом теток, не
было мужества оставить их одних в такой вечер, как сегодня. Бланш радовалась тому, что ее заточению приходит конец. В ней снова оживала надежда на свободу, но
она понимала, что в лучшем случае ей удастся только
удлинить свою цепь, и она знала, что ненавистные цепи
не будут порваны.
— Вот, послушайте, — сказала тетя Берта, — какое
прекрасное сообщение помещено в газете по поводу экзамена Бланш. «Освобождение женщины, по-видимому,
уже становится действительностью, — читала тетка. —
В течение многих столетий упорно держался предрассудок, будто бы назначение женщины состоит исключительно в том, чтобы рожать и кормить детей, но сегодня
он получил блестящее опровержение. Мы с особым удовольствием сообщаем нашим читателям, что мадемуазель Бланш Шашон сегодня блестяще выдержала экзамен зрелости и поступила в цюрихский университет на
медицинский факультет».
— Я совершенно не понимаю, — сказала Бланш, которую совсем не интересовало подобное освобождение, — почему эти господа так восторгаются, когда девушка выдерживает экзамен, который без особого труда
дается даже самым глупым мужчинам.
— Бланш права, — сказана молодая учительница, —
и по-моему «La Revues» делает совершенно верное замечание, говоря: «Очень характерно, что наши консервативные коллеги трубят победу каждый раз, как молодая
девушка выдержит экзамен и поступит в университет.
В наши дни интеллигентный пролетариат представляет
уже внушительный общественный класс; но экзамен зрелости, к сожалению, до сих пор доступен только состоятельным людям и останется привилегией богатых. Наши
студентки должны открыто заявить, что они отказываются от чести быть предметом восторгов и восхвалений, потому что такое положение является оскорбительным для
всего женского пола. Уже одно то, что консервативные
369
элементы принимают с распростертыми объятиями
каждую новую студентку, может служить подтверждением нашему мнению, что эти господа рассчитывают на
подкрепление своих рядов учеными женщинами. Мы
только тогда присоединим свой голос к общему ликованию, когда экзамен зрелости станет доступным для всех
без различия пола и общественного положения».
— Удивительно рассуждают ваши люди прогресса!
Скажите, пожалуйста, — экзамен зрелости для всех! Это
не штука, выдержать такой экзамен! — сказала сердито
тетя Берта.
— Да мы и не собираемся показывать фокусы, — ответила Бланш, — и по-моему «La Revue» совершенно
права.
— Теперь я знаю, чему вас учат, — ворчала тетя
Берта.
— Знаешь ли тетя, — сказала Бланш, чувствовавшая
в этот вечер какую-то непривычную смелость, — ты, конечно, не найдешь этих мыслей у Евклида или Юлия Цезаря, потому что в учебниках очень много говорится или
о пустяках или о настоящих глупостях. Но подумай только, что должны чувствовать все портнихи, прачки, все
поденщицы и крестьянки, которым не удалось сделать
того, что сделала я, исключительно благодаря вашей щедрости? Может быть, ты, тетя, думаешь, что все женщины должны сдавать экзамен зрелости? Но в таком случае,
почему же ты забываешь про всех мужчин, про ремесленников, рабочих, крестьян, конторщиков и прочих?
Все, в сущности, сводится к чисто экономическому вопросу, и если кому-нибудь удалось приобрести немножко знаний, благодаря состоятельности родственников
или друзей, то этим нечего хвастаться в газетах, потому
что это так же нелепо, как публиковать о том, что у меня
хватило средств, чтобы сшить себе шелковое платье.
— Наша маленькая Бланш стала таким философом, —
сказала тетя Берта, — что ее старая тетка, которая не сдавала экзамена зрелости и потому не может спорить с ней
370
в учености, даже не знает, что ей ответить. Но маленькая
Бланш должна бы была показать нам, что она действительно образованная девушка, и ей не следовало бы говорить со старшими так смело, чтобы не сказать так дерзко.
Конечно, можно знать очень много наук и вместе с тем
можно быть необразованным человеком. Потому что образование надо искать не в книгах, а в собственном сердце. Да, в собственном сердце, милая Бланш!
Бланш раскаивалась в том, что невольно оскорбила
тетку, но ей ужасно хотелось продолжать спор и разбить легковесные аргументы тети Берты. Однако она
устояла против искушения, хотя прекрасно понимала,
что совершенно не заслуживает тех упреков, которые ей
сделала тетка. Бланш чувствовала, что гнев и раздражение тети Берты достигли тех пределов, когда она уже не
может слышать возражений и принимает их за личное
оскорбление.
За ужином тетя Берта подняла свой стакан и предложила выпить за сегодняшнюю победу (капитала?). Она
выразила надежду, что скоро настанет время, когда все
женщины (но не все мужчины!) будут сдавать экзамен
зрелости, и сказала, что уверена в том, что настанет день,
когда женщины выйдут победительницами из борьбы
(с законами природы?) и покажут мужчинам...
Сквозь открытые окна послышались звуки оркестра.
Бланш знала, что это такое. Это студенты спускались
в Бориваж на свой сегодняшний праздник. Сапоги их
звонко стучали о камни мостовой. Бланш не могла сидеть смирно, она вскочила и подбежала к окну. Они шли
толпой по улице с развевающимися знаменами и с разноцветными лентами. Как бы она хотела быть в эту минуту с ними! Как бы она хотела идти с ними под руку,
петь полною грудью, свободно высказывать свои мысли
и потом, может быть, танцевать! Но вот ее увидали. Знамена преклонились, шашки полетели вверх и громовое
«Ура» на минуту заглушило оркестр. Это приветствие,
которое она не желала принимать, как поклонение, так
3 71
тронуло Бланш, что слезы показались у нее на глазах,
и в то же время она почувствовала какую-то острую боль
в сердце и пудовые гири в руках и ногах. Вдали замирали
звуки шагов, и Бланш увидала идущего по улице знакомого студента, отставшего от товарищей. Он приветливо
махал ей фуражкой и как будто звал ее с собой туда далеко, далеко, к счастью, к свободе и к борьбе. Бланш уже
хотела отойти от окна, когда она вдруг заметила у ворот
противоположного дома сапожного подмастерья. Он
стоял за воротами с парой сапог под мышкой и смотрел
вслед уходившим студентам. Как и она, он смотрел им
вслед долгим, долгим взглядом. И Бланш подумала: «На
свете больше мужчин, мечтающих о свободе, чем нас,
женщин». А бедно одетый юноша вышел из-под ворот
и тихо и незаметно пошел своей дорогой, и не заметили
его те счастливцы, которые, сами того не зная, помимо
своей воли, доставили ему тяжелое огорчение.
Ужин кончился, и гости ушли. Бланш сказала, что
она устала после треволнений этого дня, и заперлась
у себя в комнате. Первым делом она собрала все учебники и швырнула их в угол. Потом она села к письменному столу и задумалась. Она вспомнила экзамены и думала о том, что они каким-то чудом прошли так благополучно. Если бы учитель спросил про испанские войны,
если бы ее заставили переводить из третьей книги Ливия, если бы ее попросили рассказать о пропорциях или
о злаках, если бы ее стали спрашивать по остеологии
или осведомились о ее познаниях о немецких предлогах
или о сослагательном наклонении, тогда бы этот день
стал для нее днем позора. Какое счастье, что она выдержала экзамен, но как ничтожна ее заслуга! А теперь ее
расхваливают газеты за то, что ей повезло на экзаменах.
В сущности надо бы было похвалить снисходительных
экзаменаторов. За счастье же, которое благоприятствовало ей, никого нельзя было хвалить. А освобождение,
где оно? Теперь она скоро должна быть свободной. Но
каким образом это случится? Химия, анатомия, физика
372
и больше всего латынь... Была ли она до сих пор свободна? Да, она была свободна от неудобства знать меньше,
чем другие товарки. Конечно, это тоже была своего рода
свобода, но совсем не та свобода, о которой она мечтала.
Самые лучшие, самые свежие мысли приходили ей в голову не из учебников, когда она сидела здесь одна в свободные часы. Тогда она сидела такой же пленницей под
стражей двух часовых, как сидит и теперь. Когда кончится шестилетний курс и она выйдет из университета врачом, тогда-то уж, конечно, она будет совершению
свободна. Целых шесть лет! Это было ужасно много, но
все-таки это была надежда. Теперь наступает лето. Она
проведет его с тетками в пансионе в Интерлакене. Там,
может быть, удастся встретить людей, но не таких, каких описывают в книгах, а настоящих. В книгах вообще
пишут ужасно осторожно, как будто даже нарочно стараются молчать о настоящей жизни. С этими мыслями
Бланш легла в постель и скоро заснула.
Спала она недолго, всего часа два, и проснулась. Месяц освещал комнату, и на полу лежали желтые узоры
и блики. Где-то пели. Звучный и веселый мужской голос
пел под аккомпанемент гитары какой-то итальянский романс, и в конце каждой строфы вступал хор. Бланш лежала на спине и слушала. Почему так поздно ночью пели на
улице? Кто мог петь в такой час? Она надела туфли и подошла к окну. На улице под ее окном стояли студенты;
она узнала их по фуражкам. Все они смотрели на ее окно.
Очевидно, они пели серенаду. Но кому? Неужели ей?
В это время вошла тетя Матильда в нижней юбке.
— Детка, скорей спускай штору и зажигай свечу. Это
серенада в твою честь.
— А где же тетя Берта? — тревожно спросила
Бланш.
— Она притворилась спящей, — отвечала шепотом
тетя Матильда. — Ну, скорей, скорей, зажигай свет, а то
они уже давно там поют.
Штору опустили и зажгли свечу.
373
Когда все снова стало тихо, Бланш легла в постель
и стала думать. Эти веселые юноши сегодня повеселились и пришли приглашать ее к десерту. Куда пошли они теперь со своей гитарой и хриплыми голосами? И за что они оказали ей такую честь? Другим студентам они ведь не пели серенады. Значит, ей воздавался
почет, как женщине. Как женщине! Следовательно, есть
что-то особенное, что-то благородное в том, чтобы быть
женщиной. По их мнению, вероятно, да. По ее же мнению, было просто скучно быть женщиной. Может быть,
в этом заключалось какое-нибудь преимущество, какая-
нибудь выгода? И она вспомнила, что на днях читала в газете о том, как какая-то жена била своего мужа. Это было
рассказано в виде комичного анекдота в отделе смеси. Но
почему та же самая газета помещала в отделе преступлений рассказы о том, как мужья бьют своих жен, и предпосылали им заголовки «Ужасное зверство» или «Возмутительная жестокость»? Разве закон не берет под свою
защиту мужчину в тех случаях, когда он оказывается слабейшим? Женщину закон защищает всегда, и при этом
никто не справляется о том, сильнейшая или слабейшая
она, а веселый анекдот доказывает, что в жизни бывают
случаи, когда женщина оказывается сильнейшей. Значит, и закон был несправедлив! Таким образом женщиной быть иногда выгодно, иногда не выгодно. Но было
ли это выгодно в самых важных случаях жизни? Если да,
то почему же тетя Берта так ненавидела мужчин и называла их всех тиранами, которых надо непременно свергнуть! В самом деле, почему? С этим она заснула.
Была уже осень, когда Бланш вошла в первый раз
в химическую лабораторию цюрихского политехникума. Ассистент повел ее в большую залу, где для нее был
приготовлен стол с ящиками, полками, банками, склянками, разными реактивами и всевозможными красками. Ей указали ее место. Кран от газа и горелка, кран
с водой и под ним раковина. Целый ряд пробирок, колбы, мензурки, реторты, стаканы, фильтры, воронки,
374
трубки, пипетки. Посреди комнаты стоял огромный вытяжной шкаф со стеклянным колпаком, раздвижными
рамами и горящими газовыми рожками для того, чтобы
получалась тяга воздуха и удалялись вредные газы. Все
это было ново и таинственно. Не было ничего похожего
на то, что мы видим в обыденной жизни. Причудливая
форма реторты напоминала средневекового алхимика,
пробирки напоминали темную комнату врача, а реактивы в склянках — аптеку. Двухромокислый калий светился на солнце и горел, как летний закат; раствор купороса
синел, как Женевское озеро, а зеленая мышьяковая кислота напоминала листья березы.
Облачившись в длинный синий передник, Бланш
принялась за работу и стала изучать тайны природы. Ассистент, который должен был руководить ее занятиями,
подошел к ней и без всяких предисловий начал объяснения. Он говорил спокойным сухим голосом без особой
любезности, но нельзя было сказать, что он был невежлив. Он брал ее руку, как какие-нибудь щипцы, и учил
ее, как надо правильно держать пробирку. Он убеждал
ее старательно запирать кран от газа, когда ей не надо
пламени, и просил мыть раковину после окончания занятий. Потом он ушел в другие залы.
Это был первый мужчина, который говорил без особой вежливости с Бланш, и она чувствовала себя почти
оскорбленной. Но потом, она объяснила себе поведение
ассистента тем, что он знает много больше ее и потому
чувствует свое превосходство.
За другими столами вокруг нее стояли студенты и работали. Когда она вошла в залу, они болтали, смеялись
и пели; при ней они притихли и только перешептывались между собой. Но Бланш слышала то, что они говорили. В новой непривычной обстановке она волновалась, и нервы ее были страшно натянуты.
— Какова она, по-твоему? — говорил шепотом чей-
то голос позади нее.
— Рожа! — отвечал другой голос за соседним столом.
375
Это неприятно поразило Бланш. Кто станет спрашивать про мужчину, собирающегося изучать химию, красив он или дурен? И потом, разве она уж в самом деле
так дурна? Она посмотрела на свое лицо в большую стеклянную колбу, кипевшую в это время на штативе. Она
увидала в ней длинное лицо с большим носом, но все
это так было искажено, благодаря кривизне стекла, что
она не могла сделать никакого заключения. Эти господа
нашли, что она некрасива. Собственно говоря, это ее последняя забота.
Когда первая реакция удалась ей благополучно,
Бланш захотела показать свою работу ассистенту, чтобы получить его одобрение. Но его поблизости не оказалось. Она было хотела пойти его поискать, но потом
раздумала. Ей не хотелось проходить мимо этих мужчин, работавших в лаборатории. Она стала ждать возвращение ассистента и тем временем принялась откупоривать все склянки и нюхать их содержимое. Потом она
попробовала вымыть пробирку и запачкала пальцы серной кислотой. Пальцы тотчас же почернели.
Вскоре пришел ассистент. Бланш подошла к нему со
своими пробирками и показала ему их с таким видом,
будто ожидала от него похвалы. Ассистент посмотрел на
нее так, как взрослые смотрят на ребенка, и сказал:
— Ничего! Переходите к следующей реакции, —
и ушел. Бланш осталась недовольна таким обращением.
Ей стало почему-то неловко, и она думала: «Ничего! Разве так говорят? Он должен был бы сказать: «Очень хорошо, сударыня!» Он, по-видимому, забыл, что имеет дело
со студенткой, а не со школьницей».
Вернувшись домой, Бланш должна была подробно рассказать, как прошел день. Тетя Берта кусала себе
губы, но сказала только: «Завистники!»
Вечером ферейн студентов медиков «Эскулап» устраивал вечеринку, и после долгих обсуждений Бланш получила разрешение отправиться на нее с тем, чтобы в десять часов она вернулась домой.
376
В семь часов она пришла в кафе. В отдельную комнату, отведенную для вечеринки, ей пришлось идти через
общий зал. Комната была полна курящей и пьющей публикой, пол был грязный, все имело очень непривлекательный вид. Совершенно иначе представляла она себе
место веселых сборищ, где, как она знала, мужчины так
охотно проводят вечера. Она вошла в комнату их собрания. Никто не встретил ее, не помог ей раздеться, как это
бывало прежде, когда она приезжала на балы. В комнате
было неуютно. Студенты сидели группами и курили сигары, которые они с неудовольствием побросали в угол,
как только она вошла. Смех оборвался, и разговор смолк.
Из-за двери двое студентов глядели на нее в пенсне. Пробежал тот же шепот, что и раньше в лаборатории. «Хорошенькая?» Ответ: «Страшна, как ведьма!»
Руководителя вечеринки еще не было. Никто не поднялся ей навстречу, и она никого не знала. Наконец она
вошла. Мужчины, не вставая, слегка поклонились ей.
Наступило молчание. Бланш огляделась и увидела, что
она была единственной дамой. Она села на свободный
стул, никто не подумал предложить ей места.
Наконец явился руководитель вечеринки. Правда, он
поздоровался, но не сказал ничего любезного. Вслед за
ним пришли пять девушек. Их сейчас же оглядели и одну
из них нашли хорошенькой. Бланш старалась заговорить
с ними, но они держали себя очень недоступно.
Началось заседание. Были произведены выборы,
прочитан устав. «Невыносимо», — подумала Бланш. Затем был прочитан доклад о теории происхождения видов. Для Бланш эта теория была новой, но она нашла ее
слишком грубой. Докладчик сравнивал людей с животными, а ведь Бог создал человека по своему подобию,
а животных на пользу человека. Он утверждал, что лошадь вовсе не создана ходить в упряжи или под седлом,
потому что Ной не пользовался ею в этих целях. Верблюд кажется рожденным с седлом; но это совсем не так,
и одногорбый верблюд, по-видимому, создан именно
377
для того, чтобы не возить всадников. Все это было «отвратительно», по мнению Бланш.
Затем началась общая беседа. Вставали с мест, ходили по комнате. Мужчины снова вынули сигары и заказали пива. Кельнер бегал с кружками, в отдельных группах
вдруг прорывался взрыв смеха, сопровождаемый лукавыми взглядами по сторонам. Девушки сидели на своих местах, как неприглашенные дамы на балу, и Бланш
было не по себе. Ей было скучно. Она видела, что мужчины стесняются, чувствовала себя среди враждебного элемента. Мужчины чуяли конкуренток, а женщины держали себя настороже в присутствии соперников. Мужчины
не решались вступать с ними в разговор, потому что это
могло быть принято за ухаживанье, а они знали, что эмансипированные дамы не желают признавать себя женщинами. Они пришли сюда только с условием, что с ними
будут обращаться, как с равными. Да, но в этом равенстве
было что-то унизительное. Бланш казалось, что здесь равенство граничит с невежливостью; и, несомненно, было
бы приятнее, если бы обращались с ней по-прежнему.
Ее удивляло, что никто из мужчин ничего не предлагает дамам. Правда, каждый заказывал сам себе пива, и со
стороны незнакомых мужчин было бы в высшей степени
невежливо предлагать что-нибудь дамам.
Бланш, чувствовала себя все более неловко; наконец она собралась с духом и спросила остальных девушек, не хотят ли еще чего-нибудь выпить. Ей ответили
изумленными взглядами и резким вопросом: «Выпить?
Пива? Фуй!» Положение становилось все более натянутым. Руководитель вечеринки завел с дамами разговор
о химии и втягивал в него одного студента за другим; говорили о физике, о латыни, обо всем, что не напоминало
ухаживанья. Девушки заметили, что мужчины «исполняют обязанность», и становились все односложнее. Наконец хорошенькая девушка искусно переменила тему
и заговорила со своим кавалером попросту. Скоро к ним
подошли еще три студента, и у них завязалась веселая
378
беседа. Другие девушки еще больше замкнулись в себе
и приняли с недовольными лицами эту недостойную попытку к сближению. Красавица пошла еще дальше и заказала себе большую кружку пива. Вокруг нее толпилось
все больше народа, а оппозиция в лице других девушек
проявлялась все реже. Они вдруг сразу подружились,
и вступили в оживленный разговор, смолкавший каждый раз, как приближался кто-нибудь из студентов.
Было такое ощущение, словно в воздухе собирается
гроза, батарея, занявшая позицию в, одном углу, становилась все беспокойнее, и каждый раз, как кто-либо из
мужчин старался разрядить электричество путем разговора, он встречал сильный отпор. Красавица перенесла
поле битвы на опасную и запретную почву и этим победила.
Чтобы спасти положение, председатель поднял
кружку, застучал по столу, откашлялся и произнес юмористическую речь.
— Товарищи, — начал он. Все смолкло, и дамы насторожились при этом новом обращении, так непохожем на обычное «милостивые государыни и господа».
— В детстве нас учили, что женщина создана из ребра
мужчины и что, следовательно, мужчина существовал
раньше женщины; поэтому неведомый автор книг Моисея (который, живи он теперь, навлек бы на себя обвинение в проповеди мормонизма) мог бы по праву требовать, чтобы женщина была подвластна мужчине, потому что ведь Адам был отцом Евы, а по § 4 гражданского
кодекса Моисея Ева обязана почитать своего отца. А теперь наука учит нас, что женщина существовала раньше мужчины. Первая клеточка была женской, она одна
заключала в себе весь род. Я обойду молчанием нерегулярный образ жизни прекрасных цветов и перейду к животным, начав с самых низших и кончая величайшим из
них — человеком. У моллюсков мы встречаем уже, так
сказать, Гермеса и Афродиту, но еще не как отдельные
индивидуумы; мужчина еще не существует. Первый раз
379
Адам появляется не в прекрасном райском саду, а в глубине моря среди издавна известных усоногих раков, где
он ведет жизнь паразита, как маленькое жалкое существо, прикованное неразрывными супружескими узами
к гораздо более крупной и сильной Еве; так что он появляется гораздо позже классического ребра, из которого — простите мне выражение — выскочила его жена,
и всецело опровергает теорию британского библейского общества о сотворении женщины. Но оставим низших животных и поднимемся выше. Еще у насекомых
мать стоит на своем естественном, высоком положении;
она царила у муравьев и пчел. Она владелица, праматерь, и только благодаря ей пчелиный улей — не только
коробка, муравейник — не просто куча, а общество. Но
и работники, помогающие ей, еще не мужчины; честь работать и быть в состоянии вести самостоятельную жизнь
достается им гораздо позднее. Рабочий муравей — это
изуродованная бесполая особь женского рода, которая
добывает пищу, строит гнезда, ведет войны и воспитывает детей. Следовательно, раньше воином была женщина!
Мужчина — простите за выражение — еще не эмансипировался. Он несамостоятельный малыш, на котором лежит печальная обязанность стать отцом детей, которых
он никогда не увидит, — и затем умереть! Сделаем большой шаг вперед и взглянем на рыб. Мужская особь уже
добилась свободы и ведет самостоятельную жизнь. Она
возвысилась до положения воспитателя детей и этим самым становится рабом. Еще шли выше — навстречу идеалу — и мы уже в воздухе, среди птиц.
Самец уже работник, воин и супруг. Самка эмансипировала его и окутала сетями любви. Работа уже делится, а у хищных зверей разделение труда идет дальше,
несколько варьируясь, потому что развитие идет не прямо, как стрела, и не быстро, как молния, но то повышаясь, то понижаясь.
И, наконец, мы достигаем ангелов, я хотел сказать, людей. У диких народов подчиненное положение
380
мужчин еще в полном расцвете. Женщина сидит дома
у очага, смотрит за детьми, заботится о посуде, если таковая имеется, и готовит пищу, если это производится
дома. Мужчина бродит по лесам, убивает зверей и добывает пищу. И в этом заключаются их обязанности. Но
у некоторых племен мы еще находим следы атавизма,
как выражаемся мы, ученые, следы старинных допотопных отношений. Сказания и историки рассказывают об
амазонках древних времен. Это напоминает устройство
муравейников. Женщины обходятся сами собой, ведут
войны, кормят себя и детей, а мужчины призываются
только раз в год. Подобные отношения существуют еще
у афганцев, где муж — собственность жены, и у дагомейцев, где женщины управляют и ведут войны. — У цивилизованных народов, — говорю о нас, — разделение
труда между полами так неравномерно главным образом благодаря социальному вопросу. У бедных работают и муж и жена, хотя муж и несет более тяжелый труд,
потому что женщина еще не добилась права работать
в угольных копях и на лесопильнях.
Семья первоначально была общиной, владевшей общинным имуществом. Собственность принадлежала семье, а так как муж один нес на себе обязанность заботиться о жене и детях, то жене незачем было наследовать
ему, да собственно и этого и не могло быть, потому что
собственность, как принадлежащая семье, при выходе
замуж дочери не могла быть передана другим. Эти доводы весьма несовершенны, и я не буду вдаваться в подробности, которые могут нас завести в тайны собственности, священного имущественного права; я оставляю
это до следующего раза.
Для общины, называемой семьей, общество требовало представителя. Женщина несла домашние обязанности и смотрела за детьми, дети были неразумны,
и поэтому муж взял на себя самую тяжелую ношу
и стал у кормила правления. Но среди высших классов,
я не хочу сказать — рабочих, где дегенерация начинает
381
постепенно разрастаться, появляются уже некоторые
симптомы. Женщина почувствовала себя униженной
тем, что она возведена в королевы, и хочет снова стать
рабочим муравьем: то есть, хочет снова вернуться к муравейнику. За этим, несомненно, следует понижение
власти мужчины. Теперь я спрашиваю: идем ли мы вперед, следуя эмансипации, или идем обратно? Права ли
женщина, снова желая присвоить себе власть, первоначально принадлежавшую ей, или прав мужчина, оказывая ей сопротивление?
Мне кажется, эмансипация — это антиципация, нечто, пришедшее слишком рано, потому что мы стоим перед новой эпохой в развитии полов. Это не будет
ни улей, ни строй дагомейцев, ни ток глухарей и стадо
овец, но от всех учений будет взято понемногу. Как далеко зайдет разделение труда в новом обществе, мы этого
еще не знаем, но что оно не перейдет естественных границ каждого пола, это понятно само собой, потому что
теперь человечество снова, по-видимому, овладело своим здоровым разумом, а разум — это природа.
Милостивые государыни, я обращаюсь к вам со всем
тем уважением, какое я всегда питаю к женщинам и которое не умаляется во мне, когда я вижу ваши попытки
снять тяжелую ношу с плеч мужчины и разделить его
труд; вы, милостивые государыни, сделали первый шаг
к освобождению мужчины, и за это я приношу вам сердечную благодарность от имени всего моего пола!
Красавица засмеялась и студенты тоже, но в углу у печки было тихо, так неприятно тихо. Вскоре дамы начали
подниматься и надевать пальто. Как по данному знаку,
студенты бросились помогать дамам, но те поблагодарили, ясно выказав, что они не нуждаются ни в какой помощи. Одевшись, они надели перчатки и пристально уставились в ту сторону, где сидела хорошенькая девушка. Но
та ничего не поняла, пила пиво и смеялась. Бланш была
с ней знакома и считала долгом вежливости сказать ей, что
другие девушки уходят. «Хорошо, идите, — отвечала она,
382
и они ушли. Они прошли через сильно накуренную общую залу, сопровождаемые дерзкими взглядами, и вышли на улицу. Тут они остановились, дожидаясь трамвая.
Бланш случайно обернулась. Из кафе доносилось пенье
и игра на фортепиано. Она подошла к окну и из-под шторы заглянула в комнату; сигары и спички у всех в руках,
веселые лица, пение и игра, а посреди одной группы стояла Луиза (так звали красавицу) и курила. Она почувствовала, как ее кольнуло в сердце. Теперь они веселятся! Теперь! И Луиза была одна дама среди мужчин. Какое неприличие. Какая испорченная девушка! Но во всяком
случае они веселились!
Когда Бланш вернулась домой, тетя Берта сидела и ждала ее рассказов. — «Было весело?» — «Весело?
Страшно скучно! И как невежливы были студенты!» —
«Они курили?» — «Нет, но они пили пиво и говорили
безнравственные вещи. Председатель сравнил женщин
с клеточками, раками и тому подобным!» — «Сравнивал
он их и со зверями?» — «Да, и потом он говорил о вещах,
которые можно читать в книгах, но о которых можно говорить, разве только на лекции.» — «Что же он сказал?
Что-нибудь неприличное?» — «Да, вроде того. И потом
они ушли, а Луиза, та осталась.» — «Одна?» — «Одна;
и потом она курила!» — «Курила и одна! Мы это заметим», — сказала тетя Берта. И потом начала расспрашивать обо всем подробно.
Бланш легла поздно. Ей надо было о стольком подумать. Почему было скучно сегодня вечером? Почему мужчины были такие принужденные, невежливые и враждебные? Что он хотел сказать своей речью? Так вот желанная
свобода, когда можно видеть вблизи, без надзора, любезных кавалеров! Может быть, они вовсе не так хороши, как
это кажется? Но с Луизой они обращались так, как это
принято на балах. Как непохожи мечты на действительность. Как непохожи! Но вот Луиза веселилась же!
На следующее утро тетя Берта оделась и отправилась с жалобой к ректору факультета. Профессор,
383
к сожалению, был человек грубый, привыкший говорить все, что думает, а тетя Берта, к сожалению, считала,
что профессором должен быть человек образованный,
знающий, что можно говорить и чего нельзя.
Тетя Берта явилась, конечно, в такой час, когда профессор не принимал. Но что ей за дело? Он должен
принять, раз дело идет о чести университета и благополучии юношества. Наконец ее приняли; она высказала свою жалобу и передала содержание речи. Профессор глядел на нее, как на какую-нибудь новую разновидность и наконец ответил:
— Что же мне до этого?
— Что вам до этого?
— А что вам до этого?
— Что? Что? Да ведь нравственность юношества
в опасности!
— Почему? Объясните! Что случилось? Он сравнил
женщин с клеточками (разумеется, это неправда). Было
бы гораздо хуже, если бы он сравнил их с ангелами! Вы
верите в Священное Писание? Разумеется. Ну. Он сказал, что женщина властительница, а мужчина раб. Это
было сказано очень любезно! Хотите послушать, что написано в Библии? «Воля твоя должна быть подчинена
твоему мужу; и он должен быть твоим господином!»
Разве это не правильно?
— Это неправильно!
— Что? Так, значит, вы свободомыслящая и отрицаете святое Слово Божие? Разве не так?
Тетушка чувствовала себя, словно она попала в ловушку. Она трясла головой и была готова упасть без чувств.
Но профессор продолжал: «В болезнях родишь ты чадо
свое!» Исполнила ли она эту заповедь Бога? Нет, этого
она не хочет! Так, так, она восстает против священных заповедей! Но к делу! Студенты не курили, вели себя прилично, разделяли мнение вашей особы, что учение Библии безумно, и вообще — все, что они делают на своих
собраниях, никого не касается. Какое ей дело, курит ли
384
мадемуазель Луиза или пьет пиво? Табак не запрещен
ни в гражданском, ни в моральном уложении. Есть старые дамы, которые нюхают табак. И все старые дамы завидуют молоденьким девушкам, которые веселятся —
особенно в мужском обществе. Кому не нравится, тот
может и не ходить туда, а кто переносит все, что там делается, так того просто можно вышвырнуть! Пусть так
и знают! Никто не имеет права врываться в частные собрания! Зачем это нужно? «Уважение, которым обязаны женщине?» А каким уважением обязаны мужчине?
Никаким? Это и видно! Иначе бы ему не приходили мешать и надоедать со сплетнями! Почему девушки не образуют своего ферейна? Что! Это не будет так весело, конечно! Прошу извинить, но мне пора на лекцию! Я профессор университета, а не полицейский!
Результатом было то, что тетушка основала женский
ферейн. Бланш запретили ходить на вечеринки. Она
принуждена была ходить в дамский ферейн и проводить там ужасные вечера. Жизнь в Цюрихе, от которой
она так много ожидала, становилась все невыносимее.
Непрестанный надзор, бесконечные лекции: еще больше римских императоров, еще больше королей и королев, еще больше философии. Когда же это кончится? Да
и кончится ли когда-нибудь? Какая жизнь начнется для
нее после окончания экзаменов? Свобода? Нет, тогда
начнется новое рабство. Как наемный экипаж она должна быть готова к услугам первого встречного, кто позовет
ее; переходить из дома в дом, где ее будут встречать, как
чудодея, когда она сама знает, как мало можно сделать.
А свобода? Осмелится ли она появляться с мужчиной,
если она предпочитает его общество женскому (что вероятно и будет)? Ни в каком случае, этим она подорвет
к себе уважение; пациенты будут избегать ее, и общество
оттолкнет ее. Никакого исхода! Один, впрочем. Выйти
замуж! Замужние женщины имеют право жить вместе
с мужчиной, есть за одним столом, спать на одной постели, вращаться в обществе мужчин, ходить одной по
385
улицам! Но тут есть одно «но». Жены едят чужой хлеб,
управляют чужим хозяйством, смотрят за чужим бельем и уверяют, что они рабыни. Этого Бланш не хочет.
Так и в браке нет свободы?
Работая однажды в лаборатории, она должна была
произвести синтез. Он был очень труден и требовал
большого внимания. С этой целью ей отвели место около печки, где она могла свободнее расположиться. Она
надела на лицо маску и устроила сильную тягу в шкафу, где стоял ее аппарат, потому что выделявшиеся газы
были очень вредны для вдыхания. Она гнула стеклянные
трубки, приготовляла песочные ванны для колб и готовила бесконечные провода и приемники.
Ассистент, с которым она не говорила с знаменитой
вечеринки, проходил через комнату. С лицом, скрытым
под маской, она испытывала упорное желание заговорить с ним. Со времени разговора тетки с профессором
на Бланш все смотрели, как на сплетницу, и никто не
сближался с ней. Поэтому она чувствовала потребность
оправдать себя. Но и ассистент считал также, что переговорить необходимо.
— Весело стряпать в этой кухне? — насмешливо спросил он.
— В этой кухне еще терпимо, но в настоящей кухне,
должно быть, не очень-то весело, — отвечала Бланш.
— Я тоже не думаю, чтобы кухарки находили веселым готовить обед на господ, — отвечал ассистент. —
С хозяйками, вероятно, трудно ладить.
Бланш покраснела под маской.
— Вы больше не ходите на вечеринки? — снова заговорил он.
Бланш промолчала.
— Вы находите их скучными? — продолжал он. —
Хотите пойти в другой ферейн, где не скучают? Хотите
сходить со мной к русским?
Бланш так много слышала про русских, что в ней
пробудилось любопытство.
386
— Я думаю, тетя не позволит мне, — ответила она совсем по-детски.
Ассистент улыбнулся.
— А почему тетушка этого не позволит? Разве вам
грозит опасность? Разве опасно слышать новые, свежие
мысли?
— Нет, — отвечала Бланш. — Но русские девушки такие свободные.
Он опять улыбнулся и заглянул ей в глаза.
— А разве вы не хотели бы быть свободной?
Бланш почувствовала потребность высказать ему
все. И он казался ей тем, кто может помочь ей разбить
цепи.
— Конечно, — сказала она, — я хотела бы быть свободной. О, совсем свободной!
— Видите, видите! Пойдемте завтра со мной!
— Да! Но тетя!
— Ну, сочините ей что-нибудь!
Бланш вздрогнула. Он, казавшийся олицетворением
честности и правды, он советует ей солгать!
— Разве не бесчестно лгать.
— Не всегда! Если убийца, намерение которого мне
известны, просит указать дорогу к жертве, то я указываю
ему ложный путь и лгу с радостным чувством!
— Но разве тетя убийца?
— Конечно, да! Разве вы не чувствуете, как от ее отравы ваша кровь начинает стынуть? Ее ненависть, ее месть,
которую вы должны осуществить, текут в ваши жилы,
поглощаются вашими легкими, парализуют вашу нервную систему! Разве вы свободны? Вы едите хлеб этого вампира, который вы не заработали, она платит вам
за то, чтобы вы выполнили ее месть, вы продали вашу
душу, как другие женщины продают свое тело. Почему
вы стремитесь к этой деятельности? Чувство ли долга по
отношению к людям, или жажда вращаться среди неопрятностей, вдыхать воздух комнаты больного, слышать
вопли боли, быть отрываемой от сна и вызываемой из-за
387
обеда? Нет, это месть! Кому? Отставным возлюбленным
вашей тетки? Нужны вы как врач? Нужны ли пятьдесят
процентов тех, что уже существуют? Вы думаете, не хватает писак рецептов? О, они наступают друг другу на
ноги и ничего не могут поделать. Зачем русские девушки становятся врачами? — спрашиваете вы. Да, не для
того, чтобы писать рецепты, не для того, чтобы иметь
возможность не выходить замуж, но из тех же побуждений, почему пропагандисты поступают в мастерские,
почему девушки из богатой семьи идут в служанки —
для того, чтобы вылечить человечество от еще больших
страданий так, чтобы оно не нуждалось больше во врачах, потому что равномерное распределение знаний делает всех попечителями о здоровье.
Бланш чувствовала себя, как приемник электрической машины; она подхватывала все искры, которые
метал вокруг себя этот человек, и в то же время она испытывала желание оттолкнуть его от себя. Она была
словно пустая, и он хотел наполнить ее избытком своей души. Глаза его сверкали, его сильное мужественное
лицо казалось олицетворением правды, когда он говорил ей: «Солги!» Она искала точки, с которой она может
обезоружить и ранить его, и могла это сделать именно
в этом пункте. Он стоял перед ней такой высокий и ясный, выше, чем она хотела признаться, и она должна ниспровергнуть его. И в то же время ей хотелось видеть его
великим и сильным, как опора, которую она ищет, как
освободителя. Она бессознательно чувствовала, что освободитель может стать властелином; она и искала и отталкивала его. Наконец она сказала:
— Вы проповедуете иезуитскую мораль.
Но у него, знающего все избитые фразы, ответ был
уже готов:
— Нет, я этого не делаю. Тайна иезуита лежит в обманчивом выводе; он показывает словами фокусы, как
на картах, и вы обмануты. Он говорит: цель (дурная
или хорошая) оправдывает средство. Я говорю: святая,
388
великая, прекрасная цель оправдывает средство. Низкая цель не оправдывает никаких средств. Вы коралл,
осевший на старый ствол: берегитесь прирасти к нему
и окаменеть! Так гласит новая мораль, которая уже была
новой, когда ее возгласил Монтескье: «Если я знаю что-
нибудь полезное для меня, но вредное для моей семьи,
я изгоняю это из моего сердца! Если я знаю что-либо
полезное для моей семьи, но вредное для моей родины,
я стараюсь забыть это, и если я знаю что-либо полезное
для моей родины, но гибельное для Европы или человечества, я считаю это преступлением!» Эгоизм, этот прекрасный дар, который именем чувства самосохранение
дает жить всему живому, также разовьется, и он уже готов сделать крупный шаг вперед в сторону альтруизма,
то есть любви к другим. Эта любовь выразилась сначала в любви к детям, затем к семье. Но семья находится на той стадии развития, когда мы должны отбросить
ее и развить в общество, грядущее общество. Вы живете
еще в сетях семьи, которая является только экономическим институтом; вырвитесь из тесных ячеек домашнего улья, бросьте их и постройте свой собственный улей;
покиньте ваш пол с его конгломератом мелких интересов и изолированных эгоистичных жизней и живите
для человека.
Бланш казалось, что стены раздвигаются, двери распахиваются бесконечной вереницей; его слова действовали как сырость и тепло на старые семена, долго лежавшие в холодном месте. Она чувствовала, как распускается все ее существо, и скорлупа готова была лопнуть!
И вдруг ее охватило непостижимое желание бороться
с этой душой, желавшей обогатить ее душу. Она, как жаворонок, неслась все выше и выше от преследующего ее
супруга, с чувством, что в его поцелуях таится ее смерть
как личности в ту минуту, как она дает жизнь роду.
— Зачем вы говорите мне все это? Зачем вы расточаете все эти слова передо мной, незначительной чужой девушкой? — спросила она.
389
— Вы уже отгадали! — отвечал он. — Но если вы хотите, чтобы я сам высказал это, пойдемте со мной завтра
вечером к русским!
Он схватил ее за руку.
— Вы пойдете? Да?
— Да, я пойду, — отвечала Бланш, словно она не могла ответить иначе.
Когда Бланш, придя домой, сидела за обедом, она
испытывала такое чувство, словно тайна, которую она
несла в себе, стала стеной между нею и тетками. Связь
была порвана. Ей казалось, что она владеет чем-то, полученным не от них. Это принадлежало только ей, это
были ее новые мысли, ее тайна. Она думала о том, какой слабой оказалась эта связь. Это не были узы любви, потому что она не любила их, этих тюремщиц, это
были исключительно материальные узы. Они были
нужны ей, как удобрение тополю, как хозяин паразиту.
Она ждала, что в ней заговорит голос крови, но он молчал. Ни угрызений совести, ни подстерегающих предчувствий. Все старое отпадало, как плохо приклеенные
обои, и она сознавала, что она выросла. Теперь впервые
ощутила она на своих изнуренных щеках освежающее
дуновение крыльев свободы; сковано было не только ее
тело, но и душа!
* * *
Бланш пришла первая на назначенное место в парке. Тихо падал легкий снежок, и озеро казалось черным.
Она была очень взволнована, и, когда у нее под ногой
шуршали сухие листья, она вздрагивала, но снег все шел,
не переставая, и скоро шагов ее не стало больше слышно. Изредка песок еще скрипел под ногами, но снег и его
заставил замолчать. Она чувствовала, что каждый ее шаг
вел ее к новому поприщу, к неведомым судьбам, но он
вел ее на волю. Куда? Она сознавала, что нарушает договор! Она продала свою свободу этим двум старым женщинам, и они давали ей средства к жизни за то, что она
390
отдавала свою свободу. Теперь она подводила свой счет,
теперь она могла перестать черпать у них средства! Так,
в сущности, это просто экономическая проблема. Только тот, кто имеет средства к существованию, свободен;
остальные рабы. В ней начала расти скрытая вражда
против старух. Если бы у Бланш были свои деньги, тогда она была бы свободна. Зачем кричат люди о свободе,
когда у них нет ни гроша? Свобода без денег невозможна. Она бежала из дома, из тюрьмы школы в тюрьму
университета, тюрьму практической жизни, расположение публики. Всюду тюрьмы. И если придет освободитель, сильный и смелый, и разорвет ее цепи, то только
для того, чтобы отвести ее в новую, крепкую тюрьму, последнюю, которую отворит только смерть. Она не могла
разрешить этой задачи. Сможет ли это сделать он, умеющий ответить на все вопросы?
Снег заскрипел под сильными шагами, от его запыхавшегося лица шел пар; он остановился рядом с ней
и взял ее за руку.
— Угрызения совести? — спросил он. — Это бывает.
Корсиканец, допустивший врага умертвить всю свою семью, тоже мучается угрызениями совести. Совесть, терзающая человека за допущенное им убийство, условна.
Прочь ее!
Он повел ее за собой. Они шли в ногу, и руке ее так
хорошо было покоиться на его руке.
— Это далеко? — спросила Бланш.
— За городом, — отвечал Эмиль. — Русские не любят городов!
Они шли между белых полей, поднимались на холмы и пересекали виноградники; наконец они пришли
в Cafe des Alpes, маленькое деревянное шато, окруженное лиственницами и соснами. Оно имело идиллический, уютный вид, непохожий на рестораны или кафе,
где праздные люди убивают свое время; оно казалось
скорее пристанищем при дороге, где усталые путники
находят покой и отдых.
391
Они поднялись по деревянной лестнице, ведущей по
наружной стене дома наверх, и очутились на балконе,
освещенном светом из большой залы. Пока они отряхивали с себя снег, из залы вышел господин и поздоровался с ними, как со старыми друзьями. Это был высокий темноволосый человек с головой казака на широких
плечах. Он протянул Бланш руку, тепло пожал ее, как
сестре, снял с нее накидку и ввел в залу. Это было старинное помещение с низким деревянным потолком, на
котором виднелись балки. Над высокой деревянной панелью были изображены альпийские ландшафты с охотой на медведей; там и тут висели зажженные стенные
лампы, блестящие жестяные щитки, которые отражали
свет. Посреди залы стоял большой стол, вокруг которого
сидело человек двадцать мужчин и женщин; они пили
чай и курили папиросы, в то время как огромный блестящий медный самовар шумел посреди стола. В большой, похожей на шкаф зеленой кафельной печи ярко
пылали буковые ветви.
Когда Бланш и ее спутник вошли в комнату, все поднялись и пожали им руки. Девушки поцеловали Бланш
в щеку и освободили для нее место. На нее словно пахнуло теплом родины, ничто не напоминало холодной,
неприятной обстановки студенческой вечеринки. Ни
враждебности, ни соперничества, ни зависти конкурентов, и Бланш скоро почувствовала себя, как дома. Мужчины были с дамами любезны без ухаживанья, а дамы
принимали их знаки внимания с дружеской благодарностью. Они курили папиросы, но у них не было ни
коротких волос, ни синих очков; они были изящны в своих движениях и не старались резкими жестами и словами подражать мужчинам. Они говорили серьезно без
боязни быть непонятыми, потому что все они стояли на
одной ступени развития и беседовали между собой, не
желая никого поучать.
Бланш предложили чай, который был устроен на общий счет. Она нашла это приятнее, чем когда каждый
заказывает себе отдельно и кельнер все время бегает по
392
комнате. Ей предложили папирос, но она отказалась.
Она не находила ничего отталкивающего в том, что
дамы курят, раз у них было такое «обыкновение».
— Павел Бестужев, — произнесла смуглая девушка,
бывшая в этот вечер председательницей, — просил на
сегодняшний вечер слова. Но не больше получаса, голубчик.
Тот, кого она называла Бестужевым, отодвинулся от
стола, не вставая с места, и вынул листок с заметками.
— Я буду говорить о Святая Святых, — начал Павел
и отпил чая.
— Но ведь не о религии же? — спросил один с рыжей
бородой.
— Нет, — отвечал Павел. — Об этом говорить нечего.
Нет, я хочу говорить о том, что святее святого, о Святая
Святых.
«На ранней ступени развития общества, прежде чем
разделение труда создало высшие и низшие классы,
земля была матерью всех. Род нераздельно владел территорией или же делил ее на участки, как в сельском хозяйстве, для пользования на известный промежуток времени, не теряя права собственности. Такой коммунизм,
мы встречаем в русском миру или общине, и на нашей
родине живет почти сорок миллионов легализованных
коммунистов. И если все-таки наш бедный мужик не
счастлив, то причина этого кроется совсем» в другом,
что и должно быть теперь изменено.
Когда победоносные высшие классы начали захват
первоначально коммунальных владений, т.-е. грабеж, то
в ту же минуту этот грабеж был объявлен священным.
Захваченные земли стали священной собственностью
высших классов; но когда низшие классы хотели последовать их примеру и отобрать назад отнятое, им пришлось платить новые подати на тюрьмы. Итак, в возникновении святыни было мало справедливого.
А между тем, отнятой собственности все больше и больше грозила опасность быть возвращенной
ее настоящим хозяевам. Святость росла. Можно было
393
преступать все божеские и человеческие законы и все-
таки стоять под охраной закона, как в Швейцарии, но
за посягательство на собственность нас высылают. Собственность стала святее морали и Бога.
Но это время прошло, и петля на шее высших классов
затягивается все сильнее. Наше время видело легализацию трех великих посягательств на собственность. Первое, как известно, — уничтожение в России крепостного права (крепостные были собственностью); второе —
освобождение от рабства американских негров (негры
были собственностью, следовательно, неприкосновенны); и третье, которое каждый день происходит у нас на
глазах, называется отчуждением. У моего отца было имение и прекрасный сад, который он очень любил. Он сам
сажал все деревья, и каждый кустик был ему знаком. Он
не хотел его продавать, потому что любил его, как любят живое существо. Однажды к нему является инженер
одного железнодорожного общества, срубает деревья,
вырывает кусты. Отец плакал и проклинал. Инженер
сказал, что земля отчуждена, и отец получит за нее из
земства деньги. Отец не хотел продавать своего сада, не
хотел брать за него деньги. Тогда его просто отобрали.
Эти крупные принтеры поколебали святость собственности. Люди будущего не будут поступать, как государство, и отнимать; напротив, они будут давать. Но
мы увидим это только тогда, когда все убедятся в преимуществах следующего положение: никто не владеет
тем, чего он может лишиться завтра, и все являются собственниками того, что никогда не может быть отнято.
Теперь я хочу рассмотреть только «моральную сторону» собственности, которая, быть может, больше всего
способствовала и моральному состоянию общества.
Понятно, и чувство собственности проникало в нашу
духовную жизнь и развивало наш эгоизм. Даже наши
мысли стали объектом нашей жадности. Ученый бережет свое открытие, потому что оно доставит ему славу, а не потому, что оно приносит пользу человечеству;
394
изобретатель спешит взять патент, чтобы помешать человечеству пользоваться его изобретением; священники,
служители Бога, рвут друг у друга кусок хлеба и повышение по службе, некоторые даже как кафешантанные
певицы, обходят церковь с тарелкой, что заставляет говорить, что они творят чудеса за деньги. Народный представитель, обязанный в парламенте говорить только
правду, долго колеблется перед тем, как произнести слово, потому что за ним скалят зубы его кредиторы; журналист, который должен вонзить топор в корни подгнившего дерева, извивается, как червяк, прежде чем нанести
удар, потому что он видит под ним головы своей жены
и детей! Жена и дети! Сколько раз ради них разбивается
воля, сердце обливается кровью! Мужчина — собственность крепостной общины, семьи, и поэтому — как хитро! — высшие классы дали ему избирательное право
и мнимую власть, так как они отлично знают, что на ногах его оковы. И насколько свободнее женщина в общественной жизни, имея за собой экономическую поддержку! В ее силе слабость мужчины. Положение женщины
свободнее, чем мужчины, и поэтому она смелее. Когда
мужчина дает торговцу обмануть себя товаром и боится
поднять шум, чтобы не нажить себе врагов, женщина без
всяких разговоров кидает обманщику товар в лицо.
Но понятия о собственности проникли и в наши священнейшие тайники, священнейшие, потому что их
скрывает сама природа. Юноша смотрит на девушку; он
нравится ей, в душе они любят друг друга, но тут есть
одно важное обстоятельство: есть у него деньги? Нет! Так
пусть проходит дальше! Дети, которые должны бы быть
общественной собственностью, рассматриваются как
частная собственность родителей; на них лежит обязанность забавлять их своими ласками и болтовней в детстве,
а когда становятся старше, делать им «честь» и — почему же нет — добывать им деньги. Супруги, поклявшиеся
«принадлежать» друг другу, скоро, в силу привычки, начинают смотреть друг на друга, как на собственность.
395
В заключение скажу несколько слов о дурном и тем
более опасном символе собственности — деньгах.
Деньги — это поэзия, прекрасная для собственников,
но обманчивая, как и всякая красота! Это — плохой измеритель ценности, потому что они не измеряют ее. Сегодня можно купить за луидор целый мешок пшеницы,
завтра — только половину. Они не измеряют ни пользы,
ни ценности, потому что бутылка капского вина, стоящая луидор, не может равняться по ценности с мешком
пшеницы. Пока я съедаю мешок пшеницы, моя душа
освобождается от забот о пище, может быть, на целый
месяц, во время которого она может работать, между
тем как бутылка капского вина усыпляет меня на несколько часов, а затем обращает в раба.
Деньги опасны, как измеритель ценности; они являются в такой концентрированной форме, что глаз не
может усмотреть присущую им пользу. Тысяча франков золотом, лежащая на столе, не дает истинного понятия о ценности, но мешки хлеба на тысячу франков
я могу себе представить. Поэтому первой монетой был
скот, pecus, pecunia. Ребенок, в первый раз получающий
деньги, получает их на конфеты! Это весьма прискорбное искажение понятий, потому что ребенок приучается видеть в деньгах средство для наслаждений.
Самое дурное в деньгах — это то, что они обманчивы.
Говорят, что они представляют из себя все самое необходимое. Это неправда. Полезного не так много, как денег.
А деньги бесполезны. Мы видим, как разоряются банки,
выпустившие бумаг больше, чем есть в наличности денег, и держащиеся до тех пор, пока живет вера в бумаги.
Когда же наступит день, когда будет поколеблена вера
в деньги, когда за бесполезные деньги нельзя будет получить ничего полезного? Это мы видели при осаде Парижа. Город был полон золота, но никто не хотел денег,
хотели только пищи, которой нельзя было достать. В те
дни золото потеряло всю свою ценность. Араб, нашедший в пустыне мешок жемчуга, был так же беден, как
осажденные парижане.
396
И, несмотря на это, в обращении находится много
полезностей. Рынок завален хлебом, между тем как полмиллиона людей голодает. Вина этого в распределении
продуктов. А оно зависит от денег, ценных бумаг и сильно развитого разделения труда. Когда принципом явится самопомощь, когда собственность из частной перейдет в общинную, когда бедные займутся производством
пищевых продуктов, а не предметов роскоши, — тогда
нужды не будет!
Поэтому будем стараться показать людям все выгоды
уничтожения частной собственности!»
— А теперь, наверное, уже прошло полчаса!
После этого начались прения. Так как было много новичков, то для них были даны некоторые разъяснения.
— Я бы хотела указать на то, — начала Анна, — что
если разделить все сокровища мира, то каждый человек
получит 50 сантимов, и этим ничему не поможешь.
— Это возражение, — отвечал Бестужев, — зарегистрировано у нас под № 1. Я постараюсь ответить на него.
Если три миллиарда долларов Вандербильдта, Стевара
и Астора разделить между полутора миллиардами жителей всего мира, то каждый получит по два доллара, то
есть десять франков. Если же мы представим, что только
Европа и Америка примут участие в этом дележе, то полмиллиарда получат по двенадцать долларов на человека,
то есть по шестьдесят франков. На шестьдесят франков
столяр может купить себе инструменты, рыбак — сети,
гребец — лодку, купец — товары, ищущий службу — новое платье и т. д. Это разделение уже не так бесполезно;
а ведь мы приняли в соображение только три капитала;
подумайте, если взять все! А теперь я буду по порядку отвечать на последующие возражения, знакомые мне заранее. Итак, возражение № 2. Если в 8 часов утра разделить
землю, то к 12 часам хитрейшие и сильнейшие захватят
ее. Ответ: очень вероятно. Не социалисты, а только узкие
консервативные умы дошли до такого абсурда. Здесь
вообще нет и речи о каком бы то ни было разделении;
397
именно современное разделение (при котором двадцать
человек делят всю землю Англии) должно быть уничтожено. Государство должно постепенно отчуждать всю
собственность, так как ведь собственно она принадлежит
ему, а государство может делать государственные займы.
А тогда государство поостережется производить новый
дележ! Ясно это? Возражение № 3. Социалисты, последователи Дарвина, не должны были бы нападать на права наследования, потому что наследование средств к существованию — это хорошее средство для улучшения
расы. Постойте! Сознание того, что владеешь не заработанным своим трудом, ведет расу к вырождению. Взгляните на древние королевские и дворянские роды: все, кто
не работает, умрут естественной смертью, когда на земле
наступит кризис. Самое плохое наследство, какое можно
оставить детям — это собственность, потому что она перестала быть средством труда, а стала средством наслаждений. Возражение N2 4 (видите, у нас все предусмотрено). Если отменить наследственное право, человек не
будет производить больше того, что ему нужно. Это-то
нам и нужно. Благодаря этому прекратятся сосредоточения капиталов в одних руках и перепроизводство, влекущее за собой кризисы. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этом, скажу только, что если никто не будет оставлять детям наследства, — наследства, так часто
расточаемого опекунами и наследниками, могущего потерять всю свою ценность, сгореть, погибнуть от землетрясения, — тогда каждый будет оставлять своим детям
лучшее наследие — воспитание! Да, сильные руки и здоровую душу. Тогда священные сыновние чувства не будут оскверняться у ложа умирающего отца постыдными
мыслями о наследстве, о выгоде, какую приносит его кончина, а умирающий будет испытывать радостное сознание, что он оставляет потомству сильного, полезного, деятельного гражданина; между тем как собственность его
переходит в общее пользование, а, следовательно, и его
сыну, который будет чувствовать свою солидарность со
398
всем обществом, совместно пользующимся тем, что приобретает каждый из его членов.
Прения окончились. Самовар еще шумел, и налили
новые чашки благоухающего напитка. Серьезная часть
вечера кончилась, и всем хотелось повеселиться. Эмиль
взял гитару и запел. Потом столы сдвинули в сторону
и начали танцевать, после чего была подана легкая закуска. Студенты вели себя весело и непринужденно. Все веселились как дети, с полным сознанием, что можно быть
серьезным, не лишая себя радостей.
Было поздно, и Бланш пора было идти. Эмиль пошел ее проводить.
Погода прояснилась; месяц сиял нал озером и Альпами. Бланш взяла под руку Эмиля, и они молча шли
рядом.
— Вам было сегодня весело? — спросил Эмиль.
— Как никогда, — отвечала Бланш. — Но скажите
мне, они женаты, эти молодые люди?
— То есть как?
— Я нашла, что они очень, как бы это сказать, интимно держат себя!
— Да, они женаты, тайно.
— И повенчаны?
Наступило молчание.
— Нет, не повенчаны, — сказал Эмиль.
Бланш вздрогнула.
— В какое же общество вы ввели меня?
— В общество женатых людей.
— Но невенчанных?
— Ваша тетка тоже была замужем, но не была обвенчана.
— Моя тетя?
— Да, она вступила в гражданский брак. Венчание
довольно позднее изобретение, появившееся только в IV
веке; оно стало обязательным в четырнадцатом и добровольным после революции.
Бланш задумалась.
399
— Они живут вместе?
— Нет, — отвечал Эмиль. — Любящие не обязаны
жить в одной квартире, пользоваться одной и той же мебелью и есть за одним столом. И гражданский закон не
требует этого.
— Вы защищаете разврат?
— Разврат, милая барышня, благодаря которому вы
и я и все люди появились на свет; разврат, на который
священник при венчании призывает благословение Божье; разврат, результатов которого со страстным нетерпением ждут родители молодых супругов, и которые являются высшей радостью человека.
— Вы говорите так странно, — произнесла Бланш, —
но вы правы.
Они продолжали идти молча и скоро дошли до города.
— Что скажет тетя? — заговорила Бланш. — Я никак
не могу считать честным есть ее хлеб и не исполнять своих обязанностей.
— Ее хлеб? А откуда он у нее? Она сама заработала
его? Нет, она никогда не работала! Она наследовала его
от отца, который был купцом и нажил состояние благодаря запасам и спросу, то есть, вернее, чужой нужде.
— Чужой нужде?
— Да, конечно. Когда хлеба родится много и, следовательно, нет нужды, цены падают; когда наступает нужда,
то есть повышается спрос, тогда цена поднимается. Сама
собой? Нет, купец устанавливает цену и пользуется людской нуждой. Экономический закон — прекрасный закон!
Крупный торговец приглашает приказчика на жалованье 1200 франков. Он печатает объявление. Если является
только один, то он дает ему эти 1200 франков, потому что
боится иначе остаться без приказчика. Но если является
двадцать человек, он предлагает уже 1000 франков, а если
их пятьдесят, то только 500 франков. То есть, он пользуется нуждой других. Кто создал этот закон? Только благодаря ему ваша тетка получает ренту! Сколько смертей,
400
голода и страданий стоит эта рента! Теперь же вы должны загладить злодеяние отцов и послужить страждущему человечеству, — разумеется, за гонорар. Вы будете
прописывать горганку против желудочных заболеваний,
возникших благодаря неправильной еде, будете брать четыре франка за визит, а аптекарь, ваш соучастник, возьмет франк за горганку, которая растет на склонах гор,
и 72 франка за пузырек... потому что стеклянный завод
тоже хочет существовать. Какая прекрасная цель открывается вам! Вместо того чтобы дать бедняку шесть франков на мясо, вы возьмете их от него, чтобы он мог купить
у аптекаря привилегированную горганку, которая не насыщает и которую, при небольшом знакомстве с лечением, бедняк сам мог бы нарвать. Какая благородная задача — заниматься законным шарлатанством!
— Но вы лишаете меня всего! Скажите мне, зачем же
русские девушки делаются врачами?
— Чтобы обнаружить нужду; чтобы открыть фальшивые карты и поглядеть, лежат ли причины болезней
в бедности или богатстве, добродетели или пороке, чтобы изучить возможность предупреждать болезнь, вместо того чтобы лечить ее! Пропишите малокровному
филе и крепкий эль вместо горганки и послушайте, что
он вам ответит! Ну, вот мы и пришли! Прощайте! Встретимся мы завтра в парке, чтобы поговорить еще?
— Да, — сказала Бланш. — Почему не можете вы войти со мной, стать рядом и говорить за меня, когда я буду
лгать тетке?
— Да почему бы и нет? — сказал Эмиль и ушел.
На следующий вечер, когда месяц взошел над озером, Бланш и Эмиль снова встретились в парке.
— Что такое любовь? — спросила Бланш, опираясь
на руку Эмиля.
— Это тайна, прозаического разрешения которой вы
еще не можете постичь! Мы так насыщены ложью, что
истина противна нам.
401
— Но все-таки скажите, скажите, только забудьте
о клеточках.
— Я этого не могу.
— Ну, скажите же! Назовите то, что не есть любовь.
— Любовь не красота, потому что вы не прекрасны; она
не гений, потому что вы едва остроумны; она не добродетель, так как понятия о ней очень шатки; это не твердость воли, ведь вы слабы; она не ряд добрых качеств, —
это просто явление и больше ничего. Я люблю вас, хотя
вы не прекрасны, не умны и не обладаете сильной волей.
Я люблю вас, хотя мой разум и предостерегает меня от
вас; я люблю вас, хотя и не преклоняюсь перед вами. Иногда я приписываю вам массу качеств, которыми вы не обладаете, но тогда выступает мой острый разум и вычеркивает их, а факт все-таки остается — я люблю тебя, потому что я тебя люблю! Твой образ запечатлелся в глубине
моих глаз, так что каждый предмете, который я вижу, является как бы твоим отражением; когда я за работой смотрю на фильтр, я вижу тебя; когда я гляжу на часы, я вижу
тебя между стрелками; встречаю я даму на улице — она
кажется мне тобою! Когда я гляжу на тебя, я вижу совершенство, твои линии начинают звучать и приводят мои
нервы (прости, струны моей души) в гармонию; один
вид твоей походки делает меня счастливым, а твой взгляд
опьяняет меня! Я почти уверен, что если бы меня теперь
убили и сейчас же бы анатомировали, под микроскопом
увидали бы твой образ на сетчатой оболочке моего глаза, в каждой клеточке легкого, в каждой ткани сердца,
в спинном мозгу; каждая кровинка отразит твой образ,
а клеточки мозга (прости это выражение), как микрофон,
передадут твой милый голос, моя дорогая!
Он обнял ее и крепко прижал к себе. Ее мягкий меховой воротник касался его iy6, и он поцеловал ее в лоб.
— Мы должны обручиться, — быстро сказала Бланш,
отталкивая его.
— Мы обручены, — сказал он.
— Да, но тетя...
402
— Какое ей дело до этого? Ведь не она твой жених!
— Но она дает мне средства к жизни.
— Это правда! И именно поэтому!! Да и вообще любовь любит скрываться. Это называется целомудрием.
Мне кажется нецеломудренным показывать то, что не
должно быть видимо, что касается только нас двоих! Ты
любишь меня, Бланш?
— Я люблю тебя! За то, что ты сильнее меня, что ты
даешь мне новые мысли, за то, что ты можешь понести
меня, когда я устану, что ты обладаешь всеми качествами, которых мне не хватает.
— Какая же ты эгоистка, Бланш! Ты клевещешь на
себя! Так ты любишь меня из расчета, потому что ты что-
то воспринимаешь от меня, чем-то пользуешься, имеешь во мне опору? К счастью, я беден, иначе я бы подумал, что ты любишь меня за деньги.
Бланш стало неловко.
— Ну, зачем ты так говоришь? — заметила она.
И они расстались.
На следующий вечер они снова встретились в парке.
Месяц был уже на ущербе.
— Ты слышала, что палата депутатов намеревается
вотировать закон о правах на наследство внебрачных детей? — спросил Эмиль.
— Нет, это уже давно пора сделать.
— Как все полуреформы, она является слишком рано
или слишком поздно. Сколько появится наследников
престола, сколько принцев и принцесс! Впрочем, это
делается скорее в целях доброты, чем разума. Отцовство никогда нельзя доказать; можно быть уверенным
только в материнстве. Но у женщины в распоряжении
нет средств к существованию, поэтому она превратила
мужчину в раба, работающего на нее. Так поступает она
с незапамятных времен; но рабство всегда деморализи-
ровало рабовладельца, поэтому женщина — существо
вырождающееся, эгоистичное, почти невозможное для
общественной жизни. Она остановилась на семейной
403
стадии развития. А благодаря попыткам работать самой и этим освободить мужчину, она выступает его конкуренткой, а переполненный рынок труда станет кровавой ареной битвы за хлеб, на которой оба пола сойдутся
врагами. Это обеспокоит общество и, может быть, ускорит создание нового социального строя, а может быть,
и замедлит. Выступать с новыми законами о наследстве,
когда наследство должно быть уничтожено, это далеко
не прогресс. Разницу между брачными и внебрачными
детьми уничтожили, только новое общество, когда государство всех их возьмет под свое попечение.
Бланш слушала его невнимательно, ей хотелось говорить о чем-нибудь другом. Снег растаял; в парке было
сыро и неуютно; с озера дул резкий влажный ветер.
— Здесь неприятно гулять, — сказала она.
— Конечно, было бы гораздо уютнее сидеть в теплой
комнате, устланной коврами, — отвечал он, — но как это
сделать?
— Мы должны обручиться, — произнесла она.
— И сидеть с теткой и злословить о людях? Не говорить ничего из того, что мы думаем, не беседовать друг
с другом, а из вежливости разговаривать с ней.
— Тогда мы должны повенчаться.
Эмиль помолчал.
— Да, конечно, — сказал он. — Мы должны повенчаться. Мы не можем всю жизнь бегать в темноте по
улицам! Но твоя деятельность?
— Это ей, вероятно, не помешает.
— Ну, а если? Или если она помешает нам? Муж уходит утром. К обеду приходит домой. Дома жена? Нет,
она вышла. После обеда жена возвращается домой. Муж
дома? Нет, он ушел. Наконец вечером они встречаются.
Огонь пылает в камине, лампы зажжены. Теперь они
могут поболтать. В это время раздается звонок, жену зовут на практику. И больше они не видятся, потому что
муж спит, когда возвращается жена. Они играют в прятки и никак не могут найти друг друга.
404
— А если я откажусь от своей деятельности? Откровенно говоря, я не чувствую к ней большого влечения!
— Да, но тогда тебе придется целый день сидеть
одной дома, и встречаться мы будем только за столом!
— Как мы устроим это?
— Ты меня спрашиваешь?
— Ты должен отвечать, когда я спрашиваю.
— Только будущее может дать нам ответ! Только будущее может освободить нас; теперь мы все рабы, и каждая попытка разорвать цепи наказывается еще более
крепкой тюрьмой. Прощай! Бьют часы! Тюремщики
ждут!
* * *
В Цюрихе царило сильное волнение. Перед политехникумом стояли группы студентов, горячо разговаривая
между собой. На улицах и в ресторанах толпились студенты. Русское правительство прислало ректору университета заявление, в котором уведомляло, что студенты
обоего пола, опозорившие нацию своим безнравственным поведением, но желающие все-таки сохранить за
собой права русского гражданства, должны немедленно вернуться на родину. Было произведено следствие,
и многие даже не русские студенты были скомпрометированы и высланы.
Ассистент химической лаборатории Эмиль Сюшар
находился в числе высланных! Это произвело тем более
тяжелое впечатление, что он пользовался всеобщей любовью, и все знали, что за свое ученье он платил из ничтожного жалованья, которое он получал как ассистент.
В это утро Эмиль сидел у себя в комнате и писал
письмо. Не к родным — их у него не было.
Ладья его потерпела крушение. Надо было строить новую. Он еще не кончил всех экзаменов, и ему оставалось
только искать место на каком-нибудь заводе. Но где?
В дверь постучали. Вошла Бланш. Красная, заплаканная.
405
— Теперь я твоя! Тетя все знает! — сказала она и бросилась, рыдая, на диван.
— Что же она знает? — спросил Эмиль.
— Все!
— Что ты ходила к русским?
-Да!
— Что мы встречались в парке?
-Да!
— Больше она ничего не может знать, потому что
больше ничего и не было.
— Что же теперь делать?
— Уехать!
— Куда?
— Куда бы то ни было.
— А потом?
— Повенчаться!
Эмиль с минуту помолчал.
— Как и другие, — наконец произнес он.
— Не как другие, — возразила Бланш, — а так, как мы
понимаем это.
— Как мы! Что это значит, как мы? Как бы мы ни смотрели, возможны только два строя: или у нас будут дети,
и ты будешь их служанкой; или детей не будет, и тогда
ты будешь моей служанкой.
— У нас не будет ни детей, ни хозяйства; я сделаюсь
врачом.
— Каким же образом?
Бланш опустила глаза и пристально смотрела в пол.
— Да, это правда, — заговорила она, — мои ресурсы
истощились.
— И мои тоже, — сказал Эмиль.
Бланш, ничего не знавшая о денежных делах Эмиля, казалось, была неприятно удивлена. Она считала, что у него, разумеется, должны быть средства. Было
очень тяжело касаться денежного вопроса, но в эту минуту все будущее зависело от него. Она подняла глаза на
Эмиля, прося его взглядом разрешить вопрос. Но он не
406
поднимал глаз. Как раз теперь, когда препятствие были
разрушены, узы порваны, и они должны были упасть
в объятия друг другу, встала эта непрошенная преграда.
Бланш пришла великодушная, гордая сама собой,
показать ему, что она приносит для него жертву, и теперь, когда души их должны были слиться в небесном,
ярком общении, они сидели смущенные, стыдясь друга друга; она была уничтожена, как будто ей отказали
в займе.
А он читал ее мысли, он страдал и терзался за нее, но
не видел никакого выхода.
Но он должен был избавить ее от ужасного молчание, говорившего красноречивее всяких слов.
— Во всяком случае, — заговорил он, — если мы даже
не бросим нашей карьеры, я верю в брак между двумя
врачами так же мало, как в брак между столярами или
сапожниками. То, что случилось, случилось не по нашей
вине, Бланш, пути наши расходятся; возвращайся к своим. Продолжай свое дело.
— Вернуться? Я не могу! Это тюрьма!
— Но за ней стоит свобода! А со мной ты на всю жизнь
останешься в тюрьме!
— Чего же ты хотел от меня? Ты подвел меня к пропасти, а теперь говоришь: возвращайся.
— Потому что я вижу, ты никогда не решишься на
отважный прыжок.
— На какой?
— Через устарелые понятия! Ступай и работай; ты
можешь быть учительницей, швеей, продавщицей...
— Я — швеей?!
— Почем я знаю? Я буду варить мыло или перемалывать кости. Ведь надо же жить! Что бы ты ни делала,
старайся стать свободной, освободиться от меня, только
когда ты станешь свободной, я смогу вернуться к тебе;
и тогда я назову тебя своей женой!
— Так, значит, я должна была стать твоей возлюбленной?
407
— А я твоим любовником! Это не совсем то же, что
быть мужем и женой!
— И тебе не стыдно обращаться ко мне с таким предложением! Я — швея и твоя любовница! Ты говоришь
серьезно? Эмиль! Эмиль!
— Так же серьезно, как я должен стать мыловаром
и твоим любовником! Разве это не равная игра?
— Я не понимаю тебя.
— Я начинаю это замечать! Поэтому я и прошу тебя
вернуться домой к тетке!
— И ты еще насмехаешься надо мной?
— Нет, над самим собой. О, старые, лживые идеалы, смелые порывы, которые затуманивают нам зрение и притупляют наш здравый разум. Ты отвергла мои
предложения, значит, у тебя были другие. Что же ты думала, когда шла сюда?
Бланш встала и начала застегивать перчатку.
— Я должна вам сказать, милостивый государь, — заговорила она дрожащим голосом, — что мужчина, завлекающий девушку, берет на себя некоторую ответственность...
— Да! Я знаю. Возмещение убытков, вознаграждение... Нет, нет, Бланш, между нами не должно быть таких счетов. Или ты, может быть, хочешь подать мне счет
за твою любовь, счет за измятые воротнички и манжеты!
Нет, не будем говорить об этом! Чего ты хочешь? Чтобы
мы поженились? Две постели, обеденный столь, шесть
плетеных стульев. Раздеваться в одной комнате, ссориться за одним столом, причесываться одной гребенкой!
О, я скорее согласился бы умереть!
Бланш стояла, держась за ручку двери.
— Ты думаешь, что не имеешь никаких обязанностей
за ту жертву, которую я принесла.
— Жертву? Ты принесла мне в жертву свою любовь,
а я тебе свою! Если бы у нас был ребенок, то моей обязанностью было бы заботиться о нем и о тебе, потому что женщина не имеет никаких обязанностей по
408
отношению к своему ребенку, да и не может их иметь,
так как она не имеет или не хочет иметь полной свободы
на рынке труда! Но вернемся к делу! Твоя деятельность
еще не прервана, вернись к ней! Я предлагаю тебе свободу, а ты просишь тюрьмы!
— Я вернусь, — сказала Бланш твердо. — И уже ни
один мужчина никогда не увлечет меня. Прощай!
Она вышла.
Он слышал, как стучали по ступеням ее маленькие
каблучки; все ниже и ниже по высокой лестнице и наконец смолкли. Потом хлопнула входная дверь, тяжело
и глухо, как вздох.
Он побежал к окну, распахнул его и высунулся. Он
снова увидал ее, но с высоты она казалась в уменьшенном виде. Благодаря перспективе, фигура ее исказилась,
и она напоминала смешное отражение в тех стеклянных
шарах, которые выставляются в садах. Все ее изящные
линии исказились, и весь облик был испорчен.
Так шла своим путем его прекрасная мечта, превращаясь во что-то уродливое и оставляя по себе воспоминания, как о чем-то безобразном.
* * *
— Доктор дома? — спросил пациент, постучавшись
в дверь, на которой была прибита медная дощечка с надписью: «Доктор медицины Бланш Шапюи».
— Она больна, — отвечала тетя Берта, — но я спрошу, может быть, она примет.
Мадемуазель Берта, сильно постаревшая за несколько тяжелых лет после потери капитала, вошла в комнату Бланш спросить, примет ли она больного. В комнате
было темно, и Бланш лежала на диване с обвязанной головой. Ее мучила обычная мигрень; она уже два дня ничего не ела и не была в состоянии пошевельнуться. Раз
в месяц она становилась трупом, по ее выражению, и не
было никаких средств помочь этому.
— Там пришел больной, — сказала тетка как можно
мягче.
409
— Оставь меня в покое, — простонала бедная женщина, поворачиваясь к стене.
— Но, дорогая Бланш, ты ведь знаешь, как нам трудно приходится.
— Знаю, знаю! Это лавочник или мясник? Я не могу
больше.
— Но, дорогое дитя, ведь нам надо же жить, и тебе не
следует отказывать пациентам. Ты должна принять это
во внимание!
— Благодетели человечества должны жить его же
страданиями, — простонала Бланш. — Сколько противоречий, сколько фальши.
— Но, моя милая, раз человек родился, он должен
жить, и, если бы ты не была так сурова и не отучивала
пациентов, нам тоже жилось бы недурно.
— Да, если бы я не сказала той богачке, что ее истерия одни капризы, то у меня была бы дамская практика.
Я вылечила ее одним графином холодной воды, и ее муж
будет мне вечно благодарен за это лечение, если даже
не будет благодарна сама жена! Ох, дай мне мою записную книжку. Что у меня назначено на сегодня? Я не могу
читать сама. Нервная горячка на Rue de Mont-Blanc, десять визитов по три франка: вероятно, заплатят. Корь
у Портье на Route de Carouge: не заплатит. О, нет, тетя,
об этом позаботься сама, это слишком унизительно. Кто
там еще пришел? Скажи ему, что сегодня я не могу принять! Не могу, понимаешь? И уходи! Я хочу быть одна!
Тетя Берта вышла и отказала пациенту.
После тяжелого кризиса в Цюрихе Бланш пережила немало горьких дней и потеряла много иллюзий. Два
последних года в университете она провела под непрестанным надзором и в ожесточенной борьбе. Она работала и работала, чтобы распилить те железные оковы,
которыми недостаток средств к существованию приковал ее к старухам; и когда наконец она окончила экзамены и должна была наступить свобода, она, как и раньше,
была прикована к старухам, ставшим обузой, которую
ей приходилось нести теперь, в свою очередь, как рань¬
410
ше они несли ее. Теперь они не могли больше этого делать, так как потеряли свое состояние.
В Женеве, куда она переехала, чтобы заняться практикой, было уже много женщин-врачей, и честь быть первой была отнята у нее. Кроме того, ей нечего было ждать
помощи, совета или дружеского участия от товарищей,
будь то мужчины или женщины. Борьба за существование была упорная, и всюду она наталкивалась на совет:
заботься сам о себе. Врачи-мужчины встречали ее нелюбезно, как даму, и холодно, как конкурента.
Она, разумеется, больше всего рассчитывала на дамскую практику. Но и тут она ошиблась в расчете, потому что дамы больше доверяли врачам-мужчинам или
же находили удовольствие в этих маленьких интимных
tete-a-tete, которые хотя и задевают несколько стыдливость, но зато действуют так укрепляюще. Заниматься
наукой ей не хватало времени, — заботы о существовании отнимали все время, и после двухлетней непрерывной борьбы с своим чувством деликатности, играя роль
то благодетеля, то делового человека, Бланш постепенно
сошла на роль посредственного врача, который берется
за все, что попадет под руку. К ней обращались много
бедных, а иногда в тяжелых случаях ее приглашали как
акушерку. Она едва ли ощущала гордость есть свой собственный хлеб, так как добывание его было связано со
столькими унижениями, а свобода, — свобода не иметь
ни одной минуты для себя, не спать спокойно ни одной
ночи, — прекрасная греза скоро рассеялась. Если бы, по
крайней мере, у нее была свобода поступать по совести,
говорить пациентам правду; но жестокая рука нужды
скоро заставила ее отказаться от этого. Она заслужила
нерасположение дам, предписывая им не носить корсетов и высоких каблуков; такие советы, по их мнению,
каждый мог давать самому себе; врач должен «прописывать», если он хочет получить доверие и гонорар. Затем началась борьба с самой собой. Она была в расцвете лет, когда пробуждается женщина, но после разрыва
411
с первым любимым человеком она не обращала внимания на мужчин, и мужчины избегали ее.
Она вела печальное существование, главной заботой
которого был кусок хлеба. Все ее жизнерадостные чувства омрачились этой мыслью, от которой она никак не
могла отделаться.
Не было ли бы ей лучше замужем, — задавала она
иногда себе вопрос, но, наблюдая семейную жизнь, она
пришла к убеждению, что и это существование весьма
жалкое. Она заглянула и в этот тупик полумер, предпринимаемых для эмансипации женщины. Требовались совсем другие реформы, чтобы все пошло как следует. Но какие?
Однажды она навестила одну акушерку, бывшую замужем, которая иногда помогала ей на практике. Она не
застала дома ни матери, ни отца. Отец был башмачник.
В комнате за кухней кричало четверо детей, оставшихся
одними. Старшей семилетней девочке поручено было
«смотреть» за малышами. Она должна была греть молоко и наливать его в рожок, носить и укачивать младших, и от непосильной тяжести спина ее уже сгорбилась, а нижняя часть туловища выдалась вперед. Она несла на себе все бремя жизни и материнства, прежде чем
она могла даже думать о том, чтобы стать матерью.
— Но, дорогая, как же вы могли выйти замуж? —
с упреком спросила Бланш, когда мать наконец вернулась.
— Нужно же иметь мужа, — ответила акушерка, бывшая дома рассудительной и хорошей матерью.
Бланш не видела необходимости иметь мужа. Но
акушерка объяснила ей, что ее детям живется не хуже,
чем другим детям бедняков, родители которых ходят на
работу.
И это, думала Бланш, идеальный, реформированный
брак, где оба супруга работают, и жена освобождена от
рабства у мужа! Здесь была мнимая свобода матери, купленная рабством семилетнего ребенка. Долой рабство!
412
А если благодаря достатку родителей ребенок и избавляется от рабства, то только ценою новой рабы — служанки.
Из женщин-врачей только одна была замужем. Брак
был бездетный и кончился побоями и разрывом. Одна
русская, жившая вне брака с одним господином, потеряла репутацию, а вместе с ней и практику и принуждена
была выехать из города.
Если бы Бланш была одинока, она, может быть, и решилась бы идти своим собственным путем, но теперь она
должна была влачить за собой двух старух. Иногда она
сознавала себя глубоко неблагодарной по отношению
к ним. Она исполняет свой долг благодарности и послушания, так как она обязана им за все, что они сделали,
а теперь они требуют за это еще денежного вознаграждения. И теперь она должна свою жизнь, свою потребность быть честной в своем призвании принести в жертву этим двум никому не нужным существам, без которых мир прекрасно бы существовал.
Потом наступили еще более тяжелые дни. Бланш не
посчастливилось: ей не удалась одна операция. Враги поспешили заклевать конкурента. Практика упала. Нужда
стучалась в дверь. Кредит был закрыт, и Бланш в первый
раз увидела, как страшно трудно жить без определенного
заработка. Голод снимает с человека все его внешние признаки существа духовного, и он становится лицом к лицу
с самим собой, как с вечно пожирающим животным, которое без еды и питья скоро перестает сопротивляться
химическим силам и идет навстречу своему превращению в прах. Она не спала ночей в беспокойстве за кусок
хлеба. Надвигалась нищета! Без хлеба ее ждут страдание
и смерть, без хлеба нет ни души, ни «возвышенных» мыслей, ни «идеалов». А идеалисты еще проповедуют против «грубой пользы» материальных стремлений, вероятно, потому, что обеспечены всем тем, чего ей не хватает.
Тетя Берта, знавшая хорошие, гордые дни и чувство
достоинства, которое покоилось на ее деньгах, была
413
в полном отчаянии. Она проклинала капиталистов и, сама того не сознавая, проповедовала социализм. Быть вынужденной жить, когда средств к существованию не хватает на всех (теперь она причисляла себя ко всем несчастным), казалось ей таким опасным положением вещей,
какое должно быть изменено как можно скорее. Правда,
одно мгновение ей пришло в голову, что и она могла бы
работать, и она пыталась даже искать шитья, но рабочий
рынок был так переполнен швеями, что ей не нашлось
там места. Но тут, при всем желании, она никак не могла
обвинить мужчин в том, что они захватили рынок.
Нужда кричала все громче, и за недостатком питания
души готовились перейти в вечный покой, и тогда все
бы сознались, что без хлеба нет и души, когда Бланш наконец после долгих поисков получила место фабричного врача в северной Франции.
* * *
В одно прекрасное весеннее утро доктор Бланш Ша-
пюи прибыла в маленький городок Гиз департамента
Эон, откуда она сейчас же отправилась на место своей
службы, большой чугунно-литейный завод депутата Го-
дэна. Пройдя в назначенную ей комнату и поправив свой
туалет, она отправилась в бюро представиться своему
принципалу. Кабинет благороднейшего, если не самого
известного, человека Франции помещался в маленькой
пристройке недалеко от завода. Бланш с некоторым беспокойством ждала встречи с своим хозяином, от доброй
воли которого зависит ее жизнь. Но приятная внешность
старика и его искреннее радушие сразу успокоили ее.
— Доктор Шапюи, — заговорил он, — я вас знаю,
а вы, вероятно, не знаете ни меня, ни места, где намереваетесь работать. Не лучше ли вам будет осмотреть сначала нашу маленькую общину, перед тем как приступить к исполнению своих обязанностей.
— С удовольствием, господин принципал, — отвечала Бланш.
414
— Я для вас не принципал и не хозяин, — возразил
старик, — здесь все хозяева, и вы будете таким же, но
только мы — хозяева-работники.
Он взял шляпу и палку и вышел со своей гостьей на
улицу.
— Бросьте сначала общий взгляд на все, — сказал
он, — на внешний вид. Здесь, направо, nervus rerun: литейные мастерские; там, сзади, общественный дворец
или фамилистэр: три прямоугольных здания со стеклянными крышами над дворами; в них помещается
двадцать тысяч человек.
— Утопии Фурье и Оуэна, — сказала Бланш.
— Реализованная утопия! Одна из многих реализованных утопий, существование которых отрицается людьми
другого поколения. Точно так же, как они отрицают возможность решать войны международными третейскими судами, хотя мы и видели это недавно при решении
Алабамского вопроса. Эти преграды ставятся ничтожными людьми, лживой логикой нечистой совести. Дальше идет дом для детей, где растут и воспитываются все
дети общины; школьные залы, театр, ресторан, кафе, бильярдные, библиотека, ванны, конюшни, скотный двор
и сады. Как видите, это целая коммуна. Основанием этой
коммуны служит труд. Разве это не справедливо?
— Да, — отвечала Бланш, — но труд без капитала?
— Совершенно верно. Труд без капитала может создать капитал, потому что таким путем возникли все капиталы, но капитал без труда — ничто. Я научился этому, но уже слишком поздно. Мой отец основал этот завод
и нажил состояние, которое я наследовал. Я продолжал
это дело и стал очень богат. Я бросился в крупные подряды и в начале шестидесятых годов должен был поставить
материал для городских железных дорог. Но рабочие забастовали, и все мое состояние было поставлено на карту,
потому что один из конкурентов переманил у меня рабочих. Тогда я увидел бессилие капитала и понял, что только труд — постоянная движущая сила, дающая власть
415
капиталу. В тревожные дни, которые я пережил тогда,
моим глазам открылась истина; и, рискуя стать таким же
бедняком, как последний из моих рабочих, я прозрел, что
я был вором. Все эти машины и здания, которые я унаследовал от отца, ведь были построены ему отцами этих рабочих; чего же естественнее, чтобы все они стали наследниками и участниками созданного ими капитала. Поняв
это, я созвал рабочих и объявил им, что они собственники завода, который они создали своей движимой и недвижимой собственностью. Мы образовали компанию,
и дело наше процветает уже двадцать лет.
— Теперь, когда я слышу это от вас, — сказала
Бланш, — я нахожу это вполне естественным, тогда как
прежде я держалась противного мнения.
— Да, — сказал фабрикант, — это так, вы видите из
этого как сильно истина окутана всякой ложью, если ей
так трудно выйти на свет. Но прошу вас, спрашивайте
меня, я все разъясню вам.
— Да, меня немного удивляет, что все эти люди охотно живут в казармах, не стремясь иметь что-нибудь свое.
— Мы — люди прошлого, стремились к своему собственному очагу, пока не увидали, как ненадежен наш
собственный очаг и как все «мое» враждебно всему «чужому» и что, наконец, самое надежное — это наше «общее».
— Но принуждение... — возразила Бланш.
— Тут нет никакого принуждения! У нас шестьсот семейств. Представьте себе шестьсот кухонь, шестьсот бедных хозяек, стоящих у очага; сколько даром потраченных
сил. Теперь у них одна общая кухня и столовая для желающих быть в обществе; кто предпочитает одиночество,
обедает в своей комнате. Здесь мы имеем освобождение
женщины от кухни. Большинство предпочитает обедать
в столовой, потому что tete-a-tete даже между супругами
под конец становится скучен. Мы видим даже, что женатые охотнее посещают столовую, чем холостые!
— Ну, а дети?
416
— Да, нам удалось разрешить и этот трудный вопрос.
У нас есть особый дом для детей.
— О, какая же мать пожелает отдать в этот дом своего ребенка!
— Все! Да, да, все! Слышите? Когда мы говорим о детском доме, то не следует представлять себе коммунальные приюты, где родители никогда не видят своих детей. Весь вопрос сводится к следующему: вместо шестисот детских у нас одна, доступ и наблюдение за которой
открыто для всех. Что было раньше? Раньше, говорю я,
словно мы уже покончили со старым устройством! Что
мы видим у бедняков в капиталистических государствах?
Детей запирают в одну тесную комнату, пока родители
уходят на работу.
— Да, но, по крайней мере, ночью мать с ними.
— Точно так же, как и здесь. У каждого ребенка по две
колыбельки или постельки; одна стоит здесь, другая у матери. Но я хочу поделиться с вами одним моим наблюдением: материнская любовь покоится, по-видимому,
главным образом на боязни за благополучие своего ребенка. Здесь, когда этот страх устранен, материнская любовь, обычно сильно преувеличенная, несколько уменьшается. Только очень незначительное число матерей берут к себе детей на ночь. Вы видите, как мы разрешили
труднейший из вопросов.
— Ну, а семейная жизнь?
— Раньше... ну, в старом свете какова семейная жизнь?
Дома душно, благодаря совместной жизни многих людей и нечистоплотности детей. Муж стремится в кабак.
Что такое кабак? Очаг разврата? Нет, нисколько! Это общественное место, где они приносят законную жертву
институту общественности. Но муж никогда не веселится там искренно. Он знает, что дома его ждут и скучают.
Если же, как делают некоторые, он берет жену с собой,
то оба они беспокоятся о детях и скучают. А что мы видим здесь? Вечером и муж и жена идут на лекцию, в театр, в кафе. Если они беспокоятся, то спрашивают по
417
телефону, что с их ребенком, и им беспокоиться нечего.
Иногда мать уходит на минуту успокоить или укачать
ребенка.
— Но здесь есть пробел, — заметила Бланш.
— Укажите мне на него, — сказал фабрикант.
— Матери сваливают свое бремя на чужую женщину.
— Согласен, это пробел! Ведь у нас не совершенный,
а только улучшенный строй. Впрочем, эту заботу не берут на себя женщины, не имеющие к этому склонности,
а так как есть люди с прирожденной любовью к детям,
то обязанность эта не является особенно тяжелой.
— Но кому же охота возиться с чужими детьми? —
спросила Бланш.
— У кого нет своих детей или кто не может их иметь,
те обыкновенно переносят свою любовь на чужих детей!
Кто следует своей склонности, тот не чувствует тягости
труда. Но перейдем к вам: сможете ли вы ужиться при
нашем общественном строе? В наше время встречаются
сильные индивидуальности, которые не переносят постоянного общения с чужими; чересчур нервные, они
страдают, ощущая чуждое им электричество; если вы
принадлежите к таковым, сначала вам будет очень не по
себе, но из этого вы не должны заключать, что вы никогда не отделаетесь от этого. Наша способность приспособляться прямо невероятна.
— Я еще не могу судить об этом, — ответила Бланш, —
но я всю жизнь прожила неразлучно с двумя особами, образ мыслей которых был совершенно отличный
от моего, и поэтому я надеюсь, что свободное общение
с людьми, одинаковых со мной взглядов, не будет мне
тяжело. Ведь у вас нет ни казарм, ни стен, ни барабанного боя, ни регламента.
— Так сделаем опыт, — сказал фабрикант. — Что же
касается условий, то они временные, пока вы не решите
вступить в общину как полноправный член. Вы не будете получать жалованья, но вы удовлетворяете все ваши
потребности за счет общины; вы можете кушать и пить,
418
что хотите и где хотите, одеваться по вашему вкусу, развлекаться чем угодно и выписывать за наш счет книги
и инструменты. Кроме того, вы застрахованы против несчастных случаев, болезни, старости. Итак, жизнь ваша
обеспечена, насколько она вообще может быть гарантирована. Но денег в руки вы не получаете: мы упразднили
деньги, так как это фальшивый измеритель ценности и,
кроме того, с ними очень трудно обращаться.
— Я всегда мечтала прийти к этому, — сказала
Бланш, — и деньги, так необходимые при настоящих
условиях жизни, всегда казались мне чем-то ненадежным и нечистым. Я с благодарностью принимаю ваше
предложение.
— Нет, не благодарите. Если вы в нужде, то и наша
нужда во враче не менее велика. Я не буду говорить о ваших обязанностях: они, как вы сами понимаете, заключаются в уходе за больными и в насколько возможном
предупреждении заболеваний у здоровых. Никаких
проверок и наблюдений. Одним словом, вам предоставляется полная свобода действовать согласно вашей совести. Теперь я отпущу вас. Меня вы будете видеть только
когда пожелаете. Прощайте!
И господин Годэн оставил Бланш у входа в доме.
* * *
Теперь для Бланш началась новая жизнь. Избавившись от мысли о заработке и нужде, живя спокойно, без
боязни завтрашнего дня, она могла всецело посвятить
себя своему призванию, не заботясь о капризах и причудах пациентов. Она жила для других, но пользовалась
полной свободой мыслей, желаний и совести. Ей нечего было больше бояться высказывать свое мнение, и она
могла наконец смотреть на своих пациентов только как
на больных, не думая о том, заплатят ли они ей. Никаких
конкурентов, никаких научных докладов факультету.
Это была вполне покойная жизнь. И ее окружали
все люди покойные и тихие. На лицах их отражался
419
душевный покой, чего раньше она никогда не встречала,
и они двигались без того лихорадочного беспокойства,
которое замечается повсюду. Они спали без тяжелых
снов о нужде, безработице, старости в нищете и унижениях. В доме царил порядок без всякого регламента; спали с незапертыми дверями, потому что не боялись никаких воров; если бы кто крал, он украл бы у самого себя.
Ни ссор, ни зависти; все владели всем тем, чего можно
достигнуть: всем, что им необходимо. В главном совете,
где решались финансовые дела общины, заседали все,
и мужчины и женщины, и господа и слуги. И слуги также были членами общины, избравшими, по своему желанию, домашнюю жизнь; мужчины встречались также
в кухне, прачечной и детской.
Никогда не встречалось ни одного пьяного, хотя в ресторане и подавались крепкие напитки. Положим, первые десять лет спиртные напитки были запрещены, но
это была только временная мера, и ее скоро отменили;
а затем алкоголь давался так легко, что он потерял всю
свою привлекательность; к тому же теперь не приходилось прибегать к нему, как к утешителю в отчаянии, потому что никто не отчаивался.
Изящные искусства тоже занимали свое место, но
только как развлечение в свободные часы. В театре давались пьесы, написанные членами общины и трактующие вопросы новой жизни. Стены в столовой и комнатах были расписаны как для украшения, так и для того,
чтобы доставить приятное зрелище.
Церкви не было. Религия, бывшая раньше суррогатом того, что не могла дать жизнь, и иногда служившая
даже для запугивания имевших основание быть недовольными, проникла теперь в жизнь; каждый исповедовал свою религию и молился у себя в комнате.
Браки в общем были весьма продолжительны. Большая часть поводов к раздору исчезла. У мужа и жены были
отдельные комнаты. Жена не зависела от мужа, а муж перестал быть вьючным скотом жены. Мелкие ссоры между
420
супругами происходили или благодаря охладевшему
чувству или недостаточному духовному развитию одной
из сторон. Развод при таких условиях был не затруднителен и происходил без всякой горечи. Супруги просто
переставали жить вместе, а судьба детей не менялась, потому что их воспитывало общество. Наследственное право также не вызывало никаких споров, потому что единственным наследником являлось общество.
Единственной заботой Бланш были тетки. Она получила позволение предложить им место надзирательниц в гладильном помещении, но с обязательством принимать участие в работе, потому что тунеядцы не были
терпимы. Тетушка Берта пришла в негодование, когда
ей предложили поступить в «работный доме, но нужда постепенно сломила ее. Они поступили наконец на
это место, но никак не могли примириться с этим. Они
были слишком стары, чтобы признать, что рабочий —
равный им человек, но им не оставалось другого выбора.
Тетя Берта продолжала считать, что прежде было гораздо лучше, когда за ней оставалась рента, которую ее отец
нажил «честно» — чужой нуждой.
В доме всегда было оживленно, все были беззаботны и могли веселиться. Иногда читались лекции, но не
слишком часто, потому что в школе преподавалось все
необходимое для современной жизни, и никто не заботился о прошлом, которое старались забыть. На пустые
рассуждения о будущей жизни не было времени; все
были согласны в том, что земное существование требует достаточно забот, а неизвестность, есть ли еще другая
жизнь после этой, побуждала всех как можно полезнее
и приятнее использовать свою жизнь. Порядок сохранился разумным общепонятным интересом. Никто ночью не шумел в своей комнате по той простой причине,
что этим он мог вызвать у соседа тоже желание шуметь.
Все здание было обнесено парком и садами с площадками для игры в мяч, гимнастикой, качелями и тому
подобным; поэтому все большую часть своего времени
421
проводили на открытом воздухе, хотя и в закрытых дворах дома тоже часто устраивались праздники. Праздники, посвященные исключительно удовольствию, а не
прославлению какого-нибудь великого человека, потому
что все были так же далеки от поклонения людям, как
и теориям; не поклонялись даже новым теориям естествознания, грозившим стать такими же догматами,
как и прежние религиозные теории. Остерегались даже
присваивать себе какое-либо суждение, потому что, по
закону развития, завтра оно может быть ниспровергнуто, и признающий его должен стараться искоренить его.
* * *
Снова наступила весна. Однажды вечером Бланш ту-
ляла в парке. Члены общины скоро поняли, что постоянная совместная жизнь может принести с собой вынужденное общение, и поэтому у них само собой вошло в обычай заговаривать с другим только тогда, если
видишь, что и этот другой склонен к беседе. Поэтому
Бланш могла гулять по большой аллее одна среди других гуляющих, не кланяясь и не вступая из вежливости
в разговор, когда ей хотелось побыть одной со своими
мыслями.
Огромные каштаны дали уже почки, и темные очертания ветвей начинали покрываться прекраснейшей зеленью. Земля была сухая, а ветер ласкал кожу, как теплая
вода; но на легкие и кровь он действовал сильно, как хорошее вино. Бланш вспомнила весну на Женевском озере, мечты, унаследованные ею от прошлого болезненного поколения, окружавшего действительность поэзией,
и мозг которого со своей высокой температурой превращал все твердые тела в газообразное состояние, так что
они становились недоступны чувствам. Благодаря близкому общению с настоящей действительностью, благодаря изучению науки о жизни, т. е. биологии, мысли ее
спустились на землю и чувствовали себя спокойнее, чем
высоко в воздухе. Но те мечты? К чему они стремились?
422
К недостижимой действительности. Мечта о мужчине
могла теперь осуществиться, но из страха она гнала ее.
Она свернула с аллеи и прошла в сад. Там цвели вишневые деревья, белые с зеленым, точно невесты, но она,
по обыкновению, шла, опустив глаза, и не видела их.
Она села на скамью и начала смотреть, как садовник
вскапывает заступом землю, чтобы она лучше поддалась
растворяющему влиянию воздуха и своим разложением
и смертью дала бы, как минерал, жизнь высшим породам
растений. Рядом с садовником стояла тачка с навозом;
время от время он забирал его на заступ и мешал с землей. Маленький сынишка садовника играл возле него
и по временам останавливался и следил за его работой.
— Послушай, отец, — спросил он, — что это у тебя
в тачке?
— Из этого, Жан, летом вырастет земляника, — отвечал отец.
— Да ведь это грязь, — продолжал Жан, — разве из
грязи может вырасти земляника?
— Да, дружок, может. Из грязи вырастает пшеница,
а из нее делают хлеб, а из хлеба делаются люди. Не говори так презрительно о грязи; когда ты умрешь и тебя зароют в землю, ты сам превратишься в нее. Неразумные
люди унизили творение Господа и с пренебрежением
относятся к обработке земли, думая своим бездельем
достигнуть высшего совершенства.
— Да, а разве душу тоже делают из пшеницы?
— Да, милый, потому что и у пшеницы есть душа.
Пшеничному зерну приходится немало подумать, прежде чем выбрать хорошее место для своих корней, вытянуть сок из земли и впитать из него жирнейшие соки;
пшеница — растение южное, ей надо было много изобретательности, чтобы научиться ограждать себя от наших холодов постепенным утолщением кожуры; да
и колосу пришлось немало поразмыслить о том, что весна — самое подходящее время для цветения. У пшеницы есть душа!
423
— Гм... — сказал мальчик, не получивший никакого
религиозного воспитания. — А когда пшеница умирает,
душа ее тоже умирает?
— Нет, она не умирает; вообще, ничто не умирает.
Это только нам так кажется!
— Так, так! Ну, а когда мы умираем?
— Да, тогда, видишь ли, мы перестаем жить, но даем
жизнь новым жизням! Только наше высокомерие могло
додуматься до того, будто мы продолжаем нашу эгоистическую жизнь; поэтому-то новое общество и научило нас жить для других, живя в то же время и для самих
себя; это единственный способ сделать жизнь сносной!
Да! Ну, а теперь здесь я посажу дыни, а здесь цветы, и все
из этой грязи, как ты ее называешь!
Бланш встала со скамьи и пошла дальше. Это был результат ее лекций по органической химии, которые посещал садовник. У него хватило мужества сделать конечные выводы, а у нее нет! Он прав, думала она, но, но...
мечты, мечты еще слишком сильно коренились в ней.
Несбыточные мечты! Вот в чем все дело! Она чувствовала, что ее собственная жизнь угасает, и скорбя о том, что
она умрет, не выполнив своего назначения в самом прекрасном и важном смысле его, она принудила себя схватиться за якорь спасения — веру в загробное существование!
Она направилась к пруду и села там помечтать.
Жизнь развертывалась перед ней тихо и спокойно. Она
располагала своими мыслями и своей совестью. Она увидела относительную ценность своего призвания, как помощи в нужде, и это призвание исчезнет, когда уничтожатся причины болезней. Это вычеркнуло честолюбие
из ее души, но прожить самую жизнь — это тоже что-
нибудь да значило, может быть самое главное, но она
жила только половиной жизни. Она жила только половиной жизни, на которую имели права все другие; тою
же половиною жизни, которая принадлежала только ей
и которую она также обязана была изжить, она не жила.
424
Солнце садилось и ярко горело из-за вершин деревьев;
черные дрозды громко пели, а пеночки целовались последний раз, прежде чем заснуть. Из парка доносилось
веселое пение, а из окон залы вырывались отдельные аккорды репетиции музыкального кружка. Это была увертюра из Вильгельма Телля. Интродукция виолончели
с аккомпанементом кларнета доносилась неясно и тихо
плыла в теплом благоухающем воздухе. Бланш не слушала музыки, она прислушивалась к тихому волнению крови, которая приливала к груди и охватывала сердце чудным трепетом, который боролся с обычным течением ее
мыслей. Но вот раздались ясные трели флейты со звуками
альпийского рога; мысли ее были нарушены, и она начала
прислушиваться. Милые, давно знакомые звуки Альп, белоснежных гор, видных из Лозанны и Цюриха. Горы, куда
с наступлением весны стремилась вся молодежь, и в тот
весенний вечер на Женевском озере, и в тот другой на Цюрихском и где сама она никогда не бывала. Она бы тоже
поднялась туда, если бы он последовал за ней, но он покинул ее. Разве он это сделал? Нет, они были разлучены, разлучены сильной рукой, которую они тогда не могли сбросить с себя, и которая теперь уже не разлучала их.
Где он? Он не с ней? Как он мог уйти от нее? Он словно взял половину ее существа и пошел своей дорогой!
Он не имел на это права! О, она была так несчастна, так
несчастна!
И она заплакала, словно сидя у трупа возлюбленного;
слезы текли ручьями, и платье на груди стало мокрым!
Вдруг она поднялась, как бы приняв твердое намерение
отыскать его, как будто ей стоило только пойти к нему
навстречу и броситься в его объятия, словно она знала,
что он где-то тут, возле нее.
В это время раздался колокол к ужину. Бланш отерла
лицо платком, намочив его в пруду, и отправилась домой.
Бланш сидела за столом в большой зале ресторана.
Она так привыкла быть среди людей, что ей трудно было
425
оставаться одной, и в то же время она избегала общества
теток, которые обедали в своей комнате, «обливая свой
хлеб (мясо, зелень и десерт) слезами унижения».
Она села на свое обычное место возле большого камина, откуда ей была видна вся светлая зала с расписанным потолком, изображающим виноградные лозы,
и стенами, украшенными во всю их величину веселыми,
солнечными ландшафтами. Кругом нее весело и мирно
болтали мужчины и женщины, супруги не ссорились
между собой за столом, муж не сердился за испорченное кушанье, а жена не возражала ему тем же, сознавая
свою вину. Здесь не было к этому ни малейшего повода, и дети не нарушали ничьего покоя своим криком,
так как пользовались для этого полной свободой в своих детских.
Бланш сидела одна, есть ей не хотелось. Мысли ее
текли своим путем спокойно и плавно, словно уверенные встретить того, к кому они относились. Вдруг она
подняла глаза от тарелки, взглянула в зал и увидела перед собой подвижную темную массу лиц; глаза ее блуждали по зале, и наконец взгляд ее остановился невдалеке, словно он нашел то, что искал. Со спокойствием, давно ей неведомым, она смотрела на обращенное к ней
лицо, в глаза, пристально и глубоко смотрящие на нее.
Грудь ее стиснуло, и дыхание замерло. Он это или кто
другой, так страшно похожий на него? Та же манера носить волосы, то же выражение в глубоко сидящих глазах, борода, мягко окаймлявшая его несколько грубые
черты. Когда, благодаря внезапному душевному волнению, лицо ее изменилось, лицо его изменило свое выражение, и все ее чувства отразились на нем: это не мог
быть никто другой.
Тогда он встал, вежливо подошел к ее столу и остановился за несколько шагов, взглядом спрашивая, может
ли он подойти. Вероятно взгляд ответил утвердительно,
потому что в следующее мгновение он уже подошел
и пожал ее руку.
426
— Вы узнали меня и удивляетесь, почему я здесь? —
сказал он. — Я ездил по делам, вообще же я служу здесь
инженером. А как вам живется?
— Благодарю вас, хорошо, — отвечала Бланш. —
Если бы я знала, что вы здесь, я не была бы настолько
неделикатной, чтобы остаться здесь. — И затем прибавила, видя, что это обидело его: — Так вы не избегаете
меня, вам не неприятна встреча со мной?
— Нет. А вам не будет неприятно, если после ужина
я случайно встречу вас в парке, где вы гуляете?
— Мне всегда было приятно ваше общество, — отвечала Бланш, — а здесь девушка может свободно гулять
с мужчиной по вечерам. Я жду вас у выхода.
Он поклонился и вернулся к своему столу.
* * *
— Что теперь разделяет нас? — говорил Эмиль, гуляя
с ней вечером по большой аллее. — Прежде это было
положение, шесть плетеных стульев...
— Обеденный стол и кухонная посуда, — продолжала Бланш. — Здесь нам нечего думать о квартире.
— А детей мы отдадим в приют, как Руссо, — сказал
Эмиль.
— Да, с большим удовольствием, потому что тогда
они у меня будут больше на глазах, чем в моей комнате, — добавила Бланш.
— Какое чудовище — мать, отдающая своих детей
в приют!
— Да, при прежнем строе! Или, вернее, несчастные
матери, которым приходится отдавать своих детей. Вам,
вероятно, было тяжело разъезжать по старому миру?
Я уже целый год не выезжала отсюда!
— Мне казалось, что я посетил Геркуланум и Помпею! О, я не хочу вспоминать об этом. Страдающие дети,
больные, голодные; бескровные раскрашенные трупы
богачей в экипажах посреди улицы. Лица бедняков искажены ненавистью и заботами, лица богачей боязнью
427
потерять свое золото! Мы не замечали этого, живя среди
них, но теперь я ясно увидел все это.
— И все-таки мы еще далеки от совершенства, — заметила Бланш.
— Да, далеки! Потому что наше гордое здание ненадежно стоит на старом фундаменте. Подумайте, ведь мы
производим предметы роскоши; наши стойки для зонтиков, вазы, фигуры для фонтанов, канделябры и другие
предметы роскоши станут излишними, когда наступит
великий переворот. И мы останемся ни при чем.
— Что же тогда делать?
— Тогда мы начнем новую, трудовую жизнь, но мы
будем жить, потому что наш неисчерпаемый фонд —
земля, мы произошли от земли и землей можем мы
жить. Но пережить этот кризис будет тяжело. Об этом
уже думают, когда обучают всех детей земледелию, потому что мы, может быть, и не доживем до этого великого дня! Так будем же жить, Бланш, пока мы живы! Ведь
мы живем один раз! Хочешь ты прожить жизнь со мной
или без меня?
— С тобой, Эмиль, без тебя я не живу!
— Свободная, как моя жена, свободная, как человек,
ты сама зарабатываешь свой хлеб — вот мы и осуществили нашу утопию, и пусть посмотрят на нас люди,
уверявшие, что это осуществление невозможно.
— Потому что они не хотели этого!
— Или, может быть, не умели!
НАД ОБЛАКАМИ
В один прекрасный апрельский день от отеля
Рот в Кларане отъехал экипаж. Он свернул на дорогу
к Шайи.
В экипаже сидел сорокалетний мужчина с бледным
худым лицом, окаймленным черной бородой; рядом
с ним молодая дама с типичным лицом парижанки; несколько приподнятые углы глаз, орлиный носик и маленький рот с узкими челюстями носили приятное выражение. Они ехали молча, и господин, выглядевший
живым мертвецом, неподвижно смотрел в сторону садов, где цвели миндальные деревья; фиговые деревья
простирали вперед свои широкие ветви, чтобы охранить, но не скрыть тайны оплодотворения; каштаны
и орехи стояли в цвету, а черные виноградные лозы, начинали зеленеть, как жезл Моисея. Было тепло, почти
жарко, но с глетчеров долетал иногда прохладный ветер,
и тогда жена прикрывала пледом больного. На горах зеленели пастбища, и весело сверкала зелень лиственниц;
а наверху, на острых вершинах Dent de Jaman u Rocher
de Noyn, похожего на прибитый к берегу ковчег, лежали
еще свежие пласты снега, рядом с иссиня-черным сосновым лесом; а над ними реяли серебристо -белые весенние облака, то закрывая, как вуалью, вершины сосен, то
разрываясь и повисая лоскутами на ветвях, отбрасывающих на луг черные тени.
Больной медленно поднял голову и сказал, кивая на
облака: «Мы едем туда наверх?»
429
— Да, мой друг, — отвечала со вздохом жена, — туда
наверх.
— Как Илия, — сказал муж, — в огненной колеснице; здесь так жарко!
Голова его снова поникла на грудь, и он замолк; только глухой, отрывистый кашель потрясал его худое тело.
Дорога поднималась среди виноградников к Шайи. Виноградники и каштаны скоро исчезли; вдоль дороги росли только ореховые деревья; немного спустя, за поворотом дороги появились пшеничные поля и фруктовые
деревья; яблони и вишни протягивали свои побелевшие
от цветов ветви над зелеными лужайками, усеянными
цветами; желтые примулы и белые фиалки, желтоватозеленый морозник грелись в солнечных лучах. Экипаж
остановился, чтобы дать отдохнуть лошадям. Больной
снова поднял голову, и взгляд его упал на голубое озеро,
расстилавшееся глубоко внизу, на горы, дымящие сыростью и теплом, на возделанные поля. Он глубоко вбирал
воздух ноздрями, как будто ему трудно было открыть
рот.
— Какая красота, — сказал он. — Ты думаешь, там наверху будет также прекрасно?
— Да, я так думаю, — отвечала жена, не давая заметить, что она поняла двойной смысл этих слов «там наверху».
Внизу, в ореховом лесу закуковала кукушка.
— Söder gök, — сказал муж, — Döder gök. Привет тебе
прекрасная природа, morituri te salutant! — обращаясь
к кучеру он добавил: — Эксельсиор, это значит: едем
дальше!
Экипаж поднимался все выше, а озеро и ландшафт
оставались все дальше. Теперь пошли лиственные леса,
а над головами они видели сосны, из-за которых выступал ослепительно белый Jaman. Дорога шла между
сланцевыми и известковыми горами и вскоре вступила в прохладную тень букового и соснового леса. В воздухе посвежело; там и тут мелькал нерастаявший снег,
430
и один только зяблик пел в густой тени деревьев. Дорога
снова сделала поворот, и перед ними открылась вся долина Роны с цепью Монблана. Прекраснейший из всех
Dent du Midi бьгл подобен неслыханно громадной волне,
окаменевшей в тот момент, когда она собиралась броситься вслед за другими волнами. За два часа переезда
они перешли от южного лета к северной зиме. Теперь
дорога вилась по краю отвесной пропасти, и чудная долина открывалась между Mont de Coux и Cubly. Облака носились вокруг них, над ними и под ними, как гигантские чайки. Вскоре лошади и экипаж были окутаны
этим белым туманом так, что ничего не было видно, но
скоро туман прорвался, и перед ними мелькнул уголок
зеленого ландшафта, кусок озера, снеговая вершина, все
залитое теплыми лучами весеннего солнца.
— Если на небе также прекрасно, Амели, то не так
трудно уйти отсюда, — сказал больной, закашлявшись
от сырого воздуха.
— Не говори так, — умоляюще сказала жена. — Самый опасный месяц прошел, и теперь ты поправишься;
но на этом путешествии ты не должен был настаивать.
— О нет, хорошо поездить по земле и так сверху взглянуть на ее бедствия. Посмотри вон внизу сереет что-то,
как камни на деревенской улице; это три города со многими тысячами жителей, наивными рабами, воображающими, что они так велики и могущественны, что мир
не сможет существовать без них; и они мучают друг друга и сами себя, чтобы вызвать к себе зависть.
Экипаж последний раз сделал поворот, и перед ними
глубоко в долине открылся большой отель «Les Avants».
Час спустя, m-г Аристид М., журналист из Парижа,
как он расписался в книге отеля, сидел на террасе, тепло
закутанный в меховое одеяло и с козьей шкуркой под ногами. Фонтан плескался так усыпительно, тающий снег
освежал воздух, и смолистые испарения соснового леса,
при каждом дыхании ложились бальзамом на больные
легкие. Он погрузился в тихое полузабытье, созерцая
431
чудные красоты природы. Немного спустя, он услыхал
скрип кресла, которое катили по песку и остановили
у лаврового дерева, около которого он сидел. Один голос спросил, может ли он уйти, и другой слабый голос
отвечал утвердительно.
Аристид, горло которого было закутано шарфом
в защиту от северного ветра не мог видеть, кто сидел несколько сзади него. Но он испытывал магнитный ток,
который ощущают все нервные люди в присутствии небезразличных им лиц. Потом он услыхал отрывистый
кашель и затем стон. По вполне понятному чувству сожаления, он обернулся и уронил шарф. Как садовник,
подняв ветку ягодного куста вздрагивает, натолкнувшись
на черного ужа, так вздрогнул Аристид при взгляде на
человеческую развалину, с мертвенно-бледными впалыми щеками, на которых горели сухие, красные пятна.
Но на этом лице трупа еще сверкали черные глаза, которые горели скорее фосфором умирания, чем огнем жизни. Аристид хорошо знал этот взгляд своего старинного
врага. Они сидели несколько минут, глядя друг на друга и не зная, должны ли они поклониться; они пытались
одновременно встать и уйти, но не могли этого сделать:
слабость и болезнь сковали их. Видя невозможность избегнуть встречи, они успокоились.
Анри, так звали врага Аристида, оправился первый
и с улыбкой, иронизирующей над самим собой, сказал:
— Доволен ты теперь своим положением Аристид?
Per nubiles ad astra. Мы уже превыше облаков; теперь
нам недалеко и до звезд.
— Звезды всегда были твоей целью, если мне не изменяет память, и ты добился их! Сколько их у тебя? — отвечал Аристид, указывая на отворот сюртука.
— Сколько яду! Неужели ты меня еще ненавидишь,
ведь теперь я совсем безвреден?
— Я не думаю, чтобы я был еще способен на такое
сильное чувство, как ненависть, и к тому же, судя по тому,
чему меня научила жизнь, я думаю, что относительно
432
и ты не был виноват. И все-таки, я не могу при взгляде
на тебя не думать, что ты убил меня.
— Ты ужалил меня, и я убил тебя.
— Ты наступил мне на грудь, и я ужалил тебя в пяту.
— Ты лежал на пути, по которому я должен был
идти.
— Я должен был идти по нему! В этом вся тайна нашей жизни. Мы гнались за счастьем и за славой; мы раздирали тело свое о терновники, мы ранили ноги о камни; и полуживые пришли мы к цели, чтобы бессильно
упасть и умереть без крови в жилах, без воздуха в легких.
Помнишь, как началась эта травля? Ты сделал первый
шаг. Ты происходил из семьи, которая всеми средствами помогала тебе. Воспреемником твоего первого опыта для театра был твой же отец. Пьеса была прочитана
в клубе одним из выдающихся артистов, и имя твое сразу
стало известно. Ты сам сидел в газете и прятался за собственной спиной. Тогда выступил я с моим произведением. Ты произнес над ним приговор, и все газеты поддержали тебя. То, что при других обстоятельствах считалось бы бесстыдным и бесчестным, тебе сошло с рук,
потому что тебе все было дозволено. Ты обладал тайной
быть persona grata, человеком, который все смеет. Потом
ты выпустил следующее произведение; ты поднимался
к звездам за мой счет. Каждый выпуск твоей новой книги был для меня поражением, вот как надо писать, а не
как Аристид М!.. Ты был любимцем гаснущей империи,
потому что ты умел льстить; ты мог рифмовать France
и delivrance, gloire и croire, потому что ты все смел. Тогда я сдался. Мое произведение в пять лет обошло все
парижские театры, но напрасно, потому что оно было
написано против хорошего тона; это ты ему и предсказывал. Я отступил, как непризнанный неудачник, и перешел в газеты. Написал ли я хоть слово против тебя?
Мстил ли я тебе? Ты должен ответить отрицательно.
Когда я стал таким образом совершенно безвреден, ты
вдруг почувствовал ко мне необыкновенную симпатию.
433
Ты искал моего общества, наставлял меня; мы обедали
вместе, гуляли за городом, говорили все время о тебе
и твоих работах и никогда обо мне. Я всегда хвалил тебя
в газетах, но в то же время я работал. Страстно работал,
потому что смутно чувствовал, что должно наступить
и мое время. Ужасно тяжело быть «непризнанным неудачником», это еще хуже, чем быть неизвестным. Как
тяжело было, приходя домой к родным, слушать восхваление твоих произведений, Анри: «Вот как надо писать».
И я порвал с семьей, когда я не выдержал экзамена на
писателя. Как тяжко упали на меня насмешки, когда я,
раскаявшись, вернулся к ним, бедным журналистом без
имени. Кровью сочились мои раны. И всегда ты, ты как
образец: «Вот, как надо писать!»
Анри закашлялся и снова пытался встать и уйти, но
бессильно опустился в кресло. Аристид продолжал:
— Я дорого бы дал, чтобы забыть день после твоего
последнего триумфа, когда я посетил тебя. Это было на
следующее утро. Газеты превзошли сами себя в похвалах. Я отправился к тебе спросить объяснения и смысла
некоторых непонятных мест. Я позвонил у твоей двери.
Твоя мать, по обыкновению, отперла дверь и выглянула
своими серыми, острыми глазами, подстерегающими
врага. Узнав меня, она пригласила меня войти. Я ждал
в передней, пока ты надевал шлафрок. Ты принял меня,
как триумфатор. Лицо твое было красно и распухло, —
результат ужина, который ты давал актерам. Твой письменный стол был завален лавровыми венками и букетами. Чтобы порадовать меня, ты в подробностях, рассказал мне весь вечер. Вызовы, аплодисменты. Как наконец
обе героини, пожимая тебе руки и называя поэтом, вывели тебя при открытом занавесе навстречу поклонению
публики, цветам твоих друзей и венкам твоей матери.
Я страдал от зависти. Разве это удивительно? Я, знавший
твое насмешливое отношение к жизни и твой цинизм,
в котором тебе не было равного; я, видевший, как ты совершенно равнодушно писал все эти сентиментальные
434
вещи, обдуманно рассчитывая на эффект и аплодисменты, я не мог не удивляться тебе. В заключение ты надел
мне на голову лавровый венок и уговаривал меня продолжать работать для театра. Я был настолько наивен,
что поверил тебе и признался, что я переделал свою
пьесу и отнес ее в Одеон. Вечером в газете промелькнула неблагоприятная для тебя заметка. На следующий
день я получил от твоей матери письмо с приложением статьи, которую я должен был напечатать. Я отклонил это с извинениями, так как это было против моих
взглядов. В субботу я прочел в одном из листков эту статью, но я не назвал автора ее, потому что тогда я еще уважал твою мать. Но в понедельник я отправился в контору Одеона за ответом. Директор дружески принял
меня, сказал мне много любезностей, но все-таки отказался поставить мою пьесу. Почему, мне было не вполне ясно; я понял только, что он не читал ее. Тяжелыми
шагами вышел я из театра, стараясь спрятать рукопись
под пальто. Под арками я встретил Мориса, молодого
первого актера. «Рукопись?» сказал он и взял ее в руки.
«Да, — отвечал я, — но не принятая». — «А директор
читал ее?» — «Я не знаю, — отвечал я, — не думаю». —
«Да, но я знаю, кто за него читает». — «Кто же?» — «Его
друг Анри!...». Я не хотел ему верить, но он стоял на своем и прибавил: «Остерегайтесь таких друзей!» Я встретил тебя позднее в этот же день, но ты отделался словами, что Морис бездельник. Вечером вы встретились
в клубе и говорили о том, что я пустомеля и дурак, потому что каждый из нас был нужен другому. Я потерпел поражение. Я склонился перед ударом, но пошел по
новому пути. Я издал гом стихотворений. Но публика
так привыкла считать меня неудачником, что не хотела
даже обратить внимания на мое вступление в священную область поэзии; ведь газеты каждый год клялись ей,
что я ни на что не способен. Оставалось только молчать,
и они молчали или давали лукавые отзывы. Это было все
равно, что биться о стену. Но ты не оставил меня в покое.
435
Ты точно боялся потерять меня из виду. Наш друг Фер-
нанд получил премию в салоне. Ты потребовал, чтобы
я принял участие в пикнике. И опять я должен был присутствовать при чужих успехах и следовать за чужой победной колесницей. Вечером ты много выпил и унижал
меня! Иногда я позволял себе критиковать твои произведения, ты начал позорить меня, называя неудачником, залезшим в чужую лодку. Ты объявил, что ненавидишь меня, не веришь мне и чувствуешь, что я твой враг.
Как ты верно почувствовал это! Помнишь, как я в пылу
опьянения предсказывал, что придет и мое время, что
меня только преследовала неудача и что я еще разыграю
свою игру, когда до меня дойдет черед. И так разошлись
наши пути. Когда я ночью возвращался домой через лес,
я чувствовал себя разбитым, уничтоженным, но душа
моя чувствовала себя свободной, и я знал, что трудом
я добьюсь победы. Это была единственная месть, самая
ужасная, какою я мог и хотел отомстить тебе.
Аристид замолк. Легкая краска играла на его бледных
щеках; он слабо кашлял, на углах рта появилась светло-
красная пена. Слабо, едва слышным голосом продолжал он, не глядя на своего врага:
— Тогда пронеслась буря; голос твой был заглушен
шумом битвы; твои ветряные мельницы при первом
же порыве ветра обломали свои крылья, и ты вынужден
был смолкнуть. Тогда наступило мое время. После девяти долгих лет пьеса моя была наконец поставлена. И тогда наступило счастье. Забыванье твое и твоих друзей
должно было смолкнуть, пришло мое время. Но теперь,
когда я стоял перед давно жданным счастьем, я увидел,
что оно несло с собой не наслажденье, а тяжелую обязанность, и я устыдился себя. Целью моей было достигнуть счастья; счастье для нас было самое главное пока
мы терпели неудачи, потому что мы были воспитаны
в «культе успеха». В воздухе слышались голоса, которые
звали к обновлению, освобождению от лжи и хвастовства. Я слышал их и хотел говорить! Но я был слишком
436
возбужден, чтобы быть в состоянии говорить спокойно,
и я крикнул. Крикнул против прошлого, против себя
самого, против тех, кто развращал нас; крикнул против убийственной системы нашего воспитания и требовал наказания преступника. Обстоятельства благоприятно изменились для тебя, и ты все выместил на мне. Ты
мстил мне, распуская слухи, что все, что я высказал, я делал из мести. Не компрометируя себя и своего положения, ты не мог сам писать этого, и ты подкупил наемных
убийц. Всех своих ставленников в газете, разделявших
твои воззрения, всю свою свору натравил ты на меня.
Когда я написал роман, то на следующий же день, ты
назвал по именам всех лиц, которые могли мне служить
моделями; и когда дело не соответствовало истине, ты
прибегал ко лжи. Своим грязным умом ты чернил все
мои поступки. Ты сделал это. Ты распустил слухи, что
я был твоей креатурой и хвалил тебя за плату; ты был
будто бы моим покровителем, ты моим покровителем!
Говорил о благодеяниях и неблагодарности. Но тебя никогда нельзя было уличить в этом. Ты писал свои жалобы, прозрачные грязные намеки своим цветистым языком. Но ты чувствовал, что время твое приходит к концу и жало мое впивается в твою пяту, как ты выразился.
И я, желавший поднять меч со всем сознанием долга,
должен был заняться изящной литературой, чтобы заставить слушать мои слова. Я должен был снизойти до
театральных пьес, чтобы непобедимой силой успеха
вынудить моих врагов к молчанию. И каждый раз, когда они стихали, я пользовался случаем, крикнуть новое
слово, новое разрешение вопроса, новый приказ. Душа
моя истерзалась в этой борьбе, потому что убийственно
«бороться средствами, которых не уважаешь! И в какой
борьбе! Когда я высказывал что-нибудь серьезное, мне
кричали: «Нет, ты должен написать пьесу!» И я писал
пьесу! Аплодировали моему произведению, декорациям, актрисам, но истину, которую должны были познать
в нем, обходили молчаньем. Введение культа красоты
437
было вторым смертным грехом Империи. Деспотия
всегда вводила этот метод, чтобы отвлечь внимание от
действительности к кажущемуся, искусственному, призрачному. Внешность в нашей жизни имела больше значения, чем выборы в палату; новая пьеса казалась чем-то
более реальным, чем преступления, потрясавшие самые
основы общества. Мы оплакивали Седан, но в глубине
души он не затронул нас; мы стали серьезны после войны, но в Theatre Frangais смеялись над нашими слезами
и просили нас быть любезными и присоединиться к их
смеху. Тогда я решил высмеивать этих плакс. И я смеялся, но в смехе моем было больше горечи, чем веселья,
и это была моя смерть! А теперь, Анри, мы оба мертвы!
Мы беседуем между собой как трупы. Я говорил в свою
защиту, потому что у меня не было никого, кто бы защитил меня. Через пять лет наши имена будут забыты. Мы
почти ничего не выиграли. Мы поклонялись внешности,
красоте и самим себе! Моя попытка стать новым человеком началась слишком поздно. Может быть, в грядущем
существовании, если такое есть, и можно будет воспользоваться этими дорогими опытами. Хочешь говорить со
мной, как уже с умершим? Протяни мне свою руку! Так!
Ты не хочешь? Ты не находишь, что мы оба были глупцами? Ты не думаешь, что будущее будет умнее?
Анри сделал движение, чтобы говорить, но ему не
хватало воздуха. Голова его поникла на грудь. Аристид,
обернувшись к отелю, крикнул, как мог громче. На пороге показался служитель, а сзади него появилась мать
Анри, при крике почуявшая опасность. Мгновенье спустя, она стояла уже около сына и не спускала своих серых глаз с неожиданного врага, присутствия которого
она желала меньше всего. Это была высокая худая женщина с седыми волосами, зачесанными назад над прямым высоким лбом. Аристид никогда не видал ее иначе,
как в щелку двери; ему импонировала эта могучая фигура, и он понял, какой сильной поддержкой была она
для маленького слабого человека, в продолжение девяти
438
лет топтавшего его ногами и сумевшего удержать за собой общественное мнение; но кроме того, он видел в ней
мать и женщину, которая выполняла волю, не свою лично, а своего сына. Он чувствовал, что эта сила подавляет его; он был один против них двоих. Он беспокойно
оглянулся, ища помощи, сам не зная какой. Мать Анри
старалась вернуть его к жизни, которая, казалось, совсем угасла, и Аристид чувствовал себя почти виновным
в этом ухудшении здоровья больного; в это время на песке раздались легкие, быстрые шаги, и нежная, заботливая рука легла на плечо Аристида. Это была его жена.
Обе женщины смотрели друг на друга долгим взглядом.
Маленькая женщина глядела своим темным теплым,
но теперь горящим взглядом на гордо выпрямившуюся мать, как разъяренная тигрица. Мужчины, казалось,
были вычеркнуты со счета и снесены с поля битвы, и поединок, казалось, начинался только теперь, когда истинные враги вышли из укрепления и встретились в открытом поле. Они поклонились, так как никогда не видались
раньше. Анри между тем пришел в себя. Тоном лишенным всякой горечи он представил ее: «Моя мать и госпожа М.», — но никто не поклонился.
— Подвинь мое кресло ближе к Аристиду, — сказал
Анри.
Мать не шевельнулась.
— Подвинь мое кресло ближе к Аристиду, мама, —
повторил Анри голосом, привыкшим повелевать.
Мать взяла кресло за ручки и медленно повезла его
по направлению к Аристиду, жена которого, в свою очередь, двигала кресло им навстречу.
— Дай мне твою руку, Аристид, и оставьте нас одних.
Он кивнул обеим женщинам, которые следили одна
за другой, кто первая покинет свой пост.
— Оставьте нас одних, — повторил Анри.
Мать сделала движение идти, госпожа М. тоже повернулась, и обе женщины разошлись в разные стороны.
439
— Аристид! — заговорил Анри, когда они остались
одни. — Земля прекрасна; думаешь ли ты, что и на небе
будет так же хорошо?
— Я не знаю, что подразумеваешь ты под небом. Разве это какое-нибудь определенное место?
— То место, куда мы перейдем!
— Я не знаю, предначертано ли нам перейти куда-
нибудь. Во всяком случае, если мы и перейдем куда-
нибудь, то, вероятно, на какую-нибудь другую планету.
Если принять небо за вместилище всех планет, то земля
является тоже частью неба. А если земля не отвечает нашему представлению о небе, то это частью потому, что
мы испортили землю, частью потому, что мы сами так
неграмотны, что не можем постичь всей гармонии.
— Что может служить тебе утешением при мысли,
что ты покидаешь землю?
— Что меня утешает? Да то, что я ухожу отсюда. Правда, я оставлю после себя тех, кого люблю; а ведь я прожил бы самое большое до семидесяти лет. И я оставляю
их без страха, потому что я верю, что им будет лучше,
чем мне. Буря пронеслась над землей, воздух очистился,
и люди снова могут дышать; мы этого не могли.
— Но если ты умрешь, ты уже не увидишь этого.
— Нет, я увижу это, потому что останусь жив, если
даже я умру, если умрет мое эгоистичное, дряхлое я, потому что я живу в моих будущих поколениях, в моих детях.
— У тебя есть дети! Это правда, — сказал Анри. —
Я совсем забыл. Но разве не эгоистично жить детьми
и ради них?
— Разумеется, но это наше первое движение альтруизма и любви к ближнему. Взгляни на молодого человека, когда он становится отцом. Он не чистит, как прежде,
своего платья, брюки его морщат, шляпа не блестит.
Так цветок роняет свои лепестки, когда он оплодотворен, потому что ему не нужен больше убор, служивший ему охраной при цветении, а молодому человеку
приманкой, чтобы поймать женщину.
440
— Я никогда этого не знал, — сказал Анри. — В детях
должно быть что-нибудь возвышающее и облагораживающее, потому что все родители воспитывают своих детей,
как бы несчастливы они ни были в своем супружестве.
— Твоя мать пережила это. Позволь мне один нескромный вопрос. Твоя мать писала в молодости?
— Как и все девушки.
— Видишь! У нее были семена, но не было земли; ее
семена взросли в тебе. Свою жизнь она пережила в тебе.
Как унизительно это для личности! Как оскорбительно для нашего самолюбия! Разбери хоть одно из наших
произведений. Собери все мысли и посмотри, многие
ли принадлежат нам самим. Научные исследователи
цитируют свои источники, журналист дает отчет о своих трудах. Но писатель эгоистично забирает все, что ему
попадается. Он берет анекдот, рассказанный кем-нибудь
другим за стаканом вина, берет события из жизни других людей, берет мысли философов, газетные рефераты,
воображаемые чувства, подписывает под всем этим свое
ничтожное имя и становится великим — и дело идет на
лад. Писатель поступает как удав; он выпускает слизь на
добычу, и ей уже нет спасения. Он плетет чудные сети,
как говорится, из самого себя.
— Никто не видит, сколько мух удавил он в них.
— А разве может быть иначе?
— Да, когда все переменится! И это уже началось.
Взгляни только на нас с тобой! Кто еще нас знает, кто
нас еще читает, а ведь мы были львами. Посмотри, как
быстро идет борьба. Когда Додэ написал роман о графе
Мора, то на следующий же день де Вагно объявил, что он
описал герцога де Морни. Приятно для Додэ, но справедливо. Видишь ты потребность времени в истине и борьбу
неверия против выходок ортодоксальности? И если Додэ
устал от высшей магии, то значит наступило время.
— Но тогда ведь умрет поэзия.
— Она должна умереть, потому что она была игрой
или ложью. Ее жребий льстить толпе или умереть!
441
Теперь она не хочет больше льстить и умирает. А вместе с ней и мы. Но она воскреснет как свободная игра
свободных людей, когда пронесется буря. О, какие времена приближаются, Анри! О, какие битвы! Но великие
битвы, в которых народ жертвует своею жизнью, а не
ничтожные из-за того, кому удастся пройти в Академию. Мы не увидим этого времени, да и мои дети тоже.
Они пройдут через пустыню и будут учиться стать новыми отцами и матерями, будут учить думать новые,
свежие мысли и потом умрут в пустыне среди побелевших костей, сломанных стрел и куч мусора; но их дети,
может быть, увидят Ханаан, где для всех текут молоко
и мед.
— Но в этот период стремления к ограничению себя
строго необходимым и наступит смерть красоты.
— Напротив! Красота природы всегда будет существовать, и тогда ею будут наслаждаться больше, чем теперь. Некрасивые или обыденные представления исчезнут, вероятно, как ненужные, и игра словами будет, несомненно, уничтожена не только как ничтожная, но и как
недостойная. Взгляни на снеговые Альпы, подножье которых окутано серебристо-белыми облаками. Можно ли
кому-нибудь, кто не видал ничего подобного, так описать их, чтобы он получил перед собой живой образ?
Нет! Наибольшее чего мы можем достигнуть, это пробуждать воспоминания в том, кто уже видел. Напишем
на них стихотворение! Я сравню их, — ведь стихи не больше как сравнение, — я сравню их, например, со Священным Ковчегом из свежерасплавленного серебра, который
несут ангелы, пролетающие над землей.
— Твое сравнение прекрасно и справедливо, потому
что горный хребет Dent du Midi действительно выглядит
как разбитая крышка ковчега, а кольцо облаков посреди
горы можно принять за кортеж ангелов. Что ты хочешь
этим сказать?
— Ничего! Я хотел сказать что-нибудь прекрасное!
Но как ничтожно скалу в десять тысяч футов высоты, по¬
442
крытую снегом, унижать до степени творения рук человеческих! А сравнение туманных облаков с ангелами так
неправдоподобно, что никто не поверит. Это ласкает воображение, но не дает никакого ясного представления;
это колеблет понятие в зыбкой дымке, где смешиваются действительность и мечты; наша поэзия действует на
нас, как опьянение.
— Отлично! Но как же, представляешь ты себе, будут люди будущего поэтически изображать Альпы?
Может быть так: «Dent du Midi, твои вторичные известковые отложения, смешанные с доломитом, покрыты
сегодня снегом, потому что ночью выпал снег на три
миллиметра, а северный ветер дул с силой десять фунтов. Когда растает снег, мы можем сеять кукурузу и вторично окапывать виноградники». Ты так себе представляешь?
— Нет, я думаю, что люди будущего не будут играть
мыслями и словами, потому что у них будет подумать
о чем другом. Я думаю, что они будут склоняться перед
красотами природы в немом поклонении и никогда не
утомляющемся восхищении, потому что они снова обретут эту способность, почти убитую в нас искусством.
Разговор был прерван звуками оркестра, раздавшимися под открытыми окнами отеля. Оба больные
смолкли от удивления; они не могли сразу понять, откуда доносятся эти звуки и что собственно это за музыка; но скоро звуки стали яснее, и они узнали марш Бок-
качио. Анри поднял голову, как гончая, услышавшая
охотничий рожок. Глаза его заблестели, и радостно он
сказал:
— Боккачио! Какой же сегодня праздник?
— Я слышал от кельнера, — сказал Аристид, — что
всемирный почтово-телеграфный бернский союз должен сегодня приехать сюда.
— Какой союз?
— Гм! Видишь, как мы проспали, видишь как прожили мы во сне нашу жизнь в то время, как умные люди
443
с пользой работали и заботились о будущем! Мы читали в газетах только про театр, музыку и искусство. Для
нас жизнь разыгрывалась при свете ламп, среди разрисованных пейзажей. А когда какой-нибудь внешний
шум беспокоил нас, мы сердились, восставали против
крикунов и высмеивали их. И мы величественно выступали с бумажными коронами на главах и считали себя
царями в области мысли. Вселенная была — Париж,
а мир — театр.
Музыка смолкла и теперь доносились отдельные слова из речи: « мирный, совместный труд народов...
невозможность войны... быстрейшее осуществление
идей...»
Анри сказал нетерпеливо:
— Я думал, что по крайней мере здесь наверху, мы
будем избавлены от этого.
— Нет, мой друг! Мы не заслуживаем пощады. Полезный труд, от которого мы отворачивались, как от
чего-то нечистого, проникает все дальше. Он работает
на земле, но поднимает нас к облакам; мы работали над
облаками и все-таки упали на землю.
В столовой раздались аплодисменты, заключавшие
речь оратора.
— Слышишь, какие времена! Почт-директоры отнимают у нас аплодисменты! Узнаешь ты этот шум? А! Когда я первый раз стоял в кулисе и стихи мои неслись
в партер, оглушительный шум был им ответом; сначала
я подумал, что по крыше театра бьет дождь, потому что
для меня это было чем то новым. Но когда я увидел как
актеры кланяются, а шум усиливается, я понял: опьяняет это? На одно мгновенье! Тогда я подумал: о, это наверно родственники и друзья. Вероятно, так и было, потому
что на следующий день, я прочитал критику, критику
такую... с тех пор я никогда больше не стоял в кулисах.
А теперь этого уже больше не будет.
Анри наклонился к Аристиду, как бы желая что-то
сказать. Сзади них на песке послышались легкие шаги;
444
это подходила госпожа М., легким покашливанием давая знать о своем присутствии.
— Прости, Аристид, — сказала она, — но пришли
дети, и мы ждем тебя.
— Куда ты хочешь ехать? Разве ты не останешься
здесь? — спросил Анри голосом, как бы просящим ответа.
— Еще выше, — отвечал Аристид, — в Les Bains de
L’Alliaz.
— Почему ты не можешь здесь остаться? Разве ты не
хотел здесь остаться? Разве ты не собирался поселиться
здесь? Где ты будешь летом?
— Летом? А где ты будешь летом?
— Гм! Я не знаю, — отвечал Анри и схватил Аристида за руку.
— Я знаю, что нас уже не будет здесь, Анри; когда начнется таянье снега, воздух будет для нас слишком силен.
— Так мы встретимся осенью? Где ты будешь
осенью?
— Вероятно там же, где мы останемся летом.
— Ах, ты не должен так говорить! Мы будем долго
жить, дорогой мой. Я дышу так легко, так легко...
— А, ты уже начинаешь легко дышать? Ну будь здоров, бедный Анри!
В эту минуту послышался веселый смех и топот маленьких ножек, бегущих вперегонки. Через несколько
мгновений два курчавых черноволосых мальчика сидели на коленях Аристида. Анри чувствовал себя смущенным, и на лице его выразилось страданье. Аристид хотел
ему помочь, но не знал, что сказать для этого. Наконец
он обратился к своим мальчикам: «Поздоровайтесь с дядей». Мальчики взглянули на Анри и коротко поклонились.
— Мы можем ехать, Амели? — спросил Аристид.
— Да, если хочешь.
— Не уезжай еще, — просил Анри, умоляюще взглядывая на молодую женщину.
445
— Мы не можем оставаться ради вашего удовольствия, милостивый государь, — отвечала она.
— Ради моего удовольствия? — повторил Анри.
— Да! Вы заплатили за свои дорогие удовольствия
чужими счетами, моих детей и моими.
— Тише, тише, друг мой, теперь не время суда; до
свиданья, Анри, без горечи, без осуждения; мы оба были
глупцы, теперь этого не исправишь. До свиданья.
— Где? — спросил Анри, как бы ожидая своего приговора.
— Где? В Веве, в Кларане, в худшем случае на небе,
если таковое существует.
— Ты не боишься смерти? — сказал Анри, во что бы
то ни стало желавший продолжать разговор.
— Нет, но мне тяжело, что время это наступит именно теперь. Я не понимаю, почему смерти надо бояться
больше чем рожденья. Это явления, изменить которых
нельзя. Прощай, мне пора ехать.
— С уст Анри, казалось, было готово сорваться еще
какое-то слово. В ту минуту, как откатывалось кресло
Аристида, к Анри подошла мать. Он вынул из кармана
молитвенник в черном переплете, с бронзовыми застежками, раскрыл его, и губы его быстро зашевелились, не
произнося ни слова.
Шум экипажа замер за поворотом дороги. Подняв
глаза от книги, Анри взглянул на расстилавшийся перед
ним пейзаж и снова обратил свои взоры вдаль на вершины Dent du Midi. Снег тут и там растаял под лучами солнца, и темные полосы горы казались совершенно черными рядом со снегом; теперь эта вершина казалась черным гробовым покровом, усеянным белыми
цветами, принесенными в воздух блестящими облаками. Пришло ли это сравнение в голову Анри, это трудно установить, но гора, по-видимому, производила на
него гнетущее впечатление, и он схватил за руку мать,
ища поддержки.
446
— Я не боюсь неба, — сказал он, — но мне противно думать о черной могиле. Как унизительно быть зарытым в землю, как всякое животное...
— Или, — сказала мать, — как сокровище, которое
позднее снова найдут.
— Или забудут и никогда не отыщут...
— Не раньше, чем через несколько сот лет... и перенесут в музей...
— Когда не будет уже музеев, если верить Аристиду. ..
— Не верь твоему врагу.
— Он мне больше не враг. Когда битва кончена, нет
больше врагов.
Теперь шум экипажа послышался над их головами.
Наверху, на дороге между пихт замелькал экипаж. Анри
взглянул наверх и узнал его. С трудом вынул он носовой
платок и быстро замахал им. Но экипаж продолжал быстро катится все выше и выше. Анри хотел подняться,
чтобы быть замеченным. Громадное облако колыхалось,
как бумажный змей перед головой лошади и в следующее мгновенье должно было окутать экипаж и путников. Он заметил это; открыл рот, чтобы крикнуть, но не
издал ни звука. Тогда в экипаже замелькало что-то белое, и четыре платка заколыхались в воздухе, замахали
на прощанье, как машут друзья, отъезжающие на пароходе, и экипаж исчез в облаке.
ДЕТСКАЯ СКАЗКА
На задней стороне Скамсунда в числе других потерпевших крушение ютился и отставной лоцман Эман. Он
прослужил до тридцати семи лет своей жизни и вдруг
в светлую ночь потопил финскую шхуну. Как это случилось, он не мог понять; он направил судно строго по
сигнальным огням, знал, где суша, и руль был в исправности... Так все и осталось невыясненным! Перед военным судом он клялся, что спиртного целые сутки и в рот
не брал, но так как он вообще выпивал, то решили, что
он был пьян, — и вот его выгнали со службы и в уплату
за судно и груз приговорили к штрафу в пятьдесят тысяч крон.
Упоминать в судебном приговоре о спиртных напитках, когда человек был, несомненно, трезв в день несчастья, было неосторожно; благодаря этому на стороне
Эмана оказалось, по крайней мере, то преимущество,
что формально с ним поступили несправедливо.
Когда, с лоцманским значком в кармане и без галунов, он вышел из суда на пристань, ему показалось, что
город изменился. Морское училище стояло, конечно, на
своем обычном месте, но казалось ему маленьким и чужим. До этого дня оно внушало ему уважение, являлось
непостижимым, самым высоким в его маленьком мире,
где он стоял так низко, почтительно, в слепом благоговении, преклоняясь пред властью и высшим знанием. Когда же его выбросили из круга, это уважение сразу исчезло. Теперь им нечего было сказать ему, — вера исполни¬
448
лась, и он был уже не в их власти; он очутился в стороне,
получил возможность не сравнивать себя с ними, был
свободен и чувствовал, что несчастье возвысило его.
Таким образом, он снова вернулся на Скамсунд. Когда пароход подошел к пристани, было уже за полдень.
Лоцманы бродили поблизости, — одни с искренним желанием выразить товарищу свое участие, другие же просто взглянуть, каков он из себя. Стоявшими на берегу
овладело глубокое раздумье, так как каждый сознавал,
что такое же несчастие может обрушиться на любого из
них и в любое мгновение, тем более, что крушение судна
вряд ли могло быть объяснено правильно.
Пока подавали трап, Эман стоял и выдергивал концы
ниток из отворота рукава, где были галуны. Всю дорогу он придумывал, что ему сказать, и приготовился, как
ему смотреть в глаза; ведь он мог смотреть людям прямо
в глаза, так как совесть у него была чиста.
Он снял со скамейки ручной мешок и, чтобы освободить руки, сунул свой билет в рот; вступив на трап, он
широко расправил грудь, но при этом совершенно позабыл о билете, так что штурману пришлось самому,
с шуткой, вытаскивать его изо рта. Это расстроило заранее составленную программу его приезда домой, торжественное перешло в смешное, а исправлять промах уже
не стоило.
Встреча приняла, таким образом, совершенно будничный характер.
— Не унывай, брат! — приветствовал старший лоцман. Этим было все сказано, так как остальные лоцмана ограничились одними одобрительными кивками, довольные, что все это случилось не с ними.
Эман сумрачно направился вверх по холму, за которым стояла его избушка. Жена не ждала его, потому что
он был вдовец, но у него был десятилетний сын. Он, конечно, не смел ворчать, но у него было же лицо, которое могло корчить гримасы, и бьгли глаза, которые могли выражать свои упреки. Чтобы оградить себя с этой
449
стороны, отец одним резким движением распахнул
дверь и крикнул ребенку, сидевшему у печки и возившемуся с ящиком:
— Ступай, Торкель, и займись сетями! Надо рыбу ловить!
Торкель ушел радостнее, чем он сам ожидал, потому
что он увидел отца свободным и бодрым.
Три дня подряд Эман только и делал, что обходил избушки своих товарищей и жаловался на свалившуюся
на него несправедливость. В первый день он встречал
поддержку, но на второй — сочувствие уже не высказывалось, и он встречал опущенные глаза, которые говорили, что между ним и ими упала завеса. И, чтобы устранить ее, приходилось делать некоторое усилие.
«Да разве же я не был трезв в этот день? Если бы
я в этот день выпил хоть каплю, я бы и не заикнулся!» —
Он повторял это столько раз, что надоел и стал нестерпим. Заметив это, он стал прибегать к большим цифрам. «Я бы мог зарабатывать по две тысячи крон в год,
а теперь вот они брошены в море! Меня приговорили
к штрафу в пятьдесят тысяч крон! Пятьдесят тысяч!.. Пережевывать такую внушительную цифру было действительно вкусно. Любопытно знать, откуда я возьму их!» На
это никто не мог ответить, но то, что у него были такие
большие долги, внушало известное почтение. «Пятьдесят тысяч! Разумеется, они возьмут избу, и мне придемся
объявить себя несостоятельным должником».
На третий день весь блеск Эмана померк, и он встречал одни спины и торопливые шаги. Тогда он отправлялся в лоцманскую будку, где заставал в сборе всех этих
молодцов, и снова начинал свое. Наступало уклончивое
молчание, прерываемое лишь отдельными табачными
плевками, которые шлепались на пол.
Чтобы дать делу другой оборот, он начинал с пятидесяти тысяч, как с предисловия, а то что излагалось
за этим, сводилось к следующему: «Ведь выпей я хоть
одну рюмку в этот день!» Когда он завел речь об этом
450
в третий раз, то старший лоцман поднял голову и заговорил прямо:
— Послушай, Виктор, ты брат, старый пьяница,
а тебе известно, что если пьяница забудет напиться один
раз, то в голове у него ерунда. Стало быть, суду безразлично, был ли ты в хмелю или в похмелье. Ты потопил
шхуну в ясную погоду, а посему и подвергся должному
взысканию. Ступай домой, займись хозяйством и постарайся приняться за что-нибудь, чтобы не угодить в богадельню. Ясно?
Эрман тщетно старался найти слова. Язык отнялся
у него и, говоря одними глазами, он стал пятиться к двери, чтобы не подумали, что он поворачивается к ним
спиной. В дверях речь вернулась к нему, но сознание отказывалось служить...
— Будьте здоровы, черти, — сказал он.
Когда он проходил мимо избушки старшины, хозяин, стоя на крыльце, дружески кивнул ему головой и.
крикнул:
— Зайди, Виктор, поболтаем!
Но Эман не ответил на приветствие и пошел дальше. «Что мне с ним делать?» — пробормотал он и почувствовал в себе прилив бодрости.
Он вернулся домой и, не входя в избу, снял со стены
топор и отправился бродить по острову. При всяком
припадке волнения он брал топор, уходил в лес и рубил. К тому же у него был небольшой участок леса, который при данных обстоятельствах получил для него новое значение, так как и ему предстояло пойти с молотка
вместе с избой.
Очутившись в лесу, он заметил, что все имело совершенно другой вид. Он хорошо знал свои деревья, но теперь они стали как бы чужими. В одном месте тут у него
были сложены дрова; это были наличные деньги, потому
что он мог продавать их каждую осень, когда приходил
большой пароход. В другом месте оставалось несколько прямых досок для корабельных бортов. Оставалось
451
для кого? Вот здесь стояло несколько, как нарочно искривленных, берез, выросших прямо для лодочных дуг.
А вот здесь шесть великолепных мачт, которые он берег
ко дню конфирмации мальчика, так как, по его расчету,
они должны были достигнуть своего полного роста как
раз к этому сроку
Все это теперь принадлежало не ему, а пошло в обеспечение долга. О-бес-пе-че-ние? Да, но не сейчас. Сперва должен явиться староста и описать, потом должен
быть их аукцион, где-нибудь внутри острова, у церкви,
в здании суда. Им бы следовало быть поосторожнее...
В этот день ему доставляло особенное удовольствие
вонзать топор в древесные стволы. Он накинулся не на
дрова и строевой лес, а на самые ценные деревья, и вот все
эти мечты, борты, весла валились, как солома, и тут же
разрубались в щепки. От напряжения и злобы его бросило в жар, а когда с треском упала громадная сосна, он
улыбнулся. Прозрачный, как стекло, сок лился, точно белая кровь, а верхушка сломалась при падении. Это было
настоящее поле битвы, и по мере того, как топор разрушал, рубил, мстил, в лесу и в голове становилось яснее.
Здесь дело шло о врагах, невидимых, даже неизвестных.
Если бы кто спросил, что это за враги, он мог бы ответить
только то, что он ненавидел всех и все, потому что в определенном смысле его никто не обидел и несчастье нагрянуло тем же таинственном путем, как ветер, как волны.
Когда он устал и уже не было сил рубить, он довольствовался тем, что надрубал кору на стволах, к тому же
он прошел весь свой лес и добрался до холма, где начиналась гора. С топором в одной руке он взял приступом отвесную скалу и скоро очутился наверху. Здесь
стояла столетняя сосна, которая уже давно лишилась
вершины, и теперь имела только две громадных ветви,
протянутых по обе стороны, как две старческих, подававших знаки руки. Эта сосна служила морякам указателем суши, а лоцманы окружили ее ореолом святости, что защищало ее от повреждений. До этого же она
452
была наблюдательным пунктом и даже сохранила полусгнившую лестницу.
Лоцман вскарабкался вверх и имел теперь море под
собой. Там на дне лежала шхуна и указывала своими обнаженными мачтами, тем особенным образом, каким
обыкновенно указывает разбитое судно, — не вниз или
вверх и не в одну определенную сторону, как это бывает
у накренившегося корабля, но бессмысленным образом
неопределенно, искалеченно, туда и сюда, с утраченными направлением, как мертвая вещь.
— Ну, и лежи себе, — сказал он про себя, без всякого
чувства сострадания или сожаления. Его простое лицо
скорее выражало своего рода удовлетворенность и гордость тем, что он был орудием довольно необычного
и наделавшего столько шума действия.
Он слез с дерева, как бы охваченный внезапным вдохновением. Он тотчас же очутился у корней.
— Это моя сосна! — сказал он.
— А если от этого произойдет кораблекрушение?
— Тем лучше: мне-то что до этого?
— Это мои сосна! — отчеканивал он, сопровождая
каждый слог ударом топора.
Мирного священного дерева, указывавшего морякам дорогу с юга и с севера, протягивавшего свои руки
и раскрывавшего свои объятья перед теми, кто приходил с востока, не стало. Эман почувствовал успокоение
и удовлетворение.
— Теперь они пойдут писать, правительству придется разослать циркуляр, что указатель суши на острове
Скамсунде упразднен. Ха-ха! — Он закрыл рукою рот,
чтобы скрыть свой смех.
После этого дня лоцманы бродили кругом с видом
особенного превосходства, как школьники, не получившие пинка. Они называли Эмана негодяем и перестали
с ним здороваться. Но так как грехи водились и за ними,
то они собирались в лоцманской будке и все жаловались на Эмана, так что сосна оказалась для них тем же,
453
чем для Эмана невыпитая рюмка водки. — «Хоть бы он
сосну-то оставил в покое!» — Но Эман был и козлом отпущения и искупительной жертвой. Если между двумя
лоцманами возникала ссора, то стоило только завести
речь об Эмане, как они тотчас же мирились; они тут же
набрасывались на Эмана, переносили свою размолвку
на него и старались винить его при всякой возможности.
Эта наклонность «сваливать все на Эмана» достигла прямо невероятных размеров, когда чья-то лукавая голова
выдумала, что у Эмана дурной глаз. Это началось с легкой руки какого-то цыгана. Секта же «чтецов» повернула дело так, что преступление Эмана, будто бы носилось
кругом, тяготело над всеми и навлекало на них несчастье,
подобно тому, как Иона был причиной бури на море.
Сам Эман держался в стороне и жил в глубокой замкнутости, вызванной враждою других. Также было дело
с сыном, потому что уныние ребенка было глубже, чем
у старика. Если он не выходил в море и не помогал отцу
ловить рыбу, то ему приходилось бродить одному. Когда же они оставались с глазу на глаз, отец был крут, по-
видимому, чувствовал неловкость, тяготился им. К тому
же десятилетний ребенок и не мог составить общества
взрослому.
* * *
Отец и сын привели в порядок будку на море, где был
очаг, и превратили ее в жилье, так как изба должна была
пойти с молотка. Торкель думал, что все дело в том, чтобы сдать избу дачникам, и все время жил без всяких забот. Если не нужно было выходить в море и ловить рыбу,
он уходил на берег, всегда со стороны открытого моря,
потому что другой берег, к Фагервику, частью питал
к нему вражду, частью же был закрыт для него.
Напротив, здесь, с наружной стороны, в глубоком
одиночестве, он имел перед собой свободный простор.
Вся площадь Скамсунда, собственно говоря, состояла
из большого острова, около мили в длину. До сих пор
454
мальчик исследовал берег всего на какую-нибудь четверть мили, но по мере того, как он подрастал, он стал
расширять свои странствования.
Здесь, на берегу, было так много любопытного и с каждым новым ветром появлялась не та, так другая новинка.
Самую богатую жатву собрал он там, где две каменных
плиты образовали своего рода желоб; это был настоящий мусорный ящик. Большей частью тут была солома,
камыш, потом поплавки из бересты, пробки. Когда он
выучился грамоте, он стал с чувством новизны разбирать
метки владельцев, выжженные на черпаках или сломанных уключинах, имена заводчиков на пробках. Пробки
вносили больше всего разнообразия в особенности летом, когда лодки у Фагервика оставляли самую большую
дань. При южном ветре их уносило в море, а при ближайшем северном — они появлялись позади Скамсун-
да. Когда в первый раз ему попалась пробка от шампанского, то это было событием в его жизни. Целый час он
удивлялся тому, как такая громадная пробка могла войти в горлышко бутылки. Он стал жевать ее, как делал его
отец, но она стала еще больше. Имя заводчика было не
менее загадочно: «Moet-et-Chandon Reims»; к тому же на
пробке попадались сплошь да рядом следы золота или
серебра.
Больше всего ему нравились вытянутые в длину, ровные бухты с мельчайшим песком. Здесь были кучи водорослей в виде грядок, где росли темно-красные цветы, золотисто-желтый вербейник, светло-фиолетовые
астры, белый хрен. Здесь же попадались раковины, скелеты рыб, а иногда и кости птиц.
Во многих местах, благодаря обломкам скал, берег был недоступен. Там лежали ящерицы, под светло-
зеленым навесом из вьющихся растений, и туда же часто
прятались и птицы.
Крутой выступ порою пересекал дорогу, и тогда приходилось подниматься в лес. Такой выступ до сих пор
был целью его путешествий. Конечно, можно бьгло идти
455
и дальше, но горный отвес вставал такой убедительной
преградой, что он не решался продолжать путь. Кроме
того, здесь было столько развлечений, что он мог заполнить ими целые часы. Под отвесной скалой собирались
и резвились рыбы, а если было жарко, он мог ловить
маленьким неводом сонных щук, конечно, если выпадал счастливый случай. На горе стояла сосна, и на самой
вершине было гнездо, ровное и открытое, как горшок.
Попытка бросить в гнездо камень отнимала всегда час
или два времени, и, когда потом громадные птицы взлетали в воздух, он чувствовал свое превосходство над этими господами и хищниками богатых рыбою вод.
После всех необычайных происшествий этого дня он
почувствовал потребность уйти подальше и увидеть что-
нибудь новое и ознакомиться с миром на острове. Он знал,
что там стоят крестьянские дворы, виллы, лавки, а по воскресеньям он слышал колокольный звон в церкви, которой он не видел никогда. Там должен был жить пастор,
старшина; но сначала нужно было пробираться через лес,
где водились лоси, а они-то и могли напугать человека,
хотя и не были опасны. Хуже было дело с быками. Ему
уже случалось слышать пыхтенье в кустах, а это предвещало больше беды, чем мычание. Все же любопытство
взяло верх над опасением, и он вошел в полумрак. Но тут
он еще раз вернулся назад, чтобы набраться храбрости
у светлого простора бесконечного открытого моря.
В лесу было темно и пахло сыростью. Здесь росли
грибы; они напоминали то медуз, то морских ежей, и он
ждал, что рыжики начнут втягивать и выпячивать свои
животы и поплывут вверх среди стволов; ели превратились в мачты и ветер свистел в них, как в снастях, а гибкие реи качались на зеленых перекладинах... он все еще
был на море со всеми его воспоминаниями и представлениями.
Но вот он вошел в сосновый бор; здесь было светлее,
и желтовато-красная кора на стволах как бы пропиталась солнечным светом. Деревья поднимались из по¬
456
крытой короткой травою земли, где среди пней, в особенности среди выжженных, росла земляника.
Он взял направление по солнцу и знал, что его путь
лежит во всяком случае не к дому, хотя солнце и сворачивало на запад. Он шел все вперед, пока не остановился
у впадины с белыми берегами, так как маленькое озеро
образовалось в углублении, где когда-то добывался известняк. Направляясь вдоль берега, он вышел к болоту,
которое своими мшистыми, поросшими черникой буграми напоминало кладбище; затем, прыгая по кочкам,
он выбрался на более высокую лужайку с можжевельником и боярышником. Здесь он был как в парке и мог
двигаться спокойно, без препятствий. Вдруг он заметил
забор и над ним красную крышу. Это прежде всего вызвало чувство успокоения, но тотчас же пришла в голову
такая мысль: «Там должны быть собаки и должны быть
люди, люди, что станут расспрашивать, куда я иду и чего
я ищу». Поэтому он повернул назад и бросился бежать
в лес. «Они к тому же спросили бы, как меня зовут, — говорил он про себя, — и если бы я ответил Эман, они сказали бы: — Ах да, тот самый!..»
Он стал пробираться вдоль забора, мимо поля с рожью, и достиг горной площадки; отсюда, по пластам
мха, которые отваливались и скатывались вниз, хватаясь за толстые и гибкие, как кабель, сосновые корни, он
стал карабкаться вверх и, наконец, очутился на горе, где
был выкрашенный известкой землемерный камень и где
ястребы и коршуны оставили после себя целую груду
костей. Здесь же оказались уголья и пепел от костров
Ивановой ночи.
С этого места перед ним сразу открылся вид на весь
остров, на пролив и на Фагервик с другой стороны. Казалось, мир впервые раскрылся перед ним. Скамсунд
тянулся длинной бесплодной полосой до самой церкви,
суровый, мрачный, бедный; и он без малейшего сожаления отвернулся от своей родной земли и стал всматриваться в мягкие очертания зеленеющего Фагервика с его
457
лиственными лесами и лугами. Это был сплошной увеселительный сад, где в этот день все виллы были разукрашены флагами. В проливе сновали катера и шлюпки, с белоснежными, как прозрачная сорочка, парусами,
а на пристани прогуливались молодые девушки в светлых пестрых платьях и морские кадеты... Новый, более
радостный мир, где жизнь с утра до ночи трепетала весельем, такой близкий мир и в то же время такой недоступный. Он сел на камень и смотрел, смотрел... Всего
один пролив между его сумраком и этим светом! И вот
он перенесся на белый катер, сидел возле рулевого, следил за маневрами и чувствовал беспокойство всякий
раз, когда лодку слишком закидывало ветром направо... Он первый упал бы в воду и утонул бы, пока успели
бы повернуть... Ну вот так, теперь мы плывем на канат,
так... Садись на другую сторону, нельзя плыть в лодке
стоя... Посмотрим, могут ли они направиться к пристани и причалить, как следует.
Отлично, он слишком приблизился к берегу, толчок,
большой парус на штовы, натянуть боум, фок-мачту...
Вон, легли в дрейф, паруса убраны и завернуты. Все выходят на берег; он за ними; они поднимаются на террасу ресторана, усаживаются на диван, весь стол уставлен
бутылками и стаканами... Там можно жить, там можно зарабатывать денежки. Выезжать на катере в качестве лоцманов мальчики могут только в том случае, если
у них платье получше, но ведь господа катаются и в лодках. Первые гроши обыкновенно зарабатываются в кегельбане, и если бы только удалось начать с этого, то все
остальное сложилось бы само собой.
— Ну, паренек, — раздался голос из-за сосны, — что
ты так смотришь на землю Геваль? Она влечет тебя,
как грех... А знаешь, что такое Геваль? Разве ты не читал в Писании о Гевале и Гаризиме? О горе проклятия
и горе благословения? Мы с тобой стоим здесь на Гари-
зиме, это гора благословения, а там, где, по-твоему, обетованная земля, там — гора проклятия, потому что там
458
ведут разгульную жизнь так, как если бы завтрашнего
дня вовсе и не существовало. Вот что, брат!
Это говорил бывший таможенный вахмистр Викберг,
«бывший», как большинство из тех, кто ютился на задней стороне Скамсунда. Один промах по службе или два,
и его выбило из колеи, и он был отправлен на заднюю
сторону. Благодаря бедственному положению своей семьи, он каждый день и каждый час должен был помнить
последствия своей ошибки: чтобы восстановить равновесие в жизненных счетах, он стал искать противовеса своему долгу. Он поступил дурно, поэтому и сам должен
был претерпеть зло. И вот он стал во всем ограничивать
себя, истязал себя, начал ходить в молельню, и там-то он
и услышал в ясных выражениях, в каком положении его
дела. Молитвенный дом был карой и утешением. «Тот,
кто на земле потерял из виду берега, должен поступать,
как моряк в открытом море взять направление по небесам и плыть по звездам». Это было его постоянным рассуждением, за которое его вера подвергалась осмеянию.
После нескольких лет самоистязания он решил, что
счеты кончены; продолжая вести безукоризненную
жизнь, он считал себя стоящим на другой стороне долговой книги и имеющим право настаивать на своих личных требованиях. Теперь он дошел до того, что простил
себя. Прегрешения больше не было, и в его совести созрело такое чувство, будто он никогда и не совершал его.
«Чудо совершилось», — думал он и хотел внушить это
и другим. Но другие-то вовсе не забыли его промах и называли его человеком, потакающим самому себе, и святошей; этого он не мог понять, так как он любил забытый грех за то, что он был его спасением; ведь и Павел
утверждает, что нужно радоваться несчастию, ибо в нем
орудия и пути Господни. И то, что люди считали злом
или порождением зла, нисходило прямо от Бога, — по
его собственному слову: «Аз, дающий свет и созидающий тьму, Аз, ниспосылающей мир и созидающий
зло».
459
Все это у него было развито последовательно, и услышав, что кто-нибудь совершил прегрешение, он улыбался и утешал:
— Это только к добру! Теперь он спасен! Нам нечего
печалиться о таких пустяках! Он еще возродится!
Заметив сына прегрешившего Эмана и его долгие
взгляды на соблазнительный Фагервик, он воспользовался случаем посеять это семя, но оно упало не на
настоящую почву, так как было брошено в молодую
душу.
Торкель не стал дожидаться продолжения, но скользнул вниз с горы, которую проповедник называл Гаризи-
мом, и исчез в кустах; имея солнце позади себя, он большими шагами спешил домой.
Он видел обетованную землю с высокой горы, он теперь не мог не чувствовать, что люди на этой стороне
живут в пустыне, — вахмистр Викберг мог думать и говорить, что ему угодно.
Вернувшись домой, Торкель увидел дверь в избу раскрытой, решил, что отец дома, и вошел. На дверях была
приклеена серая марка, и он стал ковырять ее.
— Не тронь! — крикнул голос из избы. Внутри стоял
желтовато-серый человек со впалыми щеками, как если
бы все коренные зубы были у него выбиты.
Он лизал большую серую марку, держа ее прямо перед собой, тогда как его глаза были обращены в сторону;
это придавало ему вид собаки, когда она лежит и ест.
— Это, видишь ли, казенная печать, паренек, а я, видишь ли, староста! — С этими словами он налепил марку на шкап.
— Завтра, видишь ли, будет распродажа.
Он лизнул еще раз, продолжая по-прежнему ворочать своими глазами.
Насколько понял Торкель, здесь нечего было делать,
и он ушел. Но он еще долго помнил человека без коренных зубов, который лизал своим языком и проглотил
дом его детства, избу и мебель.
Отец был внизу у моря и возился с лодкой.
460
— Где ты был? — спросил он тоном, не требовавшим
никакого ответа. — Полезай в лодку, мы отправимся
в море.
Торкель поднял парус, отец же сел к рулю.
Под скамейкой лежали якорь и топор; тут же было
и одеяло с подушками. Это предвещало далекое путешествие. Здесь же оказалась винтовка, леса и снасти, но
не было ни сети, ни невода.
Ветер дул прямо в море, и отец закурил трубку. И тут
он начал говорить, не поднимая глаз на мальчика.
— Сволочь! — сказал он. — Невод тоже забрали, не
оставили... Знаешь ты, сколько тысяч петель в неводе?
Можешь ли ты угадать, сколько зим мать и я плели наш
невод? Ты это знаешь, мальчик...
Торкель привык к этим обращениям к мальчику, он
отлично знал, что все это относится не к нему, а к какому-
то другому «мальчику», к кому угодно, только не к нему.
Поэтому он не отвечал, так как, ответь он, отец, верный
своей привычке, стал бы искать глазами на горизонте
того неизвестного, незримого слушателя, который никогда не возражал, а только позволял обращаться к себе.
— Подлецы, все наперечет! Я пил, да, но я никогда не
крал, а я знаю, кто крадет, от правительства до последнего писца!
Торкель почувствовал пробуждающееся желание
возражать, но удержался. Потому что, пока отец говорил, он мог оставаться в покое. Но стоило только воцариться молчанию, как отец начинал грызть его; он словно обладал способностью слышать, что думал сын, и нередко внезапно проникал в его сокровеннейшие тайны
и отвечал на его немые вопросы самому себе.
В данную минуту Торкель как раз сидел и строил планы своего переселения в Фагервик и службы в кегельбане; он считал те 25 эре, которые он мог бы зарабатывать... но отец вдруг прервал молчание...
— Там в ресторане, друг мой, только баклуши бить!..
Ставить кегли час, а шататься без дела целых шесть. Нет,
надо бы с большой лодкой отправиться к Оландским
461
островам и заняться рыбной ловлей, вот это — дело, это
могло бы...
На этом он замолчал; и Торкель почувствовал чудовищный гнет этого человека, при котором он не мог думать про себя, — гнет этого грозного судии, который видел его насквозь...
— Держи крепче веревку, — командовал лоцман.
Потом он продолжал: — Ты вот сидишь и думаешь, как
тебе уйти от меня и жить на свой собственный страх!
Но ты это брось, ты и мне нужен... Твоя мать была вся
в тебя, на нее ни в чем нельзя было положиться; говорила одно, а думала другое!
Тут он сделал изрядный глоток и через несколько минут весь ушел в назойливые нарекания и ворчливость.
Необузданный в своем пьяном виде, он набросился на
душу этого бедного грешника, крепко присосался к ней,
искал без всякого основания ссоры, все рылся и рылся
в своем противнике, так как он должен был иметь противника, чтобы бороться, приписывал ему свои дурные
мысли, отвечал на сомнения, которых никто и никогда
не высказывал.
— Ты все думаешь, что твой отец — нищий, да? Что
его пустили по миру? Да? Ты видел там, в избе, старосту
с печатями? Если ты лжешь, то тебя драть надо...
Торкель не отвечал.
— Ты ничего не говоришь, потому что ты — лиса, но
я-то по твоим глазам вижу, что ты думаешь, я всех людей вижу насквозь... Так-то! Ты, конечно, думаешь, что
я, мол, пьян; но я-то не пьян! Вот что! Да я весь свой век
ни разу не был пьян, потому что я не могу напиться допьяна; и я должен тебе сказать, что осудить-то меня осудили, да только неправильно...
Когда мальчик слышал, что отец унижался до откровенности, наступала самая жалкая стадия, потому что
в нетрезвом виде он никогда не говорил о своих делах.
Хотя Торкель обладал сильным и гибким характером, он
все-таки не мог скоро привыкнуть к подобного рода выходкам. От своей матери он научился быть глухим и сле¬
462
пым, делать над собой усилие и стряхивать с себя все
это, а это еще больше раздражало отца. Он чувствовал
в глубине, что его слова не достигают цели.
— Слышишь, что я говорю? — закричал он.
Весь вопрос был в том, — отвечать Торкелю или не
отвечать. Он молчал и крик возобновился:
— Что ж ты, болван, не отвечаешь? Слышишь?
Если бы Торкелю вздумалось отвечать, то нужно
было бы подыскать настоящий покорный тон, так как
прозвучи ответ невпопад или угловато, удар был бы неизбежен.
В некоторых случаях было одинаково некстати отвечать или не отвечать, и, зная, что удара не миновать,
он доставлял себе удовольствие бросить в ответ дерзкое:
«Разумеется, слышу!» При этом он по уши уходил в воротник своей куртки.
На этот раз дело дошло до того, что удар был неизбежен. Торкель посматривал во все стороны, нет ли где
спасения, и из-за мачты увидел на воде стаю птиц.
— Вон дичь, с той стороны, — заметил он.
Отец перекинул через голову веревку от руля, удостоверился в положении вещей и приложил винтовку
к щеке. Торкель сотворил тихую молитву за удачный выстрел, так как в случае промаха пришлось бы...
Раздался выстрел, и пара птиц осталась на месте.
— Поворачивай! — скомандовал лоцман. И вскоре
после этого вытащил добычу из воды; порылся большим пальцем в перьях на груди и крякнул от удовольствия.
Буря прошла, кровь пролилась, удар раздался,
и опять наступило затишье.
Когда они пристали к шхере, лодка была вытащена да берег, поставлена выше возможного уровня воды,
и Эман отправился открывать свою морскую будку.
Казалось, что все эти шхеры стояли в море, как флот
на якоре, и наружная цепь их на западе была совсем похожа на плавающие колья или брусья.
463
Здесь, в море, Торкелю было всегда хорошо; он чувствовал себя как бы на корабле или на воздушном шаре;
в особенности в тихую погоду, когда воздух и вода незаметно переходили друг в друга, а шхеры плавали в чем-
то разреженном и светлом и были покрыты куполом;
этот купол днем был молочно-белый или голубой, иногда пушистый, а ночью был усыпан белыми драгоценными камнями, сверкавшими подобно тому, который
он видел в перстне жены старшины.
Людей здесь не было, зато можно было наблюдать
столько других вещей. Даже камни на берегу были не такие, как на суше, кусты и травы были новые, птицы другой породы, чем там, на Скамсунде; черные морские вороны, дикие гуси, морские орлы, перелетные гагары, поморники и острохвостки сменили крохалей, уток и чаек. Все
было крупнее и пестрее. И то, что случайно попадалось
на берегу, могло иметь значительную цену, явиться такою
же неожиданностью, как рождественский подарок.
Торкель еще не был здесь в этом году; он отправился
навестить старые знакомые места своих игр. На самом
верху шхеры у него была груда камней с флагштоком,
где он обыкновенно играл в корабли, причем шест служил для него грот-мачтой. И, когда он лежал здесь на
спине, а в небе проносились тучи, ему действительно казалось, что островок на всех парусах убегает вперед.
Прежние игры не доставили ему никакого удовольствия в этот день; к тому же все так изменилось, выглядело иначе, утратило свое значение, — и то, что случилось
с отцом, очевидно стало раздельным камнем в жизни их
обоих. Здесь Торкель чувствовал себя взаперти, как агнец с волком, и его тянуло к людям, которые если и не
очень беспокоились о нем, то по крайней мере оставляли в покое его мысли. И теперь его тоска получила
определенную цель уйти туда, на тот берег пролива, где
жизнь была светлее.
К вечеру он вернулся назад на берег, где нашел
отца стоящим с подзорной трубой и, не отрываясь, все
в одном и том же направление смотрящим в море.
464
— Ступай разведи огонь! — крикнул он.
Торкель быстро повернулся назад и успел заметить
красный буй с белым флагом, как раз со стороны открытого моря. Это было место разбитого судна, и он понял,
что именно здесь и утонула шхуна с грузом.
Когда сварился картофель, лоцман вошел в будку. Он
ел долго, не говоря ни слова. Когда он кончил, начинало
темнеть.
— Ложись спать! — приказал он. — Мне нужно на
охоту. — Затем, захватив с собой топор и якорь, он вышел. Спустя несколько минут, Торкель слышал, как лодка сталкивалась в море, как весла стукнули в уключинах,
и все замолкло.
Мальчику пришлось провести долгую мучительную
ночь; он часто выходил на порог взглянуть на море. Иногда ему казалось, что большое судно крейсировало вокруг буя. Он, конечно, догадывался, что там происходило нечто непозволительное, но он же ничего не знал
и собственно был рад не ввязываться в предприятие, которое легко могло кончиться тюрьмой.
На рассвете отец вернулся домой и тотчас же лег
спать, по-видимому довольный своей охотой.
* * *
Однажды утром Торкель проснулся очень рано, чтобы разузнать что-нибудь об охоте, тем более что отец необыкновенно долго не возвращался домой.
Сквозь туман ему удалось заметить, что у буя стоит,
рыбачье судно, и темная фигура, перегнувшись через
край, возится над водой. Вскоре после этого он заметил
другое судно с большими парусами. Но паруса были белее обыкновенного и лучше укреплены. Дул слабый ветер с севера, и море едва рябило.
Вдруг большое судно подняло марсели и кливера, потом повернуло по ветру и направилось прямо к бую. Рыбачья лодка начинает двигаться; он видит, что отец сначала изо всех сил гребет к берегу, но тотчас же поднимает парус и держит в открытое море, прямо на восток.
465
Тогда большое судно тоже повернуло, взвился таможенный флаг, и мальчик понял, в чем тут все дело. Доносятся голоса и крики, после чего оба судна исчезают
в тумане.
И вот он один на шхере, без лодки и, стало быть, без
возможности возвратиться домой. Он не был плаксой,
особенной опасности в этом тоже не представлялось, —
не тот, так другой должен был поплыть сюда, хотя бы
пришлось прождать одни или двое суток.
Он пошел к флагштоку и поднял сигнал о помощи.
Когда взошло солнце, с попутным ветром показалась
таможенная яхта. Перед самой серединой островка она
повернула; была спущена шлюпка, подошла к берегу
и посадила мальчика.
— Теперь твоему отцу конец! — сказал надсмотрщик. — Теперь твой черед, — ты должен быть честным,
тогда твои дела пойдут хорошо.
Мальчик не стал плакать — он это уже давно оставил — и всякая перемена в его судьбе была только желательна.
Чтобы быть полезным и избежать брани, он тотчас
же отошел в сторону и стал натягивать парус; затем яхта
направилась ближе к Скамсунду, а спустя некоторое
время взяла курс к карантинной пристани.
* * *
В Восточной Европе свирепствовала эпидемия скота,
и на Скамсунде был открыт карантин для осмотра кожи
и кожевенных товаров.
Туда-то и был определен на службу Торкель Эман,
после того как коммуна взяла его на свое попечение.
Под карантин была отведена старая винокурня, большое трехэтажное здание с ржавой от столетней грязи
штукатуркой. От пыли и паутины окна в нем были все
черные. Все имело жалкий вид, и все это здание набрасывало тень скорби на несколько десятин земли и отражалось в маленькой бухте, где, по словам местных жителей,
466
не было ни одной рыбы и не росло даже камыша. Высокий мыс закрывал от него пролив, и Фагервик был не
виден. Вдоль бухты росли тонкие ольхи, где никогда не
раздавалось пенье птички, как никогда не было видно
мотылька, порхающего по цветам, так как они зачахли
от серных испарений и карболки и лепестки их были обрызганы красною краской и смолой. Сохранилось еще
предание из времен казенной винокурни, когда весь
Скамсунд был сплошным кабаком, а все население спилось с круга. Сохранилось также воспоминание о домашнем винокурении, когда целые семьи переставали
есть, когда весь заработок прислуги уходил на водку, когда дети засыпали в люльках с водочными сосками. Когда
же затем котлы были конфискованы, вспыхнул мятеж,
и казенное здание после восьмидневной осады было взято штурмом, так что пришлось вызвать канонерку и выпустить несколько боевых зарядов.
Дети избегали играть возле этого проклятого гнезда,
и много лет оно оставалось пустым. Уже первое поколение выбило камнями окна и расхитило все до последнего гвоздя, так что для последующего уже не осталось ни
малейшего соблазна.
Торкель Эман как-то предпринял путешествие в карантинную бухту, так как она манила его своей неизвестностью; но там ему пришлось увидеть нечто такое, что
напугало его раз навсегда.
В высокой траве, которую никогда не косили, он случайно наткнулся на извивавшийся серым ужом кусок веревки. «Отличная веревка», — подумал он, нагнулся и хотел поднять. Но тут он ухватился за лошадиные путы,
перерезанные и еще в крови. И затем увидел четыре куска веревки и на каждом из них по отрубленной конской
ноге. Встретив подобное впервые, он испугался и никак
не мог понять, что это могло значить, пока не увидел отрубленной головы с оскаленными зубами и, такими ясными до этого, закрытыми глазами. Тут он понял, что
была убита Рута, единственная на всем острове лошадь,
единственная и последняя, которой теперь могло быть за
467
тридцать лет. Он вспомнил историю Руты и то, как в своей молодости эта лошадь была единственным трезвым
существом на Скамсунде и как она заставила быть трезвым самого отчаянного пьяницу. Вот как это было.
Отец Викберга, лоцман, предававшийся чудовищному пьянству, в одно воскресенье был совершенно пьян.
Пьянство шло по всему острову, так что все ходили с тусклыми, налитыми кровью, слезящимися глазами. Если
бы кому захотелось найти глаз, где могло еще отразиться
голубое небо и где мог еще вспыхнуть свет разума, то пришлось бы идти к животным. У коров, собак, даже у свиней были ясные глаза, но яснее всего были глаза у Руты.
Как-то раз они хотели дать ей солода, но лошадь отвернулась от ведра и так ударила его копытом, что остались
одни щепки. У Руты оказалось такое отвращение к запаху водки, что она не прикоснулась бы к траве возле винокурни, если бы трава даже росла в этом месте.
Так вот отец Викберга хватил в это утро лишнее, вышел и свалился тут же на берегу. Рута была поблизости
и щипала травку, но делала вид, что не замечает Викберга. Шаг за шагом она подвигалась вперед по пастбищу,
пока не подошла к мертвецки пьяному. Сначала она понюхала его, но быстро отвела голову, закинула ее назад,
раскрыла свой зев так, что обнажилась вся челюсть, и затем, чтобы доказать свое отвращение, фыркнула. Потом
она собралась с духом, ухватилась передними зубами за
его куртку, посредине груди, отнесла к берегу и трижды
окунула его в воду, ровно трижды — насколько он мог сосчитать, затем осторожно опустила его на траву и ушла
своей дорогой, не издав ни звука. Это рассказывал отец
Викберга. И вот, прибавила от себя молва, все зависело
не от счета, — потому что курица может сосчитать до
пяти, — а все зависело от светлых глаз, которыми Рута
взглянула на него. На него смотрело само здоровье, разум, кротость, и когда он вынул табакерку и взглянул на
себя в зеркальце на крышке, то увидел свои собственные
глаза, как мертвые горящие угли или как окровавленные
внутренности только что выпотрошенной рыбы.
468
С этого дня отец Викберга никогда не пил сверх
меры, и стоило ему выпить лишнее, он всегда мог проверить это в зеркале, потому что глаза становились тогда
заплывшими и злыми.
Так вот встреча Торкеля Эмана с бренными останками Руты оставила в нем решительное омерзение к карантинному зданию, но тем не менее ему пришлось
очутиться именно в нем; кроме того, он должен был находиться под опекой заведующего карантином, а это
было худшее, что его могло встретить.
Этот забияка на Скамсунде был старый провинциальный врач; его сослали сюда, чтобы только отделаться
от него, так как это был притеснитель и буян, который
ни с кем не мог ужиться и еще меньше слушаться кого-
нибудь. Поэтому, когда старший лоцман захотел занять
для своей лодки место на прилежащей к карантину земле, он сейчас же затеял с ним ссору. После длинного похода в виде переписки по начальству, заведующий получил предостережение, отступил с поля сражения,
потеряв воинскую честь, замкнулся на своем мысу и направил свою энергию на помощников и несчастных моряков, которым приходилось стоять в карантине для
осмотра и распоряжений.
Когда корабельный надзиратель привел Торкеля
в темный дом, то при виде страшного доктора он задрожал всем телом. Но или мальчик понравился доктору
раньше, или он был тронут тем, что его так боятся, во
всяком случае он встретил его дружелюбно, выразил
свое соболезнование несчастью Торкеля и поздравил его
с приходом. Затем они отправились в лаборатории.
Доктор указал новичку место у бесконечно длинного
прилавка, где ему предстояло принимать кожи и считать их, после чего помощники должны были окуривать
карболкой. За эту работу ему обещали стол и квартиру,
а в случае старания и немного денег при окончании занятий.
Им овладело гордое сознание, что он будет кормить себя сам. И он впервые в жизни почувствовал это
469
мужское доверие к себе и к своему будущему, какого
под опекой отца он не знавал никогда.
Недельные рабочие часы проходили сами собой,
и занятия сокращали время. По воскресеньям он вместе
с другими ходил в церковь и сидел там до полудня; после обеда он бродил по острову, но никогда не заглядывал на заднюю сторону, где он пережил все свои горькие часы. Охотнее всего он сиживал с кем-нибудь из товарищей на лоцманской горе и всматривался в даль, на
Фагервик, со всем его великолепием. Взять лодку и грести туда, что было бы так просто, он не решался, потому что дал заведующему обещание не делать этого. Зато
товарищ называл ему виллы и имена летних гостей. Он
знал, что в этом доме — ресторан, в этом — театр и т. д.
Он близко познакомился с каждым местом и ставил его
в связь со своими планами и намерениями, которые,
в конце концов, выросли в целый план завоевания Фа-
гервика, когда час настанет.
Если бы кто-нибудь спросил мальчика, чего он больше всего хочет, то он вряд ли ответил бы, что ему хочется
поступить во флот, так как эта мечта казалась ему слишком возвышенной, чтобы высказывать ее вслух.
К концу дня Торкель услышал следующий разговор: «Это уже не долго протянется!» — «Что же именно?» — спрашивал другой. — «Да вот возня с кожами;
осталось не больше ста...»
И вот проснулась надежда, возможность освободиться от вонючей грязной работы, а вместе с нею появилась тоска по тому неизвестному и новому, что должно
было явиться на смену. И желание отправиться туда, на
тот берег было так велико, что он даже начал составлять
план бегства, если бы коммуне вздумалось удерживать
его. Ведь коммуна заменяла ему отца и опекунов, а голос
председателя в коммунальном совете принадлежал надзирателю и имел в данном случае решающее значение.
Между тем, эпидемия кончилась, кожи все вышли, и оставалось только очистить заведение и закрыть.
Мальчику никто не счел нужным сказать об этом хоть
470
слово, потому что каждый был занят мыслью о себе самом. И когда, в одно прекрасное утро, он нашел карантин закрытым, он отправился к начальнику узнать, как
ему быть. По обыкновению, доктор был хорошо расположен к мальчику.
— Да, паренек, теперь ты свободен. — Это было все,
что он сказал. Но, видя, что малыш медлит, прибавил:
— Деньги поступают в распоряжение коммуны.
Тогда Торкель отправился на чердак, надел свое
праздничное платье и пошел за лодкой, так как теперь
он твердо решил искать счастья по ту сторону пролива; он был так уверен, что на всякую просьбу ему ответят «нет», что спрашиваться у коммуны он не посмел.
Коммуна вообще питала некоторое отвращение к нему,
как и ко всему его существу, мешала ему во всем и говорила «нет». Просить разрешения нанять лодку тоже
не стоило, так как стали бы спрашивать, куда он намерен ехать. В конце концов, он вспомнил, что отец бросил на берету старый челнок, который расселся по всем
пазам и имел дырявое дно. И вот он отправился на заднюю сторону, пошел прямо к челну и начал исследовать его. Глазом знатока он скоро убедился, что дело поправимо, и в этой уверенности тотчас же принялся за
работу. Спустя шесть часов, при помощи мха и пакли,
ему удалось законопатить лодку и спустить ее на воду.
Сначала она, конечно, протекала, но мох скоро разбух и,
трижды вычерпав воду, Торкель окончательно столкнул
челнок в море. Работать черпаком приходилось и дальше, но подул благоприятный ветер и, приладив вместо
паруса большую ветку с листвой, он поплыл. Дело шло
не быстро, но его воодушевляло гордое чувство сидеть
в собственной лодке и плыть навстречу будущему, имея
все время в стороне открытое море.
Когда после четырехчасового плавания он обогнул
северный выступ Скамсунда и увидел Фагервик в волшебном вечернем освещении, он почувствовал что мрачное прошлое уже позади. При мысли, что он бежал, им
овладело чувство собственного достоинства, а страх, что
471
его могут вернуть, торопил его вперед. Чтобы успокоить
себя на случай такой опасности, он старался представить себя в том положении, когда его поймают и приведут назад. Он решил мужественно сносить все, пока не
представится новый случай, и упорно стоять на своем,
пока не достигнет цели своего стремления.
Ветер затих, и он сел на весла; но теперь он имел
Скамсунд прямо перед собой; видел белую выжженную
гору, красный свиной хлев и черное здание карантина,
и, как сильно он ни греб, они следовали за ним в кильватере. В одно мгновение ему почудилось, что надзиратель
стоит на лоцманской горе и следит за ним в подзорную
трубку. Тогда он изо всех сил стал грести к берегу; заметив, что здесь мыс, обогнул его под прикрытием деревьев и скоро почувствовал, что киль задевает песок.
Он сошел на берег, вытащил челнок и вздохнул. Здесь
был лес, но тщательно оберегаемый лес, где каждое дерево стояло для украшения, а не для пользы; среди высоких елей подымался высокий шиповник с такими тонкими ветками, что, казалось, цветы парили в воздухе,
как бабочки. На соседнем кусте пели зяблики, а в темной чаще ворковали голуби.
По ровному мягкому, как ковер, спуску он двинулся
вперед. Здесь стояли скамейки и столы, словно тут был
сплошной громадный зал, где все составляли одно общество и были в гостях друг у друга... Сделав несколько
шагов, он увидел толпу людей, идущих с песней и музыкой. Были будни, но все были одеты в праздничные
светлые платья. Они шли толпою и старшие держали
друг друга за талию, дети же вели друг друга, за руки.
И у всех был приятный, радостный и счастливый вид,
тонкие красивые лица и белые руки.
Мальчик сошел с дороги; здесь росла черника, но он
не чувствовал страха, так как помнил, что змей, которыми кишел весь Скамсунд, здесь совсем не водится.
Господа улыбнулись ему, отнюдь не смеясь над его
изумлением, и, в превосходном настроении духа, он пошел дальше.
472
Лес перешел в лужайку со множеством неизвестных
ему цветов по краям... Посредине лужайки молодые
люди и девочки играли в мяч. Они тоже были в своих лучших платьях и, кроме того, в разноцветных шапочках, которым соответствовали таких же цветов мячики. Во время игры дети не ссорились и не дрались. Это больше всего поражало его, так как дома на Скамсунде дети всегда
дрались за игрой и разрывали друг у друга платье...
Он пошел дальше, все время по ровным, как ковер,
дорожкам, так не похожим на усеянные камнями холмы
на том берегу пролива. Когда же он подошел к дубовой
роще и увидел исполинские столетние деревья, каких
он раньше никогда не видел, то перед подобным чудом
природы его прямо бросило в дрожь. Зеленые своды
были просторны, как церкви; они смыкались свободно
висячими арками, вздымавшимися в воздух без столбов... Под этими сводами расстилались зеленые ковры
короткой травы, настолько короткой, что можно было
ходить по ней босым и лежать, не боясь могущих скрываться там змей. Здесь же росли неведомые цветы, красивее и ярче цветов на том берегу.
Тут он подошел к забору, за которым росла высокая,
на целый аршин от земли, трава, так хорошо засеянная
и взращенная, что все стебельки были одинаковой высоты
и оканчивались на верхушке кисточкой. Он никогда не видел поля, но, сорвав один колос и понюхав, он почувствовал запах свежеиспеченного ржаного хлеба, и тогда-то он
понял все. Легкий ветерок колебал рожь, как небольшие
волны в море. Что-то убегало вдаль, тогда как растения
оставались на своем месте, словно кто-то незримый тепло дышал на это поле, и по стебелькам пробегали шепот
и шелест. Маленькая желтоватая птичка пыталась, бьгло,
сесть на один из стеблей и исклевать зерен, но соломинка
согнулась, и птичка утонула в этом зеленом море.
Вдруг раздался странный звук, точно пролетела стая
уток... «арп-снарп, арп-снарп», но это была во всяком
случае не морская птица, да ничего и не взлетало вверх.
Торкель и не подумал испугаться, ему бьгло только
473
любопытно; но, так как он любил животных, то, чтобы
не сделать больно, выбрал маленький камешек и бросил
в то место, откуда раздавался звук. Но птица не поднималась; стало тихо.
Он пошел дальше по дорожке в поле, и вдруг опять
услышал тот же звук, но уже с другой стороны. Он захлопал руками и свистнул, но все опять затихло, и даже
стебелек не дрогнул...
Но только он сделал несколько шагов, как снова раздался все тот же звук, совсем сзади, словно кто-то хотел
над ним пошутить. Это было положительное колдовство, но было и забавно, так как было ново и безопасно.
Теперь он стал замечать из-за берез строения и, прибавив шагу, добрался до ручья. Через него перекинулся мостик с выпиленными и раскрашенными перилами,
а дальше начиналась дорога по берегу. Налево расстилался пролив с зеленеющими, покрытыми ольхой выступами суши. Здесь же тянулись избушка за избушкой,
одна похожая на другую, но все чистенькие, нарядные,
с открытыми верандами, развевающимися занавесками, флагштоками и кустами роз. Было время роз, и цветы высыпали из кустов, выливались одни за другим, как
вода из переполненного горного ручья.
От некоторых зданий протянулись в пролив мостки,
где стояли белые лодочки, шлюпки, катера.
Он мог заглядывать в окна, внутрь зданий, где сидели празднично разодетые люди и отдыхали; на задних
крыльцах сидели молодые девушки, скрестив руки и ничего не делая. Иногда из окон вылетали очаровательные
звуки, музыка и пение, красивые звуки и затейливые,
порою торжественные, но совсем не такие, как музыка
в церкви. Все это заставляло его дрожать от восхищения,
и новые чувства овладели им. Все это было, как в сказках
или как в прекрасных снах. Здесь был другой, лучший
мир, здесь был Фагервик... но вдруг перед ним мелькнуло здание карантина на Скамсунде, который лежал как
раз напротив; там раскинулась другая, темная земля со
своими мрачными, горемычными обитателями.
474
* * *
Он разыскал ресторан, где за столом сидело много народу и пировало под звуки невидимой нежной музыки.
У буфета стояло общество господ и дам, разговаривая
с ресторатором.
— К сожалению, сегодня у меня некому ставить, потому что мальчик вышел в море!
— Ах, какая досада! — раздалось со стороны общества. В это время ресторатор заметил Торкеля и сейчас
же спросил его:
— Может быть, ты хочешь ставить кегли?
— С удовольствием, — ответил он.
Молодые дамы из компании стали гладить его по голове, подхватили под руки и побежали с ним, называя
своим спасителем и прочее.
Через несколько минут Торкель уже ставил кегли,
был расторопен, внимателен, почтителен и обнаружил
достаточную воспитанность, чтобы не отвечать на дружеское движение тем же и на шутку шуткой; каждое проявление расположения к нему он принимал с застенчивостью и благодарностью, а каждую шутку — молчаливой улыбкой. Он прислуживал целых два часа; во время
перерывов, по разговорам за стаканом вина, он понял,
что это — родственники, которые встретились спустя
много лет разлуки, а может быть, и размолвки, и теперь
вот не могут нарадоваться встрече, а может быть, и примирению. Пожилые становились снова молодыми, а молодые пылали безумной радостью.
Когда игра кончилась, Торкель стал служить при
умывальнике и, заметив, что таз весь черен внутри, вышел с ним на двор и стал чистить его песком.
Какой-то пожилой господин стоял в дверях и наблюдал за ним, и, когда мальчик, с шапкой в руке, принес
таз обратно, пожилой господин взял его дружески за
ухо и спросил с изумлением:
— Где ты научился этому? А я вот тридцать лет никак
не выучу своих служанок!
475
— Я этому научился у заведующего карантином! —
ответил Торкель.
— Хороший учитель был у тебя, да и сам ты славный
мальчуган!
При этом господин сунул мальчику в руки целую
крону. Одна из молодых дам, услышав этот разговор,
взяла Торкеля за руку и хотела предложить ему стакан
содовой воды со стола, потому что он весь был в поту
и имел усталый вид; но у мальчика оказался достаточно
здоровый инстинкт, подсказавшей ему, что это может
вызвать неудовольствие со стороны остальных, и с поклоном и таким выражением, которое не могло показаться обидным, он отклонил предложение.
Последняя сцена решила будущность Торкеля; его начали спрашивать, как его зовут, сколько ему лет и прочее.
Затем компания ушла, и Торкель остался один. Он
взялся отнести в буфет поднос с тарелками и стал прибирать на столе. Заметив остатки в стаканах и в особенности что-то красное, привлекавшее его внимание своим
вкусом и запахом, по всей вероятности вино, он поднес
стакан ко рту, но в то же мгновение ему пришло в голову, что лизать стаканы стыдно; он выплеснул содержимое в дверь, взял поднос и ушел. И тут ему показалось,
что сзади него мелькнуло что-то светлое, похожее на
человеческое лицо, которое отошло от открытого окна
и направилось дальше по коридору.
Когда он спустился вниз, то пожилой господин стоял
и разговаривал с хозяином. Голоса тотчас же притихли.
Мальчик понял, что речь шла о нем, и сейчас же отступил несколько шагов назад.
— Послушай, Торкель, — сказал хозяин, — хочешь
остаться у меня?
Хочет ли он? Но весь вопрос в том, согласна ли коммуна.
— Это я беру на себя! — ответил хозяин, и дело было
улажено.
476
Никогда в жизни у него не было желания, которое
могло бы исполниться так легко, и он считал это положительно чудом. Все, чего он боялся, исчезло.
Вечером его определили в «казачки» и нарядили
в темно-зеленое платье со светлыми пуговицами, которые сидели в три ряда, как у гусара. И когда ему нужно было войти с газетами в зал, где происходили танцы,
он чувствовал себя важным господином, перед которым
все расступались и маленькие одолжения которого принимались не иначе, как с предварительной просьбой, не
будет ли ему угодно сделать их.
День завершился целым оркестром музыки в саду,
разноцветными фонарями и фейерверком. Совсем как
в сказках!
Дни проходили сплошным праздником. Плясали,
пели, играли, наряжались, устраивали шествия, что
обыкновенно кончалось театром... Торкель ходил как
в лихорадке, не теряя, однако, головы, и удивлялся только тому, что мир на этой стороне пролива был такой
светлый и что люди здесь были способны веселиться целый Божий день и все дни.
Об отце не было слухов; решили, что он либо погиб,
либо уехал в Финляндию. А что он ни за что не вернется, чтобы угодить в тюрьму, было для всех очевидно. Торкель не скучал по нем, но боялся его возвращения, так же
как и страх перед коммуной не покидал его, несмотря
на уверения хозяина, что все улажено. Иногда ему снилось по ночам, что пришли и взяли его и что он опять
возится с кожами в карантине. Но, проснувшись на своем чердаке и видя солнечный свет на громадных липах
и слыша щебетание птиц и жужжание пчел, он вспоминал слова вахмистра Викберга, что на этом oepeiy стоит
Геваль, гора проклятия обитель греха и несчастных... он
тут уж не знал, чему верить. Здешние люди были решительно лучше и приветливее, чем там: темные стороны,
как он успел заметить, были у них, но он держался в стороне от всего этого, равно как был глух и слеп ко всем
477
россказням товарищей о хозяине. У него была твердо намеченная цель, заключавшаяся в том, чтобы добиться независимости от коммуны, получить место, где бы можно
было прокормиться собственным трудом, лучше в море,
куда его так влекло, а лучше всего в королевском флоте.
Поэтому он приучал себя к самоограничению и самообладанию, откладывал каждый перепадавший ему грош;
он любил деньги, как путь к свободе, но ему хотелось, чтобы его сбережения росли несколько быстрее. Был способ
и наживать деньги, как его учили товарищи, но его преступный отец привил ему такие твердые понятия о честности, что он никогда не поддавался искушению. Бесчестный по природе, отец тщетно старался подавить дурные влечения в самом себе; зато он сделал все, чтобы хоть
в сыне искоренить эту опасную наклонность, злосчастные
последствия которой он видел воочию. Народ на Скам-
сунде называл отца ханжой, потому что он всегда внушал
сыну нравственность, тогда как сам жил негодяем.
— Вы не понимаете, — говорил как-то лоцман, — вы
не понимаете, что я хочу сделать ребенка лучше своего
отца!
— Сперва исправься сам! — отвечал вахмистр Ше-
стрем.
— Нет, это не в моих силах, — говорил Эман, — но
если мне удастся поставить на лучшую дорогу мальчишку, то я буду счастлив... и он еще не раз будет мне благодарен.
Заведующий карантином, который слышал этот разговор и сам был большой пройдоха, заметил в заключение:
— Имея пред собой ужасающий пример Эмана, Торкель должен стать чудовищем честности и трезвости!
И то, что он разумел в обратном смысле, на этот раз
сбылось.
* * *
Лето проходило, каникулы кончились, и Торкелю
пришлось как-то отлучиться с поручением на другой ко¬
478
нец острова... Утром этого дня с ним произошла первая
маленькая неприятность в гостинице, и он совершенно
пал духом. Человек, смотревший за будильником, по
которому Торкель должен был вставать, как раз забыл
завести часы, и мальчик проспал. Чтобы беготня по коридору не беспокоила гостей, прислуге было запрещено
вставать слишком рано, а с другой стороны, слишком
позднее вставание считалось преступлением, потому
что расстраивалась вся утренняя служба, и нетерпеливые гости ворчали из-за своего кофе, своего платья, обуви и воды. Мальчик был не виноват в своей небрежности, но ярость хозяина все-таки разразилась над ним. Он
оправдывался оплошностью приказчика, но когда того
потребовали к объяснению, он стал отпираться. Торкель,
таким образом, оказался еще лжецом. Вся его душа возмутилась на обоих лживых обвинителей и на людскую
несправедливость, и он забылся. Он получил две пощечины, одну от хозяина, другую от приказчика, и вдобавок хозяин бросил еще угрозу, что ему придется уйти
и вернуться домой, в свой свиной хлев на том берегу.
Оставленные без услужения гости стали бранить его,
а это еще больше огорчало его, потому что он привык
видеть одни лишь приветливые лица.
Это был положительно злополучный день, и, когда
его послали по делу в другой конец острова, он почувствовал облегчение остаться наедине. И тут-то он впервые заплакал над жизнью и ее несправедливостями
и впервые же заметил, что одинок на свете.
Все вокруг него померкло, все стало горьким и гадким; все, что он видел и слышал дурного и от чего держался в стороне, теперь сразу обрушилось на него. И он
увидал, что люди здесь, на острове, нисколько не лучше других; они только носили более нарядные платья,
под которыми скрывалась грязь, и вот они явились сюда
смыть ее. Он вспомнил слова Викберга, сказанные тогда
на горе, что здесь Геваль, пристанище греха. Это была
правда, потому что никто из господ не работал, а все
479
вели разгульную жизнь блудного сына; они ложились
пьяные в постель, а вставали с красными глазами, когда солнце бьгло уже высоко на небе. А дамы бродили по
лесу с молодыми людьми, и там-то совершалось много
вещей, которые, конечно, не могли быть красивыми.
Он добрался до поля с рожью, которое теперь пожелтело, как корка сдобного хлеба; васильки и маргаритки еще продолжали цвести, беззаботные, точно они
не знали, что на них скоро нагрянет коса. На Скамсунде
не было цветов, а здесь у него никогда не было времени сорвать хотя бы несколько. Он тотчас же перескочил
через ров и только хотел протянуть руку за васильком,
как снова услышал перед собой странный треск. Это звучало как бы предостережением, но мальчик принял все
в шутку; он стал шикать и вторично потянулся за своим
цветком, но все время оставался на меже, в здравом рассуждении, что топтать поле не следует.
Треск продолжал свое предостережение, но мальчик
считал это простой шуткой и продолжал свою невинную забаву. Но тут он услышал сердитый крик позади:
— Ты что поле топчешь! Я тебе покажу!
— Да я же не полем хожу, я хожу межой, — успел ответить он, но не больше, потому что арендатор не замедлил накинуться на него.
Торкель бросился бежать, перескочил через забор
и бежал лесом, пока не выбился из сил и не споткнулся о корень.
Он так изнемог от усталости и так запыхался, что продолжал лежать на земле, и тут-то он стал плакать над
жизнью и над всем; но самое большое горе заключалось
в том, что он утратил веру в этот рай и в этих добрых людей, которые должны были жить в нем. Ведь если здесь
было так красиво и так дурно, то как же не быть этому
там, в другом мире!
Наконец слезы унялись, он встал и побрел дальше, без
цели, лишь бы идти. Из-за стволов мелькнуло перед ним
длинное красное здание, длинное, как корабль с осевшей
480
кормой. Это было ново и незнакомо; от здания доносилось жужжание, точно козодой возился на горе. Он подошел ближе и увидел нечто еще более странное. Два человека пятились назад и что-то тащили за собой. Из любопытства он подошел к таинственному дому и тотчас же
догадался, что здесь крутили веревки. Уступая чувству любознательности, он остановился у забора и стал смотреть,
как выделывают снасти. Рабочие либо нашли свое хождение задом смешным, либо подумали, что мальчик смотрел на них свысока, потому что он стоял без дела и «наблюдал» за их работой, только вдруг в Торкеля полетело
полено и ударилось в забор у самого его лица, причем
удар сопровождался криком: «Чего глаза таращишь?»
Это случилось так неожиданно и без всякой причины, что мальчику стало горько вдвойне, тем более что
он удивлялся искусству рабочих превращать паклю в совершенно гладкую веревку. Он молча пошел дальше
с таким чувством, точно вся природа заодно с людьми
была к нему враждебна в этот день.
Теперь он предпочел бы быть подальше от строений,
но дорога вела прямо к ним, и ему предстояло пройти
мимо. Один из домиков, со стеклянной верандой, стоял у самого леса. Он узнал его по веселым занавескам
и пышным цветочным клумбам. Здесь жили молодые
славные новобрачные, которым он обыкновенно прислуживал за столом. Их лица всегда выражали счастье,
благополучие и радость, и когда они входили в столовую, то, казалось, зажигали свет или поднимали занавески, и врывалось солнце. Мальчик даже ездил с ними
на рыбную ловлю и в своем детском незнании считал их
ангелами, а не людьми.
Но вот он подошел к веранде, окна которой были раскрыты, и из-за елей донесся мужской голос, то рычавший, как разъяренный бык, то переходивший в шипение;
в промежутках же доносился пронзительный режущий
звук, то отрывистый, то воющий. По неподвижным кротким деревьям и тихим благоухающим цветам, казалось
481
ему, пробежала дрожь, и его собственная грудь сжалась
от боли, потому что он узнал голоса и увидел, как прекрасные знакомые лица вытянулись друг перед другом
с искаженными чертами. Он взглянул на небо, не собираются ли тучи, но оно было голубое, как прежде; это поразило его, так как, будь он Царем Небесным, он набросил бы на подобное зрелище завесу из самых черных туч.
Несомненно, это были не ангелы, а просто люди.
И, сожалея, что увидел, как прекрасное может быть гадким, он снова убежал в лес.
Там стояли рядом два дерева, старый дуб и старая
осина. Осина, в своей молодости, слишком близко подошла к могучему дубу, и они целыми десятилетиями
спорили о месте. Наконец дуб взял верх, а более слабая осина вытянулась в воздухе, совсем рядом со своим
страшным соседом, так близко, что от трения на нем образовался желоб, куда она и вошла всем своим стволом.
В этот день было ветрено, и оба соперника со скрипом
и скрежетом терлись друг о друга. Торкель знал хорошо брата и сестру, как их называли, и еще издали слышал отзвук их ласк. Подойдя к ним, он вспомнил книгу
с дикарях, которые обыкновенно добывают огонь трением твердого кусочка дерева о мягкий. Было очень сухое
лето, и из опасения лесного пожара бьгло запрещено
даже курить табак в лесу. И тем не менее это чудовищное огниво работало в самой чаще сухого леса.
Странные мысли приходили ему в голову.
Почему же именно сегодня шла эта гибельная для
острова работа? Уж не разгневан ли Господь на Фагервик и не хочет ли Он сжечь его, как Содом и Гоморру?
Потому что стоит только вспыхнуть огню, и на острове
запылают все дома, а людям придется бежать, бросаться от пепла и дыма в море. Ведь немало лесных пожаров
возникло от такого вот трения дерева о дерево.
Он сел на пень и стал наблюдать. Сначала у него бьгло
желание увидеть дым и огонь, потому что Фагервику не
мешало бы сгореть, потому что все оказалось явным сатанинским наваждением; и если бы он выгорел дотла,
482
как Скамсунд, то можно было бы жить и там и сносить
жизнь, так как обетованная земля на этом берету исчезла
бы, не манила бы к себе, не смущала бы.
В ближайшее мгновение он счел эту мысль безбожной и даже испугался, точно он был свидетелем преступного поджога, к чему он вовсе не хотел быть причастным; и вот он быстро удалился.
Он прошел мимо источника, где некогда были целебные воды, и мельком взглянул на костыли, висевшие
здесь в память обо всех исцеленных в болезнях. Он взобрался на холм, где стоял храм с бюстом, по всей вероятности, какого-нибудь короля. Затем вступил на узкую
лужайку под дубами, которые бросали зеленые, качавшиеся от ветра, тени. Взошел еще на холм, где стояла отслужившая свой век мельница, и вскарабкался по лестнице вверх. Здесь перед ним расстилался Фагервик во
всей своей красоте и богатстве, а повернувшись, он увидал Скамсунд с карантином, церковью и далеко-далеко
открытое море с маяком. Вот куда влекла его тоска, и теперь он понял, что сбился с пути, хотя ему казалось, что
так или иначе он приведет его к цели.
Он продолжал стоять здесь, в детском волнении перед тем великим неизвестным, которое зовут будущим,
и тут он увидел в заливе белый учебный бриг, на полном ходу, под военным флагом, с кливером на бугшпри-
те и целым рядом сигналов.
По реям стояли мальчики в белом, готовые к уборке
парусов. Вот где была мечта его.
Он следил за маневрами судна, думая, что бриг ляжет
в дрейф и станет на якорь. И вот он уже принял твердое
решение подстеречь одного из офицеров, которые посещали ресторан, и совершенно открыто просить место
юнги.
Он следил за каждым шагом на палубе, за положением парусов, за малейшим движением рулевого.
Поравнявшись с купальней, судно должно было бра-
совать бак, теперь якорь должен был лежать на кран-
банке, теперь...
483
Бриг сначала спустил сигналы, потом бугшприт и,
продолжая курс... мимо, вглубь залива, исчезал, как белый сон, унося с собою его надежду на будущее.
Он слез с мельницы и пошел назад в дубовую рощу.
По дороге он заметил на лужайке маленькую девочку,
которой можно было дать лет около пяти; она стояла совсем одна, не шевелясь, положив пальцы в рот и в отчаянии озираясь кругом, тогда как две невысохших слезинки висели у нее на щеках. Мальчик подошел и спросил:
— Что ты здесь делаешь одна в лесу?
— Да вот, все ушли от меня, — ответила она.
— А как тебя зовут?
— Меня зовут Алисой.
— Где же ты живешь?
— Возле купальни.
Торкель приблизительно догадался, с кем имеет дело,
и начал, было, шагать в указанном направлении.
— Я хочу, чтобы ты вел меня, — сказала девочка и подала ему руку.
Мальчик взял крошечную нежную ручонку; она была
так мала и так нежна, что он с трудом осмелился взяться за нее. И он думал о злых братьях и сестрах, бросивших малютку одну в лесу, где бродят лошади, животные,
пусть и не опасные, но могущие напугать ребенка.
Когда они подошли к купальне, маленькая девочка
указала на одно из ближайших зданий и сказала:
— Вот здесь я живу, прощай!
Затем шмыгнула в ворота, а мальчик стоял и думал:
«Вот она, благодарность!»
Но в это время показался пожилой господин из кегельбана и, сделав рукою знак, чтобы Торкель остался,
начал разговаривать с девочкой:
— Где же ты была, детка?
— Да они меня бросили, они такие гадкие!
— Я тебе говорил не сплетничать! — И таким тоном,
точно он ждал Торкеля, сказал: — Заходи, паренек, мне
нужно с тобой переговорить.
484
Торкель вошел и только теперь заметил, что пожилой господин был во флотской форме, хотя ему и нельзя
было видеть погоны.
— Ну, Торкель, — начал он, — что с тобой сегодня, —
у тебя такой расстроенный вид?
Мальчиком овладело весьма естественное желание
жаловаться, но в его ушах еще звучали решительные
слова, только что обращенные к ребенку: «Не сплетничать!» И он ответил коротко и почтительно:
— Ничего.
Но господин не выпускал его из рук и спрашивал
дальше:
— К тебе были придирчивы?
Это значило положить ответ прямо на язык, но ясное сознание мальчика подсказало ему, что все спасение
в том, чтобы удержаться, и он совладал с собой.
— Нет, просто маленькое недоразумение!
Строгое, испытующее выражение лица у офицера смягчилось и исчезло, затем он взял Торкеля за руку
и повел его в сад. Здесь он присел на скамейку и начал говорить, рисуя на песке знаки с галунов на рукаве, и Торкель заметил, что старый офицер был всего в чине лейтенанта.
— Слушай, дружок! Когда в тот раз ты ставил кегли,
я обратил на тебя внимание, потому что, видишь ли...
ты был проворен. И я уже тогда решил подвергнуть тебя
испытанию, узнать, можешь ли ты слушаться, не рассуждая. Ты мог, так же... как мог удержаться и не лизать стаканы. Я, видишь ли, знаю твоего отца, он много
лет плавал со мною и был, как тебе небезызвестно, бездельник. Так вот, я не выпускал тебя из виду... и сегодня утром я случайно зашел в ресторан, сейчас же после
известной тебе сцены. Свидетели тогда же подтвердили,
что ты не виноват в нерадении. Когда я спрашивал, не
обидел ли кто тебя, я хотел убедиться, способен ли ты
переносить обиду, не сплетничая и не жалуясь. Против
моего ожидания, ты выдержал испытание! Потому что
485
нет ничего столь тяжелого, как страдать несправедливо, и, с другой стороны, тот, кому это не под силу, никогда не может прожить жизнь — поверь мне! (Он оглянулся, не подслушивает ли кто.) Поверь мне всюду одни
несправедливости! Всюду и во всем! И вот в горячности приходится получить пощечину, а в другом случае
и сам даешь пощечину, без всякого основания, вот одно
другое и потешает! А сводить с людьми счеты не стоит...
Послушай, управлять парусами ты умеешь?
— Конечно!
— Хочешь быть юнгой на моем судне?
— Это шхуна?
— Я вижу, что ты хочешь, только тебе нужно уладить
дело с хозяином и коммуной. Я это уже устроил. Ступай
к своему хозяину и простись. Можешь сказать доброе
слово и приказчику за его брань. Потом приходи сюда
и устраивайся на шканцах; катер стоит у того конца пристани. Благодарить не за что! Таких, как ты, ищут, и если
ты будешь старателен... то попадешь и во флот... Именно, если будешь старателен! Так вот, марш! Постой! Вот
что! Алиса благодарила тебя за помощь?
Торкель молчал; он не хотел сплетничать!
— Так, не поблагодарила. Алиса! — крикнул он.
Алиса была тут же поблизости.
— Иди сюда! Скажи мальчику спасибо за то, что он
привел тебя.
Алиса поднялась на цыпочки и по обыкновению протянула свой ротик, чтобы благодарить поцелуем.
Отец рассмеялся. Торкель взял девочку за обе ручонки, покраснел и сказал вместо нее:
— Спасибо, спасибо.
Когда он вернулся домой, Фагервик снова принял
свой радостный вид. Торкель опять любил людей, не исключая и приказчика, что поступил с ним так несправедливо. Но то, что счастье могло быть так близко от несчастья, что оно как бы выслало вперед отряд невзгод,
стало для него уроком на всю его жизнь; и если впослед¬
486
ствии он и часто встречал горе, он всегда думал: «Ну вот,
теперь-то счастье не за горами!»
* * *
Подул утренний ветер, и шхуна снялась с якоря. Торкель стоял на своем посту. На нем была синяя куртка,
белые брюки, белые легкие башмаки и круглая шапка
с висячей лентой. Белые, совсем бальные, башмаки так
легко скользили по блестящей, как сталь, палубе; это
было выше всего, — тут поневоле почувствуешь себя господином!
Лейтенант стоял у руля, и из-за бизани было видно,
как он выкрикивал команды.
— Якорь! Кливер! Обе стенки!
Кораблик расправил крылья; он сидел на воде, как
птица, гордясь своим проворным бегом, и своими мачтами указывал направление, как компас.
С одной стороны дефилировал Фагервик, и ресторатор салютовал флагом. Скамсунд был закрыт парусами,
но Торкелю захотелось взглянуть на него еще раз, чтобы
полнее почувствовать свое счастье.
Никто из экипажа не знал, куда направлен курс, но,
увидев, что «старик», как называли командира, в полной
форме, матросы поняли все.
— Мы едем в город! — шепнул один из них.
— Конечно, в Голем!
Когда, спустя час, повернули на другой галс, стало
очевидно, что путь в Стокгольм.
А мальчик стоял на своем посту и зоркими глазами
смотрел вперед, туда, где должен был лежать город, куда
плыли все корабли и где он не был никогда.
СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО
I
Консерватор1 имел при себе ружье, когда он в одно
ясное утро, в начале лета, отправился вглубь острова
в поисках за новыми красотами природы. Он не хотел
говорить о том, что ищет заколдованное Серебряное
озеро, так как, чтобы его открыть, надо было непременно молчать и одиноко идти своей дорогой.
Итак, он взбирался на Мюльберг, вынимал компас
и определял направление четвертого озера, достигнуть
которого ему до сих пор все не удавалось, несмотря на
все усилия. Люди столько раз указывали ему туда дорогу и совершенно ясно описывали путь к озеру, но сколько раз он туда ни отправлялся, он всегда, в конце концов,
доходил не до Серебряного озера, а до Хеймусе.
Это озеро Хеймусе очень живописно со своими камышовыми островками и копошащимися на них болотными воробьями.
Каждый раз, когда он безуспешно возвращался домой, старый рыбак, хозяин дома, в котором он жил, посмеивался и говорил, что найти туда дорогу легко, лишь
бы отыскать болото Мултбэрен, излюбленное местопребывание бекасов.
Путь шел по высохших крутым горным хребтам, по
которым цеплялись своими грубыми корнями приморские сосны. Горная порода тех мест не являлась обыкновенным серым камнем, но представляла из себя плотный горный кремень, то зеленого цвета фисташек, то
консерватор — хранитель научных коллекций музея.
488
розовато-красный, расщепленный в форме скамеек, стульев, диванов; по нему тянулись длинные белые полосы известняка, подобно растянутым для отбеливания на
траве полотнам.
Вот покатый склон. Там начинается березовая роща
с растущими в ней орхидеями; затем небольшое углубление с возвышающимися на зеленом газоне ольхами,
отличное место для игр лосей; и они действительно танцевали на том месте. Под их ногами даже образовался
круг помятой травы.
Земля становится сырою. Попадаются багульник
и медвежье ухо, а молодые сосенки стоят, как вехи. Появляются новые горные скамейки, новые опускания почвы, на этот раз покрытые дубом и орешником. Раздается стук, похожий на стук в дверь запоздалого путника
в ночное время: это дятел. Кто-то стонет и ноет, как роженица: это дикий голубь. Ему знакомы все лесные звуки, и он знает все растения и всех животных; если бы он
увидел или услышал что-либо незнакомое, он счел бы
это за что-то недозволенное.
Дальше по компасу следует идти на северо-восток.
Плетень загораживает дорогу, но его это удержать не
может; за плетнем осока, рябинник и похожий на кипарис можжевельник.
Наконец он слышит под собой какое-то плесканье
и журчание, спускается по склону горы, пробивает себе
путь через ольховые кусты и приходит к горному озеру
ни с чем несравнимой красоты. Природа, несомненно,
здесь совершила свое лучшее дело, хотя кажется, что тут
принимала участие и человеческая рука, что она подчищала, прибирала, приводила в порядок.
Озеро простирается не больше как десятины на две,
но берега его настолько разнообразны, изрезаны столькими косами, бухтами, гаванями, что глаз каждое мгновение находит что-нибудь новое. В одном месте возвышается стройная сосна и бросает свою тень на крутой берег; там над водой повисла белая береза; дальше
489
бухточка, поросшая тростником и обсаженная ольхой,
а и глубине топь с черемухой и осокой, дальше островок
посредине озера.
Что еще увеличивает прелесть этого озера, это то, что,
стоя на берегу, можно видеть верхушки деревьев и облака и что оно расположено высоко над уровнем моря,
шум прибоя волн которого глухо раздается внизу.
Слабый утренний ветерок слегка заколыхал поверхность воды, и волны ударялись о скалистый берег. Вода,
отражающая на средине озера голубое небо, возле берега окрашена в неприятный красновато-коричневый
цвет, напоминающий цвет свернувшейся крови. Что-то
тут чувствовалось еще более неприятное, но совершенно не соответствующее всему окружающему. Как образовалось это углубление и как наполнилось оно водой?
Впадина эта могла быть кратером, но также и отверстием рудника, и каменные глыбы на дне озера говорили за
это предположение.
Народное предание объясняло происхождение названия озера. Оно будто бы получило свое название
в память нашествия русских в позапрошлом столетии.
Когда в то время жители Стокгольма были совершенно
разорены, обитатели острова собрали все свое серебро
и погрузили его в озеро, чтобы по водворении спокойствия снова его оттуда достать. Однако клад будто бы не
удалось уже никогда отыскать, почему люди и пришли
к заключению, что озеро это бездонное.
К этому рассказу примешивались слухи о чарах, которые будто бы проявлялись каждый раз, когда пробовали ловить в озере рыбу. Вот почему с незапамятных
времен эти пробы уже не возобновлялись.
Взглядом опытного рыбака консерватор сразу определил, что ловля здесь должна быть весьма обильна.
Бросив в воду немного песку, чтобы потревожить и вызвать со дна маленьких рыбок, он пустился в обратный
путь, твердо решив приняться за ловлю в скором будущем, когда он привезет сюда лодку.
490
Обратный путь должен бы был совершиться весьма
легко, потому что в это время солнце как раз указывало
направление его дома, но озеро было хорошо охраняемо,
и, как ни старался он идти по прямому пути, ему никак
не удавалось идти по направлению солнца, а все невольно
он сворачивал то налево, то направо. Страннику казалось,
что он угодил в вертящееся колесо, которое упорно возвращало его на бугор, окруженный со всех сторон топью.
Усталый, весь в поту, изнервничавшийся, опустился он наконец на пень и начал наблюдать солнце. Оно
достигло своего зенита и, следовательно, изменило направление. Он взглянул на компас, тот указывал, где север, где юг, однако, на нем не значилось, где находится
его дом. От дома Серебряное озеро лежало на северо-
восток, и ему надо было снова вернуться к озеру, чтобы
найти направление пути.
Тут привлекла его внимание оса, видимо ждавшая,
чтобы он встал с места, на которое сел; она раздраженным
жужжаньем указывала ему на то, что он стоит у нее на
дороге. Однако маленькое насекомое не могло устрашить
охотника, и он ударом руки отогнал его; но тут же по судорожному подергиванию руки он понял, что неосторожно приблизился к так называемой летящей игле. Желая заглушить боль, он нагнулся к земле, чтобы сорвать
сырого мха и обвязать руку. Он взял щепотку земли и наложил ее на ужаленное место. Из сделанного им в земле
отверстия выползло что-то черное. Это оказался уж.
Сесть в осиное гнездо — вещь весьма обычная; ведь
можно же ошибиться, но что уж находился именно под
тем квадратным дюймом оторванного консерватором
мха, в то время как на острове было более тысячи десятин устланного мхом пространства, удобного для жизни
ужей, — это не могло не произвести неприятного впечатления.
Охотник решил взобраться на дерево и оттуда произвести наблюдение. Дерево стояло под рукой, но на нем
отсутствовали главные ветки; он начал лезть, но ствол
491
оказался пропитанным смолой, это не могло, конечно,
развеселить павшего духом консерватора.
С дерева ничего не было видно, кроме верхушек еще
более высоких деревьев, а солнце теперь стояло так высоко, что отовсюду оно должно было быть над головой.
Охотник чувствовал, что он с кем-то вступил в борьбу. С собой? Этого он допустить не мог. Так с кем же? То
не были слепые силы природы, потому что то, против
чего он боролся, имело глаза и спереди и сзади и действовало с расчетом, сознательно, хитро, как и он сам. Не
случай ли? Нет, потому что его он при всех своих опытах и попытках смог бы направить с таким же успехом
и за и против себя, так как определение понятия «случай» дает представление о чем-то равнодушном, не рассчитанном, безразличном. Здесь же была налицо только
одна враждебность.
Раздумывая таким образом, он опять пошел вперед, и когда наконец деревья начали редеть, он очутился у Серебряного озера. Вид на него был прелестный, но
консерватор был им достаточно пресыщен и желал увидеть что-нибудь новое.
Итак, он вынул компас, определил курс прямо домой
и пошел.
Когда же ноги его исполнили значительное время движение маятника, они стали упрямо клониться к центральной точке земного шара; хозяин, следовательно, сложил их, пригнул их аккуратно и положил на
земляной пригорок, а спину свою прислонил к стволу
дерева, оказавшемуся несмолистым. Именно по этой
последней причине ствол этот служил местом для прогулки летней колонии муравьев, и весьма скоро эти крошечные животные принялись беззастенчиво исследовать одежду усталого путника.
До сих пор только несколько нервно настроенный
охотник теперь принял это за личное оскорбление и потерял последний остаток хорошего настроения, которое
обыкновенно редко его покидало. Гнев обуял его, а ко
492
всем остальным невзгодам примешалось вдруг чувство
сильного голода.
Теперь, когда неудачи достигли самой высшей точки, вдруг до слуха его донесся издали призыв к обеду его
собственного колокола; он издали видит жену и детей,
ожидающих его, голодных, но не желающих садиться за
стол без него, он видит накрытый стол... В нем пробуждаются все низкие инстинкты, соединяются с воспоминаниями детства и ожесточаются еще тоской по тому,
что он осязал, но чего не мог достигнуть. Из всего этого хаоса выступает лишь одно ясное сознание: я сбился
с пути и должен вернуться домой.
Вдруг выплывает, как сильная волна, воспоминание
юности и охватывает его. Воспоминание детства, когда
он, заплутавшись в лесу, снова находил дорогу, если по
старому доброму обычаю выворачивал на себе платье
с лица наизнанку, вновь предстало пред ним. После некоторой внутренней борьбы с чувством самоуважения
он снимает с себя куртку и выворачивает ее; раньше, чем
снова надеть ее на себя в вывороченном виде, он оглядывается внимательно по сторонам, чтобы убедиться, что
никто за ним не наблюдает. Затем он идет прямо вперед, как будто по широкой дороге.
Первое ощущение его после переодевания было чувство невеселое, ложное, стесненное. Изгибы тела оставили свой отпечаток на подкладке его куртки, и это превратилось как бы в восковой отпечаток, который он снаружи нес на себе. Это давало ему иллюзию, будто он
раздвоился, несет себя самого и чувствует себя ответственным за того, кого взялся нести. С другой стороны,
он от чего-то освободился: он с себя содрал шкуру и нес
ее, еще теплую от пота, как носят летом пальто на руке.
В этой шкуре находилось еще тоже что-то вроде душевной корки, и у него было ощущение душевного обнажения, легкости, свободы, — ощущение, увеличивающее
его способность чувствовать, думать и желать. Ему казалось, что он летит, проходит сквозь стволы деревьев,
493
парит через лужи, через кусты можжевельника, кубарем скатывается с гор.
Не прошло и десяти минут, как он действительно
очутился наверху Мюльберга, крикнул детям, ожидавшим внизу у крыльца, и собрался было сбежать с горы,
когда вспомнил про свой наряд; чувство стыда принудило его зайти за мельницу, чтобы перевернуть куртку. Когда он снова влез в свою скорлупку, он почувствовал что-то удобное, правильное, но тяжелое, будничное
и утомительное.
Через две минуты дети повисли у него на шее, и все
трудности были позабыты.
На следующее утро консерватор взял свои рыболовные лесы и пошел к озеру, так, по крайней мере, утверждал он это сам. Он шел, но туда дойти никак не мог. Тогда он вернулся домой, взял провожатого и захватил с собой большой кусок мела. Мелом обозначал он номера
на скалах и на стволах деревьев. Дойдя до озера, он отослал провожатого домой и забросил удочку. Через полчаса он поймал дюжину рыбок, схожих между собой,
как яйца похожи одно на другое: все имели четыре дюйма в длину и были, как уголь, черные.
Это была приманка, забава, а скоро должна была начаться серьезная ловля. В конце концов на озеро была
спущена привезенная лодка и разбросаны по воде поплавки с крючками.
Когда он наконец, сидя б лодке, которой управлял сам,
мог господствовать над озером, он почувствовал себя,
как дома. Это было самое прелестное место, которое он
когда-либо видел. Он теперь стремился только сюда. Он
населял берега своими воспоминаниями, мыслями, так
сросся с этой местностью, что жил и наслаждался только, когда он бывал там и притом в одиночестве.
Близился великий момент, когда глубь озера должна
была открыть свою тайну. Накануне с вечера разложил
494
он четыре крючка с выкрашенными в яркие краски поплавками.
На утро следующего дня увидел он, что один из четырех поплавков опрокинулся белой стороной кверху,
как брюхо сонной рыбы, и он понял, что что-то, следовательно, там под поплавком есть. Он потянул за бечеву
и почувствовал что-то тяжелое. Через некоторое время,
продолжая тянуть, он увидел у борта лодки чудовище,
похожее сзади на рисунок змеи боа, бока которой блестели, как золото.
То была самая большая щука, какую он когда-либо
видел, по окраске и внешнему узору настолько отличавшаяся от всех остальных, что ему почему-то сразу стало
жутко на душе. Тут он также обратил внимание на вещь,
казавшуюся сначала простой, а именно, что черный дятел что-то с шумом бросил на берег, что солнце заслонила тучка и поднялся ветер, от которого накренилась
лодка, несмотря на то, что в это время ни одно дерево на
берегу не закачалось.
Вернувшись домой с своей добычей, он понес ее показать в семью рыбака; там не удивились, не обрадовались
и не позавидовали ему. Когда он от рыбаков вышел, то
за дверью услыхал, как старик промолвил: «Этого бы не
следовало ему делать!»
Особенно поражало консерватора, что рыбак, владелец Серебряного озера, не последовал его примеру
и не стал ловить там щук, несмотря на то, что замечалось вообще отсутствие этой ценной породы рыбы. Когда он поинтересовался узнать причину этого, то получил лишь уклончивые ответы.
Нужны были серьезные основания, опирающиеся
на опыт, чтобы люди нуждающиеся, умные, практичные, расчетливые могли решиться действовать против
собственных интересов. А опыт учил следующему: все
те, кто пробовал здесь ловить рыбу, кончали нехорошо.
В этом заключались и причина и последствие факта. Почему они плохо кончили? Можно бьгло ответить: потому что они здесь ловили рыбу.
495
Это суеверие, а так как консерватор был человеком
просвещенным, то он пренебрег предупреждением,
а наоборот, решил подать пример для отрезвления всех
суеверных. Итак, он ловил рыбу каждый день и не мог
оторваться от странного озера, околдовавшего его.
До сих пор он бывал там всегда один, и он намеренно никого туда не приводил, потому что ему не хотелось
вносить — в эту местность, которую он открыл и, так сказать, лично себе присвоил, что-либо постороннее, что
могло бы стать между ним и той тайной оболочкой, которой он себя окружил. В один прекрасный день, однако, он снизошел к настоятельным просьбам детей и позволил им идти с собой.
Когда он там увидел их одетые в светлые платья фигурки и услышал их веселое щебетанье, ему показалось,
что озеро потеряло свой мрачный колорит. Все помолодело и посветлело; молчание было прервано, и с моря
налетели чайки, чтобы посмотреть, что тут делается.
Дети никогда еще не ловили рыбы, и когда старшая
девятилетняя дочка вытянула первую рыбу, раздались
рукоплескание и веселые крики, так что маленькие рыбки даже попрыгали из камыша.
Это был блестящий период Серебряного озера.
Кто видел семью консерватора в зеленой долине,
у подножия Мюльберга, получал впечатление вполне
идиллического счастья. Мирно и тихо протекала жизнь
в маленьких домиках. Между родителями шло соревнование в нежности к детям и в заботах об их успехах.
Однако более внимательный наблюдатель не мог бы
не заметить, что за этим миром стояли целые годы бурной борьбы и что что-то грозное лежало на судьбе этих
людей. Люди не могли не обратить внимания на то, что
семья эта помещалась в двух смежных домиках и что
каждый из супругов вел свою жизнь. Однажды, выйдя
на заре, рыбак увидел, что жена консерватора, страдавшая от бессонницы, прогуливалась взад и вперед внизу
496
по мостику, у пристани, хотя было два или три часа
ночи. Одни спрашивали себя, женаты ли эти люди, другие полагали, что они в разводе.
В одно прекрасное утро консерватор сидел с детьми
за кофе (жена еще спала) и болтал с ними о разных вещах; в это время внизу, на лугу, обитатели поселка начали сходиться большими группами, что указывало на
то, что что-то случилось. Шум голосов скоро усилился,
и разговоры, видимо, оживились. Любопытство консерватора бьгло возбуждено, но ему не пришлось идти самому вниз: он издали услыхал, в чем дело.
Письмоводителя судьи из Соддорфа, приехавшего на
остров два дня тому назад и которого с тех пор никто
больше не видел, нашли утонувшим в озере Хеймусе.
Консерватор теперь побежал к собравшемуся народу.
— Писец суда? Как его звали?
— Так-то и так-то.
— Был ли он женат?
— Да, но его жена живет в городе.
Консерватор потерял охоту к дальнейшим расспросам, но предложил идти всем вместе к месту нахождения утопленника, принести его труп и прилично оставить его временно на току, пока не явится возможность
перенести его в город.
Шествие двинулось к озеру, но ужас при виде утопленника пересилил любопытство, и консерватор пришел к месту лишь сам-третей; оба его спутника были
рыбаки.
У косы, на мелком месте озера, лежал прилично одетый человек в таком положении, будто он лег отдохнуть
на землю и полуоткрытыми глазами глядел в небо. Спокойствием дышали черты лица, покрывшегося той бледностью, которою страдание и смерть облагораживают
даже грубые лица.
Консерватор внимательно разглядывал покойника,
и вдруг в его воображении стали выплывать далекие
воспоминания. Он еще раз поинтересовался узнать имя
497
этого человека, и лицо это и имя воплотились для него
в одно целое. У него был знакомый в юности, школьный
товарищ, который носил именно это имя.
Какой странный случай, что они встретились вновь
здесь, в этой глуши, и при каких обстоятельствах. Он
был готов негодовать на этот случай, так как он даст
пищу болтовне. Его собственное имя свяжут, пожалуй,
с именем самоубийцы. Приедет несчастная жена; придется выслушивать плач и всякие комментарии — словом, нарушено спокойствие летнего отдыха.
А в сущности, какое ему дело до всей этой истории?
Пришедшие сюда искать смерти не друг ему, а просто
посторонний человек, сидевший с ним когда-то в числе
многих в одном классе в школе.
Труп был перенесен на ток, покрыт белой простыней
и положен на еловые ветки. Когда улеглось первое впечатление ужаса перед смертью, собрались на ток люди
из всего села, и начались суды и пересуды, весьма обычные в подобных случаях.
— Он был жесток с женой.
— И пил страшно.
— Она, говорят, очень порядочная женщина.
— Черт побери!
— Он, конечно, сам покончил с собой.
Консерватор ушел от собравшихся, так как эти речи
производили на него очень неприятное впечатление: казалось, будто они чуть ли не бросают камни в его огород.
В особенности же поразило его то, что дошло до его слуха, когда он уже повернул им спину.
— Я удивляюсь, что он пошел не к Серебряному озеру. Он из таких, что мог бы там ловить рыбу.
Это значило, что они относились несочувственно
к рыбной ловле там и что несчастный случай истолковывали, как последствие недозволенной ловли.
Он почувствовал также скрытое недоброжелательство по своему адресу и не встретил и тени признательности, когда взялся телеграфировать родственникам
и заказать деревенскому столяру временный гроб.
498
Дома ему как-то неприятно было об этом сообщить
жене; однако пришлось в нескольких словах рассказать
о случившемся, после чего между супругами наступило
грозное молчание.
На следующее утро приехала жена покойного. Когда он увидел внизу на лугу эту женскую фигуру в трауре, с покрытым черной вуалью лицом, консерватор почувствовал, как усилилось его недовольство, потому что
он не верил искренности этого траура. Однако он пошел
к ней навстречу и представился.
Не прошло и пяти минут, как недоброжелательство
сменилось сочувствием и симпатией. Это была еще молодая женщина, и ее украшала та особая прелесть чистоты, которая кладет свой отпечаток не столько на черты
лица, как на выражение его; ее речь не звучала фальшиво, и голос был звонок. Он сразу понял, что эта женщина не любила своего мужа, пожалуй, не любила никогда
никого, но могла бы всем пожертвовать ради детей, которых, однако, судьба ее лишила.
Только когда они дошли до тока, она начала плакать.
Чувствуя свое фальшивое положение и страдая при
мысли о жестоком упреке, который упадет, несомненно, на нее за то, что она в последние дни не ухаживала за
человеком, бывшим близким к душевной болезни, она
стояла тут молча, так как не могла поделиться своими
мыслями и чувствами не жалуясь, а говорить дурно про
покойника она не хотела.
Консерватор, не желавший сначала сближения дамы
в трауре с своей женой по причинам, о которых он бы
и говорить не хотел, теперь на подобных же основаниях
желал познакомить их, так как он предвидел, что из этого знакомства произойдет что-нибудь, что для них может иметь важное значение. Итак, он пригласил даму
к себе и, познакомив обеих женщин, под благовидным
предлогом оставил их.
499
Сидя в своей комнате, он слышал глухой шепот их голосов, не прерывавшийся ни на минуту, а иногда возвышающийся до более резких нот. Скоро голоса заглушил
шум пилы, рубанка и молотка, доносившийся из шалаша на берету озера, где сколачивали гроб.
Когда опять все на острове успокоилось, у консерватора осталось впечатление, что этот случай дня являлся как бы предостережением. Случись это несчастие на
Серебряном озере, ему разбили бы голову, так как тогда люди сочли бы доказанным, что безбожник поймал
в озере чертовщину.
Опять народ толпится, и это всего через две недели
после перенесения утопленника на ток.
Случилось на этот раз вот что: лучший в округе лоцман посадил пароход на мель и получил расчет. Это
было равносильно разорению семьи, состоявшей из
восьми человек детей.
В августе, когда обыкновенно подходит килька, ее
в этом году не появилось; к этому еще присоединился
полный неурожай хлебов. Надо было все же платить налоги, и многим пришлось круто.
У мельника была заложена мельница. Необходимо
было хоть сколько-нибудь внести на погашение долга,
а мельница не работала за отсутствием хлеба.
Это тяжелое положение вещей отразилось и на дачниках; круги для танцев пустовали, зато храм посещался
усердно. Жить в деревне стало неприятно, и семья консерватора переехала в город раньше предположенного
срока.
II
Опять настала весна, но такая ранняя, что деревья
еще не покрылись почками и грязный снег еще лежал
в горных ущельях. Однако консерватор уже переехал на
500
остров, в этот раз один, и снял себе домик наверху позади мельницы, к которой он не решался даже подойти из
боязни невольно взглянуть вниз, к фиорду, где в зеленой
долине стоят домики под тенью дубов.
Люди приняли его, как хорошо платящего квартиранта, но без радости, скорей с боязнью и неохотно.
Они по-своему объясняют его одиночество и не требуют
разъяснения. Одно то, что он не с семьей, производит
дурное впечатление, и вина падает всецело на него.
Когда он отправился на Серебряное озеро и нашел
деревья голыми, без листьев, просвечивающими, тоска
овладела им. Лодка лежала еще на прежнем месте, но
была полна воды и гниющих листьев. Камыши еще стояли черные от мороза. Пара гагар, совершающих свой
перелет, спустились на берег для отдыха, и жалобный
крик их разнесся далеко по запустелой местности.
Когда он увидел пригорок, стоя на котором дети вытащили первых рыб и где еще валялась жестянка для
червей, перед ним разверзлась пропасть. Все, чего он
лишился, теперь с ясностью предстало перед ним, и он
не мог удержаться от рыданий, похожих на крик диких
зверей, когда душа, кажется, вот-вот разорвет все ткани
и оболочки окутывающего ее телесного покрова.
Через некоторое время он успокоился, впал в глухое
смирение по отношению к тому, чего изменить было невозможно, начал вычерпывать воду из лодки, делая это
скорей машинально, чем намеренно. Затем он на лодке отъехал на средину озера, но видел всю окружающую
местность, как в тумане; опухшие от слез щеки горели
и иногда из груди вырывалось еще всхлипывание, от которого содрогалось все тело.
Забросить удочку или приготовиться к большой ловле не приходило ему и в голову. Не было интереса к ловле, так как дома не ожидал его никто, кто с криками радости и ласками встретил бы его и взял бы из рук добычу. Из этого сознания вытекало чувство, что для него
вообще жизнь потеряла всякий смысл.
501
Пошел тихий, мелкий, пронизывающий холодный
дождь, но он не обратил на это внимания и ничего не
предпринял, чтобы оградить себя от дождя. Скоро он
сидел с ногами в воде и чувствовал, как промокают башмаки; лодкой управлять становилось все труднее.
Наконец ее прибило к берегу, что заставило его вылезти на землю и идти на произвол судьбы по мху, через заборы, которые он ломал или перелезал через них,
кусты можжевельника и молодые сосны сгибал он, как
щепки, и он вслух произносил проклятия, убегая, как
смертельно раненное животное.
Выйдя из чащи и дойдя до обнаженного хребта горы,
он вдруг увидел себя окруженным сотнями ворон, которые дружным хором каркали и, видимо, были недовольны его приходом.
Это было для старого, опытного охотника так необычно, что он впервые почувствовал суеверный страх.
Он остановился, удивленный их беззастенчивостью
и в то же время оскорбленный, так как то, что у него
не было при себе ружья, не могло служить основанием
к подобной атаке.
Он на земле стал искать камень, как вдруг глаза его
упали на необыкновенные знаки по светло-зеленым
плитам скалы; и эти иероглифы повторялись на всех более или менее плоских местах в скалах. Это приковало
его внимание, и он прочел ясно букву С и цифры V, I, I,
римским шрифтом. Возбужденная фантазия сейчас же
стала доискиваться смысла этих знаков, и ему представилось, что С — означает Carl, a V,l,l — VII, т.-е. 7, следовательно Карл VII. Однако так как цифры значат больше, чем отдельные буквы, он пришел к заключению, что
С означает 100, следовательно начерчено число 107. «Что
это такое? Должен ли я с этим числом идти играть на
лотерею? Сто семь! Сто семь! твердил он себе, идя дальше кверху, провожаемый некоторое время воронами.
Он достиг своей грустной одинокой хижины, которую, как человек свободный от предубеждений, снял,
несмотря на то, что в этом домике в прошлом году
502
утонувший товарищ провел последние дни своей жизни. Он домового не боялся, но, казалось, что к стенам
прилипли горькие вздохи и что еще скрипели половицы под тяжелыми шагами несчастного.
Дождь не переставал весь день. К вечеру с почты доставлена была ему газета. Не разрывая бандероли, ему
бросился в глаза номер газеты — 107-й.
«Сто семь, — повторил он сам себе. — Какое иногда
бывает странное совпадение. Вот опять то число, на которое я напал на горе. И как странно, что я живу в том самом
доме, где он жил в прошлом году и при тех же печальных
обстоятельствах. Не означает ли это, что и я потону?»
Спокойствию его настал конец, а с ним и счастью и радостям. Казалось, что с детьми он потерял весь смысл
и всю радость жизни. Не с кем поздороваться утром, некого поцеловать вечером, не с кем поиграть, не о ком заботиться, некого любить и некем быть любимым. Предоставленный полному одиночеству, он чувствовал себя
никем не любимым и преследуемым судьбой. Неудачи
и недовольство, апатия в работе, ночью тяжелые сны, —
вот что было теперь его уделом. Сны принимали страшное подобие действительности, но он не придавал им,
однако, особого значения, и они не пугали его. Днем он
бродил по окрестностям и умирал медленно, но неизбежно — так он сам описывал свое состояние.
Но что бы ни было, он все же постоянно возвращался к Серебряному озеру и там садился в лодку, не думая
даже о ловле рыбы. Часто ложился он на излюбленную
скалу детей и там во мху искал, конечно тщетно, следы
их ножек; или прикладывал ухо к скале, как бы стараясь услыхать их веселый, добрый смех и невинные шутки. Все ушло! Так безвозвратно ушло, что время даже не
могло исцелить эту рану, потому что, когда он со временем снова увидит их, то это уже будут большие, сильные
люди, уже не те любвеобильные, благодарные, невинные
503
существа с душами и телами свежими, как весенние цветы. Все было кончено безвозвратно.
Сколько он ни ходил по окрестностям, он все же никогда не подходил к мельнице, так как оттуда видны
были домики на лугу, а в этом отношении он не надеялся на свои силы. И мельница стояла, как памятник,
на могиле лучших воспоминаний, и крылья ее казались
большим крестом.
Однако пришлось сделать то, чего не хотелось. Однажды пришел посланный от прошлогоднего хозяина,
который схватил воспаление легких и находился в большой опасности. За неимением поблизости доктора,
жена его просила консерватора прийти и посоветовать
что делать с больным.
Он отвечал, что ничего не понимает в медицине. Посланный вернулся вторично и просил консерватора все
же прийти, так как больной имеет что-то ему сказать.
Отказать в просьбе, быть может, умирающему, он не
решился, так как боялся еще больше возбудить против
себя население.
Итак, он отправился, проклиная судьбу, заставлявшую его идти туда, куда ему не хотелось.
Дорога лежала мимо мельницы, а оттуда вниз, в долину. Он не взглянул по направлению домиков, стоявших пустыми, так как их никто не снял.
Когда он вошел к больному с полным сознанием того,
что делает не дело любви, он был как бы в тумане. По настоянию жены больного он сообщил, что знал о том, как
в городе лечат больных воспалением легких, затем он
стал выжидать, что скажет ему больной.
Тот смирно лежал и долго смотрел на него. Наконец
он собрался с силами и слабым голосом промолвил несколько слов.
— Вы все еще ловите рыбу в Серебряном озере?
— Да, иногда, — отвечал консерватор.
— Этого не надо бы, — прошептал после некоторой
паузы больной.
504
К этому ему прибавлять было нечего, и посещение
могло считаться оконченным.
— Суеверие! — сказал себе консерватор и, как бы
подкрепившись этой мыслью, пошел прямо по направлению к домикам.
Когда он приблизился к зеленой садовой калитке, где
дети обыкновенно, как ласточки, летели в его объятья,
кровь отхлынула от его сердца, и в нем промелькнула
мысль: вот здесь мне смерть!
Однако он все же вошел. Черными, пустыми выглядывали окна. Он прошел в спальню детей, где стояли их
кроватки. Это не были гробы, потому что в гробу есть
что-то, а здесь была полная пустота. Это было что-то
страшнее смерти, это было погребение заживо.
Сердце на мгновение перестало биться, пока глаза его блуждали по саду; их маленькие грядки поросли
сорной травой...
«Теперь смерть!» — подумал он.
Однако сердце снова забилось, кровь ударила в виски...
Придя домой, он на крыльце застал ожидающего его
полицейского. Он просто принес бумаги из уездного суда;
но посещение судебного рассыльного производит всегда
среди сельского населения неприятное впечатление, и недоверчивое отношение к консерватору все росло.
Вечером, сидя дома, перелистывал он иллюстрированный журнал и наткнулся на описание пирамид. Дойдя до Мичеринус, или третьей пирамиды, он обратил
внимание на то, что она имеет в основании 107 метров.
Опять то же число 107! Но ведь метр — величина космическая, так как он составляет десятимиллионную часть
экватора. Не хотели ли египетские строители увековечить в пирамиде астрономическую тайну?
При этой мысли глаза его невольно упали на календарь, а так как тот был снабжен справочным ключом, то
он отыскал таблицу сравнительного расстояния планет
между собой. Тут три раза попадалось число 107. Прежде всего расстояние между Землей и Солнцем равня¬
505
ется диаметру Солнца, взятому 107 раз. Затем Венера
лежит в 107 миллионах километров от Солнца. И, наконец, Юпитер отстоит от Солнца на 107 миллионов географических миль.
Он старался найти что-нибудь общее между своей
судьбой и этим числом, но ничего придумать не мог.
Однако это была своего рода игра памяти, которая развлекла его, пока он не устал. Это было то же, что раскладывать пасьянсы или разгадывать загадки.
Старик-рыбак скончался на десятый день; за этим последовали погребение, раздел наследства, ссоры, поездки в суд.
Через месяц приехал лэндсман, чтобы расследовать
одно дело, взволновавшее весь остров. Один обитатель
южной части острова, человек женатый, вдруг исчез. Подозревалось убийство. Теперь все это появилось в газете.
Так как все обитатели острова находились более или
менее в родстве, то это было принято, как общий траур,
и все вместе считали себя перенесшими утрату. Толковали о тюрьме, о плахе, но виновника обнаружить не удавалось, и следствие и допросы свидетелей длились все
лето.
Припев повторялся все тот же:
— Он не должен был бы делать этого (то есть ловить
рыбу в Серебряном озере).
Консерватор, стал от всего этого особенно мнительным. Сознавал, как он всем неприятен и всеми нелюбим.
Он похудел и состарился, но здоровая натура выдержала. Его еще к тому же поддерживала постоянная мысль,
что когда-нибудь явится «высший интерес» и жизнь его
получит новый смысл.
В одно прекрасное утро, уже к концу лета, он проходил мимо дома соседа, на дворе которого сидел и играл
болезненный ребенок. Игрушки, полученные им от ба¬
506
бушки, состояли из высушенной гусиной шеи, наполненной горохом, и из куска сверкающей белой руды.
Это привлекло внимание консерватора, и он спросил
у бабушки, откуда эта руда.
Она отвечала, что это было найдено уже давно, когда
взрывали канал.
— Здесь на острове?
— Здесь на острове.
Это был свинцовый блеск, и, следовательно, руда содержала серебро.
Придя домой, он открыл немедленно сочинение по
минералогии и, отыскав статью о серебре, тут же прочел, что его атомный весь равняется 107.
Так вот она тайна острова, начерченная иероглифами
на камнях горы. Так вот она тайна Серебряного озера!
При более тщательном исследовании геологии острова выяснилось, что на нем находилась почва той же формации, как в серебряных рудниках в Сале, что ясно указывало на существование скрытых богатств.
Теперь он нашел тот высший интерес, который должен был пополнить пустоту жизни, и он уцепился за
него, как за единственное, что оставалось ему.
После того, как он тщетно старался отыскивать то место, где когда-то был вырыт канал, он добыл себе молоток и резец, стал ходить в горы и там искал выхода руды.
От людей, с которыми встречался, он тайны из этого не
делал; напротив, он старался заинтересовать их в предприятии. Но они были к этому равнодушны.
В то же время он пытался исследовать дно Серебряного озера, чтобы достать обломки каменных плит, лежащих на дне озера. Но это ему плохо удавалось. Когда
он предложил обывателям вырыть канал и отвести воду
из озера, они рассердились.
Его попытки заинтересовать в городе людей понимающих наткнулись на холодность и на возражение, будто
свинцовый блеск находится всюду.
Он об этом писал в газетах, и все находили, что это
очень интересно.
507
Он с чертежами в руках бегал узнавать, не составится ли компания на акциях, но у него требовали анализов, проб и подробную карту местонахождения рудника, но так как у него ничего этого не было, то он уходил
ни с чем.
Под конец он настолько сократил свои притязания,
что предлагал заняться ломкой известняка, что было бы,
не безвыгодно, а тогда проявился бы и свинец и серебро.
Но всеобщее равнодушие пересилило корысть.
Но он еще находился в том настроении, когда противодействие придает силы и энергии, и как бы подстрекает к работе. Он приобрел себе горный бурав и динамит,
твердо решившись вырыть канал и спустить в море всю
воду озера.
Сделав необходимые вычисления, он убедился, что
исток воды должен будет пройти как раз по бугру, связанному для него с воспоминаниями о детях и их первой
ловле. Но это ничего не значило. Теперь ему все было
безразлично.
И вот стоит он с буравом в руках и стучит так, как будто кого-то по голове бьет. Больно рукам, больно голове,
но одна боль, думает он, облегчает другую.
Когда он сделал скважину в четверть метра, пришли
рыбаки, заинтригованные шумом, и под угрозой пожаловаться лэндсману запретили ему продолжать.
Это вызвало крупный разговор, и обитатели острова
воспользовались случаем, чтобы высказать ему все, что
накопилось у них на сердце за последний год. Они коснулись его частной жизни, его молчаливого горя, его семейных отношений, его поведения.
Он, как бы обнаженный, стоял перед ними; ему было
стыдно; он не мог решиться отвечать им и пришел в уныние.
Он теперь дошел до такого состояния, когда сопротивление кажется необоримым, когда думаешь, что приходится бороться против какой-то высшей силы и считаешь себя побежденным, так как лежишь на земле и чувствуешь, что враг схватил тебя за горло.
508
Идя домой, он остановился на горе, чтобы посмотреть, действительно ли там начерчено римским шрифтом число 107. Он отыскал те плоские уступы скал, но ни
букв, ни цифр не было видно.
Затем он разыскал снова мать соседа и спросил у нее,
верно ли, что кусочек руды найден на острове.
— Этого я вспомнить никак не могу, — отвечала ста-
руха.
Придя домой, он раскрыл сочинение по химии и нашел там, что атомный вес серебра обозначен числом 108
с десятичной дробью, но не числом 107.
Это было для него истинным утешением, так как эта
игра чисел сделала его почти суеверным, а он всегда дорожил тем, что был свободен от суеверия.
Смешно было, что он поторопился в минуту откровения рассказать посторонним о странных совпадениях с числом 107, отчасти для того, чтобы подделаться
к их суеверию. Но и тут он себя только скомпрометировал, потому что их суеверие так далеко не простиралось.
— Можно ли такому вздору верить! — говорили они
с насмешкой.
Но с Серебряным озером было другое дело, и люди
были хитрей его, так как они не пожелали никаких дальнейших объяснений.
Когда пароход отчаливал от острова, консерватор сидел в кают-компании, весь съежившись, глядя перед собой, как бы думая, что он может в одно и то же время
сделать себя невидимым для других и слепым. Но вдруг,
под влиянием течения с фиорда, пароход так накренился, что иллюминаторы нырнули в воду.
В круглое окошечко он увидел, как в тумане, но на
одно мгновение, — мельницу, домики, гору...
«Ослепление, чертовское ослепление все это!» — подумал он.
509
В это самое мгновение больших размеров морская
чайка закричала над самым иллюминатором: «Гэк! Гаух!
Гэк! Гаух!»
— Проклятие! — прошептал консерватор, лег на койку и укрылся с головой одеялом.
Десять лет спустя, когда консерватор уже давно покинул свою должность и исчез с горизонта, в одной из
утренних газет была напечатана следующая заметка:
«СОКРОВИЩА В ГОРАХ ОСТРОВА.
В истекшее лето были произведены исследования на
острове в Стокгольмских шхерах на предмет обнаружения, нет ли в горах этого острова полезных минералов.
Эти исследования увенчались успехом. Были обнаружены различного рода каменные породы, как-то: разного
сорта мрамор, полевой шпат, кварц и т. д.
Эти изыскания, произведенные сведущими людьми, имели своим последствием покупку целого ряда недвижимостей на острове. Чтобы иметь в руках своих все
горы острова, пришлось приобрести все те части крестьянских угодий, на которых находились эти ценные
горы.
Если прежние владельцы были лишены таким образом возможности сами пользоваться драгоценными минералами, то зато они продали свои земли, по крайней
мере, на пятнадцать процентов дороже цены, которую
дал бы им всякий другой покупатель.
К осени начались работы в каменоломнях, и уже стали перевозить камни в Стокгольм. Весной работы возобновятся в большем масштабе».
СОДЕРЖАНИЕ
ИСПОВЕДЬ БЕЗУМЦА.
Роман. Перевод В. Рудиной
Введение 7
Часть первая 19
Часть вторая 145
Часть третья 175
Чачсть четвертая 215
НОВЕЛЛЫ
Возврат к прошлому. Перевод В. Саблина 259
Угрызения совести. Перевод В. Саблина 308
К солнцу. Перевод В. Саблина 351
Новь. Перевод В. Саблина 357
Над облаками. Перевод В. Корш 429
Детская сказка. Перевод Ю. Балтрушайтиса 448
Серебряное озеро. Перевод Л. Владимировой 488
Юхан Август Стриндберг
Собрание сочинений в пяти томах
том ТРЕТИЙ
Редактор Е. Тюкалова
Художественный редактор А. Балашова
Корректор С. Лифанова
Компьютерная верстка А. Филиппов
Подписано в печать 15.01.09 г.
Формат 84 XIO8V32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Palatino». Печать офсетная.
Уел. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 24,19.
Заказ № 0925860.
Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронною оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97
Cm