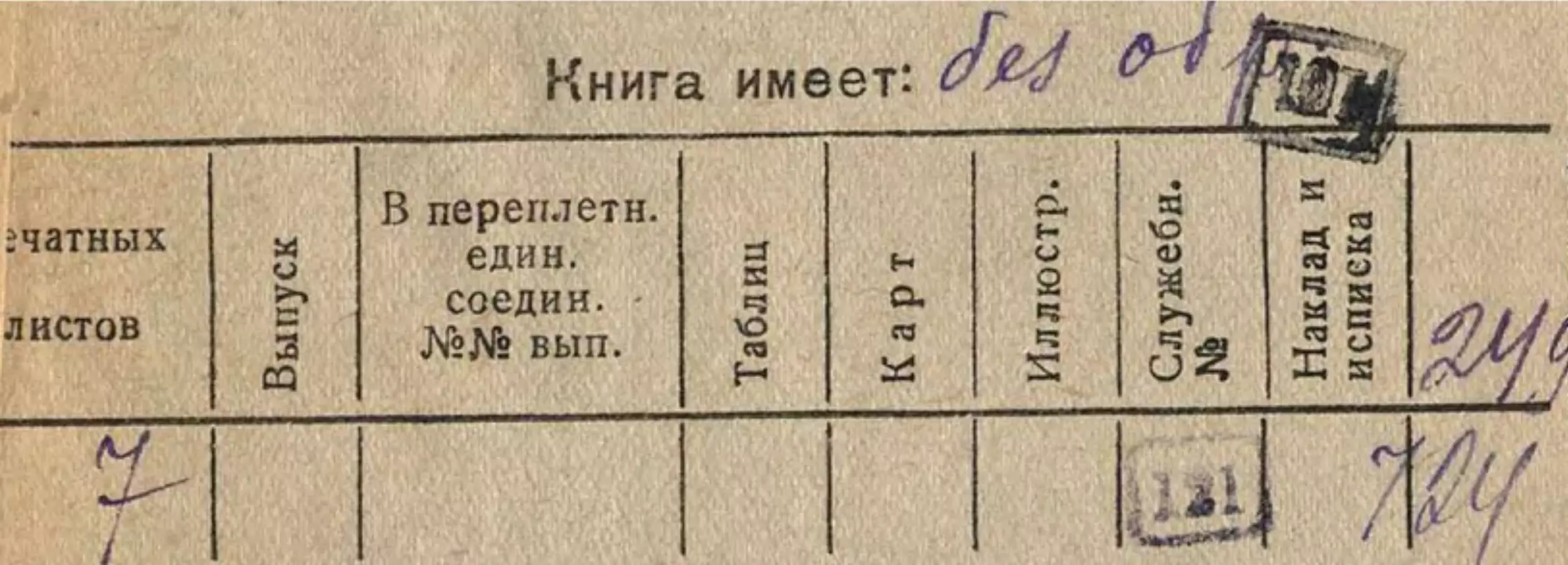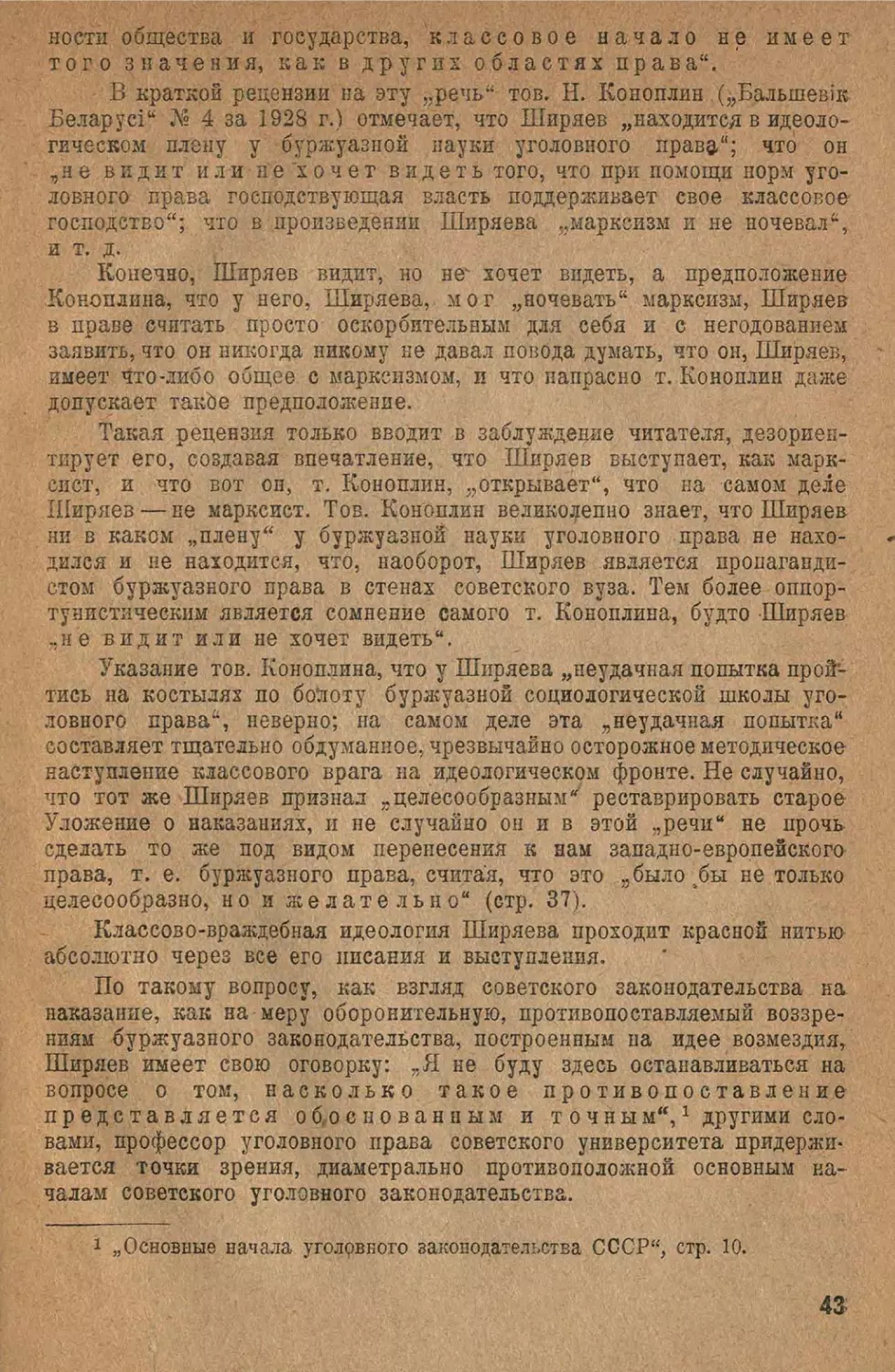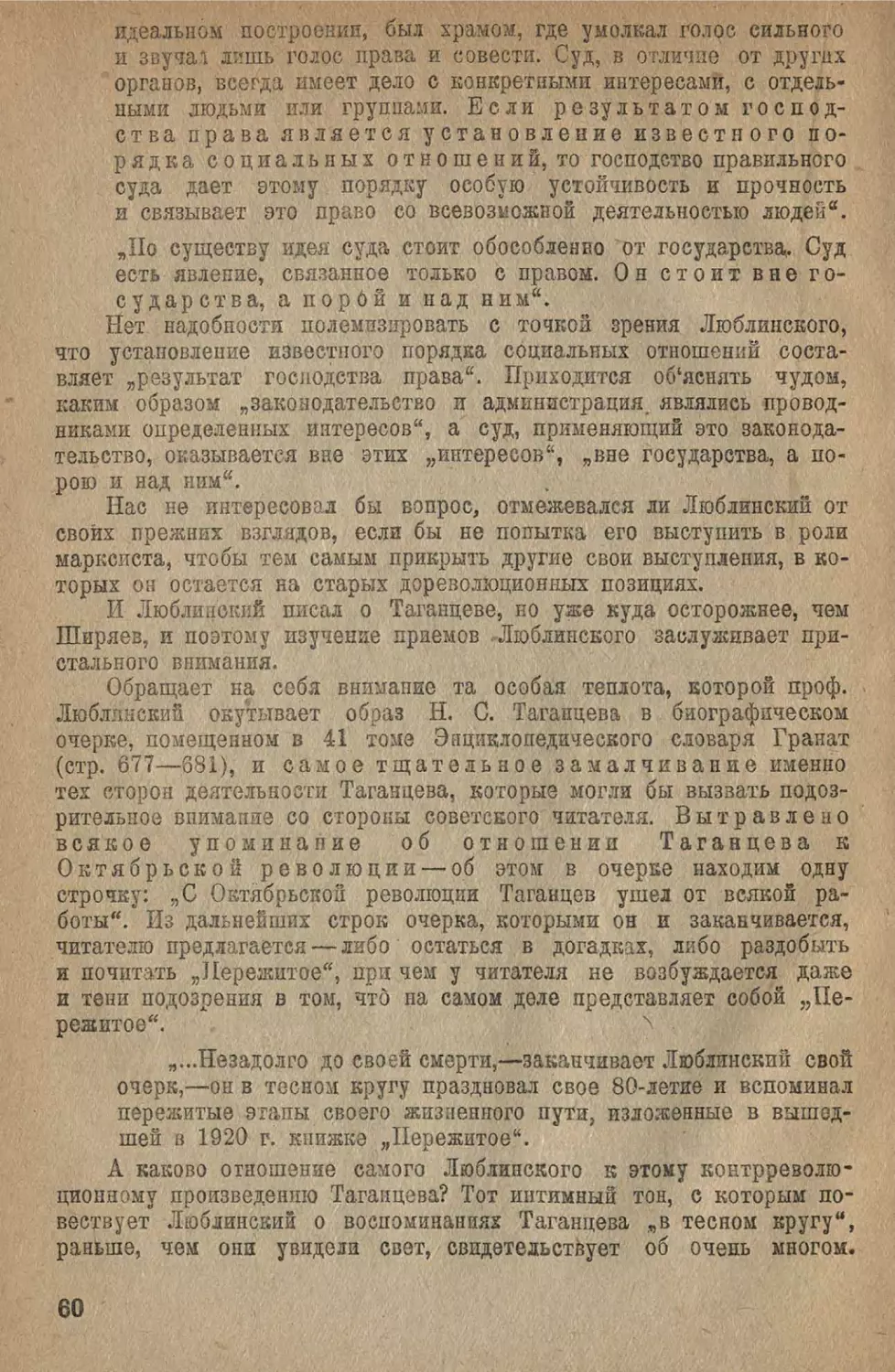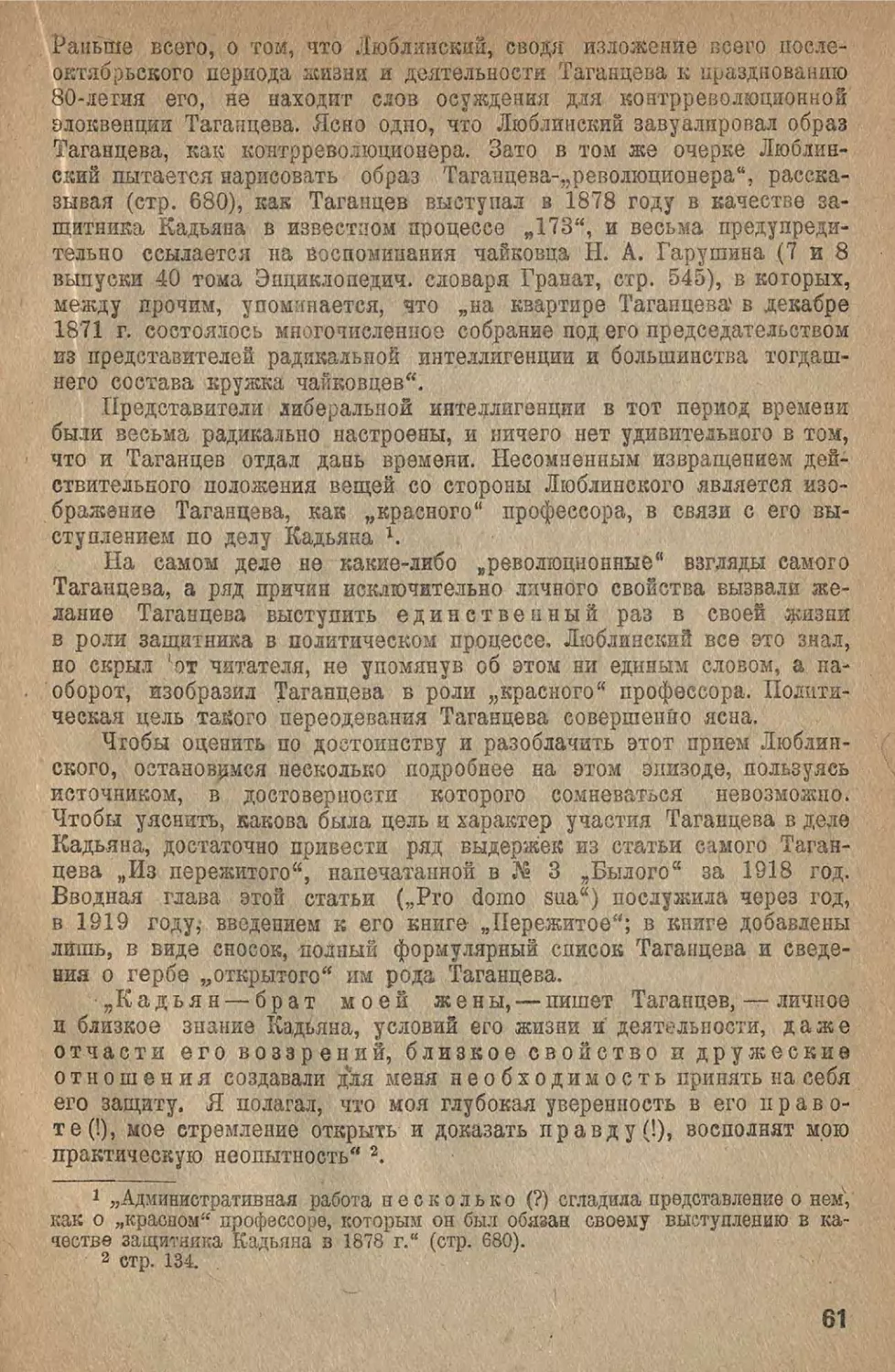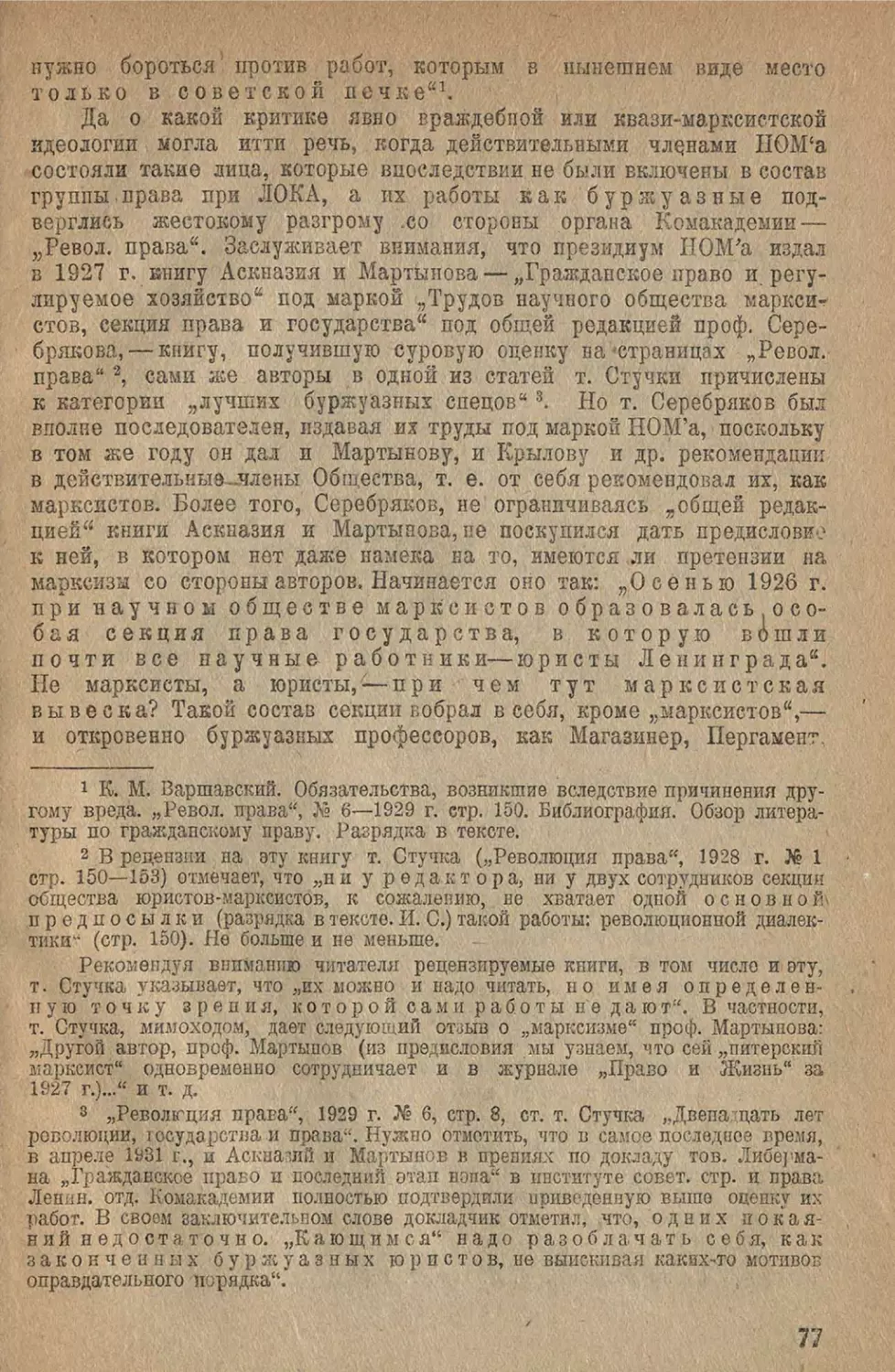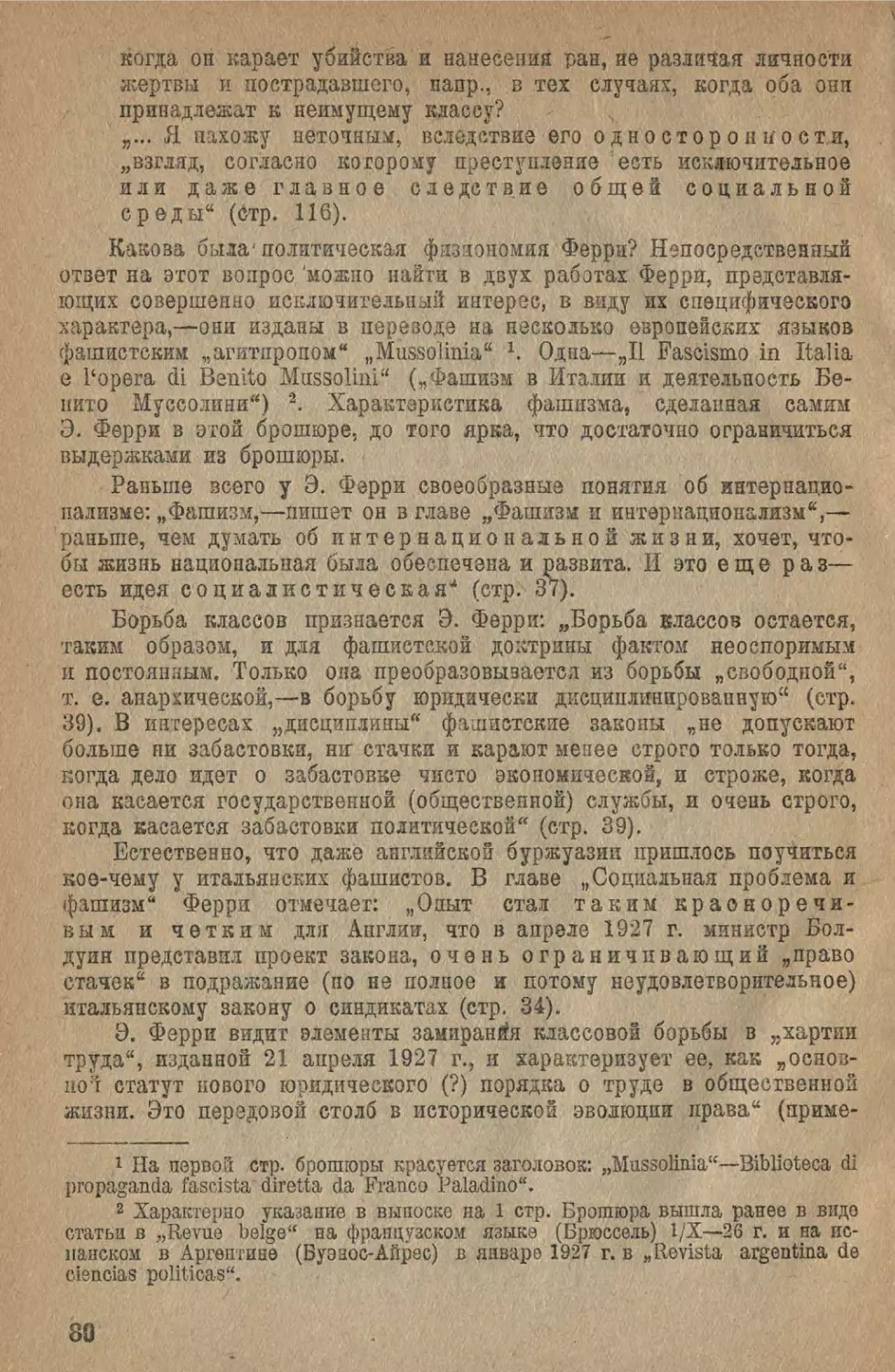Текст
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ ПРИ ЦИК СССР
ИНСТИТУТ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРАВА
à \
г ЧШ
о
Щ По
И. СЛАВИН
ш
ВРЕДИТЕЛЬСТВО
НА. ФРОНТЕ СОВЕТСКОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА
«СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
МОСКВА
1931
Книга
гчатных
листов
с
3
CQ
В переплети,
един,
соедин.
№№ вып.
имеет
: А/
W
я
s
ч
ю
ІЙІ
Wf
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОМ АКАДЕМИИ
ПРИ ДИК СССР
ИНСТИТУТ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРАВА
V
Г
•
И. СЛАВИН
У
ѵі
Щ І] Q
Vi I
Л - ,-п
-
ВРЕДИТЕЛЬСТВО
НА ФРОНТЕ СОВЕТСКОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА
« С О В Е Т С К О Е
МОСКВА
З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О »
193 1
Третий
квартал 1931 г .
СЗ—3 Редактор Ш п е к т а р о в
Т е х . редактор
В а с и л ь е в
Уполтомоч. Главлита № В 5476
15 типография
ОГИЗ'а „Советское
7 п. л.
Тириж 10.000
законодательство", Малая Дмитровка, 18
II Р Е. Д И С Л О В И Е.
Еще не во всех социально-экономических вузах представители враждебной идеологии сошли с университетских кафедр и не всюду
прегражден им путь к использованию советской печати. Нельзя недооценивать значения опасности со стороны врага, который не останавливается ни перед какими препятствиями, чтобы протащить свою
идеологию. В особенности эта опасность велика в провинциальных
вузах, где до сих пор, за недостатком марксистских сил, кафедры
иногда заняты чуждой нам профессурой.
Один из излюбленных методов маскировки—переодевание в советские одежды. Цель оправдывает средства и враг не останавливается
даже перед таким цинизмом, как переодевание покойников — своих
былых единомышленников.
Предлагаемые очерки преследуют цель—разоблачить вредительские
приемы врага и показать их в своей контрреволюционной наготе.^
Наш доклад на эту же тему, прочитанный в ячейке общества
воинствующих материалистов-диалектиков в Ленинградском государственном университете, вызвал оживленные прения по вопросу о том, не
является ли такое внимание к возможному влиянию буржуазной идеологии уже пройденным этапом, не изжито ли оно вовсе и, следовательно, не сдано ли оно уже совсем в мусорный ящик истории.
Прения показали, что в' студенческой среде имеются типичные явления
недооценки правой опасности в области идеологии, — недооценки, особенно недопустимой в нынешний период обострения классовой борьбы.
Марксистская литература и на других участках идеологического
фронта также сигнализирует о непрекращающемся еще влиянии буржуазной идеологии, для преодоления которой далеко недостаточно
одного лишь классового чутья, как бы многим ни казалось, что классовый инстинкт пролетария способен всецело уничтожить отравляющую силу яда буржуазной идеологии, преподносимого для восприятия
его под разными соусами. В особенности, борьба с враждебной идеологией встречает затруднения, когда представители ее находят
поддержку в правооппортуниетических
элементах
нашей партий.
В приводимых эпизодах обращает на себя внимание встречающийся
процесс замены буржуазной профессуры квази - марксистской, которая
еа деле выполняет ее же роль.
Только непримиримая идеологическая борьба с правыми и „левыми" и беспощадное разоблачение сущности квазн-марксистскнх теорий способны вскрыть, как „третий радующийся" приобретает союзников в лице квази-марксистов, которые охотно и самоотвержепно
выполняют его социальный заказ.
Те эпизоды и материалы, которыми это положение иллюстрируется, относятся к различным стадиям борьбы — от той, когда буржуазная профессура самостоятельно, без посредников, проводила свою
идеологию и боролась за нее, прибегая к самым разнообразным ухищрениям и использовывая всяческие лазейки легальности как с трибуны, так и в печати, до той стадии, когда ее роль политически
заняли квази-марксисты под непосредственным правооппортунистическим руководством и покровительством.
На новом этапе социалистического строительства огромные успехи
рабочего класса, его железная настойчивость и стремление к победе
доказали бесплодность ставки врагов как на интервенцию, так и на
вредительство и на перерождение советской власти.
Тов. Сталин в своей речи на совещании
хозяйственников
23 июня 1931 г. („Правда" от 5 июля) подчеркнул необходимость
четкого перелома в отношении к старой технической интеллигенции.
„Новая обстановка, сказал т. Сталин, должна была создать и действительно создала новые настроения среди старой технической интеллигенции. Этим, собственно, и об'ясняется тот факт, что мы и м е е м
определенные признаки поворота известной
части
этой интеллигенции, р а н е е с о ч у в с т в о в а в ш е й
вредит е л я м , в с т о р о н у с о в е т с к о й в л а с т и . . . 1 Из этого следует,
что сообразно с этим должна измениться и наша политика в отношении старой технической интеллигенции... Было бы неправильно и недиалектично продолжать старую политику при новых, изменившихся
условиях. Было бы глупо и неразумно рассматривать теперь, чуть ли
не каждого специалиста и инженера старой школы, как не нойманного
преступника и вредителя. „Спецеедство" всегда считалось и остается
у нас вредным и позорным явлением"
Постановление Президиума ВЦИК о награждении авиозавода № 8 9
-за исключительные достижения по самолетостроению гражданской
авиации („Правда" от 10 июля) представляет собой акт практического применения линии партии в отношении тех вредителей, которые
начали работать „в ряде фабрик и заводов заодно с рабочим классом"
(Сталин). Тоже представляет постановление „амнистировать всех инженеров и техников, приговоренных ОГПУ к различным мерам социальі Везде в тексте этой работы, где специально не оговорепо, разрядка наш а . - И . С.
ной защиты за вредительство и ныне добросовестно работающих
в центральном конструкторском бюро".
В той же речи на совещании хозяйственников тов. Сталин отметил
что „это не значит, конечно, что у нас нет больше вредителей. Нет
не значит. В р е д и т е л и е с т ь и б у д у т , п о к а е с т ь у н а с
классы, пока имеется капиталистическое окружение.
Но это значит, что коль скоро значительная часть старой технической интеллигенции, так или иначе сочувствовавшей ранее вредителям, повернула теперь в сторону советской в л а с т и , — а к т и в н ы х
в р е д и т е л е й о с т а л о с ь н е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о , они изол и р о в а н ы и о н и д о л ж н ы б у д у т у й т и до п о р ы до в р е м е н и в г л у б о к о е п о д п о л ь е " . И с ними попрежнему будет
продолжаться самая непримиримая борьба.
Для вредителей на и д е о л о г и ч е с к о м фронте из состава н е
т е х н и ч е с к о й интеллигенции, которые отказались от своей подрывной работы, возможность принести непосредственную пользу рабочему
классу теснейшим образом связана с коренной ломкой враждебного
нам мировоззрения.
Акты искреннего поворота должны поэтому сопровождаться открытым, категорическим и полным идеологическим разоружением. Но этого
недостаточно. Полный и безоговорочный идеологический разрыв с единомышленниками в Советском союзе и за границей имеет свое об'ективное значение лишь при у с л о в и и о д н о в р е м е н н о р а з в е р н у той б е с п о щ а д н о й критики, как своих прежних взглядов, т а к и в з г л я д о в с в о и х единомышленников, а т а к ж е
при у с л о в и и с а м о г о э н е р г и ч н о г о у ч а с т и я в с о ц и а л и стическом
строительстве.
Нам нужно суровой критикой и разоблачениями
заставить
их — либо сделать решительный шаг, порвать с прошлым, осудить его
и принять деятельное участие в социалистическом строительстве, либо
оставаться открытыми непримиримыми врагами. Вредители на идеологическом фронте должны знать, что всякие попытки заниматься заигрыванием с советской общественностью, „подкупать" ее мелочишками
и сознательно вводить ее в заблуждение, сохраняя свое враждебное
мировоззрение—заранее обречены на полный крах и никого обмануть
а е в состоянии.
ВРЕДИТЕЛЬСТВО НА ФРОНТЕ СОВЕТСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА.
I
„Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма".
(И. Сталин, „ о правом уклоне в ВКП(б)" 1
Чем напряженнее и острее классовая борьба пролетариата против
буржуазии, тем тщательнее становится политическая маскировка противника, чтобы под ее прикрытием можно было дольше держать под
своей классовой гегемонией наиболее отсталые, неорганизованные
и колеблющиеся слои мелкой буржуазии. Чем труднее для буржуазии
удержать свое влияние в непролетарских слоях трудящихся, тем изобретательнее она становится в поисках защитного цвета, который позволил
бы ей использовать в максимальной степени свои силы для нанесения
сокрушительного удара неприятелю.
Ленин в своей статье „Исторические судьбы учения К. Маркса" 2 ,
касаясь периода 1872—1904 гг., обмечает, что „диалектика истории
такова, что теоретическая победа марксизма заставляет врагов его
переодеваться марксистами". Эту мысль он развил подробнее в своей
работе „Государство и революция". Так, первая глава („Классовое
общество и государство") начинается следующими словами:
„С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало
в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы
при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы.
После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные
иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную
главу их и м е н и для „утешения" угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая с о д е р ж а н и е революционного учения,
1 Из речи на пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г. „Большевик", Л'» 23—24,
стр. 17.
2 „Правда",
50 (254)—1 марта 1913 г. Ленин, т. XII гл. И, стр. 44.
притупляя его революционное острие, опошляя его. На такой „обработке" марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты
внутри рабочего движения. Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают,,
на первый план, прославляют то, что приемлемо или что кажется
приемлемым для буржуазии. Все социал-шовинисты нынче „марксисты"—не шутите! И все чаще немецкие буржуазные ученые,
вчерашние специалисты по истреблению марксизма, говорят о „национально-немецком"' Марксе, который будто бы воспитал так
великолепно организованные для ведения грабительской войны союзы рабочих" 1 .
В российских условиях при царизме ревизионизм и подкрашивание
под марксизм (Струве, Туган-Барановский и др.) вначале не приняли
столь циничных форм, как на Западе, так как буржуазия, несмотря
на свою оппозиционную роль по отношению к царизму, все же слишком дорожила блоком с помещиками и предпочитала надежную охрану
жандарма и земского начальника систематической и упорной борьбе
за укрепление реформизма в России. Тут резко сказалось различие в
обстановке классовой борьбы на Западе, особенно в Германии, где уже
давно сложилось рабочее движение. Период весны и лета 1917 г. после
февральской революции сопровождался таким быстрым темпом классового размежевания в стране, и буржуазия оказалась к осени достаточно
изолированной, чтобы не быть в состоянии применить новые формы
классовой борьбы и перенести с успехом на родную почву достижения
своих зарубежных союзников. А там наступила открытая гражданская
война, когда буржуазии так и не удалось широко использовать западно-европейский опыт, несмотря на помощь со стороны русских меньшевиков и эсеров.
Таким образом, за весь истекший период диктатуры пролетариата
в СССР буржуазия, в лице своих идеологов, отчаявшись, наконец, в
попытках непосредственного свержения советской власти, не могла с
успехом переодеваться в марксистские одежды, так как пролетариат
после Октября 1917 года не поверил бы этому маскараду.
Вот почему агенты буржуазии в Советском союзе избирают иную
тактику, в соответствии с уроками прошлой борьбы и с условиями
эпохи и места. Впредь „до лучших времен" они ограничиваются тем,
что переодеваются в л о й я л ь н ы е с о в е т с к и е о д е ж д ы , проникают
на идеологический фронт в качестве „благонамереннейших" комментаторов наших экономических и хозяйственных мероприятий, нашего
законодательства и в роли „дружественных" советчиков нашей власти.
На занятых позициях они в организованном порядке ведут свою вредительскую подрывную работу, протаскивают контрабандой свою непримиримую враждебную идеологию, чтобы всевозможными средствами
и в самых причудливых формах прививать ее бациллы в доступных
облабтях.
^
1 Ленин, т. XIV, ч. II, стр. 299. Разрядка в тексте.
Осуществление классовым врагом подобной подрывной работы в
области экономических наук представляется для него делом особо
трудным, так как ( эта область всегда являлась и является, по условиям
классовой борьбы, постоянным и хорошо изученным об'ектом марксистского исследования. Поэтому грубая подделка здесь быстро обнаруживается.
Гораздо легче было применить вредительские приемы в области нрава,несравненно менее разработанной, чем область экономики. Правда,
рубинщина в области экономики наглядно показала, что и тут возможно
вредительство в широком масштабе, но все же лишь в том случае,
если оно проводится с величайшей тщательностью, в чрезвычайно
замаскированной форме. Но все же в области экономики невозможны
такие грубые, аляповатые фальшивки, как в области права.
Такое положение на данном участке фронта было широко использовано нашими врагами после Октября. Однако, они не сразу прибегли к замаскированным методам борьбы. Эти методы менялись
в зависимости от обстановки. Когда врагам казалось, что советская власть „на ладан дышит", в особенности в первые годы
революции, они могли позволить себе роскошь открыто, без лицемерия,
без особых фиговых листков, выступать против советской власти.
Достаточно, в качестве примера, указать ,на книгу проф. Я. М.
Магазинера „Общее учение о государстве", составляющую курс лекций, читанных им в Ленинградском госуниверситете в 1918—1922 гг.
В этой книге открыто проводится антисоветская пропаганда, которая
до того времени столб' же открыто проводилась им с университетской
кафедры в течение четырех лет после Октябрьской революции. Книга
п е р е и з д а н а в 1922 году, — следовательно, п е р в о е и з д а н и е
также выполнило свою контрреволюционную миссию.
Проф. Я. М. Магазинер не был тогда одинок. Он — о д и н из
м н о г и х , так что его выступления являются т и п и ч н ы м и по тем
временам. Ссылаясь без обиняков на невозможность говорить полным
голосом, проф. Я. М. Магазинер апеллирует к читателям. Так, в предисловии к 2-му изданию (помечено а в г у с т о м 1922 г.) автор указывает, что он „ в о з д е р ж и в а л с я о т г л у б о к о г о
искушения
учесть те ценные уроки, которые даны нам обоими мировыми сдвигами
(европейская война и русская революция), во перПых, потому, что они
теперь могут быть освещены только с о п р е д е л е н н о - п о л и т и ч е с к о й т о ч к и - з р е н и я , н е о п р а в д ы в а е м о й в у ч е б н и к е ; вовторых, потому, что ни в о й н а , ни р е в о л ю ц и я е щ е не з а к о н ч е н ы, и всякие выводы, построенные на опыте последних нескольких лет, если они противоречат политическому опыту последних нескольких столетий, были бы преждевременны и не продуманы до конца".
В самом деле, какое может быть сравнение по возрастному признаку между „опытом" революции за несколько лет, с одной стороны, и „опытом" „последних нескольких столетий"—с другой. Автор
идет дальше и просто игнорирует Октябрьскую революцию, относя ее к разряду з а в е р ш е н н ы х
неудавшихся
„опытов".
Проводя в конце первой главы (стр. 21) параллель между февральской
и Октябрьской революциями, проф. Я. М. Магазинер отмечает, что
в „февральской революции 1917 г. речь шла о том, чтобы п о л и т и к у привести в соответствие с экономикой, а в Октябрьской революции 1917 г. задача была в том, чтобы э к о н о м и к у привести
в соответствие с политикой, т. е. через п о л и т и ч е с к у ю в л а с т ь
притти к экономическому госиодству. В исторической н е п о с и л ь н о е т и этой задачи и лежит причина ее
н е о с у ще е т в л е н н о с т и".
Что же касается утверждения проф. Я. М. Магазинера о возможности освещения теории государственного права „теперь", „только
с определенно-политической точки зрения, не оправдываемой в учебнике", то на поверку оказалось, что проф. Я. М. Магазинер опроверг
свое утверждение: он охотно сделал исключение для исповедуемой
им „определенно-политической" точки зрения. Кадетский профессор, в сущности, нисколько ие стеснялся „в родном отечестве"
и излагал в своих лекциях абсолютно все, что ему заблагорассудилось.
Все же он пользуется случаем, чтобы пожаловаться на стеснения,
указывая в предисловии, что, „в с и л у п о л и т и к и п е ч а т и , пришлось ограничиться только ю р и д и ч е с к и м
описанием государственного устройства РСФСР, не касаясь о ц е н к и е г о ни с п р а вовой, н и с политической точек зрения",
/
Проф. Я. М. Магазинер мог сказать: „Feci quod potui; faciunt
meliora potentes" („Я сделал все, что мог; пусть другие сделают
лучше"). В своем пропагандистском увлечении он зарапортовался
(стр. 5) в доказательствах преимуществ общегосударственных интересов перед классовыми. „Эти интересы — говорит проф. Я. М. Магазинер— различны по н а п р я ж е н и ю , ибо один убежден, что
пролетарии „не имеют
отечества" или ubi bene, ubi patria —
где хорошо, там и отечество (Цицерон), а для другого—нет места
на земле вне данного общения, напр., Сократ или Дантон, которые
предпочли принять смерть от своего отечества, чем бежать из
тюрьмы за его пределы: „Нельзя унести отечество на подошвах своих
башмаков" (Дантон). По счастливому образу Ад. Мицкевича, „отечество, как здоровье, только тогда истинно ценится, когда оно потеряно".
Можно себе представить что получилось бы, еслиб революционеры
прониклись „счастливым образом" Ад, Мицкевича и беспрекословно
отдавались в руки своих классовых врагов.
По крайней мере, наиболее активные политические друзья проф.
Магазинера не послушались его и до сих пор предпочитают заниматься
за границей травлей Советского союза.
Пример с проф. Я. М. Магазинером является яркой иллюстрацией
того, что, по крайней мере, до 1922 года многие кафедры в вузах
служили орудием антисоветской пропаганды. Недаром еще в 1919 г.
последовал декрет о закрытии юридических факультетов, так как они
были местом мобилизации враждебных сил.
Разумеется, такое мероприятие советской власти не могло понравиться политическим друзьям проф. Магазинера. Замечательно, что
ие кто иной, как один из видных кадетов, кандидат в Учредительное
собрание по кадетскому списку от Ярославской губернии, б. ректор
Ярославского Демидовского лицея, проф. В. Н. Ширяев выступил
тогда в печати с критической статьей против закрытия юридических
факультетов („Вопросы правотворчества в Советской России", по материалам Нар. комиссариата юстиции), заранее оговорившись, Что для^
него самого, в сущности, нет сомнения в отрицательном характере
этой меры. Проф. Ширяев пишет: „Я не буду в дальнейшем ни отстаивать самоценности юридического образования, как самостоятельной
отрасли обществоведения, ни защищать непоколебимость существующей системы; д л я м е н я п е р в о е п о с т о л ь к у ж е о ч е в и д н о , ,
п о с к о л ь к у я с н а н е о б х о д и м о с т ь в т о р о г о " . Поэтому проф.
Ширяев пытается применить иной метод и ссылками на выступления
т.т. Стучки, Курского, Козловского и др. старается доказать неосновательность этой меры даже с точки зрения своих противников. Нельзя
отказать в остроумии такого приема, при помощи которого проф.
Ширяев приходит к следующему произвольному выводу: „Если идея
народного правотворчества путем судебных решений оказывается недостижимой мечтой (?), если попытка создания новой судебной организации возвращает к началам, выработанным долгим судебным опытом
прошлого (?), если без специально подготовленного юриста нельзя провести ни одного судебного процесса (?!), а впереди предстоит упорная
и затяжная борьба с проявлениями преступности, то следует ли при
таких условиях подвергать „лишению огня и воды" юриспруденцию
и юристов, хотя бы прошедших старую школу „буржуазного строя",
следует ли при таких условиях говорить об упразднении юридическогообразования?".
Выступление проф. Ширяева является весьма характерным и показательным. Возобновление деятельности правовых отделений последовало значительно позже, прп ином соотношении классовых сил в
стране, когда выступления Магазинеров и их политических друзей,
сделались не типичными, а только эпизодическими в стенах наших
вузов.
II.
Более или менее открытые выступления продолжались и после
г.
1922 год явился переломным в м е т о д а х борьбы против СССРПровал открытой интервенции против Советского союза и удачное маневрирование советской власти при введении нэпа вынуждает врагов
изменить тактику. В неприкрашенно-откровенном виде позволяют себе
говорить наши враги только за рубежом. С одной стороны, они демонстрируют свое непримиримо-отрицательное отношение к нашему'строю
и к нашему праву на с'езде „русских юристов за границей" (Берлин,
1—4 октября 1922 г.), а с
другой—призывают к изучению с о в е т с к о г о п р а в а , поскольку они вынуждены „подождать" свержения советской власти, признавая, что оно становится вопросом более
отдаленного будущего. Однако, новая тактика нисколько не меняла,
дела и не вносила ни малейших изменений в самое отношение к co1922
•зетскому праву. Даже наоборот,—она требовала со стороны единомышленников в Советском союзе "большей бдительности, в виду введения нэпа.
Сущность создавшегося положения к началу 1924 г. четко формулирована в пражском сборнике белогвардейских профессоров под
•заглавием „Право советской России". В предисловии к этому сборнику от 1 февраля 1924 г., за подписью профессоров „русского юридического факультета" в Праге П. П. Алексеева, С. В. Завадовского,
А. В. Маклецова и II. С. Тимашева, устанавливается как незыблемое
положение п о л н а я н е п р и е м л е м о с т ь
советского
права
д л я б е л о г в а р д е й с к о г о л а г е р я , но одновременно делается призыв к изучению советского права.
„... Оно необходимо—говорится в предисловии—прежде всего,
чтобы иметь возможность н е т о л ь к о в о б щ е й ф о р м е отрицать его, но и о п р о в е р г а т ь столь часто встречающиеся за
пределами России ошибочные представления о нем, в особенности
в настоящее время, когда, в связи с провозглашением лозунга
„революционной законности" и изданием в н е ш н е у п о р я д о ч е н н ы х кодексов, с о з д а е т с я в и д и м о с т ь
глубокого
п е р е л о м а в правовом состоянии страны в сторону улучшения.
€ другой стороны, с советским правом, как создавшим в результате относительно длительного существования многочисленные
суб'ективные нрава (напр., в области земельных отношений,
в сфере семейного права и т. д.), п р и д е т с я с ч и т а т ь с я п р и
в с я к и х и з м е н е н и я х и ф о р м а х п о л и т и ч е с к о г о бытия Р о с с и и " .
Неустанная критика советского права, с одной стороны, и практическая необходимость считаться с этим ненавистным правом в случае свержения советской власти при ликвидации отношений, возникших
при советской власти, с другой—вот что вдохновляет белогвардейцев
изучать своего противника. Предстоит длительная осада, и хвастовство
в роде „шапками закидаем", пожалуй, может оказаться неуместным.
Авторы предисловия считают необходимым провозгласить, что
„призыв к знанию советского права, который заключается
в факте выпуска в свет настоящего сборника, н е о з н а ч а е т
п р и з ы в а к е г о п р и з н а н и ю . . . Советское право в его принципиалышх основаниях не является той основой, на которой может и должен строиться здоровый созидательный процесс правового возрождения России. Но самое отрицание советского
права, по нашему убеждению, действенную свою силу и внутреннюю убедительность должно основывать на точном и об'ективном
знании его".
С этой точки зрения авторы предисловия совершенно последовательны, указывая, что только „намеченный для сборника об'ем не
позволял нам с самого начала ставить своей задачей составление
энциклоиедин советского права".
Основная же тактика врагов в легальных условиях—сделат ь вид.,
что Октябрьская революция составляет эпизод, который ничего нового
в основные установки буржуазной - теории права не вносит, и единственно, с чем приходится-де согласиться, это—принять навязанную большевиками „трескучую" терминологию, но по с у щ е с т в у проводить
под флагом этой терминологии п о л н о с т ь ю прежние свои взгляды
на суд, на наше законодательство и т. д. Попутно можно, конечно,
тонко и внешне незаметно оттенить свои политические взгляды, соблюдая самую лойяльную форму. Вообще же рекомендуется переодеваться в советские одежды.
Использование легальных возможностей пошло во-всю. Приходится
отдать справедливость идеологам наших классовых врагов, что они великолепно усвоили употребление того самого оружия, которое, наряду
с другими революционными методами борьбы, пускалось и пускается
в ход рабочим классом везде, где он не находится у власти. Наиболее
умелые идеологи буржуазии, засевшие в наших вузах и научных учреждениях, печатали на советской бумаге, на советские же средства,
в советских же изданиях свои произведения, имеющие целью „мирную"пропаганду идей, враждебных диктатуре пролетариата. Так же действовали и Рамзины на правовом фронте.
Сменовеховство в области права преследовало те лее политические
задачи—свержение советской власти и восстановление капитализма,—
как и в других областях, где устряловцы всяких оттенков и меньшевики первоначально ставили ставку на перерождение советской власти
и лишь затем перешли, в период реконструкции нашего хозяйства
к организованному вредительству. Враги, однако, продолжали свою
ставку на перерождение советской власти, и такое положение диктовало иную тактику—не саботировать, а, наоборот, проникать во все
поры советского аппарата и содействовать процессу перерождения,
которого они ожидали.
Они занялись изучением нашего права, они „облепили" его со
всех сторон, комментируя каждое слово, каждую букву. Выполняя,
на ряду с пражскими профессорами, социальный и политический заказ
своих хозяев, они взялись за работу по самому тщательному изучению
нашего права. Сущностью толкования нашего права было перейти
т у г р а н ь , о которой говорил Ленин в 1922 г. по поводу ГК, в сторону обеспечения для развития капиталистических отношений. Ставка
на перерождение состояла не в том, чтобы ругать, а чтобы п о м о г а т ь процессу перерождения, который начался с 1922 г., по мнению
устряловцев.
При всей „добросовестности" в исполнении поставленной задачи,
они все же были лишены возможности „опровергать" наше право, примерно, так, как это делалось в Праге. Не могли они в советских условиях преподносить комментаторские работы хотя бы приблизительно
так, как это делают их пражские друзья, которые могут позволить
себе черным по белому писать, что народный суд в Советском союзе
„напоминает волостной суд Дореволюционного времени...
по тому отрицанию элементарных гарантий правосудия, которое
заключается в процессуальных правилах для губсудов; губсуды
из судов дореволюционного времени более всего напоминают суды
военно-полевые. Своеобразное сочетание прежних волостных судов с ухудшенными военно-полевыми судами старого режима-—
вот сущность современного советского государства. П р о я в л я ю щ е е с я в нем п р е з р е н и е к с а м о й и д е е с у д а типично для д е с п о т и ч е с к о г о
государства.1
Они также лишены возможности повторять подобные белогвардейские утверждения, как, например, что „УГІК является детищем эпохи
организованного бесправия, сознательно проводимого властью, создающей для его реализации специальный аппарат и снабжающей этот
последний соответственными правилами".2
Журнал „Право и Жизнь", организованный кадетскими и марк•систствующими профессорами, занял совершенно определенную позицию,
представив собою штаб по планомерной организации в СССР идеологического вредительства на правовом фронте. Страницы журнала были
открыты в течение ряда лет для замаскированного изложения враждебных теорий и мыслей в легальной правовой печати. ІІо характеристике
рецензента „Революция права", „под весьма пестрой и хитро логически сплетенной паутиной юридических конструкций скрывается классовая мелкобуржуазная антиреволюционность, внутренняя логика которой неизбежно гонит на путь братания со всякой контрреволюционной
силой, поднимающей голову в моменты затруднения." 3
Яркий тому пример с явно антисоветской книгой проф. Магазинера, когда „Право и Жизнь" в первый год своего существования
не стеснялось выражать о т к р ы т о свою полную солидарность с проф.
Магазинером. Рецензент этой книги (кн. III „Право и Жизнь" за 1922 г.)
И. Ильинский игриво замечает:
„Книга эта испытала на себе все политические бури переживаемого времени", пишет ее автор в предисловии. Он надеется,
тем не менее, что ему удалось воздержаться от искушения учесть
уроки мировой войны и революции, так как он не желает проводить в учебнике партийно-политической точки зрения. В о з д е р ж а н и е о к а з а л о с ь н е п о л н ы м , мы г о в о р и м э т о н е
в в и д е у п р е к а , ибо в у ч е б н и к
обществоведения,
1 „Право советской России",
выпуск II, стр. 243—244. Разрядка авторов
сборника.
2 Там же, стр. 309. Нужно отметить, что эта белогвардейская клевета па
нати суд повторяется в аналогичных выражениях и в 1930 году в знаменитом
„манифесте" „Национального русского кабинета", за подписью Картатева, князя
Долгорукова, Киндякова, Ковалевского, Струве, Востротина и Мѳйнгардта. В этом
„манифесте", выпущенном в связи с „исчезновением" К-утепова, заявляется:
„Европа должна выйти из кошмара, в который ее погрузили варвары. Нужно
об,'явить моральный и политический бойкот правительству диких и кровавых
К О М М У Н И С Т О В " . („Известия", 10 февраля 1930 г.).
3 „Револ. права", Л» 4, 1928 г., стр. 105.
д а ж е при с т р о г о м б е с п р и с т р а с т и и и н а у ч н о й об1ективности, почти в с е г д а проникают
политические симпатии и антипатии авторов."
Да, И. Ильинский далек от упрека по адресу проф. Магазинера,
он только как верный его союзник слегка журит его за некоторую
неосторожность, за выбалтывание того, о чем следовало пока молчать.
Ограничиваясь некоторыми мелкими незначущими замечаниями по адресу книги, И. Ильинский заканчивает рецензию в самых благожелательных выражениях:
„Сделанные замечания не мешают, однако, признать, что
книга Магазинера является п о л е з н ы м п о с о б и е м д л я с т у д е н т о в и, н е с о м н е н н о , з а с л у ж и в а е т
повторения
в и с п р а в л е н н о м и д о п о л н е н н о м виде".
Пусть студенты хорошенько воспримут и крепко усвоят в своей
предстоящей п р а к т и ч е с к о й работе „политические симпатии и антипатии" проф. М а г а з и н е р а . . .
„Право и Жизнь" и в 1927 г о д у продолжало выражать свою
неизменную солидарность с проф. Магазинером. В рецензии Д. Б. Плетнева па новую книгу Магазинера „Промышленное право" находим следующие строки:
„Имя проф. Магазинера широко известно в юридическом мире.
Его перу принадлежит ряд солидных трудов по государственному праву.
В частности, н е с к о л ь к о л е т т о м у н а з а д им о п у б л и к о в а н '
у ч е б н и к по г о с у д а р с т в е н н о м у
праву,
завоевавший
себе вполне заслуженную известность".1
Эта рецензия единомышленника Магазинера написана в тот период,
когда Магазинером и правожизненцами были усвоены новые методы.
Они вскрыты тов. Стучкой в его рецензии на другую книгу Магазинера
„Советское хозяйственное право". Указывая, что в этой книге встречаются даже в о с т о р ж е н н ы е с л о в а при сравнении старого купца,
представителя частного хозяйства с „новым хозяйственником", тов.
Стучка критикует работу Магазинера, как эклектическую, страдающую
методом, в р а ж д е б н ы м м а р к с и з м у в о о б щ е и д и а л е к т и ч е с к о м у м а т е р и а л и з м у — в ч а с т н о сти,—методом,который „может
иметь в виду л и ш ь с о в е т с к о е п р а в о б е з м а р к с и з м а , т. е.
советы
без
к о м м у н и с т о в " . 3 Это выступление Магазинера
свидетельствует лиш о том, что Магазинеры и К ° перешли к замаскированным атакам, которые отнюдь не были эпизодическими вплоть
до 1830 г. в Ленинграде, а в ряде городов и по сен день (Минск, Тифлис и др.). Замечательно, что Магазинер продолжает и поныне преподавательскую работу в Ленинграде (Институт народ, хоз.).
Что же делать нашим врагам? Как выйти из затруднения? Как
сказать то, что нужно сказать, но не попасться с поличным? „Язык
1
2
„Право и Жизнь", кн. 6—7 за 1927 г., стр. 118.
„Револ. права", № 3, 1929 г., стр. 115.
дан для того, чтобы скрывать свои мысли", говорил некогда Талейран,
и наши доморощенные Талейраны всячески изловчаются, применяя
и метод умолчания, где это необходимо, и метод намеков, так что
и придраться нельзя. Пользуясь теоретическими разногласиями в нашей
среде, они раздувают их и торжественно солидаризуются с некоторыми
из наших же товарищей, и выходит, что они-де сами против нас ничего
не имеют, а лишь „присоединяются" к мнению „авторитетных" наших
товарищей. Правда, и эта операция происходит не без легонькой передержки в надежде и даже уверенности, что опровержения не будет.
Делаются, не без успеха, попытки „ассимилировать" советское
право с буржуазным. Да, Октябрьская революция была, но различие
между советской и буржуазной системой уже не „столь велико", так
как, мол, наше право во многом столь похоже на буржуазное, что
оно... в дальнейшем должно будет совпадать. Следовательно, все то,
что составляет продукт большевистского творчества — это от лукавого,
э т о ' о т тех, „которые расстреливали", а в теоретическом смысле—
сплошная белиберда и головотяпство. Это прямо не говорится, но под
видом „комментирования" эта мысль проводится весьма энергично.
Делаются и прямые попытки в литературе доказывать необходимость восстановления во всей красе и дореволюционного законодательства. Это, конечно, делается по такому поводу, который не позволил бы обвинить автора такой попытки в стремлении к реставрации
законодательства, ссылки на нормы которого были даже формально
запрещены после восстания левых эсеров в 1918 году 1 .
Вот типичный образец фальшивки в ее чистом неприкрашенном
виде, при помощи которой небезызвестный процессуалист проф. Полянский пытался в 1927 году в своей книге „Очерки общей теории уголовного процесса" выдать, как вполне „советские", свои взгляды, которые
он нроповедывал с трибуны Демидовского юридического лицея в Ярославле в своей вступительной лекции 27 с е н т я б р я 1916 г. к курсу
уголовного процесса на тему: „Суд в правовом государстве и наука
уголовного процесса". Ныне Полянский считает достаточным отметить,
что „при всем о ч е в и д н о м р а з л и ч и и и ч а с т ь ю д а ж е а н т а г о н и ч п о с т и идеи революционной з а к о н н о с т и и правов о г о г о с у д а р с т в а — бесспорно.^, что они имеют точки соприкосновения..." 2
Сделав эту оговорку, Полянский „забывает" об им же признанном
„очевидном различии" и „антагоничности" и в дальнейшем, без всяких
церемоний и без малейших оговорок перепечатывает почти слово в слово
все то, что он говорил в 1916 году во вступительной лекции.
Сопоставление текста этих произведений Полянского 1916 и 1927 годов поражает внешней простотой приемов. Для сравнения приведем
некоторые выдержки из этих текстов. Раньше всего, само заглавие:
1 Примечание к ст. 22 Положения о народном суде от 30 ноября 1918 г(С. У. 1918 г. № 85 ст. 889) гласит: „Ссылки в приговорах и решениях на законы
свергнутых правительств воспрещены".
2 Проф. Н. Н. Полянский. „Очерки общей теории уголовного процесса „Право и Жизнь", Москва, 1927 г., стр. 5.
„вуд в правовом госуд а р с т а е п паука уголовного
процесса" (лекция 1916 года).
„Идея „ р е в о л ю ц и о н н о й
з а к о н н о е т и " и наухш уголовного процесса" (1-я глава книги
„Очерки общей теории уголовного процесса", 1.927 г.)
„Революционная законность" взята в кавычки, чтобы позволить
этой навязанной большевиками терминологии заменить собой терминологию правового государства. Эту замену он проделывает на протяжении всей своей статьи, оставшейся и по содержанию, и по форме
той же статьей 1916 т. '
Вот ее начало, совершенно тождественное но текстам 1916 и
1927 г.г.
„Если даже богатство или оскудение художественной литературы ставится иногда в связь е
наличностью или отсутствием в
общественной жизни крупных руководящих идей, то еще в большей мере от этой причины должны зависеть расцвет или упадок
общественных наук. Она тоже
требует. воодушевления, сосредоточения дружных сил, особой бодрости научной мысли, к о т о р а я
к р е п н е т в а т м о с ф е р е общественного сочувствия
о д н о й р у к о в о д я щ е й идее.
К с ч а с т ь ю д л я н а ш е г о времени, у р у с с к о г о
общес т в а е с т ь т а к а я р у к о в од я щ а я и д е я , уже ставшая лозунгом творческой научной работы". (Лекция, стр. 80).
„Если даже богатство или оскудение художественной литературы ставится иногда в связь
с наличностью или отсутствием в
общественной жизни крупных руководящих идей, то еще в большей мере от этой причины должны зависеть расцвет или упадок
общественных наук. Она тоже
требует воодушевления, сосредоточения дружных сил, особой бодрости научной мысли, к о т о р а я
к р е п н е т в а т м о с ф е р е общественного сочувствия
о д н о й р у к о в о д я щ е й идее.
К с ч а е т ь ю д л я н аш е г о времени, у р у с с к о г о
общества есть такая руковод я щ а я и д е я , уже ставшая лозунгом творческой научной работы". („Очерки", стр. 5).
Какова эта руководящая идея у „ р у с с к о г о общества", которая
составляет „лозунг творческой научной работы" для неизменного
„нашего времени", одинакового и в 1916 и. в 1927 годах? На этот
вопрос Полянский в 1916 г. ответил: „Это — идея правового государства", а в 1927 г.: „Это—„идея" „революционной законности".
„Едва ли мы преувеличим,
сказав, что стремление к проведению в жизнь н а ч а л п р а в о в о г о г о с у д а р с т в а переживается р у с с к и м о б щ е с т в о м
особенно остро, острее, чем на
Западе, и потому ли, что у нас
оно встречает больше, чек где-
„Едва ли мы преувеличим,
сказав, что стремление к проведению в жизнь идеи „ р е в о л ю ц и о н н о й з а к о н н о с т и " переживается р у с с к и м о б щ е с т в о м особенно остро п о т о м у ,
ч т о о н о у н а с мо л од о, е щ е
к е п е р е е т а л о б ы т ь п о р ы-
либо на Западе, препятствий к
своему осуществлению, или пот о м у , ч т о оно у н а с е щ е
молодо, еще не п е р е с т а л о
б ы т ь п о р ы в о м , е щ е не п р е - \
в р а т ил о с ь в настойчивую,
но с п о к о й н у ю
энергию."
(Лекция, стр. 79).
в ом, е щ е н е п р е в р а т и л о с ь
в н а с т о й ч и в у ю , но с покойную энергию",
(„Очерки*, стр. 5).
Но не везет „русскому обществу" как в 1916 г., так и в 1927 г.:
тогда не „вытанцовывалось" с установлением правового государства, и
„стремление® к нему так и осталось „порывом"; таким же „порывом",
но мнению Полянского, является ныне и идея „революционной законности."
„ П р а в о и п р а в а — в о т те
слова, которые д о л ж н ы быть
написаны на знамени п р а в о в ог о государства".
(Лекция, стр. 80).
„ С о в е т с к о е государство
к п р а в о т р у д я щ и х с я — вот
те слова, которые м о г л и б ы (?)
быть написаны на знамени С оюза
советских
республ и к".
(„Очерки", стр. 6).
Отнесем к редакционной шероховатости эту игривую формулировку
„ м о г л и б ы быть написаны®, а не просто „написаны" или „ д о л ж н ы быть написаны®.
Полянский сохраняет „знамя" буржуазии 1916 года в полной неприкосновенности и только соглашается на замену надписей на этом
знамени, — замену временную, конечно, пока не произойдет падение
советской власти. Это—классический образец самой примитивной, самой
грубой и аляповатой вредительской работы, когда подкрашивание революционной фразеологией и спекуляция советскими терминами имеют
своей целью —скрыть реставрационные намерения и контрабандой
протащить под советским флагом идеологию буржуазии. Это проделкваетея до беззастенчивости открыто. Приводя в своей лекции выдержки
из Иеринга, Полянский в 1916 г. говорил, что „мы еще не у т р а т и л и с в е ж е с т и и н т е р е с а к новым понятиям о государстве
и праве. Среди этих понятий ц е н т р а л ь н о е м е с т о п р и н а д л е ж и т п о н я т и ю п р а в о в о г о г о с у д а р с т в а ® . В 1927 году Полянский повторяет точь-в-точь эти слова, но благодаря тому, что терминологическая замена слов „правового государства® словами—„идеей
„революционной законности® происходит механически в порядке редакционном, то выходит несколько комично. Получается, что и в 1927 г.
„мы еще не утратили с в е ж е с т и и н т е р е с а " , что понятие правового
государства составляло „центральное место" среди новых понятии
о государстве и нраве в 1916 г., а в 1927 г. „идея" „революционной законности® составляет т а к о е ж е „центральное место". Таких курьезов, благодаря механической смене терминологии, не мало.
„Ведь, прошло е д в а д е с я т и л е т и е с того времени, как
для нас пробил тот час истории,
о котором говорил Иерипг.
(„Лекция", 1916 г., стр. 79).
„Ведь, прошло е д в а д е с я т и л е т и е с того времени, как
для нас пробил тот час истории,
о котором говорил Иеринг."
(„Очерки", 1927 г., стр. 5).
Символическим является повторяемое Полянским в 1927 году дословно выражение „Ведь прошло только д е с я т и л е т и е с того времени...". То же „десятилетие"—в 1916 и в 1927 г. Для Полянского
между 1916 и 1927 годами промежутка времени не существует.
Полянский идет дальше — он пытается приписать Верхсуду РСФСР
взгляды буржуазных профессоров на соблюдение буржуазной законности
только потому, что в инструктивном письме Верхсуда 1925 г.
2
говорится, что „курс на революционную законность означает т в е р д о е и н е у к л о н н о е с о б л ю д е н и е з а к о н о в , и з д а н н ы х раб о ч е - к р е с т ь я н с к и м пр а в и т е л ь с т в о м " .
Это позволяет Полянскому включить приведенную выдержку из инструктивного письма
в п е р е л и ц о в а н н ы й т е к с т с в о е й л е к ц и и 1916 г. в том месте,
где он касается понятия господства об'ективного правопорядка и делает
ссылку на авторитет С. А. Котляревского. Выходит, что С. А. Котляревский в своей книге в 1815 г. „Власть и право" п р е д в о с х и т и л
те установки, которые проводятся в инструктивном письме Верхсуда
по вопросу о соблюдении революционной законности...
Чтобы протащить свои взгляды в советских условиях о независимости суда, Полянский, раньше всего, констатирует, что в советском
суде „последовательно проводимое отрицательное отношение к разделению властей, как к „принципу", приводит в организации правосудия
к отрицанию начала независимости суда" (стр. 19). Выступить прямо
против такой категорической линии советской власти Полянский не
решается, и поэтому он тут же в сноске лишь многозначительно и лаконически отмечает: „См. о д н а к о , с т р . 6 1 — 6 2 " . И, действительно,
там в д р у г о й статье („Цель уголовного процесса", гл. VI) Полянский в завуалированной форме проводит свою точку зрения о независимости суда.
„В каждом отдельном случае — пишет Полянский — суд должен
разрешить вопрос о наличности или отсутствии условий для применения наказания, основываясь и с к л ю ч и т е л ь н о на имеющихся в деле
данных по своему внутреннему убеждению, как того требует ст. 319
нашего УІІК. З а к о н э т о т б ы л бы н а п и с а н „ в с у е " , е с л и б ы
о д н о в р е м е н н о не п р и з н а в а л а с ь н е з а в и с и м о с т ь с у д о в
о т п о с т о р о н н е г о в л и я н и я — в частности, влияния администрации— на разрешение к о н к р е т н ы х д е л " . '
Зато в лекции 1916 года абзац па эту тему изложен четко без
эзоповского языка.
„Так, из качала, условно называемого началом разделения властей,
которое определяет юридическую природу правового
государства, вытекает требование возможно большей *
независимости судебных властей".
Забавно звучит у Полянского фраза: „ И д е я „ р е в о л ю ц и о н - '
н о й з а к о н н о с т и " не должна повидать нас и в этой части..." (стр. 19).
Нужно только вспомнить, что эта фраза составляет безобидный абзац
лекции 1916 года: „ И д е я п р а в о в о г о г о с у д а р с т в а не должна
покидать нас и в этой части" (стр. 94).
„Будущая Россия", о которой Полянский г о в о р и в 1916 году,
претворилась у него в образ „ н а ш е г о Советского союза". Вот заключительное абзацы его выступлений 1916 и 1927 годов:
„Будущая
Россия,
которая
должна выйти обновленн о и из испытания огнем и жѳлезом в о й н ы , будет больше, чем
когда-либо, нуждаться в честных,
убежденных, стойких и даже самоотверженных работниках. М н е
х о ч е т с я в е р и т ь , ч т о такие работники выйдут и
из с р е д ы м о и х с е г о д н я ш них с л у ш а т е л е й " .
(Лекция, етр, 97)
„Наш С о в е т с к и й союз«
в ы ш е д ш и й обновленным из
испытания огнем к железом л ып е р и а л и с т и ч е е к о й и гражда н е к о й войны,
больше,
чем когда-либо, нуждается в чеетных, убежденных к даже самоотверженных работниках",
(„Очеркх", стр. 23.).
Можно лишь выразить сомнение, является ли наш Советский союз
той „будущей Россией", о которой мечтал Полянский в 1916 году.
По крайней мере, сам Полянский в 1927 году, через 12 лет после
Октябрьской революции, в этих же „Очерках" перепечатывает б е з
м а л е й ш и х и з м е н е н и й свои дореволюционные статьи. Так, например,
статья „Спор о юридической природе уголовного процесса" (стр. 95—-109)
составляет д о с л о в н у ю перепечатку его же статьи под тем же заглавием в „Юридическом Вестнике" за 1916 г. кн. X V I I I . Наиболее
курьезно происхождение статьи „Понятие уголовного иска" (стр.
110—125). Полянский отмечает (стр. 110):
„Настоящий очерк был в свое время написан, кап в с т у п и т е л ь н а я г л а в а из з а д у м а н н о й а в т о р о м
книги
об участии частных лиц в публичном обвинении. В о с у щ е с т в л е н и е э т о г о з а м ы с л а автору удалось написать и напечатать, к р о м е в о с п р о и з в о д и м о г о о ч е р к а („Право и
Жизнь", 1926 г., кн. 5), статьи: „К вопросу об участии частных
лиц в публичном обвинении" $„Юрид.- Вестник", 1915 г. кн. IX),
„К вопросу о праве частных лиц на субсидиарное обвинение"
(,ДОрид. Веетпик", 1914 г. кн. VI) и „Право общества на уголовный иск" („Вопросы права" 1911 г. кн. VI).
Таким образом, мировоззрение Полянского, которое легло в основание и „воспроизводимого очерка", и всех его дореволюционных статей па перечисленные темы, вплоть до с т а т ь и в 1911 г. в „Вопросах права", приняло четкие очертания и д о 1911 года и, разумеется,
п р е д ш е с т в о в а л о напечатанию этих статей. Но чтобы и эти статьи
оказались приемлемыми в советских условиях, Полянский предпосы-
лаеч им в „Очерках" евою вводную статью „Идея „революционной
законности" и наука уголовного процесса". Цель ясна после этого артистического жонглирования с терминологией—обеспечить политическое
доверие в „нашем" Советском союзе, где „идея „революционной законности" не должна покидать нас"—и к о с т а л ь н ы м е г о с т а т ь я м ,
которые перепечатаны почти без изменений 1 .
После этого вполне естественно, что в предисловии к своим „Очеркам" Полянский, пытаясь замести следы, так объясняет, почему он
не касается в своей книге вопросов марксизма в применении к уголовному процессу.
„Нет и очерка на тему „Марксизм и уголовный процеес"—
пишет Полянский — хотя при том значении, которое марксизм
получил для всех отраслей современного знания, такой очерк
в законченном .изложении общей теории уголовного процесса —
н е з а в и с и м о от м и р о в о з з р е н и я а в т о р а—был бы обязателен. Откладывать выпуск своей работы до того времени, когда
эти и другие очерки будут написаны, автор не хотел: р а б о т а
р и с к о в а л а бы н и к о г д а н е в ы й т и в с в е т , потому что...
„жизнь идет вперед, а труд назад".
Полянский справедливо рассуждал, что При откровенном саморазоблачении и расшифровке своего мировоззрения „работа рисковала
бы никогда не выйти в свет", но его мотивировка,—что „жизнь идет
вперед, а труд назад"—лишь для отвода глаз.
Для уразумения эзоповского языка Полянского следует обратить
внимание на его замечание, что „из предлагаемых ш е с т и очерков—
п я т ь ранее были напечатаны в различных периодических изданиях"
еще до революции, и, следовательно, вся с п е ш к а в переиздании
старых статей абсолютно ничем не оправдывается, если бы опа ие
была продиктована стремлением произвести перелицовку дореволюционных статей на советский лад. Тем более, что ныне напечатанный
„труд", в собственной оценке Полянского, уже все равно пошел „назад". Вообще же противопоставление „труда" „жизни" особенно замечательно. Как известно, произведения Маркса, Энгельса, Ленина не
пошли „назад", а будут еще не раз издаваться для будущих поколений.
И это не в 1922 году, а уже в 1927 году, когда прочность советской власти заставляет врагов перейти к новым формам вредительства, и когда враждебные ей мысль и течения не могут полностью
1 Любопытно,
что Полянский, делая ссылку па свою лекцию 1916 г. („Суд
в правовом государстве и паука уголовного процесса"), ие у п о м и н а е т е ѳ з а г л а в и я , иначе советский читатель, который с ней незнаком по „Юридическому
Вестнику", лог бы сразу заподозрить, нет ли трюка с терминологией. Полянский
шроявляот осторожность, ссылаясь в заключительной части статьи „Задачи уголовного правосудия по „основам судоустройства СССР" („Очерки", стр. 64—76)
яа статью „Судебная функция" (стр. 77—94), но не па свою лекцию 1916 г., как
он это делает в той же статье, напечатанной впервые в „Праве и Жизнь" за
1926 год. кн. 8—10.
лі
себя проявлять, а могут только ограничиваться перекличкой с зарубежными и отечественными единомышленниками. Пусть бы хоть „свои"
и здесь, и за рубежом, словно члены франк-масонской ложи, знали
и чувствовали, что они не одиноки, что тут в СССР есть еще „порох
в пороховницах".
Это доказывает, что не только Полянский, но и его единомышленники по редакции „Права н Жизни", издавшей книгу Полянского
через
десять
лет
после Октябрьской
революции,
не только не думали разоружаться, а, наоборот, упорно вели свою
вредительскую контрреволюционную работу, искусно прививая яд
буржуазного права. Умилительная „верноподданическая" картина,
когда Полянский, бия себя перстами в грудь, восклицает: „Наш советский союз"... £идея революционной законности" не должна п а е покидать" и т. п.,—служит лишь прикрытием.
Зато при царизме Полянский охотно расхваливал судебные уставы
1864 года. Какой простор! И какие яркие краски находились па палитре Н. Н. Полянского! В своих лекциях д л я ш и р о к о й а у д и тории
народного
университета
в М о с к в е Полянский
„вольно и плавно" говорит о дореволюционном суде в таких выражениях:
...„После того, как многомиллионный класс крепостных
крестьян—„вчерашних р а б о в " — в п е р в ы е был поставлен в положение, хотя и не вполне равное с положением других сословий,
но, однако, и н е п о д ч и н е н н о е какому-либо из сословий",
(вот как далеко шла „критика" того „освобождения крестьян
сверху", по выражению Александра II) „Россия не могла оставаться при прежнем правосудии, различном для различных сословий. Россия, увидевшая „зарю освобождения", должна была
иметь с у д р а в н ы й д л я в с е х . . . " „...Обновлений России был
нужен суд с к о р ы й и м и л о с т и в ы й . Только такой суд и
мог быть правым и способным у т в е р д и т ь в р а с к р е п о щ е н н о м н а р о д е „то у в а ж е н и е к з а к о н у , б е з к о е г о
н е в о з м о ж н о о б щ е с т в е н н о е б л а г о с о с т о я н и е и которое должно быть постоянным
руководителем
в с е х и к а ж д о г о , о т в ы с ш е г о до н и з ш е г о " . Идею т а к о г о с у д а стремились воплотить з Судебных уставах ого
составители. Хотя это стремление не было осуществлено в п о л н о й м е р е , тем не менее, реформа наших судов на основаниях,
установленных Судебными уставами, вполне з а с л у ж и в а е т н а з в а н и я „великого дела", к о т о р о е было дано
ей
в з н а м е н и т о м у к а з е 2 0 - г о н о я б р я 1864 г. о р а о п у б ликовании Судебных уставов
во в с е о б щ е е с в е д е н и е " г.
Тут проф. Полянский полным голосом, любовно, красочно и старательно, лишь при самом легком „дружественном" намеке, что стре1 „Уголовный процесс.
Уголовный суд, его устройство и
Изд. Московского общества народных университетов, 1911 г.
деятельность".
мление составителей уставов „не было осуществлено в полной мере" —
в напыщенных выражениях пропагандирует перед широкой массой
слушателей н а р о д н о г о университета надклассовую справедливость
царского с)да и законов. Он не только тщательно скрывает их классовый характер, но и попутно извращает самым злостным образом
истинное содержание и политический смысл „освобождения крестьян".
Напрасно рецензент книги Полянского 192-7 г. тов. Рубинштейн
причисляет Полянского только к „числу буржуазных теоретиков права",
которые „кое-как приспосабливают свои труды к современному советскому читателю" 1 .
„Проф. Полянский,—пишет тов. Рубинштейн,—з п о х в а л ь н о е
о т л и ч и е от многих других буржуазных юристов, не маскируется
в тогу марксизма, а открыто признает, что он—не марксист... Автор
всецело находится в п л е н у „объективного права", „законности и / г
порядка".
Тов. Рубинштейн упускает из виду, что в задачи успешного вредительства на идеологическом фронте вовсе не входит обязательный
поголовный маскарад с переодеванием. И вместо того, чтобы изобличить Полянского, как агентуру буржуазии на идеологичесхсом фронте,
т. Рубинштейн изображает „бедного" Полянского, как „пленника" буржуазной идеология. Такое извращение действительных классовых позиций Полянского позволяет т. Рубинштейну емазать эти манипуляции
Полянского с переменой лозунгов на знамени буржуазии, квалифицируя эту операцию как некое безобидное занятие „плененного" буржуазной идеологией профессора...
„ У в л е ч е н и е автора"—продолжает т. Рубинштейн—-доходит
до того, что, признав с-уд „опорой начала законности" (?), он считает,
что „советское право и право трудящихся — вот те елова," которые
могли бы быть написапы на знамени Союза советских республик"
(стр. 6). Советское право и право трудящихся проф. Полянский понимает п о - с в о е м у . Он даже п р и в е т с т в у е т идею „революционной
законности", но только по-своему". И т. д.
Выходит, что дело не так серьезно—Полянский даже „приветствует", и его от марксистов отделяет „мелочь"—он только „ п о - с в о е м у
понимает", а это „по-своему" тоже нечто весьма безобидное. Тов.
Рубинштейн добросовестно приводит цитату из предисловия Полянского, почему тот не написал очерка на тему „Марксизм и уголовный
процесс", и весь комментарий т. Рубинштейна к э;ои классово-враждебной,,я издевательской вылазке Полянского ограничивается высказыванием, что из-за отсутствия этого очерка другие дореволюционные
статьи чем самым „значительно обесценены".
„Однако,—пишет т. Рубинштейн—мировоззрение автора н е т о л ь к о
не дало ему возможности написать очерк о марксизме в уголовном
процессе, но з н а ч и т е л ь н о о б е с ц е н и л о другие написанные им
очерки". Таким образом, т. Рубинштейн смазывает не только истинный характер отказа Полянского от составления очерка на тему
1 „Совет, право", № 2 (32)—1928 г., стр. 111—112.
о марксизме в уголовном процессе, но и готов признать, что дореволюционные статьи Полянского сохраняют ценность и теперь, хотя бы
они и были „значительно обесценены".
Тов. Рубинштейн заканчивает свою рецензию:
„Книгу эту должны только прочесть теоретики марксистской
школы права для того, чтобы всемерно бороться против проникновения этих взглядов в советскую юридическую литературу".
Такая рецензия, как рецензия т. Рубинштейна, только ослабляет бдительность к методам идеологического вредительства со стороны идеологов буржуазии, поскольку т. Рубинштейн допускает ни
на чем не основанное предположение, будто буржуазные идеологи, выполняющие социальный заказ своего класса, якобы находятся „в плену" у этого класса. Подобная квалификация по адресу агента буржуазии только способна дезориентировать в борьбе с враждебно! идеологией.
Ш.
Задача врагов в области идеологического вредительства заключается не только в том, чтобы выдавать антисоветские взгляды за
советские, но и представлять известных буржуазных идеологов, игравших в свое время огромную роль идеологических вождей, в роли „благонадежных" и для советского лагеря и тем самым открыть путь для
идеологического влияния взглядов, которые проводились в дореволюционной литературе в течение десятков лет.
Вот почему канонизация таких буржуазных теоретиков, осоветпзировапие их, создание вокруг .их имени ореола в с о в е т с к и х у с л о в и я х составляли специальный вид идеологического вредительства.
Весьма интересным образцом тщательного выполнения подобной
вредительской работы служит доклад проф. В. Н. Ширяева на торжественном заседании кабинета по изучению преступности при Белорусском государственном университете по случаю пятилетия со дня
смерти проф. Н. С. Таганцева, под заглавием „Н. С. Таганцев и его
значение для пауки уголовного нрава". Этот доклад помещен в Л£ 21
„Трудов Белорусского государственного университета" за 1928 год Б
Доклад начинается следующими словами:
„В переживаемое нами время перестройки в е е х общественных отношений, полной переоценки ценностей и в соответствии
1 Опубликование этого доклада относится к тому
периоду, когда Наркомпросом БССР был Балицкий, впоследствии исключенный из партии, как контрреволюционер, охарактеризованный в статье ответ, секретаря ЦК КП (б) Б.
тов. Г е я , как „контрреволюционный шлак" (..Правда" от 6/1—31 г.). Тогда же
ректором ВГУ состоял проф. Пичета, бессменный ректор БГУ с 1922 года, сняюгй
с должности осенью 1930 года и затем исключенный в январе 1931 г. н%оостава
Всѳбелорусокой академии наук как „враг пролетарской диктатуры", „в свя*к
с чыявлеаной контрреволюционной деятельностью группы Академии наук, направленной против диктатуры пролетариата и на срыв успешного социалистического
строительства".
с этим коренной реформы законодательства, представляется не
лишним остановиться с чувством признательности перед памятью
тех, ч ь и м и т р у д а м и с о з д а л а с ь в о з м о ж н о с т ь и э т о й
п е р е с т р о й к и и этой реформы.
В о т те с о о б р а ж е н и я общего х а р а к т е р а , которыми может б ы т ь о п р а в д а н а и з б р а н н а я тема".
Видите ли, он, В. Н. Ширяев, не беспокоил бы внимания слушателей своим сообщением о Таганцеве, если бы не „соображения общего характера". Таганцев, по мнению Ширяева, относится к армии
тех революционных борцов, трудами которых создалась возможность
нынешней „перестройки в с е х общественных отношений" „в переживаемое нами время"—иными словами, трудами которых был создан
Октябрь со всеми его последствиями, в том числе и в области „полной переоценки ценностей" и „коренной реформы законодательства".
Ширяев предупредительно отсылает нас к редкому произведению
публицистического характера, написанному Таганцевым в 1919 г. уже
при советской влаети, а именно, к книге „Пережитое". Эта книга,
по отзыву Ширяева, имеет мемуарный характер, и появлению ее
в свет мы обязаны некоторым обстоятельствам, о которых В. Н. Ширяев говорит как-бы мимоходом, считая „несущественным" подробно
на них останавливаться. Оказывается, что советская власть отнеслась
невнимательно к судьбе Таганцева, что в известной степени имело
своим результатом преждевременную, по мнению Ширяева, его смерть.
Ііо сообщению Ширяева, Таганцев умер на 81 году жизни, 22 марта
1923 г., в доме ученых по б. Миллионной улице.
Вот как об этом говорит В. Н. Ширяев:
„Уже стоя на пороге могилы и м . б. не б е з д а в л е н и я т е х
т я ж е л ы х о б с т о я т е л ь с т в , в к о т о р ы х он о к а з а л с я п о с л е
О к т я б р я 1917 г., Таганцев берется за перо и публикует несколько очерков мемуарного характера... и выпускает в свет книжку под заглавием „Пережитое" 1 .
Нужно отметить, что намек сделан в высшей степени „мягко",
не без изящеетва и—на всякий случай—в предположительной форме,
так что и возразить как будто нечего. В самом деле, какое значение
имеют две маленькие буквы „м. б." и стоит ли о них говорить?
Нет худа без добра. Не будь исключительной „неблагодарности"
советской власти к Таганцеву, к одному из тех, „чьими трудами создалась возможность перестройки всех общественных отношений", то,
употребляя лаконически-стыдливое ширяевское „м. б.", мы были бы
лишены возможности пыяе читать „Пережитое".
I
Л
Сам Таганцев еще в 1913 г. находил, 'что он уже у „порога могилы".
Свою статью, датированную им 19 марта 1913 г., он закапчивает: „Таковы моя
пожелания и таково мое п о с м е р т н о е з а в е щ а н и е молодым носителям
юридического знания и мысли" („Право", 1913 г. № 12, стр. 737). О своем материальном положении после Октября Таганцев говорит в „Пережитом" (стр. 104):
„в"тяжелые для меня денежно времена конца, 1917 и 1918 г. г.", когда, однако, как
он соообщает, ему оказывали материальную помощь его бывшие слушатели.
1
Подобный метод намеков на гибель „лучших" из-за „проклятого" советского режима проска льзывает и в некрологе, по священном проф. Ширяевым известному реакционеру проф. В. Г. Щеглову,
умершему І 4 августа 1927 г. в Ярославле 1 . Заканчивая изложение
биографии Щеглова, Ширяев в евупых, но весьма ярких словах, хотя
и внешне выраженных эзоповским стилем, так изображает фактическое
прекращение ученой деятельности, болезнь и преждевременную, по
мнению Ширяева, смерть проф. Щеглова.
„...Тяжелый период 1918—1823 года В. Г. Щеглов пережил
н е л е г к о , часто болел, но тем не менее не оставлял преподавательской работы и, как только оправлялся после болезни, снова
появлялся в аудитории.
Оставшись не у дел, после закрытия факультета общественных наук в 1923 г., В. Г. Щеглов сильно тяготился вынужденным отстранением от академической работы и часто жаловался
на невозможность делиться с молодежью своими знаниями. Только
за последний год здоровье его сильно пошатнулось, он перестал
выходить из дома и мечтать о возврате к академической работе,
а 14 августа 1927 в. тихо п незаметно пресеклась нить жизни
этого немало потрудившегося и немало давшего науке и учащимся заслуженного профессора" 2 .
Нужно, однако, заметить, что отстранение проф. Щеглова было
вынужденным не только из-за закрытия факультета общественных наук,
тем более, что с 1923 г. в Ярославле непрерывно функционируют
областные юридические курсы. И не кто иной, как сам проф. Ширяев,
еще в 1927 г. имел возможность „делиться" своими знаниями не только
с молодежью, но и с судебными работниками в г. Ярославле.
Что же пишет Н. С. Таганцев в этой книге „Пережитое"?
Мы не останавливались бы вовсе на этом произведении Таганцева,
если бы не попытка Ширяева использовать его в целях идеологического вредительства. Нужно отдать справедливость Таганцеву, что сам
он при жизни, даже при советской власти, не скрывал своих политических взглядов. Ряд ярких мест из „Пережитого" рисует нам Таганцева, как политического деятеля дореволюционной России, облеченного
огромным доверием власти и непререкаемым авторитетом в буржуазном научном мире. Ряд весьма характерных выдержек из этой
единственно напиеанной им книги политико-публицистического содержания, может всецело об'яеппть, почему Н. С. Таганцев являлся вер„Право п Жизнь", 1927 г., книга шестая-седьмая, стр. 116—117.
Такое совпадение в намеках, что и смерть Тагаицева, и смерть Щеглова
иоследовали преждевременно из-за советского режима, разумеется, не случайно.
Ширяев не считает только „удобным" из-за этого же режима высказать затаенную мысль о том, что наука в СССР в загоне, что крупные ученые умирали
из-за лишений (Таганцев) и оставались неиспользованными, как Щеглов („немало давшего науке и учащимся заслуженного профессора") и как ныне... сам
Ширяев, снятый лишь во второй половине октября 1929 г. с должности профессора уголовного права Белорусского государственного университета.
1
2
ньга слугой царизма и последователем классической шкоды уголовного
права, упорно не призяазавшего „новшеств" новой по тому временя
группы „вольнодумцев", последователей социологической школы.
Впрочем Ширяев пытается изобразить Таганцева, именно как
последователя социологической школы, чтобы хоть этим приблизить его
к современности. Эта попытка совершенно бесплодная и опровергается
она другим цравожизненцем, проф. А. Травкиным, в некрологе по случаю
смерти Н. С. Таганцева („Право и Жизнь", книга 5 и 6 за 1923 г.
стр. 106).
„...Трепет будней,—пишет Травкин,—живые истоки преступления—вне его теоретического кругозора: Таганцев весь в кругу
идей и понятии; о т т о г о в у г о л о в н о м п р а в е он, к о нечно, класеик".
„...Уголовное право, как одна из юридических наук,—говорит
Таганцев,—должно, конечно, иметь своим предметом изучение
преступных деяний, как ю р и д и ч е с к и х отношений". „Учитывая,,
однако, практическую необходимость социологического изучения,
Таганцев ищет выхода в выделении этого изучения в с а м о стоятельную
дисциплину:
„Изучение
преступления
как социального явления, и изучение преступника составляют
отрасли знания, восполняющие уголовное право как юридическую
науку, а не сливающиеся с ним, являясь составными частями
с а м о с т о я т е л ь н ы х н а у к социологии и антропологии".
Взгляд А. Трайнина на Таганцева, как на представителя классической школы, поддерживает и проф. П. И. Люблинский В Во внеклассовой же опенке Таганцева Трайнин приближается к Ширяеву.
„В исторической перспективе для науки уголовного права Таганцев—глубокое и значительное явление, своего рода „окно в Европу",
пишет А. Трайнин, а Таганцев как политический деятель,—член Государственного совета, п р о д о л ж а я с в о ю а к т и в н у ю р а б о т у
в у г о л о в н о м п р а в о т в о р ч е с т в е , п о с т о я н н о с л е д о в а л голосу своей совести".
Наша литература, ни специальная, ни общая, до сих пор не
останавливала своего внимания на политическом облике Таганцева,
Ряд выдержек из „Пережитого" показывает, что конферансье Таганцева — Ш и р я е в с о в е р ш е н н о с о з н а т е л ь н о и о б д у м а н н о
попытался ввести в заблуждение советскую обществ е н н о с т ь . Сам Таганцев, вопреки мнению Ширяева, не только не
являлся участником происшедшей „перестройки всех общественных
отношений" и „полкой переоценки ценностей", но, наоборот, находил,
что „история повторяется", и даже—что „история не только повторяется, но иногда и ухудшается". Он на всякие лады повторял это
изречение, начиная со сравнения Ленина с... Николаем I.
1 Энциклопедический
словарь Гранат, 41-й том. ч. VI, стр. 679: „...Они
(т. ѳ. „Лекции но уголовному праву". И. С.) отражали к л а с с и ч е с к о е н а п р а в л е н и е в "ушжшжш праве, еще не тронутое учениями и критикой
новых школ".
„...Мы и слышим и говорим: „история повторяется", а иногда
добавляем „хотя и прогрессирует" и относим это не только
к большим явлениям жизни, но и к подробностям. Ну, что, папример, общего между временами „кряжа монархизма" Николая I
и мгновениями Ленина, если не первого, то единственного,
а между тем поеравните их, п, может быть, невольно скажете:
„история повторяется" (стр. 215).
„Мгновения" Ленина „несколько" удлинились, несмотря на ожидания старца на скорейшее падение советской власти. Сын Таганцева,
активно пытавшийся сократить эти „мгновения", был расстрелян за
«вою контрреволюционную деятельность Б
Подтверждение своему сравнению — „история повторяется"—Таганцев видит в различных областях большевистской диктатуры, в том
числе и в стеснительной цензуре для белогвардейцев в „совдепии"....
Мысли об этом высказываются им даже без всякого „воздержания".
Словно в опровержение утверждениям Таганцева, его „Пережитое"
было беспрепятственно напечатано.
Расстрел „беззащитного и отрекшегося от власти" Николая Кровавого „даже без всякого суда над ним" производит огромное впечатление на Таганцева. Ему остается кивать на суд истории, по тут же
мимоходом он защищает своего миропомазанника, допуская, что он
мог измениться к лучшему, как и „все живущее изменчиво".
Каково отношение Таганцева к „перестройке всех общественных
отношений" и „полной переоценке ценностей", мы видим также из
•следующего отрывка.
„...Прошлое не повторить, бывшего н е л ь з я сделать небывшим и то, что наполнило последние месяцы 1917 г. и первую
половину 1918 г., может несомненно потребовать новой главы
или, вернее, страницы в и с т о р и и з л о с ч а с т н о й р о д и н ы . . . "
Но Таганцев не теряет надежды на под'ем контрреволюционного
движения.
1 В связи
с делом своего сына, расстрелянного за участие в белогвардейском заговоре, Таганцев был подвергнут домашнему аресту. Отражением этого
эпизода служит характерный документ—протокол заседания Совета Петроградского университета 21 июня 1920 г., с участием С. А. Ж е б е л е в а , С. Ф. П л а т о н о в а , А. А. Ж и ж п л е н к о й др., на котором утверждено постановление
„Советской комиссии Петроградского университета" „о необходимости просить
ректора обратиться к завед. Отделом народного
образования Л. О. Зеликсону, заведующему под'отделом ученых учреждений М. П. Кристи и заведующему" секцией высших учебных заведений Е. А. Энгелю о принятии зависящих мер к в о з в р а щ е н и ю с в о б о д ы б, п р о ф . П е т р о г р а д с к о г о у н и в-е р с и т е т а< н ы н е е г о п о ч е т н о м у ч л е н у , Н. С. Т а г а н ц е,в у и ѳ г о
ж е н е , Е. А. Т а. г а н ц ѳ в о й, п о д в е р г ш и м с я о б ы с к у и з а т е м д о м а ш нему
задержанию
в занимаемой
и м и к в а р т и р е, _ в u е с т е
с д в у м я и х в н у к а м и — ч е т ы р е х л е т и о д н о г о г о д а " . Последний
штрих—ссылка па возраст внуков, укѳ независимо от общего содержания „поты",
имеет целью воспользоваться случаем, чтобы обвинить советскую власть в бѳзсмысленной жестокости.
„...Ho ведь это, как набегающая водна при большом морском
приливе: отхлынет далеко, но мы знаем—она снова придет к и~
п у ч а я, р а д о с т н а я , п о л н а я ж и з н и и с и л ы д л я д а л ь н е й ш е г о р а з б е г а , (стр. 79).
Таганцев ждет не дождется этой „кинучен, радостной, полной,
жизни и силы волны". Она должна смести большевистских правителей
с лица земли. Кто же эти правители? Таганцев отвечает на этот вопрос попутно, но вполн® четко. Оказывается, что просвещеннейший
и христианнейший Таганцев недалек от лозунга: „Бей жидов, спасай
Россию", когда дело касается недвижимой собственности и задеваются,
интересы крупного землевладения. Тут блещет во всей своей красе
„ученый" анализ „химического" состава советской власти и озлобленный базарно-антисемитскии юмор, претендующий на исключительное
остроумие и едкость.
я ...Но
в . этом страстном споре,—пишет Таганцев,—разумеется, не могло быть и намека на то мнение, которое довелось
слышать и пережить нам за последнее время, когда владение
недвижимой собственностью было об'явлено не только подходящим
под д е й с т в и е е в р е й с к о г о з а к о н а о ю б и л е й н ы х год а х , ч т о б ы л о бы п о п я т н о , ибо н а ш и с о в р е м е н н ы е
правители в значительном большинстве
земледел и е м н е з а н и м а ю т с я , а по п р и р о д е с к л о н н ы к к о м м е р ц и и , а н е к а г р и к у л ь т у р е , но и недопустимым и даже
преступным, каков бы он ни был юридический титул владения,,
а потому и влекущим соответственное воздаяние".
Сам Таганцев, рассказывая о приглашении Витте в 1905 г.
(„...19 октября 1905 года, т. е. через день после рождения или.,
вернее, а б о р т а р о с с и й с к о й к о н с т и т у ц и и 17
октября...)
занять пост министра народного просвещения и о предложении Витте
уничтожить процентную норму евреев в высших учебных заведениях, пишет о себе: „Я в то время не был юдофобом, к а к и м м е н я п о ч е м у т о с ч и т а л и по с е н а т с к о й д е я т е л ь н о с т и , но не был и юдофилом..." „Во всяком случае я считал вопрос о проценте евреев совершенно второстенэнным с государственной точки зрения..." (стр. 104).
Политические симпатии автора „Пережитого" после Октября достаточно ярко выявлены им самим. Его септешщи представляют собой,
образец злопыхательства заклятого врага, правда, шамкающего, беззубого, но непримиримого врага, который в течение своей долгой
жизни вложил не малую лепту в арсенал орудий порабощения.
„Российская конституция 17 Октября" вызывает мало симпатий
у Таганцева, и его беседа с С. 10. Витте ничем не заканчивается. Таганцев „не удостоил" внимания „абортированное" существо, зато
Октябрь 1917 г., наоборот, уже не удостоил внимания самого Таганцева, который в своей книге с тяжелой грустью отмечает, что, не
будь Октября, то „в списке гражданских чинов второго класса за
1919 год я был бы, у в ы , уже ш е с т ы м " . Да, „проклятая" революция помешала. Все же автор „Пережитого" не только успокаивается
на своих вздохах по поводу недополученного чина, но и представляется читателю во всем параде, во всех своих регалиях, чинах и званиях, перечисляя их с полным указанием дат и всяких „высочайших"реекриптов.
Из послужного списка Таганцева узнаем, что он с 1887 г. состоял
в чине третьего класса и только ч е р е з 16 л е т , в 1903 году, удостоился повышения4 в чин действительного тайного советника з а
т р у д ы по с о с т а в л е н и ю У г о л о в н о г о у л о ж е н и я 1903 г о д а .
й было за что дать столь долгожданную награду: Ведь только
небольшая часть Уголовного уложения была введена в действие, и
в нее, главным образом, входит глава о так наз. политических преступлениях со знаменитыми 102, 126, 132 и др. статьями Уголовного
уложения. Старое архаическое Уложение о наказаниях 1845 года,
оставшееся в силе и в период Временного правительства в 1917 году
вплоть до самого Октября, не было в состоянии предусмотреть всевозможные ухищрения революционеров в борьбе со старым режимом.
Таганцеву принадлежит „честь" посильного участия в изобретении
.замысловатых силков и тенет для уловления самых различных оттенков революционных проявлений, и полученная им высокая награда дана
была по заслугам.
Заслуживает особого внимания, что значение Таганцева, именно
как автора уголовного уложения 1903 года, особо подчеркивается
Ширяевым в его выступлении в Белорусском государственном университете в 1928 году, где он указывает, что ке будет преувеличением
назвать уголовное уложение 1903 года уложением „Тагандевским".
„Не вина Таганцева,—продолжает Ширяев,—что этот кодекс так и не
успел войти в действие в полной мере, и революция застала ваше
уголовное законодательство в с о с т о я н и и д о с т а т о ч н о х а о т и ч е с к о м " . Тут В. Н. Ширяев делает весьма характерную сноску:
„Созданное, главным образом, трудами Н. С. Таганцева
Уголовное уложение 1903 года в настоящее время введено
в действие па территории Польши, Латвии, Эстонии и Литвы".
Напрашивается вопрос: что же это—случайная с п р а в к а , либо
прозрачный намек, что это „достаточно хаотическое" состояние „нашего" уголовного законодательства упорядочено только на незначительной чаети территории бывшей Российской империи? Любопытно,
что уголовное уложение 1903 г. настолько не соответствовало требованиям наиболее либеральной части российской буржуазии, что с'езд
русской группы криминалистов в Москве в 1910 году высказался отрицательно по вопросу о введении в действие Угол. улож. 1903 г.
Ярким отражением подавляющего настроения с'езда явилась статья
Жижилеяко в „Праве" (1912 г., №40, стр.2112) под заглавием „Когда
же будет введено в действие Уголовное уложение 1903 г.?" В этой
статье Жяжнленко высказывается против немедленного введения уго-
лозного уложения и дает ему следующую оценку: „В основе конструкций
уголовного уложения 1908 г. лежат идеи, б ы в ш и е . н о в ы м и " т о г д а ,
к о г д а с о с т а в л я л с я п е р в о н а ч а л ь н ы й п р о е к т е г о в 1883г.,
но т е п е р ь э т и „ н о в ы е " и д е и ч е р е з 30 л е т с и л ь н о у ж е
п о и с т р е п а л и с ь . Современная наука уголовного права по многим
вопроса" дает уже новые конструкции, а современная уголовная политика рекомендует новые приемы в деле борьбы с преступностью...'
Сам же Таганцев через некоторое время в статье „Несколько
слов по поводу одного прискорбного юбилея", помещенной в „Праве"
(А? 12, 1913 г., стр. 737), не мог примириться с судьбой своего творения, заявив, что он не может „принять к руководству погребальные
напевы" и что он примыкает к пожеланиям д р у г и х д о б р ы х ф е и ,
которые на московском с'езде союза -криминалистов (докладчики: Чубинский, Набоков, Люблинский) высказались за немедленное введение
уголовного уложеняя и к которым в прошлом году примкнул на страницах „Права" доцент Исаев".
По собственному признанию, Таганцев являлся „умеренным":
„Большинство прочих участников, в том числе и я, были у м е р е н н о г о
о б р а з а м ы с л е й ; к нашей группе принадлежал и профессор В. С.
Ключевский".
„Умеренный" Таганцев был, конечно, против в с е о б щ е г о и з б и р а т е л ь н о г о п р а в а . Он сам об этом рассказывает:
„...я попросил слова в защиту 1-го проекта. В моих бумагах
сохранился подробный ^конспект тех соображений, которые руководили мной не принимать, несмотря на к а ж у щ у ю с я потребность "успокоения бурного моря, как успокаивающую паллиативу,
всеобщее избирательное право". (Стр. 91).
Таганцев встретил дружные возражения и был несколько смущен.
Однако, он быстро успокоился, когда нашел могущественного союзника
в лице самого царя-батюшки.
„...Подойдя к Роопу, государь стал говорить с ним, как мне
было слышно, о вчерашнем заседании, о мнениях москвичей.
Что ответил Роон, я не слыхал. От него Государь перешел ко
мне и, видя, что я прислушивался к его разговору с Роопом,
сказал мне: „А Вы как думаете?" Я н е с к о л ь к о з а т р у д н и л с я о т в е т о м , но потом тотчас/ же заявил: „Я мое мнение
высказал вчера откровенно, но не скрою, Ваше Величество, что
то, что мы выслушали вчера от приглашенных, заставляет меня
весьма сомневаться,—верно ли я думаю? Они близко знают народное настроение, и меня начинает брать сомнение, правильно
ли я делаю, упорно отстаивая мое мнение? На это Государь
сказал, у л ы б а я с ь : „не к о л е б а й т е с ь и д е р ж и т е с ь т о г о ,
ч т о г о в о р и л и " , и, кажется, прибавил: „держитесь устойчиво",
но за достоверность именно этих последних слов я не ручаюсь.
Во всяком случае у меня осталось п о л н о е у б е ж д е н и е 1 , „что
он уже р е ш и л в пользу проекта № 1 " (стр. 94).
1
Разрядка в тексте.
2018813489
31
Опытный царедворец и до своего выступления великолепно учитывал мнения лиц, „близко знающих народное настроение", и под видом „скромных" сомнений Таганцев зондировал почву—не предполагаются ли такие уступки, благодаря которым его верноподданнические
усилия окажутся уже несвоевременными. Упоминание о „сомнениях"
имело явную и неприкрытую цель—благоразумно отступить „в полном
порядке", если бы оказалось, что и царь вынужден разделять эти „сомнения" и пойти на уступки.
Таганцев был прекрасно понят. Венценосный монарх, у л ы б а я с ь ,
успокоил его, и дал недвусмысленное указание — продолжать в том
же духе. И „сомнения" исчезли, яко дым, когда у него осталось
п о л н о е у б е ж д е н и е , что „он" (т. е. царь) „уже р е ш и л в пользу
проекта M 1 " .
Насколько „умеренным" был образ мыслей Таганцева, можно видеть из того, что значительно „левее" его в.оценке правых были, по
собственному его рассказу,... вдовствующая императрица Мария Федоровна а одна из известных царских принцесс Евгения Максимилиановна, имевшая влияние на решение серьезных политических вопросов.
„Мои слушательницы,—писал он,—императрица, так и в особенности
Евгения Максимилиановна, которая не скрывала своего либерального
образа мыслей, шли г о р а з д о д а л ь ш е м е н я в оценке этих людей,
сгущали мои краски".
Часто возвращается Таганцев в своих воспоминаниях к периоду
после Октября для параллелей. Обсуждение основных законов в 1S05
году дает ему новод делать сравнения и бесцеремонно брать себе
в союзники... Плеханова и П. Крапоткпна.
„...Что должны были чувствовать и д е й п ы е б о р ц ы з а
гражданскую
с в о б о д у , к а к П л е х а н о в , или к н я з ь
К р а п о т к и н, п р и п о д в и г а х я р е ч а х с а м о н о в е й ш и х
п р е д с т а в и т е л е й „ п у т е ш е с т в е н н и к о в из Г е р м а н к и " ,
про к о т о р ы х е д в а ли ие б у д е т к о щ у н с т в о м с к а з а т ь : их ж е и м е н а т ы , г о с п о д и , 1 в е с и і " (Стр. 177).
Если бы не „Пережитое", мы не имели бы столь яркого документа о Таганцеве, как о политическом деятеле. Таганцев предстал
о т к р о в е н н о перед общественностью таким, каким он был. Более
того, Таганцев даже дает объяснение этой откровенности в самом начале главы—„Экскурсия в область1 мечтаний". Он указывает, что не
может воздержаться от маленького отступления. „Видимо,—пишет он,—
это п р и з н а к п а т о л о г и ч е с к о г о с т а р ч е с к о г о м а р а з м а ,
в ы р а ж а ю щ е г о с я в б о л т л и в о с т и , а, может быть, „простое
проявление органического дефекта, нудящего меня, как в „Фаусте"
Гёте Мефистофеля, в беседе со студентом, не выдерживать сухого
тона ученого хронографа".
Не будем спорить против диагноза Таганцева о собственном старческой маразме—ему было виднее, но дело от этого не меняется.
1
Разрядка в тексте.
Болтливость его в данном случае дает возможность без специального
исследования выявить то, что к о л л е г и Т а г а н ц е в а , н е с т р а дающие старческим маразмом, тщательно скрывают.
Таганцев всей деятельностью своей жизни, несмотря на отдельные
случаи „самокритики", доказал полностью свою верноподданническую приверженность престолу, олицетворявшему волю господствующих классов.
Его перу принадлежит проект манифеста 1905 г., столь реакционного
по тем временам, что даже „свои" вынуждены были его забраковать.
Мы п р и в е л и с т о л ь д л и н н ы е о т р ы в к и и з „ П е р е ж и т о г о " и с к л ю ч и т е л ь н о для р а с к р ы т и я тех манипуляций,
к о т о р ы е с о в е р ш а ю т с я в науке и политике представит е л я м и в р а ж д е б н о й ^ а м идеологии, лицемерно и безд а р н о о п е р и р у ю щ и м и Т а г а н ц е в ы м . Политически Таганцев—
знамя наших классовых врагов, и мы пе должны позволить, чтобы это
знамя мошенническим образом, в расчете на нашу неграмотность, перекрашивали на наших же глазах в революционный цвет.
По как же сам Ширяев относится к произведению Таганцева „Пережитое"? Оказывается, что он видит во всей его контрреволюционной дребедени признак величайшей с к р о м н о с т и автора. „ Б э т о й
книге имеются только отдельные штрихи,—пишет Ширяев,—и то лишь
такие, которые „дают возможность, если не изобразить, то напомнить
особенности нравственного облика покойного". В своем стремлении
выпуклее изобразить „скромность" Таганцева Ширяез готов утверждать,
что за рассказом о „наиболее выпуклых моментах прошлого . . . личности рассказчика почти незаметно". Муссируя эту тему, Ширяев выражает сожаление, что сужение задачи, поставленной им, Ширяевым,
для изображения деятельности Н. С. Таганцева, лишает „возможности
взглянуть на Таганцева в о в е с ь е г о м о г у ч и й р о с т " . Подчеркивая скромность Таганцева, Ширяев находит, что эта задача—трудно
выполнимая, так как
. „при этом сам Таганцев может мало помочь исследователю,
заинтересовавшемуся его личностью, ибо в его распоряжении
почти не будет автобиографического материала. Впрочем, именно
это обстоятельство для м а с т и т о г о с а н о в н и к а , 1 каким
несомненно был Таганцев, будет также довольно характерным: оно
свидетельствует о необыкновенной скромности;' присущей II. С. Таганцеву".
Во всяком случае Таганцев иного мнения о собственной скромности, и тут противоречие между ним и Ширяевым совершенно непримиримое. В то время, когда В. II. Ширяев склонен приписать тяжелым материальным обстоятельствам то, что Таганцев „берется за перо
и публикует . . . „Пережитое", сам Таганцев приписывает это другому.
„Годы и леденящее время—пишет он—очевидно, с т е р л и к р а е н о 1 Ширяев
не выдерживает и нѳ стесняется выразить открыто свой пиэтѳт
перед царским с а н о в н и к о м Таганцевым. Таким он остается для него и на
заседании с о в е т с к о г о Белорусского государств, университета.
3
33
б а г р о в ы е н а л е т ы с к р о м н о с т и , л поддался искушению и начинаю предлагать читателю из „Пережитого. .
„Провидению угодно было,
допустив меня до глубокой старости, сохранить мне и возможность
пользоваться накопленными запасами своей жизни, по мере дарованных мне умственных сил и способностей". Только в дальнейшем он
выражает опасение, что „он взялся рубить дубинку не по росту"
и что „на его палитре не положено достаточно сочных и ярких красок".
Как мы видели выше, красок оказалось достаточно, и тут Таганцев действительно „скромен".
Ширяев не успокаивается на теме о скромности автора „Пережитого".
„Такими и подобными замечаниями, свидетельствующими об удив и т е л ь н о й с к р о м н о с т и а в т о р а , — п и ш е т он,—пестрят и дальнейшие страницы „Пережитого", где Н. С., отступая от эпического
тона повествования, допускает лирические отступления, г д е с к в о з ь
н е з л о б и в ы й н а р у ж н ы й юмор, с л ы ш а т с я з а т а е н н а я г о речь и скорбь".
Ширяев не только „не критикует" источников этой горечи и
скорби, но с величайшим и нескрываемым сочувствием отмечает их,
как акты величайшей скромности Таганцева. Эзоповский язык Ширяева
позволяет ему лицемерно характеризовать контрреволюционные выступления Таганцева, как „незлобивый наружный юмор". Тот же эзоповский язык позволяет именовать „скромностью" приведенное контрреволюционное выступление Таганцева в печати, так как не может же
Ширяев гаркнуть во все горло то, о чем столь „энергично" пишут и
говорят за рубенсом его политические друзья.
На попытку рецензента в № 4 „Революции права" за 1929 г.
отметить некоторые детали выступления Ширяева о Таганцеве Ширяев прислал „опровержение" в редакцию журнала, в котором пытается ответить рецензенту в высокомерном и издевательском тоне, сопоставляя то, что он писал, с тем, что приведено в рецензии. Редакция
сочла неубедительной канцелярскую отписку проф. Ширяева, но характерна заключительная часть его письма.
„Печатающиеся в „Революции права" обзоры юридической
литературы показывают, что в трудах н е т о л ь к о б у р ж у а з н ы х ю р и с т о в можно найти достаточно материала для критики,
поэтому, казалась бы, нет нужды увеличивать этот материал
искусственно . . . в рецензии на мою статью имело место такое
искусственное увеличение материала для критики, допущенное
рецензентом по к а к и м - т о о с о б ы м с о о б р а ж е н и я м и
с к а к о й - т о целью".
Откровенно, охотно и без фокусов причисляя себя к буржуазным
юристам без всяких кавычек, Ширяев предлагает оставить его в покое.
Злобно указывая:—„Да вы же сами деретесь между собой",—Ширяев
как tertius gaudens („третий радующийся"), тем самым предлагает
коммунистам продолжать эту „междоусобную" борьбу и предоставить
ему, Ширяеву, и другим буржуазным юристам продолжать „свое"дело.
Вредители действовали сообща и согласованно. Если один из них
превращает Таганцева в „основоположника" Октября, то другой дополняет его, что, по сути дела, Октябрьская революция и своего знамени не имела, а воспользовалась знаменем буржуазии, на котором она
лишь заменила лозунг „правового государства" лозунгом „революционной законности" в кавычках.
Но этого для вредителей мало; они стараются „осоветизировать"
не только Таганцевых, но и дореволюционное законодательство.
Отсюда возникает новый вид вредительства, который проникает в легальную литературу в разнообразных формах. Классическим образцом
в наиболее законченной и циничной форме является произведение Ширяева „Охрана сельскохозяйственных интересов в уголовном законодательстве" („Труды БГУ," А» 14—.15 за 1927 г.). Тема как будто лойяльная, но автор производит очень тонкую филигранную работу, в результате которой он незаметно для читателя внушает ему мысль, не
более и не менее,'—о н е о б х о д и м о с т и р е с т а в р а ц и и ц а р с к о г о з а к о н о д а т е л ь с т в а . Сначала он перечисляет все те уголовные скорпионы, которые были введены в уложении о наказаниях
1845 г., в уставе о наказаниях, далее, в таганцевском уголовном уложении 1903 г., а затем он сравнивает их с нормами нашего уголовного
кодекса, чтобы путем сопоставления установить пробельность нашего
законодательства в пользу реставрации дореволюционного.
Для этого он на 11 страницах из 14 занимается, в особенности,
догматическим исследованном архаического Уложения о наказаниях
1845 года, не только сданного в мусорный ящик истории после Октября,
но еще до революции имевшего приверженцев лишь в среде самых
крайних реакционеров. Ширяев не ограничивается этим; он производит вскрытие и другого исторического трупа—Уголовного уложения
1908 г., детища Таганцева. Наконец, он останавливается на нашем
Уголовном кодексе, чтобы показать, к а к и м и с т а т ь я м и из д о р е в о л ю ц и о н н ы х к о д е к с о в нужно пополнить его.
Замечательна догматическая работа, проделанная Ширяевым. Он
начинает, раньше всего, с „Русской Правды", где встречаются постановления о нарушении границ земельных участков, о повреждении
и о похищении домашнего скота и домашнего инвентаря, об истреблении сельскохозяйственных построек. Далее идет изложение всех
видов имущественного посягательства, которые в той или иной форме
затрагивают интересы сельского хозяйства. Изложение дореволюционного законодательства сделано с необычайной скрупулезностью и представляет собой филигранную отделку всех деталей и разновидностей, которые предусматривались разнообразными казуистическими
статьями дореволюционного законодательства. От одного чтения этого
материала рябит в глазах. Возьмем для примера одни заголовки.
Еаньше всего, следует изложение видов преступлений: „простое, легкое, тяжелое и общеопасное1-, понятие этих повреждений. Примеры
повреждений: „истребление граничных меж и других знаков с наме3*
35
рением присвоить себе или кому-либо другому части чуждой недвижимой собственности (ст. 1605 Улож. о наказ., ст. 549 п. 2 Угол, улож.)
и истребление или порча предостерегательных межевых и других знаков, если это совершено без особой, предусмотренной Улож. о наказ,
цели (ст. 32 устава о лак.). Тут следуют 4 тонкости, заключающиеся
в различии между взглядами угол. Улож. 1903 г. на эти деяния и Улож.
о нак. 1845 г. Первое относит это деяние к категории повреждения
имущества, а Улож. о нак., в связи с целью деяния, ставит его на
ряду с насильственным завладением чужим недвижимым имуществом
(ст. 1610 Улож. о нак.). В специальной сноске Ширяев доходит до
ст. 531 свода зак. гражд., когда ему приходится сопоставлять 1601 ст.
Улож. о нак., „предусматривающую случаи насильственного нападения
на чужое недвижимое имущество с целью завладения", появившуюся
лишь в 1845 г. (стр. 2173), со взглядами законодателя до 1845 г.,
когда завладение недвижимым имуществом, хотя бы и насильственное,
признавалось простым гражданским правонарушением и получало характер уголовного преступления тогда, когда „при завладении произошел бой, грабеж или другое уголовное преступление".
Ширяев находит, что для нас, конечно, представляет огромный
интерес историческое происхождение 1601 статьи Улож. о нак., изд.
1845 г., хотя бы для разрешения вопроса о том, должны ли мы внести
норму этой статьи в наш кодекс или лее мы должны воспользоваться
нормой, существовавшей е щ е до 1845 г. Ширяев занимается такжеизложением норм, которые менялись с 1845. г. (т. X ч. 1, с г. 4 3 6 ,
изд. 1857 г.), о том, что „для довольства проезжающих и прогонного
скота л у г а по д о р о г а м н е д о л ж н ы б ы т ь з а п и р а е м ы р а н е е Т р о и ц ы н а д н я , а о т п и р а е м ы по б о л ь ш и м д о р о г а м
з а в е р с т у , а по проселочным против всего поля — не позднее
1.-го сентября; равномерно дозволяется и на прочие луга и пустоши,
по скошении травы и на пашенные земли—по снятии с них хлеба
пустить прогонный скот для довольствия кормов без платы".
Любители могут углубиться и в историю 436 статьи и узнать, что
„в 1868 г. эта статья была исключена, и для разбора гражданских дел
о потравах и прогоне скота, вскоре после издания положения о крестьянах 25-го октября 1868 г., изданы были специальные правила
(Приложение к ст. 31 Положения о крестьянских учреждениях)".
Работа Ширяева изобилует ссылками на законодательство, относящееся к периоду крепостного права, что придает работе особо пикантный характер. Все это приводится Ширяевым для вывода, что
ныне действующие в уголовном кодексе взыскания за целый ряд нарушений, например, за потравы, перекосы, перепашки и т. д. являются „неудовлетворительными и несоответствующими борьбе за законность в деревне".
Ширяева не смущают такие „мелочи", как „кое-какие" различия
между „законностью" в период крепостного „права" 1845 г., или даже
более ранний или позднейший, дореволюционный, и между периодом
После революции. Он игнорирует эти „мелочи" и заранее парируег
возможные доводы против предлагаемого им пополнения уголовного
кодекса.
„Возможные опасения о переобременении народных судов подобными делами—пишет Ширяев—и в том, что „придется пересудить
всех крестьян", мне кажется, говорят скорее в пользу пополнения указанного мной пробела, чем против, ибо свидетельствуют о широкой
распространенности правонарушений подобного рода и о бессилии
справиться с ними мерами административного взыскания".
Подумаешь, „придется пересудить всех крестьян!" „Он, Ширяев,
считает, что во имя сохранения крестьянского (читай—кулацкого) хозяйства—это сущие пустяки. Единственная „уступка", которую делает
Ширяев,—та, что он „не настаивает", чтобы буквально в с е перечисленные им „нарушения интересов сельского хозяйства, известные
нашему(!) дореволюционному законодательству, нашли себе место
в советском уголовном законодательстве", (стр. 60). Ну, и на том спасибо. В самом деле—что, если бы Ширяев стал „настаивать"?.
И вот Ширяев любезно предлагает, не больше и не меньше, как
заполнить „пробельность" нашего законодательства недостающими, по
его мнению, нормами из... Уложения о наказаниях 1845 г. и Уголовного
уложения 1903 г. Предложение, оказывается, продиктовано трогательной заботой автора об интересах многомиллионного крестьянства, которые столь игнорируются-де при советской власти. Но с какой грациозностью это преподнесено!
Все предшествующее изложение,—пишет Ширяев,—имело
в виду обратить внимание на недостаточность действующего кодекса
лишь в одной части, п р а в д а , в е с ь м а
существенной,
т а к к а к она з а т р а г и в а е т и н т е р е с ы
многомиллионного крестьянства".
Ширяев скрывается под тогой догматикй. Его скрупулезный догматический анализ представляет только тщательно проведенную подготовительную работу, вид прикрытия, для того, чтобы сделать экскурсию
в с т о л ь о п а с н у ю о б л а с т ь п о л и т и к и . „Если при прежнем социально-экономическом укладе,—пишет Ширяев,—изложенные постановления уголовного законодательства имели в виду ограждение интересов в с е х з е м л е в л а д е л ь ц е в , в т о м ч и с л е и п о м е щ и к о в , то
в настоящее время при современном социальном укладе, т е же сам ы е постановления, в случае введения их в Уг. кодекс, ограждали бы
исключительно и н т е р е с ы с и д я щ е г о н а з е м л е и с в я з а н н о г о
с з е м л е ю к р е с т ь я н с т в а " . И далее „... Ведь, несмотря" на последовательно проводимый план индустриализации страны, наше народное
хозяйство е щ е д о л г и е г о д ы б у д е т о с н о в ы в а т ь с я н а к р е с т ь я н с к о м с е л ь е к о - х о з я й с т в е н н о м т р у д е . . . Я полагаю, что
путем такого пополнения Уголовного кодекса, сельско-хозяйственный
труд будет поставлен в отношении охраны в т а к и е ж е у с л о в и я ,
как и труд промышленного рабочего".
Целая политическая программа!
Ширяев сигнализирует своим единомышленникам, что он упорно
продолжает выполнять их социальный заказ по мере сил и разумения,
хотя он и потерпел однажды поражение. Делая большие глаза и прикидываясь совершенно непонимающим в чем дело, Ширяев сообщает,
что счел для себя „неожиданными"
„суждения, высказанные по поводу прочитанного автором
9 февраля 1927 г. доклада членами юридического кружка при Ярославском губсуде, т. е. судебными работниками* в коих автору были
поставлены в вину и стремление к расширению и усилению уголовной репрессии, и поддержка психологии мелко-буржуазного
собственника, п оторванность его предложения от жизни; в противоположность отстаиваемым автором предложениям, в единогласно
принятой резолюции была признана ненужность пополнения Уголовного кодекса в указанном автором отношении, в виду наличия
полной всесторонней охраны интересов крестьянства существующим уголовным законодательством" (стр. 61).
;
Совесть проф. Ширяева может быть спокойна: „Смотрите, я все
сделал: я самым подробнейшим образом изложил „нашу" точку зрения.
Я использовал все легальные возможности, чтобы довести до сведения,
„общества" о головотяпстве большевиков по отношению к „многомиллионному крестьянству",—я свой „долг" исполнил!"
Все'же эти скрупулезные исследования со ссылками на статьи дореволюционных кодексов, на толкования этих статей, на сопоставление
текста статей уложения о наказаниях, устава о наказаниях и уголовного уложения со всеми деталями их интерпретации свидетельствуют об
усилиях господ Ширяевых, чтобы давным-давно отжившее, брошенное
в мусор истории старое барахло дореволюционного законодательства
могло проникнуть в пролетарскую студенческую среду в легальной
форме и со страниц с о в е т с к о г о университетского журнала.
Когда после Октября были окончательно сломлены етарые суды,
а Положением о народном суде 30 ноября 1918 г. была далее запрещена ссылка в приговорах и решениях на „законы свергнутых правительств", то в дальнейшем при издании Угол, кодекса 1922 г. Верховный суд РСФСР раз'яснил, что всякая аналогия, при помощи которой реставрируются нормы дореволюционного законодательства, категорически воспрещается, уже не говоря о том, что восстанавливать
старые законы путем введения их в наш Уголовный кодекс является
актом недвусмысленной реставрации законодательства, уничтоженного
революцией. Статья Ширяева, в сущности, представляет собой классический образец идеологического вредительства. Ширяев не просто
выбрасывает лозунг реставрации царских законов для защиты интересов кулачества. Такой прием сразу разоблачил бы сокровенные цели
вредителя. Он это прекрасно понимает и специально маскирует своз
намерения „благонадежной" ссылкой на индустриализацию страны; но
он неосторожно (авось сойдет!) делает демагогические сеылки на уравнение труда рабочего и труда крестьянина и кивает на нужды „многомиллионного крестьянства".—Так он ловко использовывает легальные
возможности, применяя в борьбе современное оружие, чтобы протащить политические вожделения своих единомышленников.
Только исключительное примиренчество к подобного рода идеологическому вредительству, имевшее место в БССР в период, прищеповщнкы в наркомземе (ставка на крепкого кулака—столыпинского
хуторянина) и пребывания Балицкого яаркомпросом, могло быть причиной появления скандальной статьи Ширяева, как и многих других,
на страницах „Трудов Б Г У " .
Белогвардейцы разных мастей и здесь и за рубежом могли радоваться, глядя, как происходит процесс „мирного врастания" классовой
идеологии фашистско-цанковско-кулацкои ..демократии" в советскую
идеологию и как вполне возможно на казенные деньги и в наилегальнейшйх условиях вести подрывную работу.
Нужно отметить, что это замечательное произведение Ширяева
об охране интересов белорусского кулака-хуторянина вызвало сочувственные отклики как на страницах „Право и Жизнь", так и на страницах „Проблемы преступности", органа Госинститута по изучению
преступности и преступника. В журнале „Право и Жизнь" (кн. 1 за
1928 г., стр. 86) помещена рецензия Полянского, в которой находим
следующие строки:
„Большая часть брошюры посвящена детальному
обзору дореволюционного
законодательс т в а по занимающему автора вопросу. Читатель, интересующийся тем же вопросом, н е м о ж е т н е б ы т ь б л а г о д а р н ы м а в т о р у з а п р о д е л а н н у ю им, п р а в д а , в е с ь м а
н е б о л ь ш у ю по о б ' е м у , но к р о п о т л и в у ю р а б о т у " .
Внешне признавая, что дореволюционное уголовное законодательство имело классовый характер и отражало „интересы владельческих
классов по преимуществу", Полянский, тем не менее, находит, что
обращение к „опыту" дореволюционного законодательства „не моягет
быть бесполезным". Спрашивается, зачем, к чему этот „опыт" даже
при условии, когда „заимствования не могут быть механическими без
переработки и обобщений перенесением его норм в советское право?"
Но суть в том, что под флагом „переработки" дореволюционное законодательство рекомендуется Ширяевым и Полянским, к а к о б р а з е ц ,
который якобы в „переработанном" виде должен быть использован.
Люблинский сдержаннее Полянского и не позволяет себе выбалтывать лишнее, предпочитая, на всякий случай, выражать свое сочувствие выступлению Ширяева подальше от нескромных взоров—не
в тексте^ а где-нибудь в сноске; „свои" все равно увидят и порадуются. Такую сноску находим в статье Люблинского на страницах
Л? 3 „Проблем преступности"—„Система хозяйственных преступлений
по Уголовному кодексу".
„... Имущественные преступления — пишет Люблинский —•
играют особенно большую роль в экономике сельского хозяйства.
Как показывает В. II. Ширяев в своей книге „Охрана сельско-
хозяйственных интересов в уголовном законодательстве" (Минск,
1927 г.), почти все стороны экономики крестьянского хозяйства
ограждаются нормами, относящимися к области имущественных
преступлений. Н е л ь з я н е с о г л а с и т ь с я с а в т о р о м , чтсг
п е р е с м о т р э т о й г л а в ы УК под у г л о м з р е н и я н а д лежащей охраны с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы х
интерес о в п р е д с т а в л я л с я бы к р а й н е
желательным-.1
Конечно, Люблинский в праве возразить, что он политикой н.ё
занимается, что он вовсе не солидаризируется с политической стороной предложения Ширяева реставрировать дореволюционное законодательство именно в целях охраны к у л а к а . Солидарность Люблинского с Ширяевым находится вне области догматики — сам Люблинский ставит вопрос в плоскости „ н а д л е ж а щ е й охраны сельскохозяйственных интересов".Нельзя не отметить,что б е з о г о в о р о ч н а я
с о л и д а р н о с т ь Люблинского с Ширяевым обязывает в данном случае
к такой же солидарности и с его мотивировкой и со всеми теми политическими установками, которые делаются им в статье.
То крепкое рукопожатие, которым обменялись Люблинский и Ширяев на задворках, где-то в сноске, только характеризует Люблинского,
который слишком осторожен, чтобы открыто, прямо в тексте афишировать свою солидарность в таком остром вопросе. А единомышленники все равно поймут, для общего же дела шумливость излишня
и вредна. Эта исключительная осторожность, доходящая до степени законспирированности, как это будет показано дальше, ае покидает проф.
Люблинского и в других его выступлениях, в которых он применяет
метод умалчивания. Этод метод кажется ему наиболее целесообразным
для сокрытия своих антисоветских взглядов.
Проф. Ширяев пытался также проникнуть и на тот участок фронта
классовой борьбы, где происходит серьезная атака вредителей на срыв
нашего строительства путем злостных растрат и хищений, прямо направленных против социалистических элементов нашего хозяйства.
Известно, какая огромная борьба проделана общими усилиями рабочей
и советской общественности для преодоления эпидемии растрат и хищений в течение последних лет. И вот является проф. Ширяев с целью
внести путаницу в дело борьбы с вредителями, подрывающими наше
хозяйство. Он вносит предложение вести борьбу с этого рода преступлениями таким образом, чтобы на присуждать к долголетнему
заключению, а заставлять осужденных „отрабатывать" за те убытки,
которые они причинили.
1
3-й выпуск, стр. 111. Насколько высказывания Люблинского являлись
и являются вескими и авторитетными в лагере правожизненцев, можно видеть
из следующих строк статьи Ив. Окаринского: „Судьба обвиняемого до представления требуемого поручительства или залога" („Право и Жизнь", 1928 г., кн. 1,
стр. 61). Автор, возражая Люблинскому, отмечает, что „так как авторитетность
имени проф. Люблинского внушает нам особую осторожность, то в своих доказательствах нам придется начать несколько издалека". Заканчивается статья в том
:кѳ подобострастно-почтительном тоне: „позволяем себе надеяться, что с нашими
выводами согласится и уважаемый проф. II. И. Люблинский".
„Естественной санкцией для преступлений, учиненных по корыстному
мотиву, являются денежные взыскания, — пишет осторожно Ширяев.—
В государстве трудящихся основным критерием для оценки отдельных
личностей должно быть признано отношение их к труду, трудоспособность. С этой точки зрения преступные деяния должностные и -хозяйственные учиняются по преимуществу лицами, занимающими несоответственные места, учиняются лицами, которые не хотят или не умеют
работать".
„... Наиболее естественной санкцией за должностные и хозяйственные преступления должны, быть принудительные работы, которые должны заставить не желающих трудиться и научить неумеющих. трудиться". 1
Уже в „Революции права" было отмечено по этому поводу, что
„статья Ширяева не ограничивается догматикой" и что „кавалерийский
рейд в политико-правную - область приводит к еще более грустным
результатам".
„Мы склонны опасаться,—-говорится дальше,—что указанные
санкции в наших условиях покажутся „естественными" только
кучке впавших в крайнюю схоластику догматиков. Зато, несомненно, эти санкции будут приветствоваться с бурным восторгом
лицами, „лично заинтересованными", должностными, хозяйственными и корыстными преступниками. Большего непонимания нашей
уголовной политики во всяком случае проявить невозможно". 2
Вряд ли мы имеем тут дело с „крайней схоластикой догматика"
или с „непониманием нашей уголовной политики", — в особенности,
если узнаем, что до р е в о л ю ц и и почтенный профессор был диаметрально противоположного мнения по аналогичным вопросам, когда
шла речь о защите интересов господствующих классов в обстановке
тогдашнего хозяйственного и государственного строя. Так, в предисловии к своей книге: „Взяточничество и лиходательство в связи с общим
учением о должностных преступлениях" (Ярославль, 1916 г. 570 стр.),
проф. Ширяев отмечает два закона — 31 января .1916 г. и 13 мая
1916 г.,—которые усиливают наказуемость за всякие виды взяточничества. Проф. Ширяев приветствует появление этих законов и пишет:
„Поскольку угроза наказанием имеет значение в деле борьбы с преступностью, а криминалист без опасения упрека в непоследовательности е д в а ли м о ж е т о т р и ц а т ь т а к о е з н а ч е н и е , — оба эти
закона представляются своевременными".
Т о г д а угроза наказанием имела „значение в деле борьбы с преступностью", т о г д а Ширяев был того мнения, что „криминалист без
опасения и упрека в непоследовательности едва ли может отрицать
такое значение", а теперь — все это на смарку. Между тем, если бы,
примерно, принять к точному исполнению предложение Ширяева, — это
значило бы поставить наше хозяйство под угрозу полного расстройства
1 „Право и жизнь" кн. 4—1927 г., стр. 58, статья В. Н. Ширяева: „Уголовный кодекс РСФСР, 1926 г.
2 „Рѳвол. права", № 4 1928 г., стр. 104.
и создать условия для решнтельнго срыва социалистического строительства. Какое удивительно „наивное", а по сути вредительское предложение проф. Ширяева, в особенности, если по „рецепту" Ширяева
дать, примерно, растратчику „отработать" присвоенный им большой
куш в- том самом учреждении, где он совершил растрату, т. е., другими словами, пустить обратно щуку в воду!
Вредительский характер предложения Ширяева становится еще
более явным, если сопоставить его с тем местом, которое столь охотно
цитирует' Полянский, в иной связи, в приведенной выше лекции
1916 года:
„М ой к е п о ' с р е д с т в е н н ы й и ре дш е с т в е н н и к по к а ф е д р е ,
к ô т о р у ю ' я занимаю, покинувший ее с а в т о р и т е т н ы м
и м е н е м и д о б р о й с л а в о й , В. II. Ш и р я е в, в своей недавно
вышедшей в свет монографии так говорит о значении должностных
преступлений: „Если массовое проявление общей преступности способно вызвать и породить общественную тревогу, то развитие и умножение должностных преступлений должно быть рассматриваемо как
о бществев ное бедствие". 1
То, что считалось общественным бедствием при царизме, для
вредителя в советском государстве составляет, наоборот, якорь спасения, звено, за которое нужно ухватиться, авось оно будет способствовать падению советской власти.
Стоит ли после этого подробно останавливаться на таких „мелочах",
как проповедь проф. Ширяева, в которой „общество" противопоставляется „государству", а сохранением за обществом права на участие в борьбе с преступностью „ с м я г ч а е т с я о с т р о т а к л а с совых противоречий, ослабляется классовое
начало
в правосудии" и. т. п.
Это высказано им в актовой речи по случаю пятилетия существования Белорусского государственного университета, под заглавием:
„Участие общества в борьбе с преступностью". Речь была благополучно прослушана и немедленно в 1926 году издана университетом
в количестве 1000 экземпляров. " В „речи", составляющей подробную
разработку вопроса на 39 стр., Ширяев, профессор уголовного права
советского университета, бесцеремонно отрицает не только классовый
характер нашего уголовного кодекса, но и классовый характер диктатуры пролетариата.
„Мы предпочитаем говорить о с о ц и а л ь н о й с р е д е , о б щ е с т в е , к о л л е к т и в е , а не о г о с п о д с т в у ю щ е м к л а с с е , —
говорит и пишет Ширяев,—так как интересы, охраняемые нормой уголовного закона, в большей своей части, одинаково близки в е е м
к л а с с а м о б щ е с т в а . Поэтому в у г о л о в н о м п р а в е , где дело
идет об охране, прежде всего, наиболее элементарных интересов лич1 Полянский воспроизводит в „Очерках теории уголовного процесса"
весь
этот текст, но только опускает комплименты по адресу Ширяева, которые были
более уместны в обстановке той самой аудитории, куда он явился па смену
Ширяеву.
ности общества и государства, к л а с с о в о е н а ч а л о н е и м е е т
того значения, как в других областях права".
В краткой рецензии па эту „речь" тов. Н. Коноплин („Бальшевік
Беларусі" Л? 4 за 1928 г.) отмечает, что Ширяев „находится в идеологическом плену у буржуазной науки уголовного права"; что он
„ н е в и д и т и л и не " х о ч е т в и д е т ь того, что при помощи норм уголовного права господствующая власть поддерживает свое классовоегосподство"; что в произведении Ширяева „марксизм и не ночевал",
и т. д.
Конечно, Ширяев видит, но не" хочет видеть, а предположение
Коноплина, что у него, Ширяева, м о г „ночевать" марксизм, Ширяев
в праве считать просто оскорбительным для себя и с негодованием
заявить, что он никогда никому не давал повода думать, что он, Ширяев,
имеет что-либо общее с марксизмом, и что напрасно т. Коноплин даже
допускает тавЬе предположение.
Такая рецензия только вводит в заблуждение читателя, дезориентирует его, создавая впечатление, что Ширяев выступает, как марксист, и что вот он, т. Коноплин, „открывает", что на самом деле
Ширяев — не марксист. Тов. Коноплин великолепно знает, что Ширяев
ни в каком „плену" у буржуазной науки уголовного права не находился и не находится, что, наоборот, Ширяев является пропагандистом буржуазного права в стенах советского вуза. Тем более оппортунистическим является сомнение самого т. Коноплина, будто Ширяев
..не в и д и т и л и не хочет видеть".
Указание тов. Коноплина, что у Ширяева „неудачная попытка пройтись на костылях по бойоту буржуазной социологической школы уголовного права", неверно; на самом деле эта „неудачная попытка"
составляет тщательно обдуманное, чрезвычайно осторожное методическое
наступление классового врага на идеологическом фронте. Не случайно,
что тот же Ширяев признал „целесообразным"' реставрировать старое
Уложение о наказаниях, и не случайно он и в этой „речи" не прочь
сделать то же под видом перенесения к нам западно-европейского
права, т. е. буржуазного права, считая, что это „было .бы не только
целесообразно, но и ж е л а т е л ь н о " (стр. 37).
Классово-враждебная идеология Ширяева проходит красной нитью
абсолютно через все его писания и выступления.
По такому вопросу, как взгляд советского законодательства на
наказание, как на меру оборонительную, противопоставляемый воззрениям буржуазного законодательства, построенным на идее возмездия,
Ширяев имеет свою оговорку: „Я не буду здесь останавливаться на
вопросе о том, н а с к о л ь к о
такое
противопоставление
п р е д с т а в л я е т с я о б о с н о в а н н ы м и т о ч н ы м " , 1 другими словами, профессор уголовного права советского университета придерживается точки зрения, диаметрально противоположной основным началам советского уголовного законодательства.
1
„Основные начала уголовного законодательства СССР", стр. 10.
Ширяев бесцеремонно предлагает вернуться к принципам буржуазного уголовного права и сохранить в неприкосновенности понятия вины
ж наказания, совершенно несовместимые со всей установкой советской
власти на задачи суда в период диктатуры пролетариата.
„К числу таких жизненных и жизнеспособных понятий,—пишет
Ширяев, — следует отнести и понятия вины и наказания. Отказываться от них (когда мы от них уже д а н н ы м д а в н о
отказ а л и с ь . И. С.) было бы преждевременно". (Стр. 19).
Ширяев облекает свои реставрационные вожделения в форму
якобы преждевременности отказа от понятия вины и наказания, и тем
•самым он попутно пытается уверить читателя, что до сих пор это
понятие осталось в полной неприкосновенности.
Этот ловкий прием является продолжением той установки его, что
в нашем Уголовном кодексе, по сути дела, ничего особенного, по
сравнению с дореволюционным уголовным кодексом, не произошло,
и что мы имеем дело только с терминологической-„революцией".
И далее следует ссылка Ширяева на авторитет... И. Д. Ильин•екого, вполне заслуженный, как мы видели выше, в глазах проф. Ширяева: „Закон, не имеющий корней в живой социально-хозяйственной
действительности, умирает, как растение, посаженное на чужую почву.
(Ильинский. Право и быт. 1925 г.)".
Значит, тут разрыв между „социально-хозяйственной действительностью" и законом. Этот перепев старой знакомой песни, по своему
политическому содержанию, совпадает полностью с формулировкой,
которая цитировалась выше из книги Магазинера, а именно, что
„в Октябрьской'революции 1917 г. задача была в том, чтобы э к о н о м и к у привести в с о о т в е т с т в и е с политикой, т. е. через п о л и т и ч е с к у ю власть придти к э к о н о м и ч е с к о м у господству".
• .
V.
Есть другой тип внешне лойяльных ученых, которые открыто именуют себя „не-марксистами", подчеркивая этим, что они не „антимарксисты"—они любезно предоставляют марксизму право гражданс т в а в вузах СССР. И на том спасибо. Многие из патентованных
марксистов восхищаются столь открытой, „честной" позицией таких
ученых Б которые протаскивают враждебную нам идеологию.
К разряду таких ученых принадлежит проф. А. А. Жижиленко.
Занимая кафедру уголовного права до революции, а потом и после
революции, Жижиленко
упорно отстаивал свои
дореволюционные
взгляды как. с университетской кафедры, так и в печати, облекая их
в завуалированную форму внешней нейтральности и аполитичности.
Весьма характерной является его книжка „Преступность и ее факторы"
1 Ср. известное
выражение M. Н. Покровского об ученых историках-немарксистах—что им „грош пена" („Правда" от 7/АІ—£8 г.). Это выражение
вполне применимо и к иравовикам-немарксистам.
(изд. „Мир знаний", Петроград, 1922 г.), в которой он выражает
обстоятельно прежние взгляды, что „понятие преступления—есть понятие ю р и д и ч е с к о е " ...„Для исследователя уголовного права юристакриминалиста п р е с т у п л е н и е
есть понятие
чисто
форм а л ь н о е . Т о л ь к о в п е р и о д л о м к и с т а р о г о с т р о я и поп ы т о к (!) с о з д а н и я в м е с т о н е г о н о в о г о , в период упразднения старых законов, служивших иному государственному и еоциальаому строю, может выдвигаться положение о том, что совесть судьи
должна диктовать ему, что подлежит наказанию" (стр. 21).
Для Жижиленко, как тогда и для Магазинера, еще в 1922 году
само существование советской власти представляло собою лишь „попытку" создать новый строй вместо до-октябръского, и он поэтому
не имел решительно никаких оснований считаться с Октябрьской революцией,—он признавал ее лишь, как печальный, досадный факт, по.
все же обреченный на исчезновение в ближайшем будущем. Между
ним и Магазинером нет никакой разницы. Они в тот период—откровенные враги советской власти, не опасающиеся „провалить" себя
почти открытыми выступлениями. К числу их единомышленников относятся и хозяева частного издательства „Мир знаний", которое и выпустило в свет эту книжку Жижиленко. Издательство в своем предисловии к книжке Жижиленко отмечает ее выход в следующих выражениях:
„Работой проф. А. А. Жижиленко издательство начинает в ы пуск ряда книг по н а с у щ н ы м в о п р о с а м современной общественности, чрезвычайная сложность которой ярко переживается каждым сознательным гражданином... Вопросы права и государства, преступности взрослых и детей... наболевшие вопросы
р у с с к о г о о б щ е с т в а с давних пор, особенно в эти годы т я ж е л ы х п е р е ж и в а н и й государства..."
Эти „тяжелые переживания государства", „русского общества"
напоминают специфический стиль царских манифестов, к которым руку
приложил Победоносцев.
Останавливаясь на тех факторах преступности, которые обыкновенно выдвигаются социологической школой, Жижиленко в своем з а ключении в конце книжки указывает следующее:
„Анализ факторов преступности показывает нам, что преступность
имеет весьма разнообразные причины. С у щ е с т в у ю т ,
очевидно,
законы,
управляющие
этим явлением. С о в р е м е н н а я
н а у к а е щ е не н а с т о л ь к о п р о д в и н у л а с ь в п е р е д в данной о б л а с т и , к а к , в п р о ч е м , и в д р у г и х о б л а с т я х
соц и о л о г и и , ч т о б ы н а м е т и т ь и х . Но рано или поздно и здесь,
надо надеяться, удастся установить на основании определенных данных такую же закономерность, как это установлено в области явлений окружающей природы" (стр. 66).
Жижиленко не отрицает существования и экономического фактора
преступности, но указывает, что на этот фактор „обратили свое внимание еще представители утопического социализма, задумавшиеся над
причинами зол общественной жизни". Таким образом, ничего нового
в этом вопросе большевики и не придумали, а если они повторяют
то, что говорили социалисты-утописты, то, видимо, и они недалеко
ушли от воззрений утопистов.
Жижнленко останавливается на промышленных кризисах. Отмечая
их влияние на -преступность, Жижиленко, казалось бы, должен был сделать логический вывод, что только с уничтожением капиталистического строя и, следовательно, с уничтожением всяких промышленных
кризисов будут уничтожены и причины, порождающие преступность.
Жижиленко не только не делает этого вывода, но везде, где можно,
часто не договаривая, проводит мысль, что если и допустить возможность уничтожения капиталистического строя, то и тогда, по крайней
мере, не исчезнут имущественные преступления, а только изменится
их „природа". Замечательно, что он не пытается даже остановиться
на
причинах
проституции,
алкоголизма и других
„ я з в " , только формально зачисляя их, в группу социальных факторов.
А когда он трактует об алкоголизме, он смешивает в одну кучу „богатых" и „бедных"—мол, в с е п ь ю т , независимо от социального и
классового положения, чем затушевывается классовая сущность весьма
существенного фактора преступности.
Оставаясь при своих взглядах на наказание, какими они были
до революции, проф. Жижиленко повторяет эти взгляды в другой своей
книге „Очерки по общему учению о наказании" (1923 г.), частью
составляющей краткое изложение книги того же Жижиленко „Наказание", и з д а н н о й в 1914 г. „Очерки по общему учению о наказании" заканчиваются следующими словами:
„...Таков путь, по которому может пойти эволюция мер
борьбы с преступностью. Э т а э в о л ю ц и я д о л ж н а с о в е р ш а т ь с я медленно и постепенно. Как в физичес к о й п р и р о д е , т а к и в о б щ е с т в е н н о й ж и з н и не
может быть с к а ч к о в . Все, что н а с т у п а е т несвоевременно, обречено
н а и с ч е з н о в е н и е . Н и ч т о не
может н а с т у п и т ь
раньше того
момента, когда
общественные
условия развития
общественной
жизни приводят к этому".
Раскрыть шифр этих слов не представляет затруднении, — ключ
к эзоповскому языку давно найден. В переводе на политический язык
эти слова означают, что Жижиленко остается неизменно тем же, каким он был раньше, когда, им была издана „Преступность й ее факторы". Октябрьская революция, которая смела Временное правительство, в том числе ..и начальника главнаго тюремного управления
проф. Жижиленко,—юбречена-де на исчезновение. „Пролетарская диктатура — „несвоевременна", а неминуема капиталистическая реставрация.
Тут перед нами четкое контрреволюционное мировоззрение Жижиленко. Проповедь исповедуемых им дореволюционных взглядов
в области уголовного права об'ективно представляет собой также
вид идеологического вредительства. В своем выступлении Жижиленко
пародирует Магазинера, утверждавшего за год-два раньше о „неосущеетвленности" Октября. Жижиленко делает это в иных выражениях,
весьма торжественных и веских.
Немудрено, что,- когда Жижиленко выступает в А» 3 „Проблем
преступности" за 1928 г. („Отношение Уголовного кодекса 1926 г.
к вине и опасному состоянию", стр. 35—53), — он ищет в УК все
те моменты, которые позволили бы доказывать, что теоретические
установки УК такие же, как и до революции, и что произошло лишь
изменение терминологическое, имеющее, по утверждению Жижиленко,
„несомненно декларативное значение". Его единомышленник Ширяев,
писавший на эту тему („Основные начала уголовного законодательства
СССР"), был прямолинейнее, указывая, что
„замена наказаний мерами социальной защиты судобно-исправительного характера облегчалась тем, что уже и раньше советское уголовное законодательство смотрело на наказание, как на
меру оборонительную, и противоіцштавляло этот взгляд воззрениям бурлсуазного законодательства, построенного на идее возмездия. Я н е б у д у з д е с ь о с т а н а в л и в а т ь с я
на воп р о с е о том, н а с к о л ь к о т а к о е
противопоставление
представляется
обоснованным
и
точным,
а укажу только, что момент оценки деяния, присущий наказанию,
не чужд и мерам социальной защиты судебно-исправительного
характера при том их построении, какое имеет место в основных началах".
Жижиленко же внешне готов итти на уступки. С одной стороны,
он в обстоятельной статье в As 3 „Проблем преступности" проводит
ту мысль, „что постепенно все более и более выясняется, что меры
социальной защиты УК 1926 г.—те же наказания и—что без представления о наказании, покоящемся на начале возмездия, как эквивалентной оценке учиненного, не может обойтись и советское право". С другой стороны, он заявляет: „...в заключение нужно сказать, что после
того, как только что произошло изменение прежней терминологии УК,
было бы утопично высказывать пожелание о возвратен ней" (стр. 68):.
И далее: „Но было бы желательно, чтобы развитие уголовного права
в далыіейшем шло по линии действительного постепенного превращения
наказании в меры социальной защиты Дконечно, в духе требований социологической школы И. С.), а для этого следовало бы выдвинуть требование, чтобы в дальнейшем личность преступника получила в УК подобающую ей роль и чтобы те положения УК, в которых чрезмерно
выдвигается об'еютвный элемент преступления, вроде приведенных
выше, были изменены в смысле умаления значения этого элемента".
Теоретическая уступчивость Жижиленко лишь кажущаяся,—он
видит в мерах социальной защиты то же наказание. Борьба с преступностью путем мер социальной защиты получает в изложении
Жижиленко совершенно иной классовый смысл. Формальное зачисление явлений алкоголизма, проституции и проч. в группу социальных факторов позволяет Жижиленко оставаться на старых позициях и не вносить никаких коррективов в свои взгляды на эти вопросы, высказанные им еще в 1898 году. Но тогда в иных условиях
Жижиленко был откровенен—он ставил все точки над „и", заостряя
проблему борьбы с нищими и бродягами и совершенно игнорируя
социальные причины этого явления в условиях капиталистического
строя, а в особенности, в российских условиях.
Вот что писал тогда Жижиленко в журнале „Трудовая помощь"
в своей статье „Вопрос о нищенстве и бродяжничестве на международном конгрессе в Париже в 1895 году." (№ 11 за 1898 г.).
„Среди лиц, представляющих из себя опасность для правильного течения государственной жизни, видное место занимают
нищие и бродяги,—эти п а р а з и т ы
общества,
отверг а ю щ и е с а м ы й основной закон социальной жизни общества—
закон труда, желающие жить на чужой счет, и благодаря своим
взглядам, привычкам и образу жизни незаметно переходящие в
класс преступников" (стр. 476),
Какой же критерий считается, по мнению Жижиленко, достаточным, чтобы отнести в группу бродяг со всеми, вытекающими из этого
положения, последствиями?
„Критерием для бродяжничества — пишет Жиясиленко —
являются: 1) отсутствие определенного местожительства; 2) отсутствие определенных средств существования, определенной профессии или ремесла".
По этакой классификации любой безработный может попасть в такую группу. '
Жижиленко—за карательные меры.
„...Вот почему для успеха борьбы с нищенством и бродяжничеством... последние (т. е. карательные меры—И. С.) всегда
будут нужны, так как всегда найдутся ' люди, желающие ничего
не делать и жить на счет общества" (стр. 477). „Мер предупредительных оказывается мало; нужно прибегнуть к мерам репрессивным, карательным" (Стр. 476), „Общей чертой в с е х
законодательств является то, что бродяжничество и нищенство
признаются явлениями опасными д л я с о ц и а л ь н о г о
строя,
и что поэтому г о с у д а р с т в о о б я з а н о выйти из своего
безразличного состояния и п о с т а р а т ь с я о т в р а т и т ь
эту
о п а с н о с т ь д л я п р а в о п о р я д к а " (стр. 479).
Делая наивный вид, будто в капиталистическом строе каждый,
желающий работать, может всегда получить работу, и будто безработица составляет изобретение тунеядцев, бродяг и нищих, чтобы вести
веселую и праздную жизнь за чужой счет, Жижиленко предлагает
следующий порядок: „Полиция имеет право, р а в н о (!) как и обязанность, наложить на этих лиц (бродяг и нищих) под угрозой наказания обязапность подыскать себе определенное занятие" (стр. 486).
Идеолог и защитник буржуазного строя от посягательств беспокойных элементов, Жижиленко очень ярко высказывался в 1898 году.
Основная точка зрения его остается незыблемой до сих пор.
Но зато теперь буржуазия значительно расширяет круг своих задач в области борьбы с преступностью по сравнению с периодом
конца X I X столетия. Ныне принудительный труд применяется буржуазией в несравненно больших масштабах, оставляя позади непосредственные задачи борьбы с преступностью. По сообщениям печати,
в Польше лодзинскйе фабриканты не только требуют полного уничтожения завоеваний польского пролетариата и возврата к довоенному
рабочему дню (т. е. к 10—14 часам работы), но и введения о б я з а т е л ь н о й т р у д о в о й п о в и н н о с т и . Виленскиѳ же аграрии-пилсудчики идут дальше и требуют м и л и т а р и з а ц и и в с е х б е з р а б о т н ы х и еф ор мир о в а н и я из н и х р а б о ч и х б а т а л ь о н о в ,
подчиненных военной дисциплине и исполняющих принудительный
и бесплатный труд.
VI.
Формы сокрытия враждебной идеологии столь разнообразны, что
только изучение их в пестрой разновидности способно векрыть те
приемы, при помощи которых эта идеология протаскивается под советским флагом. Конечно, этот флаг не может вводить в заблуждение
тех, кто по своему положению обязан распознавать, где враг и где
друг, в противном случае иногда получают своего рода входной билет
на советскую литературную научную арену те,, которые „ничего не
забыли и ничему не научидиеь" и упорно проводят свою ставку на
„мирное" перерождение советской власти. Этой вредительской работе
нисколько не мешают такого рода рецензии, как, например, рецензия
А. Э. в Л» 4 „Революции права" за 1928 г. (стр. 125) на книгу проф.
А. А. Жижиленко „Преступления против имущества и исключительных
нрав" (изд. „Рабочего суда" 1928 г.). Указывая, что книга носит
исключительно догматический характер, что в книге нет и намека на
то, что она касается „права пролетарской диктатуры", рецензент все же
находит много лестных слов для этой книги, сравнивая автора с Фойницким. „В дореволюционной русской криминалистической литературе,-—
пишет А. д.,—лучшим руководством по особенной части уголовного
права считался курс Фойницкого, охватывавший, впрочем, только преступления против личности и имущественные преступления. Проф.
А. А. Жижиленко.., „шел по пути Фойницкого", и это дает основание
рецензенту назвать проф. Жижиленко „советским Фойницким". Несмотря
на столь лестный отзыв, рецензент констатирует со стороны Жижиленко полное игнорирование советского строя.
„... Если бы, допустим,—пишет А. Э.,—нашелся на буржуазном
свете юрист, который не слыхал бы о пролетарской .революции в России,
4
49
и если бы этому юристу попала в руки, в качестве первой информации
о порядках в СССР, рецензируемая работа, то наш воображаемый
юрист, проштудировав ее самым внимательным образом, все же ни ез
одной строчки ее не вычитал бы прямого указания, что в ней идет
речь о п р а в е п р о л е т а р с к о й
диктатуры".
А. Э. не делает никаких политических выводов из „аполитичных"
установок Жижиленко.
Более того, рецензент считает своим долгом извиниться перед
Жижиленко за именование его „ с о в е т с к и м Фойницким". „Автор,
надеемся,—пишет А. Э., не почувствует себя задетым этим сопоставлением (какая деликатность! А что такого в этом сопоставлении, что
может „задеть" Жижиленко? И. С.), хотя, с нашей точки зрения,
признаться, оно звучит двойственно", т. е. что, с одной стороны,
п книге отсутствует хотя бы намек па право пролетарской диктатуры,
но зато, с другой, „автор самым добросовестным и обстоятельным образом, во всеоружии методов буржуазной юридической литературы,
изучил определенную часть советского уголовного нрава и на основе
этого изучения дал строго систематическое изложение соответствующих постановлений". Горячо рекомендуя книгу советскому читателю,
рецензент указывает, что „советский юрист и студент совправа, при
пользовании пособиями проф. Жижиленко, несомненно убедятся, насколько легче разобраться во всех деталях советского законодательства об
имущественных преступлениях, когда они приведены в отчетливую систему. А. А, Жижиленко, бесспорно, мастер систематического изложения..." Но как можно совместить преподнесение проф. Жижиленко
звания „советского Фойницкого" с приведенной выше яркой характеристикой рецензируемой книги о том, что в ней именно нет н и ч е г о
советского,—это остается секретом рецензента.
Между тем, такая установка допускает возможность, что в области
общественных наук у пас терпима аполитичность, что не-маркеист
в праве „честно" вытравить из своей книги всякий намек на существование права пролетарской диктатуры и все же получать политические комплименты и рекомендации от коммунистов-криминалистов.
К сожалению, приходится отметить, что столь недопустимая явно
правооппортунпетическая установка рецензента не случайна, а вытекает из весьма своеобразных взглядов самого рецензента на советское
уголовное право, с которыми могут полностью солидаризироваться
н Жижиленко, и Ширяев, и другие их единомышленники из „Права
и Жизни". Так, в № 9 „Революции права" за 1928 г., стр. 195, находим
рецензию за подписью того же рецензента на книгу Жижиленко
„Преступления против личности" 1927 г. В рецензии, раньше всего,
отмечается: что „подобно другой, ранее вышедшей книге автора
(„Имущественные преступления"), рецензируемая работа дает обстоятельное изложение и тщательный догматический анализ постановлений
соответственной главы УК РСФСР." Далее говорится самое интересное и любопытное: „Автор, как известно, н е т о л ь к о н е м а р к с и с т ,
но д а ж е и н е х о ч е т к а з а т ь с я м а р к с и с т о м " .
(Реверанс
в сторону Жижиленко). „ П о с к о л ь к у , о д н а к о , о с н о в н а я ч а с т ь
советских
постановлений
о преступлениях
против
личности вполне у к л а д ы в а е т с я в схемы даже буржуазн о г о ю р и с т а (ибо п о с т а н о в л е н и я о т а к н а з . „ о б щ е у г о л о в н ы х п р е с т у п л е н и я х " , можно с к а з а т ь , в б о л ь ш е й своей ч а с т я о б щ и и с о в е т с к о м у , и б у р ж у а з н о м у праву),
постольку проф. Жижиленко при помощи старых методов юридического анализа, которым он владеет в совершенстве, и на основе изучения практики Верхсудов РСФСР и УССР с использованием всей
советской литературы по затрагиваемому вопросу, смог дать п о л е з н у ю д о г м а т и ч е с к у ю р а з р а б о т к у споей темы..."
Теперь ясно, почему рецензент равнодушно относится к тому,
что такой догматизм Жижиленко окончательно выхолащивает и вытравляет классовое содержание советского уголовного права. Рецензент с о ч у в с т в е н н о п р и н и м а е т догматизм Жижиленко и рекомендует его читателям.
Однако, какой фатализм преследует рецензента! Оказывается,
что терпимость к Жижиленко вытекает из некоторой общности догматического подхода к толкованию нашего законодательства, когда он
внушает читателю мысль, что „постановления о так наз. „общеуголовных
преступлениях", можно сказать, в большей своей части, общи и
советскому, и буржуазному праву".
Рецензент снисходительно обходит без всякой критики утверждение Жижиленко (стр. 88—89), что
я ...то
обстоятельство, что лицо, принадлежащее к трудовому земледельческому населению, занимается кроме земледелия,
е щ е и д р у г о й и р о ф е с с и е й, не превращает похищения принадлежащей ему лошади или коровы в простую кражу, напр.,
п о х и щ е н и е л о ш а д и у с е л ь с к о г о с в я щ е н н и к а , на ряду
с остальными жителями деревни занимающегося сельским хозяйством и не экснлоатирующего чужого труда, подходит ікд ст. 181
п. „в" (похищение скота у т р у д о в о г о населения)..."
Между тем, столь трогательное внимание Жижиленко к священнослужителям и попытка его приравнять их к трудовому земледельческому населению, конечно, не составляет продукта его догматического
творчества. Жижиленко уже имел случай демонстрировать свои политические симпатии ио адресу церкви и ее служителей, выступив
в 1922 г. в качестве защитника чуть ли не в первый и единственный
раз в жизни в известном процессе церковников в 1922 г. в Ленинградском революц. трибунале.
В следующем издании своей книги в 1928 г. Жижиленко б ы л
в ы н у ж д е н отметить определение пленума Верхсуда РСФСР от
16 марта 1925 г. (прот. А? 4), о том, что „священник, если д а ж е он
занимается сельским хозяйством, как п о б о ч н ы м занятием, не может
быть отнесен к трудовому земледельческому населению, р а з о с н о в ным с р е д с т в о м к с у щ е с т в о в а н и ю я в л я е т с я н е т р у д о в о й
д о х о д " . Но и тут Жижиленко не может отказаться от попытки,
в явный обход определения Верхсуда, изобразить священника в роли
4*
51
трудящегося, приписывая ему занятие земледелием в с е г д а как
о с н о в н о й профессией. И, несмотря на постановление пленума Верхсуда, не оставляющее в своем толковании никаких, сомнений, Жижиленко пытается контрабандой провести свое толкование этого постановления.
Так, комментируя приведенное постановление пленума Верхсуда
(„II а э т о м о с н о в а ни и пленум Верхсуда" и т. д.), Жижиленко отмечает, что „то обстоятельство, чхо лицо, п р и н а д л е ж а щ е е к т р у д о в о м у з е м л е д е л ь ч е с к о м у н а с е л е н и ю , занимается, к р о м е
з е м л е д е л и я (в постановлении пленума к а к р а з н а о б о р о т , й. С.),
еще и другой профессией, н е п р е в р а щ а е т похищение принадлежавшей ему лошади или коровы в п р о с т у ю к р а ж у , если только
это лицо не имеет трудового дохода". Выходят, что
нетрудовой
доход у священника является в с е г д а п о б о ч н ы м , а н е о с н о в ным, и тем самым Жижиленко пытается обезвредить определение пленума Верхсуда.
Защита со стороны Жижиленко интересов живых представителей
церкви, ее кадра, актива, распространяется им и на мертвый инвентарь.
На стр. 80 своей книги Жижиленко повествует о том, что „под п. „г" ст. 162
( п о х и щ е н и е из г о с у д а р с т в , и о б щ е с т в , с к л а д о в ) с л е дует, наконец, подводить и кражу церковного имущес т в а , с о в е р ш а е м у ю и з ц е р к в и, т. к. д е р к о в п о е и м у щ е с т в о
е е т ь имущество, принадлежащее г о с у д а р с т в у , а церк о в ь — то п о м е щ е н и е , где это и м у щ е с т в о
хранится".
Столь категорическое и безоговорочное толкование Жижиленко находится в непримиримом противоречии с решением данного вопроса пленумом Верхсуда РСФСР (пост, от 12/ХІІ—24 г., прот. А» 23), в котором указывается, что „кража церковного имущества, н е с д а н н о г о
в пользование верующих (напр., хранящееся в исторических храмах
и т. п.), т. е. н а и б о л е е ц е п н ы е д л я г о с у д а р с т в а п р е д м е т ы , квалифицируется по п. „г" и „д" ст. 162, к р а ж а ж е ц е р к о в н о г о и м у щ е с т в а , п е р е д а н н о г о , па о с н о в а н и е д е к р е т а об о т д е л е н и и ц е р к в и о т г о с у д а р с т в а , в п о л ь з о в а н и е верующих, а равно' п р о ч е г о ц е р к о в н о г о имущес т в а — п о п. „а", „б" и „в" с т . 162)".
Упорные потуги Жижиленко в области казуистических толкований
для приобщения священников к трудящимся, а имущества церкви к государственному имуществу представляют собой классический образец
сознательного вредительского извращения смысла наших законов и решений—типичная работа вредителя на правовом фронте. Политическая
цель была совершенно ясна—сначала приобщить священников к трудовому населению, а потом в той или иной форме добиваться для священпиков»„земледельцев" избирательных нрав, которых они лишены.
Сегодня священник, располагающий огородом, сойдет за земледельца,
у которого земледелие есть „основное" занятие, а завтра тот же священник, ссылаясь на решение пленума Верхсуда, извращенное Жижиленко, будет добиваться избирательных и других гражданских прав,
которых он лишен.
Возведение проф. Жижиленко в сак „советского Фойницкого" не
только притупляет бдительность к идеологическому вредительству
Жижиленко, по и политически дезориентирует читателя, который, на
основании оппортунистических рецензий, может получить неверное
представление о Фойшшком и, вследствие этого, понимать и оценивать
взгляды Фойницкого в специальных вопросах уголовного права без
увязки их с действительными его политическими взглядами. Вот почему в деле борьбы с примиренчеством имеют значение хотя бы самые краткие данные о том, кем действительно был Фойшщкиіі для
самодержавия, и можно ли было, например, столь же тщетно искать
в его книгах хотя бы намека па существование самодержавия, как
ныне приходится это делать в рецензируемой А.. Э. книге Жижиленко
в отношении советской власти. Молено ли, например, сказать, что покойный проф. Фоннипкий был т а к ж е а п о л и т и ч е н по отношению
к дореволюционному етрою и только запинался „добросовестным" толкованием тогдашнего законодательства, как ныне это делает, по мнению А. Э., проф. Жижиленко?
Достаточно привести лишь несколько красноречивых фактов,
чтобы определить тогдашнюю „аполитичность" проф. Фойницкого. Так,
в своем двухтомном „Курсе уголовного судопроизводства" Фойнидкий
об'ясняет возникновение судебных уставов.
„ . . . нскренпим желанием царя-освободителя дать русскому
народу „суд правый и милостивый", для всех русских людей
равный, безволокитный и неразорительнкй . . . Н е п о л и т и ч е с к и м и в о л н е н и я м и , не б о р ь б о й п о л и т и ч е с к и х партий и п о л и т и ч е с к и х с т р а с т е й в ы з в а н к жизни э т о т
великий памятник з а к о н о д а т е л ь с т в а , а исключительно сознанными правительством и обществом
п о т р е б н о с т я м и п р а в о с у д и я . Не п о л и т и ч е с к о е гос п о д с т в о т о г о и л и и н о г о и н т е р е с а с т р е м и т с я оп
закрепить и развить, а г о с у д а р с т в е н н о е господс т в о о б щ е г о , для всех одинакового интереса правды и справедливости насаждает он в русской земле" (том I, стр. 40).
Период разработки судебных уставов у Фойницкого рисуется так:
„Власть государственная была вполне прочна; ей н е ч е г о б ы л о
о п а с а т ь с я ни в р а г о в в н е ш н и х , ни в р а г о в в н у т р е н н и х ,
внимание ее могло быть направлено всецело на улучшений дела суда,
без всяких посторонних
соображений".
Замечательное объяснение дается им и крымскому разгрому дореформенной России:
„Крымская война послужила не во вред, а в пользу реформе:
она указала, высшему правительству на необходимость сближения
с народом для противодействия злоупотреблениям, широко развившимся под покровом канцелярской тайны
И такая оценка дается целой эпохе конца пятидесятых и пачала шестидесятых годов!
Можно привести массу выдержек такого рода вплоть до такой,
что „составители судебных уставов и высшее правительство, давшее
им свою санкцию, твердо и много д о в е р я л и русскому народу"
и т. д. и т. д.
Фойницкии идет еще дальше (стр. 41) и ставит з н а к р а в е н с т в а между судебными уставами и прежними дореформенными кодексами.
„ Е г о г о с у д а р с т в е н н а я м и с с и я т а же, к а к о й б ы л а м и с сия судебников, в а к о н затем была миссия с о б о р н о г о
у л о ж е н и я 1649 г о д а : „чтобы московского государства всяких чинов людей, от большего и до меньшего чігау, суд и распрева была во
всяких делах всем равная", „ ч т о б е г о г о с у д а р с т в о ц а р с т в е н н о е и з е м с к о е д е л о у т в е р д и т и и на мере постановите, чтобы
те все великие дела внредь были ничем нерушимы".
Отсюда совершенно последователен тот вывод, что „Русская
Правда", судебники, соборное уложение, судебные у с т а в ы — в с е э т и
п а м я т н и к и служили д е л у р у с с к о г о п р а в о с у д и я . . . Судебники вызваны к жизни, главным образом, волостелы-кой и приказной
неправдой, на нее они ополчаются, но ие забывают и о с о б е н н ы х
и н т е р е с о в московского правительства..."
Дело русского „правосудия", конечно, может пострадать в случаях увлечения со стороны присяжных заседателей, я вот
„для наблюдения за тем, ч т о б ы н а р о д н ы е с у д ы н е
у к л о н я л и с ь о т з а к о п а,—пишет Фойницкии,—и н е у в л е к ал и с ь о б щ е с т в е н н ы м и с и м п а т и я м и или а н т и п а т и я м и ,
врунах государственной власти имеются д о с т а т о ч н ы е с р е д с т в а . Применять их в этих видах о н а м о ж е т и о б я з а н а .
К н е й , поэтому, сводятся причины встречающихся иногда уклонений народных судей от закона, н а н е й л е ж и т и о т в е т с т в е н н о с т ь з а т а к и е у к л о н е н и я " , (т. I, стр. 150).
Приведенные выдержки в достаточной степени характеризуют Фойкипкого к, кстати, редактора посмертного издания его „Курса" —
проф. Люблинского. Но проф. Фойницкии был не только сторонником
„слов", но п весьма шумных и заметных „дел".
Когда студенчество оставалось глухим к подобным проповедям
Фойницкого, и принимало участие в политических выступлениях, он
проявлял беспощадность к ярко выявившимся революционным элементам студенчества. В статье Ник. Дорошенко „Вотеикновеиие большевистской организации в Петербургском университете в первые годы ее
существования1—упоминается о студенческой сходке—протесте 18/31
марта 1903 г. против расправы уфимского губернатора со златоустшіскими рабочими—расправы, которая вошла в историю под названием
Здатоустинской бойни.
1 „Красная Летопись", № 2 (41)—1931 г., стр. 81—93.
„Правительство,—пишет тов. Дорошенко,—в лице послушного
в его руках профессорского дисциплинарного суда хорошо учло
новый тип выступления студенчества; око знало, что за такую сходку профессорский суд будет достойным судом. Он к оправдал вполне
доверие. Привлеченные к суду студенты, по предложению университетской социал-демократической группы, об'явили бойкот суду
и, несмотря па настойчивые приглашения, на суд не явились,
п о ч е м у з н а м е н и т о м у , е в р о п е й с к и и з в е с т н о м у крим и н а л и с т у п р о ф е с с о р у И. Я. Ф о й н и ц к о м у с к о л л е г а м и пришлось выносить свой приговор заочно, в отсутствии
подсудимых. Наиболее скомпрометировавшие себя студенты удостоились не от жандармов, а от профессоров получить „волчий
паспорт", т. е. исключение из университета без права поступления в какое-либо высшее учебное заведение".
Особенно ярко Фойницкий проявил себя в 1905 году. Общественно-политическая деятельность Фойницкого, как основателя русской группы
международного союза криминалистов, в свое время заслужила слишком
яркую оценку даже со стороны представителей либеральной буржуазии.
В свое время Фойницкий получил печальную известность тем, что
в угоду царской власти он закрыл в Киеве V с'езд русской группы
международного союза криминалистов. Это было 4 января 1905 года.
Начало 1905 года и канун 9-го января слишком известны, чтобы оценить по достоинству значение этого выступления Фойницкого.
До какой степени черносотенным показался этот поступок тогдашним
оппозиционным либералам—по преимуществу представителям российской промышленной буржуазии,— а также народникам, можно видеть
из ряда документов, относящихся к этому эпизоду.
Когда, через несколько месяцев после этого эпизода, 20 апреля
1905 года, состоялось общее собраниё русской группы международного союза криминалистов, то, в сущности, оно почти целиком было
посвящено обсуждению как самого эпизода, так и тех мер, которыми
группа обязана реагировать на действия Фойницкого. В протоколах
собрания, в виде приложения, помещен, по специальному постановлению
собрания, тот акт, который был составлен большинством участников
январского собрания группы, в связи с закрытием собрания Фойницким (стр. 24—25).
Вот его текст (акт помечен—„Киев, 1905 г. января 4-го дня").
Приводим его как характерный исторический документ:
и . . . Мы, нижеподписавшиеся, председатели, вице-председатели,
секретари и члены Киевского с'езда русской группы международного союза криминалистов, в виду объявления местной административной властью о закрытии V е'езда, считаем необходимым довести до сведения союза и общества о нижеследующем:
сегодня, во второй день заседания, после прочтения доклада об
оказании юридической помощи населению и после выслушанных
по этому предмету прений, на баллотировку была предложена
одним из ораторов резолюция. В обсуждении этой резолюции,
наравне с другими членами группы, принимал участие и председатель комитета группы Иван Яковлевич Фойницкий, не председательствовавший в день 4-го января. Не споря в принципе
против предложенной резолюции, И. Я. Фойпицкий настаивал на
некоторых изменениях редакции. В виду заявленного им требования, на баллотировку были поставлены оба проекта резолюции,
при чем И. Я. Фойницкий принимал участие в баллотировке того
и другого. Когда, однако, большинством собрания редакционные
изменения И. Я. Фойницкого были отвергнуты, то он, несмотря
на то, что не ему принадлежала тогда права председателя, заявил в нарушение устава, что он об'являет У с'езд группы закрытым. В виду явно беззаконного заявления, поднявшего бурю протестов, председательствующий в это время председатель с'езда
Н. В. Тесленко, выразив встреченное всеобщим сочувствием глубокое сожаление по поводу попытки И. Я. Фойницкого сделать
насилие над с'ездом, заявил, что заседание с'езда продолжается.
Во время обеденного перерыва, однако, местный полицеймейстер
явился в помещение с'езда и об'явил таковой, на основании распоряжения административной власти, закрытым. Глубоко возмущенные поведением И. Я Фойницкого, мы, н и ж е п о д п и с а в ш и е с я , с ч и т а е м не т о л ь к о н е в о з м о ж н ы м д а л ь н е й ш е е п р е б ы в а н и е е г о в з в а н и и п р е д с е д а т е л я , но
п о л а г а е м н е с о в м е с т и м ы м со с в о и м н р а в с т в е н н ы м
достоинством и общественными обязанностями
д а л ь н е й ш е е с ним о б щ е н и е , и заявляем протест против
грубого насилия, учшіенпого над Киевским с'ездом русской группы
международного союза криминалистов й. Я. Фойницким совместно
с местного администрацией. Постановили: настоящий протест
сообщить союзу криминалистов, редакциям всех русских газет
и многих иностранных, во все юридические общества и в советы
присяжных поверенных и вместе с тем просить ревизионную комиссию русской группы принять меры к скорейшему созыву
русской группы для избрания председателя и членов комитета".
На апрельском собрании группы вопрос о Фойницкоы возник при
рассмотрении отчетов комитета за 1902, 1903 и 1904 годы, замечаний ревизии и заключения комитета. Подались речи. Первым выступил В. В. Пржевальский.
. . . „О 1899года,—сказалоп,—вследствие с а м о в л а с т и я п р е д с е д а т е л я группы И. Я. Фойницкого начинается б е г с т в о из
к о м и т е т а р я д а лиц, имена которых являются украшением
русской науки уголовного права... Вообще нужно признать, что
к-т не считался с уставами группы. Вопреки уставу ни в 1903, ни
в 1904 году с'езда группы не было. И это в момент особливо
тяжкого административного гнета, к о г д а т ы с я ч и г р а ж д а н
без с у д а с с ы л а л и с ь в Сибирь, и когда
группе
русских
криминалистов
всего
уместнее
было
поднять свой голос и у к а з а т ь п р а в и т е л ь с т в у на
с о в е р ш е н н у ю н е г о д н о с т ь е г о п о л и т и к и . Кроме того
комитет в 1901 г. был избран всего на два года; в сентябре
1903 г, его полномочия окончились..."
В прениях выяснилось, что И. Я. Фоішицкий пытался в печатных
„Трудах" группы по-своему осветить киевский инцидент, что в них
оказались выписки из черносотенных газет „Киевское Слово" и „Киевлянин".
Весьма характерно выступление Тесленко, председательствовавшего
на киевском собрании, когда Фоиницкий закрыл его.
„Закрытие с'езда Фойницким,—заявил Тесленко,—было общественным неприличием: он попросил слова в очередь и, не посоветовавшись
с бюро с'езда и не предупредив председателя заседания, вскочил и
об'явил с'езд закрытым в виду того, что собрание вышло из пределов законности. Однако, бюро, не усматривая в действиях с'езда чеголибо нарушающего порядок, решило продолжать занятия. Ушло лишь
несколько человек. Между тем г. г. Фойницкий и Витте направились
к генерал-губернатору и, очевидно, указали на мнимую незаконность
действий с'езда. Конечно, в виду такого заявления генерал-губернатору ничего не оставалось другого сделать, как закрыть с'езд. ІІо
вскоре он опомнился, и на следующее утро получилось новое об'явление, уже от имени губернатора, что занятия с'езда прекращаются
в виду закрытия его председателем с'езда. Затем дело получило обычный ход, было возбуждено дознание, и даже г. г. ж а н д а р м ы не сог л а с и л и с ь с м н е н и е м с е н а т о р а Ф о й н н и к о г о , ничего противозаконного они не нашли, и дело было прекращено". (Стр. 8—9).
Еще более характерно выступление А. С. Зарудного. „В последнее
время,—сказал А. С. Зарудный,—за некорректное и неприличное поведение даже о б щ е с т в е н н ы е с о б р а н и я и к л у б ы и с к л ю ч а л и
п р и с т а в о в и но л ици йм е й с т е р о в из ч и с л а с в о и х ч л е н о в .
Н е у ж е л и наше н а у ч н о е о б щ е с т в о п р е д ' я в и т Фойнник о м у м е н ь ш и е т р е б о в а н и я , ч е м к п р и с т а в у ? Я предлагаю
выразить Фойшіцкому порицание и исключить его из членов группы.
И н а ч е я з а я в л я ю , ч т о я л и ч н о не м о г у о с т а в а т ь с я член о м г р у п п ы " . (Стр. 11—12).
Вопрос об исключении Фойпицкого из состава группы вызвал
прения, в которых его скрытые сторонники,1 в роде Слиозберга, пытались обосновать незаконность такого исключения отсутствием в уставе
группы соответствующего пункта; даже открытые сторонники Фойницкого вынуждены были признать, что „Фоиницкий был вреден как
председатель, по он может оказаться весьма полезным членом общества" (Скоробогатов).
А. С. Зарудному, в виду встреченного им сопротивления, пришлось
выступать еще раз, доказывая, что его „предложение не жестокое:
1
Недаром один из участников заседания А. И. Люблинский требовал з а к р ы т о й б а л л о т и р о в к у всех предложений по поводу действий Фойницкого. (Стр. 14).
невозможно допускать, чтобы подобные явления не вызывали соответствующей реакции, в общественном деле никакие поблажки недопустимы".
Впрочем, все эти речи послужили только свого рода валериановыми каплями для присутствующих; когда дело дошло до резолюции,
то была принята никого не обязывающая „дипломатическая" резолюция—пустышка.
Таков был царский Фойницкий. Мы не беспокоили бы памяти верного слугя самодержавия, если бы в нашей же литературе не был
допущен акт совершенно недопустимого примиренчества в отношении
Жижиленко. Нынешнее поколение советских правовиков имеет слабое
представление о Фойницком, как о политическом деятеле царской России; поэтому, именуя Жижиленко „советским Фойницким", А. Э. дезориентировал читателя, сбив его с толку подобным методом „обогащения" нашей терминологии. Если пойти по такому пути и дальше, то
у нас могут этак появиться и такие „ласкательные" эпитеты, как
„советские" Милюковы и проч., в применении к „советским" авторам,
усвоившим методы своих бывших соратников и учителей.
VIII
Есть наиболее опасная разновидность вредителей, которые проявляют в своей вредительской работе величайшую осторожность, прибегая большей частью к методам умолчания. Для белогвардейцев они„свои",
которые „самоотверженно" выполняют их социальный заказ, не уступая своих позиций, время от времени давая знать о себе. Для большего удобства маневрирования и для большей успешности своей деятельности они либо об'явяяют себя марксистами, либо дают понять,
что они „сочувствуют" марксизму, а иные из них даже проникают на
этом основании в Варнитсо, хотя в своих произведениях они не дают
для этого ни малейших оснований.
К такой разновидности ученых принадлежит проф. П. И. Люблинский. В своей рецензии на курс уголовного процесса проф. Чельцова-Бебутова 1 Люблинский в весьма сдержанных выражениях полемизирует с автором предисловия к этому курсу, с тов. Михайликом,
указывавшим на ряд искажений и ошибок Чельцова-Бебутова с точки
зрения марксистской методологии и анализа правовых институтов.
Люблинский не согласен с тов. Михайликом. „Хотя в предисловия
к курсу проф. Чельцова-Бебутова,—пишет Люблинский,—и указывается,
что в нем есть серьезные отступления от марксистского анализа отдельных правовых институтов, их задач к функций, однако, м ы н е
можем с к а з а т ь , что о т д е л ь н ы е
положения
автора
ч у ж д ы для м а р к с и с т с к о й и д е о л о г и и " .
1 „Шсник „Родянсьвой юсгищГ, Jê 18 (148), 1930 г. стр. 552. Рецензия Люблинскою на курс Чельцова-Бебѵтова „Советский уголовный процесс", вып. I —
1928, вып. II—1929 г.
Нужно отметить, что тов. Михайлик, который не дал никакой
развернутой критики взглядов Чельцова-Бебутова и тем об'ективпо
емазаж его ошибки, ие упрекал Чедьцова-Бебутова в том, что о т д е л ь н ы е его положения „чужды" марксистской идеологии. Но одно несомненно, чго Люблинский, полемизируя е тов. Михайликоы по вопросу
о марксистской оценке работы Чельцова-Бебугова, не может но поставить себя в положение марксиста, хотя бы он не об'яплял себя
марксистом. Люблинский, выступая в роли защитника „марксизма"
Чельцова-Бебутова, пытается взять под свою „марксистскую" защиту
Чельцова-Бебутова н ослабить даже ве удар, а щелчок марксистской
критики по его адресу, указывая, что „автора можно скорее упрекнуть в том, что он больше интересуется о б ' я с к е и и е м теоретических принципов процессуальных институтов, н е ж е л и т е м , ч т о б ы
в ы я с н и т ь e x с о ц и а л ь н у ю р о л ь и ф у н к ц и и " . Люблинский,
далее, приводит довод: „правда, можно возразить, что изучение
уголовного права с этой точки зрения составляет больше задачу социолога, нежели правовика". Тем самым Люблинский вступает в непримиримое противоречие с самим собою, как с добровольцем марксистом, поскольку он переносит центр тяжести марксистского анализа
уголовного права в область социологии, а не теории права.
Конечно, при приведенной точке зрения Люблинского, правовики,
• в том числе и Челъцов-Бебутов, должны заявить „отвод о неподсудности" проблем уголовного права и процесса марксистскому анализу,
предлагая социологам приоритет в деле разработки таких проблем.
Но и для социологов проф. Люблинский отводит соответствующую
роль лишь в области суда, но не уголовного процесса, „Изучение
социальных функций разных отдельных институтов,—продолжает проф.
Люблинский,—дает нам возможность проверить, можно ли или никак
нельзя заменить те или иные принципы в интересах лучшего социального строя, а в целом ряде случаев обосновать необходимость замены
их". Какие методы исследования должны для этого применить социологи—марксистские ли методы, или иные—из скупых строк проф. Люблинского не видно. Между тем проф. Люблинский до сих пор, в течение всего периода существования советской власти, ни в одной из
своих многочисленных работ ни разу, вплоть до приведенной рецензии,
не дал основания для вывода о том, что он отказывается от своих
первоначальных взглядов на суд, как па надклассовый институт,—
взглядов, которые он развивал в течение почти полутора десятков лет
до революции. В наиболее выпуклой форме эти взгляды изложены им
в капитальном сборнике „Судебная реформа", изданном в начале империалистической войны, во вводной статье во II томе, под заглавием
„Суд и права личности". Статья пачанается следующими словами:
„Идея правосудия в сознании народов всегда была окружена
ореолом особого величия. В то время, как законодательство
и администрация являлись проводниками определенных „интересов", поприщем для борьбы „политических идей" и „орудием
подчинения" для властвующих, суд, как он рисуется в своем
идеальном построении, был храмом, где умолкал голос сильного
и звучал лишь голос права и совести. Суд, в отличие от других
органов, всегда имеет дело с конкретными интересами, с отдельными людьми или группами. Е с л и р е з у л ь т а т о м г о с п о д с т в а п р а в а я в л я е т с я у с т а н о в л е н и е и з в е с т н о г о пор я д к а с о ц и а л ь н ы х о т н о ш е н и й , то господство правильного
суда дает этому порядку особую устойчивость и прочность
и связывает это право со всевозможной деятельностью людей".
„Но существу идея суда стоит обособленно от государства. Суд
есть явление, связанное только с правом. Он с т о и т в н е г о с у д а р с т в а , а п о р б й и над ним".
Нет надобности полемизировать с точкой зрения Люблинского,
что установление известного порядка социальных отношений составляет „результат господства права". Приходится об'яснять чудом,
каким образом „законодательство и администраций являлись проводниками определенных интересов", а суд, применяющий это законодательство, оказывается вне этих „интересов", „вне государства, а порою и над ним".
Нас не интересовал бы вопрос, отмежевался ли Люблинский от
своих прежних взглядов, если бы не попытка его выступить в роли
марксиста, чтобы тем самым прикрыть другие свои выступления, в которых он остается на старых дореволюционных позициях.
И Люблинский писал о Тагаацеве, но уже куда осторожнее, чем
Ширяев, и поэтому изучение приемов Люблинского заслуживает пристального внимания.
Обращает на себя внимание та особая теплота, которой проф.
Люблинский окутывает образ Н. С. Таганцева в биографическом
очерке, помещенном в 41 томе Энциклопедического словаря Гранат
(стр. 677—681), и с а м о е т щ а т е л ь н о е з а м а л ч и в а н и е именно
тех сторон деятельности Таганцева, которые могли бы вызвать подозрительное внимание со стороны советского читателя. В ы т р а в л е н о
всякое
упоминание
об
отношении
Таганцева
к
О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и — - о б этом в очерке находим одну
строчку: „С Октябрьской революции Таганцев ушел от всякой работы". Из дальнейших строк очерка, которыми он и заканчивается,
читателю предлагается — либо остаться в догадках, либо раздобыть
и почитать „Пережитое", при чем у читателя не возбуждается даже
и тени подозрения в том, что на самом деле представляет собой „Пережитое".
'
„...Незадолго до своей смерти,—заканчивает Люблинский свой
очерк,—он в тесном кругу праздновал свое 80-летие и вспоминал
пережитые этапы своего жизненного пути, изложенные в вышедшей в 1920 г. книжке „Пережитое".
А каково отношение самого Люблинского к этому контрреволюционному произведению Таганцева? Тот интимный тон, с которым повествует Люблинский о воспоминаниях Таганцева „в тесном кругу",
раньше, чем они увидели свет, свидетельствует об очень многом.
Раньше всего, о том, что Люблинский, сводя изложение всего послеоктябрьского периода жизни и деятельности Таганцева к празднованию
80-легая его, не находит слов осуждения для контрреволюционной
элоквенции Таганцева. Ясно одно, что Люблинский завуалировал образ
Таганцева, как контрреволюционера. Зато в том же очерке Люблинский пытается нарисовать образ Тагаіщева-„революционера", рассказывая (стр. 680), как Таганцев выступал в 1878 году в качестве защитника Кадьяна в известном процессе „173", и весьма предупредительно ссылается на воспоминания чайковца Н. А. Гарушина (7 и 8
выпуски 40 тома Энциклопедии, словаря Гранат, стр. 545), в которых,
между прочим, упоминается, что „на квартире Таганцева в декабре
1871 г. состоялось многочисленное собрание под его председательством
из представителей радикальной интеллигенции и большинства тогдашнего состава кружка чайковцев".
Представители либеральной интеллигенции в тот период времени
были весьма радикально настроены, и ничего нет удивительного в том,
что и Таганцев отдал дань времени. Несомненным извращением действительного положения вещей со стороны Люблинского является изображение Таганцева, как „красного" профессора, в связи с его выступлением по делу Кадьяна г .
На самом деле не какие-либо „революционные" взгляды самого
Тагаицеза, а ряд причин исключительно личного свойства вызвали желание Таганцева выступить е д и н с т в е н н ы й раз в своей жизни
в роли защитника в политическом процессе. Люблинский все это знал,
но скрыл 'от читателя, не упомянув об этом ни единым словом, а наоборот, изобразил Таганцева в роли „красного" профессора. Политическая цель такого переодевания Таганцева совершенно ясна.
Чгобы оценить по достоинству и разоблачить этот прием Люблинского, остановрмся несколько подробнее на этом эпизоде, пользуясь
источником, в достоверности
которого сомневаться
невозможно.
Чтобы уяснить, какова была цель и характер участия Таганцева в деле
Кадьяна, достаточно привести ряд выдержек из статьи самого Таганцева „Из пережитого", напечатанной в № 3 „Былого" за 1918 год.
Вводная глава этой статьи („Pro domo sua") послужила через год,
в 1919 году,- введением к его книге- „Пережитое"; в книге добавлены
лишь, в виде сносок, полный формулярный список Таганцева и сведения о гербе „открытого" им рода Таганцева.
„ К а д ь я н — б р а т м о е й ж е н ы , — пишет Таганцев, — личное
ц близкое знание Кадьяна, условий его жизни и' деятельности, д а ж е
отчасти его воззрений, близкое свойство и дружеские
о т н о ш е н и я создавали для меня н е о б х о д и м о с т ь принять на себя
его защиту. Я полагал, что моя глубокая уверенность в его п р а в о т е (!), мое стремление открыть и доказать п р а в д у (!), восполнят мою
практическую неопытность" 2 .
1 „Административная работа н е с к о л ь к о (?) сгладила представление о нем)
как о „красном" профессоре, которым он был обязан своему выступлению в качестве защитника Кадьяна в 1878 г." (стр. 680).
2 стр. 134.
Далее Таганцев рассказывает, что он, как преподаватель училища
правоведения, сообщил попечителю училища припцу Ольденбургскому,
что он решил принять на себя защиту Кадьяна. Ольденбургский предложил в о п р о с — „ у б е ж д е н ли я в т о м , ч т о мой ш у р и н не сов е р ш и л т о г о , в ч е м е г о о б в и н я ю т . На что я ответил, что на
судебном следствии я п о с т а р а ю с ь п р е д с т а в и т ь в с е д о к а з а т е л ь с т в а е г о н е в и н о в н о с т и " . Личные и семейные мотивы
защиты Таганцева не подлежат ни малейшему сомнению. Он и министру юстиции графу Палепу сообщил „свои отношения к Кадьяпу
и основания", по которым он „считал себя нравственно обязанным
принять участие в процессе в качестве защитника" Б И в разговоре
с Ольденбургским, пишет Таганцев, я повторил то же, что говорил
министру юстиции о моих отношениях к Кадьяну, о том, что знаю его
с молодых лет и т. д. В свою очередь, и Ольденбургский на другой
же день, продолжает Таганцев, приехал в правоведение для того,
чтобы видеть меня, и сказал: „Вы знаете, вчера у меня был граф
Пален; он находит, что преподавателю училища правоведения неприлично
выступать защитником по делу революционеров, но я е м у с к а з а л ,
что вы мне все рассказали, что в ы п о л а г а е т е , ч т о в а ш р о д с т в е н н и к и е в и н о в а т , и что я вам разрешил" (стр. 137).
Чтобы представить себе, к т о дал это разрешение Тагайцеву, нужно отметить, что, в изложении самого Таганцева, Ольденбургс к и й — с а м о д у р и к р е п о с т н и к по с в о и м в з г л я д а м , противник
суда присяжных („Я преклоняюсь перед высочайшей волей, но ведь
они—сапожники. Они хороши на своем месте, но какие же они судьи?")
Таганцев, между прочим, приводит интересный эпизод.
На следующий день после оправдания Веры Засулич, Ольденбургский
решил представить царю адрес-протест против оправдания Веры Засулич
и заодно требовать упразднения суда присяжных. Этот адрес должны
были, по мысли Ольдеябургского, подписать члены совета училища
правоведения, преподаватели и все учащиеся. Он отказался от мысли об
адресе только тогда, когда от Кони, вызванного к нему вместе с Таганцевым и другими, узнал, что присяжные очень внимательно относились к делу, и что будто бы слышно было, что они „даже молились
перед тем, как вынести приговор". В глазах Ольденбургского и Спаеович был неблагонадежен—Ольденбургский дал о нем лаконический
отзыв: „Он—государственный преступник", хотя Спасович был в это
время присяжным поверенным" (стр. 157). Для Ольденбургского даже
присяжные поверенные являлись государственными преступниками.
Но насколько „революционер"-Таганцез ценил отношение к себе
Ольденбургского, видно из тех строк Таганцева, в которых он сообщает, что сделался жертвой чьей-то сплетни, из-за чего произошло к нему „резкое охлаждение со стороны Ольденбургеких".
„Долго я совершенно не понимал,—пишет Таганцев,—по чьей злона1
стр. 135.
меренпоы сплетне это случилось, теперь думаю, что знаю. Но так как
автор е е п о н е с и н е с е т т я ж к у ю к а р у з а с в о и г о с у д а р с т в е н н ы е г р е л и , то имени его я пе называю" (стр. 252).
Воспоминания об Ольденбургском, как о крайнем реакционере,
у Таганцева носят весьма почтительный характер, более того—восторженный. В этом отношении'О Таганцевым мог бы конкурировать разве
И. Г. Щегловитов, который произнес внешне-цветистую речь по случаю
столетия со дня рождения Ольденбургского \ но без тени той задушевной теплоты и благоговейного преклонения, которыми проникнуты
следующие строки Таганцева:
„Бе знаю, почему в моих воспоминаниях образ принца Петра Георгиевича всегда вызывает в памяти благородный тип творения великого Сервантеса. Да, он был в своем роде благородным рыцарем
печального образа; также стремился он к неиссякаемым и недосягаемым
идеалам правды и добра; также неуклюже и неуклонно боролся он
с воображаемыми и действительными чудовищами окружающей жизни".
„ . . . На его рыцарском жизненном щите был начертан образ сладостной, но недосягаемой для него „Дульцинеи"* но это не была эмблема
какой-то фантазии, скорее это была двойная звезда нашего северного
небосклона, из которых внешняя, ближайшая была идея с а м о д е р ж а в и я , воплощенная для него в лице Александра Второго, которого
он чтил и любил всеми фибрами души и смерть которого мог пережить
только несколько месяцев" (стр. 162).
Люблинский скрыл от читателя характер дела Кадьяна, что Кадъян
ничего общего с революцией пе имел и вместе со своим защитником
был чужд и далек от той борьбы, которая разыгралась на суде между
подсудимыми и судом и приняла крайне драматический характер.
В чем обвинялся Кадьян? В интересах его защиты Таганцев предпринял путешествие в Николаевск, где осмотрел „арестантский дом,
из которого по обвинительному акту предполагался побег будто бы
больных арестантов, в содействии коему обвинялся доктор Кадьян,
собрал официальные доказательства, что решетка в тюрьме была снята,
в виду летней духоты, в женском отделении, а побег, по обвинительному
акту, предполагали будто бы сделать из мужского отделения; добыл
скорбные листы и копия из рецептурной книги и т. д., а, главное,
п е р е в и д а л многих м е с т н ы х жителей, к о т о р ы е согласились п р и е х а т ь в П е т е р б у р г , чтобы с в и д е т е л ь с т в о в а т ь
о д е я т е л ь н о с т и К а д ь я н а как врача и как лица, кормившего
во время самарского голода семьсот душ крестьян,—одним словом,
собрал все то, что было представлено мной потом на судебном следствии и что послужило основанием для оправдания Кадьяна по всем
взведенным на него обвинениям".
1 „Журн. Мин. юстиции" № 1—1913 г. Щегловитов И. Г. Принц Петр Георгиевич Ольдѳнбургский как государственный и общественный деятель, стр. 82—114.
С какой предупредительностью отнеслись „многие местные жители'
к просьбе Таганцева прокатиться в Петербург на суд для прекрасных
глаз Кадьяна и месяцами ждать очереди, пока их допросят, видно шз
того потрясающего впечатления, которое произвел в этом медвежьем
углу приезд профессора, который бывает при дворе и является преподавателем великого князя. Таганцев сам об этом рассказывает. Даже
предводитель дворянства Теняков обещал поехать специально в Москву
выступить свидетелем по делу Кадьяна. И, конечно, это было не потому, что он, как и другие—„все вспоминали Кадьяна, говорили о »ем
с большим сочувствием".
Таганцев тщательно провел защиту Кадьяна. „Могу похвастать,—
пишет Таганцев,— только тем, что пропустил очень мало заседаний;
бывал на них даже тогда, когда рассматривалось обвинение других
групп, к которым Кадьян не принадлежал, так как н а д е я л с я получить из показаний свидетелей х о т ь н е с к о л ь к о к р у п и ц , к о т о р ы е г о д и л и с ь бы и для р а з б о р а в ы с т а в л е н н ы х п р о т и в '
н е г о у л и к " ( с т р . 145). Таганцев рассказывает о своем полном
успехе: „... почти вслед за речью последовало предварительное освобождение Кадьяна па мои поруки, а затем и полное оправдание"
(стр. 146). И, естественно, что Таганцев имел основание говорить
в заключительной части своей речи: „Я п р и в х о д я щ и й , т а к с к а з а т ь , с л у ч а й н ы й э л е м е н т з а щ и т ы . Э т о — моя п е р в а я
и, о ч е н ь м о ж е т б ы т ь , п о с л е д н я я з а щ и т а " (стр. 147). Если
же Таганцев вышел за пределы защиты Кадьяна, то только в части
опровержения юридических построений обвинителя, в особенности, его
попытки подвести обвиняемых под понятие „шайки" (стр. 146).
Хотя Таганцев и был вовлечен „в общий тон защиты", явившийся
результатом совершенно исключительного усердия прокурора, то даже
эта защита заслужила п о л п о г о о д о б р е н и я с о с т о р о н ы п р и н ц а О л ь д е н б у р г е к о г о . „Я был на процессе,"—сказал Ольденбургский Таганцеву,—„там было все так прилично. Они вас слушали, очень
внимательно слушали, и у вашего подсудимого очень интеллигентный
вид", и э т и м а в г у с т е йщ'им о д о б р е н и е м К а д ь я н а в с е з а к о н ч и л о с ь " (107).
Мнение о Таганцеве, как о „красном" профессоре, которое ныне
воспроизводит в своей статье Люблинский, не имеет ни малейшего
основания. В самом деле, Кадьян был не только оправдан, но и освобожден во время процесса после защитительной речи Таганцева. Ничего „красного" и даже „неблагонамеренного" не было в действиях
Таганцева, даже в тот момент, когда жандармы бросились с обнаженными саблдми на верхнюю скамыо к Мышкину, когда тот произнес
свою историческую речь,—чтобы добраться до него и вывести его из
зала. „Я и теперь отчетливо помню,—пишет Таганцев,—как я обернулся
к сидевшему сзади меня на нижней скамье Кадьяну и г л а д и л е г о по
г о л о в е , как малого ребенка, с т а р а я с ь его успокоить".
„Августейшее" одобрение Кадьяна было не одиноко. Самый непримиримый противник участия Таганцева в процессе министр юстиции
граф Пален был также удовлетворен: „...и со стороны графа Налога.
отмечает Таганцев,—мое самовольство никаких репрессивных мер не
вызвало, и он о с т а л с я к о м н е в п р е ж н и х о т н о ш е н и я х ;
а впоследствии, когда я уже был сенатором и первоприсутствующим
уголовного кассационного департамента, аграф ушел из министерств.;,
мне не раз приходилось получать от него письма с самыми лестными
отзывами; в особенности, по поводу, так называемых, „пасторских дел"
(стр. 138).
В сноске Таганцев приводит текст очень лестного письма к нему,
одного из многих дисем графа Палена, сохранившихся в архиве Таганцева.
Таким образом, скрывая от читателя истинные побуждения, которые привели Таганцева в состав защиты по политическому делу, Люблинский стремился представить нам Таганцева в прошлом в образе
яркого оппозиционера против царской власти. Упоминая также о том,
что Таганцев в качестве члена Госуд. совета с 1906 г. работал, между
прочим, по вопросам финляндского законодательства и вопросам расширения веротерпимости, Люблинский „забывает" сообщить, что Т аг а н ц е в был к а т е г о р и ч е с к и м п р о т и в н и к о м
всеобщего
и з б и р а т е л ь н о г о права, противником всякой автономии д л я Ф и н л я н д и и .
IX.
В своей статью о Таганцеве Люблинский пишет о нем, как о приз ципиальяом противнике смертной казни. На этом вопросе необходимо
остановиться. Буржуазия и ее идеологи пытаются изображать грабительскую работу господствующих классов, как „надклассовую" деятельность государства, чтобы тем дольше держать массы под влиянием
буржуазии и ее наймитов — демократов и реформистов.
Одним из многочисленных способов достижения этой цели является
распространение ложного утверждения, будто „лучшие" идеологи буржуазии высказывались якобы безусловно против смертной казни. Рекламирование этого положения уже в советской печати составляет несомненный вид идеологического вредительства, раньше всего извращающего действительное отношение господствующих классов к. применению
смертной казни, как к методу расправы с революционным движением.
В советских условиях этот вид вредительства, кроме того, прямо рассчитан на противопоставление идей противников смертной казни нынешней практике применения высшей меры к наиболее злостным и опасным
элементам для советского строя. Необходимо поэтому вскрыть действительные взгляды так паз. противников смертной казни.
Рекламируя книгу Таганцева „Смертная казнь" (1910 г.), в которой
„собраны его статьи, содержащие резкую критику этого наказания",
Люблинский ни одним (ловом не обмолвился о том, что сторонниками
смертной казни в России в период опубликования этой книги были
только закоренелые зубры, которые видели в применении смертной
казни один из самых реальных способов борьбы за сохранение того
самодержавно-помещичьего строя, в оппозиции п р о т и в к о т о р о г о
н а х о д и л а с ь д а ж е б у р ж у а з и я со с в о и м и п р е д а н н ы м и
и д е о л о г а м и в л и ц е л и б е р а л ь н о й и н т е л л и г е н ц и и . Сам
Люблинский в своем докладе международному пенитенциарному конгрессу в Вашингтоне 1 указывает, что „когда в 1906 году начали в России складываться партийные организации, то почти все прогрессивные
партии поспешили внести в свои программы пункт, требующий безусловной отмены смертной казни. Даже Союз 17 октябіря на своем с'езде
в 1906 г. признал необходимость немедленного прекращения смертной казни без суда, при чем многочисленные голоса раздавались и
в пользу ее совершенной отмены". В том ®ѳ докладе Люблинский
приводит резолюцию Московского юридического общества, принятую
в заседании 23 января 1883 года при рассмотрении проекта нового
Уложения. „Приступая к обсуждению предположений редакционной
комиссии по вопросу о смертной казни, комиссия юридического общества единогласно высказывается за желательность полного исключения
смертной казни из нового Уложения о наказаниях". По о самом главном
Люблинский умалчивает,—о том, что сам Таганцев не б ы л б е з о г о в о р о ч н ы м п р о т и в н и к о м с м е р т н о й к а з н и . Так,Люблинский приводит соответствующие выдержки из статей Таганцева, конечно, в иной
связи, не замечая, что он же разоблачает Таганцева, к а к с т о р о н н и к а с м е р т н о й к а з н и в „ ч р е з в ы ч а й н ы х у с л о в и я х " , т. ѳ.
в у с л о в и я х о с о б о о с т р о й б о р ь б ы с а м о д е р ж а в и я с революционным движением.
' „Смертная казнь у нас применяется на почве исключительных
положений. А что представляют наши многочисленные исключительные
положения?" И на это дается Таганцевым следующий ответ:
„Мои долгие годы участия в государственной жизни, конечно,
не оправдали бы с моей стороны в с я к о й необходимости исключительных мер при чрезвычайных условиях; но именно тот же житейский
опыт говорит мне, что эти меры должны быть применяемы о с т о р о ж н о ;
что они должны быть с т р о г о о г р а н и ч е н ы м е с т о м , в р е м е н е м
и с у щ н о с т ь ю д е л а ; даже горчичник нельзя наложить на все тело
или носить его, не снимая, а неустанно возобновляя целые месяцы,
годы; мышьяк можно давать больным, хилым, но в и з в е с т н ы х д оз а х и при известных условиях... Злоупотребление ими может вызвать
гангрену, паралич организма, а не исцеление".
Стало быть, этот „мышьяк" м о ж н о и д о л ж н о „преподносить"
самодержавному строю в моменты, когда он настолько „хил", что уже
не способен бороться за свою жизнь без сильнодействующих средств.
Соображения „медицинского" характера о полезности „горчичника"
при условии „умеренного" его употребления, как и другие советы
о „мышьяке" выходят,за пределы всякой юриспруденции и догматики;
тут мы имеем дело с „чистой" политикой, которую Таганцев всецело
приемлет, дабы никто не заподозрил его в „беспочвенном" либерализме. По сути дела, он не отрицает необходимости исключительных
1 „В защиту святого дела", „Право" № 3 за 1914 год. Перепечатан в сборнике статей проф. Люблинского „На смену старого права", 1915 г.
мер при чрезвычайных условиях, по они должны применяться „по
закону", по с у д у , по „Таганцевзвому" уложению 1903 г. Люблинский
пишет: „...Начала нашего законодательства здесь попирались неоднократно. Так, Угол. улож. 1903 г. гласит, что женщины старше 17 лет
подлежат казни только за преступление, указанное в ст. 99, 1 а несовершеннолетние от 17 до 21 года вовсе не подлежат казни, а в практике судов военных насчитываются десятки казненных и женщин,
и юношей моложе 21 года". Что же, по ст. 99 можно было и женщин
старше 17 лет казнить на законнейшем основании? И мужчин старше
21 года? А по ст. 100, независимо от пола? 2 Во всех этих случаях
ответ мог быть только утвердительный, но голос Люблинского умолкает перед применением смертной казни по з а к о н у .
Проболтавшись, но неосторожности, об „оговорках" Таганцева по
вопросу о смертной казни, Л ю б л и н с к и й у м а л ч и в а е т в особенности о том, что и в 1882—1883 году наиболее авторитетное и влиятельное СПБ юридическое общество проявило почти полное единодушие в с т о р о н у с о х р а н е н и я с м е р т н о й к а з н и . В заседании
11 декабря 1882 года уголовного отделения юридического общества,
под председательством В. Д. Снасовича 3 , обсуждалась ст. 2 проекта общей части Уложения о наказаниях, и вокруг вопроса об оставления смертной казня в Уложении разгорелись весьма характерные
прения. 4 Только Е. й. Утин, В. К. Случезскпй и Н. Д. Сергиевский
высказались за безоговорочное устранение смер-тной казни из кодекса
как по соображениям нецелесообразности (В. К. Случевский), так
и достаточной прочности государственного строя (II. Д. Сергиевский).
Председательствующий В. Д. Спасович,—„революционер", по праведен1 Вот текст ст. 99:
„Виновный в посягательство на жизнь, здравие, свободу или вообще на неприкосновенность священной особы царствующего императора,' императрицы или
наследника престола, пли вообще на неприкосновенность священной особы
царствующего императора, императрицы или наследника престола или на низвержение царствующего императора с престола, или на лишение е г о в л а с т и
в е р х о в н о й , или на ограничение прав оной, наказывается:
смертною казнью.
Посягательством признается как совершение сего тяжкого преступления,
так и покушение на оиоѳ".
2 Ст. 100: „Виновные в насильственном посягательства на изменение в России или в какой-либо ее части установленных законами основными образа правления или порядка наследия престола или на отторжение от России какой-либо
ее части наказываются:
смертною казнью"'.
3 „Юридическое общество при С. Петербургском университете", т. IV, V, ч. 2,
заседания уголовного отделения. "
4 „Проект после окончательного его обсуждения и принятия в редакционной
комиссии подписали: председатель Эдуард Фриш, члены: Николай Неклюдов, Евграф Розин, Н и к о л а й Т а г а н ц е в ) Иван Фойницкий, делопроизводитель барон
Эммануил Нольде", (стр. 120). Кроме п. 1 ст. 2 проекта, предусматривавшей
смертную казпь, глава третья („Наказания") начинается статьей 13: „Смертная
казнь совершается через повешение, не публично" (стр. 113); заслуживает внимания, что IL Д. Сергиевский через полтора месяца при обсуждении ст. 13 проекта
высказался за публичное совершенно казни в интересах общественного контроля.
Подробности ниже.
5*
87
пому выше отзыву Ольденбургекого,—во вступительном слове уклонился от прямого ответа на самый существенный вопрос,—вносить ли
смертную казнь в лестницу наказания.Но существу же он недвусмысленно
заявил, что „исключение смертной казни из общего Уложения уголовного не предрешает даже, по м н е н и ю с а м о й к о м и с с и и , вопроса
о том, что смертная казнь не будет применяться"; что „она может
воскреснуть и восстановиться в иной форме, если не в общем Уложении, то в Воинском уставе о наказаниях, и может быть применяема,
если не гражданскими, то военными или иными судами" (стр. 89).
8а исключение смертной казии на собрании было подано 27 голосов,
9 за оставление и 4 за отложение голосования до рассмотрения отдела
о государственных преступлениях (стр. 83). Впрочем, этот результат
голосования не помешал юридическому обществу подвергнуть обсуждению ст. 13 проекта общей части, т. е. даже до рассмотрения
особенной части, — совершать ли смертную казнь через повешение
и непублично, как предлагал проект, или иначе. Предлагалось на
собрании заменить повешение расстрелом, но с о ч у в с т в и я э т о
п р е д л о ж е н и е н е в с т р е т и л о . Н. Д. Сергиевский, только за
полтора месяца до этого заседания голосовавший против смертной
казни, находил, что „совершение казни непублично прямо указывает
на попытку из'ять ее о т к о н т р о л я н а р о д а " (?!) и высказался за
публичное совершение казни. Большинство высказалось за редакцию
проекта комиссии (ст. 19, ч. 2).
Тагаицевская теория „горчичника" и „мышьяка", скрытая в высокопарной шелухе слов, благополучно сохранилась с начала восьмидесятых годов прошлого столетия до самой резолюции, когда российская
буржуазия в борьбе уже за свое существование перещеголяла царское
правительство в деле отрицания этой теории. Впрочем, сторонником
такой теории являлся и сам Люблинский.
Обосновывая свое , отрицательное отношение к смертной казни, 1
Люблинский не высказывается безоговорочно против нее, а ставит
ее применение в зависимость от условий времени и места, когда „применение казней — это демонстрация силы в руках фактически слабой
государственной вяасти"...„если казни признаются мерой успокоения,
то это значит, что правительство видит это успокоение в установлении
застоя"; „фактически мы видим, что вопрос о смертной казни давно
вышел за пределы уголовного права и с т а л в о п р о с о м г о с у д а р ственной политики; Н а з н а ч е н и е и исполнение смерте й к а з н и е с т ь у ж е не с т о л ь к о д е л о с у д а , с к о л ь к о д е л о
о р г а н о в , р у к о в о д я щ и х п о л и т и ч е с к о й жизнью с т р а н ы " .
Люблинский, как до него Таганцев, приемлет „политику" господствующих классов, требующую смертной казни для своих противников;
он начинает свою статью во внешне туманных, витиеватых и „дипломатических" выражениях.
1 „Оценка смертной казни". Из сборника „О смертной казпи". „Мнения русских криминалистов", 1909 г. Статья была переведена на франц. язык „La peine
de mort" par E. Pons, 1909, a также перепечатана в сборнике статей Люблинского
„На смену старого права'-', стр. 271—275.
„При рассуждении о допустимости или недопустимости смертной казни н е л ь з я у с т а н о в и т ь
общеобязательной
точки зрения. Не у х о д я в высь метафизичѳ-ских
н а ч а л , г д е п р и н ц и п у'ас е т е р я е т с в о е р у к о в о д я щ е е
з н а ч е н и е для ж и з н и и с т а н о в и т с я
религиозным
б о ж к о м , требующим поклонения, а не сознательной критики,
н е в о з м о ж н о установить такую точку зрения, которая была
бы обязательна д л я в с е г о ч е л о в е ч е с т в а , на какой бы стадии развития оно ни находилось. Т а к а я з а д а ч а б ы л а бы
бесплодна к практически бесполезна.
Этические начала почерпаются н е п у т е м а н а л и з а д е й с т в и т е л ь н о с т и , не могущего перейти от факта действительности к оценке ее, а Путем выяснения нашего отношения к явлениям существующего; они знаменуют собой проблему непосредственной практики, и, как таковые, и м е ю т о т н о с и т е л ь н о е
д л я к а ж д о г о п е р и о д а з н а ч е н и е , обладающее большим
или меньшим постоянством в 'зависимости от устойчивости или
изменчивости окружающей нас обстановки".
Так представители либеральной буржуазии занимались политическим
очковтирательством, создавая впечатление в широких массах, чго они
являются к а т е г о р и ч е с к и м и противниками смертной казни по
делам о так называемых политических преступлениях. Эту работу
они очень искусно проделывали до революции, скрывая от широкой публики свои сокровенные мысли и взгляды. Эзоповская форма
использовалась для убаюкания и обмана тех, для которых статья предназначались, отнюдь, конечно, не для цензуры, которая была бы рада
заявлениям в роде выступления В. Д. Спасовича 11 декабря 1882 года.
Вот почему несомненным актом идеологического вредительства
является повторение таких попыток фальсифицировать уже в советских
условиях в советском энциклопедическом словаре истинное отношение
представителей либеральной буржуазии до революции к вопросу о смертной казни.
X
Политическая физиономия Люблинского наиболее явственно вырисовывается во время империалистической войны, когда Люблинский
обратил на себя внимание патриотически-шовинистическими выступлениями. Застрельщиком подобных выступлений явился известный кадетский лидер В. Д. Набоков, который выступил в самый разгар империалистической войны в Ai 44 „Права" за 1915 г. со статьей „К вопросу о будущей ориентации русской науки уголовного права". Статья
ставит для себя целью доказать, что с германскими учеными впредь не
может быть научного общения. „Нам с ними не по пути, общение с
ними в научной работе для нас невозможно". Для этого приводится
обширная аргументация об общем духовном падении в Германии, об
особой психике даже избранных сынов Германии, не имеющей ничего
общего с идеалами гуманности, права и правды". Все эти разглагольствования приправлены, конечно, ура-патриотическими заявлениями,
в роде того, что „ни один русский, как ни один из граждан союзных
с Россией государств, ие может не только примириться с мыслью, но
просто допустить мысль, что война может не окончиться решительной
победой над общим врагом". В. Д. Набоков подкрепляет свое чувство
разочарования в „этических основах" германской науки ссылкой на
отзыв Люблинского о том, что „немецко-юридическая мысль покрыла
себя моральным бесславием".
Люблинский поспешил откликнуться на выступление своего единомышленника и в одном из ближайших номеров „Права" (Л5 47) поместил статью „К вопросу о русской пауке уголовного права и чужеземных влияниях", в которой он, однако, пытается смазать свои прежние
шовинистическпе высказывания, раз'ясшш, например, что его „замечания о международных с'ездах (149) относительно невозможности
международного общения, сосредоточенного вокруг Берлина, цитируемые В. Д. Набоковым и А. А. Жижиленко, имеют в виду невозможность
международного и личного взаимодействия, а не являются призывом
к бойкоту германской науки уголовного права..."
Заслуживает внимания выступление Жижиленко. С одной стороны,
он отметил, что „к сожалению, шовинистские нотки начинают появляться
за последнее время в нашей литературе", и привел в подтверждение
этого весьма характерные примеры, а с другой, признал крайнюю
живучесть и долговременноеть шовинизма.
„Нет сомнения,—писал Жижиленко,—что психологически будут невозможны прежние формы общения с немецкими учеными
в т е ч е н и е б л и ж а й ш и х 10 — 20 л е т (т.-е., примерно, до
1935 г.—И. С.), но, с другой стороны, с у д я но о б щ е м у х о д у
и с т о р и и ч е л о в е ч е с т в а , нет также сомнения и в том, что
к о г д а - н и б у д ь восстановится то, что теперь представляется невозможным. Через с т о л е т (т.-е. в 2015 г., н е р а н ь ш е , по
подсчету проф. Жижиленко.—Н. С.) бывшие враги могут оказаться
союзниками и друзьями. За примерами ходить недалеко..." 1
Мы привела эту выдержку не для изобличения столь неудачного
пророчества Жижиленко, но чтобы показать, как даже Жижиленко,
отметивший проявления зоологического шовинизма, мыслил дальнейшие
перспективы научного общения с немецкими учеными, да еще „судя по
общему ходу истории человечества" (?). А как мыслили Набоковы
и Люблинские, об этом они не позволяли себе громко говорить.
Люблинский остался неизменно тем же, кем он был до революции:
верным и преданным слугой промышленной буржуазии. Таким он остается
во всех своих высказываниях. После февраля 1917 г. о п — с т о р о н н и к к р у т о й р а с п р а в ы с развернувшимся революционным движением в стране. Кадетская власть—это „его" власть. Оя дебютирует
1
„К вопросу о прошлом и будущем русской науки и уголовного права".
„Право", M 45 1915 г.
в роли политического деятеля в небольшой брошюрке, рассчитанной на
массовое распространение, по вопросу о неприкосновенности личности 1 .
И тут он в заключительной части брошюры в свойственных ему форме
и стиле пшиет:
„...Кругом рассеяно слишком много подозрении; о т д е л ь н ы е
г р у п п ы н а с е л е н и я слишком ч а с т о п р о я в л я ю т склонн о с т ь к с а м о у п р а в н ы м или п р о и з в о л ь н ы м д е й с т в и я м . Но растерянность первых месяцев после революции не
д о л ж н а д л и т ь с я д о л г о . Новая и пользующаяся общественным доверием власть д о л ж н а к р е п к о в з я т ь в р у к и в в ер е п н о е е й г о с у д а р с т в е н н о е м о г у щ е с т в о . Пусть
новый строй поставит преграду всякому произволу и насилию,
откуда бы они ни исходили".
Люблинский предлагает покончить с „растерянностью", предлагает „повой и пользующейся общественным доверием" власти
направить самым энергичным и решительным образом острие
своего
оружия
против тех - „групп населения",
которые
„проявляют склонность к самоуправным или произвольным действиям." И, конечно, пустой фразой, которая должна лишь
свидетельствовать о политическом „беспристрастии" автора, служат заключительные слова брошюры: „....Пусть новый строй... поставит преграду всякому произволу и насилию, о т к у д а б ы о н и
п и и с х о д и л и " . Ясно, что речь идет только о „преградах"
против этих „отдельных групп населения"...
В 1922 г., черѳз 5 лет после.революции, Люблинский дебютирует
на страницах „Права и Жизни" уже в качестве профессора-юриста
и толкователя наших советских законов. В осторожной
и завуалированной форме он пытается протестовать против предоставленных прокуратуре прав общего надзора за революционной законностью.
Т а к а я прокуратура вредна нэпману и кулаку, и Люблинский так
излагает свое мнение:
„...Административный надзор прокуратуры,—пишет Люблинский,— н а м е ч е н
с л и ш к о м ш и р о к о , распространяясь не
только на деятельность официальных учреждений и должностных
лиц, но и п р о н и к а я в с ф е р у о б щ е с т в е н н ы х и ч а с т н ы х о р г а н и з а ц н й и ч а с т н ы х л и ц . В области, отведенной
им частной или общественной деятельности, частные организации
и частные лица не могут создавать чего-либо затрагивающего
публичный интерес; отстаивание же нарушаемых ими законных
интересов граждан с л е д у е т
предоставить
самим
г р а ж д а н а м " 2.
1
„Неприкосновенность личности". Общедоступная библиотека. „Задачи
свободной России". Серия I. „Политическая библиотека". Петроград, акц. о-во
„Муравей", 1917 г.
2 „Восстановление прокуратуры", „Право и Жизнь", июль 1922 г., стр. 75.
Раз нэп—то нечего пролетарскому государству в лице прокуратуры вмешиваться. Ему вторит белогвардеец Н. С. Тимашев в сборнике „Право советской России" (стр. 240—241). Комментируя предоставленное прокуратуре право осуществления надзора „за законностью действий всех органов власти, общественных и ч а с т н ы х
о р г а н и з а ц и й и частных лиц", Н. С. Тимашев отмечает, что „па
исключительную широту административного надзора прокуратуры указывает и проф. П. И. Люблинский в статье „Восстановление прокуратуры". („Право и Жизнь", кн. 11, стр. 75). „ТІи порядок дисциплинарной ответственности,—пишет II. С. Тимашев,—ни порядок отзыва положением не урегулирован; очевидно, что как наложение дисциплинарных
взысканий, так и увольнение предполагается в порядке иерархии".
Далее следует цитата из статьи Люблинского, которая приводится
как высказывание единомышленника, с которым он, Тимашев, полностью
согласен.
Вот эта цитата:
„При сосредоточении такой огромной власти в руках представителей прокуратуры по отношению к низшим т р у д н о н а д е я т ь с я ,
ч т о п р е д с т а в и т е л и п р о к у р а т у р ы , в ы с т у п а я па с у д е ,
с м о г у т с о х р а н и т ь за собой с в о б о д у
убеждений".
Нэп, знаменующий собой начало перенесения театра классовых
боев в иную обстановку экономического соревнования частно-капиталистических элементов с социалистическими при непосредственном
воздействии и вмешательстве в эту борьбу со стороны советского государства, возглавляющего социалистический сектор нашего хозяйства,
не по нутру Тимашевым и Люблинским, которые хотели видеть в создании советской прокуратуры „ в о с с т а н о в л е н и е прокуратуры",
как озаглавил свою статью Люблинский. Но и тут Люблинский вместе
с Тимашевым продолжают пропагандировать утверждения верных слуг
буржуазии о надклассовом характере суда и прокуратуры в буржуазных государствах. Люблииский в скрытой форме противоположений
пытается-проводить ту мысль, что вот-де низшие органы прокуратуры
в советских условиях „ н е с м о г у т сохранить" за собой свободу
убеждений",—а вот в других капиталистических государствах как раз
обратное—т а, м „низшие органы прокуратуры" м о г у т сохранить,
с о х р а н я ю т свободу убеждений.
Люблинский подвизался очень часто е советской литературе, выступая не только со статьями, но и с целыми книгами, не встречая,
однако, за крайне редкими исключениями, критики своих взглядов и
установок. Однако, кое-какую критику приходится отмечать и в 1925 г.
Рецензент „Рабочего Суда"
обратил внимание на показавшееся
ему странным явление, что Люблинский в своей книге „Преступления
в области половых отношений" (Москва, 1925 г. Издательство Л, Д.
Френкель. Стр. 245. Цена 1 р. 85 к.) с о в е р ш е н н о
игнорир у е т с о в е т с к у ю л и т е р а т у р у по избранной им теме.
„...K кииге приложен указатель литературы, — пишет рецензент.—В нем богато приведена иностранная литература и, к со-
/
ашеншо, мало русской. С т р а н н о , ч т о а в т о р в у к а з а т е л е в о в с е не о т м е т и л м а т е р и а л о в
советской
юридической
литературы,
посвятившей
не
м а л о в н и м а н и я с т а т ь я м по в о п р о с у о п р е с т у п лениях в области половых отношений. Последнее лишает книгу реальной ценности
длясудебного работника, ищущего ответов, прежде
в с е г о , по н а ш е й л и т е р а т у р е . Н а д о
полагать,
что автор этот пробелпополнит, тем более, что
в знакомстве и с нашей литературой
автору
отказать нельзя" I
Рецензент не ошибся—Люблинскому безусловно нельзя отказать
в знакомстве с пашей литературой, но игнорирование им советской
литературы имеет совершенно четкий политический смысл.
ES другой раз рецензент „Рабочего Суда" на книгу Люблинского
„Условное осуждение в иностранном и советском праве" (Москва,
стр. 127, Изд. „Право и Жизнь", 1924 г.) отмечает:
„...Для сравнительно-исторического изучения буржуазных законодательств, в том числе и русского дооктябрьского, ознакомление с ними представляется не лишним, но для догматического (?)
изучения советского права особой пользы не составит, в виду
различного подхода с классовой точки зрения к разрешению этого
вопроса законодательствами буржуазными (иностранными, по терминологии автора) и советскими" 2 .
Пусть рецензент не столь удачно выразил свою мысль о необходимости классового подхода к изучению материала, но суть ясна:
Люблинский умышленно обходит подводные рифы и упорно проводит
свое принципиальное отрицание диктатуры пролетариата и классовой
борьбы.
Зато горячий поклонник Люблинского — проф. Чельцов-Бебутов,
проявивший свою солидарность с ним,—в особенности, в своей книге
„Советский уголовный процеее",—в рецензии на книгу „Условное осуждение в иностранном советском праве",' не замечает хотя бы того,
что отметил рецензент „Рабочего Суда", а отзывается об этой книге
с восхищением. Без критики Чѳльцов-Бебутов воспринимает все то,
е чем Люблинский расходится с УК.
„,.. Ясно,—пишет Чельцов-Бебутов,—что симпатии автора не
на стороне воспринятой нашим УК франко-бельгийской системы
усл. оеужд.; он—сторонник тех положительных мер поддержки и
надзора, которые применяются к условно осужденному в период
испытания, согласно англо-американской системе".
1 „Рабочий Суд", № 21—22 за 1925 г., стр. 945—946.
2 „Раб. Суд.", № 19—20 за 1924 Г., стр. 6 4 6 - 6 4 7 .
3 „Вѳстннк Советской Юстиции", №19 —1924 г., стр. 650—651.
С некоторого времени Люблинский считает более удобным в интересах своей вредительской работы появляться на советской литературной арене под ручку с коммунистом. Этот способ в значительной
степени обеспечивает беспрепятственное контрабандное внедрение буржуазных теорий. В самом деле, советская публика, завидев столь трогательный двойственный союз, решит, что Люблинский „без пяти минут"
марксист и без критической предубежденности поверит всему тому,
что им написано.
Так, в 1 9 3 0 г. появился в свет „научно-теоретический и практический комментарий" к уголовно-процессуальному кодексу УССР,
составленный бывшим председателем уголовно-кассационной коллегии
Верхсуда УССР Канарским, На заглавном листе отмечено, что „ т е о р ѳ т и ч е с к а я ч а с т ь составлена проф. II. И. Люблинским". Этот,
„конкубинат" предоставил Люблинскому широкую трибупу, чтобы, под
видом „теоретической части" с о в е т с к о г о уголовного процесса,
изложить свои „внеклассовые" взгляды.
Пользуясь вывеской „марксиста" Канарского, Люблинский считает
даже излишним кокетничать с марксизмом, тем более, что Канарский
авторитетно успокаивает. читателя, что он, „марксист" Канарский,
р е д а к т и р о в а л „теоретическое" произведение Люблинского и чтоде все в порядке.
Насколько действительно „все в порядке", можно видеть из рецензии тов. Ундрѳвича \ в которой демонстрируется, как Люблинский
ухитрилея вытравить самым тщательным образом классовую сущность
любого института нашего процесса с тем, чтобы придать советскому
суду и формам советского процесса внеклассовый характер. Тов. Ундревич приводит многочисленные примеры этой почтенной подрывной
работы профессора и отмечает: „...Что называется, ни один буржуазный комар носу не подточит, х о т ь с е й ч а с в ы в о з и э т о т к о м м е н т а р и й за г р а н и ц у для у п о т р е б л е н и я б у р ж у а з н ы м и
с удьями".
XI.
Когда в печати, особенно в „Революции права", а потом в „Советском государстве и революции права" появлялись статьи и рецензии
с разоблачениями политических вожделений отдельных представителей
враждебного идеологического мира или даже целых групп, то обычно
об'екты разоблачений хранили глубокое молчание. Молчание—золото.
Их трудно з а с т а в и т ь заговорить. Они опасаются, как бы чего не
вышло. Пусть-де ругают, брань на вороту не виснет. Редко, редко
кто-нибудь из них, как Ширяев, напишет „опровержение" и заявит,
чтобы его, буржуазного ученого без кавычек, оставили в покое, а если
угодно грызться, то, пожалуйста, можете сколько угодно, но только
между собой.
1 „Советское государство и революция права", Jtë 6—6 за 1930 г.,
стр. 301—805.
Эта тактика, в сущности, самая безопасная, иначе легко проболтаться, впасть в противоречия.
Такова судьба каждого „опровержения" или объяснения; авторы
их вынуждены, в целях самосохранения, заниматься искажением материала,—следовательно, рисковать, что они будут уличены в сознательной и умышленной научной недобросовестности. Но есть и случаи,
правда, чрезвычайно редкие, когда*" они нарушают молчание, — и тогда
удается их полностью разоблачить. Важен тогда не сам факт, эпизод
по еуществу, а м е т о д ы к з в о р а ч к в а н и я , которые пускаются
в ход, с целью выгородить себя.
Внимание тогда приходится сосредоточивать уже не н а с а м о м
э п и з о д е , подчас мелком по признаку непосредственно вредных его
последствий, а н а н е и з б е ж н ы х х и т р о с п л е т е н и я х , н а г р о м о ж д е н и я х h п р о т и в о р е ч и я х , в которых попадаются уличенные
враги, что как раз и представляет выдающийся интерес.
Такой редкий случай „провала", когда участники его б ы л и в ы н у ж д е н ы дать объяснения и безнадежно в них запутаться, имел
место в Ленинграде два года тому назад.
В печати уже приводилось сообщение о том, как проф. Жижиленко предложил в заседании Ленинградского областного кабинета по
изучению преступности и преступника почтить память Э. Ферри вставанием.
Случайна ли подобная „аполитичность", когда имеет место такой
факт, как чествование памяти известного фашиста в стенах советского
научного учреждения? Конечно, нет. Вся эта группа умеет прекрасно
разбираться в вопросах политики, чтобы отдавать себе отчет в значении этой политической демонстрации. Им нужен был, на всякий
случай, предлог, что они-де почтили память Э. Ферри, к а к у ч е н о г о — и только; единомышленники же поймут сами значение этого
политического акта и по достоинству оценят. Кроме того, эта демонстрация, при малейшей возможности, даст знать „своим", что их
идеологическая и политическая непримиримость в большевистском
„плену" осталась по-прежнему неизменной и что они всегда готовы
проявить ее при малейшей легальной возможности, которая не грозит
провалом.
Возможность этой вылазки классовых врагов была в достаточной
степени подготовлена совершенно исключительным примиренческим
отношением, которое царило в стенах Лен. госуд. университета,
в период ректорства тов. Серебрякова.
Нужно знать, что т. Серебряков был не только ректором, но
и возглавлял н а у і н о е о б щ е с т в о м а р к с и с т о в (ИОМ). Б течение ряда лет существования IIOM'a вплоть до 1930 г., кому было
не лень, мог именовать себя марюшетом; не числились в марксистах
лишь те, которые сами этого не хотели.
В марксисты приглашались все. В протоколе организационного заседания секции права НОМ'а председатель НОМ'а, т. Серебряков, так и формулировал задачи секции:
„...секция должна
заниматься
агитацией
марксизма
как
среди
р а б о т н и к о в у н и в е р с и т е т а , т а к и среди юристов, заним а ю щ и х с я н а у ч н о й р а б о т о й " . В целях „агитации" принимается постановление: „Из р а б о т н и к о в у н и в е р с и т е т а приг л а с и т ь д л я п о с т о я н н о й р а б о т ы в с ё к ц и и т/г. Ж и ж ил е н к о, В а л ь т е р а , Л ю б л и н с к о г о , М а г а з и н е р а . . . , пригласить
д л я п о с т о я н н о й р а б о т ы в секции юрисконсультов профсоюзов,
банковских юрисконсультов и членов общества работников советского
права". Потом щедро пошли рекомендации т. Серебрякова направо
и налево в действительные члены, т.-е. в марксисты.
Новые лица, желавшие поступать в НОМ, ссылались уже па ранее
принятых — так, например, Н. П. Рейнке ссылается на рекомендацию
Вальтера, (б. секатора), Магазинера, И. Я. Хейфеца и т. д.
Молчаливо, по неписанной конституции НОМ'а, устанавливается
г о д и ч н ы й с т а ж для перехода в действительные члены НОМ'а,
т. е. в сонм „действительных марксистов" НОМ'а. НОМ'овский быт
даже выработал такой трафарет: „в в и д у м о е й г о д и ч н о й
раб о т ы в с е к ц и и п р а в а и - г о с у д а р с т в а НОМ, п р о ш у п р и н я т ь м е н я в ч и с л о ч л е н о в " . Для успешности „агитации" НОМ
должен был собой представить своеобразный идеологический „завод",
где перерабатывались бы идеологически заведомо негодные и даже
контрреволюционные элементы. „Полуфабрикатами"
в результате
такой переработки должны были, таким образом, явиться марксисты
НОМ'овской формации, которые впоследствии в лице „лучших" могли бы
занять достойное положение и в партии.
Успех такого „производственного" предприятия предполагал своеобразную конвейерную систему, по которой, например, „вчерашний"
церковник или белогвардеец „диалектически" превращается в „сегодняшнего" марксиста и в „завтрашнего" коммуниста 1 .
Несомненно, т. Серебрякову заслуженно принадлежит патент на
изобретение производства марксистских кадров из такого, с позволения
сказать, материала.
Нам теперь будет п о н я т н е е , я с н е е та едкая и убийственная
характеристика наследию т. Серебрякова, которую дал т. Стучка
в своей рецензии на книгу К. М. Варшавского, одного из участников
НОМ'а: „ А в т о р — м а р к с и с т , п р а в д а , м а р к с и с т л е н и н г р а д с к и й (подобно ему там в университете среди преподавателей чуть ли
не большинство, а коммунистов из них только жалкие единицы).
„А, быть может, — как это поется в песенке, — не марксист, в самом
деле пе марксист...", если судить, по крайней мере, по содержанию
книги, представляющей сплошное недоразумение". И в конце: „...Так ли
1 В „Студенч. Правде" от 28 октября 1930 г. автором этих строк приведен
обширный документальный материал о правых делах в ЛГУ,, где между прочим
на конкретных примерах это- положение иллюстрируется. В настоящей же работе
воспроизводятся лишь данные о НОМ'е.
нужно бороться против работ, которым в нынешнем виде место
только в с о в е т с к о й печке"1.
Да о какой критике явно враждебной или квази-марксиетской
идеологии могла иттн речь, когда действительными членами НОМ'а
состояли такие лица, которые впоследствии не были включены в состав
группы нрава при JIOKA, а их работы к а к б у р ж у а з н ы е подверглись жестокому разгрому .со стороны органа Комакадемии —
„Револ. права". Заслуживает внимания, что президиум НОМ'а издал
в 1927 г, книгу Аскназия и Мартынова — „Гражданское право и регулируемое хозяйство" под маркой „Трудов научного общества марксистов, секция права и государства" под общей редакцией проф. Серебрякова,— книгу, получившую суровую оценку на страницах „Револ.
права" 2 , сами же авторы в одной из статей т. Стучки причислены
к категории „лучших буржуазных снецов" 3 . Но т. Серебряков был
вполне последователен, издавая их труды под маркой НОМ'а, поскольку
в том же году он дал п Мартынову, и Крылову и др. рекомендации
в действителыіыэ.ллены Общества, т. е. от себя рекомендовал их, как
марксистов. Более того, Серебряков, не ограничиваясь „общей редакцией" книги Аскназия и Мартынова, пе поскупился дать предисловие
к ней, в котором нет далее намека на то, имеются ли претензии на
марксизм со стороны авторов. Начинается оно так: „ О с е н ь ю 1926 г.
при н а у ч н о м о б щ е с т в е м а р к с и с т о в о б р а з о в а л а с ь особая секция права г о с у д а р с т в а ,
в которую
вошли
почти все научные работники—юристы
Ленинграда".
Не марксисты, а юристы,— п р и
чем
тут
марксистская
в ы в е с к а ? Такой состав секции вобрал в себя, кроме „марксистов",—
и откровенно буржуазных профессоров, как Магазинер, Пергамент,
1 К. М. Варшавский. Обязательства, возникшие вследствие причинения другому вреда. „Револ. права", № 6—1929 г. стр. 150. Библиография.* Обзор литературы по гражданскому праву. Разрядка в тексте.
2 В рецензии на эту книгу т. Стучка („Революция права",
1928 г. № 1
стр. 150—153) отмечает, что „ни у р е д а к т о р а , пи у двух сотрудников секции
общества юристов-марксистов, к сожалению, не хватает одной о с н о в н о й
п р е д п о с ы л к и (разрядка в теіссто. И. С.) такой работы: революционной диалектики" (стр. 150). Не больше и не меньше.
Рекомендуя вниманию читателя рецензируемые книги, в том числе и эту,
т. Стучка указывает, что „их можно и надо читать, н о и м е я о п р е д е л е н н у ю "т о ч к у з р е п и я, к о т о р о й с а м и р а б о т ы н е д а ю т". В частности,
т. Стучка, мимоходом, дает следующий отзыв о „марксизме" проф. Мартынова:
„Другой автор, проф. Мартынов (из предисловия мы узнаем, что сей „питерский
марксист" одновременно сотрудничает и в журнале „Право и Жизнь" за
1927 г.)...« и т. д.
3
„Революция права", 1929 г. № 6, стр. 8, ст. т. Стучка „Двена дцать лет
революции, : ссударства и права". Нужно отметить, что в самое последнее время,
в апреле 1931 г., и Аскназий и Мартынов в прениях по докладу тов. Либе)шана „Гражданское право и последний этап нэпа" в институте совет, стр. и права
Ленин, отд. Комакадемии полностью подтвердили приведенную вышо оценку их
работ. В своем заключительном слове докладчик отметил, что, о д н и х п о к а я н и й н ѳ д о с т а т о ч н о. „К а ю щ и м с я " н а д о р а з о б л а ч а т ь с е б я , к а к
з а к о н ч е н н ы х б у р ж у а з н ы х ю р и с т о в , не выискивая каких-то мотивов
оправдательного порядка".'
Люблинский, Жижиленко, Вальтер и ми. др., которые только оформлялись в НОМ'е под фиговым листком „привлеченных" к п о с т о я н н о й работе, играя роль либо экспертов при липовых „марксистах",
либо роль членов-соревнователей, „ б у д у щ и х " марксистов. „Привлеченные" охотно читали доклады, почти не рискуя встретить критику
своих взглядов.
Обстановка идеологического и политического разложения, которое
проводилось организованно через НОМ и аппарат ЛГУ, не могла пройти
бесследно и не могла не повлиять на некоторые недостаточно идеологически крепкие звенья студенчества. Дыхание миазмами оппортунистического болота не проходит безнаказанно для организма.
Обстановка тем белее способствовала этому, что, например, идеологическая непримиримость Жижиленко была официально удостоверена
в печати в рецензии А. Э. ' и даже поставлена ему в з а с л у г у , как акт
лойяльяо'сти к советской власти.
Приведенный эпизод с вставанием в память Э. Ферри, по своему
удельному весу, быть может, не заслуживал бы особого внимания, если
бы не об'яенеиия Жижиленко, Люблинского и др., адресованные в Ленинградское бюро секции научных работников и не п р е д н а з н а ч а в ш и е с я д л я п е ч а т и . Мы имели случай „вскрыть все лицемерие
этих об'яснений в А» 3—4 Варнитео за 1930 г. в заметке „Наивность или предательство". В настоящей работе мы не только воспроизводим эту заметку с некоторыми изменениями и дополнениями, но
значительно расширяем материал на эту тему, чтобы подчеркнуть характер тех п р и е м о в , к. которым прибегли Жижиленко и Люблинский.
ХІГ.
Ферри, как криминалист, весьма известный в криминалистической
литературе, ничего общего с марксизмом не имел, а являлся, с известными поправками, последователем Ломброзо. Политическая же и теоретическая деятельность Ферри в Италии всецело смыкалась с фашизмом, и Ферри являлся пропагандистом итальянского фашизма как
в теории уголовного права, так и в политике; Жилсиленко, Люблинский
и др. великолепно это знали, но, не являясь его последователями в области теоретических воззрений, они, однако, все же не видели какихлибо препятствий в политических взглядах Ферри, чтобы почтить его
память в стенах советского университета.
Теоретические взгляды Э. Ферри ничего общего не имеют со
взглядами марксистской школы уголовного права.
Сам Э. Ферри в своей книге „Уголовная антропология и 'социализм" („Kriminelle Antoropologie und Soeialismus), заявляет, что „антрополог, констатирующий наследственные или приобретенные биологические аномалии преступника, совсем не отрицает тем самым косвенного социального происхождения большинства этих аномалии". 1
I Оборник статей Э. Ферри „Уголовное право и социализм". Перевод под
редакцией и с предисловием М. Н. Гернѳт. 1918 г.
Далее, Э. Ферри отмечает, что „важный вывод уголовной антропологии, а именно, что преступник—ненормальная личность, продукт
вырождения, должен повлечь за собой решительный поворот в характере уголовного права. Оно должно из общественного орудия мести
ы подавления (уголовное право сохранило такой характер и отличительные черты самых ранних веков) превратиться в орудие общественной защиты" (стр. 213).
В своей „Уголовной социологии" Э. Ферри проводит идеи Ломброзо в реформированном виде и специально занимается полемикой
с марксизмом.
„... Как я уже упоминал,— пишет Ферри,—при исследовании
одного за другим 700 солдат, я нашел у одного очень ясно
выраженный тип убийцы (убегающий лоб, огромные челюсти, холодный взгляд, землистую бледность, тонкие губы), и когда я высказал мое мнение военному врачу, сопровождавшему меня, то
солдат сам подтвердил его, сказав, что он осужден за убийство,
совершенное в детстве.
„... Аномалии в строении "и в костях черепа и тела служат
как бы дополнением того центрального ядра, которым является
лицо, а впоследствии, по крайней мере, по моему опыту, особенно характерны некоторые черты, именно глаза и челюсть.
П о этим д в у м ч е р т а м , о с о б е н н о в б о л е е р е з к о выраженных случаях, я могу отлпчнть преступника,
п р о л и в ш е г о к р о в ь , о т в с я к о г о д р у г о г о . Но т о ж е
р а з л и ч и е можно наблюдать и у п р о с т о г о вора,
д е й с т в у ю щ е г о л о в к о с т ь ю , но н е л ю б я щ е г о к р о в и
и н а с и л и я , по с р а в н е н и ю с в о р о м в о о р у ж е н н ы м ,
не о т с т у п а ю щ и м в с л у ч а е н у ж д ы и п е р е д
убийс т в о м ; несмотря на аналогичность преступления и мотива—это
два совершенно разных антропологических типа. Я не думаю,
чтобы другие последователи, как Ломброзо и Марро, не могли
отличить по признакам, и м и л у ч ш е и з у ч е н н ы м , напр., преступников против нравственности, типичных .воров и др.". (стр. 85),
Э. Ферри вел в той же „Уголовной социологии" ожесточенную
борьбу с марксизмом, резко отрицая классовый характер уголовного
права. Особенно ярким представляется следующее место из „Уголовной социологии", где автор, заигрывая с марксизмом, по сути дела,
продолжает настаивать на отрицании классового характера уголовного
права.
„... Наконец, м о ж н о ли у т в е р ж д а т ь , ч т о у г о л о в н ы й
кодекс
охраняет
и с к л ю ч и т е л ь н о и л п по п р е и муществу
интересы
господствующего
класса,
Б Э. Феррп. Уголовная социология. Разрешенный автором перевод с 5-го
французского издания 1905 г.О. В. ІІозныгаевой, Л. В. Гольденвейзера, П. А.
и Г. Я. Зак и В. П. Поливанова, под редакцией Москов. профессора О. В. Познышева, с п р е д и с л о в и е м Э. Ф е р р и и р е д а к т о р а п е р е в о д а .
когда on карает убийства и нанесения ран, не различая личности
жертвы и пострадавшего, напр., в тех случаях, когда оба онп
принадлежат к неимущему классу?
я ... Я нахожу
неточным, вследствие его о д н о с т о р о н н о с т и ,
„взгляд, согласно которому преступление есть исключительное
или д а ж е г л а в н о е с л е д с т в и е о б щ е й
социальной
с р е д ы " (стр. 116).
Какова была-политическая физиономия Ферри? Непосредственный
ответ на этот вопрос 'можно найти в двух работах Ферри, представляющих совершенно исключительный интерес, в виду их специфического
характера,—они изданы в переводе на несколько европейских языков
фашистским „агитпропом" „Mussolinia" К Одна—„II Fascismo in Italia
е l'opéra di Benito Mnssolini" („Фашизм в Италии и деятельность Бенито Муссолини") 2 . Характеристика фашизма, сделанная самим
Э. Фѳрри в этой брошюре, до того ярка, что достаточно ограничиться
выдержками из брошюры.
Раньше всего у Э. Ферри своеобразные понятия об интернационализме: „Фашизм,—пишет он в главе „Фашизм и интернационализм",—
раньте, чем думать об и н т е р н а ц и о н а л ь н о й ж и з н и , хочет, чтобы жизнь национальная была обеспечена и развита. И это е щ е р а з —
есть идея с о ц и а л и с т и ч е с к а я - ' (стр. Зі).
Борьба классов признается Э. Ферри: „Борьба классов остается,
таким образом, и для фашистской доктрины фактом неоспоримым
и постоянным. Только она преобразовывается из борьбы „свободной",
т. е. анархической,—в борьбу юридически дисциплинированную" (стр.
39). В интересах „дисциплины" фашистские законы „не допускают
больше ни забастовки, ни стачки и карают менее строго только тогда,
когда дело идет о забастовке чисто экономической, и строже, когда
она касается государственной (общественной) службы, и очень строго,
когда касается забастовки политической" (стр. 39).
Естественно, что даже английской буржуазии пришлось поучиться
кое-чему у итальянских фашистов. В главе „Социальная проблема и
фашизм" Ферри отмечает: „Опыт стал т а к и м к р а с н о р е ч и в ы м и ч е т к и м для Англии, что в апреле 1927 г. министр Болдуин представил проект закона, о ч е н ь о г р а н и ч и в а ю щ и й „право
стачек" в подражание (по не полное и потому неудовлетворительное)
итальянскому закону о синдикатах (стр. 34).
Э. Ферри видит элементы замирания классовой борьбы в „хартии
труда", изданной 21 апреля 1927 г., и характеризует ее, как „основной статут нового юридического (?) порядка о труде в общественной
жизни. Это передовой столб в исторической эволюции права" (яриме1 На первой стр. брошюры красуется заголовок: „Mussolinia"—Biblioteca di
propaganda fascista diretta da Franco Paladino".
2 Характерно
указание в выпоске на 1 стр. Брошюра вышла ранее в виде
статьи в „Revue belge" на французском языке (Брюссель) 1/Х—26 г. и на испанском в Аргѳптинѳ (Буэнос-Айрес) в январе 1927 г. в „Revista argentina de
ciencias politicas".
чание ко 2 изданию). Очевидно, „хартия труда" покрывает и перекрывает классовую борьбу, и всякий, серьезно посягающий на ее усиление, должен караться „очень строго". В' самом деле, „фашистское
государство, больше уж не предоставленное самому себе,—либеральное
государство, безсознательное и безвольное" (стр. 35).
Меткую оценку дает Э. Ферри итальянской социалистической
партии, которую он именует „естественным отцом фашизма".
„Фашизм, родившийся как идейное движение до войны, стал движением политическим только после войны и политическим движением
с двойственным характером: во-первых, как реакция общественного
консерватизма против разрушения, хаоса итальянского большевизма
(перед которым оставалась бессильной итальянская социалистическая
партия, являющаяся естественным отцом фашизма); во-вторых, к а к
п р о д о л ж е н и е п с и х о л о г и и в о й н ы , с ее презрением к смерти
и употреблением насилия для устрашения и парализования противника" (стр. 4—5).
Преклонение перед фашизмом вызывает у Э. Ферри слова
презрения к парламентаризму, как к пустой болтовне:
„...Я 38 лет состою депутатом в парламенте я никогда не
был в состоянии интересоваться этим пустым, полным сплетен
и неискренним парламентаризмом. В течение этих 38 лет (1886—
1924 г.), говоря только о моем техническом поле действий, которым является уголовная реформа, я произносил много речей,
собрал много одобрений..,, но ни одна реформа не была осуществлена либерально-демократическим
правительством. Фашизм,
только в последние два года правления, осуществил из них серию,
которую я привел в моем криминологическом обзоре" (стр. 15).
Опасаясь, однако, возможного отождествления диктатуры фашизма
с тиранией, Э. Ферри, в специальной главе „Бред тирана", взятой им
иронически в кавычки, делает интересные исторические сопоставления.
„...Допуская примеры античной истории (Нерон, Калигула и др,), известно, что Наполеон, который тоже создал „фашизм" против „большевизма" 1793 года, сделался благодетельным и могущественным
в период своего возвышения" (стр. 21). Итак, Муссолини—Наполеон,
но в иных исторических условиях, таков анализ его верного оруженосца. И Э. Ферри приходит к выводу, что в Италии „можно говорить
о диктатуре, но не о тирании". Разумеется, для защиты этой диктатуры не надо стесняться в 'средствах. „...B дальнейшем был издан
закон „для з а щ и т ы г о с у д а р с т в а " с н а к а з а н и е м с м е р т ь ю
и специальным
в о е н н ы м т р и б у н а л о м , к о т о р ы й функ ц и о н и р о в а л со с п р а в е д л и в о с т ь ю о с у ж д е н и я и наказания,
всеми
п р и з н а н н о й " . Тут классовая
откровенность
Э. Ферри доведена до цинизма (стр. 22).
Восхваление фашистского режима принимает у Фѳрри самые причудливые формы. Он сравнивает его с „Годьфштремом в океане мировой жизни". „Фашизм есть движение умственное, политическое и
социальное, очень сложное и длительное, слитое с личность» Мус6
81
солини" (Стр. 41). ,,...Й вот почему очень многие итальянцы, а также
иностранцы — справедливо называемые „современная будущность" —
единодушно сходятся в признании выгоды диктатуры Муссолини. И вот
почему в Бельгии, как и во Франции, в Англии как и в Австрии,
я много раз слышал от разных лиц: „Также и для нас мы бы хотели
такого Муссолини!" (стр. 20).
В другой брошюре, посвященной Муссолини,—Mussolini Uomo di
Stato („Муссолини-—государственный деятель"), и вышедшей в том же
издательстве „Mussolinia" и с тем же заголовком „Biblioteca di propaganda fascista diretta da Franco Paladino", Э. Ферри, раньше всего,
ищет в п с и х о - ф и з и ч е с к о м о б л и к е М у с с о л и н и причину его
успехов и влияния.
„Ссылаясь на личность Александра Герцена, великого русского
агитатора, мы можем напомнить, что и Муссолини является несомненно артистом в музыке. Герцен почувствовал, что „е юности бродила в нем беспокойная закваска. В нем была дерзкая потребность
опасности, блеска, лавр, славы". (Стр. 16).
Сравнивая Муссолини с Лениным (в главе „Вильсон, Ленин, Муссолини"), Э. Ферри пишет, что Ленин „...человек без реального исторического чутья национальной действительности, которую он хотел
создать. Он думал сделать для русского народа возможным скачек
на целый период социальной эволюции—заставить его одним прыжком
перейти от царского феодализма к коммунизму. Иллюзия и заблуждение,—почему народы, как и индивидуумы, не могут перейти от детства
к возмужалости, перескочив период юности и экспериментальных испытаний для постепенного роста" (стр. 19).
Э. Ферри пытается противопоставить большевизм Ленину. „Муссолини явился после воины, когда Италия была добычей большевизма,
б е з Л е н и н а , который является худшей формой социальной агитации..." (стр. 23). Успех большевизма в Италии Э. Ферри об'ясняет
растерянностью социалистической партии, не сумевшей взять власть
в свои руки.
„Затем, когда он (Муссолини) явился после войны, и после
посева пришло бы время жатвы, социалистическая партия—
в лице своих главарей—-особенно растерялась; как будто не
имела ни силы, ни храбрости произвести революцию, также как
и взять па себя ответственность правительства". „...Он (Муссолини) дал Италии спасение от хаоса, вернул ей порядок, дисциплину. По благодаря этому он стал только человеком правления,
замечательным, полезным, удивительным, но не государственным
человеком: г о с у д а р с т в е н н ы м ж е ч е л о в е к о м о н с т а л ,
когда к этой функции реорганизации социальной
ж и з н и он д о б а в и л п о н я т и е ж и з н и
политической
ц е л о й н а ц и и " (стр. 24).
Останавливаясь подробно на фашистской программе, олицетворяемой Муссолини, Э. Ферри указывает, что „Муссолини вернулся к римскому понятию государства, которое является верховным и суверенным
йад и н т е р е с а м и
индивидуальными
и
классовыми".
(Стр. 27—28).
В этой брошюре, составляющей стенограмму речи 9. Ферри иа
фашистской конференции 1 , Э. Ферри так об'ясняет, почему ou не
состоит официально в фашистской партии, хотя ои целиком ей предан
и служит ее интересам всем, чем он может.
„Я—не фашист, так как политическая жизнь с современной точки
зрепия,—как говорит Данте,—„направляется из океана к берегу".
Я нахожу, что на берегу спокойнее, особенно- к о г д а в о л о с ы побелели, и нет ж е л а н и я о к у н а т ь с я в б е с п о к о й н ы е волны.
В юности и мне также нравилось беспокойное море. Потом... (В о зг л а с ы о б щ и е и о д о б р и т е л ь н ы е ) , потом, после войны, я сделался как старый моряк—не могу сказать с остатком трубки во рту,
так как я никогда не курил—с т а л с м о т р е т ь , п о л н ы й в о с п о м и н а н и й и н а д е ж д , на ю н о ш е й , п р и ш п о р е н н ы х и п р е д в о д и т е л ь с т в у е м ы х дожем, е пылом п у с к а ю щ и х с я в н о в о е
п л а в а н и е д л я н о в ы х с у д е б И т а л и и . . . " (стр. 29—30).
Какая яркая образная картина, как „старый моряк" Ферри любовным и умилительным взором провожает своих „внуков"—пылких
энтузиастов—фашистов в новое плавание во главе с „дожем" Муссолини!
Однако, „судьбы" Италии требуют несомненно энергичных действий не только во внутренней, но и во внешней политике.
„Италии необходима ее собственная жизнь на Средиземном
море, и я верю, что она извлечет большие выгоды из этой программы настоящего государственного человека, которую Муссолини искренно, открыто проявил, как и в своей замечательной
лекции в ІІеруджийском университете (окт. 1926) по поводу
„древнего Рима на море". (Стр. 33).
Особый интерес представляет собою характеристика Э. Ферри об
отношении Муссолини к рабочему вопросу.
„Итак, одно из суждений, наиболее отдаленных от исторической истины,—это думать, что Муссолиии как государственный
человек может быть помещен в ряды анти-пролетариев. Гораздо
вернее наоборот, когда недавно в одной речи в Будапеште проф.
Kozsegy сказал, что „ М у с с о л и н и д е л а е т и б у д е т д е л а т ь
с о ц и а л и з м от в е р х о в до н и з о в " , в пр о т и в о по ложн о с т ь „ с о ц и а л и з м у н и з о в п р о т и в в е р х о в " . (Стр. 39).
Приведенная формулировка представляет собою воистину шедевр
и способна конкурировать разве в исторической параллели, в другой
связи, с другой не менее знаменитой формулировкой Александра II по
вопросу о необходимости освобождения крестьян в 1861 году: „Если
мы нѳ освободим их сверху, они освободят себя снизу".
1 CöBferenza delta al „Cireolo di Roma",in Roma, il 9 Marzo 1927.
Как производится это административное насаждение социализма
„от верхов до низов", видно из следующего отрывка:
„Муссолини совместно с сотней из миллиона лучших администраторов приступил к реализации возрождения. Поэтому южные провинции, в которых в после-военное время не свирепствовал большевизм без Ленина, вначале не заключали в себе
исторических корней фашизма, теперь лее обратились к нему
ради тех заслуженных благодеяний, которых не получили".
(Стр. 35).
Ряд суждений Э. Ферри о преимуществах фашистского государственного строя свидетельствует о том, что в лице Э. Ферри фашизм
имел горячего и талантливого агитатора и пропагандиста.
Имя и авторитет Э. Ферри были чрезвычайно широко использованы,
в особенности, в самые трудные моменты для фашистского правительства, когда разгул фашизма принял формы, вызывавшие бурю протестов в широких массах за рубежом Италии.
XIII.
В свете приведенных взглядов Ферри особенно рельефно вырисовываются приемы Жижиленко, Люблинского и К° выгородить себя от
обвинения в солидарности с одним из виднейших идеологов фашизма.
Это толкнуло их на указанное выше заявление, в котором они позволяют себе утверждать, что Э. Ферри „не м о г б ы т ь ф а ш и с т о м
уже по одному тому, что он открыто и неоднократно пропагандировал советское право". Авторы коллективного заявления занимаются
грубейшей подделкой, рассчитывая на невежество читателя. Раньше
всего о Ферри, как о ревностном фашисте без партбилета, имеется
достаточно данных даже в советской литературе. Когда авторы заявления ссылаются на то, что „новые взгляды Э. Ферри не остались
без некоторого влияния на советское право", то они пользуются внешним сходством положений, умышленно скрывая диаметрально противоположные источники и мотивы этих положений.
Пора покончить с легендой о влиянии взглядов Ферри на наш
УК 1922 г. В период обсуждения и издания УК 1922 г. п р о е к т
Ф е р р и 1921 г. в п р е д е л а х СССР не б ы л и з в е с т е н
вовсе.
Еще в 1925 году проф. M. М. Исаев в своем учебнике „Общая
часть уголовного права РСФСР" (стр. 109) отметил, что
„при составлении нашего кодекса не было вообще обращения к новейшим проектам в качестве материала, равно и к новейшей западно-европейской литературе. Уже во время мировой
войны Россия в значительной мере была отрезана от западной
науки (кстати, и там в годы войны пе процветавшей). Октябрьская революция вызвала известную блокаду. Летом в Москве
появился германский проект 1919 г. с об'яснителькой запиской,
в 1922 г., по с м у т н ы м с л у х а м , стало известно, что Ферри
выработал какой-то п р о е к т к о д е к с а . Швейцарский проект
191$ г. и сам проект Ферри появились в России также не ранее
конца 1922 г. — в с е п о с л е п р и н я т и я К о д е к с а ВЦЙК'ом.
И как-раз проект Ферри, с которым больше всего сходства,
совершенно не был в поле зрения авторов Кодекса".
Один из авторов заявления проф. Люблинский в своей статье о
Э. Ферри, помещенной в энциклопед. словаре Гранат (том 43, стр. 2 4 5 —
250) отмечает, что взгляды Э. Ферри, изложенные пм в своей „Уголовной
социологии", составляют лишь „некоторое углубление классификации
Ломброзо, от которого он целиком заимствует и учение о прирожденных преступниках. Деление факторов преступности на три группы
(физических, антропологических и социальных) еще до Ф е р р и было
высказано у н а с Ф о й н и ц к и м , и в 70-х годах было уже общим
местом в науке уголовного права".
Следовательно, н е в э т и х в з г л я д а х , от которых Э. Ферри
никогда в своей жизни не отказывался, заключается хотя бы внешнее
сходство с основными принципами советского уголовного права.
Вряд ли можно найти такое сходство в том, что „выдвигание
роди социальных факторов воспринято Ферри под влиянием итальянских социалистов-криминалистов Турати и Колаяни". Сам Люблинский
относится весьма сдержарно к изобретенным Э. Ферри „заместителям
наказания", под которыми, как отмечает П. И. Люблинский,
„в сущности скрывается теория предупреждения (профилактики) преступности, отчасти развивавшаяся уже Беккариен.
Закон „насыщения преступности", по которому об'ем преступности определяется социальными законами, а из политикой наказания, является отражением соответствующих идей бельгийца
Кетде. 'Фіаконец, идея социальной защиты, как основной цели
наказания, проходит красной нитью через все работы итальянских криминалистов, начиная с Филанджьери".
Только отказ Э. Ферри от принципа моральной ответственности и
признание им принципа легальной ответственности может дать повод
лишь для утверждения о внешнем совпадении идей нашего Уголовного
кодекса, что, однако, очень далеко от какой-бы то ни было преемственности нашего Уголовного кодекса, отказавшегося от принципа вины и
наказания.
„Звено", за которое хватаются Жижиленко, Люблинский и др., будто
Э. Ферри являлся другом СССР, — конечно, лишь, соломинка для утопающего. Суть в другом.... Недаром в совётской литературе были уже
неоднократные указания на то, как фашистские „примиренцы" в СССР
занимаются замалчиванием Э. Ферри, как фашиста.
Так, в рецензии А. Г. („Революция права", 1928 г., А» 6, стр. 166)
на книгу „Архив криминологии и судебной медицины" (под редакцией
заслуженного профессора Н. Бокариуса, Юрид. изд. УССР. 1926 г.
т. I) изложено:
„Любопытно отметить, что редакция „Архива" в сноске дает
(в виде исключения) некоторые сведения о Ферри: год рождения,
сводку академической деятельности, главные научные труды.
0 том, ч т о Ф е р р и с д е л а л б о л ь ш у ю ф а ш и с т с к у ю
к а р ь е р у , р е д а к ц и я , н е в и д и м о м у , з а б ы л а , и л и нѳ
с о ч л а это о т н о с я щ и м с я к делу".
В другой рецензии („Революция права" 1928 г. № 4, стр. 103)
также обращается внимание на подобное подозрительное умолчание
со стороны журнала „Право и Жизнь":
„Книга I за 1927 г. открывается (в виде передовой уголовного отдела) докладом известного итальянского криминалиста—
фашиста Э. Ферри. Единственное отнесение этого доклада к советской действительности сделано самим Ферри"... „УК РСФСР
т а к ж е осуществил включение мер социальной защиты в положительное уголовное право, приняв принцип юридической ответственности" (ст. 38). Р е д а к ц и я по п о в о д у э т о г о „ т а к ж е *
не с о ч л а н у ж н ы м о б м о л в и т ь с я ни о д н и м е л о в о м " .
Физиономия „Права и Жизни" оказалась достаточно разоблаченной, и недаром тот же рецензент (стр. 105) дает этому журналу убийственную характеристику:
„С момента затруднений „Права и Жизни" их идейное знамя—
в борьбе за „равные права", „надклассовую" справедливость и „демократию", „законные формы" и более „мягкий режим". Поэтому
и мы со всей решительностью должны признать, что „их" право,
противоречащее нашей жизни, как гнилой мусор на нашем социалистическом пути, д о л ж н о б ы т ь с м е т е н о ж е с т к о й м е т лой п р о л е т а р с к о й д и к т а т у р ы " .
Но метод умолчания оказался недостаточным для верных сынов
„Права и Жизни". Авторы ростовского сборника пошли гораздо дальше,
поднявшись цензурной выправкой, напечатанной в сборнике статьи
Э. Ферри о Джибсон, с целью вытравить из нее наиболее инкриминируемые для него места 1 ).
Однако, Жижиленко, Люблинский и К 0 пошли еще дальше своих
харьковских и ростовских коллег. В специальном документе на имя
бюро секции научных работников, предназначенном для доказательства,
что Э. Ферри „не мог быть фашистом", они приводят выдержки из
иностранной ю-идической прессы, а также из „Проблем преступности",
проделывая грубейшую операцию о т с е ч е н и я тех мест,
в к о т о р ы х Э. Ф е р р и р и с у е т с я к а к ф а ш и с т . Так, они ссылаются на отзыв Э. Ферри об' УК и приводят выдержку из этого отзыва,
помещенную в № 4 „Проблем преступности" на стр. 211. Но они не
сочли нужным привести строки, помещенные в с л е д з а э т о й
в ы д е р ж к о й и принадлежащие редакции сборника.
„Лавры Энрако Ферри, п о с п е ш и в ш е г о е щ е н е с к о л ь к о
лет тому назад признать фашизм последовательн ы м п р о д о л ж е н и е м и т а л ь я н с к о й п о з и т и в н о й школы,
Подробно в нашей заметке „Четыре некролога", № 3 „Сов. гос. и ров.
іптаа* 1930 г.
1
ne дают покоя и другим итальянским криминалистам. Так,
проф. Сильвио Ланги начал курс своих лекций в Римском университете иа тему „О фашистской культуре" (?) лекцией на
тему „Фашизм и уголовное право".
Такая же операция проделывается со статьями иностранных авторов, из которых у м ы ш л е н н о н е п р и в о д я т с я
выдержки,
х а р а к т е р и з у ю щ и е Э. Ф е р р и „с д р у г о й с т о р о н ы " . Приводится выдержка („Журнал общей науки уголовн. права", 1929 г.,
вып. 4 — 5 , стр. 489) из некролога о Ферри, написанного Даниелем,
его „последователем", как аттестуют Даниеля авторы документа...
(„нельзя не привести весьма интересного и написанного б е з к а к о й л и б о п р е д в з я т о й м ы с л и замечания, характеризующие Ферри,
в некрологе, составленном его последователем Даниелем и напечатанном в наиболее влиятельном криминологическом органе Германии",
и т. д.).
Но вот что пишет Даниели „без какой-либо предвзятой мысли"
на стр. 478);
„При всем том политические шаги депутата Ферри говорят
о его малом постоянстве. Если его последователи не действовали
по его словам, он считал себя лично оскорбленным и сердился.
То он во главе реформистов, то во главе крыла, блокирующегося
е националистами. Выход из партии он об'яснял тем, что в ближайшее время он будет республиканцем. Он любил помпезные
перемены, эффектные и делающие много шуму решения —
и постепенно потерял свой политический кредит"... „От Ферри
отчуждало то, что он в 70 лет... в д р у г п е р е д а л ф а ш и з м у
с в о е перо и с т а л д о к а з ы в а т ь , что между уголовной п о л и т и к о й н о в о й И т а л и и и п о с т у л а т а м и позитивной школы с у щ е с т в у е т далеко идущее единод у ш и е " . „...C г л а в о й г о с у д а р с т в а е г о
соединяла
и с к р е н н я я дружба"... „ О п п о з и ц и я п р о т и в о ф и ц и а л ь н о й и д е о л о г и и б ы л а бы р а в н о с и л ь н а с а м о у б и й с т в у " (стр. 490).
Тот же Даниели (стр. 487) несколько охлаждает пыл пропагандистов той мысли, будто наш УК произвел заимствование из проекта
Э. Ферри 1921 г.
„Претензии Ферри, что принципы позитивной школы восторжествовали в УК РСФСР, разбиваются на два фронта сразу
(Крыленко, Массари, Ренде и др.).
„С левой стороны подвергнуты сомнению марксистко-диалектическне основы нового закона, которые, являясь орудием для
создания будущего коммунистического общества, — стоят также
далеко от реформистских планов Ферри, как и от других буржуазных систем".
„С правой стороны — в лагере противников России — считали, что с принципом социальной ответственности давно пок и-
чено (намек на крах нреекта Ф«рри и замену его проектом
Рокад)".
Вйдіраско на статьи Э. Ферри „Уголовное праве Советской
России", помещенной в Die Iustiz (J\s 4—1928 г.) не сопутствует другая
выдержка об о т р и ц а т е л ь н о м отношении Э. Ферри к нашей уголовной практике, о чем приведены указания в редакционном примечании к этой статье („проблематической природы уголовной практики
в новой России автор не касается").
Только пользуясь дымовой завесой, за которой буржуазной профессуре удалось на время искусственно скрыть образ Ферри-фашиета,
проф. Жижиленко сделал попытку немедленно после того, как в газетах стало известно о смерти Э. Ферри, поместить в ленинградском
журнале „Рабочий Суд" некролог—„Памяти Эирико Ферри". Некролог
не был напечатан. В этом некрологе проф. Жижиленко сообщает, что
Э. Ферри „ п р и в е т с т в о в а л н о в ы й п р о е к т и т а л ь я н с к о г о
у г о л о в н о г о к о д е к с а ' 2 7 г., с о с т а в л е н н ы й
фашистским
п р а в и т е л ь с т в о м , видя в нем ч а с т и ч н о е о с у щ е с т в л е ние с в ѳ и х в з г л я д о в " .
Чтобы усвоить значение этого „приветствия", достаточно запомнить два обстоятельства. Первое,—что 29 ноября 1926 года был
издан знаменитый фашистский закон о защите государства, жесточайший по методам репрессии по отношению к политическим противникам фашизма. Этот закон обрушился с исключительной свирепостью
на революционных рабочих и крестьян и на итальянскую компартию,
загнанную глубоко в подполье. Замечательно, что этот закон, формально изданный на 5 лет, введен без ограничения срока, как пос т о я н н ы й и „нормальный" закон, в проект уголовного кодекса.
Ферри не только приветствовал этот проект, но и вообще- высказал
свою солидарность с суровостью проекта УК в целом, видя в нем способ укрепления фашистской диктатуры.
Второе—самый закон о защите государства. Не говоря уже
о смертной казни за в с я к о е д е й с т в и е , направленное против
жизни, здоровья или личной свободы короля или регента, королевы,
наследного принца или главы правительства, а также за квалифицированные виды измены, за мятеж, закон, как из рога изобилия, награждает долголетней тюрьмой за малейшую попытку выступить против
фашистского режима. За один факт с г о в о р а хотя бы двух человек
совершить одно из тех действий, которые влекут за собою смертную
казнь, полагается от 5 до 15 лет тюрьмы, хотя бы дело далее сговора не пошло,—а „главарям, подстрекателям и организаторам"—о т 15
до 30 л е т . За один факт участия в запрещенных партиях или хотя
бы за пропаганду в какой бы то ни было форме учения этих партий—
от 2 до 5 лет с лишением права навсегда запимать государственные
и общественные должности. Такая же репрессия с увеличением срока
тюремного заключения от 5 до 10 лет постигает гражданина, который
распространяет или передает за границу „в к а к о й б ы то ни
б ы л о ф о р м е, лживые, преувеличенные или тенденциозные сведения
или слухи о внутреннем положении государства, способные ослабить
кредит или престиж государства sa границей, или же вообще развивает деятельность, могущую принести вред национальным инте^ежм"
(ст. 5). Достаточно неосторожного письма за границу с изложением
петочпых, а иногда, по существу, и правдивых сведений, чтобы подвергнуться указанным последствиям. Нужно ли удивляться после этого,
что членам ЦК итальянской партии и революционному активу были вынесены с исключительной беспощадностью такие каторжные приговоры,
где цнфрл в 30 л е т з а к л ю ч е и и я являлась весьма обычной? К этому
приходится добавить, что дела по этому закону о защите государства
слушаются в особых трибуналах,—военных по своему составу,—которые
созываются по приказу военного министра; он же определяет его состав
и местопребывание. К делам, которые рассматриваются в этих трибуналах
..применяются нормы военного времени и военного уголовно-процессуального кодекса" (ст. 7). Приговоры не подлежат апелляции и т. д.
Обращает на себя внимание, что и этот закон, как говорится
в ст. 8, „ничего нового" не прибавил к правам, предоставленным правительству законом от 4 декабря 1925 г., — следовательно, в общем
исключительные нормы нового закона фактически существовали и
раньше, хотя и в иной форме.
Таков проект фашистского кодекса-, который удостоился приветствия
с о в е т с к о г о профессора уголовного права. Впрочем, это приветствие
проф. Жижиленко не помешало ему закончить некролог в следующих
выражениях: „Имя Ферри будет вечно жить на страницах истории
науки уголовного права, а его идеалы (фашистские? И. С.) рано или
поздно найдут себе осуществление в жизни".
Для настороженного и подозрительного советского читателя проф.
Жижиленко считает нужным завуалировать фашистское лицо Э. Ферри,
для чего оп выражает у д и в л е н и е „последним (!) шагам Ферри,
сделанным навстречу фашизму", скрывая от читателя литературную
деятельность Ферри, посвященную восторженному восхвалению итальянского фашизма и его „вождя". В документе же, который для печати
не предназначен—в заявлении на имя секции научных работников—
и Жижиленко, и вся группа, подписавшая документ, не стесняясь, идет
дальше, даже перестает „удивляться", а бесцеремонно заявляет, что
Э. Ферри и „не м о г б ы т ь ф а ш и с т о м " . Они заканчивают свое
заявление в бюро секции научных работников обращением к заступничеству бюро против „Красной газеты", напечатавшей заметку „Кабинет восковых фигур". Они не защищаются,а н а п а д а ю т . Они требуют реванша—воздействия на редакцию газеты, поместившей заметку.
Заявление так и начинается:
„В с в я з и с и н т е р е с о м , п р о я в л е н н ы м
комисс и е й СНР к обстоятельствам, изложенным в вечернем выпуске
„Красной газеты" от 21 января с. г. Л» 18 под заглавием „Кабинет восковых фигур", считаем долгом сообщить следующее..."
А заканчивается заявление так:
„Считая, что Секция научных работников должна з а б о т и т ь с я о é о г р а ж д е н и и р е п у т а ц и и и о б щ е с т в е п-
н о г о и м е н и с в о и х с о ч л е н о в , сотрудники кабинета, представлял вниманию Секции изложенные факты, предоставляют
самой Секции решить вопрос о т е х м е р а х ,
которые
м о г л и бы б ы т ь
предприняты в данном с л у ч а е " .
Однако, в самый день заседания Секции научных, работников—
28 февраля, т. е. через 19 дней после подачи коллективного заявления,
когда п р о ф . Ж и ж и л е н к о у с п е л убедиться, что утверждение
о том, что Э. Ферри не только не был фашистом, но и н е м о г им
б ы т ь , неубедительно даже для пионеров и октябрят, что странно при
таких условиях еще требовать от Секция мер к ограждению их „репутации и общественного имени",—он счел себя вынужденным подать
заявление и признать—правда, с целым рядом оговорок—свою ошибку.
По сути дела, и это вынужденное признание, обставленное оговорками,
признания не составляет.
„Облик Ферри,—пишет Жижиленко,—как выдающегося крупнейшего криминалиста и как одного из немногих среди буржуазных ученых об'ективного ценителя и сторонника советского уголовного права заслонил для меня при этом его положение, как
деятеля, с ч и т а в ш е г о
для
себя
в о з м о ж н ы м ужив а т ь с я (!) с р е ж и м о м ф а ш и с т с к о й д и к т а т у р ы " .
Но мало ли кто уживается с каким режимом? Ведь „уживается"
же Жижиленко с советским режимом, и за границей никто не нашел
бы повода обвинить Жижиленко в том, что он из-за этого изменил своим
взглядам. Это замазывание роли Э. Ферри в пропаганде им и защите
идей фашизма и сведение этой деятельности Ферри лишь к „уживанню" его с фашизмом,—особенно знаменательно после столь огромных
предварительных трудов, предпринятых Жижиленко и Люблинским по
вытравлению и игнорированию в нашей литературе материала о фашистской деятельности Ферри. И поэтому Жижиленко вынужден формулировать свое признание „ошибки" следующим образом:
„Приняв во внимание то обстоятельство, что в ш и р о к и х
о б щ е с т в е н н ы х к р у г а х оценка научного работника тесно
связана с оценкой его политических воззрений и что о б ' е к т и в н о могло создаться такое представление, что Ленинградский кабинет, являющийся советским учреждением, почтил память вставанием деятеля, п р и н а д л е ж а щ е г о к п о л и т и ч е с к и в р а ж д е б н о м у л а г е р ю , я считаю, что мной как
председательствующим была допущена и з в е с т н а я о ш и б к а
в данном вопросе".
Только „известная" ошибка, и только потому, что „в широких
общественных кругах оценка научного работника тесно связана с оценкой его политических воззрений"; сам же Жижиленко, конечно, с такой
оценкой „широких общественных кругов" не с о г л а с е н . Оп по
с у щ е с т в у остается при своем мнении. Остальные же его коллеги
признали „за благо" даже не делать и такого сомнительного „призна-
ния", ограничившись тем, что за несколько дней до подачи своего
коллективного заявления они приняли вместе и под руководством
Жижиленко резолюцию, в которой они у з а к о н я ю т с в о и п р е т е н з и и на
аполитичность.
В резолюции отмечается, что „почтение памяти умершего криминалиста... не имело ни в какой мере отношения к оценке его как политического деятеля или как представителя фашистской идеологии, ч т о
было с п е ц и а л ь н о
оговорено
председательствующим
в е г о »в с т у п и т е л ь и о м с л о в е " .
Итак, с одной стороны, Ферри „не мог быть фашистом", а с другой, в „оговорке" председательствующего Жижиленко Ферри является
„представителем фашистской идеологии". Эта „ученая" неувязка,—
вернее, изворотливость,—явно рассчитана на крайнюю неосведомленность
широких общественных кругов о политической деятельности Ферри за
последние годы.
Впрочем, эта „ н е у в я з к а * не единственная. Следует привести
рядом и другое место из этого некролога, в котором Жижиленко ссылается на предисловие Э. Ферри к русскому изданию его „Уголовной
социологии" 1907 г., в которой Ферри, между прочим, указывает, что
„русские ученые не только склонны принять новые доктрины, но еще
задолго до появления -этого издания содействовали прогрессу уголовной б и о л о г и и и с о ц и о л о г и и . . . "
Жижиленко комментирует неолоыброзианекие воззрения Э. Ферри
так:
„Через двадцать лет после написания этих строк Ферри с большим удовлетворением мог констатировать, что его идеи нашли
себе в н е к о т о р о й степени осуществление и в советском уголовном праве".
Выше мы могли убедиться, о каких взглядах Ферри идет речь, по
во всяком случае взгляды Ферри, в изложении Жижиленко, являются
такими, которые „и нашим, и вашим" — они одновременно и фашистские и советские; они благополучно находят „частичное осуществление в фашистском проекте уголовного кодекса" и „в некоторой степени" в советском уголовном кодексе. Какие замечательные каучуковые взгляды!
Жижиленко дал непревзойденный образец политической замаскированной апологии фашизма, пытаясь в наших условиях легализовать разновидность классовых врагов в скрытой форме „осоветизированных"
фашистов. Личность Ферри, как фашиста без фашистского партбилета, слишком общеизвестна, чтобы у Жижиленко была возможность
открытой канонизации его.
И напрасно Жижиленко в своем „опровержении", адресованном
в редакцию „Красной газеты", жалуется иа то, что автор заметки
о заседанйиКабинета „ и з о б р а з и л" Ферри... „чериорубашечником"фашистом, хотя Ферри никогда к фашистской партии не принадлежал".
Жижиленко не мог не знать, что в органе Комакадемии, в „Революции
права", еще в 1928 г. (№ 6,стр. 161 — 163) помещена рецензия H.H.,
в которой Ферри „изображается" похуже. А заканчивается рецензия
следующими словами: „... Слишком много крови разделяет рабочий
класс от фашистской буржуазии, чтобы поддерживать эти альянсы
советской науки (не только медиков и не только ростовских) с чернорубашечниками, с х о л у я м и ч е р н о р у б а ш е ч н и к о в " .
При той тщательной операции, которая произведена Люблинским
и его единомышленниками, чтобы всячески скрыть от нашей общественности фашистское лицо Ферри, естественно их утверждение в своем
заявлении, что „при установлении фашистской диктатуры... сам Ферри
совершенно отошел от всякого участия в государственной работе".
Получается, что Ферри якобы является даже противником фашизма,
хотя на самом деле он только переменил характер государственного
служения фашизму, считая более целесообразным быть использованным
в фашистском агитпропе. Игнорируется общеизвестный факт подготовки фашистской партии к празднованию пятидесятилетнего юбилея
литературной и политической деятельности Ферри и само празднование,
протекавшее в обстановке особой помпезности, с участием всей фашистской „знати". Ферри был назначен сенатором фашистской Италии,
в честь его была выбита медаль, оттиск которой красуется на обложке
об'емистого сборника, изданного в память этого знаменательного празднования. Сам виновник торжества принимал самое горячее участие
в организации собственного чествования, рассылая пригласительные
письма политическим и научным деятелям различных стран, с целью
обеспечить предположенный к изданию сборник статьями видных
авторов. В результате в сборнике помещены статьи видных криминалистов многих стран, в том числе и „наших" — Полянского и даже
М. Гернета, заслуженного деятеля науки в СССР.
Утверждать при таких условиях, как это делают Люблинский,
Жижиленко и др., что в процессе Джибсон, покушавшейся па жизнь
Муссолини, ее защитнику Ферри „удалось вырвать ее из когтей фашистской юстиции", можно только при уеловии полного замазывания
отношения самого Ферри к фашистской юстиции, которой он посвящает
дифирамбы, и основной цели Ферри изобразить Джибсон, как психически больную, и тем создать представление о том, что на личность
„вождя" способны покушаться только умалишенные. На всякий же
случай, как об этом повествует сам Ферри в своей статье, помещенной
в сборнике Ростовского кабинета по изучению преступности и преступника., по его предложению и „с согласия" самой „умалишенной", она
была подвергнута п о ж и з н е н н о м у
з а к л ю ч е н и ю ; для предотвращения же будущих покушений на Муссолини Ферри охотно соглашается на издание специального закона о смертной казни.
Заслуживает внимания, что Люблинский в письме в редакцию
„Студ. Правды" 18 марта 1931 г. пытался, между прочим, заявить „отвод
о неподсудности" против факта опубликования и освещения в органе
ЛГУ эпизода с вставанием в память Ферри. „Здесь же считаю необходимым отметить,—пишет Люблинский,—что к деятельности факультета
сов. права ЛГУ этот случай прямого отношения не имеет, так как он
происходил на заседании. Лен. областного кабинета по изучению пре-
ступности и преступника, состоявшего в ведении НКВД, для каковых
заседаний университетом отведено лишь одно из университетских помещений". Классический образец юридического крючкотворства!
XIV.
Под ударами критики в переодической печати, а также в связи с
заявлением, поданным группой товарищей в Ленинградское отделение
Варнитсо об исключении Люблинского из состава Варнитсо, Люблинскому пришлось, волей-неволей, нарушить свое молчание и сделать шаг
по направлению к советской общественности. На новом этапе уличенные в идеологическом вредительстве, но не отказавшиеся от него,
пытаются сделать видимость чего-то для евоеи реабилитации. IIa
выступлении Люблинского лежит именно такая печать неискренности,
приспособленчества.
Он пытался несколько раньше отпарировать лред'явленные ему
обвинения, между прочим, тем, что он . . . . состоит членом Ленинградской секции Варнитсо, „одним из лозунгов Которой, — как писал
Люблинский в редакцию журнала „Варнитсо",—является решительная
борьба с аполитичностью в науке". Люблинский все же нашел, что необходимо, скрепя сердце, дать хоть что-нибудь „положительное" и тем
самым доказать, Что прошлое было „недоразумением", или, как он выразился в письме на имя заведующего Ленингр. обл. кабинетом по
изучению преступности и преступника,—у него в прошлой работе была
только „ н е д о с т а т о ч н а я выявленность классовой политики и н е д о о ц е н к а значения политических моментов в настоящий период
борьбы буржуазного мира с проведением социалистического строительства у нас". Можно подумать, что в прошлом он „выявлял" классовую политику, оттенял „значение политических моментов", но н е д о статочно.
Такое заявление имеет своей целью рассеять всякие подозрения в идеологическом вредительстве с его стороны. Правда, Люблинский и теперь не говорит, что он признает классовый характер суда
и всей аппаратуры буржуазной юстиции. Люблинский „осторожен" и
зря подобных „признаний" не делает, а только разрешает великодушно
в этом смысле т о л к о в а т ь его слова с тем, чтобы в случае их
опубликования быть „чистым" перед единомышленниками. И только
исходя из того предположения, что кто говорит „о н е д о с т а т о ч н о й в ы я в л е н h о с т и классовой политики в области уголовной
юстиции", тот, повидимому, признает в принципе классовый характер
юстиции,—только путем такой интерпретации можно успокоиться насчет действительных взглядов Люблинского. На самом деле, его заявление—лицемерный документ, в котором Люблинский бросает подачку
нашей общественности в расчете, что после этого можно всю его вредительскую деятельность перекрыть ыалозначущей ошибкой „недостаточной выявленности" и „недооценки".
15 Апреля 1931 г. Люблинский выступил в Кабинете по изучению преступности и преступника с докладом на тему об эксплоатации
труда заключенных в САСШ.
Люблинский, несомненно, избрал для своего доклада политически
„выигрышную" тему, так как само по себе явление эксплоатации
труда заключенных в тюрьмах капиталистических стран, в том числе
и в САСШ, нового не составляет. Во всяком случае даже, по исчислению Люблинского, этой „новизне" не менее . . . 18 лет, считая
с марта 1913 г., когда Люблинский поместил статью в „Вестнике
Европы" н а э т у лее т е м у и на основании тех же материалов, лишь
ныне дополненных за 18 лет. Так что запроектированный и „выстроенный" Люблинским „блюминг" оказывается весьма и весьма старенькой
и гнидой конструкции...
Таким образом, чтобы капитал приобрести и невинность соблюсти
почтенный профессор проделал следующий трюк: п е р е л и ц е в а л н а
с о в е т с к и й лад с в о ю д о р е в о л ю ц и о н н у ю с т а т ь ю , напис а н н у ю им 1 8 л е т т о м у н а з а д п о д з а г л а в и е м : „Уголовное
рабство в Южных штатах Северной Америки". Сопоставление доклада
в апреле 1931 г. и статьи того же Люблинского в марте 1913 г. дает
весьма любопытные данные о том, как можно под маской внешней
лойяльности советского ученого умолчать о своих прежних взглядах
идеолога буржуазии.
Люблинский в „Вестнике Европы" повествует о том, что он наблюдал во время своей поездки в САСШ при осмотре ряда мест заключения и земледельческих колоний и к каким результатам и выводам
привели его беседы с различными представителями пенитенцианарного
дела в Америке и ознакомление с литературой по интересовавшему его
вопросу о положении заключенных в САСШ. Буржуазный профессор до
мозга костей, совершавший тогда свою поездку в Америку на Вашингтонский пенитенциарный конгресс, натолкнулся па ужасающую систему
рабовладельческой эксплоатации заключенных. Недаром он пишет об
уголовном рабстве в Ю ж н ы х , а не в С е в е р н ы х штатах САСШ.
Люблинский, именно как б у р ж у а з н ы й профессор, выразил
осуждение с в о е г о к л ' а с е а этим, формам эксплоатации. Тут можно
наблюдать тот же характер, критики феодальных порядков, который
обычно проводился с большим блеском и убедительностью представителями буржуазии на заре капитализма. Эта же критика со стороны
буржуазии и ее идеологов имела целыо, под внешней маской человеколюбия и гуманности, „свободы равенства и братства" заняться в собственных интересах буржуазии той же эксплоатацией, облекая ее
в прилизанные „культурные" формы.
Такого же, примерно, характера социальный заказ буржуазии,
только с поправкой на иную стадию капитализма, выполнил Люблинский в 1913 г.
Все построение статьи свидетельствует об этом. Центр тяжести
критики: эксплоатация заключенных, которые отдаются государством
в кабалу землевладельцам по своеобразным арендным договорам. Начиная с формулировки губернатора штата Флориды, которая приводится
в статье, Что „наихудших преступников мы вешаем, а остальных раздаем на работу по расчистке леса и добыванию смолы частным предпринимателям, извлекая из «того ежегодно до полумиллиона рублей",—
и кончая описаниями совершенно исключительных зверств и нечеловеческих мучений, которым подвергают заключенных эти предприниматели, Люблинский последовательно проводит строго выдержанную классовую точку зрения буржуазии. Она заключается в следующем: эксплоатация заключенных ч а с т н ы м и п р е д п р и н и м а т е л я м и , владельцами огромных латифундий, представляет собой уголовное рабство,
заслуживающее серьезной борьбы со стороны буржуазии, которая и
должна в лице б у р ж у а з н о г о государства взять на себя устранение
средневековых форм экеплоатации, политически невыгодных для буржуазного государства, поскольку они способны разрушить демократические иллюзии и веру во всяческие свободы.
Замечательно, что все описания жизни заключенных, которые
приводит Люблинский в своей статье, касаются и с к л ю ч и т е л ь н о
п р е д п р и я т и й ч а с т н ы х п р е д п р и н и м а т е л е й . Там же, где
Люблинский касается положения заключенных в г о с у д а р с т в е н н ы х
фермах-колониях, он дает самый блестящий отзыв, скупо отводя теневым сторонам положения заключенных следующие слова:
•Ф
„Американская система, ныне вводимая на юге в з а м е н
у г о л о в и о г о р а б с т в а в р у к а х ч а с т н ы х лиц, е щ е н а х о д и т с я иод с л и ш к о м б о л ь ш и м в л и я н и е м прошлого,
ч т о б ы б ы т ь о б р а з ц о м для п о д р а ж а н и я " .
Зато он дает себе волю в хвалебном описании жизни заключенных,
работающих на государственных фермах штата Миссисипи:
„Содержание заключенных, — пишет Люблинский, — в общем
поставлено хорошо. Каждый заключенный помещается на ночь
в особую камеру, в которой находится кровать с рядом мягких
подстилок и одеял; утром он получает ванну; его пища состоит
из кофе, пшеничного и кукурузного хлеба, свинины, риса, простокваши и овощей".
Чем не санаторий? Впрочем, Люблинский вынужден нарушить эту
идиллическую картину жизни заключенных в государственных фермах,
хотя он тут же старается всячески смягчить свою вынужденную „поправку". Оказывается, что на ряду с режимом пряника и ванн, мягких
подстилок, одеял и отдельных спален, к заключенным применяются
и . . . телесные наказания. Чтобы не слишком огорошить читателя,
Люблинский успокаивает его. Во-первых, „телеспые наказания применяются у м е р е н н о " . Во-вторых, „надзиратели не вправе наказывать
во время работы", а, в третьих, об умеренности телесных наказаний
можно судить по тому, что „возможно лишь назначение в дисциплинарном порядке 15 у д а р о в р е м е н н о й п л е т ь ю " .
Та же своеобразная „гуманность", по которой надзиратели ие
в праве наказывать во время работы", может быть вызвана соображениями целесообразной постановки дела экеплоатации труда заключен-
ных, В самом деле, зачем расправляться с заключенным во время работы и тем лишать его временно трудоспособности s ущерб интересам предприятия, когда можно подождать окончания рабочего дня и тогда
спокойно, с толком, с чувством, с расстановкой, основательно наказать его? Насколько же 15 ударов ременной плетью составляют „умеренное" телесное наказание—дело вкуса и взгляда. Можно спорить.
Действительно, тем, которые не имели сомнительного удовольствия
испытать на себе прелести столь „умеренного", хотя и весьма энергичного применения телесных наказаний, трудно быть в роли экспертов и утверждать, что оно-де не „умеренно". Приходится лишь доверять авторитетному мнению проф. Люблинского как ученого,—в особенности, если учесть, что некоторые неприятные ощущения, вызываемые этим „легоньким" дисциплинарным наказанием, столь щедро
компенсируются ванной и другими удобствами.
Нужно отметить, что в 1931 г. Люблинский опускает приведенные
абзацы из своей статьи 1913 г., поскольку он ныне тщательно скрывает целевую установку своей прежней статьи.
Люблинский доказывал 18 лет тому назад необходимость сосредоточения пенитенциарной деятельности исключительно в руках государства.
Аргументация проф. Люблинского бьет неизменно по одной цели:
все „зло" т о л ь к о в системе частных предпринимателей. Изложение
жестокостей касается жизни заключенных т о л ь к о на предприятиях
„частников", зато в государственных фермах-тюрьмах все прекрасно/
начиная с ванн и кончая „умеренными" телесными наказаниями.
Люблинский стыдливо обходит вопрос об эксплоатации в государственных тюрьмах-фермах. Вопрос слишком щекотливый, чтобы можно
было касаться его в 1913 г. Да и с какой стати буржуазия в лице
своих идеологов стала бы раскрывать свои карты и показывать, что
она не столько обуреваема человеколюбивыми чувствами, сколько
стремлением к наживе и к той же эксплоатации заключенных, но
только в менее кричащих формах. Циничным признанием действительной подоплеки своего благородного негодования буржуазия разоблачила бы свое хищническое лицо и лишила бы себя возможности
открыть ураганный огонь против „эксплоататоров".
Люблинский—за непосредственную эксплоатацию труда при помощи государства.
„Наилучшее решение вопроса о том, как поступить с осужденными на юге, дает, быть может, устройство государственных земледельческих тюрем, или, как они называются в Америке, государственных тюремных ферм... Оно является вместе
с тем и более гуманным. Общие условия жизни г о р а з д о л у ч ш е ,
ч е м у ч а с т н ы х лиц. Впрочем п е ч а л ь н ы е
эксцессы
н а б л ю д а ю т е я и з д е с ь в тех случаях, когда государство
стремится с л и ш к о м
эксплоптировать
труд заключенных".
(Стр. 210).
Вопрос только в степени, в градации эксплуатации; только тогда
возможны печальные »ксцессы. Вообще же „обычная" экеплоатации
без добавления „слишком" столь привычна и в глазах заключенных,
что она не вызывает „печальных эксцессов".
Но Люблинский и не пытался доказывать, что предложенное им
устройство тюрем-ферм на „обширных пространствах невозделанной
земли" в царской России мыслимо без оголтелой аракчеевщины.
И если Люблинский считал, что по американским условиям 15 ударов ременной плетыо в целях своеобразного поощрения к труду составляют „умеренное" телесное наказание, то он, очевидно, в условиях
той же царской России, вряд ли мог допустить, что режим будет „умереннее", чтобы добиться эффективности в организации тюрем-ферм. Во
всяком случае, как бы он, Люблинский, ни оговаривался, что американская система еще не может быть образцом для подражания, он
все же не имел ни малейших оснований для вывода, что азиатские нравы
государственного управления в царской России были „гуманнее" таких
же нравов в республиканской Америке, в этой стране „свободы" в изображении буржуазных теоретиков. Если Люблинский имел возможность
ибойти в своей статье молчанием вопрос об экеплоатации заключенных
буржуазным государством, то только вследствие давно укоренившихся
в буржуазном обществе взглядов на п р и н ц и п и а л ь н у ю
допус т и м о с т ь э к е п л о а т а ц и и т а к о г о труда,—взглядов, которые
всецело разделялись Люблинским и которые в завуалированной форме
проводятся им в его статье. В этом смысле нет принципиальной
разницы между буржуазным профессором Люблинским и тем губернатором штата Флориды, сентенции которого Люблинский цитировал.
Губернатор оправдывал уголовное рабство заключенных тем, что, как
излагает Люблинский с его слов, с а м и же п р е с т у п н и к и вин о в а т ы в этом: они н а р у ш и л и з а к о н ы
государства,
и г о с у д а р с т в о в п р а в е п о л ь з о в а т ь с я их т р у д о м , к а к
п о ж е л а е т . И Люблинский в основе своих рассуждений допускает
принцип экеплоатации труда заключенных, но только осуществляемый
в государственных тюрьмах-фермах. Различие между губернатором Флориды и Люблинским заключается лишь в том, что в их лице говорят
представители двух конкурирующих между собой классов — землевладельцев-крепостников и буржуазии.
И, действительно, сама по себе эксплоатация труда заключенных в
капиталистических странах, — безразлично, в какой форме,—в форме
ли экеплоатации непосредственно государством, или путем отдачи их
в рабство по контракту,—ничего нового собой не представляет и в х о д и т в п о н я т и е р е п р е с с и и . И до революции лица, осужденные в России на каторгу или ссылку, „лишались всех прав состояния", т. е. и семейных и имущественных прав; имущество переходило к наследникам, а сами осужденные подвергались на каторге
самым неслыханным издевательствам и совершенно исключительной
экеплоатации. Это считалось в порядке вещей и нисколько не смущало буржуазных теоретиков права, которые все же продолжали твердить
о надклассовом характере суда и всецело поддерживать свои „надклассовые"
концепции. Замечательно, что проф.
Люблинский,
по
возвращении из Америки, напечатал в 1913 г. свою работу об уголовном
рабстве заключенных, а в следующем году, нисколько не считая себя
ввязанным этой работой, выступил в специальном сборнике со статьей,
в которой он проповедывал взгляды о надклассовом характере суда.
Подобно другим буржуазным ученым, проф. Люблинский не находил, что
между вопросом об эксплоатации труда заключенных и вопросом о
классовом или надклассовом характере суда имеется какая-либо связь.
И вдруг в 1931 г. проф. Люблинский нашел нужным выступить
на тему об эксплоатации принудительного труда заключенных в САСШ.
Более того, ныне проф. Люблинский ссылается на доклад тов.
Молотова на VI с'езде советов СССР в той ее части, где т. Молотов
дает отпор злостным измышлениям относительно использования в СССР
труда заключенных на лесозаготовках, и приводит предложение тов.
Молотова ознакомиться с постановкой у нас труда на лесозаготовках
иностранными рабочими депутациями при условии взаимности, т. е.
допущения рабочих делегаций СССР к ознакомлению с постановкой
принудительного труда в капиталистических государствах. Люблинский
приводит конкретные данные, почерпнутые им из доклада тов. Молотова о том, что применение труда заключенных на некоторых коммунальных и дорожных работах в СССР ие только ничего общего не имеет
с понятием специфического применения принудительного труда в целях
эксплоатации, но, наоборот, носит воспитательно-трудовой характер и
проводится в соответствующих культурно-политических условиях 1 .
Нельзя, конечно, нѳ видеть принципиальной разницы, с одной стороны, между методами культурно-трудового перевоспитания буржуазных элементов со стороны пролетариата, а с другой, между угнетением в капиталистических странах и беззастенчивой эксплоатацией заключенных преимущественно из нуждающейся бедноты в целях непосредственной наживы, с применением самых жестких мер репрессии.
Эта принципиальная разница находит, между прочим, яркое отражение
в специальном постановлении Президиума ЦИК СССР от 3-го июля
1931 г. („Известия" от 4-го июля) о полном восстановлении во всех
гражданских правах, а также в предоставлении избирательных прав даже
такой категории выселенных злостных кулаков, которые участвовали
в противосоветских и противоколхозных выступлениях (поджоги, бандитизм и т. п.),—ио истечении 5 лет с момента их выселения. Постановление ставит лишь следующие условия: если кулаки „на д е л е
д о к а ж у т , ч т о п р е к р а т и л и б о р ь б у против организованного
в колхозы крестьянства и мероприятий советской власти, направленных на под'ем сельского хозяйства и е с л и о н и п о к а ж у т с е б я
па д е л е и с т и н н ы м и и д о б р о с о в е с т н ы м и т р у ж е н и к а м и " .
Заклеймил-ли проф. Люблинский теперь свое выступление 1913 года,
в котором он защищал интересы буржуазии против интересов крепостников, полуфеодалов земледельческих и лесных районов САСШ?
Пытался ли он дать классовый анализ своего выступления и показать,
1 „К позору для капитализма,—сказал т. Молотов,—многие и многие тысячи
безработных позавидуют сейчас условиям труда, и жизни заключенных в наших
северных районах. Это—горькая правда, и о ней должны знать рабочие за границей"
как буржуазия в лице своих идеологов пропагандирует »ксплоатациіо
принудительного труда заключенных, как естественный элемент репрессии, как яоследетвиѳ приговора?
Нроф. Люблинский »того не сделал. Ои выступил с недвусмысленной целью н а ж и т ь п о л и т и ч е с к и й к а п и т а л н а с в о е й дор е в о л ю ц и о н н о й с т а т ь е, показать, что „вот-де, смотрите—я еще
18 лет тому назад высказывался против экеплоатации труда заключенных". Люблинский не постеснялся ныне переписать из статьи 1913 г.
с л о в о в с л о в о м н о г о с т р а н и ц , дополнить новейшими материалами и п о в т о р и т ь преленюю а р г у м е п т а ц и ю , которая тогда
была направлена по другому адресу — и с к л ю ч и т е л ь н о п р о т и в
крепостников-частных
предпринимателей.
Так на основе подновленного и подправленного материала Люблинскому удалось скрыть прежнюю установку своей статьи—за „культурную" эксилоатацию труда заключенных в государственных тюрьмах-фермах вместо уголовного рабства и исключительных жестокостеи
в отношении заключенных со стороны частных предпринимателей.
Вполне естественно, что проф. Люблинский спрятал в карман одиозные по советским условиям выводы своей дореволюционной статьи и
использовал прежний фактический материал своей статьи и аргументацию, чтобы в 1931 г. на глазах публики изобразить дело так, что
он н е т о л ь к о т е п е р ь , н о й в 1913 г., и „ в с е г д а "
был
против уголовного р а б с т в а вообще.
Об'ективные результаты такого приема налицо. Получается, что
в 1931 г. профессор рьяно выступает в защиту СССР и берет на себя
задачу изобличить лицемерие капиталистической Америки; тем самым
политическая реабилитация профессора, члена В а р н и т с о , обеспечена, ч т о и т р е б о в а л о с ь д о к а з а т ь . Кто после этого позволит
себе хоть слово сказать о его нелойяльпости Или даже о том, что он
политически пассивен и не принимает активного участия в борьбе
против травли СССР?
Все в порядке. Однако, на прямое и категорическое предложение
автора этих строк, в прениях по докладу Люблинского, дать четкий
ответ, составляет ли этот доклад поворот в его прежних взглядах,
отказывается ли он от них, а если отказывается, то собирается ли
он дать развернутую критику как своих взглядов, так и взглядов своих
единомышленников, Люблинский уклонился от ответа под предлогом, что
касаться вопросов, не связанных непосредственно с темой его доклада,
означало бы покушаться на то короткое время для доклада, которым
он располагал (1 ч. 20 м.).
Это заявление никого не обмануло. Такие выступления, как выступление проф. Люблинского, не единичны. Но Люблинским нужно
сохранить маску лойялыюсти, так как развернутая критика и разоблачение как своих взглядов, так и взглядов своих единомышленников — это
столь серьезный шаг, который об'ективно знаменует разрыв с прошлым,
с единомышленниками здесь и за границей, для которых Люблинские
были и остаются „своими". И Люблинские проявляют величайшую
осторожность и не дают повода „скомпрометировать" себя в глазах
V
99
единомышленников, желая для них и на будущее время упорно оставаться „своими".
А нынешнее выступление проф. Люблинского в его докладе в защиту СССР будет воспринято его единомышленниками не как „измена", а как „крайняя необходимость" в особенности на фоне выступлений за границей д а ж е отдельных представителей буржуазии, которые считают вздорными обвинения СССР в пресловутом „демпинге" и
в эксплоатации труда заключенных.
Замечательно, что и теперь Люблинский ограничивает свою задачу тем кругом вопросов, о которых могут писать и его коллеги за
границей, но зато он о с т а в л я е м в п о л н о й н е п р и к о с н о в е н н о с т и с в о и о с н о в н ы е в з г л я д ы н а с у д . Люблинский является
одним из видных процессуалистов в Европе и Америке, и, следовательно, он имел до сих пор бесконечное количество поводов доказывать,—
если бы это соответствовало его политическим взглядам,—какова
физиономия фашистского суда за границей, действительно ли он является
„надклассовым", как изображает его сам Люблинский и его единомышленники. Разоблачение классового буржуазного суда в его борьбе с
рабочим движением, разоблачение буржуазных теорий о „независимости* этого суда, непосредственное участие в международной организации в борьбе с разнузданным произволом фашистского суда—все это
и теперь вне поля зрения Люблинского.
Это доказывает очень многое. Выступление Люблинского, только
в п е р в ы е якобы осознавшего, что против Советского союза ведется
„бешеная травля" и что он, Люблинский, может кое-что сказать по
одному пунктику в противовес этой травле, показывает, на какой стороне баррикады он находился по сей день. До т е х пор, п о к а н е т
налицо полного и д е о л о г и ч е с к о г о разоружения, есть
основание
с ч и т а т ь , что это — н о в ы й маневр, рассчит а н н ы й н а у с ы п л е н и е к л а с с о в о й б д и т е л ь н о с т и . Люблинские чувствуют, что почва колеблется под их ногами и что в 1931 г.,
в условиях еще более ожесточенной классовой борьбы, необходимо
создавать н о в ы е ф о р м ы мимикрии, лишь бы сохранить свои кадры
хотя бы при минимуме благоприятных услозий, чтобы совершенно
не исчезнуть с политической, научной и литературной арены.
С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что такие выступления, как выступление Люблинского, независимо от наличия отрицательных показателей, я в л я ю т с я о б ' е к т и в н о п о л е з н ы м и д л я н а с .
И во всех случаях, когда эти выступления знаменуют собой д е й с т в и тельный поворот,
советская общественность идет навстречу
всем тем, которые решились на такой поворот, и создает для них
благоприятную атмосферу содействия в дальнейшей работе.
XV.
Люблинский, Жижиленко, Ширяев и другие единомышленники в течение ряда лет имели в своем распоряжении и университетскую и пе-
чатную трибуну. Но в последние годы Государственный институт по
изучению преступности и преступника организационно взял на себя
полную и безоговорочную поддержку вредительской профессуры. Деятели закрытого „Права и Жизни" получили доступ в Госинститут и в его
филиалы. Они заполнили собой страницы сборников „Проблемы преступности", несмотря на то, что незадолго до этого закрытие „Права
и Жизни" последовало з а е г о к о н т р р е в о л ю ц и о н н о е н а п р а вление.
„Либерализм" Гоеииститута в лице его руководителя т. Ширвиндта
и совершенно исключительная его терпимость и покровительство буржуазной профессуре являются в значительной степени результатом
трго, что т. Ширвиндт, по своему разумению, „использовал" буржуазную профессуру для борьбы... с Комакадемией. Да, в этом направлении
он ее „использовал" как нельзя лучше. Оценить по достоинству этот
преступный акт политического падения т. Ширвиндта можно даже
путем сопоставления задач института в лицемерном изложении самого
т. Ширвиндта с практикой выполнения этих задач. Так, противопоставляя в JV5 3 „Проблем преступности" марксистскую школу уголовного
права социологической, т. Ширвиндт замечает:
„Эта точка зрения на преступление — научно-марксистская
точка зрения—положена в основу работы социально-экономической секции и всего Государственного института. У г л у б л е н и е
марксистского понимания факторов преступности
в переходную эпоху
с этой же т о ч к и з р е н и я —
является важнейшей задачей социально-экономической секции."
Жижиленко, Ширяевы и К ° „углубляли" марксистское понимание
факторов преступности весьма усердно. Выше мы уже приводили, как
такое „углубление", произведенное Ширяевым в целях укрепления
собственности кулака - хуторянина, было одобрено Полянским и Люблинским.
Было достаточно времени, чтобы т. Ширвиндт „обнаружил" действительный характер редактируемых им „Проблем преступности",
но он не имел повода его искать. И вот, установив единоличную
„диктатуру" в редакции,1 т. Ширвиндт в редакционной статье пытается оправдаться в пред'явленных ему обвинениях. Тов. Ширвиндт
забывает, что в свое время он выдал вексель о маркенстскон направлении сборников и поэтому он вынужден вот какие перлы приводить
для самооправдания:
„Четвертый сборник „Проблем преступности",— пишет т. Ширвиндт,—не о б ' е д и н е н к а к о й - л и б о е д и н о й т е м о й . (!) К а к
в п е р в о м , так и в четвертом сборнике, это не является результатом
случайности, бесплановости, отсутствия системы в подборе материала".
1 На заголовке IV выпуска „Проблем преступности".
1929 г. обозначено,
что выпуск издается „под редакцией членов Института К. Ширвиндта, ф. Трасковича и М. Гернета". Вводная же статья от имени редакции подписана одним
Е. Ширвиндтом.
Хорошо. Но тогда в чем же „плановость", „система"? На этот
вопрос было бы тщетно искать ответа в редакционной статье, так что
остается просто поверить т. Ширвиндту, что есть и „плап", и „система",. по не всякий способен их обнаружить.
Покончив с обвинением в „бесплановости", „редакция", т. е. т. Ширвиндт с таким же успехом разделывается и с другим не менее серьезным обвинением.
„Однако,—пишет обиженно т. Ширвиндт,—Редакция не может пройти мимо сделанного ей упрека в том, что сборники
„Проблемы преступности" представляют собой „парламент мнений"
и лишены единого лица. (Две статьи с разными точками зрения
на вопрос). Самый характер „Проблем преступности" как издания трудов сотрудников Гос. института вполне допускает такое
появление на страницах „Проблем" статей, отражающих различные точки зрения иа спорные вопросы, е с л и т о л ь к о о н и н е
противоречат основной программе деятельности
и н с т и т у т а и содействуют освещению проблем преступности
с точки зрения основных принципов революционной марксистской
мысли в области права, или ж е м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы д л я технического использования советского уголовного
и пенитенциарного п р а в а . "
Тов. Ширвиндт в подчеркнутых нами словах ловким аллюром отступает на заранее заготовленные им позиции и дает внешне невинную формулировку задач института. Все как будто бы попрежнему—задача освещения проблем преступности „с точки зрения основных принципов революционной марксистской мысли в области права" остается, конечно,
незыблемой. Кто же ее проводит, кроме одного Ширвиндта? Очевидно,
Ширяев, Жижиленко, Люблинский и др. разделяют труд с т. Ширвиндтом. Нужно полагать, что т. Ширвиндту, в частности, не безызвестна рецензия А. Э. о работах Жижилёнко и о том, что Жижиленко
заведомо не марксист. В качестве к а к и х статей помещаются статьи
Жижиленко, Ширяева, Люблинского и др.? И вот тут т. Ширвиндт
изобрел для себя спасительную формулу—все статьи ие-марксистов
подходят у него под рубрику .(технических" статей для „технического (?)
использования советского (?) уголовного и пенитенциарного права".
Этот спасительный трюк не помог т. Ширвиндту; из всех страниц „аполитичных" авторов „Проблем преступности" на читателя отдает такой „техникой", что можно было бы допустить печальное отсутствие политически партийного обоняния у т. Ширвиндта, если бы тут ие
было канцелярской отписки, прикрытой фразами, которая на деле
позволила „узаконить" буржуазную профессуру и помочь ей контрабандным путем сделать свое вредительское дело.
Положение в Гоеинституте было весьма метко охарактеризовано
тов. Ііашуканисом на диспуте по вопросу об изучении преступности
в СССР, впервые состоявшемся в секции права и государства • Комакадемии.
„..• Я сошлюсь,—сказал тов. Пашуканис,—хотя бы па третий
сборник института. Там, видите ли, „поставлены проблемы марксистской критики правовой формы в области уголовной репрессии". „Как же можно думать, что это дело можно поручить развить и защитить Жижиленко? Это же курам на смех. Какой же
он марксист, какое отношение он имеет к диалектическому материализму? Что от него можете получить в этом вопросе? Вы
вульгаризуете этот вопрос тем, что призываете догматика Жижиленко и говорите: пожалуйста, раз'ясните нам эту проблему.
Потом пишет Мане, тоже ничего общего с марксизмом не имеющий. Он возражает Жижиленко. Получается такая картина: Жижиленко защищает как будто точку зрения секции права и государства Коммунистической академии, а Мане нападает на Жижиленко. И какое это имеет отношение к изучению преступности—
я не знаю". 1
Было бы ошибочно считать, что такое „марксистское" руководство Госинститутом создало только прочный быт примиренчества к буржуазной профессуре; тут налицо неприкрытый блок с ней, прикрытие
ее. Когда же в изданиях Госинститута начался систематический обстрел Комакадемии со стороны б у р ж у а з н ы х п р о ф е с с о р о в , т о
р о л ь б у р ж у а з н о й п р о ф е с с у р ы на д р у г о м у ч а с т к е т о г о
ж е ф р о н т а п р о т и в К о м а к а д е м и и з а н я л а к в а з и-м а р к с и с тс к а я п р о ф е с с у р а в лице П и о н т к о в с к о г о ,
Трайнинаи
И с а е в а . Это проявилось в сборнике „Основы и задачи советской
уголовной политики", в издании Раниона, под редакцией т. Ширвиндта.
Замечательно примечание „от редактора" к руководящей в сборнике статье Пионтковского „Форма уголовного права". Выступает
т. Ширвиндт от имени „секции уголовного права" Института советского права, в которую входили как раз Пионтковский, Исаев и Трайнин, и излагает/' «ак „редактор", выводы секции „по вопросам, разработанным А. Пионтковским", и заканчивает:
„ Н е к о т о р ы е о т к л о н е н и я в статье А. Пионтковского
от изложенных выводов являются отражением л и ч н ы х е г о
в з г л я д о в " (стр. 63).
Ширвиндт находит лишь „некоторые отклонения" от выводов „секции", при чем Ширвиндт стыдливо умалчивает, в чем заключаются
„личные взгляды" Пионтковского. Казалось бы, что столь благоприятный
случай давал полную возможность „редактору" дать развернутую критику этих взглядов Пионтковского. Но на деле Ширвиндт и не думал
заниматься критикой Пионтковского, а, наоборот, фактически вместе
с ним выступил против Комакадемии, действуя от имени секции в целом.
Теперь после того, как Пионтковский счел себя вынужденным
выступить с некоторыми признаниями своих ошибок, становится особенно рельефной беспринципность Ширвиндта в оценке им ошибок
Пионтковского.
1
„Револ. нрава",
№ 3—192$ г., стр. 67.
О Пиоитковском и Трайпине у пас уже имеется достаточно
обоснованная журнальная литература. В настоящей работе мы не
будем специально останавливаться на этих авторах, а отсылаем читателей преимущественно в статье т. Кузьмина „Новейший ревизионизм
в уголовном праве" в № 8-9 „Совет, госуд. и револ. права" за 1930 г.,
а также к статье 3. Ашрафьяна, А. Львова и II. Кузьмина „Программа
правого оппортунизма в уголовной политике" в А? 11 „Совет, госуд.
и револ. права". Мы только ограничимся указанием, какова была их
„марксистская" практика.
Вся эта группа, перекочевавшая в Госинститут, заменила собою
откровенно буржуазную профессуру, при чем так, что последняя не
имела никаких оснований ни возражать, ни жаловаться. Это особенно
ярко проявилось в период разработки проекта УК. Если вначале
Госинститут привлекает к работе проф. Жижиленко, поручая ему составление главы об имущественных преступлениях, что он и выполнил
осенью 1929 г., доложив свой проект в Ленинградском обл. кабинете по
изучению преступности и преступника; если в этот же период к работе привлекается н проф. Люблинский для составления главы о несовершеннолетних преступниках („Проблемы преступности", т. IV),
то в дальнейшем т. Ширвиндт считает более целесообразным, в силу
критики со стороны Комакадемии, освободиться от непосредственного
участия Жижиленко, Люблинского и К 0 .
Теперь, после скандального провала на I Всесоюзном с'езде
марксистов-государственников и правовиков проекта УК, выработанного Госинститутом (Е. Г. Ширвиндт, Н. Н. Спасокукоцкий, М. М.
Исаев, С. П. Мокринский, А. А. Пионтковский, Д. Б. Рубинштейн,
С. Б. Тагер, А. Н. Трайнкн и Б. С. Утевский), можно с определенностью утверждать, что Ж и ж и л е н к о и Л ю б л и н с к и й п р о с т о
не п о с м е л и бы н а п и с а т ь т а к о й п р о е к т , к а к о й п о з в о л и л и с е б е н а п и с а т ь э т и „ м а р к с и с т ы " . И только ч е р е з нес к о л ь к о м е с я ц е в после выпуска в свет проекта УК (предисловие
т. Ширвиндта к проекту помечено 2 2 и ю н я 1 9 3 0 г.), когда в печати появилась приведенная статья тт. 3. Ашрафьяна, А. Львова и
II. Кузьмина, в которой проект Госинститута был подвергнут уничтожающему разгрому,— только п о с л е э т о г о участвовавшие в составлении проекта коммунисты Рубинштейн и Тагер отказались от
этого проекта.
На с'езде тов. Тагер заявил, что он „за месяц" до с'езда отказался от проекта в каком-то своем, выступлении на курсах административных работников, а т. Рубинштейн сообщил, что он составил
две главы проекта, но что они были изменены до неузнаваемости в недрах Госипститута, и что т. Ширвиндт с а м о в о л ь н о включил его
в состав составителей проекта. Каков был первоначальный текст этих
глав; кто, когда и как подверг их столь радикальным изменениям;
почему т. Рубинштейн не поинтересовался этими манипуляциями; и,
наконец, почему он при таких условиях в течение многих месяцев
после опубликования проекта молчал и не протестовал против своего
включения в число составителей проекта -- яти вопросы остаются открытыми.
Выступление Ширвиндта на с'езде сводилось больше к защите
проекта, чем к признанию ошибок и, в особенности, той квалификации, которая была дача ему в тезисах т. Крыленко и потом в принятых резолюциях с'езда.
Между тем, в тезисах т. Крыленко, выступавшего от имени Института советского строительства и права, проект был охарактеризован,
как „явно прав о оппортунистический". Проекту посвящается целых
шесть обширных и детализированных тезисов (29—34). Приведем
несколько формулировок из них:
„...Проект ие проводит никакой классовой диференциации,
в этом отношении целиком сползая на рельсы либерального,
буржуазного понимания этой проблемы. Это—особенность той
группы криминалистов, которую возглавляет Ширвиндт, и политики, которую он проводит в своей пенитенциарной практике"
(из тезиса 31).
„...Проект приходится характеризовать, к а к с и с т е м а т и ч е с к и проводимую политику р а з о р у ж е н и я пролет а р и а т а в борьбе с наиболее опасными преступлен и я м и и в то же время развернутую программу либеральнобуржуазного направления в уголовной политике" (из тезиса 32).
„...максимальные гарантии, известные проекту, он считает
необходимым предоставить классовым врагам, совершившим такие
преступлепия, как дача взятки, нарушение монополии внешней
торговли или иных государственных монополии, неквалифицированные массовые беспорядки и сопротивление власти, хотя бы
и связанное с насилием. Для борьбы с этими преступлениями
в руках пролетарского государства не оставлено уже ни одной
серьезной меры. Здесь запрещено применять лишение свободы
и ссылку с принудительными работами и конфискацию.
Проект является, таким образом, д е й с т в и т е л ь н о р а з вернутой программой разоружения пролетариата
в момент максимального обострения
классовой
б о р ь б ы . ІІо п р е и м у щ е с т в у
буржуазный
состав
а в т о р о в проекта, чья позиция давно
известна,
я в и л с я т е м , ч т о о п р е д е л и л о э т у п о л и т и к у " . (Из
тезиса 33).
„Вывод:
Ширвиндт
и его
группа
написали
т а к о й же п р а в о о п п о р т у иист и ч е с к и й и р е а к ц и о н ный п р о е к т , к а к и г р у п п а К р а с и к о в а - В и н о к у р о в а ,
с той т о л ь к о р а з н и ц е й , что те н а п и с а л и свой безграмотный оппортунистический проект самостоят е л ь н о , Ш и р в и н д т же н а п и с а л е г о в к у п е с буржуазными профессорами, которых
он в д а н н о м
с л у ч а е в о з г л а в и л в б о р ь б е п р о т и в К о ма к а д ем и и",
(тезис 34, подчеркнуто в тексте).
Статья 3. Ашрафьяна, А. Львова и П. Кузьмина, тезисы т. Крыленко и критика проекта Госинститута на с'езде дали возможность со
всей .рельефностью раскрыть не только правоошюртунистическую сущность линии т. Ширвиндта и проекта Госинститута, но—что является
особо политически важным — показали, какова действительная политическая физиономия „левых" социологов Пионтковского,Трайнипа и Исаева,
и какие правые дела можно творить при всей звонкости революционной фразы.
В резолюции 1-го Всесоюзного с'езда марксистов-государственников и правовиков по докладу тов. Крыленко 1 проекту Госииститута
особо посвящен пупкт 12-ый:
„...Иначе,
к а к по л и т и к о й
разоружения
пролетариата
и вооружения
классовых
врагов,
с ' е з д не с ч и т а е т
возможным
охарактеризовать
этот проект. Подробный анализ этих т а к т и ч е с к и х
п р е д л о ж е н и й и их х а р а к т е р и с т и к а д а н ы в т е з и с а х
т о в . К р ы л е н к о , и к этой х а р а к т е р и с т и к е с'езд целиком п р и с о е д и н я е т с я . С'езд о с у ж д а е т в е с ь п р о е к т
Ш и р в и н д т а в целом и з а щ и т у его р а с с м а т р и в а е т ,
к а к п е р е х о д иа в р а ж д е б н ы е к л а с с о в ы е п о з и ц и и .
Известного внимания заслуживает позиция т. Губинштейна,
которая об'ективно прикрывала Ширвиндіа и его правоошіортупистическую линию.
Тов. Губинштейн выступил на с'езде со своими тезисами, в которых он, раньше всего, не только не позаботился подвергнуть критике
взгляды т. Винокурова, но и ухитрился пройти молчанием его правооппортунистические взгляды, не упомянув о них членораздельно ни
единым словом. Казалось бы, что в тезисах, предназначенных т. Рубинштейном для развернутого изложения своей точки зрения, странно
умолчать о т. Вииокурове, которому было посвящено столько места в
тезисах проекта Комакадемии.
Совершив серьезную ошибку в том, что он не критиковал т. Винокурова,
т. Рубинштейн совершил еще более грубую ошибку, которую, однако,
он также до сих пор не признал. Являясь участником проекта Госинститута, т. Рубинштейн с в о е в р е м е н н о не отмежевался от проекта.
Но и сделав это, уже очень поздно, он н е з а я в и л , что осуждает
его к а к к у л а ц к о - н э п м а н с к и й п р о е к т . И если он в тезисах
заявляет о своем несогласии с проектом Госинститута, то явно смазывает квалификацию проекта. Недостаточно сказать, что проект „не о т в е ч а е т з а д а ч а м б о р ь б ы с п р е с т у п н о с т ь ю в нынешнюю эпоху
обострения классовой борьбы" и т о л ь к о п о э т о м у он является
„политически вредным". И этакая оценка дается в с п е ц и а л ь н ы х
т е з и с а х , претендующих на конкуренцию с тезисами Комакадемии!
Такая линия т. Рубинштейна позволяет сделать вывод, что он примиренчески смазывает ту резкую и четкую политическую оценку, котот) „Совет госуд. и револ. права",
4—1931 г.
рая дается в тезисах Комакадемии, а потом и в резолюции с'езда,
тем более, что в своих тезисах он не дает критики этого проекта.
Только в письме в редакцию „Совет, госуд. и революции права"
(AS 1—1931 г.) т. Рубинштейн добавляет о проекте Госинститута:
„Вместо необходимого успешного усиления репрессий в классовым
врагам проект предлагает снижать эту репрессию, а в н е к о т о р ы х
с л у ч а я х (только ли в „некоторых"? И. С.) прямо защищает классовых врагов пролетариата". Однако, т. Рубинштейн и тут уклоняется от четкой политической квалификации проекта.
Такая уклончивость т. Рубинштейна является отрыжкой того, что
он все же принимал участие в составлении проекта Госинститута.
Получилось так, что т. Рубинштейн до самого последнего времени не
удосужился найти подходящую форму, чтобы как следует заклеймить
этот проект.
И после этого т. Рубинштейн беззаботно заявляет в своем письме:
„Из изложенного ясно, что н и к а к о й о т в е т с т в е н н о с т и з а пол и т и ч е с к о е н а п р а в л е н и е п р о е к т а в целом и за содержание
отдельных его частей я нести не могу". Напыщенно и декларативно
звучит первый пункт тезисов т. Рубинштейна „К теоретическому спору
о реформе нашего уголовного законодательства": „должен быть нанесен окончательный ( ? ) удар по буржуазно-либеральным профессорамкриминалистам так, чтобы они больше п о л и т и ч е с к и н е с м е л и
д ы ш а т ь " . Почему только „политически?" Притом нельзя отождествлять борьбу с буржуазной идеологией с борьбой против отдельных буржуазных профессоров права.
Еще более характерной является позиция Пионтковского по отношению к проекту Госинститута, изложенная им в письме в редакцию
„Совет, госуд. и революция права" в № 1—1931 г. Признавая
в письме ряд допущенных им серьезных ошибок в области теории
уголовного права (редакция сочла крайне недостаточными эти признания), Пионтковский пишет о проекте Госинститута следующее:
„Я считаю также, что проект уголовного кодекса, опубликованный комиссией Госинститута но изучению преступности и преступника, в р а б о т а х к о т о р о й я п р и н и м а л
участие,
в н а с т о я щ е м е г о в и д е — п о л и т и ч е с к и пе о т в е ч а е т
з а д а ч а м б о р ь б ы с п р е с т у п н о с т ь ю в у с л о в и я х обос т р е н и я к л а с с о в о й б о р ь б ы . При разработке его в комиссии я оставался по ц е л о м у р я д у п р и н ц и п и а л ь н ы х в о п р о с о в п р и о с о б о м м н е н и и (борьба с кулачеством, конфискация имущества и пр.) С ч и т а ю с в о е й о ш и б к о й , ч т о
я н е г о л о с о в а л в к о м и с с и и п р о т п в п р о е к т а в целом в е г о о к о н ч а т е л ь н о й р е д а к ц и и " .
И только!
Замечательно, что Пионтковский, вынужденный п о д д а в л е н и е м
к р и т и к и К о м а к а д е м и и все же пойти по пути признаний своих
ошибок, остался далеко позади Рубинштейна. Her и намека на политическую квалификацию проекта Госинститута. И Рубинштейн, и Пи-
онтковскйй т е к с т у а л ь н о согласны между собой в том, что проект
„не отвечает задачам борьбы с преступностью в нынешнюю эпоху
(у Пионтковекого: „в условиях обострения классовой борьбы"). Разница между Рубинштейном и Пионтковским заключается в выводах:
Рубинштейн находит „поэтому" проект „политически в р е д н ы м " ,
а Иионткозский о т к а з ы в а е т с я п р и з н а т ь п р о е к т в р е д н ы м .
Для того, чтобы сие было незаметно, вычеркивается слово „вредным",
а другое слово „политически" употреблено в другой связи:— проект
„ п о л и т и ч е с к и не отвечает задачам борьбы". Тем самым Пионтковский даже выхолащивает и куцую оценку Рубинштейна.
При таком деликатном, хотя и весьма двусмысленном „воздержании" Пионтковекого от политической оценки проекта, совершенно
понятно, почему он не сделал хотя бы и той половинчатой и политически беззубой оценки, которую дополнительно сделал т. Рубинштейн
в своем письме в редакцию. Пионтковский отмалчивается по существу,
чрезвычайно скуп на слова, а только ссылается на следующую свою
ошибку, что он „не голосовал п р о т и в п р о е к т а в целом в его
окончательной редакции",—вернее, что он голосовал з а п р о е к т .
Пионтковский не сообщает, почему он молчал более полугода со времени напечатания проекта. Это молчание особенно знаменательно,
если учесть, что Пионтковский, по его же утверждению, „оставался
по целому ряду принципиальных вопросов при особом мнении (борьба
с кулачеством, конфискация имущества и т. д.)".
Во всяком случае эта п р и з н а н н а я Пионтковским ошибка свидетельствует о беспринципности самого голосования Пионтковекого
за проект, содержащий ряд столь важных принципиальных положений,
против которых он возражал. Явное уклонение Пионтковекого от политической оценки проекта, конечно, не случайно, а является результатом оппортунистической практики Пионтковекого. Он сам признает,
что вел борьбу против Комакадемии и „в т о ж е в р е м я н е р а з вернул широкой борьбы с буржуазными теоретиками
у г о л о в н о г о п р а в а в н а ш е й л и т е р а т у р е " . Это признание
лишь на словах; на-деле же он не только не воспользовался столь
благоприятным случаем дать развернутую критику проекта Госинститута и беспощадно вскрыть действительную сущность проекта, но п
в своем выступлении в печати с признанием своих ошибок, претендующим на искренность и исчерпывающую полноту, он имел смелость
двусмысленностями уклониться как от политической оценки проекта,
так и от его осуждения.
Что же касается остальных участников разработки проекта, на
которых жалуются п Рубинштейн, (искажение представленного им
проекта двух глав) и Пионтковский (отклонение внесенных им „ряда
принципиальных положений"), то они, не считая тов. Ширвиндта,—
Трайнин, Исаев, МокринскийДтевский и Спасокукоцкий—хранят глубокое
молчание и по сей деиь.
Оппортунистические шатания т. Ширвиндта привели его к защите
кулацко-нэпманского проекта. Замечательно введение т. Ширвиндта
к проекту Госинститута. Нужно просто изумляться, каким образом он
позволяет себе утверждать, будто этот проект идет „по пути, указанному программой партии". Это явное издевательство пад партийными
постановлениями. Сплошным лицемерием являются слова т. Ширвиндта,
когда он, не стесняясь, заканчивает свое введение: „Счптая, что проект,
составленный комиссией Госинститута, сможет принести несомненную
пользу при проведении правительством Союза и союзных республик
коренной реформы уголовного законодательства, Институт выпускает
настоящую работу отдельным изданием".
Вот что писал Ленин в свое время в „Записках публициста"
о коммунистах, которые только на словах признают диктатуру пролетариата 1 . Для них программа партии — своеобразная икона: „'На
икону надо помолиться, перед иконой можно перекреститься, иконе
надо поклониться, но икона нисколько не меняет практической жизни,
практической политики". Можно признавать программу партии, можно
голосовать за резолюции партийных с'ездов и одновременно поддерживать кулацкий проект.
В той лее статье Ленин дает анализ значению об'ективного предательства.
„ . . . Искренно об'явявший себя коммунистом человек, который на деле вместо беспощадно твердой, неуклонно решительной, беззаветно-смелой и геройской политики (только такая политика соответствует признанию диктатуры пролетариата)—колеблется и малодушничает, — подобный человек своей бесхарактерностью, своими колебаниями, своей нерешительностью совершает такую же измену, как и непосредственный предатель.
В личном смысле разница между предателем по слабости и предателем по умыслу и расчету очень велика; в политическом
отношении этой разницы н е т , пбо политика—это фактическая
судьба миллионов людей, а эта судьба не меняется от того, преданы ли миллионы рабочих н бедных крестьян предателями по
слабости или предателями из корысти".
XVI.
Состоявшийся в январе 1931 г. 1-й Всесоюзный с'езд марксистовгосударственников и правовиков в своей резолюции отметил, что „в
уголовном праве процветала буржуазно-социологическая школа, подкрашенная под марксизм (Исаев, Инонтковский, Трайнин, Чельцов-Бебутов, Паше-Озерскин) или же откровенная буржуазно-юридическая
догматика и сменовеховщина (Люблинский, Жижиленко, Полянский,
Ширяев), находившие себе поддержку со стороны отдельных комунистов (Ширвиндт, Канарский)". О журнале „Право и Жизнь" резолюция
с'езда говорит, как о журнале, который „стал центром консолидации
буржуазно-реставраторских элементов на правовом фронте". 2
1
2
Ленин, т. XVII, ч. I, стр. 15.
„Совет, госуд. и ровол. права", JÖ 3—1931 г., стр. 146.
1S9
В резолюций директората Ленинградского института советского
строительства и права, принятой по отчетному докладу о работах Ічю
Всесоюзного с'езда марксистов-государственников и нр&вввнков, имеется специальный пункт, в котором подучило отражение «воеобразяѳ
ленинградских условий.
„...На ряду с этим,—говорится в п. 4 резолюции,—достигнутые
успехи в деле разоблачения буржуазно-юридического мировоззрения и
сменовеховщины, как откровенного выражения идеологии капиталистической реставрации, ни в какой степени не означают, что борьба
с внешним фронтом, фронтом буржуазных юристов, закончена.
Наоборот, эта борьба должна быть заострена до полной ликвидации буржуазной правовой идеологии и теории, в преподавательской
и в теоретической работе. О с о б е н н о е з н а ч е н и е э т а б о р ь б а
и м е е т в у с л о в и я х Л е н и н г р а д а , г д е до с а м о г о п о с л е д него времени крупнейшие представители буржуазною р и д и ч е с к о г о мировоззрения (Пергамент, Магазинер,
Ж и ж и л е н к о , Л ю б ли н е к и й ) и их п о с л е д ы ш и ( М а р т ы н о в ,
Крылов, Архиппов, В а р ш а в с к и й , Аскназий, Новолоцк и й и др.) н е т о л ь к о з а н и м а л и р у к о в о д я щ е е п о л о ж е н и е
н а т е о р е т и п е с к о м п р а в о в о м ф р о н т е , но и п о л ь з о в а л и с ь п о д д е р ж к о й о т д е л ь н ы х к о м м у н и с т о в , не в е д ш и х
н и к а к о й б о р ь б ы ни п р о т и в п р о п а г а н д ы ими б у р ж у а з н о й и д е о л о г и и в в у з а х , ни п р о т и в их л и т е р а т у р н о й
р а б о т ы . Это положение усугублялось тем, что отдельные представители буржуазно-юридического мировоззрения стремились подделаться
под марксистскую терминологию (Архиппов, Варшавский, Крылов, Аскназий). В р е з у л ь т а т е е щ е и с е й ч а с не и з ж и т о о п п о р т у н и с т и ч е с к о е о т н о ш е н и е к их р а б о т е в р я д е в у з о в , где
они фактически безконтрольно продолжают проиоведь тщательно замаскированной идеологии сменовеховства и буржуазной реставрации
(Магазинер, Райхер и др.). На ряду с этим усилия до конца разоблачить носителей буржуазной идеологии встречают попытки помешать
этому ( п о в е д е н и е к о м м у н и с т о в из В а р н и т с о в д е л е
Л ю б л и н с к о г о ) . Поэтому в у с л о в и я х Л е н и н г р а д а в о п р о с ы
б о р ь б ы с в н е ш н и м ф р о н т о м , к о т о р ы й с т р е м и т с я приспособиться максимально к условиям ожесточенной
классовой борьбы,
когда
откровенная
проповедь
б у р ж у а з н о - ю р и д и ч е с к о г о мировоззрения невозможна,
остается одной
из в а ж н е й ш и х
задач
марксистовгосударственников в Ленинграде".
Надо продолжать кампанию разоблачения той категории юристов
дореволюционного периода, которые остались при прежних взглядах
и проводят их различными способами и под разными соусами, и против тех „аллилуйщиков", которые об'ективно помогают им в том. Необходимо до конца разоблачить ту, в сущности, нехитрую механику,
при помощи которой враждебные элементы ' проводят свои взгляды.
Это поможет, прежде всего, учащейся пролетарской молодежи проделать быстрее процесс очищения от наносной и вредной идеологии,
которая искусственно прививается ей систематически и незаметно.
Для категории юристов дореволюционного периода, составлявших кость
от кости и плеть от нлоти восиятавшаго и вскормившего их класса
и доныне „ничего не забывших и ничему не научившихся", оставалось
широчайшее поле деятельности в течение ряда лет после революции
только потому, что область марксистского изучения права была в загоне и что они были довольно долго единственными „властителями дум".
Комакадемия является центром, откуда идет организованный обстрел враждебной идеологии в области права, в какие бы формы
она ни пряталась. Разоблачение идет по всему фронту, и ярко освещенные прожектором марксистской критики ряженые появляются перед
публикой в своей неприкрытой наготе агентуры реформистов Запада
или оголтелой контрреволюции.
Больше всего благоприятствовала вредительской деятельности наших врагов величайшая терпимость к их произведениям. Этим был
создан столь примиренческий быт в отношении врагов, что они начинали осуществлять свою вредительскую работу внешне весьма „скромно"
и „благонамеренно", но по существу с совершенно неслыханной наглостью
и цинизмом в расчете на дальнейшую исключительную терпимость
к ним и на наш крайне редкий идеологический отпор.
Борьба с явлениями идеологического вредительства со стороны
буржуазной профессуры далеко не закончилась даже тогда, когда ей
прегражден путь—и то не везде—на кафедры вузов и на страницы
наших журналов и книг. Центр тяжести переносится в область борьбы
с квази-марксистекими взглядами, поскольку об'ективно эти взгляды
при их применении принимают, как это обнаружилось на примере
с проектом Госинститута, вредительский характер. Ничего случайного
в этом пет. Нужно помнить слова Ленина:
„Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами
обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими и социальными
фразами разыскивать и н т е р е с ы тех или иных классов" Г
Разоблачение об'ективпого и суб'ективного вредительства и борьба
на два фронта и с примиренчеством к ним—вот те особенности, которыми характеризуется настоящий этап борьбы на идеологическом
фронте советского уголовного права.
1 „Три источника и три составные части марксизма". В. И. Ленин. „Жросвещение", Ä» 3, март 1913 г. за подписью В. И., т. I I I , ч. II, стр. 5 8 - 5 9 . ' Разрядка в тексте.
Ц е н а 6 0 коп.
4 -
su
С Н Л А Д
И З Д А Н И Я
МАГАЗИНЫ И ОТДЕЛЕНИЯ
К Н И Г О Ц Е Н Т Р А
И
К О О П К Н И Г И
ПОЧТОВЫЕ
З А К А З Ы
НАПРАВЛЯТЬ: МОСКВА, 64
К Н И Г А — п о ч т о й