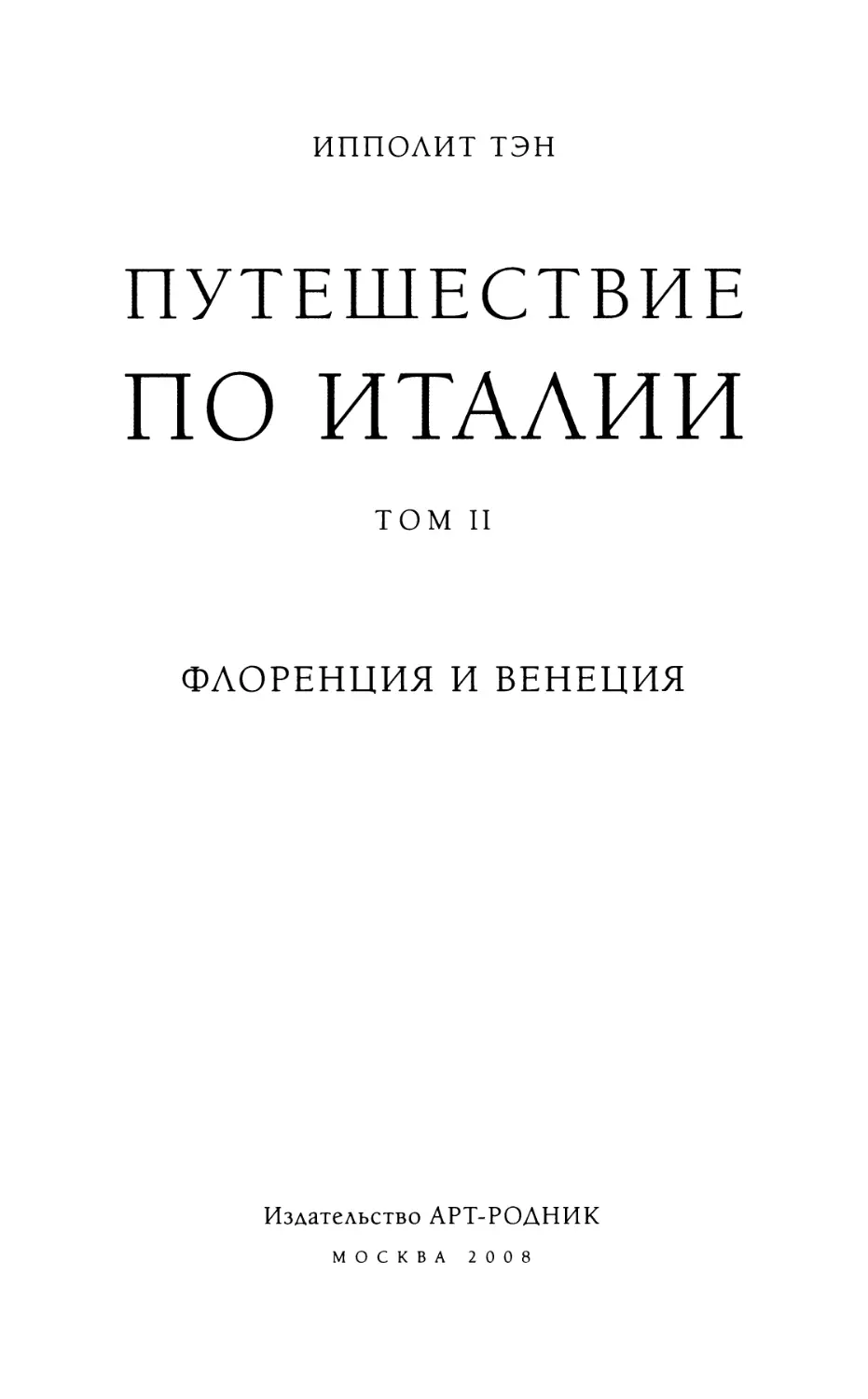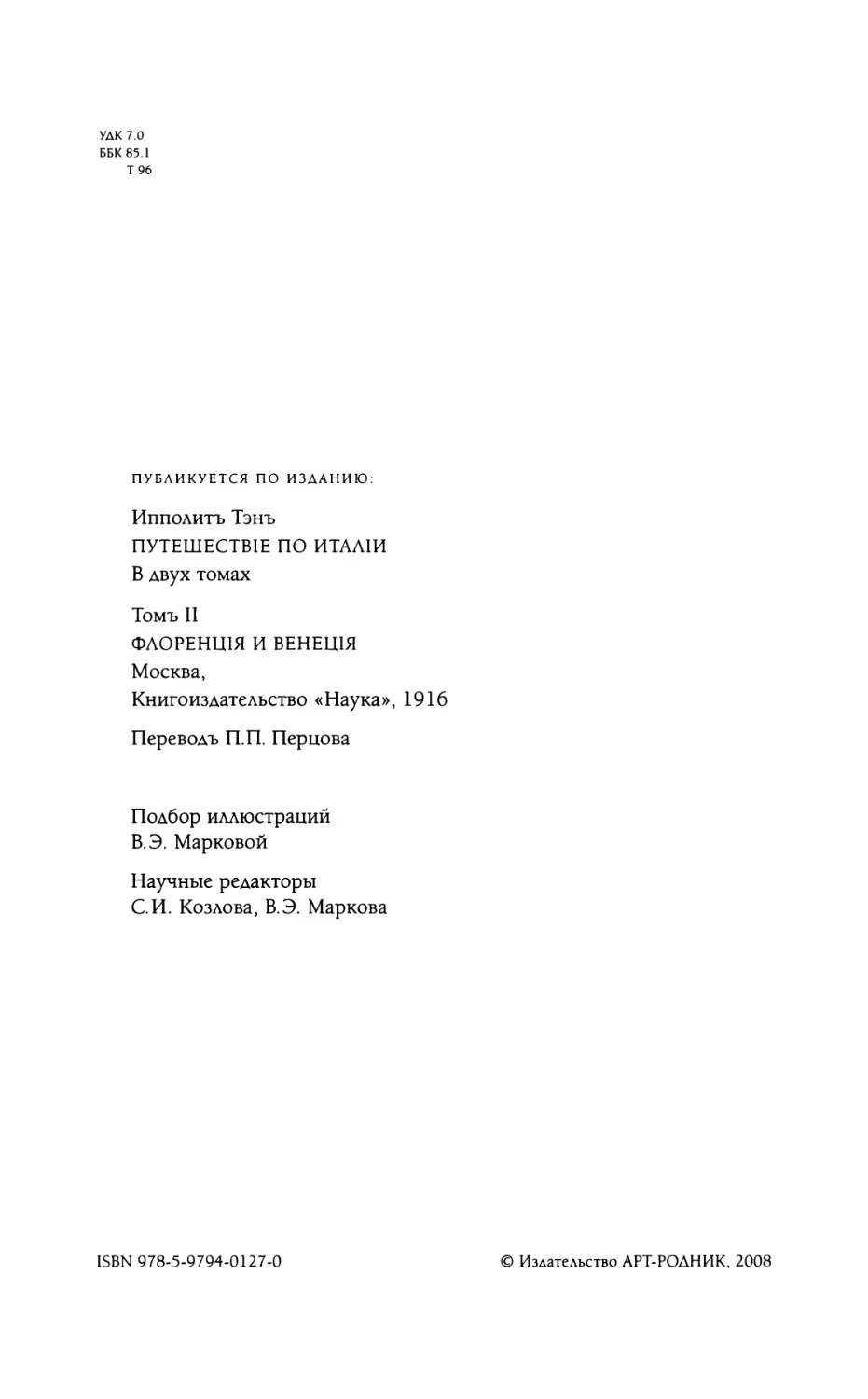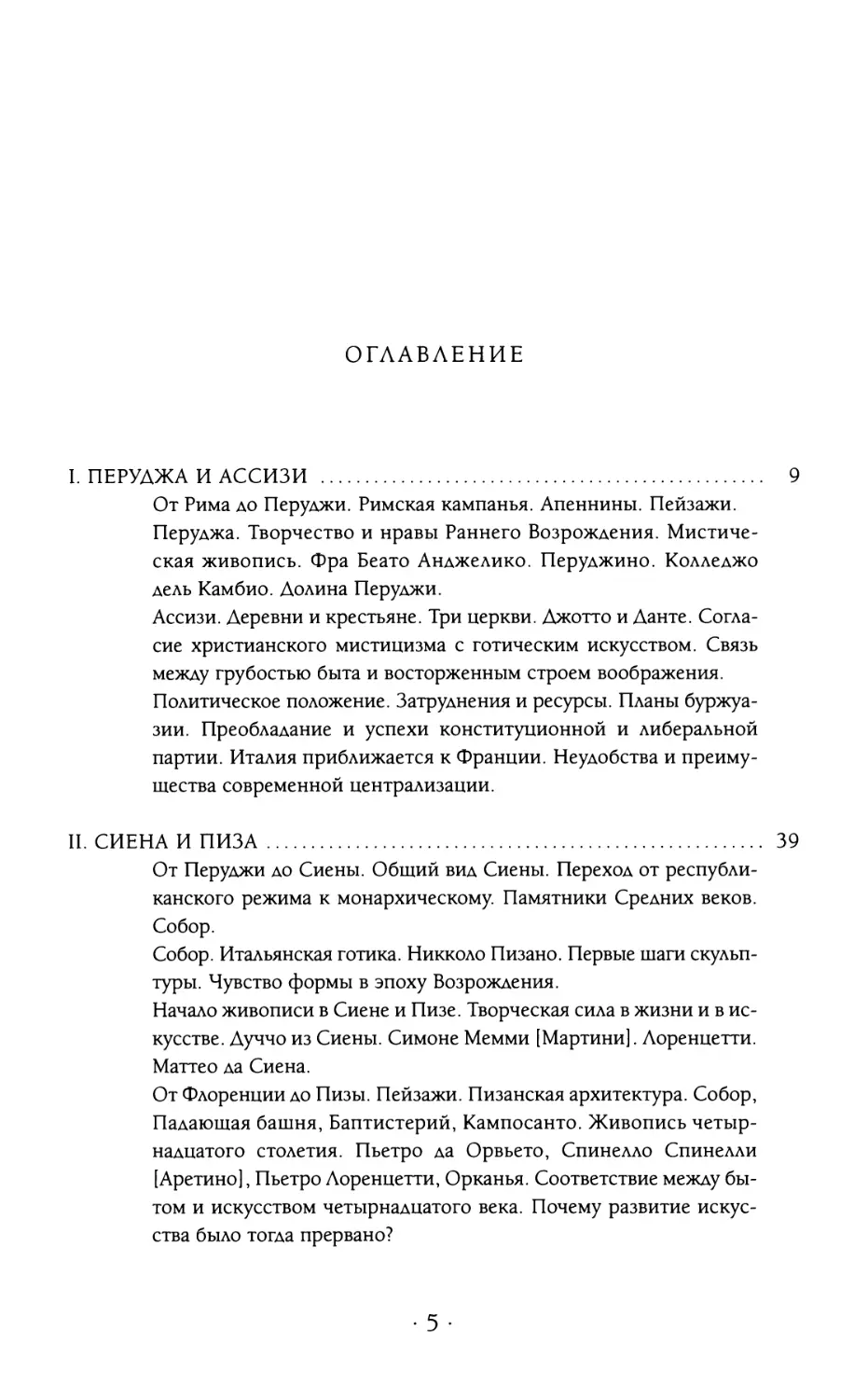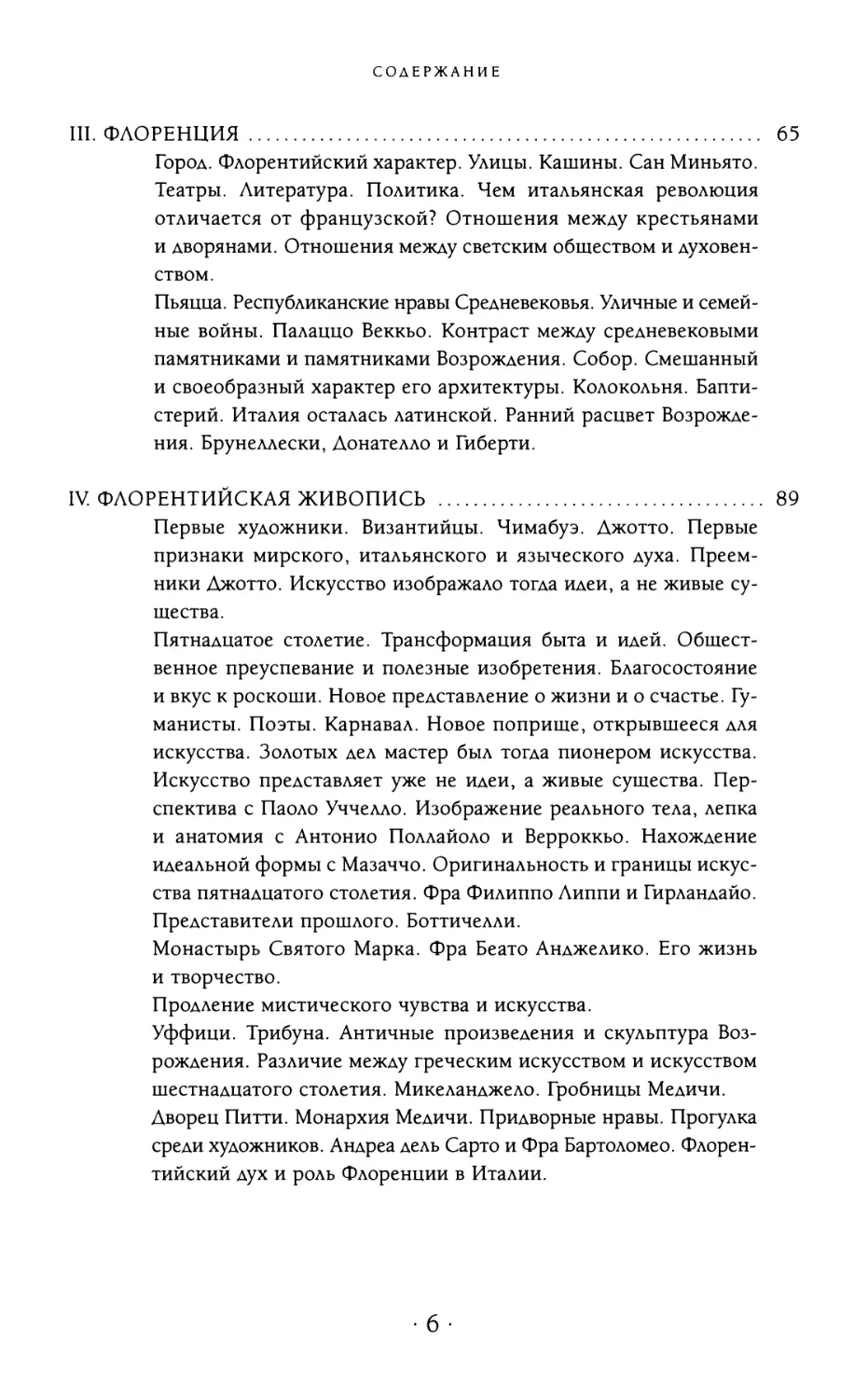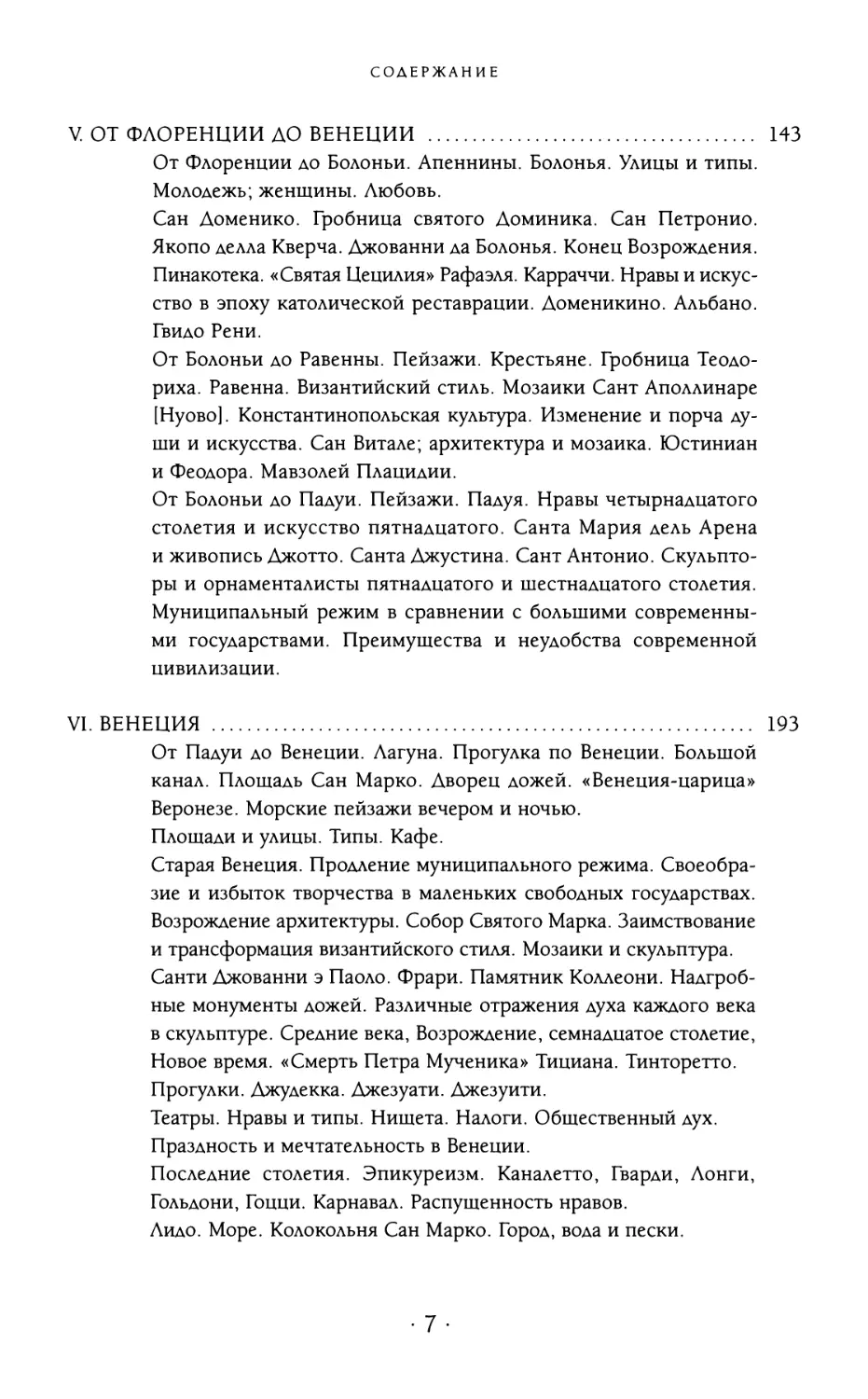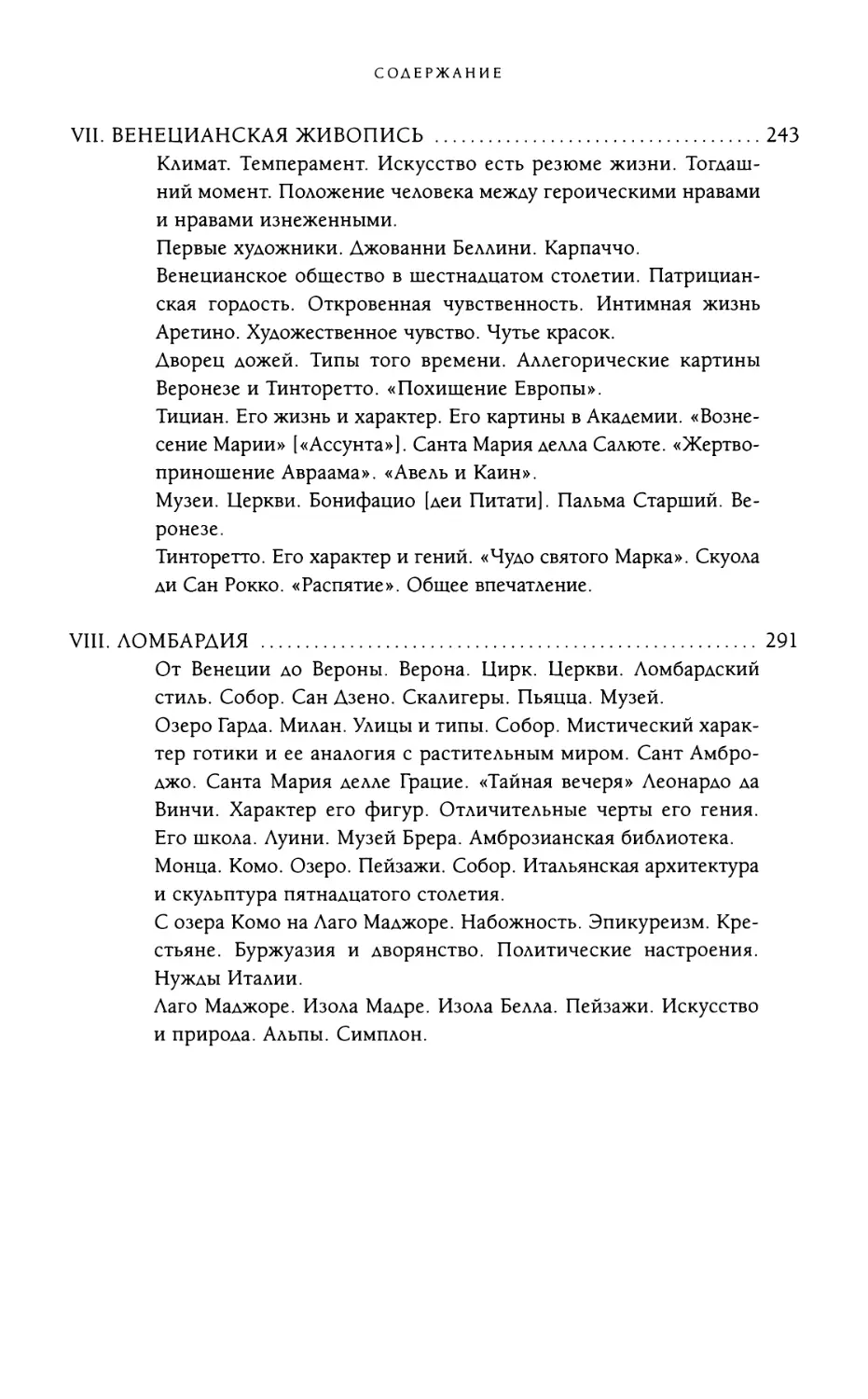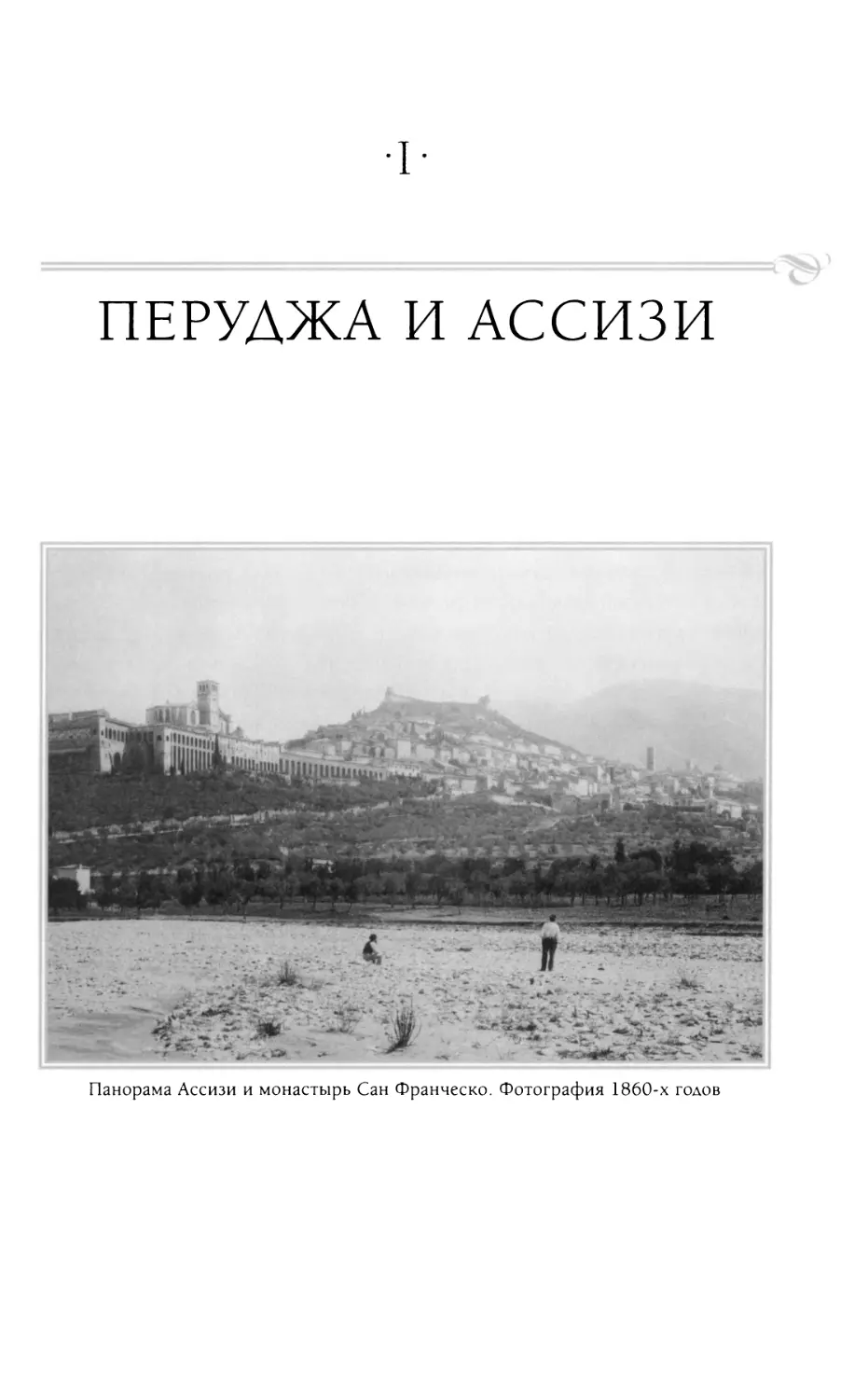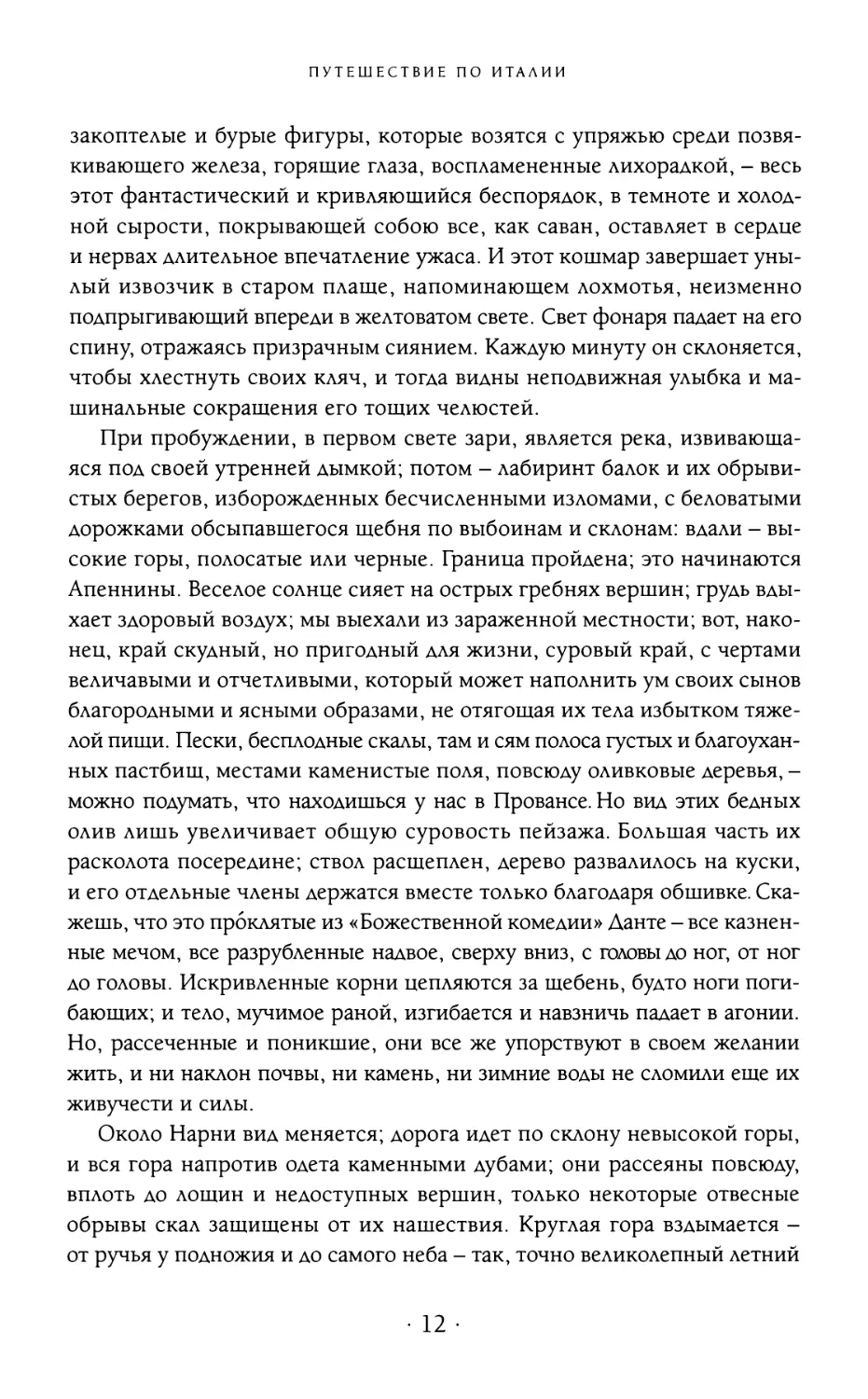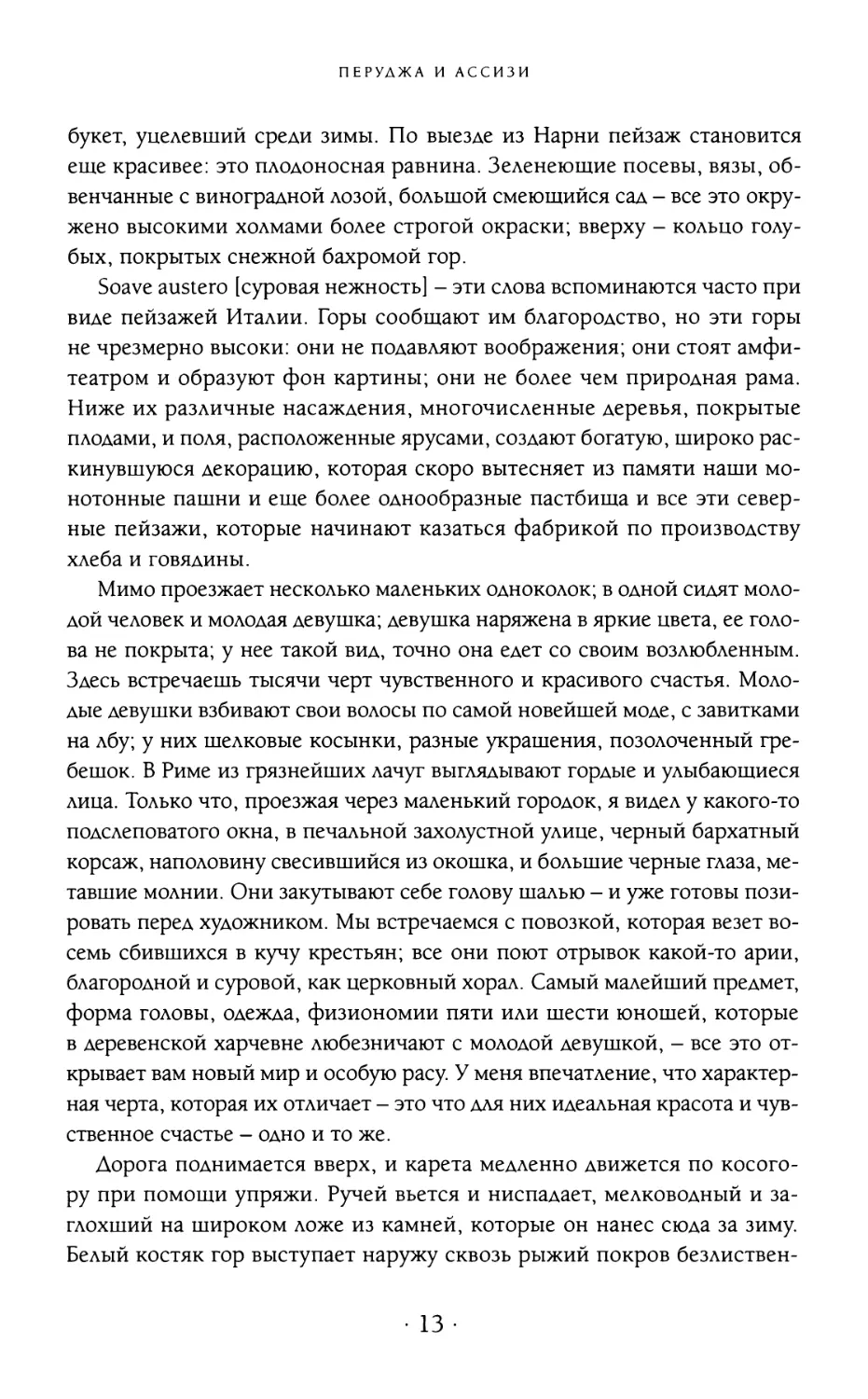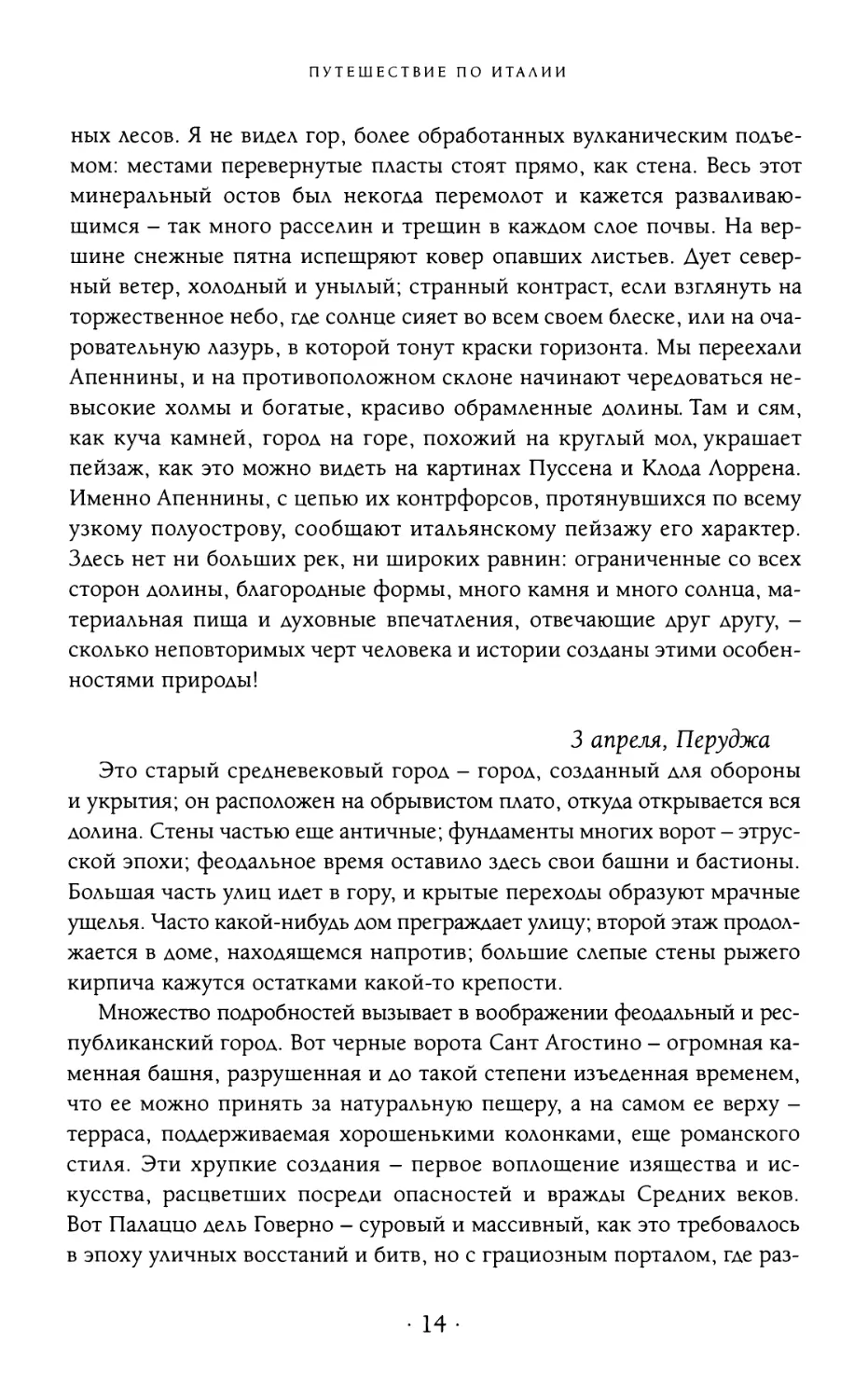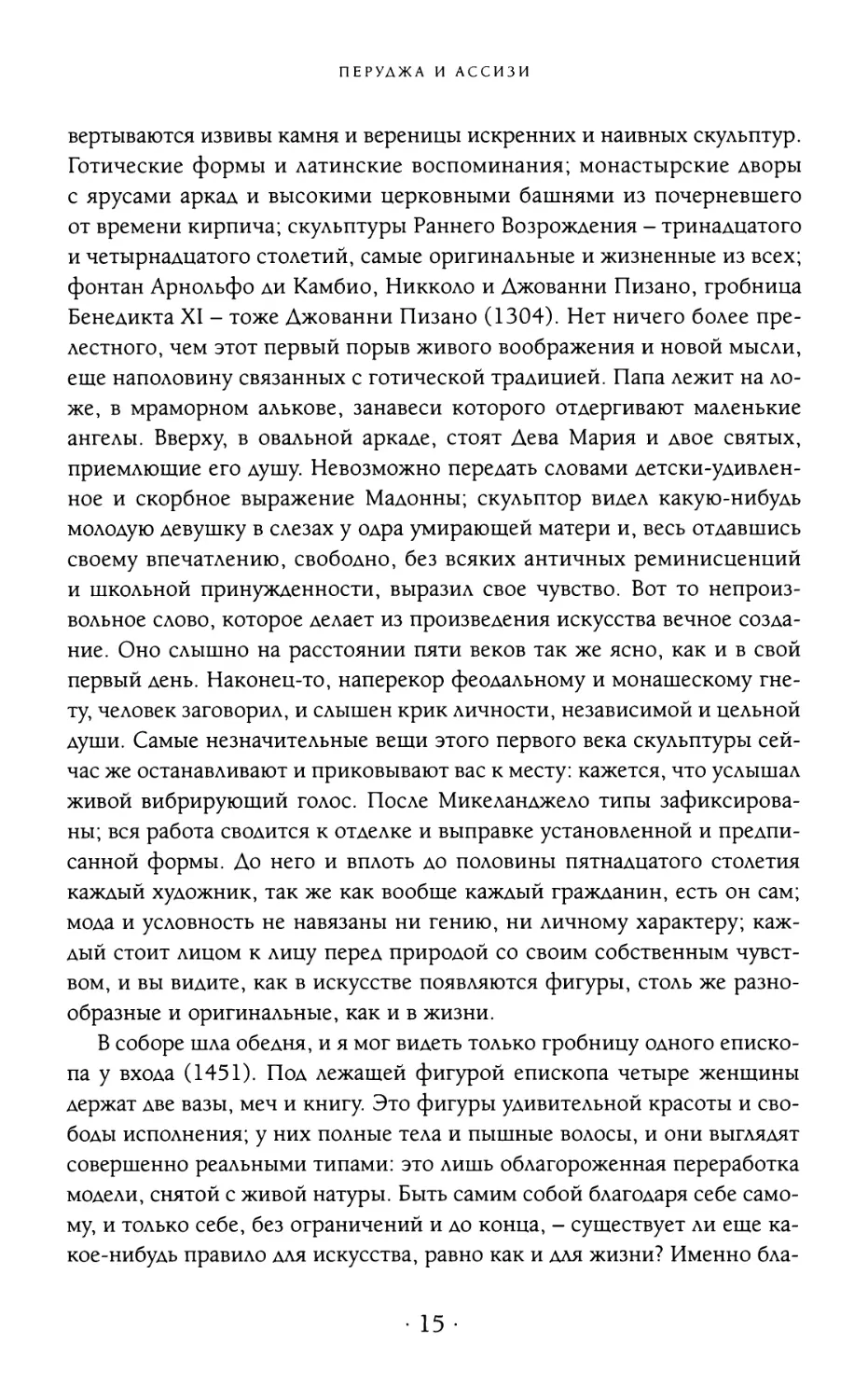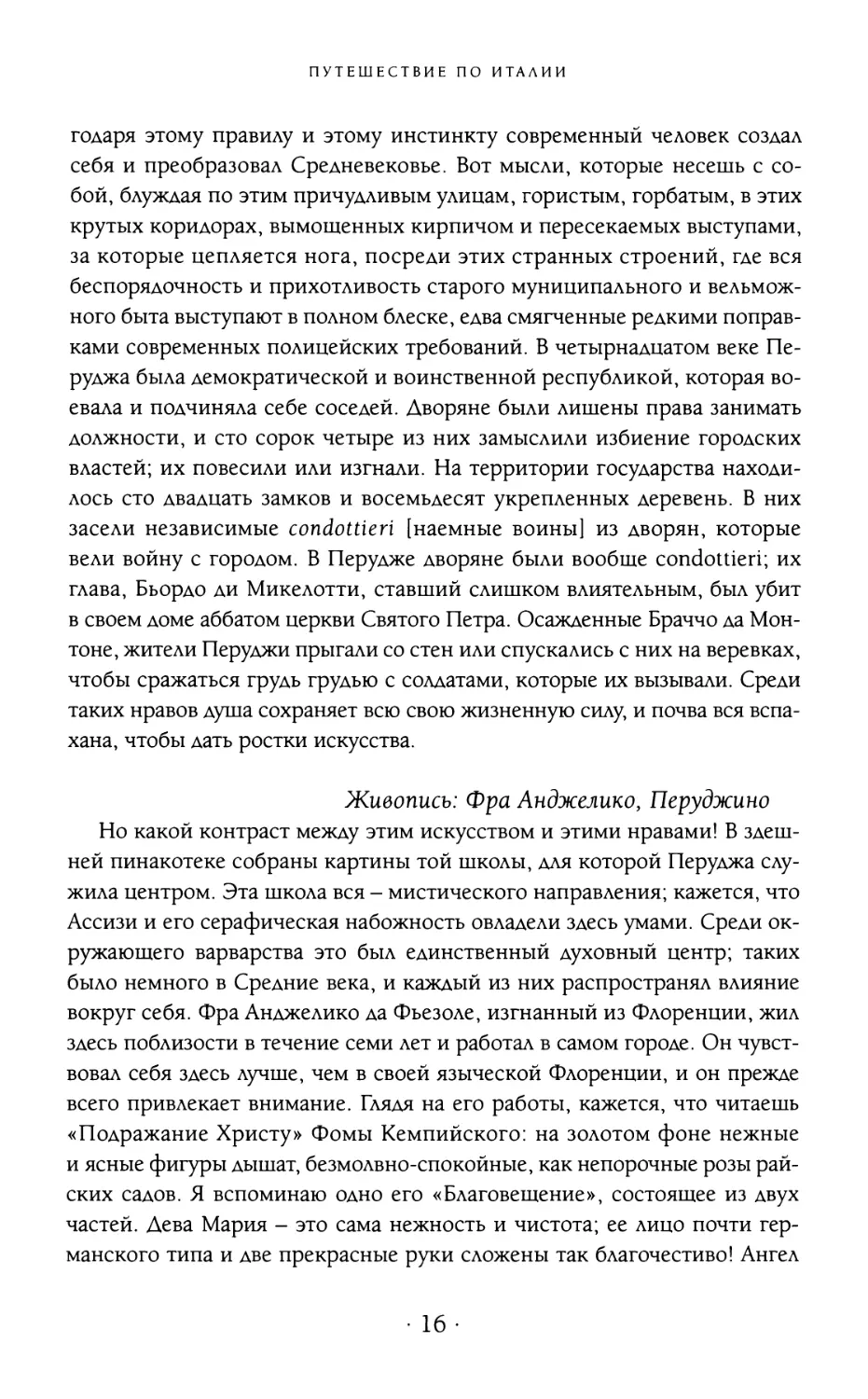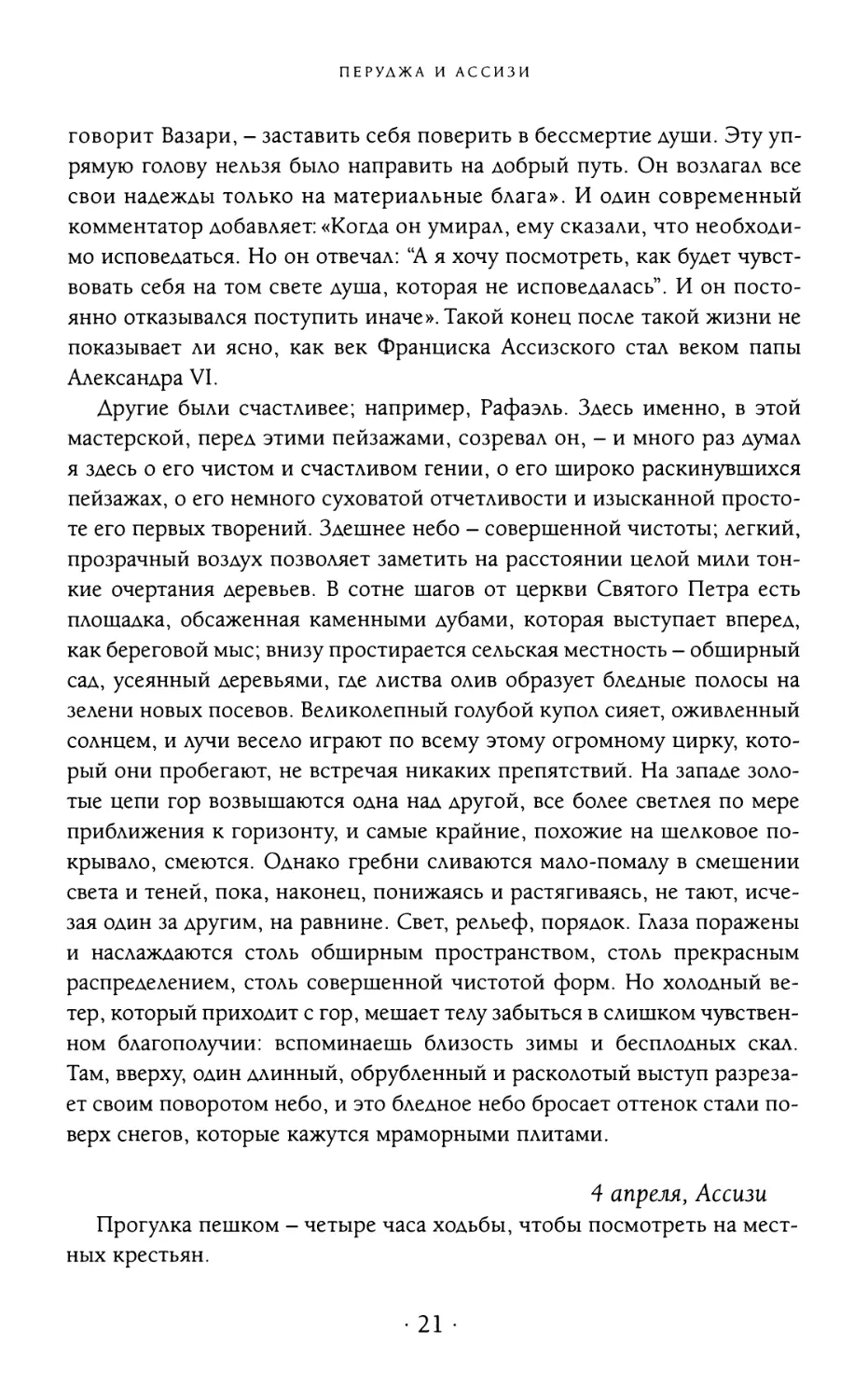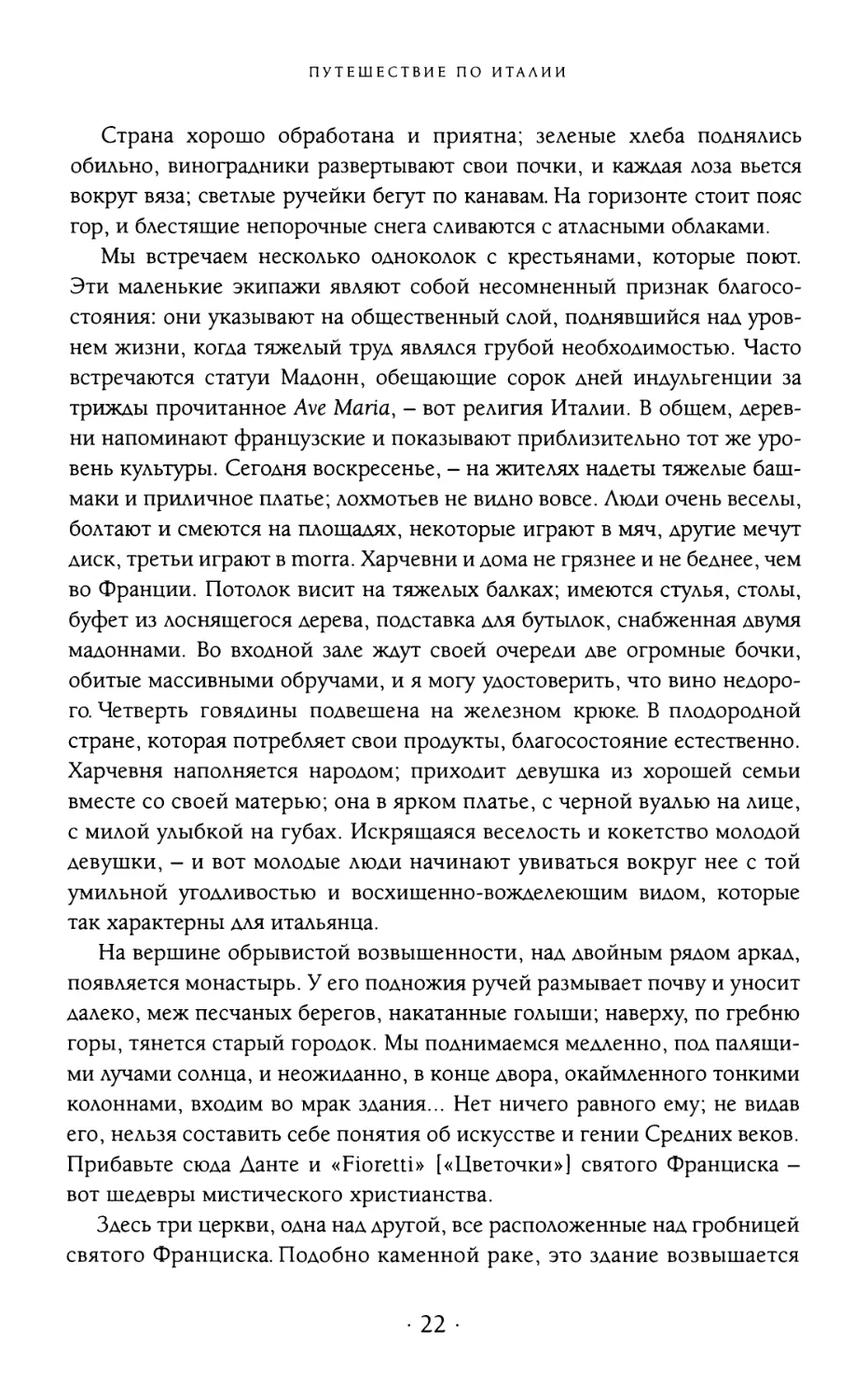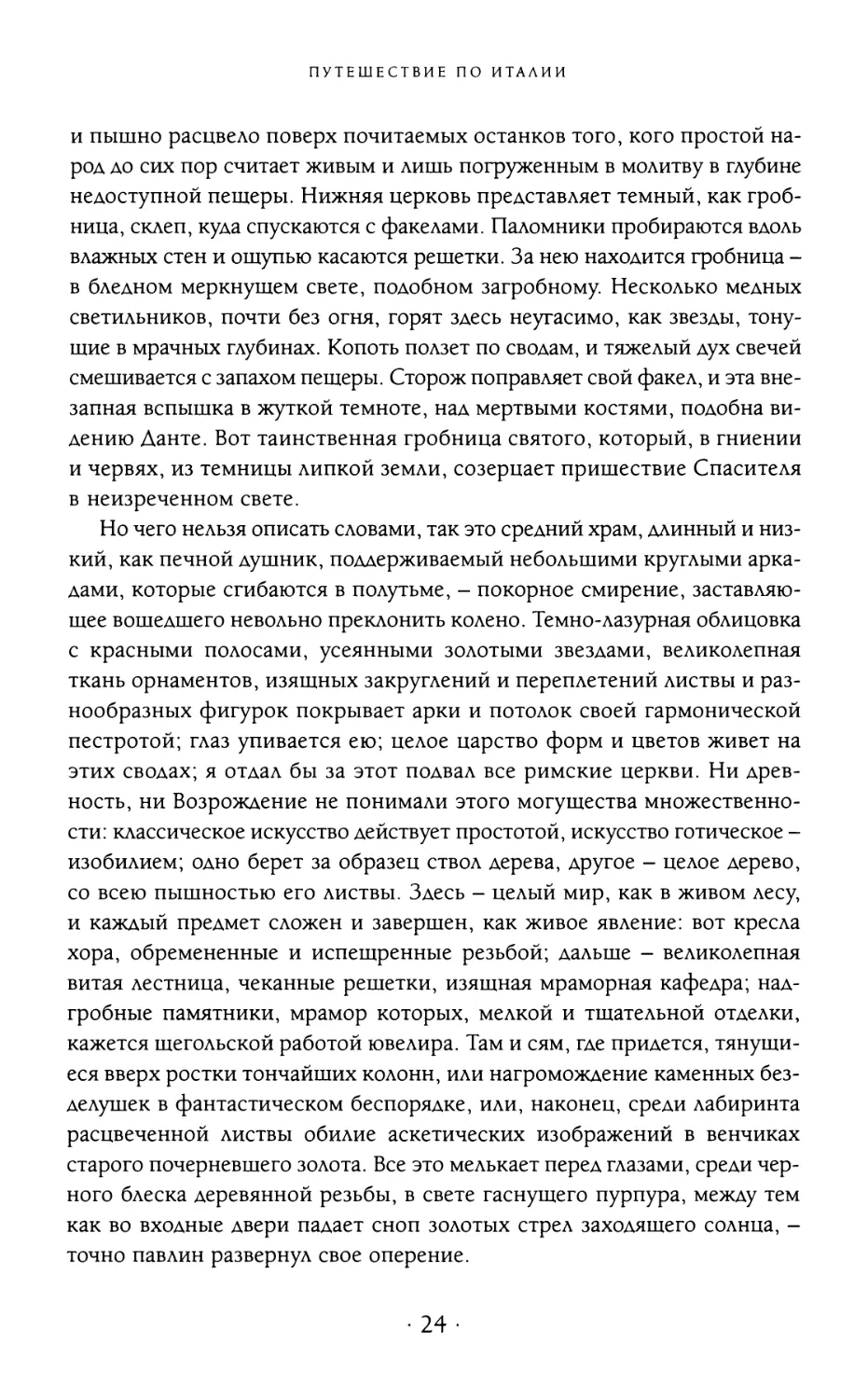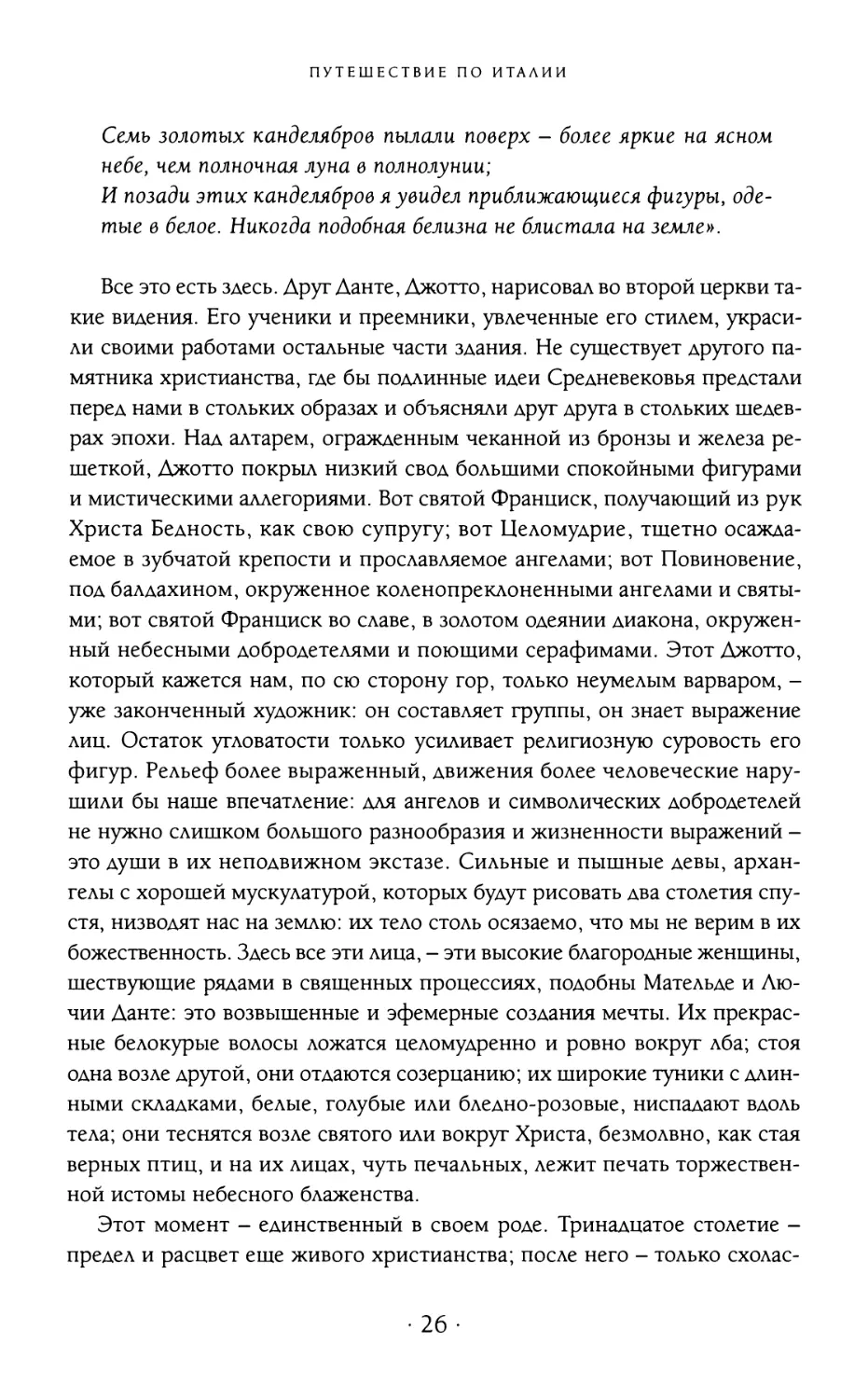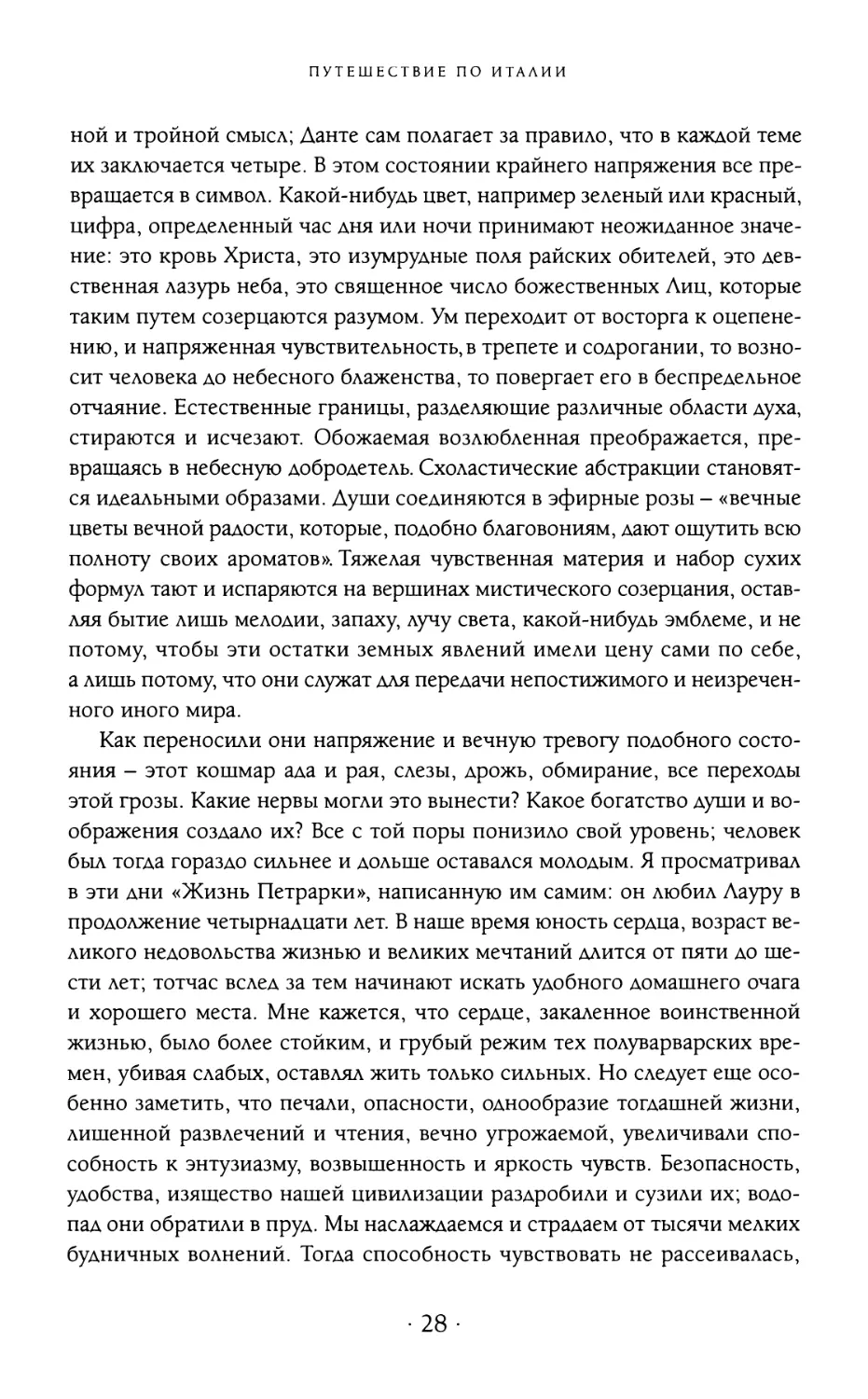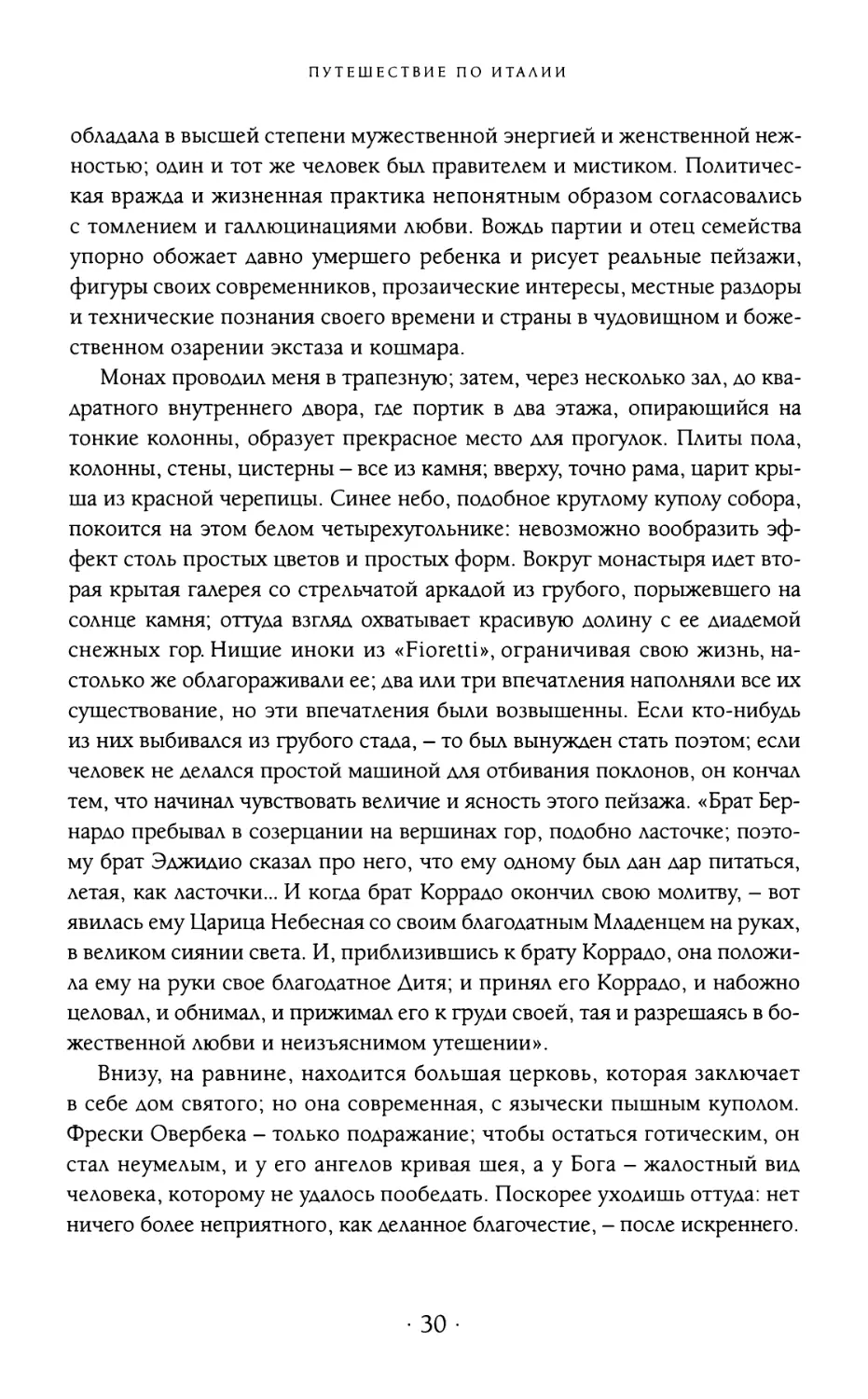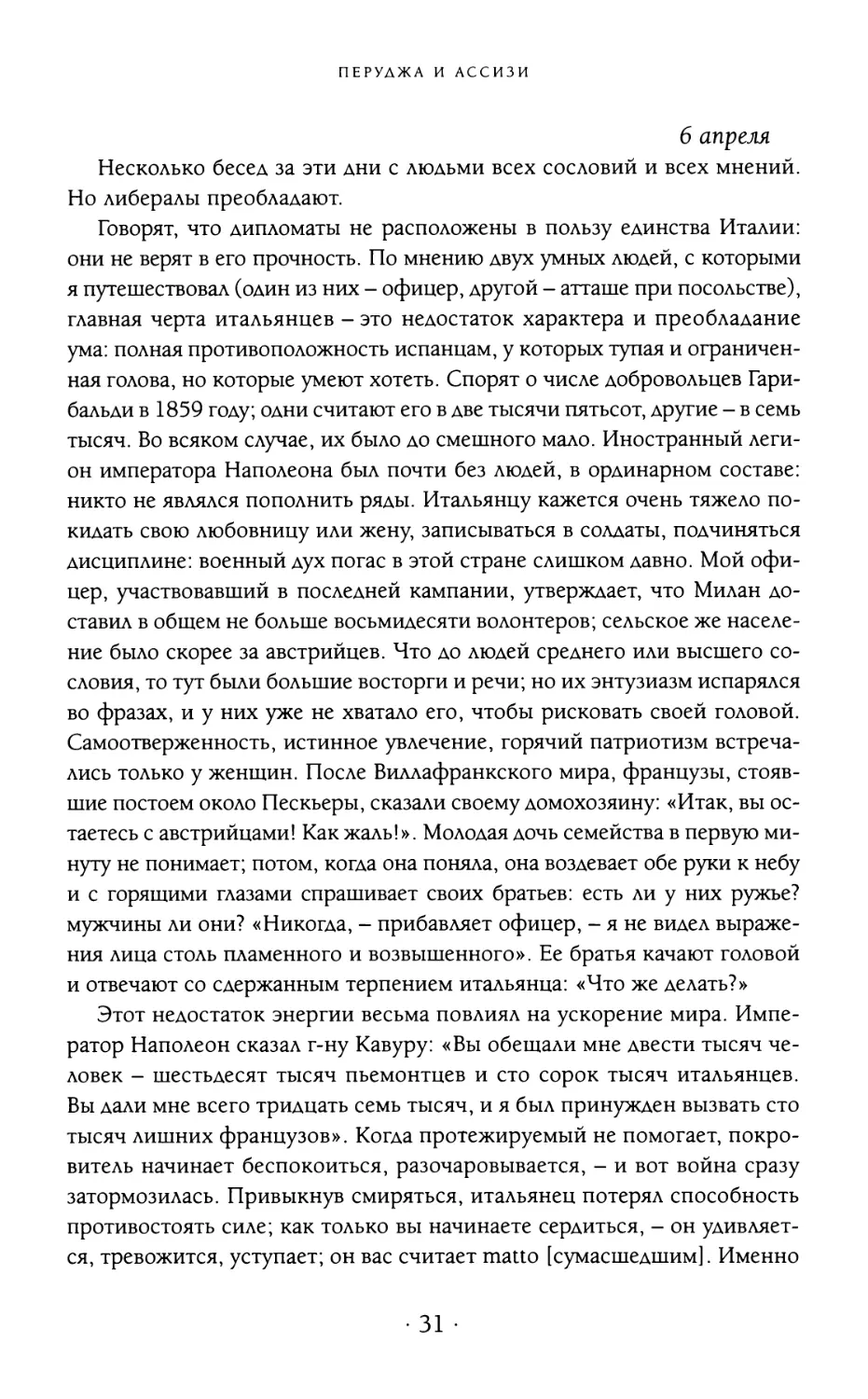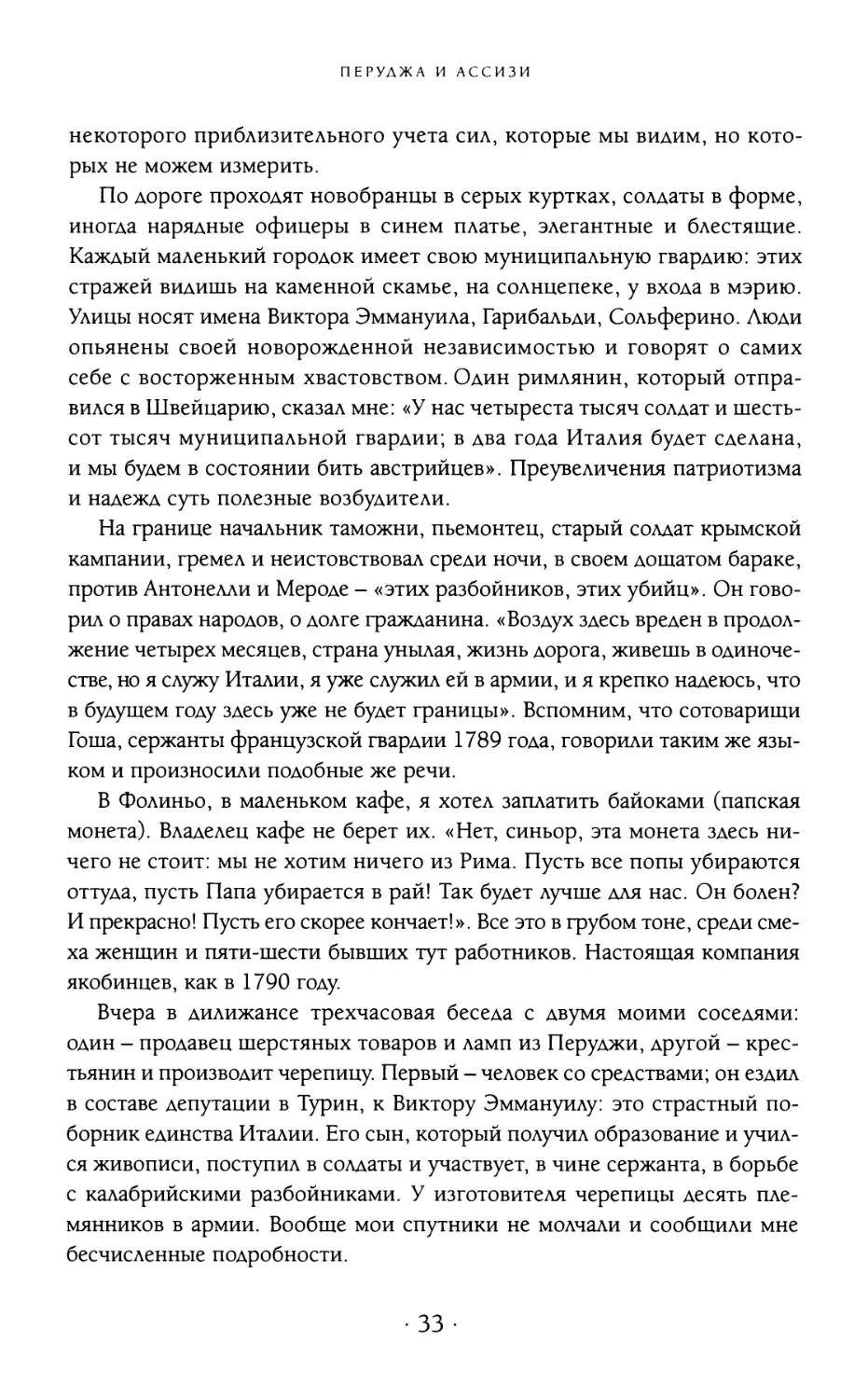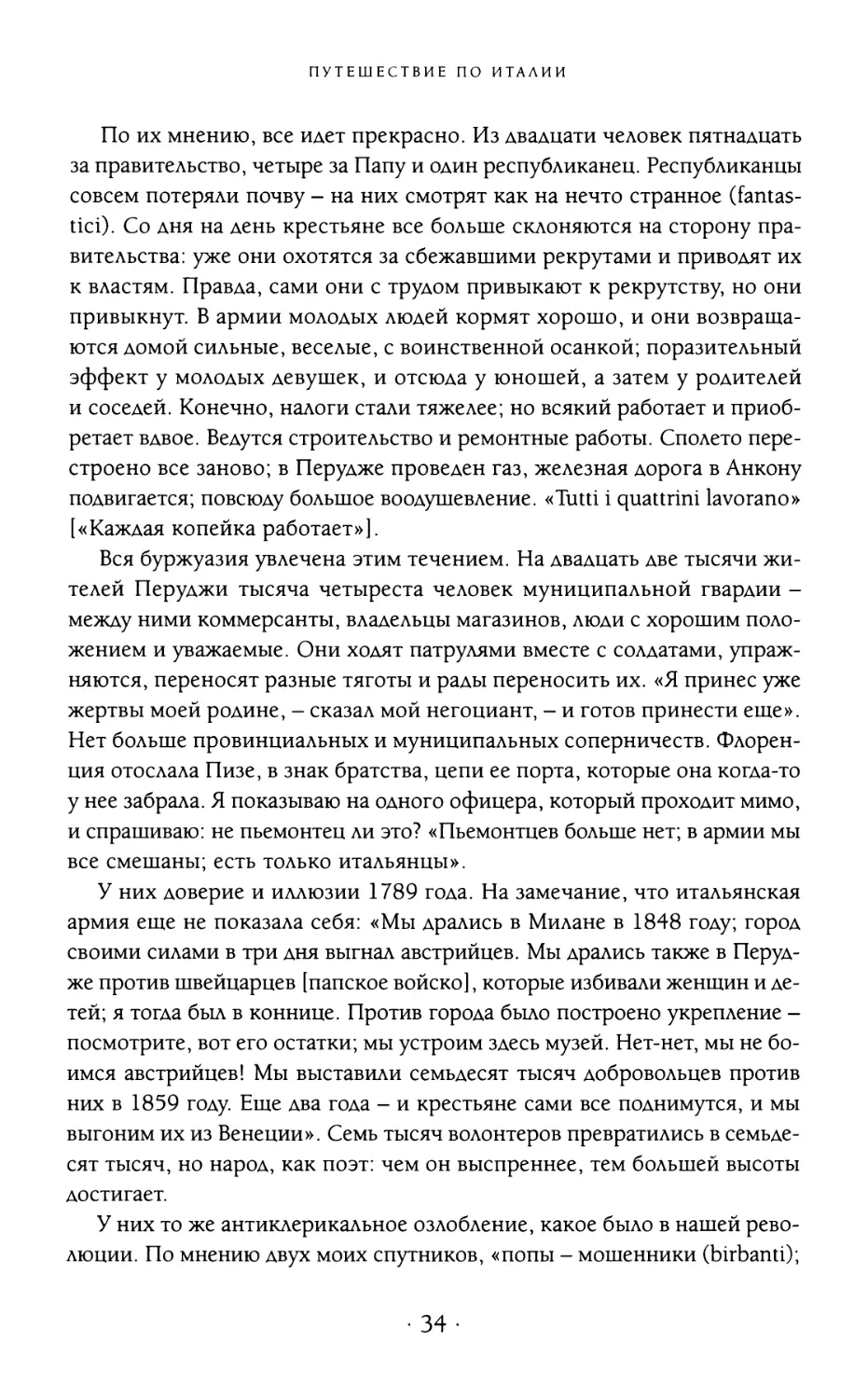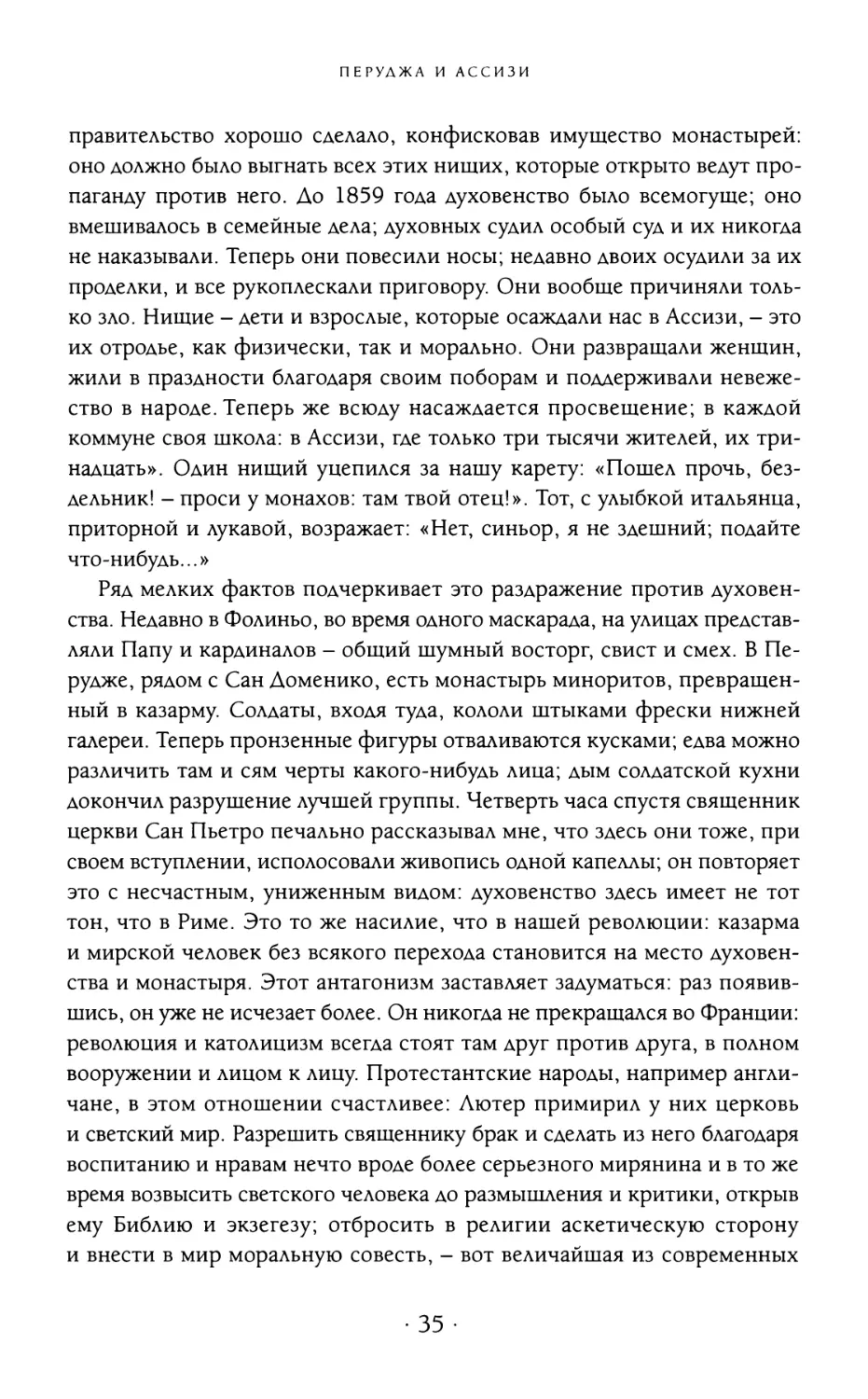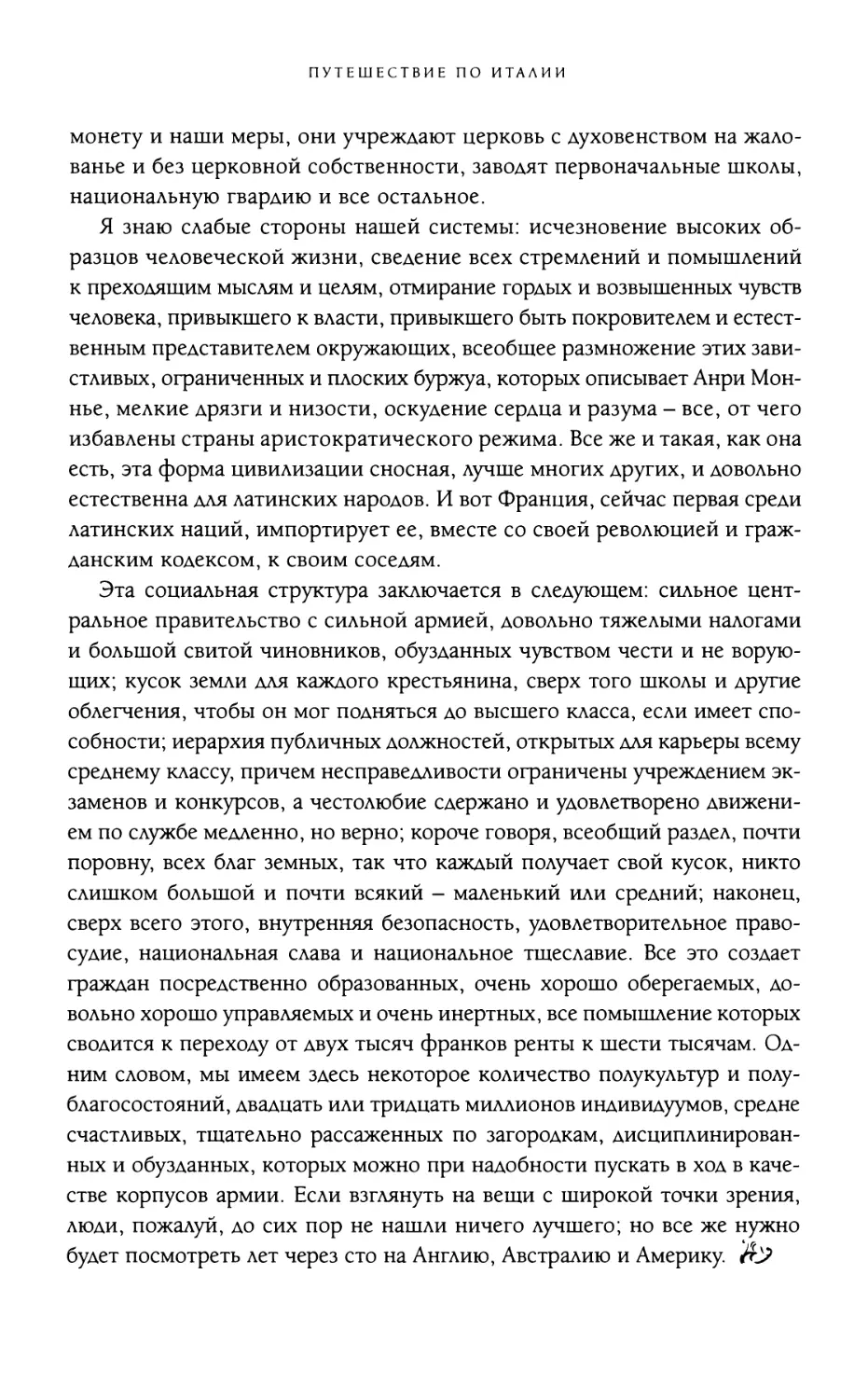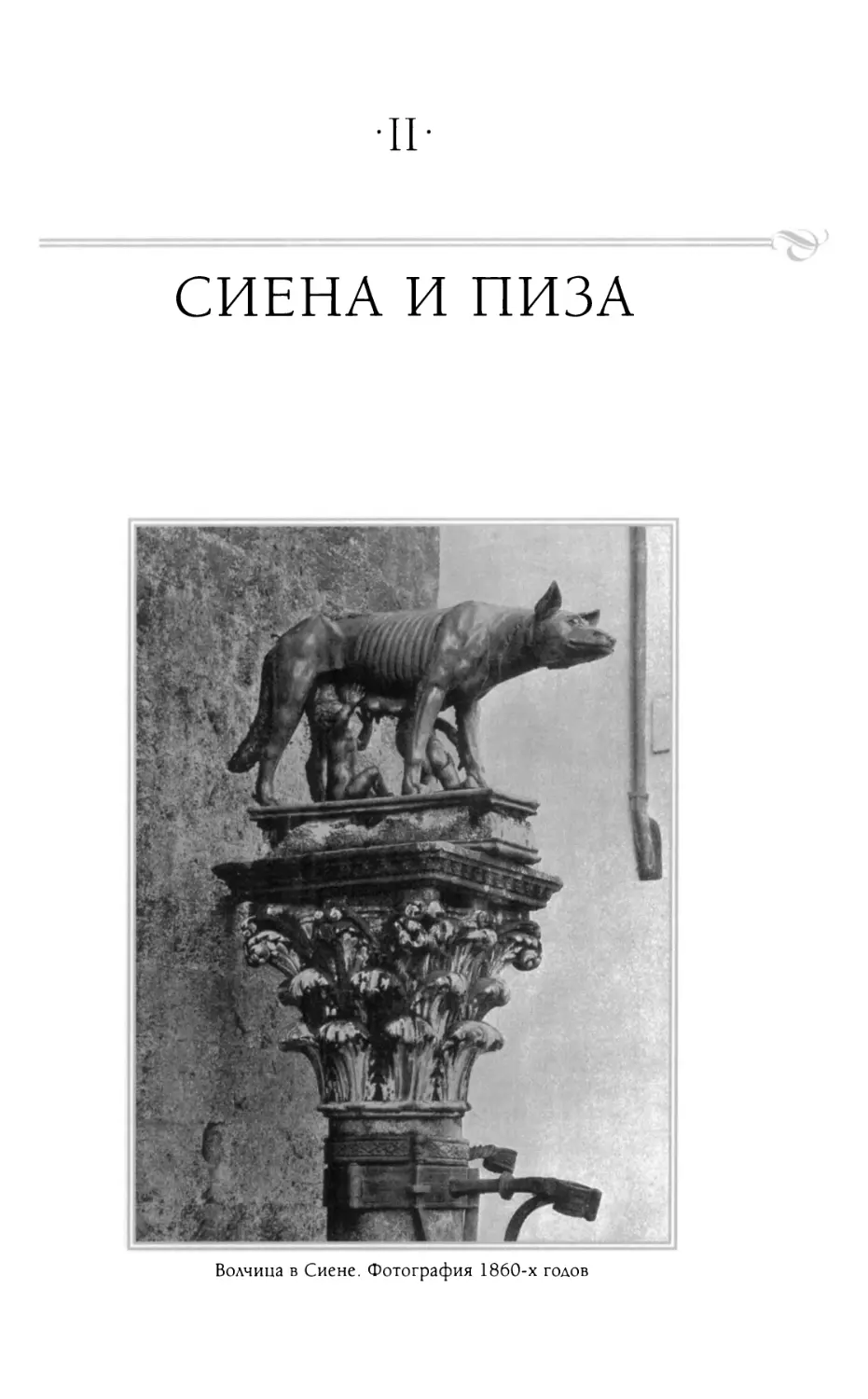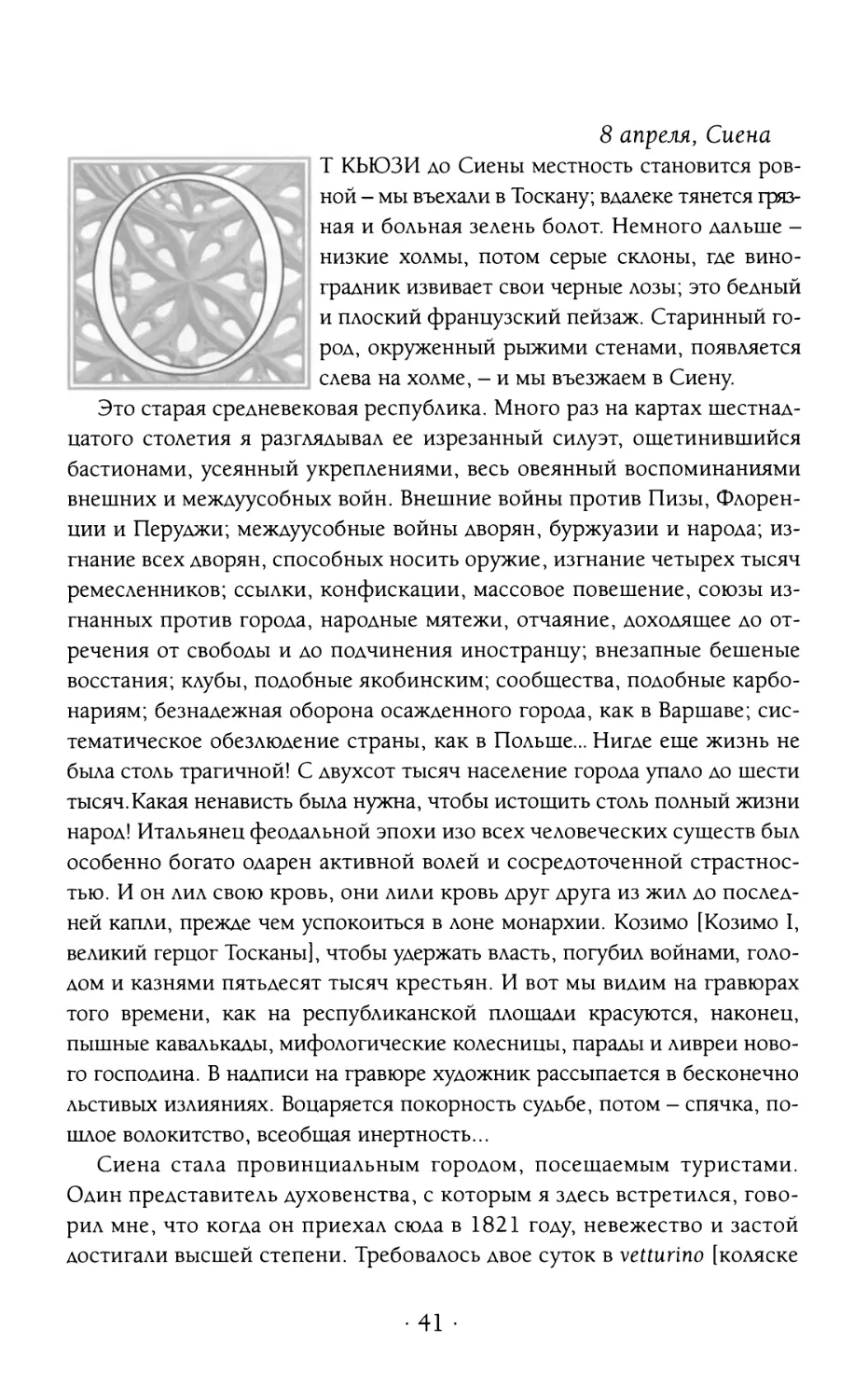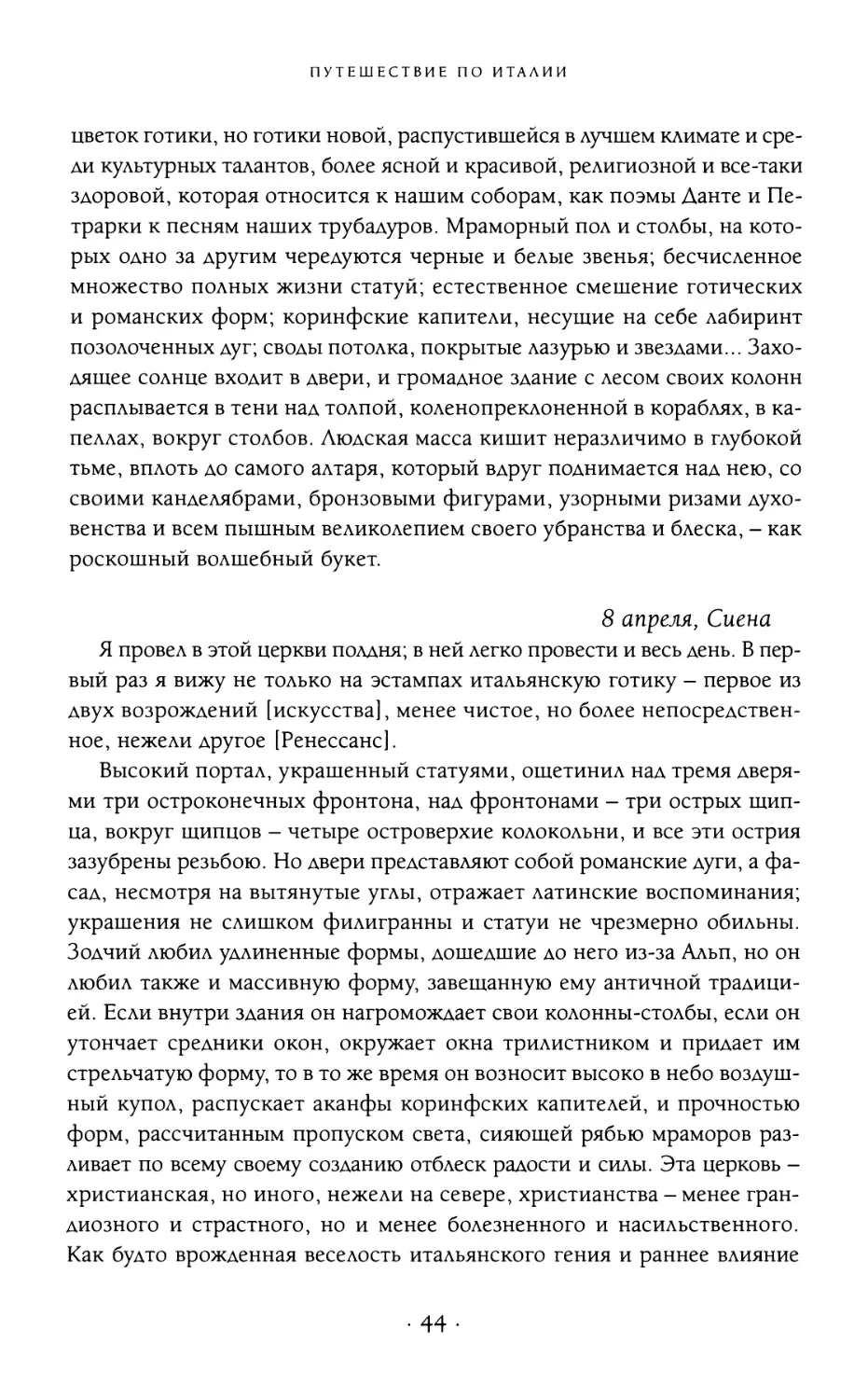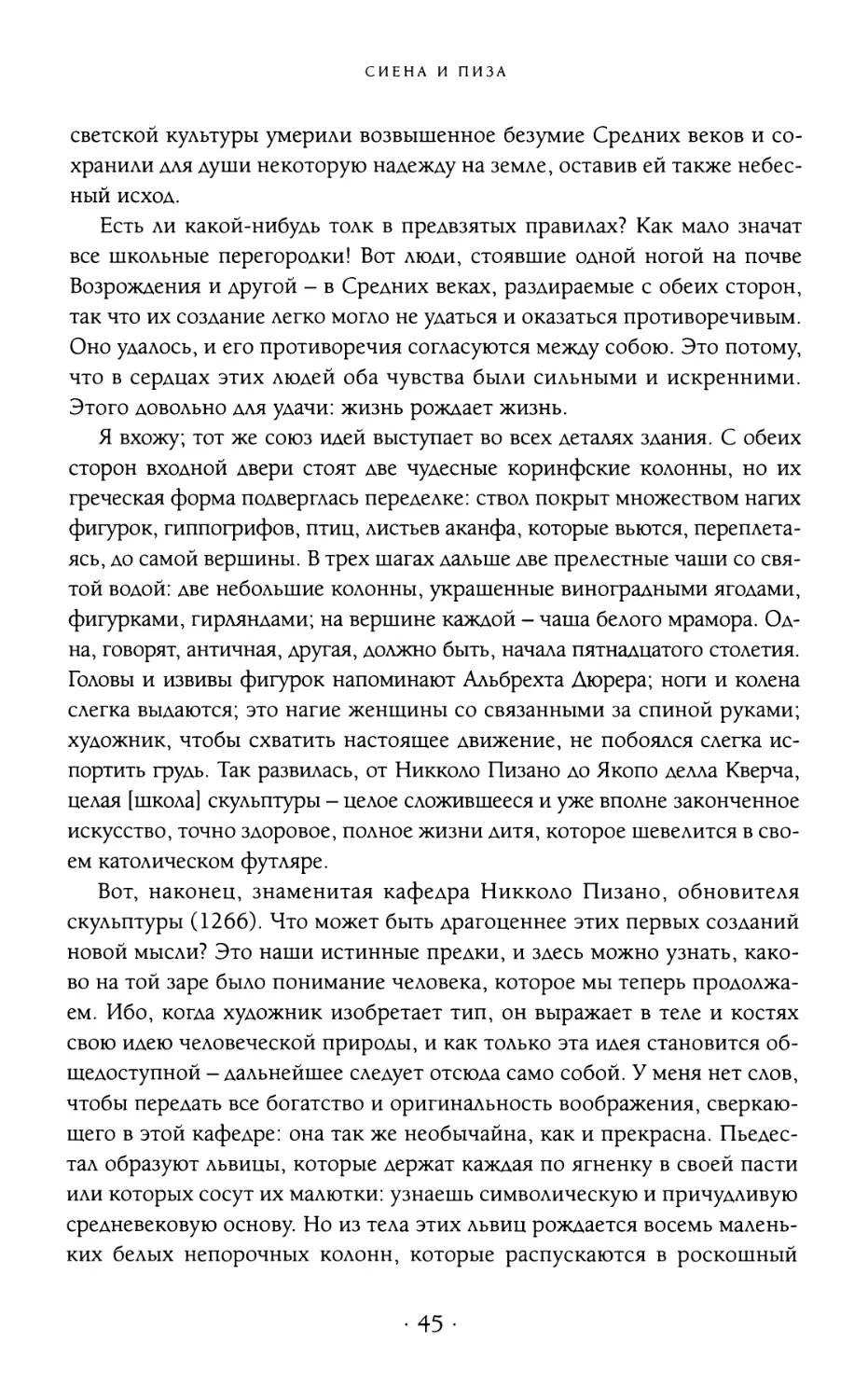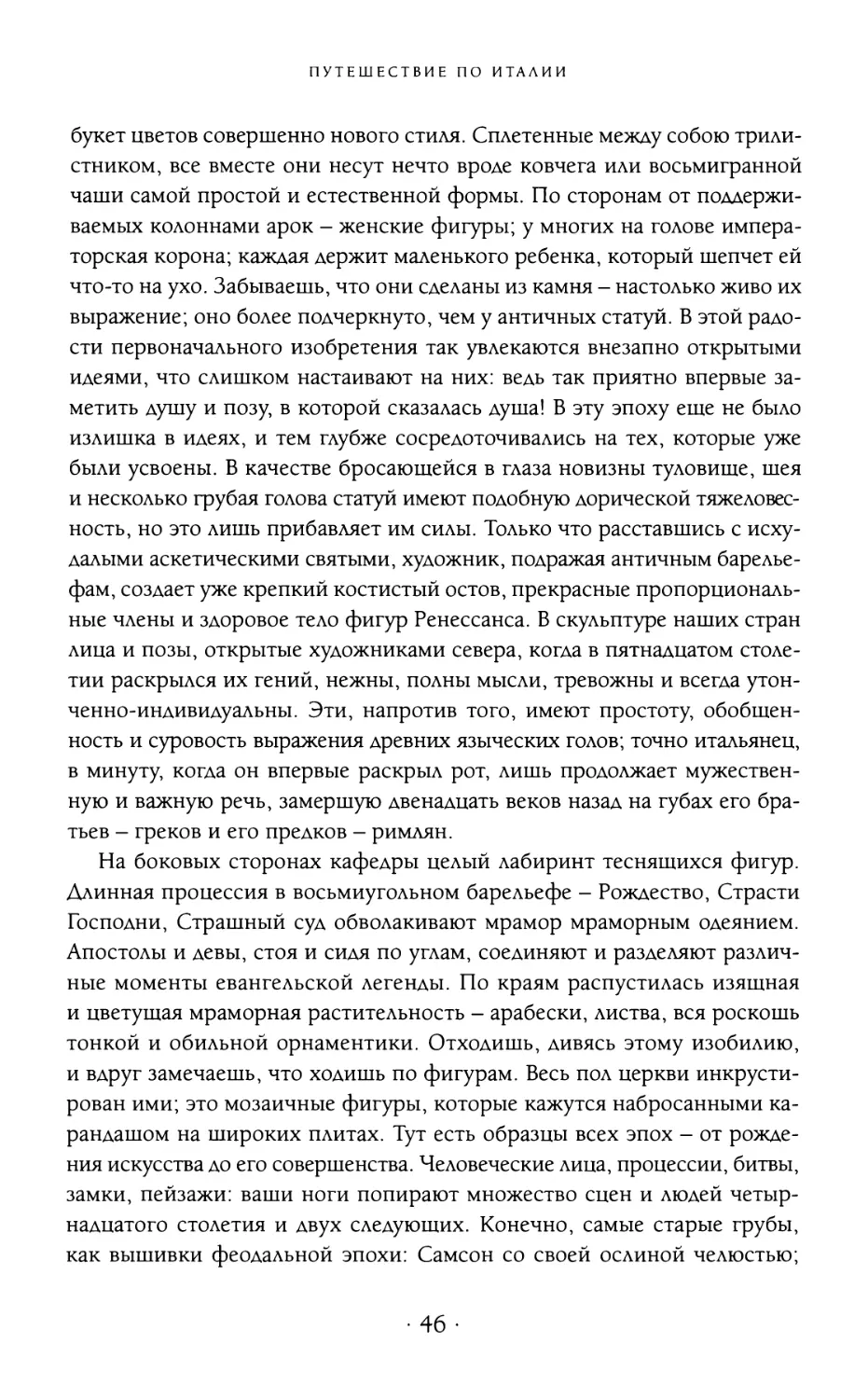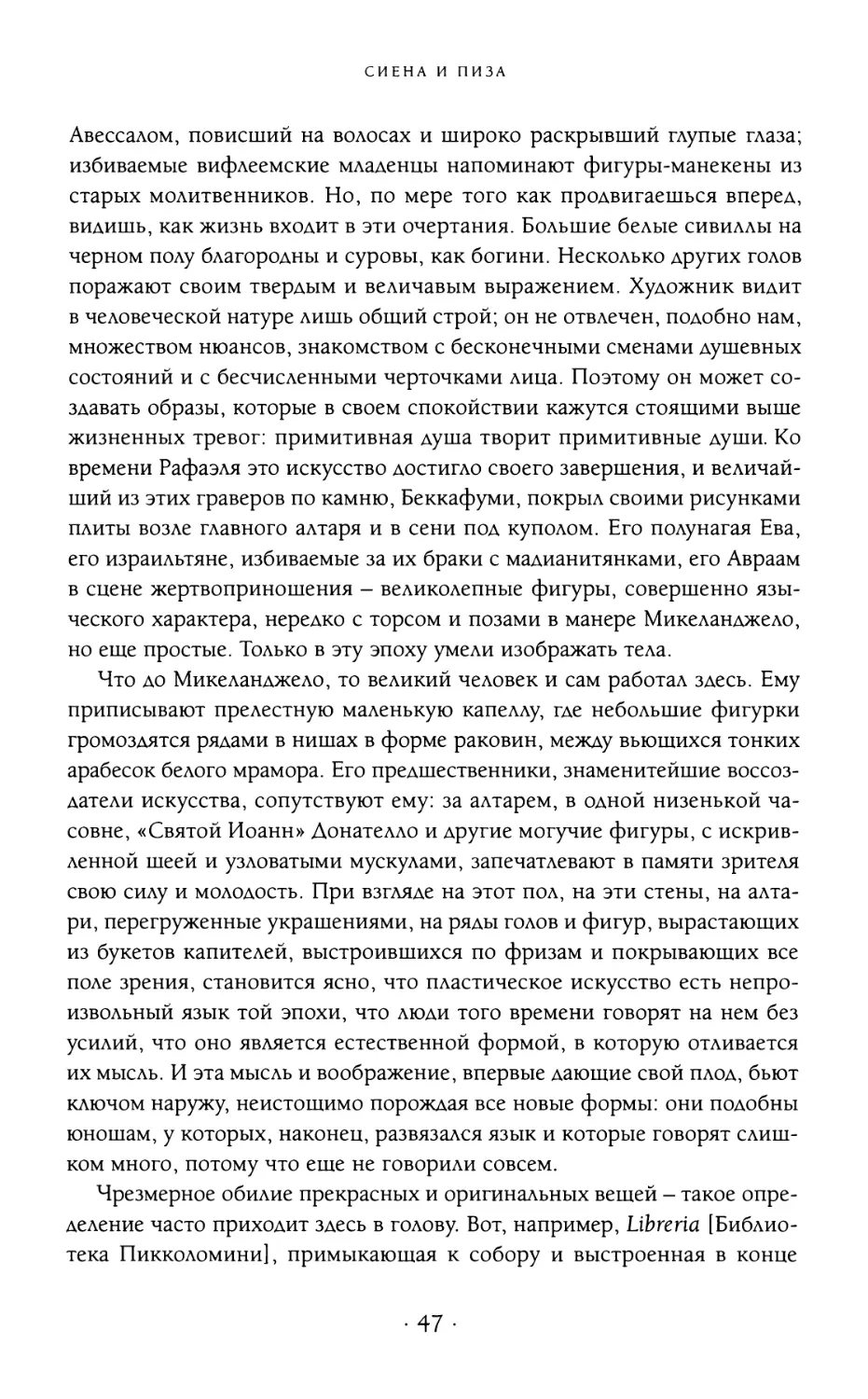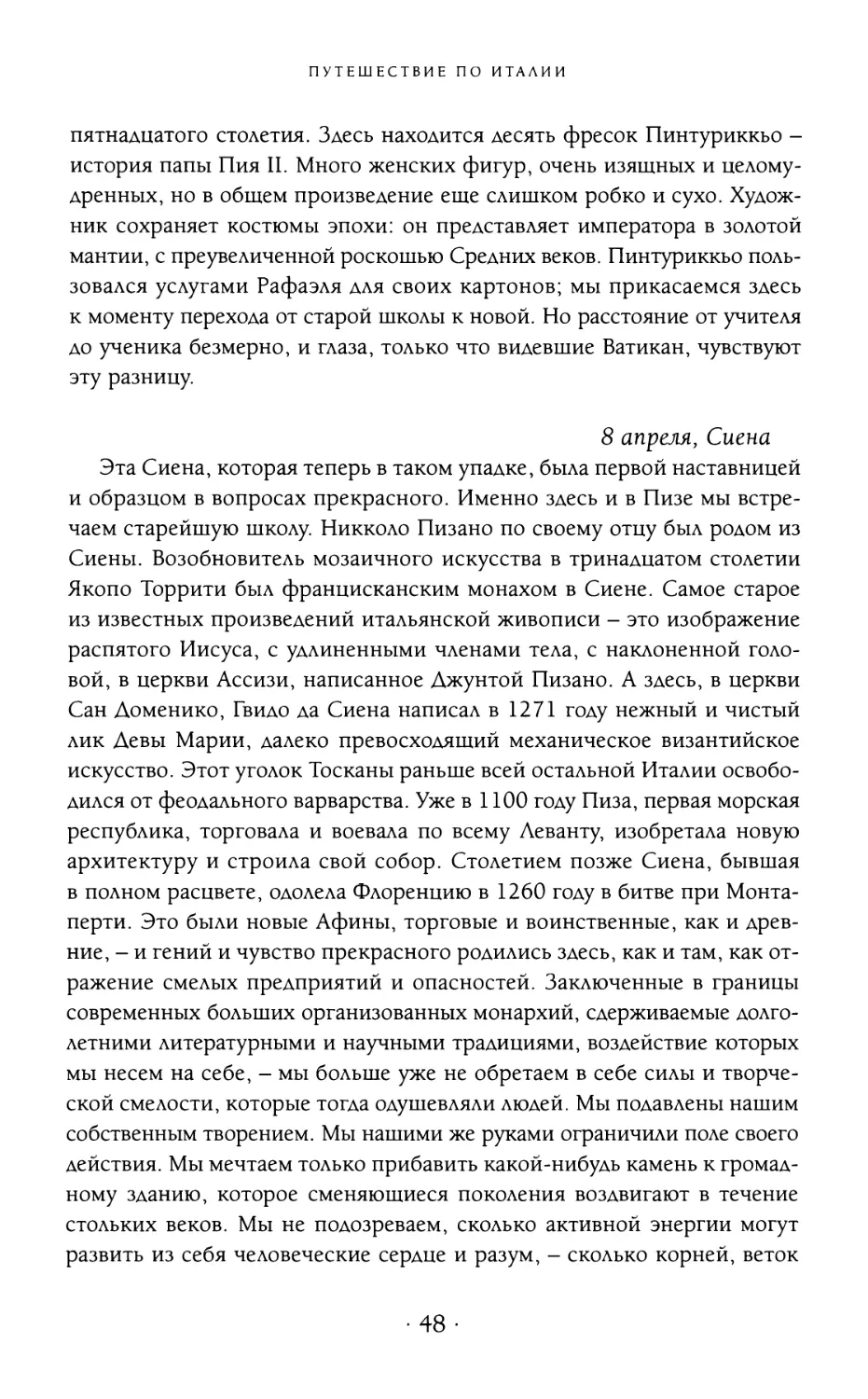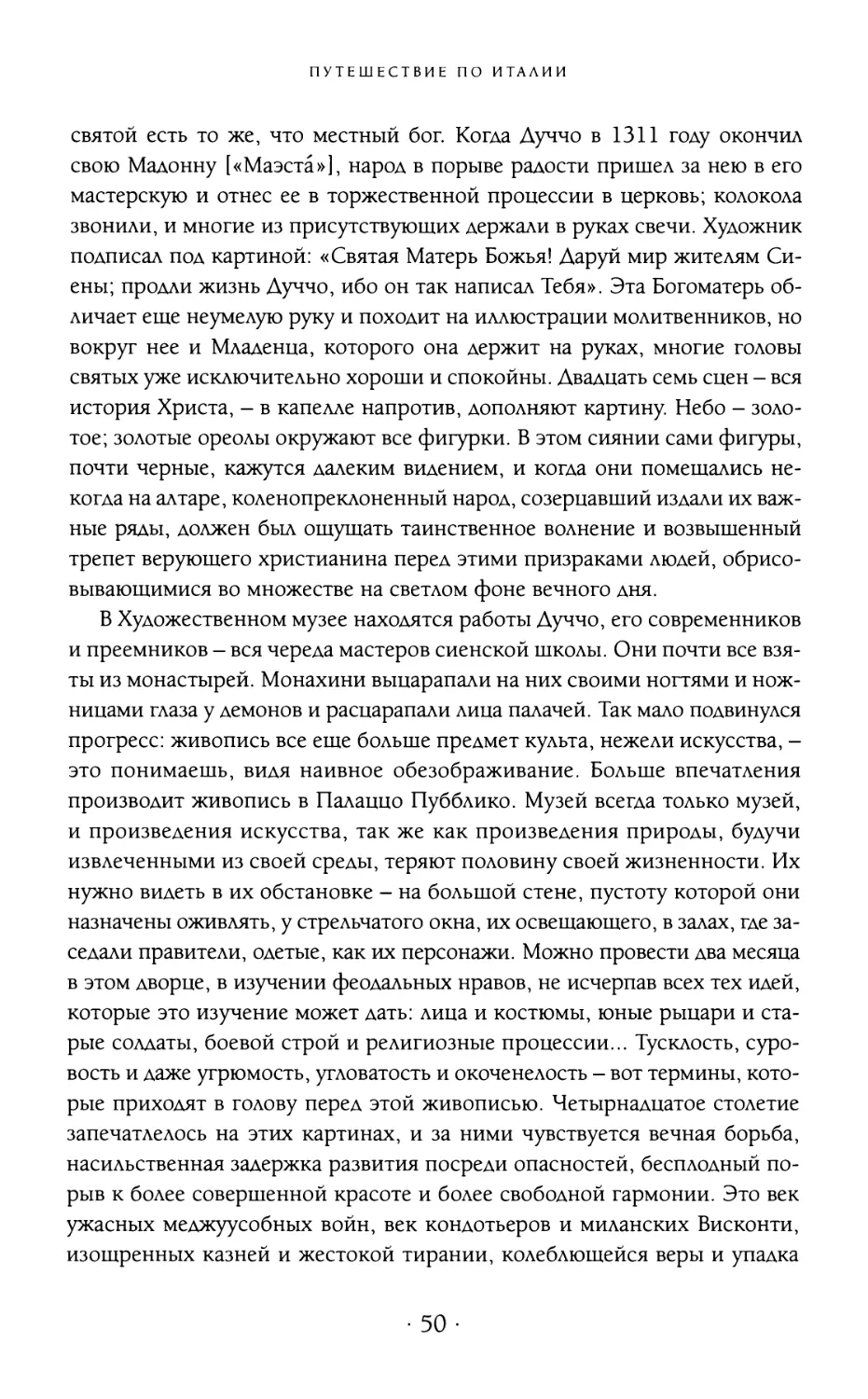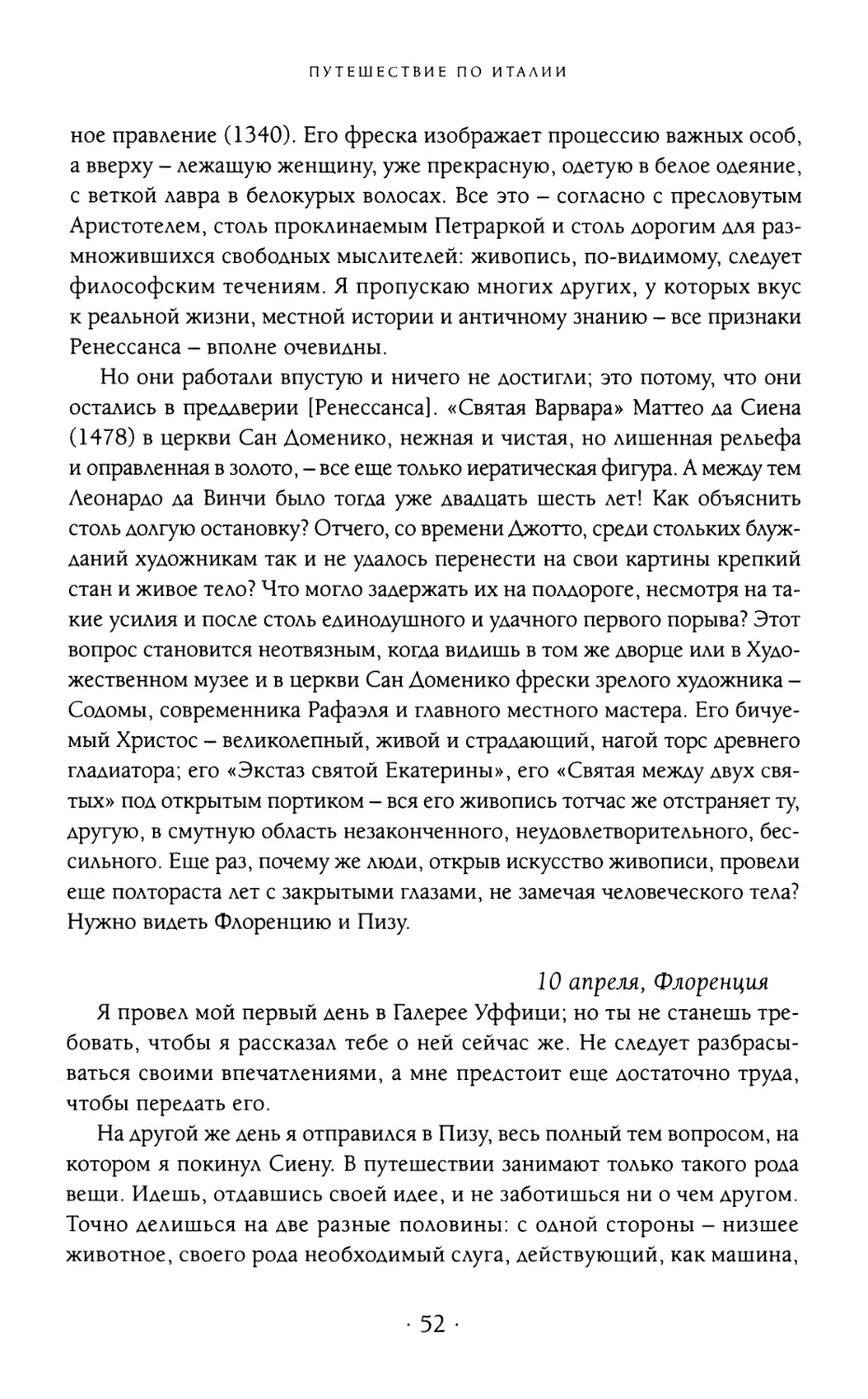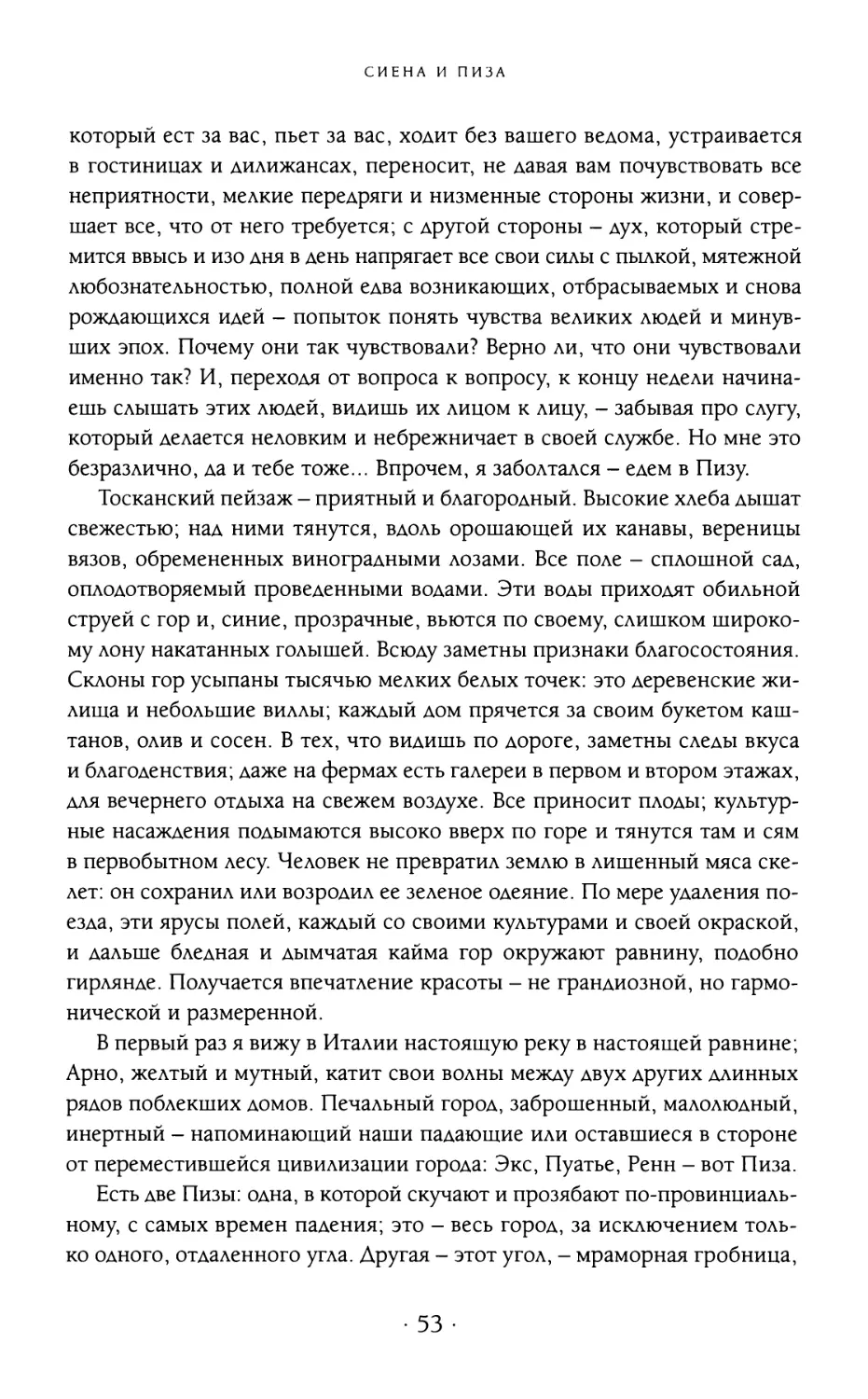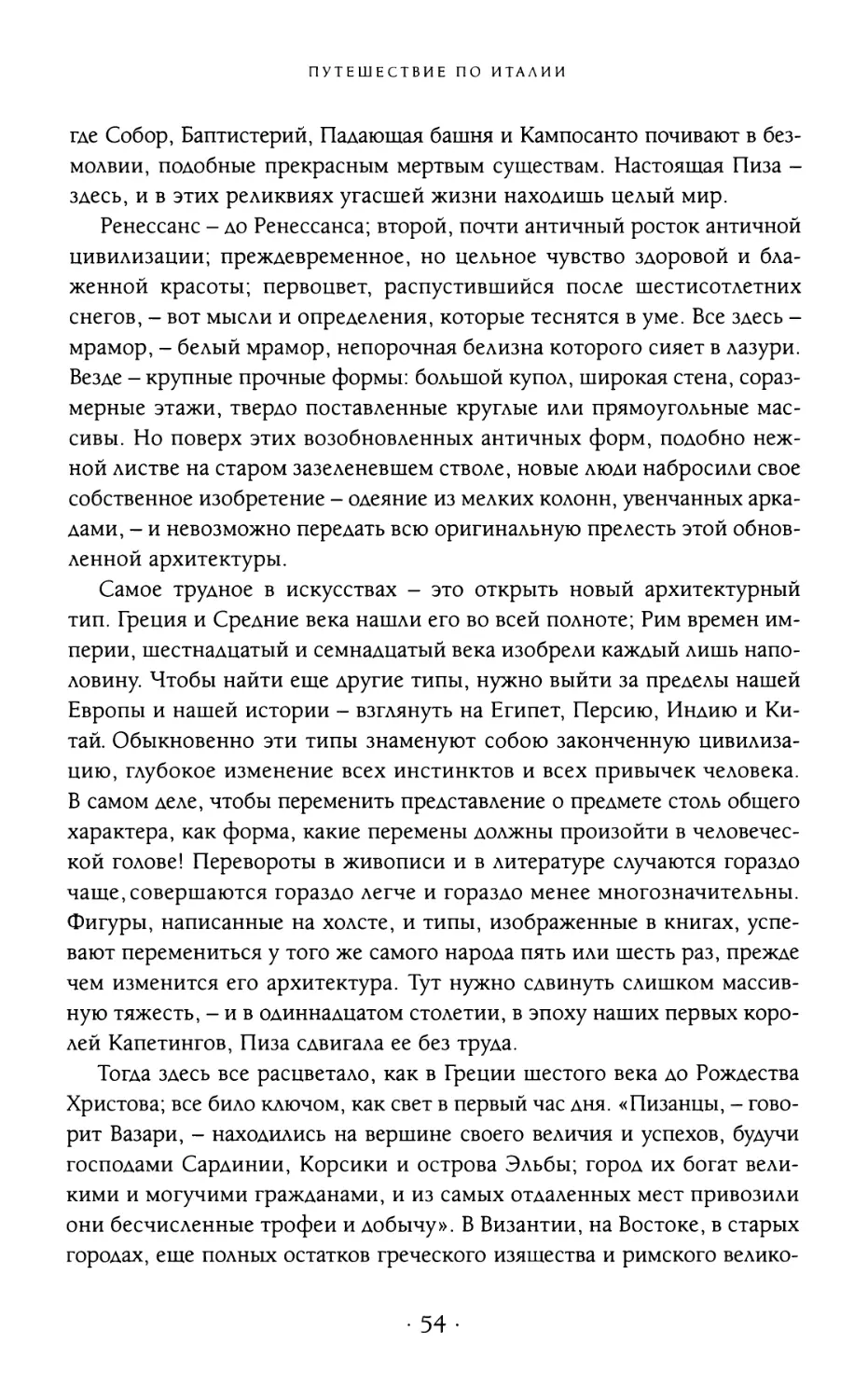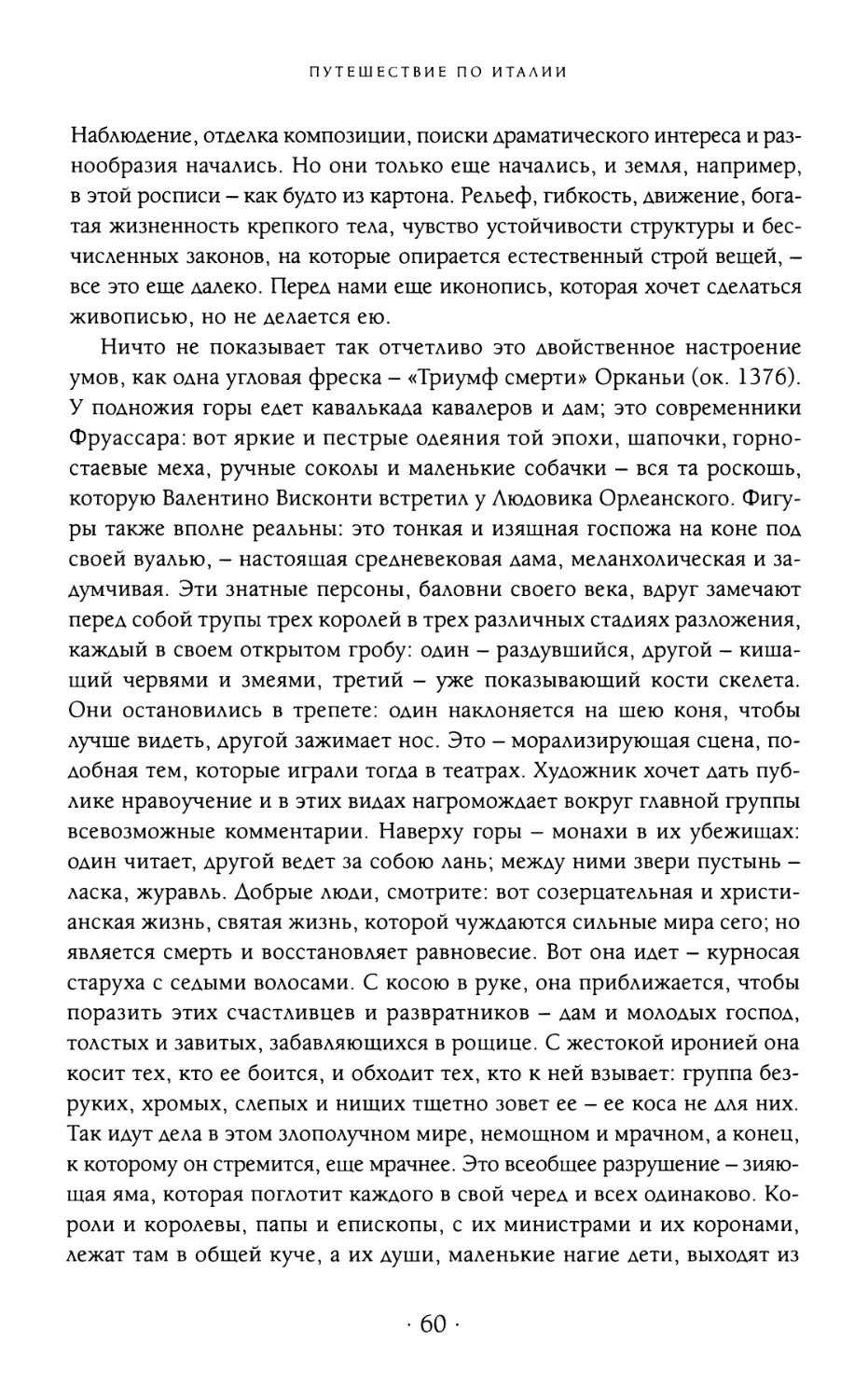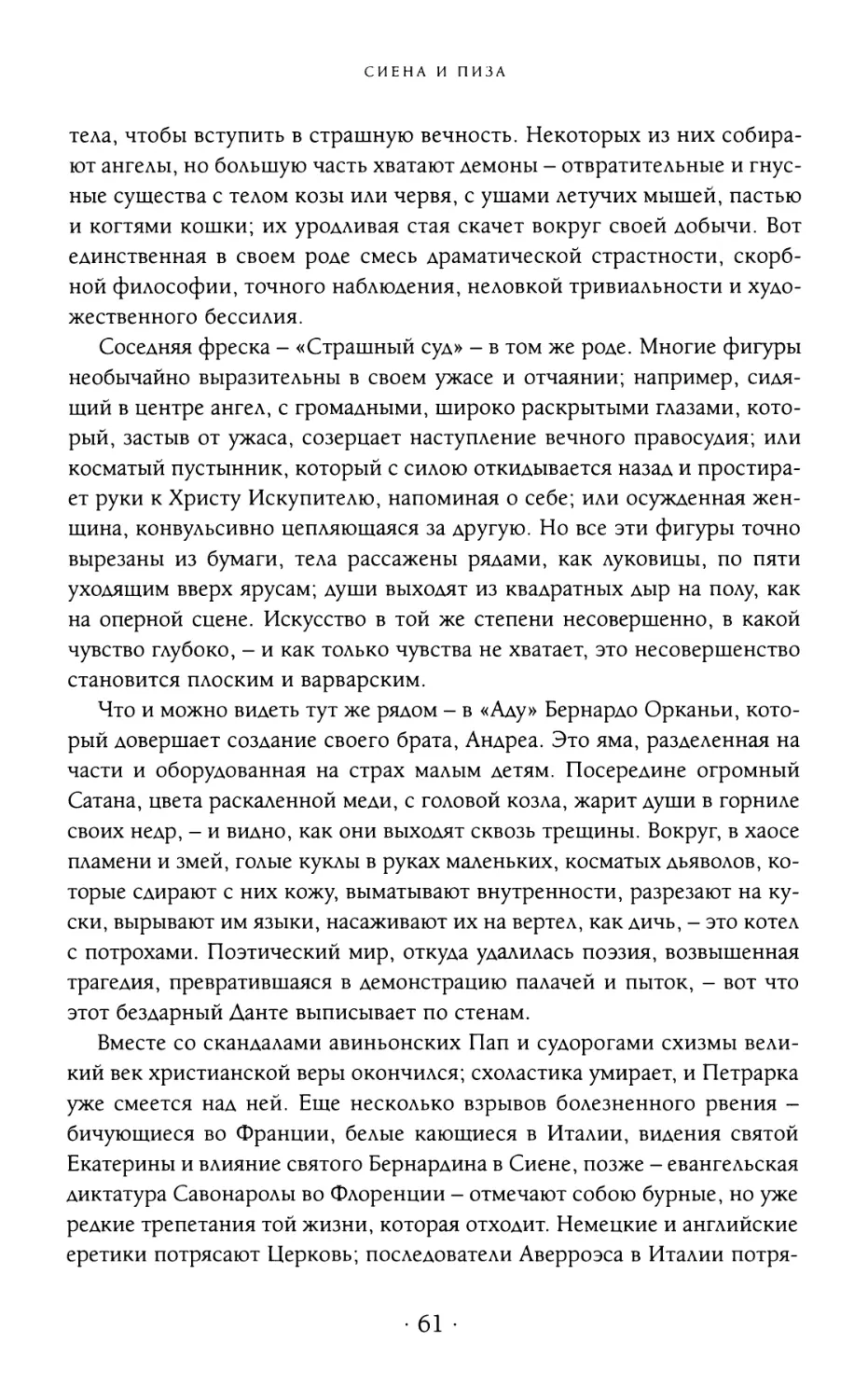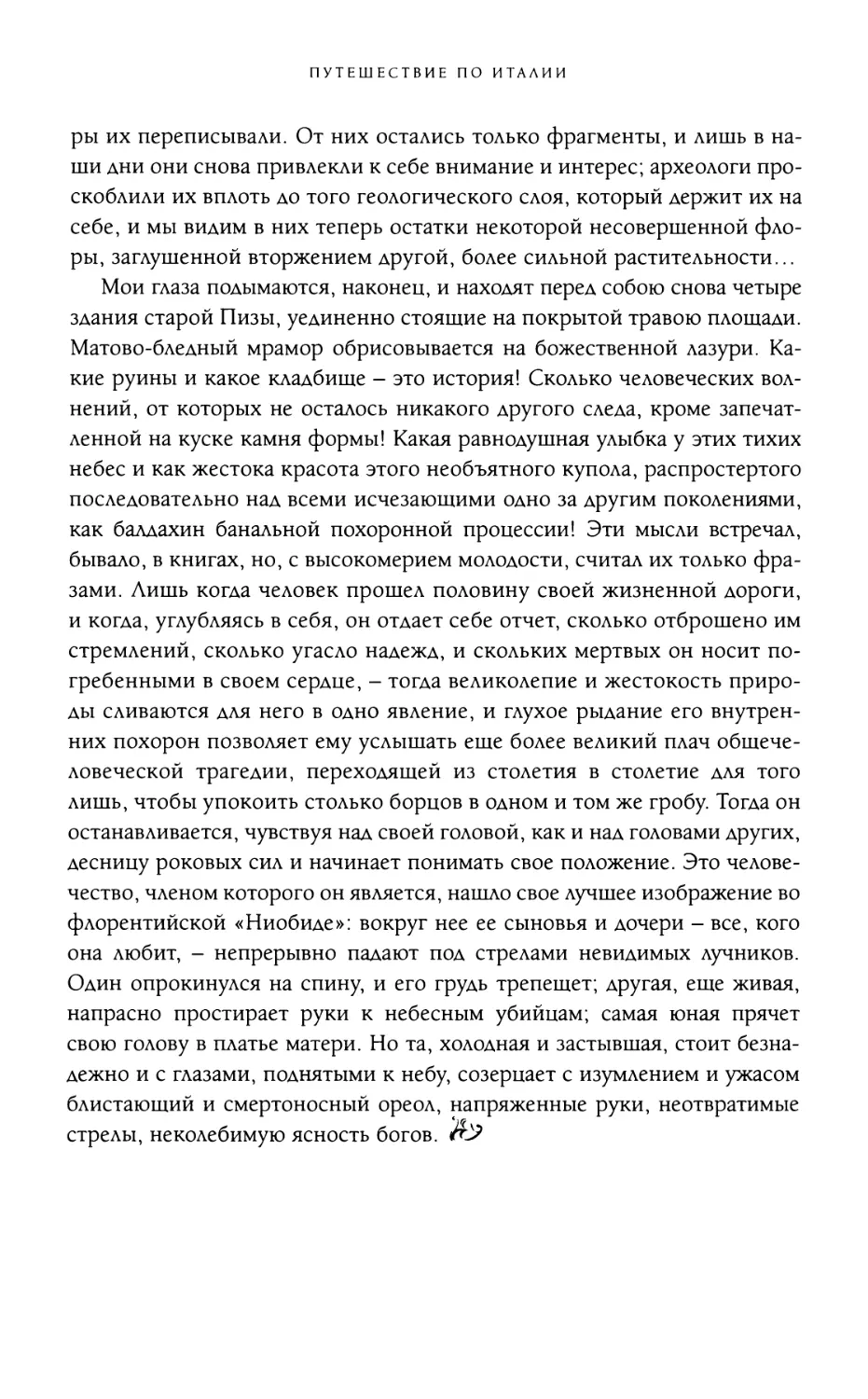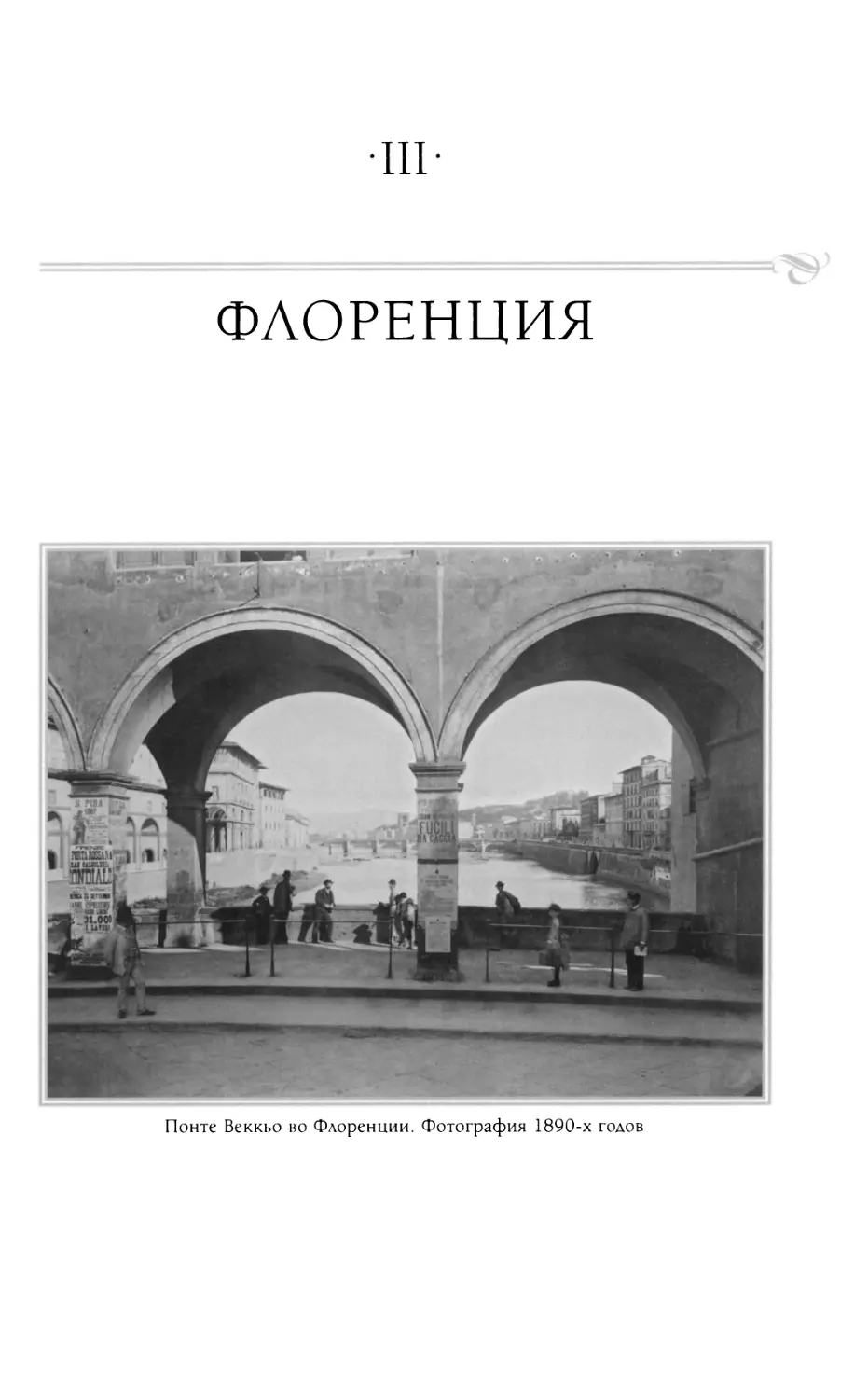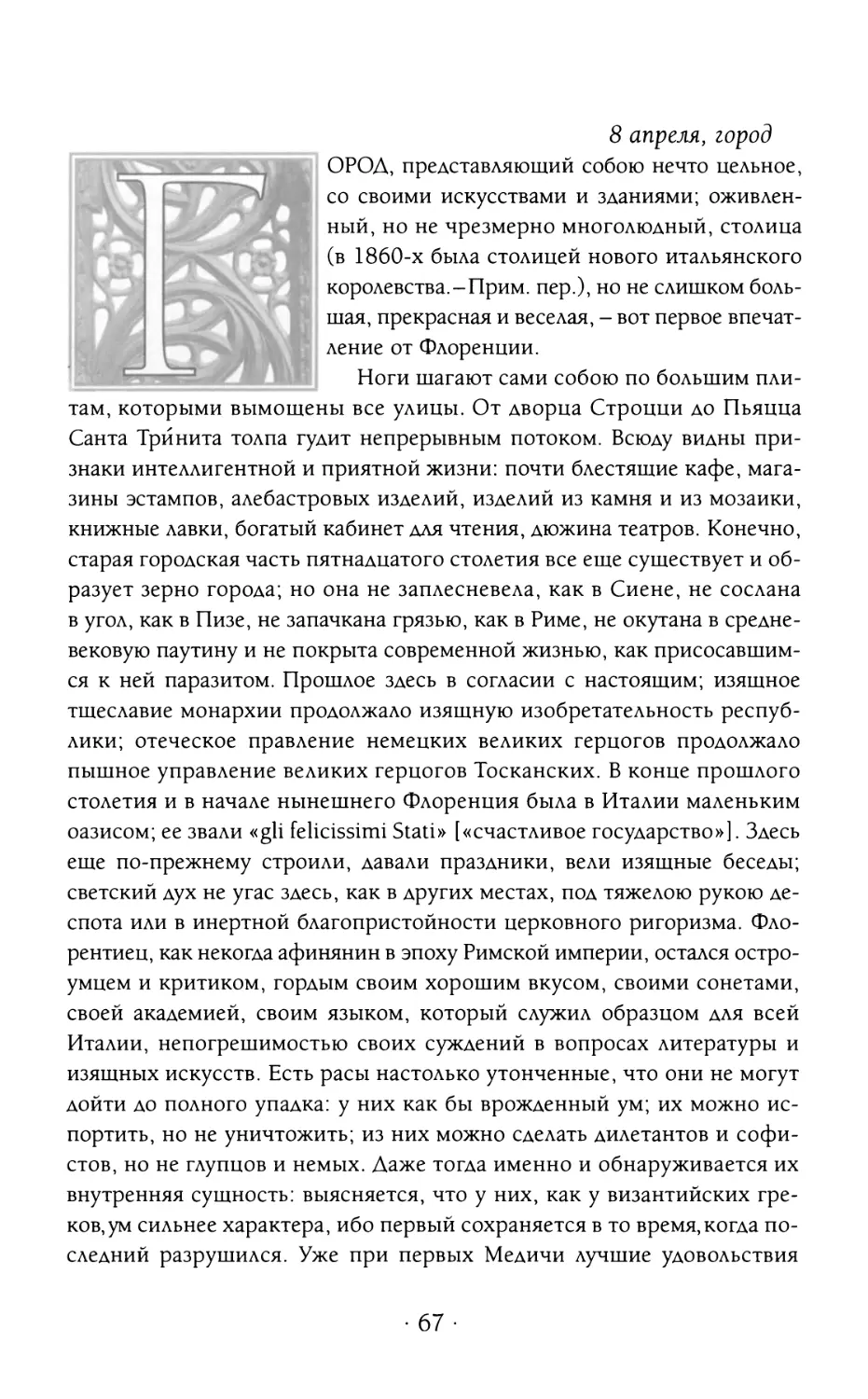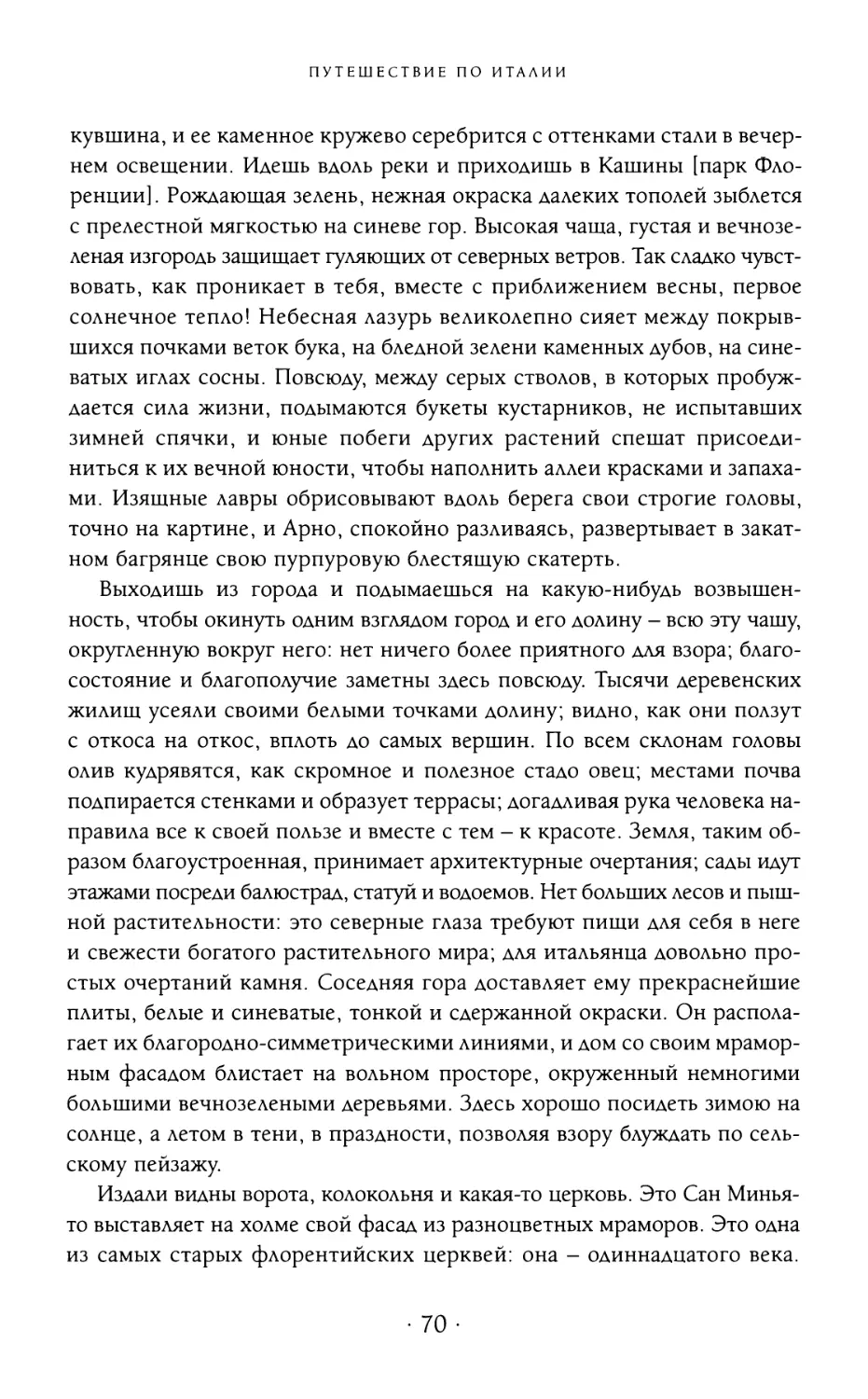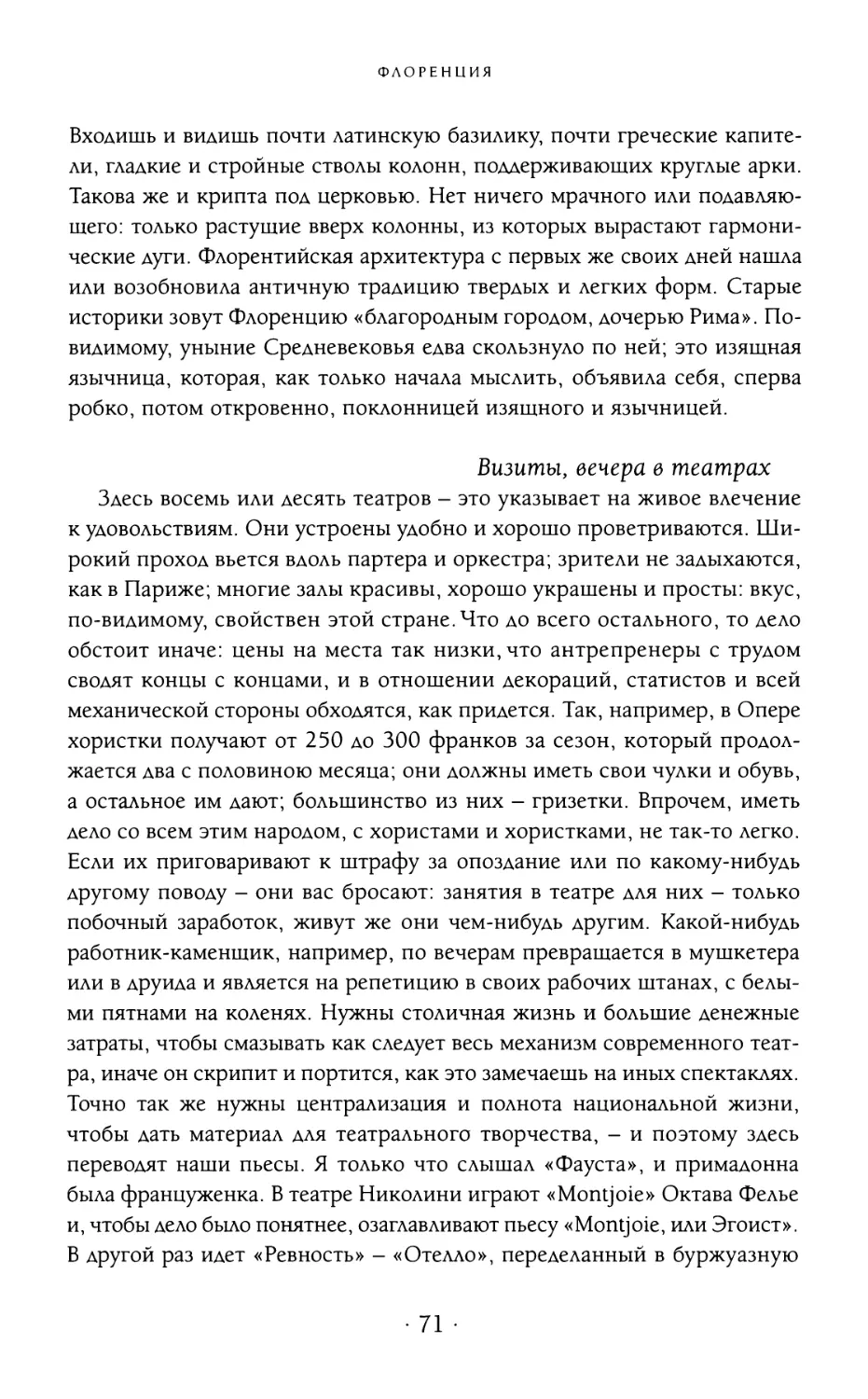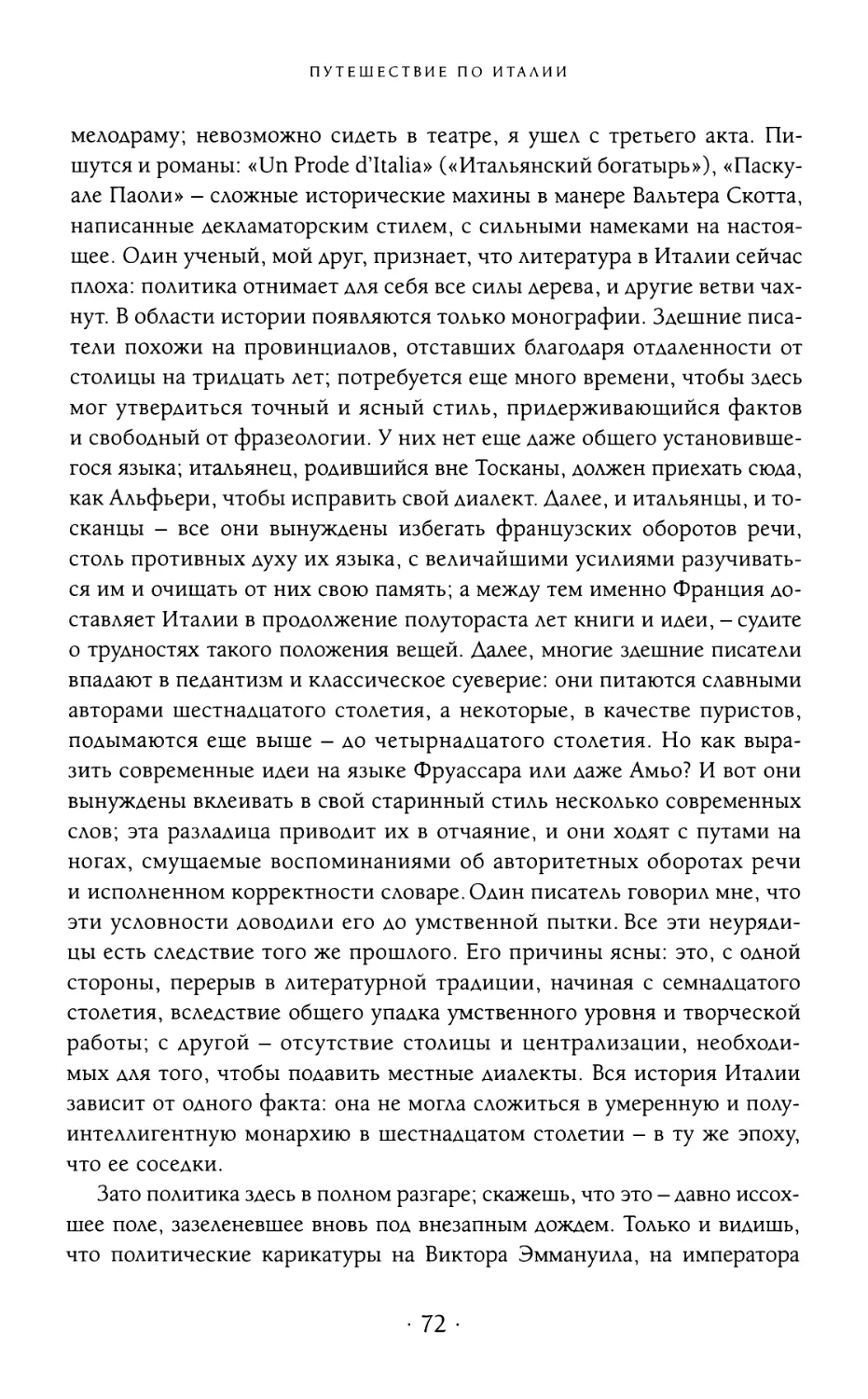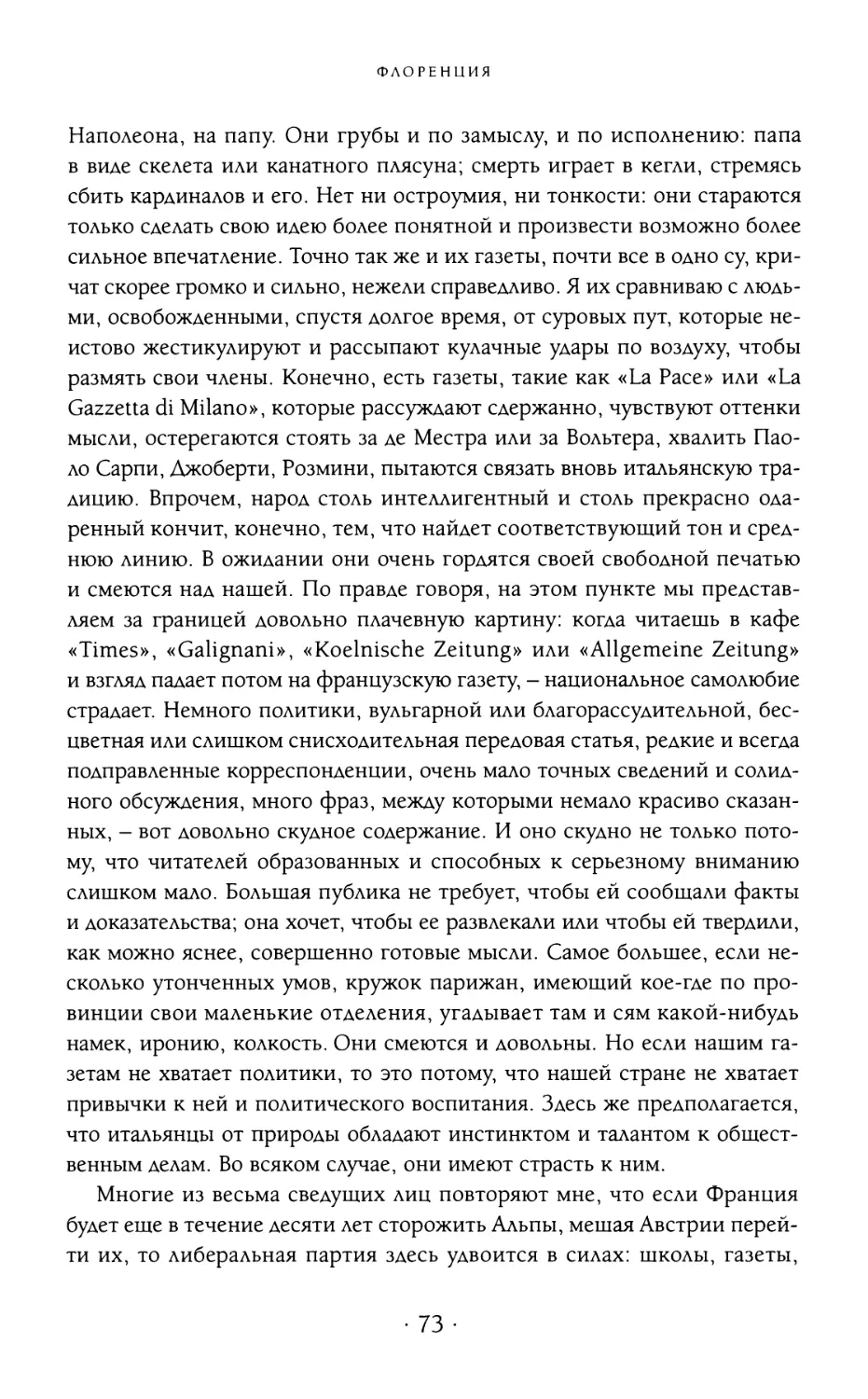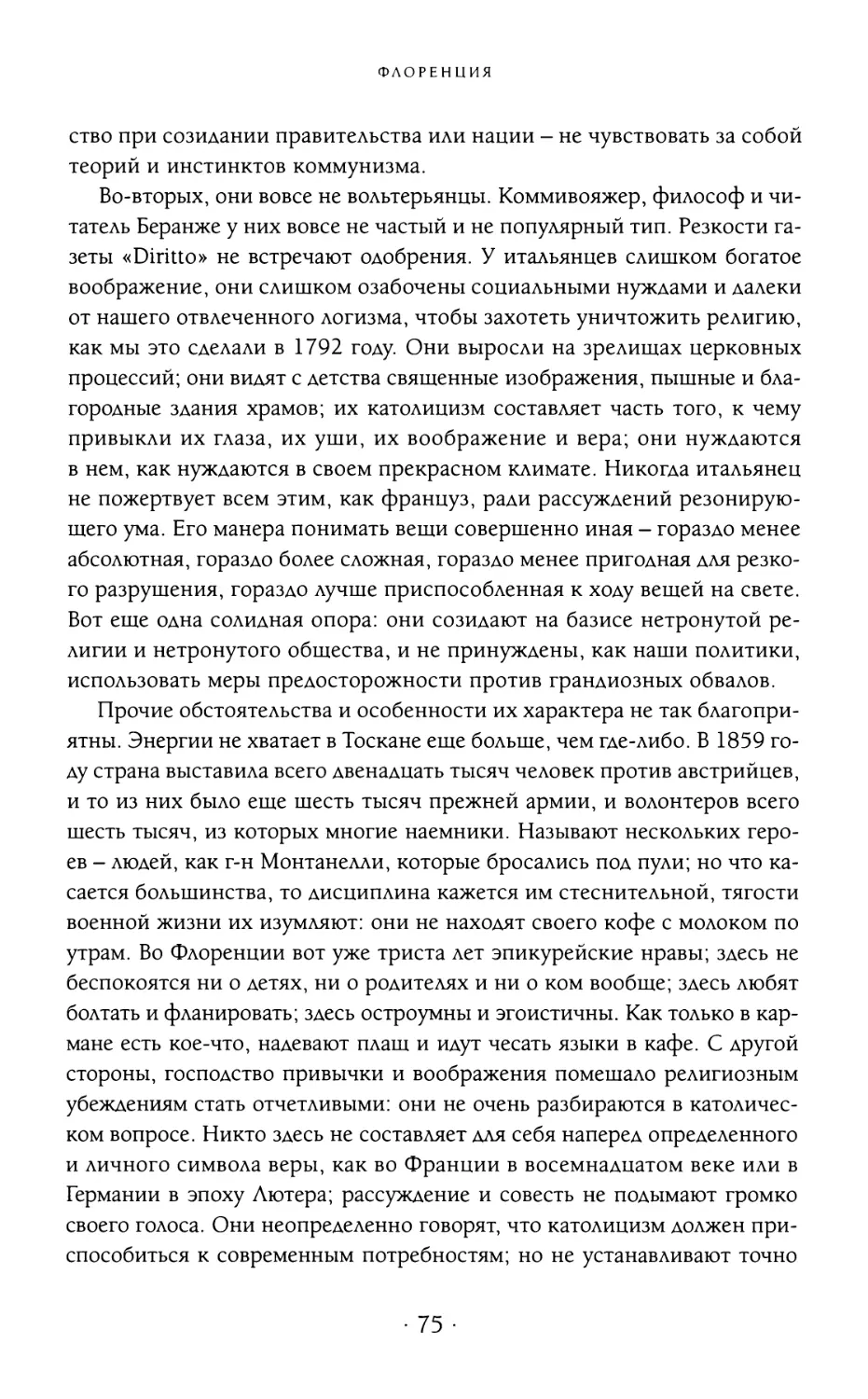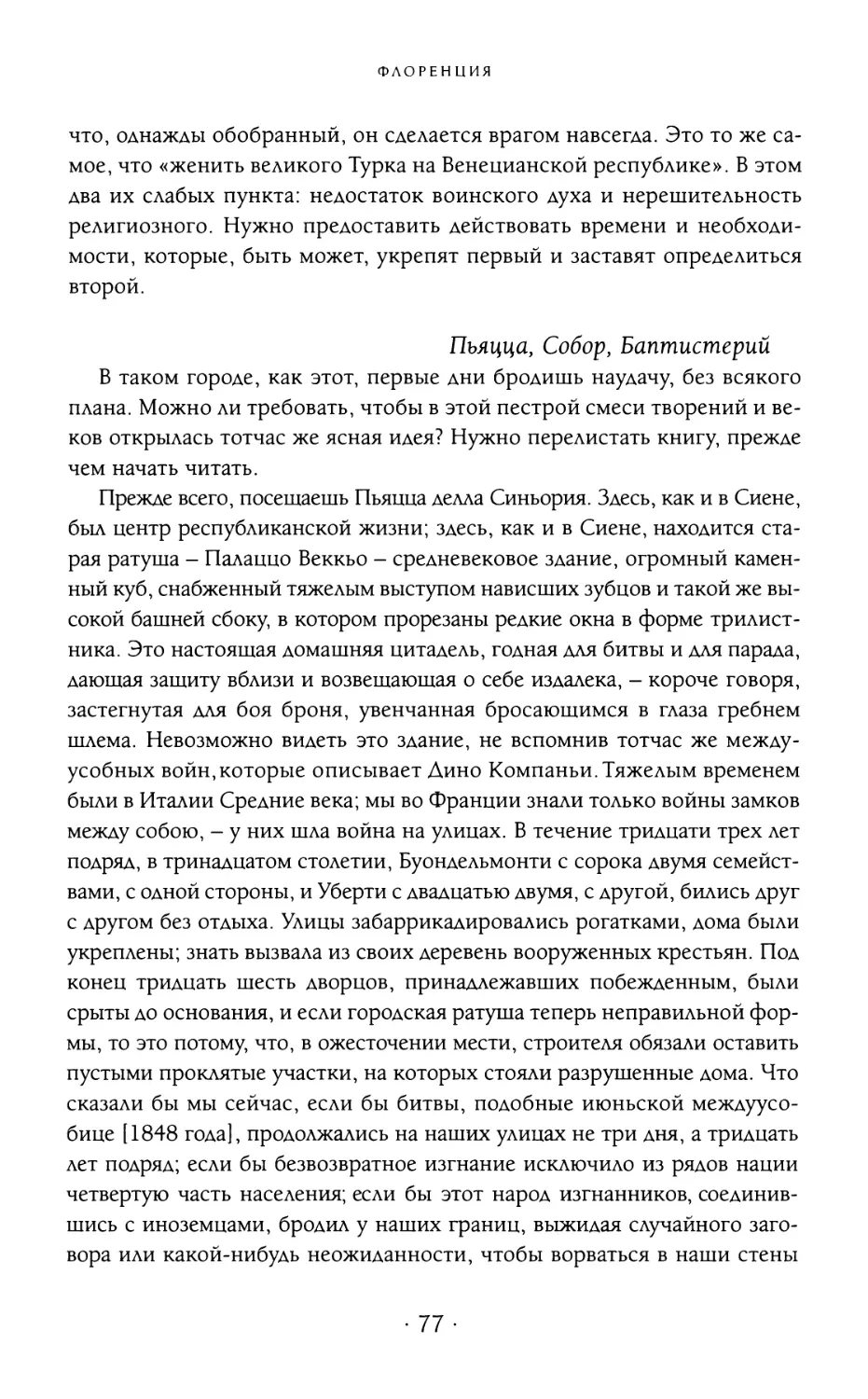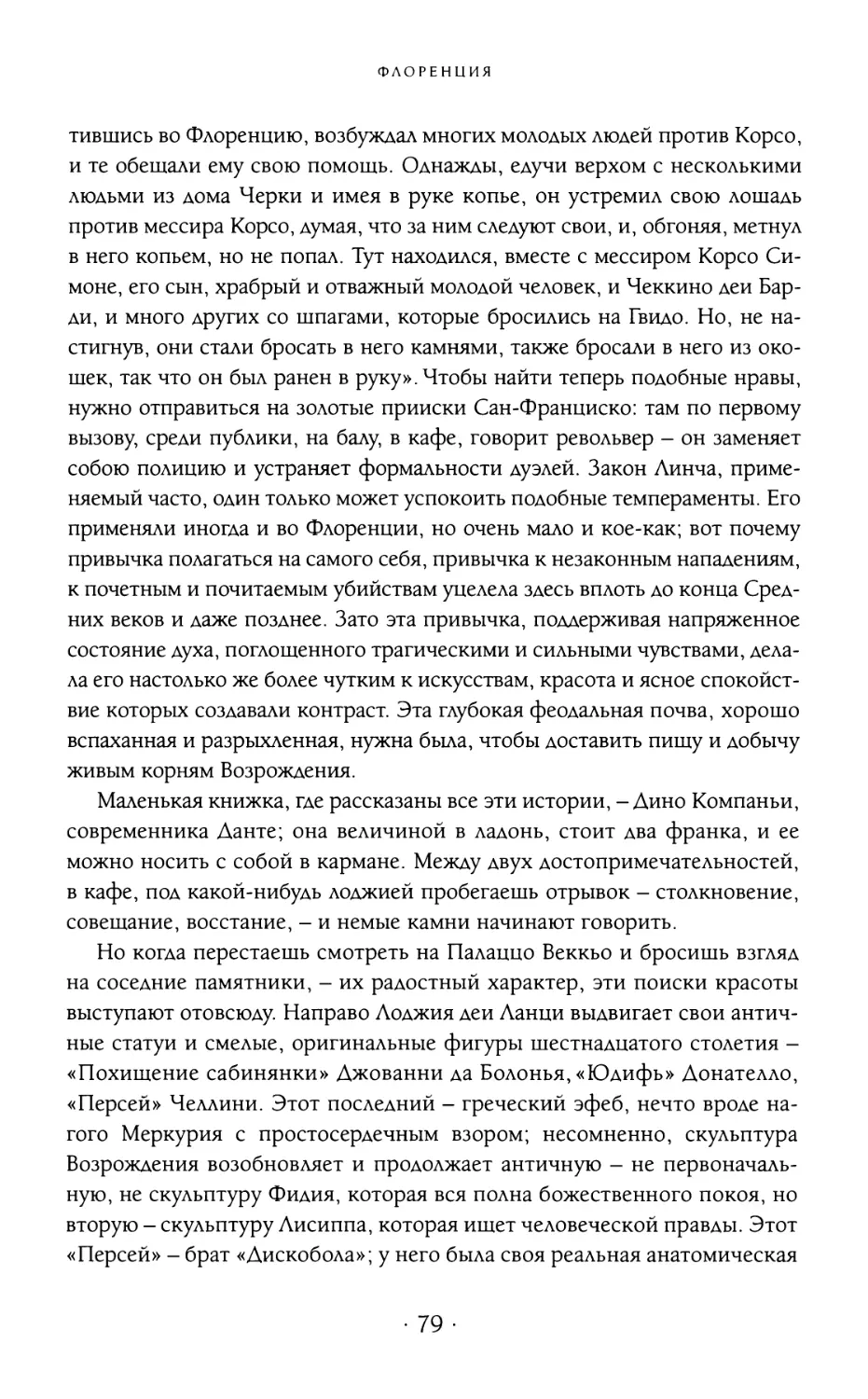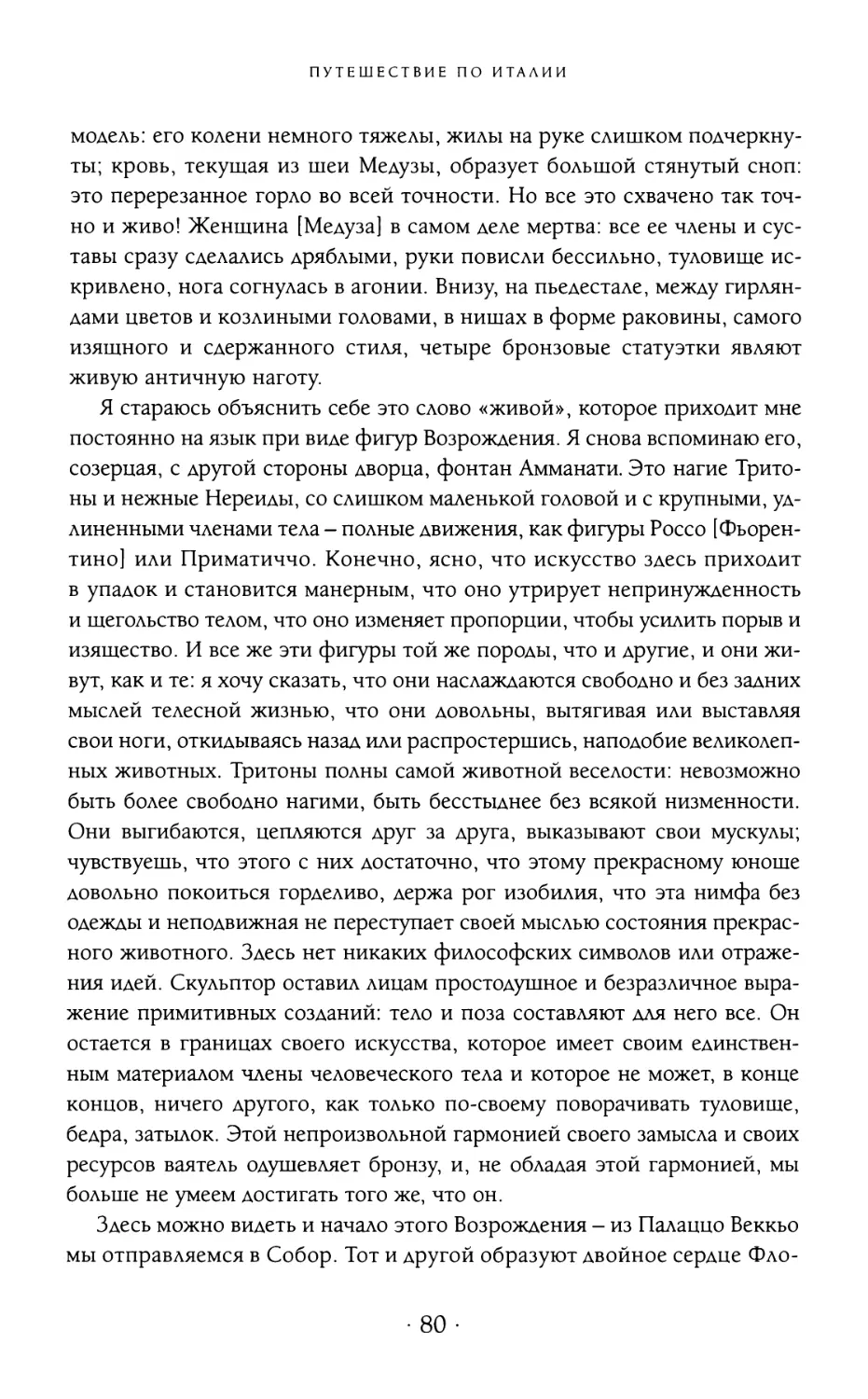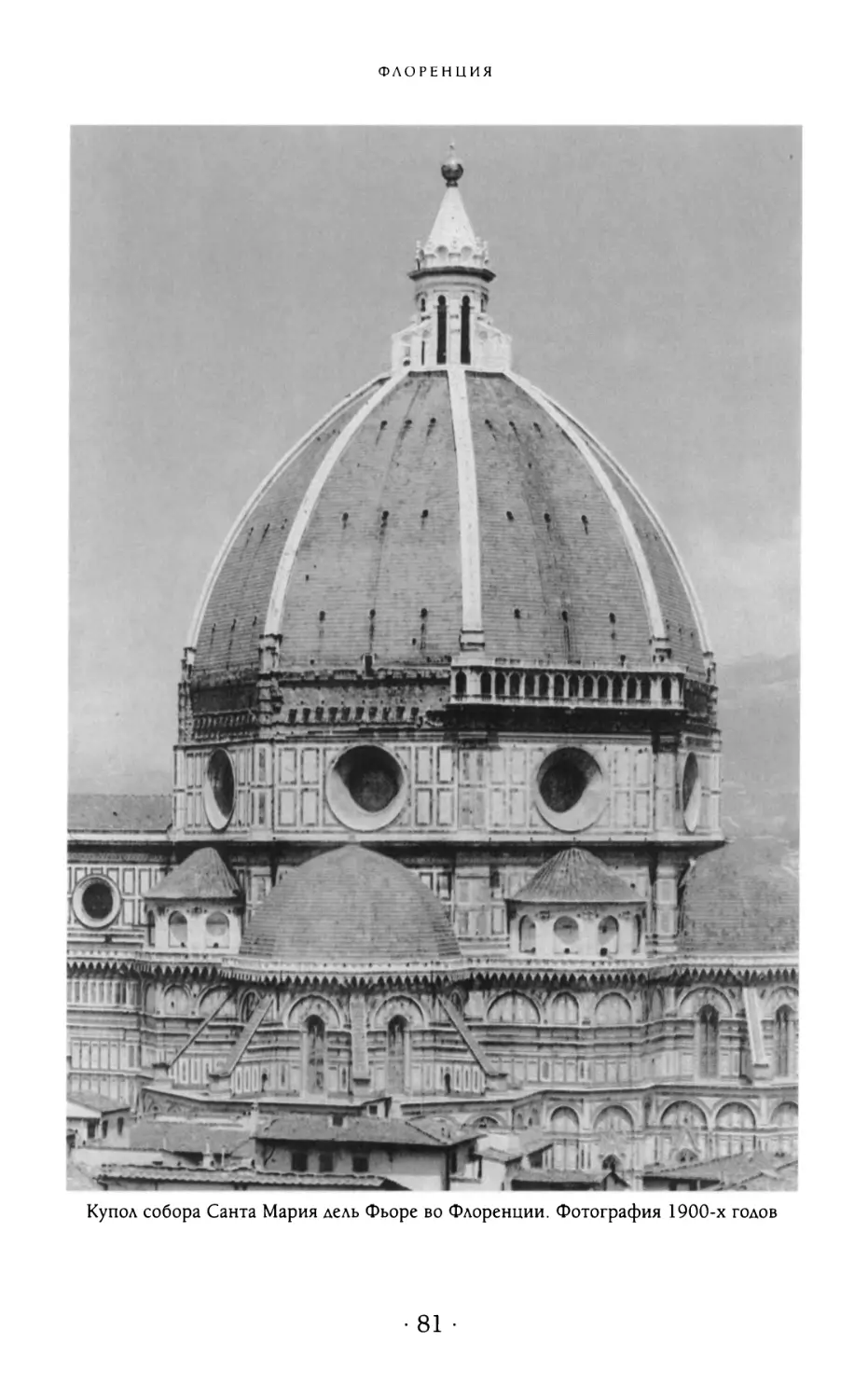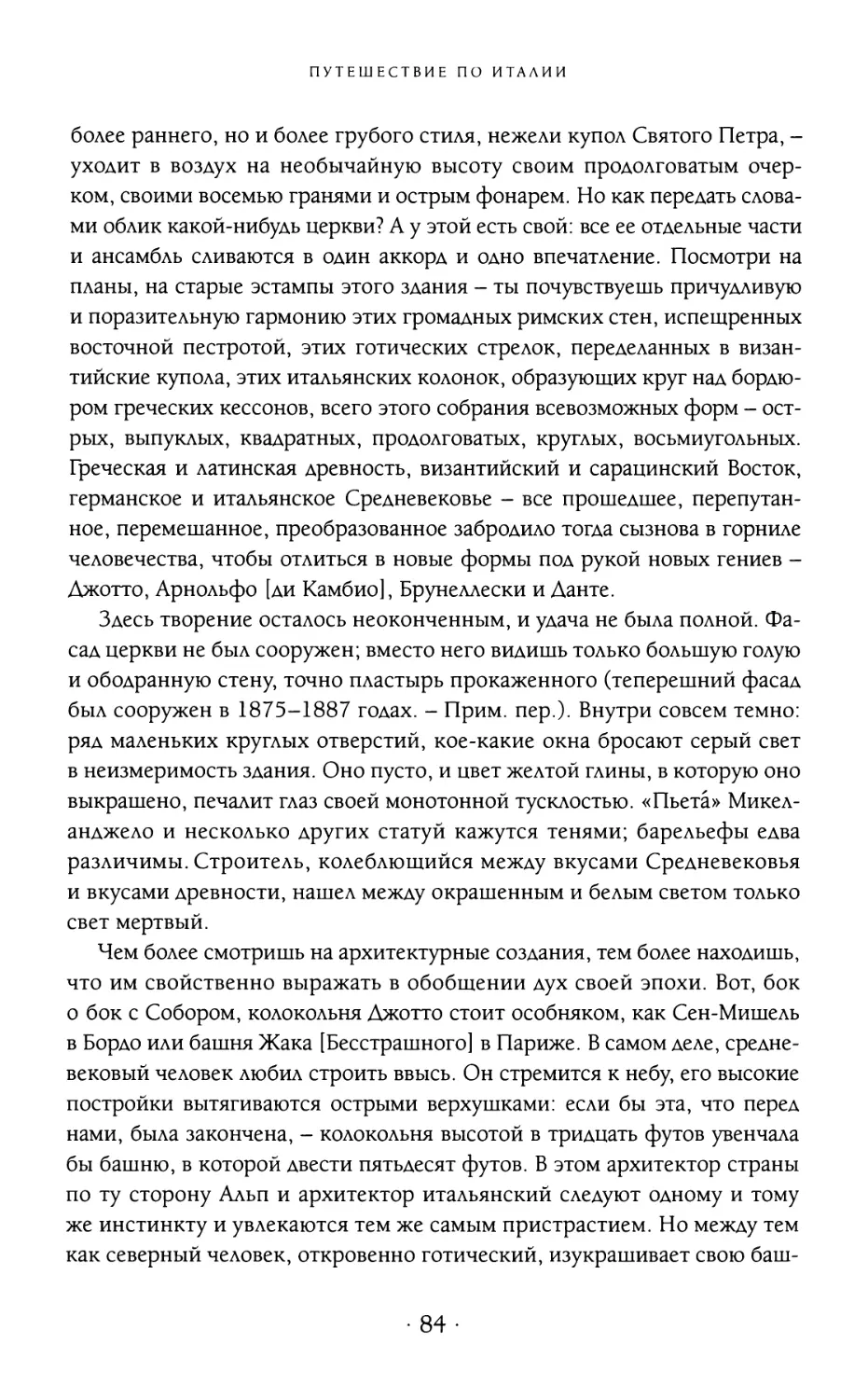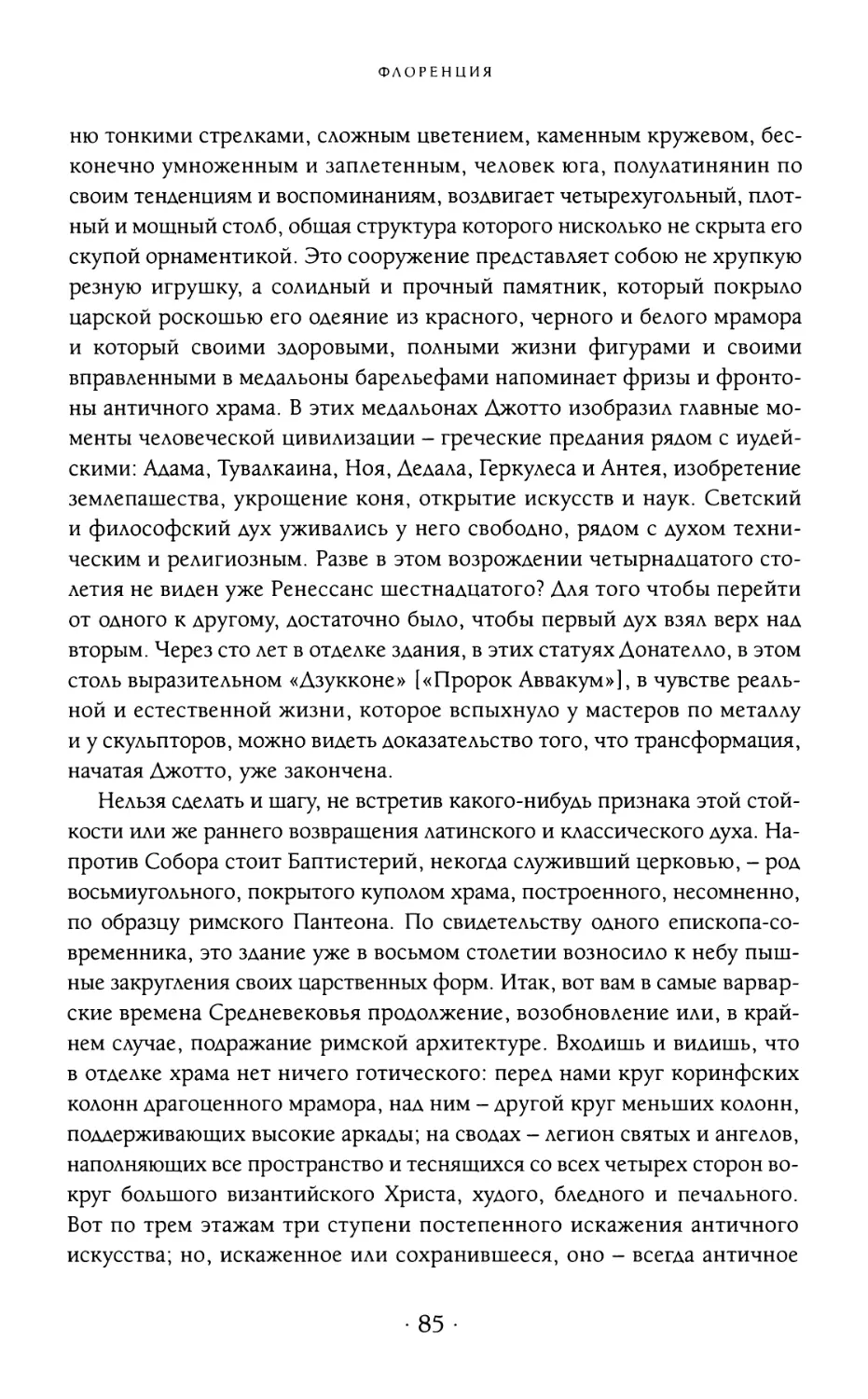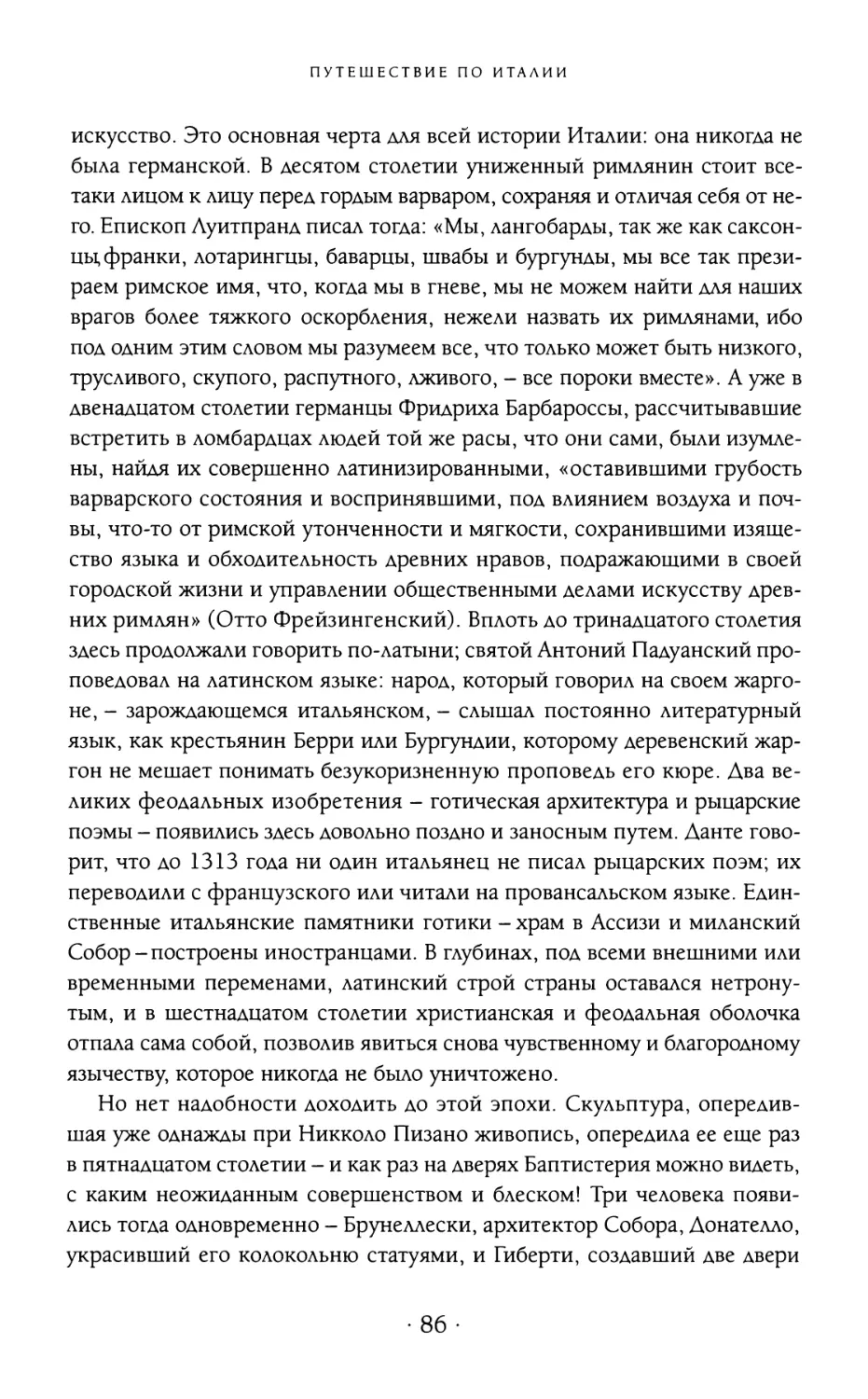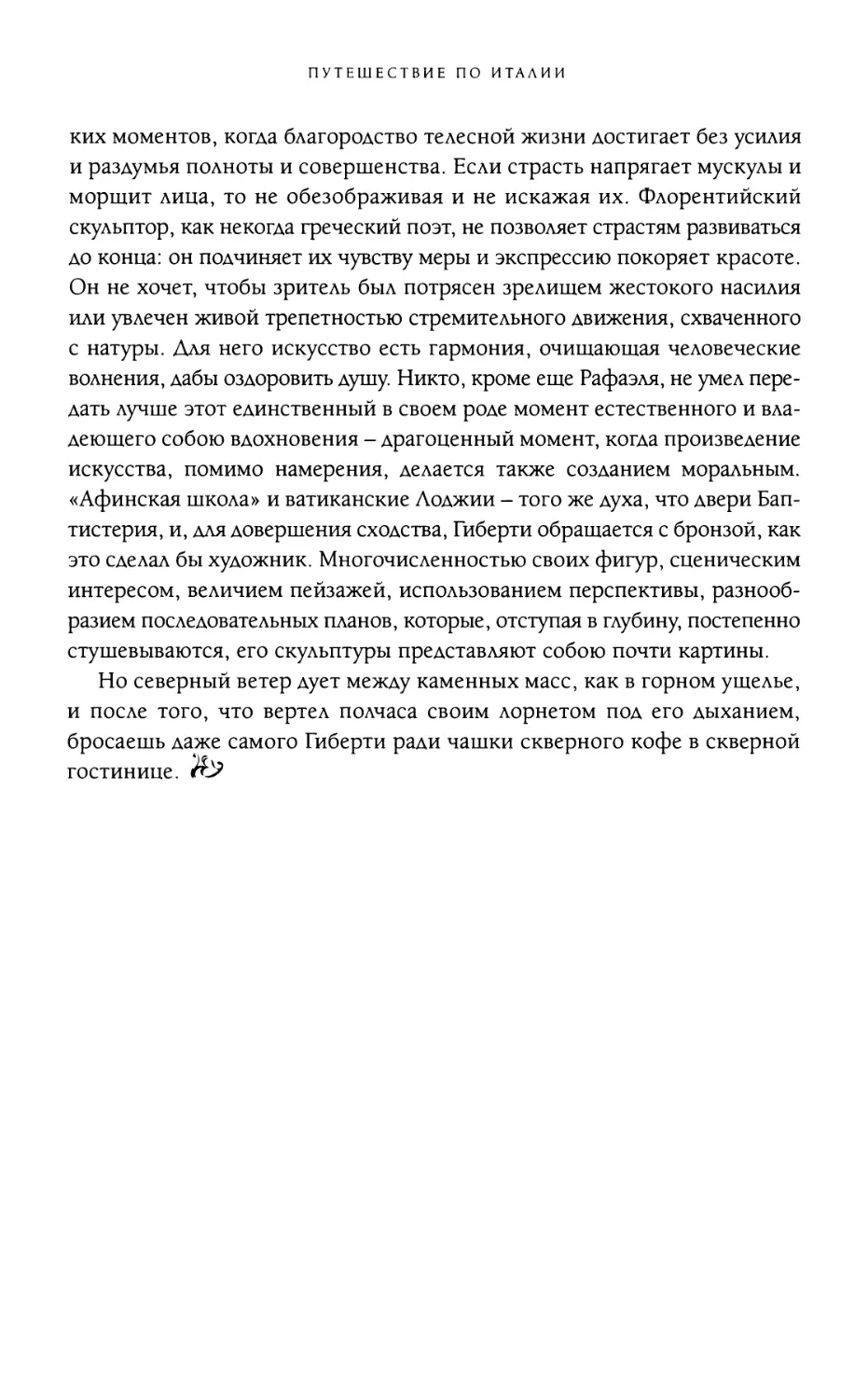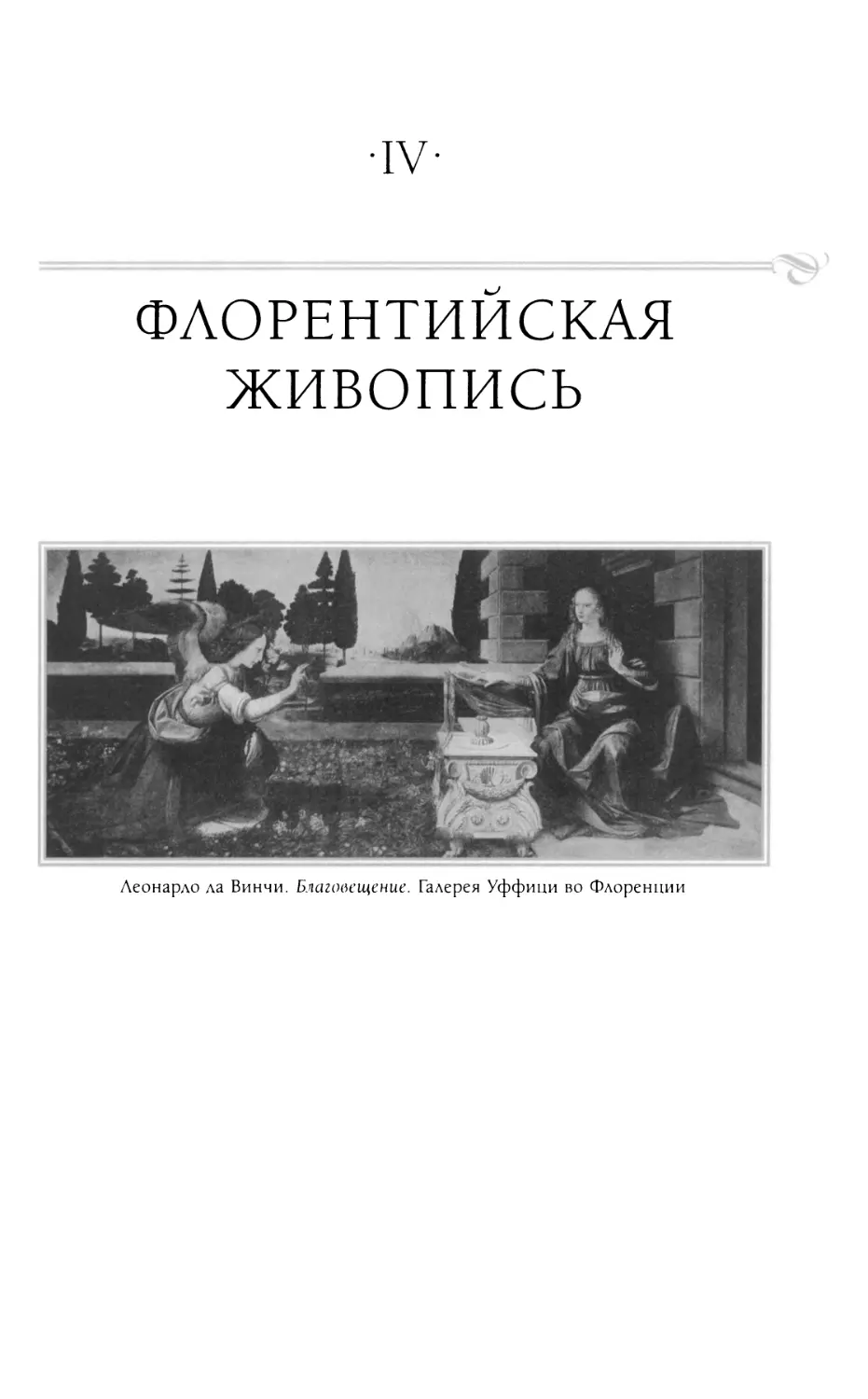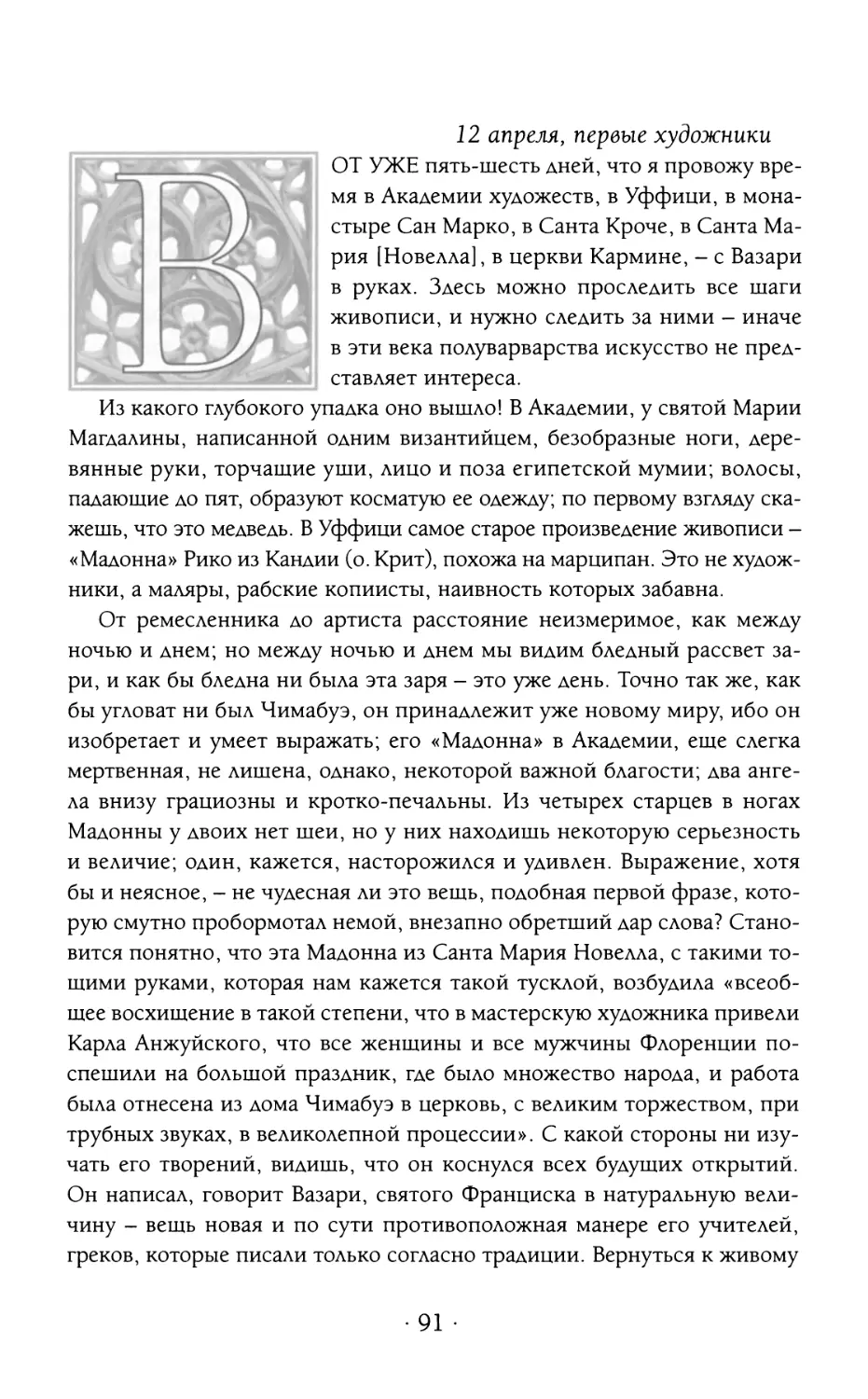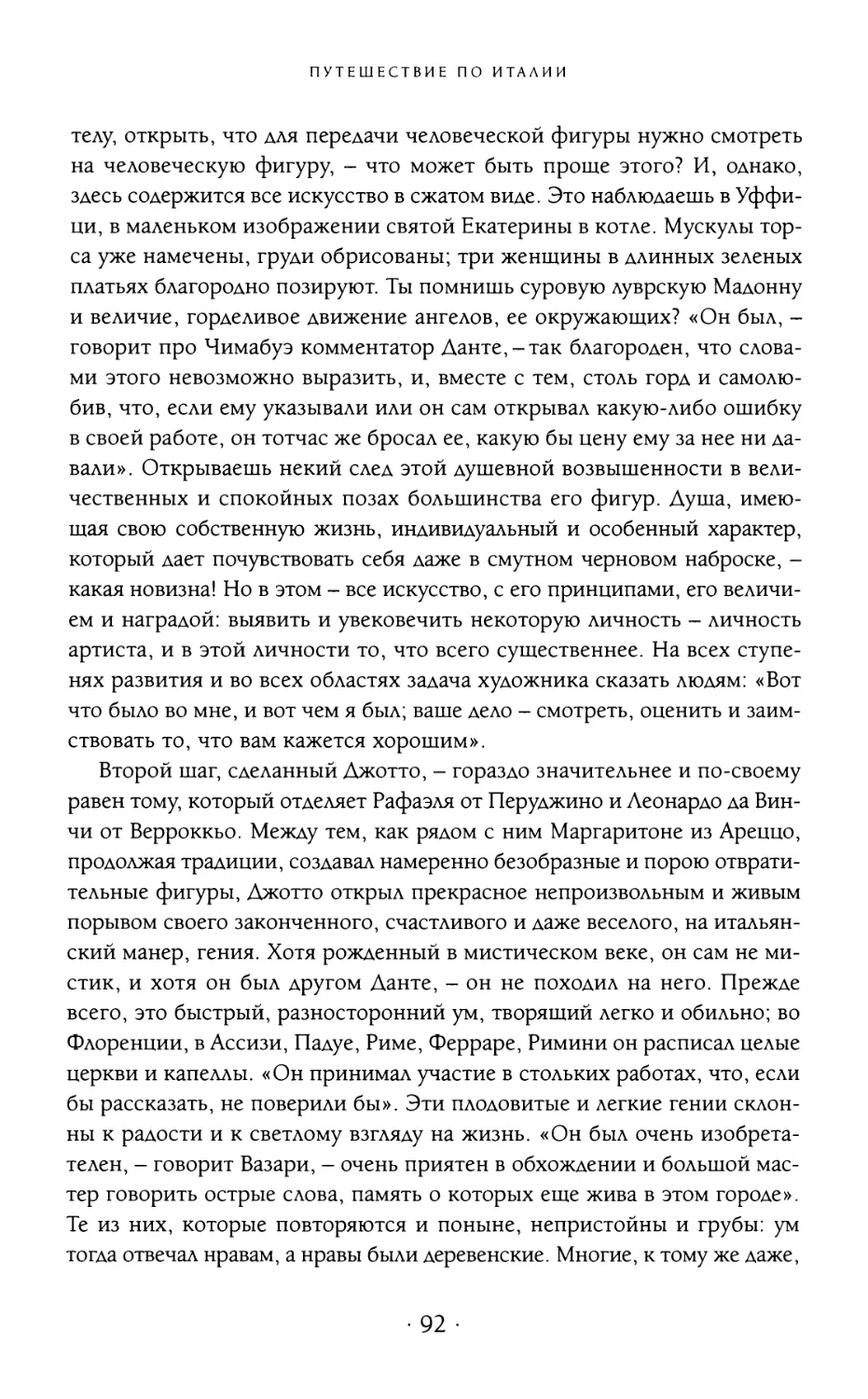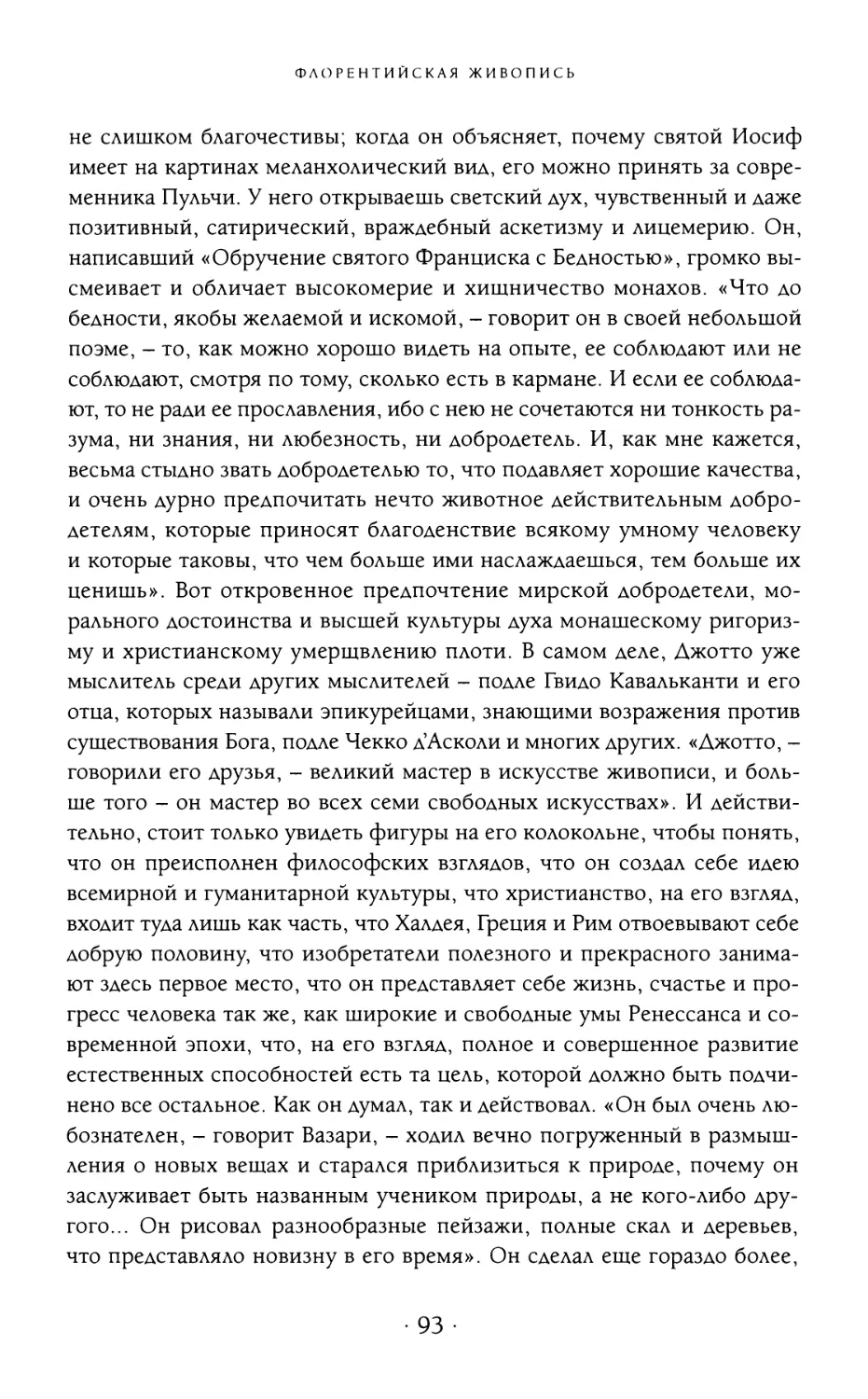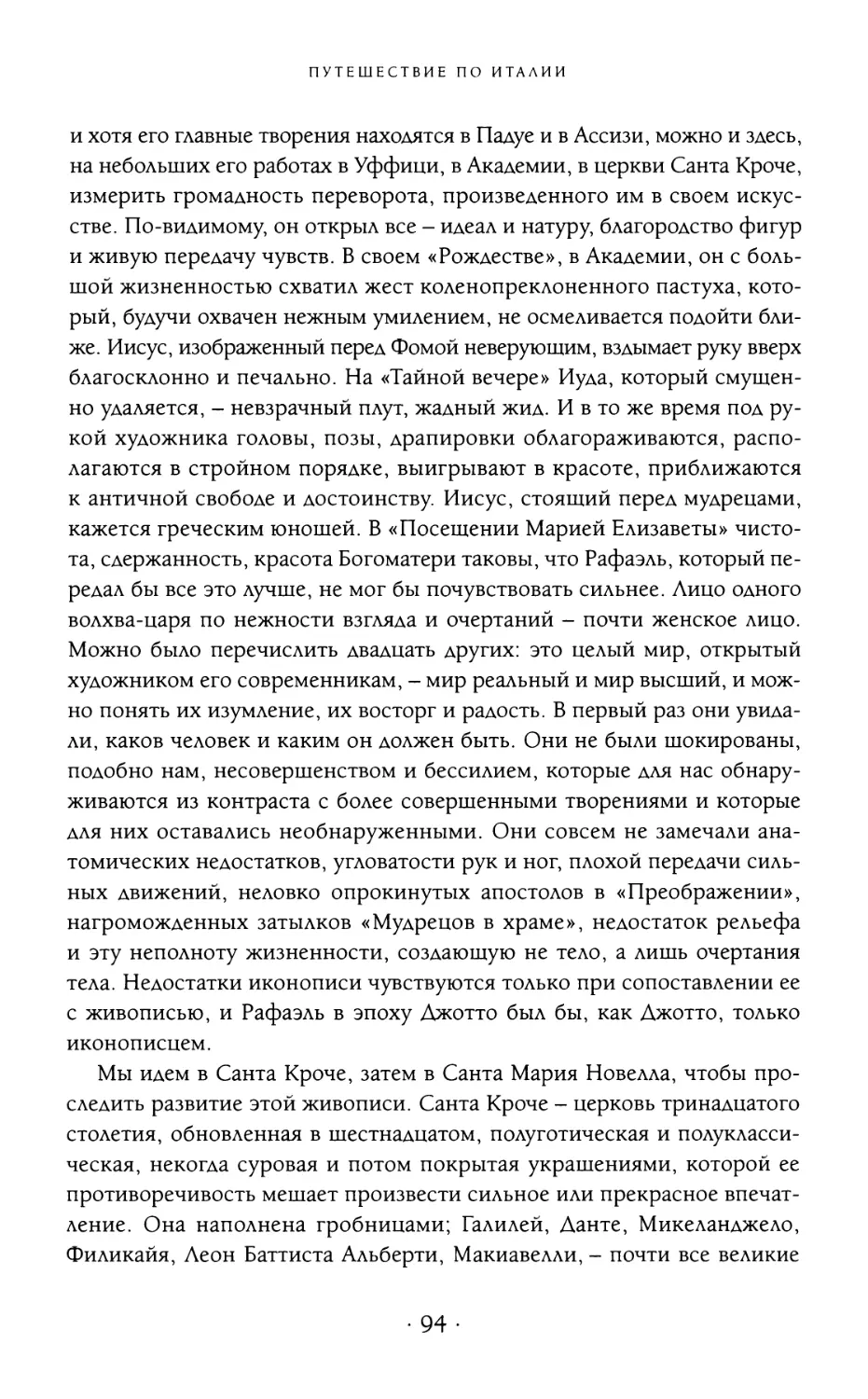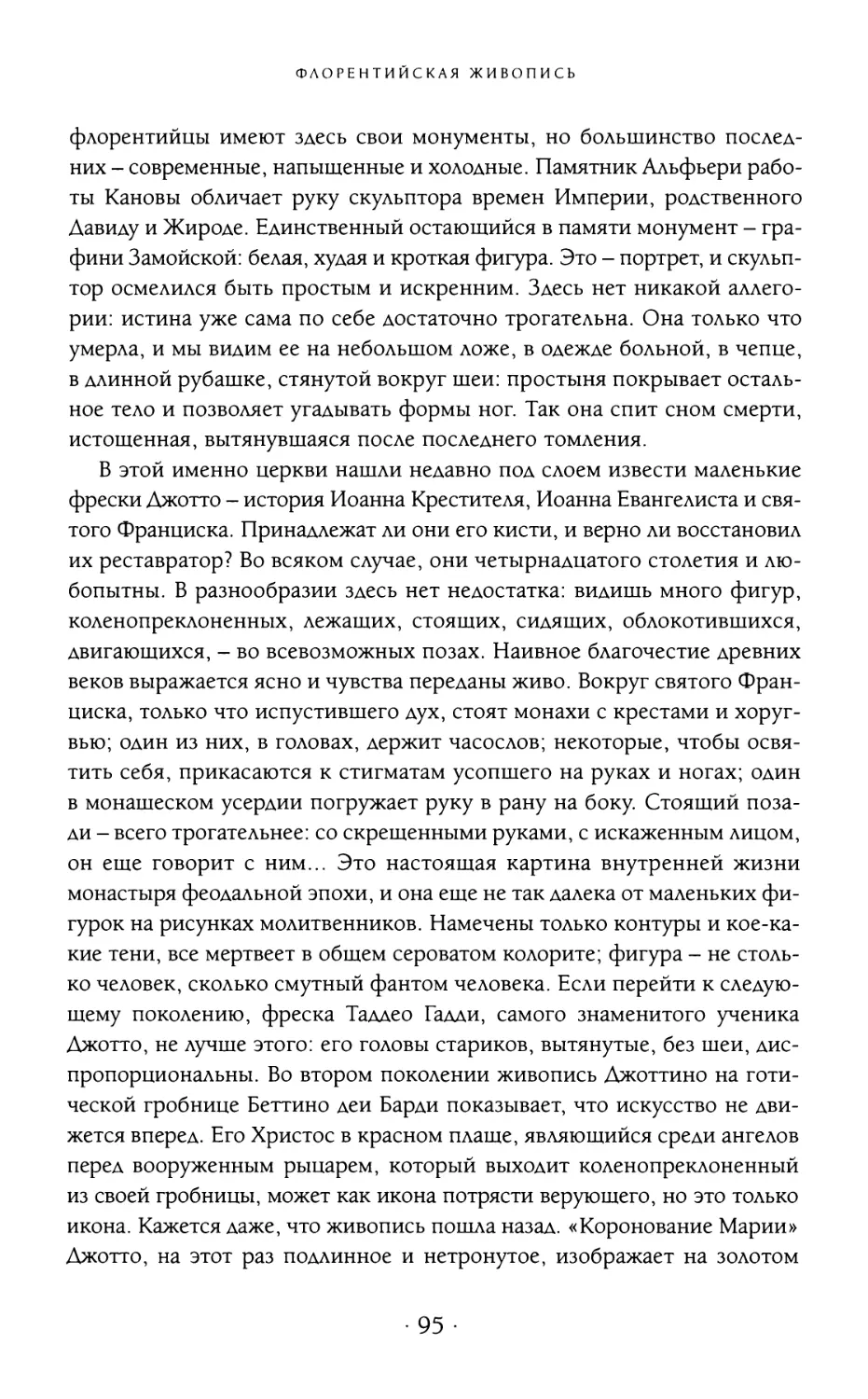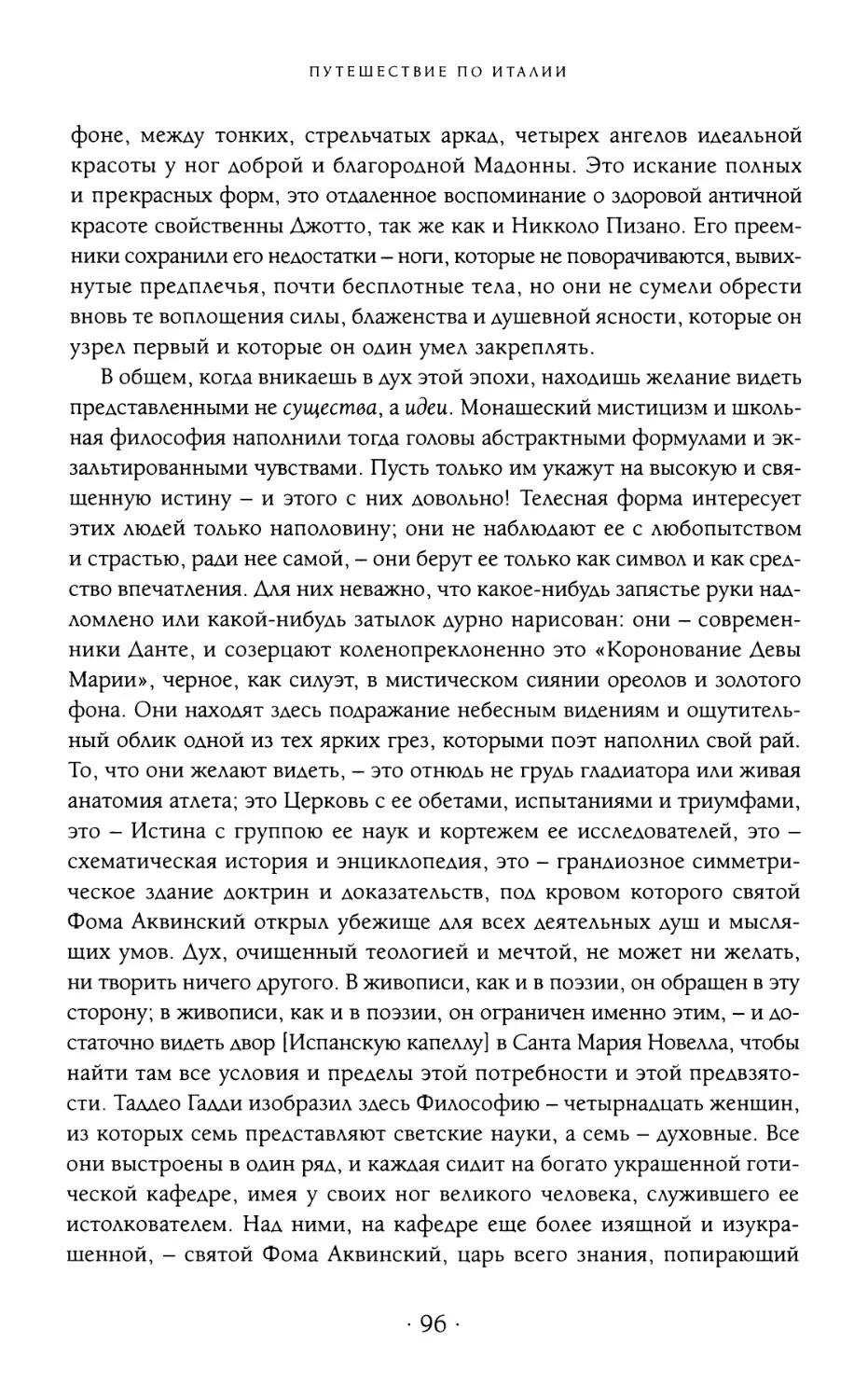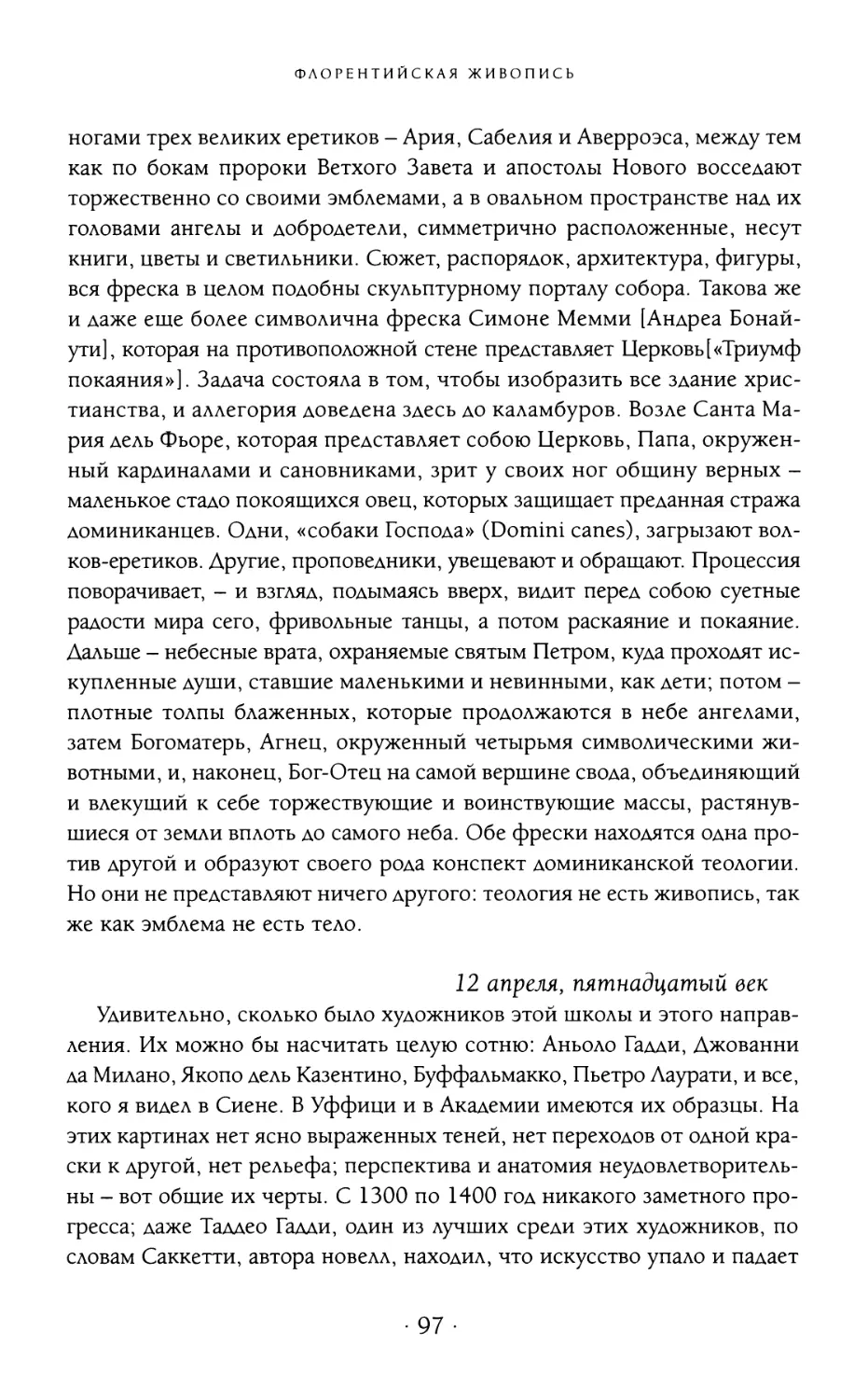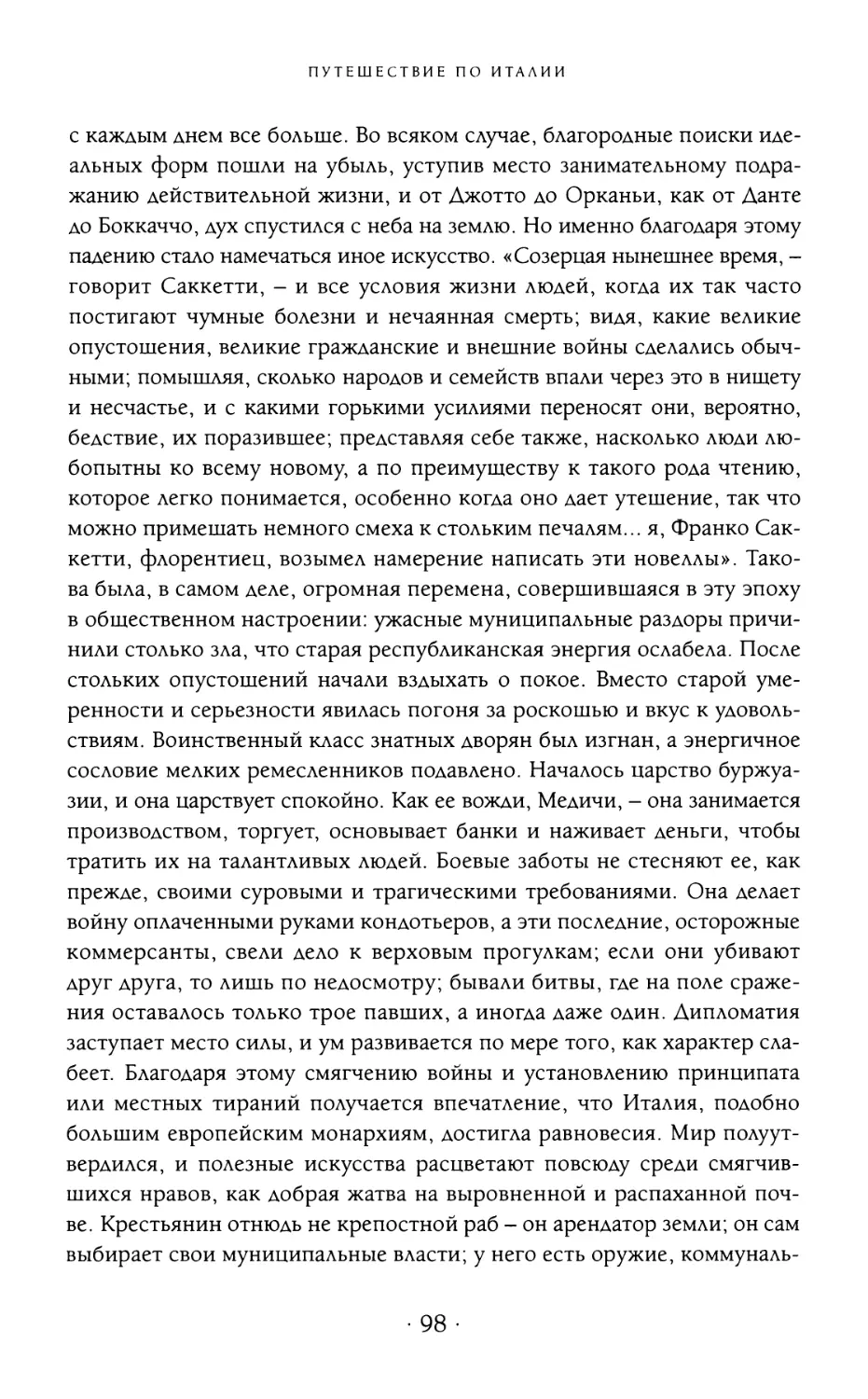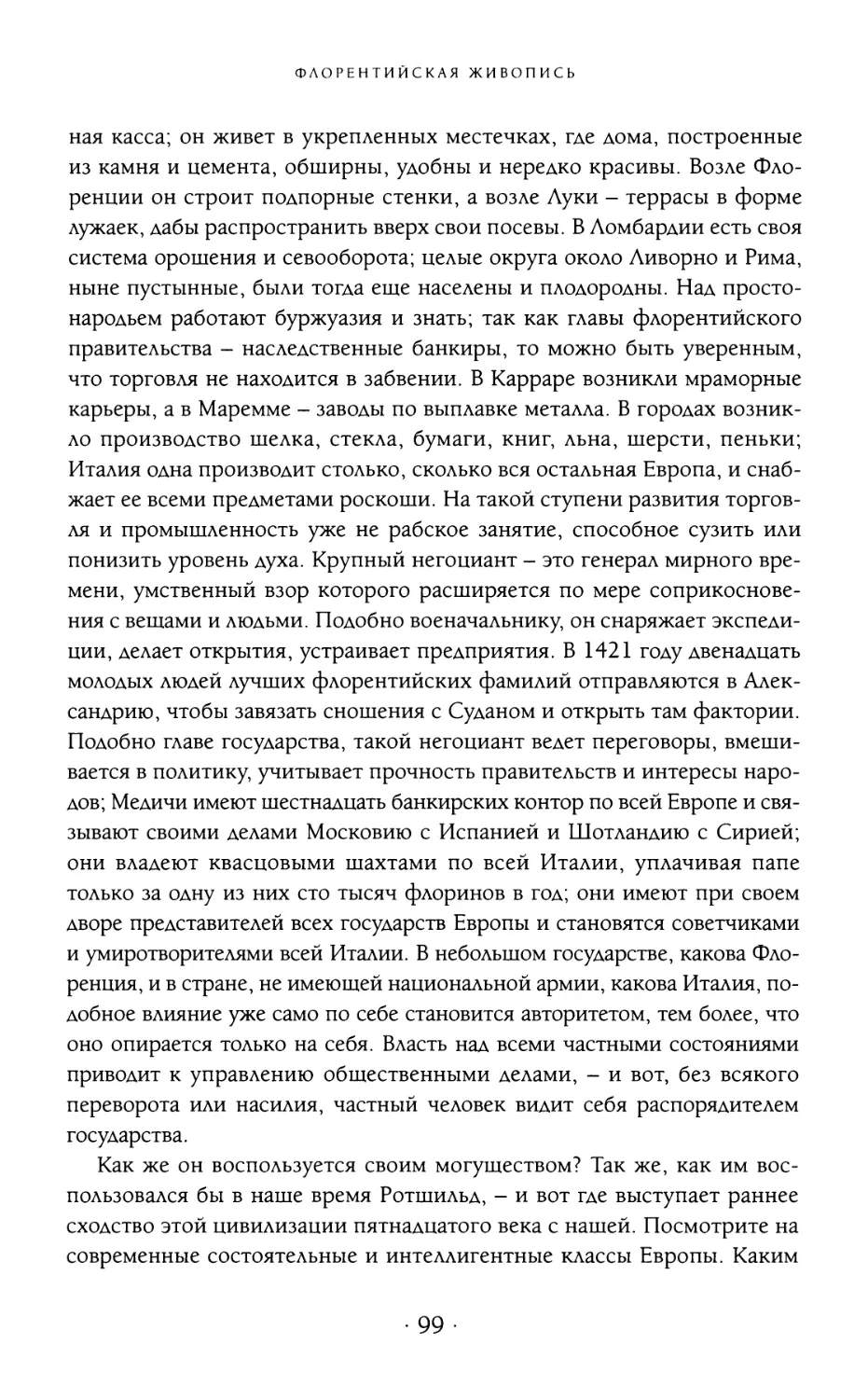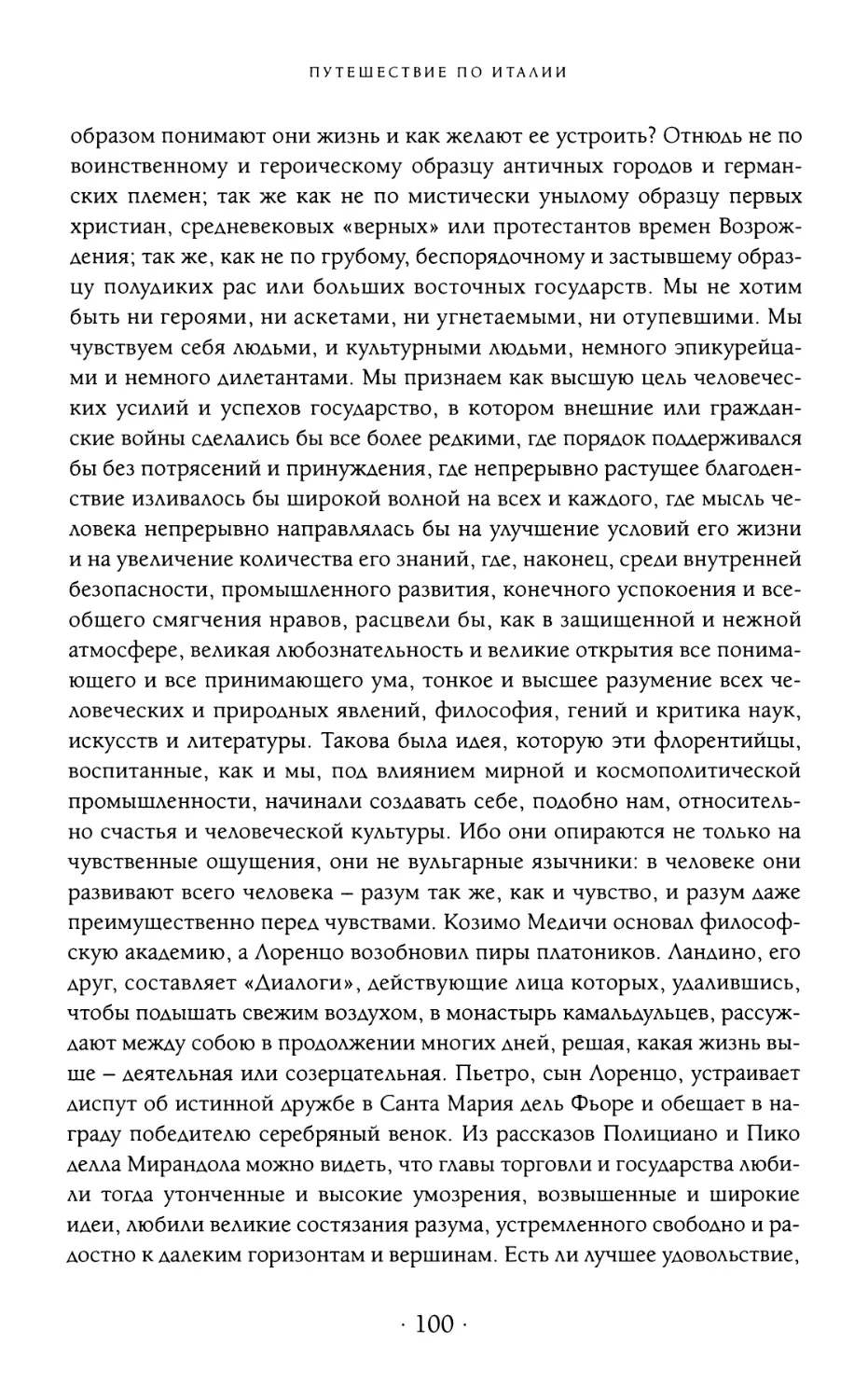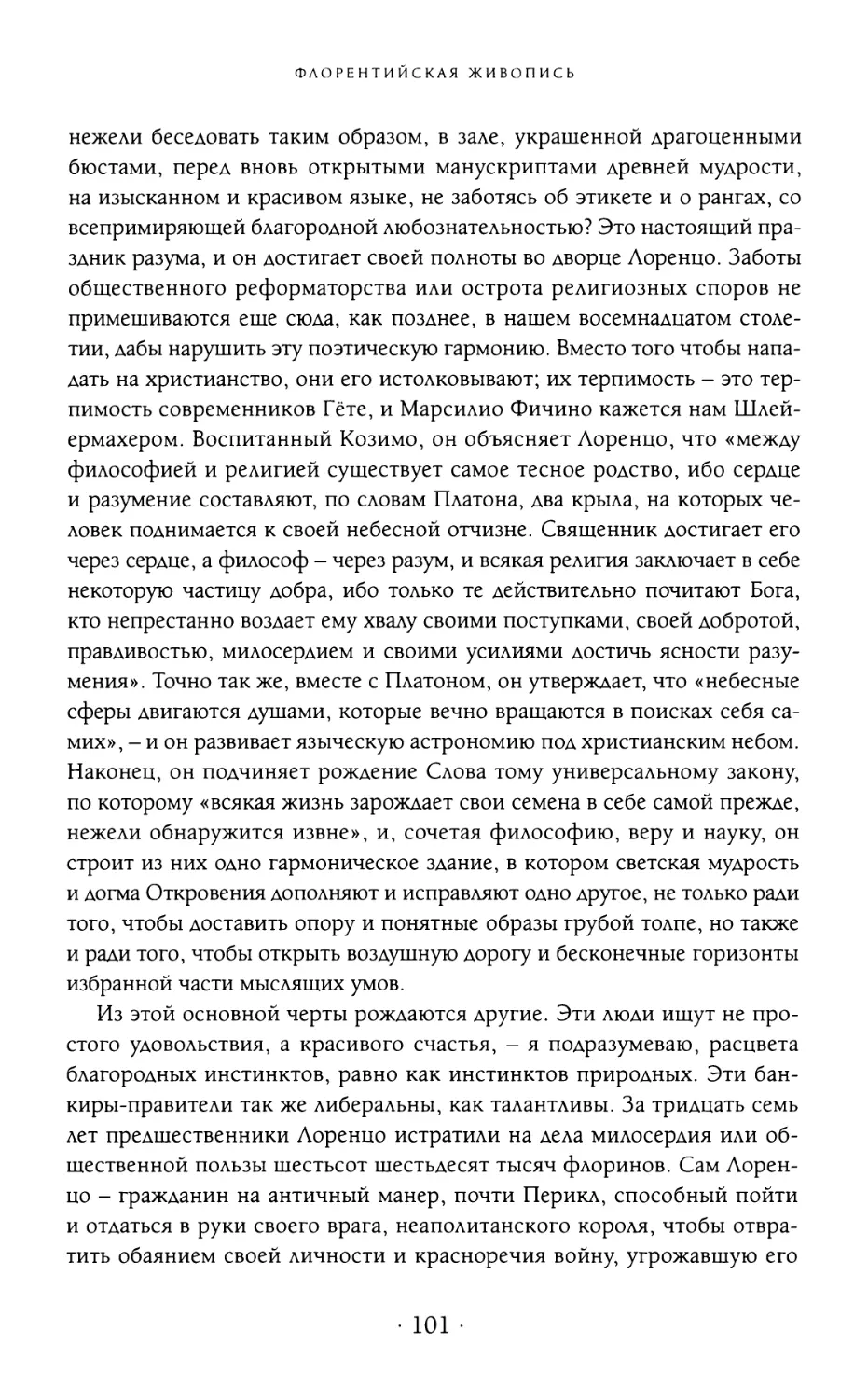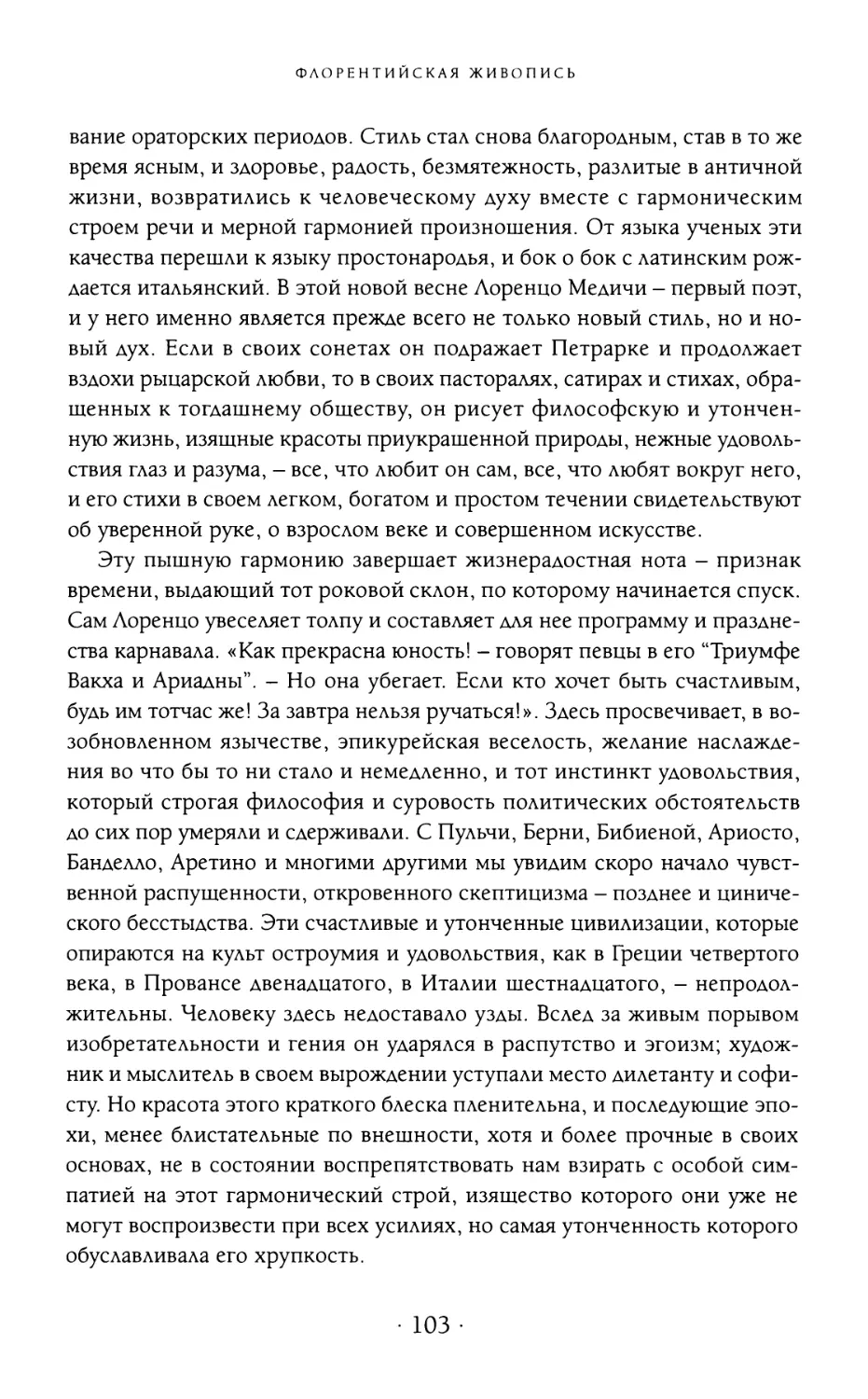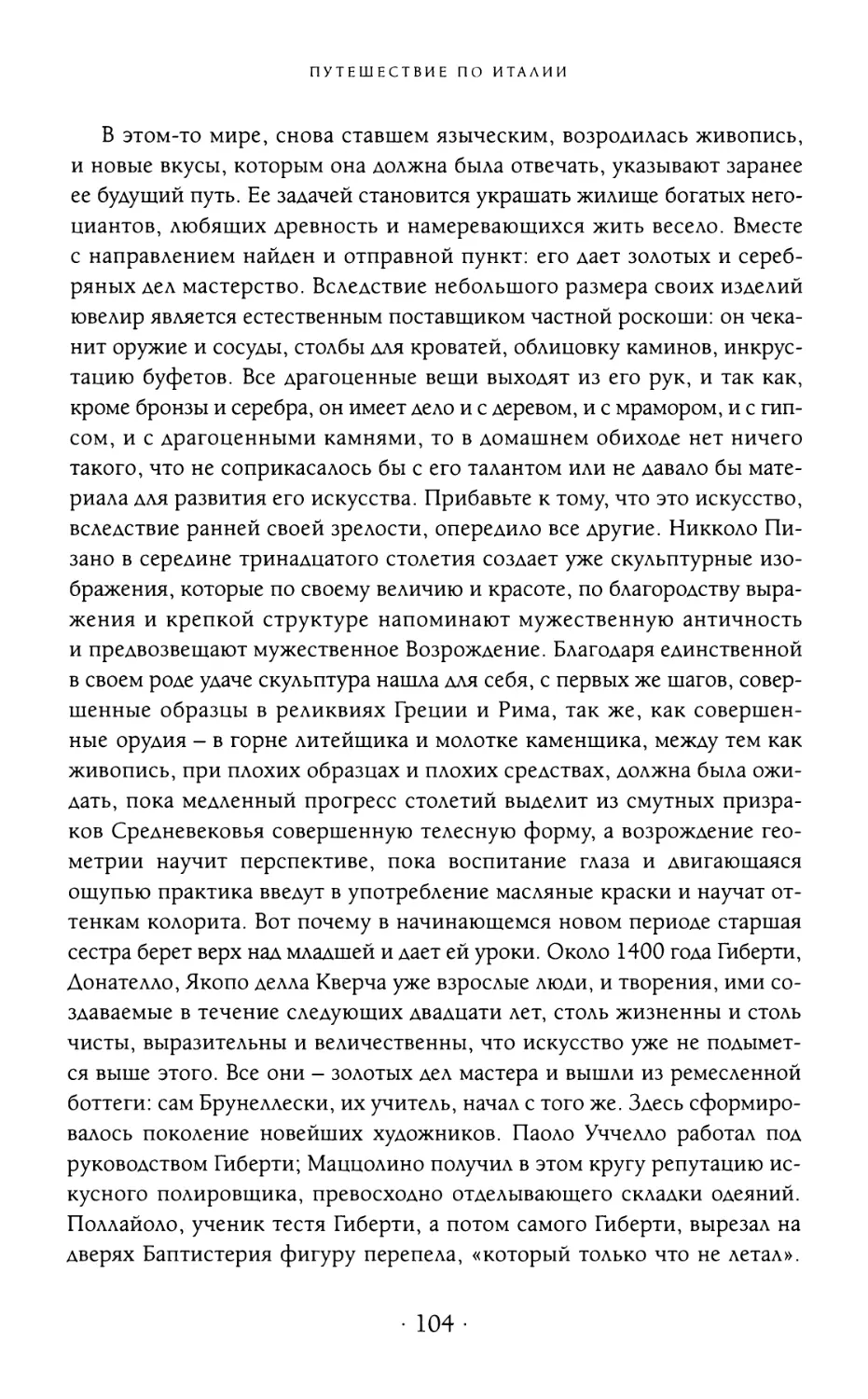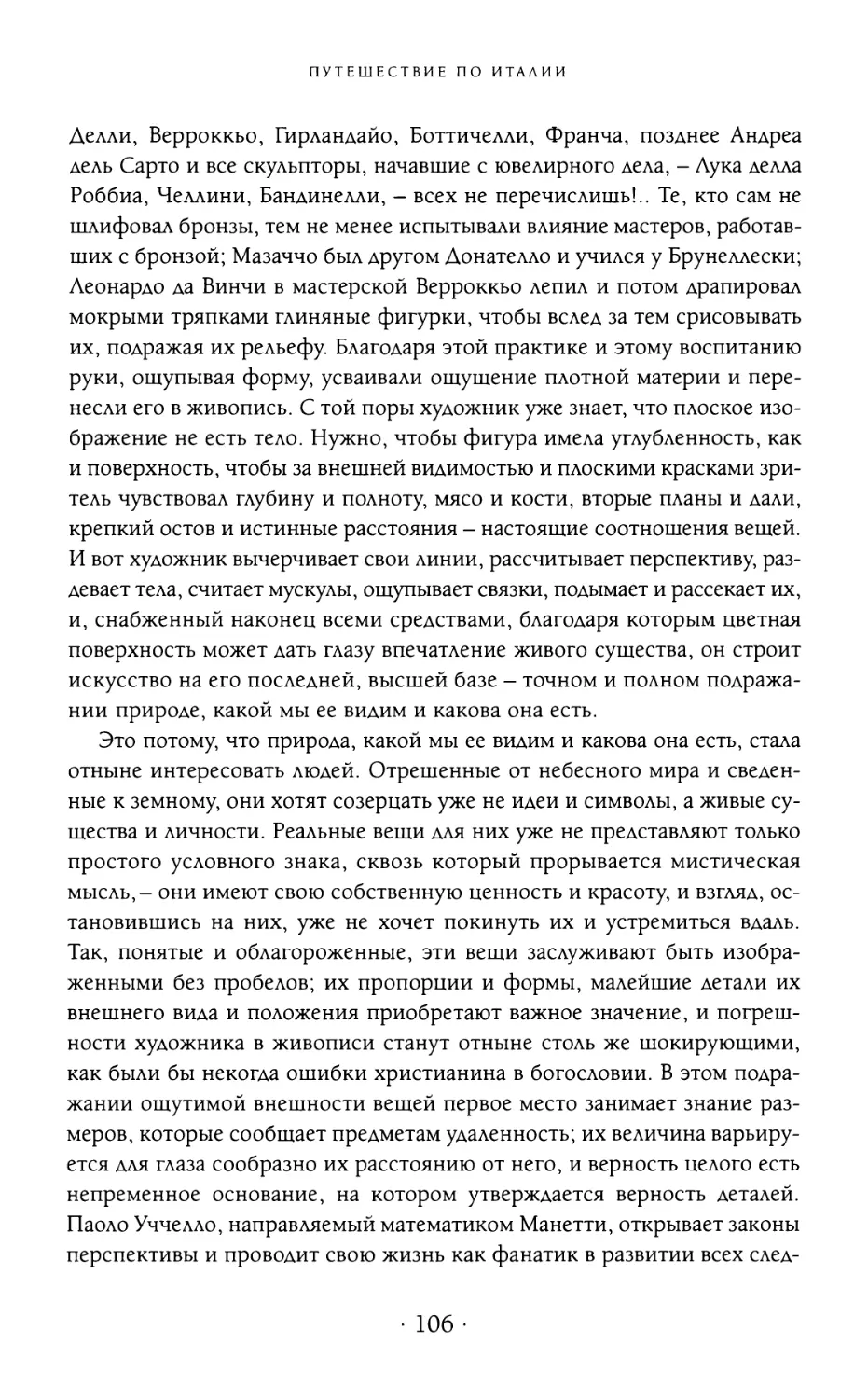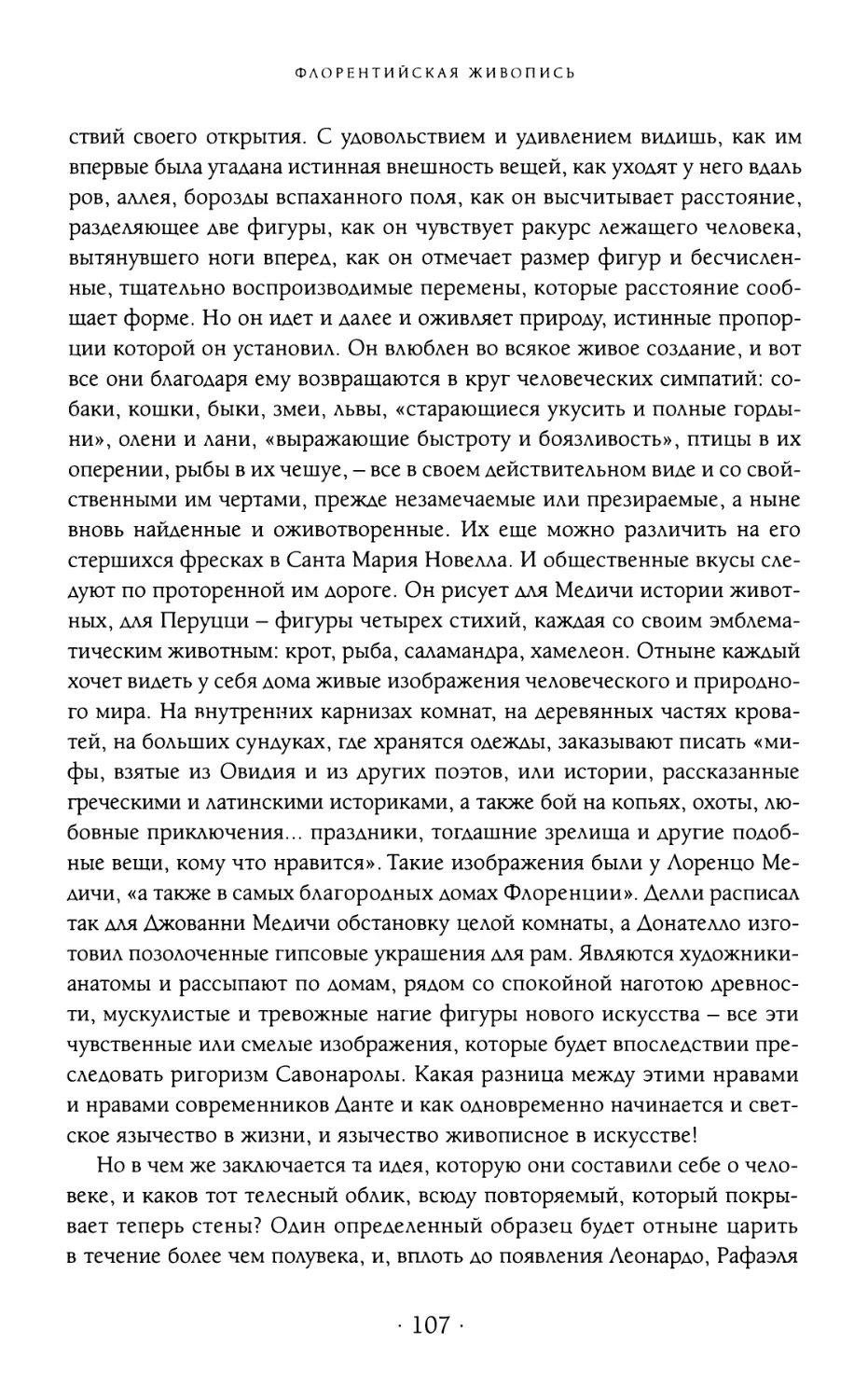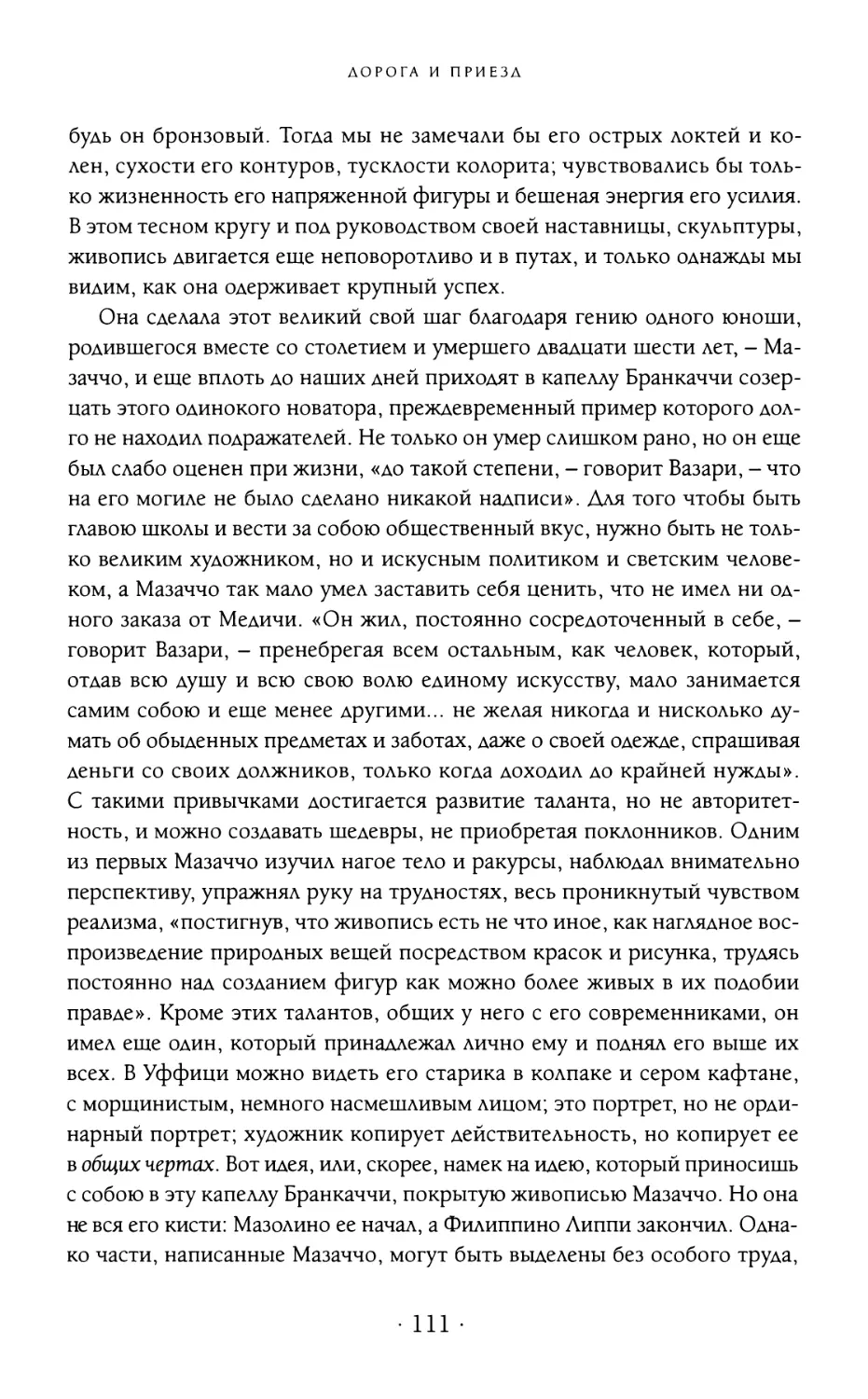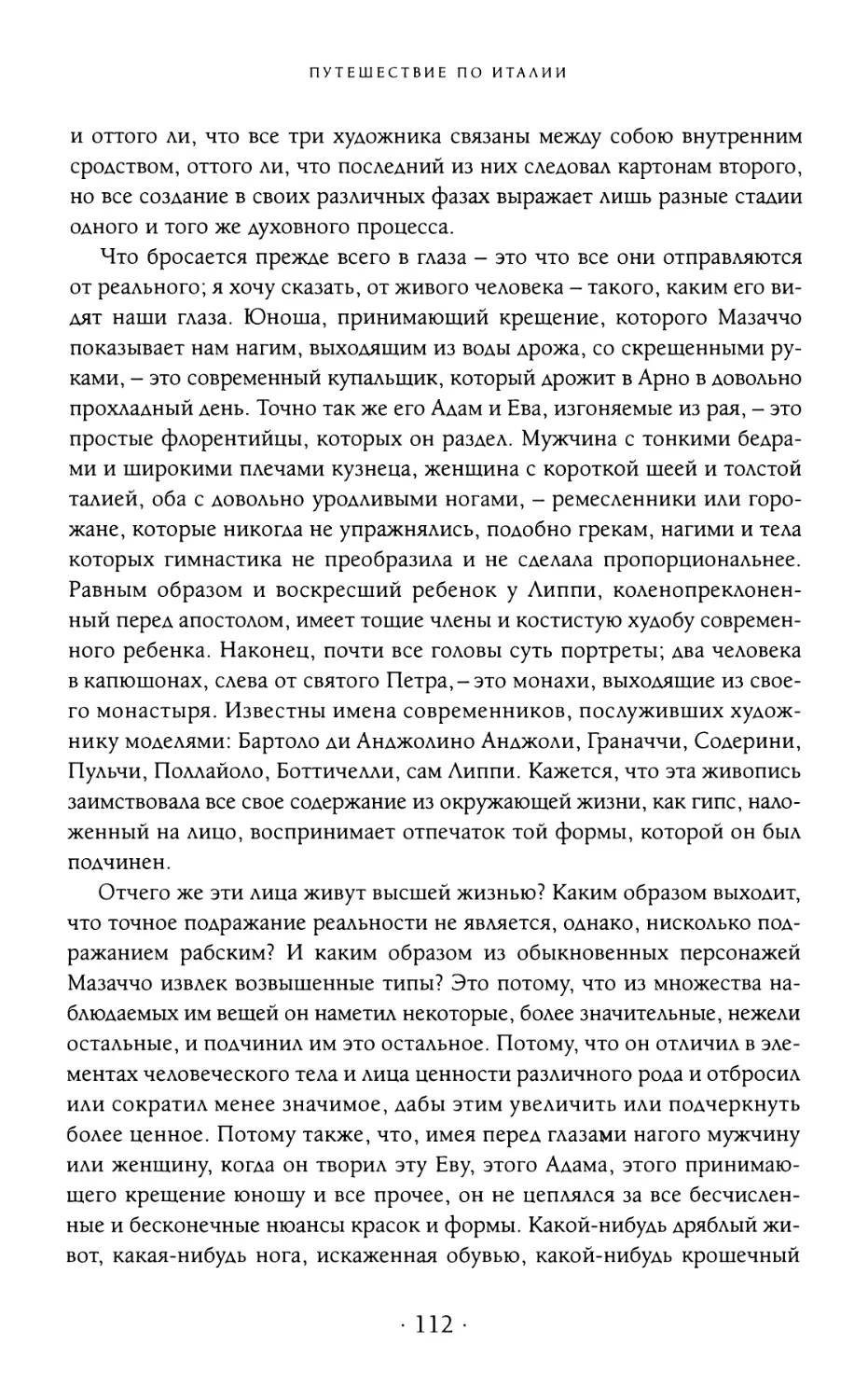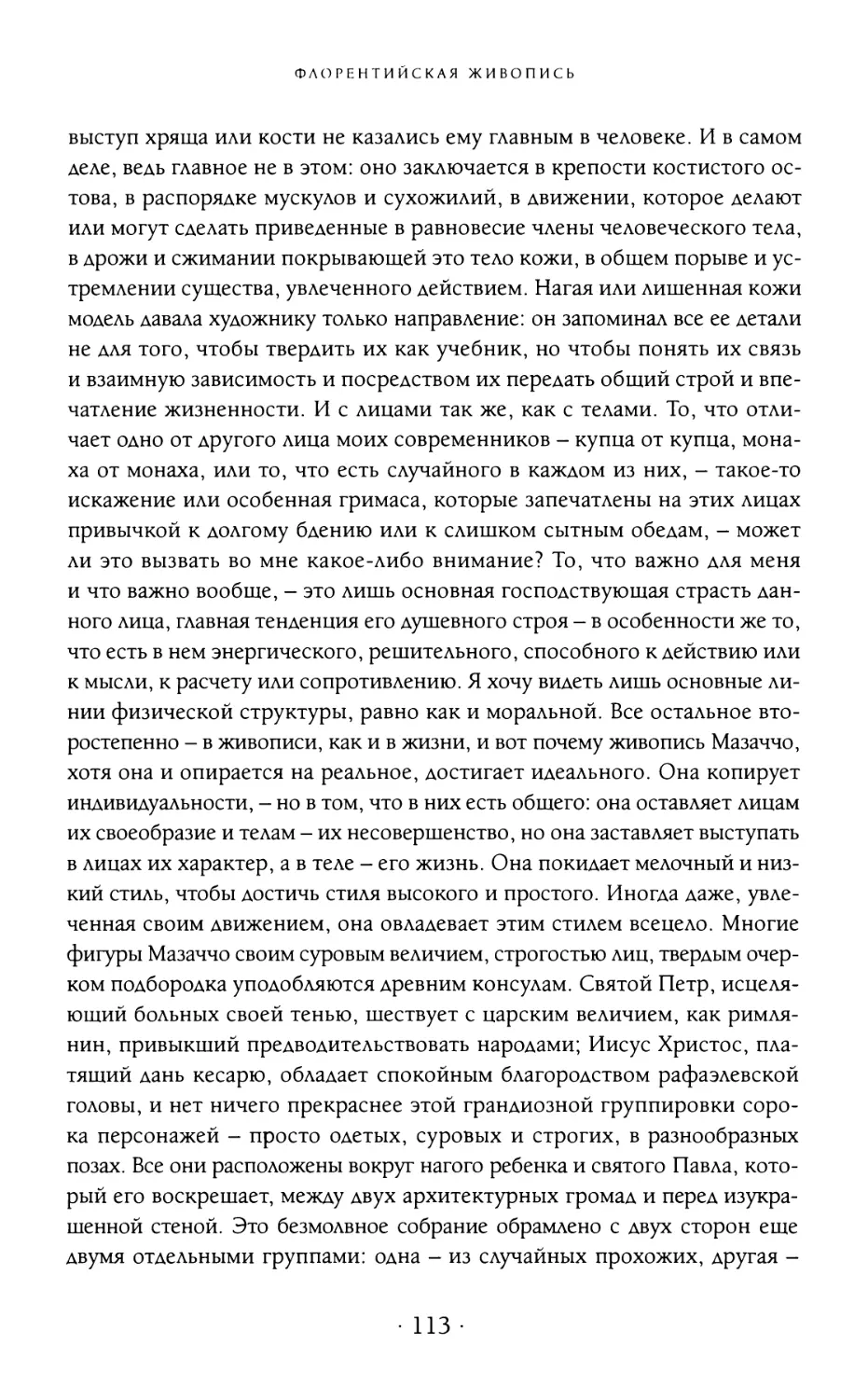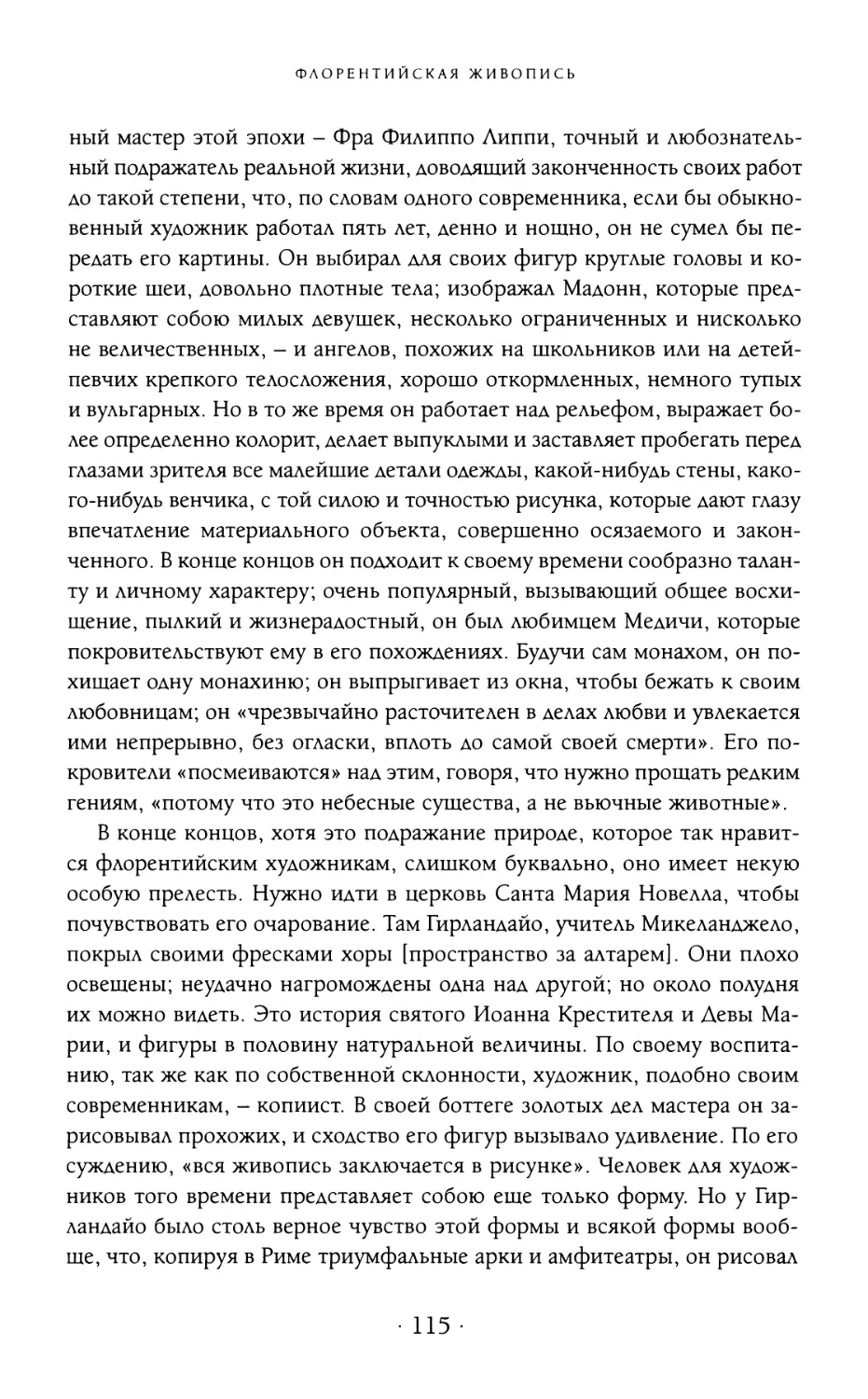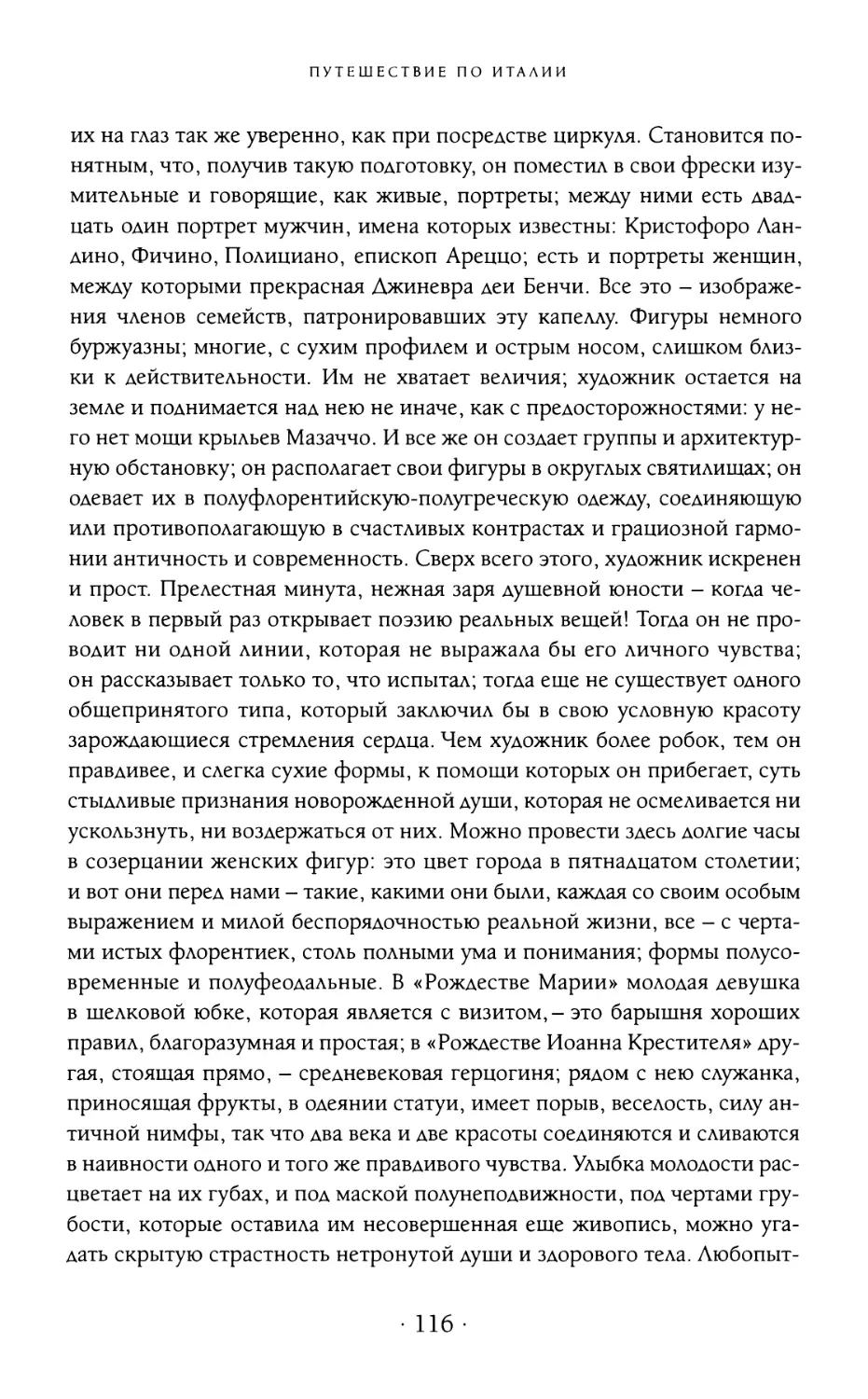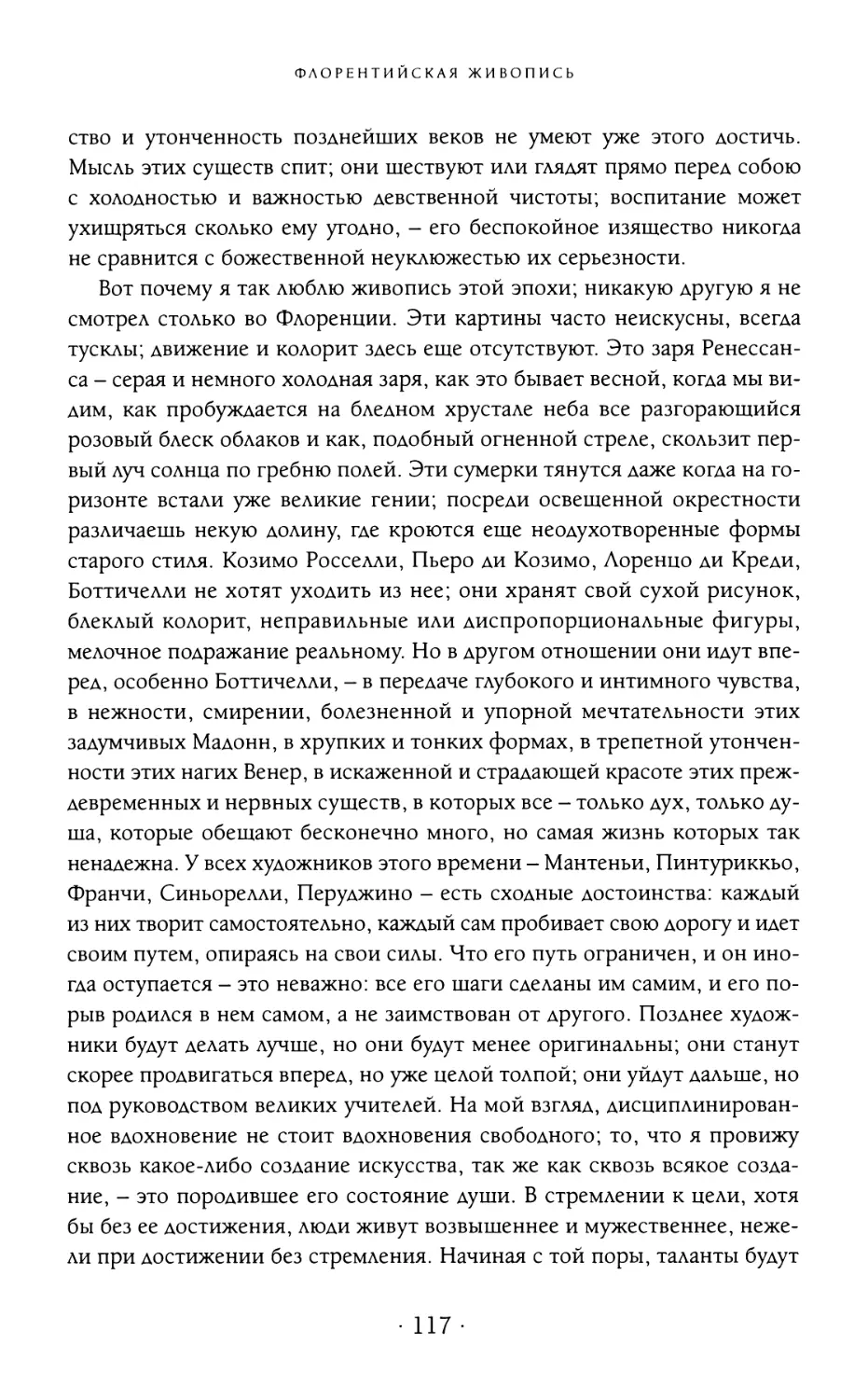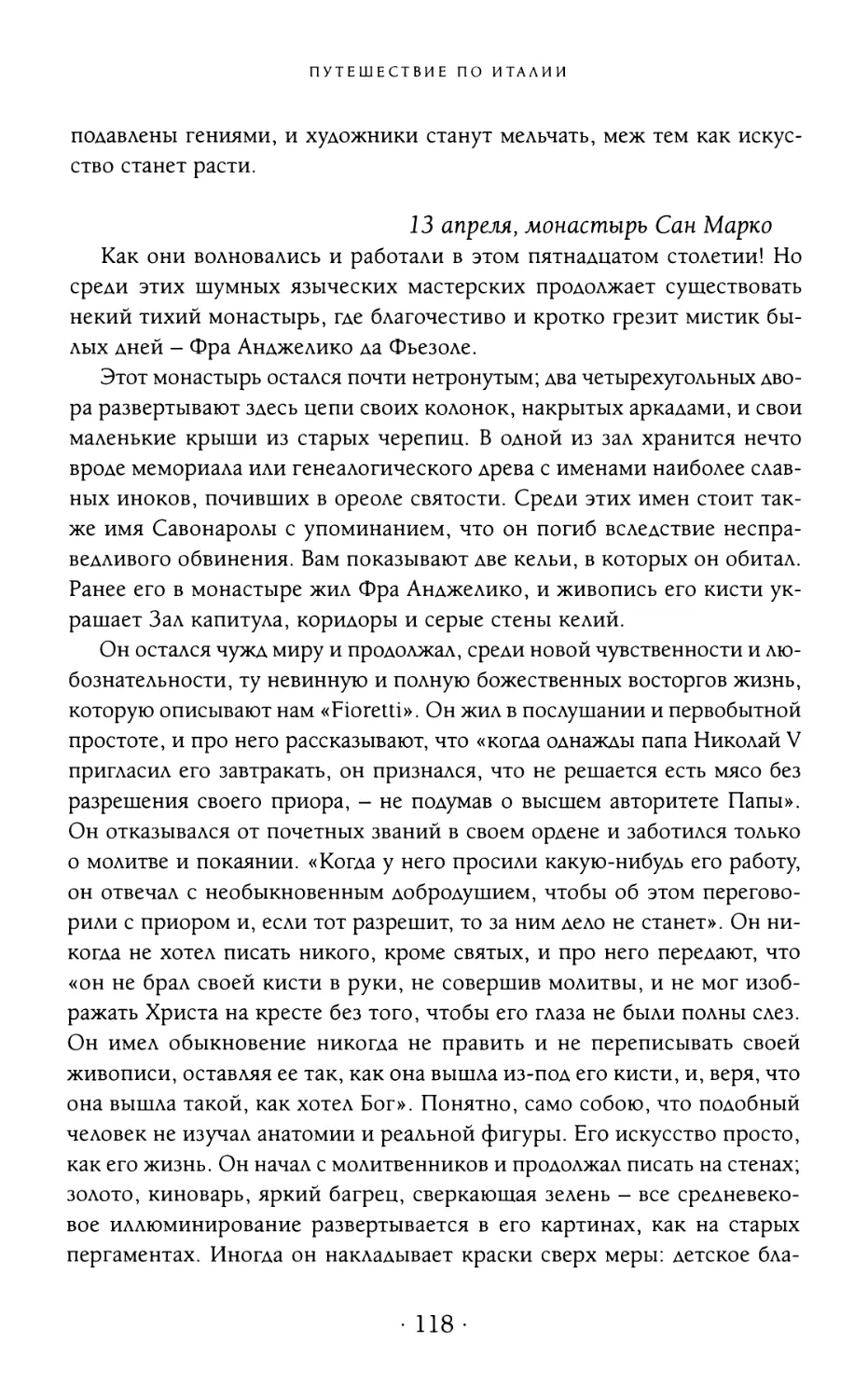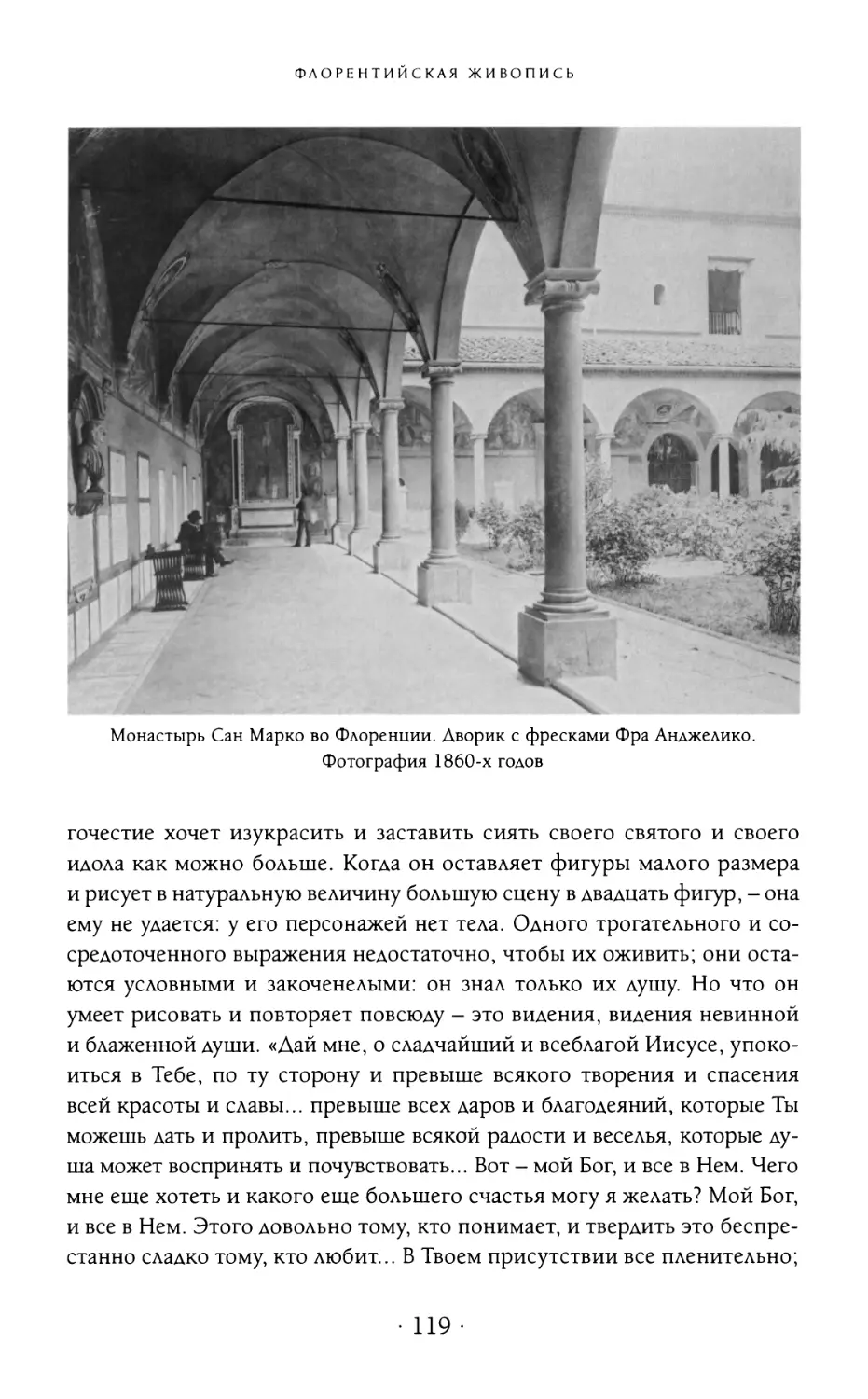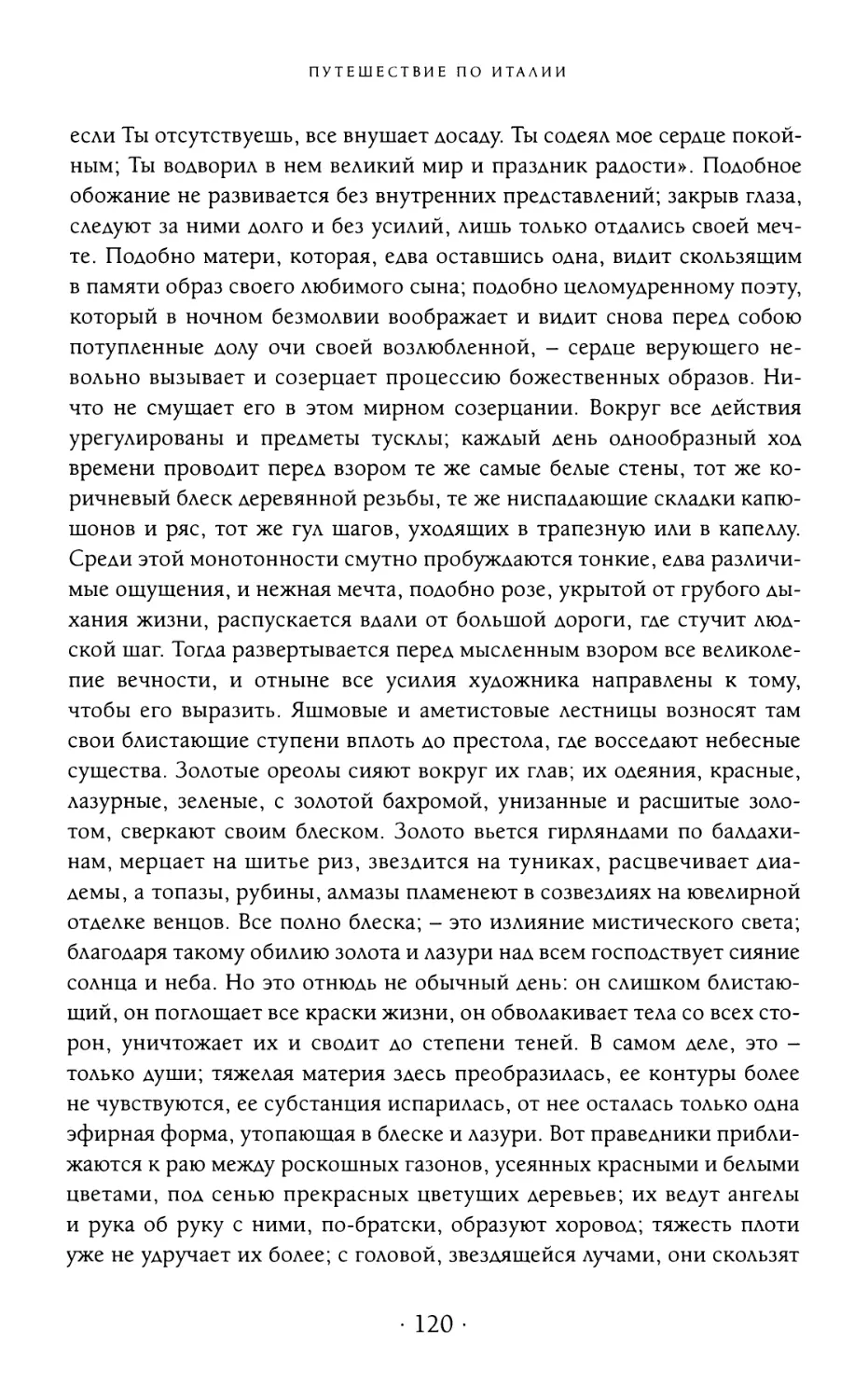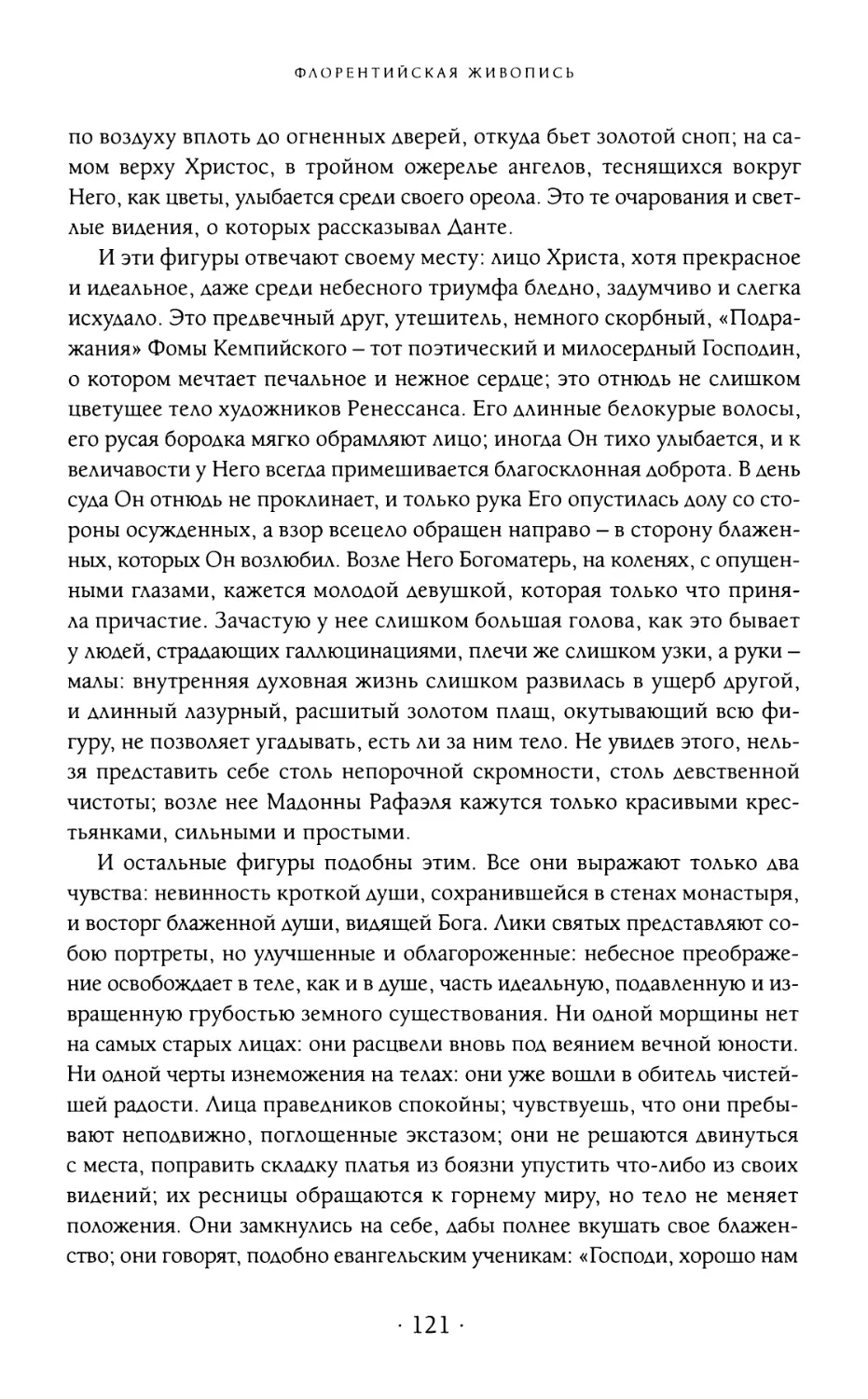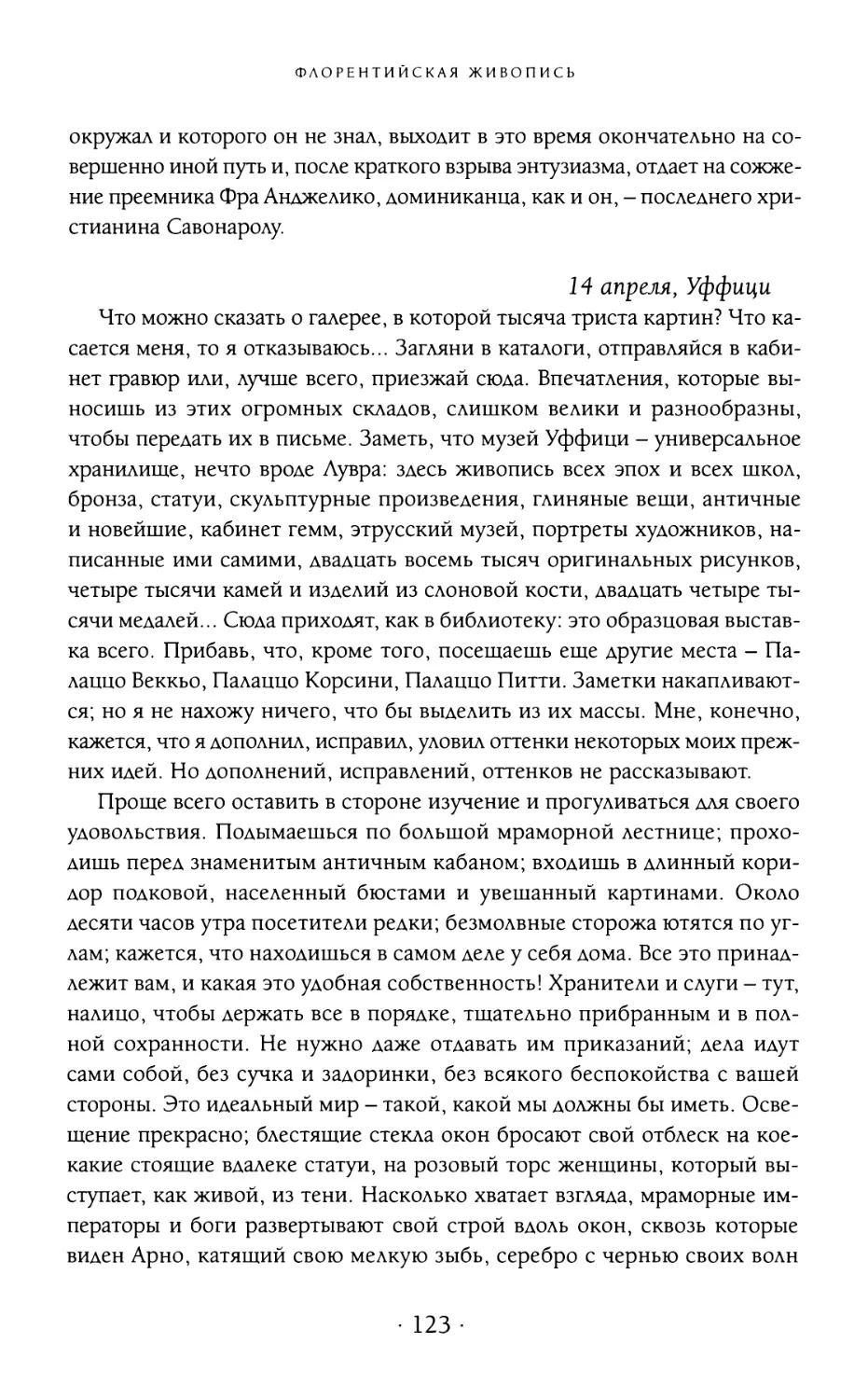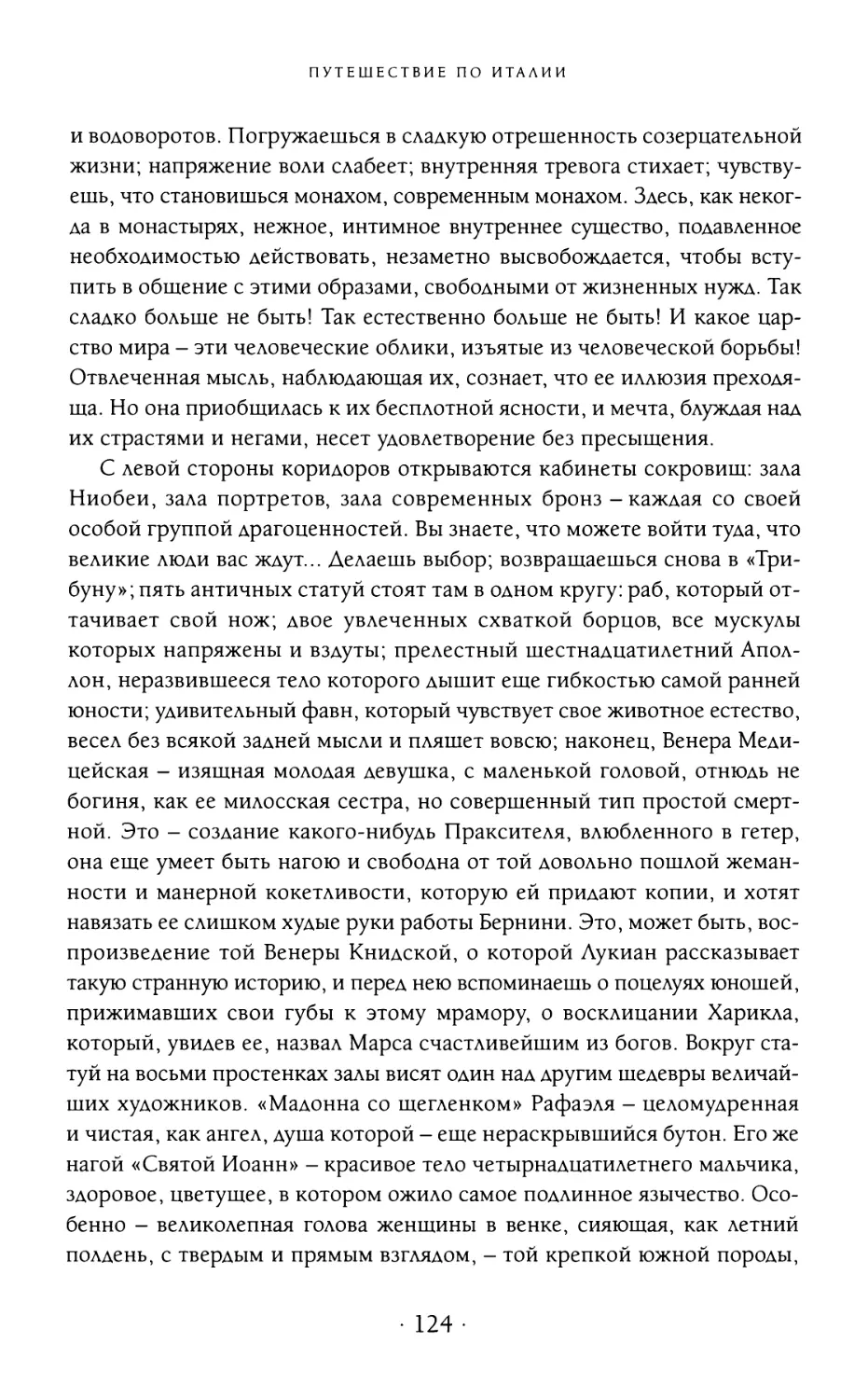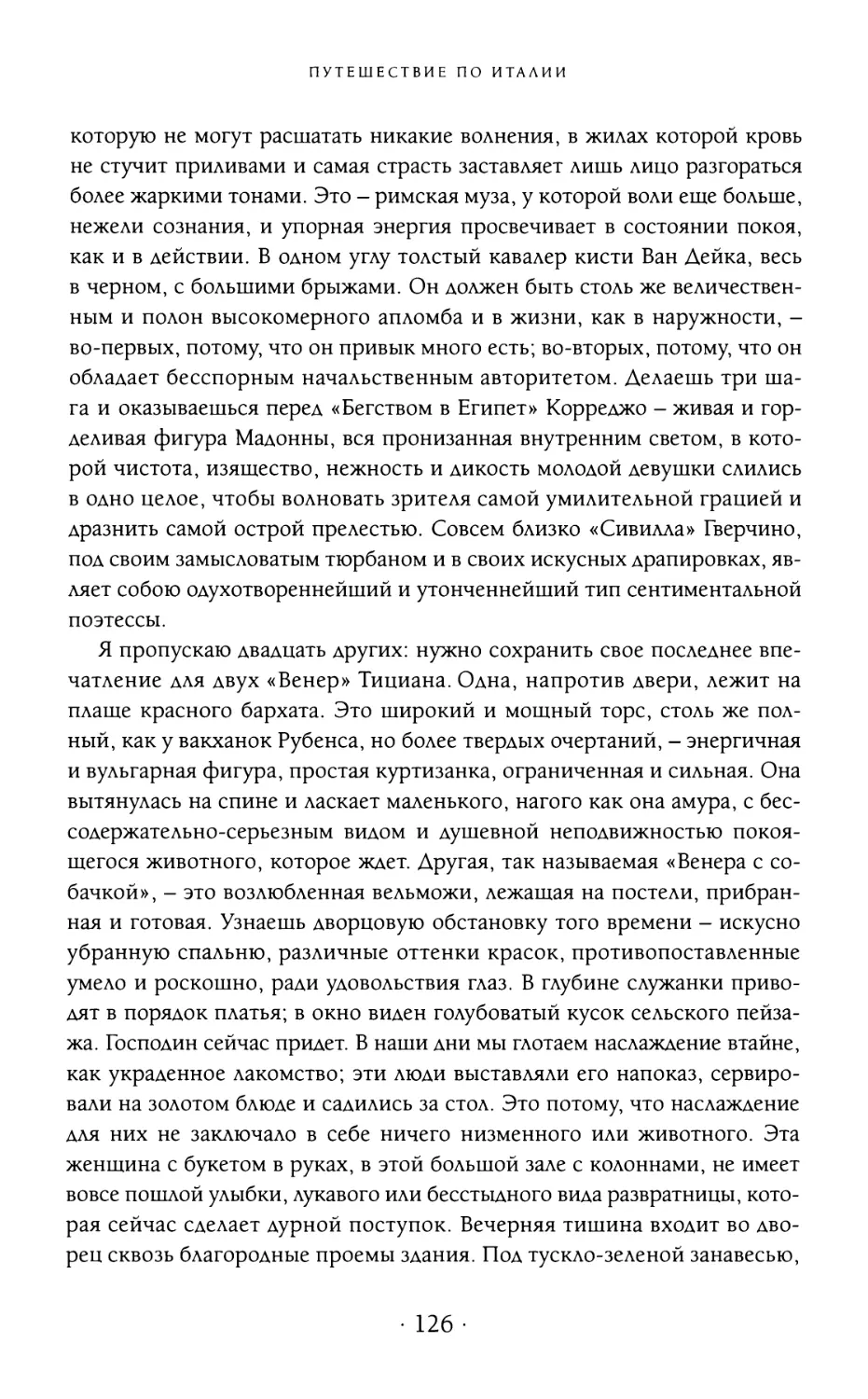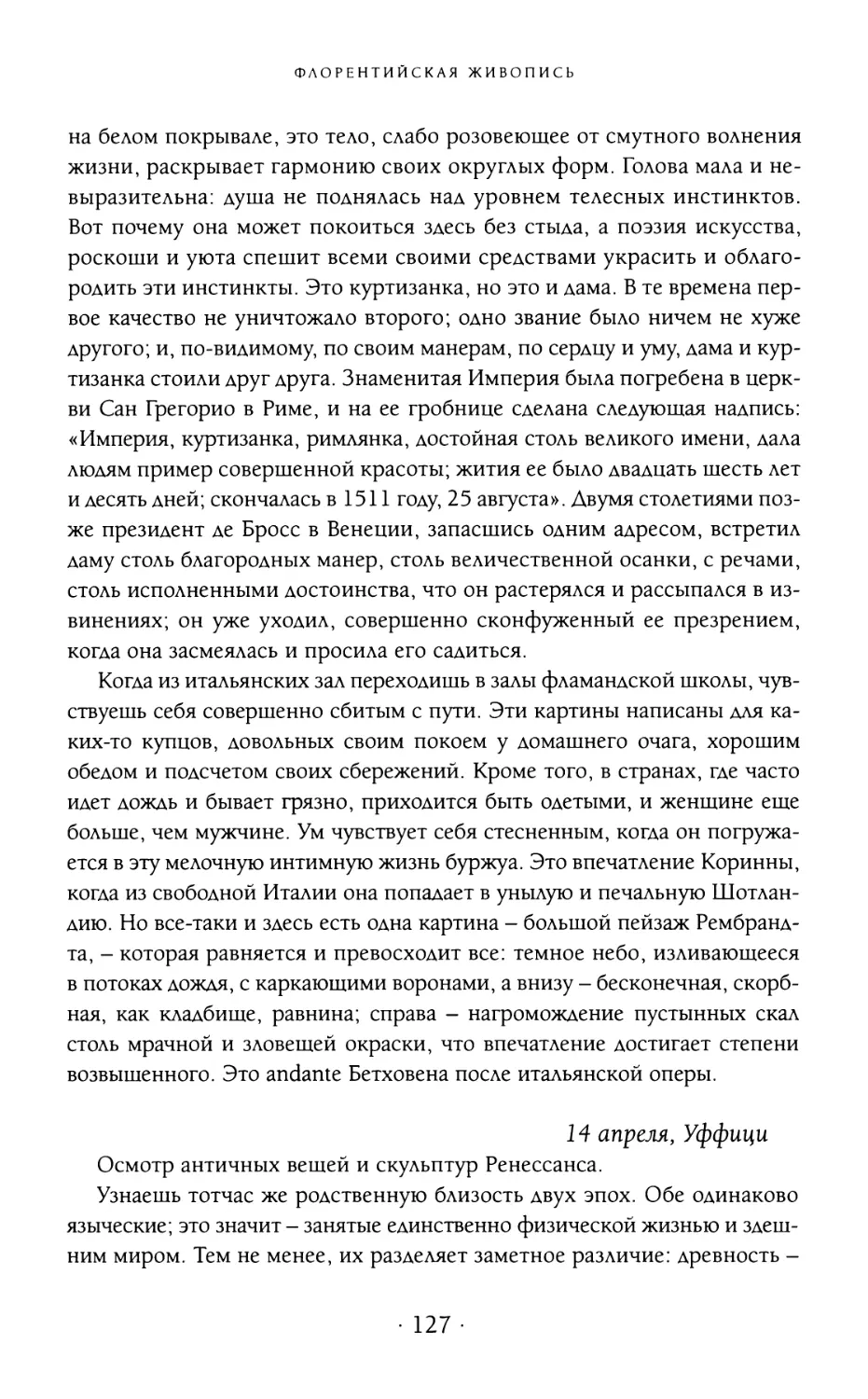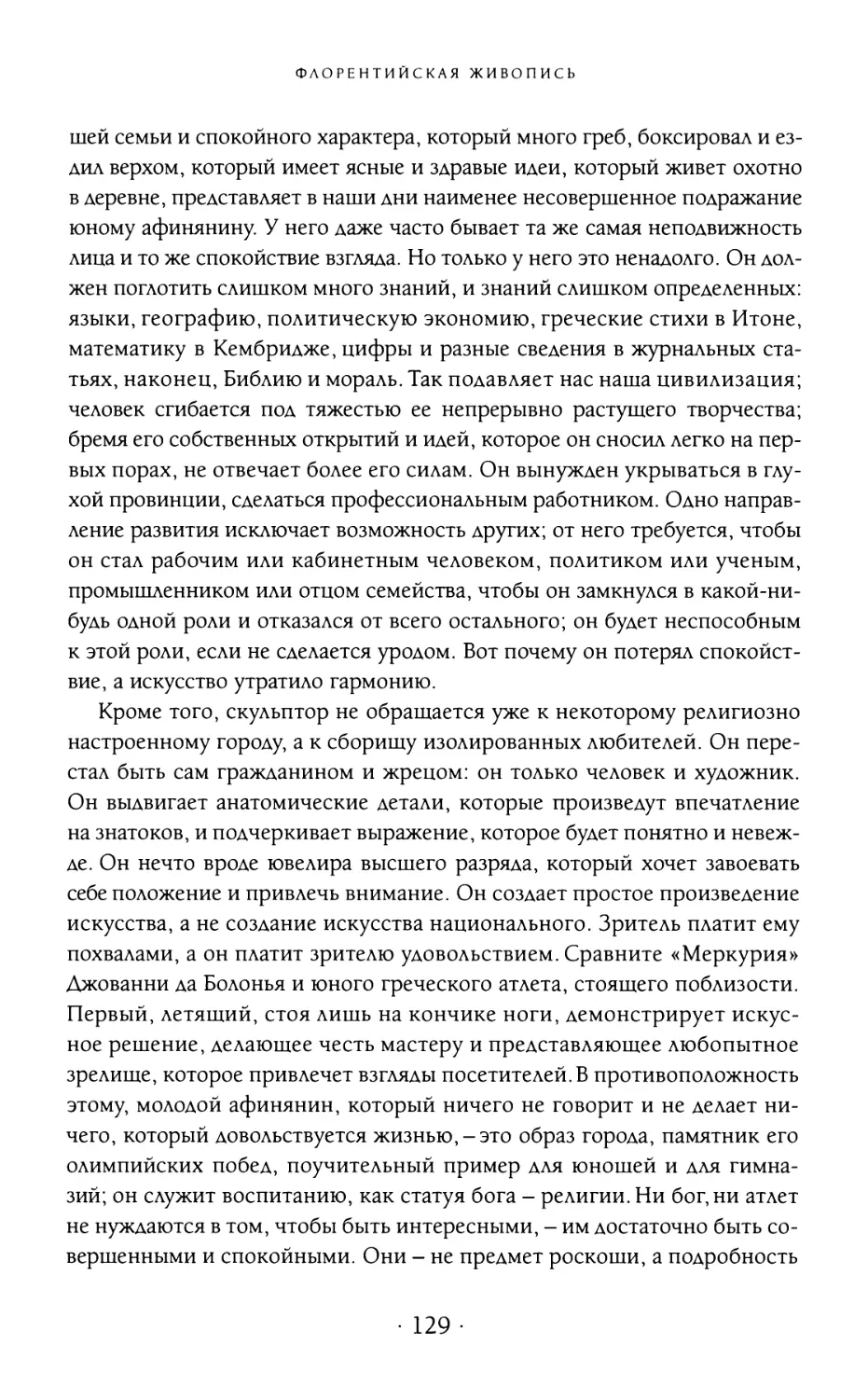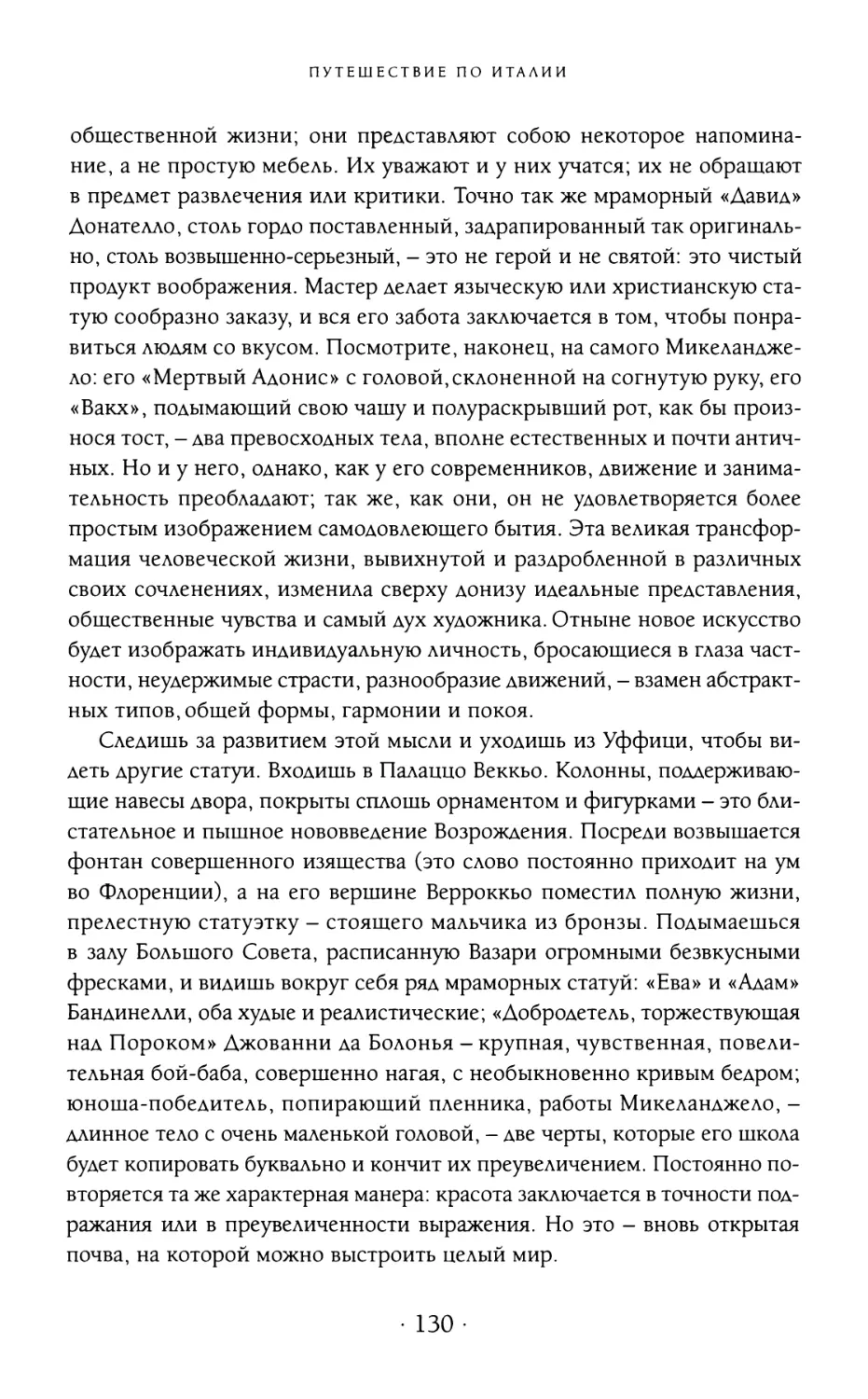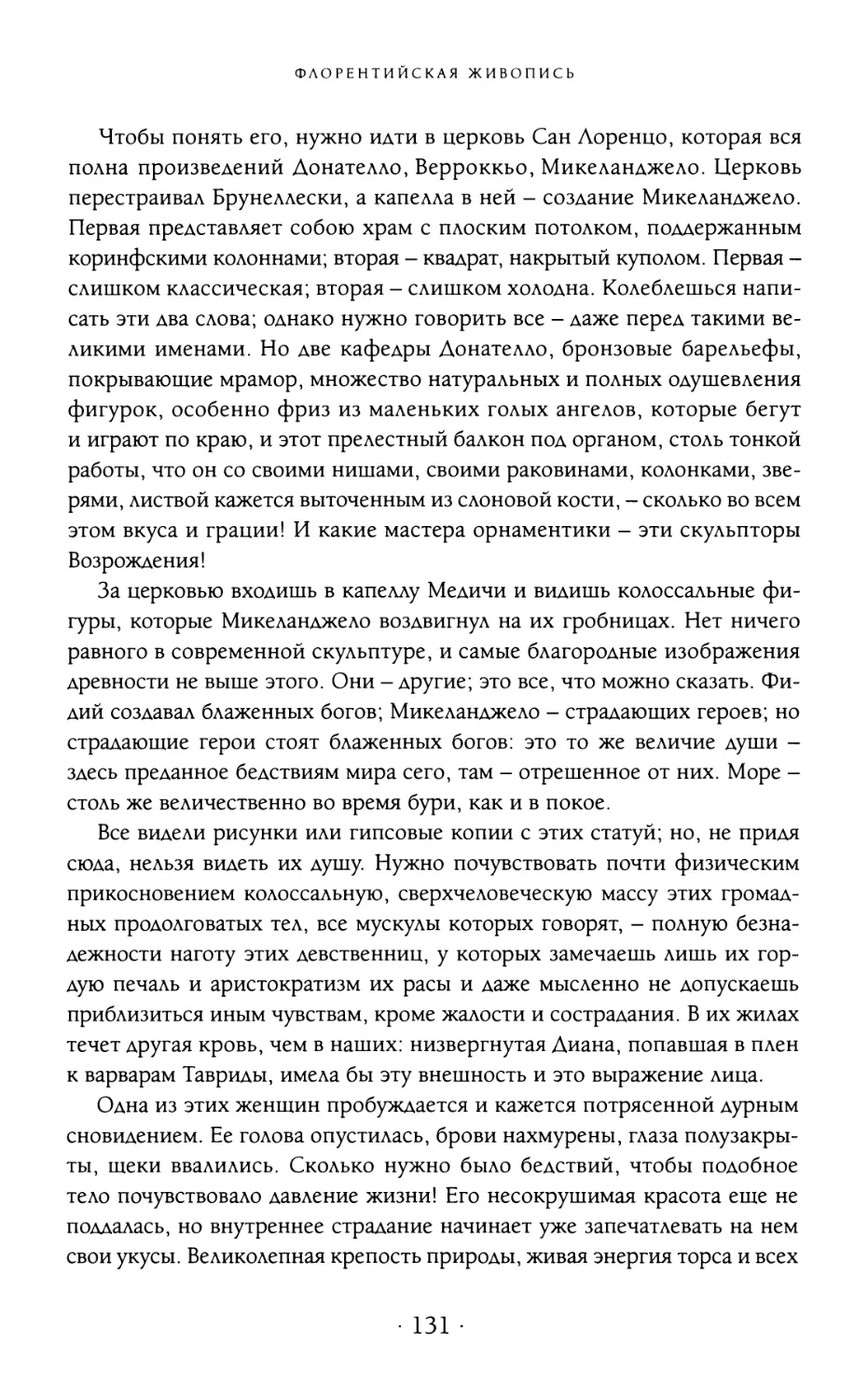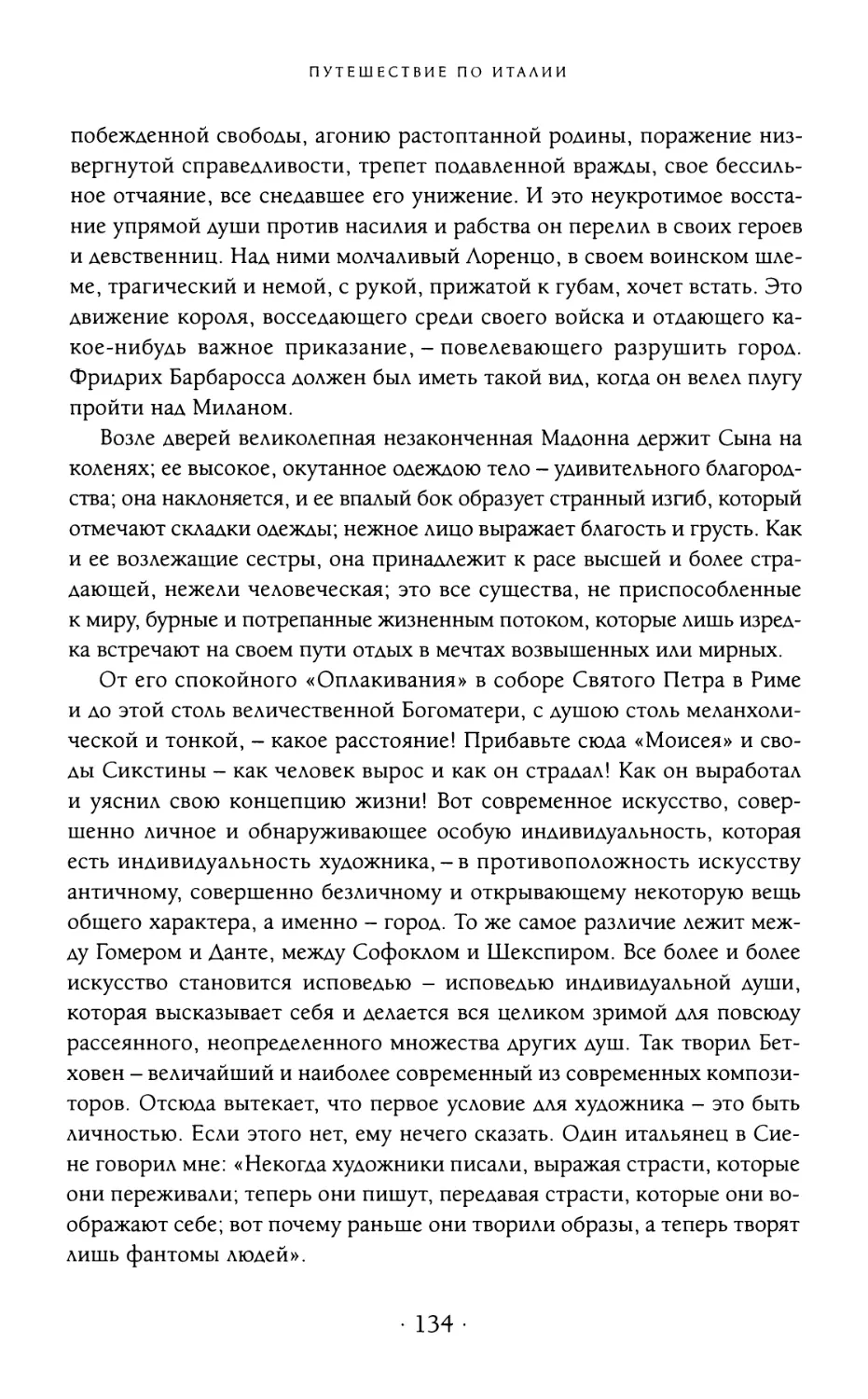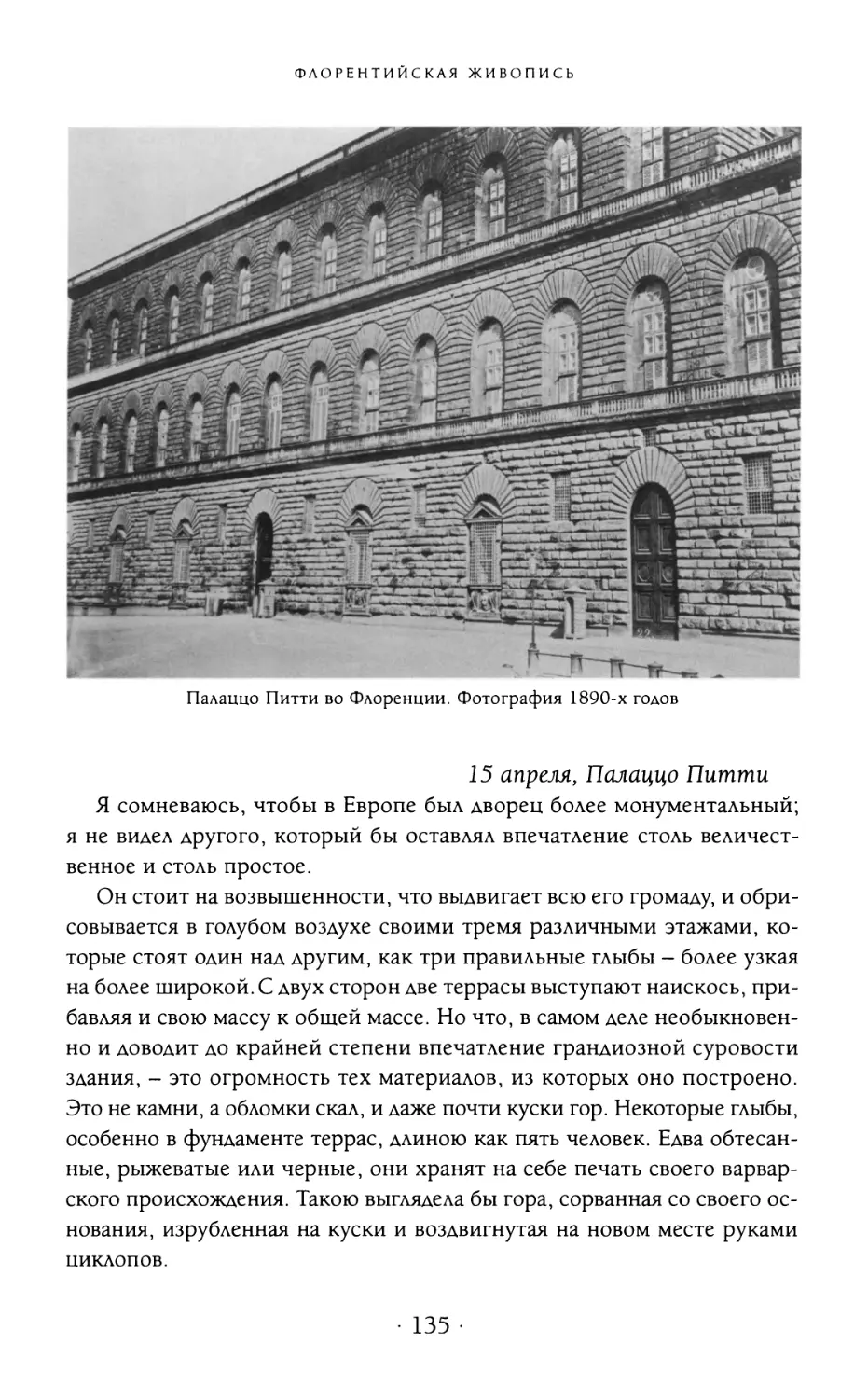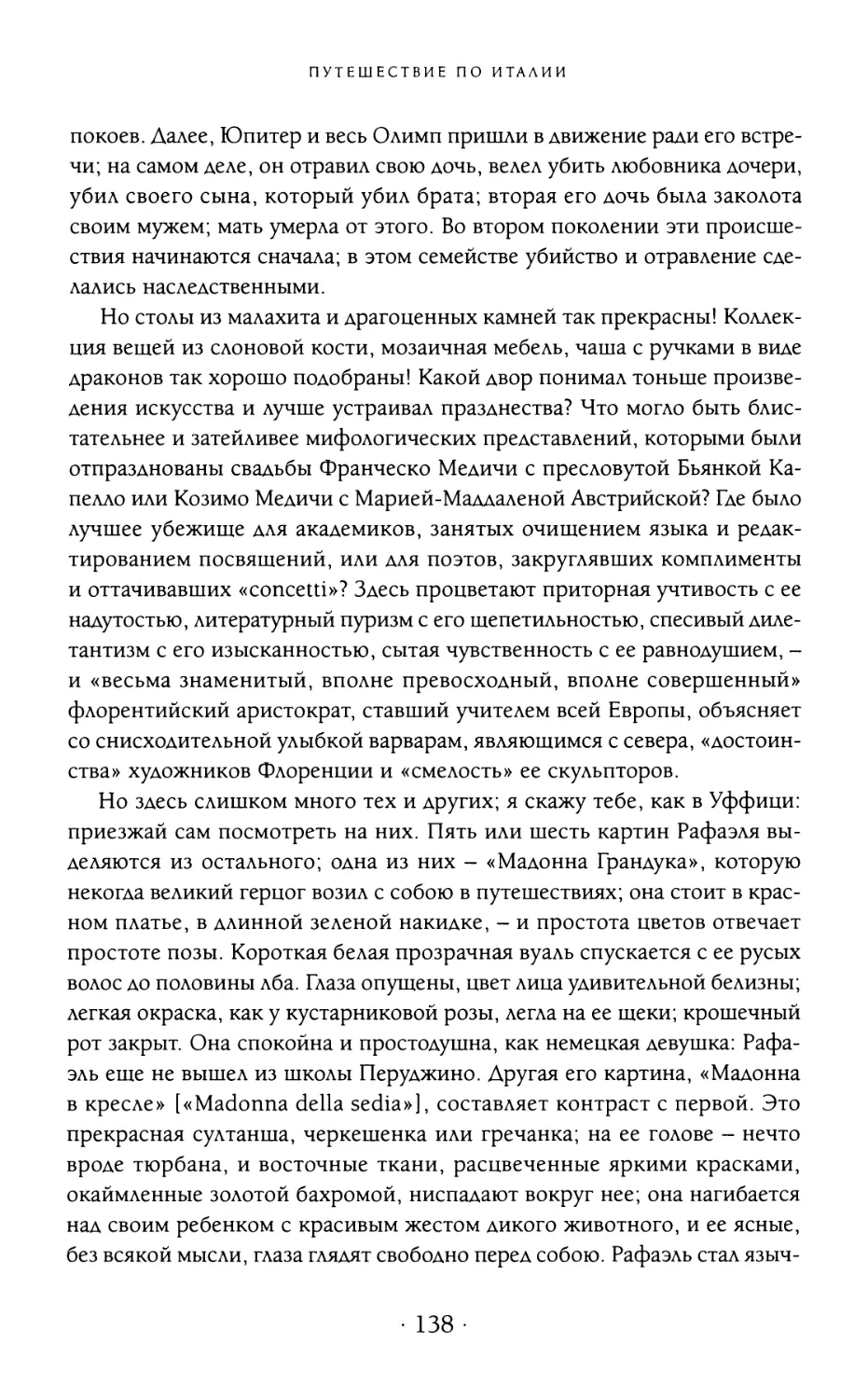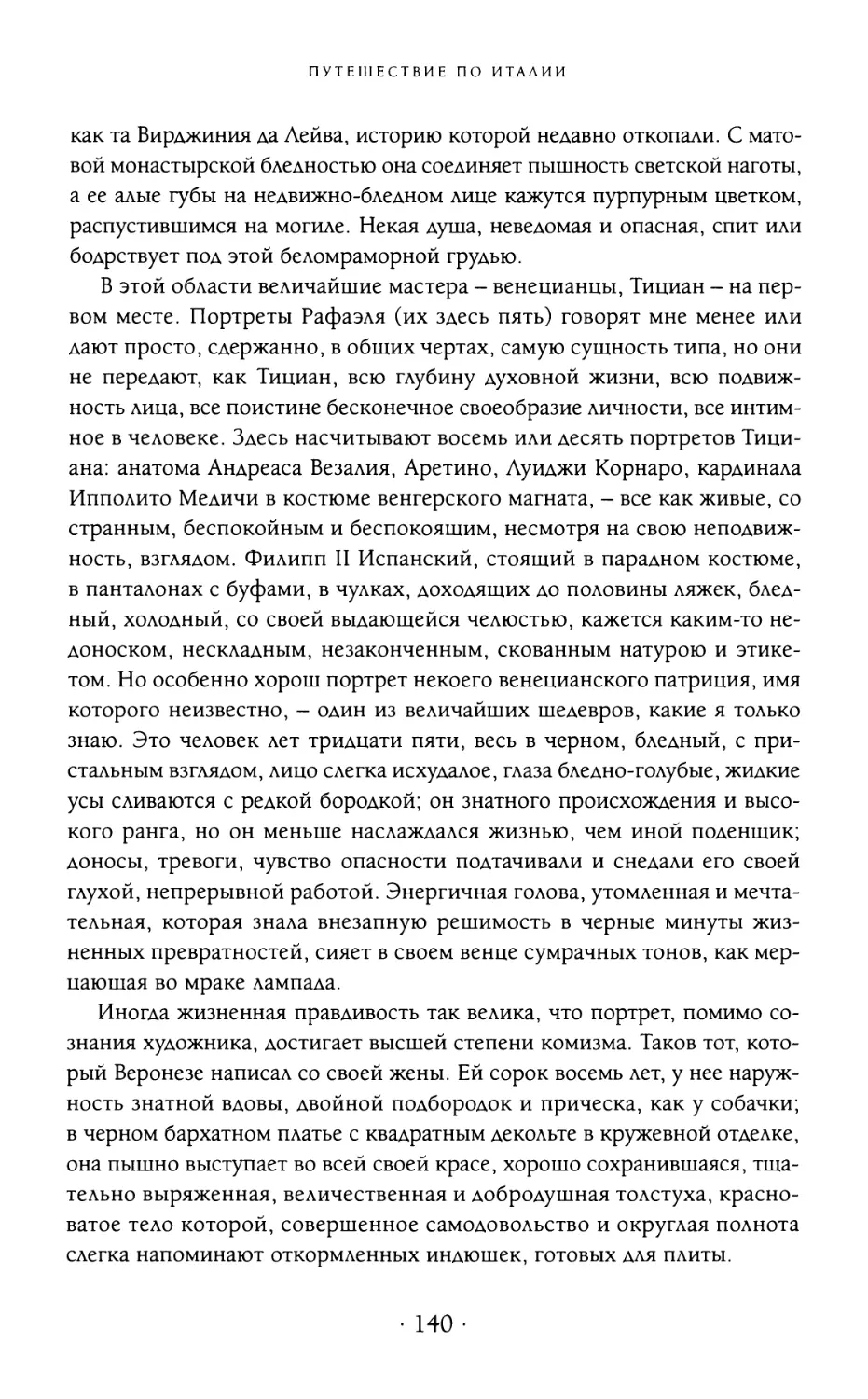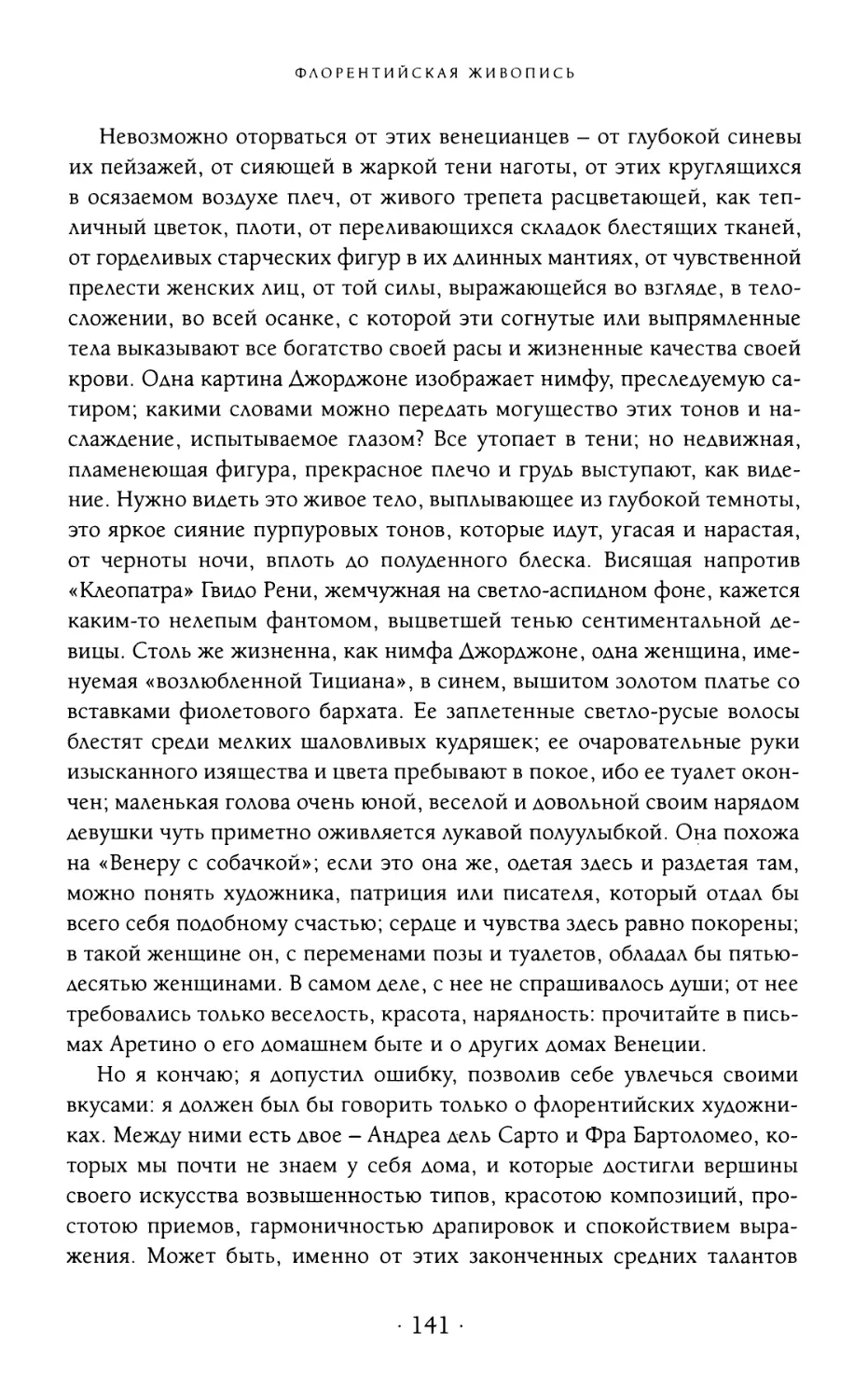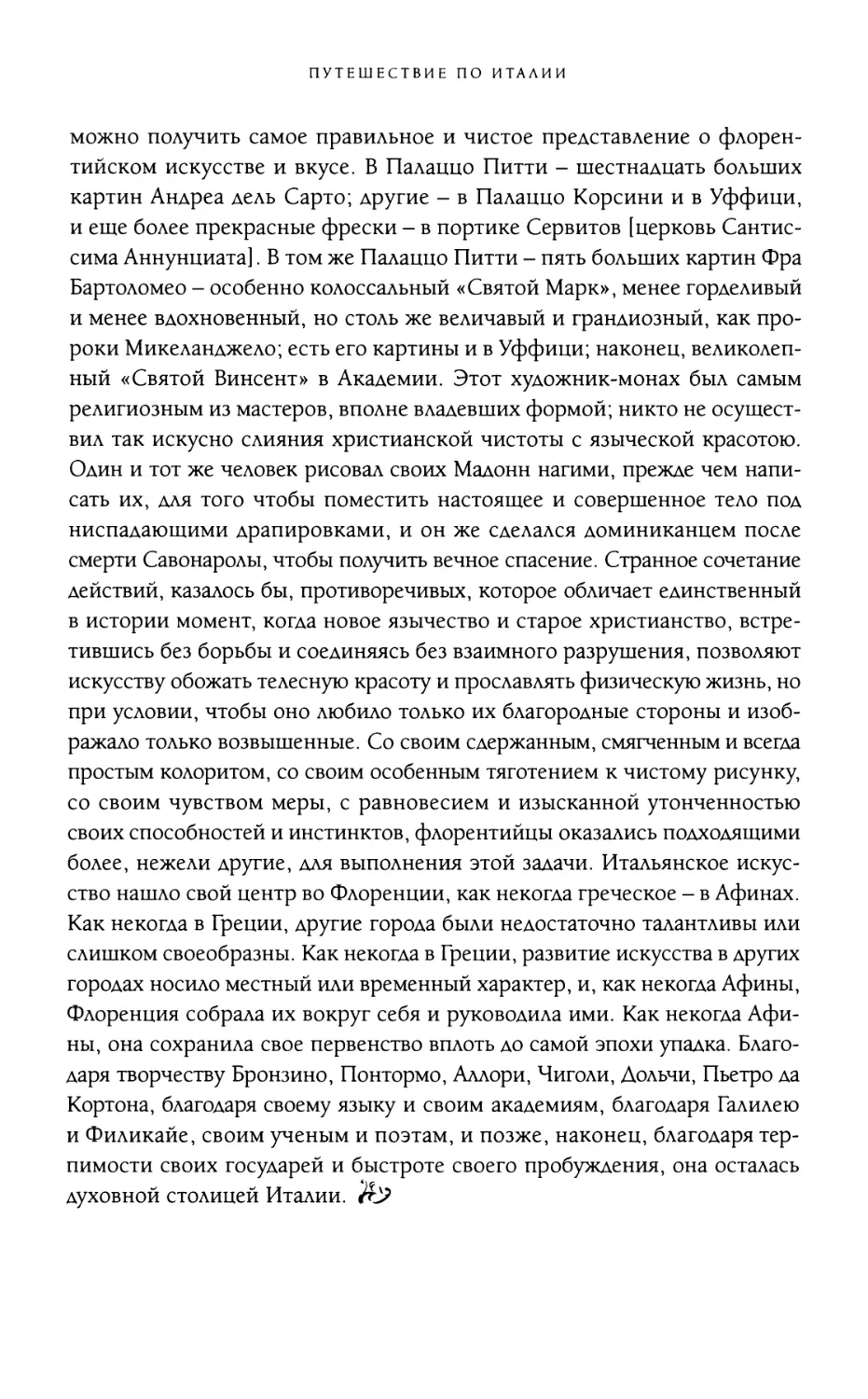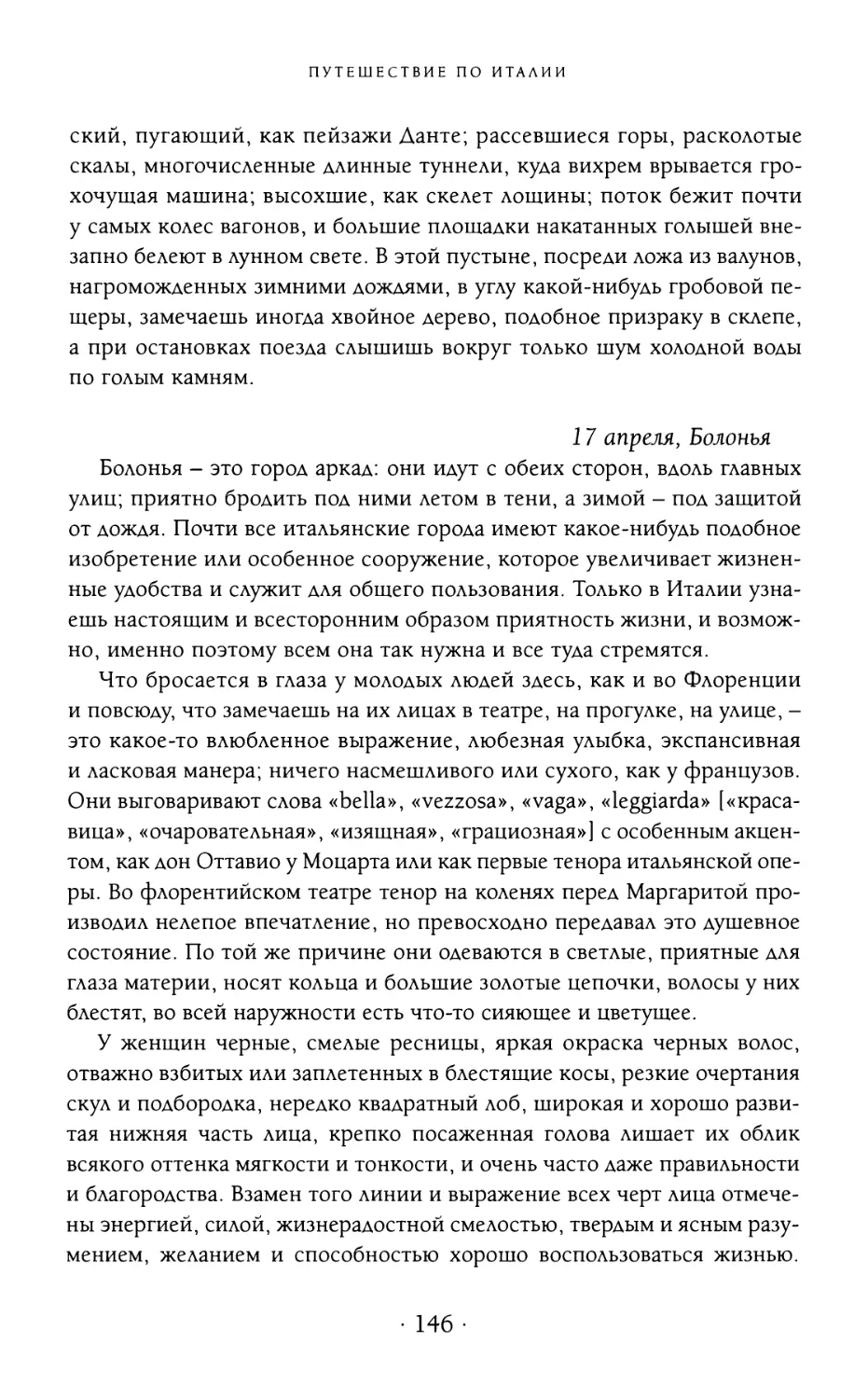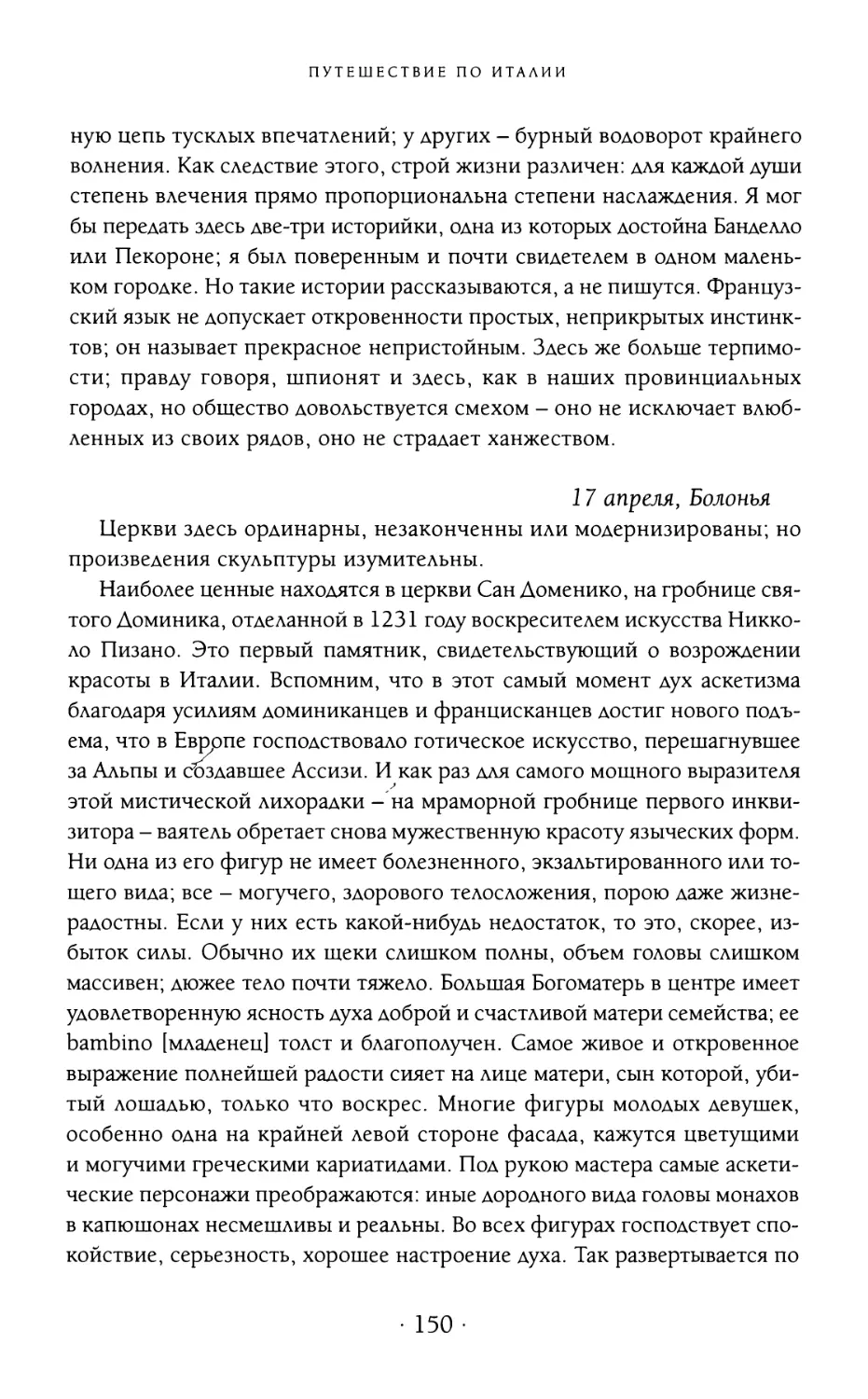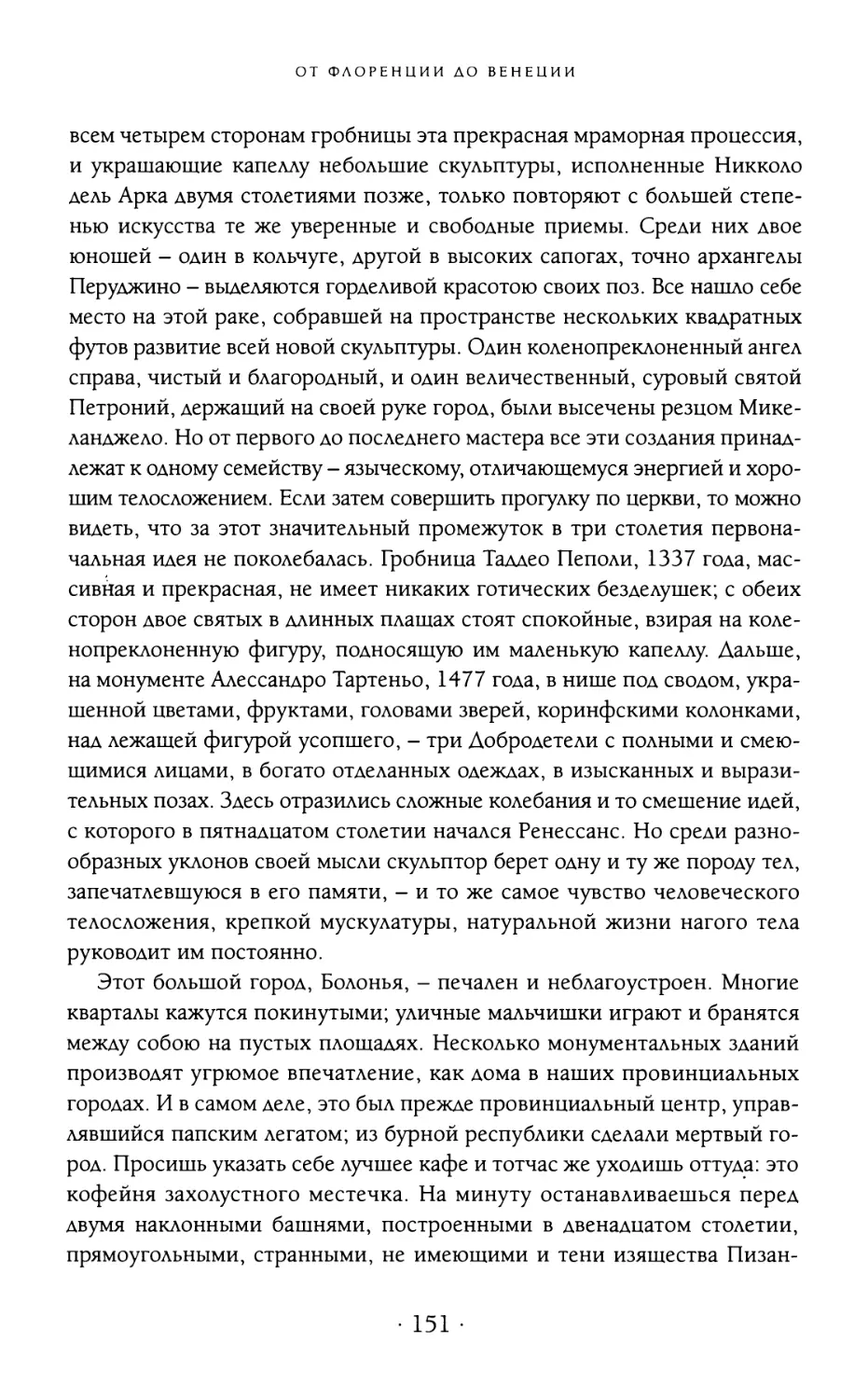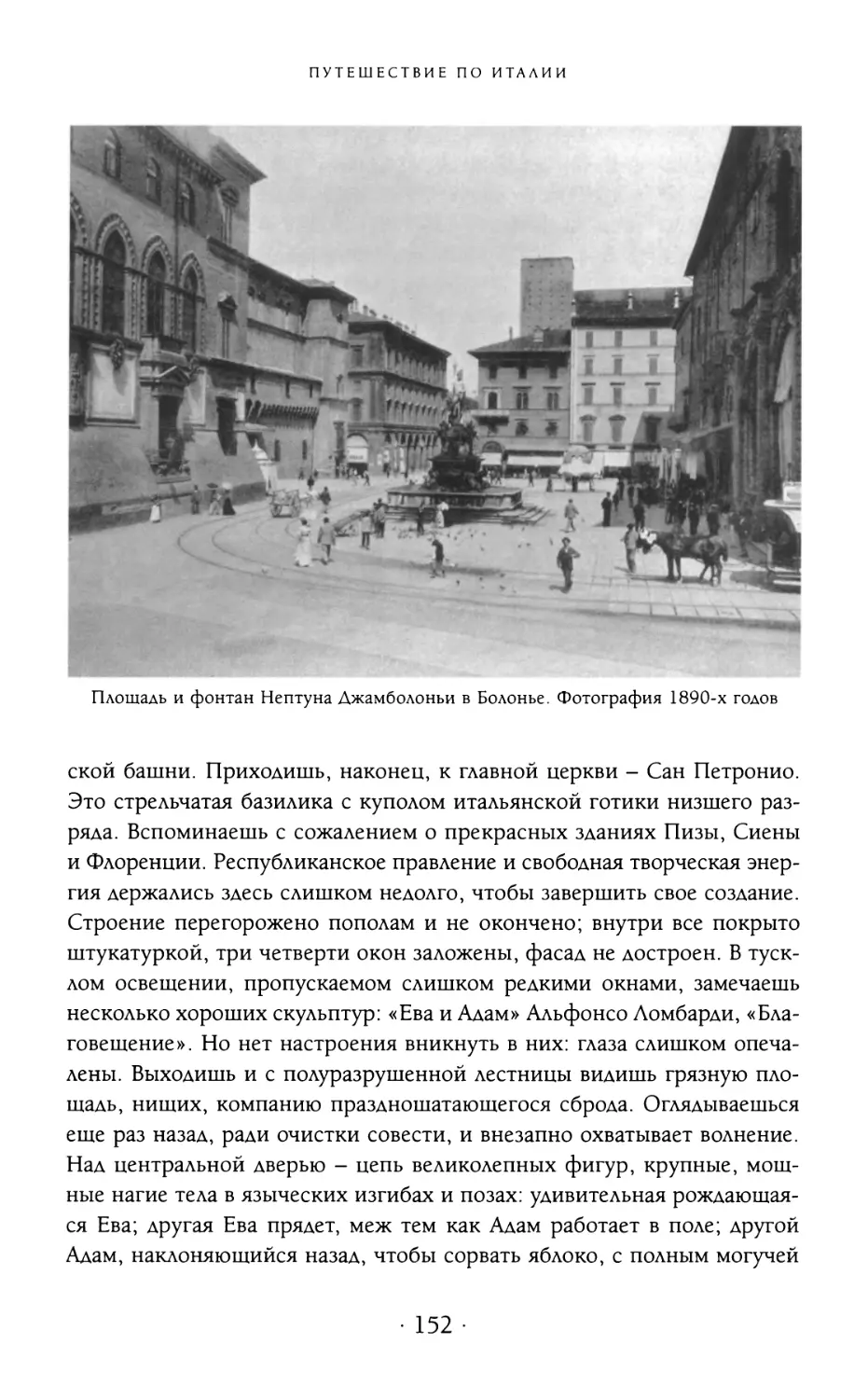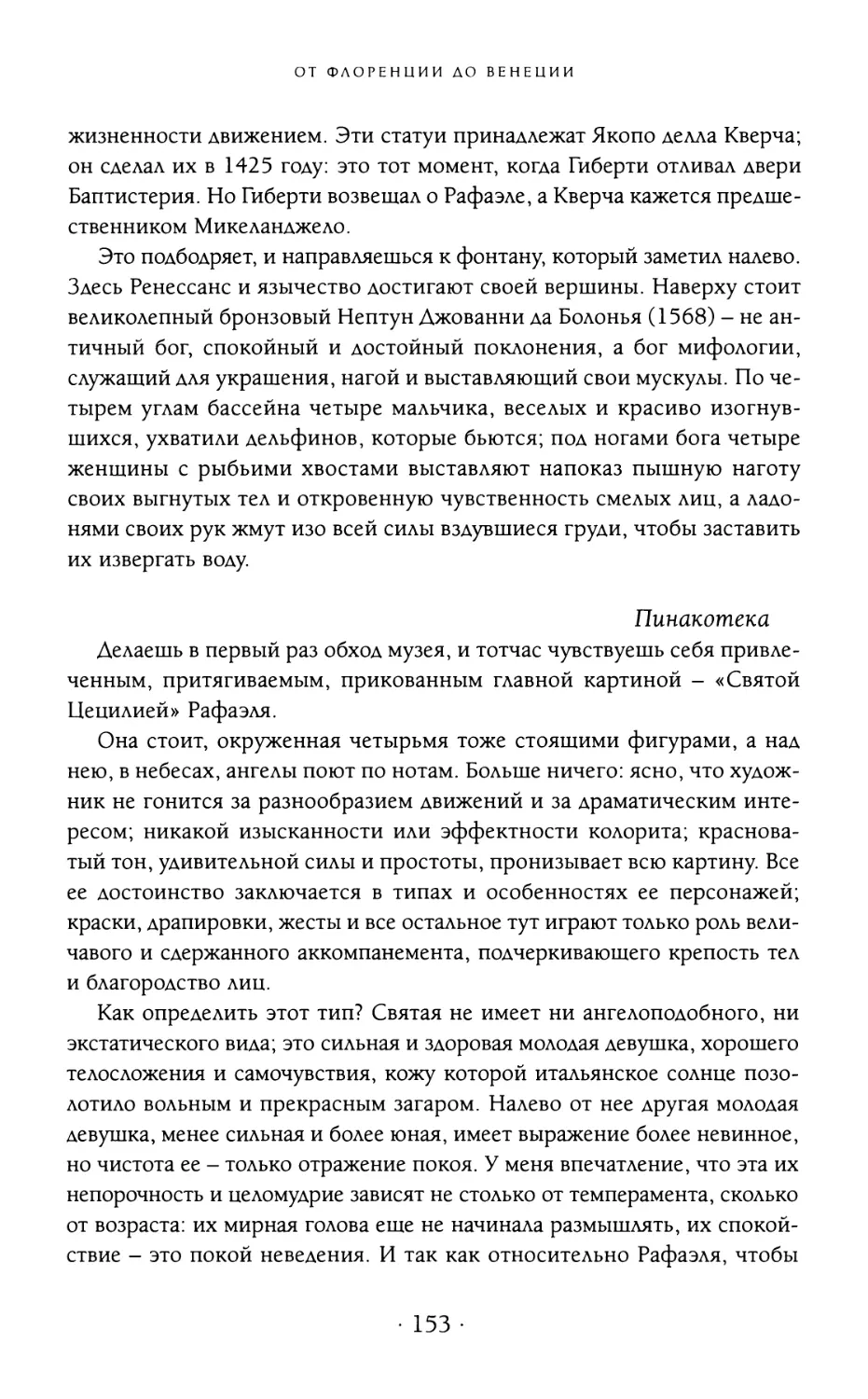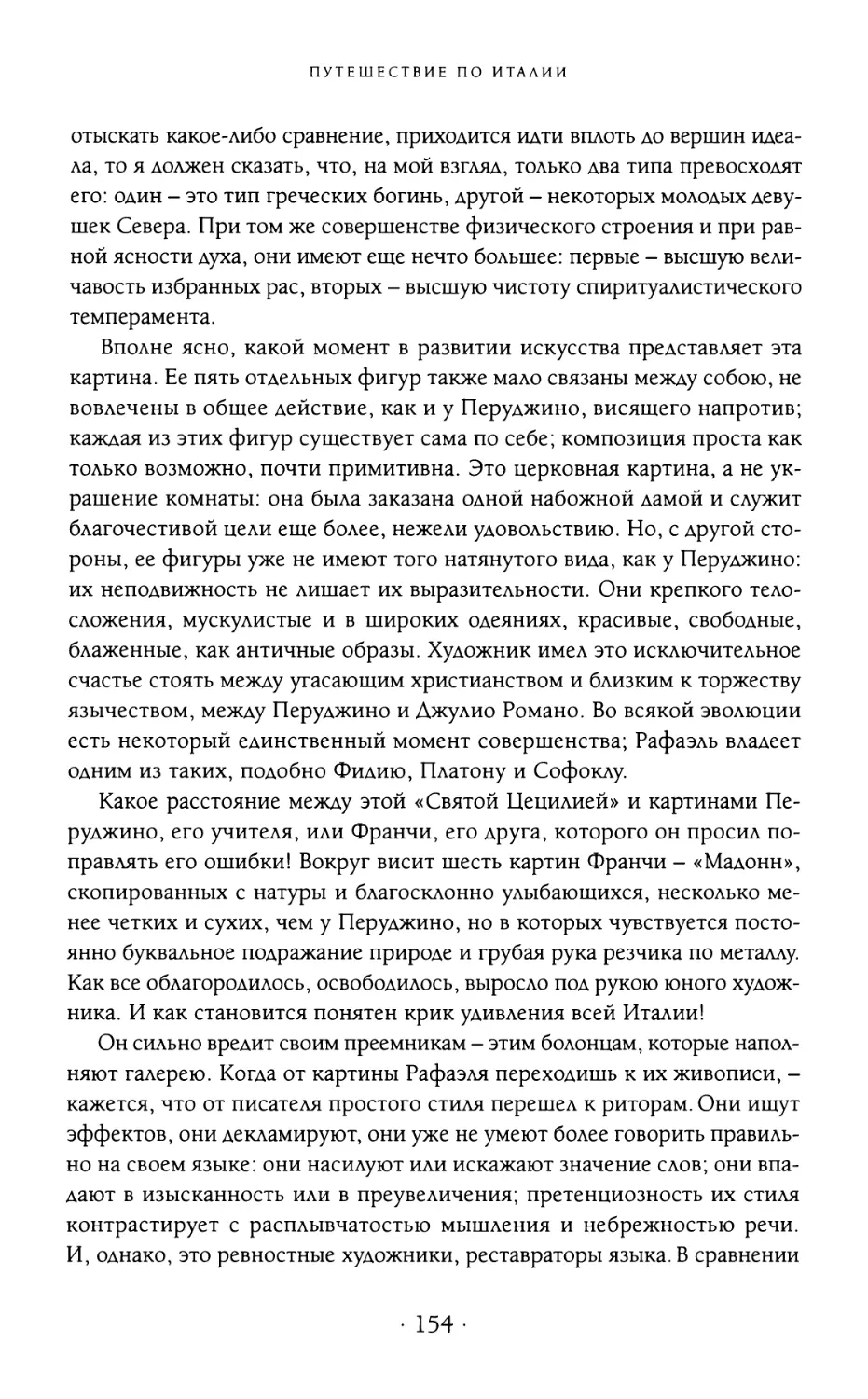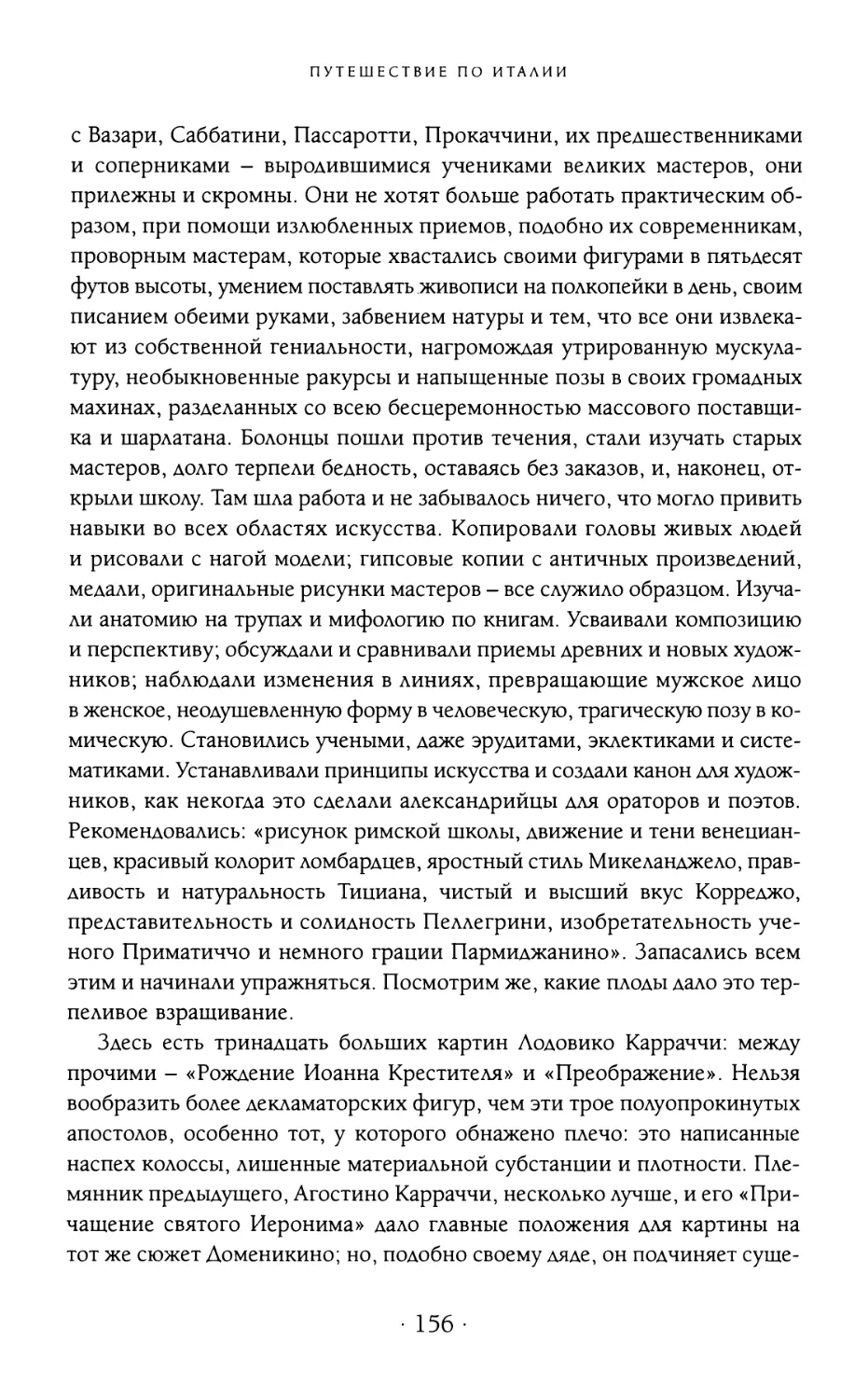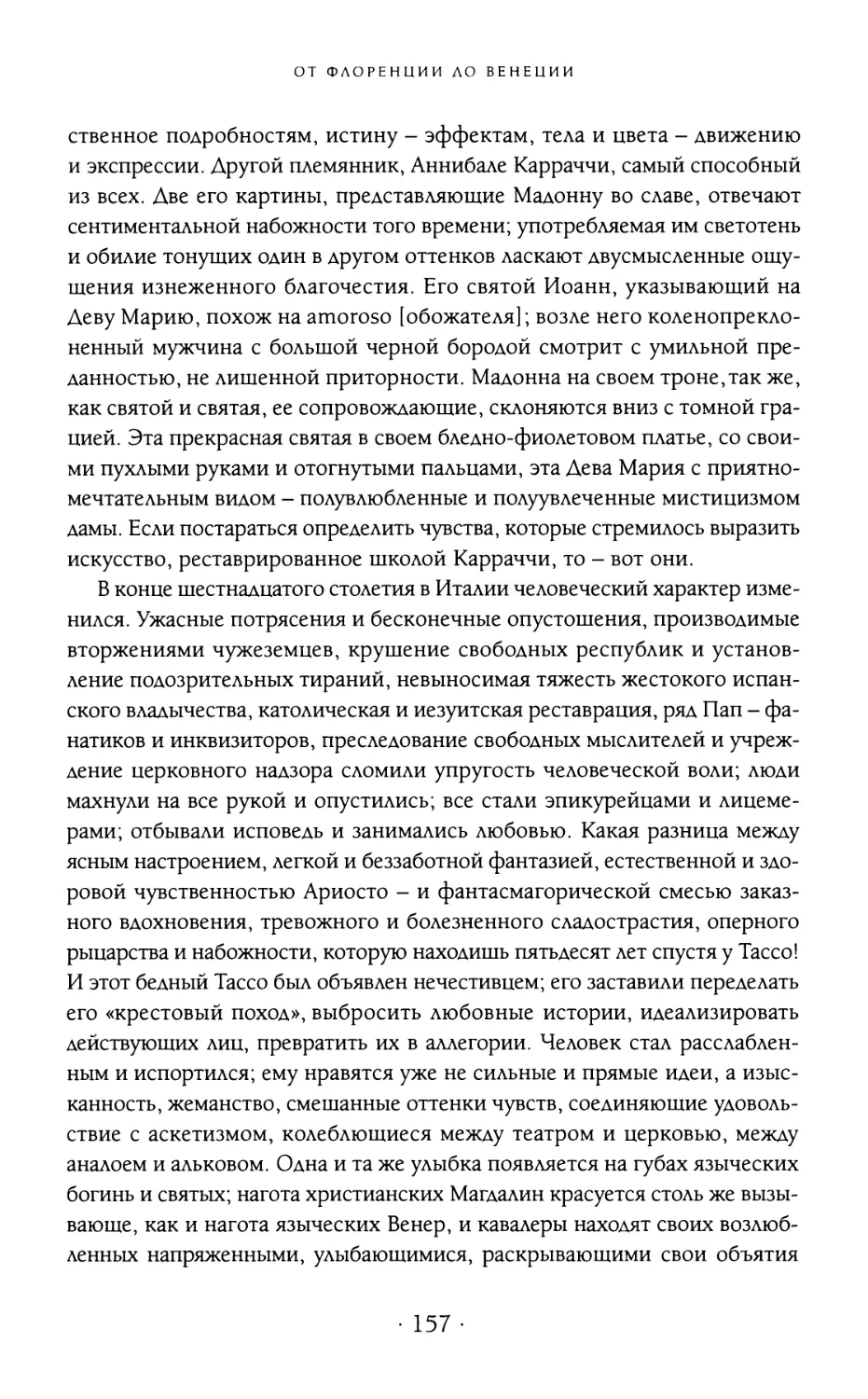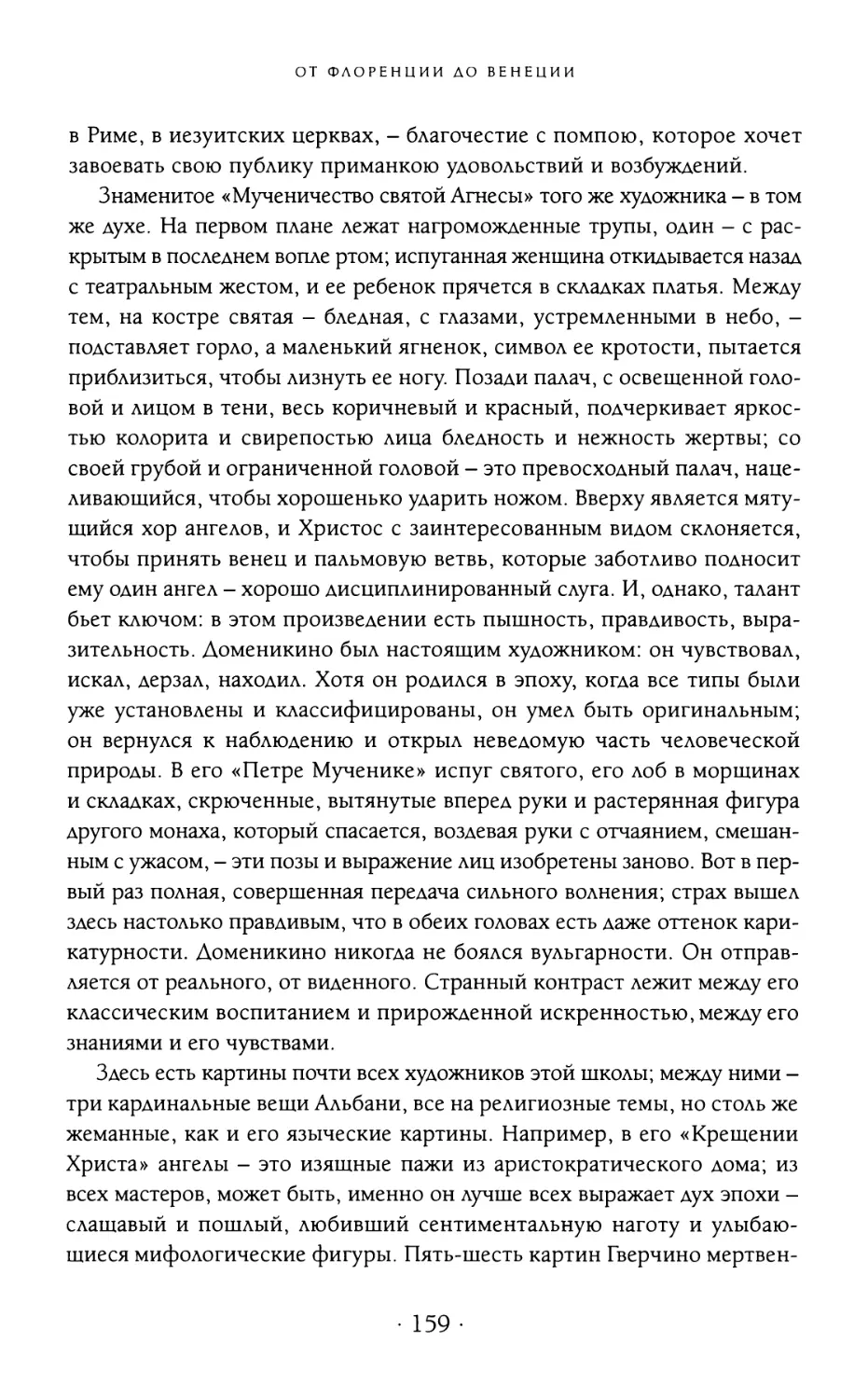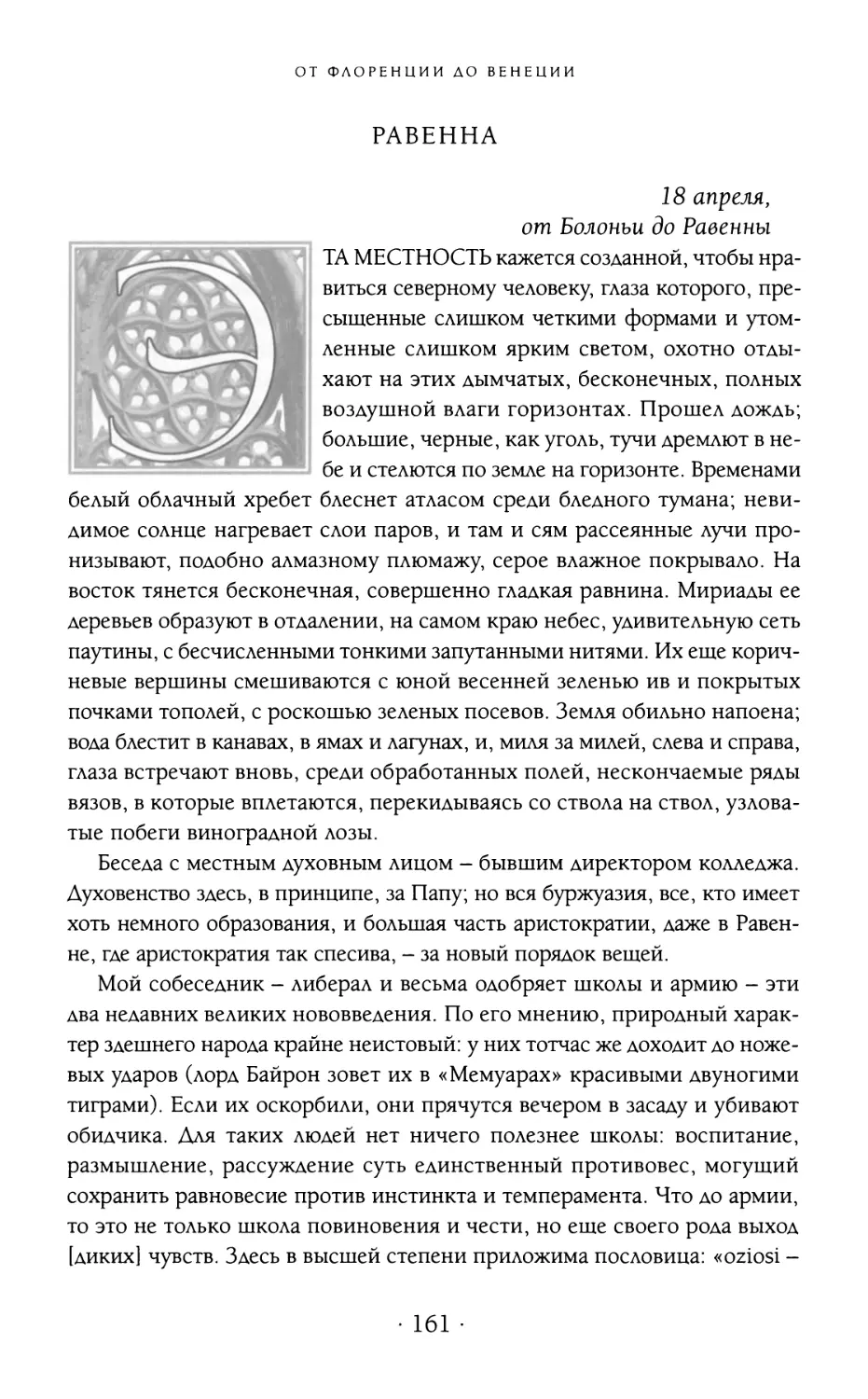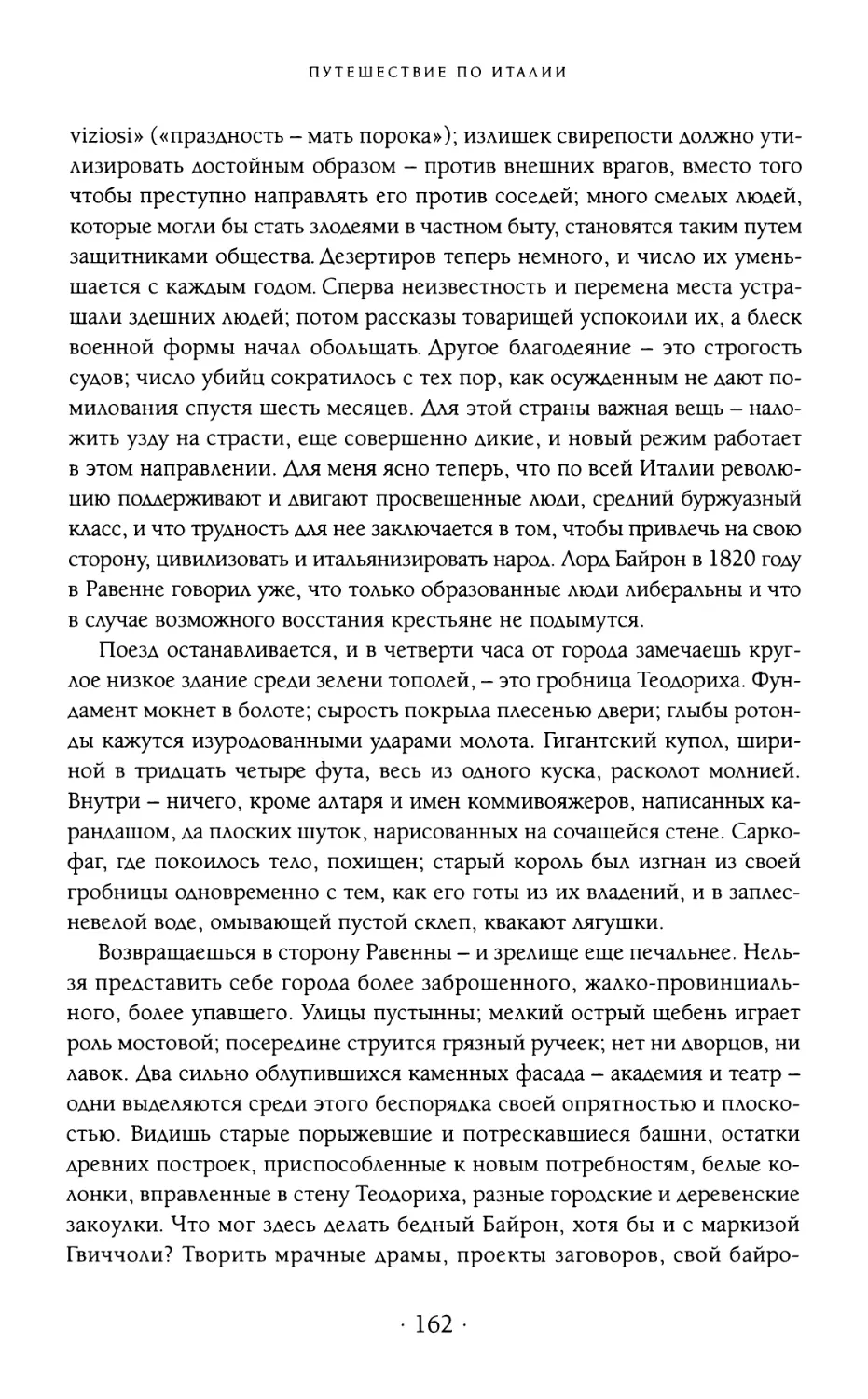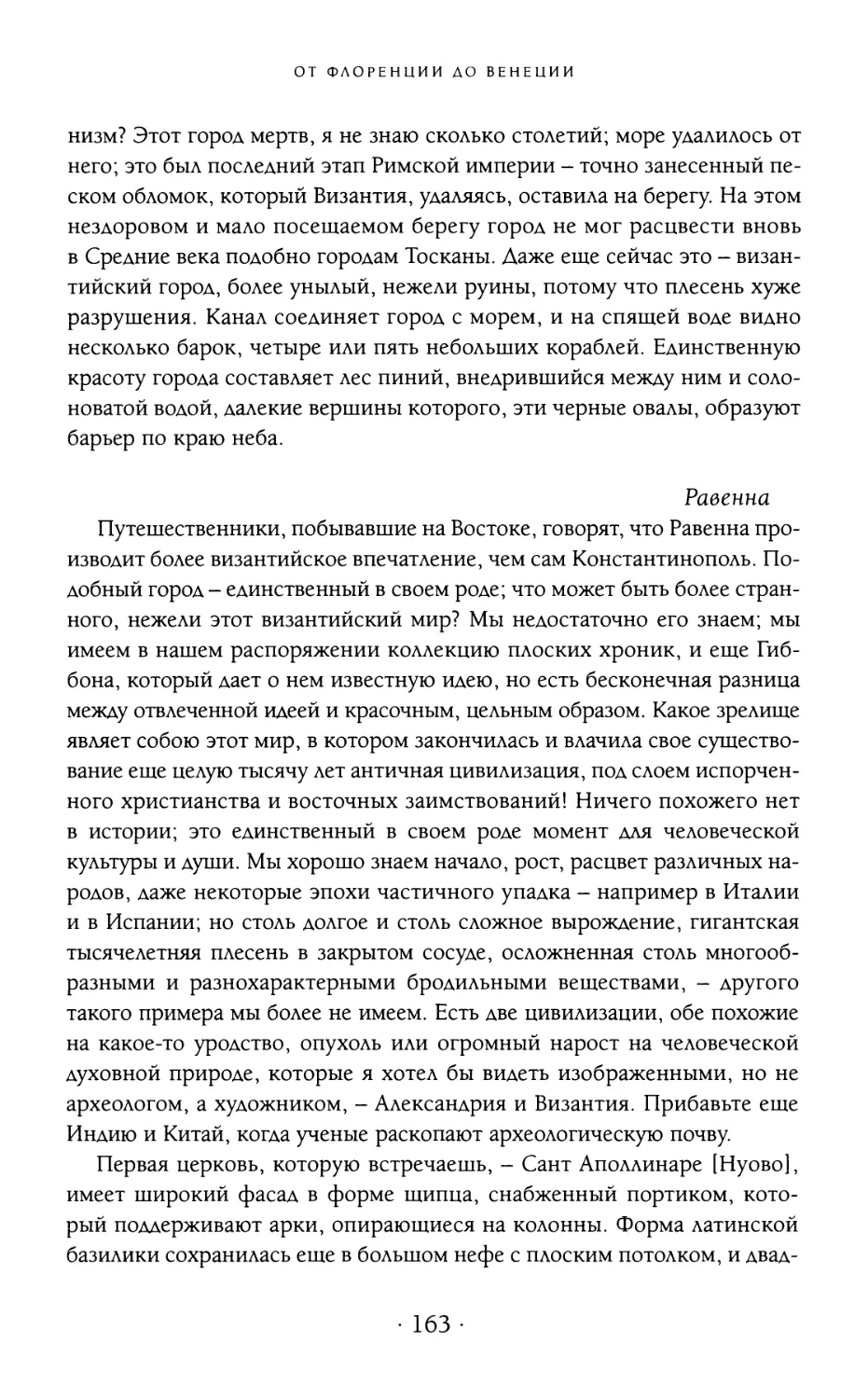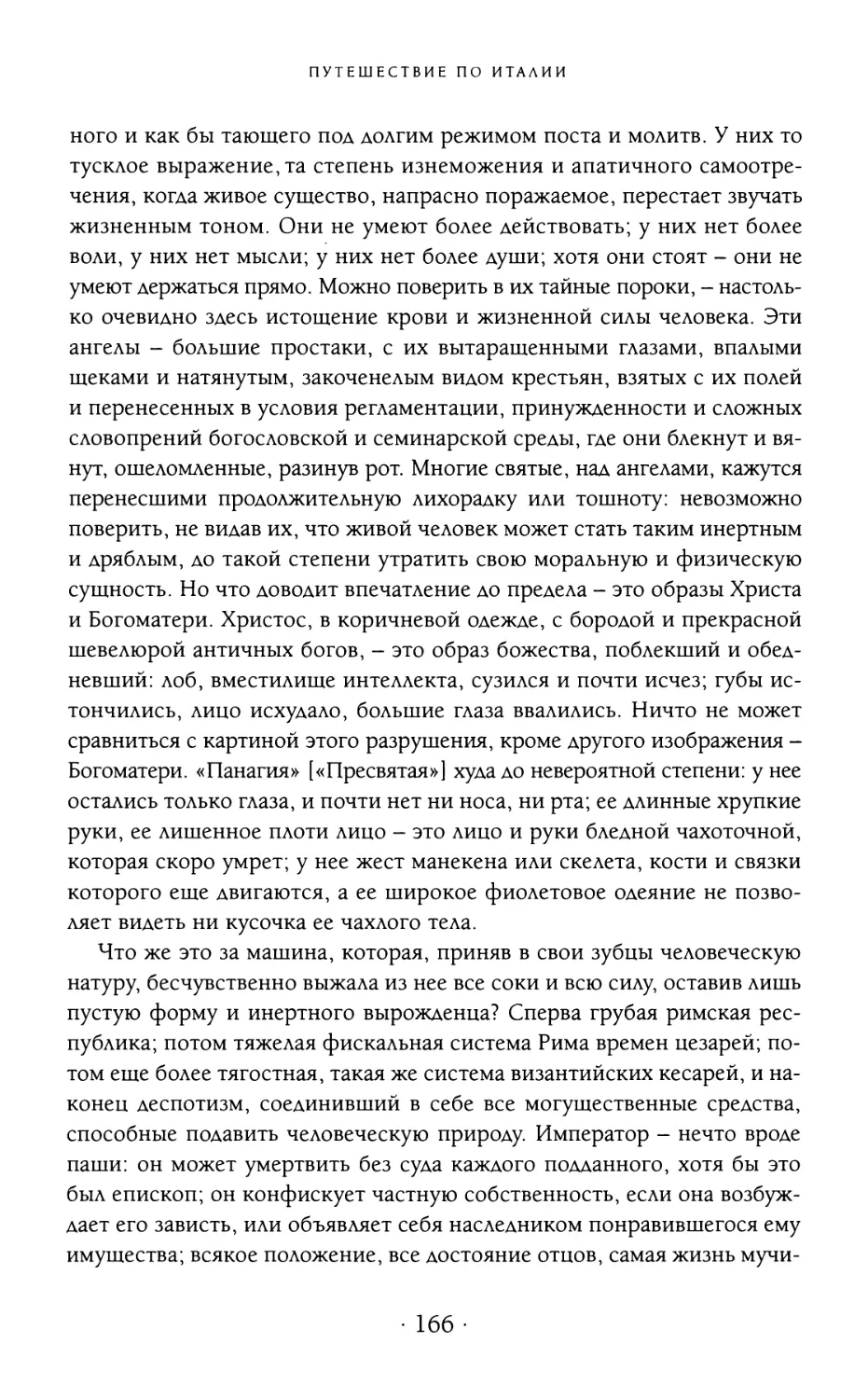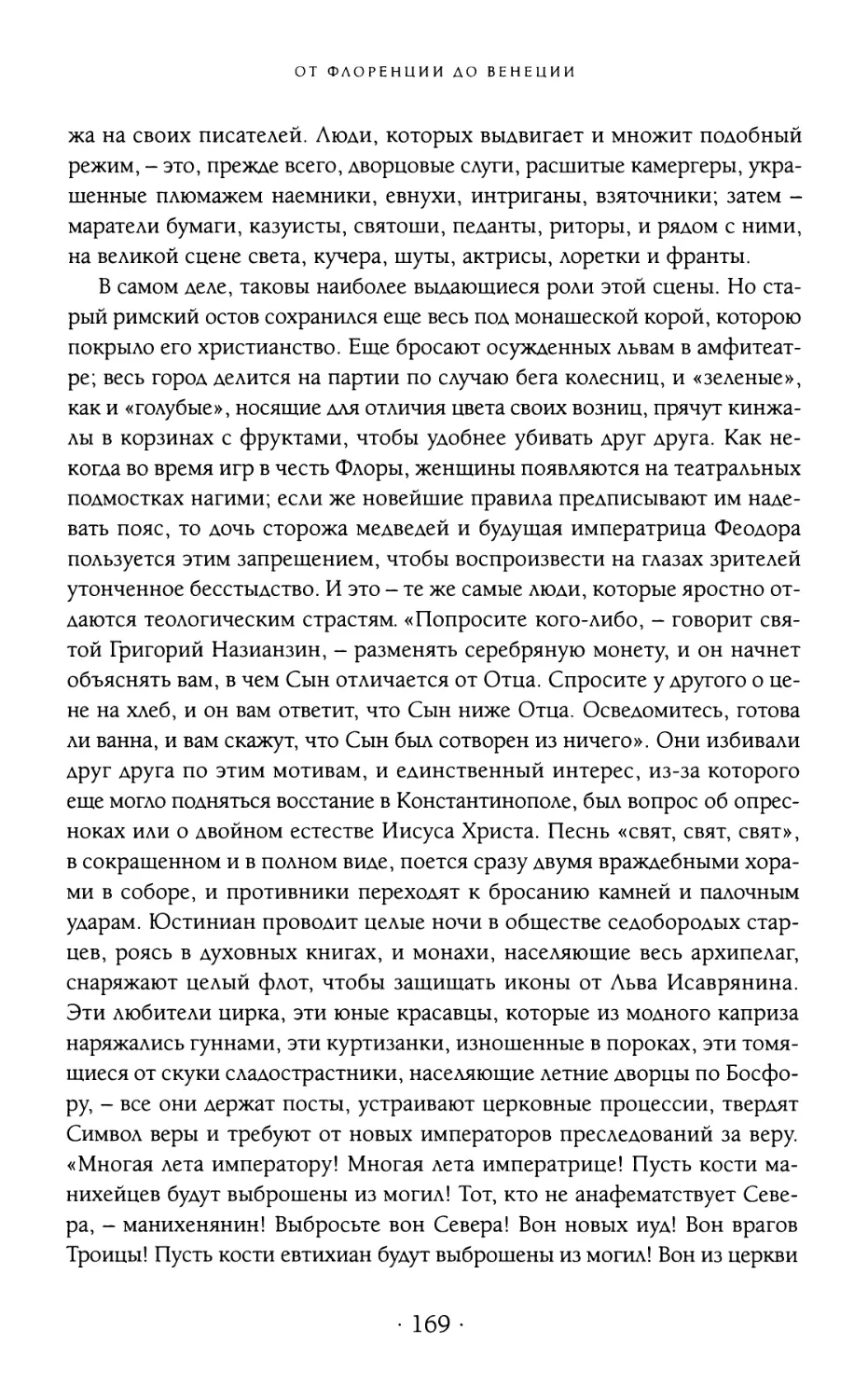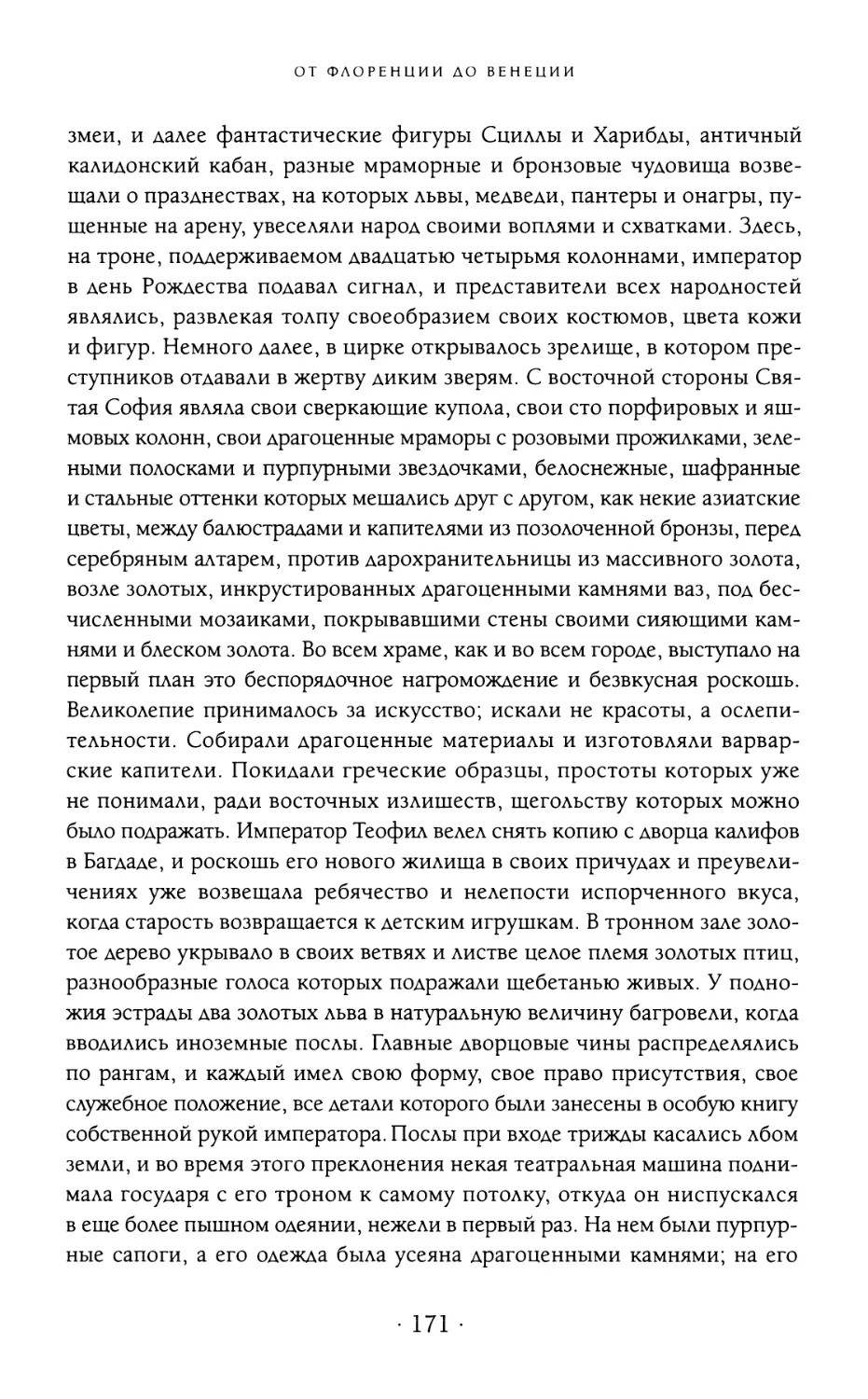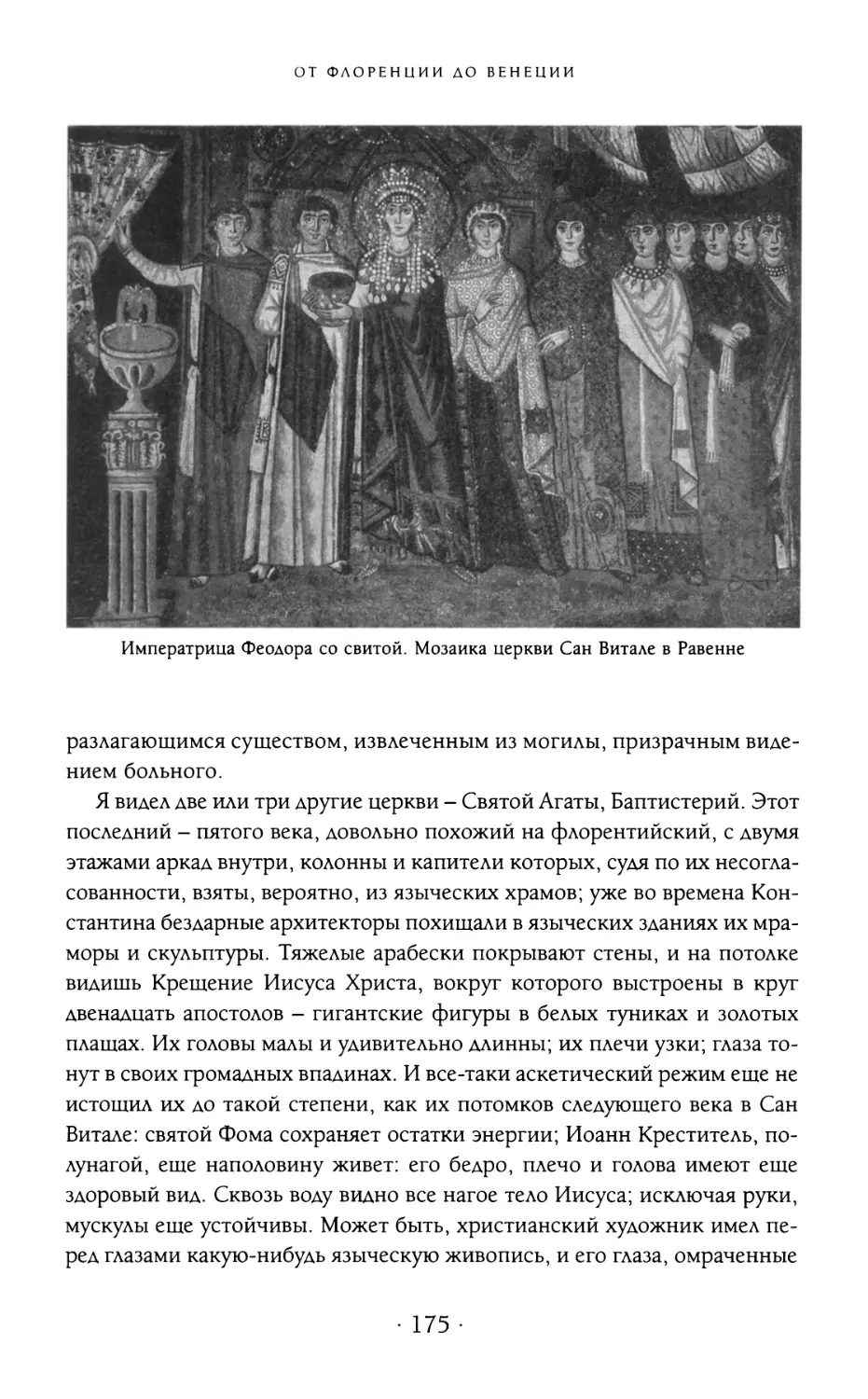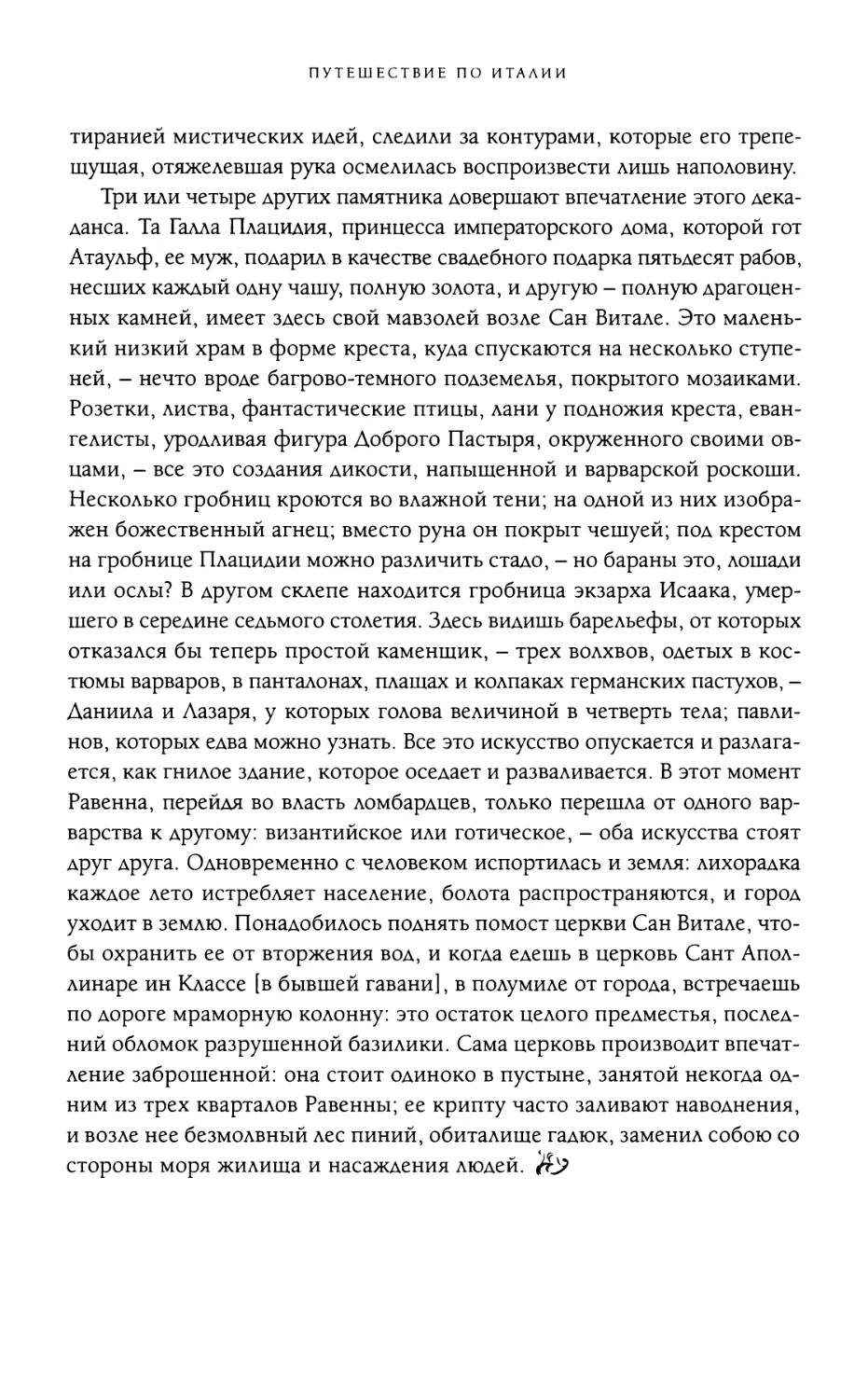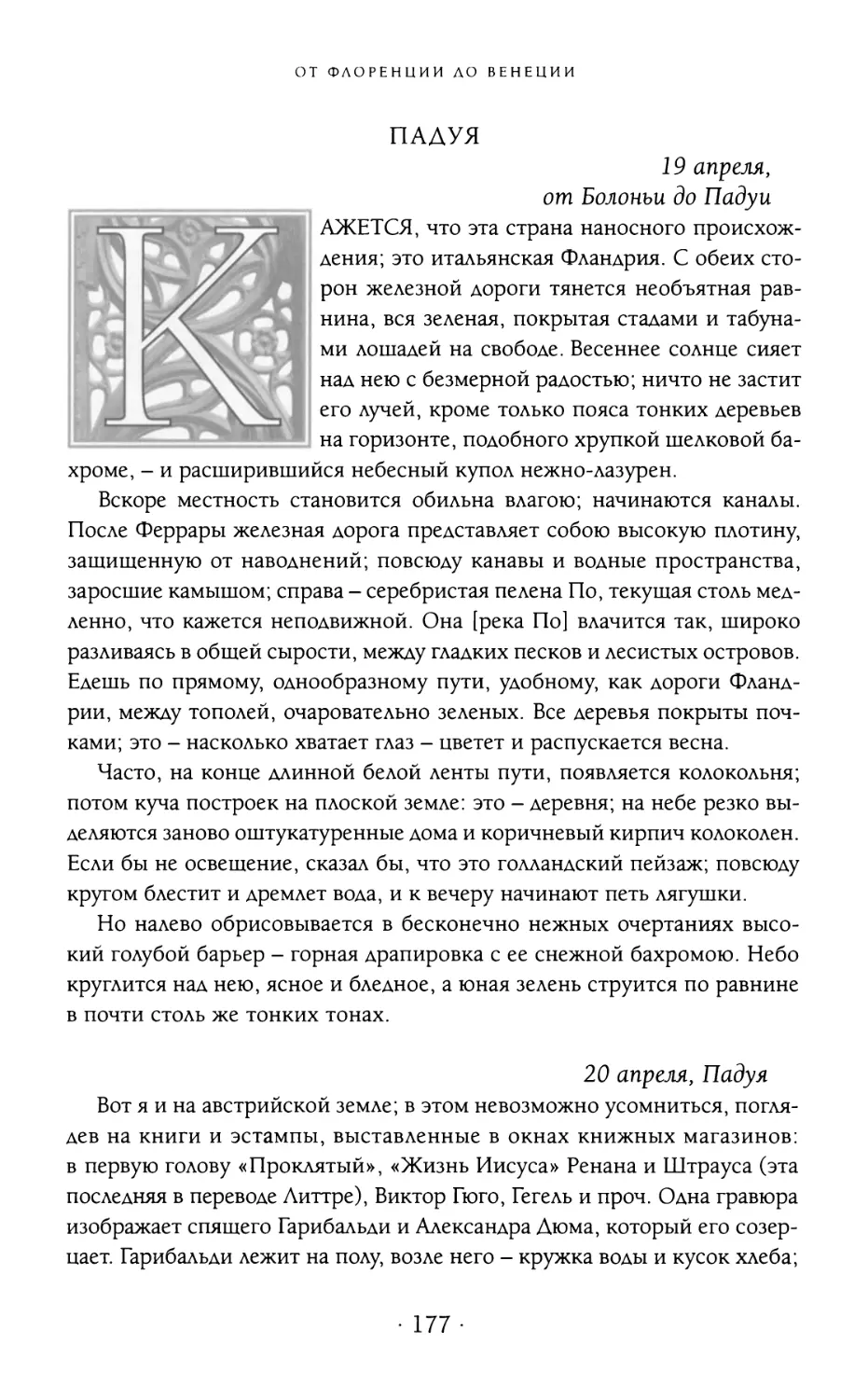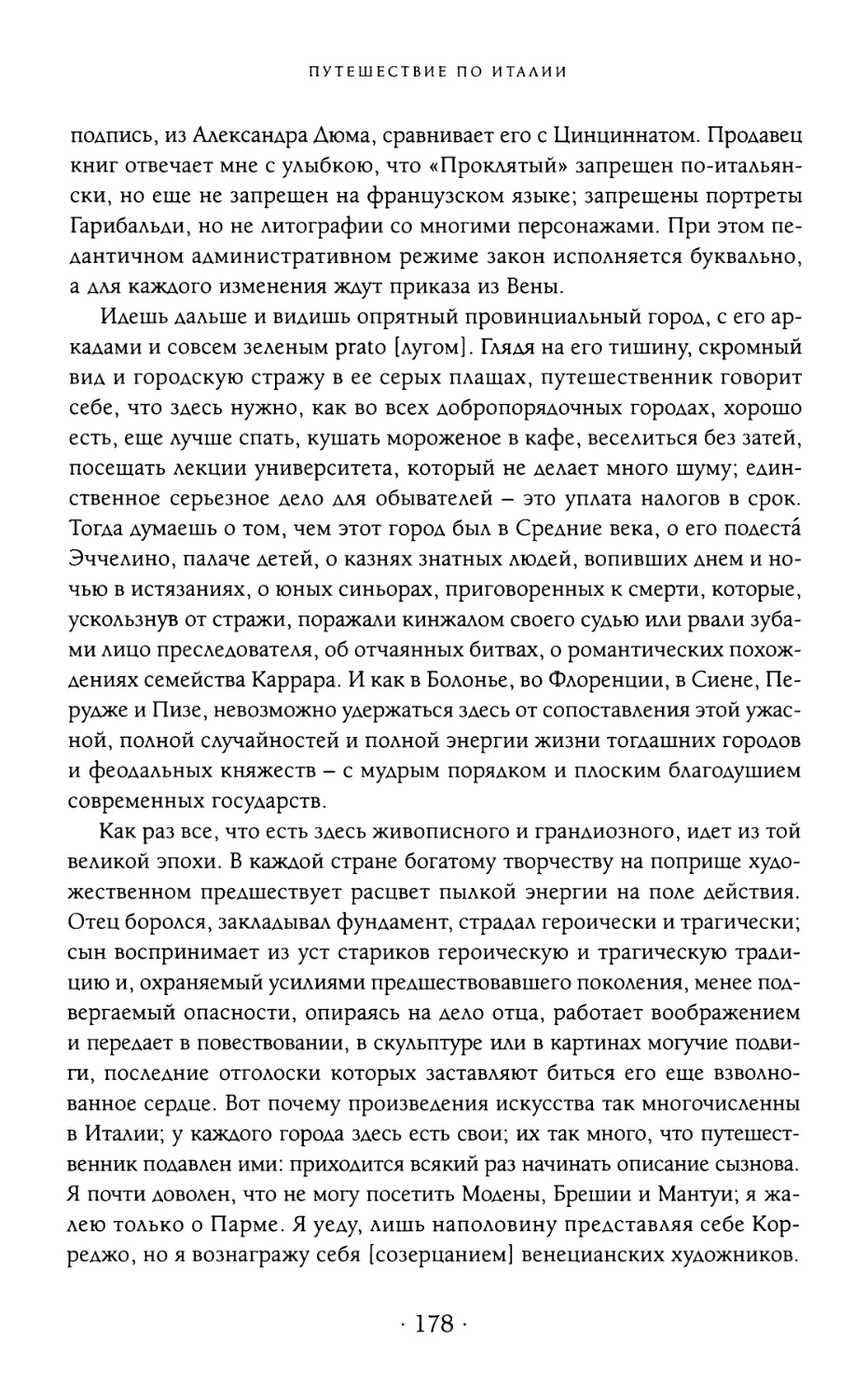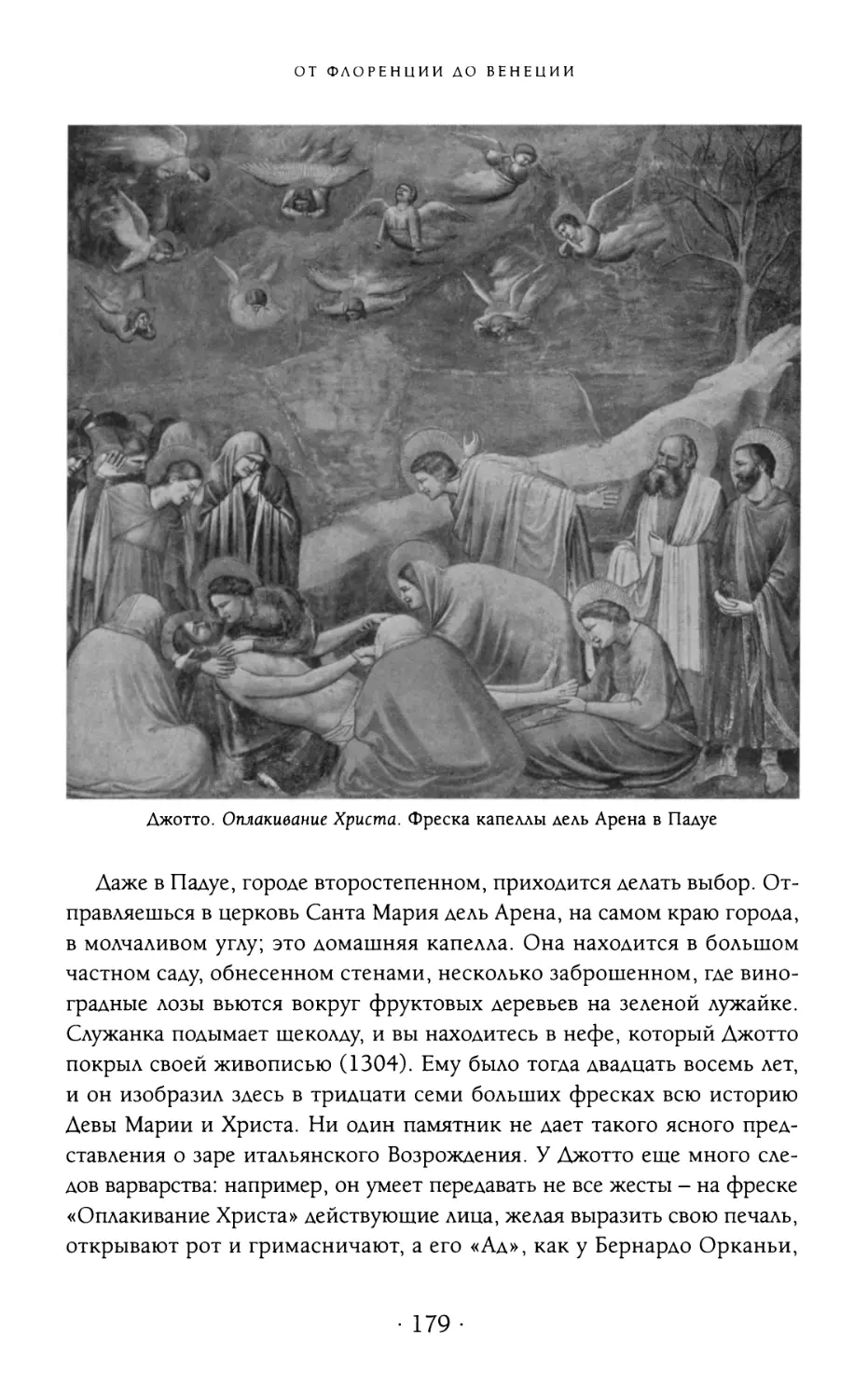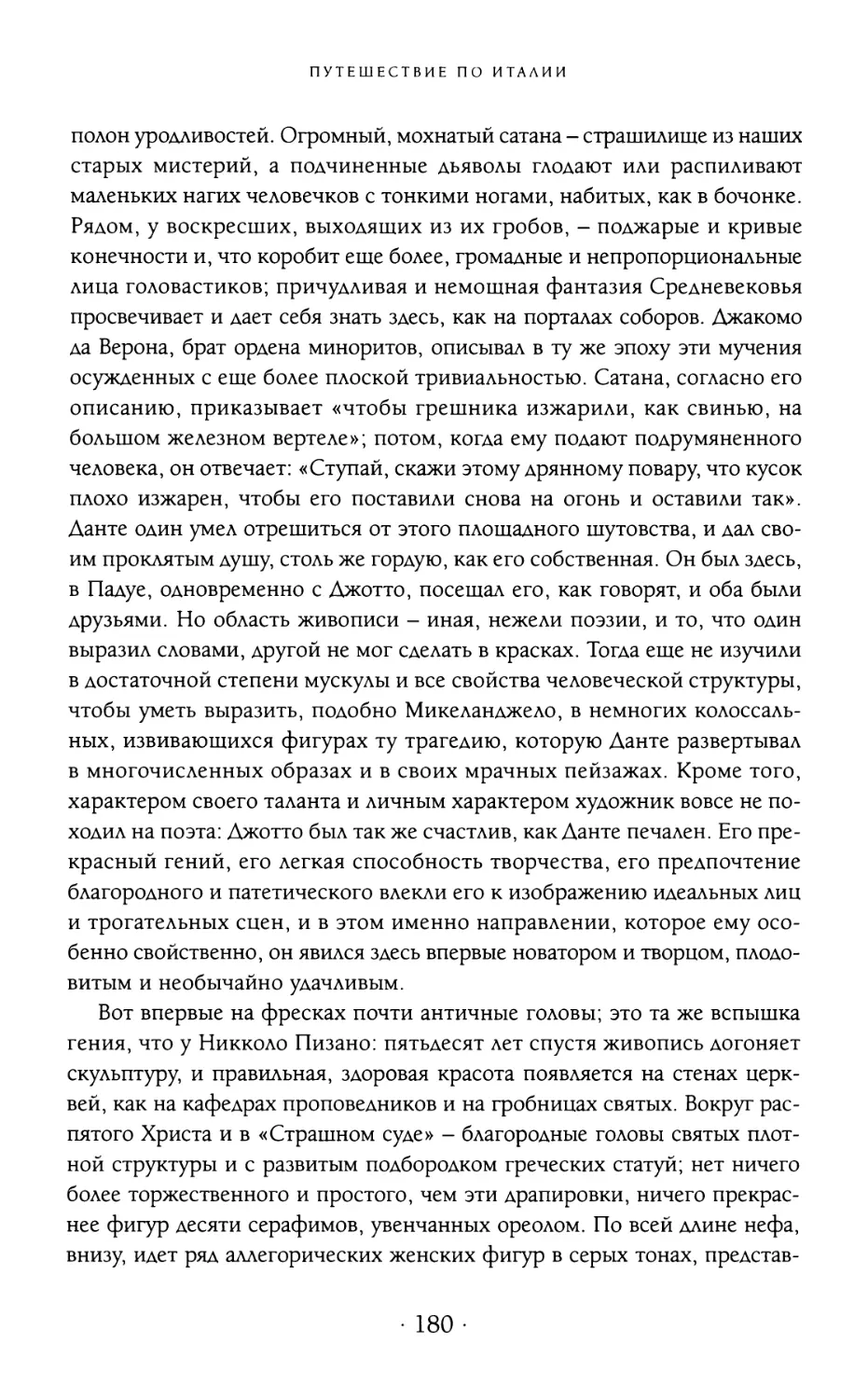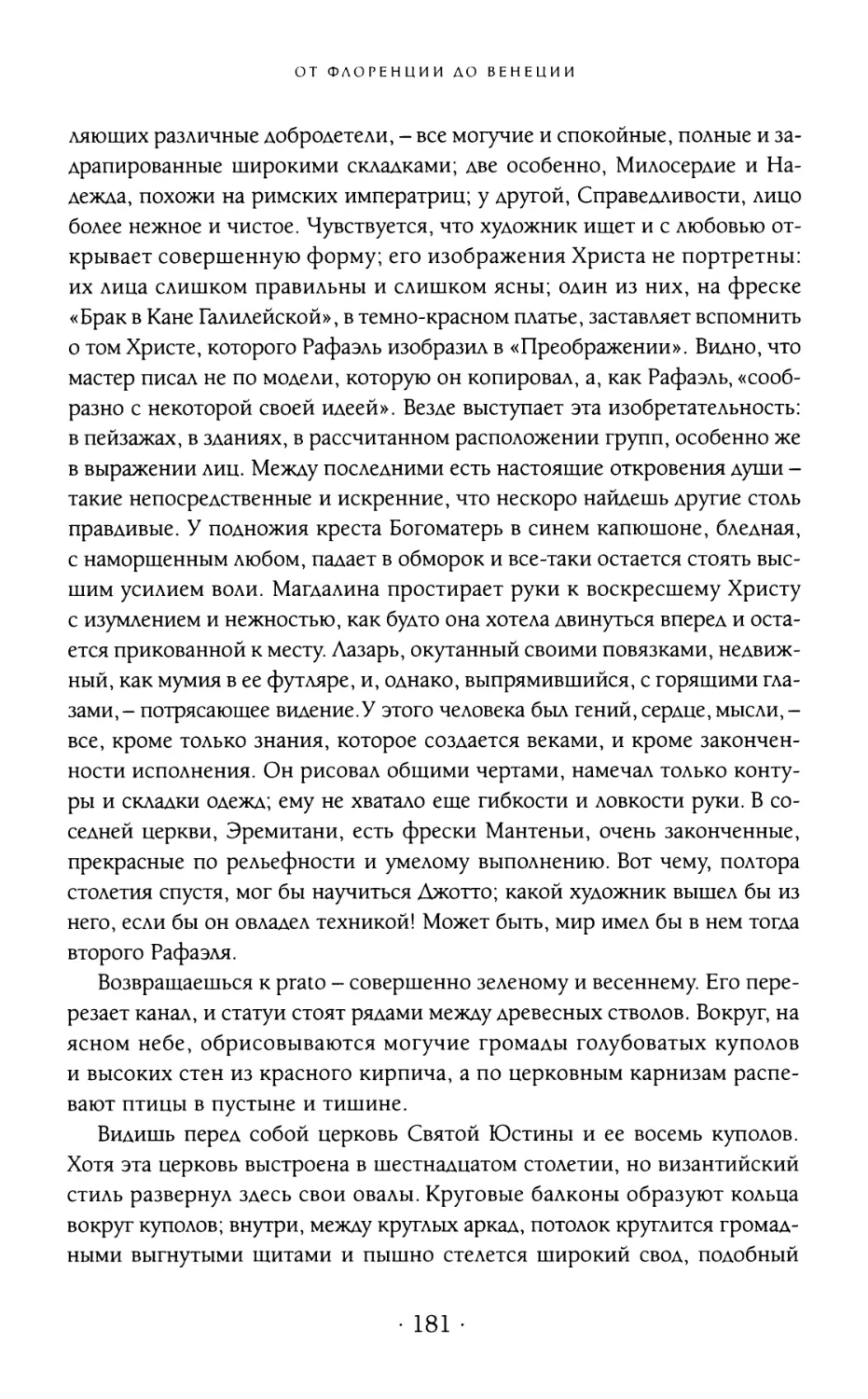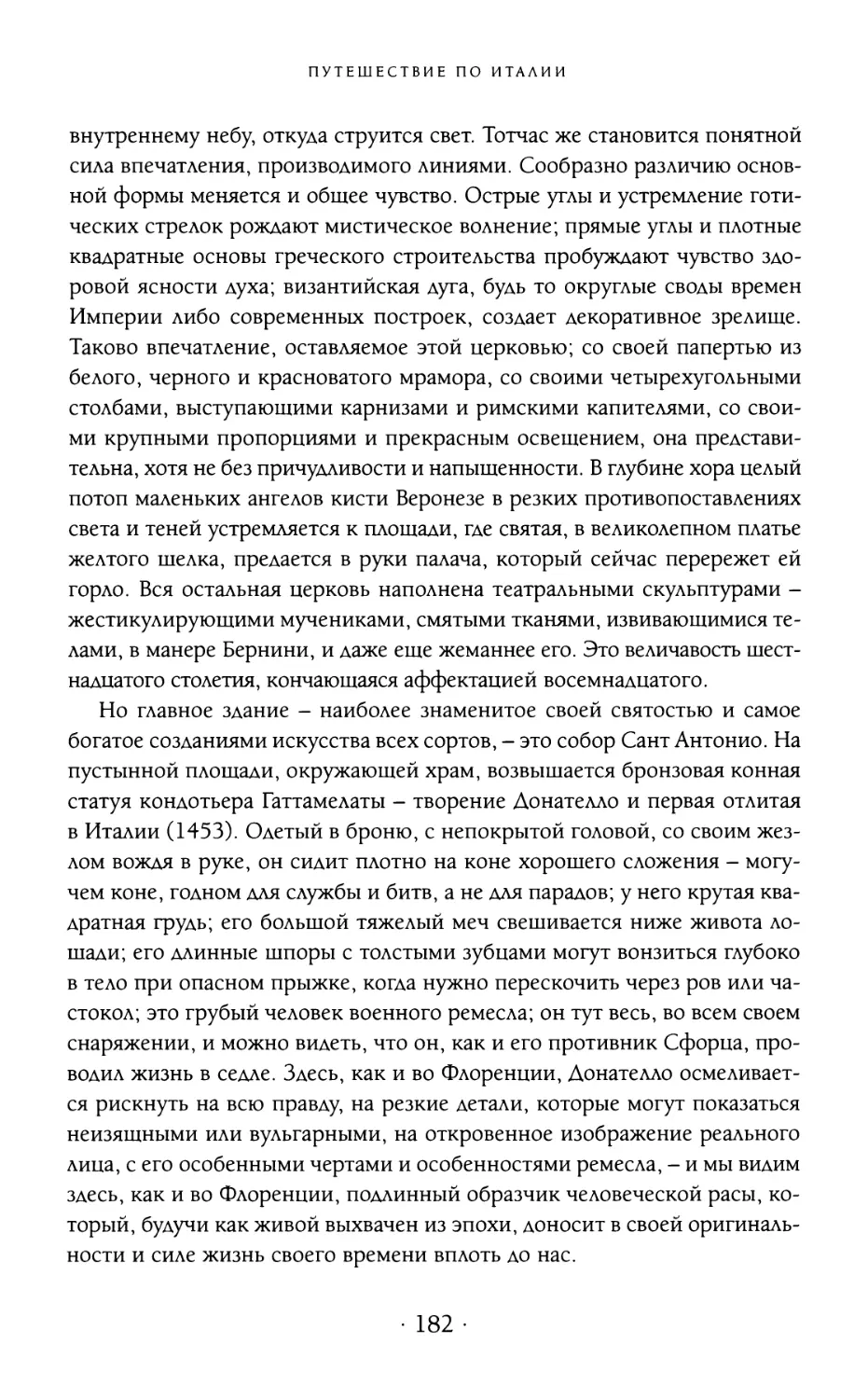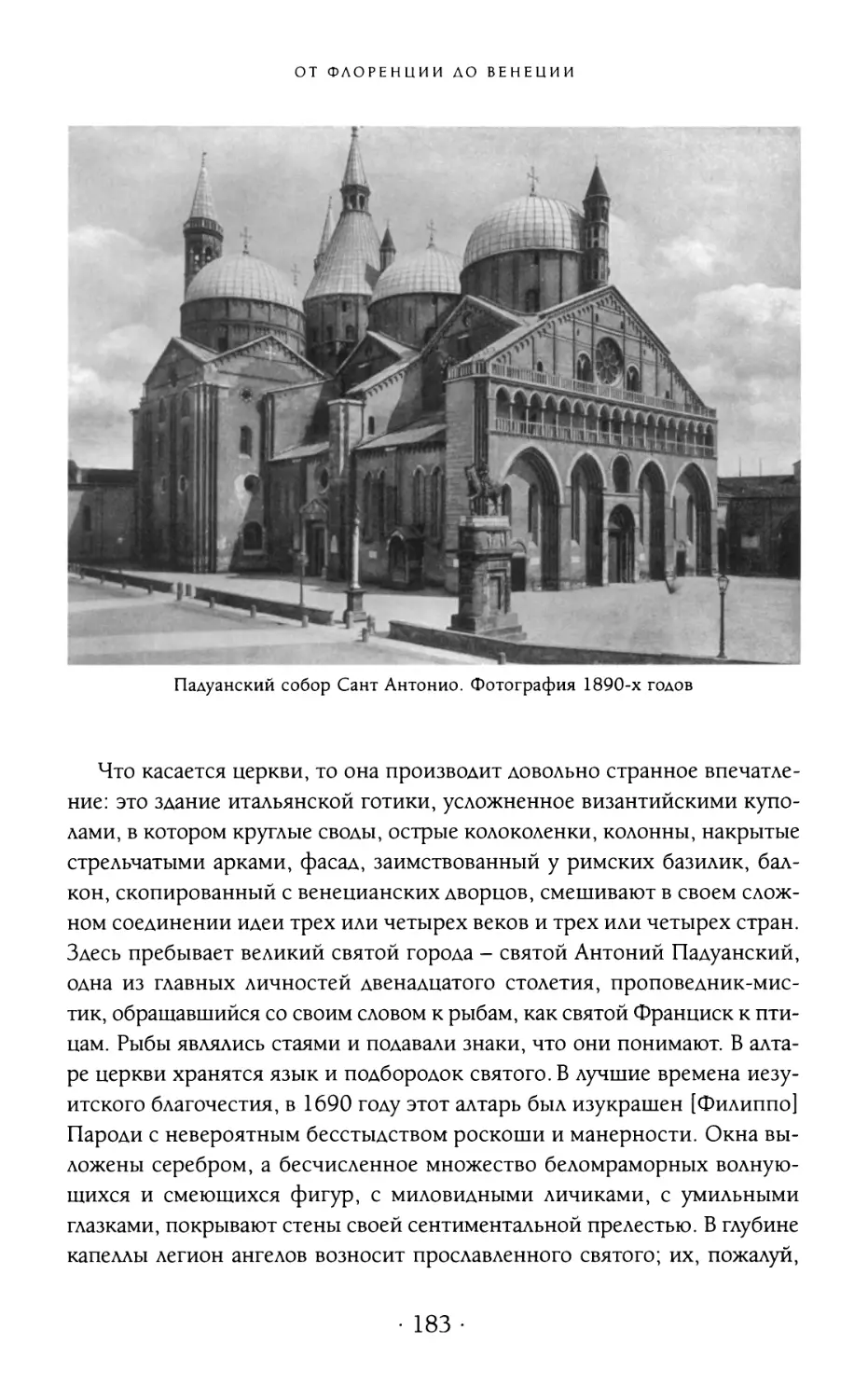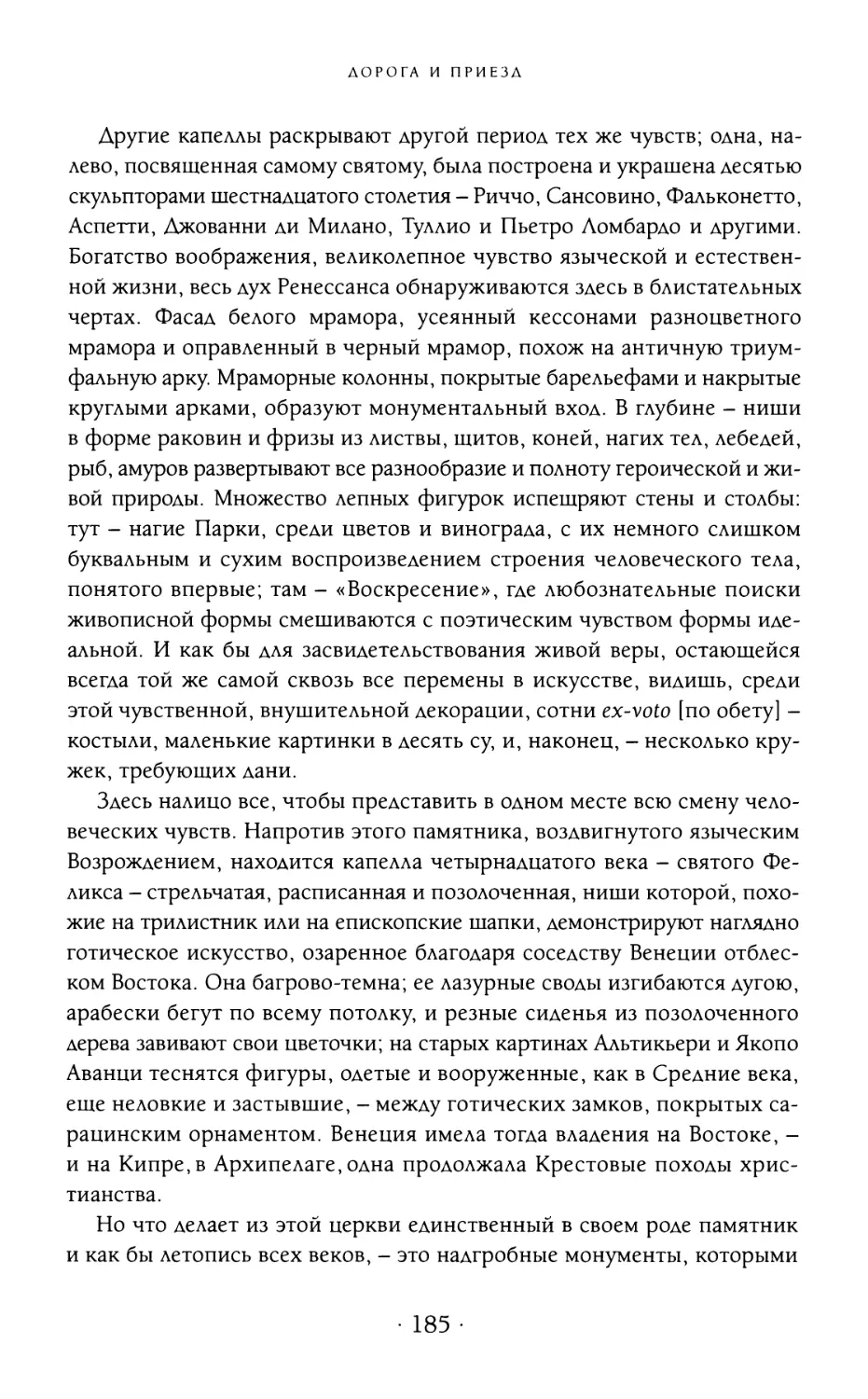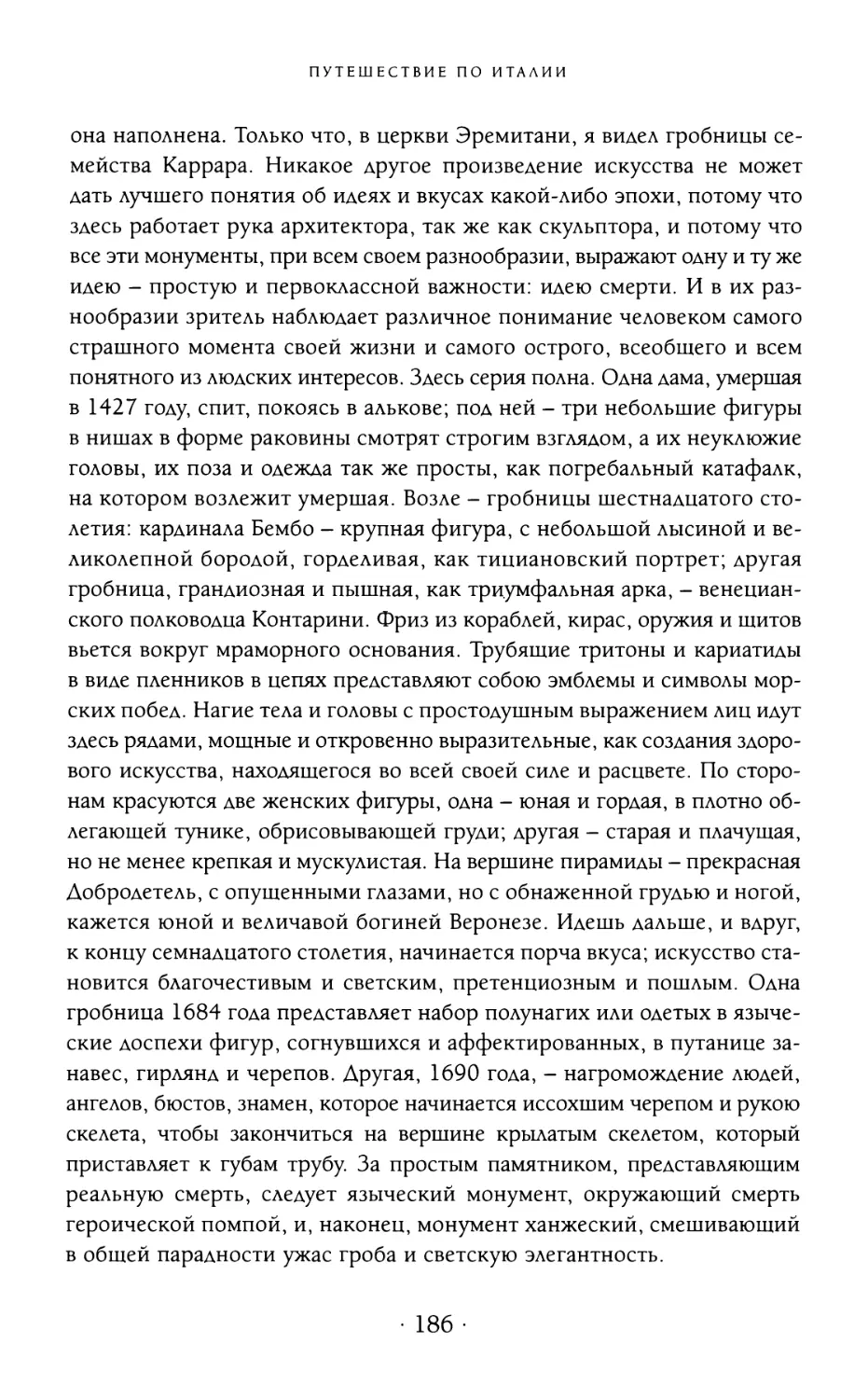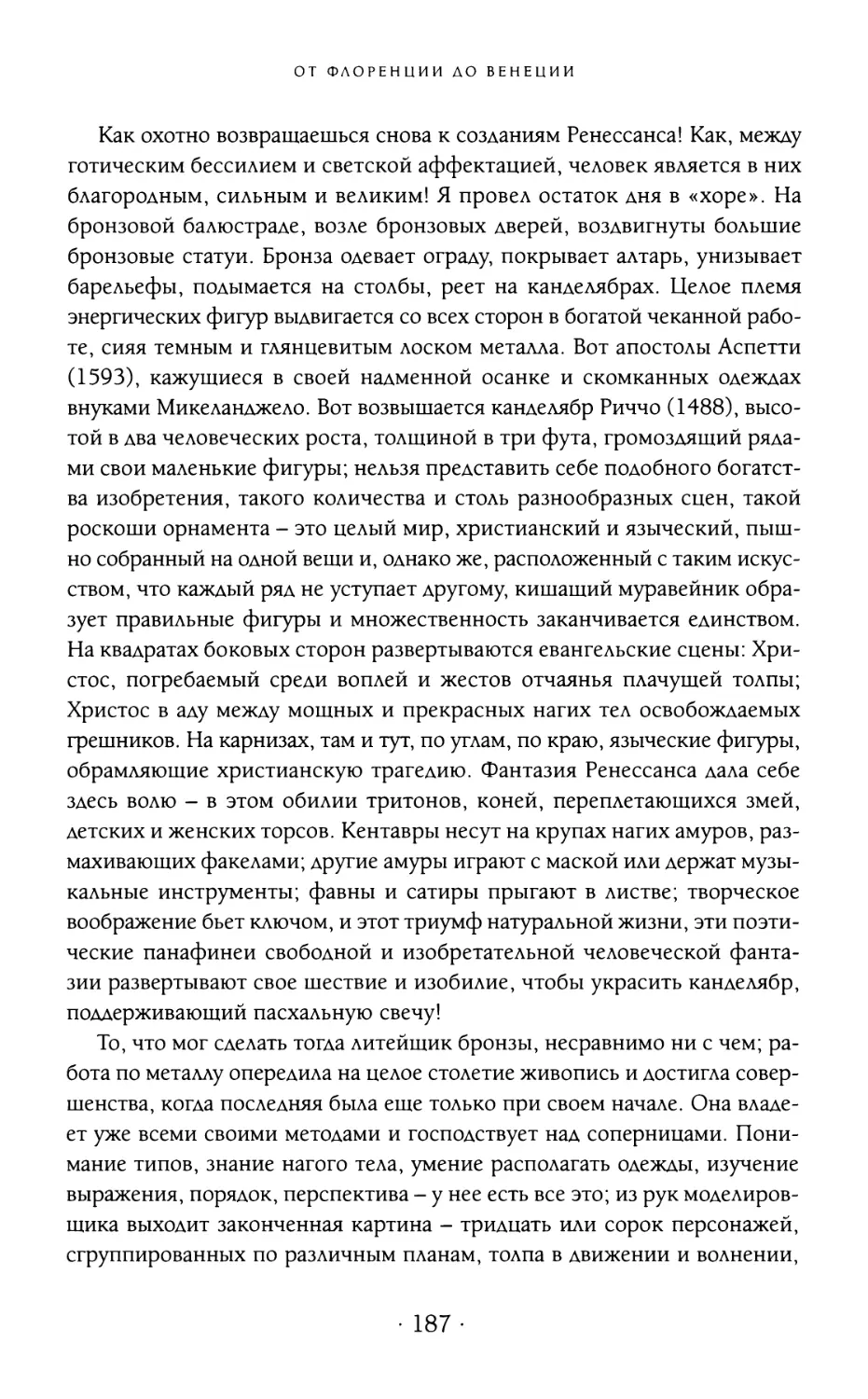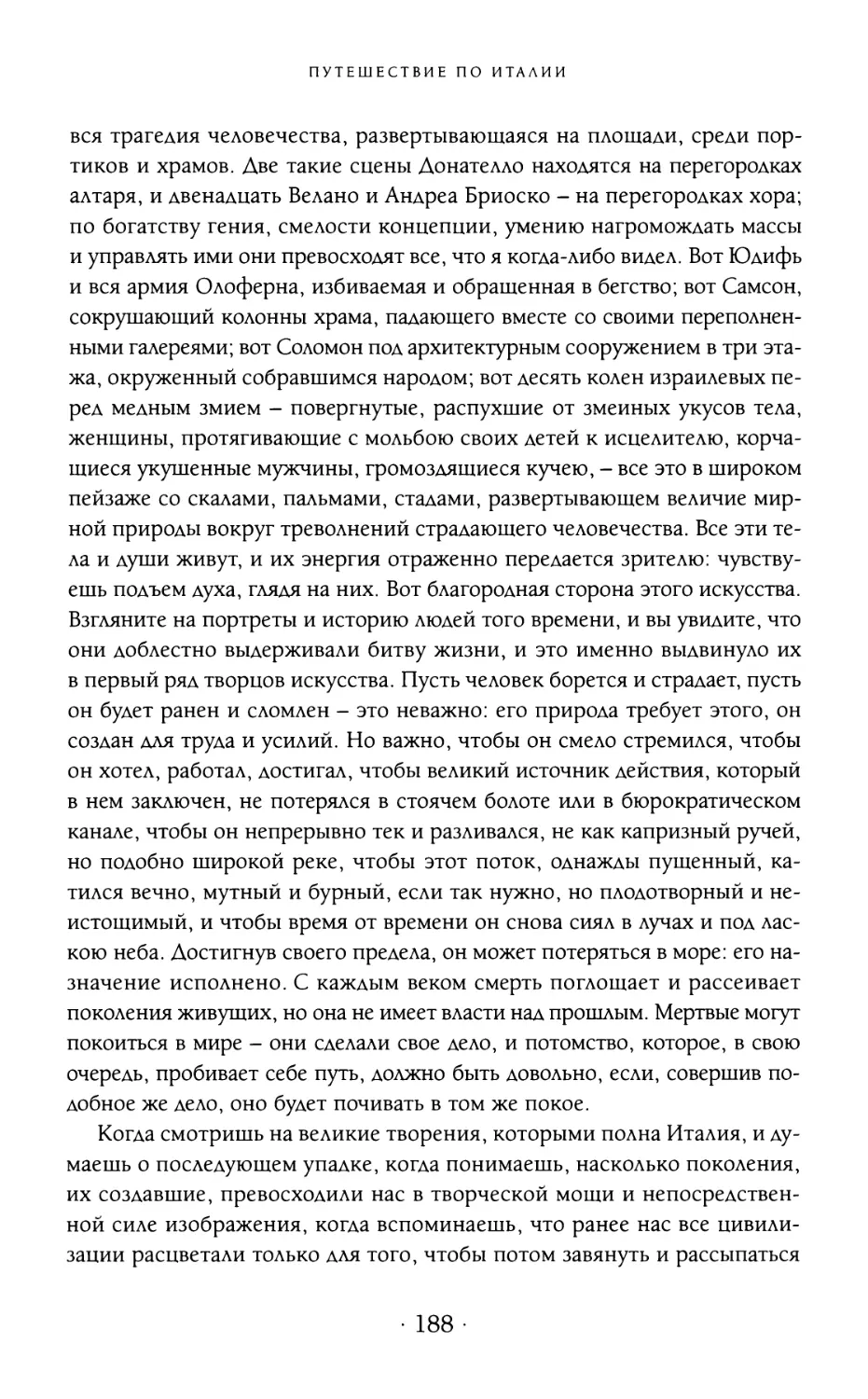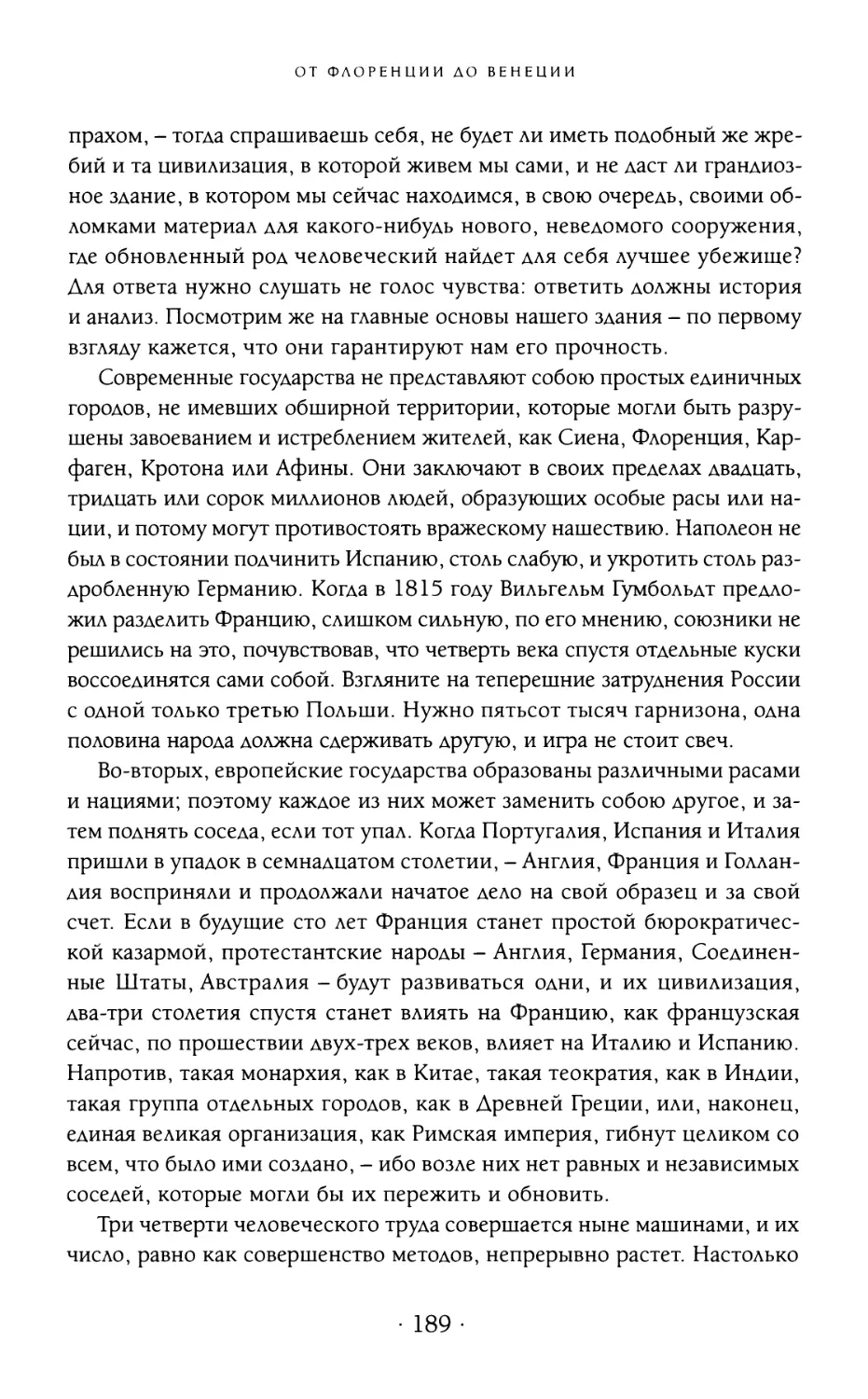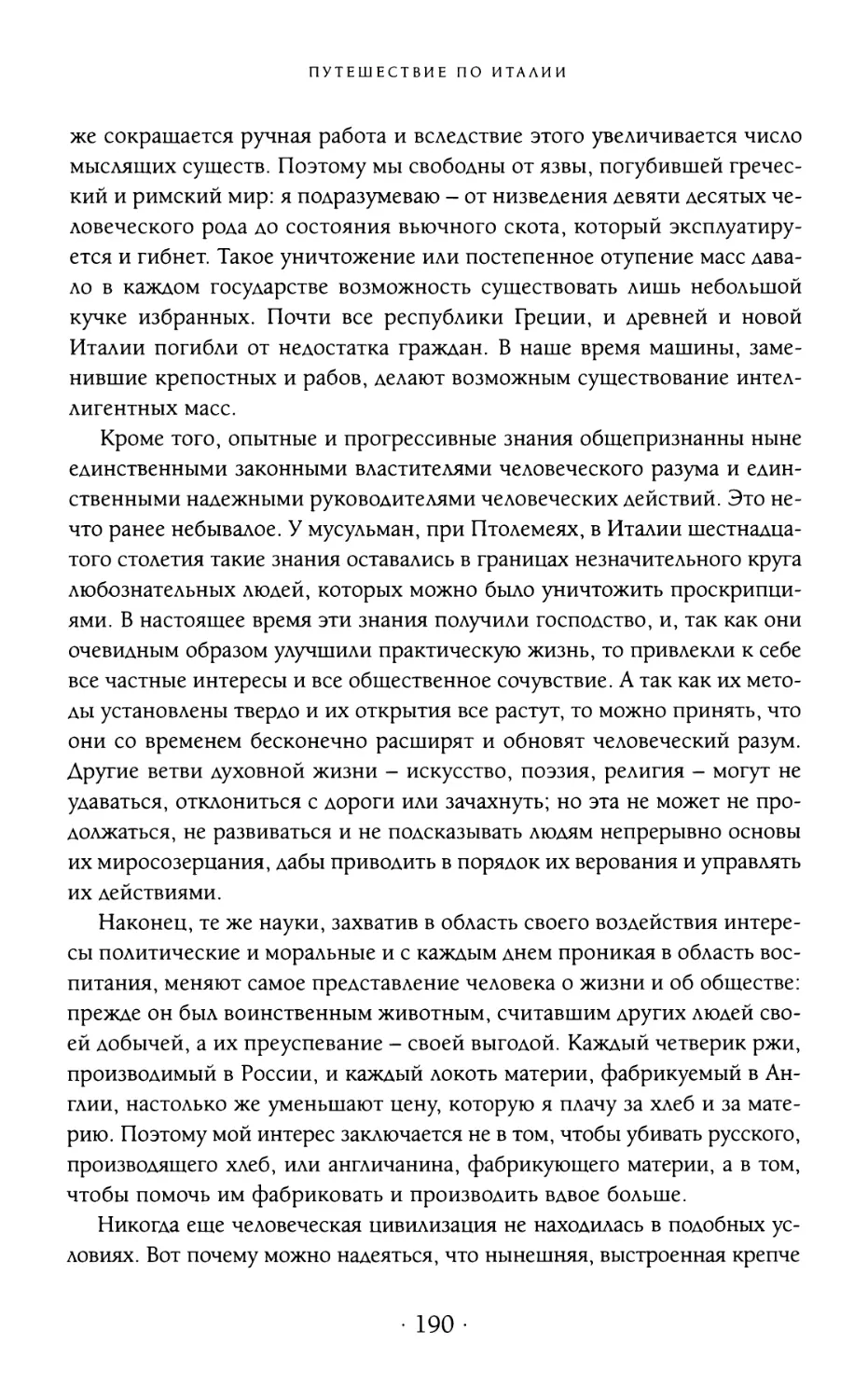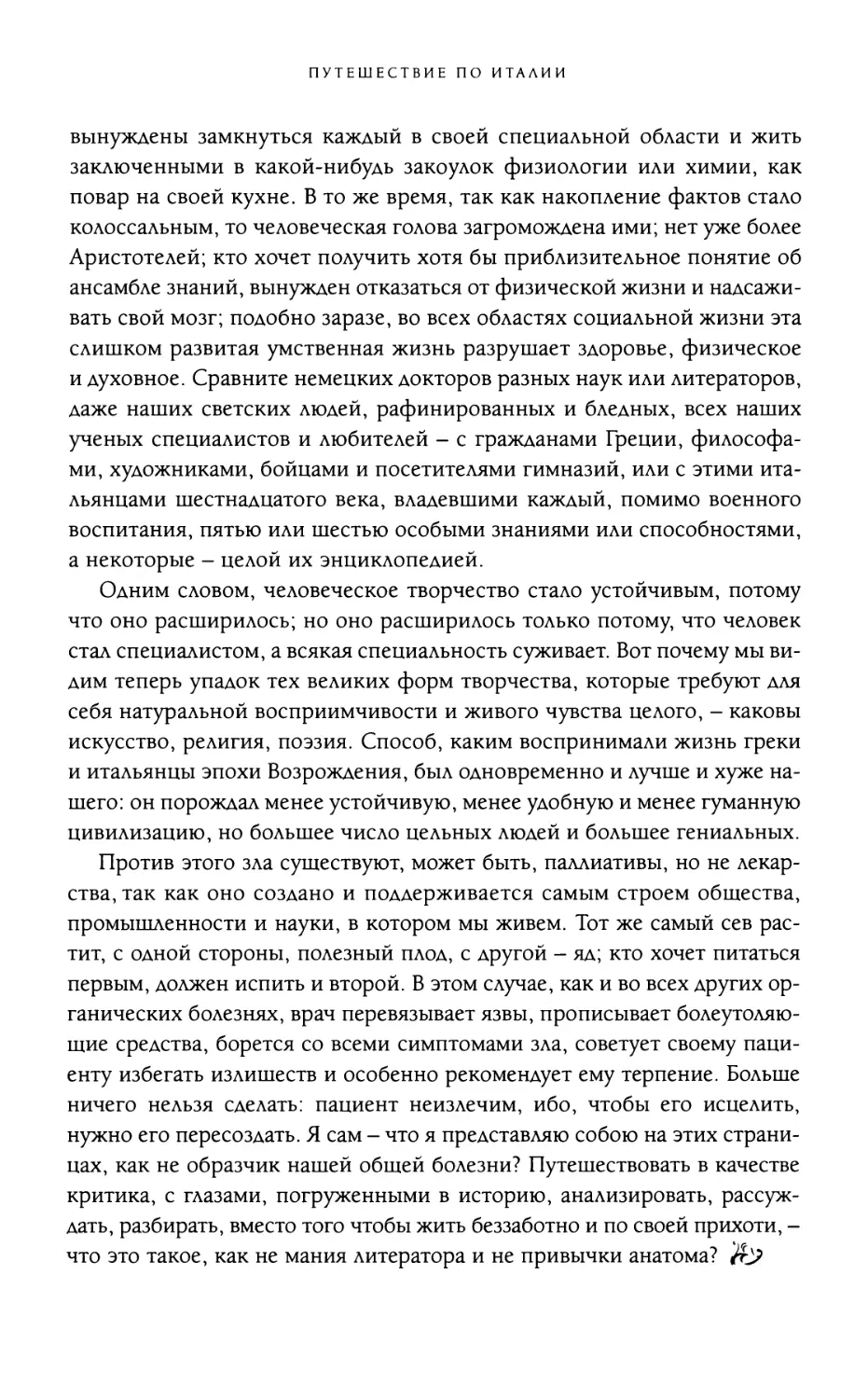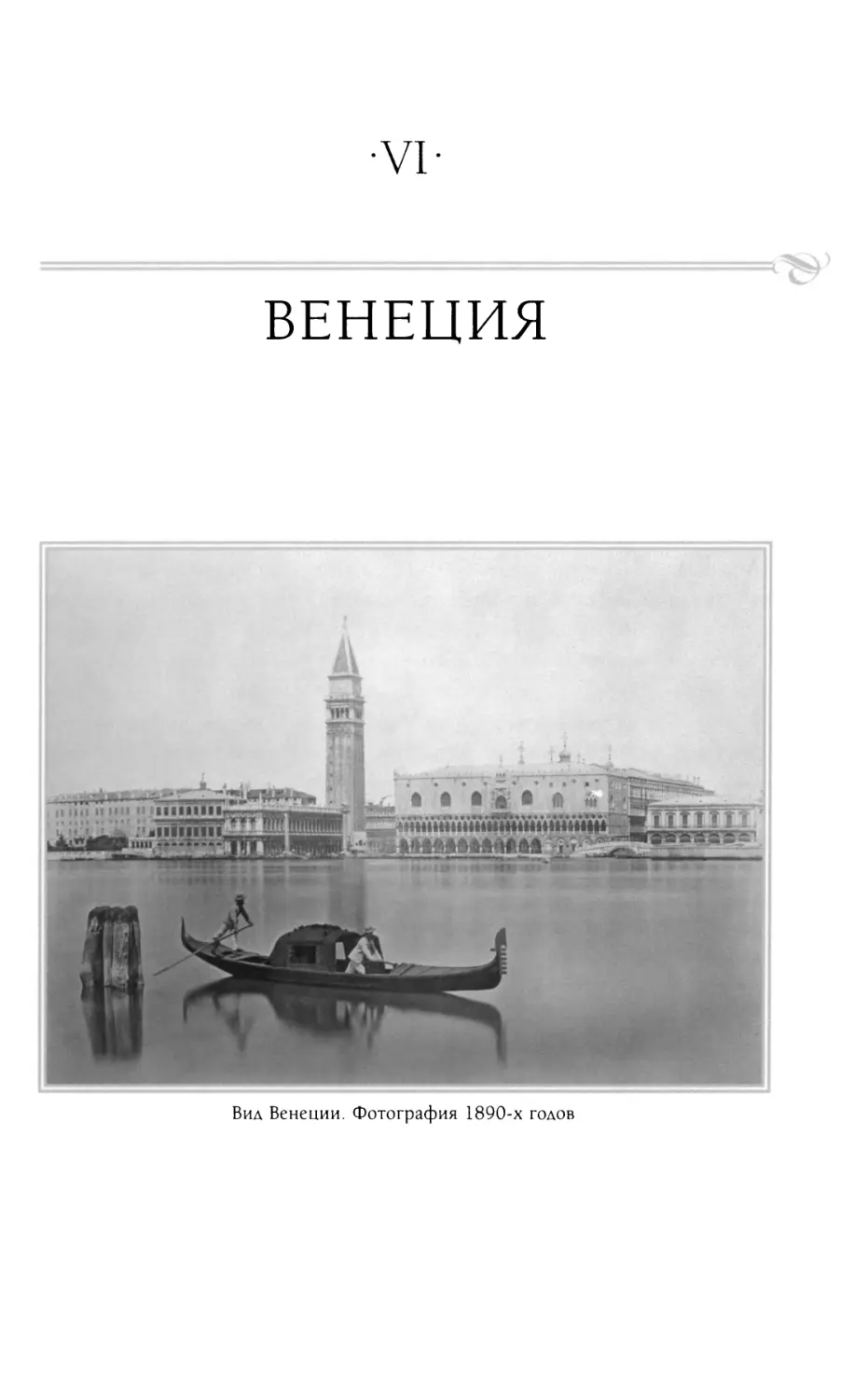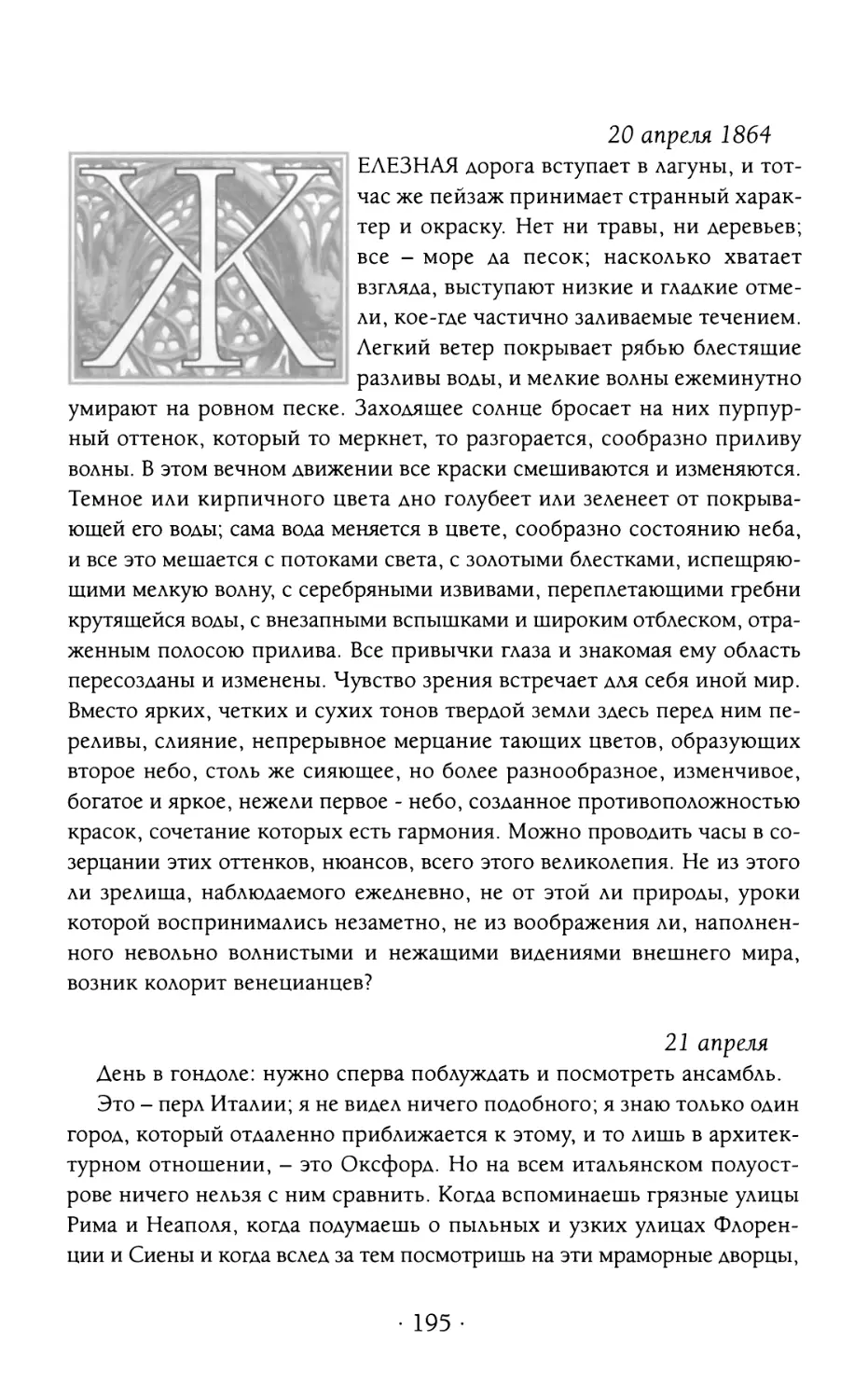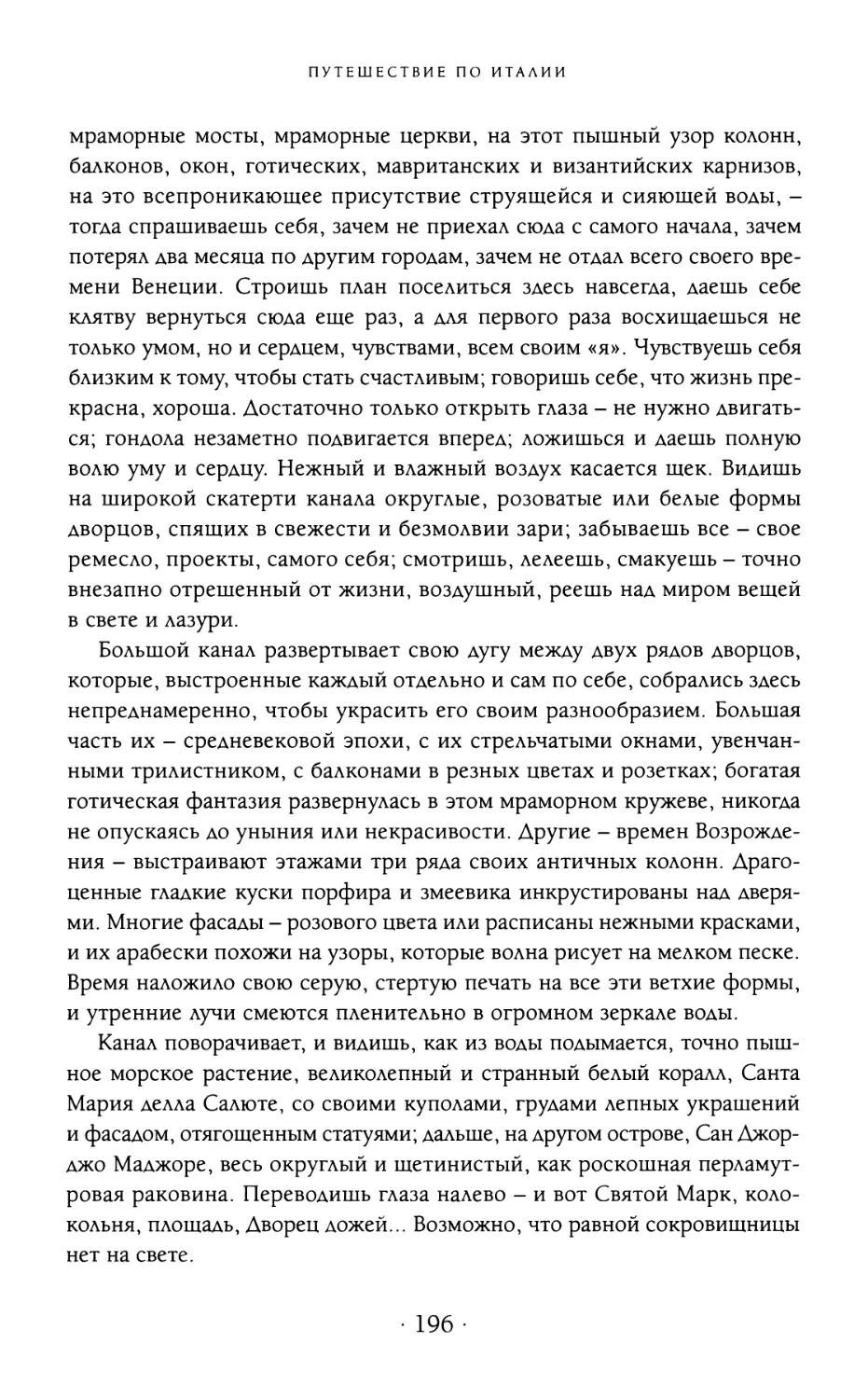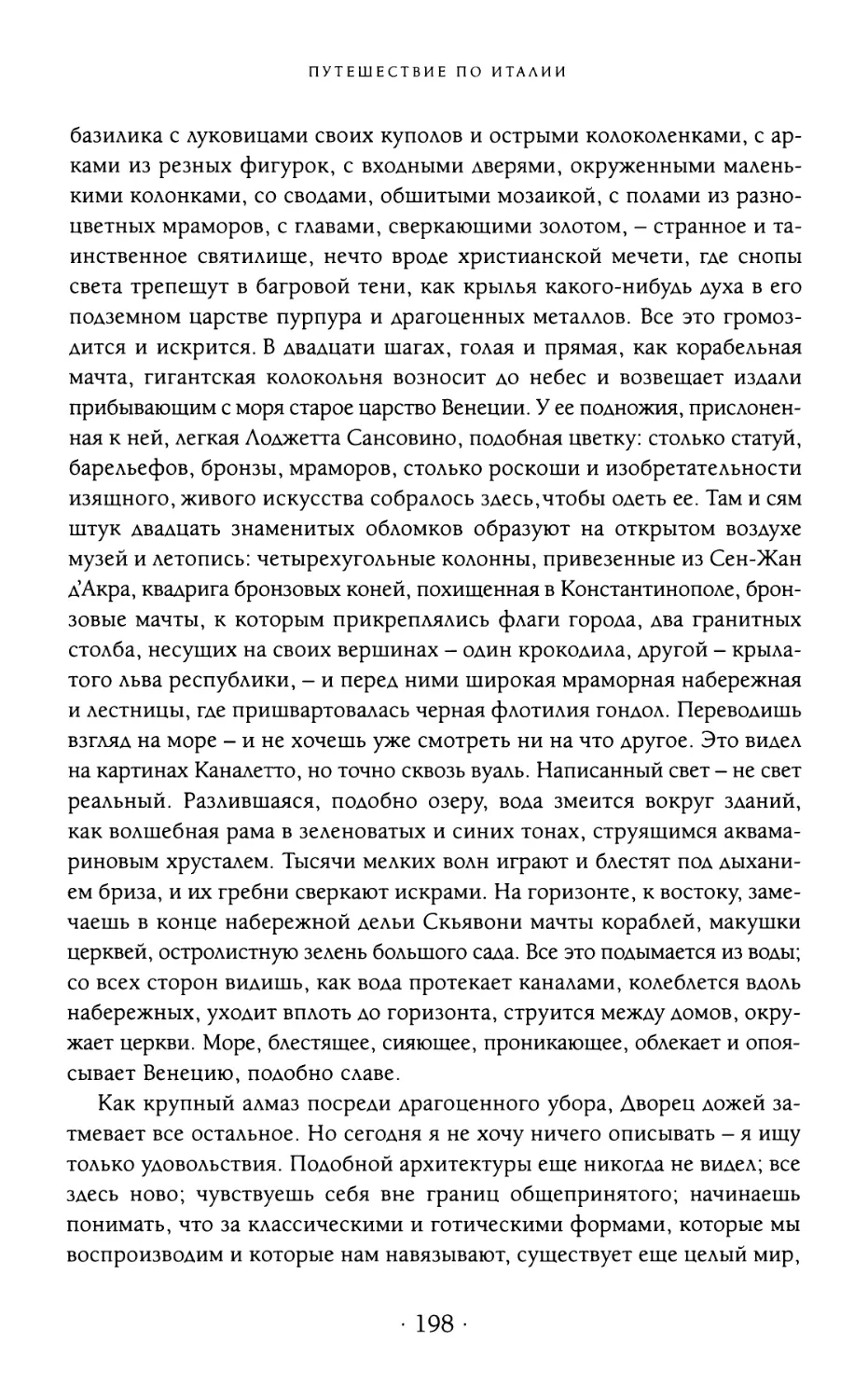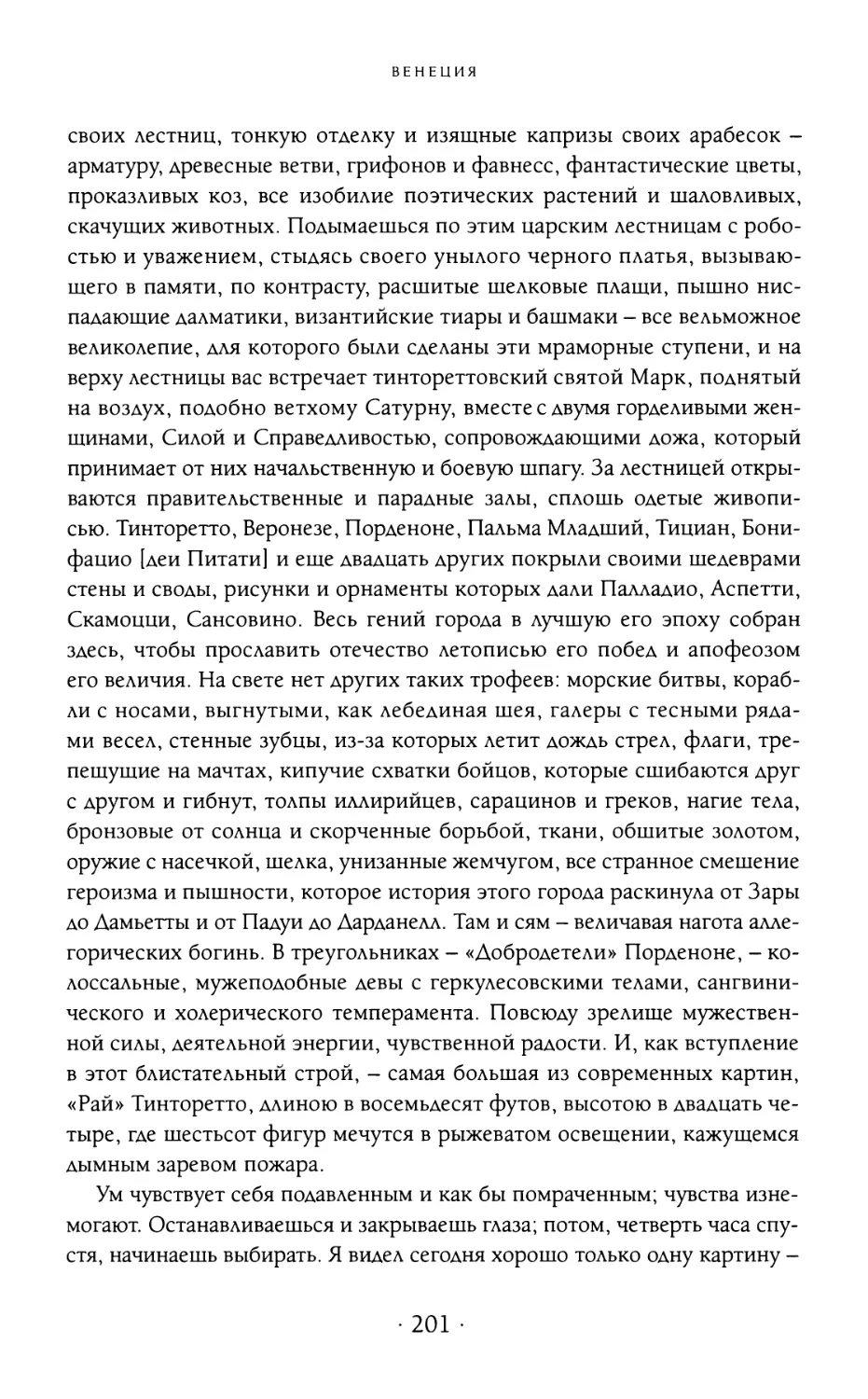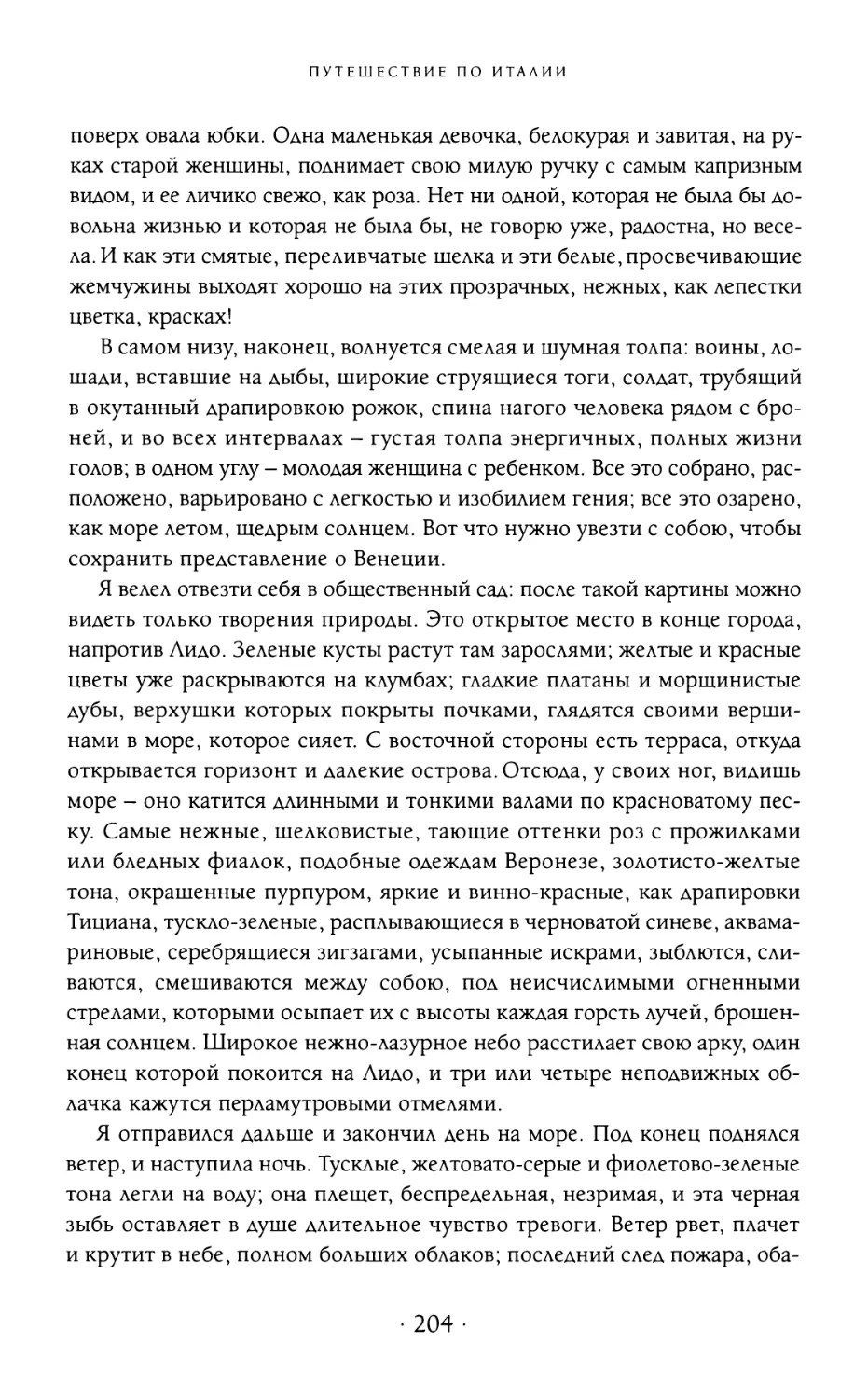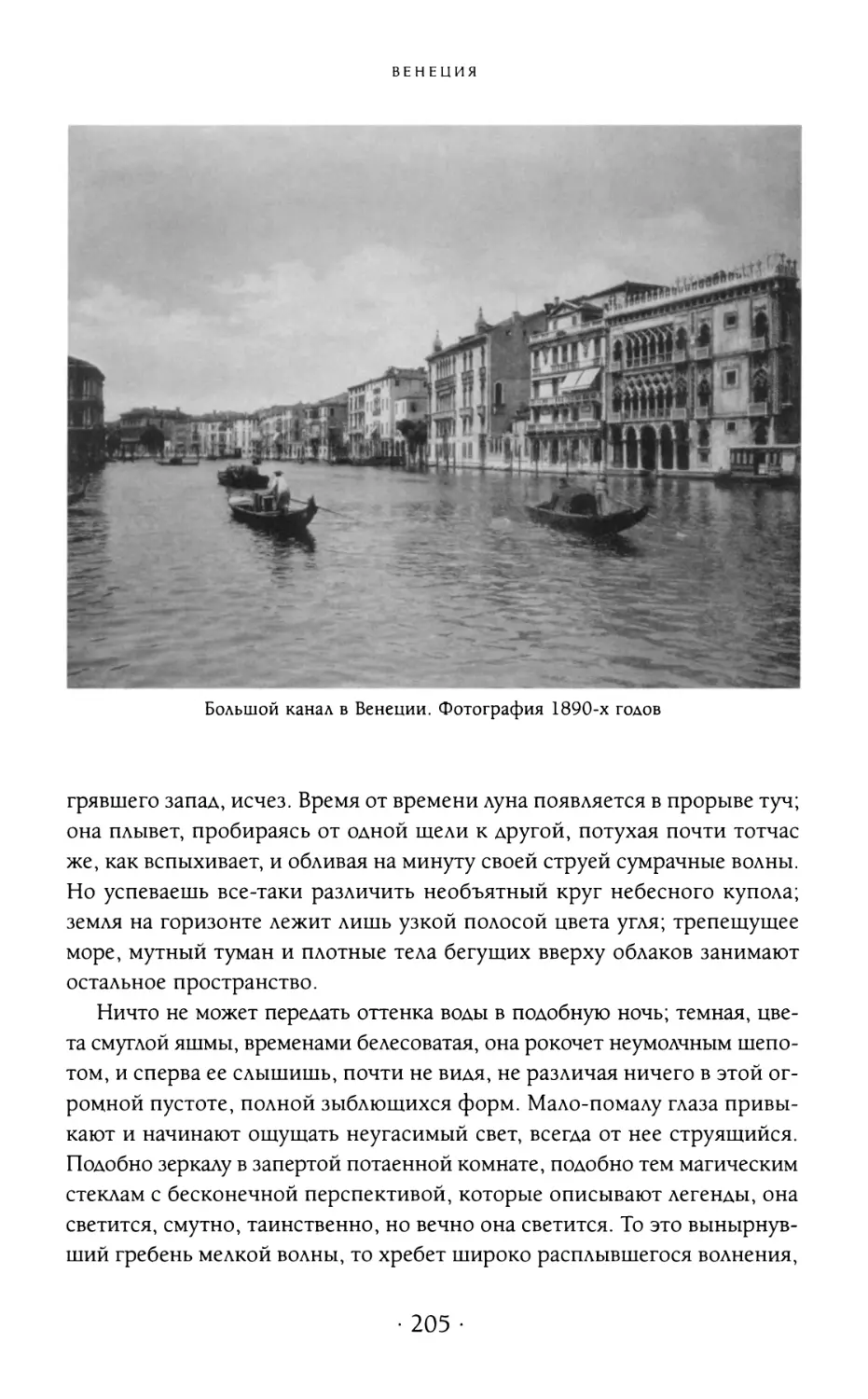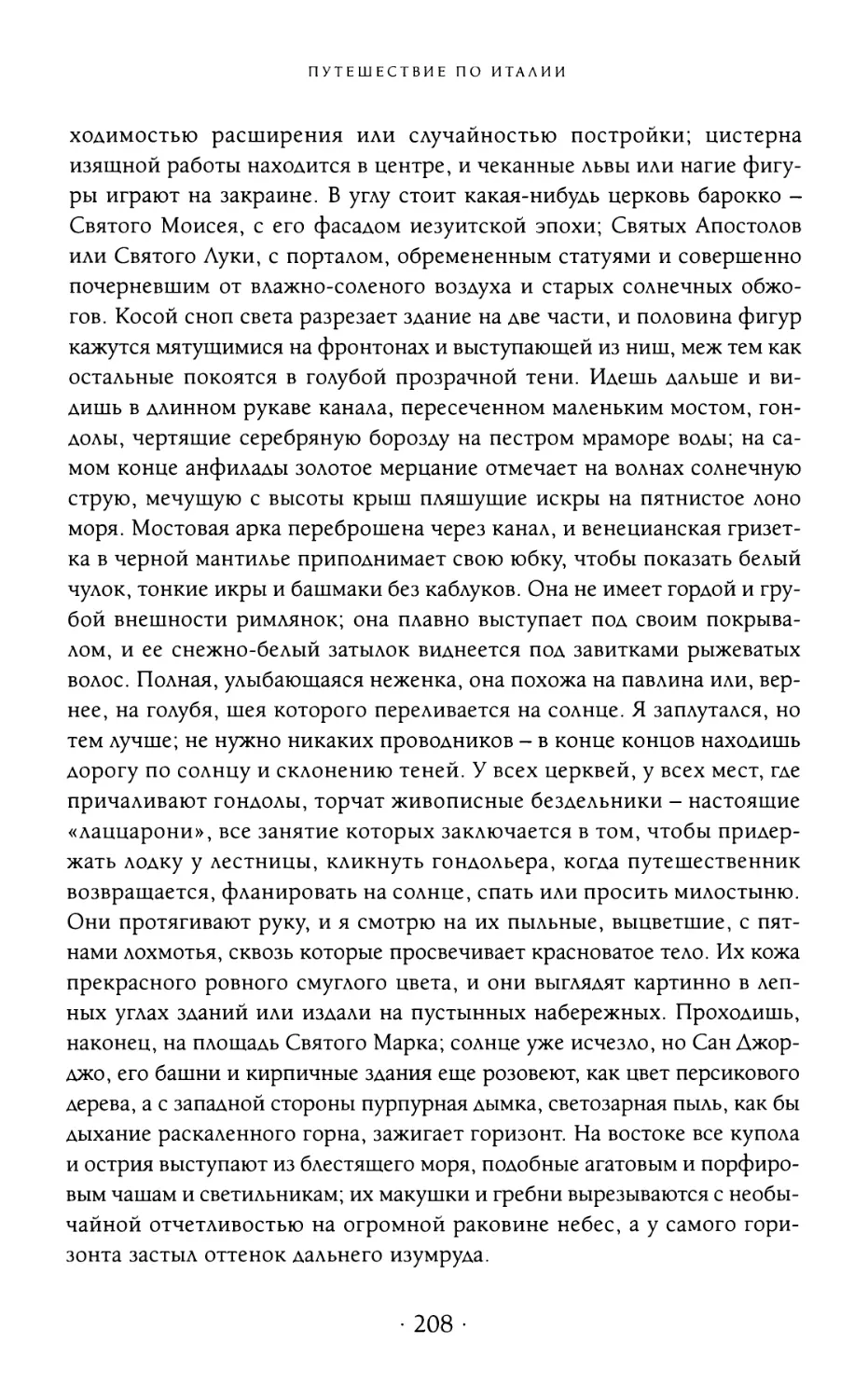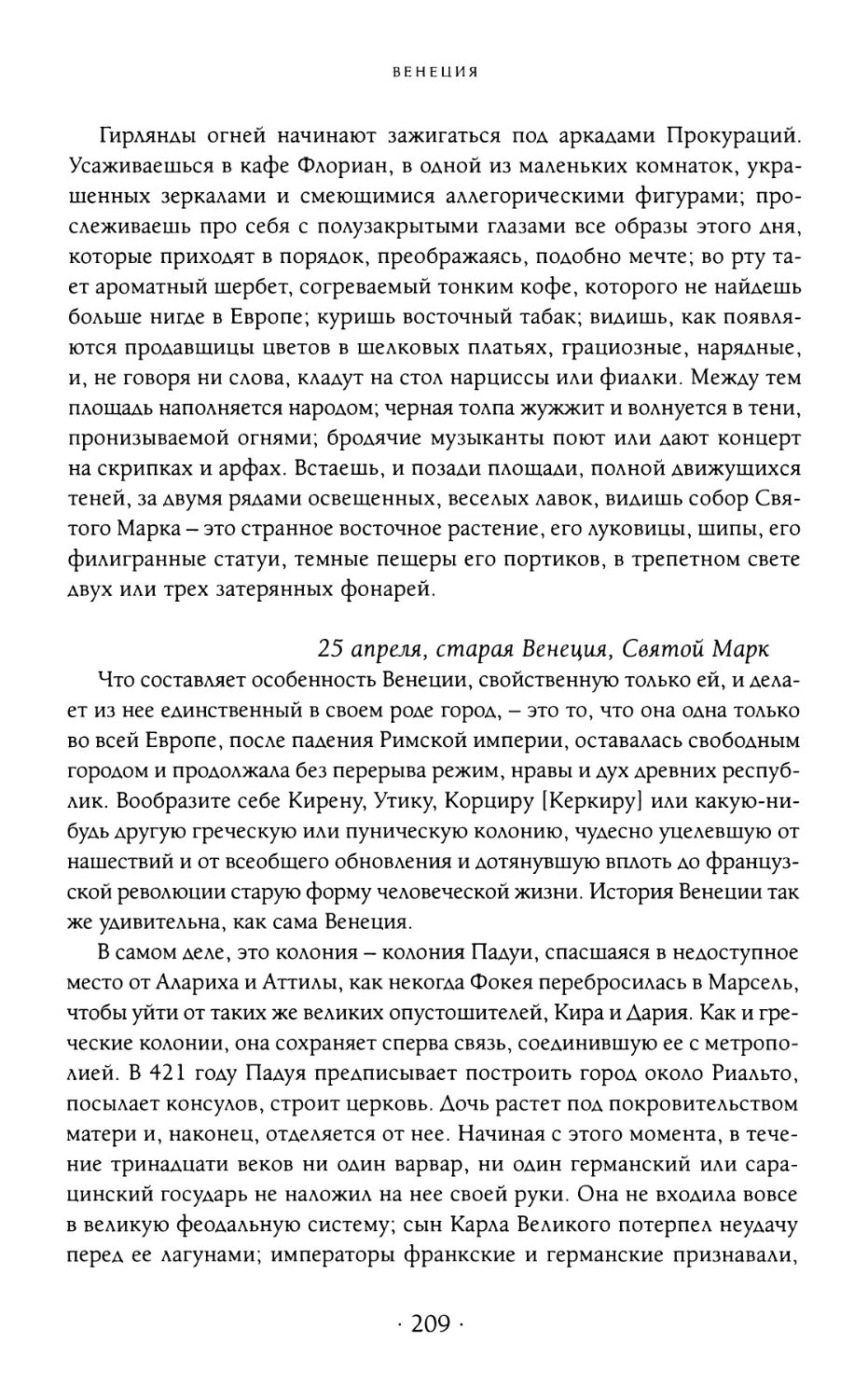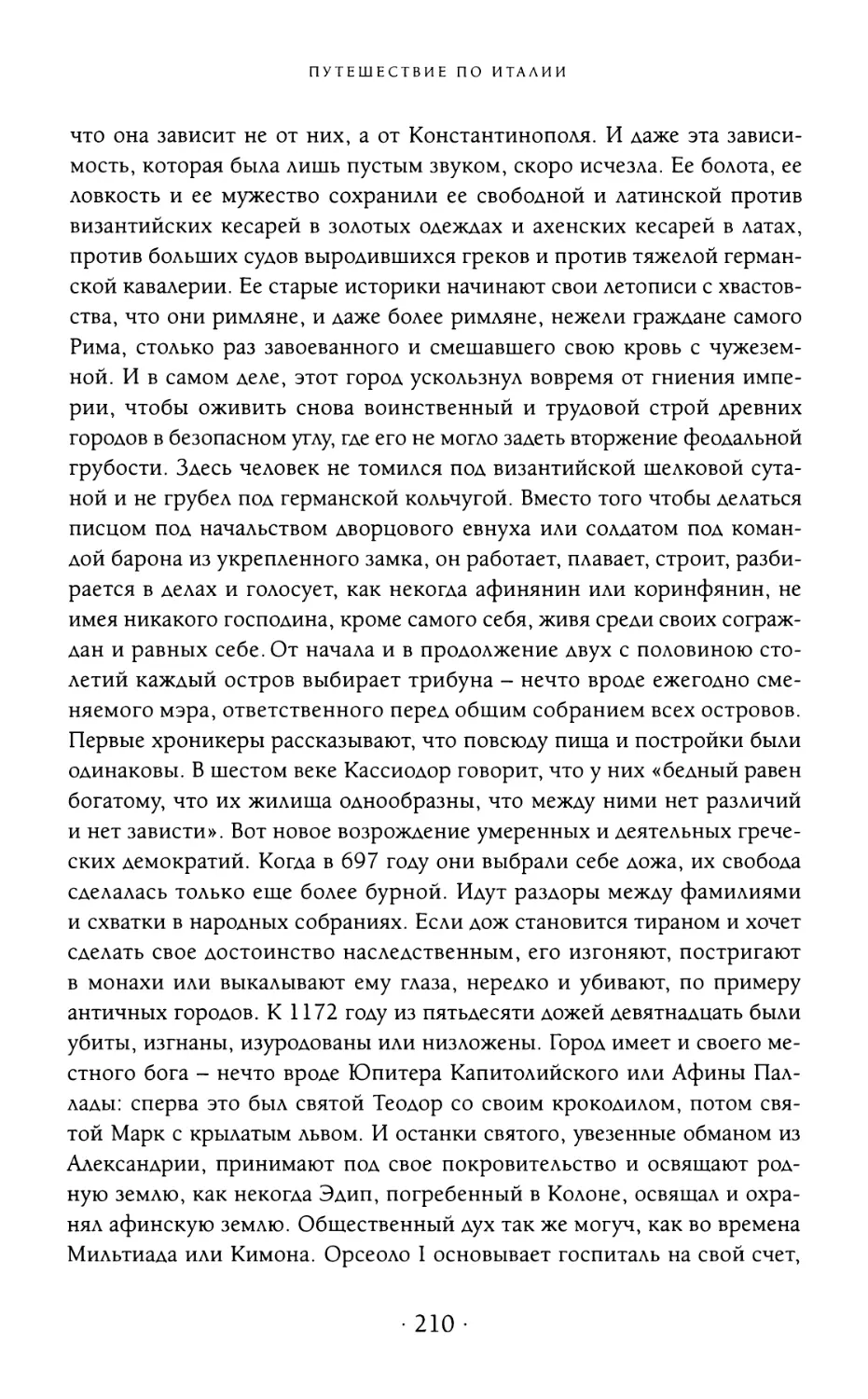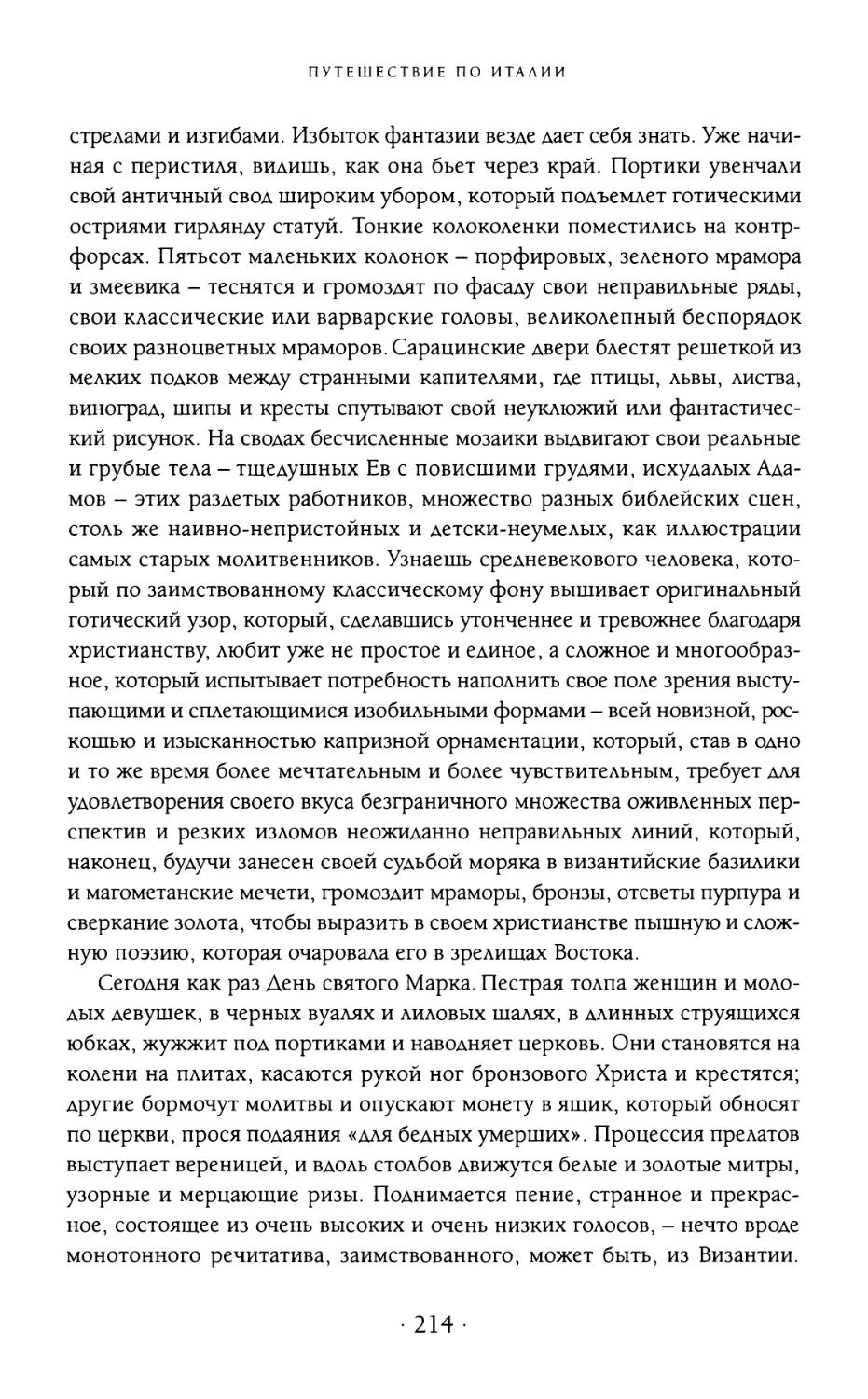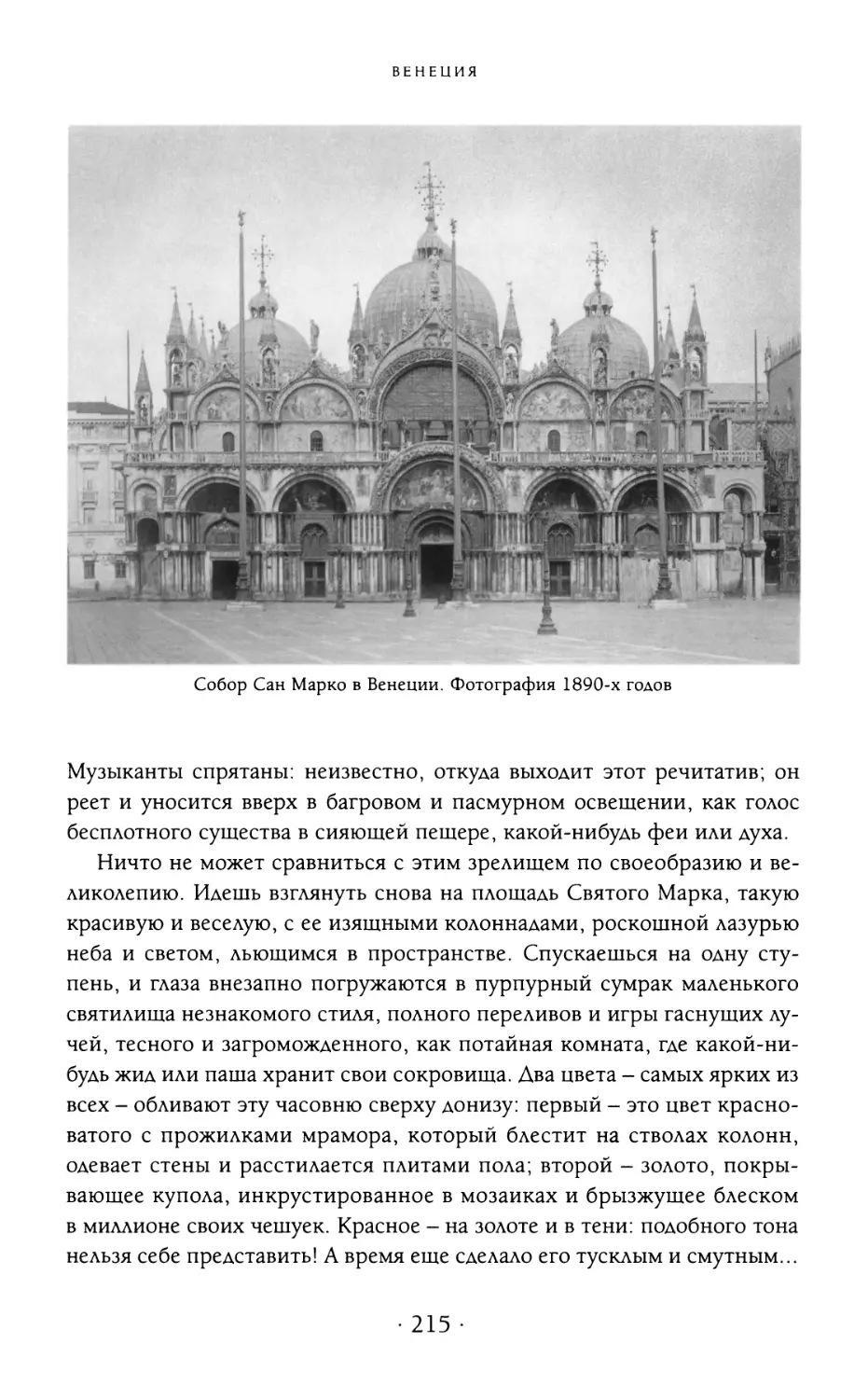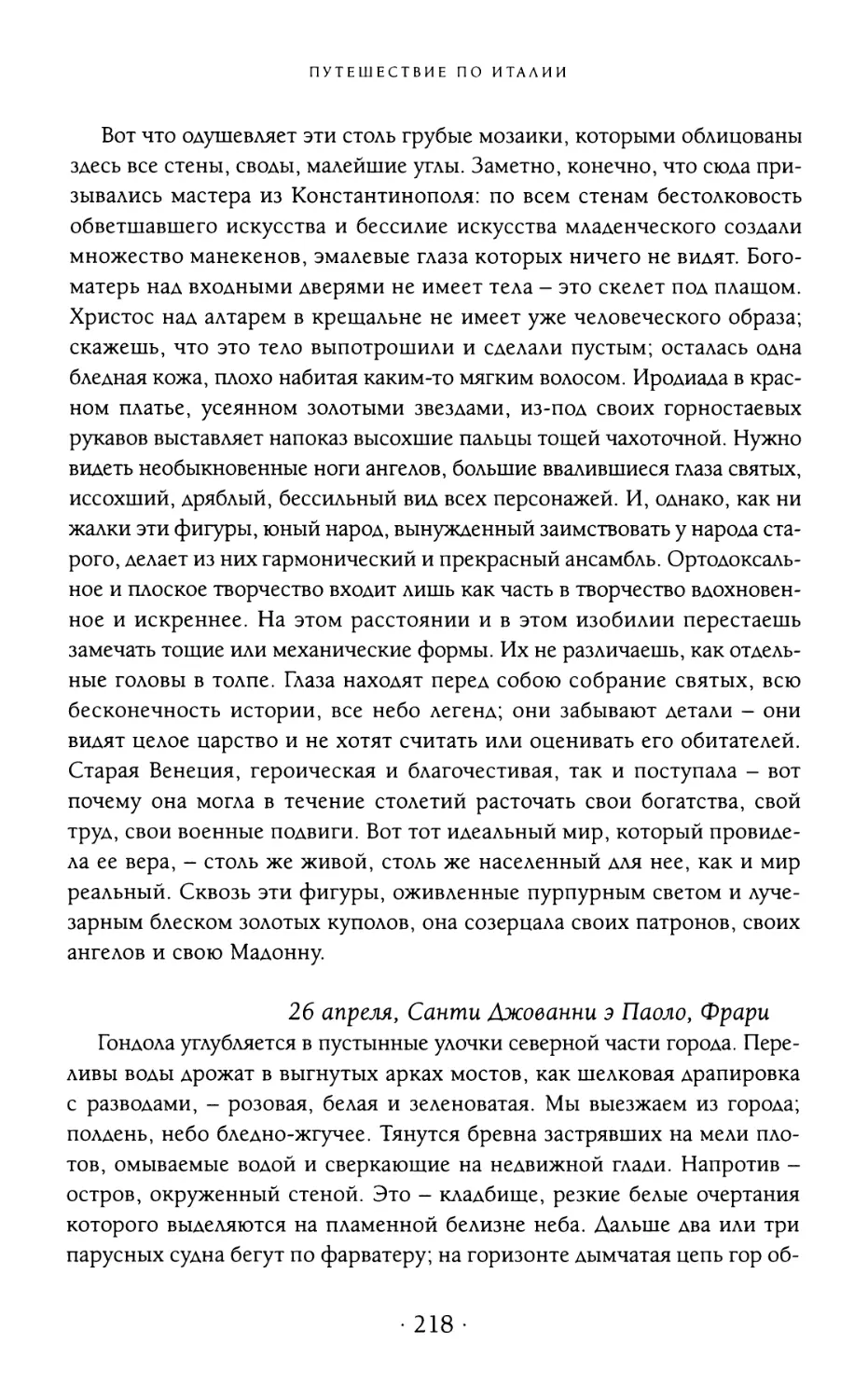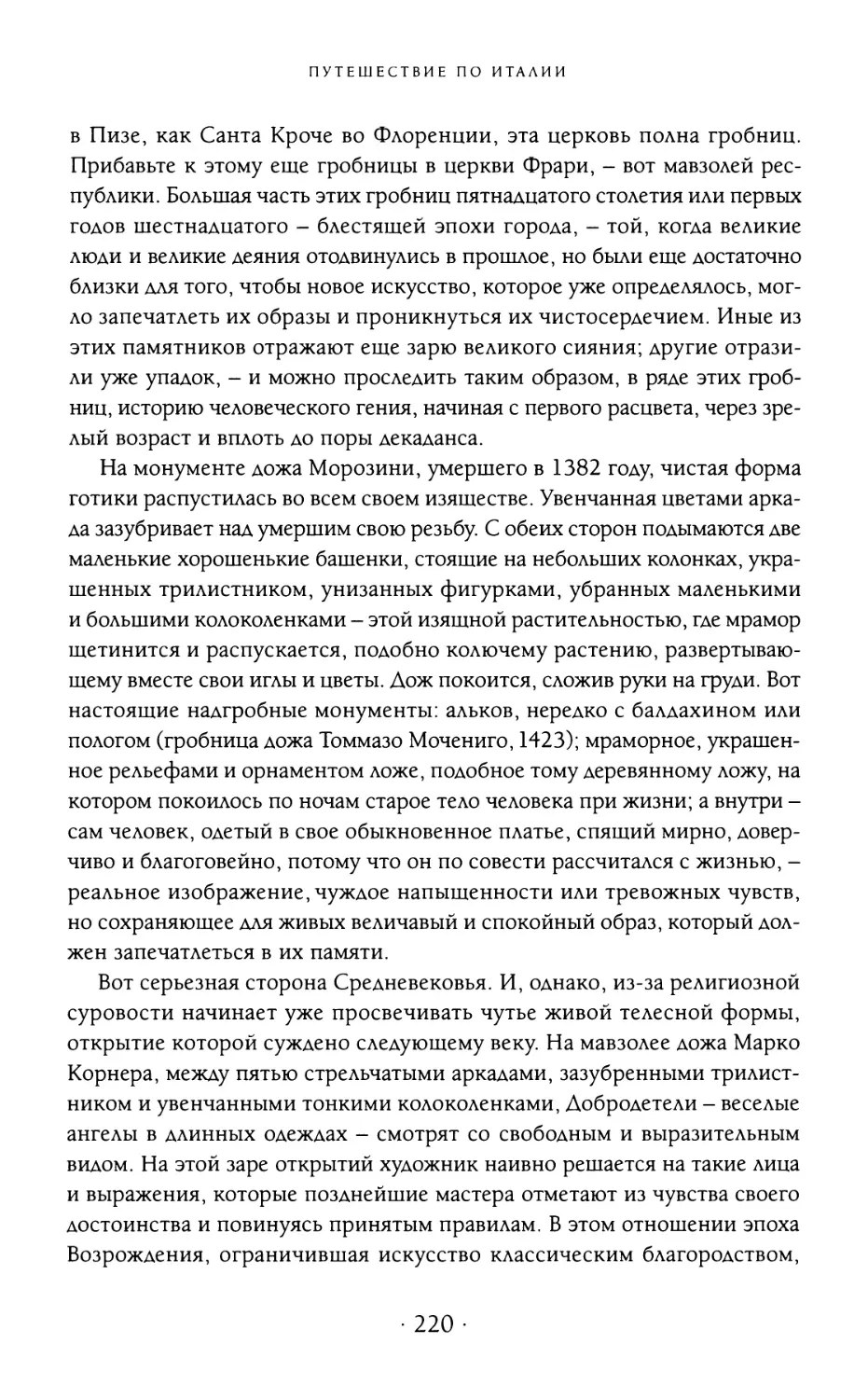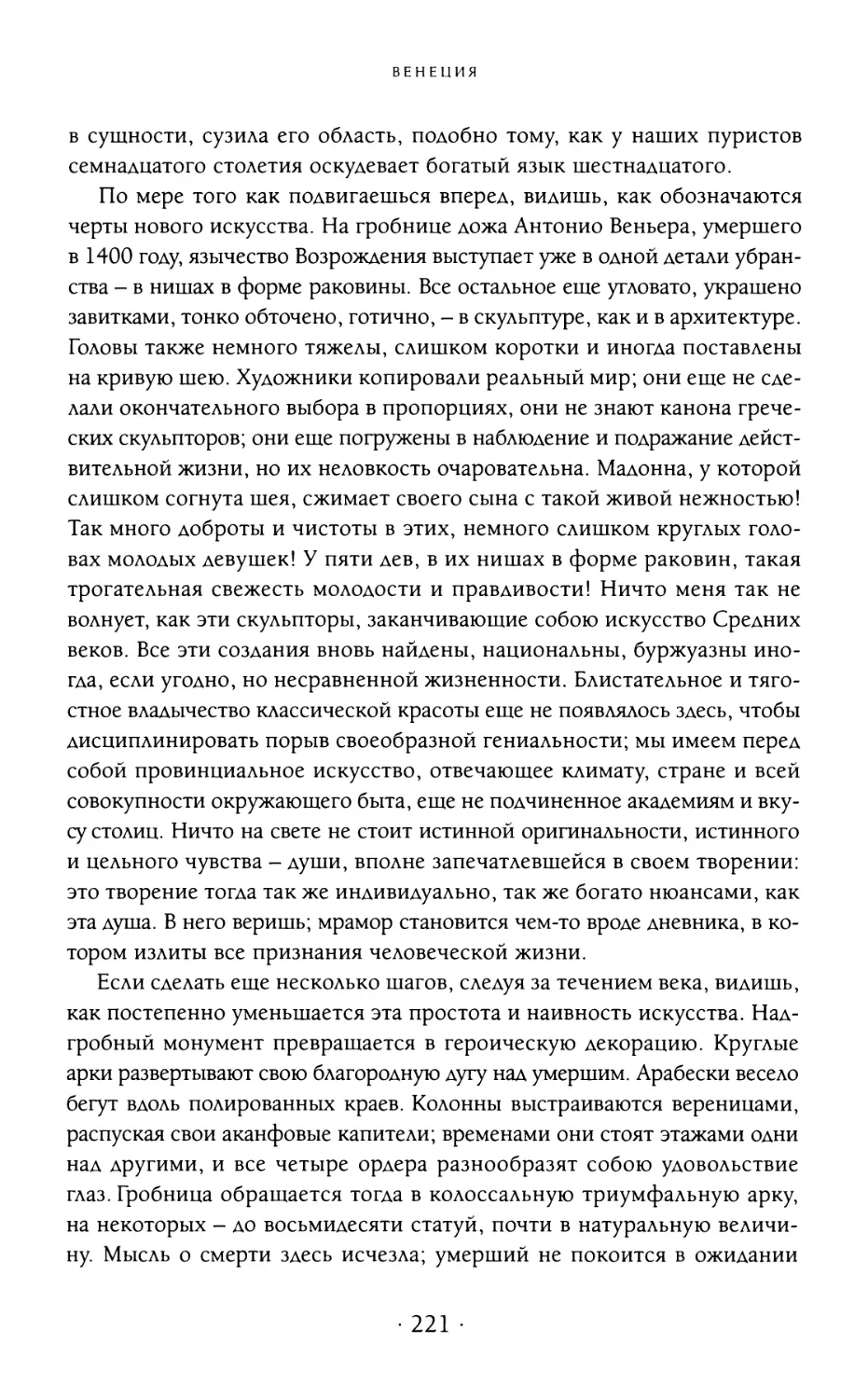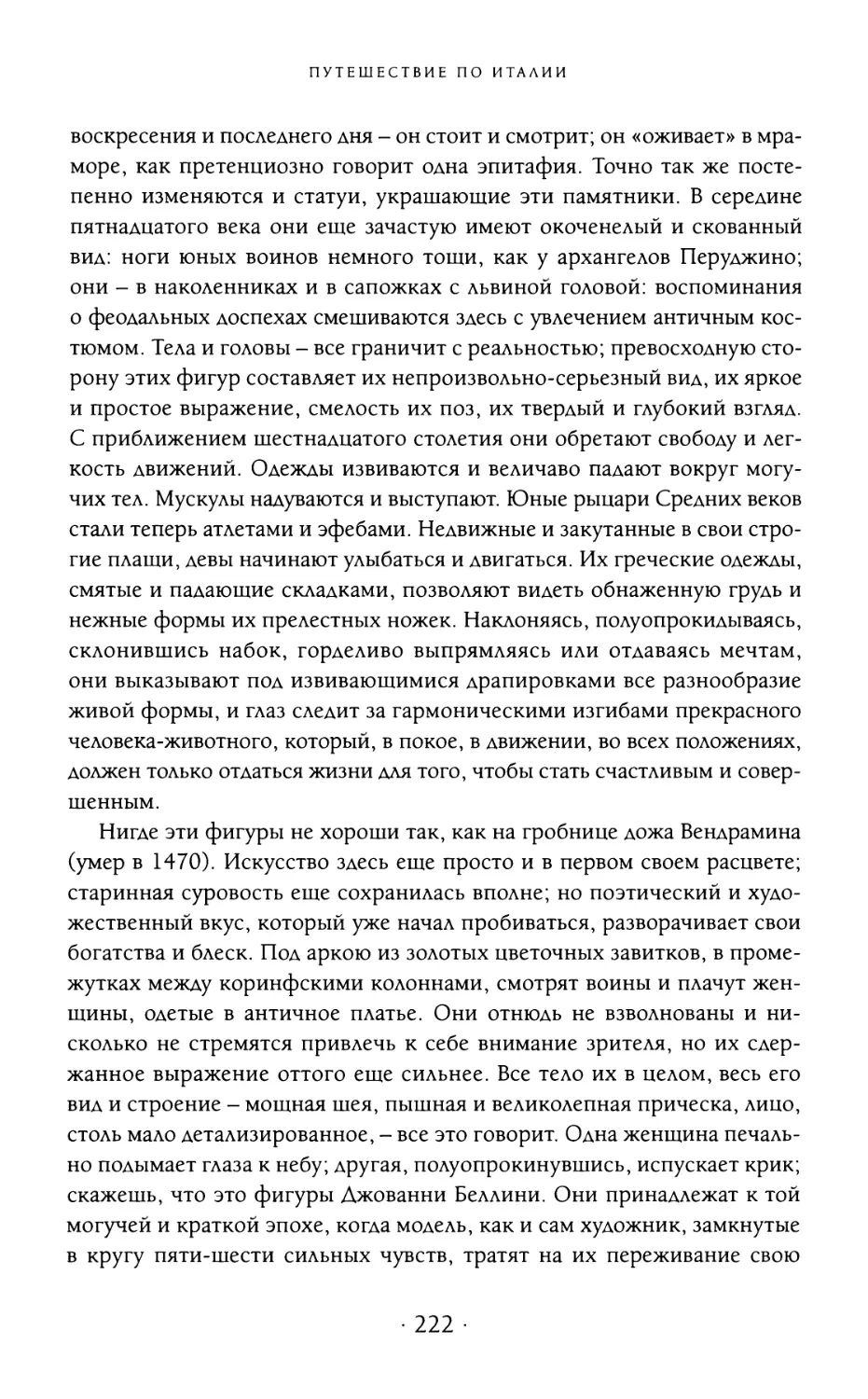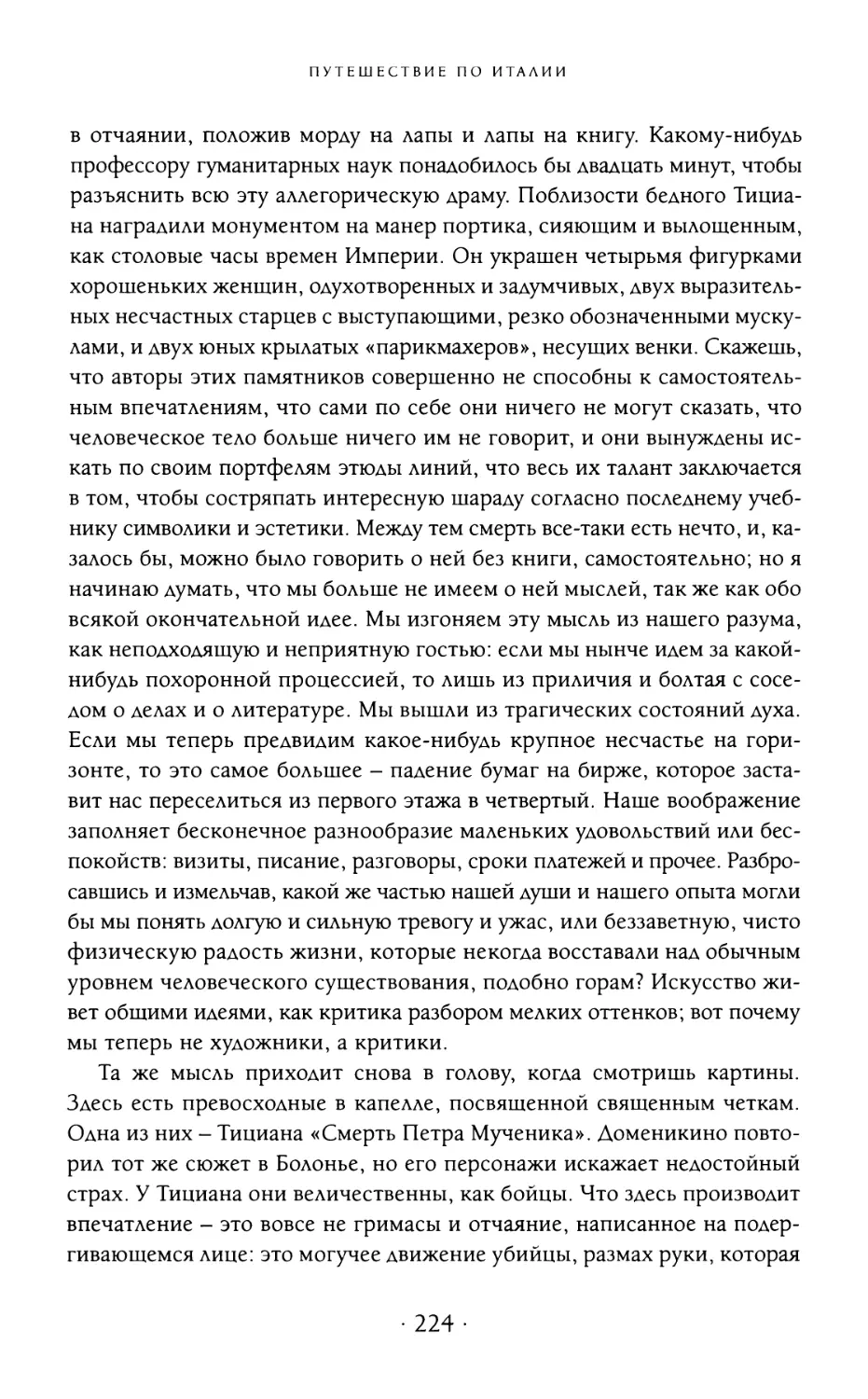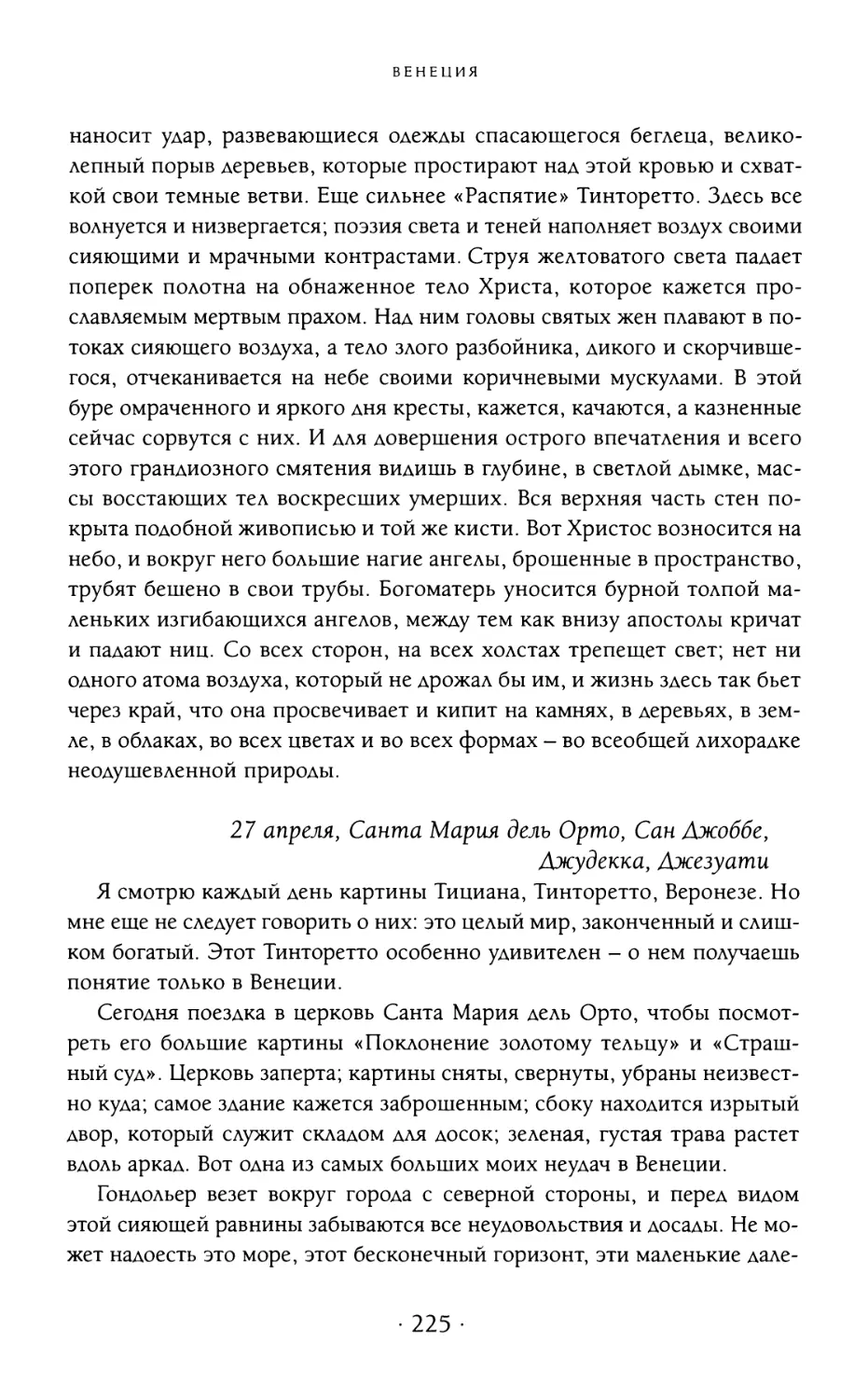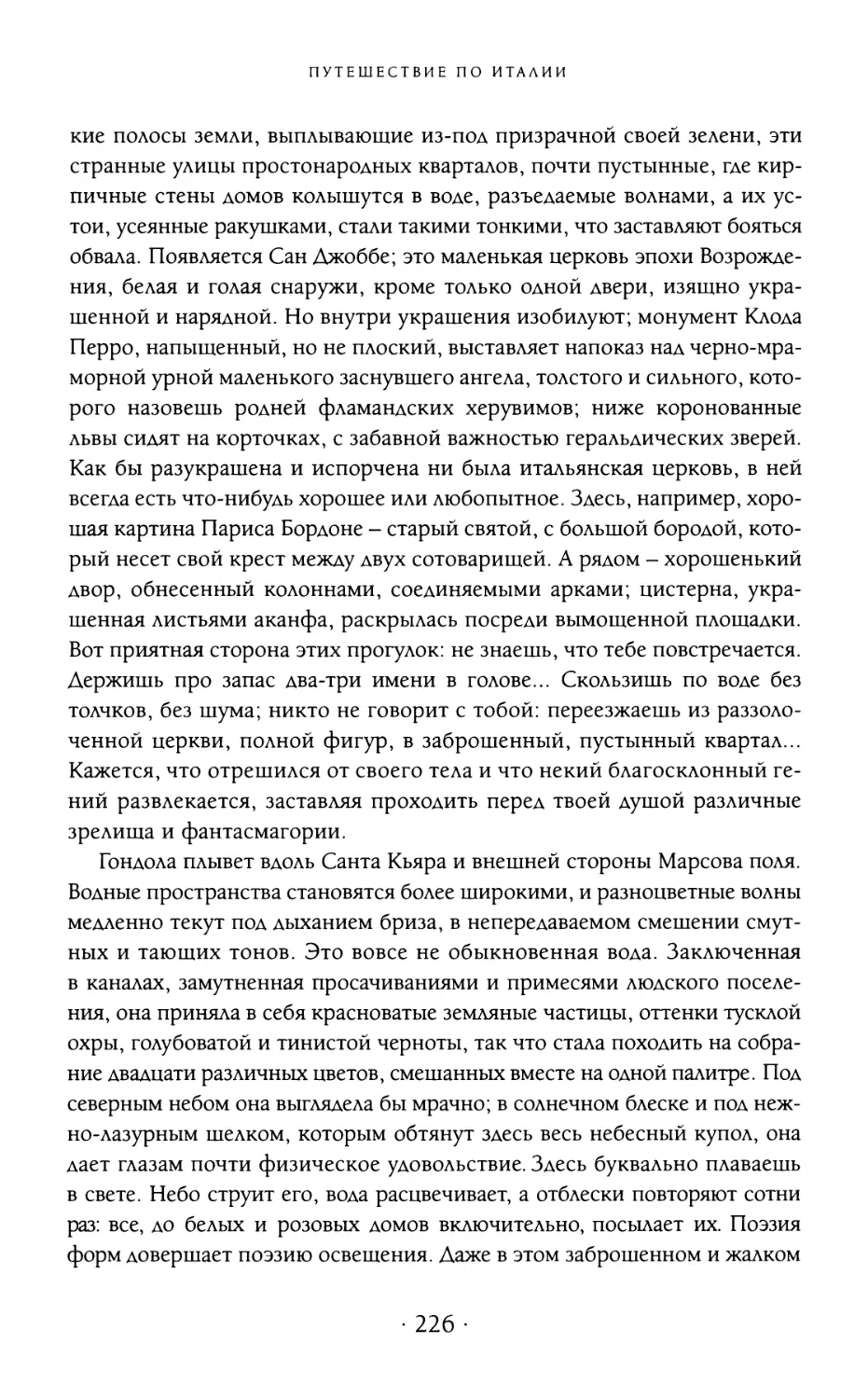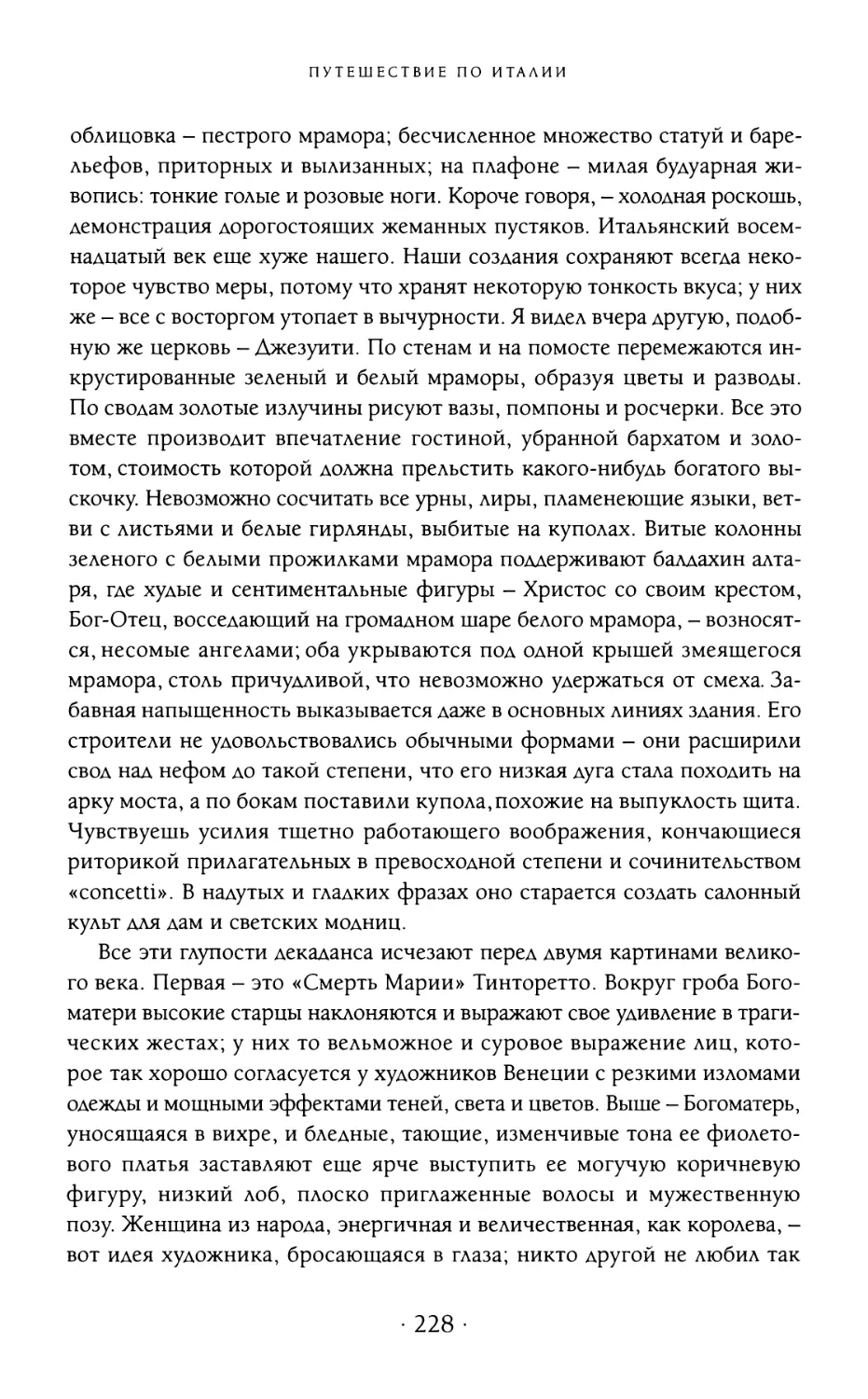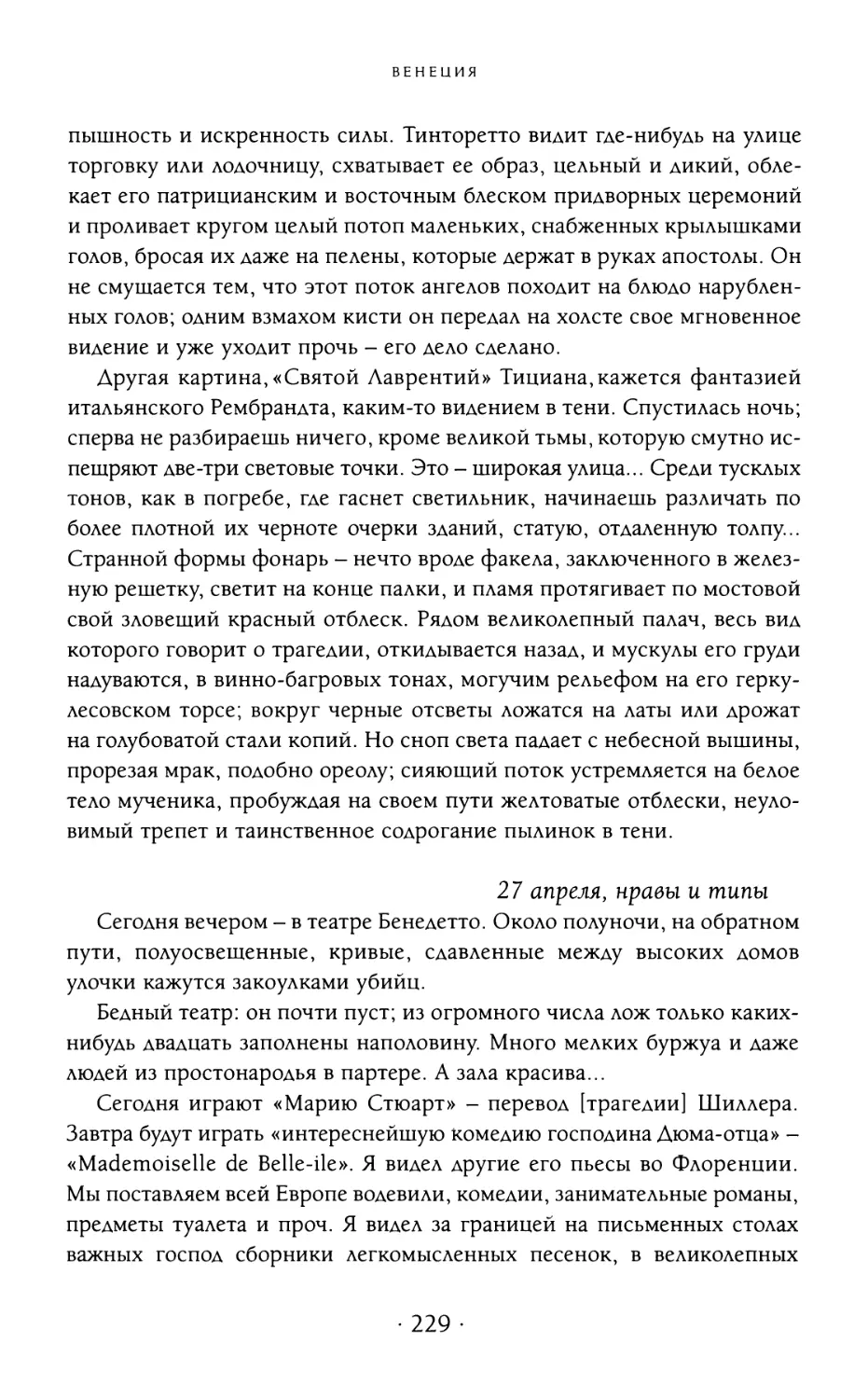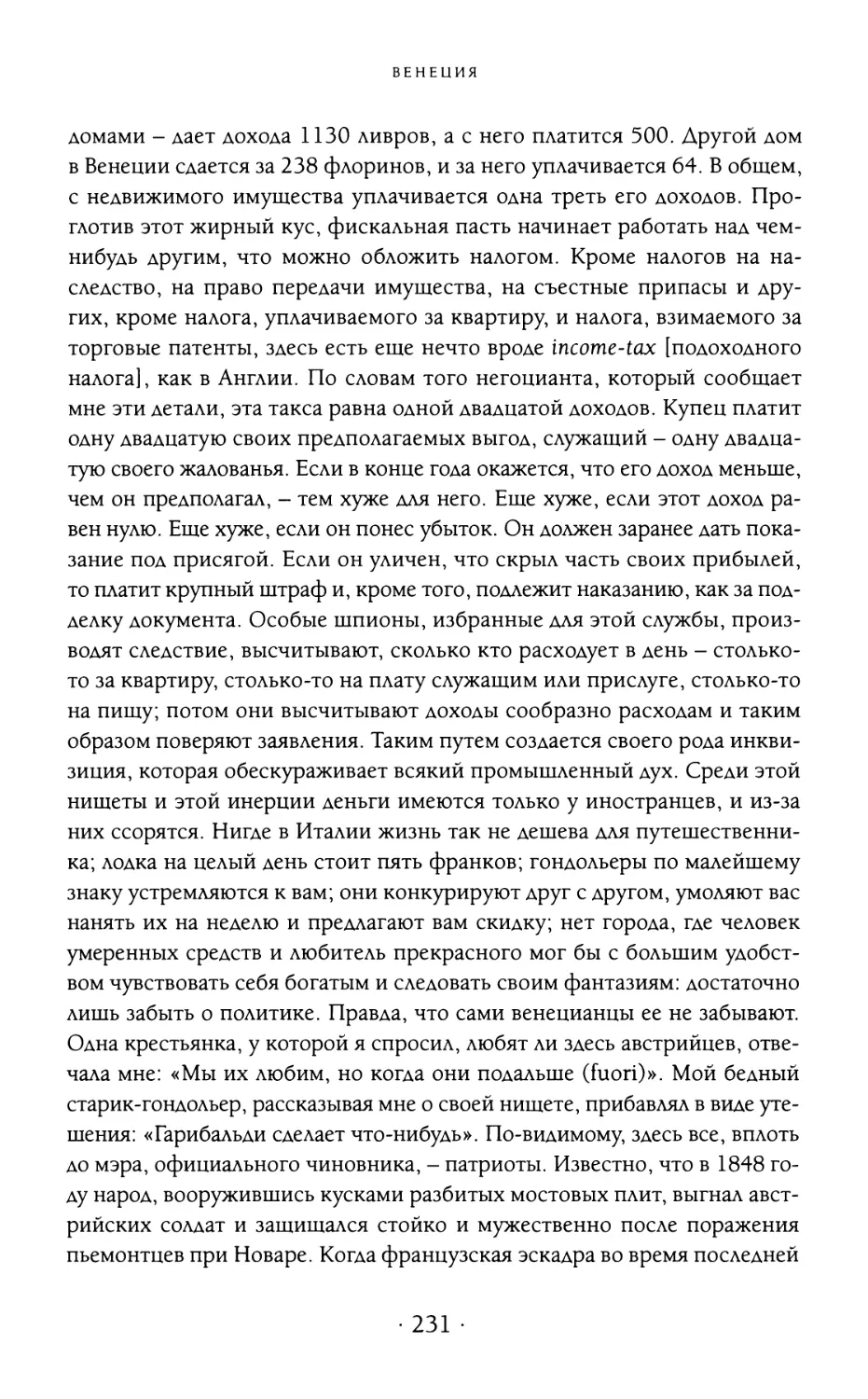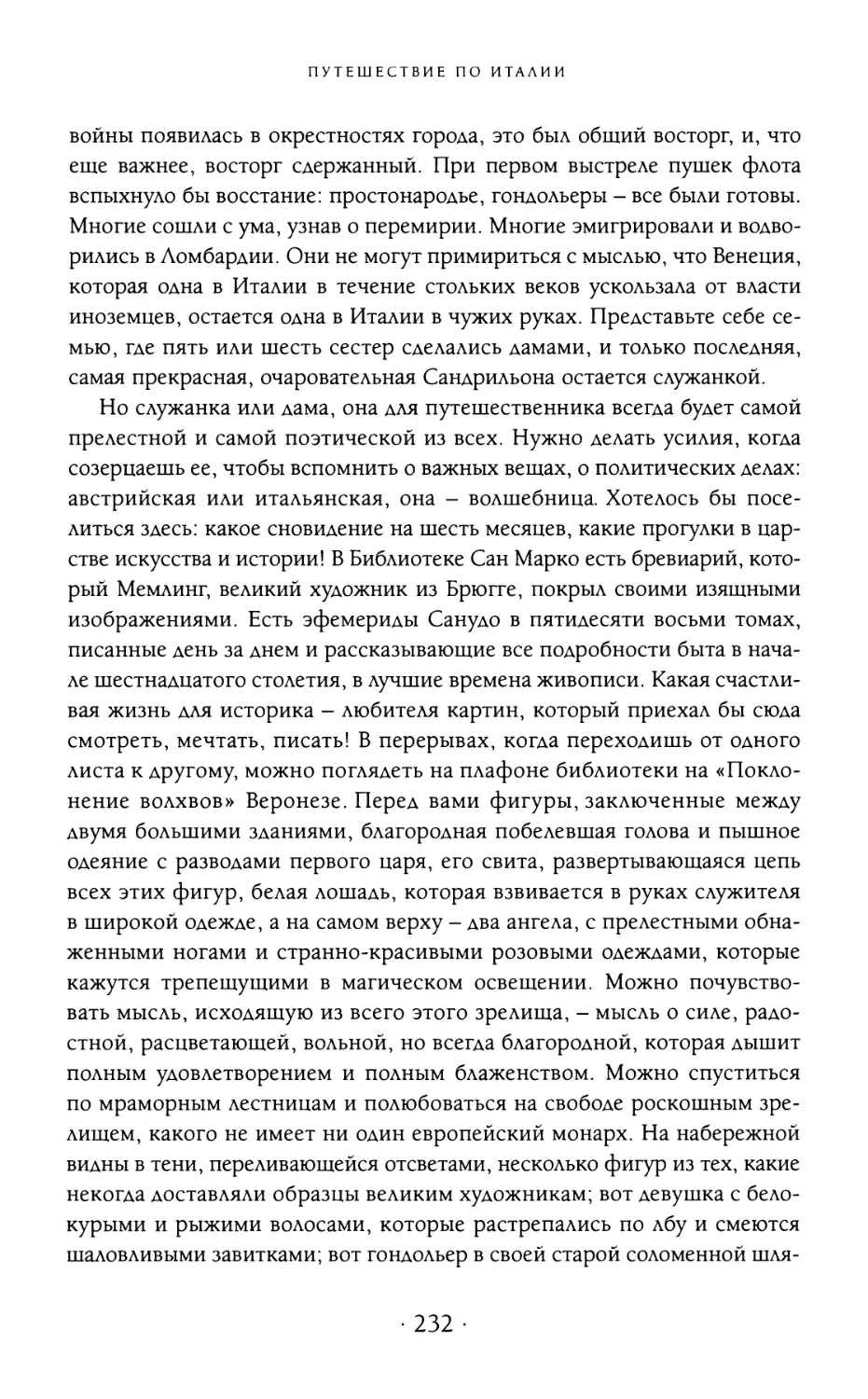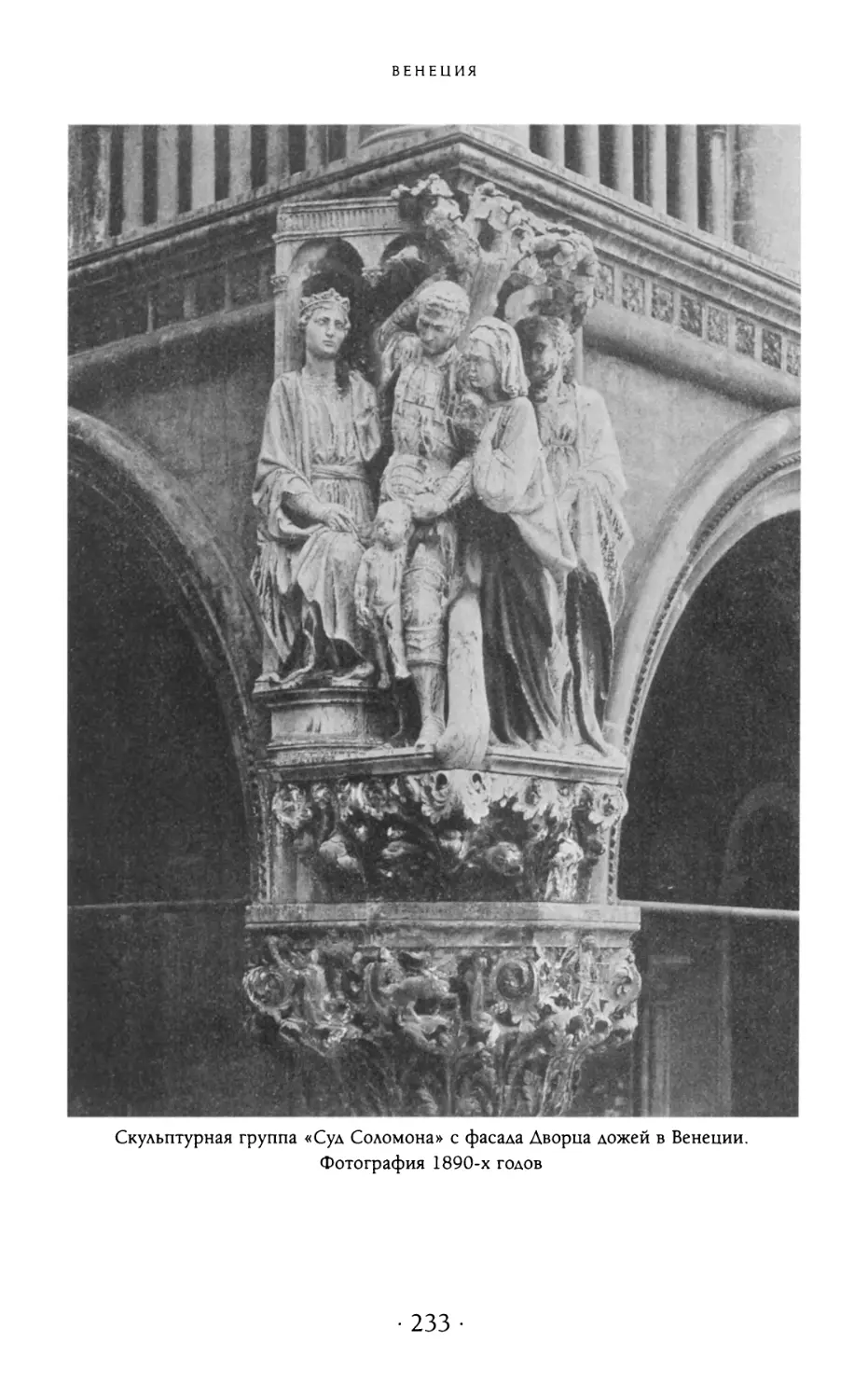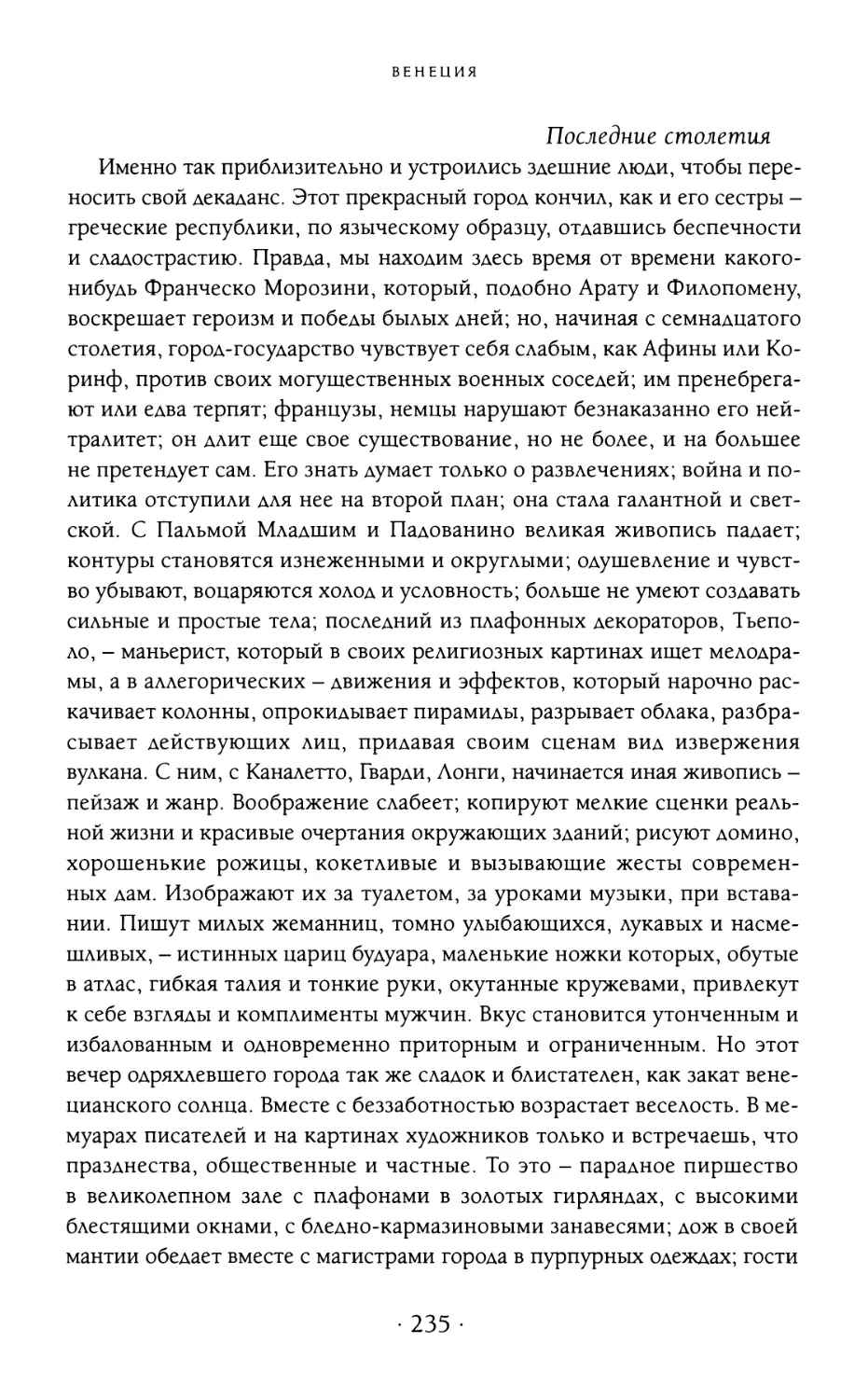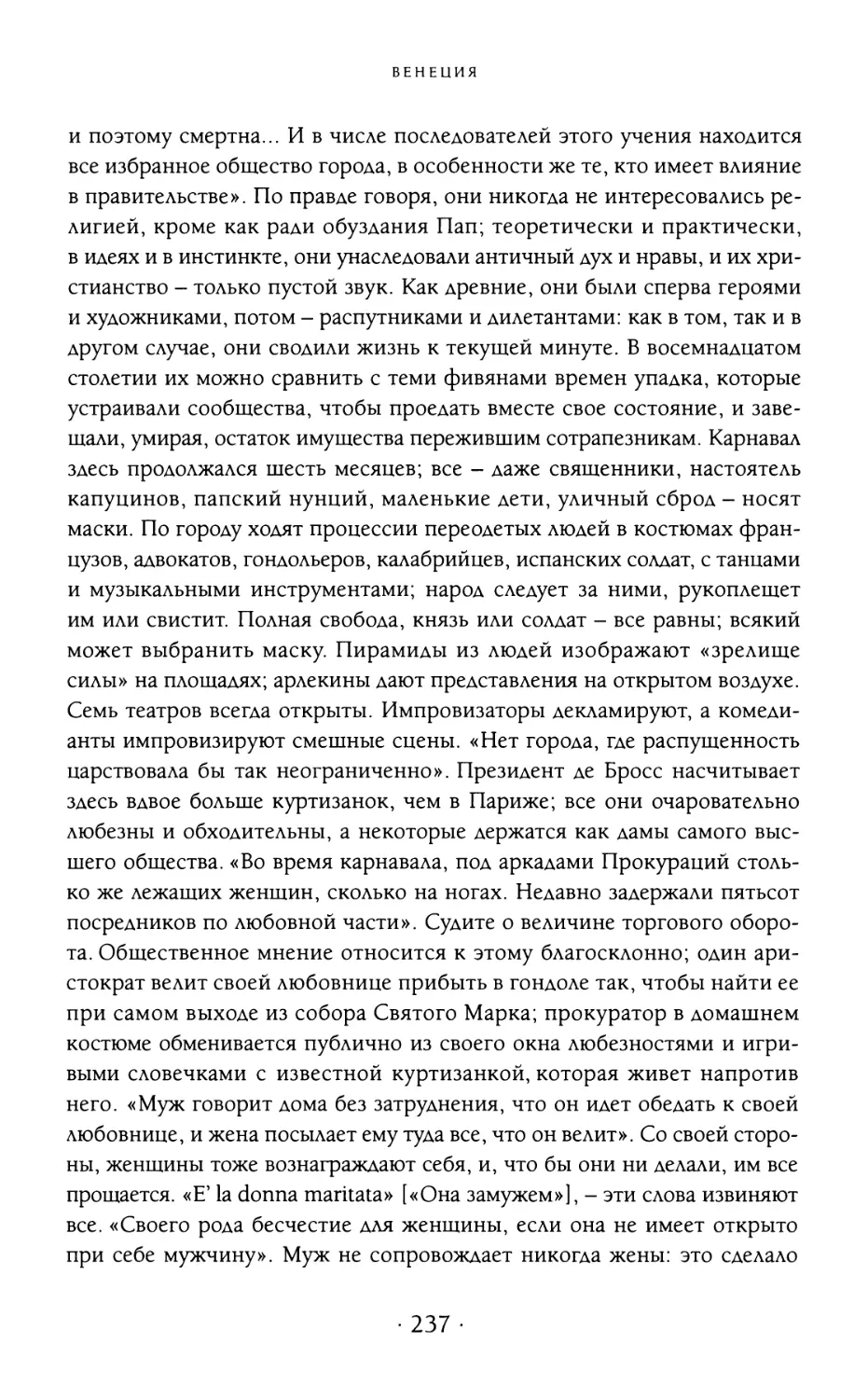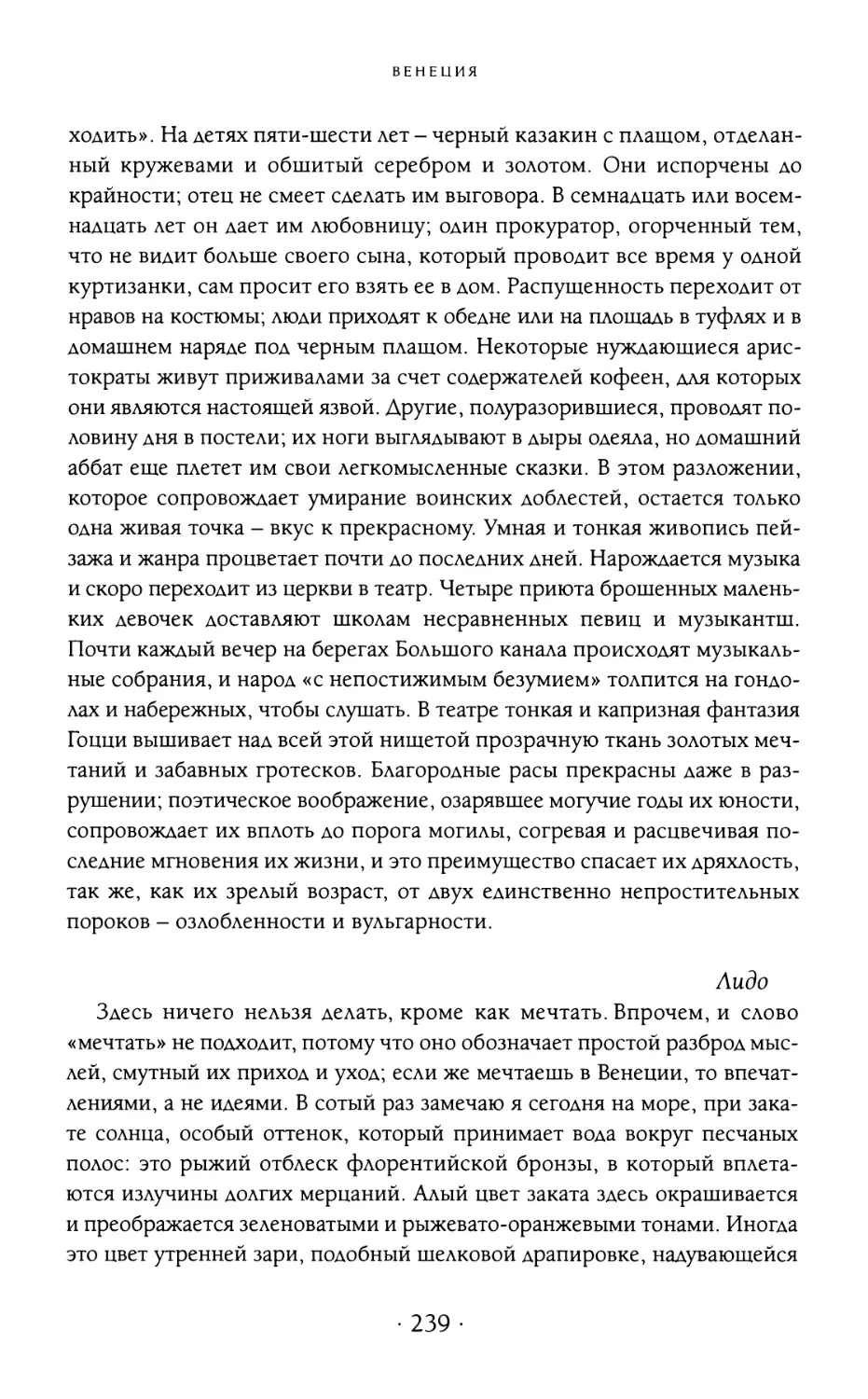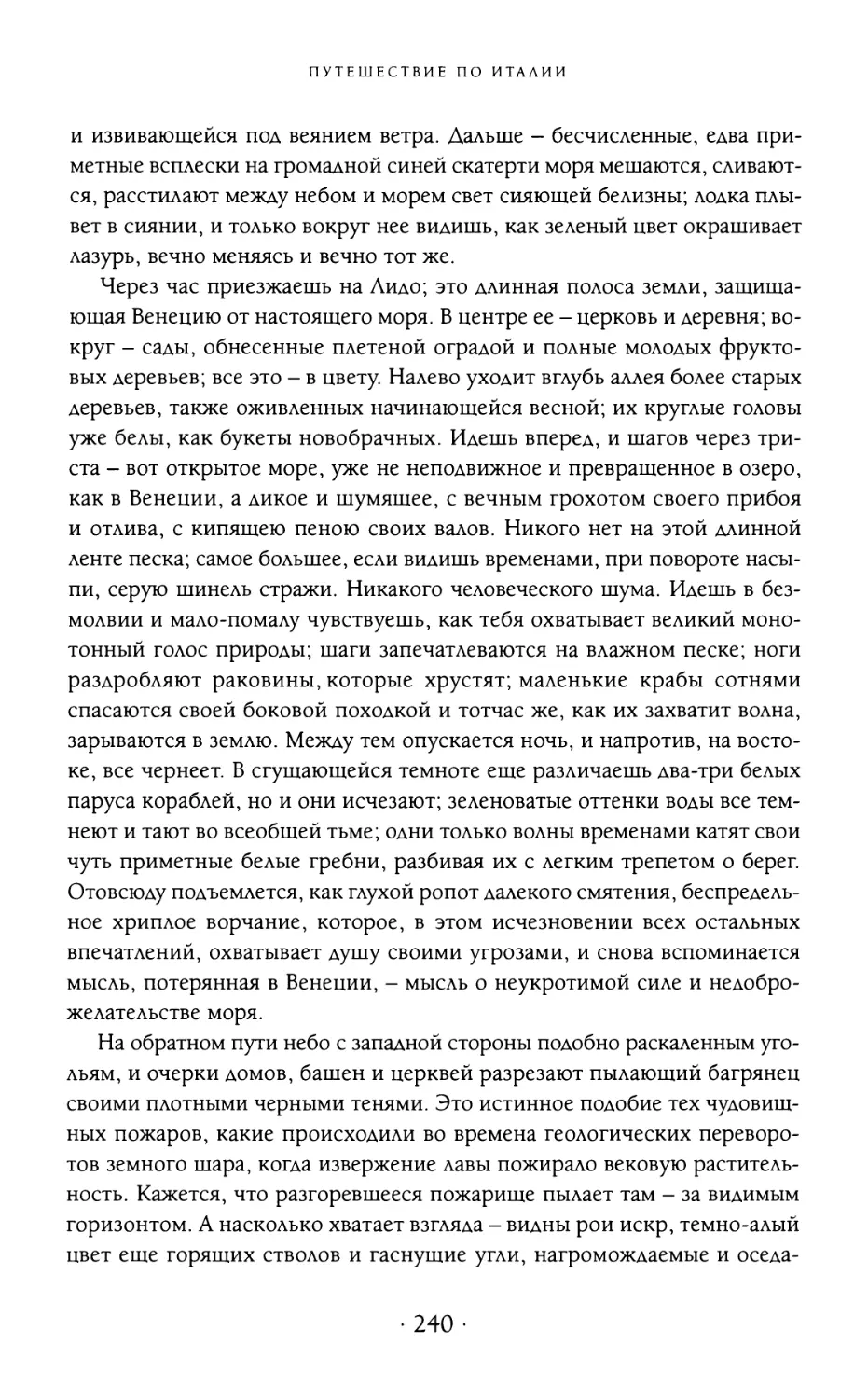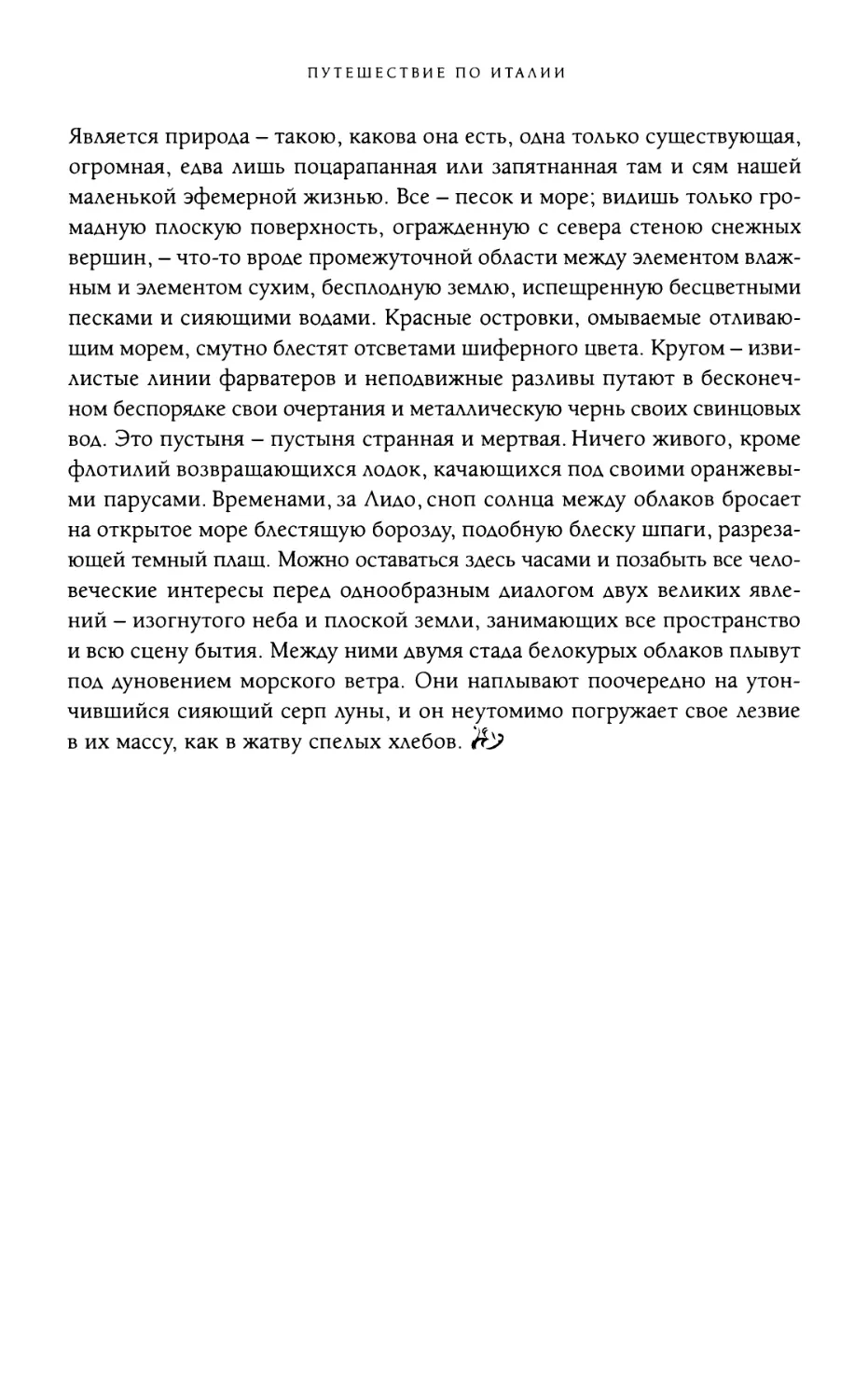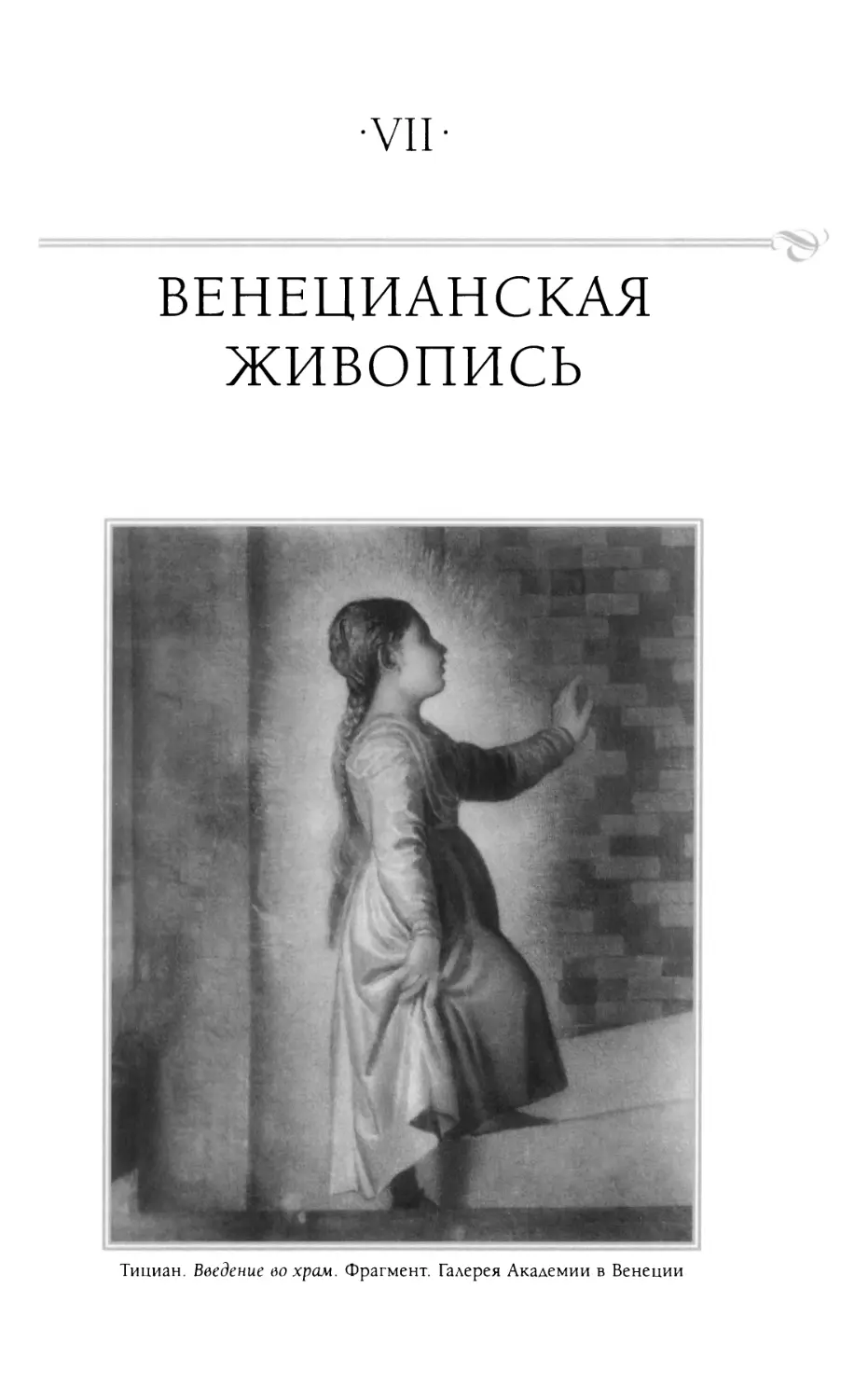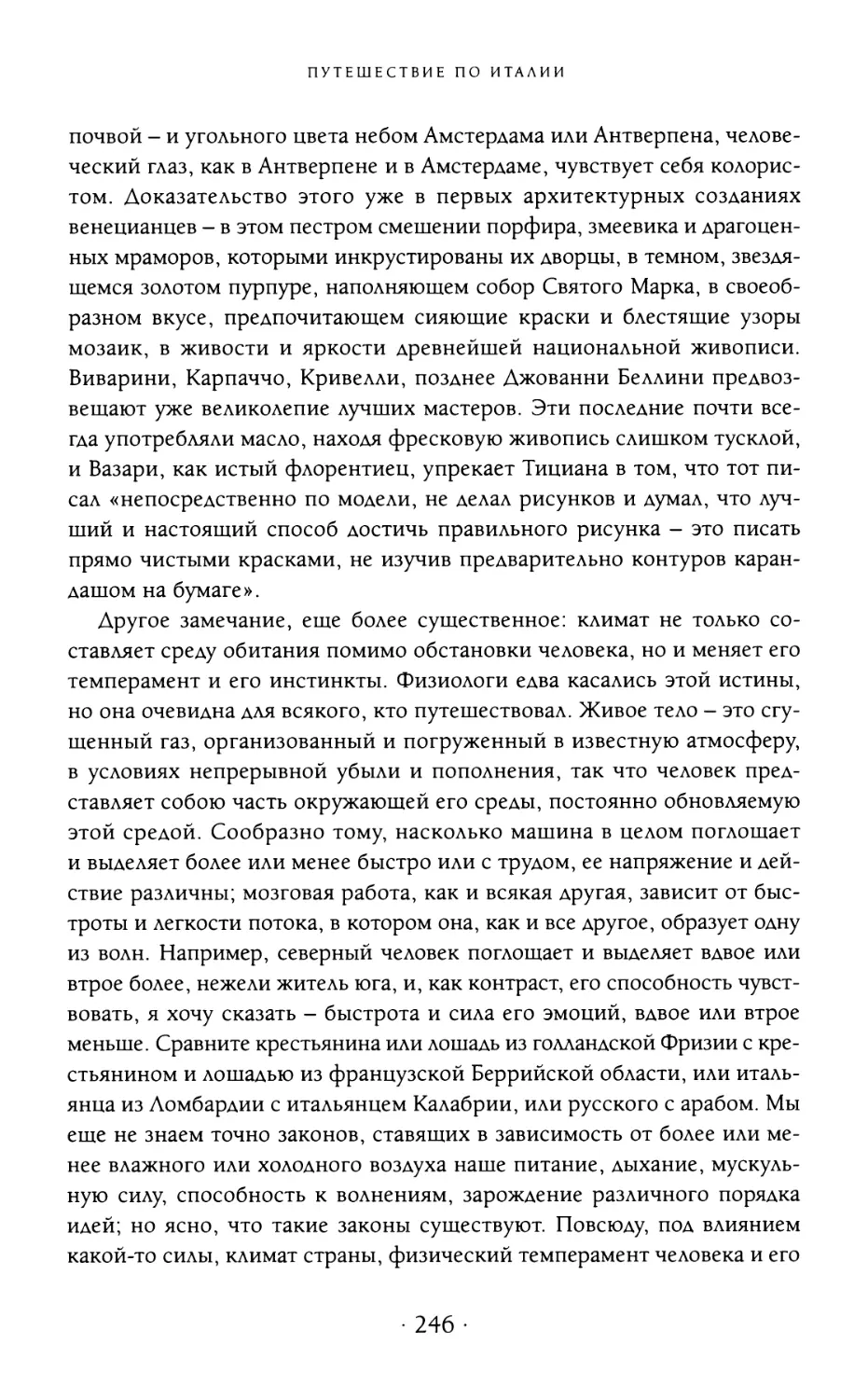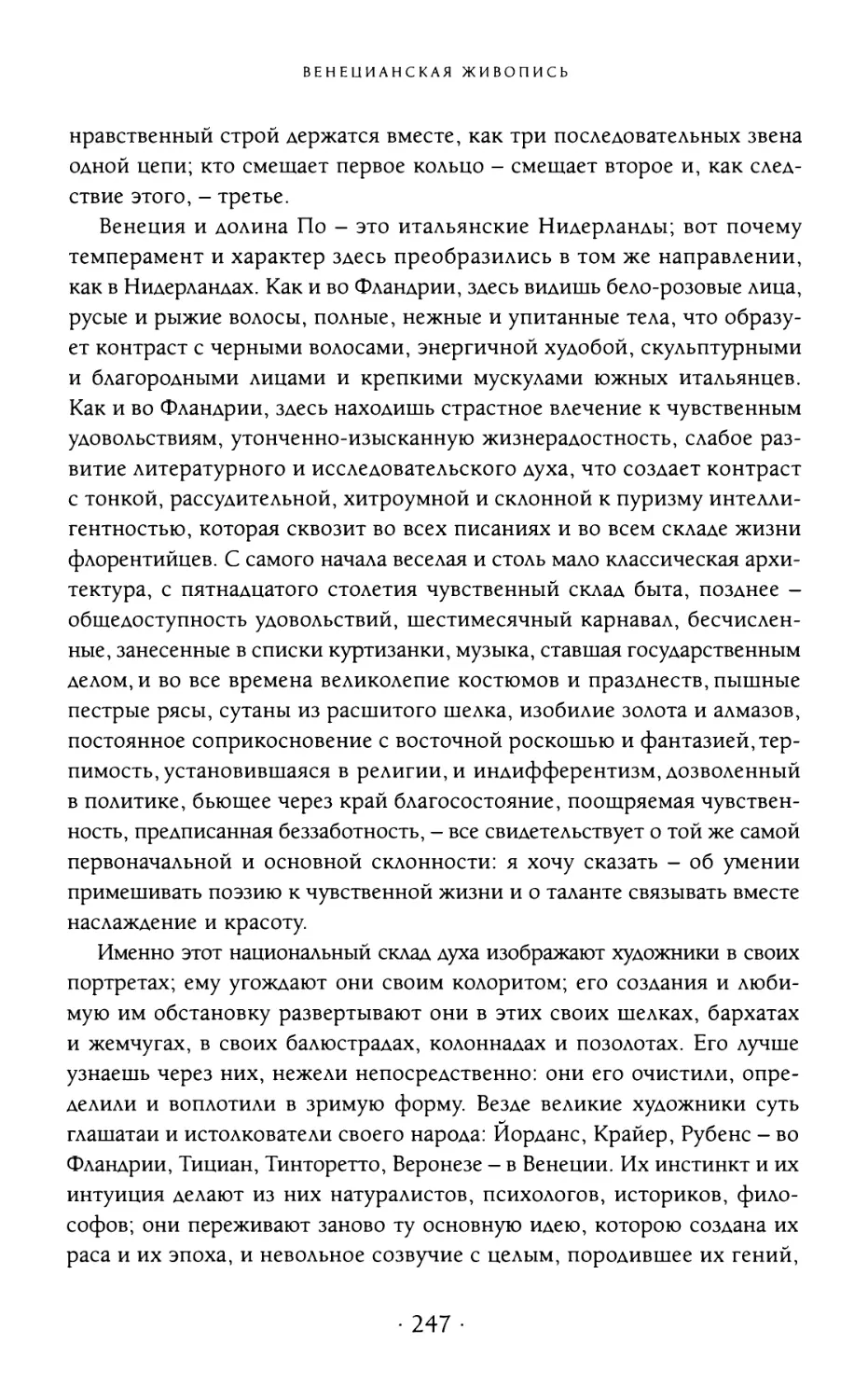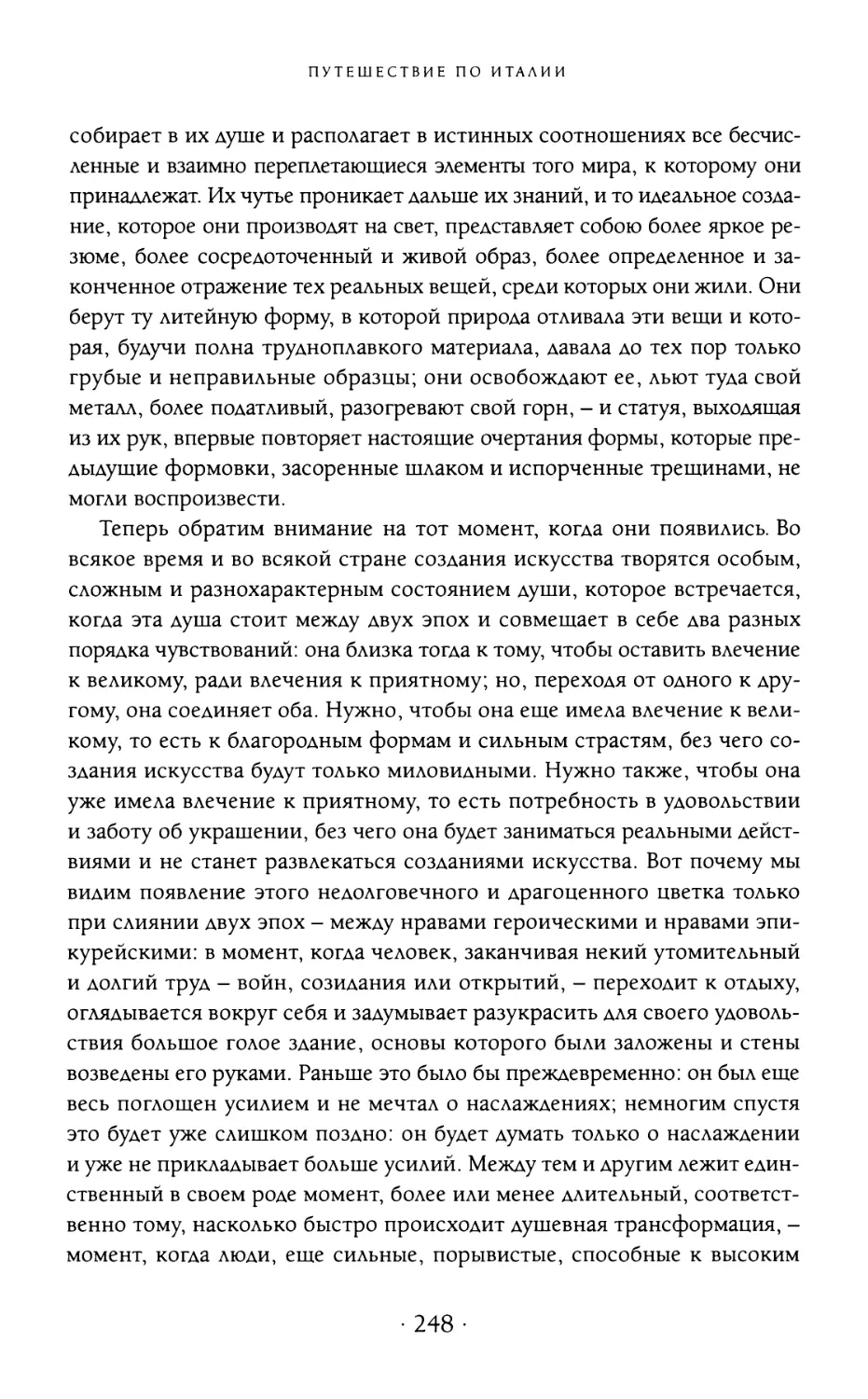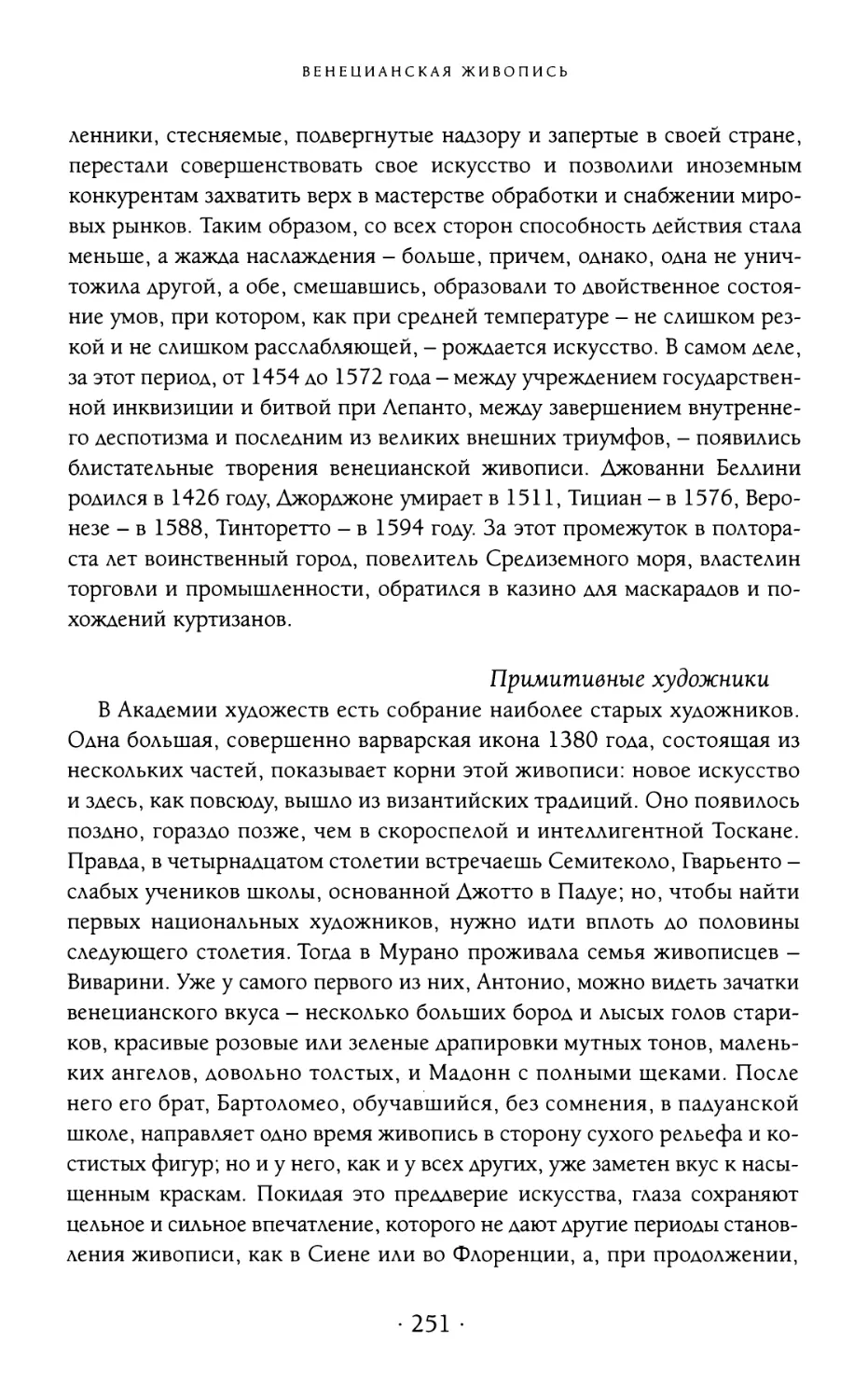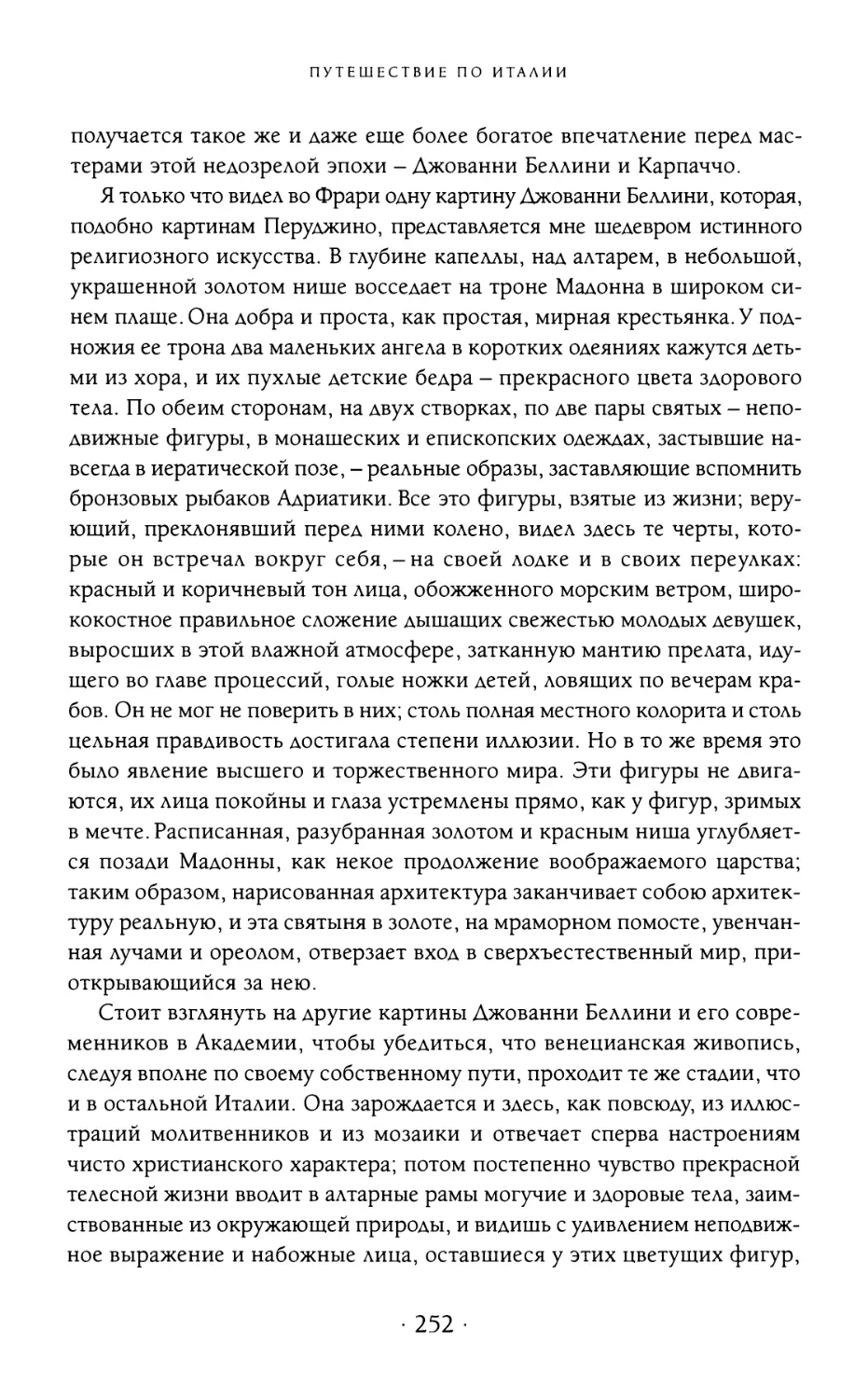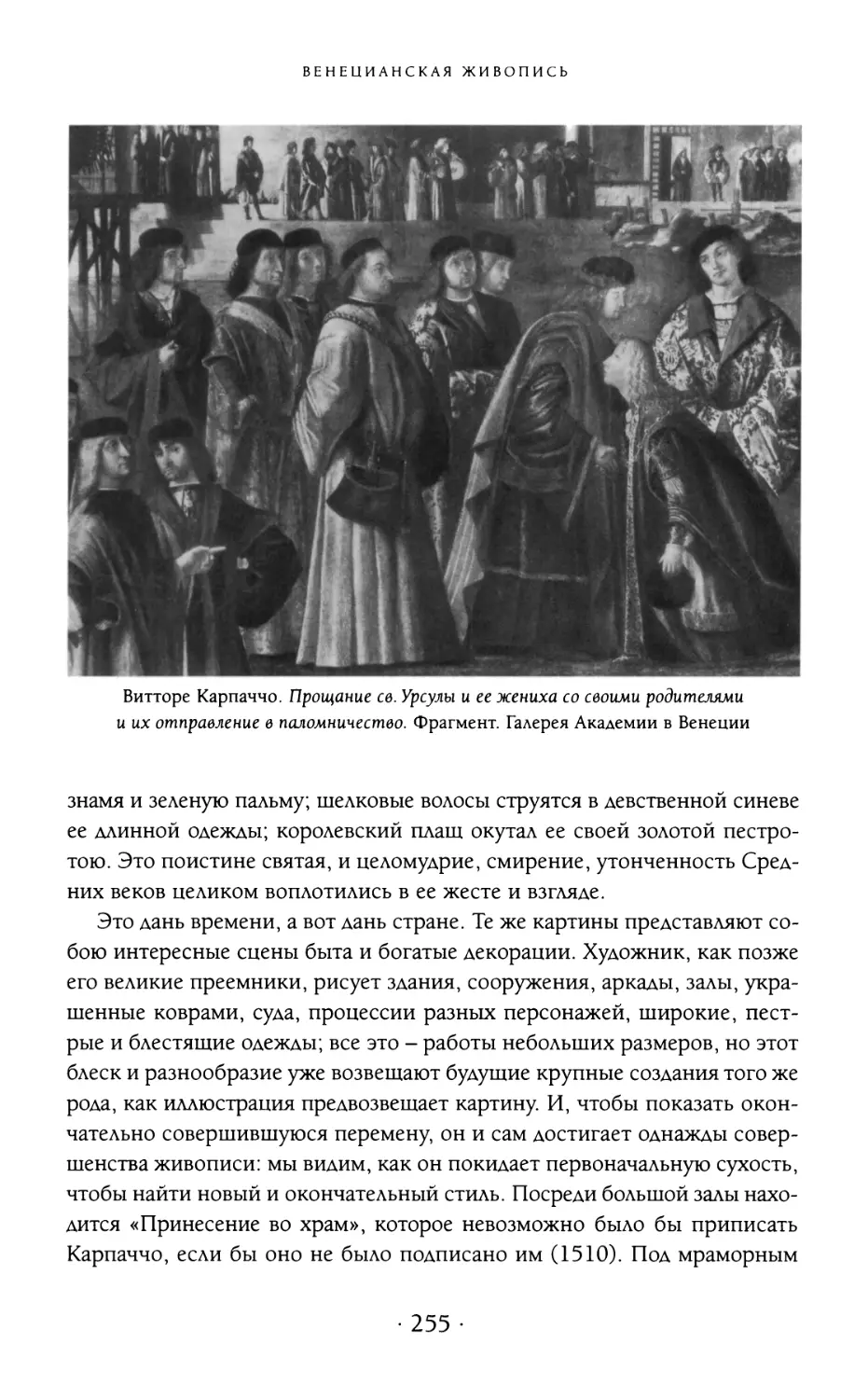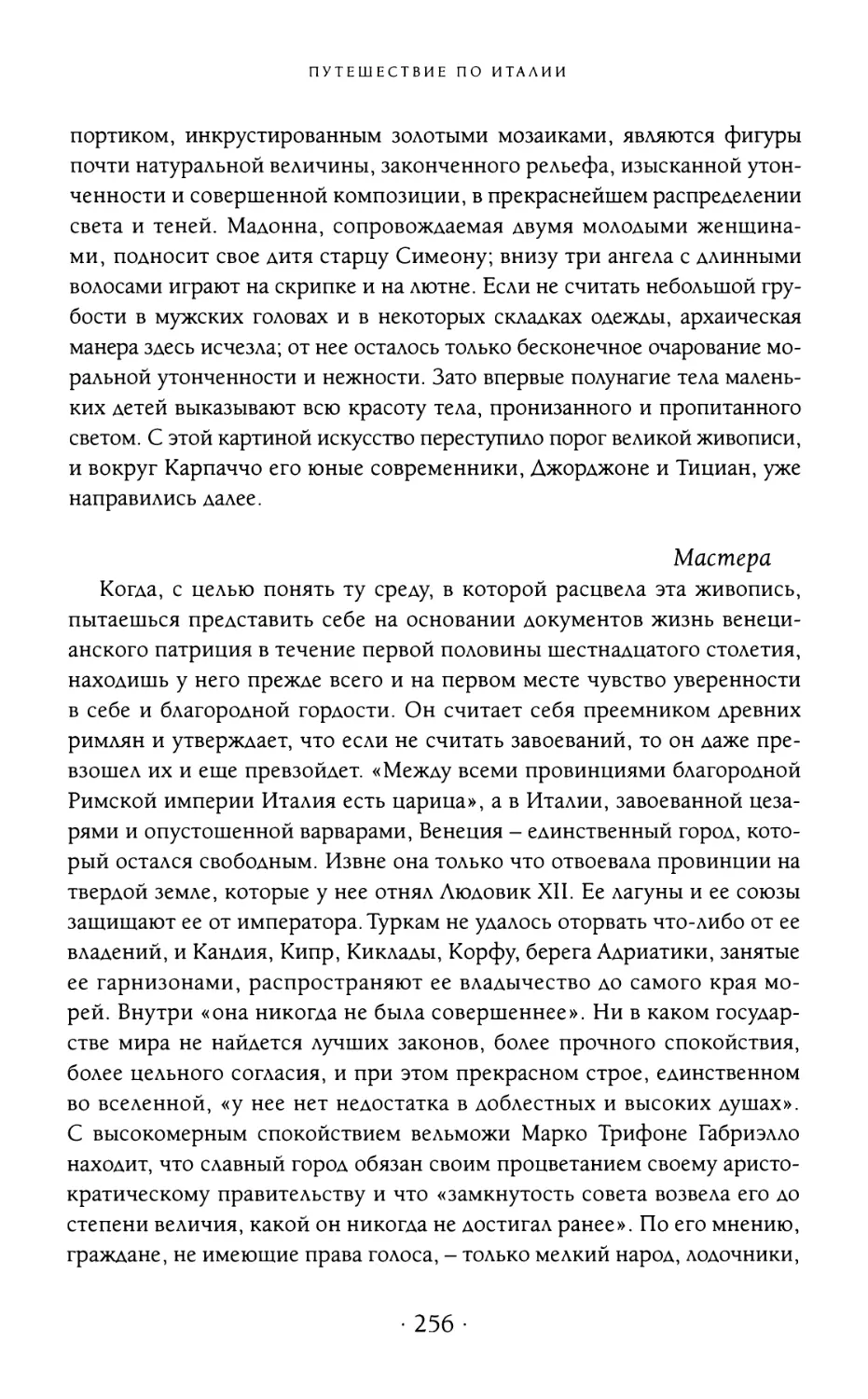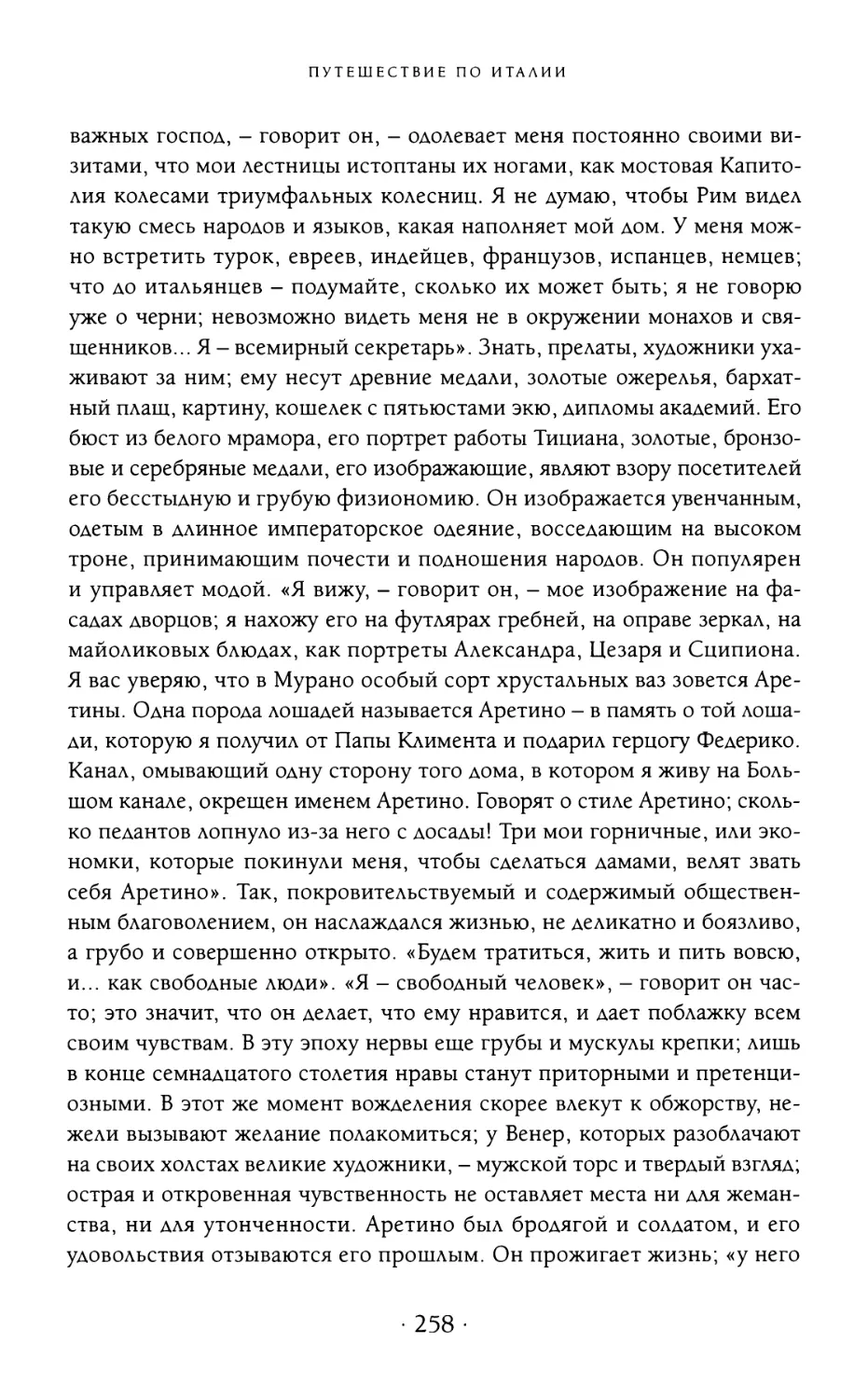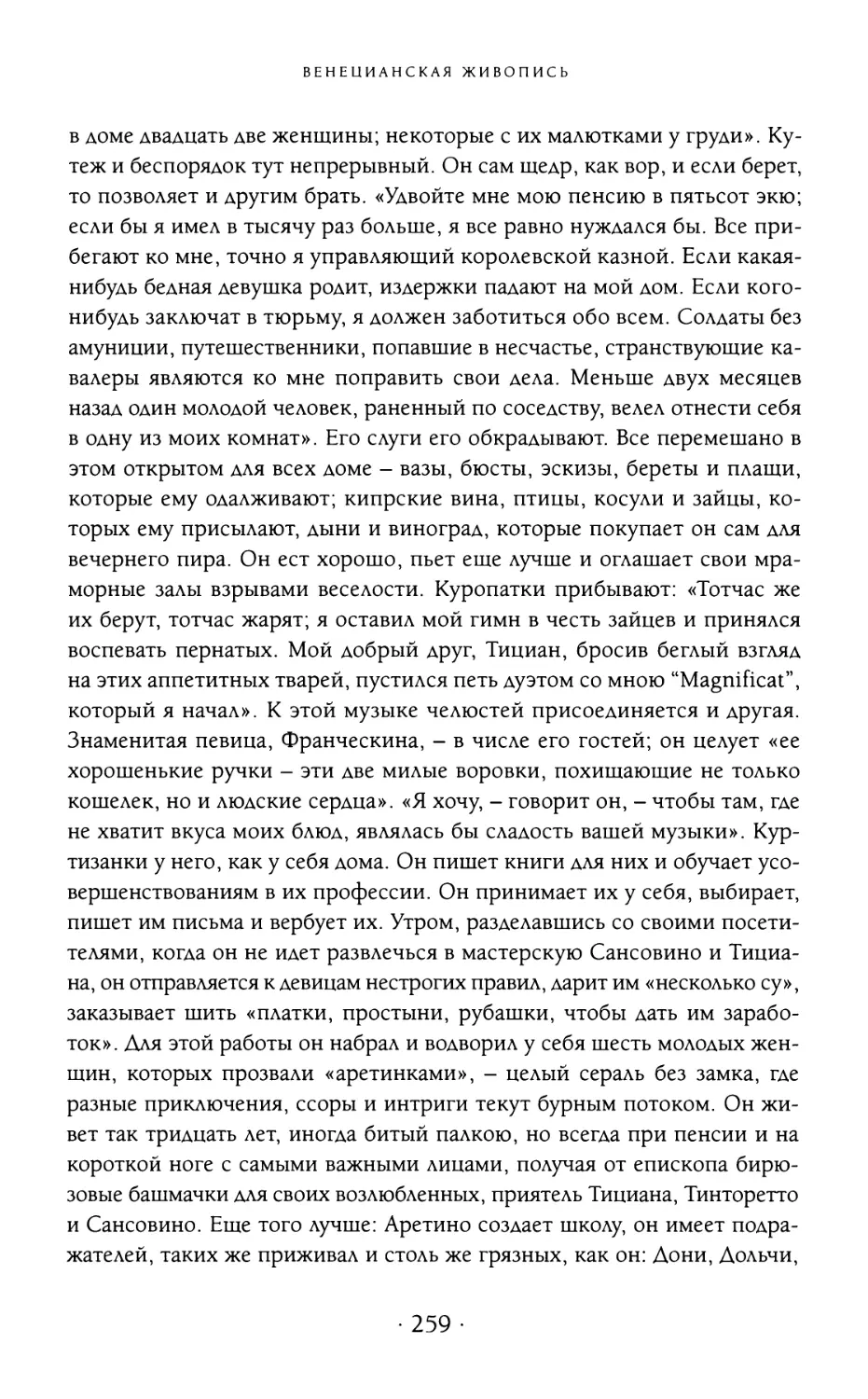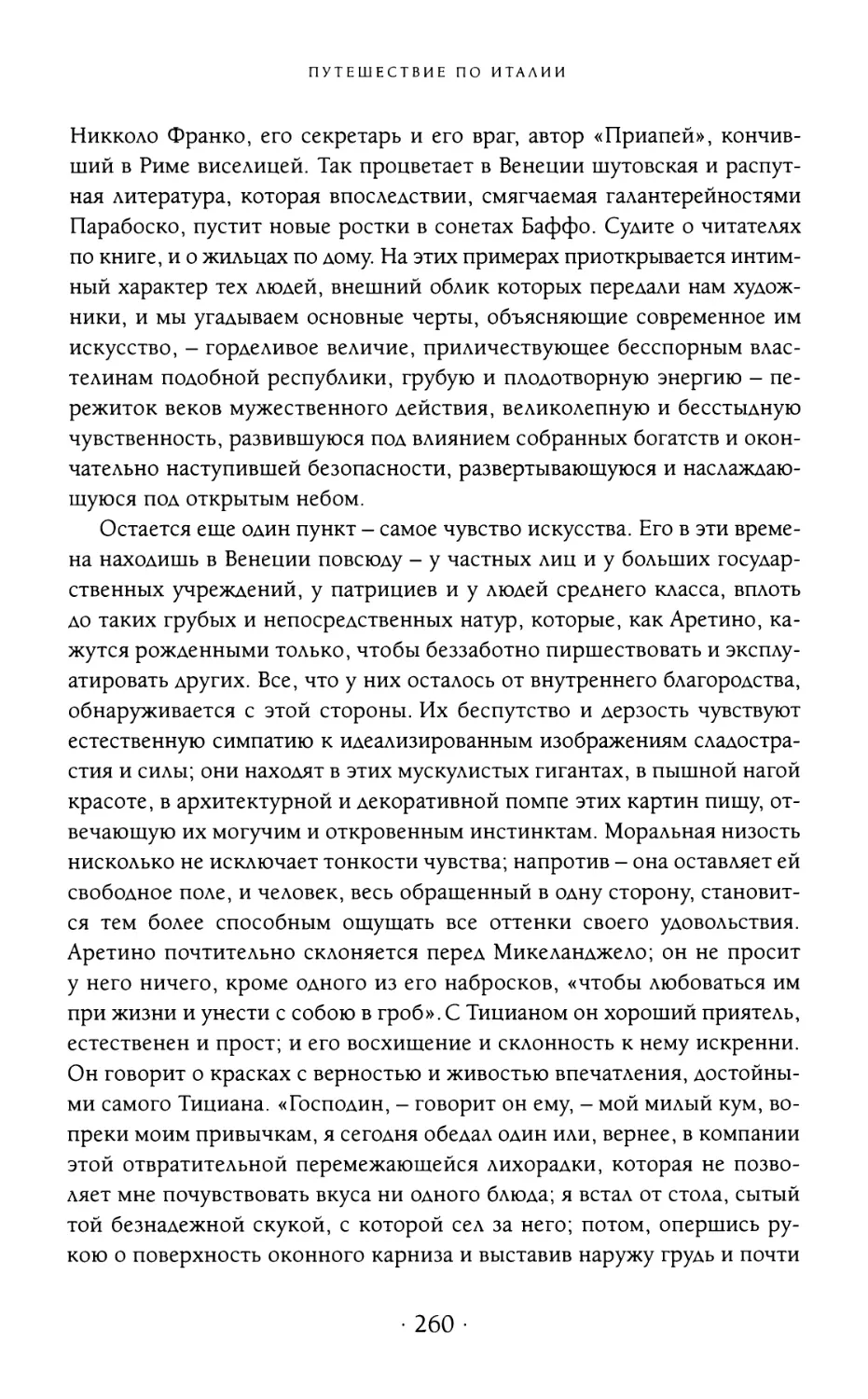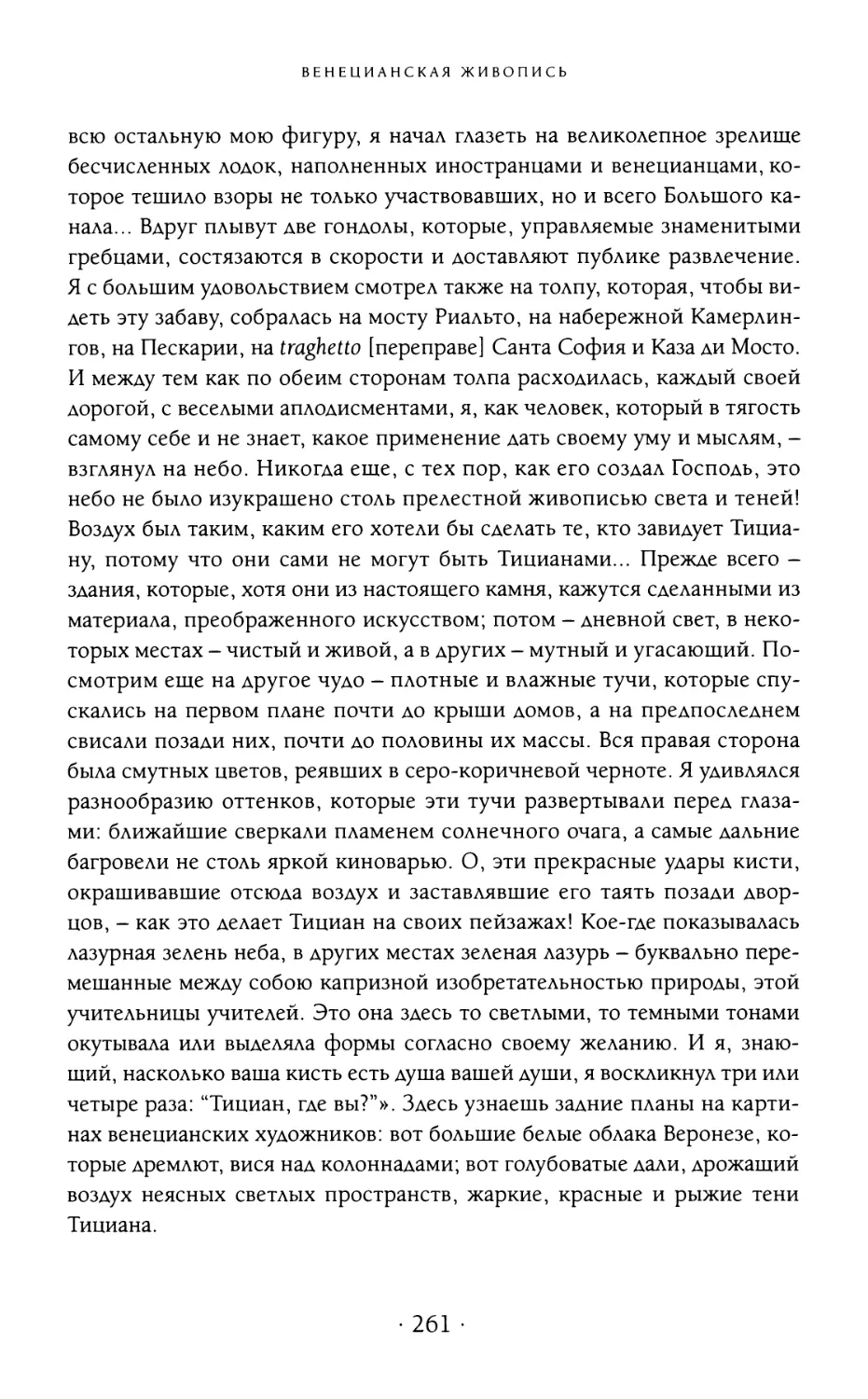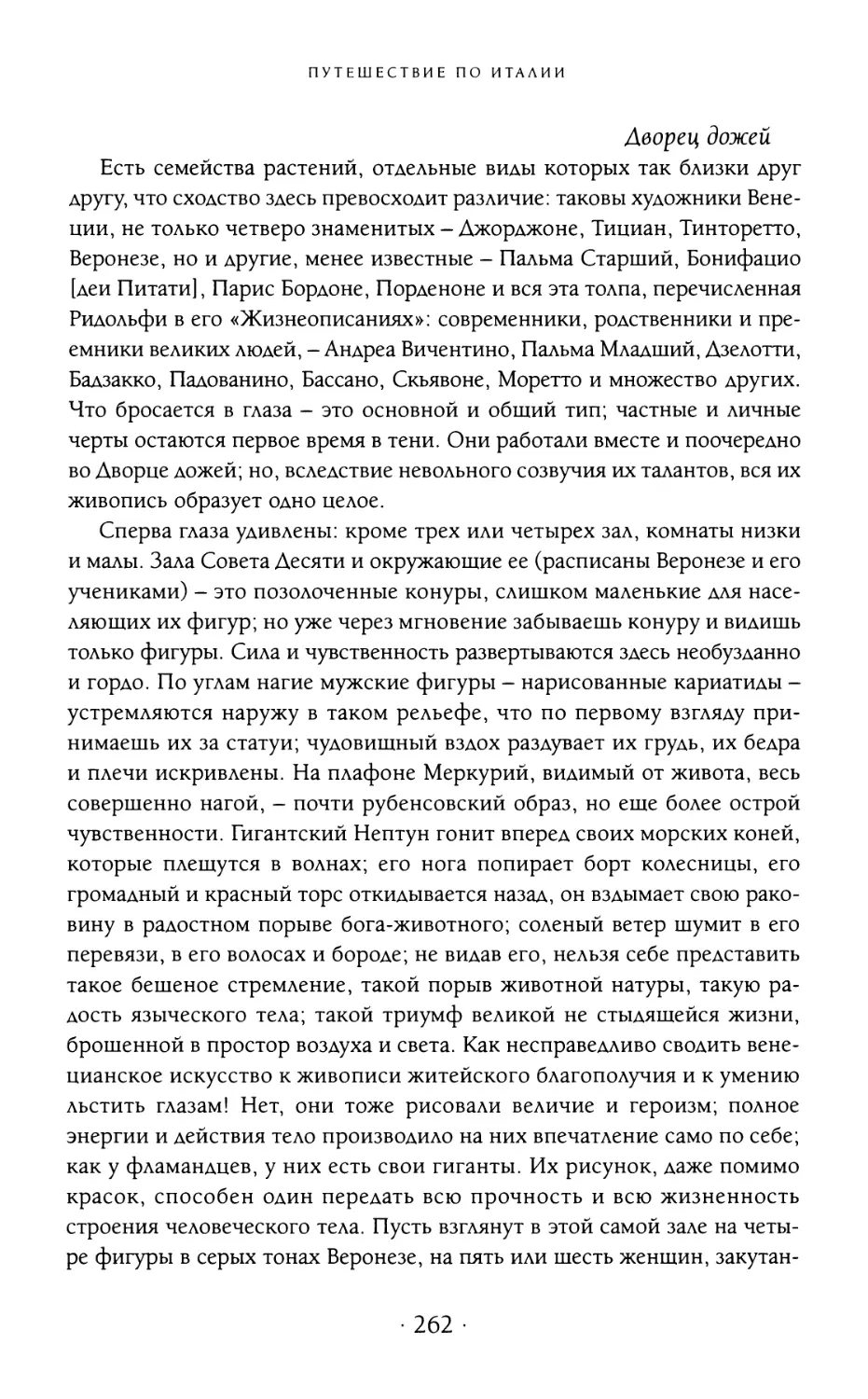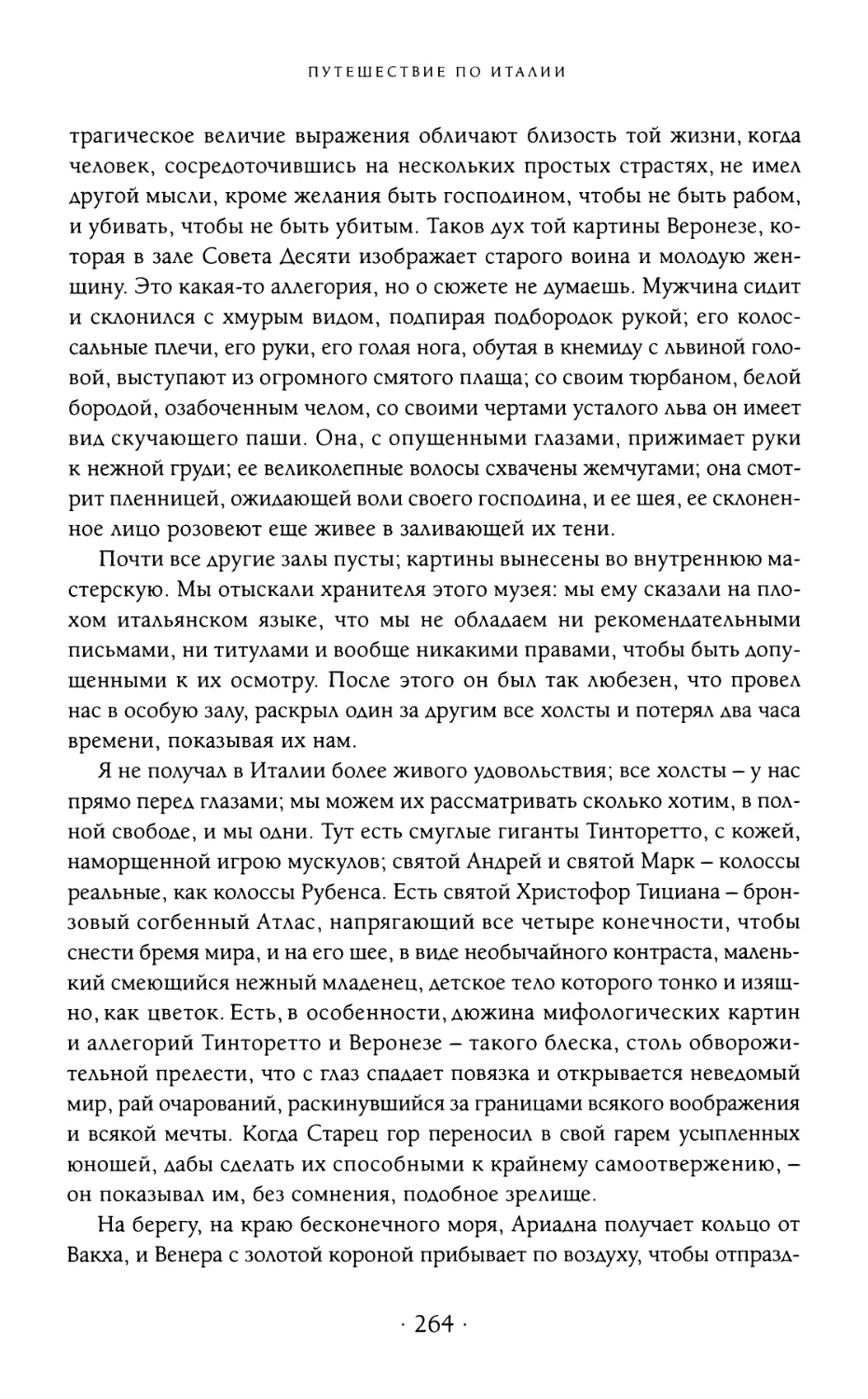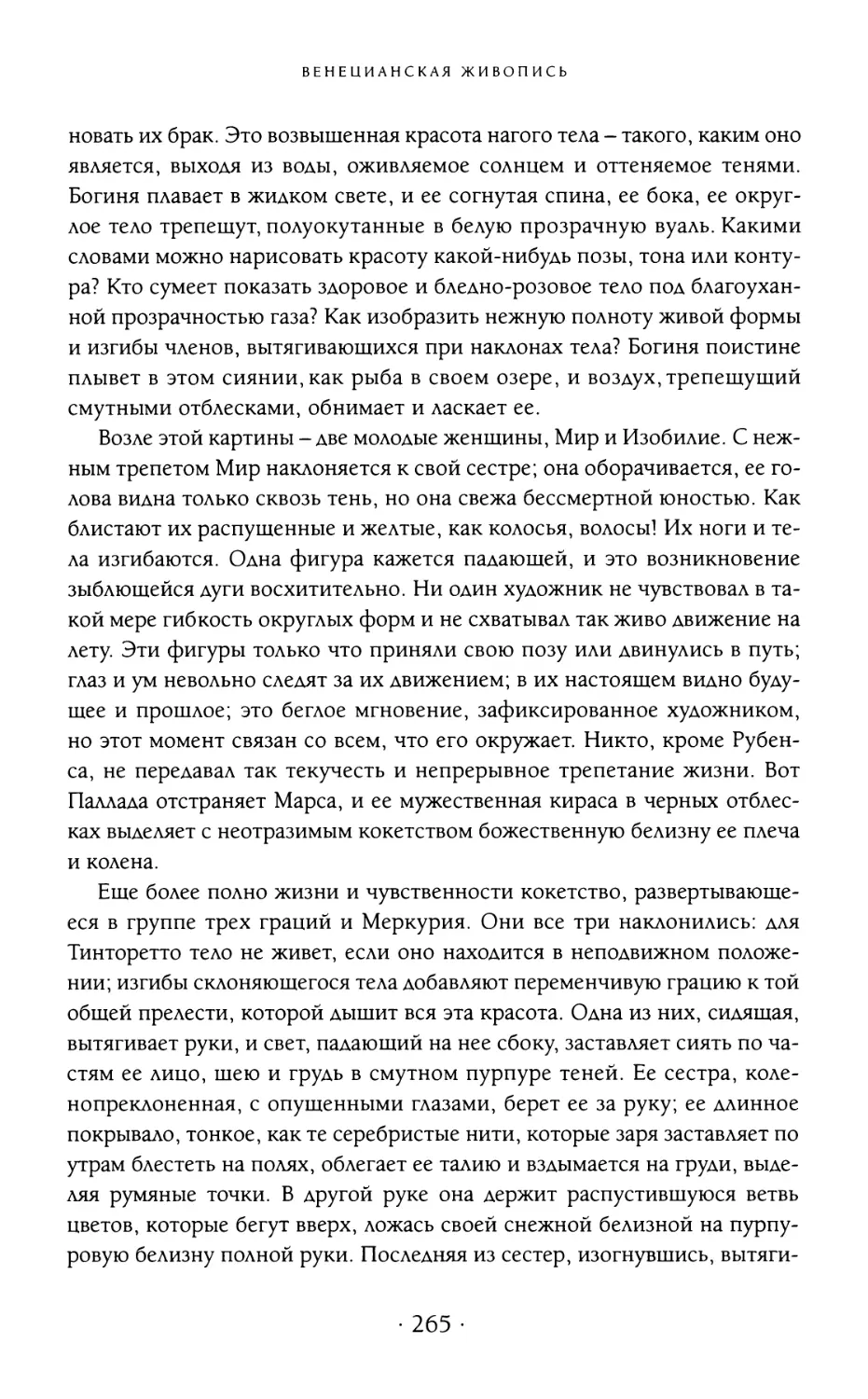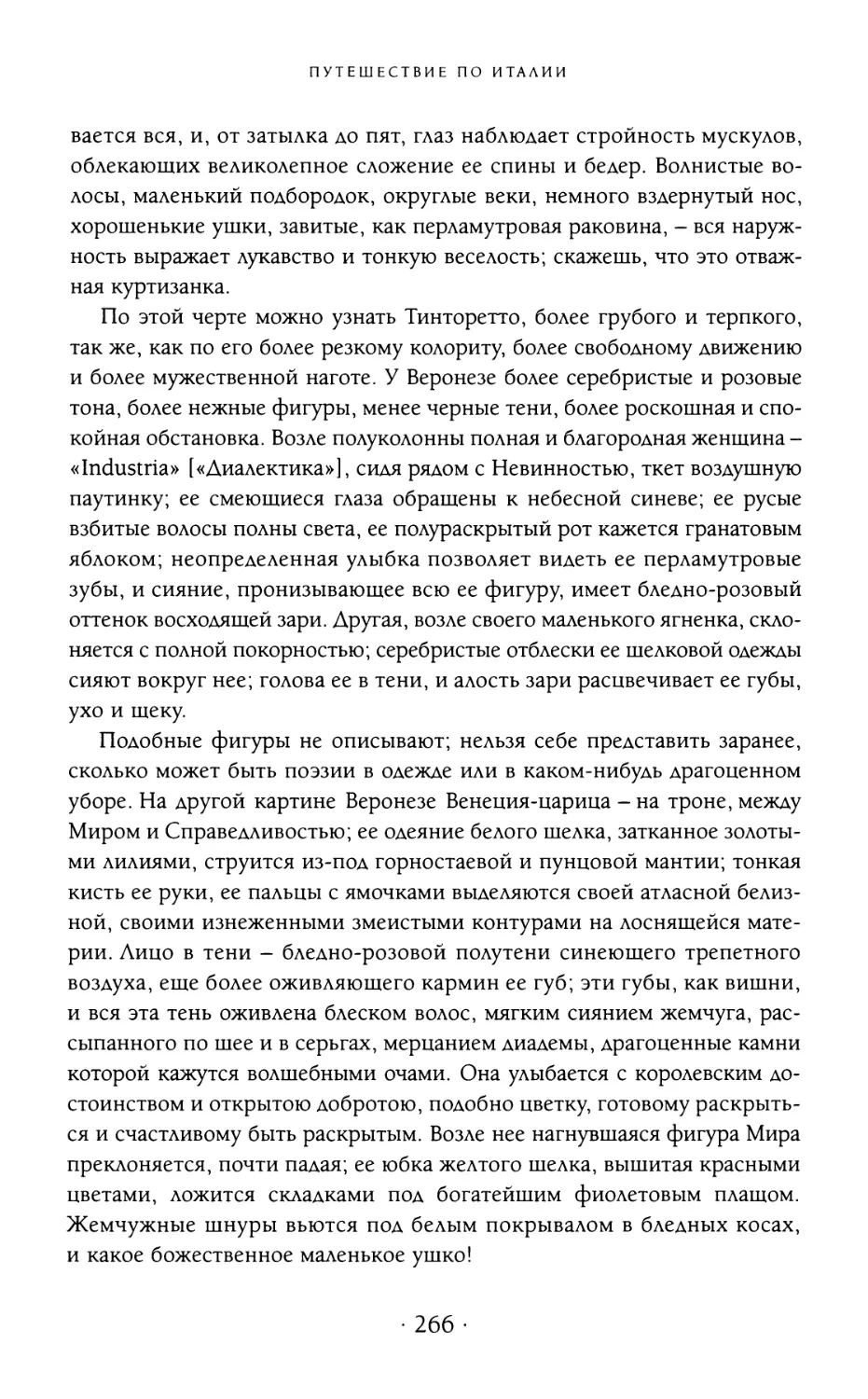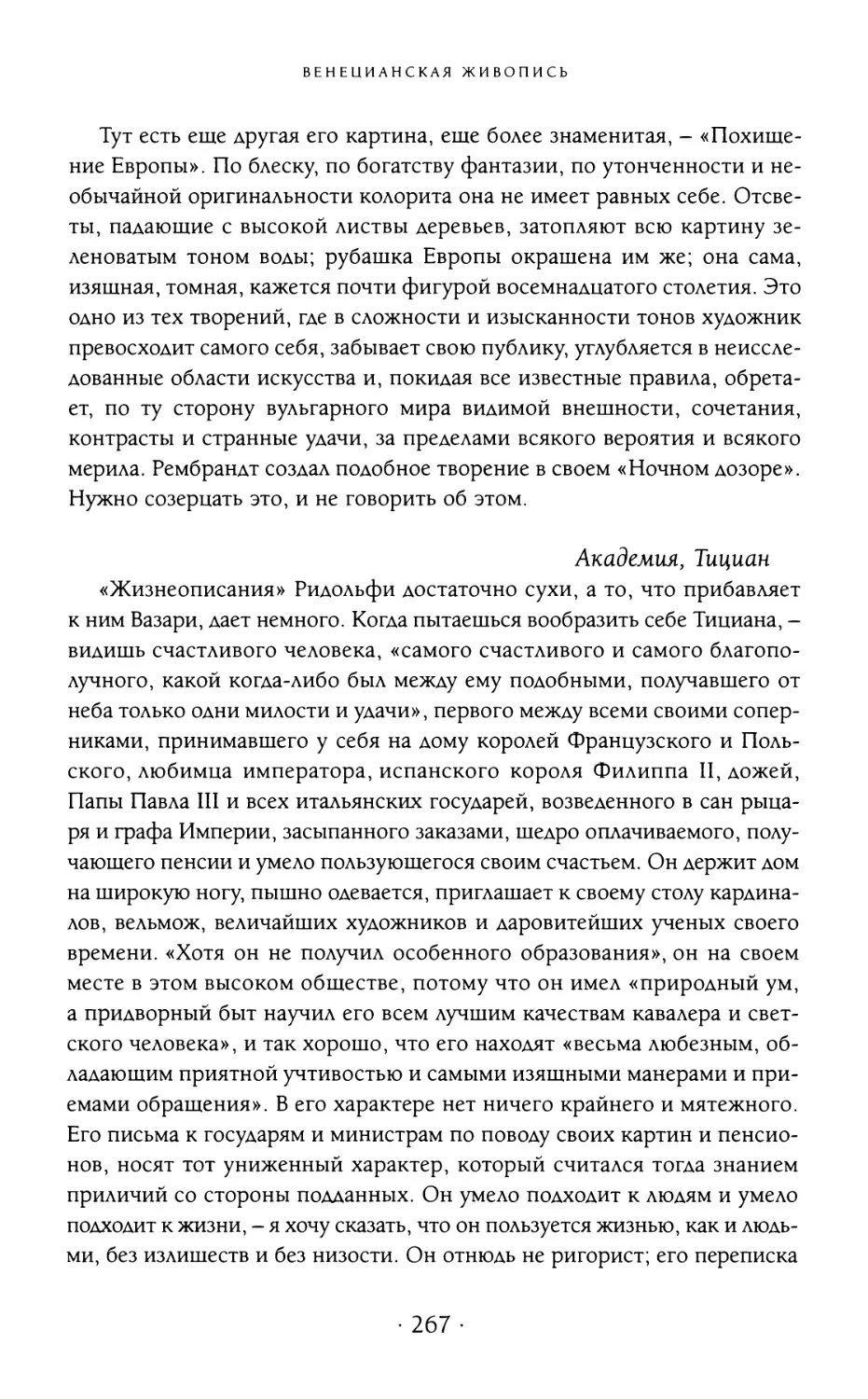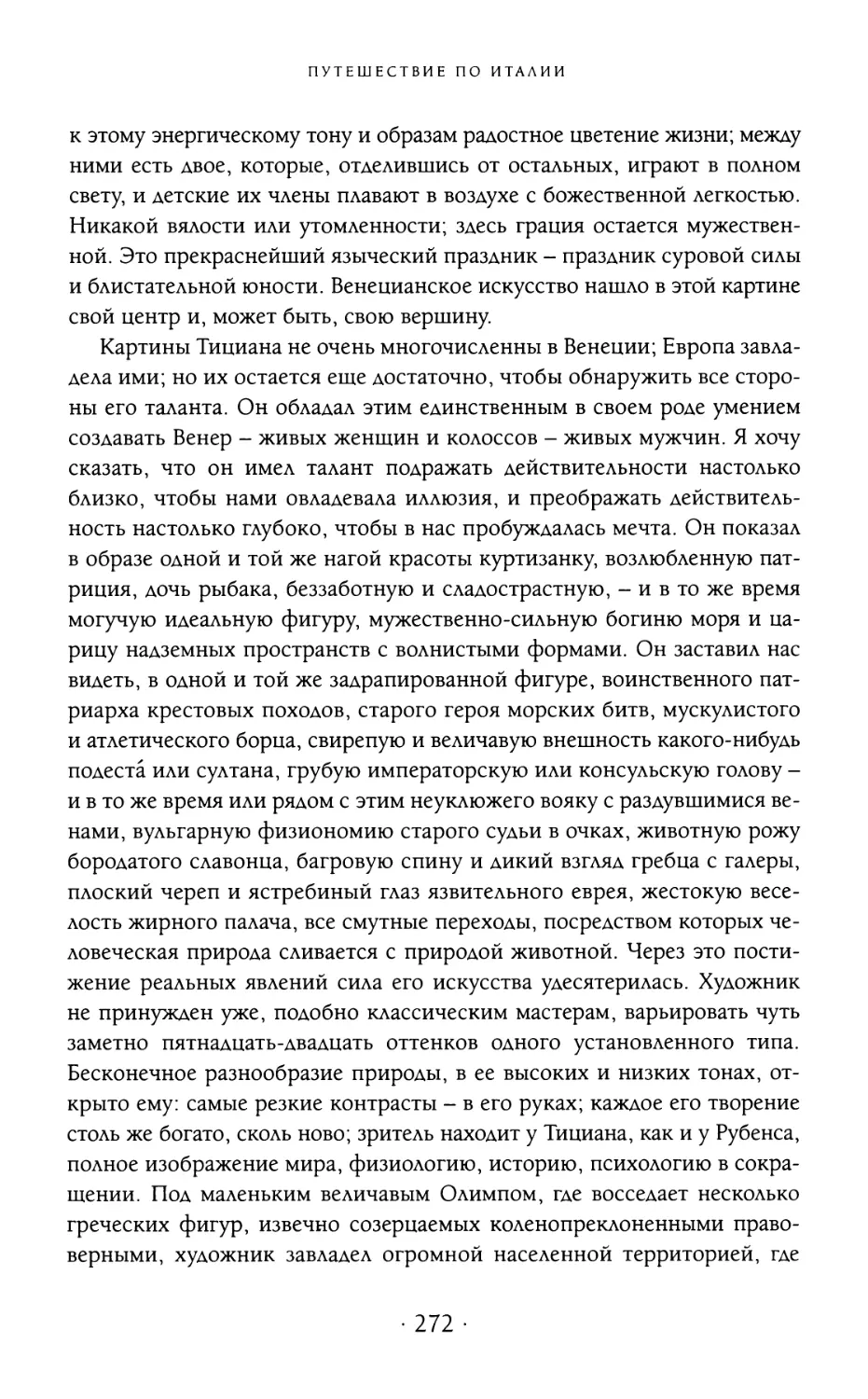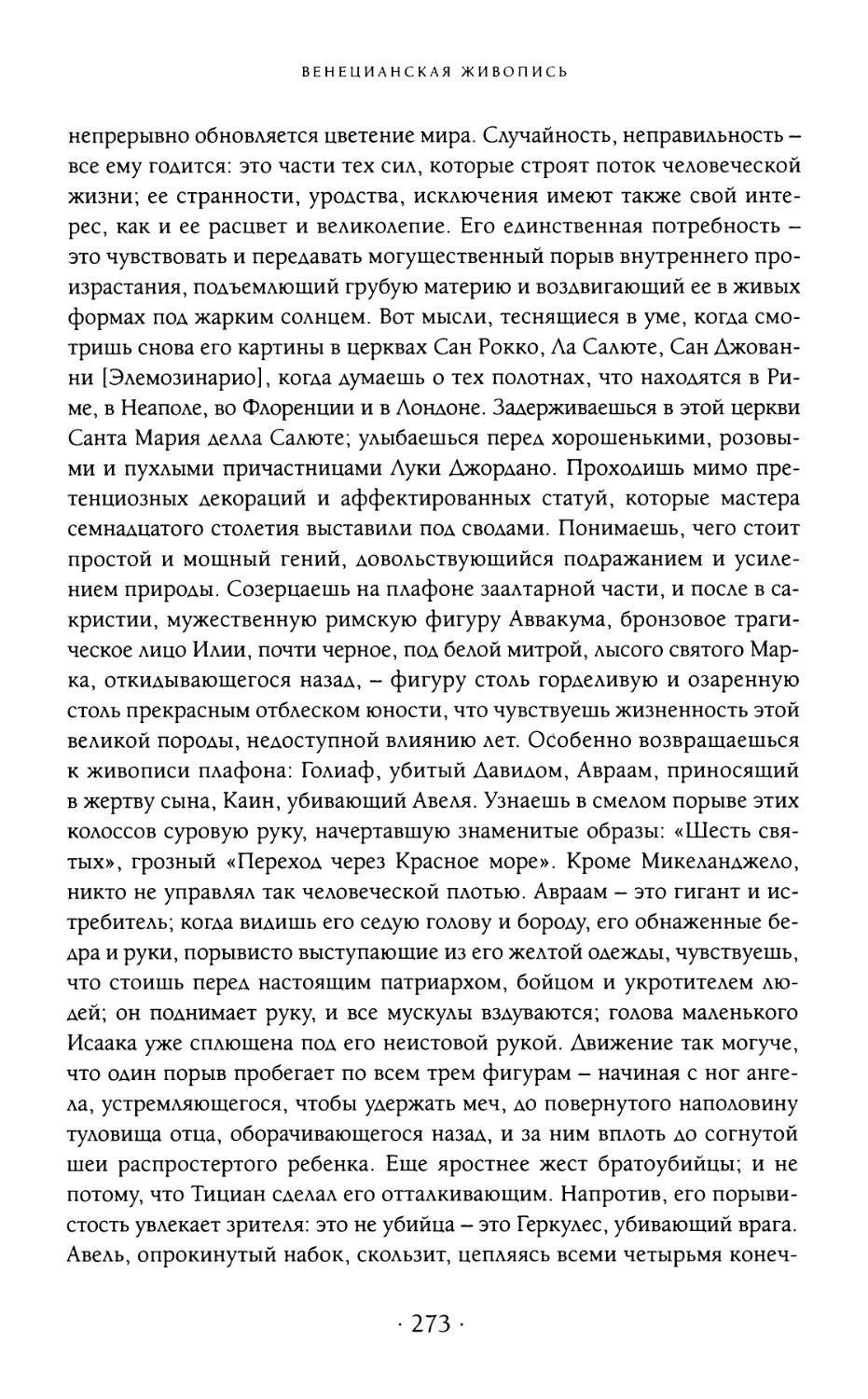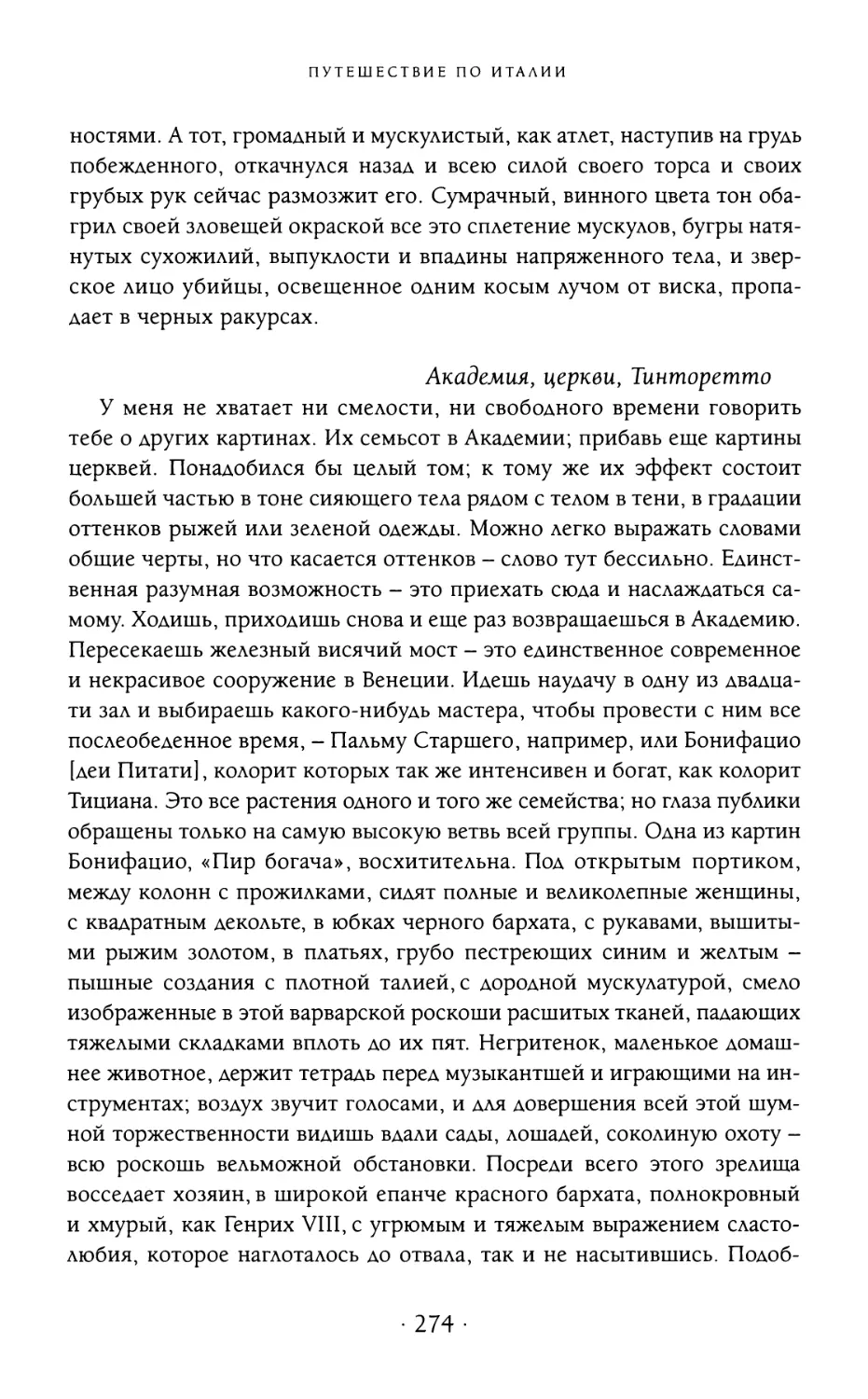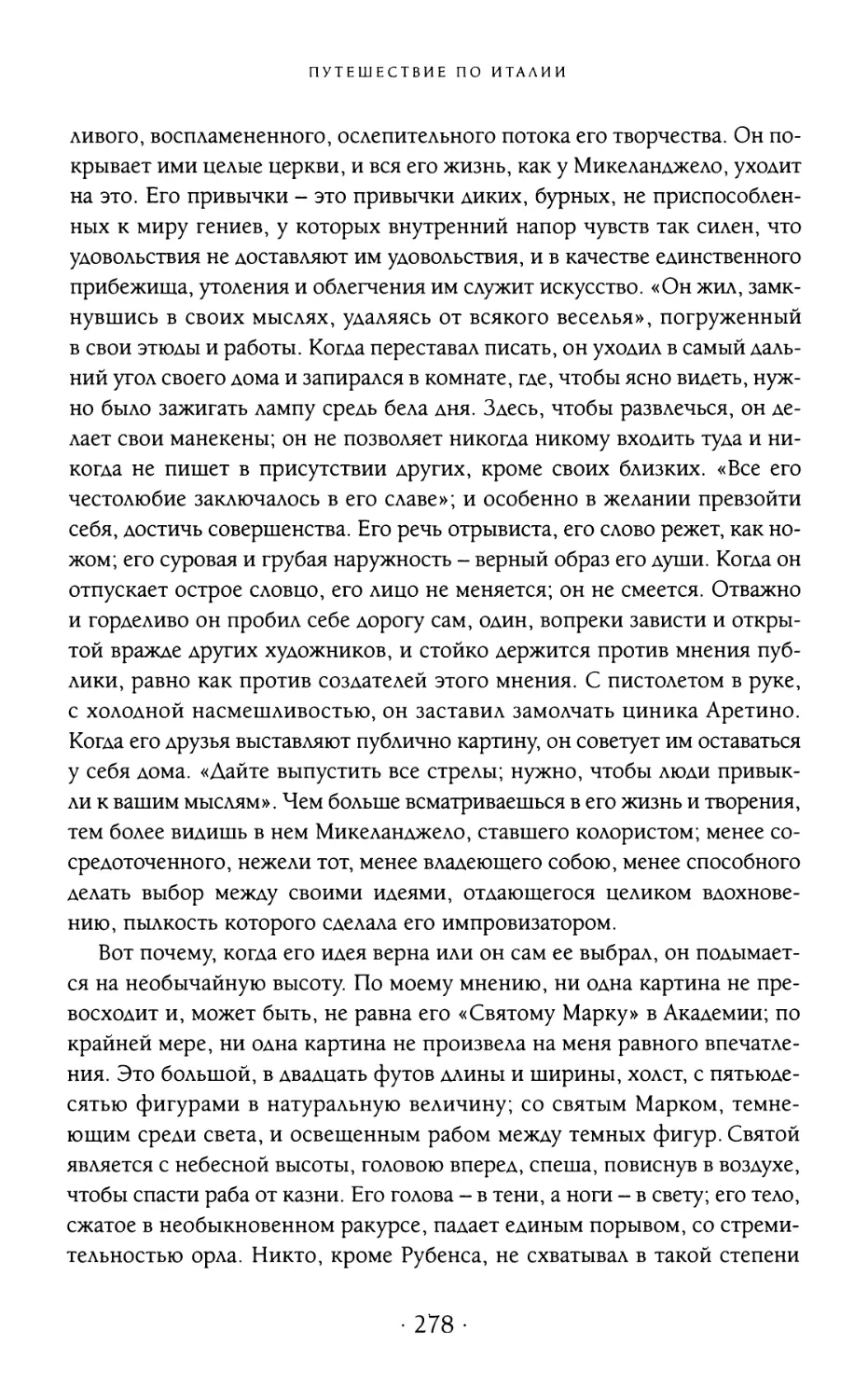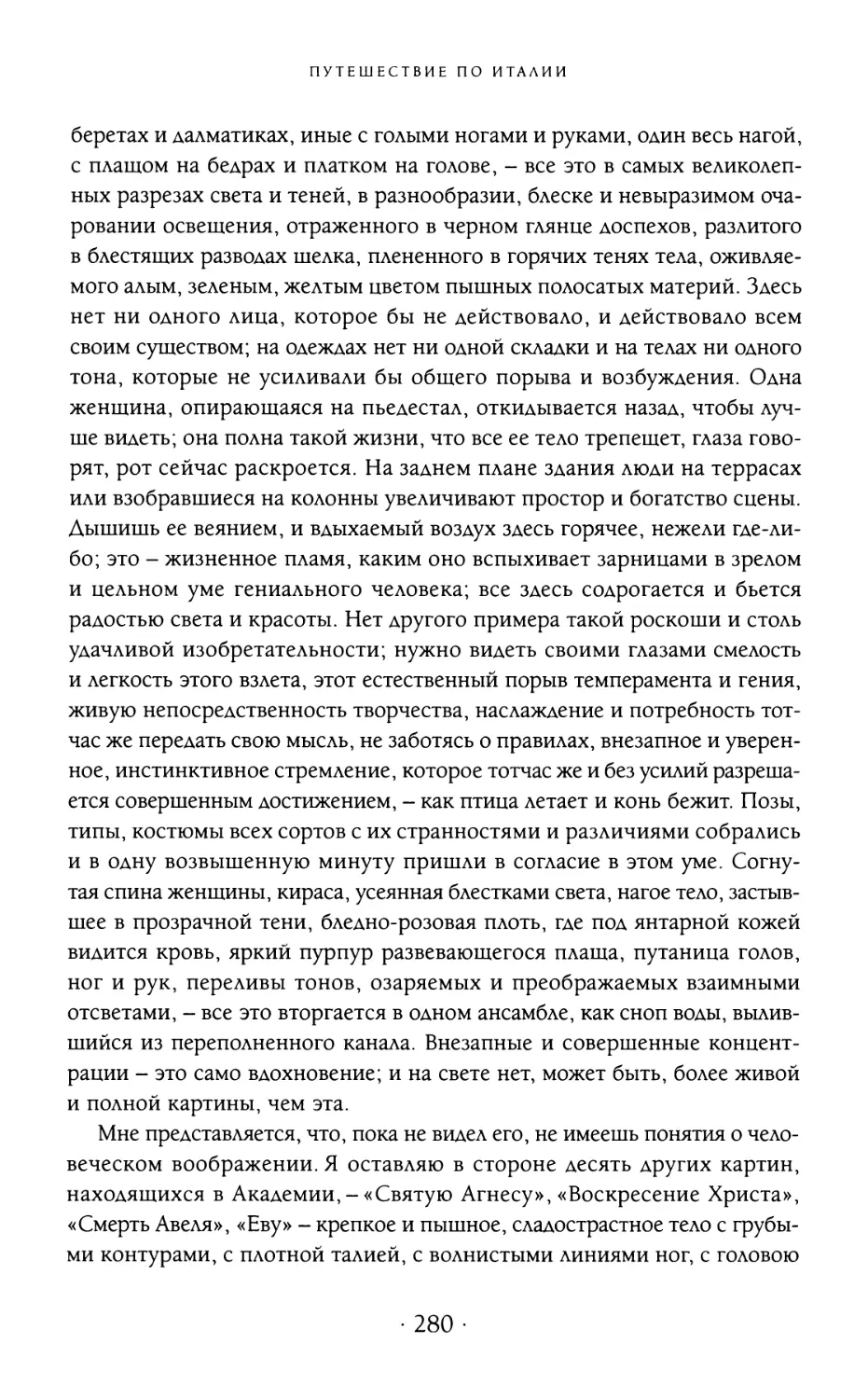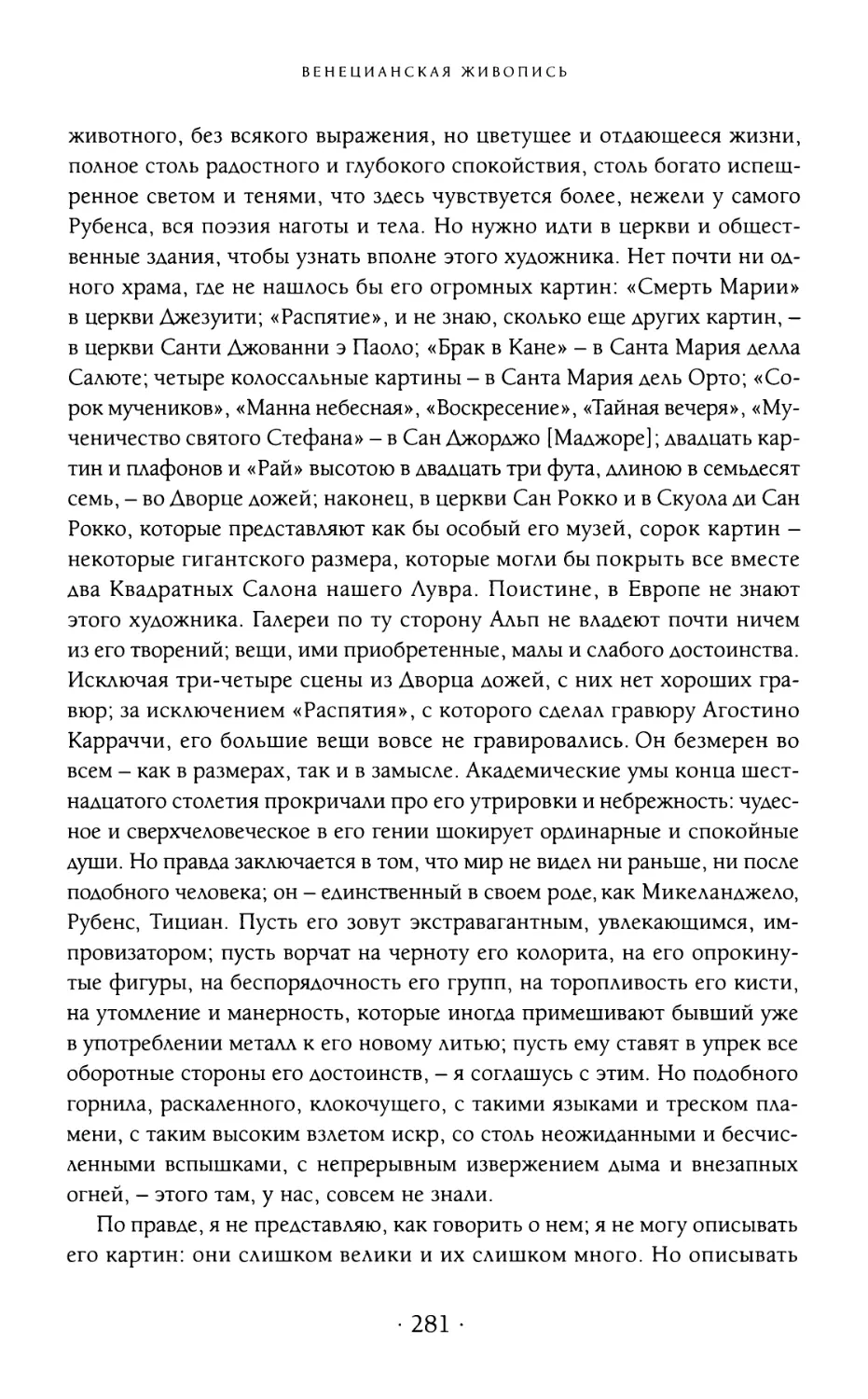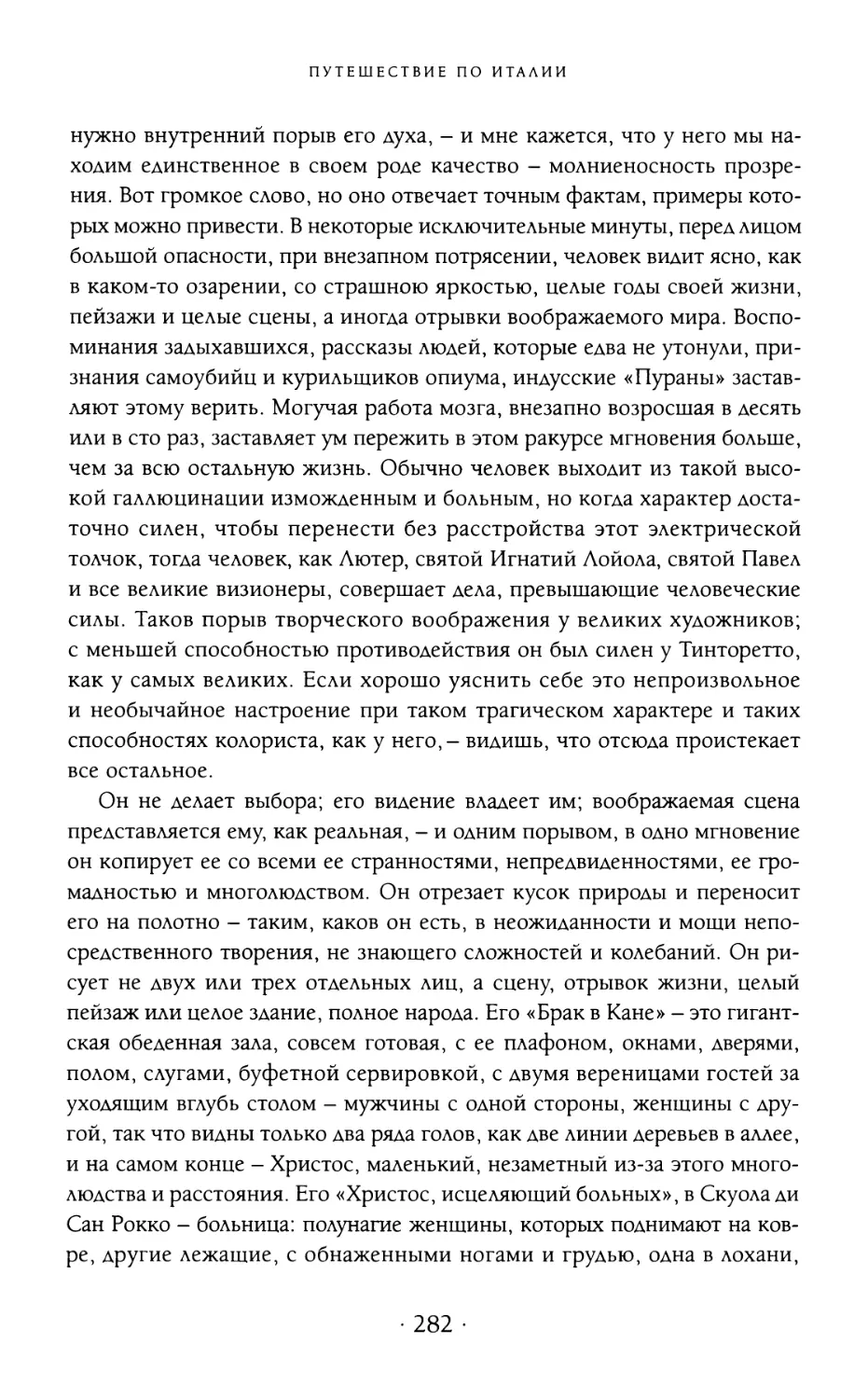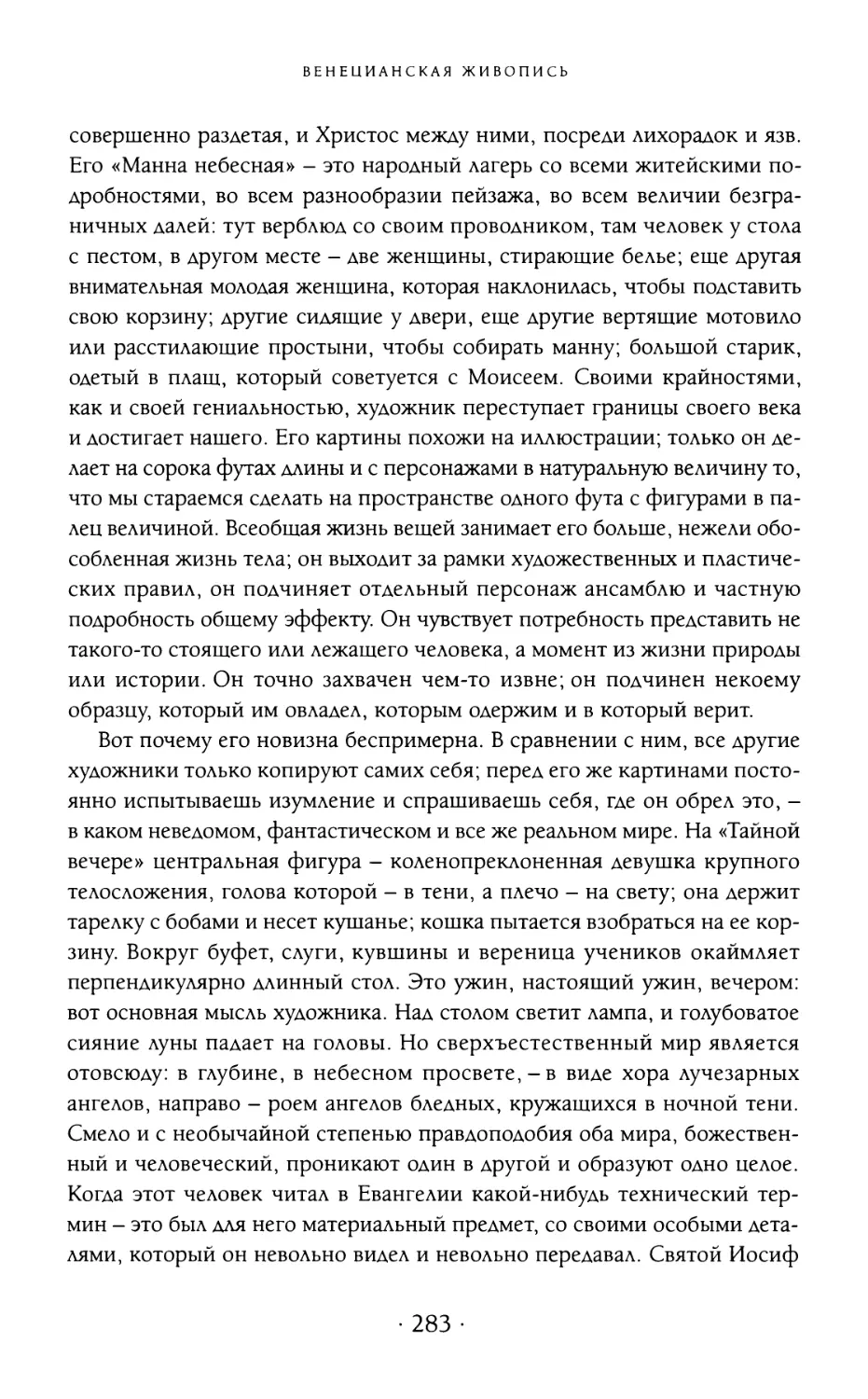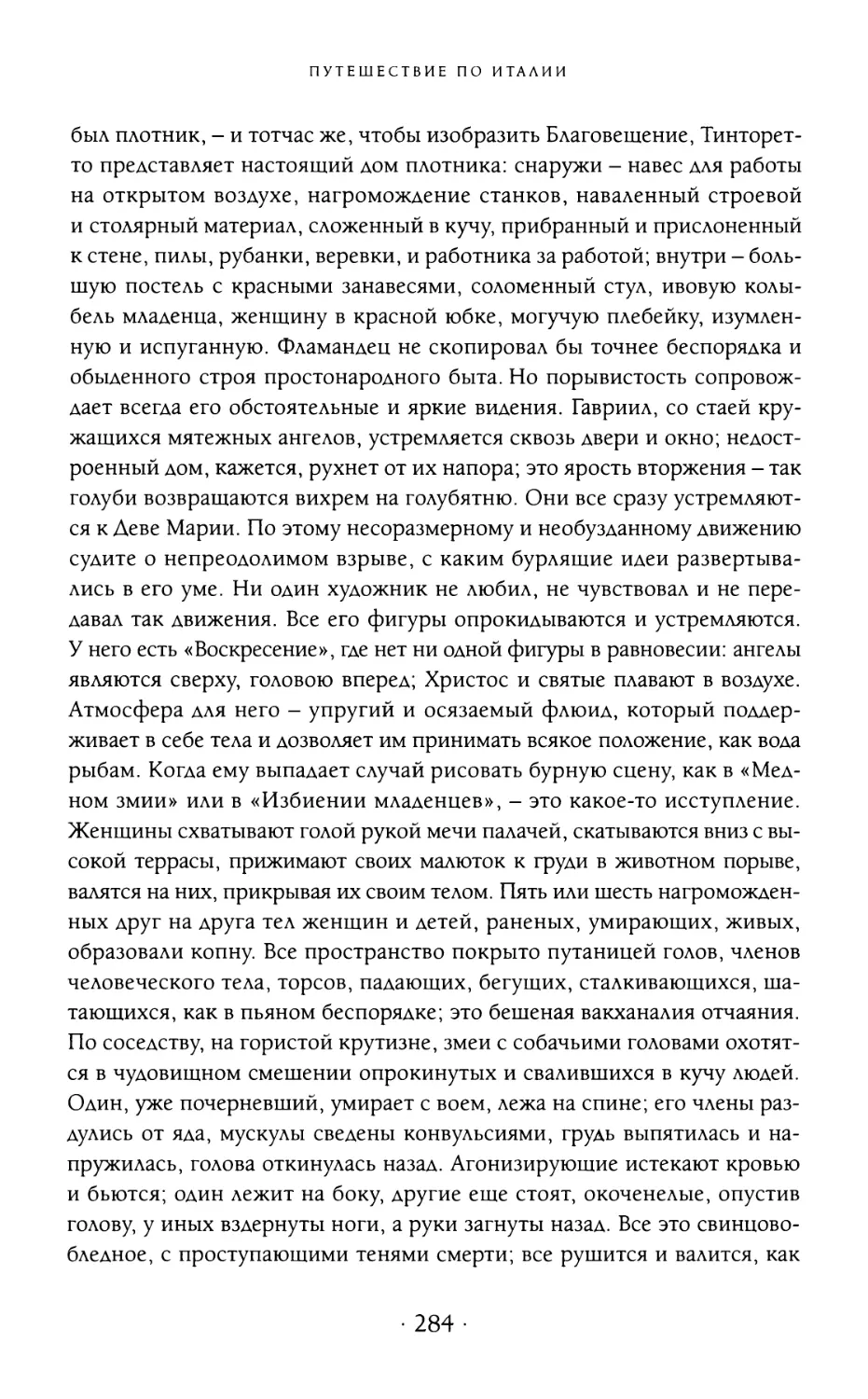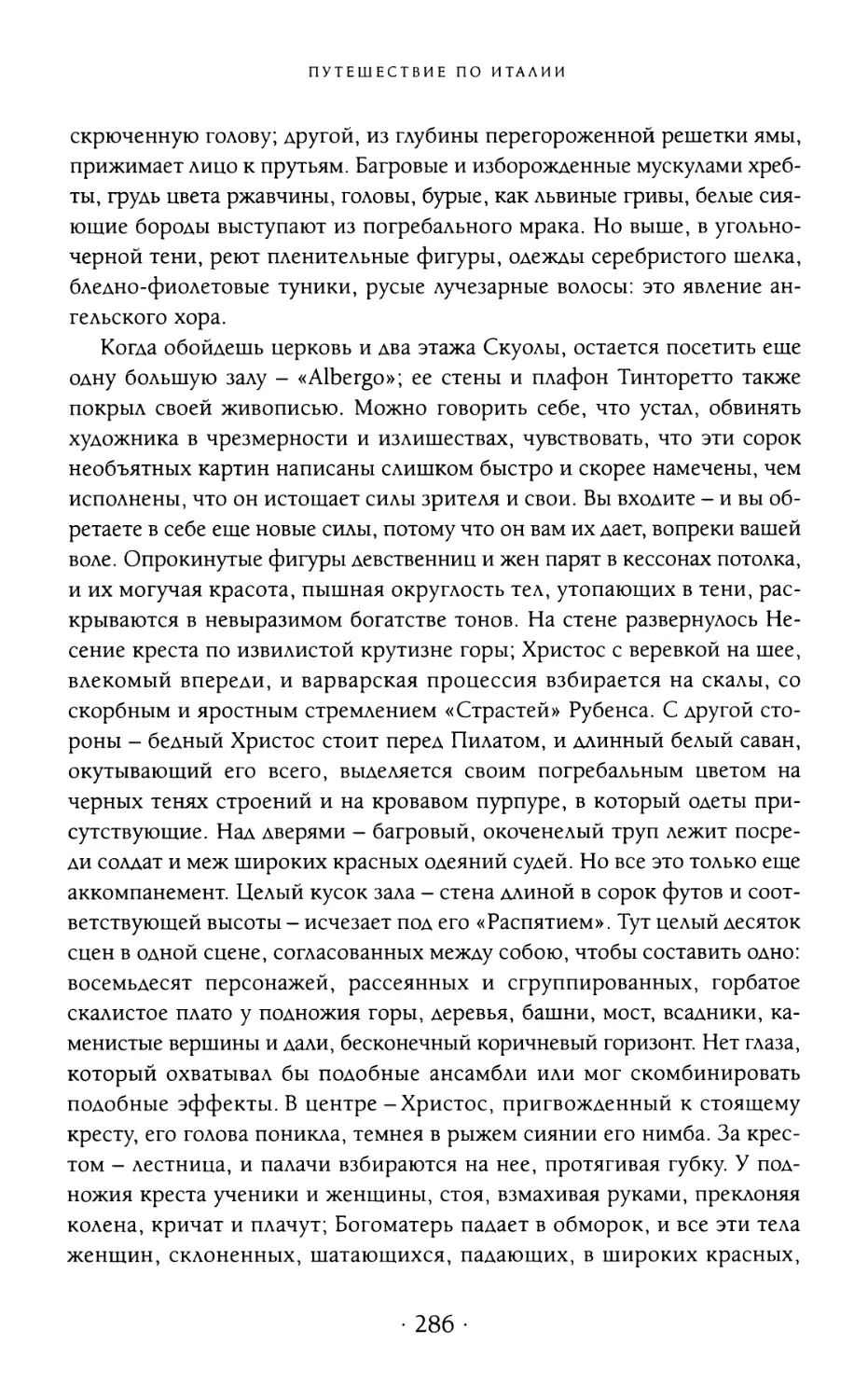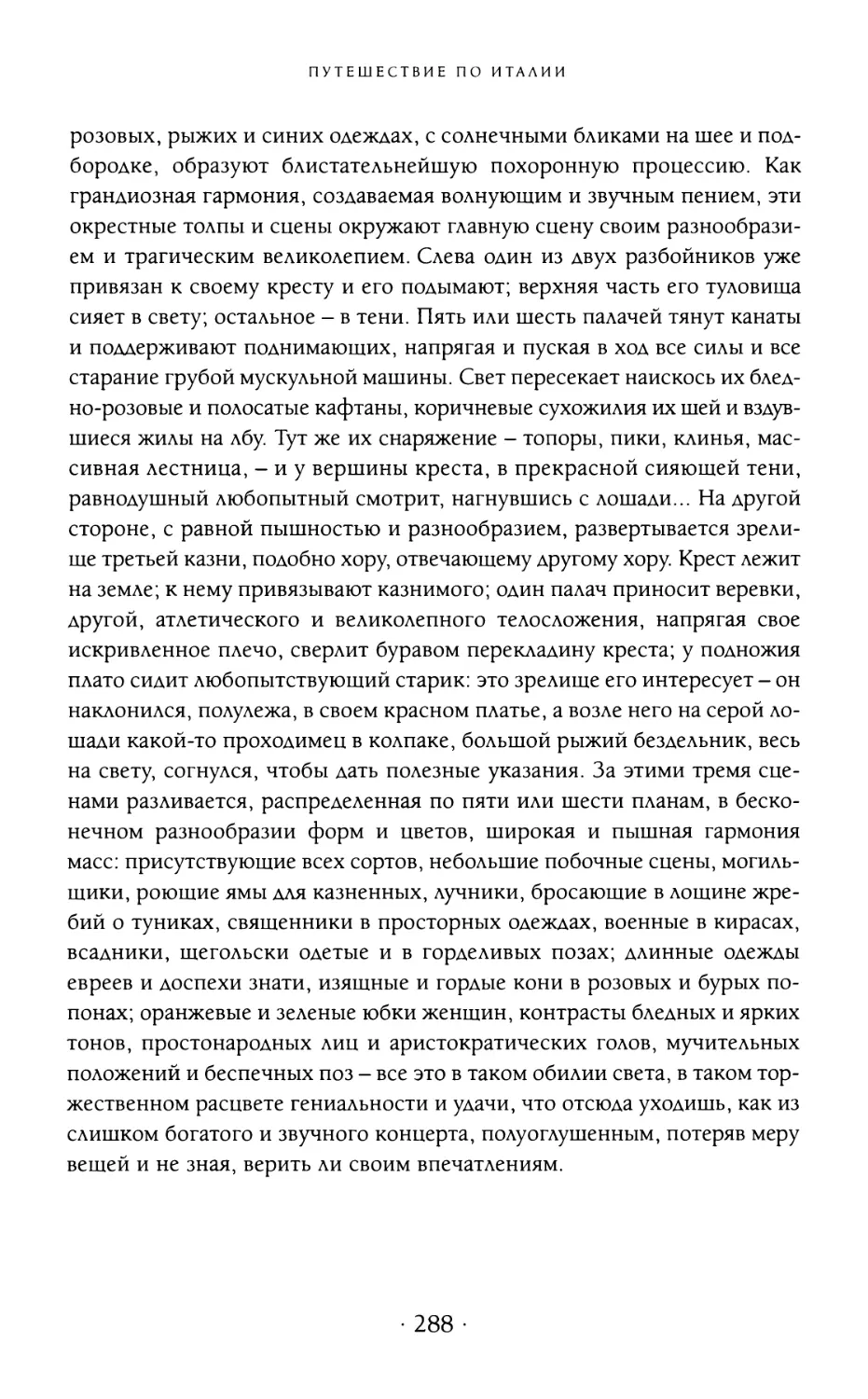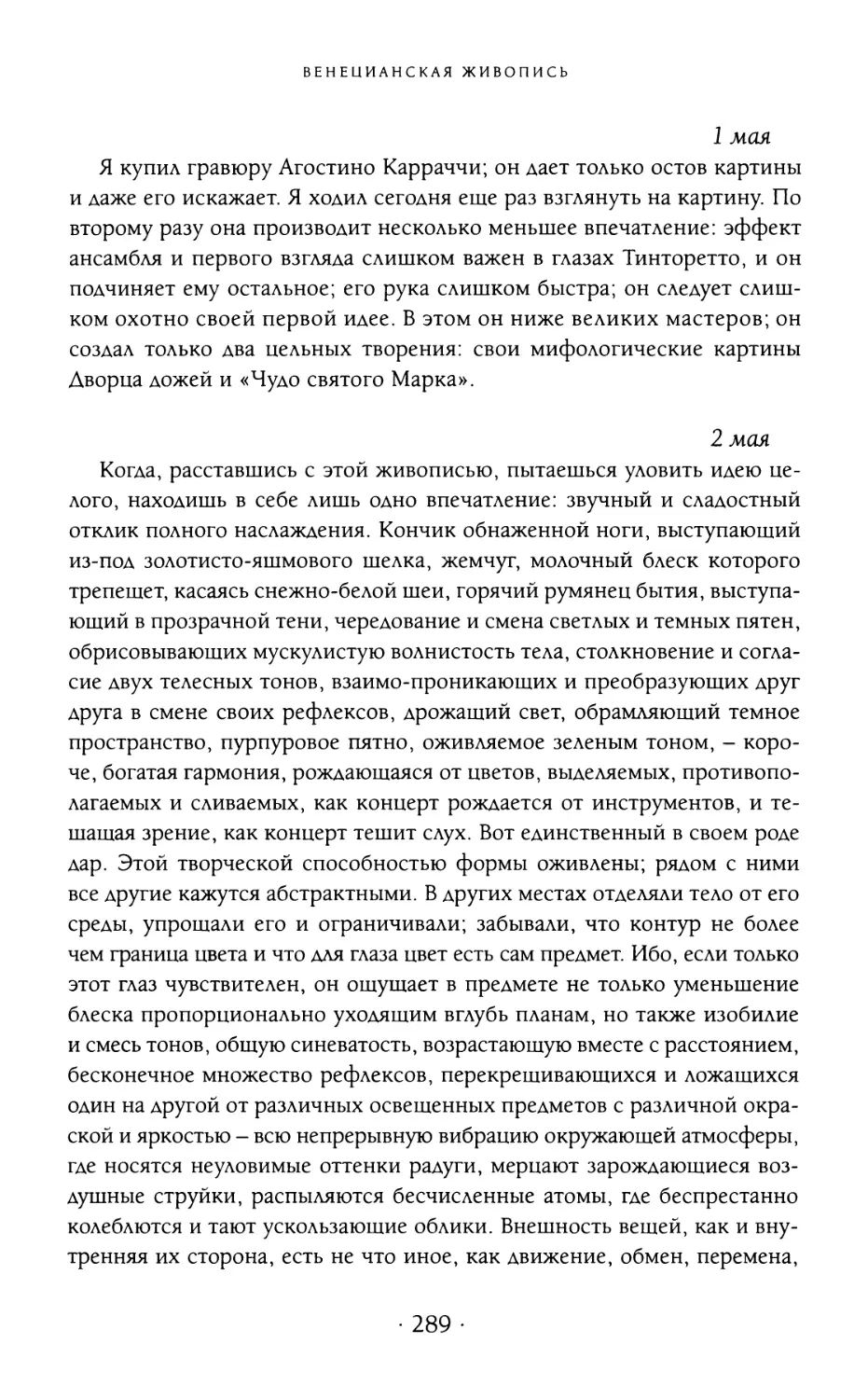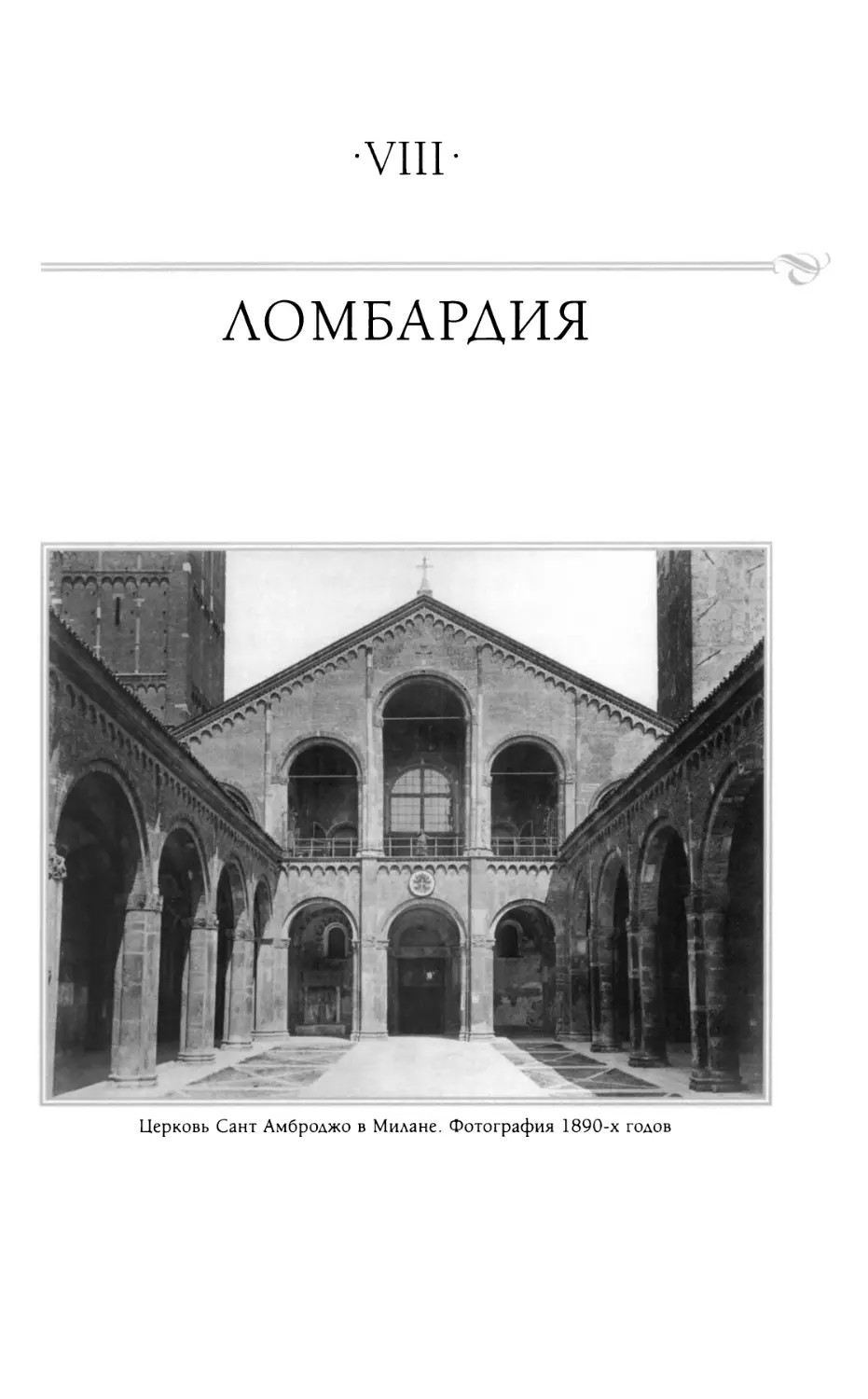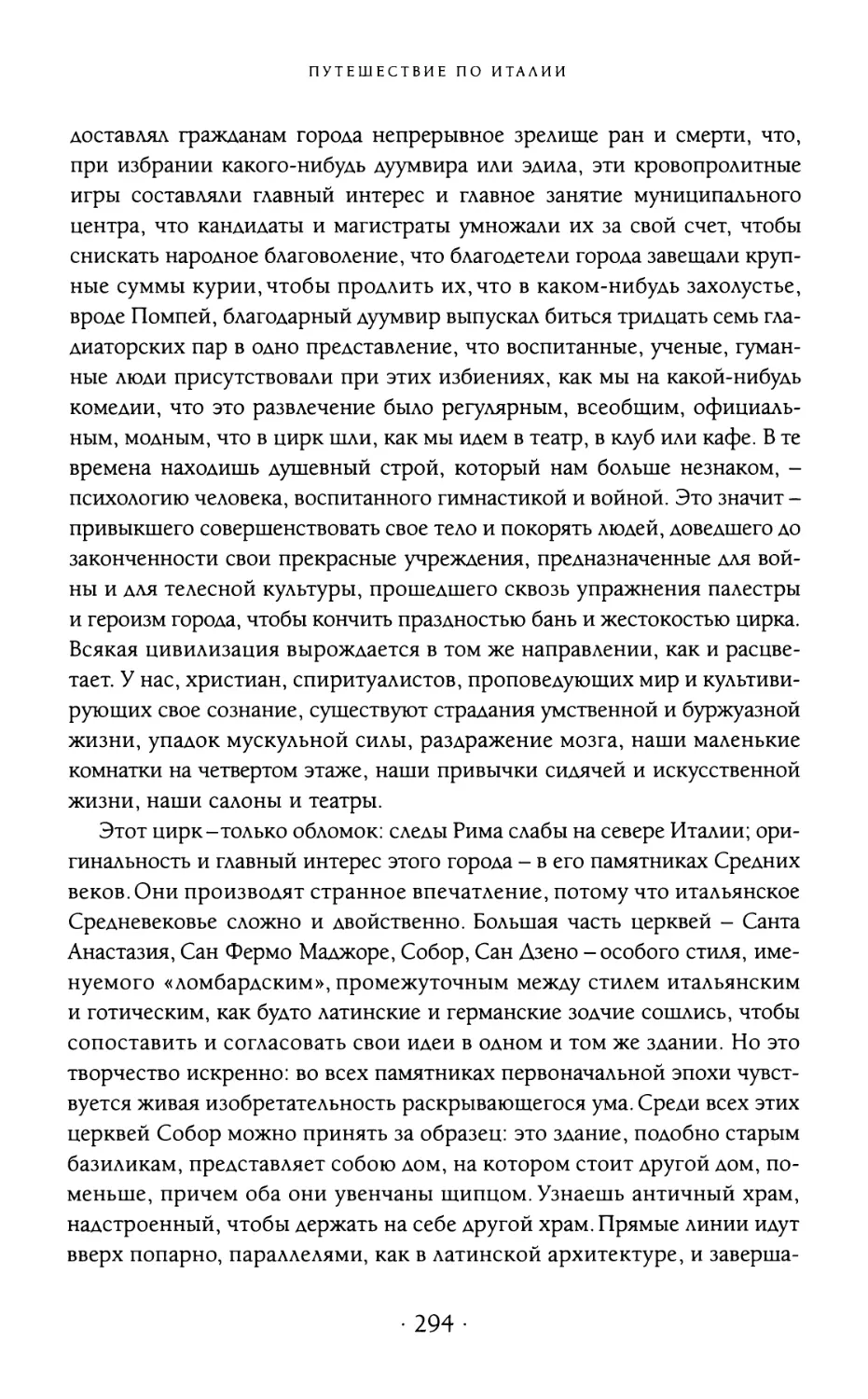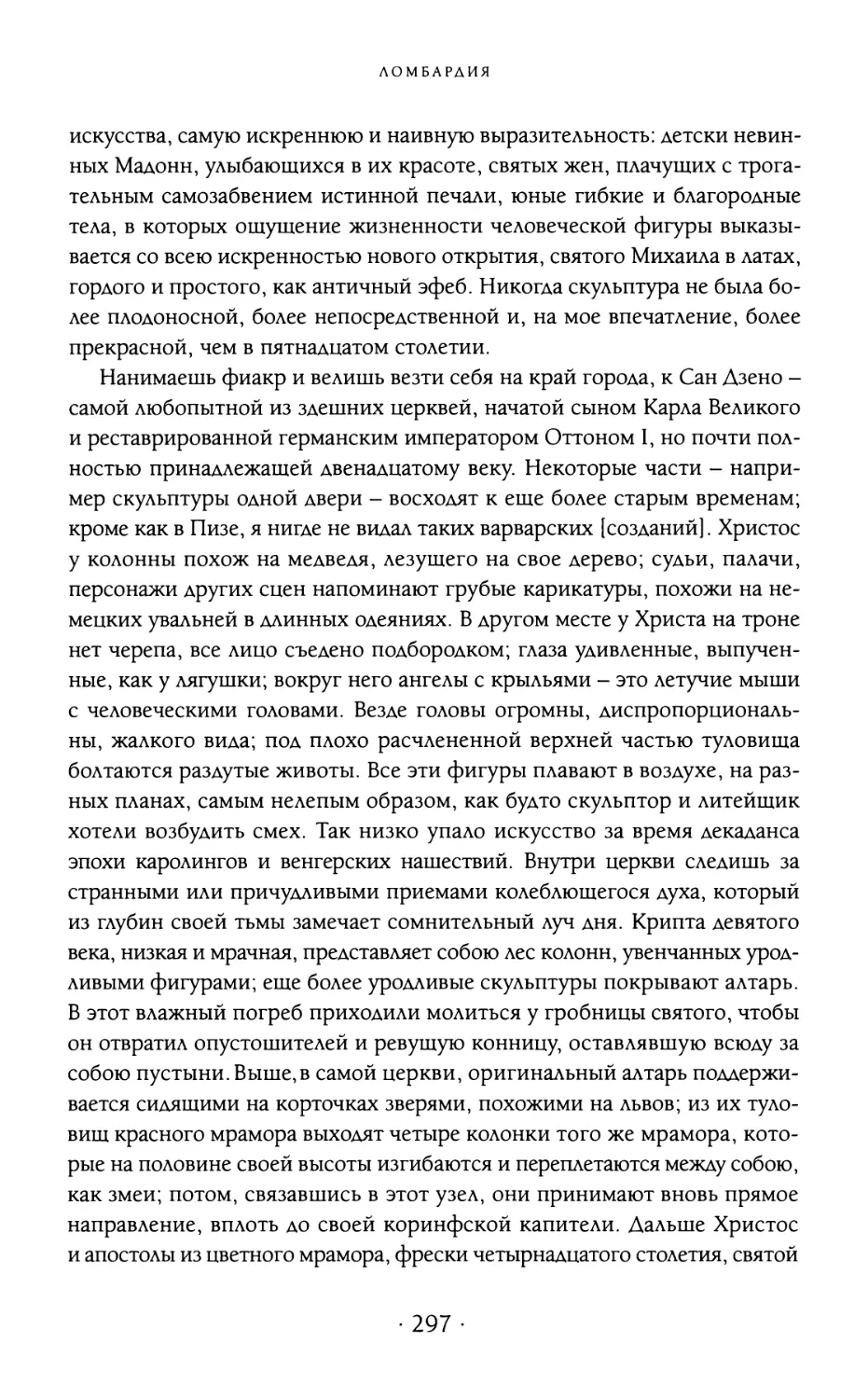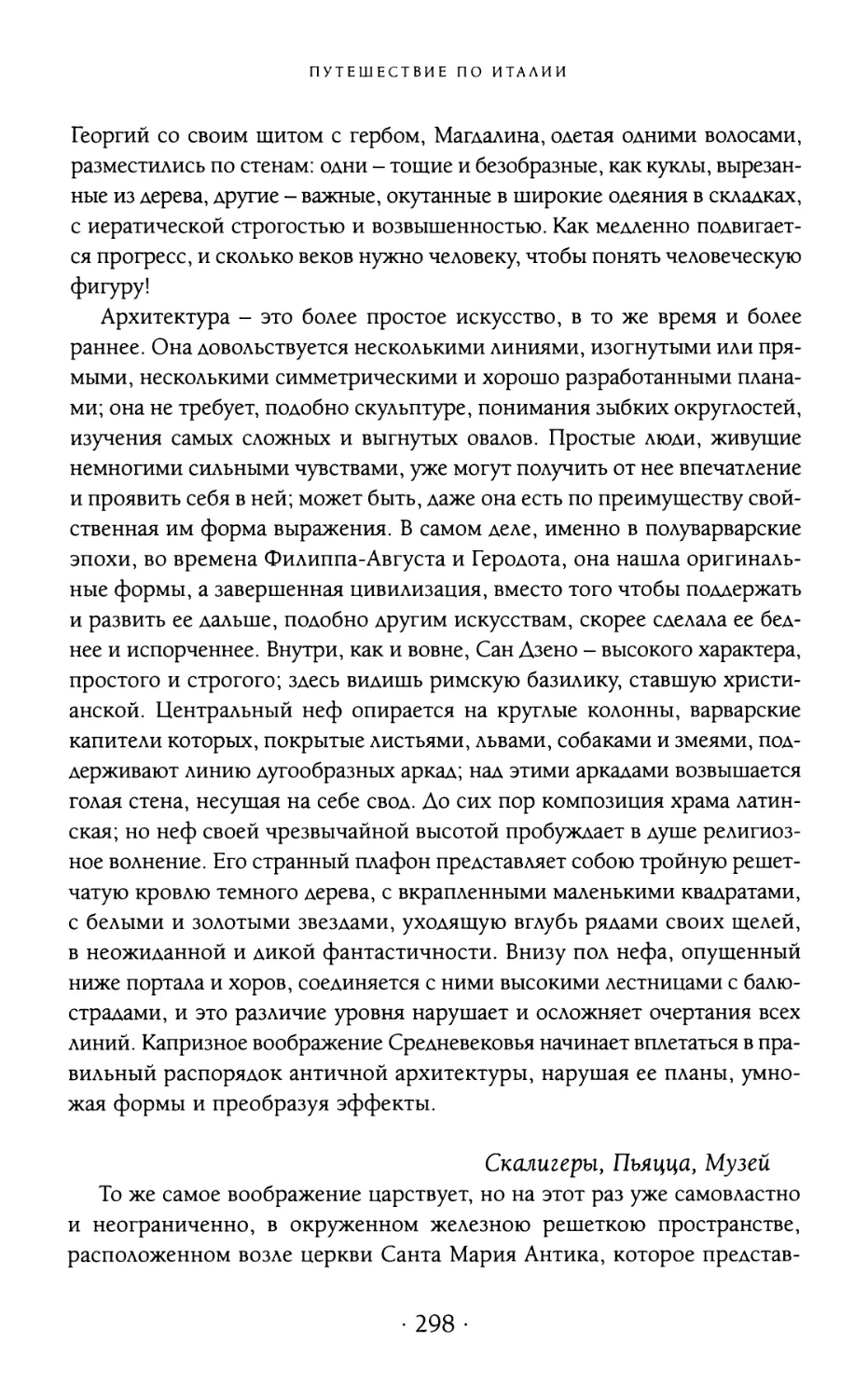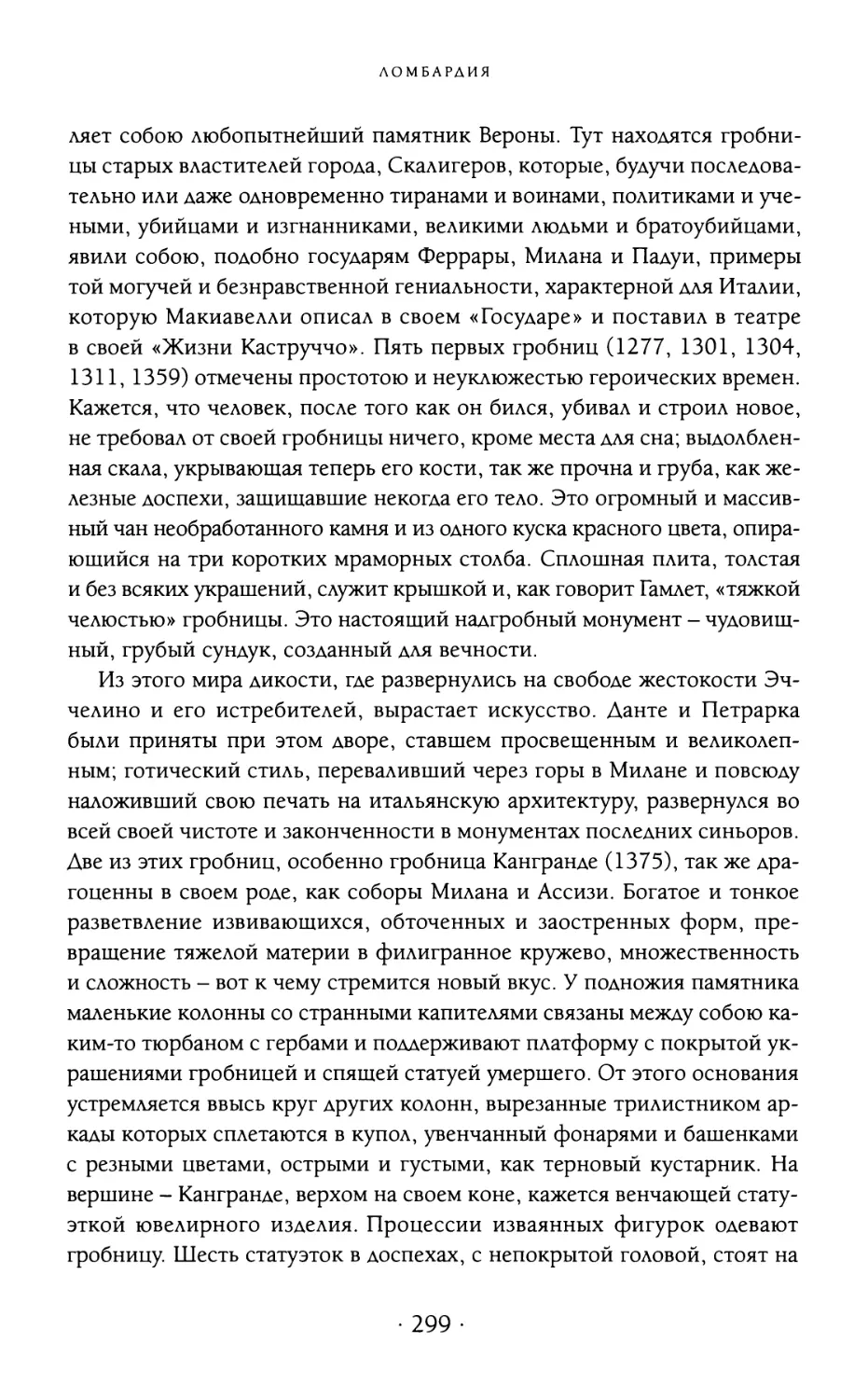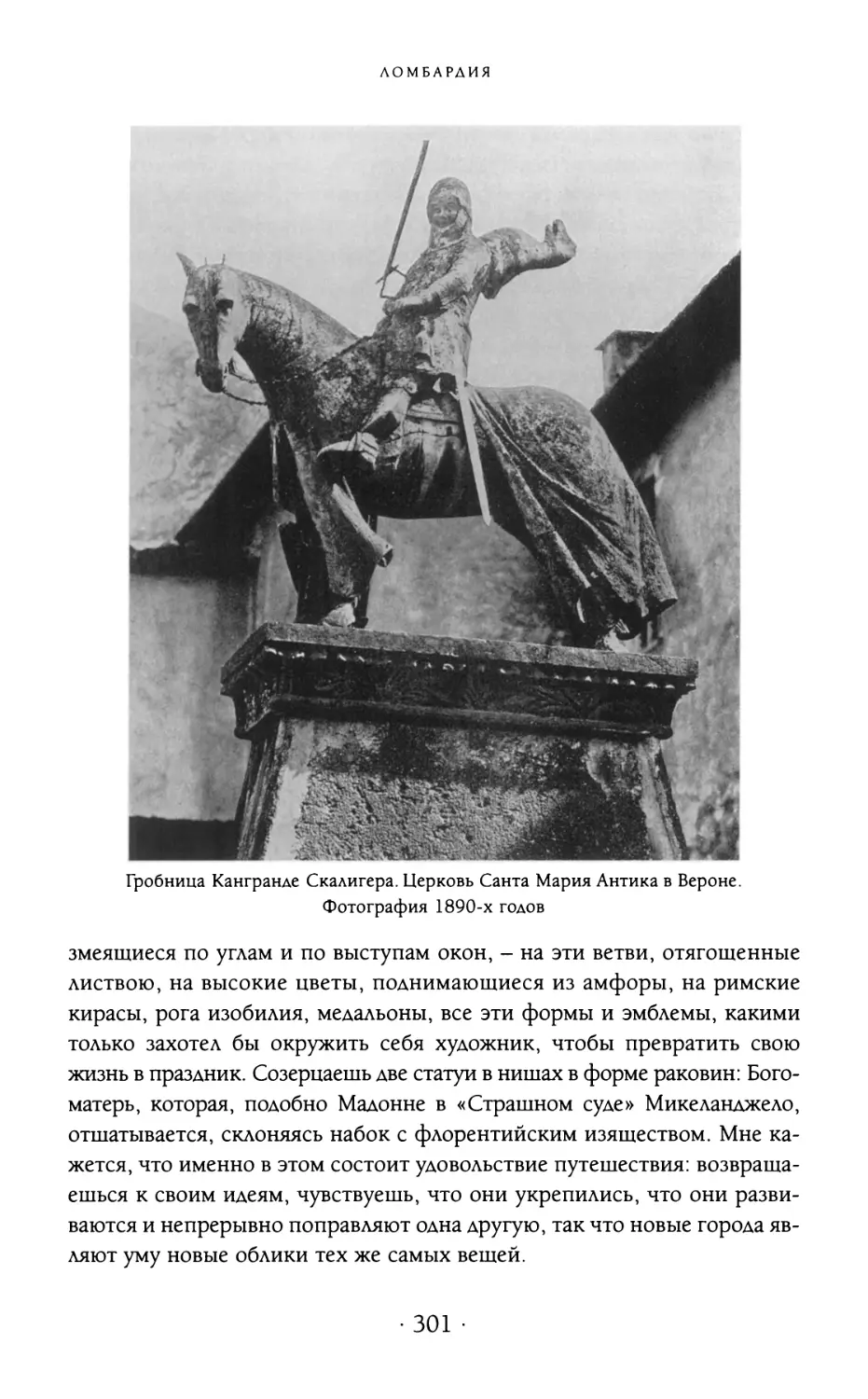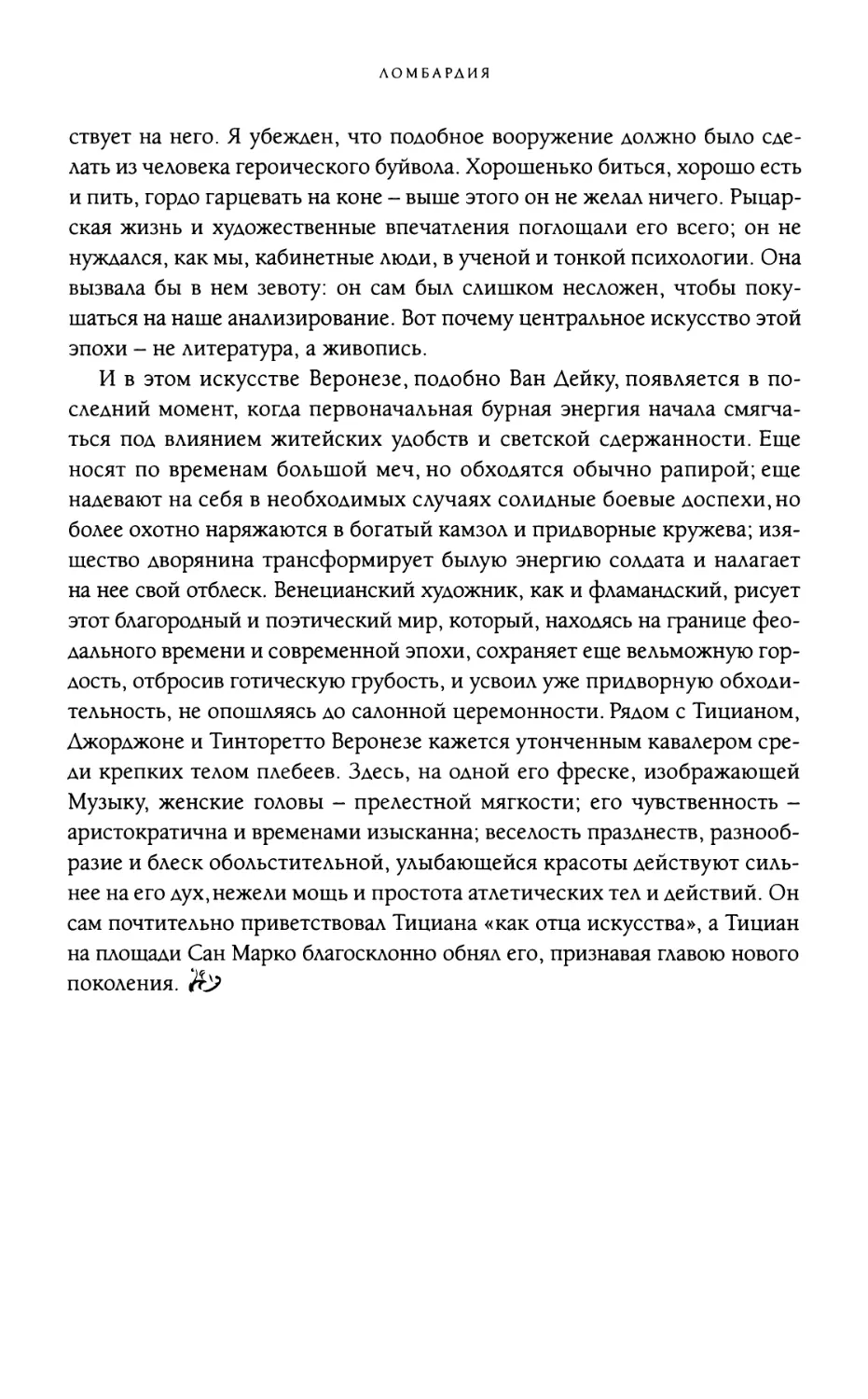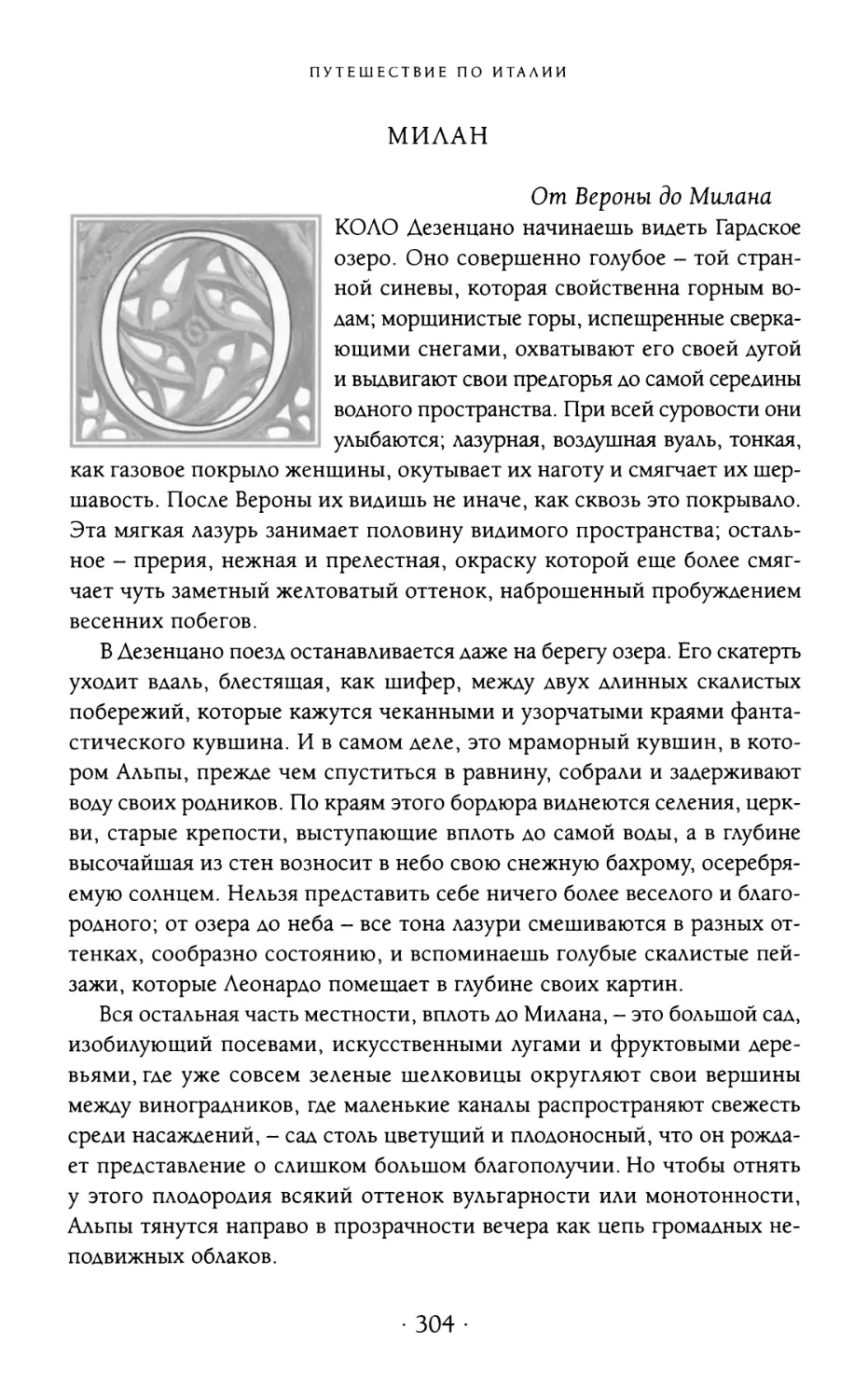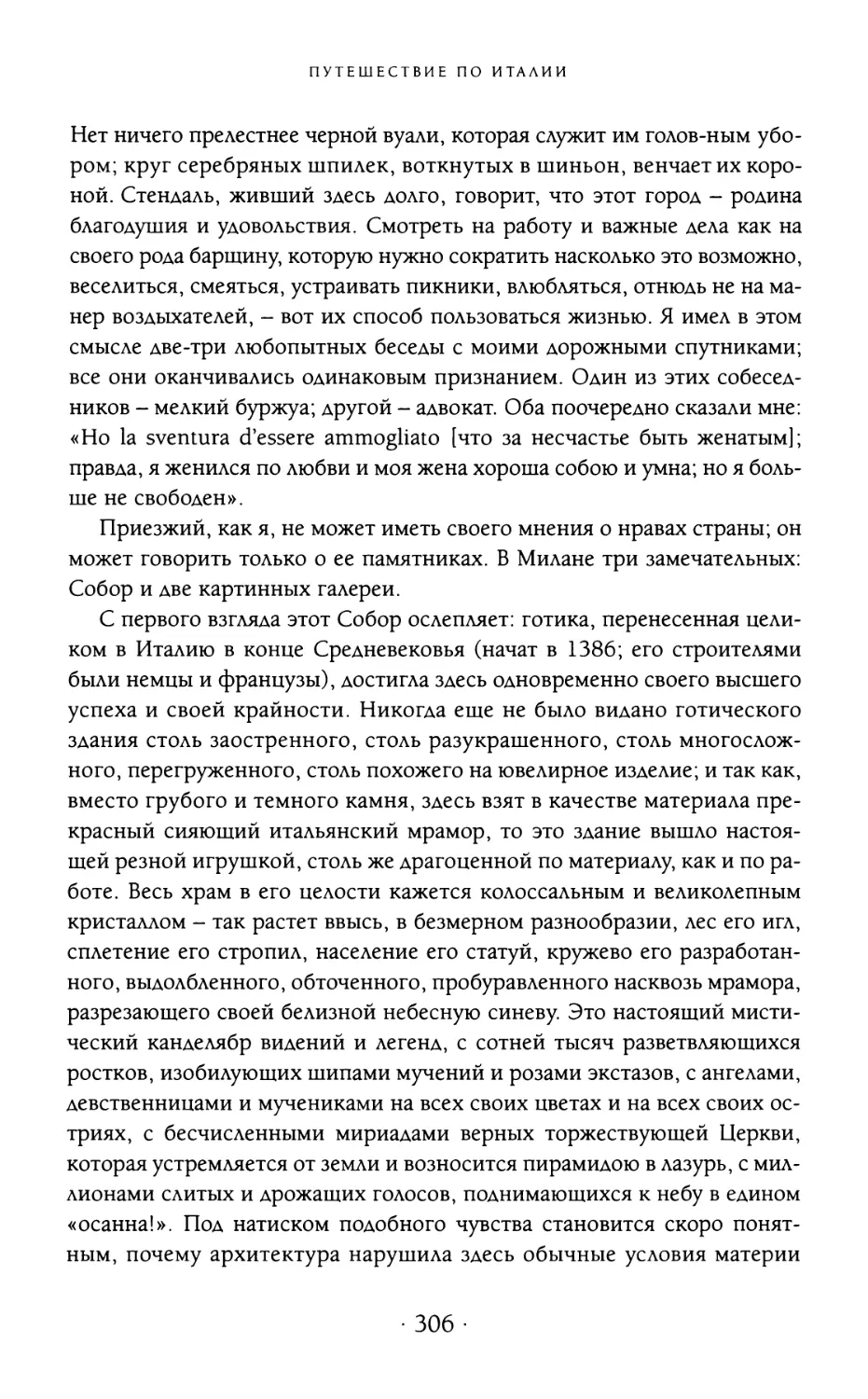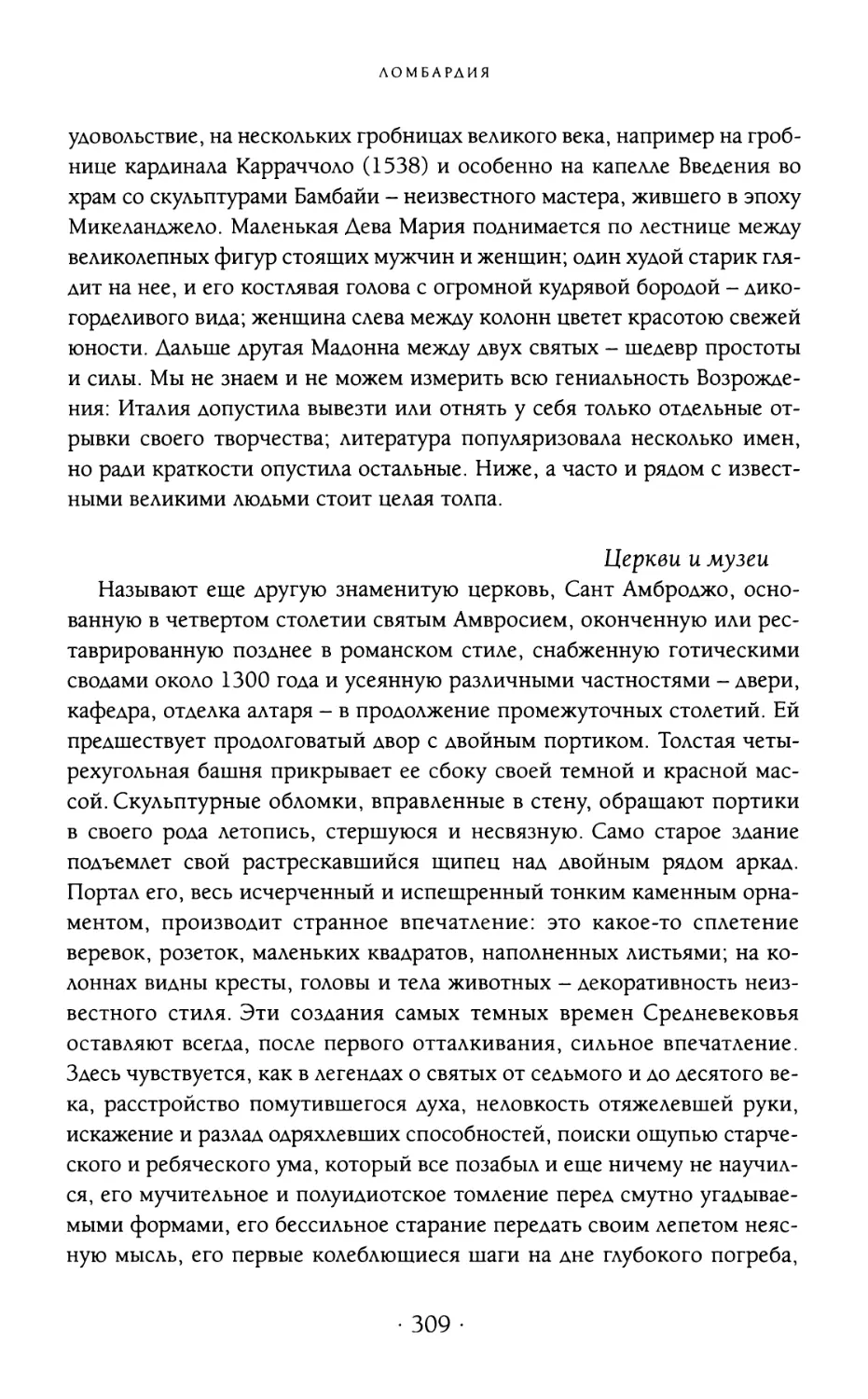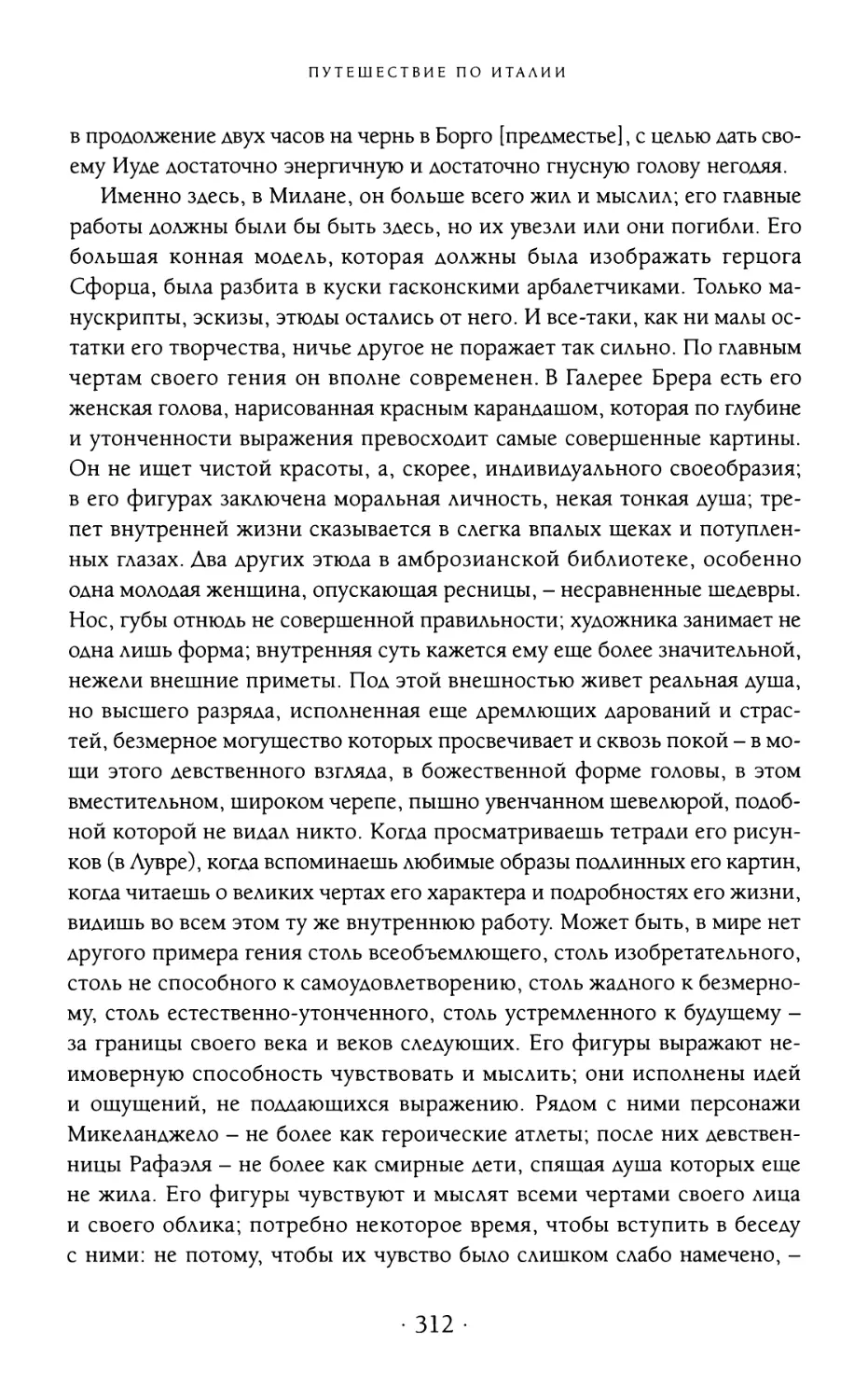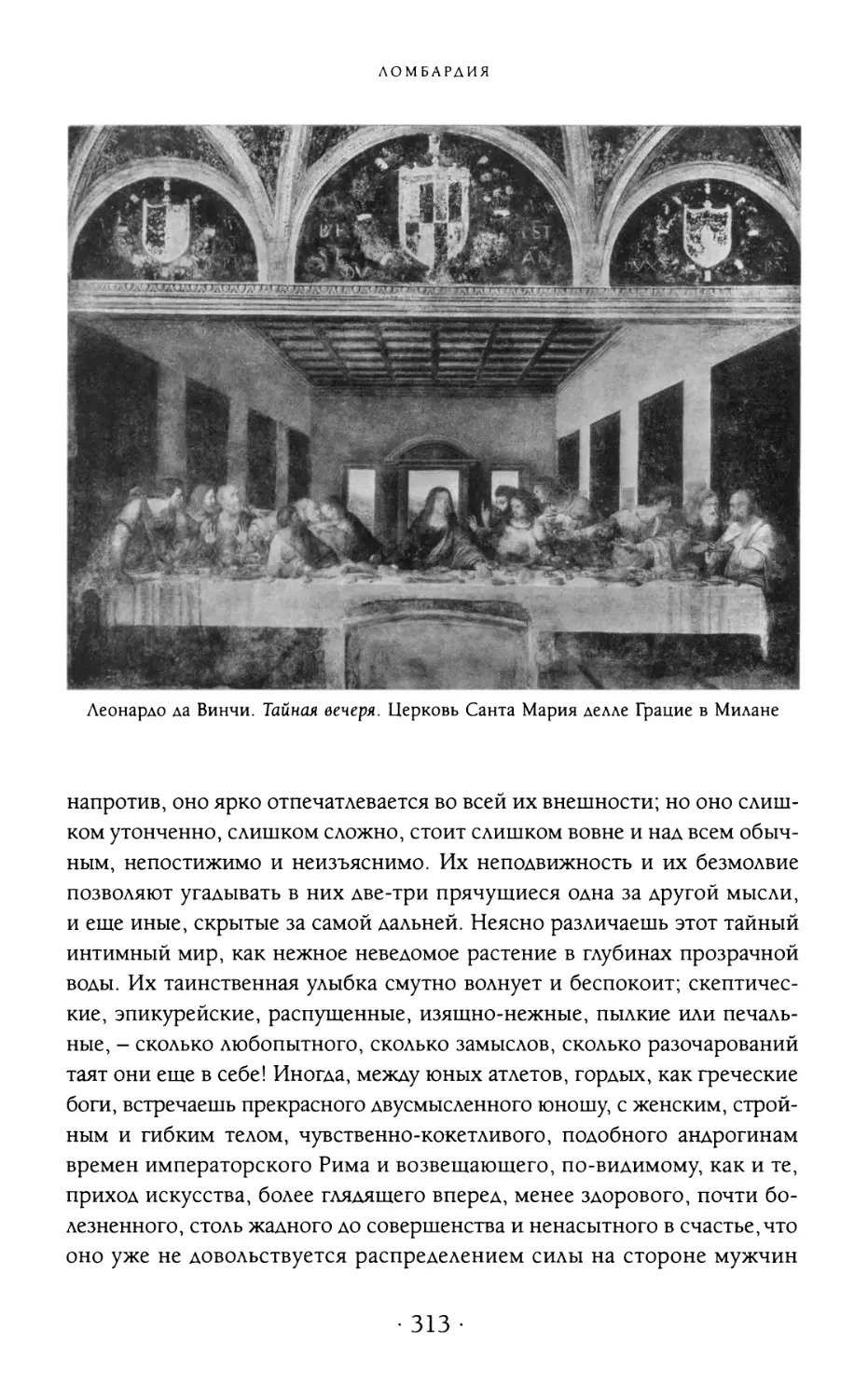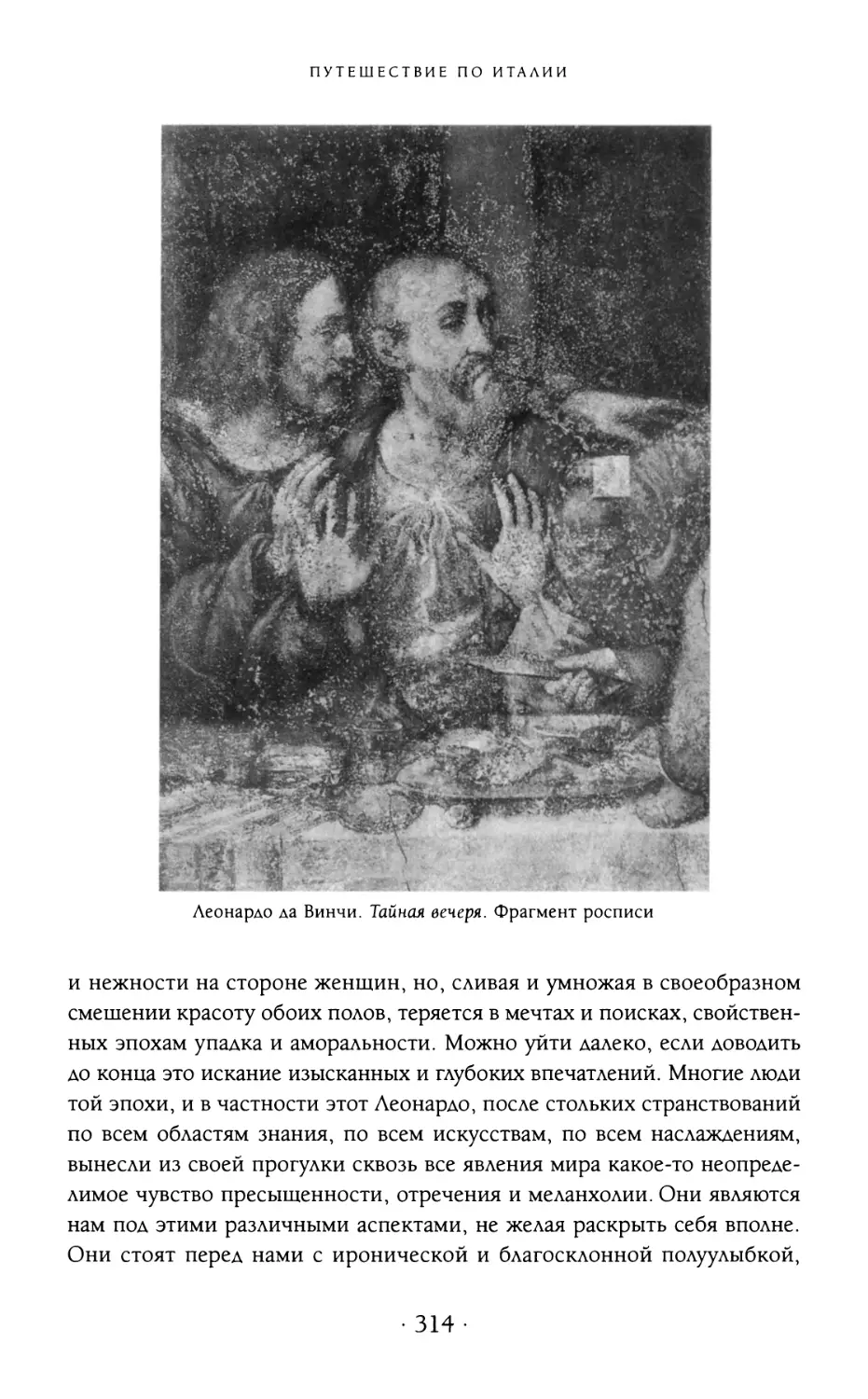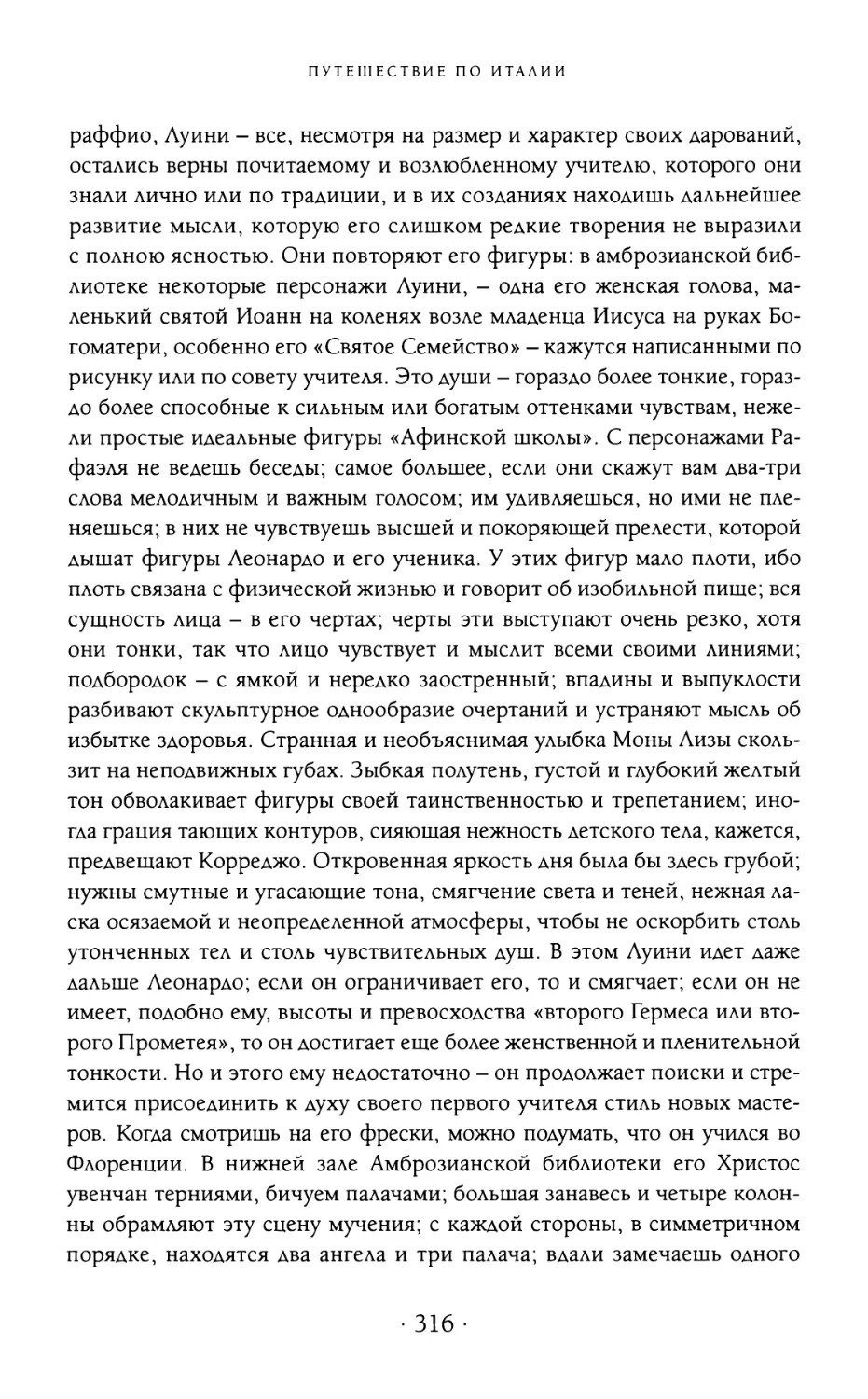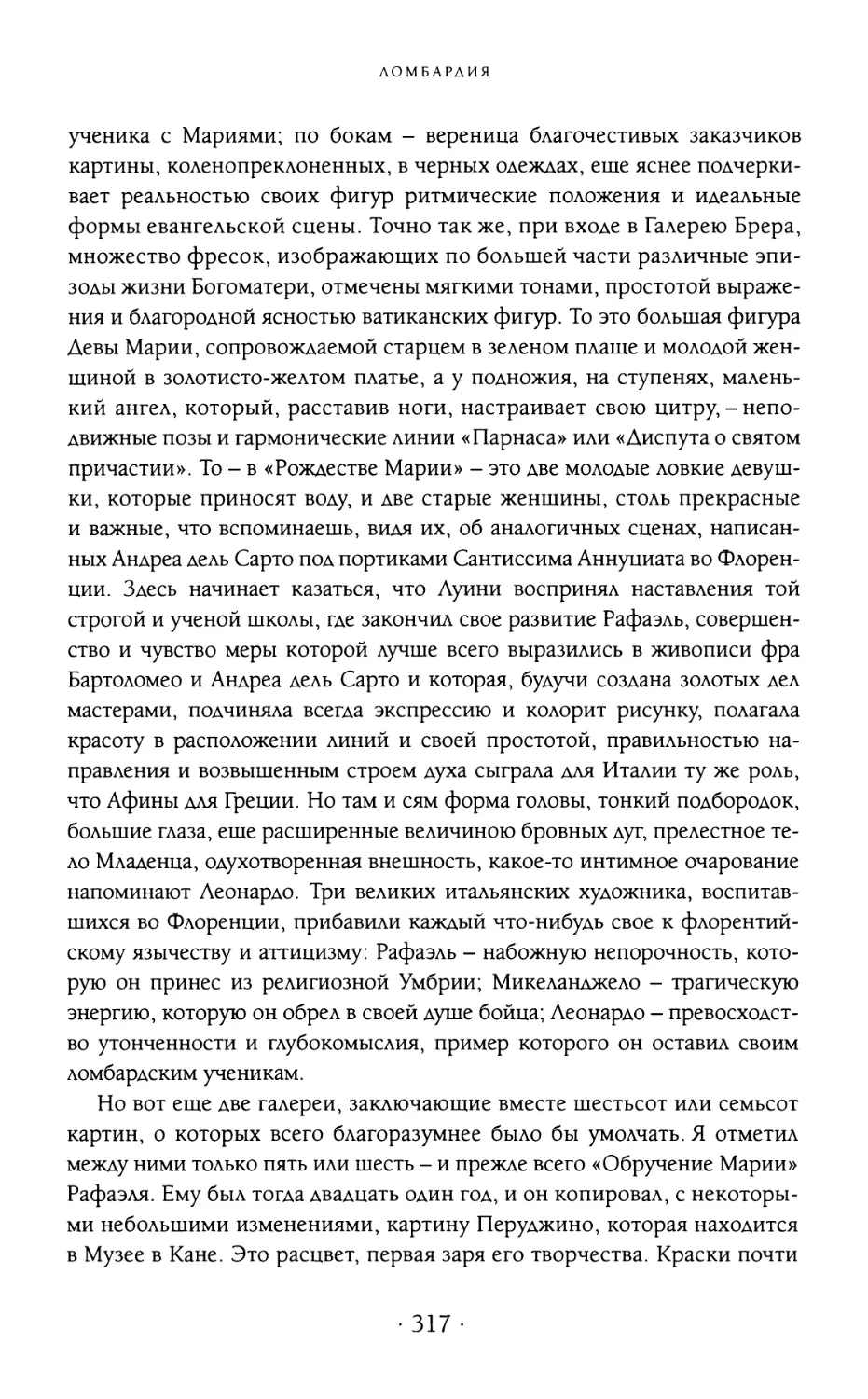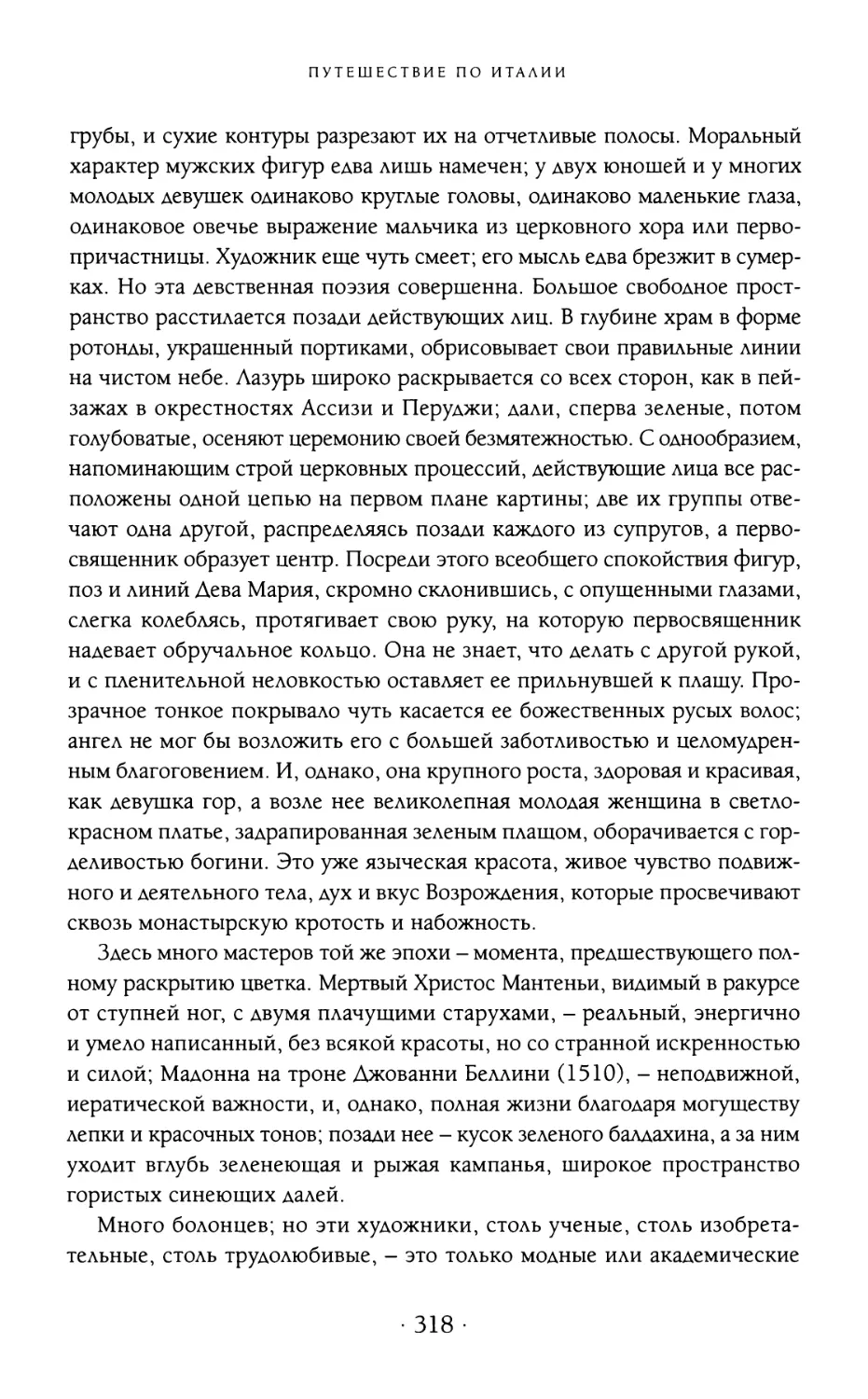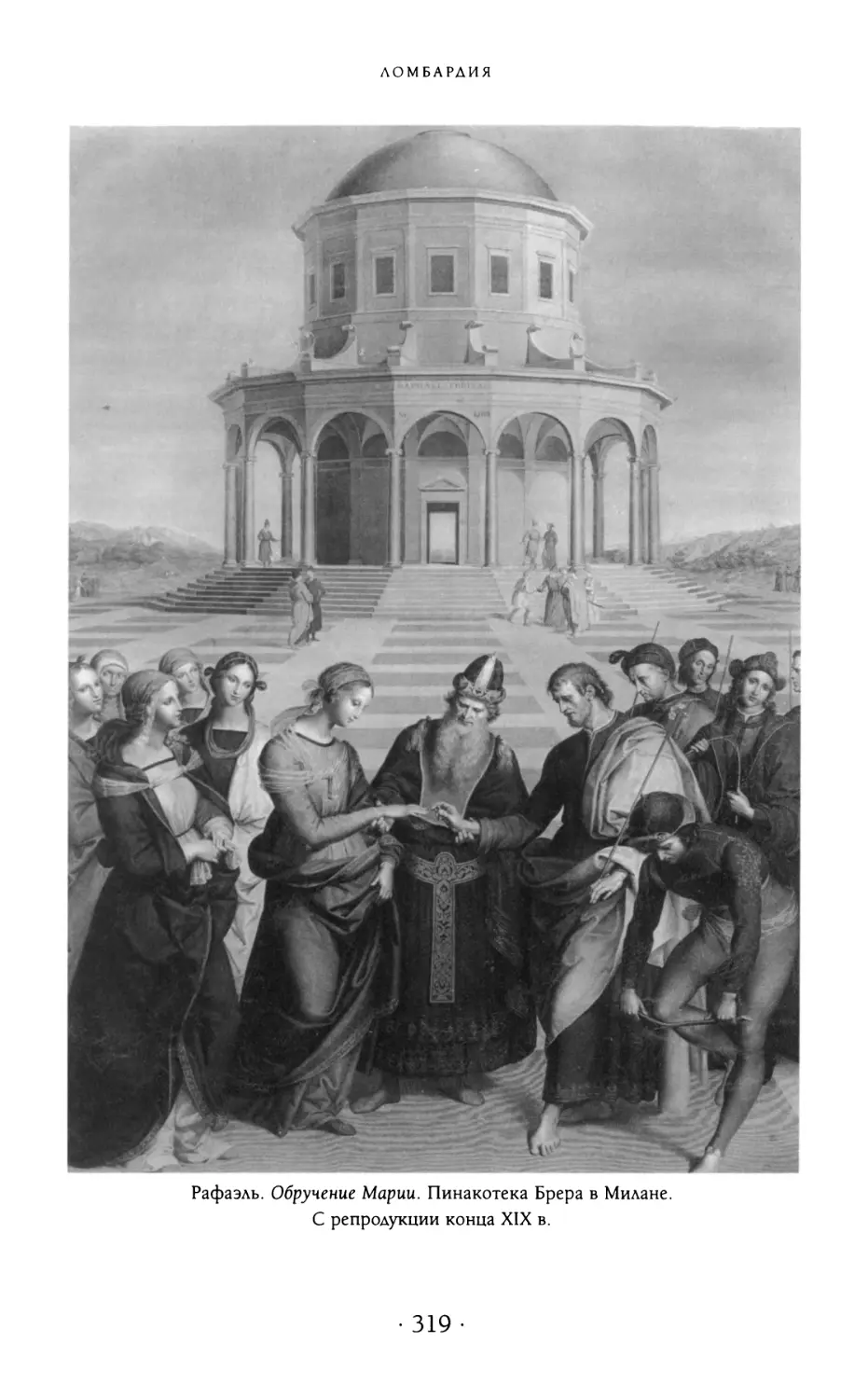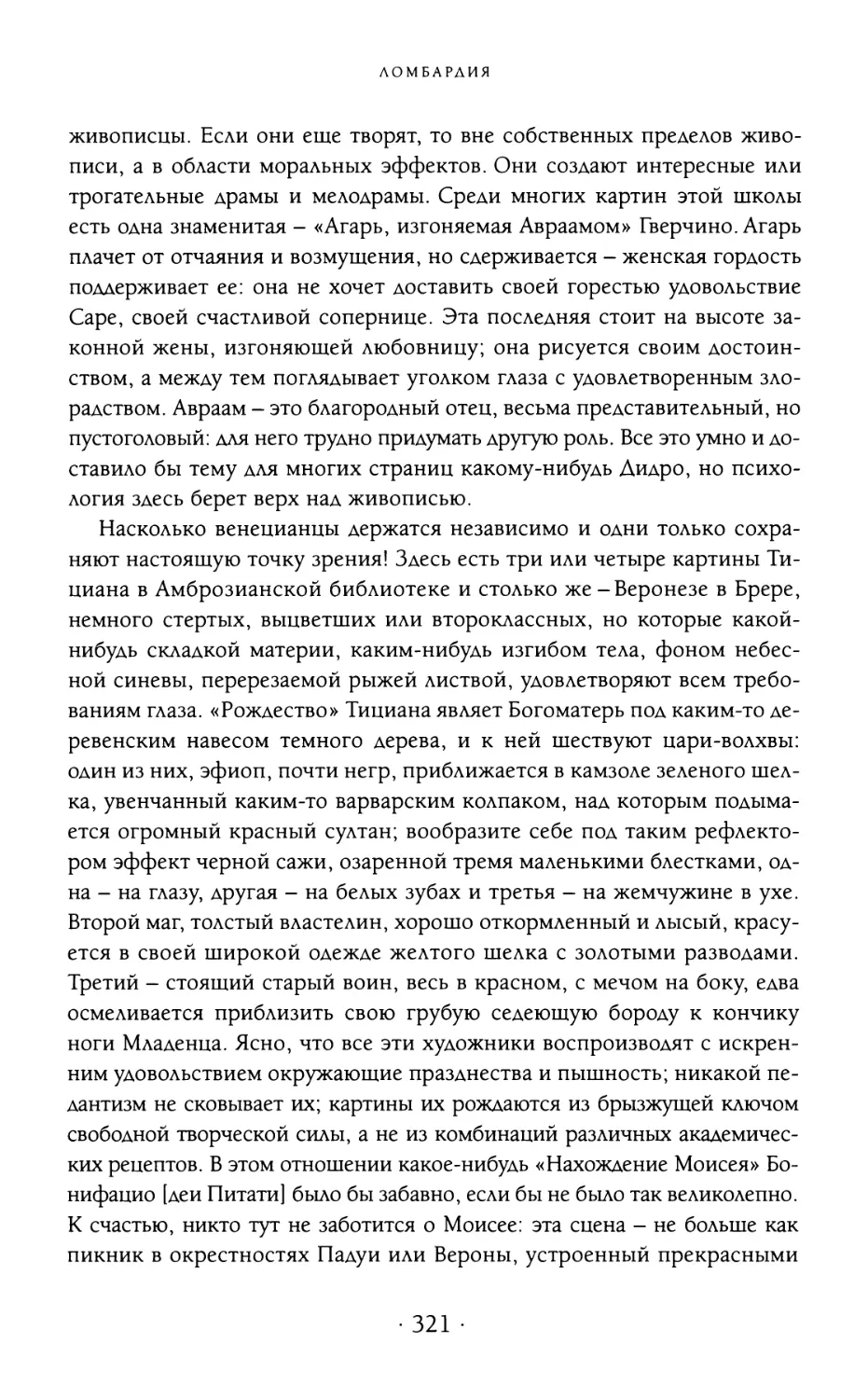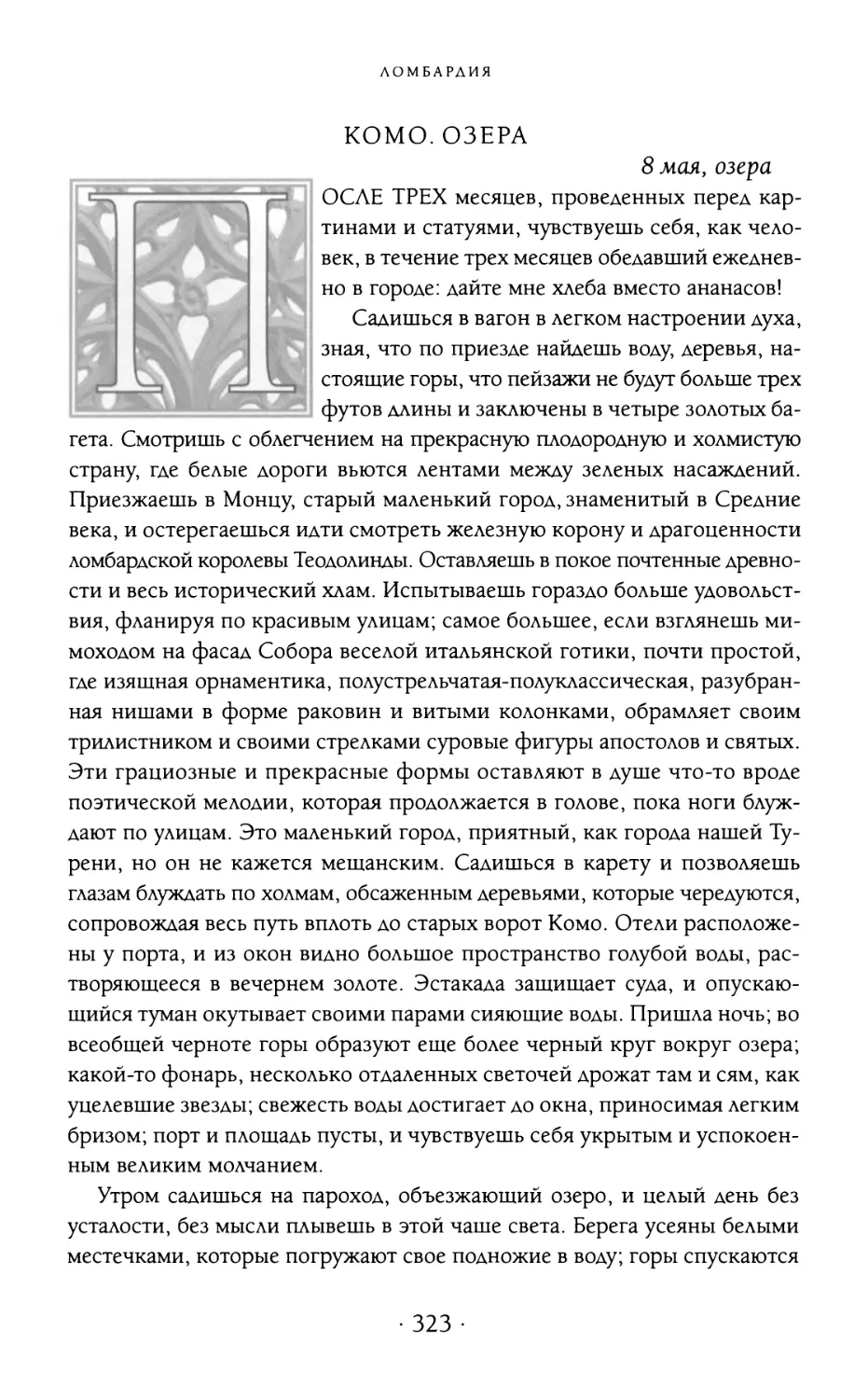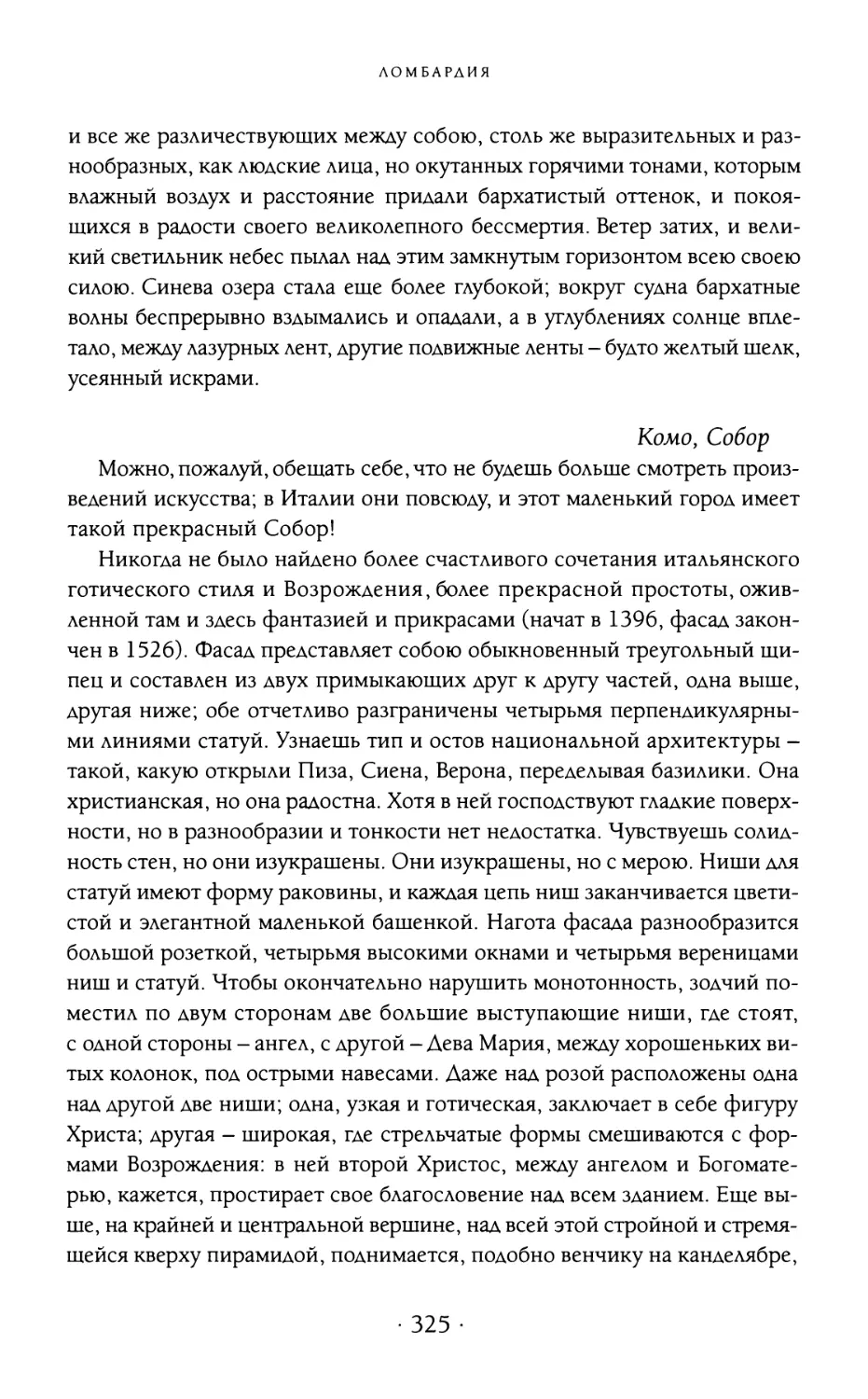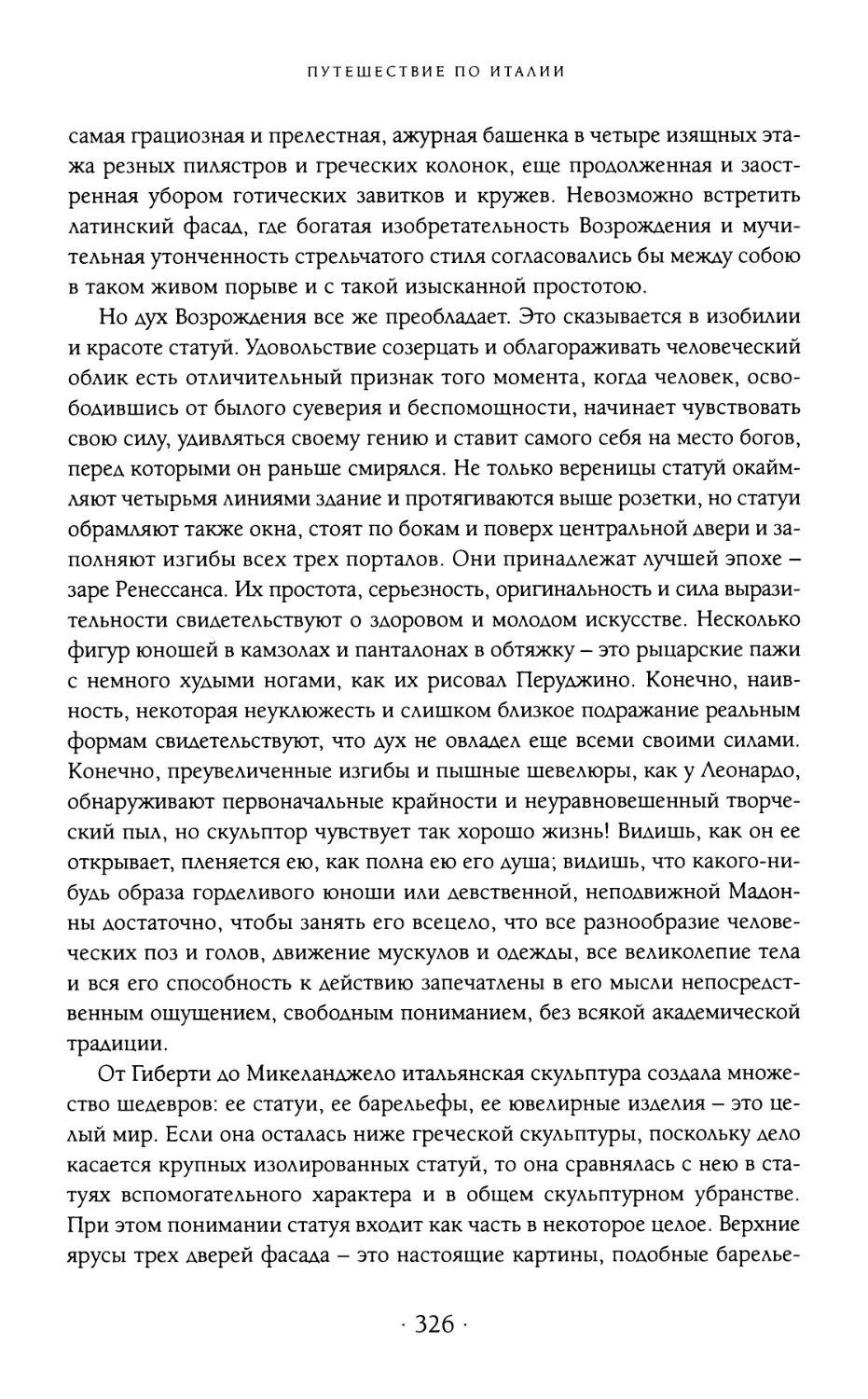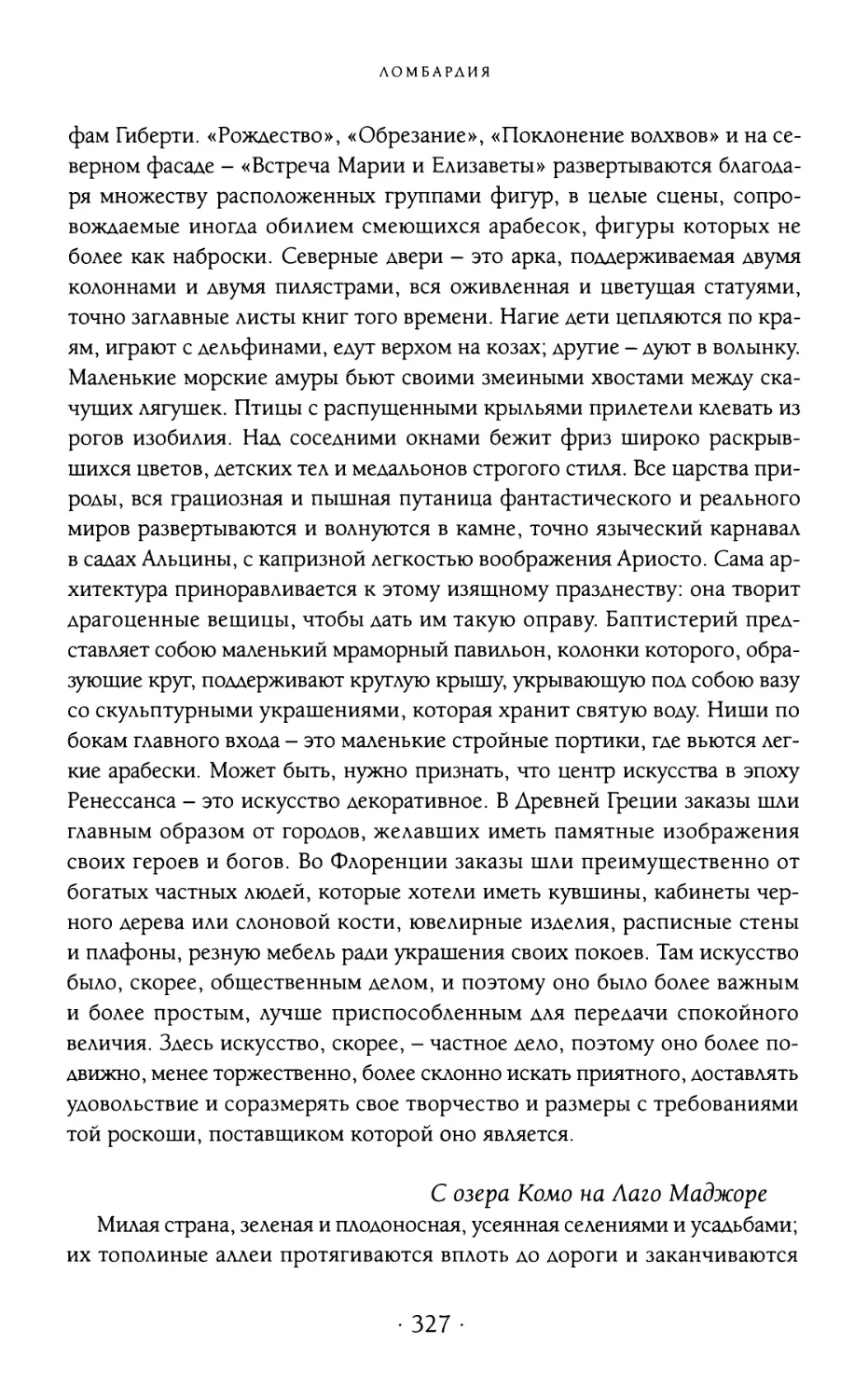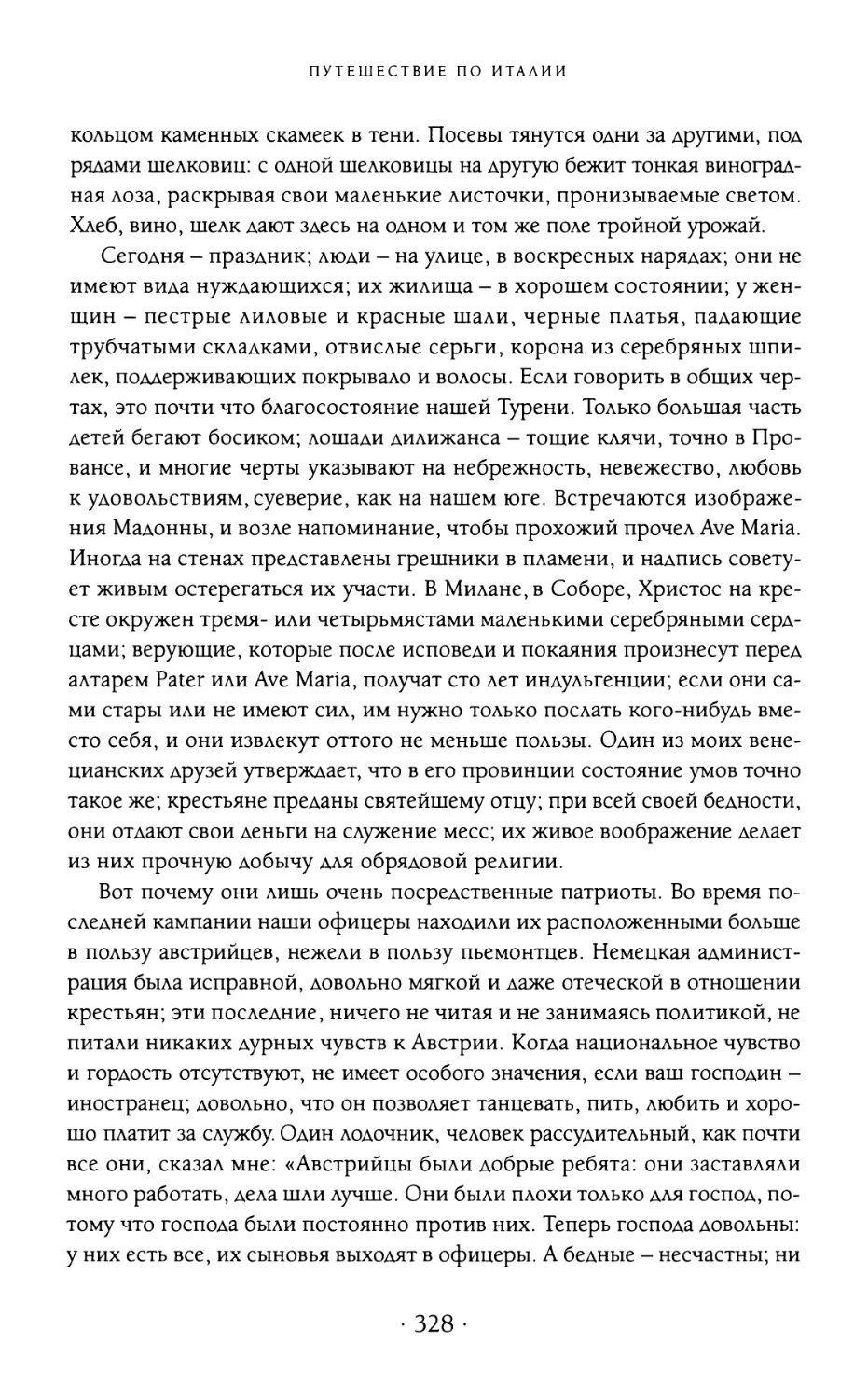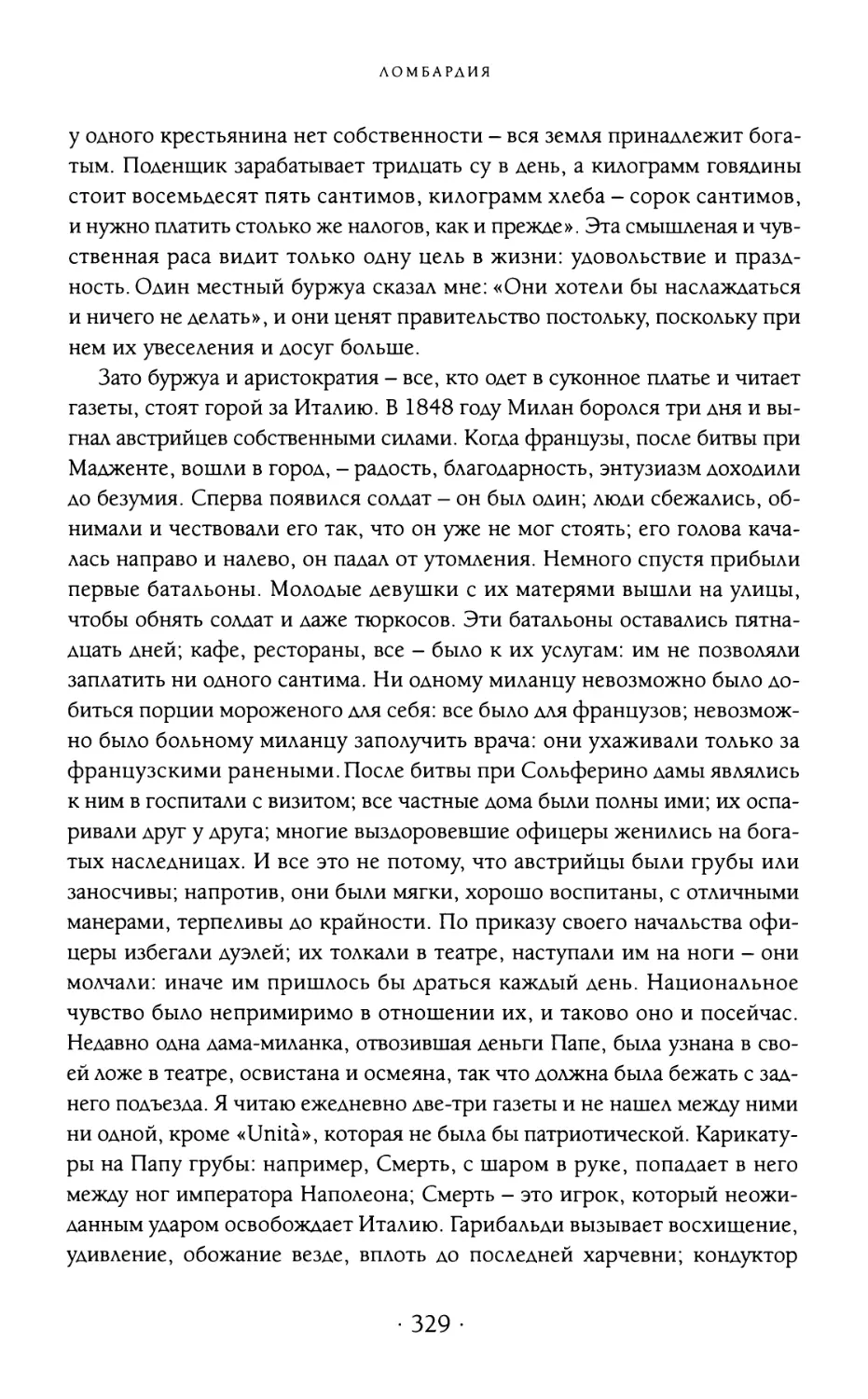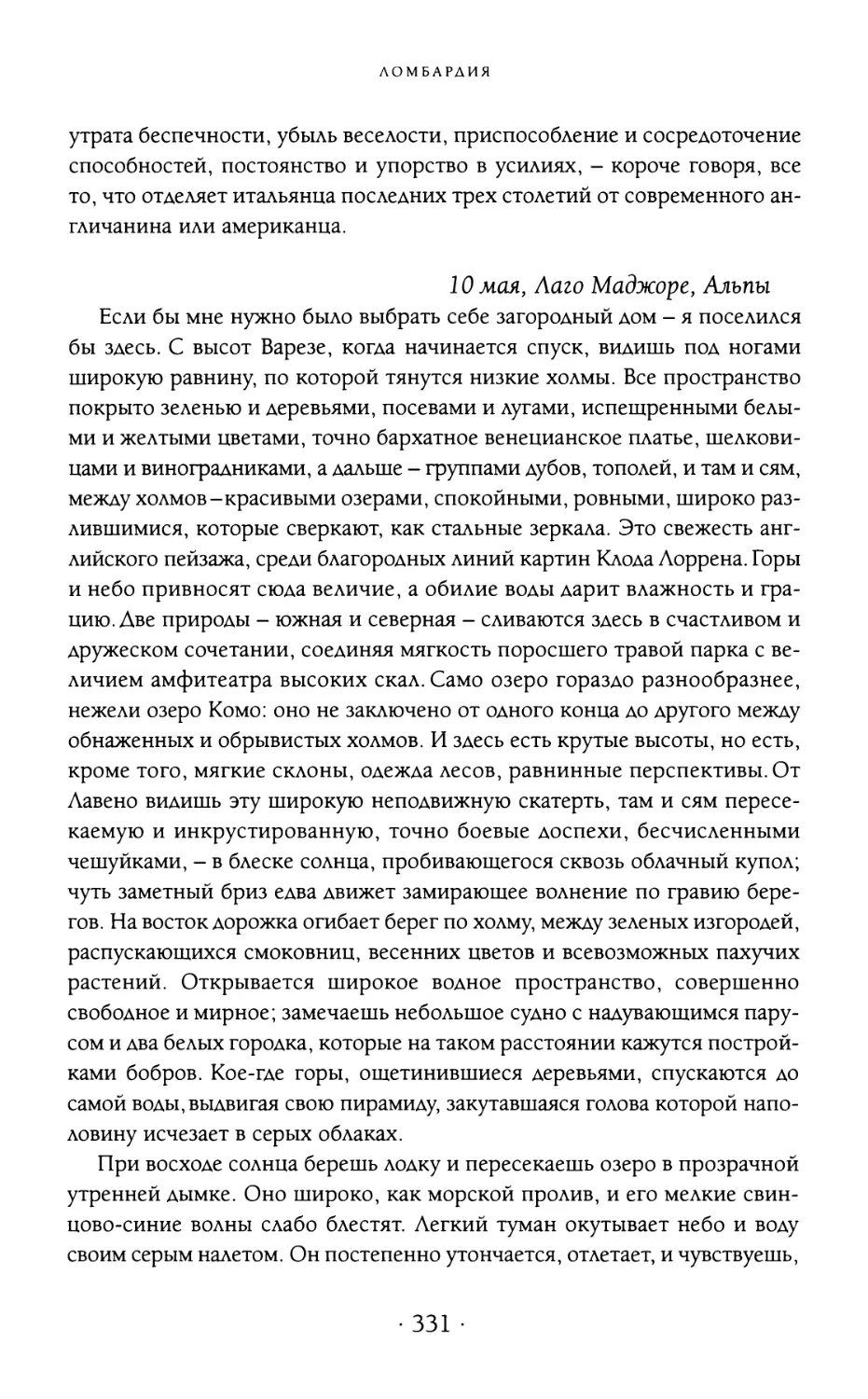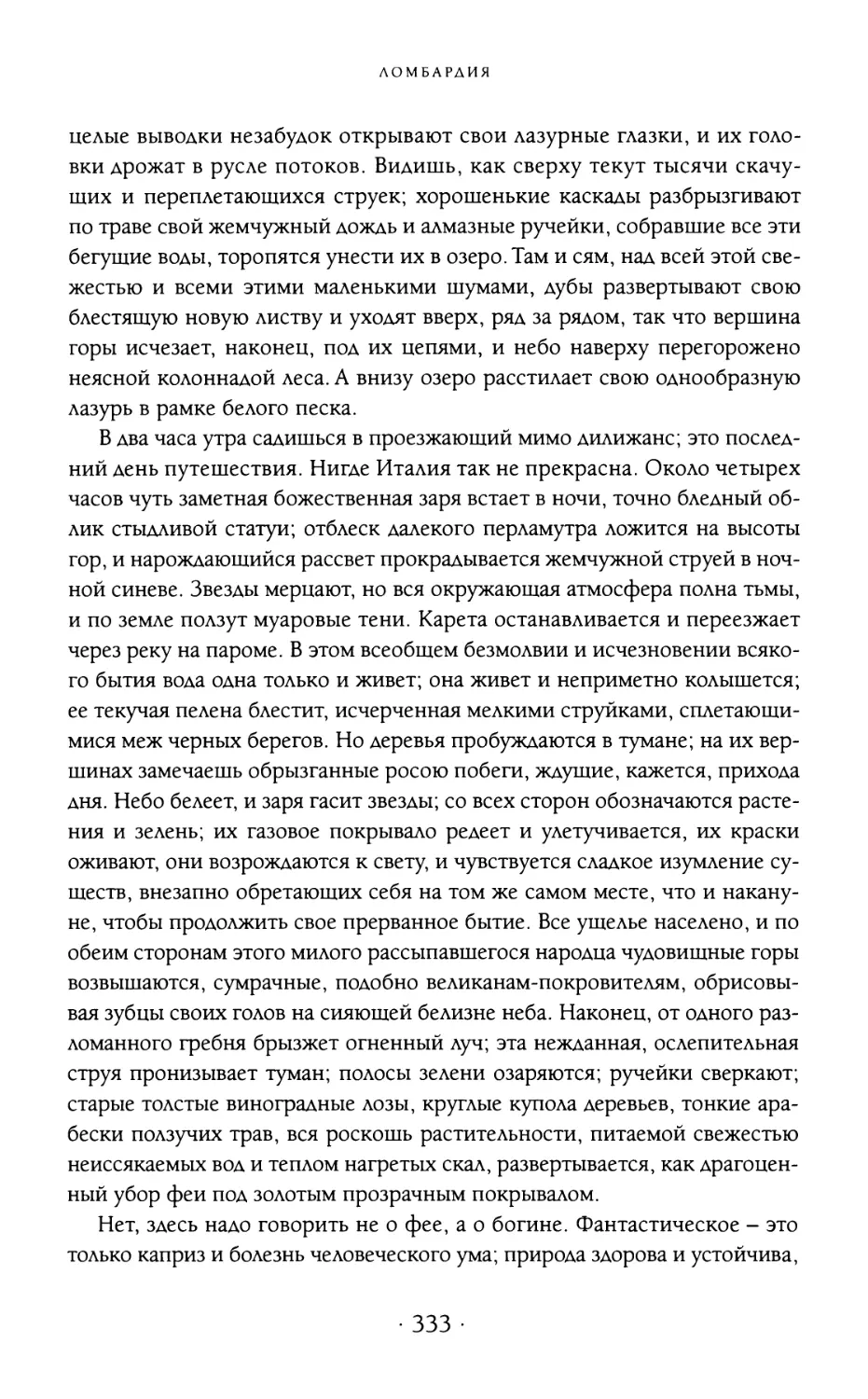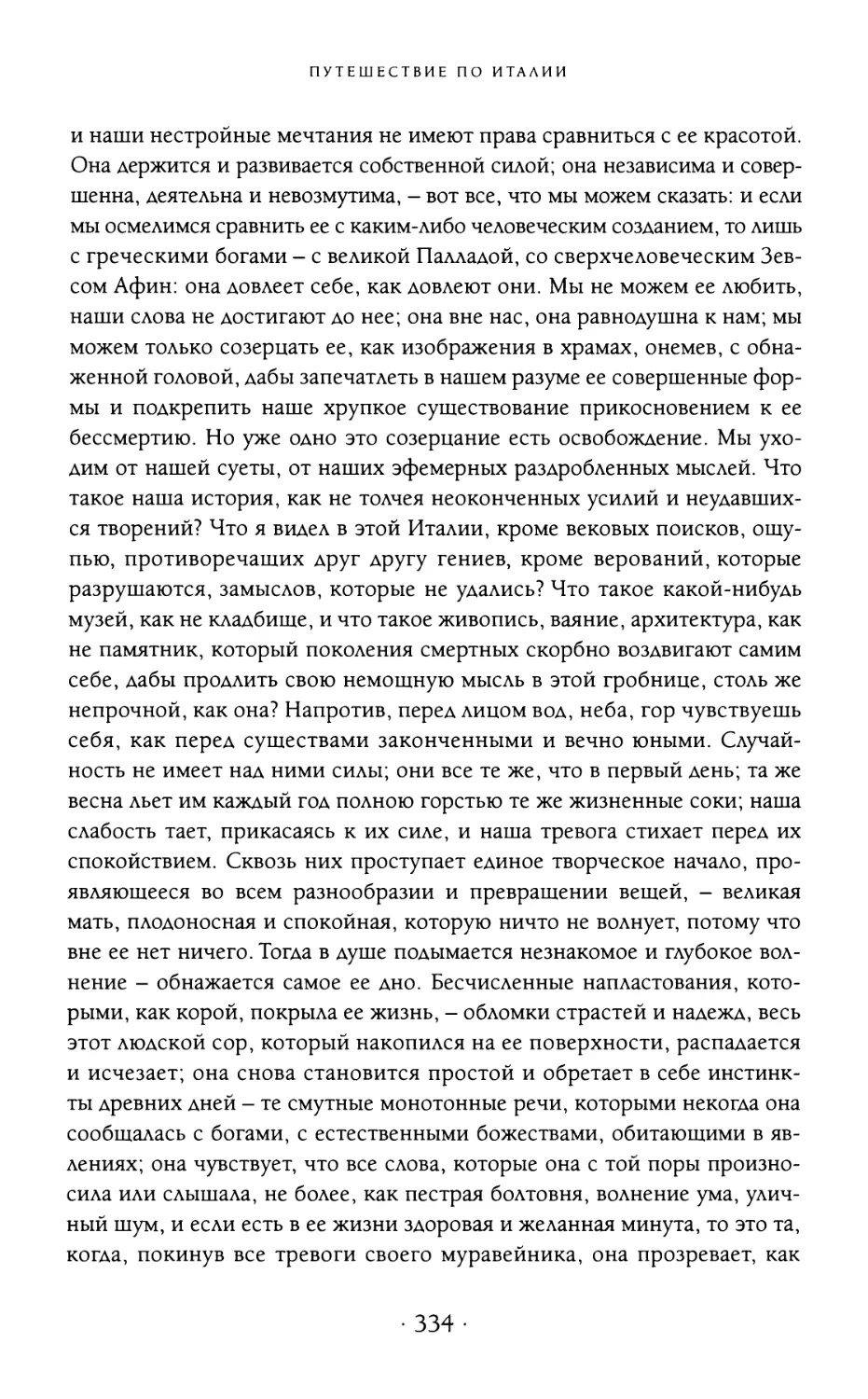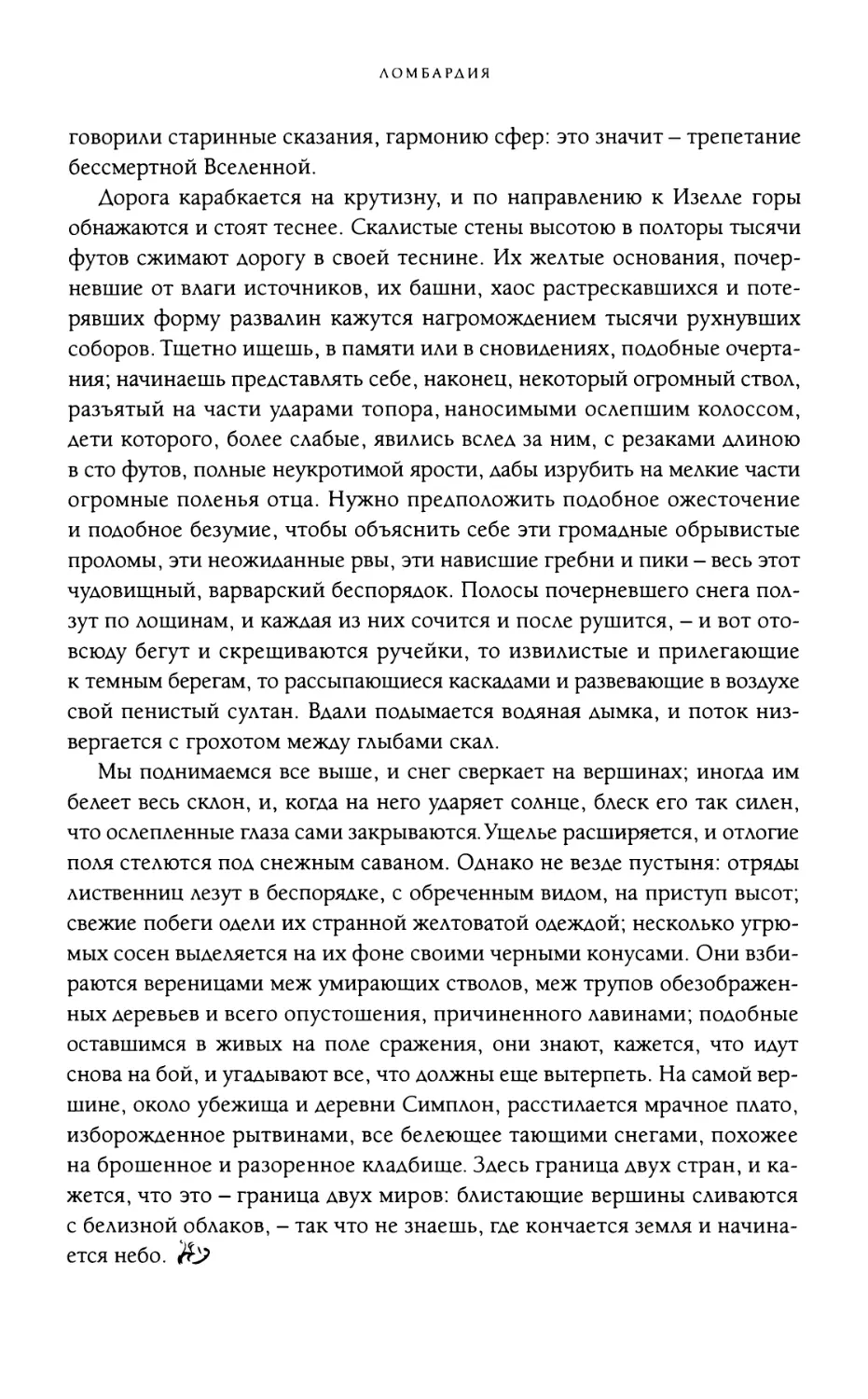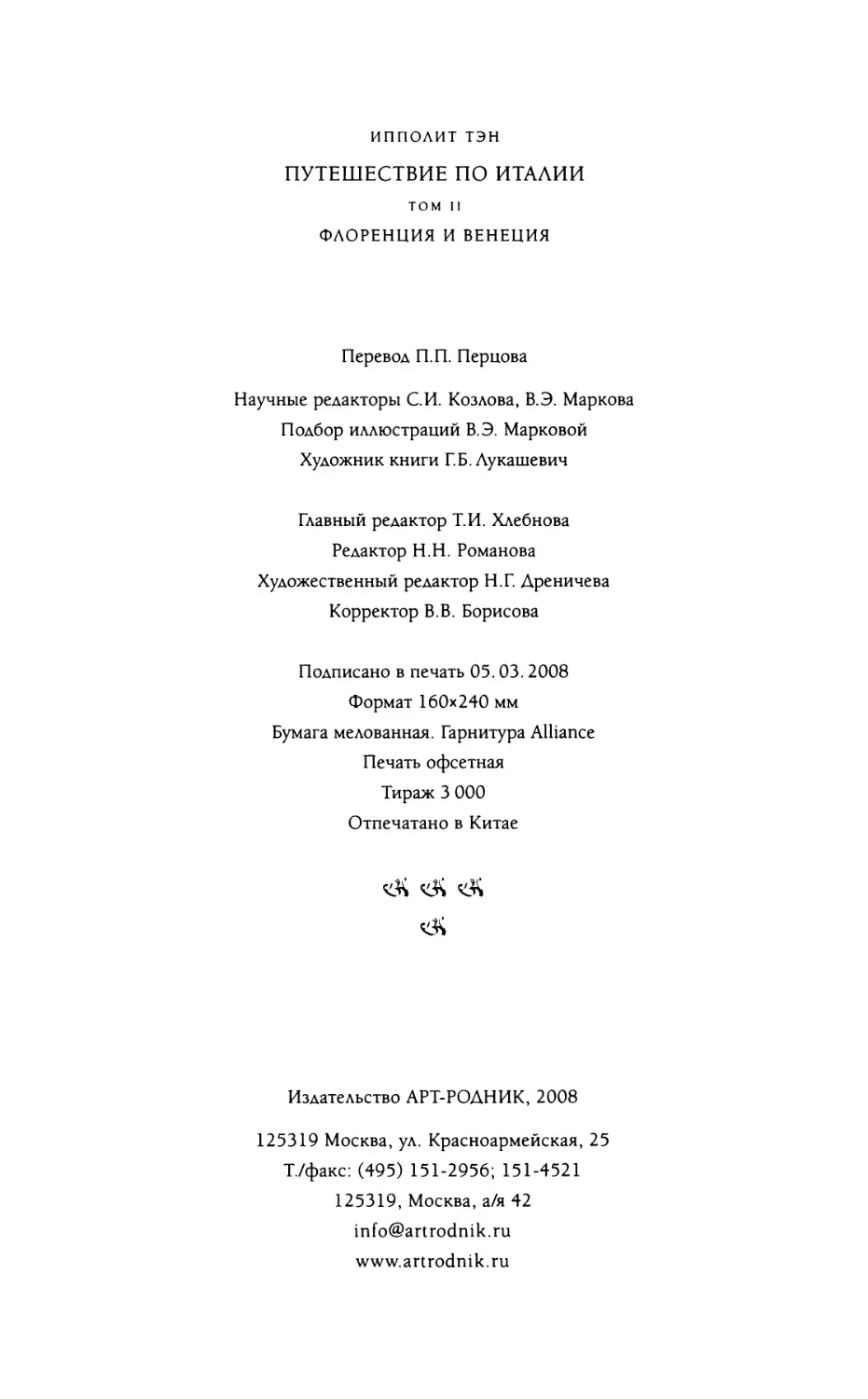Автор: Тэн И.
Теги: искусство развлечения зрелища спорт изобразительное искусство история италии путешествия
ISBN: 978-5-9794-0127-0
Год: 2008
Текст
ИППОЛИТ тэн
<& ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ &>
Улица Уффици во Флоренции. Фотография 1890-х годов
ИППОЛИТ тэн
ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ИТАЛИИ
ТОМ II
ФЛОРЕНЦИЯ И ВЕНЕЦИЯ
Издательство АРТ-РОЛНИК
МОСКВА 2008
УДК 7.0
ББК85.1
Τ 96
ПУБЛИКУЕТСЯ ПО ИЗДАНИЮ:
Ипполитъ Тэнъ
ПУТЕШЕСТВ1Е ПО ИТАЛ1И
В двух томах
Томъ II
ФЛОРЕНШЯ И ВЕНЕШЯ
Москва,
Книгоиздательство «Наука», 1916
Переводъ П. П. Перцова
Подбор иллюстраций
В.Э. Марковой
Научные редакторы
СИ. Козлова, В.Э. Маркова
ISBN 978-5-9794-0127-0
© Издательство АРТ-РОАНИК, 2008
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. ПЕРУДЖА И АССИЗИ
От Рима до Перуджи. Римская кампанья. Апеннины. Пейзажи.
Перуджа. Творчество и нравы Раннего Возрождения.
Мистическая живопись. Фра Беато Анджелико. Перуджино. Колледжо
дель Камбио. Долина Перуджи.
Ассизи. Деревни и крестьяне. Три церкви. Джотто и Данте.
Согласие христианского мистицизма с готическим искусством. Связь
между грубостью быта и восторженным строем воображения.
Политическое положение. Затруднения и ресурсы. Планы
буржуазии. Преобладание и успехи конституционной и либеральной
партии. Италия приближается к Франции. Неудобства и
преимущества современной централизации.
II. СИЕНА И ПИЗА
От Перуджи до Сиены. Общий вид Сиены. Переход от
республиканского режима к монархическому. Памятники Средних веков.
Собор.
Собор. Итальянская готика. Никколо Пизано. Первые шаги
скульптуры. Чувство формы в эпоху Возрождения.
Начало живописи в Сиене и Пизе. Творческая сила в жизни и в
искусстве. Дуччо из Сиены. Симоне Мемми [Мартини]. Аоренцетти.
Маттео да Сиена.
От Флоренции до Пизы. Пейзажи. Пизанская архитектура. Собор,
Падающая башня, Баптистерий, Кампосанто. Живопись
четырнадцатого столетия. Пьетро да Орвьето, Спинелло Спинелли
[Аретино], Пьетро Аоренцетти, Орканья. Соответствие между
бытом и искусством четырнадцатого века. Почему развитие
искусства было тогда прервано?
• 5 ·
СОДЕРЖАНИЕ
III. ФЛОРЕНЦИЯ
Город. Флорентийский характер. Улицы. Кашины. Сан Миньято.
Театры. Литература. Политика. Чем итальянская революция
отличается от французской? Отношения между крестьянами
и дворянами. Отношения между светским обществом и
духовенством.
Пьяцца. Республиканские нравы Средневековья. Уличные и
семейные войны. Палаццо Веккьо. Контраст между средневековыми
памятниками и памятниками Возрождения. Собор. Смешанный
и своеобразный характер его архитектуры. Колокольня.
Баптистерий. Италия осталась латинской. Ранний расцвет
Возрождения. Брунеллески, Лонателло и Гиберти.
IV ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Первые художники. Византийцы. Чимабуэ. Лжотто. Первые
признаки мирского, итальянского и языческого духа.
Преемники Лжотто. Искусство изображало тогда идеи, а не живые
существа.
Пятнадцатое столетие. Трансформация быта и идей.
Общественное преуспевание и полезные изобретения. Благосостояние
и вкус к роскоши. Новое представление о жизни и о счастье.
Гуманисты. Поэты. Карнавал. Новое поприще, открывшееся для
искусства. Золотых дел мастер был тогда пионером искусства.
Искусство представляет уже не идеи, а живые существа.
Перспектива с Паоло Уччелло. Изображение реального тела, лепка
и анатомия с Антонио Поллайоло и Верроккьо. Нахождение
идеальной формы с Мазаччо. Оригинальность и границы
искусства пятнадцатого столетия. Фра Филиппо Липпи и Гирландайо.
Представители прошлого. Боттичелли.
Монастырь Святого Марка. Фра Беато Анджелико. Его жизнь
и творчество.
Продление мистического чувства и искусства.
Уффици. Трибуна. Античные произведения и скульптура
Возрождения. Различие между греческим искусством и искусством
шестнадцатого столетия. Микеланджело. Гробницы Медичи.
Дворец Питти. Монархия Медичи. Придворные нравы. Прогулка
среди художников. Андреа дель Сарто и Фра Бартоломео.
Флорентийский дух и роль Флоренции в Италии.
•6·
СОДЕРЖАНИЕ
V ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
От Флоренции до Болоньи. Апеннины. Болонья. Улицы и типы.
Молодежь; женщины. Любовь.
Сан Аоменико. Гробница святого Ломиника. Сан Петронио.
Якопо делла Кверча. Джованни да Болонья. Конец Возрождения.
Пинакотека. «Святая Цецилия» Рафаэля. Карраччи. Нравы и
искусство в эпоху католической реставрации. Ломеникино. Альбано.
Гвидо Рени.
От Болоньи до Равенны. Пейзажи. Крестьяне. Гробница Теодо-
риха. Равенна. Византийский стиль. Мозаики Сант Аполлинаре
[Нуово]. Константинопольская культура. Изменение и порча
души и искусства. Сан Витале; архитектура и мозаика. Юстиниан
и Феодора. Мавзолей Плацидии.
От Болоньи до Падуи. Пейзажи. Падуя. Нравы четырнадцатого
столетия и искусство пятнадцатого. Санта Мария дель Арена
и живопись Лжотто. Санта Джустина. Сант Антонио.
Скульпторы и орнаменталисты пятнадцатого и шестнадцатого столетия.
Муниципальный режим в сравнении с большими
современными государствами. Преимущества и неудобства современной
цивилизации.
VI. ВЕНЕЦИЯ
От Падуи до Венеции. Лагуна. Прогулка по Венеции. Большой
канал. Площадь Сан Марко. Дворец дожей. «Венеция-царица»
Веронезе. Морские пейзажи вечером и ночью.
Площади и улицы. Типы. Кафе.
Старая Венеция. Продление муниципального режима.
Своеобразие и избыток творчества в маленьких свободных государствах.
Возрождение архитектуры. Собор Святого Марка. Заимствование
и трансформация византийского стиля. Мозаики и скульптура.
Санти Джованни э Паоло. Фрари. Памятник Коллеони.
Надгробные монументы дожей. Различные отражения духа каждого века
в скульптуре. Средние века, Возрождение, семнадцатое столетие,
Новое время. «Смерть Петра Мученика» Тициана. Тинторетто.
Прогулки. Джудекка. Джезуати. Джезуити.
Театры. Нравы и типы. Нищета. Налоги. Общественный дух.
Праздность и мечтательность в Венеции.
Последние столетия. Эпикуреизм. Каналетто, Гварди, Лонги,
Гольдони, Гоцци. Карнавал. Распущенность нравов.
Лидо. Море. Колокольня Сан Марко. Город, вода и пески.
• 7 ·
СОДЕРЖАНИЕ
VII. ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ 243
Климат. Темперамент. Искусство есть резюме жизни.
Тогдашний момент. Положение человека между героическими нравами
и нравами изнеженными.
Первые художники. Лжованни Беллини. Карпаччо.
Венецианское общество в шестнадцатом столетии.
Патрицианская гордость. Откровенная чувственность. Интимная жизнь
Аретино. Художественное чувство. Чутье красок.
Лворец дожей. Типы того времени. Аллегорические картины
Веронезе и Тинторетто. «Похищение Европы».
Тициан. Его жизнь и характер. Его картины в Академии.
«Вознесение Марии» [«Ассунта»]. Санта Мария делла Салюте.
«Жертвоприношение Авраама». «Авель и Каин».
Музеи. Церкви. Бонифацио [деи Питати]. Пальма Старший.
Веронезе.
Тинторетто. Его характер и гений. «Чудо святого Марка». Скуола
ди Сан Рокко. «Распятие». Общее впечатление.
VIII. ЛОМБАРДИЯ 291
От Венеции до Вероны. Верона. Цирк. Церкви. Ломбардский
стиль. Собор. Сан Лзено. Скалигеры. Пьяцца. Музей.
Озеро Гарда. Милан. Улицы и типы. Собор. Мистический
характер готики и ее аналогия с растительным миром. Сант Амбро-
джо. Санта Мария делле Грацие. «Тайная вечеря» Леонардо да
Винчи. Характер его фигур. Отличительные черты его гения.
Его школа. Луини. Музей Брера. Амброзианская библиотека.
Монца. Комо. Озеро. Пейзажи. Собор. Итальянская архитектура
и скульптура пятнадцатого столетия.
С озера Комо на Лаго Маджоре. Набожность. Эпикуреизм.
Крестьяне. Буржуазия и дворянство. Политические настроения.
Нужды Италии.
Лаго Маджоре. Изола Мадре. Изола Белла. Пейзажи. Искусство
и природа. Альпы. Симплон.
•ι-
ПЕРУДЖА И АССИЗИ
Панорама Ассизи и монастырь Сан Франческо. Фотография 1860-х годов
2 апреля 1864,
от Рима до Перуджи
ТЪЕЗЛ ИЗ РИМА в пять часов вечера; я еще
не видал этой части римской кампаньи, и я
никогда больше не буду иметь удовольствие
наслаждаться этим зрелищем.
Постоянно одно и то же впечатление: это
покинутое кладбище. Продолговатые
однообразные бугры тянутся один за другим
нескончаемой вереницей, подобные тем, которые
можно видеть на полях сражений, когда засыпаны большие траншеи,
куда сваливали мертвецов. Ни одного дерева, ни ручья, ни хижины.
В течение двух часов я заметил только одну круглую лачугу с
остроконечной кровлей, какие встречаются у дикарей. Даже руины отсутствуют:
с этой стороны нет акведуков. Изредка попадается повозка,
запряженная быками; через каждую четверть мили чахлый каменный дуб
топорщит на краю дороги свою сумрачную листву; это единственное живое
существо - угрюмое, словно позабытое в пустыне. Один только признак
человека - изгородь, окаймляющая путь и пересекающая вдоль и
поперек волнистую зелень; в ней содержится скот во время пастбища. Но
сейчас все пусто, и небо округляет свой божественный купол со
скорбным и насмешливым спокойствием над этим погребальным полем.
Солнце садится, и бледнеющая лазурь становится такой прозрачной,
что едва приметный оттенок изумруда окрашивает зеленым цветом ее
хрусталь. Ничто не может передать этот контраст между вечною красою
неба и неисцелимым разорением земли. Вергилий, первый посреди всего
великолепия Рима, изобразил уже сострадательный взор богов, которые
под кровлей Юпитера с удивлением созерцают бедствия и борьбу людей.
Я не могу отделаться от мысли, что это могила Рима и всех народов,
им уничтоженных. Италийцы, карфагеняне, галлы, испанцы, греки,
азиаты, народы варваров и города ученых, вся пестрота древности - все
они пришли похоронить себя в чудовищном городе, который пожрал
их всех и сам погиб от них. Каждый зеленый холм здесь как бы
могильная насыпь целого народа.
Свет погас, и в темноте безлунной ночи жалкие станции с их
коптящим фонарем появляются внезапно, точно жилище кладбищенского
сторожа. Грузные каменные стены, грязные аркады, черные бездны,
в которых смутно различаешь очертания тощих лошадей, странные
• 11 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
закоптелые и бурые фигуры, которые возятся с упряжью среди
позвякивающего железа, горящие глаза, воспламененные лихорадкой, - весь
этот фантастический и кривляющийся беспорядок, в темноте и
холодной сырости, покрывающей собою все, как саван, оставляет в сердце
и нервах длительное впечатление ужаса. И этот кошмар завершает
унылый извозчик в старом плаще, напоминающем лохмотья, неизменно
подпрыгивающий впереди в желтоватом свете. Свет фонаря падает на его
спину, отражаясь призрачным сиянием. Каждую минуту он склоняется,
чтобы хлестнуть своих кляч, и тогда видны неподвижная улыбка и
машинальные сокращения его тощих челюстей.
При пробуждении, в первом свете зари, является река,
извивающаяся под своей утренней дымкой; потом - лабиринт балок и их
обрывистых берегов, изборожденных бесчисленными изломами, с беловатыми
дорожками обсыпавшегося щебня по выбоинам и склонам: вдали -
высокие горы, полосатые или черные. Граница пройдена; это начинаются
Апеннины. Веселое солнце сияет на острых гребнях вершин; грудь
вдыхает здоровый воздух; мы выехали из зараженной местности; вот,
наконец, край скудный, но пригодный для жизни, суровый край, с чертами
величавыми и отчетливыми, который может наполнить ум своих сынов
благородными и ясными образами, не отягощая их тела избытком
тяжелой пищи. Пески, бесплодные скалы, там и сям полоса густых и
благоуханных пастбищ, местами каменистые поля, повсюду оливковые деревья, -
можно подумать, что находишься у нас в Провансе. Но вид этих бедных
олив лишь увеличивает общую суровость пейзажа. Большая часть их
расколота посередине; ствол расщеплен, дерево развалилось на куски,
и его отдельные члены держатся вместе только благодаря обшивке.
Скажешь, что это проклятые из «Божественной комедии» Данте - все
казненные мечом, все разрубленные надвое, сверху вниз, с головы до ног, от ног
до головы. Искривленные корни цепляются за щебень, будто ноги
погибающих; и тело, мучимое раной, изгибается и навзничь падает в агонии.
Но, рассеченные и поникшие, они все же упорствуют в своем желании
жить, и ни наклон почвы, ни камень, ни зимние воды не сломили еще их
живучести и силы.
Около Нарни вид меняется; дорога идет по склону невысокой горы,
и вся гора напротив одета каменными дубами; они рассеяны повсюду,
вплоть до лощин и недоступных вершин, только некоторые отвесные
обрывы скал защищены от их нашествия. Круглая гора вздымается -
от ручья у подножия и до самого неба - так, точно великолепный летний
• 12 ·
ПЕРУДЖА И АССИЗИ
букет, уцелевший среди зимы. По выезде из Нарни пейзаж становится
еще красивее: это плодоносная равнина. Зеленеющие посевы, вязы,
обвенчанные с виноградной лозой, большой смеющийся сад - все это
окружено высокими холмами более строгой окраски; вверху - кольцо
голубых, покрытых снежной бахромой гор.
Soave austero [суровая нежность] - эти слова вспоминаются часто при
виде пейзажей Италии. Горы сообщают им благородство, но эти горы
не чрезмерно высоки: они не подавляют воображения; они стоят
амфитеатром и образуют фон картины; они не более чем природная рама.
Ниже их различные насаждения, многочисленные деревья, покрытые
плодами, и поля, расположенные ярусами, создают богатую, широко
раскинувшуюся декорацию, которая скоро вытесняет из памяти наши
монотонные пашни и еще более однообразные пастбища и все эти
северные пейзажи, которые начинают казаться фабрикой по производству
хлеба и говядины.
Мимо проезжает несколько маленьких одноколок; в одной сидят
молодой человек и молодая девушка; девушка наряжена в яркие цвета, ее
голова не покрыта; у нее такой вид, точно она едет со своим возлюбленным.
Здесь встречаешь тысячи черт чувственного и красивого счастья.
Молодые девушки взбивают свои волосы по самой новейшей моде, с завитками
на лбу; у них шелковые косынки, разные украшения, позолоченный
гребешок. В Риме из грязнейших лачуг выглядывают гордые и улыбающиеся
лица. Только что, проезжая через маленький городок, я видел у какого-то
подслеповатого окна, в печальной захолустной улице, черный бархатный
корсаж, наполовину свесившийся из окошка, и большие черные глаза,
метавшие молнии. Они закутывают себе голову шалью - и уже готовы
позировать перед художником. Мы встречаемся с повозкой, которая везет
восемь сбившихся в кучу крестьян; все они поют отрывок какой-то арии,
благородной и суровой, как церковный хорал. Самый малейший предмет,
форма головы, одежда, физиономии пяти или шести юношей, которые
в деревенской харчевне любезничают с молодой девушкой, - все это
открывает вам новый мир и особую расу У меня впечатление, что
характерная черта, которая их отличает - это что аая них идеальная красота и
чувственное счастье - одно и то же.
Дорога поднимается вверх, и карета медленно движется по
косогору при помощи упряжи. Ручей вьется и ниспадает, мелководный и
заглохший на широком ложе из камней, которые он нанес сюда за зиму.
Белый костяк гор выступает наружу сквозь рыжий покров безлиствен-
• 13 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ных лесов. Я не видел гор, более обработанных вулканическим
подъемом: местами перевернутые пласты стоят прямо, как стена. Весь этот
минеральный остов был некогда перемолот и кажется
разваливающимся - так много расселин и трещин в каждом слое почвы. На
вершине снежные пятна испещряют ковер опавших листьев. Лует
северный ветер, холодный и унылый; странный контраст, если взглянуть на
торжественное небо, где солнце сияет во всем своем блеске, или на
очаровательную лазурь, в которой тонут краски горизонта. Мы переехали
Апеннины, и на противоположном склоне начинают чередоваться
невысокие холмы и богатые, красиво обрамленные долины. Там и сям,
как куча камней, город на горе, похожий на круглый мол, украшает
пейзаж, как это можно видеть на картинах Пуссена и Клода Лоррена.
Именно Апеннины, с цепью их контрфорсов, протянувшихся по всему
узкому полуострову, сообщают итальянскому пейзажу его характер.
Здесь нет ни больших рек, ни широких равнин: ограниченные со всех
сторон долины, благородные формы, много камня и много солнца,
материальная пища и духовные впечатления, отвечающие друг другу, -
сколько неповторимых черт человека и истории созданы этими
особенностями природы!
3 апреля, Перуджа
Это старый средневековый город - город, созданный аая обороны
и укрытия; он расположен на обрывистом плато, откуда открывается вся
долина. Стены частью еще античные; фундаменты многих ворот -
этрусской эпохи; феодальное время оставило здесь свои башни и бастионы.
Большая часть улиц идет в гору, и крытые переходы образуют мрачные
ущелья. Часто какой-нибудь дом преграждает улицу; второй этаж
продолжается в доме, находящемся напротив; большие слепые стены рыжего
кирпича кажутся остатками какой-то крепости.
Множество подробностей вызывает в воображении феодальный и
республиканский город. Вот черные ворота Сант Агостино - огромная
каменная башня, разрушенная и до такой степени изъеденная временем,
что ее можно принять за натуральную пещеру, а на самом ее верху -
терраса, поддерживаемая хорошенькими колонками, еще романского
стиля. Эти хрупкие создания - первое воплощение изящества и
искусства, расцветших посреди опасностей и вражды Средних веков.
Вот Палаццо дель Говерно - суровый и массивный, как это требовалось
в эпоху уличных восстаний и битв, но с грациозным порталом, где раз-
• 14·
ПЕРУЛЖА И АССИЗИ
вертываются извивы камня и вереницы искренних и наивных скульптур.
Готические формы и латинские воспоминания; монастырские дворы
с ярусами аркад и высокими церковными башнями из почерневшего
от времени кирпича; скульптуры Раннего Возрождения - тринадцатого
и четырнадцатого столетий, самые оригинальные и жизненные из всех;
фонтан Арнольфо ди Камбио, Никколо и Джованни Пизано, гробница
Бенедикта XI - тоже Джованни Пизано (1304). Нет ничего более
прелестного, чем этот первый порыв живого воображения и новой мысли,
еще наполовину связанных с готической традицией. Папа лежит на
ложе, в мраморном алькове, занавеси которого отдергивают маленькие
ангелы. Вверху, в овальной аркаде, стоят Дева Мария и двое святых,
приемлющие его душу. Невозможно передать словами
детски-удивленное и скорбное выражение Мадонны; скульптор видел какую-нибудь
молодую девушку в слезах у одра умирающей матери и, весь отдавшись
своему впечатлению, свободно, без всяких античных реминисценций
и школьной принужденности, выразил свое чувство. Вот то
непроизвольное слово, которое делает из произведения искусства вечное
создание. Оно слышно на расстоянии пяти веков так же ясно, как и в свой
первый день. Наконец-то, наперекор феодальному и монашескому
гнету, человек заговорил, и слышен крик личности, независимой и цельной
души. Самые незначительные вещи этого первого века скульптуры
сейчас же останавливают и приковывают вас к месту: кажется, что услышал
живой вибрирующий голос. После Микеланджело типы
зафиксированы; вся работа сводится к отделке и выправке установленной и
предписанной формы. До него и вплоть до половины пятнадцатого столетия
каждый художник, так же как вообще каждый гражданин, есть он сам;
мода и условность не навязаны ни гению, ни личному характеру;
каждый стоит лицом к лицу перед природой со своим собственным
чувством, и вы видите, как в искусстве появляются фигуры, столь же
разнообразные и оригинальные, как и в жизни.
В соборе шла обедня, и я мог видеть только гробницу одного
епископа у входа (1451). Под лежащей фигурой епископа четыре женщины
держат две вазы, меч и книгу. Это фигуры удивительной красоты и
свободы исполнения; у них полные тела и пышные волосы, и они выглядят
совершенно реальными типами: это лишь облагороженная переработка
модели, снятой с живой натуры. Быть самим собой благодаря себе
самому, и только себе, без ограничений и до конца, - существует ли еще
какое-нибудь правило для искусства, равно как и аая жизни? Именно бла-
• 15 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
годаря этому правилу и этому инстинкту современный человек создал
себя и преобразовал Средневековье. Вот мысли, которые несешь с
собой, блуждая по этим причудливым улицам, гористым, горбатым, в этих
крутых коридорах, вымощенных кирпичом и пересекаемых выступами,
за которые цепляется нога, посреди этих странных строений, где вся
беспорядочность и прихотливость старого муниципального и
вельможного быта выступают в полном блеске, едва смягченные редкими
поправками современных полицейских требований. В четырнадцатом веке Пе-
руджа была демократической и воинственной республикой, которая
воевала и подчиняла себе соседей. Дворяне были лишены права занимать
должности, и сто сорок четыре из них замыслили избиение городских
властей; их повесили или изгнали. На территории государства
находилось сто двадцать замков и восемьдесят укрепленных деревень. В них
засели независимые condottieri [наемные воины] из дворян, которые
вели войну с городом. В Перудже дворяне были вообще condottieri; их
глава, Бьордо ди Микелотти, ставший слишком влиятельным, был убит
в своем доме аббатом церкви Святого Петра. Осажденные Браччо да Мон-
тоне, жители Перуджи прыгали со стен или спускались с них на веревках,
чтобы сражаться грудь грудью с солдатами, которые их вызывали. Среди
таких нравов душа сохраняет всю свою жизненную силу, и почва вся
вспахана, чтобы дать ростки искусства.
Живопись: Фра Анджелико, Перуджино
Но какой контраст между этим искусством и этими нравами! В
здешней пинакотеке собраны картины той школы, аая которой Перуджа
служила центром. Эта школа вся - мистического направления; кажется, что
Ассизи и его серафическая набожность овладели здесь умами. Среди
окружающего варварства это был единственный духовный центр; таких
было немного в Средние века, и каждый из них распространял влияние
вокруг себя. Фра Анджелико да Фьезоле, изгнанный из Флоренции, жил
здесь поблизости в течение семи лет и работал в самом городе. Он
чувствовал себя здесь лучше, чем в своей языческой Флоренции, и он прежде
всего привлекает внимание. Глядя на его работы, кажется, что читаешь
«Подражание Христу» Фомы Кемпийского: на золотом фоне нежные
и ясные фигуры дышат, безмолвно-спокойные, как непорочные розы
райских садов. Я вспоминаю одно его «Благовещение», состоящее из двух
частей. Дева Мария - это сама нежность и чистота; ее лицо почти
германского типа и две прекрасные руки сложены так благочестиво! Ангел
■ 16·
ПЕРУДЖА И АССИЗИ
в локонах, на коленях перед нею, кажется почти молодой девушкой,
улыбающейся, чуть-чуть ограниченной, только что вышедшей из
родительского дома. Рядом, в «Рождестве», два ангела в длинных одеждах
подносят цветы маленькому нежному Иисусу с мечтательными глазами; они
так молоды и уже так серьезны! Вот тонкость исполнения, которую
позднейшие художники уже не умеют обрести. Чувство - вещь
неопределимая и непередаваемая; никакое изучение и никакое старание не могут
воспроизвести его во всей его подлинности; у истинного благочестия
есть те сдержанность и стыдливость, сказывающиеся в расположении
драпировок, в выборе аксессуаров, какие столетием позже будут уже
неведомы самым искусным мастерам.
Например, в одном «Благовещении» Перуджино, которое находится
тут же поблизости, изображены не маленькие интимные покои, а
большой двор. Мадонна стоит испуганная, но она не одна: за ней два
ангела и еще два позади Гавриила. Встретим ли мы позже это целомудрие?
Другая картина Перуджино изображает святого Иосифа и Деву Марию
на коленях перед Младенцем; позади них - узкий портик с колонками,
ясно выступающими в чистом воздухе, и три пастуха, стоящие далеко
друг от друга, сосредоточенно молятся. Это большое пустое
пространство увеличивает религиозное впечатление: кажется, что слышишь
молчание пустыни.
Подобным же образом позы фигур у Перуджино выражают некое
новое и неведомое чувство: его образы - это дети-мистики или, если
угодно, это души взрослых, удержанные в поре детства монастырским
воспитанием. Ни один из них не смотрит на другого, ни один не действует:
каждый замкнут в своем созерцании, все кажутся грезящими в Боге,
каждый пребывает неподвижно в своей позе и будто удерживает дыхание из
страха смутить внутреннее видение. Особенно ангелы, с их
опущенными глазами, со склоненным челом, - это истинные обожатели
Всевышнего, повергнутые ниц, недвижные, неизменные; те, что в «Крещении»,
стыдливы, смиренно-невинны и девственны, как послушница, идущая
к причастию. Сам Иисус - это чувствительный семинарист, который
впервые вышел из-под крова своего дядюшки, доброго священника,
никогда еще не поднимал глаз на женщину и каждое утро, прислуживая за
обедней, получал остию. Только лица крестьянок, воспитанных с самых
первых лет в монастыре, могут в наши дни дать понятие о таких
чувствах. У них даже в сорок лет на розовых щеках еще нет ни одной
морщины, и кажется по тихости их взгляда, что они никогда не жили. Но зато
• 17 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
они никогда и не страдали. Так и эти фигуры стоят неподвижно на
пороге сознания, не переступив его и не делая никакого усилия, чтобы
переступить. Человек не был остановлен: он остановился сам; бутон не раздавлен,
но он и не раскрылся. Здесь нет ничего похожего на крайности и
самоумерщвление древнего христианства или католической
контрреформации. Здесь речь идет не о том, чтобы обуздать мысль или укротить плоть:
тело прекрасно и здоровье невредимо. Юный святой Себастьян в
зеленых позолоченных сапожках, юная, добрая и цветущая Мадонна, почти
фламандского типа, множество других фигур Перуджино - все они не
причастны к аскетическому режиму. Но их тонкие ноги и инертный взор
показывают, что они еще пребывают в очарованном лесу. Момент
единственный в своем роде - один и тот же у Перуджино и у Ван Эйка: тела
принадлежат Возрождению, души - Средневековью.
Это еще яснее видно в Колледжо дель Камбио - нечто вроде биржи
или гильдейского дома аая купцов. Перуджино в 1500 году было
поручено украсить это здание, и он поместил там «Преображение»,
«Поклонение волхвов», сивилл, пророков, спартанского царя Леонида,
Сократа, разных других языческих героев и философов, святого Иоанна в
алтаре, Марса и Юпитера на сводах. Рядом находится капелла, убранная
позолоченной и разрисованной резьбой: Предвечный Отец в центре,
и кругом разнообразные арабески - обнаженные изящные женщины
на крупе льва. Можно ли найти более наглядное зрелище слияния двух
эпох, смешения идей, расцвета нового язычества сквозь дряхлеющее
христианство? Купцы в своих длинных одеждах собирались на
деревянных скамьях этой узкой залы; прежде чем начать заседание, они шли
преклонить колено и выслушать мессу в соседней маленькой капелле.
Там Джан Никколо Манни нарисовал по двум сторонам главного алтаря
гордые и нежные фигуры своего «Благовещения», дородную Иродиаду,
стоящих красивых женщин, грациозных и тонких, которые заставляют
почувствовать расцвет и богатство телесной жизни. Следя за гудением
певчих и традиционными жестами священнослужителя, не один
верующий позволял своим глазам подняться вверх - вплоть до розового
торса маленьких химер, присевших на плафоне. Эти фигуры, как говорят
в городе, - создание одного молодого человека, подающего самые
лучшие надежды, любимого ученика мастера - Рафаэля Санти из Урбино.
По окончании службы возвращаются в Зал Совета и там рассуждают,
как я предполагаю, относительно уплаты трехсот пятидесяти экю
золотом, обещанных Перуджино за его работу. Это не так много: он потратил
• 18·
ПЕРУЛЖА И АССИЗИ
на нее целых семь лет, и его сограждане понимают, по внутренней
симпатии, по духовному сродству, обе стороны его таланта - старую и новую:
одну христианскую, другую полуязыческую.
Вот, прежде всего, его «Рождество», с высоким портиком и пейзажем
из тонких деревьев, как он это любил. Это овеянная воздухом и полная
внутреннего сосредоточения картина, способная дать почувствовать
созерцательную жизнь. Невозможно достаточно похвалить скромное
величие и тихое благородство Левы Марии, коленопреклоненной перед ее
ребенком. Три больших серьезных ангела на облаке поют по нотной
тетради, и эта наивная подробность переносит ум во времена мистерий;
но стоит только повернуть голову, чтобы увидеть фигуры совсем
другого характера. Художник побывал во Флоренции, и античные статуи -
нагота, широкие жесты и гордая осанка этих новых изображений -
открыли ему другой мир, который он воспроизводит с соблюдением меры, но
который все же удаляет его от первоначального пути. Шесть пророков,
пять сивилл, пять воинов и столько же языческих философов - и
каждая из этих фигур, подобно античной статуе, есть шедевр силы и
телесного благородства. Это не значит, что художник подражает греческим
типам или одежде: замысловатые шлемы, фантастические прически,
рыцарские воспоминания примешиваются здесь самым причудливым
образом к туникам и наготе. Но основное чувство - античное. Это
люди сильные и довольные жизнью, а не благочестивые души, мечтающие
о рае. Все сивиллы цветут красотой и молодостью. Первая из них
выступает вперед, и ее манера, ее осанка горделивы и величественны
по-королевски. Так же благороден и величав царь-пророк, находящийся
напротив. Серьезность, возвышенность этих фигур несравненны; на этой заре
сознания лицо, еще неподвижное, хранит, как у греческих статуй,
простоту и неизменяемость первоначального выражения. Черты лица не
затемняют типа, человек еще не разменялся на мелкие, беглые мысли и
чувства, и характер выступает во всей своей цельности сквозь этот покой.
На одном пилястре с левой стороны можно видеть полноватое,
довольно вульгарного вида, лицо с длинными волосами под красной ермолкой;
скажешь, что это какой-нибудь аббат, который сейчас в дурном
расположении духа: у него вид брюзги и даже притворщика - это Перуджино,
написанный им самим. Он сильно изменился к этому времени. Те, кто
видел другой его портрет, написанный тоже им самим за несколько лет
до того во Флоренции, едва узнают его здесь. В его жизни, так же как
в творчестве, два противоположных направления и две различные эпохи.
• 19 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Никто не запечатлел лучше в своих противоречиях и в своей гармонии
великую перемену, совершившуюся вокруг него. Он был сперва
религиозен: в этом нельзя сомневаться, когда видишь, как долго, даже в самых
недрах языческой Флоренции, он повторяет и тщательно отделывает
свои столь набожные фигуры, как он расписывает даром или только
ради молитв часовню одного братства, находившуюся напротив его дома,
или пишет и хранит у себя четырнадцать хоругвей, чтобы потом
предложить их церковным процессиям, - как, наконец, он живет и
развивает свой талант в монастырях благочестивой Умбрии. Он - новатор в
религиозной живописи, а человек ничего не может открыть иначе, как по
влечению сердца. Не будет слишком рискованным предположить, что во
Флоренции Перуджино принадлежал к числу последователей
Савонаролы. Савонарола был приором того монастыря, где работал художник;
Савонарола сжигал на костре картины языческого содержания и одним
порывом увлек Флоренцию до пределов аскетического и христианского
восторга. Начальные слова одной проповеди Савонаролы начертаны на
свитке, который Перуджино держит на своем портрете, нарисованном
им около этого времени, и, наконец, он покупает участок земли, чтобы
выстроить себе дом в городе реформатора. Неожиданно все меняется:
Савонарола сожжен живым, и его ученикам кажется, что само
провидение, справедливость и божественное всемогущество поглощены его
могилой. Многие из них сохранили до конца в своей памяти яркий и
осязаемый образ мученика, преданного, подвергнутого пыткам и
осыпанного на костре насмешками тех, кого он вел к спасению. Не это ли
великое потрясение, довершившее эпикурейские уроки Флоренции,
опрокинуло все верования Перуджино? Во всяком случае, несомненно,
что после возвращения он уже не тот. Его лицо,
иронически-недоверчивое, носит на себе печать замкнутости и усталости. Его религиозные
картины уже не так чисты; он кончает тем, что воспроизводит их
дюжинами, как на фабрике; скоро его начинают обвинять в том, что он
больше не интересуется ничем, кроме денег. Он наполняет Колледжо дель
Камбио языческими сюжетами и принимает в их передаче манеру
флорентийских золотых дел мастеров и анатомов. Тогда он пишет свои
аллегорические фигуры - Любовь и Непорочность, сухие и холодные, -
как запоздалый распутник, плохо вознаграждающий себя за суровую
молодость. По-видимому, он стал простым атеистом, озлобленным и
черствым, как все те, кто предается отрицанию со злобой и насмешкой
вследствие пережитых разочарований и горя. «Он не мог никогда, -
•20·
ПЕРУЛЖА И АССИЗИ
говорит Вазари, - заставить себя поверить в бессмертие души. Эту
упрямую голову нельзя было направить на добрый путь. Он возлагал все
свои надежды только на материальные блага». И один современный
комментатор добавляет: «Когда он умирал, ему сказали, что
необходимо исповедаться. Но он отвечал: "А я хочу посмотреть, как будет
чувствовать себя на том свете душа, которая не исповедалась". И он
постоянно отказывался поступить иначе». Такой конец после такой жизни не
показывает ли ясно, как век Франциска Ассизского стал веком папы
Александра VI.
Другие были счастливее; например, Рафаэль. Здесь именно, в этой
мастерской, перед этими пейзажами, созревал он, - и много раз думал
я здесь о его чистом и счастливом гении, о его широко раскинувшихся
пейзажах, о его немного суховатой отчетливости и изысканной
простоте его первых творений. Здешнее небо - совершенной чистоты; легкий,
прозрачный воздух позволяет заметить на расстоянии целой мили
тонкие очертания деревьев. В сотне шагов от церкви Святого Петра есть
площадка, обсаженная каменными дубами, которая выступает вперед,
как береговой мыс; внизу простирается сельская местность - обширный
сад, усеянный деревьями, где листва олив образует бледные полосы на
зелени новых посевов. Великолепный голубой купол сияет, оживленный
солнцем, и лучи весело играют по всему этому огромному цирку,
который они пробегают, не встречая никаких препятствий. На западе
золотые цепи гор возвышаются одна над другой, все более светлея по мере
приближения к горизонту, и самые крайние, похожие на шелковое
покрывало, смеются. Однако гребни сливаются мало-помалу в смешении
света и теней, пока, наконец, понижаясь и растягиваясь, не тают,
исчезая один за другим, на равнине. Свет, рельеф, порядок. Глаза поражены
и наслаждаются столь обширным пространством, столь прекрасным
распределением, столь совершенной чистотой форм. Но холодный
ветер, который приходит с гор, мешает телу забыться в слишком
чувственном благополучии: вспоминаешь близость зимы и бесплодных скал.
Там, вверху, один длинный, обрубленный и расколотый выступ
разрезает своим поворотом небо, и это бледное небо бросает оттенок стали
поверх снегов, которые кажутся мраморными плитами.
4 апреля, Ассизи
Прогулка пешком - четыре часа ходьбы, чтобы посмотреть на
местных крестьян.
• 21 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Страна хорошо обработана и приятна; зеленые хлеба поднялись
обильно, виноградники развертывают свои почки, и каждая лоза вьется
вокруг вяза; светлые ручейки бегут по канавам. На горизонте стоит пояс
гор, и блестящие непорочные снега сливаются с атласными облаками.
Мы встречаем несколько одноколок с крестьянами, которые поют.
Эти маленькие экипажи являют собой несомненный признак
благосостояния: они указывают на общественный слой, поднявшийся над
уровнем жизни, когда тяжелый труд являлся грубой необходимостью. Часто
встречаются статуи Мадонн, обещающие сорок дней индульгенции за
трижды прочитанное Ave Μάπα, - вот религия Италии. В общем,
деревни напоминают французские и показывают приблизительно тот же
уровень культуры. Сегодня воскресенье, - на жителях надеты тяжелые
башмаки и приличное платье; лохмотьев не видно вовсе. Люди очень веселы,
болтают и смеются на площадях, некоторые играют в мяч, другие мечут
диск, третьи играют в тогга. Харчевни и дома не грязнее и не беднее, чем
во Франции. Потолок висит на тяжелых балках; имеются стулья, столы,
буфет из лоснящегося дерева, подставка аля бутылок, снабженная двумя
мадоннами. Во входной зале ждут своей очереди две огромные бочки,
обитые массивными обручами, и я могу удостоверить, что вино
недорого. Четверть говядины подвешена на железном крюке. В плодородной
стране, которая потребляет свои продукты, благосостояние естественно.
Харчевня наполняется народом; приходит девушка из хорошей семьи
вместе со своей матерью; она в ярком платье, с черной вуалью на лице,
с милой улыбкой на губах. Искрящаяся веселость и кокетство молодой
девушки, - и вот молодые люди начинают увиваться вокруг нее с той
умильной угодливостью и восхищенно-вожделеющим видом, которые
так характерны аля итальянца.
На вершине обрывистой возвышенности, над двойным рядом аркад,
появляется монастырь. У его подножия ручей размывает почву и уносит
далеко, меж песчаных берегов, накатанные голыши; наверху, по гребню
горы, тянется старый городок. Мы поднимаемся медленно, под
палящими лучами солнца, и неожиданно, в конце двора, окаймленного тонкими
колоннами, входим во мрак здания... Нет ничего равного ему; не видав
его, нельзя составить себе понятия об искусстве и гении Средних веков.
Прибавьте сюда Ланте и «Fioretti» [«Цветочки»] святого Франциска -
вот шедевры мистического христианства.
Здесь три церкви, одна над другой, все расположенные над гробницей
святого Франциска. Подобно каменной раке, это здание возвышается
• 22 ·
ПЕРУЛЖА И АССИЗИ
Пьетро Лоренцетти. Св. Франциск Ассизский. Фрагмент фрески.
Церковь Сан Франческо в Ассизи
•23·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и пышно расцвело поверх почитаемых останков того, кого простой
народ до сих пор считает живым и лишь погруженным в молитву в глубине
недоступной пещеры. Нижняя церковь представляет темный, как
гробница, склеп, куда спускаются с факелами. Паломники пробираются вдоль
влажных стен и ощупью касаются решетки. За нею находится гробница -
в бледном меркнущем свете, подобном загробному. Несколько медных
светильников, почти без огня, горят здесь неугасимо, как звезды,
тонущие в мрачных глубинах. Копоть ползет по сводам, и тяжелый дух свечей
смешивается с запахом пещеры. Сторож поправляет свой факел, и эта
внезапная вспышка в жуткой темноте, над мертвыми костями, подобна
видению Данте. Вот таинственная гробница святого, который, в гниении
и червях, из темницы липкой земли, созерцает пришествие Спасителя
в неизреченном свете.
Но чего нельзя описать словами, так это средний храм, длинный и
низкий, как печной душник, поддерживаемый небольшими круглыми
аркадами, которые сгибаются в полутьме, - покорное смирение,
заставляющее вошедшего невольно преклонить колено. Темно-лазурная облицовка
с красными полосами, усеянными золотыми звездами, великолепная
ткань орнаментов, изящных закруглений и переплетений листвы и
разнообразных фигурок покрывает арки и потолок своей гармонической
пестротой; глаз упивается ею; целое царство форм и цветов живет на
этих сводах; я отдал бы за этот подвал все римские церкви. Ни
древность, ни Возрождение не понимали этого могущества
множественности: классическое искусство действует простотой, искусство готическое -
изобилием; одно берет за образец ствол дерева, другое - целое дерево,
со всею пышностью его листвы. Здесь - целый мир, как в живом лесу,
и каждый предмет сложен и завершен, как живое явление: вот кресла
хора, обремененные и испещренные резьбой; дальше - великолепная
витая лестница, чеканные решетки, изящная мраморная кафедра;
надгробные памятники, мрамор которых, мелкой и тщательной отделки,
кажется щегольской работой ювелира. Там и сям, где придется,
тянущиеся вверх ростки тончайших колонн, или нагромождение каменных
безделушек в фантастическом беспорядке, или, наконец, среди лабиринта
расцвеченной листвы обилие аскетических изображений в венчиках
старого почерневшего золота. Все это мелькает перед глазами, среди
черного блеска деревянной резьбы, в свете гаснущего пурпура, между тем
как во входные двери падает сноп золотых стрел заходящего солнца, -
точно павлин развернул свое оперение.
•24·
ПЕРУАЖА И АССИЗИ
Наверху - верхняя церковь, столь же блистательная, воздушная и
ликующая, насколько средняя низка и сурова. Поистине, если дозволить
себе объяснение, можно поверить, что в этих трех святилищах
архитектор хотел представить три мира: там, внизу, - смертную тень и страх
адской погибели; посередине - страстное волнение христианина,
который в молитве и борьбе полон упования среди земных испытаний;
наверху - радость и ослепительное сияние рая. Верхняя церковь,
утопающая в свете и воздухе, утончает ряды своих колонн, заостряет свои
стрелки, смягчает свои аркады, подымаясь все выше и выше, вся
озаренная полным светом своих высоких окон и блеском своих
готических роз, цветных стекол, золотых нитей и звезд, которые сияют на ее
арках и сводах, окружая изображения прославленных лиц, чьими
священными легендами расписан храм от верха до низа. Конечно, время
избороздило все это трещинами; многое обвалилось; лазурь,
покрывающая стены, потускнела, но мысль восстанавливает то, что исчезло аая
глаза, и видит это небесное великолепие снова таким, каким шесть
столетий назад оно впервые воссияло здесь. Никакой собор не может быть так
пышен: нужна особая, небольшого размера часовня, чтобы человек мог
представить эту последнюю стадию христианского пути. Как в Сент-Ша-
пель нашего Людовика IX [в Париже], верующие обретали здесь райские
кущи; суровость и угрозы религии отступали; вокруг было только
великолепие неба и восторг экстаза. Под этим сводом, который, как
воздушный балдахин, кажется, вовсе не опирается на землю, среди мерцания
золота и волн света, преломленного цветными стеклами, в этом чудесном
узоре стройных и сплетающихся линий, который струится по стенам,
как наряд новобрачной, человек чувствовал себя заживо перенесенным
в рай. Мы теперь не сумеем ни повторить, ни описать этого торжества.
Но оно было уже некогда описано аая нас, и я повторяю здесь про себя
эти стихи Данте:
«И вот внезапный луч света озарил большой лес по всем
направлениям, - луч столь блистающий, что я подумал, не молния ли это...
И сладкая мелодия полилась в сияющем воздухе.
Меж тем как в этом преддверии вечного блаженства я шел, весь
смущенный и жаждущий еще большей радости, -
Перед нами воздух весь воспылал под зелеными ветвями, подобно
великому огню, и сладкий голос, который мы уже слышали, стал
ясным и внятным пением;
• 25 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Семь золотых канделябров пылали поверх - более яркие на ясном
небе, чем полночная луна в полнолунии;
И позади этих канделябров я увидел приближающиеся фигуры,
одетые в белое. Никогда подобная белизна не блистала на земле».
Все это есть здесь. Лруг Ланте, Лжотто, нарисовал во второй церкви
такие видения. Его ученики и преемники, увлеченные его стилем,
украсили своими работами остальные части здания. Не существует другого
памятника христианства, где бы подлинные идеи Средневековья предстали
перед нами в стольких образах и объясняли друг друга в стольких
шедеврах эпохи. Над алтарем, огражденным чеканной из бронзы и железа
решеткой, Лжотто покрыл низкий свод большими спокойными фигурами
и мистическими аллегориями. Вот святой Франциск, получающий из рук
Христа Бедность, как свою супругу; вот Целомудрие, тщетно
осаждаемое в зубчатой крепости и прославляемое ангелами; вот Повиновение,
под балдахином, окруженное коленопреклоненными ангелами и
святыми; вот святой Франциск во славе, в золотом одеянии диакона,
окруженный небесными добродетелями и поющими серафимами. Этот Джотто,
который кажется нам, по сю сторону гор, только неумелым варваром, -
уже законченный художник: он составляет группы, он знает выражение
лиц. Остаток угловатости только усиливает религиозную суровость его
фигур. Рельеф более выраженный, движения более человеческие
нарушили бы наше впечатление: аая ангелов и символических добродетелей
не нужно слишком большого разнообразия и жизненности выражений -
это души в их неподвижном экстазе. Сильные и пышные девы,
архангелы с хорошей мускулатурой, которых будут рисовать два столетия
спустя, низводят нас на землю: их тело столь осязаемо, что мы не верим в их
божественность. Здесь все эти лица, - эти высокие благородные женщины,
шествующие рядами в священных процессиях, подобны Мательде и Лю-
чии Ланте: это возвышенные и эфемерные создания мечты. Их
прекрасные белокурые волосы ложатся целомудренно и ровно вокруг лба; стоя
одна возле другой, они отдаются созерцанию; их широкие туники с
длинными складками, белые, голубые или бледно-розовые, ниспадают вдоль
тела; они теснятся возле святого или вокруг Христа, безмолвно, как стая
верных птиц, и на их лицах, чуть печальных, лежит печать
торжественной истомы небесного блаженства.
Этот момент - единственный в своем роде. Тринадцатое столетие -
предел и расцвет еще живого христианства; после него - только схолас-
•26·
ПЕРУЛЖА И АССИЗИ
тика, упадок и бесплодные порывы к другому времени и другому
настроению. Чувство, которое до того было едва лишь намечено - любовь, -
развернулось тогда с необыкновенною силой, и святой Франциск был его
глашатаем. Он звал воду и огонь, солнце и луну своими братьями, он
проповедовал птицам; он выкупал ягнят, относимых на рынок, отдавая за
них свой плащ. Рассказывают, что зайцы и фазаны укрывались в
складках его одежды. Его сердце болело обо всем живом; его первые ученики
пребывали, как и он сам, в состоянии некоего опьянения, «так что
оставались иногда в одиночестве на вершинах высоких гор в течение
двадцати и даже тридцати дней, созерцая небесный мир». Их письма полны
экстаза. «Пусть никто меня не упрекает, если любовь придает мне вид
безумца! Нет сердца, которое могло бы оборониться или ускользнуть от
такой любви... ибо небо и земля кричат мне и громко повторяют, и все
существа, которые я должен любить, говорят мне: "Люби любовь, которая
создала нас, чтобы привлечь тебя к Нему..." О, Христос! часто Ты блуждал
по земле, как опьяненный! Любовь вела Тебя, как своего раба. Во всем Ты
являл лишь любовь, никогда не вспоминая Себя самого... И плывут стрелы
любви такою густою волной, что весь я изнемогаю от них. Он мечет их с
такой силою, что я отчаялся отразить их, умирая не от подлинной смерти,
а от избытка веселья».
И не только в монастырях встретим мы эти экстазы. Любовь
сделалась царицей мирской жизни так же, как религиозной. Во Флоренции
толпы в тысячи человек, одетых в белое, обегали улицы с барабанным
боем, под предводительством вождя, который звался «господином
любви». Новый нарождающийся язык, поэзия и пробуждающаяся мысль
заняты лишь описанием и восхвалением любви. Я только что перечел «Vita
nuova» [«Новую жизнь»] Ланте и несколько песен его «Рая»; чувство
здесь так сильно, что внушает страх: эти люди пребывают в пылающих
сферах, где разум расплавился. Повесть Данте, как и его поэма,
свидетельствует о непрерывном галлюцинировании: он лишается чувств, видения
осаждают его, его тело делается больным, вся сила его мысли
направлена на припоминание и разъяснение тех потрясающих или
божественных зрелищ, над которыми он погружен в размышление. Он
совещается со многими друзьями относительно своих экстазов, и они дают ему
ответ в стихах, столь же таинственных и неистовых, как его
собственные. Ясно, что в эту эпоху вся высшая культура духа сосредоточена на
одной болезненной и высокой мечте. Посвященные говорят языком
Апокалипсиса, намеренно темным; они вкладывают в свои слова двой-
• 27·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ной и тройной смысл; Данте сам полагает за правило, что в каждой теме
их заключается четыре. В этом состоянии крайнего напряжения все
превращается в символ. Какой-нибудь цвет, например зеленый или красный,
цифра, определенный час дня или ночи принимают неожиданное
значение: это кровь Христа, это изумрудные поля райских обителей, это
девственная лазурь неба, это священное число божественных Лиц, которые
таким путем созерцаются разумом. Ум переходит от восторга к
оцепенению, и напряженная чувствительность, в трепете и содрогании, то
возносит человека до небесного блаженства, то повергает его в беспредельное
отчаяние. Естественные границы, разделяющие различные области духа,
стираются и исчезают. Обожаемая возлюбленная преображается,
превращаясь в небесную добродетель. Схоластические абстракции
становятся идеальными образами. Луши соединяются в эфирные розы - «вечные
цветы вечной радости, которые, подобно благовониям, дают ощутить всю
полноту своих ароматов». Тяжелая чувственная материя и набор сухих
формул тают и испаряются на вершинах мистического созерцания,
оставляя бытие лишь мелодии, запаху, лучу света, какой-нибудь эмблеме, и не
потому, чтобы эти остатки земных явлений имели цену сами по себе,
а лишь потому, что они служат лля передачи непостижимого и
неизреченного иного мира.
Как переносили они напряжение и вечную тревогу подобного
состояния - этот кошмар ада и рая, слезы, дрожь, обмирание, все переходы
этой грозы. Какие нервы могли это вынести? Какое богатство души и
воображения создало их? Все с той поры понизило свой уровень; человек
был тогда гораздо сильнее и дольше оставался молодым. Я просматривал
в эти дни «Жизнь Петрарки», написанную им самим: он любил Лауру в
продолжение четырнадцати лет. В наше время юность сердца, возраст
великого недовольства жизнью и великих мечтаний длится от пяти до
шести лет; тотчас вслед за тем начинают искать удобного домашнего очага
и хорошего места. Мне кажется, что сердце, закаленное воинственной
жизнью, было более стойким, и грубый режим тех полуварварских
времен, убивая слабых, оставлял жить только сильных. Но следует еще
особенно заметить, что печали, опасности, однообразие тогдашней жизни,
лишенной развлечений и чтения, вечно угрожаемой, увеличивали
способность к энтузиазму, возвышенность и яркость чувств. Безопасность,
удобства, изящество нашей цивилизации раздробили и сузили их;
водопад они обратили в пруд. Мы наслаждаемся и страдаем от тысячи мелких
будничных волнений. Тогда способность чувствовать не рассеивалась,
•28·
ПЕРУДЖА И АССИЗИ
а застаивалась, и накопившаяся страсть прорывалась наружу, как
наводнение. В одной русской повести, «Тарас Бульба», молодой предводитель
казаков, чувства которого притуплены грязной кочевой жизнью,
запахом водки и конюшни и ежедневным зрелищем грубых или диких фигур,
выйдя из лагеря, видит молодую, красивую девушку, изящно и нарядно
одетую. Его всего перевертывает, он бросается на колени, забывает своего
отца, свою родину и сражается с этого момента против своих. Подобное
же потрясение бросило Ланте ниц перед ребенком девяти лет.
Вообразим себе на минуту окружающий быт. Это была эпоха
беспощадных войн и смертельной вражды. Во Флоренции дом за домом,
квартал за кварталом подвергались изгнанию или же сражались между собою.
Сам Данте был приговорен к сожжению. Пытки, изобретенные
династией Романо, запечатлелись в людской памяти; прочно установился по всем
городам, сословиям и семьям режим худший, нежели наша эпоха
Террора. В этом колючем кругу человеческая мысль впервые за столько веков
освободилась и вступила на неведомый путь. Она не последовала
естественному наклону, как некогда в подобный же момент в маленьких
республиках Греции: могущественная религия пленила ее при самом ее
рождении и отвратила от этого пути. Ей представили как высшую цель
не равновесие обузданных чувств и моральное состояние творческих
способностей духа, а экстазы бессмертного обожания и порывы
возбужденного воображения. Счастье не заключалось более в том, чтобы
чувствовать себя сильным, мудрым и красивым, быть уважаемым
гражданином славного города, или плясать и петь прекрасные гимны, или
беседовать с другом, сидя под деревом ясным днем. Эти радости были
объявлены недостаточными, вульгарными и преступными; взамен того
обратились к женственным сторонам души, к нервной
чувствительности, и человеку было поставлено целью экстатическое созерцание,
невыразимые восторги и услады, которых ни чувство, ни слово, ни
воображение не могли вместить. Чем тяжелее была жизнь, тем выше шли обещания.
Сила контраста увеличивала привлекательность обетованного
блаженства - и со всем пылом юности сердце устремилось в открывшийся
выход. Тогда сложилось это странное противоречие между мирской жизнью,
подобной быту греческих республик, и жизнью религиозной, подобной
жизни персидских суффитов: с одной стороны, свободные граждане,
дельцы, воины, художники, с другой - отшельники-аскеты, полунагие
проповедники, кающиеся, которые исповедовались, бичуя себя. Более
того: обе крайности соединялись в одном и том же лице; одна и та же душа
• 29 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
обладала в высшей степени мужественной энергией и женственной
нежностью; один и тот же человек был правителем и мистиком.
Политическая вражда и жизненная практика непонятным образом согласовались
с томлением и галлюцинациями любви. Вождь партии и отец семейства
упорно обожает давно умершего ребенка и рисует реальные пейзажи,
фигуры своих современников, прозаические интересы, местные раздоры
и технические познания своего времени и страны в чудовищном и
божественном озарении экстаза и кошмара.
Монах проводил меня в трапезную; затем, через несколько зал, до
квадратного внутреннего двора, где портик в два этажа, опирающийся на
тонкие колонны, образует прекрасное место для прогулок. Плиты пола,
колонны, стены, цистерны - все из камня; вверху, точно рама, царит
крыша из красной черепицы. Синее небо, подобное круглому куполу собора,
покоится на этом белом четырехугольнике: невозможно вообразить
эффект столь простых цветов и простых форм. Вокруг монастыря идет
вторая крытая галерея со стрельчатой аркадой из грубого, порыжевшего на
солнце камня; оттуда взгляд охватывает красивую долину с ее диадемой
снежных гор. Нищие иноки из «Fioretti», ограничивая свою жизнь,
настолько же облагораживали ее; два или три впечатления наполняли все их
существование, но эти впечатления были возвышенны. Если кто-нибудь
из них выбивался из грубого стада, - то был вынужден стать поэтом; если
человек не делался простой машиной аая отбивания поклонов, он кончал
тем, что начинал чувствовать величие и ясность этого пейзажа. «Брат Бер-
нардо пребывал в созерцании на вершинах гор, подобно ласточке;
поэтому брат Эджидио сказал про него, что ему одному был дан дар питаться,
летая, как ласточки... И когда брат Коррадо окончил свою молитву, - вот
явилась ему Царица Небесная со своим благодатным Младенцем на руках,
в великом сиянии света. И, приблизившись к брату Коррадо, она
положила ему на руки свое благодатное Дитя; и принял его Коррадо, и набожно
целовал, и обнимал, и прижимал его к груди своей, тая и разрешаясь в
божественной любви и неизъяснимом утешении».
Внизу, на равнине, находится большая церковь, которая заключает
в себе дом святого; но она современная, с язычески пышным куполом.
Фрески Овербека - только подражание; чтобы остаться готическим, он
стал неумелым, и у его ангелов кривая шея, а у Бога - жалостный вид
человека, которому не удалось пообедать. Поскорее уходишь оттуда: нет
ничего более неприятного, как деланное благочестие, - после искреннего.
•30·
ПЕРУАЖА И АССИЗИ
6 апреля
Несколько бесед за эти дни с людьми всех сословий и всех мнений.
Но либералы преобладают.
Говорят, что дипломаты не расположены в пользу единства Италии:
они не верят в его прочность. По мнению двух умных людей, с которыми
я путешествовал (один из них - офицер, другой - атташе при посольстве),
главная черта итальянцев - это недостаток характера и преобладание
ума: полная противоположность испанцам, у которых тупая и
ограниченная голова, но которые умеют хотеть. Спорят о числе добровольцев
Гарибальди в 1859 году; одни считают его в две тысячи пятьсот, другие - в семь
тысяч. Во всяком случае, их было до смешного мало. Иностранный
легион императора Наполеона был почти без людей, в ординарном составе:
никто не являлся пополнить ряды. Итальянцу кажется очень тяжело
покидать свою любовницу или жену, записываться в солдаты, подчиняться
дисциплине: военный дух погас в этой стране слишком давно. Мой
офицер, участвовавший в последней кампании, утверждает, что Милан
доставил в общем не больше восьмидесяти волонтеров; сельское же
население было скорее за австрийцев. Что до людей среднего или высшего
сословия, то тут были большие восторги и речи; но их энтузиазм испарялся
во фразах, и у них уже не хватало его, чтобы рисковать своей головой.
Самоотверженность, истинное увлечение, горячий патриотизм
встречались только у женщин. После Виллафранкского мира, французы,
стоявшие постоем около Пескьеры, сказали своему домохозяину: «Итак, вы
остаетесь с австрийцами! Как жаль!». Молодая дочь семейства в первую
минуту не понимает; потом, когда она поняла, она воздевает обе руки к небу
и с горящими глазами спрашивает своих братьев: есть ли у них ружье?
мужчины ли они? «Никогда, - прибавляет офицер, - я не видел
выражения лица столь пламенного и возвышенного». Ее братья качают головой
и отвечают со сдержанным терпением итальянца: «Что же делать?»
Этот недостаток энергии весьма повлиял на ускорение мира.
Император Наполеон сказал г-ну Кавуру: «Вы обещали мне двести тысяч
человек - шестьдесят тысяч пьемонтцев и сто сорок тысяч итальянцев.
Вы дали мне всего тридцать семь тысяч, и я был принужден вызвать сто
тысяч лишних французов». Когда протежируемый не помогает,
покровитель начинает беспокоиться, разочаровывается, - и вот война сразу
затормозилась. Привыкнув смиряться, итальянец потерял способность
противостоять силе; как только вы начинаете сердиться, - он
удивляется, тревожится, уступает; он вас считает matto [сумасшедшим]. Именно
•31 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
этим способом бурный г-н де Мерод приобрел свое влияние в священной
коллегии. Но когда народ не умеет бороться, его независимость может
быть только временной; он живет милостью или случаем.
Вот почему, говорят они, Пьемонт сделал большую ошибку, уступив
общественному мнению и присоединив Неаполь: он настолько же
ослабил себя. Он испортил свою армию, допустив в ее ряды плохих солдат.
Если он теперь господин юга, то лишь так, как были Шампионне,
Фердинанд, Мюрат и все их предшественники: с десятью тысячами солдат
всегда будешь повелителем Неаполя. Но при малейшем потрясении такое
правительство падет, и нынешнее рискует тем же, чем его
предшественники. Оно сделало большую глупость, предав монастыри муниципальной
ненависти; оно изгоняет этих несчастных монахов и духовных, что
вызывает скандалы и рождает такие же отклики, как в Вандее. Между тем
религия здесь не так отвлеченна и рассудочна, как во Франции: она коренится
в воображении и поэтому живее и жизненнее. Неизбежно она обратится
когда-нибудь против либерализма и против Пьемонта. Кроме того,
единство этой страны противоестественно: своей географией, расой, своим
прошлым Италия разделена на три куска - самое большее, что она может, -
образовать федерацию. Если она сейчас держится вся вместе, то лишь
искусственно, и потому, что Франция сторожит Альпы против Австрии.
Случись война на Рейне, император не станет раздроблять свои силы, и тогда
Италия расколется на естественные части.
Я возражаю, что революция здесь не есть вопрос расы, а интересов
и идей. Она началась еще с конца прошлого столетия, например, в лице
Беккарии, проповедью французской литературы и философии. Ее
пропагандирует средний класс - образованные люди, которые увлекают за
собой народ, как некогда в Соединенных Штатах, во время Войны за
независимость. Здесь кроется новая сила, высшая, нежели
провинциальные антагонизмы, - сила, неизвестная еще сто лет назад, коренящаяся
не в крови, нервах и привычках, а в мозгу, в чтении и размышлении, -
сила громадная, ибо она произвела революцию в Америке и революцию
французскую, сила возрастающая, ибо непрерывные открытия
человеческого разума и многообразные улучшения условий человеческого
существования ежедневно приносят ей новое подкрепление. Довольно
ли будет ее, чтобы поддержать Италию? Это вопрос моральной
механики, и мы не можем его разрешить, не имея возможности сравнить между
собою мощь рычага и сопротивление массы. В ожидании посмотрим на
мелкие факты, окружающие нас: это единственное средство достичь
•32·
ПЕРУЛЖА И АССИЗИ
некоторого приблизительного учета сил, которые мы видим, но
которых не можем измерить.
По дороге проходят новобранцы в серых куртках, солдаты в форме,
иногда нарядные офицеры в синем платье, элегантные и блестящие.
Каждый маленький городок имеет свою муниципальную гвардию: этих
стражей видишь на каменной скамье, на солнцепеке, у входа в мэрию.
Улицы носят имена Виктора Эммануила, Гарибальди, Сольферино. Люди
опьянены своей новорожденной независимостью и говорят о самих
себе с восторженным хвастовством. Один римлянин, который
отправился в Швейцарию, сказал мне: «У нас четыреста тысяч солдат и
шестьсот тысяч муниципальной гвардии; в два года Италия будет сделана,
и мы будем в состоянии бить австрийцев». Преувеличения патриотизма
и надежд суть полезные возбудители.
На границе начальник таможни, пьемонтец, старый солдат крымской
кампании, гремел и неистовствовал среди ночи, в своем дощатом бараке,
против Антонелли и Мероде - «этих разбойников, этих убийц». Он
говорил о правах народов, о долге гражданина. «Воздух здесь вреден в
продолжение четырех месяцев, страна унылая, жизнь дорога, живешь в
одиночестве, но я служу Италии, я уже служил ей в армии, и я крепко надеюсь, что
в будущем году здесь уже не будет границы». Вспомним, что сотоварищи
Гоша, сержанты французской гвардии 1789 года, говорили таким же
языком и произносили подобные же речи.
В Фолиньо, в маленьком кафе, я хотел заплатить байоками (папская
монета). Владелец кафе не берет их. «Нет, синьор, эта монета здесь
ничего не стоит: мы не хотим ничего из Рима. Пусть все попы убираются
оттуда, пусть Папа убирается в рай! Так будет лучше для нас. Он болен?
И прекрасно! Пусть его скорее кончает!». Все это в грубом тоне, среди
смеха женщин и пяти-шести бывших тут работников. Настоящая компания
якобинцев, как в 1790 году.
Вчера в дилижансе трехчасовая беседа с двумя моими соседями:
один - продавец шерстяных товаров и ламп из Перуджи, другой -
крестьянин и производит черепицу. Первый - человек со средствами; он ездил
в составе депутации в Турин, к Виктору Эммануилу: это страстный
поборник единства Италии. Его сын, который получил образование и
учился живописи, поступил в солдаты и участвует, в чине сержанта, в борьбе
с калабрийскими разбойниками. У изготовителя черепицы десять
племянников в армии. Вообще мои спутники не молчали и сообщили мне
бесчисленные подробности.
•33·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
По их мнению, все идет прекрасно. Из двадцати человек пятнадцать
за правительство, четыре за Папу и один республиканец. Республиканцы
совсем потеряли почву - на них смотрят как на нечто странное (fantas-
tici). Со дня на день крестьяне все больше склоняются на сторону
правительства: уже они охотятся за сбежавшими рекрутами и приводят их
к властям. Правда, сами они с трудом привыкают к рекрутству, но они
привыкнут. В армии молодых людей кормят хорошо, и они
возвращаются домой сильные, веселые, с воинственной осанкой; поразительный
эффект у молодых девушек, и отсюда у юношей, а затем у родителей
и соседей. Конечно, налоги стали тяжелее; но всякий работает и
приобретает вдвое. Ведутся строительство и ремонтные работы. Сполето
перестроено все заново; в Перудже проведен газ, железная дорога в Анкону
подвигается; повсюду большое воодушевление. «Tutti i quattrini lavorano»
[«Каждая копейка работает»].
Вся буржуазия увлечена этим течением. На двадцать две тысячи
жителей Перуджи тысяча четыреста человек муниципальной гвардии -
между ними коммерсанты, владельцы магазинов, люди с хорошим
положением и уважаемые. Они ходят патрулями вместе с солдатами,
упражняются, переносят разные тяготы и рады переносить их. «Я принес уже
жертвы моей родине, - сказал мой негоциант, - и готов принести еще».
Нет больше провинциальных и муниципальных соперничеств.
Флоренция отослала Пизе, в знак братства, цепи ее порта, которые она когда-то
у нее забрала. Я показываю на одного офицера, который проходит мимо,
и спрашиваю: не пьемонтец ли это? «Пьемонтцев больше нет; в армии мы
все смешаны; есть только итальянцы».
У них доверие и иллюзии 1789 года. На замечание, что итальянская
армия еще не показала себя: «Мы дрались в Милане в 1848 году; город
своими силами в три дня выгнал австрийцев. Мы дрались также в
Перудже против швейцарцев [папское войско], которые избивали женщин и
детей; я тогда был в коннице. Против города было построено укрепление -
посмотрите, вот его остатки; мы устроим здесь музей. Нет-нет, мы не
боимся австрийцев! Мы выставили семьдесят тысяч добровольцев против
них в 1859 году. Еще два года - и крестьяне сами все поднимутся, и мы
выгоним их из Венеции». Семь тысяч волонтеров превратились в
семьдесят тысяч, но народ, как поэт: чем он выспреннее, тем большей высоты
достигает.
У них то же антиклерикальное озлобление, какое было в нашей
революции. По мнению двух моих спутников, «попы - мошенники (birbanti);
■34·
Π Ε РУЛЖА И АССИЗИ
правительство хорошо сделало, конфисковав имущество монастырей:
оно должно было выгнать всех этих нищих, которые открыто ведут
пропаганду против него. Δο 1859 года духовенство было всемогуще; оно
вмешивалось в семейные дела; духовных судил особый суд и их никогда
не наказывали. Теперь они повесили носы; недавно двоих осудили за их
проделки, и все рукоплескали приговору. Они вообще причиняли
только зло. Нищие - дети и взрослые, которые осаждали нас в Ассизи, - это
их отродье, как физически, так и морально. Они развращали женщин,
жили в праздности благодаря своим поборам и поддерживали
невежество в народе. Теперь же всюду насаждается просвещение; в каждой
коммуне своя школа: в Ассизи, где только три тысячи жителей, их
тринадцать». Один нищий уцепился за нашу карету: «Пошел прочь,
бездельник! - проси у монахов: там твой отец!». Тот, с улыбкой итальянца,
приторной и лукавой, возражает: «Нет, синьор, я не здешний; подайте
что-нибудь...»
Ряд мелких фактов подчеркивает это раздражение против
духовенства. Недавно в Фолиньо, во время одного маскарада, на улицах
представляли Папу и кардиналов - общий шумный восторг, свист и смех. В Пе-
рудже, рядом с Сан Ломенико, есть монастырь миноритов,
превращенный в казарму. Солдаты, входя туда, кололи штыками фрески нижней
галереи. Теперь пронзенные фигуры отваливаются кусками; едва можно
различить там и сям черты какого-нибудь лица; дым солдатской кухни
докончил разрушение лучшей группы. Четверть часа спустя священник
церкви Сан Пьетро печально рассказывал мне, что здесь они тоже, при
своем вступлении, исполосовали живопись одной капеллы; он повторяет
это с несчастным, униженным видом: духовенство здесь имеет не тот
тон, что в Риме. Это то же насилие, что в нашей революции: казарма
и мирской человек без всякого перехода становится на место
духовенства и монастыря. Этот антагонизм заставляет задуматься: раз
появившись, он уже не исчезает более. Он никогда не прекращался во Франции:
революция и католицизм всегда стоят там друг против друга, в полном
вооружении и лицом к лицу. Протестантские народы, например
англичане, в этом отношении счастливее: Лютер примирил у них церковь
и светский мир. Разрешить священнику брак и сделать из него благодаря
воспитанию и нравам нечто вроде более серьезного мирянина и в то же
время возвысить светского человека до размышления и критики, открыв
ему Библию и экзегезу; отбросить в религии аскетическую сторону
и внести в мир моральную совесть, - вот величайшая из современных
• 35 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
революций. Оба духа в протестантских странах находятся в согласии;
они остаются враждебными в католических и, к несчастью, вражде этой
не видно конца.
Еще один купец, один офицер и мой cameriere [прислужник], с
которыми я беседую, высказываются в том же духе. Какое живое и
совершенное понимание у итальянцев! Этот cameriere, который рассказывает
мне свою историю, свою женитьбу и свои размышления о жизни,
говорит, судит и рассуждает как образованный человек. Жалкий гид,
полунищий, в одной лавчонке в Ассизи, имеет вполне последовательные мнения
и скептически объясняет мне положение страны. «Крестьяне охотятся за
рекрутами, - говорит он, - но это из зависти: их собственных сыновей
взяли, и они хотят, чтобы и чужие были взяты. Полноте, богатый всегда
съест бедного, а бедный никогда не съест богатого!». У них легкость
представлений и бойкость выражения. Такой народ созрел аая
политических рассуждений, - и это можно видеть в кафе: многословие и
одушевление тамошних прений удивительны, так же как их здравомыслие.
Среди развала общей революции и при нерешительности
правительства, каждый город управлялся и поддерживал порядок сам по себе.
Все согласны, что либеральная партия преуспевает. Мой молодой
офицер говорит, что число уклоняющихся от службы с каждым годом
уменьшается; в этом году, в каком-то местечке возле Орвьето, где стоит
его гарнизон, их не было совсем. В Фолиньо, где он жил, насчитывают
только две или три старых фамилии папистов; это скупые и отсталые
семьи; у одной - родственник-кардинал; весь остальной город - за
Виктора Эммануила. Церковные земли сдают теперь в аренду крестьянам по
низким ценам, и это примиряет их с правительством; кончится тем, что
эти земли будут продавать в собственность, и тогда крестьяне станут
совсем патриотами. Кто враг нового строя, так это духовенство: монахи,
посаженные на пятнадцать су в день, и попы, советующие молодежи
бежать от набора, перейдя римскую границу. Впрочем, этот офицер, как
все почти итальянцы, которых я видел, - верующий и католик; он
порицает [газету] «Diritto», крайний якобинский орган, и думает, что
религия может ужиться со светским правительством. Он не одобряет только
светской власти духовенства: пусть священники ограничатся
исполнением своего священнического долга, пусть они совершают таинства
и подают пример добрых нравов, - однажды обузданные, они станут лучше.
В Орвьето, где он живет, многих детей считают детьми монахов, и это
нехорошо. Он удивляется нашему французскому духовенству, которое
• 36 ·
ПЕРУДЖА И АССИЗИ
держит себя так прилично и никогда не вызывает скандалов; он
одобряет особый костюм, который носят наши духовные (в Италии они
должны одеваться только в черное); он смеется над римскими
преосвященствами, надзирающими за нравами, над этими театральными
наблюдателями, которые отправляются в ложу первой балерины, чтобы запретить
ей капризничать. По его мнению, подобный порядок вещей
восстанавливает людей против самой религии. В Сиене, в витринах магазинов, мы
только что видели перевод «Проклятого», «Жизни Иисуса», последней
книги Штрауса, и гравюру, изображающую «Истину», которая поражает
упрямых попов и лицемеров.
Мое впечатление от Перуджи до Сиены - что эта страна похожа на
Францию. Деревенские жители одеты почти так же хорошо, как наши;
у них даже больше лошадей; многие из них - собственники. Вид
деревень и маленьких городов переносит воображение на наш юг. Здесь тот
же характер местности: небольшие долины и средней величины горы,
и земля обработана так же хорошо. Гарнизонные истории, которые мне
рассказывает мой юный офицер, и внутренние помещения харчевен и
маленьких буржуазных домов, куда я бросаю взгляд, вызывают в моей
памяти, штрих за штрихом, путешествие, которое я совершил в прошлом
году по центру и югу Франции. Для довершения сходства видишь
повсюду по дороге солдат в отпуску или догоняющих свой полк; вид людей
веселый и их беседа также оживленна, как у нас. Местечки и городки
имеют тот провинциальный, немного тусклый, но довольно опрятный
облик, который так знаком нам. Скажешь, что это отсталая Франция,
ее младшая сестра, которая растет и догоняет старшую. Если же
взглянуть на борющиеся здесь партии: с одной стороны - старое
дворянство и духовенство, с другой - буржуазия, коммерсанты, все люди
либерального воспитания и профессий, и между ними - крестьяне, которых
революция старается оторвать от традиций, - сходство становится
поразительным. В довершение всего по их речам видно, что их образец -
Франция; они повторяют наши старые идеи, они читают только наши
книги. Люди, немного образованные, почти всегда знают французский
язык, и никогда почти английский или немецкий; наш язык -
единственный близкий к их языку; наконец, они, как и мы, имеют потребность
в веселости, остроумии, удовольствиях и даже распущенности; в их
руках видишь не только наши хорошие произведения, но и
второразрядные романы, наши мелкие газеты, уличную литературу. И все их
главные реформы идут в том же направлении: они взяли за образец нашу
• 37 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
монету и наши меры, они учреждают церковь с духовенством на
жалованье и без церковной собственности, заводят первоначальные школы,
национальную гвардию и все остальное.
Я знаю слабые стороны нашей системы: исчезновение высоких
образцов человеческой жизни, сведение всех стремлений и помышлений
к преходящим мыслям и целям, отмирание гордых и возвышенных чувств
человека, привыкшего к власти, привыкшего быть покровителем и
естественным представителем окружающих, всеобщее размножение этих
завистливых, ограниченных и плоских буржуа, которых описывает Анри Мон-
нье, мелкие дрязги и низости, оскудение сердца и разума - все, от чего
избавлены страны аристократического режима. Все же и такая, как она
есть, эта форма цивилизации сносная, лучше многих других, и довольно
естественна для латинских народов. И вот Франция, сейчас первая среди
латинских наций, импортирует ее, вместе со своей революцией и
гражданским кодексом, к своим соседям.
Эта социальная структура заключается в следующем: сильное
центральное правительство с сильной армией, довольно тяжелыми налогами
и большой свитой чиновников, обузданных чувством чести и не
ворующих; кусок земли аая каждого крестьянина, сверх того школы и другие
облегчения, чтобы он мог подняться до высшего класса, если имеет
способности; иерархия публичных должностей, открытых для карьеры всему
среднему классу, причем несправедливости ограничены учреждением
экзаменов и конкурсов, а честолюбие сдержано и удовлетворено
движением по службе медленно, но верно; короче говоря, всеобщий раздел, почти
поровну, всех благ земных, так что каждый получает свой кусок, никто
слишком большой и почти всякий - маленький или средний; наконец,
сверх всего этого, внутренняя безопасность, удовлетворительное
правосудие, национальная слава и национальное тщеславие. Все это создает
граждан посредственно образованных, очень хорошо оберегаемых,
довольно хорошо управляемых и очень инертных, все помышление которых
сводится к переходу от двух тысяч франков ренты к шести тысячам.
Одним словом, мы имеем здесь некоторое количество полукультур и полу-
благосостояний, двадцать или тридцать миллионов индивидуумов, средне
счастливых, тщательно рассаженных по загородкам,
дисциплинированных и обузданных, которых можно при надобности пускать в ход в
качестве корпусов армии. Если взглянуть на вещи с широкой точки зрения,
люди, пожалуй, до сих пор не нашли ничего лучшего; но все же нужно
будет посмотреть лет через сто на Англию, Австралию и Америку. $У
II·
*-©
СИЕНА И ПИЗА
m Ε
ι ρ ι
ι
A.· " йВЧМ
■Γ 4. Ъ- ИГЧг
' liäBf ^и^^^И ' i^V
мШаЖ
i^—^*У-—.-· *-«^^|?ч
,^^ '~***Щ "Ш1
P^· ";n,*:".^
со^^Ч^к^^^РваЖ^и'^ик^^^рЧ
шллш
тм. <ém
шщЩ
\Ύ
\ m
&№::>'. л -:-·...*$:?;
!ss >*"ч*,'
1
. 1
1
u
1
Волчица в Сиене. Фотография 1860-х годов
8 апреля, Сиена
Τ КЬЮЗИ до Сиены местность становится
ровной - мы въехали в Тоскану; вдалеке тянется
грязная и больная зелень болот. Немного дальше -
низкие холмы, потом серые склоны, где
виноградник извивает свои черные лозы; это бедный
и плоский французский пейзаж. Старинный
город, окруженный рыжими стенами, появляется
слева на холме, - и мы въезжаем в Сиену.
Это старая средневековая республика. Много раз на картах
шестнадцатого столетия я разглядывал ее изрезанный силуэт, ощетинившийся
бастионами, усеянный укреплениями, весь овеянный воспоминаниями
внешних и междуусобных войн. Внешние войны против Пизы,
Флоренции и Перуджи; междуусобные войны дворян, буржуазии и народа;
изгнание всех дворян, способных носить оружие, изгнание четырех тысяч
ремесленников; ссылки, конфискации, массовое повешение, союзы
изгнанных против города, народные мятежи, отчаяние, доходящее до
отречения от свободы и до подчинения иностранцу; внезапные бешеные
восстания; клубы, подобные якобинским; сообщества, подобные
карбонариям; безнадежная оборона осажденного города, как в Варшаве;
систематическое обезлюдение страны, как в Польше... Нигде еще жизнь не
была столь трагичной! С двухсот тысяч население города упало до шести
тысяч. Какая ненависть была нужна, чтобы истощить столь полный жизни
народ! Итальянец феодальной эпохи изо всех человеческих существ был
особенно богато одарен активной волей и сосредоточенной
страстностью. И он лил свою кровь, они лили кровь друг друга из жил до
последней капли, прежде чем успокоиться в лоне монархии. Козимо [Козимо I,
великий герцог Тосканы], чтобы удержать власть, погубил войнами,
голодом и казнями пятьдесят тысяч крестьян. И вот мы видим на гравюрах
того времени, как на республиканской площади красуются, наконец,
пышные кавалькады, мифологические колесницы, парады и ливреи
нового господина. В надписи на гравюре художник рассыпается в бесконечно
льстивых излияниях. Воцаряется покорность судьбе, потом - спячка,
пошлое волокитство, всеобщая инертность...
Сиена стала провинциальным городом, посещаемым туристами.
Один представитель духовенства, с которым я здесь встретился,
говорил мне, что когда он приехал сюда в 1821 году, невежество и застой
достигали высшей степени. Требовалось двое суток в vetturino [коляске
о
•41 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
с извозчиком], чтобы добраться от Сиены до Флоренции. Один
аристократ, прежде чем предпринять это путешествие, исповедался и составил
завещание. Ни одной библиотеки, ни одной книги. Мой знакомый,
образованный и либеральный человек, подписался на две французские
газеты; к нему приходит некто с визитом: «Как, у вас есть французская
газета?». Посетитель щупает руками газету - этот чудесный, упавший
с неба предмет. Четверть часа спустя мой знакомый идет прогуляться:
первое же лицо, которое он встретил, спрашивает его: «Правда ли, что вы
получаете французскую газету?». Второй встречный задает тот же вопрос.
Слух об этом распространился по городу в одно мгновение, как луч света
в гнезде мокриц.
Город, так сохранившийся, - своего рода Помпеи Средних веков.
Подымаешься и спускаешься по узким, крутым улицам, вымощенным
плитами и окаймленным монументальными домами. На некоторых
из них сохранились еще башни. Вблизи главной площади [Piazza del
Campo] они тянутся цепью, выравнивая в одну линию свои громадные
выступы, свои низкие крыльца, свои изумительные кирпичные
массивы, лишь кое-где пробитые редкими окнами. Многие дворцы кажутся
бастионами. Вся площадь окружена ими, и никакое зрелище не может
яснее представить воображению муниципальный быт и свирепые
нравы старых времен. Эта площадь, неправильной формы и неровная,
кажется странной и удивительной, как всякий естественный предмет, не
искаженный и не исправленный административным благоустройством.
Напротив возвышается Палаццо Пубблико - массивное здание
муниципалитета, откуда можно было сопротивляться восстанию и
разбрасывать воззвания к толпе, собравшейся на площади. Их и бросали много
раз в эти стрельчатые окна, - так же, как тела людей, убитых в мятежах.
Над зданием щетинится бордюр зубцов: в те времена оборона кроется
за украшением. Налево гигантская башня подъемлет изумительно
высоко свой стройный очерк и двойной ряд зубцов: это башня города,
несущая на своей вершине изображение его патрона, его знамя, и издали
держащая речь к соседним городам. У подножия, под изящным
мраморным навесом, красуется фонтан - Фонте Гайа, который в
четырнадцатом столетии впервые привел воду, при общих кликах радости,
на городскую площадь.
Опускается вечер, и я захожу в Собор лишь на минуту. Впечатление
несравненное, - то, что оставляет римский Святой Петр, значительно
ниже. Богатство и искренность вдохновения удивительны, - это чудный
•42 ·
СИЕНА И ПИЗА
Г
111
ίϋ *4* VVV 4*V
'ill 111 111 Mit
«fffltif
Палаццо Пубблико в Сиене. Фотография 1890-х голов
•43 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
цветок готики, но готики новой, распустившейся в лучшем климате и
среди культурных талантов, более ясной и красивой, религиозной и все-таки
здоровой, которая относится к нашим соборам, как поэмы Ланте и
Петрарки к песням наших трубадуров. Мраморный пол и столбы, на
которых одно за другим чередуются черные и белые звенья; бесчисленное
множество полных жизни статуй; естественное смешение готических
и романских форм; коринфские капители, несущие на себе лабиринт
позолоченных дуг; своды потолка, покрытые лазурью и звездами...
Заходящее солнце входит в двери, и громадное здание с лесом своих колонн
расплывается в тени над толпой, коленопреклоненной в кораблях, в
капеллах, вокруг столбов. Людская масса кишит неразличимо в глубокой
тьме, вплоть до самого алтаря, который вдруг поднимается над нею, со
своими канделябрами, бронзовыми фигурами, узорными ризами
духовенства и всем пышным великолепием своего убранства и блеска, - как
роскошный волшебный букет.
8 апреля, Сиена
Я провел в этой церкви полдня; в ней легко провести и весь день. В
первый раз я вижу не только на эстампах итальянскую готику - первое из
двух возрождений [искусства], менее чистое, но более
непосредственное, нежели другое [Ренессанс].
Высокий портал, украшенный статуями, ощетинил над тремя
дверями три остроконечных фронтона, над фронтонами - три острых
щипца, вокруг щипцов - четыре островерхие колокольни, и все эти острия
зазубрены резьбою. Но двери представляют собой романские дуги, а
фасад, несмотря на вытянутые углы, отражает латинские воспоминания;
украшения не слишком филигранны и статуи не чрезмерно обильны.
Зодчий любил удлиненные формы, дошедшие до него из-за Альп, но он
любил также и массивную форму, завещанную ему античной
традицией. Если внутри здания он нагромождает свои колонны-столбы, если он
утончает средники окон, окружает окна трилистником и придает им
стрельчатую форму, то в то же время он возносит высоко в небо
воздушный купол, распускает аканфы коринфских капителей, и прочностью
форм, рассчитанным пропуском света, сияющей рябью мраморов
разливает по всему своему созданию отблеск радости и силы. Эта церковь -
христианская, но иного, нежели на севере, христианства - менее
грандиозного и страстного, но и менее болезненного и насильственного.
Как будто врожденная веселость итальянского гения и раннее влияние
•44·
СИЕНА И ПИЗА
светской культуры умерили возвышенное безумие Средних веков и
сохранили аая души некоторую надежду на земле, оставив ей также
небесный исход.
Есть ли какой-нибудь толк в предвзятых правилах? Как мало значат
все школьные перегородки! Вот люди, стоявшие одной ногой на почве
Возрождения и другой - в Средних веках, раздираемые с обеих сторон,
так что их создание легко могло не удаться и оказаться противоречивым.
Оно удалось, и его противоречия согласуются между собою. Это потому,
что в сердцах этих людей оба чувства были сильными и искренними.
Этого довольно аая удачи: жизнь рождает жизнь.
Я вхожу; тот же союз идей выступает во всех деталях здания. С обеих
сторон входной двери стоят две чудесные коринфские колонны, но их
греческая форма подверглась переделке: ствол покрыт множеством нагих
фигурок, гиппогрифов, птиц, листьев аканфа, которые вьются,
переплетаясь, до самой вершины. В трех шагах дальше две прелестные чаши со
святой водой: две небольшие колонны, украшенные виноградными ягодами,
фигурками, гирляндами; на вершине каждой - чаша белого мрамора.
Одна, говорят, античная, другая, должно быть, начала пятнадцатого столетия.
Головы и извивы фигурок напоминают Альбрехта Люрера; ноги и колена
слегка выдаются; это нагие женщины со связанными за спиной руками;
художник, чтобы схватить настоящее движение, не побоялся слегка
испортить грудь. Так развилась, от Никколо Пизано до Якопо делла Кверча,
целая [школа] скульптуры - целое сложившееся и уже вполне законченное
искусство, точно здоровое, полное жизни дитя, которое шевелится в
своем католическом футляре.
Вот, наконец, знаменитая кафедра Никколо Пизано, обновителя
скульптуры (1266). Что может быть драгоценнее этих первых созданий
новой мысли? Это наши истинные предки, и здесь можно узнать,
каково на той заре было понимание человека, которое мы теперь
продолжаем. Ибо, когда художник изобретает тип, он выражает в теле и костях
свою идею человеческой природы, и как только эта идея становится
общедоступной - дальнейшее следует отсюда само собой. У меня нет слов,
чтобы передать все богатство и оригинальность воображения,
сверкающего в этой кафедре: она так же необычайна, как и прекрасна.
Пьедестал образуют львицы, которые держат каждая по ягненку в своей пасти
или которых сосут их малютки: узнаешь символическую и причудливую
средневековую основу. Но из тела этих львиц рождается восемь
маленьких белых непорочных колонн, которые распускаются в роскошный
•45·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
букет цветов совершенно нового стиля. Сплетенные между собою
трилистником, все вместе они несут нечто вроде ковчега или восьмигранной
чаши самой простой и естественной формы. По сторонам от
поддерживаемых колоннами арок - женские фигуры; у многих на голове
императорская корона; каждая держит маленького ребенка, который шепчет ей
что-то на ухо. Забываешь, что они сделаны из камня - настолько живо их
выражение; оно более подчеркнуто, чем у античных статуй. В этой
радости первоначального изобретения так увлекаются внезапно открытыми
идеями, что слишком настаивают на них: ведь так приятно впервые
заметить душу и позу, в которой сказалась душа! В эту эпоху еще не было
излишка в идеях, и тем глубже сосредоточивались на тех, которые уже
были усвоены. В качестве бросающейся в глаза новизны туловище, шея
и несколько грубая голова статуй имеют подобную дорической
тяжеловесность, но это лишь прибавляет им силы. Только что расставшись с
исхудалыми аскетическими святыми, художник, подражая античным
барельефам, создает уже крепкий костистый остов, прекрасные
пропорциональные члены и здоровое тело фигур Ренессанса. В скульптуре наших стран
лица и позы, открытые художниками севера, когда в пятнадцатом
столетии раскрылся их гений, нежны, полны мысли, тревожны и всегда
утонченно-индивидуальны. Эти, напротив того, имеют простоту,
обобщенность и суровость выражения древних языческих голов; точно итальянец,
в минуту, когда он впервые раскрыл рот, лишь продолжает
мужественную и важную речь, замершую двенадцать веков назад на губах его
братьев - греков и его предков - римлян.
На боковых сторонах кафедры целый лабиринт теснящихся фигур.
Длинная процессия в восьмиугольном барельефе - Рождество, Страсти
Господни, Страшный суд обволакивают мрамор мраморным одеянием.
Апостолы и девы, стоя и сидя по углам, соединяют и разделяют
различные моменты евангельской легенды. По краям распустилась изящная
и цветущая мраморная растительность - арабески, листва, вся роскошь
тонкой и обильной орнаментики. Отходишь, дивясь этому изобилию,
и вдруг замечаешь, что ходишь по фигурам. Весь пол церкви
инкрустирован ими; это мозаичные фигуры, которые кажутся набросанными
карандашом на широких плитах. Тут есть образцы всех эпох - от
рождения искусства до его совершенства. Человеческие лица, процессии, битвы,
замки, пейзажи: ваши ноги попирают множество сцен и людей
четырнадцатого столетия и двух следующих. Конечно, самые старые грубы,
как вышивки феодальной эпохи: Самсон со своей ослиной челюстью;
•46·
СИЕНА И ПИЗА
Авессалом, повисший на волосах и широко раскрывший глупые глаза;
избиваемые вифлеемские младенцы напоминают фигуры-манекены из
старых молитвенников. Но, по мере того как продвигаешься вперед,
видишь, как жизнь входит в эти очертания. Большие белые сивиллы на
черном полу благородны и суровы, как богини. Несколько других голов
поражают своим твердым и величавым выражением. Художник видит
в человеческой натуре лишь общий строй; он не отвлечен, подобно нам,
множеством нюансов, знакомством с бесконечными сменами душевных
состояний и с бесчисленными черточками лица. Поэтому он может
создавать образы, которые в своем спокойствии кажутся стоящими выше
жизненных тревог: примитивная душа творит примитивные души. Ко
времени Рафаэля это искусство достигло своего завершения, и
величайший из этих граверов по камню, Беккафуми, покрыл своими рисунками
плиты возле главного алтаря и в сени под куполом. Его полунагая Ева,
его израильтяне, избиваемые за их браки с мадианитянками, его Авраам
в сцене жертвоприношения - великолепные фигуры, совершенно
языческого характера, нередко с торсом и позами в манере Микеланджело,
но еще простые. Только в эту эпоху умели изображать тела.
Что до Микеланджело, то великий человек и сам работал здесь. Ему
приписывают прелестную маленькую капеллу, где небольшие фигурки
громоздятся рядами в нишах в форме раковин, между вьющихся тонких
арабесок белого мрамора. Его предшественники, знаменитейшие воссоз-
датели искусства, сопутствуют ему: за алтарем, в одной низенькой
часовне, «Святой Иоанн» Лонателло и другие могучие фигуры, с
искривленной шеей и узловатыми мускулами, запечатлевают в памяти зрителя
свою силу и молодость. При взгляде на этот пол, на эти стены, на
алтари, перегруженные украшениями, на ряды голов и фигур, вырастающих
из букетов капителей, выстроившихся по фризам и покрывающих все
поле зрения, становится ясно, что пластическое искусство есть
непроизвольный язык той эпохи, что люди того времени говорят на нем без
усилий, что оно является естественной формой, в которую отливается
их мысль. И эта мысль и воображение, впервые дающие свой плод, бьют
ключом наружу, неистощимо порождая все новые формы: они подобны
юношам, у которых, наконец, развязался язык и которые говорят
слишком много, потому что еще не говорили совсем.
Чрезмерное обилие прекрасных и оригинальных вещей - такое
определение часто приходит здесь в голову. Вот, например, Libreria
[Библиотека Пикколомини], примыкающая к собору и выстроенная в конце
•47 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
пятнадцатого столетия. Здесь находится десять фресок Пинтуриккьо -
история папы Пия II. Много женских фигур, очень изящных и
целомудренных, но в общем произведение еще слишком робко и сухо.
Художник сохраняет костюмы эпохи: он представляет императора в золотой
мантии, с преувеличенной роскошью Средних веков. Пинтуриккьо
пользовался услугами Рафаэля аая своих картонов; мы прикасаемся здесь
к моменту перехода от старой школы к новой. Но расстояние от учителя
до ученика безмерно, и глаза, только что видевшие Ватикан, чувствуют
эту разницу.
8 апреля, Сиена
Эта Сиена, которая теперь в таком упадке, была первой наставницей
и образцом в вопросах прекрасного. Именно здесь и в Пизе мы
встречаем старейшую школу. Никколо Пизано по своему отцу был родом из
Сиены. Возобновитель мозаичного искусства в тринадцатом столетии
Якопо Торрити был францисканским монахом в Сиене. Самое старое
из известных произведений итальянской живописи - это изображение
распятого Иисуса, с удлиненными членами тела, с наклоненной
головой, в церкви Ассизи, написанное Лжунтой Пизано. А здесь, в церкви
Сан Ломенико, Гвидо да Сиена написал в 1271 году нежный и чистый
лик Левы Марии, далеко превосходящий механическое византийское
искусство. Этот уголок Тосканы раньше всей остальной Италии
освободился от феодального варварства. Уже в 1100 году Пиза, первая морская
республика, торговала и воевала по всему Леванту, изобретала новую
архитектуру и строила свой собор. Столетием позже Сиена, бывшая
в полном расцвете, одолела Флоренцию в 1260 году в битве при Монта-
перти. Это были новые Афины, торговые и воинственные, как и
древние, - и гений и чувство прекрасного родились здесь, как и там, как
отражение смелых предприятий и опасностей. Заключенные в границы
современных больших организованных монархий, сдерживаемые
долголетними литературными и научными традициями, воздействие которых
мы несем на себе, - мы больше уже не обретаем в себе силы и
творческой смелости, которые тогда одушевляли людей. Мы подавлены нашим
собственным творением. Мы нашими же руками ограничили поле своего
действия. Мы мечтаем только прибавить какой-нибудь камень к
громадному зданию, которое сменяющиеся поколения воздвигают в течение
стольких веков. Мы не подозреваем, сколько активной энергии могут
развить из себя человеческие сердце и разум, - сколько корней, веток
•48·
СИЕНА И ПИЗА
и цветов может сразу пустить растение, именуемое человеком, как
только оно встречает почву и время года, в которых нуждается. Когда
государство не являет собой грубую машину, составленную из различных
бюрократических ведомств и постигаемую только отвлеченным
рассудком, а представляет какой-то определенный город, доступный нашим
чувствам и соразмерный с обыкновенными человеческими
способностями, то тогда человек любит его не в минутных порывах, как теперь, но
изо дня в день и всеми своими помыслами, а участие в публичных делах,
возвышая сердце и ум, порождает чувства и мысли гражданина, а не
буржуа. Какой-нибудь башмачник отдавал тогда свои деньги на то, чтобы
церковь его города была самой красивой; ткач чистил по вечерам свою
шпагу, решая в душе, что он будет не подданным, а господином города-
соперника. На известной степени напряжения каждая душа становится
вибрирующей струной - стоит только прикоснуться к ней, чтобы
заставить ее издавать чудесные звуки. Вообразим себе эту энергию и
благородство, разлитые от верхов города до его низов, по всем слоям; прибавим
еще к этому прочное и возрастающее благосостояние - то доверие к себе,
то чувство радости, которое испытывает человек, ощущая себя сильным;
уберем с наших глаз это нагромождение традиций и приобретений,
которое представляет теперь для нас настолько же препятствие, насколько
богатство; взглянем на человека свободного и предоставленного самому
себе в той пустыне, которую создал вокруг него декаданс отошедшего
Средневековья, - и мы поймем, почему здесь, так же как в дни Эсхила,
родилось искусство из деловой суеты, почему целина, усеянная
всевозможными политическими колючками, дала лучший урожай, чем наше,
столь тщательно расчищенное и занесенное в кадастр поле, почему эти
принадлежавшие к разным партиям люди, бойцы и мореплаватели, среди
величайших опасностей, среди всех своих забот и своего невежества,
открыли и обновили художественные формы, с той уверенностью
инстинкта и плодовитостью гения, которых наш теперешний досуг и наше
образование уже не могут достигнуть.
Медлительно, с трудом, в недрах скульптуры и архитектуры,
зарождается живопись: это искусство более сложное, нежели другие. Нужно
было время, чтобы открыть перспективу, нужно было более чувственное
язычество, чтобы ощутить колорит. В эту эпоху человек еще вполне
христианин; Сиена - город Пресвятой Левы и поручает себя Ее
покровительству, как Афины покровительству Паллады. При разных формах
нравственности и различных преданиях внутреннее чувство одно, - и местный
■49 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
святой есть то же, что местный бог. Когда Дуччо в 1311 году окончил
свою Мадонну [«Маэста»], народ в порыве радости пришел за нею в его
мастерскую и отнес ее в торжественной процессии в церковь; колокола
звонили, и многие из присутствующих держали в руках свечи. Художник
подписал под картиной: «Святая Матерь Божья! Даруй мир жителям
Сиены; продли жизнь Дуччо, ибо он так написал Тебя». Эта Богоматерь
обличает еще неумелую руку и походит на иллюстрации молитвенников, но
вокруг нее и Младенца, которого она держит на руках, многие головы
святых уже исключительно хороши и спокойны. Двадцать семь сцен - вся
история Христа, - в капелле напротив, дополняют картину. Небо -
золотое; золотые ореолы окружают все фигурки. В этом сиянии сами фигуры,
почти черные, кажутся далеким видением, и когда они помещались
некогда на алтаре, коленопреклоненный народ, созерцавший издали их
важные ряды, должен был ощущать таинственное волнение и возвышенный
трепет верующего христианина перед этими призраками людей,
обрисовывающимися во множестве на светлом фоне вечного дня.
В Художественном музее находятся работы Дуччо, его современников
и преемников - вся череда мастеров сиенской школы. Они почти все
взяты из монастырей. Монахини выцарапали на них своими ногтями и
ножницами глаза у демонов и расцарапали лица палачей. Так мало подвинулся
прогресс: живопись все еще больше предмет культа, нежели искусства, -
это понимаешь, видя наивное обезображивание. Больше впечатления
производит живопись в Палаццо Пубблико. Музей всегда только музей,
и произведения искусства, так же как произведения природы, будучи
извлеченными из своей среды, теряют половину своей жизненности. Их
нужно видеть в их обстановке - на большой стене, пустоту которой они
назначены оживлять, у стрельчатого окна, их освещающего, в залах, где
заседали правители, одетые, как их персонажи. Можно провести два месяца
в этом дворце, в изучении феодальных нравов, не исчерпав всех тех идей,
которые это изучение может дать: лица и костюмы, юные рыцари и
старые солдаты, боевой строй и религиозные процессии... Тусклость,
суровость и даже угрюмость, угловатость и окоченелость - вот термины,
которые приходят в голову перед этой живописью. Четырнадцатое столетие
запечатлелось на этих картинах, и за ними чувствуется вечная борьба,
насильственная задержка развития посреди опасностей, бесплодный
порыв к более совершенной красоте и более свободной гармонии. Это век
ужасных меджуусобных войн, век кондотьеров и миланских Висконти,
изощренных казней и жестокой тирании, колеблющейся веры и упадка
•50·
СИЕНА И ПИЗА
Симоне Мартини. Гвидориччо да Фолъяно.
Фрагмент фрески в Палаццо Пубблико в Сиене
мистицизма, - век Ренессанса угадываемого, испробованного и
неудавшегося. В своих новеллах, трагических, скептических, чувственных и
начиненных цицероновскими периодами, Боккаччо дал верное
изображение этой эпохи.
Здесь перед нами лица и стремления того времени. Симоне
Мартини, художник Лауры и друг Петрарки, написал в Зале Большого совета
[Маппамондо] Мадонну под балдахином [«Маэста»], в окружении
святых, с благородными и строгими лицами в стиле Лжотто, а напротив -
Гвидориччо [да Фольяно], полководца той эпохи, на коне, в латах,
совершенно реальную фигуру: мы видим, как живопись становится светской
(1316-1328). Один из Лоренцетти нагромоздил рядом боевые схватки
и побоища народов, а Спинелло Спинелли [Аретино], в Зале приоров
[Балии], изобразил победу Папы Александра III над Фридрихом
Барбароссой - императора, распростертого ниц перед Папой (1400), морские
битвы, парады войск: живопись делается исторической и реальной.
Амброджо Аоренцетти в Зале архивов [Девяти], представил доброе и дур-
• 51 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ное правление (1340). Его фреска изображает процессию важных особ,
а вверху - лежащую женщину, уже прекрасную, одетую в белое одеяние,
с веткой лавра в белокурых волосах. Все это - согласно с пресловутым
Аристотелем, столь проклинаемым Петраркой и столь дорогим аая
размножившихся свободных мыслителей: живопись, по-видимому, следует
философским течениям. Я пропускаю многих других, у которых вкус
к реальной жизни, местной истории и античному знанию - все признаки
Ренессанса - вполне очевидны.
Но они работали впустую и ничего не достигли; это потому, что они
остались в преддверии [Ренессанса]. «Святая Варвара» Маттео да Сиена
(1478) в церкви Сан Ломенико, нежная и чистая, но лишенная рельефа
и оправленная в золото, - все еще только иератическая фигура. А между тем
Леонардо да Винчи было тогда уже двадцать шесть лет! Как объяснить
столь долгую остановку? Отчего, со времени Джотто, среди стольких
блужданий художникам так и не удалось перенести на свои картины крепкий
стан и живое тело? Что могло задержать их на полдороге, несмотря на
такие усилия и после столь единодушного и удачного первого порыва? Этот
вопрос становится неотвязным, когда видишь в том же дворце или в
Художественном музее и в церкви Сан Ломенико фрески зрелого художника -
Содомы, современника Рафаэля и главного местного мастера. Его
бичуемый Христос - великолепный, живой и страдающий, нагой торс древнего
гладиатора; его «Экстаз святой Екатерины», его «Святая между двух
святых» под открытым портиком - вся его живопись тотчас же отстраняет ту,
другую, в смутную область незаконченного, неудовлетворительного,
бессильного. Еще раз, почему же люди, открыв искусство живописи, провели
еще полтораста лет с закрытыми глазами, не замечая человеческого тела?
Нужно видеть Флоренцию и Пизу.
10 апреля, Флоренция
Я провел мой первый день в Галерее Уффици; но ты не станешь
требовать, чтобы я рассказал тебе о ней сейчас же. Не следует
разбрасываться своими впечатлениями, а мне предстоит еще достаточно труда,
чтобы передать его.
На другой же день я отправился в Пизу, весь полный тем вопросом, на
котором я покинул Сиену. В путешествии занимают только такого рода
вещи. Идешь, отдавшись своей идее, и не заботишься ни о чем другом.
Точно делишься на две разные половины: с одной стороны - низшее
животное, своего рода необходимый слуга, действующий, как машина,
• 52 ·
СИЕНА И ПИЗА
который ест за вас, пьет за вас, ходит без вашего ведома, устраивается
в гостиницах и дилижансах, переносит, не давая вам почувствовать все
неприятности, мелкие передряги и низменные стороны жизни, и
совершает все, что от него требуется; с другой стороны - дух, который
стремится ввысь и изо дня в день напрягает все свои силы с пылкой, мятежной
любознательностью, полной едва возникающих, отбрасываемых и снова
рождающихся идей - попыток понять чувства великих людей и
минувших эпох. Почему они так чувствовали? Верно ли, что они чувствовали
именно так? И, переходя от вопроса к вопросу, к концу недели
начинаешь слышать этих людей, видишь их лицом к лицу, - забывая про слугу,
который делается неловким и небрежничает в своей службе. Но мне это
безразлично, да и тебе тоже... Впрочем, я заболтался - едем в Пизу
Тосканский пейзаж - приятный и благородный. Высокие хлеба дышат
свежестью; над ними тянутся, вдоль орошающей их канавы, вереницы
вязов, обремененных виноградными лозами. Все поле - сплошной сад,
оплодотворяемый проведенными водами. Эти воды приходят обильной
струей с гор и, синие, прозрачные, вьются по своему, слишком
широкому лону накатанных голышей. Всюду заметны признаки благосостояния.
Склоны гор усыпаны тысячью мелких белых точек: это деревенские
жилища и небольшие виллы; каждый дом прячется за своим букетом
каштанов, олив и сосен. В тех, что видишь по дороге, заметны следы вкуса
и благоденствия; даже на фермах есть галереи в первом и втором этажах,
для вечернего отдыха на свежем воздухе. Все приносит плоды;
культурные насаждения подымаются высоко вверх по горе и тянутся там и сям
в первобытном лесу. Человек не превратил землю в лишенный мяса
скелет: он сохранил или возродил ее зеленое одеяние. По мере удаления
поезда, эти ярусы полей, каждый со своими культурами и своей окраской,
и дальше бледная и дымчатая кайма гор окружают равнину, подобно
гирлянде. Получается впечатление красоты - не грандиозной, но
гармонической и размеренной.
В первый раз я вижу в Италии настоящую реку в настоящей равнине;
Арно, желтый и мутный, катит свои волны между двух других длинных
рядов поблекших домов. Печальный город, заброшенный, малолюдный,
инертный - напоминающий наши падающие или оставшиеся в стороне
от переместившейся цивилизации города: Экс, Пуатье, Ренн - вот Пиза.
Есть две Пизы: одна, в которой скучают и прозябают
по-провинциальному, с самых времен падения; это - весь город, за исключением
только одного, отдаленного угла. Другая - этот угол, - мраморная гробница,
• 53 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
где Собор, Баптистерий, Падающая башня и Кампосанто почивают в
безмолвии, подобные прекрасным мертвым существам. Настоящая Пиза -
здесь, и в этих реликвиях угасшей жизни находишь целый мир.
Ренессанс - до Ренессанса; второй, почти античный росток античной
цивилизации; преждевременное, но цельное чувство здоровой и
блаженной красоты; первоцвет, распустившийся после шестисотлетних
снегов, - вот мысли и определения, которые теснятся в уме. Все здесь -
мрамор, - белый мрамор, непорочная белизна которого сияет в лазури.
Везде - крупные прочные формы: большой купол, широкая стена,
соразмерные этажи, твердо поставленные круглые или прямоугольные
массивы. Но поверх этих возобновленных античных форм, подобно
нежной листве на старом зазеленевшем стволе, новые люди набросили свое
собственное изобретение - одеяние из мелких колонн, увенчанных
аркадами, - и невозможно передать всю оригинальную прелесть этой
обновленной архитектуры.
Самое трудное в искусствах - это открыть новый архитектурный
тип. Греция и Средние века нашли его во всей полноте; Рим времен
империи, шестнадцатый и семнадцатый века изобрели каждый лишь
наполовину. Чтобы найти еще другие типы, нужно выйти за пределы нашей
Европы и нашей истории - взглянуть на Египет, Персию, Индию и
Китай. Обыкновенно эти типы знаменуют собою законченную
цивилизацию, глубокое изменение всех инстинктов и всех привычек человека.
В самом деле, чтобы переменить представление о предмете столь общего
характера, как форма, какие перемены должны произойти в
человеческой голове! Перевороты в живописи и в литературе случаются гораздо
чаще, совершаются гораздо легче и гораздо менее многозначительны.
Фигуры, написанные на холсте, и типы, изображенные в книгах,
успевают перемениться у того же самого народа пять или шесть раз, прежде
чем изменится его архитектура. Тут нужно сдвинуть слишком
массивную тяжесть, - и в одиннадцатом столетии, в эпоху наших первых
королей Капетингов, Пиза сдвигала ее без труда.
Тогда здесь все расцветало, как в Греции шестого века до Рождества
Христова; все било ключом, как свет в первый час дня. «Пизанцы, -
говорит Вазари, - находились на вершине своего величия и успехов, будучи
господами Сардинии, Корсики и острова Эльбы; город их богат
великими и могучими гражданами, и из самых отдаленных мест привозили
они бесчисленные трофеи и добычу». В Византии, на Востоке, в старых
городах, еще полных остатков греческого изящества и римского велико-
• 54·
СИЕНА И ПИЗА
лепия, у евреев и арабов, своих гостей и клиентов, в сближении с чужими
идеями, учился юный народ и распознавал среди всего свою собственную
мысль, - как некогда это было с греческими городами при
соприкосновении с Финикией, Карфагеном, лидийцами и Египтом. В 1083 году они
начали строить свой собор в честь Богоматери, даровавшей им победу
над сардинскими сарацинами.
Это почти римская базилика; я хочу сказать - храм, увенчанный
другим храмом, или, если вам это больше нравится, - дом, щипец
(треугольник под крышей) которого служит его фасадом, и щипец этот,
срезанный вверху, поддерживает еще другой, меньшего размера дом. Пять
этажей колонн покрывают весь фасад своими стоящими один над
другим портиками; каждая пара таких колонн несет на себе маленькую арку.
Все эти милые беломраморные существа, с черными своими арками,
образуют самое изящное и неожиданное воздушное население. Нигде здесь
не пробивается болезненная мечтательность северного Средневековья;
это праздник юной пробуждающейся нации, которая в радости своего
недавнего благополучия прославляет своих богов. Она собирала капители,
орнаменты и целые колонны по тем далеким берегам, куда завели ее
войны и торговля, и эти обломки древности входят в ее создание, не
образуя диссонанса, ибо это создание инстинктивно отливается по
древнему образцу, лишь видоизменяя его порывом своей фантазии в сторону
изящества и приятности. Все античные формы появляются здесь снова,
но все переработанные в одном и том же направлении свежим и живым
вкусом. Внешние колонны греческого храма уменьшились в размере,
поднялись на воздух, - и из основы превратились в украшение. Римский
или византийский купол утончился, и его природная тяжесть стала легче
благодаря опоясывающему его посередине, в виде изящной обходной
галереи, венку тонких маленьких колонн с изукрашенной головой. По двум
сторонам главных дверей две коринфские колонны роскошно окутались
листвой и цветами распустившихся и извивающихся аканфов, - и с
порога открывается вся церковь, с ее пересекающимися вереницами колонн,
с чередованием белого и черного мрамора, во всем богатстве стройных
и прекрасных форм, - как подымающийся вверх полный светильников
алтарь. Некая новая душа открылась здесь, более тонкая в своих чувствах:
она чужда крайностей и тревоги севера, и в то же время она не
довольствуется важной простотой и мощной наготою античной архитектуры.
Это дочь языческой матроны, здоровая и веселая, но более женщина,
нежели ее мать.
• 55 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Пьяцца леи Мираколи в Пизе. Фотография 1860-х годов
Она еще не взрослая, она не совсем уверена в своих действиях; она
совершает иногда неловкости. Снаружи боковые фасады монотонны.
Внутри купол - опрокинутая воронка странной и неприятной формы.
Сочетание обоих боковых крыльев крестообразного нефа неудачно, и
несколько модернизованных капелл мешают удовольствию быть столь же
полным, как в Сиене. Однако при повторном взгляде все это забывается
и выступает ансамбль. Четыре ряда коринфских колонн, увенчанных
аркадами, делят храм на пять кораблей и образуют целый лес. Вторая аллея,
столь же богато украшенная, пересекает крест-накрест первую и, поверх
этого прекрасного бора, тянутся и пересекаются вереницы более
мелких колонн, поддерживая в воздухе продолжение и пересечения
четвертной галереи. Потолок плоский; окна малы и большей частью без
цветных стекол, благодаря чему сохраняется впечатление массивного
величия и прочной кладки стен. Посреди этих длинных, прямых и
простых линий, в натуральном освещении, стволы бесчисленных колонн
сияют с безмятежностью, как в античном храме.
•56·
СИЕНА И ПИЗА
Но это все-таки не вполне античный храм - и в этом есть
своеобразное очарование. В глубине заалтарной сени огромный Христос в золотом
одеянии с Богоматерью и одним святым меньшего размера занимает весь
изгиб абсиды. Его лицо нежно и печально; на этом золотом фоне, в
бледном, ослабленном свете дня Он предстоит, как видение. Несомненно,
живопись и зодчество Средних веков отвечали потребности в экстазе.
Другие остатки старины обличают глубокий упадок и варварство, откуда
изошло это искусство. Уцелела одна из старых бронзовых дверей,
покрытая ужасающими по уродливости барельефами. Посмотрите, что
сохранило от античной традиции потомство ваятелей, чем сделался
человеческий разум в хаосе десятого столетия - в эпоху венгерских вторжений,
Мароцци и Феодоры. Взгляните на эти унылые, мрачные, натянутые,
немощные, механические фигуры: Бог-Отец и шесть ангелов - трое с одной
стороны и трое с другой, - склоненных под тем же углом, что капуцин
на картах; двенадцать апостолов, выстроенных в один ряд - шесть
впереди и шесть в пустых промежутках между ними, - похожие на те кружки
с дырками, изображающими глаза, и привесками, изображающими
руки, которые дети марают в своих тетрадях чистописания. Как контраст,
внутренние двери, отлитые, [учеником] Лжованни да Болонья (1602),
полны жизни: тут листва розовых кустов, винограда, кизиловых,
апельсиновых и лавровых деревьев, их цветы, плоды, ягоды вьются, мешаясь
со зверями и птицами и окаймляя оживленные, полные движения
группы и величественные фигуры. Это богатство верных и живых форм
характерно аля шестнадцатого столетия: оно открыло природу и
одновременно - человека. Между этими двумя дверями лежит работа пяти веков.
О Баптистерии и Падающей башне добавить нечего: здесь те же идеи,
тот же вкус и стиль. Первый - простой купол, поставленный
изолированно; вторая - цилиндр; оба покрыты одеянием маленьких колонн.
И, однако, каждая из них имеет свой особый и выразительный облик.
Но слова и писание требуют слишком много времени, и потребовалось
бы слишком много технических терминов, чтобы отметить эти
различия. Я скажу только о знаменитом наклоне башни. Предполагают, что
выстроенная наполовину, она накренилась, но архитекторы все-таки
продолжали постройку. Так как они продолжали, то ясно, что это
склонение смущало их тоже лишь наполовину. Во всяком случае, в Италии
есть и другие падающие башни - в Болонье, например. Вольно или
невольно, эта странность, эта погоня за парадоксом, это увлечение
фантазией есть одна из характерных черт Средних веков.
•57·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
В центре Баптистерия находится великолепная восьмигранная
купель; каждая из ее сторон украшена богатой и сложной инкрустацией,
изображающей пышно распустившиеся цветы, и каждый цветок
отличается от другого. Вокруг стоят кольцом большие коринфские колонны,
несущие на себе полукруглые арки; большинство этих колонн -
античные и украшены античными барельефами: Мелеагр со своими
лающими собаками, среди нагих торсов своих спутников, присутствует при
христианских таинствах. Слева возвышается кафедра, подобная
сиенской. Это первая работа Никколо Пизано (1250) - простой мраморный
ящик, поставленный на мраморные колонны и одетый скульптурой.
Чувство силы и античной наготы выступает здесь в ярких чертах.
Скульптор понимал посадку и изгибы тела. Его фигуры, немного массивные,
величавы и просты; нередко он открывает вновь римскую тунику и
складки римского костюма; одна из нагих фигур - что-то вроде Геркулеса,
несущего на своих плечах львенка, с широкой грудью и напряженными
мускулами, как это любили впоследствии скульпторы шестнадцатого
столетия. Какая произошла бы перемена в человеческой цивилизации, какое
ее ускорение, если бы эти реставраторы античной красоты и эти юные
республики двенадцатого и тринадцатого веков - эти ранние
открыватели современных идей - были предоставлены самим себе, подобно
древним грекам, если бы они последовали естественному ходу своей мысли,
если бы им на пути не встретились мистические традиции, чтобы
ограничить и сбить с дороги их усилия, если бы гений светской культуры
развился у них, как некогда в Греции, посреди свободных, грубых и
здоровых нравов, а не посреди рабства и испорченности декаданса, как двумя
столетиями позже!
Последнее из этих зданий - Кампосанто - представляет собою
кладбище, земля которого, привезенная из Палестины, считается святой.
Четыре большие стены полированного мрамора окружают его своими
белыми плотными боками. Внутри прямоугольная галерея образует место
аая прогулки, открываясь во двор стрельчатыми окнами своих аркад.
Она полна надгробных монументов, бюстов, надписей, статуй всех видов
и всех веков. Нет ничего более благородного и простого. Стропила
темного дерева поддерживают свод, и нагая макушка крыши разрезает
кристалл небес. По углам колеблются четыре кипариса, чуть задеваемые
бризом. Трава разрослась на дворе в буйном изобилии и свежести. Там
и сям какой-нибудь ползучий цветок, обвившийся вокруг колонны,
маленький розовый куст, разные кустарники блестят в волнах солнечного
•58·
СИЕНА И ПИЗА
света. Ни малейшего шума - это пустынный квартал; лишь время от
времени слышен голос проводника, звучащий, как под церковными
сводами. Это настоящее кладбище свободного и христианского города; здесь,
перед гробницами великих мужей, хорошо размышлять о смерти и об
общественных делах.
Вся внутренняя стена галереи покрыта фресками; живопись
четырнадцатого столетия не имеет другого, более полного могильника. Обе
школы - флорентийская и сиенская - соединились здесь, и странное
зрелище представляет собою это искусство, колеблющееся между двух
тенденций, остановившееся в своем бессилии, как неподвижная
хризалида, которая уже больше не гусеница, но еще и не бабочка. Старое
ощущение божественного мира уже истощилось, а новое чувство мира
природного еще не окрепло. Направо от входной двери Пьетро да Ор-
вьето написал громадного Христа, который, кроме ног и головы, почти
весь исчезает под необъятным диском, представляющим фигуру
мироздания и круговращения сфер: вот дух примитивной символики. Рядом,
в его же истории сотворения мира и первой четы, - Адам и Ева с
упитанными и крепкими телами, дородными, неуклюжими, реальными,
явно скопированными с нагой натуры. Немного далее - Каин и Авель,
в их звериных шкурах, - вульгарные фигуры, подсмотренные в жизни
где-нибудь на улице во время ссоры. Ступни ног, весь характер
картины - варварские, и эта попытка реализма не удалась. На другой стороне
большая фреска Пьетро Лоренцетти изображает столь же неуклюже
жизнь аскетов. Сорок или пятьдесят сцен в одной картине: один
отшельник читает, другой - в расщелине скалы, еще один - забрался на
дерево; один проповедует, одетый лишь своими волосами; другой
искушаем женщиной и принимает побои от дьявола. Несколько грубых
голов с седеющей или совсем белой бородой отмечены деревенской
тяжеловесностью одетых в рясу крестьян. Но пейзажи, разные аксессуары,
даже большая часть фигур карикатурны: деревья похожи на метелки,
скалы и львы кажутся взятыми из дешевого зверинца. Дальше Спинел-
ло Аретино написал историю святого Эфеса. Его язычники,
наполовину римляне и наполовину рыцари, носят вооружение средневекового
образца и окраски. В его битвах много верно переданных поз, как,
например, у человека, упавшего лицом вниз, или у другого, схваченного
за бороду. Многие фигуры характерны аая того времени, как этот
красивый паж, одетый в зеленое и держащий меч, или этот щеголь в синем,
в остроконечных башмаках, с хорошо обрисовывающимися икрами ног.
•59·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Наблюдение, отделка композиции, поиски драматического интереса и
разнообразия начались. Но они только еще начались, и земля, например,
в этой росписи - как будто из картона. Рельеф, гибкость, движение,
богатая жизненность крепкого тела, чувство устойчивости структуры и
бесчисленных законов, на которые опирается естественный строй вещей, -
все это еще далеко. Перед нами еще иконопись, которая хочет сделаться
живописью, но не делается ею.
Ничто не показывает так отчетливо это двойственное настроение
умов, как одна угловая фреска - «Триумф смерти» Орканьи (ок. 1376).
У подножия горы едет кавалькада кавалеров и дам; это современники
Фруассара: вот яркие и пестрые одеяния той эпохи, шапочки,
горностаевые меха, ручные соколы и маленькие собачки - вся та роскошь,
которую Валентино Висконти встретил у Людовика Орлеанского.
Фигуры также вполне реальны: это тонкая и изящная госпожа на коне под
своей вуалью, - настоящая средневековая дама, меланхолическая и
задумчивая. Эти знатные персоны, баловни своего века, вдруг замечают
перед собой трупы трех королей в трех различных стадиях разложения,
каждый в своем открытом гробу: один - раздувшийся, другой -
кишащий червями и змеями, третий - уже показывающий кости скелета.
Они остановились в трепете: один наклоняется на шею коня, чтобы
лучше видеть, другой зажимает нос. Это - морализирующая сцена,
подобная тем, которые играли тогда в театрах. Художник хочет дать
публике нравоучение и в этих видах нагромождает вокруг главной группы
всевозможные комментарии. Наверху горы - монахи в их убежищах:
один читает, другой ведет за собою лань; между ними звери пустынь -
ласка, журавль. Добрые люди, смотрите: вот созерцательная и
христианская жизнь, святая жизнь, которой чуждаются сильные мира сего; но
является смерть и восстановляет равновесие. Вот она идет - курносая
старуха с седыми волосами. С косою в руке, она приближается, чтобы
поразить этих счастливцев и развратников - дам и молодых господ,
толстых и завитых, забавляющихся в рощице. С жестокой иронией она
косит тех, кто ее боится, и обходит тех, кто к ней взывает: группа
безруких, хромых, слепых и нищих тщетно зовет ее - ее коса не аая них.
Так идут дела в этом злополучном мире, немощном и мрачном, а конец,
к которому он стремится, еще мрачнее. Это всеобщее разрушение -
зияющая яма, которая поглотит каждого в свой черед и всех одинаково.
Короли и королевы, папы и епископы, с их министрами и их коронами,
лежат там в общей куче, а их души, маленькие нагие дети, выходят из
•60·
СИЕНА И ПИЗА
тела, чтобы вступить в страшную вечность. Некоторых из них
собирают ангелы, но большую часть хватают демоны - отвратительные и
гнусные существа с телом козы или червя, с ушами летучих мышей, пастью
и когтями кошки; их уродливая стая скачет вокруг своей добычи. Вот
единственная в своем роде смесь драматической страстности,
скорбной философии, точного наблюдения, неловкой тривиальности и
художественного бессилия.
Соседняя фреска - «Страшный суд» - в том же роде. Многие фигуры
необычайно выразительны в своем ужасе и отчаянии; например,
сидящий в центре ангел, с громадными, широко раскрытыми глазами,
который, застыв от ужаса, созерцает наступление вечного правосудия; или
косматый пустынник, который с силою откидывается назад и
простирает руки к Христу Искупителю, напоминая о себе; или осужденная
женщина, конвульсивно цепляющаяся за другую. Но все эти фигуры точно
вырезаны из бумаги, тела рассажены рядами, как луковицы, по пяти
уходящим вверх ярусам; души выходят из квадратных дыр на полу, как
на оперной сцене. Искусство в той же степени несовершенно, в какой
чувство глубоко, - и как только чувства не хватает, это несовершенство
становится плоским и варварским.
Что и можно видеть тут же рядом - в «Аду» Бернардо Орканьи,
который довершает создание своего брата, Андреа. Это яма, разделенная на
части и оборудованная на страх малым детям. Посередине огромный
Сатана, цвета раскаленной меди, с головой козла, жарит души в горниле
своих недр, - и видно, как они выходят сквозь трещины. Вокруг, в хаосе
пламени и змей, голые куклы в руках маленьких, косматых дьяволов,
которые сдирают с них кожу, выматывают внутренности, разрезают на
куски, вырывают им языки, насаживают их на вертел, как дичь, - это котел
с потрохами. Поэтический мир, откуда удалилась поэзия, возвышенная
трагедия, превратившаяся в демонстрацию палачей и пыток, - вот что
этот бездарный Ланте выписывает по стенам.
Вместе со скандалами авиньонских Пап и судорогами схизмы
великий век христианской веры окончился; схоластика умирает, и Петрарка
уже смеется над ней. Еще несколько взрывов болезненного рвения -
бичующиеся во Франции, белые кающиеся в Италии, видения святой
Екатерины и влияние святого Бернардина в Сиене, позже - евангельская
диктатура Савонаролы во Флоренции - отмечают собою бурные, но уже
редкие трепетания той жизни, которая отходит. Немецкие и английские
еретики потрясают Церковь; последователи Аверроэса в Италии потря-
• 61 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
сают саму религию, и со всех сторон - мистицизм, поддерживавший
эту религию и облагораживавший Церковь, которая слабеет и приходит
в упадок. Петрарка, последний из обожателей платонического типа,
смотрит на свои сонеты как на развлечения и отдается реставрации
древности - открытию манускриптов, писанию латинских стихов и прозы,
и мы видим, что с него начинается длинная череда гуманистов, которые
принесли в Италию языческую культуру В то же время светская
литература также меняет свой тон: историки-дельцы и авторы увеселительных
рассказов в прозе - все эти Виллани, Саккетти, Пекороне, Боккаччо -
заменяют былую возвышенную и мечтательную поэзию веселой или
посвященной практическим интересам беседой. Уровень серьезности
понижается; все хотят развлекаться. Поэмы Боккаччо - это повести с
приключениями, описательные или любовные. Рядом с ними, во Франции и в
Англии, под пером хроникеров и поэтов сплетается нескончаемая цепь
рыцарских кавалькад, королевских парадов и любовных историй. Нет
более никакой великой и суровой идеи, которая могла бы вызвать
энтузиазм людей. Посреди войн и разрушительных погромов, в которых
сталкивались и уничтожались государства, те, кто простирали свои
взоры дальше вельможной роскоши и кутежей, усматривали в качестве
повелительницы людей одну лишь богиню Фортуну - «чудовищный образ
с жестоким и ужасным лицом, с сотней рук, из которых одни подымают
людей до высшей степени земного величия, а другие наносят тяжелые
удары и низвергают». И еще рядом - слепую Смерть, «которая все
стирает в прах: королей и рыцарей, императоров и Пап, господина, жившего
лишь в свое удовольствие, и прелестную даму, возлюбленную рыцаря,
гибнущую плачевно, испуская громкие крики». Эти слова одного из
современников кажутся описанием фрески Орканьи. В самом деле, одни и те
же переживания владели тогда душою всех людей: горькое чувство
человеческой бренности и ничтожества, ироническое созерцание
житейской суеты и светских утех, эмансипация мирского здравого смысла,
отрешившегося, наконец, от мистических иллюзий, несдержанность долго
обуздываемых чувств, ищущих наслаждения. Что другое находим мы у
Боккаччо? Он ставит смерть рядом со сладострастием, ужасные
подробности чумы рядом с вольностями алькова. Лух времени сказался в этом,
и мне кажется, что я нахожу, наконец, ту причину, которая так надолго
преградила в Италии пути для живописи. Если в течение полутораста лет
она, как и литература, не двигалась вперед, после живого порыва первых
шагов, - это значит, что дух общества остановился, как и она. С охлажде-
• 62 ·
СИЕНА И ПИЗА
нием мистического чувства искусство не встречает уже себе достаточно
поддержки аая выражения чистой мистической жизни. Но так как
мирские чувства едва лишь зародились, то оно еще недостаточно развилось,
чтобы передать разнообразную светскую жизнь. Живопись покинула свою
первую дорогу и остановилась на пороге второй. Она оставила идеальные
фигуры, непорочные или восторженные лица, торжественные процессии
бесплотных душ, ряды которых выступают, как тени, в сиянии
божественного дня. Она спустилась на землю, стала рисовать портреты,
современные костюмы, интересные сцены, выражать драматические или будничные
чувства. Она говорит уже не монахам, а мирянам. Но эти миряне стояли
еще одной ногой в монастыре, и нужны были долгие годы для того,
чтобы их восторги и симпатии, устремленные к миру сверхъестественному,
связались с миром природным. Нужно было, чтобы земная жизнь мало-
помалу облагородилась в их глазах до того, что показалась им, наконец,
единственно значительной и единственно истинной. Нужно было, чтобы
общая и незаметно совершившаяся перемена заставила их
заинтересоваться реальными законами и соотношениями вещей, анатомическим
строением человеческого тела, жизненностью нагих членов, взрывом
животной радости, торжеством мужественной силы. Тогда только они оказались
в состоянии понять, подсказать художнику и потребовать от него точной
перспективы, осязательной лепки, блестящего и сложного колорита,
гармонических и смелых форм - словом, всех частей совершенной
живописи. Тогда сделалось возможным то обоготворение физической красоты,
которое нуждается аая себя в соответствующем духовном строе, чтобы,
достигнув законченности, обрести свое эхо в искусстве.
Им потребовалось полтора столетия, чтобы сделать этот великий
шаг, и живопись, подобно тени, следующей за телом, послушно отражала
неуверенность их движения медленностью своего прогресса. В
половине пятнадцатого столетия Парри Спинелли и Лоренцо ди Биччи
повторяют со всею точностью стиль Джотто; Фра Анджелико, сохранившийся
в монастыре как драгоценный цветок в теплице, достигают еще
наиболее чистых мистических видений; даже у его ученика, [Беноццо] Гоццо-
ли, который покрыл здесь своими фресками большой кусок стены, видно
как бы слияние двух эпох - последние воды христианского течения
из-под половодья языческой реки. В продолжение этих двухсот лет
бесчисленные фрески оживили пустоту церквей и монастырей. Затем к ним
стали относиться пренебрежительно; они разрушались вместе со стеной;
каменщики их исцарапали; они исчезали под штукатуркой; реставрато-
•63·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ры их переписывали. От них остались только фрагменты, и лишь в
наши дни они снова привлекли к себе внимание и интерес; археологи
проскоблили их вплоть до того геологического слоя, который держит их на
себе, и мы видим в них теперь остатки некоторой несовершенной
флоры, заглушённой вторжением другой, более сильной растительности...
Мои глаза подымаются, наконец, и находят перед собою снова четыре
здания старой Пизы, уединенно стоящие на покрытой травою площади.
Матово-бледный мрамор обрисовывается на божественной лазури.
Какие руины и какое кладбище - это история! Сколько человеческих
волнений, от которых не осталось никакого другого следа, кроме
запечатленной на куске камня формы! Какая равнодушная улыбка у этих тихих
небес и как жестока красота этого необъятного купола, распростертого
последовательно над всеми исчезающими одно за другим поколениями,
как балдахин банальной похоронной процессии! Эти мысли встречал,
бывало, в книгах, но, с высокомерием молодости, считал их только
фразами. Лишь когда человек прошел половину своей жизненной дороги,
и когда, углубляясь в себя, он отдает себе отчет, сколько отброшено им
стремлений, сколько угасло надежд, и скольких мертвых он носит
погребенными в своем сердце, - тогда великолепие и жестокость
природы сливаются аая него в одно явление, и глухое рыдание его
внутренних похорон позволяет ему услышать еще более великий плач
общечеловеческой трагедии, переходящей из столетия в столетие аая того
лишь, чтобы упокоить столько борцов в одном и том же гробу. Тогда он
останавливается, чувствуя над своей головой, как и над головами других,
десницу роковых сил и начинает понимать свое положение. Это
человечество, членом которого он является, нашло свое лучшее изображение во
флорентийской «Ниобиде»: вокруг нее ее сыновья и дочери - все, кого
она любит, - непрерывно падают под стрелами невидимых лучников.
Один опрокинулся на спину, и его грудь трепещет; другая, еще живая,
напрасно простирает руки к небесным убийцам; самая юная прячет
свою голову в платье матери. Но та, холодная и застывшая, стоит
безнадежно и с глазами, поднятыми к небу, созерцает с изумлением и ужасом
блистающий и смертоносный ореол, напряженные руки, неотвратимые
стрелы, неколебимую ясность богов.
Ill·
%,. ■'-
ФЛОРЕНЦИЯ
Понте Веккьо во Флоренции. Фотография 1890-х годов
8 апреля, город
ΟΡΟΔ, представляющий собою нечто цельное,
со своими искусствами и зданиями;
оживленный, но не чрезмерно многолюдный, столица
(в 1860-х была столицей нового итальянского
королевства.-Прим. пер.), но не слишком
большая, прекрасная и веселая, - вот первое
впечатление от Флоренции.
Ноги шагают сами собою по большим
плитам, которыми вымощены все улицы. От дворца Строцци до Пьяцца
Санта Тринита толпа гудит непрерывным потоком. Всюду видны
признаки интеллигентной и приятной жизни: почти блестящие кафе,
магазины эстампов, алебастровых изделий, изделий из камня и из мозаики,
книжные лавки, богатый кабинет аая чтения, дюжина театров. Конечно,
старая городская часть пятнадцатого столетия все еще существует и
образует зерно города; но она не заплесневела, как в Сиене, не сослана
в угол, как в Пизе, не запачкана грязью, как в Риме, не окутана в
средневековую паутину и не покрыта современной жизнью, как
присосавшимся к ней паразитом. Прошлое здесь в согласии с настоящим; изящное
тщеславие монархии продолжало изящную изобретательность
республики; отеческое правление немецких великих герцогов продолжало
пышное управление великих герцогов Тосканских. В конце прошлого
столетия и в начале нынешнего Флоренция была в Италии маленьким
оазисом; ее звали «gli felicissimi Stati» [«счастливое государство»]. Здесь
еще по-прежнему строили, давали праздники, вели изящные беседы;
светский дух не угас здесь, как в других местах, под тяжелою рукою
деспота или в инертной благопристойности церковного ригоризма.
Флорентиец, как некогда афинянин в эпоху Римской империи, остался
остроумцем и критиком, гордым своим хорошим вкусом, своими сонетами,
своей академией, своим языком, который служил образцом аая всей
Италии, непогрешимостью своих суждений в вопросах литературы и
изящных искусств. Есть расы настолько утонченные, что они не могут
дойти до полного упадка: у них как бы врожденный ум; их можно
испортить, но не уничтожить; из них можно сделать дилетантов и
софистов, но не глупцов и немых. Лаже тогда именно и обнаруживается их
внутренняя сущность: выясняется, что у них, как у византийских
греков, ум сильнее характера, ибо первый сохраняется в то время,когда
последний разрушился. Уже при первых Медичи лучшие удовольствия
• 67 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
здесь - умственные, и весь склад ума - живой и утонченный. Серьезное
здесь все больше идет на убыль... Как афиняне в эпоху Демосфена,
флорентийцы думают лишь о забавах и, как Демосфен, их вожди бранят их за
это. «Ваша жизнь, - говорит Савонарола, - вся проходит в постели, в
пересудах, в гулянии, в оргиях и разврате». А историк Бруто добавляет, что
они вкладывают «учтивость в злоречие и болтовню, и обходительность
в преступные услуги», он ставит им в упрек, что они все делают
«лениво, вяло и беспорядочно, что они поставили леность и трусость законом
своей жизни». Вот громкие слова: моралисты всегда говорят таким
тоном, возвышая голос, чтобы их слушали. Между тем ясно, что к середине
пятнадцатого столетия тонкие и изощренные настроения, умело
создающие аля себя приятные волнения, получили преобладание во Флоренции.
Это видно в здешнем искусстве. В этом Ренессансе нет ничего сурового
и трагического.Только одни старые дворцы, выстроенные из громадных
глыб, топорщат еще свои бугорчатые выступы, свои окна с решетками,
свои черные углы как напоминание об опасностях феодальной жизни и о
тех осадах, которые они когда-то выдержали. Кругом же повсюду
просвечивает стремление к изящной и радостной красоте. Огромные здания
покрыты мрамором от подножия до вершины. Открытые солнцу и воздуху,
лоджии покоятся на коринфских колоннах. Видно, что архитектура здесь
быстро освободилась от готики и обнаружила оригинальность и
фантазию, а естественное влечение с первых же шагов обратило ее к стройным
и простым формам языческой древности. Идешь и видишь перед собою
гребень церкви, украшенный статуями, полными экспрессии и
выразительности, массивную стену, в которую вплелась и развертывается
бордюром красивая итальянская аркада, вереницу тонких колонн, вершины
которых несут на себе крышу обходной галереи, наконец, в конце улицы -
кусок зеленого холма или синеющую вершину. Я только что провел час на
площади Аннунциаты, сидя на лестнице. Напротив находится церковь,
и с каждой ее стороны - по монастырю; все три здания с перистилем
изящных колонн, полуионических и полукоринфских, которые
заканчиваются арками. Над ними коричневая крыша старых черепиц разрезает
чистую синеву неба, и на конце улицы, тянущейся в жаркой тени, глаза
останавливаются на круглом хребте горы. В этой столь естественной и столь
благородной раме помещается рынок: лавчонки, завешенные белым
холстом, отвернули свои концы, и женщины в лиловых шалях и соломенных
шляпах приходят, уходят, покупают и болтают; почти нет ни нищих, ни
оборванцев; взгляд не омрачается зрелищем грубой дикости или нищеты;
•68·
ФЛОРЕНЦИЯ
у людей довольный вид, и они деятельны без сутолоки. Посреди этой
пестрой толпы и этих лавочек, на открытом воздухе возвышается конная
статуя, а около нее фонтан льет свою воду в бронзовый водоем. Это
контрасты, подобные римским; но вместо противоречия они согласуются
между собою. Красота здесь также оригинальна, но она обращена в
сторону приятного и гармонического, а не в сторону диспропорционального
и громадного.
Спускаешься - красивая река с прозрачными водами, усеянными
кое-где отмелями белого гравия, течет вдоль великолепной
набережной. Лома, которые кажутся дворцами, современные и, тем не менее,
монументальные, образуют бордюр. Вдали замечаешь зеленеющие
деревья - нежный и милый пейзаж умеренного климата; дальше - округлые
вершины, косогоры; еще далее - амфитеатр суровых скал. Флоренция
лежит в чаще гор, как художественная безделушка в глубине большого
• 69 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
кувшина, и ее каменное кружево серебрится с оттенками стали в
вечернем освещении. Идешь вдоль реки и приходишь в Кашины [парк
Флоренции]. Рождающая зелень, нежная окраска далеких тополей зыблется
с прелестной мягкостью на синеве гор. Высокая чаща, густая и
вечнозеленая изгородь защищает гуляющих от северных ветров. Так сладко
чувствовать, как проникает в тебя, вместе с приближением весны, первое
солнечное тепло! Небесная лазурь великолепно сияет между
покрывшихся почками веток бука, на бледной зелени каменных дубов, на
синеватых иглах сосны. Повсюду, между серых стволов, в которых
пробуждается сила жизни, подымаются букеты кустарников, не испытавших
зимней спячки, и юные побеги других растений спешат
присоединиться к их вечной юности, чтобы наполнить аллеи красками и
запахами. Изящные лавры обрисовывают вдоль берега свои строгие головы,
точно на картине, и Арно, спокойно разливаясь, развертывает в
закатном багрянце свою пурпуровую блестящую скатерть.
Выходишь из города и подымаешься на какую-нибудь
возвышенность, чтобы окинуть одним взглядом город и его долину - всю эту чашу,
округленную вокруг него: нет ничего более приятного аая взора;
благосостояние и благополучие заметны здесь повсюду. Тысячи деревенских
жилищ усеяли своими белыми точками долину; видно, как они ползут
с откоса на откос, вплоть до самых вершин. По всем склонам головы
олив кудрявятся, как скромное и полезное стадо овец; местами почва
подпирается стенками и образует террасы; догадливая рука человека
направила все к своей пользе и вместе с тем - к красоте. Земля, таким
образом благоустроенная, принимает архитектурные очертания; сады идут
этажами посреди балюстрад, статуй и водоемов. Нет больших лесов и
пышной растительности: это северные глаза требуют пищи аая себя в неге
и свежести богатого растительного мира; для итальянца довольно
простых очертаний камня. Соседняя гора доставляет ему прекраснейшие
плиты, белые и синеватые, тонкой и сдержанной окраски. Он
располагает их благородно-симметрическими линиями, и дом со своим
мраморным фасадом блистает на вольном просторе, окруженный немногими
большими вечнозелеными деревьями. Здесь хорошо посидеть зимою на
солнце, а летом в тени, в праздности, позволяя взору блуждать по
сельскому пейзажу
Издали видны ворота, колокольня и какая-то церковь. Это Сан Минья-
то выставляет на холме свой фасад из разноцветных мраморов. Это одна
из самых старых флорентийских церквей: она - одиннадцатого века.
• 70·
ФЛОРЕНЦИЯ
Входишь и видишь почти латинскую базилику, почти греческие
капители, гладкие и стройные стволы колонн, поддерживающих круглые арки.
Такова же и крипта под церковью. Нет ничего мрачного или
подавляющего: только растущие вверх колонны, из которых вырастают
гармонические дуги. Флорентийская архитектура с первых же своих дней нашла
или возобновила античную традицию твердых и легких форм. Старые
историки зовут Флоренцию «благородным городом, дочерью Рима». По-
видимому, уныние Средневековья едва скользнуло по ней; это изящная
язычница, которая, как только начала мыслить, объявила себя, сперва
робко, потом откровенно, поклонницей изящного и язычницей.
Визиты, вечера в театрах
Здесь восемь или десять театров - это указывает на живое влечение
к удовольствиям. Они устроены удобно и хорошо проветриваются.
Широкий проход вьется вдоль партера и оркестра; зрители не задыхаются,
как в Париже; многие залы красивы, хорошо украшены и просты: вкус,
по-видимому, свойствен этой стране. Что до всего остального, то дело
обстоит иначе: цены на места так низки, что антрепренеры с трудом
сводят концы с концами, и в отношении декораций, статистов и всей
механической стороны обходятся, как придется. Так, например, в Опере
хористки получают от 250 до 300 франков за сезон, который
продолжается два с половиною месяца; они должны иметь свои чулки и обувь,
а остальное им дают; большинство из них - гризетки. Впрочем, иметь
дело со всем этим народом, с хористами и хористками, не так-то легко.
Если их приговаривают к штрафу за опоздание или по какому-нибудь
другому поводу - они вас бросают: занятия в театре для них - только
побочный заработок, живут же они чем-нибудь другим. Какой-нибудь
работник-каменщик, например, по вечерам превращается в мушкетера
или в друида и является на репетицию в своих рабочих штанах, с
белыми пятнами на коленях. Нужны столичная жизнь и большие денежные
затраты, чтобы смазывать как следует весь механизм современного
театра, иначе он скрипит и портится, как это замечаешь на иных спектаклях.
Точно так же нужны централизация и полнота национальной жизни,
чтобы дать материал для театрального творчества, - и поэтому здесь
переводят наши пьесы. Я только что слышал «Фауста», и примадонна
была француженка. В театре Николини играют «Montjoie» Октава Фелье
и, чтобы дело было понятнее, озаглавливают пьесу «Montjoie, или Эгоист».
В другой раз идет «Ревность» - «Отелло», переделанный в буржуазную
• 71 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
мелодраму; невозможно сидеть в театре, я ушел с третьего акта.
Пишутся и романы: «Un Prode d'Italia» («Итальянский богатырь»), «Паску-
але Паоли» - сложные исторические махины в манере Вальтера Скотта,
написанные декламаторским стилем, с сильными намеками на
настоящее. Один ученый, мой друг, признает, что литература в Италии сейчас
плоха: политика отнимает аая себя все силы дерева, и другие ветви
чахнут. В области истории появляются только монографии. Здешние
писатели похожи на провинциалов, отставших благодаря отдаленности от
столицы на тридцать лет; потребуется еще много времени, чтобы здесь
мог утвердиться точный и ясный стиль, придерживающийся фактов
и свободный от фразеологии. У них нет еще даже общего
установившегося языка; итальянец, родившийся вне Тосканы, должен приехать сюда,
как Альфьери, чтобы исправить свой диалект. Далее, и итальянцы, и
тосканцы - все они вынуждены избегать французских оборотов речи,
столь противных духу их языка, с величайшими усилиями
разучиваться им и очищать от них свою память; а между тем именно Франция
доставляет Италии в продолжение полутораста лет книги и идеи, - судите
о трудностях такого положения вещей. Далее, многие здешние писатели
впадают в педантизм и классическое суеверие: они питаются славными
авторами шестнадцатого столетия, а некоторые, в качестве пуристов,
подымаются еще выше - до четырнадцатого столетия. Но как
выразить современные идеи на языке Фруассара или даже Амьо? И вот они
вынуждены вклеивать в свой старинный стиль несколько современных
слов; эта разладица приводит их в отчаяние, и они ходят с путами на
ногах, смущаемые воспоминаниями об авторитетных оборотах речи
и исполненном корректности словаре. Один писатель говорил мне, что
эти условности доводили его до умственной пытки. Все эти
неурядицы есть следствие того же прошлого. Его причины ясны: это, с одной
стороны, перерыв в литературной традиции, начиная с семнадцатого
столетия, вследствие общего упадка умственного уровня и творческой
работы; с другой - отсутствие столицы и централизации,
необходимых аая того, чтобы подавить местные диалекты. Вся история Италии
зависит от одного факта: она не могла сложиться в умеренную и
полуинтеллигентную монархию в шестнадцатом столетии - в ту же эпоху,
что ее соседки.
Зато политика здесь в полном разгаре; скажешь, что это - давно
иссохшее поле, зазеленевшее вновь под внезапным дождем. Только и видишь,
что политические карикатуры на Виктора Эммануила, на императора
• 72·
ФЛОРЕНЦИЯ
Наполеона, на папу. Они грубы и по замыслу, и по исполнению: папа
в виде скелета или канатного плясуна; смерть играет в кегли, стремясь
сбить кардиналов и его. Нет ни остроумия, ни тонкости: они стараются
только сделать свою идею более понятной и произвести возможно более
сильное впечатление. Точно так же и их газеты, почти все в одно су,
кричат скорее громко и сильно, нежели справедливо. Я их сравниваю с
людьми, освобожденными, спустя долгое время, от суровых пут, которые
неистово жестикулируют и рассыпают кулачные удары по воздуху, чтобы
размять свои члены. Конечно, есть газеты, такие как «La Расе» или «La
Gazzetta di Milano», которые рассуждают сдержанно, чувствуют оттенки
мысли, остерегаются стоять за де Местра или за Вольтера, хвалить Пао-
ло Сарпи, Лжоберти, Розмини, пытаются связать вновь итальянскую
традицию. Впрочем, народ столь интеллигентный и столь прекрасно
одаренный кончит, конечно, тем, что найдет соответствующий тон и
среднюю линию. В ожидании они очень гордятся своей свободной печатью
и смеются над нашей. По правде говоря, на этом пункте мы
представляем за границей довольно плачевную картину: когда читаешь в кафе
«Times», «Galignani», «Koelnische Zeitung» или «Allgemeine Zeitung»
и взгляд падает потом на французскую газету, - национальное самолюбие
страдает. Немного политики, вульгарной или благорассудительной,
бесцветная или слишком снисходительная передовая статья, редкие и всегда
подправленные корреспонденции, очень мало точных сведений и
солидного обсуждения, много фраз, между которыми немало красиво
сказанных, - вот довольно скудное содержание. И оно скудно не только
потому, что читателей образованных и способных к серьезному вниманию
слишком мало. Большая публика не требует, чтобы ей сообщали факты
и доказательства; она хочет, чтобы ее развлекали или чтобы ей твердили,
как можно яснее, совершенно готовые мысли. Самое большее, если
несколько утонченных умов, кружок парижан, имеющий кое-где по
провинции свои маленькие отделения, угадывает там и сям какой-нибудь
намек, иронию, колкость. Они смеются и довольны. Но если нашим
газетам не хватает политики, то это потому, что нашей стране не хватает
привычки к ней и политического воспитания. Здесь же предполагается,
что итальянцы от природы обладают инстинктом и талантом к
общественным делам. Во всяком случае, они имеют страсть к ним.
Многие из весьма сведущих лиц повторяют мне, что если Франция
будет еще в течение десяти лет сторожить Альпы, мешая Австрии
перейти их, то либеральная партия здесь удвоится в силах: школы, газеты,
• 73·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
армия, все успехи благосостояния и образованности способствуют ее
росту Провинциальные или муниципальные соперничества не
являются помехой. На первых порах в Тоскане были заметны кое-какие
разногласия и противодействия: эта страна была самой счастливой и
наилучшим образом управляемой в Италии. Были колебания, прежде чем
подчиниться Турину и пойти навстречу случайностям. Но сам маркиз
Лжино Каппони, наиболее уважаемый представитель тосканской
партии, высказался, в конце концов, за присоединение. Ибо иначе в
современной Европе невозможно уцелеть. Все великие итальянцы, начиная
с Макиавелли и Данте, писали в том же духе. Наконец, нужно иметь
силу сопротивляться Австрии. Теперь все объединилось и сливается
воедино; в армии уже заметно появление своего рода общего языка, который
представляет компромисс между разными диалектами.
Эта революция двумя чертами отличается от нашей. Во-первых,
итальянцы отнюдь не уравнители и не социалисты. Дворянин здесь
держится фамильярно и добродушно с крестьянином; он разговаривает
дружески с простыми людьми. А эти последние очень далеки от вражды
к знати: они скорее гордятся, что она у них есть. Все имения сдаются
исполу, и раздел плодов устанавливает своего рода товарищество
между хозяином и фермером. Часто эти фермеры держат podere [имение]
в продолжение двухсот лет, от отца к сыну. Поэтому они консерваторы,
враги нововведений и недоступны теориям. Культура здесь все еще та
же, что была при Медичи, весьма передовая аая тех времен и весьма
отсталая для наших. Собственник земли является в октябре для
наблюдения за сбором, потом он уезжает: он не английский genteleman farmer -
у него есть еще какое-нибудь jattore [деловое предприятие], и часто он
владеет семью или восемью виллами, в одной из которых живет. Но если
у него нет морального и политического влияния на крестьян, как в
Англии, то он, во всяком случае, в хороших отношениях с ними. Он не
спесив, не высокомерен, не тянет к городу, как наши старые баре; он любит
бережливость: некогда он продавал сам свое вино. На этот предмет в
каждом дворце существовало специальное оконце, куда клиенты подавали
свою пустую бутылку, и, заплатив, получали ее назад полной.
Отсутствие тщеславия оставляет человеческой доброте больше простора.
Владелец извлекает пользу сам и позволяет извлекать другим. Почвы аая
раздоров нет: ячейки общественных сот достаточно широки и не
теснят. Вот почему страна оказалась в состоянии управляться сама собою
в 1859 году. В этом смысле они счастливее нас: это большое преимуще-
• 74·
ФЛОРЕНЦИЯ
ство при созидании правительства или нации - не чувствовать за собой
теорий и инстинктов коммунизма.
Во-вторых, они вовсе не вольтерьянцы. Коммивояжер, философ и
читатель Беранже у них вовсе не частый и не популярный тип. Резкости
газеты «Diritto» не встречают одобрения. У итальянцев слишком богатое
воображение, они слишком озабочены социальными нуждами и далеки
от нашего отвлеченного логизма, чтобы захотеть уничтожить религию,
как мы это сделали в 1792 году. Они выросли на зрелищах церковных
процессий; они видят с детства священные изображения, пышные и
благородные здания храмов; их католицизм составляет часть того, к чему
привыкли их глаза, их уши, их воображение и вера; они нуждаются
в нем, как нуждаются в своем прекрасном климате. Никогда итальянец
не пожертвует всем этим, как француз, ради рассуждений
резонирующего ума. Его манера понимать вещи совершенно иная - гораздо менее
абсолютная, гораздо более сложная, гораздо менее пригодная для
резкого разрушения, гораздо лучше приспособленная к ходу вещей на свете.
Вот еще одна солидная опора: они созидают на базисе нетронутой
религии и нетронутого общества, и не принуждены, как наши политики,
использовать меры предосторожности против грандиозных обвалов.
Прочие обстоятельства и особенности их характера не так
благоприятны. Энергии не хватает в Тоскане еще больше, чем где-либо. В 1859
году страна выставила всего двенадцать тысяч человек против австрийцев,
и то из них было еще шесть тысяч прежней армии, и волонтеров всего
шесть тысяч, из которых многие наемники. Называют нескольких
героев - людей, как г-н Монтанелли, которые бросались под пули; но что
касается большинства, то дисциплина кажется им стеснительной, тягости
военной жизни их изумляют: они не находят своего кофе с молоком по
утрам. Во Флоренции вот уже триста лет эпикурейские нравы; здесь не
беспокоятся ни о детях, ни о родителях и ни о ком вообще; здесь любят
болтать и фланировать; здесь остроумны и эгоистичны. Как только в
кармане есть кое-что, надевают плащ и идут чесать языки в кафе. С другой
стороны, господство привычки и воображения помешало религиозным
убеждениям стать отчетливыми: они не очень разбираются в
католическом вопросе. Никто здесь не составляет для себя наперед определенного
и личного символа веры, как во Франции в восемнадцатом веке или в
Германии в эпоху Лютера; рассуждение и совесть не подымают громко
своего голоса. Они неопределенно говорят, что католицизм должен
приспособиться к современным потребностям; но не устанавливают точно
• 75 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Понте Веккьо во Флоренции. Фотография 1890-х голов
уступок, которые он должен сделать или которые ему должно сделать:
они сами не знают, чего они должны требовать или от чего отказаться.
В 1859 году была сделана большая ошибка, что не ввели гражданского
брака и не вернулись к Леопольдовым законам. Папа, в ответ на
обращаемые к нему просьбы, попирает или переделывает по-своему
действующее законодательство: он не может терпеть рядом с собою подлинно
светского государства. И перед лицом такого противника нужно
заранее решить про себя, что можно уступить, если понадобится, а что
будет взято во что бы то ни стало, - так как незаметные захваты опасны,
как побеги плюща, а нерешительность всегда побеждается упорством.
Добавьте к этому, что значительная часть низшего духовенства и
большая часть прелатов - за Папу; один из последних - кардинал-епископ
Пизы - непримирим по-средневековому, а между тем он - papabile
[кандидат в Папы].
В общем, итальянцы сейчас находятся в тупике. Они хотели бы
оставаться добрыми католиками, иметь у себя столицу христианского мира
и в то же время свести Папу до роли высшего прелата, не замечая того,
• 76·
ФЛОРЕНЦИЯ
что, однажды обобранный, он сделается врагом навсегда. Это то же
самое, что «женить великого Турка на Венецианской республике». В этом
два их слабых пункта: недостаток воинского духа и нерешительность
религиозного. Нужно предоставить действовать времени и
необходимости, которые, быть может, укрепят первый и заставят определиться
второй.
Пълцца, Собор, Баптистерий
В таком городе, как этот, первые дни бродишь наудачу, без всякого
плана. Можно ли требовать, чтобы в этой пестрой смеси творений и
веков открылась тотчас же ясная идея? Нужно перелистать книгу, прежде
чем начать читать.
Прежде всего, посещаешь Пьяцца делла Синьория. Здесь, как и в Сиене,
был центр республиканской жизни; здесь, как и в Сиене, находится
старая ратуша - Палаццо Веккьо - средневековое здание, огромный
каменный куб, снабженный тяжелым выступом нависших зубцов и такой же
высокой башней сбоку, в котором прорезаны редкие окна в форме
трилистника. Это настоящая домашняя цитадель, годная аая битвы и лля парада,
дающая защиту вблизи и возвещающая о себе издалека, - короче говоря,
застегнутая для боя броня, увенчанная бросающимся в глаза гребнем
шлема. Невозможно видеть это здание, не вспомнив тотчас же между-
усобных войн,которые описывает Дино Компаньи.Тяжелым временем
были в Италии Средние века; мы во Франции знали только войны замков
между собою, - у них шла война на улицах. В течение тридцати трех лет
подряд, в тринадцатом столетии, Буондельмонти с сорока двумя
семействами, с одной стороны, и Уберти с двадцатью двумя, с другой, бились друг
с другом без отдыха. Улицы забаррикадировались рогатками, дома были
укреплены; знать вызвала из своих деревень вооруженных крестьян. Под
конец тридцать шесть дворцов, принадлежавших побежденным, были
срыты до основания, и если городская ратуша теперь неправильной
формы, то это потому, что, в ожесточении мести, строителя обязали оставить
пустыми проклятые участки, на которых стояли разрушенные дома. Что
сказали бы мы сейчас, если бы битвы, подобные июньской
междуусобице [1848 года], продолжались на наших улицах не три дня, а тридцать
лет подряд; если бы безвозвратное изгнание исключило из рядов нации
четвертую часть населения; если бы этот народ изгнанников,
соединившись с иноземцами, бродил у наших границ, выжидая случайного
заговора или какой-нибудь неожиданности, чтобы ворваться в наши стены
• 77·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и изгнать, в свою очередь, своих преследователей; если бы взаимная
ненависть и новые схватки бросали друг на друга самих победителей после
их победы; если бы город, уже однажды пострадавший, должен был
непрерывно терпеть бедствия; если бы внезапные мятежи черни осложняли
собою междоусобные войны знати; если бы каждый месяц новое
восстание вынуждало запирать двери лавок; если бы каждый вечер человек,
вышедший из своего дома, мог опасаться врага, засевшего в засаде на
первом же углу? «Множество граждан, - рассказывает Дино Компаньи, -
находилось однажды на площади Фрескобальди ради погребения одной
умершей женщины, и обычай страны при таких собраниях был таков, что
граждане сидели внизу на камышовых циновках, а кавалеры и доктора -
наверху на скамьях. Когда Донати и Черки находились внизу, одни
против других, один из них поднялся, желая поправить плащ или по какой
другой причине. Его противники, заподозрив нечто, также встали и
схватились за шпаги. Те сделали то же, и они перешли в рукопашную». Эта
подробность показывает, до какой крайней степени доходило
психическое напряжение, - начищенный и готовый к бою клинок сам собой
выскакивал из ножен. Когда эти люди выходили из-за стола, разгоряченные
вином и разговором, у них начинали чесаться руки. «Компания
молодежи, совершавшая вместе верховые прогулки, ужиная однажды вечером
в майские календы, пришла в такое буйное состояние, что стала мечтать
встретиться с отрядом Черки и пустить в ход против них свое оружие
и кулаки. В этот вечер, который считается возвратом весны, женщины
собираются аая танцев и балов по соседству Поэтому молодежь Черки
действительно встретилась с компанией Донати, и та напала на нее. В этой
схватке у Риковерино Черки был отрублен нос одним наемником
Донати - как говорят, Пьеро Спини... Но Черки никогда не выясняли, кто это
был, желая извлечь из этого как можно больше отмщения». Это слово,
почти исчезнувшее из нашей памяти, дает ключ к итальянской истории:
вендетта, на манер корсиканской, была здесь в обычае и постоянном
употреблении между партиями, между семействами, между родами и между
отдельными лицами. «Один достойный молодой человек, сын мессира
Кавальканте Кавальканти, благородный кавалер, по имени Гвидо,
любезный и смелый, но заносчивый, любитель уединения и преданный наукам,
враг мессира Корсо, много раз искал случая встретить последнего. Мес-
сир Корсо очень боялся его, так как знал его как человека большого
мужества, и намеревался убить его в то время, когда Гвидо отправился в
паломничество к святому Иакову, но это не удалось... Вот почему Гвидо, возвра-
• 78 ·
ФЛОРЕНЦИЯ
тившись во Флоренцию, возбуждал многих молодых людей против Корсо,
и те обещали ему свою помощь. Однажды, едучи верхом с несколькими
людьми из дома Черки и имея в руке копье, он устремил свою лошадь
против мессира Корсо, думая, что за ним следуют свои, и, обгоняя, метнул
в него копьем, но не попал. Тут находился, вместе с мессиром Корсо
Симоне, его сын, храбрый и отважный молодой человек, и Чеккино деи Бар-
ди, и много других со шпагами, которые бросились на Гвидо. Но, не
настигнув, они стали бросать в него камнями, также бросали в него из
окошек, так что он был ранен в руку». Чтобы найти теперь подобные нравы,
нужно отправиться на золотые прииски Сан-Франциско: там по первому
вызову, среди публики, на балу, в кафе, говорит револьвер - он заменяет
собою полицию и устраняет формальности дуэлей. Закон Линча,
применяемый часто, один только может успокоить подобные темпераменты. Его
применяли иногда и во Флоренции, но очень мало и кое-как; вот почему
привычка полагаться на самого себя, привычка к незаконным нападениям,
к почетным и почитаемым убийствам уцелела здесь вплоть до конца
Средних веков и даже позднее. Зато эта привычка, поддерживая напряженное
состояние духа, поглощенного трагическими и сильными чувствами,
делала его настолько же более чутким к искусствам, красота и ясное
спокойствие которых создавали контраст. Эта глубокая феодальная почва, хорошо
вспаханная и разрыхленная, нужна была, чтобы доставить пищу и добычу
живым корням Возрождения.
Маленькая книжка, где рассказаны все эти истории, -Дино Компаньи,
современника Данте; она величиной в ладонь, стоит два франка, и ее
можно носить с собой в кармане. Между двух достопримечательностей,
в кафе, под какой-нибудь лоджией пробегаешь отрывок - столкновение,
совещание, восстание, - и немые камни начинают говорить.
Но когда перестаешь смотреть на Палаццо Веккьо и бросишь взгляд
на соседние памятники, - их радостный характер, эти поиски красоты
выступают отовсюду. Направо Лоджия деи Ланци выдвигает свои
античные статуи и смелые, оригинальные фигуры шестнадцатого столетия -
«Похищение сабинянки» Джованни да Болонья, «Юдифь» Донателло,
«Персей» Челлини. Этот последний - греческий эфеб, нечто вроде
нагого Меркурия с простосердечным взором; несомненно, скульптура
Возрождения возобновляет и продолжает античную - не
первоначальную, не скульптуру Фидия, которая вся полна божественного покоя, но
вторую - скульптуру Лисиппа, которая ищет человеческой правды. Этот
«Персей» - брат «Дискобола»; у него была своя реальная анатомическая
• 79 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
модель: его колени немного тяжелы, жилы на руке слишком
подчеркнуты; кровь, текущая из шеи Медузы, образует большой стянутый сноп:
это перерезанное горло во всей точности. Но все это схвачено так
точно и живо! Женщина [Медуза] в самом деле мертва: все ее члены и
суставы сразу сделались дряблыми, руки повисли бессильно, туловище
искривлено, нога согнулась в агонии. Внизу, на пьедестале, между
гирляндами цветов и козлиными головами, в нишах в форме раковины, самого
изящного и сдержанного стиля, четыре бронзовые статуэтки являют
живую античную наготу.
Я стараюсь объяснить себе это слово «живой», которое приходит мне
постоянно на язык при виде фигур Возрождения. Я снова вспоминаю его,
созерцая, с другой стороны дворца, фонтан Амманати. Это нагие
Тритоны и нежные Нереиды, со слишком маленькой головой и с крупными,
удлиненными членами тела - полные движения, как фигуры Россо [Фьорен-
тино] или Приматиччо. Конечно, ясно, что искусство здесь приходит
в упадок и становится манерным, что оно утрирует непринужденность
и щегольство телом, что оно изменяет пропорции, чтобы усилить порыв и
изящество. И все же эти фигуры той же породы, что и другие, и они
живут, как и те: я хочу сказать, что они наслаждаются свободно и без задних
мыслей телесной жизнью, что они довольны, вытягивая или выставляя
свои ноги, откидываясь назад или распростершись, наподобие
великолепных животных. Тритоны полны самой животной веселости: невозможно
быть более свободно нагими, быть бесстыднее без всякой низменности.
Они выгибаются, цепляются друг за друга, выказывают свои мускулы;
чувствуешь, что этого с них достаточно, что этому прекрасному юноше
довольно покоиться горделиво, держа рог изобилия, что эта нимфа без
одежды и неподвижная не переступает своей мыслью состояния
прекрасного животного. Здесь нет никаких философских символов или
отражения идей. Скульптор оставил лицам простодушное и безразличное
выражение примитивных созданий: тело и поза составляют аая него все. Он
остается в границах своего искусства, которое имеет своим
единственным материалом члены человеческого тела и которое не может, в конце
концов, ничего другого, как только по-своему поворачивать туловище,
бедра, затылок. Этой непроизвольной гармонией своего замысла и своих
ресурсов ваятель одушевляет бронзу, и, не обладая этой гармонией, мы
больше не умеем достигать того же, что он.
Здесь можно видеть и начало этого Возрождения - из Палаццо Веккьо
мы отправляемся в Собор. Тот и другой образуют двойное сердце Фло-
•80·
ФЛОРЕНЦИЯ
II
Купол собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Фотография 1900-х голов
•81 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ренции, каким оно билось в Средние века: одно - политикой, другое -
религией - и оба столь согласно слитные, что они составляли единое
сердце. Нет ничего благороднее публичного декрета, изданного в 1294 году,
о постройке городского Собора: «Принимая во внимание, что лля народа,
великого своим происхождением, высшим благоразумием является
поступать таким образом, чтобы внешними творениями равно
выказывались как его мудрость, так и возвышенность его действий, - повелевается
Арнольфо [ди Камбио], главному архитектору нашей общины, сделать
модели и рисунки для обновления Санта Мария Репарата с высочайшим
и самым пышным великолепием, дабы мастерство и могущество людей
никогда не изобрели и не могли бы никогда предпринять чего-либо более
обширного и прекрасного. Согласно тому, что сказали и совещанием
положили мудрейшие граждане в публичном заседании и в тайном совете,
да будет ведомо, что не следует принимать участия в работе для общины,
если нет намерения сделать нечто соответствующее великой душе,
которую образуют души всех граждан, соединенных в единой воле». В этой
пышной фразеровке дышит величавая гордость и пламенный патриотизм
древних республик. Афины при Перикле, Рим при первом Сципионе не
имели чувств более горделивых. На каждом шагу, то здесь, то там, в
текстах и в памятниках, находишь в Италии черты, повторение, дух
классической древности.
Итак, давайте смотреть этот знаменитый Собор. Впрочем, трудность
заключается в том, чтобы увидать его. Он стоит на ровной почве, и
нужно было бы снести сотни три домов, чтобы глаз мог охватить его массу.
В этом состоит недостаток великих сооружений Средних веков: даже
теперь, после стольких прогалин, возникших в результате недавних
сносов зданий, большинство соборов можно видеть только на бумаге.
Зритель схватывает отрывок, кусок стены, какой-нибудь фасад, но
ансамбль ускользает от него; создание человека уже не приспособлено
к человеческим органам восприятия. Этого не было в древности: храмы
тогда были малы или среднего размера и почти всегда помещались на
возвышенности - с двадцати различных мест можно было охватить их общий
вид и весь силуэт. С появлением христианства замыслы человека
превзошли его силы, и горделивые стремления духа не считаются более с
ограничениями тела. Равновесие человеческой машины нарушено; вместе
с забвением меры воцарился вкус к причудам. Без всякого основания,
вопреки симметрии, перед соборами либо сбоку стали ставить колокольни
или башни как изолированные столбы. И здесь есть такая - возле Собора.
•82 ·
ФЛОРЕНЦИЯ
ШЩ№ ||
Собор Санта Мария дель Фьоре во Флоренции и колокольня Джотто.
Фотография 1890-х голов
Очевидно, это нарушение свойственной людям гармонии было очень
могущественно, если даже здесь, среди стольких латинских традиций и
классических привычек, оно все же дало о себе знать.
Но вообще, за исключением стрельчатых аркад, это здание не
готическое - оно византийское или, вернее, оно оригинально: это создание
новых и смешанных форм, как та новая и разнородная цивилизация,
которой оно рождено. Здесь чувствуются сила и изобретательность, с
примесью странностей и фантазии. Грузные, огромной высоты стены
развертываются и громоздятся, а редкие окна не разрежают их массы и не
ослабляют впечатления их солидности. Нет никаких контрфорсов -
стены держатся сами собой. Прослойки мрамора, вперемежку желтоватого
и черного цвета, покрывают их своей сияющей мозаикой, и арочные
дуги, вправленные в массив, выступают как могучий костяк из-под кожи.
Латинский крест, который представляет собою здание, стягивается в
головах; над головной частью и над боковыми ветвями роятся выступы
и своды; два маленьких купола стоят по бокам, сопровождая большой
купол, подымающийся над алтарем. Этот купол - создание Брунеллески,
•83·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
более раннего, но и более грубого стиля, нежели купол Святого Петра, -
уходит в воздух на необычайную высоту своим продолговатым
очерком, своими восемью гранями и острым фонарем. Но как передать
словами облик какой-нибудь церкви? А у этой есть свой: все ее отдельные части
и ансамбль сливаются в один аккорд и одно впечатление. Посмотри на
планы, на старые эстампы этого здания - ты почувствуешь причудливую
и поразительную гармонию этих громадных римских стен, испещренных
восточной пестротой, этих готических стрелок, переделанных в
византийские купола, этих итальянских колонок, образующих круг над
бордюром греческих кессонов, всего этого собрания всевозможных форм -
острых, выпуклых, квадратных, продолговатых, круглых, восьмиугольных.
Греческая и латинская древность, византийский и сарацинский Восток,
германское и итальянское Средневековье - все прошедшее,
перепутанное, перемешанное, преобразованное забродило тогда сызнова в горниле
человечества, чтобы отлиться в новые формы под рукой новых гениев -
Джотто, Арнольфо [ди Камбио], Брунеллески и Данте.
Здесь творение осталось неоконченным, и удача не была полной.
Фасад церкви не был сооружен; вместо него видишь только большую голую
и ободранную стену, точно пластырь прокаженного (теперешний фасад
был сооружен в 1875-1887 годах. - Прим. пер.). Внутри совсем темно:
ряд маленьких круглых отверстий, кое-какие окна бросают серый свет
в неизмеримость здания. Оно пусто, и цвет желтой глины, в которую оно
выкрашено, печалит глаз своей монотонной тусклостью. «Пьета» Микел-
анджело и несколько других статуй кажутся тенями; барельефы едва
различимы. Строитель, колеблющийся между вкусами Средневековья
и вкусами древности, нашел между окрашенным и белым светом только
свет мертвый.
Чем более смотришь на архитектурные создания, тем более находишь,
что им свойственно выражать в обобщении дух своей эпохи. Вот, бок
о бок с Собором, колокольня Джотто стоит особняком, как Сен-Мишель
в Бордо или башня Жака [Бесстрашного] в Париже. В самом деле,
средневековый человек любил строить ввысь. Он стремится к небу, его высокие
постройки вытягиваются острыми верхушками: если бы эта, что перед
нами, была закончена, - колокольня высотой в тридцать футов увенчала
бы башню, в которой двести пятьдесят футов. В этом архитектор страны
по ту сторону Альп и архитектор итальянский следуют одному и тому
же инстинкту и увлекаются тем же самым пристрастием. Но между тем
как северный человек, откровенно готический, изукрашивает свою баш-
•84·
ФЛОРЕНЦИЯ
ню тонкими стрелками, сложным цветением, каменным кружевом,
бесконечно умноженным и заплетенным, человек юга, полулатинянин по
своим тенденциям и воспоминаниям, воздвигает четырехугольный,
плотный и мощный столб, общая структура которого нисколько не скрыта его
скупой орнаментикой. Это сооружение представляет собою не хрупкую
резную игрушку, а солидный и прочный памятник, который покрыло
царской роскошью его одеяние из красного, черного и белого мрамора
и который своими здоровыми, полными жизни фигурами и своими
вправленными в медальоны барельефами напоминает фризы и
фронтоны античного храма. В этих медальонах Джотто изобразил главные
моменты человеческой цивилизации - греческие предания рядом с
иудейскими: Адама, Тувалкаина, Ноя, Дедала, Геркулеса и Антея, изобретение
землепашества, укрощение коня, открытие искусств и наук. Светский
и философский дух уживались у него свободно, рядом с духом
техническим и религиозным. Разве в этом возрождении четырнадцатого
столетия не виден уже Ренессанс шестнадцатого? Аая того чтобы перейти
от одного к другому, достаточно было, чтобы первый дух взял верх над
вторым. Через сто лет в отделке здания, в этих статуях Донателло, в этом
столь выразительном «Дзукконе» [«Пророк Аввакум»], в чувстве
реальной и естественной жизни, которое вспыхнуло у мастеров по металлу
и у скульпторов, можно видеть доказательство того, что трансформация,
начатая Джотто, уже закончена.
Нельзя сделать и шагу, не встретив какого-нибудь признака этой
стойкости или же раннего возвращения латинского и классического духа.
Напротив Собора стоит Баптистерий, некогда служивший церковью, - род
восьмиугольного, покрытого куполом храма, построенного, несомненно,
по образцу римского Пантеона. По свидетельству одного
епископа-современника, это здание уже в восьмом столетии возносило к небу
пышные закругления своих царственных форм. Итак, вот вам в самые
варварские времена Средневековья продолжение, возобновление или, в
крайнем случае, подражание римской архитектуре. Входишь и видишь, что
в отделке храма нет ничего готического: перед нами круг коринфских
колонн драгоценного мрамора, над ним - другой круг меньших колонн,
поддерживающих высокие аркады; на сводах - легион святых и ангелов,
наполняющих все пространство и теснящихся со всех четырех сторон
вокруг большого византийского Христа, худого, бледного и печального.
Вот по трем этажам три ступени постепенного искажения античного
искусства; но, искаженное или сохранившееся, оно - всегда античное
• 85 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
искусство. Это основная черта для всей истории Италии: она никогда не
была германской. В десятом столетии униженный римлянин стоит все-
таки лицом к лицу перед гордым варваром, сохраняя и отличая себя от
него. Епископ Луитпранд писал тогда: «Мы, лангобарды, так же как
саксонцы, франки, лотарингцы, баварцы, швабы и бургунды, мы все так
презираем римское имя, что, когда мы в гневе, мы не можем найти для наших
врагов более тяжкого оскорбления, нежели назвать их римлянами, ибо
под одним этим словом мы разумеем все, что только может быть низкого,
трусливого, скупого, распутного, лживого, - все пороки вместе». А уже в
двенадцатом столетии германцы Фридриха Барбароссы, рассчитывавшие
встретить в ломбардцах людей той же расы, что они сами, были
изумлены, найдя их совершенно латинизированными, «оставившими грубость
варварского состояния и воспринявшими, под влиянием воздуха и
почвы, что-то от римской утонченности и мягкости, сохранившими
изящество языка и обходительность древних нравов, подражающими в своей
городской жизни и управлении общественными делами искусству
древних римлян» (Отто Фрейзингенский). Вплоть до тринадцатого столетия
здесь продолжали говорить по-латыни; святой Антоний Падуанский
проповедовал на латинском языке: народ, который говорил на своем
жаргоне, - зарождающемся итальянском, - слышал постоянно литературный
язык, как крестьянин Берри или Бургундии, которому деревенский
жаргон не мешает понимать безукоризненную проповедь его кюре. Два
великих феодальных изобретения - готическая архитектура и рыцарские
поэмы - появились здесь довольно поздно и заносным путем. Данте
говорит, что до 1313 года ни один итальянец не писал рыцарских поэм; их
переводили с французского или читали на провансальском языке.
Единственные итальянские памятники готики - храм в Ассизи и миланский
Собор-построены иностранцами. В глубинах, под всеми внешними или
временными переменами, латинский строй страны оставался
нетронутым, и в шестнадцатом столетии христианская и феодальная оболочка
отпала сама собой, позволив явиться снова чувственному и благородному
язычеству, которое никогда не было уничтожено.
Но нет надобности доходить до этой эпохи. Скульптура,
опередившая уже однажды при Никколо Пизано живопись, опередила ее еще раз
в пятнадцатом столетии - и как раз на дверях Баптистерия можно видеть,
с каким неожиданным совершенством и блеском! Три человека
появились тогда одновременно - Брунеллески, архитектор Собора, Донателло,
украсивший его колокольню статуями, и Гиберти, создавший две двери
•86·
ФЛОРЕНЦИЯ
Баптистерия, - все трое друзья и соперники, все трое, начавшие с
работы по металлу и с наблюдения живого тела, все трое, влюбленные в
древность. Брунеллески рисовал и измерял римские памятники; Донателло
копировал в Риме барельефы и статуи; Гиберти выписывал из Греции
торсы, вазы, головы, которые он реставрировал, которым подражал и
которые обожал. «Невозможно - сказал он по поводу одной античной
статуи, - передать словами ее совершенство... У нее есть бесконечно
нежные оттенки, которые сам глаз не может схватить: одна рука открывает
их своим касанием». И он вспоминал с горестью великие преследования,
во время которых, при Константине, «все статуи и картины, дышавшие
таким благородством и совершенными качествами, были разбиты или
разодраны на куски, и суровые проклятия угрожали всякому, кто стал
бы делать новые, что повлекло за собою исчезновение искусства и тех
знаний, которые к нему относятся». Когда так живо чувствуется классическое
совершенство, - недалеко до его достижения. Около 1400 года, в возрасте
двадцати трех лет, после конкурса, от которого Брунеллески уклонился,
присудив приз Гиберти, последний получил заказ на выполнение двух
дверей, и под его рукой возродилась снова чистая греческая красота -
не одно только мощное воспроизведение реального тела, как понимал
эту красоту Донателло, но вкус к идеальной и законченной форме. В его
барельефах есть много женских фигур, которые по благородству стана
и головы, по простоте и спокойствию позы кажутся шедеврами Афин.
Они отнюдь не преувеличенно вытянуты, как у преемников Микеланд-
жело, и не чрезмерно могучи, как три Грации Рафаэля. Его Ева, которая
только что родилась и, склоненная, подымает свои большие, тихие глаза
на Творца, - это первобытная нимфа, девственная и наивная, в которой
спят и внезапно пробуждаются гармонические инстинкты. С тем же
достоинством и с той же гармонией переданы все движения групп и
расположение сцен. Процессии развертываются и вьются, как вокруг древней вазы;
отдельные фигуры и толпа противополагаются друг другу или сливаются,
как в античном хоре; симметрические формы античной архитектуры
позволяют расположить в порядке вдоль колоннад мужественные и важные
фигуры, ниспадающие драпировки, разнообразные, избранные и
подчиненные мере положения прекрасной трагедии, совершающейся под их
портиками. Вот молодой воин, подобный Алкивиаду; перед ним шествует
римский консул; цветущие молодые женщины несравненной силы и
свежести полу оборачиваются, бросая взор или воздымая руки, - одна похожа
на Юнону, другая подобна амазонке, - все схваченные в один из тех ред-
•87 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ких моментов, когда благородство телесной жизни достигает без усилия
и раздумья полноты и совершенства. Если страсть напрягает мускулы и
морщит лица, то не обезображивая и не искажая их. Флорентийский
скульптор, как некогда греческий поэт, не позволяет страстям развиваться
до конца: он подчиняет их чувству меры и экспрессию покоряет красоте.
Он не хочет, чтобы зритель был потрясен зрелищем жестокого насилия
или увлечен живой трепетностью стремительного движения, схваченного
с натуры. Для него искусство есть гармония, очищающая человеческие
волнения, дабы оздоровить душу. Никто, кроме еще Рафаэля, не умел
передать лучше этот единственный в своем роде момент естественного и
владеющего собою вдохновения - драгоценный момент, когда произведение
искусства, помимо намерения, делается также созданием моральным.
«Афинская школа» и ватиканские Лоджии - того же духа, что двери
Баптистерия, и, для довершения сходства, Гиберти обращается с бронзой, как
это сделал бы художник. Многочисленностью своих фигур, сценическим
интересом, величием пейзажей, использованием перспективы,
разнообразием последовательных планов, которые, отступая в глубину, постепенно
стушевываются, его скульптуры представляют собою почти картины.
Но северный ветер дует между каменных масс, как в горном ущелье,
и после того, что вертел полчаса своим лорнетом под его дыханием,
бросаешь даже самого Гиберти ради чашки скверного кофе в скверной
гостинице.
·ιν·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ
живопись
Леонардо ла Винчи. Благовещение. Галерея Уффици во Флоренции
12 апреля, первые художники
ОТ УЖЕ пять-шесть дней, что я провожу
время в Академии художеств, в Уффици, в
монастыре Сан Марко, в Санта Кроче, в Санта
Мария [Новелла], в церкви Кармине, - с Вазари
в руках. Здесь можно проследить все шаги
живописи, и нужно следить за ними - иначе
в эти века полуварварства искусство не
представляет интереса.
Из какого глубокого упадка оно вышло! В Академии, у святой Марии
Магдалины, написанной одним византийцем, безобразные ноги,
деревянные руки, торчащие уши, лицо и поза египетской мумии; волосы,
падающие до пят, образуют косматую ее одежду; по первому взгляду
скажешь, что это медведь. В Уффици самое старое произведение живописи -
«Мадонна» Рико из Кандии (о. Крит), похожа на марципан. Это не
художники, а маляры, рабские копиисты, наивность которых забавна.
От ремесленника до артиста расстояние неизмеримое, как между
ночью и днем; но между ночью и днем мы видим бледный рассвет
зари, и как бы бледна ни была эта заря - это уже день. Точно так же, как
бы угловат ни был Чимабуэ, он принадлежит уже новому миру, ибо он
изобретает и умеет выражать; его «Мадонна» в Академии, еще слегка
мертвенная, не лишена, однако, некоторой важной благости; два
ангела внизу грациозны и кротко-печальны. Из четырех старцев в ногах
Мадонны у двоих нет шеи, но у них находишь некоторую серьезность
и величие; один, кажется, насторожился и удивлен. Выражение, хотя
бы и неясное, - не чудесная ли это вещь, подобная первой фразе,
которую смутно пробормотал немой, внезапно обретший дар слова?
Становится понятно, что эта Мадонна из Санта Мария Новелла, с такими
тощими руками, которая нам кажется такой тусклой, возбудила
«всеобщее восхищение в такой степени, что в мастерскую художника привели
Карла Анжуйского, что все женщины и все мужчины Флоренции
поспешили на большой праздник, где было множество народа, и работа
была отнесена из дома Чимабуэ в церковь, с великим торжеством, при
трубных звуках, в великолепной процессии». С какой стороны ни
изучать его творений, видишь, что он коснулся всех будущих открытий.
Он написал, говорит Вазари, святого Франциска в натуральную
величину - вещь новая и по сути противоположная манере его учителей,
греков, которые писали только согласно традиции. Вернуться к живому
•91 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
телу, открыть, что аая передачи человеческой фигуры нужно смотреть
на человеческую фигуру, - что может быть проще этого? И, однако,
здесь содержится все искусство в сжатом виде. Это наблюдаешь в
Уффици, в маленьком изображении святой Екатерины в котле. Мускулы
торса уже намечены, груди обрисованы; три женщины в длинных зеленых
платьях благородно позируют. Ты помнишь суровую луврскую Мадонну
и величие, горделивое движение ангелов, ее окружающих? «Он был, -
говорит про Чимабуэ комментатор Данте,-так благороден, что
словами этого невозможно выразить, и, вместе с тем, столь горд и
самолюбив, что, если ему указывали или он сам открывал какую-либо ошибку
в своей работе, он тотчас же бросал ее, какую бы цену ему за нее ни
давали». Открываешь некий след этой душевной возвышенности в
величественных и спокойных позах большинства его фигур. Душа,
имеющая свою собственную жизнь, индивидуальный и особенный характер,
который дает почувствовать себя даже в смутном черновом наброске, -
какая новизна! Но в этом - все искусство, с его принципами, его
величием и наградой: выявить и увековечить некоторую личность - личность
артиста, и в этой личности то, что всего существеннее. На всех
ступенях развития и во всех областях задача художника сказать людям: «Вот
что было во мне, и вот чем я был; ваше дело - смотреть, оценить и
заимствовать то, что вам кажется хорошим».
Второй шаг, сделанный Джотто, - гораздо значительнее и по-своему
равен тому, который отделяет Рафаэля от Перуджино и Леонардо да
Винчи от Верроккьо. Между тем, как рядом с ним Маргаритоне из Ареццо,
продолжая традиции, создавал намеренно безобразные и порою
отвратительные фигуры, Джотто открыл прекрасное непроизвольным и живым
порывом своего законченного, счастливого и даже веселого, на
итальянский манер, гения. Хотя рожденный в мистическом веке, он сам не
мистик, и хотя он был другом Данте, - он не походил на него. Прежде
всего, это быстрый, разносторонний ум, творящий легко и обильно; во
Флоренции, в Ассизи, Падуе, Риме, Ферраре, Римини он расписал целые
церкви и капеллы. «Он принимал участие в стольких работах, что, если
бы рассказать, не поверили бы». Эти плодовитые и легкие гении
склонны к радости и к светлому взгляду на жизнь. «Он был очень
изобретателен, - говорит Вазари, - очень приятен в обхождении и большой
мастер говорить острые слова, память о которых еще жива в этом городе».
Те из них, которые повторяются и поныне, непристойны и грубы: ум
тогда отвечал нравам, а нравы были деревенские. Многие, к тому же даже,
•92 ■
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
не слишком благочестивы; когда он объясняет, почему святой Иосиф
имеет на картинах меланхолический вид, его можно принять за
современника Пульчи. У него открываешь светский дух, чувственный и даже
позитивный, сатирический, враждебный аскетизму и лицемерию. Он,
написавший «Обручение святого Франциска с Бедностью», громко
высмеивает и обличает высокомерие и хищничество монахов. «Что до
бедности, якобы желаемой и искомой, - говорит он в своей небольшой
поэме, - то, как можно хорошо видеть на опыте, ее соблюдают или не
соблюдают, смотря по тому, сколько есть в кармане. И если ее
соблюдают, то не ради ее прославления, ибо с нею не сочетаются ни тонкость
разума, ни знания, ни любезность, ни добродетель. И, как мне кажется,
весьма стыдно звать добродетелью то, что подавляет хорошие качества,
и очень дурно предпочитать нечто животное действительным
добродетелям, которые приносят благоденствие всякому умному человеку
и которые таковы, что чем больше ими наслаждаешься, тем больше их
ценишь». Вот откровенное предпочтение мирской добродетели,
морального достоинства и высшей культуры духа монашескому
ригоризму и христианскому умерщвлению плоти. В самом деле, Джотто уже
мыслитель среди других мыслителей - подле Гвидо Кавальканти и его
отца, которых называли эпикурейцами, знающими возражения против
существования Бога, подле Чекко д'Асколи и многих других. «Джотто, -
говорили его друзья, - великий мастер в искусстве живописи, и
больше того - он мастер во всех семи свободных искусствах». И
действительно, стоит только увидеть фигуры на его колокольне, чтобы понять,
что он преисполнен философских взглядов, что он создал себе идею
всемирной и гуманитарной культуры, что христианство, на его взгляд,
входит туда лишь как часть, что Халдея, Греция и Рим отвоевывают себе
добрую половину, что изобретатели полезного и прекрасного
занимают здесь первое место, что он представляет себе жизнь, счастье и
прогресс человека так же, как широкие и свободные умы Ренессанса и
современной эпохи, что, на его взгляд, полное и совершенное развитие
естественных способностей есть та цель, которой должно быть
подчинено все остальное. Как он думал, так и действовал. «Он был очень
любознателен, - говорит Вазари, - ходил вечно погруженный в
размышления о новых вещах и старался приблизиться к природе, почему он
заслуживает быть названным учеником природы, а не кого-либо
другого... Он рисовал разнообразные пейзажи, полные скал и деревьев,
что представляло новизну в его время». Он сделал еще гораздо более,
•93·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и хотя его главные творения находятся в Падуе и в Ассизи, можно и здесь,
на небольших его работах в Уффици, в Академии, в церкви Санта Кроме,
измерить громадность переворота, произведенного им в своем
искусстве. По-видимому, он открыл все - идеал и натуру, благородство фигур
и живую передачу чувств. В своем «Рождестве», в Академии, он с
большой жизненностью схватил жест коленопреклоненного пастуха,
который, будучи охвачен нежным умилением, не осмеливается подойти
ближе. Иисус, изображенный перед Фомой неверующим, вздымает руку вверх
благосклонно и печально. На «Тайной вечере» Иуда, который
смущенно удаляется, - невзрачный плут, жадный жид. И в то же время под
рукой художника головы, позы, драпировки облагораживаются,
располагаются в стройном порядке, выигрывают в красоте, приближаются
к античной свободе и достоинству. Иисус, стоящий перед мудрецами,
кажется греческим юношей. В «Посещении Марией Елизаветы»
чистота, сдержанность, красота Богоматери таковы, что Рафаэль, который
передал бы все это лучше, не мог бы почувствовать сильнее. Лицо одного
волхва-царя по нежности взгляда и очертаний - почти женское лицо.
Можно было перечислить двадцать других: это целый мир, открытый
художником его современникам, - мир реальный и мир высший, и
можно понять их изумление, их восторг и радость. В первый раз они
увидали, каков человек и каким он должен быть. Они не были шокированы,
подобно нам, несовершенством и бессилием, которые аая нас
обнаруживаются из контраста с более совершенными творениями и которые
для них оставались необнаруженными. Они совсем не замечали
анатомических недостатков, угловатости рук и ног, плохой передачи
сильных движений, неловко опрокинутых апостолов в «Преображении»,
нагроможденных затылков «Мудрецов в храме», недостаток рельефа
и эту неполноту жизненности, создающую не тело, а лишь очертания
тела. Недостатки иконописи чувствуются только при сопоставлении ее
с живописью, и Рафаэль в эпоху Джотто был бы, как Лжотто, только
иконописцем.
Мы идем в Санта Кроче, затем в Санта Мария Новелла, чтобы
проследить развитие этой живописи. Санта Кроче - церковь тринадцатого
столетия, обновленная в шестнадцатом, полуготическая и
полуклассическая, некогда суровая и потом покрытая украшениями, которой ее
противоречивость мешает произвести сильное или прекрасное
впечатление. Она наполнена гробницами; Галилей, Ланте, Микеланджело,
Филикайя, Леон Баттиста Альберти, Макиавелли, - почти все великие
•94·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
флорентийцы имеют здесь свои монументы, но большинство
последних - современные, напыщенные и холодные. Памятник Альфьери
работы Кановы обличает руку скульптора времен Империи, родственного
Давиду и Жироде. Единственный остающийся в памяти монумент -
графини Замойской: белая, худая и кроткая фигура. Это - портрет, и
скульптор осмелился быть простым и искренним. Здесь нет никакой
аллегории: истина уже сама по себе достаточно трогательна. Она только что
умерла, и мы видим ее на небольшом ложе, в одежде больной, в чепце,
в длинной рубашке, стянутой вокруг шеи: простыня покрывает
остальное тело и позволяет угадывать формы ног. Так она спит сном смерти,
истощенная, вытянувшаяся после последнего томления.
В этой именно церкви нашли недавно под слоем извести маленькие
фрески Джотто - история Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и
святого Франциска. Принадлежат ли они его кисти, и верно ли восстановил
их реставратор? Во всяком случае, они четырнадцатого столетия и
любопытны. В разнообразии здесь нет недостатка: видишь много фигур,
коленопреклоненных, лежащих, стоящих, сидящих, облокотившихся,
двигающихся, - во всевозможных позах. Наивное благочестие древних
веков выражается ясно и чувства переданы живо. Вокруг святого
Франциска, только что испустившего дух, стоят монахи с крестами и
хоругвью; один из них, в головах, держит часослов; некоторые, чтобы
освятить себя, прикасаются к стигматам усопшего на руках и ногах; один
в монашеском усердии погружает руку в рану на боку. Стоящий
позади - всего трогательнее: со скрещенными руками, с искаженным лицом,
он еще говорит с ним... Это настоящая картина внутренней жизни
монастыря феодальной эпохи, и она еще не так далека от маленьких
фигурок на рисунках молитвенников. Намечены только контуры и
кое-какие тени, все мертвеет в общем сероватом колорите; фигура - не
столько человек, сколько смутный фантом человека. Если перейти к
следующему поколению, фреска Таддео Гадди, самого знаменитого ученика
Джотто, не лучше этого: его головы стариков, вытянутые, без шеи,
диспропорциональны. Во втором поколении живопись Джоттино на
готической гробнице Беттино деи Барди показывает, что искусство не
движется вперед. Его Христос в красном плаще, являющийся среди ангелов
перед вооруженным рыцарем, который выходит коленопреклоненный
из своей гробницы, может как икона потрясти верующего, но это только
икона. Кажется даже, что живопись пошла назад. «Коронование Марии»
Джотто, на этот раз подлинное и нетронутое, изображает на золотом
■95 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
фоне, между тонких, стрельчатых аркад, четырех ангелов идеальной
красоты у ног доброй и благородной Мадонны. Это искание полных
и прекрасных форм, это отдаленное воспоминание о здоровой античной
красоте свойственны Джотто, так же как и Никколо Пизано. Его
преемники сохранили его недостатки - ноги, которые не поворачиваются,
вывихнутые предплечья, почти бесплотные тела, но они не сумели обрести
вновь те воплощения силы, блаженства и душевной ясности, которые он
узрел первый и которые он один умел закреплять.
В общем, когда вникаешь в дух этой эпохи, находишь желание видеть
представленными не существа, а идеи. Монашеский мистицизм и
школьная философия наполнили тогда головы абстрактными формулами и
экзальтированными чувствами. Пусть только им укажут на высокую и
священную истину - и этого с них довольно! Телесная форма интересует
этих людей только наполовину; они не наблюдают ее с любопытством
и страстью, ради нее самой, - они берут ее только как символ и как
средство впечатления. Для них неважно, что какое-нибудь запястье руки
надломлено или какой-нибудь затылок дурно нарисован: они -
современники Данте, и созерцают коленопреклоненно это «Коронование Девы
Марии», черное, как силуэт, в мистическом сиянии ореолов и золотого
фона. Они находят здесь подражание небесным видениям и
ощутительный облик одной из тех ярких грез, которыми поэт наполнил свой рай.
То, что они желают видеть, - это отнюдь не грудь гладиатора или живая
анатомия атлета; это Церковь с ее обетами, испытаниями и триумфами,
это - Истина с группою ее наук и кортежем ее исследователей, это -
схематическая история и энциклопедия, это - грандиозное
симметрическое здание доктрин и доказательств, под кровом которого святой
Фома Аквинский открыл убежище аая всех деятельных душ и
мыслящих умов. Дух, очищенный теологией и мечтой, не может ни желать,
ни творить ничего другого. В живописи, как и в поэзии, он обращен в эту
сторону; в живописи, как и в поэзии, он ограничен именно этим, - и
достаточно видеть двор [Испанскую капеллу] в Санта Мария Новелла, чтобы
найти там все условия и пределы этой потребности и этой
предвзятости. Таддео Гадди изобразил здесь Философию - четырнадцать женщин,
из которых семь представляют светские науки, а семь - духовные. Все
они выстроены в один ряд, и каждая сидит на богато украшенной
готической кафедре, имея у своих ног великого человека, служившего ее
истолкователем. Над ними, на кафедре еще более изящной и
изукрашенной, - святой Фома Аквинский, царь всего знания, попирающий
•96·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ногами трех великих еретиков - Ария, Сабелия и Аверроэса, между тем
как по бокам пророки Ветхого Завета и апостолы Нового восседают
торжественно со своими эмблемами, а в овальном пространстве над их
головами ангелы и добродетели, симметрично расположенные, несут
книги, цветы и светильники. Сюжет, распорядок, архитектура, фигуры,
вся фреска в целом подобны скульптурному порталу собора. Такова же
и даже еще более символична фреска Симоне Мемми [Андреа Бонай-
ути], которая на противоположной стене представляет Церковь [«Триумф
покаяния»]. Задача состояла в том, чтобы изобразить все здание
христианства, и аллегория доведена здесь до каламбуров. Возле Санта
Мария дель Фьоре, которая представляет собою Церковь, Папа,
окруженный кардиналами и сановниками, зрит у своих ног общину верных -
маленькое стадо покоящихся овец, которых защищает преданная стража
доминиканцев. Одни, «собаки Господа» (Domini canes), загрызают
волков-еретиков. Другие, проповедники, увещевают и обращают. Процессия
поворачивает, - и взгляд, подымаясь вверх, видит перед собою суетные
радости мира сего, фривольные танцы, а потом раскаяние и покаяние.
Дальше - небесные врата, охраняемые святым Петром, куда проходят
искупленные души, ставшие маленькими и невинными, как дети; потом -
плотные толпы блаженных, которые продолжаются в небе ангелами,
затем Богоматерь, Агнец, окруженный четырьмя символическими
животными, и, наконец, Бог-Отец на самой вершине свода, объединяющий
и влекущий к себе торжествующие и воинствующие массы,
растянувшиеся от земли вплоть до самого неба. Обе фрески находятся одна
против другой и образуют своего рода конспект доминиканской теологии.
Но они не представляют ничего другого: теология не есть живопись, так
же как эмблема не есть тело.
12 апреля, пятнадцатый век
Удивительно, сколько было художников этой школы и этого
направления. Их можно бы насчитать целую сотню: Аньоло Гадди, Джованни
да Милано, Якопо дель Казентино, Буффальмакко, Пьетро Лаурати, и все,
кого я видел в Сиене. В Уффици и в Академии имеются их образцы. На
этих картинах нет ясно выраженных теней, нет переходов от одной
краски к другой, нет рельефа; перспектива и анатомия
неудовлетворительны - вот общие их черты. С 1300 по 1400 год никакого заметного
прогресса; даже Таддео Гадди, один из лучших среди этих художников, по
словам Саккетти, автора новелл, находил, что искусство упало и падает
• 97 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
с каждым днем все больше. Во всяком случае, благородные поиски
идеальных форм пошли на убыль, уступив место занимательному
подражанию действительной жизни, и от Джотто до Орканьи, как от Ланте
до Боккаччо, дух спустился с неба на землю. Но именно благодаря этому
падению стало намечаться иное искусство. «Созерцая нынешнее время, -
говорит Саккетти, - и все условия жизни людей, когда их так часто
постигают чумные болезни и нечаянная смерть; видя, какие великие
опустошения, великие гражданские и внешние войны сделались
обычными; помышляя, сколько народов и семейств впали через это в нищету
и несчастье, и с какими горькими усилиями переносят они, вероятно,
бедствие, их поразившее; представляя себе также, насколько люди
любопытны ко всему новому, а по преимуществу к такого рода чтению,
которое легко понимается, особенно когда оно дает утешение, так что
можно примешать немного смеха к стольким печалям... я, Франко
Саккетти, флорентиец, возымел намерение написать эти новеллы».
Такова была, в самом деле, огромная перемена, совершившаяся в эту эпоху
в общественном настроении: ужасные муниципальные раздоры
причинили столько зла, что старая республиканская энергия ослабела. После
стольких опустошений начали вздыхать о покое. Вместо старой
умеренности и серьезности явилась погоня за роскошью и вкус к
удовольствиям. Воинственный класс знатных дворян был изгнан, а энергичное
сословие мелких ремесленников подавлено. Началось царство
буржуазии, и она царствует спокойно. Как ее вожди, Медичи, - она занимается
производством, торгует, основывает банки и наживает деньги, чтобы
тратить их на талантливых людей. Боевые заботы не стесняют ее, как
прежде, своими суровыми и трагическими требованиями. Она делает
войну оплаченными руками кондотьеров, а эти последние, осторожные
коммерсанты, свели дело к верховым прогулкам; если они убивают
друг друга, то лишь по недосмотру; бывали битвы, где на поле
сражения оставалось только трое павших, а иногда даже один. Дипломатия
заступает место силы, и ум развивается по мере того, как характер
слабеет. Благодаря этому смягчению войны и установлению принципата
или местных тираний получается впечатление, что Италия, подобно
большим европейским монархиям, достигла равновесия. Мир
полуутвердился, и полезные искусства расцветают повсюду среди
смягчившихся нравов, как добрая жатва на выровненной и распаханной
почве. Крестьянин отнюдь не крепостной раб - он арендатор земли; он сам
выбирает свои муниципальные власти; у него есть оружие, коммуналь-
•98·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ная касса; он живет в укрепленных местечках, где дома, построенные
из камня и цемента, обширны, удобны и нередко красивы. Возле
Флоренции он строит подпорные стенки, а возле Луки - террасы в форме
лужаек, дабы распространить вверх свои посевы. В Ломбардии есть своя
система орошения и севооборота; целые округа около Ливорно и Рима,
ныне пустынные, были тогда еще населены и плодородны. Над
простонародьем работают буржуазия и знать; так как главы флорентийского
правительства - наследственные банкиры, то можно быть уверенным,
что торговля не находится в забвении. В Карраре возникли мраморные
карьеры, а в Маремме - заводы по выплавке металла. В городах
возникло производство шелка, стекла, бумаги, книг, льна, шерсти, пеньки;
Италия одна производит столько, сколько вся остальная Европа, и
снабжает ее всеми предметами роскоши. На такой ступени развития
торговля и промышленность уже не рабское занятие, способное сузить или
понизить уровень духа. Крупный негоциант - это генерал мирного
времени, умственный взор которого расширяется по мере
соприкосновения с вещами и людьми. Подобно военачальнику, он снаряжает
экспедиции, делает открытия, устраивает предприятия. В 1421 году двенадцать
молодых людей лучших флорентийских фамилий отправляются в
Александрию, чтобы завязать сношения с Суданом и открыть там фактории.
Подобно главе государства, такой негоциант ведет переговоры,
вмешивается в политику, учитывает прочность правительств и интересы
народов; Медичи имеют шестнадцать банкирских контор по всей Европе и
связывают своими делами Московию с Испанией и Шотландию с Сирией;
они владеют квасцовыми шахтами по всей Италии, уплачивая папе
только за одну из них сто тысяч флоринов в год; они имеют при своем
дворе представителей всех государств Европы и становятся советчиками
и умиротворителями всей Италии. В небольшом государстве, какова
Флоренция, и в стране, не имеющей национальной армии, какова Италия,
подобное влияние уже само по себе становится авторитетом, тем более, что
оно опирается только на себя. Власть над всеми частными состояниями
приводит к управлению общественными делами, - и вот, без всякого
переворота или насилия, частный человек видит себя распорядителем
государства.
Как же он воспользуется своим могуществом? Так же, как им
воспользовался бы в наше время Ротшильд, - и вот где выступает раннее
сходство этой цивилизации пятнадцатого века с нашей. Посмотрите на
современные состоятельные и интеллигентные классы Европы. Каким
•99·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
образом понимают они жизнь и как желают ее устроить? Отнюдь не по
воинственному и героическому образцу античных городов и
германских племен; так же как не по мистически унылому образцу первых
христиан, средневековых «верных» или протестантов времен
Возрождения; так же, как не по грубому, беспорядочному и застывшему
образцу полудиких рас или больших восточных государств. Мы не хотим
быть ни героями, ни аскетами, ни угнетаемыми, ни отупевшими. Мы
чувствуем себя людьми, и культурными людьми, немного
эпикурейцами и немного дилетантами. Мы признаем как высшую цель
человеческих усилий и успехов государство, в котором внешние или
гражданские войны сделались бы все более редкими, где порядок поддерживался
бы без потрясений и принуждения, где непрерывно растущее
благоденствие изливалось бы широкой волной на всех и каждого, где мысль
человека непрерывно направлялась бы на улучшение условий его жизни
и на увеличение количества его знаний, где, наконец, среди внутренней
безопасности, промышленного развития, конечного успокоения и
всеобщего смягчения нравов, расцвели бы, как в защищенной и нежной
атмосфере, великая любознательность и великие открытия все
понимающего и все принимающего ума, тонкое и высшее разумение всех
человеческих и природных явлений, философия, гений и критика наук,
искусств и литературы. Такова была идея, которую эти флорентийцы,
воспитанные, как и мы, под влиянием мирной и космополитической
промышленности, начинали создавать себе, подобно нам,
относительно счастья и человеческой культуры. Ибо они опираются не только на
чувственные ощущения, они не вульгарные язычники: в человеке они
развивают всего человека - разум так же, как и чувство, и разум даже
преимущественно перед чувствами. Козимо Медичи основал
философскую академию, а Лоренцо возобновил пиры платоников. Ландино, его
друг, составляет «Диалоги», действующие лица которых, удалившись,
чтобы подышать свежим воздухом, в монастырь камальдульцев,
рассуждают между собою в продолжении многих дней, решая, какая жизнь
выше - деятельная или созерцательная. Пьетро, сын Лоренцо, устраивает
диспут об истинной дружбе в Санта Мария дель Фьоре и обещает в
награду победителю серебряный венок. Из рассказов Полициано и Пико
делла Мирандола можно видеть, что главы торговли и государства
любили тогда утонченные и высокие умозрения, возвышенные и широкие
идеи, любили великие состязания разума, устремленного свободно и
радостно к далеким горизонтам и вершинам. Есть ли лучшее удовольствие,
• 100·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
нежели беседовать таким образом, в зале, украшенной драгоценными
бюстами, перед вновь открытыми манускриптами древней мудрости,
на изысканном и красивом языке, не заботясь об этикете и о рангах, со
всепримиряющей благородной любознательностью? Это настоящий
праздник разума, и он достигает своей полноты во дворце Лоренцо. Заботы
общественного реформаторства или острота религиозных споров не
примешиваются еще сюда, как позднее, в нашем восемнадцатом
столетии, дабы нарушить эту поэтическую гармонию. Вместо того чтобы
нападать на христианство, они его истолковывают; их терпимость - это
терпимость современников Гёте, и Марсилио Фичино кажется нам Шлей-
ермахером. Воспитанный Козимо, он объясняет Лоренцо, что «между
философией и религией существует самое тесное родство, ибо сердце
и разумение составляют, по словам Платона, два крыла, на которых
человек поднимается к своей небесной отчизне. Священник достигает его
через сердце, а философ - через разум, и всякая религия заключает в себе
некоторую частицу добра, ибо только те действительно почитают Бога,
кто непрестанно воздает ему хвалу своими поступками, своей добротой,
правдивостью, милосердием и своими усилиями достичь ясности
разумения». Точно так же, вместе с Платоном, он утверждает, что «небесные
сферы двигаются душами, которые вечно вращаются в поисках себя
самих», - и он развивает языческую астрономию под христианским небом.
Наконец, он подчиняет рождение Слова тому универсальному закону,
по которому «всякая жизнь зарождает свои семена в себе самой прежде,
нежели обнаружится извне», и, сочетая философию, веру и науку, он
строит из них одно гармоническое здание, в котором светская мудрость
и догма Откровения дополняют и исправляют одно другое, не только ради
того, чтобы доставить опору и понятные образы грубой толпе, но также
и ради того, чтобы открыть воздушную дорогу и бесконечные горизонты
избранной части мыслящих умов.
Из этой основной черты рождаются другие. Эти люди ищут не
простого удовольствия, а красивого счастья, - я подразумеваю, расцвета
благородных инстинктов, равно как инстинктов природных. Эти
банкиры-правители так же либеральны, как талантливы. За тридцать семь
лет предшественники Лоренцо истратили на дела милосердия или
общественной пользы шестьсот шестьдесят тысяч флоринов. Сам
Лоренцо - гражданин на античный манер, почти Перикл, способный пойти
и отдаться в руки своего врага, неаполитанского короля, чтобы
отвратить обаянием своей личности и красноречия войну, угрожавшую его
• 101 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
стране. Его богатство представляет собою нечто вроде общественной
сокровищницы, а его дворец - второй муниципалитет. Он собирает
вокруг себя ученых, помогает им из своего кошелька, вступает с ними
в дружбу, переписывается, дает им средства на издания, покупает
рукописи, статуи, медали, покровительствует молодым художникам,
подающим надежды, открывает для них свои сады, коллекции, свой дом и стол,
с той любезной непринужденностью и открытостью простого и
искреннего сердца, которые сохраняют независимость протежируемого в
отношении покровителя, как человека перед человеком, а не ребенка перед
взрослым. Таков он - этот человек и правитель, в котором все
современники признали наиболее совершенного представителя эпохи. Это уже
более не Фарината или Алигьери старой Флоренции - воинственная,
грубая или же, напротив, экзальтированная до крайнего предела сил душа,
а уравновешенный, умеренный, культурный гений, который благодаря
достолюбезному превосходству своей светлой и благожелательной
индивидуальности собирает вокруг себя в один букет все прекрасное и
талантливое. Приятно видеть, как оно распускается вокруг него. Одной рукой
писатели возобновляют старину, а другой - создают новое. Уже со
времен Петрарки начались поиски греческих и латинских манускриптов,
а теперь их откапывают по монастырям Швейцарии, Германии и
Франции. Их расшифровывают и исправляют с помощью
константинопольских ученых. Отрывок из Тита Ливия, трактат Цицерона - это
драгоценный подарок, приводящий в восхищение государей; такой-то
ученый провел десять лет в кругосветных странствиях по отдаленным
библиотекам, чтобы разыскать потерянную книгу Тацита; насчитывают,
в качестве шестнадцати оснований аая бессмертной славы,
шестнадцать древних авторов, которых Поджо [Браччолини] извлек из забвения.
Неаполитанский король и миланский герцог видят в гуманистах своих
первых советников. При этом соприкосновении с вновь открытой
древностью ржавчина Средневековья отпадает повсюду. Превосходный
латинский стиль расцветает снова, почти столь же чистый, как в эпоху
Августа. Когда от утомительных гекзаметров и тяжко-претенциозных
эпитетов Петрарки переходишь к изящным двустишиям Полициано или
к красноречивой прозе Баллы, испытываешь почти физическое
удовольствие. Недозрелые и заплесневелые плоды Средневековья, прокисшие
среди феодальной зимы или прогоркшие в затхлом монастырском
воздухе, становятся вдруг спелыми и сочными. Пальцы и ухо невольно
отсчитывают свободное течение поэтических дактилей и пышное разверты-
• 102 ·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
вание ораторских периодов. Стиль стал снова благородным, став в то же
время ясным, и здоровье, радость, безмятежность, разлитые в античной
жизни, возвратились к человеческому духу вместе с гармоническим
строем речи и мерной гармонией произношения. От языка ученых эти
качества перешли к языку простонародья, и бок о бок с латинским
рождается итальянский. В этой новой весне Лоренцо Медичи - первый поэт,
и у него именно является прежде всего не только новый стиль, но и
новый дух. Если в своих сонетах он подражает Петрарке и продолжает
вздохи рыцарской любви, то в своих пасторалях, сатирах и стихах,
обращенных к тогдашнему обществу, он рисует философскую и
утонченную жизнь, изящные красоты приукрашенной природы, нежные
удовольствия глаз и разума, - все, что любит он сам, все, что любят вокруг него,
и его стихи в своем легком, богатом и простом течении свидетельствуют
об уверенной руке, о взрослом веке и совершенном искусстве.
Эту пышную гармонию завершает жизнерадостная нота - признак
времени, выдающий тот роковой склон, по которому начинается спуск.
Сам Лоренцо увеселяет толпу и составляет лля нее программу и
празднества карнавала. «Как прекрасна юность! - говорят певцы в его "Триумфе
Вакха и Ариадны". - Но она убегает. Если кто хочет быть счастливым,
будь им тотчас же! За завтра нельзя ручаться!». Здесь просвечивает, в
возобновленном язычестве, эпикурейская веселость, желание
наслаждения во что бы то ни стало и немедленно, и тот инстинкт удовольствия,
который строгая философия и суровость политических обстоятельств
до сих пор умеряли и сдерживали. С Пульчи, Берни, Бибиеной, Ариосто,
Банделло, Аретино и многими другими мы увидим скоро начало
чувственной распущенности, откровенного скептицизма - позднее и
цинического бесстыдства. Эти счастливые и утонченные цивилизации, которые
опираются на культ остроумия и удовольствия, как в Греции четвертого
века, в Провансе двенадцатого, в Италии шестнадцатого, -
непродолжительны. Человеку здесь недоставало узды. Вслед за живым порывом
изобретательности и гения он ударялся в распутство и эгоизм;
художник и мыслитель в своем вырождении уступали место дилетанту и
софисту. Но красота этого краткого блеска пленительна, и последующие
эпохи, менее блистательные по внешности, хотя и более прочные в своих
основах, не в состоянии воспрепятствовать нам взирать с особой
симпатией на этот гармонический строй, изящество которого они уже не
могут воспроизвести при всех усилиях, но самая утонченность которого
обуславливала его хрупкость.
• 103 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
В этом-то мире, снова ставшем языческим, возродилась живопись,
и новые вкусы, которым она должна была отвечать, указывают заранее
ее будущий путь. Ее задачей становится украшать жилище богатых
негоциантов, любящих древность и намеревающихся жить весело. Вместе
с направлением найден и отправной пункт: его дает золотых и
серебряных дел мастерство. Вследствие небольшого размера своих изделий
ювелир является естественным поставщиком частной роскоши: он
чеканит оружие и сосуды, столбы аая кроватей, облицовку каминов,
инкрустацию буфетов. Все драгоценные вещи выходят из его рук, и так как,
кроме бронзы и серебра, он имеет дело и с деревом, и с мрамором, и с
гипсом, и с драгоценными камнями, то в домашнем обиходе нет ничего
такого, что не соприкасалось бы с его талантом или не давало бы
материала аая развития его искусства. Прибавьте к тому, что это искусство,
вследствие ранней своей зрелости, опередило все другие. Никколо Пи-
зано в середине тринадцатого столетия создает уже скульптурные
изображения, которые по своему величию и красоте, по благородству
выражения и крепкой структуре напоминают мужественную античность
и предвозвещают мужественное Возрождение. Благодаря единственной
в своем роде удаче скульптура нашла аая себя, с первых же шагов,
совершенные образцы в реликвиях Греции и Рима, так же, как
совершенные орудия - в горне литейщика и молотке каменщика, между тем как
живопись, при плохих образцах и плохих средствах, должна была
ожидать, пока медленный прогресс столетий выделит из смутных
призраков Средневековья совершенную телесную форму, а возрождение
геометрии научит перспективе, пока воспитание глаза и двигающаяся
ощупью практика введут в употребление масляные краски и научат
оттенкам колорита. Вот почему в начинающемся новом периоде старшая
сестра берет верх над младшей и дает ей уроки. Около 1400 года Гиберти,
Донателло, Якопо делла Кверча уже взрослые люди, и творения, ими
создаваемые в течение следующих двадцати лет, столь жизненны и столь
чисты, выразительны и величественны, что искусство уже не
подымется выше этого. Все они - золотых дел мастера и вышли из ремесленной
боттеги: сам Брунеллески, их учитель, начал с того же. Здесь
сформировалось поколение новейших художников. Паоло Уччелло работал под
руководством Гиберти; Маццолино получил в этом кругу репутацию
искусного полировщика, превосходно отделывающего складки одеяний.
Поллайоло, ученик тестя Гиберти, а потом самого Гиберти, вырезал на
дверях Баптистерия фигуру перепела, «который только что не летал».
• 104-
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Боттичелли. Возвращение Юдифи. Галерея Уффици во Флоренции
• 105·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Лелли, Верроккьо, Гирланлайо, Боттичелли, Франча, позднее Андреа
дель Сарто и все скульпторы, начавшие с ювелирного дела, - Лука делла
Роббиа, Челлини, Бандинелли, - всех не перечислишь!.. Те, кто сам не
шлифовал бронзы, тем не менее испытывали влияние мастеров,
работавших с бронзой; Мазаччо был другом Лонателло и учился у Брунеллески;
Леонардо да Винчи в мастерской Верроккьо лепил и потом драпировал
мокрыми тряпками глиняные фигурки, чтобы вслед за тем срисовывать
их, подражая их рельефу. Благодаря этой практике и этому воспитанию
руки, ощупывая форму, усваивали ощущение плотной материи и
перенесли его в живопись. С той поры художник уже знает, что плоское
изображение не есть тело. Нужно, чтобы фигура имела углубленность, как
и поверхность, чтобы за внешней видимостью и плоскими красками
зритель чувствовал глубину и полноту, мясо и кости, вторые планы и дали,
крепкий остов и истинные расстояния - настоящие соотношения вещей.
И вот художник вычерчивает свои линии, рассчитывает перспективу,
раздевает тела, считает мускулы, ощупывает связки, подымает и рассекает их,
и, снабженный наконец всеми средствами, благодаря которым цветная
поверхность может дать глазу впечатление живого существа, он строит
искусство на его последней, высшей базе - точном и полном
подражании природе, какой мы ее видим и какова она есть.
Это потому, что природа, какой мы ее видим и какова она есть, стала
отныне интересовать людей. Отрешенные от небесного мира и
сведенные к земному, они хотят созерцать уже не идеи и символы, а живые
существа и личности. Реальные вещи аая них уже не представляют только
простого условного знака, сквозь который прорывается мистическая
мысль,- они имеют свою собственную ценность и красоту, и взгляд,
остановившись на них, уже не хочет покинуть их и устремиться вдаль.
Так, понятые и облагороженные, эти вещи заслуживают быть
изображенными без пробелов; их пропорции и формы, малейшие детали их
внешнего вида и положения приобретают важное значение, и
погрешности художника в живописи станут отныне столь же шокирующими,
как были бы некогда ошибки христианина в богословии. В этом
подражании ощутимой внешности вещей первое место занимает знание
размеров, которые сообщает предметам удаленность; их величина
варьируется аая глаза сообразно их расстоянию от него, и верность целого есть
непременное основание, на котором утверждается верность деталей.
Паоло Уччелло, направляемый математиком Манетти, открывает законы
перспективы и проводит свою жизнь как фанатик в развитии всех след-
• 106·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ствий своего открытия. С удовольствием и удивлением видишь, как им
впервые была угадана истинная внешность вещей, как уходят у него вдаль
ров, аллея, борозды вспаханного поля, как он высчитывает расстояние,
разделяющее две фигуры, как он чувствует ракурс лежащего человека,
вытянувшего ноги вперед, как он отмечает размер фигур и
бесчисленные, тщательно воспроизводимые перемены, которые расстояние
сообщает форме. Но он идет и далее и оживляет природу, истинные
пропорции которой он установил. Он влюблен во всякое живое создание, и вот
все они благодаря ему возвращаются в круг человеческих симпатий:
собаки, кошки, быки, змеи, львы, «старающиеся укусить и полные
гордыни», олени и лани, «выражающие быстроту и боязливость», птицы в их
оперении, рыбы в их чешуе, - все в своем действительном виде и со
свойственными им чертами, прежде незамечаемые или презираемые, а ныне
вновь найденные и оживотворенные. Их еще можно различить на его
стершихся фресках в Санта Мария Новелла. И общественные вкусы
следуют по проторенной им дороге. Он рисует для Медичи истории
животных, для Перуцци - фигуры четырех стихий, каждая со своим
эмблематическим животным: крот, рыба, саламандра, хамелеон. Отныне каждый
хочет видеть у себя дома живые изображения человеческого и
природного мира. На внутренних карнизах комнат, на деревянных частях
кроватей, на больших сундуках, где хранятся одежды, заказывают писать
«мифы, взятые из Овидия и из других поэтов, или истории, рассказанные
греческими и латинскими историками, а также бой на копьях, охоты,
любовные приключения... праздники, тогдашние зрелища и другие
подобные вещи, кому что нравится». Такие изображения были у Лоренцо
Медичи, «а также в самых благородных домах Флоренции». Лелли расписал
так для Джованни Медичи обстановку целой комнаты, а Донателло
изготовил позолоченные гипсовые украшения аая рам. Являются художники-
анатомы и рассыпают по домам, рядом со спокойной наготою
древности, мускулистые и тревожные нагие фигуры нового искусства - все эти
чувственные или смелые изображения, которые будет впоследствии
преследовать ригоризм Савонаролы. Какая разница между этими нравами
и нравами современников Данте и как одновременно начинается и
светское язычество в жизни, и язычество живописное в искусстве!
Но в чем же заключается та идея, которую они составили себе о
человеке, и каков тот телесный облик, всюду повторяемый, который
покрывает теперь стены? Один определенный образец будет отныне царить
в течение более чем полувека, и, вплоть до появления Леонардо, Рафаэля
• 107
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и Микеланджело, объединит самые различные таланты в одно созвездие.
Это вполне реальный тип - фигура флорентийца того времени. Это
обнаженное тело - такое, каким его являет живая натура, то есть человек,
в точности представленный буквальным подражанием, а не
преображенный идеальной концепцией. Когда впервые открывают реальную жизнь
и, проникая в ее существо, начинают понимать дивный механизм всех ее
частей, - этого созерцания достаточно, и ничего больше не хотят.
Столько вещей содержится в одном теле или в одной голове! Каждая
неправильность - вот такое-то удлинение шеи, такое-то сжатие носа, такая-то
странная складка губ - образует часть индивидуальности. Эта
индивидуальность была бы искажена, если бы ее изменить, - это было бы уже не
данное лицо, а другое. Связь этих неправильностей с целым так велика,
что невозможно опустить их, не разрушив тем общего впечатления.
Индивидуальное неповторимо, и его может передать лишь портрет. Вот
почему фрески этой эпохи выстраивают по церквам ряды портретов, и не
только портреты лиц, но и портреты тел. Анатом-ювелир, Поллайоло или
Верроккьо, кладут на свой стол нагой труп, сдирают с него кожу,
отмечают в своей памяти выступы костей, вздутие мускулов, переплетение жил,
потом переносят на полотно эту модель в черных и светлых тонах, как он
мог бы передать ее в бронзе выпуклостями и углублениями. Если вы
скажете ему, что эта ключица слишком выступает, что эта кожа,
изборожденная мускулами, походит на пучок канатов, что эти физиономии
гладиаторов и кентавров отталкивающе отвратительны, как плебейские
лица, искаженные и обезображенные ссорой или оргией, - он нас не
поймет. Он укажет вам на работника, на первого встречного, прежде же
всего на труп, особенно с содранной кожей; он скажет или будет чувствовать,
что прихорашивать жизнь означает фальсифицировать ее. Как раз эти-то
складки лица, эти острые углы приподнятых и перекрещивающихся
мускулов и интересуют его; его большой палец - палец формовщика и
резчика - погружается в них и здесь встречается со своей способностью
воображения. В этих деталях для него кроется запас напряженной
активной силы, которая вот-вот развернется во внешнем столкновении;
нельзя достаточно подчеркнуть эти детали; на взгляд этих людей, весь человек
заключается в них. Лука Синьорелли, потеряв своего любимого сына,
раздевает тело и тщательно зарисовывает все мускулы, чтобы лучше
сохранить в памяти. Нанни Гроссо, умирая в больнице, отказывается
приложиться к распятию, которое ему подали, и велит принести другое -
работы Донателло, говоря, что иначе «он умрет в отчаянии - так ему отврати-
• 108·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Верроккьо. Крещение Христа. Фрагмент. Галерея Уффици во Флоренции
• 109·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
тельны плохо сделанные произведения его ремесла». Анатомическая
форма так запечатлена в их уме, что человеческое существо, в котором
они ее не почувствовали, кажется им бессодержательным и
несуществующим. Какой-нибудь лопатки, какого-нибудь мускула достаточно, чтобы
привести их в восторг. «Знай, - говорит позднее Челлини, - что когда
торс наклоняется вперед или назад, пять ложных ребер образуют вокруг
пупка множество выступов и углублений, которые принадлежат к числу
главных красот человеческого тела... Ты испытаешь удовольствие, рисуя
позвонки, так как они великолепны... Ты нарисуешь затем кость,
расположенную между двумя бедрами; она очень хороша, зовут ее репицей
или крестцом... Важный пункт рисовального искусства - это уметь
хорошо сделать нагого мужчину и нагую женщину». То же можно видеть и на
их творениях. В «Святом Себастьяне» Поллайоло интерес
сосредоточивается не на мученике, а на палачах. Аля художника, как и аая них дело
заключается, прежде всего в том, чтобы хорошенько нашпиговать
пациента [стрелами]. И вот шесть человек, наклоненных вперед или
откинувшихся назад, все в двух шагах от мишени, дабы не дать промаха,
натягивают или спускают свои арбалеты, с полуоткрытым от избытка внимания
ртом, с нахмуренной бровью, чтобы проследить выстрел, с
раздвинутыми и крепко упертыми ногами, чтобы рука была тверже; художник не
думал ни о чем другом, кроме выставления напоказ тел и поз. Точно так же
его брат, Пьеро, в Сан Ажиминьяно поместил в своем «Короновании
Марии» четырех исхудалых и загорелых святых, вся забота которых -
заставить выступить свои вены, жилы и мускулы. Также и Верроккьо в
«Крещении Христа», в Академии, демонстрирует старого, сухощавого,
морщинистого Христа, угловатого святого Иоанна, печального и сердитого
ангела, контрастирующих с изяществом прекрасного полусклоненного
юноши, которого поместил в углу его молодой ученик, Леонардо, как
предзнаменование и первый луч совершенного искусства. Во всех
подобных фигурах чувствуется не только знаток, любитель реального,
формовщик в гипсе нагого тела, но также и ювелир, мастер по бронзе и
мрамору С той минуты, как представишь их себе отлитыми из металла,
находишь их прекрасными. Эти одежды в тяжелых складках и изломах
были бы на своем месте у какой-нибудь орнаментальной фигуры.
Движение, теперь слишком резкое, было бы в меру живым, и поза, слишком
подчеркнутая, была бы уместной аая статуи. Маленький «Геркулес»
Поллайоло в Уффици, все мускулы которого напряжены и вздуты от головы до
пят, в борьбе с Антеем, которого он сжимает и душит, стал бы шедевром,
• ПО ·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
будь он бронзовый. Тогда мы не замечали бы его острых локтей и
колен, сухости его контуров, тусклости колорита; чувствовались бы
только жизненность его напряженной фигуры и бешеная энергия его усилия.
В этом тесном кругу и под руководством своей наставницы, скульптуры,
живопись двигается еще неповоротливо и в путах, и только однажды мы
видим, как она одерживает крупный успех.
Она сделала этот великий свой шаг благодаря гению одного юноши,
родившегося вместе со столетием и умершего двадцати шести лет, - Ма-
заччо, и еще вплоть до наших дней приходят в капеллу Бранкаччи
созерцать этого одинокого новатора, преждевременный пример которого
долго не находил подражателей. Не только он умер слишком рано, но он еще
был слабо оценен при жизни, «до такой степени, - говорит Вазари, - что
на его могиле не было сделано никакой надписи». Для того чтобы быть
главою школы и вести за собою общественный вкус, нужно быть не
только великим художником, но и искусным политиком и светским
человеком, а Мазаччо так мало умел заставить себя ценить, что не имел ни
одного заказа от Медичи. «Он жил, постоянно сосредоточенный в себе, -
говорит Вазари, - пренебрегая всем остальным, как человек, который,
отдав всю душу и всю свою волю единому искусству, мало занимается
самим собою и еще менее другими... не желая никогда и нисколько
думать об обыденных предметах и заботах, даже о своей одежде, спрашивая
деньги со своих должников, только когда доходил до крайней нужды».
С такими привычками достигается развитие таланта, но не
авторитетность, и можно создавать шедевры, не приобретая поклонников. Одним
из первых Мазаччо изучил нагое тело и ракурсы, наблюдал внимательно
перспективу, упражнял руку на трудностях, весь проникнутый чувством
реализма, «постигнув, что живопись есть не что иное, как наглядное
воспроизведение природных вещей посредством красок и рисунка, трудясь
постоянно над созданием фигур как можно более живых в их подобии
правде». Кроме этих талантов, общих у него с его современниками, он
имел еще один, который принадлежал лично ему и поднял его выше их
всех. В Уффици можно видеть его старика в колпаке и сером кафтане,
с морщинистым, немного насмешливым лицом; это портрет, но не
ординарный портрет; художник копирует действительность, но копирует ее
в общих чертах. Вот идея, или, скорее, намек на идею, который приносишь
с собою в эту капеллу Бранкаччи, покрытую живописью Мазаччо. Но она
не вся его кисти: Мазолино ее начал, а Филиппино Липпи закончил.
Однако части, написанные Мазаччо, могут быть выделены без особого труда,
• 111 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и оттого ли, что все три художника связаны между собою внутренним
сродством, оттого ли, что последний из них следовал картонам второго,
но все создание в своих различных фазах выражает лишь разные стадии
одного и того же духовного процесса.
Что бросается прежде всего в глаза - это что все они отправляются
от реального; я хочу сказать, от живого человека - такого, каким его
видят наши глаза. Юноша, принимающий крещение, которого Мазаччо
показывает нам нагим, выходящим из воды дрожа, со скрещенными
руками, - это современный купальщик, который дрожит в Арно в довольно
прохладный день. Точно так же его Адам и Ева, изгоняемые из рая, - это
простые флорентийцы, которых он раздел. Мужчина с тонкими
бедрами и широкими плечами кузнеца, женщина с короткой шеей и толстой
талией, оба с довольно уродливыми ногами, - ремесленники или
горожане, которые никогда не упражнялись, подобно грекам, нагими и тела
которых гимнастика не преобразила и не сделала пропорциональнее.
Равным образом и воскресший ребенок у Липпи,
коленопреклоненный перед апостолом, имеет тощие члены и костистую худобу
современного ребенка. Наконец, почти все головы суть портреты; два человека
в капюшонах, слева от святого Петра,-это монахи, выходящие из
своего монастыря. Известны имена современников, послуживших
художнику моделями: Бартоло ди Анджолино Анджоли, Граначчи, Содерини,
Пульчи, Поллайоло, Боттичелли, сам Аиппи. Кажется, что эта живопись
заимствовала все свое содержание из окружающей жизни, как гипс,
наложенный на лицо, воспринимает отпечаток той формы, которой он был
подчинен.
Отчего же эти лица живут высшей жизнью? Каким образом выходит,
что точное подражание реальности не является, однако, нисколько
подражанием рабским? И каким образом из обыкновенных персонажей
Мазаччо извлек возвышенные типы? Это потому, что из множества
наблюдаемых им вещей он наметил некоторые, более значительные, нежели
остальные, и подчинил им это остальное. Потому, что он отличил в
элементах человеческого тела и лица ценности различного рода и отбросил
или сократил менее значимое, дабы этим увеличить или подчеркнуть
более ценное. Потому также, что, имея перед глазами нагого мужчину
или женщину, когда он творил эту Еву, этого Адама, этого
принимающего крещение юношу и все прочее, он не цеплялся за все
бесчисленные и бесконечные нюансы красок и формы. Какой-нибудь дряблый
живот, какая-нибудь нога, искаженная обувью, какой-нибудь крошечный
• 112 -
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
выступ хряща или кости не казались ему главным в человеке. И в самом
деле, ведь главное не в этом: оно заключается в крепости костистого
остова, в распорядке мускулов и сухожилий, в движении, которое делают
или могут сделать приведенные в равновесие члены человеческого тела,
в дрожи и сжимании покрывающей это тело кожи, в общем порыве и
устремлении существа, увлеченного действием. Нагая или лишенная кожи
модель давала художнику только направление: он запоминал все ее детали
не аая того, чтобы твердить их как учебник, но чтобы понять их связь
и взаимную зависимость и посредством их передать общий строй и
впечатление жизненности. И с лицами так же, как с телами. То, что
отличает одно от другого лица моих современников - купца от купца,
монаха от монаха, или то, что есть случайного в каждом из них, - такое-то
искажение или особенная гримаса, которые запечатлены на этих лицах
привычкой к долгому бдению или к слишком сытным обедам, - может
ли это вызвать во мне какое-либо внимание? То, что важно для меня
и что важно вообще, - это лишь основная господствующая страсть
данного лица, главная тенденция его душевного строя - в особенности же то,
что есть в нем энергического, решительного, способного к действию или
к мысли, к расчету или сопротивлению. Я хочу видеть лишь основные
линии физической структуры, равно как и моральной. Все остальное
второстепенно - в живописи, как и в жизни, и вот почему живопись Мазаччо,
хотя она и опирается на реальное, достигает идеального. Она копирует
индивидуальности, - но в том, что в них есть общего: она оставляет лицам
их своеобразие и телам - их несовершенство, но она заставляет выступать
в лицах их характер, а в теле - его жизнь. Она покидает мелочный и
низкий стиль, чтобы достичь стиля высокого и простого. Иногда даже,
увлеченная своим движением, она овладевает этим стилем всецело. Многие
фигуры Мазаччо своим суровым величием, строгостью лиц, твердым
очерком подбородка уподобляются древним консулам. Святой Петр,
исцеляющий больных своей тенью, шествует с царским величием, как
римлянин, привыкший предводительствовать народами; Иисус Христос,
платящий дань кесарю, обладает спокойным благородством рафаэлевской
головы, и нет ничего прекраснее этой грандиозной группировки
сорока персонажей - просто одетых, суровых и строгих, в разнообразных
позах. Все они расположены вокруг нагого ребенка и святого Павла,
который его воскрешает, между двух архитектурных громад и перед
изукрашенной стеной. Это безмолвное собрание обрамлено с двух сторон еще
двумя отдельными группами: одна - из случайных прохожих, другая -
• 113 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Фра Филиппо Липпи. Мадонна с Младенцем и Рождество Богородицы.
Галерея Питти во Флоренции
из коленопреклоненных мужчин, - которые отвечают одна другой и
согласием своих нюансов добавляют богатейший аккорд ко всей широкой
гармонии.
К несчастью, они не удержались на достигнутой высоте. Художники
еще слишком погружены в свои новые открытия и в мелочное
наблюдение реального, чтобы устремлять взор выше. Их кисть не свободна.
Во всяком искусстве нужно долго сосредотачиваться на истинном, чтобы
достичь прекрасного. Глаза, прикованные к предмету, начинают слишком
подробно определять детали, с избытком обстоятельности и точности.
Лишь позднее, когда инвентарь закончен, дух, хозяин своих богатств,
поднимается над ними, выбирая или отбрасывая, что ему подходит. Глав-
• 114·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ный мастер этой эпохи - Фра Филиппо Липпи, точный и
любознательный подражатель реальной жизни, доводящий законченность своих работ
до такой степени, что, по словам одного современника, если бы
обыкновенный художник работал пять лет, денно и нощно, он не сумел бы
передать его картины. Он выбирал аая своих фигур круглые головы и
короткие шеи, довольно плотные тела; изображал Мадонн, которые
представляют собою милых девушек, несколько ограниченных и нисколько
не величественных, - и ангелов, похожих на школьников или на детей-
певчих крепкого телосложения, хорошо откормленных, немного тупых
и вульгарных. Но в то же время он работает над рельефом, выражает
более определенно колорит, делает выпуклыми и заставляет пробегать перед
глазами зрителя все малейшие детали одежды, какой-нибудь стены,
какого-нибудь венчика, с той силою и точностью рисунка, которые дают глазу
впечатление материального объекта, совершенно осязаемого и
законченного. В конце концов он подходит к своему времени сообразно
таланту и личному характеру; очень популярный, вызывающий общее
восхищение, пылкий и жизнерадостный, он был любимцем Медичи, которые
покровительствуют ему в его похождениях. Будучи сам монахом, он
похищает одну монахиню; он выпрыгивает из окна, чтобы бежать к своим
любовницам; он «чрезвычайно расточителен в делах любви и увлекается
ими непрерывно, без огласки, вплоть до самой своей смерти». Его
покровители «посмеиваются» над этим, говоря, что нужно прощать редким
гениям, «потому что это небесные существа, а не вьючные животные».
В конце концов, хотя это подражание природе, которое так
нравится флорентийским художникам, слишком буквально, оно имеет некую
особую прелесть. Нужно идти в церковь Санта Мария Новелла, чтобы
почувствовать его очарование. Там Гирландайо, учитель Микеланджело,
покрыл своими фресками хоры [пространство за алтарем]. Они плохо
освещены; неудачно нагромождены одна над другой; но около полудня
их можно видеть. Это история святого Иоанна Крестителя и Левы
Марии, и фигуры в половину натуральной величины. По своему
воспитанию, так же как по собственной склонности, художник, подобно своим
современникам, - копиист. В своей боттеге золотых дел мастера он
зарисовывал прохожих, и сходство его фигур вызывало удивление. По его
суждению, «вся живопись заключается в рисунке». Человек аая
художников того времени представляет собою еще только форму. Но у
Гирландайо было столь верное чувство этой формы и всякой формы
вообще, что, копируя в Риме триумфальные арки и амфитеатры, он рисовал
• 115 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
их на глаз так же уверенно, как при посредстве циркуля. Становится
понятным, что, получив такую подготовку, он поместил в свои фрески
изумительные и говорящие, как живые, портреты; между ними есть
двадцать один портрет мужчин, имена которых известны: Кристофоро Лан-
дино, Фичино, Полициано, епископ Ареццо; есть и портреты женщин,
между которыми прекрасная Лжиневра деи Бенчи. Все это -
изображения членов семейств, патронировавших эту капеллу Фигуры немного
буржуазны; многие, с сухим профилем и острым носом, слишком
близки к действительности. Им не хватает величия; художник остается на
земле и поднимается над нею не иначе, как с предосторожностями: у
него нет мощи крыльев Мазаччо. И все же он создает группы и
архитектурную обстановку; он располагает свои фигуры в округлых святилищах; он
одевает их в полуфлорентийскую-полугреческую одежду, соединяющую
или противополагающую в счастливых контрастах и грациозной
гармонии античность и современность. Сверх всего этого, художник искренен
и прост. Прелестная минута, нежная заря душевной юности - когда
человек в первый раз открывает поэзию реальных вещей! Тогда он не
проводит ни одной линии, которая не выражала бы его личного чувства;
он рассказывает только то, что испытал; тогда еще не существует одного
общепринятого типа, который заключил бы в свою условную красоту
зарождающиеся стремления сердца. Чем художник более робок, тем он
правдивее, и слегка сухие формы, к помощи которых он прибегает, суть
стыдливые признания новорожденной души, которая не осмеливается ни
ускользнуть, ни воздержаться от них. Можно провести здесь долгие часы
в созерцании женских фигур: это цвет города в пятнадцатом столетии;
и вот они перед нами - такие, какими они были, каждая со своим особым
выражением и милой беспорядочностью реальной жизни, все - с
чертами истых флорентиек, столь полными ума и понимания; формы
полусовременные и полуфеодальные. В «Рождестве Марии» молодая девушка
в шелковой юбке, которая является с визитом,- это барышня хороших
правил, благоразумная и простая; в «Рождестве Иоанна Крестителя»
другая, стоящая прямо, - средневековая герцогиня; рядом с нею служанка,
приносящая фрукты, в одеянии статуи, имеет порыв, веселость, силу
античной нимфы, так что два века и две красоты соединяются и сливаются
в наивности одного и того же правдивого чувства. Улыбка молодости
расцветает на их губах, и под маской полунеподвижности, под чертами
грубости, которые оставила им несовершенная еще живопись, можно
угадать скрытую страстность нетронутой души и здорового тела. Любопыт-
• 116·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ство и утонченность позднейших веков не умеют уже этого достичь.
Мысль этих существ спит; они шествуют или глядят прямо перед собою
с холодностью и важностью девственной чистоты; воспитание может
ухищряться сколько ему угодно, - его беспокойное изящество никогда
не сравнится с божественной неуклюжестью их серьезности.
Вот почему я так люблю живопись этой эпохи; никакую другую я не
смотрел столько во Флоренции. Эти картины часто неискусны, всегда
тусклы; движение и колорит здесь еще отсутствуют. Это заря
Ренессанса - серая и немного холодная заря, как это бывает весной, когда мы
видим, как пробуждается на бледном хрустале неба все разгорающийся
розовый блеск облаков и как, подобный огненной стреле, скользит
первый луч солнца по гребню полей. Эти сумерки тянутся даже когда на
горизонте встали уже великие гении; посреди освещенной окрестности
различаешь некую долину, где кроются еще неодухотворенные формы
старого стиля. Козимо Росселли, Пьеро ди Козимо, Лоренцо ди Креди,
Боттичелли не хотят уходить из нее; они хранят свой сухой рисунок,
блеклый колорит, неправильные или диспропорциональные фигуры,
мелочное подражание реальному. Но в другом отношении они идут
вперед, особенно Боттичелли, - в передаче глубокого и интимного чувства,
в нежности, смирении, болезненной и упорной мечтательности этих
задумчивых Мадонн, в хрупких и тонких формах, в трепетной
утонченности этих нагих Венер, в искаженной и страдающей красоте этих
преждевременных и нервных существ, в которых все - только дух, только
душа, которые обещают бесконечно много, но самая жизнь которых так
ненадежна. У всех художников этого времени - Мантеньи, Пинтуриккьо,
Франчи, Синьорелли, Перуджино - есть сходные достоинства: каждый
из них творит самостоятельно, каждый сам пробивает свою дорогу и идет
своим путем, опираясь на свои силы. Что его путь ограничен, и он
иногда оступается - это неважно: все его шаги сделаны им самим, и его
порыв родился в нем самом, а не заимствован от другого. Позднее
художники будут делать лучше, но они будут менее оригинальны; они станут
скорее продвигаться вперед, но уже целой толпой; они уйдут дальше, но
под руководством великих учителей. На мой взгляд,
дисциплинированное вдохновение не стоит вдохновения свободного; то, что я провижу
сквозь какое-либо создание искусства, так же как сквозь всякое
создание, - это породившее его состояние души. В стремлении к цели, хотя
бы без ее достижения, люди живут возвышеннее и мужественнее,
нежели при достижении без стремления. Начиная с той поры, таланты будут
• 117·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
подавлены гениями, и художники станут мельчать, меж тем как
искусство станет расти.
13 апреля, монастырь Сан Марко
Как они волновались и работали в этом пятнадцатом столетии! Но
среди этих шумных языческих мастерских продолжает существовать
некий тихий монастырь, где благочестиво и кротко грезит мистик
былых дней - Фра Анджелико да Фьезоле.
Этот монастырь остался почти нетронутым; два четырехугольных
двора развертывают здесь цепи своих колонок, накрытых аркадами, и свои
маленькие крыши из старых черепиц. В одной из зал хранится нечто
вроде мемориала или генеалогического древа с именами наиболее
славных иноков, почивших в ореоле святости. Среди этих имен стоит
также имя Савонаролы с упоминанием, что он погиб вследствие
несправедливого обвинения. Вам показывают две кельи, в которых он обитал.
Ранее его в монастыре жил Фра Анджелико, и живопись его кисти
украшает Зал капитула, коридоры и серые стены келий.
Он остался чужд миру и продолжал, среди новой чувственности и
любознательности, ту невинную и полную божественных восторгов жизнь,
которую описывают нам «Fioretti». Он жил в послушании и первобытной
простоте, и про него рассказывают, что «когда однажды папа Николай V
пригласил его завтракать, он признался, что не решается есть мясо без
разрешения своего приора, - не подумав о высшем авторитете Папы».
Он отказывался от почетных званий в своем ордене и заботился только
о молитве и покаянии. «Когда у него просили какую-нибудь его работу,
он отвечал с необыкновенным добродушием, чтобы об этом
переговорили с приором и, если тот разрешит, то за ним дело не станет». Он
никогда не хотел писать никого, кроме святых, и про него передают, что
«он не брал своей кисти в руки, не совершив молитвы, и не мог
изображать Христа на кресте без того, чтобы его глаза не были полны слез.
Он имел обыкновение никогда не править и не переписывать своей
живописи, оставляя ее так, как она вышла из-под его кисти, и, веря, что
она вышла такой, как хотел Бог». Понятно, само собою, что подобный
человек не изучал анатомии и реальной фигуры. Его искусство просто,
как его жизнь. Он начал с молитвенников и продолжал писать на стенах;
золото, киноварь, яркий багрец, сверкающая зелень - все
средневековое иллюминирование развертывается в его картинах, как на старых
пергаментах. Иногда он накладывает краски сверх меры: детское бла-
• 118·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Монастырь Сан Марко во Флоренции. Лворик с фресками Фра Анлжелико.
Фотография 1860-х голов
гочестие хочет изукрасить и заставить сиять своего святого и своего
идола как можно больше. Когда он оставляет фигуры малого размера
и рисует в натуральную величину большую сцену в двадцать фигур, - она
ему не удается: у его персонажей нет тела. Одного трогательного и
сосредоточенного выражения недостаточно, чтобы их оживить; они
остаются условными и закоченелыми: он знал только их душу. Но что он
умеет рисовать и повторяет повсюду - это видения, видения невинной
и блаженной души. «Лай мне, о сладчайший и всеблагой Иисусе,
упокоиться в Тебе, по ту сторону и превыше всякого творения и спасения
всей красоты и славы... превыше всех даров и благодеяний, которые Ты
можешь дать и пролить, превыше всякой радости и веселья, которые
душа может воспринять и почувствовать... Вот - мой Бог, и все в Нем. Чего
мне еще хотеть и какого еще большего счастья могу я желать? Мой Бог,
и все в Нем. Этого довольно тому, кто понимает, и твердить это
беспрестанно сладко тому, кто любит... В Твоем присутствии все пленительно;
• 119 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
если Ты отсутствуешь, все внушает досаду Ты содеял мое сердце
покойным; Ты водворил в нем великий мир и праздник радости». Подобное
обожание не развивается без внутренних представлений; закрыв глаза,
следуют за ними долго и без усилий, лишь только отдались своей
мечте. Подобно матери, которая, едва оставшись одна, видит скользящим
в памяти образ своего любимого сына; подобно целомудренному поэту,
который в ночном безмолвии воображает и видит снова перед собою
потупленные долу очи своей возлюбленной, - сердце верующего
невольно вызывает и созерцает процессию божественных образов.
Ничто не смущает его в этом мирном созерцании. Вокруг все действия
урегулированы и предметы тусклы; каждый день однообразный ход
времени проводит перед взором те же самые белые стены, тот же
коричневый блеск деревянной резьбы, те же ниспадающие складки
капюшонов и ряс, тот же гул шагов, уходящих в трапезную или в капеллу.
Среди этой монотонности смутно пробуждаются тонкие, едва
различимые ощущения, и нежная мечта, подобно розе, укрытой от грубого
дыхания жизни, распускается вдали от большой дороги, где стучит
людской шаг. Тогда развертывается перед мысленным взором все
великолепие вечности, и отныне все усилия художника направлены к тому,
чтобы его выразить. Яшмовые и аметистовые лестницы возносят там
свои блистающие ступени вплоть до престола, где восседают небесные
существа. Золотые ореолы сияют вокруг их глав; их одеяния, красные,
лазурные, зеленые, с золотой бахромой, унизанные и расшитые
золотом, сверкают своим блеском. Золото вьется гирляндами по
балдахинам, мерцает на шитье риз, звездится на туниках, расцвечивает
диадемы, а топазы, рубины, алмазы пламенеют в созвездиях на ювелирной
отделке венцов. Все полно блеска; - это излияние мистического света;
благодаря такому обилию золота и лазури над всем господствует сияние
солнца и неба. Но это отнюдь не обычный день: он слишком
блистающий, он поглощает все краски жизни, он обволакивает тела со всех
сторон, уничтожает их и сводит до степени теней. В самом деле, это -
только души; тяжелая материя здесь преобразилась, ее контуры более
не чувствуются, ее субстанция испарилась, от нее осталась только одна
эфирная форма, утопающая в блеске и лазури. Вот праведники
приближаются к раю между роскошных газонов, усеянных красными и белыми
цветами, под сенью прекрасных цветущих деревьев; их ведут ангелы
и рука об руку с ними, по-братски, образуют хоровод; тяжесть плоти
уже не удручает их более; с головой, звездящейся лучами, они скользят
• 120 ·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
по воздуху вплоть до огненных дверей, откуда бьет золотой сноп; на
самом верху Христос, в тройном ожерелье ангелов, теснящихся вокруг
Него, как цветы, улыбается среди своего ореола. Это те очарования и
светлые видения, о которых рассказывал Ланте.
И эти фигуры отвечают своему месту: лицо Христа, хотя прекрасное
и идеальное, даже среди небесного триумфа бледно, задумчиво и слегка
исхудало. Это предвечный друг, утешитель, немного скорбный,
«Подражания» Фомы Кемпийского - тот поэтический и милосердный Господин,
о котором мечтает печальное и нежное сердце; это отнюдь не слишком
цветущее тело художников Ренессанса. Его длинные белокурые волосы,
его русая бородка мягко обрамляют лицо; иногда Он тихо улыбается, и к
величавости у Него всегда примешивается благосклонная доброта. В день
суда Он отнюдь не проклинает, и только рука Его опустилась долу со
стороны осужденных, а взор всецело обращен направо - в сторону
блаженных, которых Он возлюбил. Возле Него Богоматерь, на коленях, с
опущенными глазами, кажется молодой девушкой, которая только что
приняла причастие. Зачастую у нее слишком большая голова, как это бывает
у людей, страдающих галлюцинациями, плечи же слишком узки, а руки -
малы: внутренняя духовная жизнь слишком развилась в ущерб другой,
и длинный лазурный, расшитый золотом плащ, окутывающий всю
фигуру, не позволяет угадывать, есть ли за ним тело. Не увидев этого,
нельзя представить себе столь непорочной скромности, столь девственной
чистоты; возле нее Мадонны Рафаэля кажутся только красивыми
крестьянками, сильными и простыми.
И остальные фигуры подобны этим. Все они выражают только два
чувства: невинность кроткой души, сохранившейся в стенах монастыря,
и восторг блаженной души, видящей Бога. Лики святых представляют
собою портреты, но улучшенные и облагороженные: небесное
преображение освобождает в теле, как и в душе, часть идеальную, подавленную и
извращенную грубостью земного существования. Ни одной морщины нет
на самых старых лицах: они расцвели вновь под веянием вечной юности.
Ни одной черты изнеможения на телах: они уже вошли в обитель
чистейшей радости. Лица праведников спокойны; чувствуешь, что они
пребывают неподвижно, поглощенные экстазом; они не решаются двинуться
с места, поправить складку платья из боязни упустить что-либо из своих
видений; их ресницы обращаются к горнему миру, но тело не меняет
положения. Они замкнулись на себе, дабы полнее вкушать свое
блаженство; они говорят, подобно евангельским ученикам: «Господи, хорошо нам
• 121 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
здесь; соорудим три кущи: одну - аая Тебя, другую - аая Моисея и
третью - аая Илии». Некоторые из них ученики, похожие на детей-хористов,
на монастырских послушников, робких и полных благоговения.Когда они
видят маленького Иисуса, у них прорывается движение детской
веселости; но вслед за тем, боясь сделать ему больно, они смущаются и
сдерживают себя. В этом мире нет сильных и увлекающих волнений: они
полупогашены и остановлены в своем развитии монастырской тишиной
и послушанием.
Но самые очаровательные фигуры - ангелов. Их видишь
коленопреклоненными в безмолвных вереницах вокруг престолов или
сплетающихся гирляндами в лазури. Самые юные из них - милые, невинные дети;
они не имеют никакого представления о зле; они не мыслят много;
каждая голова, в ее золотом кружке, улыбается и счастлива; она будет
улыбаться вечно - и в этом вся ее жизнь. Другие, с пламенными крыльями,
подобные райским птицам, играют на музыкальных инструментах или
поют, и их лица сияют. Один из них, поднявший свою трубу, чтобы
приложить к губам, вдруг остановился, как бы зачарованный
ослепительным видением. Вот этот, со скрипкой на плече, кажется, замечтался под
сладкие звуки своего инструмента. Двое других, со сложенными руками,
замерли в созерцании и обожании. Один, очень юный, с девической
округлой фигурой, склоняется, как бы вслушиваясь, прежде чем ударить
по своим цимбалам.
С гармонией звуков согласуется гармония цветов. Краски не движутся,
возрастая, убывая, стираясь, как на обыкновенных картинах. Каждое
платье одного определенного оттенка: красное рядом с синим,
ярко-зеленое рядом с бледно-фиолетовым, золотое шитье по
темно-малиновому, - точно простые тона, поддерживаемые ангельской мелодией.
Художник увеселяется ими; он никогда не может найти аая своих святых
достаточно ярких красок и достаточно драгоценных украшений. Он забывает,
что его фигуры - священные изображения, и изливает на них
тщательнейшие заботы верующего и обожателя. Он расшивает их одеяние, точно
настоящее платье; он заставляет виться на их плащах узоры, тонкие, как
ювелирная работа; он рисует на их ризах целые маленькие картины; он
заботится, чтобы мягко струились их светлые волосы, чтобы аккуратно
лежали локоны, чтобы правильно ниспадали складки их туник, чтобы
отчетливо круглилась на их головах монашеская тонзура; он вступает вслед
за ними в небесную обитель, чтобы там любить их и служить им. В самом
деле, он сам есть последний цветок мистицизма. Тот мир, который его
• 122 ·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
окружал и которого он не знал, выхолит в это время окончательно на
совершенно иной путь и, после краткого взрыва энтузиазма, отлает на
сожжение преемника Фра Анлжелико, ломиниканца, как и он, - последнего
христианина Савонаролу.
14 апреля, Уффици
Что можно сказать о галерее, в которой тысяча триста картин? Что
касается меня, то я отказываюсь... Загляни в каталоги, отправляйся в
кабинет гравюр или, лучше всего, приезжай сюла. Впечатления, которые
выносишь из этих огромных склалов, слишком велики и разнообразны,
чтобы передать их в письме. Заметь, что музей Уффици - универсальное
хранилище, нечто вроле Лувра: здесь живопись всех эпох и всех школ,
бронза, статуи, скульптурные произведения, глиняные вещи, античные
и новейшие, кабинет гемм, этрусский музей, портреты художников,
написанные ими самими, двадцать восемь тысяч оригинальных рисунков,
четыре тысячи камей и изделий из слоновой кости, двадцать четыре
тысячи медалей... Сюда приходят, как в библиотеку: это образцовая
выставка всего. Прибавь, что, кроме того, посещаешь еще другие места -
Палаццо Веккьо, Палаццо Корсини, Палаццо Питти. Заметки
накапливаются; но я не нахожу ничего, что бы выделить из их массы. Мне, конечно,
кажется, что я дополнил, исправил, уловил оттенки некоторых моих
прежних идей. Но дополнений, исправлений, оттенков не рассказывают.
Проще всего оставить в стороне изучение и прогуливаться аая своего
удовольствия. Подымаешься по большой мраморной лестнице;
проходишь перед знаменитым античным кабаном; входишь в длинный
коридор подковой, населенный бюстами и увешанный картинами. Около
десяти часов утра посетители редки; безмолвные сторожа ютятся по
углам; кажется, что находишься в самом деле у себя дома. Все это
принадлежит вам, и какая это удобная собственность! Хранители и слуги - тут,
налицо, чтобы держать все в порядке, тщательно прибранным и в
полной сохранности. Не нужно даже отдавать им приказаний; дела идут
сами собой, без сучка и задоринки, без всякого беспокойства с вашей
стороны. Это идеальный мир - такой, какой мы должны бы иметь.
Освещение прекрасно; блестящие стекла окон бросают свой отблеск на кое-
какие стоящие вдалеке статуи, на розовый торс женщины, который
выступает, как живой, из тени. Насколько хватает взгляда, мраморные
императоры и боги развертывают свой строй вдоль окон, сквозь которые
виден Арно, катящий свою мелкую зыбь, серебро с чернью своих волн
• 123·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и водоворотов. Погружаешься в сладкую отрешенность созерцательной
жизни; напряжение воли слабеет; внутренняя тревога стихает;
чувствуешь, что становишься монахом, современным монахом. Здесь, как
некогда в монастырях, нежное, интимное внутреннее существо, подавленное
необходимостью действовать, незаметно высвобождается, чтобы
вступить в общение с этими образами, свободными от жизненных нужд. Так
сладко больше не быть! Так естественно больше не быть! И какое
царство мира - эти человеческие облики, изъятые из человеческой борьбы!
Отвлеченная мысль, наблюдающая их, сознает, что ее иллюзия
преходяща. Но она приобщилась к их бесплотной ясности, и мечта, блуждая над
их страстями и негами, несет удовлетворение без пресыщения.
С левой стороны коридоров открываются кабинеты сокровищ: зала
Ниобеи, зала портретов, зала современных бронз -каждая со своей
особой группой драгоценностей. Вы знаете, что можете войти туда, что
великие люди вас ждут... Делаешь выбор; возвращаешься снова в
«Трибуну»; пять античных статуй стоят там в одном кругу: раб, который
оттачивает свой нож; двое увлеченных схваткой борцов, все мускулы
которых напряжены и вздуты; прелестный шестнадцатилетний
Аполлон, неразвившееся тело которого дышит еще гибкостью самой ранней
юности; удивительный фавн, который чувствует свое животное естество,
весел без всякой задней мысли и пляшет вовсю; наконец, Венера Меди-
цейская - изящная молодая девушка, с маленькой головой, отнюдь не
богиня, как ее милосская сестра, но совершенный тип простой
смертной. Это - создание какого-нибудь Праксителя, влюбленного в гетер,
она еще умеет быть нагою и свободна от той довольно пошлой
жеманности и манерной кокетливости, которую ей придают копии, и хотят
навязать ее слишком худые руки работы Бернини. Это, может быть,
воспроизведение той Венеры Книдскои, о которой Лукиан рассказывает
такую странную историю, и перед нею вспоминаешь о поцелуях юношей,
прижимавших свои губы к этому мрамору, о восклицании Харикла,
который, увидев ее, назвал Марса счастливейшим из богов. Вокруг
статуй на восьми простенках залы висят один над другим шедевры
величайших художников. «Мадонна со щегленком» Рафаэля - целомудренная
и чистая, как ангел, душа которой - еще нераскрывшийся бутон. Его же
нагой «Святой Иоанн» - красивое тело четырнадцатилетнего мальчика,
здоровое, цветущее, в котором ожило самое подлинное язычество.
Особенно - великолепная голова женщины в венке, сияющая, как летний
полдень, с твердым и прямым взглядом, - той крепкой южной породы,
• 124·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Рафаэль. Мадонна со щегленком. Галерея Уффици во Флоренции
• 125·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
которую не могут расшатать никакие волнения, в жилах которой кровь
не стучит приливами и самая страсть заставляет лишь лицо разгораться
более жаркими тонами. Это - римская муза, у которой воли еще больше,
нежели сознания, и упорная энергия просвечивает в состоянии покоя,
как и в действии. В одном углу толстый кавалер кисти Ван Лейка, весь
в черном, с большими брыжами. Он должен быть столь же
величественным и полон высокомерного апломба и в жизни, как в наружности, -
во-первых, потому, что он привык много есть; во-вторых, потому, что он
обладает бесспорным начальственным авторитетом. Делаешь три
шага и оказываешься перед «Бегством в Египет» Корреджо - живая и
горделивая фигура Мадонны, вся пронизанная внутренним светом, в
которой чистота, изящество, нежность и дикость молодой девушки слились
в одно целое, чтобы волновать зрителя самой умилительной грацией и
дразнить самой острой прелестью. Совсем близко «Сивилла» Гверчино,
под своим замысловатым тюрбаном и в своих искусных драпировках,
являет собою одухотвореннейший и утонченнейший тип сентиментальной
поэтессы.
Я пропускаю двадцать других: нужно сохранить свое последнее
впечатление аая двух «Венер» Тициана. Одна, напротив двери, лежит на
плаще красного бархата. Это широкий и мощный торс, столь же
полный, как у вакханок Рубенса, но более твердых очертаний, - энергичная
и вульгарная фигура, простая куртизанка, ограниченная и сильная. Она
вытянулась на спине и ласкает маленького, нагого как она амура, с
бессодержательно-серьезным видом и душевной неподвижностью
покоящегося животного, которое ждет. Другая, так называемая «Венера с
собачкой», - это возлюбленная вельможи, лежащая на постели,
прибранная и готовая. Узнаешь дворцовую обстановку того времени - искусно
убранную спальню, различные оттенки красок, противопоставленные
умело и роскошно, ради удовольствия глаз. В глубине служанки
приводят в порядок платья; в окно виден голубоватый кусок сельского
пейзажа. Господин сейчас придет. В наши дни мы глотаем наслаждение втайне,
как украденное лакомство; эти люди выставляли его напоказ,
сервировали на золотом блюде и садились за стол. Это потому, что наслаждение
для них не заключало в себе ничего низменного или животного. Эта
женщина с букетом в руках, в этой большой зале с колоннами, не имеет
вовсе пошлой улыбки, лукавого или бесстыдного вида развратницы,
которая сейчас сделает дурной поступок. Вечерняя тишина входит во
дворец сквозь благородные проемы здания. Под тускло-зеленой занавесью,
• 126·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
на белом покрывале, это тело, слабо розовеющее от смутного волнения
жизни, раскрывает гармонию своих округлых форм. Голова мала и
невыразительна: душа не поднялась над уровнем телесных инстинктов.
Вот почему она может покоиться здесь без стыда, а поэзия искусства,
роскоши и уюта спешит всеми своими средствами украсить и
облагородить эти инстинкты. Это куртизанка, но это и дама. В те времена
первое качество не уничтожало второго; одно звание было ничем не хуже
другого; и, по-видимому, по своим манерам, по сердцу и уму, дама и
куртизанка стоили друг друга. Знаменитая Империя была погребена в
церкви Сан Грегорио в Риме, и на ее гробнице сделана следующая надпись:
«Империя, куртизанка, римлянка, достойная столь великого имени, дала
людям пример совершенной красоты; жития ее было двадцать шесть лет
и десять дней; скончалась в 1511 году, 25 августа». Двумя столетиями
позже президент де Бросс в Венеции, запасшись одним адресом, встретил
даму столь благородных манер, столь величественной осанки, с речами,
столь исполненными достоинства, что он растерялся и рассыпался в
извинениях; он уже уходил, совершенно сконфуженный ее презрением,
когда она засмеялась и просила его садиться.
Когда из итальянских зал переходишь в залы фламандской школы,
чувствуешь себя совершенно сбитым с пути. Эти картины написаны аая
каких-то купцов, довольных своим покоем у домашнего очага, хорошим
обедом и подсчетом своих сбережений. Кроме того, в странах, где часто
идет дождь и бывает грязно, приходится быть одетыми, и женщине еще
больше, чем мужчине. Ум чувствует себя стесненным, когда он
погружается в эту мелочную интимную жизнь буржуа. Это впечатление Коринны,
когда из свободной Италии она попадает в унылую и печальную
Шотландию. Но все-таки и здесь есть одна картина - большой пейзаж
Рембрандта, - которая равняется и превосходит все: темное небо, изливающееся
в потоках дождя, с каркающими воронами, а внизу - бесконечная,
скорбная, как кладбище, равнина; справа - нагромождение пустынных скал
столь мрачной и зловещей окраски, что впечатление достигает степени
возвышенного. Это andante Бетховена после итальянской оперы.
14 апреля, Уффици
Осмотр античных вещей и скульптур Ренессанса.
Узнаешь тотчас же родственную близость двух эпох. Обе одинаково
языческие; это значит - занятые единственно физической жизнью и
здешним миром. Тем не менее, их разделяет заметное различие: древность -
• 127·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
более спокойна, и в лучшие времена греческой скульптуры это
спокойствие необычайно - это покой животной, даже почти растительной
жизни. Человек живет - и не желает ничего сверх этого. По первому
впечатлению он нам кажется даже вялым, по крайней мере, бесцветным
и почти унылым - по контрасту с обычной лихорадочной
напряженностью и глубокой внутренней работой современных голов.
Напротив, скульптор Возрождения подражает более старательно
реальной действительности и больше ищет экспрессии. Посмотрите на
статуи Верроккьо, Франкавиллы, Бандинелли, Челлини, особенно же
Донателло. Его «Иоанн Креститель», иссохший от поста, - совсем скелет;
у его «Давида», столь изящного, столь красиво поставленного, острые
локти и руки необычайной худобы. Личный характер, волнение
страстей, особенности положения, яркая воля или оригинальность выступают
в их произведениях, как на портретах. Они чувствуют жизнь лучше, чем
гармонию.
Вот почему в скульптуре по крайней мере, единственные мастера,
которые дают чистейшее ощущение прекрасного, - это греки. После них
начинаются блуждания; ничье искусство уже не умеет привести душу
зрителя в столь совершенное равновесие. Это замечаешь на самом себе,
когда бродишь целый час по длинной галерее; ум внезапно чувствует
себя успокоенным; ему кажется, что он нашел твердую основу.
Проходишь наскоро перед бюстами императриц, которые почти все
испорчены претенциозными и затейливыми прическами; бросаешь взгляд на
бюсты императоров, любопытные аая историка и резюмирующие,
каждый, особый характер и особое царствование. Но задерживаешься перед
статуями атлета, «Дискобола», перед маленькой «Вакханкой», особенно
же перед богами - «Меркурием», «Венерой», двумя «Аполлонами».
Мускулы затушеваны; торс продолжен без впадин и выпуклостей руками
и ляжками; никакого напряжения. Как это удивительно в нашем мире,
где только и видишь, что напряженность! Это потому, что, со времен
греков, человек в своем развитии искривился, он искривился
односторонне, вследствие преобладания умственной жизни. Теперь он хочет
слишком многого, он метит слишком высоко, у него слишком много
хлопот. В те времена, если юноша достаточно упражнялся в гимназиуме,
если он выучил несколько гимнов и научился читать Гомера, если он
слушал ораторов в народном собрании и философов под портиком, -
его воспитание было закончено: человек был готов и вступал в полноте
своих сил в жизнь. Какой-нибудь богатый молодой англичанин, из хоро-
• 128 ·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
шей семьи и спокойного характера, который много греб, боксировал и
ездил верхом, который имеет ясные и здравые идеи, который живет охотно
в деревне, представляет в наши дни наименее несовершенное подражание
юному афинянину У него даже часто бывает та же самая неподвижность
лица и то же спокойствие взгляда. Но только у него это ненадолго. Он
должен поглотить слишком много знаний, и знаний слишком определенных:
языки, географию, политическую экономию, греческие стихи в Итоне,
математику в Кембридже, цифры и разные сведения в журнальных
статьях, наконец, Библию и мораль. Так подавляет нас наша цивилизация;
человек сгибается под тяжестью ее непрерывно растущего творчества;
бремя его собственных открытий и идей, которое он сносил легко на
первых порах, не отвечает более его силам. Он вынужден укрываться в
глухой провинции, сделаться профессиональным работником. Одно
направление развития исключает возможность других; от него требуется, чтобы
он стал рабочим или кабинетным человеком, политиком или ученым,
промышленником или отцом семейства, чтобы он замкнулся в
какой-нибудь одной роли и отказался от всего остального; он будет неспособным
к этой роли, если не сделается уродом. Вот почему он потерял
спокойствие, а искусство утратило гармонию.
Кроме того, скульптор не обращается уже к некоторому религиозно
настроенному городу, а к сборищу изолированных любителей. Он
перестал быть сам гражданином и жрецом: он только человек и художник.
Он выдвигает анатомические детали, которые произведут впечатление
на знатоков, и подчеркивает выражение, которое будет понятно и
невежде. Он нечто вроде ювелира высшего разряда, который хочет завоевать
себе положение и привлечь внимание. Он создает простое произведение
искусства, а не создание искусства национального. Зритель платит ему
похвалами, а он платит зрителю удовольствием. Сравните «Меркурия»
Джованни да Болонья и юного греческого атлета, стоящего поблизости.
Первый, летящий, стоя лишь на кончике ноги, демонстрирует
искусное решение, делающее честь мастеру и представляющее любопытное
зрелище, которое привлечет взгляды посетителей. В противоположность
этому, молодой афинянин, который ничего не говорит и не делает
ничего, который довольствуется жизнью,-это образ города, памятник его
олимпийских побед, поучительный пример аая юношей и аая
гимназий; он служит воспитанию, как статуя бога - религии. Ни бог, ни атлет
не нуждаются в том, чтобы быть интересными, - им достаточно быть
совершенными и спокойными. Они - не предмет роскоши, а подробность
• 129 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
общественной жизни; они представляют собою некоторое
напоминание, а не простую мебель. Их уважают и у них учатся; их не обращают
в предмет развлечения или критики. Точно так же мраморный «Давид»
Донателло, столь гордо поставленный, задрапированный так
оригинально, столь возвышенно-серьезный, - это не герой и не святой: это чистый
продукт воображения. Мастер делает языческую или христианскую
статую сообразно заказу, и вся его забота заключается в том, чтобы
понравиться людям со вкусом. Посмотрите, наконец, на самого Микеландже-
ло: его «Мертвый Адонис» с головой,склоненной на согнутую руку, его
«Вакх», подымающий свою чашу и полураскрывший рот, как бы
произнося тост, - два превосходных тела, вполне естественных и почти
античных. Но и у него, однако, как у его современников, движение и
занимательность преобладают; так же, как они, он не удовлетворяется более
простым изображением самодовлеющего бытия. Эта великая
трансформация человеческой жизни, вывихнутой и раздробленной в различных
своих сочленениях, изменила сверху донизу идеальные представления,
общественные чувства и самый дух художника. Отныне новое искусство
будет изображать индивидуальную личность, бросающиеся в глаза
частности, неудержимые страсти, разнообразие движений, - взамен
абстрактных типов, общей формы, гармонии и покоя.
Следишь за развитием этой мысли и уходишь из Уффици, чтобы
видеть другие статуи. Входишь в Палаццо Веккьо. Колонны,
поддерживающие навесы двора, покрыты сплошь орнаментом и фигурками - это
блистательное и пышное нововведение Возрождения. Посреди возвышается
фонтан совершенного изящества (это слово постоянно приходит на ум
во Флоренции), а на его вершине Верроккьо поместил полную жизни,
прелестную статуэтку - стоящего мальчика из бронзы. Подымаешься
в залу Большого Совета, расписанную Вазари огромными безвкусными
фресками, и видишь вокруг себя ряд мраморных статуй: «Ева» и «Адам»
Бандинелли, оба худые и реалистические; «Добродетель, торжествующая
над Пороком» Джованни да Болонья - крупная, чувственная,
повелительная бой-баба, совершенно нагая, с необыкновенно кривым бедром;
юноша-победитель, попирающий пленника, работы Микеланджело, -
длинное тело с очень маленькой головой, - две черты, которые его школа
будет копировать буквально и кончит их преувеличением. Постоянно
повторяется та же характерная манера: красота заключается в точности
подражания или в преувеличенности выражения. Но это - вновь открытая
почва, на которой можно выстроить целый мир.
• 130·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Чтобы понять его, нужно идти в церковь Сан Лоренцо, которая вся
полна произведений Донателло, Верроккьо, Микеланджело. Церковь
перестраивал Брунеллески, а капелла в ней - создание Микеланджело.
Первая представляет собою храм с плоским потолком, поддержанным
коринфскими колоннами; вторая - квадрат, накрытый куполом. Первая -
слишком классическая; вторая - слишком холодна. Колеблешься
написать эти два слова; однако нужно говорить все - даже перед такими
великими именами. Но две кафедры Донателло, бронзовые барельефы,
покрывающие мрамор, множество натуральных и полных одушевления
фигурок, особенно фриз из маленьких голых ангелов, которые бегут
и играют по краю, и этот прелестный балкон под органом, столь тонкой
работы, что он со своими нишами, своими раковинами, колонками,
зверями, листвой кажется выточенным из слоновой кости, - сколько во всем
этом вкуса и грации! И какие мастера орнаментики - эти скульпторы
Возрождения!
За церковью входишь в капеллу Медичи и видишь колоссальные
фигуры, которые Микеланджело воздвигнул на их гробницах. Нет ничего
равного в современной скульптуре, и самые благородные изображения
древности не выше этого. Они - другие; это все, что можно сказать.
Фидий создавал блаженных богов; Микеланджело - страдающих героев; но
страдающие герои стоят блаженных богов: это то же величие души -
здесь преданное бедствиям мира сего, там - отрешенное от них. Море -
столь же величественно во время бури, как и в покое.
Все видели рисунки или гипсовые копии с этих статуй; но, не придя
сюда, нельзя видеть их душу. Нужно почувствовать почти физическим
прикосновением колоссальную, сверхчеловеческую массу этих
громадных продолговатых тел, все мускулы которых говорят, - полную
безнадежности наготу этих девственниц, у которых замечаешь лишь их
гордую печаль и аристократизм их расы и даже мысленно не допускаешь
приблизиться иным чувствам, кроме жалости и сострадания. В их жилах
течет другая кровь, чем в наших: низвергнутая Диана, попавшая в плен
к варварам Тавриды, имела бы эту внешность и это выражение лица.
Одна из этих женщин пробуждается и кажется потрясенной дурным
сновидением. Ее голова опустилась, брови нахмурены, глаза
полузакрыты, щеки ввалились. Сколько нужно было бедствий, чтобы подобное
тело почувствовало давление жизни! Его несокрушимая красота еще не
поддалась, но внутреннее страдание начинает уже запечатлевать на нем
свои укусы. Великолепная крепость природы, живая энергия торса и всех
• 131 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Церковь Сан Лоренцо во Флоренции. Фотография 1890-х голов
членов еще невредимы, но душа ослабела. Она с тягостным усилием
приподнимается на одной руке и с тоской встречает вновь дневной свет. Как
грустно раскрыть глаза и понять, что нужно еще раз взять на свои плечи
бремя человеческого дня!
Вблизи нее сидящий мужчина полуоборачивается с мрачным видом,
точно побежденный, который в озлоблении ждет своей участи. Какое
было бы напряжение и какой хруст раздался бы, если бы вся эта масса
мускулов, избороздивших торс, надулась и напряглась, чтобы задушить
врага! На другой гробнице незаконченная фигура пленника, с головой,
едва намеченной в каменной глыбе, с неуклюжими руками, с
искривленным туловищем, подымает одно плечо грозным движением. Я вижу здесь
все дантовские фигуры - Уголино, грызущего череп своего врага,
осужденных, встающих наполовину из своих пылающих гробов. Но это не
отверженные - это великие раненые души, которые законно возмущены
своим рабством.
Одна громадная женщина спит, вытянувшись: возле нее, под ее ногой,
помещена фигура совы. Это - сон изнеможения, угрюмое оцепенение
надорванного существа, ослабевшего и пребывающего неподвижно.
• 132 ■
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Микеланджело. Капелла Медичи в церкви Сан Лоренцо во Флоренции.
Фотография 1890-х голов
Ее прозвали «Ночь», и Микеланджело написал на цоколе: «Мне слаще
спать и быть камнем, пока тянутся дни бедствий и стыда. Не видеть, не
чувствовать - вот моя отрада. Итак, не буди меня! ах, говори тише!». Но
он не имел нужды в этих стихах, чтобы сделать понятным чувство,
руководившее его рукою: его статуи говорят достаточно громко сами по себе.
Его Флоренция только что была побеждена; напрасно он укреплял и
защищал ее; после длившейся целый год осады папа Климент взял ее.
Последнее свободное правление было уничтожено. Наемники врывались в дома,
убивали лучших граждан. Четыреста шестьдесят изгнанников были
приговорены к смертной казни заочно или читали по всей Италии
объявление, в котором была назначена цена за их голову Обыскивали
помещение, где жил Микеланджело, чтобы схватить и увести его; без помощи
одного друга, который его спрятал, он бы погиб. Он провел долгие дни,
заточившись в этом убежище, чуя смерть, похищавшую
благороднейшие жизни и блуждавшую возле него. Если вслед за тем Папа пощадил
его, то лишь из фамильных интересов - аая того, чтобы он кончил
капеллу Медичи. Он заперся здесь и работал с остервенением, ища
забвения в этой работе, в удовлетворении духа и усталости рук, крушение
• 133 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
побежденной свободы, агонию растоптанной родины, поражение
низвергнутой справедливости, трепет подавленной вражды, свое
бессильное отчаяние, все снедавшее его унижение. И это неукротимое
восстание упрямой души против насилия и рабства он перелил в своих героев
и девственниц. Над ними молчаливый Лоренцо, в своем воинском
шлеме, трагический и немой, с рукой, прижатой к губам, хочет встать. Это
движение короля, восседающего среди своего войска и отдающего
какое-нибудь важное приказание, - повелевающего разрушить город.
Фридрих Барбаросса должен был иметь такой вид, когда он велел плугу
пройти над Миланом.
Возле дверей великолепная незаконченная Мадонна держит Сына на
коленях; ее высокое, окутанное одеждою тело - удивительного
благородства; она наклоняется, и ее впалый бок образует странный изгиб, который
отмечают складки одежды; нежное лицо выражает благость и грусть. Как
и ее возлежащие сестры, она принадлежит к расе высшей и более
страдающей, нежели человеческая; это все существа, не приспособленные
к миру, бурные и потрепанные жизненным потоком, которые лишь
изредка встречают на своем пути отдых в мечтах возвышенных или мирных.
От его спокойного «Оплакивания» в соборе Святого Петра в Риме
и до этой столь величественной Богоматери, с душою столь
меланхолической и тонкой, - какое расстояние! Прибавьте сюда «Моисея» и
своды Сикстины - как человек вырос и как он страдал! Как он выработал
и уяснил свою концепцию жизни! Вот современное искусство,
совершенно личное и обнаруживающее особую индивидуальность, которая
есть индивидуальность художника, - в противоположность искусству
античному, совершенно безличному и открывающему некоторую вещь
общего характера, а именно - город. То же самое различие лежит
между Гомером и Ланте, между Софоклом и Шекспиром. Все более и более
искусство становится исповедью - исповедью индивидуальной души,
которая высказывает себя и делается вся целиком зримой аая повсюду
рассеянного, неопределенного множества других душ. Так творил
Бетховен - величайший и наиболее современный из современных
композиторов. Отсюда вытекает, что первое условие аая художника - это быть
личностью. Если этого нет, ему нечего сказать. Один итальянец в
Сиене говорил мне: «Некогда художники писали, выражая страсти, которые
они переживали; теперь они пишут, передавая страсти, которые они
воображают себе; вот почему раньше они творили образы, а теперь творят
лишь фантомы людей».
• 134·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Палаццо Питти во Флоренции. Фотография 1890-х голов
15 апреля, Палаццо Питти
Я сомневаюсь, чтобы в Европе был дворец более монументальный;
я не видел другого, который бы оставлял впечатление столь
величественное и столь простое.
Он стоит на возвышенности, что выдвигает всю его громаду, и
обрисовывается в голубом воздухе своими тремя различными этажами,
которые стоят один над другим, как три правильные глыбы - более узкая
на более широкой. С двух сторон две террасы выступают наискось,
прибавляя и свою массу к общей массе. Но что, в самом деле
необыкновенно и доводит до крайней степени впечатление грандиозной суровости
здания, - это огромность тех материалов, из которых оно построено.
Это не камни, а обломки скал, и даже почти куски гор. Некоторые глыбы,
особенно в фундаменте террас, длиною как пять человек. Едва
обтесанные, рыжеватые или черные, они хранят на себе печать своего
варварского происхождения. Такою выглядела бы гора, сорванная со своего
основания, изрубленная на куски и воздвигнутая на новом месте руками
циклопов.
• 135 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Никаких украшений на фасаде, только длинная балюстрада бежит
на самом верху, разрезая недвижную лазурь. Колоссальные круглые
аркады поддерживают окна, и каждый их позвонок выступает в своей
примитивной неправильности, точно хребет старого гиганта.
С внутренней стороны - квадратный двор, похожий на двор Палаццо
Фарнезе, обрамленный четырьмя массивными стенами, столь же
суровыми и громадными, как и наружные. И тут отсутствуют украшения, и
отсутствуют намеренно. Вместо всякой отделки - строй дорических колонн,
над ними - колонны ионические, над теми - коринфские. Эти круглые
столбы из целых глыб, нагроможденные одни над другими или
чередующиеся с глыбами квадратными, отвечают своими мощными размерами
и жесткими углами дикости и энергии всего остального. Один только
камень царствует здесь; глаз не ищет ничего, сверх разнообразия его
рельефов и твердости кладки; кажется, что он существует сам по себе и сам
себе довлеет, что искусство и воля человека тут не вмешивались, что здесь не
участвовала ничья фантазия. В нижнем этаже приземистые, выносливые
дорические пилястры несут на себе аркады, образующие открытую
галерею, и каждая дуга, ощетинившая свои выступы, кажется ребром
допотопного животного. Коричневый оттенок, подобный окраске покрытых
вековыми трещинами горных пиков, омрачает от низа до верха все
чудовищное сооружение и лежит на всем, вплоть до бугристой
исполосованной мостовой этого двора, замкнутого в каменной теснине.
Один флорентийский купец начал строить этот дворец в
пятнадцатом столетии и разорился на нем. Брунеллески был автором плана, и по
счастливой случайности его преемники, закончившие здание, не
смягчили ни в чем его характера. Если что-нибудь может дать понятие о
величии, суровости и смелости духа, завещанного Средними веками
свободным гражданам Возрождения, то это - зрелище подобного жилища,
построенного частным человеком лично аая себя, и контраст роскоши
внутреннего убранства со скромным внешним обликом. Медичи,
сделавшись абсолютными государями, купили дворец в шестнадцатом
столетии и украсили его по-королевски. Пятьсот картин наполняют его;
все - избранные между лучшими, и многие - между шедеврами. Они не
образуют музея, систематизированного по школам и векам, как в наших
новейших больших собраниях, предназначенных служить аая
художественного или исторического изучения и доставлять сведения демократии,
считающей науку своей руководительницей и образование своей
опорой. Эти картины украшают салоны королевского дворца, где государь
■ 136·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Сады Боболи во Флоренции. Фотография 1890-х голов
принимает приближенных и выставляет напоказ свою роскошь в
празднествах. Век новаторов сменился веком знатоков, - и пышность золотых
одеяний, строгость испанского этикета, изысканность нового чичисбей-
ства, дипломатическая сдержанность официальных бесед, распущенность
и утонченность монархических нравов расцветают перед этими
картинами, с их благородными формами и полными жизни телами, перед
золотыми арабесками стен, перед парадной демонстрацией драгоценной
мебели, - всем, чем властитель импонирует и поддерживает свой сан.
Пьетро да Кортона, [Чиро] Ферри, Марини, последние художники
времен упадка покрывают плафоны аллегориями в честь царствующего дома.
Вот Минерва влечет Козимо I к Венере и приводит его же к Геркулесу -
образцу великих подвигов и героических деяний; и в самом деле, он
казнил или приговорил к смертной казни лучших граждан Флоренции, и это
он сказал о мятежном городе: «Я предпочитаю, чтобы этот город
обезлюдел, чем чтобы я потерял его». На другом плафоне Слава и
Добродетель ведут его к Аполлону, покровителю наук и искусств; и в самом деле,
он давал пенсии сочинителям сонетов и заказывал мебель аая парадных
• 137·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
покоев. Далее, Юпитер и весь Олимп пришли в движение ради его
встречи; на самом деле, он отравил свою дочь, велел убить любовника дочери,
убил своего сына, который убил брата; вторая его дочь была заколота
своим мужем; мать умерла от этого. Во втором поколении эти
происшествия начинаются сначала; в этом семействе убийство и отравление
сделались наследственными.
Но столы из малахита и драгоценных камней так прекрасны!
Коллекция вещей из слоновой кости, мозаичная мебель, чаша с ручками в виде
драконов так хорошо подобраны! Какой двор понимал тоньше
произведения искусства и лучше устраивал празднества? Что могло быть
блистательнее и затейливее мифологических представлений, которыми были
отпразднованы свадьбы Франческо Медичи с пресловутой Бьянкой Ка-
пелло или Козимо Медичи с Марией-Маддаленой Австрийской? Где было
лучшее убежище аая академиков, занятых очищением языка и
редактированием посвящений, или аая поэтов, закруглявших комплименты
и оттачивавших «concetti»? Здесь процветают приторная учтивость с ее
надутостью, литературный пуризм с его щепетильностью, спесивый
дилетантизм с его изысканностью, сытая чувственность с ее равнодушием, -
и «весьма знаменитый, вполне превосходный, вполне совершенный»
флорентийский аристократ, ставший учителем всей Европы, объясняет
со снисходительной улыбкой варварам, являющимся с севера,
«достоинства» художников Флоренции и «смелость» ее скульпторов.
Но здесь слишком много тех и других; я скажу тебе, как в Уффици:
приезжай сам посмотреть на них. Пять или шесть картин Рафаэля
выделяются из остального; одна из них - «Мадонна Грандука», которую
некогда великий герцог возил с собою в путешествиях; она стоит в
красном платье, в длинной зеленой накидке, - и простота цветов отвечает
простоте позы. Короткая белая прозрачная вуаль спускается с ее русых
волос до половины лба. Глаза опущены, цвет лица удивительной белизны;
легкая окраска, как у кустарниковой розы, легла на ее щеки; крошечный
рот закрыт. Она спокойна и простодушна, как немецкая девушка:
Рафаэль еще не вышел из школы Перуджино. Другая его картина, «Мадонна
в кресле» [«Madonna délia sedia»], составляет контраст с первой. Это
прекрасная султанша, черкешенка или гречанка; на ее голове - нечто
вроде тюрбана, и восточные ткани, расцвеченные яркими красками,
окаймленные золотой бахромой, ниспадают вокруг нее; она нагибается
над своим ребенком с красивым жестом дикого животного, и ее ясные,
без всякой мысли, глаза глядят свободно перед собою. Рафаэль стал языч-
• 138·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ником; он уже не помышляет ни о чем, кроме красоты телесной жизни
и облагорожения человеческой фигуры. Это заметно также и в его
«Видении Иезекииля» - маленькой картине, высотой не более фута, но в
высшей степени выразительной. Иегова, являющийся в вихре, - это Юпитер,
с обнаженной грудью, с мускулистыми руками, с королевской осанкой,
и у ангелов вокруг него такие цветущие тела, что они кажутся толстыми.
Здесь ничего не осталось от ужаса и восторга израильских ясновидцев:
ангелы смеются, вся группа гармонична, колорит простой и красивый;
видение, которое у пророка заставляет стучать зубы и пробегать дрожь
по телу, - у художника только возвышает и укрепляет дух. Что находишь
во всех картинах Рафаэля - это совершенное чувство меры. Все его
фигуры, христианские или языческие, пребывают в равновесии и находятся
в мире с самими собой и со всем миром. Кажется, что они живут в
каком-то лазурном царстве, как жил сам их творец - с самого начала
окруженный общим восхищением и всеми любимый, избавленный от невзгод,
любивший, не доходя до безумия, работавший, не доходя до лихорадки,
и в этой вечной безоблачности поглощенный лишь исканием
какой-нибудь округлой формы руки или каких-нибудь складок бедра аая фигуры
ребенка, маленького ушка или волнистости волос лля образа женщины, -
искавший, исправлявший, делавший открытия и улыбавшийся над
ними, как человек, который слушает внутреннюю музыку. Поэтому-то он
производит^акое слабое впечатление на людей, в душе которых мало
спокойствия.
Вот почему также утонченные или увлеченные страстью художники,
которые вкладывают в свое искусство некоторую предвзятость,
руководимые особым властным инстинктом, - нравятся мне больше. В этом
смысле портреты производят на меня впечатление более сильное,
нежели все остальное, потому что они заставляют выступать особенности
индивидуальной личности. Один из таких портретов, приписываемый
Леонардо да Винчи, называется «Монахиня». Белая вуаль, похожая на
монашеский нагрудник, лежит на ее голове; грудь, наполовину
обнаженная, вздымается с величавой холодностью под платьем черного бархата.
Лицо лишено красок, кроме только странно-красных губ, и в спокойной
фигуре сквозит оттенок беспокойства. Это не отвлеченный образ,
вышедший из головы художника: это реальная женщина, которая жила в
действительности, сестра Моны Лизы, столь же сложная, столь же полная
внутренних контрастов, столь же неразгаданная, как и та. Монахиня это,
принцесса или куртизанка? Может быть, и то, и другое, и третье вместе,
• 139·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
как та Вирджиния да Лейва, историю которой недавно откопали. С
матовой монастырской бледностью она соединяет пышность светской наготы,
а ее алые губы на недвижно-бледном лице кажутся пурпурным цветком,
распустившимся на могиле. Некая душа, неведомая и опасная, спит или
бодрствует под этой беломраморной грудью.
В этой области величайшие мастера - венецианцы, Тициан - на
первом месте. Портреты Рафаэля (их здесь пять) говорят мне менее или
дают просто, сдержанно, в общих чертах, самую сущность типа, но они
не передают, как Тициан, всю глубину духовной жизни, всю
подвижность лица, все поистине бесконечное своеобразие личности, все
интимное в человеке. Здесь насчитывают восемь или десять портретов
Тициана: анатома Андреаса Везалия, Аретино, Ауиджи Корнаро, кардинала
Ипполито Медичи в костюме венгерского магната, - все как живые, со
странным, беспокойным и беспокоящим, несмотря на свою
неподвижность, взглядом. Филипп II Испанский, стоящий в парадном костюме,
в панталонах с буфами, в чулках, доходящих до половины ляжек,
бледный, холодный, со своей выдающейся челюстью, кажется каким-то
недоноском, нескладным, незаконченным, скованным натурою и
этикетом. Но особенно хорош портрет некоего венецианского патриция, имя
которого неизвестно, - один из величайших шедевров, какие я только
знаю. Это человек лет тридцати пяти, весь в черном, бледный, с
пристальным взглядом, лицо слегка исхудалое, глаза бледно-голубые, жидкие
усы сливаются с редкой бородкой; он знатного происхождения и
высокого ранга, но он меньше наслаждался жизнью, чем иной поденщик;
доносы, тревоги, чувство опасности подтачивали и снедали его своей
глухой, непрерывной работой. Энергичная голова, утомленная и
мечтательная, которая знала внезапную решимость в черные минуты
жизненных превратностей, сияет в своем венце сумрачных тонов, как
мерцающая во мраке лампада.
Иногда жизненная правдивость так велика, что портрет, помимо
сознания художника, достигает высшей степени комизма. Таков тот,
который Веронезе написал со своей жены. Ей сорок восемь лет, у нее
наружность знатной вдовы, двойной подбородок и прическа, как у собачки;
в черном бархатном платье с квадратным декольте в кружевной отделке,
она пышно выступает во всей своей красе, хорошо сохранившаяся,
тщательно выряженная, величественная и добродушная толстуха,
красноватое тело которой, совершенное самодовольство и округлая полнота
слегка напоминают откормленных индюшек, готовых аая плиты.
• 140·
ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Невозможно оторваться от этих венецианцев - от глубокой синевы
их пейзажей, от сияющей в жаркой тени наготы, от этих круглящихся
в осязаемом воздухе плеч, от живого трепета расцветающей, как
тепличный цветок, плоти, от переливающихся складок блестящих тканей,
от горделивых старческих фигур в их длинных мантиях, от чувственной
прелести женских лиц, от той силы, выражающейся во взгляде, в
телосложении, во всей осанке, с которой эти согнутые или выпрямленные
тела выказывают все богатство своей расы и жизненные качества своей
крови. Одна картина Джорджоне изображает нимфу, преследуемую
сатиром; какими словами можно передать могущество этих тонов и
наслаждение, испытываемое глазом? Все утопает в тени; но недвижная,
пламенеющая фигура, прекрасное плечо и грудь выступают, как
видение. Нужно видеть это живое тело, выплывающее из глубокой темноты,
это яркое сияние пурпуровых тонов, которые идут, угасая и нарастая,
от черноты ночи, вплоть до полуденного блеска. Висящая напротив
«Клеопатра» Гвидо Рени, жемчужная на светло-аспидном фоне, кажется
каким-то нелепым фантомом, выцветшей тенью сентиментальной
девицы. Столь же жизненна, как нимфа Джорджоне, одна женщина,
именуемая «возлюбленной Тициана», в синем, вышитом золотом платье со
вставками фиолетового бархата. Ее заплетенные светло-русые волосы
блестят среди мелких шаловливых кудряшек; ее очаровательные руки
изысканного изящества и цвета пребывают в покое, ибо ее туалет
окончен; маленькая голова очень юной, веселой и довольной своим нарядом
девушки чуть приметно оживляется лукавой полуулыбкой. Она похожа
на «Венеру с собачкой»; если это она же, одетая здесь и раздетая там,
можно понять художника, патриция или писателя, который отдал бы
всего себя подобному счастью; сердце и чувства здесь равно покорены;
в такой женщине он, с переменами позы и туалетов, обладал бы
пятьюдесятью женщинами. В самом деле, с нее не спрашивалось души; от нее
требовались только веселость, красота, нарядность: прочитайте в
письмах Аретино о его домашнем быте и о других домах Венеции.
Но я кончаю; я допустил ошибку, позволив себе увлечься своими
вкусами: я должен был бы говорить только о флорентийских
художниках. Между ними есть двое - Андреа дель Сарто и Фра Бартоломео,
которых мы почти не знаем у себя дома, и которые достигли вершины
своего искусства возвышенностью типов, красотою композиций,
простотою приемов, гармоничностью драпировок и спокойствием
выражения. Может быть, именно от этих законченных средних талантов
• 141 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
можно получить самое правильное и чистое представление о
флорентийском искусстве и вкусе. В Палаццо Питти - шестнадцать больших
картин Андреа дель Сарто; другие - в Палаццо Корсини и в Уффици,
и еще более прекрасные фрески - в портике Сервитов [церковь Сантис-
сима Аннунциата]. В том же Палаццо Питти - пять больших картин Фра
Бартоломео - особенно колоссальный «Святой Марк», менее горделивый
и менее вдохновенный, но столь же величавый и грандиозный, как
пророки Микеланджело; есть его картины и в Уффици; наконец,
великолепный «Святой Винсент» в Академии. Этот художник-монах был самым
религиозным из мастеров, вполне владевших формой; никто не
осуществил так искусно слияния христианской чистоты с языческой красотою.
Один и тот же человек рисовал своих Мадонн нагими, прежде чем
написать их, для того чтобы поместить настоящее и совершенное тело под
ниспадающими драпировками, и он же сделался доминиканцем после
смерти Савонаролы, чтобы получить вечное спасение. Странное сочетание
действий, казалось бы, противоречивых, которое обличает единственный
в истории момент, когда новое язычество и старое христианство,
встретившись без борьбы и соединяясь без взаимного разрушения, позволяют
искусству обожать телесную красоту и прославлять физическую жизнь, но
при условии, чтобы оно любило только их благородные стороны и
изображало только возвышенные. Со своим сдержанным, смягченным и всегда
простым колоритом, со своим особенным тяготением к чистому рисунку,
со своим чувством меры, с равновесием и изысканной утонченностью
своих способностей и инстинктов, флорентийцы оказались подходящими
более, нежели другие, аая выполнения этой задачи. Итальянское
искусство нашло свой центр во Флоренции, как некогда греческое - в Афинах.
Как некогда в Греции, другие города были недостаточно талантливы или
слишком своеобразны. Как некогда в Греции, развитие искусства в других
городах носило местный или временный характер, и, как некогда Афины,
Флоренция собрала их вокруг себя и руководила ими. Как некогда
Афины, она сохранила свое первенство вплоть до самой эпохи упадка.
Благодаря творчеству Бронзино, Понтормо, Аллори, Чиголи, Дольчи, Пьетро да
Кортона, благодаря своему языку и своим академиям, благодаря Галилею
и Филикайе, своим ученым и поэтам, и позже, наконец, благодаря
терпимости своих государей и быстроте своего пробуждения, она осталась
духовной столицей Италии. ЛУ
•y
ОТ ФЛОРЕНЦИИ
ДО ВЕНЕЦИИ
Падающие башни в Болонье. Фотография 1890-х голов
БОЛОНЬЯ
17 апреля,
от Флоренции до Болоньи
ЕЛЬЗЯ представить себе страны, более
прекрасной и более плодородной. От Пистойи
начинаются горы; карета поднимается медленно
с одного холма на другой, потом с одной
крутизны на другую, в продолжение двух часов,
по вьющейся зигзагами дороге, и с вершины
до подножия вся местность обработана и
обитаема. При каждом повороте дороги видишь
дома, сады, террасы маслин, посевы, поддерживаемые подпорными
стенками, фруктовые деревья, укрытые в лощинах, участки зеленых
лугов, бьющие повсюду источники. Женщины, стоя на коленях, стирают
белье у клокочущего клюва фонтанов или в маленьких деревянных
стоках, распределяющих орошение и свежесть по склонам. Насколько
хватает взгляда, долины и холмы несут на себе печать человеческого труда
и преуспевания. Все пущено в дело: слишком острые вершины и
слишком крутые скаты засажены каштановыми деревьями. Горы подобны
огромной террасе со многими ступенями, вытесанными нарочно аая
различных культур. Лаже на самой высоте, в соседстве со снегами,
маленькие терраски, шириной в шесть футов, дают траву для скота. Эти
признаки индустрии и благосостояния заметны и на местных жителях,
так же как на почве: у крестьян есть башмаки; женщины пасут скот
и, передвигаясь, успевают заниматься плетением соломы; дома в
хорошем состоянии; деревни многочисленны; в них есть коммунальные
школы; на самом гребне Апеннин - кафе, которое носит имя горы.
Здесь - поистине сердце Италии; своей гениальностью, творческими
силами, благосостоянием, красою, здоровыми условиями Флоренция
превосходит Рим, а этот барьер гор может служить защитой от иноземного
вторжения.
Противоположный склон образует другой барьер: Апеннины со
своими контрфорсами так же широки, как и высоки. Мы спускаемся, и
дорога вьется между небольшими лесистыми ущельями, вправленными
в строгие формы нагих скал и покрытыми сплошною зеленью,
вперемежку с красноватым убором стволов. Спускается ночь, и железная
дорога углубляется в гряду новых гор: пейзаж пустынный, фантастиче-
• 145 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ский, пугающий, как пейзажи Ланте; рассевшиеся горы, расколотые
скалы, многочисленные длинные туннели, куда вихрем врывается
грохочущая машина; высохшие, как скелет лощины; поток бежит почти
у самых колес вагонов, и большие площадки накатанных голышей
внезапно белеют в лунном свете. В этой пустыне, посреди ложа из валунов,
нагроможденных зимними дождями, в углу какой-нибудь гробовой
пещеры, замечаешь иногда хвойное дерево, подобное призраку в склепе,
а при остановках поезда слышишь вокруг только шум холодной воды
по голым камням.
17 апреля, Болонья
Болонья - это город аркад: они идут с обеих сторон, вдоль главных
улиц; приятно бродить под ними летом в тени, а зимой - под защитой
от дождя. Почти все итальянские города имеют какое-нибудь подобное
изобретение или особенное сооружение, которое увеличивает
жизненные удобства и служит аая общего пользования. Только в Италии
узнаешь настоящим и всесторонним образом приятность жизни, и
возможно, именно поэтому всем она так нужна и все туда стремятся.
Что бросается в глаза у молодых людей здесь, как и во Флоренции
и повсюду, что замечаешь на их лицах в театре, на прогулке, на улице, -
это какое-то влюбленное выражение, любезная улыбка, экспансивная
и ласковая манера; ничего насмешливого или сухого, как у французов.
Они выговаривают слова «bella», «vezzosa», «vaga», «leggiarda»
[«красавица», «очаровательная», «изящная», «грациозная»] с особенным
акцентом, как дон Оттавио у Моцарта или как первые тенора итальянской
оперы. Во флорентийском театре тенор на коленях перед Маргаритой
производил нелепое впечатление, но превосходно передавал это душевное
состояние. По той же причине они одеваются в светлые, приятные для
глаза материи, носят кольца и большие золотые цепочки, волосы у них
блестят, во всей наружности есть что-то сияющее и цветущее.
У женщин черные, смелые ресницы, яркая окраска черных волос,
отважно взбитых или заплетенных в блестящие косы, резкие очертания
скул и подбородка, нередко квадратный лоб, широкая и хорошо
развитая нижняя часть лица, крепко посаженная голова лишает их облик
всякого оттенка мягкости и тонкости, и очень часто даже правильности
и благородства. Взамен того линии и выражение всех черт лица
отмечены энергией, силой, жизнерадостной смелостью, твердым и ясным
разумением, желанием и способностью хорошо воспользоваться жизнью.
• 146·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
Палаццо Подеста в Болонье. Фотография 1890-х годов
Когда в витринах книжных магазинов видишь фигуры, в которых
рисовальщики на политические темы выводят Италию и разные ее
провинции, то находишь, что они отмечены тем же самым характером: хотя это
богини, и богини аллегорические, но у них круглые головы на короткой
шее, лица грубовато-насмешливые и чувственные. Нет ничего важнее
таких ставших популярными фигур и общепринятых типов.
Посмотрите, ради контраста, на нежную англичанку из «Punch» с ее
длинными буклями и слишком свежим платьем, или на француженку Марсе-
лина, кокетливую, бойкую, экстравагантную, или, наконец, на
целомудренную, честную, непосредственную, немного простоватую немку из
«Kladderadatsch» и мелких берлинских журналов.
Я только что прошелся по улицам Болоньи. Сейчас девять часов утра.
Из четырех женщин три всегда завиты и почти разряжены; их твердый
взгляд уверенно останавливается на прохожих; они идут с непокрытой
головой, только некоторые оставляют висеть на плечах черную вуаль;
их волосы пышно взбиты с двух сторон; они кажутся идущими на завое-
■ 147·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
вание; нельзя представить себе физиономии столь непосредственно
торжествующей, такое шествие примадонны по облакам. С подобным
характером и при таком складе духа и воображения у мужчин, они
должны быть госпожами.
Что можно делать за табльдотом, как не смотреть? В этом безмолвии
и вынужденной общности, глаз и ум работают. Дама, сидящая напротив
меня, - жена майора, командующего гарнизоном в Абруццах; она
хороша собой, хотя уже зрелого возраста, весела, решительна, уверена в себе,
и что за бойкий язык! Север и юг Европы, латинские и германские расы
за тысячу миль от этой легкости речи, этой смелости суждений, этой
быстроты действия. Лама судит обо всем, рассуждает обо всем: о
лености абруццских крестьян, об их вендетте, о затруднениях правительства,
о своей собаке, о своем муже, об офицерах батальона «нашего славного
27-го полка». Она говорит со мной и тут же обращает слово к соседу -
духовному лицу, который, как и другие, имеет итальянскую внешность, -
я хочу сказать, галантный, предупредительно-учтивый вид. Ее фразы
льются с быстротой и звонкостью неиссякаемого потока. Третьего дня
другая, сорока восьми лет, в черном спенсере, разубранном лентами, с
красной физиономией, занимала одна целое общество и заставляла стены
залы дрожать от своей болтовни и своих приговоров. В другой раз одна
маленькая хорошенькая горожанка почувствовала себя дурно внутри
дилижанса, и ее муж привел ее к нам на империал. Она стала нас
расспрашивать, поправлять ошибки моего произношения; когда два или три
раза подряд я неверно ставил ударение или не схватывал надлежащей
интонации, она теряла терпение и делала мне наставление. Она нам
рассказала, что только что вышла замуж, что ни у нее, ни у ее мужа не было
ни гроша, чтобы обзавестись домом, и проч.; вокруг нее собралось трое
мужчин, но она управляла разговором и распоряжалась ими. В моей
памяти - до пятидесяти персонажей, которые все распределяются по этим
трем типам. Главная черта - это живость и ясность побуждений, которые
смело обнаруживают себя, едва лишь родились. Все их идеи заострены
резкими углами; это - француженки, ставшие более сильными и менее
тонкими; как и те, и даже более, нежели те, итальянская женщина
отличается волей, играет центральную роль; она не ждет указаний от
другого, а сама захватывает инициативу. В ней нет никакой нежности, робости,
стыдливости, сдержанности, способности уйти целиком в семью, мужа
и детей по немецкому образцу. Я невольно сделал сравнение с
присутствовавшими тут же англичанками. Они выглядели достаточно странно -
• 148·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
эти пуританки в глубине души, застывшие в морали, похожие на
искусно слаженные машины. Одна особенно, в своей соломенной шляпке
колпачком, настоящая недозрелая spinster [старая дева], без умения одеваться,
без грации, без улыбки, без пола, постоянно молчащая или режущая
словом как ножом. Она, несомненно, принадлежала к тому разряду девиц,
которых встречают плывущими вверх по Белому Нилу вдвоем с матерью
или подымающимися на Монблан в четыре часа утра на канате между
двух проводников, в юбке, обращенной в панталоны, широко
шагающими по снегу. В здешней стране искусственный отбор создал баранов,
представляющих сплошной кусок мяса, а естественный отбор - женщину,
которая вся - действие. Но та же самая сила работала обычно в другом
направлении: деспотическая энергия мужчины и необходимость мирного
очага аая труженика, утомленного житейской борьбой, развили в
женщине качества старых немецких семейств, способность подчинения и
почтения, боязливую сдержанность, преданность домашней жизни, чувство
долга. Женщина тогда остается молодой девушкой даже в замужестве;
когда к ней обращаются с речью, она краснеет; если, со всеми
возможными подходами и предосторожностями, попытаться заставить ее выйти
из молчаливости, в которой она замкнулась, она выражает свое чувство
с крайней скромностью и сейчас же прячет его. Она - за тысячу миль от
желания властвовать, от инициативы, даже от чувства независимости.
Во всех английских супружеских парах, которые мне случалось видеть,
глава - мужчина; у всех итальянских - женщина.
Это нисколько не удивительно: здесь кажется, что они влюбчивы по
натуре и по традиции. Кучера и кондукторы дилижансов не говорят ни
о чем другом. Перед женщиной, как в присутствии всякого прекрасного
и блистательного объекта, они с первого взгляда впадают в восхищение
и энтузиазм. О, quanto bella. Двадцать раз за эти дни я слышал их
искренние и восторженные излияния. Они похожи на актеров, на
преувеличивающих мимов. «Bello, bello, bellissimo palazzo! La chiesa è magnifica,
stupenda, tutta di marmo, tutta di mosaico!» («Чудный, чудный,
чудеснейший дворец! Церковь великолепна, изумительна, сплошной
мрамор, вся в мозаиках!»). Их глаза ведут их и чувства уносят. Чем больше
наблюдаешь различные расы, тем более неравной кажется их
способность к наслаждению. Иных удовольствие едва лишь затрагивает;
других оно увлекает и перевертывает. У одних наслаждение похоже на вкус
переспелого яблока; у других - на глубокий и сладкий аромат зрелой
кисти золотого винограда. У одних внешний мир родит почти одноцвет-
• 149 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ную цепь тусклых впечатлений; у других - бурный водоворот крайнего
волнения. Как следствие этого, строй жизни различен: аая каждой души
степень влечения прямо пропорциональна степени наслаждения. Я мог
бы передать здесь две-три историйки, одна из которых достойна Банделло
или Пекороне; я был поверенным и почти свидетелем в одном
маленьком городке. Но такие истории рассказываются, а не пишутся.
Французский язык не допускает откровенности простых, неприкрытых
инстинктов; он называет прекрасное непристойным. Здесь же больше
терпимости; правду говоря, шпионят и здесь, как в наших провинциальных
городах, но общество довольствуется смехом - оно не исключает
влюбленных из своих рядов, оно не страдает ханжеством.
17 апреля, Болонья
Церкви здесь ординарны, незаконченны или модернизированы; но
произведения скульптуры изумительны.
Наиболее ценные находятся в церкви Сан Доменико, на гробнице
святого Доминика, отделанной в 1231 году воскресителем искусства Никко-
ло Пизано. Это первый памятник, свидетельствующий о возрождении
красоты в Италии. Вспомним, что в этот самый момент дух аскетизма
благодаря усилиям доминиканцев и францисканцев достиг нового
подъема, что в Евррпе господствовало готическое искусство, перешагнувшее
за Альпы и создавшее Ассизи. И как раз для самого мощного выразителя
этой мистической лихорадки - на мраморной гробнице первого
инквизитора - ваятель обретает снова мужественную красоту языческих форм.
Ни одна из его фигур не имеет болезненного, экзальтированного или
тощего вида; все - могучего, здорового телосложения, порою даже
жизнерадостны. Если у них есть какой-нибудь недостаток, то это, скорее,
избыток силы. Обычно их щеки слишком полны, объем головы слишком
массивен; дюжее тело почти тяжело. Большая Богоматерь в центре имеет
удовлетворенную ясность духа доброй и счастливой матери семейства; ее
bambino [младенец] толст и благополучен. Самое живое и откровенное
выражение полнейшей радости сияет на лице матери, сын которой,
убитый лошадью, только что воскрес. Многие фигуры молодых девушек,
особенно одна на крайней левой стороне фасада, кажутся цветущими
и могучими греческими кариатидами. Под рукою мастера самые
аскетические персонажи преображаются: иные дородного вида головы монахов
в капюшонах несмешливы и реальны. Во всех фигурах господствует
спокойствие, серьезность, хорошее настроение духа. Так развертывается по
• 150·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
всем четырем сторонам гробницы эта прекрасная мраморная процессия,
и украшающие капеллу небольшие скульптуры, исполненные Никколо
дель Арка двумя столетиями позже, только повторяют с большей
степенью искусства те же уверенные и свободные приемы. Среди них двое
юношей - один в кольчуге, другой в высоких сапогах, точно архангелы
Перуджино - выделяются горделивой красотою своих поз. Все нашло себе
место на этой раке, собравшей на пространстве нескольких квадратных
футов развитие всей новой скульптуры. Один коленопреклоненный ангел
справа, чистый и благородный, и один величественный, суровый святой
Петроний, держащий на своей руке город, были высечены резцом Мике-
ланджело. Но от первого до последнего мастера все эти создания
принадлежат к одному семейству - языческому, отличающемуся энергией и
хорошим телосложением. Если затем совершить прогулку по церкви, то можно
видеть, что за этот значительный промежуток в три столетия
первоначальная идея не поколебалась. Гробница Таддео Пеполи, 1337 года,
массивная и прекрасная, не имеет никаких готических безделушек; с обеих
сторон двое святых в длинных плащах стоят спокойные, взирая на
коленопреклоненную фигуру, подносящую им маленькую капеллу. Дальше,
на монументе Алессандро Тартеньо, 1477 года, в нише под сводом,
украшенной цветами, фруктами, головами зверей, коринфскими колонками,
над лежащей фигурой усопшего, - три Добродетели с полными и
смеющимися лицами, в богато отделанных одеждах, в изысканных и
выразительных позах. Здесь отразились сложные колебания и то смешение идей,
с которого в пятнадцатом столетии начался Ренессанс. Но среди
разнообразных уклонов своей мысли скульптор берет одну и ту же породу тел,
запечатлевшуюся в его памяти, - и то же самое чувство человеческого
телосложения, крепкой мускулатуры, натуральной жизни нагого тела
руководит им постоянно.
Этот большой город, Болонья, - печален и неблагоустроен. Многие
кварталы кажутся покинутыми; уличные мальчишки играют и бранятся
между собою на пустых площадях. Несколько монументальных зданий
производят угрюмое впечатление, как дома в наших провинциальных
городах. И в самом деле, это был прежде провинциальный центр,
управлявшийся папским легатом; из бурной республики сделали мертвый
город. Просишь указать себе лучшее кафе и тотчас же уходишь оттуда: это
кофейня захолустного местечка. На минуту останавливаешься перед
двумя наклонными башнями, построенными в двенадцатом столетии,
прямоугольными, странными, не имеющими и тени изящества Пизан-
• 151 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Площадь и фонтан Нептуна Джамболоньи в Болонье. Фотография 1890-х голов
ской башни. Приходишь, наконец, к главной церкви - Сан Петронио.
Это стрельчатая базилика с куполом итальянской готики низшего
разряда. Вспоминаешь с сожалением о прекрасных зданиях Пизы, Сиены
и Флоренции. Республиканское правление и свободная творческая
энергия держались здесь слишком недолго, чтобы завершить свое создание.
Строение перегорожено пополам и не окончено; внутри все покрыто
штукатуркой, три четверти окон заложены, фасад не достроен. В
тусклом освещении, пропускаемом слишком редкими окнами, замечаешь
несколько хороших скульптур: «Ева и Адам» Альфонсо Ломбарди,
«Благовещение». Но нет настроения вникнуть в них: глаза слишком
опечалены. Выходишь и с полуразрушенной лестницы видишь грязную
площадь, нищих, компанию праздношатающегося сброда. Оглядываешься
еще раз назад, ради очистки совести, и внезапно охватывает волнение.
Над центральной дверью - цепь великолепных фигур, крупные,
мощные нагие тела в языческих изгибах и позах: удивительная
рождающаяся Ева; другая Ева прядет, меж тем как Адам работает в поле; другой
Адам, наклоняющийся назад, чтобы сорвать яблоко, с полным могучей
• 152 ·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
жизненности движением. Эти статуи принадлежат Якопо делла Кверча;
он сделал их в 1425 году: это тот момент, когда Гиберти отливал двери
Баптистерия. Но Гиберти возвещал о Рафаэле, а Кверча кажется
предшественником Микеланджело.
Это подбодряет, и направляешься к фонтану, который заметил налево.
Здесь Ренессанс и язычество достигают своей вершины. Наверху стоит
великолепный бронзовый Нептун Джованни да Болонья (1568) - не
античный бог, спокойный и достойный поклонения, а бог мифологии,
служащий для украшения, нагой и выставляющий свои мускулы. По
четырем углам бассейна четыре мальчика, веселых и красиво
изогнувшихся, ухватили дельфинов, которые бьются; под ногами бога четыре
женщины с рыбьими хвостами выставляют напоказ пышную наготу
своих выгнутых тел и откровенную чувственность смелых лиц, а
ладонями своих рук жмут изо всей силы вздувшиеся груди, чтобы заставить
их извергать воду.
Пинакотека
Делаешь в первый раз обход музея, и тотчас чувствуешь себя
привлеченным, притягиваемым, прикованным главной картиной - «Святой
Цецилией» Рафаэля.
Она стоит, окруженная четырьмя тоже стоящими фигурами, а над
нею, в небесах, ангелы поют по нотам. Больше ничего: ясно, что
художник не гонится за разнообразием движений и за драматическим
интересом; никакой изысканности или эффектности колорита;
красноватый тон, удивительной силы и простоты, пронизывает всю картину. Все
ее достоинство заключается в типах и особенностях ее персонажей;
краски, драпировки, жесты и все остальное тут играют только роль
величавого и сдержанного аккомпанемента, подчеркивающего крепость тел
и благородство лиц.
Как определить этот тип? Святая не имеет ни ангелоподобного, ни
экстатического вида; это сильная и здоровая молодая девушка, хорошего
телосложения и самочувствия, кожу которой итальянское солнце
позолотило вольным и прекрасным загаром. Налево от нее другая молодая
девушка, менее сильная и более юная, имеет выражение более невинное,
но чистота ее - только отражение покоя. У меня впечатление, что эта их
непорочность и целомудрие зависят не столько от темперамента, сколько
от возраста: их мирная голова еще не начинала размышлять, их
спокойствие - это покой неведения. И так как относительно Рафаэля, чтобы
• 153 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
отыскать какое-либо сравнение, приходится идти вплоть до вершин
идеала, то я должен сказать, что, на мой взгляд, только два типа превосходят
его: один - это тип греческих богинь, другой - некоторых молодых
девушек Севера. При том же совершенстве физического строения и при
равной ясности духа, они имеют еще нечто большее: первые - высшую
величавость избранных рас, вторых - высшую чистоту спиритуалистического
темперамента.
Вполне ясно, какой момент в развитии искусства представляет эта
картина. Ее пять отдельных фигур также мало связаны между собою, не
вовлечены в общее действие, как и у Перуджино, висящего напротив;
каждая из этих фигур существует сама по себе; композиция проста как
только возможно, почти примитивна. Это церковная картина, а не
украшение комнаты: она была заказана одной набожной дамой и служит
благочестивой цели еще более, нежели удовольствию. Но, с другой
стороны, ее фигуры уже не имеют того натянутого вида, как у Перуджино:
их неподвижность не лишает их выразительности. Они крепкого
телосложения, мускулистые и в широких одеяниях, красивые, свободные,
блаженные, как античные образы. Художник имел это исключительное
счастье стоять между угасающим христианством и близким к торжеству
язычеством, между Перуджино и Лжулио Романо. Во всякой эволюции
есть некоторый единственный момент совершенства; Рафаэль владеет
одним из таких, подобно Фидию, Платону и Софоклу.
Какое расстояние между этой «Святой Цецилией» и картинами
Перуджино, его учителя, или Франчи, его друга, которого он просил
поправлять его ошибки! Вокруг висит шесть картин Франчи - «Мадонн»,
скопированных с натуры и благосклонно улыбающихся, несколько
менее четких и сухих, чем у Перуджино, но в которых чувствуется
постоянно буквальное подражание природе и грубая рука резчика по металлу.
Как все облагородилось, освободилось, выросло под рукою юного
художника. И как становится понятен крик удивления всей Италии!
Он сильно вредит своим преемникам - этим болонцам, которые
наполняют галерею. Когда от картины Рафаэля переходишь к их живописи, -
кажется, что от писателя простого стиля перешел к риторам. Они ищут
эффектов, они декламируют, они уже не умеют более говорить
правильно на своем языке: они насилуют или искажают значение слов; они
впадают в изысканность или в преувеличения; претенциозность их стиля
контрастирует с расплывчатостью мышления и небрежностью речи.
И, однако, это ревностные художники, реставраторы языка. В сравнении
• 154·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
Рафаэль. Св. Цецилия. Национальная пинакотека в Болонье
• 155·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
с Вазари, Саббатини, Пассаротти, Прокаччини, их предшественниками
и соперниками - выродившимися учениками великих мастеров, они
прилежны и скромны. Они не хотят больше работать практическим
образом, при помощи излюбленных приемов, подобно их современникам,
проворным мастерам, которые хвастались своими фигурами в пятьдесят
футов высоты, умением поставлять живописи на полкопейки в день, своим
писанием обеими руками, забвением натуры и тем, что все они
извлекают из собственной гениальности, нагромождая утрированную
мускулатуру, необыкновенные ракурсы и напыщенные позы в своих громадных
махинах, разделанных со всею бесцеремонностью массового
поставщика и шарлатана. Болонцы пошли против течения, стали изучать старых
мастеров, долго терпели бедность, оставаясь без заказов, и, наконец,
открыли школу Там шла работа и не забывалось ничего, что могло привить
навыки во всех областях искусства. Копировали головы живых людей
и рисовали с нагой модели; гипсовые копии с античных произведений,
медали, оригинальные рисунки мастеров - все служило образцом.
Изучали анатомию на трупах и мифологию по книгам. Усваивали композицию
и перспективу; обсуждали и сравнивали приемы древних и новых
художников; наблюдали изменения в линиях, превращающие мужское лицо
в женское, неодушевленную форму в человеческую, трагическую позу в
комическую. Становились учеными, даже эрудитами, эклектиками и
систематиками. Устанавливали принципы искусства и создали канон для
художников, как некогда это сделали александрийцы для ораторов и поэтов.
Рекомендовались: «рисунок римской школы, движение и тени
венецианцев, красивый колорит ломбардцев, яростный стиль Микеланджело,
правдивость и натуральность Тициана, чистый и высший вкус Корреджо,
представительность и солидность Пеллегрини, изобретательность
ученого Приматиччо и немного грации Пармиджанино». Запасались всем
этим и начинали упражняться. Посмотрим же, какие плоды дало это
терпеливое взращивание.
Здесь есть тринадцать больших картин Лодовико Карраччи: между
прочими - «Рождение Иоанна Крестителя» и «Преображение». Нельзя
вообразить более декламаторских фигур, чем эти трое полу опрокинутых
апостолов, особенно тот, у которого обнажено плечо: это написанные
наспех колоссы, лишенные материальной субстанции и плотности.
Племянник предыдущего, Агостино Карраччи, несколько лучше, и его
«Причащение святого Иеронима» дало главные положения аая картины на
тот же сюжет Ломеникино; но, подобно своему аяа^, он подчиняет суще-
• 156 ·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ЛО ВЕНЕЦИИ
ственное подробностям, истину - эффектам, тела и цвета - движению
и экспрессии. Другой племянник, Аннибале Карраччи, самый способный
из всех. Лве его картины, представляющие Мадонну во славе, отвечают
сентиментальной набожности того времени; употребляемая им светотень
и обилие тонущих один в другом оттенков ласкают двусмысленные
ощущения изнеженного благочестия. Его святой Иоанн, указывающий на
Леву Марию, похож на amoroso [обожателя] ; возле него
коленопреклоненный мужчина с большой черной бородой смотрит с умильной
преданностью, не лишенной приторности. Мадонна на своем троне,так же,
как святой и святая, ее сопровождающие, склоняются вниз с томной
грацией. Эта прекрасная святая в своем бледно-фиолетовом платье, со
своими пухлыми руками и отогнутыми пальцами, эта Лева Мария с приятно-
мечтательным видом - полувлюбленные и полуувлеченные мистицизмом
дамы. Если постараться определить чувства, которые стремилось выразить
искусство, реставрированное школой Карраччи, то - вот они.
В конце шестнадцатого столетия в Италии человеческий характер
изменился. Ужасные потрясения и бесконечные опустошения, производимые
вторжениями чужеземцев, крушение свободных республик и
установление подозрительных тираний, невыносимая тяжесть жестокого
испанского владычества, католическая и иезуитская реставрация, ряд Пап -
фанатиков и инквизиторов, преследование свободных мыслителей и
учреждение церковного надзора сломили упругость человеческой воли; люди
махнули на все рукой и опустились; все стали эпикурейцами и
лицемерами; отбывали исповедь и занимались любовью. Какая разница между
ясным настроением, легкой и беззаботной фантазией, естественной и
здоровой чувственностью Ариосто - и фантасмагорической смесью
заказного вдохновения, тревожного и болезненного сладострастия, оперного
рыцарства и набожности, которую находишь пятьдесят лет спустя у Тассо!
И этот бедный Тассо был объявлен нечестивцем; его заставили переделать
его «крестовый поход», выбросить любовные истории, идеализировать
действующих лиц, превратить их в аллегории. Человек стал
расслабленным и испортился; ему нравятся уже не сильные и прямые идеи, а
изысканность, жеманство, смешанные оттенки чувств, соединяющие
удовольствие с аскетизмом, колеблющиеся между театром и церковью, между
аналоем и альковом. Одна и та же улыбка появляется на губах языческих
богинь и святых; нагота христианских Магдалин красуется столь же
вызывающе, как и нагота языческих Венер, и кавалеры находят своих
возлюбленных напряженными, улыбающимися, раскрывающими свои объятия
• 157 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
под золочеными сводами капелл, как и под золочеными сводами дворцов.
Сама любовь изменилась: она лишена прежнего чистосердечия и
серьезности. Рафаэлевская Форнарина кажется этим людям только хорошо
сложенным телом; они хотят более волнующего и более сложного соблазна,
более тонких и опьяняющих очарований, меланхолической и
таинственной нежности, смутно-ласкающей прелести мечтательной неги,
затуманенного или пламенного взора, вопрошающего пространство,
расплывчатых, теряющихся в глубокой тени форм, струящихся или ниспадающих
искусными складками тканей, - в истоме ослабленного освещения и
магических переливах светотени. Им нужны аффектация и изысканность, как
их предшественникам сила и простота; отовсюду, при всем различии школ,
вместе с Бароччи, Чиголи, Лольчи, так же как с Карраччи, Доменикино,
Гвидо Рени, Гверчино, Альбани, появляется живопись, отвечающая
слащавым красотам господствующей теперь поэзии, начинающегося чичисбей-
ства и зарождающейся оперы.
Когда душа становится слабой, она хочет сильных волнений;
изысканность приводит к грубости, и нервы, утратившие вместе с привычкою
к действию устойчивое равновесие, требуют, после щекотки тонких
ощущений, грохота, резких впечатлений. Вот почему эта сентиментальная
живопись так утрирует: требуется взволновать верных то бледным лицом
мертвеца, то избиением мучеников, то контрастом грубо-вульгарных
и пленительно-небесных фигур, и всегда - пусканием в ход
преувеличенных жестов, изумляющих поз, множества действующих лиц,
драматических противоположений. В этом направлении расточают болонцы свой
талант и свое искусство. Большая картина Ломеникино «Мадонна с
четками» заключает в себе и громоздит одна на другую четыре или пять
трагических сцен, задаваясь целью показать могущество священных четок:
вот две обнимающиеся женщины, которых воин на лошади хочет
пронзить своим копьем; солдат, который хочет заколоть женщину,
испускающую крик; умирающий на соломе отшельник; епископ в митре,
умоляющий Богоматерь, - все это собрано в одной и той же раме. Наводящие
ужас или плачущие фигуры, мелодраматические палачи, благочестие,
страх и любопытство, подстрекаемые одновременно и непрерывно; над
всем этим - дождь цветов и ниспадающие четки, Мадонна, окруженная
шаловливыми или проливающими слезы ангелами, несущими
терновый венец, крест, плат святой Вероники и прочие реликвии
традиционной набожности; на самом верху - маленький Иисус, поднимающий,
как бы торжествуя, букет роз. Вот благочестие этой эпохи, как я видел его
• 158·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
в Риме, в иезуитских церквах, - благочестие с помпою, которое хочет
завоевать свою публику приманкою удовольствий и возбуждений.
Знаменитое «Мученичество святой Агнесы» того же художника - в том
же духе. На первом плане лежат нагроможденные трупы, один - с
раскрытым в последнем вопле ртом; испуганная женщина откидывается назад
с театральным жестом, и ее ребенок прячется в складках платья. Между
тем, на костре святая - бледная, с глазами, устремленными в небо, -
подставляет горло, а маленький ягненок, символ ее кротости, пытается
приблизиться, чтобы лизнуть ее ногу Позади палач, с освещенной
головой и лицом в тени, весь коричневый и красный, подчеркивает
яркостью колорита и свирепостью лица бледность и нежность жертвы; со
своей грубой и ограниченной головой - это превосходный палач,
нацеливающийся, чтобы хорошенько ударить ножом. Вверху является
мятущийся хор ангелов, и Христос с заинтересованным видом склоняется,
чтобы принять венец и пальмовую ветвь, которые заботливо подносит
ему один ангел - хорошо дисциплинированный слуга. И, однако, талант
бьет ключом: в этом произведении есть пышность, правдивость,
выразительность. Ломеникино был настоящим художником: он чувствовал,
искал, дерзал, находил. Хотя он родился в эпоху, когда все типы были
уже установлены и классифицированы, он умел быть оригинальным;
он вернулся к наблюдению и открыл неведомую часть человеческой
природы. В его «Петре Мученике» испуг святого, его лоб в морщинах
и складках, скрюченные, вытянутые вперед руки и растерянная фигура
другого монаха, который спасается, воздевая руки с отчаянием,
смешанным с ужасом, - эти позы и выражение лиц изобретены заново. Вот в
первый раз полная, совершенная передача сильного волнения; страх вышел
здесь настолько правдивым, что в обеих головах есть даже оттенок
карикатурности. Ломеникино никогда не боялся вульгарности. Он
отправляется от реального, от виденного. Странный контраст лежит между его
классическим воспитанием и прирожденной искренностью, между его
знаниями и его чувствами.
Здесь есть картины почти всех художников этой школы; между ними -
три кардинальные вещи Альбани, все на религиозные темы, но столь же
жеманные, как и его языческие картины. Например, в его «Крещении
Христа» ангелы - это изящные пажи из аристократического дома; из
всех мастеров, может быть, именно он лучше всех выражает дух эпохи -
слащавый и пошлый, любивший сентиментальную наготу и
улыбающиеся мифологические фигуры. Пять-шесть картин Гверчино мертвен-
• 159·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ного тона, с сильными эффектами теней, производят впечатление, но
уступают тем, которые я видел в Риме. Напротив, картины Гвидо Рени
здесь выше. Δο сих пор я знал у него только произведения его второй
манеры - почти все серого, бледного колорита, без тела, без
субстанции, написанные наскоро и по готовым рецептам, простые, приятные
аая глаза контуры, светски-легкого изящества, не воплощающие в себе
никакого действительного, жизненного бытия. И, однако, он обладал
прекрасными дарованиями, и если бы его характер равнялся его
таланту, он имел бы все, чтобы подняться до первых рядов своего искусства.
Здесь, в раннем пылу юного вдохновения, он трагичен и велик. Он еще
не опустился до полинялого, угасшего колорита, - он чувствует
драматическое могущество тонов и все, что резкие противоположения и
скорбное уныние омраченных, смутных оттенков говорят человеческому
сердцу. Вокруг его Христа на кресте и плачущих святых облачное, почти
черное, чреватое грозами небо и выпрямленные фигуры в их широких,
развевающихся одеждах - святой Иоанн в огромном красном плаще,
с руками, стиснутыми в отчаянии, Магдалина у подножия креста, вся
в струящихся волнах волос и складках платья; Богоматерь в своей
печальной синей одежде, окутанная пепельным плащом, - весь этот хор
страдания создает своей группировкой и цветовой гаммой впечатление
грандиозного вопля и стенания, подъемлющихся к небу. Еще
грандиознее другая трагедия, именуемая «Мадонна Милосердия», покрывающая
целый кусок стены. Пять колоссальных фигур - святые заступники
Болоньи - в широких вытканных ризах, в землистого цвета рясах и в
одеянии воинов, выступают одною группой, а за ними, в отдалении, можно
различить смутные очертания бастионов и башен города, над которым
простирается их покровительство. Над ними и как бы в некотором
высшем ярусе небесного мира мертвый Христос между двух плачущих
ангелов являет свою свинцовую бледность; еще выше, на самой вершине
мистической сферы, громадная скорбящая Мадонна, окутанная синей
драпировкой, обретает в своей печали глубину сострадания к
человеческим горестям. Эта картина предназначалась аая задней стены капеллы;
в ранние времена христианского и совершенного благочестия умели
создавать более искренние и более религиозные образы, но для
беспокойной набожности позднейших времен, аая католического и
эпикурейского города, внезапно опустошенного чумой и согбенного в страшной
тревоге, нет живописи более подходящей и более волнующей. $У
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
РАВЕННА
18 апреля,
от Болоньи до Равенны
ТА МЕСТНОСТЬ кажется созданной, чтобы
нравиться северному человеку, глаза которого,
пресыщенные слишком четкими формами и
утомленные слишком ярким светом, охотно
отдыхают на этих дымчатых, бесконечных, полных
воздушной влаги горизонтах. Прошел дождь;
большие, черные, как уголь, тучи дремлют в
небе и стелются по земле на горизонте. Временами
белый облачный хребет блеснет атласом среди бледного тумана;
невидимое солнце нагревает слои паров, и там и сям рассеянные лучи
пронизывают, подобно алмазному плюмажу, серое влажное покрывало. На
восток тянется бесконечная, совершенно гладкая равнина. Мириады ее
деревьев образуют в отдалении, на самом краю небес, удивительную сеть
паутины, с бесчисленными тонкими запутанными нитями. Их еще
коричневые вершины смешиваются с юной весенней зеленью ив и покрытых
почками тополей, с роскошью зеленых посевов. Земля обильно напоена;
вода блестит в канавах, в ямах и лагунах, и, миля за милей, слева и справа,
глаза встречают вновь, среди обработанных полей, нескончаемые ряды
вязов, в которые вплетаются, перекидываясь со ствола на ствол,
узловатые побеги виноградной лозы.
Беседа с местным духовным лицом - бывшим директором колледжа.
Духовенство здесь, в принципе, за Папу; но вся буржуазия, все, кто имеет
хоть немного образования, и большая часть аристократии, даже в
Равенне, где аристократия так спесива, - за новый порядок вещей.
Мой собеседник - либерал и весьма одобряет школы и армию - эти
два недавних великих нововведения. По его мнению, природный
характер здешнего народа крайне неистовый: у них тотчас же доходит до
ножевых ударов (лорд Байрон зовет их в «Мемуарах» красивыми двуногими
тиграми). Если их оскорбили, они прячутся вечером в засаду и убивают
обидчика. Для таких людей нет ничего полезнее школы: воспитание,
размышление, рассуждение суть единственный противовес, могущий
сохранить равновесие против инстинкта и темперамента. Что до армии,
то это не только школа повиновения и чести, но еще своего рода выход
[диких] чувств. Здесь в высшей степени приложима пословица: «oziosi -
• 161 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
viziosi» («праздность - мать порока»); излишек свирепости должно
утилизировать достойным образом - против внешних врагов, вместо того
чтобы преступно направлять его против соседей; много смелых людей,
которые могли бы стать злодеями в частном быту, становятся таким путем
защитниками общества. Дезертиров теперь немного, и число их
уменьшается с каждым годом. Сперва неизвестность и перемена места
устрашали здешних людей; потом рассказы товарищей успокоили их, а блеск
военной формы начал обольщать. Другое благодеяние - это строгость
судов; число убийц сократилось с тех пор, как осужденным не дают
помилования спустя шесть месяцев. Для этой страны важная вещь -
наложить узду на страсти, еще совершенно дикие, и новый режим работает
в этом направлении. Для меня ясно теперь, что по всей Италии
революцию поддерживают и двигают просвещенные люди, средний буржуазный
класс, и что трудность лля нее заключается в том, чтобы привлечь на свою
сторону, цивилизовать и итальянизировать народ. Лорд Байрон в 1820 году
в Равенне говорил уже, что только образованные люди либеральны и что
в случае возможного восстания крестьяне не подымутся.
Поезд останавливается, и в четверти часа от города замечаешь
круглое низкое здание среди зелени тополей, - это гробница Теодориха.
Фундамент мокнет в болоте; сырость покрыла плесенью двери; глыбы
ротонды кажутся изуродованными ударами молота. Гигантский купол,
шириной в тридцать четыре фута, весь из одного куска, расколот молнией.
Внутри - ничего, кроме алтаря и имен коммивояжеров, написанных
карандашом, да плоских шуток, нарисованных на сочащейся стене.
Саркофаг, где покоилось тело, похищен; старый король был изгнан из своей
гробницы одновременно с тем, как его готы из их владений, и в
заплесневелой воде, омывающей пустой склеп, квакают лягушки.
Возвращаешься в сторону Равенны - и зрелище еще печальнее.
Нельзя представить себе города более заброшенного,
жалко-провинциального, более упавшего. Улицы пустынны; мелкий острый щебень играет
роль мостовой; посередине струится грязный ручеек; нет ни дворцов, ни
лавок. Два сильно облупившихся каменных фасада - академия и театр -
одни выделяются среди этого беспорядка своей опрятностью и
плоскостью. Видишь старые порыжевшие и потрескавшиеся башни, остатки
древних построек, приспособленные к новым потребностям, белые
колонки, вправленные в стену Теодориха, разные городские и деревенские
закоулки. Что мог здесь делать бедный Байрон, хотя бы и с маркизой
Гвиччоли? Творить мрачные драмы, проекты заговоров, свой байро-
• 162·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
низм? Этот город мертв, я не знаю сколько столетий; море удалилось от
него; это был последний этап Римской империи - точно занесенный
песком обломок, который Византия, удаляясь, оставила на берегу. На этом
нездоровом и мало посещаемом берегу город не мог расцвести вновь
в Средние века подобно городам Тосканы. Лаже еще сейчас это -
византийский город, более унылый, нежели руины, потому что плесень хуже
разрушения. Канал соединяет город с морем, и на спящей воде видно
несколько барок, четыре или пять небольших кораблей. Единственную
красоту города составляет лес пиний, внедрившийся между ним и
солоноватой водой, далекие вершины которого, эти черные овалы, образуют
барьер по краю неба.
Равенна
Путешественники, побывавшие на Востоке, говорят, что Равенна
производит более византийское впечатление, чем сам Константинополь.
Подобный город - единственный в своем роде; что может быть более
странного, нежели этот византийский мир? Мы недостаточно его знаем; мы
имеем в нашем распоряжении коллекцию плоских хроник, и еще
Гиббона, который дает о нем известную идею, но есть бесконечная разница
между отвлеченной идеей и красочным, цельным образом. Какое зрелище
являет собою этот мир, в котором закончилась и влачила свое
существование еще целую тысячу лет античная цивилизация, под слоем
испорченного христианства и восточных заимствований! Ничего похожего нет
в истории; это единственный в своем роде момент аая человеческой
культуры и души. Мы хорошо знаем начало, рост, расцвет различных
народов, даже некоторые эпохи частичного упадка - например в Италии
и в Испании; но столь долгое и столь сложное вырождение, гигантская
тысячелетняя плесень в закрытом сосуде, осложненная столь
многообразными и разнохарактерными бродильными веществами, - другого
такого примера мы более не имеем. Есть две цивилизации, обе похожие
на какое-то уродство, опухоль или огромный нарост на человеческой
духовной природе, которые я хотел бы видеть изображенными, но не
археологом, а художником, - Александрия и Византия. Прибавьте еще
Индию и Китай, когда ученые раскопают археологическую почву.
Первая церковь, которую встречаешь, - Сант Аполлинаре [Нуово],
имеет широкий фасад в форме щипца, снабженный портиком,
который поддерживают арки, опирающиеся на колонны. Форма латинской
базилики сохранилась еще в большом нефе с плоским потолком, и двад-
• 163-
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Церковь Сант Аполлинаре Нуово в Равенне. Фотография 1890-х годов
цать колонн испещренного прожилками мрамора, привезенные из
Константинополя, возносят свои уже испорченные коринфские капители
вплоть до круглой абсиды. Это здание - шестого века, но неизменные
мозаики, покрывающие с обеих сторон фриз этого нефа, обнаруживают
так же ясно, как и в первый день, во что обратилось греческое искусство
в монашеских руках диспутирующих богословов и нарумяненных
кесарей Низкой империи.
Это еще греческое искусство; десять столетий спустя после смерти
скульпторы Парфенона сохраняют еще свое влияние на человеческий
дух, и болтливые идиоты, которые завладели теперь мировой сценой,
все еще различают своими мигающими глазками, как сквозь туман,
великие формы и благородные драпировки, располагавшиеся некогда на
фронтонах языческих храмов. Две процессии тянутся поверх капителей -
одна из двадцати двух святых женщин, которая приводит к Богоматери,
• 164·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
и другая из двадцати двух святых, приводящая ко Христу, и ни в той, ни
в другой еще не видны резкая уродливость и буквальное подражание
вульгарной действительности, как это мы встречаем в Средние века.
Напротив, фигуры женщин правильные, несколько удлиненные,
спокойные, хотя печальные, отмечены почти античным достоинством;
заплетенные волосы падают вниз или воздымаются над лбом, как в прическе
у нимф; их стола ниспадает длинными, важными складками. Так же
важно развертывается вереница больших мужских фигур, а возле Христа
и Богоматери молятся ангелы в широких белых одеждах, со лбом,
обвитым белой повязкой. Но здесь воспоминания обрываются; художник знает
традицию, что фигура должна быть задрапирована, что нужно
предпочитать такое-то расположение волос, такой-то очерк лица, но он уже не
знает, какое мужественное тело, какая юная и здоровая душа жили
некогда под этими внешними признаками. Они разучились наблюдать
живую натуру; отцы церкви воспретили им это; они только копировали
общепринятые типы; от копии к копии их рука повторяла машинально
и рабски контуры, которые их ум перестал понимать, а неумелая
подражательность начинала искажать. Из художников они обратились в
ремесленников, и в этом, с каждым днем все более глубоком падении
перезабыли половину своего искусства. Они не замечают более разнообразия
человеческой натуры - они повторяют двадцать раз подряд тот же
самый жест и то же одеяние; их девственницы только и умеют нести венок
и шествовать с неподвижным видом - все в большой белой епитрахили,
в просторном платье из золотой парчи, полосатой или чешуйчатой, как
китайская кофта, в длинном белом покрывале, спускающемся с головы,
и в оранжевых башмаках, - короче говоря, в древнегреческом костюме,
удлиненном по монастырскому образцу и расшитом восточными
блестками. Никакой индивидуальности в лицах; нередко черты лица
варварски грубы, как первые детские рисунки. Шея не поворачивается; руки - из
дерева; складки платья искусственны. Эти персонажи - скорее
наброски людей, нежели люди; а когда под наброском угадываешь человека,-
зрелище становится еще печальнее. Я хочу сказать: тогда замечаешь за
неумелостью мозаичиста вырождение самой модели и декаданс человека
за декадансом искусства.
В самом деле, между этими персонажами нет ни одного, который не
представлял бы собою тупого, плоского, больного идиота. Нет слов,
чтобы описать их лица, - эту внешность человека хорошего сложения,
предки которого принадлежали к сильной расе, - теперь полуразрушен-
• 165·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ного и как бы тающего под долгим режимом поста и молитв. У них то
тусклое выражение, та степень изнеможения и апатичного
самоотречения, когда живое существо, напрасно поражаемое, перестает звучать
жизненным тоном. Они не умеют более действовать; у них нет более
воли, у них нет мысли; у них нет более души; хотя они стоят - они не
умеют держаться прямо. Можно поверить в их тайные пороки, -
настолько очевидно здесь истощение крови и жизненной силы человека. Эти
ангелы - большие простаки, с их вытаращенными глазами, впалыми
щеками и натянутым, закоченелым видом крестьян, взятых с их полей
и перенесенных в условия регламентации, принужденности и сложных
словопрений богословской и семинарской среды, где они блекнут и
вянут, ошеломленные, разинув рот. Многие святые, над ангелами, кажутся
перенесшими продолжительную лихорадку или тошноту: невозможно
поверить, не видав их, что живой человек может стать таким инертным
и дряблым, до такой степени утратить свою моральную и физическую
сущность. Но что доводит впечатление до предела - это образы Христа
и Богоматери. Христос, в коричневой одежде, с бородой и прекрасной
шевелюрой античных богов, - это образ божества, поблекший и
обедневший: лоб, вместилище интеллекта, сузился и почти исчез; губы
истончились, лицо исхудало, большие глаза ввалились. Ничто не может
сравниться с картиной этого разрушения, кроме другого изображения -
Богоматери. «Панагия» [«Пресвятая»] худа до невероятной степени: у нее
остались только глаза, и почти нет ни носа, ни рта; ее длинные хрупкие
руки, ее лишенное плоти лицо - это лицо и руки бледной чахоточной,
которая скоро умрет; у нее жест манекена или скелета, кости и связки
которого еще двигаются, а ее широкое фиолетовое одеяние не
позволяет видеть ни кусочка ее чахлого тела.
Что же это за машина, которая, приняв в свои зубцы человеческую
натуру, бесчувственно выжала из нее все соки и всю силу, оставив лишь
пустую форму и инертного вырожденца? Сперва грубая римская
республика; потом тяжелая фискальная система Рима времен цезарей;
потом еще более тягостная, такая же система византийских кесарей, и
наконец деспотизм, соединивший в себе все могущественные средства,
способные подавить человеческую природу. Император - нечто вроде
паши: он может умертвить без суда каждого подданного, хотя бы это
был епископ; он конфискует частную собственность, если она
возбуждает его зависть, или объявляет себя наследником понравившегося ему
имущества; всякое положение, все достояние отцов, самая жизнь мучи-
• 166·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
1
1
! Ш
,' ' ' ' J
Ш1
W \J·
ί«0
Mm
1
j
Pr
Церковь Сант Аполлинаре Нуово в Равенне. Фотография 1890-х годов
• 167·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
тельно зависят от случайностей его решения. Император - также
инквизитор. При Юстиниане двадцать тысяч евреев было убито и двадцать
тысяч продано в рабство. Монтанисты сжигались вместе с их храмами.
Патриций Фотий, не соглашавшийся отречься от эллинизма, пронзил
себя кинжалом. И в другие царствования только и видишь, как
изгоняют, грабят, уродуют и жгут живыми еретиков. Император - глава секты
или фракции; то он православный, то еретик, то преследует «голубых»,
то «зеленых», позволяя партии, которую он поддерживает, совершать
грабежи, убийства, насилия на улицах. Император - цензор нравов. При
Юстиниане распутство наказывается как убийство или даже
отцеубийство, и окровавленных распутников водят по улицам Константинополя.
Император - глава бюрократии. Административный строй, наложенный
им с высоты престола на все провинции, подавляет везде человеческую
инициативу, оставляя место лишь для чиновников и подчиненных.
Император определяет этикет. Сложный церемониал отряжает в полную
зависимость от него целую иерархию придворных, обращенных в машины,
и превращает их действия, так же как и его собственные, в пустые
формальности, самый смысл которых зачастую утрачен. Все ухищрения,
которыми можно подавить в человеке волю и активную мощь, работают
одновременно, настойчиво и в продолжение столетий: насилие, которое
ломает, и расслабление, которое истощает; террор, как в восточных
монархиях, и доносы, как в императорском Риме; ортодоксальное
преследование, как в Испании; легальный ригоризм, как в Женеве; сатогга
[бандитизм], как в Неаполе; официальная рутина и бюрократическая
регламентация, как в Китае. То как поражающий топор, то как точащая
пила, то как разлагающая кислота, то как обезображивающая
ржавчина, различные составные части, каждая в свою очередь, дробят,
подрывают, грызут или растворяют крепкую и острую сталь, подчиненную их
воздействию. Это заметно на языке писателей: они умеют уже не только
поносить или хвалить. Требоний, работавший вместе с Юстинианом,
говорит, что он боится, как бы тот не был унесен ангелами, потому что он
слишком небесен. Прокопий верит, что Юстиниан и Феодора вовсе не
человеческие существа, а демоны и вампиры, посланные аая
опустошения мира; после восьми книг, полных раболепства, дав, наконец,
свободу своей ненависти, он громоздит бешеные поношения со слепою
неловкостью и механическим одушевлением человека, впавшего в отчаяние,
который, ускользнув от пытки, бормочет, повторяется и уже потерял
дар речи. Остальные - придворные, брюзги, книжники, и вся нация похо-
• 168·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
жа на своих писателей. Люди, которых выдвигает и множит подобный
режим, - это, прежде всего, дворцовые слуги, расшитые камергеры,
украшенные плюмажем наемники, евнухи, интриганы, взяточники; затем -
маратели бумаги, казуисты, святоши, педанты, риторы, и рядом с ними,
на великой сцене света, кучера, шуты, актрисы, лоретки и франты.
В самом деле, таковы наиболее выдающиеся роли этой сцены. Но
старый римский остов сохранился еще весь под монашеской корой, которою
покрыло его христианство. Еще бросают осужденных львам в
амфитеатре; весь город делится на партии по случаю бега колесниц, и «зеленые»,
как и «голубые», носящие для отличия цвета своих возниц, прячут
кинжалы в корзинах с фруктами, чтобы удобнее убивать друг друга. Как
некогда во время игр в честь Флоры, женщины появляются на театральных
подмостках нагими; если же новейшие правила предписывают им
надевать пояс, то дочь сторожа медведей и будущая императрица Феодора
пользуется этим запрещением, чтобы воспроизвести на глазах зрителей
утонченное бесстыдство. И это - те же самые люди, которые яростно
отдаются теологическим страстям. «Попросите кого-либо, - говорит
святой Григорий Назианзин, - разменять серебряную монету, и он начнет
объяснять вам, в чем Сын отличается от Отца. Спросите у другого о
цене на хлеб, и он вам ответит, что Сын ниже Отца. Осведомитесь, готова
ли ванна, и вам скажут, что Сын был сотворен из ничего». Они избивали
друг друга по этим мотивам, и единственный интерес, из-за которого
еще могло подняться восстание в Константинополе, был вопрос об
опресноках или о двойном естестве Иисуса Христа. Песнь «свят, свят, свят»,
в сокращенном и в полном виде, поется сразу двумя враждебными
хорами в соборе, и противники переходят к бросанию камней и палочным
ударам. Юстиниан проводит целые ночи в обществе седобородых
старцев, роясь в духовных книгах, и монахи, населяющие весь архипелаг,
снаряжают целый флот, чтобы защищать иконы от Льва Исаврянина.
Эти любители цирка, эти юные красавцы, которые из модного каприза
наряжались гуннами, эти куртизанки, изношенные в пороках, эти
томящиеся от скуки сладострастники, населяющие летние дворцы по
Босфору, - все они держат посты, устраивают церковные процессии, твердят
Символ веры и требуют от новых императоров преследований за веру
«Многая лета императору! Многая лета императрице! Пусть кости ма-
нихейцев будут выброшены из могил! Тот, кто не анафематствует
Севера, - манихенянин! Выбросьте вон Севера! Вон новых иуд! Вон врагов
Троицы! Пусть кости евтихиан будут выброшены из могил! Вон из церкви
• 169 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
манихенян! Вон из церкви двух Стефанов!». Не способные сражаться,
управлять, работать и мыслить, они не умеют вести диспуты и
наслаждаться жизнью. Под обломками расплющенного человека еще уцелели
софист и эпикуреец; игра формул в опустевшем уме и вожделение чувств
в выродившемся теле - вот последние мотивы их волнений. Два
создания, которыми закончилась эта цивилизация, отмечены оба одною и той
же печатью, оба одинаково искусственны, огромны и внутренне пусты,
оба воздвигнуты без участия вкуса и разума: одно - рутиною логических
построений, другое - рутиною промышленных приемов. Одно -
сложное и мелочное здание богословской символики и определений; другое -
сверкающее, многосоставное нагромождение накопленных богатств и
сумасбродной роскоши.
Те, кто посетил Константинополь до его разграбления
крестоносцами, должны были встретить странное зрелище. Переступив пояс высоких
стен, снабженных зубцами и башнями и защищавших город, подобно
средневековой крепости, они находили воспроизведение Древнего Рима
времен Империи - анфилады двухэтажных портиков, пересекавшие
город по всем направлениям, от одного конца до другого, круглые
купола, вызолоченная медь которых сверкала на солнце, гигантские столбы,
поддерживавшие колоссальные конные статуи, одиннадцать форумов,
двадцать четыре термы и столько монументов, дворцов, колонн и
статуй, что, казалось, античная стилизация, изгнанная из всего
остального мира, собрала здесь, в последнем своем убежище, все свои шедевры
и сокровища. Изображения атлетов-победителей, перенесенные из
Олимпии, статуи античных богов, похищенные из их святилищ,
фигуры императоров, умноженные раболепством, наполняли площадь, бани
и амфитеатры. Бронзовый Юстиниан возвышался на столбе в семьдесят
локтей высотой, из основания которого била вода. Одна покрытая
барельефами колонна, на которую поднимались по винтовой лестнице,
несла на своей вершине конную статую Феодосия из вызолоченного
серебра. Изваяния черепах, крокодилов, сфинксов на других столбах
высились в воздухе эмблемами покоренных народов. Темная бронза колоссов
и матовая белизна статуй сияли среди порфировых стволов, под пестрым
мрамором портиков, между блестящих овалов церковных куполов,
мешаясь с длинными шелковыми одеждами, расшитыми сутанами,
пестрыми и раззолоченными костюмами бесчисленного населения города.
В мраморном цирке колесницы скакали вокруг египетского обелиска.
На арене цирка бронзовый столб, вокруг которого вились громадные
• 170 ·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
змеи, и далее фантастические фигуры Сциллы и Харибды, античный
калидонский кабан, разные мраморные и бронзовые чудовища
возвещали о празднествах, на которых львы, медведи, пантеры и онагры,
пущенные на арену, увеселяли народ своими воплями и схватками. Здесь,
на троне, поддерживаемом двадцатью четырьмя колоннами, император
в день Рождества подавал сигнал, и представители всех народностей
являлись, развлекая толпу своеобразием своих костюмов, цвета кожи
и фигур. Немного далее, в цирке открывалось зрелище, в котором
преступников отдавали в жертву диким зверям. С восточной стороны
Святая София являла свои сверкающие купола, свои сто порфировых и
яшмовых колонн, свои драгоценные мраморы с розовыми прожилками,
зелеными полосками и пурпурными звездочками, белоснежные, шафранные
и стальные оттенки которых мешались друг с другом, как некие азиатские
цветы, между балюстрадами и капителями из позолоченной бронзы, перед
серебряным алтарем, против дарохранительницы из массивного золота,
возле золотых, инкрустированных драгоценными камнями ваз, под
бесчисленными мозаиками, покрывавшими стены своими сияющими
камнями и блеском золота. Во всем храме, как и во всем городе, выступало на
первый план это беспорядочное нагромождение и безвкусная роскошь.
Великолепие принималось за искусство; искали не красоты, а
ослепительности. Собирали драгоценные материалы и изготовляли
варварские капители. Покидали греческие образцы, простоты которых уже
не понимали, ради восточных излишеств, щегольству которых можно
было подражать. Император Теофил велел снять копию с дворца калифов
в Багдаде, и роскошь его нового жилища в своих причудах и
преувеличениях уже возвещала ребячество и нелепости испорченного вкуса,
когда старость возвращается к детским игрушкам. В тронном зале
золотое дерево укрывало в своих ветвях и листве целое племя золотых птиц,
разнообразные голоса которых подражали щебетанью живых. У
подножия эстрады два золотых льва в натуральную величину багровели, когда
вводились иноземные послы. Главные дворцовые чины распределялись
по рангам, и каждый имел свою форму, свое право присутствия, свое
служебное положение, все детали которого были занесены в особую книгу
собственной рукой императора. Послы при входе трижды касались лбом
земли, и во время этого преклонения некая театральная машина
поднимала государя с его троном к самому потолку, откуда он ниспускался
в еще более пышном одеянии, нежели в первый раз. На нем были
пурпурные сапоги, а его одежда была усеяна драгоценными камнями; на его
• 171 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
голове сверкала высокая персидская тиара, унизанная алмазами, с которой
спускались на щеки две жемчужные тесьмы, а наверху были шар и крест;
самые искусные парикмахеры взбивали на его голове ряды накладных
волос, лицо его было раскрашено. В этом убранстве он сидел,
безмолвный, недвижный, с неподвижным взглядом, - в позе божества,
являющегося твари. Ему воздавали поклонение, как идолу, и он должен был
представительствовать, как манекен.
Можно составить себе некоторое представление об этой роскоши,
об этом культе и этих нравах в церкви Сан Витале в Равенне. Она была
построена при Юстиниане, и теперь, хотя и испорченная снаружи и
плачевно расписанная внутри, отчасти разрушенная и искаженная
неподходящими пристройками, она все же еще самая византийская из всех
западных церквей. Это очень своеобразное здание, и здесь открывается
некоторый новый архитектурный тип, одинаково далекий как от
греческих, так и от готических идей. Это круглое строение, покрытое куполом,
откуда нисходит свет. По краю идет двухэтажная круговая галерея,
состоящая из семи меньших куполов и восьмого, широкого открытого,
который представляет собою алтарную абсиду. Таким образом,
центральный овал развертывается в окружность меньших овалов, и шарообразная
форма господствует во всех частях здания, - как заостренная в
средневековых соборах и квадратная в античных храмах.
Чтобы поддержать купол, восемь толстых многогранных столбов,
соединенных между собою круглыми арками, образовали кольцо, и
парные небольшие колонны заполняют промежутки между ними. Это
производит странное впечатление, и глаза, привыкшие следить за колоннами,
выстроенными вереницами, изумлены их взаимопересечением, пестрым
разнообразием их профилей, прямыми линиями, перерезаемыми
округлостью сводов, изменяющимся видом, который при каждом новом шаге
представляют эти противоречивые очертания. Это здание - творение
какой-то иной эпохи, выстроенное согласно законам неведомой
симметрии, аля иных жизненных условий, - подобно блестящей раковине,
завитой сообразно формам какого-то суставчатого или позвоночного,
пышной и оригинальной, если угодно, но менее простого типа и не столь
здорового строения. Упадок заметен тотчас же на капителях столбов и
колонн. Они покрыты тяжеловесными цветами и грубой резьбой; иные,
еще более искаженные, представляют символическое письмо; изящная
коринфская капитель обезобразилась в руках этих каменщиков и
вышивальщиков до того, что обратилась в смесь варварских начертаний.
• 172 ·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
Церковь Сан Витале в Равенне. Вил на алтарную часть. Фотография 1890-х голов
• 173 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
И впечатление определяется окончательно, как только увидишь мозаики.
Вот императрица Феодора, бывшая гимнастка и проститутка из цирка,
приносящая дары, вместе со своей женской свитой: бледное и почти
разрушившееся лицо, как у чахоточной лоретки; нет ничего, кроме громадных
глаз, сросшихся бровей и рта - все остальное на этом лице сократилось
и ссохлось; лоб и подбородок совсем маленькие; голова и тело исчезают
за украшениями. От нее остался только горящий взор и лихорадочная
энергия пресыщенной, исхудалой куртизанки, ныне окутанной и
обремененной чудовищной роскошью императрицы: сверкающая диадема
громоздит на ее голове ряды изумрудных и рубиновых звезд; жемчуга
и алмазы топорщатся на ее расшитом платье; ее плащ фиолетового
пурпура вышит золотом; ее обувь - золотая. Женщины, ее окружающие,
сияют, как и она, все покрытые золотом и испещренные жемчугом, - и те же
огромные глаза, заслоняющие все лицо, тот же маленький лоб,
покрытый волосами, та же бледность накрашенного и выцветшего лица. Был ли
мозаичист простым ремесленником, копировавшим установленный тип,
или художником, создававшим портреты, - это не имеет значения: здесь
узнаешь, во всяком случае, идею женщины, как эти люди ее видели в
действительности или как представляли себе, - тип изношенной и
покрытой золотом лоретки.
С другой стороны является Юстиниан, со своими воинами справа
и своим духовенством слева, - нечто вроде торжественного глупца в
широкой коричневой мантии, в пурпурных сапогах, разряженный,
раззолоченный, как оклад на иконе. Это деревянная инертная фигура; двое
его приближенных справа сейчас упадут; его воины со своими
громадными восточными щитами - марионетки. Художник опустился так же,
как и его модель.
В глубине апсиды и по обеим боковым сторонам капеллы
развертываются вереницы священных изображений - Христос, держащий книгу,
между двух святых и двух ангелов, рядом - различные сцены из Библии:
жертвоприношение Авеля, Авраам, угощающий небесных вестников,
и на сводах - павлины, урны, животные. Искусство группировать
персонажи еще не забыто; по крайней мере, они еще умеют создавать
симметричный порядок; иногда даже, в изображении головы какого-нибудь
святого Петра или Павла, различаешь следы античного типа; но
фигуры грубы, несвязны, почти подобны фигурам средневековых ковров.
Постоянно те же огромные ввалившиеся глаза с белыми роговыми
оболочками, мертвое, свинцовое или коричневатое лицо; Христос кажется
• 174·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
Императрица Феодора со свитой. Мозаика церкви Сан Витале в Равенне
разлагающимся существом, извлеченным из могилы, призрачным
видением больного.
Я видел две или три другие церкви - Святой Агаты, Баптистерий. Этот
последний - пятого века, довольно похожий на флорентийский, с двумя
этажами аркад внутри, колонны и капители которых, судя по их
несогласованности, взяты, вероятно, из языческих храмов; уже во времена
Константина бездарные архитекторы похищали в языческих зданиях их
мраморы и скульптуры. Тяжелые арабески покрывают стены, и на потолке
видишь Крещение Иисуса Христа, вокруг которого выстроены в крут
двенадцать апостолов - гигантские фигуры в белых туниках и золотых
плащах. Их головы малы и удивительно длинны; их плечи узки; глаза
тонут в своих громадных впадинах. И все-таки аскетический режим еще не
истощил их до такой степени, как их потомков следующего века в Сан
Витале: святой Фома сохраняет остатки энергии; Иоанн Креститель,
полунагой, еще наполовину живет: его бедро, плечо и голова имеют еще
здоровый вид. Сквозь воду видно все нагое тело Иисуса; исключая руки,
мускулы еще устойчивы. Может быть, христианский художник имел
перед глазами какую-нибудь языческую живопись, и его глаза, омраченные
• 175 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
тиранией мистических идей, следили за контурами, которые его
трепещущая, отяжелевшая рука осмелилась воспроизвести лишь наполовину
Три или четыре других памятника довершают впечатление этого
декаданса. Та Галла Плацидия, принцесса императорского дома, которой гот
Атаульф, ее муж, подарил в качестве свадебного подарка пятьдесят рабов,
несших каждый одну чашу, полную золота, и другую - полную
драгоценных камней, имеет здесь свой мавзолей возле Сан Витале. Это
маленький низкий храм в форме креста, куда спускаются на несколько
ступеней, - нечто вроде багрово-темного подземелья, покрытого мозаиками.
Розетки, листва, фантастические птицы, лани у подножия креста,
евангелисты, уродливая фигура Доброго Пастыря, окруженного своими
овцами, - все это создания дикости, напыщенной и варварской роскоши.
Несколько гробниц кроются во влажной тени; на одной из них
изображен божественный агнец; вместо руна он покрыт чешуей; под крестом
на гробнице Плацидии можно различить стадо, - но бараны это, лошади
или ослы? В другом склепе находится гробница экзарха Исаака,
умершего в середине седьмого столетия. Здесь видишь барельефы, от которых
отказался бы теперь простой каменщик, - трех волхвов, одетых в
костюмы варваров, в панталонах, плащах и колпаках германских пастухов, -
Даниила и Лазаря, у которых голова величиной в четверть тела;
павлинов, которых едва можно узнать. Все это искусство опускается и
разлагается, как гнилое здание, которое оседает и разваливается. В этот момент
Равенна, перейдя во власть ломбардцев, только перешла от одного
варварства к другому: византийское или готическое, - оба искусства стоят
друг друга. Одновременно с человеком испортилась и земля: лихорадка
каждое лето истребляет население, болота распространяются, и город
уходит в землю. Понадобилось поднять помост церкви Сан Витале,
чтобы охранить ее от вторжения вод, и когда едешь в церковь Сант Апол-
линаре ин Классе [в бывшей гавани], в полумиле от города, встречаешь
по дороге мраморную колонну: это остаток целого предместья,
последний обломок разрушенной базилики. Сама церковь производит
впечатление заброшенной: она стоит одиноко в пустыне, занятой некогда
одним из трех кварталов Равенны; ее крипту часто заливают наводнения,
и возле нее безмолвный лес пиний, обиталище гадюк, заменил собою со
стороны моря жилища и насаждения людей. $У
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
ПАДУЯ
19 апреля,
от Болоньи до Падуи
АЖЕТСЯ, что эта страна наносного
происхождения; это итальянская Фландрия. С обеих
сторон железной дороги тянется необъятная
равнина, вся зеленая, покрытая стадами и
табунами лошадей на свободе. Весеннее солнце сияет
над нею с безмерной радостью; ничто не застит
его лучей, кроме только пояса тонких деревьев
на горизонте, подобного хрупкой шелковой
бахроме, - и расширившийся небесный купол нежно-лазурен.
Вскоре местность становится обильна влагою; начинаются каналы.
После Феррары железная дорога представляет собою высокую плотину,
защищенную от наводнений; повсюду канавы и водные пространства,
заросшие камышом; справа - серебристая пелена По, текущая столь
медленно, что кажется неподвижной. Она [река По] влачится так, широко
разливаясь в общей сырости, между гладких песков и лесистых островов.
Едешь по прямому, однообразному пути, удобному, как дороги
Фландрии, между тополей, очаровательно зеленых. Все деревья покрыты
почками; это - насколько хватает глаз - цветет и распускается весна.
Часто, на конце длинной белой ленты пути, появляется колокольня;
потом куча построек на плоской земле: это - деревня; на небе резко
выделяются заново оштукатуренные дома и коричневый кирпич колоколен.
Если бы не освещение, сказал бы, что это голландский пейзаж; повсюду
кругом блестит и дремлет вода, и к вечеру начинают петь лягушки.
Но налево обрисовывается в бесконечно нежных очертаниях
высокий голубой барьер - горная драпировка с ее снежной бахромою. Небо
круглится над нею, ясное и бледное, а юная зелень струится по равнине
в почти столь же тонких тонах.
20 апреля, Падуя
Вот я и на австрийской земле; в этом невозможно усомниться,
поглядев на книги и эстампы, выставленные в окнах книжных магазинов:
в первую голову «Проклятый», «Жизнь Иисуса» Ренана и Штрауса (эта
последняя в переводе Литтре), Виктор Гюго, Гегель и проч. Одна гравюра
изображает спящего Гарибальди и Александра Дюма, который его
созерцает. Гарибальди лежит на полу, возле него - кружка воды и кусок хлеба;
• 177·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
подпись, из Александра Дюма, сравнивает его с Цинциннатом. Продавец
книг отвечает мне с улыбкою, что «Проклятый» запрещен
по-итальянски, но еще не запрещен на французском языке; запрещены портреты
Гарибальди, но не литографии со многими персонажами. При этом
педантичном административном режиме закон исполняется буквально,
а для каждого изменения ждут приказа из Вены.
Идешь дальше и видишь опрятный провинциальный город, с его
аркадами и совсем зеленым prato [лугом]. Глядя на его тишину, скромный
вид и городскую стражу в ее серых плащах, путешественник говорит
себе, что здесь нужно, как во всех добропорядочных городах, хорошо
есть, еще лучше спать, кушать мороженое в кафе, веселиться без затей,
посещать лекции университета, который не делает много шуму;
единственное серьезное дело аая обывателей - это уплата налогов в срок.
Тогда думаешь о том, чем этот город был в Средние века, о его подеста
Эччелино, палаче детей, о казнях знатных людей, вопивших днем и
ночью в истязаниях, о юных синьорах, приговоренных к смерти, которые,
ускользнув от стражи, поражали кинжалом своего судью или рвали
зубами лицо преследователя, об отчаянных битвах, о романтических
похождениях семейства Каррара. И как в Болонье, во Флоренции, в Сиене, Пе-
рудже и Пизе, невозможно удержаться здесь от сопоставления этой
ужасной, полной случайностей и полной энергии жизни тогдашних городов
и феодальных княжеств - с мудрым порядком и плоским благодушием
современных государств.
Как раз все, что есть здесь живописного и грандиозного, идет из той
великой эпохи. В каждой стране богатому творчеству на поприще
художественном предшествует расцвет пылкой энергии на поле действия.
Отец боролся, закладывал фундамент, страдал героически и трагически;
сын воспринимает из уст стариков героическую и трагическую
традицию и, охраняемый усилиями предшествовавшего поколения, менее
подвергаемый опасности, опираясь на дело отца, работает воображением
и передает в повествовании, в скульптуре или в картинах могучие
подвиги, последние отголоски которых заставляют биться его еще
взволнованное сердце. Вот почему произведения искусства так многочисленны
в Италии; у каждого города здесь есть свои; их так много, что
путешественник подавлен ими: приходится всякий раз начинать описание сызнова.
Я почти доволен, что не могу посетить Модены, Брешии и Мантуи; я
жалею только о Парме. Я уеду, лишь наполовину представляя себе Кор-
реджо, но я вознагражу себя [созерцанием] венецианских художников.
• 178·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
Джотто. Оплакивание Христа. Фреска капеллы лель Арена в Палуе
Лаже в Падуе, городе второстепенном, приходится делать выбор.
Отправляешься в церковь Санта Мария дель Арена, на самом краю города,
в молчаливом углу; это домашняя капелла. Она находится в большом
частном саду, обнесенном стенами, несколько заброшенном, где
виноградные лозы вьются вокруг фруктовых деревьев на зеленой лужайке.
Служанка подымает щеколду, и вы находитесь в нефе, который Джотто
покрыл своей живописью (1304). Ему было тогда двадцать восемь лет,
и он изобразил здесь в тридцати семи больших фресках всю историю
Девы Марии и Христа. Ни один памятник не дает такого ясного
представления о заре итальянского Возрождения. У Джотто еще много
следов варварства: например, он умеет передавать не все жесты - на фреске
«Оплакивание Христа» действующие лица, желая выразить свою печаль,
открывают рот и гримасничают, а его «Ад», как у Бернардо Орканьи,
• 179·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
полон уродливостей. Огромный, мохнатый сатана - страшилище из наших
старых мистерий, а подчиненные дьяволы глодают или распиливают
маленьких нагих человечков с тонкими ногами, набитых, как в бочонке.
Рядом, у воскресших, выходящих из их гробов, - поджарые и кривые
конечности и, что коробит еще более, громадные и непропорциональные
лица головастиков; причудливая и немощная фантазия Средневековья
просвечивает и дает себя знать здесь, как на порталах соборов. Джакомо
да Верона, брат ордена миноритов, описывал в ту же эпоху эти мучения
осужденных с еще более плоской тривиальностью. Сатана, согласно его
описанию, приказывает «чтобы грешника изжарили, как свинью, на
большом железном вертеле»; потом, когда ему подают подрумяненного
человека, он отвечает: «Ступай, скажи этому дрянному повару, что кусок
плохо изжарен, чтобы его поставили снова на огонь и оставили так».
Данте один умел отрешиться от этого площадного шутовства, и дал
своим проклятым душу, столь же гордую, как его собственная. Он был здесь,
в Падуе, одновременно с Джотто, посещал его, как говорят, и оба были
друзьями. Но область живописи - иная, нежели поэзии, и то, что один
выразил словами, другой не мог сделать в красках. Тогда еще не изучили
в достаточной степени мускулы и все свойства человеческой структуры,
чтобы уметь выразить, подобно Микеланджело, в немногих
колоссальных, извивающихся фигурах ту трагедию, которую Данте развертывал
в многочисленных образах и в своих мрачных пейзажах. Кроме того,
характером своего таланта и личным характером художник вовсе не
походил на поэта: Джотто был так же счастлив, как Данте печален. Его
прекрасный гений, его легкая способность творчества, его предпочтение
благородного и патетического влекли его к изображению идеальных лиц
и трогательных сцен, и в этом именно направлении, которое ему
особенно свойственно, он явился здесь впервые новатором и творцом,
плодовитым и необычайно удачливым.
Вот впервые на фресках почти античные головы; это та же вспышка
гения, что у Никколо Пизано: пятьдесят лет спустя живопись догоняет
скульптуру, и правильная, здоровая красота появляется на стенах
церквей, как на кафедрах проповедников и на гробницах святых. Вокруг
распятого Христа и в «Страшном суде» - благородные головы святых
плотной структуры и с развитым подбородком греческих статуй; нет ничего
более торжественного и простого, чем эти драпировки, ничего
прекраснее фигур десяти серафимов, увенчанных ореолом. По всей длине нефа,
внизу, идет ряд аллегорических женских фигур в серых тонах, представ-
• 180·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
ляющих различные добродетели, - все могучие и спокойные, полные и
задрапированные широкими складками; две особенно, Милосердие и
Надежда, похожи на римских императриц; у другой, Справедливости, лицо
более нежное и чистое. Чувствуется, что художник ищет и с любовью
открывает совершенную форму; его изображения Христа не портретны:
их лица слишком правильны и слишком ясны; один из них, на фреске
«Брак в Кане Галилейской», в темно-красном платье, заставляет вспомнить
о том Христе, которого Рафаэль изобразил в «Преображении». Видно, что
мастер писал не по модели, которую он копировал, а, как Рафаэль,
«сообразно с некоторой своей идеей». Везде выступает эта изобретательность:
в пейзажах, в зданиях, в рассчитанном расположении групп, особенно же
в выражении лиц. Между последними есть настоящие откровения души -
такие непосредственные и искренние, что нескоро найдешь другие столь
правдивые. У подножия креста Богоматерь в синем капюшоне, бледная,
с наморщенным любом, падает в обморок и все-таки остается стоять
высшим усилием воли. Магдалина простирает руки к воскресшему Христу
с изумлением и нежностью, как будто она хотела двинуться вперед и
остается прикованной к месту. Лазарь, окутанный своими повязками,
недвижный, как мумия в ее футляре, и, однако, выпрямившийся, с горящими
глазами, - потрясающее видение.У этого человека был гений, сердце, мысли, -
все, кроме только знания, которое создается веками, и кроме
законченности исполнения. Он рисовал общими чертами, намечал только
контуры и складки одежд; ему не хватало еще гибкости и ловкости руки. В
соседней церкви, Эремитани, есть фрески Мантеньи, очень законченные,
прекрасные по рельефности и умелому выполнению. Вот чему, полтора
столетия спустя, мог бы научиться Джотто; какой художник вышел бы из
него, если бы он овладел техникой! Может быть, мир имел бы в нем тогда
второго Рафаэля.
Возвращаешься к prato - совершенно зеленому и весеннему. Его
перерезает канал, и статуи стоят рядами между древесных стволов. Вокруг, на
ясном небе, обрисовываются могучие громады голубоватых куполов
и высоких стен из красного кирпича, а по церковным карнизам
распевают птицы в пустыне и тишине.
Видишь перед собой церковь Святой Юстины и ее восемь куполов.
Хотя эта церковь выстроена в шестнадцатом столетии, но византийский
стиль развернул здесь свои овалы. Круговые балконы образуют кольца
вокруг куполов; внутри, между круглых аркад, потолок круглится
громадными выгнутыми щитами и пышно стелется широкий свод, подобный
• 181 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
внутреннему небу, откуда струится свет. Тотчас же становится понятной
сила впечатления, производимого линиями. Сообразно различию
основной формы меняется и общее чувство. Острые углы и устремление
готических стрелок рождают мистическое волнение; прямые углы и плотные
квадратные основы греческого строительства пробуждают чувство
здоровой ясности духа; византийская дуга, будь то округлые своды времен
Империи либо современных построек, создает декоративное зрелище.
Таково впечатление, оставляемое этой церковью; со своей папертью из
белого, черного и красноватого мрамора, со своими четырехугольными
столбами, выступающими карнизами и римскими капителями, со
своими крупными пропорциями и прекрасным освещением, она
представительна, хотя не без причудливости и напыщенности. В глубине хора целый
потоп маленьких ангелов кисти Веронезе в резких противопоставлениях
света и теней устремляется к площади, где святая, в великолепном платье
желтого шелка, предается в руки палача, который сейчас перережет ей
горло. Вся остальная церковь наполнена театральными скульптурами -
жестикулирующими мучениками, смятыми тканями, извивающимися
телами, в манере Бернини, и даже еще жеманнее его. Это величавость
шестнадцатого столетия, кончающаяся аффектацией восемнадцатого.
Но главное здание - наиболее знаменитое своей святостью и самое
богатое созданиями искусства всех сортов, - это собор Сант Антонио. На
пустынной площади, окружающей храм, возвышается бронзовая конная
статуя кондотьера Гаттамелаты - творение Донателло и первая отлитая
в Италии (1453). Одетый в броню, с непокрытой головой, со своим
жезлом вождя в руке, он сидит плотно на коне хорошего сложения -
могучем коне, годном для службы и битв, а не для парадов; у него крутая
квадратная грудь; его большой тяжелый меч свешивается ниже живота
лошади; его длинные шпоры с толстыми зубцами могут вонзиться глубоко
в тело при опасном прыжке, когда нужно перескочить через ров или
частокол; это грубый человек военного ремесла; он тут весь, во всем своем
снаряжении, и можно видеть, что он, как и его противник Сфорца,
проводил жизнь в седле. Здесь, как и во Флоренции, Донателло
осмеливается рискнуть на всю правду, на резкие детали, которые могут показаться
неизящными или вульгарными, на откровенное изображение реального
лица, с его особенными чертами и особенностями ремесла, - и мы видим
здесь, как и во Флоренции, подлинный образчик человеческой расы,
который, будучи как живой выхвачен из эпохи, доносит в своей
оригинальности и силе жизнь своего времени вплоть до нас.
• 182 ·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
Падуанский собор Сант Антонио. Фотография 1890-х годов
Что касается церкви, то она производит довольно странное
впечатление: это здание итальянской готики, усложненное византийскими
куполами, в котором круглые своды, острые колоколенки, колонны, накрытые
стрельчатыми арками, фасад, заимствованный у римских базилик,
балкон, скопированный с венецианских дворцов, смешивают в своем
сложном соединении идеи трех или четырех веков и трех или четырех стран.
Здесь пребывает великий святой города - святой Антоний Падуанский,
одна из главных личностей двенадцатого столетия,
проповедник-мистик, обращавшийся со своим словом к рыбам, как святой Франциск к
птицам. Рыбы являлись стаями и подавали знаки, что они понимают. В
алтаре церкви хранятся язык и подбородок святого. В лучшие времена
иезуитского благочестия, в 1690 году этот алтарь был изукрашен [Филиппо]
Пароли с невероятным бесстыдством роскоши и манерности. Окна
выложены серебром, а бесчисленное множество беломраморных
волнующихся и смеющихся фигур, с миловидными личиками, с умильными
глазками, покрывают стены своей сентиментальной прелестью. В глубине
капеллы легион ангелов возносит прославленного святого; их, пожалуй,
• 183 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Конный памятник Гаттамелаты в Палуе.
Фотография 1890-х годов
до шестидесяти, набитых, напиханных, как букеты амуров на потолке
будуара, с тонкими ножками, с маленьким гладким телом, с упрямыми,
капризными личиками, с круглыми щеками с ямочками; некоторые из
них, опершись на крест, улыбаются нежно и весело, точно гризетка,
которая спит в мечтах. Вся эта капелла кажется одним громадным
пьедесталом изукрашенного мрамора, и, аая полноты впечатления, там и сям,
в остальной церкви, изящные девицы опускают кокетливо свои рубашки,
играя с пухлыми детьми. Ясно, что приторная набожность эпохи упадка
завладела в своих целях святилищем старого наивного благочестия и
наложила на народные верования свою окраску и лоск.
• 184·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
Другие капеллы раскрывают другой период тех же чувств; одна,
налево, посвященная самому святому, была построена и украшена десятью
скульпторами шестнадцатого столетия - Риччо, Сансовино, Фальконетто,
Аспетти, Лжованни ди Милано, Туллио и Пьетро Ломбардо и другими.
Богатство воображения, великолепное чувство языческой и
естественной жизни, весь дух Ренессанса обнаруживаются здесь в блистательных
чертах. Фасад белого мрамора, усеянный кессонами разноцветного
мрамора и оправленный в черный мрамор, похож на античную
триумфальную арку Мраморные колонны, покрытые барельефами и накрытые
круглыми арками, образуют монументальный вход. В глубине - ниши
в форме раковин и фризы из листвы, щитов, коней, нагих тел, лебедей,
рыб, амуров развертывают все разнообразие и полноту героической и
живой природы. Множество лепных фигурок испещряют стены и столбы:
тут - нагие Парки, среди цветов и винограда, с их немного слишком
буквальным и сухим воспроизведением строения человеческого тела,
понятого впервые; там - «Воскресение», где любознательные поиски
живописной формы смешиваются с поэтическим чувством формы
идеальной. И как бы для засвидетельствования живой веры, остающейся
всегда той же самой сквозь все перемены в искусстве, видишь, среди
этой чувственной, внушительной декорации, сотни ex-voto [по обету] -
костыли, маленькие картинки в десять су, и, наконец, - несколько
кружек, требующих дани.
Здесь налицо все, чтобы представить в одном месте всю смену
человеческих чувств. Напротив этого памятника, воздвигнутого языческим
Возрождением, находится капелла четырнадцатого века - святого
Феликса - стрельчатая, расписанная и позолоченная, ниши которой,
похожие на трилистник или на епископские шапки, демонстрируют наглядно
готическое искусство, озаренное благодаря соседству Венеции
отблеском Востока. Она багрово-темна; ее лазурные своды изгибаются дугою,
арабески бегут по всему потолку, и резные сиденья из позолоченного
дерева завивают свои цветочки; на старых картинах Альтикьери и Якопо
Аванци теснятся фигуры, одетые и вооруженные, как в Средние века,
еще неловкие и застывшие, - между готических замков, покрытых
сарацинским орнаментом. Венеция имела тогда владения на Востоке, -
и на Кипре, в Архипелаге, одна продолжала Крестовые походы
христианства.
Но что делает из этой церкви единственный в своем роде памятник
и как бы летопись всех веков, - это надгробные монументы, которыми
• 185 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
она наполнена. Только что, в церкви Эремитани, я видел гробницы
семейства Каррара. Никакое другое произведение искусства не может
дать лучшего понятия об идеях и вкусах какой-либо эпохи, потому что
здесь работает рука архитектора, так же как скульптора, и потому что
все эти монументы, при всем своем разнообразии, выражают одну и ту же
идею - простую и первоклассной важности: идею смерти. И в их
разнообразии зритель наблюдает различное понимание человеком самого
страшного момента своей жизни и самого острого, всеобщего и всем
понятного из людских интересов. Здесь серия полна. Одна дама, умершая
в 1427 году, спит, покоясь в алькове; под ней - три небольшие фигуры
в нишах в форме раковины смотрят строгим взглядом, а их неуклюжие
головы, их поза и одежда так же просты, как погребальный катафалк,
на котором возлежит умершая. Возле - гробницы шестнадцатого
столетия: кардинала Бембо - крупная фигура, с небольшой лысиной и
великолепной бородой, горделивая, как тициановский портрет; другая
гробница, грандиозная и пышная, как триумфальная арка, -
венецианского полководца Контарини. Фриз из кораблей, кирас, оружия и щитов
вьется вокруг мраморного основания. Трубящие тритоны и кариатиды
в виде пленников в цепях представляют собою эмблемы и символы
морских побед. Нагие тела и головы с простодушным выражением лиц идут
здесь рядами, мощные и откровенно выразительные, как создания
здорового искусства, находящегося во всей своей силе и расцвете. По
сторонам красуются две женских фигуры, одна - юная и гордая, в плотно
облегающей тунике, обрисовывающей груди; другая - старая и плачущая,
но не менее крепкая и мускулистая. На вершине пирамиды - прекрасная
Добродетель, с опущенными глазами, но с обнаженной грудью и ногой,
кажется юной и величавой богиней Веронезе. Идешь дальше, и вдруг,
к концу семнадцатого столетия, начинается порча вкуса; искусство
становится благочестивым и светским, претенциозным и пошлым. Одна
гробница 1684 года представляет набор полунагих или одетых в
языческие доспехи фигур, согнувшихся и аффектированных, в путанице
занавес, гирлянд и черепов. Другая, 1690 года, - нагромождение людей,
ангелов, бюстов, знамен, которое начинается иссохшим черепом и рукою
скелета, чтобы закончиться на вершине крылатым скелетом, который
приставляет к губам трубу. За простым памятником, представляющим
реальную смерть, следует языческий монумент, окружающий смерть
героической помпой, и, наконец, монумент ханжеский, смешивающий
в общей парадности ужас гроба и светскую элегантность.
• 186·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
Как охотно возвращаешься снова к созданиям Ренессанса! Как, между
готическим бессилием и светской аффектацией, человек является в них
благородным, сильным и великим! Я провел остаток дня в «хоре». На
бронзовой балюстраде, возле бронзовых дверей, воздвигнуты большие
бронзовые статуи. Бронза одевает ограду, покрывает алтарь, унизывает
барельефы, подымается на столбы, реет на канделябрах. Целое племя
энергических фигур выдвигается со всех сторон в богатой чеканной
работе, сияя темным и глянцевитым лоском металла. Вот апостолы Аспетти
(1593), кажущиеся в своей надменной осанке и скомканных одеждах
внуками Микеланджело. Вот возвышается канделябр Риччо (1488),
высотой в два человеческих роста, толщиной в три фута, громоздящий
рядами свои маленькие фигуры; нельзя представить себе подобного
богатства изобретения, такого количества и столь разнообразных сцен, такой
роскоши орнамента - это целый мир, христианский и языческий,
пышно собранный на одной вещи и, однако же, расположенный с таким
искусством, что каждый ряд не уступает другому, кишащий муравейник
образует правильные фигуры и множественность заканчивается единством.
На квадратах боковых сторон развертываются евангельские сцены:
Христос, погребаемый среди воплей и жестов отчаянья плачущей толпы;
Христос в аду между мощных и прекрасных нагих тел освобождаемых
грешников. На карнизах, там и тут, по углам, по краю, языческие фигуры,
обрамляющие христианскую трагедию. Фантазия Ренессанса дала себе
здесь волю - в этом обилии тритонов, коней, переплетающихся змей,
детских и женских торсов. Кентавры несут на крупах нагих амуров,
размахивающих факелами; другие амуры играют с маской или держат
музыкальные инструменты; фавны и сатиры прыгают в листве; творческое
воображение бьет ключом, и этот триумф натуральной жизни, эти
поэтические панафинеи свободной и изобретательной человеческой
фантазии развертывают свое шествие и изобилие, чтобы украсить канделябр,
поддерживающий пасхальную свечу!
То, что мог сделать тогда литейщик бронзы, несравнимо ни с чем;
работа по металлу опередила на целое столетие живопись и достигла
совершенства, когда последняя была еще только при своем начале. Она
владеет уже всеми своими методами и господствует над соперницами.
Понимание типов, знание нагого тела, умение располагать одежды, изучение
выражения, порядок, перспектива - у нее есть все это; из рук моделиров-
щика выходит законченная картина - тридцать или сорок персонажей,
сгруппированных по различным планам, толпа в движении и волнении,
• 187·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
вся трагедия человечества, развертывающаяся на площади, среди
портиков и храмов. Две такие сцены Донателло находятся на перегородках
алтаря, и двенадцать Велано и Андреа Бриоско - на перегородках хора;
по богатству гения, смелости концепции, умению нагромождать массы
и управлять ими они превосходят все, что я когда-либо видел. Вот Юдифь
и вся армия Олоферна, избиваемая и обращенная в бегство; вот Самсон,
сокрушающий колонны храма, падающего вместе со своими
переполненными галереями; вот Соломон под архитектурным сооружением в три
этажа, окруженный собравшимся народом; вот десять колен израилевых
перед медным змием - повергнутые, распухшие от змеиных укусов тела,
женщины, протягивающие с мольбою своих детей к исцелителю,
корчащиеся укушенные мужчины, громоздящиеся кучею, - все это в широком
пейзаже со скалами, пальмами, стадами, развертывающем величие
мирной природы вокруг треволнений страдающего человечества. Все эти
тела и души живут, и их энергия отраженно передается зрителю:
чувствуешь подъем духа, глядя на них. Вот благородная сторона этого искусства.
Взгляните на портреты и историю людей того времени, и вы увидите, что
они доблестно выдерживали битву жизни, и это именно выдвинуло их
в первый ряд творцов искусства. Пусть человек борется и страдает, пусть
он будет ранен и сломлен - это неважно: его природа требует этого, он
создан аля труда и усилий. Но важно, чтобы он смело стремился, чтобы
он хотел, работал, достигал, чтобы великий источник действия, который
в нем заключен, не потерялся в стоячем болоте или в бюрократическом
канале, чтобы он непрерывно тек и разливался, не как капризный ручей,
но подобно широкой реке, чтобы этот поток, однажды пущенный,
катился вечно, мутный и бурный, если так нужно, но плодотворный и
неистощимый, и чтобы время от времени он снова сиял в лучах и под
ласкою неба. Достигнув своего предела, он может потеряться в море: его
назначение исполнено. С каждым веком смерть поглощает и рассеивает
поколения живущих, но она не имеет власти над прошлым. Мертвые могут
покоиться в мире - они сделали свое дело, и потомство, которое, в свою
очередь, пробивает себе путь, должно быть довольно, если, совершив
подобное же дело, оно будет почивать в том же покое.
Когда смотришь на великие творения, которыми полна Италия, и
думаешь о последующем упадке, когда понимаешь, насколько поколения,
их создавшие, превосходили нас в творческой мощи и
непосредственной силе изображения, когда вспоминаешь, что ранее нас все
цивилизации расцветали только аая того, чтобы потом завянуть и рассыпаться
• 188·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ΔΟ ВЕНЕЦИИ
прахом, - тогда спрашиваешь себя, не будет ли иметь подобный же
жребий и та цивилизация, в которой живем мы сами, и не даст ли
грандиозное здание, в котором мы сейчас находимся, в свою очередь, своими
обломками материал аая какого-нибудь нового, неведомого сооружения,
где обновленный род человеческий найдет аая себя лучшее убежище?
Аля ответа нужно слушать не голос чувства: ответить должны история
и анализ. Посмотрим же на главные основы нашего здания - по первому
взгляду кажется, что они гарантируют нам его прочность.
Современные государства не представляют собою простых единичных
городов, не имевших обширной территории, которые могли быть
разрушены завоеванием и истреблением жителей, как Сиена, Флоренция,
Карфаген, Кротона или Афины. Они заключают в своих пределах двадцать,
тридцать или сорок миллионов людей, образующих особые расы или
нации, и потому могут противостоять вражескому нашествию. Наполеон не
был в состоянии подчинить Испанию, столь слабую, и укротить столь
раздробленную Германию. Когда в 1815 году Вильгельм Гумбольдт
предложил разделить Францию, слишком сильную, по его мнению, союзники не
решились на это, почувствовав, что четверть века спустя отдельные куски
воссоединятся сами собой. Взгляните на теперешние затруднения России
с одной только третью Польши. Нужно пятьсот тысяч гарнизона, одна
половина народа должна сдерживать другую, и игра не стоит свеч.
Во-вторых, европейские государства образованы различными расами
и нациями; поэтому каждое из них может заменить собою другое, и
затем поднять соседа, если тот упал. Когда Португалия, Испания и Италия
пришли в упадок в семнадцатом столетии, - Англия, Франция и
Голландия восприняли и продолжали начатое дело на свой образец и за свой
счет. Если в будущие сто лет Франция станет простой
бюрократической казармой, протестантские народы - Англия, Германия,
Соединенные Штаты, Австралия - будут развиваться одни, и их цивилизация,
два-три столетия спустя станет влиять на Францию, как французская
сейчас, по прошествии двух-трех веков, влияет на Италию и Испанию.
Напротив, такая монархия, как в Китае, такая теократия, как в Индии,
такая группа отдельных городов, как в Древней Греции, или, наконец,
единая великая организация, как Римская империя, гибнут целиком со
всем, что было ими создано, - ибо возле них нет равных и независимых
соседей, которые могли бы их пережить и обновить.
Три четверти человеческого труда совершается ныне машинами, и их
число, равно как совершенство методов, непрерывно растет. Настолько
• 189·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
же сокращается ручная работа и вследствие этого увеличивается число
мыслящих существ. Поэтому мы свободны от язвы, погубившей
греческий и римский мир: я подразумеваю - от низведения девяти десятых
человеческого рода до состояния вьючного скота, который
эксплуатируется и гибнет. Такое уничтожение или постепенное отупение масс
давало в каждом государстве возможность существовать лишь небольшой
кучке избранных. Почти все республики Греции, и древней и новой
Италии погибли от недостатка граждан. В наше время машины,
заменившие крепостных и рабов, делают возможным существование
интеллигентных масс.
Кроме того, опытные и прогрессивные знания общепризнанны ныне
единственными законными властителями человеческого разума и
единственными надежными руководителями человеческих действий. Это
нечто ранее небывалое. У мусульман, при Птолемеях, в Италии
шестнадцатого столетия такие знания оставались в границах незначительного круга
любознательных людей, которых можно было уничтожить
проскрипциями. В настоящее время эти знания получили господство, и, так как они
очевидным образом улучшили практическую жизнь, то привлекли к себе
все частные интересы и все общественное сочувствие. А так как их
методы установлены твердо и их открытия все растут, то можно принять, что
они со временем бесконечно расширят и обновят человеческий разум.
Другие ветви духовной жизни - искусство, поэзия, религия - могут не
удаваться, отклониться с дороги или зачахнуть; но эта не может не
продолжаться, не развиваться и не подсказывать людям непрерывно основы
их миросозерцания, дабы приводить в порядок их верования и управлять
их действиями.
Наконец, те же науки, захватив в область своего воздействия
интересы политические и моральные и с каждым днем проникая в область
воспитания, меняют самое представление человека о жизни и об обществе:
прежде он был воинственным животным, считавшим других людей
своей добычей, а их преуспевание - своей выгодой. Каждый четверик ржи,
производимый в России, и каждый локоть материи, фабрикуемый в
Англии, настолько же уменьшают цену, которую я плачу за хлеб и за
материю. Поэтому мой интерес заключается не в том, чтобы убивать русского,
производящего хлеб, или англичанина, фабрикующего материи, а в том,
чтобы помочь им фабриковать и производить вдвое больше.
Никогда еще человеческая цивилизация не находилась в подобных
условиях. Вот почему можно надеяться, что нынешняя, выстроенная крепче
• 190·
ОТ ФЛОРЕНЦИИ ДО ВЕНЕЦИИ
прежних, не даст трещин и не рухнет, как те; по крайней мере,
позволительно думать,что, не считая частных несовершенств и потрясений, как
в Польше или в Турции, она выдержит и закончит свое развитие на тех же,
в общем, местах, где уже и сейчас возвышается ее здание.
Но, с другой стороны, величина современных государств,
промышленные открытия и научные влияния, укрепляя здание, вредят индивидуумам,
его населяющим, и каждый человек в отдельности чувствует себя
умаленным гигантским расширением организации, заключившей его в себя.
Прежде всего государственные единицы, чтобы стать более прочными,
стали слишком велики, и в большинстве, чтобы лучше противостоять
чужеземному нападению, слишком подчинились своему правительству Из
людей, входящих в их состав, девять из десяти, а часто и девяносто девять
из ста, - простые административно опекаемые провинциалы, которые, за
исключением случаев редких потрясений, не принимают никакого
участия в общественной жизни, позабывают волнения общих страстей и
входят в строй общества, как балки в состав здания, или, в лучшем случае,
прозябают, разочарованные и инертные, в атмосфере мелких
удовольствий и мелких идей, наподобие мха-паразита на кровле. Сравните их жизнь
с жизнью афинян пятого века или флорентийцев четырнадцатого.
Затем, успешности ради, промышленность слишком
специализировалась, и человек, превращенный в работника, стал колесиком в машине.
Фурье говорил, что при идеальном состоянии социального строя, если
люди как-нибудь признают, что умение готовить пирожки к супу не
находится на высоте цивилизации, - два каравана из ста тысяч избранных
виртуозов кухни соберутся в каком-либо подходящем месте, например
на берегах Евфрата, и будут конкурировать друг с другом в разрешении
задачи при помощи всех ресурсов опыта и гения. Победитель, получив
только по сантиму с головы, окажется очень богатым, и, кроме того, в его
честь будет выбита медаль. Вот карикатурное изображение нашей
индустрии. Взгляните на всемирные выставки - на эти огромные усилия,
посвященные усовершенствованию умывальников, башмаков, эластичных
подушек, - с соответствующим вознаграждением. Грустно видеть, как
сто тысяч рабочих семей пускают в ход свои руки и тридцать высших
заведующих расточают свою талантливость, чтобы придать лоск
шерстяной материи.
Наконец, так как наука, чтобы стать действительно опытной и
уверенной в себе, должна была распасться на мелкие и все более
мельчающие подразделения, то истинные мыслители, являющиеся ее творцами,
• 191 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
вынуждены замкнуться каждый в своей специальной области и жить
заключенными в какой-нибудь закоулок физиологии или химии, как
повар на своей кухне. В то же время, так как накопление фактов стало
колоссальным, то человеческая голова загромождена ими; нет уже более
Аристотелей; кто хочет получить хотя бы приблизительное понятие об
ансамбле знаний, вынужден отказаться от физической жизни и
надсаживать свой мозг; подобно заразе, во всех областях социальной жизни эта
слишком развитая умственная жизнь разрушает здоровье, физическое
и духовное. Сравните немецких докторов разных наук или литераторов,
даже наших светских людей, рафинированных и бледных, всех наших
ученых специалистов и любителей - с гражданами Греции,
философами, художниками, бойцами и посетителями гимназий, или с этими
итальянцами шестнадцатого века, владевшими каждый, помимо военного
воспитания, пятью или шестью особыми знаниями или способностями,
а некоторые - целой их энциклопедией.
Одним словом, человеческое творчество стало устойчивым, потому
что оно расширилось; но оно расширилось только потому, что человек
стал специалистом, а всякая специальность суживает. Вот почему мы
видим теперь упадок тех великих форм творчества, которые требуют аая
себя натуральной восприимчивости и живого чувства целого, - каковы
искусство, религия, поэзия. Способ, каким воспринимали жизнь греки
и итальянцы эпохи Возрождения, был одновременно и лучше и хуже
нашего: он порождал менее устойчивую, менее удобную и менее гуманную
цивилизацию, но большее число цельных людей и большее гениальных.
Против этого зла существуют, может быть, паллиативы, но не
лекарства, так как оно создано и поддерживается самым строем общества,
промышленности и науки, в котором мы живем. Тот же самый сев
растит, с одной стороны, полезный плод, с другой - яд; кто хочет питаться
первым, должен испить и второй. В этом случае, как и во всех других
органических болезнях, врач перевязывает язвы, прописывает
болеутоляющие средства, борется со всеми симптомами зла, советует своему
пациенту избегать излишеств и особенно рекомендует ему терпение. Больше
ничего нельзя сделать: пациент неизлечим, ибо, чтобы его исцелить,
нужно его пересоздать. Я сам - что я представляю собою на этих
страницах, как не образчик нашей общей болезни? Путешествовать в качестве
критика, с глазами, погруженными в историю, анализировать,
рассуждать, разбирать, вместо того чтобы жить беззаботно и по своей прихоти, -
что это такое, как не мания литератора и не привычки анатома? $У
aovoj X-068I кифвсиоюф иипэнэд уид
ι Hi кит ι ni ni ni 'ИДМЖ '
ят ■*- шипи
• f : ··· ' Ц iii im
<€L
кипннна
ΙΛ·
20 апреля 1864
Ι ЕЛЕЗНАЯ дорога вступает в лагуны, и тот-
I час же пейзаж принимает странный харак-
I тер и окраску. Нет ни травы, ни деревьев;
I все - море да песок; насколько хватает
I взгляда, выступают низкие и гладкие отме-
I ли, кое-где частично заливаемые течением.
I Легкий ветер покрывает рябью блестящие
I разливы воды, и мелкие волны ежеминутно
умирают на ровном песке. Заходящее солнце бросает на них
пурпурный оттенок, который то меркнет, то разгорается, сообразно приливу
волны. В этом вечном движении все краски смешиваются и изменяются.
Темное или кирпичного цвета дно голубеет или зеленеет от
покрывающей его воды; сама вода меняется в цвете, сообразно состоянию неба,
и все это мешается с потоками света, с золотыми блестками,
испещряющими мелкую волну, с серебряными извивами, переплетающими гребни
крутящейся воды, с внезапными вспышками и широким отблеском,
отраженным полосою прилива. Все привычки глаза и знакомая ему область
пересозданы и изменены. Чувство зрения встречает аая себя иной мир.
Вместо ярких, четких и сухих тонов твердой земли здесь перед ним
переливы, слияние, непрерывное мерцание тающих цветов, образующих
второе небо, столь же сияющее, но более разнообразное, изменчивое,
богатое и яркое, нежели первое - небо, созданное противоположностью
красок, сочетание которых есть гармония. Можно проводить часы в
созерцании этих оттенков, нюансов, всего этого великолепия. Не из этого
ли зрелища, наблюдаемого ежедневно, не от этой ли природы, уроки
которой воспринимались незаметно, не из воображения ли,
наполненного невольно волнистыми и нежащими видениями внешнего мира,
возник колорит венецианцев?
21 апреля
День в гондоле: нужно сперва поблуждать и посмотреть ансамбль.
Это - перл Италии; я не видел ничего подобного; я знаю только один
город, который отдаленно приближается к этому, и то лишь в
архитектурном отношении, - это Оксфорд. Но на всем итальянском
полуострове ничего нельзя с ним сравнить. Когда вспоминаешь грязные улицы
Рима и Неаполя, когда подумаешь о пыльных и узких улицах
Флоренции и Сиены и когда вслед за тем посмотришь на эти мраморные дворцы,
• 195·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
мраморные мосты, мраморные церкви, на этот пышный узор колонн,
балконов, окон, готических, мавританских и византийских карнизов,
на это всепроникающее присутствие струящейся и сияющей воды, -
тогда спрашиваешь себя, зачем не приехал сюда с самого начала, зачем
потерял два месяца по другим городам, зачем не отдал всего своего
времени Венеции. Строишь план поселиться здесь навсегда, даешь себе
клятву вернуться сюда еще раз, а аая первого раза восхищаешься не
только умом, но и сердцем, чувствами, всем своим «я». Чувствуешь себя
близким к тому, чтобы стать счастливым; говоришь себе, что жизнь
прекрасна, хороша. Достаточно только открыть глаза - не нужно
двигаться; гондола незаметно подвигается вперед; ложишься и даешь полную
волю уму и сердцу. Нежный и влажный воздух касается щек. Видишь
на широкой скатерти канала округлые, розоватые или белые формы
дворцов, спящих в свежести и безмолвии зари; забываешь все - свое
ремесло, проекты, самого себя; смотришь, лелеешь, смакуешь - точно
внезапно отрешенный от жизни, воздушный, реешь над миром вещей
в свете и лазури.
Большой канал развертывает свою дугу между двух рядов дворцов,
которые, выстроенные каждый отдельно и сам по себе, собрались здесь
непреднамеренно, чтобы украсить его своим разнообразием. Большая
часть их - средневековой эпохи, с их стрельчатыми окнами,
увенчанными трилистником, с балконами в резных цветах и розетках; богатая
готическая фантазия развернулась в этом мраморном кружеве, никогда
не опускаясь до уныния или некрасивости. Другие - времен
Возрождения - выстраивают этажами три ряда своих античных колонн.
Драгоценные гладкие куски порфира и змеевика инкрустированы над
дверями. Многие фасады - розового цвета или расписаны нежными красками,
и их арабески похожи на узоры, которые волна рисует на мелком песке.
Время наложило свою серую, стертую печать на все эти ветхие формы,
и утренние лучи смеются пленительно в огромном зеркале воды.
Канал поворачивает, и видишь, как из воды подымается, точно
пышное морское растение, великолепный и странный белый коралл, Санта
Мария делла Салюте, со своими куполами, грудами лепных украшений
и фасадом, отягощенным статуями; дальше, на другом острове, Сан Джор-
джо Маджоре, весь округлый и щетинистый, как роскошная
перламутровая раковина. Переводишь глаза налево - и вот Святой Марк,
колокольня, площадь, Дворец дожей... Возможно, что равной сокровищницы
нет на свете.
• 196 ·
ВЕНЕЦИЯ
I
Вид на церковь Санта Мария делла Салюте в Венеции. Фотография 1890-х годов
Этого нельзя описывать. Нужно видеть хоть гравюры; но что такое
бесцветная гравюра? Здесь слишком большое собрание форм, слишком
много шедевров, слишком велика творческая расточительность; можно
только извлечь некоторую общую идею, сухую, как палка, которую
принесли бы, чтобы дать понятие о цветущем дереве. Что здесь
господствует над всем - это богатая и многосложная фантазия, смешение,
образующее нечто целое, разнообразие и контрасты, завершающиеся
гармонией. Представьте себе восемь или десять драгоценных камней
на шее или на руках женщины, отвечающих друг другу великолепием
и красотой.
Чудесная площадь, окаймленная портиками и дворцами, расстилает
прямоугольником свой лес колонн, свои коринфские капители, свои
статуи, весь благородный и разнообразный строй своих классических
форм. На ее конце возвышается полуготическая и полувизантийская
• 197 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
базилика с луковицами своих куполов и острыми колоколенками, с
арками из резных фигурок, с входными дверями, окруженными
маленькими колонками, со сводами, обшитыми мозаикой, с полами из
разноцветных мраморов, с главами, сверкающими золотом, - странное и
таинственное святилище, нечто вроде христианской мечети, где снопы
света трепещут в багровой тени, как крылья какого-нибудь духа в его
подземном царстве пурпура и драгоценных металлов. Все это
громоздится и искрится. В двадцати шагах, голая и прямая, как корабельная
мачта, гигантская колокольня возносит до небес и возвещает издали
прибывающим с моря старое царство Венеции. У ее подножия,
прислоненная к ней, легкая Лоджетта Сансовино, подобная цветку: столько статуй,
барельефов, бронзы, мраморов, столько роскоши и изобретательности
изящного, живого искусства собралось здесь,чтобы одеть ее. Там и сям
штук двадцать знаменитых обломков образуют на открытом воздухе
музей и летопись: четырехугольные колонны, привезенные из Сен-Жан
д'Акра, квадрига бронзовых коней, похищенная в Константинополе,
бронзовые мачты, к которым прикреплялись флаги города, два гранитных
столба, несущих на своих вершинах - один крокодила, другой -
крылатого льва республики, - и перед ними широкая мраморная набережная
и лестницы, где пришвартовалась черная флотилия гондол. Переводишь
взгляд на море - и не хочешь уже смотреть ни на что другое. Это видел
на картинах Каналетто, но точно сквозь вуаль. Написанный свет - не свет
реальный. Разлившаяся, подобно озеру, вода змеится вокруг зданий,
как волшебная рама в зеленоватых и синих тонах, струящимся
аквамариновым хрусталем. Тысячи мелких волн играют и блестят под
дыханием бриза, и их гребни сверкают искрами. На горизонте, к востоку,
замечаешь в конце набережной дельи Скьявони мачты кораблей, макушки
церквей, остролистную зелень большого сада. Все это подымается из воды;
со всех сторон видишь, как вода протекает каналами, колеблется вдоль
набережных, уходит вплоть до горизонта, струится между домов,
окружает церкви. Море, блестящее, сияющее, проникающее, облекает и
опоясывает Венецию, подобно славе.
Как крупный алмаз посреди драгоценного убора, Дворец дожей
затмевает все остальное. Но сегодня я не хочу ничего описывать - я ищу
только удовольствия. Подобной архитектуры еще никогда не видел; все
здесь ново; чувствуешь себя вне границ общепринятого; начинаешь
понимать, что за классическими и готическими формами, которые мы
воспроизводим и которые нам навязывают, существует еще целый мир,
• 198·
ВЕНЕЦИЯ
Дворец дожей в Венеции. Фотография 1890-х годов
что человеческое воображение беспредельно, что, подобно природе, оно
может нарушить все правила и создать совершенное творение по
образцу, противоположному всем тем, в которых ему предписано замкнуться.
Все привычки глаза низвергнуты, и с приятным удивлением видишь
здесь, как восточная фантазия помещает заполненное пространство над
пустым, вместо того чтобы опирать пустоту на массив. Колоннада могучих
стволов несет на себе другую, совсем легкую, зазубренную стрелками
и трилистником, и на этой, столь хрупкой, опоре зиждется массивная
стена розового и белого мрамора, плиты которой чередуются узором
и отражают свет. Наверху карниз из точеных пирамид, стрелок,
башенок и фестонов разрезает небо своим бордюром, и эта колючая
мраморная растительность, распустившаяся поверх румяных и перламутровых
тонов фасада, заставляет вспомнить пышные кактусы, которые в
африканских и азиатских странах, откуда пришла эта архитектура, смешивают
кинжалы своих листьев с пурпуром цветов.
• 199 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Дворец дожей в Венеции. Внутренний двор. Фотография 1890-х годов
Входишь - и тотчас же взор упоен формами. Вокруг двух цистерн,
одетых чеканной бронзой, четыре внутренних фасада здания
развертывают свою архитектуру и ряды своих статуй, блистающих юностью
раннего Возрождения. Ничто не осталось голым и холодным - все
заполнено рельефами и фигурами; педантизм критика и ученого не
являлся здесь, чтобы стеснить под предлогом поправок и строгого вкуса
живое творчество и потребность доставить удовольствие глазу. В
Венеции вообще нет ничего сурового; здесь не замыкаются в книжных
предписаниях, не считают себя обязанными зевать с восхищением на фасад,
одобренный Витрувием; здесь хотят, чтобы архитектурное создание
насыщало и радовало все наши чувства - и его украшают орнаментом,
колоннами, статуями, делают его пышным и веселым. Ставят тут
языческих колоссов - Марса и Нептуна, и библейские фигуры - Адама и Еву;
скульпторы пятнадцатого века выстраивают свои, немного худые и
реальные тела; скульпторы шестнадцатого выставляют свои мятежные и
мускулистые формы. Риччо и Сансовино громоздят драгоценные мраморы
• 200·
ВЕНЕЦИЯ
своих лестниц, тонкую отделку и изящные капризы своих арабесок -
арматуру, древесные ветви, грифонов и фавнесс, фантастические цветы,
проказливых коз, все изобилие поэтических растений и шаловливых,
скачущих животных. Подымаешься по этим царским лестницам с
робостью и уважением, стыдясь своего унылого черного платья,
вызывающего в памяти, по контрасту, расшитые шелковые плащи, пышно
ниспадающие далматики, византийские тиары и башмаки - все вельможное
великолепие, аая которого были сделаны эти мраморные ступени, и на
верху лестницы вас встречает тинтореттовскии святой Марк, поднятый
на воздух, подобно ветхому Сатурну, вместе с двумя горделивыми
женщинами, Силой и Справедливостью, сопровождающими дожа, который
принимает от них начальственную и боевую шпагу. За лестницей
открываются правительственные и парадные залы, сплошь одетые
живописью. Тинторетто, Веронезе, Порденоне, Пальма Младший, Тициан, Бони-
фацио [деи Питати] и еще двадцать других покрыли своими шедеврами
стены и своды, рисунки и орнаменты которых дали Палладио, Аспетти,
Скамоцци, Сансовино. Весь гений города в лучшую его эпоху собран
здесь, чтобы прославить отечество летописью его побед и апофеозом
его величия. На свете нет других таких трофеев: морские битвы,
корабли с носами, выгнутыми, как лебединая шея, галеры с тесными
рядами весел, стенные зубцы, из-за которых летит дождь стрел, флаги,
трепещущие на мачтах, кипучие схватки бойцов, которые сшибаются друг
с другом и гибнут, толпы иллирийцев, сарацинов и греков, нагие тела,
бронзовые от солнца и скорченные борьбой, ткани, обшитые золотом,
оружие с насечкой, шелка, унизанные жемчугом, все странное смешение
героизма и пышности, которое история этого города раскинула от Зары
до Дамьетты и от Падуи до Дарданелл. Там и сям - величавая нагота
аллегорических богинь. В треугольниках - «Добродетели» Порденоне, -
колоссальные, мужеподобные девы с геркулесовскими телами,
сангвинического и холерического темперамента. Повсюду зрелище
мужественной силы, деятельной энергии, чувственной радости. И, как вступление
в этот блистательный строй, - самая большая из современных картин,
«Рай» Тинторетто, длиною в восемьдесят футов, высотою в двадцать
четыре, где шестьсот фигур мечутся в рыжеватом освещении, кажущемся
дымным заревом пожара.
Ум чувствует себя подавленным и как бы помраченным; чувства
изнемогают. Останавливаешься и закрываешь глаза; потом, четверть часа
спустя, начинаешь выбирать. Я видел сегодня хорошо только одну картину -
• 201 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
«Триумф Венеции» Веронезе. Это не только праздник - это пиршество
аая глаз. Посреди громадного здания с балконами и витыми колоннами
белокурая Венеция восседает на троне, вся цветущая красотою, с тем
свежим, розовым румянцем, который характерен для дочерей влажных
климатов, и ее шелковая юбка ниспадает под шелковым плащом. Вокруг нее -
общество молодых женщин, глядящих вниз с чувственной и все же
гордой улыбкой, с этим странным венецианским очарованием -
очарованием богини, в жилах которой струится кровь куртизанки, но которая
продолжает свое шествие по облакам и привлекает мужчин к себе, вместо
того чтобы нисходить до них. Между одежд бледно-фиолетового цвета,
возле лазурных и золотых плащей, - живое тело, спина, плечи,
пронизанные светом или тонущие в полутени, и нежная округлость наготы
дополняет мирную веселость поз и лиц. В середине - Венеция, пышная и все-
таки кроткая, подобная королеве, заимствовавшей от своего сана лишь
право быть счастливой и желающей сделать счастливыми и тех, на кого
она смотрит; над ее безмятежной головой два реющих в воздухе ангела
возлагают венок.
Какое жалкое орудие - слово! Иногда тон атласного тела или
светящаяся тень, лежащая на обнаженном плече, или трепетание света на зыб-
лющемся шелке притягивают, удерживают, манят к себе глаза целую
четверть часа, а в твоем распоряжении только одна неопределенная фраза,
чтобы передать это. Каким способом показать сочетание голубой
драпировки с юбкой желтого цвета, или же руку, половина которой
находится в тени, а половина на солнце? И между тем, почти все могущество
живописи заключено именно в этом - в эффекте одного тона рядом с другим,
как сила музыки - в эффекте одной ноты, следующей за другою нотой.
Глаз наслаждается здесь физически, как и слух, а писанные строки,
лежащие перед глазами, не достигают до нервов.
Ниже этого идеального неба, за балюстрадой, находятся венецианки
в костюмах того времени, с квадратными декольте, в жестких овалах юбок.
Это реальный мир, но столь же пленительный, как и тот. Они смотрят,
наклоняясь и смеясь, и свет, озаряющий местами их платье и лица,
ниспадает или струится в столь тонких контрастах, что чувствуешь, как тебя
охватывает порыв веселья. То лоб, то тонкое ушко, то ожерелье, то жемчуг
выступают из жаркой тени. У одной, цветуще-юной, особенно пикантное
личико; другая, полная, лет сорока, поднимает глаза к небу и смеется
в наилучшем в мире расположении духа. Вот эта, пышная, с расшитыми
золотом красными рукавами, остановилась, и ее груди натянули рубашку
• 202 ·
ВЕНЕЦИЯ
EL
f»
►^*\чг^^
' Jy fr** i
ИИ^Чл ^
1 Ш
? 'ι
, · ·
É
.-■ · В *~JK"ιβΡΜ»*^ ν
1 '
Icj3
lii i.· - * г
I ■ Л
fcii^1 MM
Щ^Р!
JiiÜlU* La
^ ι ^s^fa ■ -— --— <
^*?SStm%*Î ■ к /**i
■p? a
Паоло Веронезе. Триумф Венеции. Дворец дожей в Венеции
•203·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
поверх овала юбки. Одна маленькая девочка, белокурая и завитая, на
руках старой женщины, поднимает свою милую ручку с самым капризным
видом, и ее личико свежо, как роза. Нет ни одной, которая не была бы
довольна жизнью и которая не была бы, не говорю уже, радостна, но
весела. И как эти смятые, переливчатые шелка и эти белые, просвечивающие
жемчужины выходят хорошо на этих прозрачных, нежных, как лепестки
цветка, красках!
В самом низу, наконец, волнуется смелая и шумная толпа: воины,
лошади, вставшие на дыбы, широкие струящиеся тоги, солдат, трубящий
в окутанный драпировкою рожок, спина нагого человека рядом с
броней, и во всех интервалах - густая толпа энергичных, полных жизни
голов; в одном углу - молодая женщина с ребенком. Все это собрано,
расположено, варьировано с легкостью и изобилием гения; все это озарено,
как море летом, щедрым солнцем. Вот что нужно увезти с собою, чтобы
сохранить представление о Венеции.
Я велел отвезти себя в общественный сад: после такой картины можно
видеть только творения природы. Это открытое место в конце города,
напротив Лидо. Зеленые кусты растут там зарослями; желтые и красные
цветы уже раскрываются на клумбах; гладкие платаны и морщинистые
дубы, верхушки которых покрыты почками, глядятся своими
вершинами в море, которое сияет. С восточной стороны есть терраса, откуда
открывается горизонт и далекие острова. Отсюда, у своих ног, видишь
море - оно катится длинными и тонкими валами по красноватому
песку. Самые нежные, шелковистые, тающие оттенки роз с прожилками
или бледных фиалок, подобные одеждам Веронезе, золотисто-желтые
тона, окрашенные пурпуром, яркие и винно-красные, как драпировки
Тициана, тускло-зеленые, расплывающиеся в черноватой синеве,
аквамариновые, серебрящиеся зигзагами, усыпанные искрами, зыблются,
сливаются, смешиваются между собою, под неисчислимыми огненными
стрелами, которыми осыпает их с высоты каждая горсть лучей,
брошенная солнцем. Широкое нежно-лазурное небо расстилает свою арку, один
конец которой покоится на Лидо, и три или четыре неподвижных
облачка кажутся перламутровыми отмелями.
Я отправился дальше и закончил день на море. Под конец поднялся
ветер, и наступила ночь. Тусклые, желтовато-серые и фиолетово-зеленые
тона легли на воду; она плещет, беспредельная, незримая, и эта черная
зыбь оставляет в душе длительное чувство тревоги. Ветер рвет, плачет
и крутит в небе, полном больших облаков; последний след пожара, оба-
•204·
ВЕНЕЦИЯ
Большой канал в Венеции. Фотография 1890-х годов
грявшего запад, исчез. Время от времени луна появляется в прорыве туч;
она плывет, пробираясь от одной щели к другой, потухая почти тотчас
же, как вспыхивает, и обливая на минуту своей струей сумрачные волны.
Но успеваешь все-таки различить необъятный круг небесного купола;
земля на горизонте лежит лишь узкой полосой цвета угля; трепещущее
море, мутный туман и плотные тела бегущих вверху облаков занимают
остальное пространство.
Ничто не может передать оттенка воды в подобную ночь; темная,
цвета смуглой яшмы, временами белесоватая, она рокочет неумолчным
шепотом, и сперва ее слышишь, почти не видя, не различая ничего в этой
огромной пустоте, полной зыблющихся форм. Мало-помалу глаза
привыкают и начинают ощущать неугасимый свет, всегда от нее струящийся.
Подобно зеркалу в запертой потаенной комнате, подобно тем магическим
стеклам с бесконечной перспективой, которые описывают легенды, она
светится, смутно, таинственно, но вечно она светится. То это
вынырнувший гребень мелкой волны, то хребет широко расплывшегося волнения,
•205 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
то гладкая поверхность спокойных глубин, то, наконец, воронка
водоворота, захватившего в себе какой-то далекий отблеск, искру, белую, вдруг
вскипевшую волну. Все эти слабые источники света перекрещиваются,
набегают один на другой, сливаются, и вот из великой тьмы рождается
неясное мерцание, как от металлического предмета, лежащего в тени, -
целая бесконечность бледнеющего света, неистребимый блеск живой
воды, тщетно омрачаемой мертвым небом.
Два или три раза луна освобождалась, и ее длинный трепещущий
столб казался погребальным светильником, зажженным среди
ниспадающих драпировок и в черном убранстве некоего чудесного катафалка.
На горизонте, подобно похоронной процессии с ее гробами и факелами,
застывшей в безграничном пространстве, выступала Венеция со своими
зданиями и огнями; там и сям эти огни теснились группой, как пучок
свечей в углу гроба.
Лодка приближается к городу; слева, в необычайном безмолвии,
углубляется канал Орфано, недвижный и пустынный; это спокойствие
черной и сияющей воды пронизывает все нервы удовольствием и страхом.
Ум невольно погружается в эту холодную глубь. Какое странное бытие
немой, ночной воды!.. Между тем церкви и дворцы вырастают и плавают
на поверхности моря, как призраки. Открывается Святой Марк, и его
очертания разрезают мрак бесчисленными своими остриями и
закруглениями. Видна площадь с ее колоннами и колокольней, меж двух рядов
огней, - подобная фантастическому видению, вызванному
волшебником, или воздушному убранству воображаемого дворца... Дальше лодка
углубляется в подозрительные улочки, где лишь изредка фонари
отражают в воде свой трепещущий сноп; ни одной фигуры, никакого шума,
кроме крика лодочника при огибании стен; ежеминутно гондола
пронизывает темное пространство под мостом; потом медленно, как
карабкающийся червь, скользит вдоль основания какого-нибудь дворца,
невидимого в непроницаемой, как в погребе, тени. Внезапно тьма рассеивается,
и видишь одинокий фонарь, уныло дрожащий в ночи и бросающий свой
отблеск, свое белое мерцание на синее лоно вод. Другой раз волны
плещут о разбитую лестницу, об изъеденный фундамент, и различаешь окна
с железной решеткой или покрытую плесенью стену, а вокруг путаницу
переплетающихся каналов - извилистых вод, уходящих вглубь между
неведомых очертаний.
•206·
ВЕНЕЦИЯ
Арсенал в Венеции. Фотография 1890-х годов
Площади, улицы
Все здесь хорошо... Я подозреваю, что существуют взаимные
симпатии темпераментов: я нахожу здесь нечто такое. Лайте мне большой лес
на берегу реки, или еще лучше - Венецию.
Нет ничего, что не доставляло бы удовольствия, вплоть до небольших
улочек, до самой маленькой площади. От Палаццо Лоредан, где я сейчас
нахожусь, чтобы попасть к собору Святого Марка, нужно идти по
несуразным, милым calle [улицам], полным магазинов, мелочных лавочек,
гор овощей, дынь и апельсинов, ярких костюмов, лукавых или
чувственных лиц, - в шуме и мелькании толпы. Эти улочки так узки, так
причудливо сжаты между неправильных стен, что над своей головой
видишь только зубчатую полоску неба. Попадаешь на какую-нибудь
piazzetta [маленькая площадь], на какое-нибудь пустынное сатро
[площадь], совершенно белое под побелевшим в свету небом. Тротуары,
стены, ограды, мостовые - все это камень; кругом стоят запертые дома,
и их вереницы образуют треугольник или квадрат, искривленный необ-
•207·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ходимостью расширения или случайностью постройки; цистерна
изящной работы находится в центре, и чеканные львы или нагие
фигуры играют на закраине. В углу стоит какая-нибудь церковь барокко -
Святого Моисея, с его фасадом иезуитской эпохи; Святых Апостолов
или Святого Луки, с порталом, обремененным статуями и совершенно
почерневшим от влажно-соленого воздуха и старых солнечных
обжогов. Косой сноп света разрезает здание на две части, и половина фигур
кажутся мятущимися на фронтонах и выступающей из ниш, меж тем как
остальные покоятся в голубой прозрачной тени. Идешь дальше и
видишь в длинном рукаве канала, пересеченном маленьким мостом,
гондолы, чертящие серебряную борозду на пестром мраморе воды; на
самом конце анфилады золотое мерцание отмечает на волнах солнечную
струю, мечущую с высоты крыш пляшущие искры на пятнистое лоно
моря. Мостовая арка переброшена через канал, и венецианская
гризетка в черной мантилье приподнимает свою юбку, чтобы показать белый
чулок, тонкие икры и башмаки без каблуков. Она не имеет гордой и
грубой внешности римлянок; она плавно выступает под своим
покрывалом, и ее снежно-белый затылок виднеется под завитками рыжеватых
волос. Полная, улыбающаяся неженка, она похожа на павлина или,
вернее, на голубя, шея которого переливается на солнце. Я заплутался, но
тем лучше; не нужно никаких проводников - в конце концов находишь
дорогу по солнцу и склонению теней. У всех церквей, у всех мест, где
причаливают гондолы, торчат живописные бездельники - настоящие
«лаццарони», все занятие которых заключается в том, чтобы
придержать лодку у лестницы, кликнуть гондольера, когда путешественник
возвращается, фланировать на солнце, спать или просить милостыню.
Они протягивают руку, и я смотрю на их пыльные, выцветшие, с
пятнами лохмотья, сквозь которые просвечивает красноватое тело. Их кожа
прекрасного ровного смуглого цвета, и они выглядят картинно в
лепных углах зданий или издали на пустынных набережных. Проходишь,
наконец, на площадь Святого Марка; солнце уже исчезло, но Сан Лжор-
джо, его башни и кирпичные здания еще розовеют, как цвет персикового
дерева, а с западной стороны пурпурная дымка, светозарная пыль, как бы
дыхание раскаленного горна, зажигает горизонт. На востоке все купола
и острия выступают из блестящего моря, подобные агатовым и
порфировым чашам и светильникам; их макушки и гребни вырезываются с
необычайной отчетливостью на огромной раковине небес, а у самого
горизонта застыл оттенок дальнего изумруда.
•208·
ВЕНЕЦИЯ
Гирлянды огней начинают зажигаться под аркадами Прокураций.
Усаживаешься в кафе Флориан, в одной из маленьких комнаток,
украшенных зеркалами и смеющимися аллегорическими фигурами;
прослеживаешь про себя с полузакрытыми глазами все образы этого дня,
которые приходят в порядок, преображаясь, подобно мечте; во рту
тает ароматный шербет, согреваемый тонким кофе, которого не найдешь
больше нигде в Европе; куришь восточный табак; видишь, как
появляются продавщицы цветов в шелковых платьях, грациозные, нарядные,
и, не говоря ни слова, кладут на стол нарциссы или фиалки. Между тем
площадь наполняется народом; черная толпа жужжит и волнуется в тени,
пронизываемой огнями; бродячие музыканты поют или дают концерт
на скрипках и арфах. Встаешь, и позади площади, полной движущихся
теней, за двумя рядами освещенных, веселых лавок, видишь собор
Святого Марка - это странное восточное растение, его луковицы, шипы, его
филигранные статуи, темные пещеры его портиков, в трепетном свете
двух или трех затерянных фонарей.
25 апреля, старая Венеция, Святой Марк
Что составляет особенность Венеции, свойственную только ей, и
делает из нее единственный в своем роде город, - это то, что она одна только
во всей Европе, после падения Римской империи, оставалась свободным
городом и продолжала без перерыва режим, нравы и дух древних
республик. Вообразите себе Кирену, Утику, Корциру [Керкиру] или
какую-нибудь другую греческую или пуническую колонию, чудесно уцелевшую от
нашествий и от всеобщего обновления и дотянувшую вплоть до
французской революции старую форму человеческой жизни. История Венеции так
же удивительна, как сама Венеция.
В самом деле, это колония - колония Падуи, спасшаяся в недоступное
место от Алариха и Аттилы, как некогда Фокея перебросилась в Марсель,
чтобы уйти от таких же великих опустошителей, Кира и Лария. Как и
греческие колонии, она сохраняет сперва связь, соединившую ее с
метрополией. В 421 году Падуя предписывает построить город около Риальто,
посылает консулов, строит церковь. Лочь растет под покровительством
матери и, наконец, отделяется от нее. Начиная с этого момента, в
течение тринадцати веков ни один варвар, ни один германский или
сарацинский государь не наложил на нее своей руки. Она не входила вовсе
в великую феодальную систему; сын Карла Великого потерпел неудачу
перед ее лагунами; императоры франкские и германские признавали,
• 209 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
что она зависит не от них, а от Константинополя. И даже эта
зависимость, которая была лишь пустым звуком, скоро исчезла. Ее болота, ее
ловкость и ее мужество сохранили ее свободной и латинской против
византийских кесарей в золотых одеждах и ахенских кесарей в латах,
против больших судов выродившихся греков и против тяжелой
германской кавалерии. Ее старые историки начинают свои летописи с
хвастовства, что они римляне, и даже более римляне, нежели граждане самого
Рима, столько раз завоеванного и смешавшего свою кровь с
чужеземной. И в самом деле, этот город ускользнул вовремя от гниения
империи, чтобы оживить снова воинственный и трудовой строй древних
городов в безопасном углу, где его не могло задеть вторжение феодальной
грубости. Здесь человек не томился под византийской шелковой
сутаной и не грубел под германской кольчугой. Вместо того чтобы делаться
писцом под начальством дворцового евнуха или солдатом под
командой барона из укрепленного замка, он работает, плавает, строит,
разбирается в делах и голосует, как некогда афинянин или коринфянин, не
имея никакого господина, кроме самого себя, живя среди своих
сограждан и равных себе. От начала и в продолжение двух с половиною
столетий каждый остров выбирает трибуна - нечто вроде ежегодно
сменяемого мэра, ответственного перед общим собранием всех островов.
Первые хроникеры рассказывают, что повсюду пища и постройки были
одинаковы. В шестом веке Кассиодор говорит, что у них «бедный равен
богатому, что их жилища однообразны, что между ними нет различий
и нет зависти». Вот новое возрождение умеренных и деятельных
греческих демократий. Когда в 697 году они выбрали себе дожа, их свобода
сделалась только еще более бурной. Идут раздоры между фамилиями
и схватки в народных собраниях. Если дож становится тираном и хочет
сделать свое достоинство наследственным, его изгоняют, постригают
в монахи или выкалывают ему глаза, нередко и убивают, по примеру
античных городов. К 1172 году из пятьдесяти дожей девятнадцать были
убиты, изгнаны, изуродованы или низложены. Город имеет и своего
местного бога - нечто вроде Юпитера Капитолийского или Афины Пал-
лады: сперва это был святой Теодор со своим крокодилом, потом
святой Марк с крылатым львом. И останки святого, увезенные обманом из
Александрии, принимают под свое покровительство и освящают
родную землю, как некогда Эдип, погребенный в Колоне, освящал и
охранял афинскую землю. Общественный дух так же могуч, как во времена
Мильтиада или Кимона. Орсеоло I основывает госпиталь на свой счет,
• 210 ·
ВЕНЕЦИЯ
перестраивает дворец и собор Святого Марка на собственные деньги.
Его сын, Орсеоло II, завещает две трети своего состояния государству
и только остаток - своей семье. Итак, вот второй росток античной оливы,
зеленый и юный, посреди феодальной зимы. В своем государственном
строе, в характере своей религии, в своих привычках и чувствах, в
опасностях и предприятиях, в побуждениях, которые его одушевляют, и в
замыслах, которые им руководят, человек чувствует себя здесь во второй
раз направленным на тот путь, который остальные человеческие
общества покинули уже навсегда.
Нам непонятна теперь та мощь, которую они проявляли в этом
тесном кругу. Мы больше не видим вспышек энергии, какую развивали эти
замкнутые общества. Мы потеряны в слишком больших государствах.
Мы не можем вообразить себе тех непрерывных требований мужества
и инициативы, какие предъявляло к своим членам общество,
ограниченное пределами одного города. Мы не подозреваем даже, какие
ресурсы изобретательности, какой порыв патриотизма, какие сокровища
гения и чудеса долга, какой великолепный расцвет человеческой силы
и величия духа может выказать отдельный индивидуум, когда он
устремляется на путь, отвечающий его способностям и доступный его
воздействию. Что может быть более редкого ныне, чем чувствовать себя
гражданином, принадлежащим родине! Нужно, чтобы эта родина
находилась в опасности, а это случается раз в столетие. В обыкновенное
время мы ее не замечаем; отечество аая нас - только абстрактное
понятие; мы интересуемся им лишь по соображениям разума. Мы его
чувствуем только как некоторый сложный механизм, который нас стесняет
и обслуживает, но который, вообще говоря, устойчив и не
обнаруживает порчи. Повреждение какого-нибудь отдельного колеса или иная
прореха, как бы велики они ни были, роняют немного ренту - вот и все.
Наша личная жизнь и жизнь наших ближних от этого не разрушается;
мы всегда найдем на нашей улице полицейских, чтобы нас защитить;
наши дела не пострадают чересчур, а наши удовольствия и вовсе не
пострадают. С того времени, как частная жизнь отделилась от
общественной, государство, сданное на руки правительству, уже не кажется
личным делом каждого. Напротив, в ту эпоху все, что поражало общину,
задевало живо и частное лицо; дела нации были его собственными
делами. Когда венгры явились перед Венецией, не нужно было
возбуждать ее граждан, чтобы они спешили к проходу у Маламокко: дело шло
об их домах, детях и женах, и каждый правил сам своей баркой, как мы
• 211 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
нынче управляем пожарным насосом, когда в двух шагах от нас кричат:
«огонь!». Сто шестьдесят лет непрерывной войны против
далматинских пиратов не были делом государственных соображений или
кабинетных расчетов - осуществлением систематического плана,
разработанного дюжиной политических голов в расшитых мундирах, как наши
африканские экспедиции. Корабли перехватываются, невесты
похищаются из церкви, граждане, попавшие в плен, обращаются в простых
гребцов, - со всех сторон в частной жизни начинают сочиться
кровоточащие раны, превращая обывателя в гражданина. Когда, позднее, город
унизал все побережье Средиземного моря своими колониями, такое же
положение вещей поддерживало тот же патриотизм. Наваджери, герцоги
острова Лемнос, или Санудо, государи Наксоса и Пароса, или те пятьсот
тридцать семь семейств всадников и пехотинцев, которые получили в
удел себе третью часть острова Крит, знают, что от общественного
благополучия зависит и их личное. Поражение Венеции принесет им
нашествие врагов, пожар, изуверства, смерть на колу. Когда греки,
египтяне или генуэзцы высылают против города свои флоты, когда германцы,
турки или далматинцы двигают против него свои армии, тогда
последний венецианец - купец, матрос, конопатчик - знает, что его торговля,
его заработок, самые члены его тела находятся в опасности. Это
постоянная общность действий воспитала в нем привычку действовать в массе,
чувствовать себя включенным в свое отечество, получать оскорбления
и раны в нем и через него, восхищаться им, презирать другие и
любоваться на самого себя, как на солдата благородной армии,
победоносной и искусной, которая идет походом со святым Марком,
избранником Божьим, в качестве вождя. В этом подъеме человек делается очень
силен. И так как он чувствует себя великим, то он и совершает великие
дела; самоотвержение удваивает могущество усилия, уже
напряженного личным интересом. Сравните с этим жизнь какого-нибудь
современного города, Руана или Тулузы - этого простого скопления людей, где
каждый, под защитою приличной полиции, прозябает одиноко, не
помышляя ни о чем, кроме как о самом себе, вяло стремясь к обогащению
или к наслаждениям, а еще того чаще стараясь умалиться и стать
незаметным. Пусть сравнят с этим предприимчивую жизнь свободного
города, как древние Афины или древний Рим, как Генуя и Пиза в Средние
века, как эта Венеция - слобода торговцев рыбой, выросшая на иле, без
земли, без воды, без камня, без леса, которая завоевывает берега
своего залива, Константинополь, архипелаг, Пелопоннес и Кипр, которая
• 212 ·
ВЕНЕЦИЯ
подавляет семь восстаний в Заре и шестнадцать восстаний на Крите,
которая побеждает далматинцев, византийцев, каирских султанов и
венгерских королей, которая бросает на Босфор флот в пятьсот
парусных судов, вооружает эскадры в двести галер, пускает в плавание
одновременно три тысячи кораблей, которая ежегодно своими четырьмя
флотами галионов соединяет Трапезунд, Александрию, Тунис, Танжер,
Лиссабон и Лондон, которая, наконец, создав свою промышленность,
архитектуру, живопись и оригинальный склад быта, превратилась сама
в великолепное создание искусства, между тем как ее суда и ее солдаты
на Крите и в Морее защищают Европу против последних варварских
завоевателей. Становится понятно из контраста их деятельности и нашей
инерции, что может извлечь общество из человека, что может человек
замыслить и создать, когда государство делает его властелином и
патриотом; и в какой степени древний муниципальный строй, нами
покинутый и обновленный Венецией, развивал мужество и гений,
возбуждая и связывая в один сноп все человеческие способности, которые мы
оставляем чахнуть изолированными в наших слишком больших
государствах.
Когда какое-нибудь общество развивается так собственной силою,
оно вырабатывает свой собственный вкус и свое искусство;
предприимчивая жизнь порождает оригинальные создания, и творческая сила
вступает на поприще интеллектуальной жизни, после того как она
оплодотворила поле жизни деятельной. Одно только нужно человеку -
уважение к тому живому источнику, который он носит в себе. Пусть
каждый из нас охраняет свой, не позволяет его замутить или засорить,
дает ему течь; все остальное - творчество, слава, могущество - придет
как следствие и как дополнение. Эти венецианцы отправились в
Константинополь и вывезли оттуда аая своего храма округлые формы,
дугообразные аркады и шаровидные купола, которые любила византийская
архитектура. Но они преобразовали их, применяя на родной почве, и
собор Святого Марка также отличается от Святой Софии, как молодая,
наивная, изобретательная, нация завоевателей отличается от
громадной и осторожной, ветхой империи. Архитекторы ворчат, глядя на этот
храм: на каждом шагу здесь нарушены все правила и перемешаны все
стили. Не сумели или, может быть, не решились на этой зыбкой почве
воспроизвести громадный купол Святой Софии, но ее округлость
нравилась, и вот, вместо одной большой, возвели пять маленьких; потом
снаружи их еще надстроили и расширили луковицами с оригинальными
•213·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
стрелами и изгибами. Избыток фантазии везде дает себя знать. Уже
начиная с перистиля, видишь, как она бьет через край. Портики увенчали
свой античный свод широким убором, который подъемлет готическими
остриями гирлянду статуй. Тонкие колоколенки поместились на
контрфорсах. Пятьсот маленьких колонок - порфировых, зеленого мрамора
и змеевика - теснятся и громоздят по фасаду свои неправильные ряды,
свои классические или варварские головы, великолепный беспорядок
своих разноцветных мраморов. Сарацинские двери блестят решеткой из
мелких подков между странными капителями, где птицы, львы, листва,
виноград, шипы и кресты спутывают свой неуклюжий или
фантастический рисунок. На сводах бесчисленные мозаики выдвигают свои реальные
и грубые тела - тщедушных Ев с повисшими грудями, исхудалых
Адамов - этих раздетых работников, множество разных библейских сцен,
столь же наивно-непристойных и детски-неумелых, как иллюстрации
самых старых молитвенников. Узнаешь средневекового человека,
который по заимствованному классическому фону вышивает оригинальный
готический узор, который, сделавшись утонченнее и тревожнее благодаря
христианству, любит уже не простое и единое, а сложное и
многообразное, который испытывает потребность наполнить свое поле зрения
выступающими и сплетающимися изобильными формами - всей новизной,
роскошью и изысканностью капризной орнаментации, который, став в одно
и то же время более мечтательным и более чувствительным, требует аая
удовлетворения своего вкуса безграничного множества оживленных
перспектив и резких изломов неожиданно неправильных линий, который,
наконец, будучи занесен своей судьбой моряка в византийские базилики
и магометанские мечети, громоздит мраморы, бронзы, отсветы пурпура и
сверкание золота, чтобы выразить в своем христианстве пышную и
сложную поэзию, которая очаровала его в зрелищах Востока.
Сегодня как раз Лень святого Марка. Пестрая толпа женщин и
молодых девушек, в черных вуалях и лиловых шалях, в длинных струящихся
юбках, жужжит под портиками и наводняет церковь. Они становятся на
колени на плитах, касаются рукой ног бронзового Христа и крестятся;
другие бормочут молитвы и опускают монету в ящик, который обносят
по церкви, прося подаяния «аая бедных умерших». Процессия прелатов
выступает вереницей, и вдоль столбов движутся белые и золотые митры,
узорные и мерцающие ризы. Поднимается пение, странное и
прекрасное, состоящее из очень высоких и очень низких голосов, - нечто вроде
монотонного речитатива, заимствованного, может быть, из Византии.
•214·
ВЕНЕЦИЯ
Собор Сан Марко в Венеции. Фотография 1890-х годов
Музыканты спрятаны: неизвестно, откуда выходит этот речитатив; он
реет и уносится вверх в багровом и пасмурном освещении, как голос
бесплотного существа в сияющей пещере, какой-нибудь феи или духа.
Ничто не может сравниться с этим зрелищем по своеобразию и
великолепию. Идешь взглянуть снова на площадь Святого Марка, такую
красивую и веселую, с ее изящными колоннадами, роскошной лазурью
неба и светом, льющимся в пространстве. Спускаешься на одну
ступень, и глаза внезапно погружаются в пурпурный сумрак маленького
святилища незнакомого стиля, полного переливов и игры гаснущих
лучей, тесного и загроможденного, как потайная комната, где
какой-нибудь жид или паша хранит свои сокровища. Два цвета - самых ярких из
всех - обливают эту часовню сверху донизу: первый - это цвет
красноватого с прожилками мрамора, который блестит на стволах колонн,
одевает стены и расстилается плитами пола; второй - золото,
покрывающее купола, инкрустированное в мозаиках и брызжущее блеском
в миллионе своих чешуек. Красное - на золоте и в тени: подобного тона
нельзя себе представить! А время еще сделало его тусклым и смутным...
• 215 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Над мраморным полом, растрескавшимся от оседания, сияют рыжим
блеском узорчатые овалы куполов; свет проходит только в маленькие
круглые отверстия, в которые вставлены круглые расписные стекла.
Бесконечное разнообразие форм - столбы, испещренные статуями,
бронза и канделябры, сотни мозаик... Вся эта азиатская роскошь
вьющихся украшений и варварских фигур искрится в воздухе, где плавают
волны ладана и носятся в сияющих пылинках контрасты ночи и дня.
Невозможно передать все могущество этого плененного и рассеянного
в тени света. Часть капеллы направо темна, как подземелье; последний
отблеск блуждает по изгибам арок. Три медные лампады одни
выплывают из дрожащего мрака; глаз приковывается к их круглым очертаниям
и следит за их цепью, которая уходит вверх, звездясь во тьме своими
блестками, чтобы исчезнуть в неведомых высотах; видя эти лампады,
ниспущенные на конце светящейся нити, можно принять их за
таинственные венчики волшебного цветка. Эти архитекторы десятого и
двенадцатого столетий обладали своеобразным и оригинальным чувством.
Подражали ли они византийцам или арабам - неважно. Этот святой
Марк, которого они привезли из Александрии, - этот сирийский
апостол, небо и отечество которого они видели, напоил их воображение
поэзией, неведомой варварам Севера. Они не стремятся выразить печаль
и не гоняются за громадностью. В их фантазии есть запас южной
жизнерадостности, так же, как в жарком колорите их церквей, в этой
повсеместной облицовке сияющих мозаик, в этом наборе мраморов, в этих
лепных галереях, в этих кафедрах и балконах, в пышных арабесках или
готических дверях, окруженных каждая цепью апостолов. В этом
празднестве, подобном какому-то видению, все несоответствия согласуются
между собою и все неловкости перестают чувствоваться. Вокруг
главного алтаря четыре колонны, несущие балдахин, исчезают под массою
фигур, покрывающих весь ствол от базы до капители, - каждая в своей
нише. Если их рассматривать одну за другой - они выглядят варварски;
оскорбляет бессилие и тщетные попытки, в них сказывающиеся. Руки
диспропорциональны; головы иногда величиной в треть или в четверть
туловища; почти все вульгарны, иногда топорны и нелепы; скульптор
был монах-увалень, который копировал увальней из простонародья;
его рука сбивается и приходит, сама того не подозревая, к карикатуре;
одна святая с надутыми щеками - это гротеск, чахоточный гидроцефал;
другие - безобразные, нежизнеспособные уроды, как те диковинки,
которые сохраняются в анатомических музеях. И однако на расстоянии ше-
• 216 ·
ВЕНЕЦИЯ
Собор Сан Марко в Венеции. Фотография 1890-х годов
сти шагов эффект целого превосходен; находишься под впечатлением
громадности этой неразличимой, коричневого цвета толпы,
выстраивающей этажами свои вереницы под капителью из золотых листьев и смутно
колеблющейся в мерцании лампад. Средневековый мастер, не
способный изобразить индивидуальность, чувствует массы и ансамбль; он не
понимает, как древний грек, превосходства отдельной личности - бога,
героя, который довлеет самому себе; он уходит из этого прекрасного,
но ограниченного круга: его внимание привлекает народ, человеческое
множество, бедный род людской, весь в его целом уничиженный,
подобный муравейнику, перед своим верховным властителем. И он
оставляет людям их уродство, некрасивость, ничтожество; нередко даже он их
преувеличивает. Но высокая и напряженная мечта, радость, смешанная
с тревогой, весь трепет и устремление душ - вот что он слышит и вот что
он выражает, и если мы не видим в его творении мужественного и
здорового облика независимого и цельного человека, - мы улавливаем в нем
зато внутреннее волнение масс и пламенную религию сердца.
•217·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Вот что одушевляет эти столь грубые мозаики, которыми облицованы
здесь все стены, своды, малейшие углы. Заметно, конечно, что сюда
призывались мастера из Константинополя: по всем стенам бестолковость
обветшавшего искусства и бессилие искусства младенческого создали
множество манекенов, эмалевые глаза которых ничего не видят.
Богоматерь над входными дверями не имеет тела - это скелет под плащом.
Христос над алтарем в крещальне не имеет уже человеческого образа;
скажешь, что это тело выпотрошили и сделали пустым; осталась одна
бледная кожа, плохо набитая каким-то мягким волосом. Иродиада в
красном платье, усеянном золотыми звездами, из-под своих горностаевых
рукавов выставляет напоказ высохшие пальцы тощей чахоточной. Нужно
видеть необыкновенные ноги ангелов, большие ввалившиеся глаза святых,
иссохший, дряблый, бессильный вид всех персонажей. И, однако, как ни
жалки эти фигуры, юный народ, вынужденный заимствовать у народа
старого, делает из них гармонический и прекрасный ансамбль.
Ортодоксальное и плоское творчество входит лишь как часть в творчество
вдохновенное и искреннее. На этом расстоянии и в этом изобилии перестаешь
замечать тощие или механические формы. Их не различаешь, как
отдельные головы в толпе. Глаза находят перед собою собрание святых, всю
бесконечность истории, все небо легенд; они забывают детали - они
видят целое царство и не хотят считать или оценивать его обитателей.
Старая Венеция, героическая и благочестивая, так и поступала - вот
почему она могла в течение столетий расточать свои богатства, свой
труд, свои военные подвиги. Вот тот идеальный мир, который
провидела ее вера, - столь же живой, столь же населенный аая нее, как и мир
реальный. Сквозь эти фигуры, оживленные пурпурным светом и
лучезарным блеском золотых куполов, она созерцала своих патронов, своих
ангелов и свою Мадонну.
26 апреля, Санти Ажованни э Паоло, Фрари
Гондола углубляется в пустынные улочки северной части города.
Переливы воды дрожат в выгнутых арках мостов, как шелковая драпировка
с разводами, - розовая, белая и зеленоватая. Мы выезжаем из города;
полдень, небо бледно-жгучее. Тянутся бревна застрявших на мели
плотов, омываемые водой и сверкающие на недвижной глади. Напротив -
остров, окруженный стеной. Это - кладбище, резкие белые очертания
которого выделяются на пламенной белизне неба. Дальше два или три
парусных судна бегут по фарватеру; на горизонте дымчатая цепь гор об-
•218·
ВЕНЕЦИЯ
Пьяцца Санти Джованни э Паоло с памятником Коллеони Верроккьо в Венеции.
Фотография 1890-х годов
рисовывает свою снежную бахрому Узорный нос гондолы выступает из
воды, точно какая-то странная рыба, плывущая хвостом вперед, и его
черный силуэт режет воду и прокладывает себе путь, среди трепетания
бесчисленных мелких золотых волн, в великом безмолвии...
На пустой площади возвышается конная статуя Коллеони - вторая
отлитая в Италии (работы Верроккьо, 1475). Это настоящий портрет -
такой же, как статуя Гаттамелаты в Падуе: реальный портрет кондотьера,
сидящего на своей крупной боевой лошади, в латах, с кривыми ногами
и слишком коротким бюстом, с грубым лицом бойца, который отдает
команду и кричит. Это отнюдь не приукрашенный, но схваченный
живьем, полный энергии образ. Напротив памятника - Санти Джованни
э Паоло, готическая церковь (1236-1430) - итальянской готики, и,
следовательно, веселой; круглые столбы, широкие и хорошо изогнутые арки,
стекла почти все без росписи - все это удаляет от ума мрачные и
мистические идеи, возбуждаемые всеми соборами Севера. Как Кампосанто
•219·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
в Пизе, как Санта Кроме во Флоренции, эта церковь полна гробниц.
Прибавьте к этому еще гробницы в церкви Фрари, - вот мавзолей
республики. Большая часть этих гробниц пятнадцатого столетия или первых
годов шестнадцатого - блестящей эпохи города, - той, когда великие
люди и великие деяния отодвинулись в прошлое, но были еще достаточно
близки аая того, чтобы новое искусство, которое уже определялось,
могло запечатлеть их образы и проникнуться их чистосердечием. Иные из
этих памятников отражают еще зарю великого сияния; другие
отразили уже упадок, - и можно проследить таким образом, в ряде этих
гробниц, историю человеческого гения, начиная с первого расцвета, через
зрелый возраст и вплоть до поры декаданса.
На монументе дожа Морозини, умершего в 1382 году, чистая форма
готики распустилась во всем своем изяществе. Увенчанная цветами
аркада зазубривает над умершим свою резьбу. С обеих сторон подымаются две
маленькие хорошенькие башенки, стоящие на небольших колонках,
украшенных трилистником, унизанных фигурками, убранных маленькими
и большими колоколенками - этой изящной растительностью, где мрамор
щетинится и распускается, подобно колючему растению,
развертывающему вместе свои иглы и цветы. Лож покоится, сложив руки на груди. Вот
настоящие надгробные монументы: альков, нередко с балдахином или
пологом (гробница дожа Томмазо Мочениго, 1423); мраморное,
украшенное рельефами и орнаментом ложе, подобное тому деревянному ложу, на
котором покоилось по ночам старое тело человека при жизни; а внутри -
сам человек, одетый в свое обыкновенное платье, спящий мирно,
доверчиво и благоговейно, потому что он по совести рассчитался с жизнью, -
реальное изображение, чуждое напыщенности или тревожных чувств,
но сохраняющее аая живых величавый и спокойный образ, который
должен запечатлеться в их памяти.
Вот серьезная сторона Средневековья. И, однако, из-за религиозной
суровости начинает уже просвечивать чутье живой телесной формы,
открытие которой суждено следующему веку. На мавзолее дожа Марко
Корнера, между пятью стрельчатыми аркадами, зазубренными
трилистником и увенчанными тонкими колоколенками, Добродетели - веселые
ангелы в длинных одеждах - смотрят со свободным и выразительным
видом. На этой заре открытий художник наивно решается на такие лица
и выражения, которые позднейшие мастера отметают из чувства своего
достоинства и повинуясь принятым правилам. В этом отношении эпоха
Возрождения, ограничившая искусство классическим благородством,
•220·
ВЕНЕЦИЯ
в сущности, сузила его область, подобно тому, как у наших пуристов
семнадцатого столетия оскудевает богатый язык шестнадцатого.
По мере того как подвигаешься вперед, видишь, как обозначаются
черты нового искусства. На гробнице дожа Антонио Веньера, умершего
в 1400 году, язычество Возрождения выступает уже в одной детали
убранства - в нишах в форме раковины. Все остальное еще угловато, украшено
завитками, тонко обточено, готично, - в скульптуре, как и в архитектуре.
Головы также немного тяжелы, слишком коротки и иногда поставлены
на кривую шею. Художники копировали реальный мир; они еще не
сделали окончательного выбора в пропорциях, они не знают канона
греческих скульпторов; они еще погружены в наблюдение и подражание
действительной жизни, но их неловкость очаровательна. Мадонна, у которой
слишком согнута шея, сжимает своего сына с такой живой нежностью!
Так много доброты и чистоты в этих, немного слишком круглых
головах молодых девушек! У пяти дев, в их нишах в форме раковин, такая
трогательная свежесть молодости и правдивости! Ничто меня так не
волнует, как эти скульпторы, заканчивающие собою искусство Средних
веков. Все эти создания вновь найдены, национальны, буржуазны
иногда, если угодно, но несравненной жизненности. Блистательное и
тягостное владычество классической красоты еще не появлялось здесь, чтобы
дисциплинировать порыв своеобразной гениальности; мы имеем перед
собой провинциальное искусство, отвечающее климату, стране и всей
совокупности окружающего быта, еще не подчиненное академиям и
вкусу столиц. Ничто на свете не стоит истинной оригинальности, истинного
и цельного чувства - души, вполне запечатлевшейся в своем творении:
это творение тогда так же индивидуально, так же богато нюансами, как
эта душа. В него веришь; мрамор становится чем-то вроде дневника, в
котором излиты все признания человеческой жизни.
Если сделать еще несколько шагов, следуя за течением века, видишь,
как постепенно уменьшается эта простота и наивность искусства.
Надгробный монумент превращается в героическую декорацию. Круглые
арки развертывают свою благородную дугу над умершим. Арабески весело
бегут вдоль полированных краев. Колонны выстраиваются вереницами,
распуская свои аканфовые капители; временами они стоят этажами одни
над другими, и все четыре ордера разнообразят собою удовольствие
глаз. Гробница обращается тогда в колоссальную триумфальную арку,
на некоторых - до восьмидесяти статуй, почти в натуральную
величину. Мысль о смерти здесь исчезла; умерший не покоится в ожидании
• 221 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
воскресения и последнего дня - он стоит и смотрит; он «оживает» в
мраморе, как претенциозно говорит одна эпитафия. Точно так же
постепенно изменяются и статуи, украшающие эти памятники. В середине
пятнадцатого века они еще зачастую имеют окоченелый и скованный
вид: ноги юных воинов немного тощи, как у архангелов Перуджино;
они - в наколенниках и в сапожках с львиной головой: воспоминания
о феодальных доспехах смешиваются здесь с увлечением античным
костюмом. Тела и головы - все граничит с реальностью; превосходную
сторону этих фигур составляет их непроизвольно-серьезный вид, их яркое
и простое выражение, смелость их поз, их твердый и глубокий взгляд.
С приближением шестнадцатого столетия они обретают свободу и
легкость движений. Одежды извиваются и величаво падают вокруг
могучих тел. Мускулы надуваются и выступают. Юные рыцари Средних веков
стали теперь атлетами и эфебами. Недвижные и закутанные в свои
строгие плащи, девы начинают улыбаться и двигаться. Их греческие одежды,
смятые и падающие складками, позволяют видеть обнаженную грудь и
нежные формы их прелестных ножек. Наклоняясь, полуопрокидываясь,
склонившись набок, горделиво выпрямляясь или отдаваясь мечтам,
они выказывают под извивающимися драпировками все разнообразие
живой формы, и глаз следит за гармоническими изгибами прекрасного
человека-животного, который, в покое, в движении, во всех положениях,
должен только отдаться жизни для того, чтобы стать счастливым и
совершенным.
Нигде эти фигуры не хороши так, как на гробнице дожа Вендрамина
(умер в 1470). Искусство здесь еще просто и в первом своем расцвете;
старинная суровость еще сохранилась вполне; но поэтический и
художественный вкус, который уже начал пробиваться, разворачивает свои
богатства и блеск. Под аркою из золотых цветочных завитков, в
промежутках между коринфскими колоннами, смотрят воины и плачут
женщины, одетые в античное платье. Они отнюдь не взволнованы и
нисколько не стремятся привлечь к себе внимание зрителя, но их
сдержанное выражение оттого еще сильнее. Все тело их в целом, весь его
вид и строение - мощная шея, пышная и великолепная прическа, лицо,
столь мало детализированное, - все это говорит. Одна женщина
печально подымает глаза к небу; другая, полуопрокинувшись, испускает крик;
скажешь, что это фигуры Джованни Беллини. Они принадлежат к той
могучей и краткой эпохе, когда модель, как и сам художник, замкнутые
в кругу пяти-шести сильных чувств, тратят на их переживание свою
• 222 ·
ВЕНЕЦИЯ
еще нетронутую способность чувства, сосредоточивая на одном усилии
всю цельность духа, которая после ослабнет под влиянием
наслаждений и раздробится по деталям.
Вместе с шестнадцатым столетием кончаются все великие страсти.
И гробницы превращаются в большие оперные декорации. Гробница
дожа Пезаро, умершего в 1669 году (в церкви Фрари), не более чем
гигантское придворное убранство, поднимающееся вверх, громоздя свою
напыщенную роскошь. Четыре негра, одетых в белое и согнувшихся под
подушками, лежащими на их плечах, поддерживают второй ярус, и их
черные физиономии строят гримассы, а их тела - тела носильщиков.
Между ними, ради грубого эффекта, марширует скелет. Что до самого
дожа, то он делает шаг назад с высокомерием большого барина,
бросающего свое «фи!» ничтожествам. Химеры извиваются у его ног, над его
головой расстилается балдахин, и с обеих сторон группы статуй
выставляют свои напыщенные или сентиментальные лица. Дальше, на
гробнице дожа Валиеро видим, как искусство покидает высокопарность ради
жеманности. Погребальный альков окутан широкой занавесью желтого
мрамора, расшитой цветами, которую приподымает несколько маленьких
голых ангелочков, шаловливых, как амуры. Лож важен чиновничьей
важностью, - а его жена, завитая, в морщинах, одетая в свисающие одежды,
поджимает осторожно свою левую руку с видом вдовствующей
королевы. Немного ниже Победа - фигура, взятая с трюмо, - коронует некоего
славного старца, который кажется сродни Велизарию, а повсюду кругом
рассыпаны барельефы с группами грациозных и чувствительных
женщин, салонно-манерных.
Все это - испорченное искусство, но еще искусство. Я хочу сказать,
что скульптор и его современники имеют личный и искренний вкус, что
они любят некоторые определенные вещи в мире и в жизни, подражают
им и приукрашивают их, что это предпочтение не есть дело академий
или продукт воспитания, книжного педантизма или условностей.
Напротив, в наше время не осталось уже ничего другого. По своей
холодности, безвкусию и вычурности монумент Кановы, сделанный по его
собственным рисункам, смешон: большая пирамида белого мрамора
занимает все поле зрения; дверь открыта - здесь хочет покоиться
художник, как фараон в своей гробнице. К дверям двигается процессия
сентиментальных фигур - Аталасы, Эвдоры, Кимодосы; тут же нагой гений,
который спит, потушив свой факел, и другой, вздыхающий, опустив
нежно голову, подобно юному Иосифу из Вефиля. Крылатый лев плачет
• 223 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
в отчаянии, положив морду на лапы и лапы на книгу. Какому-нибудь
профессору гуманитарных наук понадобилось бы двадцать минут, чтобы
разъяснить всю эту аллегорическую драму. Поблизости бедного
Тициана наградили монументом на манер портика, сияющим и вылощенным,
как столовые часы времен Империи. Он украшен четырьмя фигурками
хорошеньких женщин, одухотворенных и задумчивых, двух
выразительных несчастных старцев с выступающими, резко обозначенными
мускулами, и двух юных крылатых «парикмахеров», несущих венки. Скажешь,
что авторы этих памятников совершенно не способны к
самостоятельным впечатлениям, что сами по себе они ничего не могут сказать, что
человеческое тело больше ничего им не говорит, и они вынуждены
искать по своим портфелям этюды линий, что весь их талант заключается
в том, чтобы состряпать интересную шараду согласно последнему
учебнику символики и эстетики. Между тем смерть все-таки есть нечто, и,
казалось бы, можно было говорить о ней без книги, самостоятельно; но я
начинаю думать, что мы больше не имеем о ней мыслей, так же как обо
всякой окончательной идее. Мы изгоняем эту мысль из нашего разума,
как неподходящую и неприятную гостью: если мы нынче идем за какой-
нибудь похоронной процессией, то лишь из приличия и болтая с
соседом о делах и о литературе. Мы вышли из трагических состояний духа.
Если мы теперь предвидим какое-нибудь крупное несчастье на
горизонте, то это самое большее - падение бумаг на бирже, которое
заставит нас переселиться из первого этажа в четвертый. Наше воображение
заполняет бесконечное разнообразие маленьких удовольствий или
беспокойств: визиты, писание, разговоры, сроки платежей и прочее.
Разбросавшись и измельчав, какой же частью нашей души и нашего опыта могли
бы мы понять долгую и сильную тревогу и ужас, или беззаветную, чисто
физическую радость жизни, которые некогда восставали над обычным
уровнем человеческого существования, подобно горам? Искусство
живет общими идеями, как критика разбором мелких оттенков; вот почему
мы теперь не художники, а критики.
Та же мысль приходит снова в голову, когда смотришь картины.
Здесь есть превосходные в капелле, посвященной священным четкам.
Одна из них - Тициана «Смерть Петра Мученика». Ломеникино
повторил тот же сюжет в Болонье, но его персонажи искажает недостойный
страх. У Тициана они величественны, как бойцы. Что здесь производит
впечатление - это вовсе не гримасы и отчаяние, написанное на
подергивающемся лице: это могучее движение убийцы, размах руки, которая
•224·
ВЕНЕЦИЯ
наносит удар, развевающиеся одежды спасающегося беглеца,
великолепный порыв деревьев, которые простирают над этой кровью и
схваткой свои темные ветви. Еще сильнее «Распятие» Тинторетто. Здесь все
волнуется и низвергается; поэзия света и теней наполняет воздух своими
сияющими и мрачными контрастами. Струя желтоватого света падает
поперек полотна на обнаженное тело Христа, которое кажется
прославляемым мертвым прахом. Над ним головы святых жен плавают в
потоках сияющего воздуха, а тело злого разбойника, дикого и
скорчившегося, отчеканивается на небе своими коричневыми мускулами. В этой
буре омраченного и яркого дня кресты, кажется, качаются, а казненные
сейчас сорвутся с них. И аая довершения острого впечатления и всего
этого грандиозного смятения видишь в глубине, в светлой дымке,
массы восстающих тел воскресших умерших. Вся верхняя часть стен
покрыта подобной живописью и той же кисти. Вот Христос возносится на
небо, и вокруг него большие нагие ангелы, брошенные в пространство,
трубят бешено в свои трубы. Богоматерь уносится бурной толпой
маленьких изгибающихся ангелов, между тем как внизу апостолы кричат
и падают ниц. Со всех сторон, на всех холстах трепещет свет; нет ни
одного атома воздуха, который не дрожал бы им, и жизнь здесь так бьет
через край, что она просвечивает и кипит на камнях, в деревьях, в
земле, в облаках, во всех цветах и во всех формах - во всеобщей лихорадке
неодушевленной природы.
27 апреля, Сайта Мария делъ Орто, Сан Ажоббе,
Ажудекка, Ажезуати
Я смотрю каждый день картины Тициана, Тинторетто, Веронезе. Но
мне еще не следует говорить о них: это целый мир, законченный и
слишком богатый. Этот Тинторетто особенно удивителен - о нем получаешь
понятие только в Венеции.
Сегодня поездка в церковь Санта Мария дель Орто, чтобы
посмотреть его большие картины «Поклонение золотому тельцу» и
«Страшный суд». Церковь заперта; картины сняты, свернуты, убраны
неизвестно куда; самое здание кажется заброшенным; сбоку находится изрытый
двор, который служит складом аая досок; зеленая, густая трава растет
вдоль аркад. Вот одна из самых больших моих неудач в Венеции.
Гондольер везет вокруг города с северной стороны, и перед видом
этой сияющей равнины забываются все неудовольствия и досады. Не
может надоесть это море, этот бесконечный горизонт, эти маленькие дале-
•225 ■
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
кие полосы земли, выплывающие из-пол призрачной своей зелени, эти
странные улицы простонародных кварталов, почти пустынные, где
кирпичные стены ломов колышутся в воле, разъедаемые волнами, а их
устои, усеянные ракушками, стали такими тонкими, что заставляют бояться
обвала. Появляется Сан Джоббе; это маленькая церковь эпохи
Возрождения, белая и голая снаружи, кроме только одной двери, изящно
украшенной и нарядной. Но внутри украшения изобилуют; монумент Клода
Перро, напыщенный, но не плоский, выставляет напоказ над
черно-мраморной урной маленького заснувшего ангела, толстого и сильного,
которого назовешь родней фламандских херувимов; ниже коронованные
львы сидят на корточках, с забавной важностью геральдических зверей.
Как бы разукрашена и испорчена ни была итальянская церковь, в ней
всегда есть что-нибудь хорошее или любопытное. Здесь, например,
хорошая картина Париса Бордоне - старый святой, с большой бородой,
который несет свой крест между двух сотоварищей. А рядом - хорошенький
двор, обнесенный колоннами, соединяемыми арками; цистерна,
украшенная листьями аканфа, раскрылась посреди вымощенной площадки.
Вот приятная сторона этих прогулок: не знаешь, что тебе повстречается.
Держишь про запас два-три имени в голове... Скользишь по воде без
толчков, без шума; никто не говорит с тобой: переезжаешь из
раззолоченной церкви, полной фигур, в заброшенный, пустынный квартал...
Кажется, что отрешился от своего тела и что некий благосклонный
гений развлекается, заставляя проходить перед твоей душой различные
зрелища и фантасмагории.
Гондола плывет вдоль Санта Кьяра и внешней стороны Марсова поля.
Водные пространства становятся более широкими, и разноцветные волны
медленно текут под дыханием бриза, в непередаваемом смешении
смутных и тающих тонов. Это вовсе не обыкновенная вода. Заключенная
в каналах, замутненная просачиваниями и примесями людского
поселения, она приняла в себя красноватые земляные частицы, оттенки тусклой
охры, голубоватой и тинистой черноты, так что стала походить на
собрание двадцати различных цветов, смешанных вместе на одной палитре. Под
северным небом она выглядела бы мрачно; в солнечном блеске и пол
нежно-лазурным шелком, которым обтянут здесь весь небесный купол, она
лает глазам почти физическое удовольствие. Злесь буквально плаваешь
в свете. Небо струит его, вода расцвечивает, а отблески повторяют сотни
раз: все, до белых и розовых ломов включительно, посылает их. Поэзия
форм довершает поэзию освещения. Лаже в этом заброшенном и жалком
• 226 ·
ВЕНЕЦИЯ
Мост Риальто в Венеции. Фотография 1890-х годов
квартале видишь дворцы и фасады, украшенные колоннами. Средней
руки или даже совсем бедные дома имеют большие балконы, огражденные
балюстрадами, окна, зазубренные трилистником или увенчанные
стрелками, в которые вплетаются очертания листвы и шипов. Налетают
мечты, и уже не выходишь из-под их власти... Напрасно канал Лжудекки,
почти пустой, ожидает, кажется, флотилий, которые должны наполнить
его благородную гавань; здесь не думается ни о чем, кроме цветов и линий.
Три линии и три краски создают все это зрелище: широко
раскинувшийся, зыбкий хрусталь, мутно-зеленый и сумрачный, который
движется с тяжелым блеском; поверх - обрисовывающаяся резким рельефом
вереница строений, следующая его дуге; наконец, еще выше - ясное,
необъятное, почти бесцветное небо.
Гондольер пристает и уверяет, что необходимо посмотреть церковь
Джезуати. Видишь перед собой пышный фасад с гигантскими сложными
колоннами, потом - внутренний корабль церкви, где коринфская
колоннада претенциозно вплетается в широкие столбы. По бокам - маленькие
капеллы, греческие фронтоны которых снабжены изогнутыми выступами;
• 227·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
облицовка - пестрого мрамора; бесчисленное множество статуй и
барельефов, приторных и вылизанных; на плафоне - милая будуарная
живопись: тонкие голые и розовые ноги. Короче говоря, - холодная роскошь,
демонстрация дорогостоящих жеманных пустяков. Итальянский
восемнадцатый век еще хуже нашего. Наши создания сохраняют всегда
некоторое чувство меры, потому что хранят некоторую тонкость вкуса; у них
же - все с восторгом утопает в вычурности. Я видел вчера другую,
подобную же церковь - Джезуити. По стенам и на помосте перемежаются
инкрустированные зеленый и белый мраморы, образуя цветы и разводы.
По сводам золотые излучины рисуют вазы, помпоны и росчерки. Все это
вместе производит впечатление гостиной, убранной бархатом и
золотом, стоимость которой должна прельстить какого-нибудь богатого
выскочку Невозможно сосчитать все урны, лиры, пламенеющие языки,
ветви с листьями и белые гирлянды, выбитые на куполах. Витые колонны
зеленого с белыми прожилками мрамора поддерживают балдахин
алтаря, где худые и сентиментальные фигуры - Христос со своим крестом,
Бог-Отец, восседающий на громадном шаре белого мрамора, -
возносятся, несомые ангелами; оба укрываются под одной крышей змеящегося
мрамора, столь причудливой, что невозможно удержаться от смеха.
Забавная напыщенность выказывается даже в основных линиях здания. Его
строители не удовольствовались обычными формами - они расширили
свод над нефом до такой степени, что его низкая дуга стала походить на
арку моста, а по бокам поставили купола,похожие на выпуклость щита.
Чувствуешь усилия тщетно работающего воображения, кончающиеся
риторикой прилагательных в превосходной степени и сочинительством
«concetti». В надутых и гладких фразах оно старается создать салонный
культ аая дам и светских модниц.
Все эти глупости декаданса исчезают перед двумя картинами
великого века. Первая - это «Смерть Марии» Тинторетто. Вокруг гроба
Богоматери высокие старцы наклоняются и выражают свое удивление в
трагических жестах; у них то вельможное и суровое выражение лиц,
которое так хорошо согласуется у художников Венеции с резкими изломами
одежды и мощными эффектами теней, света и цветов. Выше - Богоматерь,
уносящаяся в вихре, и бледные, тающие, изменчивые тона ее
фиолетового платья заставляют еще ярче выступить ее могучую коричневую
фигуру, низкий лоб, плоско приглаженные волосы и мужественную
позу. Женщина из народа, энергичная и величественная, как королева, -
вот идея художника, бросающаяся в глаза; никто другой не любил так
•228·
ВЕНЕЦИЯ
пышность и искренность силы. Тинторетто видит где-нибудь на улице
торговку или лодочницу, схватывает ее образ, цельный и дикий,
облекает его патрицианским и восточным блеском придворных церемоний
и проливает кругом целый потоп маленьких, снабженных крылышками
голов, бросая их даже на пелены, которые держат в руках апостолы. Он
не смущается тем, что этот поток ангелов походит на блюдо
нарубленных голов; одним взмахом кисти он передал на холсте свое мгновенное
видение и уже уходит прочь - его дело сделано.
Другая картина, «Святой Лаврентий» Тициана,кажется фантазией
итальянского Рембрандта, каким-то видением в тени. Спустилась ночь;
сперва не разбираешь ничего, кроме великой тьмы, которую смутно
испещряют две-три световые точки. Это - широкая улица... Среди тусклых
тонов, как в погребе, где гаснет светильник, начинаешь различать по
более плотной их черноте очерки зданий, статую, отдаленную толпу...
Странной формы фонарь - нечто вроде факела, заключенного в
железную решетку, светит на конце палки, и пламя протягивает по мостовой
свой зловещий красный отблеск. Рядом великолепный палач, весь вид
которого говорит о трагедии, откидывается назад, и мускулы его груди
надуваются, в винно-багровых тонах, могучим рельефом на его
геркулесовском торсе; вокруг черные отсветы ложатся на латы или дрожат
на голубоватой стали копий. Но сноп света падает с небесной вышины,
прорезая мрак, подобно ореолу; сияющий поток устремляется на белое
тело мученика, пробуждая на своем пути желтоватые отблески,
неуловимый трепет и таинственное содрогание пылинок в тени.
27 апреля, нравы и типы
Сегодня вечером - в театре Бенедетто. Около полуночи, на обратном
пути, полуосвещенные, кривые, сдавленные между высоких домов
улочки кажутся закоулками убийц.
Бедный театр: он почти пуст; из огромного числа лож только каких-
нибудь двадцать заполнены наполовину. Много мелких буржуа и даже
людей из простонародья в партере. А зала красива...
Сегодня играют «Марию Стюарт» - перевод [трагедии] Шиллера.
Завтра будут играть «интереснейшую комедию господина Люма-отца» -
«Mademoiselle de Belle-ile». Я видел другие его пьесы во Флоренции.
Мы поставляем всей Европе водевили, комедии, занимательные романы,
предметы туалета и проч. Я видел за границей на письменных столах
важных господ сборники легкомысленных песенок, в великолепных
• 229 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
библиотеках - романы Поля де Кока, богато переплетенные, на видном
месте. По этому составляют суждение о нас: танцмейстеры,
парикмахеры, водевилисты, лоретки, модистки - других званий нам не
приписывают, кроме разве еще одного - солдат.
Персонал театра - жалкий до последней степени. Фигуры
музыкантов стоило бы нарисовать: скажешь, что это старые портные, грязные
и усталые. Суфлер подсказывает так громко, что его голос составляет
постоянный басовой аккомпанемент. Мария Стюарт в платье черного
бархата, но с руками привратницы; несомненно, она сама стряпает себе обед
и метет свою комнату; но, впрочем, у нее есть некоторая сила, какая-то
бешеная, грубая энергия. Елизавета, нарумяненная на вершок красной
краской, разряженная разными безделушками и стеклышками, отвечает
ей глухим и шипящим голосом. Это две сцепившиеся рыночные
торговки. Чтобы заставить Мортимера убить свою соперницу, она мечется, как
одержимая. Все шаржируют ужасно, но, может быть, это нужно аая
итальянского партера. Марию Стюарт вызывали трижды после сцены, где
она поносит Елизавету.
Это, впрочем, второстепенный театр. Ла Фениче и все главные
закрыты. Народ так враждебно настроен к Австрии, что аристократ,
индифферентен он или нет к политике, не посмеет пойти в эти театры: это было
бы проявлением веселости, и он был бы освистан. При подобных
условиях немудрено, что театры в упадке. Впрочем, и все падает. Джудекка,
которая представляет собою огромный порт, почти не видит кораблей:
торговля и дела ушли в Триест. Город отрезан от Миланской области
таможнями. Никто не хочет работать; печаль замораживает всякое
усилие, как и всякую радость. Дворяне живут запершись, как в монастыре,
в своих поместьях; многие дворцы разрушаются, иные кажутся
покинутыми. На сто двадцать тысяч обитателей - сорок тысяч бедных, из
которых тридцать тысяч живут милостыней и занесены в списки
требующих помощи. Я видел отчет подеста (городского головы), графа Пьеро
Луиджи, за последние четыре года. Из 780 тысяч флоринов издержек
было израсходовано 10 тысяч - на воспитание, 129 тысяч - на
благотворительность и еще 94 тысячи - на дела общественного милосердия.
Я был в здешнем доме умалишенных, и у меня есть статистические
данные о нем: пеллагра, плохая пища, крайности нищеты служат главной
причиной сумасшествия. Нужно еще прибавить, что налоги очень
тягостны. Мне называют дом, дающий тысячу флоринов дохода, с которого
платится 400 флоринов налога. Один podere - участок земли с жилыми
• 230 ·
ВЕНЕЦИЯ
домами - дает дохода 1130 ливров, а с него платится 500. Другой дом
в Венеции сдается за 238 флоринов, и за него уплачивается 64. В общем,
с недвижимого имущества уплачивается одна треть его доходов.
Проглотив этот жирный кус, фискальная пасть начинает работать над чем-
нибудь другим, что можно обложить налогом. Кроме налогов на
наследство, на право передачи имущества, на съестные припасы и
других, кроме налога, уплачиваемого за квартиру, и налога, взимаемого за
торговые патенты, здесь есть еще нечто вроде income-tax [подоходного
налога], как в Англии. По словам того негоцианта, который сообщает
мне эти детали, эта такса равна одной двадцатой доходов. Купец платит
одну двадцатую своих предполагаемых выгод, служащий - одну
двадцатую своего жалованья. Если в конце года окажется, что его доход меньше,
чем он предполагал, - тем хуже аая него. Еще хуже, если этот доход
равен нулю. Еще хуже, если он понес убыток. Он должен заранее дать
показание под присягой. Если он уличен, что скрыл часть своих прибылей,
то платит крупный штраф и, кроме того, подлежит наказанию, как за
подделку документа. Особые шпионы, избранные аая этой службы,
производят следствие, высчитывают, сколько кто расходует в день - столько-
то за квартиру, столько-то на плату служащим или прислуге, столько-то
на пищу; потом они высчитывают доходы сообразно расходам и таким
образом поверяют заявления. Таким путем создается своего рода
инквизиция, которая обескураживает всякий промышленный дух. Среди этой
нищеты и этой инерции деньги имеются только у иностранцев, и из-за
них ссорятся. Нигде в Италии жизнь так не дешева аая
путешественника; лодка на целый день стоит пять франков; гондольеры по малейшему
знаку устремляются к вам; они конкурируют друг с другом, умоляют вас
нанять их на неделю и предлагают вам скидку; нет города, где человек
умеренных средств и любитель прекрасного мог бы с большим
удобством чувствовать себя богатым и следовать своим фантазиям: достаточно
лишь забыть о политике. Правда, что сами венецианцы ее не забывают.
Одна крестьянка, у которой я спросил, любят ли здесь австрийцев,
отвечала мне: «Мы их любим, но когда они подальше (fuori)». Мой бедный
старик-гондольер, рассказывая мне о своей нищете, прибавлял в виде
утешения: «Гарибальди сделает что-нибудь». По-видимому, здесь все, вплоть
до мэра, официального чиновника, - патриоты. Известно, что в 1848
году народ, вооружившись кусками разбитых мостовых плит, выгнал
австрийских солдат и защищался стойко и мужественно после поражения
пьемонтцев при Новаре. Когда французская эскадра во время последней
• 231 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
войны появилась в окрестностях города, это был общий восторг, и, что
еще важнее, восторг сдержанный. При первом выстреле пушек флота
вспыхнуло бы восстание: простонародье, гондольеры - все были готовы.
Многие сошли с ума, узнав о перемирии. Многие эмигрировали и
водворились в Ломбардии. Они не могут примириться с мыслью, что Венеция,
которая одна в Италии в течение стольких веков ускользала от власти
иноземцев, остается одна в Италии в чужих руках. Представьте себе
семью, где пять или шесть сестер сделались дамами, и только последняя,
самая прекрасная, очаровательная Сандрильона остается служанкой.
Но служанка или дама, она аая путешественника всегда будет самой
прелестной и самой поэтической из всех. Нужно делать усилия, когда
созерцаешь ее, чтобы вспомнить о важных вещах, о политических делах:
австрийская или итальянская, она - волшебница. Хотелось бы
поселиться здесь: какое сновидение на шесть месяцев, какие прогулки в
царстве искусства и истории! В Библиотеке Сан Марко есть бревиарий,
который Мемлинг, великий художник из Брюгге, покрыл своими изящными
изображениями. Есть эфемериды Санудо в пятидесяти восьми томах,
писанные день за днем и рассказывающие все подробности быта в
начале шестнадцатого столетия, в лучшие времена живописи. Какая
счастливая жизнь аая историка - любителя картин, который приехал бы сюда
смотреть, мечтать, писать! В перерывах, когда переходишь от одного
листа к другому, можно поглядеть на плафоне библиотеки на
«Поклонение волхвов» Веронезе. Перед вами фигуры, заключенные между
двумя большими зданиями, благородная побелевшая голова и пышное
одеяние с разводами первого царя, его свита, развертывающаяся цепь
всех этих фигур, белая лошадь, которая взвивается в руках служителя
в широкой одежде, а на самом верху - два ангела, с прелестными
обнаженными ногами и странно-красивыми розовыми одеждами, которые
кажутся трепещущими в магическом освещении. Можно
почувствовать мысль, исходящую из всего этого зрелища, - мысль о силе,
радостной, расцветающей, вольной, но всегда благородной, которая дышит
полным удовлетворением и полным блаженством. Можно спуститься
по мраморным лестницам и полюбоваться на свободе роскошным
зрелищем, какого не имеет ни один европейский монарх. На набережной
видны в тени, переливающейся отсветами, несколько фигур из тех, какие
некогда доставляли образцы великим художникам; вот девушка с
белокурыми и рыжими волосами, которые растрепались по лбу и смеются
шаловливыми завитками; вот гондольер в своей старой соломенной шля-
•232·
ВЕНЕЦИЯ
Скульптурная группа «Суд Соломона» с фасада Дворца дожей в Венеции.
Фотография 1890-х годов
•233·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
пе с темно-рыжим тоном лица и шеи; вот большой крючковатый нос,
острые глаза и большая седая борода старика, который мог бы служить
моделью аля патриархов Тициана; вот белая, немного толстая шея,
розовые щеки, красивые смеющиеся глаза и волнистая прическа молодой
девушки, идущей, приподымая свою юбку Чувствуется творческая мощь
и свобода гениев, которые из этих скудных, неполных и рассеянных
мотивов извлекли столь богатую и столь величественную симфонию. Можно
пойти по набережной дельи Скьявони до одной маленькой скамьи,
которую я хорошо знаю, и там, в прохладной тени, созерцать чудесное
солнечное зарево, море, сверкающее еще сильнее, чем небо, длинные валы,
следующие друг за другом и несущие на своей спине бесчисленные
тихие вспышки, мелкие волны, крутящиеся в золотой чешуе водоворота,
а дальше - церкви и багряные дома, поднимающиеся точно из середины
гладкого стекла, и весь этот вечный поток великолепия, который кажется
чьей-то прекрасной улыбкой.
Можно пойти и дальше - до общественного сада, чтобы посмотреть
на далекие острова, чуть заметные ленты песка и открывающееся море.
Все - равнина, вплоть до самого горизонта, равнина, сияющая и кипящая
искрами, - зеленовато-голубого цвета глубокой бирюзы. Глаза всегда
смотрят с новой жадностью на это зрелище. Они никогда не насытятся,
глядя на эти глыбы свай, усеявшие своими черными пятнами лазурь, на
эти плоские острова, рисующиеся маленькими тонкими чертами в
морской дали и на краю неба, и еще дальше - на колокольню, на белое пятно
освещенного дома, который на этом расстоянии величиной в ладонь,
и там и сям - на рыжий парус рыбачьего судна, которое возвращается
домой, тихо гонимое бризом. День можно окончить на площади Святого
Марка, между шербетом и букетом фиалок, слушая какую-нибудь арию
Беллини или Верди, наигрываемую бродячими музыкантами. Между
тем, можно позволить своим глазам подняться над освещенной
площадью к небу, которое кажется черно-бархатным куполом, усеянным
серебряными гвоздями; можно проследить контуры базилики, которая,
белея, как мраморная игрушка, округляет во мраке букеты своих колонн
и кружево своих статуй. Так можно провести целый год, как
курильщик опиума, и это было бы лучше всего: единственный верный способ
переносить жизнь - это позабыть жизнь.
■234-
ВЕНЕЦИЯ
Последние столетия
Именно так приблизительно и устроились здешние люди, чтобы
переносить свой декаданс. Этот прекрасный город кончил, как и его сестры -
греческие республики, по языческому образцу, отдавшись беспечности
и сладострастию. Правда, мы находим здесь время от времени какого-
нибудь Франческо Морозини, который, подобно Арату и Филопомену,
воскрешает героизм и победы былых дней; но, начиная с семнадцатого
столетия, город-государство чувствует себя слабым, как Афины или
Коринф, против своих могущественных военных соседей; им
пренебрегают или едва терпят; французы, немцы нарушают безнаказанно его
нейтралитет; он длит еще свое существование, но не более, и на большее
не претендует сам. Его знать думает только о развлечениях; война и
политика отступили аая нее на второй план; она стала галантной и
светской. С Пальмой Младшим и Падованино великая живопись падает;
контуры становятся изнеженными и округлыми; одушевление и
чувство убывают, воцаряются холод и условность; больше не умеют создавать
сильные и простые тела; последний из плафонных декораторов, Тьепо-
ло, - маньерист, который в своих религиозных картинах ищет
мелодрамы, а в аллегорических - движения и эффектов, который нарочно
раскачивает колонны, опрокидывает пирамиды, разрывает облака,
разбрасывает действующих лиц, придавая своим сценам вид извержения
вулкана. С ним, с Каналетто, Гварди, Аонги, начинается иная живопись -
пейзаж и жанр. Воображение слабеет; копируют мелкие сценки
реальной жизни и красивые очертания окружающих зданий; рисуют домино,
хорошенькие рожицы, кокетливые и вызывающие жесты
современных дам. Изображают их за туалетом, за уроками музыки, при
вставании. Пишут милых жеманниц, томно улыбающихся, лукавых и
насмешливых, - истинных цариц будуара, маленькие ножки которых, обутые
в атлас, гибкая талия и тонкие руки, окутанные кружевами, привлекут
к себе взгляды и комплименты мужчин. Вкус становится утонченным и
избалованным и одновременно приторным и ограниченным. Но этот
вечер одряхлевшего города так же сладок и блистателен, как закат
венецианского солнца. Вместе с беззаботностью возрастает веселость. В
мемуарах писателей и на картинах художников только и встречаешь, что
празднества, общественные и частные. То это - парадное пиршество
в великолепном зале с плафонами в золотых гирляндах, с высокими
блестящими окнами, с бледно-кармазиновыми занавесями; дож в своей
мантии обедает вместе с магистрами города в пурпурных одеждах; гости
•235 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
в масках скользят по паркету, и нельзя представить себе ничего
изящнее их маленьких ножек, их хрупких шей, их маленького треугольного
декольте, бесстыдно выглядывающего на смятом платье желтого или
жемчужного шелка. То это гонки гондол, и на море, между собором Сан
Марко и Сан Лжорджо, виднеется громадный Бучинторо, подобный
Левиафану в броне из золотых чешуек, а вокруг него стаи лодок режут воду
своими стальными носами. Несколько нарядных домино, мужчины и
женщины, кружатся на плитах мостовой; море кажется сияющим шифером
под нежно-лазурным небом, увитым хлопьями облаков. А вокруг, как
драгоценная рама, как фантастический, расшитый и зубчатый бордюр, -
Прокурации, купола, дворцы, набережные, наполненные веселой толпой,
опоясывают огромную скатерть моря.
Несколько знатных лиц, которые были в Павии вместе с Гольдони,
заказали аая возвращения в Венецию особую большую барку,
покрытую холстом, украшенную живописью и скульптурой, снабженную
книгами и музыкальными инструментами. Их всех только десять
человек, и они путешествуют только днем, медленно, выбирая хорошие
стоянки на ночлег или, когда их не встречается, останавливаясь в богатых
монастырях бенедиктинцев. Все играют на каком-нибудь инструменте:
один - на виолончели, трое - на скрипке, двое - на гобое, один - на
охотничьем роге и один - на гитаре. Гольдони, единственный между ними
немузыкант, описывает в стихах маленькие дорожные происшествия
и читает их после кофе. Каждый вечер они выходят на палубу давать
концерт, и люди сбегаются с обоих берегов, махая платками и аплодируя.
По прибытии в Кремону их встречают с радостными восторгами и дают
в их честь большой пир; концерт возобновляется, местные музыканты
присоединяются к ним, и вся ночь проходит в танцах. При каждой
новой ночевке - такое же веселье. Нельзя представить себе более
непосредственной и всеобщей способности к изящным удовольствиям. Приезжие
протестанты, как Миссон, наблюдавшие этот образ жизни, ничего в нем
не понимали и получали только впечатление скандала. Манера смотреть
на мир здесь такая же языческая, как во времена Полибия; моральные
предубеждения и германская идея долга никогда не могли здесь
утвердиться. В эпоху Реформации один писатель уже признается, что «не знал
ни одного венецианца, который был бы последователем Лютера,
Кальвина и других; все следуют учению Эпикура и Кремонини, его
истолкователя, первого профессора философии в Падуе, который утверждает, что
наша душа порождается, как у неразумной твари, качествами семени
•236·
ВЕНЕЦИЯ
и поэтому смертна... И в числе последователей этого учения находится
все избранное общество города, в особенности же те, кто имеет влияние
в правительстве». По правде говоря, они никогда не интересовались
религией, кроме как ради обуздания Пап; теоретически и практически,
в идеях и в инстинкте, они унаследовали античный дух и нравы, и их
христианство - только пустой звук. Как древние, они были сперва героями
и художниками, потом - распутниками и дилетантами: как в том, так и в
другом случае, они сводили жизнь к текущей минуте. В восемнадцатом
столетии их можно сравнить с теми фивянами времен упадка, которые
устраивали сообщества, чтобы проедать вместе свое состояние, и
завещали, умирая, остаток имущества пережившим сотрапезникам. Карнавал
здесь продолжался шесть месяцев; все - даже священники, настоятель
капуцинов, папский нунций, маленькие дети, уличный сброд - носят
маски. По городу ходят процессии переодетых людей в костюмах
французов, адвокатов, гондольеров, калабрийцев, испанских солдат, с танцами
и музыкальными инструментами; народ следует за ними, рукоплещет
им или свистит. Полная свобода, князь или солдат - все равны; всякий
может выбранить маску. Пирамиды из людей изображают «зрелище
силы» на площадях; арлекины дают представления на открытом воздухе.
Семь театров всегда открыты. Импровизаторы декламируют, а
комедианты импровизируют смешные сцены. «Нет города, где распущенность
царствовала бы так неограниченно». Президент де Бросс насчитывает
здесь вдвое больше куртизанок, чем в Париже; все они очаровательно
любезны и обходительны, а некоторые держатся как дамы самого
высшего общества. «Во время карнавала, под аркадами Прокураций
столько же лежащих женщин, сколько на ногах. Недавно задержали пятьсот
посредников по любовной части». Судите о величине торгового
оборота. Общественное мнение относится к этому благосклонно; один
аристократ велит своей любовнице прибыть в гондоле так, чтобы найти ее
при самом выходе из собора Святого Марка; прокуратор в домашнем
костюме обменивается публично из своего окна любезностями и
игривыми словечками с известной куртизанкой, которая живет напротив
него. «Муж говорит дома без затруднения, что он идет обедать к своей
любовнице, и жена посылает ему туда все, что он велит». Со своей
стороны, женщины тоже вознаграждают себя, и, что бы они ни делали, им все
прощается. «Е' la donna maritata» [«Она замужем»], - эти слова извиняют
все. «Своего рода бесчестие аая женщины, если она не имеет открыто
при себе мужчину». Муж не сопровождает никогда жены: это сделало
• 237 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
бы его смешным; он уступает свое место чичисбею. Иногда этот
заместитель вносится в свадебный контракт; он приходит утром к вставанию
дамы, пьет вместе с нею шоколад, помогает ей в туалете, сопровождает
ее всюду и прислуживает ей; часто, если дама очень знатного рода, у нее
пять или шесть чичисбеев, и забавное зрелище представляется в церкви,
когда одного она берет под руку, другому отдает свой носовой платок,
третьему - свои перчатки или плащ. Эта мода захватила и монастыри.
«Нет молодой монахини красивой наружности, у которой не было бы
своего ухаживателя». Большая часть их была отдана в монастырь силой,
и они говорят, что хотят жить как светские дамы. Они милы «со своими
завитыми в колечки волосами, со своим маленьким кусочком белого газа,
спущенным на лоб, со своим одеянием из белого камлота, с цветами,
которые они прикалывают к неприкрытой груди». Они могут видеться с кем
угодно, посылать своим друзьям конфеты и букеты; во время карнавала
они переодеваются дамами и даже мужчинами, идут в приемную и
приглашают туда замаскированных ухаживателей. Они и сами выходят из
своих [монастырских] стен, и можно узнать от этого проказника Каза-
новы, аая каких дел. Де Бросс рассказывает, что по его приезде по всем
монастырям плелась интрига, чтобы выяснить, «который из них будет
иметь честь дать любовницу новому нунцию». Говоря по правде, семьи
уже больше не существует. Начиная еще с семнадцатого века, мужчины
говорят, что «брак есть простая гражданская церемония, связывающая
общественное мнение, но не совесть». Из нескольких братьев
обыкновенно женится только один, и самый глупый; на него падает тяжелая
обязанность продолжения рода; нередко остальные живут в том же доме
и служат чичисбеями его жены. Мужчины делают складчину втроем или
вчетвером, чтобы содержать любовницу на общие средства. Бедные
торгуют своими совсем маленькими дочерьми. «Из десяти падших девушек, -
говорит уже Сен-Дидье, - за девятерых заключили сделку их матери или
тетки». Затем идут подробности, которые кажутся заимствованными с
рынков Востока. Вместе с распадом семейной жизни покидается и
домашний очаг. Больше не делают визитов; встречаются между собою в клубах,
частных или общественных; есть клубы и аая дам, и аая мужчин.
Никакого домашнего комфорта: дворец - это музей, фамильная летопись, там
только спят ночью. «Во дворце Фоскарини двести покоев, все полные
дорогих вещей, но нет кабинета и ни одного кресла, на которое можно сесть,
по причине слишком тонкой их резьбы». Нет больше семейного
авторитета. «Родители одевают своих детей богато, как только те начинают
• 238 ·
ВЕНЕЦИЯ
ходить». На детях пяти-шести лет - черный казакин с плащом,
отделанный кружевами и обшитый серебром и золотом. Они испорчены до
крайности; отец не смеет сделать им выговора. В семнадцать или
восемнадцать лет он дает им любовницу; один прокуратор, огорченный тем,
что не видит больше своего сына, который проводит все время у одной
куртизанки, сам просит его взять ее в дом. Распущенность переходит от
нравов на костюмы; люди приходят к обедне или на площадь в туфлях и в
домашнем наряде под черным плащом. Некоторые нуждающиеся
аристократы живут приживалами за счет содержателей кофеен, для которых
они являются настоящей язвой. Другие, полуразорившиеся, проводят
половину дня в постели; их ноги выглядывают в дыры одеяла, но домашний
аббат еще плетет им свои легкомысленные сказки. В этом разложении,
которое сопровождает умирание воинских доблестей, остается только
одна живая точка - вкус к прекрасному. Умная и тонкая живопись
пейзажа и жанра процветает почти до последних дней. Нарождается музыка
и скоро переходит из церкви в театр. Четыре приюта брошенных
маленьких девочек доставляют школам несравненных певиц и музыкантш.
Почти каждый вечер на берегах Большого канала происходят
музыкальные собрания, и народ «с непостижимым безумием» толпится на
гондолах и набережных, чтобы слушать. В театре тонкая и капризная фантазия
Гоцци вышивает над всей этой нищетой прозрачную ткань золотых
мечтаний и забавных гротесков. Благородные расы прекрасны даже в
разрушении; поэтическое воображение, озарявшее могучие годы их юности,
сопровождает их вплоть до порога могилы, согревая и расцвечивая
последние мгновения их жизни, и это преимущество спасает их дряхлость,
так же, как их зрелый возраст, от двух единственно непростительных
пороков - озлобленности и вульгарности.
Лидо
Здесь ничего нельзя делать, кроме как мечтать. Впрочем, и слово
«мечтать» не подходит, потому что оно обозначает простой разброд
мыслей, смутный их приход и уход; если же мечтаешь в Венеции, то
впечатлениями, а не идеями. В сотый раз замечаю я сегодня на море, при
закате солнца, особый оттенок, который принимает вода вокруг песчаных
полос: это рыжий отблеск флорентийской бронзы, в который
вплетаются излучины долгих мерцаний. Алый цвет заката здесь окрашивается
и преображается зеленоватыми и рыжевато-оранжевыми тонами. Иногда
это цвет утренней зари, подобный шелковой драпировке, надувающейся
• 239 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и извивающейся пол веянием ветра. Дальше - бесчисленные, едва
приметные всплески на громадной синей скатерти моря мешаются,
сливаются, расстилают между небом и морем свет сияющей белизны; лодка
плывет в сиянии, и только вокруг нее видишь, как зеленый цвет окрашивает
лазурь, вечно меняясь и вечно тот же.
Через час приезжаешь на Лидо; это длинная полоса земли,
защищающая Венецию от настоящего моря. В центре ее - церковь и деревня;
вокруг - сады, обнесенные плетеной оградой и полные молодых
фруктовых деревьев; все это - в цвету Налево уходит вглубь аллея более старых
деревьев, также оживленных начинающейся весной; их круглые головы
уже белы, как букеты новобрачных. Идешь вперед, и шагов через
триста - вот открытое море, уже не неподвижное и превращенное в озеро,
как в Венеции, а дикое и шумящее, с вечным грохотом своего прибоя
и отлива, с кипящею пеною своих валов. Никого нет на этой длинной
ленте песка; самое большее, если видишь временами, при повороте
насыпи, серую шинель стражи. Никакого человеческого шума. Идешь в
безмолвии и мало-помалу чувствуешь, как тебя охватывает великий
монотонный голос природы; шаги запечатлеваются на влажном песке; ноги
раздробляют раковины, которые хрустят; маленькие крабы сотнями
спасаются своей боковой походкой и тотчас же, как их захватит волна,
зарываются в землю. Между тем опускается ночь, и напротив, на
востоке, все чернеет. В сгущающейся темноте еще различаешь два-три белых
паруса кораблей, но и они исчезают; зеленоватые оттенки воды все
темнеют и тают во всеобщей тьме; одни только волны временами катят свои
чуть приметные белые гребни, разбивая их с легким трепетом о берег.
Отовсюду подъемлется, как глухой ропот далекого смятения,
беспредельное хриплое ворчание, которое, в этом исчезновении всех остальных
впечатлений, охватывает душу своими угрозами, и снова вспоминается
мысль, потерянная в Венеции, - мысль о неукротимой силе и
недоброжелательстве моря.
На обратном пути небо с западной стороны подобно раскаленным
угольям, и очерки домов, башен и церквей разрезают пылающий багрянец
своими плотными черными тенями. Это истинное подобие тех
чудовищных пожаров, какие происходили во времена геологических
переворотов земного шара, когда извержение лавы пожирало вековую
растительность. Кажется, что разгоревшееся пожарище пылает там - за видимым
горизонтом. А насколько хватает взгляда - видны рои искр, темно-алый
цвет еще горящих стволов и гаснущие угли, нагромождаемые и оседа-
•240·
ВЕНЕЦИЯ
Пьяццетта с видом на остров Сан Джорджо в Венеции. Фотография 1890-х годов
ющие под обвалом и хрустом громадных лесов. Их зловещие тени
тянутся бесконечно в багровой воде и теряются в ночи, уже распростершей
свой саван над открытым морем.
29 апреля, колокольня Сан Марко
Я обещал написать тебе о венецианской живописи и со дня на день
откладываю. Слишком много великих творений, и они слишком
оригинальны; получаешь слишком много впечатлений и живешь здесь
слишком полно и скоро. Чувствуешь себя точно в зеленом и густом лесу;
гораздо удобнее сесть и смотреть, нежели искать тропинку или стараться
охватить взором целое. Бродишь наугад, становишься лентяем;
постоянно вспоминаешь, что нужно видеть или снова посмотреть то или это.
Кончаешь тем, что устаешь телом и душой, и говоришь себе: до завтра.
А назавтра приходит новая мысль. Например, сегодня, на утренней заре,
я поднялся на колокольню Сан Марко.
С высоты этой башни видишь Венецию и всю лагуну. На такой
высоте человеческие создания всегда кажутся только постройками бобров.
• 241 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Является прирола - такою, какова она есть, олна только существующая,
огромная, едва лишь поцарапанная или запятнанная там и сям нашей
маленькой эфемерной жизнью. Все - песок и море; видишь только
громадную плоскую поверхность, огражденную с севера стеною снежных
вершин, - что-то вроде промежуточной области между элементом
влажным и элементом сухим, бесплодную землю, испещренную бесцветными
песками и сияющими водами. Красные островки, омываемые
отливающим морем, смутно блестят отсветами шиферного цвета. Кругом -
извилистые линии фарватеров и неподвижные разливы путают в
бесконечном беспорядке свои очертания и металлическую чернь своих свинцовых
вод. Это пустыня - пустыня странная и мертвая. Ничего живого, кроме
флотилий возвращающихся лодок, качающихся под своими
оранжевыми парусами. Временами, за Лидо, сноп солнца между облаков бросает
на открытое море блестящую борозду, подобную блеску шпаги,
разрезающей темный плащ. Можно оставаться здесь часами и позабыть все
человеческие интересы перед однообразным диалогом двух великих
явлений - изогнутого неба и плоской земли, занимающих все пространство
и всю сцену бытия. Между ними двумя стада белокурых облаков плывут
под дуновением морского ветра. Они наплывают поочередно на
утончившийся сияющий серп луны, и он неутомимо погружает свое лезвие
в их массу, как в жатву спелых хлебов. ЛУ
VII
*c
ВЕНЕЦИАНСКАЯ
ЖИВОПИСЬ
Тициан. Введение во храм. Фрагмент. Галерея Академии в Венеции
30 апреля 1864
НЕ ТРУДНЕЕ говорить с тобой о
венецианских художниках, чем о каких-либо других.
Перед их картинами не испытываешь
желания анализировать и рассуждать, и если
делаешь это, то по принуждению. Глаза
наслаждаются - вот и все; они наслаждаются, как
глаза венецианцев шестнадцатого века. Ибо
Венеция отнюдь не была городом
литературы и критики, как Флоренция. Живопись здесь была только
дополнением к окружающему миру чувственности, украшением аая
какой-нибудь пиршественной залы или аая углубления в стене. Чтобы понять ее,
нужно отойти, закрыть глаза и ждать, чтобы впечатления притупились, -
тогда разум исполнит свою обязанность. Вот три или четыре
подготовительных идеи; в отношении такого сюжета можно угадывать, делать
наброски - писать нельзя.
Венеция - не только особенный город, отличающийся от всех других
в Италии, свободный от начала и в течение тринадцати столетий, но
это, сверх того, - особенная страна, отличная от всех остальных в
Италии, со своим солнцем, небом, климатом, со своей особенной
атмосферой. Если ее сравнить с другим центром - Флоренцией, то это мир
водный рядом с миром земным. Поле зрения, открывающееся здесь
человеку, иное. Взамен четких контуров, сдержанных красок, неподвижных
планов глаз непрерывно встречает - во-первых, движущуюся и
сверкающую поверхность, разнообразное и постоянное отражение света,
очаровательное смешение пестреющих и смутных тонов, впадающих без
ясной границы в соседние цвета; затем - завесу влажных паров, которые
постоянное испарение подымает с воды, окутывая все формы,
заставляя синеть дали и расстилая по небу большие облака; наконец -
контраст, всюду образуемый ярким, тяжелым и глянцевитым блеском воды
и тусклой, каменистой окраской омываемых ею строений. В сухих
странах глаз поражается линиещ в странах влажных - пятном. Это можно
видеть во Фландрии и в Голландии: глаз не следит там за тонкостями
контуров, полускрытых оболочкой влажного воздуха, - он
приковывается гармонией колорита, оживляемого постоянной свежестью и
меняющегося в зависимости от различной плотности окутывающих
предметы паров. Точно так же в Венеции, невзирая на все различия между
этой аквамариновой водою, этими пурпуровыми песками и тусклой
• 245 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
почвой - и угольного цвета небом Амстердама или Антверпена,
человеческий глаз, как в Антверпене и в Амстердаме, чувствует себя
колористом. Доказательство этого уже в первых архитектурных созданиях
венецианцев - в этом пестром смешении порфира, змеевика и
драгоценных мраморов, которыми инкрустированы их дворцы, в темном,
звездящемся золотом пурпуре, наполняющем собор Святого Марка, в
своеобразном вкусе, предпочитающем сияющие краски и блестящие узоры
мозаик, в живости и яркости древнейшей национальной живописи.
Виварини, Карпаччо, Кривелли, позднее Лжованни Беллини
предвозвещают уже великолепие лучших мастеров. Эти последние почти
всегда употребляли масло, находя фресковую живопись слишком тусклой,
и Вазари, как истый флорентиец, упрекает Тициана в том, что тот
писал «непосредственно по модели, не делал рисунков и думал, что
лучший и настоящий способ достичь правильного рисунка - это писать
прямо чистыми красками, не изучив предварительно контуров
карандашом на бумаге».
Другое замечание, еще более существенное: климат не только
составляет среду обитания помимо обстановки человека, но и меняет его
темперамент и его инстинкты. Физиологи едва касались этой истины,
но она очевидна аая всякого, кто путешествовал. Живое тело - это
сгущенный газ, организованный и погруженный в известную атмосферу,
в условиях непрерывной убыли и пополнения, так что человек
представляет собою часть окружающей его среды, постоянно обновляемую
этой средой. Сообразно тому, насколько машина в целом поглощает
и выделяет более или менее быстро или с трудом, ее напряжение и
действие различны; мозговая работа, как и всякая другая, зависит от
быстроты и легкости потока, в котором она, как и все другое, образует одну
из волн. Например, северный человек поглощает и выделяет вдвое или
втрое более, нежели житель юга, и, как контраст, его способность
чувствовать, я хочу сказать - быстрота и сила его эмоций, вдвое или втрое
меньше. Сравните крестьянина или лошадь из голландской Фризии с
крестьянином и лошадью из французской Беррийской области, или
итальянца из Ломбардии с итальянцем Калабрии, или русского с арабом. Мы
еще не знаем точно законов, ставящих в зависимость от более или
менее влажного или холодного воздуха наше питание, дыхание,
мускульную силу, способность к волнениям, зарождение различного порядка
идей; но ясно, что такие законы существуют. Повсюду, под влиянием
какой-то силы, климат страны, физический темперамент человека и его
• 246·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
нравственный строй держатся вместе, как три последовательных звена
одной цепи; кто смещает первое кольцо - смещает второе и, как
следствие этого, - третье.
Венеция и долина По - это итальянские Нидерланды; вот почему
темперамент и характер здесь преобразились в том же направлении,
как в Нидерландах. Как и во Фландрии, здесь видишь бело-розовые лица,
русые и рыжие волосы, полные, нежные и упитанные тела, что
образует контраст с черными волосами, энергичной худобой, скульптурными
и благородными лицами и крепкими мускулами южных итальянцев.
Как и во Фландрии, здесь находишь страстное влечение к чувственным
удовольствиям, утонченно-изысканную жизнерадостность, слабое
развитие литературного и исследовательского духа, что создает контраст
с тонкой, рассудительной, хитроумной и склонной к пуризму
интеллигентностью, которая сквозит во всех писаниях и во всем складе жизни
флорентийцев. С самого начала веселая и столь мало классическая
архитектура, с пятнадцатого столетия чувственный склад быта, позднее -
общедоступность удовольствий, шестимесячный карнавал,
бесчисленные, занесенные в списки куртизанки, музыка, ставшая государственным
делом, и во все времена великолепие костюмов и празднеств, пышные
пестрые рясы, сутаны из расшитого шелка, изобилие золота и алмазов,
постоянное соприкосновение с восточной роскошью и фантазией,
терпимость, установившаяся в религии, и индифферентизм, дозволенный
в политике, бьющее через край благосостояние, поощряемая
чувственность, предписанная беззаботность, - все свидетельствует о той же самой
первоначальной и основной склонности: я хочу сказать - об умении
примешивать поэзию к чувственной жизни и о таланте связывать вместе
наслаждение и красоту.
Именно этот национальный склад духа изображают художники в своих
портретах; ему угождают они своим колоритом; его создания и
любимую им обстановку развертывают они в этих своих шелках, бархатах
и жемчугах, в своих балюстрадах, колоннадах и позолотах. Его лучше
узнаешь через них, нежели непосредственно: они его очистили,
определили и воплотили в зримую форму. Везде великие художники суть
глашатаи и истолкователи своего народа: Йордане, Крайер, Рубенс - во
Фландрии, Тициан, Тинторетто, Веронезе - в Венеции. Их инстинкт и их
интуиция делают из них натуралистов, психологов, историков,
философов; они переживают заново ту основную идею, которою создана их
раса и их эпоха, и невольное созвучие с целым, породившее их гений,
• 247 ■
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
собирает в их душе и располагает в истинных соотношениях все
бесчисленные и взаимно переплетающиеся элементы того мира, к которому они
принадлежат. Их чутье проникает дальше их знаний, и то идеальное
создание, которое они производят на свет, представляет собою более яркое
резюме, более сосредоточенный и живой образ, более определенное и
законченное отражение тех реальных вещей, среди которых они жили. Они
берут ту литейную форму, в которой природа отливала эти вещи и
которая, будучи полна трудноплавкого материала, давала до тех пор только
грубые и неправильные образцы; они освобождают ее, льют туда свой
металл, более податливый, разогревают свой горн, - и статуя, выходящая
из их рук, впервые повторяет настоящие очертания формы, которые
предыдущие формовки, засоренные шлаком и испорченные трещинами, не
могли воспроизвести.
Теперь обратим внимание на тот момент, когда они появились. Во
всякое время и во всякой стране создания искусства творятся особым,
сложным и разнохарактерным состоянием души, которое встречается,
когда эта душа стоит между двух эпох и совмещает в себе два разных
порядка чувствований: она близка тогда к тому, чтобы оставить влечение
к великому, ради влечения к приятному; но, переходя от одного к
другому, она соединяет оба. Нужно, чтобы она еще имела влечение к
великому, то есть к благородным формам и сильным страстям, без чего
создания искусства будут только миловидными. Нужно также, чтобы она
уже имела влечение к приятному, то есть потребность в удовольствии
и заботу об украшении, без чего она будет заниматься реальными
действиями и не станет развлекаться созданиями искусства. Вот почему мы
видим появление этого недолговечного и драгоценного цветка только
при слиянии двух эпох - между нравами героическими и нравами
эпикурейскими: в момент, когда человек, заканчивая некий утомительный
и долгий труд - войн, созидания или открытий, - переходит к отдыху,
оглядывается вокруг себя и задумывает разукрасить аая своего
удовольствия большое голое здание, основы которого были заложены и стены
возведены его руками. Раньше это было бы преждевременно: он был еще
весь поглощен усилием и не мечтал о наслаждениях; немногим спустя
это будет уже слишком поздно: он будет думать только о наслаждении
и уже не прикладывает больше усилий. Между тем и другим лежит
единственный в своем роде момент, более или менее длительный,
соответственно тому, насколько быстро происходит душевная трансформация, -
момент, когда люди, еще сильные, порывистые, способные к высоким
•248·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
волнениям и смелым начинаниям, позволяют несколько ослабеть
напряжению своей воли, чтобы доставить пышное развлечение своему
уму и чувствам.
Такова была перемена, совершившаяся в Венеции, как и в остальной
Италии, между пятнадцатым и шестнадцатым столетиями. Война,
окончившаяся битвой при Кьоджи, была последним актом старой
героической драмы; тут, как в лучшие времена древних республик, мы видим
народ, подвергшийся нападению и спасшийся вопреки всякой надежде,
ремесленников, строящих суда, победоносного Пизани, который велит
отвести себя в темницу и выходит из нее только, чтобы снова начать
победы; Карло Дзено, который выжил после сорока ран;
семидесятилетнего дожа Контарини, который дает обет не покидать своего корабля
до тех пор, пока вражеский флот не будет захвачен; тридцать семейств
аптекарей, бакалейщиков, виноторговцев и меховщиков, допущенных
в ряды знати, самоотвержение, мужество, государственный дух, как в
Афинах при Фемистокле и в Риме при Фабии Кунктаторе. Если, считая
с этого момента, очаг начинает стынуть, то его жар чувствуется еще в
течение долгих лет. Он держится дольше, нежели в остальной Италии, и еще
свидетельствует иногда свою силу внезапными вспышками. Венеция
остается независимым городом и любимым отечеством, в то время как
Флоренция, Рим и Болонья обратились уже только в музеи для праздных
людей и любителей искусства. Народ, ставший подданным, обретает
еще при случае качества гражданина: когда Людовик XII и Максимилиан
завоевывают венецианские владения на terrajerma [твердой земле], народ
восстает во имя святого Марка, и волонтеры, к досаде дожа, берут
обратно Падую. Когда Папа Павел V хочет предписать Венеции свою волю,
венецианское духовенство остается патриотом, и народ выгоняет с
гиканьем монахов-папистов: Siamo veneziani е poi cristiani (мы сперва
венецианцы, а затем уж христиане). Когда церковная инквизиция
распространяет свою власть по всей Италии, венецианский сенат приглашает
Паоло Сарпи писать против Тридентского собора, терпит у себя
протестантов, армян, магометан, евреев, греков, оставляет им их храмы,
дозволяет хоронить еретиков в церквах. С другой стороны, знать сохраняет
умение сражаться. В течение всего шестнадцатого столетия, вплоть до
семнадцатого и далее, мы видим ее в Далмации, в Морее, по всему
побережью Средиземного моря, защищающей землю шаг за шагом против
неверных. Гарнизон Фамагусты уступил только перед голодом (1571), и его
начальник Брагадино, с которого турки содрали кожу, - герой древних
• 249 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
дней. В битве при Лепанто венецианцы одни доставили половину
христианского флота. Таким образом, во всех отношениях, вопреки
постепенному ослаблению, умение бороться с опасностью, энергия, чувство
родины, - короче, все, что создает или поддерживает великие душевные
переживания, еще существует здесь, тогда как на всем остальном
полуострове иностранное завоевание, клерикальный гнет, чувственная или
академическая инертность низвели человека до нравов прихожей, до утон-
ченностей дилетантизма и болтовни сонетов.
Но если напряжение человеческого духа не было сломлено в
Венеции, то можно видеть, как оно постепенно слабеет. Правительство,
ставшее подозрительным и деспотическим, выбирает дожем некоего
Мочениго, бесстыдного «спекулянта», извлекающего выгоду из
общественного бедствия, - вместо Карло Лзено, спасшего отечество, держит
Дзено два года в тюрьме, доверяет армии на твердой земле кондотьеру,
сосредоточивает власть в руках трех инквизиторов, поощряет доносы,
практикует тайные казни, рекомендует народу погрузиться в поиски
удовольствий. С другой стороны, зарождается роскошь. Около 1400
года дома «были все невелики», но в Венеции насчитывалась тысяча
знатных семейств, имевших от четырех до семидесяти тысяч дукатов ренты.
В 1495 году Комнин удивляется «Большому каналу - этой
прекраснейшей, как я думаю, улице на свете и обстроенной лучшими домами; дома
очень велики, высоки и из хорошего камня, - и они построены сто лет
назад. Все они облицованы спереди белым мрамором, который
привозят сюда из Истрии за сотни миль, а иногда тут же еще большой кусок
порфира и змеевика; внутри, у большинства, по крайней мере две
комнаты с золоченой обшивкой, с богатой отделкой каминов из резного
мрамора; спинки кроватей вызолочены, а перегородки расписаны и
позолочены, и очень хорошая мебель внутри домов». Когда он приехал,
двадцать пять молодых людей, одетых в шелк и багрец, явились перед
ним; его пригласили войти на судно, покрытое кармазиновым шелком;
«это самый великолепный город, который он когда-либо видел».
Наконец, по мере роста потребности в наслаждении, уменьшался дух
предприимчивости. Открытие пути вокруг мыса Доброй Надежды в начале
шестнадцатого столетия отдало торговлю в руки португальцев; на
Средиземном море и в Атлантическом океане фискальные мероприятия
Карла V, дополнившие неприязненное отношение турок, повлекли
упадок больших морских караванов, ежегодно отправлявшихся
государством от Александрии до Брюгге. Что касается промышленности, то ремес-
•250·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ленники, стесняемые, подвергнутые надзору и запертые в своей стране,
перестали совершенствовать свое искусство и позволили иноземным
конкурентам захватить верх в мастерстве обработки и снабжении
мировых рынков. Таким образом, со всех сторон способность действия стала
меньше, а жажда наслаждения - больше, причем, однако, одна не
уничтожила другой, а обе, смешавшись, образовали то двойственное
состояние умов, при котором, как при средней температуре - не слишком
резкой и не слишком расслабляющей, - рождается искусство. В самом деле,
за этот период, от 1454 до 1572 года - между учреждением
государственной инквизиции и битвой при Лепанто, между завершением
внутреннего деспотизма и последним из великих внешних триумфов, - появились
блистательные творения венецианской живописи. Джованни Беллини
родился в 1426 году, Джорджоне умирает в 1511, Тициан - в 1576, Веро-
незе - в 1588, Тинторетто - в 1594 году. За этот промежуток в
полтораста лет воинственный город, повелитель Средиземного моря, властелин
торговли и промышленности, обратился в казино аая маскарадов и
похождений куртизанов.
Примитивные художники
В Академии художеств есть собрание наиболее старых художников.
Одна большая, совершенно варварская икона 1380 года, состоящая из
нескольких частей, показывает корни этой живописи: новое искусство
и здесь, как повсюду, вышло из византийских традиций. Оно появилось
поздно, гораздо позже, чем в скороспелой и интеллигентной Тоскане.
Правда, в четырнадцатом столетии встречаешь Семитеколо, Гварьенто -
слабых учеников школы, основанной Джотто в Падуе; но, чтобы найти
первых национальных художников, нужно идти вплоть до половины
следующего столетия. Тогда в Мурано проживала семья живописцев -
Виварини. Уже у самого первого из них, Антонио, можно видеть зачатки
венецианского вкуса - несколько больших бород и лысых голов
стариков, красивые розовые или зеленые драпировки мутных тонов,
маленьких ангелов, довольно толстых, и Мадонн с полными щеками. После
него его брат, Бартоломео, обучавшийся, без сомнения, в падуанской
школе, направляет одно время живопись в сторону сухого рельефа и
костистых фигур; но и у него, как и у всех других, уже заметен вкус к
насыщенным краскам. Покидая это преддверие искусства, глаза сохраняют
цельное и сильное впечатление, которого не дают другие периоды
становления живописи, как в Сиене или во Флоренции, а, при продолжении,
•251 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
получается такое же и даже еще более богатое впечатление перед
мастерами этой недозрелой эпохи - Джованни Беллини и Карпаччо.
Я только что видел во Фрари одну картину Джованни Беллини, которая,
подобно картинам Перуджино, представляется мне шедевром истинного
религиозного искусства. В глубине капеллы, над алтарем, в небольшой,
украшенной золотом нише восседает на троне Мадонна в широком
синем плаще. Она добра и проста, как простая, мирная крестьянка. У
подножия ее трона два маленьких ангела в коротких одеяниях кажутся
детьми из хора, и их пухлые детские бедра - прекрасного цвета здорового
тела. По обеим сторонам, на двух створках, по две пары святых -
неподвижные фигуры, в монашеских и епископских одеждах, застывшие
навсегда в иератической позе, - реальные образы, заставляющие вспомнить
бронзовых рыбаков Адриатики. Все это фигуры, взятые из жизни;
верующий, преклонявший перед ними колено, видел здесь те черты,
которые он встречал вокруг себя,-на своей лодке и в своих переулках:
красный и коричневый тон лица, обожженного морским ветром,
ширококостное правильное сложение дышащих свежестью молодых девушек,
выросших в этой влажной атмосфере, затканную мантию прелата,
идущего во главе процессий, голые ножки детей, ловящих по вечерам
крабов. Он не мог не поверить в них; столь полная местного колорита и столь
цельная правдивость достигала степени иллюзии. Но в то же время это
было явление высшего и торжественного мира. Эти фигуры не
двигаются, их лица покойны и глаза устремлены прямо, как у фигур, зримых
в мечте. Расписанная, разубранная золотом и красным ниша
углубляется позади Мадонны, как некое продолжение воображаемого царства;
таким образом, нарисованная архитектура заканчивает собою
архитектуру реальную, и эта святыня в золоте, на мраморном помосте,
увенчанная лучами и ореолом, отверзает вход в сверхъестественный мир,
приоткрывающийся за нею.
Стоит взглянуть на другие картины Джованни Беллини и его
современников в Академии, чтобы убедиться, что венецианская живопись,
следуя вполне по своему собственному пути, проходит те же стадии, что
и в остальной Италии. Она зарождается и здесь, как повсюду, из
иллюстраций молитвенников и из мозаики и отвечает сперва настроениям
чисто христианского характера; потом постепенно чувство прекрасной
телесной жизни вводит в алтарные рамы могучие и здоровые тела,
заимствованные из окружающей природы, и видишь с удивлением
неподвижное выражение и набожные лица, оставшиеся у этих цветущих фигур,
•252 ·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
г
>Г7
ж
ж ■
ш
Ь
Ажованни Беллини. Мадонна с Младенцем и ангелами. Центральная часть триптиха.
Церковь Санта Мария леи Фрари в Венеции
•253·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
в жилах которых струится юная кровь, и темперамент которых еще не
затронут. Это - слияние двух настроений и двух периодов: одного,
христианского, который исчезает, и другого, языческого, который
начинает брать верх. Но при общем сходстве в Венеции обрисовываются и
особые черты. Персонажи картин скопированы ближе с натуры, менее
трансформированы классическим или мистическим чувством; они не
так чисты, как в Перудже, и не так благородны, как во Флоренции; они
обращаются меньше к уму или к сердцу и больше к чувствам. Они более
понятны людям и доставляют больше удовольствия глазам. Яркие и
живые тона окрашивают их тела и лица; это цветущее тело уже изнежено
на плечах и бедрах маленьких детей. Светлые пейзажи уходят вдаль, дабы
заставить выступить темный колорит фигур; святые располагаются
рядами вокруг Мадонны с таким различием поз, которого не знают
однообразные процессии других примитивных школ. В самый разгар своего
благочестивого рвения национальный дух, влюбленный в разнообразие
и удовольствие, расцветает улыбкой. Нет ничего более выразительного
в этом смысле, нежели восемь картин Карпаччо на сюжет легенды святой
Урсулы (1490-1515). В них есть все, и, прежде всего, - неумелость
средневекового мастера. Он наполовину игнорирует пейзаж и нагое тело.
Его скалы, ощетинившиеся деревьями, кажутся взятыми из рисунков
молитвенников; его деревья зачастую сделаны из выкрашенного и
нарезанного железа; его десять тысяч мучеников, распятых на горе,
уродливы, как фигуры старой мистерии; видно, что он не жил во Флоренции,
что он не изучал природных предметов с Паоло Уччелло, или членов
и мускулов человеческого тела с Поллайоло. С другой стороны, у него
находишь целомудреннейшие фигуры Средних веков и ту крайнюю
утонченность, ту совершенную искренность, тот расцвет христианской
совести, которые последующая эпоха, более чувственная и грубая, затопчет
в своих увлечениях. Святая и ее жених, со своими длинными
ниспадающими белокурыми волосами, величавы и трогательны, как персонажи
легенды. Видишь святую - то уснувшей и получающей от ангела
возвещение своего мученичества, то коленопреклоненной, вместе со своим
мужем, перед благословляющим папой, то возносимой в ореоле над
густым, готовым к жатве полем из человеческих голов. На другой
композиции она появляется вместе со святой Анной и двумя святыми старцами,
которые обнимают друг друга. Нельзя представить себе фигур, более
полных благочестия и мира: в сцене своего прославления она, бледная
и нежная, со слегка склоненной головой, держит в прелестных руках
•254·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Витторе Карпаччо. Прощание св. Урсулы и ее жениха со своими родителями
и их отправление в паломничество. Фрагмент. Галерея Академии в Венеции
знамя и зеленую пальму; шелковые волосы струятся в девственной синеве
ее длинной одежды; королевский плащ окутал ее своей золотой
пестротою. Это поистине святая, и целомудрие, смирение, утонченность
Средних веков целиком воплотились в ее жесте и взгляде.
Это дань времени, а вот дань стране. Те же картины представляют
собою интересные сцены быта и богатые декорации. Художник, как позже
его великие преемники, рисует здания, сооружения, аркады, залы,
украшенные коврами, суда, процессии разных персонажей, широкие,
пестрые и блестящие одежды; все это - работы небольших размеров, но этот
блеск и разнообразие уже возвещают будущие крупные создания того же
рода, как иллюстрация предвозвещает картину. И, чтобы показать
окончательно совершившуюся перемену, он и сам достигает однажды
совершенства живописи: мы видим, как он покидает первоначальную сухость,
чтобы найти новый и окончательный стиль. Посреди большой залы
находится «Принесение во храм», которое невозможно было бы приписать
Карпаччо, если бы оно не было подписано им (1510). Под мраморным
• 255 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
портиком, инкрустированным золотыми мозаиками, являются фигуры
почти натуральной величины, законченного рельефа, изысканной
утонченности и совершенной композиции, в прекраснейшем распределении
света и теней. Мадонна, сопровождаемая двумя молодыми
женщинами, подносит свое дитя старцу Симеону; внизу три ангела с длинными
волосами играют на скрипке и на лютне. Если не считать небольшой
грубости в мужских головах и в некоторых складках одежды, архаическая
манера здесь исчезла; от нее осталось только бесконечное очарование
моральной утонченности и нежности. Зато впервые полунагие тела
маленьких детей выказывают всю красоту тела, пронизанного и пропитанного
светом. С этой картиной искусство переступило порог великой живописи,
и вокруг Карпаччо его юные современники, Джорджоне и Тициан, уже
направились далее.
Мастера
Когда, с целью понять ту среду, в которой расцвела эта живопись,
пытаешься представить себе на основании документов жизнь
венецианского патриция в течение первой половины шестнадцатого столетия,
находишь у него прежде всего и на первом месте чувство уверенности
в себе и благородной гордости. Он считает себя преемником древних
римлян и утверждает, что если не считать завоеваний, то он даже
превзошел их и еще превзойдет. «Между всеми провинциями благородной
Римской империи Италия есть царица», а в Италии, завоеванной
цезарями и опустошенной варварами, Венеция - единственный город,
который остался свободным. Извне она только что отвоевала провинции на
твердой земле, которые у нее отнял Людовик XII. Ее лагуны и ее союзы
защищают ее от императора. Туркам не удалось оторвать что-либо от ее
владений, и Кандия, Кипр, Киклады, Корфу, берега Адриатики, занятые
ее гарнизонами, распространяют ее владычество до самого края
морей. Внутри «она никогда не была совершеннее». Ни в каком
государстве мира не найдется лучших законов, более прочного спокойствия,
более цельного согласия, и при этом прекрасном строе, единственном
во вселенной, «у нее нет недостатка в доблестных и высоких душах».
С высокомерным спокойствием вельможи Марко Трифоне Габриэлло
находит, что славный город обязан своим процветанием своему
аристократическому правительству и что «замкнутость совета возвела его до
степени величия, какой он никогда не достигал ранее». По его мнению,
граждане, не имеющие права голоса, - только мелкий народ, лодочники,
•256·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
служащие, домашняя челядь. Если некоторые из них сделались
впоследствии богатыми и влиятельными, то лишь благодаря терпимости
государства, принявшего их под свое покровительство; даже и сейчас это
только протежируемые лица, не имеющие никаких прав; клиенты и
плебеи, они слишком счастливы покровительством, которое им оказывается.
Единственные законные господа - «три тысячи дворян, хозяева города
и всего государства на земле и на море». Государство принадлежит им;
как некогда римские патриции, они - собственники общественного
дела, и мудрость их начальствования еще подкрепляет прочность их прав.
Затем magnijico [«великолепный»] описывает с патриотическим
самодовольством характер государственного строя и ресурсы города,
порядок властей и выборы в магистрат, полтора миллиона экю
государственных доходов, новые крепости на твердой земле и вооружения арсенала.
По величию, гордости и благородству его рассуждений его можно
принять за античного гражданина. И в самом деле, его друзья сравнивают его
с Аттиком, но он вежливо отклоняет от себя это наименование и
говорит, что если он, подобно Аттику, удалился от дел, то по иному
мотиву, вполне почетному аая его города, потому что удаление Аттика имело
своей причиной бессилие хороших граждан и упадок Рима, тогда как
его удаление оправдывается обилием способных людей и процветанием
Венеции. Так развертывается беседа в благородной учтивости,в
прекрасных периодах, в солидных рассуждениях; ее театром служат покои Бембо
в Падуе,- и пусть читатель вообразит эти высокие залы Ренессанса,
украшенные бюстами, манускриптами и вазами, где снова встречаются
язычество и античный патриотизм с красноречием, пуризмом и
обходительностью времен Цицерона.
Как развлекались наши magnifia? В числе их развлечений
встречались и серьезные - я этому охотно верю; но господствующий тон в
Венеции отнюдь не тон строгости. В данный момент более всего на виду -
некий Аретино,сын куртизанки, родившийся в больнице, содержант
по ремеслу и профессор шантажа, который благодаря клевете и
низкопоклонству, эротическим сонетам и непристойным диалогам сделался
судьей репутаций, выманил семьдесят тысяч экю у знатных [людей]
Европы, титуловал себя «бичом князей» и прославил свой надутый и
вялый стиль как одно из чудесных созданий человеческого ума. Он не
имел ничего,а жил как вельможа на деньги, которые ему платили,и на
подарки, которые посылались ему во множестве. Уже с утра в его дворце
на Большом канале просители и льстецы наполняли переднюю. «Столько
• 257·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
важных господ, - говорит он, - одолевает меня постоянно своими
визитами, что мои лестницы истоптаны их ногами, как мостовая
Капитолия колесами триумфальных колесниц. Я не думаю, чтобы Рим видел
такую смесь народов и языков, какая наполняет мой дом. У меня
можно встретить турок, евреев, индейцев, французов, испанцев, немцев;
что до итальянцев - подумайте, сколько их может быть; я не говорю
уже о черни; невозможно видеть меня не в окружении монахов и
священников... Я - всемирный секретарь». Знать, прелаты, художники
ухаживают за ним; ему несут древние медали, золотые ожерелья,
бархатный плащ, картину, кошелек с пятьюстами экю, дипломы академий. Его
бюст из белого мрамора, его портрет работы Тициана, золотые,
бронзовые и серебряные медали, его изображающие, являют взору посетителей
его бесстыдную и грубую физиономию. Он изображается увенчанным,
одетым в длинное императорское одеяние, восседающим на высоком
троне, принимающим почести и подношения народов. Он популярен
и управляет модой. «Я вижу, - говорит он, - мое изображение на
фасадах дворцов; я нахожу его на футлярах гребней, на оправе зеркал, на
майоликовых блюдах, как портреты Александра, Цезаря и Сципиона.
Я вас уверяю, что в Мурано особый сорт хрустальных ваз зовется Аре-
тины. Одна порода лошадей называется Аретино - в память о той
лошади, которую я получил от Папы Климента и подарил герцогу Федерико.
Канал, омывающий одну сторону того дома, в котором я живу на
Большом канале, окрещен именем Аретино. Говорят о стиле Аретино;
сколько педантов лопнуло из-за него с досады! Три мои горничные, или
экономки, которые покинули меня, чтобы сделаться дамами, велят звать
себя Аретино». Так, покровительствуемый и содержимый
общественным благоволением, он наслаждался жизнью, не деликатно и боязливо,
а грубо и совершенно открыто. «Будем тратиться, жить и пить вовсю,
и... как свободные люди». «Я - свободный человек», - говорит он
часто; это значит, что он делает, что ему нравится, и дает поблажку всем
своим чувствам. В эту эпоху нервы еще грубы и мускулы крепки; лишь
в конце семнадцатого столетия нравы станут приторными и
претенциозными. В этот же момент вожделения скорее влекут к обжорству,
нежели вызывают желание полакомиться; у Венер, которых разоблачают
на своих холстах великие художники, - мужской торс и твердый взгляд;
острая и откровенная чувственность не оставляет места ни аая
жеманства, ни аая утонченности. Аретино был бродягой и солдатом, и его
удовольствия отзываются его прошлым. Он прожигает жизнь; «у него
•258·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
в доме двадцать две женщины; некоторые с их малютками у груди».
Кутеж и беспорядок тут непрерывный. Он сам щедр, как вор, и если берет,
то позволяет и другим брать. «Удвойте мне мою пенсию в пятьсот экю;
если бы я имел в тысячу раз больше, я все равно нуждался бы. Все
прибегают ко мне, точно я управляющий королевской казной. Если какая-
нибудь бедная девушка родит, издержки падают на мой дом. Если кого-
нибудь заключат в тюрьму, я должен заботиться обо всем. Солдаты без
амуниции, путешественники, попавшие в несчастье, странствующие
кавалеры являются ко мне поправить свои дела. Меньше двух месяцев
назад один молодой человек, раненный по соседству, велел отнести себя
в одну из моих комнат». Его слуги его обкрадывают. Все перемешано в
этом открытом для всех доме - вазы, бюсты, эскизы, береты и плащи,
которые ему одалживают; кипрские вина, птицы, косули и зайцы,
которых ему присылают, дыни и виноград, которые покупает он сам аая
вечернего пира. Он ест хорошо, пьет еще лучше и оглашает свои
мраморные залы взрывами веселости. Куропатки прибывают: «Тотчас же
их берут, тотчас жарят; я оставил мой гимн в честь зайцев и принялся
воспевать пернатых. Мой добрый друг, Тициан, бросив беглый взгляд
на этих аппетитных тварей, пустился петь дуэтом со мною "Magnificat",
который я начал». К этой музыке челюстей присоединяется и другая.
Знаменитая певица, Франческина, - в числе его гостей; он целует «ее
хорошенькие ручки - эти две милые воровки, похищающие не только
кошелек, но и людские сердца». «Я хочу, - говорит он, - чтобы там, где
не хватит вкуса моих блюд, являлась бы сладость вашей музыки».
Куртизанки у него, как у себя дома. Он пишет книги аая них и обучает
усовершенствованиям в их профессии. Он принимает их у себя, выбирает,
пишет им письма и вербует их. Утром, разделавшись со своими
посетителями, когда он не идет развлечься в мастерскую Сансовино и
Тициана, он отправляется к девицам нестрогих правил, дарит им «несколько су»,
заказывает шить «платки, простыни, рубашки, чтобы дать им
заработок». Для этой работы он набрал и водворил у себя шесть молодых
женщин, которых прозвали «аретинками», - целый сераль без замка, где
разные приключения, ссоры и интриги текут бурным потоком. Он
живет так тридцать лет, иногда битый палкою, но всегда при пенсии и на
короткой ноге с самыми важными лицами, получая от епископа
бирюзовые башмачки аая своих возлюбленных, приятель Тициана, Тинторетто
и Сансовино. Еще того лучше: Аретино создает школу, он имеет
подражателей, таких же приживал и столь же грязных, как он: Дони, Дольчи,
• 259 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Никколо Франко, его секретарь и его враг, автор «Приапей»,
кончивший в Риме виселицей. Так процветает в Венеции шутовская и
распутная литература, которая впоследствии, смягчаемая галантерейностями
Парабоско, пустит новые ростки в сонетах Баффо. Судите о читателях
по книге, и о жильцах по дому На этих примерах приоткрывается
интимный характер тех людей, внешний облик которых передали нам
художники, и мы угадываем основные черты, объясняющие современное им
искусство, - горделивое величие, приличествующее бесспорным
властелинам подобной республики, грубую и плодотворную энергию -
пережиток веков мужественного действия, великолепную и бесстыдную
чувственность, развившуюся под влиянием собранных богатств и
окончательно наступившей безопасности, развертывающуюся и
наслаждающуюся под открытым небом.
Остается еще один пункт - самое чувство искусства. Его в эти
времена находишь в Венеции повсюду - у частных лиц и у больших
государственных учреждений, у патрициев и у людей среднего класса, вплоть
до таких грубых и непосредственных натур, которые, как Аретино,
кажутся рожденными только, чтобы беззаботно пиршествовать и
эксплуатировать других. Все, что у них осталось от внутреннего благородства,
обнаруживается с этой стороны. Их беспутство и дерзость чувствуют
естественную симпатию к идеализированным изображениям
сладострастия и силы; они находят в этих мускулистых гигантах, в пышной нагой
красоте, в архитектурной и декоративной помпе этих картин пищу,
отвечающую их могучим и откровенным инстинктам. Моральная низость
нисколько не исключает тонкости чувства; напротив - она оставляет ей
свободное поле, и человек, весь обращенный в одну сторону,
становится тем более способным ощущать все оттенки своего удовольствия.
Аретино почтительно склоняется перед Микеланджело; он не просит
у него ничего, кроме одного из его набросков, «чтобы любоваться им
при жизни и унести с собою в гроб». С Тицианом он хороший приятель,
естественен и прост; и его восхищение и склонность к нему искренни.
Он говорит о красках с верностью и живостью впечатления,
достойными самого Тициана. «Господин, - говорит он ему, - мой милый кум,
вопреки моим привычкам, я сегодня обедал один или, вернее, в компании
этой отвратительной перемежающейся лихорадки, которая не
позволяет мне почувствовать вкуса ни одного блюда; я встал от стола, сытый
той безнадежной скукой, с которой сел за него; потом, опершись
рукою о поверхность оконного карниза и выставив наружу грудь и почти
• 260 ·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
всю остальную мою фигуру, я начал глазеть на великолепное зрелище
бесчисленных лодок, наполненных иностранцами и венецианцами,
которое тешило взоры не только участвовавших, но и всего Большого
канала... Вдруг плывут две гондолы, которые, управляемые знаменитыми
гребцами, состязаются в скорости и доставляют публике развлечение.
Я с большим удовольствием смотрел также на толпу, которая, чтобы
видеть эту забаву, собралась на мосту Риальто, на набережной Камерлин-
гов, на Пескарии, на traghetto [переправе] Санта София и Каза ди Моего.
И между тем как по обеим сторонам толпа расходилась, каждый своей
дорогой, с веселыми аплодисментами, я, как человек, который в тягость
самому себе и не знает, какое применение дать своему уму и мыслям, -
взглянул на небо. Никогда еще, с тех пор, как его создал Господь, это
небо не было изукрашено столь прелестной живописью света и теней!
Воздух был таким, каким его хотели бы сделать те, кто завидует
Тициану, потому что они сами не могут быть Тицианами... Прежде всего -
здания, которые, хотя они из настоящего камня, кажутся сделанными из
материала, преображенного искусством; потом - дневной свет, в
некоторых местах - чистый и живой, а в других - мутный и угасающий.
Посмотрим еще на другое чудо - плотные и влажные тучи, которые
спускались на первом плане почти до крыши домов, а на предпоследнем
свисали позади них, почти до половины их массы. Вся правая сторона
была смутных цветов, реявших в серо-коричневой черноте. Я удивлялся
разнообразию оттенков, которые эти тучи развертывали перед
глазами: ближайшие сверкали пламенем солнечного очага, а самые дальние
багровели не столь яркой киноварью. О, эти прекрасные удары кисти,
окрашивавшие отсюда воздух и заставлявшие его таять позади
дворцов, - как это делает Тициан на своих пейзажах! Кое-где показывалась
лазурная зелень неба, в других местах зеленая лазурь - буквально
перемешанные между собою капризной изобретательностью природы, этой
учительницы учителей. Это она здесь то светлыми, то темными тонами
окутывала или выделяла формы согласно своему желанию. И я,
знающий, насколько ваша кисть есть душа вашей души, я воскликнул три или
четыре раза: "Тициан, где вы?"». Здесь узнаешь задние планы на
картинах венецианских художников: вот большие белые облака Веронезе,
которые дремлют, вися над колоннадами; вот голубоватые дали, дрожащий
воздух неясных светлых пространств, жаркие, красные и рыжие тени
Тициана.
• 261 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Аворец дожей
Есть семейства растений, отдельные виды которых так близки друг
другу, что сходство здесь превосходит различие: таковы художники
Венеции, не только четверо знаменитых - Джорджоне, Тициан, Тинторетто,
Веронезе, но и другие, менее известные - Пальма Старший, Бонифацио
[деи Питати], Парис Бордоне, Порденоне и вся эта толпа, перечисленная
Ридольфи в его «Жизнеописаниях»: современники, родственники и
преемники великих людей, - Андреа Вичентино, Пальма Младший, Дзелотти,
Бадзакко, Падованино, Бассано, Скьявоне, Моретто и множество других.
Что бросается в глаза - это основной и общий тип; частные и личные
черты остаются первое время в тени. Они работали вместе и поочередно
во Дворце дожей; но, вследствие невольного созвучия их талантов, вся их
живопись образует одно целое.
Сперва глаза удивлены: кроме трех или четырех зал, комнаты низки
и малы. Зала Совета Десяти и окружающие ее (расписаны Веронезе и его
учениками) - это позолоченные конуры, слишком маленькие для
населяющих их фигур; но уже через мгновение забываешь конуру и видишь
только фигуры. Сила и чувственность развертываются здесь необузданно
и гордо. По углам нагие мужские фигуры - нарисованные кариатиды -
устремляются наружу в таком рельефе, что по первому взгляду
принимаешь их за статуи; чудовищный вздох раздувает их грудь, их бедра
и плечи искривлены. На плафоне Меркурий, видимый от живота, весь
совершенно нагой, - почти рубенсовский образ, но еще более острой
чувственности. Гигантский Нептун гонит вперед своих морских коней,
которые плещутся в волнах; его нога попирает борт колесницы, его
громадный и красный торс откидывается назад, он вздымает свою
раковину в радостном порыве бога-животного; соленый ветер шумит в его
перевязи, в его волосах и бороде; не видав его, нельзя себе представить
такое бешеное стремление, такой порыв животной натуры, такую
радость языческого тела; такой триумф великой не стыдящейся жизни,
брошенной в простор воздуха и света. Как несправедливо сводить
венецианское искусство к живописи житейского благополучия и к умению
льстить глазам! Нет, они тоже рисовали величие и героизм; полное
энергии и действия тело производило на них впечатление само по себе;
как у фламандцев, у них есть свои гиганты. Их рисунок, даже помимо
красок, способен один передать всю прочность и всю жизненность
строения человеческого тела. Пусть взглянут в этой самой зале на
четыре фигуры в серых тонах Веронезе, на пять или шесть женщин, закутан-
•262 ·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Тинторетто. Рай. Дворец дожей в Венеции
ных или полунагих, все такой силы и такого сложения, что их бедра и их
руки могли бы задушить бойца в схватке, - и, тем не менее, со столь
простыми и гордыми лицами, что, несмотря на их улыбку, они так же
девственны, как Венеры и Психеи Рафаэля.
Чем больше созерцаешь идеальные фигуры венецианского искусства,
тем яснее чувствуешь за собою веяние героического века. Большие
задрапированные старики с голым челом - это патриции - цари
Архипелага, полуварварские султаны, принимающие, влача свою шелковое
одеяние, дань или повелевающие казнить. Надменные женщины в длинных,
расшитых, ниспадающих складками платьях, - императрицы - дочери
республики, как та Катерина Корнаро, от которой Венеция получила Кипр.
Мускулы бойцов - на этой бронзовой груди моряков и капитанов; их
тела, загорелые от солнца и ветра, схватились с атлетическими телами
янычаров; их тюрбаны, их шубы, их меха, рукоятки их сабель,
усеянные драгоценными камнями, - все это азиатское великолепие
смешивается в этих фигурах со складками античных одежд и традиционно
языческой наготою. Их прямой взгляд еще спокоен и дик, - и гордость,
• 263 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
трагическое величие выражения обличают близость той жизни, когда
человек, сосредоточившись на нескольких простых страстях, не имел
другой мысли, кроме желания быть господином, чтобы не быть рабом,
и убивать, чтобы не быть убитым. Таков дух той картины Веронезе,
которая в зале Совета Десяти изображает старого воина и молодую
женщину. Это какая-то аллегория, но о сюжете не думаешь. Мужчина сидит
и склонился с хмурым видом, подпирая подбородок рукой; его
колоссальные плечи, его руки, его голая нога, обутая в кнемиду с львиной
головой, выступают из огромного смятого плаща; со своим тюрбаном, белой
бородой, озабоченным челом, со своими чертами усталого льва он имеет
вид скучающего паши. Она, с опущенными глазами, прижимает руки
к нежной груди; ее великолепные волосы схвачены жемчугами; она
смотрит пленницей, ожидающей воли своего господина, и ее шея, ее
склоненное лицо розовеют еще живее в заливающей их тени.
Почти все другие залы пусты; картины вынесены во внутреннюю
мастерскую. Мы отыскали хранителя этого музея: мы ему сказали на
плохом итальянском языке, что мы не обладаем ни рекомендательными
письмами, ни титулами и вообще никакими правами, чтобы быть
допущенными к их осмотру. После этого он был так любезен, что провел
нас в особую залу, раскрыл один за другим все холсты и потерял два часа
времени, показывая их нам.
Я не получал в Италии более живого удовольствия; все холсты - у нас
прямо перед глазами; мы можем их рассматривать сколько хотим, в
полной свободе, и мы одни. Тут есть смуглые гиганты Тинторетто, с кожей,
наморщенной игрою мускулов; святой Андрей и святой Марк - колоссы
реальные, как колоссы Рубенса. Есть святой Христофор Тициана -
бронзовый согбенный Атлас, напрягающий все четыре конечности, чтобы
снести бремя мира, и на его шее, в виде необычайного контраста,
маленький смеющийся нежный младенец, детское тело которого тонко и
изящно, как цветок. Есть, в особенности, дюжина мифологических картин
и аллегорий Тинторетто и Веронезе - такого блеска, столь
обворожительной прелести, что с глаз спадает повязка и открывается неведомый
мир, рай очарований, раскинувшийся за границами всякого воображения
и всякой мечты. Когда Старец гор переносил в свой гарем усыпленных
юношей, дабы сделать их способными к крайнему самоотвержению, -
он показывал им, без сомнения, подобное зрелище.
На берегу, на краю бесконечного моря, Ариадна получает кольцо от
Вакха, и Венера с золотой короной прибывает по воздуху, чтобы отпразд-
• 264-
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
новать их брак. Это возвышенная красота нагого тела - такого, каким оно
является, выходя из воды, оживляемое солнцем и оттеняемое тенями.
Богиня плавает в жидком свете, и ее согнутая спина, ее бока, ее
округлое тело трепещут, полуокутанные в белую прозрачную вуаль. Какими
словами можно нарисовать красоту какой-нибудь позы, тона или
контура? Кто сумеет показать здоровое и бледно-розовое тело под
благоуханной прозрачностью газа? Как изобразить нежную полноту живой формы
и изгибы членов, вытягивающихся при наклонах тела? Богиня поистине
плывет в этом сиянии, как рыба в своем озере, и воздух,трепещущий
смутными отблесками, обнимает и ласкает ее.
Возле этой картины - две молодые женщины, Мир и Изобилие. С
нежным трепетом Мир наклоняется к свой сестре; она оборачивается, ее
голова видна только сквозь тень, но она свежа бессмертной юностью. Как
блистают их распущенные и желтые, как колосья, волосы! Их ноги и
тела изгибаются. Одна фигура кажется падающей, и это возникновение
зыблющейся дуги восхитительно. Ни один художник не чувствовал в
такой мере гибкость округлых форм и не схватывал так живо движение на
лету. Эти фигуры только что приняли свою позу или двинулись в путь;
глаз и ум невольно следят за их движением; в их настоящем видно
будущее и прошлое; это беглое мгновение, зафиксированное художником,
но этот момент связан со всем, что его окружает. Никто, кроме
Рубенса, не передавал так текучесть и непрерывное трепетание жизни. Вот
Паллада отстраняет Марса, и ее мужественная кираса в черных
отблесках выделяет с неотразимым кокетством божественную белизну ее плеча
и колена.
Еще более полно жизни и чувственности кокетство,
развертывающееся в группе трех граций и Меркурия. Они все три наклонились: аая
Тинторетто тело не живет, если оно находится в неподвижном
положении; изгибы склоняющегося тела добавляют переменчивую грацию к той
общей прелести, которой дышит вся эта красота. Одна из них, сидящая,
вытягивает руки, и свет, падающий на нее сбоку, заставляет сиять по
частям ее лицо, шею и грудь в смутном пурпуре теней. Ее сестра,
коленопреклоненная, с опущенными глазами, берет ее за руку; ее длинное
покрывало, тонкое, как те серебристые нити, которые заря заставляет по
утрам блестеть на полях, облегает ее талию и вздымается на груди,
выделяя румяные точки. В другой руке она держит распустившуюся ветвь
цветов, которые бегут вверх, ложась своей снежной белизной на
пурпуровую белизну полной руки. Последняя из сестер, изогнувшись, вытяги-
• 265 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
вается вся, и, от затылка до пят, глаз наблюдает стройность мускулов,
облекающих великолепное сложение ее спины и бедер. Волнистые
волосы, маленький подбородок, округлые веки, немного вздернутый нос,
хорошенькие ушки, завитые, как перламутровая раковина, - вся
наружность выражает лукавство и тонкую веселость; скажешь, что это
отважная куртизанка.
По этой черте можно узнать Тинторетто, более грубого и терпкого,
так же, как по его более резкому колориту, более свободному движению
и более мужественной наготе. У Веронезе более серебристые и розовые
тона, более нежные фигуры, менее черные тени, более роскошная и
спокойная обстановка. Возле полуколонны полная и благородная женщина -
«Industria» [«Диалектика»], сидя рядом с Невинностью, ткет воздушную
паутинку; ее смеющиеся глаза обращены к небесной синеве; ее русые
взбитые волосы полны света, ее полураскрытый рот кажется гранатовым
яблоком; неопределенная улыбка позволяет видеть ее перламутровые
зубы, и сияние, пронизывающее всю ее фигуру, имеет бледно-розовый
оттенок восходящей зари. Другая, возле своего маленького ягненка,
склоняется с полной покорностью; серебристые отблески ее шелковой одежды
сияют вокруг нее; голова ее в тени, и алость зари расцвечивает ее губы,
ухо и щеку.
Подобные фигуры не описывают; нельзя себе представить заранее,
сколько может быть поэзии в одежде или в каком-нибудь драгоценном
уборе. На другой картине Веронезе Венеция-царица -на троне, между
Миром и Справедливостью; ее одеяние белого шелка, затканное
золотыми лилиями, струится из-под горностаевой и пунцовой мантии; тонкая
кисть ее руки, ее пальцы с ямочками выделяются своей атласной
белизной, своими изнеженными змеистыми контурами на лоснящейся
материи. Лицо в тени - бледно-розовой полутени синеющего трепетного
воздуха, еще более оживляющего кармин ее губ; эти губы, как вишни,
и вся эта тень оживлена блеском волос, мягким сиянием жемчуга,
рассыпанного по шее и в серьгах, мерцанием диадемы, драгоценные камни
которой кажутся волшебными очами. Она улыбается с королевским
достоинством и открытою добротою, подобно цветку, готовому
раскрыться и счастливому быть раскрытым. Возле нее нагнувшаяся фигура Мира
преклоняется, почти падая; ее юбка желтого шелка, вышитая красными
цветами, ложится складками под богатейшим фиолетовым плащом.
Жемчужные шнуры вьются под белым покрывалом в бледных косах,
и какое божественное маленькое ушко!
•266·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Тут есть еще другая его картина, еще более знаменитая, -
«Похищение Европы». По блеску, по богатству фантазии, по утонченности и
необычайной оригинальности колорита она не имеет равных себе.
Отсветы, падающие с высокой листвы деревьев, затопляют всю картину
зеленоватым тоном воды; рубашка Европы окрашена им же; она сама,
изящная, томная, кажется почти фигурой восемнадцатого столетия. Это
одно из тех творений, где в сложности и изысканности тонов художник
превосходит самого себя, забывает свою публику, углубляется в
неисследованные области искусства и, покидая все известные правила,
обретает, по ту сторону вульгарного мира видимой внешности, сочетания,
контрасты и странные удачи, за пределами всякого вероятия и всякого
мерила. Рембрандт создал подобное творение в своем «Ночном дозоре».
Нужно созерцать это, и не говорить об этом.
Академия, Тициан
«Жизнеописания» Ридольфи достаточно сухи, а то, что прибавляет
к ним Вазари, дает немного. Когда пытаешься вообразить себе Тициана, -
видишь счастливого человека, «самого счастливого и самого
благополучного, какой когда-либо был между ему подобными, получавшего от
неба только одни милости и удачи», первого между всеми своими
соперниками, принимавшего у себя на дому королей Французского и
Польского, любимца императора, испанского короля Филиппа И, дожей,
Папы Павла III и всех итальянских государей, возведенного в сан
рыцаря и графа Империи, засыпанного заказами, шедро оплачиваемого,
получающего пенсии и умело пользующегося своим счастьем. Он держит дом
на широкую ногу, пышно одевается, приглашает к своему столу
кардиналов, вельмож, величайших художников и даровитейших ученых своего
времени. «Хотя он не получил особенного образования», он на своем
месте в этом высоком обществе, потому что он имел «природный ум,
а придворный быт научил его всем лучшим качествам кавалера и
светского человека», и так хорошо, что его находят «весьма любезным,
обладающим приятной учтивостью и самыми изящными манерами и
приемами обращения». В его характере нет ничего крайнего и мятежного.
Его письма к государям и министрам по поводу своих картин и
пенсионов, носят тот униженный характер, который считался тогда знанием
приличий со стороны подданных. Он умело подходит к людям и умело
подходит к жизни, - я хочу сказать, что он пользуется жизнью, как и
людьми, без излишеств и без низости. Он отнюдь не ригорист; его переписка
• 267·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
с Аретино показывает в нем веселого товарища, который ест и пьет
охотно и изысканно, который любит музыку, красивую роскошь и общество
женщин легкого поведения. Ему чужда буйность; его не тревожат
безмерные и мучительные замыслы; его живопись здорова, свободна от
болезненных исканий и тягостной сложности; он пишет постоянно, без
напряжения и без порывов, в течение всей своей жизни. Он начал еще
ребенком, и его рука сама собою повинуется его гению. Он говорит, что «его
талант - это особенная милость Неба», что нужно иметь этот дар аая
того, чтобы быть хорошим художником, что, если этого нет, «можно
породить только уродливые создания», что в этом искусстве «гений не
должен быть возмущаем». Вокруг него красота, вкус, воспитание, талант
близких возвращают ему, подобно зеркалам, отражение его гения. Его
брат, его сын Орацио, два его двоюродных брата, Чезаре и Фабрицио,
его родственник Марко Тициан - превосходные живописцы. Его дочь
Аавиния, в костюме Флоры, с корзиной фруктов на голове, служит для
него моделью юного тела и полных, дивных форм. Его мысль течет так,
подобная широкой реке в ровном ложе; ничто в ней не смущает сердца,
и этот разлив удовлетворяет его: он не смотрел поверх своего искусства,
как Леонардо или Микеланджело. «Каждый день он рисовал что-нибудь
мелом или углем»; ужин в обществе Сансовино или Аретино заканчивал
полноту дня. Он не спешит; он хранит долго свои работы у себя, чтобы
пересматривать их и доводить до совершенства. Его картины не
осыпаются; он пользуется, как его учитель Джорджоне, простыми цветами,
«особенно красным и синим, которые никогда не искажают фигур». Он
пишет так в течение более восьмидесяти лет и завершает целое столетие
жизни; и то его похищает лишь чума, а государство нарушает ради него
свои предписания, чтобы устроить ему публичные похороны. Нужно
вернуться к лучшим дням языческой древности, чтобы найти гений,
столь соразмерный природе вещей, расцвет способностей, столь
естественный и столь гармоничный, такое согласие человека с самим собою
и с внешним миром.
В Академии можно видеть две крайние точки его развития - его
последнюю картину, «Оплакивание», оконченную Пальмой Младшим, и
одну из первых его картин-«Встреча Марии и Елизаветы»,-которую он
написал, без сомнения, при выходе из школы Джованни Беллини. В этой
последней контуры намечены точно; фигура святого Иосифа почти суха;
чувство красок обнаруживается только в интенсивности глубоких
цветов, в противоположении тонов, в мягкости бледно-фиолетовой одежды,
• 268 ·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
оживляемой яркой лазурью плаща. Это еще церковная картина -
скромное напоминание почитаемой легенды. На другом краю своей карьеры
он создает из легенды грандиозную и великолепную декорацию. Что он
выдвигает прежде всего в своем «Оплакивании», - это широкое белое
и серое архитектурное сооружение, предназначенное выделять на
своем фоне более яркие тона одежд и тела, -портик, убранный
монументальными статуями и пьедесталами с львиными головами, где живые
цветы вьются по матово-сияющему мрамору, -и потом красивые
эффекты света и тени, разрезаемой солнцем на округлости свода. Внизу
зеленая юбка Магдалины и большой красный плащ Никодима сочетаются
своей мутной окраской с бледным, странно светящимся тоном
мертвого тела; старый коленопреклоненный ученик в последний раз сжимает
руку своего учителя; Магдалина, распахивая руки, испускает громкий
крик. Скажешь, что это языческая трагедия; художник освободился от
христианства и стал только художником. В этом вся история
шестнадцатого столетия в Венеции, как и в других местах; но у Тициана это
превращение не было запоздалым. Большая картина его молодых лет -
«Введение Девы Марии во храм» -показывает, как смело и легко он вступает,
уже с первых шагов своего гения, на путь, который пройдет до конца.
В то время как флорентийцы, воспитанные золотых дел мастерами,
ограничили живопись воспроизведением индивидуального тела, -
венецианцы, предоставленные самим себе, расширили ее, охватывая всю
природу. Они видят не единичного человека или группу, а целую сцену, пять
или шесть законченных групп, здания, дали, небо, пейзаж, короче -
целый отрывок жизни. Здесь, например, пятьдесят персонажей, три дворца,
фасад храма, портик, обелиск, ряды холмов, деревья, горы и массы
облаков, висящие друг над другом в воздухе. На вершине огромной серой
лестницы стоят первосвященник и священники. А на середине ступеней
маленькая девочка, голубая, в желтом ореоле, поднимается, придерживая
свое платье; в ней нет ничего возвышенного, она выхвачена из жизни; ее
милые щечки круглы; она протягивает свою руку к первосвященнику,
как бы настораживаясь и спрашивая его, чего он от нее хочет. Это в
самом деле ребенок; она еще не начинала думать; Тициан встречал таких за
уроками катехизиса. Ясно, что ему нравится натура, что жизнь
удовлетворяет его, что он не ищет ничего за нею, что поэзия реальных вещей
кажется ему достаточно грандиозной. На первом плане, напротив
зрителей, у подножия лестницы, он поместил фигуру старой брюзги в
синем платье и белом капюшоне -настоящей деревенской жительницы,
• 269 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
которая пришла в город на рынок и бережет возле себя свою корзину яиц
и своих куриц. Фламандец не решился бы на большее. Но тут же рядом,
среди травы, цепляющейся за ступени, стоит бюст античной статуи;
пышная процессия женщин и мужчин в длинных одеждах
развертывается у подножья лестницы; круглые аркады, коринфские колонны, статуи
и карнизы великолепно украшают фасады дворцов. Чувствуешь себя в
реальном городе, населенном горожанами и крестьянами, где люди
занимаются своим делом и выполняют свои благочестивые обязанности, но в
городе, украшенном древностями, грандиозном своими постройками,
разубранном искусством, озаренном солнцем, заключенном в благородный
и богатый пейзаж. Более рассудительные, более отрешенные от реальных
вещей, флорентийцы создали идеальный и абстрактный мир за
пределами нашего; более непосредственный, более счастливый Тициан любит наш
мир,понимает его, замыкается в нем и воспроизводит его, улучшая, но не
пересоздавая и не уничтожая.
Когда ищешь главную черту, отделяющую его от его соседей,
находишь, что он прост; без ухищрений в колорите, движении и в типах он
достигает могущественных эффектов колорита, движения и типов.
Таков характер его столь знаменитого «Вознесения Марии» [«Ассунты»].
Красноватый, пурпуровый, интенсивный тон окутывает всю картину;
это самый мощный цвет, и, благодаря ему, какая-то здоровая энергия
просвечивает во всей этой живописи. Внизу - наклонившиеся и
стоящие апостолы, почти все с головой, поднятой к небу, бронзовые, как
моряки Адриатики; их волосы и бороды черны; густая тень заливает лица:
кое-где бурый железистый оттенок едва намечает тело. Один из них, в
центре, в коричневом плаще, почти исчезает в темноте, омрачающей
окрестное сияние. Одежды алые, как живая артериальная кровь, выделяются,
оживляемые еще более контрастом двух больших зеленых плащей. Идет
великое волнение изогнутых рук, мускулистых плеч, одушевленных
страстью лиц, развевающихся одежд. Над ними, в воздухе, Богоматерь
возносится в пылающем, как дыхание горна, ореоле; Она той же расы,
здоровой и сильной, без мистической экзальтации или улыбки, гордо
стоящая в своей красной одежде, окутанной синим плащом. Ткань
струится тысячью складок, отражающих движение этого великолепного тела;
у нее поза атлета, выражение величественное, и матовый тон ее лица
выступает рельефно в пламени ореола. У ее ног, по всему широкому
пространству, развертывается пленительная гирлянда юных ангелов; их свежие
тела, пурпурные, бледно-розовые, пронизанные тенями, присоединяют
•270·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Тициан. Вознесение Марии. Церковь Санта Мария леи Фрари в Венеции
• 271 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
к этому энергическому тону и образам радостное цветение жизни; между
ними есть двое, которые, отделившись от остальных, играют в полном
свету, и детские их члены плавают в воздухе с божественной легкостью.
Никакой вялости или утомленности; здесь грация остается
мужественной. Это прекраснейший языческий праздник - праздник суровой силы
и блистательной юности. Венецианское искусство нашло в этой картине
свой центр и, может быть, свою вершину.
Картины Тициана не очень многочисленны в Венеции; Европа
завладела ими; но их остается еще достаточно, чтобы обнаружить все
стороны его таланта. Он обладал этим единственным в своем роде умением
создавать Венер - живых женщин и колоссов - живых мужчин. Я хочу
сказать, что он имел талант подражать действительности настолько
близко, чтобы нами овладевала иллюзия, и преображать
действительность настолько глубоко, чтобы в нас пробуждалась мечта. Он показал
в образе одной и той же нагой красоты куртизанку, возлюбленную
патриция, дочь рыбака, беззаботную и сладострастную, - и в то же время
могучую идеальную фигуру, мужественно-сильную богиню моря и
царицу надземных пространств с волнистыми формами. Он заставил нас
видеть, в одной и той же задрапированной фигуре, воинственного
патриарха крестовых походов, старого героя морских битв, мускулистого
и атлетического борца, свирепую и величавую внешность какого-нибудь
подеста или султана, грубую императорскую или консульскую голову -
и в то же время или рядом с этим неуклюжего вояку с раздувшимися
венами, вульгарную физиономию старого судьи в очках, животную рожу
бородатого славонца, багровую спину и дикий взгляд гребца с галеры,
плоский череп и ястребиный глаз язвительного еврея, жестокую
веселость жирного палача, все смутные переходы, посредством которых
человеческая природа сливается с природой животной. Через это
постижение реальных явлений сила его искусства удесятерилась. Художник
не принужден уже, подобно классическим мастерам, варьировать чуть
заметно пятнадцать-двадцать оттенков одного установленного типа.
Бесконечное разнообразие природы, в ее высоких и низких тонах,
открыто ему: самые резкие контрасты - в его руках; каждое его творение
столь же богато, сколь ново; зритель находит у Тициана, как и у Рубенса,
полное изображение мира, физиологию, историю, психологию в
сокращении. Под маленьким величавым Олимпом, где восседает несколько
греческих фигур, извечно созерцаемых коленопреклоненными
правоверными, художник завладел огромной населенной территорией, где
• 272 ·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
непрерывно обновляется цветение мира. Случайность, неправильность -
все ему годится: это части тех сил, которые строят поток человеческой
жизни; ее странности, уродства, исключения имеют также свой
интерес, как и ее расцвет и великолепие. Его единственная потребность -
это чувствовать и передавать могущественный порыв внутреннего
произрастания, подъемлющий грубую материю и воздвигающий ее в живых
формах под жарким солнцем. Вот мысли, теснящиеся в уме, когда
смотришь снова его картины в церквах Сан Рокко, Ла Салюте, Сан Джован-
ни [Элемозинарио], когда думаешь о тех полотнах, что находятся в
Риме, в Неаполе, во Флоренции и в Лондоне. Задерживаешься в этой церкви
Санта Мария делла Салюте; улыбаешься перед хорошенькими,
розовыми и пухлыми причастницами Луки Джордано. Проходишь мимо
претенциозных декораций и аффектированных статуй, которые мастера
семнадцатого столетия выставили под сводами. Понимаешь, чего стоит
простой и мощный гений, довольствующийся подражанием и
усилением природы. Созерцаешь на плафоне заалтарной части, и после в
сакристии, мужественную римскую фигуру Аввакума, бронзовое
трагическое лицо Илии, почти черное, под белой митрой, лысого святого
Марка, откидывающегося назад, - фигуру столь горделивую и озаренную
столь прекрасным отблеском юности, что чувствуешь жизненность этой
великой породы, недоступной влиянию лет. Особенно возвращаешься
к живописи плафона: Голиаф, убитый Давидом, Авраам, приносящий
в жертву сына, Каин, убивающий Авеля. Узнаешь в смелом порыве этих
колоссов суровую руку, начертавшую знаменитые образы: «Шесть
святых», грозный «Переход через Красное море». Кроме Микеланджело,
никто не управлял так человеческой плотью. Авраам - это гигант и
истребитель; когда видишь его седую голову и бороду, его обнаженные
бедра и руки, порывисто выступающие из его желтой одежды, чувствуешь,
что стоишь перед настоящим патриархом, бойцом и укротителем
людей; он поднимает руку, и все мускулы вздуваются; голова маленького
Исаака уже сплющена под его неистовой рукой. Движение так могуче,
что один порыв пробегает по всем трем фигурам - начиная с ног
ангела, устремляющегося, чтобы удержать меч, до повернутого наполовину
туловища отца, оборачивающегося назад, и за ним вплоть до согнутой
шеи распростертого ребенка. Еще яростнее жест братоубийцы; и не
потому, что Тициан сделал его отталкивающим. Напротив, его
порывистость увлекает зрителя: это не убийца - это Геркулес, убивающий врага.
Авель, опрокинутый набок, скользит, цепляясь всеми четырьмя конеч-
• 273 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ностями. А тот, громадный и мускулистый, как атлет, наступив на грудь
побежденного, откачнулся назад и всею силой своего торса и своих
грубых рук сейчас размозжит его. Сумрачный, винного цвета тон
обагрил своей зловещей окраской все это сплетение мускулов, бугры
натянутых сухожилий, выпуклости и впадины напряженного тела, и
зверское лицо убийцы, освещенное одним косым лучом от виска,
пропадает в черных ракурсах.
Академия, церкви, Тинторетто
У меня не хватает ни смелости, ни свободного времени говорить
тебе о других картинах. Их семьсот в Академии; прибавь еще картины
церквей. Понадобился бы целый том; к тому же их эффект состоит
большей частью в тоне сияющего тела рядом с телом в тени, в градации
оттенков рыжей или зеленой одежды. Можно легко выражать словами
общие черты, но что касается оттенков - слово тут бессильно.
Единственная разумная возможность - это приехать сюда и наслаждаться
самому. Ходишь, приходишь снова и еще раз возвращаешься в Академию.
Пересекаешь железный висячий мост - это единственное современное
и некрасивое сооружение в Венеции. Идешь наудачу в одну из
двадцати зал и выбираешь какого-нибудь мастера, чтобы провести с ним все
послеобеденное время, - Пальму Старшего, например, или Бонифацио
[деи Питати], колорит которых так же интенсивен и богат, как колорит
Тициана. Это все растения одного и того же семейства; но глаза публики
обращены только на самую высокую ветвь всей группы. Одна из картин
Бонифацио, «Пир богача», восхитительна. Под открытым портиком,
между колонн с прожилками, сидят полные и великолепные женщины,
с квадратным декольте, в юбках черного бархата, с рукавами,
вышитыми рыжим золотом, в платьях, грубо пестреющих синим и желтым -
пышные создания с плотной талией, с дородной мускулатурой, смело
изображенные в этой варварской роскоши расшитых тканей, падающих
тяжелыми складками вплоть до их пят. Негритенок, маленькое
домашнее животное, держит тетрадь перед музыкантшей и играющими на
инструментах; воздух звучит голосами, и аая довершения всей этой
шумной торжественности видишь вдали сады, лошадей, соколиную охоту -
всю роскошь вельможной обстановки. Посреди всего этого зрелища
восседает хозяин, в широкой епанче красного бархата, полнокровный
и хмурый, как Генрих VIII, с угрюмым и тяжелым выражением
сластолюбия, которое наглоталось до отвала, так и не насытившись. Подоб-
•274·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
ные удовольствия нам внушили бы отвращение; мы слишком
утонченны и изнеженны, чтобы их понимать; такие куртизанки навели бы
на нас страх; они слишком ограниченны и слишком материальны; их
руки растерзали бы нас, их взгляд слишком тяжел. Только в
шестнадцатом столетии любили эту жуткую и неистовую чувственность, и тогда
копировали с натуры грубость вожделений и прожорливость чувств. Но
только в шестнадцатом столетии умели рисовать законченную красоту.
Переходишь снова железный мост, столь некрасивый и угловатый;
углубляешься в лабиринт маленьких улочек и направляешься к церкви
Санта Мария Формоза посмотреть «Святую Варвару» Пальмы
Старшего. Это не святая, а цветущая молодая девушка, самая привлекательная
и достойная любви, какую только можно себе представить. Она стоит
прямо, в горделивой позе, с короной на голове, и ее платье, небрежно
завязанное у пояса, струится складками оранжевого пурпура над ярко-
пунцовым плащом. Две волны великолепных темно-русых волос
ниспадают по обеим сторонам шеи; ее тонкие руки кажутся руками богини;
половина ее лица в тени, и слабые отблески играют на ее приподнятой
руке. Ее прекрасные глаза смеются, ее тонкие и свежие губы
улыбаются; у нее веселый и благородный душевный строй венецианских
женщин; полная, но отнюдь не толстая, умная и хорошего нрава, она
кажется созданной, чтобы давать счастье и испытывать счастье.
Оставим все остальное в стороне. Как жаль, однако же, покидать
пять или шесть картин Веронезе в Академии, его «Пир в доме Левия»,
его «Апостолов на облаках» [«Аллегория битвы при Аепанто»], его
«Благовещение», его Мадонн, его колоннады сияющего и пестрого мрамора,
его золотые ниши, испещренные черными арабесками, его большие
лестницы, его балюстрады, обрисовывающиеся на небесной лазури, его
рыжие и пестреющие золотом шелка, его белых коней, встающих на дыбы
под своими пунцовыми чепраками, его стражей и негров, разодетых
в красное и зеленое, его сутаны, звездящиеся излучистыми разводами и
блестящими узорами, в особенности же удивительное разнообразие его
лиц и мирную гармонию, которой дышит, как музыкой, его
серебристый колорит, его светлые образы и широкие композиции! Если Тициан -
глава и властелин школы, то Веронезе - регент и вице-король. Если
первый обладает силой и простым величием основателей, то второй -
спокойствием и благосклонной улыбкой признанных и законных
монархов. Он ищет и обретает не возвышенное или героическое, не бурность
или святость, не чистоту или изнеженность - все эти состояния обнару-
• 275 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Веронезе. Пир в доме Левия. Фрагмент. Галерея Академии в Венеции
живают натуру только с одной стороны и указывают на попытку к
исправлению, на порыв, слабость или напряженность. То, что он любит, -
это расцвет красоты, раскрывшийся, но еще нетронутый цветок, в тот
момент, когда его розовые лепестки развернулись, но ни один еще не
завял. Кажется, что он говорит, обращаясь к своим современникам: «Мы -
существа благородные, венецианцы и важные господа; мы принадлежим
к привилегированной и высшей расе. Не будем ни отнимать, ни
подавлять ничего у себя; ум, сердце и чувства - все в нас достойно счастья.
•276·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Дадим же счастье нашим инстинктам и нашему телу, так же как нашей
мысли и нашей душе, и сделаем из жизни праздник, где благополучие
сольется с красотой». Но и в Лувре можно видеть много его великих
созданий, и ты лучше узнаешь его по одной его картине, нежели по моим
рассуждениям. Напротив, существует гениальный человек - Тинторетто,
все творение которого почти целиком находится в Венеции. Не
подозреваешь настоящей цены ему, пока не попал сюда. Так как мне остался всего
один день, то я хочу провести его с ним.
В мире не найдется другого, столь мощного и столь плодовитого
художественного темперамента. Многими чертами он похож на Микеланд-
жело. Он приближается к нему по своей варварской оригинальности и по
энергии воли. Тициан, его учитель, уже через несколько дней, увидав его
эскизы, почувствовал ревность, встревожился и отослал его из школы.
Еще совсем ребенок, Тинторетто все-таки решил, что выучится и
достигнет всего самоучкой. Он достает себе бюсты с антиков и с Микелан-
джело, ходит копировать картины Тициана, рисует с нагого тела, делает
вскрытия, изготавливает себе манекены из воска и мела, одевает их,
подвешивает в воздухе,изучает их ракурсы и работает с остервенением.
«Везде, где исполняется живописная работа, он присутствует» и учится
своему мастерству на практике. Его голова полна мыслей, и замыслы так
одолевают его, что, вынужденный освободиться от них, он идет вместе
с каменщиками в цитадель и набрасывает фигуры вокруг башенных
часов. Между тем он упражняется у Скьявоне и теперь чувствует себя
мастером; «его мысли кипят», он предлагает отцам из монастыря Мадонны
дель Орто четыре громадных картины - «Поклонение золотому тельцу».
«Страшный суд»: полотна в несколько сот футов, с тысячами
действующих лиц, целое море воображения и гениальности; он отдает их даром
и хочет получить только свои издержки; ему нужно высказаться и
выразить себя. В другой раз, когда братство Святого Роха заказало пятерым
знаменитым художникам картоны для предполагаемой живописи, он
достает тайно мерку с места, пишет в несколько дней картину, приносит ее
вместо рисунка и объявляет, что подносит ее святому Роху Перед этой
бурею изобретательности и быстроты его конкуренты остаются в
оцепенении, - и так он работает всегда; кажется, что его ум - вечно полный
вулкан в извержении. Холстов в двадцать, в сорок, в семьдесят футов,
наполненных фигурами в натуральную величину, опрокинутыми,
нагроможденными, брошенными в воздух, в самых неистовых ракурсах и
великолепных эффектах освещения, едва хватает аая восприятия тороп-
•277-
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ливого, воспламененного, ослепительного потока его творчества. Он
покрывает ими целые церкви, и вся его жизнь, как у Микеланджело, уходит
на это. Его привычки - это привычки диких, бурных, не
приспособленных к миру гениев, у которых внутренний напор чувств так силен, что
удовольствия не доставляют им удовольствия, и в качестве единственного
прибежища, утоления и облегчения им служит искусство. «Он жил,
замкнувшись в своих мыслях, удаляясь от всякого веселья», погруженный
в свои этюды и работы. Когда переставал писать, он уходил в самый
дальний угол своего дома и запирался в комнате, где, чтобы ясно видеть,
нужно было зажигать лампу средь бела дня. Здесь, чтобы развлечься, он
делает свои манекены; он не позволяет никогда никому входить туда и
никогда не пишет в присутствии других, кроме своих близких. «Все его
честолюбие заключалось в его славе»; и особенно в желании превзойти
себя, достичь совершенства. Его речь отрывиста, его слово режет, как
ножом; его суровая и грубая наружность - верный образ его души. Когда он
отпускает острое словцо, его лицо не меняется; он не смеется. Отважно
и горделиво он пробил себе дорогу сам, один, вопреки зависти и
открытой вражде других художников, и стойко держится против мнения
публики, равно как против создателей этого мнения. С пистолетом в руке,
с холодной насмешливостью, он заставил замолчать циника Аретино.
Когда его друзья выставляют публично картину, он советует им оставаться
у себя дома. «Лайте выпустить все стрелы; нужно, чтобы люди
привыкли к вашим мыслям». Чем больше всматриваешься в его жизнь и творения,
тем более видишь в нем Микеланджело, ставшего колористом; менее
сосредоточенного, нежели тот, менее владеющего собою, менее способного
делать выбор между своими идеями, отдающегося целиком
вдохновению, пылкость которого сделала его импровизатором.
Вот почему, когда его идея верна или он сам ее выбрал, он
подымается на необычайную высоту. По моему мнению, ни одна картина не
превосходит и, может быть, не равна его «Святому Марку» в Академии; по
крайней мере, ни одна картина не произвела на меня равного
впечатления. Это большой, в двадцать футов длины и ширины, холст, с
пятьюдесятью фигурами в натуральную величину; со святым Марком,
темнеющим среди света, и освещенным рабом между темных фигур. Святой
является с небесной высоты, головою вперед, спеша, повиснув в воздухе,
чтобы спасти раба от казни. Его голова - в тени, а ноги - в свету; его тело,
сжатое в необыкновенном ракурсе, падает единым порывом, со
стремительностью орла. Никто, кроме Рубенса, не схватывал в такой степени
• 278 ·
ДОРОГА И ПРИЕЗД
Тинторетто. Чудо святого Марка. Галерея Академии в Венеции
мгновенность движения, бурность полета; перед этой бурею и этой
правдивостью классические фигуры кажутся застывшими,
скопированными с тех академических моделей, которым подвязывают руки
шнурками; это увлекает - следишь за этой фигурой вплоть до земли,
которой она еще не коснулась. Там нагой раб, опрокинутый на спину, прямо
против зрителя, в таком же чудесном ракурсе, как и тот, но весь
сияющий, как фигура Корреджо. Его великолепное, мужественное и
мускулистое тело трепещет; его розовые щеки возле черной кудрявой бороды
окрашены прекраснейшим, полным жизни колоритом. Топоры
разлетелись на куски - железо и дерево, не посмев коснуться его тела, - и все
смотрят. Палач в тюрбане, воздевая руки, показывает судье разбитое
топорище с жестом изумления, охватившего его всего. Судья, в красной
венецианской куртке, почти сорвался со своего места на мраморной лестнице.
Вокруг него все присутствующие наклоняются и теснятся, одни - в
вооружении шестнадцатого столетия, другие - в римских кожаных кирасах,
третьи - в варварских сутанах и тюрбанах, остальные - в венецианских
• 279 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
беретах и далматиках, иные с голыми ногами и руками, один весь нагой,
с плащом на бедрах и платком на голове, - все это в самых
великолепных разрезах света и теней, в разнообразии, блеске и невыразимом
очаровании освещения, отраженного в черном глянце доспехов, разлитого
в блестящих разводах шелка, плененного в горячих тенях тела,
оживляемого алым, зеленым, желтым цветом пышных полосатых материй. Здесь
нет ни одного лица, которое бы не действовало, и действовало всем
своим существом; на одеждах нет ни одной складки и на телах ни одного
тона, которые не усиливали бы общего порыва и возбуждения. Одна
женщина, опирающаяся на пьедестал, откидывается назад, чтобы
лучше видеть; она полна такой жизни, что все ее тело трепещет, глаза
говорят, рот сейчас раскроется. На заднем плане здания люди на террасах
или взобравшиеся на колонны увеличивают простор и богатство сцены.
Дышишь ее веянием, и вдыхаемый воздух здесь горячее, нежели
где-либо; это - жизненное пламя, каким оно вспыхивает зарницами в зрелом
и цельном уме гениального человека; все здесь содрогается и бьется
радостью света и красоты. Нет другого примера такой роскоши и столь
удачливой изобретательности; нужно видеть своими глазами смелость
и легкость этого взлета, этот естественный порыв темперамента и гения,
живую непосредственность творчества, наслаждение и потребность
тотчас же передать свою мысль, не заботясь о правилах, внезапное и
уверенное, инстинктивное стремление, которое тотчас же и без усилий
разрешается совершенным достижением, - как птица летает и конь бежит. Позы,
типы, костюмы всех сортов с их странностями и различиями собрались
и в одну возвышенную минуту пришли в согласие в этом уме.
Согнутая спина женщины, кираса, усеянная блестками света, нагое тело,
застывшее в прозрачной тени, бледно-розовая плоть, где под янтарной кожей
видится кровь, яркий пурпур развевающегося плаща, путаница голов,
ног и рук, переливы тонов, озаряемых и преображаемых взаимными
отсветами, - все это вторгается в одном ансамбле, как сноп воды,
вылившийся из переполненного канала. Внезапные и совершенные
концентрации - это само вдохновение; и на свете нет, может быть, более живой
и полной картины, чем эта.
Мне представляется, что, пока не видел его, не имеешь понятия о
человеческом воображении. Я оставляю в стороне десять других картин,
находящихся в Академии,-«Святую Агнесу», «Воскресение Христа»,
«Смерть Авеля», «Еву» - крепкое и пышное, сладострастное тело с
грубыми контурами, с плотной талией, с волнистыми линиями ног, с головою
•280·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
животного, без всякого выражения, но цветущее и отдающееся жизни,
полное столь радостного и глубокого спокойствия, столь богато
испещренное светом и тенями, что здесь чувствуется более, нежели у самого
Рубенса, вся поэзия наготы и тела. Но нужно идти в церкви и
общественные здания, чтобы узнать вполне этого художника. Нет почти ни
одного храма, где не нашлось бы его огромных картин: «Смерть Марии»
в церкви Джезуити; «Распятие», и не знаю, сколько еще других картин, -
в церкви Санти Джованни э Паоло; «Брак в Кане» - в Санта Мария делла
Салюте; четыре колоссальные картины - в Санта Мария дель Орто;
«Сорок мучеников», «Манна небесная», «Воскресение», «Тайная вечеря»,
«Мученичество святого Стефана» - в Сан Джорджо [Маджоре] ; двадцать
картин и плафонов и «Рай» высотою в двадцать три фута, длиною в семьдесят
семь, - во Дворце дожей; наконец, в церкви Сан Рокко и в Скуола ди Сан
Рокко, которые представляют как бы особый его музей, сорок картин -
некоторые гигантского размера, которые могли бы покрыть все вместе
два Квадратных Салона нашего Лувра. Поистине, в Европе не знают
этого художника. Галереи по ту сторону Альп не владеют почти ничем
из его творений; вещи, ими приобретенные, малы и слабого достоинства.
Исключая три-четыре сцены из Дворца дожей, с них нет хороших
гравюр; за исключением «Распятия», с которого сделал гравюру Агостино
Карраччи, его большие вещи вовсе не гравировались. Он безмерен во
всем - как в размерах, так и в замысле. Академические умы конца
шестнадцатого столетия прокричали про его утрировки и небрежность:
чудесное и сверхчеловеческое в его гении шокирует ординарные и спокойные
души. Но правда заключается в том, что мир не видел ни раньше, ни после
подобного человека; он - единственный в своем роде, как Микеланджело,
Рубенс, Тициан. Пусть его зовут экстравагантным, увлекающимся,
импровизатором; пусть ворчат на черноту его колорита, на его
опрокинутые фигуры, на беспорядочность его групп, на торопливость его кисти,
на утомление и манерность, которые иногда примешивают бывший уже
в употреблении металл к его новому литью; пусть ему ставят в упрек все
оборотные стороны его достоинств, - я соглашусь с этим. Но подобного
горнила, раскаленного, клокочущего, с такими языками и треском
пламени, с таким высоким взлетом искр, со столь неожиданными и
бесчисленными вспышками, с непрерывным извержением дыма и внезапных
огней, - этого там, у нас, совсем не знали.
По правде, я не представляю, как говорить о нем; я не могу описывать
его картин: они слишком велики и их слишком много. Но описывать
• 281 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
нужно внутренний порыв его духа, - и мне кажется, что у него мы
находим единственное в своем роде качество - молниеносность
прозрения. Вот громкое слово, но оно отвечает точным фактам, примеры
которых можно привести. В некоторые исключительные минуты, перед лицом
большой опасности, при внезапном потрясении, человек видит ясно, как
в каком-то озарении, со страшною яркостью, целые годы своей жизни,
пейзажи и целые сцены, а иногда отрывки воображаемого мира.
Воспоминания задыхавшихся, рассказы людей, которые едва не утонули,
признания самоубийц и курильщиков опиума, индусские «Пураны»
заставляют этому верить. Могучая работа мозга, внезапно возросшая в десять
или в сто раз, заставляет ум пережить в этом ракурсе мгновения больше,
чем за всю остальную жизнь. Обычно человек выходит из такой
высокой галлюцинации изможденным и больным, но когда характер
достаточно силен, чтобы перенести без расстройства этот электрической
толчок, тогда человек, как Лютер, святой Игнатий Лойола, святой Павел
и все великие визионеры, совершает дела, превышающие человеческие
силы. Таков порыв творческого воображения у великих художников;
с меньшей способностью противодействия он был силен у Тинторетто,
как у самых великих. Если хорошо уяснить себе это непроизвольное
и необычайное настроение при таком трагическом характере и таких
способностях колориста, как у него,- видишь, что отсюда проистекает
все остальное.
Он не делает выбора; его видение владеет им; воображаемая сцена
представляется ему, как реальная, - и одним порывом, в одно мгновение
он копирует ее со всеми ее странностями, непредвиденностями, ее
громадностью и многолюдством. Он отрезает кусок природы и переносит
его на полотно - таким, каков он есть, в неожиданности и мощи
непосредственного творения, не знающего сложностей и колебаний. Он
рисует не двух или трех отдельных лиц, а сцену, отрывок жизни, целый
пейзаж или целое здание, полное народа. Его «Брак в Кане» - это
гигантская обеденная зала, совсем готовая, с ее плафоном, окнами, дверями,
полом, слугами, буфетной сервировкой, с двумя вереницами гостей за
уходящим вглубь столом - мужчины с одной стороны, женщины с
другой, так что видны только два ряда голов, как две линии деревьев в аллее,
и на самом конце - Христос, маленький, незаметный из-за этого
многолюдства и расстояния. Его «Христос, исцеляющий больных», в Скуола ди
Сан Рокко - больница: полунагие женщины, которых поднимают на
ковре, другие лежащие, с обнаженными ногами и грудью, одна в лохани,
•282·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
совершенно раздетая, и Христос между ними, посреди лихорадок и язв.
Его «Манна небесная» - это народный лагерь со всеми житейскими
подробностями, во всем разнообразии пейзажа, во всем величии
безграничных далей: тут верблюд со своим проводником, там человек у стола
с пестом, в другом месте - две женщины, стирающие белье; еще другая
внимательная молодая женщина, которая наклонилась, чтобы подставить
свою корзину; другие сидящие у двери, еще другие вертящие мотовило
или расстилающие простыни, чтобы собирать манну; большой старик,
одетый в плащ, который советуется с Моисеем. Своими крайностями,
как и своей гениальностью, художник переступает границы своего века
и достигает нашего. Его картины похожи на иллюстрации; только он
делает на сорока футах длины и с персонажами в натуральную величину то,
что мы стараемся сделать на пространстве одного фута с фигурами в
палец величиной. Всеобщая жизнь вещей занимает его больше, нежели
обособленная жизнь тела; он выходит за рамки художественных и
пластических правил, он подчиняет отдельный персонаж ансамблю и частную
подробность общему эффекту. Он чувствует потребность представить не
такого-то стоящего или лежащего человека, а момент из жизни природы
или истории. Он точно захвачен чем-то извне; он подчинен некоему
образцу, который им овладел, которым одержим и в который верит.
Вот почему его новизна беспримерна. В сравнении с ним, все другие
художники только копируют самих себя; перед его же картинами
постоянно испытываешь изумление и спрашиваешь себя, где он обрел это, -
в каком неведомом, фантастическом и все же реальном мире. На «Тайной
вечере» центральная фигура - коленопреклоненная девушка крупного
телосложения, голова которой - в тени, а плечо - на свету; она держит
тарелку с бобами и несет кушанье; кошка пытается взобраться на ее
корзину. Вокруг буфет, слуги, кувшины и вереница учеников окаймляет
перпендикулярно длинный стол. Это ужин, настоящий ужин, вечером:
вот основная мысль художника. Над столом светит лампа, и голубоватое
сияние луны падает на головы. Но сверхъестественный мир является
отовсюду: в глубине, в небесном просвете,-в виде хора лучезарных
ангелов, направо - роем ангелов бледных, кружащихся в ночной тени.
Смело и с необычайной степенью правдоподобия оба мира,
божественный и человеческий, проникают один в другой и образуют одно целое.
Когда этот человек читал в Евангелии какой-нибудь технический
термин - это был для него материальный предмет, со своими особыми
деталями, который он невольно видел и невольно передавал. Святой Иосиф
• 283 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
был плотник, - и тотчас же, чтобы изобразить Благовещение, Тинторет-
то представляет настоящий дом плотника: снаружи - навес для работы
на открытом воздухе, нагромождение станков, наваленный строевой
и столярный материал, сложенный в кучу, прибранный и прислоненный
к стене, пилы, рубанки, веревки, и работника за работой; внутри -
большую постель с красными занавесями, соломенный стул, ивовую
колыбель младенца, женщину в красной юбке, могучую плебейку,
изумленную и испуганную. Фламандец не скопировал бы точнее беспорядка и
обыденного строя простонародного быта. Но порывистость
сопровождает всегда его обстоятельные и яркие видения. Гавриил, со стаей
кружащихся мятежных ангелов, устремляется сквозь двери и окно;
недостроенный дом, кажется, рухнет от их напора; это ярость вторжения - так
голуби возвращаются вихрем на голубятню. Они все сразу
устремляются к Леве Марии. По этому несоразмерному и необузданному движению
судите о непреодолимом взрыве, с каким бурлящие идеи
развертывались в его уме. Ни один художник не любил, не чувствовал и не
передавал так движения. Все его фигуры опрокидываются и устремляются.
У него есть «Воскресение», где нет ни одной фигуры в равновесии: ангелы
являются сверху, головою вперед; Христос и святые плавают в воздухе.
Атмосфера аая него - упругий и осязаемый флюид, который
поддерживает в себе тела и дозволяет им принимать всякое положение, как вода
рыбам. Когда ему выпадает случай рисовать бурную сцену, как в
«Медном змии» или в «Избиении младенцев», - это какое-то исступление.
Женщины схватывают голой рукой мечи палачей, скатываются вниз с
высокой террасы, прижимают своих малюток к груди в животном порыве,
валятся на них, прикрывая их своим телом. Пять или шесть
нагроможденных друг на друга тел женщин и детей, раненых, умирающих, живых,
образовали копну. Все пространство покрыто путаницей голов, членов
человеческого тела, торсов, падающих, бегущих, сталкивающихся,
шатающихся, как в пьяном беспорядке; это бешеная вакханалия отчаяния.
По соседству, на гористой крутизне, змеи с собачьими головами
охотятся в чудовищном смешении опрокинутых и свалившихся в кучу людей.
Один, уже почерневший, умирает с воем, лежа на спине; его члены
раздулись от яда, мускулы сведены конвульсиями, грудь выпятилась и
напружилась, голова откинулась назад. Агонизирующие истекают кровью
и бьются; один лежит на боку, другие еще стоят, окоченелые, опустив
голову, у иных вздернуты ноги, а руки загнуты назад. Все это свинцово-
бледное, с проступающими тенями смерти; все рушится и валится, как
•284-
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
человеческая лавина, по откосу пропасти. Здесь художник в своем
царстве; он блуждает в грандиозности невозможного. Он видит слишком
много сразу - сорок, шестьдесят, восемьдесят фигур, восстающих,
перепутанных, нагроможденных, вместе со всем окружающим, в
трагической тьме и свете. Посмотрите на его другого «Христа, исцеляющего
больных», в церкви Святого Роха: тут нет ни неба, ни далей; кроме крыши
и четырех стволов ионических колонн, все остальное - тела и копны тел,
нагие спины и груди, головы, бороды, плащи и тряпье, чудовищный,
кишащий беспорядок мужчин и женщин, опрокинутых, опирающихся
друг на друга и протягивающих руки к Христу Спасителю. Одна
женщина, лежащая на спине, подымает на него глаза, чтобы просить его
помощи. Огромный торс агонизирующего тянется и валится на кучу
тряпья, в последнем усилии приблизиться к исцелению. Там и сям
выделяются в свете прекрасные лица умоляющей супружеской четы, лысые
черепа старых солдат, мускулистые груди и большие бороды, как у
речных божеств. На переднем плане - колоссальный слуга, похожий на
носильщика или атлета, напрягает свои мускулы и сгибает поясницу,
чтобы унести груду тряпья. Другой - старый гигант, почти нагой, - сидит
у колонны; его ноги повисли, у него покорный вид, как у старого
обитателя больницы; его красная и дряблая кожа морщится по всем
извилинам мускулов; он ждал уже целые годы и может прекрасно подождать
еще; он мечтает на вольном воздухе, чувствуя солнечные лучи, греющие
его старую кровь.
По этой склонности к реальному и к колоссальным размерам, по
этим резким контрастам света и теней, по этой пылкости, увлекающей
до последних пределов мысли, по смелости, заставляющей его
раскрывать свою идею целиком, Тинторетто - наиболее драматический из всех
художников. Делакруа должен был бы приехать сюда; он встретил бы
здесь одного из своих предков, столь же восприимчивого, как и он, к
острой правде, к необузданной страстности, к эффектам целого, к
моральному могуществу красок, но более здорового, более уверенного в своей
руке и воспитанного более художественным веком в более широком
понимании физического величия. Ни одна картина Делакруа не оставляет
столь мучительного впечатления, как «Святой Рох среди зачумленных».
Они томятся в обширной сумрачной темнице, вроде античной эргасто-
лы, где железные брусья, ошейники и натянутые цепи разбивают и
изводят члены в медленной и продолжительной пытке. Святой
появляется; один несчастный, прикованный за шею, поворачивает к нему свою
• 285 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
скрюченную голову; другой, из глубины перегороженной решетки ямы,
прижимает лицо к прутьям. Багровые и изборожденные мускулами
хребты, грудь цвета ржавчины, головы, бурые, как львиные гривы, белые
сияющие бороды выступают из погребального мрака. Но выше, в угольно-
черной тени, реют пленительные фигуры, одежды серебристого шелка,
бледно-фиолетовые туники, русые лучезарные волосы: это явление
ангельского хора.
Когда обойдешь церковь и два этажа Скуолы, остается посетить еще
одну большую залу - «Albergo»; ее стены и плафон Тинторетто также
покрыл своей живописью. Можно говорить себе, что устал, обвинять
художника в чрезмерности и излишествах, чувствовать, что эти сорок
необъятных картин написаны слишком быстро и скорее намечены, чем
исполнены, что он истощает силы зрителя и свои. Вы входите - и вы
обретаете в себе еще новые силы, потому что он вам их дает, вопреки вашей
воле. Опрокинутые фигуры девственниц и жен парят в кессонах потолка,
и их могучая красота, пышная округлость тел, утопающих в тени,
раскрываются в невыразимом богатстве тонов. На стене развернулось
Несение креста по извилистой крутизне горы; Христос с веревкой на шее,
влекомый впереди, и варварская процессия взбирается на скалы, со
скорбным и яростным стремлением «Страстей» Рубенса. С другой
стороны - бедный Христос стоит перед Пилатом, и длинный белый саван,
окутывающий его всего, выделяется своим погребальным цветом на
черных тенях строений и на кровавом пурпуре, в который одеты
присутствующие. Над дверями - багровый, окоченелый труп лежит
посреди солдат и меж широких красных одеяний судей. Но все это только еще
аккомпанемент. Целый кусок зала - стена длиной в сорок футов и
соответствующей высоты - исчезает под его «Распятием». Тут целый десяток
сцен в одной сцене, согласованных между собою, чтобы составить одно:
восемьдесят персонажей, рассеянных и сгруппированных, горбатое
скалистое плато у подножия горы, деревья, башни, мост, всадники,
каменистые вершины и дали, бесконечный коричневый горизонт. Нет глаза,
который охватывал бы подобные ансамбли или мог скомбинировать
подобные эффекты. В центре -Христос, пригвожденный к стоящему
кресту, его голова поникла, темнея в рыжем сиянии его нимба. За
крестом - лестница, и палачи взбираются на нее, протягивая губку. У
подножия креста ученики и женщины, стоя, взмахивая руками, преклоняя
колена, кричат и плачут; Богоматерь падает в обморок, и все эти тела
женщин, склоненных, шатающихся, падающих, в широких красных,
•286·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
Тинторетто. Шествие на Голгофу. Скуола ди Сан Рокко в Венеции
•287·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
розовых, рыжих и синих одеждах, с солнечными бликами на шее и
подбородке, образуют блистательнейшую похоронную процессию. Как
грандиозная гармония, создаваемая волнующим и звучным пением, эти
окрестные толпы и сцены окружают главную сцену своим
разнообразием и трагическим великолепием. Слева один из двух разбойников уже
привязан к своему кресту и его подымают; верхняя часть его туловища
сияет в свету; остальное - в тени. Пять или шесть палачей тянут канаты
и поддерживают поднимающих, напрягая и пуская в ход все силы и все
старание грубой мускульной машины. Свет пересекает наискось их
бледно-розовые и полосатые кафтаны, коричневые сухожилия их шей и
вздувшиеся жилы на лбу. Тут же их снаряжение - топоры, пики, клинья,
массивная лестница, - и у вершины креста, в прекрасной сияющей тени,
равнодушный любопытный смотрит, нагнувшись с лошади... На другой
стороне, с равной пышностью и разнообразием, развертывается
зрелище третьей казни, подобно хору, отвечающему другому хору. Крест лежит
на земле; к нему привязывают казнимого; один палач приносит веревки,
другой, атлетического и великолепного телосложения, напрягая свое
искривленное плечо, сверлит буравом перекладину креста; у подножия
плато сидит любопытствующий старик: это зрелище его интересует - он
наклонился, полулежа, в своем красном платье, а возле него на серой
лошади какой-то проходимец в колпаке, большой рыжий бездельник, весь
на свету, согнулся, чтобы дать полезные указания. За этими тремя
сценами разливается, распределенная по пяти или шести планам, в
бесконечном разнообразии форм и цветов, широкая и пышная гармония
масс: присутствующие всех сортов, небольшие побочные сцены,
могильщики, роющие ямы для казненных, лучники, бросающие в лощине
жребий о туниках, священники в просторных одеждах, военные в кирасах,
всадники, щегольски одетые и в горделивых позах; длинные одежды
евреев и доспехи знати, изящные и гордые кони в розовых и бурых
попонах; оранжевые и зеленые юбки женщин, контрасты бледных и ярких
тонов, простонародных лиц и аристократических голов, мучительных
положений и беспечных поз - все это в таком обилии света, в таком
торжественном расцвете гениальности и удачи, что отсюда уходишь, как из
слишком богатого и звучного концерта, полуоглушенным, потеряв меру
вещей и не зная, верить ли своим впечатлениям.
•288·
ВЕНЕЦИАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ
1 мая
Я купил гравюру Агостино Карраччи; он дает только остов картины
и даже его искажает. Я ходил сегодня еще раз взглянуть на картину. По
второму разу она производит несколько меньшее впечатление: эффект
ансамбля и первого взгляда слишком важен в глазах Тинторетто, и он
подчиняет ему остальное; его рука слишком быстра; он следует
слишком охотно своей первой идее. В этом он ниже великих мастеров; он
создал только два цельных творения: свои мифологические картины
Дворца дожей и «Чудо святого Марка».
2 мая
Когда, расставшись с этой живописью, пытаешься уловить идею
целого, находишь в себе лишь одно впечатление: звучный и сладостный
отклик полного наслаждения. Кончик обнаженной ноги, выступающий
из-под золотисто-яшмового шелка, жемчуг, молочный блеск которого
трепещет, касаясь снежно-белой шеи, горячий румянец бытия,
выступающий в прозрачной тени, чередование и смена светлых и темных пятен,
обрисовывающих мускулистую волнистость тела, столкновение и
согласие двух телесных тонов, взаимо-проникающих и преобразующих друг
друга в смене своих рефлексов, дрожащий свет, обрамляющий темное
пространство, пурпуровое пятно, оживляемое зеленым тоном, -
короче, богатая гармония, рождающаяся от цветов, выделяемых,
противополагаемых и сливаемых, как концерт рождается от инструментов, и
тешащая зрение, как концерт тешит слух. Вот единственный в своем роде
дар. Этой творческой способностью формы оживлены; рядом с ними
все другие кажутся абстрактными. В других местах отделяли тело от его
среды, упрощали его и ограничивали; забывали, что контур не более
чем граница цвета и что для глаза цвет есть сам предмет. Ибо, если только
этот глаз чувствителен, он ощущает в предмете не только уменьшение
блеска пропорционально уходящим вглубь планам, но также изобилие
и смесь тонов, общую синеватость, возрастающую вместе с расстоянием,
бесконечное множество рефлексов, перекрещивающихся и ложащихся
один на другой от различных освещенных предметов с различной
окраской и яркостью - всю непрерывную вибрацию окружающей атмосферы,
где носятся неуловимые оттенки радуги, мерцают зарождающиеся
воздушные струйки, распыляются бесчисленные атомы, где беспрестанно
колеблются и тают ускользающие облики. Внешность вещей, как и
внутренняя их сторона, есть не что иное, как движение, обмен, перемена,
• 289 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и это сложное трепетание есть жизнь. Отправляясь от этого, венецианцы
оживляют и согласуют между собою бесчисленные тона, сливающиеся,
чтобы образовать цвет; они делают ощутимым взаимное
проникновение, посредством которого тела сообщают друг другу их рефлексы; они
усиливают ту мощь, с какой предмет воспринимает, отсылает,
окрашивает, гасит, приводит в гармонию бесчисленные световые лучи, на него
падавшие, - как человек, который, натягивая слабо висящие струны,
тем самым повышает их вибрирующие свойства, чтобы довести до
наших ушей звуки, которые наш грубый слух без этого не может уловить.
Они разоблачают, таким образом, и возвышают видимую сущность
вещей; из реальных они делают их идеальными: вот поэзия, рождающаяся
на наших глазах. Прибавьте к этому поэзию формы и ту гениальность,
с которой они создают цельный, непосредственный, оригинальный тип,
промежуточный между флорентийским и фламандским, утонченный
в неге и сладострастии, возвышенный в силе и стремлении, способный
передавать облики гигантов, атлетов, царей, императриц, носильщиков
и куртизанок, фигуры самые реальные и самые идеальные, так что он
сливает в себе все крайности и может соединить в одном и том же
персонаже самое пленительное чувственное очарование и самое возвышенное
величие, грацию, почти столь же обольстительную, как у Корреджо, с
более здоровой натурой и более крепким телосложением, поток бытия,
почти столь же полный свежести и почти столь же могучий, как у Рубенса,
с более прекрасными формами и более правильным ритмом, энергию,
почти столь же колоссальную, как у Микеланджело, но без мучительной
напряженности и бурного отчаяния, - и судите теперь о месте, которое
занимают венецианцы между художниками. Не знаю, уступаю ли я
какому-нибудь личному пристрастию, если предпочитаю их всем. ЛУ
VIII
ЛОМБАРДИЯ
Церковь Сант Амброджо в Милане. Фотография 1890-х годов
ВЕРОНА
2 мая 1864, Верона,
цирк, церкви
II О ВЫЕЗДЕ из Венеции поезд, кажется, идет по
воде; море блестит справа и слева и морщится
в двух шагах от колес вагонов; потом растут
пески между зеркальных луж; лагуна
сокращается; большие канавы поглощают остатки воды
и осушают почву Бесконечная равнина зеленеет
и покрывается насаждениями; всходят, полные
свежести, новые посевы; распускаются
виноградные лозы; по склонам холмов красивые сельские дома греются на
южном солнце. Но на севере, между огромной зеленой равниной и
огромным голубым куполом, Альпы щетинят свою черную стену скал, свои
башни и разбитые бастионы, подобные развалинам крепостной ограды,
разгромленной пушками, свои извилины, откуда струятся бледные дымы,
и свой зубчатый снежный венец.
Спустя час въезжаешь в Верону - унылый провинциальный город,
мощенный мелким булыжником, заброшенный. Многие улицы
пустынны; на краю мостов кучи нечистот мокнут в воде. Остатки старых
скульптур и грязных арабесок тянутся там и сям по фасадам; видишь город,
некогда процветавший и теперь пришедший в упадок.
Под наростом прилипившихся гнилых лавчонок и лачужек старый
римский цирк, самый большой и лучше всего сохранившийся, после
римского и нимского, возносит свою мощную дугу. Он вмещал в последнее
время пятьдесят тысяч зрителей; когда же он был снабжен деревянными
галереями, он мог, я думаю, принять и до семидесяти тысяч. Все
население целого города находило себе здесь место. По своей структуре и по
своему назначению цирк представляет характерную черту римского
гения. Его громадные камни, длиною здесь в шесть футов и шириною в три,
его гигантские круглые своды, его этажи аркад, опирающихся одни на
другие, в состоянии, если предоставить их самим себе, стоять до конца
света. Архитектура такого качества имеет прочность натурального
предмета: здание, при взгляде на него сверху, выглядит погасшим вулканом;
если хотят строить, то вот как нужно строить,- я подразумеваю, аая
вечности. Но, с другой стороны, этот грандиозный памятник здравого
смысла есть учреждение аая постоянного убийства. Мы знаем, что он
• 293 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
доставлял гражданам города непрерывное зрелище ран и смерти, что,
при избрании какого-нибудь дуумвира или эдила, эти кровопролитные
игры составляли главный интерес и главное занятие муниципального
центра, что кандидаты и магистраты умножали их за свой счет, чтобы
снискать народное благоволение, что благодетели города завещали
крупные суммы курии,чтобы продлить их,что в каком-нибудь захолустье,
вроде Помпеи, благодарный дуумвир выпускал биться тридцать семь
гладиаторских пар в одно представление, что воспитанные, ученые,
гуманные люди присутствовали при этих избиениях, как мы на какой-нибудь
комедии, что это развлечение было регулярным, всеобщим,
официальным, модным, что в цирк шли, как мы идем в театр, в клуб или кафе. В те
времена находишь душевный строй, который нам больше незнаком, -
психологию человека, воспитанного гимнастикой и войной. Это значит -
привыкшего совершенствовать свое тело и покорять людей, доведшего до
законченности свои прекрасные учреждения, предназначенные для
войны и для телесной культуры, прошедшего сквозь упражнения палестры
и героизм города, чтобы кончить праздностью бань и жестокостью цирка.
Всякая цивилизация вырождается в том же направлении, как и
расцветает. У нас, христиан, спиритуалистов, проповедующих мир и
культивирующих свое сознание, существуют страдания умственной и буржуазной
жизни, упадок мускульной силы, раздражение мозга, наши маленькие
комнатки на четвертом этаже, наши привычки сидячей и искусственной
жизни, наши салоны и театры.
Этот цирк-только обломок: следы Рима слабы на севере Италии;
оригинальность и главный интерес этого города - в его памятниках Средних
веков. Они производят странное впечатление, потому что итальянское
Средневековье сложно и двойственно. Большая часть церквей - Санта
Анастазия, Сан Фермо Маджоре, Собор, Сан Лзено - особого стиля,
именуемого «ломбардским», промежуточным между стилем итальянским
и готическим, как будто латинские и германские зодчие сошлись, чтобы
сопоставить и согласовать свои идеи в одном и том же здании. Но это
творчество искренно: во всех памятниках первоначальной эпохи
чувствуется живая изобретательность раскрывающегося ума. Среди всех этих
церквей Собор можно принять за образец: это здание, подобно старым
базиликам, представляет собою дом, на котором стоит другой дом,
поменьше, причем оба они увенчаны щипцом. Узнаешь античный храм,
надстроенный, чтобы держать на себе другой храм. Прямые линии идут
вверх попарно, параллелями, как в латинской архитектуре, и заверша-
•294·
ЛОМБАРДИЯ
ются углами. Однако эти линии более гибки и эти углы острее, нежели
в литинскои архитектуре; пять надстроенных одна над другой башенок
заостряют их еще более. Ясно, что новый дух ценит менее прочную
основу, чем смелый порыв; старые формы ограничиваются в своем
значении и видоизменяются под его рукой. Ряд маленьких колонок и два
бордюра круглых, вправленных в стену аркад, прилаженные к фасаду,
представляют собою только незначительное украшение - наследие
оставленного искусства, как рудиментарные кости руки у кита или у
дельфина. Во всем виден этот двойственный дух двенадцатого столетия -
остатки римской традиции и выступление нового творчества, изящество
уцелевшей архитектуры и неуверенные поиски нарождающейся
скульптуры. Выступивший вперед портик повторяет простые линии общего
строя, и его колонки, несомые грифонами, наслаиваются
последовательными рядами, как узлы на веревке. Этот портик оригинален и мил,
но его сидящие на корточках фигуры, его группа вокруг Богоматери -
это обезьяны, страдающие водянкой головы.
Внутри господствуют готические формы, еще не завершенные, но
уже намеченные и христианского духа. Я не могу отрешиться от мысли,
что стрелки, дуги, завитки одни могут придать храму
возвышенно-мистический характер; если их нет, он не смотрится христианским, и он
становится таким, лишь только они начинают показываться. Что до
здешнего, то он отмечен уже печальным величием, точно первый акт трагедии.
Пучки маленьких колонн сплетаются в красные столбы, подымаются
к капителям, увенчанным тройной короной цветов, развертываются
аркадами, перевитыми изгибами, и заканчиваются у боковых стен
последними стеблями. По бокам стрелки капелл окутаны покровом листвы
и сложных украшений, соединенных на вершине башенкой, со
статуэткой наверху. Большая часть фигур отмечена строгим целомудрием и
чистосердечной, но слишком подчеркнутой экспрессией пятнадцатого
века. В глубине храма заалтарные хоры, построенные Санмикели,
выгибают вплоть до самого нефа свой пояс ионических колонн. Различные
эпохи выказывают себя здесь в различных украшениях здания; но общая
его структура и крупные формы сохраняют в целом суровую наивность
и живую оригинальность первоначального творчества. И с удовольствием
созерцаешь здоровое архитектурное создание, совсем особенного вида,
какого не найдешь нигде в другом месте.
Когда стараешься по другим, подобным же церквам определить
господствующий здесь тип, то находишь два поставленных один на другой
•295 ■
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
щипца, как в Пизе и в Сиене, и острые башенки, которых в Пизе и в
Сиене нет. Это сочетание - единственное в своем роде: поверх толстых стен
и изящных линий эти башенки, почти черные и покрытые заржавевшей
чешуей, топорщат в небесной лазури свои железные острия; скажешь,
что это остатки панциря допотопных животных. Иногда целый хоровод
таких башенок теснится вокруг центрального конуса или громоздится
по всему гребню и по углам крыш; красноватый тон кирпичей, из
которых построено здание, еще больше выделяет странность этих колючих
рыжих форм. Это единственная в своем роде растительность, похожая на
острые сосновые шишки, старательно окрашенные темной охрой. Она
свойственна этой стране. Между исчезающей римской аркой и
нарождающейся готической стрелкой такая архитектура в течение двух или трех
столетий собирала вокруг себя симпатии людей. Они открыли ее при
первом своем шаге из варварского быта, и множество черточек дают
почувствовать это исходное варварство. На портале церкви Санта Анастазия
некоторые головы - величиною в половину туловища; у других нет шеи
или вывихнут затылок; почти все уродливо-смешны; у одного Христа на
кресте - лягушачьи лапки, разбитые и изогнутые. Но века проходят и
освобождают искусство от пеленок: в позднейших капеллах скульптура
становится уже взрослой. Санта Анастазия полна фигур пятнадцатого
столетия, иногда немного тяжелых, немного неуклюжих, немного
слишком реальных, но столь выразительных, что мастерство скульпторов
отступает на второй план перед этой живой неправильностью. В хорах
терновый куст и большие распустившиеся цветы, высотою в двадцать пять
футов, окутывают гробницу, на которой выделяются фигуры грубых
воинов. В капелле Минискалько, среди узоров изящных арабесок, видишь
стоящими попарно друг над другом, между красных колонок, несущих
на себе карниз, четыре статуэтки: юноша, молодая девушка, немного
худая, крайне целомудренного выражения, и двое лысых ученых, с круто
срезанными черепами, - все похожие на фигуры Перуджино. Капелла
Пеллегрини, отделанная терракотой, представляет собою большую
многочастную скульптурную композицию, где евангельские сцены
нанизываются и чередуются с удивительным богатством и оригинальностью
воображения; две вереницы изолированных фигур, каждая под стрельчатой
украшенной башенкой, отделяют различные сцены, и каждая сцена
заключена в рамку витых колонок с капителями аканфа. В этом убранстве,
столь грациозном и богатом, среди этих полуготических и
полугреческих фантазий, встречаешь, вместе с прекраснейшей стройностью нового
•296·
ЛОМБАРДИЯ
искусства, самую искреннюю и наивную выразительность: детски
невинных Мадонн, улыбающихся в их красоте, святых жен, плачущих с
трогательным самозабвением истинной печали, юные гибкие и благородные
тела, в которых ощущение жизненности человеческой фигуры
выказывается со всею искренностью нового открытия, святого Михаила в латах,
гордого и простого, как античный эфеб. Никогда скульптура не была
более плодоносной, более непосредственной и, на мое впечатление, более
прекрасной, чем в пятнадцатом столетии.
Нанимаешь фиакр и велишь везти себя на край города, к Сан Дзено -
самой любопытной из здешних церквей, начатой сыном Карла Великого
и реставрированной германским императором Отгоном I, но почти
полностью принадлежащей двенадцатому веку. Некоторые части -
например скульптуры одной двери - восходят к еще более старым временам;
кроме как в Пизе, я нигде не видал таких варварских [созданий]. Христос
у колонны похож на медведя, лезущего на свое дерево; судьи, палачи,
персонажи других сцен напоминают грубые карикатуры, похожи на
немецких увальней в длинных одеяниях. В другом месте у Христа на троне
нет черепа, все лицо съедено подбородком; глаза удивленные,
выпученные, как у лягушки; вокруг него ангелы с крыльями - это летучие мыши
с человеческими головами. Везде головы огромны,
диспропорциональны, жалкого вида; под плохо расчлененной верхней частью туловища
болтаются раздутые животы. Все эти фигуры плавают в воздухе, на
разных планах, самым нелепым образом, как будто скульптор и литейщик
хотели возбудить смех. Так низко упало искусство за время декаданса
эпохи каролингов и венгерских нашествий. Внутри церкви следишь за
странными или причудливыми приемами колеблющегося духа, который
из глубин своей тьмы замечает сомнительный луч дня. Крипта девятого
века, низкая и мрачная, представляет собою лес колонн, увенчанных
уродливыми фигурами; еще более уродливые скульптуры покрывают алтарь.
В этот влажный погреб приходили молиться у гробницы святого, чтобы
он отвратил опустошителей и ревущую конницу, оставлявшую всюду за
собою пустыни. Выше,в самой церкви, оригинальный алтарь
поддерживается сидящими на корточках зверями, похожими на львов; из их
туловищ красного мрамора выходят четыре колонки того же мрамора,
которые на половине своей высоты изгибаются и переплетаются между собою,
как змеи; потом, связавшись в этот узел, они принимают вновь прямое
направление, вплоть до своей коринфской капители. Дальше Христос
и апостолы из цветного мрамора, фрески четырнадцатого столетия, святой
•297 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Георгий со своим щитом с гербом, Магдалина, одетая одними волосами,
разместились по стенам: одни - тощие и безобразные, как куклы,
вырезанные из дерева, другие - важные, окутанные в широкие одеяния в складках,
с иератической строгостью и возвышенностью. Как медленно
подвигается прогресс, и сколько веков нужно человеку, чтобы понять человеческую
фигуру!
Архитектура - это более простое искусство, в то же время и более
раннее. Она довольствуется несколькими линиями, изогнутыми или
прямыми, несколькими симметрическими и хорошо разработанными
планами; она не требует, подобно скульптуре, понимания зыбких округлостей,
изучения самых сложных и выгнутых овалов. Простые люди, живущие
немногими сильными чувствами, уже могут получить от нее впечатление
и проявить себя в ней; может быть, даже она есть по преимуществу
свойственная им форма выражения. В самом деле, именно в полуварварские
эпохи, во времена Филиппа-Августа и Геродота, она нашла
оригинальные формы, а завершенная цивилизация, вместо того чтобы поддержать
и развить ее дальше, подобно другим искусствам, скорее сделала ее
беднее и испорченнее. Внутри, как и вовне, Сан Дзено - высокого характера,
простого и строгого; здесь видишь римскую базилику, ставшую
христианской. Центральный неф опирается на круглые колонны, варварские
капители которых, покрытые листьями, львами, собаками и змеями,
поддерживают линию дугообразных аркад; над этими аркадами возвышается
голая стена, несущая на себе свод. Δο сих пор композиция храма
латинская; но неф своей чрезвычайной высотой пробуждает в душе
религиозное волнение. Его странный плафон представляет собою тройную
решетчатую кровлю темного дерева, с вкрапленными маленькими квадратами,
с белыми и золотыми звездами, уходящую вглубь рядами своих щелей,
в неожиданной и дикой фантастичности. Внизу пол нефа, опущенный
ниже портала и хоров, соединяется с ними высокими лестницами с
балюстрадами, и это различие уровня нарушает и осложняет очертания всех
линий. Капризное воображение Средневековья начинает вплетаться в
правильный распорядок античной архитектуры, нарушая ее планы,
умножая формы и преобразуя эффекты.
Скалигеры, Пъяцца, Музей
То же самое воображение царствует, но на этот раз уже самовластно
и неограниченно, в окруженном железною решеткою пространстве,
расположенном возле церкви Санта Мария Антика, которое представ-
•298·
ЛОМБАРДИЯ
ляет собою любопытнейший памятник Вероны. Тут находятся
гробницы старых властителей города, Скалигеров, которые, будучи
последовательно или даже одновременно тиранами и воинами, политиками и
учеными, убийцами и изгнанниками, великими людьми и братоубийцами,
явили собою, подобно государям Феррары, Милана и Падуи, примеры
той могучей и безнравственной гениальности, характерной для Италии,
которую Макиавелли описал в своем «Государе» и поставил в театре
в своей «Жизни Каструччо». Пять первых гробниц (1277, 1301, 1304,
1311, 1359) отмечены простотою и неуклюжестью героических времен.
Кажется, что человек, после того как он бился, убивал и строил новое,
не требовал от своей гробницы ничего, кроме места аая сна;
выдолбленная скала, укрывающая теперь его кости, так же прочна и груба, как
железные доспехи, защищавшие некогда его тело. Это огромный и
массивный чан необработанного камня и из одного куска красного цвета,
опирающийся на три коротких мраморных столба. Сплошная плита, толстая
и без всяких украшений, служит крышкой и, как говорит Гамлет, «тяжкой
челюстью» гробницы. Это настоящий надгробный монумент -
чудовищный, грубый сундук, созданный аая вечности.
Из этого мира дикости, где развернулись на свободе жестокости Эч-
челино и его истребителей, вырастает искусство. Ланте и Петрарка
были приняты при этом дворе, ставшем просвещенным и
великолепным; готический стиль, переваливший через горы в Милане и повсюду
наложивший свою печать на итальянскую архитектуру, развернулся во
всей своей чистоте и законченности в монументах последних синьоров.
Две из этих гробниц, особенно гробница Кангранде (1375), так же
драгоценны в своем роде, как соборы Милана и Ассизи. Богатое и тонкое
разветвление извивающихся, обточенных и заостренных форм,
превращение тяжелой материи в филигранное кружево, множественность
и сложность - вот к чему стремится новый вкус. У подножия памятника
маленькие колонны со странными капителями связаны между собою
каким-то тюрбаном с гербами и поддерживают платформу с покрытой
украшениями гробницей и спящей статуей умершего. От этого основания
устремляется ввысь круг других колонн, вырезанные трилистником
аркады которых сплетаются в купол, увенчанный фонарями и башенками
с резными цветами, острыми и густыми, как терновый кустарник. На
вершине - Кангранде, верхом на своем коне, кажется венчающей
статуэткой ювелирного изделия. Процессии изваянных фигурок одевают
гробницу. Шесть статуэток в доспехах, с непокрытой головой, стоят на
• 299 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
выступах платформы, и каждая ниша второго этажа укрывает в себе
фигуру ангела. Все это собрание и вся эта цветущая растительность
высятся пирамидой, как букет в вазе, и небо блистает сквозь бесчисленные
прорезы всего сооружения. Для довершения впечатления каждая
гробница в отдельности и все это место в целом заключены в одну из тех
оригинальных, мелко разработанных решеток, которыми тешилось
средневековое искусство, - в некую сеть арабесок, вышитую узорами
четырехлистника, заостренную железными алебардами, увенчанную
листвой терновника с тройным шипом. Именно в эту сторону -
расточительности и сплетения капризных и гибких форм - было целиком
обращено тогда воображение. В самом деле, эти фигуры, хотя очень
пропорциональные, вовсе не идеальны. Кангранде - не более как воин, много
упражнявшийся в своем ремесле; у статуэток в доспехах вид угрюмого
пономаря, столь нередкий у средневековых скульптур. Мадонна,
изваянная в рельефе на гробнице, - полнотелая крестьянка, наивная и
нелепая, а у маленького Иисуса - большая голова, тощие конечности и
раздутый живот реальных малышей, которые занимаются только тем, что
сосут грудь, спят и ревут. Мастер умеет лишь копировать рабски и уныло
человеческий облик: его творчество расточается на иное. Я думал здесь
по контрасту о двойной гробнице эпохи Ренессанса, которую я только
что видел в ризнице Сан Фермо Маджоре, - гробнице Джеронимо Тур-
риано, столь простой, изящной, полной столь радостного и здорового
воображения, где колонки умеренно-массивны с умеренно-широкими
каннелюрами, где белизна мрамора оживлена рыжим тоном бронзы, где
сфинксы, фавны и нимфы мелькают на барельефах между цветов. Нельзя
не сознаться, что средневековое искусство, столь изобретательное и
могучее, страдает в то же время какой-то принужденностью и
неуверенностью. Говоря по правде, это больное искусство; радостный и
уравновешенный дух не примирился бы со столь мелочной, столь вымученной,
столь хрупкой орнаментикой, которая, кажется, не может держаться сама
по себе и нуждается в футляре для своей охраны. Но мы требуем от
памятников архитектуры прочной основы и самостоятельного бытия.
Воображение утомляется, вися постоянно в воздухе, искажая свой полет,
зацепляясь за эти острия, уколотое этими стрелками. И уходишь, чтобы
еще раз взглянуть на Пьяцца деи Синьори, где хорошенький небольшой
дворец эпохи Возрождения опирается на портик с аркадами и
коринфскими капителями. Любуешься на изящество его колонок и элегантные
овалы его балюстрад. Подымаешь глаза на скульптурные украшения,
•300·
ЛОМБАРДИЯ
Гробница Кангранле Скалигера. Церковь Санта Мария Антика в Вероне.
Фотография 1890-х годов
змеящиеся по углам и по выступам окон, - на эти ветви, отягощенные
листвою, на высокие цветы, поднимающиеся из амфоры, на римские
кирасы, рога изобилия, медальоны, все эти формы и эмблемы, какими
только захотел бы окружить себя художник, чтобы превратить свою
жизнь в праздник. Созерцаешь две статуи в нишах в форме раковин:
Богоматерь, которая, подобно Мадонне в «Страшном суде» Микеланджело,
отшатывается, склоняясь набок с флорентийским изяществом. Мне
кажется, что именно в этом состоит удовольствие путешествия:
возвращаешься к своим идеям, чувствуешь, что они укрепились, что они
развиваются и непрерывно поправляют одна другую, так что новые города
являют уму новые облики тех же самых вещей.
•301 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Но усталость дает о себе знать; я видел слишком много картин в
Венеции, чтобы говорить о здешних. Между тем и здесь есть пинакотека во
дворце Помпеи, полная творений веронских мастеров. Несколько
примитивных художников - Фальконетти, Туроди, Кривелли - развешаны
в хронологическом порядке. Один из них, Паоло Моранда [Каваццола],
умерший в 1522 году, наполнил целый зал своей живописью, немного
угловатой, реальной, чрезвычайно законченной, где помимо фигур,
скопированных с натуры, прекрасные ангелы, увенчанные лаврами, возвещают
близость идеальных форм, тогда как блеск колорита и умелая градация
оттенков выказывают венецианский вкус. Следовало бы пересмотреть всех
этих художников: они представляют собою начатки местной флоры; но
есть дни, когда тяжело всякое усилие внимания, когда способен только
воспринимать удовольствие. Оставляешь в стороне предтечей и
направляешься к двум-трем созданиям мастеров. Одно из них - картина Бони-
фацио [деи Питати], представляющая сдачу Вероны дожу, сверкающая
и декоративная, где откровенное подражание реальной жизни оживлено
и украшено всем великолепием красок. Синьоры, одетые, как во
времена Франциска I, в белый, блестящий и пестреющий цветами шелк,
являются рядом с дожем, тогда как на другой стороне, где сидят советники,
струятся пышные волны широких красных одеяний. Костюм так
прекрасен в ту эпоху, что он уже сам по себе дает материал аая живописи; во
все времена одежда есть самое непосредственное и самое выразительное
из созданий искусства, ибо она указывает на то, как человек понимает
прекрасное и как он хочет украшать свой обиход; если он сам не
живописен, знайте, что у него нет художественных вкусов. Когда люди в
самом деле любят картины, они начинают делать картины из своих особ;
вот почему эпоха пальто и черных одежд малоблагоприятна для
пластических искусств. Сравните с нашими одеяниями благопристойных
гробовщиков или инженеров-утилитаристов великолепный портрет Пазио
Гварьенто работы Паоло Веронезе (1556). Он стоит в своих стальных
доспехах, опоясанный черными лентами и в золотых галунах. Его шлем, его
перчатки и копье - возле него. Это человек действия, бодрый и веселый,
хотя уже старый; его борода поседела, но щеки слегка багрового оттенка,
свидетельствующего о жизнерадостных привычках. Его военная помпа
и простодушное выражение отвечают друг другу; все согласовано в этом
человеке - внешность и внутреннее содержание. Он создает свой
костюм, меблировку, свой дом и всю внешнюю обстановку сообразно своим
внутренним потребностям; но в конце концов эта обстановка и сама дей-
•302 ·
ЛОМБАРДИЯ
ствует на него. Я убежден, что подобное вооружение должно было
сделать из человека героического буйвола. Хорошенько биться, хорошо есть
и пить, гордо гарцевать на коне - выше этого он не желал ничего.
Рыцарская жизнь и художественные впечатления поглощали его всего; он не
нуждался, как мы, кабинетные люди, в ученой и тонкой психологии. Она
вызвала бы в нем зевоту: он сам был слишком несложен, чтобы
покушаться на наше анализирование. Вот почему центральное искусство этой
эпохи - не литература, а живопись.
И в этом искусстве Веронезе, подобно Ван Дейку, появляется в
последний момент, когда первоначальная бурная энергия начала
смягчаться под влиянием житейских удобств и светской сдержанности. Еще
носят по временам большой меч, но обходятся обычно рапирой; еще
надевают на себя в необходимых случаях солидные боевые доспехи, но
более охотно наряжаются в богатый камзол и придворные кружева;
изящество дворянина трансформирует былую энергию солдата и налагает
на нее свой отблеск. Венецианский художник, как и фламандский, рисует
этот благородный и поэтический мир, который, находясь на границе
феодального времени и современной эпохи, сохраняет еще вельможную
гордость, отбросив готическую грубость, и усвоил уже придворную
обходительность, не опошляясь до салонной церемонности. Рядом с Тицианом,
Джорджоне и Тинторетто Веронезе кажется утонченным кавалером
среди крепких телом плебеев. Здесь, на одной его фреске, изображающей
Музыку, женские головы - прелестной мягкости; его чувственность -
аристократична и временами изысканна; веселость празднеств,
разнообразие и блеск обольстительной, улыбающейся красоты действуют
сильнее на его дух,нежели мощь и простота атлетических тел и действий. Он
сам почтительно приветствовал Тициана «как отца искусства», а Тициан
на площади Сан Марко благосклонно обнял его, признавая главою нового
поколения. ЛУ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
МИЛАН
От Вероны до Милана
КОЛО Лезенцано начинаешь видеть Гардское
озеро. Оно совершенно голубое - той
странной синевы, которая свойственна горным
водам; морщинистые горы, испещренные
сверкающими снегами, охватывают его своей дугой
и выдвигают свои предгорья до самой середины
водного пространства. При всей суровости они
улыбаются; лазурная, воздушная вуаль, тонкая,
как газовое покрыло женщины, окутывает их наготу и смягчает их
шершавость. После Вероны их видишь не иначе, как сквозь это покрывало.
Эта мягкая лазурь занимает половину видимого пространства;
остальное - прерия, нежная и прелестная, окраску которой еще более
смягчает чуть заметный желтоватый оттенок, наброшенный пробуждением
весенних побегов.
В Лезенцано поезд останавливается даже на берегу озера. Его скатерть
уходит вдаль, блестящая, как шифер, между двух длинных скалистых
побережий, которые кажутся чеканными и узорчатыми краями
фантастического кувшина. И в самом деле, это мраморный кувшин, в
котором Альпы, прежде чем спуститься в равнину, собрали и задерживают
воду своих родников. По краям этого бордюра виднеются селения,
церкви, старые крепости, выступающие вплоть до самой воды, а в глубине
высочайшая из стен возносит в небо свою снежную бахрому,
осеребряемую солнцем. Нельзя представить себе ничего более веселого и
благородного; от озера до неба - все тона лазури смешиваются в разных
оттенках, сообразно состоянию, и вспоминаешь голубые скалистые
пейзажи, которые Леонардо помещает в глубине своих картин.
Вся остальная часть местности, вплоть до Милана, - это большой сад,
изобилующий посевами, искусственными лугами и фруктовыми
деревьями, где уже совсем зеленые шелковицы округляют свои вершины
между виноградников, где маленькие каналы распространяют свежесть
среди насаждений, - сад столь цветущий и плодоносный, что он
рождает представление о слишком большом благополучии. Но чтобы отнять
у этого плодородия всякий оттенок вульгарности или монотонности,
Альпы тянутся направо в прозрачности вечера как цепь громадных
неподвижных облаков.
•304·
ЛОМБАРДИЯ
Миланский собор. Фотография 1890-х голов
4 мая, Милан, Собор
Чувствуешь себя в стране богатой и веселой; город велик, даже
роскошен, с монументальными воротами и широкими улицами,
окаймленными дворцами, полный экипажей, с оживлением без лихорадочности,
как в Париже или Лондоне. Он лежит на равнине, и озера, каналы, река
легко доставляют ему продукты столь хорошо возделанного и столь
обильно плодоносного сельского окружения. Здания здесь так же милы, как
окрестности. Вы входите в станционный зал железной дороги и видите,
между резьбой и украшениями, лазурный плафон, по которому плывут
небольшие облака. Кафе полны; кофе и мороженое в них стоят четыре-
шесть су; проезд в омнибусе - два су. Вход в два оперных театра - один-два
франка; в партере много простонародья и женщин. Некоторые из этих
женщин красивы, и почти все смеются и в хорошем расположении духа;
они ходят бойко, с вызывающим и щегольским видом; со своим живым
лицом, своей тонкой, четко очерченной головой, своим вибрирующим
и громким голосом, они мгновенно и блистательно являются повсюду.
• 305 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Нет ничего прелестнее черной вуали, которая служит им голов-ным
убором; круг серебряных шпилек, воткнутых в шиньон, венчает их
короной. Стендаль, живший здесь долго, говорит, что этот город - родина
благодушия и удовольствия. Смотреть на работу и важные дела как на
своего рода барщину, которую нужно сократить насколько это возможно,
веселиться, смеяться, устраивать пикники, влюбляться, отнюдь не на
манер воздыхателей, - вот их способ пользоваться жизнью. Я имел в этом
смысле две-три любопытных беседы с моими дорожными спутниками;
все они оканчивались одинаковым признанием. Один из этих
собеседников - мелкий буржуа; другой - адвокат. Оба поочередно сказали мне:
«Но la sventura d'essere ammogliato [что за несчастье быть женатым];
правда, я женился по любви и моя жена хороша собою и умна; но я
больше не свободен».
Приезжий, как я, не может иметь своего мнения о нравах страны; он
может говорить только о ее памятниках. В Милане три замечательных:
Собор и две картинных галереи.
С первого взгляда этот Собор ослепляет: готика, перенесенная
целиком в Италию в конце Средневековья (начат в 1386; его строителями
были немцы и французы), достигла здесь одновременно своего высшего
успеха и своей крайности. Никогда еще не было видано готического
здания столь заостренного, столь разукрашенного, столь
многосложного, перегруженного, столь похожего на ювелирное изделие; и так как,
вместо грубого и темного камня, здесь взят в качестве материала
прекрасный сияющий итальянский мрамор, то это здание вышло
настоящей резной игрушкой, столь же драгоценной по материалу, как и по
работе. Весь храм в его целости кажется колоссальным и великолепным
кристаллом - так растет ввысь, в безмерном разнообразии, лес его игл,
сплетение его стропил, население его статуй, кружево его
разработанного, выдолбленного, обточенного, пробуравленного насквозь мрамора,
разрезающего своей белизной небесную синеву. Это настоящий
мистический канделябр видений и легенд, с сотней тысяч разветвляющихся
ростков, изобилующих шипами мучений и розами экстазов, с ангелами,
девственницами и мучениками на всех своих цветах и на всех своих
остриях, с бесчисленными мириадами верных торжествующей Церкви,
которая устремляется от земли и возносится пирамидою в лазурь, с
миллионами слитых и дрожащих голосов, поднимающихся к небу в едином
«осанна!». Под натиском подобного чувства становится скоро
понятным, почему архитектура нарушила здесь обычные условия материи
•306·
ЛОМБАРДИЯ
и устойчивости. Она более не имеет цели, лежащей в ней самой; аая нее
неважно, будет ли здание прочным или хрупким; она не собирается
укрывать людей под его сенью, а хочет выразить себя; она не заботится ни
о теперешней зыбкости постройки, ни о будущих исправлениях; она
рождается из возвышенного безумия и творит возвышенное безумие;
тем хуже для камня, который рассыплется, и для будущих поколений,
которые должны будут начать строение заново. Речь идет о том, чтобы
выразить настойчивую мечту и единственный порыв. В жизни бывает
такой момент, который стоит целой жизни. Философы-мистики первых
столетий жертвовали всем ради надежды преодолеть один или два раза,
на протяжении стольких долгих лет, границы человеческого
существования и быть восхищенными, хотя бы на одну минуту, до
неизреченного единого - этого источника Вселенной.
Входишь, и впечатление еще углубляется. Какая разница между
религиозной мощью подобной церкви и Святого Петра в Риме! Говоришь
себе шепотом: вот настоящий христианский храм. Четыре ряда огромных
восьмигранных столбов, стоящих близко друг от друга, кажутся густой
дубравой гигантских дубов. Странные капители щетинятся
фантастической растительностью углов, сводов, ниш-цветков, статуй, - как старые
стволы, увенчанные нежным нависшим мхом. Они распускаются
большими ветвями, соединяющимися у потолка, и все промежутки между
этими дугами заполнены неразрешимым сплетением листвы, колючих
побегов и маленьких, вьющихся во все стороны веток, изображающих
воздушный купол дремучего леса. Как в большом лесу, боковые аллеи
почти равны по высоте центральной, и со всех сторон видишь, как
подымаются вокруг тебя на равном расстоянии вековые колоннады. Это, в
самом деле, старый германский лес и как бы воспоминание о священном
лесе Ирменсуля. Свет падает сюда, преображенный зелеными, желтыми
и пурпуровыми стеклами, точно окрашенный в красные и оранжевые
тона осенней листвы. Вот поистине цельная архитектура - такая же,
как в Греции, имеющая свой корень, подобно греческой, в формах
растительного мира. Грек берет за образец ствол срубленного дерева;
германец - все дерево с его ветвями и листьями. Может быть, настоящая
архитектура и всегда берет свое начало от растительной природы, и каждый
пояс имеет свои здания, как свои растения; таким образом можно
понять восточную архитектуру: смутную идею стройной пальмы и букета
ее листьев - у арабов, смутную идею чудовищной, кишащей, пузатой или
топорщащейся растительности - в Индии. Во всяком случае, я никогда
■ 307 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
не видел храма, где с такою наглядностью выступал бы внешний вид
северных лесов, где так непроизвольно возникали бы в воображении
длинные аллеи стволов, оканчивающиеся просветом; кривые ветви,
соединяющиеся под прямыми углами, купола беспорядочной и запутанной
листвы, всеобъемлющая тень, усеянная блестками цветных и прозрачных
листьев. Иногда квадрат желтого стекла, куда ударяет солнце, бросает
в темноту свой сноп лучей, и кусок нефа блестит, как прогалина. Большая
роза в глубине хора или окно с вьющимися ветвями орнамента над
входной дверью струятся тонами аметиста, рубина, изумруда и топазов,
подобно тем густолиственным лабиринтам, где падающие сверху лучи
разбиваются и стелются зыбким сверканием. Около ризницы маленький
карниз над дверью, вправленный в стену, изгибает до бесконечности свои
пересекающиеся прожилки, подобно некоему чудесному, утонченно-
сложному, вьющемуся и ползучему растению. Можно провести здесь, как
в лесу, целый день, с тем же спокойствием и полнотою души, перед
величием столь же грандиозным, как природное, и капризами, столь же
милыми, среди такого же смешения возвышенного однообразия и
неистощимой плодовитости, перед контрастами и метаморфозами света, столь
же богатыми и столь же неожиданными. Мистическая мечта в
соединении с новым чувством северной природы - вот источник готической
архитектуры.
При вторичном взгляде чувствуешь ясно преувеличения и
несоответствия. Эта готика - последней эпохи, и она ниже той, что в Ассизи;
снаружи особенно основные линии исчезают за украшениями. Видишь только
иглы и статуи; некоторые из этих статуй - семнадцатого столетия,
сентиментальные и жестикулирующие, во вкусе Бернини; главные окна
фасада отмечены печатью Возрождения и не вяжутся с остальным. Внутри
святой Карл Борромейский и его преемники поместили в двадцати
местах аффектированные изображения времен упадка. Подобное здание
превосходит человеческие силы; над ним работали в течение пятисот
лет, и оно все еще не кончено. Когда какое-нибудь творение требует столь
долгого времени аая своего завершения, неизбежные духовные
перемены оставляют на нем свои противоречивые следы: в этом сказывается
черта, характерная аая Средних веков, - диспропорции между
стремлением и силами. Но, впрочем, перед таким созданием критика не должна
иметь места. Гонишь ее из ума, как посторонний элемент; она остается
у дверей и даже не пытается возвратиться. Глаза сами собою
отвращаются от некрасивых подробностей и останавливаются, охраняя свое
•308·
ЛОМБАРДИЯ
удовольствие, на нескольких гробницах великого века, например на
гробнице кардинала Карраччоло (1538) и особенно на капелле Введения во
храм со скульптурами Бамбайи - неизвестного мастера, жившего в эпоху
Микеланджело. Маленькая Лева Мария поднимается по лестнице между
великолепных фигур стоящих мужчин и женщин; один худой старик
глядит на нее, и его костлявая голова с огромной кудрявой бородой - дико-
горделивого вида; женщина слева между колонн цветет красотою свежей
юности. Дальше другая Мадонна между двух святых - шедевр простоты
и силы. Мы не знаем и не можем измерить всю гениальность
Возрождения: Италия допустила вывезти или отнять у себя только отдельные
отрывки своего творчества; литература популяризовала несколько имен,
но ради краткости опустила остальные. Ниже, а часто и рядом с
известными великими людьми стоит целая толпа.
Церкви и музеи
Называют еще другую знаменитую церковь, Сант Амброджо,
основанную в четвертом столетии святым Амвросием, оконченную или
реставрированную позднее в романском стиле, снабженную готическими
сводами около 1300 года и усеянную различными частностями - двери,
кафедра, отделка алтаря - в продолжение промежуточных столетий. Ей
предшествует продолговатый двор с двойным портиком. Толстая
четырехугольная башня прикрывает ее сбоку своей темной и красной
массой. Скульптурные обломки, вправленные в стену, обращают портики
в своего рода летопись, стершуюся и несвязную. Само старое здание
подъемлет свой растрескавшийся щипец над двойным рядом аркад.
Портал его, весь исчерченный и испещренный тонким каменным
орнаментом, производит странное впечатление: это какое-то сплетение
веревок, розеток, маленьких квадратов, наполненных листьями; на
колоннах видны кресты, головы и тела животных - декоративность
неизвестного стиля. Эти создания самых темных времен Средневековья
оставляют всегда, после первого отталкивания, сильное впечатление.
Здесь чувствуется, как в легендах о святых от седьмого и до десятого
века, расстройство помутившегося духа, неловкость отяжелевшей руки,
искажение и разлад одряхлевших способностей, поиски ощупью
старческого и ребяческого ума, который все позабыл и еще ничему не
научился, его мучительное и полуидиотское томление перед смутно
угадываемыми формами, его бессильное старание передать своим лепетом
неясную мысль, его первые колеблющиеся шаги на дне глубокого погреба,
• 309 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
рр
я i
-
ЩЩШ
L
Церковь Санта Мария делле Грацие в Милане. Фотография 1890-х голов
где все мешается и дрожит в бледном освещении. Внутри храма могучие
столбы, составленные из скопища колонн, поддерживают своими
варварскими капителями вереницу круглых арок и плоских сводов; и на самом
деле, в абсиде тощие византийские фигуры сияют на золотом фоне.
Под кафедрой находится гробница, которую считают гробницей Стили-
хона, с грубыми скульптурными изображениями охоты, где звери
неизвестной породы, может быть, собаки, может быть, крокодилы, пресле-
• 310 ·
ЛОМБАРДИЯ
дуют и кусают друг друга; падение искусства не более велико на
памятнике Плацидии в Равенне. Поднимаешь глаза и видишь на скульптурах
кафедры первую зарю Возрождения. Это произведение двенадцатого
века - нечто вроде длинного ящика, стоящего на колоннах, подобно
кафедрам Никколо Пизано. Изваянные фигуры представляют Тайную
вечерю; одиннадцать персонажей анфас с руками, выставленными вперед,
повторяют одну и ту же позу; головы реальны и даже внимательно
изучены, но все буржуазны и вульгарны. Между этим первым проблеском
жизни и безотрадным хаосом нижней усыпальницы лежит, может быть,
шесть столетий; вот сколько времени требуется для инкубационного
периода. Никакой документ не освещает формаций и метаморфоз
человеческой цивилизации лучше, чем произведения искусства.
Далее мне вспоминается еще только одна церковь - Санта Мария дел-
ле Грацие, - широкая круглая башня, опоясанная двумя галереями
маленьких колонн и поставленная на квадратном основании. Впрочем,
идешь смотреть не самую церковь, а «Тайную вечерю» Леонардо да
Винчи, написанную на стене трапезной, - и, по правде говоря, не видишь ее.
Уже спустя пятьдесят лет после своего окончания она стала
разрушаться. В прошлом столетии ее переписали всю заново, кроме только неба;
потом счищали и снова писали, но так как она все-таки осыпалась, то ее
реставрировали десять лет тому назад. Что же осталось теперь от
Леонардо в этой живописи? Может быть, меньше, чем в картоне мастера,
превращенном в картину посредственными ученикам. Тут есть фигуры -
например, апостола Андрея (третья, считая слева), у которого
искривленный рот явно испорчен. Можно схватить лишь общую идею мастера;
оттенки исчезли. Все же, среди других частностей, замечаешь без труда,
что знаменитая гравюра Моргена изображает Христа слишком
меланхоличным и бестелесным. Христос у Леонардо - фигура, полная кротости,
но хорошо сложенная, плотная, божески прекрасная; художник хотел
представить не мечтателя, нежного и печального, а образ мужа.
Также и апостолы, с их столь неопределенными чертами лица и столь
красноречивым выражением, - это дюжие итальянцы, живая страстность
которых выливается в мимике. По-видимому, работа Леонардо была,
подобно ватиканским росписям Рафаэля, живописью прекрасной
телесной жизни - такой, какой ее понимало Возрождение. Но он прибавил
к этому то, что свойственно лично ему, - выражение различных
темпераментов, долговременно изучаемых, и внезапную взволнованность,
схваченную с натуры. Ради этого, без сомнения, он ходил ежедневно глядеть
• 311 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
в продолжение двух часов на чернь в Борго [предместье], с целью дать
своему Иуде достаточно энергичную и достаточно гнусную голову негодяя.
Именно здесь, в Милане, он больше всего жил и мыслил; его главные
работы должны были бы быть здесь, но их увезли или они погибли. Его
большая конная модель, которая должны была изображать герцога
Сфорца, была разбита в куски гасконскими арбалетчиками. Только
манускрипты, эскизы, этюды остались от него. И все-таки, как ни малы
остатки его творчества, ничье другое не поражает так сильно. По главным
чертам своего гения он вполне современен. В Галерее Брера есть его
женская голова, нарисованная красным карандашом, которая по глубине
и утонченности выражения превосходит самые совершенные картины.
Он не ищет чистой красоты, а, скорее, индивидуального своеобразия;
в его фигурах заключена моральная личность, некая тонкая душа;
трепет внутренней жизни сказывается в слегка впалых щеках и
потупленных глазах. Лва других этюда в амброзианской библиотеке, особенно
одна молодая женщина, опускающая ресницы, - несравненные шедевры.
Нос, губы отнюдь не совершенной правильности; художника занимает не
одна лишь форма; внутренняя суть кажется ему еще более значительной,
нежели внешние приметы. Под этой внешностью живет реальная душа,
но высшего разряда, исполненная еще дремлющих дарований и
страстей, безмерное могущество которых просвечивает и сквозь покой - в
мощи этого девственного взгляда, в божественной форме головы, в этом
вместительном, широком черепе, пышно увенчанном шевелюрой,
подобной которой не видал никто. Когда просматриваешь тетради его
рисунков (в Лувре), когда вспоминаешь любимые образы подлинных его картин,
когда читаешь о великих чертах его характера и подробностях его жизни,
видишь во всем этом ту же внутреннюю работу. Может быть, в мире нет
другого примера гения столь всеобъемлющего, столь изобретательного,
столь не способного к самоудовлетворению, столь жадного к
безмерному, столь естественно-утонченного, столь устремленного к будущему -
за границы своего века и веков следующих. Его фигуры выражают
неимоверную способность чувствовать и мыслить; они исполнены идей
и ощущений, не поддающихся выражению. Рядом с ними персонажи
Микеланджело - не более как героические атлеты; после них
девственницы Рафаэля - не более как смирные дети, спящая душа которых еще
не жила. Его фигуры чувствуют и мыслят всеми чертами своего лица
и своего облика; потребно некоторое время, чтобы вступить в беседу
с ними: не потому, чтобы их чувство было слишком слабо намечено, -
•312 ·
ЛОМБАРДИЯ
Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Церковь Санта Мария делле Грацие в Милане
напротив, оно ярко отпечатлевается во всей их внешности; но оно
слишком утонченно, слишком сложно, стоит слишком вовне и над всем
обычным, непостижимо и неизъяснимо. Их неподвижность и их безмолвие
позволяют угадывать в них две-три прячущиеся одна за другой мысли,
и еще иные, скрытые за самой дальней. Неясно различаешь этот тайный
интимный мир, как нежное неведомое растение в глубинах прозрачной
воды. Их таинственная улыбка смутно волнует и беспокоит;
скептические, эпикурейские, распущенные, изящно-нежные, пылкие или
печальные, - сколько любопытного, сколько замыслов, сколько разочарований
таят они еще в себе! Иногда, между юных атлетов, гордых, как греческие
боги, встречаешь прекрасного двусмысленного юношу, с женским,
стройным и гибким телом, чувственно-кокетливого, подобного андрогинам
времен императорского Рима и возвещающего, по-видимому, как и те,
приход искусства, более глядящего вперед, менее здорового, почти
болезненного, столь жадного до совершенства и ненасытного в счастье,что
оно уже не довольствуется распределением силы на стороне мужчин
•313 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Фрагмент росписи
и нежности на стороне женщин, но, сливая и умножая в своеобразном
смешении красоту обоих полов, теряется в мечтах и поисках,
свойственных эпохам упадка и аморальности. Можно уйти далеко, если доводить
до конца это искание изысканных и глубоких впечатлений. Многие люди
той эпохи, и в частности этот Леонардо, после стольких странствований
по всем областям знания, по всем искусствам, по всем наслаждениям,
вынесли из своей прогулки сквозь все явления мира какое-то
неопределимое чувство пресыщенности, отречения и меланхолии. Они являются
нам под этими различными аспектами, не желая раскрыть себя вполне.
Они стоят перед нами с иронической и благосклонной полуулыбкой,
• 314·
ЛОМБАРДИЯ
Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. Фрагмент росписи
но под покрывалом. Как ни выразительно их искусство, они не дают
выказаться в себе ничему, кроме любезного изящества и высшей
гениальности. Лишь позднее и лишь благодаря размышлению начинаешь различать
в этих впалых орбитах, в утомленных ресницах, в незаметных складках
щек безмерную требовательность и скрытое страдание слишком тонкого,
слишком нервного и слишком усложненного существа, истому
пережитых радостей и тоску неутоленных желаний.
Ни один художник не оказывал столь продолжительного и столь
сильного влияния на окружающих его художников. Мельци, Салаино,
Соларио, Марко д'Оджоне,Чезаре да Сесто, Гауденцио Феррари, Больт-
• 315 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
раффио, Луини - все, несмотря на размер и характер своих дарований,
остались верны почитаемому и возлюбленному учителю, которого они
знали лично или по традиции, и в их созданиях находишь дальнейшее
развитие мысли, которую его слишком редкие творения не выразили
с полною ясностью. Они повторяют его фигуры: в амброзианской
библиотеке некоторые персонажи Луини, - одна его женская голова,
маленький святой Иоанн на коленях возле младенца Иисуса на руках
Богоматери, особенно его «Святое Семейство» - кажутся написанными по
рисунку или по совету учителя. Это души - гораздо более тонкие,
гораздо более способные к сильным или богатым оттенками чувствам,
нежели простые идеальные фигуры «Афинской школы». С персонажами
Рафаэля не ведешь беседы; самое большее, если они скажут вам два-три
слова мелодичным и важным голосом; им удивляешься, но ими не
пленяешься; в них не чувствуешь высшей и покоряющей прелести, которой
дышат фигуры Леонардо и его ученика. У этих фигур мало плоти, ибо
плоть связана с физической жизнью и говорит об изобильной пище; вся
сущность лица - в его чертах; черты эти выступают очень резко, хотя
они тонки, так что лицо чувствует и мыслит всеми своими линиями;
подбородок - с ямкой и нередко заостренный; впадины и выпуклости
разбивают скульптурное однообразие очертаний и устраняют мысль об
избытке здоровья. Странная и необъяснимая улыбка Моны Лизы
скользит на неподвижных губах. Зыбкая полутень, густой и глубокий желтый
тон обволакивает фигуры своей таинственностью и трепетанием;
иногда грация тающих контуров, сияющая нежность детского тела, кажется,
предвещают Корреджо. Откровенная яркость дня была бы здесь грубой;
нужны смутные и угасающие тона, смягчение света и теней, нежная
ласка осязаемой и неопределенной атмосферы, чтобы не оскорбить столь
утонченных тел и столь чувствительных душ. В этом Луини идет даже
дальше Леонардо; если он ограничивает его, то и смягчает; если он не
имеет, подобно ему, высоты и превосходства «второго Гермеса или
второго Прометея», то он достигает еще более женственной и пленительной
тонкости. Но и этого ему недостаточно - он продолжает поиски и
стремится присоединить к духу своего первого учителя стиль новых
мастеров. Когда смотришь на его фрески, можно подумать, что он учился во
Флоренции. В нижней зале Амброзианской библиотеки его Христос
увенчан терниями, бичуем палачами; большая занавесь и четыре
колонны обрамляют эту сцену мучения; с каждой стороны, в симметричном
порядке, находятся два ангела и три палача; вдали замечаешь одного
•316·
ЛОМБАРДИЯ
ученика с Мариями; по бокам - вереница благочестивых заказчиков
картины, коленопреклоненных, в черных одеждах, еще яснее
подчеркивает реальностью своих фигур ритмические положения и идеальные
формы евангельской сцены. Точно так же, при входе в Галерею Брера,
множество фресок, изображающих по большей части различные
эпизоды жизни Богоматери, отмечены мягкими тонами, простотой
выражения и благородной ясностью ватиканских фигур. То это большая фигура
Левы Марии, сопровождаемой старцем в зеленом плаще и молодой
женщиной в золотисто-желтом платье, а у подножия, на ступенях,
маленький ангел, который, расставив ноги, настраивает свою
цитру,-неподвижные позы и гармонические линии «Парнаса» или «Диспута о святом
причастии». То - в «Рождестве Марии» - это две молодые ловкие
девушки, которые приносят воду, и две старые женщины, столь прекрасные
и важные, что вспоминаешь, видя их, об аналогичных сценах,
написанных Андреа дель Сарто под портиками Сантиссима Аннуциата во
Флоренции. Здесь начинает казаться, что Луини воспринял наставления той
строгой и ученой школы, где закончил свое развитие Рафаэль,
совершенство и чувство меры которой лучше всего выразились в живописи фра
Бартоломео и Андреа дель Сарто и которая, будучи создана золотых дел
мастерами, подчиняла всегда экспрессию и колорит рисунку, полагала
красоту в расположении линий и своей простотой, правильностью
направления и возвышенным строем духа сыграла аая Италии ту же роль,
что Афины для Греции. Но там и сям форма головы, тонкий подбородок,
большие глаза, еще расширенные величиною бровных дуг, прелестное
тело Младенца, одухотворенная внешность, какое-то интимное очарование
напоминают Леонардо. Три великих итальянских художника,
воспитавшихся во Флоренции, прибавили каждый что-нибудь свое к
флорентийскому язычеству и аттицизму: Рафаэль - набожную непорочность,
которую он принес из религиозной Умбрии; Микеланджело - трагическую
энергию, которую он обрел в своей душе бойца; Леонардо -
превосходство утонченности и глубокомыслия, пример которого он оставил своим
ломбардским ученикам.
Но вот еще две галереи, заключающие вместе шестьсот или семьсот
картин, о которых всего благоразумнее было бы умолчать. Я отметил
между ними только пять или шесть - и прежде всего «Обручение Марии»
Рафаэля. Ему был тогда двадцать один год, и он копировал, с
некоторыми небольшими изменениями, картину Перуджино, которая находится
в Музее в Кане. Это расцвет, первая заря его творчества. Краски почти
• 317·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
грубы, и сухие контуры разрезают их на отчетливые полосы. Моральный
характер мужских фигур едва лишь намечен; у двух юношей и у многих
молодых девушек одинаково круглые головы, одинаково маленькие глаза,
одинаковое овечье выражение мальчика из церковного хора или перво-
причастницы. Художник еще чуть смеет; его мысль едва брезжит в
сумерках. Но эта девственная поэзия совершенна. Большое свободное
пространство расстилается позади действующих лиц. В глубине храм в форме
ротонды, украшенный портиками, обрисовывает свои правильные линии
на чистом небе. Лазурь широко раскрывается со всех сторон, как в
пейзажах в окрестностях Ассизи и Перуджи; дали, сперва зеленые, потом
голубоватые, осеняют церемонию своей безмятежностью. С однообразием,
напоминающим строй церковных процессий, действующие лица все
расположены одной цепью на первом плане картины; две их группы
отвечают одна другой, распределяясь позади каждого из супругов, а
первосвященник образует центр. Посреди этого всеобщего спокойствия фигур,
поз и линий Дева Мария, скромно склонившись, с опущенными глазами,
слегка колеблясь, протягивает свою руку, на которую первосвященник
надевает обручальное кольцо. Она не знает, что делать с другой рукой,
и с пленительной неловкостью оставляет ее прильнувшей к плащу
Прозрачное тонкое покрывало чуть касается ее божественных русых волос;
ангел не мог бы возложить его с большей заботливостью и
целомудренным благоговением. И, однако, она крупного роста, здоровая и красивая,
как девушка гор, а возле нее великолепная молодая женщина в светло-
красном платье, задрапированная зеленым плащом, оборачивается с
горделивостью богини. Это уже языческая красота, живое чувство
подвижного и деятельного тела, дух и вкус Возрождения, которые просвечивают
сквозь монастырскую кротость и набожность.
Здесь много мастеров той же эпохи - момента, предшествующего
полному раскрытию цветка. Мертвый Христос Мантеньи, видимый в ракурсе
от ступней ног, с двумя плачущими старухами, - реальный, энергично
и умело написанный, без всякой красоты, но со странной искренностью
и силой; Мадонна на троне Джованни Беллини (1510), - неподвижной,
иератической важности, и, однако, полная жизни благодаря могуществу
лепки и красочных тонов; позади нее - кусок зеленого балдахина, а за ним
уходит вглубь зеленеющая и рыжая кампанья, широкое пространство
гористых синеющих далей.
Много болонцев; но эти художники, столь ученые, столь
изобретательные, столь трудолюбивые, - это только модные или академические
•318·
ЛОМБАРДИЯ
f,
Рафаэль. Обручение Марии. Пинакотека Брера в Милане.
С репродукции конца XIX в.
•319·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Академия Брера в Милане. Аворик со статуей Наполеона.
Фотография 1890-х годов
320
ЛОМБАРДИЯ
живописцы. Если они еще творят, то вне собственных пределов
живописи, а в области моральных эффектов. Они создают интересные или
трогательные драмы и мелодрамы. Среди многих картин этой школы
есть одна знаменитая - «Агарь, изгоняемая Авраамом» Гверчино. Агарь
плачет от отчаяния и возмущения, но сдерживается - женская гордость
поддерживает ее: она не хочет доставить своей горестью удовольствие
Саре, своей счастливой сопернице. Эта последняя стоит на высоте
законной жены, изгоняющей любовницу; она рисуется своим
достоинством, а между тем поглядывает уголком глаза с удовлетворенным
злорадством. Авраам - это благородный отец, весьма представительный, но
пустоголовый: для него трудно придумать другую роль. Все это умно и
доставило бы тему аая многих страниц какому-нибудь Лидро, но
психология здесь берет верх над живописью.
Насколько венецианцы держатся независимо и одни только
сохраняют настоящую точку зрения! Здесь есть три или четыре картины
Тициана в Амброзианской библиотеке и столько же-Веронезе в Брере,
немного стертых, выцветших или второклассных, но которые какой-
нибудь складкой материи, каким-нибудь изгибом тела, фоном
небесной синевы, перерезаемой рыжей листвой, удовлетворяют всем
требованиям глаза. «Рождество» Тициана являет Богоматерь под каким-то
деревенским навесом темного дерева, и к ней шествуют цари-волхвы:
один из них, эфиоп, почти негр, приближается в камзоле зеленого
шелка, увенчанный каким-то варварским колпаком, над которым
подымается огромный красный султан; вообразите себе под таким
рефлектором эффект черной сажи, озаренной тремя маленькими блестками,
одна - на глазу, другая - на белых зубах и третья - на жемчужине в ухе.
Второй маг, толстый властелин, хорошо откормленный и лысый,
красуется в своей широкой одежде желтого шелка с золотыми разводами.
Третий - стоящий старый воин, весь в красном, с мечом на боку, едва
осмеливается приблизить свою грубую седеющую бороду к кончику
ноги Младенца. Ясно, что все эти художники воспроизводят с
искренним удовольствием окружающие празднества и пышность; никакой
педантизм не сковывает их; картины их рождаются из брызжущей ключом
свободной творческой силы, а не из комбинаций различных
академических рецептов. В этом отношении какое-нибудь «Нахождение Моисея» Бо-
нифацио [деи Питати] было бы забавно, если бы не было так великолепно.
К счастью, никто тут не заботится о Моисее: эта сцена - не больше как
пикник в окрестностях Падуи или Вероны, устроенный прекрасными
•321 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ламами и важными вельможами. Видишь людей в красивых костюмах
того времени, под большими деревьями, в широкой гористой местности.
Принцесса захотела прогуляться и взяла с собой весь свой штат: собак,
лошадей, обезьян, музыкантов, оруженосцев, придворных дам. Издали
приближается остальная часть кавалькады. Те, кто сошел на землю, вкушают
отдых под сенью листвы; они устроили концерт: мужчины легли у ног дам
и поют, с беретом на голове и шпагою сбоку, а те слушают, смеясь и
болтая. Их шелковые и бархатные платья, то рыжие с золотыми полосами, то
мутно-зеленые и темно-лазурные, их рукава с громадными буфами
образуют пятна великолепных тонов на фоне листвы. Они ничем не заняты
и наслаждаются жизнью. Одни глядят на карлика, который дает какой-то
фрукт обезьяне; другие - на маленького негра в синем камзоле, который
держит на своре охотничьих собак. Посреди этих женщин, еще более
пышная, точно главное украшение, стоит сама принцесса; богатое верхнее
платье голубого бархата, с разрезом, застегнутое бриллиантовыми
пуговицами, позволяет видеть ее юбку цвета увядших листьев; рубашка, усеянная
золотыми блестками, оживляет своей белизной атлас шеи и подбородка,
и жемчуга круглятся с мягким блеском в извивах ее рыжеватых волос.
Но все это гаснет перед одним наброском Веласкеса, сделанным в
широкой манере, с несколькими бесформенными цветными пятнами. Это
поясное изображение мертвого монаха, в натуральную величину, -
пугающей и высокой правдивости. Он умер совсем недавно: лицо еще не
приняло землистого оттенка, но губы бледны, а глаза тяжело закрыты;
крутая шея торчит из коричневого платья. Ничего идеального; одной
реальной трагедии слишком достаточно. Луч солнца падает на эту
вульгарную бритую одноцветную маску, окутанную темными складками
капюшона. В этом внешнем блеске отсутствие внутренней жизни выступает
еще трагичнее: человек стал пустым, и свинцово-бледный, недвижный
обломок, оставшийся от него, не более как форма. Напрасно
сморщенный лоб сохраняет еще следы пота, выступившего в агонии; агония
кончилась, и чувствуешь, какой тяжестью давит страшная рука смерти. Под
этой рукой тело стало внезапно простой глиной, каким-то куском грязи,
который распадается сам собою, и только благодаря недолго длящейся
узурпации сохраняет еще отпечаток исчезнувшего человека, fôy
ЛОМБАРДИЯ
КОМО. ОЗЕРА
8 мая, озера
ОСЛЕ ТРЕХ месяцев, проведенных перед
картинами и статуями, чувствуешь себя, как
человек, в течение трех месяцев обедавший
ежедневно в городе: дайте мне хлеба вместо ананасов!
Садишься в вагон в легком настроении духа,
зная, что по приезде найдешь воду, деревья,
настоящие горы, что пейзажи не будут больше трех
футов длины и заключены в четыре золотых
багета. Смотришь с облегчением на прекрасную плодородную и холмистую
страну, где белые дороги вьются лентами между зеленых насаждений.
Приезжаешь в Монцу, старый маленький город, знаменитый в Средние
века, и остерегаешься идти смотреть железную корону и драгоценности
ломбардской королевы Теодолинды. Оставляешь в покое почтенные
древности и весь исторический хлам. Испытываешь гораздо больше
удовольствия, фланируя по красивым улицам; самое большее, если взглянешь
мимоходом на фасад Собора веселой итальянской готики, почти простой,
где изящная орнаментика, полустрельчатая-полуклассическая,
разубранная нишами в форме раковин и витыми колонками, обрамляет своим
трилистником и своими стрелками суровые фигуры апостолов и святых.
Эти грациозные и прекрасные формы оставляют в душе что-то вроде
поэтической мелодии, которая продолжается в голове, пока ноги
блуждают по улицам. Это маленький город, приятный, как города нашей Ту-
рени, но он не кажется мещанским. Садишься в карету и позволяешь
глазам блуждать по холмам, обсаженным деревьями, которые чередуются,
сопровождая весь путь вплоть до старых ворот Комо. Отели
расположены у порта, и из окон видно большое пространство голубой воды,
растворяющееся в вечернем золоте. Эстакада защищает суда, и
опускающийся туман окутывает своими парами сияющие воды. Пришла ночь; во
всеобщей черноте горы образуют еще более черный круг вокруг озера;
какой-то фонарь, несколько отдаленных светочей дрожат там и сям, как
уцелевшие звезды; свежесть воды достигает до окна, приносимая легким
бризом; порт и площадь пусты, и чувствуешь себя укрытым и
успокоенным великим молчанием.
Утром садишься на пароход, объезжающий озеро, и целый день без
усталости, без мысли плывешь в этой чаше света. Берега усеяны белыми
местечками, которые погружают свое подножие в воду; горы спускаются
•323·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
Вид на озеро Комо. Фотография 1890-х голов
мягко, и их пирамида населена до половины своей высоты; бледные
оливы и шелковицы с круглыми головами выстраиваются рядами по буграм;
дачные постройки выглядывают из тенистой сени и опускают свои
площадки уступами до самого берега. Около Белладжо мирты, лимоны,
партеры цветов образуют белые и пурпуровые букеты между двух лазурных
рукавов озера. Но по мере удаления к северу страна становится
величественной и суровой; горы выпрямляются и лысеют; крутые изломы
первобытных скал, зубчатые гребни, белеющие снега, длинные лощины, где
спят груды старых снегов, горбятся или раскидывают свои борозды на
однообразном куполе неба. Многие высокие горы кажутся бастионами,
выстроенными кольцом: это озеро было некогда ледником, и трение его
краев постепенно обглодало и закруглило береговые склоны. В этих
негостеприимных ущельях нет никакой зелени и никакого следа жизни;
перестаешь чувствовать себя на обитаемой земле; находишься в мире
минералов, предшествующем человеку, на какой-то голой планете,
единственные обитатели которой воздух, камень и вода - великая вода, дочь
вечных снегов; вокруг нее - собрание величавых гор, погружающих свое
подножие в ее лазурь; позади - второй ряд убеленных вершин, еще более
диких и примитивных, точно высший круг богов-гигантов, недвижных
•324-
ЛОМБАРДИЯ
и все же различествующих между собою, столь же выразительных и
разнообразных, как людские лица, но окутанных горячими тонами, которым
влажный воздух и расстояние придали бархатистый оттенок, и
покоящихся в радости своего великолепного бессмертия. Ветер затих, и
великий светильник небес пылал над этим замкнутым горизонтом всею своею
силою. Синева озера стала еще более глубокой; вокруг судна бархатные
волны беспрерывно вздымались и опадали, а в углублениях солнце
вплетало, между лазурных лент, другие подвижные ленты - будто желтый шелк,
усеянный искрами.
Комо, Собор
Можно, пожалуй, обещать себе, что не будешь больше смотреть
произведений искусства; в Италии они повсюду, и этот маленький город имеет
такой прекрасный Собор!
Никогда не было найдено более счастливого сочетания итальянского
готического стиля и Возрождения, более прекрасной простоты,
оживленной там и здесь фантазией и прикрасами (начат в 1396, фасад
закончен в 1526). Фасад представляет собою обыкновенный треугольный
щипец и составлен из двух примыкающих друг к другу частей, одна выше,
другая ниже; обе отчетливо разграничены четырьмя
перпендикулярными линиями статуй. Узнаешь тип и остов национальной архитектуры -
такой, какую открыли Пиза, Сиена, Верона, переделывая базилики. Она
христианская, но она радостна. Хотя в ней господствуют гладкие
поверхности, но в разнообразии и тонкости нет недостатка. Чувствуешь
солидность стен, но они изукрашены. Они изукрашены, но с мерою. Ниши для
статуй имеют форму раковины, и каждая цепь ниш заканчивается
цветистой и элегантной маленькой башенкой. Нагота фасада разнообразится
большой розеткой, четырьмя высокими окнами и четырьмя вереницами
ниш и статуй. Чтобы окончательно нарушить монотонность, зодчий
поместил по двум сторонам две большие выступающие ниши, где стоят,
с одной стороны - ангел, с другой - Лева Мария, между хорошеньких
витых колонок, под острыми навесами. Лаже над розой расположены одна
над другой две ниши; одна, узкая и готическая, заключает в себе фигуру
Христа; другая - широкая, где стрельчатые формы смешиваются с
формами Возрождения: в ней второй Христос, между ангелом и
Богоматерью, кажется, простирает свое благословение над всем зданием. Еще
выше, на крайней и центральной вершине, над всей этой стройной и
стремящейся кверху пирамидой, поднимается, подобно венчику на канделябре,
•325 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
самая грациозная и прелестная, ажурная башенка в четыре изящных
этажа резных пилястров и греческих колонок, еще продолженная и
заостренная убором готических завитков и кружев. Невозможно встретить
латинский фасад, где богатая изобретательность Возрождения и
мучительная утонченность стрельчатого стиля согласовались бы между собою
в таком живом порыве и с такой изысканной простотою.
Но дух Возрождения все же преобладает. Это сказывается в изобилии
и красоте статуй. Удовольствие созерцать и облагораживать человеческий
облик есть отличительный признак того момента, когда человек,
освободившись от былого суеверия и беспомощности, начинает чувствовать
свою силу, удивляться своему гению и ставит самого себя на место богов,
перед которыми он раньше смирялся. Не только вереницы статуй
окаймляют четырьмя линиями здание и протягиваются выше розетки, но статуи
обрамляют также окна, стоят по бокам и поверх центральной двери и
заполняют изгибы всех трех порталов. Они принадлежат лучшей эпохе -
заре Ренессанса. Их простота, серьезность, оригинальность и сила
выразительности свидетельствуют о здоровом и молодом искусстве. Несколько
фигур юношей в камзолах и панталонах в обтяжку - это рыцарские пажи
с немного худыми ногами, как их рисовал Перуджино. Конечно,
наивность, некоторая неуклюжесть и слишком близкое подражание реальным
формам свидетельствуют, что дух не овладел еще всеми своими силами.
Конечно, преувеличенные изгибы и пышные шевелюры, как у Леонардо,
обнаруживают первоначальные крайности и неуравновешенный
творческий пыл, но скульптор чувствует так хорошо жизнь! Видишь, как он ее
открывает, пленяется ею, как полна ею его душа; видишь, что
какого-нибудь образа горделивого юноши или девственной, неподвижной
Мадонны достаточно, чтобы занять его всецело, что все разнообразие
человеческих поз и голов, движение мускулов и одежды, все великолепие тела
и вся его способность к действию запечатлены в его мысли
непосредственным ощущением, свободным пониманием, без всякой академической
традиции.
От Гиберти до Микеланджело итальянская скульптура создала
множество шедевров: ее статуи, ее барельефы, ее ювелирные изделия - это
целый мир. Если она осталась ниже греческой скульптуры, поскольку дело
касается крупных изолированных статуй, то она сравнялась с нею в
статуях вспомогательного характера и в общем скульптурном убранстве.
При этом понимании статуя входит как часть в некоторое целое. Верхние
ярусы трех дверей фасада - это настоящие картины, подобные барелье-
• 326 ·
ЛОМБАРДИЯ
фам Гиберти. «Рождество», «Обрезание», «Поклонение волхвов» и на
северном фасаде - «Встреча Марии и Елизаветы» развертываются
благодаря множеству расположенных группами фигур, в целые сцены,
сопровождаемые иногда обилием смеющихся арабесок, фигуры которых не
более как наброски. Северные двери - это арка, поддерживаемая двумя
колоннами и двумя пилястрами, вся оживленная и цветущая статуями,
точно заглавные листы книг того времени. Нагие дети цепляются по
краям, играют с дельфинами, едут верхом на козах; другие - дуют в волынку.
Маленькие морские амуры бьют своими змеиными хвостами между
скачущих лягушек. Птицы с распущенными крыльями прилетели клевать из
рогов изобилия. Над соседними окнами бежит фриз широко
раскрывшихся цветов, детских тел и медальонов строгого стиля. Все царства
природы, вся грациозная и пышная путаница фантастического и реального
миров развертываются и волнуются в камне, точно языческий карнавал
в садах Альцины, с капризной легкостью воображения Ариосто. Сама
архитектура приноравливается к этому изящному празднеству: она творит
драгоценные вещицы, чтобы дать им такую оправу. Баптистерий
представляет собою маленький мраморный павильон, колонки которого,
образующие круг, поддерживают круглую крышу, укрывающую под собою вазу
со скульптурными украшениями, которая хранит святую воду. Ниши по
бокам главного входа - это маленькие стройные портики, где вьются
легкие арабески. Может быть, нужно признать, что центр искусства в эпоху
Ренессанса - это искусство декоративное. В Древней Греции заказы шли
главным образом от городов, желавших иметь памятные изображения
своих героев и богов. Во Флоренции заказы шли преимущественно от
богатых частных людей, которые хотели иметь кувшины, кабинеты
черного дерева или слоновой кости, ювелирные изделия, расписные стены
и плафоны, резную мебель ради украшения своих покоев. Там искусство
было, скорее, общественным делом, и поэтому оно было более важным
и более простым, лучше приспособленным аая передачи спокойного
величия. Здесь искусство, скорее, - частное дело, поэтому оно более
подвижно, менее торжественно, более склонно искать приятного, доставлять
удовольствие и соразмерять свое творчество и размеры с требованиями
той роскоши, поставщиком которой оно является.
С озера Комо на Ааго Маджоре
Милая страна, зеленая и плодоносная, усеянная селениями и усадьбами;
их тополиные аллеи протягиваются вплоть до дороги и заканчиваются
• 327 ■
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
кольцом каменных скамеек в тени. Посевы тянутся одни за другими, под
рядами шелковиц: с одной шелковицы на другую бежит тонкая
виноградная лоза, раскрывая свои маленькие листочки, пронизываемые светом.
Хлеб, вино, шелк дают здесь на одном и том же поле тройной урожай.
Сегодня - праздник; люди - на улице, в воскресных нарядах; они не
имеют вида нуждающихся; их жилища - в хорошем состоянии; у
женщин - пестрые лиловые и красные шали, черные платья, падающие
трубчатыми складками, отвислые серьги, корона из серебряных
шпилек, поддерживающих покрывало и волосы. Если говорить в общих
чертах, это почти что благосостояние нашей Турени. Только большая часть
детей бегают босиком; лошади дилижанса - тощие клячи, точно в
Провансе, и многие черты указывают на небрежность, невежество, любовь
к удовольствиям, суеверие, как на нашем юге. Встречаются
изображения Мадонны, и возле напоминание, чтобы прохожий прочел Ave Maria.
Иногда на стенах представлены грешники в пламени, и надпись
советует живым остерегаться их участи. В Милане, в Соборе, Христос на
кресте окружен тремя- или четырьмястами маленькими серебряными
сердцами; верующие, которые после исповеди и покаяния произнесут перед
алтарем Pater или Ave Maria, получат сто лет индульгенции; если они
сами стары или не имеют сил, им нужно только послать кого-нибудь
вместо себя, и они извлекут оттого не меньше пользы. Один из моих
венецианских друзей утверждает, что в его провинции состояние умов точно
такое же; крестьяне преданы святейшему отцу; при всей своей бедности,
они отдают свои деньги на служение месс; их живое воображение делает
из них прочную добычу для обрядовой религии.
Вот почему они лишь очень посредственные патриоты. Во время
последней кампании наши офицеры находили их расположенными больше
в пользу австрийцев, нежели в пользу пьемонтцев. Немецкая
администрация была исправной, довольно мягкой и даже отеческой в отношении
крестьян; эти последние, ничего не читая и не занимаясь политикой, не
питали никаких дурных чувств к Австрии. Когда национальное чувство
и гордость отсутствуют, не имеет особого значения, если ваш господин -
иностранец; довольно, что он позволяет танцевать, пить, любить и
хорошо платит за службу. Один лодочник, человек рассудительный, как почти
все они, сказал мне: «Австрийцы были добрые ребята: они заставляли
много работать, дела шли лучше. Они были плохи только для господ,
потому что господа были постоянно против них. Теперь господа довольны:
у них есть все, их сыновья выходят в офицеры. А бедные - несчастны; ни
•328·
ЛОМБАРДИЯ
у одного крестьянина нет собственности - вся земля принадлежит
богатым. Поденщик зарабатывает тридцать су в день, а килограмм говядины
стоит восемьдесят пять сантимов, килограмм хлеба - сорок сантимов,
и нужно платить столько же налогов, как и прежде». Эта смышленая и
чувственная раса видит только одну цель в жизни: удовольствие и
праздность. Один местный буржуа сказал мне: «Они хотели бы наслаждаться
и ничего не делать», и они ценят правительство постольку, поскольку при
нем их увеселения и досуг больше.
Зато буржуа и аристократия - все, кто одет в суконное платье и читает
газеты, стоят горой за Италию. В 1848 году Милан боролся три дня и
выгнал австрийцев собственными силами. Когда французы, после битвы при
Мадженте, вошли в город, - радость, благодарность, энтузиазм доходили
до безумия. Сперва появился солдат - он был один; люди сбежались,
обнимали и чествовали его так, что он уже не мог стоять; его голова
качалась направо и налево, он падал от утомления. Немного спустя прибыли
первые батальоны. Молодые девушки с их матерями вышли на улицы,
чтобы обнять солдат и даже тюркосов. Эти батальоны оставались
пятнадцать дней; кафе, рестораны, все - было к их услугам: им не позволяли
заплатить ни одного сантима. Ни одному миланцу невозможно было
добиться порции мороженого для себя: все было для французов;
невозможно было больному миланцу заполучить врача: они ухаживали только за
французскими ранеными. После битвы при Сольферино дамы являлись
к ним в госпитали с визитом; все частные дома были полны ими; их
оспаривали друг у друга; многие выздоровевшие офицеры женились на
богатых наследницах. И все это не потому, что австрийцы были грубы или
заносчивы; напротив, они были мягки, хорошо воспитаны, с отличными
манерами, терпеливы до крайности. По приказу своего начальства
офицеры избегали дуэлей; их толкали в театре, наступали им на ноги - они
молчали: иначе им пришлось бы драться каждый день. Национальное
чувство было непримиримо в отношении их, и таково оно и посейчас.
Недавно одна дама-миланка, отвозившая деньги Папе, была узнана в
своей ложе в театре, освистана и осмеяна, так что должна была бежать с
заднего подъезда. Я читаю ежедневно две-три газеты и не нашел между ними
ни одной, кроме «Unità», которая не была бы патриотической.
Карикатуры на Папу грубы: например, Смерть, с шаром в руке, попадает в него
между ног императора Наполеона; Смерть - это игрок, который
неожиданным ударом освобождает Италию. Гарибальди вызывает восхищение,
удивление, обожание везде, вплоть до последней харчевни; кондуктор
• 329 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
дилижанса показал мне в Варезе дом, где он женился на своей второй
жене, на «дурной», и стену, где он устроил баррикаду. Невозможно
передать, насколько он популярен в Италии; Жанна д'Арк не была так
популярна во Франции. В Левано я видел на стене кафе надпись, гласившую,
что сын хозяина заведения был убит за отечество, сражаясь в Сицилии,
бок о бок с национальным героем. Вечером и после обеда в кафе, на
площадях все мелкие буржуа, лавочники, приказчики читают свою газету
и обсуждают намерения министров. Лаже, по правде говоря, они
дебатируют слишком усердно и утешаются своими речами. Эти южные и
латинские расы кажутся состоящими из дилетантов, которые, с их
быстротой мысли и легкости речи, парят и кружатся над полем действия, не
опускаясь на него. Рассуждение нравится им само по себе; разговор дает
исход их ораторскому позыву; политическая беседа является для них
своего рода opera séria [высокой оперой], действия которой утомительны,
ибо она представляет собою нечто законченное и самодовлеющее. Они
не углубляются в предмет: их политические журналы настолько же ниже
наших, насколько наши ниже английских: там находишь поверхностное
кипение скороспелых дарований, а не действительное обсуждение и
солидные знания. Они расточают свои умственные силы, а не напрягают их.
Между тем, в данный момент Италия нуждается больше в действиях,
нежели в словах: финансы - ее больное место. Чтобы сделаться независимым
народом и вооруженным государством, необходимо больше платить,
следовательно, больше работать и производить. Какой-нибудь буржуа,
основывающий мануфактуру, собственник, занимающийся осушением своих
земель, работник, удлиняющий свой трудовой день на час,- в данный
момент наилучшие граждане.
Лело идет не о громких фразах и не о чтении газет, а о том, чтобы
копать землю, производить, рассчитывать, учиться, изобретать, - обо всех
этих скучных, позитивных, порабощающих занятиях, которые они с
удовольствием оставили бы северным увальням. Переход от эпикурейской
и созерцательной жизни к промышленной и милитаристической тяжел:
кажется, что из дилетанта и патриция становишься рабом и машиной; но
нужно принести жертву. Когда хотят создать великую нацию, нужно,
чтобы устоять лицом к лицу с другими, принять те трудности, которые
возложили на себя другие, - я хочу сказать: нужен усидчивый и
регулярный труд, принуждение, направленное на самого себя, умственная
дисциплина, методически устремленная к неизменной цели, режим людей,
поставленных в определенные условия и подстрекаемых конкуренцией,
•330·
ЛОМБАРДИЯ
утрата беспечности, убыль веселости, приспособление и сосредоточение
способностей, постоянство и упорство в усилиях, - короче говоря, все
то, что отделяет итальянца последних трех столетий от современного
англичанина или американца.
10 мая, Ааго Маджоре, Альпы
Если бы мне нужно было выбрать себе загородный дом - я поселился
бы здесь. С высот Варезе, когда начинается спуск, видишь под ногами
широкую равнину, по которой тянутся низкие холмы. Все пространство
покрыто зеленью и деревьями, посевами и лугами, испещренными
белыми и желтыми цветами, точно бархатное венецианское платье,
шелковицами и виноградниками, а дальше - группами дубов, тополей, и там и сям,
между холмов-красивыми озерами, спокойными, ровными, широко
разлившимися, которые сверкают, как стальные зеркала. Это свежесть
английского пейзажа, среди благородных линий картин Клода Лоррена. Горы
и небо привносят сюда величие, а обилие воды дарит влажность и
грацию. Две природы - южная и северная - сливаются здесь в счастливом и
дружеском сочетании, соединяя мягкость поросшего травой парка с
величием амфитеатра высоких скал. Само озеро гораздо разнообразнее,
нежели озеро Комо: оно не заключено от одного конца до другого между
обнаженных и обрывистых холмов. И здесь есть крутые высоты, но есть,
кроме того, мягкие склоны, одежда лесов, равнинные перспективы. От
Лавено видишь эту широкую неподвижную скатерть, там и сям
пересекаемую и инкрустированную, точно боевые доспехи, бесчисленными
чешуйками, - в блеске солнца, пробивающегося сквозь облачный купол;
чуть заметный бриз едва движет замирающее волнение по гравию
берегов. На восток дорожка огибает берег по холму, между зеленых изгородей,
распускающихся смоковниц, весенних цветов и всевозможных пахучих
растений. Открывается широкое водное пространство, совершенно
свободное и мирное; замечаешь небольшое судно с надувающимся
парусом и два белых городка, которые на таком расстоянии кажутся
постройками бобров. Кое-где горы, ощетинившиеся деревьями, спускаются до
самой воды, выдвигая свою пирамиду, закутавшаяся голова которой
наполовину исчезает в серых облаках.
При восходе солнца берешь лодку и пересекаешь озеро в прозрачной
утренней дымке. Оно широко, как морской пролив, и его мелкие свин-
цово-синие волны слабо блестят. Легкий туман окутывает небо и воду
своим серым налетом. Он постепенно утончается, отлетает, и чувствуешь,
• 331 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
как сквозь его редеющую сеть проникает прекрасный свет и чудесный
жар. Блуждаешь так в течение двух часов среди однообразно-мягкой
и приятной, полупрозрачной атмосферы, слегка волнуемой бризом,
точно легкими ударами веера из перьев; потом открывается прорыв, и
видишь вокруг себя только лазурь и свет, под собою воду, подобную
широко раскинутой ткани струйчатого бархата, а над собой - ровное небо,
подобное пламенной сапфирной раковине. Но вот появляется белая
точка, растет, становится отчетливой - это Изола Мадре, сжатая своими
террасами; волны бьют о ее громадные синеватые плиты и орошают
влагой ее блестящую листву. Покидаешь лодку; на береговых уступах алоэ
с массивными листьями и индейские смоковницы с широкими ветвями
греют на солнце свою тропическую растительность; аллеи лимонных
деревьев вьются вдоль стен, и их зеленые и желтые плоды приникают
к скалистым глыбам. Четыре этажа каменных террас идут вверх один
над другим, в убранстве своих драгоценных растений. На вершине
остров - это пук зелени, которая выгибает над водой свою массивную
листву лавров, каменных дубов, платанов, гранатовых яблок, экзотических
деревьев, глициний в цвету, кустов распустившейся азалии.
Подымаешься, овеянный свежестью и ароматами; никого нет, кроме сторожа; остров
пустынен и, кажется, ожидает молодого принца и молодой феи, чтобы
укрыть под своей сенью праздник их обручения. Покрытый изящными
газонами и цветущими деревьями, весь он - один прекрасный утренний
букет, розовый, белый, лиловый, вокруг которого кружатся пчелы; его
нетронутые луга усеяны первоцветами и анемонами; павлины и фазаны
мирно прогуливаются в своих золотых одеяниях, звездящихся глазками
или блистающих пурпуром, - признанные владыки населения мелких
пташек, которые скачут и перекликаются между собой.
Я больше не способен получать впечатления от надуманных созданий
архитектуры, особенно от искривленных форм и искусственной
декоративности последних столетий. Десять сводчатых террас Изола Белла, ее
гроты из раковин и мозаики, ее покои, увешанные картинами и
наполненные редкостями, ее бассейны и водометы показались мне
педантичными и оставили меня холодным. Я смотрел на западный берег острова,
лежащий напротив, обрывистый и весь покрытый зеленью, который,
казалось, создан нарочно, ради удовольствия глаз. Высокие и мирные горы
возвышаются здесь во весь рост, и хочется пойти посидеть на их газонах.
Покатые луга несравненной свежести одевают нижние склоны.
Нарциссы, молочай, какие-то пурпурные цветочки пестрят по всем впадинам;
•332 ·
ЛОМБАРДИЯ
целые выводки незабудок открывают свои лазурные глазки, и их
головки дрожат в русле потоков. Видишь, как сверху текут тысячи
скачущих и переплетающихся струек; хорошенькие каскады разбрызгивают
по траве свой жемчужный дождь и алмазные ручейки, собравшие все эти
бегущие воды, торопятся унести их в озеро. Там и сям, над всей этой
свежестью и всеми этими маленькими шумами, дубы развертывают свою
блестящую новую листву и уходят вверх, ряд за рядом, так что вершина
горы исчезает, наконец, под их цепями, и небо наверху перегорожено
неясной колоннадой леса. А внизу озеро расстилает свою однообразную
лазурь в рамке белого песка.
В два часа утра садишься в проезжающий мимо дилижанс; это
последний день путешествия. Нигде Италия так не прекрасна. Около четырех
часов чуть заметная божественная заря встает в ночи, точно бледный
облик стыдливой статуи; отблеск далекого перламутра ложится на высоты
гор, и нарождающийся рассвет прокрадывается жемчужной струей в
ночной синеве. Звезды мерцают, но вся окружающая атмосфера полна тьмы,
и по земле ползут муаровые тени. Карета останавливается и переезжает
через реку на пароме. В этом всеобщем безмолвии и исчезновении
всякого бытия вода одна только и живет; она живет и неприметно колышется;
ее текучая пелена блестит, исчерченная мелкими струйками,
сплетающимися меж черных берегов. Но деревья пробуждаются в тумане; на их
вершинах замечаешь обрызганные росою побеги, ждущие, кажется, прихода
дня. Небо белеет, и заря гасит звезды; со всех сторон обозначаются
растения и зелень; их газовое покрывало редеет и улетучивается, их краски
оживают, они возрождаются к свету, и чувствуется сладкое изумление
существ, внезапно обретающих себя на том же самом месте, что и
накануне, чтобы продолжить свое прерванное бытие. Все ущелье населено, и по
обеим сторонам этого милого рассыпавшегося народца чудовищные горы
возвышаются, сумрачные, подобно великанам-покровителям,
обрисовывая зубцы своих голов на сияющей белизне неба. Наконец, от одного
разломанного гребня брызжет огненный луч; эта нежданная, ослепительная
струя пронизывает туман; полосы зелени озаряются; ручейки сверкают;
старые толстые виноградные лозы, круглые купола деревьев, тонкие
арабески ползучих трав, вся роскошь растительности, питаемой свежестью
неиссякаемых вод и теплом нагретых скал, развертывается, как
драгоценный убор феи под золотым прозрачным покрывалом.
Нет, здесь надо говорить не о фее, а о богине. Фантастическое - это
только каприз и болезнь человеческого ума; природа здорова и устойчива,
• 333 ·
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
и наши нестройные мечтания не имеют права сравниться с ее красотой.
Она держится и развивается собственной силой; она независима и
совершенна, деятельна и невозмутима, - вот все, что мы можем сказать: и если
мы осмелимся сравнить ее с каким-либо человеческим созданием, то лишь
с греческими богами - с великой Палладой, со сверхчеловеческим
Зевсом Афин: она довлеет себе, как довлеют они. Мы не можем ее любить,
наши слова не достигают до нее; она вне нас, она равнодушна к нам; мы
можем только созерцать ее, как изображения в храмах, онемев, с
обнаженной головой, дабы запечатлеть в нашем разуме ее совершенные
формы и подкрепить наше хрупкое существование прикосновением к ее
бессмертию. Но уже одно это созерцание есть освобождение. Мы
уходим от нашей суеты, от наших эфемерных раздробленных мыслей. Что
такое наша история, как не толчея неоконченных усилий и
неудавшихся творений? Что я видел в этой Италии, кроме вековых поисков,
ощупью, противоречащих друг другу гениев, кроме верований, которые
разрушаются, замыслов, которые не удались? Что такое какой-нибудь
музей, как не кладбище, и что такое живопись, ваяние, архитектура, как
не памятник, который поколения смертных скорбно воздвигают самим
себе, дабы продлить свою немощную мысль в этой гробнице, столь же
непрочной, как она? Напротив, перед лицом вод, неба, гор чувствуешь
себя, как перед существами законченными и вечно юными.
Случайность не имеет над ними силы; они все те же, что в первый день; та же
весна льет им каждый год полною горстью те же жизненные соки; наша
слабость тает, прикасаясь к их силе, и наша тревога стихает перед их
спокойствием. Сквозь них проступает единое творческое начало,
проявляющееся во всем разнообразии и превращении вещей, - великая
мать, плодоносная и спокойная, которую ничто не волнует, потому что
вне ее нет ничего. Тогда в душе подымается незнакомое и глубокое
волнение - обнажается самое ее дно. Бесчисленные напластования,
которыми, как корой, покрыла ее жизнь, - обломки страстей и надежд, весь
этот людской сор, который накопился на ее поверхности, распадается
и исчезает; она снова становится простой и обретает в себе
инстинкты древних дней - те смутные монотонные речи, которыми некогда она
сообщалась с богами, с естественными божествами, обитающими в
явлениях; она чувствует, что все слова, которые она с той поры
произносила или слышала, не более, как пестрая болтовня, волнение ума,
уличный шум, и если есть в ее жизни здоровая и желанная минута, то это та,
когда, покинув все тревоги своего муравейника, она прозревает, как
• 334-
ЛОМБАРДИЯ
говорили старинные сказания, гармонию сфер: это значит - трепетание
бессмертной Вселенной.
Дорога карабкается на крутизну, и по направлению к Изелле горы
обнажаются и стоят теснее. Скалистые стены высотою в полторы тысячи
футов сжимают дорогу в своей теснине. Их желтые основания,
почерневшие от влаги источников, их башни, хаос растрескавшихся и
потерявших форму развалин кажутся нагромождением тысячи рухнувших
соборов. Тщетно ищешь, в памяти или в сновидениях, подобные
очертания; начинаешь представлять себе, наконец, некоторый огромный ствол,
разъятый на части ударами топора, наносимыми ослепшим колоссом,
дети которого, более слабые, явились вслед за ним, с резаками длиною
в сто футов, полные неукротимой ярости, дабы изрубить на мелкие части
огромные поленья отца. Нужно предположить подобное ожесточение
и подобное безумие, чтобы объяснить себе эти громадные обрывистые
проломы, эти неожиданные рвы, эти нависшие гребни и пики - весь этот
чудовищный, варварский беспорядок. Полосы почерневшего снега
ползут по лощинам, и каждая из них сочится и после рушится, - и вот
отовсюду бегут и скрещиваются ручейки, то извилистые и прилегающие
к темным берегам, то рассыпающиеся каскадами и развевающие в воздухе
свой пенистый султан. Вдали подымается водяная дымка, и поток
низвергается с грохотом между глыбами скал.
Мы поднимаемся все выше, и снег сверкает на вершинах; иногда им
белеет весь склон, и, когда на него ударяет солнце, блеск его так силен,
что ослепленные глаза сами закрываются. Ущелье расширяется, и отлогие
поля стелются под снежным саваном. Однако не везде пустыня: отряды
лиственниц лезут в беспорядке, с обреченным видом, на приступ высот;
свежие побеги одели их странной желтоватой одеждой; несколько
угрюмых сосен выделяется на их фоне своими черными конусами. Они
взбираются вереницами меж умирающих стволов, меж трупов
обезображенных деревьев и всего опустошения, причиненного лавинами; подобные
оставшимся в живых на поле сражения, они знают, кажется, что идут
снова на бой, и угадывают все, что должны еще вытерпеть. На самой
вершине, около убежища и деревни Симплон, расстилается мрачное плато,
изборожденное рытвинами, все белеющее тающими снегами, похожее
на брошенное и разоренное кладбище. Здесь граница двух стран, и
кажется, что это - граница двух миров: блистающие вершины сливаются
с белизной облаков, - так что не знаешь, где кончается земля и
начинается небо, #У
ИППОЛИТ тэн
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
ТОМ II
ФЛОРЕНЦИЯ И ВЕНЕЦИЯ
Перевод П.П. Перцова
Научные редакторы СИ. Козлова, В.Э. Маркова
Подбор иллюстраций В.Э. Марковой
Художник книги Г.Б.Лукашевич
Главный редактор Т.И. Хлебнова
Редактор H.H. Романова
Художественный редактор Н.Г. Лреничева
Корректор В.В. Борисова
Подписано в печать 05.03.2008
Формат 160x240 мм
Бумага мелованная. Гарнитура Alliance
Печать офсетная
Тираж 3 000
Отпечатано в Китае
я& <& я*
я*
Издательство АРТ-РОЛНИК, 2008
125319 Москва, ул. Красноармейская, 25
Т/факс: (495) 151-2956; 151-4521
125319, Москва, а/я 42
info@artrodnik.ru
www.artrodnik.ru