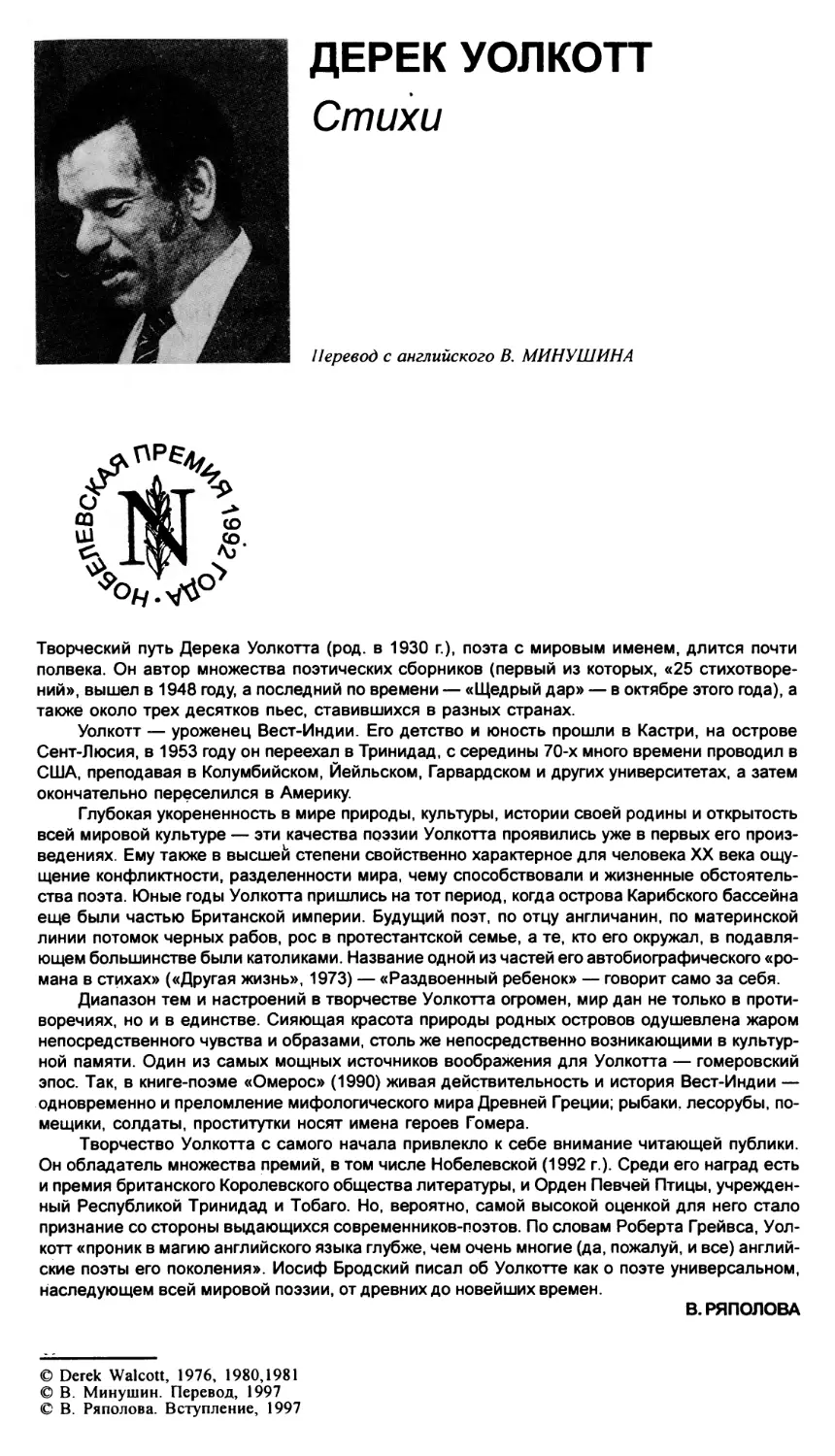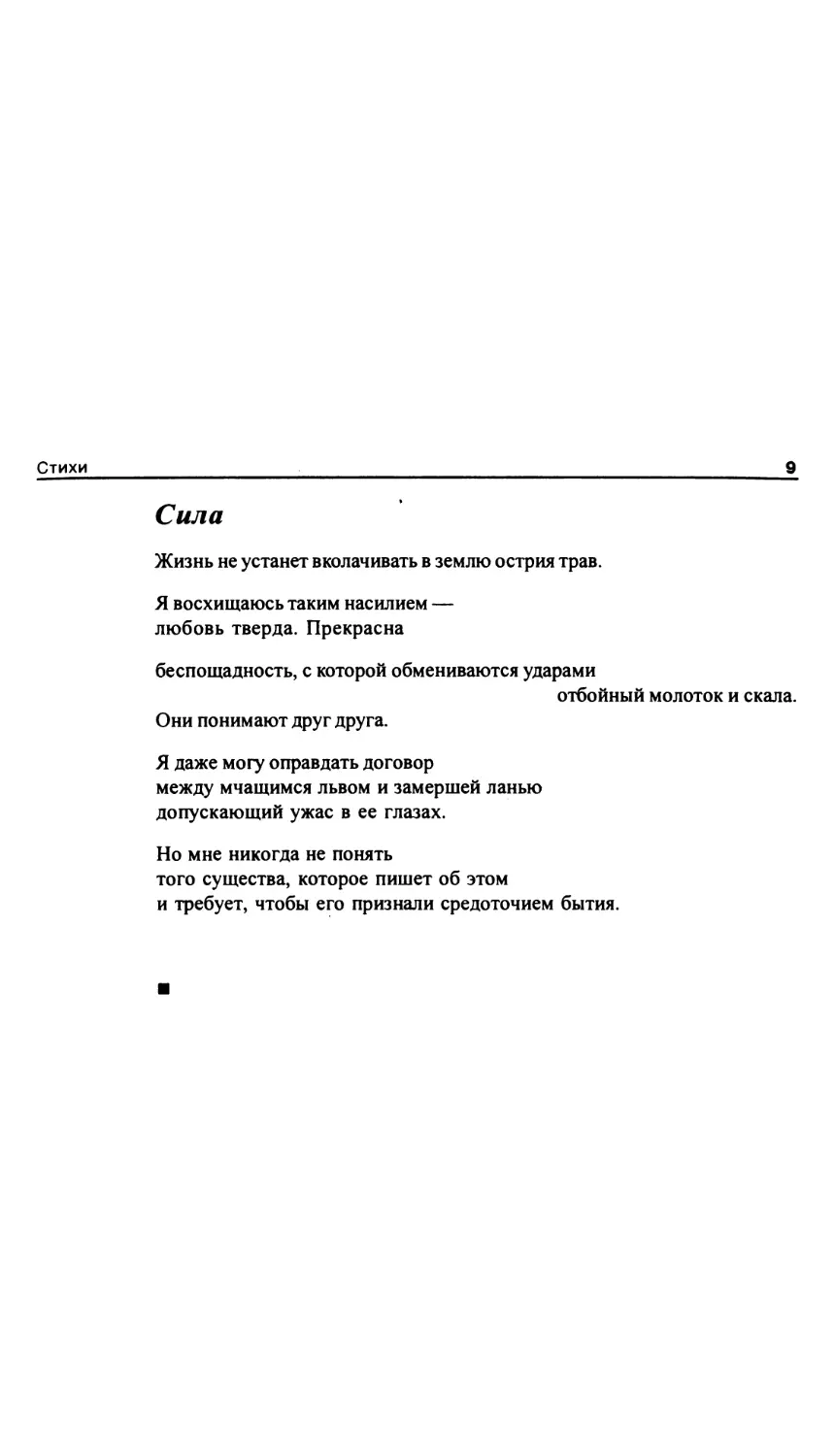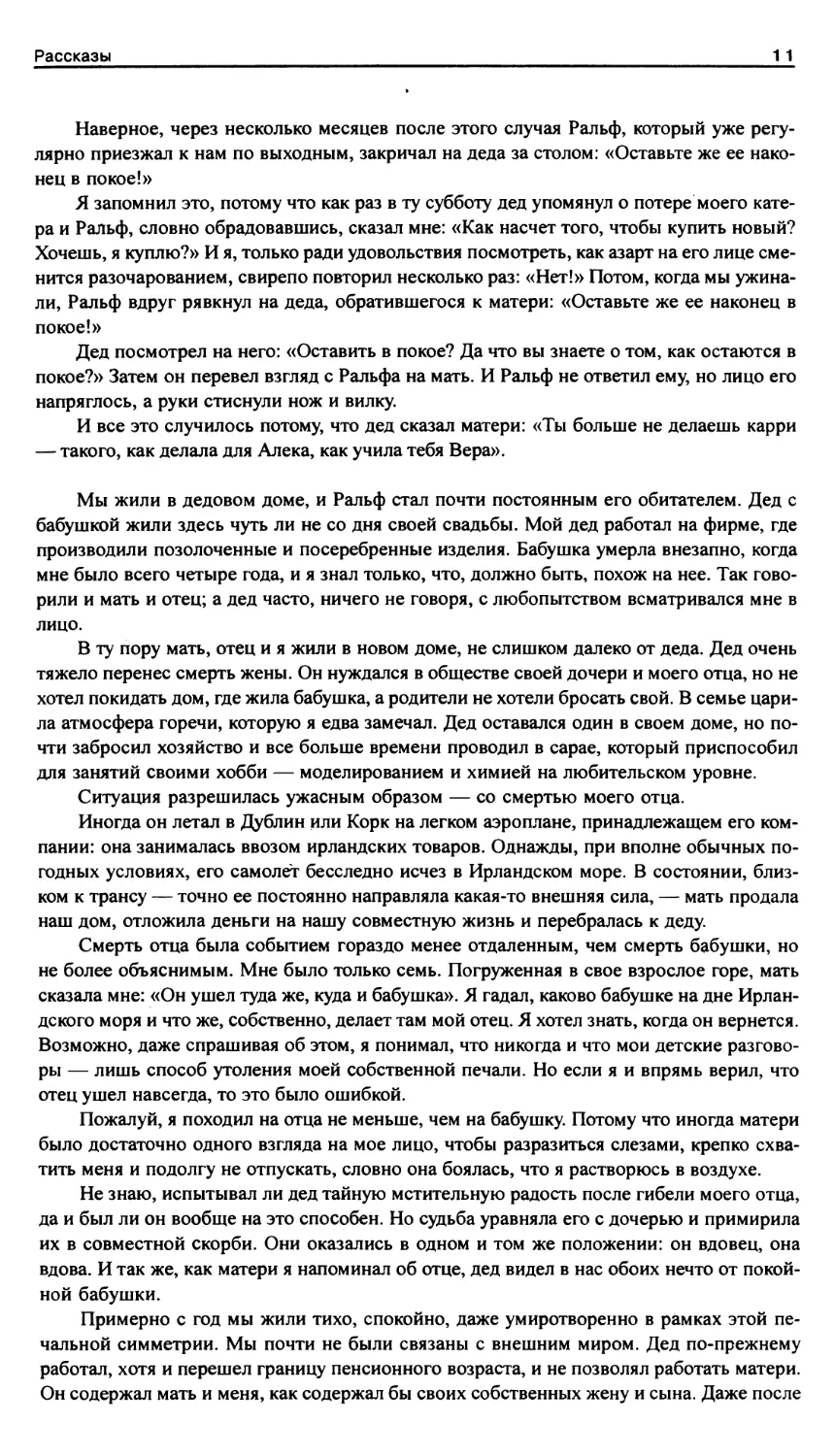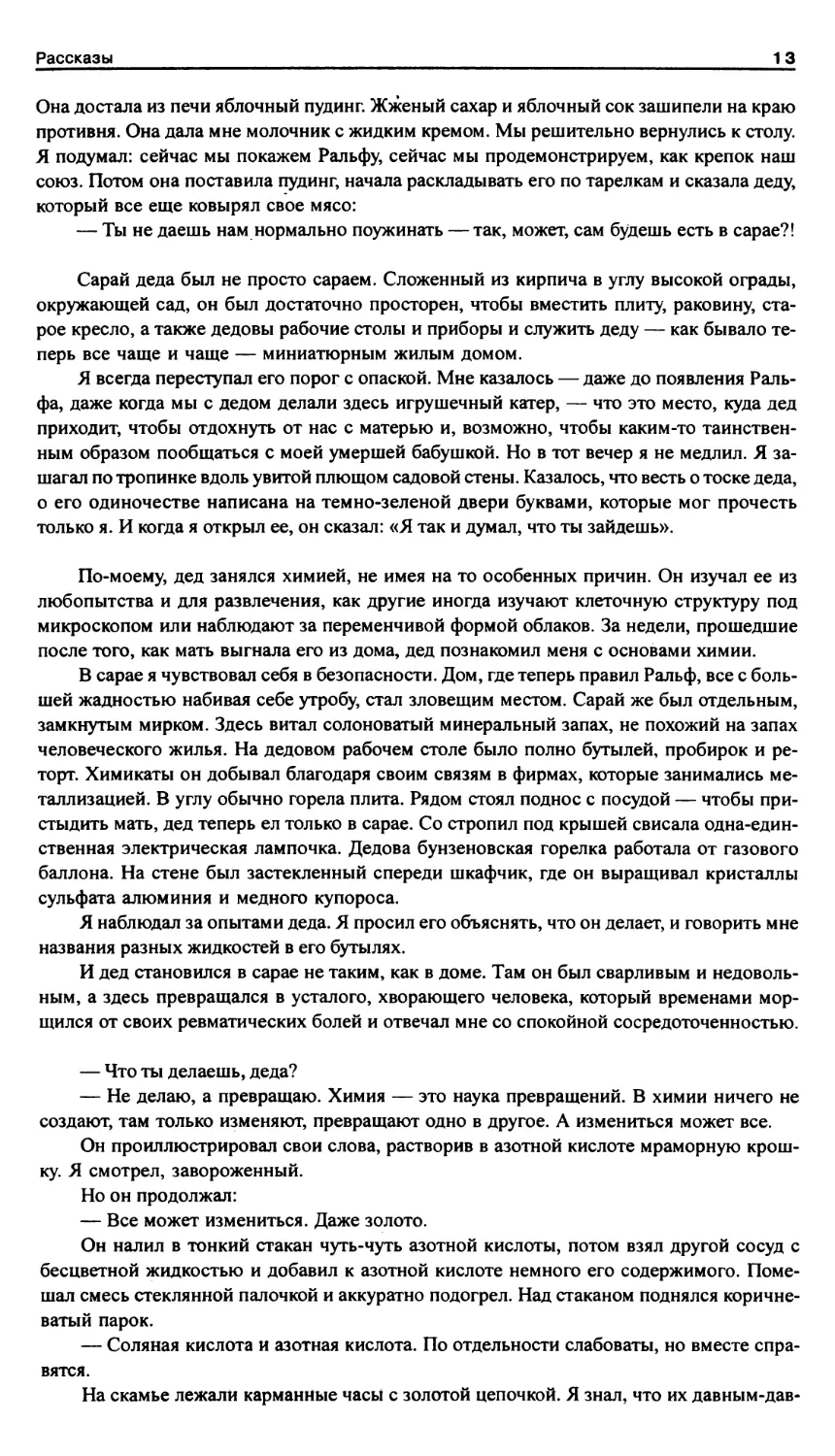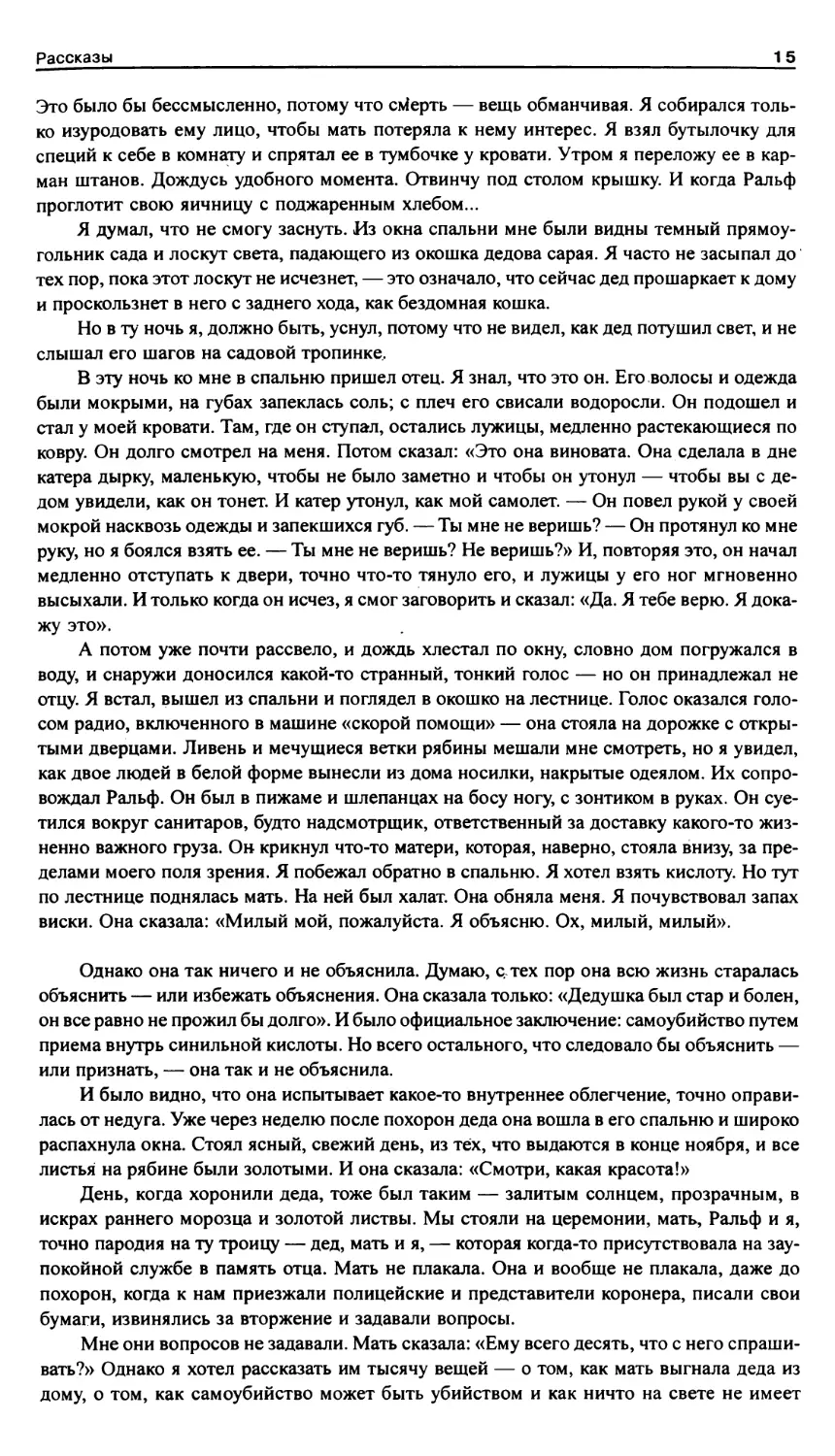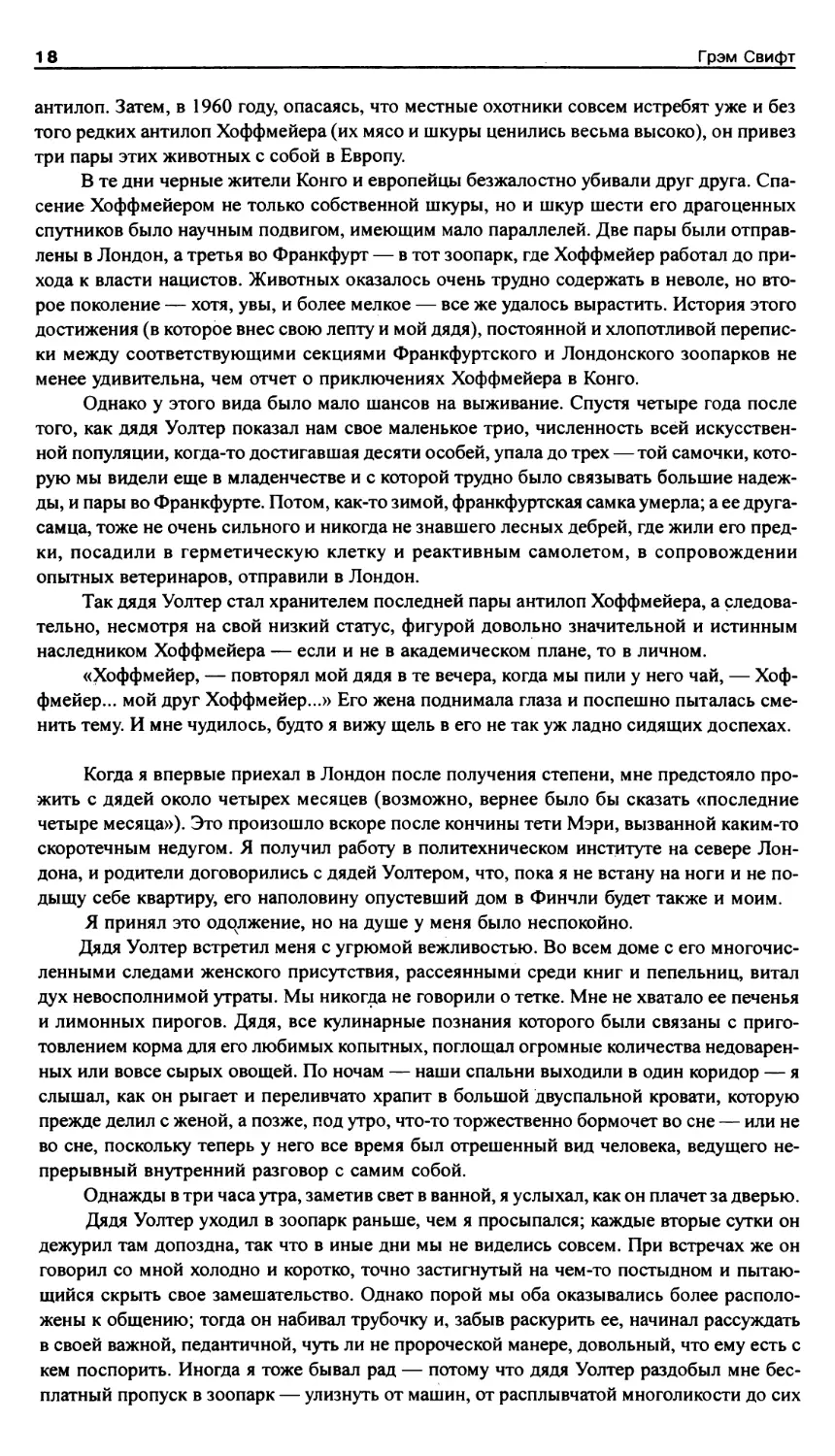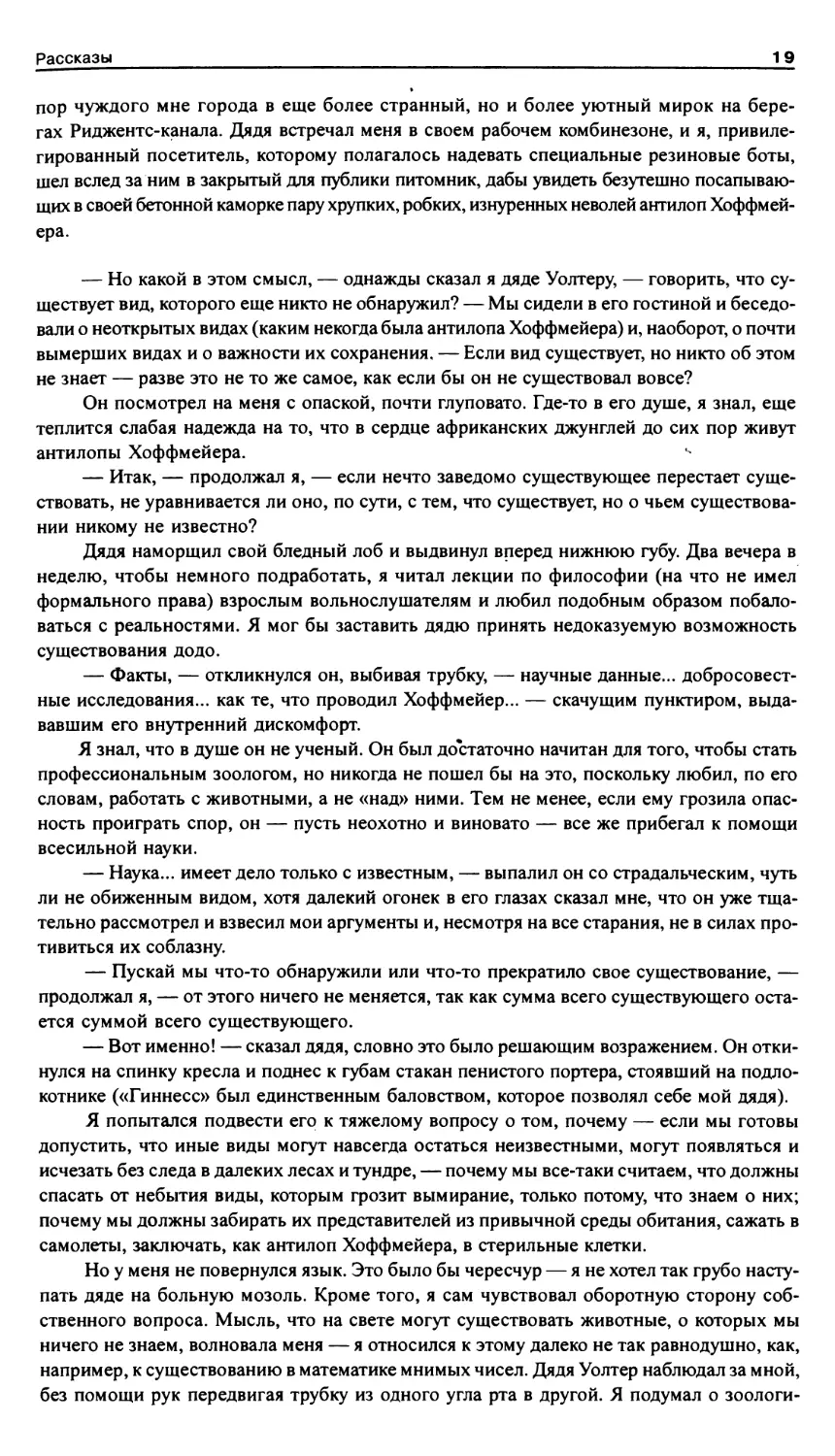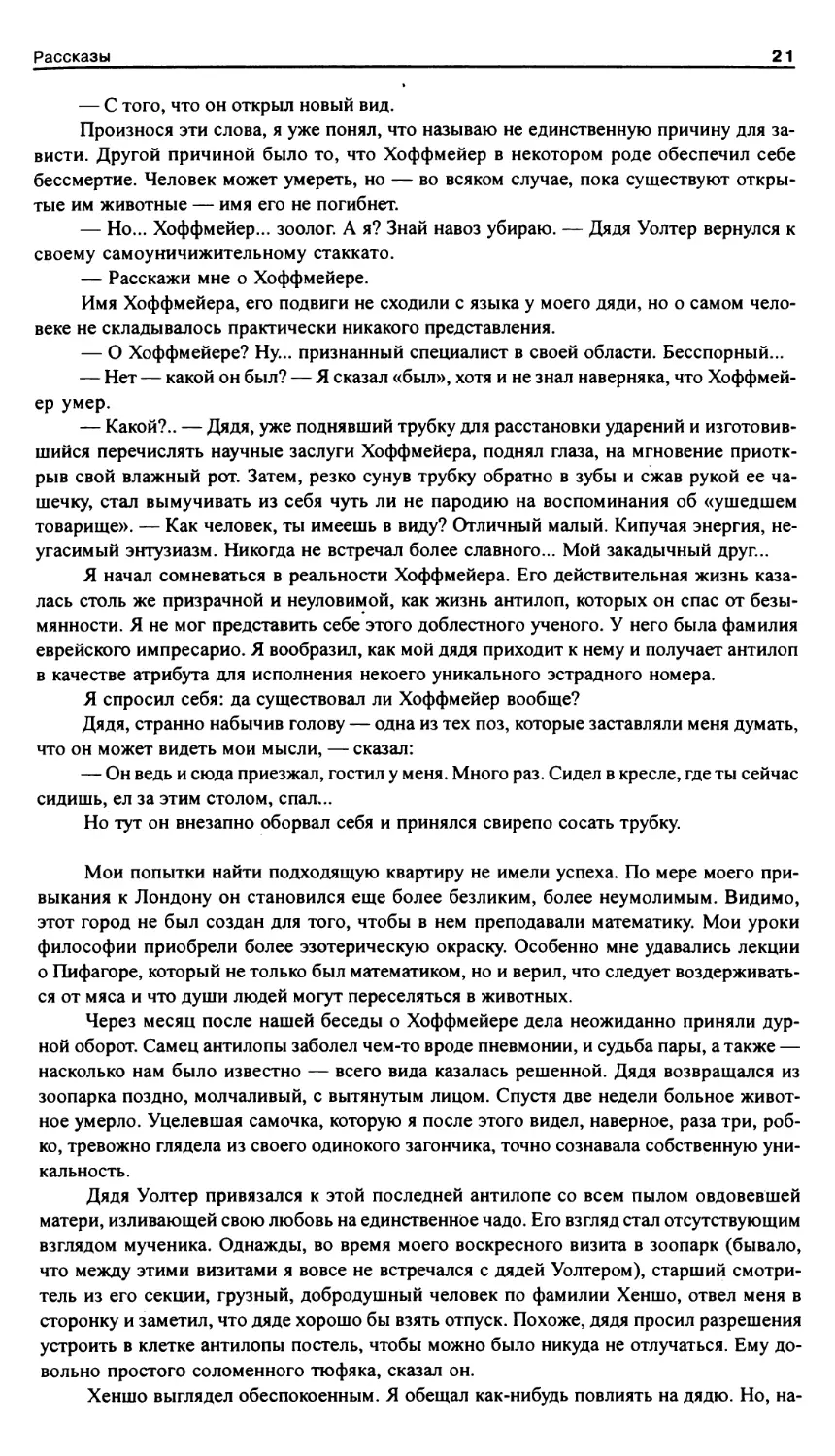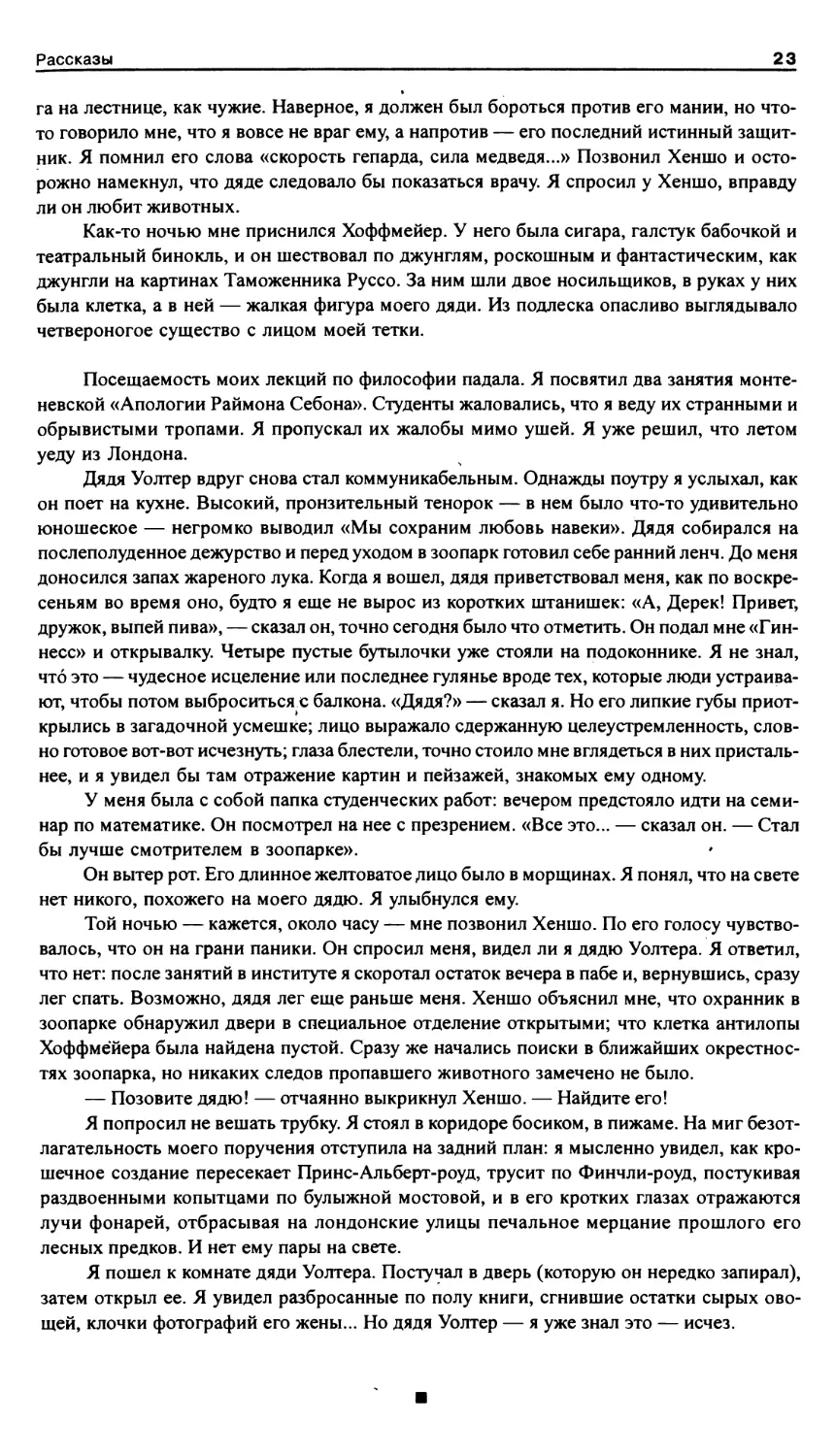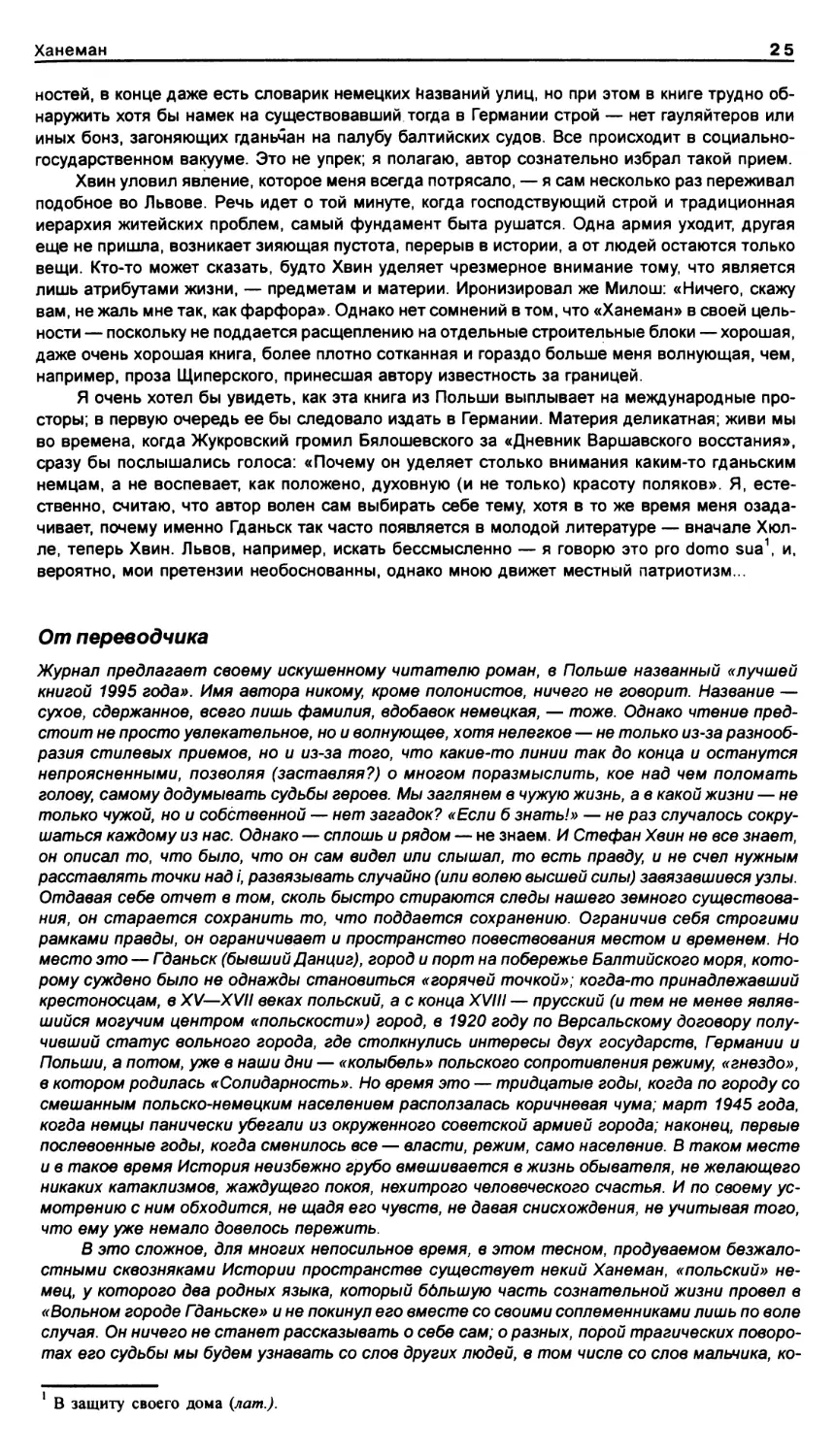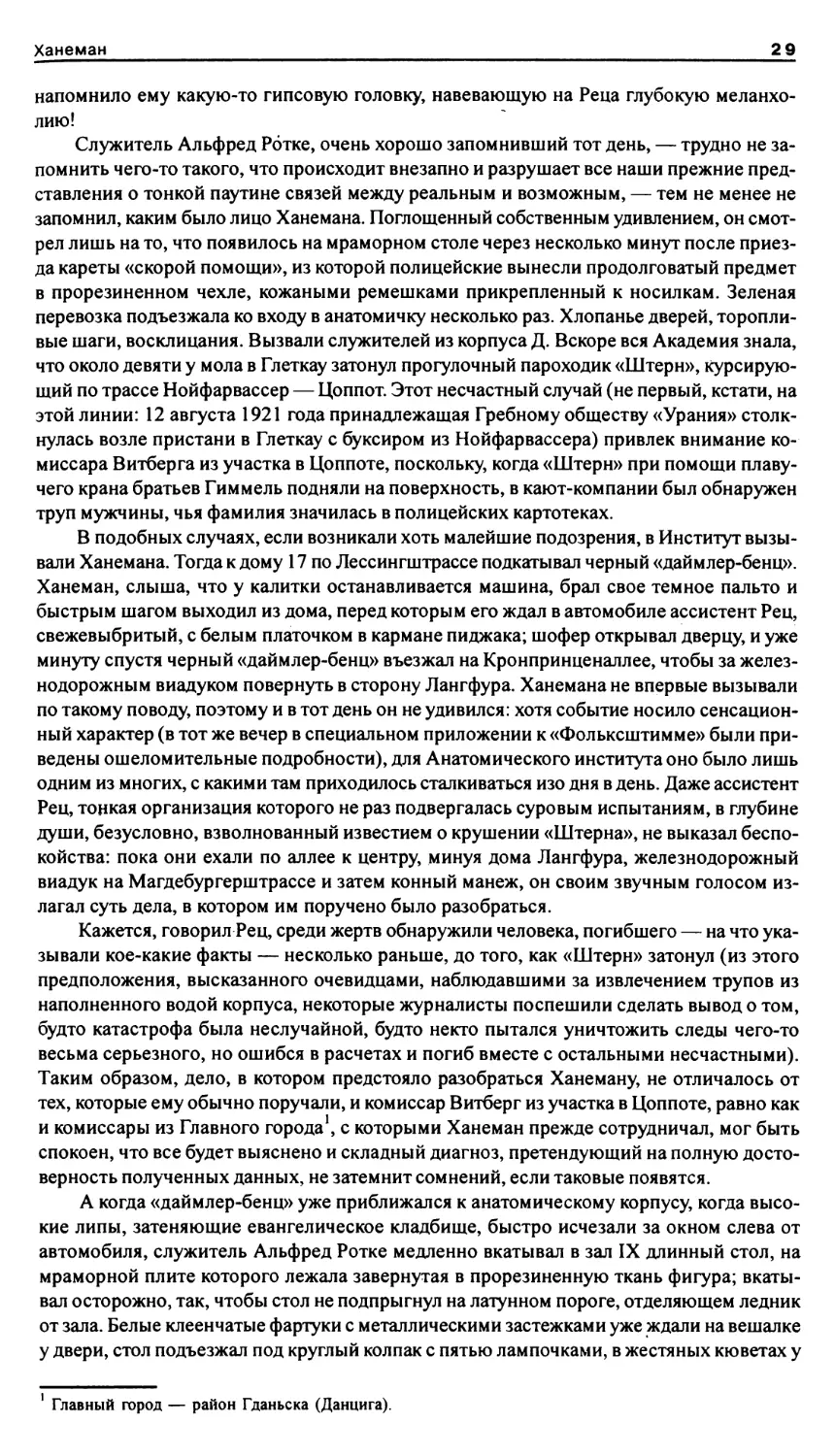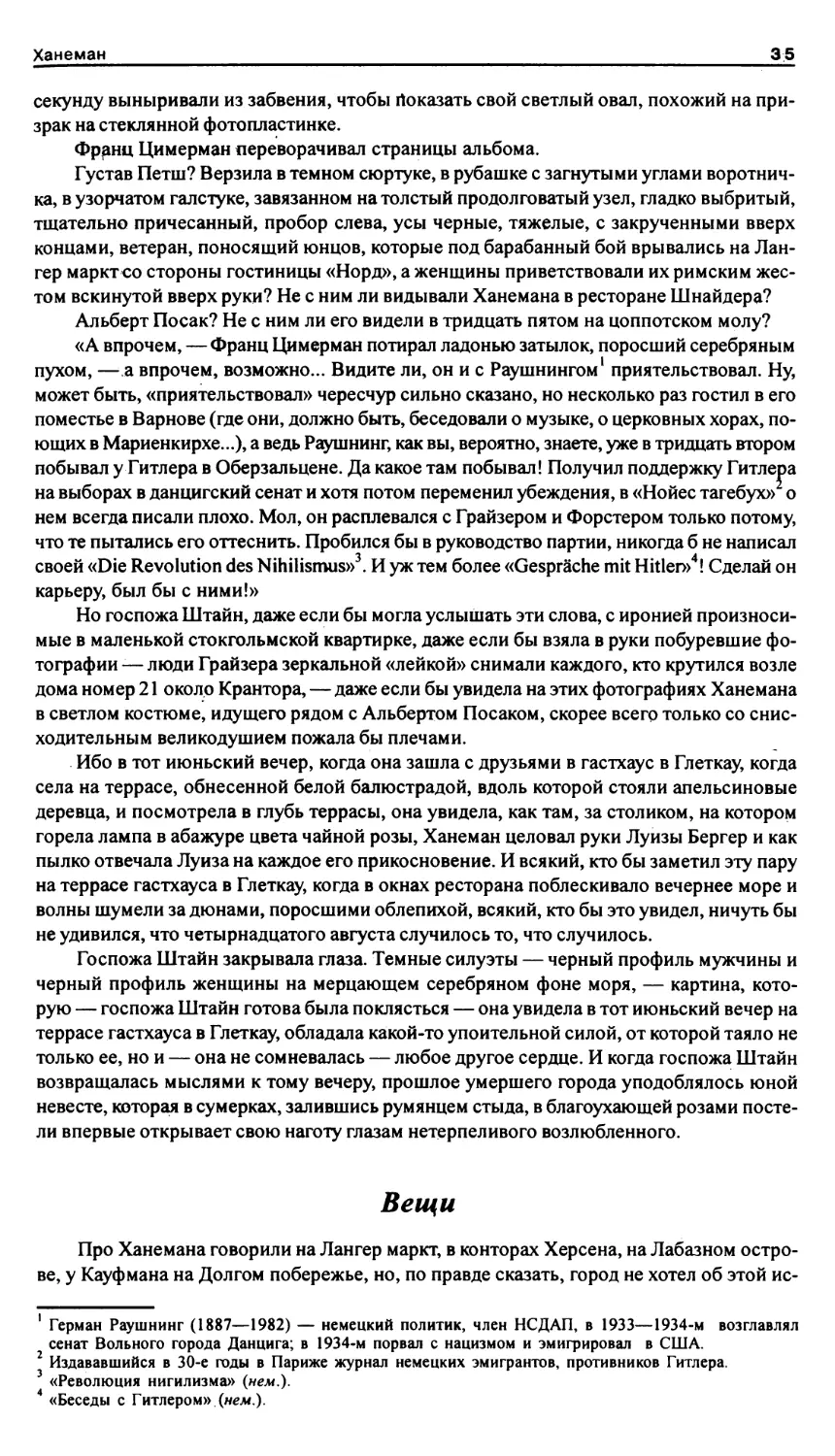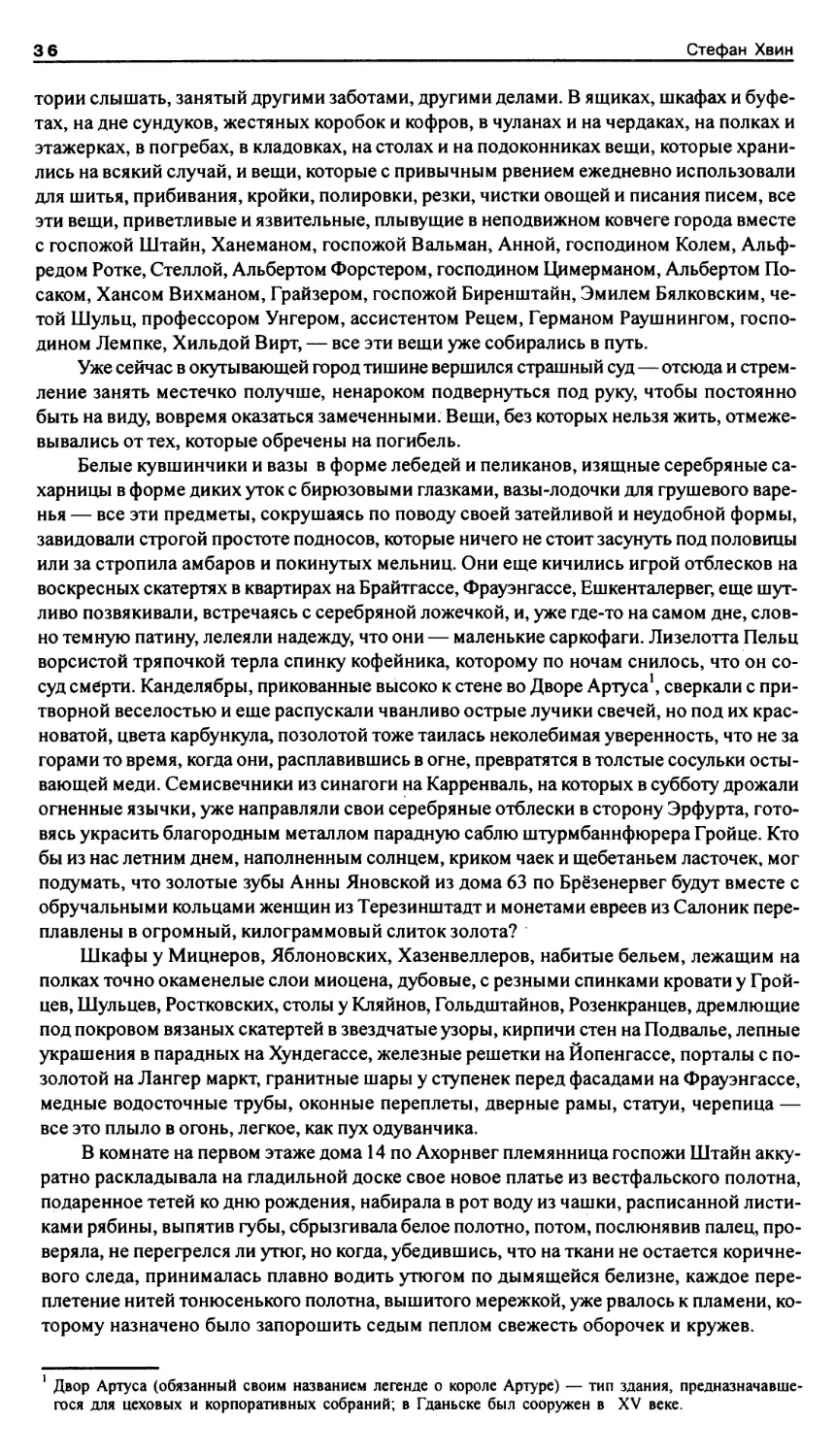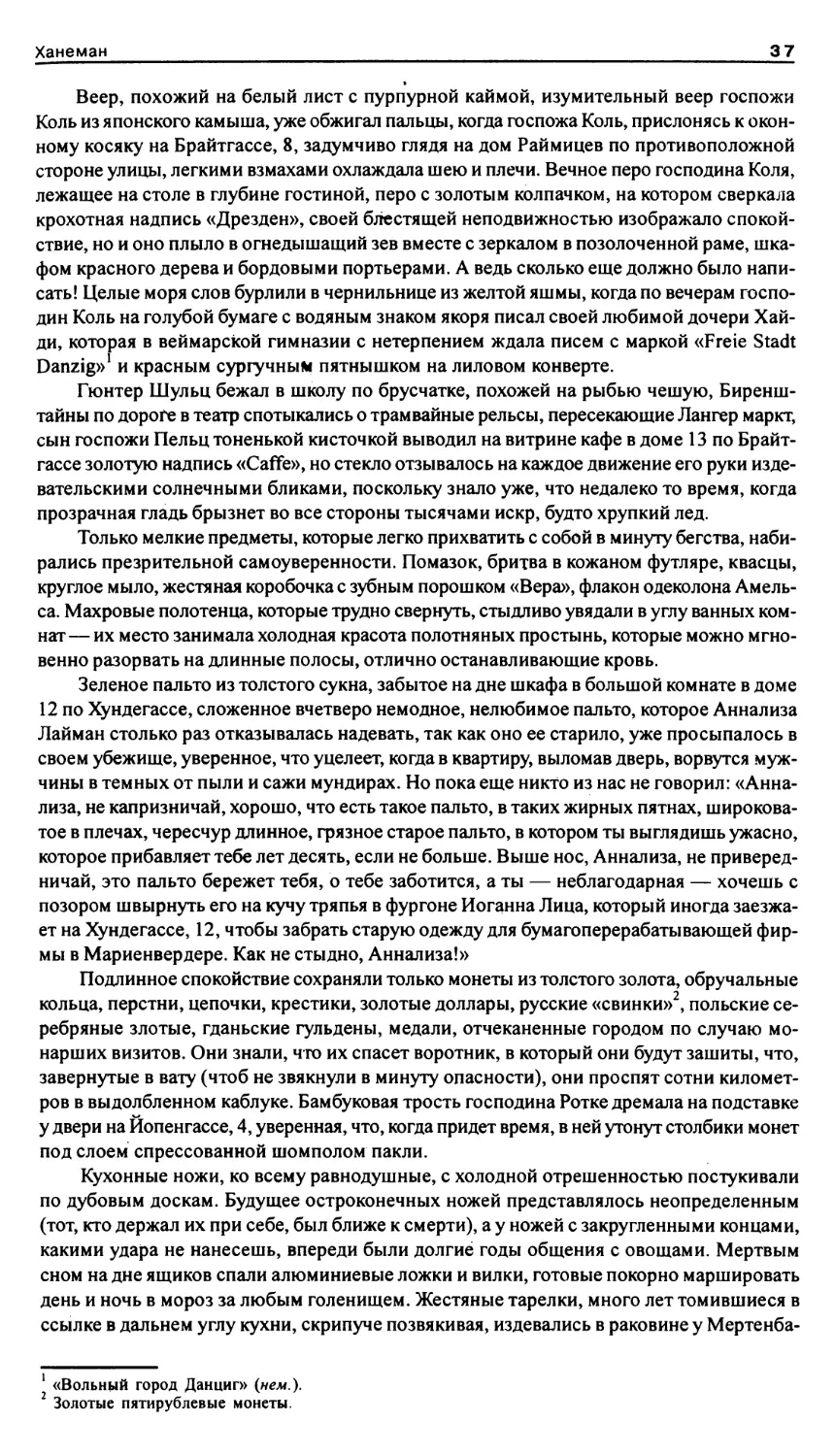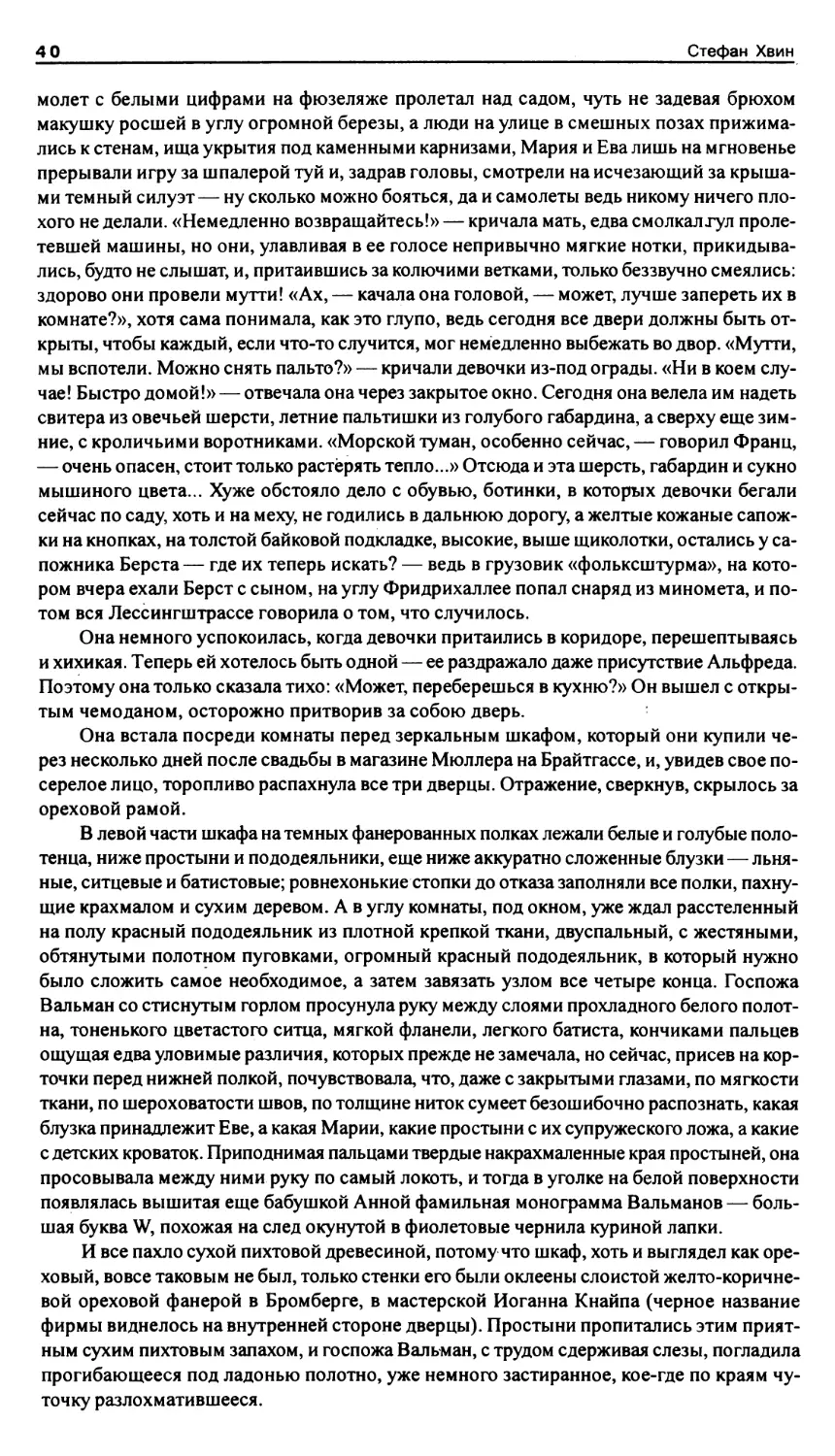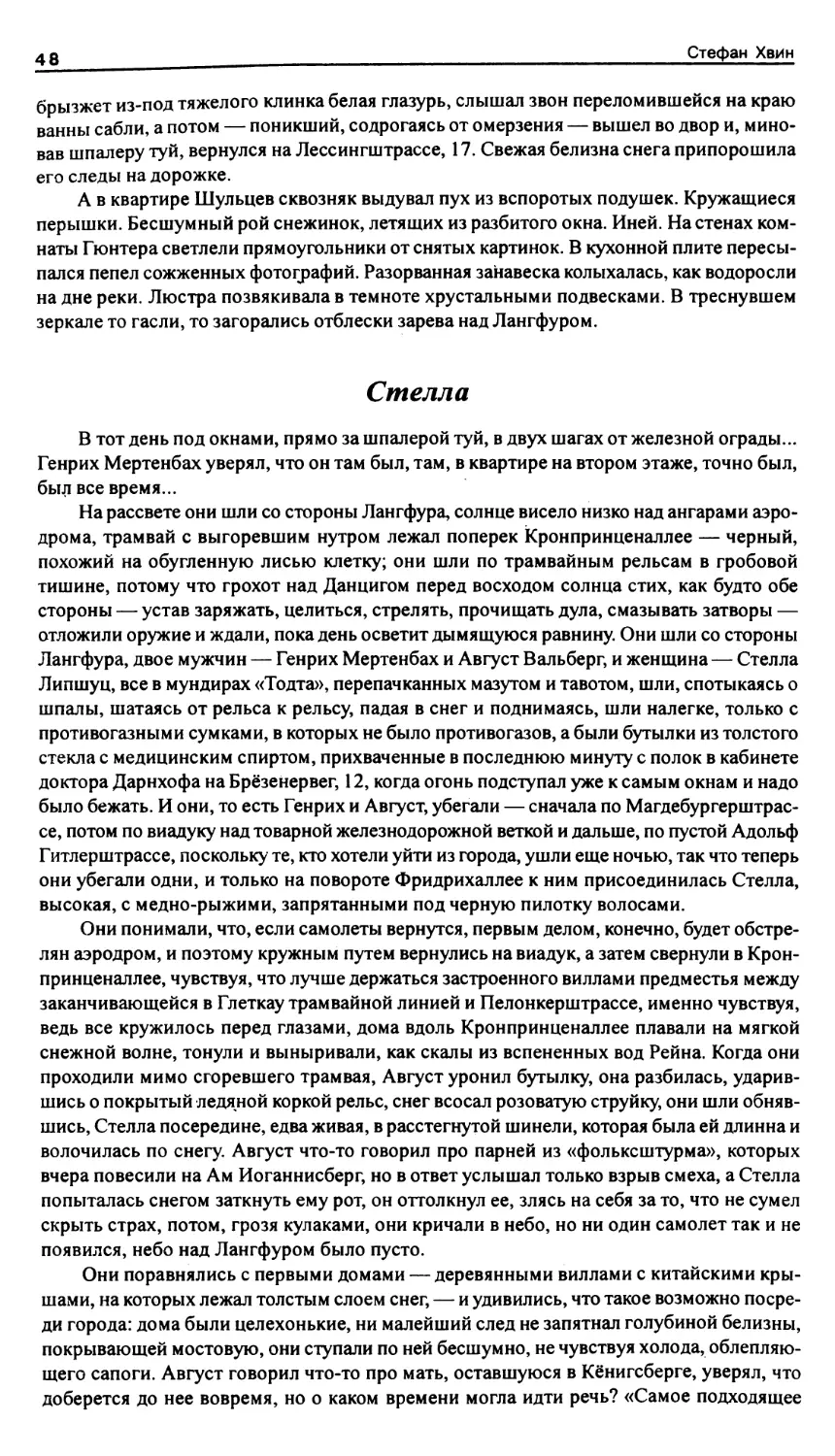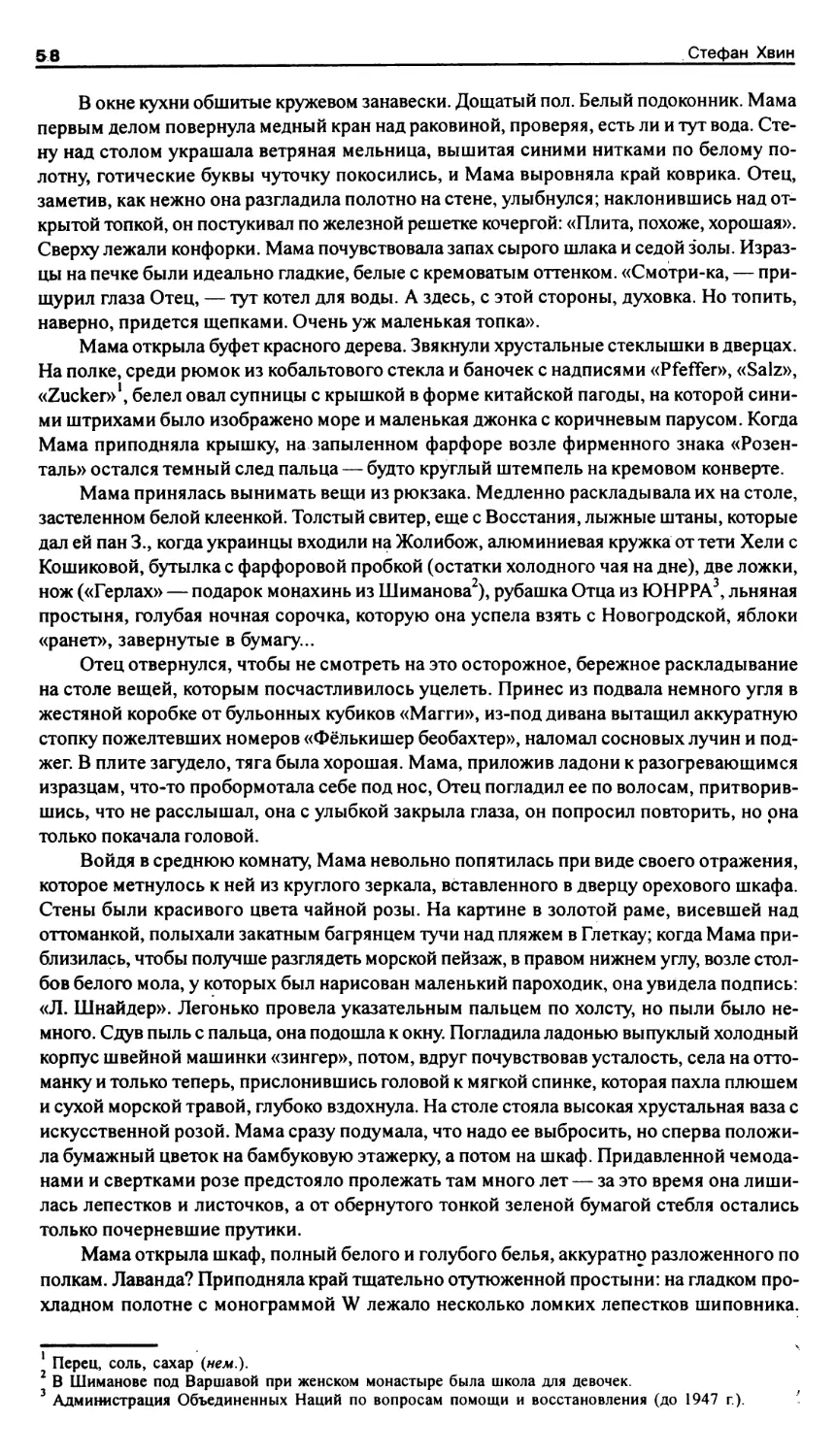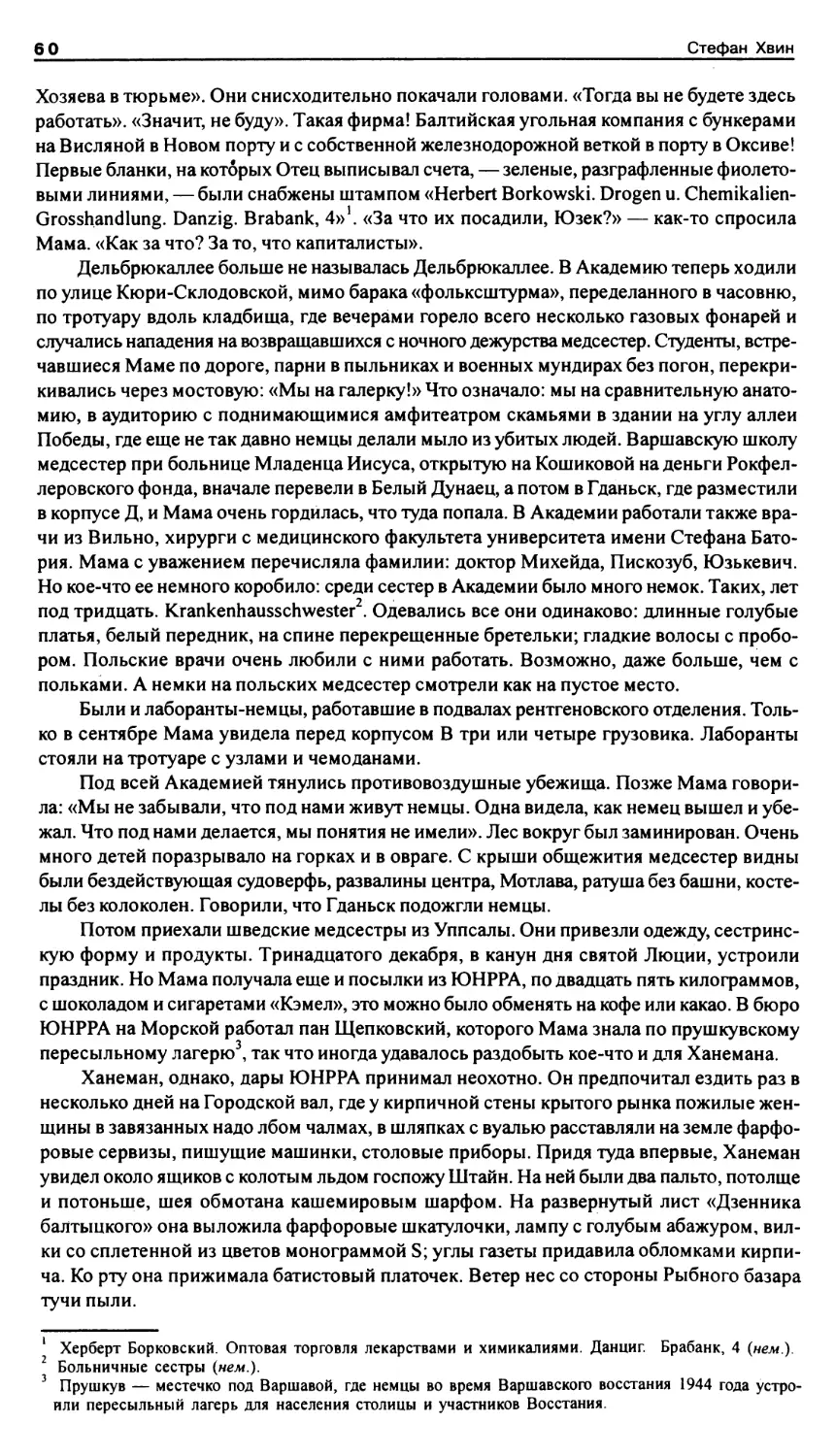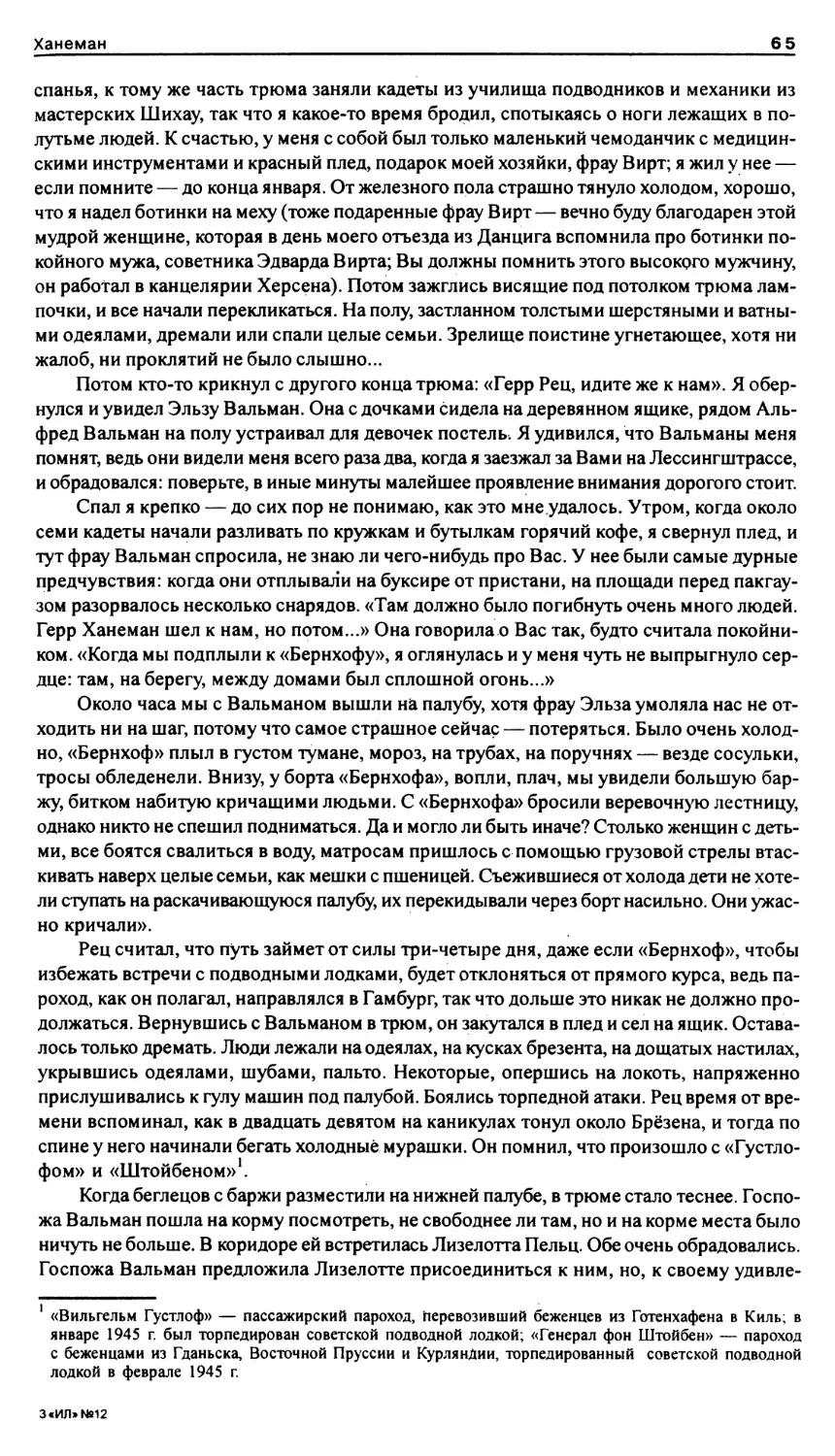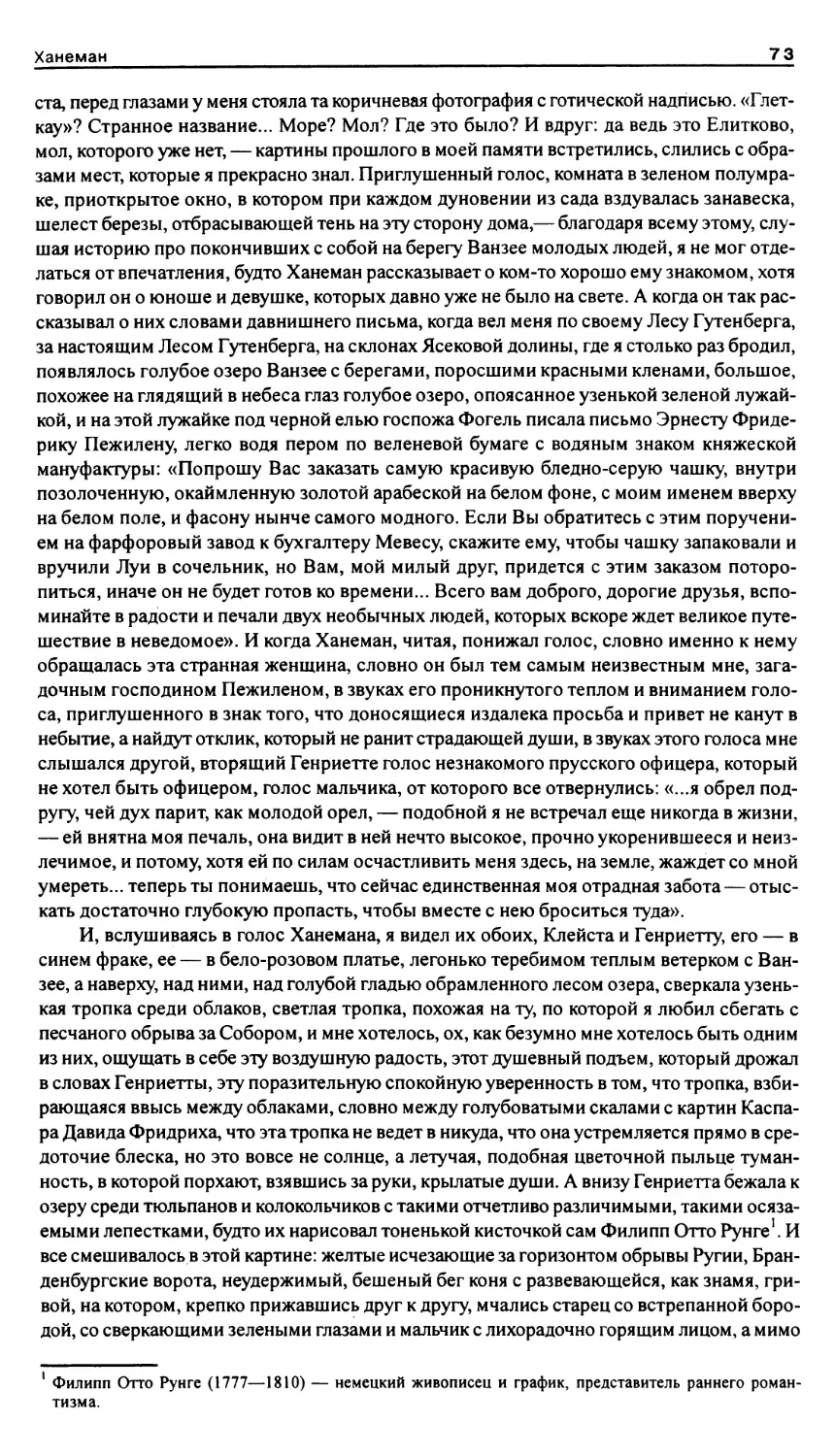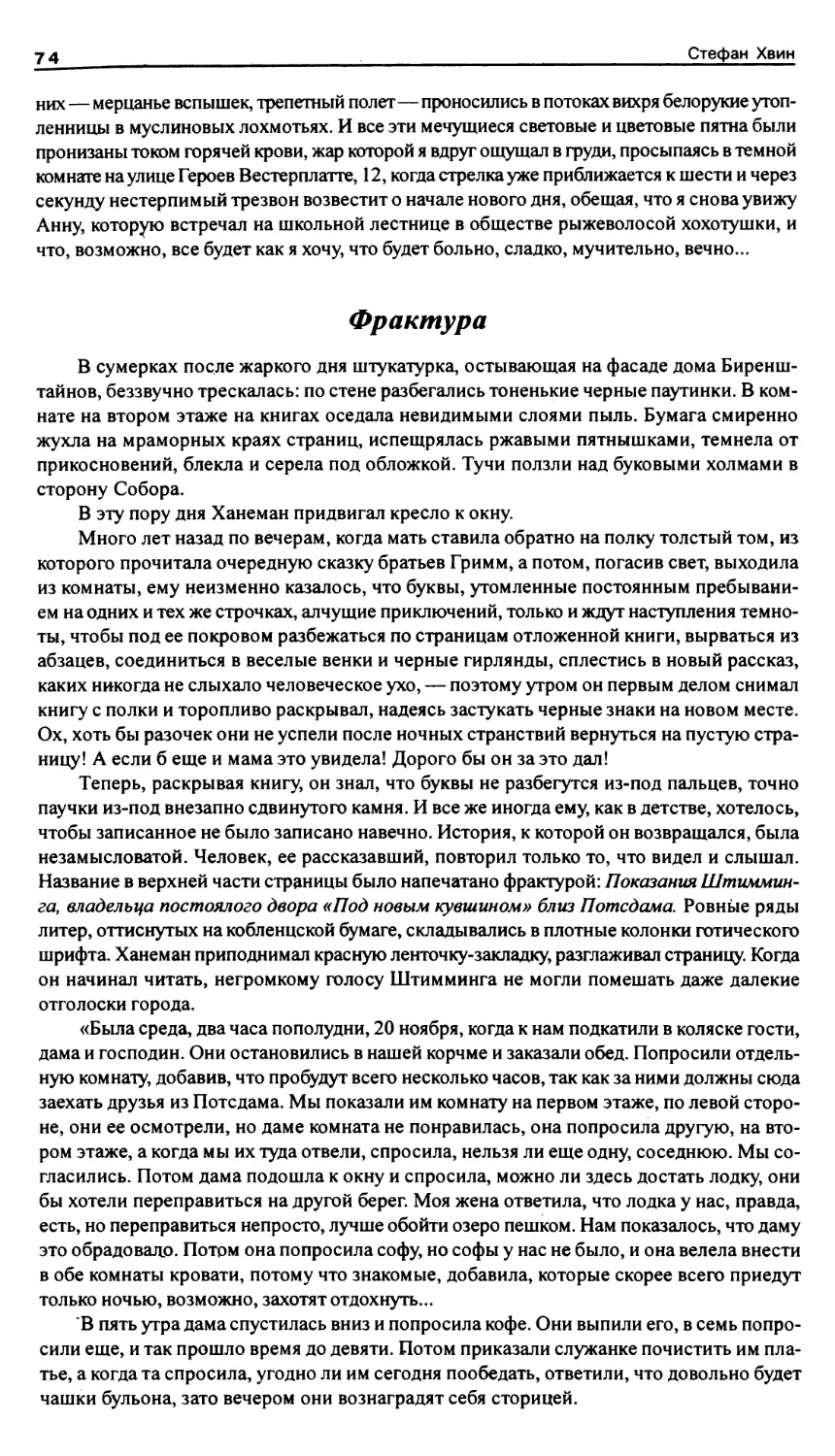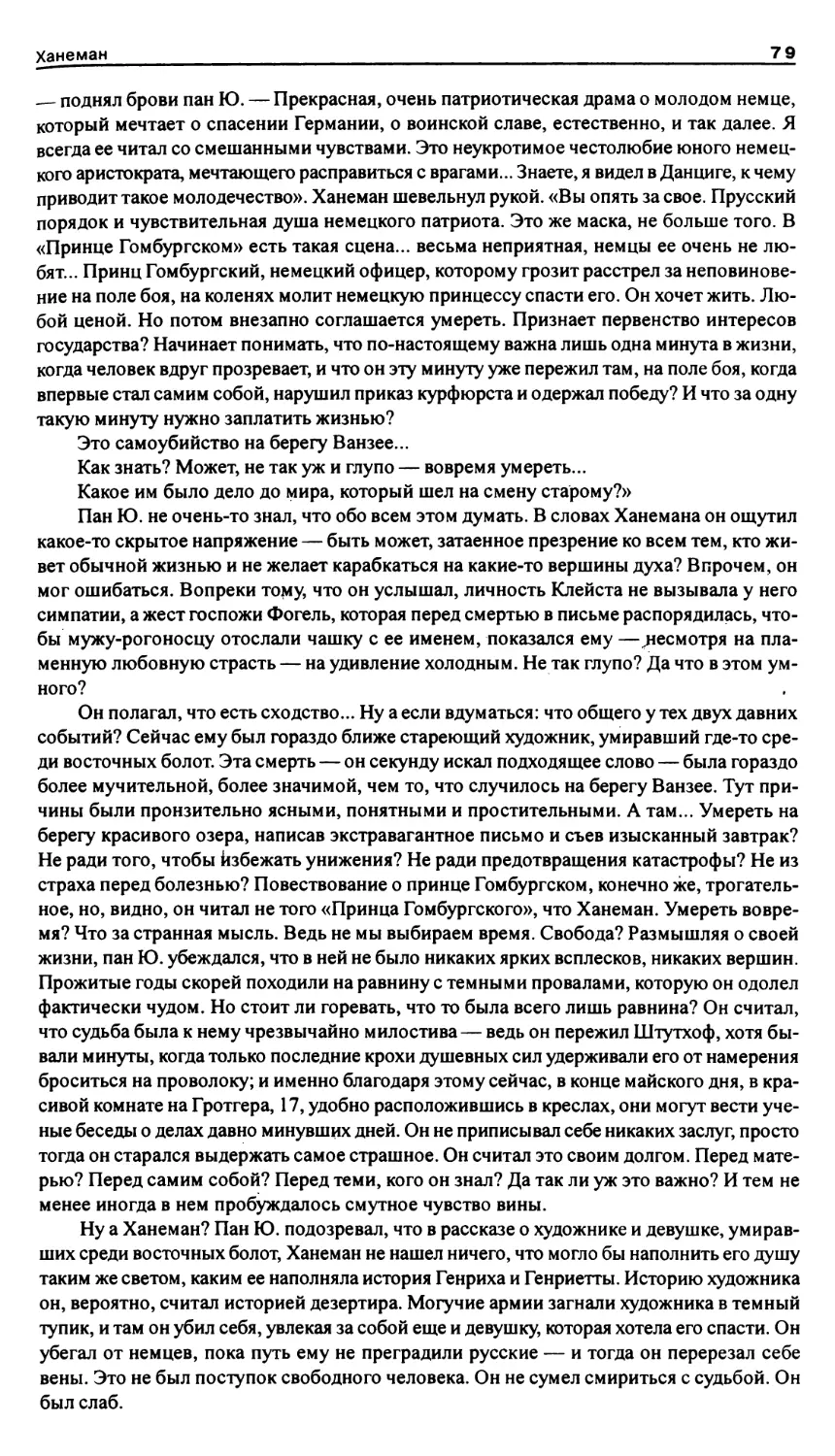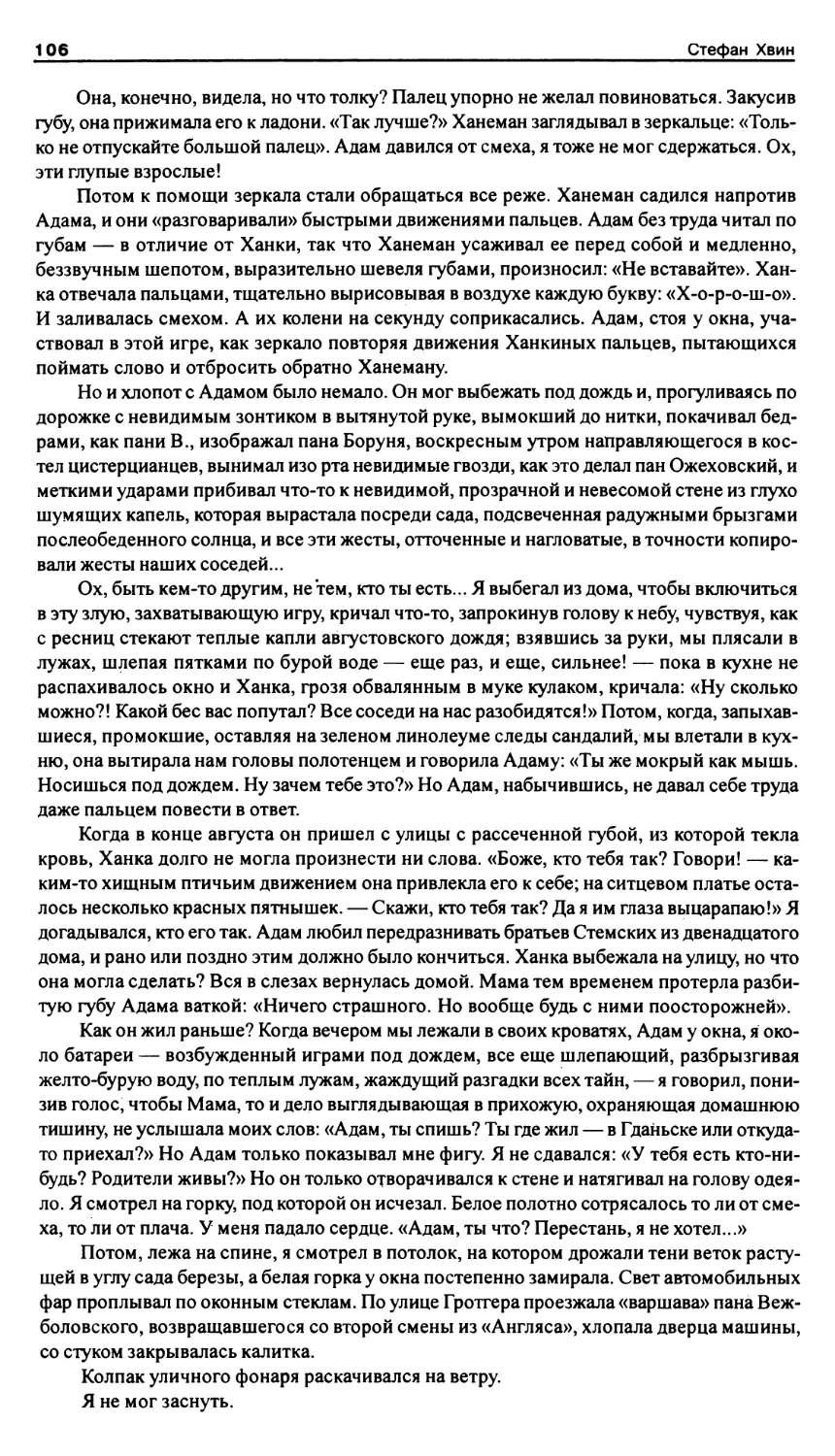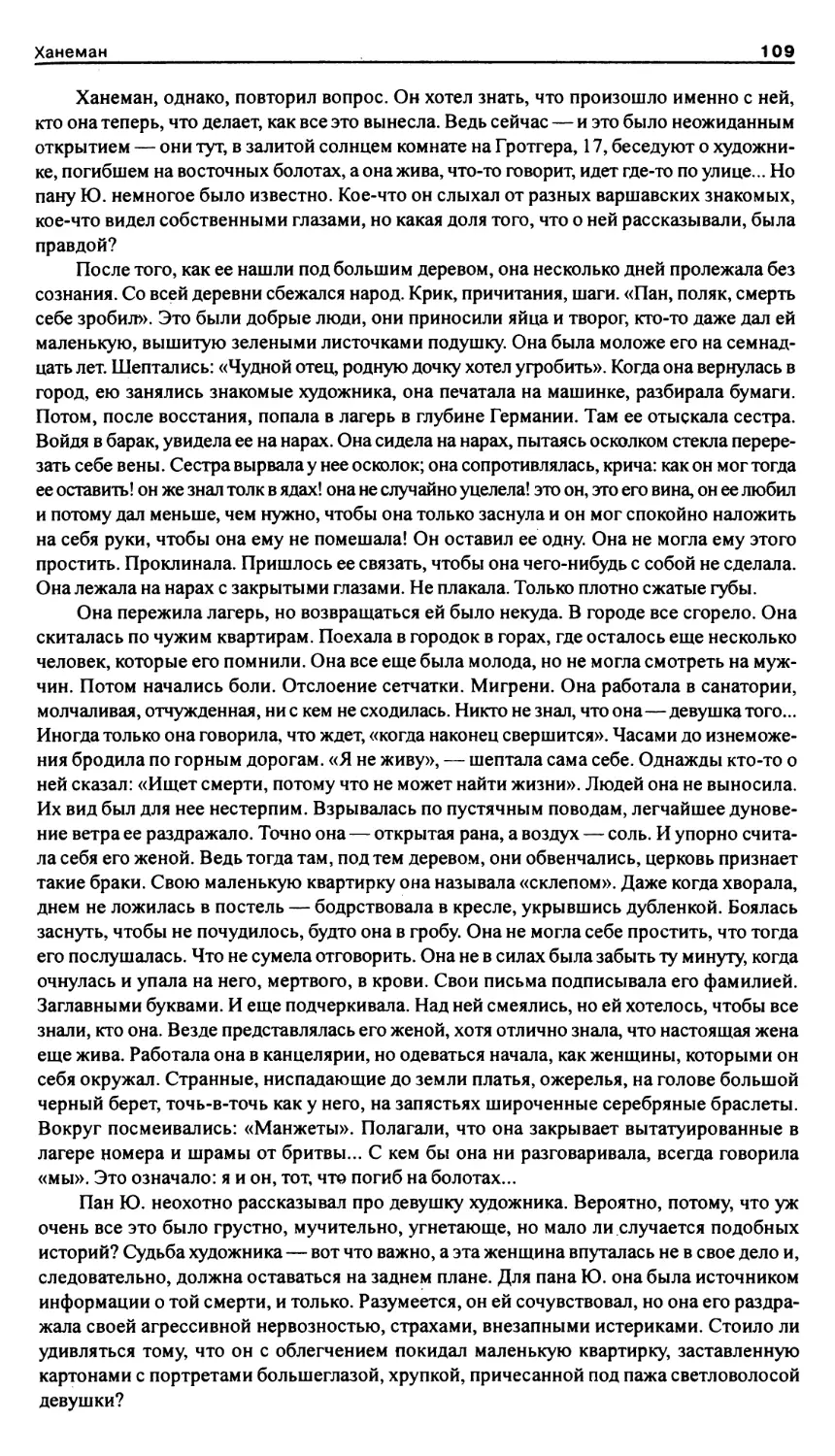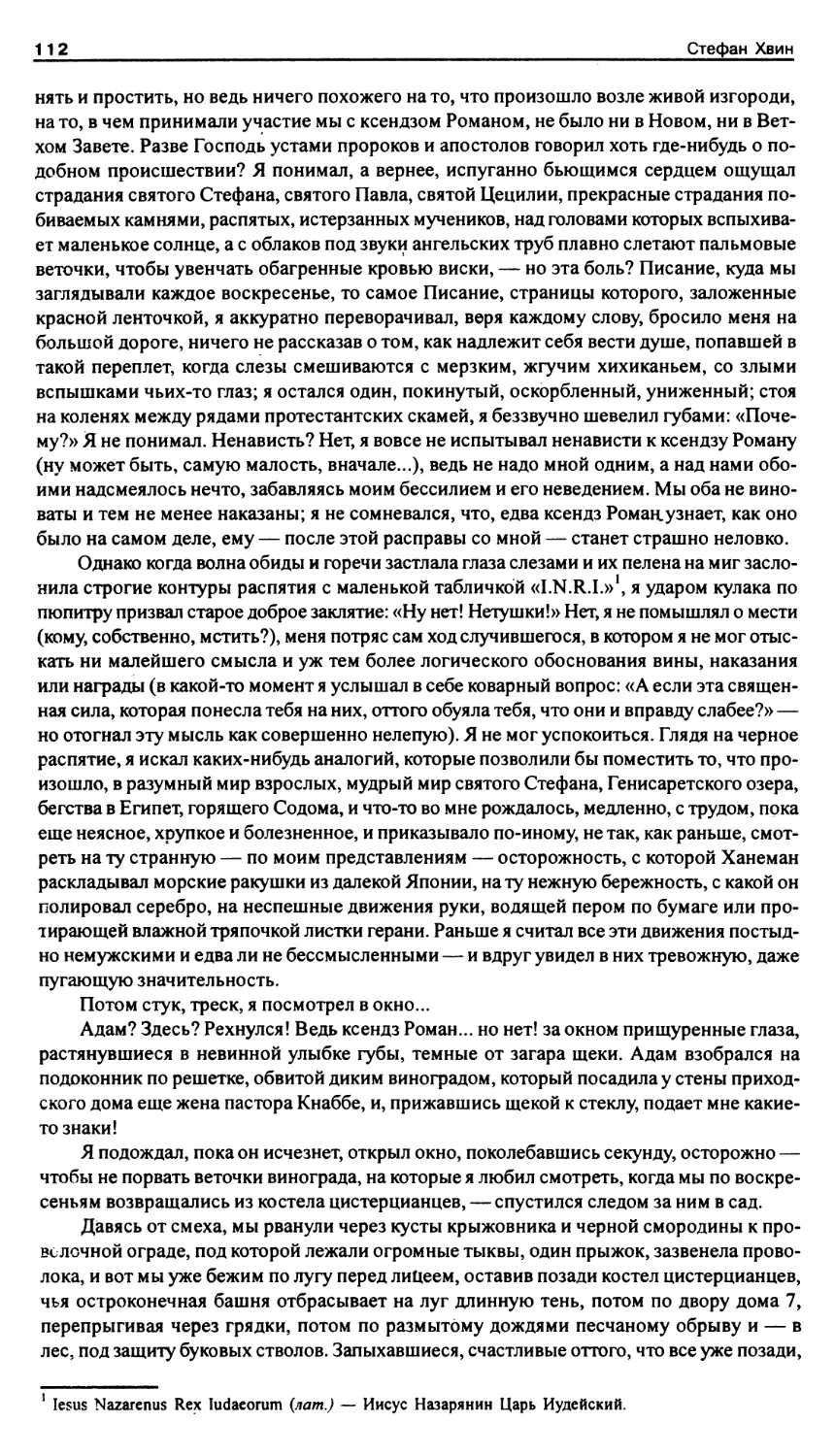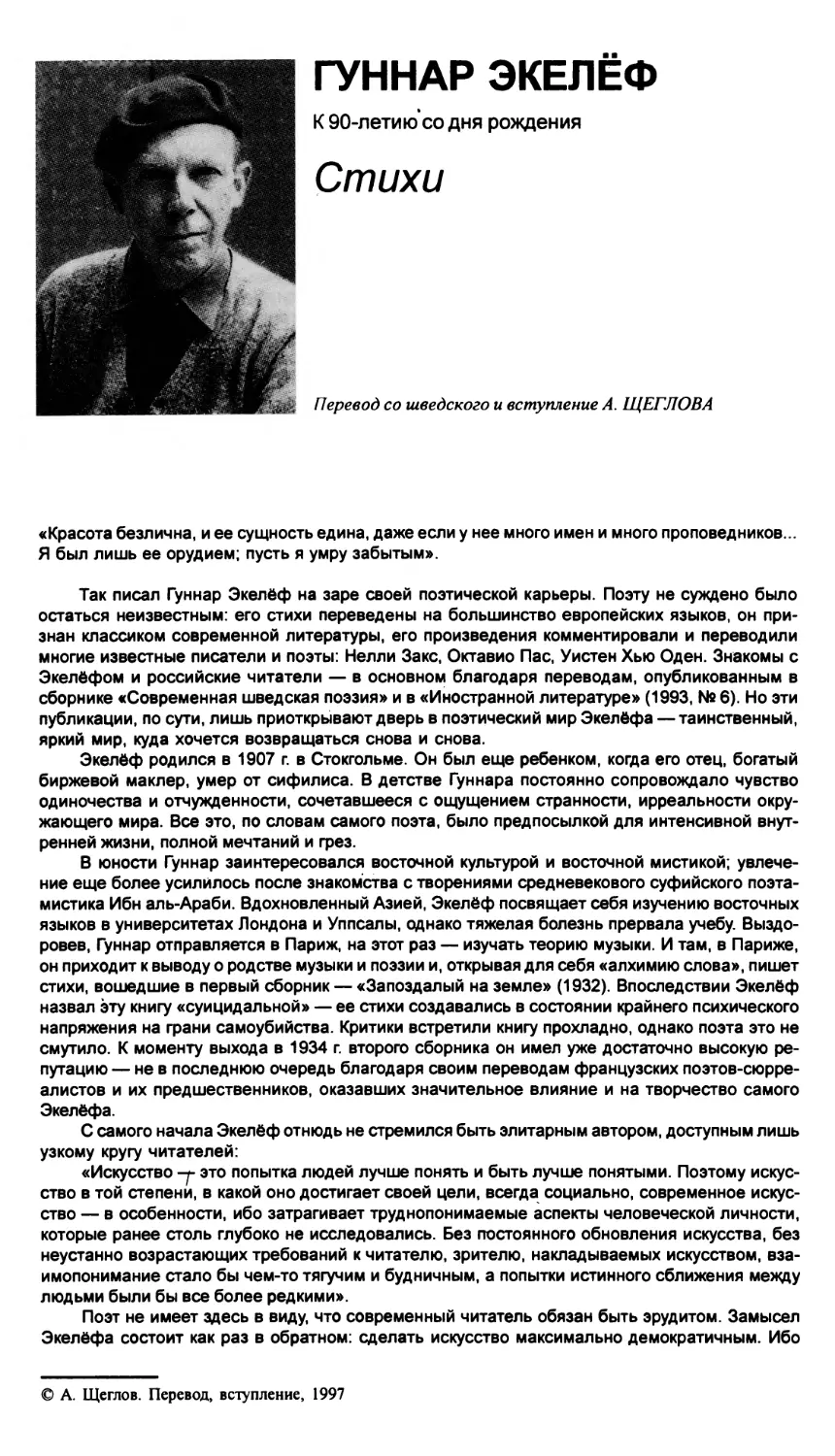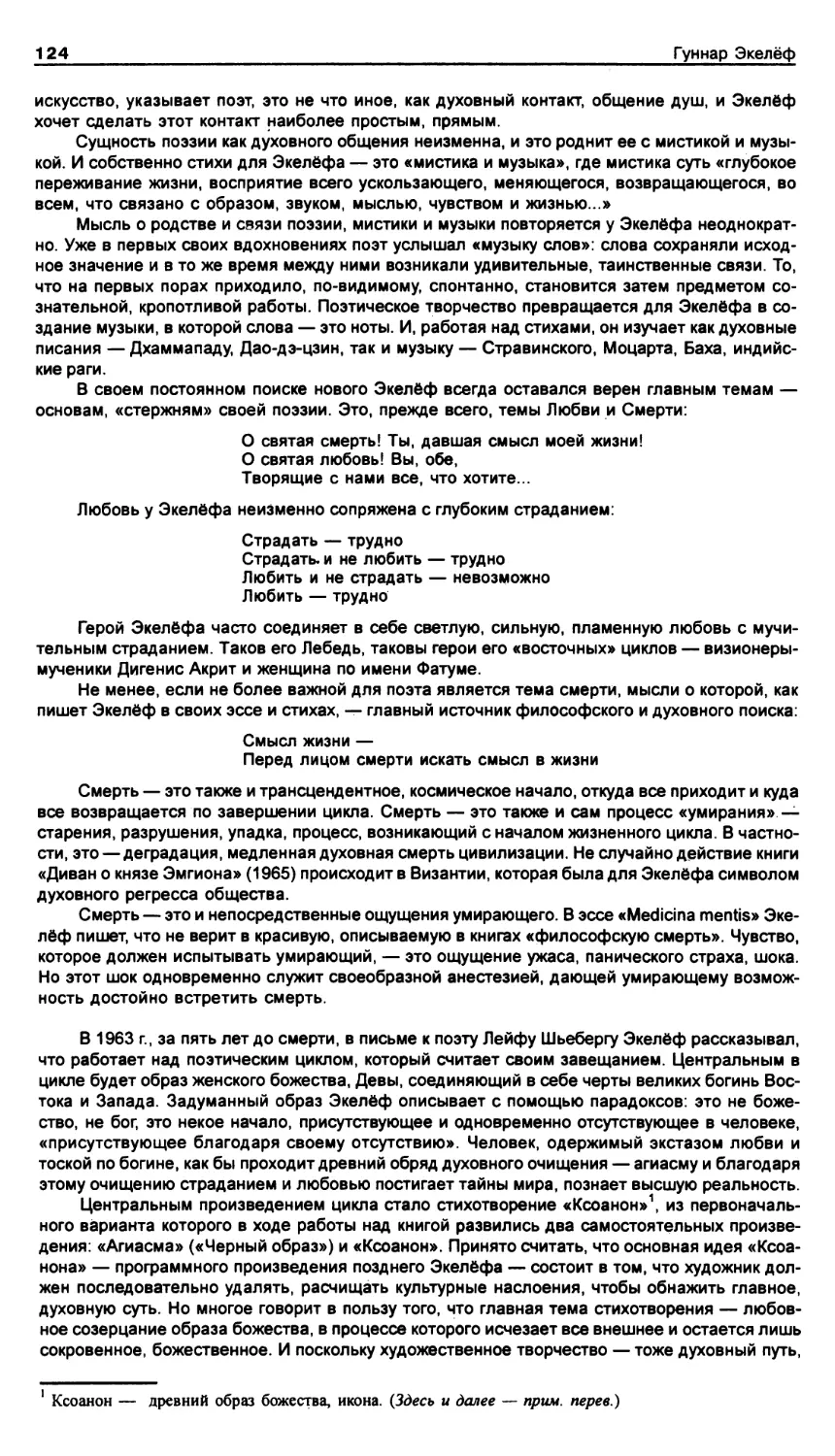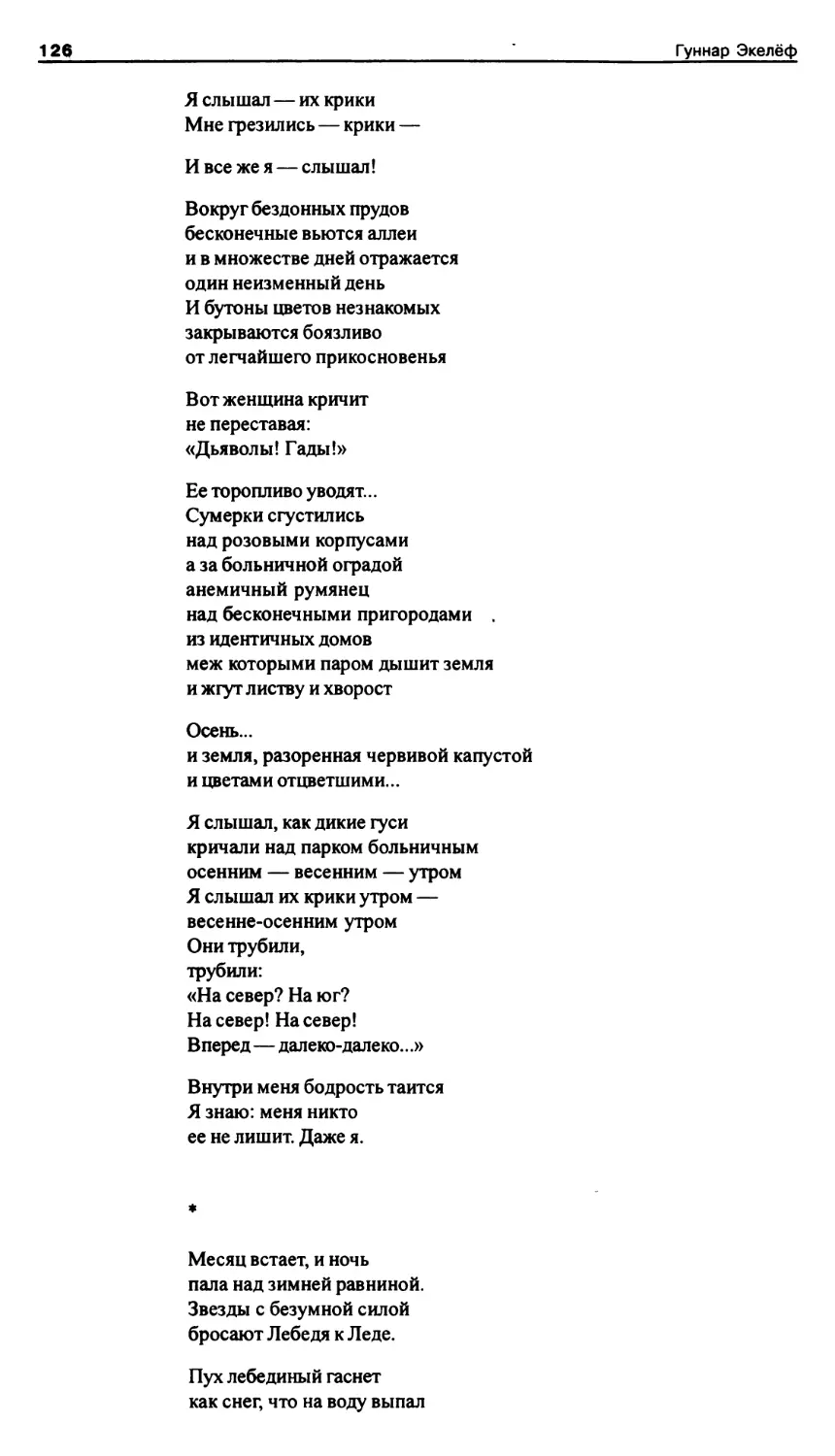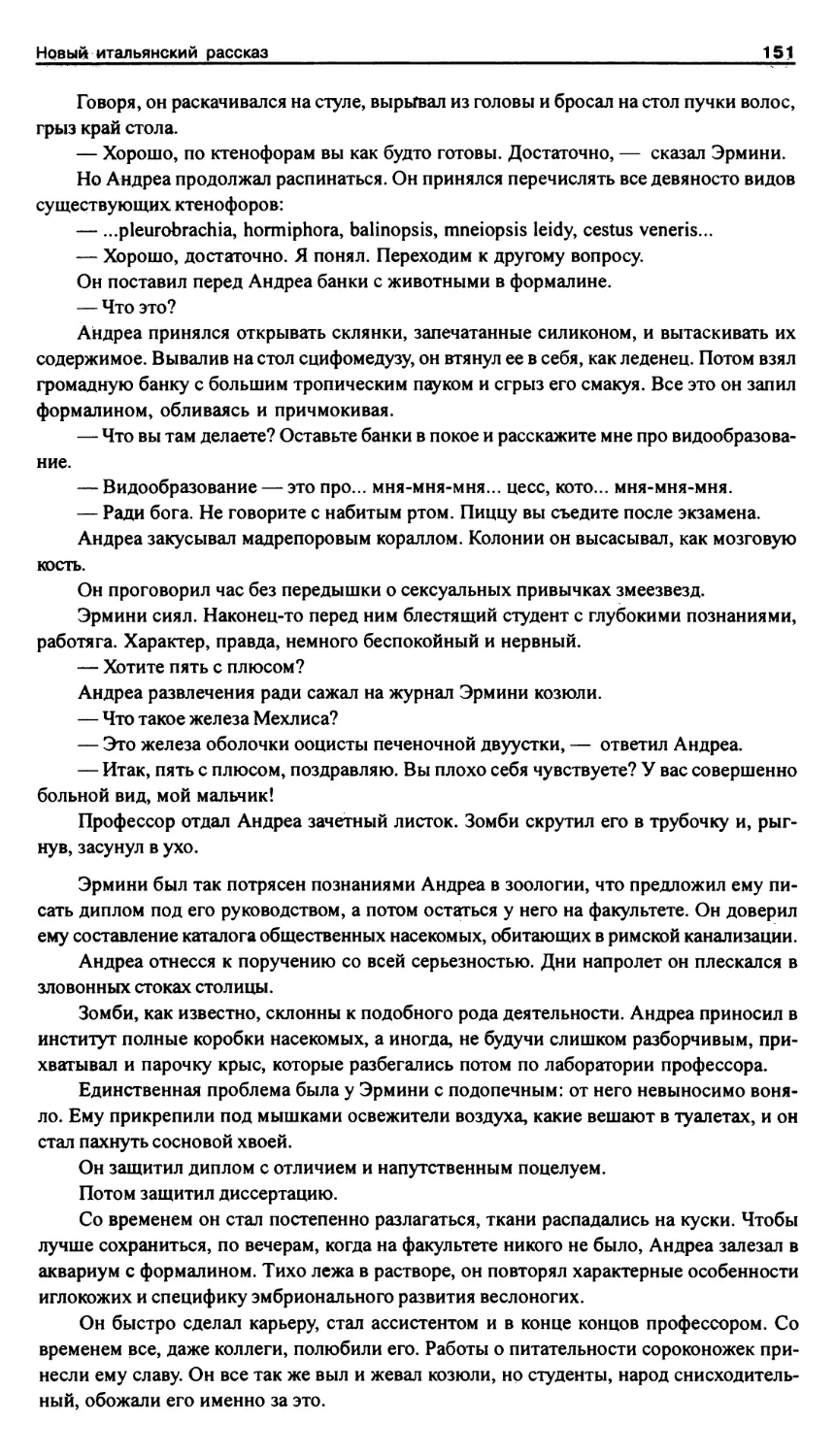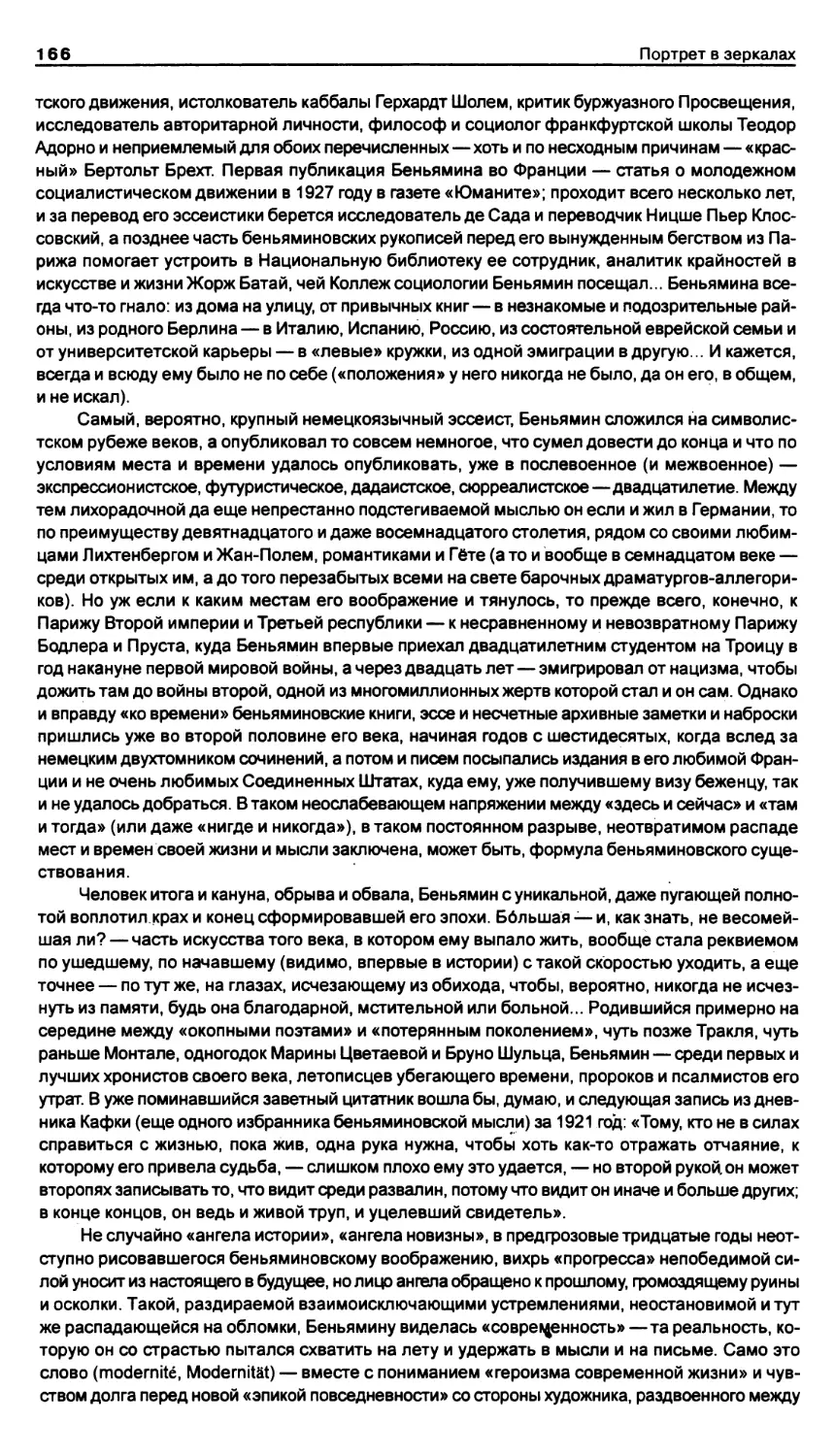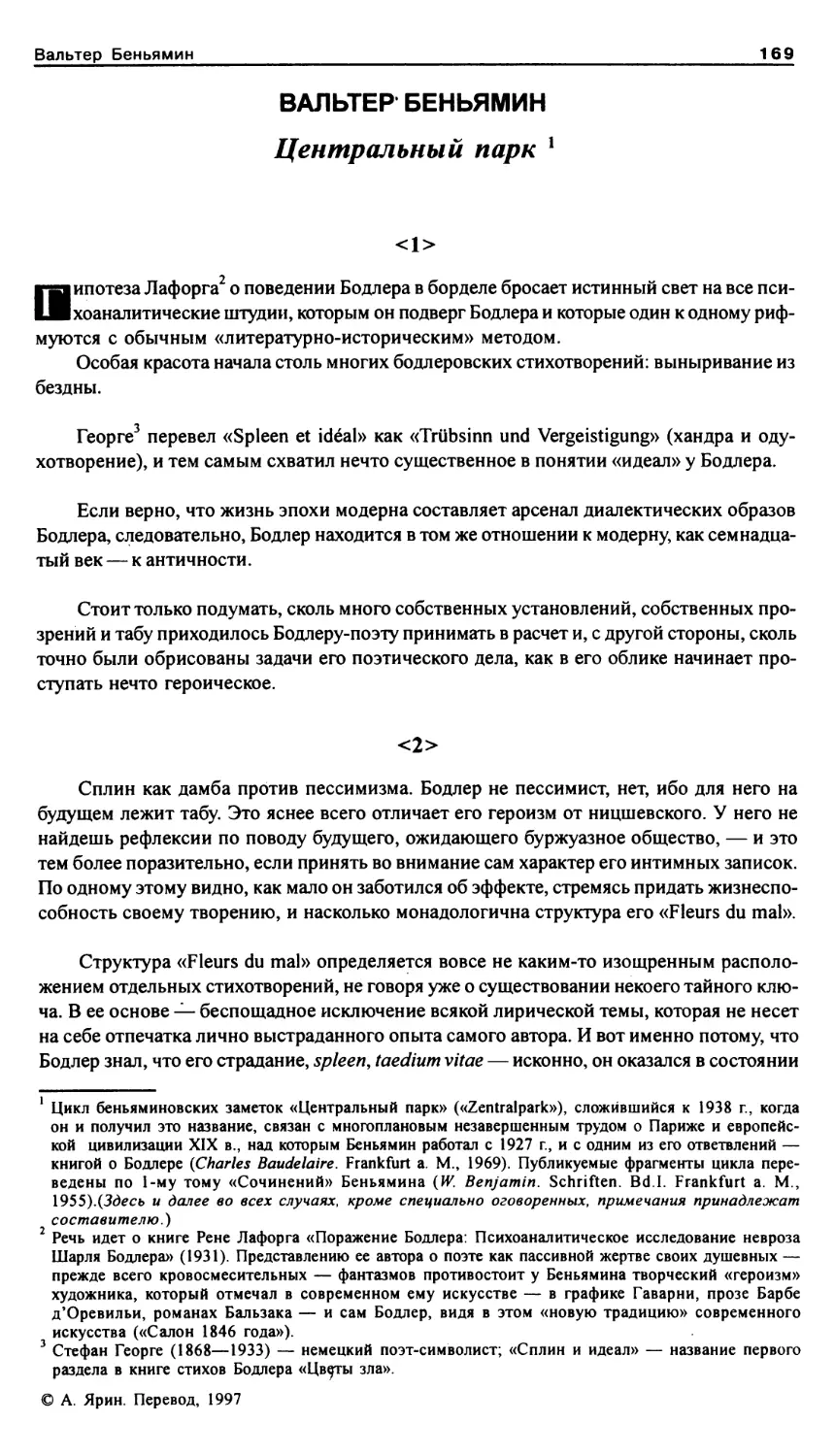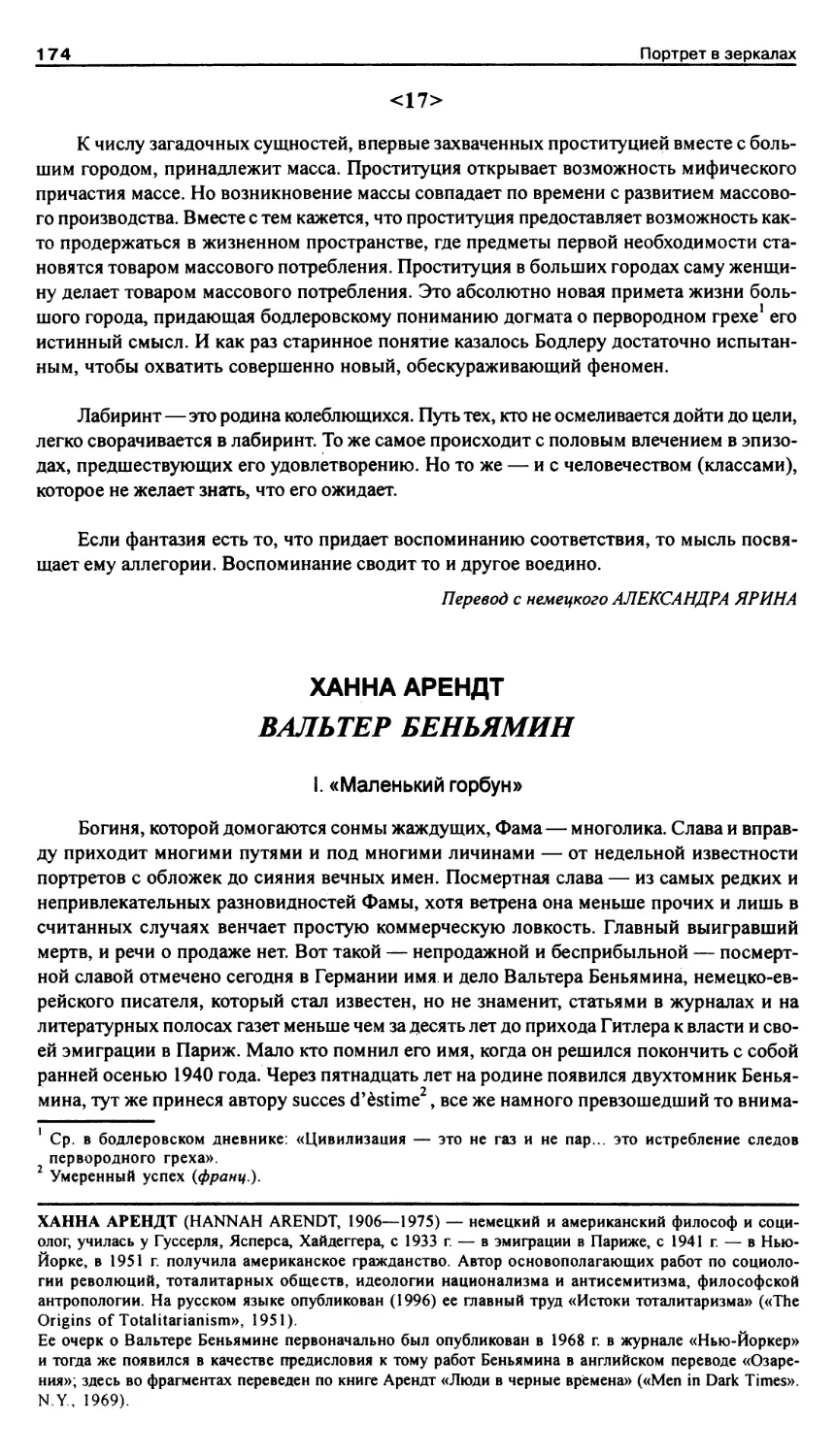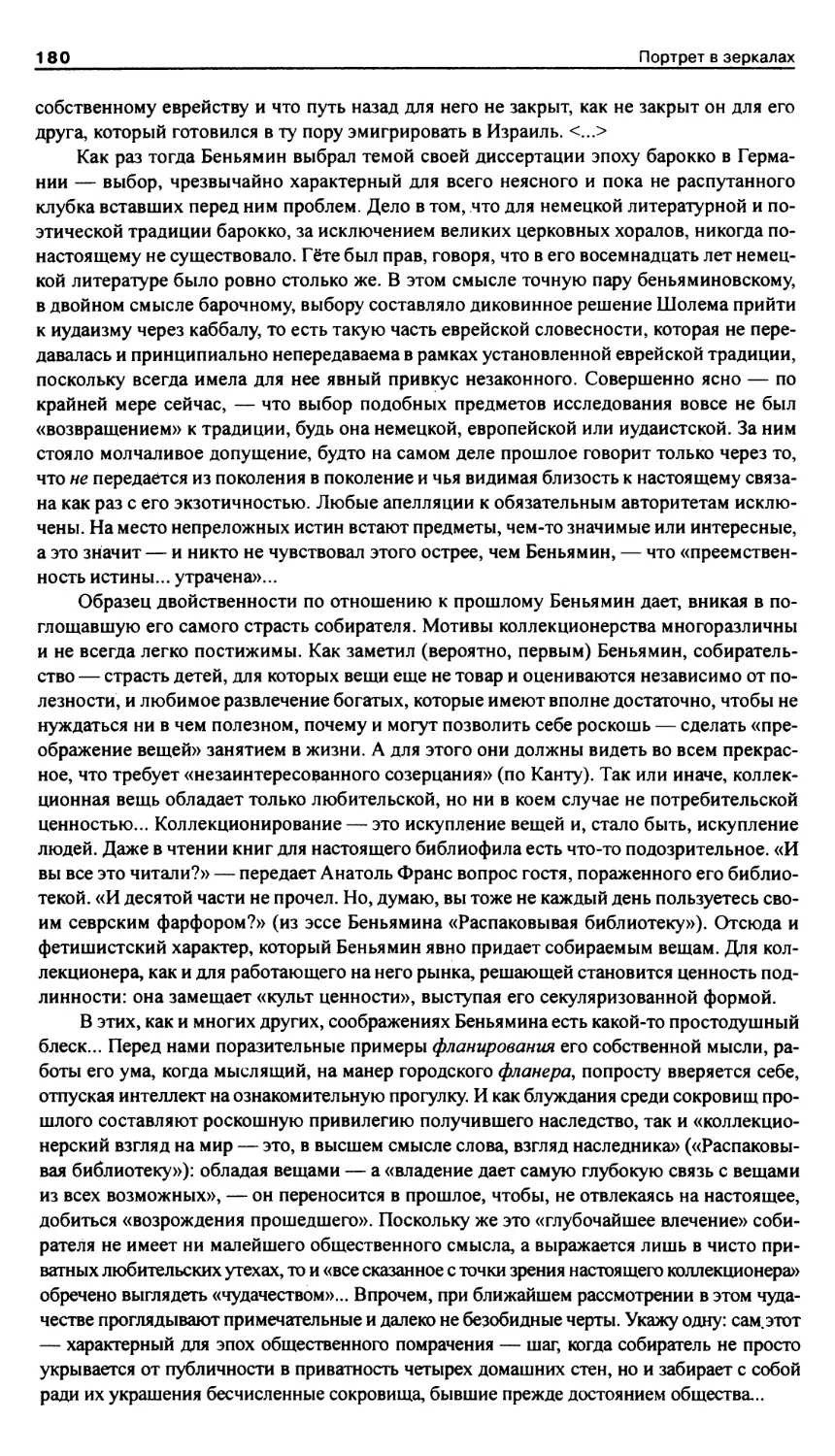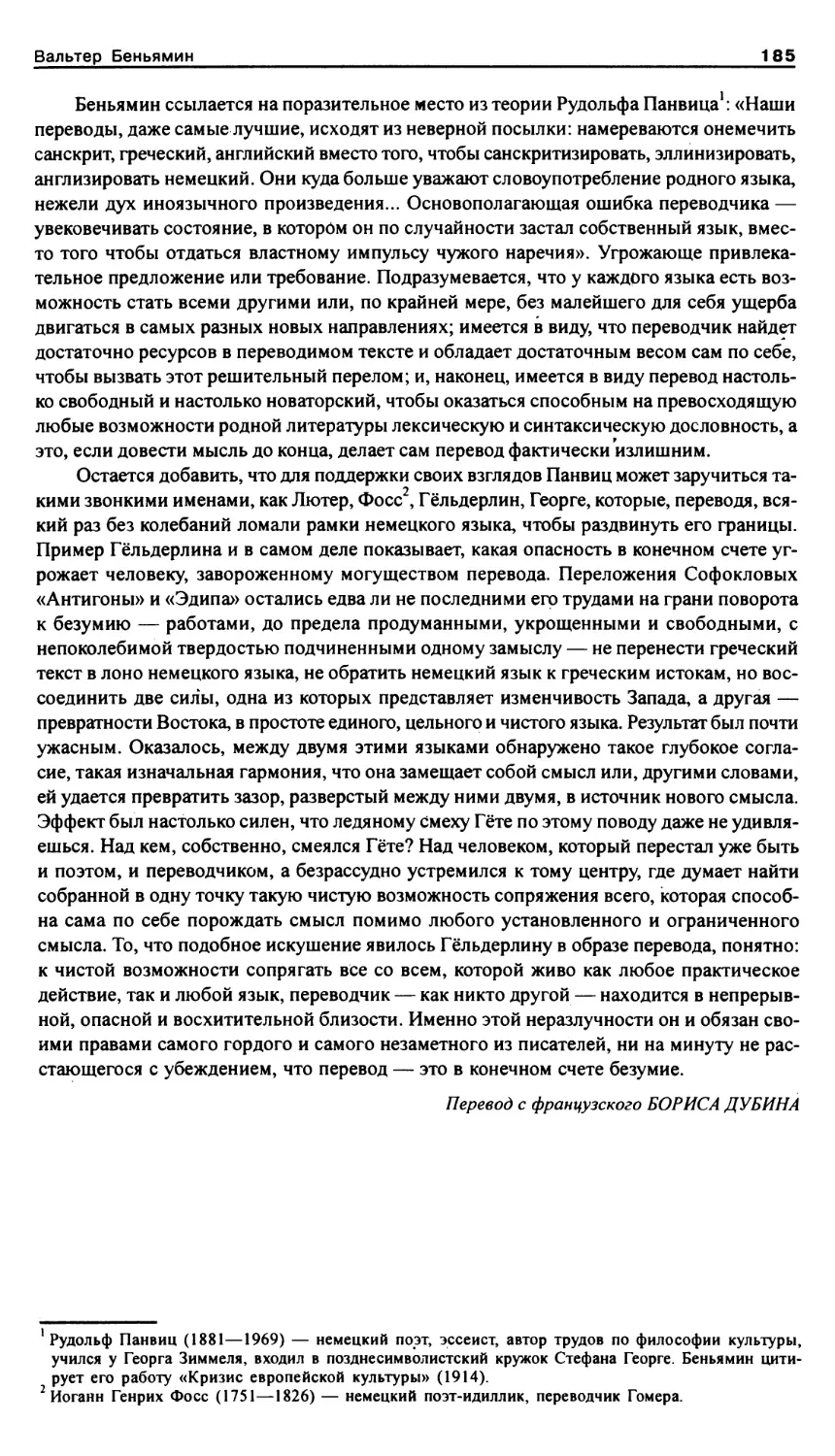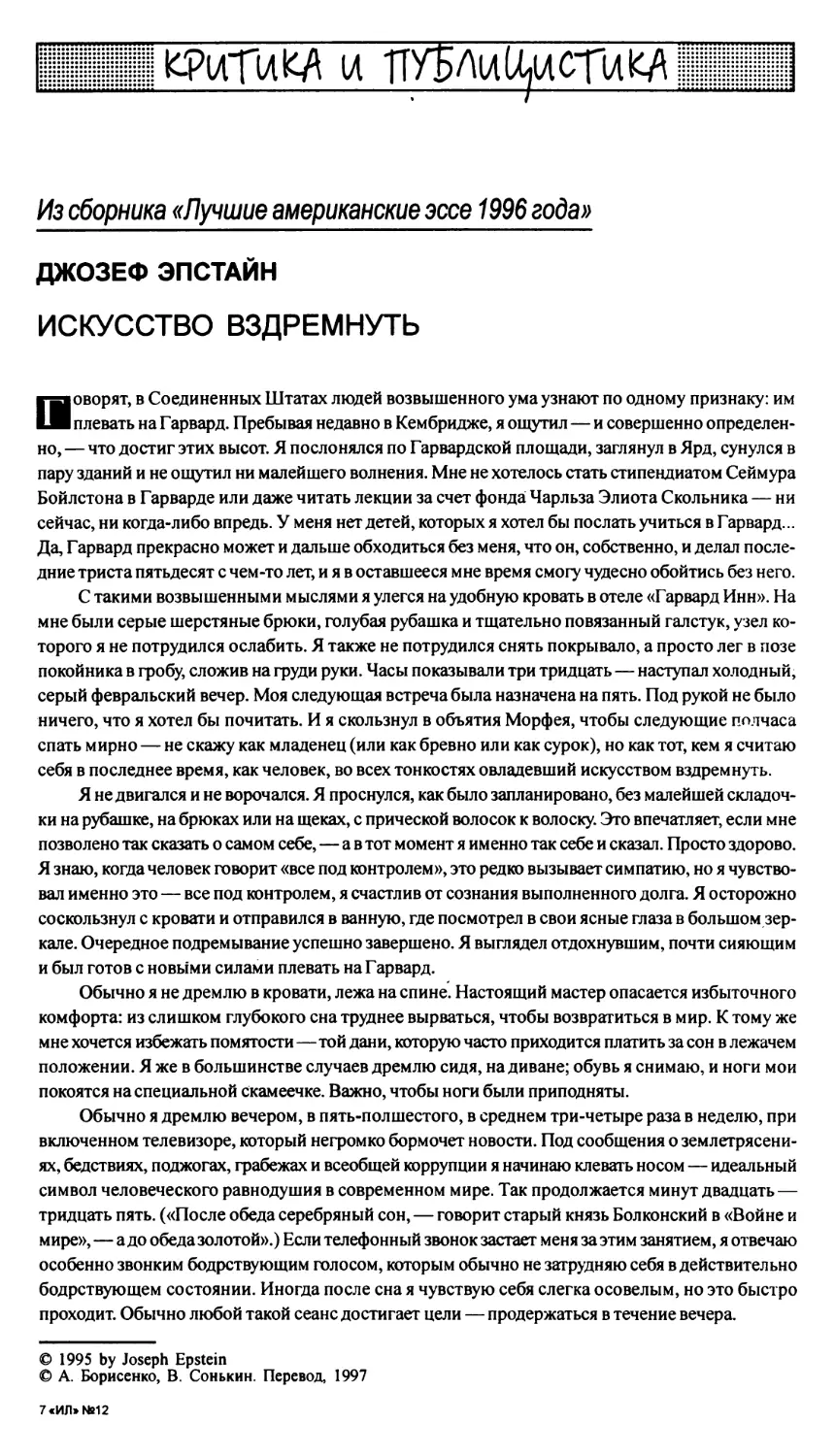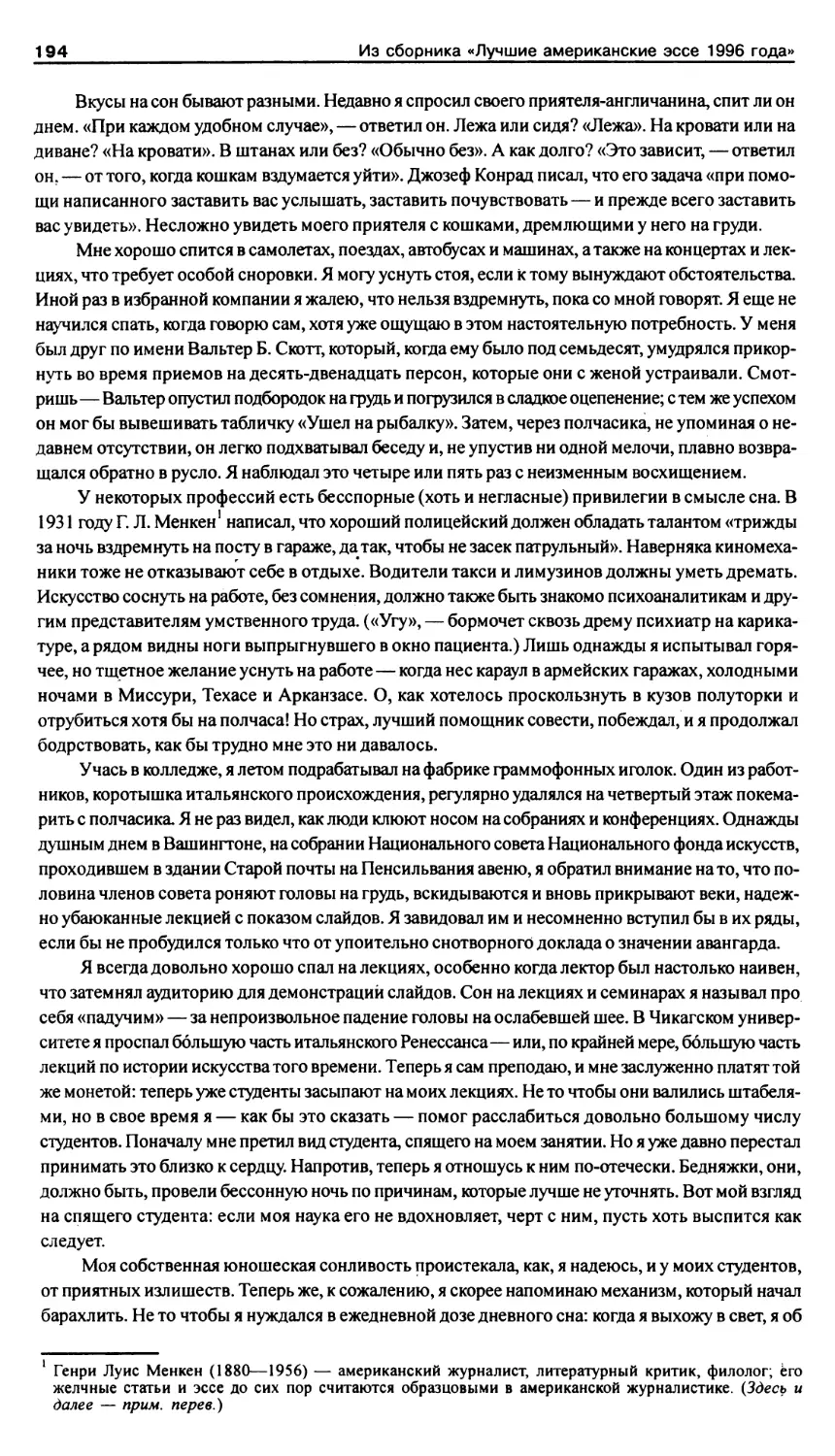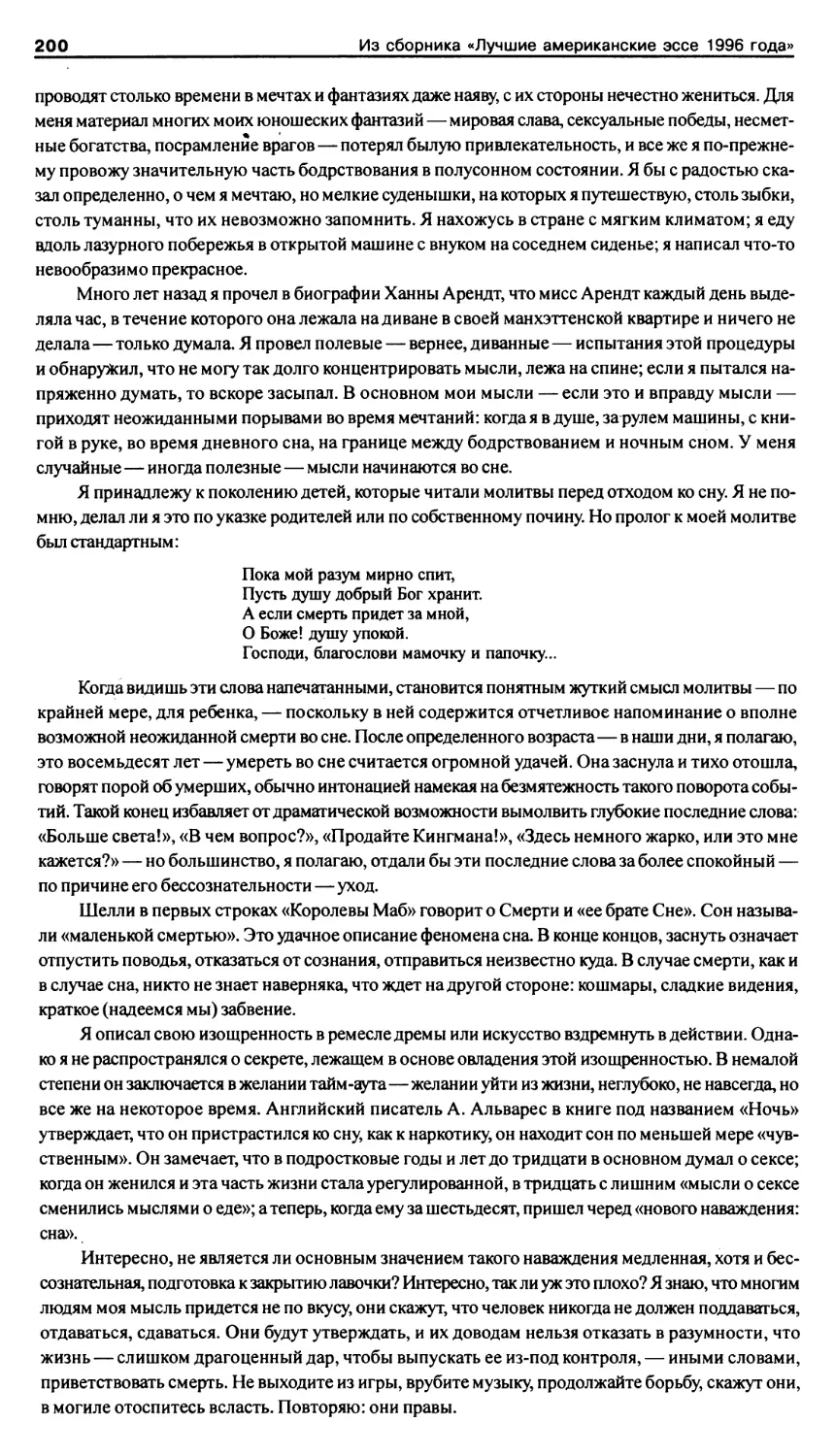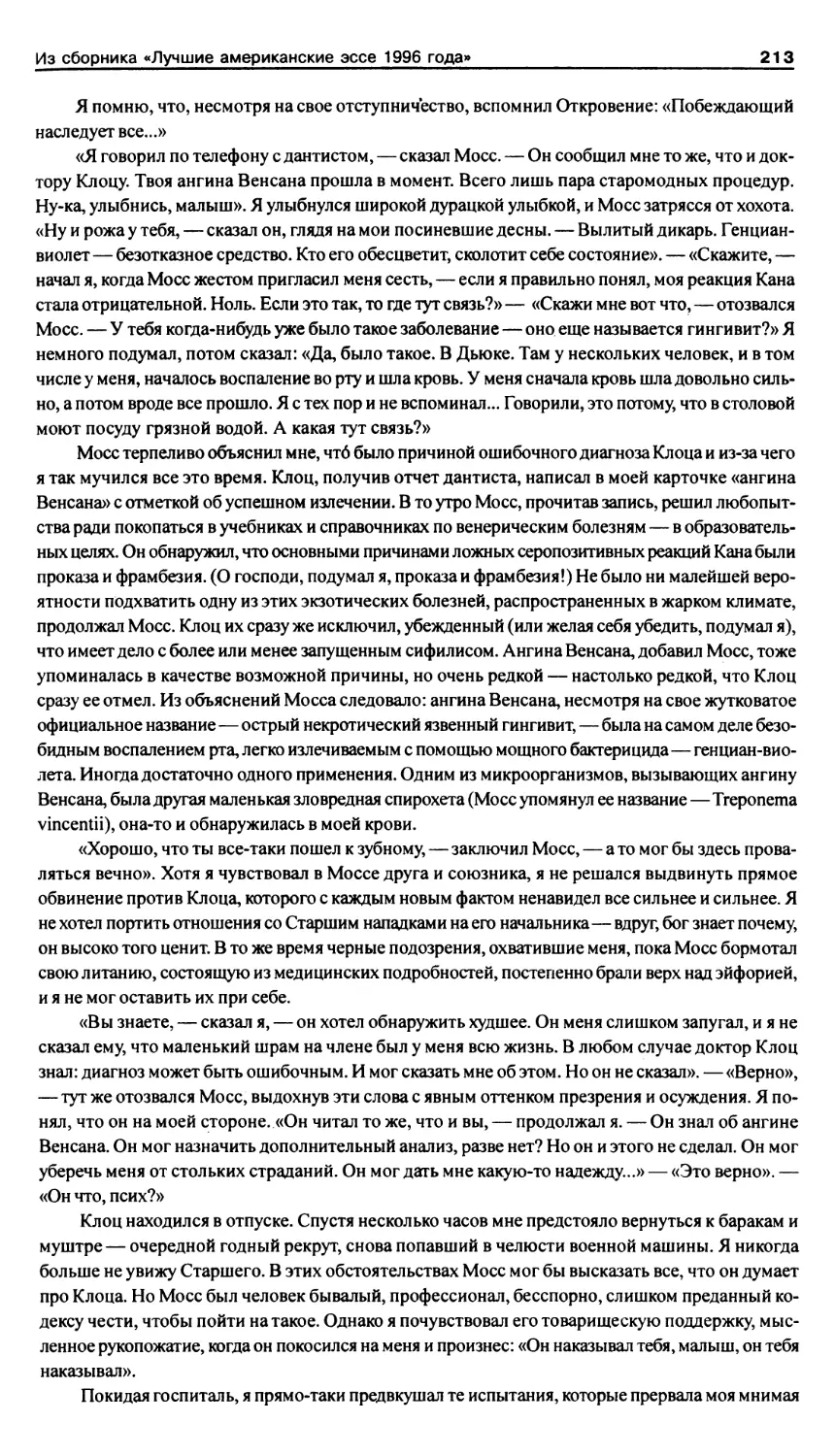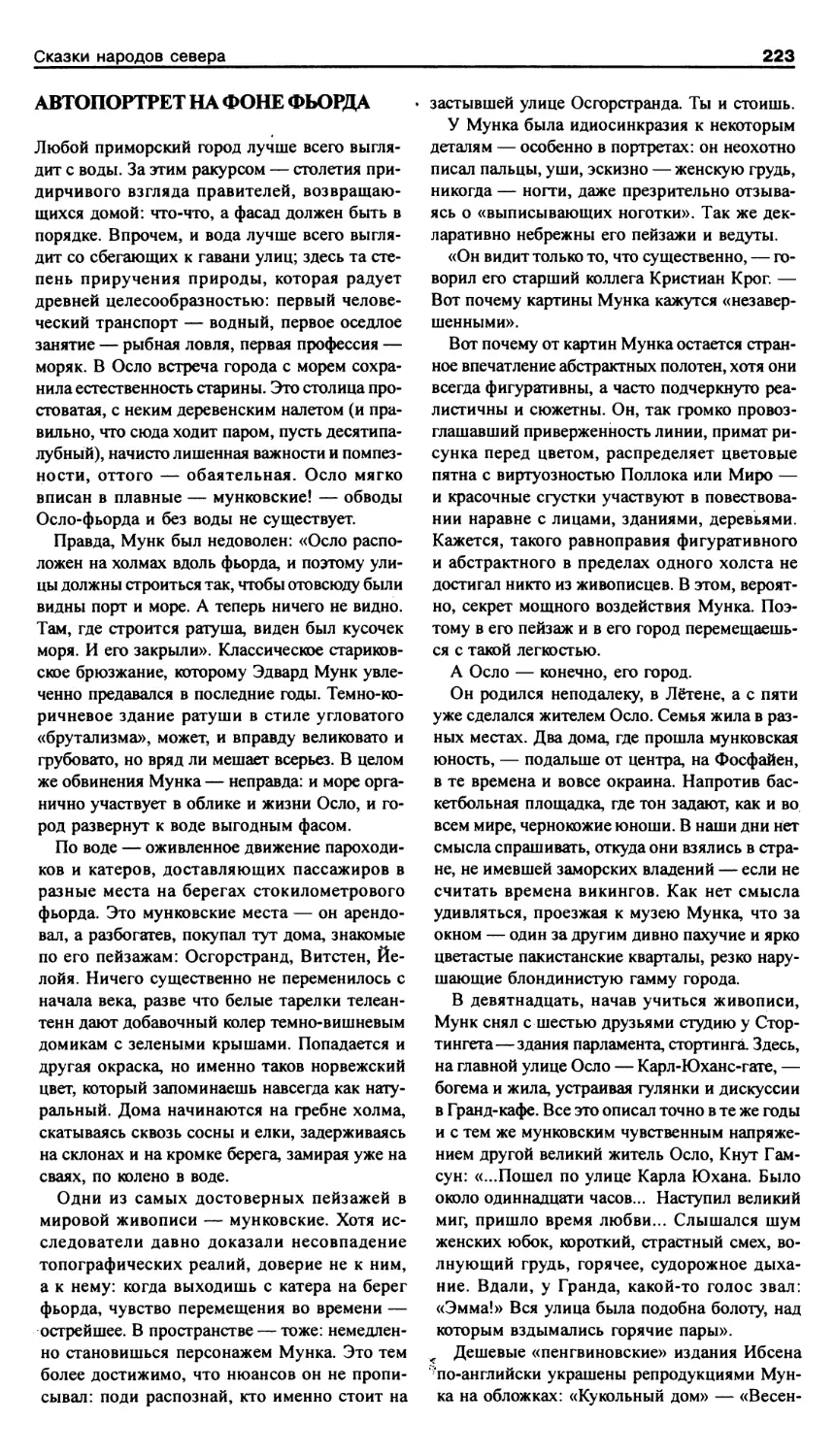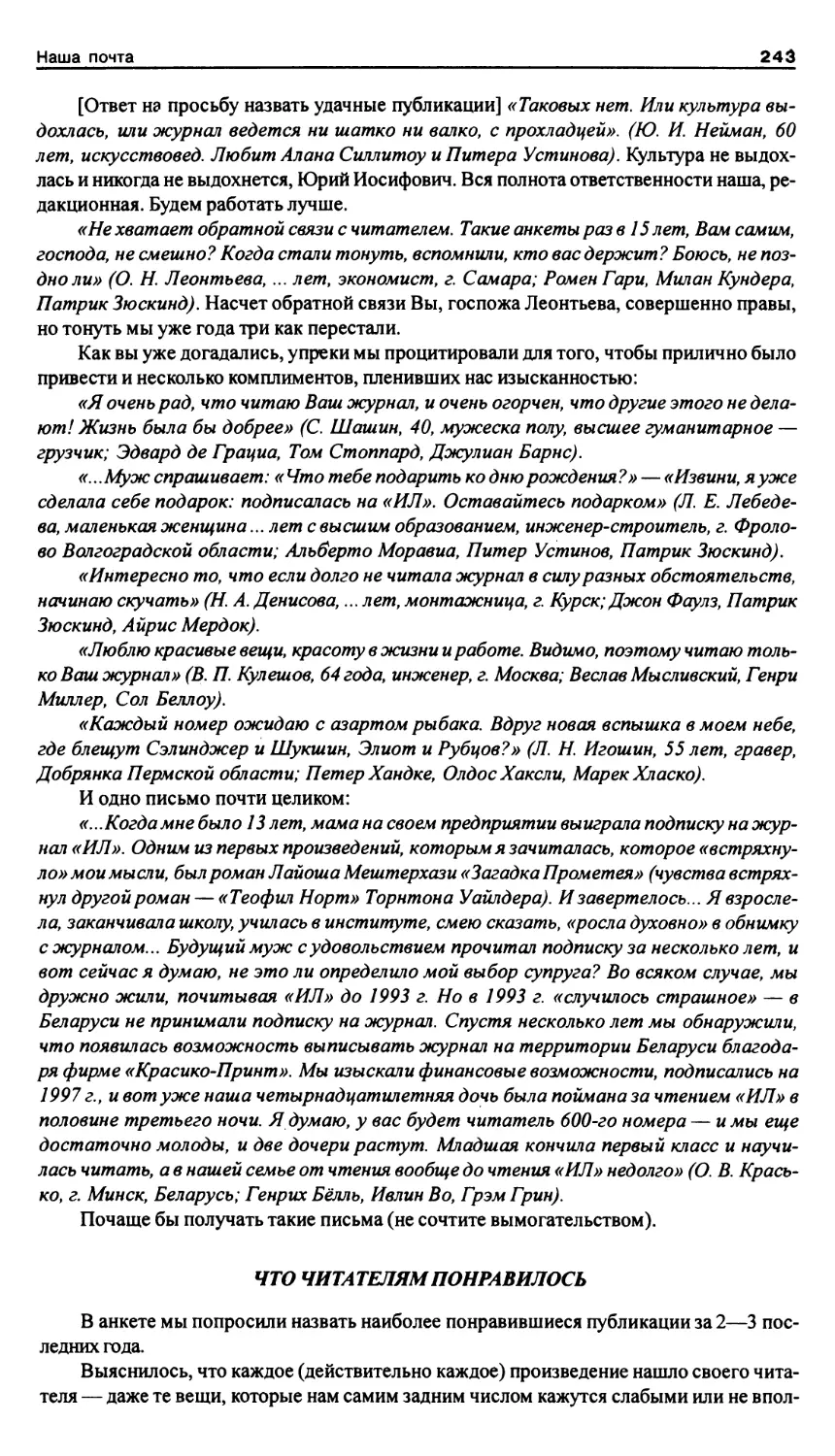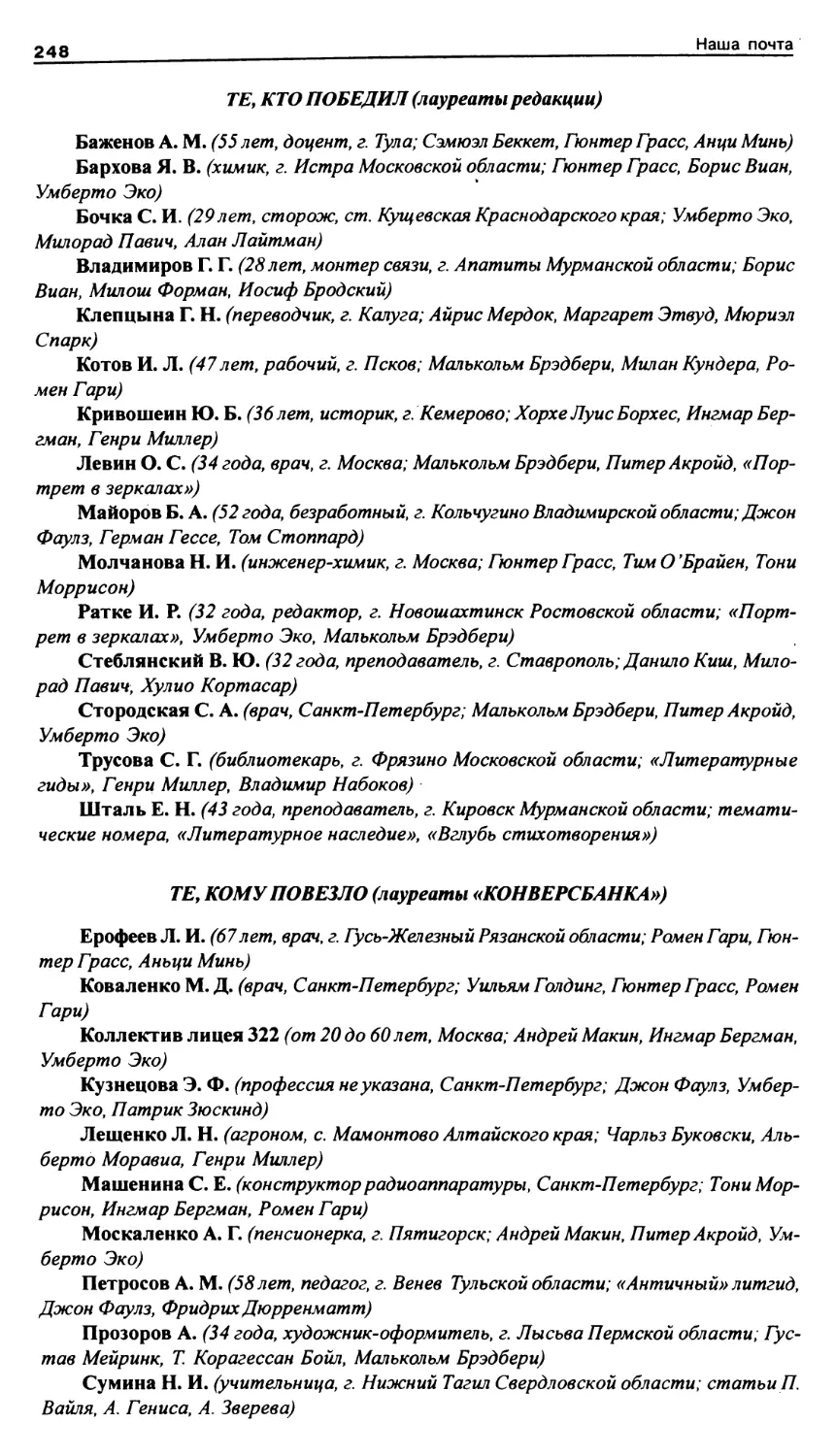Текст
ISSN 0130-6545
»
2.1997 OCT РАННАЯ
вви Т Е РАТУ РА
В номере:
ДЕРЕК УОЛКОТТ СТЕФАН ХВИН
Стихи Ханеман
ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ
Вальтер Беньямин
ИНОСТРАННАЯ
| ИТЕРАТУРА
/1
МОСКВА
Внимание!
В телефонных номерах редакции
изменились первые две цифры:
вместо «231 -» - «951 -»
вместо «233 -»- «953 -»
Из общего тиража в 14 700 экз. Институт «Открытое общество»
ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 2051 экз. журнала.
Главный редактор
А.Н. СЛОВЕСНЫЙ
Редакционная коллегия:
О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора
Общественный редакционный совет:
С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ,
П.Л. ВАЙЛЬ, М.Л. ГАСПАРОВ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П.
ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН, А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М.
ЗВЕРЕВ,
Вяч.Вс. ИВАНОВ, В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, А.С. МУЛЯРЧЙК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ
Международный совет:
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
МАЛЬКОЛЬМ БРЭДБЕРИ, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МОРИС ДРЮОН, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
НОСТРАННАЯ
ИТЕРАТУРА
ИЗДАЕТСЯ
С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ -
ТРУДОВОЙ
КОЛЛЕКТИВ
РЕДАКЦИИ
декабрь
I 1997
СОДЕРЖАНИЕ
ДЕРЕК УОЛКОТТ — Стихи (Перевод с английского В. Минутина. Вступле-
ние В. Ряполовой)................................................. 5
ГРЭМ СВИФТ — Химия. Антилопа Хоффмейера (Рассказы. Перевод с анг-
лийского В. Бабкова)............................................. 10
СТЕФАН ХВИН — Ханеман (Роман. Перевод с польского и вступление
К. Старосельской. Проза плотного плетения — СТАНИСЛАВ ЛЕМ о романе). 24
ГУННАР ЭКЕЛЁФ — Стихи (К 90-летию со дня рождения. Перевод со швед-
ского и вступление А. Щеглова).................................. 123
Новый итальянский рассказ (Вступление Евгения Солоновича). БАРБАРА
ГАРЛАСКЕЛЛИ — Письмо издателю и другие рассказы. НИККОЛО АММАНИ-
ТИ — Зоолог (Перевод е итальянского Екатерины Степанцовой). ДЖУЛИО
МОЦЦИ — «Помнишь, сколько снега выпало в прошлом году?». Бег (Перевод
с итальянского Маргариты Черепенниковой)........................ 131
Литературное наследие
ФРЭНК РИЧАРД СТОКТОН — Невеста или тигр? (Рассказ. Перевод с англий-
ского и вступление В. Рогова)................................... 161
Портрет в зеркалах
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН
От составителя.................................................. 165
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН — Центральный парк (Перевод с немецкого Александ-
ра Ярина)...................................................... 169
ХАННА АРЕНДТ — Вальтер Беньямин (Перевод с английского Бориса Дуби-
на)............................................................. 174
МОРИС БЛАНШО — О переводе (Перевод с французского Бориса Дубина).... 183
ГЕРШОМ ШОЛЕМ — Вальтер Беньямин и его ангел (Перевод с немецкого
Наталии Зоркой)................................................. 186
Критика и публицистика
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
ДЖОЗЕФ ЭПСТАЙН — Искусство вздремнуть. УИЛЬЯМ СТАЙРОН — Дурная
болезнь (Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина)...... 193
Гений места
ПЕТР ВАЙЛЬ — Сказки народов севера (Копенгаген — Андерсен, Осло —
Мунк)........................................................... 215
Среди книг
АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ — Смена кожи. АННА АЛЬЧУК — Виртуальные лабиринты
Алена Роб-Грийе. Н. ДЕМУРОВА — Приглашение в английскую детскую ли-
тературу. РАДИЙ ФИШ — Между двух утопий......................... 230
Наша почта
Чтение «ИЛ» как правильный критерий при выборе спутника жизни
(Результаты анкеты, напечатанной в 500-м номере)................ 240
Содержание журнала «Иностранная литература» за 1997 год № 1—12....... 249
Авторы этого номера
253
© «Иностранная литература», 1997
В следующем номере:
В этом номере, озаглавленном «ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ», мы знакомим читателей с про-
изведениями авторов, ставших в последние годы лауреатами ведущих европейских
премий.
«ПОСЛЕДНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ» — роман английского прозаика Грэма Свифта, удосто-
енный Букеровской премии.
«МОРЕ-ОКЕАН» — роман итальянского писателя, музыковеда Алессандро Барикко,
отмеченный премией Виареджо.
Главы из романа нидерландской писательницы Конни Палмен «ЗАКОНЫ», сразу при-
несшего ей успех и известность, — премия «Лучший европейский роман».
Эссеистика известного немецкого поэта Дурса Грюнбайна, лауреата премии Г. Бюхнера.
Цветные иллюстрации номера — работы норвежского художника
ЭДВАРДА МУНКА (1863 - 1944):
На 1-й стр. обложки — «Аллея в снегу» (1906).
На 2-й стр. обложки — «Дикий виноград» (1898).
На 3-й стр. обложки — «Меланхолия» (ок. 1891).
В Москве журнал можно приобрести в редакции,
а также в следующих книжных магазинах:
«Ad Marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
«Англия» — Хлебный пер., д.2/3
«Гилея» — ул. Знаменка, д. 10
«Графоман» — ул. Бахрушина, д.28
Книжная лавка при Литературном институте — Тверской бульвар,25
«Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46
В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://russia.agama.com/r_club/journals/inostran/soderj.htm
Художественное и техническое оформление С.В. Бейлезон
*109017, Москва, Пятницкая ул., 41. ( 953-51-47; факс 953-50-61, E-mail dit@inolit.msk.ru)
Журнал выходит один раз в месяц.
Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.
Подписано в печать 21.11.97. Формат 70x108 7ie. Печать офсетная. '
Бумага газетная. Усл. печ. л. 25,72. Усл. кр.-отт. 31,0. Уч.-изд. л. 26,54. Заказ №2987.
Тираж 14 700 экз.____________________________________________________________________
Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопроле) -ая, 16.
ДЕРЕК УОЛКОТТ
Стихи
Перевод с английского В. МИНУШИНА
Творческий путь Дерека Уолкотта (род. в 1930 г.), поэта с мировым именем, длится почти
полвека. Он автор множества поэтических сборников (первый из которых, «25 стихотворе-
ний», вышел в 1948 году, а последний по времени — «Щедрый дар» — в октябре этого года), а
также около трех десятков пьес, ставившихся в разных странах.
Уолкотт — уроженец Вест-Индии. Его детство и юность прошли в Кастри, на острове
Сент-Люсия, в 1953 году он переехал в Тринидад, с середины 70-х много времени проводил в
США, преподавая в Колумбийском, Йейльском, Гарвардском и других университетах, а затем
окончательно переселился в Америку.
Глубокая укорененность в мире природы, культуры, истории своей родины и открытость
всей мировой культуре — эти качества поэзии Уолкотта проявились уже в первых его произ-
ведениях. Ему также в высшей степени свойственно характерное для человека XX века ощу-
щение конфликтности, разделенности мира, чему способствовали и жизненные обстоятель-
ства поэта. Юные годы Уолкотта пришлись на тот период, когда острова Карибского бассейна
еще были частью Британской империи. Будущий поэт, по отцу англичанин, по материнской
линии потомок черных рабов, рос в протестантской семье, а те, кто его окружал, в подавля-
ющем большинстве были католиками. Название одной из частей его автобиографического «ро-
мана в стихах» («Другая жизнь», 1973) — «Раздвоенный ребенок» — говорит само за себя.
Диапазон тем и настроений в творчестве Уолкотта огромен, мир дан не только в проти-
воречиях, но и в единстве. Сияющая красота природы родных островов одушевлена жаром
непосредственного чувства и образами, столь же непосредственно возникающими в культур-
ной памяти. Один из самых мощных источников воображения для Уолкотта — гомеровский
эпос. Так, в книге-поэме «Омерос» (1990) живая действительность и история Вест-Индии —
одновременно и преломление мифологического мира Древней Греции; рыбаки, лесорубы, по-
мещики, солдаты, проститутки носят имена героев Гомера.
Творчество Уолкотта с самого начала привлекло к себе внимание читающей публики.
Он обладатель множества премий, в том числе Нобелевской (1992 г.). Среди его наград есть
и премия британского Королевского общества литературы, и Орден Певчей Птицы, учрежден-
ный Республикой Тринидад и Тобаго. Но, вероятно, самой высокой оценкой для него стало
признание со стороны выдающихся современников-поэтов. По словам Роберта Грейвса, Уол-
котт «проник в магию английского языка глубже, чем очень многие (да, пожалуй, и все) англий-
ские поэты его поколения». Иосиф Бродский писал об Уолкотте как о поэте универсальном,
наследующем всей мировой поэзии, от древних до новейших времен.
В. РЯПОЛОВА
© Derek Walcott, 1976, 1980,1981
© В. Минушин. Перевод, 1997
© В. Ряполова. Вступление, 1997
6
Дерек Уолкотт
Морской виноград
Тот крохотный парус в лучах,
скучающих над островами,
шхуна, что бежит по Карибскому морю
домой, это б мог быть корабль Одиссея,
летящий к Итаке по Эгейскому морю;
тот муж и отец — под зелеными
гроздьями кокколобы — тем же объят нетерпеньем,
что неверный супруг, в ком крики чаек
отзывались именем Навсикаи;
Нет мира ничьей душе. Давняя война
между страстью и долгом
не окончится никогда, и для скитальца морей,
и для этого странника на берегу,
надевающего сандалии, чтобы пуститься в обратный путь,
она все та же с тех пор, как огонь
объял стены Трои и камень слепого гиганта,
всколыхнув глубину,
поднял волны, из коих возник великий гекзаметр,
что гремит и в карибском прибое.
Классика может нести утешение. Но не покой.
Оджоб, бультерьер
Ты ждешь одну беду,
а приходит другая.
Это не то, что плохая погода,
ты не можешь собраться —
неподготовленность это все.
Мы тревожимся
за спутницу жизни, женщину,
за близкого друга,
за ребенка подле нас
и собаку,
смотрим на море и думаем:
наверное, будет дождь.
Мы приготовимся встретить дождь,
ты не видишь связи
между тем, как солнечный свет меняет
темнеющие олеандры
в приморском саду,
и тем, как меркнет золото пальм.
Не видишь связи
между каплей дождя
на твоей коже
и поскуливаньем пса,
тебя не пугает гром — готовность это все,
Стихи
7
существо, бегущее у твоих ног,
пытается тебе сказать,
что молчание — это все,
оно превыше готовности,
глубокое, словно море,
глубокое, как земля,
глубокое, как любовь.
Молчание
сильней грома,
потрясенные, мы теряем дар речи,
будто животные, не умеющие сказать о любви,
как мы умеем, если только
она не становится невыразимой,
а нужно сказать о ней,
и мы говорим поскуливаньем,
слезами —
дождем, что подступает к глазам,
не называя любовь по имени,
молчание мертвых
и молчанье любви, схороненной на дне сердца, —
это одно и то же молчанье,
и молчим ли мы о любви,
о ребенке, женщине или о друге —
это одна и та же любовь, одна и та же,
и она блаженство,
еще невыносимее от потери,
она блаженство, она блаженство.
Сезон призрачного мира
Тогда все птичвй народы подняли разом
громадную сеть земных теней
и понесли ее, щебеча на бессчетных наречьях,
на щелкающих языках. Они уносили
тень стекляннолицей башни с вечереющей улицы,
тень слабого стебелька с городского подоконника —
сеть поднималась беззвучно, как ночь, в беззвучном гомоне птиц,
пока не исчезли сумерки, времена года, снегопады,
безумья погоды,
только лежала дорога призрачного света,
которую не смела пересечь и тончайшая тень.
И люди, глядя вверх, не могли различить, что несли дикие гуси,
что скопы влекли за собой на серебряных нитях,
сверкавших в льдистом солнечном свете; им не было слышно,
о чем тихонько пересвистывались батальоны скворцов,
поднимая все выше сеть, что укрывала наш мир,
как лозы сада или воздушная кисея,
которою мать защищает вздрагивающие веки
спящего малыша;
землю залил свет,
8
Дерек Уолкотт
какой бывает под вечер на склоне холма
в золотом октябре, и никто из людей не слышал
в карканье ворона,
в крике ржанки и мерцающей алым клювом, словно угольком,
клушицы
той безмерной, молчаливой, несказанной тревоги
за поля и города, которым птицы принадлежали,
кроме времени перелета, по праву любви,
что вне сезонов, и по высокой привилегии рожденья,
что ярче жалости к бескрылым существам,
живущим внизу в своих темных дырах окон, в домах,
и все выше они поднимали сеть, неслышно перекликаясь,
над всеми переменами, над предательствами падающих солнц,
и этот сезон длился одно мгновенье, как пауза
между сумерками и тьмой, между яростью и миром,
но для нашей нынешней земли он длился век.
Автопортрет
Одинокость Ван Гога.
Затравленность Ван Гога.
Ужас Ван Гога.
Он всматривается в зеркало
и поднимает кисть.
В зеркале никого,
кроме Винсента Ван Гога.
Этого мало.
Он отсекает ухо.
Всматривается опять:
в зеркале Винсент Ван Гог
с перевязанным ухом.
Это уже ближе к портрету,
он пытается остаться,
но сначала нужно исчезнуть,
он явится из сокращений,
недоступный более ужасу,
единственным способом,
когда зеркало отразит
что-то: ни славу, ни боль
ни нет, ни да,
ни может быть, ни когда-нибудь или
никогда. На холсте никого.
Нет Винсента Ван Гога,
затравленного, испуганного и .одинокого —
только
вымысел. Суть.
Стихи
9
Сила
Жизнь не устанет вколачивать в землю острия трав.
Я восхищаюсь таким насилием —
любовь тверда. Прекрасна
беспощадность, с которой обмениваются ударами
отбойный молоток и скала.
Они понимают друг друга.
Я даже могу оправдать договор
между мчащимся львом и замершей ланью
допускающий ужас в ее глазах.
Но мне никогда не понять
того существа, которое пишет об этом
и требует, чтобы его признали средоточием бытия.
ГРЭМ СВИФТ
Рассказы
Перевод с английского В. БАБКОВА
Химия
п
руд в нашем парке был круглый, с открытыми берегами, ярдов пятидесяти в диамет-
ре. Когда дул ветер, по нему бежали маленькие волны и разбивались о бетонные
края, как в миниатюрном море. Мы — мать, дед и я — ходили туда запускать игрушеч-
ный моторный катер, который мы с дедом смастерили из фанеры, бальзового дерева и
промасленного картона. Ходили даже зимой — особенно зимой, потому что тогда на
пруду не бывало никого, кроме нас; в эту пору листья на двух ивах желтели и облетали,
а вода леденила руки. Мать садилась на деревянную скамейку чуть поодаль от пруда; я
готовил катер к запуску. Дед, в черном пальто и сером шарфе, отправлялся на дальний
берег ловить игрушку. Почему-то на дальний берег всегда ходил только дед, я же — ни-
когда. После того как он занимал нужную позицию, до меня доносилось по воде его «Го-
тов! >}. В этот момент с его губ срывалось белое облачко, точно от выстрела пистолета с
глушителем. И я отпускал катер. Он работал от батарейки и двигался с трудом, но ровно.
Я следил, как он идет к середине пруда, а мать тем временем следила за мной. При этом
казалось, что катер движется по какой-то действительно существующей линии между
дедом, мной и матерью — дед словно тянул нас к себе на невидимой веревке, и мы дол-
жны были покоряться, чтобы доказать, что находимся в пределах его досягаемости. Ког-
да катер приближался к нему, дед опускался на корточки. Его руки — я знал, что они
узловаты, жилисты и испещрены бесчисленными пятнышками в результате одного не-
удачного химического опыта, — тянулись к воде, ловили катер и разворачивали его на
сто восемьдесят градусов.
Катер всегда совершал свое путешествие успешно. На случай, если произойдет кру-
шение или откажет мотор, дед соорудил специальную леску с крючком, но мы так ни
разу и не прибегли к ее помощи. Затем, однажды — кажется, вскоре после того, как мать
познакомилась с Ральфом, — мы следили за катером, пересекающим пруд по направле-
нию к деду, и вдруг увидели, что игрушка погружается в воду, все глубже и глубже. Мо-
торчик заглох. Катер накренился и исчез в воде. Дед несколько раз закинул свою леску, но
выудил лишь комки зеленой слизи. Я помню, что он сказал мне по поводу этой первой в
моей жизни потери, которая произошла у меня на глазах. Он сказал, очень серьезно: «Ты
должен смириться с этим... тут ничего не поделаешь... это единственный способ», — так,
будто повторял что-то самому себе. Помню я и лицо матери, поднявшейся со скамейки
перед уходом домой. Оно было совсем неподвижным и очень белым, словно минуту
назад она увидела нечто жуткое.
© Graham Swift, 1982
© В. Бабков. Перевод, 1997
Рассказы
11
Наверное, через несколько месяцев после этого случая Ральф, который уже регу-
лярно приезжал к нам по выходным, закричал на деда за столом: «Оставьте же ее нако-
нец в покое!»
Я запомнил это, потому что как раз в ту субботу дед упомянул о потере моего кате-
ра и Ральф, словно обрадовавшись, сказал мне: «Как насчет того, чтобы купить новый?
Хочешь, я куплю?» И я, только ради удовольствия посмотреть, как азарт на его лице сме-
нится разочарованием, свирепо повторил несколько раз: «Нет!» Потом, когда мы ужина-
ли, Ральф вдруг рявкнул на деда, обратившегося к матери: «Оставьте же ее наконец в
покое!»
Дед посмотрел на него: «Оставить в покое? Да что вы знаете о том, как остаются в
покое?» Затем он перевел взгляд с Ральфа на мать. И Ральф не ответил ему, но лицо его
напряглось, а руки стиснули нож и вилку.
И все это случилось потому, что дед сказал матери: «Ты больше не делаешь карри
— такого, как делала для Алека, как учила тебя Вера».
Мы жили в дедовом доме, и Ральф стал почти постоянным его обитателем. Дед с
бабушкой жили здесь чуть ли не со дня своей свадьбы. Мой дед работал на фирме, где
производили позолоченные и посеребренные изделия. Бабушка умерла внезапно, когда
мне было всего четыре года, и я знал только, что, должно быть, похож на нее. Так гово-
рили и мать и отец; а дед часто, ничего не говоря, с любопытством всматривался мне в
лицо.
В ту пору мать, отец и я жили в новом доме, не слишком далеко от деда. Дед очень
тяжело перенес смерть жены. Он нуждался в обществе своей дочери и моего отца, но не
хотел покидать дом, где жила бабушка, а родители не хотели бросать свой. В семье цари-
ла атмосфера горечи, которую я едва замечал. Дед оставался один в своем доме, но по-
чти забросил хозяйство и все больше времени проводил в сарае, который приспособил
для занятий своими хобби — моделированием и химией на любительском уровне.
Ситуация разрешилась ужасным образом — со смертью моего отца.
Иногда он летал в Дублин или Корк на легком аэроплане, принадлежащем его ком-
пании: она занималась ввозом ирландских товаров. Однажды, при вполне обычных по-
годных условиях, его самолет бесследно исчез в Ирландском море. В состоянии, близ-
ком к трансу — точно ее постоянно направляла какая-то внешняя сила, — мать продала
наш дом, отложила деньги на нашу совместную жизнь и перебралась к деду.
Смерть отца была событием гораздо менее отдаленным, чем смерть бабушки, но
не более объяснимым. Мне было только семь. Погруженная в свое взрослое горе, мать
сказала мне: «Он ушел туда же, куда и бабушка». Я гадал, каково бабушке на дне Ирлан-
дского моря и что же, собственно, делает там мой отец. Я хотел знать, когда он вернется.
Возможно, даже спрашивая об этом, я понимал, что никогда и что мои детские разгово-
ры — лишь способ утоления моей собственной печали. Но если я и впрямь верил, что
отец ушел навсегда, то это было ошибкой.
Пожалуй, я походил на отца не меньше, чем на бабушку. Потому что иногда матери
было достаточно одного взгляда на мое лицо, чтобы разразиться слезами, крепко схва-
тить меня и подолгу не отпускать, словно она боялась, что я растворюсь в воздухе.
Не знаю, испытывал ли дед тайную мстительную радость после гибели моего отца,
да и был ли он вообще на это способен. Но судьба уравняла его с дочерью и примирила
их в совместной скорби. Они оказались в одном и том же положении: он вдовец, она
вдова. И так же, как матери я напоминал об отце, дед видел в нас обоих нечто от покой-
ной бабушки.
Примерно с год мы жили тихо, спокойно, даже умиротворенно в рамках этой пе-
чальной симметрии. Мы почти не были связаны с внешним миром. Дед по-прежнему
работал, хотя и перешел границу пенсионного возраста, и не позволял работать матери.
Он содержал мать и меня, как содержал бы своих собственных жену и сына. Даже после
12
Грэм Свифт
его ухода со службы мы жили вполне обеспеченно — на его пенсию, кое-какие сбереже-
ния и пособие, которое мать получала как вдова. Здоровье деда стало понемногу сла-
беть — у него появились признаки ревматизма и одышка, — но он, как и раньше, ходил
ставить свои химические опыты в сарай, где напевал что-то и довольно посмеивался себе
под нос во время работы.
Мы забыли, что представляем собой три поколения. Дед покупал матери браслеты
и серьги. Мать звала меня своим «пареньком». Мы жили друг для друга — и для тех двух
нетускнеющих образов — ив течение целого года, целого гармоничного года, были на
самом деле вполне счастливы. Вплоть до того дня, когда мой катер, запущенный через
пруд по направлению к деду, вдруг утонул.
Дед нередко раздражал Ральфа, и иногда мне казалось, что Ральф вот-вот вскочит на
ноги, перегнется через стол, схватит деда за горло и задушит. Он был крупным мужчи-
ной, ел до отвала, и я часто боялся, что он меня ударит. Но мать умела держать его в узде.
После знакомства с Ральфом она стала гораздо менее внимательной к деду. Например,
как заметил дед в тот вечер, теперь она готовила блюда, которые нравились Ральфу (жир-
ное, сочное тушеное мясо, но без острых подливок), и забывала побаловать деда тем,
что любил он. Но каким бы небрежным и даже оскорбительным ни было ее собственное
обращение с дедом, она не потерпела бы обиды, нанесенной ему кем-либо другим. Слу-
чись такое, это означало бы конец ее отношений с Ральфом. Пусть сама она иногда боль-
но уязвляла деда — чтобы показать свою привязанность к Ральфу, — но, по сути, она
хотела быть рядом с ним. Она все еще нуждалась в том хрупком равновесии, которое мы
втроем — она, дед и я — поддерживали столько месяцев, и не могла освободиться от
этой зависимости.
Я думаю, главным вопросом было то, сколько терпения способен проявить Ральф,
чтобы не сорваться и не наговорить грубостей деду, потеряв таким образом мать, или
то, насколько решительно мать способна обратиться против деда, чтобы не потерять
Ральфа. Сам я, помнится, составил в уме нечто вроде уравнения: если Ральф обидит деда,
это значит, что я прав и он не очень-то дорожит матерью; но если с дедом будет жестока
мать (хотя она бывала жестока с ним лишь потому, что не могла его бросить), это значит,
что она любит Ральфа по-настоящему.
Но Ральф только побледнел и застыл на месте, вперившись в деда глазами.
Дед ковырял тушеное мясо. Мы свое уже съели. Однако дед нарочно ел медленно,
чтобы позлить Ральфа.
Тогда Ральф повернулся к матери и сказал:
— Ради Бога! Не можем же мы ждать до ночи, пока он закончит! — Мать заморгала
с испуганным видом. — Неси пудинг!
Видите, как он любил поесть.
Мать медленно поднялась и собрала наши тарелки. Она посмотрела на меня и ска-
зала:
— Иди помоги.
На кухне она поставила тарелки и, опершись на сушку для посуды, спиной ко мне,
простояла так несколько секунд. Затем обернулась:
— Ну, что мне теперь делать?
Она схватила меня за плечи. Я вспомнил, что именно эти слова она уже говорила
однажды, вскоре после смерти отца, и тогда ее лицо тоже дрожало так, будто оно сейчас
прольется. Она притянула меня к себе. Я почувствовал, что вновь очутился в той непри-
ступной области, куда еще нет хода Ральфу. За окном, едва видимые в сумерках, вечно-
зеленые кусты в нашем саду бросали вызов подступающей осени. Только лавровишня
была частично обнажена — дед зачем-то собирал ее листья. Я не знал, что мне сделать
или сказать — а сказать что-нибудь было надо, — но в уме я уже начал составлять план.
Мать отняла от меня руки и выпрямилась. Ее лицо снова приняло обычный вид.
Рассказы
13
Она достала из печи яблочный пудинг. Жженый сахар и яблочный сок зашипели на краю
противня. Она дала мне молочник с жидким кремом. Мы решительно вернулись к столу.
Я подумал: сейчас мы покажем Ральфу, сейчас мы продемонстрируем, как крепок наш
союз. Потом она поставила пудинг, начала раскладывать его по тарелкам и сказала деду,
который все еще ковырял свое мясо:
— Ты не даешь нам нормально поужинать — так, может, сам будешь есть в сарае?!
Сарай деда был не просто сараем. Сложенный из кирпича в углу высокой ограды,
окружающей сад, он был достаточно просторен, чтобы вместить плиту, раковину, ста-
рое кресло, а также дедовы рабочие столы и приборы и служить деду — как бывало те-
перь все чаще и чаще — миниатюрным жилым домом.
Я всегда переступал его порог с опаской. Мне казалось — даже до появления Раль-
фа, даже когда мы с дедом делали здесь игрушечный катер, — что это место, куда дед
приходит, чтобы отдохнуть от нас с матерью и, возможно, чтобы каким-то таинствен-
ным образом пообщаться с моей умершей бабушкой. Но в тот вечер я не медлил. Я за-
шагал по тропинке вдоль увитой плющом садовой стены. Казалось, что весть о тоске деда,
о его одиночестве написана на темно-зеленой двери буквами, которые мог прочесть
только я. И когда я открыл ее, он сказал: «Я так и думал, что ты зайдешь».
По-моему, дед занялся химией, не имея на то особенных причин. Он изучал ее из
любопытства и для развлечения, как другие иногда изучают клеточную структуру под
микроскопом или наблюдают за переменчивой формой облаков. За недели, прошедшие
после того, как мать выгнала его из дома, дед познакомил меня с основами химии.
В сарае я чувствовал себя в безопасности. Дом, где теперь правил Ральф, все с боль-
шей жадностью набивая себе утробу, стал зловещим местом. Сарай же был отдельным,
замкнутым мирком. Здесь витал солоноватый минеральный запах, не похожий на запах
человеческого жилья. На дедовом рабочем столе было полно бутылей, пробирок и ре-
торт. Химикаты он добывал благодаря своим связям в фирмах, которые занимались ме-
таллизацией. В углу обычно горела плита. Рядом стоял поднос с посудой — чтобы при-
стыдить мать, дед теперь ел только в сарае. Со стропил под крышей свисала одна-един-
ственная электрическая лампочка. Дедова бунзеновская горелка работала от газового
баллона. На стене был застекленный спереди шкафчик, где он выращивал кристаллы
сульфата алюминия и медного купороса.
Я наблюдал за опытами деда. Я просил его объяснять, что он делает, и говорить мне
названия разных жидкостей в его бутылях.
И дед становился в сарае не таким, как в доме. Там он был сварливым и недоволь-
ным, а здесь превращался в усталого, хворающего человека, который временами мор-
щился от своих ревматических болей и отвечал мне со спокойной сосредоточенностью.
— Что ты делаешь, деда?
— Не делаю, а превращаю. Химия — это наука превращений. В химии ничего не
создают, там только изменяют, превращают одно в другое. А измениться может все.
Он проиллюстрировал свои слова, растворив в азотной кислоте мраморную крош-
ку. Я смотрел, завороженный.
Но он продолжал:
— Все может измениться. Даже золото.
Он налил в тонкий стакан чуть-чуть азотной кислоты, потом взял другой сосуд с
бесцветной жидкостью и добавил к азотной кислоте немного его содержимого. Поме-
шал смесь стеклянной палочкой и аккуратно подогрел. Над стаканом поднялся коричне-
ватый парок.
— Соляная кислота и азотная кислота. По отдельности слабоваты, но вместе спра-
вятся.
На скамье лежали карманные часы с золотой цепочкой. Я знал, что их давным-дав-
14
Грэм Свифт
но подарила деду бабушка. Он отстегнул цепочку от часов, затем, наклонившись вперед,
поднес ее к стакану двумя пальцами. Цепочка качалась в воздухе. Он посмотрел на меня,
словно ожидая, что я подам ему какой-то знак. Потом отодвинул цепочку от своей смеси.
— Может, поверишь на слово, а?
Он взял часы и снова пристегнул к ним цепочку.
— Моя старая профессия — делать позолоченные вещи. Мы брали настоящее зо-
лото и изменяли его. Потом брали что-то другое, совсем не золотое, и покрывали его
этим измененным золотом, чтобы казалось, будто вся вещь целиком золотая, — но это
было не так.
Он горько улыбнулся.
— И что же будет дальше?
— Ты о чем, деда?
— Люди ведь тоже меняются, правда?
Он подошел ко мне поближе. Мне едва исполнилось десять. Я молча посмотрел на
него.
— Правда?
Он пристально поглядел мне в глаза—так же, как когда-то давно, после бабушкиной
смерти.
— Они меняются. Но химические элементы остаются неизменными. Знаешь, что
такое элемент? Золото, например. Оно переходит из одной формы в другую, но мы не
можем ни создать золото, ни потерять его — даже самую капельку.
Потом у меня появилось странное чувство. Мне почудилось, что лицо деда передо
мной — это поперечный скол какого-то длинного каменного бруса, из которого, в дру-
гих местах, можно вырезать и материно лицо, и мое. Я подумал: все лица такие. У меня
возникло внезапное головокружительное ощущение бесконечности всего в этом мире.
Мне захотелось услышать что-нибудь простое, определенное.
— Что это такое, деда?
— Соляная кислота.
— А это?
— Железный купорос.
— А это? — Я указал на другую, неподписанную бутыль с прозрачной жидкостью,
стоявшую у края стола и соединенную с каким-то сложным прибором.
— Лавровишневая вода. Синильная кислота. — Он улыбнулся. — Не для питья.
Вся та осень выдалась необычно холодной. По вечерам подмораживало, ветер ше-
лестел листьями. Возвращаясь от деда с подносом (теперь я всегда забирал его после
ужина), я видел в гостиной, через открытую дверь на кухню, мать и Ральфа. У них вошло
в привычку пить много спиртного, которое приносил Ральф, — вначале мать притворя-
лась, что не одобряет все это виски и водку. От выпитого мать становилась вялой, груз-
ной и податливой, и это позволяло Ральфу забирать над ней все большую власть. Они
вместе валились на диван. Однажды вечером я увидел, как Ральф, пошатываясь, притя-
нул мать к себе и облапил, так что она почти потерялась в его объятиях; через плечо Ральфа
мать заметила, что я смотрю на них из сада. Она казалась пойманной в ловушку, беспо-
мощной.
И именно в тот вечер я дождался своего часа — когда пришел забирать у деда под-
нос. Войдя в сарай, я увидел, что дед спит в кресле, а ужин, почти нетронутый, стоит на
подносе у его ног. Во сне — с взъерошенными волосами, открытым ртом — он походил
на какое-то обессилевшее в неволе животное, которое даже потеряло охоту к еде. Я зах-
ватил с собой из кухни бутылочку для специй. Взяв стеклянную колбу с ярлыком «HNO3»,
я аккуратно отлил оттуда немного жидкости в свою бутылочку. Потом взял остатки дедо-
ва ужина, поставил бутылочку между тарелок и понес все это в дом.
Я решил, что за завтраком плесну Ральфу в лицо кислотой. Я не хотел убивать его.
Рассказы
15
Это было бы бессмысленно, потому что сМерть — вещь обманчивая. Я собирался толь-
ко изуродовать ему лицо, чтобы мать потеряла к нему интерес. Я взял бутылочку для
специй к себе в комнату и спрятал ее в тумбочке у кровати. Утром я переложу ее в кар-
ман штанов. Дождусь удобного момента. Отвинчу под столом крышку. И когда Ральф
проглотит свою яичницу с поджаренным хлебом...
Я думал, что не смогу заснуть. Из окна спальни мне были видны темный прямоу-
гольник сада и лоскут света, падающего из окошка дедова сарая. Я часто не засыпал до
тех пор, пока этот лоскут не исчезнет, — это означало, что сейчас дед прошаркает к дому
и проскользнет в него с заднего хода, как бездомная кошка.
Но в ту ночь я, должно быть, уснул, потому что не видел, как дед потушил свет, и не
слышал его шагов на садовой тропинке.
В эту ночь ко мне в спальню пришел отец. Я знал, что это он. Его волосы и одежда
были мокрыми, на губах запеклась соль; с плеч его свисали водоросли. Он подошел и
стал у моей кровати. Там, где он ступал, остались лужицы, медленно растекающиеся по
ковру. Он долго смотрел на меня. Потом сказал: «Это она виновата. Она сделала в дне
катера дырку, маленькую, чтобы не было заметно и чтобы он утонул — чтобы вы с де-
дом увидели, как он тонет. И катер утонул, как мой самолет. — Он повел рукой у своей
мокрой насквозь одежды и запекшихся губ. — Ты мне не веришь? — Он протянул ко мне
руку, но я боялся взять ее. — Ты мне не веришь? Не веришь?» И, повторяя это, он начал
медленно отступать к двери, точно что-то тянуло его, и лужицы у его ног мгновенно
высыхали. И только когда он исчез, я смог заговорить и сказал: «Да. Я тебе верю. Я дока-
жу это».
А потом уже почти рассвело, и дождь хлестал по окну, словно дом погружался в
воду, и снаружи доносился какой-то странный, тонкий голос — но он принадлежал не
отцу. Я встал, вышел из спальни и поглядел в окошко на лестнице. Голос оказался голо-
сом радио, включенного в машине «скорой помощи» — она стояла на дорожке с откры-
тыми дверцами. Ливень и мечущиеся ветки рябины мешали мне смотреть, но я увидел,
как двое людей в белой форме вынесли из дома носилки, накрытые одеялом. Их сопро-
вождал Ральф. Он был в пижаме и шлепанцах на босу ногу, с зонтиком в руках. Он суе-
тился вокруг санитаров, будто надсмотрщик, ответственный за доставку какого-то жиз-
ненно важного груза. Он крикнул что-то матери, которая, наверно, стояла внизу, за пре-
делами моего поля зрения. Я побежал обратно в спальню. Я хотел взять кислоту. Но тут
по лестнице поднялась мать. На ней был халат. Она обняла меня. Я почувствовал запах
виски. Она сказала: «Милый мой, пожалуйста. Я объясню. Ох, милый, милый».
Однако она так ничего и не объяснила. Думаю, с. тех пор она всю жизнь старалась
объяснить — или избежать объяснения. Она сказала только: «Дедушка был стар и болен,
он все равно не прожил бы долго». И было официальное заключение: самоубийство путем
приема внутрь синильной кислоты. Но всего остального, что следовало бы объяснить —
или признать, — она так и не объяснила.
И было видно, что она испытывает какое-то внутреннее облегчение, точно оправи-
лась от недуга. Уже через неделю после похорон деда она вошла в его спальню и широко
распахнула окна. Стоял ясный, свежий день, из тех, что выдаются в конце ноября, и все
листья на рябине были золотыми. И она сказала: «Смотри, какая красота!»
День, когда хоронили деда, тоже был таким — залитым солнцем, прозрачным, в
искрах раннего морозца и золотой листвы. Мы стояли на церемонии, мать, Ральф и я,
точно пародия на ту троицу — дед, мать и я, — которая когда-то присутствовала на зау-
покойной службе в память отца. Мать не плакала. Она и вообще не плакала, даже до
похорон, когда к нам приезжали полицейские и представители коронера, писали свои
бумаги, извинялись за вторжение и задавали вопросы.
Мне они вопросов не задавали. Мать сказала: «Ему всего десять, что с него спраши-
вать?» Однако я хотел рассказать им тысячу вещей — о том, как мать выгнала деда из
дому, о том, как самоубийство может быть убийством и как ничто на свете не имеет
16
Грэм Свифт
конца, — и из-за этого испытывал чувство, что на меня падает какое-то подозрение. Я
забрал бутылочку с кислотой из своей спальни, пошел в парк и выкинул ее в пруд.
А затем, после похорон, когда полицейские и следователи перестали нас беспоко-
ить, мать с Ральфом начали убирать в доме и вытаскивать все из сарая. Они расчистили
заросшие участки сада и подрезали ветви деревьев. На Ральфе был старый свитер, слиш-
ком для него маленький, и я признал в этом свитере один из отцовских. А мать сказала:
«Скоро мы переедем в новый дом — Ральф собирается купить его».
Мне некуда было идти. Я пошел в парк и стал у пруда. По нему плавали листья, об-
летевшие с ив. Где-то на дне лежали бутылочка с кислотой и мой сломанный катер. Но,
изменяясь, вещи все же не исчезают. И здесь, на пруду, когда собирались сумерки и во-
рота парка скоро должны были закрыть на ночь, я посмотрел на середину, где утонул
мой катер, потом перевел взгляд на дальний берег и увидел деда. Он стоял там в своем
черном пальто и сером шарфе. Было очень холодно, и по воде бежали маленькие вол-
ны. Он улыбался, и я понял: катер все еще движется к нему, упорный, непотопляемый,
вдоль той невидимой линии. И руки деда, в пятнах от кислоты, протянутся вниз и пойма-
ют его.
Антилопа Хоффмейера
У дяди Уолтера была своя теория насчет ценности зоопарков. Сидя во главе стола и
озирая нас всех, он говорил: «Зоопарки смиряют нашу гордыню. Приходя туда, мы —
всего-навсего люди, случайные фавориты эволюции — должны думать о том, что у нас
никогда не будет скорости гепарда, силы медведя, красоты газели, проворства гиббона,
зоопарки не дают нам зазнаваться; они показывают, как мы несовершенны...»
Заговорив на излюбленную тему, он неумолимо продолжал в том же духе, со сма-
ком перечисляя достоинства одного животного за другим, так что я, развитой мальчиш-
ка, почти круглый отличник, для которого зоопарки были в первую очередь царством
отвратительной вульгарности — подсовывания слонам оберток от мороженого, ухмы-
лок перед совокупляющимися обезьянами, — не мог не откликнуться на его дифирам-
бы одним словом: «Клетки».
Но дядю Уолтера это не обескураживало. Он продолжал свою речь, потом завер-
шал ее тем же рефреном: «...показывают, как мы несовершенны», — и, предоставляя
нам возможность спокойно поглощать домашнее печенье и лимонный пирог-меренгу,
приготовленные его женой, откидывался на спинку кресла, точно его правота не подле-
жала никакому сомнению.
Насколько я знал, мой дядя не был верующим человеком; но иногда, после подоб-
ных разглагольствований почти в библейском стиле, на его лицо ложилась аскетическая
безмятежность, как у византийского святого. Это заставляло вас на мгновенье забыть о
настоящем дядином облике: бледная кожа, глаза навыкате, пальцы и зубы в табачных пят-
нах — ни дать ни взять школьник, перепачканный чернилами, — рот, имевший склон-
ность подергиваться и вырабатывать больше слюны, чем он мог удержать, и менее за-
метная общая неуклюжесть, как будто ему было неловко в собственном теле. Каждое
воскресенье, когда мы приходили к нему на чай, — эти чаепития устраивались в тесной
комнате, заваленной книгами, фотографиями, аттестатами и старыми чучелами насеко-
моядных, словно викторианская гостиная, где регулярно собираются «энтузиасты», —
он обязательно угощал нас очередной проповедью об этическом значении зоопарков.
Дойдя до конца, он принимался раскуривать трубку, а его жена (моя тетка Мэри), ма-
ленькая, похожая на мышку, но не лишенная привлекательности женщина, смущенно
вставала и начинала убирать тарелки.
Жил он в Финчли, а работал помощником старшего смотрителя в одной из секций
городского зоопарка, где содержались млекопитающие. Фанатик своей профессии, он в
любой момент был готов оставить родной дом ради совсем иного мира. После двадцати
Рассказы
17
пяти лет брака он обходился с женой так, словно до сих пор не слишком хорошо уяснил
себе, какого обращения она требует.
Мы жили в сельской местности, под Нориджем. Возможно, я так скептически отно-
сился к этому изобретению — зоопаркам — лишь оттого, что был, по моим понятиям,
более близок к природе, чем дядя Уолтер. Недалеко от нашего дома росли леса, остатки
прежних королевских охотничьих угодий, где иногда можно было мельком увидеть ди-
кую лань. Но потом, еще в пору моего детства, лани исчезли. Примерно раз в полтора
месяца мы ездили в Лондон навестить деда с бабкой, которые жили в Хайгейте. Эти уик-
энды непременно завершались визитом к дяде, который обычно встречал нас в зоопар-
ке, а потом вел к себе домой пить чай.
Я презирал Лондон по той же причине, какая заставляла меня насмехаться над зоо-
парками и хранить верность своим деревенским корням. На самом деле я любил живот-
ных — и не мог отрицать, что мой дядя знает о них многое. Однако мои увлечения вряд
ли позволили бы мне надолго остаться в провинции. Я получил степень по математике.
В одно из таких воскресений дядя Уолтер и познакомил нас, своих гостей, с антило-
пами Хоффмейера. В зоопарке была пара этих редких и очень изящных животных, кото-
рая как раз тогда, к великому восторгу персонала (и дяди особенно), произвела на свет
потомство — одну самочку. Широкая публика еще не допускалась ни к родителям, ни к
новорожденной, но мы получили*специальное разрешение.
Рыжевато-коричневые, на ножках-прутиках, даже взрослые не выше восемнадцати
дюймов от пола, эти нежные создания глядели на нас снизу вверх своими темными, крот-
кими глазами; бока их постоянно вздрагивали, и дядя Уолтер велел нам не подходить слиш-
ком близко и делать только самые плавные движения. Новорожденная самочка, дрожа-
щая рядом с матерью, была не крупнее щенка, но казалась гораздо более хрупкой. Дядя
Уолтер пояснил нам, что они принадлежат к одному из многих видов крошечных анти-
лоп, которые водятся в густых лесах Западной и Центральной Африки. Этот конкретный
вид был открыт и описан как имеющий уникальные особенности лишь в конце сороко-
вых годов. Двадцать лет спустя исследования показали, что на воле этих животных боль-
ше не существует.
Мы осмотрели троих грустных уцелевших пленников и были соответствующим
образом тронуты.
— Ох, какие душечки! — воскликнула моя мать, пожалуй слегка нарушив правила
этикета.
— И заметьте, — сказал дядя Уолтер, сидевший на корточках внутри клетки, — кро-
шечные рожки, большие глаза — ночной образ жизни, естественно, — а ноги, ниже ко-
лен, не толще моего пальца, но позволяют им прыгать в высоту на целых десять футов.
Он вытер уголок рта и вызывающе поглядел на меня.
Причина дядиной привязанности к этим животным крылась не только в их исклю-
чительной редкости, но и в его личном знакомстве с их тезкой и первооткрывателем —
самим Хоффмейером.
Этот зоолог, уроженец Германии, работал и писал свои труды во Франкфурте, пока
его не вынудили уехать оттуда в Лондон (это случилось в тридцатые годы). Он планиро-
вал экспедиции в Конго и Камерун, которые из-за войны пришлось отложить, но в
1948-м Хоффмейер все-таки попал в Африку и вернулся с триумфом, обнаружив еще не
описанный вид карликовой антилопы. До этого он успел осесть в Лондоне и свести друж-
бу с моим дядей, начавшим работать в зоопарке приблизительно в ту пору, когда Хоф-
фмейер появился в Англии. Чтобы серьезный, одаренный зоолог стал якшаться с пусть
даже ревностным, но необразованным смотрителем — это, конечно, было далеко не в
порядке вещей.
В течение следующих десяти лет Хоффмейер совершил еще три путешествия в
Африку и подробно изучил как новооткрытый, так и некоторые другие виды лесных
18
Грэм Свифт
антилоп. Затем, в 1960 году, опасаясь, что местные охотники совсем истребят уже и без
того редких антилоп Хоффмейера (их мясо и шкуры ценились весьма высоко), он привез
три пары этих животных с собой в Европу.
В те дни черные жители Конго и европейцы безжалостно убивали друг друга. Спа-
сение Хоффмейером не только собственной шкуры, но и шкур шести его драгоценных
спутников было научным подвигом, имеющим мало параллелей. Две пары были отправ-
лены в Лондон, а третья во Франкфурт — в тот зоопарк, где Хоффмейер работал до при-
хода к власти нацистов. Животных оказалось очень трудно содержать в неволе, но вто-
рое поколение — хотя, увы, и более мелкое — все же удалось вырастить. История этого
достижения (в которое внес свою лепту и мой дядя), постоянной и хлопотливой перепис-
ки между соответствующими секциями Франкфуртского и Лондонского зоопарков не
менее удивительна, чем отчет о приключениях Хоффмейера в Конго.
Однако у этого вида было мало шансов на выживание. Спустя четыре года после
того, как дядя Уолтер показал нам свое маленькое трио, численность всей искусствен-
ной популяции, когда-то достигавшая десяти особей, упала до трех — той самочки, кото-
рую мы видели еще в младенчестве и с которой трудно было связывать большие надеж-
ды, и пары во Франкфурте. Потом, как-то зимой, франкфуртская самка умерла; а ее друга-
самца, тоже не очень сильного и никогда не знавшего лесных дебрей, где жили его пред-
ки, посадили в герметическую клетку и реактивным самолетом, в сопровождении
опытных ветеринаров, отправили в Лондон.
Так дядя Уолтер стал хранителем последней пары антилоп Хоффмейера, а следова-
тельно, несмотря на свой низкий статус, фигурой довольно значительной и истинным
наследником Хоффмейера — если и не в академическом плане, то в личном.
«Хоффмейер, — повторял мой дядя в те вечера, когда мы пили у него чай, — Хоф-
фмейер... мой друг Хоффмейер...» Его жена поднимала глаза и поспешно пыталась сме-
нить тему. И мне чудилось, будто я вижу щель в его не так уж ладно сидящих доспехах.
Когда я впервые приехал в Лондон после получения степени, мне предстояло про-
жить с дядей около четырех месяцев (возможно, вернее было бы сказать «последние
четыре месяца»). Это произошло вскоре после кончины тети Мэри, вызванной каким-то
скоротечным недугом. Я получил работу в политехническом институте на севере Лон-
дона, и родители договорились с дядей Уолтером, что, пока я не встану на ноги и не по-
дыщу себе квартиру, его наполовину опустевший дом в Финчли будет также и моим.
Я принял это одолжение, но на душе у меня было неспокойно.
Дядя Уолтер встретил меня с угрюмой вежливостью. Во всем доме с его многочис-
ленными следами женского присутствия, рассеянными среди книг и пепельниц, витал
дух невосполнимой утраты. Мы никогда не говорили о тетке. Мне не хватало ее печенья
и лимонных пирогов. Дядя, все кулинарные познания которого были связаны с приго-
товлением корма для его любимых копытных, поглощал огромные количества недоварен-
ных или вовсе сырых овощей. По ночам — наши спальни выходили в один коридор — я
слышал, как он рыгает и переливчато храпит в большой двуспальной кровати, которую
прежде делил с женой, а позже, под утро, что-то торжественно бормочет во сне — или не
во сне, поскольку теперь у него все время был отрешенный вид человека, ведущего не-
прерывный внутренний разговор с самим собой.
Однажды в три часа утра, заметив свет в ванной, я услыхал, как он плачет за дверью.
Дядя Уолтер уходил в зоопарк раньше, чем я просыпался; каждые вторые сутки он
дежурил там допоздна, так что в иные дни мы не виделись совсем. При встречах же он
говорил со мной холодно и коротко, точно застигнутый на чем-то постыдном и пытаю-
щийся скрыть свое замешательство. Однако порой мы оба оказывались более располо-
жены к общению; тогда он набивал трубочку и, забыв раскурить ее, начинал рассуждать
в своей важной, педантичной, чуть ли не пророческой манере, довольный, что ему есть с
кем поспорить. Иногда я тоже бывал рад — потому что дядя Уолтер раздобыл мне бес-
платный пропуск в зоопарк — улизнуть от машин, от расплывчатой многоликости до сих
Рассказы
19
пор чуждого мне города в еще более странный, но и более уютный мирок на бере-
гах Риджентс-канала. Дядя встречал меня в своем рабочем комбинезоне, и я, привиле-
гированный посетитель, которому полагалось надевать специальные резиновые боты,
шел вслед за ним в закрытый для публики питомник, дабы увидеть безутешно посапываю-
щих в своей бетонной каморке пару хрупких, робких, изнуренных неволей антилоп Хоффмей-
ера.
— Но какой в этом смысл, — однажды сказал я дяде Уолтеру, — говорить, что су-
ществует вид, которого еще никто не обнаружил? — Мы сидели в его гостиной и беседо-
вали о неоткрытых видах (каким некогда была антилопа Хоффмейера) и, наоборот, о почти
вымерших видах и о важности их сохранения, — Если вид существует, но никто об этом
не знает — разве это не то же самое, как если бы он не существовал вовсе?
Он посмотрел на меня с опаской, почти глуповато. Где-то в его душе, я знал, еще
теплится слабая надежда на то, что в сердце африканских джунглей до сих пор живут
антилопы Хоффмейера.
— Итак, — продолжал я, — если нечто заведомо существующее перестает суще-
ствовать, не уравнивается ли оно, по сути, с тем, что существует, но о чьем существова-
нии никому не известно?
Дядя наморщил свой бледный лоб и выдвинул вперед нижнюю губу. Два вечера в
неделю, чтобы немного подработать, я читал лекции по философии (на что не имел
формального права) взрослым вольнослушателям и любил подобным образом побало-
ваться с реальностями. Я мог бы заставить дядю принять недоказуемую возможность
существования до до.
— Факты, — откликнулся он, выбивая трубку, — научные данные... добросовест-
ные исследования... как те, что проводил Хоффмейер... — скачущим пунктиром, выда-
вавшим его внутренний дискомфорт.
Я знал, что в душе он не ученый. Он был достаточно начитан для того, чтобы стать
профессиональным зоологом, но никогда не пошел бы на это, поскольку любил, по его
словам, работать с животными, а не «над» ними. Тем не менее, если ему грозила опас-
ность проиграть спор, он — пусть неохотно и виновато — все же прибегал к помощи
всесильной науки.
— Наука... имеет дело только с известным, — выпалил он со страдальческим, чуть
ли не обиженным видом, хотя далекий огонек в его глазах сказал мне, что он уже тща-
тельно рассмотрел и взвесил мои аргументы и, несмотря на все старания, не в силах про-
тивиться их соблазну.
— Пускай мы что-то обнаружили или что-то прекратило свое существование, —
продолжал я, — от этого ничего не меняется, так как сумма всего существующего оста-
ется суммой всего существующего.
— Вот именно! — сказал дядя, словно это было решающим возражением. Он отки-
нулся на спинку кресла и поднес к губам стакан пенистого портера, стоявший на подло-
котнике («Гиннесс» был единственным баловством, которое позволял себе мой дядя).
Я попытался подвести его к тяжелому вопросу о том, почему — если мы готовы
допустить, что иные виды могут навсегда остаться неизвестными, могут появляться и
исчезать без следа в далеких лесах и тундре, — почему мы все-таки считаем, что должны
спасать от небытия виды, которым грозит вымирание, только потому, что знаем о них;
почему мы должны забирать их представителей из привычной среды обитания, сажать в
самолеты, заключать, как антилоп Хоффмейера, в стерильные клетки.
Но у меня не повернулся язык. Это было бы чересчур — я не хотел так грубо насту-
пать дяде на больную мозоль. Кроме того, я сам чувствовал оборотную сторону соб-
ственного вопроса. Мысль, что на свете могут существовать животные, о которых мы
ничего не знаем, волновала меня — я относился к этому далеко не так равнодушно, как,
например, к существованию в математике мнимых чисел. Дядя Уолтер наблюдал за мной,
без помощи рук передвигая трубку из одного угла рта в другой. Я подумал о зоологи-
20
Грэм Свифт
ческом термине «жвачное» и о выражении «пережевывать мысли». И сказал совсем не
то, что собирался сказать:
— Главное не в том, какие виды существуют и какие нет, а в том, что при всем раз-
нообразии известных видов нам нравится изобретать новые. Подумай о мифологичес-
ких существах — грифонах, драконах, единорогах...
— Ха! — сказал дядя, внезапно угадав мои сокровенные чувства, что прямо-таки
потрясло меня. — Да ты завидуешь тому, что у меня есть мои антилопы.
Но я ответил с такой же проницательностью, удивившей меня в равной степени:
— А ты завидуешь Хоффмейеру,
К тому времени положение двух антилоп стало вызывать серьезное беспокойство.
Они не спарились, когда их впервые свели вместе, и теперь, по наступлении второго брач-
ного сезона, снова не проявляли к этому никакой охоты. Поскольку самец был сравни-
тельно слабой особью, возникли опасения, что утеряны последние шансы добиться по-
томства и таким образом уберечь вид от вымирания, пусть лишь ненадолго. В этот пери-
од дядя Уолтер, как и прочие служители зоопарка, пытался склонить животных к брачно-
му союзу. Я гадал, можно ли это сделать. Антилопы казались мне двумя одинокими,
неприкаянными существами, абсолютно безразличными друг к другу, хотя они и состав-
ляли вдвоем целый вид.
Но дядя был явно поглощен своей задачей — помочь новому поколению антилоп
появиться на свет. После теткиной смерти прошло много недель, а с лица его не сходило
выражение глубокой внутренней сосредоточенности; трудно было сказать, то ли он скор-
бит по жене, то ли переживает за своих бесплодных питомцев. Мне впервые пришло в
голову — почему-то мальчишкой, несмотря на все наши воскресные чаепития, я никог-
да об этом не думал, — что у них с теткой не было детей. Представить моего дядю —
долговязого и слюнявого, с вечно желтыми от никотина зубами и пальцами, источающе-
го запахи портера и сырого лука — в роли производителя потомства было нелегко. Одна-
ко в некотором другом смысле этот человек, способный по вашей просьбе с ходу пере-
числить все известные виды Cervinae или Hippotraginae, был полон жизни. В те поздние
мартовские вечера, когда он возвращался домой с унынием на лице и я спрашивал его,
теперь уже с едва уловимым следом сарказма в голосе: «Нет?» — а он отвечал, снимая
сырой плащ, качая понурой головой: «Нет», я начал подозревать, сам не зная отчего, что
он по-настоящему любил мою тетку. Хотя он толком не умел проявлять свои нежные
чувства, хотя он бросил ее, как муж, проводящий все уик-энды на рыбалке, ради своих
животных — все-таки где-то в этом доме в Финчли, втайне от меня, существовал целый
мир посмертной любви к его жене.
Как бы там ни было, в ту пору меня достаточно занимала моя собственная личная
жизнь. Один в незнакомом городе, я изредка заводил себе полуслучайных подруг и иног-
да приходил с ними в дядин дом. Не зная, какой будет его реакция, опасаясь духа научного
целомудрия, гнездящегося среди книг по зоологии и чучел животных, я следил за тем, чтобы
эти визиты совершались в отсутствие дяди Уолтера, и убирал из своей спальни все мело-
чи, которые могли бы меня выдать. Но вскоре я почувствовал, что мои шалости не оста-
лись для дяди секретом. Возможно, у него был нюх на такие вещи, как у его питомцев.
Более того — мои развлечения подтолкнули его к редкому по искренности признанию.
Ибо однажды вечером, после нескольких бутылок портера, мой дядя, который не морг-
нув глазом стал бы изучать с близкого расстояния половые органы гну или окапи, про-
молвил дрожащими губами, что за тридцать лет брака он ни разу не смог «без душевного
трепета» приблизиться к тому, что он назвал «укромными уголками» своей жены.
Но это случилось позже, когда дела повернули к худшему.
— Завидую Хоффмейеру? — сказал дядя. — С чего это я стал бы завидовать Хоф-
фмейеру? — Его рот дернулся. Спинку его кресла украшала салфеточка-подголовник:
тетка любила вязать крючком.
Рассказы
21
— С того, что он открыл новый вид.
Произнося эти слова, я уже понял, что называю не единственную причину для за-
висти. Другой причиной было то, что Хоффмейер в некотором роде обеспечил себе
бессмертие. Человек может умереть, но — во всяком случае, пока существуют откры-
тые им животные — имя его не погибнет.
— Но... Хоффмейер... зоолог. А я? Знай навоз убираю. — Дядя Уолтер вернулся к
своему самоуничижительному стаккато.
— Расскажи мне о Хоффмейере.
Имя Хоффмейера, его подвиги не сходили с языка у моего дяди, но о самом чело-
веке не складывалось практически никакого представления.
— О Хоффмейере? Ну... признанный специалист в своей области. Бесспорный...
— Нет — какой он был? — Я сказал «был», хотя и не знал наверняка, что Хоффмей-
ер умер.
— Какой?.. — Дядя, уже поднявший трубку для расстановки ударений и изготовив-
шийся перечислять научные заслуги Хоффмейера, поднял глаза, на мгновение приотк-
рыв свой влажный рот. Затем, резко сунув трубку обратно в зубы и сжав рукой ее ча-
шечку, стал вымучивать из себя чуть ли не пародию на воспоминания об «ушедшем
товарище». — Как человек, ты имеешь в виду? Отличный малый. Кипучая энергия, не-
угасимый энтузиазм. Никогда не встречал более славного... Мой закадычный друг...
Я начал сомневаться в реальности Хоффмейера. Его действительная жизнь каза-
лась столь же призрачной и неуловимой, как жизнь антилоп, которых он спас от безы-
мянности. Я не мог представить себе этого доблестного ученого. У него была фамилия
еврейского импресарио. Я вообразил, как мой дядя приходит к нему и получает антилоп
в качестве атрибута для исполнения некоего уникального эстрадного номера.
Я спросил себя: да существовал ли Хоффмейер вообще?
Дядя, странно набычив голову — одна из тех поз, которые заставляли меня думать,
что он может видеть мои мысли, — сказал:
— Он ведь и сюда приезжал, гостил у меня. Много раз. Сидел в кресле, где ты сейчас
сидишь, ел за этим столом, спал...
Но тут он внезапно оборвал себя и принялся свирепо сосать трубку.
Мои попытки найти подходящую квартиру не имели успеха. По мере моего при-
выкания к Лондону он становился еще более безликим, более неумолимым. Видимо,
этот город не был создан для того, чтобы в нем преподавали математику. Мои уроки
философии приобрели более эзотерическую окраску. Особенно мне удавались лекции
о Пифагоре, который не только был математиком, но и верил, что следует воздерживать-
ся от мяса и что души людей могут переселяться в животных.
Через месяц после нашей беседы о Хоффмейере дела неожиданно приняли дур-
ной оборот. Самец антилопы заболел чем-то вроде пневмонии, и судьба пары, а также —
насколько нам было известно — всего вида казалась решенной. Дядя возвращался из
зоопарка поздно, молчаливый, с вытянутым лицом. Спустя две недели больное живот-
ное умерло. Уцелевшая самочка, которую я после этого видел, наверное, раза три, роб-
ко, тревожно глядела из своего одинокого загончика, точно сознавала собственную уни-
кальность.
Дядя Уолтер привязался к этой последней антилопе со всем пылом овдовевшей
матери, изливающей свою любовь на единственное чадо. Его взгляд стал отсутствующим
взглядом мученика. Однажды, во время моего воскресного визита в зоопарк (бывало,
что между этими визитами я вовсе не встречался с дядей Уолтером), старший смотри-
тель из его секции, грузный, добродушный человек по фамилии Хеншо, отвел меня в
сторонку и заметил, что дяде хорошо бы взять отпуск. Похоже, дядя просил разрешения
устроить в клетке антилопы постель, чтобы можно было никуда не отлучаться. Ему до-
вольно простого соломенного тюфяка, сказал он.
Хеншо выглядел обеспокоенным. Я обещал как-нибудь повлиять на дядю. Но, на-
22
Грэм Свифт
сколько я мог судить, у меня было мало шансов сдержать свое обещание. Дядя являлся
домой за полночь и, наполнив прихожую тяжелым портерным духом, сразу прокрады-
вался наверх. Я чувствовал, что он меня избегает. Даже в свои выходные он отсиживался
у себя в комнате. Иногда я слышал его бормотание и шаги; в другие часы там царила
тишина, как в тюремной одиночке, так что я начинал подумывать, не пора ли мне, ради
него самого, заглянуть в замочную скважину или оставить у двери поднос с его люби-
мой клетчаткой. Временами мы все же сталкивались, как бы случайно, на кухне или в
гостиной среди его книг. Я спросил у него (поскольку считал, что сквозь его защитную
оболочку может проникнуть лишь агрессивный юмор), не думает ли он, что его роман
с самкой антилопы зашел чересчур далеко. Он обратил на меня глубоко уязвленный,
страдальческий взгляд, его мокрые от слюны губы подрагивали; затем сказал горько, но
вызывающе: «Ты говорил с Хеншо?»
* Все вокруг словно объединились против него. В те дни он был удручен еще одним
обстоятельством: городские власти собирались проложить новую дорогу между двумя
магистралями, которая должна была преобразить микрорайон, пройдя по соседству с
дядиным домом. Дядя Уолтер получил предупреждение от властей и вступил в группу
местных активистов, борющихся против этого строительства. Он называл городских про-
ектировщиков «засранцами». Это удивляло меня. Мне всегда казалось, что он живет в
каком-то особом, старозаветном мире, где царит непререкаемый авторитет Зоологичес-
кого общества, являющегося единственной святыней и единственным судией. Я считал,
что, покуда его периодически окутывают теплые ароматы меха и навоза, он не способен
замечать грохот движения на Северной кольцевой, визг реактивных самолетов над Хит-
роу, высотки и эстакады — или обращать внимание на то, что творится около его дома.
Но в одно субботнее утро, когда мы (редкий случай) завтракали вместе под рев экскава-
торов за кухонным окном, я осознал свою неправоту. В тот раз дядя поднял глаза от сво-
ей овсянки с отрубями и пристально посмотрел на меня.
— Не нравится здесь, а? Хочешь небось обратно в Норфолк? — сказал он.
Его взгляд был пронизывающим. Возможно, на моем лице отражалось разочарова-
ние Лондоном — или напряжение, которое было вызвано необходимостью делить с ним
крышу. Я что-то уклончиво пробормотал в ответ. Снаружи включили какую-то мощную
тарахтелку, и чашки на столе задрожали. Дядя повернулся к окну.
— Подонки, — сказал он. — Знаешь, сколько я здесь живу? Сорок лет. Вырос здесь.
Твоя тетя и я... А теперь они хотят...
Его голос поднялся, в нем зазвенел пафос. И я увидел в этом человеке, которого
уже начал считать почти свихнувшимся, нелепой жертвой его собственных причуд, про-
блеск истинной жизни, безвозвратно утерянной, словно на миг приоткрылась дверь в
камеру.
Я стал гадать, каков же мой настоящий дядя. В этом доме обитал некто, но этот не-
кто не был моим дядей. Приходя из зоопарка, он все более неслышно пробирался в свою
комнату. Он начал уносить к себе в спальню отдельные книги по зоологии из своей «биб-
лиотеки» в углу гостиной. Еще он забрал снимки жены, стоявшие в рамочках на книж-
ной полке. В три-четые часа утра я слышал, как он читает нараспев, точно Псалтирь или
поэмы Мильтона, пассажи из «Редких видов» Лейна, «Африканских копытных» Эрикс-
дорфа и из труда, на который я уже давно привык смотреть как на дядину библию, —
«Карликовых и лесных антилоп» Эрнста Хоффмейера. В промежутках раздавались тира-
ды, направленные против каких-то воображаемых оппонентов, среди которых были чле-
ны комитета по градостроительству и «этот дерьмоед» Хеншо.
Им явно овладела параноидальная вера в то, что весь мир настроен враждебно по
отношению к антилопе Хоффмейера и стремится ее уничтожить. У него возникла иллю-
зия — так позже объяснил- мне Хеншо, — что, подобно детям, считающим, будто мла-
денцы рождаются лишь благодаря «крепкой любви», он может только силой своей не-
жной привязанности к самке антилопы продлить существование ее рода. Он стал избе-
гать меня, словно я тоже участвовал во вселенском заговоре. Мы сторонились друг дру-
Рассказы
23
га на лестнице, как чужие. Наверное, я должен был бороться против его мании, но что-
то говорило мне, что я вовсе не враг ему, а напротив — его последний истинный защит-
ник. Я помнил его слова «скорость гепарда, сила медведя...» Позвонил Хеншо и осто-
рожно намекнул, что дяде следовало бы показаться врачу. Я спросил у Хеншо, вправду
ли он любит животных.
Как-то ночью мне приснился Хоффмейер. У него была сигара, галстук бабочкой и
театральный бинокль, и он шествовал по джунглям, роскошным и фантастическим, как
джунгли на картинах Таможенника Руссо. За ним шли двое носильщиков, в руках у них
была клетка, а в ней — жалкая фигура моего дяди. Из подлеска опасливо выглядывало
четвероногое существо с лицом моей тетки.
Посещаемость моих лекций по философии падала. Я посвятил два занятия монте-
невской «Апологии Раймона Себона». Студенты жаловались, что я веду их странными и
обрывистыми тропами. Я пропускал их жалобы мимо ушей. Я уже решил, что летом
уеду из Лондона.
Дядя Уолтер вдруг снова стал коммуникабельным. Однажды поутру я услыхал, как
он поет на кухне. Высокий, пронзительный тенорок — в нем было что-то удивительно
юношеское — негромко выводил «Мы сохраним любовь навеки». Дядя собирался на
послеполуденное дежурство и перед уходом в зоопарк готовил себе ранний ленч. До меня
доносился запах жареного лука. Когда я вошел, дядя приветствовал меня, как по воскре-
сеньям во время оно, будто я еще не вырос из коротких штанишек: «А, Дерек! Привет,
дружок, выпей пива», — сказал он, точно сегодня было что отметить. Он подал мне «Гин-
несс» и открывалку. Четыре пустые бутылочки уже стояли на подоконнике. Я не знал,
что это — чудесное исцеление или последнее гулянье вроде тех, которые люди устраива-
ют, чтобы потом выброситься с балкона. «Дядя?» — сказал я. Но его липкие губы приот-
крылись в загадочной усмешке; лицо выражало сдержанную целеустремленность, слов-
но готовое вот-вот исчезнуть; глаза блестели, точно стоило мне вглядеться в них присталь-
нее, и я увидел бы там отражение картин и пейзажей, знакомых ему одному.
У меня была с собой папка студенческих работ: вечером предстояло идти на семи-
нар по математике. Он посмотрел на нее с презрением. «Все это... — сказал он. — Стал
бы лучше смотрителем в зоопарке».
Он вытер рот. Его длинное желтоватое дицо было в морщинах. Я понял, что на свете
нет никого, похожего на моего дядю. Я улыбнулся ему.
Той ночью — кажется, около часу — мне позвонил Хеншо. По его голосу чувство-
валось, что он на грани паники. Он спросил меня, видел ли я дядю Уолтера. Я ответил,
что нет: после занятий в институте я скоротал остаток вечера в пабе и, вернувшись, сразу
лег спать. Возможно, дядя лег еще раньше меня. Хеншо объяснил мне, что охранник в
зоопарке обнаружил двери в специальное отделение открытыми; что клетка антилопы
Хоффмёйера была найдена пустой. Сразу же начались поиски в ближайших окрестнос-
тях зоопарка, но никаких следов пропавшего животного замечено не было.
— Позовите дядю! — отчаянно выкрикнул Хеншо. — Найдите его!
Я попросил не вешать трубку. Я стоял в коридоре босиком, в пижаме. На миг безот-
лагательность моего поручения отступила на задний план: я мысленно увидел, как кро-
шечное создание пересекает Принс-Альберт-роуд, трусит по Финчли-роуд, постукивая
раздвоенными копытцами по булыжной мостовой, и в его кротких глазах отражаются
лучи фонарей, отбрасывая на лондонские улицы печальное мерцание прошлого его
лесных предков. И нет ему пары на свете.
Я пошел к комнате дяди Уолтера. Постучал в дверь (которую он нередко запирал),
затем открыл ее. Я увидел разбросанные по полу книги, сгнившие остатки сырых ово-
щей, клочки фотографий его жены... Но дядя Уолтер — я уже знал это — исчез.
СТЕФАН ХВИН
Ханеман
РОМАН
Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ
СТАНИСЛАВ ЛЕМ
о романе
Проза плотного плетения
Чтение романа Стефана Хвина «Ханеман» шло у меня с
трудом: я застрял на первых же страницах. Поначалу мне
показалось, что автор кропотливо плетет на коклюшках кру-
жева, излишне усложняя задачу читателя, однако жена
убеждала меня, что это выдающаяся проза, и я решил сра-
зу вломиться в середину. А поступив так, вошел во вкус и признал, что проза и в самом деле
выдающаяся. Быть может, лучшая из всего, что появилось в' последнее время.
Книга Хвина заслуживает того, чтобы о ней писали; отсутствие должного количества
откликов и дискуссий лишний раз свидетельствует о распаде в Польше «литературной» куль-
туры. Не собираются кружки интеллектуалов, не ведутся беседы о литературе на телевиде-
нии, разве что недавно какой-то там Лем пять минут говорил о своей книжонке, вышедшей в
издательстве «Знак». Нет точек соприкосновения, все расползаются в разные стороны, как
побеги дикорастущего кустарника. Такая кустистость раздражает, поскольку мешает серьез-
ному обсуждению книг, заслуживающих большего внимания, чем «бруЛьон»1 или «Метафизи-
ческое кабаре»1 2 некой юной особы. Хвин, по-моему, повторяю, недооценен, и причину этого я
вижу в отсутствии автономной литературной жизни, в отсутствии системы, которая по спра-
ведливости выносила бы некоторые названия на публичный форум и привлекала к ним широ-
кий общественный интерес. Дело тут не только в малых тиражах — никто не занимается про-
пагандой новых имен. Отношение к молодым авторам просто ужасное, можно сказать, ниги-
листическое; вы не увидите их книг на витринах, а зачастую и на прилавках книжных магази-
нов. Моя писательская карьера уже завершается, но я ни капельки не завидую тем, кому
довелось дебютировать в наши дни.
В «Ханемане» рассказывается, как жизнь соприкасается со смертью, и эта тема, подоб-
но теме судьбы в Пятой Бетховена, повторяется и набирает силу. Перед нами Гданьск и нем-
цы, которых оттуда выгоняют, и мы знаем, чтб их выгоняет — советское наступление, но
наступление это изображено как своего рода космическая катастрофа: ни одного советского
солдата на страницах романа Хвина мы не встретим, и это, я считаю, хорошо. Безымянная
сила выбрасывает людей из родного города, они устремляются на пароходы, и только потом,
с дистанции времени, мы узнаем, что они нашли смерть в ледяных водах Балтики. Это обра-
зец психосоциальной эсхатологии: Хвин пронзительно изображает зловещую легкость, с ко-
торой можно уничтожить, разрушить, растоптать все человеческое; хорошо известное он по-
казывает со свежестью, исполненной жестокости. Текст проработан до мельчайших подроб-
1 Литературный журнал молодого поколения, постоянно эпатирующий читателя.
2 Шокирующая своей эротической «свободой» повесть Мануэли Гретковской.
© 1995 by Stefan Chwin & Wydawnictwo Marabut, Redakcja «Tytulu»
© Stanislaw Lem, 1997
© К.Старосельская. Перевод, вступление, 1997
Ханеман
25
ностей, в конце даже есть словарик немецких Названий улиц, но при этом в книге трудно об-
наружить хотя бы намек на существовавший тогда в Германии строй — нет гауляйтеров или
иных бонз, загоняющих гданьчан на палубу балтийских судов. Все происходит в социально-
государственном вакууме. Это не упрек; я полагаю, автор сознательно избрал такой прием.
Хвин уловил явление, которое меня всегда потрясало, — я сам несколько раз переживал
подобное во Львове. Речь идет о той минуте, когда господствующий строй и традиционная
иерархия житейских проблем, самый фундамент быта рушатся. Одна армия уходит, другая
еще не припала, возникает зияющая пустота, перерыв в истории, а от людей остаются только
вещи. Кто-то может сказать, будто Хвин уделяет чрезмерное внимание тому, что является
лишь атрибутами жизни, — предметам и материи. Иронизировал же Милош: «Ничего, скажу
вам, не жаль мне так, как фарфора». Однако нет сомнений в том, что «Ханеман» в своей цель-
ности — поскольку не поддается расщеплению на отдельные строительные блоки — хорошая,
даже очень хорошая книга, более плотно сотканная и гораздо больше меня волнующая, чем,
например, проза Щиперского, принесшая автору известность за границей.
Я очень хотел бы увидеть, как эта книга из Польши выплывает на международные про-
сторы; в первую очередь ее бы следовало издать в Германии. Материя деликатная; живи мы
во времена, когда Жукровский громил Бялошевского за «Дневник Варшавского восстания»,
сразу бы послышались голоса: «Почему он уделяет столько внимания каким-то гданьским
немцам, а не воспевает, как положено, духовную (и не только) красоту поляков». Я, есте-
ственно, считаю, что автор волен сам выбирать себе тему, хотя в то же время меня озада-
чивает, почему именно Гданьск так часто появляется в молодой литературе — вначале Хюл-
ле, теперь Хвин. Львов, например, искать бессмысленно — я говорю это pro domo sua1, и,
вероятно, мои претензии необоснованны, однако мною движет местный патриотизм...
От переводчика
Журнал предлагает своему искушенному читателю роман, в Польше названный «лучшей
книгой 1995 года». Имя автора никому, кроме полонистов, ничего не говорит. Название —
сухое, сдержанное, всего лишь фамилия, вдобавок немецкая, — тоже. Однако чтение пред-
стоит не просто увлекательное, но и волнующее, хотя нелегкое — не только из-за разнооб-
разия стилевых приемов, но и из-за того, что какие-то линии так до конца и останутся
непроясненными, позволяя (заставляя?) о многом поразмыслить, кое над чем поломать
голову, самому додумывать судьбы героев. Мы заглянем в чужую жизнь, а в какой жизни — не
только чужой, но и собственной — нет загадок? «Если б знать!» — не раз случалось сокру-
шаться каждому из нас. Однако — сплошь и рядом — не знаем. И Стефан Хвин не все знает,
он описал то, что было, что он сам видел или слышал, то есть правду, и не счел нужным
расставлять точки над /, развязывать случайно (или волею высшей силы) завязавшиеся узлы.
Отдавая себе отчет в том, сколь быстро стираются следы нашего земного существова-
ния, он старается сохранить то, что поддается сохранению. Ограничив себя строгими
рамками правды, он ограничивает и пространство повествования местом и временем. Но
место это — Гданьск (бывший Данциг), город и порт на побережье Балтийского моря, кото-
рому суждено было не однажды становиться «горячей точкой»; когда-то принадлежавший
крестоносцам, в XV—XVII веках польский, а с конца XVIII — прусский (и тем не менее являв-
шийся могучим центром «польскости») город, в 1920 году по Версальскому договору полу-
чивший статус вольного города, где столкнулись интересы двух государств, Германии и
Польши, а потом, уже в наши дни — «колыбель» польского сопротивления режиму, «гнездо»,
в котором родилась «Солидарность». Но время это — тридцатые годы, когда по городу со
смешанным польско-немецким населением расползалась коричневая чума; март 1945 года,
когда немцы панически убегали из окруженного советской армией города; наконец, первые
послевоенные годы, когда сменилось все — власти, режим, само население. В таком месте
и в такое время История неизбежно грубо вмешивается в жизнь обывателя, не желающего
никаких катаклизмов, жаждущего покоя, нехитрого человеческого счастья. И по своему ус-
мотрению с ним обходится, не щадя его чувств, не давая снисхождения, не учитывая того,
что ему уже немало довелось пережить.
В это сложное, для многих непосильное время, в этом тесном, продуваемом безжало-
стными сквозняками Истории пространстве существует некий Ханеман, «польский» не-
мец, у которого два родных языка, который бдльшую часть сознательной жизни провел в
«Вольном городе Гданьске» и не покинул его вместе со своими соплеменниками лишь по воле
случая. Он ничего не станет рассказывать о себе сам; о разных, порой трагических поворо-
тах его судьбы мы будем узнавать со слов других людей, в том числе со слов мальчика, ко-
В защиту своего дома (лат.).
26
Стефан Хвин
торый попал в только что освобожденный Гданьск еще в утробе матери: родители мальчи-
ка, участники Варшавского восстания 1944 года, обрели свой дом на тихой улице по сосед-
ству с Ханеманом.
В романе есть две линии, связанные с известными людьми, чьи судьбы близко задева-
ют некоторых героев книги, — две истории самоубийств. Люди эти жили в разное время:
один в конце XVIII — начале XIX, другой в первой половине XX века; один был немцем, офице-
ром прусской армии, второй — поляком из белорусского Полесья, в первую мировую, как рос-
сийский подданный, служившим в царской армии. Оба — яркие фигуры в европейской культу-
ре: один — поэт и драматург, второй — писатель и художник, теоретик польского авангар-
да, основоположник польского театра абсурда. И еще одно у них было общим: обостренное
чувство непрочности мира, уязвимости всякого человека, у поляка в трагическом 1939-м
усиленное еще и ощущением надвигающейся вселенской катастрофы. Это — Генрих фон
Клейст и Станислав Игнаций Виткевич. Обоих автор посмертно увенчал венком из дубовых
листьев (дубовые венки играли важную роль в немецкой культуре): не случайно сюжетно
связанная с рассказом о самоубийстве Клейста глава книги, в которой описана смерть Вит-
кевича, названа «Дубовый лист».
Предварять чтение художественной прозы собственными на ее счет суждениями не-
корректно и не имеет особого смысла. Потому я ограничиваюсь исторической справкой и
предоставляю читателю возможность самостоятельно погрузиться в сложный, необычайно
емкий и яркий мир событий и чувств, явленный на страницах романа. А также услышать
мелодию, которой подчинены слова, — мелодию, которая, как сказал в одном из интервью
сам Стефан Хвин, сродни музыке Малера, виртуоза «непредсказуемой формы».
Четырнадцатое августа
®том, что случилось четырнадцатого августа, я узнал много позже, но даже Мама
не была уверена, что все произошло именно так, как рассказывали у Штайнов. Гос-
подин Коль, работавший в анатомическом корпусе со дня основания Института, об этом
говорил неохотно; его уважение к людям в белых халатах поверх костюмов из добротной
английской шерсти, которые протирали очки в тонкой золотой оправе шелковым носо-
вым платком с монограммой, было, право, слишком велико, чтобы...
Цейсовские стекла, неторопливо, спокойно протираемые в вестибюле... В летние
дни на них оседала желтая пыльца лип, цветущих на Дельбрюкаллее возле здания анато-
мички, где прохладный ветерок с тенистого евангелического кладбища смешивался с вол-
нами сухого соснового воздуха, приносимыми со склонов моренных холмов. В восемь
перед входом в Институт останавливался черный «даймлер-бенц», потом из подъезжаю-
щего со стороны Лангфура трамвая высыпала толпа одетых в темное девушек, которые
через несколько минут, пройдя вдоль кладбищенской ограды и войдя в вестибюль, а от-
туда в корпус Д, надевали голубые передники с бретельками, перекрещивающимися на
спине, и белые косынки... Короче, даже господин Коль сомневался в достоверности того,
что услышал от Альфреда Ротке, служителя из анатомички — смуглолицего и оттого по-
хожего на тень из Элизиума, — который сновал по подземным коридорам в клеенчатом
фартуке, вечно что-то разыскивая среди медных ванн, где мокли белые простыни для
застилки стола с мраморной плитой, длинного стола на колесиках — прямоугольного,
холодного на ощупь и всегда словно бы чуточку влажного; стол этот ставили под боль-
шим круглым светильником с пятью матовыми лампочками в зале IX на первом этаже
здания по Дельбрюкаллее, 12.
И хотя госпожа Штайн готова была поклясться, что все произошло именно так, как
об этом рассказывали, господин Коль, вздернув подбородок и щуря глаза, в которых по-
минутно вспыхивали иронические огоньки, посматривал на нее с выражением превос-
ходства, отнюдь, разумеется, не желая ее обидеть, однако что было делать, если, как сви-
детель случившегося, он знал гораздо больше, — госпожу Штайн, впрочем, все равно ни
за что не удалось бы переубедить... Кончик белого зонта постукивал по дорожке, когда
госпожа Штайн, спускаясь с мола в Глеткау на пятачок перед гастхаусом1, говорила гос-
1 Гастхаус — гостиница (нем.). (Здесь и далее — прим, перев.)
Ханеман
27
подину Колю: «Да ведь иначе и быть не могло. Он должен был так поступить. Это было
сильнее его. Нужно его простить...» — «Должен был?» — поднимал брови господин Коль.
Ведь даже если действительно все произошло так, как рассказывали, атмосфера в анато-
мическом корпусе с его длинным рядом застекленных дверей, хрустальные стеклышки в
которых, позванивая, отбрасывали радужные блики, а эмалированные таблички с готи-
ческой вязью обладали торжественностью саркофагов, тишина, которую нарушало только
мягкое шлепанье резиновых подошв служителей по зеленому линолеуму да доносяще-
еся из подвала, будто музыка огромной кухни, звяканье никелированных чанов и жестя-
ных подносов, — все это и без того вселяло тревогу, и господину Колю, естественно, не
хотелось ее усугублять за счет того, что оставалось неясным и в высшей степени сомни-
тельным. И даже если правдой было то, что он услышал от Альфреда, когда в конце сен-
тября они случайно встретились у Кауфмана на Долгом побережье, господин Коль муд-
ро решил помалкивать, ибо в событии, о котором они говорили, крылось нечто ему не-
понятное, хотя он немало повидал в жизни — взять, к примеру, отступление из-под Меца
или окружение Страсбурга, когда люди, которых, казалось бы, он хорошо знал и о кото-
рых никогда не сказал бы худого слова, внезапно менялись, точно с лица у них слезала
кожа, обнажая влажные, поблескивающие зубы. Поэтому он лучше, чем хотелось бы,
знал, что человек может измениться, но не до такой же степени и не здесь, на Дельбрю-
каллее, 12!
Если бы это произошло с кем-нибудь из студентов или, скажем, с ассистентом Мар-
тином Рецем, да, если бы подобное случилось именно с Рецем, господин Коль только бы
понимающе покачал головой, сожалея о ранимости человеческой натуры и слабости
нервов, — но Ханеман? Конечно, и у него были тайны, недоступные даже самому про-
ницательному взгляду врачей, увлеченных идеями Блейлера1 (а уж что говорить о взгля-
де швейцара, который из-за молочного стекла видел только темную фигуру и светлые
волосы, а потом руку, отдающую ключ от зала IX), но ведь метаморфозы души имеют
свои пределы, и то, что могло произойти с юнцами, которые, движимые страстью к по-
стижению секретов анатомии, приезжали сюда из Торна, Эльбинга и даже из Алленш-
тайна, не могло произойти с человеком, ходившим сюда уже не первый год, да и раньше,
как поговаривали, много чего навидавшимся в клинике под Моабитом, где он, кажется,
практиковался у самого Ансена.
Итак, четырнадцатого ничто ничего не предвещало. Студенты медленно собирались,
не спеша занимая места на дубовых скамьях перед дверью с готической буквой А. Сын
Эрнста Меля, владельца скобяного магазина в Мариенвердере, в гладком шерстяном
пиджаке безукоризненного покроя, в желтых кожаных туфлях, с зажатым в пальцах пен-
сне, пришел уже в начале третьего вместе с Гюнтером Хенекке, у отца которого был
магазин мануфактуры и колониальных товаров на Лабазном острове; затем к ним при-
соединились другие — фамилий Альфред Ротке, к сожалению, не смог припомнить. Они
переговаривались вполголоса, однако, чувствовалось, со смехом, замиравшим, когда их
взгляды падали на дверь кабинета Ханемана (за которой, впрочем, все еще никого не
было), — с приглушенным нервным смехом, стараясь таким способом подавить внут-
реннюю тревогу, хотя все были здесь не впервые. Итак, разговор был не слишком гром-
ким — скорее, перешептывания, тихие отрывистые возгласы, — и ассистент Мартин Рец
из глубины коридора, где проходил с инструментами, которые могли понадобиться в зале
IX, всякий раз слышал только отдельные латинские слова, вкрапленные в вульгарную
немецкую речь, и фразы из оперетт (город неделю назад посетила, оставив приятные
воспоминания, труппа Генриха Моллерса из Гамбурга). Перед дверью с эмалирован-
ной табличкой, на которой чернел ряд готических букв, собиралось все больше народу.
Трости с белыми и латунными набалдашниками, вставленные в подставку, увенчанную
железной лилией, поблескивали в темном углу за дубовым барьерчиком, а на черной
вешалке, над салатного цвета панелью, имитирующей зеленый мрамор с прожилками,
стыли плащи с капельками тумана на воротниках. Под полукруглым сводом дрожало
1 Эйген Блейлер (1857—1939) — швейцарский психиатр и психолог.
28
Стефан Хвин
нервное эхо нечаянно вырвавшихся смешков, стихающее, когда из подземелья доносил-
ся стук передвигаемых с места на место медных ванн, громыхание скользких жестяных
подносов и звяканье никелированных инструментов.
Ханеман, рассказывала госпожа Штайн, появился на лестнице около трех. Студен-
ты, встав, почтительно ответили на приветствие. Минуту спустя в коридоре показался
ассистент Мартин Рец в своем чуть широковатом пиджаке с костяными пуговицами,
пахнущий туалетной водой Редлица; шагал он с не меньшим, чем Ханеман, достоинством,
однако ничего, заслуживающего подобного уважения, в нем не было.
Мартин Рец... Сколько раз госпожа Штайн видела его на конце мола в Цоппоте, ког-
да, повернувшись лицом к морю, он стоял у парапета, никого, казалось, не замечая, хотя
в летние и даже осенние дни гуляющих было предостаточно и на променаде около кази-
но, и возле причалов. Вероятно, меланхолию в его душе порождали неотступные мысли
о матери, которая, уперев взгляд в потолок, не первую уже неделю умирала в больнице
на Луговой, не слыша вопросов сына, навещавшего ее через день с неизменным буке-
том цветов, но ведь мужчине не пристало так покорно поддаваться ударам судьбы! Гос-
пожа Штайн, имевшая обыкновение даже в прохладную погоду около четырех часов
пополудни приходить с дочерями на мол, чтобы девочки могли принять воздушную ван-
ну, как только приближалась к неподвижной фигуре, на мгновение переставала восхи-
щаться целительными свойствами йода и, отвечая на вопросительные взгляды девочек,
обеспокоенных видом стройного господина в темном пиджаке с костяными пуговица-
ми, который стоял на краю помоста и, не обращая внимания на треплющий его волосы
ветер, смотрел на темную линию горизонта, произносила: «Милочки, господин Рец —
меланхолик», что звучало как предостережение.
Итак, Мартин Рец был «меланхоликом», и то, что он говорил о Ханемане, не могло
не быть пронизано меланхолией, которая — в чем госпожа Штайн не сомневалась —
неизбежно вносит фальшивую ноту в любые наши суждения. Рец был «меланхоликом»
— Хильда Вирт, у которой он жил на Ам Иоганнисберг и которая будила его по утрам
осторожным стуком в застекленную дверь, безусловно бы это подтвердила. Кто б дру-
гой стал возить с собой в черном саквояже эту завернутую в клочок кроличьей шкурки
гипсовую головку неизвестной девушки, которую госпожа Вирт увидала однажды в ком-
нате Реца, — маленькую, гипсовую, похожую на жемчужную раковину головку, сто-
ящую на буфете красного дерева? Почему столь трезвый и уравновешенный человек,
до смешного тщательно подбирающий галстучную булавку к запонкам на манжетах,
поставил на буфет белую гипсовую головку, ничем абсолютно не примечательную —
просто гипсовая отливка лица неизвестной девушки, которая могла бы быть — но навер-
няка не была— его младшей сестрой? (Можно ли, впрочем, винить госпожу Вирт, кото-
рую трудно было заподозрить в незнании жизни, в неосведомленности о том, что подоб-
ные гипсовые головки украшают гостиные и спальни тысяч домов Эльзаса, Лотарингии
и Нижней Саксонии, не говоря уж о центральной Франции?)
Четырнадцатого августа в три с минутами, когда была сдернута простыня с лица
девушки, час назад привезенной в анатомичку, Мартин Рец не сумел удержаться от вздо-
ха: это лицо было так похоже на то... А коли уж он увидел то, что увидел, возможно ли,
чтобы Ханеман не увидел того же самого? Да, Мартин Рец готов был поклясться, что как
только полотно соскользнуло с лица девушки, глаза Ханемана погасли. Впрочем, разве
могло быть иначе? Разве мог остаться равнодушным человек, хоть раз в жизни видевший
лицо «Незнакомки из Сены»1, сонное лицо из белоснежного гипса?
«Этот Рец совсем свихнулся», — госпожа Штайн не могла скрыть раздражения, ког-
да Мария, ее племянница из Торна, слово в слово повторяла то, что о четырнадцатом
августа говорил Рец. Она-то знала из рассказа Альфреда Ротке, как все обстояло на са-
мом деле! Если Ханеман и отдернул руку в тот момент, когда полотно соскользнуло с
белого лица лежащей на мраморном столе девушки, так ведь не потому же, что это лицо
1 Около 1880 г. в Париже выловили из Сены тело неизвестной девушки; она была так красива, что кто-
то сделал гипсовую отливку головы таинственной утопленницы, и вскоре ее копии появились в
домах чуть ли не всей Европы.
Ханеман
29
напомнило ему какую-то гипсовую головку, навевающую на Реца глубокую меланхо-
лию!
Служитель Альфред Ротке, очень хорошо запомнивший тот день, — трудно не за-
помнить чего-то такого, что происходит внезапно и разрушает все наши прежние пред-
ставления о тонкой паутине связей между реальным и возможным, — тем не менее не
запомнил, каким было лицо Ханемана. Поглощенный собственным удивлением, он смот-
рел лишь на то, что появилось на мраморном столе через несколько минут после приез-
да кареты «скорой помощи», из которой полицейские вынесли продолговатый предмет
в прорезиненном чехле, кожаными ремешками прикрепленный к носилкам. Зеленая
перевозка подъезжала ко входу в анатомичку несколько раз. Хлопанье дверей, торопли-
вые шаги, восклицания. Вызвали служителей из корпуса Д. Вскоре вся Академия знала,
что около девяти у мола в Глеткау затонул прогулочный пароходик «Штерн», курсирую-
щий по трассе Нойфарвассер — Цоппот. Этот несчастный случай (не первый, кстати, на
этой линии: 12 августа 1921 года принадлежащая Гребному обществу «Урания» столк-
нулась возле пристани в Глеткау с буксиром из Нойфарвассера) привлек внимание ко-
миссара Витберга из участка в Цоппоте, поскольку, когда «Штерн» при помощи плаву-
чего крана братьев Гиммель подняли на поверхность, в кают-компании был обнаружен
труп мужчины, чья фамилия значилась в полицейских картотеках.
В подобных случаях, если возникали хоть малейшие подозрения, в Институт вызы-
вали Ханемана. Тогда к дому 17 по Лессингштрассе подкатывал черный «даймлер-бенц».
Ханеман, слыша, что у калитки останавливается машина, брал свое темное пальто и
быстрым шагом выходил из дома, перед которым его ждал в автомобиле ассистент Рец,
свежевыбритый, с белым платочком в кармане пиджака; шофер открывал дверцу, и уже
минуту спустя черный «даймлер-бенц» въезжал на Кронпринценаллее, чтобы за желез-
нодорожным виадуком повернуть в сторону Лангфура. Ханемана не впервые вызывали
по такому поводу, поэтому и в тот день он не удивился: хотя событие носило сенсацион-
ный характер (в тот же вечер в специальном приложении к «Фольксштимме» были при-
ведены ошеломительные подробности), для Анатомического института оно было лишь
одним из многих, с какими там приходилось сталкиваться изо дня в день. Даже ассистент
Рец, тонкая организация которого не раз подвергалась суровым испытаниям, в глубине
души, безусловно, взволнованный известием о крушении «Штерна», не выказал беспо-
койства: пока они ехали по аллее к центру, минуя дома Лангфура, железнодорожный
виадук на Магдебургерштрассе и затем конный манеж, он своим звучным голосом из-
лагал суть дела, в котором им поручено было разобраться.
Кажется, говорил Рец, среди жертв обнаружили человека, погибшего — на что ука-
зывали кое-какие факты — несколько раньше, до того, как «Штерн» затонул (из этого
предположения, высказанного очевидцами, наблюдавшими за извлечением трупов из
наполненного водой корпуса, некоторые журналисты поспешили сделать вывод о том,
будто катастрофа была неслучайной, будто некто пытался уничтожить следы чего-то
весьма серьезного, но ошибся в расчетах и погиб вместе с остальными несчастными).
Таким образом, дело, в котором предстояло разобраться Ханеману, не отличалось от
тех, которые ему обычно поручали, и комиссар Витберг из участка в Цоппоте, равно как
и комиссары из Главного города1, с которыми Ханеман прежде сотрудничал, мог быть
спокоен, что все будет выяснено и складный диагноз, претендующий на полную досто-
верность полученных данных, не затемнит сомнений, если таковые появятся.
А когда «даймлер-бенц» уже приближался к анатомическому корпусу, когда высо-
кие липы, затеняющие евангелическое кладбище, быстро исчезали за окном слева от
автомобиля, служитель Альфред Ротке медленно вкатывал в зал IX длинный стол, на
мраморной плите которого лежала завернутая в прорезиненную ткань фигура; вкаты-
вал осторожно, так, чтобы стол не подпрыгнул на латунном пороге, отделяющем ледник
от зала. Белые клеенчатые фартуки с металлическими застежками уже ждали на вешалке
у двери, стол подъезжал под круглый колпак с пятью лампочками, в жестяных кюветах у
Главный город — район Гданьска (Данцига).
30
Стефан Хвин
окна дремали никелированные инструменты, и когда служитель Ротке зажигал свет (он
всегда при этом зажмуривался), на лестнице за дверью уже слышны были шаги. Впереди
шел Мартин Рец, за ним, на ходу снимая свое темное пальто, спускался по гранитным
ступенькам Ханеман. Рец подал ему фартук. Ханеман застегнул металлическую пряж-
ку, разгладил белую клеенку на груди, коротко поздоровался со служителем Ротке и, ког-
да все подошли к столу, велел опустить лампу пониже — так, чтобы свет падал прямо на
то, что лежало на мраморе.
А потом — служитель Ротке хорошо запомнил эту минуту — Ханеман один за дру-
гим развязал узелки ремешков, опутывающих ткань, и раздвинул края; служитель Ротке
хорошо запомнил только руки Ханемана, только их спокойные, неторопливые и ловкие
движения, когда узелки поддались и чехол раскрылся, однако он не запомнил, каким было
в тот момент лицо Ханемана, он запомнил лишь освещенные ярким молочным светом
пяти электрических лампочек кисти рук, отдернувшиеся, когда прорезиненная ткань раз-
двинулась и открыла лицо Луизы Бергер. На шее прямо под подбородком темнела тонень-
кая розовато-фиолетовая полоска. Волосы были мокрые.
t Итак, четырнадцатого августа — госпожа Штайн не могла скрыть негодования, —
четырнадцатого августа произошло то, что произошло, и никакие меланхолические на-
строения ассистента Реца (чья стройная фигура угрожала каждой семье, в которой под-
растали дочки) не должны никого вводить в заблуждение, поскольку причина — явная и
весьма прискорбная — крылась именно в этом. Ведь служитель Ротке, чьи слова, по
мнению некоторых, следовало бы обойти молчанием (неужели обязательно отзываться
на слова простого человека высокомерным пожатием плеч, как мы это делаем, выражая
свое отношение к чьей-то вере в мир сильных и чистых чувств?), все видел.
Студенты, безмолвным кольцом обступившие стол с мраморной плитой, не пони-
мали, почему Ханеман прервал осмотр, и только переглядывались, но в лице ассистента
Реца не было ничего такого, что могло бы подтвердить даже самые осторожные догадки.
Итак, они стояли молча в своих клеенчатых на полотняной основе фартуках, ожидая ка-
кого-нибудь жеста, который бы рассеял тревогу, и когда уже казалось, что напряжение
спадает, поскольку Ханеман взмахом ладони велел Рецу делать что ему положено и Рец
протянул руку в резиновой перчатке за лежащими в кювете блестящими инструмента-
ми, затем ватой, смоченной розовым раствором, протер живот лежащей девушки — от
грудины до пупка (в котором все еще сверкала капелька воды) — и медленно провел
острием скальпеля по коже сверху вниз, Ханеман вдруг повернулся и, не снимая фарту-
ка, вышел из зала. Ассистент Рец осторожно передвигал скальпель, вскрывая тело, обна-
жая темно-красные, оплетенные фиолетовыми жилками бугорки, служитель Ротке, гля-
дя на дверь, прислушивался к затихающим на лестнице шагам Ханемана, однако лишь
после того, как были наложены скобки и настало время объяснений Ханемана, который
обычно по завершении подготовительной процедуры брал в руку стеклянную палочку,
чтобы указать в глубине вскрытого тела места, изображенные на больших таблицах, раз-
вешанных в зале IX, и ассистент Рец, прервав на мгновенье работу, бросил Альфреду
Ротке: «Скажите профессору Ханеману, что скобки наложены», — только тогда все по-
няли, что Ханемана уже нет в анатомичке.
Даже темное пальто, висящее около двери, не могло поколебать уверенности, что
это так.
Окно
Вернувшись на Лессингштрассе, он положил фотографии в плоскую бронзовую
вазу и бросил спичку. Огоньки были желтые, перепрыгивали со снимка на снимок. Когда
подуло от окна, слегка заколыхались. На дно вазы осели черные хлопья. Он смотрел на
корчащуюся в огне глянцевую бумагу.
Но уже через минуту, ладонью прибив огонь, быстро вытащил из пепла уцелевшие
остатки. На задымленном клочке мелькнул носок ботинка. Подол кружевного платья.
Ханеман
31
Белая рука, держащая зонтик с роговой рукояткой. Поля темной шляпы, украшенные
венком из тюлевых роз. Только теперь он осознал, что сделал. Закрыл глаза. Потом стал
торопливо складывать обгоревшие кусочки, но из закопченных обрывков уже ничего
составить не удалось. Пепел. Черные кончики пальцев. Запах горелого целлофана. Он
открыл ящик. На дне — зеленоватое фото на паспорт. Птичье перышко. Серая монета.
Стальное перо. Вот и все.
Лицо на фото показалось ему чужим.
Это она? Он пытался собрать мысли. Постепенно все начало складываться. Все ни-
точки тянулись в одну сторону — туда, на пристань, к темной воде. Как он мог этого не
видеть? Картинки, точно железные опилки в магнитном поле, сбежались в льдисто-про-
зрачный узор.
Ведь они встретились три дня назад на втором этаже гастхауса в Глеткау. За окном
мол, к которому в три причаливал тот пароходик.
Три дня назад...
Она тогда стояла у окна. Причесывалась. Протянула руку к раскиданным по подо-
коннику длинным костяным шпилькам, придерживая рассыпающийся узел волос, блеск
которых всегда его восхищал, ловко подсунула пальцы под темную прядь. Но ведь (сей-
час он был в этом уверен) она проделала это медленнее обычного, движение руки... как
он мог не заметить? Она стояла у окна, профиль, отражающийся в стекле, за которым
синело море, был так близко, только протяни руку, но ведь он чувствовал, что между
ними появилось что-то, какая-то завеса, едва различимая, однако придающая лицу нео-
бычный светлый оттенок — может быть, более холодный, может быть, почти белый.
Оттенок кожи? Холод? Лунная белизна? Ведь он должен был это заметить, когда она по-
дошла к окну, щурясь от солнца. Позднее утро, желтые пятна теплого света на стене воз-
ле оконной рамы. За окном у мола белый прогулочный «Ариэль» из Нойфарвассера.
Несколько подростков шли по пляжу к причалу. Красный мяч. Небо. Бледно-желтый пе-
сок. Крик чаек, лениво отгоняемых рыбаком, вытаскивающим из сети еще живых рыб с
розоватыми жабрами. Гладкое море, почти без волн...
Она стояла у окна, задумавшаяся, возможно, чуточку раздраженная, но ведь ее за-
думчивость была не такой, какую ему случалось видеть на женских лицах в кафе Кауф-
мана или в гастхаусе, когда красивая дама с собранными в римский пучок волосами,
ковыряя серебряной ложечкой кусочек венского торта, устремляла взгляд куда-то в про-
странство, отсутствующая, быть может, погруженная в воспоминания о ночи любви,
молчащая, хотя ее спутник, тщательно выбритый офицер из казарм на Хохштрис, что-то
оживленно ей рассказывал, подцепляя металлическими щипцами краба за крабом с бле-
стящего блюда.
Нет, тогда, когда она причесывалась у окна, это было что-то другое, что-то, от чего
ему стало страшно, но он пренебрег предостережением всполошившегося сердца.
Или он уже раньше это заметил?.. Она стояла в ванне, он смотрел в щель неплотно
закрытой двери: светлое тело на фоне темно-зеленых стен ванной комнаты, высоко зако-
лотые волосы, освещенные лампой над затуманенным зеркалом. Он видел ее профиль,
белую линию груди. Она провела по плечу греческой губкой, след пены на золотистой
коже, влажная прядка на затылке, медленные движения руки, будто она ничего под паль-
цами не ощущала...
Когда он смотрел так на нее, водящую по плечу греческой губкой, его вдруг прон-
зил страх, короткий, как солнечная вспышка в неожиданно треснувшем зеркале. Он вдруг
увидел беспредельное одиночество этого тела, которого легко касаются пальцы. Нет, то
не был страх. То была уверенность, что она замкнулась в себе, что ему никогда к ней не
пробиться.
Теперь оставалось только винить себя. Ведь они могли уехать в Кёнигсберг позавче-
ра. Все уже было готово. Билеты на поезд с пересадкой в Мариенбурге. Но она настаива-
ла, чтобы они отложили отъезд на воскресенье: мать неважно себя чувствует, подождем,
всего-то пару дней... Стоило произнести одно твердое слово...
Теперь время, проведенное в анатомическом корпусе, показалось ему пустой тем-
32
Стефан Хвин
нотой. Он пытался проникнуть в тайну, вскрывал попадавшие на мраморный стол тела в
надежде понять, что же отгораживает нас от смерти. Но много ли было толку от потра-
ченных в подземелье на Дельбрюкаллее часов, если он не сумел услышать того, о чем
говорило ее живое тело, что сквозило — теперь он знал! — в каждом ее движении... Те-
перь у него не осталось сомнений: тогда, у окна в комнате на втором этаже гастхауса, она
чувствовала, что это приближается. А он смотрел на ее плечи, шею, волосы, точно был
слеп и глух. Он мог удержать ее одним словом, но тогда, когда она стояла так у окна, за
которым синело море, только спросил: «Что с тобой?» Она перестала водить по волосам
зеленой щеткой: «Не знаю».
Он помнил все. Каждый жест. С мучительной отчетливостью. Отдельные образы той
минуты. А ведь хватило бы одного слова...
И это легкое раздражение, с каким она отвернулась от окна. Мелькание пальцев,
выдергивающих из щетки светлые волоски. На подоконнике ракушка. Кольца. Медальон
с розовой камеей. Приколотая под воротничком брошка. Потом рука, поправляющая
волосы на затылке. Застегивающие платье пальцы. Желтый шнурованный ботинок на
ковре. Быстрые шаги. Струя воды из крана. Мягкий стук отложенного мыла. Теплые сле-
ды босых ног на полу. Прошла к зеркалу мимо него. Плечи едва ощутимо напряглись,
когда он захотел ее обнять. Мягко изогнувшись, высвободилась. Засмеялась, но смех был
неглубокий и тотчас погас. Взяла шляпу. Разгладила ленту. Тронула розы на полях. Ше-
лест шелка. Светло-розовые ногти. Надевание кольца на безымянный палец. Разглядыва-
ние вытянутой руки: малахитовый камешек в серебре. Зонтик с черной рукояткой, бро-
шенный на кресло. Скрип открываемого шкафа. Блеск зеркала в дверце. Светлое пальто.
Ворсистая ткань с перламутровыми пуговицами. Тепло исчезающего под пальто пла-
тья.
Он коснулся пальцами ее щеки. Она прижалась лицом к его ладони, но смотрела
куда-то вбок. Полуопущенные веки. «Значит, в воскресенье около четырех в Лангфуре.
Не забудешь?» Глупый, смешной вопрос, ведь это он покупал билеты. «Только не опоз-
дай. И не бери никаких вещей. Я все возьму». Они хотели сесть в разные вагоны, так было
забавней. Потом, словно незнакомые попутчики, едущие из Штеттина или Кеслина, встре-
тились бы в вагоне-ресторане где-нибудь между Диршау и Мариенбургом, на длинном
мосту через реку Вайхзель, по которому едешь и едешь, а внизу вода, темная от водово-
ротов.
Но когда она стояла так у окна, за которым синело море, ее уже ждал тот белый па-
роходик с пристани в Нойфарвассере, уже ждали летнее белое платье, зонтик, белая су-
мочка... Решила навестить сестру в Цоппоте? Но почему не поехала поездом, почему
села именно на это суденышко, наклонная труба которого походила на обрубок колонны
из греческого мрамора, увенчанный буквой В, знаком транспортной компании Вестер-
манов? Сестра? Темно-рыжая девушка с глазами как спелые виноградины? В красном
платье? Ждала на молу в Глеткау? Все видела?
Он быстро поднялся с кресла, схватил брошенное на кровать пальто. Надо немед-
ленно ехать на Штеффенсвег, чтобы все ей рассказать!
Ей?
До него вдруг дошло, что он хочет рассказать о случившемся в Глеткау той, которой
уже нет. Он всегда рассказывал ей обо всем важном и интересном, что происходило в
Данциге, Диршау, Цоппоте и даже в Мариенвердере, вот и теперь захотелось рассказать...
Опомнился. Господи...
Как это говорил Рец? «Когда мы страдаем, Бог прикасается к нам голой рукой»?
Бедняга Рец... Что за возвышенный философский бред нес этот меланхоличный юноша
с такими ловкими пальцами, что ему без колебаний можно было доверить любую, даже
самую сложную операцию. Прикосновение Бога? Сейчас Ханеман ощущал только ост-
рую боль оттого, что ее больше нет ни на Штеффенсвег, ни... нигде...
Ни слезинки. Только до боли сжатые челюсти и стиснутое горло. Нет, он не мог по-
нять. За что это наказание? И даже если оно предназначалось ему — при чем тут она? На
стене рядом с зеркалом в бронзовой раме чернело «Распятие в горах» Каспара Давида
Ханеман
33
Фридриха1, но кружевная вязь елей, окружающих черную фигуру Бога, вдруг расплы-
лась. Ханеман закрыл глаза. Почувствовал, что сейчас заплачет.
Отверженн ы й
А спустя несколько дней — как рассказывала госпожа Штайн — на Лессингштрас-
се, 17 прибежала Анна, племянница Ханемана, красивая, высокая, бело-желтые цветы
на платье, шляпа с большими полями, и уже с каменной дорожки начала кричать: «Быть
того не может, что они о тебе рассказывают... Ох уж эти сплетницы — вечно такое выду-
мают, целый год потом не расхлебать!» Теперь всякий раз при ее появлении Ханеман с
улыбкой подходил к широко распахнутой стеклянной двери веранды, брал Анну под руку
и вел в темную гостиную, где наперегонки скакали по полу золотые пятнышки солнеч-
ного света, просеянного листвой большой березы, растущей в углу сада.
Красавица Анна! Он усаживал ее в плетеное кресло лицом к окну — ему нравилось
смотреть, как она щурила глаза, пока он расспрашивал ее о городских новостях. А по-
том, когда солнце в саду подергивалось теплой предвечерней дымкой и разговор увядал,
Анна долго внимательно к нему присматривалась: «Не можешь ее забыть?..» Ханеман
отворачивался, будто солнечный луч обжигал ему щеку. Анна не сводила с него глаз:
«Да ведь человек, с которым ее нашли, мог не иметь к ней никакого отношения... Пре-
крати об этом думать... И даже если между ними что-то было... теперь это не имеет зна-
чения... ее уже нет...» Ханеман быстро, осторожно гладил руку в нитяной перчатке, слов-
но это он хотел успокоить Анну, а вовсе не она его: «Перестань...» Она на минуту умол-
кала, но как только тишину в гостиной заполнял доносящийся из сада шорох листьев, в ее
глазах вспыхивали колючие огоньки: «Ты должен вернуться в Институт, это глупо...»
Но чего ради было Ханеману туда возвращаться? Дом на Лессингштрассе прино-
сил приличный доход— почему же она настаивала? По мнению госпожи Штайн, только
возвращение Ханемана на Дельбрюкаллее могло рассеять недобрую славу, исподволь
окружавшую его родных. «Ханеман, Ханеман... — качала головой Анна. — Встряхнись
наконец... Приходи к нам в воскресенье, поговоришь с мамой... Нельзя дальше так жить...»
Вероятно, она была права, однако, несмотря на ее неоднократные приглашения, он так и
не зашел больше на Штеффенсвег в красивый, белый, с черным прусским антаблемен-
том дом, фасад которого сплошь был увит темнолистым плющом, не поднялся по кру-
тым ступенькам на лужайку перед домом, где под серебряной елью возле сбегающего
из Леса Гутенберга ручейка они когда-то сиживали за круглым столом на железных са-
довых стульях.
«Ах, эти дамы из Нижней Саксонии... — иронически вздыхал Франц Цимерман, когда
много лет спустя в его маленькой стокгольмской квартирке в доме 65 по Вита Лилиане
Ваг я повторял ему то, что Мама услышала от госпожи Штайн^ — Ах, эта темная печаль
Нижней Саксонии, которую не способно рассеять даже солнце прекраснейших дней лета.
Всегда все должно быть окрашено в цвет густых зарослей плюща, в которых утопают сады
Бремена, овеяно меланхолией росы, искрящейся на свежих листьях деревьев в Ворпсве-
де, все должно прятаться в тени скорбных чувств, которые — хоть и тщательно скрывае-
мые — терзают нижненемецкую душу. Ведь госпожа Штайн родом из тех краев, и за-
быть об этом значит совсем оторваться от нашей грешной земли!
Ханеман не бросал Института! Отнюдь! Что-то там между ним и этой Луизой Бергер,
конечно, было, но зачем же делать из мухи слона! Не уходил он оттуда вовсе, это его вы-
ставили после того, как в гастхаусе под Карлсбергом он слишком много говорил о вещах,
о которых следовало помалкивать. Вы слыхали про дело Вихмана? В гастхаусе под Карлс-
бергом, где по случаю дня рождения ректора Медицинской академии профессора Хане-
са Унгера собрались официальные лица: сенаторы, чиновники, преподаватели Техничес-
кого училища, — Ханеман позволил себе несколько высказываний относительно массо- 1 2
1 Каспар Давид Фридрих (1774—1840) — немецкий живописец, представитель раннего романтизма.
2 «ИЛ» №12
34
Стефан Хвин
вых песнопений и факельных шествий, что прозвучало крайне неуместно в ресторанчике
в двух кварталах от дома, возле которого неделю назад «неизвестные преступники» зата-
щили в машину Ханса Вихмана, тело которого, выловленное спустя два или три дня из
портового канала в Эльбинге, попало на мраморный стол в зале IX. Кажется — я слыхал
это от нескольких человек, — продолжал Цимерман, — среди гостей в гастхаусе был юно-
ша с красивой арийской фамилией Форстер. Вам, вероятно, эта фамилия кое-что гово-
рит?»
Итак, Франц Цимерман из Zentrumpartei1, седоволосый мужчина со смуглым ли-
цом и прозрачными карими глазами, который еще в тридцать седьмом сумел через Кё-
нигсберг и Клайпеду пробраться в Швецию, Франц Цимерман, сидящий против меня в
кожаном кресле и помешивающий колумбийский кофе в синей чашечке, только качал
головой, вспоминая нижненемецкую романтичность госпожи Штайн, и задумчиво по-
вторял: «И что она наговорила вашей матушке...» — хотя госпожи Штайн давно уже не
было, как не было уже и Города. И только с темных фотографий, висевших над стеклян-
ным столиком, за которым мы пили кофе, — с фотографий из ателье самого Баллерштед-
та плыли к нам мягкая темнота бегущих к Мотлаве улиц, поблескивание мелкой брусчат-
ки на Марьяцкой и молочный свет фонарей на Широкой, которые ежевечерне зажигал
Ханс Лемпке, сосед господина Цимермана по Осеку, подъезжавший поочередно к каж-
дому столбу на старом велосипеде «Урания», чтобы со стремянки просунуть огненный
язычок под колпак.
«Да ведь Ханеман уже тогда водил сомнительные знакомства! — господин Цимер-
ман в своей стокгольмской квартире отставлял синюю чашечку и брал альбом с фото-
графиями. — Ведь он не раз бывал в том недоброй славы доме на Долгом побережье, где
собирались люди из «Данцигер фольксштимме»2. Это было неподалеку от Крантора3, в
двух шагах от магазина Германа Кагана, рядом держала лавку Валентина Райман, — гос-
подин Цимерман задумывался, — а дальше, сразу за Каганом, Роберт Зюсс торговал,
если не ошибаюсь, оружием. Какой же это был номер? Видимо, девять, ведь магазин
Кагана был в доме десять. Над магазином Зюсса мать Йоста Хиршфельда выставила паль-
му в деревянной кадке, голуби быстро изукрасили ее белой глазурью. А что же было над
лавкой Валентины Райман? Железный балкончик, — это Франц Цимерман прекрасно
помнил, — а на балкончике? Что там было? Что-то белое, круглое, прислоненное к сте-
не? У Кона в одиннадцатом жалюзи из узких планочек всегда были опущены до середи-
ны большого полукруглого окна, на красной штукатурке желтые буквы, но что там было
написано? А на маленьких табличках, которые Кон вывешивал? Реклама товара? Всего-
то? Пожалуй, это был дом одиннадцать по Ланге брюкке, — Франц Цимерман, который
проходил там множество раз и почти всегда спотыкался о слегка выступающую из тро-
туара плиту, запомнил даже запах, бьющий из окошечек подвала бакалейной лавки. — За
магазином Эмиля Бялковского — это его сын в тридцать пятом повесил над дверью пла-
кат с надписью: «Храни нас, наш Любимый Вождь. Мы знаем, в чем долг поляка. Голо-
суйте за список номер семь», — в доме двадцать два был магазин, кажется, принадле-
жавший другому Кону, золотистые буквы «Cigarren», нарисованные на узком фасаде, то
и дело скрывались под хлопающей на ветру тяжелой бело-синей полосатой маркизой».
Итак, Ханемана несколько раз там видели — сколько именно, Франц Цимерман не
знал, но наверняка лицо Ханемана мелькало там, наверху, в комнате на втором этаже, где
стояла лампа с зеленым абажуром и на стенах висели холсты Эмиля Нольде и рисунки
Оскара Кокошки. Кто там еще бывал? Хайнсдорф? Эрих Брост? Рихард Тецлав или, мо-
жет, Эрнст Лоопс, которого потом так зверски избили, что он на всю жизнь остался кале-
кой? Нет сомнений, что туда не заглядывал никто из «Данцигер форпостен»4, но лица,
лица тех, кто приходил в дом на Долгом побережье, эти лица тонули во мгле и лишь на
Народно-христианская партия (нем.).
Газета, издававшаяся в 20—30-х годах в Гданьске немецкими социал-демократами, противниками
Г итлера.
Портовый кран XV века в Старом городе на берегу Мотлавы.
Газета, издававшаяся в Гданьске сторонниками Гитлера.
Ханеман
35
секунду выныривали из забвения, чтобы Показать свой светлый овал, похожий на при-
зрак на стеклянной фотопластинке.
Фррнц Цимерман переворачивал страницы альбома.
Густав Петш? Верзила в темном сюртуке, в рубашке с загнутыми углами воротнич-
ка, в узорчатом галстуке, завязанном на толстый продолговатый узел, гладко выбритый,
тщательно причесанный, пробор слева, усы черные, тяжелые, с закрученными вверх
концами, ветеран, поносящий юнцов, которые под барабанный бой врывались на Лан-
гер марктсо стороны гостиницы «Норд», а женщины приветствовали их римским жес-
том вскинутой вверх руки? Не с ним ли видывали Ханемана в ресторане Шнайдера?
Альберт Посак? Не с ним ли его видели в тридцать пятом на цоппотском молу?
«А впрочем, — Франц Цимерман потирал ладонью затылок, поросший серебряным
пухом, — а впрочем, возможно... Видите ли, он и с Раушнингом1 приятельствовал. Ну,
может быть, «приятельствовал» чересчур сильно сказано, но несколько раз гостил в его
поместье в Варнове (где они, должно быть, беседовали о музыке, о церковных хорах, по-
ющих в Мариенкирхе...), а ведь Раушнинг, как вы, вероятно, знаете, уже в тридцать втором
побывал у Гитлера в Оберзальцене. Да какое там побывал! Получил поддержку Гитлера
на выборах в данцигский сенат и хотя потом переменил убеждения, в «Нойес тагебух»* 2 о
нем всегда писали плохо. Мол, он расплевался с Грайзером и Форстером только потому,
что те пытались его оттеснить. Пробился бы в руководство партии, никогда б не написал
своей «Die Revolution des Nihilismus»3. И уж тем более «Gesprache mit Hitler»4! Сделай он
карьеру, был бы с ними!»
Но госпожа Штайн, даже если бы могла услышать эти слова, с иронией произноси-
мые в маленькой стокгольмской квартирке, даже если бы взяла в руки побуревшие фо-
тографии -— люди Грайзера зеркальной «лейкой» снимали каждого, кто крутился возле
дома номер 21 около Крантора, — даже если бы увидела на этих фотографиях Ханемана
в светлом костюме, идущего рядом с Альбертом Посаком, скорее всего только со снис-
ходительным великодушием пожала бы плечами.
Ибо в тот июньский вечер, когда она зашла с друзьями в гастхаус в Глеткау, когда
села на террасе, обнесенной белой балюстрадой, вдоль которой стояли апельсиновые
деревца, и посмотрела в глубь террасы, она увидела, как там, за столиком, на котором
горела лампа в абажуре цвета чайной розы, Ханеман целовал руки Луизы Бергер и как
пылко отвечала Луиза на каждое его прикосновение. И всякий, кто бы заметил эту пару
на террасе гастхауса в Глеткау, когда в окнах ресторана поблескивало вечернее море и
волны шумели за дюнами, поросшими облепихой, всякий, кто бы это увидел, ничуть бы
не удивился, что четырнадцатого августа случилось то, что случилось.
Госпожа Штайн закрывала глаза. Темные силуэты — черный профиль мужчины и
черный профиль женщины на мерцающем серебряном фоне моря, — картина, кото-
рую — госпожа Штайн готова была поклясться — она увидела в тот июньский вечер на
террасе гастхауса в Глеткау, обладала какой-то упоительной силой, от которой таяло не
только ее, но и — она не сомневалась — любое другое сердце. И когда госпожа Штайн
возвращалась мыслями к тому вечеру, прошлое умершего города уподоблялось юной
невесте, которая в сумерках, залившись румянцем стыда, в благоухающей розами посте-
ли впервые открывает свою наготу глазам нетерпеливого возлюбленного.
Вещи
Про Ханемана говорили на Лангер маркт, в конторах Херсена, на Лабазном остро-
ве, у Кауфмана на Долгом побережье, но, по правде сказать, город не хотел об этой ис-
Герман Раушнинг (1887—1982) — немецкий политик, член НСДАП, в 1933—1934-м возглавлял
сенат Вольного города Данцига; в 1934-м порвал с нацизмом и эмигрировал в США.
2 Издававшийся в 30-е годы в Париже журнал немецких эмигрантов, противников Гитлера.
3 «Революция нигилизма» (нем.).
4 «Беседы с Гитлером» (нем.).
36
Стефан Хвин
тории слышать, занятый другими заботами, другими делами. В ящиках, шкафах и буфе-
тах, на дне сундуков, жестяных коробок и кофров, в чуланах и на чердаках, на полках и
этажерках, в погребах, в кладовках, на столах и на подоконниках вещи, которые храни-
лись на всякий случай, и вещи, которые с привычным рвением ежедневно использовали
для шитья, прибивания, кройки, полировки, резки, чистки овощей и писания писем, все
эти вещи, приветливые и язвительные, плывущие в неподвижном ковчеге города вместе
с госпожой Штайн, Ханеманом, госпожой Вальман, Анной, господином Колем, Альф-
редом Ротке, Стеллой, Альбертом Форстером, господином Цимерманом, Альбертом По-
саком, Хансом Вихманом, Грайзером, госпожой Биренштайн, Эмилем Бялковским, че-
той Шульц, профессором Унгером, ассистентом Рецем, Германом Раушнингом, госпо-
дином Лемпке, Хильдой Вирт, — все эти вещи уже собирались в путь.
Уже сейчас в окутывающей город тишине вершился страшный суд—отсюда и стрем-
ление занять местечко получше, ненароком подвернуться под руку, чтобы постоянно
быть на виду, вовремя оказаться замеченными. Вещи, без которых нельзя жить, отмеже-
вывались от тех, которые обречены на погибель.
Белые кувшинчики и вазы в форме лебедей и пеликанов, изящные серебряные са-
харницы в форме диких уток с бирюзовыми глазками, вазы-лодочки для грушевого варе-
нья — все эти предметы, сокрушаясь по поводу своей затейливой и неудобной формы,
завидовали строгой простоте подносов, которые ничего не стоит засунуть под половицы
или за стропила амбаров и покинутых мельниц. Они еще кичились игрой отблесков на
воскресных скатертях в квартирах на Брайтгассе, Фрауэнгассе, Ешкенталервег, еще шут-
ливо позвякивали, встречаясь с серебряной ложечкой, и, уже где-то на самом дне, слов-
но темную патину, лелеяли надежду, что они — маленькие саркофаги. Лизелотта Пельц
ворсистой тряпочкой терла спинку кофейника, которому по ночам снилось, что он со-
суд смерти. Канделябры, прикованные высоко к стене во Дворе Артуса1, сверкали с при-
творной веселостью и еще распускали чванливо острые лучики свечей, но под их крас-
новатой, цвета карбункула, позолотой тоже таилась неколебимая уверенность, что не за
горами то время, когда они, расплавившись в огне, превратятся в толстые сосульки осты-
вающей меди. Семисвечники из синагоги на Карренваль, на которых в субботу дрожали
огненные язычки, уже направляли свои серебряные отблески в сторону Эрфурта, гото-
вясь украсить благородным металлом парадную саблю штурмбаннфюрера Гройце. Кто
бы из нас летним днем, наполненным солнцем, криком чаек и щебетаньем ласточек, мог
подумать, что золотые зубы Анны Яновской из дома 63 по Брёзенервег будут вместе с
обручальными кольцами женщин из Терезинштадт и монетами евреев из Салоник пере-
плавлены в огромный, килограммовый слиток золота?
Шкафы у Мицнеров, Яблоновских, Хазенвеллеров, набитые бельем, лежащим на
полках точно окаменелые слои миоцена, дубовые, с резными спинками кровати у Грой-
цев, Шульцев, Ростковских, столы у Кляйнов, Гольдштайнов, Розенкранцев, дремлющие
под покровом вязаных скатертей в звездчатые узоры, кирпичи стен на Подвалье, лепные
украшения в парадных на Хундегассе, железные решетки на Йопенгассе, порталы с по-
золотой на Лангер маркт, гранитные шары у ступенек перед фасадами на Фрауэнгассе,
медные водосточные трубы, оконные переплеты, дверные рамы, статуи, черепица —
все это плыло в огонь, легкое, как пух одуванчика.
В комнате на первом этаже дома 14 по Ахорнвег племянница госпожи Штайн акку-
ратно раскладывала на гладильной доске свое новое платье из вестфальского полотна,
подаренное тетей ко дню рождения, набирала в рот воду из чашки, расписанной листи-
ками рябины, выпятив губы, сбрызгивала белое полотно, потом, послюнявив палец, про-
веряла, не перегрелся ли утюг, но когда, убедившись, что на ткани не остается коричне-
вого следа, принималась плавно водить утюгом по дымящейся белизне, каждое пере-
плетение нитей тонюсенького полотна, вышитого мережкой, уже рвалось к пламени, ко-
торому назначено было запорошить седым пеплом свежесть оборочек и кружев.
1 Двор Артуса (обязанный своим названием легенде о короле Артуре) — тип здания, предназначавше-
гося для цеховых и корпоративных собраний; в Гданьске был сооружен в XV веке.
Ханеман
37
Веер, похожий на белый лист с пурпурной каймой, изумительный веер госпожи
Коль из японского камыша, уже обжигал пальцы, когда госпожа Коль, прислонясь к окон-
ному косяку на Брайтгассе, 8, задумчиво глядя на дом Раймицев по противоположной
стороне улицы, легкими взмахами охлаждала шею и плечи. Вечное перо господина Коля,
лежащее на столе в глубине гостиной, перо с золотым колпачком, на котором сверкала
крохотная надпись «Дрезден», своей блестящей неподвижностью изображало спокой-
ствие, но и оно плыло в огнедышащий зев вместе с зеркалом в позолоченной раме, шка-
фом красного дерева и бордовыми портьерами. А ведь сколько еще должно было напи-
сать! Целые моря слов бурлили в чернильнице из желтой яшмы, когда по вечерам госпо-
дин Коль на голубой бумаге с водяным знаком якоря писал своей любимой дочери Хай-
ди, которая в веймарской гимназии с нетерпением ждала писем с маркой «Freie Stadt
Danzig»1 и красным сургучным пятнышком на лиловом конверте.
Гюнтер Шульц бежал в школу по брусчатке, похожей на рыбью чешую, Биренш-
тайны по дороге в театр спотыкались о трамвайные рельсы, пересекающие Лангер маркт,
сын госпожи Пельц тоненькой кисточкой выводил на витрине кафе в доме 13 по Брайт-
гассе золотую надпись «Caffe», но стекло отзывалось на каждое движение его руки изде-
вательскими солнечными бликами, поскольку знало уже, что недалеко то время, когда
прозрачная гладь брызнет во все стороны тысячами искр, будто хрупкий лед.
Только мелкие предметы, которые легко прихватить с собой в минуту бегства, наби-
рались презрительной самоуверенности. Помазок, бритва в кожаном футляре, квасцы,
круглое мыло, жестяная коробочка с зубным порошком «Вера», флакон одеколона Амель-
са. Махровые полотенца, которые трудно свернуть, стыдливо увядали в углу ванных ком-
нат— их место занимала холодная красота полотняных простынь, которые можно мгно-
венно разорвать на длинные полосы, отлично останавливающие кровь.
Зеленое пальто из толстого сукна, забытое на дне шкафа в большой комнате в доме
12 по Хундегассе, сложенное вчетверо немодное, нелюбимое пальто, которое Аннализа
Лайман столько раз отказывалась надевать, так как оно ее старило, уже просыпалось в
своем убежище, уверенное, что уцелеет, когда в квартиру, выломав дверь, ворвутся муж-
чины в темных от пыли и сажи мундирах. Но пока еще никто из нас не говорил: «Анна-
лиза, не капризничай, хорошо, что есть такое пальто, в таких жирных пятнах, широкова-
тое в плечах, чересчур длинное, грязное старое пальто, в котором ты выглядишь ужасно,
которое прибавляет тебе лет десять, если не больше. Выше нос, Аннализа, не приверед-
ничай, это пальто бережет тебя, о тебе заботится, а ты — неблагодарная — хочешь с
позором швырнуть его на кучу тряпья в фургоне Иоганна Лица, который иногда заезжа-
ет на Хундегассе, 12, чтобы забрать старую одежду для бумагоперерабатывающей фир-
мы в Мариенвердере. Как не стыдно, Аннализа!»
Подлинное спокойствие сохраняли только монеты из толстого золота, обручальные
кольца, перстни, цепочки, крестики, золотые доллары, русские «свинки»1 2, польские се-
ребряные злотые, гданьские гульдены, медали, отчеканенные городом по случаю мо-
нарших визитов. Они знали, что их спасет воротник, в который они будут зашиты, что,
завернутые в вату (чтоб не звякнули в минуту опасности), они проспят сотни километ-
ров в выдолбленном каблуке. Бамбуковая трость господина Ротке дремала на подставке
у двери на Йопенгассе, 4, уверенная, что, когда придет время, в ней утонут столбики монет
под слоем спрессованной шомполом пакли.
Кухонные ножи, ко всему равнодушные, с холодной отрешенностью постукивали
по дубовым доскам. Будущее остроконечных ножей представлялось неопределенным
(тот, кто держал их при себе, был ближе к смерти), а у ножей с закругленными концами,
какими удара не нанесешь, впереди были долгие годы общения с овощами. Мертвым
сном на дне ящиков спали алюминиевые ложки и вилки, готовые покорно маршировать
день и ночь в мороз за любым голенищем. Жестяные тарелки, много лет томившиеся в
ссылке в дальнем углу кухни, скрипуче позвякивая, издевались в раковине у Мертенба-
1 «Вольный город Данциг» (нем.).
2 Золотые пятирублевые монеты.
38
Стефан Хвин
хов на Брайтгассе, 29 над майсенским фарфором, который из-за хрустальных стекол бу-
фета отвечал на оскорбления высокомерным сверканием золота и кобальта.
Солнце, которое каждое утро выплывало из моря за полуостровом и каждый вечер
— изнуренное, исчерпавшее весь свой запас света—опускалось за моренные холмы, за
Карлсберг, за башни Собора, было всего лишь солнцем, не более того, хотя на картине
Мемлинга1, где архангел Михаил отделял прощеных от обреченных на гибель, уже горе-
ли светлые облака. Никто из нас не чувствовал, что город медленно движется навстречу
яркому зареву, навстречу шипящему огню, навстречу дыму от горящей смолы, навстречу
пыли от раскрошенных кирпичей, навстречу обломкам расколотого камня, клочкам
обуглившегося полотна, полусгоревшего шелка, изорванной бумаги, навстречу растрес-
кивающемуся дереву, рассыпающемуся мрамору, плавящейся меди. Госпожа Биренш-
тайн двумя пальцами вынимала из сумочки голубой билет в Городской театр, проверяя,
какое у нее место, господин Коль натягивал мягкие перчатки из желтой замши и, выходя
из дома, поправлял запонки на манжетах, Гюнтер Хенекке рылся в бумажнике, где по-
блескивали фотокарточки красивых хористок из «Лоэнгрина», прислуга Альберта Фор-
стера начищала голубым мелом посуду из темного серебра, Ханеман расставлял книги
на нижней полке шкафа со стеклянными дверцами, Альфред Ротке, облегченно вздыхая,
жег векселя над огоньком зажигалки с гербом Берлина, Мартин Рец ставил свою под-
пись под полицейским протоколом, а в воскресенье около трех часов дочки Вальманов,
Ева и Мария, в белых обшитых кружавчиками платьях, размахивая сложенными зонти-
ками и придерживая на голове шляпы, которые норовил сорвать соленый ветер с залива,
по песчаной, размытой дождями тропке взбирались с матерью на травянистый склон
Бишофсберга, чтобы увидеть город.
А город распростерся внизу, темно-коричневый, стреляющий отблесками откры-
ваемых окон, плетущий тонкую паутину дымов над высокими трубами из почерневше-
го кирпича. Копер дрезденской фирмы Леера лениво посапывал в глубине котлована на
месте древнего рва, над Нагорными воротами пролетала стайка голубей, а когда, засло-
нив глаза от солнца, мы всматривались в далекий горизонт, перерезанный башнями кос-
тела Святой Екатерины, малой и большой ратуши, куполом синагоги и зубчатым конту-
ром костела Святой Троицы, и видели затянутую дымкой темную полосу моря, тянущу-
юся от косы до обрывов Орлова, мы знали, что город будет стоять вечно.
Фланель, полотно, шелк
«Фрау Вальман! — взволнованно восклицала под окном Лизелотта Пельц, малень-
кая, хрупкая, в розовой шляпке-чалме. — Что брать, говорили, что нужно с собой взять?»
Ее радиоприемник уже несколько дней стоял на этажерке, как немой эбонитовый сарко-
фаг, рядом с засохшими астрами в высокой синей вазе и фотографией мужа в мундире
«люфтваффе». А Эльза Вальман отвечала в приоткрытое окно: «Только самое необхо-
димое, фрау Пельц, и ничего больше, не берите лишних вещей» — и, видя, что госпожа
Пельц направляется к подъезду дома 14 по Лессингштрассе, где кроме нее жили Шульцы
и Биренштайны, входила в столовую. У окна господин Вальман дожимал коленом чемо-
дан из свиной кожи, из которого высовывались рукава фланелевых ночных сорочек. На
оттоманке, расшитой китайскими узорами, лежали шелковые блузки с кружевами, сви-
тера с тирольским орнаментом и толстые гольфы из белой овечьей шерсти. «Нельзя же
так», — вздыхала госпожа Вальман, но неизвестно было, что она имеет в виду: безнадеж-
ную борьбу мужа с желтым чемоданом или, скорее, беспорядок в комнате, где она обычно
принимала гостей за столом из темного ореха, на котором всегда стояла хрустальная ваза
с бледно-красной бумажной розой.
За окном по противоположной стороне улицы шли Харденберги с маленьким Эр-
вином; внезапно из-за деревьев на небо метнулась черная тень, и они бросились на зем-
1 Речь идет о знаменитом триптихе нидерландского живописца Ханса Мемлинга (1440—1494) «Страш-
ный суд», находящемся в Национальном музее Гданьска.
Ханеман
3 9
лю у подножья ограды из железных прутьев, коляска с обмотанным веревкой красным
стеганым одеялом опрокинулась в снег, тень с грохотом пронеслась над крышами в сто-
рону Цоппота, далекие отголоски взрывов прозвучали приглушенно, казалось, кто-то
рукой в мягкой варежке ударяет по большому пустому столу; они снова подбежали к
коляске, и, когда господин Харденберг перекинул через плечо холщовую лямку, привя-
занную к раме, крепкую широкую лямку, которую дядя Кольвиц принес ему вчера из
столярной мастерской, Эрвин подпер плечом вываливающийся тюк. Они медленно по-
брели в сторону Кронпринценаллее.
Эльза Вальман отвернулась от окна.
Господин Вальман обвязывал чемодан ремнем: «Посмотри, что с Ханеманом».
Когда она открыла дверь на втором этаже, Ханеман только кивнул головой. Времени ос-
тавалось в обрез. Сын Биренштайнов, утром на минутку забежавший к матери, говорил,
что русские уже возле бывшей польской границы и, наверное, двинутся вдоль моря на
Цоппот, группы «фольксштурма» отступили от Леса Гутенберга, Мюггау и Питцкендор-
фа к Лангфуру, слава богу, Адольф Гитлерштрассе еще свободна, можно пойти по Крон-
принценаллее вдоль трамвайных путей, подняться на виадук над железнодорожной вет-
кой и дальше, прямо по Остзеештрассе, до Нойфарвассера, около волнореза стоят транс-
портные суда из Вильгельмсхавена, может быть, удастся попасть на борт...
Госпожа Вальман выслушала все это спокойно, хотя мундир юного Аксера Бирен-
штайна был испачкан известкой и смотрел он на мать испуганными глазами. Стекла в
окнах, которые госпожа Вальман столько раз, не доверяя прислуге, мыла собственными
руками, дрожали от эха взрывов, и уже непонятно было, в какой части города усиливает-
ся безостановочный грохот — то ли в окрестностях Шидлица, то ли ближе — и почему
время от времени сквозь висящий в воздухе глухой гул пробивается тяжелый гром зал-
пов (Аксер сказал, что это, по-видимому, «Принц Евгений», обороняющий Готенхафен,
обстреливает холмы с залива). Каждые несколько минут совсем низко, прямо над боль-
шой березой, пролетали — тройками, шестерками — самолеты с белыми цифрами на
фюзеляже; тогда люди, идущие в сторону Кронпринценаллее, прятались за стволы дере-
вьев и кирпичные столбы оград, но снаряды — длинные очереди из бортовых орудий —
разрывались где-то дальше, должно быть, за Особой, там, где гул, казалось, нарастал все-
го быстрее, хотя на небе — если глянуть в сторону Собора— не было видно дыма, толь-
ко иногда над парком взлетали едва заметные на солнце зеленые светящиеся снаряды —
стреляли поблизости от трамвайного круга.
Итак, госпожа Вальман смотрела на все спокойно (хотя при каждом взрыве у нее
замирало сердце) — она ведь знала, что с помощью брата (Франц Эрхардт год прорабо-
тал в канцелярии сената) они наверняка получат «белый пропуск» на транспортное суд-
но «Фридрих Бернхоф». В Нойфарвассере им надо быть никак не позже шести...
«Герр Ханеман, — говорила она, держась за дверную ручку, — поторопитесь. И
послушайтесь моего совета: возьмите теплое пальто, знаете, это, с барашковым ворот-
ником». Ханеман на мгновение поднял голову над открытым несессером, где рядом с
флаконом туалетной воды, бинтами, толстым свитером с высоким воротом и полотен-
цем лежал маленький сверток в пергаментной бумаге: «Идите вниз, дети волнуются».
Ах, дети! Сколько уже раз она просила девочек не выходить из дома. Но разве мож-
но уследить за двумя непоседами в сереньких пальтишках, которые, бегая в парадном по
лестнице, то и дело выскакивают в сад, а потом возвращаются, разгоряченные, с белым
облачком вокруг мордашек: «Мутти, нам жарко». «Ну знаете! — раздраженно говорила
она. — Зачем тогда бегать, сказано было, сидите внизу, в прачечной, играть можно и там.
А лучше подметите-ка коридор». Но девочки и слышать об этом не хотели. Они то и дело
подбегали к железной ограде и кричали детям, бредущим рядом с набитыми постель-
ным бельем колясками: «Герда, Фриц, вы уже идете? — после чего с гордостью сообща-
ли: — И мы сейчас пойдем», — и продолжали бегать по двору, кидаясь снежками в бу-
рого кота госпожи Пельц, который не собирался слезать с крыши веранды и только сма-
хивал лапой белые шарики с заснеженного крутого ската на дорожку.
Смех Марии и Евы... Даже призывы отца не могли загнать девочек в дом. Когда са-
40
Стефан Хвин
молет с белыми цифрами на фюзеляже пролетал над садом, чуть не задевая брюхом
макушку росшей в углу огромной березы, а люди на улице в смешных позах прижима-
лись к стенам, ища укрытия под каменными карнизами, Мария и Ева лишь на мгновенье
прерывали игру за шпалерой туй и, задрав головы, смотрели на исчезающий за крыша-
ми темный силуэт— ну сколько можно бояться, да и самолеты ведь никому ничего пло-
хого не делали. «Немедленно возвращайтесь!» — кричала мать, едва смолкалгул проле-
тевшей машины, но они, улавливая в ее голосе непривычно мягкие нотки, прикидыва-
лись, будто не слышат, и, притаившись за колючими ветками, только беззвучно смеялись:
здорово они провели мутти! «Ах, — качала она головой, — может, лучше запереть их в
комнате?», хотя сама понимала, как это глупо, ведь сегодня все двери должны быть от-
крыты, чтобы каждый, если что-то случится, мог немедленно выбежать во двор. «Мутти,
мы вспотели. Можно снять пальто?» — кричали девочки из-под ограды. «Ни в коем слу-
чае! Быстро домой!» — отвечала она через закрытое окно. Сегодня она велела им надеть
свитера из овечьей шерсти, летние пальтишки из голубого габардина, а сверху еще зим-
ние, с кроличьими воротниками. «Морской туман, особенно сейчас, — говорил Франц,
— очень опасен, стоит только растёрять тепло...» Отсюда и эта шерсть, габардин и сукно
мышиного цвета... Хуже обстояло дело с обувью, ботинки, в которых девочки бегали
сейчас по саду, хоть и на меху, не годились в дальнюю дорогу, а желтые кожаные сапож-
ки на кнопках, на толстой байковой подкладке, высокие, выше щиколотки, остались у са-
пожника Берста— где их теперь искать? — ведь в грузовик «фольксштурма», на кото-
ром вчера ехали Берст с сыном, на углу Фридрихаллее попал снаряд из миномета, и по-
том вся Лессингштрассе говорила о том, что случилось.
Она немного успокоилась, когда девочки притаились в коридоре, перешептываясь
и хихикая. Теперь ей хотелось быть одной — ее раздражало даже присутствие Альфреда.
Поэтому она только сказала тихо: «Может, переберешься в кухню?» Он вышел с откры-
тым чемоданом, осторожно притворив за собою дверь.
Она встала посреди комнаты перед зеркальным шкафом, который они купили че-
рез несколько дней после свадьбы в магазине Мюллера на Брайтгассе, и, увидев свое по-
серелое лицо, торопливо распахнула все три дверцы. Отражение, сверкнув, скрылось за
ореховой рамой.
В левой части шкафа на темных фанерованных полках лежали белые и голубые поло-
тенца, ниже простыни и пододеяльники, еще ниже аккуратно сложенные блузки — льня-
ные, ситцевые и батистовые; ровнехонькие стопки до отказа заполняли все полки, пахну-
щие крахмалом и сухим деревом. А в углу комнаты, под окном, уже ждал расстеленный
на полу красный пододеяльник из плотной крепкой ткани, двуспальный, с жестяными,
обтянутыми полотном пуговками, огромный красный пододеяльник, в который нужно
было сложить самое необходимое, а затем завязать узлом все четыре конца. Госпожа
Вальман со стиснутым горлом просунула руку между слоями прохладного белого полот-
на, тоненького цветастого ситца, мягкой фланели, легкого батиста, кончиками пальцев
ощущая едва уловимые различия, которых прежде не замечала, но сейчас, присев на кор-
точки перед нижней полкой, почувствовала, что, даже с закрытыми глазами, по мягкости
ткани, по шероховатости швов, по толщине ниток сумеет безошибочно распознать, какая
блузка принадлежит Еве, а какая Марии, какие простыни с их супружеского ложа, а какие
с детских кроваток. Приподнимая пальцами твердые накрахмаленные края простыней, она
просовывала между ними руку по самый локоть, и тогда в уголке на белой поверхности
появлялась вышитая еще бабушкой Анной фамильная монограмма Вальманов — боль-
шая буква W, похожая на след окунутой в фиолетовые чернила куриной лапки.
И все пахло сухой пихтовой древесиной, потому что шкаф, хоть и выглядел как оре-
ховый, вовсе таковым не был, только стенки его были оклеены слоистой желто-коричне-
вой ореховой фанерой в Бромберге, в мастерской Иоганна Кнайпа (черное название
фирмы виднелось на внутренней стороне дверцы). Простыни пропитались этим прият-
ным сухим пихтовым запахом, и госпожа Вальман, с трудом сдерживая слезы, погладила
прогибающееся под ладонью полотно, уже немного застиранное, кое-где по краям чу-
точку разлохматившееся.
Ханеман
41
Но сейчас уже не оставалось времени выравнивать стопки наволочек, расправлять
накрахмаленные простыни, сейчас нужно было вытащить из этих аккуратных пирами-
док самое необходимое и бросить на расстеленный под окном красный пододеяльник.
А пальцы, теребящие края наволочек и блузок, все еще медлили... И госпожа Вальман,
чтобы отсрочить еще на мгновение эту страшную минуту, протянула руку к другой ча-
сти шкафа, где на деревянных плечиках с проволочным крючком висели ее платья и пальто,
а также пальто и костюмы мужа. «Брать только самое необходимое...» Вероятно, она
понимала, что это правильно. Но а если в Гамбурге, на месте дома тети Хайди и дяди
Зигфрида, у которых они собирались остановиться по пути в Ганновер, их встретят толь-
ко засыпанные снегом развалины (ведь Гамбург тоже бомбили)? Альфред должен на-
деть свою длинную с металлическими пуговицами шинель почтового служащего, — в
форме, известное дело, всегда проще. Ну а она? Потянулась за бордовым пальто с ры-
жим меховым воротником, купленным у Хартмана на Ланггассе, потянулась за этим
пальто, хотя другое, синее с перламутровыми пуговицами, висевшее рядом, было гораз-
до теплее, однако выглядело намного хуже. Но тут же со страхом подумала о танках, ко-
торые уже подошли к Диршау, о том, что те делают с женщинами, и быстро схватила
самое старое грязно-серое пальто, оставшееся от бабушки Генриетты, поношенное и
великоватое ей пальто из толстого сукна, много лет пролежавшее на дне шкафа, — да,
это вытертое, с заштопанными рукавами пальто, каких давным-давно уже никто не но-
сит, самое подходящее... Тряхнула головой: «Боже, что я делаю? Чего бояться? Ведь уже
сегодня вечером мы будем далеко от Данцига, в море, Франц говорил, что до Гамбурга
от силы два-три дня...»
Рывком выдернула из-под простынь теплую фланелевую ночную сорочку Марии и
бросила на красный пододеяльник.
Камыши
В пять они быстро шли по виадуку вблизи вокзала в Лангфуре, втягивая голову в
плечи, когда высоко в темном небе, над фермой моста, с прерывистым свистом пролета-
ли в сторону аэродрома снаряды из Эмауса или Шидлица, где уже стояла— как говорил
утром Аксер Биренштайн — русская батарея, обстреливающая западную окраину рай-
она. Они хотели пройти под мостом на Шварцервег, потом по Мариенштрассе на Макс
Хальбеплац и дальше, до трамвайной линии на Остзеештрассе, но стоило ли теперь это
делать? Дома по соседству с рыночной площадью горели ярким белым пламенем, по-
чти без дыма, ветер взметал в воздух над крышами мерцающие лоскутья — быть может,
горящие занавески, сквозняком сорванные с окон, быть может, листы бумаги, кружа-
щие в водоворотах искр. Госпожа Вальман, в расстегнутом пальто, в меховой шапочке,
сзади приколотой к волосам серебряной булавкой, с рюкзаком на спине, вела Еву и Ма-
рию; впереди в нескольких шагах от них господин Вальман толкал железную коляску, по-
скрипывающую ржавыми осями. Всякий раз, когда колеса подпрыгивали на неровнос-
тях обледеневшего тротуара, желтый кожаный чемодан, прикрепленный к коляске рем-
нями, кренился то на один, то на другой бок. Справа внизу, за ограждением виадука, на
прилегающем к вокзалу пустом пространстве розовато поблескивали пути, ведущие из
Данцига в Цоппот. Возле платформы рядом с черной воронкой торчали из земли несколь-
ко сорванных рельсов. Чуть дальше, на перроне железнодорожной ветки, мутным жар-
ким пламенем догорал грузовик «Тодта»1.
Ханеман оглянулся, но люди, которых он увидел в другом конце виадука, пока еще
были не те — нагруженные тюками и чемоданами, они быстро шли, спотыкаясь о сле-
жавшиеся комья снега. Девочки Вальманов шагали молча, буркая что-то в ответ на ше-
потом задаваемые матерью вопросы: она беспокоилась за их ноги в поскрипывающих,
1 Основанная инженером Ф.Тодтом строительная организация, обслуживавшая армию на территории
Германии и оккупированных стран в 1938—1945 гг
42
Стефан Хвин
еще не разношенных ботинках и уже в третий или четвертый раз, когда останавливались,
чтобы перевести дух, поправляла шерстяные шарфики у них на шее. «Но нам же жарко!»
— выкрикивала Мария. Только за виадуком, когда они спустились на Магдебургершт-
рассе и огненные змеи над центром Лангфура скрылись за темными массивами уцелев-
ших домов, напуганные видом колышущегося над крышами, как тяжелая влажная паути-
на, зарева девочки прижались к матери — и тогда госпожа Вальман расплакалась.
Она шла, обняв притулившихся к ней дочек, а слезы текли по ее щекам. Хорошо хоть
Альфред, поглощенный лавированием среди заваливших тротуар сугробов, не огляды-
вался. Она видела его сгорбленную спину, покачивающийся черный узел, перехваченный
холщовыми лямками от старого рюкзака, помнившего еще первую мировую и бои на
Сомме. В глубине улицы под дрожащим мутным заревом, расползавшимся бледной бо-
лезненной розовостью по восточному краю неба, вдоль черных стен домов, в которых не
горел свет (лишь кое-где в подвальных оконцах мерцали огоньки керосиновых ламп), бре-
ли, не отбрасывая тени, темные фигуры, навьюченные рюкзаками, волокущие за собой
на железных санках обвязанные веревками и проволокой тюки, и вся эта вереница в мол-
чании двигалась под колышущимся небом в сторону Брезена и Нойфарвассера, туда, где
около волнореза должны были ждать транспортные суда. Но когда они вышли на аллею с
трамвайными рельсами, ведущую прямо к морю, впереди открылся ослепительный столб
бьющего в небо огня, при виде которого они так и вросли в истоптанный снег, а Ханеман
подошел к господину Вальману: «Элеваторы?» Господин Вальман покачал головой: он
хорошо знал этот район, тут, неподалеку от водонапорной башни, жил его брат, так что,
поправляя на плечах лямки, он только пробормотал: «Нет, наверно, склады в Нойфарвас-
сере», а это означало, что дело обстоит гораздо хуже, чем если бы горели элеваторы, по-
скольку теперь набережная возле устья канала до самого моря освещена ярким пламе-
нем и наблюдателям с холмов Мюггау видна как на ладони западная часть порта—того и
гляди артиллерия перенесет огонь с железнодорожных путей вблизи Вайхзельмюнде и ос-
трова Хольм на восточную окраину Брезена, на лес и затем на Вестерплатте.
Но этого ни господин Вальман, ни Ханеман не произнесли вслух, да и зачем было
говорить — просто надо спешить, чтобы как можно быстрее добраться до порта, даже
если произошло самое худшее; незачем было говорить, тем более что девочки при виде
далекого огненного столба над крышами Нойфарвассера чуть повеселели, как будто этот
столб, подпирающий небо коричневым жаром, показался им куда менее грозным, чем
зрелище черных улиц в окрестностях виадука, где пространство со всех сторон было зам-
кнуто домами, в которых не светилось ни одного окна.
И они зашагали по обледенелой мостовой, больше глядя под ноги, чем на этот зло-
вещий свет над портом, а по аллее вблизи и поодаль, за ними и перед ними двигались в
сторону Брезена черные группки таких же, как они, путников, осторожно ступающих по
скользкому снегу, опирающихся на трости, зонты, бамбуковые лыжные палки, на дере-
вянные рейки, впопыхах приспособленные для дорожных надобностей, а над ними, вверху,
высоко-высоко, темнота монотонно повторяла свист пролетающих снарядов, которые
падали на белые от снега поля аэродрома, примыкавшие на севере к лесу в Глеткау. Над
равниной между Лангфуром и Оливой висела гигантская туча дыма, подсвеченная сни-
зу далекими пожарами, будто горела уже не восточная окраина Цоппота, а сам
Готенхафен.
За перекрестком, около водопровода, господину Вальману удалось остановить один
из грузовиков, едущих к морю из мастерских «Хинц и Вебер» на Хохштрис, и теперь
Ханеман, стоя за кабиной большого «мерцбаха», смотрел через прореху в брезентовом
тенте на неуклонно приближающееся дрожащее море огня над портом. Госпожа Валь-
ман, забившаяся в угол кузова, гладила по голове Марию. Господин Вальман, едва раз-
личимый в темноте, прижимал к себе Еву. Старый «мерцбах» подскакивал на замерзших
колеях, и приходилось поминутно хвататься за железные прутья каркаса под вздуваю-
щимся брезентом. Вдруг они въехали в улицу, освещенную ярким мерцающим заревом,
по обледенелой мостовой метнулись зыбкие тени безлистных деревьев, с правой сторо-
ны из развороченной взрывом крыши били вверх огненные фонтаны.
Ханеман
43
Из-за этого раздражающе неугомонного сверкания Ханеман не узнал места, до ко-
торого они доехали. Какое-то длинное неоготическое строение проплыло за деревьями,
мелькнули залитые красными отблесками огня окна, за углом они увидели неподвиж-
ную глыбу выгоревшего внутри танка с открытым люком бронебашни. Грузовик резко
сбавил скорость, огибая разбросанные по мостовой деревянные ящики, потом под коле-
сами звякнули латунные гильзы, толпа нехотя расступалась перед капотом машины, но,
когда они подъехали к широко распахнутым железным воротам, грузовик застрял среди
узлов, чемоданов, коробок, загромождающих мостовую. Нагруженные своими пожит-
ками люди запрудили почти всю площадь у входа в порт, и хотя кое-где сверкали жандар-
мские штыки, насаженные на дула винтовок, даже желтый пропуск с печатями, которым
шофер размахивал перед носом у офицера в длинной шинели с бляхой на груди, не про-
извел никакого впечатления, поскольку никто не мог сдвинуться с места — такая была
толчея между кирпичной оградой и стеной пакгауза, в полукруглой матового стекла кры-
ше которого чернели звездчатые дыры, пробитые осколками снарядов.
Ханеман ожидал гораздо худшего — паники, визга детей, женских криков, — но тол-
па, видневшаяся сквозь прореху в брезенте, пока еще оставалась неподвижной и безмол-
вной. Где-то там, дальше, вероятно, была пристань, однако Ханеман нигде не мог выс-
мотреть очертаний «Бернхофа».
Шофер высунулся из кабины: «Дальше не проехать!» — и мужчины спрыгнули на
снег, чтобы помочь госпоже Вальман, которая подала им сверху девочек, больше напу-
ганных видом толпы, чем пляшущими над исковерканной крышей по другой стороне
улицы огненными языками, разбрасывающими яркие искры. Запах горящего мазута,
смешанный с запахом сажи, был таким едким и тошнотворным, что девочки тут же зат-
кнули себе носы пальцами в шерстяных перчатках. «Держитесь возле меня! — крикнула
госпожа Вальман. — Не дай нам бог потеряться, — и они прильнули к ней, схватившись
за ее пальто. — Альфред, узнай, сколько придется тут ждать». Господин Вальман напра-
вился было к воротам, но Ханеман удержал его: «Оставайтесь с ними». Он протолкался
через иззябшую толпу к офицеру с бляхой на груди, но узнал только, что «Бернхоф» се-
годня точно не войдет в порт (эвакуирующихся будут перевозить на борт транспорта
буксирами). Невольно он пробормотал: «Но это же затянется на много часов!» Офицер
даже не взглянул на него: «Чего вы хотите, если бы «Бернхоф» вошел тут в канал...» Зна-
чит, это может затянуться надолго? Госпожа Вальман ужаснулась. Хорошо хоть, девоч-
ки тепло одеты, но стоять невесть сколько на морозе, в истоптанном снегу, облепляю-
щем обувь?
Единственное, что они могли сделать, это найти себе место на погрузочной плат-
форме у стены пакгауза, под железным козырьком, где на бетонном полу не было снега,
и пристроиться там между людьми, закутанными в одеяла и шубы, — так, чтобы девочки
смогли сесть на чемодан и прислониться спиной к тюку. Но шепот женщины в рыжей
шубке, которая начала молиться возле них, широко раскрытыми глазами уставившись в
огонь на другой стороне улицы, так напугал Марию и Еву, что они прижались друг к
дружке, точно два дрожащих от холода воробушка. Только сейчас, когда морозный воз-
дух начал щипать щеки и вылетать белым облачком изо рта, им стало по-настоящему
страшно. Госпожа Вальман обняла дочек одной рукой, но что она могла сделать? Госпо-
дин Вальман погладил ее по спине, а /ютом — хотя никто еще не проголодался — выта-
щил из кармана два кусочка хлеба, завернутых в желтую пергаментную бумагу, и девоч-
ки принялись жевать горьковатый ржаной мякиш, постепенно успокаиваясь. Госпожа
Вальман погладила руку мужа в благодарность за то, что ему это пришло в голову.
Ханеман же протиснулся между сидящими у стены людьми и, обходя картонные
чемоданы, рюкзаки, тюки с постелью, узлы, ящики с приделанными железными ручка-
ми, добрался до конца платформы. Оттуда видна была черная полоса противоположно-
го берега канала, но пока он пытался разглядеть, не движется ли что-нибудь в темноте за
волнорезом, воздух задрожал и грохот рвущейся шрапнели смешался со звоном разле-
тающихся оконных стекол. Толпа на площади всколыхнулась, пожалуй больше испугав-
шись вопля раненой женщины, чем грома взрывов, прокатившегося над каналом. Дождь
44
Стефан Хвин
осколков зашуршал по воде и забарабанил по стеклянной крыше пакгауза. Девочки прон-
зительно закричали, увидав на снегу в нескольких шагах от платформы черный разма-
занный след, тянущийся за ногой женщины, которую тащила, взывая о помощи, ее мать.
Госпожа Вальман обеими руками обхватила дочек, отец загородил их тюком, но, при-
жавшись к материнскому пальто, они продолжали кричать, оглушенные грохотом, сви-
стом вспарывающего воздух железа, треском раздираемой осколками жести. Шрапнели
одна за другой вспыхивали над башней портового управления.
Пока еще снаряды ложились далеко, пока еще они не достигали цели, но в биноклях
наблюдателей на холмах Мюггау эти точечные вспышки, появляющиеся на шкале между
цифрой 5 и цифрой 10, эти вспышки, беззвучно расцветающие над пакгаузами и ферма-
ми кранов в Нойфарвассере (эхо взрывов долетало до холмов только через несколько
минут), уже превращались в команды: наводчики перемещали прицелы установленных
на Циганкенберге гаубиц на один-два миллиметра влево, так, чтобы следующие снаря-
ды, подаваемые подносчиками, полетели прямо на крыши справа от огненного столба.
Люди на площади между кирпичной оградой и платформой заползали под вагонет-
ки, прятались под железными опорами портального крана, бежали, топча лежащих, к
воротам, но поминутно чей-то истошный вопль прорывался сквозь грохот взрывов и по
снегу, оставляя черный след, волокли чье-то тело. А посреди площади, возле рельсов,
там, где мгновенно образовалась пустота, вокруг брошенного открытого чемодана, из
которого взрывной волной выдуло муслиновые клочья ночных сорочек, подпрыгивали
под градом осколков комья снега. Потом вдруг все стихло. За опорой крана кто-то захле-
бывался рыданиями, схватившись за странно вывернутую ногу, кто-то робко звал: «Гюн-
тер! Гюнтер! Ты где? Иди ко мне, я больше не могу, забери меня отсюда...» Но черные
съежившиеся фигуры не отрывались от заснеженной земли, никто не верил, что обстрел
закончился, хотя, похоже было, те, на Циганкенберге, на время прервали свою работу —
возможно, перемещали визир с цели 102 на уже пристрелянную цель 104 в Нойшотланд,
— так что стало совсем тихо, только слышно было, как на прилегающей улице в десятках
окон неоготического здания гудит огонь. Потом эта хрупкая тишина нарушилась — вос-
клицания, шепот, женский голос: «Герр Ханеман, с вами ничего не случилось?» А когда
с конца платформы донесся ответ: «Все в порядке, фрау Вальман», мать Марии и Евы,
замерших, скрючившись под защитой тюка с одеждой, облегченно вздохнула: «Ну так
идите же к нам, что вы там стоите». Было в этих словах укоризненное, не терпящее воз-
ражений тепло, отчего Ханеман невольно улыбнулся, стряхивая с одежды снег, но когда
уже было направился к Вальманам по опустевшей, усеянной брошенными чемоданами
и ящиками платформе, в темноте над водой что-то зашевелилось, что-то там, слева, за
плавучим краном, замаячило вблизи фарватера, какой-то предмет темнее неба переме-
стился за маяком волнореза, и Ханеман понял, что это один из буксиров возвращается
от«Бернхофа»...
Тогда, спрыгнув с платформы, он крикнул в сторону железного козырька: «Фрау
Вальман, быстрее!», а она, услыхав его изменившийся голос, сразу поняла, что нельзя
терять ни минуты, что нужно, волоча за собой перепуганных девочек, подгоняя подхва-
тившего чемодан и тюк мужа, бежать к набережной, поскольку не одна она уловила в
голосе Ханемана повелительные нотки, вселяющие надежду, поскольку эти нотки в гром-
ко прозвучавшем на опустевшей площади между кирпичной оградой и стеной пакгауза
голосе услыхали и другие, и теперь, выходя из-за железных опор, выползая из-под ваго-
неток, выбегая из-за бетонных тумб, навьюченные узлами черные фигуры стремитель-
но кинулись к причалу. Госпожа Вальман, однако, всех опередила, она уже подбегала к
деревянному помосту, уже взбиралась по деревянным ступенькам, уже прижималась
вместе с девочками к деревянному столбу, чтобы их не столкнули в воду, а Вальман до-
гонял ее, перебрасывал через ограждение тюк, нырнув под перила, залезал на пахнущие
истоптанным снегом, смолой и мокрыми измочаленными канатами доски причала.
Через минуту на помост уже ринулись другие, но офицер с бляхой на груди поднял
пистолет, и напирающая толпа попятилась при звуке выстрелов в воздух. «Возьмите свои
вещи! — кричала с помоста госпожа Вальман: она спохватилась, что, бросившись бе-
Ханеман
45
жать, забыла про несессер Ханемана. —w Вы еще успеете!» И Ханеман машинально,
подталкиваемый теплой силой этого голоса, повернул к платформе, подошел к ступень-
кам...
Но едва он поставил на ступеньку ногу, как слева, над высоким краном, что-то свер-
кнуло, и воздух разодрало взрывом артиллерийского снаряда, взбаламутившего оскол-
ками черную воду у пристани. Железный дождь забарабанил по козырьку над платфор-
мой и по крыше пакгауза. Посыпалось стекло. Ханеман, нагнув голову, отскочил к огра-
де. Буксир уже подплывал к причалу. На другом берегу канала загорелась цистерна. Выр-
вавшийся ярким пурпуром огонь ртутным мерцанием отразился в воде, и в лицо ударило
теплым воздухом, пахнущим мазутом. Вокруг стало светло как днем. Пламя с противо-
положного берега теперь освещало и часть пристани за пакгаузом. Ханеман зажмурил-
ся. Железнодорожные рельсы? Стрелки? Камыши? Подмости? В прибрежных камышах
он увидел остов небольшого суденышка, поддерживаемый конструкцией из балок. За-
рево на другой стороне канала взметнулось высоко в небо, залив огненно-красным све-
том рыжеватые метелки камыша, обступившие корпус...
И тогда на выплывшем из темноты проржавевшем борту Ханеман увидел полустер-
шуюся надпись «Штерн». Он почувствовал укол в сердце — ничего особенного, легкое
прикосновение ледяной иголочки, но от этого мимолетного холодного прикосновения в
груди разлилась жаркая, удушливая волна. «Герр Ханеман, что вы делаете, бога ради,
поторопитесь!» — кричала госпожа Вальман с помоста. Он схватил свой несессер, но
шел медленно, едва переставляя ноги, все еще ощущая внутри это легкое прикосновение
холода, разлившегося в груди жгучей болезненной волной. Толпа на причале, подсве-
ченные заревом клубы дыма над трубой буксира, крики, плач... Осталось еще тридцать
шагов, двадцать... «Герр Ханеман, быстрее! — кричала госпожа Вальман. — Ради бога,
быстрее! Мы сейчас отплываем!» Но когда Ханеман уже почти дошел до причала, с ле-
вой стороны, где-то совсем близко, над крышей пакгауза — вспышка...
Открыв глаза, он увидел у самого своего лица чью-то облепленную снегом руку,
неподвижную, неестественно вывернутую, перед глазами все кружилось, и он только
перекатился на спину и смотрел из-под полузакрытых век в глубокое, черное, полное
рваных туч небо, которое клонилось то к западу, то к востоку. Медленно приподнявшись
на локте и превозмогая боль, он взглянул в сторону причала. Но помост уже опустел. И
буксира не было видно. По воде канала пробежала рябь. Черные краны, рельсы, пере-
вернутая вагонетка. Только вдалеке, на другом берегу канала, все еще горела пробитая
снарядом цистерна. Над кранами медленно парили светящиеся авиационные бомбы на
парашютах. Мерцание. Красная тишина. Изломанные тени на снегу. Шипенье огня. Да-
лекие выстрелы. Откуда? С Мюггау? Эхо? Ветер покатил по снегу детскую шапочку из
кроличьего меха.
А потом к пристани подходил очередной буксир, толпа выползала из своих укры-
тий под портальным краном и штурмовала причал, но Ханеман продолжал сидеть на
платформе, привалившись к стене пакгауза, и смотрел на все будто сквозь матовое окон-
ное стекло. Он даже не чувствовал холода, который исподволь сковывал срину, потому
что в груди по-прежнему то вспухала, то опадала странная, болезненная и жаркая волна,
от которой по телу разбегались ледяные мурашки.
Около десяти его нашел сидящим у этой стены лейтенант Ремец из казарм на Хохш-
трис, который привез на пристань в своем служебном «бенце» жену с дочкой, чтобы
отправить их на «Бернхоф» в моторке портовой охраны. У них был хороший «белый
пропуск», подписанный самим полковником Фоссом. Но Ханеман не сел с ними в лод-
ку, хотя Ремец очень его уговаривал. Тело застывало в теплом оцепенении, боль понем-
ногу унималась. Он вспомнил про несессер, но от чемоданчика остались лишь несколь-
ко клочков обуглившейся желтой кожи. По всей площади валялись распоротые тюки,
свертки, ящики, кучи скомканной одежды, листы мокрой бумаги с обгоревшими
краями.
В одиннадцать черный автомобиль с армейскими номерами отвез его на Лессинг-
штрассе, 17. Лейтенант Ремец полагал, что они возвращаются за какими-то ценностями,
46
Стефан Хвин
которые Ханеман не успел взять из квартиры, и, вероятно, завтра он захочет повторить
попытку проникнуть на борт какого-нибудь из транспортов. Когда они подъехали к воро-
там, в домах по обеим сторонам улицы не было ни единого огонька. Только над Лангфу-
ром ползли облака светлее неба. Горел центр и, по-видимому, прилегающие к вокзалу
кварталы.
Ремец пообещал заехать утром, самое позднее в восемь, но черный автомобиль с
регистрационным номером казарм на Хохштрис никогда уже не остановился перед до-
мом 17 по Лессингштрассе.
Хрупкое
Когда он поравнялся с калиткой, ему почудилось, что в одном из окон у Биренштай-
нов мелькнул свет. Свернув за шпалеру туй, он толкнул тяжелую дверь.
С горящей спичкой, обжегшей пальцы, он вошел в парадное, машинально стряхнув
снег с ботинок на железной решетке, но когда холодная темнота задула желтый огонек,
подумал, что приведшая его сюда надежда успокоить душу лишена всяких оснований.
Свет?
Он уже готов был выйти обратно во двор, чтобы по дорожке между шпалерами туй
вернуться к себе, на Лессингштрассе, 17, и так бы и сделал, если бы не вспомнилась бе-
лая площадь между пакгаузом и кирпичной оградой в Нойфарвассере. Обрывки бумаг,
черные следы на снегу, причал, чемоданы, толпа, кучи одежды, крики, мягкий голос гос-
пожи Вальман... Эта картина удержала его здесь, на лестнице, в темном парадном, под
овальным оконцем, цветные стеклышки которого поблескивали отраженным слабым
светом зарева над Лангфуром. Квартира Шульцев? Справа?
Он опять чиркнул отсыревшей спичкой по узкой боковинке коробка, огонек вспых-
нул, он заслонил его розовой ракушкой ладони и, подняв спичку, осветил коричневую
панель. Темная покрытая лаком дверь. По цветочному орнаменту дубовой фрамуги
разбежались дрожащие блики. Наверху из заплясавших на стене косых теней выплыл
алебастровый, под мрамор, барельеф Мадонны, сидящей с Младенцем меж ветвей олив-
кового дерева.
Но то, что он увидел... Дверь Шульцев, глубоко расщепленная возле самого косяка,
черные следы ударов, полуоторванная ручка, вокруг замочной скважины свежие золо-
тистые царапины, словно кто-то пытался ножом продырявить латунь. Значит, они уже
здесь, они уже тут побывали, значит, пока он стоял там, на пристани в Нойфарвассере,
они уже были в доме, уже корежили, бормоча ругательства, крепления двери, уже под-
девали латунную оковку под ручкой, а потом, ударом плеча распахнув дверь, ввалились
в квартиру, с трудом удержав равновесие на скользких бело-желтых квадратах линолеу-
ма. Ему захотелось повернуться и уйти, чтобы не видеть открытых шкафов, из которых
вытащили скомканное белье, выброшенных на середину комнаты ящиков комода, что-
бы не смотреть на растоптанную по ковру грязь, комочки тающего снега.
Но мысль о Шульцах... Они ушли отсюда в полдень, он видел, как они за каштанами
сворачивали на Кронпринценаллее. Маленький рюкзачок на спине Гюнтера. Коляска.
Фанерный чемодан. Красная шляпка госпожи Шульц. Она обернулась. Короткий взгляд
на дом. Он взялся за ручку, дверь легко подалась. Прихожая. Темно-красная портьера.
Обои цвета чайной розы. Тени. Спичка погасла, он ощупью двинулся в сторону кухни,
под ногами что-то хрустело, впереди в темноте обозначился более светлый прямоуголь-
ник окна, перечеркнутый тонким перекрестием рамы, он снова зажег спичку.
Желтый огонек дрогнул, задетый облачком дыхания, тени, выползшие из изломов
мебели, заколыхались, и только чуть погодя, когда огненный язычок вытянулся вверх, он
увидел перед собой кухню Шульцев, в которой никогда не был, но которую тем не менее
хорошо знал — сколько раз, проходя по саду, он видел за окном на первом этаже дома 14
по Лессингштрассе белую стену и на ее фоне Розу Шульц, что-то говорившую мужу или
беззвучно отчитывающую Гюнтера, славного мальчугана, который смиренно смотрел
Ханеман
на мать, хотя, вероятно, только и думал, как бы, не огорчив ее, улизнуть из кухни к себе
в комнату, где — Ханеман и это пару раз видел — с потолка свисала на нитках картонная
модель «хейнкеля-111». Стоя теперь на пороге кухни, он смотрел на покрытый клеенкой
стол, прямоугольный кухонный стол, застеленный зеленовато-коричневой клеенкой,
порвавшейся, когда ее пытались резко сдернуть, клеенчатые лохмотья свисали до пола,
усыпанного белыми черепками тарелок, чашек, блюдечек, блюд, салатниц...
Как кусочки толченого льда...
Но если минуту назад его переполняли отвращение и ненависть к тем, кто высажи-
вал дверь, вытаскивал из шкафов белье, перетряхивал постели, вспарывал обивку мебе-
ли в поисках припрятанного золота, то теперь им завладело еще более неприятное, более
тягостное чувство. Какие-то слова и жесты, которые он прежде оставлял без внимания,
вдруг сложились в отталкивающее целое. Верить не хотелось...
В самом деле: зачем было тем, кто искал в покинутых домах золото, кольца, крести-
ки, цепочки, брошки, кулоны, серебряные ложки, сахарницы, монеты, пишущие машин-
ки, швейные машинки, счетные машинки, вечные перья, зачем им понадобилось разби-
вать это зеркало в дубовой раме, срывать эту портьеру со светлой бахромой, полосовать
ножом обои цвета чайной розы? Он зажег свечу, которую нашел на подоконнике, но
везде — в кухне, в прихожей, в большой комнате — увидел одно и то же: изодранные
шторы, поцарапанные чем-то острым столешницы, разбитые хрустальные стекла в гор-
ке, разорванные покрывала, вспоротые подушки, изрезанные одеяла, истоптанные по-
лотенца, залитые керосином простыни, опрокинутые вазы, сдернутые с окон занавески.
Какой был в этом смысл? Возможно, люди, высадившие дверь, мстили за то, что не на-
шли золота, возможно, они со зла перебили вышвырнутую из буфета посуду — но ван-
на? умывальник? расколотый кафель над раковиной в кухне? разбитые люстры? Такая
ярость требовала ожесточенного упорства, терпения и усердия... Чего ради?
Приподняв обрывки портьеры, он вошел в большую комнату. Под ногой что-то звяк-
нуло, он опустил пониже свечу. На искромсанном ковре блеснул кортик Эриха Шульца,
парадный кортик, увенчанный головой орла, длинный кортик еще со времен первой
мировой, теперь сломанный — зазубренное лезвие лежало отдельно от рукоятки. Он
поднял клинок... Значит, это не они? Значит, это не те, кто искали в покинутых домах фар-
фор, серебро, позолоченные блюда, значит, это он сам, Эрих Шульц, это его рука вдре-
безги разбивала фарфор, его каблуки топтали хрупкое стекло?..
Ханеман стоял на пороге, глядя на исцарапанную мебель, на изрезанные обои, и
каждая рана рассказывала ему, что произошло в квартире несколько часов назад: кортик
сметал ряды рюмок с буфетной полки, Эрих Шульц открывал шкафчик под окном, выки-
дывал на пол тарелочки и салатницы, каблуком давил хрупкий фаянс, нет! ему еще было
мало! он переворачивал стулья, кромсал спинки кресел — свист вспарываемого дамас-
та, скрип пружин, с треском рвущийся холст. Роза Шульц хватала его за руку: «Не надо!
Ведь мы сюда еще вернемся!» — но он вырывался и сплеча рубил резной орнамент над
стеклянными дверцами буфета, бил украшавшие этажерку зеркальца, крушил столбики
на фасаде комода. Госпожа Шульц, прижав к себе Гюнтера, стояла в дверях, провожая
испуганным взглядом скачущие вспышки клинка, но муж не замечал ее слез, он вышел
в прихожую и спокойно, методично колотил железным орлом по зеркалу, пока не разбе-
жались звездными лучиками трещины. Потом он сорвал портьеру и распахнул дверь в
ванную. Госпожа Шульц пыталась его оттащить, но он только отчеканил негромко: «Ни-
чего они не получат, ясно? Неужели ты думаешь, я смогу жить в доме, где до меня жили
эти восточные скоты? Да ты б сама ни за что не полезла в ванну, где перед тобой мылся
польский хам со своей вшивой женой. Увидишь, — еще больше понизил он голос, — они
везде разведут вшей, везде! Не станешь же ты есть с тарелок, из которых они будут жрать.
Ничего мы им не оставим, ничего!» — и топтал свои белые льняные рубашки, разбро-
санные возле бельевого шкафа, словно давя невидимых паразитов, которые — он это
видел — уже кишели в швах манжет и воротничков.
А Ханеман, бродя среди черепков, переходя из комнаты в комнату, заглядывая в
ванную, открывая дверь на веранду, слышал этот шепот, этот хруст стекла, видел, как
48
Стефан Хвин
брызжет из-под тяжелого клинка белая глазурь, слышал звон переломившейся на краю
ванны сабли, а потом — поникший, содрогаясь от омерзения — вышел во двор и, мино-
вав шпалеру туй, вернулся на Лессингштрассе, 17. Свежая белизна снега припорошила
его следы на дорожке.
А в квартире Шульцев сквозняк выдувал пух из вспоротых подушек. Кружащиеся
перышки. Бесшумный рой снежинок, летящих из разбитого окна. Иней. Настенах ком-
наты Гюнтера светлели прямоугольники от снятых картинок. В кухонной плите пересы-
пался пепел сожженных фотографий. Разорванная занавеска колыхалась, как водоросли
на дне реки. Люстра позвякивала в темноте хрустальными подвесками. В треснувшем
зеркале то гасли, то загорались отблески зарева над Лангфуром.
Стелла
В тот день под окнами, прямо за шпалерой туй, в двух шагах от железной ограды...
Генрих Мертенбах уверял, что он там был, там, в квартире на втором этаже, точно был,
был все время...
На рассвете они шли со стороны Лангфура, солнце висело низко над ангарами аэро-
дрома, трамвай с выгоревшим нутром лежал поперек Кронпринценаллее — черный,
похожий на обугленную лисью клетку; они шли по трамвайным рельсам в гробовой
тишине, потому что грохот над Данцигом перед восходом солнца стих, как будто обе
стороны — устав заряжать, целиться, стрелять, прочищать дула, смазывать затворы —
отложили оружие и ждали, пока день осветит дымящуюся равнину. Они шли со стороны
Лангфура, двое мужчин — Генрих Мертенбах и Август Вальберг, и женщина— Стелла
Липшуц, все в мундирах «Тодта», перепачканных мазутом и тавотом, шли, спотыкаясь о
шпалы, шатаясь от рельса к рельсу, падая в снег и поднимаясь, шли налегке, только с
противогазными сумками, в которых не было противогазов, а были бутылки из толстого
стекла с медицинским спиртом, прихваченные в последнюю минуту с полок в кабинете
доктора Дарнхофа на Брёзенервег, 12, когда огонь подступал уже к самым окнам и надо
было бежать. И они, то есть Генрих и Август, убегали — сначала по Магдебургерштрас-
се, потом по виадуку над товарной железнодорожной веткой и дальше, по пустой Адольф
Гитлерштрассе, поскольку те, кто хотели уйти из города, ушли еще ночью, так что теперь
они убегали одни, и только на повороте Фридрихаллее к ним присоединилась Стелла,
высокая, с медно-рыжими, запрятанными под черную пилотку волосами.
Они понимали, что, если самолеты вернутся, первым делом, конечно, будет обстре-
лян аэродром, и поэтому кружным путем вернулись на виадук, а затем свернули в Крон-
принценаллее, чувствуя, что лучше держаться застроенного виллами предместья между
заканчивающейся в Глеткау трамвайной линией и Пелонкерштрассе, именно чувствуя,
ведь все кружилось перед глазами, дома вдоль Кронпринценаллее плавали на мягкой
снежной волне, тонули и выныривали, как скалы из вспененных вод Рейна. Когда они
проходили мимо сгоревшего трамвая, Август уронил бутылку, она разбилась, ударив-
шись о покрытый ледяной коркой рельс, снег всосал розоватую струйку, они шли обняв-
шись, Стелла посередине, едва живая, в расстегнутой шинели, которая была ей длинна и
волочилась по снегу. Август что-то говорил про парней из «фольксштурма», которых
вчера повесили на Ам Иоганнисберг, но в ответ услышал только взрыв смеха, а Стелла
попыталась снегом заткнуть ему рот, он оттолкнул ее, злясь на себя за то, что не сумел
скрыть страх, потом, грозя кулаками, они кричали в небо, но ни один самолет так и не
появился, небо над Лангфуром было пусто.
Они поравнялись с первыми домами — деревянными виллами с китайскими кры-
шами, на которых лежал толстым слоем снег, — и удивились, что такое возможно посре-
ди города: дома были целехонькие, ни малейший след не запятнал голубиной белизны,
покрывающей мостовую, они ступали по ней бесшумно, не чувствуя холода, облепляю-
щего сапоги. Август говорил что-то про мать, оставшуюся в Кёнигсберге, уверял, что
доберется до нее вовремя, но о каком времени могла идти речь? «Самое подходящее
Ханеман
49
время!» — захлебывался смехом Генрих. Они знали, что трамвайные пути приведут их в
Глеткау; если мол возле гастхауса не разбомблен, может быть, удастся сесть на какое-
нибудь из суденышек Вестермана — «Ариэль», «Мерлин» или «Меркурий», — которы-
ми еще вчера перевозили людей на пароход, стоящий в глубине залива. Итак, спокойно,
ровным шагом, держаться трамвайной линии, но внезапно, в ту минуту, когда очередная
снежная волна приподняла увитые плющом виллы на левой стороне Кронпринценал-
лее, а искрящаяся пыль посыпалась на лица с веток клена, Генрих приостановился, что-
бы понять, в чем дело, почему виллы с причудливо изломанными крышами, застеклен-
ными верандами и круглыми мансардами вдруг превратились в длинную ограду из же-
лезных прутьев с концами, похожими на язычки огня, — и далеко не сразу сообразил,
что это Лессингштрассе, красивейшая Лессингштрассе, погруженная в тишину, лишь
изредка нарушаемую неспешной трескотней сторожевых пулеметов где-то далеко, за мо-
ренными холмами в Мюггау или Кокошкене.
Лессингштрассе? Ведь они не сворачивали с трамвайных рельсов... Генрих попра-
вил пилотку. На душе стало покойней при виде этой девственной белизны, по которой
они бесшумно ступали, углубляясь в пустую улицу, а мостовая мягко проседала под
ногами, как пуховая перина на большой родительской кровати, на которую в детстве, к
ужасу мамы, он прыгал с высокого комода и которая со стоном пружин вначале глубоко
проваливалась, а потом подбрасывала его вверх. Теперь мостовая так же тепло и упруго
покачивалась, вспухала под ногами белым горбом, вдоль которого проплывали туи, ку-
сты можжевельника, черные ели, виллы из красного кирпича, калитки, крытые жестью
башенки и высокие ограды из железных прутьев. Тени, иней, огонь, далекий крик мате-
ри, огонь догорал, сверкание льда на водосточных трубах, огонь этот — удивительно
светлый, чуть ли не белый, — позавчера вдруг заполнивший квартиру Мертенбахов на
Брайтгассе, потому что обожженные пламенем бутыли с техническим спиртом, кото-
рые отец хранил в подвале, с шипеньем лопались и плотные клубки искр вылетали через
зарешеченные оконца на мостовую, — огонь этот был уже лишь расплывчатым следом
темноты под веками. Сейчас, в этой тишине, лениво вспарываемой трескотней из-за хол-
мов, все, что произошло позавчера на Брайтгассе, показалось Генриху какой-то фантас-
магорической сценой из старой книжки о первой мировой войне, в которой слова «Эль-
зас» и «Лотарингия» выныривали из нагромождений готических букв. Значит, их дома
на Брайтгассе уже нет? Значит, все сгорело? Вышитая подушечка с монограммой, ма-
мин секретер, плетеные стулья, лакированные отцовские туфли, пенал с рисунком орла,
агатовая чернильница, ковер, кресла из Торна, портьеры, буфет красного дерева, бам-
буковая этажерка, скрипка, белые и розовые полотенца, лампа с зеленым абажуром, сказ-
ки братьев Гримм в кожаном переплете, арабская шкатулка с иголками и нитками, по-
плиновый плащ, кожаный мяч, теннисная ракетка с надписью «Астра»... На глаза Генри-
ха навернулись слёзы, и он положил голову Стелле на плечо, так они и шли, задремывая
на ходу и вдруг заливаясь смехом, шли, обнявшись, с бьющими по бедру противогазны-
ми сумками, шли по то вспухающей, то убегающей из-под ног мостовой Гётештрассе.
За ними над ангарами аэродрома маячило бледно-желтое солнце, огромная туча дыма
расползалась по белому небу над Данцигом, а Август, чья сумка была уже пуста, под-
держивал их то с одной, то с другой стороны, понимая, что если они свалятся в сугроб,
белеющий у подножья железной ограды, то уснут в снегу вечным сном и мать никогда
не увидит его в Кёнигсберге.
Однако ноги уже не попадали туда, куда хотели, и внезапно все трое, будто подко-
шенные усыпляющим ветерком, рухнули в белый пух под самой оградой из железных
прутьев, концы которых были похожи на язычки огня, и Генрих, как сквозь туман, только
в этот момент осознал, что с ними Стелла, та самая Стелла, которую он столько раз встре-
чал на Магдебургерштрассе, когда она возвращалась из гимназии, Стелла, которая сей-
час, полузакрыв глаза (потому что снег облепил брови и порозовевшие щеки), исступ-
ленно хохотала, лежа на спине и загребая руками ледяную пыль, которая нисколько не
холодила ладоней. Она бросала в них рассыпчатые снежки, заставляя их отворачиваться;
защищаясь, они схватили ее за руки, но она, сотрясаемая диким смехом, мотала головой
50
Стефан Хвин
влево и вправо, взбивала вокруг себя белую пыль, не очень-то понимая, что это за рас-
терзанные парни так крепко сдавили ее запястья, и вот она уже не может пошевелиться;
нет, не отболи, какая там боль, это всего лишь сонливость, наваливающаяся на нее сон-
ливость. Август, которого опять окутал мерцающий розоватый свет, отчего улица накре-
нилась, точно корабельная палуба, попытался удержать равновесие, но голова сама по-
летела вниз, руки со злобной радостью сунули комок снега Стелле под расстегнутую
шинель, она ударила его локтем в грудь — он пошатнулся, — потом вцепилась в волосы
и сильно дернула, обжигающие иголочки впились в виски, он закричал как ребенок, хо-
тел ей ответить, поднял на удивление тяжелую руку, но сонная волна, заслоняя все, зали-
ла глаза* и он стал падать — плавно, как подрезанный цветок; стал плавно, будто разом
одрябли все мышцы, клониться вперед, пока не коснулся волосами ее груди. Первым
желанием Стеллы было оттолкнуть его, она даже поджала ноги, чтобы коленями угодить
в лицо, но тут ее разобрал бессмысленный, какой-то пузырящийся смех, движением,
подсмотренным у матери, она прижала голову Августа к груди и, бормоча с ироничес-
кими вспышками в глазах: «Ну ладно уж, ладно...», погладила его по мокрым слипшимся
волосам, чуть брезгливо растопырив пальцы, и одновременно с пренебрежительно-не-
жным высокомерием привлекла к себе, а он уткнулся носом в ее грудь, плохо понимая,
откуда это тепло, это влажное шершавое тепло, и этот запах, смешанный с запахом сукна
и мазута; потом он подтянулся, достал губами до ее рта, она отстранилась, но это едва
заметное, не слишком решительное движение только его распалило, и он, задетый ее пре-
небрежением и злясь на себя, пробиваясь сквозь розоватую мглу, опять застлавшую
взгляд, крепко прижал ее к себе, скользнул губами по теплой шее, она вздрогнула от мок-
рого прикосновения, смеясь, лбом боднула его в щеку, они покатились по снегу, застре-
вающему в волосах, Август ощутил холодна веках, робея, быстрым птичьим движением
коснулся твердого лифчика под полотняной сорочкой, она вдруг прильнула к нему всем
телом, вслепую губами ища его губы...
Генрих, вжавшийся щекой в снег, ощущал бедром их тонущее во сне, отдаляющееся
присутствие. А когда открыл глаза, увидел над собой очень ясное небо, макушки туй,
усеянные искрящимися капельками льда; черную ель, ограду из железных прутьев с кон-
чиками, похожими на языки огня, за оградой стену виллы, красные обливные кирпичи-
ки, наверху окно, а в окне, за стеклом...
«Это был Ханеман, точно это был Ханеман, — повторял Генрих Мертенбах, когда
много лет спустя в маленькой галерее в Ворпсведе мы вспоминали о том, что произош-
ло в городе, которого больше нет. — Никто другой быть не мог, это был он, определенно,
я не ошибся, ведь я пару раз видел его у отца, да и столько было разговоров о той сквер-
ной истории, нет, я не мог ошибиться, хотя темное стекло, в котором отражались расту-
щие перед домом туи, смазывало черты лица... Я лежал в снегу, ощущал бедром их при-
сутствие, слышал их учащенное дыхание, а там, наверху, в окне...»
Генрих Мертенбах в жизни не видел лица, в котором было бы больше боли. Но тог-
да, когда он лежал в снегу возле Стеллы и Августа, запутавшихся в скомканных шинелях,
когда, немного придя в себя, перевернулся на спину, чтобы еще глубже — как ему бе-
зумно хотелось — погрузиться в пушистый холод, при виде этого лица его разобрал ди-
кий смех, исступленный и злобный. Генрих смеялся, потому что обволакивавшая его
розоватая мгла вытеснила из сознания то, что ему на самом деле было отлично известно,
но что дошло до него только намного,’ намного позже...
А именно: что Стелла, вместе с которой они убегали из Лангфура в Глеткау, Стелла,
на которой была чересчур длинная шинель «Тодта» (он все еще помнил запах мокрого
сукна, испятнанного мазутом) и чьи волосы рассыпались на снегу возле самой его щеки,
— что Стелла была сестрой Луизы Бергер.
А потом, когда холод пробрал их до костей, они выкарабкались из сугроба и, облеп-
ленные пронизывающей сыростью, зашагали вдоль железной ограды садов на Лессинг-
штрассе, хватаясь пальцами за ледяные прутья, — Генрих ведь говорил, ведь он мноп>
раз повторял, что на Кронпринценаллее есть трамвайные пути, которые приведут их в
Глеткау, — ив конце концов, нащупывая подошвами землю под сыпким снегом, проби-
Ханеман
51
раясь через навеянные у ограды сугробы, они действительно добрели до столбов с бе-
лыми изоляторами. Наткнулись на рельсы, Август поскользнулся на шпалах, издал тор-
жествующий возглас, Стелла застегивала ему шинель, шепча: «Мальчик мой, тебе нельзя
простужаться, мамуля рассердится...», он оттолкнул ее, вспомнив про мать, которая ждала
его в Кёнигсберге; они шли по шпалам, разгребая сапогами сыпкий снег, за поворотом
миновали трамвайный'круг, возле парка по мокрой черной мостовой Адольф Гитлерш-
трассе ехали грузовики с обгоревшими брезентовыми тентами — на вздувающемся
брезенте огромные надписи «Drogen», «Chemikalien»1, реклама мебели Верница из Бром-
берга, в кабинах солдаты без винтовок, женщины в шерстяных платках, лица в разводах
сажи, сонные, раскрасневшиеся; Стелла, стоя на краю тротуара, махала пилоткой, но
только через полчаса большой «мерцбах» с дымящейся трубой остановился у ограды
больницы святого Лазаря.
Они с трудом забрались в кузов. Там уже лежали двое или трое таких, как они, в
долгополых шинелях, в изорванных куртках «фольксштурма», головы обмотаны бинта-
ми и грязными кашне. Никто даже не шелохнулся. Рыжие волосы Стеллы рассыпались
по плечам, она засмеялась оскорбительно и вызывающе — белые красивые зубы, по-
трескавшиеся губы, — а потом свалилась на доски, в сумке от противогаза булькала
розоватая жидкость, она пила долго, по подбородку текло, пришлось отнять у нее бутыл-
ку из толстого стекла. Грузовик съехал под железнодорожный виадук около вокзала, гро-
хоча иссеченным осколками кузовом, свернул на Зеештрассе и, миновав мельничные
пруды, подкатил к гастхаусу в Глеткау.
Они спрыгнули на утоптанный снег. Группки людей с чемоданами и рюкзаками
брели через дюны к молу, над морем, белый и мутный, как пар в бане, висел туман, они
спустились на пляж, на мокрый песок, смешанный с растоптанным снегом, в ракитнике
валялась мертвая лошадь, постромки оборваны, рядом груды ящиков, пустые перевер-
нутые детские коляски, из распоротых перин вылезал пух, под остовом сгоревшего «дай-
млер-бенца» труп пожилой женщины в нутриевой шубке, их снова окутала розовая вол-
на, обнявшись, они шли по пляжу, а море кренилось перед ними с запада на восток и с
востока на запад, как палуба корабля, они почувствовали под ногами просмоленные доски
мола, стук подкованных сапог, помост был усеян чемоданами, из которых ветер выдувал
чулки, шелковые блузки, ночные сорочки. Август рассмеялся: «Кёнигсберг!», потому
что увидел с западной стороны мола, над головами столпившихся у перил людей, дымя-
щуюся трубу буксира с большой черной буквой В. «Курс — Кёнигсберг!» — крикнул
Август, задрав голову к небу, за пришвартованным к причалу буксиром покачивалась
на воде длинная плоскодонная баржа для перевозки зерна, в открытых грузовых трюмах
было уже порядком людей, остальные ждали своей очереди у перил помоста. «Кёнигс-
берг! Я в Кёнигсберг!» — кричал Август, потому что теперь им уже оставалось только
пробраться через толпу на конце мола, розовая волна опрокинула на них влажное небо,
помост на каждом шагу проваливался под ногами и вздыбливался, мелко дрожа; они
протиснулись между людьми, стоящими у трапа, снизу, с палубы баржи, кто-то кричал:
«Рудольф, я здесь!», чей-то ребенок громко плакал, ветер рвал клубы черного дыма над
наклонной трубой, еще только пять-шесть шагов до трапа, и тут Стелла упала на покры-
тые ледяной коркой доски, с трудом поднялась и кинулась обратно, к пляжу, они быстро,
несмотря на то, что небо над ними опять сместилось в сторону Брёзена, ее догнали, под-
хватили под руки и повели к барже, но она, крича, отталкивала их, загораживалась от
ударов, хотя ее никто не бил, офицер раздвинул людей, она упиралась, ее вытолкнули на
самый край мола: «Прыгай! Чего ты ждешь? Прыгай же наконец!», но Стелла вцепилась
в перила, они не могли ее оторвать, она точно примерзла к выкрашенной в белый цвет
балюстраде* губы ее дрожали, но смотрела она вовре не на баржу, куда спускались по
трапу люди с тюками, нет, она смотрела дальше, на два столба, торчащие из воды метрах
в пятнадцати от мола, на два толстых окованных медью кнехта, у которых могли шварто-
ваться даже большие суда, она смотрела туда, в черно-зеленую глубь, вцепившись в пе-
Аптекарские товары, химикалии (нем.).
52
Стефан Хвин
рила, они не могли ее оторвать, только когда Генрих ударил ее по лицу, разжала пальцы,
они толкнули ее, она упала в трюм на кучу соломы, в которой люди мостили себе лого-
вища. Они прыгнули следом за ней...
Два самолета прилетели на небольшой высоте со стороны Брезена, несколько бомб
упало на пляж возле гастхауса — вспышки, темные воронки в снегу, неподвижные тела
на краю воды у самого входа на мол, огонь, горящий автомобиль, перья из разодранных
подушек, — но баржа, набитая людьми, уже отчаливала, дети заходились плачем, мок-
рый канат, соединяющий баржу с буксиром, натянулся, запах дыма из наклонной трубы
просочился в трюм... Они плыли на север, прислушиваясь к отдаляющимся взрывам.
Стелла заснула, обхватив рукой голову, они прикрыли ее драной периной и двумя сол-
датскими одеялами. Море казалось пустым и ровным, но мало что можно было высмот-
реть в тучах белой пороши. Далекий грохот стихал. Туман. Август и Генрих дремали,
прислонясь к деревянным ящикам с надписью «Хинц и Вебер». Рядом мужчина в мун-
дире почтового служащего, с обмотанной вязаным шарфом головой, беззвучно молил-
ся. Только около часа в тумане, справа, в каких-нибудь двухстах-трехстах метрах от бар-
жи, они различили тень. Когда подплыли ближе, из мглы вынырнул большой корабль.
Холод пробирал все сильнее. На шапках, волосах и шинелях — седой иней. Сверху с бор-
та корабля спустили деревянную люльку, кто-то кричал, чтобы первыми садились жен-
щины с детьми, но никто не двинулся с места, и тогда людей стали силой сталкивать в
раскачивающуюся люльку, которая много раз подымалась до уровня палубы, поскри-
пывая пеньковыми канатами и со скрежетом ударяясь о железный борт.
Крики разбудили Стеллу. Еще не придя в себя, она подняла голову. Высоко на ог-
ромном борту корабля, как стена высящемся около баржи, сверкали обледеневшие бук-
вы. Щуря покрасневшие глаза, Стелла с трудом разобрала полустершуюся надпись:
«Фридрих Бернхоф».
Слово
Голос у Отца слегка дрожал: «Смотри, там уже море!» — «Море? — Мама только
покачала головой. — Ну что ты говоришь, Юзек. Море должно быть дальше, около Цопо-
тов, это пока еще Гданьск». Из уроков географии у отцов марианов1 она твердо усвоила,
что Гданьск стоит на реке Мотлаве. Но Отца в жар бросило при виде клочка синевы за
полями аэродрома. Он еще никогда не видел настоящего моря.
Улица, по которой они шли, называлась Кронпринценаллее, — деревянная будка
трамвайной остановки пугала эмалированной табличкой с готической надписью. Пути
утопали в снегу, надо было обходить свалившиеся на рельсы столбы, потом дорогу пре-
градил сгоревший трамвай, они спотыкались на покрытых ледяным наростом шпалах.
Город открывался перед ними, как морозный узор на стекле. Островерхая колокольня
костела, кирпичная заводская труба, вереница заиндевелых тополей. Наверху, над Пелон-
керштрассе, среди лип, испятнанных гнездами омелы, кружили стаи галок. Беззвучное
хлопанье крыльев, холодное поблескивание мглы. Все это немного напугало Маму. Но
Отец уже не хотел никуда сворачивать. Сейчас? Какой смысл! С юга квартал опоясывали
холмы, темная зелень соснового леса, перемежающаяся серостью буковых стволов, и
этот вид, панорама холмов, тянущихся длинной неторопливой грядой за Пелонкершт-
рассе, от Лангфура в сторону Гдыни, вероятно, все решила. Достаточно было взглянуть
на эти холмы, чтобы дрогнувшее сердце подсказало, как красиво они расцветут весной.
Отец шагал все увереннее, не сомневаясь, что наконец они попали куда надо, и, гля-
дя то направо — на белые поля аэродрома с темной каймой соснового лесочка в Бжез-
но, то налево — на липы Пелонкерштрассе, за которыми виднелись пологие буковые
холмы, говорил Маме, что, пожалуй, стоит задержаться здесь на подольше, а может быть
навсегда, — нет, этого он пока еще не сказал, предпочитая, чтобы время, которое было у
них впереди, само предложило свободный выбор. А я шел с ними, спящий в теплом во-
Мариане — католический монашеский орден.
Ханеман
53
доеме у Мамы под сердцем головой вниз —’кулачок под подбородком, ножки смешно
поджаты, — опутанный веревочками жил, соединявших меня с ее телом. А поскольку я
шел с ними, Маме приходилось то и дело останавливаться, чтобы перевести дух, ведь
бугорок у нее под пальто, бугорок, внутри которого я покачивался в такт ее шагам, был,
вероятно, не менее тяжел, чем коричневый чемодан, который Отец нес в левой руке,
правой поддерживая Маму, чтобы ей было легче идти.
И так они брели по рассыпчатому снегу, который пел, когда нога ступала на покры-
тый ледяной коростой островок, — Мама всякий раз хватала Отца за локоть, чтобы не
упасть на проглядывающем из-под снежной пыли катке, — пока не дошли до первых домов.
Теперь из-за железных оград, в просветы между стволами сосен, елей и берез, в щели
приоткрытых ворот и калиток с готической цифрой, из-за густых зарослей плюща и из-
под навесов дикого винограда они заглядывали в сады, где стояли небольшие, в три окна,
виллы, похожие на дачные домики на берегу Ванзее, приземистые каменные особняки с
цветными стеклышками в чердачном окошке, роскошные белые строения с застеклен-
ными верандами...
А дома — брошенные теми, кто ушел, сгорел, утонул, — мостовые, дворы, малень-
кие площади с огромным каштаном посередине, где снег был чистый, не тронутый ни
единым следом, — все это дремало в тишине морозного утра. Район неторопливо рас-
крывал свои секреты, запрятанные за грабовые живые изгороди и шпалеры туй. В цент-
ре, возле здания вокзала, с которого еще не исчезли таблички с черной надписью «Дан-
циг», зеленые грузовики пробирались сквозь заснеженные развалины, вспугивая стаи
ворон, расклевывающих туши убитых коней, мужчины в суконных шинелях и солдатских
куртках, с холщовыми мешками на плече, с фанерными чемоданами, со свертками, за-
пеленутыми в брезент, сновали среди уцелевших домов, но здесь, на самой окраине го-
рода (поскольку на другой стороне Пелонкерштрассе был уже только лес, тянувшийся
до Жукова, Мигова и Кокошек), здесь, в стороне от главной артерии — Грюнвальдской
улицы, по которой поминутно проезжали в сторону Гдыни тяжелые машины с выцвет-
шими тентами, запряженные лошадьми полевые кухни, заляпанные известкой танки с
повернутыми назад бронебашнями, — здесь еще было пусто, эту часть города пока еще
обошел стороной текущий на запад людской поток, и Маме с Отцом ничто не мешало
выбирать дом, в котором мне предстояло родиться.
И они переходили от ворот к воротам, останавливались под навесом дикого виног-
рада перед калиткой с номером 6 или 14, откуда дорожка вела прямо к темной вилле с
круглой мансардой, но когда Отец, поправляя на плече рюкзак, уже собирался перешаг-
нуть каменный порог, Мама удерживала его за рукав: «Погоди, посмотрим дальше», —
и они шли дальше, на другую сторону улицы, оставляя в нетронутой белизне глубокие
следы. Отряхивали с ног снег, Отец открывал калитку в заборе из деревянного штакетни-
ка с прорезями в форме перевернутого сердечка, всполошившаяся туча свиристелей и
снегирей, клюющих красные ягоды, срывалась с колючих кустов; задрав головы, они
смотрели на крышу, поскольку Отец считал, что крыша всего важнёе (поэтому он недо-
верчиво разглядывал седлообразные черепицы, на которых в тех местах, где снег сполз в
водосточную трубу, чернели пятна мха; он искал железную, а еще лучше медную кры-
шу). Но напрасно дом, перед которым они остановились, выставлял на солнышко гипсо-
вую лепнину, кокетливо похвалялся головками алебастровых ангелов, радовал глаз игрой
разноцветных стеклышек в круглом окне. Мама, едва вошла в парадное, отделанное си-
неватым, под мрамор, алебастром, тут же попятилась, сама не зная почему... На медной
табличке возле надписи «Briefe»1 поблескивали наклонные буковки: «Эрих Шульц»,
«Вольфганг Биренштайн», «Иоганн Пельц». «Сюда?» — спросил Отец, когда, свернув за
угол и миновав шпалеру туй возде железной ограды, они остановились перед домом из
обливных кирпичиков — красных и оливковых. Мама на всю жизнь запомнила ту мину-
ту. Дом отнюдь не был самым красивым, он не обладал легкостью белых вилл с застек-
ленной верандой, но его крутая, прочно сидящая на каменном карнизе крыша, видно,
’ Для писем (нем.).
54
Стефан Хвин
показалась Отцу надежной: он поставил чемодан на цементный парапет газона, столк-
нув с него локтем снежную шапку, сунул руки в карманы и медленно обогнул красный
кирпичный фасад, на котором поблескивали темные окна в резных рамах. И еще эта ба-
шенка, прилепившаяся к левой стене! Лестничная клетка? Да, лестничная клетка, и; вид-
но, это и понравилось Маме: отдельный вход, обособленность от других квартир, от чу-
жих шагов. Башенка торчала над крышей, не слишком высоко, но уж очень красиво она
венчала контур дома железным балкончиком, так что, возможно, именно это все и ре-
шило — ребяческое желание забыть о том страшном, что им довелось пережить, эфе-
мерный соблазн, подсказанный и подкрепленный силуэтом дома; и обоим одновремен-
но-— о самом доме они еще не успели подумать — захотелось подняться наверх, потому
что оттуда, с балкончика, наверное, можно увидеть весь район и аэродром за Кронприн-
ценаллее, и лес, и море...
И, подхватив чемодан, Отец вошел в парадное, а за ним и Мама, и им сразу понра-
вилось то, что они увидели за темной дверью с матовым окошком, перечеркнутым ре-
шеткой в форме переплетенных листьев аира. Свет врывался сюда радужным лучиком
через стеклянный треугольник с готической цифрой 17. По зеленым изразцам проплыли
бледные отражения, в середине винтовая лестница, латунные перила, заканчивающиеся
похожей на ракушку загогулиной, Мама сразу положила руку на эту позолоченную
тысячами прикосновений латунь, проверяя, удобно ли ладони, не высоковаты ли перила
и каково будет ходить вверх-вниз каждый день.
А перила были в самый раз, не слишком высокие, не слишком низкие, и они стали
подниматься по ступенькам, окованным золотистыми, стершимися посередине латун-
ными планками, — Отец в черных шнурованных башмаках с барашковой опушкой, Мама
в лакированных лыжных ботинках с никелированными крючками для шнурков, — а ле-
стница тихонечко заскрипела. Салатного цвета панель превосходно имитировала вели-
чественный мрамор. Мама провела пальцами по выкрашенной масляной краской стене
с бордюром из колосков и цветов, похожих на васильки, а Отец, увидев этот трогатель-
ный жест узнавания знакомых очертаний, а может быть проверки их реальности, накло-
нился к Маме и поцеловал в шею за ухом — немножко по-мальчишески, словно бы заиг-
рывая, возможно, для того, чтобы замаскировать или подавить волнение. Мама досадли-
во отмахнулась, потому что вслушивалась в тишину, но на ее губах появилась легкая снис-
ходительная улыбка. Однако когда они поднялись на один пролет, на площадке, откуда
через круглое оконце с лучистым переплетом (лучи сходились на синем стеклянном
кружке) виден был сад, большая туя, береза и серебристая ель, послышались чьи-то го-
лоса.
Они замерли. Слов было не разобрать, впрочем, через минуту Голоса смолкли. Толь-
ко теперь Отец посмотрел на пол. В нескольких местах бурые комочки, растекшиеся кап-
ли... Мама опустила ногу обратно на ступеньку, но Отец (возможно, задетый за живое
тем, что башенку, с которой они могли б увидеть поля аэродрома, лес в Бжезно и даже
море, неожиданно отобрал у них кто-то более расторопный, раньше взобравшийся на-
верх) машинально протянул руку к стене, где из-за железного ящика с углем выглядывала
закопченная кочерга. Мама потянула его вниз, но Отец, прислушивавшийся с поднятой
головой к тому, что происходило наверху, не заметил ее встревоженного движения. Го-
лоса зазвучали отчетливее, но слов они по-прежнему не понимали.
Дверь на втором этаже была приоткрыта—большая зеленая дверь, отделанная ла-
тунью, с массивной ручкой в форме львиной лапы, — поэтому они осторожно загляну-
ли внутрь. Темная прихожая, в глубине — белые раздвинутые двери, за ними большая
комната, потолок, украшенный лепниной, люстра с хрустальными подвесками...
В комнате у окна кто-то стоял, но фигура утопала в потоке солнечного света и чер-
ты лица были неразличимы — высокий мужчина в светлой рубащке, — через минуту
его заслонила чья-то спина, и тогда Мама, не любившая ни подглядывать, ни подслуши-
вать, приложив палец к губам, кивнула Отцу: нечего нам тут делать, но Отец только пока-
чал головой. Спина опять передвинулась, чья-то тень замутила поток света, высокий муж-
чина в светлой рубашке обернулся...
Ханеман
55
Так они впервые увидели Ханемана.
Ханеман был не один. Они уже хотели войти в прихожую, чтобы громким «Здрав-
ствуйте» обозначить свое присутствие, однако то, что они увидели... К Ханеману при-
близился мужчина в ушанке, развязанные тесемки болтались по обеим сторонам тем-
ного, как будто взмокшего лица, и полусогнутой рукой в шерстяной перчатке лениво
толкнул его в грудь. Мама схватила Отца за локоть, но Отец медленно высвободился и
осторожно, чтобы не скрипнули половицы, переступил порог. Те ничего не услышали.
В комнате громко щелкнул отпираемый замок, а потом раздался странный хруст. Отец
увидел ногу в высоком ботинке из темно-желтой кожи — кто-то давил каблуком ракови-
ны, рассыпанные по ковру, хрупкие японские раковины, рядом лежала раскрытая шка-
тулка из лакированного папье-маше...
И вот тут Маме стало по-настоящему страшно. Нет, она нисколько не боялась тех,
чьи тени проплыли возле Ханемана, — ее испугало то, что она увидела в лице Отца. Отец
задрожал противной мелкой дрожью, пальцы, сжимающие черный прут, побелели, а те
двое тем временем подошли к Ханеману, высокий, в ушанке, взял в руки серую чашку с
золотой каемкой, поднес к лицу Ханемана и раздавил в пальцах, как пустое пасхальное
яйцо. Треск. Фарфоровые осколки посыпались на ковер. И когда Отец это увидел, когда
он увидел, как белеет лицо Ханемана, он вошел в раздвижную дверь.
Они обернулись, скорее удивленные, чем испуганные. Только Ханеман сощурил
глаза. А Отец, стоя в дверях с кочергой в руке, подхваченный нарастающей волной мел-
кой дрожи, подавшийся вперед, готовый на все, бросил одно лишь слово: «Вон!..»
Ах, Отец, каким же огромным ты становился, какая из тебя била сила, когда, стоя в
раздвинутых дверях на пороге комнаты Ханемана с закопченной кочергой в руке, ты
бросил одно это слово, — всякий раз, представляя ту сцену, я чувствую сладкое тепло в
груди. И если бы кто-нибудь, теша себя надеждой, что Страшному суду никогда не бы-
вать, сказал мне, что Михаил Архангел — всего лишь выдумка, я бы в ответ только снис-
ходительно усмехнулся. Ведь Отец — я готов был поклясться, — мой тщедушный, невы-
сокий Отец с встрепанными седеющими волосами, стоявший тогда в раздвижных дверях
с железным прутом в руке, — а Мама дергала его за локоть, чтобы не лез на рожон, —
когда он, стоя там, бросил одно это слово, он как две капли воды походил на того мужчи-
ну с копьем и огромными весами, который на картине Мемлинга взвешивал праведни-
ков и грешников перед тем, как столкнуть их в преисподнюю. Мама теребила его за ло-
коть, шепча: «Юзек, не надо...», но Отец не замечал этого в упоительном воодушевле-
нии, снизошедшем на него точно небесный свет. Его голос гремел в дверях. Мне хоте-
лось, чтобы он гремел как можно дольше, хотя я подозревал, что Мама не рассказывает
мне всего о той минуте: вероятно, небесный свет, снизошедший на Отца, когда он стоял
так в раздвижных дверях комнаты Ханемана, выглядел несколько иначе. У Отца, когда он
выходил из себя, рассказывала Бабушка, на лице выступали пятна, которые, переливаясь
всеми оттенками красного, переползали со щек на лоб, а потом заливали ярким пламе-
нем уши.
Я никогда не забуду этой минуты, этой чудесной светлой минуты, когда ты стоял на
пороге комнаты Ханемана и уши у тебя пылали дивным рубиновым пламенем, минуты,
которая должна бы длиться вечно, — жажда, охватившая мою душу, была неутолима.
Потому что, когда ты стоял так в белых раздвижных дверях — подавшийся вперед, гото-
вый на все, — к миру возвращалась красота и хотелось жить, ох, как сильно хотелось
жить. Мама тянула Отца за рукав, чтобы он прекратил, она-то ведь сразу заметила у тех
двоих, рядом с Ханеманом, под одеждой стволы, одно движение, и нам конец. Но Отца
несло дикое воодушевление, а может быть, что-то похуже, что-то финско-татарское, дре-
мавшее в нашей восточной крови и вдруг всколыхнувшееся с такой силой, что Отец взре-
вел, аж зазвенели рюмки на полках в буфете: «Вон отсюда!» Ответом ему было не слиш-
ком громкое: «Ты что, не видишь, это же фриц...» — и рука в шерстяной перчатке —
длинный худой палец — ткнул Ханемана в грудь.
И неизвестно, то ли это движение, машинальное и презрительное, то ли, быть мо-
жет, жалостливое пренебрежение, прозвучавшее в голосе того, в ушанке, заставило Отца
56
Стефан Хвин
выплеснуть до сих пор сдерживаемую ярость. О нет, он не двинулся с места, не сделал ни
единого шага, только нагнулся, сжался, как пружина, губы у него побелели, щеки потем-
нели, на висках вспухли голубые жилки: «Ты, твою мать, падла, блядь, вон из этого дома!!!»
И когда Мама, скрывая неловкость за иронической полуулыбкой, с легким смуще-
нием, но одновременно и с гордостью много лет спустя повторяла мне все, слово в сло-
во, я понимал, что в ту самую минуту, когда эти слова были произнесены (а точнее, вык-
рикнуты), у нас троих — у меня, Мамы и Отца — здесь, на Лессингштрассе, 17, уже был
свой дом: слова эти подарили нам дом, в котором мне предстояло родиться. О, как кра-
сиво они звучали в канун моего появления на свет! Историю эту я мог слушать беско-
нечно.
Потому что, когда Отец выкрикнул Слово, бледнея и меняясь в лице—Мама от испуга
даже выпустила его рукав, — тот, в ушанке, посмотрел на другого, в армейском полу-
шубке без погон, потом посмотрел на Отца, после чего, отложив фигурку танцора из
папье-маше, буркнул: «Ладно, чего глотку дерешь? Пошли, Ендрас. Катись он... вместе с
этим фрицем. Все равно тут ничего нет. Одни бумаги».
И не спеша, желая этой вызывающей неторопливостью уязвить Отца, оба пересек-
ли комнату. Высокий хотел еще что-то добавить, но только повернулся, пнул ногой лежа-
щий на ковре обломок раковины и брезгливо оттолкнул Отца от двери. Они вышли в ко-
ридор. Отец рванулся было за ними, но Мама удержала его — сейчас ей это удалось. Он
хотел еще что-то выкрикнуть в знак того, что последнее слово за ним, еще что-то вскипе-
ло у него в груди, он еще приподнял, словно намереваясь замахнуться, кочергу, но Мама
держала его крепко, и он вдруг одряб, как вырванная из земли метелка пырея, и когда
Мама, шепча: «Успокойся, Юзек, они уже ушли», подвела его к креслу, мягко осел на
кожаное сиденье. Дрожа. Всем телом. Мама, присев на корточки возле кресла, гладила
его по руке, но он продолжал сжимать в побелевших пальцах черный закопченный прут
— ни дать ни взять трясущийся скипетр отрекающегося от престола монарха.
Но, представляя себе ту минуту, я его за это не осуждал: образ дрожащего узкопле-
чего мужчины, который, учащенно дыша, судорожно сглатывал слюну, отчего кадык
смешно подпрыгивал под выбритой кожей на шее, снимал нараставшее и во мне на про-
тяжении маминого рассказа напряжение, и душа исподволь наполнялась блаженным
покоем. Я уже ощущал пробуждающуюся уверенность в победе, силу, постепенно воз-
вращающуюся в тщедушное тело, силу сдержанную, неказистую, но поистине могучую,
такую, которой никому не перемочь. Была ли это победа Отца? Я в этом не сомневался,
хотя они могли убраться из квартиры Ханемана еще и потому, что вид беременной Мамы
смягчил их сердца (эта версия тоже меня устраивала, поскольку свидетельствовала о моем
скромном вкладе в победу). Дыхание отца мало-помалу выравнивалось, и он, словно во
искупление каких-то провинностей, о которых только сейчас вспомнил, стал гладить ма-
мину руку, и их пальцы сплелись, потому что Мама тоже гладила его руку, а потом она
вдруг громко, как маленькая, расплакалась, слезы текли по ее лицу, но, вероятно, то были
светлые слезы, потому что Отец ласково провел тыльной стороной ладони по ее мокрой
щеке, а она, улыбнувшись, прижалась лицом к его руке.
А снизу, с лестницы, по которой бухали шаги спускающихся на первый этаж муж-
чин, донесся полный презрения голос: «Они нас жгли, грабили, а этот нашелся... доб-
ренький...» «А, хрен с ним», — ответил другой голос. Они спускались не торопясь, по-
правляя на плече сумки, набитые хрустящим железом, торопиться им было некуда, по-
всюду их ждали дома, дома, дома... сотни домов Старой Оливы и Оливы за железной
дорогой, полные шкафов, комодов, кофров, сундуков, корзин, бочек. И когда в мамином
рассказе внизу, в парадном дома 17 по Лессингштрассе, хлопала входная дверь и воцаря-
лась тишина, я неизменно ощущал в душе прочную, чудесную уверенность в том, что
дом уже наш.
Только я никогда не мог понять, почему Ханеман, когда к нему пришли, заговорил
по-немецки.
Ханеман
57
Лаванда
Они спустились на первый этаж. Дверь с медной табличкой «Э. и А. Вальманы»
была не заперта. Дверная ручка — округлая, отливающая золотом, холодная, гладкая —
легко подалась, дверь приоткрылась — Мама хорошо запомнила ту минуту: в глубине
темная прихожая с зеленым линолеумдм на полу, короткий блеск большого зеркала, сто-
ящего против входа, но когда Отец хотел переступить порог, Мама удержала его за рюк-
зак: ты что? в ботинках? Он сбросил рюкзак и развязал шнурки. Они вошли внутрь в нос-
ках, оставив обувь около двери.
В квартире было холодно. Когда они увидели в зеркале свои смутные отражения,
Отец сказал вполголоса, словно опасаясь разбудить кого-то, спящего за стеной: «Как ты
думаешь, сколько здесь комнат?» Маме стало не по себе при виде крюков от детских ка-
белей на притолоке. Справа через матовые стеклышки, просачивался свет— вероятно,
там была дверь в кухню. Возле газового счетчика висела связка ключей. Мама протянула
руку: два маленьких латунных и один длинный железный, на проволочном кольце. Под
потолком трубы центрального отопления. Линолеум чистый. Только несколько засохших
следов у двери.
Отец обнял Маму одной рукой: «Пойдем сперва посмотрим кухню». Но Мама, о
чем-то вспомнив, достала из рюкзака жестяную мыльницу и льняное полотенце.
Дверь ванной комнаты была выкрашена белой краской. Узкое окошко разрисовано
морозом. В продолбленной на подоконнике канавке для стока дождевой воды — короч-
ка льда. В воздухе чужой, лавандовый — как показалось Маме — запах, смешанный с
запахом выстуженного дома. Будто она вошла в ванную гостиницы: любопытно, какого
цвета кафель, нет ли гадких следов ржавчины на дне ванны; быстрый взгляд на зеркало
под лампой — не испещрено ли серыми лишаями. Но это была не гостиничная ванная.
Однажды Бабушка за чем-то послала ее к пани Янине, соседке по дому на Новогродс-
кой; Мама медленно вошла в чужую квартиру — дверь была открыта — и вздрогнула,
внезапно услыхав за спиной мужской голос: «Ты что здесь делаешь? Красиво так вхо-
дить, не постучавшись?» Мама покраснела до корней волос, уши горели, она не могла
выдавить ни слова, хотя ясно было, что пан Богданович просто забавы ради ее пугает.
Теперь, оглядывая выложенную кафелем ванную комнату, Мама испытала подобное
чувство. Но сейчас-то почему? Кто сюда может войти? Они ведь первым делом закрыли
входную дверь на цепочку. Мама хотела положить мыло в железную мыльницу, вися-
щую на краю ванны, но увидела, что там уже лежит плоский высохший обмылок, к кото-
рому пристало несколько волосков, хотя нет—она наклонилась с легкой брезгливостью,
точно разглядывала дохлого слизняка, — это были всего лишь тонюсенькие трещины;
вынув розовый обмылок из проволочной корзиночки, она с минуту — не зная, куда де-
вать, — подержала его в пальцах, а потом положила на стеклянную полку под зеркалом,
рядом с двумя стаканами и пустой коробочкой из-под зубного порошка с надписью
«Вера». Бросила в корзиночку свое мыло, желтоватое, с серым отливом, и быстро опо-
лоснула пальцы. Машинально потянулась к висящему на крючке вылинявшему поло-
тенцу, но, заметив вышитую голубой ниткой букву W, отдернула мокрую руку. Чуть
поколебавшись, сняла плотенце с крючка и сунула в шкафчик. На крючок повесила свое
— белое, с зеленой каймой.
Снова втянула ноздрями воздух. Ванна была чистая, только дно тускловатое — вид-
но, часто терли щеткой. В ситечке сливного отверстия — клубочек светлых волос. Мама
подцепила его пальцем и выбросила в унитаз. Волосы ребенка?
Она сполоснула эмалевую поверхность из душа, похожего на большой стетоскоп на
блестящем гофрированном шланге. И кран был большой, с широким плоским отверсти-
ем, никелировка на крыловидных ручках под надписями «Kalt» и «Warm»1 в нескольких
местах облупилась. Когда Мама, поливая водой эмаль, нагнулась, мутное отражение лица
проплыло по кафельным плиткам над ванной.
1 Холодная, горячая (нем.).
58
Стефан Хвин
В окне кухни обшитые кружевом занавески. Дощатый пол. Белый подоконник. Мама
первым делом повернула медный кран над раковиной, проверяя, есть ли и тут вода. Сте-
ну над столом украшала ветряная мельница, вышитая синими нитками по белому по-
лотну, готические буквы чуточку покосились, и Мама выровняла край коврика. Отец,
заметив, как нежно она разгладила полотно на стене, улыбнулся; наклонившись над от-
крытой топкой, он постукивал по железной решетке кочергой: «Плита, похоже, хорошая».
Сверху лежали конфорки. Мама почувствовала запах сырого шлака и седой золы. Израз-
цы на печке были идеально гладкие, белые с кремоватым оттенком. «Смотри-ка, — при-
щурил глаза Отец, — тут котел для воды. А здесь, с этой стороны, духовка. Но топить,
наверно, придется щепками. Очень уж маленькая топка».
Мама открыла буфет красного дерева. Звякнули хрустальные стеклышки в дверцах.
На полке, среди рюмок из кобальтового стекла и баночек с надписями «Pfeffer», «Saiz»,
«Zucker»1, белел овал супницы с крышкой в форме китайской пагоды, на которой сини-
ми штрихами было изображено море и маленькая джонка с коричневым парусом. Когда
Мама приподняла крышку, на запыленном фарфоре возле фирменного знака «Розен-
таль» остался темный след пальца — будто круглый штемпель на кремовом конверте.
Мама принялась вынимать вещи из рюкзака. Медленно раскладывала их на столе,
застеленном белой клеенкой. Толстый свитер, еще с Восстания, лыжные штаны, которые
дал ей пан 3., когда украинцы входили на Жолибож, алюминиевая кружка от тети Хели с
Кошиковой, бутылка с фарфоровой пробкой (остатки холодного чая на дне), две ложки,
нож («Герлах» — подарок монахинь из Шиманова1 2), рубашка Отца из ЮНРРА3, льняная
простыня, голубая ночная сорочка, которую она успела взять с Новогродской, яблоки
«ранет», завернутые в бумагу...
Отец отвернулся, чтобы не смотреть на это осторожное, бережное раскладывание
на столе вещей, которым посчастливилось уцелеть. Принес из подвала немного угля в
жестяной коробке от бульонных кубиков «Магги», из-под дивана вытащил аккуратную
стопку пожелтевших номеров «Фёлькишер беобахтер», наломал сосновых лучин и под-
жег. В плите загудело, тяга была хорошая. Мама, приложив ладони к разогревающимся
изразцам, что-то пробормотала себе под нос, Отец погладил ее по волосам, притворив-
шись, что не расслышал, она с улыбкой закрыла глаза, он попросил повторить, но она
только покачала головой.
Войдя в среднюю комнату, Мама невольно попятилась при виде своего отражения,
которое метнулось к ней из круглого зеркала, вставленного в дверцу орехового шкафа.
Стены были красивого цвета чайной розы. На картине в золотой раме, висевшей над
оттоманкой, полыхали закатным багрянцем тучи над пляжем в Глеткау; когда Мама при-
близилась, чтобы получше разглядеть морской пейзаж, в правом нижнем углу, возле стол-
бов белого мола, у которых был нарисован маленький пароходик, она увидела подпись:
«Л. Шнайдер». Легонько провела указательным пальцем по холсту, но пыли было не-
много. Сдув пыль с пальца, она подошла к окну. Погладила ладонью выпуклый холодный
корпус швейной машинки «зингер», потом, вдруг почувствовав усталость, села на отто-
манку и только теперь, прислонившись головой к мягкой спинке, которая пахла плюшем
и сухой морской травой, глубоко вздохнула. На столе стояла высокая хрустальная ваза с
искусственной розой. Мама сразу подумала, что надо ее выбросить, но сперва положи-
ла бумажный цветок на бамбуковую этажерку, а потом на шкаф. Придавленной чемода-
нами и свертками розе предстояло пролежать там много лет — за это время она лиши-
лась лепестков и листочков, а от обернутого тонкой зеленой бумагой стебля остались
только почерневшие прутики.
Мама открыла шкаф, полный белого и голубого белья, аккуратно разложенного по
полкам. Лаванда? Приподняла край тщательно отутюженной простыни: на гладком про-
хладном полотне с монограммой W лежало несколько ломких лепестков шиповника.
1 Перец, соль, сахар (нем.).
2 В Шиманове под Варшавой при женском монастыре была школа для девочек.
3 Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и восстановления (до 1947 г).
Ханеман
59
Такие лепестки она будет срывать с куста, растущего под березой в углу сада, и раскла-
дывать между свежевыстиранными простынями и пододеяльниками.
Потом Отец развел огонь под железным котлом в прачечной, покидал в горячую
воду пододеяльники и простыни, которые она достала из шкафа, несмотря на то, что все
было чистое и накрахмаленное, но, хотя их и кипятили несколько часов, прохладная све-
жесть, непохожая на запах простыни, которую Маме подарила тетя Марыся из Прутко-
ва, никак не хотела пропадать. И когда вечером, перестелив постель, они легли в средней
комнате — Мама в своей ночной сорочке из дома на Новогродской, Отец в полосатой
ЮНРРовской пижаме, — два эти чужих запаха: запах простыни из предместья Варшавы
и запах пододеяльника с голубой монограммой W, который Эльза Вальман купила в
сороковом году у Юлиуса Мехлерса на Ахорнвег, 12, смешивались, отгоняя сон. Про-
стыня все еще пахла дорогой, паровозным дымом, брезентом рюкзака, кисло-сладким
ароматом яблок, которые были куплены, пока поезд целый час простоял в Мальборке. А
свежевыстиранный пододеяльник с монограммой W источал известковый запах пустой
квартиры и глажки, оставившей в нескольких местах на крахмальной белизне следы цвета
корицы. Полотно пододеяльника казалось более прохладным, запах застрял в кружевах,
которыми были обшиты края.
Они не могли уснуть. Наверху слышались шаги жившего над ними мужчины. С
фотографии, висящей около двери, на них смотрели две серьезные девочки в соломен-
ных шляпах, в платьицах из гофрированного батиста, стоящие на молу в Цоппоте рядом
с мужчиной в мундире почтового служащего и молодой дамой в платье с плиссирован-
ной юбкой и круглым воротничком. Отец встал, осторожно снял фотографию с гвоздя,
смахнул паутину со светлого прямоугольника, оставшегося на обоях цвета чайной розы,
посмотрел на оборотную сторону с печатной надписью «Ballerstaedt. Photograph. Atelier»
(под которой чернилами было приписано: «Juli 1938») и положил в нижний ящик орехо-
вого шкафа, где кроме исписанных ровным детским почерком тетрадей лежал атлас мира
Вестермана и перевязанная вощеной бечевкой пачка открыток из Баварии.
Только когда в полночь Мама залезла в ванну и Отец теплой водой помыл ей спину,
а затем осторожно ополоснул выпуклый живот, где я подремывал, подперев кулачком
подбородок, пар растопил морозные узоры на оконном стекле и все мы почувствовали
себя почти как дома.
Гротгера, 17
Какой же это был дом! На башенку с балкончиком под островерхой крышей, увен-
чанной цинковым шаром, поднимались по черной лесенке; сверху в ясную погоду можт
но было увидеть поля аэродрома, сосновый лес в Бжезно и за ним далекую синюю поло-
су моря. Промежутки между типично прусскими темно-красными — настоящий при-
вислинско-готический цвет — черепицами заросли мхом, под каждым окном ряд кирпи-
чиков, покрытых оливковой глазурью. Веранда — большая, двухэтажная — выходила в
сад; утоптанная черная дорожка бежала среди подстриженных самшитовых кустов к
железным воротам, под густой тис, затенявший огороженные кобальтовой керамичес-
кой плиткой клумбы. А дальше — огромная береза и шпалера туй. Перед домом сереб-
ристая ель — высокая, с голым пепельно-серым стволом, колючие ветки вровень с водо-
сточной трубой, опоясывающей крышу.
Дубовая, Траугуга, Тувима, Морская... Когда Отец по вечерам рассказывал о ком-
пании «Антрацит», в которой с января работал, эти названия улиц звучали как названия
заморских стран. «Антрацит»! У владельцев была шахта под Гливице, два ствола, погру-
зочная платформа, коксовый завод, Отец получал почти тридцать тысяч — вполне при-
лично, Мама, устроившаяся инструктором в школу медсестер, — шесть тысяч, так что
жаловаться не приходилось, после того, что они пережили, это был сущий рай! Но в июле
в контору на Морской пришли двое: «Подпишите, что фирма переходит под внешнее
управление». Отец только посмотрел на них: «Нет, ничего я не подпишу, я не хозяин.
60
Стефан Хвин
Хозяева в тюрьме». Они снисходительно покачали головами. «Тогда вы не будете здесь
работать». «Значит, не буду». Такая фирма! Балтийская угольная компания с бункерами
на Висляной в Новом порту и с собственной железнодорожной веткой в порту в Оксиве!
Первые бланки, на которых Отец выписывал счета, — зеленые, разграфленные фиолето-
выми линиями, — были снабжены штампом «Herbert Borkowski. Drogen u. Chemikalien-
Grosshandlung. Danzig. Brabank, 4»1. «За что их посадили, Юзек?» — как-то спросила
Мама. «Как за что? За то, что капиталисты».
Дельбрюкаллее больше не называлась Дельбрюкаллее. В Академию теперь ходили
по улице Кюри-Склодовской, мимо барака «фольксштурма», переделанного в часовню,
по тротуару вдоль кладбища, где вечерами горело всего несколько газовых фонарей и
случались нападения на возвращавшихся с ночного дежурства медсестер. Студенты, встре-
чавшиеся Маме по дороге, парни в пыльниках и военных мундирах без погон, перекри-
кивались через мостовую: «Мы на галерку!» Что означало: мы на сравнительную анато-
мию, в аудиторию с поднимающимися амфитеатром скамьями в здании на углу аллеи
Победы, где еще не так давно немцы делали мыло из убитых людей. Варшавскую школу
медсестер при больнице Младенца Иисуса, открытую на Кошиковой на деньги Рокфел-
леровского фонда, вначале перевели в Белый Дунаец, а потом в Гданьск, где разместили
в корпусе Д, и Мама очень гордилась, что туда попала. В Академии работали также вра-
чи из Вильно, хирурги с медицинского факультета университета имени Стефана Бато-
рия. Мама с уважением перечисляла фамилии: доктор Михейда, Пискозуб, Юзькевич.
Но кое-что ее немного коробило: среди сестер в Академии было много немок. Таких, лет
под тридцать. Krankenhausschwester1 2. Одевались все они одинаково: длинные голубые
платья, белый передник, на спине перекрещенные бретельки; гладкие волосы с пробо-
ром. Польские врачи очень любили с ними работать. Возможно, даже больше, чем с
польками. А немки на польских медсестер смотрели как на пустое место.
Были и лаборанты-немцы, работавшие в подвалах рентгеновского отделения. Толь-
ко в сентябре Мама увидела перед корпусом В три или четыре грузовика. Лаборанты
стояли на тротуаре с узлами и чемоданами.
Под всей Академией тянулись противовоздушные убежища. Позже Мама говори-
ла: «Мы не забывали, что под нами живут немцы. Одна видела, как немец вышел и убе-
жал. Что под нами делается, мы понятия не имели». Лес вокруг был заминирован. Очень
много детей поразрывало на горках и в овраге. С крыши общежития медсестер видны
были бездействующая судоверфь, развалины центра, Мотлава, ратуша без башни, косте-
лы без колоколен. Говорили, что Гданьск подожгли немцы.
Потом приехали шведские медсестры из Уппсалы. Они привезли одежду, сестринс-
кую форму и продукты. Тринадцатого декабря, в канун дня святой Люции, устроили
праздник. Но Мама получала еще и посылки из ЮНРРА, по двадцать пять килограммов,
с шоколадом и сигаретами «Кэмел», это можно было обменять на кофе или какао. В бюро
ЮНРРА на Морской работал пан Щелковский, которого Мама знала по прушкувскому
пересыльному лагерю3, так что иногда удавалось раздобыть кое-что и для Ханемана.
Ханеман, однако, дары ЮНРРА принимал неохотно. Он предпочитал ездить раз в
несколько дней на Городской вал, где у кирпичной стены крытого рынка пожилые жен-
щины в завязанных надо лбом чалмах, в шляпках с вуалью расставляли на земле фарфо-
ровые сервизы, пишущие машинки, столовые приборы. Придя туда впервые, Ханеман
увидел около ящиков с колотым льдом госпожу Штайн. На ней были два пальто, потолще
и потоньше, шея обмотана кашемировым шарфом. На развернутый лист «Дзенника
балтыцкого» она выложила фарфоровые шкатулочки, лампу с голубым абажуром, вил-
ки со сплетенной из цветов монограммой S; углы газеты придавила обломками кирпи-
ча. Ко рту она прижимала батистовый платочек. Ветер нес со стороны Рыбного базара
тучи пыли.
1 Херберт Борковский. Оптовая торговля лекарствами и химикалиями. Данциг. Брабанк, 4 (нем.).
Больничные сестры (нем.).
3 Прушкув — местечко под Варшавой, где немцы во время Варшавского восстания 1944 года устро-
или пересыльный лагерь для населения столицы и участников Восстания.
Ханеман
61
Увидев Ханемана, она удивилась: «Как, вы не уехали?» Но Ханеман объяснил, что
уедет, только еще не знает когда. «Разве вы не работаете в Академии? Ведь там...» Но он
не захотел об этом говорить. Спросил, что лучше всего продается и сколько можно зара-
ботать. «Те, что приезжают из Варшау на грузовиках, — ответила госпожа Штайн, — берут
все. И даже дают неплохие деньги». Госпожа Штайн предпочитала продавать за доллары,
но это ей не всегда удавалось.
Назавтра Ханеман разложил рядом с ней на куске брезента несколько столовых
приборов, несколько книг, немного серебра. Ближе к вечеру даже нашелся покупатель
на две с половиной тысячи.
Переменилось все только в сентябре, когда в дверь квартиры на втором этаже дома
17 по Лессингштрассе (которая теперь называлась улицей Гротгера) постучалась пани
X. с улицы Героев Вестерплатте, 12. Ханеман, несколько удивленный неожиданным ви-
зитом (он не был знаком с пани X.), провел ее в комнату и усадил в кресло. Пани X. ска-
зала, что хочет, чтобы он подтянул ее сына по немецкому языку. Это был не первый ви-
зит такого рода. Еще в июле Ханемана посетил инженер Войдаковский с аллеи Союзни-
ков, высокий блондин из дома номер 7, которого дирекция верфи отправляла в восточ-
ную оккупационную зону, в Росток и дальше, за сменными деталями к машинам из
бывших мастерских Шихау. Инженер Войдаковский выразил желание усовершенствовать
свои познания в языке, которым — как он выразился — в плоцкой гимназии овладел
весьма недурно. Ханеман согласился, и, когда об этом разнесся слух, в квартиру на Лес-
сингштрассе, 17 вскоре наведались еще несколько человек.
«Пускай Анджеек научится по-немецки, — говорила мужу пани X. — Увидишь, они
еще сюда вернутся с англичанами и американцами, вот и пригодится». Пан X. не разде-
лял этой убежденности, но деньги дал. В результате у Ханемана отпала нужда ездить на
Городской вал с куском брезента и связкой серебряных ложек.
Не встречался он больше и с госпожой Штайн у кирпичной стены крытого рынка
возле ящиков с толченым льдом, в которых рыбаки из Елитково и Бжезно выставляли на
продажу свежую треску, однако несколько раз навестил ее на Ахорнвег, которая теперь
называлась Кленовой. Визиты эти не всегда бывали приятными. Госпожу Штайн раздра-
жал шум, доносящийся со двора, крики, перебранки. И уж совсем невыносимыми были
запахи в парадном. На стенах возле лестницы регулярно расцветали желтые пятна, коли-
чество которых увеличивалось в субботние вечера. В прежние времена, когда по Мирха-
уэрвег прохаживался постовой Густав Йоппе, сын владельца столярной мастерской на
Иоганнисталь, ни о чем подобном не могло быть и речи. На Штеффенсвег она видела,
как двое рабочих прибивали к стене дома Горовицев эмалированную табличку с надпи-
сью «ул. Стефана Батория». Мирхауэрвег теперь называлась Партизанской, а Хохштрис
— улицей Словацкого. Вместо Лангфур говорили «Вжещ», вместо Нойфарвассер —
Новый порт, а вместо Брезен — Бжезно. Названия эти трудно было не только запомнить,
но и выговорить. «Когда вы уезжаете?» — спрашивал Ханеман, чтобы прервать поток
этих совершенно бессмысленных жалоб. Но госпожа Штайн давала уклончивые ответы.
Столько всяких сложностей. Надо дождаться весточки от дочерей, которые поселились в
Дюссельдорфе, но дела у них не блестящие. Ей не хочется быть обузой. Вопреки пре-
жней привязанности к светлым пальто и накидкам, она теперь одевалась во все темное,
пальто носила коричневые или черные, потрепанные, припорошенные нафталином.
Тем не менее Ханеман однажды встретил ее на Мирхауэрвег в обществе седоватого
господина с тросточкой; на поклон она ответила улыбкой. На голове у нее была новая
черная шляпа с серебряной брошью. Ханеман с минуту смотрел им вслед. Мужчина, с
которым госпожа Штайн шла к трамвайной остановке на бывшей Адольф Гитлерштрас-
се, как и она, говорил по-немецки, но с явным польским акцентом.
62
Стефан Хвин
Черные ели
По вечерам Ханеман иногда разбирал бумаги и переставлял книги на полках, но это
занятие ему быстро надоедало. Тогда он садился в кресло у окна, открывал первую по-
павшуюся книжку и пытался читать. Однако это не всегда удавалось. Возможно, его от-
влекали доносящиеся из сада голоса, а может быть, шум ветра или поскрипывание жес-
тяного петушка, вращающегося на башенке дома Биренштайнов; так или иначе, блужда-
ющие по страницам мысли разбегались куда хотели.
Нет-нет, это не было сентиментальным возвращением к людям и местам, к которым
он прежде был привязан или даже любил. Когда-то, много лет назад, раздраженная чем-
то мать сказала: «Похоже, у тебя нет сердца»; его это тогда сильно задело: слова матери,
возможно вовсе не желавшей причинить ему боль, затронули в его душе нечто такое,
что он от себя отталкивал, но что тем не менее украшало жизнь. Теперь же, когда он сидел
вот так у окна, а солнце уже опускалось на верхушки сосен и черных елей, в груди у него,
казалось, разливается холодная пустота; в этом ощущении, которое вызывало в памяти
смутный образ матери, обвиняющей его в бесчувственности, было что-то приятное,
приносящее облегчение, чему он поддавался охотно, с удивительным для него самого
безразличием. Будто ему снился сон, хотя глаза были открыты. Отсутствие людей, тиши-
на, угасание дня — в стынущем вечернем свете он отчетливо чувствовал свою принад-
лежность к этому миру, и даже мягкие волны воздуха, плывущие из сада, казались осяза-
емыми; кожа, хотя он понимал, что это невозможно, ощущала не только прохладные
касания ветерка, но и само движение прозрачной ясности, в которой кружились сверка-
ющие пылинки.
Отсутствие людей? Напротив, их отдаленное неназойливое присутствие — прилета-
ющие из-за окна вперемешку с просеянным листвой березы светом голоса — придава-
ло одиночеству приятную окраску. И звукам за окном вовсе не требовалось быть радо-
стными. Нет, лучше, если они не сливались в полуденный шум города, а догорали в ро-
зовеющих лучах солнца и в шелест деревьев и постукивание чьих-то шагов по плитам
тротуара врывался женский голос — мудрый женский голос (и дело было не в необыч-
ности слов, слова, как правило, бывали самые заурядные), звучный голос, которому из
сада отвечал голос мальчика, кричащего, что ему еще не пора домой, или притворно
хнычущей девочки: ведь еще рано и солнце, хотя уже и коснулось лесных крон, по-пре-
жнему светит над Собором.
Тени за окном густели, движение в садах по обеим сторонам улицы Гротгера зами-
рало. Пан Вежболовский закрывал за собой калитку, железо стукалось о столбик, сетка
ограды тихонечко дребезжала; потом, когда он поднимался по бетонным ступенькам к
дрму Биренштайнов, его тень скользила по белой занавеске в окне веранды, потому что
пани Янина, дожидаясь возвращения мужа с шоколадной фабрики «Англяс», уже заж-
гла лампу, хотя облака потемнели еще только над Вжещем, а небо над парком было под-
свечено солнцем. Из окна на втором этаже пани В., упершись локтями в вышитую поду-
шечку, смотрела на детей, которые возвращались с луга около костела цистерцианцев1,
неся воздушного змея из серой бумаги на перекрещивающихся рейках каркаса: длин-
ный веревочный хвост, украшенный бумажными бантиками, с шуршаньем волочился
по земле. В конце улицы под липами сыновья пани С. колотили железным прутом по
мостовой, высекая голубоватые искры, но звон железа, ударяющего по гранитным и
кремневым булыжникам, теперь никого не раздражал (в полдень было бы иначе), ведь
даже пан Длушневский, поливавший левкои и георгины из большой жестяной лейки, если
и восклицал время от времени: «Дали бы наконец покой!», возмущался не слишком гром-
ко, больше для порядка, нежели из желания прервать игру, которая — в чем можно было
не сомневаться — в детстве и ему доставляла немалую радость.
Иногда, впрочем, прошлое возвращалось, и на месте пана Длу ижевского, поливаю-
щего цветы из большой жестяной лейки, Хднеман видел Эмму Биренштайн в длинном
1 Цистерцианцы — монашеский орден, ветвь бенедиктинского ордена.
Ханеман
63
присборенном платье, причесанную как Рут Байер в «Тайниках души» Пабста, срезаю-
щую тонким серебряным ножиком светлые гладиолусы, а в окне, из которого теперь
выглядывала пани В., — Розу Шульц в бежевой чалме, в шелковой светло-зеленой блуз-
ке, несущую на чердак корзину со свежевыстиранным бельем. Однако горечи при этом
он не испытывал. В чужеродности людей, заселивших дома между трамвайной линией и
буковыми холмами (а люди эти действительно были ему чужими), было что-то умирот-
воряющее, заглушавшее тревогу в сердце. В минуты, когда на верандах и в садах замира-
ли слова и жесты, когда хотелось остановиться на дорожке и, прикрыв глаза ладонью,
смотреть на большое красное солнце над лесом позади Собора, в минуты, когда ослабе-
вала ненасытная жажда жизни и ненависть уступала место уверенности, что ничто не
нарушит сна, — в такие минуты все у него внутри тихо оседало, точно тонкие слои пепла.
А потом, около шести, когда в глубине квартала начинали бить колокола Собора, к
которым присоединялись, всегда чуть запаздывая, колокола костела цистерцианцев, и этот
отдаленный звон увязал в густой листве лип, груш и яблонь, заглушая уже стихающий
уличный гомон, перед глазами вновь возникали знакомые места, дома, комнаты, лица,
но душу не трогали картины города, которого больше нет, — память будто лишь небреж-
но тасовала побуревшие фотографии перед тем, как швырнуть в огонь. «Нельзя так жить!»
— вдруг возвращались слова Анны. Но сейчас — не то что раньше! — слова эти не мог-
ли его ранить. А почему, собственно, нельзя так жить? Ханеман откладывал книжку, ко-
торую — раскрытой — держал на коленях, и, полузакрыв глаза, прислушиваясь к шоро-
ху пластинчатых листьев березы, ощущая под пальцами шершавую зелень матерчатого
переплета, позволял вовлечь себя в эту игру образов прошлого, очищенного от всего,
что причиняет боль. Теперь, когда пятнышки солнечного света и тени веток все медлен-
нее колыхались на фасаде дома Биренштайнов, не только он, но и все вокруг застывало в
сонной полужизни, будто раздумывая, что избрать: томительные желания или смерть. И
даже — так ему казалось, — даже сердце замедляло свой безостановочный бег. Звуки,
шорохи, все прекрасное и чуждое поселялось в душе лишь на миг, ибо память, без труда
избавляясь от навязанной ей — как ему представлялось — докучливой обязанности хра-
нить увиденное и услышанное, не замутняла чистоты впечатлений. Он ощущал в себе
.пустоту, но то не была пустота, вызывающая страх, то была добрая пустота, когда ничто
не отгораживает нас от сути вещей.
И тогда, слегка ошеломленный этой свободой, он машинально прикасался к сто-
ящей на письменном столе плоской бронзовой вазе, украшенной двумя дельфинами (на
подставке чернели буковки «1909 Palast Kaffee»), брал в руки фарфоровую шкатулочку
со сценой в саду на крышке, переставлял из-под лампы с надписью «Alsace-Lorraine»1
на другой конец стола светлую фигурку пастушки с ягненком, смотрел, не удастся ли
залепить трещину в гипсовом рыбаке с большой чешуйчатой рыбой под мышкой. Все
эти претенциозные безделушки, поблескивавшие на полках буфета и на этажерке крас-
ного дерева, отнюдь не были для него крохами уже не существующего города, в который
ему бы хотелось вернуться. Когда-то он посмеивался, наблюдая, как мать загромождает
гостиную синим и позолоченным фарфором, как населяет полочки ореховой горки роем
китайских танцовщиков в стиле рококо, майоликовыми японками, персами в доспехах из
папье-маше, как расставляет за стеклом пирамиды чашек Розенталя и Верфеля. Ему не
хотелось даже смотреть на кокетливых пастушек с золотисто-кудрявыми ягнятами, на
воинственные позы самураев из черного дерева и самодовольные ухмылки гипсовых
рыбаков, похваляющихся крупными рыбинами с золотой чешуей.
Весь этот фарфорово-майоликовый мир казался ему смешным, агрессивным и
бессмысленным. Ведь мать — он был в этом уверен, — заставляя полки шкатулочками,
статуэтками и кашпо с золотым или бирюзовым ободком, хотела всего только поразить
гостей, но их салоны тоже ломились от подобных богатств, и оттого ее затея утрачивала
всякий смысл. Но о чем теперь, в сумерках, когда небо над холмами, остывая после жар-
кого дня, наливалось густым багрянцем, похожим на далекое зарево, напоминали ему
1 Эльзас-Лотарингия (франц.).
64
Стефан Хвин
эти безделушки? О глупой ребячьей смелости, позволяющей наплевательски относиться
к окружающему миру, подкрепленной безрассудным пренебрежением к неведомому?
О нагловатом нежелании считаться с внешними силами? Беря в руки эти игрушки из
бронзы, латуни, майолики, слоновой кости, он чувствовал, что его начинают раздражать
картины Нольде, Кокошки, Кольвиц, хотя когда-то он восхищался этой судорожно-крас-
ной и мертвенно-фиолетовой живописью. Неужели те кричащие со стен маленьких бер-
линских галерей полотна не оповещали нервным шифром своих красок о том, что есть
только боль, что ничего нельзя будет избежать, что нет ни жалости, ни милосердия?
Он смотрел на буковый лес с темными вкраплениями сосен, на небо, по которому
ползли облака, похожие на пушистые распуколки вербы, — и все это, превращаясь в
равнодушную музыку красок, проникало в сердце, вытесняя давние страхи. Душа отго-
раживалась от картины целого. Всякое воспоминание о мало-мальски пространном пей-
заже мгновенно изгонялось. Глаз желал видеть только мелкие, отдельные, особняком
существующие предметы: букашку, карабкающуюся по абажуру, рисовое зернышко в
щели между половицами, кленовый листок с ржавыми краями, прилипший к стеклу,
выглядывающую из-за подоконника веточку боярышника, каплю росы на паутине в углу
окна.
Мысль избегала картины целого, потому что этим целым были те образы, то потем-
невшее море, та пристань, тяжелые тучи, длинная полоса пляжа между Нойфарвассе-
ром и Цоппотом, свинцового цвета вода, белый мол в Глеткау и красивый прогулочный
пароходик с черной надписью на борту...
Но те образы упорно возвращались, пробивались сквозь сумеречный свет за ок-
ном. Мысль отступала в прошлое, медленно углублялась в темные ландшафты, вновь
посещала леса в Шварцвальде, где тогда, в тот год, когда это случилось, он блуждал в оди-
ночестве, терзаемый отчаянием и болью. Сейчас, не испытывая никаких чувств, он сно-
ва блуждал в воспоминаниях среди тех исполинских деревьев, похожих на черные храмо-
вые колонны. Ощущал холод упирающихся в небо каменных стен, которые, когда он шел
вдоль ручья, окружали его сырым мраком. Помнил прикосновение тумана, когда горы,
расступившись, открыли перед ним огромную долину, исчерченную корявыми ствола-
ми, где заросли папоротников были глубоки, как зеленые болота, а на поросшей темным
мохом скале возвышалось одинокое распятие. Он мысленно возвращался на желтые
песчаные кручи Ругии1, которые, когда он стоял на склоне под сводом сосен, с безжиз-
ненным шелестом оползали в бурое волнующееся море. И, погружаясь в эти мрачные
пульсирующие воспоминания, вдруг понимал: то, что тогда произошло, произошло не-
спроста, а специально для того, чтобы он мог застыть в своей полужизни, сковавшей душу
и запретившей ей воспринимать голоса мира. Он чувствовал, что можно так жить. Он
хотел так жить, и его сердце заливала волна отвращения и враждебности. Он не боролся
с этими чувствами. Утопал в них, как в черной воде, исступленно, ненавидяще, хотя не
знал, кому предназначена его ненависть.
Клиника Лебенштайнов
В середине декабря — не прямо, а через госпожу Штайн, которую в ее квартире на
Кленовой посетил датский матрос с пришвартованного в Гдыне судна, — Ханеман полу-
чил письмо от ассистента Реца. Чем был сильно удивлен: он думал, Реца нет в живых. Рец
между тем писал из Ганновера, что поселился у родственников в Бремене и собирается
заняться врачебной практикой.
Однако основная часть письма была посвящена прошлому.
«Что же касается «Бернхофа» (а мне об этом хочется прежде всего Вам рассказать),
— писал Рец, — то якорь был поднят за несколько минут до полуночи. На палубе солдаты
освещали вход фиолетовыми фонариками, трудно было сразу найти сносное место для
1
Ругия — остров у Балтийского побережья Германии.
Ханеман
65
спанья, к тому же часть трюма заняли кадеты из училища подводников и механики из
мастерских Шихау, так что я какое-то время бродил, спотыкаясь о ноги лежащих в по-
лутьме людей. К счастью, у меня с собой был только маленький чемоданчик с медицин-
скими инструментами и красный плед, подарок моей хозяйки, фрау Вирт; я жил у нее —
если помните — до конца января. От железного пола страшно тянуло холодом, хорошо,
что я надел ботинки на меху (тоже подаренные фрау Вирт— вечно буду благодарен этой
мудрой женщине, которая в день моего отъезда из Данцига вспомнила про ботинки по-
койного мужа, советника Эдварда Вирта; Вы должны помнить этого высокого мужчину,
он работал в канцелярии Херсена). Потом зажглись висящие под потолком трюма лам-
почки, и все начали перекликаться. На полу, застланном толстыми шерстяными и ватны-
ми одеялами, дремали или спали целые семьи. Зрелище поистине угнетающее, хотя ни
жалоб, ни проклятий не было слышно...
Потом кто-то крикнул с другого конца трюма: «Герр Рец, идите же к нам». Я обер-
нулся и увидел Эльзу Вальман. Она с дочками сидела на деревянном ящике, рядом Аль-
фред Вальман на полу устраивал для девочек постель. Я удивился, что Вальманы меня
помнят, ведь они видели меня всего раза два, когда я заезжал за Вами на Лессингштрассе,
и обрадовался: поверьте, в иные минуты малейшее проявление внимания дорогого стоит.
Спал я крепко — до сих пор не понимаю, как это мне удалось. Утром, когда около
семи кадеты начали разливать по кружкам и бутылкам горячий кофе, я свернул плед, и
тут фрау Вальман спросила, не знаю ли чего-нибудь про Вас. У нее были самые дурные
предчувствия: когда они отплывали на буксире от пристани, на площади перед пакгау-
зом разорвалось несколько снарядов. «Там должно было погибнуть очень много людей.
Герр Ханеман шел к нам, но потом...» Она говорила о Вас так, будто считала покойни-
ком. «Когда мы подплыли к «Бернхофу», я оглянулась и у меня чуть не выпрыгнуло сер-
дце: там, на берегу, между домами был сплошной огонь...»
Около часа мы с Вальманом вышли на палубу, хотя фрау Эльза умоляла нас не от-
ходить ни на шаг, потому что самое страшное сейчас — потеряться. Было очень холод-
но, «Бернхоф» плыл в густом тумане, мороз, на трубах, на поручнях — везде сосульки,
тросы обледенели. Внизу, у борта «Бернхофа», вопли, плач, мы увидели большую бар-
жу, битком набитую кричащими людьми. С «Бернхофа» бросили веревочную лестницу,
однако никто не спешил подниматься. Да и могло ли быть иначе? Столько женщин с деть-
ми, все боятся свалиться в воду, матросам пришлось с помощью грузовой стрелы втас-
кивать наверх целые семьи, как мешки с пшеницей. Съежившиеся от холода дети не хоте-
ли ступать на раскачивающуюся палубу, их перекидывали через борт насильно. Они ужас-
но кричали».
Рец считал, что путь займет от силы три-четыре дня, даже если «Бернхоф», чтобы
избежать встречи с подводными лодками, будет отклоняться от прямого курса, ведь па-
роход, как он полагал, направлялся в Гамбург, так что дольше это никак не должно про-
должаться. Вернувшись с Вальманом в трюм, он закутался в плед и сел на ящик. Остава-
лось только дремать. Люди лежали на одеялах, на кусках брезента, на дощатых настилах,
укрывшись одеялами, шубами, пальто. Некоторые, опершись на локоть, напряженно
прислушивались к гулу машин под палубой. Боялись торпедной атаки. Рец время от вре-
мени вспоминал, как в двадцать девятом на каникулах тонул около Брезена, и тогда по
спине у него начинали бегать холодные мурашки. Он помнил, что произошло с «Густло-
фом» и «Штойбеном»1.
Когда беглецов с баржи разместили на нижней палубе, в трюме стало теснее. Госпо-
жа Вальман пошла на корму посмотреть, не свободнее ли там, но и на корме места было
ничуть не больше. В коридоре ей встретилась Лизелотта Пельц. Обе очень обрадовались.
Госпожа Вальман предложила Лизелотте присоединиться к ним, но, к своему удивле-
1 «Вильгельм Густлоф» — пассажирский пароход, перевозивший беженцев из Готенхафена в Киль; в
январе 1945 г. был торпедирован советской подводной лодкой; «Генерал фон Штойбен» — пароход
с беженцами из Гданьска, Восточной Пруссии и Курляндии, торпедированный советской подводной
лодкой в феврале 1945 г.
3«ИЛ> №12
66
Стефан Хвин
нию, получила отказ. Возвращаясь, она заметила, как госпожа Пельц, кутаясь в рыжую
шубу, жадно грызет черную корку, пряча ее от чужих глаз.
Девочки были спокойны, только около двух раскапризничались. Эльза их отчитала,
но это мало помогло. Тогда она развязала льняное полотенце с хлебом, облупила крутые
яйца. Господин Вальман, пытаясь развеселить дочек, стал тихонько насвистывать сквозь
зубы смешную песенку о Хайделоре. Эльза достала яблоко, аккуратно срезала кожуру и
разделила на четыре части.
Господин Вальман спросил, не знает ли Рец, как далеко продвинулись русские, но
Рец точно не знал. Кажется, они уже под Кеслином, а может, и дальше. «И что же вы
теперь будете делать?» — «Я? — Рец немного удивился: его со вчерашнего дня не поки-
дало ощущение, будто он переносит свое тело с места на место, как багаж. Иногда это
раздвоение бывало даже приятным, потому что он все — себя и других — видел точно за
витринным стеклом. Но сейчас надо было что-то ответить. — Что я буду делать? Врачей
всегда не хватает». Господин Вальман признал, что это так. Потом задумался. «Интерес-
но, человек, когда умирает, может припомнить вкус табака? Как по-вашему?» Рец по-
рылся в карманах, но не нашел сушеных слив, которые вчера утром сунула ему госпожа
Вирт.
Они плыли в тумане, но около трех из белесой мглы вынырнул маленький самоле-
тик и обстрелял палубу. Звали врача, и Рец со своим чемоданчиком пошел на нос, где
устроили лазарет. Рвали простыни, чтобы было чем останавливать кровь. В трюме все
говорили о подводных лодках. Люди вставали со своих подстилок и нервно расхаживали
между узлами и ящиками. В половине четвертого пароход задрожал. В тумане пролете-
ли четыре тени, и по обеим сторонам корпуса взметнулись фонтаны воды. Рец не пре-
рывал работы. Бинтовал чьи-то простреленные грудные клетки. После пятого или шесто-
го взрыва пароход опять задрожал, палуба наклонилась, никелированные инструменты
съехали со стола на пол, раненые подняли крик, колокол забил тревогу. Рец не знал, что
делать, так как санитары убежали на палубу, он почувствовал запах горящего мазута,
успел кое-кого вернуть, пол снова ушел из-под ног, он позвал солдата с винтовкой, но
бегущие из первого трюма оттеснили его к стене. Только когда солдат выстрелил в воз-
дух, удалось впихнуть в лодку нескольких раненых. Заскрипели тросы, шлюпку спустили
на воду.
«Бернхоф» все сильнее кренился на правый борт. Рец из шлюпки смотрел на цент-
ральную рубку, откуда начали вырываться клубы грязно-желтого дыма. Минуту спустя
на корме среди темных языков огня он увидел Вальманов. Господин Вальман пытался
пробраться к спасательной лодке, висящей на стреле за вторым трюмом, но огонь пре-
градил ему путь. Госпожа Вальман стояла среди кричащих женщин, прижимая к себе
дочек. Потом корабль перестал клониться набок. Черный корпус замер, как скала, нави-
сающая над озером, однако люди продолжали пятиться от огня к перилам, потому что
воздух над палубой буквально дрожал от жара. Когда пламя почти полностью охватило
кормовую рубку, несколько мужчин прыгнули в воду. Девочки изо всех сил цеплялись за
мать. Господин Вальман сперва оторвал от нее Марию и столкнул в воду. Потом сделал
то же самое с Евой. Обе камнем ушли под воду и уже не вынырнули. Госпожа Вальман
закричала, но Рец увидел только ее разинутый рот — крик утонул в вое раненых. Валь-
ман потянул ее к поручням, она вцепилась в трос, он не мог оторвать ее руки, дернул,
оба упали, потом он толкнул жену, перекувырнувшись в воздухе, она тяжело ударилась
о воду и уже не выплыла. Он прыгнул за ней, но не смог доплыть до того места, где она
скрылась под водой, потому что вокруг разлились пятна горящего мазута. Люди, кото-
рых задело пламя, извивались, как ошпаренные рыбы. Вальман подплыл к шлюпке, кри-
ча что-то Рецу, схватился за борт, но матрос отталкивал веслом всех, кто пытался взоб-
раться в лодку, полную раненых. Таким Вальман запомнился Рецу: искривившееся от
удара веслом лицо...
Ханемана, пока он читал письмо Реца, обуревали странные чувства. Его поразило,
что там, тогда, в ту ночь на «Бернхофе» кто-то о нем говорил и думал, хотя вообще-тб в
этом не было ничего удивительного. На мгновение он почувствовал себя виноватым,
Ханеман
67
что не поплыл вместе с ними. Корил себя: можно ведь было удержать их на пристани;
сделай он это, не случилось бы того, что случилось. Но тут же покачал головой: глупос-
ти, кто мог знать, что все так кончится. У них было гораздо больше шансов, чем у тех, кто
остался. В конце концов, тысячам удалось добраться до Гамбурга, Бремена, Ростока,
Вильгельмсхавена. На секунду он представил себе дно моря: на сером песке, где-то под
Борнхольмом, отпечаток детской руки, птичий след, несколько расходящихся лучами
косточек... Ева, Мария... Но к состраданию примешалось какое-то нехорошее чувство.
Досада? Сердце окатила волна холодного раздражения. Он смотрел на письмо Реца, не
понимая, что творится в его душе. Ему хотелось сочувствовать, хотелось винить себя,
хотелось каким-нибудь образом загладить свою вину. А что, если, подумал он вдруг, они
поступили гораздо умней его, отправившись той ночью на невидимый в темноте паро-
ход?
Несколько недель он не мог собраться ответить Рецу. Только в начале февраля чер-
кнул несколько вежливых слов, но, поскольку о себе слишком много писать не хотел,
письмо практически целиком состояло из вопросов. Летом пришел ответ. Госпожа Хиль-
дегарда Мюллер, ассистентка профессора Юргена Т. Вольфа, в коротком письме сооб-
щала, что доктор Мартин Рец в марте умер от рака легких в бременской клинике Лебен-
штайнов. Он очень страдал, но боль переносил мужественно, чем заслужил благодар-
ную память медицинского персонала III отделения.
Ханеман долго держал в руке сиреневую открытку со штампом «Клиника Лебенш-
тайнов. Бремен. Банхофштрассе, 33». Почерк у госпожи Мюллер был очень красивый:
ровнехонькие, наклонные, без лишних завитушек буквы. Подпись напоминала пучок
черной травы.
Вот, значит, в какой порт направлялся пароход «Фридрих Бернхоф», снявшийся с рейда
в Нойфарвассере в ту зимнюю ночь, когда над Брезеном вспыхивали ракеты, заливая порт
ярким синим светом, а наблюдатели на холмах Мюггау передвигали на два деления влево
прицелы установленных на Циганкенберге гаубиц...
Повестка
Ханеман получил повестку в среду. Не глядя на почтальона, расписался в квитан-
ции, отдал чернильный карандаш, потом закрыл дверь и повернул в замке ключ. Затиха-
ющие шаги на лестнице. Глаза почтальона. Иллюзий у него не было: так смотрят на впав-
ших в немилость.
В Гданьск он поехал на следующий день в одиннадцать.
«Пан Ханеман, — в комнате было жарко, приоткрытое окно, на стене орел, мужчи-
на в темном костюме раскрыл картонный скоросшиватель, — вы недавно получили пись-
мо из Дании?» Ханеман утвердительно кивнул. Быстро сосчитал дни. Датский матрос
посетил квартиру госпожи Штайн на Кленовой неделю назад, в пятницу днем, сегодня
четверг. «Что это было за письмо, позвольте узнать?» Мужчина перекладывал исписан-
ные зелеными чернилами листки, на столе стопка папиросной бумаги, чернильница на
деревянной подставке, лампа под железным колпаком. Ханеман объяснил, что письмо
касалось исключительно личных дел. «Кто отправитель?» Он на секунду заколебался.
«Мой бывший ассистент, Мартин Рец, сейчас он живет в Ганновере, собирается открыть
там врачебную практику». Мужчина поднял брови. «Если это было, как вы говорите,
письмо от Мартина Реца, бывшего ассистента из Анатомического института, и касалось
исключительно личных дел, почему его не отправили по почте?» Ханеман признался,
что не может ответить на этот вопрос, однако полагает, что Мартин Рец просто восполь-
зовался возможностью переслать письмо через датского матроса, чтобы сэкономить пару
марок. Мужчина пожал плечами. «Вы хотите сказать, что кто-то вскрывает ваши письма
И поэтому вы избегаете пользоваться услугами нашей почты?» Ханеман почувствовал,
что у него быстрее забилось сердце. «Мне об этом ничего не известно».
. Мужчина встал из-за письменного стола и подошел к окну. За стеклом темный си-
68
Стефан Хвин
луэт Мариенкирхе и башня сожженной ратуши. Слева, на углу Карренваль, там, где до
тридцать девятого стояла синагога с куполом, похожим на бронзовую сахарницу, на
пыльной площадке несколько рабочих складывали в пирамиду извлеченные из развалин
кирпичи. На стене уцелевшего дома у Золотых ворот развевался обрывок плаката: «...жал-
кие апологеты...» Подобные плакаты Ханеман видел на стенах и в Оливе, и в Лангфуре,
однако не очень понимал, к кому эти слова относятся. Вероятно, к тем, кого новые вла-
сти считают своими врагами.
«Пан Ханеман, дело не только в письме. — Мужчина обернулся. Помолчал, вертя в
пальцах зеленую ручку. — Скажите, а почему, собственно, вы не уехали?» Ах, вот зачем
его вызвали... «Вы, конечно же, читаете наши газеты, стало быть, знаете, что ваше отече-
ство не изменилось так, как следовало бы. На востоке перемены заметны и радуют нас.
Но Ганновер... К власти возвращаются люди, которых надо судить... а вы получаете от
них письма. Не стоит ли вам подумать о возможности...»
Ханеман смотрел в окно. Полусгоревшую башню ратуши оплетали строительные
леса из сосновых досок. На крыше дома на Огарной несколько человек укладывали но-
венькую красную черепицу.
«Вы меня слушаете?» Мужчина недовольно повысил голос. Ханеман посмотрел
на свои руки. «Моя сестра погибла под Диршау в январе сорок пятого. За Одрой у меня
нет никакой родни. Зачем же мне туда ехать?» Мужчина принялся ходить по комнате.
«Вы утверждаете, что это мы убили вашу сестру?» Ханеман закрыл глаза. Чего, собствен-
но, хочет этот человек? Мужчина остановился около письменного стола. «Нас беспоко-
ит то, что вы так хорошо говорите на языке — по вашему определению — недочелове-
ков». Ханеман поморщился. Скорей бы уж закончилась эта беседа. На секунду он по-
чувствовал облегчение при мысли, что его затолкают в вагон и вывезут куда-нибудь на
запад — о востоке речи пока не шло. В конце концов, жить можно везде. Он даже паль-
цем не пошевелит в свою защиту. «Я не думаю об отъезде. Но если меня отсюда выго-
нят...» Мужчина не дал ему договорить. «Никто не собирается вас выгонять. Просто по-
размыслите, не лучше ли было бы...» Ханеман почувствовал прилив раздражения. «Вас
удивляет, что я так хорошо говорю по-польски. Отвечу: то, что я говорю по-польски, дело
случая — как и то, что я говорю по-немецки. Семья моей матери жила под Позеном. До
войны, когда я учился в Берлине, а затем в Данциге, у меня было несколько знакомых
поляков. Но из этого ничего не следует. Я и по-французски говорю прилично. Отец ро-
дом из Эльзаса». Мужчина внимательно его изучал. «Прелюбопытный вы человек, пан
Ханеман. Да, еще одно. Почему вы не вернулись в Академию? Вы же знаете, там про-
должают работать немало ваших соотечественников. В рентгеновском отделении, как мне
говорили. И медсестры есть...» Ханеман не шелохнулся. «Я не намерен возвращаться в
Академию. Вот и все. Причины несущественны и вряд ли вас заинтересуют». Мужчина
усмехнулся. «Как знать... А кстати: на что вы собираетесь жить, коли уж так упорствуете
в своем желании остаться?»
Ханеман подумал о доме на Лессингштрассе. На многое он не рассчитывал, одна-
ко, вопреки всему, надеялся, что его оставят в покое. Да и чем он отличается от других
жителей района, расположенного между Кронпринценаллее, Пелонкерштрассе и Собо-
ром? Может, только чуточку более твердым выговором. Так, по крайней мере, он сам
считал. Ему казалось, что он затерялся среди людей и никто не будет забивать себе голо-
ву его особой. Он носил точно такое же пальто в елочку, как, например, пан К., чьи вещи
недавно втащили на второй этаж дома Биренштайнов. Глядя на себя в зеркало, видел
мужчину, каких можно сколько угодно встретить на улицах Лангфура. Но теперь он по-
жалел, что остался, что не нашел в себе сил отправиться с чемоданом или без чемодана
на вокзал, где последние немцы из примыкающих к Ешкенталервег кварталов садились в
вагоны с табличкой «Гданьск—Кошалин—Щецин». Он думал, что не будет выделяться
на общем фоне. Между тем этот человек-сейчас смотрел на него так, как смотрят через
увеличительное стекло на насекомых. Руки, ноги, плечи стали огромными, точно волос-
ки на брюшке пчелы под сильной лупой. Ненависть...
«Вы же отлично знаете, чем я занимаюсь». Мужчина усмехнулся. «Ну, не кипяти-
Ханеман
69
тесь. Конечно знаю. Я только хочу убедиться, что вы со мной откровенны». У него были
гладко зачесанные назад волосы, высоко подбритые над ушами, следы порезов на шее,
тесный воротничок, галстук с толстым узлом. «Продолжайте делать то, что до сих пор
делали. Нам это не мешает». Ханеман все еще не мог понять, зачем его вызвали. Мужчи-
на уперся ладонями в стол. «Разумеется, если вы и впредь будете поддерживать подо-
зрительные контакты, вам не избежать неприятностей. Фашистские агенты, учитывая ваши
способности, наверняка захотят познакомиться с вами поближе». Угрожают, значит?..
Мужчина посмотрел на свои ногти. Ханеман отвернулся. «Я ни с кем не собираюсь
сближаться». — «Ой, сразу на дыбы. — Мужчина снисходительно покачал головой. — И
отвечаете опрометчиво. Иной раз бывает очень даже полезно завязать кое с кем близкое
знакомство. Зло, о котором нам ничего не известно, стократ опаснее зла, которое уда-
лось распознать. Что ни говори, а вы знали, притом, кажется, неплохо, Альберта Посака,
Броста, Тецлава, еще двоих-троих. Был еще такой Раушнинг. Но особого значения, похо-
же, вы этим знакомствам не придавали, верно? Кажется, беседовали о музыке...» Ага,
значит, им и это известно. «Социал-демократия, конечно, не самый удачный выбор, но
вам была по душе больше, чем коричневый цвет, да? Если не ошибаюсь, вы произнесли
пару крепких слов в присутствии то ли Грайзера, то ли Форстера. Правильно?»
Итак, они знают. Вероятно, у них есть люди из Вольного города, скрывать что-либо
бессмысленно. Но кто? Те, что ему встречались на Лессингштрассе, в основном прибы-
ли издалека. Госпожа Штайн? Вздор. Тогда, может быть, учитель гимназии пан Ю.? Ка-
кая чепуха. Память нервно тасовала картинки лиц. Страх, однако, пропал. Да и не все ли
равно, откуда они знают?
Мужчина прислонился к оконному косяку. «Значит, у вас уже нет этого письма из
Ганновера?» — «Нет», — машинально ответил он, хотя это была неправда. «Сожгли?»
«Да, сжег», — голос Ханемана прозвучал тверже. «Странно, — мужчина подошел к
письменному столу. — Жечь письмо ассистента, касающееся исключительно личных
дел. Зачем? Короче, я вам не верю. Это письмо у вас. Несомненно. Впрочем, это не важ-
но. Оставьте его себе. Нам оно не понадобится». Мужчина закрыл картонный скорос-
шиватель, завязал серые тесемки. «Что ж, на этом можно и закончить. Как я понимаю,
вы не собираетесь в ближайшее время покидать Гданьск?» Ханеман почувствовал хо-
лодный укол в сердце. «Нет, не собираюсь». — «Вот и хорошо. Если вдруг возникнет
необходимость...» — «Я не собираюсь уезжать, — повторил Ханеман. — Можете быть
спокойны, вы в любой момент найдете меня на Лессингштрассе». — «Вы хотели сказать:
на улице Гротгера?» — «Да, на улице Гротгера». — «Отлично, стало быть, пока до сви-
дания. Пожалуйста, вот ваш пропуск. Оставите у дежурного». Ханеман взял бумажку.
«Если захотите по какому-нибудь вопросу со мной связаться, звоните — добавочный 27.
Поручик Каркош». Ханеман молчал. «Да, еще одно. Если у вас появится желание как-
нибудь навестить ассистента Реца в Ганновере, полагаю, это будет возможно. Советую
об этом подумать. Мы чинить препятствий не будем...»
Возвращаясь на «двойке» на Лессингштрассе, Ханеман размышлял над каждым
словом, прозвучавшим на четвертом этаже здания на Окоповой, и не мог отделаться от
ощущения, что бег времени — только иллюзия. Ведь всего несколько лет назад... Да, не-
сколько лет назад он на трамвае номер 3 возвращался на Лессингштрассе с подобной
встречи, хотя она носила гораздо более дружеский характер, поскольку Иоганн Плеснер,
пригласивший его к себе домой на Брайтгассе, 4, оставался тем же юнцом, с которым
они были знакомы еще по Берлину, правда, сменившим белый халат врача на зеленова-
то-стальной мундир полицейского чиновника — он занимал ответственный и пользую-
щийся всеобщим уважением пост начальника комиссариата в районе Осек. Рейнское
вино, которое мать Иоганна подала в тот вечер в гостиной, было поистине отменным, а
теплый запах березовых поленьев, горевших в кафельной печи, помнящей еще времена
Фридриха Великого, наполнял тело и душу блаженной ленью. Ах, эти воспоминания, не-
злобивые пререкания, буршевские шутки! Только спустя какое-то время, когда бокалы
опустели, а на украшающем стол блюде появились треугольные кусочки орехового тор-
та, в голосе Иоганна зазвучали деловые нотки. Разве Ханеман, говорил Иоганн, не вла-
70
Стефан Хвин
деет этим трудным восточным языком в совершенстве, не хуже славистов из Дрездена?
Больше того! Расположенность к ним самого рейхсфюрера, конечно же, должна вызы-
вать вполне понятную зависть, и тем не менее чуткое ухо какого-нибудь жителя пригра-
ничной провинции Поммерн без труда уловит в их речи звуки явно более твердые, чем
те, которые нравятся народам, угрожающим с востока древней германской культуре. А
дух этой культуры велик, доказательством чему может послужить хотя бы история се-
мьи самого Ханемана — не помешала же его почтенным предкам некоторая доля сла-
вянской крови (а кто из нас может похвастаться идеальной расовой чистотой?) обрести
свое место в громадном готическом доме нерушимой Германии.
Ханеман слушал все это с бокалом в руке, и с лица его не сходила улыбка. Ах, Иоганн,
Иоганн. Неужели он никогда не изменится? Вечно этот холодный блеск на дне веселых
глаз коренного баварца. Между тем Иоганн, припомнив заслуги рода Ханеманов на
медицинской службе в армии прусского монарха, перешел к проблемам более актуаль-
ным — нельзя забывать о трудностях, подстерегающих сегодня носителей национальной
идеи в городе, который — о, ирония судьбы — англичане и французы назвали Вольным.
Проклятый Версальский договор! Но уже настало время войти в круг наших недоброже-
лателей и завести знакомство... Иоганн имел в виду начальника польской почты в Осеке
Бжостовского, недавно поселившегося в доме Греты Шнайдер около трамвайного круга
в Оливе.
Когда «двойка», ползущая из Данцига в Лангфур, проезжала мимо Академии и за
окном поплыли темные стены Анатомического корпуса, Ханеман отвел взгляд. Ему не
хотелось смотреть на серый фасад. На противоположной стороне улицы он заметил сто-
ящий на каменном постаменте, свежевыкрашенный зеленой краской русский танк с
белым орлом на башне. Так, значит, выглядит танк, о котором говорила госпожа Штайн...
На броне лежали увядшие красные и белые гвоздики. Двое детей играли в песке около
гусениц. Старая женщина, сидящая на скамейке, беззвучно им что-то кричала.
День обещал быть чудесным, жарким.
Лес Гутенберга
Я читал медленно, терпеливо водя пальцем по длинным рядам готических букв —
родители хотели, чтобы в Познани перед экзаменационной комиссией я блеснул не толь-
ко хорошим произношением, но и знанием старинного шрифта, — а Ханеман, стоило
мне задуматься, как произнести новое слово, кончиком желтого карандаша «кохинор»
указывал на слоги, которые следовало повторить еще раз. Но что толку! Готическую М,
сплетенную из черных тесемочек, я вечно путал то с W, то с удвоенной S, странной и
коварной аббревиатурой, упорно прикидывающейся буквой F, хотя мог усвоить все это
гораздо раньше, в отцовской комнате, где на полке рядом с Библией на кириллице стоял
протестантский молитвенник из Повислья, напечатанный по-польски, но готическим
шрифтом.
И тем не менее, продолжал Анджей X., германист, с которым много лет спустя мы
встретились в Бремене в университете, где он вел семинар по культуре Центральной Ев-
ропы для шоколадных парней из Бахрейна и раскосых девушек из Таиланда,—тем не менее
это мучительно-сладостное удовольствие, которое трудности чтения доставляли моим
глазам, глазам шестнадцатилетнего подростка с улицы Героев Вестерплатте, потихоньку
бредущим по полям готического шрифта, пробирающимся сквозь колючие заросли фрак-
туры1, между тугими цепочками причудливых букв, это мучительное удовольствие со
временем приобрело особую окраску, чего я никак не мог предположить, впервые входя
в квартиру на втором этаже дома 17 по улице Гротгера. Потому что, когда Ханеману, утом-
ленному однообразием грамматических упражнений, при выполнении которых, признать-
ся, я не всегда проявлял должное усердие, надоедало по сто раз повторять и перечитывать
1 Фрактура — один из видов готического шрифта. .;
Ханеман
71
одно и то же, он приглашал меня — улыбаясь самому себе — в Лес Гутенберга, как он это
называл; нет-нет, речь шла вовсе не о лесе на западном склоне Ясековой долины, нося-
щем такое название.
В таких случаях он подходил к шкафу красного дерева со стеклянными дверцами,
вытаскивал первое, что попадалось под руку, обычно с полки, на которой стояли издания
тридцатых годов, оправленные в крепкий коленкор, с побуревшими кожаными корешка-
ми, на мгновенье задумывался, правильный ли сделал выбор, и, если выбор соответство-
вал настроению минуты, протягивал мне толстый том, но не затем, чтобы я приступил к
переводу — о нет! до этого было еще далеко, — а чтобы ощутил на ладони тяжесть книги
с темно-золотым обрезом и коснулся желтоватой бумаги со странным названием «ява»,
исподволь приближаясь к тому, о чем мне только еще предстояло узнать.
Да и чем могло привлечь шестнадцатилетнего мальчишку великолепное цюрихское
издание «Революции нигилизма» Раушнинга, хотя Ханеман, когда ему попалась именно
эта книга, с горьким смешком покачал головой, будто под красной обложкой с черными
готическими буквами названия таилось что-то поистине ценное. Другое дело история
музыки в старом Гданьске^ сочинение того же самого Раушнинга, восхитившее меня
темно-коричневой фотографией органа из Мариенкирхе на первой странице. Когда Ха-
неман ровным, спокойным голосом, неторопливо, чтобы я мог как можно больше по-
нять, принялся читать отрывок из первой главы и в комнате на втором этаже дома 17 по
улице Гротгера зазвучали длинные немецкие периоды, я мало что понимал, текст изоби-
ловал специальными музыкальными терминами, да и сама тема не вызвала у меня жи-
вого отклика, однако он не останавливался: как он говорил, плавать можно научиться,
только если сразу начать с глубокого места. Потом, когда он стал переводить прочитан-
ное и мелодия рассказа о церковных хорах в старом Гданьске внезапно столкнулась с
мелодией перевода — чего я прежде не ощущал даже при чтении вслух, не говоря уж о
чтении про себя, — мне постепенно начал открываться секрет их чужеродности: разли-
чие тональностей оказалось куда важнее разницы значений и намного ближе — ведь
каждый из нас внутренне проверяет его инструментом собственного тела, всегда, вопре-
ки наилучшим намерениям, ревниво оберегающего то, что считает своим.
Но все это было лишь подготовительным этапом, репетициями, больше обещавши-
ми, нежели исполнявшими, и я покорно в них участвовал, продолжая ощущать физичес-
кую отделенность от чужой красоты, которую отчасти просто принимал на веру, хотя
все больше слов открывали мне свой двойной, а то и тройной смысл. Я начинал разби-
раться в сложной архитектуре фраз, опирающейся на фундамент всегда слишком длин-
ных — в чем я не сомневался — слов: куда было нашему «конституционалисту», кото-
рым мы могли осадить всякого, кто бы вздумал посетовать на польское стаккато, до
«Einfuhrungsfeierlichkeit», «Elementarrunterricht» или «Haushaltungsvorstand» — слов, та-
рахтящих, как колеса поезда, едущего по километровому мосту через Вислу под Тче-
вом! Все эти репетиции учили меня уважать крепко сбитую чужую речь, но сердце в те
минуты, когда слух погружался в мир непривычных звуков, оставалось совершенно рав-
нодушным к прелести ударений и модуляций, и я лишь с холодным интересом следил за
тем, как Ханеман выделяет голосом синтаксические обороты, которые для меня — хотя,
казалось бы, и обретали новые значения — были такими же пустыми, как леса, возведен-
ные в том месте, где еще только предстоит построить дом.
Так обычно бывало. Но однажды сентябрьским днем, когда я с терпеливым безраз-
личием ждал очередной репетиции, рука Ханемана, в которой появился переплетенный
в зеленый коленкор том, замерла—а может, лучше отправить его обратно на полку? —
однако нет, Ханеман задумался, я заметил в его лице нечто такое, чего прежде не заме-
чал: черты почти неуловимо смягчились, — он задумался, но когда, как мне показалось,
уже собирался поставить зеленую книжку на место, вдруг быстро протянул ее мне.
Это были письма Клейста в хорошем издании Эриха Шмидта, Георга Минде-Пуэ и
Рейнхольда Штайга 1906 года, книга, в которую я и сейчас охотно заглядываю. И, неожи-
данно для себя, слушая, как Ханеман своим спокойным негромким голосом читает пись-
мо поэта по имени Генрих госпоже Адольфине Генриетте Фогель, я почувствовал, что
Стефан Хвин
чужие слова, которые до сих пор были лишь холодным искусным орнаментом значений,
проникают мне в сердце. Была в этих словах взрослость, о которой я мечтал, но взрос-
лость темная — нигде вокруг я такой не видел, — на удивление серьезная, тягостная и
грозная, и при этом пронизанная какой-то пылкой ребячливостью, и притягивающей меня,
и отталкивающей; далеко не сразу я сообразил, что эта странно серьезная, темная мело-
дия слов поэта по имени Генрих вовсе не во мне рождается, до меня доходят только ее
отзвуки, потому что Ханеман — это я тоже заметил гораздо позже — в тот день читал не
так, как всегда, по временам словно бы забывая, что это всего лишь упражнение в языке,
цель которого — научить меня разгадывать загадки немецкого синтаксиса, не больше.
Я не мог охватить целиком чужую жизнь, открывающуюся передо мной в обрывках
любовных признаний, но от того, что я слышал — а это были фрагменты последних пи-
сем, — веяло чем-то заразительным, лишающим покоя и вместе с тем непонятным обра-
зом умиротворяющим. Мучительная противоречивость, истерзавшая на редкость впечат-
лительную душу этого странного человека, который писал госпоже Фогель, была созвуч-
на тому, что я сам испытывал, но старался подавить как проявление недостойной мужчи-
ны слабости. Однако сейчас то, чего я всегда стыдился, проявилось в поразительно четкой,
спокойной форме; любовь, ненависть, надежда — все эти чувства, до крайности смятен-
ные, пугающие своей хаотичностью, в голосе незнакомого поэта обретали могучую, кри-
стально чистую красоту. Ох, нет, тогда я бы не смог объяснить это словами, тогда я только
вместе с поэтом испытывал нечто сложное и туманное: безумную разнузданность жела-
ний, любовь, трепет, жажду мгновенной смерти, но все эти чувства — больные, как назы-
вал их Гёте, — выраженные в мощных музыкальных фразах письма, в моем восприятии
были свидетельством естественной чистоты сердца, которое по-настоящему жило.
А когда потом я стал расспрашивать про неизвестного поэта, Ханеман рассказал
мне о мальчике — да, о мальчике в мундире прусского офицера, — глубоко уязвленном,
со всеми перессорившемся, отвергнутом родными и друзьями, мальчике, который в столь
же впечатлительной девушке нашел опору, более прочную, чем мир.
И никогда—ни до того, ни позже — я не ощущал сладости мечты о смерти острее,
чем тогда, размышляя о той смерти, случившейся на берегу Ванзее 21 ноября 1811 года,
о смерти юноши и девушки, вначале написавших эти прекрасные, безумные письма,
которые теперь изменившимся голосом читал Ханеман, а затем покончивших с собой
на берегу светлого озера. Что-то подавленное, заточенное в глубину души высвобожда-
лось — ия погружался в новое состояние с покорностью, оскорбительной для человече-
ства, готовый каждой черточкой своего лица выразить презрение ко всем расчетливым,
хитрым, остывшим, но, проваливаясь в сладкую темноту (полусознательно понимая, что
совершаю нечто, о чем потом буду горько жалеть), я не сумел заметить, что в путеше-
ствии к далекому озеру не одинок, что и Ханеман находит в голосе Генриетты, в этом
израненном женском голосе, что-то глубоко личное, стыдное, что объединяет его со мной,
шестнадцатилетним мальчишкой, и, вероятно, сегодня я бы сказал, что оба мы — он и я
— возвращались в какую-то солнечную добрую эпоху, которую, правда, так и не изведа-
ли сердцем, но которая существовала, которая не могла не существовать и сейчас — сло-
ва писем были тому доказательством — перед нами открывалась.
По-видимому, это было как-то связано с давними событиями, о которых я ничего не
знал: не случайно однажды, когда в альбоме с фотографиями Вольного города я наткнул-
ся на коричневатый снимок мужчины в белом пиджаке и женщины в длинном, по щико-
лотку, платье из темного крепдешина, когда я наткнулся на этот снимок пары, идущей по
середине мола в Глеткау навстречу невидимому фотографу, а за ними виднелась возвы-
шающаяся над пристанью мачта с флагом и белый прогулочный пароходик с надписью
«Штерн» на корпусе, так вот, когда я увидел этот снимок и, радостно пораженный чудес-
ным открытием, воскликнул: «Да это же вы!» — и Ханеман подошел ко мне, а затем скло-
нился над коричневой фотографией с надписью «Глеткау. Пристань на молу», черты его
лица почти неуловимо смягчились, как в iy минуту, когда рука машинально вытащила из
шеренги стоящих на полке томов книгу в зеленом коленкоровом переплете.
И теперь, когда Ханеман медленно, понизив голос, читал последнее письмо Клей-
Ханеман
73
ста, перед глазами у меня стояла та коричневая фотография с готической надписью. «Глет-
кау»? Странное название... Море? Мол? Где это было? И вдруг: да ведь это Елитково,
мол, которого уже нет, — картины прошлого в моей памяти встретились, слились с обра-
зами мест, которые я прекрасно знал. Приглушенный голос, комната в зеленом полумра-
ке, приоткрытое окно, в котором при каждом дуновении из сада вздувалась занавеска,
шелест березы, отбрасывающей тень на эту сторону дома,— благодаря всему этому, слу-
шая историю про покончивших с собой на берегу Ванзее молодых людей, я не мог отде-
латься от впечатления, будто Ханеман рассказывает о ком-то хорошо ему знакомом, хотя
говорил он о юноше и девушке, которых давно уже не было на свете. А когда он так рас-
сказывал о них словами давнишнего письма, когда вел меня по своему Лесу Гутенберга,
за настоящим Лесом Гутенберга, на склонах Ясековой долины, где я столько раз бродил,
появлялось голубое озеро Ванзее с берегами, поросшими красными кленами, большое,
похожее на глядящий в небеса глаз голубое озеро, опоясанное узенькой зеленой лужай-
кой, и на этой лужайке под черной елью госпожа Фогель писала письмо Эрнесту Фриде-
рику Пежилену, легко водя пером по веленевой бумаге с водяным знаком княжеской
мануфактуры: «Попрошу Вас заказать самую красивую бледно-серую чашку, внутри
позолоченную, окаймленную золотой арабеской на белом фоне, с моим именем вверху
на белом поле, и фасону нынче самого модного. Если Вы обратитесь с этим поручени-
ем на фарфоровый завод к бухгалтеру Мевесу, скажите ему, чтобы чашку запаковали и
вручили Луи в сочельник, но Вам, мой милый друг, придется с этим заказом поторо-
питься, иначе он не будет готов ко времени... Всего вам доброго, дорогие друзья, вспо-
минайте в радости и печали двух необычных людей, которых вскоре ждет великое путе-
шествие в неведомое». И когда Ханеман, читая, понижал голос, словно именно к нему
обращалась эта странная женщина, словно он был тем самым неизвестным мне, зага-
дочным господином Пежиленом, в звуках его проникнутого теплом и вниманием голо-
са, приглушенного в знак того, что доносящиеся издалека просьба и привет не канут в
небытие, а найдут отклик, который не ранит страдающей души, в звуках этого голоса мне
слышался другой, вторящий Генриетте голос незнакомого прусского офицера, который
не хотел быть офицером, голос мальчика, от которого все отвернулись: «...я обрел под-
ругу, чей дух парит, как молодой орел, — подобной я не встречал еще никогда в жизни,
— ей внятна моя печаль, она видит в ней нечто высокое, прочно укоренившееся и неиз-
лечимое, и потому, хотя ей по силам осчастливить меня здесь, на земле, жаждет со мной
умереть... теперь ты понимаешь, что сейчас единственная моя отрадная забота—отыс-
кать достаточно глубокую пропасть, чтобы вместе с нею броситься туда».
И, вслушиваясь в голос Ханемана, я видел их обоих, Клейста и Генриетту, его — в
синем фраке, ее — в бело-розовом платье, легонько теребимом теплым ветерком с Ван-
зее, а наверху, над ними, над голубой гладью обрамленного лесом озера, сверкала узень-
кая тропка среди облаков, светлая тропка, похожая на ту, по которой я любил сбегать с
песчаного обрыва за Собором, и мне хотелось, ох, как безумно мне хотелось быть одним
из них, ощущать в себе эту воздушную радость, этот душевный подъем, который дрожал
в словах Генриетты, эту поразительную спокойную уверенность в том, что тропка, взби-
рающаяся ввысь между облаками, словно между голубоватыми скалами с картин Каспа-
ра Давида Фридриха, что эта тропка не ведет в никуда, что она устремляется прямо в сре-
доточие блеска, но это вовсе не солнце, а летучая, подобная цветочной пыльце туман-
ность, в которой порхают, взявшись за руки, крылатые души. А внизу Генриетта бежала к
озеру среди тюльпанов и колокольчиков с такими отчетливо различимыми, такими осяза-
емыми лепестками, будто их нарисовал тоненькой кисточкой сам Филипп Отто Рунге1. И
все смешивалось в этой картине: желтые исчезающие за горизонтом обрывы Ругии, Бран-
денбургские ворота, неудержимый, бешеный бег коня с развевающейся, как знамя, гри-
вой, на котором, крепко прижавшись друг к другу, мчались старец со встрепанной боро-
дой, со сверкающими зелеными глазами и мальчик с лихорадочно горящим лицом, а мимо
1 Филипп Отто Рунге (1777—1810) — немецкий живописец и график, представитель раннего роман-
тизма.
7 4
Стефан Хвин
них—мерцанье вспышек, трепетный полет— проносились в потоках вихря белорукие утоп-
ленницы в муслиновых лохмотьях. И все эти мечущиеся световые и цветовые пятна были
пронизаны током горячей крови, жар которой я вдруг ощущал в груди, просыпаясь в темной
комнате на улице Героев Вестерплатте, 12, когда стрелка уже приближается к шести и через
секунду нестерпимый трезвон возвестит о начале нового дня, обещая, что я снова увижу
Анну, которую встречал на школьной лестнице в обществе рыжеволосой хохотушки, и
что, возможно, все будет как я хочу, что будет больно, сладко, мучительно, вечно...
Фрактура
В сумерках после жаркого дня штукатурка, остывающая на фасаде дома Биренш-
тайнов, беззвучно трескалась: по стене разбегались тоненькие черные паутинки. В ком-
нате на втором этаже на книгах оседала невидимыми слоями пыль. Бумага смиренно
жухла на мраморных краях страниц, испещрялась ржавыми пятнышками, темнела от
прикосновений, блекла и серела под обложкой. Тучи ползли над буковыми холмами в
сторону Собора.
В эту пору дня Ханеман придвигал кресло к окну.
Много лет назад по вечерам, когда мать ставила обратно на полку толстый том, из
которого прочитала очередную сказку братьев Гримм, а потом, погасив свет, выходила
из комнаты, ему неизменно казалось, что буквы, утомленные постоянным пребывани-
ем на одних и тех же строчках, алчущие приключений, только и ждут наступления темно-
ты, чтобы под ее покровом разбежаться по страницам отложенной книги, вырваться из
абзацев, соединиться в веселые венки и черные гирлянды, сплестись в новый рассказ,
каких никогда не слыхало человеческое ухо, — поэтому утром он первым делом снимал
книгу с полки и торопливо раскрывал, надеясь застукать черные знаки на новом месте.
Ох, хоть бы разочек они не успели после ночных странствий вернуться на пустую стра-
ницу! А если б еще и мама это увидела! Дорого бы он за это дал!
Теперь, раскрывая книгу, он знал, что буквы не разбегутся из-под пальцев, точно
паучки из-под внезапно сдвинутого камня. И все же иногда ему, как в детстве, хотелось,
чтобы записанное не было записано навечно. История, к которой он возвращался, была
незамысловатой. Человек, ее рассказавший, повторил только то, что видел и слышал.
Название в верхней части страницы было напечатано фрактурой: Показания Штиммин-
га, владельца постоялого двора «Под новым кувшином» близ Потсдама. Ровные ряды
литер, оттиснутых на кобленцской бумаге, складывались в плотные колонки готического
шрифта. Ханеман приподнимал красную ленточку-закладку, разглаживал страницу. Когда
он начинал читать, негромкому голосу Штимминга не могли помешать даже далекие
отголоски города.
«Была среда, два часа пополудни, 20 ноября, когда к нам подкатили в коляске гости,
дама и господин. Они остановились в нашей корчме и заказали обед. Попросили отдель-
ную комнату, добавив, что пробудут всего несколько часов, так как за ними должны сюда
заехать друзья из Потсдама. Мы показали им комнату на первом этаже, по левой сторо-
не, они ее осмотрели, но даме комната не понравилась, она попросила другую, на вто-
ром этаже, а когда мы их туда отвели, спросила, нельзя ли еще одну, соседнюю. Мы со-
гласились. Потом дама подошла к окну и спросила, можно ли здесь достать лодку, они
бы хотели переправиться на другой берег. Моя жена ответила, что лодка у нас, правда,
есть, но переправиться непросто, лучше обойти озеро пешком. Нам показалось, что даму
это обрадовало. Потом она попросила софу, но софы у нас не было, и она велела внести
в обе комнаты кровати, потому что знакомые, добавила, которые скорее всего приедут
только ночью, возможно, захотят отдохнуть...
В пять утра дама спустилась вниз и попросила кофе. Они выпили его, в семь попро-
сили еще, и так прошло время до девяти. Потом приказали служанке почистить им пла-
тье, а когда та спросила, угодно ли им сегодня пообедать, ответили, что довольно будет
чашки бульона, зато вечером они вознаградят себя сторицей.
Ханеман
75
Они сразу же потребовали счет, расплатились и велели мне выписать квитанцию.
Позже попросили позвать посыльного и дали ему письмо в Берлин. Посыльный отпра-
вился в путь в двенадцать. Когда мы спросили, что они пожелают на ужин, господин от-
ветил: «Сегодня вечером сюда приедут двое, они, наверно, захотят хорошо поесть». На
что дама: «Оставь, обойдутся, как и мы, омлетом». «Зато уж завтра вечером, — добавля-
ет господин, — мы поедим на славу». И оба еще раз повторили: «Вечером к нам приедут
двое гостей...»
Потом они вышли наружу, стали говорить, в каком красивом месте стоит корчма и
какие живописные окрестности, и при этом казались такими веселыми и довольными,
что никто не мог ничего заподозрить...
Немного погодя оба вошли в кухню, и дама обратилась к моей жене с вопросом,
нельзя ли подать им кофе на другой берег озера, вон туда, на iy прелестную зеленую
лужайку. Там такой чудесный вид. Жена моя немного удивилась, ведь это далеко, но гос-
подин любезно добавил, что они, разумеется, готовы за все хлопоты заплатить, и попро-
сил еще рому на восемь грошей.
Затем оба направились в сторону этой лужайки, когда же моя жена сказала, что тем
временем приберет их комнаты, заявили, что этого не желают, они бы предпочли, чтобы
все осталось как есть. У дамы была корзинка, прикрытая белым платочком, там, скорей
всего, и лежали пистолеты.
Когда мы им туда подали кофе и ром, они попросили столик и два стула. Мы велели
все это им отнести. Тогда господин попросил карандаш и спросил, сколько должен за
кофе. Мы подумали, может, он какой художник и хочет нарисовать картину окрестности.
Посылая к ним служанку с карандашом, я велел передать, что мне не к спеху, за кофе и
потом можно заплатить, но они оба пошли ей навстречу, и дама отдала кофейник и чаш-
ки, а в одной из чашек уже лежали деньги.
Дама сказала служанке: «Четыре гроша вам за труды, остальное — хозяину... Вы-
мойте чашку и принесите обратно». Когда она отошла, оба вернулись за столик.
Она не прошла, наверно, и сорока шагов, как услыхала выстрел. Еще через тридцать
шагов ее догнал звук второго выстрела. Она подумала, верно, господа для забавы пост-
реливают — оба все время были такие веселые, оживленные, кидали камушки в озеро,
прыгали, шутили.
Нам сразу показалось странным, что они попросили принести обратно чашку —
кофе-то у них уже не было. Но мы послали служанку, чтобы она им эту чашку отнесла.
Когда она к ним подошла, оба уже не дышали, лежали в крови.
Она остолбенела от ужаса, потом со всех ног кинулась обратно в корчму и на бегу
крикнула повстречавшейся девке: «Гости застрелились, лежат там неживые!»
От этого известия мы все просто онемели. Первым делом бросаемся на второй этаж
в их комнаты. Двери закрыты наглухо. Мы в одну из комнат через боковую дверь. Гля-
дим: они загородили двери всеми, какие есть, стульями; не оставили ничего, кроме запе-
чатанного пакета.
Мы бегом на лужайку; там увидели трупы обоих. Дама лежала в расстегнутом пальто,
полы распахнуты; голова у ней была откинута назад, руки сложены на груди. Пуля про-
била левую грудь и сердце навылет и вышла сзади под лопаткой. Господин возле нее на
коленях. Он покончил с собой, выстрелив в голову через рот. Лица у них не изменились,
оба выглядели спокойными и безмятежными...
В шесть вечера явились два господина—из Берлина приехали. Один из них, выйдя
из коляски, спросил, застал ли еще наших постояльцев. Мы сказали, что они мертвы, тог-
да он переспросил, правда ли это. Мы ответили, что да, они лежат в луже крови на дру-
гом берегу озера.
Тогда второй господин, муж убитой, вошел в корчму, швырнул в один угол шляпу,
в другой перчатки. По нему видать было, что смерть супруги для него страшный удар.
Когда мы спросили про того господина, который застрелился вместе с дамой, они
нам сказали, что это ихний друг дома, господин Генрих фон Клейст...
До одиннадцати мы ждали кого-нибудь из полиции, но когда никто так и не появил-
76
Стефан Хвин
ся, все легли спать. Наутро муж покойной велел принести ему прядь волос супруги, а
потом оба господина уехали в Берлин. Около полудня вернулся господин, который в пер-
вый раз приезжал с мужем убитой дамы, по фамилии Пежилен, военный советник. Он
приказал вырыть рядом с телами покойных глубокую яму и пообещал прислать из Бер-
лина два гроба, чтобы похоронить обоих рядом в одной могиле. 22 ноября около десяти
вечера обоих похоронили в месте вечного упокоения».
Когда начинало темнеть и от солнечного света оставался только теплый прямоуголь-
ник на подоконнике, Ханеман откладывал книгу. На зеленом коленкоре обложки поблес-
кивали золотые буквы. Воздух в саду был все еще легкий и прозрачный, и даже мохнатая
бабочка, золотисто-бурая и беспокойная, беззвучно бьющая темными крылышками по
оконному стеклу, не нарушала покоя сумерек. С улицы доносились чьи-то шаги. Над
туями угасало чистое, высокое небо.
По стене дома Биренштайнов проплыла тень пролетающего голубя.
Теплые, живые пальцы.
Страх.
Дубовый лист
Иногда к Ханеману заходил пан Ю. Во времена Вольного города пан Ю. был учите-
лем в Польской гимназии (за что и поплатился: его допрашивали в Victoria-Schule1 и за-
тем отправили в Штутхоф2), а теперь преподавал немецкий в лицее на Тополиной. Хане-
ман давно его знал и, хотя подозревал, что пан Ю. навещает его не совсем бескорыстно
— не только затем, чтобы обменяться мыслями, но и чтобы насладиться безупречным
немецким языком, который слышал не слишком часто, — принимал гостя радушно, уса-
живал в кожаное кресло и угощал красным вином. Нет-нет, назвать их друзьями, пожа-
луй, было бы чересчур. Однако всякий раз, когда я видел, как они не спеша идут по улице
Гротгера или по улице Цистерцианцев в сторону Собора, у меня создавалось впечатле-
ние, что их связывает нечто большее, нежели давнее знакомство — с той поры, когда
жизнью города управлял из своей канцелярии в Хучиске Верховный комиссар Лиги На-
ций.
Подобное я, впрочем, замечал и за другими поляками из Вольного города. Как и
пан Ю., они не упускали случая побеседовать на языке Гёте, а к «новым полякам» — с
востока или из Варшавы — относились с вежливой сдержанностью, словно годы, прове-
денные в городе, где им лично (они это подчеркивали) приходилось изо дня в день про-
тивостоять враждебной стйхии, не только укрепили и обогатили душу, но и отметили каж-
дого, кто уцелел, какой-то возвышающей печатью. Все, что принесли в Гданьск «новые
поляки», пан Ю. считал ненадежным и подозрительным. Ведь, если бы что-то произош-
ло и «они» снова вернулись, неизвестно, нашла ли бы в себе эта новая «польскость» —
варшавская, люблинская или виленская, хлынувшая в Лангфур и Оливу следом за надви-
гавшейся с востока огромной армией, — достаточно сил, чтобы выжить, подобно той,
прежней, во Freie Stadt? Пан Ю. сильно в этом сомневался.
Итак, даже в самом тоне голоса, в серьезности, с какой они относились к пробле-
мам, которые непосвященным могли показаться пустячными, было что-то, роднившее
их, хотя, вероятно, в душе оба таили немало взаимных обид. Беседа в комнате на втором
этаже развивалась весьма причудливо. В ней наверняка было больше чистого удоволь-
ствия от возможности обменяться мнениями, чем желания разобраться в сложных про-
блемах. Предлоги бывали случайными: бытовое происшествие, фотография, прочитан-
ная книга. Пан Ю. любил говорить о старых немецких писателях, поскольку новых не знал.
Ханеман не всегда находил, что ответить на его вопросы.
Однажды — кажется, это было в мае — пан Ю. заметил на столе у Ханемана письма
Одна из школ Гданьска, в помещении которой немцы в сентябре 1939 г. терзали польских учителей,
врачей, инженеров и чиновников, арестованных сразу после начала войны.
В 1939—1945 гг. гитлеровский концлагерь на территории Польши, через который прошли около
120 тыс. узников; около 85 тыс. из них погибли.
Ханеман
77
Клейста, взял оправленную в зеленый коленкор книгу, а когда открыл ее на заложенной
красной ленточкой странице и взглянул на фото юноши в прусском мундире, сказал, что
«нечто очень похожее произошло и у нас», и добавил, что часто размышляет о том, ка-
ковы же истинные причины, толкающие людей на крайний шаг...
Ханеман посмотрел на него вопросительно.
Пан Ю. еще несколько минут листал испещренные готическими буквами страни-
цы, потом усмехнулся. «Знаете, мы с ним даже были немного знакомы, ну, нельзя ска-
зать, чтобы близко, но однажды, когда я был в Варшаве, мой приятель по Педагогическо-
му обществу, водивший дружбу с художниками, с поэтом Чеховичем1, еще с разными,
отвел меня на Брацкую, чтобы я заказал себе портрет. Портрет мне не очень понравился,
ну да ладно, какой уж есть. Впрочем, и так потом все сгорело, даже следа не осталось. В
общем, я его знал, и по-моему, его история немного похожа на эту», — пан Ю. коснулся
пальцами зеленой обложки.
В те давние времена, когда Ханеман, возвращаясь вечерами из «Альтхофа», загля-
дывал в маленькие галереи на площади Зигфрида, где выставляли Нольде, Кокошку и
Кольвиц, когда он читал «Штурм», «Акцион» и ходил на спектакли Макса Рейнхардта,
пан Ю., бывая в Варшаве или в Познани, всякий раз, отчасти из снобизма, отчасти из
любопытства, посещал выставки «сложных художников», и среди картин Чижевского,
Пронашко, Валишевского или Хвистека ему иногда попадались кипящие вакханалией
красок картины художника1 2, о котором он сейчас заговорил. Пану Ю. эти картины не
нравились — ну и что? Известно, как трудно оценить то, что тебе непонятно... Итак, они
сидели в комнате на втором этаже, куда из-за окна проникали приглушенные шелестом
листьев березы голоса города, и вели скользившую по давним событиям неспешную
беседу на немецком языке, а у меня, когда много лет спустя пан Ю. рассказывал о своих
встречах с Ханеманом, складывалось странное впечатление: мне казалось, что они, го-
воря о том мужчине и той женщине, спорили о чем-то, чего сами, похоже, не могли
сформулировать. Впрочем, был ли это и вправду спор?
История, которую рассказал тогда пан Ю., произошла через несколько дней после
начала войны. Ханеману трудно было связать ее с определенным местом на карте, он
только знал, что это случилось где-то на востоке, за большой рекой, на равнине, среди
болот...
Польский генерал, когда началась бомбежка, приказал всем мужчинам покинуть
город — уже это показалось подозрительным: какой генерал мог отдать подобный при-
каз? — и потому Ханеман слушал пана Ю. с особым вниманием. Художник и девушка
сели в идущий на восток поезд, но куда едут, не знали: то ли в Румынию, то ли дальше.
«Бездомные, растерявшиеся люди», — женщина, с которой пан Ю. беседовал в варшав-
ской квартире и которая тогда, в сентябре, ехала с художником на восток, именно так про
них сказала. Горели вокзалы, самолеты обстреливали поезд, остановки длились по многу
часов. На станциях художник обращался в призывные пункты — у него еще с петербур-
гских времен было офицерское звание, — но уходил ни с чем; впрочем, и для более
молодых не хватало оружия. По дороге им встретилось несколько знакомых, как и они,
ехавших на восток. Березовская, Мицинский... — Ханеману эти фамилии ничего не го-
ворили, но он продолжал внимательно слушать, тем более что ему показалось, будто
пан Ю. старательно подбирает слова, чтобы не сказать слишком много.
Художник и девушка остановились в маленькой деревушке среди лесов. У него были
больные почки и печень, где-то он выпил сырой воды и очень страдал, девушка хотела
ему помочь, но что она могла сделать? Боль усиливалась. Отекали ноги и кисти рук. Он
говорил: «Все кончается, ибо все имеет конец». Держал ее за руку. «Ты не знаешь, какие
они дикари. Ты беспомощная. Ты слабая. Ты дитя. Без меня ты погибнешь. Лучше уме-
реть вместе. У нас ведь общая кровь. Стоит тебе отойти, я лишаюсь сил».
1 Юзеф Чехович (1903—1939) — известный польский поэт-авангардист.
2 Речь идет о Станиславе Игнации Виткевиче (псевд. Виткаций; 1885—1939), известнейшем польском
драматурге, художнике и философе.
yg Стефан Хвин
Восемнадцатого утром он сказал: «Сегодня мы разъединимся». Она целовала ему
руки, чтобы оттянуть решение. Они вышли из дома и пошли к лесу. По дороге он прогло-
тил таблетку ортодрина от боли. Они сели на песок под большим дубом. «Это будет
здесь», — сказал он. Стал прощаться с друзьями и с матерью. Хотел помолиться, начал
«Отче наш», но не кончил, так как забыл слова. Потом сказал, что хочет с ней обвенчать-
ся. Когда-то она говорила, что венчаться согласится только под наркозом. Он пальцами
коснулся ее век — ей пришлось закрыть глаза. «Теперь я нас венчаю».
Он достал весь свой запас люминала, почти сорок таблеток, в бутылочке у него была
вода, он налил в кружку и растворил. «Это твоя порция». Она смело выпила. У него были
два бритвенных лезвия, одно он дал ей, чтобы она им воспользовалась, когда начнет дей-
ствовать люминал. Показал место у нее на шее. Потом стал резать себе вены на запястье
левой руки. Ничего не выходило. Лезвие натыкалось на сухожилия. Кровь еле капала. Он
улыбнулся: «Похоже, ничего не получится». Она пыталась ему помочь — безуспешно.
Он засучил рукав пиджака и стал резать над локтем. Она почувствовала, что провалива-
ется в темноту. Как сквозь туман услышала: «Не засыпай раньше меня, не оставляй меня
одного». Ему очень хотелось, чтобы они теряли сознание вместе.
Это было между двенадцатью и двумя часами дня, накануне русские вошли в
Польшу — он об этом знал. Когда она проснулась, светало. Она повернула голову и лишь
тогда увидела, что он лежит рядом. На песке возле правой руки карманные часы, види-
мо, он до конца проверял время. На шее небольшое пятнышко. Он перерезал шейную
артерию. Она хотела потрогать это пятнышко, встала и тут увидела на его руке и нгирука-
ве кровь. Одежда пропиталась кровью насквозь. Она не смогла удержаться на ногах. Упа-
ла, но подумала, что обязана его похоронить, что нельзя оставлять его, беззащитного,
тут, и, стоя на коленях, принялась разгребать мокрые листья, мох и землю, чтобы вырыть
могилу. Выкопала маленькую бесформенную ямку.
«Он все время думал о Мицинском, — говорила пану Ю. женщина, которая тогда, в
сентябре, пальцами рыла художнику могилу. — Вы знаете, кто такой Мицинский? Слы-
хали о нем? Большой, очень большой писатель, которого в восемнадцатом году под Чи-
риковом мужики зарубили топорами — думали, что схватили царского генерала. Нигде
нет его могилы. И он хотел, чтобы у него, как у Мицинского, не было могилы. Много раз
повторял: это прекрасно, когда писателя все знают и считают, что он везде, тогда как ни-
чего материального от него не осталось. А я хотела вырыть ему могилу, в двух шагах от
него...» Пан Ю. отложил зеленую книжку: «Удивляетесь? Думаете, зачем я вам все это
рассказываю?» Ханеман усмехнулся: «Нет. Я только думаю, нам не дано знать, что в нас
есть на самом деле».
Пан Ю. покачал головой: «Он не хотел принимать мира, который шел на смену ста-
рому. Как Клейст». — «Вы так полагаете?..» — Ханеман посмотрел в окно. Сколько раз
он слышал, что Клейст поступил так потому, что тяжело пережил поражение Германии,
что ему был невыносим дух прусской армии, что семья его оттолкнула, что он не мог
справиться со своими нервами, что чересчур начитался романтических поэм, и из-за
всего этого убежал с Генриеттой на Ванзее, написал там прекрасные прощальные пись-
ма и потом выстрелил ей в сердце, а себе в рот; она же, считалось, убежала с ним на
Ванзее, поскольку ее терзал рак и пустая жизнь под боком у мужа, бухгалтера в страхо-
вой компании (страхование от пожаров), так что она бросилась в эту безумную авантю-
ру, как умирающий, который с облегчением принимает известие о том, что горит весь
город, ведь когда горит весь город, утихает наша собственная боль.
Но было ли это правдой? Веточки березы покачивались за окном. Ханеман не отво-
дил глаз от дробного трепетания листьев. «Совсем как ночные бабочки», — подумал он.
В ушах еще звучали последние слова художника: «Не засыпай раньше меня, не оставляй
меня одного...» Как эхо. Сырой лес. Черное зарево. Роса на мху. Собственно, только это
он и запомнил из рассказа пана Ю. Только эти несколько слов.
«Вам не случалось читать «Принца Гомбургского»1?» — «Принц Гомбургский»?
1 «Принц Фридрих Гомбургский» — последняя пьеса Клейста.
Ханеман
79
— поднял брови пан Ю. — Прекрасная, очень патриотическая драма о молодом немце,
который мечтает о спасении Германии, о воинской славе, естественно, и так далее. Я
всегда ее читал со смешанными чувствами. Это неукротимое честолюбие юного немец-
кого аристократа, мечтающего расправиться с врагами... Знаете, я видел в Данциге, к чему
приводит такое молодечество». Ханеман шевельнул рукой. «Вы опять за свое. Прусский
порядок и чувствительная душа немецкого патриота. Это же маска, не больше того. В
«Принце Гомбургском» есть такая сцена... весьма неприятная, немцы ее очень не лю-
бят... Принц Гомбургский, немецкий офицер, которому грозит расстрел за неповинове-
ние на поле боя, на коленях молит немецкую принцессу спасти его. Он хочет жить. Лю-
бой ценой. Но потом внезапно соглашается умереть. Признает первенство интересов
государства? Начинает понимать, что по-настоящему важна лишь одна минута в жизни,
когда человек вдруг прозревает, и что он эту минуту уже пережил там, на поле боя, когда
впервые стал самим собой, нарушил приказ курфюрста и одержал победу? И что за одну
такую минуту нужно заплатить жизнью?
Это самоубийство на берегу Ванзее...
Как знать? Может, не так уж и глупо — вовремя умереть...
Какое им было дело до мира, который шел на смену старому?»
Пан Ю. не очень-то знал, что обо всем этом думать. В словах Ханемана он ощутил
какое-то скрытое напряжение — быть может, затаенное презрение ко всем тем, кто жи-
вет обычной жизнью и не желает карабкаться на какие-то вершины духа? Впрочем, он
мог ошибаться. Вопреки тому, что он услышал, личность Клейста не вызывала у него
симпатии, а жест госпожи Фогель, которая перед смертью в письме распорядилась, что-
бы мужу-рогоносцу отослали чашку с ее именем, показался ему — ^несмотря на пла-
менную любовную страсть — на удивление холодным. Не так глупо? Да что в этом ум-
ного?
Он полагал, что есть сходство... Ну а если вдуматься: что общего у тех двух давних
событий? Сейчас ему был гораздо ближе стареющий художник, умиравший где-то сре-
ди восточных болот. Эта смерть — он секунду искал подходящее слово — была гораздо
более мучительной, более значимой, чем то, что случилось на берегу Ванзее. Тут при-
чины были пронзительно ясными, понятными и простительными. А там... Умереть на
берегу красивого озера, написав экстравагантное письмо и съев изысканный завтрак?
Не ради того, чтобы йзбежать унижения? Не ради предотвращения катастрофы? Не из
страха перед болезнью? Повествование о принце Гомбургском, конечно же, трогатель-
ное, но, видно, он читал не того «Принца Гомбургского», что Ханеман. Умереть вовре-
мя? Что за странная мысль. Ведь не мы выбираем время. Свобода? Размышляя о своей
жизни, пан Ю. убеждался, что в ней не было никаких ярких всплесков, никаких вершин.
Прожитые годы скорей походили на равнину с темными провалами, которую он одолел
фактически чудом. Но стоит ли горевать, что то была всего лишь равнина? Он считал,
что судьба была к нему чрезвычайно милостива — ведь он пережил Штутхоф, хотя бы-
вали минуты, когда только последние крохи душевных сил удерживали его от намерения
броситься на проволоку; и именно благодаря этому сейчас, в конце майского дня, в кра-
сивой комнате на Гротгера, 17, удобно расположившись в креслах, они могут вести уче-
ные беседы о делах давно минувших дней. Он не приписывал себе никаких заслуг, просто
тогда он старался выдержать самое страшное. Он считал это своим долгом. Перед мате-
рью? Перед самим собой? Перед теми, кого он знал? Да так ли уж это важно? И тем не
менее иногда в нем пробуждалось смутное чувство вины.
Ну а Ханеман? Пан Ю. подозревал, что в рассказе о художнике и девушке, умирав-
ших среди восточных болот, Ханеман не нашел ничего, что могло бы наполнить его душу
таким же светом, каким ее наполняла история Генриха и Генриетты. Историю художника
он, вероятно, считал историей дезертира. Могучие армии загнали художника в темный
тупик, и там он убил себя, увлекая за собой еще и девушку, которая хотела его спасти. Он
убегал от немцев, пока путь ему не преградили русские — и тогда он перерезал себе
вены. Это не был поступок свободного человека. Он не сумел смириться с судьбой. Он
был слаб.
80
Стефан Хвин
Пан Ю. всматривался в окутанное тенью лицо Ханемана, но Ханеман молчал, глядя
через окно на буковый лес, сереющий за домами на противоположной стороне улицы.
Вытачки, шелк, перламутровые пуговки
Ханеман охотно принимал пана Ю. у себя на Гротгера, 17 не только потому, что они
были знакомы еще со времен Вольного города. «Видишь ли, — сказал мне как-то пан Ю.,
— я тогда был там, на причале в Нойфарвассере, был там утром четырнадцатого августа,
с пани Р., моей знакомой из Кракова, которая двумя днями раньше приехала на съезд
Педагогического общества в Польской гимназии и с радостью приняла мое предложе-
ние совершить морскую прогулку из Нойфарвассера в Цоппот. Да и что лучше этого я
мог предложить августовским утром милой даме из Кракова, которая еще никогда не
видела моря и не прочь была прокатиться на прогулочном пароходике транспортной
компании Вестерманов? Итак, четырнадцатого утром мы поехали на трамвае номер три
в Брезен, было тепло, роса, мокрые крыши, вероятно, ночью прошел дождь. Около вось-
ми солнце уже стояло над башней Вайхзельмюнде, тишина, только в глубине порта, за
поворотом канала, посапывал паровой кран фирмы «Альтхаузен», который в среду при-
гнали на буксире из Киля в бассейн около элеваторов (об этом писали в «Данцигер фоль-
ксштимме», я помню большой зеленый снимок буксира «Меркурий»).
На пристани уже было несколько человек; когда мы вышли из-за деревьев парка, я
сразу ее заметил. Белое платье, белые перчатки, зонтик, ладони на рукоятке из слоновой
кости; она смотрела в нашу сторону, словно кого-то ждала. Была ли она одна? Нет, кажет-
ся, с какой-то молодой женщиной — голубое платье? бусы? серьги? «Штерн» уже стоял
у причала — белый корпус с черными буквами на борту, круглые оконца, мачта с фона-
рем, — но трап еще не спустили. За нами чьи-то голоса, смех, кто-то приближался со
стороны трамвайной остановки, какая-то пара, она в коричневой пелерине, в шляпе с
пурпурными тюлевыми розами, он весь в белом, в чесучовом пиджаке, в кармашке
черный платочек—так одевались маклеры из биржевой конторы Хансенов на Брайтгассе.
Потом матросы со «Штерна» выдвинули трап — железное корыто, по обеим сторо-
нам натянутые между столбиками канаты, — однако садиться никто не спешил. У нас
еще было несколько минут. Кроме того, такое солнце! Воздух легкий, чистый, над крепо-
стью дымка, на воде ни морщинки, перед складами Шнайдера подводы с хлопком, по-
крикивания докеров, далекий скрежет трамвая, сворачивающего в депо. В разговорах было
больше теплого ленивого молчания, чем слов, над шутками смеялись чуть сонно, будто
истинное начало дня было еще впереди. На причале человек шесть-семь, пожалуй, не
больше. Пожилая пара, она в шляпе с эгреткой, он в панаме, в пенсне, красивая дама в
наброшенной на плечи кашемировой шали, девушка в расписной блузке... Изнутри кор-
пуса доносился мерный гул машины, темный дым стлался над трубой со знаком компа-
нии Вестерманов — большой красной буквой В, — крикливые чайки над мачтой, но мы
направились к трапу, только когда офицер в белом мундире с черными погонами ударил
в колокол: «Через четыре минуты отчаливаем. Прошу садиться».
Она шла передо мной. Постукивая кончиком зонта по просмоленным доскам. Вуа-
летку опустила, потому что висящее над Вайхзельмюнде солнце слепило глаза. Шелест
платья. Я чуть не забыл, что не один. Стукнули каблуки, металлический звук, она ступи-
ла на трап, споткнулась, я поддержал ее за локоть. Она посмотрела на меня с улыбкой:
«Спасибо... Я сама...» Под пальцами теплый шелк рукава. Вытачки. Перламутровые пу-
говки на манжете. Я медленно убрал руку, ответив улыбкой на улыбку. Она сошла на
палубу. «Все из-за этих каблуков...» Приподняла платье. Кончик белого ботинка. Мы
прошли мимо нее. Пани Р. остановилась у поручней, глядя на ползущий по середине
канала буксир с трубой, похожей на черную колонну. На борту мелькнули белые буквы:
«Минерва». Подул ветер. Длинная мягкая волна от «Минервы» подкатилась к борту
«Штерна», наша палуба приподнялась... Пайи Р. поднесла руку к груди. «Боже...» По-
бледнела, закрыла глаза. «Я думала, это пустяки... но нет, оказывается, нет...» — «Хотите
Ханеман
81
на берег?» Рука, ищущая опору. Палуба поехала вниз, волна, поднятая буксиром, с хлю-
паньем опадала в щели между бортом и причалом. И вновь прижатая к груди рука. «Бо-
юсь, что...» — «Сходим?..»
Я осторожно свел ее по трапу на причал. «Теперь лучше?» Она кивнула, но пальцев
от груди не отрывала. Не могла смотреть ца воду. «Простите...» — «Ну что вы... — я по-
гладил ее руку. — Яс удовольствием повожу вас по Старому городу, сейчас мы сядем на
«тройку»...» — «Вы не сердитесь?..» Сердиться? Я уже столько раз плавал из Нойфар-
вассера в Цоппот — сегодня можно было и обойтись...
Зазвонил колокол, и «Штерн» отошел от причала. Офицер скрылся в рулевой рубке,
клубы дыма на секунду заслонили солнце, затрепетал красный флажок с короной и дву-
мя белыми крестами. Темно-зеленую воду за кормой взвихрил набирающий обороты
винт. Мы медленно направились к трамваю. Пани Р. молчала, она все не могла себе про-
стить, что нарушила мои планы. Когда мы дошли до парка, я обернулся. «Штерн» был
уже посреди канала и теперь поворачивал налево, пассажиры расселись по скамейкам.
Белый зонтик справа от мачты? Поправляющая волосы рука? Она?»
О том, что случилось в Глеткау, пан Ю. узнал в тот же день от Стеллы, когда, возвра-
щаясь с заседания в Польской гимназии, без нескольких минут шесть зашел на Фрауэн-
гассе к Липшуцам взять у Альфреда словарь Броста.
Стелла поднялась на мол в Глеткау около девяти, как они с Луизой условились в
субботу у госпожи Штайн. Опершись о балюстраду, она смотрела на белый пароход,
который подплывал со стороны Нойфарвассера. Клубы дыма из наклонной трубы тяну-
лись за кормой серой вуалью. Дрожащие блики на воде, солнце над Брезеном, мелкие
крутые волны. Стелла козырьком ладони заслонила глаза. Белое платье? Около мачты?
Луиза? Но женщина с зонтиком, которую она увидела на палубе, была, пожалуй, выше
Луизы, впрочем, «Штерн» был еще слишком далеко... По пустому молу бегали дети:
мальчик в белой рубашке с бамбуковой шпажкой для игры в серсо гонялся за девочкой
в голубом платьице с рюшами — топот, крики, смех. Их опекунша, гладко причесанная
дама в платье со сборчатой юбкой, то и дело восклицала: «Хельга! Помните, нельзя под-
ходить к перилам! Гюнтер, не приставай к Хельге! Играйте спокойно! Видите, кораблик
у>йе близко? Сейчас будем садиться». Сопровождавший ее пожилой мужчина в соло-
менной шляпе постукивал тростью с перламутровой рукояткой по просмоленным дос-
кам мола. Чуть дальше двое матросов из береговой службы сворачивали на краю помо-
ста пеньковый канат, готовясь к швартовке «Штерна». Потом, когда тот, что был выше
ростом, надел кожаные рукавицы и уперся локтями в балюстраду, равнодушно глядя на
подплывающее судно, Стелла подошла поближе. «Штерн» медленно обогнул острый
конец мола, приблизился к двум обитым медными листами кнехтам, торчавшим из воды
метрах в двадцати от причала, со стороны Цоппота подул сильный ветер, облако дыма на
мгновенье заволокло белый корпус, Стелле опять показалось, что она видит возле мачты
Луизу, но нет, это была все та же женщина в белом платье — рядом мужчина в клетчатом
пиджаке, и Стелла расстроилась: «Случилось что-нибудь или она передумала?»
Зазвенел судовой колокол, «Штерн» замедлил ход, стихли машины, теперь он дви-
гался только по инерции, медленно миновав правый кнехт, повернул и задел правым
бортом (да, это был правый борт — пан Ю. хорошо запомнил слова Стеллы) второй око-
ванный медью кнехт. Раздался глухой, повторенный эхом скрежет. Когда-то Стелла с Хай-
нцем Вольфом, кузеном адвоката Верфеля, каталась здесь на лодке, взятой напрокат в
гастхаусе, и они тоже ударились бортом об этот столб. В памяти осталось темное дерево,
обросшее белыми ракушками, черный мох, извивающиеся водоросли на торчащих из
воды ржавых прутьях. Тут было очень глубоко, могли швартоваться даже большие грузо-
вые суда, вода почти черная, дна не видно. В иллюминаторах «Штерна» появились лица
пассажиров. Луиза? В третьем? Поднимает руку? Стелла машинально помахала. Ну на-
конец-то. «Штерн» подплыл к причалу, с палубы бросили канат, матрос в кожаных рука-
вицах начал его втягивать. Стелла смотрела на быстрые ритмичные движения его рук,
четкие и уверенные, но вдруг матрос зашатался — как будто споткнулся, — мол задро-
жал, что-то толкнуло всех стоящих на нем назад, Стелла схватилась за перила, краем глаза
82
Стефан Хвин
заметив, что конец каната выскользнул из рук в кожаных рукавицах и убегает по черным
доскам. Потом испуганно закричали дети. Гладко причесанная дама стремительно отта-
щила мальчика от балюстрады. Мужчина с тростью закрыл девочке глаза. Свист каната,
исчезающего в щели между досок! .
Стелла перегнулась через перила. Внизу, возле опор мола, нос «Штерна» внезапно
задрался, женщина в белом платье упала на палубу — ноги в шнурованных ботинках,
рука, цепляющаяся за леер, разорванное платье, — железные тросики мачты лопнули с
треском, крен, скрежет цепей, мачта ударилась о балюстраду в двух шагах от Стеллы, она
закрыла руками голову, белый зонтик, подгоняемый порывами ветра, скатился с палубы
в воду, как пушок одуванчика, мужчина в клетчатом пиджаке схватился за поручень, еще
один толчок, крик женщины резко оборвался, нос «Штерна» ушел глубоко под воду, с
палубы съехали железные ящики, темная волна, голова в шляпе, кашемировая шаль, гро-
хот, мол опять затрясся, белое платье вздувается, как рыбий пузырь, Стелла кричит, зовет
Луизу, но голос звучит еле слышно, будто из-за стены, старик с тростью хватает ее за
руку, оттаскивает от балюстрады, что-то говорит, на воду падают два спасательных кру-
га, сброшенные матросами, покосившаяся рубка, большие пузыри воздуха вспухают в
иллюминаторах, корпус, темный водоворот, Стелла видит, как вынырнувшая женщина
ловит открытым ртом воздух, но перепутавшиеся тросики затягивают ее под воду, чер-
ная труба с буквой В с глухим стуком валится на причал, шипенье пара, со стороны гас-
тхауса бегут трое мужчин с баграми, гулкий топот по доскам мола...
Хватило небольшого сотрясения — как было написано в вечернем приложении к
«Данцигер фольксштимме», — чтобы лопнули шпангоуты у самого киля. Корпус «Штер-
на» раскололся, вода залила машинное отделение, потом пароход перевернулся вверх
днищем, все это продолжалось не дольше минуты, ни о какой спасательной акции не
могло быть и речи. Страховое общество «Гельмгольц и сын», однако, отказалось выпла-
тить Вестерманам восемьдесят четыре тысячи марок, поскольку — как после осмотра
остова, установленного в Нойфарвассере на набережной около пакгаузов Шнайдера, за-
явили эксперты из Гамбурга, профессор Хартман и советник Меренс, — наружная об-
шивка корпуса уже давно требовала безотлагательного ремонта; тем не менее «Штерн»
продолжал курсировать между Нойфарвассером и Цоппотом, иногда даже с превыша-
ющим норму грузом на борту. Говорили, что компании, долги которой банкам Берлина
и Франкфурта достигли якобы трехсот тысяч марок, было выгодно крушение «Штерна»,
однако следствие, проведенное комиссаром Витбергом из участка в Цоппоте, исключи-
ло намеренные действия как непосредственную причину катастрофы.
Обо всем этом пан Ю. рассказал Ханеману несколько дней спустя, двадцатого или
двадцать первого августа. Говорил он медленно, тщательно подбирая слова, избегая под-
робностей, которые могли бы причинить Ханеману боль. Он понимал, что только благо-
даря впечатлительной пани Р., которая прибыла в Гданьск на съезд Педагогического об-
щества и, глядя на воду около пристани Вайхзельмюнде, почувствовала дурноту, сошел
тогда, около восьми утра, с борта «Штерна». Он не винил себя — да и за что было ви-
нить? За то, что поддержал за локоть женщину, которая споткнулась, поднимаясь на трап
одного из прогулочных суденышек, не первый год курсировавших между Нойфарвассе-
ром и Цоппотом? И все же пан Ю., вспоминая четырнадцатое августа, избегал возвра-
щаться мыслями к той минуте. И ни разу ни словом не обмолвился Ханеману.
Иногда только по утрам, когда, собираясь в школу на Тополиной, он с привычной
тщательностью застегивал поплиновую рубашку, в пальцах отдаленным эхом пробужда-
лось воспоминание: тонкий шелк рукава с вытачками, с перламутровыми пуговками на
узком манжете...
Аристократия: былое и крах
А вещи? Вещи занимались тем, чем всегда. Посматривали вокруг с полок, этаже-
рок, столов, подоконников, но в наши дела не вникали. Никому не выказывали предпоч-
Ханеман
83
тения. Покорно отдавались в наши руки. Идеально укладывались в ладонь или, высколь-
знув из пальцев, с криком падали на бетонный пол. И тогда только — блеск бьющегося
фарфора, брызги стекла, звон серебра— пробуждали нас ото сна. Вообще-то они были
невидимы. Кто ж запоминает цвет воздуха, свет глазури, пенье выдвигаемых ящиков, те-
норок шкафов красного дерева?
А затем — попытки вспомнить. Бесплодная погоня. Охота за прикосновениями и
бликами, утерянными памятью. И сожаление, что не хватает внимания и душевного теп-
ла. Что только проплываешь между, машинально переставляешь, отодвигаешь, протира-
ешь — и ничего больше. Жалкая неприязнь? Дурацкие обиды? За то, что, не считаясь с
нашей усталостью, они домогались ласковой близости наших рук? Вечно ненасытные?
Увядающие под налетом сажи и патины?
И пробуждения — всегда запоздалые? В доме Биренштайнов, в комнате на втором
этаже, на массивной кровати Эммы умирал пан Длушневский. Когда-то шумный и сует-
ливый, а теперь тихий, с полузакрытыми глазами, он старался вспомнить, как выглядела
кухня в квартире дома 14 по Лессингштрассе в тот день, когда он приехал в Гданьск из
Позельвы, но картина показавшегося ему огромным темного помещения, освещенного
только поблескиванием фарфора, рвалась, как истлевшая ткань. В дубовом контуре бу-
фета с высоким аттиком, буфета, загораживающего коричнево-красным щитом батареи
стекла и хрусталя от багрового зарева над Лангфуром, зияли пустоты, которые память
ничем не могла заполнить, хотя в пальцах, зябнущих на одеяле, упорно оживали давние
ощущения. Верхняя полка? Звонкая белизна? Глянцевитый овал? Что это было? Сахар-
ница? Арабская лакированная шкатулка, в которой отец держал египетские папиросы?
Хрустальная ваза для фруктов, которую мать привезла из Гродно, вернувшись от сест-
ры? Мысль тянулась к прошлому, как слепец, который хочет коснуться лица близкого
человека, но хватает пальцами лишь холодную темноту. Вещи, которые когда-то имели
вес, были шершавыми, осязаемо гладкими, прохладно скользкими, превращались в бес-
цветные облака. У них была только одна сторона—ни дать ни взять месяц. И очень редко
— полная луна.
Чайник с кухни на Лессингштрассе, 14, тяжелый, с изогнутым носиком-тюльпаном,
обрел легкость узенького новорожденного месяца. Дна как не бывало, во мраке воспо-
минаний поблескивала лишь выпуклость крышки с розовой пупочкой. Он еще мерцал в
темноте, точно заходящая планета, этот теплый силуэт из сна, но его уже заслоняли бо-
лее поздние чайники, марширующие по газовой плите «юнкере», — белые, зеленые с
красной розой, голубые со снежинками. О, парад эмалированных плоскостей, алюми-
ниевых пузатостей, чугунных округлостей! В чем Мама настаивала липовый цвет? Что
было изображено на кружке, в которой нам давали сок из натертых бабушкой яблок?
Розочка? Пастушка с ягненком? В чем лежали кусочки сахара, которые мы тайком таска-
ли из буфета? А жестянки с чаем? Не турецкие ли минареты на синей крышке рассказы-
вали нам о Дарданеллах? А может, индийский слон стращал и смешил своим малино-
вым хоботом? А солонки? А рюмочки, в которых яйцо всмятку обезглавливалось мет-
ким ударом ножа? Плетеные стулья, кресла с бордовой обивкой, шезлонги, которые от-
правлялись сперва на веранду, оттуда на чердак, а затем — покорно вытерпев карантин
в подвале, где их согревала надежда на возвращение в комнаты, — переставали суще-
ствовать...
И исчезновения. Неуловимые. Когда оставшиеся от немцев стулья исчезли из дома
17 по улице Гротгера? Когда это было? В июне, когда Мама вернулась из Варшавы, а Отец
уехал на несколько дней в Щецин, или, может быть, позже? Но день? Час? Минута? Вещи
умирали незаметно, как дворовые коты, не оставляя следа. Высокие хрустальные вазы
появлялись торжественно, вносимые в комнату в белой оберточной бумаге, овеянные
приподнятым духом дня рождения или именин, но когда они исчезали? Ведь потом их
уже не было. И минуты пробуждения. Точно пелена спадала с глаз. Удивление. «Генек,
— кричала из кухни на Гротгера, 21 пани Потрыкус, — ты не видал часом серебряной
ложки, ну, этой, с цветочками на ручке?» Но что мог ответить жене пан Потрыкус, по-
чтальон с почты на улице Советской Армии, лишь в эту минуту узнававший о существо-
84
Стефан Хвин
вании красивой ложки из шкафчика Биренштайнов, хотя много лет ею пользовался?
«Небось опять Марцинковская. Стыда у ней нет!» — негодовала пани Потрыкус.
Нам просто необходимы были виновники, видимые и реальные, которые, заглянув
по-соседски в дом, похищали серебряные ложки — засовывали в карман передника и
убегали с добычей в беззвездную ночь. Каждый визит грозил оскудением запасов. В ящиках
вспыхивала паника. Вилки со звяканьем прижимались к ножам, половники — к чайным
ложкам! О, столовые приборы, коробки, выстланные бордовым плюшем, из которых
незаметно исчезали металлические поблескиванья. Там, где еще несколько месяцев на-
зад рассыпал холодные искры мельхиор, темнели пустые ложбинки, лишившиеся своих
жильцов. О, несправедливые обвинения, оговоры, кухонно-садовые следствия, подваль-
ные обыски, магазинные пересуды! Но как защититься от небытия, которое терпеливо,
день за днем, заглатывало города, дома, нержавеющие ножи фирмы «Герлах» и вилки со
звучным названием «Стоядла»?
Потому что, стоило отвернуться, как серебряная сахарница лишалась крышки, точ-
но ее уносило ветром. Стоило заглядеться в окно, как на этажерке, где загостилась хрус-
тальная солонка, оставалась пустота.
А вазы для фруктов, кофейные мельницы, вилочки для торта? Куда разбегались хо-
роводы ложек? Куда пропадали шеренги столовых и кухонных ножей? И все бесследно.
О, если б можно было проследить за их зыбкими путями, ведущими в небытие, увидеть
их хотя бы в ностальгических снах. Ложки? Кто воспоет их одиссею? В тот день, когда с
уст пани Потрыкас, до глубины души возмущенной исчезновением серебряной ложки в
недрах передника пани Марцинковской, срывались несправедливые обвинения, ложка
Биренштайнов уже направлялась в телеге пана Венсеры среди кучи мусора, собранного
с улицы Гротгера, на свалку под Кокошками, чтобы через несколько лет попасть в анти-
кварный магазин на Длугой, а затем в дом 7 по улице Тувима, в квартиру инженера Яро-
ховского из Политехнического института, который присоединил ее к своей гданьской кол-
лекции. Большая ложка Биренштайнов с ручкой, увитой орнаментом из листьев черто-
полоха, отлитая из толстой серебряной чушки на фабрике Мюллера под Любеком, — и
нерушимый покой комода на Тувима, 7. Можно ли вообразить более прекрасный финал
угасания этих домашних планет, кружащих в тишине и беззвучно улетающих в пустоту?
Но так парили в небесных высях только юнкера мельхиоровых приборов, оберш-
турмбаннфюреры фарфоровых кофейных сервизов с золотыми и кобальтовыми пого-
нами, бронзовая, серебряная и медная аристократия — прочно привязанная к своему
времени, не желающая мириться с обновлением кухонной мебели и перестановкой бу-
фетов. Хотя и эту надменную лощеную армию, равнодушно бряцающую металлом на
белых скатертях по воскресеньям и праздникам, вытесняла из дубовых ящиков нетороп-
ливо вздымающаяся, но неумолимая волна алюминиевых вилок со знаком «Варс’а»1 и
керамических пепельниц с буковками ФОТ2 — скромная память о пребывании пана
Потрыкаса с женой в пансионате «Зигфрид» в Шклярской Порембе, переименованном
в дом отдыха работников сахарной промышленности «Зенит».
А хирение, позорное унижение льна и дерева, латуни и эмали? В кухне по утрам
наш взгляд радовала синяя надпись на языке Гёте «Здравствуй, Новый День. Принеси
Счастье Родным и Соседям», вышитая готическими буквами по белому полю, — но время
метило белизну ржавыми пятнышками яблочного и морковного сока, и однажды белая
салфетка соскользнула на зеленый линолеум; с тех пор ею мыли пол. И когда Мама по-
гружала обернутую посеревшим полотном рисовую щетку в ведро с теплой водой, только
слова «Новый», «Счастье», «Соседям», исковерканные и смятые, просвечивали сквозь
мыльную пену темной синевой.
А страдания глазури? Мученичество растрескивающегося кафеля? Угасание нике-
ля на спинках кроватей? Потускнение латунных кранов? Позеленение меди? Обрастание
цинковых водосточных труб черным налетом? Декабрьская сажа? Ночные падения че-
«Варс» — предприятие спальных вагонов и вагонов-ресторанов.
Фонд отдыха трудящихся.
Ханеман
85
репиц, которые потом доживали свой век на цементном дне фонтана? Шуршание шту-
катурки? Потрескиванье связей крыши, стропил и карнизов? Продавливанье ступенек
неутомимыми резиновыми подошвами? И попытки спасти — что только можно. И все-
сокрушающая тяжесть воздуха. И пожелтение ванн. И ржавые потеки на фарфоровых
раковинах. Медленное умирание садов.
По полу ванной на Гротгера, 14 стучал сапожный молоток пана В., отбивая одну за
другой восьмиугольные плитки, которые в тридцать седьмом году Эрих Шульц по просьбе
жены выписал с фабрики «Гессе и сын» под Алленштайном, — шесть квадратных мет-
ров превосходной кобальтовой терракоты! —дом стонал от ударов, дрожали хрусталь-
ные стеклышки в окне на лестничной площадке, трубы передавали болезненные сотря-
сения на второй этаж и выше — цинковый бак, в котором пани Янина всегда кипятила
белье, свалился на пол около ванны. Терракотовые плитки, потрескавшиеся, обросшие
снизу силикатным цементом с завода Кистера в Дортмунде, поочередно отправлялись в
кучу мусора у входа, а затем в сад, на дорожку между шпалерами туй, где уже к августу
поросли светло-зеленым мхом. Их место на полу возле ванны заняло неправильной фор-
мы терразитовое пятно, отсвечивающее восковым блеском среди остатков кобальтового
фона. Потом часть отбитых плиток использовали для зубчатого ограждения клумбы ири-
сов. Ханеман помогал Отцу обозначить границы клумбы дратвой, привязанной к заост-
ренным колышкам.
А самые чувствительные перемены, ранящие исподтишка, хитро замаскированные,
на первый взгляд безобидные? Возвращаясь в конце дня домой, Ханеман признавался себе,
что уже не может восстановить в памяти прежний цвет фасада дома Биренштайнов, хотя,
собственно говоря, ничего не изменилось, только штукатурка, чуть припорошенная пы-
лью, то ли сажей, приобрела оттенок древесной золы. Синие и желтые стеклышки в окон-
цах на лестничной площадке померкли. Напротив, на стене дома Малецев, штукатурка в
нескольких местах отвалилась и наружу выглянула утепляющая обрешетка. Оконные рамы
красили только изнутри. С облупившихся на солнце резных наличников лохмотьями сви-
сала засохшая краска; поперечные планки лопались. Кто-то спохватился, что окна надо
бы привести в порядок, но кончилось тем, что потрескавшееся дерево на скорую руку
покрыли толстым слоем эмалевой краски. Ждали, что конец разрушению положит Жил-
отдел. Ханеман недоумевал, почему все возлагают надежды на эту таинственную силу,
но только до поры до времени, пока не понял, что означают слова Отца: «Ничего нельзя
достать».
Под окнами на растянутых между стеной дома и стволом ели веревках хлопало по-
стельное белье с синей монограммой Вальманов, но нитки уже порвались и буковки
похудели. Когда ветер вздувал пришпиленные к веревке деревянными прищепками про-
стыни, кое-где сквозь реденькое застиранное полотно просвечивало солнце.
Ханеман стоял у окна и, глядя на трепещущую белизну, вспоминал дом Бергеров на
Фрауэнгассе. Обшитое дубовыми панелями парадное? Крутая лестница? Медный по-
рог? Что было в прихожей, слева от зеркала, рядом с портретом советника Вольфганга
Бергера? Что стояло на мраморной колонне между окон в гостиной? Как выглядела вы-
шивка на спинке красного кресла-качалки? А стол, великолепный ореховый стол — что
было тогда на столе? Сверкание графина? Букет далий в синем кувшине? В тот день? Чашка
в белых пальцах. Кольцо с малахитом. Резкий поворот головы. Разлетевшиеся волосы.
Темно-красное платье Стеллы. Белое блюдечко с цветком ириса?
Чашка?
Да, эта чашка, этот ирис на боку, этот тонкий золотой ободок над темно-синей вы-
пуклостью — ты же помнишь, ну скажи, Стелла, ты помнишь, когда она скрылась с на-
ших глаз навсегда?
Если бы в тот день тебя кто-нибудь об этом спросил, ты бы только пожала плечами.
Чашка? Какая? Когда? Мало ли чашек побывало в наших руках? Кому охота забивать себе
голову теплым прикосновением фарфора, нежной шершавостью донышка с голубым
знаком фирмы Верфеля? Но сейчас, Стелла, когда тебя уже нет, ты понимаешь, как это
было легкомысленно — рассеянно порхать по кухне в доме 16 по Фрауэнгассе, позволяя
86
Стефан Хвин
вещам проплывать мимо тебя, как брошенным в воду бумажным корабликам, от кото-
рых не остается следа.
Ведь сейчас, когда тебя уже нет, ты бы все отдала за то, чтобы хоть на минуту ощу-
тить кончиками пальцев это обжигающее — помнишь? — тепло чашки с кофе «Эдушо»,
ароматное обжигающее тепло, заставившее тебя прикусить губу, потому что сейчас на
дне около Борнхольма, там, где затонул направлявшийся из Данцига в Гамбург большой
пароход «Бернхоф», — в холоде, насером дне лежат рассыпавшиеся косточки твоей руки,
невзрачные, как косточки птицы, а песок сохранил отпечаток узкой ладошки...
Ох, Стелла! Как отпечатавшийся след листка...
Ханка
А однажды, в один прекрасный день, я открыл глаза и увидел у нас в доме украинку.
«Какая еще там украинка», — ворчал Отец, сворачивая самокрутку. Он неизменно воз-
мущался, когда кто-нибудь ее так называл. Но так ее называли, кажется, все.
Итак, в тот день, когда утром из-за двери донесся не похожий на обычный стук таре-
лок, когда непривычно зазвучали шаги по покрытому зеленым линолеумом полу (шаги?
да ведь в доме после семи уже никого не должно быть!), а потом я услышал не такой, как
всегда, перезвон фарфора, постукивание ножа по разделочной доске, шелест бумаги,
посвистывание щетки, и не так, как всегда, хлопнуло, закрываясь, окно — я подошел на
цыпочках к двери и сквозь треснувшее матовое стекло заглянул в кухню.
Украинка, стоя у окна, льняной тряпочкой вытирала стакан с серебряным ободком
и то и дело, дохнув на стекло, проверяла на свет, чистое ли оно. Волосы, схваченные над
ухом черной заколкой, шея, голые руки, смуглая кожа — не очень темная, такая, будто
смотришь через закопченное стеклышко... Прижавшись носом к матовому стеклу, я ста-
рался не упустить ни одного движения пальцев, в которых поблескивал стакан, ни одной
морщинки на ситцевом платье в желтых и красных цветах и даже не заметил, как дверь, за
которой я стоял, внезапно открылась и мой нос уткнулся в теплую цветастую ткань. Руки
со слегка закопченной кожей подхватили меня под мышки. Я услышал смех: «Так это ты
Петр?» Я сгорал от стыда — надо же так глупо попасться! —- и только молча кивнул, а она
отодвинула меня на полшага, чтобы получше разглядеть. «А я — Ханка. Мама, наверно,
тебе говорила. А теперь ступай в комнату и оденься. Я пока приготовлю завтрак».
Ах, какой это был завтрак! Я давился булкой с вишневым вареньем, потому что де-
вушка, которую звали Ханка, уселась за стол напротив меня и, подперев сплетенными
пальцами подбородок, взглядом прищуренных глаз провожала каждое движение моей
руки. А когда она так провожала взглядом каждое мое движение, все, что я ел, приобре-
тало совершенно новый, особый вкус. Я еще не кончил есть и пить, а она уже разрезала
на четыре части красное яблоко, выскоблила ложечкой сердцевинку с косточками и,
очистив кожуру, разложила кусочки на блюдце, назвав получившуюся звездочку «пиро-
жным».
Я был ошеломлен и чуточку испуган (ведь она теперь будет у нас всегда — утром,
днем, вечером!), но не мог отвести от нее глаз. «Чего так глядишь?» — спросила она,
вставая из-за стола, но я сразу почувствовал, что мой ответ ей нисколько не интересен.
Нет-нет, дело было вовсе не в том, красива ли она была, — просто она отличалась от всех
женщин с улицы Гротгера: никто так мило, шутливо не наклонял набок голову, ни у кого
не было таких блестящих, гладких темных волос, а как ловко она указательным пальцем
заправляла за ухо выбившуюся прядку, а эта железная заколка...
Я ел, притворяясь, будто не смотрю на нее, а она, разминая в мисочке творог с са-
харом и сметаной, напевала какую-то незнакомую песенку. «Хочешь творогу?» — пе-
сенка на мгновенье оборвалась. Но если бы сейчас кто-нибудь ей сказал, что минуту
назад она пела, она бы, наверно, только пожала плечами: «Глупости!» Я восхищенно
смотрел, как красиво она берет бледно-серую чашку и отливает в нее немножко смета-
ны из кувшинчика, как, выпятив губы, осторожно дует на молоко, вспухающее в голу-
Ханеман
8 7
бой кастрюльке, как ловко рубит ножом зелень, которую, помыв, разложила на доске.
Однако, делая все это, она словно бы думала о чем-то другом. И всякий раз, проходя мимо,
легонько трепала меня по волосам и что-нибудь говорила своим звучным, довольно низ-
ким, чуть глуховатым голосом, в котором все шелестящие и шипящие звуки смешно
щекотали ухо, невольно вызывая желание пошутить в ответ. «Вкусно?», «Ну съешь еще...»,
«Хочешь редиску?»
Когда она смеялась, казалось, будто волна дрожащей радости заливает ее шею, за-
тылок, руки, плечи, живот... И я нисколько не удивился, когда пан Ю. однажды в саду ска-
зал Отцу: «У нее такое смеющееся тело, верно?» Скорее всего, он говорил о ком-то дру-
гом, но я сразу подумал о Ханке. Тут все сходилось. Ее движения, речь и смех были изу-
мительно слаженными, и я, кажется, начинал понимать, почему мужчины любят срав-
нивать женщину с птицей, розой или еще каким-нибудь прекрасным существом,
обволакивающим тебя такими вот мягкими волнами.
В доме установились новые порядки: все должно было быть по-ханкиному, с чем
Мама легко согласилась, только Отец иногда ворчал, если после уборки большой комна-
ты вещи на полках оказывались не на своих местах, хотя и ему тоже нравилось то, что
делала Ханка.
Она — но по-другому, чем Мама, — любила всего касаться голыми пальцами: ей
нравилось погружать тарелку в теплую воду, до блеска протирать стаканы, расставлять
на полках в глубине буфета фарфоровые баночки с надписями «Zucker», «Saiz», «Pfeffer»,
начищать мелом серебряные ложки с готической монограммой W, чтобы они красиво
сверкали на дне коробки, выстланной бордовым плюшем, сортировать ножи и вилки так,
чтобы маленькие лежали слева, в специальном отделении, а большие спали на боку в
насечках дубовой планки, перегораживающей ящик. А разнообразие вкусов, густоты,
прозрачности, запахов! Все изменилось. На крючках рядом с буфетом повисла коса чес-
нока и букет трав с пепельно-голубыми листочками, а на подоконник легла россыпь бурых
семян. Стол, раньше покрытый клеенкой, Ханка застелила скатертью из грубого полотна
с вышитыми желтыми цветами на красном стебельке. Она любовалась ее синевой, на
.фоне которой мисочка с творогом казалась фарфоровой лодкой в темном море. А когда
утром перед уходом в школу я вбегал в кухню, на тарелочке меня уже поджидали две
разрезанные пополам круглые булочки с маслом: с каждой смеялась забавная рожица
из кусочков красной редиски и укропа. А каким вкусным был творог, посыпанный мел-
ко порубленным луком, еще пахнущим прохладой утреннего сада. С улицы доносилось
чириканье воробьев, шумели листья березы, постукивали чьи-то шагй по тротуару, на
кружевных занавесках в приоткрытом окне колыхались теплые солнечные пятна. Солон-
ка без крышки, полная крупных зернышек соли, которые подцепляли кончиком ножа,
чтобы посыпать ржаную горбушку, серебрилась рядом с мокрыми от росы, всунутыми
в глиняный кувшин ирисами, которые Ханка уже успела срезать под березой большими
портновскими ножницами. А потом, сидя напротив меня, она зачерпывала ложечкой
мед из пузатой банки, со смешным наслаждением разглядывала янтарную нитку и лип-
ким серебряным горбиком долго поглаживала свежий хлеб, размазывая по ломтику сла-
дость. Или проверяла, облизывая палец, на вкус сметану, которую приносила в эмалиро-
ванном горшочке с Цветочной улицы из дома Рингвельских, что возле мельницы.
Когда же варили вишневое варенье, я знал, что посреди ночи через прихожую мет-
нется тень в белой, расшитой листиками сорочке, и уже через минуту легкое звяканье
предательски возвестит, что ложечка погружается в сладкую коричневатую вязкость,
отодвигает пенку (на Ханкином языке пенка, как и кофейная гуща, называлась «згрен-
за») и сейчас понесет к нетерпеливым губам вишню в поблескивающем сиропе, а за ней
вторую, третью, четвертую... Ох, эти мягкие причмокиванья, нежные глоточки в полноч-
ный час, когда погруженный в тишину сна дом поскрипывал половицами и створками
шкафов.
Ханка со свечой проплывала за матовой стеклянной дверью, желтоватый свет уто-
пал в глубине кухни, тень головы с перевязанными красной лентой волосами вырастала
на стене, а я потихонечку выползал из-под одеяла, осторожно поворачивал дверную руч-
88
Стефан Хвин
ку, проскальзывал в кухню, она же, едва меня заметив, знаком приказывала на цыпочках,
чтобы не нарушить ангельского сна родителей, подойти к столу, а потом левой рукой (из
правой она не выпускала своей ложечки) протягивала мне другую ложку, и мы, с трудом
сдерживая смех, принимались вылавливать из густого сиропа вишенки, казавшиеся осо-
бенно вкусными, если после каждого глотка еще сладкой ложкой зачерпнуть чуточку
кремовой кисловатой сметаны, отчего на губах оставался бело-розовый след, который
можно было слизнуть языком. А утром только искорки в прищуренных глазах за мами-
ной спиной выдавали объединившую нас в ночной темноте тайну.
Как-то пан Вежболовский сказал Маме, что Ханка приехала в эшелоне из Пшемыс-
ля, что она пережила страшные вещи, что кто-то сделал с ней что-то такое, о чем нельзя
говорить вслух, но Отец только махнул рукой: «Что он рассказывает, она такая же укра-
инка, как я — Герман Геринг». Пан 3., однако, уверял, что Ханка приехала именно из тех
краев, потому что довольно долго жила за Кошалином, и иногда ее видят с каким-то чер-
ным верзилой, который говорит по-восточному. Но мало ли людей говорило по-восточ-
ному? Мама один раз сказала, что вообще-то у Ханки выговор прусский или мазурс-
кий; Отец только рассмеялся, но потом согласился: «А знаешь, возможно, ты права».
И вот, в конце мая, я набрался смелости: «Ханка, а на самом деле ты откуда?» (Мне
запрещено было так к ней обращаться; следовало говорить «пани Ханя», а еще лучше
«тетя Ханя».) Но она, услыхав мой вопрос, даже не подняла головы над припудренной
мукою доской, на которой она быстрыми косыми ударами ножа нарезала длинными
валиками тесто для клецок: «Откуда? Ниоткуда». «Как это: ниоткуда?» — не сдавался я.
«Ниоткуда, и все тут», — ответила она, щелкнув меня по носу обсыпанным мукой паль-
цем. Назавтра в порыве гнева я попытался заглянуть в чемодан, который Ханка держала
под кроватью в своей комнате (она заняла маленькую комнатку возле ванной с выходя-
щим в сад, на березу, окном, из которого был виден бывший дом Биренштайнов), но у
чемодана оказались не только две защелки, но еще и латунный замочек с надписью «Вер-
тхайм».
Была середина июня — кажется, четырнадцатое или пятнадцатое число. Вернувшись
из школы немного раньше обычного, я заглянул в кухню. Я любил иногда врываться туда
неожиданно, с громким криком, со смехом, звякая металлической окантовкой ранца и
топая сандалиями, Ханка делала вид, что сильно перепугалась, прижимала руки к груди
и, высоко подняв брови, смешно таращила глаза. Однако то, что, распахнув дверь в кух-
ню, я увидел на этот раз, настолько меня ужаснуло, что я не мог выдавить ни слова. Хан-
ка стояла у окна. Я подошел к ней, положил руку ей на спину и легонько, будто перышки
испуганного голубя., погладил цветастый ситец, но она резко меня оттолкнула. Я ее не
узнавал: мокрые тени под глазами, опухшие веки — это было так страшно, что у меня на
глаза навернулись слезы. «Ханка, что случилось?» Она не ответила, только, залившись
громким плачем, обняла меня и крепко, очень крепко к себе прижала... Потом она весь
вечер ходила по кухне, почти с нами не разговаривая, бросала все, за что ни бралась,
подолгу стояла у окна, глядя в сад, а может быть, дальше — на небо, на холмы за домами
по другой стороне улицы Гротгера.
А потом был тот день. Когда я вернулся в три часа, меня не пустили в дом. Перед
входной дверью стояла пани В.; она взяла у меня ранец и со словами «Поди, поиграй у
Кожибских» отстранила от двери. Я медленно побрел по дорожке к воротам, поминутно
оглядываясь, а пани В. издали махала мне рукой, то ли поторапливая, то ли успокаивая. Я
чувствовал, что произошло что-то страшное, и потому шел так, будто ноги увязали в
густой глине, когда же минуту спустя услышал из-за ограды шепот Анджея: «Ханка себя
убила», бегом бросился обратно к дому. Пани В. крепко обхватила меня одной рукой:
«Сейчас ее заберут в Академию». Я негодовал: почему меня держат за дверью, почему
не хотят к ней пустить, ведь у меня больше всех прав, да и Анджей наверняка говорит
неправду, она жива, просто с ней что-то случилось, и сейчас ее заберут в Академию...
Но даже много лет спустя Мама неохотно возвращалась к тому дню, и я лишь изредка, из
разговоров взрослых в саду, случайно узнавал ту или иную подробность.
По словам пана Ю., Ханеман, хоть и прошел мимо нашей двери, ничего не заметил.
Ханеман
89
Держась рукой за перила, миновал железныйлщик на площадке между этажами и, толь-
ко подойдя к своей квартире, почувствовал в воздухе тот запах. Он ничего не заподозрил,
но на всякий случай спустился на первый этаж и постучался. Никто ему не открыл, тогда
он постучал еще раз — громче, но опять ответом ему была тишина, он дернул за ручку,
потому что запах явно усиливался, однако не услышал за дверью никакого движения, в
квартире, по-видимому, никого не было, он сбежал в сад и, взобравшись по деревянной
решетке, оплетенной диким виноградом, заглянул через окно в кухню. Белый потолок,
лампа в круглом абажуре, верхушка буфета... Он взобрался еще выше, но что-то белое
— кусок полотна—заслоняло оконное стекло. Он спрыгнул с решетки, подбежал к две-
ри, ударил плечом, но дверь даже не дрогнула. Теперь запах уже не оставлял никаких
сомнений... Он снова бросился в сад, но поблизости никого не было, и он опять вернулся
к двери, вытащил из-за ящика железную кочергу, всунул под ручку, поддел, дернул вниз,
потом вправо, раздался треск, он толкнул дверь, влетел в темную прихожую, распахнул
кухонную дверь, в лицо ударила волна тошнотворного запаха, он с размаху швырнул
кочергу в окно, зазвенело, разбиваясь, стекло.
На зеленом линолеуме около раковины лежала Ханка. Под чайником шипела зали-
тая водой горелка. Голова на белом полотенце, рука под щекой, поджатые ноги в бумаж-
ных чулках...
Тело Господне
Случившееся потрясло Ханемана, но не настолько, чтобы изменить его жизнь. Ско-
рее, он был захвачен врасплох: в памяти неожиданно всплыла берлинская молодость,
далекая до нереальности; он не предполагал, что то время может пробудить такие яркие
воспоминания.
О самой девушке он не думал. Разве что иногда испытывал нечто вроде сочувствия.
Конечно, он видел ее на лестнице и в саду, но обычно, глядя из окна на темные волосы,
обрамленные узенькой каемкой солнечного света, когда она, наклонившись, срезала
портновскими ножницами астры под большой березой в углу сада, самое большее, рас-
сеянно улыбался мысли о том, что на картинах старых немецких мастеров можно уви-
деть подобный тип красоты; однако только глаз наслаждался рисунком обнаженных рук
— сердце в этом не участвовало, и Ханеман без сожаления смотрел, как девушка с не-
сколькими цветками в руке скрывается в доме.
Вид носилок, на которых погруженное в сон тело вставляли в белый автомобиль,
вызвал в памяти клинику «Альтхоф» под Моабитом, где он несколько месяцев практико-
вался у Ансена. Здание на Винтерштрассе? Высокая лестница из темного гранита, фона-
ри в руках бронзовых титанов, медный блеск светильников в зале амфитеатром в Колле-
гиум Эмаус, статуэтка Медузы на кафедре, пурпурная обивка сидений... И тот день, ког-
да они впервые спустились в подземелье... Стены, выложенные кафелем, готические
оконца, сетка, вытяжные трубы, лампы под железными колпаками, резиновые фартуки,
далекий шелест воды, точно за стеной большая баня. А потом вид тела на мраморном
столе и эта мысль, еще с давних пор, назойливая, ребяческая, наивная, которая вдруг
вернулась, когда Ансен медленно провел скальпелем по обнаженной коже: «Сейчас я
увижу душу...»
То, что он стал заниматься анатомией, не было случайностью; какие-то ниточки —
так ему хотелось думать — тянулись из детства, а возможно, даже из семейного прошло-
го, ведь несколько Ханеманов прославились своим умением проникать в тайны челове-
ческого тела на медицинской службе в армии прусского короля, а один из них, Генрих
Зигфрид Ханеман из второго конно-артиллерийского дрезденского полка, в 1815 году даже
был удостоен высокой награды за особые заслуги на поле боя под Лейпцигом, когда,
благодаря проявленному хладнокровию, спас жизнь самому полковнику Ферсену. И все
же не это было главным — и Ханемана такое объяснение вполне устраивало: к медицине
его подтолкнула греховная страсть к чтению запрещенных книг. Старинные анатомичес-
90
Стефан Хвин
кие трактаты, которые он нашел в отцовской библиотеке, книги, иллюстрированные тем-
ными гравюрами на меди, учили его, что исследование человеческого нутра — не про-
сто техническая процедура, для овладения которой нужны только знания и исключитель-
ная ловкость пальцев. Врач прикасался к тайне, недоступной — как утверждали авторы
украшающих большие желтоватые страницы гравюр — обычному человеку.
Часто, когда отца не было дома, он листал анатомический атлас Майерса, тяжелый
том с крапчатым обрезом, но, насмотревшись на цветные картинки, где были изображе-
ны голые люди с кожей, испещренной крохотными буковками и циферками, спешил
достать какую-нибудь из старинных книг, стоявших за стеклом на верхней полке. И взды-
хал с облегчением. Ведь в атласе Майерса открытое тело человека, обсыпанное роем
цифр, выглядело совсем как рассеченный скальпелем растительный препарат! Тайна
жизни? В этих застывших линиях? В рядочках цифр? Нет, старые мастера в трактатах с
загадочными латинскими названиями изображали человека совсем по-иному! Сколько
бы он ни заглядывал в брюссельское издание «Трактата о хирургии» ван Хельдена (под
нарядным названием стояла дата 1693), всякий раз ощущал себя странником, попавшим
в мир, властелинами которого могли быть только Мерлин и Мелисанда. Какая это была
книга! Взять хотя бы гравюру на титульном листе: обнаженный юноша, опершись лок-
тем на греческую колонну, ностальгически улыбается, хотя его кожа висит рядом на вет-
ках колючего куста — точно просторное тонкое пальто! Значит, боль даже не коснулась
его своим крылом? А мышцы — тщательно выписанные, похожие на красивые веретен-
ца— все на поверхности! Когда Ханеман, которому ностальгическая печаль юноши ка-
залась трогательной и немножко смешной, переворачивал пожелтевшую страницу, на
следующей он обнаруживал красивую даму с большими грустными глазами, вскрытую
наподобие раковинки устрицы, чтобы легче было разглядеть извивы кишок. А рядом с
печальноокой красавицей, державшей светлую розу, стоял голый бородатый мужчина,
у которого вырезано несколько ребер, чтобы можно было без помех изучать тайны сер-
дца, опутанного веточками артерий. А что уж говорить о гравюрах на дереве из сочине-
ний Амбруаза Паре, эстампах из трактатов Гарвея, гравюрах, украшающих труды Боер-
хааве, Морганьи, Везалия или Фаллопия! На больших страницах голые фигуры, с кото-
рых содрали кожу, чтобы открыть красивые переплетения мышц и сухожилий, прогули-
вались парами по просторным полям Элизиума с пальмовой веточкой в руке, а сверху
на обнаженные тела, в которых все было бесстыдно явным, лилось неземное сияние, и
прекрасные ангелы с нежными лицами и изящными пальцами порхали среди облаков,
размахивая лентой с латинскими названиями болезней и лекарств.
Однако этот образ тела, озаренный светом возвышенных аллегорий Времени, Муд-
рости и Фортуны, который в детстве волновал воображение и наводил на мысль о род-
стве с Богом, столкнулся с суровым опытом, приобретаемом в подвалах клиники «Аль-
тхоф», где под нож студентов и молодых врачей попадали разрушенные тела, униженные
и лишенные величественности смерти. «Послушай, — сказал однажды Ханеману Ав-
густ Пфюце, который уже закончил курс анатомии. — Здесь, куда мы попали, ты потеря-
ешь Бога. От твоей веры ничего не останется, увидишь».
Профессор Ансен несомненно возмутился бы, услыхав такие слова. Он знал, что в
подземные залы «Альтхофа» из недр города стекаются тела отчаявшихся и проклятых,
отбросивших надежду на спасение, но ведь это — как он сказал во вступительной лекции
— не лишает их достоинства: вглядываясь в смерть, даже самую жалкую, мы приближа-
емся к постижению тайны сил, помогающих нам жить. Что на самом деле защищает нас
от искушения? А что заставляет отвергать Божий дар? Профессор Ансен, берлинский
судебный эксперт, в разгадке этой тайны видел свое призвание. «Господа, — говорил он
в большой аудитории «Альтхофа» студентам-первокурсникам, съехавшимся в гранит-
ное здание на Винтерштрассе из Мюнхена, Гамбурга, Бреслау, Данцига и даже из Кёниг-
сберга, — знали бы вы, сколько допускалось прискорбных ошибок, когда из-за невеже-
ства, а также — и это необходимо подчеркнуть — из-за нерадивости полицейских чинуш
составлялись заключения, оскорбляющие истину и позорящие нашу профессию. Но не
думайте, что это лишь результат несовершенства методик. Мы не можем быть только
Ханеман
91
врачами. Мы обязаны видеть не только плот^>, но и душу, которая всегда на пороге отча-
яния. Так пусть же ваш глаз будет зорким, внимательным и терпеливым, пусть он выис-
кивает причину. Исследуйте тела отчаявшихся и отверженных, которые избрали смерть,
но делайте это так, чтобы установить, какая сила в нас поддерживает божественную энер-
гию жизни, способную — даже в самые трудные минуты, когда нам кажется, что мы уже
все утратили — рассеять мрак и принести избавление. Ищите медицинские причины
отчаяния, которые — хотя и не они одни — зачастую определяют все. Но не забывайте,
что человек — нечто большее...»
Вспоминая слова Ансена, Ханеман улыбался. Профессор Ансен наверняка начи-
тался Ницше. Но что осталось от того душевного подъема, который он испытывал, слу-
шая Ансена?.. Ведь понадобилось не так уж и много времени, чтобы он научился вести
скальпель с терпеливым равнодушием картографа, вычерчивающего хорошо известные
континенты. Остывание души... В подземельях «Альтхофа» ему открывалась темная из-
нанка человеческой жизни, однако страх она вызывала лишь при первой встрече, ну а
потом?.. Ужас добровольной смерти? Профессор Ансен в белом прорезиненном фар-
туке приподнимал брезент над белым лицом покойника, которого служители уложили
на мраморный стол, но в голосе его не слышалось дрожи.
«Не думайте, господа, — обращался профессор к ассистирующим ему студентам,
— что смерть, нанесенную собственной рукой, легко отличить от смерти насильствен-
ной. Смерть прячется от нас всегда, а не только когда человек, желающий умереть, инс-
ценирует преступление. Труп нас обманывает, это неизбежно. Мы не должны доверять
себе даже в самых очевидных случаях. Неопытный взгляд часто не может определить,
чем отличается тело самоубийцы от тела человека, которого убили. Как же легко наша
мысль попадается на крючок! Посмотрите: комиссар Шинкель утверждает, что этот вот
молодой человек, в руке которого обнаружен нож, покончил с собой. Однако это не так.
У самоубийцы рана на шее обычно идет наискосок, слева направо, около уха она глуб-
же, чем около ключицы, так как рука несчастного слабеет по мере движения ножа. У
начала раны обычно имеется много мелких порезов, что свидетельствует о нервном на-
пряжении и страхе, испытываемом несчастным. Рана, которую наносит убийца, напро-
тив, расположена точно по середине шеи и к концу почти всегда более глубока — вот как
здесь, — поскольку убийца хочет быть уверен, что жертва живой не останется. А само-
убийственный выстрел? — профессор Ансен переходил к другому столу, на котором
лежало тело пожилого мужчины. — Да не введет вас в заблуждение револьвер в руке
покойника. Этот торговец из Бремена, чей труп привезли к нам вчера, был найден с ма-
узером в руке. Но самоубийца — запомните, господа — никогда не стреляет через одеж-
ду, он обязательно откроет место, в которое хочет попасть. Не забывайте о том, что смерть
всегда творение души...»
«Знаешь, — говорил Август Пфюце, когда после лекции Ансена они в сумерках
возвращались в пансион фрау Ленц, — Ансен прав. На самом деле не важно, почему
люди кончают с собой. Важно другое: почему большинство людей не лишают себя жиз-
ни. Вот это поистине чудо. Ведь жизнь невыносима». Ханеман помнил споры, которые
они вели в своей мансарде. «Тело никаких секретов нам не выдаст. Оно молчит. Дума-
ешь, тела Клейста и этой Фогель хоть что-нибудь сказали?» Ханеман пожимал плечами:
«Послушай, Август, у нее ведь был рак». — «И это, конечно же, все объясняет, да? —
Август язвительно усмехался. — У миллионов людей рак, а Фогель — одна». Ханеман
знал, что Август каждый вечер штудирует труды того венского психиатра, о котором в
последнее время все больше говорили, и потому подбрасывал ему приманку: «Либидо
и Танатос?» — «Да, если угодно, — Август откидывал падающие на лоб светлые волосы.
— Каждая частица нашего тела в равной мере хочет и жить, и умереть. Каждая! И мы все
время стоим на грани. Точно на мосту из одного волоска. Достаточно легкого дунове-
ния...» Ханеман с симпатией смотрел на раскрасневшееся лицо друга: «Не преувеличи-
вай. Худо-бедно — все держится. А мы сейчас-спустимся к Мюллеру и закажем по шни-
целю». Можно было бы придумать что-нибудь поумнее... Август обижался, но, к счас-
тью, ненадолго, и уже через несколько минут они вместе бежали по Винтерштрассе в
92
Стефан Хайн
сторону гастхауса, зацепляя по дороге девушек с белыми зонтиками...
Тогда, во время практики у Ансена, Ханеман не любил заходить в католические ко-
стелы. Ему нестерпим был вид обнаженного Христа. Он еще мог смотреть на средневе-
ковые изображения крестной муки, на образа Грюневальда1, хотя они его и пугали, но
там на кровоточащее тело было наброшено что-то струящееся, красное. Нагота, задра-
пированная пурпуром. Статуи же в храмах вызывали отвращение. В особенности те,
которые выставлялись на Пасху в польских костелах, — гипсовые фигуры Бога в гробу;
слишком уж они напоминали то, что он видел на мраморном столе. Все в нем кипело от
возмущения: нельзя так изображать Бога! Иное дело протестантские храмы. Простой
крест. Белые стены. Но сейчас в Данциге кирок уже не осталось. В самой большой, возле
казарм на Хёенфридбергервег, устроили кинотеатр, как и в той, что поменьше, на Еш-
кенталервег.
Иногда он заглядывал в Собор, правда, не часто, как и прежде не слишком часто заг-
лядывал в молитвенный дом на Пелонкерштрассе послушать проповеди пастора Кнаб-
бе. Войдя впервые в белый неф, он ощутил только, что это — чужое. Он попал в самое
неудачное время — был фиолетовый адвент2, — и все в нем воспротивилось тому, что
он увидел. В глубине перед главным алтарем длинная очередь медленно продвигалась к
лежащему кресту, на котором была распята нагая фигура Бога. Люди губами касались
израненных рук и ног. Это было так отвратительно, что он поспешил уйти. Но увиденная
картина застряла в памяти. Глядя на обитателей улицы Гротгера, он чувствовал, что всех
их объединяет это склонение головы над белым, как слоновая кость, телом, пробитым
гвоздями, это прикосновение губ к грубым красным мазкам, изображающим кровь.
Его это коробило, хотя он далек был от того, чтобы кого-либо осуждать. Тем не ме-
нее в июне, когда улица Гротгера, нарядная и благоухающая, утром устремлялась к Со-
бору3, он не оставался дома. Пройдя по улице Вита Ствоша и миновав трамвайный круг,
через парк выходил на улицу Цистерцианцев невдалеке от часовни Святого Иакова. Нет,
он не останавливался на тротуарах, а просто медленно прогуливался, и хотя то, что про-
исходило вокруг, было ему чуждо, поддавался чудесному настроению праздничного дня.
Влажная, недавно политая мостовая, девочки в длинных батистовых платьях, блестящие
сумочки, в руках толстые желтые свечи в кружевном воротничке, аспарагус, нитяные
перчатки, чириканье глиняных свистулек... Он проходил мимо украшенных еловыми вет-
ками, тюльпанами и нарциссами маленьких алтарей, возле которых суетились женщины
в кретоновых платьях. Мужчины в белых рубашках с засученными рукавами устанавли-
вали свежесрубленные шелестящие березки по обеим сторонам столов, накрытых бело-
снежными скатертями, похожими на стихарь прислужника. Отутюженные пиджаки ле-
жали на газоне.
Колокол на башне Собора пробивал десять. Ханеман сворачивал в улицу Цистерци-
анцев и останавливался под каштанами. Он смотрел на все издалека, хотя был на теплой
июньской улице среди празднично одетых людей, идущих к Собору. Тогда, когда он впер-
вые вошел в белый неф, ему показался отталкивающим вид женщин, которые, прижав-
шись щекой к решеточке, открывали душу чужому мужчине в черной сутане, а потом,
склонив голову, целовали фиолетовую епитрахиль, которую спокойным, бесстрастным
движением подавала им белая рука, выныривающая из тени. Глядя на это, он чувство-
вал, что виттенбергский доктор был прав... Эта близость разделенных решеткой лиц, это
смешение дыханий... А когда он увидел на одной из почетных скамей мужчину в митре,
Грюневальд, или Матис Нитхардт (между 1470 и 1475—1528) — немецкий живописец, создатель
образов Изенхеймского алтарного складня (1512—1515), отличающихся свойственным и другим
его произведениям крайним натурализмом.
Адвент — период, предшествующий празднику Рождества Христова (у католиков и протестантов);
во время «фиолетового адвента» требуется особенно строгое покаяние.
Речь идет о католическом празднике в честь Тела Господня; непременный элемент празднования —
торжественные процессии.
Речь идет о Мартине Лютере (1483—1546), крупнейшем деятеле Реформации, основателе протес-
тантизма в Германии.
Ханеман
93
с епископским посохом — подростки в одежде семинаристов, преклоняя колено, при-
кладывались губами к протянутой руке с толстым перстнем на пальце, — то невольно
отвернулся и вышел на площадь. Это правда было невыносимо.
Но сейчас... Сейчас на улице Цистерцианцев с пышных веток каштанов срывались
всполошившиеся воробьи, в медных трубах оркестра отражались разгоряченные лица
музыкантов, барабан неторопливо постукивал в волнах мелодии, воспаряющей к небу
вместе с кадильным запахом голубоватого дымка, и непонятно было, откуда струится
тепло, от которого дрожит воздух, — то ли с неба, бледного и безоблачного, то ли, воз-
можно, из-под земли, которая сейчас оживает, выталкивая в садах из-под дерна крапча-
тые завитки ирисов и темные побеги лилий со слабеньким еще весенним ароматом. В
конце улицы, под листьями каштанов плыл Ковчег белого, украшенного золотым шить-
ем балдахина, покачиваясь вверх-вниз на четырех шестах, а под ним — металлическое
солнце, лучистое солнце с белым зрачком Облатки, несомое руками в широких рукавах
риз.
Этого зрелища наверняка бы не стерпел виттенбергский доктор — но сейчас? Сей-
час у солнца над крышами улицы Цистерцианцев внизу был двойник, который не свер-
кал ослепительно, а ласкал глаз нежной белизной. На это солнце можно было глядеть без
опаски — ведь не оно сжигает хлеба и иссушает реки, зрачок его осязаемо живой...
Ханеман смотрел на золотую морскую звезду, которую несли под балдахином, ук-
рашенным рельефной вышивкой, а большое солнце, раскаленное белое солнце, уже
высоко стоящее над Вжещем (время приближалось к одиннадцати), быть может, смягча-
лось при виде этого маленького солнца в венце металлических лучей, плывущего над
склоненными головами. Ибо в сияющей прозрачности июньского утра смягчалось, ка-
жется, все. В глубине сердца таяли ледяные спайки. Ханеман насмешливо щурил глаза,
иронией защищаясь от теплого дуновения, которое касалось волос, точно материнская
рука, убеждал себя, что его просто разобрало от весеннего воздуха, но продолжал нето-
ропливо идти под каштанами среди людей, чьи разгоряченные тела источали легкую
дымку, по окропленной свежей водой брусчатке, на которой, будто сбитые на лету ба-
бочки, лежали лепестки полевых и садовых цветов: цветы, точно сеятель в поле, разбра-
сывали девочки в платьях из шуршащего тюля. И сейчас у него не было ни малейшей
охоты спорить с папистами, сейчас то, что он видел вокруг, слилось в единое целое: внут-
ри этого целого переплелись не только голоса со двора дома 17 по улице Гротгера, глу-
хой стук колен по каменному полу при целовании креста, слова забавной детской песен-
ки о ксендзе и собаке, долгие сидения у окон в сумерках, небрежное вскапывание гря-
док, но и особый способ, каким пан Вежболовский с паном Д. по вечерам возвращались
домой, выписывая кренделя вдоль живых изгородей, чтобы потом, обнявшись, ввалить-
ся в темное парадное дома 14, — даже это сейчас казалось ему не только совершенно
естественным, но и единственно правильным.
Он улыбался себе. О, виттенбергский доктор... Женские чуть прикрытые батистом
руки, на которых искрились крохотные капельки пота, руки женщин, идущих рядом с
балдахином, были так прекрасны, что даже путающиеся под ногами дети в веночках из
маргариток, лоснящиеся, утираемые платком лбы, выбритые затылки мужчин, уже тро-
нутые золотистым июньским загаром, шарканье шагов, толчея, усталость — даже это не
мутило доброго света, наполняющего душу.
Тем не менее когда, вернувшись на Гротгера, 17, он, чтобы немного отдохнуть, уса-
живался в кресло, глаза с облегчением отыскивали на стене «Распятие в горах» — цвет-
ную литографию в бронзовой рамке, воспроизводящую картину Каспара Давида Фрид-
риха.
На темном, поросшем елями холме стоял черный символ Бога, и не было там ни
одного человека.
94
Стефан Хвин
Возвращение
Мама ввела ее в калитку бережно, поддерживая за локоть, но Ханка выдернула руку.
Я смотрел из-за занавески, как она идет по саду — быстро, с высоко поднятой головой.
Наверное, чувствовала, что, как и я, из-за занавесок на нее смотрят все.
Осуждение? Не было никакого осуждения. Ни тогда, ни позже. Возможно, если бы
это сделал кто-то другой... Но она? Все мы словно заключили неписаный уговор — не
подавать виду, что знаем. Только как было его соблюсти?.. Когда они миновали шпалеру
туй, пан Вежболовский перестал подстригать ножницами кусты у ограды: «Добрый день».
Ханка глянула из-под сощуренных век: «Здравствуйте». Но прозвучало это «здравствуй-
те» чуточку слишком твердо, с излишним нажимом, точно она хотела обидеть пана Веж-
боловского. И пан Вежболовский, в чьем голосе я не уловил ничего необычного, прово-
дил ее несколько более долгим, чем всегда, взглядом и только через минуту вновь при-
нялся за стрижку живой изгороди перед домом 14.
«Фасон держала», — сказал он потом. Но я из-за своей занавески заметил, что пе-
ред самым парадным Ханка сделала большой шаг, чтобы побыстрее скрыться из виду.
Потом стукнула, распахнувшись, наша дверь. Ханка глубоко, как пловец, выныр-
нувший из воды, вздохнула. Вошла в свою комнату, но двери за собой не закрыла. Быст-
рым, нетерпеливым движением вытащила из-под кровати плетенный из ивовой лозы че-
модан, потянулась к висевшим на никелированной спинке кровати выстиранным Ма-
мой полотенцам. Таким же — неспокойным, резким — движением сдернула со спинки
то полотенце — белое, с красной каймой — и сунула в чемодан на дно, под блузки и
платья. Мама подошла к двери: «Останься, тебе еще надо прийти в себя». Но она даже не
подняла головы: «Нет». — «Плащ хотя бы сними. И поешь». Она машинально бросила
плащ на кровать и пошла на кухню.
Мы ели в молчании, только Отец, тихо посмеиваясь, рассказывал про пана Вежбо-
ловского, который вчера купил у Межеевских старую «варшаву», а уже сегодня целый
день ее ремонтирует. Ханка молча резала хлеб, постукивала, кроша чеснок, ножом по доске,
накладывала в фарфоровую лодочку вишневое варенье. Мама вначале усадила ее за стол
и сама занялась приготовлением бутербродов, но Ханка, заметив в Маминых движениях
робость и боязнь порезаться, фыркнула и забрала у нее нож. Хлеб она резала быстро,
решительно. «Небось судачат...»—нож на мгновение замер. «Нет, вовсе нет...»—поспешно
проговорила Мама. «Судачат, судачат, уж я-то знаю... — Ханка не поднимала глаз. Потом,
одернув на себе блузку и выпрямившись, добавила: — И пускай судачат. А ты, — погля-
дела она на меня, — чего уставился? Первый раз видишь?» — и легонько, чуть медленнее
обычного, взлохматила мне волосы. Я попытался улыбнуться, но ничего у меня не выш-
ло. Позвякивали тарелки. «Иди, садись с нами», — Мама показала рукой на стол. Но Хан-
ка только покачала головой: «Не хочу есть». И опять принялась резать хлеб, хотя в этом не
было нужды: никто не дотронулся до кусков, которые она положила в корзинку.
Потом она вымыла посуду и расставила на проволочной решетке — сохнуть. «Ну,
ладно...» — сказала, вытирая руки. «Погоди, — Мама не сдвинулась с места. — Куда ты
сейчас пойдешь?» Ханка повесила полотенце на крючок: «Мало ли мест...» — «Пере-
стань, где ты будешь жить?»
Но Ханка только отвернулась. Я схватил ее за руку. «Не уходи, Ханка. Останься у
нас». — «Нет». — «Почему?..» Она пожала плечами.
Ушла к себе в комнату, открыла шкаф, платья, не снимая с плечиков, кинула на кро-
вать и принялась собираться. Каждое платье подносила к свету, точно проверяя, нет ли в
нем дырок, и только после этого, сложив, клала в чемодан. Отец ходил по кухне. Мама
сидела за столом и смотрела в окно. Из прихожей я видел согнутую Ханкину спину, об-
тянутую ситцем, и заваленную разноцветными блузками кровать. За окном шелестела
листьями береза.
«Это же глупо. — Отец подошел к двери. — Думаешь, кто-нибудь здесь против тебя?
Останься хотя бы до завтра. Сейчас ты ничего не найдешь. Соседи тебе слова не скажут».
Она перестала укладывать чемодан: «Жалеют?..» Отец возмутился: «Как же, жалеют! По-
Ханеман
95
твоему, у них мало своих забот?» Она долге? на него смотрела: «Я в жалости не нужда-
юсь». Отец сунул руки в карманы. «Ну и что же ты теперь собираешься делать?» Она
откинула волосы со лба. «Ничего».
Чемодан был уже полон. Ханка закрыла плетеную крышку, повесила медный замо-
чек и повернула ключ. Минуту о чем-то раздумывала, потом взяла подушку, сняла наво-
лочку. Мама подошла к ней: «Не надо, я сама». Но Ханка ничего не ответила, только
вывернула наволочку наизнанку и сложила вчетверо. Потом сняла со стеганого одеяла
пододеяльник — большой, с жестяными пуговицами. Когда она его встряхнула, в воздух
вспорхнуло несколько перышек; одно село ей на волосы. Потом стянула с матраса про-
стыню. Одеяло и подушку положила в ногах кровати. Лежащий на голых пружинах мат-
рас был обтянут серым в голубую полоску тиком.
«Это глупо, — не сдавался Отец. — Увидишь, — в его голосе прозвучало раздраже-
ние, — пройдет немного времени, и никто даже не вспомнит». Ханка оглядела комнату,
не забыла ли чего, заглянула в шкаф, взяла чемодан. В плаще подошла к Маме. «Прости-
те, что как-то так...» Мама обняла ее и погладила по спине, но она вся напряглась и отвела
мамину руку. Потом подошла к Отцу. «Я вам столько хлопот...» — «Какие там хлопоты.
— Отец сжал ее пальцы. — Если что, помни: ты всегда можешь к нам вернуться». Она
притворилась, что не слышит. Подошла ко мне. «Ну, Петр, — с минуту на меня смотрела,
— не будешь плохо думать о Ханке?» Я только замотал головой. Она взлохматила мне
волосы. «А есть хорошо будешь? Обещай». Я кивнул, чувствуя холод в груди. «А где ты
теперь будешь жить?» Она не ответила. Застегнула плащ и подняла чемодан. Отец что-то
припомнил: «Ты должна попрощаться с Ханеманом». Она остановилась на полпути к
двери. «Да, верно, забыла...» Но не пошла сразу наверх, а вернулась в свою комнату и
закрыла за собой дверь.
Мы молча сидели в кухне. Отец достал табак и стал сворачивать самокрутку, но бурые
крошки посыпались между пальцев, и он, смяв, бросил папиросную бумажку на стол. Я
смотрел на зеленый линолеум. Мама поправила волосы. Из Ханкиной комнаты не доно-
силось ни звука. За окном на ветках березы чирикали воробьи. Ветер пошевелил зана-
веску.
Скрипнула дверь, и Ханка вышла из комнаты. Она была без плаща, в темном крето-
новом платье в желтых и красных цветах. Только когда она шагнула в полосу света, я уви-
дел ее лицо. Красные губы, густо накрашенные помадой, брови и ресницы подведены,
глаза удлинены черными штрихами, на щеках белила и румяна. Такой я ее еще никогда не
видел. Она казалась выше ростом. На ногах у нее были высокие танкетки на пробке. Крас-
ные бусы, плотно обхватывающие шею, будто узким глубоким надрезом делили ее по-
полам.
Мама даже встала из-за стола, но Ханка быстро пересекла прихожую, и через мину-
ту мы услыхали ее шаги на лестнице. Она поднималась наверх медленно; потом посту-
киванье танкеток смолкло и раздался стук в дверь.
Никто не отвечал, Ханка постучала еще раз, нетерпеливо, словно давая понять, что
долго ждать ей некогда, щелкнул замок, дверь открылась, я услышал голос Ханемана, но
слов разобрать не сумел... Ханка его перебила, заговорила очень быстро, оборванные
фразы, я ничего не мог понять, потом крик, Мама с Отцом переглянулись, Отец вскочил
со стула, побежал наверх, какая-то возня, снова крик...
Взбежав на второй этаж, Отец схватил Ханку за руку и оттащил от дверей Ханемана.
Волосы у нее растрепались, по нарумяненным щекам размазалась смешанная со слеза-
ми черная тушь. Отец схватил ее за плечи и сильно тряхнул, но она продолжала кричать:
«Ты... ты, фриц... ты... кто тебя просил... зачем полез... чтоб тебе...» Потом захлебнулась
кашлем и долго не могла отдышаться. «Я не хочу жить... оставьте меня в покое... не хочу
жить... чтоб вы все...» Отец заломил ей руки за спину, но она, зажмурясь, мотала голо-
вой, рот превратился в пурпурное пятно с рваными краями...
В дверях стоял Ханеман, трогая пальцами щеку.
Возле губ тоненькая синяя царапина.
96
Стефан Хйин
Нетушки!
И все-таки Ханка осталась с нами. После того как она «попрощалась» с Ханема-
ном, ясно было, что родители не отпустят ее из дома по крайней мере несколько дней, а
дальше будет видно. Когда Отец привел ее вниз, она, сотрясаясь от плача, бросилась на
кровать. Я, заткнув уши, убежал в свою комнату — так это было страшно. Потом Мама
застелила кровать свежим бельем, жестко накрахмаленным, пахнущим засушенными ле-
пестками шиповника, и заставила Ханку лечь.
Она проспала всю вторую половину дня, всю ночь и еще все утро. Мама несколько
раз заходила к ней проверить, не случилось ли чего, потому что Ханка, уткнувшись ли-
цом в подушку, раскрасневшаяся, с распухшими губами, дышала так, словно с трудом
продиралась сквозь вязкие слои сна. Волосы слипшиеся, наволочка измазана помадой,
на щеке пурпурные разводы, как царапины от колючек. Просыпаясь, она просила пить,
и Мама поила ее липовым отваром, поскольку считала, что у нее жар, и даже хотела
послать Отца за доктором Бадовским, но Ханка— как потом объяснила — именно та-
ким способом изгоняла Нечистого. Все из нее выходило через кожу. Пришлось даже два
раза менять ночную рубашку, темную от пота.
Встав около полудня, она первым делом посмотрелась в зеркало: «Господи, на кого
я похожа!» Стала приглаживать волосы -— без толку, влажные пряди выскальзывали из
пальцев. Мама наполнила ванну, я видел, как они медленно прошли в ванную, потом
Ханка с закрытыми глазами, откинув назад голову, почти целый час пролежала в горя-
чей воде, сдерживая дыхание, точно боялась, что весь дом услышит, как у нее колотится
сердце. Потом досуха вытерлась махровым полотенцем, перевязала лентой мокрые во-
лосы, надела халат. Когда я вошел после нее в ванную, вода в ванне была совсем серая.
Стукнула дверь, Ханка заперлась у себя в комнате, мы уже начали волноваться, потому
что за дверью, наверное, с полчаса стояла мертвая тишина. Только потом я услышал то
слово. Расчесывая мокрые волосы, Ханка громко сказала себе: «Нетушки!»
Всякий раз, вспоминая дом 17 по улице Гротгера, я слышу то красивое, мощное
слово, которое после долгой тишины донеслось из-за белой двери Ханкиной комнаты.
Мы уже были в бездне, на темном дне жизни (мы — это я и Ханка); когда Отец сводил ее
вниз, мце, глядящему на ее плач, казалось, что все рушится, а теперь — будто поднялись
прибитые дождем хлеба. Разобраться в этом я не мог.
А она уже на следующий день вышла из дома и как ни в чем не бывало отправилась
в магазин Пускарчиков на углу улицы Дердовского, притом в такое время, когда там было
полно народу. Женщины говорили с ней о пустяках — домашних, соседских; ни одна
бровью не повела— не показала, что все знает. Дома, наверно, от них много чего можно
было услышать — но здесь, сейчас? Ханка купила дрожжи, дюжину яиц, сметану, паке-
тик сахарной пудры, ванилин и, вернувшись, сразу протерла тряпкой большую кухон-
ную доску. Зазвенели противни, смазываемые кусочком масла, с шипеньем вспыхнул
огонь в духовке, запахло мукой и растопленным маслом, один за другим плюхались в
фаянсовую мисочку желтки, росла под быстрыми ударами вилки пена, а я сидел за сто-
лом с куском теплого хлеба в руке и смотрел во все глаза. Она еще не напевала, как рань-
ше, еще привычным движением не отбрасывала назад волосы, но, что бы ни делала, в
воздухе витало это дрожащее золотистое слово, которое впоследствии столько раз мне
помогало. «Нетушки!» Неизвестно было, кому оно адресовано, но я чувствовал, что,
наклоняясь или взмахивая рукой, Ханка раз за разом наносит кому-то (или чему-то) уда-
ры, словно бы здесь, в кухне, ее окружали зловещие призраки, с которыми необходимо
было расквитаться. Это их она то и дело сильно пихала локтем, разминая на доске ком
желтого теста, это их хлестала по роже, энергично растирая желтки с сахаром в глиняной
макитре. Но кто были эти «они»? Мы все, наша улица Гротгера?
А потом даже Отцу пришлось отведать посыпанный сладкой крошкой дрожжевой
пирог (хотя он предпочитал облитый глазурью рулет с маком, который Ханка пекла иног-
да по субботам), мы же с Мамой были приглашены к столу, на котором желтела горячая,
с пылу с жару, яблочная бабка, хотя до Рождества было еще далеко, а такие бабки укра-
Ханеман
97
шали стол только вечером в Сочельник. Хоть все мы и радовались этой перемене, Мама
подозревала, что за глазурно-дрожжевой веселой легкостью припудренных мукою рук,
осветивших кухню сверканием противней, все еще прячется что-то недоброе, готовое в
любой момент снова выплеснуться наружу.
Но Ханка постепенно приходила в себя. По субботам, когда Отец с Мамой отправ-
лялись к Фалькевичам на Цветочную, откуда возвращались не раньше полуночи, ее на-
вещали соседки — пани Вожена и пани Янина из бывшего дома Биренштайнов; тогда в
комнату, где я засыпал, через дверь просачивался теплый шепоток пересудов обо всей
улице Гротгера — дом за домом! друзья и просто знакомые! — а я ловил каждое слово,
каждый смешок, будто блестящие монетки, которые кто-то бросал мне из темноты. Хан-
кин голос, все еще немного померкший, временами обретал прежнюю яркость, а смех
дрожал почти как раньше — чистый, звонкий и чуточку вызывающий, похожий на смех
сообразительного ребенка, который изо всех сил старается отдаться беспричинной ра-
дости, чтобы забить еще прячущийся в уголках губ соленый вкус слез. Я прижимался
щекой к подушке, закрывал глаза и погружался в туманное облако то затихающих, то
набирающих силу женских голосов, которые жадно, безжалостно завладевали всей ули-
цей Гротгера, не пропуская никого — всем нужно было перемыть косточки, про каждо-
го сочинить забавную историю, — и я радовался, что все идет на лад.
И тем не менее после того дня, когда пани В. не пустила меня в дом, отогнав, строго
и торопливо, от дверей с номером 17, я больше не мог смотреть на Ханку прежними
глазами. И даже если она привычным, так любимым мною движением взъерошивала
мне волосы, всякий раз, когда она подносила руку к моим вихрам, у меня замирало сер-
дце. Что изменилось? В ком — в ней или во мне? А может, глаза вопреки сердцу — ведь
мне безумно хотелось, чтобы все было как раньше, — сами выискивали едва заметные
перемены в том, как она встряхивала головой, как жестикулировала при разговоре? Тень
на дне зрачков? Потускневший блеск глаз? Напряженный изгиб губ? Машинальное при-
косновение к вискам? Сохранила ли она после всего этого смеющееся тело? После всего
этого...
А Ханеман? У нас дома о нем не говорили, как не говорили и о том дне. Ханка,
встречаясь с ним на дорожке или на лестнице, отвечала на приветствие словно бы так,
как раньше, — так, да не так. Раньше ее немного смешил этот, пожалуй, чересчур серь-
езный мужчина со второго этажа, обучавший немецкому языку мальчишек с улиц Грот-
гера, Цветочной, Героев Вестерплатте, который неторопливо спускался в сад, чтобы сре-
зать несколько ирисов под туями, а она, сдерживая смех, с небрежной, чуть вызываю-
щей иронией, капельку громче, чем следовало бы, первая говорила: «Здравствуйте, пан
Ханеман». Теперь же, проходя мимо него, она ускоряла шаг.
А по вечерам? По вечерам, когда родителей не было дома, Ханка иногда дирижиро-
вала в кухне пани Боженой и пани Яниной, и все трое, точно исполняя торжественный
гимн, чеканили своими красивыми голосами вначале едва слышно: «Ха! Не! Ман! Ха!
Не! Ман!» Потом быстрее: «Ха! Не! Ман!» А потом еще раз, еще быстрее, и еще раз,
громче. И при этом смеялись до упаду. Пани Божена выходила на середину кухни и, за-
сунув руки в карманы передника, изображала походку Ханемана. Ее пробковые каблу-
ки постукивали по половицам — бум! бум! —точно барабан, подыгрывающий веселой
пляске. Это было обидно, но так уморительно, что я, пряча голову под одеяло, давился
от смеха.
Оттенок
Глядя в зеркало, он трогал щеку. Тоненькая синеватая царапина около рта. Смешно.
Эта неожиданная вспышка... Он не мог прийти в себя. Чего она, собственно, хотела? Он
наклонил флакон и ватой протер ранку. Эта агрессивность, вскинутая рука, глаза. Боль?
Слезы? Он смотрел в зеркало. Что теперь делать? Спуститься вниз? Зачем? Он ничего не
понимал. Может, он когда-то ее обидел? И только сейчас ее прорвало? Но чем обидел?
4 «ИЛ» №12
98
Стефан Хвин
Ведь все было нормально. Они встречались на лестнице. На дорожке в саду. На улице.
Она говорила: «Здравствуйте». Иногда: «Здравствуйте, пан Ханеман». И они расходи-
лись, как проплывающие друг мимо друга рыбы в аквариуме. У него свои дела, у нее
свои. Не лезть в душу. Равнодушная вежливость. Случайное соседство. Она чего-то боя-
лась?
Но теперь что-то сломалось. Рухнула какая-то преграда. Ханеман пожал плечами.
Видно, она много чего в жизни нахлебалась. Не оттого ли такая озлобленность? Рукою
прямо в лицо. Растопыренные пальцы. И этот крик. Что она кричала? Что не хочет... Но
что ему тогда оставалось делать? Ждать? Чего? Не трогать дверь? Вздор.
Было, однако, что-то еще. Дыхание. Запах. Цветастая ткань. Когда она на него набро-
силась. Плечо, касание, бедро. Она толкнула его так, что он едва устоял на ногах. Потом
снизу прибежал пан Ч., оттащил ее, она кричала. Но почему такие красные губы? Так
сильно подведенные глаза? Тушь, размазавшаяся по векам? Серьги в ушах? Он никогда
ее такой не видел. Она что-то почувствовала?
Сейчас, когда она шла по дорожке к воротам, он уже не отходил от окна. Стоял за
шторой. Быстрые, уверенные шаги. Светлое платье. В корзинке — зеленые листья салата,
длинный батон, что-то завернутое в бумагу. Притворяется, будто его не видит? Глухое
постукиванье пробковых подошв по плитам тротуара. Не такое, как обычно? Вообще-то
ему хотелось, чтобы было иначе. Чтобы в ней остался какой-то след — от того. Но не
похоже, что остался. Неужели совсем ничего? Пустота? И тут же мысль: да ведь это не
имеет значения. Она быстро вышла за ворота, кому-то поклонилась, скрылась за туями.
Ненавидит? Смешно. Ведь он тогда о ней вовсе не думал. Просто ощутил на лестнице
запах, вот и все. Потому и вошел...
Он старался припомнить ее лицо, плечи, волосы. Но то, нарумяненное и напудрен-
ное лицо, которое он увидел в дверях, все заслонило. Он почти ничего не помнил. Они
встречались и расходились. Она была. Больше ничего. Обрывки каких-то картинок. Кисть
руки. Волосы. Шаги на лестнице. Она кричала из окна мальчику. Сильный, звучный го-
лос. Цвет кожи? Темный загар? Каштаново-золотистый оттенок? Засученные рукава.
Обнаженные локти. Губы? Кажется, раньше она никогда не красила губ.
Спускаясь по лестнице на первый этаж, он заметил, что при звуке его шагов она
спряталась в квартиру. Стыдно? За то? Он медленно прошел мимо, чувствуя, что она
стоит за дверью. Постучаться? Нет-нет. Он вышел из дома. Смотрит на него из-за зана-
вески в кухонном окне?
Мы столкнулись с ним на дорожке. «Как дела, Петр?» Я поклонился: «Здравствуй-
те, пан Ханеман. Ханка очень плохо про вас говорит». Он усмехнулся: «Нервы. Незачем
тебе это слушать». — «Знаю, — я посмотрел на него. — Но она хочет от нас уйти». Ха-
неман поднял брови: «Неужели? Нехорошо... Может, мне к вам зайти?» — «Э, нет, — я
опустил глаза. — Лучше не показывайтесь. Она ужасно злится. Но это пройдет». — «Ду-
маешь?» «Потом будет как раньше. Она умная».
Ханеман чувствовал, что теряет покой. Это было даже не пробуждение, нет, скорей,
его тело — от жгучего удара — стряхнуло с себя оцепенение. Он этого не хотел. В его
снах теперь появлялись незнакомые женщины — проходя по комнате, они роняли пома-
ду или пудреницу, а потом касались веером его лица, и это было так явственно, что, про-
снувшись, он искал на ковре предметы, выпавшие из белых пальцев. Целый мир женских
вещей, которые — как ему казалось — перестали для него существовать, выплыл из тени
и сделался мучительно-видимым. За окном Ханка в светлой блузке с засученными рука-
вами развешивала на веревке свежевыстиранное белье. На ветру развевались полотня-
ные ночные рубашки, лифчик, бумажные чулки, платок. Все дразнящее и непристойное
— потому что снято с нее. Когда она поднимала руки, чтобы прищепкой прикрепить к
веревке белую простыню с вышитой в уголке монограммой Вальманов, сквозь батисто-
вую блузку просвечивали бретельки тесного бюстгальтера. Подойдя к окну с книгой в
руке, он прерывал урок немецкого языка, Анджей X. смотрел на него вопросительно,
поскольку молчание затягивалось, но он стоял у окна и смотрел — на что? — на трепе-
щущие простыни, лифчики и рубашки! Пожимал плечами. Боже, какая глупость. «Мне
Ханеман
99
уже можно идти?» — спрашивал Анджей. Хинеман оборачивался, точно его разбудили.
«Нет, погоди. У нас еще есть немного времени. Читай». Анджей возвращался к своим
спряжениям, но Ханеман смотрел на него так, будто не слышал его голоса.
Когда на тротуаре раздавалось постукиванье пробковых танкеток, он говорил себе,
что не подойдет к окну. Брал книгу, но, когда начинал читать, между строк мелькало сит-
цевое платье, в шелесте переворачиваемых страниц слышался теплый шелест цветастой
ткани. Он старался следить за смыслом фраз, но она бесцеремонно разгуливала по троп-
кам готического шрифта, расталкивала заглавные буквы, перескакивала со страницы на
страницу по мостикам абзацев и громко смеялась. Он закрывал глаза, за окном стихали
быстрые шаги, она шла по дорожке между туями, крича что-то пани Вежболовской.
Громче обычного? Что за чепуха. Он вставал, закрывал окно. Его раздражало это непри-
нужденное звучание голоса—ни тени стыда или тревоги. Он морщился: как можно быть
такой бесчувственной, такой — он поискал подходящее слово — толстокожей. Ведь от
того случая в ней ничего не осталось, как будто — подумал мстительно, сам от этого
развеселившись, — как будто у нее вообще нет души. Души? Он ловил себя на том, что
совершенно безосновательно на нее сердится. Душа? Что ему до ее души? Он, навер-
ное, спятил. Она через многое прошла и, вероятно, этим своим смехом, который так его
раздражает, защищается ото всего, что могло бы ее ранить. Обида? Ведь ему ничего от
нее не нужно. Да и далеко ей... Он смотрел в окно с нескрываемой неприязнью. Снова
брался за книгу, с удвоенным вниманием вчитывался в письмо Клейста Генриетте, но
через несколько минут страница опять превращалась в каменный тротуар и он опять слы-
шал на этот раз уже более тихое, приглушенное, отдаляющееся постукиванье пробковых
подошв. И еще эти гибкие пальцы, убирающие волосы за ухо...
Что-то давнее, от чего он изо всех сил отгораживался, что-то очень, очень болезнен-
ное исподволь проникало обратно в сердце. Воспоминание другого лица, обрамленно-
го светлыми волосами... Однако по страницам книги, испещренным готической вязью,
упорно проплывали каштаново-золотистые живые тени. Шелест цветастого ситца. Взмах
руки. Розовые ногти. Ресницы. Это были даже не образы — скорее, нежные, дразнящие
прикосновения запаха, более легкие, чем дымка дыхания. Готический текст чернел на
страницах, взгляд скользил по абзацам — но мысли! Он пытался отогнать наваждение
смехом. Ведь если он и думал о ней, то не о такой, какой она являлась взгляду, а обо всем
по отдельности: впадинка над ключицей, опушенный светом висок, голый локоть, коле-
но, пальцы. Это было забавно и отравлено ядом, кровоточило...
Возвращались слова Анны, ее белая шляпа, тот прекрасный день, когда она, держа
его за руку, говорила: «Ведь так жить нельзя». Значит, это ненависть^ гнев, сожаление о
том, что какая-то сила вновь затягивает его в водоворот жизни? А куда бы лучше было,
взяв с нее пример; относиться ко всему легко. Он же видел: то, что — нехотя признавался
себе — взволновало его до глубины души, ее даже не задело. Ему бы хотелось, чтобы она
почувствовала такое же, едва ощутимое, унижение, такую же горечь. Он имел право ее
ранить. И, подумал, это не составило бы труда.
А потом он прогонял это дурацкое желание. Ведь тогда, на лестнице... эти дрожа-
щие губы, руки, крик... Какая уж там холодная сила. Она давно носила в себе боль, он тут
был ни при чем. Неприязнь? Сердце ни с того ни с сего, как танцовщица, совершало стре-
мительный пируэт. Он обнаруживал в себе целые пласты нежности, о существовании
которых даже не подозревал. Он готов был спуститься вниз, чтобы раз и навсегда во всем
разобраться. Он уже видел, как светлеет ее лицо: «Нет-нет, ничего не случилось. Это все
нервы. Не уходите, побудьте еще минутку». Но тотчас вспоминал Мамину просьбу пока
воздержаться от посещений, потому что любой разговор только разбередит раны, и сно-
ва брался за книгу, проверял тетрадь Анджея, подчеркивал красным карандашом ошиб-
ки, старался с головой погрузиться в это бесплодное занятие... Однако она вновь появля-
лась в его комнате, рассекала льющийся из окна солнечный поток, в прозрачном воздухе
медленно проступало темное сверкание залива, поправляя волосы, в цветастом платье,
с блестящей сумочкой, она шла по кромке пляжа в Глеткау к пристани, Ханеман ощущал
закрадывающийся в сердце страх, с ужасом смотрел, как она подходит к пустому молу,
100
Стефан Хвин
как поднимается на дощатый помост, а там у причала стоит этот белый пароход с высо-
кой наклонной трубой, он* хочет схватить ее за руку, оттащить обратно на пляж перед
гастхаусом, но она его не видит, она идет по просмоленным доскам прямо к белому па-
роходу, отбрасывая назад пронизанные солнцем и оттого кажущиеся золотыми волосы,
на палубе никого нет, до трапа еще несколько шагов, Ханеман слышит стук каблуков по
доскам причала, размеренный, все более громкий, сердце сейчас выпрыгнет из груди,
он хочет продраться к ней сквозь завалы воздуха, протягивает руку, хватает ее за рукав,
но Ханкина рука тает, как клочок тумана, пальцы сжимают пустоту, белый пароход рас-
тет на глазах, кренится набок, Ханеман заслоняет голову руками, потому что черный борт
с надписью «Бернхоф» нависает над ним как стена рушащегося дома, он заслоняет голо-
ву, потому что сверху, с горящей палубы, прыгают дочки госпожи Вальман, камнем ухо-
дят под воду, широкое огненное пятно расползается вдоль борта, дым, пламя, чья-то
вытянутая рука, взгляд, чей-то крик, плач, а он стоит в лодчонке, в которой может умес-
титься только один человек...
Пустая кровать
«Ты спрашиваешь, где она его нашла? — пан Ю. задумывался. — Я кое-что слыхал,
хотя, знаешь, как оно бывает, ко^да тебе рассказывают о давних делах, про которые, воз-
можно, хотелось бы забыть...»
Мало кто тогда забредал на холмы за вокзалом, где в глубоких котлованах были кир-
пичные казематы, прусские форты, поросшие кустами терновника, полынью и пыреем.
Говорили, что там полно мин и даже что под землей до сих пор сидят немцы; некоторые
клялись, что видели их собственными глазами. Но в ноябре кто-то углядел между деревь-
ями свет, огонек, мерцающий в расщелине стены, и туда отправились двое из отделения
на Картуской, сняли винтовки с плеча и по крутому склону, ломая ветки, спустились прямо
к кирпичной стене. Топча разбитое стекло, вошли в коридор с бочкообразным сводом,
но огонек растворился в темноте — сырой, пропитанной запахом смолы и размокшей
бумаги, — из глубины повеяло тишиной подземелья, они чуть не повернули обратно,
ведь это мог быть всего лишь отблеск огней города на остатках стекла в оконце. Но все-
таки задержались возле железной двери, ведущей в каземат, постояли две-три минуты,
не шевелясь, целясь из винтовок во мрак, а когда уже решили уйти, поскольку ничто не
нарушало тишины, в дальнем конце коридора послышался шорох, потом шаги — испу-
ганные, торопливые, — звякнула опрокинутая консервная банка, что-то покатилось по
кирпичному полу, они крикнули: «Стой!», но шаги стихли, тогда они с зажженным фона-
риком вошли в кирпичный туннель, свет фонарика уткнулся в наклонную стену, пово-
рот, они миновали железные ящики, из-под ног выкатилась артиллерийская гильза, в
черных лужах валялись холщовые лямки, каски, снова звяканье, впереди опять что-то за-
шевелилось, они крикнули: «Выходи!», но голос, не оставляя эха, утонул в кирпичной
трубе, тогда они осторожно свернули в более широкий отсек с пометами огня на стенах,
сажа, они подняли винтовки, свет от фонаря проплыл по нагромождениям ящиков, под
потолком мертвенно сверкнули лампочки, висящие на голых проводах...
Они увидели его в куче армейского обмундирования. Он лежал под скомканными
шинелями в ворохе гимнастерок, брезентовых плащ-палаток, противогазных сумок. С.
откинул полу шинели: «Ты почему убегал?» Но мальчик, скорчившийся, с подтянутыми
к подбородку коленями, дрожал от холода, и С. снова набросил на него шинель — пахну-
щую теплым влажным сукном и давно не мытым телом. «Нельзя тебе тут сидеть. Тут
могут быть мины». Мальчик, однако, не шелохнулся. С. потряс его: «Вставай». «Оставь
его», — буркнул В. Они сели на ящик, закурили. Через несколько минут мальчик оторвал
ладони от щек: темное лицо, смахивающее на цыганское, как им показалось в свете фо-
наря, серые от угольной пыли щеки, всклокоченные волосы. «Ну, вставай», — сказал С.,
затаптывая окурок. Мальчик опять заслонил голову, но выполз из-под шинелей и бро-
сился к железной двери, однако В. оказался проворнее, схватил его за полу куртки, при-
Ханеман
101
держал; извивающегося мальчишку вынесли из форта на снег, обрядили в длинную, во-
лочащуюся по земле шинель солдата вермахта и по петляющей в зарослях терновника
обледенелой тропке повели в город.
Они не знали, что с ним делать. Был уже поздний вечер. С. хотел взять его к себе, в
Орунь, на Восточную улицу, но по дороге в отделение мальчишка вырвался из рук, ныр-
нул в развалины и исчез между разрушенными домами. Быстрые шаги, хруст щебня,
эхо. Это произошло мгновенно. Они искали его до полуночи...
Не его ли увидела Ханка несколько дней спустя на маленькой площади перед вокза-
лом, между пристройкой с билетными кассами и общежитием для ночлега сменных бригад
проводников, когда, направляясь к перрону, поравнялась с кучкой людей, греющихся у
железной печурки? Мужчина в желтой меховой ушанке, длинной шинели и валенках,
сидевший к ней лицом, пальцами в шерстяных перчатках перебирал лады русской гар-
мони: из мерно растягивающихся мехов вылетали то высокие, то низкие, как плач ветра,
звуки мелодии — задорной и заунывной, благостной и тревожной. «Росла калина, шумя
листвою, в роще росла над синей водою...» Кто-то лениво притопывал в такт или, скорее,
от холода (потому что тротуар уже заиндевел), но музыкант не обращал на это внима-
ния, смотрел только в огонь, будто вокруг никого не было. Лишь минуту спустя поднял
глаза, сильным размашистым движением извлек из гармони похожий на фанфару ак-
корд и кому-то кивнул. Именно тогда Ханка впервые увидела мальчика: в черной куртке,
с обмотанным вокруг шеи шарфом, он выскользнул из-за спины старика.
Медленно, словно нехотя, мальчик обогнул печурку и остановился в теплом кругу
света. Мелодия резко оборвалась. Ханка внимательно следила за каждым его жестом,
каждым поворотом головы — что-то ее сразу насторожило; вроде бы ничего необыч-
ного, но уж чересчур выразительными показались ей движения мальчика: он будто ри-
совал в воздухе незримую стремительную линию, прихотливые извивы которой тут же
растворялись в тени. В руке старая шляпа. На дне две измятые грязные купюры.
Ханка подошла поближе. С забавной, чуть нарочитой осторожностью мальчик по-
ложил шляпу на землю у самых ног, точно опасался, как бы у него не стащили грязно-
голубые бумажки, и, раз правой, раз левой рукой, небрежно, неторопливо вычерчивая
перед собой то округлые, то остроугольные контуры, принялся пальцами один за дру-
гим вынимать из воздуха невидимые предметы, а стоящие вокруг печурки люди угады-
вали, что бы это могло быть. Движения четкие, челюсти крепко сжаты. Только глаза...
Отвесил поклон, закурил невидимую сигару, двумя взмахами погасив невидимую спич-
ку, пересчитал спорхнувшие с неба невидимые банкноты, с фатовской развязностью
оперся на невидимую трость... Все это было и смешно, и чуточку оскорбительно, и чу-
точку неприлично, но когда женщины захихикали, он на секунду прервался, окинул зри-
телей укоризненным взглядом, а затем приложил ладони к щекам и, подержав две мину-
ты, резко оторвал от лица... Стоящая ближе всех женщина, ахнув, закрыла рот рукой. Даже
Ханке стало страшновато. Что-то недоброе в улыбке и эти глаза—страдальческий, выму-
ченный и тем не менее потешный блеск в глубине зрачков... А гармонь между тем про-
снулась, застонали мехи, зазвучала песня о звезде, что светит матросам в пучине морс-
кой, мальчик не спеша поднял шляпу, поклонился влево, потом вправо, пританцовывая
обошел печку, стукнул каблуками и вдруг расплылся в ангельской улыбке. Женщина вздох-
нула с облегчением, кто-то шутливо-уважительно выругался, кто-то полез в кошелек.
К огню, выйдя из касс, подходили все новые люди, пригородный из Тчева опять
опаздывал, отсыревшие флаги на башне вокзала тяжело хлопали на холодном ветру, на-
летавшем со стороны верфи, кто-то, чтобы лучше видеть, заглядывал через плечо сосе-
да, кто-то проталкивался вперед, звякнуло несколько монет.
Но Ханка больше не смеялась. Постояла еще немного со странным чувством в душе
и пошла на перрон. В вагоне она услышала, как одна женщина говорила, что очень пло-
хо, когда дети таким способом зарабатывают на жизнь, и что нужно это запретить. Кто-то
проворчал: «И что, по-вашему, с ними делать? Воруют, убегают, теперь таких полно!» За
окном двое охранников из железнодорожной службы безопасности лениво направля-
лись к огню. Ханка прилипла к окну. Но мальчика и старика с гармонью там уже не было.
102
Стефан Хвин
Когда через несколько дней, возвращаясь с Широкой улицы от пани К., Ханка зашла
в вокзальный зал ожидания, она опять увидела мальчика и опять в душе шевельнулось
тревожное чувство. Мальчик спал на скамейке в углу около батареи, спрятав руки под
куртку, порозовевший до кончиков ушей. Шнурки явно великоватых ему лыжных боти^
нок были развязаны. Ханка коснулась его плеча. Проснувшись, он молниеносно засло-
нился от удара. Она укоризненно покачала головой. «Есть хочешь?» Он не ответил. Она
подошла к буфету, то и дело оглядываясь, чтобы он не убежал, купила бутерброд с сы-
ром и стакан чаю. Когда они сели за стол, он вытащил руки из-под куртки. Черные ногти.
Она внимательно его разглядывала. «Где ты живешь?» Он пожал плечами. «Нравится
здесь сидеть?» Он скривился.
Когда они появились в дверях. Мама чуть-чуть удивилась, но — что поделаешь —
она понимала, что по-другому нельзя, и согласилась, чтобы мальчик «разок» переноче-
вал в моей комнате, на стоявшей у окна всегда аккуратно застеленной кровати из светло-
го дерева, на которой никто никогда не спал. Это была— как говорила Мама — кровать
для гостя. Засыпая на правом боку, лицом к окошку, я всегда видел ее в темноте. И испы-
тывал волнение ожидания, потому что эта предназначенная для гостя кровать чем-то
напоминала пустой стул, который Мама в Сочельник неизменно ставила у стола на слу-
чай, если кто-нибудь вдруг постучит в нашу дверь и сядет с нами за праздничный ужин.
Мальчик был грязный, в залатанной куртке не то из армейского, не то из путейского
черного сукна; он встал посреди кухни, и Мама сразу же принялась снимать с него эту
куртку: «Как тебя зовут?» Но Ханка быстрым движением мягко коснулась ее руки: «Он
не говорит...» Мама немножко испугалась, даже невольно поднесла руку к губам. «А
как его зовут?» Ханка только пожала плечами, стаскивая с мальчика через голову ру-
башку.
Потом Мама с Ханкой наполнили теплой водой ванну, и я через щель в неплотно
закрытой двери видел, как они терли его губкой. Он все терпеливо сносил, только щурил-
ся от света висящей над зеркалом лампы.
Значит, он не говорит... Я видел таких, но издалека, а этот вдруг оказался рядом, и
теперь на меня накатил страх, смешанный с любопытством. Я боялся той минуты, когда
мне придется ему что-то сказать, а он будет видеть только мои шевелящиеся немые губы.
Пальцы
Мальчик, однако, нас понимал (вероятно, читал по губам), только выразить всего
жестами не умел. Мама узнала от пани Штайн, что Ханеман может тут кое-чем помочь,
и посоветовала Ханке обратиться именно к нему.
Она была права. Еще во время практики у Ансена, если с утра выдавалось свобод-
ное время, Ханеман иногда — отчасти поддавшись уговорам Августа Пфюце, отчасти
по собственному желанию — заходил в Коллегиум Эмаус в здании Академии на Винтер-
штрассе, 14 и заглядывал на четвертый этаж в небольшую, украшенную статуями мифо-
логических божеств аудиторию, где профессор Петерсен из Фрайбурга вел с группой
молодых врачей семинар по теоретическим основам языка жестов. Ханемана это очень
заинтересовало. После того как он провел много дней в подземельях «Альтхофа», устная
речь почему-то начала его раздражать. Да и то, что писали в прессе, казалось настолько
пропитанным ложью, что с некоторых пор он перестал даже просматривать ежедневные
газеты. Слова? Он доверял только глазам и пальцам. Август поддерживал его в этом убеж-
дении. Когда по вечерам в пансионате фрау Ленц в маленькой комнатке на втором этаже
разговор заходил о лицах самоубийц, чьи тела попадали на мраморный стол в «Альтхо-
фе», и Август в приливе внезапного воодушевления уже готов был приступить к созда-
нию «танатопсихологии»1 —такое патетическое название он придумал для трудного и
1 От танатологии — раздела медицины, изучающего причины смерти, течение процесса умирания и
т. д.
Ханеман
103
весьма рискованного искусства физиогномики покойников, — Ханеману его планы ка-
зались близкими, хотя в глубине души он сомневался, что подобная разновидность пси-
хологии возможна.
В одном, впрочем, он соглашался с Августом. Профессор Ансен устанавливал при-
чину смерти по положению тела, рук, по форме ран, Август же не мог ему простить, что
в своих рассуждениях тот совершенно упускает из виду самое важное — лицо. Если бы
однажды удалось понять, о чем говорят безмолвные веки покойника, губы, лишенные
обманчивой краски, морщины и складки, застывшие в ту минуту, когда оборвалась жизнь!
Разве не здесь и только здесь надлежало искать причину, порой заставляющую нас под-
даться искушению и отвергнуть Божий дар?
Как-то вечером, возвращаясь из Коллегиум Эмаус, Ханеман с Августом зашли в
кафе «Элефант» на Вильгельмштрассе, где — о чем сообщала большая афиша с надпи-
сью «Мистер Аутлайн», которую они заметили за темным оконным стеклом — уже не-
сколько дней выступал мим из Лондона. Август был в превосходном настроении, перс-
пектива ярмарочного — как он выразился — развлечения еще больше его развеселила,
и они, смеясь, спустились по ступенькам в круглый, погруженный в красноватый полу-
мрак зал и заняли место прямо перед зеркальной эстрадой. Однако, когда на эстраду вышел
высокий мужчина во фраке, его припорошенное белоснежной пудрой лицо показалось
им поразительно похожим на лица, которые они каждый день видели в подземельях «Аль-
тхофа», и Ханеману стало страшно. Мистер Аутлайн, словно уловив то краткое, как вздох,
мгновение, когда сердце Ханемана вдруг замерло, подошел к нему и положил руки в
белых перчатках ему на плечи. Музыка заиграла тише. Напудренное лицо приблизилось,
Ханеман ощутил запах белил, откинул голову, но лицо с черными дырками зрачков даже
не дрогнуло. Мистере Аутлайн смотрел Ханеману в глаза. У него был большой, похожий
на медузу, полнокровный рот, белые щеки и толстый слой туши на веках. Мимы, которых
Ханеман помнил с детства, гримасничали, стараясь перещеголять друг друга, танцевали
и бегали по сцене, вычерчивая в воздухе паутину невидимых извилистых линий, в кото-
рую норовили поймать души зрителей, — но у этого под покровом белил в лице таилось
что-то неподвижное. Весь зал уставился на них. Ханеман покраснел до корней волос: ему
вдруг показалось, что этот неподвижный человек знает. Знает, чем он, Ханеман, занима-
ется в подземельях «Альтхофа».
Потом мистер Аутлайн вернулся на эстраду и на безукоризненном немецком языке
попросил зрителей высказывать свои пожелания. Представление началось. Красивая дама
в палантине из черно-бурых лис со своего места в ложе справа от сцены назвала фами-
лию Чемберлена, и уже через минуту на зеркальной эстраде появился британский пре-
мьер, объявляющий о том, что он несет миру мир. Офицер, сидевший рядом со строй-
ной брюнеткой, пожелал увидеть вождя России, и по зеркальному паркету прошество-
вал усатый мужчина с трубкой. Раздались аплодисменты. Сходство было и впрямь пора-
зительное. Но самое сильное впечатление произвела на Ханемана заключительная часть
представления. Мистер Аутлайн сел на стул посреди эстрады, оглядел зал и принялся
изображать зрителей. Это было очень забавно. После каждого номера раздавались взрывы
одобрительного смеха: живые отражения сидящих в ложах и за столиками мужчин и
женщин были озарены светом беззлобной шутки, и никто не почувствовал себя заде-
тым. Веселились на славу. Последним, что увидели на эстраде, было лицо Ханемана.
В пансионат фрау Ленц они возвращались по берегу Шпрее, в направлении моста
Зигфрида. Из кафе и кабаре на Зигфридштрассе неслись звуки бойкой, беззаботной му-
зыки, в садах пахло резедой, по белому небу летали ласточки, но когда они приблизились
к реке, которая сейчас, в сумерках, стала серо-голубой, израненной посередине вспыш-
ками угасающего солнца, Ханеман сказал Августу: «А ты заметил, что нам иногда нра-
вится прикидываться покойниками? Хочется, рассказывая что-нибудь, обходиться толь-
ко словами? Помнишь, что твердят все матери: говори ясно, не размахивай руками, не
показывай пальцем! Тело должно молчать как убитое — тогда считается, что ребенок
хорошо воспитан». Август удивился: он всегда говорил много, полагая, что жизнь из него
так и хлещет.
104
Стефан Хвин
В аудитории на четвертом этаже Коллегиум Эмаус, куда Ханеман заходил по утрам,
профессор Петерсен рассказывал о старых и новых азбуках жестов, но не только это
притягивало Ханемана в темный зал, украшенный дубовыми фигурами мифологичес-
ких божеств. Петерсен, когда говорил с кафедры, старательно сохранял статуарную ве-
личавость, лишь изредка подчеркивая смысл слов энергичными взмахами кисти левой
руки, но едва начинал показывать дактилограммы, мгновенно преображался! Порази-
тельная перемена! Ханеман слыхал про Айседору Дункан, американскую танцовщицу,
которая — зрители в кинотеатре «Палладий» могли воочию в этом убедиться —танцева-
ла босиком в облаке развевающихся муслиновых шалей, и его нисколько не удивило, когда
во время одной из лекций кто-то позади ехидно шепнул: «А не припас ли случайно наш
Петерсен на закуску Айседору?»
• Это был самый настоящий спектакль! Как знать — возможно, именно поэтому в
аудитории собиралось так много народу. Петерсен поднимал руки, выжидал, пока в зале
не стихнут даже малейшие шорохи, а затем в полной тишине кисти его рук, как пара го-
лубей, начинали трепетать над пюпитром, а лицо озарялось светом новообретенной
жизни. Да что там кисти! Профессор Петерсен, член Берлинской академии, дважды на-
гражденный кайзером за заслуги на поприще науки и благотворительности, демонстри-
руя очередную дактилограмму, наслаждался гибкостью своих суставов — как человек,
радующийся возвращению подвижности рук после снятия гипса! В аудитории на чет-
вертом этаже, где солнце заливало теплым светом красующуюся на пюпитре кафедры
дубовую фигуру Хроноса, Ханеман узнавал, что кроме дактилограмм существуют еще
и идеограммы, обозначающие целые понятия и фразы, однако Петерсен хотел создать
азбуку «хирограмм» — речь слогов, строящуюся на прикладывании пальцев к подбо-
родку, щеке, носу, виску, груди, плечам. Он хотел, чтобы говорило, смеялось и плакало
все тело. И все это показывал! В движении! В полете! На подиуме возле дубовой кафед-
ры, украшенной резной головой Медузы! Легкие касания. Взмахи. Изгибы кистей. Смы-
кание и расцвет пальцев. Трепет. Прикосновение к губам. Прищуривание глаз. Как же
все это отличалось от лекций Ансена, от его скованного серьезностью лица и черной
бабочки под подбородком!
А когда они с Августом пошли на спектакль японского театра в Амерс-театер, Хане-
ману показалось, что они попали — так бы он это определил — на другую сторону. Лица
японских актеров, снующих по сцене в черных и белых кимоно, были похожи на гипсо-
вые маски, тишину чистых цветов шелка нарушали только стоны цитр и флейт— но тела!
Весь рассказ был соткан из движений пальцев, легких шажков, наклонов туловища! Ис-
тинный гимн в исполнении живущих собственной жизнью плеч, бедер, рук и стоп! Пос-
ле того представления в классицистическом здании на Гётештрассе Ханеман не мог боль-
ше смотреть на отплясывающие чарльстон или уанстеп пары, дрыгающиеся в золотис-
том свете лампионов за окнами кафе. Это же заводные куклы! Манекены! Восковые
фигуры из паноптикума, конвульсивно сотрясающиеся в механическом ритме! Танец
японских актеров был вибрацией жизни. Овитое черным и белым шелком тело выража-
ло страх, надежду, любовь, колыхалось от порывов невидимого ветра, выпрямлялось,
точно трава после дождя. Слова не были нужны! В ярком свете сцены напудренные руки
с изумительной выразительностью вычерчивали каждый знак. Длинные пальцы, извива-
ющиеся как щупальца актиний, без труда плели паутину теней и бликов. Японские акте-
ры! Кто кроме них умел так говорить телом?
Именно тогда, направляясь по Фридрихштрассе к станции метро, Ханеман впервые
задумался о немых людях. И сам немного удивился, хотя всякий раз, когда бы ни видел в
кафе, на вокзале, в поезде девушку или парня, беззвучно объясняющихся с помощью
жестов, неизменно восхищался — да, восхищался! —искусным трепетанием говорящих
рук, которые, как ему казалось, способны выразить все. Он мог смотреть на них без кон-
ца, правда, подобно всем остальным, делая вид, что не смотрит, ведь это было невежли-
во. И эта противоречивость: он же знал, что мир, в котором они живут, беден, ограничен
немногочисленными простыми понятиями, однако не мог отделаться от впечатления,
что Бог наделил их чем-то, чего он лишен. Как же так? Как примирить тесноту тишины,
Ханеман
105
в которой они замкнуты, с удивительной открытостью? Беззащитность и беспомощность
— с безукоризненной точностью жестов? Они то казались ему жалкими в своей убого-
сти, то воспаряли над говорливой толпой, плывущей под фонарями широкой улицы,
молчащие и тем не менее увлеченные беседой из неслышимых слов. Он ходил на лекции
Петерсена, старался научиться всем этим движениям — сомкнуть, расправить, изогнуть
пальцы, — чтобы заглянуть на «их» сторону. А потом? Он хорошо помнил сентябрьский
вечер, когда, возвращаясь из Коллегиум Эмаус, на станции метро «Бельвю» подошел к
двум девушкам и впервые что-то «сказал» несколькими взмахами кисти, а они ответили
ему быстрой жестикуляцией. Это было забавно и очень красиво: подойти вот так, с опас-
кой — получится ли? — «сказать» что-то, понять ответ и увидеть все эти бросаемые ук-
радкой, смущенные взгляды прохожих, косившихся из-за газет, из-под шляп, делающих
вид, что не смотрят. Вероятно, его приняли — с шутливой гордостью похвастался он на
следующий день Августу — за одного из «тех». И отлично!
Когда Ханка ввела Адама в комнату на втором этаже, мальчик поклонился небреж-
но, словно с трудом удержавшись от неприличного жеста, но она смотрела на него с
восхищением. Ханеман улыбнулся. Они были даже чем-то похожи. Он усадил мальчика
за письменный стол, развернул большой лист с рисунками положения пальцев для всех
букв алфавита (Мама принесла этот лист из Академии от доктора Михейды), поставил на
стол небольшое зеркало, сел возле Адама, и так, сидя рядом, они начали складывать паль-
цы, как было указано на рисунках. Адам повторял жесты с иронической, чуточку оскор-
бительной усмешкой, но уже через несколько минут явно стал получать удовольствие от
самого движения пальцев, с легкостью лепивших в воздухе любую букву. Ханеман начал
с имени «Адам». Дело пошло на лад так быстро, что он спросил: «Ты этому учился?»
Адам только поморщился. На некоторых буквах он, правда, спотыкался, вынужден был
смотреть на образец и, раздосадованный, сразу начинал по-своему рисовать целый рас-
сказ. При этом взмахи рук, шевеление губ, прищуривание глаз — танец лица, пение паль-
цев — были такими естественными и заразительными, что мы с Ханкой, сидя на софе,
невольно повторяли пируэты маленьких ладоней. Когда же Ханеман на минуту выходил
из комнаты, Адам вылезал из-за письменного стола и несколькими жестами, наклоном
головы, изгибом шеи, вскидыванием бровей воспроизводил облик своего учителя. Хан-
ка, возмущенная, вскакивала с софы: «Не обезьянничай, Адам!» Но возмущение мгно-
венно растворялось в улыбке, так это было уморительно и точно подмечено. Каждое
движение. Изображение задумчивости. Подпирание рукой лба. Закидывание ноги на ногу.
Приглаживание волос. Ханка пыталась дать Адаму подзатыльник, но, увернувшись от
занесенной руки, он убегал за стол, загораживаясь креслом. А потом срывал с вешалки
шляпу Ханемана, криво нахлобучивал ее на голову и, плюхнувшись в кресло, застывал в
позе мыслителя. Ханеман появлялся в дверях, восклицая: «Пан Ханеман, в головном уборе
за столом не сидят!» Адам с низким поклоном отдавал ему шляпу, а Ханеман взъероши-
вал его волосы — легким, мягким, озорным движением.
Далеко не сразу я сообразил, что точно так же частенько трепала наши вихры Хан-
ка. Она, видно, тоже это заметила, потому что глаза ее насмешливо сузились. Теперь ей
нравилось смотреть на этого высокого мужчину, который, склоняясь над мальчиком,
своими большими белыми руками осторожно и ласково помогал ему складывать паль-
цы, когда попадались особенно сложные буквы. Он нисколько не был похож на того се-
рьезного господина, с которым они тысячу раз встречались на дорожке. Теперь ей было
неловко за то, что тогда, на лестнице, она замахнулась на него и выкрикивала всякие глу-
пости. Но когда Ханеман сказал: «Пани Ханка, пересядьте поближе. Так вам будет лег-
че», она села рядом с Адамом и начала повторять все, что делали они, хотя и немного
стесняясь — с чего это она машет руками и смотрит на себя в зеркало. Глядя на свое
отражение, она говорила: «Нет, не получается у меня с этими пальцами». Ханеман брал
ее за руку и складывал пальцы в форме буквы Я. Сгибал безымянный палец, потом ми-
зинец, подтягивал к ним большой, но мизинец не слушался, отскакивал от ладони, и он
терпеливо повторял все сначала: «А теперь посмотрите в зеркало. Это должно выглядеть
так. Видите?»
106
Стефан Хвин
Она, конечно, видела, но что толку? Палец упорно не желал повиноваться. Закусив
губу, она прижимала его к ладони. «Так лучше?» Ханеман заглядывал в зеркальце: «Толь-
ко не отпускайте большой палец». Адам давился от смеха, я тоже не мог сдержаться. Ох,
эти глупые взрослые!
Потом к помощи зеркала стали обращаться все реже. Ханеман садился напротив
Адама, и они «разговаривали» быстрыми движениями пальцев. Адам без труда читал по
губам — в отличие от Ханки, так что Ханеман усаживал ее перед собой и медленно,
беззвучным шепотом, выразительно шевеля губами, произносил: «Не вставайте». Хан-
ка отвечала пальцами, тщательно вырисовывая в воздухе каждую букву: «Х-о-р-о-ш-о».
И заливалась смехом. А их колени на секунду соприкасались. Адам, стоя у окна, уча-
ствовал в этой игре, как зеркало повторяя движения Ханкиных пальцев, пытающихся
поймать слово и отбросить обратно Ханеману.
Но и хлопот с Адамом было немало. Он мог выбежать под дождь и, прогуливаясь по
дорожке с невидимым зонтиком в вытянутой руке, вымокший до нитки, покачивал бед-
рами, как пани В., изображал пана Боруня, воскресным утром направляющегося в кос-
тел цистерцианцев, вынимал изо рта невидимые гвозди, как это делал пан Ожеховский, и
меткими ударами прибивал что-то к невидимой, прозрачной и невесомой стене из глухо
шумящих капель, которая вырастала посреди сада, подсвеченная радужными брызгами
послеобеденного солнца, и все эти жесты, отточенные и нагловатые, в точности копиро-
вали жесты наших соседей...
Ох, быть кем-то другим, не тем, кто ты есть... Я выбегал из дома, чтобы включиться
в эту злую, захватывающую игру, кричал что-то, запрокинув голову к небу, чувствуя, как
с ресниц стекают теплые капли августовского дождя; взявшись за руки, мы плясали в
лужах, шлепая пятками по бурой воде — еще раз, и еще, сильнее! — пока в кухне не
распахивалось окно и Ханка, грозя обвалянным в муке кулаком, кричала: «Ну сколько
можно?! Какой бес вас попутал? Все соседи на нас разобидятся!» Потом, когда, запыхав-
шиеся, промокшие, оставляя на зеленом линолеуме следы сандалий, мы влетали в кух-
ню, она вытирала нам головы полотенцем и говорила Адаму: «Ты же мокрый как мышь.
Носишься под дождем. Ну зачем тебе это?» Но Адам, набычившись, не давал себе труда
даже пальцем повести в ответ.
Когда в конце августа он пришел с улицы с рассеченной губой, из которой текла
кровь, Ханка долго не могла произнести ни слова. «Боже, кто тебя так? Говори! — ка-
ким-то хищным птичьим движением она привлекла его к себе; на ситцевом платье оста-
лось несколько красных пятнышек. — Скажи, кто тебя так? Да я им глаза выцарапаю!» Я
догадывался, кто его так. Адам любил передразнивать братьев Стемских из двенадцатого
дома, и рано или поздно этим должно было кончиться. Ханка выбежала на улицу, но что
она могла сделать? Вся в слезах вернулась домой. Мама тем временем протерла разби-
тую губу Адама ваткой: «Ничего страшного. Но вообще будь с ними поосторожней».
Как он жил раньше? Когда вечером мы лежали в своих кроватях, Адам у окна, я око-
ло батареи — возбужденный играми под дождем, все еще шлепающий, разбрызгивая
желто-бурую воду, по теплым лужам, жаждущий разгадки всех тайн, — я говорил, пони-
зив голос, чтобы Мама, то и дело выглядывающая в прихожую, охраняющая домашнюю
тишину, не услышала моих слов: «Адам, ты спишь? Ты где жил — в Гданьске или откуда-
то приехал?» Но Адам только показывал мне фигу. Я не сдавался: «У тебя есть кто-ни-
будь? Родители живы?» Но он только отворачивался к стене и натягивал на голову одея-
ло. Я смотрел на горку, под которой он исчезал. Белое полотно сотрясалось то ли от сме-
ха, то ли от плача. У меня падало сердце. «Адам, ты что? Перестань, я не хотел...»
Потом, лежа на спине, я смотрел в потолок, на котором дрожали тени веток расту-
щей в углу сада березы, а белая горка у окна постепенно замирала. Свет автомобильных
фар проплывал по оконным стеклам. По улице Гротгера проезжала «варшава» пана Веж-
боловского, возвращавшегося со второй смены из «Англяса», хлопала дверца машины,
со стуком закрывалась калитка.
Колпак уличного фонаря раскачивался на ветру.
Я не мог заснуть.
Ханеман
107
Бритва
О художнике, покончившем с собой на восточных болотах, пан Ю. вспоминал еще
несколько раз по разным поводам, но Ханеман слушал его рассеянно, хотя старался это-
го не показывать.
Однажды, впрочем, когда они беседовали за стаканчиком красного вина и пан Ю.
упомянул Анджея X., одного из учеников гимназии на Тополиной, которого Ханеман
какое-то время назад обучал немецкой грамматике и о котором был наилучшего мне-
ния, слова пана Ю. вывели его из состояния приятного, слегка меланхолического безраз-
личия. Мальчик недавно прочитал странную книгу — роман о нашествии желтой расы
на Европу, — потрепанный экземпляр издания еще тридцатого года; автором этого ро-
мана был художник, о котором они так много говорили; когда пан Ю. спросил у Анджея,
каково его впечатление, тот ответил с нескрываемым раздражением, словно хотел уяз-
вить пана Ю.: «Он был прав. Такая жизнь, как у нас здесь, лишена всякого смысла».
Пан Ю. страшно разволновался. Он-то считал, что книга, которую мальчик нашел в
отцовской библиотеке, должна научить его не принимать близко к сердцу происходящее
вокруг (сейчас это было просто необходимо, тем более Анджею, чей отец, бывший офи-
цер третьего полка из Язловца, после короткого судебного процесса оказался в тюрьме
в Барчеве), но Анджей истолковал роман превратно — как обвинение в собственный
адрес!
Пан Ю. попытался объяснить ему, что художник совершил ошибку, что он вскрыл
себе вены, желая убежать от жизни, но жизнь всегда против нас, и, стало быть, бегство —
самый простой выход; да, он боялся тюрем и лагерей, но ведь столько людей прошли
через лагеря и продолжают жить. «Получается, он был трус?» — иронически спросил
мальчик. Пан Ю. заколебался. «Нет, он не был трусом. Только чересчур многого хотел от
жизни». — «Значит, от жизни надо немногого хотеть? Не больше, чем положено?» Пан
Ю. не сумел скрыть досады. «Не в том дело». — «А в чем?»
«Скажите на милость, — говорил пан Ю. Ханеману несколько дней спустя, — разве
мы не живем в другой исторической реальности — той самой, от которой он убегал?
Может, жизнь и не такая, как нам бы хотелось, но все-таки жизнь. Он перерезал себе вены,
но ведь миллионы людей себе вен не резали. Миллионы! Ну?»
«По-вашему, он должен был отложить бритву, да? И жить так, как мы? Здесь, в этой
Польше? — восклицал мальчик. — И это бы вас устроило?»
Ханеман слушал с напряженным вниманием. Он заметил, что пан Ю. теперь иначе
говорит о смерти художника. Так, будто эта смерть была не только личным делом старе-
ющего мужчины, который в первые дни войны вскрыл себе вены, но касалась всего на-
рода. Пан Ю., сочувствуя художнику, еще больше сочувствовал самому себе и «несча-
стной отчизне».
Но по-настоящему заинтересовало Ханемана нечто другое. Пан Ю. недавно вернул-
ся из Варшавы с похорон своего старого друга (того самого, который был знаком еще с
Чеховичем); вещи покойного теперь попали к нему в руки, и он привез их в Гданьск, в
квартиру на улице Ясекова долина возле бывшей кирки. Вещей этих было немного. Не-
сколько эскизов, набросанных рукой художника, картина Валишевского, маленькая скуль-
птура Пронашко, фотографии в альбомах с черными кожаными корешками, вырезки из
газет, какие-то странные брошюры со стихами футуристов... Пан Ю. хотел отдать все это
в музей при костеле Святой Троицы, но пани Лер из отдела комплектования, с которой он
когда-то познакомился у Штайнов на Кленовой, посоветовала не торопиться. «Не те сей-
час времена и не то искусство...»
Больше всего пана Ю. поразили (и обрадовали) фотографии, обнаруженные в од-
ном из альбомов, и именно эти фотографии он принес показать Ханеману.
В первый момент Ханеман решил, что это шутка, и уже собирался спросить у пана
Ю., как ее понимать, но пан Ю. его опередил: «Да-да! Это тот самый художник, о кото-
ром я вам рассказывал!» Ханеман взял фотографии. Что ни снимок, то другое лицо.
Хотя... Да! Он присмотрелся к глазам. Глаза везде одинаковые: спокойные и холодные.
108
Стефан Хвин
Но лица? В вылепленных с жестокой безжалостностью лицах почти не улавливалось сход-
ства, и Ханеман чуть было не попросил у пана Ю. какую-нибудь обыкновенную фото-
графию, чтобы посмотреть, как на самом деле выглядел художник, о котором они столько
говорили, однако почувствовал, что просить бессмысленно: такой фотографии наверня-
ка нет.
Значит, это... Со старого фото на4него смотрел круглолицый, румяный ротозей в
лихо сдвинутой на затылок кепке уличного мальчишки, но уже на следующем снимке
этот самый щекастый ротозей неожиданно преображался в аристократа в наглухо зас-
тегнутом мундире офицера царской гвардии! А дальше? Беззащитный, хрупкий и изящ-
ный художник? Но ведь уже через минуту этот темноглазый неврастеник с кошачьей лов-
костью превратится в железного комиссара в кожанке, а затем в жизнерадостного тор-
говца оружием, а затем в толстого приходского священника... И эти меняющиеся губы,
щеки, нос! У Ханемана голова пошла кругом. Ведь в первую очередь погибают именно
те, кому дано ни на кого не похожее, свое лицо, свой язык, жесты. Именно им приставля-
ют пистолет к виску. Вероисповедание! Национальность! Место рождения! Партийная
принадлежность! Друзья! Враги! Откуда убегаешь? Куда убегаешь? Покажи руки! Смот-
ри прямо в глаза! Тебя выдал акцент! Форма носа! Разрез глаз! Но для лица, которое он
сейчас видел перед собой, не существовало ничего невозможного, человек с таким ли-
цом волен сам выбирать себе судьбу — так откуда же эта смерть?..
Ханеман почувствовал, что его разбирает смех: то, что художник выделывал на
фотографиях со своим лицом, было и вправду забавно.
Но вскоре ему прискучил этот хоровод ужимок, гримас, вытаращенных глаз... Он
без интереса рассматривал фотографии, из вежливости осведомляясь, кто на них изоб-
ражен. Женщины? Пан Ю. многозначительно подмигивал. «О, если б вы знали! Целый
гарем!» Но женщины, даже если и появлялись, все равно были едва различимы в буро-
черном тумане, клубившемся на фотобумаге...
Что тогда пан Ю. говорил о Клейсте?
Мальчик в мундире прусского офицера, глаза которого горели безумием? Кажется,
так, но его безумие имело совершенно иную окраску — в нем чувствовались достоин-
ство и сила, хотя и за ними угадывалась смерть. С разложенных на столе, за которым они
сидели, фотографий смотрели искривленные лица стареющего мужчины — что же, у
него все ускользало из рук и оставалась только гримаса? Возможно, будь художник мо-
ложе... Тогда, пожалуй, это бы еще было сносно. Нет, с неприязнью подумал Ханеман,
этот человек переступил незримую границу, за которой уже только распад. Клейст тако-
го не сделал. Он понимал, что корни ошибки — в недрах самого времени, что, шагнув на
ту сторону, теряешь все...
Ханеман равнодушно разглядывал лицо, пляшущее на темных фотографиях. Поду-
мал, что старость — страшная штука и что никому ее не избежать, хотя мужчина, на ко-
торого он смотрел, был не так уж стар. Но в какой момент это начинается? Пан Ю. бор-
мотал: «Блестящий был человек. Невероятно талантливый, хотя, по мнению некоторых,
что-то его корежило, толкало к шутовству. Но пусть бы попробовали сделать хоть часть
того, что сделал он...»
Ханеман, слушая эти дифирамбы, внезапно подумал о девушке, которая там, на
восточных болотах, рыла пальцами неглубокую могилу. Именно о ней, маленькой свет-
ловолосой девушке, которая села в поезд, идущий на восток, а потом шла вместе с ху-
дожником по лугу к большому дереву и вместе с ним глотала таблетки, давилась, но гло-
тала, хотя совсем не хотела умирать. Чем он ее увлек — этим своим лицом, вылеплен-
ным из живого воска? Но каким было его лицо тогда, в ту минуту, когда он подавал ей
кружку с люминалом, а сам вытаскивал из кожаного футляра бритву?
«Не засыпай раньше меня, не оставляй меня одного»?
Пан Ю. со смехом рассказывал про свое посещение квартиры на Брацкой, но Хане-
ман вдруг спросил: «Как ее звали?» Пан Ю. в первую секунду не понял. «Кого? Ах, ее...»
Ведь в те дни, когда чужие армии захлестывали Польшу, важно было то, что произошло
с художником, а вовсе не эта женщина...
Ханеман
109
Ханеман, однако, повторил вопрос. Он хотел знать, что произошло именно с ней,
кто она теперь, что делает, как все это вынесла. Ведь сейчас — и это было неожиданным
открытием — они тут, в залитой солнцем комнате на Гротгера, 17, беседуют о художни-
ке, погибшем на восточных болотах, а она жива, что-то говорит, идет где-то по улице... Но
пану Ю. немногое было известно. Кое-что он слыхал от разных варшавских знакомых,
кое-что видел собственными глазами, но какая доля того, что о ней рассказывали, была
правдой?
После того, как ее нашли под большим деревом, она несколько дней пролежала без
сознания. Со всей деревни сбежался народ. Крик, причитания, шаги. «Пан, поляк, смерть
себе зробил». Это были добрые люди, они приносили яйца и творог, кто-то даже дал ей
маленькую, вышитую зелеными листочками подушку. Она была моложе его на семнад-
цать лет. Шептались: «Чудной отец, родную дочку хотел угробить». Когда она вернулась в
город, ею занялись знакомые художника, она печатала на машинке, разбирала бумаги.
Потом, после восстания, попала в лагерь в глубине Германии. Там ее отыскала сестра.
Войдя в барак, увидела ее на нарах. Она сидела на нарах, пытаясь осколком стекла перере-
зать себе вены. Сестра вырвала у нее осколок; она сопротивлялась, крича: как он мог тогда
ее оставить! он же знал толк в ядах! она не случайно уцелела! это он, это его вина, он ее любил
и потому дал меньше, чем нужно, чтобы она только заснула и он мог спокойно наложить
на себя руки, чтобы она ему не помешала! Он оставил ее одну. Она не могла ему этого
простить. Проклинала. Пришлось ее связать, чтобы она чего-нибудь с собой не сделала.
Она лежала на нарах с закрытыми глазами. Не плакала. Только плотно сжатые губы.
Она пережила лагерь, но возвращаться ей было некуда. В городе все сгорело. Она
скиталась по чужим квартирам. Поехала в городок в горах, где осталось еще несколько
человек, которые его помнили. Она все еще была молода, но не могла смотреть на муж-
чин. Потом начались боли. Отслоение сетчатки. Мигрени. Она работала в санатории,
молчаливая, отчужденная, ни с кем не сходилась. Никто не знал, что она—девушка того...
Иногда только она говорила, что ждет, «когда наконец свершится». Часами до изнеможе-
ния бродила по горным дорогам. «Я не живу», — шептала сама себе. Однажды кто-то о
ней сказал: «Ищет смерти, потому что не может найти жизни». Людей она не выносила.
Их вид был для нее нестерпим. Взрывалась по пустячным поводам, легчайшее дунове-
ние ветра ее раздражало. Точно она — открытая рана, а воздух — соль. И упорно счита-
ла себя его женой. Ведь тогда там, под тем деревом, они обвенчались, церковь признает
такие браки. Свою маленькую квартирку она называла «склепом». Даже когда хворала,
днем не ложилась в постель — бодрствовала в кресле, укрывшись дубленкой. Боялась
заснуть, чтобы не почудилось, будто она в гробу. Она не могла себе простить, что тогда
его послушалась. Что не сумела отговорить. Она не в силах была забыть ту минуту, когда
очнулась и упала на него, мертвого, в крови. Свои письма подписывала его фамилией.
Заглавными буквами. И еще подчеркивала. Над ней смеялись, но ей хотелось, чтобы все
знали, кто она. Везде представлялась его женой, хотя отлично знала, что настоящая жена
еще жива. Работала она в канцелярии, но одеваться начала, как женщины, которыми он
себя окружал. Странные, ниспадающие до земли платья, ожерелья, на голове большой
черный берет, точь-в-точь как у него, на запястьях широченные серебряные браслеты.
Вокруг посмеивались: «Манжеты». Полагали, что она закрывает вытатуированные в
лагере номера и шрамы от бритвы... С кем бы она ни разговаривала, всегда говорила
«мы». Это означало: я и он, тот, что погиб на болотах...
Пан Ю. неохотно рассказывал про девушку художника. Вероятно, потому, что уж
очень все это было грустно, мучительно, угнетающе, но мало ли случается подобных
историй? Судьба художника — вот что важно, а эта женщина впуталась не в свое дело и,
следовательно, должна оставаться на заднем плане. Для пана Ю. она была источником
информации о той смерти, и только. Разумеется, он ей сочувствовал, но она его раздра-
жала своей агрессивной нервозностью, страхами, внезапными истериками. Стоило ли
удивляться тому, что он с облегчением покидал маленькую квартирку, заставленную
картонами с портретами большеглазой, хрупкой, причесанной под пажа светловолосой
девушки?
110
Стефан Хвин
Однако Ханеману не удавалось переключиться. В голове вертелись последние сло-
ва художника, но перед глазами стоял образ перерезающей себе вены осколком стекла
девушки, которая проклинала художника за то, что он ее обманул и ушел один. И еще эти
«манжеты», хихиканье за спиной, насмешки...
Страх — как будто он коснулся чего-то...
Благосклонность и неблагосклонность судьбы. Совместная смерть Клейста и Ген-
риетты на берегу Ванзее показалась ему даром, каким были обделены те двое, умираю-
щие там, на восточных болотах. Это свалилось на них помимо их воли. Незаслуженно.
Несправедливо. Она выжила. Продолжает жить. Ну и какой в этом смысл? Могло ли быть
что-нибудь хуже? Растерянный, испытывая недоброе горькое чувство, Ханеман погру-
жался в мир сверкающих образов, которые смягчали тревогу в сердце, хотя и таили в
себе боль: голубое озеро, красные клены, луга, белая скатерть на траве, два пистолета
возле бокалов с вином и золотая тропка, взбирающаяся к облакам... Как будто он рас-
сматривал одну из литографий Каспара Давида Фридриха.
Но так было раньше — теперь душу занимало другое, теперь его радовали посеще-
ния этого немого мальчика и этой темноволосой молодой женщины, которая хотела
причинить себе зло, но, к счастью, ничего у нее не вышло. Его радовало все, что они
делали вместе: гимнастика пальцев, танец рук, смешные птичьи движения, обозначаю-
щие простейшие слова; в каждом жесте, казалось, далеким эхом повторялись берлинс-
кие времена — семинар Петерсена, споры с Августом под крышей клиники, мансарда
фрау Ленц, странная встреча с мистером Аутлайном, волнение, с каким он впервые «ска-
зал» что-то двум девушкам на станции метро «Бельвю», а они ему ответили, и он понял
каждое «слово». Чего же он сейчас хотел? Отгородиться от нее? Загладить свою вину? А
может, он обязан сделать все, чтобы с ней не случилось того, что случилось с девушкой,
которую Спасли на восточных болотах? Загладить вину... За что? За то, что насильно вер-
нул ее к жизни?
Вину?
Ханеман откладывал фотографии.
А пан Ю.? Пан Ю. возвращался домой по Ясековой долине, размышляя над слова-
ми пана Б., соседа из дома десять, который пару дней назад остановил его у калитки:
«Зачем вы туда ходите? Не обманывайте себя. Он нас презирает, как всякий шваб. Сей-
час они друг друга ненавидят, но как только договорятся, Россия отдаст им Гданьск. И
нас заодно: жрите! Смеетесь? Думаете, это невозможно? Вы здешний, из Вольного го-
рода, вот ничего и не знаете. А я видел. В теплушках нас будут вывозить. Остается только
ждать. Или одни, или другие... А вы еще к нему ходите. Зачем?»
Интересно, думает пан Ю. Ведь ему бы следовало сказать, что единственный выход
тут — бритва...
Так почему же он этого не говорит?
Почему говорит только о теплушках?
Белила и пурпур
В конце сентября, когда увитая диким виноградом стена приходского дома горела
темным пламенем, а среди лопухов зажелтели громадные тыквы, ксендз Роман стоял
перед нами в потоке солнечного света и, щуря глаза, говорил о гневе Господнем и о пре-
зренных торговцах из иерусалимского храма.
Кисти его рук, то трепещущими голубями взмывая вверх, то резко падая вниз, взба-
ламучивали в воздухе золотую пыль, но я, как ни старался, не мог сосредоточиться на
словах, доносящихся от доски, и только когда ксендз Роман, угрожая или предостерегая,
повышал голос, думал, как примирить образ Господнего гнева, так красиво изображае-
мый танцем белых рук, с рассказом о подставленной щеке, который мы услышали здесь
же неделю назад. Я знал, что те уже ждут «этого немого», чтобы с ним поквитаться, и
хотя понятия не имел, что он такого им сделал, все во мне кипело при мысли о том, что
Ханеман
111
кто-то может его тронуть. Поэтому, нетерпеливо считая минуты, я поглядывал то на
Адама, то на свои вспотевшие от волнения ладони — скорей бы уж часы на башне кос-
тела цистерцианцев пробили три!
А потом, когда дверь приходского дома со стуком распахнулась и мы выбежали на
улицу, там, за поворотом, около живой изгороди, на дорожке, ведущей к костелу, я уви-
дел тех. Но Адам их не заметил, он спокойно шел к изгороди, и тогда я побежал — не мог
не побежать! — чтобы его опередить.
О, как же несло меня вдохновение — мощное, чистое, доброе вдохновение, подоб-
ное тому, что повелело Ему изгнать торговцев из иерусалимского храма, а Отца (я хоро-
шо помнил Мамин рассказ о первом дне на Гротгера, 17) заставило выгнать чужих из
комнаты Ханемана. Я чувствовал в себе точно такую же священную силу, и эта сила —
могучая и чистая — приказала мне сжать кулаки, и когда я подлетел к тем, когда мое лицо
залила краска негодования и презрения, внезапно — жгучая боль! — что-то впилось мне
в загривок, потянуло назад и голос, который я, ошеломленный неожиданностью, не уз-
нал, загремел прямо над правым ухом: «Бить слабых?! После урока религии?!»
В голосе ксендза Романа клокотал сдавленный гнев ветхозаветных пророков. Меня
затрясло. Вокруг собралась толпа. Знакомые и незнакомые лица, сощуренные глаза, косы,
разноцветные рубашки. Зеваки толкались, норовя протиснуться поближе — наконец-то
случилось что-то интересное! — вытягивали шеи; шипящий смешок неискреннего осуж-
дения обжег мне щеки. А ксендз Роман тряхнул меня раз-другой, и только на мгновенье
где-то среди голов мелькнули притворно смиренные лица тех, кого я хотел изгнать из
Храма и кто теперь обрядился в одежды оскорбленной невинности. Оправдываться? Что-
то объяснять? Сейчас? Я безошибочно почуял, что мой крик: «Да это они, а не я, это они
грозились, я только защищал!!!» — был бы для ксендза Романа сущим даром небес. Гля-
дите: вот он, грешник, не способный раскаяться, трусливо сваливающий вину на других!
Да у него сердце от всего этого должно разорваться...
А тут еще Адам, страдальчески искривив лицо, принялся с панической скоростью
объяснять, как было на самом деле. Вытянутой рукой целился в Стемских — то в Менте-
на, то в Бутра, — грозил кулаком, выкатывая голубоватые белки, возводил глаза к небу.
Ксендз Роман перестал меня трясти, прищурился, и вдруг его прорвало: «Ах и немого
тоже?! Ах и... — поспешил поправиться, —увечного?! И тебе не стыдно!» Я почувство-
вал, что земля уходит у меня из-под ног, рванулся, пытаясь высвободиться из железных
клещей, но ксендз Роман... Да, теперь я чувствовал, теперь я уже был уверен, что пре-
красный образ готического храма, заставленного кощунственными лотками, храма, в
котором длань Всевышнего обрушилась на безбожные затылки иудейских торговцев,
открылся взору ксендза Романа— недаром громовой голос стих, померк, превратился в
шепот, который всегда вселял в нас нешуточный страх: «Пусть мать с отцом придут ко
мне завтра после вечерней мессы! — пальцы ксендза Романа скрутили мое ухо в горя-
щую ракушку. — А ты сейчас посидишь в зале и подумаешь над тем, что сделал». Боль,
стыд, унижение. Шуршащая сутана в молчании повела меня к приходскому дому, и лишь
на секунду где-то над головами еще раз мелькнули слегка испуганные, язвительные фи-
зиономии моих «жертв».
Приходский дом при костеле цистерцианцев, некогда евангелический молитвенный
дом... Никакой тебе барочной позолоты, гипсовых облаков, лучей, пальм, лент в стиле
рококо, ангелочков — ничего похожего на весь этот чудесно-будуарный декор, в кото-
ром мы по воскресеньям перед главным алтарем Собора готовились к встрече с Все-
вышним. Ксендз Роман ввел меня в пустой прямоугольный зал с белыми как мел стена-
ми, где стояли черные скамьи с готическими цифрами на пюпитрах, а затем, указав паль-
цем на висящее над доской распятие из черного дерева, закрыл за собой двустворчатую
дверь и повернул в замке толстый ключ.
И тут, в белом зале, где — я это почувствовал — рядом со мной расселись безымян-
ные и совершенно прозрачные важные, задумчивые тени единоверцев пастора Кнаббе,
покидавшие свои места только на время папистских проповедей ксендза Романа, передо
мною разверзлась бездна, в которую я еще никогда не заглядывал. Я рад был бы все по-
112
Стефан Хвин
нять и простить, но ведь ничего похожего на то, что произошло возле живой изгороди,
на то, в чем принимали участие мы с ксендзом Романом, не было ни в Новом, ни в Вет-
хом Завете. Разве Господь устами пророков и апостолов говорил хоть где-нибудь о по-
добном происшествии? Я понимал, а вернее, испуганно бьющимся сердцем ощущал
страдания святого Стефана, святого Павла, святой Цецилии, прекрасные страдания по-
биваемых камнями, распятых, истерзанных мучеников, над головами которых вспыхива-
ет маленькое солнце, а с облаков под звуки ангельских труб плавно слетают пальмовые
веточки, чтобы увенчать обагренные кровью виски, — но эта боль? Писание, куда мы
заглядывали каждое воскресенье, то самое Писание, страницы которого, заложенные
красной ленточкой, я аккуратно переворачивал, веря каждому слову, бросило меня на
большой дороге, ничего не рассказав о том, как надлежит себя вести душе, попавшей в
такой переплет, когда слезы смешиваются с мерзким, жгучим хихиканьем, со злыми
вспышками чьих-то глаз; я остался один, покинутый, оскорбленный, униженный; стоя
на коленях между рядами протестантских скамей, я беззвучно шевелил губами: «Поче-
му?» Я не понимал. Ненависть? Нет, я вовсе не испытывал ненависти к ксендзу Роману
(ну может быть, самую малость, вначале...), ведь не надо мной одним, а над нами обо-
ими надсмеялось нечто, забавляясь моим бессилием и его неведением. Мы оба не вино-
ваты и тем не менее наказаны; я не сомневался, что, едва ксендз Роман.узнает, как оно
было на самом деле, ему — после этой расправы со мной — станет страшно неловко.
Однако когда волна обиды и горечи застлала глаза слезами и их пелена на миг засло-
нила строгие контуры распятия с маленькой табличкой «I.N.R.I.»1, я ударом кулака по
пюпитру призвал старое доброе заклятие: «Ну нет! Нетушки!» Нет, я не помышлял о мести
(кому, собственно, мстить?), меня потряс сам ход случившегося, в котором я не мог отыс-
кать ни малейшего смысла и уж тем более логического обоснования вины, наказания
или награды (в какой-то момент я услышал в себе коварный вопрос: «А если эта священ-
ная сила, которая понесла тебя на них, оттого обуяла тебя, что они и вправду слабее?» —
но отогнал эту мысль как совершенно нелепую). Я не мог успокоиться. Глядя на черное
распятие, я искал каких-нибудь аналогий, которые позволили бы поместить то, что про-
изошло, в разумный мир взрослых, мудрый мир святого Стефана, Генисаретского озера,
бегства в Египет, горящего Содома, и что-то во мне рождалось, медленно, с трудом, пока
еще неясное, хрупкое и болезненное, и приказывало по-иному, не так, как раньше, смот-
реть на ту странную — по моим представлениям — осторожность, с которой Ханеман
раскладывал морские ракушки из далекой Японии, на ту нежную бережность, с какой он
полировал серебро, на неспешные движения руки, водящей пером по бумаге или про-
тирающей влажной тряпочкой листки герани. Раньше я считал все эти движения постыд-
но немужскими и едва ли не бессмысленными — и вдруг увидел в них тревожную, даже
пугающую значительность.
Потом стук, треск, я посмотрел в окно...
Адам? Здесь? Рехнулся! Ведь ксендз Роман... но нет! за окном прищуренные глаза,
растянувшиеся в невинной улыбке губы, темные от загара щеки. Адам взобрался на
подоконник по решетке, обвитой диким виноградом, который посадила у стены приход-
ского дома еще жена пастора Кнаббе, и, прижавшись щекой к стеклу, подает мне какие-
то знаки!
Я подождал, пока он исчезнет, открыл окно, поколебавшись секунду, осторожно —
чтобы не порвать веточки винограда, на которые я любил смотреть, когда мы по воскре-
сеньям возвращались из костела цистерцианцев, — спустился следом за ним в сад.
Давясь от смеха, мы рванули через кусты крыжовника и черной смородины к про-
волочной ограде, под которой лежали огромные тыквы, один прыжок, зазвенела прово-
лока, и вот мы уже бежим по лугу перед лицеем, оставив позади костел цистерцианцев,
чья остроконечная башня отбрасывает на луг длинную тень, потом по двору дома 7,
перепрыгивая через грядки, потом по размытому дождями песчаному обрыву и — в
лес, под защиту буковых стволов. Запыхавшиеся, счастливые оттого, что все уже позади,
1 lesus Nazarenus Rex ludaeorum (лат.) — Иисус Назарянин Царь Иудейский.
Ханеман
113
мы, обнявшись, покатились по земле: то ли в«шутливой схватке, то ли просто захотелось
поваляться в сухой листве.
А потом, разбрасывая башмаками листья, мы за первой же усадьбой свернули к
холмам и углубились в лес, в гущу высоких буков и сосен, чтобы не наткнуться по доро-
ге на преследователей из приходского дома или на Ментена и Бутра, которые — как мы
прекрасно знали — не простят нам того, чего нельзя прощать. Адам, склонив набок го-
лову, устремил на меня грозный взгляд ксендза Романа, щеки у него вспухли, залились
красивым темным пурпуром, и наконец, через минуту-другую, с губ сорвалось беззвуч-
но-возмущенное: «Бить убогого? У-бо-го-го?!» Страх мигом улетучился, я хохотал до
колик в животе, так все это было дико и немыслимо забавно... Когда же наш шаг выров-
нялся и дыхание успокоилось, Адам легкими, как рисунок японским перышком, движе-
ниями пальцев и кистей рук принялся чертить в воздухе картину того, что произошло
около живой изгороди час назад. И опять ястребиная лапа ксендза Романа— холодная и
обжигающая — поволокла меня в сторону приходского дома, опять швырнула на дубо-
вую скамью с готическими цифрами, а я, посидев немного на черном сиденье напротив
распятия, вдруг, покраснев от стыда, с кулаками набросился на Адама — потому что в
его изображении моих жестов... потому что он, копируя мои жесты, складывал руки в
истовой молитве! Я колотил его крепко сжатыми кулаками, уши у меня горели, ведь тог-
да, там, в пустом зале приходского дома, я не только гордо шипел: «Нетушки!» — тогда,
там, я в какой-то момент, опустив голову, начал шептать: «...да будет воля Твоя и на зем-
ле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день... и не введи нас в искушение...
и прости нам грехи наши...» Значит, он почувствовал это во мне, значит, углядел через
оконное стекло? Его темное от солнца лицо, едва заметным подрагиванием мышц рису-
ющее картины моей боли, страха и радости, вело рассказ о молящемся мальчишке, сми-
ренно уставившем взор на черное распятие... Какая пытка!
И какое счастье, что этот рассказ наконец закончился! Запыхавшийся, разгорячен-
ный борьбой, со свежими царапинами на руках и жгучими ссадинами на коленях —
потому что, схватившись, мы покатились в заросли можжевельника, — я чувствовал во
всем теле легкую и бодрящую пустоту, которая заполнила меня, как дыхание, свежее и
пьянящее. Наверно, это было не очень хорошо, но уж наверняка лучше того, что я пере-
жил недавно. Адам между тем остановился на тропке, усыпанной теплой хвоей, и —
возможно, чтобы оттянуть еще хотя бы на несколько минут возвращение на улицу Грот-
гера, дома которой уже проглядывали внизу за деревьями, — начал, наслаждаясь ловко-
стью собственных пальцев, рисовать в воздухе один за другим прозрачные фигуры зна-
комых и соседей! Итак: вначале пан В., подстригающий живую изгородь перед домом 14,
затем выбивающая пуховую перину пани Вардонь, затем пан Ю., поднимающийся на
второй этаж к Ханеману... Несколько движений темных кистей, изгиб шеи и вот уже сы-
новья пана С. с размаху кидают железный прут, высекая из булыжной мостовой голубо-
ватые искры... Потом опущенный подбородок, вскинутые брови, понурившаяся голова
— это пан Ц., направляясь на работу на фабрику «Даоль», в семь утра медленно выходит
из дома 12 и осторожно закрывает за собой калитку. У меня руки сами рвались принять
участие в этой беззвучной пляске пальцев, с небрежной легкостью вычерчивающих в
воздухе контур чужой жизни. И я повторял, старался повторить каждый жест Адама, что-
бы уловить тот единственный, которым и передавалось сходство! Ох, если б говорить вот
так на сотне языков, иметь сто душ, сто голосов — птичьих, человеческих, молодых, ста-
рых, давно отзвучавших, новых, мужских и женских! Увлеченные обезьянничаньем, раз-
задоренные безнаказанностью передразнивания взрослых, которые не могли нам поме-
шать, окрыленные побегом из западни, куда нас час назад затащила неведомая сила,
упивающиеся игрой в перевоплощения, дарившей нам злую, темную радость, свобод-
ные, мы задирали головы к небу и, словно бы становясь кем-то, кем на самом деле не
были, чувствовали на себе укоризненный взгляд Бога, взирающего из заоблачных высей
на буковые леса за Собором, на Оливу, на пляж и залив, и кружили среди деревьев, а бок
о бок с нами по тропке под раскачивающимися шумливыми кронами буков и сосен дви-
гались тени людей, которых мы знали; хрупкие, сотканные из ветра, беззащитные тени
Стефан Хвин
изгибались в подчеркнуто любезных поклонах, приветственно приподнимали шляпы,
обменивались рукопожатиями, грозили пальцем; десятки теней с улицы Гротгера шли с
нами по сухим буковым листьям, сливаясь с нашими тенями, будто хотели быть живее
наших тел. С какой самозабвенной грациозностью танцевали они на тропке, выскальзы-
вая из-под наших ног! Иногда я уже не мог различить, кто из нас настоящий: мы — жи-
вые, облеченные в плоть, шагающие вверх-вниз по холмам — или они — выхваченные
кончиками пальцев из солнечного света, сведенные к одному жесту, к одной гримасе,
которая на мгновенье наделяла их зыбким существованием, а затем с веселой равнодуш-
ной легкостью рассеивала в ничто, поскольку, возможно, уже тогда, там, на холмах, было
известно, уже было предопределено, что память — если вообще от улицы Гротгера ос-
танется какая-нибудь память—сохранит их только такими, какими я их вижу сейчас, здесь,
перед нами, на засыпанной теплой рыжей хвоей тропинке, в лучах солнца, просеянных
дрожащей листвой, в шуме сосен и буков. Восхищенный и негодующий, я отдавался этой
игре превращений — быть может, чуточку мстительной, быть может, небезобидной, —
которая радовала меня и слегка пугала, а Адам с незлобивой жестокостью раскрашивал
каждое выловленное из воздуха лицо, покрывал щеки белилами и пурпуром губы, чер-
нил брови, а потом несколькими небрежными мазками рисовал невесомую слезу на
ресницах и приклеивал к чьим-то узким губам вечную гримасу страдальческой улыбки,
в которой мы со своим злым, веселым, жадным, недоверчивым интересом к чужой жизни
прозревали себя...
Однако в этом танце, который нес нас над землей, отгоняя страхи и согревая сердца,
в этом ваянии из ветра улицы Гротгера Адам никогда не касался Ханемана и Ханки.
Склон
Голоса доносились из прихожей. Приглушенные. Торопливые. Слов я не разбирал.
Кто говорит? О чем говорит? Ночь. Почему так поздно? И шепот. Обрывающийся. Же-
сткий. Лица. Чьи? Я не мог разглядеть через матовое стекло. Разбуженный посреди ночи,
дрожащий, со слипающимися глазами, прислушивался к странному движению в глуби-
не квартиры. Нет, это не середина ночи. Вечер? Меня разбудили, не успел я толком зас-
нуть. Глаза сами закрывались, я боролся с сонливостью. Нет, никакой это не вечер. Утро?
За окном сереющее небо. Занавеска, похожая на туман. Но птиц не слышно. Я баланси-
ровал на грани между сном и явью. Адам спал у окна, уткнувшись носом в подушку.
Порозовевшая щека. Встрепанные волосы. Загорелая шея. Ухо. Кто разговаривал? По-
чему не в комнате, а на кухне?
Войти. Шаг. Еще один. Дверь открывается. «О боже, мы разбудили детей». Это Мама.
Подбегает, берет меня за руку. Ведет в ванную. Желтая струйка мочи, пена на дне унита-
за. И обратно в комнату. Укладывает меня в кровать, укрывает одеялом. Но сердце силь-
но колотится. Глаза открыты. Я смотрю на дверь. Кто же был в кухне? Мужчина? В пла-
ще? Пан Ю.? В такую рань? Шаг к двери. Рука на ручке. Дверь подается легко, даже не
скрипнув. Темная прихожая. Щека, прижатая к холодной штукатурке. Сердце никак не
успокоится. Что случилось? Отец и Мама в кухне. Уже одетые? Нет, только накинули на
плечи пальто. Ханка? Нет, она, кажется, у себя в комнате. Голос. Кто говорит? Слова от-
рывистые. Шумит, закипая, чайник. Звон стаканов. «Присядьте». Спешка? Почему? «Раз-
будите Ханемана». — «Сейчас?» Стук открывающейся двери. Мягкие шаги на лестнице.
Спускаются. Медленно. Впереди Ханеман. За ним Отец. «Здравствуйте». Передвинули
стул. «Здравствуйте, садитесь». — «Что случилось?» Шепот. Пан Ю.? Ровный голос.
Помешивание чая. Звяканье ложечки. «Вы читали «Трибуну»?» — «Вчерашнюю?» —
«Да». — «Читал. Но а что все-таки случилось?» Мама подходит к двери. Выглядывает,
нет ли кого в коридоре. Возвращается в кухню. «Пан Ханеман, не будьте ребенком. Это
касается вас». Отец у окна. «Вы уверены?» — «Пан Юзеф, ни в чем нельзя быть уверен-
ным. Но я слышал...» Опять шепот. Голос у Ханемана спокойный: «Без паники. Обо мне
не тревожьтесь. Это еще ничего не значит». Голос пана Ю.: «Что за легкомыслие! Будет
Ханеман
115
новый процесс. Контакты с «Вервольфом»ки с Западной зоной. У тех, что остались...»
Отец. Стоит у окна. «Откуда вы это знаете?» — «Слыхал в кабинете Хшонстовского, У
него сидел какой-то в штатском. Спрашивал про вас. Хшонстовский сказал, что, может
быть, возьмет вас, когда я уйду на пенсию. А он на это: «Ханемана? Забудьте. Это к доб-
ру не приведет. Ниточки тянутся на Запад. Лучше не впутывайтесь. Это мой вам партий-
ный совет». Голос Ханемана. Раздраженный, резкий: «Чепуха. При чем здесь я?» Голос
пана Ю. Вздох: «Пан Юзеф, объясните ему, у меня нет сил». Голос Отца: «Пан Ханеман,
я видел, как за одну ночь вывозят целый город. Это не шутки». Голос Ханемана: «Ну так
что? Бежать? Куда?» Пан Ю.: «Вы отлично знаете, какие были приговоры по делу Качма-
река1 2». — «Никуда я не побегу».
Тишина. Сердце сейчас выпрыгнет. Епископ? «Вервольф»? Пан Ханеман? Эти го-
лоса. Окраска слов. Страх. Все еще тихо. Сидят за столом. Чай стынет. Смотрят друг на
друга. Молчат. Пан Ю. поднимает голову. «Еще одно. У Ханки хотят забрать мальчика».
Ледяной холод в груди. Я смотрю на дверь комнаты. Адам спит. Услышал? Надо плотнее
закрыть дверь. А если он за ней стоит? Я не двигаюсь с места. В кухне тишина. Голос
Ханемана, едва слышный: «Как это — забрать? Кто?» — «Не задавайте глупых вопросов.
Они уже сюда приходили». — «Но почему?» — «Кажется, у них что-то на нее есть. Еще
по Тарнову. А то и раньше. Может, лесные отряды...» Мама с прижатой ко рту рукой:
«Господи...» Нетерпеливый жест Отца: «Откуда вы знаете?» Пан Ю. пожимает плечами:
«Жена слыхала в отделе опеки. Бумаги уже готовы. Его отправят в приют в Щецинке.
Якобы нынешняя опекунша не отвечает требованиям. Кроме того, материальное поло-
жение. Вы что-нибудь подписывали?» — «Нет, ничего». — «Значит, придут и потребу-
ют, чтобы подписали. Что у вас плохие условия». — «Но это вздор!» — почти кричит
Мама. «Не кричи, — шепот Отца. — Ребят разбудишь».
В глазах темно. Невидимая рука сжимает горло. Еще минута. Нет, этого не может
быть. Как — забрать? Адама? У нас? Куда? А тот вечер? Черная путейская куртка. Обу-
чение азбуке жестов. Драки на холмах. Побег из приходского дома. Все это внезапно
вернулось. Каждый жест. Всё. Забрать? Почему? Что мы сделали? Ведь Ханка так его
любит. Ведь ему у нас хорошо. Что она сделала? У них на нее что-то есть? Что это значит?
Скрип двери. Полоска света на полу. В двух шагах от меня. Прижаться к стене. Не
дышать. Босые Ханкины ноги. Прошлепали рядом. Нетвердые шаги. Халат, придержива-
емый на груди. Сощуренные глаза. Волосы перевязаны красной лентой. Входит в кухню.
«Что-нибудь случилось?» Попятилась, увидев Ханемана и пана Ю. «Ох, извините... я не
знала...» Мама отодвигает стул. «Сядь». Наливает чай. Ложечка со звяканьем опустилась
на блюдце. Стукнула крышка сахарницы. Ханка бормочет: «Слишком горячий». Головы
сближаются. Вначале шепот Отца, потом — скороговоркой — Мамин. Стул рывком в
сторону. Шаги. Ханка пробегает через прихожую. «Нет!» — кричит. Влетает в комнату.
Адам, испуганный, вскакивает. Ханка обнимает его. Адам прижимается к ней, он ниче-
го не понимает. Я подхожу к ним. Оба дрожат, обнявшись. Ханка плачет. На пороге Мама,
за ней Отец. В кухне пан Ю. Смотрит в окно. Ханеман в прихожей. Пан Ю. встает: «Я
выйду через сад. Так будет лучше». Ханеман кивает, протягивает руку: «Спасибо». Пан
Ю. отворачивается: «Ничего не говорите. Лучше ничего не знать». Ханеман снова кива-
ет. Пан Ю. уходит. Минута, и он исчезает за шпалерой туй.
Ханка гладит Адама по голове. Целует его лоб, глаза, щеки. Шепчет: «Я тебя никому
не отдам, понимаешь? — Адам смотрит на нее, все еще не понимая. — Ты будешь со
мной всегда». Адам легонько проводит пальцем по ее лицу, рисует на щеке маленький
крестик. Наверно, уже знает. Ханка изо всех сил прижимает его к себе. «Ничего они нам
не сделают, понимаешь?» Адам только опускает веки в ответ. Потом складывает пальцы:
«Я тебя люблю». Ханка хватает его за руки. Он смотрит на нее сухими глазами.
1 «Вервольф» — подпольная нацистская организация, после окончания войны действовавшая на за-
падных и северных землях Польши.
2 Ч. Качмарек — келецкий епископ, на показательном процессе в сентябре 1953 г. «признавший» себя
виновным в том, что якобы в годы оккупации сотрудничал с гитлеровцами; был осужден на" 12 лет
тюремного заключения.
116
Стефан Хвин
Я отворачиваюсь. Я не могу на это смотреть. Слезы? Ханка укладывает Адама на
подушку. «Что будешь делать?» — спрашивает Мама. «Не знаю». — «У тебя где-нибудь
кто-нибудь есть?» — «Раньше, может, и были. Но сейчас...» — «Пойдем на кухню, поду-
маем...» Ханка улыбается Адаму и еще раз целует его в лоб. «Я сейчас приду». Идут на
кухню. Перешептывания. Оборвавшийся протестующий возглас. Опять перешептывания.
Шиканье. Я узнаю два знакомых слова. «Вроцлав...» — «Может быть, к Зофье?..» Ну да,
ведь в Чеплице живет тетя Зофья... Как? Так далеко? «Пан Ханеман, убедите ее. Это же
только на время...»
Я подхожу к Адаму. Подняв руку, он показывает пальцами: «Я никуда не поеду». —
«Надо». — «Спрячусь в лесу». — «А Ханка?» — «Вместе с Ханкой». Господи, да он
оцятил. Я смотрю на него. Он запустил пятерню в волосы. Чешется. Я стою босиком.
Холодные половицы. Из кухни опять доносятся голоса. «Пан Ханеман, ну подумайте
сами, это же глупо. Ничего они нам не сделают». Это Ханка. Опять голоса. Шепот. Не-
разборчивые слова. Адам прислушивается. Встает. Берет рубашку. Застегивает пугови-
цы. «Ты что хочешь сделать?» Не отвечает. Надевает носки. Откидывает волосы со лба. В
комнату входит Ханка. «Ты зачем встал? Еще рано». Я киваю в его сторону головой. «Он
хочет спрятаться в лесу». — «Господи!.. — Ханка пытается его обнять, но он уворачива-
ется. — Погоди, ты куда?!» Хватает его за руку. Адам старается вырваться, но она силь-
нее. «Это еще что такое? Что за номера?» Адам злобно на нее смотрит. Ханка смягчает-
ся. «Ну знаешь... Что ты вытворяешь? Нам нельзя делать глупости. Наверно, придется
ненадолго уехать». В кухне Отец достает из шкафчика расписание поездов. Они с Хане-
маном склоняются над столом. «Двенадцать шесть в Тчеве, пересадка на быдгощский,
потом в три...» Голоса стихают.
Я стою посреди комнаты. Ноги дрожат. Как будто я куда-то сейчас побегу. Подходит
Мама: «Не стой на холоду. Оденься. Поможешь Адаму». Я через голову натягиваю ру-
башку. Надеваю брюки. Беру кожаные сандалии. Блеснула застежка. Я закрываю глаза.
Этого не может быть. Наверно, все это мне снится.
В девять мы были готовы. Мама вышла, постояла перед домом, потом свернула к
магазину, купила хлеб, творог, молоко, у калитки огляделась, но на улице никого не было.
В комнате Ханка складывала вещи Адама. Тюк обвязали кожаным ремнем и толстой ве-
ревкой, Адам затянул разлохмаченные концы в крепкий узел. На кухне Мама резала хлеб,
постукивая ножом по дубовой дощечке. Розовые ломтики ветчины. Помидоры. Свежие
огурцы. Внутрь булочек положила сыр. Посыпала петрушкой. Шелестела пергаментная
бумага. Круглые пакетики Мама уложила в холщовую сумку. Бутылку с чаем завернула
в полотенце.
Вышли они в половине десятого — сперва Ханка, через несколько минут Ханеман.
Без вещей. Она прямо на улицу, он через сад. Скрипнула заржавелая калитка под наве-
сом сухого хмеля. Стук железа, шаги по каменным ступенькам. Ханеман обогнул клум-
бу ирисов, задержался на секунду возле туй, но нет, не обернулся. Я стоял у окна. Он
сунул руки в карманы. Посмотрел на деревья. За железными прутьями ограды еще мель-
кнула его голова...
Договорились, что они будут нас ждать на Пястовской около виадука — утром там
мало кто ходил. Пошли порознь, не торопясь, зачем привлекать к себе внимание спеш-
кой, вначале по улице Капров, потом по Грюнвальдской, потом по улице Польской
почты, потом — за углом улицы Прусской присяги — направо на пандус, оттуда до вок-
зала рукой подать. Поезд приходил в одиннадцать с минутами. Одиннадцать семь. Из
Гдыни.
Мы снесли вещи в парадное. Отец вытащил из подвала железную коляску, в которой
еще Эмма Вальман возила маленькую Марию, пока не купили у Юлиуса Мехлерса на
Ахорнвег новую, с жестяным верхом и овальными окошечками. Эта, новая, в ту ночь,
когда они в Нойфарвассере ждали «Бернхоф», сгорела перед пакгаузами Шнайдера — на
мокром снегу возле платформы остались только искореженные куски жести. А старая,
заслуженная, немало поездившая с Лессингштрассе в парк и обратно, уже основательно
Ханеман
117
заржавевшая, осталась в подвале. Сколько пдмню, она всегда стояла у стены около водо-
мера, припорошенная пылью и паутиной.
Пружинные рессоры, длинная, из гнутого дерева ручка. Отец положил на раму ко-
ляски рядом два чемодана — Ханемана и Ханки — и рюкзак Адама, втиснул холщовую
сумку с едой, обернул все простыней и обвязал веревкой. Незачем мозолить глаза про-
хожим. Такой же белый тюк я сто раз возил в коляске Вальманов на улицу Дердовского,
где в доме номер 11 была прачечная, так что теперь, когда я, поскрипывая коляской, на-
правился по улице Гротгера в сторону костела цистерцианцев, это никого не могло уди-
вить.
Но то, что я испытывал... Адам шел рядом, поддерживая шаткое сооружение, боль-
шой полотняный тюк, опутанный веревками, привязанный ремнем к никелированным
трубкам, тяжело покачивался под ладонью, Адам сбивался с шага, смотрел прямо перед
собой — против обыкновения, в застегнутой доверху рубашке. Скрипели рессоры. У
меня в кармане лежал сложенный вчетверо листок, на котором я в последнюю минуту
написал зелеными чернилами несколько слов... Так, мимо домов и садов, приоткрытых
калиток и запертых ворот с железными почтовыми ящиками с надписью «Briefe», мы
дошли до улицы Дердовского, и туг Адам, бросив на меня свой сладко-язвительный взгляд,
согнул руку в локте и приложил к месту сгиба кулак.
И это был знак начала — хотя им все кончалось. Это значило, что сейчас все начнет-
ся, что опять вокруг нас запляшут тени, угодившие в ловушку темных рук, изображае-
мые в воздухе тоненькими штрихами, дробными движениями пальцев, наклонами голо-
вы, птичьими жестами. Я с любопытством ждал, что он покажет на этот раз, чей смех и
плач ухватит так небрежно, легко и так нежно. Коляска поскрипывала, белый тюк перева-
ливался с боку на бок, будто на снежной волне, среди веток мелькали светлые блики, на
мгновение мне показалось, что всю мостовую перед нами запорошила голубиная бе-
лизна, пушистая, с кружащимися снежинкми, но нет, это всего лишь солнце, прорвав-
шись сквозь тучи над холмами за костелом цистерцианцев, осветило пыльную мосто-
вую. Коляска подпрыгнула на бортике тротуара, взвизгнули колеса, мы пересекли улицу
Дердовского, тени ветвей лип — трепещущие, как крылья ночной бабочки— проплыли
по рубашкам, а Адам уже начинал, уже поднял руки, уже обежал вокруг коляски, и у
меня невольно вырвалось: «Осторожней!» — потому что я чуть на него не налетел, но
он только рассмеялся беззвучно, быстро показывая мне что-то пальцами, я не сумел
прочитать эту задиристую нетерпеливую скороговорку, а он, как тогда на холмах за кос-
телом цистерцианцев, словно хотел воскресить ту минуту, когда мы остановились на троп-
ке, опять — чтобы подразнить меня? развеселить? — принялся рисовать пальцами...
сперва пана Ю., потом пани С.... И если он уходил, то они, эти невесомые фигуры, кото-
рые он без малейших усилий вылавливал на моих глазах из воздуха, уходили вместе с ним
— куда? Он мог своими чарами сотворить их в любой момент, они были у него под ве-
ками, и в кончиках пальцев, и в разлетающихся бровях. Как же я ему завидовал! Мы все
принадлежали ему. И я тоже. И Мама. И Отец. Стоило ему захотеть, и он мог стать каж-
дым из нас...
Мы свернули на улицу Вита Ствоша, зазвонил трамвай, красные вагоны, дребезжа,
проехали в сторону трамвайного круга в Оливе, блеснули окна, коляска подскочила на
рельсах, поворот налево, и вот уже улица Капров, тротуар под аккуратно подстриженны-
ми липами, вьющиеся розы в садах, высокие георгины и наперстянка, прудики с зеленой
водой, а Адам — то сплетая, то расплетая пальцы — рассказывал недолгую историю нашей
встречи и расставания. С его рук и лица слетела ирония? Легкая язвительность, которой
он защищался от нас? Теперь он лепил наши тела с нежностью, так, словно бы прощал
всех — и меня? и даже тех, кто избил его в кровь? Он не жалел, что был среди нас? Не-
смотря ни на что? Каждый его жест — так я это воспринимал — обещал, что он нас не
забудет.
Но к чему эти прощания! Ведь мы расстаемся всего на несколько дней, самое боль-
шее на месяц! Откуда же тогда эта слабость, холодок в сердце? Мне хочется, чтобы он был
таким, как всегда? Насмешливо-серьезным? Настороженным? Чуточку жестоким? И если
118
Стефан Хвин
холодный танец жестов, который так радовал его там, на холмах, утишал мою тайную боль
и неприязнь—то к кому? Адам тыкал меня в спину, я оглядывался через плечо, и при виде
этих прищуренных глаз, в которых скрывалась раненая радость, все дурное во мне угаса-
ло, точно залитое водой пламя. Шелест листьев липы над головой, звон колокола с костела
цистерцианцев — близкий, звучный; голуби, выклевывавшие просо из щелей между бу-
лыжниками мостовой, перелетели на красную крышу; все было так же торжественно, как
в погожее утро Тела Господня. Шаг выровнялся, коляска размеренно тарахтела, и даже
если я с деланной непринужденностью бросал: «Держись, не сдавайся! Я буду помнить и
ждать!» — в этом не было никакой необходимости, потому что и без того все было ясно
— как было само собой ясно, что солнце на небе светит все ярче, знай пой и пляши, а
облака над Собором легкие и чистые, точно пух огромной голубки, уснувшей в воздуш-
ной колыбели над моренными холмами за Долиной радости, за Долиной чистой воды.
Мы припустились бегом! По Грюнвальдской проехала кремовая «варшава», навер-
ху над баром «Бялы здруй» красивая дама в папильотках раскладывала на подоконнике
розовую перину, мы перебежали мостовую, подождав, пока проедут три грузовика из
казарм на улице Словацкого, под вздувающимся брезентовым тентом солдаты пели:
«Течет, течет Ока, как Висла широка...», песню заглушил рев моторов, под колесами ко-
ляски зазвенел булыжник, воробьи громко чирикали на ветках терновника, а мы бежали
под каштанами улицы Польской почты, потом свернули на улицу Прусской присяги,
потом вдоль кирпичных строений Управления железных дорог доехали до угла и — запы-
хавшиеся, разгоряченные — двинулись вверх, все выше и выше, по пологому пандусу,
огороженному похожими на рельсы перилами, по мелкой исландской плитке тротуара,
толкая перед собой подрагивающий тюк.
Вот они! Адам от радости хлопнул в ладоши. В гуще кустов под железной фермой
высоковольтной мачтьГ, возле ведущей к вокзалу дорожки, рядом со скамейкой, кото-
рую кто-то притащил сюда из парка и задвинул под куст сирени, я увидел Ханемана и
Ханку. Они помахали нам. «Ну наконец-то». Я сдернул с коляски простыню. Они взяли
свои вещи. Адам перекинул через плечо брезентовый рюкзак. Сквозь ветки сирени, око-
ло которой мы стояли, виднелся виадук над Пястовской, насыпь, уходящая в сторону
Сопота, и купа деревьев у моста над Поморской, откуда должен был приехать пассажир-
ский из Гдыни.
Но пока у нас еще было несколько минут. Ханеман хотел прийти на вокзал в после-
дний момент, чтобы смешаться с толпой садящихся в поезд, так что еще эти несколько
минут у нас были. Адам, стоя на дорожке, смотрел на пути, над которыми пролетали
стаи воробьев и грачей с садовых участков, на белые тучки, медленно ползущие к зали-
ву, и дальше, в Швецию, на большие деревья, над которыми должен был показаться дым,
как только паровоз въедет на мост. Ханка протянула руку. «Ну, Петр, поблагодари маму
и папу за все». Ханеман легонько взъерошил мне волосы, повторяя ее любимый жест,
который так мне нравился. «И не забывай нас».
Забыть? Ее? Ханку? Адама? И этого высокого мужчину, который жил над нами? Да
ведь на улице Гротгера в один миг сделалось пусто. Как это? Без них? Разве такое воз-
можно? Почему? «Ханка, — я пытался улыбнуться, — это ты нас не забывай». Она мах-
нула рукой: «Не распускай нюни. Мы ведь не сдадимся, верно?» — «Ханка, пиши нам
иногда». Ханеман обнял ее одной рукой. «Нет, писем пока не будет. Может, немного
погодя». Но я не услышал в его словах уверенности: говоря, он смотрел на меня, на небо,
на насыпь, как будто еще колебался. Мы стояли и молчали. Я не знал, куда девать руки.
Поправил простыню, брошенную в коляску. Вытащил носовой платок, стер чешуйки
ржавчины с ладоней. Ханеман посмотрел на часы: «Через три минуты должен быть».
Адам обернулся и вытянутой рукой указал на деревья за мостом.
Идет! Среди лип, высящихся над Поморской, клубы дыма. Стука колес еще не было
слышно, но черный паровоз с железными листами по бокам котла уже вынырнул из зе-
лени и въезжал на мост. «Адам!» — крикнул я. Он подбежал ко мне, стиснул мою руку,
а потом сложил пальцы в теплый знак, похожий на нахохлившегося воробушка, дрожа-
щего на ветру. Это было очень смешно.
Ханеман
119
Они пошли в сторону вокзала, впереди Ханеман, за ним, шагах в двадцати, Ханка с
Адамом. Будто совсем незнакомые. Я смотрел на них сквозь листья. Адам на секунду
повернул голову, но Ханка нетерпеливо потащила его за собой. Они вошли в туннель,
скрылись за матовыми стеклами. Я знал, что мне нельзя показываться ни на перроне, ни
на привокзальной площади, что нельзя махать рукой или выкрикивать прощальные сло-
ва, и тем не менее не уходил из-под куста сирени. Поезд все еще стоял у перрона, мне
показалось, что он задерживается дольше обычного, я мгновенно придумал сотню при-
чин, по которым он отсюда никогда не уедет, но над крышей вокзала взвился дым, лязгну-
ли буфера между вагонами, и через минуту будка охранника в хвосте поезда исчезла за
белой стеной станционного здания.
Я смотрел на застекленный спуск в туннель, на киоск, в котором продавались сига-
реты и леденцы, однако, когда бы я потом ни возвращался мыслями к той минуте, перед
глазами вставала совсем другая картина: я видел буковый склон, по которому на откры-
тое пространство спускаются женщина, мужчина и мальчик и — оставив позади Собор,
парк, Долину радости и Долину чистой воды — выходят в светлый простор полей за олив-
скими лесами, а перед ними над далекой линией горизонта неярко горит огромное, доб-
рое, красное солнце, на которое можно смотреть без опаски, потому что такое солнце
уж точно не обожжет ни зрачка, ни мира.
Иней
С запада плыли тучи. Земля вращалась медленно, тщательно отмеряя часы и мину-
ты. Над Северным морем поднимались сырые туманы; их подхватывал гуляющий низко
над землей ветер и уносил к солнцу, встающему над равнинами Нижней Саксонии и
Мекленбурга; в сумерках, когда ветер стихал, туман холодной волной докатывался до
сосновых лесов Ругии, клубясь, взмывал над датскими проливами и устремлялся в сто-
рону песчаных пляжей Эльбы и Розевья, когда же над полуостровом разливалась заря,
достигал берегов залива, чтобы наконец — поредевший, едва заметный — рассеяться
над буковыми холмами за Собором и над крышами улицы Гротгера. Утром, когда мы
выходили из дома, на листьях березы в саду искрилась свежая влага и надо было накло-
нять голову, чтобы не зацепить волосами веточек, с которых при каждом дуновении
сыпались холодные капли.
Когда небо над парком темнело, Мама ставила на подоконник зажженную громни-
цу1, хотя на картине, горевшей бирюзовой зеленью около зеркала в большой комнате,
прекрасный ангел переводил через узкий мостик мальчика и девочку, держащихся за
руки. Пан К., которого Мама иногда встречала на улице Героев Вестерплатте, со смехом
советовал в путешествиях, останавливаясь в гостинице, избегать комнат под номером
13. Мама пренебрежительно махала рукой — она пережила Восстание, не получив ни
единой царапины, — но все же предпочитала не здороваться через порог.
В доме Биренштайнов в окне на втором этаже уже не было пани В. Ее любимую
вышитую подушечку — теперь валяющуюся среди сухих мальв в саду дома 14 — клева-
ли воробьи, добывая из-под выцветшего бархата пучочки морской травы. Когда трамвай
с лязгом проезжал по улице Вита Ствоша, на стену дома взбегали солнечные зайчики, и
мы жмурились от золотого света, который внезапно заливал комнату, зажигая искры в
хрустальной вазе с ирисами, в зеркале, в рюмках за стеклом буфета. Ближе к вечеру, ког-
да воздух остывал после жаркого дня, в садах с деревьев падали яблоки, испещренные
живыми пятнышками ржавчины, и в траве темно было от роя диких пчел, пьющих сок из
лопнувших плодов. Настурции и астры цвели под березой среди побуревших от солнца
сорняков, на южной стене веранды жух дикий виноград, листочки которого, окаймлен-
ные сухой чернотой, отбрасывали зыбкую паутину теней, и все было так красиво, так
1 Громница — освященная восковая свеча, которую зажигают рядом с умирающими, а также во время
грозы — отгонять гром.
120
Стефан Хвин
насыщено цветом, светом, запахом — кто б мог поверить, что от этих цветов, листьев,
трав через пару недель останется только дым костра, догорающего в саду...
Под липами на бывшей Дельбрюкаллее воздух дрожал от зноя. Рабочие в рубашках
с засученными рукавами осторожно вытаскивали из земли деревянные кресты, на кото-
рых уже не было жестяных табличек, обтряхивали их о ствол березы и откладывали в сто-
рону, на медленно росшую между живыми изгородями груду трухлявых жердей. Гра-
нитные плиты аккуратно поддевали ломом, приподымали, как огромные обложки ста-
ринных книг, бережно снимали с каменных фундаментов. Тяжелые грузовики «мерц-
бах» и «стар» уже ждали возле анатомического корпуса на другой стороне улицы.
Свежевскрытые могилы, похожие на опрокинутые шкафы, полные пыли, паутины и ро-
зовых жужелиц, сохли на солнце. Высоко вверху в пробивающихся сквозь ветки сосен
лучах солнца мелькали ночные бабочки, внезапно разбуженные среди бела дня. Когда
около полудня или позже какой-нибудь прохожий останавливался над глубокой ямой,
рядом с которой желтел холмик сырой земли, чтобы прочитать надпись на лежащей в
зарослях плюща плите, рабочие, опершись локтем на воткнутую в землю на дне ямы
лопату, молча докуривали сигарету. На плитах из серого и черного мрамора, выстроив-
шихся вдоль дорожки — бок о бок, как костяшки домино, — угасали в пыли полустертые
имена «Фридрих», «Иоганн», «Арон». Кладбище умирало медленно, скромно, под ти-
хое шуршанье пересыпающейся земли — так заходящее солнце в дождливую пору неза-
метно гаснет в пепле тумана.
В воскресенье в неярком свете октябрьского утра, когда башня ратуши еще была
затянута туманом, а вода в Мотлаве отливала холодным рассветным блеском, мы прихо-
дили на пристань около Зеленых ворот, чтобы потом по Долгому побережью, мимо
выгоревших домов Марьяцкой и Широкой, мимо развалов со старыми книгами на Фиш-
марке, мимо разбитых ступенек перед парадными дверями дойти до поворота канала,
откуда нам предстоял еще долгий путь, до самого острова Гольм. Каменная набережная
здесь полого спускалась к воде. Паром подплывал неторопливо. Я любовался спокойны-
ми и уверенными движениями рук двух мужчин в черных фуражках с блестящими око-
лышами, которые — с приклеившейся к губе сигаретой, наклонившись — молча тянули
деревянными крюками темный от смазки стальной трос, который вылезал из воды, мед-
ленно полз вдоль борта, вздрагивал на железных колесиках, сыпал брызгами, чтобы за-
тем снова исчезнуть в ленивой волне. Черный дощатый пол парома пах смолой и мазу-
том. Темно-зеленая вода с радужными пятнами бензина глухо хлюпала возле борта. Воз-
можно, поэтому мы, стоя под брезентовым навесом, всегда понижали голос. Мужчины,
особенно высокие, входя на паром, наклоняли головы под туго натянутым брезентом, в
тишине приглаживали волосы, стряхивали с брючных манжет древесную пыль, точно
собирались в далекий путь, откуда не каждый вернется, только женщины, быстро сбегая
на палубу, чтобы занять местечко получше, стучали пробковыми танкетками громко и
нетерпеливо. А когда мы уже приближались к пристани около элеваторов, когда на набе-
режной уже показывались железные конструкции малого дока и за молом вырастали
краны Старого порта, похожие на огромных высматривающих добычу птиц, наш паром
проплывал мимо пришвартованного рядом с железнодорожной веткой прогулочного
пароходика с высокой наклонной трубой; на его белом борту из-под свежей краски, ко-
торой недавно был покрашен заклепанный корпус, над надписью «Зеленые ворота —
Вестерплатте — Сопот» едва заметно проступали контуры черных готических букв. Но
никто из нас не мог прочитать старого названия.
В саду на Гротгера уже желтели листья. Солнце по утрам вылезало из-за песчаной
косы, к полудню поднималось над буковыми холмами, в сумерках исчезало за Собором.
Тучи — как каждый день, как каждый год, как всегда— шли к нам со стороны немецких
равнин, саксонских озер, мекленбургских лесов и поморских пляжей. На рассвете над
заливом вставала заря, огненные цвета которой невозможно было сосчитать, роскош-
ная, вполнеба заря, захлестывающая ртутными отблесками выходящие в открытое море
боты рыбаков. Отраженный свет падал на разбитый в ту ночь батареей с Циганкенберга
мол, от которого остались два ряда обугленных столбов, похожих на обломки колонн. По
Ханеман
121
вечерам в безоблачную погоду, когда над нашим городом в темноте разливался покой
остывающего воздуха, Полярная звезда горела холодной уже, ноябрьской искрой. Дни
становились все короче.
А я ждал, ждал какой-нибудь весточки, ведь я же тогда там, около виадука, сунул
Адаму в карман сложенный вчетверо листок, вырванный из тетради в линеечку, на кото-
ром каллиграфическим почерком прилежного ученика вывел название улицы Гротгера,
подчеркнул номер 17 и дописал единицу — номер квартиры, — чтобы он никогда не
забывал. И значит, наверняка не забыл.
И когда я вынимал из железного ящика с надписью «Briefe» письма, когда уже все
письма были вынуты, я непременно заглядывал в темное нутро, где на дне лежало не-
сколько осыпавшихся чешуек ржавчины, и рукой проверял, не прилип ли конверт к дверце.
Но писем не было.
В саду шумели туи. Ветер шел поверху, над крышами улицы Гротгера, тормоша
зелень буков и сосен. Под березой Мама срезала астры большими портновскими нож-
ницами.
На листочках самшита уже белел первый иней. -
КЛЮЧ К МЕСТАМ
Адольф Гитлерштрассе — Грюнвальдская; главная коммуникационная трасса для пе-
хоты, конницы и гусеничных, начиная со времен Наполеона и кончая декабрем 1981 года1. Во-
сточная часть от Оливских ворот до Остзеештрассе — аллея Гинденбурга.
Ам Иоганнисберг — Собутки
Бишофсберг — Епископская горка
Больница святого Лазаря — средневековая богадельня в Оливе около трамвайного кру-
га на бывшей Адольф Гитлерштрассе. Разрушена в 60-х годах при расширении проезжей части
улицы.
Брабанк — Старая верфь
Брайтгассе — Широкая
Бреслау — Вроцлав
Брёзен — Бжезно
Брёзенервег — улица Болеслава Храброго
Бромберг — Быдгощ
Вайхзель — Висла
Вайхзельмюнде — Вислоустье; район Гданьска у впадения Вислы в залив, неподалеку от
Вестерплатте. Барочная крепость у портового канала. По другой стороне канала — набереж-
ные Нового порта, элеваторы, пристань парома.
Гпеткау — Ел ит ко в о
Гэтенхафен — Гдыня
Данциг — Гданьск.
Дельбрюкаллее — улица Кюри-Склодовской; идет от бывшей аллеи Гинденбурга до Меди-
цинской академии. По западной стороне улицы до самого Политехнического института тяну-
лись евангелические и католические кладбища, на восточной стороне, у пересечения Дельб-
рюкаллее с аллеей Гинденбурга, стоял дом «профессора Спаннера», впоследствии описанный
Налковской.
Диршау — Тчев
Ешкенталереег — Ясекова долина
Зеештрассе — Поморская
Иоганништаль — улица Матейко
Карлсберг — Пахолек; холм в Оливских лесах невдалеке от Собора. Когда-то у его под-
ножья на берегу пруда была гостиница.
Карренеаль — Окоповая
Кёнигсберг — Крулевец
Кёслин — Кошалин
Кокошкен — улица Кокошки
Крантор — Журавль
Кронпринценаллее — вначале аллея Союзников, затем — Вита Ствоша
Ланггассе — Долгая
1 13 декабря 1981 г. в Польше было введено военное положение.
122
Стефан Хвин
Ланге брюкке — Долгое побережье
Лангер маркт — Длинный базар
Лангфур — Вжещ
Лес Гутенберга — лес на западной стороне Ясековой долины. На северном конце Бесед-
ка Гутенберга (некогда с памятником Гутенбергу).
Лессингштрассе — улица Гротгера
Ма гдебургер штрассе — улица Костюшко
Макс Хальбвплац — площадь Коморовского
Мариенбург— Мальборк
Мариенвердер — Квидзын
Мариенкирхе — Марьяцкий костел в Гданьске
Мариенштрассе — улица Вайделоты
Мирхауэрвег — улица Партизан
Мюггау — холмы к югу от Вжеща на продолжении Ясековой долины
Нойфарвассер — Новый порт
Нойшотланд — Нова^ Шотландия
Остзввштрассе— вначале аллея Президента Рузвельта, затем аллея Карла Маркса,
впоследствии аллея Генерала Галлера
Пелонкерштрассе — улица Полянки, параллельная Лессингштрассе и Кронпринценаллее
Пецкендорф — Пецки, Морена
Позен — Познань
Ратхаус (большая и малая) — ратуша на Длинном базаре и ратуша на Пряной улице
Торн — Торунь
Фрауэнгассе — Марья цкая
Фридрихаллее — Войска Польского
Эльбинг — Эльблонг
Хёенфридбергервег — улица Шимановского
Хохштрис — улица Словацкого
Хундегассё — Огарная
Циганкенберг — Цыганки, Цыганская горка
Цоппот — Сопот; раньше Цопоты
Шварценвег — вначале Черная, затем улица Монтвила Мирецкого
Шидлиц — Седльце
Шихау, мастерские — мастерские гданьской судоверфи
Штеттин — Щецин
Штеффенсвег — улица Стефана Батория
Эмаус — западный район Гданьска на холмах, примыкающих к Седльце
Составлено КРИСТИНОЙ ХВИН
ГУННАР ЭКЕЛЁФ
К 90-летию со дня рождения
Стихи
Перевод со шведского и вступление А. ЩЕГЛОВА
«Красота безлична, и ее сущность едина, даже если у нее много имен и много проповедников...
Я был лишь ее орудием; пусть я умру забытым».
Так писал Гуннар Экелёф на заре своей поэтической карьеры. Поэту не суждено было
остаться неизвестным: его стихи переведены на большинство европейских языков, он при-
знан классиком современной литературы, его произведения комментировали и переводили
многие известные писатели и поэты: Нелли Закс, Октавио Пас, Уистен Хью Оден. Знакомы с
Экелёфом и российские читатели — в основном благодаря переводам, опубликованным в
сборнике «Современная шведская поэзия» и в «Иностранной литературе» (1993, № 6). Но эти
публикации, по сути, лишь приоткрывают дверь в поэтический мир Экелёфа — таинственный,
яркий мир, куда хочется возвращаться снова и снова.
Экелёф родился в 1907 г. в Стокгольме. Он был еще ребенком, когда его отец, богатый
биржевой маклер, умер от сифилиса. В детстве Гуннара постоянно сопровождало чувство
одиночества и отчужденности, сочетавшееся с ощущением странности, ирреальности окру-
жающего мира. Все это, по словам самого поэта, было предпосылкой для интенсивной внут-
ренней жизни, полной мечтаний и грез.
В юности Гуннар заинтересовался восточной культурой и восточной мистикой; увлече-
ние еще более усилилось после знакомства с творениями средневекового суфийского поэта-
мистика Ибн аль-Араби. Вдохновленный Азией, Экелёф посвящает себя изучению восточных
языков в университетах Лондона и Уппсалы, однако тяжелая болезнь прервала учебу. Выздо-
ровев, Гуннар отправляется в Париж, на этот раз — изучать теорию музыки. И там, в Париже,
он приходит к выводу о родстве музыки и поэзии и, открывая для себя «алхимию слова», пишет
стихи, вошедшие в первый сборник — «Запоздалый на земле» (1932). Впоследствии Экелёф
назвал эту книгу «суицидальной» — ее стихи создавались в состоянии крайнего психического
напряжения на грани самоубийства. Критики встретили книгу прохладно, однако поэта это не
смутило. К моменту выхода в 1934 г. второго сборника он имел уже достаточно высокую ре-
путацию — не в последнюю очередь благодаря своим переводам французских поэтов-сюрре-
алистов и их предшественников, оказавших значительное влияние и на творчество самого
Экелёфа.
С самого начала Экелёф отнюдь не стремился быть элитарным автором, доступным лишь
узкому кругу читателей:
«Искусство -р это попытка людей лучше понять и быть лучше понятыми. Поэтому искус-
ство в той степени, в какой оно достигает своей цели, всегда социально, современное искус-
ство — в особенности, ибо затрагивает труднопонимаемые аспекты человеческой личности,
которые ранее столь глубоко не исследовались. Без постоянного обновления искусства, без
неустанно возрастающих требований к читателю, зрителю, накладываемых искусством, вза-
имопонимание стало бы чем-то тягучим и будничным, а попытки истинного сближения между
людьми были бы все более редкими».
Поэт не имеет здесь в виду, что современный читатель обязан быть эрудитом. Замысел
Экелёфа состоит как раз в обратном: сделать искусство максимально демократичным. Ибо
© А. Щеглов. Перевод, вступление, 1997
124
Гуннар Экелёф
искусство, указывает поэт, это не что иное, как духовный контакт, общение душ, и Экелёф
хочет сделать этот контакт наиболее простым, прямым.
Сущность поэзии как духовного общения неизменна, и это роднит ее с мистикой и музы-
кой. И собственно стихи для Экелёфа — это «мистика и музыка», где мистика суть «глубокое
переживание жизни, восприятие всего ускользающего, меняющегося, возвращающегося, во
всем, что связано с образом, звуком, мыслью, чувством и жизнью...»
Мысль о родстве и связи поэзии, мистики и музыки повторяется у Экелёфа неоднократ-
но. Уже в первых своих вдохновениях поэт услышал «музыку слов»: слова сохраняли исход-
ное значение и в то же время между ними возникали удивительные, таинственные связи. То,
что на первых порах приходило, по-видимому, спонтанно, становится затем предметом со-
знательной, кропотливой работы. Поэтическое творчество превращается для Экелёфа в со-
здание музыки, в которой слова — это ноты. И, работая над стихами, он изучает как духовные
писания — Дхаммападу, Дао-дэ-цзин, так и музыку — Стравинского, Моцарта, Баха, индийс-
кие раги.
В своем постоянном поиске нового Экелёф всегда оставался верен главным темам —
основам, «стержням» своей поэзии. Это, прежде всего, темы Любви и Смерти:
О святая смерть! Ты, давшая смысл моей жизни!
О святая любовь! Вы, обе,
Творящие с нами все, что хотите...
Любовь у Экелёфа неизменно сопряжена с глубоким страданием:
Страдать — трудно
Страдать, и не любить — трудно
Любить и не страдать — невозможно
Любить — трудно
Герой Экелёфа часто соединяет в себе светлую, сильную, пламенную любовь с мучи-
тельным страданием. Таков его Лебедь, таковы герои его «восточных» циклов — визионеры-
мученики Дигенис Акрит и женщина по имени Фатуме.
Не менее, если не более важной для поэта является тема смерти, мысли о которой, как
пишет Экелёф в своих эссе и стихах, — главный источник философского и духовного поиска:
Смысл жизни —
Перед лицом смерти искать смысл в жизни
Смерть — это также и трансцендентное, космическое начало, откуда все приходит и куда
все возвращается по завершении цикла. Смерть — это также и сам процесс «умирания» —
старения, разрушения, упадка, процесс, возникающий с началом жизненного цикла. В частно-
сти, это — деградация, медленная духовная смерть цивилизации. Не случайно действие книги
«Диван о князе Эмгиона» (1965) происходит в Византии, которая была для Экелёфа символом
духовного регресса общества.
Смерть — это и непосредственные ощущения умирающего. В эссе «Medicina mentis» Эке-
лёф пишет, что не верит в красивую, описываемую в книгах «философскую смерть». Чувство,
которое должен испытывать умирающий, — это ощущение ужаса, панического страха, шока.
Но этот шок одновременно служит своеобразной анестезией, дающей умирающему возмож-
ность достойно встретить смерть.
В 1963 г., за пять лет до смерти, в письме к поэту Лейфу Шьебергу Экелёф рассказывал,
что работает над поэтическим циклом, который считает своим завещанием. Центральным в
цикле будет образ женского божества, Девы, соединяющий в себе черты великих богинь Вос-
тока и Запада. Задуманный образ Экелёф описывает с помощью парадоксов: это не боже-
ство, не бог, это некое начало, присутствующее и одновременно отсутствующее в человеке,
«присутствующее благодаря своему отсутствию». Человек, одержимый экстазом любви и
тоской по богине, как бы проходит древний обряд духовного очищения — агиасму и благодаря
этому очищению страданием и любовью постигает тайны мира, познает высшую реальность.
Центральным произведением цикла стало стихотворение «Ксоанон»1, из первоначаль-
ного варианта которого в ходе работы над книгой развились два самостоятельных произве-
дения: «Агиасма» («Черный образ») и «Ксоанон». Принято считать, что основная идея «Ксоа-
нона» — программного произведения позднего Экелёфа — состоит в том, что художник дол-
жен последовательно удалять, расчищать культурные наслоения, чтобы обнажить главное,
духовную суть. Но многое говорит в пользу того, что главная тема стихотворения — любов-
ное созерцание образа божества, в процессе которого исчезает все внешнее и остается лишь
сокровенное, божественное. И поскольку художественное творчество — тоже духовный путь,
1 Ксоанон — древний образ божества, икона. (Здесь и далее — прим, перев.)
Стихи
125
в «Ксоаноне» как бы описывается процесс творчества, заново переживается создание ико-
ны. В этом смысле «Ксоанону» близко по содержанию и по духу стихотворение «Встреча Иоаки-
ма и Анны», в котором Экелёф, воспроизводя сцену, изображенную на русской иконе, переда-
ет, через описание изображения, состояние экстатического умиления, нежности, любви.
В своих стихах, письмах, эссе Экелёф неоднократно повторял, что искусство — особый,
самостоятельный духовный путь. И он шел этим путем, неизменно веря в свою незримую,
вневременную связь с читателем — одиночкой, искателем, нонконформистом:
Я верю в одинокого человека...
бродящего в одиночку,
живущего сегодняшним днем, нелюдимого.
И результат «встречи» этих одиночек, доходящих до сути, проникающих вглубь, — ду-
ховная общность и истинная солидарность:
... Ибо лишь непрактичное, по большому счету, — практично.
Из книги «NON SERVIAM»1 (1945)
Стокгольмская улочка
Простая девчушка
другой город
и другая комната
в доме другом
где никто не жил
и другие углы
на которых никто
никогда не стоял
и не ждал никогда
никого
Простая девчушка
с другим языком
и с другим взглядом
на бесценную жизнь —
Другая работа
другое имя
и другие улицы —
чтобы бродить
и другие улицы —
чтобы думать
о чем-то другом
что никогда
не придет
Лебедь
Я слышал, как дикие гуси
кричали над парком больничным
где бледные люди бродили
в утренней полудреме
Здесь: я не буду служить (лат.).
126’Гуннар Экелёф
Я слышал — их крики
Мне грезились — крики —
И все же я — слышал!
Вокруг бездонных прудов
бесконечные вьются аллеи
и в множестве дней отражается
один неизменный день
И бутоны цветов незнакомых
закрываются боязливо
от легчайшего прикосновенья
Вот женщина кричит
не переставая:
«Дьяволы! Гады!»
Ее торопливо уводят...
Сумерки сгустились
над розовыми корпусами
а за больничной оградой
анемичный румянец
над бесконечными пригородами
из идентичных домов
меж которыми паром дышит земля
и жгут листву и хворост
Осень...
и земля, разоренная червивой капустой
и цветами отцветшими...
Я слышал, как дикие гуси
кричали над парком больничным
осенним — весенним — утром
Я слышал их крики утром —
весенне-осенним утром
Они трубили,
трубили:
«На север? На юг?
На север! На север!
Вперед—далеко-далеко...»
Внутри меня бодрость таится
Я знаю: меня никто
ее не лишит. Даже я.
Месяц встает, и ночь
пала над зимней равниной.
Звезды с безумной силой
бросают Лебедя к Леде.
Пух лебединый гаснет
как снег, что на воду выпал
Стихи
127
Голову лебедь клонит
книзу, к звезде зовущей,
книзу, к людским надеждам,
ищет он желтым клювом
в черном смолистом иле.
Черные воды — сухи.
Пища его — личинки.
Леда — его кручина.
Заживо должен глотать он,
заживо должен губить он,
чувствовать: борются жертвы,
злобные — рвотой исходят,
злобные — в зоб его мчатся,
чувствовать их, насыщаясь,
чуять, как рвутся, кто любит,
все ж — никогда не встречаясь.
Из книги «ДИВАН О КНЯЗЕ ЭМГИОНА» (1965)
Во сне я слышал голос:
«Хабиб, ты хочешь всю эту луковицу
или лишь ломтик ее?»
Тут я впал в большое смятенье:
загадочный этот вопрос
был вопросом всей моей жизни!
Предпочту ли я целому — часть
или целое — части?
Нет, хотел я и то и другое:
часть целого — и само это целое,
и здесь не было противоречья.
Агиасма
Черный образ
Обрамленный в серебро исцелованное в прах
Черный образ
Обрамленный в серебро исцелованное в прах
Обрамленный в серебро
Черный образ исцелованный в прах
Обрамленный в серебро
Черный образ исцелованный в прах
Вокруг образа
Белое серебро исцелованное в прах
Вокруг образа
Сам металл исцелован в прах
Под металлом
Черный образ исцелованный в прах
Тьма, о тьма
исцелована в прах
128
Гуннар Экелёф
Тьма в глазах наших
Исцелована в прах
Все, чего мы желали,
Исцеловано в прах.
Все, чего никогда не желали,
Целовано, исцеловано в прах,
Все, чего избежали,
Исцеловано в прах.
Все, чего желаем,
Целуем вновь и вновь.
Из книги «СКАЗАНИЕ О ФАТУМЕ» (1966)
Я встретила торговца шнурками
в базарном ряду
Он хотел продать мне шнурки
хотя у меня нет ботинок.
Шнурки — красные, черные,
шнурки из хлопка и шелка.
Он не заметил, что я — босая
он был, вероятно, слеп иль безумен.
Или, может быть, он был мудр.
Мы приветствовали друг друга
знаком, который зовется «Ты знаешь»,
и оба мы рассмеялись.
*♦ *
Нет, души ничем не отличны от птиц,
Когда говорят друг с другом,
И птицы, когда говорят,
Ничем не отличны от душ.
Там, где людям нужно
Великое множество слов,
Птицам — хватает лишь нескольких звуков
Разных только по устремленности,
Разных только по силе.
Не смущайся, не смущайся
образом, что ты увидел:
складкам губ не удивляйся,
вопрошающим глазам,
коже, что, свой цвет меняя,
чуть мерцает в тусклом свете,
увядающим щекам —
ты увидел, ты увидел
сам себя в лице чужом.
Стихи
129
♦ ♦♦
Твои глаза пылают
Красным вином:
Как потушить их жар?
— Пей из обоих, целуя
Жадно, один за другим,
Тогда ты наполнишь их снова
Желтым вином, которое
Я люблю больше других.
♦ ♦♦
Рожденье просто:
Ты стал собой
И смерть проста
Ты — больше не ты,
Все это могло бы быть
Совсем по-другому,
Как в мире зеркальном:
Смерть могла родить тебя,
Жизнь — умертвить
И то и другое — возможно
И, верно, так и есть:
Из Смерти пришел ты,
Чтоб постепенно
Тебя уничтожила Жизнь.
Ксоанон
В тебе заключен чудотворный образ — икона,
которой владею я. Это значит—ничем не владею,
Как мною владеет она, так ею владею и я.
Была она мне дана в день, когда «было явленье ее»,
в назначенный час, в уготовленном месте
Сия же Панагия являет себя
когда возжелает сердце. Оперевшись на руку ее,
на скамье, изображенной в перспективе обратной
в полной красе взрослый младенец стоит —
князь последний в роду моем.
Я удаляю его — ибо все атрибуты
оной Панагии можно вполне удалить —
как разбойник срывает оклад из чистого серебра
с чернорукого образа изъеденного поцелуями.
Я удаляю венец, удаляю ангелов, весть благую несущих,
с облаков на золотом фоне в верхних углах,
снимаю застежку с ее головного покрова,
ткань убирая с волос, шеи и плеч,
разглаживаю складки над правою грудью ее
и складки над левою грудью — бережно,
5 «ИЛ» №12
130
, Гуннар Экелёф
боль смягчая. Снимаю, как паутину,
тончайшие нижние одежды, что делают тайну на миг
раскрытой и нераскрытой; и она глядит на меня
карими глазами в голубоватых белках,
смотрит, не отрываясь... Я удаляю руки,
коричневую руку с розой, коричневые груди,
правую, затем левую, бережно,
боль смягчая; пояс снимаю, поцеловав,
удаляю лоб ее, волосы, щеки,
и напоследок большие глаза, смотрящие на меня,
смотрящие не отрываясь — даже когда их убрали,
удаляю фон золотой, удаляю грунт
чтобы дерево жилистое полностью обнажилось —
древней оливы кусок, уцелевший чудом когда-то
оставшийся от дерева, бурей поваленного,
теченьем прибитый к берегу где-то на севере. В дереве —
почти незаметный глаз — он остался от ветки
выросшей, когда дерево было совсем еще юным.
Ты глядишь на меня. Одигитрия. Филоуса1.
Иоаким и Анна
Так изображается встреча
святого Иоакима со святою Анной
Так показана встреча ее с ним
Пришли они от разных ангелов с вестью одною
и ангелы видны еще были
на золотом фоне образа в верхних углах
Пришли они, каждый из ворот своих
и встретились на месте открытом
пред зубчатою стеною дворцовой
О, как она, летя к нему в объятья,
на грудь ему руки положила
Как ее чудесный плащ багряный
трепетал от резкого порыва
Как она, лицо подняв, сияла,
радостью великою исполнясь,
нежностью великою. К кому?
К нему? К себе?
Нежностью, любовию к судьбе
В той судьбе была ее надежда
И Иоаким принял ее
плащ трепетал его зеленый
левою рукой он взял ее под правый локоть
и тихонько правой ногой наступил
на левый башмачок ее из красного сафьяна.
Одигитрия (Водительница), Филоуса (Умиление) — названия икон, изображающих Богоматерь.
Новый итальянский рассказ
Перевод с итальянского
Со времен неоавангардистской «Группы 63» ни одно коллективное явление в итальянской ли-
тературе. пожалуй, не привлекало к себе такого внимания, какое привлекают сегодня злые и
добрые. Следует сразу сказать, что выделенные курсивом определения не являются точным
переводом итальянских cattivisti и buonisti, но при формально точном переводе — плохисты
и хорошисты — в этих словах оказываются затушеванными важнейшие смысловые ориен-
тиры: плохой в значении злой и хороший в значении добрый.
Злыми (остановимся пока на этом варианте термина, не отказываясь в дальнейшем от
варианта плохисты и, соответственно, хорошисты) авторов определенного рода литератур-
ных произведений окрестили не сразу. Одно время их вообще никак не называли, довольству-
ясь тем, что нашли объединяющее название для жанровой формы, в которой они писали: horror.
Выбор английского слова мог указывать на прямое родство как с одним из явлений американ-
ской литературы, так и с одним из явлений американского кино, а именно с фильмами ужасов.
Опять же по аналогии с кино сочинения этих авторов иногда называли триллерами. И еще
этих авторов нередко относили к ведомству черного юмора, что было близко к истине: италь-
янцы (мафия не в счет) — народ не кровожадный, а черный юмор — это уже не так страшно,
даже когда страницы красны от крови. Ужасы не леденят душу, если ими специально не стра-
щают, если они своего рода литературная игра, в которую автор вовлекает читателей. Приме-
ром такой литературной игры были отчасти рассказы Габриеле Романьоли, напечатанные во
втором номере «Иностранной литературы» за 1996 год. В ту же игру играет со своими чита-
телями Барбара Гарласкелли, чьи рассказы открывают публикацию, призванную отразить про-
цессы, происходящие сегодня в итальянской литературе. Юмор Гарласкелли, не убоявшись
парадоксальности предлагаемой формулы, можно было бы назвать жизнеутверждающим
юмором в убийственных ситуациях, на что, кстати, дает основание заглавие ее дебютной книги
— «То ли смеяться, то ли умереть».
Столь же красноречиво заглавие первой книги Никколб Амманити «Грязь», принятой на
ура многими рецензентами, один из которых, известный критик Анджело Гульельми, назвал
ее автора «самым зрелым среди молодых писателей до тридцати лет». Барбаре Гарласкелли
до него далеко. Он будет покруче. Представленный на страницах этого номера показательным
для него рассказом «Зоолог», Амманити беспощадно обрушивает на читателей умопомрачи-
тельную цепь малоаппетитных сцен, изобилующих прямо-таки патологическими подробнос-
тями. «Зоолог» написан не ради того, чтобы пощекотать нервы любителям острых ощущений.
Герой рассказа погибает от ножа фашиствующего расиста, заступившись за темнокожего им-
мигранта, и все его посмертные злоключения — результат этого убийства. Амманити насто-
ящий плохист, он из тех злых, кого итальянская критика в последнее время предпочитает
величать каннибалами. Жутковатые сочинения каннибалов, жонглирующих шоковыми эпизо-
дами, предельно обнажающих натуралистическую манеру письма, нашли свою нишу в искус-
стве постмодернизма. Используя ставшие штампами приемы создателей массовой культу-
ры, с ее литературными и кинобоевиками в их худших образцах, с ее комиксами-страшилка-
ми, с ее агрессивными телепрограммами, такие писатели, как Амманити, проводят читателя
по кругам земного ада, примет которого предостаточно в окружающей действительности. Труд-
но сказать, насколько эту своего рода перелицованную эстетику безобразного, эксплуатиру-
ющую слабость неприхотливой публики к «художественной макулатуре», оценили читатели,
но то, что к представителям этой эстетики проявляет повышенный интерес критика, непре-
ложный факт. Об их творчестве пишут, говорят на симпозиумах, спорят. Одни поют канниба-
лам осанну за то, что они в брутальной форме кричат о брутальности современного мира,
другие находят в их произведениях лишь «шизофреническую патологию». Если критик Андже-
ло Гульельми, делая исключения разве что для Амманити, видит в каннибалах «писателей»,
не знающих чувства меры, которые не обязательно являются новыми писателями», то поэт
и прозаик Нанни Балестрини, представитель итальянского неоавангарда шестидесятых годов,
считает их творчество «европейской новинкой, спасением от скуки последних десятилетий».
© Е. Солонович. Вступление. 1997
132
Новый итальянский рассказ
К поклонникам Амманити и его единомышленников принадлежит и Эдоардо Сангвинети, дру-
гой легендарный неоавангардист первого призыва, уверенный, что «анархистский бунт» есть
едва ли не главное достоинство двадцатого века.
На фоне чернухи достаточно громко заявляет о себе Джулио Моцци, добрый, чья первая
книга «Это сад» понравилась, в частности, Феллини. Хотя рядом с именем тридцатисемилет-
него хорошиста порой упоминают имена других прозаиков, права, несомненно, критик Мариза
Рускони, сказавшая о нем: «голос вне хора». Название направления, представляемого Моцци,
способно обмануть. Тот, кто не знаком с его рассказами, вправе подумать, что их автора при-
влекают исключительно светлые стороны действительности (в заблуждение может ввести и
заглавие второй книги писателя — «Земное счастье»). Дело не в сюжетах, не в темах, а в их
подаче, в той почти детской непосредственности, с какой автор рассказов воспринимает
провинциальный мир, частью которого он сам является. В мире, описываемом Моцци с педан-
тичными, вплоть до мини-деталей, подробностями, тоже хватает неприятностей, в этом мире
тоже не только живут, но и умирают, а бывает, и кончают с собой, но этот мир все равно ос-
тается тем местом, где каждому отпущена кому более, кому менее щедрая мера счастья.
Иногда кажется, что Моцци впадает в сентиментальность, что он склонён к известной лаки-
ровке действительности, что отдельные его страницы рродни старомодным рождественским
открыткам, которые буквально просятся в рамочку, и самый убедительный пример такого
открыточного стиля — рассказ «Помнишь, сколько снега выпало в прошлом году?». Против
адресуемых образцовому хорошисту упреков в приукрашении реальности, в сглаживании ос-
трых углов возражает писатель и критик Чезаре Гарболи: «Думаю, необходимо мужество, чтобы
строить программу на добре, а не на зле, учитывая, что в Италии мы вечно делаем ужасное
лицо, все сплошь люциферничаем и макиавелльничаем». А о внимании Моцци к частностям, к
мини-деталям эффектно сказала прозаик Розетта Лой, отметив особенность его таланта «в
умении наклоняться над деталями, подобно энтомологу, который исследует у муравья при-
знаки эволюции вида».
Весной девяносто шестого года Моцци обнародовал литературный манифест, в коем, среди
прочего, утверждалось: «Мы минималисты не потому, что занимаемся лишь не заслуживаю-
щими внимания мелочами: мы минималисты потому, что обладаем острым зрением и способ-
ны видеть то, чего другие до нас не видели. <...> Мы счастливы, потеряв то, что нам больше
не нужно. Мы карлики на плечах у великанов или скорее карлики на плечах у таких же карли-
ков: в любом случае отсюда, сверху, обзор лучше». Дальше цитировать не обязательно, даль-
ше остается только удивляться претенциозной риторике этого странного документа, что,
собственно, и сделали многие итальянские писатели и критики, включая тех, кому по вкусу
рассказы Моцци и кому стилистика его манифеста не могла не напомнить стилистику манифе-
стов Маринетти и других лидеров футуризма. К счастью, своим местом в литературе Моцци
обязан не сомнительным декларациям, столь не вяжущимся с элегическими интонациями его
рассказов, а двум книгам, прежде всего «Земному счастью», книге «по-настоящему интерес-
ной, очаровательной» — так оценила этот сборник рассказов старейшая писательница Ита-
лии Лалла Романо.
В итальянской прозе давно не было притока молодых сил, равного тому, что пришелся на
середину девяностых годов. Время еще внесет свои коррективы в оценки творчества злых и
добрых, а пока что прислушаемся к голосам писателя Алессандро Барикко и критика Альфон-
со Берардинелли. Первый из них отмечает: «Лжемудрые журналисты, пишущие о культуре,
противопоставляют друг другу хорошистов и каннибалов, как будто литература — qto пету-
шиный бой». Второй советует молодым авторам: «Не давайте вешать на себя ярлыки». И при-
знается: «Будь я прозаиком, я бы пародировал как хорошистов, так и плохистов».
Представляя читателям этого номера Барбару Гарласкелли, Никколо Амманити и Джу-
лио Моцци, пользуюсь случаем, чтобы пожелать доброго пути в литературе их переводчицам
— студенткам Литературного института имени Горького Екатерине Степанцовой и Маргарите
Черепенниковой.
ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ
Новый итальянский рассказ
133
БАРБАРА ГАРЛАСКЕЛЛИ
Письмо издателю
ногоуважаемый господин издатель!
Вы не можете себе представить, какую радость я испытала, узнав о Вашем намере-
нии опубликовать мой скромный сборник рассказов под названием «То ли смеяться, то
ли умереть».
Никогда в жизни мне не приходилось испытывать такого пронзительного счастья. Я
чувствовала себя орлицей, парящей в небе.
Ваша благосклонная снисходительность по отношению ко мне тронула меня не
меньше, чем слова моего отца в день, когда он сказал: «Доченька, все, что я имею, будет
твоим». Жаль, что папа, который возлагал на меня большие надежды, уже не сможет
•порадоваться моему скромному и незаслуженному успеху. Он скончался через три дня
после вышеупомянутой фразы, упав по неосторожности с лестницы.
Ваше намерение напечатать мои рассказы чуть смягчило то безмерное горе, в ко-
торое повергла меня утрата дорогого родителя.
Такой издатель, как Вы, — мечта любой начинающей писательницы.
Примите уверения в моей глубочайшей признательности.
Искренне Ваша
Р. S. Прилагаю к письму мочку уха Вашей любезной супруги, которая в перерыве
между обмороками сказала мне, что через несколько дней у Вашего малыша день рож-
дения. Кстати, в эту минуту он смотрит на меня своими славными глазками. Думаю, Вас
успокоит заверение, что Вы сможете обнять их обоих, как только моя книга появится на
прилавках книжных магазинов.
Сожалею, что приходится прибегать к подобным методам, но Вы уже тридцатый
издатель, к которому я обращаюсь, и еще один отказ был бы оскорблением памяти мо-
его бедного папы.
Перестаралась
Я ударила его по голове бутылкой она отскочила от лысого черепа выскользнула у
меня из рук и разбилась вдребезги усыпав пол осколками так что когда брат искупав-
шись в бассейне вошел один осколок вонзился ему в левую ступню заставив его от боли
© Marcos у Marcos, 1995
© Е. Степанцова. Перевод, 1997
134
Новый итальянскийрассказ
схватиться за книжный шкаф временно прислоненный к стене который зашатавшись
грохнулся и опрокинул столик в стиле Людовика XVI где стоял полный стеклянный гра-
фин который упал на паркет и покатился как шар в боулинге на ножку торшера с‘галоге-
новой лампой а торшер закачался как грот-мачта в бурю и рухнул на включенный теле-
визор в тот момент когда Эмилио Феде благословлял итальянцев так что телевизор взор-
вался как бомба брызнув искрами которые как огненные бабочки опустились на ситце-
вый диван и он загорелся.
Одним словом пожар.
Моему брату удалось спастись.
Мой муж погиб в огне.
Я вся в копоти, но довольна, хотя проще было бы ограничиться ударом бутылкой.
Но он всегда любил усложнять мне жизнь.
Интеллектуал
— Понятно? Истинная суть проблемы не в объективации образа, а в отстраненно-
сти языка. Понятно? Реальные координаты предмета в системе существования предпо-
лагают со стороны пользователя внимание, кое не обскурировалось бы отсутствием
синтеза. Понятно?
Он разглагольствовал сорок минут и дошел до сорок четвертого «понятно?». В ком-
нате не было никого, кроме нас двоих, но говорил он не со мной.
Но не шестьдесят четвертое «понятно?» стоило ему жизни, а «обскурировалось».
Удар в сердце, и все кончено. Понятно?
Вечная любовь
Третья ночь после свадьбы. Он проснулся и не засыпал, любуясь ею в слабом свете
луны. Лицо, смягченное сном, было обращено к нему. Светлые волосы, разбросанные
по подушке, казались шелковыми, а из приоткрытого рта до него долетало легкое дыха-
ние.
Он долго смотрел на нее.
Никогда он не смог бы любить ее больше.
Он попытался представить себе их жизнь вместе, размеренное течение дней и но-
чей. Работа, дом, семья, может быть, дети. Рождество, отпуск на море, неделя в зимних
горах. И опять работа, дом, дети, Рождество, отпуска на море, недели в горах. Две их жизни,
метроном, который всегда будет отстукивать один и тот же ритм. Вечно.
Они состарятся вместе. У нее больше не будет светлых шелковых волос, а на лице
появятся тонкие линии. Ее подтянутый живот смягчат жировые складки.
По утрам он будет просыпаться рядом с ней. Всегда.
Всегда.
Он нежно погладил ее по щеке и, перевалившись, оказался на ней. Она распахнула
глаза, сдавленно вскрикнув, и улыбнулась ему.
Рождество, отпуска, недели в горах, дети, дом, работа. Дети. Дом. Работа. Детидом-
работа, детидомработа.
Она все так же улыбалась ему, пока ее лицо не скрылось под подушкой.
Дети, дом, работа.
Он никогда не верил в вечную любовь.
Новый итальянский рассказ
135
Мылый
Мужчина подошел к креслу со стаканом бренди в руке. Протянул руку за газетой и
увидел лежащий на ней конверт.
С удивлением прочел: «Моему мужу». Жена, посылающая ему письма, — это что-
то новенькое. Если она хотела что-то ему сказать, почему не сказала за обедом?
Он открыл конверт и вынул бледно-розовый листок, сложенный втрое. Взял стакан,
отпил глоток бренди, расправил листок и стал читать.
«Милый, я знаю, что ты будешь удивлен и, возможно, даже раздосадован этим
моим поступком. Знаю, как ты любишь читать после обеда газету, сидя в своем люби-
мом кресле.
И все же я хочу кое-что тебе сказать. Наш уже долгий брак — на днях исполнит-
ся двадцать пять лет — это вся моя жизнь, ведь я вышла за тебя, когда мне было
восемнадцать: во всяком случае, всю свою взрослую жизнь я замужем за тобой.
С тобой я пережила счастливые минуты. Короткие, но счастливые.
Быть вместе столько времени — в такой жизни есть свои подъемы и спады, хотя
я уже не помню, каким был наш последний подъем. Я подсчитала количество слов,
которое мы говорим друг другу за день: если считать «Доброе утро» по утрам и «Спо-
койной ночи» перед сном, наберется около полусотни. Честно говоря, маловато, если
учесть, что мы видимся четыре-пять часов в день.
И все же я думала, что в целом это нормально. Миллионы пар живут точно так
же.
Правда, впрочем, и то, что, всю жизнь занимаясь детьми, потому что ты рабо-
тал, ведя хозяйство, ухаживая за твоей матерью, планируя расходы, потому что ты
этого терпеть не можешь, я могла в конце концов ожидать чего-то большего.
Но привычка — вторая натура, мы сживаемся с ней. Это нормально, говорила я
себе.
Правда и то, что уже несколько лет ты не предлагаешь мне поужинать в ресто-
ране, сходить в кино или в театр, потому что вечером ты приходишь усталый и пред-
почитаешь сидеть в кресле и смотреть телевизор; что уже двадцать лет мы прово-
дим каждый отпуск в Сан-Бартоломео, чтобы ты мог встретиться со своей сест-
рой: другого времени повидать ее у тебя нет; что за обедом и ужином мы не разгова-
риваем, потому что идут теленовости; что по воскресеньям ты не отрываешься от
телевизора, потому что там спорт...»
Мужчина вздохнул. Сколько там еще этой тягомотины? Он перевернул листок: до
конца оставалось немного. Теперь он понимал, почему жена не завела этот разговор за
обедом. Знала, что он оставил бы ее плакаться в одиночестве. Он допил остатки бренди
и снова обратился к убористому почерку жены.
«Но, говорила я себе, так почти у всех. В принципе, семейная жизнь бывает и
скучной, но пока есть привязанность, уважение... Однако неделю назад произошел
случай, который коренным образом изменил мое мнение о нас двоих. Я перестилала
постель и на полу, у твоего ночного столика, нашла письмо. Я стала читать его. Так,
из любопытства, знаешь, как это бывает...»
Нет, он этого не знал! Он никогда не позволил бы себе прочесть чужое письмо. Как
могла его жена так низко поступить? Его передернуло от бессильной злобы. Он хотел
было пойти и отругать ее, но что-то его остановило. Надо было узнать, какие выводы она
сделала. Впрочем, чтобы представить себе ее реакцию, большой фантазии не требова-
лось.
‘ «В первую секунду я подумала, что это письмо одной из девчонок Серджо. В нем
говорилось о незабываемых ночах, днях у моря, прогулках на велосипеде. Там были та-
кие слова, как «потрясающий любовник», «томные поцелуи» и «пламенная постель».
136
Новый итальянский рассказ
Потом я прочла твое имя и поняла, хотя это казалось невероятным, что потрясаю-
щий любовник — это ты.
Я вспомнила наши уже далекие ночи и мужчину, начисто лишенного эротических
фантазий, который засыпал через двадцать секунд после секса. Хоть бы сигарету
сначала выкурил.
Не знала я также, что ть\ так любишь искусство и интересуешься выставками.
Мне пришло в голову, что в последний раз мы с тобой были в музее, когда водили Сер-
джо в музей естествознания. Ему было семь лет. Теперь он уже отслужил в армии...».
Мужчине становилось все жарче. Он почти задыхался. Ярость и замешательство
образовали убийственную смесь. Он протянул руку, но заметил, что стакан пуст. Встав,
он почувствовал, что у него кружится голова. Он подошел к встроенному бару и налил
еще бренди. Потом вернулся и продолжил чтение.
«Я говорила себе: неужели это и вправду мой муж? Зануда, аккуратный до пре-
дела, человек, который выравнивает до миллиметра карандаши в ящике и проводит
целые часы перед аквариумом, уставившись в него как загипнотизированный. Чело-
век, который всегда делает одно и то же, в один и тот же час, в одной и той же
последовательности, без малейшего намека на фантазию, на безрассудство.
И все же в письме говорилось о тебе.
Я поняла внезапно и эти субботы у твоей матери, которая неважно себя чув-
ствовала, и внезапно проснувшуюся любовь к велосипедным прогулкам, из-за которой
ты пропадал все воскресенья.
Не буду описывать тебе, что я испытала. Ты не понял бы этого и за тысячу лет.
Не боль, а унижение, злость и зависть.
Да, зависть к женщине, которая получила тебя таким, каким я тебя не то что не
знаю, но и представить себе не могу, к женщине, которой удалось пережить с тобой
минуты полного счастья.
Перед моими глазами прошли годы, проведенные бок о бок с тобой, и я подумала
о сиротливр^ти своей жизни, о жертвах, о днях, похожих один на другой.
Знаю, вина здесь отчасти и моя. Я целиком отдалась роли образцовой жены,
иногда она мне даже нравилась. Я вела дом, распределяла деньги, рожала детей.
Этого-то я и не могу себе простить: я построила себе клетку, выбросила ключи и
убедила себя в том, что я хозяйка.
Прочитав это письмо, я почувствовала себя старухой, у которой больше нет шан-
сов. Игроком, поставившим все на осла вместо чистокровного скакуна.
Во всем виновата я сама. Но сознавать, что все эти годы ты отдавал мне худ-
шую часть себя...
Ты заставил меня задуматься. Сначала я хотела поговорить с тобой, потом из-
менить тебе, потом уйти. Но ни одно из этих решений меня не удовлетворяло.
Потом я вспомнила о том, каков ты дома, о твоих привычках — все время одних
и тех же, одних и тех же.
Знаю, что к этому времени ты уже выпил порцию бренди, которое ты всегда
пьешь после еды, сидя в кресле с газетой. А теперь наверняка налил себе еще, уже
побольше, — как всегда, когда ты нервничаешь.
В таком случае лучше тебе знать, что чувство удушья, которое у тебя появи-
лось, вызвано не только злостью.
Надеюсь, ты понял.
Твоя жена».
Новый итальянский рассказ
37
НИККОЛО АММАНИТИ
Зоолог
Я хорошо это помню.
Пивная называлась «Желтый клюв».
Она была тесной и людной, с претензией на английский паб: стены обшиты дере-
вом, над стойкой висят кружки.
Я сидел за одним столом с профессорами, ассистентами и научными сотрудни-
ками Болонского университета.
Знал я их плохо.
В то утро я провел на биологическом факультете конференцию, посвященную гор-
мональным изменениям в процессе развития хвостагпых амфибий.
Успешно.
Я был один, и после конференции мне оставалось только вернуться в гостиницу,
в мою убогую комнатенку. Коллеги пригласили меня выпить с ними.
Я согласился.
Мы выпили много пива и в конце концов заговорили об университете, конкурсах
научных сотрудников и диссертациях. Жаркая и прокуренная атмосфера пивной рас-
полагала к трепу и академическим сплетням.
Обычное дело.
Сведи вместе двух или больше коллег, не важно каких: землемеров, банковских
служащих или футболистов, — в конце концов они непременно заговорят о работе.
Рядом со мной сидел старый и уважаемый профессор Таури с кафедры биохи-
мии — толстый человечек с носом картошкой и такими красными щечками, что их
все время хотелось ущипнуть.
Он был не в духе. Пыхтел. Внезапно он схватил пивную кружку и несколько раз
грохнул ею об стол, словно судья, стучащий молотком, чтобы восстановить тишину.
— Ради бога! Мы не можем говорить все вместе. Я хочу сказать! А не дадите —
уйду, — заявил он с видом нахального моржа.
— Конечно, конечно, говорите, профессор, — сказал я. Он огляделся по сторо-
нам, проверяя, внимательно ли слушает аудитория, затем вытянул толстую свиную
шею и, довольный, произнес:
—Давайте называть вещи своими именами. Будем откровенны.Студенты, моло-
© Arnoldo Mondadori Editore, 1996
138
Новый итальянский рассказ
дежь не хотят понять, что здесь им ничего не светит. Надо уезжать. Учиться где-
нибудь в другом месте. В Италии не может быть настоящей науки. Бесполезно. Мы
всегда отстаем на два года. Одно разочарование. Я мог уехать в Беркли, но жена
отказалась переезжать. Сказала, что не хочет отрываться от корней. Вот я и сижу
здесь, сижу и не рыпаюсь, но будь я чуть помоложе...
Стоило патриарху затянуть, как все подхватили.
Incipit lamentatio1.
Кругом сплошной бардак. Конкурсы покупаются, управляются, результаты под-
тасовываются, искажаются. Обычное итальянское дерьмо. Все победители извест-
ны заранее. Деньги на исследования разворовываются. Спонсоров не найти. Профес-
сионализма не было и нет. Вообще ничего нет. Все летит в тартарары.
Профессор Таури спросил, каково мое мнение.
— Я согласен с вами, думаю, здесь вряд ли можно что-то изменить... — сказал я
с нарочитой небрежностью и, желая придать своим словам толику объективности,
продолжил: — Даже человек, обладающий железной волей, в любом случае вынуж-
ден считаться с гнилой и продажной системой и подлаживаться к ней: Иначе не вы-
жить. Тот, кто хочет когда-нибудь преподавать в итальянском университете, дол-
жен заручиться поддержкой профессора, обладающего какой-либо политической
властью или влиянием в академических кругах, чтобы тот тащил его на буксире, торил
дорогу и оберегал от нападок. Даже самые способные и целеустремленные студен-
ты не могут полагаться только на свои способности.
Все согласились и закивали. Но вдруг вмешался некий странный персонаж, до
этого молча сидевший в стороне.
— Извините, могу я сказать?.. — произнес он робко.
— Пожалуйста, — сказал я и окинул его взглядом.
У него были маленькие темные глаза и длинный заостренный нос. В целом вид до-
вольно зловещий — возможно, из-за длинных волос цвета воронова крыла, падавших
на худое лицо.
Я знал, кто это, но не был с ним знаком. Даже не говорил с ним ни разу.
Корнелио Бальзамо.
Довольно известный эмбриолог. Изучал регенерацию конечностей у варанов из
Комодо. Я слышал, что он ампутировал лапы тысяче с лишним экземпляров, чтобы
наблюдать эффект рубцевания. Именно этими садистскими экспериментами он и про-
славился. Всемирный фонд охраны природы и другие объединения против вивисекции
накинулись на него и в какой-то степени сумели остановить эту резню.
— Я не согласен. Это не всегда так, — сказал Бальзамо лаконично.
Голос у него был низкий и звучный.
— Почему? А как по-вашему? — настаивал я.
Должно быть, говорил этот человек крайне редко, потому что все остальные,
до сих пор наперебой галдевшие, замолчали и навострили уши, ожидая, что скажет
таинственный персонаж.
— Мне кажется, что, если человеком движет неодолимое желание, страстная
любовь к тому, что он изучает, он может подняться очень, очень высоко в академи-
ческой иерархии, и преграды, стоящие на этом пути, падут как по волшебству...
«Вот истинный оптимист», — подумал я.
Эмбриолог, похоже, робел перед всей этой публикой. Он говорил^ не поднимая
глаз от кружки с пивом.
Этот тип меня заинтересовал. Я спросил его, знает ли он хоть одного человека,
которому это удалось.
Начался плач (лат.).
Новый итальянский рассказ
139
Он выпил еще кружку, а мы, обступив его, молча ожидали ответа.
Затем он сказал, что знает одну историю, которая изменит наше мнение.
Вот эта история, я постараюсь пересказать ее именно так, как услышал от про-
фессора Корнелио Бальзамо в тот февральский вечер в Болонье. События эти имели
место в действительности, и поэтому я намеренно изменил все имена.
Андреа Милоцци изучал биологию в Римском университете. Третий год он не мог
сдать экзаменов, и его никак нельзя было назвать блестящим студентом.
У него были трудности со всеми основными предметами. Экзамены по математи-
ке, физике, органической и неорганической химии стали подводными рифами, поколе-
бавшими его решимость стать биологом.
После нескольких попыток он сумел-таки их сдать, но пришлось ходить на дорогие
частные курсы и к репетиторам.
Не то чтобы он не любил изучаемые предметы, но идея сидеть целыми днями дома
за этими нудными текстами нисколько его не привлекала.
И был*он вовсе не дурак — просто молодой человек, предпочитающий гулять, раз-
влекаться с друзьями, читать комиксы и приключенческие романы.
И вот наконец он подошел к последнему и самому трудному за всю его долгую сту-
денческую жизнь экзамену.
Последнее испытание. Самое тяжелое. Потом только защита и вожделенный диплом.
Экзамен по зоологии.
Ужасная преграда, возвышавшаяся между ним и финалом. Непреодолимое, гиган-
тское препятствие.
Этот экзамен Андреа сдавал трижды, но каждый раз его заваливали, срезали, отправ-
ляли домой.
Почему же он не мог его сдать?
Да потому, что выучить названия всех этих мелких, никому не нужных животных
было для него труднее, чем разгружать ящики на рынке. От систематики ракообразных
его выворачивало наизнанку, а от анатомии многоножек просто мороз шел по коже.
Больше всего в этой сухой материи раздражало его то, что для ее изучения не требова-
лось ничего, кроме мнемонического усилия.
Десять тысяч латинских названий, две тысячи органов с одними и теми же функци-
ями, но с разными для каждого организма наименованиями — нарочно, чтобы пому-
чить несчастных студентов.
В общем, экзамен скорее для компьютера, чем для человека.
Несмотря на все это, Андреа занимался много, невероятно много и собирался на-
конец разделаться с зоологией. В последний месяц перед экзаменом он отказался от раз-
влечений, не виделся с Паолой, своей девушкой, забросил все прочие дела.
Он должен был сдать его во что бы то ни стало.
Морозной ночью Андреа ехал на мопеде.
До экзамена оставалось меньше двенадцати часов, и он чувствовал, как в нем мед-
ленно и неотвратимо, как морской прилив, поднимается паника. Андреа возвращался от
своего университетского товарища, жившего в Монтеверди. Фактически с другого края
города. Он провел там весь день, и под конец повторение пройденного превратилось в
такой зубодробительный блиц-опрос, которому ни одна телевикторина в подметки не
годится.
Он посмотрел на часы.
Двадцать минут первого.
Поздно!
140
Новый итальянский рассказ
Город тихо спал, и только редкие машины проносились в холодной ночи.
Он остановился на красный сигнал светофора. Повторил в уме эксперименты, ко-
торые провел Дарвин, чтобы доказать эволюцию видов, затем переключился на теорию
дрейфа генов.
Зеленый.
Он уже трогался с места, как вдруг услышал стоны и вопль «Помогите!», разорвав-
шие тишину.
Поначалу Андреа не обратил на них внимания: он пытался припомнить год публи-
кации «Происхождения видов». 1859 или 1863?
Затем прислушался.
Стоны доносились из соседнего переулка, темного — хоть глаз выколи. Голоса.
— Спать ты больше здесь не будешь, ублюдок сраный, негритос хренов. Вот, полу-
чи... и еще...
— Пожалуйста... Что я вам сделал? А-а-а, а-а-а, пожалуйста, отпустите, я сюда боль-
ше не приду... честное слово. А-а-а! — голос с иностранным акцентом.
Кого-то били. Это Андреа сразу понял.
Как поступить? Ехать дальше? Или пойти посмотреть, в чем дело?
Мотай отсюда! Тебя это не касается.
Первая мысль в таких ситуациях.
Завтра у меня экзамен. Самый важный в жизни.
Он почувствовал, как страх пробирает его до кончиков пальцев, а желудок сжимает-
ся в комок.
Да, лучше убраться подальше.
— Помогите! Помогите! Ради бога...
Андреа проехал несколько метров и остановился.
Не будь трусом. Пойди и посмотри, в чем дело.
Он развернулся, заглушил мотор и поставил мопед на подножку. Андреа был не
блестящий студент, но парень смелый. Он терпеть не мог насилия и по природе своей
был склонен вступаться за слабых.
Крики не умолкали, голоса тоже. Там их несколько — наверно, целая шайка.
— Давай, врежь ему еще.
— Смотри, как ползает... Встань. Будь мужчиной.
Андреа медленно подошел. Заглянул в переулок — ничего не видно. Нетвердо ша-
гая, он прошел чуть подальше и тогда разглядел в темноте три темные фигуры вокруг
тела, распростертого на земле.
Он подошел еще ближе.
Мерцание городских огней, отраженное от облаков, едва освещало узкий переулок.
Он медленно шел, сомневаясь, хватит ли у него решимости вмешаться. От адреналина
колотилось сердце.
Переулочек оказался завален мусором и картонными коробками. Скорее это был
не переулок, а проход между двумя домами.
Троица продолжала пинать лежащего на земле. Теперь он казался скорее безжиз-
ненным мешком, чем человеком.
— Эй! Что вы делаете? Отпустите его... — произнес Андреа неуверенным дрожа-
щим голосом.
Он сам удивился, услышав свои слова. Они вырвались у него помимо воли.
Троица остановилась, удивленно оглянулась и увидела его.
Молчание.
Казалось, они не верили своими глазам.
Какого хрена кто-то смеет им мешать, когда они очищают город от отбросов обще-
ства?
Новый итальянский рассказ
141
— Отпустите его. Вы что, не видите, нто это просто бродяга? — повторил Андреа,
собравшись с духом и чувствуя, что голос его дрожит, как скрипичная струна.
— Чего тебе надо? Твое дело сторона, шел бы лучше, пока цел, — сказал один из
них — высокий, бритоголовый, в джинсах и черной дутой куртке.
Лица его Андреа не видел.
— Что вы с ним сделали?
— Ты что, глухой? Говорят тебе, вали отсюда, — сказал другой, одетый точно так
же, только пониже и потемнее.
— Вас трое, а связались с одним слабаком, тоже мне герои...
Это были обычные фашисты из подворотни.
— Эй, ты, говнюк! Иди сюда, посмотри сам, — сказал высокий и повернулся к ле-
жащему на земле:
— Видел, негритос сраный? Доволен? Докричался. Пришел твой спаситель. Сейчас
мы этому Робин Гуду врежем...
Все трое переглянулись и завопили хором:
— Лови его!
И началась погоня.
Андреа развернулся и пулей бросился прочь из переулка, слыша за спиной тяже-
лый топот этих гадов.
Бум, бум, бум, бум.
Выскочив на проспект Реджина Элена, Андреа огляделся: не поможет ли кто.
Ночью в Риме на улице ни души, и нужно быть наивным или насмерть перепуган-
ным, как Андреа, чтобы надеяться, что кто-то придет на помощь.
Никто тебе не поможет.
И вправду, промчались две или три машины, и водители, конечно, видели, что за
Андреа гонятся фашисты, но не остановились.
Правильно! Первый закон выживания: не суйся не в свое дело.
Андреа чувствовал, что ему наступают на пятки. Эти сволочи бегают как черти.
На днях на этой улице прорвало водопровод, и рабочие вырыли большую и глубо-
кую яму, забыв осветить ее.
В нее-то и угодил Андреа, вывихнув лодыжку. Он хотел встать и бежать дальше, на-
плевав на резкую боль, но нога не слушалась. Бесполезный придаток.
Те трое остановились, тяжело дыша от быстрого бега.
— Что это ты притормозил? Упарился? Тоже будешь ползать, как тот черножопый?
— спросил, задыхаясь, высокий — не иначе как главарь.
— Что вы хотите со мной сделать? — выдавил из себя Андреа севшим от страха
голосом.
— Прибить! — ответил тот, что пониже, с милой детской улыбкой.
Они схватили его за волосы и, как мешок, поволокли в переулок.
Подальше от чужих глаз.
Его подтащили к негру, который еще ворочался на земле, пытаясь подняться. Когда
бедняга увидел их в темноте, злых и грозных, то решил, что они вернулись из-за него,
закончить прерванную работу.
Он стал умолять не убивать его.
— Я все понял. Я все понял.Честное слово, — хныкал он не переставая.
Но вернулись не из-за него.
Вернулись из-за Андреа, чтобы научить его первому закону выживания: не лезь не
в свое дело.
Андреа попытался вырваться, но не тут-то было. Дылда крепко держал его за волосы.
Волны боли пробегали по ноге, как взбесившиеся поезда. Перехватывало дыхание.
Должно быть, он сломал эту чертову лодыжку.
142
Новый итальянскийрассказ
От страха он оцепенел, как кролик перед фарами автомобиля.
Его били ногами, сломали пару ребер, а потом вытянули цепью по спине.
Никакой жалости.
Пока его били, Андреа упрямо полз по направлению к проспекту, как черепаха к
морю.
Его подняли и поставили на ноги, как будто внезапно раскаялись и решили помочь.
Вместо этого высокий, смеясь во весь рот и показывая кривые зубы, вытащил длин-
ный острый нож.
Когда Андреа увидел, что у высокого в руке, в глазах у него помутилось, и в голове
тоже.
Он закрыл глаза.
— А теперь умри, красавчик, — сказал тощий, ухмыляясь, и по самую рукоятку
всадил острый ножик ему в живот.
Густая липкая жидкость потекла по рубашке и животу Андреа. Он почувствовал не
столько боль, сколько липкий жар крови, согревающей кожу.
Андреа без сил опустился на землю.
Усталые, но довольные проделанной работой, трое фашистов попрощались с ним и
ушли, оставив его умирать.
Тощий, наверное, перерезал одну из главных артерий — Андреа чувствовал, как
кровь течет там, где ее быть не должно: заливает полости пищеварительной системы,
пищевод, горло и рот до самого нёба — соленая и в то же время горькая.
Когда первые сердечные спазмы сотрясли бескровное тело, Андреа подумал о зоо-
логии, о том, что опять он не сдал этот чертов экзамен, и вспомнил, что у плоских червей
нет ни системы кровообращения, ни крови.
Жалко, что я не плоский червь... Ничего бы со мной не случилось.
Смерть застала его на земле, тихая и неощутимая, как газ, пока он повторял про себя:
«Головоногие, жаброногие, брюхоногие, веслоногие».
Безжизненное тело Андреа распласталось на черном асфальте. Африканец, кото-
рый валялся на земле неподалеку, попытался промокнуть кровь, текшую у него из носа,
обрывком газеты.
Нос ему сломали, плечо было вывихнуто, но все остальное цело.
Он подполз к телу, лежащему рядом, стараясь не делать резких движений. Попробо-
вал поднять его руку, но она упала, как у марионетки с перерезанными ниточками. Сер-
дце тоже не билось, и дыхания не слышно.
Человек был мертв.
Странное выражение лица было у этого парня. Как будто, умирая, он пытался что-
то вспомнить. Брови нахмурены в немыслимом усилии.
Человек опустил голову на грудь трупа и заплакал.
Он плакал от страха и грусти. Этот парень умер, чтобы спасти его, и это приводило
его в смятение.
В странном мире он очутился.
Одни пытались убить его только потому, что он спал под картонками, а другие, со-
всем его не зная, отдавали за него жизнь.
Карим — так его звали — приехал из далекой страны.
Из маленькой страны в Западной Африке.
Едва приехав, он принялся искать работу.
Ее не было.
Когда работу ищешь, ее никогда нет.
Только летом он смог что-то найти под Римом, в Вилла Литерно. Он собирал поми-
доры. Ему платили за каждый ящик. Осенью похолодало, и работа кончилась. Он вернул-
Новый итальянский рассказ
Т43
ся в Рим и снова зажил голодранцем, по вечерам ужинал в благотворительной столовой,
а по ночам, когда становилось холодно, спал на вокзале, на решетках, из которых шел
теплый воздух.
Как-то ночью карабинеры делали обход и вместе со всеми другими забрали его в
участок. Его чуть было не отправили обратно домой.
Теперь он боялся. И ночевать решил в этом глухом закоулке, где почти никто не ходит.
Карим долго плакал у тела, сотрясаясь от беззвучных рыданий.
Он потерял все, даже собственное достоинство, и это было больнее всего.
Он чувствовал себя беззащитным.
В Африке, в своем племени, он был заметным человеком, уважаемым всеми. Вра-
чеватель и колдун, он унаследовал колдовское искусство от своего отца, а тот от деда и
так далее до начала времен. Он изучил тайны врачевания и трав и знал, как говорить с
мертвыми, пробуждая их от сна. Он стал жрецом загробного мира и, впадая в транс, видел
скалистые берега преисподней.
Могущественней его был только старейшина селения.
Но знание заклинаний и колдовских обрядов не помогло от засухи и голода. Как и
все другие, он должен был уехать, эмигрировать, смешать свои желания с желаниями
тысяч других людей.
Простые, как хлеб, желания.
Его колдовское искусство в западном мире стоило немного: что от него толку, если
им не заработаешь на жизнь.
Он припал к трупу, пачкая куртку кровью. Отчистил его, как смог. Расчесал волосы.
Надо было помочь бедолаге, вернуть его к жизни. Он не хотел оставаться в долгу.
Это было рискованно, и за свою жизнь он только несколько раз возвращал мертвых к
жизни. Души не любят, когда их заворачивают на пути в бесконечность.
Часто они отказываются вернуться в бренное тело.
Но ему уже нечего было терять.
Он принялся повторять песнь мертвых, обращение к Матери тьмы. Он просил, что-
бы только раз позволила она одному из своих сыновей вернуться туда, откуда он ушел.
Заклинал, чтобы душа Андреа развернулась на витке спирали, ведущей вверх, и спусти-
лась к нам, смертным.
«Радал, радал, скутак скутак троферейон рейон мант».
Машинально повторяя волшебные слова, он трясся от рыданий.
Закончив, он поцеловал мертвого в губы и накрыл его своим тряпьем.
Потом с трудом поднялся и медленно, хромая, побрел к проспекту.
Душа Андреа, легко поднимавшаяся по неосязаемым дорогам, была остановлена
словами колдуна. Составлявшие ее бестелесные атомы задергались в беспорядке, пере-
мешиваясь и внося в этот совершенный мир легкий хаос. Дух отяжелел и, притянутый
магическими словами, стал тонуть, словно камень в болоте. Кружась, он пошел вниз, в
то время как другие души поднимались к началу начал.
Он вернулся в узкий коридор между жизнью и смертью и там затерялся среди волн,
поднятых душами, которые шли вверх. Потом потихоньку опустился ниже и снова упал
в тело, встряхнув его и наполнив чем-то похожим на жизнь.
Андреа открыл глаза и завыл.
В этом душераздирающем крике не было ничего человеческого.
Он был зомби, или, точнее, живой мертвец.
Зомби — существа простые. Зависшие между жизнью и смертью, они теряют мно-
гие качества, которые делают нас людьми.
Возвращаясь к жизни, они одержимы одним желанием.
Их заклинивает в непрерывном однообразном стремлении. Последнее желание их
144
Новый итальянский рассказ
прошлой жизни превращается в мощный и нехитрый инстинкт, примитивный и древний,
и, будучи существами неразумными, они не могут этого понять, но пассивно следуют
ему.
Живут они, если это можно назвать жизнью, иррационально, выходя за рамки про-
стейших норм общения и морали.
В общем, они грубы и невоспитанны.
Андреа оглянулся по сторонам и снова завыл на луну.
Ему срочно надо было что-то сделать.
Что же?
Что он должен сделать?
Ну да. Конечно. Сдать экзамен по зоологии.
Это была почти физиологическая потребность, как для нас пойти помочиться.
Она двигала безжизненным телом, и, если бы не этот глубинный и первичный ин-
стинкт, тогда всё, конец: душа снова вырвалась бы из тела, но, теперь уже отяжелевшая,
повисла бы в нескольких метрах над землей.
Андреа побрел по переулку. Шел он не слишком ровно, раскачиваясь на негнущих-
ся ногах и слегка заваливаясь набок.
Шатаясь, он вышел на проспект Реджина Элена.
С виду он был мертвецки пьян.
Джованни Синискальки возвращался домой на своем зеленом «гольфе» со сталь-
ным отливом. После ночи любви в душе и теле он чувствовал блаженную усталость.
Девушку он подцепил на дискотеке «Палладиум».
Она была из Дженцано, местечка под Римом. В принципе, на вид ничего особенно-
го, но какая страстная.
Впервые в жизни он закадрил девушку на дискотеке. Джованни был не из породы
хищников, которые набрасываются на добычу, хватают ее и убегают, — скорее он любил
представлять себя старым опытным рыбаком, который удит с лодки, — спокойным, но
беспощадным к клюющей рыбе.
Свою добычу он брал измором.
А этим вечером ему и удочку забрасывать не пришлось.
Сабрина — так звали эту девушку из Дженцано — приметила его среди сотен дру-
гих усердных танцоров и приклеилась к нему, точно рыба-прилипала к киту. К третьему
танцу они уже спелись. К четвертому от сногсшибательного поцелуя он совсем потерял
голову.
Он отвез ее домой, в Дженцано, и там, в комнате рядом со спальней родителей Саб-
рины, они молча занимались любовью среди плюшевых медвежат и постеров Эроса
Рамаццотти и Лигабуэ.
Круто, ничего не скажешь.
Джованни проехал Верано и на полном газу свернул направо, на проспект Реджина
Элена.
— Ах ты старый жеребец!— сказал он себе довольно. — Что ты делаешь с женщи-
нами, а?
В машине было довольно жарко.
Он взглянул на часы на приборной доске.
Пятнадцать минут пятого.
Ого!
Надо было спешить домой. В полдевятого он должен быть уже в офисе. Несколько
месяцев назад он устроился в одну компьютерную фирму.
Он переключил скорости. Третья, четвертая, пятая.
Новый итальянский рассказ
145
Дорога была совершенно пустая, можно было гнать во весь дух.
Скорость перевалила за сто двадцать, когда внезапно, не успев ничего ни заметить,
ни предпринять, он врезался во что-то живое.
Глухой удар о радиатор.
Машину занесло сначала вправо, потом влево, в конце концов она уткнулась в га-
зетный киоск, покорежив ставень.
Подушка безопасности надулась, как воздушный шар: если бы не это, руль проло-
мил бы ему грудину.
— Подушка безопасности! Ой, мамочка родная! — крикнул Джованни.
В самом деле, именно мама заставила его установить это устройство в машине.
Следующей мыслью было:
— Едрена вошь, я кого-то убил.
Он выкарабкался из-под надутого шара и вышел из машины на холод. На дороге
никого не было видно. Только черные полосы от шин на асфальте.
Потом он увидел его.
Тело, распростертое на земле. Оно не двигалось.
— Бля, я его убил...
От страха у него похолодели яйца и перехватило дыхание.
Он подбежал к телу.
Человек был мертв. На вид моложе тридцати. Белый как стенка. Красная от крови
рубашка.
— Нее-ет... Неужели я его убил? — пролепетал Джованни. Он закрыл глаза руками
и попытался заплакать, но безуспешно.
Слишком жутко было случившееся, и слишком быстро оно произошло, чтобы он
мог в это поверить.
Что делать?
Он представил себе, как ближайшие двадцать лет он гниет в тюрьме. Никаких боль-
ше вечеров в «Палладиуме», никакого секса среди игрушек с Сабриной. Больше ничего.
Потом он услышал голос совести, если это можно было назвать совестью:
Уматывай! Живей! Кто тебя видел?!
Джованни огляделся по сторонам. Никого. С той минуты как он сбил этого бедола-
гу, здесь никто не проезжал.
Он поднялся и побежал к машине.
— Все равно он уже умер, — сказал он себе, сразив наповал свою совесть. — Ничего
тут уже не поделаешь. И вообще я тут, бля, ни при чем, этот псих сам бросился под ма-
шину.
Он открыл дверцу, и тут увидел нечто, в один момент разрушившее все планы бег-
ства.
Подушка безопасности.
С этим чертовым шаром невозможно вести машину. Он протиснулся между подуш-
кой и сиденьем, но так ничего не было видно. Он не мог даже дотянуться до ключей.
Надо было сдуть ее, проколоть.
Легко сказать.
Чертыхаясь, он стал кусать ее зубами.
Вдруг раздался ужасный крик, крик, в котором было мало человеческого, похожий
скорее на вой койота.
— Что за хрен? — сказал Джованни вслух.
Он оглянулся.
Все спокойно.
Наверное, это была собака или распаленный любовными играми кот. Он снова при-
нялся терзать шар зубами.
146
Новый итальянский рассказ
— Ууууууаааааааууууууууууууу.
Новый вопль, еще протяжней первого.
Он опять оглянулся и увидел нечто невообразимое. Совершенно невообразимое.
Мертвец поднимался.
Джованни застыл с открытым ртом.
Вылез из машины.
Труп уже встал на ноги и пошел покачиваясь. Вид у него был жуткий. Белый как
мел. Пена на губах. На лице довольная ухмылка. Невидящий взгляд. Рваная, окровавлен-
ная рубашка. Ужас!
И что-то совсем несуразное.
Голова.
Голова была повернута на сто восемьдесят градусов.
Джованни обошел его кругом.
Странно было видеть лицо, шею и потом спину и зад, а с другой стороны волосы,
падающие на грудь.
Бред какой-то.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Джованни заикаясь.
Человек даже не слышал, он увлеченно пятился назад, точно рак.
Казалось, он не мог решить, идти ему назад или вперед.
Потом, на ходу, ухватился за волосы и развернул голову в нормальное положение.
Довольно улыбнулся.
— Как ты себя чувствуешь? — снова спросил его Джованни.
Никакой реакции.
— Тебя отвезти в больницу? Ты себе, наверно, шею сломал... Какой-нибудь позво-
нок...
Парень впервые перевел пустые, потухшие глаза на Джованни и совершенно серь-
езно произнес:
— Позвонкам называют один из костных элементов дисковидной или цилиндричес-
кой формы, каковые элементы, располагаясь в ряд, составляют основную часть скелета
обширной группы животных, классифицируемых как тип хордовые...
Джованни смотрел, как он уходит по трамвайным рельсам посередине дороги,
шатаясь на негнущихся ногах.
Он все еще говорил как по писаному, тем же ровным голосом:
— Под позвоночными понимаются животные, характеризуемые наличием внутрен-
него скелета, называемого также осевым скелетом, который выполняет поддерживаю-
щую и защитную функции, а также имеющие заключенный в позвоночном канале спин-
ной мозг, который расширяется впереди, образуя головной мозг.
Энрико Терцини вел последний ночной рейс тридцатого трамвая. Он здорово ус-
тал, и, кроме того, у него болел зад. Уже два дня на правой ягодице сидел огромный чи-
рей и угрожал прорваться с минуты на минуту.
Гнойное воспаление на заднице — ипука неудобная, особенно если приходится
сидеть, поэтому бедняга Энрико вел трамвай стоя.
Он не мог дождаться минуты, когда приедет на конечную. Оттуда он помчится до-
мой и попросит свою жену Марию произвести хирургическое вмешательство и выда-
вить эту гадость. Потом примет горячую ванну и — на боковую до трех часов дня.
В трамвае никого больше не было. Радиоприемник, висящий на ручке тормоза,
наигрывал песенку Ретторе.
Трамвай свободно катился по рельсам, замедляя ход на перекрестках. Светофоры
еще горели.
Подъезжая к остановке, он стал тормозить.
Новый итальянский рассказ__________________________________________________147
Какой-то парень стоял, прислонившись к табличке.
Энрико сразу понял, кто это.
Панк.
Один из тех ублюдков, что проповедуют анархию и насилие. Один из тех отщепен-
цев, у которых все тело пропиталось наркотиками, а руки так и чешутся сделать какую-
нибудь гадость.
Панков он терпеть не мог.
Всего два месяца назад целая банда этих головорезов ворвалась к нему в трамвай,
они приставили ему нож к горлу, а потом у него на глазах расписали весь трамвай свои-
ми надписями.
Этот был совсем уж хорош.
Всклокоченные волосы выкрашены красной краской. В одном башмаке. Одежда
порвана. Сумасшедший взгляд.
Поди угадай, что у него на уме.
Он хотел было проехать мимо не останавливаясь — черт с ним, с этим ублюдком,
пусть стоит, — но чувство долга взяло верх.
Двери, пыхтя, открылись.
Панка, казалось, трамвай не заинтересовал, но потом он все же решил сесть и с тру-
дом стал карабкаться по ступенькам. На последней он споткнулся и ударился головой о
компостер. От удара сотрясся весь вагон.
Энрико выругался. Ну и работенку он себе выбрал.
Кто знает, сколько в нем героина. Моя бы воля, отправил бы их всех на принуди-
тельные работы. Скотина! Не дай бог, отдаст концы прямо у меня в трамвае.
Но панк уже поднялся и рухнул мертвым грузом на одно из сидений.
Энрико закрыл двери и тронулся. Радио он включил погромче: передавали хит Ри-
кардо Коччанте.
Андреа или, лучше, экс-Андреа устроился на сиденье поудобнее и принялся повто-
рять:
— Кольчатые черви подразделяются на три класса: многощетинковые, к которым
относятся морские кольчатые черви, малощетинковые, включающие в себя пресновод-
ные формы и дождевых червей, и, наконец, пиявки, среди которых следует выделить кро-
вососущих...
Ассунта Казини никогда раньше не была в Риме. И сейчас ей не слишком-то нрави-
лось стоять на этом собачьем холоде. Она была зла как черт. Ее сын Сальваторе даже не
пришел на вокзал ее встретить.
Встревожившись, она позвонила ему из автомата. Этот щенок еще спал.
Он только и сказал:
— Мамочка, это очень просто. Сразу, как только выйдешь из вокзала, увидишь ос-
тановку тридцатого трамвая. Садишься в него. Едешь семь остановок. Выходишь у Коли-
зея. Оттуда звонишь мне. Я тут же подхожу. Все очень просто.
Теперь, стоя столбом на остановке, она ругала на чем свет стоит сына и саму себя
за то, что решилась, пускай только на неделю, покинуть родное Кайянелло, где прожила
безвыездно шестьдесят три года.
Больших городов она боялась. Сколько там воров, мошенников и психопатов. А уж
ночью...
Она бы с удовольствием вернулась на вокзал, села в поезд и уехала обратно домой.
Но тут показался трамвай. Ассунта подхватила чемодан и поднялась в вагон.
Трамвай был пуст.
Только какой-то парень сидел рядом с проходом. Ассунта опустилась на сиденье и
148
Новый итальянский рассказ
тут же испугалась, что ошиблась номером. Еще заедет бог знает куда. Она встала и, по-
дойдя к пареньку сзади, спросила:
— Молодой человек, не скажете, через сколько остановок Колизей?
Он, казалось, не слышал.
— Молодой человек, сколько остановок до Колизея?
Ни звука.
Ассунта занервничала.
— Ты глухой?
Парень повернулся.
Ассунта увидела далекий и неподвижный взгляд, открытый рот, зеленую пену на
губах, растрепанные волосы и кровь, текущую из носа.
— Целом дождевых червей разделен поперечными перегородками на отдельные
камеры (сомиты), а продольная и кольцевая мускулатура организована в сегментные
массы, соответствующие делению целома на камеры.
— Извини, я не поняла. Что ты сказал?
— Каждый сомит имеет пару органов выделения (метанефридии), которые откры-
ваются в полость тела (целом).
— Так ты не знаешь, когда будет Колизей?
— Нервная система также имеет метамерическую структуру...
— О Мадонна, что он несет...
— В нее входит основной церебральный центр (мозг), располагающийся над брюш-
ной цепочкой...
— Дау тебя, я вижу, не все дома! Ты такой же болван, как мой сынок, — разозли-
лась Ассунта. — И наверно, такой же бездельник.
Парень скривил рот, зажал нос и обдал старушку густой струей зеленой горячей
блевотины.
Ассунта завопила как резаная:
— Ах ты сукин сын... Свинья! Почти новое платье!
Она стала бить его сумочкой по голове. Живой мертвец закрыл голову руками и
забился под сиденье.
— Откройте! Откройте! Выпустите меня... — закричала Ассунта водителю.
Она бросилась к выходу и выскочила на первой же остановке.
Поймав такси, она только и сказала:
— Отвезите меня на вокзал. Я возвращаюсь в Кайянелло. В этом поганом городе я
больше ни минуты не останусь!
В голове у Андреа была сплошная зоология, сплошные анатомические и морфоло-
гические термины. Они заполонили его мозг, и он повторял их как заведенный.
Он трижды проехал по всему маршруту туда и обратно. Солнце поднялось уже выше
облаков, и трамвай начал заполняться людьми.
Множество студентов с книгами под мышкой садились в тридцатый трамвай.
Две девушки: Марина Кастильяни, 24 года, высокая, с каштановыми волосами, и
другая, пониже, Тициана Дзерджи, 25 лет, крашеная блондинка с огромной пластинкой
на зубах, — переговаривались, вися на поручне.
— Я ничего не знаю, хоть караул кричи, ничего не помню, я провалюсь... — сказала
Марина, сжимая локоть подруги.
— Перестань, это не так страшно, только бы не спросил про моллюсков... — отве-
тила Тициана, пытаясь успокоить подругу.
При этих словах Андреа навострил уши и подошел поближе. Люди, видя, какое ужа-
сающее зрелище он являет собой, расступились.
Новый итальянский рассказ
149
— Phylum Mollusca по величине занимает второе место среди основных типов бес-
позвоночных и включает в себя такие известные разновидности, как улитки, мидии, па-
теллы, устрицы, кальмары и осьминоги.
Потрясенные девушки уставились на него.
— Ты тоже сдаешь зоологию?— спросила крашеная блондинка.
— ... хотя большая часть моллюсков обитает в море, отдельные брюхоногие при-
способлены к жизни в пресной воде и на суше...
Изо рта зомби вылетала слюна и сведения о беспозвоночных.
— Ого, сколько ты знаешь. Видок, правда, у тебя не ахти. Может, тебе съездить до-
мой помыться? А про хордовых выучил? — спросила Марина, пригладив волосы и смор-
щив немного нос.
— К хордовым, представляющим собой высший тип вторичнополостных животных,
относятся животные, обладающие следующими характеристиками:
1) спинная нервная трубка;
2) спинная струна (хорда);
3) жаберные щели.
— Как ты можешь говорить с этим типом? — шепнула Тициана подруге на ухо,
пока Андреа сыпал определениями.
Тициана была из тех девушек, которые все время следят, как бы не попасть в нелов-
кое положение.
— ...к тому же у него изо рта воняет, а гл аза-то какие, как у мертвеца. Жуть какая-то.
— Наверно, ты права, ну его. Другой бы постеснялся разгуливать в таком виде, —
согласилась Марина и повернулась к Андреа.
— Извини, знаешь... Нам пора выходить, мы приехали.
— ...в конце планктонной фазы личинка достигает дна и прикрепляется к нему по-
средством передних присосок...
— Ну, пока! — сказала Марина. Как прилежной студентке, ей было немного жаль
покидать этот ходячий справочник.
Они вышли. Андреа последовал за ними, кубарем скатившись со ступенек.
Девушки помогли ему подняться, и, как бы выражая благодарность, Андреа засу-
нул пальцы в нос и завопил.
Бывает.
Зомби — существа непредсказуемые.
— Дуааа-дууууууаааааа, — повторял он.
Девушки сделали вид, что ничего не слышат и, виляя бедрами, направились по уни-
верситетской аллее к зоофаку.
Андреа поспешил за ними, одной рукой хватая прохожих за задницы, а другой поче-
сывая у себя между ног.
— ...короткие усики, спрятанные в углублениях нижней части головы; обитают в
воде...
— Не оборачивайся, Марина. Он ведет себя как последний хам. Ты даже предста-
вить себе не можешь, что он вытворяет, — говорила возмущенная блондинка.
Андреа вцепился зубами в колесо мопеда, выдрал кусок покрышки и жевал его
вместо жвачки.
Втроем они вошли в старое здание зоологического факультета. В былые времена он
внес огромный вклад в науку, и теперь увядшие лавры кое-как поддерживали его на плаву.
Девушки впереди, зомби за ними.
Профессор Амедео Эрмини, светило науки, искал и не мог найти место для парковки.
На улицах вокруг университета царило вавилонское столпотворение.
Машины в три ряда, машины посреди дороги, машины повсюду.
150 ...........................................Новый итальянский рассказ
Наконец профессор увидел свободное местечко. Он тут же бесцеремонно влез туда:
даст бог, не оштрафуют. Вышел из машины и решительно направился к зоологическому
факультету.
Человек, открывший на острове Азинара эндемический вид Argas ergastulensis (ка-
торжного клеща), был теперь старичком, изнуренным малярией, которую он подхватил
в 56-м в Бельгийском Конго, и прочими болезнями. Видел он плохо и часто ошибался
входом, попадая вместо зоологического факультета на исторический или медицинский.
Толпа студентов ожидала профессора Эрмини в большом зале с чучелами, препа-
ратами в банках с формалином и стендами, представляющими эволюционный ряд.
Атмосфера была напряженной. Эрмини слыл за живодера. Его прозвали профес-
сор Завал ини.
Марина и Тициана сидели рядышком на скамье и нервно листали учебник.
— Эрмини еще не приехал?— спросила Марина, кусая ногти.
— Нет, по-моему, нет. Слушай, ты выучила морских звезд?
— Более или менее...
— Давай спросим у того чудика из трамвая.
— Да смотри, что он делает. Ну его...
Андреа, катаясь по земле, лизал сначала пол, а потом—ляжки девушек в мини-юбках.
Возмущенные студентки били его учебниками, тетрадками, сумками и зонтиками.
— Пошел прочь, наглая тварь, — говорили они брезгливо.
Бедный зомби, пытаясь уберечь голову от града ударов, убегал на четвереньках и
кричал по-ослиному:
— Иааааааа! Оооооо!
Профессор Эрмини вошел в аудиторию. Студенты расступились, давая ему дорогу.
Слышно было, как муха пролетит. Все застыло в трепетном ожидании.
Эрмини сел за стол и взял экзаменационную ведомость.
Он терпеть не мог принимать экзамены, они ввергали его в тоску и уныние: студент
с каждым годом шел все хуже. К предмету все относились с прохладцей и стремились
отделаться общими фразами.
Он выслушал двоих. И обоих завалил. Второй вообще сказал, что киты — это рыбы.
Он вызвал следующего.
Андреа ползал под столами, охотясь за бутербродами, ломтиками пиццы, лакрич-
ными леденцами и прилепленными к низу столов козюлями и лепешками жвачки. Запу-
стив руку в чей-то рюкзак, он захихикал:
— Хи-хи-хи.
Он нашел бутерброд с колбасой и решительно вонзил в него зубы.
Увидев такое, толстопузый хозяин рюкзака дал ему увесистого пинка.
Зомби завыл и пополз дальше, в глубь аудитории.
Так он очутился перед Эрмини.
— Садитесь, садитесь и не стесняйтесь! — сказал Эрмини Андреа, протирая очки.
Андреа сел.
— Ну хорошо, для начала расскажите мне о ктенофорах.
Зомби тут же застрочил как пулемет:
— Ктенофоры, или гребневики, включают в себя около девяноста видов свободноп-
лавающих животных с прозрачным студенистым телом. Ктенофоры имеют определен-
ное сходство с медузами, относящимися к книдариям...
Нрвый итальянскийрассказ
151
Говоря, он раскачивался на стуле, вырывал из головы и бросал на стол пучки волос,
грыз край стола.
— Хорошо, по ктенофорам вы как будто готовы. Достаточно, — сказал Эрм ин и.
Но Андреа продолжал распинаться. Он принялся перечислять все девяносто видов
существующих ктенофоров:
— ...pleurobrachia, hormiphora, balinopsis, mneiopsis leidy, cestus veneris...
— Хорошо, достаточно. Я понял. Переходим к другому вопросу.
Он поставил перед Андреа банки с животными в формалине.
— Что это?
Андреа принялся открывать склянки, запечатанные силиконом, и вытаскивать их
содержимое. Вывалив на стол сцифомедузу, он втянул ее в себя, как леденец. Потом взял
громадную банку с большим тропическим пауком и сгрыз его смакуя. Все это он запил
формалином, обливаясь и причмокивая.
— Что вы там делаете? Оставьте банки в покое и расскажите мне про видообразова-
ние.
— Видообразование — это про... мня-мня-мня... цесс, кото... мня-мня-мня.
— Ради бога. Не говорите с набитым ртом. Пиццу вы съедите после экзамена.
Андреа закусывал мадрепоровым кораллом. Колонии он высасывал, как мозговую
кость.
Он проговорил час без передышки о сексуальных привычках змеезвезд.
Эрмини сиял. Наконец-то перед ним блестящий студент с глубокими познаниями,
работяга. Характер, правда, немного беспокойный и нервный.
— Хотите пять с плюсом?
Андреа развлечения ради сажал на журнал Эрмини козюли.
— Что такое железа Мехлиса?
— Это железа оболочки ооцисты печеночной двуустки, — ответил Андреа.
— Итак, пять с плюсом, поздравляю. Вы плохо себя чувствуете? У вас совершенно
больной вид, мой мальчик!
Профессор отдал Андреа зачетный листок. Зомби скрутил его в трубочку и, рыг-
нув, засунул в ухо.
Эрмини был так потрясен познаниями Андреа в зоологии, что предложил ему пи-
сать диплом под его руководством, а потом остаться у него на факультете. Он доверил
ему составление каталога общественных насекомых, обитающих в римской канализации.
Андреа отнесся к поручению со всей серьезностью. Дни напролет он плескался в
зловонных стоках столицы.
Зомби, как известно, склонны к подобного рода деятельности. Андреа приносил в
институт полные коробки насекомых, а иногда, не будучи слишком разборчивым, при-
хватывал и парочку крыс, которые разбегались потом по лаборатории профессора.
Единственная проблема была у Эрмини с подопечным: от него невыносимо воня-
ло. Ему прикрепили под мышками освежители воздуха, какие вешают в туалетах, и он
стал пахнуть сосновой хвоей.
Он защитил диплом с отличием и напутственным поцелуем.
Потом защитил диссертацию.
Со временем он стал постепенно разлагаться, ткани распадались на куски. Чтобы
лучше сохраниться, по вечерам, когда на факультете никого не было, Андреа залезал в
аквариум с формалином. Тихо лежа в растворе, он повторял характерные особенности
иглокожих и специфику эмбрионального развития веслоногих.
Он быстро сделал карьеру, стал ассистентом и в конце концов профессором. Со
временем все, даже коллеги, полюбили его. Работы о питательности сороконожек при-
несли ему славу. Он все так же выл и жевал козюли, но студенты, народ снисходитель-
ный, обожали его именно за это.
52
Новый итальянскийрассказ
Среди дохлых университетских профессоров только Андреа казался им живым.
Когда Корнелио Балъзамо завершил свой рассказ, настроение у нас изменилось, и
все как один мы преисполнились надеждой и верой в величие итальянской высшей
школы. ।
Перевод ЕКАТЕРИНЫ СТЕПАНЦОВОЙ
ДЖУЛИО моцци
«Помнишь, сколько снега выпало в прошлом году?»
В рождественское утро я проснулся рано. За окнами было еще темно. Я остался в
постели, потому что мама с папой хотят, чтобы по праздникам и даже просто по выход-
ным мы не вставали, пока они сами не встанут и не придут к нам в детскую. Через мину-
ту я услышал, что мой брат ворочается на кровати, и понял, что он тоже не спит. Тогда я
сказал ему:
— С Рождеством!
И он тоже поздравил меня. Потом мы лежали тихо, прислушиваясь и стараясь уга-
дать, проснулись ли родители и что они делают: ходят по комнатам, умываются или раз-
говаривают?
Когда мы услышали, как мама расставляет на столе чашки к завтраку, брат вылез из
постели и чуть-чуть приоткрыл дверь: родители вполголоса разговаривали на кухне. Но
вот брат услышал приближающиеся папины шаги, быстро закрыл дверь и нырнул под
одеяло.
Когда папа вошел в комнату и сказал, что пора вставать, мы притворились спящими,
стали тереть глаза, потягиваться и что-то бормотать, как будто спросонья. Папа сел ко
мне на кровать, просунул руку под одеяло, приговаривая:
— Кто это тут мурлычет — мальчик или киска?
Тогда я вскочил, обнял папу и закричал:
— Поздравляю с Рождеством!
Брат тоже спрыгнул с постели, обнял папу и закричал:
© Giulio Einaudi Editore, 1996
© М. Черепенникова. Перевод, 1997
Новый итальянскийрассказ
153
— Поздравляю с Рождеством!
Папа понарошку отшлепал нас и сказал:
— Полюбуйтесь-ка на них. Можно было подумать, что эта парочка действительно
спит.
Потом мы побежали к маме на кухню, обняли ее и поздравили. Мама прижала нас
к себе и тоже поздравила с Рождеством, а потом сказала:
— Идите взгляните под елку, кажется, там для вас что-то есть, но сначала вернитесь
в детскую и наденьте тапочки.
Я бросился надевать тапочки, а потом побежал в гостиную смотреть, что под елкой;
я даже опередил брата, хотя его кровать ближе к двери. Под елкой лежали четыре сверт-
ка. На одном было написано «Марко от мамы», на другом — «Марко от папы». Третий
и четвертый предназначались брату.
Я взял свои два свертка и вдруг подумал: «А где же подарок от бабушки?» Но сразу
вспомнил, что бабушка умерла этим летом. Она болела, поэтому мы не поехали на кани-
кулы к ней в деревню, а отдыхали в лагере. Однажды мама приехала за нами на машине
и сказала, что бабушки больше нет. Она повезла нас в горы, в деревню. Мы приехали
поздно вечером; в бабушкином доме были папа и родственники из Милана, а бабушки
не было, ее комната была закрыта. Папа сидел грустный-прегрустный. Нас отправили в
детскую спать. Там на обоях нарисованы бабочки. Мне они всегда нравились, но в тот
вечер было страшно смотреть на них. Пока я не уснул, мне казалось, что по комнате хо-
дят привидения и летают бабочки, я даже чувствовал на лице дуновение их крыльев.
Помню, мне приснилось, как я приезжаю на автобусе из лагеря, а мамы нет дома, и даже
папа не знает, где она. От страха я проснулся, мама сидела на моей кровати, успокаивала
меня, говорила, что я кричал во сне и мог разбудить папу.
Когда я не нашел под елкой бабушкиного подарка, то вспомнил, что бабушка умер-
ла и у папы больше нет его мамы. Я не хотел плакать, но все равно заплакал и вдруг по-
нял, что все на меня смотрят и спрашивают, что случилось; но я не хотел ничего объяс-
нять, чтобы не расстраивать папу, поэтому убежал в детскую. Через некоторое время
пришла мама, я признался ей, о чем подумал; тогда она сказала, что нет ничего плохого,
если горюешь по тем, кого уже нет с нами, а папе будет только приятно узнать, что в ту
минуту я вспомнил бабушку. Но я боялся говорить папе об этом: вдруг ему покажется,
что я огорчился не из-за бабушки, а из-за подарка; но мама посоветовала не выдумы-
вать и пообещала все рассказать папе сама. Она предложила мне громко повторить за
ней:
— Бабушка, поздравляю с Рождеством! — тогда на небесах бабушка меня обяза-
тельно услышит.
— Бабушка, поздравляю с Рождеством! — повторил я, стараясь улыбаться, как буд-
то она меня видит, а потом еще немного поплакал.
Мама вернулась в гостиную, и я тоже — только немного погодя. Папа и брат ждали
меня, чтобы открыть подарки. Мама подарила мне «Книгу археологических открытий»,
в ней четыреста пятьдесят три страницы, а на обложке написано, что там еще тысяча
семьсот тридцать иллюстраций, но я не проверял. Папа подарил мне железную дорогу:
некоторые пути пересекаются под углами в тридцать и шестьдесят градусов, а в одном
месте — в сорок пять, и еще в наборе несколько стрелок. Брату мама подарила «Книгу
радиолюбителя», папа — набор пробирок и химических реактивов, потому что почти
все реактивы, подаренные ему на день рождения, брат уже израсходовал.
После изучения подарков мы позавтракали, приняли душ и пошли к одиннадцати-
часовой мессе. Брат поет в церковном хоре мальчиков, если на будущий год его переве-
дут во взрослый хор и разрешат участвовать в ночной рождественской службе, тогда я
тоже смогу туда пойти. Вернувшись из церкви, мы по телефону поздравляли миланских
родственников; пока мама готовила обед, я начал собирать железную дорогу. За обедом
154
Новый итальянский рассказ
мама объяснила, почему, увидев подарки, я убежал в детскую, и папа меня похвалил:
«Молодец», а потом добавил, обращаясь к маме:
— Представляешь, даже мне иногда кажется, что она жива: в прошлую субботу я
ездил в центр покупать себе туфли и в одной витрине увидел красивые стеганые одеяла
из разноцветных лоскутков и вдруг подумал — а не подарить ли мне такое маме, ведь
зимой у нее в горах так холодно.
Я заметил, как мама дотронулась до папиной руки, а он продолжал:
— Я до сих пор не могу поверить, ведь она угасла так быстро, за два месяца до смер-
ти выглядела совсем еще девочкой.
Тут мама сказала:
— Хватит, дорогой.
Папа послушался и некоторое время ел молча.
Днем я собрал рельсы, и у меня поезд ездил по всем комнатам, кроме ванной. Брат
улегся на кровать и читал «Книгу радиолюбителя», то и дело вскакивая и бегая с вопро-
сами к папе, который сидел с газетой в гостиной у телевизора. Потом папа встал, чтобы
посмотреть на мою железную дорогу. Я решил отправить два состава одновременно, а
чтобы они не столкнулись, папа по моей команде переводил самые далекие стрелки. Затем
он пошел к маме на кухню, где она укорачивала для меня брюки, из которых брат уже
вырос. Папа спросил ее:
— Помнишь, сколько снега выпало в прошлом году? Из-за сильного снегопада мы
испугались, что не доедем обратно.
Я не расслышал, что она сказала, зато я слышал папин ответ:
— Да, ты права. Поеду прокачусь.
И, ничего нам не сказав, уехал на машине; вернулся он поздно вечером, когда мама
уже отправила нас спать. Брат вылез из постели, приоткрыл дверь, и мы услышали мами-
ны слова:
— Где ты был?
— А как ты думаешь где? — ответил папа. — Я хотел привезти тебе немного снега,
собрал его в коробку, положил в багажник, только он там растаял. Теперь у нас в багаж-
нике настоящее наводнение.
Бег
Холодно, туман. Подъезжает автобус. Микеле не заметил, как он подъехал, но авто-
бус уже здесь: большой, ярко-оранжевый. Микеле поднимает руку. Проскочив двадцать
метров, автобус останавливается. Микеле бежит, входит через заднюю дверь. За стеклом
кабины-аквариума водитель что-то громко кричит, Микеле непонятно: ругает он его или
извиняется. Четыре старушки, одетые в черное, явно едут вместе, но не разговаривают,
не смотрят друг на дружку: боясь пропустить свою остановку, они напряженно глядят в
окно, за которым почти ничего не видно. Микеле думает: куда могут направляться четы-
ре черные старушки в восемь утра в первый день Нового года? Четыре черные старуш-
ки выходят на остановке у центрального кладбища, автобус отъезжает, Микеле смотрит
им вслед, думая о том, что на этом кладбище похоронены родители его матери. Он почти
не помнит своего деда. В памяти осталась записка, написанная острым почерком отца:
«Мой сын Микеле отсутствовал на занятиях, так как был на похоронах дедушки». Мике-
ле помнит дедушкину бороду, паркетный пол, живот, обтянутый серым жилетом, чер-
ное кожаное кресло. Вообще-то он знает деда по маминым воспоминаниям. В них это
добрый, почти святой человек, наделенный благожелательностью, кротостью и веселым
нравом, что, впрочем, не мешало ему быть решительным и предприимчивым. Дома в
столовой висит над буфетом фотография в серебряной рамке: дед снят в профиль за
письменным столом, на нем белый халат, над головой лампочка без абажура. Возмож-
Новый итальянский рассказ 165
но, он закончил прием и сел выписывать рецепты и заполнять медицинские карты, по
маминым словам, у него это называлось «возиться с бумажками». Зато Микеле очень
хорошо помнит бабушку, лежащую на кровати с двумя подушками под головой, в слабо
освещенной комнате. Она родила семерых детей и вырастила их в годы войны, в то время
как мужу приходилось ездить по вызовам на мотоцикле (или на велосипеде, когда невоз-
можно было достать бензин): во всей округе он остался единственным практикующим
врачом, другие были призваны на войну, сбежали или умерли. В детстве Микеле знал
про бабушку только то, что она болеет и что при ней нельзя шуметь. Бабушку навещали
каждое второе воскресенье (от Соттомарино до Падуи час пути на автобусе). В киоске
на площади Боскетти мама покупала детективы издательства «Мондадори». Бабушке
больше всего нравились Ниро Вульф и Эллери Квин, она терпеть не могла книжную се-
рию «Совершенно секретно». Чтобы второй раз не купить одну и ту же книжку, нужно
было помнить названия и авторов книг, купленных раньше. У бабушки в доме был теле-
визор, и Микеле смотрел детские передачи с заставкой в виде держащихся за руки детей,
вырезанных из газеты. «Каникулы на острове чаек». «Ребята и папаша Тобиа». Это отту-
да: «Мы богаты не деньгами, а хорошими друзьями». Иногда приезжали в субботу и тогда
смотрели «Знаете ли вы, что?..» с Фебо Конти. Когда Микеле подрос, он прочитал в ка-
кой-то газете, что Фебо Конти создал собственный цирк, но ему не повезло: то ли пожар
случился, то ли Конти влез в долги, то ли не выплатил страховку. Точно Микеле не по-
мнит. Два месяца назад он снова увидел Фебо Конти по телевизору, сильно располнев-
ший, с наигранной веселостью тот предлагал приобрести дома у моря. В сумерках, на
обратном пути из Падуи в Соттомарино самым интересным был фиатовский реклам-
ный щит: неоновая красно-зелено-желтая реклама, где цвета зажигались один за другим,
потом все вместе три раза мигали, затем гасли, и все повторялось снова. После фиатов-
ской рекламы Микеле засыпал, мама будила его в Соттомарино, на площади Европы.
Летом там были карусели с фонариками.
Микеле думает: Я не хочу быть как Фебо Конти. Не хочу во что бы то ни стало при-
творяться веселым. Нельзя заставить себя радоваться жизни. Конечно, надо быть дура-
ком, чтобы грустить по праздникам, но сейчас я действительно не в духе и не хочу пор-
тить праздник другим. Этой ночью я проснулся от разрывов петард и подумал, что нача-
лась бомбежка. Вообще-то я люблю фейерверк, но этой ночью он на меня плохо подей-
ствовал. Глаз радовали островки цветного тумана, пахло гарью, машины реагировали на
каждый взрыв включением сигнализации. Надеюсь, хоть обошлось без увечий. Было по-
настоящему красиво. Я с удовольствием смотрел, как на крыши падают золотые и се-
ребряные искры. Прямо-таки огненные брызги. Все бы хорошо, но люди кричали, и это
меня раздражало. Лучше б я не вставал с постели и не видел этого. Кто-то умеет наслаж-
даться праздниками, кому-то нравится собираться вместе, играть в лото, полуночничать,
пить вино, шуметь. Я их не осуждаю. Просто в эти дни мне не хочется ни с кем общаться.
Старушки предпочитают общаться с умершими родственниками — и на здоровье. Воз-
можно, у них нет лучшей компании. Им повезло больше, чем мне: а вдруг мертвые и
впрямь могут составить компанию. Разговаривать с кучей народа еще хуже, чем с усоп-
шими. Если говоришь с тем, кого уже нет на свете, и мысленно слышишь его голос,
можешь считать, что тебе действительно ответили. Точно не знаю, не хватает смелости
проверить. Как бы не начать завидовать мертвым, ведь они навсегда успокоились, им
уже нечего бояться, не надо тешить себя надеждами, не надо ничего решать. Но я-то
живой, я-то мучаюсь. Откуда они берутся, эти мои мучения? Я сам сплошное мучение.
Микеле выходит из автобуса на четвертой остановке после кладбища. Отсюда бли-
же всего к дамбе. Здесь туман еще гуще,.почти ничего не видно. Микеле спускается под
мост, где стоит сарайчик для инструментов, оставшийся после каких-то неведомых ра-
бот. Теперь он принадлежит Микеле, дверь закрыта на цепь и висячий замок, принесен-
ные им. Когда Микеле обнаружил этот сарайчик, он был очень грязным, возможно, в
156
Новый итальянский рассказ
нем кто-то ночевал, наверняка им пользовались как уборной. Микеле вычистил и вы-
мыл его, оставил открытым на несколько недель. Поняв, что сарайчик никому не нужен,
Микеле повесил на дверь замок. Теперь он держит там старый свитер, бутылки с водой,
если не забывает их принести, и на всякий случай пластырь с йодом. Микеле оставляет
ветровку в сарае, закрывает его, поднимается на дамбу и начинает бег. Он собирается
бежать до железнодорожного моста, по нему — на другой берег, а потом вернуться
обратно по другой дамбе: всего километров двенадцать — это средний круг. По большо-
му кругу надо бежать до следующего моста, а в общем это еще два раза по четыре кило-
метра. Малый круг — примерно половина среднего, по нему нужно повернуть от дам-
бы направо вниз, в сторону домов, и бежать до группы кривых деревьев с очень темной
корой. Весной на них появляются желтые вонючие соцветия. Листья раскрываются пос-
ле цветения, почти круглые, ярко-зеленые сверху и красноватые снизу.
Обычно во время пробежки Микеле встречает таких же бегунов в спортивных кос-
тюмах и кроссовках. Чтобы не сбить дыхание, они приветствуют друг друга жестом или
отрывистым «чао». Иногда под плотиной сидят рыболовы; заслышав топот, они подни-
мают голову и делают знак рукой, одновременно приветствуя бегунов и призывая их не
шуметь. Один из этих кругов (большой, средний или малый, в зависимости от самочув-
ствия) он делает каждое воскресенье утром, если, конечно, не участвует в массовых за-
бегах. В последнее время массовые забеги стали действовать ему на нервы. Организато-
ры превращают их в народные гуляния с передвижными буфетами через каждые пять-
сот метров. Вступительный взнос дает право на получение приза: значка и батона колба-
сы или значка и бутылки вина. Микеле не знает, куда девать эти значки, бутылки и колбасу.
Ближе к Рождеству каждый уважающий себя городишко устраивает собственные забеги
или велогонки с финишем на площади. Уже в первых числах декабря на площади начина-
ют появляться прилавки со сладостями, галстуками, мягкими игрушками, африкански-
ми рубашками, медными кастрюлями, парфюмерией и подделками под антиквариат.
Поэтому в последние воскресенья Микеле предпочел бегать один.
Микеле нравится, что он хороший бегун и что бегать можно одному. У него строй-
ное, мускулистое тело. Когда вечером он идет после душа в спальню, ему приятно оста-
новиться и посмотреть на себя в зеркало. Вернее, мельком взглянуть и удостовериться,
что все в порядке. Гладкая кожа, черное пятно лобка, крепкие ноги. Микеле нравится
хорошо одеваться, но так, чтобы это не бросалось в глаза, элегантно и в то же время просто.
И спортивные костюмы у него красивые, и кроссовки лучшие из тех, что ему по карма-
ну. Зимой он никогда не стал бы бегать, как некоторые, в атласных трусах поверх трени-
ровочных брюк, а летом — в черных очках и бейсболке козырьком назад, по-американ-
ски. Так бегал Марко, они раз десять бегали вместе прошлой весной. Марко тогда только
приняли в фирму, где работает Микеле, они ничего не знали друг о друге, но потом по-
знакомились на массовом забеге. Марко двадцать лет, и он помешан на девушках, хотя,
по мнению Микеле, совершенно в них не разбирается. Микеле старше его на десять лет,
но во время пробежек именно Марко всегда выдыхался и норовил остановиться, не оси-
лив и двух километров. А все потому, что болтал на бегу и сбивался с темпа. За глупость
приходится платить. Микеле думает о Марко и стыдится чувства превосходства, которое
испытывает по отношению к нему: Сам-то я хорош. Он по крайней мере гуляет с девуш-
ками, а мне они только снятся. Хотел бы я иметь его напор. Конечно, три четверти его
энергии пропадают даром, но чего-то он все-таки добивается. Я выносливее Марко, я
держу взятый темп, правильно дышу, в отличие от него, я чувствую свои мышцы, знаю
свой организм; и уж раз побежал, как, например, сегодня, то не остановлюсь, пока не
сделаю полный круг. Если бы я два часа подряд просидел под мостом около сарайчика,
то через эти два часа находился бы там же, где окажусь после сегодняшнего двухчасово-
го бега: под мостом около сарайчика. Так стоит ли себя гонять? Марко участвует в мае-
Новый итальянский рассказ
157
совых забегах хотя бы для того, чтобы поглазеть на девушек в шортах и на их грудь, тря-
сущуюся от бега. Он приносит домой значок и батон колбасы, и ему кажется, что он
чего-то добился. Ему это нужно. А что нужно мне? «Уныло рассекать воздух», — как
поет Веккьони. Или он поет немного иначе, не знаю.
Микеле пытается отвлечься от своих мыслей. Смотрит вокруг и не может точно
определить, где находится. Может быть, он уже миновал кривые деревья. А может, нет.
Дома справа, в двадцати метрах от плотины едва различимы. Ни звука, ни одного осве-
щенного окна. Наверное, все легли поздно и сейчас еще спят. С Новым годом вас, с Но-
вым годом. Счастья, здоровья. Почему вы не замечаете, что я здесь и что я очень нужда-
юсь?.. Вот дурья башка, думает Микеле, я же ни в чем не нуждаюсь. У меня есть дом,
работа, свободное время. Есть родные, которые мне дороги и которые в случае необхо-
димости сделают для меня все, что в их силах. Никто не вмешивается в мои дела, не гово-
рит: сделай то, сделай это. Все, чего у меня нет, я сам не взял, это было рядом, просто я
не протянул руку. Ничто не мешает мне быть счастливым. Я похож на того факира, дру-
га Тремал-Найка, который в знак преданности своему богу поклялся, что никогда не по-
шевельнет левой рукой. Его левая рука онемела и закостенела, стала как сухое дерево.
Вот и мое счастье такое же: онемевшее, одеревеневшее, принесенное в жертву неведо-
мо какому богу.
Слева над каналом Микеле видит только туман. Кажется, что он появляется из воды;
с ее поверхности поднимаются густые серые клочья, они клубятся, завихряются, то схо-
дясь, то расходясь. Микеле ощущает тепло во всем теле, чувствует, что его организм
прекрасно работает. Работали бы так мои голова и душа, тогда да. А что значит «да»?
Сам не знаю. Совсем рядом в тумане раздается свисток. Микеле знает, что это обман
слуха: канал — своеобразная скоростная трасса для звуков. Теперь он слышит поезд,
идущий по железнодорожному мосту. Люди куда-то едут. Счастливого пути! Собирают-
ся раз в году родственники, встречаются старые друзья. Я сойду с ума от этих мыслей,
сойду с ума.
Микеле кажется, что он совершенно один. Ноги становятся ватными. Силы иссяк-
ли, он нуждается в дополнительных силах. Он перестает сопротивляться и полностью
отдается мысли о Серене. Она работает в бухгалтерии, он — на складе. Работая два года
в одной фирме, они первый раз заговорили лишь несколько недель назад. Случилось так,
что они оба опоздали на обед и оказались в столовой за одним столом. Серена была
любезна. Микеле тоже был любезен, как он любезен со всеми. Ему понравилась любез-
ность Серены, и вроде бы его любезность ей тоже понравилась. Они обедали вместе еще
несколько раз. Микеле старался, чтобы это происходило как бы случайно. Затем уже
Серена стала искать встречи с ним. Микеле стремился каждый день придать своей лю-
безности чуть больше искренности и глубины. Чуть-чуть, совсем немного. Именно так
строят воздушные замки, думает Микеле, уделяя все внимание деталям, которые потом
никто не заметит, но она-то, может быть, замечает. Наверняка замечает. Да нет, откуда
мне знать.
За три дня до Рождества они вместе ходили в кино. Микеле любит кино. О том, что-
бы посмотреть вместе какой-нибудь фильм, они говорили уже раз пять, но никак не могли
выбрать удобный для обоих вечер и подходящую картину. Наконец Микеле уговорил ее
посмотреть «До скончания веков» в киноклубе. Во время сеанса они почти не разгова-
ривали. На протяжении всей первой серии, в которой героиня преследует таинственного
мужчину, ее преследует собственный муж, а детектив преследует всех троих, Микеле
помнил, что Серена сидит рядом с ним. Он то прислушивался к разговорам действую-
щих лиц, то к дыханию Серены. Потом, когда все герои оказались в Австралии и встрети-
ли ученого, создавшего аппарат для записи снов, которые можно потом смотреть наяву
158
Новый итальянский рассказ
по видео, Микеле забыл о Серене. Он начал сопереживать героям — с определенного
момента в их судьбах наметился перелом к худшему. Ночью они спали лишь для того,
чтобы видеть сны, а днем только и делали, что смотрели видеозаписи своих сновидений.
Для этого они использовали портативные устройства, похожие на аппараты для видео-
игр. Им мало было понять смысл собственных снов, они надеялись, что их сны, до этого
скрытые и проявившиеся в причудливых образах, укажут им смысл жизни. Но эффект
прибора для записи снов оказался совершенно противоположным: все герои оконча-
тельно замкнулись в себе, зациклились на созерцании той таинственной личности, кото-
рую сон порождал, а видео воспроизводило без всяких объяснений. Выйдя из кино,
Микеле искоса поглядывал на хранившую молчание Серену.
«Подожди», — сказала Серена перед тем, как сесть в машину, облокотилась на нее,
достала сигарету и закурила. Микеле все еще оставался под впечатлением фильма. Сму-
щенный, не знал, что делать, что говорить. Он тоже облокотился на машину, но не очень
близко к Серене. Она три или четыре раза затянулась, потом сказала: «Прости меня». «За
что?» — удивленно спросил Микеле. «Не знаю, — ответила Серена. — Не знаю, как объяс-
нить. Просто я расчувствовалась. — Она еще раз затянулась. — А ты разве не расчув-
ствовался?» — «Расчувствовался не совсем то слово, — ответил Микеле. — Если бы этот
фильм длился еще час, я бы все равно досмотрел до конца». «Точно», — подтвердила
Серена. Стряхнула пепел. Микеле сразу вспомнилось выражение «нервно курить». «Я
часто вижу сны наяву, — сказала Серена. — Не знаю, бывает ли такое с тобой. Иногда
мне так трудно воспринимать жизнь такой, какая она на самом деле. Передо мной как
будто мелькают одни и те же образы, очень похожие на запись снов этих несчастных.
Представляешь, какой кошмар! Все равно что сто раз видеть один и тот же сон, да еще
копаться при этом в себе, стараясь разобраться в невольных мыслях, понять смысл снов,
объяснить неизвестно откуда берущиеся желания. — Она опять стряхнула пепел. — Надо
попробовать отвлечься... Не знаю. Но думаю, что еще ни разу не видела ничего более
поэтичного. На меня этот фильм произвел странное впечатление; поначалу мне показа-
лось, будто это научная фантастика или что-то приключенческое, но потом картина меня
захватила. Как бы это сказать. Она что-то затронула во мне». Тут Микеле увидел слезы у
нее в глазах и растерялся. Забормотал: «Мне очень жаль, я не ожидал, что фильм так на
тебя подействует, я не хотел...» «Но я довольна, — перебила его Серена. — Прекрасный
фильм. — Она засмеялась. — И вовсе не обязательно делать такое лицо, я уже поняла,
что ты хорошо воспитан. Я рада, что пошла с тобой туда, куда ты хотел, и видела то, что
ты хотел мне показать. Тебе достаточно такой благодарности или я должна надавать тебе
тумаков?»
На середине эстакады над вокзалом Серена говорит: «Остановись, хочу посмотреть
на поезда». «В это время нет поездов», — отвечает Микеле, но все же останавливается,
заехав на тротуар. Через несколько секунд к станции подходит желтый новенький поезд
Рим — Вена. Плацкартные вагоны — в секторе А и Б, первый класс — в секторе Д. Для
пассажиров, имеющих билеты на расстояние менее двухсот километров, посадки нет.
Стоя спиной к парапету, она скрестила на груди руки. «Хочешь послушать один из рас-
сказов моей матери? В детстве она жила в деревне. Когда мама ходила в третий класс, а ее
брат в четвертый, им и еще парочке таких же сорванцов пришло в голову посмотреть на
поезд. Никто из них ни разу его не видел, но они слышали, как о поезде говорили взрос-
лые, и просто сгорали от любопытства. И вот однажды после школы, с ранцами на спи-
нах, они отправились в Монтаньяну. Это семь или восемь километров пешком, а ведь у
них даже не было нормальной обуви. Они ходили в деревянных башмаках, подбитых снизу
и спереди полосками жести для большей прочности. Конечно, родных они и не подума-
ли предупредить. И вот приходят они в Монтаньяну, спрашивают у всех подряд дорогу и,
выйдя наконец к железнодорожному переезду, ждут долго-долго: может, час, а может,
Новый итальянский рассказ
159
два. Они с утра ничего не ели, и это время должно было показаться им целой вечностью.
И вот появляется поезд, издалека предупреждая о своем приближении длинными свист-
ками. Мама говорит, что это был самый волнующий момент: ожидание поезда, свистя-
щего издалека, — потом он промчался так быстро, что ребята даже не успели обрадовать-
ся. Получилось что-то вроде: «И это всё?» Они ничего толком не разглядели, явно ожида-
ли большего. Но все-таки поезд они видели. Теперь можно было идти домой, и они пото-
пали обратно в своих деревянных башмаках, с ранцами на спинах. По дороге их догнал
мужчина на повозке, который подвез их почти до самой деревни. Приближаясь к дому,
они со страхом ожидали взбучки. Но представляешь, как все повернулось? Мамина мама,
моя бабушка— она, кстати, еще жива, — начала было их ругать, но, когда поняла, что они
ходили в Монтаньяну смотреть на поезд — сама-то она ни разу поезда не видала, — бро-
силась разогревать на плите кукурузную кашу — поленту, ведь дети буквально умирали
от голода; и заставила их рассказывать об увиденном несколько раз со всеми подробнос-
тями, настоящими и выдуманными. Оказалось, что ей было интереснее всех. Только по-
думай, мама так устала, что заснула прямо за столом, с полентой во рту...»
У Микеле в голове вертится одна фраза, его так и подмывает остановиться и произ-
нести ее вслух, однако останавливаться нельзя, а то, чего доброго, простудишься, сегодня
холодновато. Тогда он медленно произносит эту фразу про себя: «Я хочу Серену». Ему
стыдно так думать, хотя это правда. Лучше было бы сказать «Я влюблен в Серену» или
что-то в этом роде, но он так не думает и не говорит. Он хотел бы прикасаться к рукам
Серены, а она бы гладила его руки. Хотел бы сжимать ее в объятиях, щекотать ей затылок
и принимать такие же ласки от Серены. Хотел бы чувствовать вблизи ее запах, который,
как ему кажется, он чувствует через стол вместе с запахами пищи, запах, который был так
силен вчера вечером в кино. Хотел бы трогать ее грудь, живот. Микеле не хватает духу
мечтать о большем, желание отступает, он больше не чувствует его. Чуть не споткнув-
шись, Микеле сбивается с шага. Снова бежит ровно. Желание вновь охватывает его, пуль-
сирует в паху. Лучше бы это было иначе. Лучше бы влечение к Серене не было таким
бесстыдным, таким откровенно плотским. Впрочем, ему кажется, что он все придумал.
«Почему именно она, а не другая?» — думает Микеле. В фирме не меньше тридца-
ти девушек. Серена явно не самая красивая. И уж точно не самая привлекательная (не
самая сексуальная), думает Микеле, делая над собой усилие, чтобы мысленно произне-
сти это слово, которое ему совершенно не нравится. Нельзя назвать ее и самой веселой
или самой умной. Это просто та девушка, которая села за мой стол в тот день. Да, но
сколько таких уже сидело за моим столом — кто раньше, кто позже. В столовой это обычное
дело: где место свободно, туда и садятся. На одних я даже не взглянул, другие мне не по-
нравились, некоторые показались слишком недоступными, а были такие, с которыми не
стоило и разговаривать — до того они глупые. Марко наверняка пробовал ухаживать за
всеми, и теперь по крайней мере половина девушек демонстративно с ним не здорова-
ется. Я тоже хотел их, Микеле оглядывается, как будто боится, что кто-нибудь подслу-
шает его мысли. Но вокруг ни души. Не отрицаю: я хотел Тициану, Мариеллу, Паолу.
Но по-другому, думает Микеле. Тициана меня возбуждала. Я считал, что с ней было
бы приятно заниматься сексом, и, возможно, не ошибался. Но при этом ни о каких чув-
ствах и речи бы не было. Занятие для здоровья, для приятного отдыха, и хорошо бы, что-
бы девушка была привлекательная, страстная и чтобы с ней можно было поговорить.
Тициана как раз такая. К Мариелле я вроде бы испытывал какие-то чувства, но только
когда ее видел. Странное дело. Она ничего из себя не представляла, у нас даже не вязался
разговор. У нее было ангельское личико, только и всего. С Паолой мы проработали бок
о бок три года, стали настоящими друзьями, шутили. Она была свойским парнем, эта
Паола, мы могли бы сблизиться, но чего-то не хватало. Мы слишком сдружились, а это
совершенно другое чувство. Хотя иногда по вечерам я ловил себя на том, что думаю о ее
160
Новый итальянский рассказ
руках, губах. Серена не красавица, к тому же у нее невыразительное лицо, да и одевается
она бесцветно. Но о Серене я думаю всегда, даже когда зачем-то бегу по холоду как пос-
ледний дурак. У меня нет к ней никакого чувства. Есть только плотское влечение. Микеле
чувствует, как кровь приливает к лицу, наверняка он краснеет. У него какое-то странное
ощущение во всем теле, какое-то размягчение. Я понял, что меня хотят, думает он и мыс-
ленно видит глаза Серены, смотрящей на него через стол, и в этом воспоминании нет
шума столовой, нет запахов разогретой еды — только лицо Серены, и на этом лице глаза,
которые смотрят на него, и в них — только желание, а перед ними — желанная добыча.
Микеле готов заплакать. Кто знает, какой у меня взгляд, когда я смотрю на нее, в столовой
мне с трудом удается заглянуть в тарелку, я не могу оторваться от Серены. Это уж слиш-
ком, это смешно.
Может, мы подходящая пара, впервые осеняет его. Микеле недоумевает. Собствен-
ные мысли кажутся ему чужими. Подходящая для чего? Для того чтобы вместе обедать
в столовой, ходить в кино? Подходящая, чтобы разговаривать о жизни, делиться мысля-
ми? Чтобы прогуливаться по субботам, взявшись за руки? Чтобы вместе уезжать на
выходные, заниматься любовью в гостиничном номере? Чтобы познакомить друг друга
с родственниками, навещать их, вести серьезные беседы? Для чего же мы все-таки под-
ходим? А для чего подхожу я? Теперь Микеле действительно Плачет, прямо на бегу, и
чувствует огромную жалость к себе и Серене. Мы два почти бессмысленных создания,
и кто знает, сможет ли когда-нибудь такое создание, как Серена, стать моим смыслом
жизни или хотя бы маленьким, временным смыслом, который поможет мне справиться
с этим холодом и этим туманом. Кто знает, смогу ли я стать чем-нибудь для нее. Ведь я
ничего из себя не представляю. Что делать? Сам не знаю.
Вдруг из тумана появляется железнодорожный мост. Это клетка из металлических
балок, покрашенных в голубой цвет. Не сбиваясь с шага, Микеле взбегает по ступень-
кам, бежит по пешеходным мосткам, висящим сбоку. В это время, оглушительно свистя,
подходит поезд. Мост дрожит, мостки ходят ходуном. Микеле останавливается, чтобы ух-
ватиться за перила. Поезд страшно грохочет. Это товарняк, ему не видно конца. Микеле,
прижавшись к перилам, смотрит на поезд и растворяется в этом грохоте, он чувствует
вибрацию во всем теле, ощущает себя во власти гигантской силы, намного более могу-
щественной, чем он. Грохот обрушивается на него, спирает дыхание. Поезд проходит и
удаляется, его уже не видно и не слышно. Микеле снова один. Остался привкус железа,
наэлектризован но сть и раскаленные колесами рельсы. Микеле спускается с моста, сно-
ва бежит — в одном темпе, ровно дыша, работая руками в такт шагам. Тело слушается
его, с телом все в порядке, оно не подведет. Какое счастье — рассекать воздух! В два он
увидится с Сереной, встреча на вокзале, они едут в Венецию, хотят посмотреть, какая
она зимой, в туман; они будут смеяться, глазеть на витрины, забитые всякой ерундой для
туристов, потом продрогнут и зайдут выпить чашечку горячего шоколада со сливками,
будут держаться за руки, а вечером на пороге дома Серены, может быть, обнимутся,
скажут нежные, красивые слова, дадут друг другу обещания и поверят от всей души в то,
что смогут их сдержать.
Перевод МАРГАРИТЫ ЧЕРЕПЕННИКОВОЙ
Л1ЛТе?ЖРН0е НАСАвОИе III
I' ... ГИНН..
ФРЭНК РИЧАРД СТОКТОН
Невеста или тигр?
РАССКАЗ
Перевод с английского В. РОГОВА
От переводчика
Этот американский писатель обращался по преимуществу к жанру, определяемому недавно
получившим «права гражданства» в русском языке термином «фэнтези», причем сочинения
его сдобрены изрядной дозой иронии.
Романы Стоктона не выдержали испытания временем, из рассказов выдержали его лишь не-
многие, но тот, что сейчас предлагается вашему вниманию, впервые напечатанный в 1882 г.,
переиздавался и, вероятно, будет переиздаваться астрономическое число раз. Он включался
во многие англоязычные антологии как шедевр новеллистики, шедевр и сюжетосложения, и
психологии.
И это справедливо.
Рассказ как будто отчеканен из иронии высочайшей пробы, сюжет «закручен» виртуозно,
психологический анализ изысканно парадоксален, концовка вызывает ассоциации с такими
бриллиантами прозы, как «Хроника царствования Карла IX» и «Партия в триктрак» Мериме,
«Песнь торжествующей любви» Тургенева, — Стоктон, вероятно, их читал, во всяком случае,
Мериме (рассказ Тургенева был издан в 1881 г).
Однако английская пословица гласит, что достоинства пудинга познаются во время еды...
в
глубочайшей древности жил некий царь-полуварвар, чьи мысли, пусть несколько
отшлифованные просвещенностью дальних соседей-латинян, по-прежнему отлича-
лись размахом, причудливостью и неудержимостью, как и подобало той его половине,
которая оставалась варварской. Он отличался буйной фантазией и к тому же властнос-
тью, столь напористой, что мог по желанию делать явью изменчивую игру воображе-
ния, ему присущую. Но он был склонен и анализировать свои действия, и, когда ему уда-
валось убедить самого себя, ничто уже не мешало довести дело до конца. Если все в его
семейной и государственной системах двигалось по назначенным траекториям, он был
добр и сердечен, когда же случалась небольшая заминка и некоторые из его планет схо-
дили с орбит, становился еще добрее и сердечнее, ибо ничто его так не радовало, как
возможность выпрямлять искривления и устранять неровности.
Среди заемных установлений, наполовину смягчавших варварство царя, числилась
и общедоступная арена, где показ людской и звериной отваги облагораживал и смягчал
души его подданных.
Но и здесь утверждала себя варварская, буйная фантазия. Царская арена была воз-
двигнута не ради того, чтобы народ выслушивал словоизлияния умирающих гладиато-
© В. Рогов. Перевод, вступление, 1997
6«ИЛ»№12
162
Фрэнк Ричард Стоктон
ров, и не ради того, чтобы предоставить ему возможность лицезреть неизбежное разре-
шение конфликта религиозных убеждений и голодных челюстей, но с целью куда более
пригодной для увеличения умственной энергии народа. Огромный амфитеатр с опоя-
сывающими его галереями, таинственными подземельями и невидимыми коридорами
служил орудием высшей справедливости, посредством которого преступление каралось,
а добродетель награждалась по приговору беспристрастного и неподкупного случая.
Если какого-нибудь подданного обвиняли в преступлении, способном вызвать лю-
бопытство царя, всенародно объявлялось, что в указанный день судьба обвиняемого
решится на царской арене, в сооружении, вполне достойном этого названия, ибо, хотя
его форма и план были заимствованы в далеком краю, его назначение возникло в мозгу
этого человека, он же, «царь, царь — и с головы до ног»1, не чтил ни одну традицию
больше своих фантазий и к каждой усвоенной им разновидности человеческих мыслей
и деяний прививал плодоносный черенок присущего ему варварского идеализма.
Когда народ рассаживался по галереям, а царь, окруженный придворными, изво-
лил воссесть на высокий престол, он подавал знак, дверь внизу открывалась, и обвиняе-
мый выходил на арену. Прямо напротив него, с другой стороны замкнутого простран-
ства, находились две совершенно одинаковые двери, расположенные рядом. Обязанно-
стью и правом испытуемого было подойти к этим дверям и одну из них отворить. Он мог
отворить любую, какую вздумается, не подвластный никаким напутствиям или влияни-
ям, помимо вышеупомянутого беспристрастного и неподкупного случая. Из-за одной
из них появлялся голодный тигр, самый свирепый и самый жестокий, какого только мож-
но было заполучить, бросался на него и раздирал на куски в наказание за вину. Как толь-
ко судьба преступника решалась подобным образом, лязгали железные колокола, разда-
вались причитания наемных воплениц, стоящих вокруг барьера, и многочисленные зри-
тели, понурив голову, с унынием в сердце, медленно расходились по домам, исполнен-
ные глубокой скорби из-за того, что кому-то, столь молодому и красивому или столь
маститому и почитаемому, выпал такой ужасный жребий.
Но если обвиняемый отворял другую дверь, выходила женщина, по возрасту и по-
ложению в обществе наиболее ему подходящая изо всех, кого государь мог выбрать, и с
этой женщиной, в награду за невиновность, его немедленно венчали. Не имело значе-
ния, если он уже был супругом и семьянином или же был душою привязан к иной из-
браннице: самодержец не позволял таким второстепенным обстоятельствам вмешивать-
ся в его грандиозный план возмездия и награды. Как и в другом случае, все происходило
тотчас же на арене. Под престолом царя широко распахивалась еще одна дверь, и нару-
жу выходил жрец, сопровождаемый хором и плясуньями, ведущими танец-эпиталаму
под бойкую музыку золотых рожков; все они шли туда, где рука об руку стояла чета, и
свадебный обряд свершался быстро и радостно. И тогда неспешно и ликующе звенели
веселые колокола, восторженный народ кричал «ура», и оправданный вел новобрачную
к себе в дом, предшествуемый детьми, бросающими ему под ноги цветы.
Таков был полуварварский способ вершить правосудие, учрежденный царем. Бе-
зупречная справедливость здесь самоочевидна. Преступник не мог знать, из какой двери
выйдет невеста, и отворял ту, какую ему заблагорассудится, не имея ни малейшего пред-
ставления о том, будет ли он через миг растерзан или обвенчан. Иногда тигр выходил из
одной двери, иногда — из другой. Решения этого трибунала были не только справедли-
вы, но и окончательны: если обвиняемый определял себя виновным, то мгновенно был
наказан; если же невиновным — не сходя с места, награжден, нравилось ли ему это или
нет. От решений, вынесенных на царской арене, уйти было нельзя.
Этот обычай пользовался огромным успехом. Когда народ собирался в один из дней
великого судилища, никто не знал, увидит ли он чудовищное кровопролитие или весе-
лую свадьбу. Элемент неопределенности придавал обряду интерес, который в против-
ном случае отсутствовал бы. Таким образом, простонародью было забавно и приятно,
1 Ироническая ссылка на слова короля Лира «Король, король — и с головы до ног!» (IV, 6,
перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник). — Прим, перев.
Невеста или тигр?
163
а мыслящая часть общества не могла обвГинить это установление в несправедливости,
ибо развязка целиком зависела от обвиняемого.
У царя-полуварвара была дочь, цветущая, как самые цветистые его фантазии, пыл-
кая и властная, подобно ему самому. Как бывает в таких случаях, он в ней души не чаял
и любил ее больше всех на свете. В числе его придворных был некий молодой человек,
чья благородная кровь и низкое положение ставили его в один ряд с традиционными
романическими героями, влюбленными в дочерей самодержцев. Эта дочь самодержца
была вполне довольна своим возлюбленным, ибо красотой и смелостью он превосходил
всех в государстве, и любила его с жаром, который благодаря известной доле варварства
был на редкость жгучим и сильным. Их счастливая любовь длилась много месяцев, пока
однажды это не стало известно царю. Он не мешкал и не колебался касательно того, как
надлежит поступить. Юношу незамедлительно ввергли в узилище; был назначен день его
испытания на царской арене. Это, конечно, являлось особо значительным событием, и
государь, как и весь его народ, был страшно заинтересован ходом и развитием испыта-
ния. Подобного прежде не случалось никогда; испокон веков ни один подданный не ос-
меливался полюбить царскую дочь. В последующие годы это стало явлением достаточ-
но заурядным, тогда же было новым и поразительным.
Клетки всего царства проверили в поисках самых диких и безжалостных зверей, из
которых надлежало выбрать для выхода на арену наиболее свирепое чудовище; много-
численные юные красавицы подверглись осмотру компетентных судей, дабы молодой
человек получил достойную невесту, если только судьба не уготовит ему иной удел. Ра-
зумеется, все знали, что обвинен юноша не напрасно. Он любил царевну, и ни он, ни
она, ни кто-либо еще даже не подумал это отрицать, но и царь не подумал как-либо вме-
шиваться в ход судилища, доставляющего ему столь великое наслаждение и удовлетво-
рение. Какова бы ни оказалась развязка, от юноши избавятся, а царь получит эстетичес-
кое удовольствие, наблюдая заходом событий, которые определят, совершил ли молодой
человек преступление, когда позволил себе полюбить царевну.
Пришел назначенный день. Огромные галереи были до отказа набиты людьми —
местными и прибывшими издалека; толпы тех, кому не удалось войти внутрь, сгруди-
лись вокруг стен. Царь и придворные расселись по местам напротив двух дверей — ро-
ковых порталов, страшных своим сходством.
Все было готово. Подали знак. Дверь под престолом отворилась, и возлюбленный
царевны вышел на арену. Его, рослого, красивого, светловолосого, встретил гул, испол-
ненный восхищения и тревоги. Половина зрителей не знала, что среди них живет такой
великолепный юноша. Неудивительно, что царевна его полюбила! До чего ужасно, что
он здесь!
Проходя по арене, юноша согласно обычаю повернулся поклониться государю; но
думал он не о царе: взор его был прикован к царевне, сидящей по правую руку отца. Не
будь ее природа наполовину варварской, вероятно, она и не пришла бы; но ее страстная,
горячая душа не позволяла ей обойти своим участием событие, столь сильно ее интере-
сующее. После оглашения указа о том, что ее возлюбленный должен решить свою судь-
бу на царской арене, она ни днем, ни ночью не думала ни о чем другом, кроме этого
великого события и многого, с ним связанного. Обладая большей властью, большим
влиянием, большей силой характера, чем кто-либо иной, ранее оказывавшийся в подоб-
ном положении, она свершила то, чего не удавалось никому другому: узнала тайну две-
рей. Она знала, в каком из помещений за этими дверьми находится клетка с тигром, а в
каком ожидает невеста. Сквозь эти толстые двери, плотно занавешенные изнутри шкура-
ми, никакой звук, никакой знак не мог дойти к тому, кто приблизится поднять засов на
одной из них; но золото и сила женской воли открыли царевне тайну.
И она знала не только, в каком помещении пребывает невеста, готовая выйти, зар-
девшаяся и сияющая, если отопрут ее дверь, — знала царевна и то, кто она. В награду
обвиненному, буде он окажется оправданным, назначена была одна из самых красивых
и пленительных придворных девиц, и царевна ее ненавидела. Она часто замечала, или ей
казалось, что замечала, как это прелестное существо бросает восхищенные взгляды на
164
Фрэнк Ричард Стоктон
ее возлюбленного, и порою ей сдавалось, будто взгляды эти не были оставлены без вни-
мания. Время от времени она видела, что они разговаривают — лишь мгновение-дру-
гое, но и за краткий срок можно сказать многое; быть может, речь шла о сущих пустяках,
но откуда ей знать? Девушка была очаровательна, однако она дерзнула поднять глаза на
возлюбленного царевны; и всей густотой дикарской крови, унаследованной от бесчис-
ленных предков, варваров в полной мере, царевна возненавидела ту, что сейчас дрожала
и рдела за безмолвною дверью.
Когда возлюбленный повернулся, взглянул на царевну, сидевшую бледнее и белее
кого-либо в безбрежном океане взволнованных лиц, и взоры их встретились, он увидел
— благодаря той силе быстрого постижения, которая дается тем, чьи души слились вое-
дино, — что ей ведомо, за какой дверью кроется тигр, аза какой стоит невеста. Он и ждал,
что она будет знать. Он понимал ее характер, и душа его была уверена, что царевна не
успокоится, пока не уяснит себе то, что скрыто ото всех других зрителей, даже от царя.
Единственное, на что мог надеяться юноша, было, при всей своей невероятности, то, что
царевне удастся проведать тайну; и, едва посмотрев на нее, он понял, что удалось.
И тогда его быстрый, нетерпеливый взор спросил: «Которая?» Ей это стало ясно,
как если бы он прокричал вопрос полным голосом. Нельзя было терять ни мгновения.
Вопрос занял один миг; ответ не мог быть дольше.
Ее правая рука лежала на барьере, покрытом подушками. Быстро, едва заметно она
двинула рукой вправо. Это видел только ее возлюбленный. Все другие взоры были при-
кованы к человеку на арене.
Он повернулся и твердым, стремительным шагом пересек пустое пространство.
Каждое сердце замерло, каждое дыхание пресеклось, каждый взор жадно впился в него.
Без малейшего колебания он подошел к правой двери и отворил ее.
И вот в чем суть рассказа: кто вышел наружу — тигр или невеста?
Чем больше размышляешь над этим вопросом, тем труднее на него ответить. Он
требует изучения человеческого сердца, он вовлечет нас в извилистые лабиринты стра-
стей, выбраться откуда нелегко. Подумай об этом, любезный читатель, однако так, слов-
но решение зависело бы не от тебя, но от пылкой царевны-полуварварки, чья душа дове-
дена до белого каления пламенем отчаянья и пламенем ревности. Она его потеряла, но
кто его получит?
Как часто, наяву и в сновидениях, она вздрагивала от дикого ужаса и прятала лицо в
ладонях при мысли о том, что ее возлюбленный отворяет дверь, по ту сторону которой
дожидаются беспощадные тигриные клыки!
Но гораздо чаще она видела его у другой двери! Как она скрежетала зубами и рвала
на себе волосы, видя в своих горестных грезах, что он вздрагивает в экстатическом вос-
торге, отворив дверь невесты! В каких муках сгорала ее душа, когда она видела, что он
метнулся навстречу этой женщине, чьи щеки рдеют, а глаза сияют от сознания своего
триумфа; когда она видела, что его тело возжено радостью возвращенной жизни; когда
она слышала радостные восклицания толпы, исступленный звон счастливых колоколов;
когда она видела, что жрец, сопровождаемый торжествующей свитой, приближается к
чете и провозглашает их мужем и женой прямо перед ее глазами; и когда она видела, что
они уходят вместе по цветам под оглушительные крики ликующей толпы, которые заглу-
шили, потопили ее один-единственный вопль отчаяния!
Не лучше ли ему сразу умереть и дожидаться ее в благословенных краях полувар-
варской потусторонней жизни?
Но ужасный тигр, вопли, кровь!
Чтобы ответить возлюбленному, ей понадобилось мгновенье, но решение она при-
няла после многих дней и ночей мучительного раздумья. Она знала, что он ее спросит,
решила, каков будет ответ, и без малейшего колебания двинула рукой вправо.
Вопрос о ее решении не из легких, и я не вправе себя выдавать за единственного, кто
способен дать на него ответ. Поэтому предоставляю всем вам ответить: кто вышел на
арену — невеста или тигр?
ii тторгр&г з жж дина
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН
От составителя
«Ему думалось, что в природе, все равно — живой или безжизненной, одушевленной или нео-
душевленной, он открыл нечто, дающее знать о себе лишь в противоречиях и потому не под-
ходящее ни под одно понятие и, уж конечно, не вмещающееся ни в одно слово» — эти слова из
гётевской «Поэзии и правды» могли бы, вероятно, стать эпиграфом к прожитому и созданно-
му Вальтером Беньямином или войти в один из заветных цитатников, годами пополнявшихся
этим запойным книгособирателем и книгочеем, чтобы заменить еще одну без конца отклады-
ваемую, но так и не написанную им самим книгу. Все в его движимой противоречиями жизни
— в его жизни как воплощенном противоречии — складывалось под знаком несовместимости
и неоднозначности.
Его настольными авторами были Гёте и Фридрих Шлегель, Кьеркегор и Бодлер, Роберт
Вальзер и Марсель Пруст, но рядом с ними копились и сменялись старые открытки и фотогра-
фии, игрушки и курьезные самоделки, детские книжки с картинками, рисунки и записки душев-
нобольных. Одним из первых Беньямина оценил Рильке, открыл и напечатал «абсолютно не-
подражаемого» начинающего критика (до этого Беньямин дебютировал как переводчик!) име-
нитый символист австриец Гуго фон Гофмансталь, а вот влиятельнейший в Германии той поры
кружок Стефана Георге его не просто не принял — они стали чуть ли не врагами. Среди самых
близких зрелому Беньямину людей — такие разные фигуры, как деятельный участник сионис-
© Б. Дубин. Составление, вступление, переводы, 1997
166
Портрет в зеркалах
тского движения, истолкователь каббалы Герхардт Шолем, критик буржуазного Просвещения,
исследователь авторитарной личности, философ и социолог франкфуртской школы Теодор
Адорно и неприемлемый для обоих перечисленных—хоть и по несходным причинам — «крас-
ный» Бертольт Брехт. Первая публикация Беньямина во Франции — статья о молодежном
социалистическом движении в 1927 году в газете «Юманите»; проходит всего несколько лет,
и за перевод его эссеистики берется исследователь де Сада и переводчик Ницше Пьер Клос-
совский, а позднее часть беньяминовских рукописей перед его вынужденным бегством из Па-
рижа помогает устроить в Национальную библиотеку ее сотрудник, аналитик крайностей в
искусстве и жизни Жорж Батай, чей Коллеж социологии Беньямин посещал... Беньямина все-
гда что-то гнало: из дома на улицу, от привычных книг — в незнакомые и подозрительные рай-
оны, из родного Берлина — в Италию, Испанию, Россию, из состоятельной еврейской семьи и
от университетской карьеры — в «левые» кружки, из одной эмиграции в другую... И кажется,
всегда и всюду ему было не по себе («положения» у него никогда не было, да он его, в общем,
и не искал).
Самый, вероятно, крупный немецкоязычный эссеист, Беньямин сложился на символис-
тском рубеже веков, а опубликовал то совсем немногое, что сумел довести до конца и что по
условиям места и времени удалось опубликовать, уже в послевоенное (и межвоенное) —
экспрессионистское, футуристическое, дадаистское, сюрреалистское—двадцатилетие. Между
тем лихорадочной да еще непрестанно подстегиваемой мыслью он если и жил в Германии, то
по преимуществу девятнадцатого и даже восемнадцатого столетия, рядом со своими любим-
цами Лихтенбергом и Жан-Полем, романтиками и Гёте (а то и вообще в семнадцатом веке —
среди открытых им, а до того перезабытых всеми на свете барочных драматургов-аллегори-
ков). Но уж если к каким местам его воображение и тянулось, то прежде всего, конечно, к
Парижу Второй империи и Третьей республики — к несравненному и невозвратному Парижу
Бодлера и Пруста, куда Беньямин впервые приехал двадцатилетним студентом на Троицу в
год накануне первой мировой войны, а через двадцать лет—эмигрировал от нацизма, чтобы
дожить там до войны второй, одной из многомиллионных жертв которой стал и он сам. Однако
и вправду «ко времени» беньяминовские книги, эссе и несчетные архивные заметки и наброски
пришлись уже во второй половине его века, начиная годов с шестидесятых, когда вслед за
немецким двухтомником сочинений, а потом и писем посыпались издания в его любимой Фран-
ции и не очень любимых Соединенных Штатах, куда ему, уже получившему визу беженцу, так
и не удалось добраться. В таком неослабевающем напряжении между «здесь и сейчас» и «там
и тогда» (или даже «нигде и никогда»), в таком постоянном разрыве, неотвратимом распаде
мест и времен своей жизни и мысли заключена, может быть, формула беньяминовского суще-
ствования.
Человек итога и кануна, обрыва и обвала, Беньямин с уникальной, даже пугающей полно-
той воплотилжрах и конец сформировавшей его эпохи. Ббльшая — и, как знать, не весомей-
шая ли? — часть искусства того века, в котором ему выпало жить, вообще стала реквиемом
по ушедшему, по начавшему (видимо, впервые в истории) с такой скоростью уходить, а еще
точнее — по тут же, на глазах, исчезающему из обихода, чтобы, вероятно, никогда не исчез-
нуть из памяти, будь она благодарной, мстительной или больной... Родившийся примерно на
середине между «окопными поэтами» и «потерянным поколением», чуть позже Тракля, чуть
раньше Монтале, одногодок Марины Цветаевой и Бруно Шульца, Беньямин — среди первых и
лучших хронистов своего века, летописцев убегающего времени, пророков и псалмистов его
утрат. В уже поминавшийся заветный цитатник вошла бы, думаю, и следующая запись из днев-
ника Кафки (еще одного избранника беньяминовской мысли) за 1921 год: «Тому, кто не в силах
справиться с жизнью, пока жив, одна рука нужна, чтобы хоть как-то отражать отчаяние, к
которому его привела судьба, — слишком плохо ему это удается, — но второй рукой, он может
второпях записывать то, что видит среди развалин, потому что видит он иначе и больше других;
в конце концов, он ведь и живой труп, и уцелевший свидетель».
Не случайно «ангела истории», «ангела новизны», в предгрозовые тридцатые годы неот-
ступно рисовавшегося беньяминовскому воображению, вихрь «прогресса» непобедимой си-
лой уносит из настоящего в будущее, но лицо ангела обращено к прошлому, громоздящему руины
и осколки. Такой, раздираемой взаимоисключающими устремлениями, неостановимой и тут
же распадающейся на обломки, Беньямину виделась «современность» —та реальность, ко-
торую он со страстью пытался схватить на лету и удержать в мысли и на письме. Само это
слово (modernite, Modernitat) — вместе с пониманием «героизма современной жизни» и чув-
ством долга перед новой «эпикой повседневности» со стороны художника, раздвоенного между
Вальтер Беньямин
167
«сплином и идеалом», — Беньямин почерпнул у Бодлера, который подобную «современность»
открыл, первым во всей масштабности осознав ее — а вместе с ней и отношение к традиции
— как ключевую проблему мысли и искусства новейшей эпохи (позже Рембо обронит свое «II
taut etre absolument moderne» — «Нужно быть абсолютно современным»). Вслед за Бодлером
для Беньямина в этом узле символика огромного промышленного города («города-ада», по Бод-
леру; «города-лабиринта», по Беньямину), восторженного и пьянящего многобожия его неудер-
жимых толп переплелась с темой одиночества и меланхолии художника — зрителя и фланера,
ненасытного вместе с тем в своем любопытстве и остром вкусе к жизни. «Культ изображе-
ний» («единственная и изначальная» страсть Бодлера, по его признанию в дневнике) соеди-
нился тут с чувством неустранимой фрагментарности — и самогб видимого, осколки которо-
го в силах связать только «аллегория», и художнических озарений, «оцепеневший порыв»
которых вновь дробит поток происходящего: как бы каменящим взглядом Медузы он останав-
ливает, упраздняет время и, увековечивая фрагмент, разрушает единство памяти (не зря Иги-
тур у воспитанного на Бодлере Малларме вытолкнут пращурами «за пределы времени»). Пер-
вая программная книга новейшей европейской лирики, бодлеровские «Цветы зла», к которым
Беньямин постоянно возвращался, «парижский» фрагмент которых перевел и в предисловии
к переложению которых сформулировал важнейшие для себя мысли о языке и переводе, —
это сборник поэтических экстазов и аллегорических видений, и ясно различимый в нем от
первой до последней строки слой античных и христианских аллюзий, равно как и присутствие
живописных образов и фигур живописцев прошлого и настоящего, «работает» именно на этот
сверхреальный, аллегорический смысл.
Показательно, что время воплощается для Беньямина не в скорости, как, скажем, у фу-
туристов, а, как ни парадоксально, в остановке и возвращении, в «цезуре», «застывшем не-
покое» барочной или бодлеровской аллегории (не зря труд французской исследовательницы
Кристины Бюси-Глюксман «Барочный разум» имеет подзаголовок «От Бодлера до Беньями-
на»). Перерыв здесь — не просто физическая пауза между физическими же мгновениями или
эпизодами, а знак переноса в иную, иносказательную, аллегорическую реальность: в течение
происходящего вдруг вмешивается феномен другой природы, другого уровня — врывается
«вспышка» художнического воображения. Думаю, еще и поэтому поиск себя (выразительный
перечень того, кем он числился, но не был, даст потом Ханна Арендт), поиск своей причастно-
сти к существованию приобретает у Беньямина форму передвижения в пространстве — пу-
тешествий к местам максимальной полноты воплощенности, своего рода паломничеств к
смысловому «центру», реальных либо воображаемых.
Такова, в частности, его поездка в 1926—1927 годах в Москву в поисках, как напишет он
в «Московском дневнике», общего «силового поля», места «на передовой», символического
«мандата» на роль в коллективной жизни (Пастернак примерно в эти же годы скажет о «про-
пуске» и «талоне»). Таковы обе беньяминовские книги о ранних годах жизни — «Берлинское
детство на рубеже веков» и «Берлинская хроника» (тонкий итальянский исследователь куль-
туры Джорджо Агамбен увидит в них позже разрушение опыта как движущую силу повество-
вания) и «крипто-биографический», по выражению Сьюзен Сонтаг, коллаж «Улица с односто-
ронним движением». Все они, строго говоря, не биографичны: если фрагмент — это своего
рода антипамять, то аллегория — это антибиография. «Автобиография, — пояснял Беньямин
в «Берлинской хронике», — имеет дело со временем, с последовательностью, непрерывным
ходом жизни. А я говорю о пространстве, о мгновениях и разрывах». Драматурги немецкого
барокко как раз и близки ему тем, что «схватывают и анализируют движение времени в обра-
зах пространства», как писал он в «Происхождении немецкой трагедии». «Инсценировка про-
шедшего, память, превращает ход событий в ряд картин, — пишет Сонтаг в своем очерке о
беньяминовском «сатурническом» характере. — Беньямин стремится не столько вернуть про-
шлое, сколько его понять — уплотнить до обозримых форм, исходных структур».
В берлинском детстве и московской командировке, марсельском опьянении гашишем и
неапольском или барселонском фланерстве Беньямин находит себя как другого, которого, в
собственном смысле слова, только и можно описать, рассказать (а конфликт между «выска-
зать» и «рассказать», «выразить» и «передать» — в основе беньяминовской философии язы-
ка). Особенно — описать эссеисту, такому эссеисту по складу ума и устройству глаза, по
принятой роли, как Беньямин (или, позднее, Морис Бланшо или та же Сонтаг). Лишенный воз-
можности взять на себя, как в традиционном лирическом высказывании, условное «я» вмес-
ите с соответствующим ему «ты», равно как далекий от академического «мы» или безличного
«оно» и «-ся», эссеист вынужден всегда говорить как «он», представлять себя в виде персо-
168
Портретвзеркалах
нажа и вести речь «о нем», о ком-то или чем-то другом и всегда предельно конкретном, по его
сугубо частному поводу (соединение почти телесной конкретики деталей с предельной обоб-
щенностью абстрактного смысла, по Беньямину, — основа аллегории). Показательно, что
мастера афористической мысли и фрагментарного письма, наиболее близкие Беньямину по
типу самосознания и самовыражения, так часто используют псевдонимы (у Новалиса, у Ниц-
ше), гетеронимы (Гофман, Кьеркегор), повествования под знаком персонажного «ОН» (в днев-
никовых записях Кафки). В этом смысле заветная идея, для Беньямина совершенно естествен-
ная, — книга из одних цитат — доводит этот принцип самоотчуждения до мыслимого предела
(в реальности его воплотила опять-таки Сонтаг: посвященная Беньямину заключительная часть
ее книги «О фотографии» — это монтаж цитат, в том числе, понятно, из беньяминовской «Крат-
кой истории фотографии» 1931 года).
Уже по смыслу и логике здесь сказанного—даже если не обращать внимания на даты —
можно догадаться, что ангел истории наверняка не миновал созерцателя и фланера. Больше
того, Беньямин оказался настолько тесно связан со своей страной и эпохой, как это редко с
кем случалось даже в двадцатом веке, кажется не оставлявшем укромов и отдушин никому,
включая, понятно, первопроходцев. Беньямин проницательно, как бы сейсмически, почувство-
вал невозможность биографии как жанра, бессилие этой устойчивой формы осуществления
индивидуальной судьбы перед разрушительными силами и масштабами, превосходящими жизнь
и понимание отдельного человека, частного лица (аллегории надмирных и внечеловеческих
«стихий» и «страстей» в барочном и в новейшем искусстве, как и тяга к астрологическим
шифрам звезд и зодиаков у Беньямина, — еще и отсюда!). Вскоре ему — вместе с десятками
миллионов других — пришлось помимо собственной воли воочию и на себе самом убедиться,
что выпавшее им время стало, говоря словами беньяминовского сверстника Осипа Мандель-
штама, «историей распыления биографии как формы личного существования, даже больше
чем распыления — катастрофической гибели биографии» («Конец романа», 1922).
Этапы этого распыления у Беньямина (достаточно назвать и несколько точек) — эмиг-
рация в 1933-м из нацистской Германии, где остались дом, добрая половина библиотеки, боль-
шинство рукописей и записных книжек; заключение в лагерь для беженцев в 1939-м уже во
Франции, в Невере, откуда его сумела выдернуть известная «всему Парижу» владелица книж-
ной лавки на улице Одеон Адриенна Монье; угроза повторного интернирования (через дипло-
матические связи ее удалось на время отвести Сен-Жон Персу); фактическая потеря средств
к существованию; бегство из Парижа в свободную от оккупации зону, в Лурд; и, наконец, по-
пытка после бесконечных оттяжек эмигрировать в США, завершившаяся нелепым, возмож-
ным только в один-единственный роковой день инцидентом на франко-испанской границе, мгно-
венным сознанием своего бессилия, полной безысходности впереди и ночным самоубий-
ством... Конечно, уайльдовские слова о жизни, подражающей искусству, — всего лишь пере-
вернутое общее место. Но, думая о случившемся в ночь на 27 сентября 1940 года в гостиничном
номере каталонского пограничного городка, где на высоком приморском взгорье теперь и по-
коятся останки немецкого писателя, трудно отделаться от мысли о «старом капитане Смер-
ти» в финале бодлеровского «Плавания», не раз цитированного Беньямином, и о «цезуре» —
мгновенной остановке, как бы последнем взгляде назад, головокружительном выпадении из
времени — как внутренней мере беньяминовского мышления и существования.
«Этот ум, живой настоящим, — завершает Ханна Арендт свой развернутый и многопла-
новый портрет Беньямина, — бьется над «обломками мысли», которые он сумел вырвать у
прошлого и выстроить вокруг себя. Как ловец жемчуга, достигающий дна не для того, чтобы
добывать грунт и доставлять его на поверхность, а чтобы добраться до роскошного и дико-
винного, до спящих в глубине жемчужин и кораллов и поднять их наверх, — этот ум роется в
глубинах прошлого не затем, чтобы воскресить его прежним и внести этим свой вклад в воз-
рождение ушедшей эпохи. Его ведет вера в то, что, при всей подверженности живого смерто-
носному действию времени, процесс разложения есть вместе с тем процесс кристаллизации,
что в глубинах моря, где затонула и распалась существовавшая некогда жизнь, что-то из
прежнего, говоря шекспировскими словами, «морем преображено» и уцелело в заново крис-
таллизовавшихся формах и образах, не подвластных стихии, как если бы они только и ждали
ныряльщика, который спустится к ним однажды и заберет с собою в мир живых — в качестве
«обломков мысли», в качестве чего-то «роскошного и диковинного», а может быть, и в каче-
стве гётевских вечных «прафеноменов».
БОРИС ДУБИН
Вальтер Беньямин
169
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН
Центральный парк 1
ипотеза Лафорга1 2 о поведении Бодлера в борделе бросает истинный свет на все пси-
хоаналитические штудии, которым он подверг Бодлера и которые один к одному риф-
муются с обычным «литературно-историческим» методом.
Особая красота начала столь многих бодлеровских стихотворений: выныривание из
бездны.
Георге3 перевел «Spleen et ideal» как «Triibsinn und Vergeistigung» (хандра и оду-
хотворение), и тем самым схватил нечто существенное в понятии «идеал» у Бодлера.
Если верно, что жизнь эпохи модерна составляет арсенал диалектических образов
Бодлера, следовательно, Бодлер находится в том же отношении к модерну, как семнадца-
тый век — к античности.
Стоит только подумать, сколь много собственных установлений, собственных про-
зрений и табу приходилось Бодлеру-поэту принимать в расчет и, с другой стороны, сколь
точно были обрисованы задачи его поэтического дела, как в его облике начинает про-
ступать нечто героическое.
Сплин как дамба против пессимизма. Бодлер не пессимист, нет, ибо для него на
будущем лежит табу. Это яснее всего отличает его героизм от ницшевского. У него не
найдешь рефлексии по поводу будущего, ожидающего буржуазное общество, — и это
тем более поразительно, если принять во внимание сам характер его интимных записок.
По одному этому видно, как мало он заботился об эффекте, стремясь придать жизнеспо-
собность своему творению, и насколько монадологична структура его «Fleurs du mal».
Структура «Fleurs du mal» определяется вовсе не каким-то изощренным располо-
жением отдельных стихотворений, не говоря уже о существовании некоего тайного клю-
ча. В ее основе — беспощадное исключение всякой лирической темы, которая не несет
на себе отпечатка лично выстраданного опыта самого автора. И вот именно потому, что
Бодлер знал, что его страдание, spleen, taedium vitae — исконно, он оказался в состоянии
1 Цикл беньяминовских заметок «Центральный парк» («Zentralpark»), сложившийся к 1938 г., когда
он и получил это название, связан с многоплановым незавершенным трудом о Париже и европейс-
кой цивилизации XIX в., над которым Беньямин работал с 1927 г., и с одним из его ответвлений —
книгой о Бодлере {Charles Baudelaire. Frankfurt а. М., 1969). Публикуемые фрагменты цикла пере-
ведены по 1-му тому «Сочинений» Беньямина (ИС Benjamin. Schriften. Bd.I. Frankfurt a. M.,
1955).(Здесь и далее во всех случаях, кроме специально оговоренных, примечания принадлежат
составителю.)
2 Речь идет о книге Рене Лафорга «Поражение Бодлера: Психоаналитическое исследование невроза
Шарля Бодлера» (1931). Представлению ее автора о поэте как пассивной жертве своих душевных —
прежде всего кровосмесительных — фантазмов противостоит у Беньямина творческий «героизм»
художника, который отмечал в современном ему искусстве — в графике Гаварни, прозе Барбе
д’Оревильи, романах Бальзака — и сам Бодлер, видя в этом «новую традицию» современного
искусства («Салон 1846 года»).
3 Стефан Георге (1868—1933) — немецкий поэт-символист; «Сплин и идеал» — название первого
раздела в книге стихов Бодлера «Цв^ты зла».
© А. Ярин. Перевод, 1997
170
Портрет в зеркалах
безошибочно распознать в нем приметы своего личного опыта. Если позволительно
сделать предположение: едва ли что-то другое могло дать ему столь острое ощущение
своей собственной оригинальности, как чтение римских сатириков.
Сущностно новым ферментом, который, будучи подмешан к taedium vitae, превра-
щает его в spleen, является самоотчуждение. От нескончаемого регресса романтичес-
кой рефлексии, которая, играя, ширит жизненное пространство разбегающимися круга-
ми и одновременно стесняет его все более узкими рамками, бодлеровской печали оста-
ется лишь tete-a-tete sombre et limpidex субъекта с самим собой. Именно в этом кроется
специфическая «серьезность» Бодлера. Она-то и помешала подлинному усвоению по-
этом католического мировидения, которое готово примириться с серьезностью аллего-
рии1 2 лишь под знаком игры. Иллюзорность аллегории у Бодлера уже не выдает самое
себя, как это было свойственно барокко.
Бодлер не отдается на волю никакому стилю и не имеет за собой никакой школы.
Это чрезвычайно затрудняет его восприятие.
Введение аллегории — это ответ (но несравненно более зрелый) на кризис искусст-
ва, подобный тому, которому в 1852 году была противопоставлена теория / ’artpour I ’art.
Этот кризис искусства коренился как в ситуации с техникой, так и в политической ситу-
ации.
Есть две легенды о Бодлере. Первую, согласно которой он есть изверг рода челове-
ческого и гроза буржуазии, распространил он сам. Вторая родилась после его смерти, и
на ней основана его слава. В ней он предстает мучеником. Этот фальшивый теологичес-
кий нимб необходимо до конца разрушить. <...>
Можно сказать, что счастье пробирало его насквозь; про несчастье такого не ска-
жешь. В естественном состоянии несчастье в нас не проникает.
Spleen — это ощущение катастрофы, растянувшейся навечно.
Ход истории, каким он являет себя в понятиях катастрофы, занимает мыслящего
человека не более, чем калейдоскоп в детских руках, в котором при каждом вращении
прежний порядок осыпается, чтобы образовать новый. Этот образ вполне правомерен.
Понятия власть предержащих всегда были теми зеркалами, благодаря которым образ того
или иного «порядка» претворялся в жизнь. — Калейдоскоп следует непременно разбить.
Могила как темный чулан, в котором Эрос и Секс улаживают свой застарелый спор.
У Бодлера звезды являют собой мистифицированный образ товара. Они являются
самопбвторением, воплощенным в огромных массах.
1 Мрачная и светлая встреча (франц.) — строка из второй части стихотворения Бодлера «Неотврати-
мое» (раздел «Сплин и идеал»),
2 Аллегория — важнейшее понятие беньяминовской философии культуры, источники которого —
прежде всего немецкая барочная драма XVII в. и поэзия Бодлера (в частности, переведенное Бень-
ямином стихотворение об ушедшем Париже «Лебедь», а также стихотворения «Аллегория», «Пу-
тешествие на Киферу» и др. ); в 1927 г., перечитывая в Москве Пруста, Беньямин обнаружил
большую близость между своими идеями и мыслями прустовского героя об аллегорических фрес-
ках Джотто в первом томе эпопеи «В поисках утраченного времени».
Вальтер Беньямин
171
Обесценивание мира вещей в аллегории не
поспевает за обесцениванием товара в самом мире
вещей.
Мотив андрогинности, лесбиянства, женской
бесплодности следует рассматривать в связи с дест-
руктивной силой, которая присуща аллегорической
интенции1. И прежде всего нужно рассмотреть от-
каз от «естественного», причем в связи с темой боль-
шого города как поэтическим сюжетом.
Мерной1 2: море домов, руины, облака, величие
и убожество Парижа.
Противоречие между античностью и модер-
ном нужно перевести из прагматической плоскости,
как оно выступает у Бодлера, в аллегорическую.
Эдуар Мане. Бодлер в цилиндре
Spleen привносит столетия в зазор между настоящим и только что прожитым мгно-
вениями. Вот кто неустанно творит «античность».
Бодлеровский «модерн» покоится не только и не столько на чувствительности. В нем
находит свое выражение высочайшая спонтанность. Модерн у Бодлера—это воплощен-
ная воинственность, он у него облечен в доспехи. Кажется, это было замечено только
Жюлем Лафоргом3, который говорил о бодлеровском «американизме».
Невроз производит в сфере психической экономии товар массового потребления,
принимающий там форму навязчивой идеи. В домашнем хозяйстве невротика она пред-
стает в бессчетном количестве экземпляров как нечто совершенно равное себе. Напро-
тив, у Бланки4 формой навязчивой идеи становится сама мысль о вечном возвращении.
Мысль о вечном возврате превращает само историческое событие в товар массо-
вого потребления. Однако эта концепция также и в другом отношении (можно сказать:
на обратной своей стороне) несет отпечаток экономической ситуации, которой она обя-
зана своей внезапно возникшей актуальностью. Эта последняя дала о себе знать в тот
момент, когда обеспеченность жизненных условий в результате стремительной череды
1 «Соответствие» между аллегорией и разрушением Беньямин многократно подчеркивал: «Аллего-
рии в царстве мысли — то же, что руины в мире вещей» («Происхождение немецкой трагедии»);
разрушение — мотив одноименного стихотворения Бодлера в «Цветах зла»; о своей врожденной
страсти к разрушению Бодлер писал в так называемых «Дневниках для самого себя», вспоминая о
революции 1848 года («Мое обнаженное сердце»). Беньямин посвятил этой теме эссе «Разруши-
тельный характер» (1931), идеи которого были развиты позднее социологами франкфуртской шко-
лы в их исследованиях нацизма.
2 Шарль Мерной (1821—1868) — французский график. О его пейзажах Парижа Бодлер с увлечением
писал в серии заметок «Салон 1859 года».
3 Жюль Лафорг (1860—1887) — французский поэт.
4 Огюст Бланки (1805—1881) — французский мыслитель-утопист. О его космологической фантазии
«Вечность по звездам» Беньямин писал в письме Хоркхаймеру 6 января 1938 г. как о своем чита-
тельском открытии последних недель; символика вечного возвращения перекликается здесь, кроме
того, с ключевыми идеями Ницше.
172
Портрет в зеркалах
кризисов начала резко падать. Мысль о вечном возврате приобрела свой блеск благода-
ря тому, что стало уже не обязательно непременно ожидать возвращения прежних ситу-
аций в сроки более короткие, чем те, что могла предложить вечность. Возврат бытовых
констелляций наступает все реже и реже, и это может вызвать смутное ощущение, что в
дальнейшем придется довольствоваться констелляциями космическими. Иначе говоря,
привычка начала понемногу сдавать свои позиции. Ницше сказал: «Я люблю короткие
привычки», и уже Бодлер за всю свою жизнь не сумел усвоить прочных привычек.
<П>
Поведение Бодлера на литературном рынке: благодаря своей глубокой искушенно-
сти в природе товара Бодлер оказался способным или вынужденным признать рынок
как объективную инстанцию (ср. его «Nonseils aux jeunes litterateurs»1). Тесные взаимо-
отношения с редакциями держали его в непрерывном контакте с рынком. Рыночные
приемы — диффамация (Мюссе) и contrefagon (Гюго). Бодлер, возможно, был первым,
кто понял смысл рыночной оригинальности, выделявшейся в то время на фоне других
оригинальностей именно благодаря своей «рыночности» (creer ип poncif1 2 3). Эта creation
заключает в себе известную нетерпимость. Бодлеру нужно было освободить место для
своего стихотворения, а для этого приходилось потеснить других. Он обесценивал неко-
торые поэтические свободы романтиков своими классически выверенными александ-
ринами и классическую поэтику — столь частыми у него разрывами и пропусками даже
внутри классического стиха. Говоря короче, его стихи были оснащены особыми инстру-
ментами для вытеснения конкурирующей поэзии.
<13>
В лице Бодлера поэт впервые выдвинул притязания на обладание экспозиционной
стоимостью. Бодлер стал своим собственным импресарио. «Perte d’aureole»4 затронула
в первую очередь поэтов. Отсюда его мифомания.
Обстоятельные теоремы, которыми уснастили / ’artpour I ’art не только его тогдаш-
ние (не говоря о сегодняшних) защитники, но прежде всего авторы историй литературы,
целиком сводятся к следующему утверждению: чувствительность — вот истинный пред-
мет поэзии. Чувствительность по самой своей природе страдательна. Если свою высшую
конкретность и содержательную определенность она обретает в эротике, то своего абсо-
лютного исполнения (а заодно — преображения) она достигает в страсти. Поэтика I’art
pour I’art безущербно перешла в поэтическую страсть «Fleurs du mal».
Восхождение на Голгофу в местах остановок украшено цветами. Цветами зла.
Все затронутое аллегорической интенцией изымается из жизненных связей: оно
разбивается и в то же время консервируется. Аллегория цепко держится за обломки. Она
являет образ застывшего непокоя. Деструктивному импульсу у Бодлера нет никакого дела
до того, что объект его приложения терпит ущерб.
Рассказ о заблудившемся — это совсем не то, что блуждающий рассказ.
1 «Советы молодым литераторам» (франц.) — отсылка к одноименному эссе Бодлера (1846).
2 Подделка (франц.).
3 Создать штамп (франц.) — цитата из бодлеровского дневника: «Штампы — создание гениев. Я
должен создать штамп».
«Потеря ореола» (франц.) — название стихотворения в прозе из книги Бодлера «Парижский сплин».
Вальтер Беньямин
173
«Attendre с ’est la vie»1 Виктора Гюго — это мудрость изгнания.
Новая безутешность Парижа (ср. место о croque-mor?) составляет существенный
момент образа эпохи модерна.
Прервать мировой ход вещей — такова сокровенная воля Бодлера. Воля Иисуса
Навина. Не в полной мере пророческая, ибо он не помышлял об обращении. Отсюда его
напор, нетерпение и гнев и отсюда же — его непрекращающиеся попытки или поразить
мир в самое сердце, или убаюкать его. Именно эта воля заставляет его аккомпанемен-
том подбадривать смерть в своих произведениях.
Следует признать, что темы, образующие сердцевину бодлеровской поэзии, недо-
ступны для планомерных и целенаправленных усилий, ибо все эти радикально новые темы
— будь то город или людская масса — даже не мыслились им в качестве таковых. Это не
они составляют мелодию, которую он про себя выводит, а скорее — сатанизм, сплин,
извращенная эротика. Подлинные темы «Fleurs du mal» следует искать в самых непри-
метных местах. Вот они-то, если продолжить образ, и суть те прежде не тронутые струны
диковинных инструментов, на которых Бодлер наигрывает свои фантазии.
<16>
Лабиринт* 1 * 3 — это верный путь для тех, кто всякий раз слишком рано оказывается у
цели. Цель же — рынок.
Азартные игры, фланерство, собирательство — все это занятия, придуманные для
противодействия сплину.
Бодлер показывает, что деградирующая буржуазия уже не в силах интегрировать в
себе асоциальнее элементы. Когда была распущена garde nationale4?
С появлением новых способов производства, приведших к развитию имитации, на
товарах появился налет внешнего блеска.
Для людей, каковы они сегодня, существует лишь одно радикальное новшество,
причем всегда одно и то же: смерть5.
Застывший непокой — это тоже формула бодлеровского образа жизни, который не
знает никакого развития.
«Ожидание — это жизнь» {франц.).
1 Факельщик {франц.). Речь идет о книге французского писателя Луи Вейо (1813—1883) «Ароматы
Парижа», где, в частности, подчеркивается безотрадность новой городской архитектуры.
3 Лабиринт — сквозной образ беньяминовской мысли, всякий раз отсылающий к некоему болезненно-
му и притягательному, непредсказуемому и неотвратимому переходу; картиной лабиринта (глава
«Тиргартен») открывается книга Беньямина «Берлинское детство на рубеже веков», лабиринтом
предстает ему собственная жизнь в «Берлинской хронике».
4 Национальная гвардия {франц.) — гражданское ополчение во Франции, создано в 1789-м, распуще-
но в 1871 г.
5 Родство между смертью и тягой к новизне — мотив заключительных строф стихотворения Бодлера
«Плавание» (раздел «Сплин и идеал»).
174
Портрет в зеркалах
К числу загадочных сущностей, впервые захваченных проституцией вместе с боль-
шим городом, принадлежит масса. Проституция открывает возможность мифического
причастия массе. Но возникновение массы совпадает по времени с развитием массово-
го производства. Вместе с тем кажется, что проституция предоставляет возможность как-
то продержаться в жизненном пространстве, где предметы первой необходимости ста-
новятся товаром массового потребления. Проституция в больших городах саму женщи-
ну делает товаром массового потребления. Это абсолютно новая примета жизни боль-
шого города, придающая бодлеровскому пониманию догмата о первородном грехе1 его
истинный смысл. И как раз старинное понятие казалось Бодлеру достаточно испытан-
ным, чтобы охватить совершенно новый, обескураживающий феномен.
Лабиринт—это родина колеблющихся. Путь тех, кто не осмеливается дойти до цели,
легко сворачивается в лабиринт. То же самое происходит с половым влечением в эпизо-
дах, предшествующих его удовлетворению. Но то же — и с человечеством (классами),
которое не желает знать, что его ожидает.
Если фантазия есть то, что придает воспоминанию соответствия, то мысль посвя-
щает ему аллегории. Воспоминание сводит то и другое воедино.
Перевод с немецкого АЛЕКСАНДРА ЯРИНА
ХАННА АРЕНДТ
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН
I. «Маленький горбун»
Богиня, которой домогаются сонмы жаждущих, Фама — многолика. Слава и вправ-
ду приходит многими путями и под многими личинами — от недельной известности
портретов с обложек до сияния вечных имен. Посмертная слава — из самых редких и
непривлекательных разновидностей Фамы, хотя ветрена она меньше прочих и лишь в
считанных случаях венчает простую коммерческую ловкость. Главный выигравший
мертв, и речи о продаже нет. Вот такой — непродажной и бесприбыльной — посмерт-
ной славой отмечено сегодня в Германии имя и дело Вальтера Беньямина, немецко-ев-
рейского писателя, который стал известен, но не знаменит, статьями в журналах и на
литературных полосах газет меньше чем за десять лет до прихода Гитлера к власти и сво-
ей эмиграции в Париж. Мало кто помнил его имя, когда он решился покончить с собой
ранней осенью 1940 года. Через пятнадцать лет на родине появился двухтомник Бенья-
мина, тут же принеся автору succes d’dstime2, все же намного превзошедший то внима-
1 Ср. в бодлеровском дневнике: «Цивилизация — это не газ и не пар... это истребление следов
первородного греха».
2 Умеренный успех (франц.).
ХАННА АРЕНДТ (HANNAH ARENDT, 1906—1975) — немецкий и американский философ и соци-
олог, училась у Гуссерля, Ясперса, Хайдеггера, с 1933 г. — в эмиграции в Париже, с 1941 г. — в Нью-
Йорке, в 1951 г. получила американское гражданство. Автор основополагающих работ по социоло-
гии революций, тоталитарных обществ, идеологии национализма и антисемитизма, философской
антропологии. На русском языке опубликован (1996) ее главный труд «Истоки тоталитаризма» («The
Origins of Totalitarianism», 1951).
Ее очерк о Вальтере Беньямине первоначально был опубликован в 1968 г. в журнале «Нью-Йоркер»
и тогда же появился в качестве предисловия к тому работ Беньямина в английском переводе «Озаре-
ния»; здесь во фрагментах переведен по книге Арендт «Люди в черные времена» («Men in Dark Times».
N.Y., 1969).
Вальтер Беньямин
175
ние избранных, которое он только и успел
узнать. Дважды согласишься с Цицеро-
ном: насколько иначе было бы все, «если
бы одержавшие такую победу в смерти
одержали ее в жизни». <...>
Видимо, посмертная слава— это удел
людей, выпадающих из рубрик, тех, чьи
труды не умещаются в установленный
порядок, но и не порождают новых жан-
ров на радость будущим классификато-
рам... Чтобы описать Беньямина и его
произведения в привычной нам системе
координат, не обойтись без великого мно-
жества негативных суждений. Он был че-
ловеком гигантской эрудиции, но не при-
надлежал к ученым; он занимался текста-
ми и их истолкованием, но не был фило-
логом; его привлекала не религия, а
теология и теологический тип интерпре-
Вальтер Беньямин. Скульптурный портрет
Юлы Кон
тации, для которого текст сакрален, одна-
ко он не был теологом и даже не особен-
но интересовался Библией; он родился
писателем, но пределом его мечтаний была книга, целиком составленная из цитат; он
первым в Германии перевел Пруста (вместе с Францем Хесселем1) и Сен-Жон Перса* 2, а
до того — бодлеровские «Tableaux parisiens»3, но не был переводчиком; он рецензиро-
вал книги и написал немало статей о писателях, живых и умерших, но не был литератур-
ным критиком; он создал книгу о немецком барокко и оставил огромную незавершен-
ную работу о Франции девятнадцатого века, но не был историком ни литературы, ни
чего бы то ни было еще; я надеюсь показать, что он был мастером поэтической мысли,
притом что ни поэтом, ни философом он тоже не был...
Кроме простого выпадения из рубрик, есть в жизни тех, кто «одержал победу в
смерти», другая, менее объективная черта. Я говорю о неудаче. Мимо этого фактора,
крайне значимого в беньяминовской судьбе, пройти невозможно, настолько остро Бень-
ямин, скорей всего никогда не думавший и не мечтавший о посмертной славе, сознавал
свою неудачливость. На письме и в разговорах он обычно ссылался на «маленького гор-
буна» — сказочную фигуру из знаменитой книги народных песен «Des Knaben
Wunderhorn»4...
Беньямин был, вероятно, самым странным из марксистов... За доктрину о базисе и
надстройке он схватился как за эвристическую и методологическую находку, а в ее исто-
рический или философский контекст едва ли вникал. По-настоящему Беньямина влекло
другое: до того тесная связь между духом и его материальными проявлениями, что бук-
вально во всем можно видеть бодлеровские соответствия5, которые высвечивают, про-
ясняют друг друга и — в силу этой взаимосоотнесенности — уже не нуждаются в истол-
Франц Хессель (1880—1941) — немецкий поэт, прозаик, переводчик, с 1938 г. в эмиграции в
Париже.
2 Сен-Жон Перс (наст, имя — Алексис Сен-Леже Леже, 1887—1975) — французский поэт; его поэму
«Анабазис» (1924) собирались переводить на немецкий Рильке (перед смертью передавший Бень-
ямину свой экземпляр книги) и Гофмансталь, переадресовавший заказ на перевод Беньямину и
написавший предисловие к публикации (1929), которая тогда — по воле Сен-Жон Перса — не
состоялась.
3 «Парижские картины» (франц.) — раздел бодлеровской книги стихов «Цветы зла».
4 «Волшебный рог мальчика» (нем.) — сборник немецких народных песен, составленный романтика-
ми Л. А. фон Арнимом и К. Брентано (вышел в 1805—1808 гг).
3 «Соответствия» — программное стихотворение из «Цветов зла» (IV); ближайший источник этого
понятия-символа у Бодлера — трактаты шведского духовидца Эмануэля Сведенборга.
176
Портрет в зеркалах
ковательском или объяснительном комментарии. Его занимала взаимосвязь между улич-
ной сценкой, спекуляциями на фондовой бирже, стихотворением, мыслью — та скрытая
линия, которая их соединяет и дает историку или филологу' основание считать все это
принадлежностью одной эпохи. Когда Адорно критиковал Беньямина, «во все глаза сле-
дящего за новостями дня», он, со своей стороны, был совершенно прав: именно это Бе-
ньямин делал и хотел делать. Под сильнейшим влиянием сюрреализма он «пытался уло-
вить профиль истории в самых ничтожных образах реальности, в ее клочках»... Если,
иными словами, что и завораживало Беньямина с самого начала, то никогда не идеи —
только феномены. «В так называемом прекрасном самое парадоксальное то, что оно
вообще существует наяву», — писал Беньямин, и этот парадокс — или, проще, чудо
явления — всегда был в самом центре его интересов.
Насколько беньяминовские штудии оказывались далеки от марксизма и диалекти-
ческого материализма, видно по их центральному предмету — фланеру1. Именно ему,
бесцельному гуляке сквозь городские толпы в нарочитом противоречии с их торопли-
вой и целенаправленной активностью, вещи сами раскрывают свой тайный смысл: «Под-
линная картина прошлого проносится у него перед глазами» («Тезисы к философии
истории»), — и лишь бесцельно блуждающий фланер может этот смысл воспринять.
Адорно тонко отметил роль статики в беньяминовской мысли: «Чтобы понять Беньями-
на, нужно почувствовать, как в каждой его фразе предельное возбуждение преобража-
ется в нечто статичное — у него статическое понятие о самом движении». И действи-
тельно, вряд ли можно найти что-нибудь менее «диалектическое», чем такой взгляд на
мир, для которого «ангел истории» (из тезиса девятого) не диалектически движется в
будущее, но «повернулся лицом к прошлому». «Там, где для нас разворачивается цепь
событий, он видит одну-единственную катастрофу, которая громоздит обломки на об-
ломки и швыряет их к его ногам. Ангел хотел бы остановиться, разбудить мертвых и со-
брать воедино то, что разбито на куски». (Речь, видимо, о конце истории.) «Но из Рая
налетает вихрь» и «неудержимо толкает его в будущее, к которому он повернут спиной,
тем временем как громада руин перед ним растет к небу. То, что зовут прогрессом, и
есть этот вихрь». Этот ангел, которого Беньямин увидел на картине Клее1 2, — последнее
воплощение фланера. Как фланер в жесте бесцельного гуляния поворачивается спи-
ной к толпе, даже если она его толкает и сносит, так и «ангел истории», не видящий ниче-
го, кроме ширящихся руин прошлого, несется в вихре прогресса спиной к будущему...
Стоит только взглянуть на жизнь Беньямина, как всюду видишь в ней того же «ма-
ленького горбуна»... Шолем совершенно прав: после Пруста чувство теснейшего лич-
ного сродства среди современных авторов у Беньямина вызывал Кафка. И недаром он
— помня, конечно, о «пространствах руин и полях разрушений» в собственном творче-
стве — писал: «Для понимания оставшегося после Кафки требуется, среди прочего,
просто-напросто признать, что он потерпел крах». Метко сказанное Беньямином о Каф-
ке вполне приложимо к нему самому: «Подробности этого краха бесчисленны. Напра-
шивается даже такая мысль: стоило ему убедиться в поджидающем крахе, как все осталь-
ное произошло с ним уже en route3, словно во сне». Беньямину было не обязательна
читать Кафку, чтобы думать, как Кафка. Прочтя лишь «Кочегара»4, он уже приводил в
эссе об «Избирательном сродстве» слова Гёте: «Надежда мелькнула над их головами,
как падающая звезда», а заключительные слова этой работы звучат так, будто их писал
сам Кафка: «Если нам и послали надежду, то единственно ради отчаявшихся».
26 сентября 1940 года на франко-испанской границе, уже на пути в Америку, Валь-
1 Классическое описание фланера оставил Бодлер в знаменитом эссе о Константене Гисе «Художник
современной жизни». Беньямин часто ссылается на него косвенно и напрямую цитирует его в своем
эссе о Бодлере. {Прим, автор а.)
2 Пауль Клее (1879—1940) — швейцарский живописец, близкий к сюрреализму; о картине «Ангелус
Новус» и его значении для Беньямина см. ниже эссе Г. Шолема.
Попутно, само собой {франц.}.
4 «Кочегар» — глава из романа Кафки «Америка», в 1913 г. вышла отдельным изданием.
Вальтер Беньямин
177
Парижские витрины. Фото Жермены Круль
тер Беньямин покончил с собой. Причины тому были разные. Гестапо конфисковало его
парижскую квартиру вместе с библиотекой («важнейшую ее половину» он сумел в свое
время вывезти из Германии) и многими рукописями... Как ему было жить без библиоте-
ки? Чем зарабатывать без оставшихся в рукописях пространных цитат и выписок? Да и
не тянуло его в Америку, где ему скорей всего — он об этом не раз говорил — не найдут
другого применения, кроме как возить по стране экспонатом «последнего европейца».
Но прямой причиной беньяминовского самоубийства стал неожиданный удар судьбы.
Из-за мирного соглашения между вишистской Францией и третьим рейхом эмигранты
из гитлеровской Германии — les refiigi£s provenant d’Allemagne1, как их официально
именовали во Франции, — оказывались под угрозой высылки на родину. <...> Для спа-
сения этой категории эмигрантов Соединенные Штаты через свои консульства в свобод-
ной зоне распространяли особые визы. Усилиями Института в Нью-Йорке* 2 Беньямин
одним из первых получил такую визу в Марселе. Дальше он быстро добился испанской
транзитной визы, дававшей право доехать до Лисабона, чтобы оттуда отплыть в Амери-
ку. Однако у него не было визы на выезд из Франции, которая все еще требовалась в тот
период и в которой французские власти неизменно отказывали эмигрантам из Герма-
нии в угоду гестапо. Вообще говоря, и здесь не было особых трудностей, благо довольно
короткая и не слишком трудная дорога через горы до Пор-Бу была хорошо известна и не
охранялась французскими пограничниками. Но от Беньямина, страдавшего тяжелой
сердечной недостаточностью, даже самый короткий путь требовал большого напряже-
ния, и до Пор-Бу он добрался совершенно без сил. В пограничном испанском городке
эмигранты, к которым он присоединился, узнали, что как раз в этот день Испания закры-
ла границу и испанские службы не принимают виз, выданных в Марселе. Эмигрантам
было предложено тем же путем на следующее утро вернуться во Францию. Ночью Бе-
ньямин лишил себя жизни, и потрясенные его самоубийством пограничники разреши-
Эмигранты, выходцы из Германии (франц.).
2 Имеется в виду Институт социальных исследований, созданный в 1923 г Максом Хоркхаймером во
Франкфурте, затем переместившийся в Париж, а с 1934 г. обосновавшийся в Нью-Йорке (Беньямин
получал с 1935 г. его стипендию и публиковал в записках института некоторые свои работы).
17в
Портрет в зеркалах
ли оставшимся проследовать в Португалию. А через несколько недель было снято и зап-
рещение на въезд. Сутками раньше Беньямин проехал бы безо всяких помех, сутками
позже в Марселе бы знали, что испанская граница временно закрыта. Катастрофа могла
произойти только в тот единственный день.
II. Черные времена
Часто эпоха метит своим клеймом тех, кто был меньше других подвержен ее влия-
ниям, кто держался от нее дальше прочих и кому пришлось поэтому вынести больше
остальных. Так было с Прустом, с Кафкой, с Карлом Краусом1, так было и с Беньями-
ном. Его жесты, поворот головы при вслушивании и разговоре; его походка; его мане-
ры, а особенно — манера говорить, вплоть до выбора слов и особенностей синтаксиса;
наконец, его бросавшиеся в глаза идиосинкратические вкусы — все было до того старо-
модным, точно его ненароком вынесло из девятнадцатого века в двадцатый, как мореп-
лавателя — на берег чужой земли. Чувствовал ли он себя в тогдашней Германии как дома?
Сомневаюсь. Впервые оказавшись во Франции в 1913 году, совсем молодым человеком,
он через несколько дней ощущал себя на улицах Парижа «едва ли не уютней», чем на
знакомых с детства улицах Берлина. Он мог почувствовать уже тогда и несомненно по-
чувствовал двадцатью годами позже, насколько путешествие из Берлина в Париж озна-
чает перемещение во времени — не из одной страны в другую, а из двадцатого столетия
в девятнадцатое. Франция была nation par excellence2, культура которой задавала евро-
пейский уровень прошлого века и ради которой Османн перестроил Париж, «столицу
девятнадцатого столетия», как называл его Беньямин. Конечно, тогдашний Париж еще не
был космополитичным городом, но он был городом глубоко европейским, а потому —
уже по крайней мере с середины прошлого столетия — с беспримерной естественнос-
тью открытым для всех изгнанников. Этому не могли помешать ни явная ксенофобия его
обитателей, ни утонченные придирки местной полиции...
Город как таковой вознаграждал за все. Бульвары, которые Беньямин открыл для себя
еще в 1913 году, строились из домов, «возведенных, казалось, не для того, чтобы жить в
них, а словно камни — для того, чтобы между ними прогуливаться». Этот город, вдоль
которого можно через старые ворота ходить по кругу, остался именно тем, чем были
когда-то обнесенные глухими стенами и защищенные от внешнего мира города средне-
вековья: по сути, интерьером, но без тесноты средневековых улочек, — просторно заст-
роенным и хорошо распланированным интерьером на открытом воздухе с небесным
сводом как величественной крышей над головой. Однообразные фасады, которые тянутся
вдоль улиц наподобие внутренних стен квартиры, дают в Париже чувство физической
защищенности как ни в одном другом городе. А связывающие Большие бульвары и спа-
сающие от ненастья сводчатые галереи настолько зачаровали Беньямина, что свой давно
задуманный главный труд о девятнадцатом веке и его столице он чаще всего и называл
просто «Пассажами» («Passagenarbeit»). Эти пассажи были для него символом Парижа:
соединяя в себе внутреннее и внешнее, они представляли истинную природу этого горо-
да как бы в форме самой сущности. Чужак чувствует себя в Париже как дома, потому
что может здесь жить в городе, как в собственных четырех стенах. И как в квартире живут
и обустраивают ее, чтобы жить, а не просто спать, есть и работать, ровно так же и в го-
роде живут, бродя по нему без цели и смысла, но зная, что всегда найдут пристанище в
бесчисленных кафе, которые сопровождают улицу за улицей и вдоль которых течет жизнь
города — река его прохожих. Для того, что в других городах неохотно разрешают, кажет-
ся, лишь отбросам общества — глазение, безделье, фланерство, — парижские улицы
гостеприимно открыты всегда. Поэтому уже со времен Второй империи город был на-
Карл Краус (1874—1936) — австрийский поэт, драматург, острый сатирик, разносторонний эссе-
ист, влиятельнейшая фигура в публичной жизни Вены первой трети XX в.; Беньямин опубликовал о
нем в 1931 г. большое эссе.
Особая нация, нация как таковая (франц.}.
Вальтер Беньямин
179
стоящим раем для всех, кому не нужно зарабатывать на жизнь, делать карьеру, добивать-
ся своей цели, иначе говоря, раем для богемы, и не только художников и писателей, но и
для тех, кто присоединяется к ним, поскольку не может — потеряв дом или родину —
адаптироваться ни политически, ни социально. Вне этих рамок города, который обога-
тил юного Беньямина решающим жизненным опытом, мы вряд ли поймем, почему клю-
чевой фигурой им написанного стал фланер. <...>
Иным хочется думать, что те немногие, кто не искал укрытия от гроз эпохи и запла-
тил за свое одиночество сполна, по крайней мере могли видеть в себе провозвестников
новой эры. Мысль утешительная, но неверная. В эссе о Карле Краусе Беньямин задавал
себе вопрос: не стоит ли Краус «на пороге новой эры»? И отвечал: «Увы, вне всякого
сомнения, стоит. Он стоит в преддверии Страшного суда». В этом преддверии действи-
тельно находились те, кто стал потом первопроходцами «новой эры». По сути, ее заря
виделась им закатом, а история вместе с традициями, приведшими к этому заказу, пред-
ставлялась пространством руин1. Никто не выразил этого яснее, чем Беньямин в «Тези-
сах к философии истории». <...>
III. Ловец жемчуга
Передаваясь в виде традиции, прошлое обретает авторитет; предъявляя себя в каче-
стве истории, авторитет становится традицией. Вальтер Беньямин знал: выпавшие на его
время разрыв традиций и утрата авторитетов непоправимы. Поэтому, считал он, необ-
ходимо найти новые пути к прошлому. И стал первопроходцем этих путей, открыв, что
передачу прошлого заменило цитирование, а на место авторитетности встала странная
способность прошедшего частично присутствовать в настоящем, лишая его «душевно-
го покоя», бездушного спокойствия самодовольных. «Мои цитаты — вроде грабителей
с большой дороги: совершают вооруженные налеты и освобождают бездельников от
привычной убежденности». По Беньямину — примером ему тут служил Краус, — эта
новая роль цитат порождена глубочайшим разочарованием. Но разочарованием не в
прошлом, которое-де «не проливает больше свет на будущее» и обрекает человеческий
разум на «блуждания во тьме», как это было у Токвиля2, а разочарованием в настоящем
— и тягой к его разрушению. Поэтому сила цитат для Беньямина — «в их способности
не сохранить, а, наоборот, отряхнуть прах, вырвать из контекста, разрушить»... Разруши-
тельная мощь цитаты — «последняя надежда сохранить от прошлого времени хотя бы
что-то, сохранить единственным способом: вырвав силой»...
Я уже упоминала главную страсть Беньямина, собирательство. Началось это, и очень
рано, с того, что он сам окрестил «библиоманией», но вскоре выросло до феномена,
говорящего уже не столько о человеке, сколько о его трудах. Я имею в виду собирание
выписок. (Однако и книги он не переставал собирать никогда. Перед самым падением
Франции Беньямин всерьез задумал обменять недавнее собрание сочинений Кафки в
пяти томах на несколько первоизданий его ранних вещей — затея, понятная лишь биб-
лиоману.) «Внутренняя потребность иметь библиотеку» заявила о себе примерно в 1916
году, когда Беньямин в своих разработках обратился к романтизму, «последней школе,
которая еще раз спасла традицию». О том, что и в этой, столь характерной для наследни-
ков и последышей, страсти к прошлому таилась своя разрушительная сила, Беньямин
догадался много позже, потеряв веру и в традицию, и в нерушимость мира... А в те дни
он, ободренный Шолемом, еще верил, что отчуждением от традиции обязан, вероятно, У
У истоков подобного настроения стоял опять-таки Бодлер: «Мир приходит к концу. Единственный
довод в пользу его дальнейшего существования — в том, что он и так существует. Но до чего этот
довод слаб перед прямо противоположными аргументами, скажем, таким: а что, собственно, делать
миру под этими небесами?..» — Из «Дневника для самого себя». (Прим.автора, в оригинале —
цитата по-французски.)
Алексис де Токвиль (1805—1859) — французский государственный деятель и писатель, автор тру-
дов о Революции и старом порядке и об американской демократии.
180
П о ртретвзер кал ax
собственному еврейству и что путь назад для него не закрыт, как не закрыт он для его
друга, который готовился в ту пору эмигрировать в Израиль. <...>
Как раз тогда Беньямин выбрал темой своей диссертации эпоху барокко в Герма-
нии — выбор, чрезвычайно характерный для всего неясного и пока не распутанного
клубка вставших перед ним проблем. Дело в том, что для немецкой литературной и по-
этической традиции барокко, за исключением великих церковных хоралов, никогда по-
настоящему не существовало. Гёте был прав, говоря, что в его восемнадцать лет немец-
кой литературе было ровно столько же. В этом смысле точную пару беньяминовскому,
в двойном смысле барочному, выбору составляло диковинное решение Шолема прийти
к иудаизму через каббалу, то есть такую часть еврейской словесности, которая не пере-
давалась и принципиально непередаваема в рамках установленной еврейской традиции,
поскольку всегда имела для нее явный привкус незаконного. Совершенно ясно — по
крайней мере сейчас, — что выбор подобных предметов исследования вовсе не был
«возвращением» к традиции, будь она немецкой, европейской или иудаистской. За ним
стояло молчаливое допущение, будто на самом деле прошлое говорит только через то,
что не передается из поколения в поколение и чья видимая близость к настоящему связа-
на как раз с его экзотичностью. Любые апелляции к обязательным авторитетам исклю-
чены. На место непреложных истин встают предметы, чем-то значимые или интересные,
а это значит — и никто не чувствовал этого острее, чем Беньямин, — что «преемствен-
ность истины... утрачена»...
Образец двойственности по отношению к прошлому Беньямин дает, вникая в по-
глощавшую его самого страсть собирателя. Мотивы коллекционерства многоразличны
и не всегда легко постижимы. Как заметил (вероятно, первым) Беньямин, собиратель-
ство — страсть детей, для которых вещи еще не товар и оцениваются независимо от по-
лезности, и любимое развлечение богатых, которые имеют вполне достаточно, чтобы не
нуждаться ни в чем полезном, почему и могут позволить себе роскошь — сделать «пре-
ображение вещей» занятием в жизни. А для этого они должны видеть во всем прекрас-
ное, что требует «незаинтересованного созерцания» (по Канту). Так или иначе, коллек-
ционная вещь обладает только любительской, но ни в коем случае не потребительской
ценностью... Коллекционирование — это искупление вещей и, стало быть, искупление
людей. Даже в чтении книг для настоящего библиофила есть что-то подозрительное. «И
вы все это читали?» — передает Анатоль Франс вопрос гостя, пораженного его библио-
текой. «И десятой части не прочел. Но, думаю, вы тоже не каждый день пользуетесь сво-
им севрским фарфором?» (из эссе Беньямина «Распаковывая библиотеку»). Отсюда и
фетишистский характер, который Беньямин явно придает собираемым вещам. Для кол-
лекционера, как и для работающего на него рынка, решающей становится ценность под-
линности: она замещает «культ ценности», выступая его секуляризованной формой.
В этих, как и многих других, соображениях Беньямина есть какой-то простодушный
блеск... Перед нами поразительные примеры фланирования его собственной мысли, ра-
боты его ума, когда мыслящий, на манер городского фланера, попросту вверяется себе,
отпуская интеллект на ознакомительную прогулку. И как блуждания среди сокровищ про-
шлого составляют роскошную привилегию получившего наследство, так и «коллекцио-
нерский взгляд на мир — это, в высшем смысле слова, взгляд наследника» («Распаковы-
вая библиотеку»): обладая вещами — а «владение дает самую глубокую связь с вещами
из всех возможных», — он переносится в прошлое, чтобы, не отвлекаясь на настоящее,
добиться «возрождения прошедшего». Поскольку же это «глубочайшее влечение» соби-
рателя не имеет ни малейшего общественного смысла, а выражается лишь в чисто при-
ватных любительских утехах, то и «все сказанное с точки зрения настоящего коллекционера»
обречено выглядеть «чудачеством»... Впрочем, при ближайшем рассмотрении в этом чуда-
честве проглядывают примечательные и далеко не безобидные черты. Укажу одну: сам.этот
— характерный для эпох общественного помрачения — шаг, когда собиратель не просто
укрывается от публичности в приватность четырех домашних стен, но и забирает с собой
ради их украшения бесчисленные сокровища, бывшие прежде достоянием общества...
Вальтер Беньямин
181
Так наследник и сберегатель неожиданно превращается в разрушителя. «Истинная
и глубочайшим образом непонятая страсть коллекционера всегда анархична и разруши-
тельна. Соединять с приверженностью к вещам, индивидуальным образчикам, заботли-
во выстроенным на полках предметам упорный и сокрушительный протест против все-
го типичного, всего упорядоченного — вот его диалектика» («Хвала кукле», 1930). Со-
биратель разрушает контекст, в котором его образец составлял лишь часть гораздо боль-
шего и живого целого, а поскольку он ценит только подлинное, то непременно стирает с
избранной вещи любые знаки типичного. Фигура коллекционера, столь же старомод-
ная, как и фланера, может приобрести у Беньямина такие современные черты лишь
потому, что сама новейшая история —тот разрыв традиции, который пришелся на нача-
ло века, — уже избавила его от задачи разрушать, и ему теперь нужно лишь наклониться
и выбрать драгоценные останки из «груды осколков». Скажу иначе: вещи сегодня сами
поворачиваются — особенно к человеку, мужественно не закрывающему глаза на окру-
жающее, — теми сторонами, которые прежде открывались только чудаковатому взгляду
коллекционера. <...>
Начиная с эссе о Гёте, цитаты — сердцевина любого беньяминовского сочинения.
Сам этот факт отделяет им написанное от каких бы то ни было научных текстов: там зада-
ча цитаты — подтверждать и документировать высказанный тезис, почему она спокой-
но может быть перенесена в примечания. У Беньямина — совсем другое. Трудясь над
исследованием немецкой трагедии, он хвастался своей коллекцией из «более чем шести-
сот совершенно систематично и ясно выстроенных цитат». Как и позднейшие записные
книжки, эта коллекция была не сборником выдержек, цель которой — облегчить написа-
ние работы; нет, она и составляла работу, текст был уже делом вторичным. Работать
значило для Беньямина извлекать фрагменты из их первоначального контекста и выстра-
ивать заново так, чтобы они сами иллюстрировали друг друга и были способны отстоять
свое право на существование именно в таком, свободно плавающем виде. В конце кон-
цов, перед нами своеобразный сюрреалистский монтаж. Беньяминовский идеал произ-
ведения, состоящего из одних цитат и выстроенного настолько мастерски, что оно спо-
собно обойтись безо всякого сопроводительного текста, может кого-то поразить, до того
оно чудаковато в своей крайности и к тому же саморазрушительности. Но и того и дру-
гого в нем не больше, чем в тогдашних сюрреалистских экспериментах, питавшихся из
тех же источников. В той мере, в какой сопроводительный текст автора оказывается все
же необходим, важно сохранить верность исходной «цели подобных разработок» —
«проникать в глубины языка и мысли... бурением, а не рытьем», то есть не разрушая
исследуемого объяснениями, которые-де должны обеспечить причинную или систем-
ную связь. Главным для Беньямина было уйти ото всего сколько-нибудь напоминающе-
го сопереживание, для которого данный предмет исследования уже заранее содержит
готовый смысл, а тот сам по себе передается либо может быть передан читателю или
зрителю: «Ни одно стихотворение не предназначено читателю, ни одна картина —
зрителю, ни одна симфония — слушателю»1 («Задача переводчика». — Курсив Б. Д.).
Эта достаточно рано сформулированная мысль может быть эпиграфом ко всем
литературно-критическим работам Беньямина. Ошибется тот, кто увидит в ней еще одну
дадаистскую пощечину публике... Беньяминовский метод — что-то наподобие совре-
менного варианта ритуальных заклинаний. Вызываемый им сегодня дух — это духовная
сущность прошлого, которое претерпело шекспировское «преображенье морем», так
что живые глаза отца обратились в жемчужины, а его живые кости — в кораллы1 2. Цити-
ровать для Беньямина значит именовать, и для него истину на свет дня выводит скорее
имя, чем речь, скорее слово, чем предложение. Судя по предисловию к «Происхожде-
нию немецкой трагедии», Беньямин рассматривал истину как слуховой феномен: отцом
философии был для него даритель имен «Адам, но не Платон». А потому и традиция
1 Здесь и далее это эссе цитируется в переводе Е. Павлова.
2 Цитата из песенки Ариэля в «Буре» Шекспира (I, 2).
182
Портрет в зеркалах
была для Беньямина формой, в кото-
рой это имясловие изустно передава-
лось, — феноменом опять-таки по
сути акустическим. Он потому и чув-
ствовал такое родство с Кафкой, что
Кафка, вопреки расхожим интерпрета-
циям, не обладал «дальнозорким или
пророческим видением», а прислуши-
вался к традиции; тот же, «кто вслуши-
вается, не видит» (Книга Макса Брода
о Кафке). <...>
Проблема истины с самого нача-
ла представлялась Беньямину «откро-
вением... которое должно быть услы-
шано, иными словами, относится к
сфере метафизического слуха». По-
этому язык для него есть в первую
очередь не дар речи, отличающей че-
ловека от прочих существ, а,’напро-
тив, «сущность мира... из которой воз-
никает сама речь». Это «язык истины,
который в тишине и спокойствии хра-
нит все высшие тайны, над чьим рас-
крытием бьется человеческая мысль»
(«Задача переводчика»), и это именно
тот «истинный язык», который мы не-
вольно подразумеваем, переводя с
одного языка на другой1. Вот почему
Беньямин помещает в центр своего
Вальтер Беньямин, 1917
эссе о переводе поразительную цитату из Малларме, где разговорные языки со всем их
многообразием и многоразличием, этим вавилонским смешением, заглушают immortelle
parole1 2, недоступное даже мысли, поскольку «мыслить значит писать без письменного
прибора и легчайшего шепота, молча». Какому бы теоретическому пересмотру ни под-
вергал потом Беньямин эти теологически-метафизические допущения, основной, реша-
ющий для всей его литературной критики подход оставался тем же: исследовать не по-
лезные или коммуникативные функции языка, а понять высказывания в их кристаллизо-
ванной, а потому неизбежно фрагментарной форме как бесцельные и безадресные про-
явления «сущности мира». Что это может значить еще, если не то, что под языком здесь
разумеется феномен по сути поэтический? В наследии Беньямина перед нами открыва-
ется, может быть, и не уникальный, но исключительно редкий дар поэтической мысли...
Перевод с английского БОРИСА ДУБИНА
1 Об эссе Беньямина «Задача переводчика» (1923) и его взглядах на перевод см. ниже у М. Бланшб.
2 Бессмертное слово (франц.) — из эссе Малларме «Кризис стиха» (1897).
Вальтер Беньямин
183
МОРИС БЛАНШО
О переводе
Осознаем ли мы, скольким обязаны переводчикам, а еще больше — переводу? Не
уверен. Но даже когда мы благодарим людей, отважно не отступивших перед загадкой,
которую представляет собой задача перевода, когда мы издали приветствуем их как неза-
метных мастеров нашей культуры, следуя за ними и подчиняясь их усердию, наша при-
знательность остается неслышной, даже чуть высокомерной и вместе с тем заискиваю-
щей, поскольку мы никогда не дотягиваем до того, чтобы воздать им подлинной призна-
тельностью. Позвольте мне позаимствовать из переведенного недавно (наряду с други-
ми) прекрасного эссе Вальтера Беньямина, где он, великолепный эссеист, говорит о задаче
переводчика1, несколько замечаний об этой форме литературной деятельности, форме
совершенно оригинальной, и если мы все еще продолжаем — с основанием или нет —
говорить, что среди нас есть поэты, существуют романисты, а стало быть, и критики, то
следует назвать в этом ряду и переводчиков, писателей самой редкой разновидности,
сравнить которых воистину не с кем.
Напомню, что перевод долгое время казался в некоторых культурах действием вре-
доносным. Одни не хотят, чтобы переводили на их язык, другие—чтобы переводили с их
языка, и нужна война, чтобы свершилось это, в точном смысле слова, предательство:
выдача подлинного языка народа чужим. (Вспомним отчаянный вопль Этеокла: «Не
отрывайте от родной земли, не делайте вражеской добычей город, где говорят на
подлинном греческом наречии»2.) Но переводчик с неизбежностью повинен и в куда боль-
шем кощунстве: противник самого Бога, он намеревается воссоздать Вавилонскую баш-
ню, иронически извлечь пользу и выгоду из наказания свыше, которое разделило людей,
смешав их языки. Когда-то даже верили в возможность подняться к истокам первоздан-
ного языка, верховного слова, владеть которым достаточно, чтобы говорить правду. У
Беньямина сохраняется что-то от этой мечты. Языки, замечает он, соотносятся с одной
реальностью, но выражают ее разными способами. Говоря «Brot» и говоря «хлеб», я
адресуюсь к одному и тому же, но выражаюсь по-разному. Любой язык несовершенен.
В переводе я не ограничиваюсь заменой одного способа другим, одного пути — другим
путем, а отсылаю к высшему языку: в нем — гармония или взаимодополняющее един-
ство всех, самых разных способов адресации, и он непогрешимо выражает таинствен-
ную связь, примиряющую все языки, на которых говорят все книги. Отсюда — мессиа-
низм, свойственный каждому переводчику, если он своей работой помогает родному
языку подняться до этого предельного наречия, свидетельством которому — любой из
уже существующих языков, поскольку в нем скрыто будущее, а за него и борется пере-
вод.
1 Бланшо отсылает к изданию: Walter Benjamin. Oeuvres choisis. Trad, de M. de Gandillac. Paris, 1959.
На русском языке эссе Беньямина «Задача переводчика» — предисловие к его переводу «Парижс-
ких картин» Бодлера — опубликовано в журнале «Комментарии» (1997, № 17).
Этеокл — герой греческой мифологии, сын Эдипа и Ио касты, защищал родные Фивы от военного
нашествия собственного брата Полиника; цитируется трагедия Эсхила «Семеро против Фив».
МОРИС БЛАНШО (MAURICE BLANCHOT, род. в 1907 г.) — французский писатель, мыслитель-
эссеист. Автор романов «AMHHaAaB»(«Aminadab», 1942), «Безумие дня» («La folie du jour», 1973),
работ о словесности XVIII—XX вв., составивших сборники «Пространство литературы» («L’espace
littdraire», 1955), «Предстоящая книга» («Le livre & venir», 1959), «Бесконечное собеседование»
(«L’entretien infini», 1969), «Письмена краха» («L’dcriture du desastre», 1980). В русских переводах
публиковалась повесть Бланшо «Отсроченный приговор» («L’arrSt de mort», 1948; «ИЛ», 1993, №
10, под заглавием «При смерти»), отдельные эссе появлялись в «ИЛ» (1995, № 1; 1997, № 4) и другой
периодике.
Публикуемое эссе первоначально печаталось в журнале «Нувель ревю франсэз» (1960, № 93), а затем
вошло в книгу Бланшо «Дружба» («L’amitid», 1971); здесь переведено по журнальной публикации.
184
Портрет в зеркалах
На вид перед нами утопическая игра идей. Предполагается, что у каждого языка —
единственный способ соотноситься с реальностью и всегда один и тот же способ ее обо-
значать, а потому эти способы дополняют друг друга. Но у Беньямина, по-моему, речь
о другом. Любой переводчик живет различием языков, любой перевод основывается на
этом различии, вместе с тем преследуя как будто бы несовместимую с ним цель — это
различие устранить. (Хорошо переведенную вещь за два эти взаимоисключающие дос-
тоинства и хвалят: либо говорят, что в ней нет ничего от перевода, либо видят в ней чуть
ли не сам подлинник, его чудесное подобие; в первом случае ради нового языка скрыва-
ют рождение вещи, во втором — ради самой вещи скрывают разнородность обоих язы-
ков; и в том и в другом случае нечто существенное теряется.) Но, говоря правду, перевод
никогда не ставит целью устранить различие. Напротив, он играет на нем: постоянно на
него намекает, скрывает его, хотя порой обнажая, а нередко и подчеркивая; он — само
воплощение этого различия, он видит в нем свой высший долг, но и свой непобедимый
соблазн, когда горделиво сближает два языка силой воссоединения, ему неотъемлемо
присущей и напоминающей о Геракле, который сводит в одно морские берега.
Больше того. Каковы бы ни были возраст и достоинство произведения, оно может
быть переведено, только если открыто несет в себе это различие, то ли с самого начала
отсылая к другому языку, то ли на особый манер соединяя в себе способности быть иным,
отличаться от себя, которыми обладает каждый живой язык. Оригинал не застывает ни
на минуту, и все, что в данном языке на данный момент принадлежит будущему, все, что
в нем говорит или напоминает о другом, порой даже угрожающе другом состоянии, —
все это разворачивается в торжественном дрейфе литературного наследия. Перевод не-
разрывно связан с этим становлением, его он и «переводит», его воплощает, он невоз-
можен вне этого хода, вне этой жизни, которая его подхватывает и влечет, порой — что-
бы высвободить во всей чистоте, а порой — чтобы всей тяжестью закабалить. Что до
классических шедевров, принадлежащих языкам, на которых уже не говорят, то они имен-
но потому и взывают к переводу, что остались теперь единственными хранилищами жизни
мертвого языка, единственными ответчиками за будущее этих языков без будущего. Они
живы, только если переведены; больше того, они и в родном языке живут так, словно все
время переводят и продлевают главную свою особенность — изначальную чужеродность.
Переводчик — это писатель неповторимой оригинальности, причем именно в том,
в чем, казалось бы, на нее и не претендует. Он — тайный властелин языковых различий.
Но задача его — не стереть их, а использовать, чтобы резкими или тончайшими сдвига-
ми создать в родном языке присутствие того, что, в его изначальном отличии, нес ориги-
нал. Сходство здесь, справедливо замечает Беньямин, совершенно ни при чем: когда хо-
тят, чтобы переводная вещь походила на оригинальную, литературный перевод невоз-
можен (точно так же романная реальность не отражает внероманную). Речь скорее о
тождестве, которое начинается с инакости; речь об одном произведении, существующем
на двух разных языках именно в силу их различия, что обнажает разрыв, делающий про-
изведение неравным себе, всегда другим, — речь о сдвиге, из которого и необходимо
извлечь свет, чтобы напоить им прозрачный, открытый иному перевод.
Да, переводчик — везде чужак, он живет ностальгией, переживая как изъян и про-
бел своего языка все, что иноязычный оригинал (которого ему никогда полностью не
достичь, ведь он же в нем — только гость, вечный приглашенный, а не коренной житель)
незамедлительно и твердо ему обещает. Отсюда— засвидетельствованный специалиста-
ми факт, что переводчику при переводе скорее не по себе в привычном родном наре-
чии, чем тяжело с другим, по-прежнему чуждым. Не то чтобы он видел только то, чего
недостает, скажем, его родному французскому языку, и думал ввести в него вот этот
иноязычный, затмевающий отечественные образцы текст. Нет, он с самого начала владе-
ет французским на свой особый, отрицательный и этой отрицательностью богатый ма-
нер, так что уравновесить нехватку он может только за счет ресурсов другого языка,
который и сам становится другим в данном, единственном произведении, где на миг
собирается весь целиком.
Вальтер Беньямин
185
Беньямин ссылается на поразительное место из теории Рудольфа Панвица1: «Наши
переводы, даже самые лучшие, исходят из неверной посылки: намереваются онемечить
санскрит, греческий, английский вместо того, чтобы санскритизировать, эллинизировать,
англизировать немецкий. Они куда больше уважают словоупотребление родного языка,
нежели дух иноязычного произведения... Основополагающая ошибка переводчика —
увековечивать состояние, в котором он по случайности застал собственный язык, вмес-
то того чтобы отдаться властному импульсу чужого наречия». Угрожающе привлека-
тельное предложение или требование. Подразумевается, что у каждого языка есть воз-
можность стать всеми другими или, по крайней мере, без малейшего для себя ущерба
двигаться в самых разных новых направлениях; имеется в виду, что переводчик найдет
достаточно ресурсов в переводимом тексте и обладает достаточным весом сам по себе,
чтобы вызвать этот решительный перелом; и, наконец, имеется в виду перевод настоль-
ко свободный и настолько новаторский, чтобы оказаться способным на превосходящую
любые возможности родной литературы лексическую и синтаксическую дословность, а
это, если довести мысль до конца, делает сам перевод фактически излишним.
Остается добавить, что для поддержки своих взглядов Панвиц может заручиться та-
кими звонкими именами, как Лютер, Фосс1 2, Гёльдерлин, Георге, которые, переводя, вся-
кий раз без колебаний ломали рамки немецкого языка, чтобы раздвинуть его границы.
Пример Гёльдерлина и в самом деле показывает, какая опасность в конечном счете уг-
рожает человеку, завороженному могуществом перевода. Переложения Софокловых
«Антигоны» и «Эдипа» остались едва ли не последними его трудами на грани поворота
к безумию — работами, до предела продуманными, укрощенными и свободными, с
непоколебимой твердостью подчиненными одному замыслу — не перенести греческий
текст в лоно немецкого языка, не обратить немецкий язык к греческим истокам, но вос-
соединить две силы, одна из которых представляет изменчивость Запада, а другая —
превратности Востока, в простоте единого, цельного и чистого языка. Результат был почти
ужасным. Оказалось, между двумя этими языками обнаружено такое глубокое согла-
сие, такая изначальная гармония, что она замещает собой смысл или, другими словами,
ей удается превратить зазор, разверстый между ними двумя, в источник нового смысла.
Эффект был настолько силен, что ледяному смеху Гёте по этому поводу даже не удивля-
ешься. Над кем, собственно, смеялся Гёте? Над человеком, который перестал уже быть
и поэтом, и переводчиком, а безрассудно устремился к тому центру, где думает найти
собранной в одну точку такую чистую возможность сопряжения всего, которая способ-
на сама по себе порождать смысл помимо любого установленного и ограниченного
смысла. То, что подобное искушение явилось Гёльдерлину в образе перевода, понятно:
к чистой возможности сопрягать все со всем, которой живо как любое практическое
действие, так и любой язык, переводчик — как никто другой — находится в непрерыв-
ной, опасной и восхитительной близости. Именно этой неразлучности он и обязан сво-
ими правами самого гордого и самого незаметного из писателей, ни на минуту не рас-
стающегося с убеждением, что перевод — это в конечном счете безумие.
Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА
1 Рудольф Панвиц (1881—1969) — немецкий поэт, эссеист, автор трудов по философии культуры,
учился у Георга Зиммеля, входил в позднесимволистский кружок Стефана Георге. Беньямин цити-
рует его работу «Кризис европейской культуры» (1914).
2 Иоганн Генрих Фосс (1751—1826) — немецкий поэт-идиллик, переводчик Гомера.
186 Портрет в зеркалах
ГЕРШОМ ШОЛЕМ
Вальтер Беньямин и его ангел
Самой удивительной чертой Беньямина было сочетание редкой проникновенности
мысли, дара ее диалектической остроты со склонностью к фантастическим теориям... На
подобную двунаправленность беньяминовского мышления, в котором мистическая
интуиция и рациональный взгляд часто лишь внешне связываются диалектикой, я уже
указывал и теперь хочу предложить вам еще один поразительный образец этого.
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН
Агесилаус Сантандер
Когда я родился, родителям пришло в голову, что я могу стать писателем. И
хорошо, если бы каждому сразу не бросалось в глаза, что я еврей. Поэтому они дали
мне, кроме основного, два других причудливых имени: так я себя ничем не выдам. Боль-
шей предусмотрительности от супружеской четы сорок лет назад трудно было ожи-
дать. То, что они посчитали возможным, произошло на самом деле. Только вот пре-
досторожностями, которыми они хотели встретить судьбу, тот, кого эти предос-
торожности касались, пренебрег. Вместо того чтобы со своими сочинениями пре-
дать огласке и эти причудливые имена, он поступил с ними так, как евреи со вторым
именем своих детей, хранящимся в тайне. Это имя им открывают только в день со-
вершеннолетия. Но поскольку мужают за жизнь не один раз, то, наверно, и тайное
имя остается прежним, неизменным только у благочестивого, а тому, кто не благо-
честив, с новым возмужанием может вдруг открыться иное, измененное имя. Как мне.
Однако способность подобного имени накрепко связывать между собой жизненные
силы ничуть не меньше, и его нужно ровно так же оберегать от непосвященных.
Но оно ничего не придает тому, кого именует. Напротив, стоит имени прозву-
чать, и от образа того, кто им назван, многое отпадает. Прежде всего он утрачива-
ет свой дар являться в виде человека. Так в берлинской комнате, где я жил, тот, кто
не успел явиться из моего имени во всем своем снаряжении на свет дня, прикрепил к
стене свое изображение: Новый Ангел. Каббала рассказывает, что Господь каждый
миг творит сонмы новых ангелов, предназначение каждого из которых — одно мгно-
вение петь хвалу Господу перед его престолом, чтобы потом раствориться в Ничто.
Новый Ангел и выдал себя за такого, прежде чем пожелал назваться. И теперь я опа-
саюсь, что неподобающе долго лишал его возможности петь. Впрочем, он мне отпла-
тил: воспользовавшись тем, что я пришел в мир под знаком Сатурна, светила медли-
тельного в обращении, планеты околичностей и отсрочек, он — и притом по самому
кружному и гибельному пути — послал вдогонку мужскому образу на картине свое
женское обличие, хотя оба они, пусть и не ведая друг о друге, были однажды в тес-
нейшем внутреннем родстве.
ГЕРШОМ (ГЕРХАРДТ) ШОЛЕМ (GERSCHOM /GERHARDT/ SCHOLEM, 1897—1982) — еврейский
мыслитель и религиозный писатель, выходец из Германии, с 1923-го жил в Палестине. Крупнейший
исследователь мистической философии иудаизма, автор книг «О каббале и ее символах» («Zur Kabbala
und ihrer Symbolik», 1960), «Основные течения еврейской мистики» («Der judische Mystik in ihren
HauptstrOmungen», 1967). Близкий друг В.Беньямина, его многолетний корреспондент, публикатор
— вместе с Т. Адорно — его писем (1966), оставил о нем ряд работ и содержательные мемуары «Вальтер
Беньямин. История дружбы» («Walter Benjamin. Die Geschichte einer Freundschaft», 1975).
Данный очерк, представляющий собой подробный комментарий Шолема к двум публикуемым им
архивным вариантам важного беньяминовского текста, в сокращении переведен по вышедшему к 80-
летию Беньямина коллективному сборнику «Об актуальности Вальтера Беньямина» («Zur Aktualitat
Walter Benjamins». Frankfurt a.M., 1972).
© H.Зоркая. Перевод, 1997.
Вальтер Беньямин
187
Видимо, он не знал, что человек, кото-,
рого он хотел сразить, мог при этом, на-
оборот, показать себя с самой сильной
стороны — в своем умении ждать. Стол-
кнувшись с пленившей его женщиной, этот
мужчина внезапно решил затаиться на ее
жизненном пути и дождаться, пока она—
больная, постаревшая, в изношенных
одеждах — сама не упадет ему в объятия.
Коротко говоря, ничто не могло истощить
терпение мужа. И крылья этого терпения
походили на крылья ангела: всего несколь-
ких взмахов их хватало, чтобы долго ос-
таваться неколебимым перед лицом того,
с кем решил больше не расставаться. Но
ангел похож на все, с чем я вынужден был
проститься: на людей и особенно на вещи.
В вещах, которых у меня больше нет, оби-
тает он. Он делает их прозрачными, и за
каждой мне видится тот, кому она пред-
назначалась. Поэтому никому не превзой- Паупь <Ангелус Новусн 1920
тименя в готовности дарить. Да, может
быть, ангела и привлек именно такой даритель, который сам себя опустошает. Ведь
он, имеющий когти и острые, как нож, крылья, не замышляет обрушиться на того,
кто увидел. Он пристально вглядывается в него — долго смотрит, а потом порыви-
сто, но непреклонно, шаг за шагом отступает назад. Зачем? Чтобы увлечь его за со-
бой, на тот путь в будущее, по которому он пришел сюда и который знает так хоро-
шо, что вымеривает его, не оборачиваясь и не упуская из виду своего избранника. Он
хочет счастья: противоборства, в котором — восторг неповторимого, нового, еще
не прожитого и вместе с тем блаженство повторения, обретенного вновь, прожи-
того еще раз. Потому что надежда встретить новое ждет его лишь на одном пути
— при возвращении домой, если он ведет с собой нового человека. Так и я, едва увидев
тебя впервые, отправился с тобою в обратный путь, туда, откуда пришел.
Ивиса, 13 августа 1933 г.
Прежде чем взяться за объяснение этого в высшей степени герметичного текста,
нужно сказать несколько слов о центральном для него образе — картине «Angelus Novus»
Пауля Клее. <...> Беньямин приобрел ее в Мюнхене, во время приезда ко мне в конце мая
— начале июня 1921 года. Он принес мне картину с просьбой сохранить ее, пока он сно-
ва не найдет в Берлине, где у него начались тогда большие личные осложнения, новое
постоянное место жительства. <...>
Картина тут же заворожила Беньямина и на протяжении почти двадцати лет играла
в его жизни глубокую роль как образ для размышлений и как напоминание о духовном
предназначении. <...>
Конечно, ангел, которого вызвал на своей картине Клее, загадочен, хотя и совсем
по-иному, чем ангел «Дуинских элегий» или других стихотворений Рильке, совершенно
лишенный иудаистских элементов — каких бы то ни было черт посланца, несущего весть.
На иврите слово «ангел» тождественно слову «посланец» (mal’ach). Вечные ангелы —
Архангел или падший Ангел иудейской и христианской традиции, Сатана, — были для
Беньямина как тема, видимо, менее важны, чем почерпнутый из Талмуда мотив появле-
1 Приводим здесь второй, расширенный и окончательный вариант текста (первый написан днем
раньше); Ивиса (Ibiza) — испанский островок близ Мальорки, где Беньямин сразу после эмиграции
в Париж прожил с апреля по сентябрь 1933 г. (до этого он жил здесь с апреля по июль 1932-го).
188
Портрет в зеркалах
ния и исчезновения ангелов перед Богом; в одной из каббалистических книг говорится,
что они «исчезают подобно искрам среди тлеющих углей». С этим у Беньямина соеди-
нился другой образ из еврейской традиции — образ личного ангела каждого человека,
который представляет его скрытое «я» и чье имя остается для подопечного тайным. В
ангельском обличии, но отчасти и в форме своего тайного имени, небесное «я» челове-
ка (как и любой твари) вплетено в полог, висящий перед Господним престолом. Этот ангел
может в ст}7 пить в противоречие и даже в прямое противостояние с тем земным суще-
ством, которому он придан, как это и отражено у Беньямина в «Агесилаусе Сантанде-
ре».
Однако демонический элемент проник в размышления Беньямина над картиной Клее
не напрямую из иудейской традиции, а из его завороженных и многолетних занятий Бод-
лером. Люциферическая составляющая красоты всего сатанинского, которая и занима-
ла Беньямина, нередко выходит в бодлеровских сочинениях и набросках на первый план1...
И все же мотив вести, которую приносит ангел, не исчез. Однако смысл этого моти-
ва явно менялся вместе с представлениями Беньямина. Несет ли ангел известие свыше?
И какое? Известие о «я» смотрящего и о его судьбе? Или известие о том, что происходит
в мире истории, как это представилось Беньямину позже, когда он увидел в Angelas Novus
ангела истории ?
<...> Беньямин отталкивается от выдумки, будто отец и мать дали ему при рожде-
нии, кроме имени Вальтер, два других, совершенно необычных имени, чтобы он мог
использовать их при случае как литературный псевдоним и в нем тут же не опознали
еврея, как неминуемо случилось бы, пользуйся он именем «Вальтер Беньямин». Разу-
меется, этим родители, и куда сильней, чем могли предвидеть, предрешили — пусть только
в воображении Беньямина — его связь с ангелом. Ведь что скрывается за этим загадоч-
ным именем спартанского царя Агесилая и североиспанского города Сантандер? Не что
иное, как многозначная анаграмма Der Angelas Satan as1 2 3.
Беньямин, издававший свои сочинения под гражданским именем, не воспользовал-
ся, по его словам, данным ему родителями причудливым именем и «поступил с ним так,
как евреи со вторым именем своих детей», которое хранится в тайне и сообщается им
только по достижении совершеннолетия. Это намек на древнееврейское имя, которое
каждый мальчик получает у евреев при обрезании и которое употребляется вместо обы-
денного имени в религиозных документах и во время службы в синагоге. «Тайное» это
имя только в том смысле, что у ассимилированных евреев оно вряд ли используется, даже
если их дети после наступления тринадцати лет, став по еврейскому закону совершенно-
летними, впервые выкликаются под этим именем при чтении Торы в синагоге (такой обряд
называется Бар-Мицва). Это «совершеннолетие» или «возмужание» означает для еврея
всего лишь то, что с этих пор он обязан под свою ответственность соблюдать предписа-
ния Торы и входит теперь в число тех как минимум десяти «возмужавших» участников,
которые требуются для проведения общей молитвы. Да и отец совершеннолетнего про-
износит по этому праздничному случаю такое, по меньшей мере, странное в своей су-
хости благословение: «Хвала Господу, который избавил меня от ответственности за это-
го» (sic!). Беньямин переносит эти представления в сферу мистического. Возмужание,
для еврейской традиции связанное с сексом достаточно отдаленно, переносится им на
пробуждение любви, которое в жизни может происходить не раз, то есть с каждой новой
реальной любовью. Для благочестивого, то есть законопослушного еврея его «тайное
имя» остается неизменным на всю жизнь, вероятно, потому, что за пределами освящен-
ного законом брака он не знает нового сексуального влечения к другим женщинам.
Напротив, тому, кто, как Вальтер Беньямин, не причисляет себя к благочестивым, пере-
1 Ср. в дневниках Бодлера: «...идеальный тип мужской красоты для меня — мильтоновский Сатана»,
2 Имеются в виду «Тезисы к философии истории» (см. о них выше, в эссе Ханны Арендт).
3 Ангел Сатаны {нем.}. Шолем ссылается здесь на Мидраш и на Новый Завет: «Й чтобы я не превозно-
сился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня...» (Вто-
рое послание к Коринфянам 12, 7).
Вальтер Беньямин
189
мена имени может вдруг разом открыться с Новым возмужанием, то есть с новой любо-
вью. «Как мне», — пишет Беньямин, которому с новой страстной любовью вместо име-
ни Agesilaus, будто бы данного родителями, открылось новое имя, кроющееся в старом
как анаграмма... Но и в новом — преображенном прежнем — имени сохраняется его
магический характер. Имя Der Angelus Satanas накрепко связывает ангельские и демо-
нические жизненные силы, более того (как в первой версии текста) — даже заклинает их.
Как любое по-настоящему тайное, магическое имя, его нельзя доверить или открыть
профану. Неудивительно, что Беньямин выдает его измененным и в этом наброске...
Дальше Беньямин переходит к Ангелу и его связи со своим — разумеется, тайным
— именем. Для Беньямина это имя, как ясно сказано в первой редакции наброска, не
обогащает того, кто его носит. Тут человеческая природа Беньямина внезапно превра-
щается в непостижимо глубоко, магически связанную с ним ангельски-люциферичес-
кую натуру Ангела на картине Пауля Клее. В первой редакции об имени Агесилаус Сан-
тандер недвусмысленно сказано, что новое имя, открывшееся в нем в новой жизненной
ситуации, многого лишило Беньямина, но прежде всего — дара упорства, который по-
зволял ему казаться «совсем прежним». В чем-то он потерял равенство самому себе. В
окончательной же версии речь заходит об образе нового имени, который ему открылся.
Все, что говорится здесь об этом образе, нужно соотносить с картиной Клее. Картина
называется «Angelus Novus», а это значит, что подлинное имя ангела — то, которое ан-
гел, в беньяминовском смысле, должен был бы носить, — уже «прозвучало», и тем са-
мым от его носителя многое «отпадает». Если в первой редакции тайное имя Беньямина
отнимало у него дар быть самим собой, выглядеть «совсем прежним», то, по оконча-
тельной версии, образ этого имени, Ангел-Люцифер, отнимает у его ангельского носи-
теля дар являться в человеческом виде. Беньямин переносит в свой текст старую тради-
цию ангелологии, по которой ангел человека хранит его чистый, изначальный облик, ста-
новясь поэтому человекоподобным. Дальше идет речь о превращении имени Agesilaus
Santander, «старого имени» (как сказано в первой версии), в новое: оно — благодаря
перестановке букв — является на свет «во всем своем снаряжении». Для Беньямина имя
проецируется на картину, а не картина, как обычно бывает, приблизительно описывает-
ся именем. Но картина называется не «Der Angelus Satanas», хотя на самом деле это она
и есть, а по-другому: «Angelus Novus». То, что имя это не было, в беньяминовском
смысле, подлинным, полностью проясняется во второй редакции текста. Ведь «прежде
чем он пожелал назваться», ангел «выдал себя за нового», одного из тех, чья единствен-
ная роль — пропеть гимн перед Господним престолом. Он не назвал себя на картине в
комнате Беньямина, но Беньямин знал, с кем имеет дело. <...>
Дальнейшее понятно, только если учитывать ситуацию, в которой, как это представ-
ляется здесь Беньямину, новое имя вместе с новым возмужанием вышло на свет из ста-
рого и поселилось на картине Пауля Клее в его комнате. Брак Беньямина, при всех других
его любовных переживаниях и вопреки прочим сложностям остававшийся с 1917 года
до апреля 1921-го невредимым, весной 1921 года оказался в разрушительном кризисе,
имевшем для жизни Беньямина роковые последствия. После новой встречи он страстно
увлекся молодой художницей, сестрой друга своей молодости, Юлой Кон1. Любовь ос-
талась безответной, однако долгие годы она была как бы неназванным средоточием его
жизни. Когда Беньямин приобрел картину Клее, он как раз находился в плену этой люб-
ви, благодаря которой, как представлено в набросках, ему — через посредство картины
Клее — открылось его новое имя.
Беньямин родился под знаком Сатурна, о чем он, насколько мне известно, напря-
мую говорит только здесь. Зная это, Ангел, которому понятия астрологической характе-
рологии были знакомы не хуже, чем автору «Происхождения немецкой трагедии», при-
рожденному меланхолику, мог отплатить оторвавшему его от исполнения небесных обя-
занностей — от гимна. Явившись Беньямину в облике мужчины на картине Пауля Клее,
1 Юла Кон (1894—1981) — немецкий скульптор.
190
Портретвзеркалах
он, чтобы свести с Беньямином счеты, послал ему вдогонку свой женский облик в зем-
ном воплощении любимой женщины. И послал, разумеется, не прямо, как исполнение
большой любви, а «по самому кружному и гибельному пути», что намекает на тяжелей-
шее и ставшее роковым для Беньямина стечение обстоятельств, в которое завела его так
и не сбывшаяся, по сути, связь...
В терпеливом выжидании — одном из достоинств Беньямина, для которого харак-
терны сатурнические черты нерешительности, неповоротливости, медлительности, —
заключается, как он говорит, его сильная сторона. Ангел — ив этом он истинный Люци-
фер — хотел уничтожить Беньямина своим «женским обличием» и любовью; в первой
редакции говорится — «побороть», во второй сказано, что ангел хотел его таким обра-
зом «сразить». Но тем самым он впервые по-настоящему показал в этой любовной ис-
тории истинную силу Беньямина. Ведь когда тот столкнулся с пленившей его женщиной,
он решил (в первой редакции об этом еще не говорится) ждать исполнения любви, «за-
таившись» на жизненном пути своей избранницы, пока она, «больная, постаревшая, в
изношенных одеждах», ему не достанется. Формулировка второй редакции позволяет
иметь в виду многих женщин, которые обладали пленительной властью над Беньямином.
Она может относиться к обеим женщинам, игравшим в его жизни — после распада бра-
ка — решающую роль: к «женскому обличью» ангела в лице Юлы Кон и в лице Аси
Лацис1, которая с 1924 до 1930 года оказывала на него огромное воздействие (в особен-
ности повлияв на его обращение к революционным идеям) и которую он не сумел зав-
лечь к себе в плен точно так же, как более раннюю — и отчасти одновременную с этой
— большую любовь. Ожидание, которым проникнут набросок, не сбылось. Но Бенья-
мин имел полное право сказать о себе: «Ничто не могло истощить терпение мужа». <...>
В обеих редакциях сатанинский характер Ангела подчеркивают его когти и острые,
как нож, крылья, что могло отталкиваться от изображения на картине Клее. Из всех анге-
лов только у Сатаны есть лапы и когти, отсюда и распространенное представление, что
ведьмы на шабаше целуют Сатане «когтистые лапы». <...>
В совершенно новом (по сравнению с первой версией) повороте беньяминовского
взгляда Ангел больше не напоминает ни то, что у Беньямина есть, ни его самого, а ско-
рее похож на все, с чем он в его нынешнем положении вынужден проститься, чего у
него больше нет... Как беглец на новом жизненном повороте, он отдаляется от людей,
которые были ему близки. В своем далеке они приобретают какие-то черты самого анге-
ла, который ведь тоже больше не с ним. Больше того: ангел поселяется именно в тех ве-
щах, которые были у Беньямина в его берлинской комнате, в которые он долго и глубоко
вглядывался. Войдя в эти вещи, Ангел сделал их прозрачными, и теперь Беньямин видит
за их внешней стороной, которую живо представляет в памяти, лицо того, кому та или
иная вещь предназначалась... Он видит себя дарителем, в чьи дары переселился его Ан-
гел... Возможно, и Ангел, как видится сейчас Беньямину, был привлечен «дарителем,
который сам себя опустошает» и который вынужден расстаться со всем, что было ему
близко. Так пустеет, в конце концов, взгляд меланхолика, которому открывается в вещах
бесконечная глубина аллегорий, но который не может перешагнуть через преходящее в
сферу религии, потому что спасение достается здесь только чудом. Так происходит и с
опустошающим себя дарителем, который не сумел добиться любимой, отдав ей так много
своей творческой силы. Хотя в воображении он все-таки достиг глубочайшей общности
с ней, о чем свидетельствует финал наброска.
Но до этого Беньямин еще раз погружается в созерцание облика и существа Анге-
ла, который ежедневно представал перед ним, прежде чем поселиться в скрывшихся из
виду вещах... Ведь этот Ангел, несмотря на свои когти и острые крылья, не замышляет
Ася (Анна Эрнестовна) Лацис (1891—1979) — латышская левая журналистка, деятель театра, с
1926 г. жила в Москве, в 1938—1948 гг. — в сталинских лагерях, в 1971 г. опубликовала в ФРГ свои
воспоминания (рус. изд. — 1984 г.). С Беньямином она познакомилась на Капри в 1924 г.% ей
посвящена книга Беньямина «Улица с односторонним движением», она же — основная героиня
беньяминовского «Московского дневника» 1926-—1927 гг.; после 1930 г. они не встречались.
Вальтер Беньямин
•191
«обрушиться на того, кто увидел». Трудно*
решить, то ли дополнение «его» при глаго-
ле «увидел» выпало по недосмотру Бенья-
мина, то ли придаточное предложение со-
храняет смысл и без него. (Я склоняюсь к не-
досмотру.) Если в первой редакции любимая
видела терпение Беньямина, то теперь это
сам Беньямин созерцает Ангела, которого
он же и увлек. И хотя Ангел, гимн которого
был прерван Беньямином, имел достаточ-
но оснований на него обрушиться, он по-
ступает совсем иначе. Он тоже пристально
всматривается в того, кто добивался от него
лица и кто позволил ему в этой схватке один
на один взять себя в плен. А потом, после
долгой задержки, неумолимо отступает на-
зад. Он делает это, отвечая своему существу,
которое только сейчас по-настоящему от-
крылось Беньямину. Ангел берет с собой
человека, который его встретил или которо-
го встретил он и которому, возможно, несет
весть, — не зря же голова Ангела на карти-
не Клее вместо обычных локонов обрамле-
на свитками.
Вальтер Беньямин. Фото Жизель Фройнд
В следующих фразах сущность ангела
приоткрывается. В первой редакции еще го-
ворится, что Ангел увлекает за собой своего избранника, убегая в будущее, «из которо-
го был изгнан». Он знает это будущее, поскольку оно было его истоком, и не может ждать
от него ничего нового, кроме взгляда человека, на которого пристально смотрит сам.
В окончательной редакции о «том пути в будущее, по которому он пришел», гово-
рится, конечно, более осторожно. Вышел ли он оттуда? Прямо об этом не сказано, но
вроде бы подразумевается. Иначе откуда бы ему так хорошо знать этот путь, «что он
вымеривает его, не оборачиваясь и не упуская из виду своего избранника» — то есть
самого Беньямина. На это указывают и слова о возвращении домой, которое и есть путь
в будущее. Приковывая взглядом, он увлекает партнера за собой, делая его совладель-
цем того, чего в действительности хочет— счастья; хотя, может быть, Ангела ждет здесь
так же мало удачи, как самого Беньямина, которому в этом счастье было при жизни от-
казано...
Но счастье, которого хочет Ангел, приобретает у Беньямина неожиданный смысл.
Как ни странно, оно связано с «противоборством, в котором — восторг неповторимого,
нового, еще не прожитого и вместе с тем блаженство повторения, обретенного вновь,
прожитого еще раз». Парадоксальность формулировки бросается в глаза. Вопреки рас-
хожей формуле «больше никогда» счастье покоится здесь на противоборстве «однаж-
ды» и «снова». Ведь самое значимое в этой фразе — это как раз неповторимое, не миг
«прожитого времени», как во французском le temps vecu, но скорее совсем новое и еще
не пережитое. А ему противостоит блаженство «еще раз», которое стремится к повтору,
к возвращению уже прожитого. Вырвавшись из расхожей формулы, Беньямин рисует
меланхолическое счастье диалектика. Таков и путь Ангела в будущее неповторимости и
новизны: он может встретить свое долгожданное счастье только на обратной дороге
домой, еще раз вымеривающей пережитое. Единственное новое, на которое он сохраня-
ет при этом возвращении надежду, — в том, что он ведет с собой нового человека к его
истоку. Обратный путь в окончательной редакции больше не похож на бегство в утопи-
ческое будущее, от которого здесь, видимо, не осталось и следа.
192
Портрет в зеркалах
Всем этим определениям, немало говорящим как об Ангеле, так и о сути счастья,
ожидаемого Вальтером Беньямином, загадочно противостоит неоднозначная формули-
ровка последней фразы. Возникает вопрос: обращены ли заключительные слова к Анге-
лу или к любимой? Впервые увидев Ангела и пережив картину Клее как ангельское от-
кровение, отправился ли Беньямин вместе с Ангелом назад в будущее, бывшее его исто-
ком? Или он обращается здесь к любимой, сравнивая ее с Ангелом? Как если бы он хотел
сказать: «Когда я впервые тебя по-настоящему — то есть любя — увидел, я взял тебя с
собой туда, откуда пришел сам». По-моему, вернее второе.
Как понятно из наброска, Беньямин при встрече с Ангелом пережил озарение. Ха-
рактер подобных озарений поясняет однабеньяминовская фраза из написанного в 1928-
м и опубликованного в «Литерарише вельт» в начале 1929 года эссе о сюрреализме, нео-
днозначность которой его новые читатели могут не заметить. Беньямин говорит здесь об
оккультном опыте и фантасмагорических видениях:
«Любое серьезное проникновение в оккультные фантасмагорические способнос-
ти и феномены у сюрреалистов имеет в качестве предпосылки такой диалектический узел,
который романтический ум никак не в силах развязать... Мы проникаем в тайну лишь в
той степени, в какой снова находим ее в повседневном... Самое страстное исследование
телепатических феноменов, например, не откроет в чтении (процессе исключительно
телепатическом) и половины того, что профанное озарение самого чтения расскажет о
телепатических феноменах. Или другой пример: самое страстное исследование дурма-
на от гашиша не расскажет о мышлении (редкостном наркотике) и половины того, что
профанное озарение мысли расскажет о дурмане гашиша. Читающий, думающий, ожи-
дающий, фланирующий — такие же просветленные, как опиофаг, мечтатель или пьяни-
ца. Да к тому же еще — куда большие профаны. Не говоря уж о том чудовищнейшем
наркотике — нас самих, — который мы день за днем в одиночестве принимаем».
Судя по фразе о профанном озарении читающих и других, повседневный опыт, если
добраться до его сути, переходит, по Беньямину, в опыт мистический, в оккультный про-
цесс, который еще таится в подобных занятиях. Чтение для Беньямина— процесс оккуль-
тный, хотя философы с этим вряд ли согласятся. Ведь «профанное озарение» — это лишь
озарение, не больше, но и не меньше. В опыте читающего, думающего, фланирующего
уже есть все, что содержится в так называемом мистическом опыте, оно вовсе не долж-
но туда вытесняться. Но в отличие от материалистического понимания подобных пере-
живаний, которое изгоняет из них мистические и оккультные элементы, для Беньямина
они именно там еще и присутствуют. В фантасмагорическом видении картина «Angelus
Novus» становится для Беньямина образом его Ангела как оккультной реальности его
самого.
Перевод с немецкого НАТАЛИИ ЗОРКОЙ
14 ДУБ Ли LUX Cfu КД IIIIIIIIMffi
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
ДЖОЗЕФ ЭПСТАЙН
ИСКУССТВО ВЗДРЕМНУТЬ
оворят, в Соединенных Штатах людей возвышенного ума узнают по одному признаку: им
плевать на Гарвард. Пребывая недавно в Кембридже, я ощутил — и совершенно определен-
но, — что достиг этих высот. Я послонялся по Гарвардской площади, заглянул в Ярд, сунулся в
пару зданий и не ощутил ни малейшего волнения. Мне не хотелось стать стипендиатом Сеймура
Бойлстона в Гарварде или даже читать лекции за счет фонда Чарльза Элиота Скольника — ни
сейчас, ни когда-либо впредь. У меня нет детей, которых я хотел бы послать учиться в Гарвард...
Да, Гарвард прекрасно может и дальше обходиться без меня, что он, собственно, и делал после-
дние триста пятьдесят с чем-то лет, и я в оставшееся мне время смогу чудесно обойтись без него.
С такими возвышенными мыслями я улегся на удобную кровать в отеле «Гарвард Инн». На
мне были серые шерстяные брюки, голубая рубашка и тщательно повязанный галстук, узел ко-
торого я не потрудился ослабить. Я также не потрудился снять покрывало, а просто лег в позе
покойника в гробу, сложив на груди руки. Часы показывали три тридцать — наступал холодный,
серый февральский вечер. Моя следующая встреча была назначена на пять. Под рукой не было
ничего, что я хотел бы почитать. И я скользнул в объятия Морфея, чтобы следующие полчаса
спать мирно — не скажу как младенец (или как бревно или как сурок), но как тот, кем я считаю
себя в последнее время, как человек, во всех тонкостях овладевший искусством вздремнуть.
Я не двигался и не ворочался. Я проснулся, как было запланировано, без малейшей складоч-
ки на рубашке, на брюках или на щеках, с прической волосок к волоску. Это впечатляет, если мне
позволено так сказать о самом себе, — а в тот момент я именно так себе и сказал. Просто здорово.
Я знаю, когда человек говорит «все под контролем», это редко вызывает симпатию, но я чувство-
вал именно это — все под контролем, я счастлив от сознания выполненного долга. Я осторожно
соскользнул с кровати и отправился в ванную, где посмотрел в свои ясные глаза в большом зер-
кале. Очередное подремывание успешно завершено. Я выглядел отдохнувшим, почти сияющим
и был готов с новыми силами плевать на Гарвард.
Обычно я не дремлю в кровати, лежа на спине. Настоящий мастер опасается избыточного
комфорта: из слишком глубокого сна труднее вырваться, чтобы возвратиться в мир. К тому же
мне хочется избежать помятости—той дани, которую часто приходится платить за сон в лежачем
положении. Я же в большинстве случаев дремлю сидя, на диване; обувь я снимаю, и ноги мои
покоятся на специальной скамеечке. Важно, чтобы ноги были приподняты.
Обычно я дремлю вечером, в пять-полшестого, в среднем три-четыре раза в неделю, при
включенном телевизоре, который негромко бормочет новости. Под сообщения о землетрясени-
ях, бедствиях, поджогах, грабежах и всеобщей коррупции я начинаю клевать носом — идеальный
символ человеческого равнодушия в современном мире. Так продолжается минут двадцать —
тридцать пять. («После обеда серебряный сон, — говорит старый князь Болконский в «Войне и
мире»,—а до обеда золотой».) Если телефонный звонок застает меня за этим занятием, я отвечаю
особенно звонким бодрствующим голосом, которым обычно не затрудняю себя в действительно
бодрствующем состоянии. Иногда после сна я чувствую себя слегка осовелым, но это быстро
проходит. Обычно любой такой сеанс достигает цели — продержаться в течение вечера.
© 1995 by Joseph Epstein
© А. Борисенко, В. Сонькин. Перевод, 1997
7 «ИЛ» №12
194
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
Вкусы на сон бывают разными. Недавно я спросил своего приятеля-англичанина, спит ли он
днем. «При каждом удобном случае», — ответил он. Лежа или сидя? «Лежа». На кровати или на
диване? «На кровати». В штанах или без? «Обычно без». А как долго? «Это зависит, — ответил
он. — от того, когда кошкам вздумается уйти». Джозеф Конрад писал, что его задача «при помо-
щи написанного заставить вас услышать, заставить почувствовать — и прежде всего заставить
вас увидеть». Несложно увидеть моего приятеля с кошками, дремлющими у него на груди.
Мне хорошо спится в самолетах, поездах, автобусах и машинах, а также на концертах и лек-
циях, что требует особой сноровки. Я могу уснуть стоя, если к тому вынуждают обстоятельства.
Иной раз в избранной компании я жалею, что нельзя вздремнуть, пока со мной говорят. Я еще не
научился спать, когда говорю сам, хотя уже ощущаю в этом настоятельную потребность. У меня
был друг по имени Вальтер Б. Скотт, который, когда ему было под семьдесят, умудрялся прикор-
нуть во время приемов на десять-двенадцать персон, которые они с женой устраивали. Смот-
ришь —Вальтер опустил подбородок на грудь и погрузился в сладкое оцепенение; с тем же успехом
он мог бы вывешивать табличку «Ушел на рыбалку». Затем, через полчасика, не упоминая о не-
давнем отсутствии, он легко подхватывал беседу и, не упустив ни одной мелочи, плавно возвра-
щался обратно в русло. Я наблюдал это четыре или пять раз с неизменным восхищением.
У некоторых профессий есть бесспорные (хоть и негласные) привилегии в смысле сна. В
1931 году Г. Л. Менкен1 написал, что хороший полицейский должен обладать талантом «трижды
за ночь вздремнуть на посту в гараже, да так, чтобы не засек патрульный». Наверняка киномеха-
ники тоже не отказывают себе в отдыхе. Водители такси и лимузинов должны уметь дремать.
Искусство соснуть на работе, без сомнения, должно также быть знакомо психоаналитикам и дру-
гим представителям умственного труда. («Угу», — бормочет сквозь дрему психиатр на карика-
туре, а рядом видны ноги выпрыгнувшего в окно пациента.) Лишь однажды я испытывал горя-
чее, но тщетное желание уснуть на работе — когда нес караул в армейских гаражах, холодными
ночами в Миссури, Техасе и Арканзасе. О, как хотелось проскользнуть в кузов полуторки и
отрубиться хотя бы на полчаса! Но страх, лучший помощник совести, побеждал, и я продолжал
бодрствовать, как бы трудно мне это ни давалось.
Учась в колледже, я летом подрабатывал на фабрике граммофонных иголок. Один из работ-
ников, коротышка итальянского происхождения, регулярно удалялся на четвертый этаж покема-
рить с полчасика. Я не раз видел, как люди клюют носом на собраниях и конференциях. Однажды
душным днем в Вашингтоне, на собрании Национального совета Национального фонда искусств,
проходившем в здании Старой почты на Пенсильвания авеню, я обратил внимание на то, что по-
ловина членов совета роняют головы на грудь, вскидываются и вновь прикрывают веки, надеж-
но убаюканные лекцией с показом слайдов. Я завидовал им и несомненно вступил бы в их ряды,
если бы не пробудился только что от упоительно снотворного доклада о значении авангарда.
Я всегда довольно хорошо спал на лекциях, особенно когда лектор был настолько наивен,
что затемнял аудиторию для демонстраций слайдов. Сон на лекциях и семинарах я называл про
себя «падучим» — за непроизвольное падение головы на ослабевшей шее. В Чикагском универ-
ситете я проспал большую часть итальянского Ренессанса— или, по крайней мере, большую часть
лекций по истории искусства того времени. Теперь я сам преподаю, и мне заслуженно платят той
же монетой: теперь уже студенты засыпают на моих лекциях. Не то чтобы они валились штабеля-
ми, но в свое время я — как бы это сказать — помог расслабиться довольно большому числу
студентов. Поначалу мне претил вид студента, спящего на моем занятии. Но я уже давно перестал
принимать это близко к сердцу. Напротив, теперь я отношусь к ним по-отечески. Бедняжки, они,
должно быть, провели бессонную ночь по причинам, которые лучше не уточнять. Вот мой взгляд
на спящего студента: если моя наука его не вдохновляет, черт с ним, пусть хоть выспится как
следует.
Моя собственная юношеская сонливость проистекала, как, я надеюсь, и у моих студентов,
от приятных излишеств. Теперь же, к сожалению, я скорее напоминаю механизм, который начал
барахлить. Не то чтобы я нуждался в ежедневной дозе дневного сна: когда я выхожу в свет, я об
Генри Луис Менкен (1880—1956) — американский журналист, литературный критик, филолог; его
желчные статьи и эссе до сих пор считаются образцовыми в американской журналистике. (Здесь и
далее — прим, перев.}
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
195
этом и не думаю. Мне еще далеко до главного героя романа Гончарова «Обломов»: «Лежанье у
Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет
спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нор-
мальным состоянием». Однако, если возможность вздремнуть сама плывет в руки, я не сопро-
тивляюсь.
Вообще-то я встаю рано, примерно в 4.45 утра. Мне нравится раннее утро, для меня это
лучшая часть суток. Как я люблю говорить, в эту пору приятно встретиться с хорошим челове-
ком (то есть с самим собой), но на самом деле я наслаждаюсь покоем и одиночеством, пробужде-
нием жизни вокруг. Я варю себе кофе, читаю, иногда—если чтение не требует всего моего вни-
мания — включаю классическую музыку. Жизнь кажется управляемой, полной возможностей и
надежд.
Да, сомнений нет, я стал жаворонком. Но так было не всегда. В юности я ложился примерно
в то время, в какое сейчас встаю. По выходным я спал до двух-трех часов дня, набираясь сил
перед новыми битвами. Я был настоящей совой — просиживал целые ночи за картами, расставал-
ся с подругами на рассвете; я так любил ночь, что один семестр в университете, когда все мои
занятия начинались с утра, я решил спать днем и бодрствовать ночами.
В тот семестр время раздвинулось необычайно. Я возвращался с лекций, слегка перекусы-
вал и ложился спать часов до семи. Встав, умывшись и поев, я выбирал для себя те или иные
развлечения: кино, телевидение, спортивные или карточные игры. Не чувствуя никакой спешки,
я общался с самыми разными людьми. Обычно это продолжалось до одиннадцати-двенадцати, а
потом я возвращался в свою комнату, к плите, чаю, небольшой коллекции пластинок и книгам.
Я занимался часа два-три. Потом я обнаруживал, что во всем студенческом городке лишь я
один не сплю, и в три часа ночи мне не оставалось ничего другого, кроме как читать, или слушать
музыку, или то и другое вместе, часов до восьми утра. Я ходил в школу, где изучал только вели-
кие книги, так что в эти свободные часы я с жадностью глотал книги просто хорошие. Помнится,
в основном это были романы: Кристофер Ишервуд, Джон О’Хара, Трумэн Капоте, Ивлин Во, а
также эссе Эдмунда Уилсона, которого я как раз незадолго до того открыл. Я пил крепкий чай,
пока мои нервы не обострялись до предела, и встречал восход солнца возбужденным, счастли-
вым и готовым к занятиям.
После занятий я снова ложился спать, и все начиналось сначала. Так продолжалось десять
недель, и хотя то время подернулось смутной дымкой, мне кажется, я не потратил его зря. Тогда
же я ощутил в себе вкус и даже некоторый талант к одиночеству.
Есть какое-то особое удовольствие в том, чтобы встречать рассвет. Я припоминаю един-
ственное исключение из этого правила: в колледже я решил не ложиться всю ночь, чтобы подго-
товиться к экзаменам. Один приятель открыл мне стимулирующее действие таблеток под назва-
нием дексамил (или декседрин?). Эти маленькие пилюли позволяли сутками бодрствовать и зуб-
рить английскую историю. А ближе к рассвету сердце начинало бешено колотиться. Я хорошо
помню жуткое сердцебиение во время моего рассказа о трех важных следствиях огораживания
для британской политики и пяти причинах бескровности революции 1688 года. К тому времени
как я возвращался домой, сердце мое выплясывало, словно подчиняясь неистовой мелодии. Я
представлял себе, что изучение английской истории сопряжено с легким риском для жизни. Впро-
чем, двенадцать-четырнадцать часов сна были способны вылечить меня от чего угодно.
Мой сон всегда был безоблачным. Никогда, насколько я помню, ночь не таила для меня ни-
какой угрозы. Даже в детстве не казалось мне, что по углам прячутся чудовища, под кроватью
шуршат змеи, по покрывалу расползаются пауки или что-нибудь другое может выскочить из
ночных глубин. Основной причиной, возможно, было то, что, когда я был маленьким, моя семья
жила в небольшой городской квартире, и родители всегда находились поблизости. Поэтому не
было того элемента страха, который знаком детям, живущим в больших, двух-, трехэтажных до-
мах. Мне никогда не снились кошмары. Напротив, меня посещали радужные сновидения. Напри-
мер, мне снилось, что я владею удивительными вещами: игрушечными электропоездами, насто-
ящим пневматическим пистолетом, нескончаемыми запасами жвачки—во время второй мировой
войны все это было недоступно. Утром, просыпаясь, я с сожалением расставался со своими
сокровищами.
196
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
Обычно я сплю так хорошо, что, если мне приходится поворочаться в постели больше пят-
надцати минут, я считаю это беспокойной ночью. Иногда, без какой-либо регулярности, на меня
вдруг нападает бессонница. Обычно причина не в беспокойстве, а в состоянии, которое я называю
«бегающими мыслями». Слишком многое беспорядочно летает в голове: слова и фразы из моих
писаний, обязательства, заурядные, но неотступные воспоминания и (последний гвоздь в крыш-
ку) боязнь того, что я не высплюсь, устану и весь день буду вареный. Я ворочаюсь, я кручусь,
я бормочу, наконец я сдаюсь и встаю. Час бессмысленного чтения или просмотра идиотского
ночного телешоу обычно помогает, и я возвращаюсь в постель, где Морфей почти всегда оказы-
вает мне более благосклонный прием.
Настоящая бессонница, преследующая человека из ночи в ночь, должна быть настоящим
бедствием. Я думаю, это сущая пытка, и ни на секунду не верю Бертрану Расселу, который ска-
зал: «Люди, которые несчастливы, как и те, кто плохо спит, всегда этим гордятся». Многие мои
знакомые действительно страдали от бессонницы. Один ходил с черными кругами под глазами,
как енот. Другого, кроме бессонницы, одолевала легкая паранойя, что позволяло ему не спать
всю ночь и думать про своих врагов. Однажды, во Флоренции, я испытал продолжительный —
примерно двухнедельный — приступ бессонницы, которому немало способствовала слишком
мягкая постель и непрекращающийся рев мотоциклов под окном гостиницы. Я пытался сосредо-
точиться на приятных вещах: на зверюшках, которых я любил, теннисных кортах под дождем,
пасущихся вдали жирафах. Ничто не помогало. В результате я мог думать только о желании зас-
нуть — эта тема гарантированно отгоняет любые остатки сна.
Бессоннице отведено собственное небольшое место в мировой литературе. Эрнест Хемин-
гуэй описывает ее в рассказе «Пока мой разум мирно спит», где речь идет о раненом солдате
времен первой мировой войны, который выздоравливает в госпитале, но спать не может. Он бо-
ится, что,.если заснет, его «душа отделится от тела». Солдат, от лица которого ведется повество-
вание— по всей видимости, автобиографический персонаж,—вспоминает каждый ручей, где он
удил в детстве форелей, и придумывает новые, молится за всех известных ему людей, представ-
ляет себе, какие жены получились бы из всех знакомых девушек. Он предполагает, что в некото-
рые ночи он «спал, не осознавая этого, — но никогда не спал, осознавая, что спит». Именно таков
сон во время бессонницы.
Ф. Скотт Фицджеральд цитирует рассказ Хемингуэя в начале своего эссе 1934 года «Сон и
пробуждение». Фицджеральд сам начал страдать от бессонницы, когда ему было сильно за трид-
цать, и стал своего рода экспертом по этой болезни—если это болезнь. Он рассказывал о друге,
который однажды проснулся оттого, что мышь кусала его за палец, и с тех пор не мог спокойно
спать, если в комнате не было кошки или собаки. Бессонница самого Фицджеральда началась с
битвы с комаром, в которой он одержал победу, хотя, увы, пиррову — ибо с тех пор его неот-
ступно преследовало «осознание сна», как он это называет: он заранее начинал беспокоиться о
том, сможет ли заснуть. Пессимистическое воображение заставляло его готовиться к бессонной
ночи, и он клал у изголовья «книги, стакан воды, запасную пижаму на случай, если я проснусь в
потоках пота, таблетки люминала в маленькой круглой упаковке, блокнот и карандаш на случай
ночной мысли, которую стоило бы записать».
Бессонница Фицджеральда приняла распространенную форму разделения сна на две части.
Он спал примерно до половины третьего, затем следовал жестокий полуторачасовой перерыв, во
время которого приятные фантазии (игра в футбол в Принстоне, военные подвиги) не приносили
никакого результата. Оставалось только вопреки собственным желаниям размышлять об ужасе и
пустоте собственной жизни: «Кем я мог быть, что я мог сделать — все это потеряно, растрачено,
исчезло, растворилось, не вернется. Я мог бы поступить так-то, удержаться от того-то, быть смелым
там, где я трусил, осторожным там, где был безрассуден». Так он мучил себя, пока сон, подобно
вернувшемуся налетчику, не одолевал его, и его сновидения «после катарсиса темных часов были
о молодых и прекрасных людях, которые совершали молодые и прекрасные поступки, о девуш-
ках, которых я когда-то знал, девушках с большими карими глазами, с некрашеными пшеничными
волосами».
Другим страдающим от бессонницы невротиком был Владимир Набоков, хотя он просто го-
ворил, что «засыпал с величайшим трудом и отвращением». (В суффиксе ик есть что-то печальное
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
197
или предосудительное: ипохондрик, параноик, алкоголик, шизофреник—все это невеселые состо-
яния.) Легкий сон вызывал у него такое изумление, что в людях, которые легко засыпают, он нахо-
дил что-то вульгарное: «Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают
храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотируются»,
или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них
энергично раствориться». Набоков не просто не любил сон, он его почти ненавидел, поскольку тот
на время отключал его бесконечно изобретательный ум. В мемуарах «Память, говори» он называ-
ет спящих «самым идиотским братством мира, с наиболее грабительскими взносами и грубыми ри-
туалами».
Если у человека ум столь же богато оснащен, открыт для восприятия и счастливо изобрета-
телен, как у Владимира Набокова, возможно, он тоже не захочет его отключать. Но среди писате-
лей так много страдавших от бессонницы, что это начинает походить на профессиональное забо-
левание. Де Куинси, Ницше, Хорхе Луис Борхес, который однажды упомянул о «бесчеловечной
ясности бессонницы», — все были знакомы с ее ужасами. Борхес был единственным, который
пришел к излечению с помощью своего ремесла, а именно написав замечательный рассказ «Фу-
нес, чудо памяти» — о молодом человеке, умершем от того, что можно назвать только перегруз-
кой памяти.
Развивает ли бессонница воображение? Или развитое воображение причиняет бессонницу?
Впрочем, жизнь может выдумать наказание такого рода, от которого не будет спасения даже во
сне. После смерти жены Реймонд Чандлер писал: «Я не сплю полночи, слушаю пластинки, когда
мне грустно, и не могу напиться настолько, чтобы заснуть. Ночи мои довольно ужасны». Они
оказались настолько ужасны, что Чандлер в этот период попытался покончить с собой.
Даже будучи взрослым человеком средних лет, я сталкивался порой с собственным нежела-
нием отключить умственную механику и отправиться спать; знал я и удовольствие пробуждения
с мыслью о том, что сейчас я ее снова включу. Но в основном по вечерам я готов закрыть лавоч-
ку, собрать вещи и вывесить белый флаг — не поражения, а перемирия. В таких случаях сон
представляется удивительно разумным действием. Но в иные ночи сон кажется неудобством,
обузой, порой он даже нагоняет тоску.
Тоска отчасти разгоняется тем, что никогда не известно, что ожидает тебя во сне. «Но она
спала неглубоко и беспокойно,:— пишет Роберт Музиль в рассказе «Искушение тихой Верони-
ки», — как человек, для которого следующий день таит что-то необыкновенное». Иногда кажет-
ся, будто видов сна столько же, сколько видов бодрствования: есть легкий сон, беспокойный сон,
тяжелый сон, прерывистый сон, глубокий сон, заслуженный сон. Во сне люди говорят, ходят,
храпят и извергают семя. Они могут быть ближе к правде жизни во сне, чем наяву. «Уснуть! —
как сказал лысеющий человек с высоким лбом. — И видеть сны, быть может?»1 Никакого сомне-
ния.
Зависть уже давно меня не посещает, но я признаю, что завидую тем, кому хватает короткого
сна. Люди, которые могут каждую ночь спать четыре-пять часов, бесспорно, имеют преимуще-
ство перед прочими. Лично мне нужно шесть или семь часов; это несколько лучше, чем поется в
старой песне: «Восемь на труд, восемь для сна, восемь—делай что хочешь». Тем не менее пер-
спектива проспать примерно треть жизни выглядит не слишком привлекательно.
Однако кто из нас захочет получить тщательный отчет о том, как он провел свои дни на
земле? Мой мог бы выглядеть примерно следующим образом: сон — немного меньше трети;
наблюдение за мужчинами, которые догоняют, бьют, пинают и подбрасывают разного размера
мячи,—одиннадцать лет семь месяцев; чтение—тринадцать лет четыре месяца; просмотр ново-
стей —три года шесть месяцев; еда и прочая пищеварительная деятельность—четыре года один-
надцать месяцев; мечтания и безнадежные фантазии—пять лет семь месяцев; сплетни, разборки,
телефонные разговоры и прочее убивание времени — неопределенный, но длительный период...
Я слежу за временем и поэтому ужасно не люблю терять даже крупицу этой драгоценной
субстанции. Беспокойство о потерянном времени, видимо, начинается с конкретного возраста. Я
знаю, что прошло уже больше двадцати лет с тех flop, когда я был способен с чистой совестью У
У Шекспир. «Гамлет», перевод М. Лозинского.
198
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
оставаться в постели после семи утра. Если это происходит, у меня возникает ощущение, что день
потерян. Я с восхищением прочел в романе «Усадьба Ховардс-энд» о некой миссис Уилкокс, ко-
торая проводит в постели целые дни, платит по счетам, отвечает на письма, заботится о разных
важных мелочах и перезаряжает свои батарейки. Кроме того, я часто слышал — как и все — о
людях, которые в дни поражений или — чаще —депрессий залезают в кровать и не поднимаются
с нее в течение нескольких дней, иногда недель. Не вставать с кровати на протяжении недель — в
этом, по-моему, есть что-то завлекательное. Я полагаю, что сам не выдержал бы более восьми
часов — потом я проиграл бы чувству вины все то, что выиграл бы за счет отдыха.
Есть, конечно, кровати, в которых спать особенно приятно. Детские воспоминания, ныне,
без сомнения, подернутые приятной дымкой ностальгии, сохранили образ удобных полок в поез-
де — внизу колеса стучат на стыках, вверху сияют звезды, время от времени мимо проносятся
огни городов. Я читал про то, как люди спали на борту военных самолетов во время второй ми-
ровой войны; журналист А. Дж. Либлинг, помнится, описывал, как он пытался заснуть на койке
транспортного самолета и слышал, что его часы и ручка на прикроватной тумбочке перекатыва-
ются, «словно кости в руке шулера». Наверное, приятно смотреть, как небо проносится мимо,
покаты готовишься ко сну. Мальчиком я мечтал спать на койке военного типа, в армии эта мечта
осуществилась. Я никогда не спал в гамаке. Житье под открытым небом, которое я тоже испытал
в армии, сейчас показалось бы мне терпимым, только если в кемпинге была бы обслуга и мини-
бар. Спать в тесных каютах подводной лодки было бы непросто. С другой стороны, если я сплю
один на пятиспальной гостиничной кровати, мне становится не по себе.
Я часто засыпаю под звуки музыки. У радиочасов на моей тумбочке есть функция автома-
тического отключения, и радио замолкает спустя определенное время. Обычно я засыпаю под
классическую музыку. Наилучший эффект, наверное, дает виолончель. Опера, за редкими ис-
ключениями, не помогает: слишком много буйных эмоций. Большая часть современной музыки
для этих целей безнадежна. (Гленн Гульд тоже спал при включенном радио и говорил, что иногда
новости проникали в его сновидения.) Однако ничто не вырубает меня быстрее, чем трансляция
игр «Чикаго Кабс» с Западного побережья. Если лежишь поздно вечером и слушаешь монотон-
ный говор комментаторов, которые при помощи внушительного набора штампов описывают игру,
где абсолютно ничто не решается, — о, никакое снотворное не может так усыпить!
Сейчас 16.15, и поскольку прошлой ночью я спал меньше обычного, я чувствую легкую
усталость. Я выхожу из дома, отправляю несколько писем, а на обратном пути захожу в библио-
теку, чтобы взять Фрейдово «Толкование сновидений». Короткая прогулка на свежем воздухе
приводит меня в идеальное состояние для короткого сна.
Я направляюсь к дивану, на котором обычно предаюсь серьезному дневному сну. Я снимаю
очки, ослабляю ремень, сбрасываю ботинки, кладу ноги на маленькую черную скамеечку с кожа-
ным покрытием и опускаю голову на спинку дивана. Я зову свою кошку, которая решает не при-
соединяться ко мне (она уже спит где-то в другой части квартиры). В течение следующих тридцати
минут меня нет — я сплю с запрокинутой головой и, надо думать, с открытым ртом. Теперь я
набрался достаточно сил, чтобы совершить долгую поездку в западный квартал и поужинать с
родственниками. Немного воды на веки, капелька полоскания для рта, и—опля! — я в пути.
Я не помню, были ли у меня сны; если да, то вряд ли они заслуживали того, чтобы я их
запомнил. Днем я обычно не вижу снов, по крайней мере ярких. Да и мои ночные сновидения
кажутся мне, если так можно выразиться, довольно заурядными, даже слегка тусклыми. Дав нам
задачу интерпретировать собственные сны, Зигмунд Фрейд сделал из всех нас живописцев и кри-
тиков собственной ночной жизни. Впрочем, литература о значении и смысле сновидений суще-
ствовала задолго до Фрейда. Насколько сновидения помогают отыскать ключ к бессознательно-
му и подсознательному — этот вопрос для меня до сих пор остается крайне спорным. Время от
времени — реже, чем мне хотелось бы,—люди, которых я любил и которые умерли, появляются
в моих снах. Мне не хочется, чтобы они уходили, но, подобно электрическим поездам, пневмати-
ческим пистолетам и жвачке времен моего детства, они тоже неизбежно исчезают. Многие из моих
сновидений — чистая причуда. Как-то раз мне снился сшитый на заказ костюм, который стоил
всего 150 долларов. Когда я спросил хозяйку ателье, как у такой вещи может быть столь низкая
цена, она со знанием дела ответила: «Элементарно—низкокачественный материал и плохая работа».
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
199
Когда у меня случаются кошмары, я могу после короткого промежутка выключить их, как
мог бы переключиться на другой телевизионный канал. Более того, иногда я наполовину просы-
паюсь во время кошмара и совершенно отчетливо объявляю себе: «Кому это нужно?» — азатем
поворачиваюсь и жду нового сна. Во сне — в дневной жизни это не совсем так — мне доступно
что-то вроде спутниковой антенны с почти бесконечным набором каналов.
Помимо причудливого канала я довольно часто смотрю канал беспокойства. Мой дантист
говорит мне, что я по ночам скрежещу зубами — а это стоматологическое заболевание под назва-
нием «бруксизм». Думаю, мои беспокойные сны его и вызывают. Один из таких снов, который
мне снится примерно раз в год, — сон о потере зубов, по крайней мере нескольких основных
зубов. Иногда мне снится сон о бандитах — я нахожусь в узком проходе или на пустынной улице,
ко мне приближаются два или три парня, один из них с ножом, и им нужны мои деньги. Обычно
удается переключить канал или просто проснуться, прежде чем прольется кровь.
Но чаще мне снятся беспокойные сны, в которых я попадаю в дурацкое положение при боль-
шом стечении народа. Это всегда происходит в учебной обстановке. Я согласился прочесть лек-
цию или курс о предмете, который мне абсолютно неизвестен: например, персидская литература
или астрофизика. Накладка следует за накладкой. Я не могу найти аудиторию; я потерял свои
записки; мне срочно нужно в туалет. «Персидская литература, — начинаю я в присутствии ог-
ромной толпы, в которой много иранских лиц, — удивительно богата». Тут я осознаю, что не
знаю ни одного персидского писателя, кроме Омара Хайяма. Я кашляю. Я мямлю. Я не понимаю,
какому приступу зазнайства я обязан тем, что вообще согласился прочесть такую лекцию. «Пер-
сидская литература, — продолжаю я, — не просто удивительно богата—она весьма разнооб-
разна. Возьмите, к примеру, Омара Хайяма...»
В молодости мне снились студенческие варианты этих беспокойных снов — я приходил на
последний экзамен по материалам курса, который не посещал весь семестр. Курс всегда посвя-
щен предмету отвлеченному, но при этом конкретному — например, булевой алгебре или теории
музыки XVIII века, — иными словами, чему-то такому, где витиеватый стиль не поможет. Нужны
конкретные знания, а их у меня в таких снах никогда нет. Сейчас, тридцать лет спустя, когда я
преподаватель, а не студент, у меня во сне по-прежнему нет таких знаний.
Иногда снятся более обычные кошмары: на меня нападают белки, или опоссумы, или другие
звери с острыми когтями. В окно крадется вор, а я не могу собраться с силами, чтобы захлопнуть
окно, прежде чем он окажется внутри. Я лечу на самолете в Европу и не могу найти ни свой
багаж, ни свои билеты, ни свою жену. Время уходит. Я никак не успею. Как я уже сказал, такие
сны представляются мне довольно распространенными. Лишь один раз в моем сне фигурирова-
ли фашисты, и он не был связан — что я сразу отметил — ни с какими недавними книгами, филь-
мами или разговорами на эту тему. Он просто случайно возник — можно сказать, соткался из
тьмы. Я не специалист по сновидениям из области мировой истории. В отличие от Грэма Грина,
который вел дневник своих сновидений, недавно опубликованный под названием «Мой собствен-
ный мир», и сны которого поразительно богаты; на их фоне кажется, что ради моих снов не стоит
надевать пижаму. Грину постоянно снились римские папы, главы государств и диктаторы. Ему
снился шпионаж. В одном сне он участвовал в пленении Гитлера. У его снов есть политическая
линия—они весьма антиамериканские. Ныне живущие и покойные писатели появляются в них с
завидной частотой. Ким Филби вербует Эрнеста Хемингуэя, чтобы тот работал на коммунистов
в Гонконге. В другом сне Ивлин Во стреляет в У. X. Одена. Генри Джеймс присоединяется к Грину
на борту парохода, следующего в Боготу. Т. С. Элиот спрашивает про строчку из собственного
стихотворения; у него усы. В кошмарах Грина участвуют птицы и пауки, а также мочащиеся кре-
ветки и лангусты. Но в более мрачном кошмаре, кошмаре истинного писателя, его издатель упор-
но превозносит романы Ч. П. Сноу, и никакими способами нельзя издателя остановить.
Грэм Грин в этой книге называет страну своих снов «мой собственный мир» в противопо-
ложность «миру, который я делю с другими»—так он определяет реальный мир. Как бы ни был
богат тот мир, который Грин делил, — наполненный любовницами, политикой, интригами, лите-
ратурной славой, религиозными кризисами и тому подобным, — его собственный мир еще бога-
че. Раз ему снилось такое, он, должно быть, с нетерпением ждал отхода ко сну.
Впрочем, художники всегда были мечтателями. Морис Равель считал, что, поскольку они
200
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
проводят столько времени в мечтах и фантазиях даже наяву, с их стороны нечестно жениться. Для
меня материал многих моих юношеских фантазий — мировая слава, сексуальные победы, несмет-
ные богатства, посрамление врагов — потерял былую привлекательность, и все же я по-прежне-
му провожу значительную часть бодрствования в полусонном состоянии. Я бы с радостью ска-
зал определенно, о чем я мечтаю, но мелкие суденышки, на которых я путешествую, столь зыбки,
столь туманны, что их невозможно запомнить. Я нахожусь в стране с мягким климатом; я еду
вдоль лазурного побережья в открытой машине с внуком на соседнем сиденье; я написал что-то
невообразимо прекрасное.
Много лет назад я прочел в биографии Ханны Арендт, что мисс Арендт каждый день выде-
ляла час, в течение которого она лежала на диване в своей манхэттенской квартире и ничего не
делала—только думала. Я провел полевые — вернее, диванные — испытания этой процедуры
и обнаружил, что не могу так долго концентрировать мысли, лежа на спине; если я пытался на-
пряженно думать, то вскоре засыпал. В основном мои мысли — если это и вправду мысли —
приходят неожиданными порывами во время мечтаний: когда я в душе, за рулем машины, с кни-
гой в руке, во время дневного сна, на границе между бодрствованием и ночным сном. У меня
случайные — иногда полезные — мысли начинаются во сне.
Я принадлежу к поколению детей, которые читали молитвы перед отходом ко сну. Я не по-
мню, делал ли я это по указке родителей или по собственному почину. Но пролог к моей молитве
был стандартным:
Пока мой разум мирно спит,
Пусть душу добрый Бог хранит.
А если смерть придет за мной,
О Боже! душу упокой.
Господи, благослови мамочку и папочку...
Когда видишь эти слова напечатанными, становится понятным жуткий смысл молитвы — по
крайней мере, для ребенка, — поскольку в ней содержится отчетливое напоминание о вполне
возможной неожиданной смерти во сне. После определенного возраста—в наши дни, я полагаю,
это восемьдесят лет — умереть во сне считается огромной удачей. Она заснула и тихо отошла,
говорят порой об умерших, обычно интонацией намекая на безмятежность такого поворота собы-
тий. Такой конец избавляет от драматической возможности вымолвить глубокие последние слова:
«Больше света!», «В чем вопрос?», «Продайте Кингмана!», «Здесь немного жарко, или это мне
кажется?» — но большинство, я полагаю, отдали бы эти последние слова за более спокойный —
по причине его бессознательности—уход.
Шелли в первых строках «Королевы Маб» говорит о Смерти и «ее брате Сне». Сон называ-
ли «маленькой смертью». Это удачное описание феномена сна. В конце концов, заснуть означает
отпустить поводья, отказаться от сознания, отправиться неизвестно куда. В случае смерти, как и
в случае сна, никто не знает наверняка, что ждет на другой стороне: кошмары, сладкие видения,
краткое (надеемся мы) забвение.
Я описал свою изощренность в ремесле дремы или искусство вздремнуть в действии. Одна-
ко я не распространялся о секрете, лежащем в основе овладения этой изощренностью. В немалой
степени он заключается в желании тайм-аута—желании уйти из жизни, неглубоко, не навсегда, но
все же на некоторое время. Английский писатель А. Альварес в книге под названием «Ночь»
утверждает, что он пристрастился ко сну, как к наркотику, он находит сон по меньшей мере «чув-
ственным». Он замечает, что в подростковые годы и лет до тридцати в основном думал о сексе;
когда он женился и эта часть жизни стала урегулированной, в тридцать с лишним «мысли о сексе
сменились мыслями о еде»; а теперь, когда ему за шестьдесят, пришел черед «нового наваждения:
сна».
Интересно, не является ли основным значением такого наваждения медленная, хотя и бес-
сознательная, подготовка к закрытию лавочки? Интересно, так ли уж это плохо? Я знаю, что многим
людям моя мысль придется не по вкусу, они скажут, что человек никогда не должен поддаваться,
отдаваться, сдаваться. Они будут утверждать, и их доводам нельзя отказать в разумности, что
жизнь — слишком драгоценный дар, чтобы выпускать ее из-под контроля, — иными словами,
приветствовать смерть. Не выходите из игры, врубите музыку, продолжайте борьбу, скажут они,
в могиле отоспитесь всласть. Повторяю: они правы.
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»201
И все же есть что-то дивно соблазнительнее в сне, особенно в дреме, которую можно рас-
сматривать как милый и безвредный оттенок измены, сравнимый с полуденным свиданием, —
если говорить о сне в терминах, обычно используемых для секса, а не для смерти. Для меня, ис-
кусного специалиста, дневной сон остается одним из прекраснейших подарков жизни, покуда в
этом сне вам не снится, что вы получили какое-то фантастическое—такое, от которого ни при
каких обстоятельствах невозможно отказаться, — предложение от Гарварда.
УИЛЬЯМ СТАЙРОН
ДУРНАЯ БОЛЕЗНЬ
Среди актеров, внесших свою лепту в бессмертие фильма «Касабланка», нельзя не назвать Клода
Рейнса в роли капитана французской полиции Луи Рено. Игра Рейнса отличалась строгим изяще-
ством, ему удалось создать запоминающийся образ крутого полицейского, очеловеченного оба-
янием, —эдакий Славный Парень, прячущийся за личиной напористого нахала. Я принадлежу к
первому из нескольких поколений, попавших под горячечное романтическое очарование карти-
ны. К поздней осени 1944 года я успел посмотреть ее трижды и считал Рейнса не менее важной
частью гипнотического воздействия фильма, чем Богарт или Бергман. Вы можете вообразить мое
изумление, когда той военной осенью передо мной предстала его точная копия — вылитый Клод
Рейнс сидел за столом в кабинете урологического отделения госпиталя в Паррис-Айленд, штат
Южная Каролина. Табличка на столе гласила: «Б. Клоц, капитан-лейтенант, главный уролог». Я
помню быстрый калейдоскоп впечатлений: имя Клоц, с едва уловимым патологическим привку-
сом, сам Клоц-Рейнс, да еще удвоенный — как мне подумалось, не без нарциссизма, — в довоен-
ном штатском обличье он взирал со стены, запечатленный на одной из фотографий в рамках. На
других, словно замыкая почетный триумвират, были изображены президент Франклин Д. Руз-
вельт и адмирал Эрнест Дж. Кинг, руководитель военно-морских операций. Между Клоцем и
Рейнсом было одно существенное различие, если не считать белого халата вместо униформы
жандармерии. Актер, даже пытаясь принять самый угрожающий вид, обладал лукавым шармом
и очевидным добродушием, тогда как Клоц выглядел только угрожающе. Я почувствовал, что
наша встреча явно не станет началом трогательной дружбы. В то утро Клоц после недолгого
молчания перешел прямо к делу. Никаких британских экивоков. С невыразительным среднеат-
лантическим выговором он произнес: «Ваш анализ крови показал, что у вас сифилис».
Я помню, что щеки и область вокруг рта у меня онемели, потом в них появилось покалыва-
ние, как будто мне залепили оплеуху. Травмирующие события, как правило, обостряют воспри-
ятие, навсегда оставляя в памяти незначительные детали — в данном случае это было окно над
головой Клоца, обледенелое по краям, сквозь которое виден был плац, кишащий взводами ново-
бранцев из морской пехоты, таких же, как я (или таких, каким я был прежде, до госпиталя); они
упражнялись в строгой хореографии военной муштры. Рассвет еще не начался, и люди то и дело
пересекали яркие полосы света, лившегося из бараков. Большинство взводов маршировало с
винтовками, инструктор же вышагивал рядом, выкрикивая команды, которые я не мог разоб-
рать — отсюда они казались злобными воплями припадочного безумца. Другие взводы остава-
лись на месте, люди стояли свободно, и над ними вился сигаретный дым или пар от частого дыха-
нья, а может, и то и другое — ноябрь был очень холодным. За плацем видны были ряды деревян-
ных бараков. А за бараками раскинулись воды порта Ройал-Саунд, обдуваемого ледяным вет-
ром. Все это ясно запечатлелось в моем мозгу, но в то же время в центре оставалось единственное
слово, произнесенное голосом Клоца: сифилис.
© 1995 by William Styron
202
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
«Вы останетесь в отделении для дальнейшего обследования», — продолжал Клоц. Тон его
был неприкрыто враждебным. Те немногие доктора, с которыми я имел дело в прошлом, отлича-
лись добродушием, фамильярностью и искренней, хотя иногда и неуклюжей, любезностью. Но
Клоц был иной закваски, и мой живот свело в спазме. Я подумал: «Вот сволочь!» Напоследок он
распорядился, чтобы я отправился к дежурному помощнику фармацевта получить инструкции
по поводу распорядка, которому отныне я буду обязан подчиняться, — Клоц назвал это «вене-
рическим протоколом». Затем он приказал мне вернуться на свою койку и ждать дальнейших
распоряжений. На мне была синяя больничная пижама; в ее карман я засунул экземпляр одной из
первых антологий, изданных в мягкой обложке, с которой я не расставался уже два года, — «Кар-
манную книгу стихотворений», составленную неким М. Эдмундом Спеаром. Ноги у меня подги-
бались. Пошатываясь, я отправился обратно в отделение, лихорадочно вцепившись в книгу, —
так приговоренный к смерти христианин сжимает Евангелие.
Я должен сказать несколько слов о самой болезни. Хотя сифилис рассматривался с конца
пятнадцатого столетия как напасть, которая никогда не отступит перед ухищрениями медицинс-
кой науки, всего за год до моего диагноза ему был нанесен внезапный и смертельный удар. Это
был один из самых поразительных триумфов медицины, такой же, как дженнеровское открытие
вакцины против оспы или пастеровская победа над бешенством. Прорыв наступил вскоре после
того, как американские исследователи — основываясь на работе Александра Флеминга, открыв-
шего в двадцатые годы пенициллин, и сэра Хоуарда Флори, разработавшего технологию получе-
ния лекарства, — обнаружили, что недельный курс чудодейственной плесени стирает без следа
все симптомы раннего сифилиса и даже некоторые проявления уже запущенной болезни. (Пени-
циллин также оказывал уничтожающее действие на второе серьезное венерическое заболевание,
гонорею, — как правило, достаточно было одной инъекции.) С середины 1943 года медицинское
начальство американских вооруженных сил приказало врачам в госпиталях по всему миру пре-
кратить лечение сифилиса при помощи арсенфенамина и по возможности использовать пеницил-
лин. Арсенфенамин — известный также как сальварсан-606, «чудо-пуля», — являлся составом
на основе мышьяка, разработанным в 1909 году немецким бактериологом Паулем Эрлихом. Эр-
лих обнаружил, что новое лекарство (успех наступил с 606-й попытки) может расправиться с
сифилисом, не убив пациента. Это был серьезный прогресс после нескольких сотен лет, когда в
качестве панацеи использовали ртуть, которая действовала непредсказуемо, если вообще дей-
ствовала, и была не менее опасной, чем сама болезнь.
Поскольку болезнь произрастала из тьмы сексуального акта, слово «сифилис» находилось
под запретом в протестантской среде Виргинии в пору моего детства. Даже когда это слово было
украдкой произнесено в фильме 1940 года «Чудо-пуля» доктора Эрлиха» с Эдвардом Дж. Ро-
бинсоном (по-моему, он очень убедительно выглядел в роли целителя после многочисленных
появлений на экране в качестве безжалостного гангстера), оно заставило поморщиться всю Аме-
рику. «Чудо-пуля» не произвела на меня особого впечатления; бесспорно, я был слишком молод.
Но даже будь я постарше, вряд ли я понял бы тогда, что фильм не сказал всю правду. Хотя «чудо-
пуля» немецкого доктора стала огромным шагом вперед по сравнению с единственным снадобьем
прошлого, излечение с ее помощью оказывалось, к несчастью, неполным. Лекарство делало па-
циентов незаразными, но надежностью оно не отличалось и его нужно было вводить при помощи
болезненных и дорогостоящих инъекций так долго—в течение многих месяцев, — что пациенты
зачастую впадали в отчаяние; кроме того, случались рецидивы. Эпидемию сдержали, но не оста-
новили. Настоящее чудо произошло только с появлением безотказного бактерицидного грибка
Александра Флеминга. И я был в авангарде тех жертв, на которых должна была наконец снизойти
благодать. Так, по крайней мере, казалось, пока постепенно с тошнотворной ясностью я не начал
осознавать, что здоровье не так-то легко вернуть.
С моим диагнозом у меня были все основания страстно мечтать о пенициллине в те нескон-
чаемые часы и дни, что я провел в «трипперном бараке», как назывались во флоте подобные отде-
ления. Но с первого же дня после встречи с доктором Клоцем у меня возникло ощущение, что
мой случай совершенно особенный. Я не был обычным пациентом, лечение которого идет по на-
катанной дороге к выздоровлению; я был брошен в непостижимое чистилище без всякой надеж-
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
203
ды на исцеление. И это предчувствие меня не обмануло. С самого начала я был убежден, что не
просто подхватил самую опасную из болезней, передающихся половым путем, но что в какой-то
момент она меня прикончит—либо нервная система истощится до предела, либо все клетки ра-
стекутся в жидкую лужицу. Я был мнительным юношей и успел основательно изучить медицин-
ский справочник, так что обладал более обширными познаниями в медицине, чем большинство
моих сверстников, и меня прошибал холодный пот при мысли о том, что предвещал такой диагноз.
Я не сомневался, что обречен, и эта уверенность не покидала меня в те дни, растянувшиеся в
недели, которые я провел в удручающем заточении.
Моя койка стояла в самом конце палаты, и я мог смотреть в два окна, расположенных под
прямым углом друг к другу. Из одного был виден неглубокий, почти замерзший океанский за-
лив; из другого — ряд бараков, а между ними — бетонные блоки, о которые заиндевевшие мор-
ские пехотинцы — я видел, как они дрожат от холода, — с размаху били свою униформу под
тонкими струйками воды. Мелкое злорадство, которое я мог бы испытывать, глядя на их муче-
ния, полностью растворялось в отчаянье — я был отлучен от давних друзей, приятелей по кол-
леджу, от других будущих офицеров, таких же, как я, вернее, как тот, кем я был раньше. Моя
болезнь, из-за своего плотского происхождения и вытекающего из этого позора, не оставляла мне
ни малейшей надежды на то, чтобы когда-либо стать лейтенантом морской пехоты Соединенных
Штатов.
Об этом мне сообщил Уинклер, госпитальный санитар, провожавший меня в палату. Если у
человека была венерическая болезнь, то стать офицером морской пехоты нет никаких шансов. От
него же я узнал и другую ужасную новость, на этот раз относительно своего здоровья. Показав
мне койку и место для вещмешка, он пояснил — в ответ на недоуменное «Какого черта я здесь
делаю?», — что реакция Кана у меня зашкаливает. «Сдается мне, — сказал он с жутковатой иро-
нией, — ты подхватил дурную болезнь». Когда я спросил, что такое реакция Кана, он ответил
вопросом на вопрос: слышал ли я о реакции Вассермана? Конечно, ответил я, каждый школьник
знает про Вассермана. А Кан, объяснил Уинклер, это почти то же, что Вассерман, только лучше.
Более простой анализ крови. Тогда я припомнил бесконечные походы в полковой диспансер, пос-
ледовавшие за первым проверочным тестом, где у меня каждый день, пробирку за пробиркой,
брали кровь из вены, и ощутил тяжкое предчувствие сурового приговора, который вынесет мне
на следующее утро доктор Клоц. Должно быть, лицо мое выразило ужас, потому что Уинклер
явно постарался меня подбодрить; его тактика заключалась в том, чтобы помочь мне почувство-
вать себя здешней элитой. В настоящий момент, сказал он, ты единственный сифилитик в отделе-
нии. У большинства пациентов банальный триппер. Когда в ответ я поинтересовался, почему
жертвы сифилиса такая редкость по сравнению с больными гонореей, он выдвинул теорию, кото-
рая в моем случае звучала настолько нелепо, что я от души рассмеялся (это был мой последний
искренний смех на много дней вперед). «Триппер подхватить гораздо легче, чем сифилис,—объяс-
нил Уинклер. — Чтобы заработать сифак, надо как следует потрудиться». Он добавил с оттенком
восхищения: «Видать, ты менял баб каждый день».
После разговора с Клоцем, состоявшегося очень рано, до его обычного утреннего обхода, у
меня была возможность сесть и обдумать свое положение, пока остальные пациенты спали. Уинк-
лер объяснил мне устройство отделения. Здесь содержались люди с мочеполовыми расстройства-
ми. По одну сторону находилась дюжина коек, занимаемых трипперными больными. Поскольку
эта секция была переполнена, меня поместили с самого краю по другую сторону центрального
прохода, где лежали невенерические пациенты. Большинство этих ребят страдали от расстройств
почек и мочевого пузыря, в основном инфекционных; одному пареньку серьезно отбили почку во
время безжалостного боксерского матча — такие матчи любили устраивать во время утренних
тренировок инструкторы, все до одного садисты. Был там один с неопущением яичка: он, по сло-
вам Уинклера, никогда не прошел бы через медкомиссию во времена более здоровых доброволь-
цев — а теперь, когда шел призыв, в морскую пехоту попадали калеки всех сортов. На соседней
койке, тихо посапывая, спал беспробудным сном парень, которому доктор Клоц накануне сделал
обрезание: у него было сужение отверстия крайней плоти, или фимоз. Прошлой ночью Уинклеру
пришлось обкладывать пах бедняги кусками льда, чтобы ночная эрекция не сорвала швы,—такая
204
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
неприятность никак не могла бы случиться с евреем, заметил Уинклер не без самодовольства: сам
он был евреем из Нью-Йорка. Что же до больных триппером, то Уинклер отметил, что в большин-
стве случаев речь шла не о заурядной непримечательной гонорее, а о запущенном хроническом
состоянии, какое обычно наступает, когда больной — из страха, стыда, а часто и безразличия —
отказывается лечиться, и спустя некоторое время гонококки начинают зверствовать в простате
или скапливаются в суставах, что приводит к особенно болезненной форме артрита. Для морпехов
и матросов со всего Атлантического побережья это отделение становилось порой последней надеж-
дой, поскольку Клоц был известен как лучший специалист по таким осложнениям.
В этот же день другой санитар посвятил меня в детали «венерического протокола». Венпа-
циенты были в каком-то смысле строго отделены как от товарищей по несчастью в своем отделе-
нии, так и от других обитателей госпиталя. На наших пижамах, на груди, была выведена большая
желтая буква V. В туалете мы должны были пользоваться отдельными унитазами и раковинами.
Амбулаторные пациенты в столовой ели за отдельными столами. Когда раз в две недели нас води-
ли в клуб базы смотреть кино, мы шли туда отдельной группой и рассаживались в особой секции,
обозначенной желтой лентой. Я помню, что эти сведения вызвали у меня тошноту и я спросил у
санитара, к чему такие несусветные предосторожности. Хотя я знал о коварстве венерических
заболеваний, я и понятия не имел, что мы представляем такую угрозу. Однако в ответ на мои
сомнения санитар пояснил: сифилис и гонорея чертовски заразны. Да, большинство людей зара-
жается половым путем, но крошечные микроорганизмы могут попасть в кровь через любую ца-
рапинку. Медбюро не хотело рисковать; более того, многозначительно добавил санитар, у док-
тора Клоца на этот счет «свои комплексы». Эта загадочная и даже зловещая фраза стала понятнее
мне со временем, когда Клоц целиком заполнил собой мою жизнь.
Как единственный пациент с сифилисом, я был освобожден от регулярного осмотра члена,
составляющего главный пункт ежеутренних обходов доктора Клоца, начинавшихся ровно в шесть.
В шесть в отделении раздавался звонок, и повсюду включались яркие лампы. Лежачие больные
по мою сторону прохода оставались на местах. Но в течение минуты, проходившей между вспыш-
кой света и появлением доктора Клоца, трипперные пациенты в противоположном ряду поднима-
лись на ноги и застывали в напряженном ожидании. Как правило, они обменивались шуточками,
а также артистично стонали и матерились. Большинство из них были из регулярной армии, не
зеленые рекруты из числа студентов вроде меня, а на пять-десять лет постарше. Они примерно
поровну разделялись на голодранцев-южан и пролетариев с северо-востока. Я скоро понял, что
многих из них объединяет общая навязчивая идея. Эти фанатичные донжуаны были так зацикле-
ны на сексуальных радостях, что продолжали шутить на излюбленную тему, даже заплатив та-
кую цену за свои удовольствия — болезнь разъедала слизистые оболочки их гениталий и терзала
суставы в коленях и запястьях.
Меня поражала эта беззаботность, равно как и их неугасимое либидо, особенно если учесть,
что мой собственный девятнадцати летний гормональный жар упал до абсолютного нуля в тот
самый момент, когда доктор Клоц огласил свой диагноз. Слово «сифилис» сделало саму мысль о
сексе тошнотворной, словно меня одолела некая эротическая анорексия. Однако, как только
Уинклер или какой-нибудь другой санитар выкрикивал: «Внимание на палубе!» — и Клоц с де-
ловым видом входил в распахнутую дверь, трипперная фракция притихала. Уинклер говорил
мне, что этих голубчиков надо осматривать, как только они проснулись, прежде чем они успеют
помочиться; по количеству и консистенции накопившихся за ночь гнойных выделений Клоц мог
заключить, как продвигается лечение. Под неизменный аккомпанемент голоса санитара: «Оття-
нуть, сжать, подоить!» — Клоц проходил вдоль ряда жертв. Он не тратил лишних слов, и его
манеры оставались ледяными и надменными, словно эти мерзавцы и распутники были недостой-
ны даже простого приветствия. Со мной он обращался ничуть не мягче. Стоя перед ним на негну-
щихся ногах, я мог лишь радоваться, что мне не приходится подвергать свой член этой унизи-
тельной процедуре в столь ранний час. Во время каждого обхода Клоц бросал на меня беглый
взгляд, спрашивал санитара про мою реакцию Кана — день заднем показатели оставались на
самом высоком и, следовательно, самом пугающем уровне — и переходил к невенерическим па-
циентам.
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
205
Однако ранним утром того первого дня Клоц осмотрел мой пенис. Я мог бы опустить опи-
сание самой процедуры, если бы она не оказала такое чудовищное влияние на состояние моей
психики, которое и так уже было не лучшим. Именно этот осмотр помог мне утвердиться в мыс-
ли, что я обречен. Меня вызвали в его кабинет, и пока я стоял перед ним, он листал историю
болезни и отрывисто задавал стандартные вопросы. Случаи сифилиса в семье? (Ну и вопрос!)
Нет, солгал я. Были ли в последние недели или месяцы какие-либо воспаления и жар? Нет. Опу-
холь в паху? Нет. Какие-либо необычные образования на пенисе? Это должна быть твердая, без-
болезненная язва, которая называется шанкр. Я знал, что таксе шанкр, хотя никогда не видел его,
— все слышали о шанкре (санитаров даже называли «тружениками шанкра»). Во время опроса я
смотрел на портрет важного, решительного Франклина Д. Рузвельта, который отвечал мне твер-
дым взглядом. Я был благодарен моему единственному президенту — он бессменно был прези-
дентом на протяжении всей моей жизни — за этот отцовский взгляд. Я продолжал смотреть на
него, пока Клоц ощупывал меня своими холодными костлявыми пальцами.
Он вертел мой пенис не слишком бережно, раза два без нужды сильно сжал его и повернул
обратной стороной. Я, помню, подумал: что бы ни проделывали с моим пенисом, так его никто не
перекручивал. Потом он попросил меня взглянуть на обнаруженный им на обратной стороне
шрам. Шанкр оставляет шрам, пробормотал он, и это как раз похоже на шрам от шанкра. Я по-
смотрел вниз и действительно увидел шрам. Крошечную красноватую точку. Поскольку шанкр
прошел безболезненно, добавил он, я его не заметил, и остался только маленький шрамик. Каза-
лось, Клоц на миг отбросил свою обычную неприязнь. Он сказал, что шанс моего заражения
неполовым путем ничтожно мал. Сиденье унитаза—это миф. Сифилис обычно сопровождается
ярко выраженными симптомами, продолжал он, — сначала шанкр, потом темперазура и воспале-
ние, но нередко эти симптомы не проявляются вообще или проявляются настолько незаметно,
что на них не обращают внимания. Клоц удивил меня, когда в ходе своих бесстрастных пояснений
произнес фразу почти поэтическую: «Сифилис — жестокая болезнь». И потом, после недолгого
молчания, во время которого я понял, что он формулирует ответ на вопрос, который я не смел
задать, Клоц провозгласил: «В итоге сифилис поражает все тело». Помолчав, он заключил, преж-
де чем отпустить меня: «Придется подержать вас здесь и посмотреть, насколько далеко зашла
болезнь».
Я вернулся к себе в палату и лег. Ложиться днем не разрешалось, но я все равно лег. Госпи-
таль располагался в старом деревянном здании, теплом, даже жарком, но меня тряс озноб. Я
прислушивался к скрипу окон, поддававшихся порывам ветра с Атлантики. Сексуальные мань-
яки напротив громко обсуждали свои непристойные похождения, а я медленно погружался в
оцепенение, и даже «Карманная книга стихотворений», которая спасала меня во многих менее
критических ситуациях, на сей раз полностью утратила свою утешающую силу.
История сифилиса «уникальна по сравнению с другими великими болезнями, — пишет ис-
торик медицины Уильям Аллен Пьюзи, — поскольку он не входит во врачебные анналы посте-
пенно, по мере исследования, а появляется на исторической сцене с драматической внезапностью,
в полном соответствии с последующей зловещей репутацией великого бедствия, которое за не-
сколько лет охватило весь известный мир».
Это наблюдение, сделанное в начале нашего века, до сих пор сохраняет свою печальную
актуальность. Может быть, имеет смысл сравнить сифилис с нынешней большой эпидемией. В
отличие от СПИДа, сифилис не обязательно приводит к летальному исходу, несмотря на крайне
высокий уровень смертности. Зачастую смерть оказывалась желанным концом, если рассматри-
вать ее как спасительную благодать по сравнению с ужасными и необратимыми последствиями
болезни для тела и разума. После появления не слишком чудесной «чудо-пули» доктора Эрлиха
и особенно после решающего удара, нанесенного пенициллином, сифилис частично потерял спо-
собность пробуждать вселенский ужас. Однако по ряду причин он оставался кошмаром — поми-
мо того факта, что никому не хочется быть зараженным миллионами микробов Treponema pallidum,
которые штопором ввинчиваются в организм и могут достичь костного мозга и селезенки спустя
сорок восемь часов после инфицирования и вызвать утомляемость, воспаления, изъязвление кожи
и другие неутешительные симптомы. Кроме того, существовало клеймо, которое лежало на всем,
206
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
что предполагало аморальное поведение в тридцатые — сороковые годы, когда нам, молодым,
приходилось пересекать тусклый сексуальный ландшафт того времени.
Я уже говорил, что даже само слово было табу. Среди приличных людей его произносили
шепотом, если вообще произносили, и его крайне редко можно было встретить напечатанным.
«Социальная болезнь», «дурная болезнь»—таковы были обычные эвфемизмы. Когда я учился
в школе, это слово единственный раз попалось мне на глаза в медицинской брошюре. Я спросил
учительницу, старую деву традиционного воспитания, что оно значит. Она немедленно поправи-
ла мое произношение, однако щеки ее вспыхнули, и ответа на вопрос я так и не получил. По ее
молчанию я догадался, что это что-то порочное. Да так оно и представлялось в те строгие време-
на. Почти весь период своего существования в англосакском мире сифилис, как и СПИД, считал-
ся несмываемым пятном на репутации носителя инфекции.
Но была и куда более серьезная беда — кошмар самой болезни. Даже после прорыва, не-
смотря на вмешательство пенициллина, были возможны пагубные осложнения. Никакое лечение
не давало абсолютных гарантий. И моя навязчивая идея — что сифилис овладел моим организ-
мом и пошел в наступление, проникая в ткани и органы, в которых уже проявляются первые
признаки разрушения,— становилась все навязчивее с каждым днем, пока я влачил существова-
ние, предписанное «венерическим протоколом» доктора Клоца. Я стоически носил желтую бук-
ву V и вскоре привык ходить в столовую и в кино в составе отдельной группы. У меня была
масса времени на раздумья о своем состоянии, так как для больных не предусматривалось ника-
ких занятий. Я все время задавался вопросом, почему меня не лечат. Если пенициллин способен
творить чудеса, почему его не используют? Я впадал все в большее уныние, приходя к выводу,
что болезнь — по причинам, которые были выше моего понимания, — достигла стадии, когда
лечение бесполезно, и остается лишь ждать фатального исхода. Я старался гнать от себя эти мыс-
ли. В основном я проводил время возле своей койки, сидя на складной табуретке и читая книги
и журналы из маленькой госпитальной библиотеки. Я также вернулся, не без колебаний, к «Кар-
манной книге стихотворений», к Китсу и Хаусмену, к Эмили Дикинсон и «Рубайяту» Омара Хай-
яма.
Доктора Клоца я видел только на утренних приемах. Моя единственная обязанность состо-
яла в том, чтобы раз в неделю закатывать рукав для анализа на реакцию Кана, которая неизменно
показывала все тот же результат: «зашкаливала», как говорил Уинклер. Я привязался к Уинкле-
ру, который явно мне симпатизировал, скорей всего потому, что я учился в университете, а он до
Пёрл-Харбора сам провел два года в Городском колледже Нью-Йорка. Он великодушно отдал
мне в пользование маленький красный радиоприемник «Моторола», я держал его постоянно
настроенным на радиостанцию «Саванны» и слушал военные новости. Фронтовые сводки лишь
усиливали мою удрученность и тревогу, которая сгущалась с каждым днем, — годы спустя я
узнал, что именно так выглядит начало серьезной депрессии.
Как раз перед тем, как я попал в госпиталь, морская пехота штурмовала берега отдаленного
тихоокеанского острова под названием Пелелье и встретила «ожесточенное сопротивление япон-
цев»— обычный эвфемизм Пентагона, означавший разгром наших войск. Тревожные новости,
которые я слушал по радио, заставляли меня задуматься о собственном неопределенном буду-
щем. По крайней мере три последних года я жил с дерзким и головокружительным стремлением
стать лейтенантом морской пехоты; вести войска в бой против япошек—такова была моя опья-
няющая мечта. Венерическая болезнь несовместима с офицерским званием — эту неутешитель-
ную истину преподнес мне Уинклер, —даже излеченная, она оставляет несмываемое позорное
пятно. И я начал понимать, что микроорганизмы, гнездящиеся во мне, подобно термитам уничто-
жают не только мою бренную плоть, но и славные честолюбивые мечты. Однако с этим я мог как-
то смириться, сколь бы горьки ни были мои сожаления. Но совершенно невыносимой — хуже,
чем позор, хуже, чем крушение всех надежд и амбиций, — была картина, преследовавшая меня,
как вязкий туман, видение полного физического разрушения. Смерть при жизни, такая, какая
постигла моего дядю Гарольда, — этот устрашающий пример развития болезни не давал мне
покоя.
Он был младшим братом моей матери, и в двадцать семь лет, во время Великой войны, попал
в Европу в качестве капрала-пехотинца Радужной дивизии. Во время наступления на Сен-Мий-
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
207
ель дядя был тяжело ранен в ногу шрапнелью, в 1918 году демобилизовался и отправился до-
мой, в западную Пенсильванию, где женился, обзавелся сыном и открыл собственное дело. Поз-
же, в двадцатые годы, у него появились странности в поведении: он ходил во сне, мучимый кош-
марами, его стали преследовать пугающие галлюцинации. Он жаловался на беспокойство и почти
ежедневные приступы лихорадочного возбуждения, которые доводили его до мыслей о самоубий-
стве. Он объяснял каждому, кто согласен был слушать, что его терзают воспоминания войны,
картины резни, мучений людей и животных. После того как однажды он исчез на неделю и был в
конце концов найден в грязной комнатенке сомнительного питсбургского отеля, в пятидесяти милях
от дома, жена заставила его обратиться к врачу. В клинике для ветеранов ему поставили диагноз:
«помраченное состояние психики в результате перенесенных тягот войны». Подобный синдром в
те годы был известен как «военный невроз». Мой дядя был помещен в психиатрическое отделе-
ние госпиталя для ветеранов в Перри-Пойнт, штат Мэриленд, и оставался там до конца жизни.
Я помню, как однажды, мальчиком, еще до войны, я с родителями навестил дядю Гарольда.
Мы ездили в Нью-Йорк и сделали крюк по дороге из Виргинии. Я никогда дядю не видел, только
на давних фотографиях — веселый мальчишка с выступающими зубами, как у мамы, и лучистым
взглядом. Дядя Гарольд, герой войны, был моим кумиром, почти мифической фигурой. Мать
была к нему привязана, а я, усердно подслушивая разговоры старших, жадно впитал все подроб-
ности его нелегкой судьбы: ожесточенный бой за Сен-Мийель, в котором погибло больше четы-
рех тысяч американцев, его письма, описывающие военные зверства, его болезненное выздоров-
ление в тыловом госпитале, срыв в Пенсильвании, печальное одиночество. Когда мы приехали в
пенсильванский госпиталь для ветеранов, я напряженно, хотя и с чувством некоторого беспокой-
ства, ждал встречи со своим дядей, жертвой военного невроза. Я не помню, насколько мать с отцом
подготовили меня к встрече, но я не мог даже примерно вообразить, что предстанет моим глазам,
да и родители вряд ли ожидали увидеть такое.
Санитар, который вывел дядю Гарольда к нам на лужайку, настойчиво подталкивал его
вперед, и он шел на неверных ногах, в одежде армейского кроя и тапочках, подгоняемый легкими,
но настойчивыми тычками в спину. Оттого, возможно, он выглядел еще более беспомощным и
потерянным, чем был на самом деле. Это был человек с неприкаянной душой. Меня встревожила
его шаткая походка и пустой взгляд; я не мог соотнести иссушенное скуластое старческое лицо,
лысеющий череп и дрожащие руки с веселым мальчиком с фотографий. Ужасней всего для меня
был миг, когда он механически обнял маму и прошептал: «Привет, Эдит». Так звали их старшую
сестру.
Мы оставались на госпитальной лужайке, должно быть, не больше часа, среди остатков
беспорядочного пикника. Пока мы сидели там на скамейке, дядя Гарольд не сказал почти ничего,
а те односложные звуки, которые мать пыталась из него извлечь, походили больше на кашель. Я
не мог больше смотреть на эту сцену и в тоске отвернулся от дяди, от пустых, блуждающих карих
глаз, от мамы, которая держала его дрожащую руку, сжимая ее снова и снова в тщетной попытке
утешить его, достучаться до него.
В госпитале я много думал о дяде Гарольде. Особенно по ночам, в темноте, прижав к уху
маленький радиоприемник Уинклера, пытаясь отвлечь себя от мыслей мелодиями Арти Шоу или
Гленна Миллера, которые мне удавалось поймать в эфире. Но потом наступало мгновение вне-
запной, ошеломляющей паники, и дядя придвигался ко мне вплотную. Я ощущал, что он, в своей
больничной одежде, молча стоит где-то рядом со спящими морпехами — сутулая фигура, пред-
вещающая будущее, о котором я* запрещал себе думать.
Во время своего путешествия по Европе в 1760 году Казанова, этот неутомимый авантю-
рист, ходок и охотник за знаменитостями, остановился в Ферне, чтобы повидаться с Вольтером.
Нет свидетельств о том, что две суперзвезды говорили о сифилисе, но эта вечно модная тема
вполне подошла бы для их беседы; и их рассуждения о предмете, скорее всего, были иронически-
ми. Вольтер никогда не позволял пессимистическому взгляду на заразу взять верх над его соб-
ственным легкомысленным отношением к ней — он остроумно писал о дурной болезни в «Канди-
де». А в воспоминаниях Казановы приведено множество историй о сифилисе, которые автор явно
208
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
считает невероятно забавными. Дитя Просвещения лишь одним способом могло примириться с
существованием болезни, которая казалась столь же неотъемлемой частью истории, как войны
или голод, а именно—посмеявшись над ней. В эту светскую эпоху необъяснимое бедствие могло
стать предметом грубой шутки, хотя в старые времена оно не воспринималось иначе как наказа-
ние за грехи. В предшествующие столетия люди не раз обращались к Богу за помощью, но Бог не
отзывался.
Болезнь впервые совершила свой опустошительный рейд по Европе во времена Колумбо-
вых плаваний. Действительно ли Колумб и его люди вывезли сифилис из Вест-Индии — до сих
пор точно неизвестно, но многие ученые считают это весьма вероятным. Тогдашняя разновид-
ность оказалась крайне вирулентной и нередко убивала своих жертв на вторичной, «лихорадоч-
ной» стадии, которую больные последующих эпох (включая меня) переносили легко. Врожден-
ный сифилис был особенно зловещим и обезображивающим — ко всеобщему ужасу. Неудиви-
тельно, что тот же Вормский рейхстаг, что провозгласил Мартина Лютера еретиком, объявил
«мерзкую болезнь» бичом, ниспосланным человечеству за грех богохульства.
Но была еще доктрина первородного греха, касавшаяся и католиков, и отступников-пре-
свитериан вроде меня, и в ее свете больные сифилисом осуждались с исключительной строгос-
тью. Особенно сильно это проявилось в начале викторианской эпохи, когда возврат к вере, после
долгого периода легкомысленного безбожия, соединился с возвратом к новозаветному представ-
лению о сексе как о греховной сфере—причем насквозь греховной, превосходящей все прочие
мерзости. Связь с сексуальностью наложила на сифилис в пуританской культуре особую печать
разложения. Сьюзен Сонтаг в своем исследовании медицинской мифологии «Болезнь как метафо-
ра» показала, что все опасные болезни влекли за собой моралистские и карательные реакции и
вызывали к жизни целые теоретические системы, основанные на псевдопсихологизме. Бубонная
чума подразумевала всеобщее нравственное падение; туберкулез был результатом нереализо-
ванных страстей и разбившихся надежд либо происходил из «извращенной или потраченной впу-
стую жизненной силы»; эмоциональная фрустрация, или подавление чувств, накликало прокля-
тие рака, чьи жертвы нередко также одержимы бесами. Психические заболевания вызывают са-
мые стойкие подозрения во врожденной слабости. Согласно подобным взглядам, сама болезнь
отражает характер жертвы. Однако сифилису досталось иное, особенно отталкивающее клеймо.
Он не отражал ни слабости, ни растраченных впустую сил, ни подавленных чувств — только
низменность нравов. В последние годы похожую репутацию, несмотря на всю разъяснительную
работу, приобрел СПИД. А в прямолинейной, богобоязненной Америке времен моей юности на
сифилитика смотрели не как на сексуального разбойника, чье хобби привело к нежелательному
результату, — иными словами, с грубой терпимостью, которую проявил бы Вольтер, — а ис-
ключительно как на вырожденца, причем опасного и заразного. Конечно, предполагается, что
врачи свободны от предрассудков подобного рода, однако всегда находятся такие, которых рели-
гия или идеология подчиняет себе, невзирая на их профессиональные обязанности. Клоц был
именно таким; я уверен, что он выполнял свой долг, когда выяснял подробности моей биографии,
но все его существо было настроено против меня. Кроме того, в случае со мной он был виноват
в упущении, которое однозначно показывало, что ненавидит он не болезнь, а ее жертв.
Пока тянулись холодные лазаретные дни и ночи, реакция Кана по-прежнему показывала,
что сыворотка крови кишит спирохетами, а моя душа все глубже и глубже погружалась в состо-
яние безысходности, я припоминал всю свою сексуальную жизнь, которая представлялась мне
скудной, по крайней мере количественно. Что за бедственная случайность обрекла меня на поги-
бель? Даже в те суровые годы библейского Юга три партнерши к девятнадцати годам — две из
них были случайными подругами мимолетных пьяных совокуплений, почти изгладившихся из
памяти, — не делали меня в собственных глазах горячим любовником, а уж тем более похотливым
мартовским котом, закономерной жертвой болезни. Впрочем, Уинклер говорил, что, хотя сифи-
лис не так распространен, как триппер, одного случайного попадания не в ту дырку достаточно,
чтобы погубить мужчину. Чья же это была дырка и когда? Мои свидания происходили так недав-
но и были так немногочисленны, что мне не составляло труда тщательно припоминать каждое из
них, пытаясь понять, какое именно объятие позволило Т. pallidum начать свое вторжение.
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
209
В одно солнечное утро, когда я сидел на табуретке, погруженный в одну из этих самобиче-
вательных дум, появился мрачный Уинклер и сказал, что, к сожалению, Кан по-прежнему дает
очень высокие показатели. Затем он объявил: доктор Клоц — наконец-то, спустя много дней —
хочет меня осмотреть и выяснить историю болезни. Религиозен ли я, спросил Уинклер. Я отве-
тил, что нет, и поинтересовался, зачем он спрашивает. Санитар выпучил глаза и вымолвил: «У
него довольно строгие взгляды». Потом он добавил, уже не в первый раз, что у Клоца «это все
от комплексов».
Оглядываясь на то время, я понимаю, что Клоц, как бы сложны ни были его мотивы, искал
выхода для мстительной злобы по отношению к сифилису, распространенной в вооруженных силах,
— злобы, которая отражала общее отвращение всего американского общества. Клоц не был ти-
пичным флотским врачом—он вообще не был типичным врачом,—однако он действовал в рамках
ханжеских и хладнокровных ограничений по отношению к венерическим болезням, царивших на
флоте в течение многих лет. Во время первой мировой войны Джозефус Дэниэлс, набожнейший
из южан, министр флота президента Вильсона, внес свою небольшую лепту в историю, запретив
алкогольные напитки в офицерских кают-компаниях и любых других местах на военных кораблях
и морских базах, тем самым положив конец старинной и уважаемой традиции. Однако в этом по
крайней мере не заключалось смертельной опасности. Одержимый неприятием всего плотского,
Дэниэлс отверг предложение, согласно которому матросы и морские пехотинцы имели бы сво-
бодный доступ к презервативам, и таким образом оказался в ответе за бесчисленные венеричес-
кие болезни и связанные с ними смерти. Клоца питали не только собственные убеждения, но и
традиция, глубоко уходящая корнями в южный христианский фундаментализм.
Когда в то утро я описывал свою историю Клоцу, мне пришлось рассказать о своих отноше-
ниях с одной девушкой и двумя женщинами постарше. Клоц назвал это «контактами». Пока он
делал пометки, я рассказал ему, что ровно два года назад расстался с девственностью в дешевой
гостинице в городе Шарлотте в Северной Каролине. Я учился на первом курсе колледжа, жен-
щине было лет тридцать пять. Он спросил меня, предохранялся ли я; я ответил, что, кажется, да,
но уверенности у меня не было, потому что я выпил слишком много пива. Затем я перешел ко
второму «контакту». (Чего я не описал Клоцу — так это бесконечного напряжения от ожидания
своей очереди в запущенном вестибюле гостиницы, пока мой перепивший однокурсник, похотли-
вый парень из Миссисипи, который и был зачинщиком похода, трудился там целую вечность с
дамой, называвшей себя Верна Мэй. Я не сказал доктору, что Верна Мэй оказалась изможденной
крашеной блондинкой в запачканной комбинации и грязных розовых тапочках; она протянула руку
за моими двумя долларами вяло, как тяжело больная; я не сказал, что сам был в болезненном
состоянии от ожидания и жгучего неверия — неужели то, чего я с нетерпеливым трепетом ждал
с двенадцати лет, неужели нечто невыносимо судьбоносное наконец-то случится, — в этом тумане
я почти не слышал ее голоса, когда она произнесла с провинциальным выговором, запихивая два
доллара за лиф: «Ну, уж надеюсь, ты не будешь так долго возиться, как твой дружок».)
Второй «контакт» состоялся с девушкой восемнадцати лет, второкурсницей университета,
которую я назову Лайза Фридлендер. (Скудость сексуальной жизни в сороковые годы—даже в
студенческих общежитиях, вернее, особенно в студенческих общежитиях — выразилась в том,
что между Мэй и Лайзой был перерыв почти в полтора года.) Я сказал Клоцу, что познакомился
с Лайзой, уроженкой Кью-Гарденс, штат Нью-Йорк, в данвиллском колледже в Виргинии весной
прошлого года. К тому моменту я уже участвовал в военно-морской программе В-12 в Дьюке и
приехал в Данвилл на выходные. Тогда-то мы и совершили половой акт (меня трясло от этих слов,
но Клоц настаивал) и делали это еще много раз, предохраняясь и не предохраняясь, во время
моих увольнительных в апреле и мае. Она поехала домой в Кью-Гарденс на летние каникулы, а
когда она вернулась в Данвилл, наша связь возобновилась, и мы занимались сексом по выходным,
пока меня не послали сюда, на Паррис-Айленд. Я уверен, продолжал я, что Лайза не могла стать
источником заболевания, поскольку я был у нее лишь вторым партнером и происходила она из
приличной зажиточной еврейской семьи, подхватить такую болезнь в подобной среде— малове-
роятно. (Я часто недоумевал, как южный мальчик из хорошей семьи мог заслужить такой дивный
подарок, как моя страстная, жизнелюбивая Лайза, с ее необузданным желанием, которое соответ-
ствовало моему и было истинной причиной, хотя я этого не сказал Клоцу, нередкого отсутствия
210
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
предохранительных средств: мы трахались так много и яростно, что у меня попросту кончались
презервативы. Знакомый мне с детства южный фольклор идеализировал астеничных, неприступ-
ных блондинок и не подготовил меня к встрече с этим страстным темноволосым созданием; мы
валялись на поле для гольфа спустя два часа после знакомства. Этого я тоже Клоцу не сказал,
хотя Клоц — моральный инквизитор—в какой-то момент выдал себя вопросом: «Вы были влюб-
лены?» Я не знал, как ответить, хоть и чувствовал, что для него это вопрос принципиальный.
Конечно же, было невозможно заставить Клоца понять: если тебе еще нет двадцати, ты морской
пехотинец, отправляющийся на Тихий океан, и разделяешь со своими товарищами убеждение в
том, что тебе не дожить до двадцати одного и никогда больше не увидеть девушку, и если радо-
стный восторг, испытанный тобой, когда соски Лайзы Фридлендер впервые поднялись под твои-
ми пальцами, — это любовь, то ты, наверное, влюблен.)
Моим последним «контактом» была женщина по имени Джанетт. Возраст—около сорока. Я
сказал Клоцу, что в августе ездил с приятелем-пехотинцем в Дарем, где мы как-то вечером в кафе
и познакомились с Джанетт и ее подружкой. Обе они работали на фабрике «Лиггет и Майерс» —
делали сигареты на конвейере. Я имел сношение с Джанетт только один раз, не предохраняясь.
(Мной тогда же овладела амнезия, не имеющая ничего общего с сексуальным возбуждением. Как
и в самом первом случае, пиво превратило воспоминания в череду бессвязных картинок: прогул-
ка, заплетающиеся шаги в темноте; холодная земля во дворе баптистской церкви, где, возле како-
го-то могильного камня, мы и завалились; сладкий запах сырого табака в кудрях Джанетт, кото-
рая только что закончила ночную смену. Я ничего не помнил о самом совокуплении, но по какой-
то странной причине, пока я вел свой рассказ, воспоминание о коробке «Честерфилда», которую
она мне дала, оставило после себя ощущение грусти.)
Когда я закончил, Клоц немного повозился со своими заметками, потом сказал: «Значит, вы
предали девушку?» Я скорбно кивнул, но ничего не сказал. «Вам приходило в голову, что вы
могли ее заразить?» Я снова кивнул, ибо мысль о том, что я передал инфекцию, мучила меня уже
много дней, заставляя испытывать яростные угрызения совести. «Возможно, вы заразились от
проститутки в Шарлотте или от женщины в Дареме, — сказал доктор. — Сифилис распростра-
нен среди белых женщин Юга на социальном дне. Вот почему опасно пускаться в приключения с
кем попало, раз уж вы не можете воздерживаться». На это я тоже не мог ничего ответить. Меня
душило сожаление, но раскаяния я не испытывал и не собирался говорить, что был не прав. «Те-
перь невозможно установить, какая из женщин вас заразила. Вам следует просто написать пись-
мо той девушке и сказать ей, что она могла заразиться сифилисом. Вы должны ей также сказать,
чтобы она немедленно проверилась и прошла необходимое лечение». Я помню, что в тот момент
я попытался вызвать в памяти какое-нибудь радостное событие детства, дурацкую шалость, любое
невинное происшествие, которое позволило бы мне воспарить над этим ужасом, но Клоц не дал
мне времени на поиски утешения. «Природа находит способ отплатить почти за каждое наше без-
рассудство», — сказал он.
Дня через два после моей беседы с Клоцем санитары принялись развешивать по палатам
рождественские украшения. На стеклянной двери написали «Noel», а к центральному плафону
прицепили жутковатого ангела с трубой. В тот же день я заметил, что мои десны кровоточат.
Какое-то раздражение чувствовалось и раньше, но я не обратил внимания. Теперь началось на-
стоящее кровотечение. Речь шла не о «розовой зубной щетке»—этот симптом постоянно описы-
вали в рекламе «Ипаны», популярной зубной пасты того времени. Кровь медленно, но непре-
рывно просачивалась в полость рта, я весь день чувствовал сладковатый привкус, а если я про-
мокал десны платком, на нем оставалось алое пятно. Курение ухудшало дело, но я упорно про-
должал дымить. Десны стали болезненно-рыхлыми, а чистка зубов в тот вечер вызвала багровый
водопад. У меня возникло лихорадочное, мерзкое чувство. Я был испуган, но держал свои страхи
при себе. Спирохеты шли в атаку. Болезнь могла проявиться бесчисленными способами, и я по-
нял, что это один из них. Когда я сказал Уинклеру о своей очередной неприятности, он выказал
удивление, но посоветовал сходить к дантисту, который мог по крайней мере попытаться смяг-
чить мои страдания. Зубной врач оказался мрачным, замотанным человеком, не предложившим
ни успокоения, ни объяснений; впрочем, он обработал мне рот отвратительным снадобьем под
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года» 211
» л I.
названием «генциан-виолет» и дал пузырек этой гадости, чтобы я применял ее каждый день, —
нелепость, иллюзорная преграда на пути всесокрушающего разрушения.
Дни тянулись в некой напряженной монотонности страха. Между тем тяжесть безнадежно-
сти, навалившаяся на мои плечи с почти телесной силой — мне в голову приходил образ ярма в
буквальном смысле слова, — превратилась в деталь повседневного существования; я чувство-
вал в мозгу ужасную скованность. Я сидел на казенной табуретке возле своей койки, вдали от
других морских пехотинцев, словно замкнувшись в коконе. Помешанные на сексе пациенты с
триппером расписывали, кого и как они трахали, и тем усиливали мое отчаяние. Я потерял аппе-
тит. Вдали, за окном, морпехи вышагивали по асфальтовому плацу, и из их ртов вырывались
облачка пара. Сияюще-белый океан, похожий на северную тундру, упорно катил свои волны на
восток. По ночам, когда гасили свет, я тайком ходил по госпиталю, мучаясь тоской, а потом воз-
вращался к табуретке, сидел и смотрел на водное пространство, мерцающее при свете звезд и
словно бы накрепко замерзшее. Каким облегчением было бы, думал я, лечь и закутаться в этот
ледяной плащ, без движения, без чувств, без забот, и смотреть на равнодушные звезды.
В начале моей службы я вел обширную переписку. Толстые конверты, надписанные знако-
мым почерком, конверты разного цвета и размера (некоторые — с невыветрившимся запахом
духов) были для военных подарками, которых они ждали с жадным нетерпением, как дети на Рож-
дество. В своем брезентовом ранце я хранил кучу писем, которые перечитывал, а Лайза Фрид-
лендер писала мне на Паррис-Айленд часто. В те целомудренные времена, думается мне, перепи-
сывающиеся любовники нечасто выражали свое безумие в полных огня строках, но у Лайзы был
эпистолярный дар. Ее воспоминания были удивительно откровенны, порой у меня захватывало
дух; она намного опережала свое время. Но я больше не мог читать эти письма; даже сам пакет,
который я перевязал веревкой, нес на себе мерзкую заразу. Не мог я и заставить себя написать
Лайзе, несмотря на приказ Клоца.
Вместо этого я обратился к другой проблеме: как сохранить выдержку перед лицом после-
днего, невыносимого кошмара. Как-то утром Уинклер принес мне два письма—одно от Лайзы (я
отложил его в сторону, не читая), другое от мачехи. Всего двумя годами раньше мой отец женил-
ся, по причинам, понять которых я никогда не мог, на неуклюжей, унылой, мрачной старой деве
средних лет. Наша неприязнь друг к другу была столь же откровенна, сколь наши противоречия
непримиримы. Она была набожной христианкой, удивительно негибкой для чада епископальной
церкви, а я гордо провозглашал свой скептицизм и приверженность Камю, чей «Миф о Сизифе»
прочел в Дьюке по-французски — не без труда, но с радостью. Когда я вкратце изложил мачехе
его принципы, она нашла их «дьявольскими». Я считал ее ханжой, она меня—безбожником. Она
была трезвенницей — я пил, и довольно много. Как-то раз в подпитии, откровенно подзуживая
ее, я стал восхвалять онанизм как высшее наслаждение, и она сказала отцу, что я «извращенец».
(Я действительно зашел слишком далеко.) Она была образованна и неглупа, что делало ее нетер-
пимость еще неприятнее. Я старался сохранять подобие мира с этой женщиной из любви к моему
замороченному отцу. Она занималась обучением медсестер, причем весьма неплохо—даже дос-
тигла известных высот (в свое время она председательствовала в окружной Ассоциации дипло-
мированных сестер), — ив этом заключалось очередное противоречие: медсестры, как и врачи,
не должны страдать приступами морализма, подобными тому, который заставил ее написать мне
письмо. Предполагалось, что по прочтении сего благочестивого послания я должен забиться в
припадке, агонизируя от сознания собственной греховности.
Дурные новости, писала она, буквально сразили их с отцом. (Я послал им весточку, в кото-
рой уклончиво сообщал, что помещен в госпиталь из-за «какой-то ерунды с кровью», и она не-
медленно учуяла неладное.) Единственная серьезная проблема с моей кровью могла быть вызва-
на злокачественным заболеванием типа лейкемии, которой у меня явно не было, если учесть мои
замечания о том, как я себя отлично чувствую. Далее она холодно и профессионально предсказы-
вала, что, скорее всего, меня можно излечить новыми антибиотиками, в том случае если болезнь
не затронула слишком глубоко ЦНС (центральную нервную систему, заботливо пояснила она,
добавив, что ущерб может оказаться ужасным и непоправимым). Переходя в духовный регистр,
она сообщала мне: можно только молиться в надежде, что болезнь не проникла слишком глубоко.
У нее нет намерений судить меня (на то, конечно, есть Высший Судия), но она призывает меня
212
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
оглянуться на свой жизненный путь последних лет и спросить себя, не вело ли все мое эгоистичес-
кое поведение к такому — и этих слов я не могу забыть по сей день — «ужасному моменту исти-
ны». В конце она выражала надежду, что я не усомнюсь в том, что, несмотря на ее отношение к
поведению, которое привело меня в это состояние, я ей очень, очень дорог.
Вспоминая события пятидесятилетней давности, я никогда не чувствовал серьезных прова-
лов в памяти — в основном образы были такими яркими, словно все случилось вчера. Но время
от времени память меня подводила, и в рассказ приходилось вносить исправления. То, как па-
мять может обманывать, лучше всего продемонстрировала моя история болезни, когда я уже за-
канчивал эту хронику. Я обнаружил небольшую, слегка заплесневевшую тетрадку среди своих
архивов военной поры, когда искал что-то другое. Такая стандартная медицинская карточка со-
провождала каждого морского пехотинца на протяжении всего срока службы. Хотя мои погреш-
ности были незначительны, история болезни показала мне: я сильно заблуждаюсь относительно
некоторых хронологических деталей. Например, я готов был поклясться, что был в госпитале за
несколько дней до Рождества, хотя на самом деле к этому моменту уже вернулся в строй; жуткие
украшения на Сочельник развешивали, видимо, не в палатах, а в бараках значительно позже. Потом
я написал о нескончаемых проверках на реакцию Кана, ритуале, который держал меня в постоян-
ном страхе. Сейчас мне странно представить, что кровь у меня брали не каждый день — я помню,
как ожидание результатов сводило меня с ума, — однако история болезни показывает: в течение
месяца таких процедур было всего п^ть. Меня поразило то, как пристрастная память заставила
меня преувеличить число перенесенных мною пыток.
Но доктор Клоц и его поведение как были таинственными, так и остались. История болезни
сохранила лишь обычные записи и в конце—его тщательно выведенную подпись. Я думаю, Клоц
так поглощал мое внимание (это слегка походило на одержимость) долгие годы, потому что, по-
просту гойоря, он был устрашающим. В своей хладнокровной надменности он олицетворял не-
кий властный образ: все его страшатся, но многим приходится столкнуться с ним во плоти — я
говорю об образе бесчеловечного врача. Впоследствии я встречал много прекрасных врачей, но
было и немало таких, что вызывали в памяти леденящий душу призрак Клоца. Я никогда не мог
постичь потребность Клоца карать тех, кого он считал сексуальными злодеями. Я не был един-
ственной его жертвой среди несчастных больных морских пехотинцев, находившихся на его попе-
чении. Выдали тому виной религия (как намекал Уинклер), какая-то жесткая доктрина, которая
внушила ему столь непримиримый и суровый взгляд на секс? Тот же Уинклер предполагал — и
здесь не было противоречия, — что дело не столько в религии, сколько в «комплексах». Если так,
то его комплексы приводила в движение жестокость. Ничто иное не может объяснить, почему он
с самого начала умолчал о возможности ошибочного диагноза.
Через несколько дней после того, как я получил письмо от мачехи, Уинклер позвал меня в
крошечный кабинет заместителя Клоца. Его все называли просто Старший. На самом деле его
звали Мосс, и он был помощником старшего фармацевта. Этот светловолосый, грузный южанин
с кашлем курильщика буквально излучал добродушие. Как всегда, он сразу скомандовал мне
«вольно». По моим понятиям, он был немолодой человек — никак не моложе тридцати пяти. Я
относился с доверием и уважением к большинству санитаров, таких, как Мосс и Уинклер, — от
них больные получали поддержку и сочувствие, которых не видели от докторов. Но мое отноше-
ние к Моссу выходило за рамки простого уважения; оно скорее напоминало благоговение, пото-
му что год назад он участвовал в кровавой высадке на Тараве, в этой беспримерной бойне, и не
раз рисковал жизнью, спасая морских пехотинцев, за что заслужил награду. Морские пехотинцы
и матросы по традиции недолюбливали друг друга, но к Моссу можно было относиться только
с восхищением или даже с любовью, как относился к нему я. До этого он несколько раз приходил
ко мне в палату поболтать, всегда веселый, всегда пытающийся развеять мои страхи,—добрый,
неряшливый толстяк из Валдосты, он явно считал медицину делом тонким, в котором далеко не
все зависит от ремесла. Мосс сообщил мне, что капитан-лейтенант Клоц отбыл в рождественский
отпуск и оставил ему указания относительно меня. Моя история болезни находилась в папке на
столе Мосса, и он хотел со мной поговорить.
Во-первых, у меня нет сифилиса.
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
213
Я помню, что, несмотря на свое отступничество, вспомнил Откровение: «Побеждающий
наследует все...»
«Я говорил по телефону с дантистом, — сказал Мосс. — Он сообщил мне то же, что и док-
тору Клоцу. Твоя ангина Венсана прошла в момент. Всего лишь пара старомодных процедур.
Ну-ка, улыбнись, малыш». Я улыбнулся широкой дурацкой улыбкой, и Мосс затрясся от хохота.
«Ну и рожа у тебя, — сказал он, глядя на мои посиневшие десны. — Вылитый дикарь. Генциан-
виолет—безотказное средство. Кто его обесцветит, сколотит себе состояние». — «Скажите, —
начал я, когда Мосс жестом пригласил меня сесть, — если я правильно понял, моя реакция Кана
стала отрицательной. Ноль. Если это так, то где тут связь?» — «Скажи мне вот что, — отозвался
Мосс. — У тебя когда-нибудь уже было такое заболевание — оно еще называется гингивит?» Я
немного подумал, потом сказал: «Да, было такое. В Дьюке. Там у нескольких человек, и в том
числе у меня, началось воспаление во рту и шла кровь. У меня сначала кровь шла довольно силь-
но, а потом вроде все прошло. Я с тех пор и не вспоминал... Говорили, это потому, что в столовой
моют посуду грязной водой. А какая тут связь?»
Мосс терпеливо объяснил мне, чтб было причиной ошибочного диагноза Клоца и из-за чего
я так мучился все это время. Клоц, получив отчет дантиста, написал в моей карточке «ангина
Венсана» с отметкой об успешном излечении. В то утро Мосс, прочитав запись, решил любопыт-
ства ради покопаться в учебниках и справочниках по венерическим болезням — в образователь-
ных целях. Он обнаружил, что основными причинами ложных серопозитивных реакций Кана были
проказа и фрамбезия. (О господи, подумал я, проказа и фрамбезия!) Не было ни малейшей веро-
ятности подхватить одну из этих экзотических болезней, распространенных в жарком климате,
продолжал Мосс. Клоц их сразу же исключил, убежденный (или желая себя убедить, подумал я),
что имеет дело с более или менее запущенным сифилисом. Ангина Венсана, добавил Мосс, тоже
упоминалась в качестве возможной причины, но очень редкой — настолько редкой, что Клоц
сразу ее отмел. Из объяснений Мосса следовало: ангина Венсана, несмотря на свое жутковатое
официальное название—острый некротический язвенный гингивит,—была на самом деле безо-
бидным воспалением рта, легко излечиваемым с помощью мощного бактерицида—генциан-вио-
лета. Иногда достаточно одного применения. Одним из микроорганизмов, вызывающих ангину
Венсана, была другая маленькая зловредная спирохета (Мосс упомянул ее название—Treponema
vincentii), она-то и обнаружилась в моей крови.
«Хорошо, что ты все-таки пошел к зубному, — заключил Мосс, — а то мог бы здесь прова-
ляться вечно». Хотя я чувствовал в Моссе друга и союзника, я не решался выдвинуть прямое
обвинение против Клоца, которого с каждым новым фактом ненавидел все сильнее и сильнее. Я
не хотел портить отношения со Старшим нападками на его начальника— вдруг, бог знает почему,
он высоко того ценит. В то же время черные подозрения, охватившие меня, пока Мосс бормотал
свою литанию, состоящую из медицинских подробностей, постепенно брали верх над эйфорией,
и я не мог оставить их при себе.
«Вы знаете, — сказал я, — он хотел обнаружить худшее. Он меня слишком запугал, и я не
сказал ему, что маленький шрам на члене был у меня всю жизнь. В любом случае доктор Клоц
знал: диагноз может быть ошибочным. И мог сказать мне об этом. Но он не сказал». — «Верно»,
— тут же отозвался Мосс, выдохнув эти слова с явным оттенком презрения и осуждения. Я по-
нял, что он на моей стороне. «Он читал то же, что и вы, — продолжал я. — Он знал об ангине
Венсана. Он мог назначить дополнительный анализ, разве нет? Но он и этого не сделал. Он мог
уберечь меня от стольких страданий. Он мог дать мне какую-то надежду...» — «Это верно». —
«Он что, псих?»
Клоц находился в отпуске. Спустя несколько часов мне предстояло вернуться к баракам и
муштре — очередной годный рекрут, снова попавший в челюсти военной машины. Я никогда
больше не увижу Старшего. В этих обстоятельствах Мосс мог бы высказать все, что он думает
про Клоца. Но Мосс был человек бывалый, профессионал, бесспорно, слишком преданный ко-
дексу чести, чтобы пойти на такое. Однако я почувствовал его товарищескую поддержку, мыс-
ленное рукопожатие, когда он покосился на меня и произнес: «Он наказывал тебя, малыш, он тебя
наказывал».
Покидая госпиталь, я прямо-таки предвкушал те испытания, которые прервала моя мнимая
214
Из сборника «Лучшие американские эссе 1996 года»
болезнь. Злобные капралы с гладко выбритыми затылками и выпученными глазами снова станут
наседать на меня, тыкать стеком в солнечное сплетение, давать коленом под зад, называть ублюд-
ком и недоноском, брызгать угрозами, слюной и ненавистью, из-за чего моя повседневная жизнь
превратится в такой кошмар, что каждый вечер я буду забираться в кровать, как калека, кото-
рый ждет прихода смерти, надеясь на воскрешение в иной жизни. Потом будет кровавый Тихий
океан, где я буду убивать, где, может быть, убьют меня. Но с этими ужасами я мог справиться; а
в палате я был сломлен страхами, которые даже трудно вообразить.
В тот же день я прошел по плацу в сумерках с вещмешком за плечами — он казался гораздо
легче, чем месяц назад. На дальнем конце полигона взвод морских пехотинцев шагал по асфальту,
считая в такт, и над хором молодых голосов возносился высокий, безумный вопль инструктора.
Где-то в неразличимой дали тихо, но отчетливо оркестр играл «Марш полковника Богги», желч-
но-грустное отражение войны, и в гармониях меди сливались триумф и скорбь. Музыка ускори-
ла мои шаги, и я чувствовал, что она подталкивает меня к будущему, где страдание хотя и неиз-
бежно, но знакомо.
У меня было время зайти в лавку, чтобы купить курева и конфет. Я питал тайную страсть
к конфетам и не мог не побаловать себя в такой момент. Кроме того, я не смог устоять и купил
открытку с фотографией морских пехотинцев, фальшиво улыбающихся во время зарядки. На
открытке было написано: «Привет с Паррис-Айленд». К Рождеству я отослал ее мачехе, наца-
рапав:
«Дорогая старушка!
Мои безумные, дикие совокупления привели не к сифилису, а к гингивиту. (Вернулся из
трипперного барака как раз вовремя, чтобы отпраздновать рождение нашего Господа и Спаси-
теля.)
С любовью, Билл».
Перевод с английского А. БОРИСЕНКО и В. СОНЬКИНА
illlliiiili гений мест? iiiiiim
•••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••
ПЕТР ВАЙЛЬ
СКАЗКИ НАРОДОВ СЕВЕРА
Копенгаген—Андерсен, Осло—Мунк
ГАД КИЙ СОЛДАТИК
дин из уроков Дании — нет маленьких
стран. Я догадывался об этом и раньше —
обнаружив бескрайние просторы полей и лесов
в Люксембурге, глядя на уходящие за горизонт
горные гряды в Андорре, проведя три дня в
Сан-Марино в беспрестанном перемещении,
правда больше по харчевням и распивочным. Но
маленькая Дания велика особенно наглядно.
Дело не в геополитическом курьезе, соглас-
но которому 98 процентов территории Датс-
кого королевства находятся в Америке (Грен-
ландия), а в большой столице маленькой стра-
ны и главное — в островах. Пересечь Данию
— задача непростая и нескорая, хотя повсюду
паромы. И какие! Я отправился из Копенгаге-
на в родной город Андерсена — Оденсе — по-
ездом. На берегу пролива Сторебелт между Зе-
ландией и Фюном вагоны загнали на паром.
Странно применять этот термин с сугубо де-
ревенскими аллюзиями к четырехпалубному
кораблю в полтораста метров длиной, на две с
половиной тысячи пассажиров, с ресторанами,
кафе, магазинами, игровыми автоматами, теле-
залами. Какая-то заминка произошла при вы-
воде поезда с парома, объявили о 15-минутном
опоздании и в каждый вагон внесли телефоны
— предлагая позвонить, чтоб не волновались
родные или кто там. Это, что ли, духовность?
Путаюсь и затрудняюсь. И вообще — не о
России речь.
Датские города напоминают о Риге. От это-
го никуда не деться — встречать по миру раз-
бросанные там и сям куски своего детства и
юности. Естественно, больше всего их — в гер-
манских, протестантских, готических местах.
Припортовые склады с характерными балками
для лебедок я с волнением разглядываю в
Копенгагене, Амстердаме, Гамбурге, Стокголь-
ме, Бергене, Осло. Да и как не волноваться,
если в тийш, уюте и прелести таких кварталов
глаз навсегда зафиксировал незабываемые лица,
слух — памятные слова, вкус — неизменную
подливку воспоминаний: непригодный для пи-
тья, но алчно пившийся портвейн. В самой из,-
© П.Вайль, 1997
менившейся Риге всего этого уже не разглядеть,
мешает сегодняшний день, а европейские подо-
бия дают чистый концентрат памяти. Я родил-
ся и вырос на вполне, как выясняется, копенга-
генском углу, возле вполне датской краснокир-
пичной церкви Св. Гертруды с золоченым пе-
тушком на шпиле. Улица моя называлась
именем Ленина, но это — несущественная ме-
лочь, как показало время.
Однако Рига всегда была лишь красивым,
временами богатым, временами важным про-
винциальным городом. Копенгаген же — вели-
кой столицей, скандинавским Парижем, через
который возможен был выход в мир для Ген-
рика Ибсена, Эдварда Грига или Эдварда Мун-
ка. Королевское достоинство удивляет в Коп-
енгагене новичка, не ожидающего встретить та-
кое в стране, едва различимой на карте. Не-
весть откуда взявшийся имперский дух (не
из-за владения же Гренландией и Фарерскими
островами) проявляется не только в мощной
архитектуре и размашистой планировке, но и
в неожиданно пестрой гамме уличного народа;
в диковинных для севера этнических меньшин-
ствах — сомалийцы, боснийцы; в обилии при-
чудливых ресторанов — курдский, австралий-
ский с крокодиловым супом, «Александр Не-
вский» возле вокзала.
Вероятно, имя новгородского князя — мир-
ная память о войнах тех времен, когда различия
между датчанами и шведами, по сути, не было.
В Стокгольме, у церкви Риддархольм, стоит па-
мятник ярлу Биргеру, как две капли воды по-
хожему на Александра Невского: тот же фасон
шлема, кольчуги, сапог, бороды, то же суровое
и победное выражение лица. Биргера в Швеции
уважают: я, например, жил в превосходной гос-
тинице его имени. Не знаю, есть ли в Новгороде
отель, названный в честь Александра Яросла-
вина, но не глядя поручусь, что если есть — то
хуже. А ведь Александр сделался Невским, раз-
громив как раз ярла Биргера.
Дело в точке зрения. Что считать достойным:
победу в «драке за пучок соломы», как назы-
вал это Датский принц Гамлет, или урок, извле-
ченный из поражения?
216
Петр Вайль
От прошлого величия в Копенгагене — кос-
мополитический дух, делающий городскую
толпу одной из самых веселых, раскованных и
ярких на европейском севере, с частыми вкрап-
лениями замечательных датских красавиц. Тол-
пу лучше всего наблюдать на Строгете — са-
мой длинной пешеходной улице континента.
Даже в воскресенье, когда почти все окаймля-
ющие улицу магазины закрыты, здесь флани-
руют, пляшут, поют и гроздьями сидят на па-
рапетах и вокруг фонтанов. От шумной ра-
тушной площади Строгет тянется к широкому
открытому пространству перед дворцом Крис-
тианборг, завершаясь просторной Новой Ко-
ролевской площадью, выходящей к портово-
му району Нюхавен. То есть — всё нараспашку.
Желающий может проследить изрядную
часть этого пути по андерсеновской сказке «Ка-
лоши счастья». Все названия — те же. Но в ис-
тинном, нынешнем Копенгагене отсутствует
уют, «гемютность», одушевляющая материаль-
ный мир сказок. И есть сомнения — был ли та-
ким город эпохи Андерсена? Как раз на том от-
резке Строгета, который и сейчас, как прежде,
именуется Остергаде (в русском переводе сказ-
ки — Восточная улица), размещались городс-
кие бордели, последний закрылся в первый год
XX века. В здешнем музее эротики — лучшем
в мире, тут же на Строгете, неподалеку от бо-
гословского факультета — я разглядывал фо-
тографии шлюх с клиентами-моряками, в чьей
повадке почудилось что-то знакомое. Вглядел-
ся в надписи на бескозырках — «Верный».
За пять лет между моими наездами русских
в Копенгагене стало больше, и они изменились.
В двух кварталах от ратуши появился Россий-
ский центр науки и культуры, где за билет на
певицу Киселеву берут тридцать крон, а на ар-
тиста Джигарханяна — девяносто. Культурный
процесс разнообразный и соразмерный. Как,
интересно, с наукой? На Строгете, точно на том
же углу, что пять лет назад, — такой же сооте-
чественник с гитарой. Репертуар тот же—«До-
рогой длинною» и пр., но иное обличье: вмес-
то пиджака и сандалет — добротная куртка,
ковбойские сапоги. Мы уже почти неотличимы
на улицах европейских городов.
Почти. Кто это сказал: «Беда русских в том,
что они белые»? Хотя что-то и сдвигается, о
взаимовлиянии и взаимопроникновении гово-
рить рано. Пока Россия присутствует в евро-
пейском сознании невнятно, хаотично, тревож-
но. Это Европа давно интегральная часть рос-
сийского мироощущения. Даже Дания. Разуме-
ется, андерсеновская. Оле Лукойе раскрывает
вечерний зонтик, усатая крыса требует и тре-
бует паспорт у солдатика, на этажерке — Пас-
тушка и Трубочист: трофейный фарфор-фа-
янс, преобразивший эстетику советского быта.
Поэтика одушевленного предметного мира,
аукнувшаяся в рассказах Татьяны Толстой,
песнях Вероники Долиной. Сплошь голые ко-
роли. «Марь Иванна, мне неудобно!» —
«Подумаешь, принцесса на горошине!» Во вла-
дивостокской гостинице «Владивосток» позд-
ним вечером у меня в номере раздался звонок,
мягкий баритон заговорил: «Мы бы хотели оз-
накомить вас с услугами нашей эротической
фирмы «Дюймовочка».
Всемирно известных датчан — немного. Фи-
зики назовут Эрстеда, еще более прославлен-
Памятник Андерсену
в копенгагенском парке
ного Бора. Поколение моих родителей уважа-
ло Мартина Андерсена-Нексе, я в юности на-
прасно подступался к нему, привлеченный глу-
бокомысленным названием «Дитте — дитя че-
ловеческое». Большинство остальных знамени-
тостей, о которых сначала думаешь, что они
датчане, — норвежцы. Однако есть двое вне
конкуренции, два писателя, почти ровесники,
равновеликие на разных полюсах словесности,
— их чтит целый мир. Об одном все говорят,
что читали, другого читали все. Сёрен Кьер-
кегор и Ханс Кристиан Андерсен.
Бронзовые памятники в Копенгагене соот-
ветствуют посмертной судьбе героев. Кьерке-
гор — в тихом садике при Королевской библи-
отеке, куда не забредет посторонний. Андер-
сен — в публичном парке, на фоне грациозно-
го розового замка Розенборг, в виду грациозно
загорающих на газонах розовых тел без лиф-
чиков, в излюбленном месте отдыха трудящих-
ся копенгагенцев и гостей города. Кьеркегор
уселся в неловкой позе, насупившись, сдвинув
наискосок ноги, как воспитанная девушка, в ле-
вой руке держит одну книгу, а правой пишет в
другой нечто, чего не узнать никогда. Андер-
сен сидит свободно и раскованно, глядит поверх
голов, уже все написал, и книга в левой руке
повернута обложкой вверх, а правая рука с
растопыренными пальцами протянута словно
Сказки народов севера
217
для благословения или успокоения. Похоже на
жест маршала Жукова у Исторического музея,
которого за это прозвали в народе «нормалёк».
Другой копенгагенский Андерсен — не столь
возвышен, наоборот, доступен: на бульваре
своего имени, у всегда оживленной ратушной
площади, вровень с пешеходами, растопырив
колени, смотрит на увеселительный парк
Тиволи.
Странные сближения случались в судьбах
датской словесности. Первая книга 25-летнего
Кьеркегора целиком посвящена критике одно-
го из незначительных романов Андерсена.
Это сочинение под длинным витиеватым на-
званием «Из записок еще живого человека,
опубликованных против его воли. Об Андер-
сене как романисте, с особым вниманием к его
последней книге «Только скрипач». Оно заслу-
женно забыто, даже (единственное из кьерке-
горовских трудов) не переведено на английс-
кий. Есть, правда, изложение с цитатами. Кни-
га написана молодым задиристым суперинтел-
лектуалом — языком, которого не понимал
нормальный читатель. Современники говори-
ли, что ее до конца прочли двое — Кьеркегор
и Андерсен.
Не слишком важный сам по себе, этот эпизод
проясняет много любопытного в литературной
судьбе Андерсена.
Меланхолические сказки и истории, посто-
янные жалобы в огромной переписке и обшир-
ных мемуарах «Сказка моей жизни», биогра-
фии, написанные под естественным их влияни-
ем, — всё выстраивает образ страдальца, про-
бивающегося в своей родной стране сквозь
непонимание, непризнание, оскорбления и на-
смешки.
Вот и Кьеркегор обрушился на него всей
мощью своего ума — к счастью для Андерсе-
на, слишком изощренного, чтоб стать публи-
цистически действенным. Но гораздо примеча-
тельнее то, что самоутверждающийся молодой
мыслитель выбрал объектом критики именно
Андерсена — потому, конечно, что тот к своим
тридцати трем годам был вседатски и всеевро-
пейски знаменит и признан. А ведь к тому вре-
мени вышли только десять его сказок: успех еще
до них принесли ныне начисто забытые рома-
ны (особенно вышедший в 1835-м «Импрови-
затор»), а настоящая баснословная слава ска-
зочника только начиналась.
Трудно представить более счастливую пи-
сательскую судьбу. С юности окруженный пок-
лонниками и меценатами, издавший первую
книгу в семнадцать лет, ставший мировой су-
перзвездой задолго до сорока, живший с трид-
цати только на литературные заработки и сти-
пендии, друживший с великими писателями,
ласкаемый и награждаемый монархами, провед-
ший старость в славе и почете.
Ему было сорок три, когда в Германии выш-
ло тридцативосьмитомное (!) собрание его со-
чинений по-немецки. Между тем жалобы и пе-
чальный образ делали свое дело: в конце жиз-
ни, когда только от государства Андерсен по-
лучал тысячу риксдалеров ежегодно, ему
привезли двести риксдалеров, собранных сер-
добольными американскими детьми нуждающе-
муся сказочнику.
Разумеется, над ним смеялись: например, ба-
рышни легкого поведения из увеселительных
заведений Тиволи над его потешной внеш-
ностью — длинный нос, невероятная худоба,
огромные ступни, несоразмерные руки. То-то
Андерсен был едва ли не единственным копен-
гагенцем, которому не понравился открытый
в 1843-м и известный теперь на весь мир парк
развлечений, Диснейленд XIX века. По сей
день датские провинциалы часто приезжают не
столько в Копенгаген, сколько в Тиволи: парк
напротив вокзала, через улицу.
К городу у Андерсена отношение было, что
называется, смешанное.
Он считал день своего прибытия из Оденсе
в Копенгаген — 6 сентября 1819 года — самым
важным в жизни и праздновал наряду с днем
рождения.
Первая популярная книга — это целиком ос-
нованная на копенгагенской топографии по-
весть «Прогулка пешком от Хольмского кана-
ла до восточной оконечности острова Амагер
в 1828—29 гг.». Я по этому пути частью про-
шел, частью проехал. На острове Амагер сей-
час аэропорт и, как прежде, старинный рыбац-
кий поселок Драгёр, где полным-полно шве-
дов: изнуренные антиалкогольной борьбой, они
приезжают на пароме из Мальмё за дешевой
выпивкой, благо через Зунд — полчаса и семь
долларов туда-обратно.
Без Копенгагена немыслимы многие андерсе-
новские сказки — не только «Калоши счастья»
или «Капля воды», где город есть сюжет, но и,
скажем, хрестоматийное «Огниво»: «У собаки
глаза — каждый с Круглую башню». Взгляд
истинного писателя, сумевшего увидеть не
фронтально, а в сечении башню XVI века, одну
из главных достопримечательностей Копенгаге-
на, известную еще и тем, что на нее в 1716-м
въехал верхом Петр Великий.
Андерсен знал город досконально и, судя по
пристальному вниманию, любил, как и страну:
его стихотворение «Дания, моя родина» до сих
пор учат наизусть в школах. Но — как часто
бывает — переносил на Копенгаген вину за
беды.
Когда читаешь Андерсена в максимально
полном объеме — не только сочинения, но и
письма, и автобиографию, — видно, как по-раз-
ному преломлялись его непростые отношения
с отечеством. Плодотворно — в сказках. Столб
218
Петр Вайль
говорит ласточке: «Уж больно много вы ры-
щете по свету. Чуть здесь холодком потянет —
вы уже рветесь в чужие края. Не патриотка
вы!» — «А если б я всю зиму в болоте проспа-
ла, я тогда заслужила бы признание?» («Ско-
роходы»). Диалог лягушек: «Какие дожди, ка-
кая влажность — очаровательно! Право, кажет-
ся, будто сидишь в сырой канаве. Кто не раду-
ется такой погоде, тот не любит родины»
(«Навозный жук»). Как в современном россий-
ском анекдоте: «...Это наша родина, сынок».
И совершенно иной стиль и пафос частных
писем: «Я бы хотел никогда больше не видеть
это место, я бы желал, чтоб Всемогущий Гос-
подь никогда больше не позволил никому, по-
добному мне, родиться здесь; я ненавижу ро-
дину, как она ненавидит меня и плюет на меня.
Пожалуйста, моли за меня Господа, чтоб пос-
лал мне быструю смерть и я никогда больше не
видел бы места, где меня заставляют страдать,
где я чужой больше, чем на чужбине». Вырван-
ный из контекста биографии, вопль потрясает.
Слова написаны по возвращении из* Парижа, где
за два месяца Андерсен был радушно принят
Гюго, Дюма, Ламартином, де Виньи, Бальзаком,
Скрибом, Готье, Гейне, Рашелью. А дома —
критические отзывы, сомнительные рецензии,
неуважительные шаржи. То же самое — после
триумфальной поездки по Голландии, Герма-
нии, Англии: «Я прибыл в Копенгаген. Несколь-
кими часами позже я стоял, глядя в окно, когда
мимо шли два хорошо одетых джентльмена. Они
увидели меня, остановились, засмеялись, и один
из них указал на меня и произнес так громко, что
я слышал каждое слово: «Смотри! Вот наш оран-
гутанг, который так знаменит за границей!»
Кьеркегор: «...Когда честолюбец говорит:
«Надо быть Цезарем или никем», и ему не уда-
ется стать Цезарем... ему уже невыносимо быть
самим собой. В глубине души он отчаивается не
в том, что не стал Цезарем, но в этом своем Я,
которое не сумело им стать». Андерсен и ездил
за границу, чтоб превращаться там в Цезаря.
Дома же на фоне несомненного общего при-
знания и почтения попадалась, разумеется, и
критика, к которой Андерсен оказался болез-
ненно нетерпим. Слишком много человечески
неполноценного носил он в себе, чтобы позво-
лить хоть кому-то усомниться в своем литера-
турном совершенстве.
Критиков он ненавидел как класс, всегда вы-
искивая личные причины и мотивы (по выходе
кьеркегоровской книги — тоже). Критики за-
метно и неприглядно присутствуют в сказках
и историях. То это худший из пяти братьев
(«Кое-что»): один — кирпичник, второй —
каменщик, третий — строитель, четвертый —
архитектор, пятый — их злобный критик, ко-
торому в итоге отказано в райском блаженст-
ве. То — грязная улитка на цветке («Улитка и
розовый куст»). То — содержимое шкафа на
болоте («Блуждающие огоньки в городе!»). То
— навозные мухи («Лягушачье кваканье»). И
уж совсем утрачивая чувство формы, на чис-
той ярости: «Засади поэтов в бочку да и колоти
по ней! Колоти по их творениям, это все одно
что колотить их самих! Только не падай духом,
колоти хорошенько и сколотишь себе деньжон-
ки!» («Что можно придумать»).
Многое станет ясно, если учесть феноменаль-
ную плодовитость Андерсена. Выходили рома-
ны, сборники стихов, после каждого выезда за
рубеж — путевые заметки, в театре шли андер-
сеновские пьесы: все это кануло в историю ли-
тературы, не оставив следа на ее читательской
поверхности. Но современники-соотечествен-
ники потребляли продукцию в полном объеме
и время от времени выступали с рекламация-
ми. На экспорт же, совместными усилиями ав-
тора и переводчиков, шел отборный материал
— отсюда и перепад в домашнем и загранич-
ном восприятии Андерсена.
Совершенно очевидно, что он не осознавал
этого. Не желал — принципиально и установоч-
но — осознавать. Свято поверив с юности в
свой дар и свое предназначение, Андерсен был
непреклонен в стремлении к признанию — Гад-
кий утенок с характером Стойкого оловянного
солдатика.
В тридцать четыре года он написал конфи-
дентке: «Мое имя начинает блистать, и это един-
ственное, ради чего я живу. Я жажду почестей
и славы, как бедняк жаждет золота...»
Куда больше золота его волновал блеск.
Прежде всего — королевский, который в Скан-
динавии доступнее, чем где-либо. Еще мальчи-
ком в своем родном Оденсе он, сын бедняков,
был по случаю представлен как способный
ученик будущему королю, тогда наследнику.
Перебравшись в Копенгаген, юношей ходил во
дворец: там занимал апартаменты один из его
покровителей, адмирал Вульф. В молодости
посвятил королю сборник «Четыре времени
года» и получил аудиенцию. Отголоски корот-
кой дистанции с монархами — в сказках и исто-
риях: «Королевская фамилия катается в лодке
по узким каналам. Старый король сам правил
рулем, рядом с ним сидела королева, и оба при-
ветливо отвечали на поклоны подданных, не
разбирая сословий и чинов» («Ключ от во-
рот»). И — с великолепным андерсеновским
юмором: «Фрейлины прыгали и хлопали в ла-
доши. «Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп
и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные
котлеты!» — «Да, но держите язык за зубами,
я ведь императорская дочка!» («Свинопас»).
Это—о неких патриархальных временах. Но
скандинавские монархи и сейчас — часть насе-
ления. Молодая (на троне с тридцати одного
года) королева одной из старейших монархий
Сказки народов севера
219
Европы — датская Маргрете II — оформляла
телеспектакль «Пастушка и трубочист», выпу-
стила игральные карты своего дизайна. Репро-
дукции ее картин продаются повсюду, так как
доход идет в фонд борьбы с какой-то ужасной
болезнью — проказой или анорексией, точно
не помню. Зато отчетливо помню, но не берусь
пересказать ее живопись — похоже на Чюрлё-
ниса, но с еще большей претензией: цикл «Вре-
мена года» состоит из шести холстов. Хруще-
ву бы это не понравилось, хотя королева Мар-
грете, в отличие от народных российских во-
ждей, ездит в городском автобусе и ходит на
дневные сеансы в кино.
Можно, разумеется, назвать такие королев-
ства ненастоящими, кукольными, декоративны-
ми. Но стоит вспомнить, что шведы, например,
сознательно сохранили монархию даже в бур-
ные времена Французской революции, пони-
мая, что символ и традиция — гарантия стабиль-
ности, а с королем справиться можно. Сканди-
навские короли отчитывались перед парламен-
том уже тогда, когда во Франции еще не
родился монарх, сказавший «Государство —
это я», уже тогда, когда Иван Грозный сажал на
престол шутов. Впрочем, не о России речь.
Андерсен был любимцем королей. И не толь-
ко датских. Перечень его венценосных знакомых
— как список Дон Жуана, который этот дев-
ственник пополнял с донжуановским прилежа-
нием. Шведская королевская чета рыдала, ког-
да он читал ей свою «Историю одной матери».
Его награждали пышными орденами король
Пруссии и император Мексики. А то, что Ан-
дерсена обожал Кристиан IX, — факт европей-
ского литературного процесса. Датский король
приучил к андерсеновским сказкам своих де-
тей, которые позже утвердились на престолах
Британии, Греции, России (принцесса Дагмара,
ставшая супругой Александра III).
Сын сапожника и прачки, Андерсен мечтал
о величии. Об этом — его великая крошечная
сказка «Принцесса на горошине».
Как неизбежно связано у Андерсена качест-
во с объемом! Среди его 168 сказок и историй
есть чудовищно длинные, в них безнадежно
увязаешь: «На дюнах» — 27 страниц, «Дочь
болотного царя» —33, «Дева льдов» — 40.
Такова специфика жанра: подлинные сказки не
бывают долгими, поскольку вышли из устной
речи. Андерсеновские шедевры — только ко-
роткие: трехстраничные «Новое платье коро-
ля», «Стойкий оловянный солдатик», «Ханс
Чурбан», максимум — «Гадкий утенок» на
шесть страниц. И белый карлик сказочного ми-
нимализма — одна страничка «Принцессы на
горошине», в которой сказано все, что можно
сказать о комплексе неполноценности и попыт-
ке его преодоления. Такая сказка должна была
бы возникнуть в нынешней России.
Почему-то закрылся андерсеновский музей
в Нюхавене — в этой копенгагенской гавани те-
перь только туристский променад с неплохими
рыбными ресторанами. Я успел еще застать в
доме №18, где несколько лет прожил Андерсен,
забавные экспонаты. Выделялось по-сказочно-
му простодушное овеществление аллегории:
описанная в «Принцессе на горошине» кровать
с сорока тюфяками и пуховиками, на которые
можно было забраться и проверить себя на бла-
городную чувствительность. Я забрался: не
принцесса.
Андерсен тоже был не принцесса, но очень
хотел быть равным. Существует множество
свидетельств его неприличного заискивания
перед титулами. Гейне, в остальном хорошо от-
носившийся к Андерсену, отзывался об этом
презрительно, употребляя слова «раболепный»
и «подобострастный», резюмируя: «Он пре-
восходный образец такого поэта, которого же-
лают видеть вельможи». Лучший друг и мно-
голетний корреспондент Андерсена (известно
441 их письмо друг другу) Генриетта Вульф
не утерпела, чтоб не попенять ему: «Неужели
вы действительно ставите титул, деньги, арис-
тократическую кровь, успех в том, что всего
лишь оболочка, выше гения, духа, дара души?»
Но в своем даре Андерсен не сомневался, а
близость с королями внушала необходимую
уверенность, ослабляла гнет тяжелых комплек-
сов, компенсировала все, от чего он страдал. Пе-
речень страданий впечатляет.
Андерсен боялся отравления, ограбления,
соблазнения и сумасшествия; собак и потери
паспорта; смерти от руки убийц, в воде, в огне
— и возил с собой веревку, чтоб в случае по-
жара вылезти в окно; погребения заживо — и
клал у постели записку «На самом деле я не
умер»; трихинеллёза — и не ел свинины; был
подвержен агорафобии и свирепой ипохонд-
рии; тревожился, что не так заклеил и непра-
вильно надписал конверт; неделями переживал,
что переплатил за билегг или книгу. Всю жизнь
мучился от зубной боли, а в старости у него
болели даже вставные зубы. И конечно, был
страшно мнителен по части своей наружности
— ему казалось, что над ним смеются. Над ним
и смеялись. Отношения с жизнью никогда не
бывают односторонними: если это любовь, то
только взаимная. Нельзя с нелюбовью отно-
ситься к жизни и ждать любовных флюидов в
ответ. Только тот, кто боится быть смешным,
плюхается в лужу.
Андерсен увлеченно позировал перед фото-
аппаратом: известно более полутораста его пор-
третов. Он вдумчиво относился к процессу,
считал свой правый профиль выигрышнее ле-
вого, подолгу изучал снимки — словно каж-
дый раз надеясь, что увидит нечто иное.
Как странно в ретроспективе выглядит ярое-
220
ПетрВайль
тная кьеркегоровская критика Андерсена. Ведь
всю тогдашнюю и дальнейшую жизнь копен-
гагенского сказочника можно считать некой ил-
люстрацией к будущим выкладкам Кьеркего-
ра о сексуальности, страхе греха, смысле
смерти.
«...Крайняя точка чувственного — как раз
сексуальное. Человек может достигнуть этой
крайней точки только в то мгновение, когда дух
становится действительным. До этого времени
он не зверь, но, собственно, и не человек; толь-
ко в то мгновение, когда он становится челове-
ком, он становится им благодаря тому, что од-
новременно становится животным».
Андерсен умер девственником, всю жизнь
желая обрести столь четко сформулированную
Кьеркегором полноценность, при этом мучась
страхом так и не совершенного греха. Он влюб-
лялся, хотел добропорядочно жениться, но до-
бропорядочных женщин пугал: его любовные
письма так безумно пылки, что уже и просто
безумны. Легко предположить, что такова и
была их истинная глубинная цель: напугать и
оттолкнуть. Во всяком случае, от этих женщин
он слышал ответ, вложенный им в уста герои-
ни истории «Под ивою»: «Я всегда буду для
тебя верною, любящею сестрою, но... не боль-
ше!»
Что до женщин недобропорядочных, то их
Андерсен боялся так, как боится, вожделея, лю-
бой подросток: ощущение, известное каждому
мужчине, с той лишь разницей, что подростко-
вость Андерсена длилась до старости. 29-лет-
ним в Неаполе он день за днем записывал в
дневнике впечатления от встреч с уличными
проститутками: «Если я [и тут] прихожу домой,
не потеряв невинности, я ее никогда не поте-
ряю», «Я все еще невинен, но кровь моя го-
рит...» А будучи за шестьдесят, ходил в борде-
ли — не на родной Остергаде, а в Италии и осо-
бенно в Париже, — но только беседовал со
шлюхами, которые удивлялись и даже настаи-
вали, но он твердо уклонялся.
Позднейшие исследователи, конечно же, об-
наружили Андерсена-гомосексуалиста и Ан-
дерсена-педофила. Действительно, его письма
к сыну своего покровителя Эдварду Коллину,
балетному танцовщику Харальду Шарфу, мо-
лодому герцогу Веймарскому — вполне «лю-
бовные» на сегодняшний вкус. И трудно не со-
дрогнуться, читая такое: «Мне нравятся дети...
Я частенько подглядываю за ними сквозь гар-
дины... Ну и потеха наблюдать, как они разде-
ваются. Сначала из-под рубашонки вынырива-
ет круглое плечико. За ним ручонка. Или вот
чулок. Его стягивают с пухлой ножки, тугой, в
ямочках, и наконец появляется маленькая ступ-
ня, созданная для поцелуев. И я целую ее»
(«Что рассказал месяц»). В знаменитой сказке
«Нехороший мальчик» действует Амур, чего
я в детстве не понимал, воспринимая мальчу-
гана с луком и стрелами хулиганом, а не Купи-
доном. Взрослый же взгляд отмечает педофиль-
ское любование: «Маленький мальчик, совсем
голенький... прехорошенький — глазенки у
него сияли как две звездочки, а мокрые золо-
тистые волосы вились кудрями». Все так, од-
нако всегда есть опасность недобросовестного
модернизирования: изыски сентиментального
стиля и особенности эпистолярного этикета,
легко глотаемые современниками, кажутся са-
моразоблачениями потомкам.
Что явно и несомненно в сказках и историях
Андерсена — крайняя жестокость по отноше-
нию к женщине. И шире — к молодой цвету-
щей красоте.
«Палач отрубил ей ноги с красными башма-
ками — пляшущие ножки понеслись по полю и
скрылись в чаще леса» («Красные башмаки»).
В этой зловещей мультипликации звучит мо-
тив прославленной «Русалочки» — надруга-
тельство над женским телом. Бронзовый памят-
ник страху телесной любви стал символом
Копенгагена:
К этой статуе идет поток туристов — от
Новой Королевской площади мимо монумен-
тальной Мраморной церкви, мимо уютного
православного храма, мимо элегантного двор-
ца Амалиенборг с одной из самых изящных в
Европе площадей: мимо всей этой рукотворной
красоты — к рукотворному воплощению ужа-
са перед красотой.
Русалочка сидит у берега на камне, поджав
хвост, склонив голову, которую однажды но-
чью отпилил такой же неутоленный мастурба-
тор, как Русалочкин создатель. Его так и не
нашли, а голову приделали новую, не хуже пре-
жней — не в голове ведь дело.
Странно, если вдуматься, что талисманом
полного красивых женщин, свободного в нра-
вах, теплокровного города стала девушка, ко-
торую оснастили рыбьим хвостом, навсегда
сдвинув ноги.
Я видел меню торжественного банкета к 70-
летию Андерсена — все блюда по названиям
сказок. Увы, меню по-датски без перевода, так
что я не разобрал, был ли подан «гадкий уте-
нок». Но вообще-то не развернуться: ну, «ди-
кие лебеди», «два петуха», «горошина» без
«принцессы», «пятеро из одного стручка», «со-
ловей», конечно. «Улитка и розовый куст» —
отдельно эскарго и отдельно букет в вазе;
«жаба» — допустим, лягушачьи лапки; «суп из
колбасной палочки» — кулинарный челлендж.
Запить «каплей воды». С десертом совсем беда
— одно не публиковавшееся при жизни «ябло-
ко». Нет, по части жизнетворных проявлений
Андерсен был не мастер. Вот по части угаса-
ния — да.
Характерные пассажи: «Посреди комнаты
Сказки народов севера
221
стоял открытый гроб; в нем покоилась женщи-
на цветущих лет» («Последняя жемчужина»);
«Брачным ложем твоего жениха становится
гроб, и ты остаешься старою девой!» («Из окна
богадельни»); «Библия лежала под головою мо-
лодой девушки в гробу» («Отпрыск райского
растения»).
Названия историй: «Старая могильная пли-
та», «Мертвец», «На могиле ребенка».
Сказочные зачины: «Каждый раз, когда уми-
рает доброе, хорошее дитя...» («Ангел»);
«Мать сидела у колыбели своего ребенка; как
она горевала, как боялась, что он умрет!» («Ис-
тория одной матери»).
Смертельная охота к таким сюжетам, вопло-
щенная с невиданной легкостью: «Дети попля-
сали вокруг могилки...» («Сердечное горе»);
«Знаем! Знаем! Ведь мы выросли из глаз и из
губ убитого! — ответили духи цветов...»
(«Эльф розового куста»). Декамероновская
тень тут мелькает лишь сюжетно: Андерсен ли-
шен ренессансной радости бытия, просветля-
ющей смерть. Наоборот — торопливое нагне-
тание однородных членов, любого из которых
довольно для страшной трагедии: «В доме во-
царилась печаль; все сердца были полны скор-
би; младший ребенок, четырехлетний мальчик,
единственный сын, радость и надежда родите-
лей, умер» («На могиле ребенка»).
Ребенком Андерсен написал пьесу, в которой
все умирали. Первая вещь, принесшая ему из-
вестность дома и за границей, — стихотворе-
ние, до сих пор популярнейшее из всех андер-
сеновских стихов, «Умирающий ребенок». В
сказках — повальный мор, причем молодых и
цветущих. И почти всегда — без объяснения
причины: Андерсен сознательно — или, что
еще выразительнее, подсознательно! — не дает
себе труда указать причину, что было бы лег-
ко сделать в одном-двух словах. Но нет: юные
и прекрасные умирают словно только для того,
чтобы заклясть смерть стареющего и уродли-
вого.
Настоящие народные сказки, как всякий
фольклор, — в легких отношениях со смертью.
Мифологическая простота достигается тут за
счет представления о непрерывности процесса
бытия: сегодня живой, завтра мертвый — ка-
кая разница. Скандинавский фольклор — ре-
кордный по свирепой обыденности смерти:
«Они теперь в моде, эти широкие наконечники
копий», — сказал Атли и упал ничком». Впро-
чем, страшной жестокостью полны и русские
сказки — особенно «заветные», собранные
Афанасьевым или Ончуковым. Там разгул ци-
низма (прохожий солдатик, хотя у него даже не
спрашивают паспорта, насилует поочередно
поповну, попадью и попа), там запросто валят-
ся трупы: и задело, и чаще за так. Живые и мер-
твые сосуществуют на равных, и потому фоль-
клорный герой убивает не задумываясь, как
прошедший Чечню омоновец: он привык к пог-
раничному состоянию.
Отзвуки такой карнавальной легкости есть и
у Андерсена — там, где он старательно стили-
зует фольклор: «Большой Клаус побежал до-
мой, взял топор и убил свою старую бабушку,
потом положил ее в тележку, приехал с ней в
город к аптекарю и предложил ему купить мер-
твого человека» («Маленький Клаус и Большой
Клаус»). Однако с годами Андерсен словно пе-
рестал стесняться того, что было ясно с самого
начала, но что он считал нужным не выставлять:
его сказки — чистая, рафинированная литера-
тура. Смерть у него отягощена христианскими
аллюзиями, отрефлектирована, над ней проли-
ты обильные слезы, автор и читатель преиспол-
нены печали. При всем этом частота кончин в
сказках и историях — угрожающая. Сколько
точно — не подсчитывал и не стану: само это за-
нятие было бы пугающей игрой со смертью,
пусть даже чужой и бумажной.
Важна суть: Андерсен плачет, но убивает.
Еще важнее — кого: в андерсеновских сказках
и историях умирает самое лучшее, красивое и
здоровое — просто потому, что самое живое.
Зато — неживое оживает. Непревзойденное
мастерство Андерсена — в сказках о вещах.
Предвестник Дюшана, он создал огромную га-
лерею ready-made объектов: Воротничок, Мяч,
Ножницы, Утюг, Подвязка, Штопальная игла...
Его следовало бы числить среди своих прямых
предков сюрреалистам, это у него происходит
прокламированная ими захватывающая «встре-
ча зонтика со швейной машиной на операцион-
ном столе». Едва ли не лучшие во всем андерсе-
новском наследии две страницы — перебранка
кухонной утвари в «Сундуке-самолете».
Неодушевленный предмет долговечнее, на-
дежнее и — главное — управляемее прихотли-
вого одушевленного человека. Как блистатель-
но расквитался Андерсен с отвергнувшей его
Риборг Фойгт, встретив ее через пять лет пос-
ле неудачного сватовства и превратив в мячик
из сказки «Парочка (Жених и невеста)»: «Лю-
бовь пройдет, если твоя возлюбленная проле-
жит пять лет в водосточном желобе; и ее ни за
что не узнаешь, если встретишься с ней в по-
мойном ведре».
Страсть к антропоморфизму сделала его
предтечей современного научпопа, чего-то из
некогда любимой народом серии «Эврика». Та-
кова, например, сказка «Лён» — о производ-
ственном процессе и ресайклинге: экологичес-
кое мышление на полтора века раньше поло-
женного. И разумеется, он обожал науку и тех-
нику, видя в этом новый богатейший источник
художественного вдохновения, «Калифорнию
поэзии», как он выспренно выражался.
Сам он написал сказку о трансатлантическом
222
Петр Вайль
кабеле — «Большой морской змей»; мечтал о
самолетах, сильно ошибаясь в сроках: «...Через
тысячи лет обитатели Нового Света прилетят
в нашу старую Европу на крыльях пара, по
воздуху!»; странствовавший больше, чем лю-
бой другой писатель, любил путешествия не
вообще, а именно железнодорожные, проро-
чествуя: «Скоро рухнет Китайская стена; же-
лезные дороги Европы достигнут недоступных
культурных архивов Азии, и два потока куль-
туры сольются!» — это из истории с примеча-
тельным названием «Муза нового века».
Словно советский шестидесятник, Андерсен
воспринимал достижения науки как попытку
адаптировать волшебный вымысел к жизни.
Буквально: мы рождены, чтоб сказку сделать
былью. Нерушимый союз физиков и лириков.
Сам обделенный витальной силой воспроиз-
водства, он тянулся к технике как к наглядно
существующей неживой, но одушевленной
материи. Его сказочный антропоморфизм на-
ходил реальное воплощение в поездах настоя-
щего и воздушных кораблях будущего.
Удивительным образом Андерсен был в темп
и в рост стремительно меняющемуся миру и в
то же время — наивно нелеп на его взрослом
фоне. Он будто проговорился о таком осново-
полагающем несоответствии в «Гадком утенке»,
дав изумительную по точности и силе форму-
лу, пригодную, впрочем, для кого угодно:
«Как мир велик! — сказали утята».
Вот здесь замрем перед всепобеждающим
козырем Андерсена, залогом его литературного
долголетия — юмором. В андерсеновском слу-
чае именно юмор — то необходимое искусству
чудо, тот компонент, который не поддается ана-
лизу, когда нет и вроде быть не может никаких
предпосылок, но результат — налицо. Юмор
у Андерсена всегда неожидан — не потому, что
его мало, а потому, что юмор чужероден ди-
дактике притчи и сентиментальности сказки и
оттого резко оттенен.
Это бывает лаконично: крыса, требующая
паспорт у Стойкого оловянного солдатика;
письмо на сушеной треске, которую по прочте-
нии суют в котел («Снежная королева»); фразы
из «Ханса Чурбана»: «...У старика было два
сына, да таких умных, что и вполовину было бы
хорошо», «...Братья смазали себе уголки рта
рыбьим жиром, чтобы рот быстрее и легче от-
крывался, и собрались в путь»; из «Свинопа-
са»: «Королевство у него было маленькое-пре-
маленькое, но жениться все-таки было можно...»
Бывает многословно: «В кухне жарились на
вертелах сотни лягушек, готовились ужиные
шкурки с начинкой из детских пальчиков и са-
лат из мухоморов, сырых мышиных мордочек
и белены... Мертвую лошадь затошнило, и она
принуждена была выйти из-за стола» («Холм
лесных духов»); «[Фиалки] так благоухали, что
мышиный царь приказал нескольким мышам,
стоявшим поближе к очагу, сунуть хвосты в
огонь, чтобы покурить в комнате паленой шер-
стью: ведь мыши не любят запах фиалок, для
их тонкого обоняния он невыносим» («Суп из
колбасной палочки»). Сведения на манер Стра-
бона или Аристотеля — основоположников
приема «как известно», принятого в глянцевых
журналах и отрывных календарях: «Когда у
слонов болят плечи, изжарив свиное мясо, при-
кладывают его, и это им помогает» (аристоте-
левская «История животных»).
Андерсеновский юмор неизменно замешен на
здравом смысле (лаконичные примеры) или его
иронической имитации (примеры многослов-
ные). И это — самое сказочное в сказках Ан-
дерсена, самое народное в стилизации народно-
го жанра. Здесь и возникает поистине фоль-
клорная мудрость письменной литературы.
Кот спрашивает утенка: «Умеешь ты выгибать
спинку, мурлыкать и испускать искры?» —
«Нет!» — «Так и не суйся со своим мнением...»
Идея чуждости. Корень этнической и религи-
озной вражды. Библейский «шиболет». Варфо-
ломеевская ночь. Боярыня Морозова. Армян-
ская резня. Югославская трагедия. Грузино-
абхазская война.
Кьеркегор: «Сколько пафоса — ровно столь-
ко же и комического; они обеспечивают сущес-
твование друг друга: пафос, не защищенный ко-
мизмом, — это иллюзия, комизм же, не защи-
щенный пафосом, незрел». Юмор Андерсена не
просто противостоит его страсти, к смерти, но
и побеждает ее в читательском сознании — ос-
таются пестрые слова, а не черный фон. Юмор
ослабляет главное противоречие: сочетание
уютной теплоты живых утюгов и космическо-
го холода мертвых детей. Юмор снимает гус-
той налет просветительской назидательности и
христианской сентиментальности, к чему Ан-
дерсен так тяготел. Его шедевры — там, где эти
элементы уравновешивают друг друга. «Как
мир велик! — сказали утята».
Мир велик, и нет маленьких стран, городов,
народов, людей, вещей. С нашей, смиренной,
разумной, утячьей — единственно верной —
точки зрения.
...Плавучий город, десятипалубный паром
«Королева Скандинавии» отвалил от причала
и двинулся на север, мимо Эльсинора, через
Зунд и Каттегат, к Норвегии. «Прекрасная дат-
ская земля с ее лесами и пригорками осталась
позади; белые от пены волны накатывали на
форштевень корабля...» (Ханс Кристиан Андер-
сен. «Мертвец»).
Сказки народов севера
223
АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ ФЬОРДА
Любой приморский город лучше всего выгля-
дит с воды. За этим ракурсом — столетия при-
дирчивого взгляда правителей, возвращаю-
щихся домой: что-что, а фасад должен быть в
порядке. Впрочем, и вода лучше всего выгля-
дит со сбегающих к гавани улиц; здесь та сте-
пень приручения природы, которая радует
древней целесообразностью: первый челове-
ческий транспорт — водный, первое оседлое
занятие — рыбная ловля, первая профессия —
моряк. В Осло встреча города с морем сохра-
нила естественность старины. Это столица про-
стоватая, с неким деревенским налетом (и пра-
вильно, что сюда ходит паром, пусть десятипа-
лубный), начисто лишенная важности и помпез-
ности, оттого — обаятельная. Осло мягко
вписан в плавные — мунковские! — обводы
Осло-фьорда и без воды не существует.
Правда, Мунк был недоволен: «Осло распо-
ложен на холмах вдоль фьорда, и поэтому ули-
цы должны строиться так, чтобы отовсюду были
видны порт и море. А теперь ничего не видно.
Там, где строится ратуша, виден был кусочек
моря. И его закрыли». Классическое стариков-
ское брюзжание, которому Эдвард Мунк увле-
ченно предавался в последние годы. Темно-ко-
ричневое здание ратуши в стиле угловатого
«брутализма», может, и вправду великовато и
грубовато, но вряд ли мешает всерьез. В целом
же обвинения Мунка — неправда: и море орга-
нично участвует в облике и жизни Осло, и го-
род развернут к воде выгодным фасом.
По воде — оживленное движение пароходи-
ков и катеров, доставляющих пассажиров в
разные места на берегах стокилометрового
фьорда. Это мунковские места — он арендо-
вал, а разбогатев, покупал тут дома, знакомые
по его пейзажам: Осгорстранд, Витстен, Йе-
лойя. Ничего существенно не переменилось с
начала века, разве что белые тарелки телеан-
тенн дают добавочный колер темно-вишневым
домикам с зелеными крышами. Попадается и
другая окраска, но именно таков норвежский
цвет, который запоминаешь навсегда как нату-
ральный. Дома начинаются на гребне холма,
скатываясь сквозь сосны и елки, задерживаясь
на склонах и на кромке берега, замирая уже на
сваях, по колено в воде.
Одни из самых достоверных пейзажей в
мировой живописи — мунковские. Хотя ис-
следователи давно доказали несовпадение
топографических реалий, доверие не к ним,
а к нему: когда выходишь с катера на берег
фьорда, чувство перемещения во времени —
острейшее. В пространстве — тоже: немедлен-
но становишься персонажем Мунка. Это тем
более достижимо, что нюансов он не пропи-
сывал: поди распознай, кто именно стоит на
• застывшей улице Осгорстранда. Ты и стоишь.
У Мунка была идиосинкразия к некоторым
деталям — особенно в портретах: он неохотно
писал пальцы, уши, эскизно — женскую грудь,
никогда — ногти, даже презрительно отзыва-
ясь о «выписывающих ноготки». Так же дек-
ларативно небрежны его пейзажи и ведуты.
«Он видит только то, что существенно, — го-
ворил его старший коллега Кристиан Крог. —
Вот почему картины Мунка кажутся «незавер-
шенными».
Вот почему от картин Мунка остается стран-
ное впечатление абстрактных полотен, хотя они
всегда фигуративны, а часто подчеркнуто реа-
листичны и сюжетны. Он, так громко провоз-
глашавший приверженность линии, примат ри-
сунка перед цветом, распределяет цветовые
пятна с виртуозностью Поллока или Миро —
и красочные сгустки участвуют в повествова-
нии наравне с лицами, зданиями, деревьями.
Кажется, такого равноправия фигуративного
и абстрактного в пределах одного холста не
достигал никто из живописцев. В этом, вероят-
но, секрет мощного воздействия Мунка. Поэ-
тому в его пейзаж и в его город перемещаешь-
ся с такой легкостью.
А Осло — конечно, его город.
Он родился неподалеку, в Лётене, а с пяти
уже сделался жителем Осло. Семья жила в раз-
ных местах. Два дома, где прошла мунковская
юность, — подальше от центра, на Фосфайен,
в те времена и вовсе окраина. Напротив бас-
кетбольная площадка, где тон задают, как и во
всем мире, чернокожие юноши. В наши дни нет
смысла спрашивать, откуда они взялись в стра-
не, не имевшей заморских владений — если не
считать времена викингов. Как нет смысла
удивляться, проезжая к музею Мунка, что за
окном — один за другим дивно пахучие и ярко
цветастые пакистанские кварталы, резко нару-
шающие блондинистую гамму города.
В девятнадцать, начав учиться живописи,
Мунк снял с шестью друзьями студию у Стор-
тингета—здания парламента, стортинга. Здесь,
на главной улице Осло — Карл-Юханс-гате, —
богема и жила, устраивая гулянки и дискуссии
в Гранд-кафе. Все это описал точно в те же годы
и с тем же мунковским чувственным напряже-
нием другой великий житель Осло, Кнут Гам-
су н: «...Пошел по улице Карла Юхана. Было
около одиннадцати часов... Наступил великий
миг, пришло время любви... Слышался шум
женских юбок, короткий, страстный смех, во-
лнующий грудь, горячее, судорожное дыха-
ние. Вдали, у Гранда, какой-то голос звал:
«Эмма!» Вся улица была подобна болоту, над
которым вздымались горячие пары».
Дешевые «пенгвиновские» издания Ибсена
‘по-английски украшены репродукциями Мун-
ка на обложках: «Кукольный дом» — «Весен-
224
Петр Вайль
ний вечер на Карл-Юханс-гате», «Привидения»
— «Больной ребенок», «Гедда Габлер» — «В
комнате умирающего» и т.д. Ход настолько же
простой, насколько неверный: логический ли-
тературный партнер для Мунка из соотече-
ственников — по нервности стиля, эротизму,
тяге к смерти — конечно, Гамсун. Впрочем, чего
требовать от «Пенгвина»? Я видал в их русской
серии «Героя нашего времени» с «Арестом про-
пагандиста» на обложке.
Карл-Юханс-гате сейчас — точно такой же,
как в мунковско-гамсуновские годы, променад:
от вокзала до Стортингета — пешеходный; и
мимо театра, от Стортингета до королевского
дворца — обычная улица. Все так же, только
теперь знаменитости сидят в Гранд-кафе на ог-
ромной фреске: и Гамсун, и Мунк, и Ибсен, и
прочие славные имена, которых в Норвегии не-
соразмерно много.
В выходные на Карл-Юханс-гате выходит на-
рядно одетый средний класс — украшение лю-
бой зажиточной страны, несбыточная пока меч-
та моего отечества, неизменный объект ненавис-
ти художников любых эпох. Ненавидел средний
класс и Мунк. Его круг увлекался кропоткин-
ским анархизмом, и не случайно он обронил
фразу: «Кто опишет этот русский период в
этом сибирском городке, которым Осло был
тогда, да и сейчас?» Россия для него была —
во-первых, Достоевский (любимые книги, на-
ряду с сочинениями Ибсена, Стриндберга,
Кьеркегора, — «Идиот» и «Братья Карамазо-
вы»), во-вторых — близкий север.
Мне никогда не приходилось сталкиваться —
ни очно, ни заочно — с проявлениями южной
солидарности, и почему-то кажется естествен-
ным, что северяне тянутся друг к другу. Ген-
ная память о преодолении трудностей? Одно
дело — не нагибаясь, выдавить в себя виног-
радную гроздь, другое — разжать смерзшие-
ся губы только для того, чтобы влить аквавит
или антифриз.
В наши дни такое взаимопонимание ослабля-
ется. Купить в Осло бутылку — испытание, не
сказать унижение: в редких магазинах «Vinmo-
nopolet» монополька продается до пяти, в суб-
боту до часу, в воскресенье все закрыто; самая
дешевая местная «Калинка», ноль семь—трид-
цать три доллара, американская смирноффка
— все сорок. В прежние времена такого тер-
рора не было, и Мунк восемь месяцев лечился
в Копенгагене от нервного срыва, вызванного
алкоголизмом, после чего навсегда завязал. «Я
наслаждаюсь алкоголем в самой очищенной
форме — наблюдаю, как пьют мои друзья», —
говорил в старосту Мунк. На соседнем севере
это называется — «торчать по мнению».
Такие детали биографии средним классом ц£-
нятся только посмертно, с живым же художни-
ком взаимоотношения портятся еще больше.
Дом в Осло, где провел детство Мунк
Средний класс Осло изображен Мунком с ед-
кой — флоберовской — публицистической си-
лой, что делает его картину «Весенний вечер
на Карл-Юханс-гате» обобщенным портретом
города вообще. Точнее — горожан. Не говоря
о том, что это одна из лучших работ во всем
гигантском (только холстов маслом — около
двух тысяч) наследии Мунка. Реалистическая
сцена с узнаваемым зданием стортинга на за-
днем плане. Но на зрителя — пугая, как на пер-
вых киносеансах, — идут мертвенные призра-
ки, парад зомби. Вроде толпа, но совершенно
разрозненная между собой. Навсегда запоми-
нающиеся круглоглазые, с точечными зрачка-
ми, лица. Как там у Саши Черного: «Безглазые
глаза, как два пупка».
Мунк был царь и жил один. В картине «Ве-
сенний вечер на Карл-Юханс-гате» навстречу
толпе идет высокая фигура — как всегда у
Мунка, без различимых йндивидуальных дета-
лей. Но нет сомнений — он сам и идет: навстре-
чу и мимо.
С семнадцати лет Мунк писал автопортре-
ты, что сделалось его манией: последний напи-
сан в семьдесят девять. Он любил фотографи-
роваться, часто голым, в зрелости голым себя
и писал. Правду сказать, было что показывать
— Мунка называли самым красивым мужчи-
ной Норвегии. Нарцисс, но все же сохраняю-
щий ироническую дистанцию: в автопортрете
1940 года — «Обед с треской» — дивишься
сходству между головой старика-художника и
рыбьей головой в тарелке. Страсть к автопор-
третам — постоянное подтверждение собствен-
ного существования, и не просто, а подкон-
трольного себе существования, буквально:
нарисуем — будем жить. И все же самый вы-
Сказки народов севера
225
разительный его автопортрет — изображенная*
со спины фигура высокого человека, идущего
мимо толпы по Карл-Юханс-гате.
Дом мунковского детства — тоже в центре,
на Пилестредет. Он цел и расписан боевыми зна-
ками леворадикальной организации «Leve
Blitz» — там что-то вроде их штаб-квартиры;
на торце, по голому кирпичу — с замечатель-
ным мастерством воспроизведенный мунковс-
кий «Крик».
Надувной «Крик» — варианты в надутом со-
стоянии тридцать и сто двадцать сантиметров
— продается в магазинах не только в Норве-
гии, четверть миллиона разошлось в Японии.
Странный сувенир — репрезентация ужаса —
больше говорящий о нашей эпохе, чем об ори-
гинале. Как мы дошли до того, что это одна из
самых известных картин в истории мировой жи-
вописи? Даже тот, кто ни разу в жизни не слы-
шал имени Мунка, ни разу в жизни не был в
музее, ни разу в жизни не раскрыл художес-
твенного альбома, знает «Крик». Такая жизнь.
О «Крике» (поразительно почему-то, что по-
норвежски — «Скрик») написаны тома. Про-
ще и внятнее всего высказался сам художник:
«Как-то вечером я шел по тропинке, с одной
стороны был город, внизу — фьорд. Я чув-
ствовал себя усталым и больным. Я остановил-
ся и взглянул на фьорд — солнце садилось и
облака стали кроваво-красными. Я ощутил
крик природы, мне показалось, что я слышу
крик. Я написал картину, написал облака как
настоящую кровь. Цвет вопил».
Литературные источники «Крика» ищут и на-
ходят в Достоевском, Ибсене, Стриндберге. И
самые прямые — в мунковском любимом Кьер-
кегоре. «Крик» как иллюстрация к кьеркего-
ровскому «Понятию страха»: «Страх — это же-
лание того, чего страшатся, это симпатическая
антипатия; страх — это чуждая сила, которая
захватывает индивида, и все же он не может
освободиться от нее — да и не хочет, ибо чело-
век страшится, но страшится он того, чего же-
лает»; «...Страх как жадное стремление к при-
ключениям. к ужасному, к загадочному»;
«...Страх — это головокружение свободы, ко-
торое возникает, когда дух стремится полагать
синтез, а свобода заглядывает вниз, в свою со-
бственную возможность...»
«Крик» — икона экспрессионизма.
Поосторожнее бы с терминами: это — им-
прессионизм, то— экспрессионизм. Импресси-
онизм есть принцип мировосприятия — «здесь
и сейчас», фиксация мига, причем не по Гёте, а
по Бродскому: «Остановись, мгновенье, ты не
столь / прекрасно, сколько ты неповторимо»
(отзвук кьеркегоровской мысли о том, что
мгновение — «атом вечности», «та двузнач-
ность, в которой время и вечность касаются
друг друга»). Экспрессионизм же — строй
души, фиксация психического состояния. Раз-
нонаправленные категории стали именами ху-
дожественных направлений. Термины, конечно,
удобны, но лучше не забывать, что стоит за
ними.
У Мунка — судьба. «Болезнь, безумие и
смерть были ангелами у моей колыбели и с тех
пор сопровождали меня всю жизнь». Мать
умерла, когда ему было пять лет. Сестра Софи
— в его четырнадцать. Это она — «Больной
ребенок», что на русский неверно переведено
как «Больная девочка»: пол побоку — есть
маленький человек перед большой смертью.
Первая его важная картина, написанная в двад-
цать два года, шедевр, ошеломивший современ-
ников.
Над Мунком — как почти над каждым из ве-
ликих — витает вангоговский миф прижизнен-
ного пренебрежения. Чем дальше — тем труд-
нее, тем невозможнее обнаружить правду. В дни
мунковской молодости в Осло было меньше ста
тысяч населения. Деревенскую зелень на скло-
нах холмов не заслоняли — если и сейчас засло-
няют не очень — городские дома. Живописцы
ехали в Копенгаген, дальше — в Германию,
редкие — в Париж. Норвегия долго была глу-
хой художественной провинцией. Когда в 1908
году казна купила картину «На следующий
день» (женщина после бурной ночи), в газетах
писали: «Отныне горожане не смогут водить
своих дочерей в Национальную галерею. До-
коле пьяным проституткам Эдварда Мунка бу-
дет разрешено отсыпаться с похмелья в госу-
дарственном музее?» При всем этом мунковс-
кие картины продавались на городских аукци-
онах — и покупались! — уже в 81-м, то есть
когда ему не было восемнадцати. В двадцать
шесть у Мунка была персональная выставка в
Осло — первая в Норвегии персональная вы-
ставка какого-либо художника вообще. С мо-
лодости он получал государственные стипен-
дии, на которые ездил по Европе.
Мунк много путешествововал — едва ли не
больше, чем любой другой художник его вре-
мени. Любил железную дорогу: вагоны, вок-
залы, вокзальные буфеты. Уже осев в Осло,
часто ходил обедать на вокзал. При этом его пу-
тешествия не имеют ничего общего с эскапиз-
мом — это сугубо рациональные перемещения
по делу: между 1892 и 1908 годами он выстав-
лялся 106 раз во множестве стран. Один из его
друзей писал: «Ему не надо ехать на Таити,
чтобы увидеть и испытать первобытность че-
ловеческой природы. Таити у него внутри...»
В основе такого мироощущения — как у Иб-
сена и Стриндберга — идея Кьеркегора о субъ-
ективности, интимности истины. Экзистенциа-
листы не зря любили Мунка.
Как и в случае Андерсена, первыми поняли
Мунка немцы. Они (точнее, немецкие евреи)
8«ИЛ»№12
226
Петр Вайль
были первыми покупателями его картин. Пер-
вую книгу о нем — в 94-м, ему всего тридцать
— написал Юлиус Майер-Грефе. Первую би-
ографию — живший в Берлине Станислав
Пшибышевский. С ним и со Стриндбергом
Мунк завел дружбу в берлинском кабачке «У
черного поросенка», где собирались немецкие
и скандинавские писатели.
Тут он встретил и жену Пшибышевского —
пожалуй, ее можно счесть ключевой фигурой
этой, женско-мужской, стороны его жизни.
Норвежка Дагни Юэль, Душа, как звал ее на
польский лад муж. Ею был увлечен и Стрин-
дберг, и она со всеми тремя жила в свободном
Берлине, еще и разнообразя выбор. Эмансипи-
рованный Пшибышевский как-то сам отвел
жену к одному русскому князю, на что Стрин-
дберг реагировал: «Что ты будешь делать с за-
мужней женщиной, которая в течение недели
позволяет себе переспать с мужчинами из четы-
рех стран?» Дагни убил потом в Тифлисе дру-
гой русский, более нервный — или, что веро-
ятнее, менее способный сублимироваться в ху-
дожестве. Мунк же оставил не только портрет
Души, но и самое жестокое живописное вопло-
щение ревности — в холсте, который так и на-
зывается «Ревность»* где зеленое лицо мужчи-
ны — как бледный блик цветущего дерева, с ко-
торого рвет яблоки розовая веселая женщина.
Память о Душе — в женоненавистнических
«Саломее», «Смерти Марата», «Вампире».
Кстати, и у Стриндберга женские образы вам-
пирообразны. Идейно Стриндберг — аналог
Мунка. Про него Томас Манн сказал — что
можно отнести и к Мунку: «Нигде в литерату-
ре не найти комедии более дьявольской, чем его
супружеская жизнь, его слабость к женщине и
ужас перед нею».
Женщину можно бояться и потому не обла-
дать — случай Андерсена; можно обладать и по-
тому бояться — случай Мунка. (Тезис, прило-
жимый не только к женщинам — но и к деньгам,
например, к оружию, к наркотикам, ко всему
сильнодействующему.) У красавца Мунка было
множество коротких романов, но, как вспоми-
нает его Эккерман — Рольф Стенерсен, ни одну
женщину он не вспоминал с удовольствием и
благодарностью. Он обладал силой притяжения,
его преследовали красавицы, но он неизменно
убегал. Иногда буквально и вульгарно: выхо-
дил из вагона на полустанке и садился во встреч-
ный поезд. Был против брака, боялся оказаться
под властью. Половой акт воспринимал как спа-
ривание со смертью: мужчина, живущий с жен-
щиной, уничтожает в себе нечто важное. («Страх
— это женственное бессилие, в котором свобо-
да теряет сознание...» — Кьеркегор.) «Смерть
Марата» выглядит пародийно, потому что сня-
ты все исторические аллюзии: просто женщина
убивает мужчину. Даже наброски из борделей
— в отличие от тулуз-лотрековских — полны
ужаса и отвращения.
Женщина как носитель смерти: можно пред-
ставить, в каком кольце врагов, на какой пере-
довой ощущал себя Мунк, имевший у женщин
оглушительный успех. При его страхе смерти,
Мунк. «Весенний вечер на Карл-Юханс-гате»
Сказки народов севера
227
которой он боялся как художник: «Смерть —
это когда тебе вырвут глаза, чтоб ничего боль-
ше не видеть. Как оказаться запертым в погре-
бе. Забытый всеми. Дверь захлопнули и ушли.
Ничего не видишь и чувствуешь только сырой
запах гниения». Концепция не столько атеиста,
сколько эстета.
Под одним своим полотном Мунк написал:
«Улыбка женщины — это улыбка смерти». Вот
и в самой — после «Крика» — его знаменитой
картине на лице женщины блуждает странная
зловещая усмешка. То-то Мунк не знал, как ее
назвать: она и «Мадонна», и «Зачатие». Боль-
шая — не сказать больше — разница! Либо —
чудовищное святотатство, эротическая фанта-
зия на тему Благовещения; либо — чистое язы-
чество, обожествление оргазма как жизнетвор-
ного акта. Впрочем, есть еще третье название
— технологическое: «Женщина в акте любви».
Этот акт Мунк распространял даже на пей-
зажи, изобретя предельно сексуальный, хоть и
условный, прием для изображения света. Ме-
ланхолию его ноктюрнов оживляет фаллос
лунной дорожки, который врезается в похот-
ливо прогнувшийся берег его любимого Осло-
фьорда.
Сюда надо приехать, чтобы своими глазами
увидеть мунковский фирменный знак — во-
лнистые линии береговых обводов, параллель-
ные, насколько параллельны могут быть кри-
вые. Во всех двух тысячах картин и пяти тыся-
чах рисунков у Мунка нет ни одной прямой
линии. Сюда надо приехать, чтобы почувство-
вать, в какой великолепной пропорции смеши-
ваются в твоем сознании и фантазии лекала
мунковских картин, норвежских фьордов, ви-
кинговских кораблей в здешнем музее.
Викинги, сотрясавшие мир тысячу лет назад,
удостоенные собором в Меце особого помина-
ния в молитве: «И от жестокости норманнов из-
бави нас, Господи!», исчезли, как гунны. От
эпохи викингов чудом уцелела великая литера-
тура— саги, но лишь благодаря заброшенности
Исландии. В Норвегии жел/Ьходишь три десят-
ка изумительных деревянных церквей — без
единого гвоздя, вроде Кижей, только на пол-
тысячи лет старше, — которые по нерастороп-
ности не сожгли в Реформацию. От этих строе-
ний пошел фигурный «драконовский» орна-
мент норвежских кухонь и ресторанов, напом-
нивший мне оформление пивных Рижского
взморья, вошедшее в моду в конце 60-х, как раз
когда меня начали пускать в такие заведения.
Еще от викингов осталось несколько кораблей,
будто из реквизита «Сказки о царе Салтане»,
уцелевших потому, что в них не воевали, а хо-
ронили погибших. Смерть сохраняет. Минус
вообще плодотворнее — его есть чем перечер-
кнуть, дополнить. Плюс — крест всему.
Опять-таки — похвала поражению. Чтобы
увидеть глубокие следы цивилизации викин-
гов, надо отправляться не в Норвегию, а на Си-
цилию. Вот там, смешавшись с греческой тра-
дицией и арабской культурой, по видимости по-
бедив, а на самом деле сдавшись на милость по-
бежденных, норманны построили мощные
крепости и замки, украсили их ослепительны-
ми мозаиками и филигранной резьбой — уже
по камню, на века. Как вписываются в сицилий-
ский пейзаж строения скандинавов, как логич-
но и красиво нависают над синим морем, вы-
нырнув из-за поворота горной дороги.
В своих, норвежских, горах они бы выгляде-
ли не менее нарядно и величественно, нависая
над зеленой водой фьордов. Но тут от викин-
гов осталась только память. Что до воды — о
ней особо. Я никогда не видел и даже не подо-
зревал, что вода может быть такой. «Радикаль-
ный зеленый цвет», — определил бы Остап Бен-
дер, высказавшийся так по другому поводу.
«Горы Остапу не понравились» — неужели эти
не понравились бы тоже? Горы со снежными
вершинами, черные ниже и лесистые внизу,
круто спускающиеся к узким ярко-зеленым
полоскам воды тысячами водопадов и миллио-
нами елей. Это — фьорды.
Без фьордов нет Мунка.
Он явился словно из этих гор, где живут не
только сказочные тролли и их подруги хульд-
ры, но еще и какой-то сказочный тайный народ:
у них точно такой же вид, как у обычных лю-
дей, и если встретишь — не отличишь. Только
одна опознавательная деталь: у них нет верти-
кальной впадинки между носом и верхней гу-
бой. Поэтому, что ли, Мунк носил усы?
Когда бродишь по залам Национальной га-
лереи, отмечаешь картины зрелых мастеров той
эпохи: Крога, Даля, Сольберга, Хейердала.
Норвежская живопись шла по общеевропей-
скому пути, но чуть позади немцев, тем более
— французов: в ней ничто не предвещало взры-
ва Мунка, его истошного крика, «Крика».
Протянуть связь к современникам не удает-
ся, хотя есть соблазн сопоставить му н ко вс кую
эротику с одной из первейших достопримеча-
тельностей Осло — парком Вигеланда. Земляк
и почти ровесник Мунка, Густав Вигеланд по-
лучил то, о чем мечтает любой монументалист:
тридцать гектаров в центре столицы на свое ус-
мотрение. Здесь он разместил 192 скульптур-
ные группы, объединившие 650 человеческих
фигур. Прогулка по парку — не для слабых, и
ищущий надписи «Детям до 16-ти...» глаз от-
дыхает лишь на отдыхающих там и сям по газо-
нам скромных розовых телах без лифчиков (я
повторяюсь, но это не моя навязчивая идея, а
скандинавская, они в теме секса пионеры: от
Ибсена и Стриндберга до порнофильмов 60-х).
Что до каменных и бронзовых тел, то в них —
бешеная гульба плоти, с кульминацией в фал-
228
Петр Вайль
лическом столбе из сотни переплетенных в эк-
стазе фигур. Но лихой свальный грех Вигелан-
да на деле — противоположность придавлен-
ному самоедскому греху Мунка. Мунковская
чувственность — вездесуща: именно оттого,
что лишь угадывается. Прямое высказывание
монументализма было ему противопоказано:
это видно по фрескам в актовом зале универ-
ситета Осло, где у голых молодых людей, поче-
му-то представляющих науку химию, половые
органы неотличимы от пробирок.
Фресок Мунка немного, но и для того, что-
бы увидеть его станковые картины не в репро-
дукциях, приходится ехать в Осло: редчайший
случай для художника такого масштаба. Три его
лучших собрания находятся в норвежской сто-
лице: в музее Мунка, в Национальной галерее,
в Студенческом поселке в Согне, пригороде
Осло. Плюс — музей Расмуса Мейера в Бер-
гене. Хорошая коллекция в Стокгольме, при-
личная в Цюрихе, кое-что разбросано по Гер-
мании. Но без Осло Мунка нет, как нет, скажем,
Риверы без Мехико, правда, тот писал прямо
по стенам, а Мунк — яркий пример локально-
го таланта, ставшего мировым явлением.
Попутешествовав, он и возвратился, к поче-
ту и процветанию, в свои фьорды и горы, где
обитает тайный народец без вертикальной впа-
динки между носом и верхней губой. Мунк
менял места по берегам Осло-фьорда, пока не
обосновался в усадьбе Экелю в северной час-
ти Осло, на склоне холма. Дом снесен в 60-м, на
его месте небольшой паркинг, где можно оста-
вить машину и обнаружить те же дубы, ту же
студию и главное — тот же вид на Осло-фьорд,
который Мунк видел и рисовал последние двад-
цать семь лет жизни.
Жаль, он не писал Осло с воды — впечатля-
ющую дугу от замка XIV века Акерсхус к горе
Хольменколлен и к полустрову Бюгде, где бу-
кет морских музеев — корабли викингов, на-
нсеновский «Фрам», хейердаловский «Кон-
Тики». С маленького катера обзор не тот —
нужен неторопливо приближающийся, посте-
пенно меняющий ракурс и ощущения большой
корабль. В наше время город с воды мало кто
видит — тем более впервые: попадаешь либо
сразу в центр (поезд), либо через всегда безли-
кие рабочие окраины (машина, самолет). За ста-
рину надо платить: архаический взгляд с кораб-
ля — удел тех, кто раскошелился на круиз. Они
и вознаграждены — во вторую очередь, видом,
в первую — едой, коль скоро речь идет о скан-
динавских маршрутах.
Выходить на палубу заставляет туристское
лицемерие: в действительности главная досто-
примечательность — сморгасборд, шведский
стол. Если рядом найти и шведский стул, на кото-
ром делаешь перерыв для переваривания, то
плыть бы и плыть всю жизнь по студеным морям.
Скандинавская кухня — лаконична в сред-
ствах и многообразна в методах. В древнем
погребе стокгольмского ресторана «Диана» я
обнаружил одиннадцать видов маринованной
селедки, и, когда попробовал все, сил осталось
только на копченый олений язык. Датчане со-
средоточились на идее бутерброда, доведя эту
банальность до художественного совершенст-
ва, как Энди Уорхол — консервы, постмодер-
нистски нагружая на ржаной хлеб сочетание
креветок, горчицы и клубники, да еще настаи-
вая на том, что это вкусно. Норвегия же — ло-
сосина. Точнее, богатый в нюансах и обертонах
джазовый обыгрыш темы лососины.
Здесь изобретательно обходятся и с другой
рыбой: я целенаправленно искал и нашел ра-
кёррет — форель, которую год, что ли, выдер-
живают под землей, куда там омулю с душком
— не всякий выдержит. Засоленную и храня-
щуюся в поленницах треску размачивают, ва-
рят и подают, не жалея, как дрова, из-под кото-
рых вылавливаешь деликатесную дорогосто-
ящую вареную картофелину. Есть еще луте-
фиск — треска в поташе, это карбонат калия,
кто забыл химию. Я ел кита в бергенском рес-
торане — пусть от меня теперь отвернется
Брижит Бардо и прочая Лига защиты живот-
ных. В довершение диковин упомяну коричне-
вый сладкий сыр — гейтост: формой, цветом и
консистенцией похож на хозяйственное мыло; о
сходстве вкуса судить не берусь — мыла не ем.
И все же Норвегия — это лососина. Мне при-
ходилось вдумчиво дегустировать лососевых
в разных точках земного шара: в Латвии, в Ка-
наде, на Сахалине, в Шотландии. Норвежский
лосось — лучший в мире. И в кулинарных его
интерпретациях норвежцы далеко впереди. Для
передачи всех оттенков красного — от бледно-
розового до кроваво-багрового — нужны ста-
рые мастера: не Мунк, но Мантенья. Цвет за-
висит от сорта, но прежде всего — от способа
приготовления. Я в Норвегии испробовал шес-
тнадцать: варианты рыбы сырой, соленой, ма-
ринованной, копченой, вареной, жареной, па-
ровой, запеченной. Вообще-то здесь это всегда
было не роскошью, а средством насыщения.
Еще в начале века сезонные рабочие включали
в договор пункт, обязывающий нанимателя
подавать лососину не чаще двух раз в неделю.
Так у Гиляровского волжские бурлаки пред-
почитают воблу черной икре: «Обрыдла».
Международная торговля и туризм изменили
положение дел: норвежцы научились ценить
свою красную рыбу, за которую иностранцы
платили такие цены, и бросили интеллектуаль-
ные силы нации на ее оформление. У норвеж-
ского шведского стола хочется жить и умереть.
Желание нелепое: ты еще только подплыва-
ешь к самой красивой — к северу от Альп —
стране. Впереди — норвежские цвета неправ-
Сказки народов севера
229
доподобно опрятных деревень и городковг.
Впереди — черно-белая графика плато Хар-
дангер, где в июльский зной едешь по дороге,
прорубленной меж снеговых стен в три метра
высотой. Впереди — капилляры мелких и круп-
ных фьордов: узкие ущелья, налитые прозрач-
ной зеленой водой. Впереди — глубже других
(на 205 километров) врезанный в сушу Согне-
фьорд, по которому плывешь, бессмысленно
вздергивая фотоаппарат каждые полминуты,
потому что меняется ракурс и ты боишься
пропустить тот новый шедевр, который откры-
вается каждые полминуты. Впереди — достиг-
нутый только скандинавами (да еще японцами)
симбиоз природы и цивилизации, когда устаешь
дивиться душевым автоматам на глухой при-
стани, детскому вагону с играми и аттракцио-
нами в обычном местном поезде, дизайнам всех
без исключения интерьеров, побудке по гости-
ничному телевизору: с вечера набираешь на
дистанционном управлении нужные цифры, и
утром сам собой вспыхивает экран с бравур-
ной музыкой и радостным пейзажем.
Впереди — деревянный, словно из сна или
песни, город Берген, где блуждающая мысль
возвращается к такой же ганзейской Риге, и еще
— к России. Столицей Ганзейского союза был
Любек, а четырьмя главными центрами — Бер-
ген, Брюгге, Лондон и Новгород. То есть бога-
тый, сильный, процветающий порт уже был на
русском севере, и если б Грозный не раздавил
Новгород, Петру не надо было бы строить Пе-
тербург. Тем более шведам уже вполне успеш-
но грозил новгородский князь. Откуда пришли
бы в нашу культуру Пушкин, Достоевский,
Хармс, Шостакович, Бродский? «Звезда», «Ак-
вариум», «Митьки»? «Чижик-пыжик»?
Не с Невы, так с Волхова, наверное. Можно
подумать, тут существуют правила. Беззакон-
но — сказочным образом — появился в Нор-
вегии Эдвард Мунк.
Никто до него не писал такого одинокого
человека в пейзаже и такого одинокого челове-
ка на улице. Он пренебрегал точностью дета-
лей, и дело не в лицах и предметах, а в пустотах
между ними. Так писали пустоты между сло-
вами Чехов и Беккет. «Я пишу не то, что вижу,
а то, что видел», — говорил Мунк. Важнейший
принцип, сразу смещающий акцент с изобра-
женных объектов на связи между ними. Соче-
тание безусловного реализма с полной таин-
ственностью. Во всех мунковских холстах при-
сутствует тайна. Причем важно, что с нами не
играют, с нами делятся: автор тоже не зна-
ет разгадки и ответа. Отсюда — восторг и
трепет. Мунку было всего двадцать пять, ког-
да он записал в дневнике: «Перед моими кар-
тинами люди снимут шляпы, как в церкви».
Снимаем.
...Снимаемся с якоря, толпимся на юте, гля-
дя, как уменьшается город и нарастает фьорд.
Вокруг датчане, возвращаются домой, щелка-
ют аппаратами и языками, восхищаются видом,
объясняют (по-английски, в Скандинавии все
говорят по-английски), что Осло им не чужой.
Еще бы—три века, до 1924-го, назывался Кри-
стианией по имени датского короля. Знаете, и
мы в том же году тоже переименовали двухве-
ковую столицу. О, у нас, северян, так много
общего, за это стоит... Спускаемся в салон, к
датскому аквавиту с норвежской лососиной: мы,
северяне, это любим. За наш общий север! «У
нас на севере зрелости нет; мы или сохнем, или
гнием», — сказал Пушкин. Про кого это?
cpepu КН1ЛГ SMB—
смена кожи
Владимир Набоков. Ада, или
Страсть. Хроника одной семьи. Пере-
водчики Оксана Кириченко, А. Н. Гири-
вен ко, А. В. Дранов. Автор вступи-
тельной статьи и ответственный редак-
тор А. Н. Николюкин. Комментарии
Н. Г. Синеусова. Киев, Атика; Кишинев,
Кони-Велис, 1995;
Владимир Набоков. Ада, или
Радости страсти. Семейная хроника.
Перевод Сергея Ильина. Москва, Ди-
Дик, 1996.
Виртуозность, чуть аффектированная щего-
леватость английской стилистики Набокова за-
вораживала его заокеанских читателей, и они
уже почти не замечали ни ярких метафор, ни
сложных композиционных ходов. По крайней
мере, до «Лолиты» все это было совсем не глав-
ным в суждениях о его книгах. Впечатляла не
книга, а сам факт, что она написана иностран-
цем, но по-английски. И как написана!
«Истинная жизнь Себастьяна Найта», с кото-
рой начинался англоязычный Набоков, в статье
критика Эдмунда Уилсона, авторитета из авто-
ритетов, была названа литературным триум-
фом, но о самом романе статья не говорила
практически ничего. Восторги Уилсона были
схожи с ликованиями болельщика «Чикаго
буле», на глазах которого Майкл Джордан об-
рел если не бессмертие, то строку в Книге ре-
кордов Гиннесса, совершив семь точных тре-
хочковых бросков подряд. Не так ли и Набо-
ков? Сменил язык, но догадаться об этом мож-
но только по его русской фамилии. «Ничего
подобного в литературе на английском не про-
исходило со времен Конрада».
Положим, Конрад, он же Корженевский, не
написал по-польски ни строки, тогда как из рус-
ских книг Набокова составится приличная биб-
лиотека. И из английских тоже. Беспрецедент-
ным кажется уже то, что тех и других практи-
чески поровну (и существуют принадлежащие
самому Набокову переводы, больше схожие с
обработками, учитывающими особенности той
и другой языковой группы). Привычным ста-
ло утверждение, что этот случай уникален.
Но это аберрация. Двуязычие случалось в
литературе и до Набокова, в русской литера-
туре — тоже. Скажут, вслед за Эренбургом,
что, принимаясь сочинять по-французски,
Тютчев из великого лирика превращался в
школяра, штудирующего учебник элоквенции.
Может быть. Но вот Алексей Толстой (Кон-
стантинович, разумеется) по-французски же
написал «Семью вурдалака» и «Встречу через
триста лет». И во всех собраниях сочинений они
печатаются рядом с «Упырем» и «Волчьим
приемышем». Потому что в поэтическом отно-
шении они ничуть не слабее.
Если написанный сразу после переезда в Аме-
рику «Себастьян Найт» воспринимается — и
справедливо! — как что-то новое и необычное,
то причина не в том лишь, что меняется язык.
Эта перемена только довершает давно начав-
шееся превращение В. Сирина во Владимира
Набокова. А Сирин и Набоков уж во всяком
случае не идентичны, пусть имена принадлежат
одному лицу.
На самом деле они в лучшем случае ро-
дственники, и, как бы подчеркивая, что не та-
кие уж близкие, Набоков принимается допол-
нять, переделывать, усовершенствовать Сири-
на, который для него теперь, судя по всему, не
самое приятное воспоминание. «Камера обску-
ра» становится «Смехом в темноте», «Другие
берега» делаются сначала «Весомым свидетель-
ством», а затем, претерпев еще более решитель-
ную перекройку, выходят под заглавием «Па-
мять, говори». Апофеозом усилий с целью
вытеснить Сирина, если уж нельзя от него пол-
ностью избавиться, стала «Ада». Формально
она, разумеется, отличалась от набоковских
вариантов сиринских русских книг, ибо пред-
шествующий русский текст отсутствует. Но он
подразумевается. Чтобы в этом удостоверить-
ся, достаточно положить рядом с «Адой» ро-
ман, по справедливости считающийся лучшим
из вышедшего под псевдонимом Сирин. Его на-
звание «Дар».
Между «Даром» и «Адой», разделенными
языком и тридцатилетием творческой жизни их
автора, на первый взгляд, нет ни перекличек,
ни схождений. События нигде не дублируют-
ся. Герои решительно не похожи друг на дру-
га. Тем не менее образы «Дара» наверняка бу-
дут преследовать каждого читателя «Ады»,
Среди книг
231
наконец-то появившейся по-русски (и сразу в »
двух переводах, из которых, при всех оговор-
ках, серьезного внимания заслуживает только
перевод С. Ильина).
Невозможно избавиться от ощущения, что
под старость Набоков был одержим мыслью
сделать нечто не просто соразмерное «Дару»,
литературно сопоставимое с ним, но обязатель-
но нечто более значительное — по той шкале
ценностей, которая им была для себя установ-
лена в американский период. Ассонанс (впро-
чем, и аллитерация) заглавий — это и по-рус-
ски, и по-английски полнозвучное «да», редко
когда Набоков с такой наглядностью указывал
источник своих вдохновений.
Полемических вдохновений, как становится
ясно чуть не с первых страниц «Ады». Со-
бственно, вся она выросла из крохотного эпи-
зода в «Даре», но этот эпизод получил прямо
противоположный смысл. Герой «Дара» Году-
нов-Чердынцев изводит себя напоминаниями о
том, что приходится жить в стране, где «роман
о кровосмешении... считается венцом литера-
туры». Автор «Дара» тридцать лет спустя пи-
шет роман именно о кровосмешении, не скры-
вая надежд увидеть свою книгу на высшей сту-
пени литературной иерархии. Очень ошибут-
ся те, кто, следя за перипетиями страсти,
соединившей Вана и Аду, его сводную сестру,
постарается уговорить себя, что тут всего лишь
пародийное обыгрывание клише бульварной
беллетристики, как случалось у Набокова преж-
де. Нет, страсть воссоздана так, что ироничес-
кие кавычки неуместны. А насмешка относит-
ся не к банальностям, не к сочинителям деше-
вых книжек с экстравагантными, приперченны-
ми сюжетами. По крайней мере, не к ним одним.
Скорее она относится к тем, кто привык ви-
деть в литературе занятие ужасно серьезное и
ответственное, кто и самого Набокова толкует
как писателя с собственными философскими и
лирическими темами, обладающими проникно-
венным смыслом. По прочтении «Дара» П. Би-
цилли, один из лучших критиков в русской
эмиграции, говорил о «сиринекой Правде», не
убоявшись прописной буквы. Этой Правдой
было «удивление, смешанное с ужасом перед
тем, что обычно воспринимается как нечто само
собой разумеющееся». Немыслимо, чтобы
«Ада» могла спровоцировать хоть отдаленно
похожие отклики.
И как знать, не для того ли и выделывались
эти четыреста пятьдесят страниц убористого
английского текста, чтобы прописные буквы в
суждениях о Набокове стали раз и навсегда ар-
хаизмом. Не для того ли шлифовался, обогаща-
ясь все менее предугадуемыми оттенками, аб-
зац за абзацем, чтобы после «Ады» никому и в
голову не могло прийти рассуждение о набоков-
ском миропонимании, набоковских идеях, и удив-
лении, и ужасе — потому что все это отменено
самозабвенной, самодостаточной, самовлюблен-
ной и обворожительной словесной игрой.
На этом игровом поле у Набокова, сочиняю-
щего «Аду», в сущности, нет соперников, кро-
ме давно умершего: его имя Джеймс Джойс. Не
тот, которого знают наши читатели по «Улис-
су». Тот, которого не знают и английские чита-
тели, ибо за вычетом профессионалов никому
из них не справиться с «Поминками по Финне-
гану». Достичь такой степени закодированнос-
ти и непрозрачности повествованию Набокова,
правда, не суждено, но сделано для этого мно-
го: например, бесконечные центоны, раз за ра-
зом оказывающиеся издевкой над доверчивос-
тью простодушных. Или нанизываемые одна на
другую реминисценции, которые, случается,
только мистифицируют, отсылая к несуществу-
ющим источникам. Или слова-гибриды, состав-
ленные из далековатых понятий. И слова-мон-
стры, слепленные из разных языков.
Плюс ко всему — парад эрудиции, впрочем,
с нередким привкусом озорства и надуватель-
ства, доставляющего наслаждение автору. А
под конец еще и восхитительный комментарий,
который с тем же правом может именоваться
лжекомментарием. От подобной смеси фактог-
рафии с дезинформацией голова пойдет кругом
даже у повидавших виды. Увенчиваются эти
своеобразные примечания подписью-анаграм-
мой Вивиан Дамор-Блок. То есть Набоков. Уж
конечно не Сирин.
Смена языка? Точнее было бы сказать—смена
кожи. «Чтоб душа старела и росла», если вспом-
нить знаменитое стихотворение Гумилева.
Действительно ли она растет после такой опе-
рации, вправе решать для себя каждый, кто
одолеет «Аду». Во всяком случае, надо долж-
ным образом оценить неподражаемый блеск
выдумки, иронии, травестии, стилизации, само
это тончайшее плетение, которое не рвется,
словно наперекор законам, прежде считавшим-
ся обязательными для сочинителя романов. Ос-
тавим без ответа вопрос, для чего нужны эти
волшебные узоры. Евгений Рейн свидетель-
ствует: когда при Ахматовой заговаривали о
герметизме, запутанных стихах, усложненных
ассоциациях, она отмалчивалась, не восхища-
ясь, но и не порицая. И повторяла одну и ту же
фразу: «Важно только одно: чтобы сам автор
имел нечто в виду».
Нечто имел в виду, вне всякого сомнения, и
232
Среди книг
автор «Ады». Можно выразиться конкретнее:
он имел в виду художественное открытие, не-
которыми комментаторами «Ады» за ним при-
знаваемое, другими — оспариваемое. Сам он,
похоже, не сомневался, что «Ада» — дело всей
его писательской жизни.
Отчего-то хочется думать, что это все же не
так. И пытаясь понять — отчего, вытаскиваешь
из закромов памяти давнюю статью Георгия
Адамовича, предпосланную переводу «Анаба-
сиса», который он сделал вместе с Георгием
Ивановым. Никто не назовет Адамовича побор-
ником кондового жизнеподобия, передовой
идеологии и прочих общественных полезностей,
по поводу которых так язвительно высказывал-
ся Годунов-Чердынцев, рассуждая о Черны-
шевском. Подступаться к Сен-Жон Персу, ду-
мая, что призвание поэта — способствовать
прогрессу, а нужные слова найдутся сами со-
бой, вообще безнадежная затея. Меж тем уси-
лиями Адамовича и Иванова создан достойный
русский аналог, который наверняка будут изу-
чать историки поэтического перевода.
Но какой ценой дался этот триумф! Адамо-
вич пишет, что снова и снова они с соавтором
должны были убеждать самих себя: ведь и в
самом деле стихи, акне выстроившиеся в колон-
ку слова, за которыми смутно мерцает невнят-
ная метафора. Ценя новизну приема, они никак
не могли почувствовать за ним «метафизики»,
«несказанного», «соприкосновения с элемента-
ми, от разума ускользающими». А без этого
изобретательность и оригинальность мертвы
—даже для Адамовича, так ценившего в сти-
хах именно небанальность.
Вот как раз «метафизики»-то и не почувству-
ет читатель «Ады». Можно сказать еще опреде-
леннее: ему, читателю, наверняка будет недоста-
вать ощущения реальной значительности этого
блестяще сделанного текста. Если только—а так
уж повелось в русской традиции — под значи-
тельностью понимать богатство духовного содер-
жания и необманчивую глубину коллизий.
О том, что именно такой, вне-«метафизичес-
кой», может оказаться конечная точка пути На-
бокова, Адамович, кстати, написал едва ли не
раньше всех, еще в статьях начала 30-х годов,
когда схожие предположения никому не прихо-
дили в голову. Разумеется, с суждениями Ада-
мовича можно спорить: известно, что к Набо-
кову (тогда еще Сирину) он относился сверх
меры скептично, а то и явно пристрастно — и
удостоился за свои желчные отзывы почти убий-
ственного шаржа на страницах «Дара». Прочи-
тавшему «Аду» становится понятно, сколь глу-
боки корни этой литературной вражды. И дело
не в личных антипатиях. Тут сталкиваются по-
зиции и взгляды на литературу, которые невоз-
можно примирить.
Свое вступление к «Анабасису» Адамович
завершает мыслями о «глубочайшей сущнос-
ти» русской поэтической традиции. Для него
она вот в чем: «У нас поэзия не ищет забвения,
не хочет игры, не ограничивает своего груза, а
наоборот, оглядывается, что бы еще поднять,
как бы не взлететь налегке». В «Аде» букваль-
но все противоречит этому толкованию поэзии.
Но, по меньшей мере, сомнительно, чтобы его
обоснованность всерьез поколебалась после
того, как дочитана последняя страница этой
книги. !
АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
АЛЕНА РОБ-ГРИЙЕ
Ален Роб-Грийе. Проект революции
в Нью-Йорке. Перевод с французского
Е. Мурашкинцевой. Составление, редак-
тура, вступительная статья М. Рыклина.
М., Ad Marginem, 1996
Издательство «Ad Marginem», верное тради-
ции дополнять издаваемые переводы корпусом
текстов (предисловиями, комментариями, при-
ложениями) , вводящих автора в широкий кон-
текст европейской интеллектуальной мысли,
выпустило роман Алена Роб-Грийе (р. 1922) в
сопровождении предисловия Михаила Рыкли-
на и переведенных им же работ французских
философов: Мориса Бланшо, Ролана Барта и
Мишеля Фуко. Каждая из них посвящена не
столько «Проекту революции в Нью-Йорке»,
сколько общим принципам творчества одного
из самых рафинированных и интеллектуальных
писателей и режиссеров XX века, признанного
лидера «нового романа».
В группу писателей, декларировавших свою
приверженность «новому роману» или «анти-
роману» и настаивавших на исчерпанности тра-
диционной формы повествования с ее неизбеж-
ной нарративностью, героями и сюжетной ин-
тригой, кроме Роб-Грийе входили такие видные
французские литераторы, как Мишель Бютор,
Клод Симон и Натали Саррот. Разделявший
основные эстетические взгляды, характерные
для этих авторов, Роб-Грийе, однако, стоит
особняком, что было признано некоторыми
критиками, в частности Роланом Бартом, дока-
зывавшим в своей статье, которая так и назы-
вается «Школы Роб-Грийе не существует»,
Среди книг
233
принципиальные различия между Роб-Грийе и *
наиболее часто ассоциируемым с ним Бютором.
Известно еще более радикальное суждение
Владимира Набокова по этому же поводу: «Ни-
какого «антиромана» нет, но есть один великий
французский писатель Роб-Грийе, а его мане-
ре бездарно подражает целый выводок баналь-
ных писак, которым этот ярлык оказывает хо-
рошую услугу в плане коммерции».
Суждение Набокова нельзя назвать справед-
ливым по отношению к французским писате-
лям. Однако важным является признание мас-
штаба дарования Роб-Грийе и его особой пози-
ции. Действительно, последовательность, с ко-
торой Роб-Грийе «стремится отучить роман от
традиционных инстинктов» (Р. Барт), беспреце-
дентна. И если, читая Мишеля Бютора, Клода
Симона, Натали Саррот (в 1983 году издатель-
ство «Художественная литература» впервые
издало переводы этих авторов совместно с ро-
маном Роб-Грийе «В лабиринте», так что «Про-
ект революции в Нью-Йорке» — второй текст
писателя на русском языке), мы с помощью ин-
теллектуального усилия еще можем восстано-
вить хронологическую последовательность
эпизодов, данных в потоке сознания, то в слу-
чае Роб-Грийе это оказывается принципиаль-
но невозможным, потому что сам источник по-
вествования у него не прояснен. Подробней-
шим образом описывая самые мелкие детали
предметного мира, Роб-Грийе освобождает их
от «человеческого значения», излечивает от
«метафоры и антропоморфизма» (Р. Барт). Воз-
можно, время в его чистом протекании являет-
ся единственным героем повествования, время,
«рассеянное в результате некой тайной внут-
ренней катастрофы», которое «как бы позво-
ляет фрагментам будущего проступить сквозь
настоящее или войти в свободное сношение с
прошлым... ВРЕМЯ, ПРЕВРАЩАЮЩЕЕСЯ В
ПРОСТРАНСТВО» (М. Бланшо).
Роман «Проект революции в Нью-Йорке»
вышел в 1970 году в издательстве «Минюи».
Прошло всего два года со времени майских сту-
денческих волнений в Париже и молодежных
движений протеста по всей Европе, оказавших
большое влияние на последующее развитие за-
падной мысли. И годы спустя эти события про-
должали восприниматься многими интеллекту-
алами (достаточно назвать имена французских
философов: М. Фуко, Ф. Гватари, П. Верильо
и других) ностальгически и позитивно, в то
время как отношение к ним Роб-Грийе еще в 70-
е годы, судя по «Проекту революции в Нью-
Йорке», отличалось скептицизмом.
Действие в романе происходит в неком неоп-
ределенном будущем. Этому будущему пред-
шествовала революция. Топографическая до-
стоверность описания города сводится на нет
фразой в конце книги: «...даже до революции
весь город Нью-Йорк — и остров Манхэттен,
в частности, — обратился в руины... Я имею в
виду, разумеется, строения на поверхности зем-
ли...» Тем не менее часть действия романа про-
исходит в нескольких наземных домах, описан-
ных с удручающей точностью. Некоторые де-
тали их интерьеров подспудно приводят чита-
теля к мысли о призрачности всех этих
сооружений, идентичных дому, расположенно-
му в западной части Гринич-Виллидж, где на-
чинается повествование. Да и там, как сообща-
ет рассказчик (его, по словам Бланшо, «нейт-
ральный, блуждающий, подобно призраку отца
Гамлета», голос невозможно отождествить с го-
лосом личности, личностным голосом; он зву-
чит «неизвестно откуда, как бы сквозь проре-
зи времени, которые он не имеет права изме-
нить или разрушить»), работает бригада дина-
митчиков. «Так что до неминуемого взрыва
остается совсем немного времени. Обрыв».
Взрываются и горят дома, еще оставшиеся
на поверхности города, постоянно взрывается
сама ткань повествования: одна сюжетная ли-
ния накладывается на другую, полностью от-
рицающую предыдущую, ее сменяет третья
линия, которая так же резко прерывается. Ча-
сто точки подобных текстуальных взрывов
фиксируются повторяющимися словами «об-
рыв», «возврат». Мы как бы попадаем в вир-
туальный мир некой компьютерной игры, где,
используя множество заданных параметров,
можно выстраивать собственный сюжет по сво-
ей воле. Между тем это, пожалуй, единствен-
ная возможность, не предусмотренная Роб-
Грийе, то есть сознательно не обыгрываемая в
самом произведении (персональные компьюте-
ры к тому времени еще не получили широкого
распространения), предоставляющем нам пра-
во каждый раз заново решать, каков статус со-
зданного им текста.
Казалось бы, начало готовит нас к воспри-
ятию «Проекта революции в Нью-Йорке» как
спектакля с несколькими актерами. «Первая
сцена разыгрывается стремительно. Сразу вид-
но, что ее повторяли несколько раз: каждый
участник знает свою роль наизусть. Слова и
жесты следуют друг за другом со слажен-
ностью шестеренок, крутящихся в хорошо сма-
занном механизме». Однако затем повествова-
ние продолжается от первого лица, рассказчик
начинает различать в прожилках деревянной
двери контуры обнаженной связанной девуш-
234
Среди книг
ки. Постепенно иллюзия приобретает черты
«реальности» (в случае Роб-Грийе кавычки в
слове «реальность» неизбежны), читатель ста-
новится свидетелем насилия: изувер-доктор
при помощи хирургических инструментов про-
изводит какие-то странные действия над ее бес-
помощным телом. Подобная сцена могла бы со-
ставить кульминационный момент полицейско-
го романа. И на самом деле, этот эпизод неожи-
данно попадает в двухмерное пространство
лощеной обложки дешевого романа, которую
одна из героинь, Лора, подносит к замочной
скважине, так что подсматривающий в нее че-
ловек принимает картинку за реальное собы-
тие.
Писатель не раз демонстрирует процедуру
перевода действия на обложку книги или рек-
ламный щит, с такой же легкостью персонажи,
нарисованные на обложке или рекламе, стано-
вятся героями повествования. Роб-Грийе как
бы постоянно провоцирует в нас стремление
восстановить обычный ход времени, найти ис-
точник повествования, чтобы в очередной раз
заставить потерпеть фиаско и осознать бессмыс-
ленность подобной процедуры. Например, в
какой-то момент «реальность» предстает как
совокупность отрывочных и случайных тек-
стов полицейских романов, которые беспоря-
дочно, иногда по нескольку штук одновремен-
но читает Лора, «перемешивая, таким образом,
все хитроумные переплетения сюжета». Лора
— одна из жертв террористов, пленница рас-
сказчика, но, возможно, она же играет актив-
ную роль лидера хулиганской шайки подрост-
ков или же шпионки, подселенной в дом рассказ-
чика главарем революционной организации.
Автор постоянно подчеркивает неаутентич-
ность событий и персонажей, в результате про-
тивопоставление понятий «искусственный» и
«реальный» теряет всякий смысл. Например,
Роб-Грийе подробнейшим образом описывает
витрину магазина, где можно купить любую
маску из гибкой резины, которая полностью
меняет внешность. Афиша магазина гласит:
«Если вам не нравятся ваши волосы, замените
их другими. Если вы не любите свою кожу,
натяните новую!» Здесь продаются также ре-
зиновые перчатки, «придающие иной облик ру-
кам, причем форму, цвет и прочее можно выб-
рать по каталогу».
В этом мире «кустящейся идентичности» (М.
Фуко) напрасно задаваться вопросом, являет-
ся ли одной и той же личностью тот, кто носит
маску террориста Бен-Саида, и тот, кто, сняв
маску слесаря, оказывается Бен-Саидом. Если
это действительно так, то подлинное лицо пер-
сонажа должно быть скрыто под двумя маска-
ми. А почему не допустить, что масок может
быть больше, что их на самом деле бесконечное
множество? Как множество социальных ролей
у сексуального маньяка, предстающего внача-
ле Лоре в маске подростка, сообщника ее во-
ровской шайки. Оказывается, личность этого
«Вампира метрополитена», изнасиловавшего и
убившего в метро двенадцать девочек, давно
установлена. «Он не был арестован, предан
суду и казнен на электрическом стуле лишь по-
тому, что является штатным агентом муници-
пальной сыскной службы; кроме того, он воз-
главляет отдел осведомителей в недрах одной
террористической организации и руководит ка-
федрой криминальной сексологии, организовав
нечто вроде вечерних революционных кур-
сов». К этому перечню «профессий» можно еще
добавить профессию режиссера, потому что,
как становится ясно из дальнейшего, он явля-
ется одним из тех, кто создает кинофильмы, сни-
мая мучения жертв, и записывает фонограммы,
чтобы за большие деньги продавать и то и дру-
гое заказчикам, например для серии «Познава-
тельные индивидуальные преступления».
В бесстрастном, геометрически расчерчен-
ном (эти свойства текста убедительно удалось
передать переводчице), как бы увиденном
сквозь видоискатель кинообъектива текстуаль-
ном пространстве писателя различим тем не
менее вектор желания, устремленный на идеаль-
ное женско-девическое тело, многократно под-
вергаемое пытке и расчленению. (Наличие это-
го вектора в «Проекте» и других книгах и филь-
мах Роб-Грийе вызвало справедливое возму-
щение феминисток.) То, что речь идет именно
о мужском садистическом желании, направлен-
ном на объектно трактуемое женское тело, выг-
лядит диссонансом в выстроенном писателем
мире полной взаимозаменяемости и обратимо-
сти. Это, пожалуй, единственный момент, когда
сквозь жесткокристаллическую конструкцию
повествования прорываются импульсы и фан-
тазии автора.
М. Рыклин в своем предисловии к роману
дает оригинальную трактовку заглавия. Дело
в том, что во французском языке слово «рево-
люция» имеет еще один смысл: кроме сверже-
ния существующего строя, «...оно означает
также «вращение», «обращение», медленное,
часто незаметное изменение положения, когда
бывшее в одном месте оказывается в другом...
В «Проекте революции в Нью-Йорке» мы име-
ем дело в первую очередь с искусством сдви-
га, с максимально медленным вращением одно-
го и того же... и лишь во вторую очередь с
Среди книг
235
действиями некой анонимной организации, стре^
мящейся совершить... революцию совокупны-
ми усилиями агентов-ликвидаторов, связных,
проституток и разных видов полиции». Дей-
ствительно, в «Проекте» Роб-Грийе револю-
ция полностью имманентна буржуазности, а
насилие является лишь оборотной стороной
потребительства. Чего стоит описание рекламы
чистящего средства: «Там, где девушка плава-
ет в луже крови, в комнате с современной меб-
лировкой, на ковре из белого нейлона... надпись
такая: «Вчера это была драма... Сегодня доста-
точно щепотки диастазического средства фир-
мы «Джонсон», и ковер как новенький». В тек-
стах Роб-Грийе, для которого, как выразился
Р. Барт, идея трагедии является «самой антипа-
тичной», все слишком условно и обратимо, что-
бы можно было говорить о прямой критике
буржуазного общества или революционных
действий. Скорее речь идет о новом типе пись-
ма, критически противостоящем всем методам
и условностям, наработанным за длительную
историю существования традиционного рома-
на, ведь, как писал Роб-Грийе в статье «О не-
скольких устаревших понятиях» (1957), «искус-
ство не ищет опоры в какой бы то ни было ис-
тине, существующей до самого искусства, и
можно сказать, что оно не выражает ничего,
кроме самого себя».
АННА АЛЬЧУК
ПРИГЛАШЕНИЕ В АНГЛИЙСКУЮ
ДЕТСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Л. Гамбург. Гулливер,Алиса,Винни-
Пух и все-все-все... Киев, Интерпресс
ЛТД, 1996
Есть на свете небольшая, но совершенно осо-
бая группа людей увлеченных, энтузиастичес-
ких, которым выпала на долю огромная удача:
встретить на жизненном пути нечто до того
милое и дорогое их сердцу, что, как говорится,
прикипают к нему навсегда. Такую любовь,
такое увлечение не следует, впрочем, путать с
«хобби», ибо «хобби», конечно, вещь хорошая,
но существует в общем-то для себя. Недаром
мистер Тристрам Шенди, эсквайр, этот знаток
всевозможных «коньков» (так «хобби» перево-
дится на русский язык), утверждал, что люди
такого сорта скачут себе по большой дороге на
своем «коньке», ни о ком не думая и никого не
приглашая сесть с ними вместе на их «конька».
Другое — наш любитель-энтузиаст. Для него
это увлечение — дело чуть не всей его жизни,
источник многих радостей и открытий, которы-
ми он непременно и с необычной щедростью
хочет поделиться с окружающими.
Я не знакома лично с Л. А. Гамбургом, авто-
ром книжки «Гулливер, Алиса, Винни-Пух и
все-все-все...», но, прочитав ее, поняла, что он
принадлежит к той же породе энтузиастов. Хотя
его профессия и специальное образование, по
его собственным словам, не имеют ничего об-
щего с литературой, он пишет о ней с такой лю-
бовью, что увлекает читателей и полностью оп-
равдывает подзаголовок своей книжки: «При-
глашение в английскую детскую литературу».
Л. А. Гамбург посвящает книгу памяти отца.
«Англию и английскую литературу открыл для
меня мой отец. Мне шел двенадцатый год. Отец
в то время был серьезно болен и, предчувст-
вуя свой скорый уход, старался как можно
больше рассказать мне о настоящей музыке и
настоящей литературе. Так уж случилось, что
самыми яркими и запомнившимися мне на всю
жизнь стали впечатления, связанные с Англи-
ей... Прошло очень много лет, почти вся жизнь,
и неожиданно для самого себя я решился напи-
сать эту книгу», — рассказывает в предисло-
вии Л. А. Гамбург. Книга была задумана не как
исследование или учебник, а как своеобразный
путеводитель для родителей и воспитателей,
студентов-педагогов и старшеклассников, пу-
теводитель, предваряющий их знакомство с
большой литературой.
Читать книжку Л. А. Гамбурга приятно. Во-
первых, она превосходно издана— прекрасная
бумага и полиграфия, позволяющая воздать
должное великолепным портретам и иллюстра-
циям, многие из которых наши читатели видят
впервые. Во-вторых, и это, признаюсь, было
для меня особенно важно, в ней нет ставшей уже
чуть ли не непременной установки на сенсацию,
характерной, увы, в наши дни для многих со-
чинений. Автор не объявляет, скажем, Льюиса
Кэрролла Untermensch 'ем, не заявляет, что в
жизни он был «скучен, как стоячая лужа» (Д.
Урнов), не доказывает, что книжки об Алисе
возникли под прямым влиянием русской сказ-
ки «Василиса Прекрасная» (Ж. Перро), не ин-
терпретирует Винни-Пуха с позиций плохо пе-
реваренного психоанализа, не выискивает в нем
различных «сексуальных и анально-фалличес-
ких» синдромов и пишет имя бедного медве-
жонка, не мудрствуя лукаво, попросту по-рус-
ски, а не серединка на половинку «Winnie-Пух»
(В. Руднев). Автор не вешает ярлыков, не ста-
новится в позу, не похлопывает писателей снис-
ходительно по плечу, а увлеченно рассказыва-
ет о том, что любит. И заодно сообщает множе-
236
Среди книг
ство интересных сведений и делает множество
интересных наблюдений. И об Англии, и об ан-
глийской культуре, и об английском характере,
и о знаменитом английском юморе. Он берет
себе в партнеры известных английских писате-
лей и остроумцев, чьи высказывания так и хо-
чется выписать на бумажку и повесить себе над
столом. Вот, к примеру, одно из них: «Когда мне
нужно доказать себе, что жить на этом свете сто-
ит, — тогда я беру Лира, и он убеждает меня и
освежает. Я читаю его и чувствую, как славно,
что я жив, ибо с Лиром мне разрешена вся моя
несуразность». Это Олдос Хаксли — о масте-
ре нонсенса Эдварде Лире, умевшем смеяться
в самых сложных ситуациях. Или вот еще—ве-
ликий Вордсворт: «Мы живы восхищением,
надеждой и любовью».
Тематический размах книги весьма широк: от
волшебных сказок, которые, по словам мудро-
го парадоксалиста Г. К. Честертона, «дают са-
мую правдивую картину жизни», до литера-
туры наших дней. Основное внимание автора
сосредоточено на писателях золотого века ан-
глийской детской литературы и их ближайших
последователях. Это Эдвард Лир, воспевший
таинственных Джамблей, Льюис Кэрролл, над
загадкой обаяния которого до сего дня бьются
и ученые мужи, и поэты, Беатрикс Поттер, ко-
торую в Англии чтут не только за отточенный,
без капли сентиментальности стиль и прозрач-
ные акварели, но и за усилия по сохранению
воспетого поэтами Озерного края (кстати ска-
зать, увенчавшиеся успехом). Здесь и шотлан-
дец Дж. М. Барри, создатель Питера Пэна,
«мальчишки, который не хотел становиться
взрослым», завещавший все доходы от книг и
постановок пьесы про Питера детской больни-
це на Ормонд-стрит в Лондоне, и неторопли-
вый Кеннет Грэхем, который так любил живот-
ных (его повесть «Ветер в ивах» русскому чи-
тателю еще предстоит оценить по достоинству),
и Редьярд Киплинг со своими бессмертными
героями («Хорошенько глядите, о волки!»), для
которого, как ни странно, английский язык был
«вторым»,, а первым — язык его индийской ня-
нюшки. И, конечно, два великих викторианца
— Чарльз Диккенс и Уильям Мейкпис Текке-
рей — и их «рождественские сказки». Правда,
если про «Кольцо и розу» Теккерея доподлин-
но известно, что она была написана для двух его
дочерей и их маленьких друзей, то с «Рождес-
твенским гимном» Диккенса дело обстоит ина-
че. Ведь он предназначался не только детям, да
и читался в основном не ими. Недаром Текке-
рей написал Диккенсу: «Вы облагодетельство-
вали каждого, кто прочитал эту повесть».
Проникновенные строки посвящает Л. А.
Гамбург сказкам Оскара Уайльда, повестям
Фрэнсис Ходгсон Бернетт, которая родилась в
Англии, но в юности уехала в Америку, а по-
том, хотя и приезжала в Англию и, купив себе
дом и сад, подолгу жила в ней, все же дала до-
статочно поводов критикам-американцам счи-
тать ее американской писательницей, «сказоч-
никам в профессорских мантиях», Дж. Р. Р. Тол-
киену и его другу К. С. Льюису и многим дру-
гим... Не забывает автор и о писателях
современных — хотя о них в книге говорится
меньше, чем о «классиках» и приверженцах
традиций золотого века. Отчасти это, наверное,
объясняется тем, что переводов из современ-
ных авторов у нас вышло гораздо меньше, а
книжка ориентирована в основном на сущес-
твующие тексты, что вполне оправданно. Воз-
можно также, тут сыграли роль и собственные
пристрастия Л. А. Гамбурга, которому класси-
ческая традиция ближе. Даже говоря о таком
из наших современников, как Алан Гарнер,
автор оттеняет сказочную (вернее было бы ска-
зать— мифологическую) традицию в его кни-
гах, не обращая особого внимания на другие
стороны этого замечательного таланта (психо-
логизм, визионерство, точность в передаче ре-
чевых характеристик и связанных с этим соци-
альных различий, столь важных для современ-
ной Англии).
В книге много стихов — что тоже приятно. К
тому же разве это не самый верный способ ув-
лечь молодых читателей? Стихотворные иллю-
страции в целом выбраны со вкусом. Автор ци-
тирует детские народные песенки и припевки,
стихи Лира, Кэрролла, Беллока, Милна, Сти-
венсона, Грэхема, Муллигана, Э. В. Рью (кото-
рого правильнее было бы назвать Ру) в пере-
водах, принадлежащих и таким классикам детс-
кой литературы, как К. Чуковский и С. Мар-
шак, и нашим современникам — О. Седаковой,
оригинальные произведения которой наконец-
то получили должное признание, Б. Заходеру с
его неподражаемыми Ворчалками, Пыхтелка-
ми и Шумелками, изящной И. Комаровой, та-
лантливым А. Кистяковскому, М. Бородицкой,
Г. Кружкову, рано ушедшей Д. Орловской... К
своему удивлению, я не увидела на страницах
книги имени Марка Фрейдкина, который блес-
тяще перевел не только всю «Книгу бессмыс-
лиц» Лира, но и сборник «назидательных сти-
хов» X. Беллока, вдохновившего кое-кого из на-
ших поэтов.
Среди удачно в целом подобранных стихот-
ворных иллюстраций звучат порой досадные
диссонансы: Жирняга (!) Джимми в стихотво-
Среди книг
237
рении Теккерея, совершенно несовместимый с»
его стилем, или совсем уж странные (по срав-
нению с веселым, но изящным оригиналом)
строки:
В Оксфорде — прорва ученых,
Грамотный это народ.
Но кто их сравнит
С тем, кто так знаменит,
С ученейшим мистером Тоуд (?!)
Признаюсь, мне грустно видеть, как «тусо-
вочная» лексика проникает в поэзию, но еще
грустнее быть свидетельницей тиражирования
безграмотности.
Есть в книге Л. А. Гамбурга одна особен-
ность, на которую нельзя не обратить внима-
ния: наряду с книгами, написанными специаль-
но для детей, немалое место в ней занимают кни-
ги, первоначально предназначенные для взрос-
лых и лишь потом вошедшие в «круг детского
чтения», одни в сокращенном и адаптирован-
ном виде (как, скажем, «Гулливер», из которо-
го были изъяты «непристойности»), другие —
Диккенса и Вальтера Скотта—в полном объе-
ме. (Замечу кстати, что мне попадались и сокра-
щенные дореволюционные издания этих авто-
ров.) Почему это произошло? Какие авторы и
сюжеты оказались «способными» к таким тран-
сформациям? Л. А. Гамбург не задается подоб-
ными вопросами. Точно так же, как вопросом
о том, каким образом некоторые произведения,
адресованные специально детям, стали с года-
ми все больше и больше читаться взрослыми
(ярчайшие примеры тому—творения Кэррол-
ла и Лира). Автор словно бы говорит своим
читателям: пусть над этими вопросами ломают
себе головы те самые ученые мужи, для кото-
рых, по мнению Честертона, и написаны наделе
эти книги. Автор же будет просто любить их и
восхищаться их создателями!
Л. А. Гамбург написал светлую книжку, лей-
тмотивом которой звучат светлые и радостные
чувства. Ее хочется сравнить с зеленой лужай-
кой в ясный солнечный день, на которой резвят-
ся дети. На ярком небе — ни облачка; смерть и
болезни, сомнения и одиночество, бедность и
старость далеко-далеко, и думать о них совер-
шенно не хочется. Если в книге и говорится иног-
да о трагедии (скажем, самоубийство Алэстера
Грэхема, того самого Мышонка, которому пер-
воначально рассказывался «Ветер в ивах»), то
делается это всегда предельно кратко и нейт-
рально. Эту книгу можно было бы написать и
по-иному, открыв двери драме в жизни писате-
лей и их сюжетов. Но будем уважать авторский
выбор. Поблагодарим Л. А. Гамбурга за солнеч-
ный день, которых не так-то много в нашей жиз-
ни, а посольство Великобритании — за помощь
в издании этой книги. И закончим словами Ар-
тура Конан Дойла, которыми автор завершает
свою книгу про Гулливера, Алису, Винни-Пуха
и всех-всех-всех: «Если я привел вас туда, где вы
раньше не бывали, то убедитесь в правильнос-
ти пути и двигайтесь дальше. Но, может быть,
моя попытка была тщетной? И в этом нет ниче-
го страшного, пусть даже мои усилия и ваше
время были потрачены зря... Однако думать и
говорить о книгах всегда прекрасно, к чему бы
это ни привело».
Н. ДЕМУРОВА
МЕЖДУ ДВУХ УТОПИЙ
Aydin Hatipoglu. Sa?. Roman.
Istanbul, Sarmal, 1995
Айдын Хатипоглу.Волосы, 1995
С турецким поэтом Нефзатом Устюном мы
пили чай из самовара и глядели на плещущиеся
у самых ног воды Босфора, на танкеры, сухо-
грузы под различными флагами, беспрерывно
идущие по проливу, на паромы, рыбацкие лод-
ки, покачивавшиеся неподалеку яхты и обме-
нивались короткими репликами. Текло время.
Высоко стоявшее солнце медленно уходило за
зеленые холмы за спиной, менялся цвет воды —
от синего через желто-оранжевый до темно-
зеленого, удлинялись тени, хотя на той сторо-
не солнце еще било в окна утопленных в садах
вилл. Зажглись ходовые огни на судах, фонари
на нашем берегу. Какое-то прежде неведомое
чувство блаженного созерцания, полной слиян-
ности с миром не давало тронуться с места.
Нефзат Устюн, видно заметив мое состояние,
принялся рассказывать о давно минувших вре-
менах Османской империи. Когда придворная
камарилья, унаследовавшая, подобно россий-
ской, византийские нравы, начинала слишком
уж досаждать султану интригами, заговорами,
взаимным подсиживанием (по-нашему «ком-
проматом»), он повелевал особо настырным
вельможам удалиться на азиатский берег Бос-
фора и не возвращаться до его высочайшего
дозволения. Порой достаточно бывало трех-
четырех недель, чтобы, глядя на текущие воды
Босфора, интриганы забывали о кознях, о всей
этой мелочной дворцовой возне, и расслабля-
лись, предавшись блаженному созерцанию. По
словам Нефзата, отсюда в народе возникла ма-
лопочтительная к начальству поговорка: «Вода
бежит, дурак глядит».
Тридцать с лишним лет минуло с того дня,
238
Среди книг
когда, воспитанный, как все мое поколение, на
интересе к каждодневной политической кухне,
я впервые ощутил смысл неспешной медита-
тивности Востока, которая и теперь восприни-
мается как ленивая дурость не только замучен-
ным заботами о выживании турецким крестья-
нином, но и всецело поглощенным добыванием
карьеры и денег «цивилизованным» западни-
ком. Этот день в мельчайших подробностях
возник передо мной, когда я читал роман ту-
рецкого поэта Айдына Хатипоглу. В особеннос-
ти те его страницы, где, вырвавшись из стол-
потворения современного Стамбула: криков
торговых зазывал, грохота поп-музыки, рева
машин, — один из персонажей сидит в тради-
ционном стамбульском ресторанчике и, обслу-
живаемый почтительным гарсоном, потягива-
ет вино, закусывает брынзой, глядит на море,
водоросли, шаланды, пароходы и предается раз-
мышлениям о быстро изменяющейся жизни.
«Все принципы и основы смешал общественный
обвал... Родил скоробогачей без правил и тра-
диций. Эгоизм стал основой новых ценностей.
Принес одиночество в толпе... Никто никому не
нужен. Карабкаются вверх, ступая подругам...
Без любви, без искренности, без веры... Люди
в масках». То мысли пожилого состоятельного
человека, из-под которого незаметно, но стре-
мительно ушло привычное время. Но это вре-
мя живет и в главном герое книги, студенте
Джихаде. Автор возвращает нас в его детство,
прошедшее в провинциальном городке Анато-
лии, где люди солидарны в беде и в радости —
той солидарностью, которая известна нам по
среднеазиатским городским кварталам-махал-
ле, а в России зовется соборностью. Там он был
свидетелем истории бесстрашного джигита Ка-
зыма и прекрасной рыжеволосой гречанки —
истории, подобной старой восточной легенде о
Кереме, сгоревшем, по преданию, от любви, и
исполненной автором в стиле народных деста-
нов. При всей романтичности этой любви и при-
влекательности патриархальной солидарности,
писатель не упускает из виду и их оборотной
стороны—зависимости общины от власти и бо-
гатеев. Отец Джихада, несмотря на заступниче-
ство джигита Казыма, в конце концов гибнет от
руки тех, кто задумал завладеть клочком его
наследственной земли. А возлюбленная и жена
Казыма умирает, окруженная злобной нетерпи-
мостью и фанатизмом: «Из свиньи не будет
шкуры, из гявура — друга», «Кто гявурку
возьмет, испоганит свой род», «Куда гявурка.
пойдет, там трава не растет», «Кто вздумает на
гявурке жениться, тому в семи ручьях не от-
мыться».
Вслед за женой покидает сей мир и сражен-
ный горем джигит. Перед смертью он завеща-
ет Джихаду старинную, инкрустированную
перламутром шкатулку с прядью огненно-ры-
жих волос любимой. Эта шкатулка, которую
бережно хранит Джихад, соединяет две самос-
тоятельно развивающиеся сюжетные линии,
прошлое с будущим, символизирует противос-
тояние традиционной романтической искрен-
ности приземленному прагматизму новых
турок.
Основное действие романа разворачивается
в современном Стамбуле. Вместе с главным ге-
роем читатель входит в университетские ауди-
тории, участвует в бурных протестах левацкой
молодежи, попадает на конспиративные квар-
тиры, в полицейские участки. В судьбе героя
находит отражение и судьба самого автора.
Хатипоглу принадлежит к поколению поэтов,
которых у нас зовут шестидесятниками. Моло-
дежные студенческие революции, прокативши-
еся в те годы по Европе, не обошли стороной и
Турцию. В поисках утраченной патриархаль-
ной утопии турецкая молодежь противопоста-
вила ей утопическую солидарность социалис-
тического толка. В условиях авторитарного
режима эти попытки вылились в кровавые улич-
ные стычки с полицией, а затем и в партизанс-
кие схватки в горах. Много молодежи попало в
тюрьмы, немало погибло. Свойственные юно-
сти требования всего и немедленно не смогли,
конечно, изменить общественного строя Тур-
ции, но само движение оставило неизгладимый
след в ее общественной атмосфере. Мало того,
две утопии—патриархальная и социалистичес-
кая — до сей поры продолжают бороться в
душах турецкой интеллигенции. Последовате-
лей одной автор книги приводит в сумасшед-
ший дом, второй — в тюрьму.
Со стихами Айдына Хатипоглу русский чи-
татель мог впервые познакомиться двадцать с
лишним лет назад в сборнике «Молодые поэты
Турции», выпущенном комсомольским изда-
тельством в Москве. За эти годы мне не раз
доводилось встречаться с поэтами его круга и
в Москве, и в Стамбуле. «Видишь седину в
бородах, обширные лысины. Зато на книжных
полках в России мы будем вечно молодыми»,
— грустно шутил Айдын. В своих последних
стихах, написанных верлибром, он довел до
совершенства, до крайней степени точности ан-
типафосную, «прозаическую» интонацию.
Может, поэтому переход к прозе для него за-
кономерен. И все-таки это проза поэта: по мас-
терскому владению всем синонимическим бо-
гатством родного языка, по умению только
Среди книг
239
через прямую речь героев передать не одни,
лишь характеры, но и сами события. И наконец,
по лаконичности — тридцать небольших сцен
и лирических отступлений, составляющих кни-
гу, мы, конечно, по нашей традиции назвали бы
не романом, а повестью или даже прозаической
поэмой. В этой книге заметно знакомство авто-
ра с марксизмом, с Фрейдовой теорией субли-
мации и, естественно, влияние традиционного
для Турции мистицизма, порой принимающе-
го фетишистские формы.
Автор назвал свою книгу «Волосы». Пос-
кольку патриархальная мусульманская, да и
восточнохристианская традиция запрещает
женщине появляться на людях с непокрытой
головой, а выбившаяся из-под платка прядь, к
тому же огненно-рыжая, почитается непристой-
ным греховным соблазном, турецкий читатель
уже в самом названии явственно ощущает поле-
мику с этой традицией.
Думается, Айдын Хатипоглу, пройдя испы-
тания, что выпали на его долю и на долю его
страны, одолев соблазны молодости, близок к
той мудрой медитативности, которая отнюдь не
является равнодушным созерцанием, а помо-
гает найти ответ на вопрос: «Кто мы и куда мы
идем?»
Нынче более миллиона наших людей в год
приезжают в Турцию — дельцы, челноки, ту-
ристы. Уверен, если роман «Волосы» будет
переведен на русский язык, то тот, кто хочет
понять нынешнее состояние турецкой души, не
менее загадочной для европейца, чем русская,
получит не только увлекательное, но и поучи-
тельное чтение. Роман может помочь нам осоз-
нать самих себя и нашу страну, переживающую
не менее резкий слом, чем Турция, и все еще
барахтающуюся между двух утопий. Не зря
русская пословица гласит: «Сходи в гости —
увидишь, где в своем доме бревно гнило».
РАДИЙ ФИШ
HAiuA ПОЧТА
Чтение «ИЛ» как правильный критерий
при выборе спутника жизни
Результаты анкеты, напечатанной в 500-м номере
Успех этой акции превзошел наши самые оптимистичные ожидания. Мы так долго
тянули с опубликованием анализа полученной читательской почты, потому что письма
шли, шли, и этот поток все не иссякал. Редакция давно отвыкла от столь активного внима-
ния со стороны читателей и завороженно ждала, сколько времени продлится это чудо.
Хотелось, чтобы подольше.
С наступлением сентября все же пришлось подвести черту, хотя письма продолжа-
ли поступать. Но мы обещали разыграть бесплатные подписки на 1998 год, и пора было
сообщить участникам викторины, кому из них этой осенью ни в коем случае не следует
подписываться на «ИЛ». Мы ответили персонально каждому из четырех сотен читате-
лей (на самом деле ответивших больше, потому что многие письма были семейными, а
некоторые даже коллективными), так что если кто-то из респондентов ответа не получил,
в этом виноваты не мы, а наши героические отделения связи.
Итак, большое спасибо всем, кто нам написал, и просто спасибо тем, кто хотел на-
писать, но не собрался. Теперь у нас появилась возможность сделать некоторые выводы
о коллективном портрете читателя «ИЛ». Разумеется, специалист по изучению общес-
твенного мнения скажет, что подобные выводы некорректны, ибо в анкетировании доб-
ровольно участвует лишь определенная категория людей, но нам кажется, что в данном
случае это не так. Во-первых, 400 ответов на 15 000 подписчиков—это очень высокий,
невероятно высокий показатель. А во-вторых, многие респонденты, как сговорившись,
пишут, что никогда раньше не участвовали в подобных акциях и писем в редакции отро-
дясь не писали. Эта позиция, может быть, и верна (мы и сами такие), но в нашу редак-
цию, пожалуйста, пишите и впредь—нам без ваших писем плохо. Налицо явная потреб-
ность в совместной переписке. Юбилейная анкета не только очень помогла нам, но не-
сомненно принесет пользу и вам, о чем см. в главке «Оргвыводы».
Благодаря вашим письмам мы сделали для себя ряд важных открытий и хотим ими
поделиться.
ОТКРЫТИЯ
Во-первых, теперь мы знаем, что читатели наш журнал любят. Это для нас просто
откровение — не сочтите кокетством. Мы действительно понятия не имели, как относит-
ся читательская аудитория к редакционной стратегии, из-за которой мы так часто спорим
на наших планерках и заседаниях редколлегии. Когда-то, в незабываемые времена гласно-
сти, читатели писали нам много и страстно. Потом река писем стала усыхать, выроди-
лась в ручеек, а затем и вовсе исчезла. К нам на Пятницкую улицу приходят только гнев-
ные отклики по поводу неполученного номера (за это отвечает ваше отделение связи)
или типографского брака (это к типографии «Красный пролетарий»). Разумеется, в от-
сутствии обратной связи мы виноваты сами — нужно было проводить подобные анкеты
постоянно. Теперь у нас появилось ощущение, что мы, сотрудники редакции, не просто
занимаемся приятным и интересным делом, а что наша игра в бисер, оказывается, очень
нужна многим людям, и чем дальше эти люди живут от столиц и больших городов, тем
нужнее. Вероятно, наивное открытие, но очень для нас важное.
Открытие второе, почти столь же важное: мы тоже любим наших читателей. Выяс-
Наша почта
241
нилось, что это весьма симпатичные, умные и эрудированные люди. Более того — и это
уже просто чудо, — наш журнал читают очень толерантные люди. В анкете содержа-
лась просьба: «Назовите наши наименее удачные публикации». И что же вы думаете? В
стране, где все так любят друг друга поучать, тыкать носом и указывать на недостатки,
самый распространенный ответ звучал примерно так: «Не берусь судить, потому что
это дело вкуса». Не берусь судить! Дело вкуса! Невероятно... И ни одного
письма, в котором читатель, как это не раз случалось в прежние годы, принялся бы под-
считывать, сколько среди наших авторов «лиц еврейской национальности» или еще что-
нибудь в этом роде. Ни одного! За это, как говорится, отдельное спасибо. Оказывает-
ся, в 1997 году все больше наших читателей хотят «раздвинуть границы бытия, ощутить
себя гражданином Земли» (Э. П. Твердохлеб, программист, Пермь; литературные вкусы
— Вирджиния Вулф, Хулио Кортасар, Сью Таунсенд) или благодарят «за то чувство
«гражданина мира», которое воспитывает Ваш журнал» (семья Канторович — ар-
хитектор, физик и студент, Екатеринбург; Ингмар Бергман, Эмиль Ажар, «Антич-
ный» литгид), У нас даже появилась мечта: вот было бы здорово, если б читатели «ИЛ»
составили большинство населения нашего евразийского субконтинента! Какая хорошая
могла бы получиться страна.
Есть и другие поводы для удивления. Например, обнаружилось, что наш главный
читатель — молодежь. Что петербуржцы читают нас с большей охотой, чем москвичи.
Что нас вовсю призывают «печатать меньше попсы и не бояться интеллектуализма»
(Н. В. Бочкова, медик, Челябинск; Милан Кундера, Умберто Эко, Сьюзен Сонтаг). А
мы, признаться, и в самом деле, бывает, боимся переумничать.
НЕ-ОТКРЫТИЯ
Но значительную часть полученной нами информации к сфере открытий, конечно,
не отнесешь.
Разумеется, две трети наших читателей — женщины, потому что женщины отзыв-
чивее, больше читают и вообще лучше.
Разумеется, у наших читателей неважно с деньгами и многие подписываются на «ИЛ»
с трудом или же вынуждены брать журнал в библиотеке.
Разумеется, труднее всего пенсионерам, которые раньше составляли чуть ли не льви-
ную долю наших подписчиков. Возрастное соотношение респондентов показано в сле-
дующей главке, однако процент пожилых людей в реальности, видимо, еще меньше, по-
тому что, как известно, у пенсионеров больше свободного времени для переписки.
Разумеется, на журнал трудно, а то и невозможно подписаться в бывших союзных
республиках. Мы получили из так называемого ближнего зарубежья всего 10 анкет, и
почти в каждой сетования такого рода: «В наших краях «ИЛ» как «Искра» или самиз-
дат» (О. В. Боровков, 49 лет, радиоинженер, Львов, Украина; Норман Мейлер, Иосиф
Бродский, Джеймс 77. Донливи), или:« Книги, издающиеся в России, в наш «цветущий и
независимый» не попадают практически с 1992 года... Вы только помните, что здесь
тоже есть ваши читатели» (В. Турчин, 28 лет, оператор котельной, г. Тараз, Казах-
стан; «Портрет в зеркалах», Иосиф Бродский, Милорад Павич.) Может быть, вместе
что-нибудь придумаем.
ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ
Вот какая статистическая картина складывается из ваших ответов.
Подавляющее большинство респондентов читают «ИЛ» с давних пор, многие с дет-
ства. Рекордсмен — 3.3. Розенбаум (80лет, пенсионер, г. Жуковский Московской обла-
сти; Джеймс Джойс, Джулиан Барнс, Итало Кальвино), читавший «Интернациональ-
ную литературу» еще в 1935 году. Новых читателей у журнала сравнительно немного,
около 15%.
242
Наша почта
По возрасту разброс впечатляющий — от 91 года (поскольку речь идет о даме, имя
утаиваем) до 15 лет (О. А. Семченко, г. Курчатов Курской области: «...люблю хорошие
книги, rock, готовить, а зовут меня Ольгой!»; Ольга отдает предпочтение Джулиану
Барнсу и Умберто Эко). Мы разделили читателей на три условные группы: юный воз-
раст (до 40 лет), молодой (40—60) и зрелый. К первой группе принадлежат 46% респон-
дентов, ко второй 38%, к третьей 16%.
Треть писем пришли из столиц, две трети из провинции — от Магадана и Охи до
Калининграда. Почти четверть респондентов берут журнал в библиотеке (за это, видимо,
следует благодарить Институт «Открытое общество», подписавший на наш журнал в 1997
году более 2000 российских библиотек).
По роду деятельности разделение вполне предсказуемое — в основном интелли-
генция, хотя есть и рабочие, и сторож, и дворник (судя по уровню ответов, они тоже от-
носятся к интеллигенции — если не в социальном, то в духовном смысле). Появилась
довольно многочисленная прослойка «новых русских». Правда, мы трактуем сей тер-
мин несколько шире, чем это обычно принято, и включаем в эту социальную группу не
только предпринимателей и банкиров, но также представителей новых, ранее нетипич-
ных занятий: компьютерщиков, специалистов по рекламе, домохозяек, безработных и убор-
щиц с кандидатским дипломом. «Новых русских» оказалось чуть больше 10%.
Некоторая структурная метаморфоза произошла в соотношении физиков и лири-
ков. В прежние годы инженеров среди читателей «ИЛ» было гораздо больше, чем фило-
логов. Теперь же среди ответивших на анкету и указавших свой род занятий «технарей»
32%, гуманитариев—44%. Что бы это означало? Должно быть, в Советском Союзе нали-
чествовало перепроизводство инженеров и кандидатов технических наук, и за последние
годы многим из них пришлось переориентироваться. По более узкой профессиональ-
ной градации самыми верными нашими читателями, как и следовало ожидать, являются
педагоги (18%).
В одном из пунктов анкеты мы попросили сообщить о себе все, что читатель сочтет
интересным. Этот раздел получился самым увлекательным. Вот несколько миниатюр-
ных автопортретов:
«Женщина... лет, образование средне-техническое. Работала инженером на за-
водах. Полтора года как безработная. Занимаюсь домашним хозяйством. Душевно спо-
койна. Люблю музыку, Led Zeppelin. Изо всех сил стараюсь не расставаться с вашим
журналом» (Т. Г. Кузьменко, г. Самара; любит Германа Гессе, Вирджинию Вулф, Сте-
фана Гейма).
«35 лет, мужской, среднее, водитель трамвая, приверженец идеологии Маркса»
(О. В. Булатов, г. Краснодар; среди литературных пристрастий — Жорж Батай,
Петер Хандке и Кристоф Рансмайр).
«Преподаватель и библиотекарь с личным скромным опытом писательства... Из
неофитов, эрудитов, искусствоедов, к тому же — блондинка балтийской внешнос-
ти» (С. С. Иванова, г. Щелково Московской области; Кадзуо Исигуро и Кэндзи Мару-
яма).
В общем, на сей раз не только мы развлекали вас интересным чтением, но и вы нас.
КОМПЛИМЕНТЫ И УПРЕКИ
*
Поскольку повод для анкетирования был праздничный, почти все респонденты со-
чли своим долгом написать нам что-нибудь приятное. Каждое утро, как только привози-
ли очередную порцию писем, мы читали их и розовели от удовольствия. Застенчивость
не позволяет нам процитировать наиболее цветистые похвалы в адрес журнала. Вряд ли
мы такие замечательные, как вы пишете, но все равно большое спасибо за комплимен-
ты, мы ими не избалованы. И за упреки тоже спасибо — уж их-то мы наверняка заслу-
жили.
Вот критические оценки нашей деятельности:
Наша почта
243
[Ответ на просьбу назвать удачные публикации] «Таковых нет. Или культура вы-
дохлась, или журнал ведется ни шатко ни валко, с прохладцей». (Ю. И. Нейман, 60
лет, искусствовед. Любит Алана Силлитоу и Питера Устинова). Культура не выдох-
лась и никогда не выдохнется, Юрий Иосифович. Вся полнота ответственности наша, ре-
дакционная. Будем работать лучше.
«Не хватает обратной связи с читателем. Такие анкеты раз в 15 лет, Вам самим,
господа, не смешно? Когда стали тонуть, вспомнили, кто вас держит? Боюсь, не поз-
дно ли» (О. Н. Леонтьева,... лет, экономист, г. Самара; Ромен Гари, Милан Кундера,
Патрик Зюскинд). Насчет обратной связи Вы, госпожа Леонтьева, совершенно правы,
но тонуть мы уже года три как перестали.
Как вы уже догадались, упреки мы процитировали для того, чтобы прилично было
привести и несколько комплиментов, пленивших нас изысканностью:
«Я очень рад, что читаю Ваш журнал, и очень огорчен, что другие этого не дела-
ют! Жизнь была бы добрее» (С. Шашин, 40, мужеска полу, высшее гуманитарное —
грузчик; Эдвард де Грациа, Том Стоппард, Джулиан Барнс).
«...Муж спрашивает: « Что тебе подарить ко дню рождения?» — «Извини, я уже
сделала себе подарок: подписалась на «ИЛ». Оставайтесь подарком» (Л. Е. Лебеде-
ва, маленькая женщина... лет с высшим образованием, инженер-строитель, г. Фроло-
во Волгоградской области; Альберто Моравиа, Питер Устинов, Патрик Зюскинд).
«Интересно то, что если долго не читала журнал в силу разных обстоятельств,
начинаю скучать» (Н. А. Денисова,... лет, монтажница, г. Курск; Джон Фаулз, Патрик
Зюскинд, Айрис Мердок).
«Люблю красивые вещи, красоту в жизни и работе. Видимо, поэтому читаю толь-
ко Ваш журнал» (В. П. Кулешов, 64 года, инженер, г. Москва; Веслав Мысливский, Генри
Миллер, Сол Беллоу).
«Каждый номер ожидаю с азартом рыбака. Вдруг новая вспышка в моем небе,
где блещут Сэлинджер и Шукшин, Элиот и Рубцов?» (Л. Н. Игошин, 55 лет, гравер,
Добрянка Пермской области; Петер Хандке, Олдос Хаксли, Марек Хласко).
И одно письмо почти целиком:
«...Когдамне было 13 лет, мама на своем предприятии выиграла подписку на жур-
нал «ИЛ». Одним из первых произведений, которым я зачиталась, которое «встряхну-
ло» мои мысли, был роман Лайоша Мештерхази «Загадка Прометея» (чувства встрях-
нул другой роман — «Теофил Норт» Торнтона Уайлдера). И завертелось... Я взросле-
ла, заканчивала школу, училась в институте, смею сказать, «росла духовно» в обнимку
с журналом... Будущий муж с удовольствием прочитал подписку за несколько лет, и
вот сейчас я думаю, не это ли определило мой выбор супруга? Во всяком случае, мы
дружно жили, почитывая «ИЛ» до 1993 г. Но в 1993 г. «случилось страшное» — в
Беларуси не принимали подписку на журнал. Спустя несколько лет мы обнаружили,
что появилась возможность выписывать журнал на территории Беларуси благода-
ря фирме «Красико-Принт». Мы изыскали финансовые возможности, подписались на
1997 г., и вот уже наша четырнадцатилетняя дочь была поймана за чтением «ИЛ» в
половине третьего ночи. Я думаю, у вас будет читатель 600-го номера — и мы еще
достаточно молоды, и две дочери растут. Младшая кончила первый класс и научи-
лась читать, а в нашей семье от чтения вообще до чтения «ИЛ» недолго» (О. В. Крась-
ко, г. Минск, Беларусь; Генрих Бёлль, Ивлин Во, Грэм Грин).
Почаще бы получать такие письма (не сочтите вымогательством).
ЧТО ЧИТАТЕЛЯМ ПОНРАВИЛОСЬ
В анкете мы попросили назвать наиболее понравившиеся публикации за 2—3 пос-
ледних года.
Выяснилось, что каждое (действительно каждое) произведение нашло своего чита-
теля — даже те вещи, которые нам самим задним числом кажутся слабыми или не впол-
244
Наша почта
не соответствующими профилю (стилю, традициям) нашего журнала.
И тем не менее, конечно же, обозначились авторы и произведения, лидирующие по
части читательских симпатий. Вот первая двадцатка (справа—количество поданных «го-
лосов»):
1) У. Эко. «Маятник Фуко» — 101
2) Дж. Фаулз. «Волхв» — 96
3) Р. Гари + Э. Ажар (разные произведения) — 87
4) Г. Грасс (разные произведения) — 82
5) М. Кундера (разные произведения) — 73
6) К. Маккарти. «Кони, кони» — 62
7) А. Макин. «Французское завещание»-— 55
8) П. Акройд (разные произведения) — 53
9) Н. Мейлер. «Портрет Пикассо в юности» —46
10) П. Вайль. «Гений места» — 41
11) А. Грей (роман «Бедные-несчастные» и рассказы) — 40
12) Ч. Буковски (роман «Макулатура» и рассказы) — 36
13, 14) Т. Стоппард. «Аркадия» + П. Зюскинд. «Парфюмер» — 35
15) Т. К. Бойл (разные произведения) — 34
16— 18) М. Брэдбери. «Профессор Криминале» + М. Форман. «Кругово-
рот» + А. Генис (разные произведения) — 33
19) И. Бергман (разные произведения) — 32
20) М. Рио. «Архипелаг» — 30
Обращает на себя внимание популярность фаулзовского «Волхва», который был на-
печатан еще в 1993 году, но до сих пор не забыт. «Парфюмер» Патрика Зюскинда появил-
ся на наших страницах еще раньше, шесть лет назад, но произвел на читателей столь глу-
бокое впечатление, что и в 1997 году обеспечил этому автору почетную позицию в на-
шем рейтинге.
Традиционно отстают от романов документальная проза и эссеистика: по первой
лидирует книга Нормана Мейлера о молодом Пикассо, по второй — авторская рубрика
Петра Вайля.
ЧТО ЧИТАТЕЛЯМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
Как уже было сказано выше, большинство респондентов тактично уклонились от
ответа на этот вопрос анкеты, а если и назвали какие-то произведения, то, как правило, с
оговорками: «может быть, я вернусь к этому произведению позже», «возможно, я
чего-то не понимаю» и проч. «Пусть вас это не волнует. Любая публикация не 100-
долларовая купюра, чтобы всем нравиться», — написал В. А. Сидоренко (60 лет, ху-
дожник-драматург-публицист, г. Пенза; Умберто Эко, Джулиан Барнс, Итало Калъ-
вино). И все же, Виктор Александрович, это не может нас не занимать.
При общем весьма незначительном количестве «черных шаров» есть ряд публика-
ций, вызвавших наибольшее раздражение:
1,2) У. Эко. «Маятник Фуко» и Ч. Буковски. «Макулатура» — 10
3) А. Бъой Касарес. «Дневник войны со свиньями» — 9
4)Х. Семпрун. «Нечаев вернулся» — 8
5) М. Кундера — 7
6) М. Варгас Лъоса. «Литума в Андах» — 6
7-3) Дж. К. Оутс. «Темная вода» + Литературный гид «Американский авангард
60-х» — 5
Если по позициям 1,2,5 положительные отзывы значительно перевешивают, то пуб-
ликации, выделенные курсивом, видимо, действительно, следует признать наименее удач-
ными, хотя другие 9 читателей называют роман А. Бьоя Касареса среди лучших произве-
Наша почта
245
дений, у X. Семпруна поклонников и того больше — 25, 10 человек высоко оценивают
роман М. Варгаса Льосы, 14 читателям очень понравилась повесть Дж. К. Оутс и 4 рес-
пондента похвально отозвались о поздних американских авангардистах.
ЧИТА ТЕЛЬСКИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Некоторые читатели на вопрос, как бы следовало улучшить журнал, откликнулись
философски:
«Не знаю, как улучшить себя, а «ИЛ» — тем более» (В. Бартусявичус, 56 лет, ки-
нематографист, г. Каунас, Литва; Милан Кундера, Марио Варгас Льоса, Умберто Эко).
Другие нас же отчитали за неуверенность в себе:
«Не хватает только чувства здорового консерватизма у членов редакции, что-
бы даже не задаваться подобными вопросами» (М. Ю. Мокрецов, 30 лет, мужчина,
'незаконченное, гражданин России, г. Иваново; чешская литература, Гюнтер Грасс,
Фридрих Дюрренматт).
Но большинство все же отнеслись к нашему воззванию ответственно и изложили
свои пожелания. Они разнообразны и, что неудивительно при таком разнообразии вку-
сов, во многом противоположны.
Призывы вовсе не печатать переводов с экзотических языков сшибаются с мнением
приверженцев афро-азиатской литературы. Уже цитировавшейся строгой жительнице
Самары О. Н. Леонтьевой «надоел балканский бред», а вот В. Н. Валов (доцент, г. Тю-
мень; Ромен Гари, Тони Моррисон, Питер Акройд), наоборот, считает, что литературы
Балкан не хватает. Одни хотят как можно чаще видеть полюбившихся авторов, другие
призывают не печатать «собраний сочинений». И так далее, и так далее. Посему мы со-
средоточимся на тех пожеланиях, в которых наши респонденты более или менее едины.
Вот авторы, которых нас просят печатать почаще (в скобках количество заявок):
У. Эко —75
Дж. Фаулз—69
П. Зюскинд—38
И. Бродский (в частности, переводы) — 37
Р. Гари—37
М. Кундера—32
Г. Миллер — 29
П. Акройд—29
В. Набоков — 28
Г. Гарсиа Маркес — 24
Ф. Дюрренматт—23
М. Павич — 22
А. Мердок — 20
Японские авторы (не считая заявок на отдельных писателей) — 20
Самое главное пожелание ясно и лаконично сформулировала семья Смирновых (ху-
дожник и историк, г. Москва; Малькольм Брэдбери, Умберто Эко, Иосиф Бродский)'.
«Увеличить объем при неизменной стоимости». Мы бы тоже очень этого хотели, но
пока вряд ли получится.
Очень многие требуют, чтобы в каждом номере обязательно присутствовали «Курь-
ер «ИЛ» и «У книжной витрины».
Почти все хотят больше цветных картинок. Мы бы с удовольствием, но цветные
вклейки сильно увеличили бы себестоимость издания. Вряд ли нам стоит сейчас на это
идти. Может быть, позже?
Общий вердикт: нужно больше веселья. «Больше юмора! Вы несколько мрачнова-
ты», — пишет юная Ю.В. Шишкова (библиотекарь, г. Нижний Новгород; Эмиль Ажар,
Чарльз Буковски, Питер Акройд). «Меньше публиковать философского, больше раз-
246
Наша почта
влекателъного», —поддерживает Юлию семидесятилетний Л. М. Карапетян (инженер-
механик, г. Ереван, Армения; Хулио Кортасар, Ингмар Бергман, Итало Калъвино). При
этом вспоминают давно усопшую «Антирубрику», которая нам самим никогда особен-
но не нравилась.
И все же напрашиваются
ОРГВЫВОДЫ
Нельзя сказать, чтобы мы, сотрудники журнала, отличались врожденной мрачностью
характера. Просто так называемая качественная литература, которой мы занимаемся, по
определению располагает не столько к веселью, сколько к раздумью. Тем не менее по-
стараемся впредь быть веселей, однако не за счет философской эссеистики, которой, по
мнению ряда читателей, у нас и так слишком мало. В редакционном портфеле есть ост-
роумные и при этом совершенно «нелоточные» произведения, которые, мы надеемся,
вы сможете прочесть в 1998 году. Но возрождения специальной «комнаты смеха» не
обещаем. Юмор по разнарядке обычно получается несколько вымученным.
«Курьер «ИЛ» и рубрику «У книжной витрины» мы сами любим. Их спорадичес-
кое существование объясняется исключительно тем, что мы вечно не можем втиснуть в
номер все, что запланировано, и из-за этого часто вынуждены «обрубать хвосты». По-
стараемся, чтобы это происходило пореже.
Главный же оргвывод сводится к тому, что мы непременно возобновим рубрику
«Наша почта», и здесь нам не обойтись без вашей помощи. Пожалуйста, пишите нам все
время, делитесь впечатлениями о прочитанном, ругайтесь, излагайте свои соображения.
Ваше мнение будет интересно не только нам, но и другим читателям.
НОВОГОДНИЙ ПРИЗЫВ: Дамы и господа, читайте «ИЛ» — пусть наш журнал по-
может вам жить интересней!
И отдельно обращаемся к тем, кто живет в глухой провинции и страдает от культур-
ной изоляции (таких писем немало): пожалуйста, помните, что человек читающий и ду-
мающий всегда находится в самом центре вселенной.
А теперь предлагаем вашему вниманию результаты викторины, являвшейся при-
ложением к юбилейной анкете. Поставленная перед вами задача была настолько слож-
на, что мы не рассчитывали получить ни одного полностью правильного ответа и
пообещали разыграть 10 годовых подписок среди тех, кто угадает хотя бы полови-
ну любимых нами лиц. Задачу усложняло еще и то, что, как справедливо заметили
многие, качество фотографий оставляло желать лучшего — и Габриэль Гарсиа Мар-
кес похож на Тонино Гуэрру, и Гюнтер Грасс на Вольфа Бирмана, а Герман Гессе вооб-
ще на себя не похож.
Но плохо же мы знали своих читателей!
Когда мы подвели итоги викторины, то выяснилось, что десяти обещанных при-
зов совершенно недостаточно, ибо одних только безусловных победителей (тех, кто
правильно назвал всех писателей) набралось целых 15 человек. Поначалу мы решили,
что розыгрыш придется отменить и просто выдать каждому победителю по под-
писке, однако тут на помощь пришел наш генеральный спонсор «КОНВЕРСБАНК». Он
выделил еще 10 бесплатных подписок для лотереи, которую мы провели среди всех,
угадавших хотя бы половину авторов — как и предполагалось по условиям викто-
рины.
Таким образом, представляем вам два списка: «ТЕ, КТО ПОБЕДИЛ» (им доста-
ется подписка от редакции) и «ТЕ, КОМУ ПОВЕЗЛО» (им достается подписка от
«КОНВЕРСБАНКА »).
Но сначала, следуя многочисленным просьбам читателей, повторяем нашу «пор-
третную галерею», только на сей раз с именами.
Наша почта
247
L Генри Миллер
2. Ж ан-Поль Сартр
3. Джон Фаулз
4. Умберто Эко
5. Гюнтер Грасс
6. Макс Фриш
7. Вирджиния Вулф
8. Джулиан Барнс
9. Генрих Бёллъ
10. Габриэль Гарсиа Маркес
11. Джером Д. Сэлинджер
12. Сэмюэл Беккет
13. Грэм Грин
14. Айрис Мердок
15. Ивлин Во
16. Джеймс Джойс
17. Франц Кафка
18. Фридрих Дюрренматт
19. Джон Апдайк
20. Герман Гессе
Наша почта
248
ТЕ, КТО ПОБЕДИЛ (лауреаты редакции)
Баженов А. М. (55 лет, доцент, г. Тула; Сэмюэл Беккет, Гюнтер Грасс, Анци Минь)
Бархова Я. В. (химик, г. Истра Московской области; Гюнтер Грасс, Борис Виан,
Умберто Эко)
Бочка С. И. (29лет, сторож, ст. Кущевская Краснодарского края; Умберто Эко,
Милорад Павич, Алан Лайтман)
Владимиров Г. Г. (28 лет, монтер связи, г. Апатиты Мурманской области; Борис
Виан, Милош Форман, Иосиф Бродский)
Клепцына Г. Н. (переводчик, г. Калуга; Айрис Мердок, Маргарет Этвуд, Мюриэл
Спарк)
Котов И. Л. (47лет, рабочий, г. Псков; Малькольм Брэдбери, Милан Кундера, Ро-
мен Гари)
Кривошеин Ю. Б. (36 лет, историк, г. Кемерово; Хорхе Луис Борхес, Ингмар Бер-
гман, Генри Миллер)
Левин О. С. (34 года, врач, г. Москва; Малькольм Брэдбери, Питер Акройд, «Пор-
трет в зеркалах»)
Майоров Б. А. (52 года, безработный, г. Кольчугино Владимирской области; Джон
Фаулз, Герман Гессе, Том Стоппард)
Молчанова Н. И. (инженер-химик, г. Москва; Гюнтер Грасс, Тим О'Брайен, Тони
Моррисон)
Ратке И. Р. (32 года, редактор, г. Новошахтинск Ростовской области; «Порт-
рет в зеркалах», Умберто Эко, Малькольм Брэдбери)
Стеблянский В. Ю. (32 года, преподаватель, г. Ставрополь; Данило Киш, Мило-
рад Павич, Хулио Кортасар)
Стородская С. А. (врач, Санкт-Петербург; Малькольм Брэдбери, Питер Акройд,
Умберто Эко)
Трусова С. Г. (библиотекарь, г. Фрязино Московской области; «Литературные
гиды», Генри Миллер, Владимир Набоков)
Шталь Е. Н. (43 года, преподаватель, г. Кировск Мурманской области; темати-
ческие номера, «Литературное наследие», «Вглубь стихотворения»)
ТЕ, КОМУ ПОВЕЗЛО (лауреаты «КОНВЕРСБАНКА»)
Ерофеев Л. И. (67лет, врач, г. Гусь-Железный Рязанской области; Ромен Гари, Гюн-
тер Грасс, Аньци Минь)
Коваленко М. Д. (врач, Санкт-Петербург; Уильям Голдинг, Гюнтер Грасс, Ромен
Гари)
Коллектив лицея 322 (от 20 до 60 лет, Москва; Андрей Макин, Ингмар Бергман,
Умберто Эко)
Кузнецова Э. Ф. (профессия не указана, Санкт-Петербург; Джон Фаулз, Умбер-
то Эко, Патрик Зюскинд)
Лещенко Л. Н. (агроном, с. Мамонтово Алтайского края; Чарльз Буковски, Аль-
берто Моравиа, Генри Миллер)
Машенина С. Е. (конструкторрадиоаппаратуры, Санкт-Петербург; Тони Мор-
рисон, Ингмар Бергман, Ромен Гари)
Москаленко А. Г. (пенсионерка, г. Пятигорск; Андрей Макин, Питер Акройд, Ум-
берто Эко)
Петросов А. М. (58 лет, педагог, г. Венев Тульской области; «Античный» литгид,
Джон Фаулз, Фридрих Дюрренматт)
Прозоров А. (34 года, художник-оформитель, г. Лысьва Пермской области; Гус-
тав Мейринк, Т Корагессан Бойл, Малькольм Брэдбери)
Сумина Н. И. (учительница, г. Нижний Тагил Свердловской области; статьи И
Вайля, А. Гениса, А. Зверева)
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА за 1997 год
№1-12
РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ
Ажар Эмиль - Страхи царя Соломона (Роман.
Перевод с французского Л.Лунгиной), № 9.
Акройд Питер - Процесс Элизабет Кри. Роман
об убийствах в Лаймхаусе (Перевод с английс-
кого Л.Ю.Мотылева), № 5.
Амманити Никколо - см. Новый итальянский
рассказ, № 12.
Беллоу Сол - Рукописи Гонзаги. Оставить го-
лубой дом. (Рассказы. Перевод с английского
Л.Беспаловой), № 5.
Брайан Лини - На регулярной основе (Рассказ.
Перевод с английского В.Панфиловой), № 7.
Варгас Льоса Марио - Литума в Андах (Роман.
Перевод с испанского Ю.Ванникова), № 3.
Вивег Михал - Лучшие годы - псу под хвост (Ро-
ман. Перевод с чешского и вступление Нины
Шульгиной), № 4.
Вольф Криста - Медея. Голоса (Роман. Пере-
вод с немецкого М. Рудницкого), № 1.
Гарласкелли Барбара - см. Новый итальянский
рассказ, № 12.
Дарваши Ласло - В горах и др. рассказы (Пере-
вод с венгерского и вступление Ю.Гусева), №2.
Дёрри Дорис - Вверху справа - солнце и др.
рассказы (Перевод с немецкого Л. Бухова), №11.
Дюрренматт Фридрих - Подельники (Пьеса.
Перевод с немецкого Э.Венгеровой и Н.Кры-
гиной), № 2.
Зингер Исаак Башевис - Жертва (Рассказ. Пе-
ревод с английского Л.Мотылева), № 7.
ИЗ СОВРЕМЕННОЙ ВЕНГЕРСКОЙ ПРОЗЫ
(Вступление В.Середы). Петер Надаш - Сказа-
ние об огне и знании (Новелла. Перевод с вен-
герского В.Середы). Петер Эстерхази - Поце-
луй (Новелла. Перевод с венгерского В.Середы).
Дёрдь Шпиро - Синопсис (Новелла. Перевод с
венгерского Е. Новиковой), № 8.
Ислер Алан - Принц Вест-Эндский (Роман. Пе-
ревод с английского В.Голышева), № 11.
Каннингем Майкл - Дом на краю света (Роман.
Перевод с английского и вступление Дмитрия
Веденяпина), № 8, 9.
Кено Раймон - С ними по-хорошему нельзя. Ир-
ландски^ роман Сэлли Мара. Перевел на француз-
ский Мишель Прель (Перевод с французского
В. Кислова), № 4.
Киньяр Паскаль - Все утра мира (Роман. Пе-
ревод с французского Ирины Волевич), №11.
Косинский Ежи - Садовник (Повесть. Перевод с
английского и послесловие И.Кормильцева), № 10.
Кристоф Агота - Толстая тетрадь (Роман. Пе-
ревод П.Вязникова), № 10.
Льюис Клайв Стейплз - Пока мы лиц не обре-
ли. Пересказанный миф (Перевод с английского
И.Кормильцева), № 1.
Моцци Джулио - см. Новый итальянский рассказ,
№ 12.
Му а кс Ян - Праздники любви (Роман. Перевод
с французского Ирины Волевич), № 7.
Надаш Петер - см. Из современной венгерской
прозы, № 8.
НОВЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ РАССКАЗ (Вступление
Евгения Солоновича). Барбара Гарласкелли —
Письмо издателю и другие рассказы. Никколо
Амманити — Зоолог (Перевод с итальянского
Екатерины Степанцовой). Джулио Моцци —
«Помнишь, сколько снега выпало в прошлом
году?», Бег (Перевод с итальянского Маргари-
ты Черепенниковой), №12.
Оутс Джойс Кэрол - Черная вода (Повесть. Пе-
ревод с английского В.Бернацкой), № 3.
Павич Милорад - Последняя любовь в Констан-
тинополе. Пособие по гаданию (Перевод с серб-
ского Л.Савельевой), № 7.
Павич Милорад - Шляпа из рыбьей чешуи. Лю-
бовная история (Перевод с сербского Н. Вага-
повой), № 1.
Пейли Грейс - Интерес в этой жизни (Рассказ.
Перевод с английского М.Кан), № 7.
Петрович Гораи - Атлас, составленный небом
(Роман. Перевод с сербского Л.Савельевой.
Вступление Милорада Павича), № 6.
Свифт Грэм - Химия. Антилопа Хоффмейера
(Рассказы. Перевод с английского В. Бабкова),
№ 12.
Синиор Олив - Рассказы и стихи (Переводы с
английского О. Варшавер и А. Кудрявицкого),
№3.
Табукки Антонио - Ночь, море, расстояние.
Может ли взмах крыльев бабочки... (Рассказы.
Перевод с итальянского В. Николаева), № 9.
Турнье Мишель - Элеазар, или Источник и Куст
(Роман. Перевод с французского Ирины Воле-
вич), № 2.
Хвин Стефан - Ханеман (Роман. Перевод и
вступление К. Старосельской. Проза плотного
плетения - Станислав Лем о романе), № 12.
Шолян Анту и - Рассказы (Перевод с хорватс-
кого Т. Поповой), № 2.
Шпиро Дёрдь - см. Из современной венгерской
прозы, № 8.
Эстерхази Петер - см. Из современной венгер-
ской прозы, № 8.
Этвуд Маргарет - Восход солнца (Рассказ. Пе-
ревод с английского И. Янской), № 6.
СТИХИ
Амихай Иехуда - Стихи (Перевод с иврита и
вступление А.Графова), № 6.
Башева Миряна - Стихи (Перевод с болгарс-
кого и вступление Татьяны Бек), № 8.
250
Содержание журнала за 1997 год
Бойе Карин - Стихи {Перевод со шведского и
вступление А.Щеглова), № 6.
Боцяи Марианна - Гномы (Перевод с польского
и вступление Натальи Астафьевой), № 11.
Вирпша Витольд - Стихи (Перевод с польского
и вступление Владимира Британишского), № 9.
Делюи, Анри — см. Поэт и публика - в разводе?,
№3.
Лилиан Жиродон — см. Поэт и публика - в раз-
воде?, № 3.
Иллакович Казимира - см. Польские поэтессы
о любви, № 7.
Ламбовский Бойко - Стихи (Перевод с болгар-
ского и вступление Виктора Куллэ), №11.
ПОЛЬСКИЕ ПОЭТЕССЫ О ЛЮБВИ. Казимира
Иллакович, Анна Свирщиньская, Вислава
Шимборская (Перевод с польского Натальи Ас-
тафьевой), № 7.
ПОЭТ И ПУБЛИКА - В РАЗВОДЕ? Анри Делюи
и Лилиан Жиродои в редакции «ИЛ» (Вступи-
тельная статья и перевод с французского Ири-
ны Кузнецовой), № 3.
Салинас Педро - Стихи (Перевод с испанского
и вступление НВанханен), № 7.
Свирщиньская Анна - см. Польские поэтессы о
любви, № 7.
Сериуда Луис - Стихи (Перевод с испанского
Натальи Ванханен), № 1.
Симик Чарльз - Стихи (Перевод с английского
А.Кудрявицкого и И.Мизрахи), № 10.
Уолкотт Дерек - Стихи (Перевод с английского
В. Минушина. Вступление В. Ряполовой), № 12.
Хаи Улла - Из книги «Стихи о любви» (Перевод
с немецкого и вступление Е. Соколовой), № 7.
Шимборская Вислава - см. Польские поэтессы
о любви, № 7.
Экелёф Гуннар - Стихи (К 90-летию со дня рож-
дения. Перевод со шведского и вступление А.
Щеглова), № 12.
ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ
Блейк Уильям - Муха. Тигр. Лондон. Лилия
(Переводы с английского. Вступление Алексея
Зверева), № 5.
ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА
Набоков Владимир - Сёстры Вейн (Рассказ.
Перевод с английского, примечания и послесло-
вие Г. Барабтарло), № 5.
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ИЗ ДРЕВНЕЙ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ (Перевод с
японского и вступление А. Вялых), № 4.
Стоктон Фрэнк Ричард - Невеста или тигр?
(Рассказ. Перевод с английского и вступление
В. Рогова), № 12.
Томази ди Лампедуза Джузеппе - Лигия (Рас-
сказ. Перевод с итальянского Г.Киселева), № 7.
Три рассказа о радже Викрамадитье (Из книги Ви-
дьяпати «Испытание человека». Перевод с сан-
скрита и вступление С.Д.Серебряного), № 5.
Штифтер Адальберт - Кондор (Рассказ. Пере-
вод с немецкого Н.Федоровой. Послесловие
С.Шлапоберской), № 2.
МАСТЕРА ПЕРЕВОДА
Кожевников Юрий - Антология для домашнего
употребления (Вступительная статья Н.Мав-
левич), № 2.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД
АМЕРИКАНСКИЙ АВАНГАРД 60-х: ТРИД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ, № 2.
Бартелми Доналд - Восстание индейцев и др.
рассказы (Перевод Алексея Зверева), № 2.
ГАЛЕРЕЯ «ИЛ», № 2.
Гасс Уильям - Мальчишка Педерсенов (Повесть.
Перевод В. Голышева), № 2.
Донливи Дж. П. - Самый сумрачный сезон Сэ-
мюэла С. (Повесть. Перевод Н. Васильковской),
№2.
Зверев Алексей - Второе свидание, № 2.
NB
ПОЛ ОСТЕР, № 6.
Зверев Алексей - «Существует быть», № 6.
Михеев Алексей - До последней капли алфави-
та, № 6.
Остер Пол - Стеклянный город (Повесть). Из
книги «Красная тетрадь» (Перевод с английско-
го и послесловие А.Ливерганта), № 6.
ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ
АНТОНЕН АРТО, № 4.
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН, № 12.
ФЕРНАНДО ПЕССОА, № 9.
Адамов Артюр - Высочайшая вершина бездны (Пе-
ревод с французского Екатерины Дюшен), № 4.
Арендт Ханна - Вальтер Беньямин (Перевод с
английского Бориса Дубина), № 12.
Арто Антонен - Два письма (Перевод с фран-
цузского Бориса Дубина), № 4.
Батай Жорж - Сюрреализм день за днем (Пере-
вод с французского Сергея Дубина), № 4.
Беньямин Вальтер - Центральный парк (Пере-
вод с немецкого Александра Ярина), № 12.
Бланшо Морис - Арто (Перевод с французско-
го Бориса Дубина), № 4.
Бланшо Морис - О переводе (Перевод с фран-
цузского Бориса Дубина), № 12.
Бретон Андре - Говоря об Арто. Интервью для
журнала «Огненная башня» (Перевод с француз-
ского Екатерины Дюшен), № 4.
Гибер Арман - Прощание с благородным стран-
ником (Перевод с французского Бориса Дубина),
№9.
Дубин Борис - От составителя, № 4, 9, 12.
Креспо Анхель - Поэты-гетеронимы и новое
португальское язычество Фернандо Пессоа (Пе-
Содержание журнала за 1997 год
251
ревод с испанского Бориса Дубина), № 9.
Массой Андре - Отблески воспоминаний (Пере-
вод с французского Екатерины Дюшен), № 4.
Пас Октавио - Чужой себе самому (Перевод с
испанского Бориса Дубина), № 9.
Пессоа Фернандо - Разрозненные страницы (Пе-
ревод с португальского Бориса Дубина), № 9.
Сена Жоржи де - Письмо к Фернандо Пессоа
(Перевод с португальского Александра Богда-
новского), № 9.
Сонтаг Сьюзен - На пути к Арто (Перевод с ан-
глийского Бориса Дубина), № 4.
Супо Филипп - Воспоминание об Антонене
Арто (Перевод с французского Сергея Дубина),
№4.
Тевиен Поль - Автопортрет Арто (Перевод с
французского Бориса Дубина), № 4.
Шолем Гершом - Вальтер Беньямин и его ангел
(Перевод с немецкого Наталии Зоркой), № 12.
БЕСЕДЫ
Ионеско Эжен - Между жизнью и сновидением.
Беседы с Клодом Бонфуа (Фрагменты книги.
Перевод с французского И. Кузнецовой), № 10.
Костантини Костанцо - Феллини. Рассказывая о
себе (Главы из книги. Перевод с итальянского
Елены Дмитриевой), № 8.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА
Мейлер Норман - Портрет Пикассо в юности.
Версия биографии (Главы из книги. Перевод с
английского А.Богдановского), № 3, 4.
КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА
Бродский Иосиф - Письмо Горацию (Перевод с
английского Елены Касаткиной), № 1.
Бродский Иосиф - Скорбь и разум (Из книги эссе.
Перевод с английского Е. Касаткиной), № 10.
Варгас Л ьоса Марио - Правда в вымыслах (Пе-
ревод с испанского Н. Богомоловой), № 5.
Гейне Александр - Бродский в Нью-Йорке, № 5.
Грасс Гюнтер - Оэ Кэндзабуро - Вчера, полве-
ка тому назад (Переписка. Перевод с немецкого
и вступление А. Егоршева), № 2.
Жечев Тоичо - Миф об Одиссее (Главы из кни-
ги. Перевод с болгарского Е.Фалькович), № 1.
Иванов Вячеслав Вс.- Современность антич-
ности. «Черное солнце» Федры, № 1.
ИЗ СБОРНИКА «ЛУЧШИЕ АМЕРИКАНСКИЕ
ЭССЕ 1996 ГОДА». Джозеф Эпстайн - Искус-
ство вздремнуть. Уильям Стайрон - Дурная
болезнь (Перевод с английского А. Борисенко и
В. Сонькина), № 12.
Кристева Юлия - Болгария, боль моя (Перевод
с французского Е. Богатыренко), № 10.
Кундера Милан - Творцы и пауки (Из книги
«Преданные заветы». Перевод с французского
Ю.Стефанова), № 10.
Малахов Владимир - Парадоксы мультикуль-
турализма, №11.
» Милош Чеслав - Об изгнании (Перевод с
польского Бориса Дубина), № 10.
О’Брайен Флэнн - Поддача в туннеле (Перевод
с английского А.Ливерганта. Вступление Брай-
ена Эрлса), №11.
Оэ Кэндзабуро — см. Грасс Гюнтер, № 2.
Серр Мишель - Орфей. Лотова жена. Скульп-
тура и музыка (Перевод с французского и вступ-
ление Бориса Дубина), №11.
Стайрон Уильям - см. Из сборника «Лучшие
американские эссе 1996 года», № 12.
Цветков Алексей - Futurum imperfectum, № 1.
Цветков Алексей - Судьба барабанщика. При-
мечания к постмодернизму, № 9.
Шимборская Вислава - Поэт и мир (Нобелевс-
кая лекция 1996 года. Перевод с польского и
послесловие КСтаросельской), № 5.
Энценсбергер Ханс Магнус - Роскошь - прежде
и теперь, или Кое-что об излишествах (Перевод
с немецкого А.Егоршева), № 9.
Эпстайн Джозеф - см. Из сборника «Лучшие
американские эссе 1996 года», № 12.
ЭРОС: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Пас Октавио - Солнечная система (Перевод с
испанского Натальи Богомоловой), № 7.
Эйджи Джоэл - Эрос на море (Перевод с анг-
лийского В. Бабкова), № 7.
МАСТЕР-КЛАСС
Набоков Владимир - Две лекции о литературе
(Вступление Ив. Толстого)’. Гюстав Флобер. «Гос-
пожа Бовари» (Перевод с английского Г.Дашев-
ского). Франц Кафка. «Превращение» (Перевод
с английского В.Голышева), № 11.
ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА
«Ты находишься при хорошем деле...» (Беседа
Сергея Гандлевского с Виктором Голышевым),
№5.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Денон Ви ван - Ни завтра, ни потом (Повесть.
Перевод с французского И. Кузнецовой), № 5.
Зенкин С. - Денон, Бальзак, Кундера: от преро-
мантизма до постмодернизма, № 5.
ГЕНИЙ МЕСТА
Вайль Петр - Семейное дело (Флоренция - Ма-
киавелли, Палермо - Пьюзо), № 6.
Вайль Петр - Любовь и окрестности (Верона -
Шекспир, Севилья - Мериме), № 7.
Вайль Петр - В сторону рая (Барселона - Гау-
ди, Сантьяго-де-Компостела - Бунюэль), № 9.
Вайль Петр - Портрет кирпича (Амстердам -
Де Хоох, Харлем - Хальс), №11.
Вайль Петр - Сказки народов севера (Копенга-
ген - Андерсен, Осло - Мунк), № 12.
252
Содержание журнала за 1997 год
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕССА МИРА
«СИНТЁ»: ОПЫТ ВЫЖИВАНИЯ ВЫСОКОЛОт
БОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА В УСЛО-
ВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (Составление
и вступительная статья Г. Чхартишвили).
Интервью Григория Чхартишвили с заместителем
главного редактора «Синтё» г-ном Рики Судзу-
ки. Сюсаку Эндо - Мысли перед смертью. Тэцуо
Симидзу - Зеленый ящик (Стихи). Мати Тавара
- Из цикла «Мое любимое хайку» (Перевод с япон-
ского Г. Чхартишвили). Юдзиро Накамура - Зло
и Грех в японской культуре (Перевод с японского
Л.Ермаковой), № 8.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ
Борисенко Александра, Сонькин Виктор -
Букеровская премия и лоскутные одеяла, № 6.
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
«Библиотека для талантливых читателей...». Бе-
седа с Милорадом Павичем, № 8.
Любовь и «Радуга». Беседа с директором изда-
тельства Н.С. Литвинец, № 7.
Лавджой Вирджиния - Цветы из бури, или За-
говор сердец, № 7.
ГАЛЕРЕЯ «ИЛ»
Безрукова Инна - Иржи Коларж: «Настанет ли
век истины, потупившей взор долу?», № 10.
Дюпеи Жак - Созерцатель в любом действии,
(Перевод с французского Бориса Дубина), № 6.
Мишо Аири - Кто он? (Перевод с французского
Бориса Дубина), № 6.
Мишо Анри - Выбросы, выхлесты (Перевод с
французского Бориса Дубина), № 6.
Мишо Анри - Чистая страница, (Перевод с фран-
цузского Бориса Дубина), № 6.
Мокроусов Алексей - Траектория шляпы, № 2.
Мокроусов Алексей - Шепоты и крики, № 6.
Мокроусов Алексей - Слишком красивая поляч-
ка, или История одной неудачи, № 7.
Мокроусов Алексей - Кругом одни попутчики.
«Кобра»: революционеры без революции, № 8.
«РИСОВАТЬ, ЧТОБЫ ОТБИВАТЬСЯ», № 6.
СРЕДИ КНИГ
Адельгейм Ирина - Игры, в которые играет пи-
сатель. Писатель, который играет в игры, №11.
Альчук Анна - Виртуальные лабиринты Алена
Роб-Грийе, № 12.
Ант С. - см. Россия и Зарубежье, № 5.
Белов Сергей - «Я освоил очень трудное ремес-
ло...», № 11.
Богомолов Н. - На стыке двух культур, № 3.
Богомолов Н. - см. Россия и Зарубежье, № 5.
Ванханен Наталья - Тайное и явное, № 2.
Гусев Ю. - Растеряева улица в середине Евро-
пы, № 3.
Демурова Н. - Приглашение в английскую детс-
кую литературу, № 12.
Добровольский М. - Соль неба в хазарском гор-
шке, № 3.
Дубин Борис - Страсть и меланхолия «последней
из разносторонних», № 2.
Дубин Сергей - Сюрреализм, «состояние ярос-
тной страсти», №11.
Зверев Алексей - Смена кожи, № 12.
Зенкин С. - О сакральном - для профанов, № 6.
РОССИЯ И ЗАРУБЕЖЬЕ. С.Апт - В Москве и в
Кёльне. Борис Фрезинский - Новая биография
Ильи Эренбурга. Н.Богомолов - История в судь-
бе, № 5.
Фрезинский Борис - см. Россия и Зарубежье,
№5.
Фиш Радий - Между двух утопий, № 12.
Шульман Эдуард - Как сделано, № 2.
Эко Умберто - Внутренние рецензии (Перевод
с итальянского Елены Костюкович), № 5.
КУРЬЕР «ИЛ», № 5, 9.
У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ, №1,2, 4, 6, 8, 10.
POST SCRIPTUM
Михеев Алексей - Неотмеченные юбилеи, или
О чем писала «Иностранка» 100, 200, 300, 400
номеров назад, № 5.
Анкета для читателей, № 5.
НАША ПОЧТА
Чтение «ИЛ» как правильный критерий в выборе
спутника жизни (Результаты анкеты, напечатан-
ной в 500-м номере), № 12.
АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1 - 12.
Содержание журнала «Иностранная литература»
за 1997 год, № 1 - 12, № 12.
AlTOPbl ЭТОГО Нолле?A
ДЕРЕК УОЛКОТТ (DEREK WALCOTT; род. в
1929 г.) — поэт и драматург, уроженец острова
Сент-Люсия (Вест-Индия). Лауреат Нобелевской
премии (1992) и многих литературных премий.
Первые его поэтические сборники «25 стихотворе-
ний» («25 Poems», 1948) и «Эпитафия юности»
(«Epitaph for the Young», 1949), вышедшие на Три-
нидаде и Барбадосе, составили основу изданной в
Лондоне книги «В зеленой ночи» («In a Green
Night», 1962), принесшей автору мировую извест-
ность. В последующие годы вышло несколько
сборников пьес, эссе и более десяти сборников
стихов, среди которых «Жертва кораблекрушения»
(«The Castaway», 1965), «Залив» («The Gulf>>, 1969),
«Иная жизнь» («Another Life», 1973), «Омерос»
(«Omeros», 1990) и др. Д. Уолкотт— автор многих
пьес, пользующихся большой популярностью. В
«ИЛ» напечатан перевод пьесы «День поминове-
ния» и сопровождающее ее эссе И. Бродского
«Шум прибоя» (1993, № 3).
Публикуемые стихи взяты из книг «Морской вино-
град» («Sea Grapes». London, Jonathan Cape, 1976),
«Счастливый путешественник» («The Fortunate
Traveller». New York, Farrar, Straus and Giroux,
1981) и из журнала «Кариббеан куотерли»
(«Caribbean Quarterly», 1980, v26, № 1/2).
ГРЭМ СВИФТ (GRAHAM SWIFT; род. в 1949 г.)
— английский писатель. Автор романов «Хозяин
кондитерской» («The Sweet-Shop Owner», 1980),
«Игрушка судьбы» («Shuttlecock», 1981), «Водный
край» («Waterland», 1983; литературная премия
журнала «Гардиан»), «Вне этого мира» («Out of
This World», 1988), «Отныне и навсегда» («Ever
After», 1992; французская литературная премия «За
лучшую иностранную книгу»), «Последние распо-
ряжения» («Last Orders», 1996; премия Букер,
1996).
Рассказы «Химия» («Chemistry») и «Антилопа
Хоффмейера» («Hoffmeier’s Antelope») взяты из
сборника «Учимся плавать и другие рассказы»
(«Learning to Swin and Other Stories». London,
Heinemann, 1985).
СТЕФАН ХВИН (STEFAN CHWIN; род. в 1949 г.)
— польский писатель, литературовед, эссеист. Ав-
тор книг «Люди — скорпионы» («Ludzie —
skorpiony», 1984), «Романтическое пространство
воображения» («Romantyczna przestrzen
wyobraini», 1988), «Человек — Буква» («Czlowiek
— Litera», 1989), «Краткая история одной шутки»
(«Krdtka historia pewnego zartu», 1991),
«Литература и предательство» («Literature i
zdrada», 1995). Лауреат литературной премии Кос-
тельских.
Роман «Ханеман» («Напетап») отмечен в Польше
как лучшая книга 1995 года. Печатается по изда-
нию: Gdansk, «Biblioteka «Tytulu» — wydawnictwo
Marabut, 1996.
ГУННАР ЭКЕЛЁФ (GUNNAR EKELOF; 1907—
1968) — шведский поэт, автор поэтических сбор-
ников «Запоздалый на земле» («Sent pa jorden»,
1932), «Горе и звезда» («Sorgen och stjiman»,
1936), «Купите песнь слепца» («Кор den blindes
sing», 1938), «Осенью» («От hosten», 1951),
«Мёльнская элегия» («Еп MOlna — elegi», 1960),
«Сказание о Фатуме» («Sagan от Fatumeh», 1966) и
др. Перу Г. Экелёфа принадлежит также ряд сбор-
ников эссе и автобиографической прозы. На рус-
ском языке его стихи печатались в сборнике
«Современная шведская поэзия» (М., 1979), в
«ИЛ» (1993, № 6) и в антологии современной ев-
ропейской поэзии.
Публикуемые переводы стихотворений выполнены
по изданию: Gunnar Ekeldf. «Dikter». Stockholm,
Menpocket, 1984.
БАРБАРА ГАРЛАСКЕЛЛИ (BARBARA
GARLASCHELLI; род. в 1965 г.) — итальянская
писательница.
Публикуемые рассказы взяты из книги «То ли сме-
яться, то ли умереть» («О ridere о morire». Milano,
Marcos у Marcos, 1995).
НИККОЛб АММАНИТИ (NICCOLO
AMMANITI; род. в 1966 г.) — итальянский писа-
тель. Автор романа «Жабры» («Branchie», 1994),
участник коллективной антологии «Макаронные
кошмары» («Spaghetti splatter», 1996).
Рассказ «Зоолог» («Lo zoologo») взят из сборника
«Грязь» («Fango». Milano, Mondadori, 1996).
ДЖУЛИО МОЦЦИ (GIULIO MOZZI; род. в
1960 г.) — итальянский писатель. Его первый
сборник рассказов «Это сад» («Questo е И
giardino») был отмечен в 1993 г. литературной
премией «Монделло».
Публикуемые рассказы взяты из книги «Земное
счастье» («La felicita terrena». Torino, Einaudi,
1996).
ФРЭНК РИЧАРД СТОКТОН (FRANK RICHARD
STOCKTON; 1834—1902) — американский писа-
тель. Автор рассказов, книг для детей и развлека-
тельных романов, в том числе «Миссис Леке и
254
Авторы этого номера
миссис Алешин терпят кораблекрушение» («The
Casting Away of Mrs. Leeks and Mrs. Aleshine»,
1886), «Путешествия Помоны» («Pomona’s
Travels», 1894) и др. Многие из его произведений в
конце прошлого и начале нашего века публикова-
лись в русских переводах.
Рассказ «Невеста или тигр?» взят из сборника
«Невеста или тигр и другие рассказы» («The Lady
or the Tiger and Other Stories». New York, Charles
Scribner’s Sons, 1909).
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН (WALTER BENJAMIN,
1892—1940) — немецкий писатель, переводчик с
французского, эссеист, с 1933 г. — в эмиграции во
Франции. Автор историко-литературного труда
«Происхождение немецкой трагедии» («Ursprung
des deutschen Trauerspiels», 1928), сборника заме-
ток и афоризмов «Улица с односторонним движе-
нием» («Einbahnstrasse», 1928), автобиографиче-
ской книги «Берлинское детство на рубеже веков»
(«Berliner Kindheit um Neunzehnhundert»; опубл, в
1950), эссе о Гете, Жан-Поле, Гельдерлине, Бодле-
ре, Лескове, Вальзере, Кафке, Брехте, французских
сюрреалистах, работ о фотографии и технических
средствах массовой коммуникации, ряд которых
вошел в сборник «Озарения» («llluminationen»,
1961). Мировая известность пришла к В. Беньями-
ну после выхода в Германии в 1955 г. двухтомника
его сочинений, подготовленного Теодором и Гре-
тель Адорно. На русском языке опубликован сбор-
ник эссе Беньямина «Произведение искусства в
эпоху его технической воспроизводимости» (М.,
1996) и его «Московский дневник» (М., 1997).
ДЖОЗЕФ ЭПСТАЙН (JOSEPH EPSTEIN) — ре-
дактор журнала «Американский ученый» («The
American Scholar»), автор многих книг, в том числе
«Уместные игроки» («Pertinent Players», 1993), «С
задранными штанами» («With Му Trousers Rolled»,
1995). Его эссе и рассказы печатаются в литера-
турно-критических журналах «Хадсон ревью»,
«Комментари», «Нью-Йоркер» и других.
УИЛЬЯМ СТАЙРОН (WILLIAM STYRON; род. в
1925 г.) — американский писатель, член Амери-
канской академии искусства и литературы, лауреат
многих литературных премий и наград, в том чис-
ле французского ордена Почетного легиона. Автор
романов «Сойти во тьму» («Lie Down in Darkness»,
1951), «Сожги эту обитель» («Set This House on
Fire», 1960), «Признания Нага Тернера» («The
Confessions of Nat Turner», 1967; Пулицеровская
премия 1968 г.), «Софи делает выбор» («Sophie’s
Choice», 1979; в «ИЛ» напечатаны главы романа,
1981, № 1); повести «Долгий марш» («The Long
March», 1962; рус.перев. в «ИЛ», 1967, № 7); авто-
биографии «Видимая тьма: воспоминания о безу-
мии» («Darkness Visible: A Memoir of Madness») и
др. произведений.
Публикуемые эссе «Искусство вздремнуть» («The
Art of the Nap») Джозефа Эпстайна и «Дурная бо-
лезнь» («А Case of the Great Рох») Уильяма Стай-
рона взяты из книги «Лучшие американские эссе
1996 года» («The Best American Essays 1996».
Boston — New York, Houghton Mifflin Company).
ВАЙЛЬ ПЕТР ЛЬВОВИЧ (род. в 1949 г.) —
эссеист. В соавторстве с Александром Генисом
написал книги «Современная русская проза»
(1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка
автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании»
(1987), «60-е. Мир советского человека» (1988),
«Родная речь» (1990). Неоднократно публиковался
в «ИЛ» (1990, № 8; 1995, № 6; 1996, № 1, 3).
Ведущий авторской рубрики «Гений места» (1995,
№ 2, 4, 12; 1996, № 8, 11, 12; 1997, № 6, 7, 11).
Переводчики:
МИНУШИН ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (род в
1939 г.) — литературовед, переводчик с англий-
ского. В его переводе печатались романы «В замке
моей кожи» Дж. Лэмминга, «Дворец павлина» У.
Харриса, повесть «Бог — скорпион» У. Голдинга,
рассказы и эссе Г. Миллера, стихи и проза амери-
канских писателей У.К. Уильямса, У. Стивенса, Л.
Ферлингетти, канадских — М. Этвуд, Э. Парди.
Его статьи и рецензии публиковались в периоди-
ческих изданиях.
БАБКОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ (род. в 1961
г.) — переводчик с английского. В его переводе
публиковались отрывки из романа «О времени и о
реке» Томаса Вулфа, повесть «Гений и богиня» О.
Хаксли («ИЛ», 1991, № 5), романы «Через много
лет» О. Хаксли («ИЛ», 1993, № 4), «История мира
в Ю’/г главах» Дж. Барнса («ИЛ», 1994, № 1),
«Дом доктора Ди» П. Акройда («ИЛ», 1995, № 10),
рассказы В. Найпола, Р. Шекли, Томаса Вулфа и
др. Лауреат премий «ИЛ» (1991) и «Инолит»
(1995).
СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА —
переводчик с польского. В ее переводах издава-
лись произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича,
М. Домбровской, М. Хороманьского, Т. Конвицко-
го и др. В «ИЛ» напечатаны переводы романов
«Черти» Т. Новака (1975, № 3,4), «Камень на ка-
мень» В. Мысливского (1986, №7 — 9), «Чтиво»
Т. Конвицкого (1996, № 1), документальной повес-
ти «Опередить Господа Бога» Г. Кралль (1988, №
4), повестей «Врата рая» Е. Анджеевского (1990,
№ 1), «Красивые, двадцатилетние» М. Хласко
(1993, № 12), рассказов М. Хласко (1991, № 9) и П.
Хюлле (1994, № 11). Лауреат премии «ИЛ» (1986).
ЩЕГЛОВ АНДРЕЙ ДЖОЛИНАРДОВИЧ (род
в 1969 г.) — историк-скандинавист, переводчик со
шведского. В «ИЛ» (1997, № 6) напечатаны его пе-
реводы стихов шведской поэтессы Карин Бойе.
РОГОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в
1930 г.) — литературовед, переводчик. Переводил
поэтов английского Возрождения, английских ро-
255
Авторы этого номера
мантиков, китайских поэтов эпохи Тан, француз-
ских символистов, рассказы А.Э. По.
ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в
1946 г.) — литературовед, переводчик, автор ста-
тей по социологии культуры. В его переводе пуб-
ликовались произведения А. Мачадо, X. Р. Химе-
неса, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, X. Л. Бор-
хеса («ИЛ», 1984, №3; 1990, № 12) и др. Автор
публикаций «Антиэлегии середины века» («ИЛ»,
1995, № 1); «Опыт-предел: случай Эмиля Чорана»
(«ИЛ», 1996, № 4); ведущий авторской рубрики
«ИЛ» «Портрет в зеркалах» (1995, № 1, 12; 1996,
№ 8, 12; 1997, № 4, 9). Лауреат премий «ИЛ»
(1992), «ИЛлюминатор» (1994), премии им. Анато-
ля Леруа-Больё (1996).
ЯРИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (род.
в 1953 г.) — филолог, переводчик с английского и
немецкого языков. Перевел пьесу «В ожидании
Годо» С. Беккета («Суфлер», 1994, № 1, совместно
с А. Сергиевским), работы Х.-Г. Гадамера
(сборник «Актуальность прекрасного». М., 1991),
богословский трактат Х.У. фон Бальтазара
«Достойна веры лишь любовь» (М., 1997) и др. В
«ИЛ» в его переводе напечатано эссе Гадамера о
П. Целане (1996, № 12).
ЗОРКАЯ НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА — социолог,
филолог, переводчик с немецкого. Ее переводы
публиковались в журнале «Новое литературное
обозрение» (1995, № 17; 1996, № 22) и др. В «ИЛ»
— переводы эссе Э.М. Чорана и О. Пёггелера о П.
Целане (1996, № 12).
БОРИСЕНКО АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА
— аспирантка филологического факультета МГУ;
СОНЬКИН ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ (род в
1969 г.) — сотрудник Института славяноведения и
балканистики Российской академии наук; перево-
дчики с английского; соавторы ряда рецензий на
произведения зарубежной литературы и обзорных
критических статей. В «ИЛ» опубликована их ста-
тья «Букеровская премия и лоскутные одеяла»
(1997, .№ 6); в их совместном переводе печатались
произведения П. Трэверс, Пола Остера и Чарльза
Симика («ИЛ», 1996, № 10).
Редакция журнала
поздравляет наших авторов
Олега Константиновича РОССИЯНОВ4,
Елену Ивановну МАЛЫХИНУ
и Татьяну Иосифовну ВОРОНКИНУ
с присуждением высоких венгерских
правительственных наград
в знак признания их многолетней
переводческой и литературоведческой
деятельности.
РАДИО
Редакция: S 202-922'
Ж®
у':-
тМ®
i 4"' ‘J’j. ^'i11 -ЖС
to
-
, ..•.«> :>-
WraM№
Ate®
»ИШк§
/ЖЯ»
«в 4 . г»ч М i • • < f А »< -г. S;’. ;,
ШлШЩЙсЖ'А ?'-#'. ''«W
ШШШ
jfef / / <.F '
•;. ' д‘>
i л. . ' .......
’^. •
"г.;...-: ::
.-Я.: : ,;. - ? V , . ,< -. • . Ч , ’ . , ^
:,:S^: у. У, у
Ч М к';;; ''. у'у : S4
U1
iSSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1997, №12 , 1 — 256.
ИНДЕКС 70394