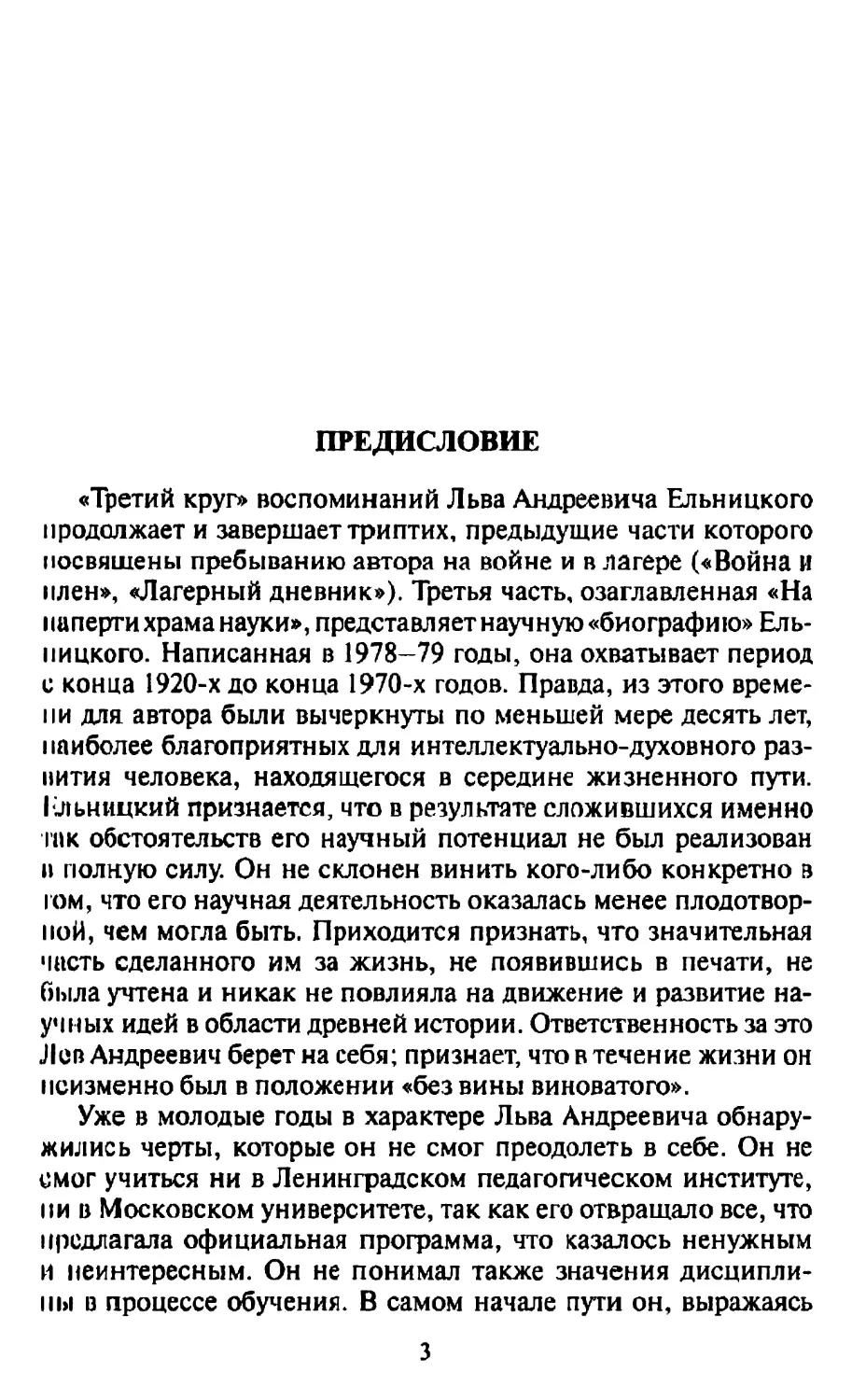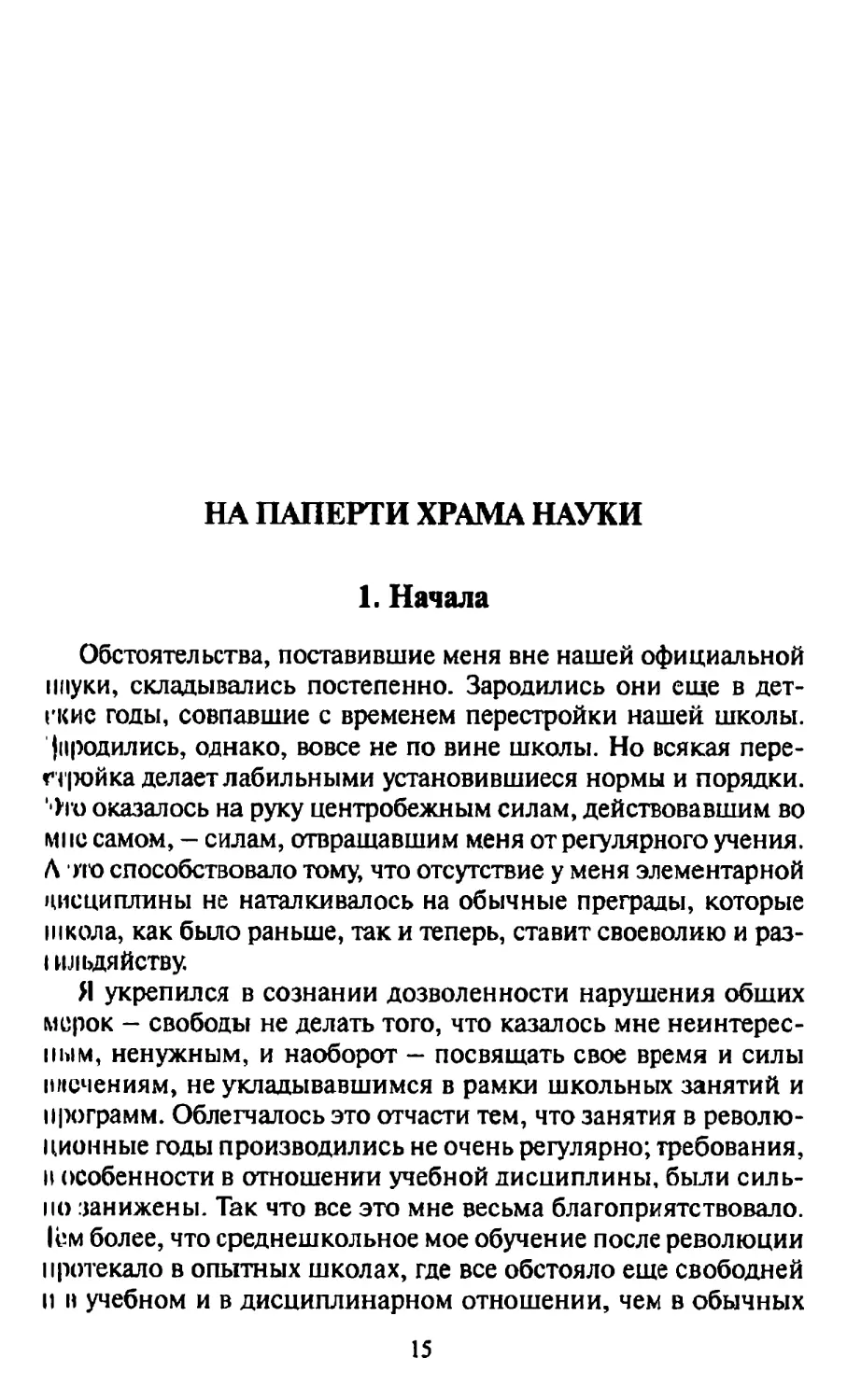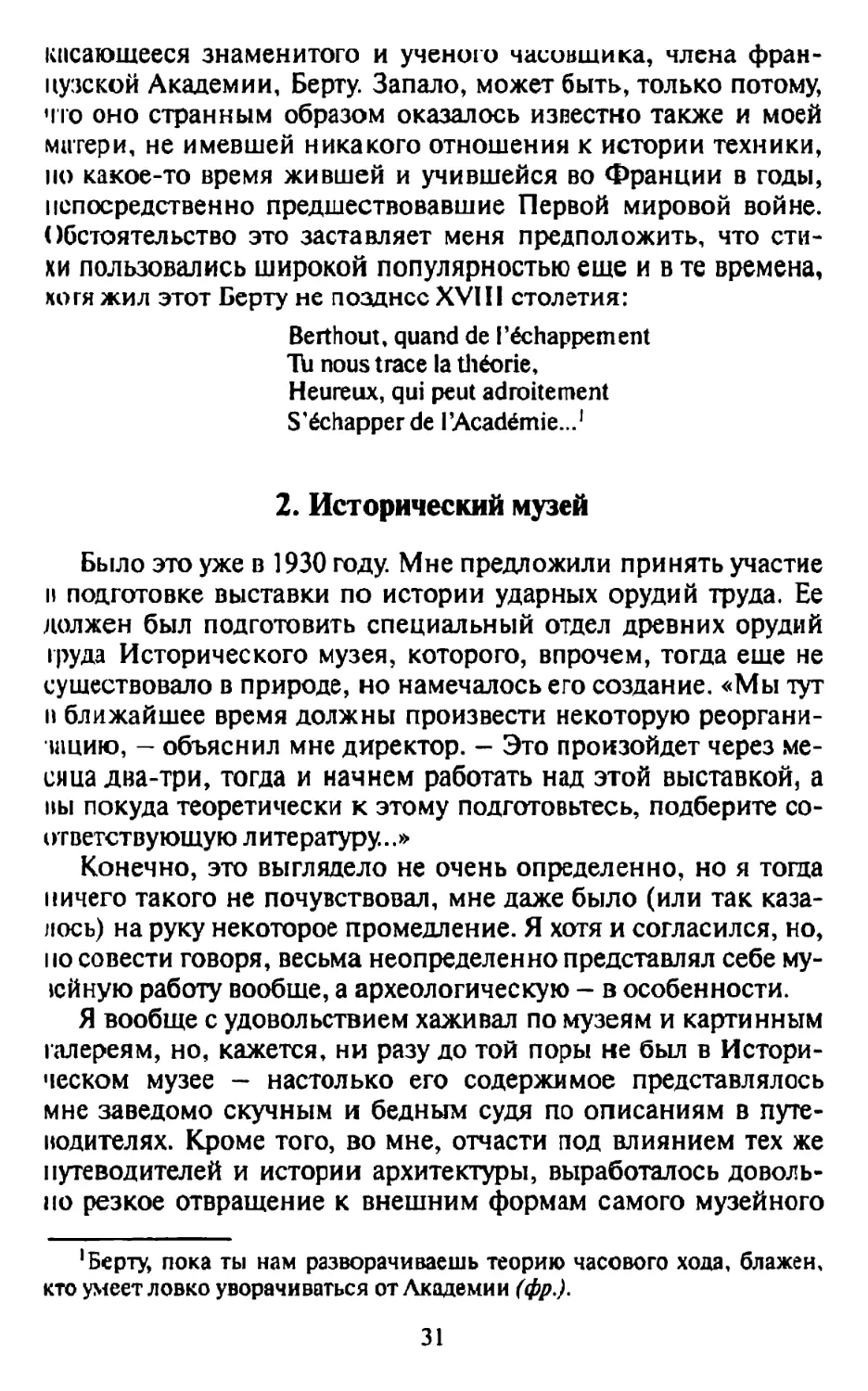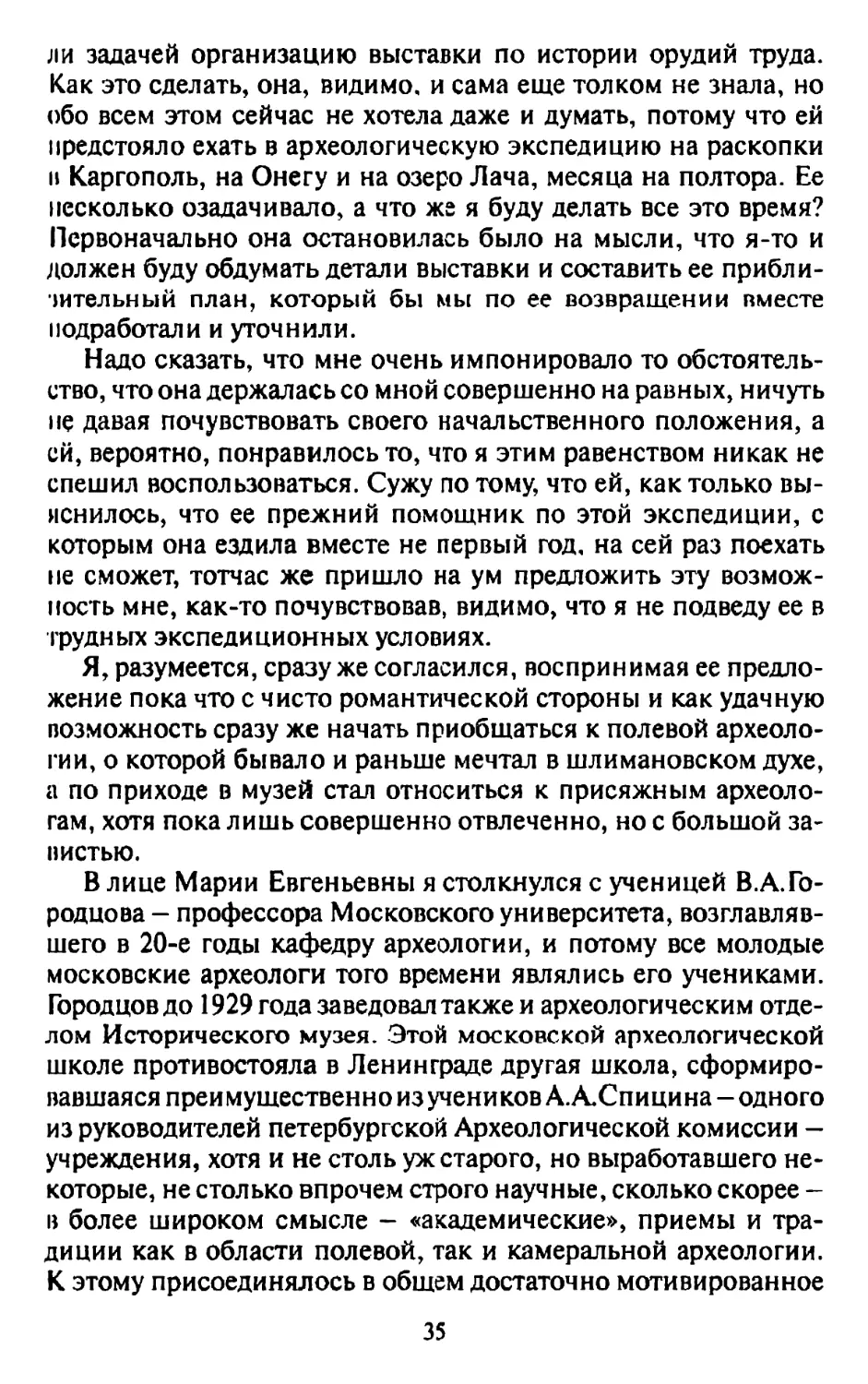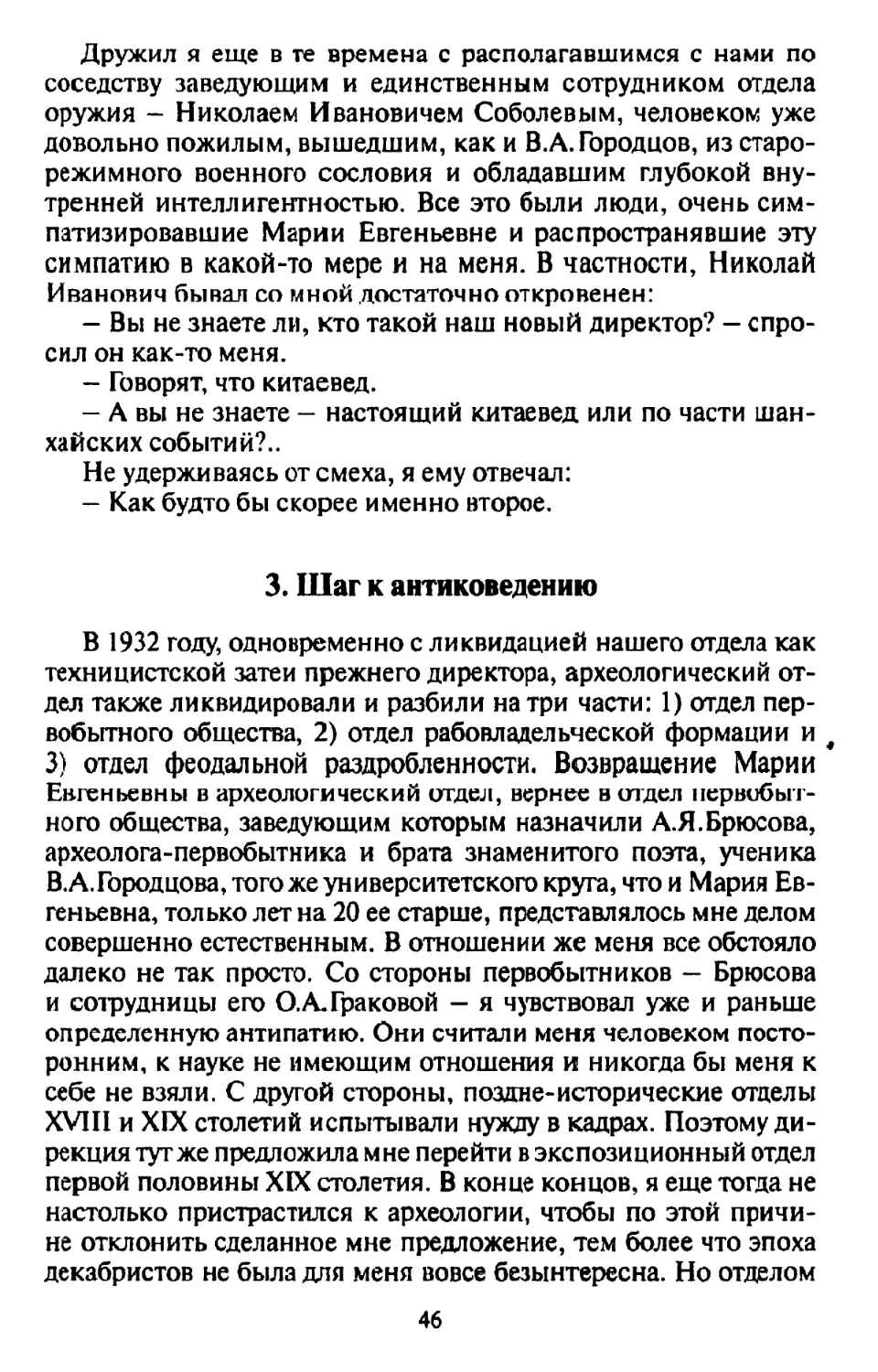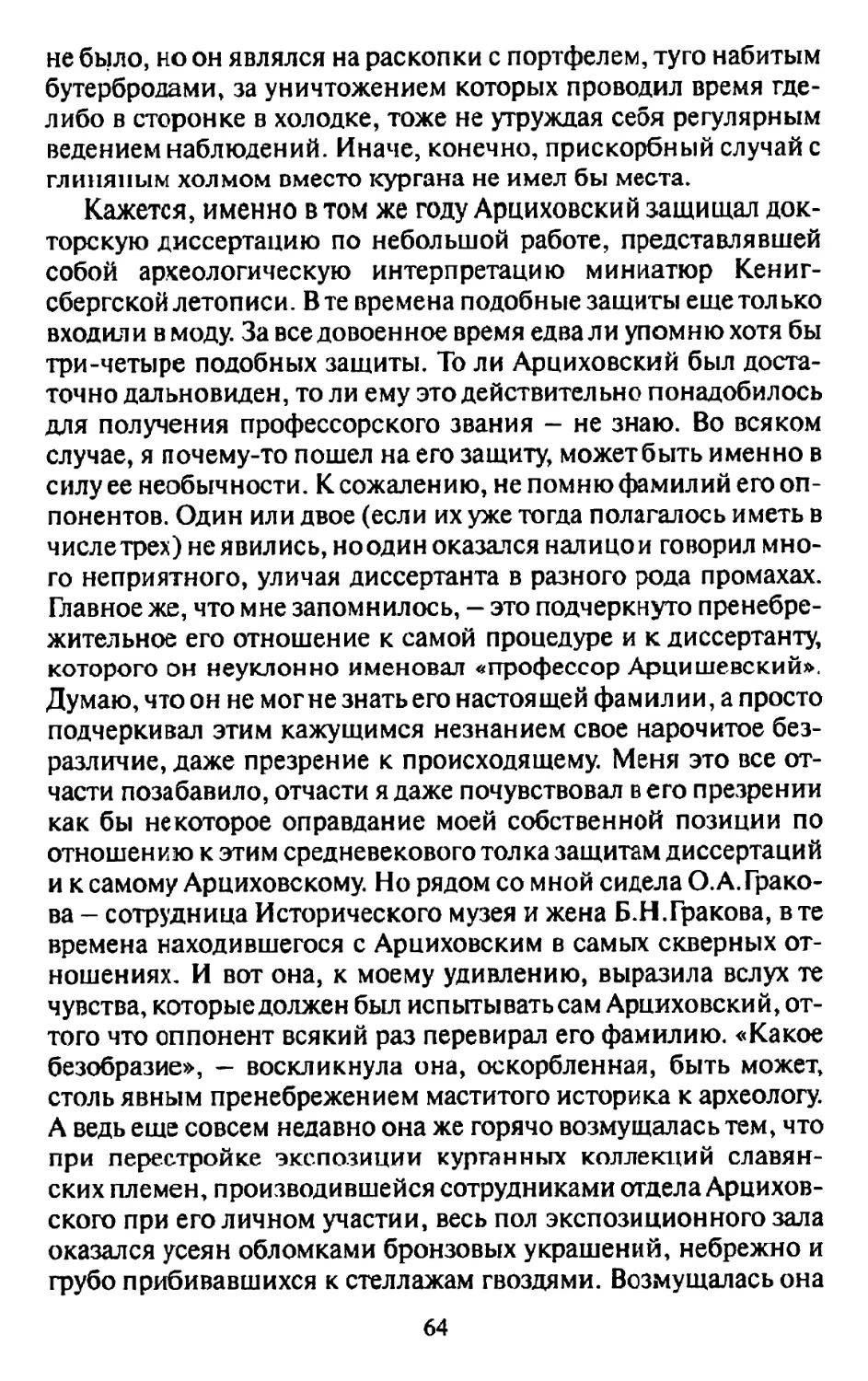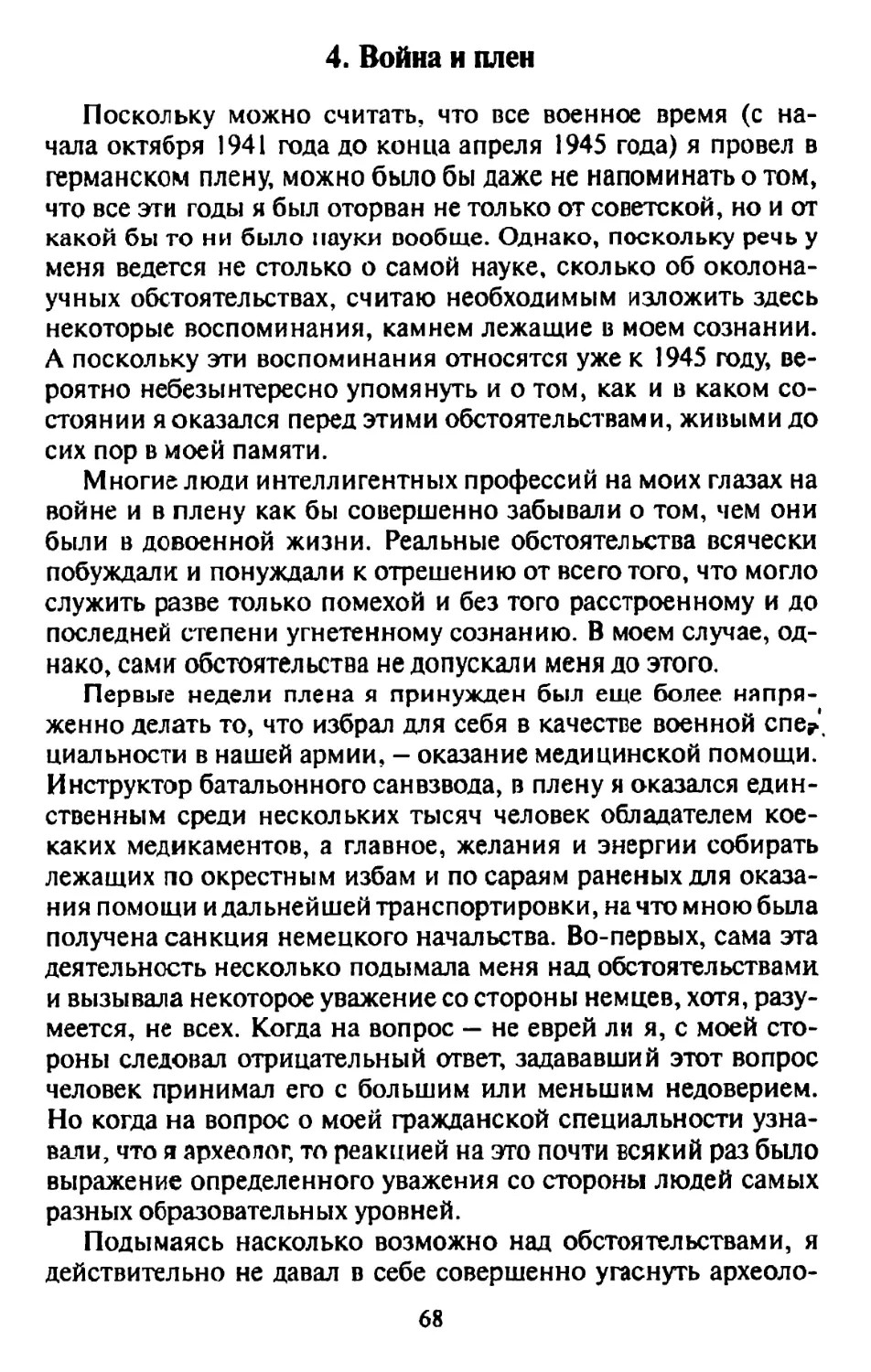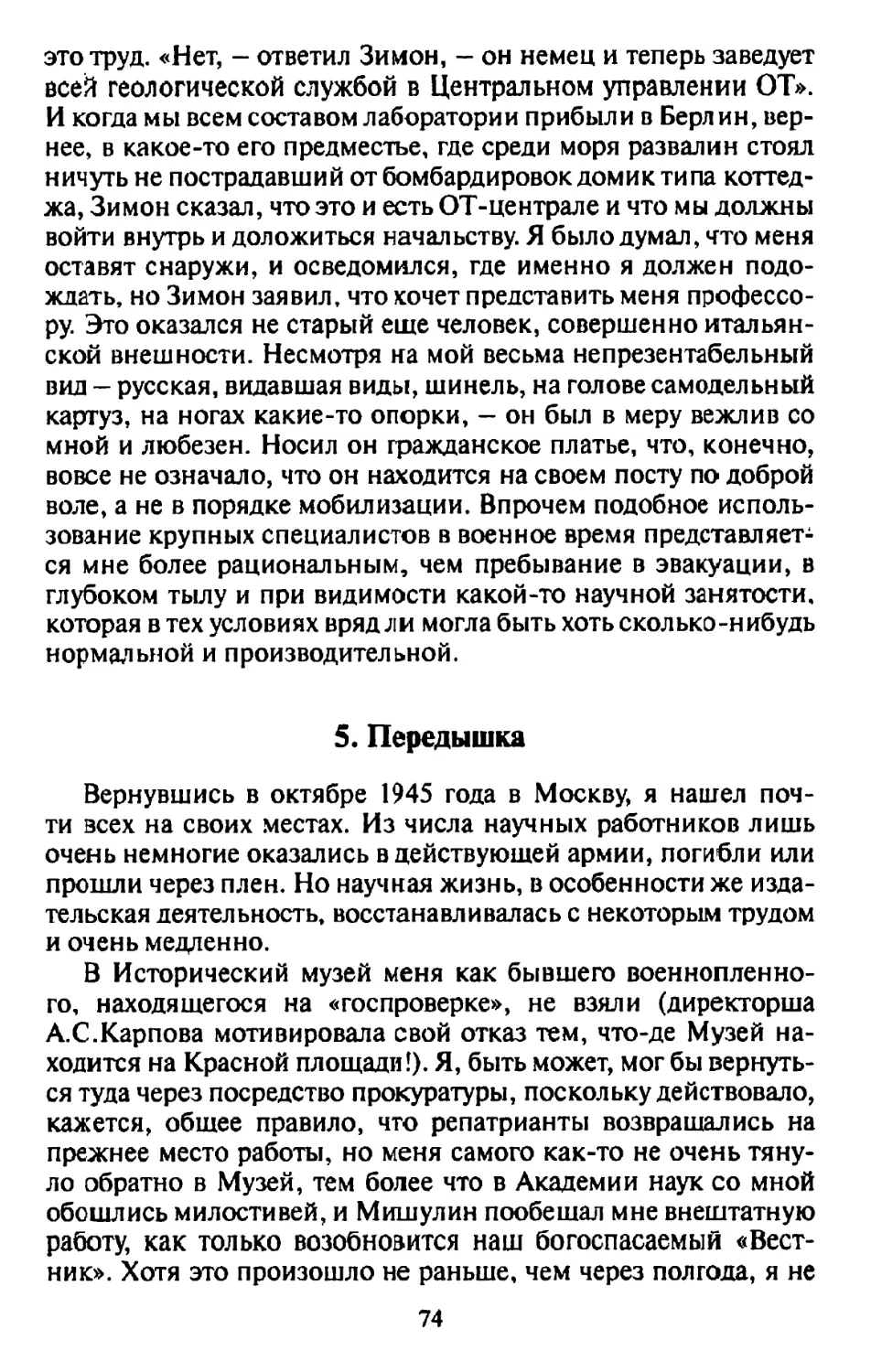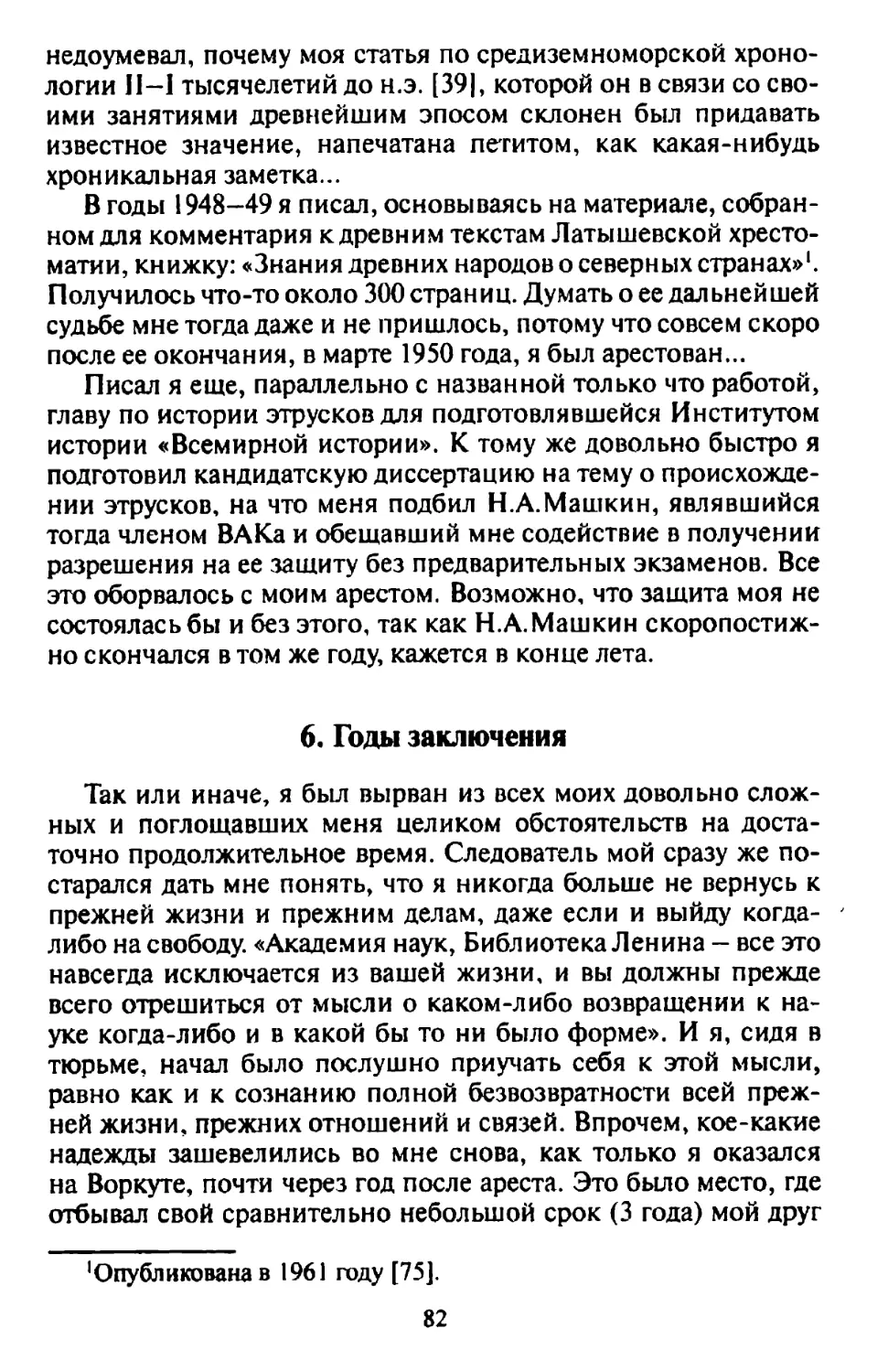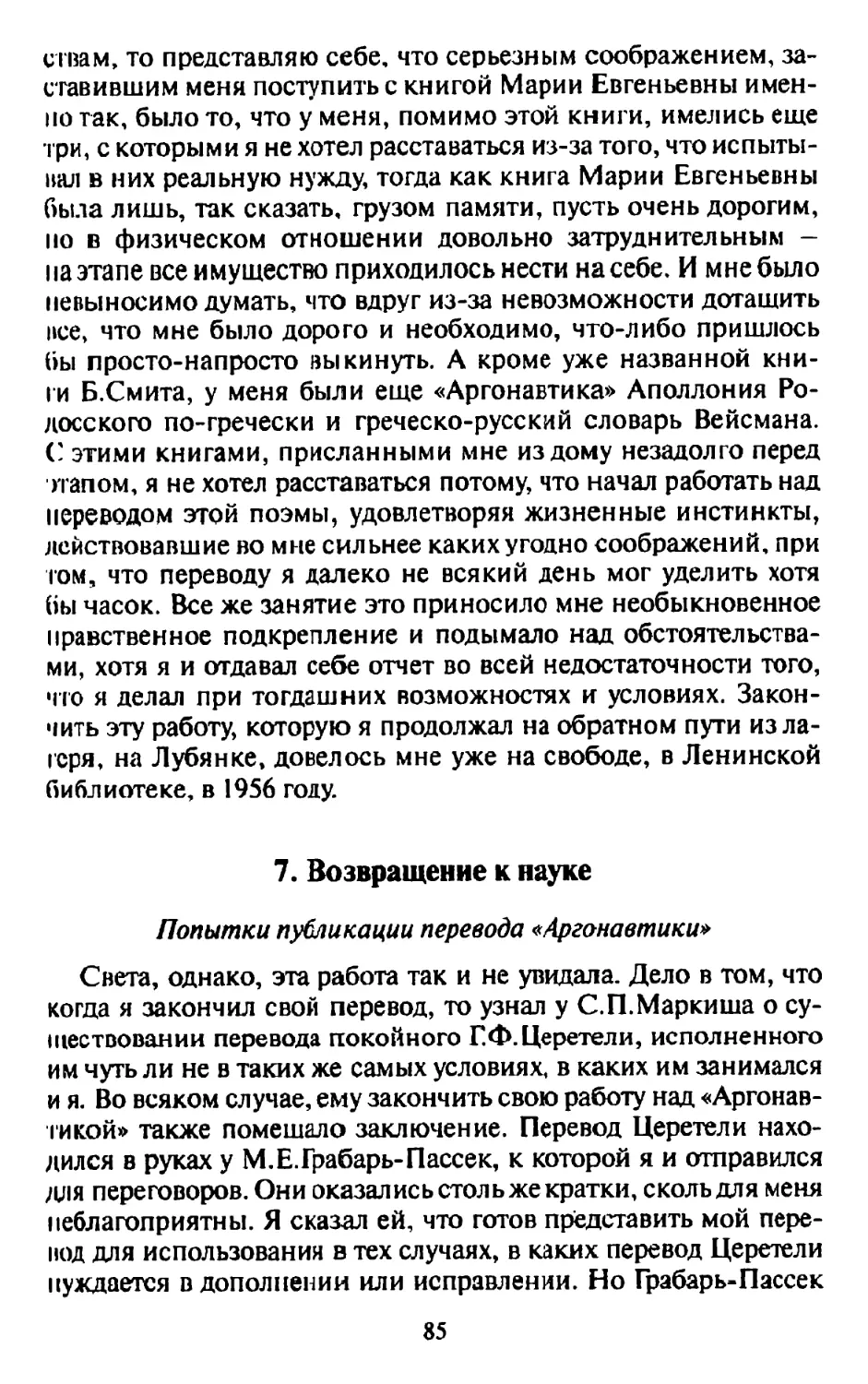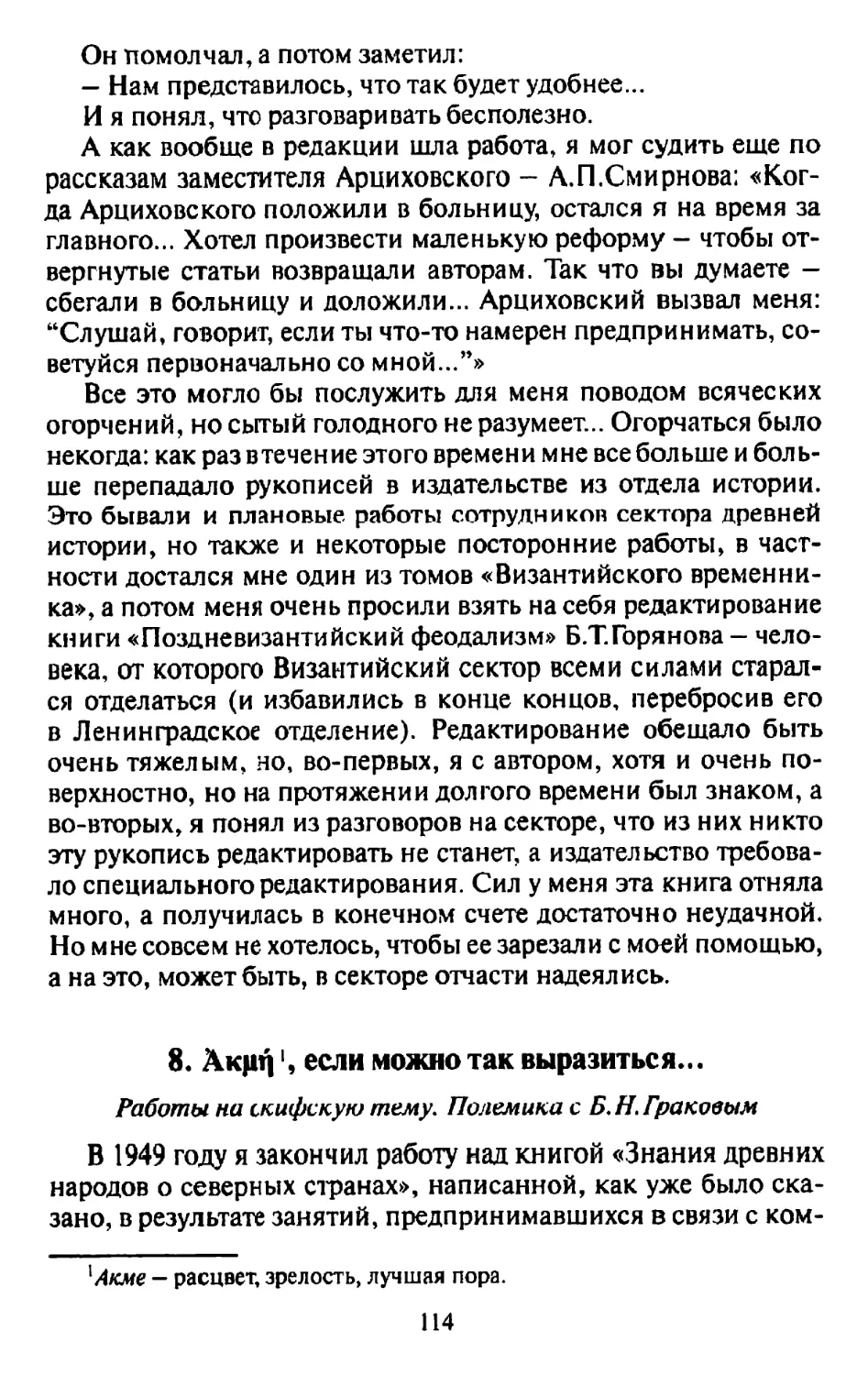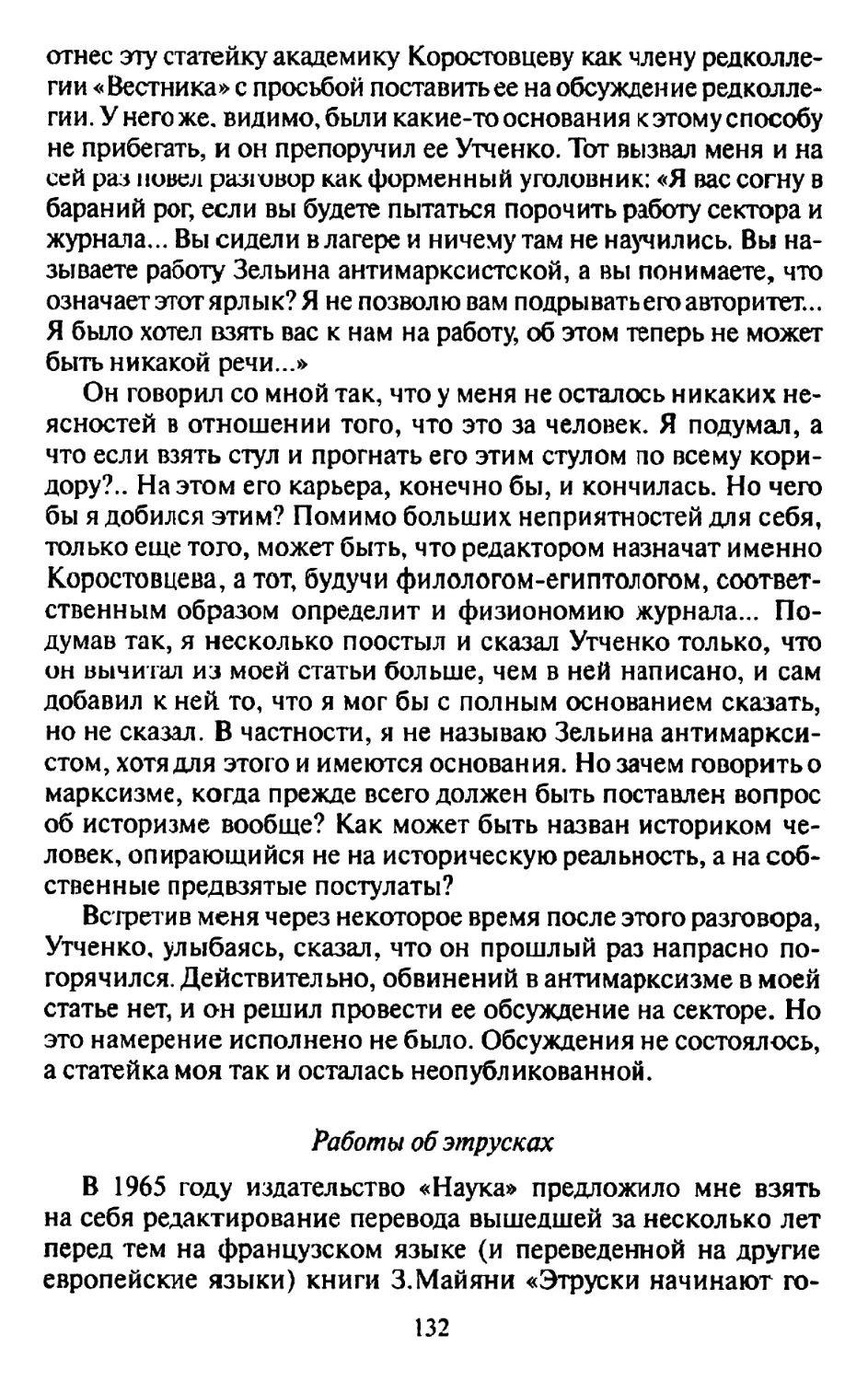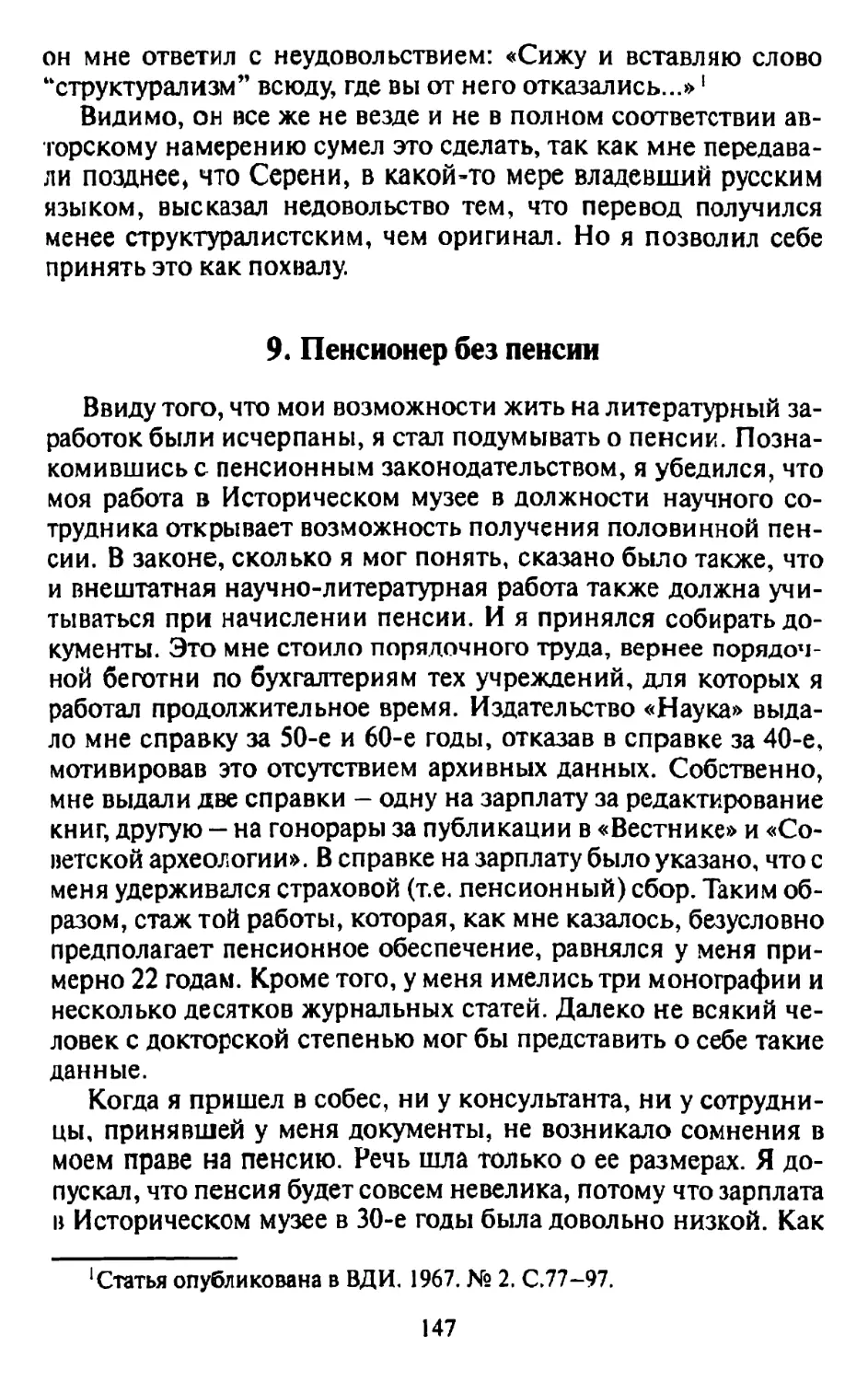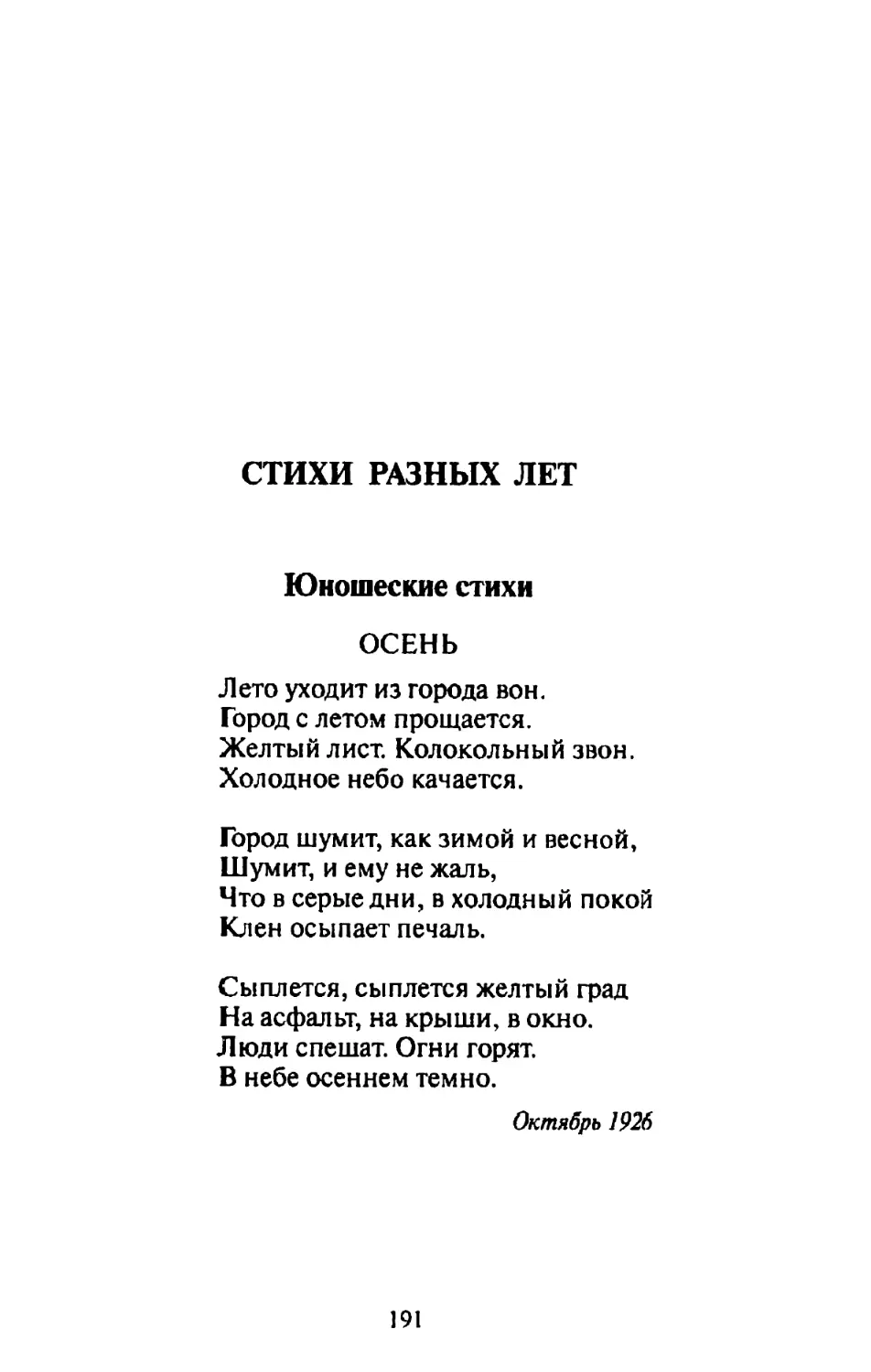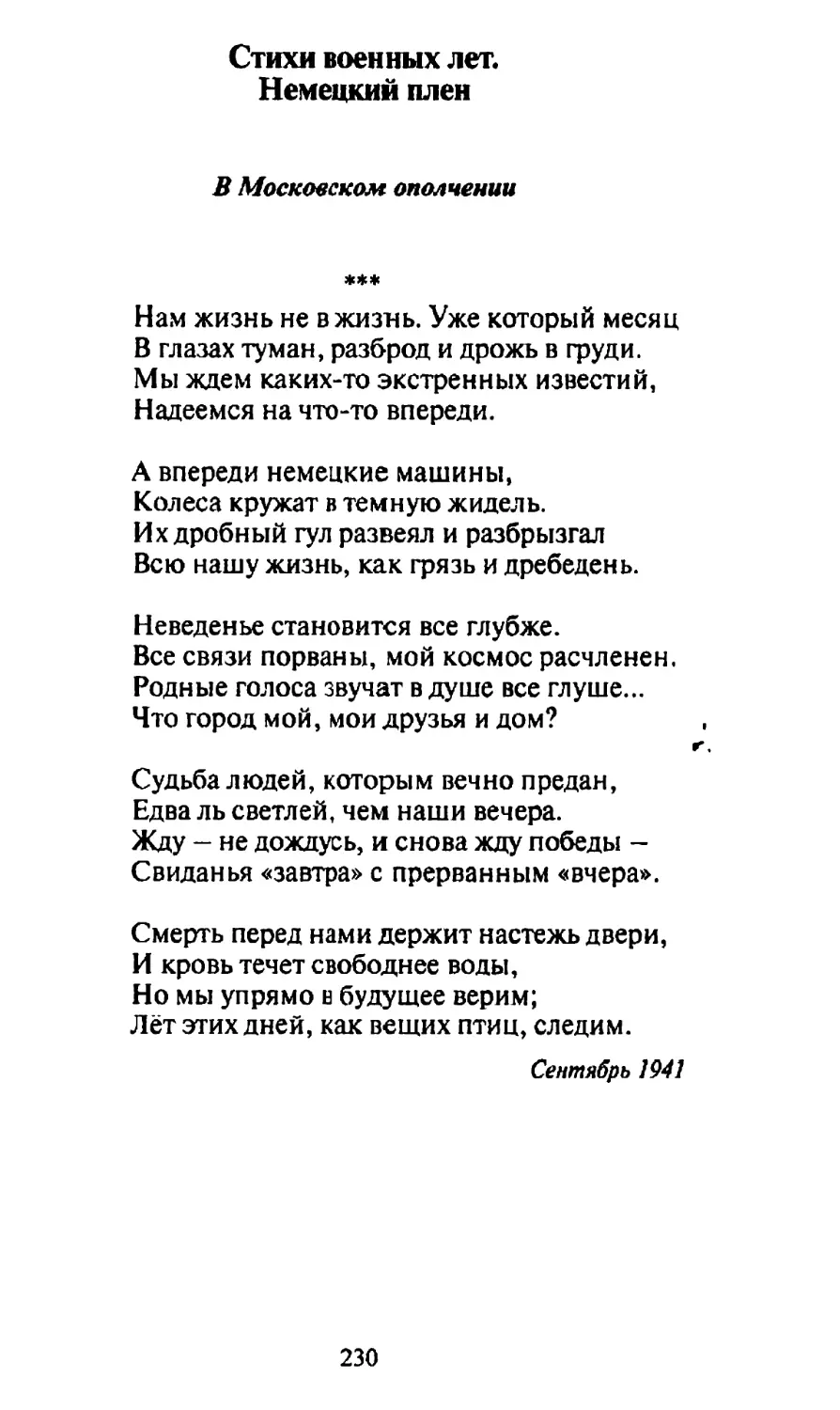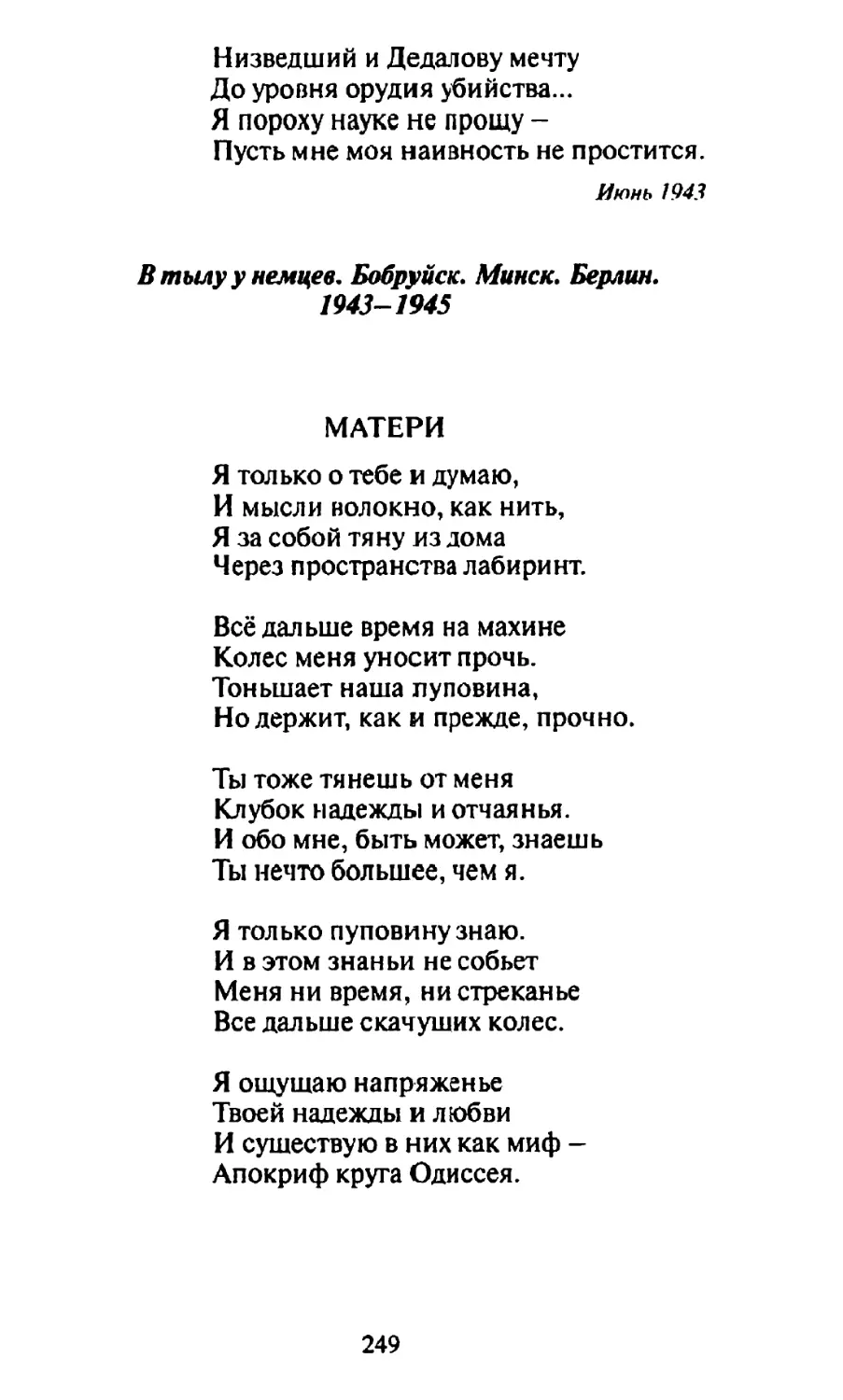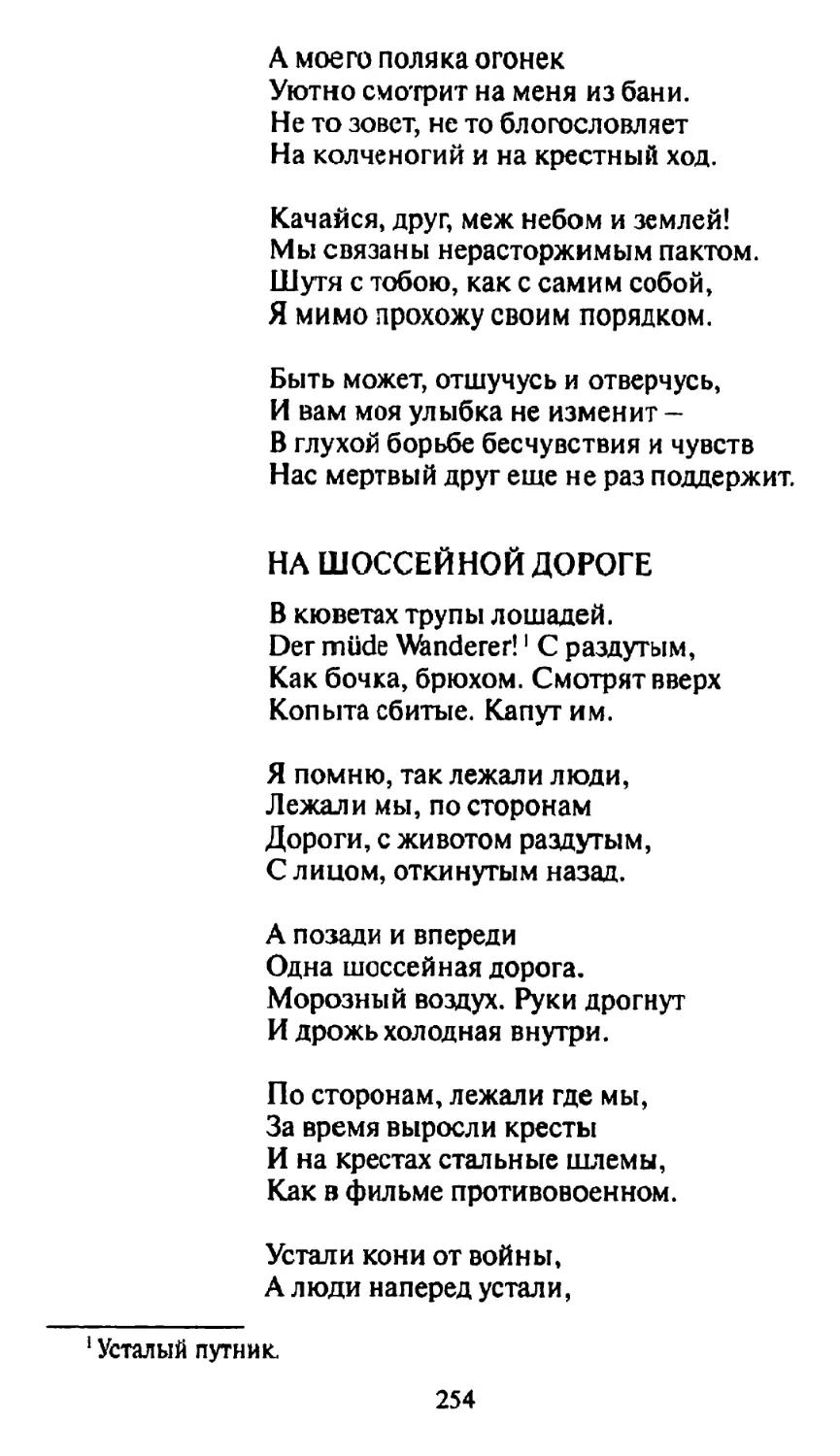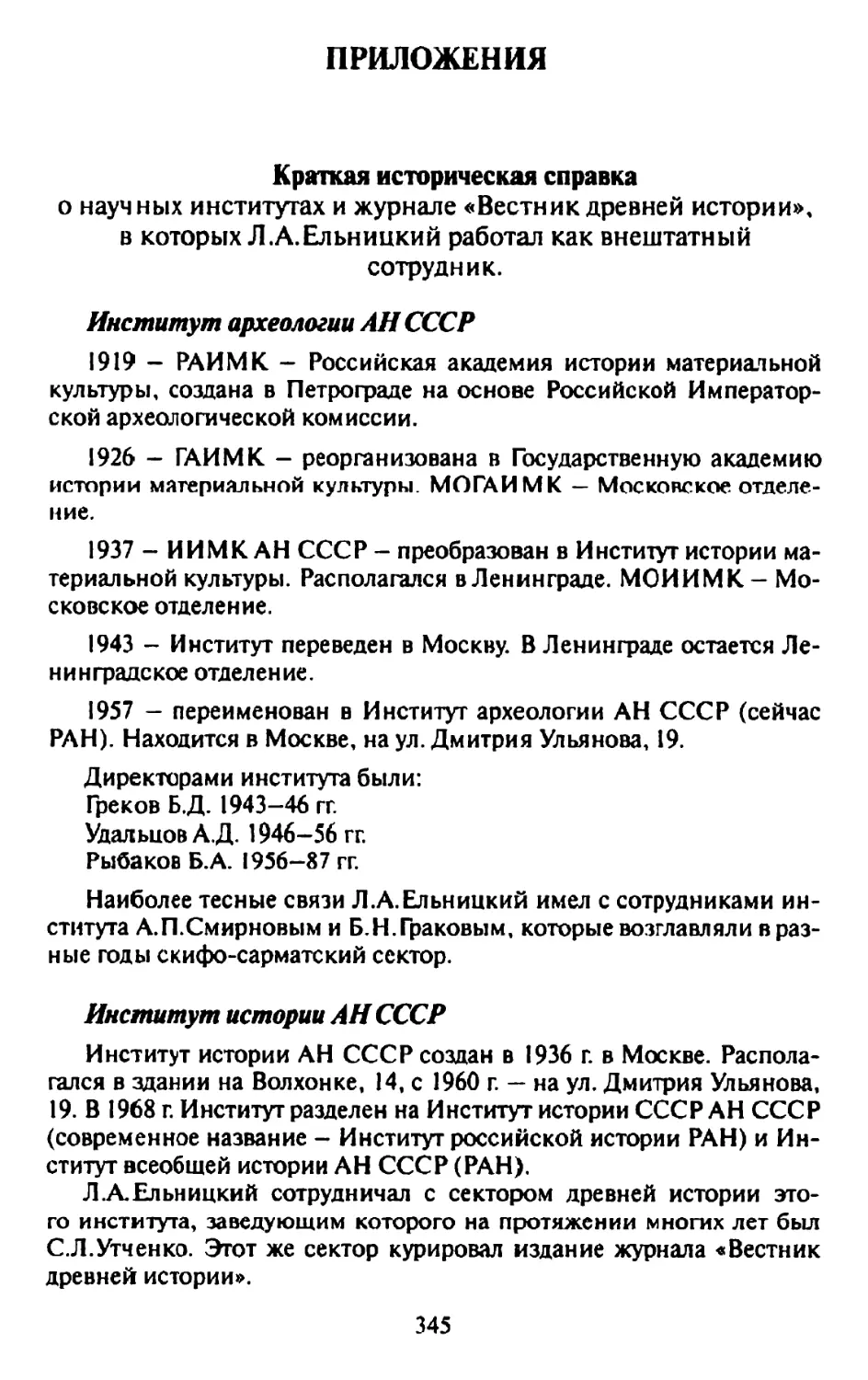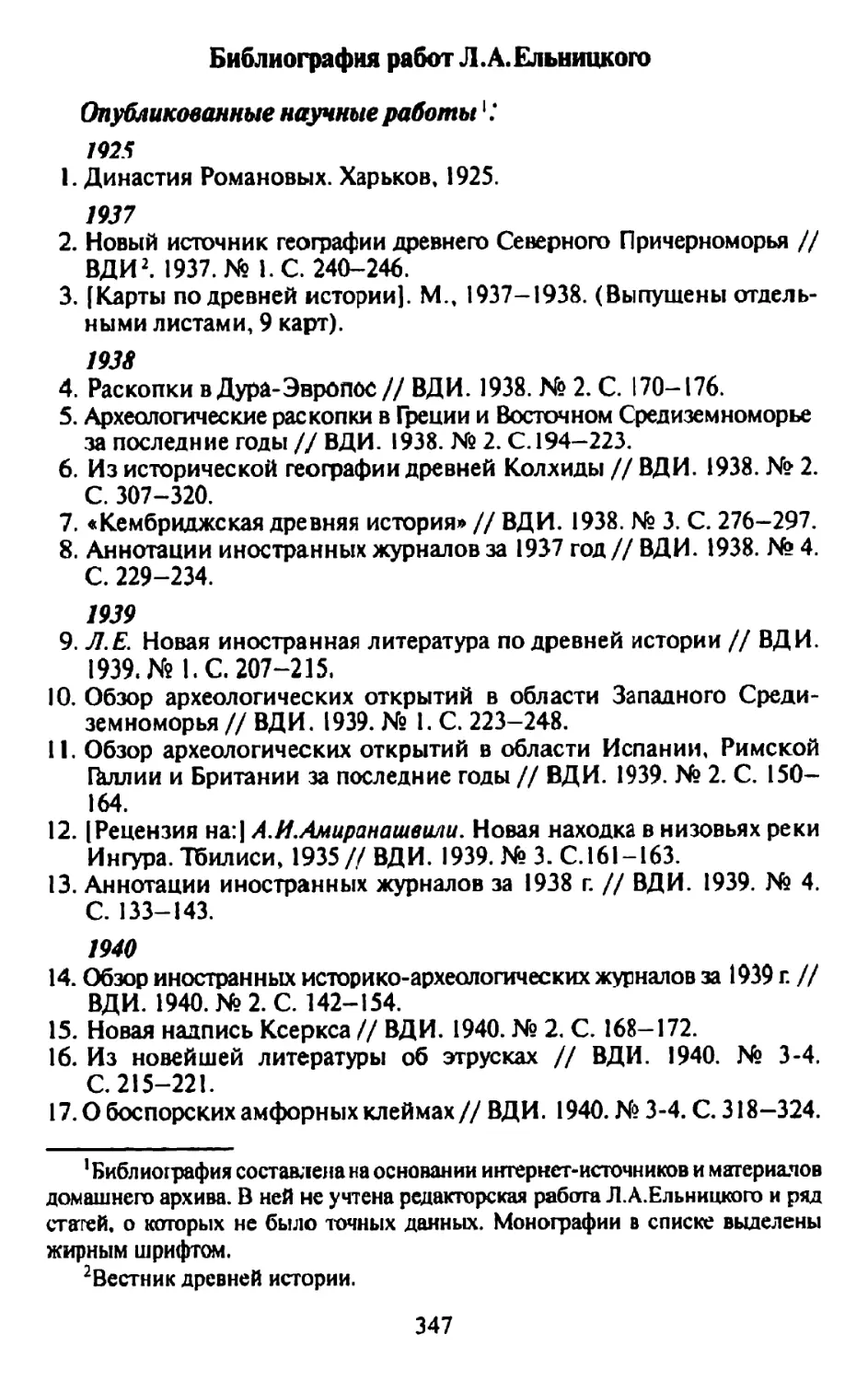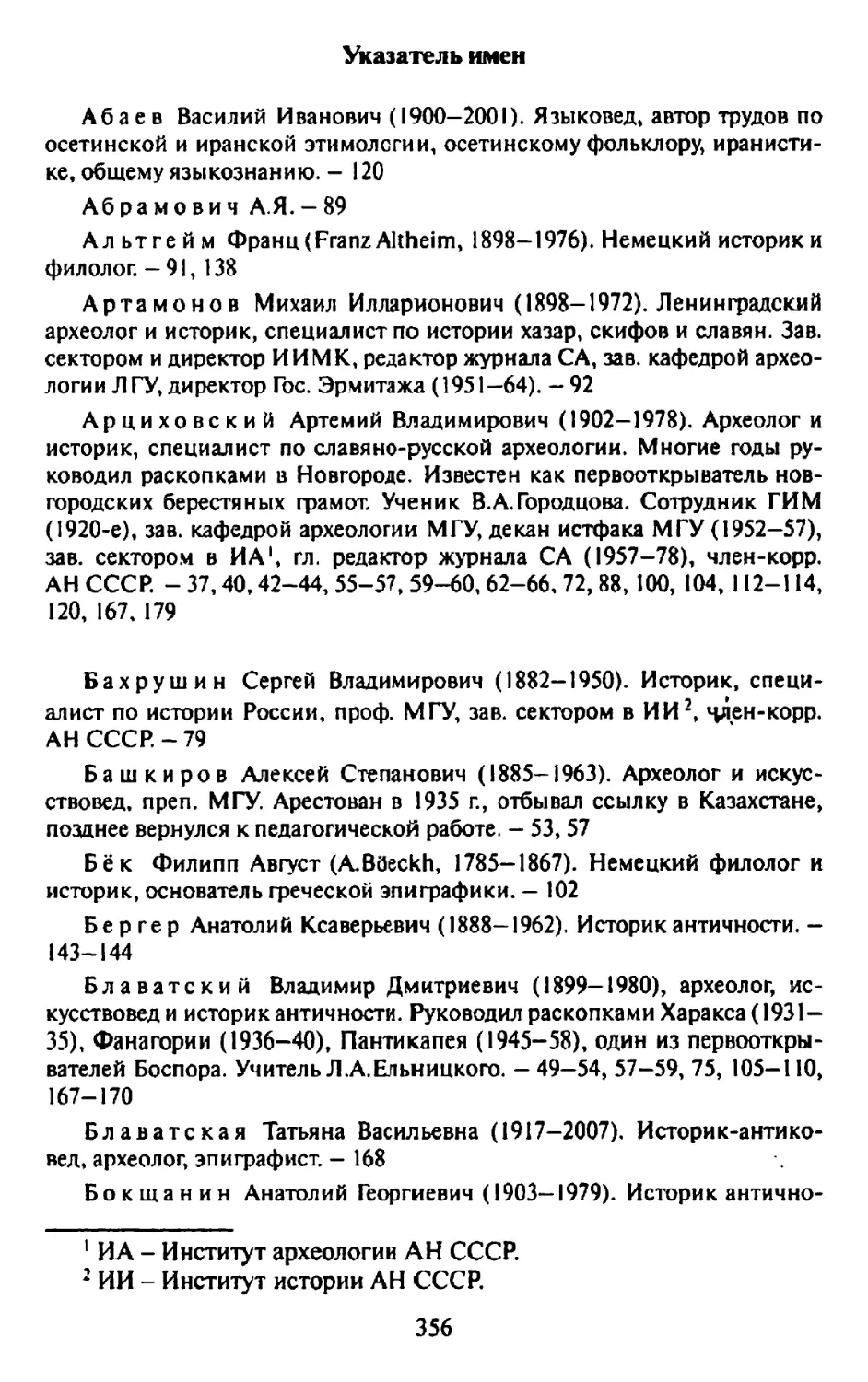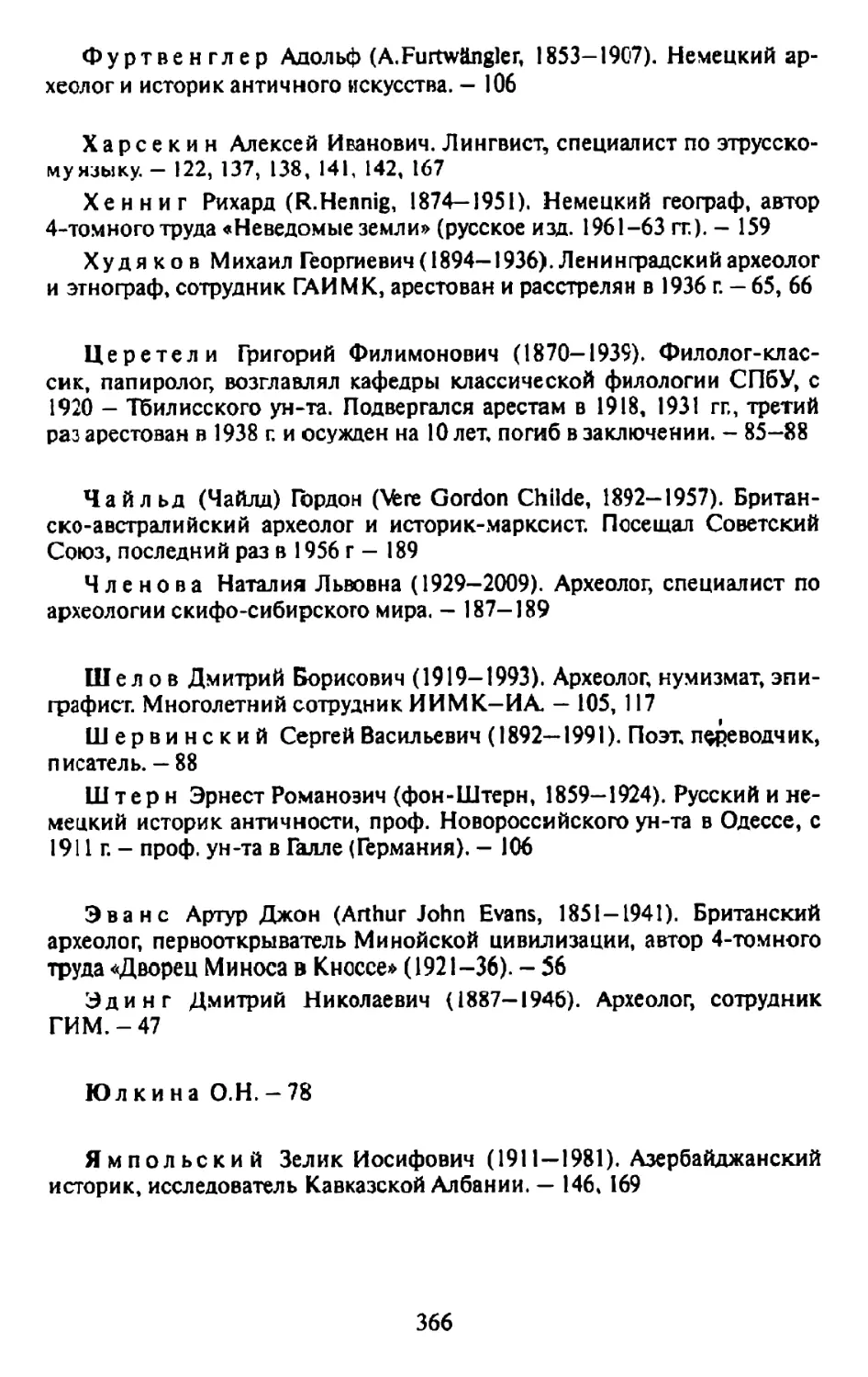Автор: Ельницкий Л.А.
Теги: русская литература художественная литература историческая литература
ISBN: 978-5-7784-0451
Год: 2014
Текст
Лев Ельницкий
Три круга воспоминаний
Лев Ельницкий
Три круга воспоминаний
НА ПАПЕРТИ ХРАМА НАУКИ
Москва
АГРАФ 2014
УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Е57
Подготовка текста Андрея Еяъницкого Оформление Л. Митин
Е 57 Лев Ельницкий. Три круга воспоминаний. На паперти храма науки. - М.: Аграф, 2014. - 368 с. - ISBN 978-5-7784-0451 -9
Лев Андреевич Ельницкий (1907 — 1979) — историк античности. В 1930-е годы он работал в Историческом музее. В 1941 году Лев Андреевич вместе с другими сотрудниками музея ушел на фронт в составе московского народного ополчения. Вскоре его часть оказалась в окружении и он попал в плен. Всю войну он находился в немецком плену. Вернулся домой только в конце 1945 года. После войны большая часть советских солдат, побывавших в плену, подверглась репрессиям. Ельницкий был арестован в начале 1950 года и пробыл в лагере 6 лет.
Его воспоминания много лет пролежали в домашнем архиве и только сейчас выходят в свет. Они состоят из трех томов. В первом рассказывается о войне и пребывании в немецком плену. Второй том посвящен аресту и заключению в советском лагере. И третий том, завершающий триптих, представляет научную биографию Ельницкого. В нем подробно рассказано о муках ученого, потерявшего много лет жизни вне творчества и после перенесенных мытарств пробивающего себе с великим трудом путь в науке.
Эта книга написана предельно искренно и проникновенно, она не оставит равнодушным ни одного читателя.
УДК 821.161.1-94 ББК84(2Рос=Рус)6-44
ISBN 978-5-7784-0451-9
©Ельницкий A.JI.j 2014 ©Издательство «Аграф», 2014
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Третий круг» воспоминаний Льва Андреевича Ельницкого продолжает и завершает триптих, предыдущие части которого посвящены пребыванию автора на войне и в лагере («Война И плен», «Лагерный дневник»). Третья часть, озаглавленная «На паперти храма науки», представляет научную «биографию» Ильницкого. Написанная в 1978-79 годы, она охватывает период с конца 1920-х до конца 1970-х годов. Правда, из этого времени для автора были вычеркнуты по меньшей мере десять лет, наиболее благоприятных для интеллектуально-духовного развития человека, находящегося в середине жизненного пути. 1<льницкий признается, что в результате сложившихся именно так обстоятельств его научный потенциал не был реализован в полную силу. Он не склонен винить кого-либо конкретно в том, что его научная деятельность оказалась менее плодотворной, чем могла быть. Приходится признать, что значительная часть сделанного им за жизнь, не появившись в печати, не была учтена и никак не повлияла на движение и развитие научных идей в области древней истории. Ответственность за это JIев Андреевич берет на себя; признает, что в течение жизни он неизменно был в положении «без вины виноватого».
Уже в молодые годы в характере Льва Андреевича обнаружились черты, которые он не смог преодолеть в себе. Он не смог учиться ни в Ленинградском педагогическом институте, пи в Московском университете, так как его отвращало все, что предлагала официальная программа, что казалось ненужным и неинтересным. Он не понимал также значения дисциплины в процессе обучения. В самом начале пути он, выражаясь
3
метафорически, «не сдал экзамена», за что пришлось расплачиваться позднее* Новое общество, которое возникло после революции, в известном смысле обожествило «документ»: справки, удостоверения, дипломы в дальнейшем возымели больший вес, чем сам живой человек с его реальными возможностями. Отсутствие диплома о высшем образовании, не говоря уже об отсутствии научной степени, объясняют сложившуюся невозможность полноценного участия Ельницкого в жизни научного сообщества. Он воспринимался коллегами как странная маргинальная фигура, на которую смотрели с опаской и недоверием. Раздражение, в частности, вызывала чрезвычайная широта его научных интересов.
В своих представлениях о типе идеального ученого Лев Андреевич ориентировался на те примеры, которые давала дореволюционная историческая наука. Его привлекали личности, подобные М.И.Ростовцеву, Ф.Ф.Зелинекому, Р.Ю.Випперу. Для этих так называемых «всеобщих историков» был возможен единый научный уровень трактовки как древних, так и средневековых, новых и новейших исторических явлений. Лев Андреевич стремился в науке идти подобными путями. Не случайно его самообразование началось с изучения современных иностранных языков, а позднее - латыни и древнегреческого. Открывшаяся возможность читать специальную научную литературу на европейских языках и античных авторов в подлинниках принципиально изменила мировосприятие Льва Андреевича, дала ему другую глубину понимания вещей.
Начало научной деятельности Ельницкого относится к 1930-м годам, когда он стал сотрудником Государственного Исторического музея и регулярно принимал участие в археологических экспедициях. Особенную роль в его судьбе сыграли раскопки Фанагорийского городища на Тамани, настоящего античного объекта, где он проработал четыре сезона в 1936—40 годах. Лев Андреевич чувствовал себя археологом по призванию; во всяком случае опыт раскопок на Тамани имел решающее значение в становлении его как антиковеда. В печати начинают появляться его научные статьи, археологические и библиографические обзоры. По мере формирования Ельницкого как ученого определялось многообразие его интересов: историческая география («Знания древних о северных странах», «Древнейшие океанские плавания» и неопубликованная «Сказочная география греков и римлян»), древняя хро-
4
пология, социальная история античности («Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—111 вв. до н.э.»), античная идеология (корпус ненапечатанных работ о раннем христианстве), история скифского мира («Скифия евразийских степей»), ггрускология, эпиграфика (расшифровка древних надписей как специальная область антиковедения), наконец, филология (переводы из Плутарха и других древних авторов)... Помещенный в настоящей книге список научных работ Л.А.Ельницкого наглядно подтверждает не только широту, но и целостность его представлений о глубоком прошлом человеческой культуры. Очевидно его стремление охватить историю античности целиком, во всем многообразии ее процессов и явлений.
Необходимо отметить в массе публикаций Ельницкого значение жанра обзоров, Когда в 1937 году был организован журнал «Вестник древней истории», Лев Андреевич в течение многих — за вычетом военных и лагерных - лет печатал «что-либо свое» едва ли не в каждом номере. Он не мог занимать в журнале официальную должность, особенно по возвращении из плена. Однако ему позволяли заполнять своими материалами «неглавный» журнальный отдел критики и библиографии. Лев Андреевич печатал в нем обзоры иностранных книг по древней истории, рефераты статей из иностранных журналов, рецензии на работы советских авторов и т.д. Разбирая концепции других, он пользовался возможностью «объявлять» в том или ином виде собственные идеи, вписывать их в общий контекст. На основании таких обзоров, набиравшихся в журнале мельчайшим шрифтом, иногда и без имени автора, можно было судить о завоеваниях и белых пятнах антиковедения как науки. Кроме того, от времени до времени ему удавалось печатать свои оригинальные работы (преимущественно статьи) на страницах того же «Вестника», «Советской археологии» и других журналов. Много труднее было с публикацией книг, которые имели, как правило, статус плановой продукции академических институтов. Нигде не состоя в штате, нельзя было рассчитывать на поддержку официальных сил. В конце 50-х и в 60-е годы Ельницкий имел кроме того немалую редакторскую работу в издательстве «Наука». Это была работа по договорам, так как отсутствие диплома и здесь не позволялополучить штатную должность, соответствующую высокому уровню его научных познаний. Однако во всех указанных случаях работа оплачивалась,
5
И он мог чувствовать себя достаточно уверенно при том, что никогда не имел гарантированного заработка.
И все-таки благополучие было обманчиво. Почти всегда публикации работ Ельницкого сопровождались курьезами, нередко удачное начало имело печальный конец. Вот примеры. В издательстве «Наука» три года лежала рукопись книги об этрусках с приложением двухсот сорока единиц иллюстраций и в конце концов была утеряна. Новая попытка представить свои этрускологические идеи в составе коллективного сборника, утвержденного к печати редколлегией научного Совета по истории мировой культуры, также провалилась из-за равнодушия к судьбе этой книги Б.Б.Пиотровского, возглавлявшего тогда Совет. Удалось в итоге опубликовать лишь несколько статей по истории и культуре этрусков, но основная обобщающая работа на эту тему так и не увидела свет.
Несколько лет в издательстве «Мысль» находилась рукопись книги «Сказочная география греков и римлян». Лев Андреевич многократно объяснял главному редактору научную ценность этой работы, не имевшей аналога ни в российском, ни в зарубежном антиковедении. Рукопись была включена в издательский план, но в последний момент выброшена из него «по необходимости напечатать 200 000 экз. романа Горького “Мать” за счет бумажного лимита издательства». Рукопись «Сказочной географии» до сих пор лежит неопубликованная в домашгГем архиве.
Еще в лагере Лев Андреевич начал работать над переводом «Аргонавтики» Аполлония Родосского. По возвращении из заключения он узнал, что перевод этого текста уже выполнен профессиональным филологом Г.Ф.Церетели и, кажется, в аналогичных условиях (Церетели погиб в лагере). Однако Лев Андреевич сделал еще обширный литературный комментарий и примечания к переводу, без которых нельзя судить о значении и месте «Аргонавтики» в культуре античности. Попытки напечатать литературный комментарий оказались безуспешны. И на сей раз Ельницкого поразило равнодушие со стороны другого влиятельного человека — филолога и переводчика античной литературы М.Е.Грабарь-Пассек, проявившей пренебрежение и к затраченному им труду и к самой науке, в которой можно было бы заполнить существующий пробел. Литературный комментарий к «Аргонавтике», до сих пор никому не ведомый, также покоится «в столе».
6
Книга «Древнейшие океанские плавания», уже подготовленная к изданию, в последнюю минуту показалась главному редактору превышающей возможный объем, хотя последний не был определен в договоре. Из книги выбросили первые три главы - и отправили в таком виде в жизнь. Изъятые главы не сохранились. Книга «Скифия евразийских степей», печатавшаяся далеко от Москвы — в Новосибирске, по этой причине оказалась неподконтрольна автору. Без согласования с ним ее объем сократили с тридцати печатных листов до пятнадцати.
Никогда не печатались работы Ельницкого о раннем христианстве как одном из явлений античной идеологии. Причина в гом, что его убеждение в глубоких языческих корнях этого явления не совпадало с общепринятой концепцией. Примеры можно продолжать. Но ограничивая себя, необходимо признать, что неосуществление публикаций, равно как их осуществление, подчинялось единственно произволу случая. Удача объяснялась просто: «Повезло - вот и все!»
С течением времени менялось положение в научных исторических изданиях: «Вестник» превращался в ведомственный журнал, ведение библиографического раздела в нем было передано штатным сотрудникам Института истории, публикации в нем перестали оплачиваться. Заседания сектора античности в Институте приобретали все чаще закрытый характер. Лев Андреевич незамедлительно почувствовал действие скрытых сил, выталкивавших его из привычного существования. Когда он убедился в дальнейшей невозможности свободных литературных заработков, он стал думать о... пенсии. Лев Андреевич не сомневался, что всей своей жизнью, в которой не было отпусков и выходных дней, он заработал право быть пенсионером. Однако из районного собеса, куда Лев Андреевич обратился вначале, а потом из более солидных городских организаций он получил отказ, выраженный в одних и тех же словах: его многолетняя трудовая деятельность рассматривалась как «частные отношения с издательствами»; вышедшие в печати книги и статьи трактовались как исполненные «в гражданском», то есть внеслужебном порядке. Таким образом мечтам хоть о каком- либо официальном общественном положении, которого у Льва Андреевича не было все послевоенное время, не суждено было сбыться.
Перед ним остро встал вопрос о том, кто он такой, и в собственных глазах, и во мнении общества. Раньше на этот вопрос
7
можно было ответить не задумываясь: русский пленный, потом зек, осужденный как враг народа. В условиях свободной жизни статус «работника науки» воспринимался в отношении него как подозрительно-проблематичный. Лев Андреевич, будучи живым человеком, одновременно в научной среде был призраком, поскольку все сделанное им за целую жизнь признавалось с официальной точки зрения как бы не существующим.
Ельницкий никогда не был диссидентом, критическое отношение к современному государству не рассматривал как причину не заниматься своим делом и не сотрудничать с официальной наукой. Мифология истопников, дворников и сторожей, столь важная для поведения части художественной интеллигенции 1970-80-х годов, никогда не была ему близка. «Свободная» жизнь, вне цепей службы, была не личным выбором Льва Андреевича, а следствием давления некоей мистической силы — ничьей и одновременно общей воли.
Кроме того, что воспоминания «третьего круга» описывают личную судьбу автора в сфере его профессиональных занятий, в них представлена атмосфера, в какой развивалась историческая наука в разные временные периоды. В 1930-е годы сложилась практика доносов, слежки за людьми, утвердился страх в качестве жизненной нормы, следствием чего было «исчезновение» даже не отдельных людей науки, а целых научных школ. Ельницкий пишет, например, о соперничестве московскими ленинградских археологов, о подозрительности и нескрываемой вражде их взаимных отношений. Эта борьба закончилась арестом и гибелью многих руководящих деятелей ленинградского ГАИМКа. В воспоминаниях рассказано в том числе и о трагической судьбе сотрудника ГИМ А.А.Захарова, арестованного в 1934 году; вскоре он был расстрелян в ссылке.
Говоря о последующих периодах, автор постоянно акцентирует внимание на проблемах этики - психологии и поведении людей, особенно занимающих начальственные должности, от которых в немалой степени зависела и результативность научных исследований, и репутация рядовых работников. В воспоминаниях имеются очерки-портреты многих известных археологов и историков. «Третий круг» со свойственной ему фрагментарностью изложения материала не претендует на окончательную, исчерпывающую характеристику тех ученых, о которых говорится или достаточно подробно, или довольно мимолетно.
Научные заслуги археолога А.В.Арциховского многократно описаны в справочниках и энциклопедиях. Но в воспоми-
8
наниях Ельницкого он предстает совсем с другой стороны - отталкивающее впечатление производят его отношения с коллегами, высокомерие и карьерные устремления. Сложностью огличаются портреты таких ученых, как В.Д.Блаватский и Б.Н.Граков, хотя и того и другого автор считал своими учителями. К первому он испытывал понятное уважение как к крупному археологу, но не мог примириться с его гражданской трусостью. Со вторым его разъединяла несхожесть научных взглядов при существовавшей человеческой симпатии. С безусловным восторженным уважением пишет Лев Андреевич о С.А.Жебелёве. Но нельзя не заметить, как с течением времени мельчают люди науки. Вог СЛ.Утченко — профессор Московского университета, главный редактор «Вестника» и заведующий сектором античности в Институте истории - иной раз обнаруживает свою невольную близость к нравам уголовной среды, что проявляется в эпизоде, когда он обещает Ельницкому «согнуть его в бараний рог». Поводом для такой угрозы стало подозрение, что Лев Андреевич намерен настаивать на своих идеях, представляющих, по мнению Угченко, опасность для научных концепций сектора.
Нужно отметить, что Лев Андреевич не встречал в научной среде того необходимого сочувствия его работе, без которого, думается, вообще ничего не может создать творческий человек. Очевидно, что одна из научных проблем, постоянно занимавших сознание Льва Андреевича, — рабства как социального института в раннем Риме - ассоциативно осмысляется как остро современная проблема нравственного самочувствия человека XX столетия, психологически оставшегося рабом, зависимым от «больших» и «малых» обстоятельств, «правильных» ориентаций, принятых на веру идей. Об этих процессах осознанно или бессознательно идет речь в подтексте воспоминаний Ельницкого.
♦ * ♦
Обрисовать личность автора в ее цельности и верности самой себе легче, как нам кажется, не по его ученым сочинениям, предназначенным для специалистов, а по стихотворным шкетам, доступным обычному читателю. С такой целью мы помещаем в конце книги небольшое «собрание стихов», к отбору которых Лев Андреевич по понятным причинам не имел никакого отношения. В домашнем архиве сохранилась «военная тетрадь» со стихами 1941-начала 1943 года. Ббльшая
9
часть стихов из нее вошла в текст воспоминаний о годах немецкого плена. Сохранились стихи, написанные и в другие периоды. Некоторые из них перепечатаны на машинке, другие же остались в черновиках. Первые, видимо, предназначались для публикаций. Действительно, у автора были попытки посылать отдельные стихотворения в журналы («Знамя», «Новый мир»...), но из редакций всегда приходили отказы с той или другой мотивировкой. Так, из «Нового мира», куда в 1956 году было адресовано стихотворение «Гипербореи», Лев Андреевич получил письмо, которое интересно процитировать: «Ваше стихотворение “Гипербореи” для журнала “Новый мир” не подходит. Слишком стара тема стихотворения, основа его — исторические сведения более чем тысячелетней давности, а название журнала к чему-то обязывает редакцию...» Ответ курьезный: в редакции солидного журнала не понимают, что настоящее глубоко связано с прошлым; не понимают значения и роли античных мифов в строительстве современной культуры. В попытках публиковать стихи повторялись те же «недоразумения», что и при публикации научных текстов (вспомним, что «неактуальную» «Сказочную географию» потеснил в свое время «злободневный» роман Горького). Неудивительно, что при жизни Ельницкого в печати появилось только одно его стихотворение. Написанное для лагерной стенгазеты, официальнодежурного содержания, оно было опубликовано воркутинской многотиражкой.
Составляя «собрание стихотворений» для третьей части воспоминаний, мы сознательно исключили из него уже напечатанное в первой и второй частях. Оставшиеся стихи расположили в хронологическом порядке - от юношеских, писавшихся в 20-е годы, до послевоенных и лагерных. Думается, что отобранные стихи нельзя оценивать с точки зрения так называемого «мастерства», то есть выдержанной или невыдержанной метрики, удачных и неудачных рифм и т.д. Стихи Ельницкого — это живые фрагменты его душевной жизни и рабочая площадка для его научного творчества. Таким привычным д ля себя способом (стихами) отзывался он на внешние впечатления бытия и выводил вовне с их помощью глубинные потребности души. И частные и более масштабные переживания в этом ряду равноценны, поскольку именно в совокупности всех текстов проявляется личный миф автора.
Стихотворения, написанные в разные десятилетия, скрепляет мотив пути, вечной дороги или жизненных странствий
10
(например, стихотворение-предчувствие «Дорога», написанное перед войной). Важные отрезки жизни с их страшным опытом и контексте воспоминаний Ильницкого могут быть уподоблены кругам ада. Однако в стихах это вполне реальные дороги: из Москвы - на север, на Кольский полуостров; из Москвы - на юг, в Крым, на Кавказ, в Среднюю Азию; маршрутами войны - через лесные массивы и железнодорожные магистрали, через Белоруссию и Польшу — на Берлин; из центра Германии почти геми же путями назад, в Москву; из нее - поездами для зеков чн полярный круг; из Воркуты и Печоры - опять в Москву... Во всех этих бесконечных перемещениях есть некая постоянная координата - Москва. В этой точке соединились для автора и |унство Дома, семейного очага (долгое проживание на Арба- е), и представление о центре русского мира. Образ Москвы юзникает в стихах через призму архитектурных впечатлений. I бесформенности городской планировки автор прозревает гжатские корни. Об этом же говорит и Кремль, хотя строил- ;я итальянцами, и храм Василия Блаженного с его узорчатыми патрами и планом, подобным сотам дикого пчелиного улья. И только храм Вознесения в Коломенском (небольшая поэма ‘Коломенское» написана в лагере) - символ духовной крепости русского мира и драгоценность в архитектуре Москвы — в люем совершенстве бросает «вызов небесам».
В стихах на реальные дороги современной жизни накладывается мотив путешествий древних народов - греков и других, - которые в морских плаваниях и пеших походах познава- ии окружающий мир. Стихотворение 1947 года «Питей» посвящено греческому мореплавателю, совершившему еще в IV веке чо н.э. путешествие вдоль северного побережья Европы. Оно имело практическую задачу - отыскание путей к британскому плову и балтийскому янтарю. Но вместе с тем Питей сообщил о существовании острова Туле, северного предела вселенной, после которого уже нет ни воды, ни земли, ни воздуха... И хотя цокументы, подтверждающие реальность путешествия Питея, пыли утеряны, с этим именем связано впоследствии рождение огромного интереса к легендам о Северном океане. В творческой биографии Ельницкого это маленькое стихотворение стало поэтической разработкой огромной темы, на которую в 1962 году была написана книга «Древние океанские плавания».
Поэма «Гипербореи» создавалась Львом Андреевичем в условиях лагеря, в местах, близких к территории обитания этого удивительного счастливого народа. Из античной литературы 11
известно, что гипербореи не знали ни вражды, ни болезней. Они поклонялись богу Аполлону, в храм которого на острове Делосе передавали ежегодно традиционные дары — плоды первого урожая. Известно было в древности и о полярном дне и ночи — в античных источниках говорится, что гипербореи сеют утром, жнут в полдень, а вечером собирают древесные плоды. Поэма, излагающая содержание греческих мифов, получила продолжение в одной из глав книги «Знания древних о северных странах» 1961 года, а также в статье 1962 года «Легенда о “гиперборейских дарах” Аполлону».
Стихотворение «Аримаспея» 1947 года совпадает с названием поэмы Аристея, знатного горожанина малоазийского города Проконнес, совершившего по наущению Аполлона сухопутное путешествие к Рипейским горам, в места, населенные дикими скифскими народами. Сама поэма не сохранилась, но о ее содержании известно по пересказам других античных авторов. Из нее, в частности, мы знаем об одноглазых арима- спах, вечно сражавшихся с грифонами - хранителями золота у подножия Рипеев. В стихотворении Ельницкого дается выразительный образ скифского искусства и так называемого «звериного стиля». «Скиф мыслил вещи в преломлении звериных качеств»: «Огромные клыки и клювы, / Зрачки, расширенные в луны, / Орнаментальные рога, / Пространство, сжатое в нот гах...» Эллины воспринимали скифский мир через искусство/ чувствовали его свежесть и дерзость, испытывали к нему глубокий интерес. Очевидно, что в стихах получали первоначальную разработку темы, которые долго вынашивались автором и в дальнейшем получали реализацию в научных текстах. Образ скифского мира занимал мысль и воображение Льва Андреевича постоянно, в результате чего были написаны и статьи, и книга «Скифия евразийских степей» (1977). Можно сказать, что поэтические образы и научные исторические исследования возникали в сознании автора параллельно, не противореча, а помогая существованию друг друга.
Не излагая содержание других стихотворений, опиравшихся на античные мифы, назовем некоторые: «Ариадна», «Дедал и Икар», «Ифигения в Тавриде», «Калхант», а также не представленные в данной книге «Поход аргонавтов» и «Прометей». Не все они связаны содержанием с путешествиями в другие страны для познания вселенной. Но все говорят о путешествиях во времени, о движении от настоящего в прошлое, когда грань 12
между сегодняшним и давно ушедшим стиралась чувством и воображением автора.
Важен в этой связи весь стихотворный цикл 1947 года, когда шпор, в течение месяца находясь в каком-то северном поселке Архангельской области, едва ли не ежедневно писал по стихотворению. Он шутливо признавался: «Пишу-скачу, не слезая с коня». В цикле центральное место занимает мотив севера - скудости природных красок, печали небес. Но есть необъяснимая притягательность в северной земле, недаром стремились древние люди в эти края, полагая, что в них скрыто что- то бесконечно важное для жизни человечества, может быть, сю прародина. Интересно заметить, что в юношеских стихах 1и1ьницкого, его первых поэтических опытах, присутствует образ океана и одинокого пловца на утлой лодке, вступающего в борьбу со льдами. Льды, конечно, побеждают, но важно, что человек готов меряться силой с грозной стихией, испытывает восторг борьбы, не страшась гибели. Хотя образ океана, диких скал, громоздящихся льдов может быть воспринят как архаический и книжный, но учитывая позднейший не исчезнувший интерес к Северу и в стихах, и особенно в научных исследованиях, можно утверждать его связь с существованием «тайны Севера» и с концепцией нордического (= героического) человека. Северные мотивы возникают в стихах очень рано, в том числе и как предчувствие одного из этапов личной судьбы.
Возвращаясь к стихотворному циклу 1947 года, отметим, что его внутренней темой являются поиски духовной родины, прежней утраченной жизни. Деревня, в которой живет автор, с се бедной красками природой, порождает у лирического героя переживание близости древнего Рима. Мычание колхозных телят пробуждает память, вернее - пласты бессознательного. Автор-герой грезит о Риме, природную холмистость северного поселка сопрягает с холмами, на которых когда-то возник Рим; в грубых названиях его торговых площадей слышит бычье мычание (стихотворение «Септимонтий»). Способность видеть мир в ином, небудничном обличии открывается в стихотворении «Умиротворение». Заброшенная эстрада преображается в нем в «театр высоких категорий», перед внутренним взором автора вдруг предстает не пустынный угол забытого поселения, но «как бы весь мир в миниатюре». То же в стихотворении «Кругозор». Привычный однообразный пейзаж «этого берега» разительно меняется при смене точки зрения. По дру- iyio сторону озера мир открывается «многоэтажным цирком», 13
подобием римского Колизея. Автора поражает «лепка» каждого «этажа»: тарелка озера в основании, полоса камышей, простирающиеся дальше поля и луга, поднимающиеся выше холмы... - и целостность общей картины, выкроенной из одного куска материи. Переутомление, скрываемая боль как внутреннее состояние лирического героя проходят при созерцании природного простора, наступает освобождение от бытовой суеты, и далекий северный поселок становится синонимом родины.
Но чаще в значении духовной родины выступает античность. В поэме «Ифигения в Тавриде», написанной в условиях плена, совершается воображаемое путешествие в золотой век прошлого. В воспоминаниях о раскопках античного объекта в Крыму активизируется память, и разом открываются знаки исчезнувшей, но тайно присутствующей (только вглядеться!) другой жизни. Откуда приходят эти образы-воспоминания, трудно сказать. Но автор твердо знает, что «мы в эту древность слепо влюблены. / К чему она, зачем ее тревожить, / Что нам Гекуба в грубый век войны, / И не поймем и разлюбить не можем». Эпоха молодости, совпавшая с любимой работой и любовным романом, с пыланием сердечного огня, в свете войны переживается с тем большей яркостью и напряжением, чем ужаснее окружающая повседневность. На эти переживания автор накладывает античный миф и добивается удивительного эффекта - преодоления сиюминутного времени. Настоящее связано в данном случае с войной, но его образ ширится, соединяется с социальной практикой вообще, замыкающей человеческую жизнь в призрачном круге «видимостей». Все, что относится к античному миру, принадлежит для Ельницкого высшему плану реальности, как духовная ценность. Преодоление настоящего означает преображение лирического героя в «божественного человека»: «О, в этой жизни напряженной (имеется в виду жизнь на раскопках) / Была такая благодать, / Как будто, в люди низведенный, / Я в боги призван был опять».
Скажем в заключение, что вопреки силам, которые уничтожали человека и не давали осуществиться его жизненному призванию, Лев Андреевич не потерял своего пути, не свернул с него. Пусть в притворе, а не в самом храме, но он «отслужил свою обедню», исполнил долг, насколько смог, перед наукой и своим человеческим «я».
Л.М.Елышцкая
14
НА ПАПЕРТИ ХРАМА НАУКИ
1. Начала
Обстоятельства, поставившие меня вне нашей официальной пауки, складывались постепенно. Зародились они еще в детские годы, совпавшие с временем перестройки нашей школы, (пролились, однако, вовсе не по вине школы. Но всякая пере- гт|юйка делает лабильными установившиеся нормы и порядки. Что оказалось на руку центробежным силам, действовавшим во мне самом, - силам, отвращавшим меня от регулярного учения. Л ио способствовало тому, что отсутствие у меня элементарной дисциплины не наталкивалось на обычные преграды, которые школа, как было раньше, так и теперь, ставит своеволию и раз- I ильдяйству.
Я укрепился в сознании дозволенности нарушения обших мерок — свободы не делать того, что казалось мне неинтересным, ненужным, и наоборот - посвящать свое время и силы инсчениям, не укладывавшимся в рамки школьных занятий и программ. Облегчалось это отчасти тем, что занятия в революционные годы производились не очень регулярно; требования, и особенности в отношении учебной дисциплины, были сильно занижены. Так что все это мне весьма благоприятствовало. 1см более, что среднешкольное мое обучение после революции протекало в опытных школах, где все обстояло еще свободней и и учебном и в дисциплинарном отношении, чем в обычных
15
школах, в которых иногда еще довольно долго удерживался старорежимный дух.
По переезде из Пензы в Москву в конце 1921 года родители1 определили было меня в бывшую Флеровскую гимназию, где я сразу же провалился на экзамене уж и не помню по какому предмету. Я возмутился, ибо считал себя достаточно знающим,! а при этом и совершенно чуждым тому порядку, который сра-| зу же ощутил в этой школе, и через некоторое время сам пошел искать себе другое училище. В этих поисках набрел на I Опытно-показательную школу МОНО, куда меня и приняли (экзаменов не было, а существовал то ли двухнедельный, то ли месячный испытательный срок). Поступил в VII «группу» (это название заменяло прежнее «класс») - самую старшую в шко-. ле, рассчитанной на девятилетнее обучение.
Проучился я в этой школе года полтора, так как в общем успевал только по гуманитарным предметам, а на другие занятия частенько просто не ходил, отдавая время комсомольским делам и вообще чему угодно. Поскольку утреннее время у нас отдавалось самостоятельным занятиям (приготовлению уроков и т.п.), а групповые начинались с 11 часов, я появлялся в школе именно к этому сроку, не раньше. Таким порядком я провел учебные годы 1922-23 и 1923-24, после чего стало ясно, что школы мне, даже такой вольготной, как эта, не кончить. Хотя я продолжал посещать ее и в 1924-25 году ради общественных дел, но на занятия не ходил уже вовсе, решив, что буду поступать в вуз без окончания школы. Тогда это было вполне возможно, полагалось лишь сдать некоторые экзамены.
Но еще в 1924 году в мои дела вмешался отец2, вообще-то, видимо, не считавший себя вправе резко воздействовать на мое поведение, и поэтому вмешался не совсем обычно. Видя, что учение мое идет плохо, он попросил меня делать для него в библиотеке выписки из разных книг (ему были нужны материалы для собственной книги). Хотя я уже и до этого обращался к некоторым серьезным трудам (Ленина, Плеханова и других популярных в те времена авторов - социологов и историков), но
Некоторые сведения о Л.А.Ельницком и его родителях есть в воспоминаниях его двоюродной сестры Н.Б.Этингоф «Портреты сухой кистью», глава «История ополченца*. Текст воспоминаний опубликован в Израиле и доступен на сайте samlib.ru. — Здесь и далее примеч. составителя. Примеч. автора указываются отдельно.
2 Ельницкий Андрей Епифанович, историк и революционный деятель.
16
делал это достаточно поверхностно и бегло. Работа для отца в больших библиотеках над грудами разнообразных книг побочным порядком стала приучать меня более серьезно относиться к печатным текстам. Но это, разумеется, еще больше отдаляло от школы.
Должен сказать, что отход этот происходил у меня не без некоторых угрызений совести. Хотя сам я и не учился уже, но продолжал интересоваться тем, что делают другие, стал высматривать недостатки в программе, в занятиях, и когда бывшая моя группа в порядке первого выпуска этой школы закончила курс обучения, в стенной газете, одним из редакторов которой был и я сам, появилась моя статья под названием «Первый блин комом», наделавшая шуму в школе и обидевшая руководство, некоторых педагогов, а также и некоторых учеников.
Среднее свое образование я считал на этом законченным, хотя оно и было у меня неравномерным и далеко не полным. Химии, например, я вообще не нюхал, так как занятий по этому предмету не посещал вовсе, обидевшись на преподавательницу, выгнавшую меня за шалость на уроке из класса. Не лучше обстояло дело и с иностранными языками: преподававшийся в школе английский я почти не посещал, а из немецкого и французского, которым нас с малолетства пытались учить дома, гоже почти ничего не освоил ввиду трудностей организации •лого обучения в годы гражданской войны и общей разрухи.
Тем не менее в начале 1925 года отец предложил мне написать для печати небольшую популярную брошюру по истории русского самодержавия. Я уже прочел к этому времени Ключевского, Милюкова, Покровского и кое-какие другие книги, так что с задачей справился довольно легко и быстро. Отец остался доволен, хотя и прошелся по тексту своей рукой, не ущемив, впрочем, нимало моего авторского чувства. Летом 1925 года книжечка вышла в свет в харьковском издательстве «Пролетарий», наполнив душу мою удовлетворением и гордостью.
Как оно ни забавно, книжечка эта являлась уже не первой моей удачей по части печатных публикаций. В одиннадцатилетнем возрасте я с несколькими товарищами по Пензенскому реальному училищу выпускал журнал «Звездочка», который мы печатали на машинке в учреждении, руководимом моим отцом. Печатали его нам сердобольные, но не ахти какие грамотные машинистки. Помню еще и сейчас, как одна из них вместо печатать говорила «печатовать». Так что за ними нужен был
17
глаз да глаз, что я и старался осуществить, сидя рядом перед машинкой. Печатали мы в журнале стихи и прозу (рассказы или же более удачные школьные сочинения). Журнальчик пользовался вниманием не только со стороны более любопытных одноклассников, но и со стороны некоторых педагогов и родителей.
Отец более ради шутки, которую в те времена (1918 год) осуществить представлялось легче, чем, может быть, в какое- либо другое время, предложил мне напечатать наш журнал в типографии. Он договорился в Наробразе, нам выдали стопу бумаги, которой должно было хватить на 300 экземпляров журнала. Когда пришла корректура, отец научил меня ее править, показав соответственные типографские значки. С тех пор я ими и пользуюсь, лишь немного обогатив их число. Название «Звездочка» представилось нам, малолетним редакторам этого журнала, несерьезным, слишком уж детским, и мы переименовали его в «На заре знания», не почувствовав, что это звучит казенно и тривиально. Через некоторое время тетрадочки этого журнала на пяти страничках, с тонкой рыженькой обложкой, с моими очень плохими, пожалуй даже и на тогдашний мой вкус, стихами, уже продавались в городских газетных киосках. Обязательный экземпляр в те времена получала лишь Публичная библиотека в Петрограде, и много позднее в печатном каталоге периодических изданий я нашел упоминание о нашем журнале, а еще позднее (уже в 60-е годы) получил возможность подержать его снова в руках.
Я решил поступить в Московский университет на обществоведческий факультет, куда входило и историческое отделение. Экзамены сдал удовлетворительно и, считая себя поступившим, уехал по настоянию отца недели на три в Крым, а по возвращении был очень удивлен, не найдя себя в списках студентов. Оказалось, что вместо командировки от ЦК профсоюзов, отец мой, по неведению, удовольствовался справкой из месткома своего учреждения о принадлежности к секции научных работников (дети которых обладали по тогдашним правилам преимуществами при поступлении в вузы), которой оказалось совершенно недостаточно для моего зачисления. Прием в Москве был уже закончен, и нужно было или ждать следующего года или ехать куда-либо в другой город.
18
Когда осенью того же года я снопа держал в Ленинграде экзамен в Педагогический институт им. Герцена, у меня не хватило такта скрыть мою печатную публикацию по истории династии Романовых от очень приятного вида преподавательницы истмата, экзаменовавшей меня по политграмоте и взглянувшей на мою книжицу, как мне с огорчением показалось, не без несколько ироничного удивления.
В институт-то я поступил, но учение мое в нем пошло не лучше, чем в школе. Я с удовольствием слушал некоторые лекции, но у меня ничего не получалось с практическими занятиями. Хотя я жил в чужом городе, где не имел ни связей, ни каких-либо увлечений - ничего, кроме учения, но времени на подготовку к занятиям я почему-то не находил и всякий раз оказывался перед преподавателем со скудным багажом случайных, бессистемных знаний. Приходилось отмалчиваться, и это становилось весьма неприятно, а преодолеть даже не то чтобы лень, а какую-то умственную несобранность и разбросанность я не мог. Несколькими неделями позднее я завел двух-трех товарищей - все они перед институтом где-то уже работали, имели какие-то жизненные навыки. Много времени у нас уходило на всяческие совершенно посторонние разговоры на квартире у одного из них. А по возвращении домой (я снял комнату у знакомых моих родных) с некоторых пор начались у меня разговоры с хозяйской дочерью, девушкой чуть постарше меня, с хорошим школьным образованием, полученным в бывшем Тенишевском училище. Из-за этого образа жизни я всякий раз просыпал утренние занятия, начинавшиеся в 9 часов. Записался было на французский язык, но так ни разу сходить на него и не удосужился. Дома встречался несколько раз с товарищами моей новой приятельницы, тоже как будто бывшими тенишевцами. Один из них - позднее известный писатель Чуковский-младший - очень мне импонировал, тем более что он уже в то время печатался, был в курсе литературных дел. Другой — молодой школьный преподаватель истории — дал мне в двух или трех разговорах почувствовать огромные преимущества своих глубоких и систематических знаний перед моими неопределенными претензиями на таковые; в частности в области древней истории, к которой я уже и тогда питал некоторый интерес, хотя в общем совершенно отвлеченный и очень мало на чем основанный. Особенно же поразило и огор- ч ило меня то, что я узнал от него про моего собственного деда - 19
известного педагога и историка педагогики; узнал больше, чем знал от отца, который его не любил и иронизировал по поводу его ретроградных взглядов.
Но хотя я и почувствовал вдруг при этом достаточно остро свою беспочвенность, внутреннюю бедность и узость, но эти чувства практического эффекта тогда не возымели. Разве что только усилили мою тоску по Москве, где я себя чувствовал как-то спокойней и уверенней (неизвестно, впрочем, почему) и где у меня имелись давние закадычные друзья, к тому же тогда более подходившие мне и по духовному уровню.
Странным образом, я не чувствовал совершенно Ленинграда как города, в котором родился и о котором много слышал от родителей. Теперь он мне представлялся совершенно чужим, мертвым, очень пустым и холодным. За те полгода, что я в нем прожил, три раза умудрился побывать в Москве (тогда почему-то очень легко было получить железнодорожный литер с половинной оплатой, а один раз и вовсе бесплатный). Надо сказать, что жилось мне в Ленинграде плоховато: денег у меня было очень-очень мало. Но дело все же было не в этом: вокруг все было чужое. Не радовала даже Публичная библиотека, куда я довольно часто ходил, но не помню даже, что именно читал.
Во время зимних каникул я решил во что бы то ни стало перевестись в Москву. Это оказалось возможно только лишь по педагогической линии. Приняли меня на обществоведческое отделение Индустриально-педагогического института. Первый месяц читались какие-то лекции, поразившие меня очень низким уровнем знаний преподавателей, выражавшихся сумбурно и малограмотно. Потом началась трехмесячная производственная практика на Трехгорной мануфактуре - время, которое я почти все простоял у ткацкого станка. Была, впрочем, и кое-какая теория: инженер-текстильщик посвящал нас в механику того же ткацкого станка. Эту теорию необходимо было тут же по окончании практики сдать, чего мне не удалось сделать, несмотря на то что я, кажется, разбирался в станке не хуже других. На мои недоумения по этому поводу преподаватель заметил, что он не чувствует во мне серьезного отношения к предмету, а выезжаю-де я лишь на способностях. Я был этим очень обозлен, решил, что ни в коем случае не стану бегать за ним, унижаться и просить зачета, тем более что и другие занятия в этом институте меня совершенно не удовлетворяли. Хотя я и огорчился, но самым определенным образом почув20
ствовал, что учиться тут я больше не в состоянии, что для меня это нечто абсолютно неподходящее. Характерно, что за полгода пребывания в Институте я не только не завел там ни одного товарища, но даже никого и не запомнил из однокурсников - настолько это был другой уровень и вообще другой людской круг. Ребята имели рабфаковское или другое подобное же среднее образование, прекрасно гармонировавшее с общим уровнем этого Института.
Мне тогда было не только непонятно, но и неинтересно, кого, собственно, этот институт готовит. Я себя уже чувствовал в некоторой мере историком. А истории-то там не было, да как будто и не предвиделось. Учиться в таком заведении представлялось мне и никчемным и невозможным из-за полнейшего моего несоответствия его профилю. Это понял и мой отец. Чувствовал он, видимо, и свою вину в том, что при моем поступлении в Московский университет приложил к документам не ту бумажку. Использовав на этот раз свое еще дореволюционное знакомство с А.Я.Вышинским, тогдашним ректором Университета, он без труда добился того, что меня зачислили на второй курс. И я было этому очень обрадовался, не сообразив, что в этом моем второ- курсничестве для меня заключалась опять-таки непреодолимая и роковая опасность. Надо было посещать в обязательном порядке и лекции и побригадные занятия по проработке учебного материала для подготовки к зачетам. Многие лекции я слушал с большим удовольствием, читали их очень хорошие профессора, а вот бригадные занятия, проводившиеся на очень низком уровне, меня возмущали и отталкивали, хотя я и знал, что аккуратное посещение этих занятий уже само по себе обеспечивало зачеты по всем предметам. Не знаю, на что я надеялся, но только на эти занятия не ходил, рассчитывая, видимо, на сдачу зачетов в индивидуальном порядке, не соображая, однако, что это будет для меня связано с непреодолимыми трудностями по их подготовке, так как я по-прежнему совершенно не был способен к систематическим занятиям и всяческие посторонние интересы уводили меня то и дело бог знает куда, а время-то шло неумолимо и быстро.
Я решил, что буду сначала сдавать предметы первого курса. Сдал, например, историю первобытной культуры Владимиру Капитоновичу Никольскому, которого знал по его книге да по некоторым личным впечатлениям, не очень приятного, к сожалению, свойства: обстановка в науке становилась в двадцатые 21
годы постепенно все напряженней. От преподавателей историков стали требовать усвоения марксистской методологии. Многие из числа ученых с дореволюционной подготовкой, при всей их стопроцентной политической лояльности, чувствовали себя в связи с этим как бы на привязи, начинали бояться лишнего и невпопад сказанного слова, ибо уже сделались возможны проработки, иногда при этом перед студентами.
Запомнилось мне одно заседание с докладом В.С.Сергеева о каких-то социальных проблемах истории позднего Рима* В его сообщении слышались самокритические нотки: историков, говорил он, необходимо избавить от голого прагматизма, а социологов от исторической пустоты. Сидевший напротив него П.Ф.Преображенский поощрительно и задорно смеялся по этому поводу. Среди выступавших по сообщению Сергеева был и В.К.Никольский, говоривший что-то о первобытной идеологии - невнятно, захлебывающейся скороговоркой. Слушать его сразу же стало трудно, почти невозможно, никто бы, вероятно, и не обратил особого внимания на его выступление, если бы он через несколько минут по окончании своей речи не выступил вновь с экстравагантным заявлением о том, что отказывается от всего только что сказанного. Впечатление это произвело на кого тягостное, на кого - комическое. Об этом потом говорили в разных местах. Было ясно, однако, что этот чудной неуравновешенный поступок явился результатом большой растерянности перед лицом новых, необычных и непривычных для беспартийного человека требований.
На подготовку к экзамену по истории первобытной культуры у меня ушло много времени, но сдал я его как будто довольно хорошо. Сужу по тому, что Никольский нравоучительно сказал, обращаясь к двум-трем студентам, дожидавшимся очереди: «Видите, как знает, хотя и не ходил на лекции...» Я не удержался и буркнул: «Потому и знаю, что не ходил».
Он, видимо, принял это за оценку его лекций и явно на меня обиделся. А я не сумел исправить как-нибудь свою неловкость и выйти из создавшегося положения, тем более что обязательное посещение лекций, даже и хороших, меня тяготило, отнимало много времени, которое с большей пользой можно было употребить на чтение книг.
...Но так и не сдал я политэкономию. Преподавал ее очень острый, злой и презрительный кавказец. Студенты его не любили за это презрение к ним, а иногда даже и издевки. Но мне 22
он очень импонировал трезвостью и живостью ума. Я прочел несколько курсов политэкономии - дореволюционных (Железнова) и новых. Совершенно погряз в «Капитале» и так и не решился идти на экзамен. А время-то шло и шло...
Но зато здесь, в Московском университете, у меня завелись три товарища, навсегда олицетворившие для меня тогдашнюю студенческую среду в ее положительном аспекте. Один из них - Г.Г.Кричевский — жив и сейчас, и мы с ним встречаемся, хотя и не очень часто, в стенах библиотеки, где он служит, а я бываю как постоянный посетитель. Двое других — Николай Замков и Миша Келдыш (из семьи знаменитых Келдышей) — погибли в юношеском возрасте. Характеры наши и судьбы были тогда очень близки. В значительной мере дело случая, что двое погибли, а двое других уцелели. Разве что этому последнему обстоятельству посодействовала несколько меньшая общественная активность и замкнутость этих последних двух. Но мы все четверо искренно и серьезно интересовались историей (при этом Миша Келдыш уже определил себя как медиевист). Отчасти, видимо, поэтому, а еще по общему внутреннему складу мы все четверо не могли учиться в университете.
Не будучи тесно дружны, встречались мы не так уже часто. Многое в тогдашней жизни и в дальнейшей судьбе этих моих товарищей так для меня и осталось неясно. Уцелевший же не был даже в числе официальных студентов — его не приняли по какой-то случайной причине (но социального характера). Он-то как раз усердно ходил на лекции. Не знаю, ушел ли сам или был исключен за плохое политическое поведение (болтовню) Коля Замков. В общем, наверное, он уже не был в числе студентов, когда, кажется в 1928 году, принял участие в студенческой троцкистской демонстрации, был вскоре после этого арестован и исчез навеки. Миша Келдыш погиб позже. От университетских занятий он отстал постепенно, как и я, поэтому году в 1929-ом или 1930-ом попал в армию и где-то на Дальнем Востоке вполне успешно отслужил действительную. По возвращении сблизился с П.Ф.Преображенским — уже упомянутым мной университетским профессором, всем нам весьма импонировавшим, но к тому времени уже пользовавшимся в партийно-университетской среде довольно дурной политической славой, основанной, однако, всего лишь на невинном словесном фрондировании. Обстоятельство это к тому же нам тогда и не было в достаточной мере известно. Его самого тогда 23
еще не трогали, а вот молодежь, тянувшуюся к нему, быстро и решительно подобрали. У них было нечто вроде кружка. Петр Федорович занимался с ними латынью и кое-какими историческими вопросами, собственно в порядке лишь консультаций. Я не попал с ними довольно случайно. Миша тянул меня в эту компанию, и я однажды пришел к Преображенскому с просьбой разрешить мне принимать участие в их беседах. Он спросил меня, как мне показалось, довольно равнодушно, о моих интересах и знаниях в латинском языке. Ответы мои слушал, как мне опять-таки показалось, незаинтересованно и невнимательно... Больше я к нему не ходил, хотя он продолжал меня очень интересовать и как историк и как этнолог. Я долго и с удовольствием вспоминал его лекции в большой аудитории бывшего Психологического института, которые через несколько лет были опубликованы. Но отношение его ко мне не то чтобы меня уязвило, а несколько обескуражило. Это меня тогда и спасло. Миша же был арестован и больше не появлялся - видимо, вскоре же и погиб.
Гибель его не так давно подтвердил мне Г.Г. Кричевский, сообщивший, что братья Келдыши обратились с совместным заявлением в соответствующие инстанции, откуда им и сообщили о смерти их брата в начале 1930-х годов и о его посмертной, реабилитации.
Хотя я и сказал, что трое моих товарищей и были, в сущности, моей тогдашней средой, но это чересчур сильно сказано, потому что встречались мы редко и ничем, кроме разговоров на учебные темы да некоторых академических сплетен, связаны между собою не были. Но все-таки с исчезновением двух из них я лишился и этой ничтожной и непрочной среды. Товарищей же своих школьных я хотя и не забывал и из виду не терял, но интересы наши совершенно не совпадали, и ничто нас, кроме школьных воспоминаний, не объединяло.
Чувствуя, что с университетским учением у меня опять ничего не получается, я, поскольку это меня не могло не волновать, стал отдавать все свободное время самообразованию. Читал много исторических книг из разных областей науки, преимущественно же древнерусской, средневековой английской, по истории Франции, сначала также средневековой, но довольно быстро интересы мои сосредоточились на истории французской революции 1789 года. Как известно, во всех этих областях в русской науке в дореволюционные времена существовали свои 24
школы с замечательными оригинальными трудами и с наличием квалифицированных переводов лучших иностранных трудов.
...Меня очень мучило незнание иностранных языков. Собственно, товарищи мои их тоже почти не знали (Миша Келдыш читал по-немецки и немного знал латынь), но это меня, к счастью, не утешало, а быть может огорчало еще больше, и я необыкновенно остро ощущал свою образовательную несостоятельность. Еще в те времена, когда я собирал материалы для отцовских работ, во мне подымалось смутное чувство этой несостоятельности, поскольку я не понимал иностранных цитат и ссылок на иностранные книги, важность и научную ценность которых оценивал совершенно интуитивно. Отец мой, хорошо знавший древние языки, был очень слабоват в новых, хотя и занимался в свое время переводами с французского (с помощью одной нашей родственницы). И потому что он, не умея оценить по достоинству мое беспокойство по этой части, сам ничего подобного не испытывал и легко отказывался от использования иностранных источников, уверяя меня, что хватит-де и русских, я расценивал это убеждение как признак его научной недостаточности. Тягу же мою к иностранным языкам я определил как очень существенную и насущную, всячески принялся ее в себе развивать: покупал у букинистов иностранные книги, обзавелся словарями и с помощью матери, — человека хорошо образованного по-французски, хотя и очень занятого, - в короткий срок с огромным напряжением постиг основы французского языка (месяца за три), после чего был в состоянии уже действовать сам, не отнимая более ни у кого ни сил, ни времени.
Учился я французскому языку довольно необычным способом: не вынося учебников и грамматики, я умолил мать поруководить некоторое время моим чтением, как бы оно ей ни представлялось бессмысленным без предварительного овладения грамматикой1. А читали мы преимущественно стихи, очень мною любимые, воспринимавшиеся не только по смыслу, но и чувством (многое из того, что мы читали, я знал уже предварительно по русским переводам), так что, к ее удивлению, я овладевал таким способом не только словарем, но и грамматической структурой языка. Одним словом, месяца через три я читал уже
’Речь идет о приемной матери Л.А.Ельницкого Вере Николаевне Соколовой.
25
без ее помощи, а когда она после этого уехала недели на три в командировку, я за это время одолел, к моему собственному и к ее восторгу, толстенный том «Истории Франции» Гизо.
Вскоре я еще большим фуксом овладел чтением по-немецки. Немецкий язык мать знала, но не любила. Так что экстазов, подобных тем, какие мы с ней испытывали при чтении французских поэтов, тут у нас не получалось. Но все же некоторую ориентировку я у нее получил, как оказалось, в общем достаточную для начала самостоятельного (хотя и со скрежетом зубовным) чтения с большим словарем - маленьким словарям я инстинктивно не доверял. Помогла мне еще и длительная болезнь. Провалявшись больше месяца в затяжном гриппе, я одолел «Этюды о природе человека» Мечникова в немецком варианте этой книги, известной мне уже до того по-русски. Читать поэтому было не так уж безнадежно трудно. Сличая немецкий и русский тексты, я выходил иногда из встречавшихся затруднений синтаксического порядка. Насколько чтение этой книги оказалось мне полезно, сужу по тому, что, как помню, второй моей немецкой книгой стала «Die Elixiere des Teufels»1 Гофмана, после которой я уже читал все решительно, выходя с помощью Павловского победителем из каких угодно каверзных положений. Все это происходило в 1927—28 годах, корда я еще в силу понятной, может быть, инерции отчаяния продолжал считать себя университетским студентом, но фактически им уже не являлся, потому что все реже ходил на занятия и не сдавал зачеты.
Меня это, конечно, по временам очень мучило. Я старался сам от себя скрывать истинное положение вещей. Хотя и не верил, но заставлял себя думать, что все еще может выправиться, выровняться... Каким именно образом — об этом я не имел сколько-нибудь реального представления. Отцу не говорил ничего; впрочем, он особенно и не интересовался, считая, вероятно, что сделал со своей стороны все, что мог, как оно, в сущности, и было. Он учился в другое время — время «вечных студентов». У него по разным причинам — более по политическим — тоже происходили значительные задержки в одолении высшего образования: его за революционную деятельность исключили из Петербургского университета, и он много лет спустя кончал экстерном Юрьевский университет.
1 «Эликсиры сатаны».
26
Утешало меня то, что мать, пребывая в курсе моих учебных неудач, относилась к ним довольно спокойно. Внутреннее же беспокойство по поводу собственной недостаточности выливалось у меня в лихорадочное стремление к пополнению знаний посредством чтения, впрочем все еще довольно беспорядочного, русских и иностранных исторических книг. Кроме того, я судорожно бросился на латынь. Стал учить грамматику, читать Овидия, Тацита... С Тацита, конечно, начинать бы не следовало, но о нем много говорилось в «Красном и черном» Стендаля - романе, прочитанном уже по-французски.
Я был на верху блаженства от возможности читать, хотя и с немалым трудом, все эти замечательные французские и немецкие книги. Новые языки открыли для меня сразу очень многое в науке и в художественной литературе - огромный новый и во многих отношениях неожиданный мир. С тем большим рвением устремился я теперь к латыни. Для облегчения и ускорения дела решил нанять учителя. Увы, мне даже и тут не повезло с нормальным учением. Преподаватель мой — Николай Георгиевич Маслаковец - бывший учитель древних языков одной из минских гимназий - охотно получал от меня 10 рублей за урок, тогда это были небольшие деньги, еще охотней разговаривал со мной на разнообразные исторические темы (он переквалифицировался при советской власти в учителя истории средней школы), но как-то очень инертно относился к своим прямым в отношении меня обязанностям: «Да вы же и так все уже знаете...» Я выцарапывал недостающие мне сведения по крохам. Вскоре я предложил ему прекратить наши уроки, чтобы встречаться, так сказать, на равных для свободных разговоров. Знакомство наше продолжалось недолго ввиду его отъезда в родной Минск.
А я, изверившись окончательно в способности к нормальному обучению, не искал уже больше никаких других возможностей, кроме самостоятельных занятий. Так наступил 1929 год. Я не ходил проверять, исключен ли я из числа студентов. Во-первых, это и не могло быть иначе. Будучи формально на третьем курсе, я задолжал в отношении сдачи зачетов не только за второй, но и за первый курс. Во-вторых, я сам себя давно уже не чувствовал студентом. Внутренне это было, пожалуй, поважнее формальностей. Стало быть, нужно было в том же году идти в армию. Я очень по этому поводу волновался. Мало того, что военная служба обещала прервать на двухгодичный 27
срок самообразование, меня пугала муштра, резкая перемена среды, разлука с матерью, общение с которой, выражавшееся в самой тесной дружбе, в самых разносторонних контактах, заполняло мою жизнь настолько, что я себя без него не мог и помыслить. Как она меня ни утешала и ни подбадривала, я не мог себе реально представить того, как это все произойдет. Это угрожало полнейшим переворотом всей моей жизни. Впервые, может быть, я чувствовал себя совершенно одиноким перед лином каких-то очень резких перемен, которые, как мне казалось, невозможно недооценить.
Я стал себя плохо чувствовать. Резкое нервное напряжение сказывалось на общем физическом состоянии. Я сильно похудел, у меня появился довольно стойкий субфебрилитет. Мать заставила меня пойти в амбулаторию по месту ее работы, где меня направили на рентген, и в рентгенограмме было отмечено некоторое помутнение и обызвествление верхушек легких. Хотя в этом факте не было еще ничего угрожающего и ничего, что позволило бы надеяться на освобождение от военной службы, мать все же просила меня приберечь эту рентгенограмму и показать ее на призывной комиссии.
За год или два до этого в армию был призван брат моей ленинградской приятельницы, пианист по специальности, очень стремившийся избежать военной службы. У него была некоторая близорукость, которая, однако, не помогла ему в этом отношении, и он был призван. Как человека с высшим музыкальным образованием, его направили не в полк, а на курсы комсостава. Но он писал оттуда домой отчаянные письма, умоляя отца предпринять что-либо для его вызволения. Отец его был врач и, видимо, с широкими связями в медицинском мире. Ему удалось добиться того, чтобы сына вызвали на переосвидетельствование ввиду жалоб на плохое зрение. И поскольку на этот раз у него констатировали астигматизм - болезнь, подходившую под определенную военно-медицинскую статью, он был освобожден от дальнейшего прохождения военного обучения.
Я видел его несколько раз по возвращении из армии и был напуган его угнетенным, как мне показалось, даже несколько психопатическим видом. Из рассказов можно было понять, что его угнетала не столько даже военная муштра, сколько абсолютно чуждая неинтеллигентная среда, в которой он не находил себе места. «Каждый день начинался у нас с выдавливания прыщей на лице», - говорил он со страшным отвращением...
28
Был у меня, однако, и другой пример совершенно иного характера. Как я уже говорил, Миша Келдыш был призван раньше меня, будучи на год старше, и отслужил на Дальнем Востоке весь положенный срок и даже немного больше. Оттуда он писал поначалу тоже довольно горькие письма, но когда вернулся, я нашел его возмужавшим, поздоровевшим, без каких-либо духовных травм или потерь. Наоборот даже, мне показалось, что он за это время внутренне стал еще ближе к науке и интересы его как-то более отчетливо конкретизировались на медиевистике.
С такими разношерстными чувствами отправился я на призывную комиссию. Смотрели меня два врача, довольно внимательно. Мне было как-то неловко показывать им рентгенограмму, но все же я это сделал. Они же, как мне показалось, ей ничуть не удивились. Один из них тут же назв-ал по имени и отчеству просвечивавшего меня рентгенолога. Дополнительно выяснилось, что вес у меня значительно ниже нормы. Поскольку ничего вразумительного во время осмотра сказано не было, я нимало не сомневался в том, что так или иначе буду призван, может быть, после еще какой-нибудь дополнительной волокиты.
Ждать решения призывной комиссии пришлось очень долго, народу было довольно много. Наконец стали вручать военные билеты с объявлением родов войск, в какие зачислялись призывники, большей частью принимавшие эти решения с душевным подъемом. Потом пошли назначавшиеся по тем или иным причинам отсрочки. Наконец, я остался в полном одиночестве. «Что такое? Уж не забыли ли про меня, не затерялись ли документы?» Наконец, старшина, молодой краснощекий парень, выдававший нам военные билеты, вышел из комнаты комиссии и с грустной миной помахав в воздухе военным билетом, протянул его мне: «Совсем не годен...» Я остолбенел. Приняв мое состояние за разочарование, он утешил: «Придется подлечиться...»
В том смешанном чувстве, с которым я шел оттуда домой, присутствовала, конечно, и радость по поводу того, что я избежал действительной военной службы, но к этому чувству сразу же примешал ись и другие: «А может быть, я и вправду серьезно болен? Зря-то ведь не освобождают... И что же теперь делать — опять идти в Университет?»
29
Мать моя, испытывая примерно те же, что и я, чувства, повела меня к серьезнейшему фтизиатру - ЕН.Виноградову, который хотя и нашел решение комиссии вполне обоснованным, но, однако, заметил, что она руководствовалась не столько реальным состоянием легких, сколько крайне недостаточным весом, из-за чего мог бы возникнуть быстрый туберкулезный процесс. «Питание и свежий воздух», - такова была его рекомендация. Успокоенный в отношении туберкулеза, я все же продолжал волноваться по поводу своей дальнейшей судьбы.
И на этот раз на помощь пришел отец. Он, видимо, понял, что с вузовским учением, так же как и прежде со школьным, ничего у меня не выйдет. Обратив в то же время внимание на мои прилежные занятия языками, на чтение немецких и французских книг, он в ответ на просьбу одного из своих коллег — Ю.К.Милонова, занимавшего тогда пост директора Исторического музея, - указать ему кого-либо, кто бы мог подбирать и переводить на русский язык материалы по истории техники, которую он преподавал и в связи с чем готовил издание соответствующей хрестоматии, указал ему на меня, обещав выяснить, возьмусь ли я за это дело. Мне предложили некоторый гонорар. Конкретно речь шла о подборке хрестоматийного характера данных по истории часовых и мельничных механизмов от их возникновения до XVIII столетия.
Я с удовольствием согласился на эту работу. Библиотека Исторического музея, на основе которой существует теперь Историческая библиотека, так же как и Ленинка, были к моим услугам. В спину меня никто не толкал в том смысле, что твердые сроки мне не указывались, так что я совершенно спокойно за несколько месяцев собрал листов 5-6 различных материалов, вполне удовлетворивших моего работодателя.
Удивительным образом от этих занятий историей часовых и мельничных механизмов очень мало что сохранилось в моей памяти. Разумеется, из того, что касается соответственных приборов и механизмов античного времени, я кое-что помню, потому, вероятно, что мне и позднее приходилось сталкиваться, пусть лишь мимоходом, с гномонами, клепсидрами и песочными часами. Что же касается времен более близких, то я, к стыду, растерял решительно все из довольно большого материала, с которым знакомился преимущественно по весьма колоритным французским описаниям XVII и XVIII веков.
Но в память мне запало одно ироническое четверостишие,
30
касающееся знаменитого и ученою часовщика, члена французской Академии, Берту. Запало, может быть, только потому, что оно странным образом оказалось известно также и моей матери, не имевшей никакого отношения к истории техники, но какое-то время жившей и учившейся во Франции в годы, непосредственно предшествовавшие Первой мировой войне. Обстоятельство это заставляет меня предположить, что стихи пользовались широкой популярностью еще и в те времена, хотя жил этот Берту не позднее XVIII столетия:
Berthout, quand de I’dchappement Tu nous trace la thdorie, Heureux, qui peut adroitement S’&happerde i’Acaddmie.J
2. Исторический музей
Было это уже в 1930 году. Мне предложили принять участие и подготовке выставки по истории ударных орудий труда. Ее должен был подготовить специальный отдел древних орудий груда Исторического музея, которого, впрочем, тогда еще не существовало в природе, но намечалось его создание. «Мы тут н ближайшее время должны произвести некоторую реорганизацию, - объяснил мне директор. - Это произойдет через месяца два-три, тогда и начнем работать над этой выставкой, а вы покуда теоретически к этому подготовьтесь, подберите соответствующую литературу...»
Конечно, это выглядело не очень определенно, но я тогда ничего такого не почувствовал, мне даже было (или так казалось) на руку некоторое промедление. Я хотя и согласился, но, по совести говоря, весьма неопределенно представлял себе му- юйную работу вообще, а археологическую - в особенности.
Я вообще с удовольствием хаживал по музеям и картинным галереям, но, кажется, ни разу до той поры не был в Историческом музее - настолько его содержимое представлялось мне заведомо скучным и бедным судя по описаниям в путеводителях. Кроме того, во мне, отчасти под влиянием тех же путеводителей и истории архитектуры, выработалось довольно резкое отвращение к внешним формам самого музейного
’Берту, пока ты нам разворачиваешь теорию часового хода, блажен, кто умеет ловко уворачиваться от Академии (фр.). 31
здания, исполненным в так называемом псевдорусском стиле: сооружение это казалось мне предельно уродливым, сознание чего отвращало меня от желания заглянуть внутрь, где я боялся наткнуться на то же убожество, какое ощущал снаружи. Опасение это отчасти подтвердилось, когда я начал ходить туда по делам - в дирекцию и в библиотеку. Должен сказать, однако, что острота этого отвращения к архитектуре Исторического музея со временем стала притупляться. Не потому, чтобы я изменил прежнему своему вкусу, но просто начала создаваться известная привычка, укреплялось чувство некоторой домашности, что ли; хотя я с горечью и завистью никогда не переставал сравнивать внешнее и внутреннее его убожество с монументальностью и добротностью Эрмитажа.
Все же я принялся за чтение всяких серьезных книг по истории первобытного труда и его орудий, таких как «Работа и ритм» К.Бюхера и «Орудие труда» Л.Нуаре, которые, впрочем, давали мне для понимания самой примитивной техники и последовательности возникновения ее орудий очень мало. Ознакомление с экспозицией Исторического музея оказалось в этом смысле более плодотворно, но строгой исторической последовательности развития и преемственности в изменении форм орудий и здесь найти не удалось. Стало мне ясно, что иа. одной археологии, ввиду фрагментарности ее данных, четкой картины, позволяющей изобразить наглядным образом историю развития, скажем, топора, получить тоже не удается. Нужно было приниматься за изучение этнографических, гораздо более многочисленных и разнообразных данных. Покуда я занимался сбором необходимой библиографии, обнаружилось огорчительным образом, что если для учета археологических материалов мне вполне доставало немецкого и французского языков, то для использования этнографического инвентаря оказывался уже совершенно необходим английский, которого я не знал совершенно.
Пока я по этому поводу горевал, директор музея предложил мне подать заявление о зачислении в штат на должность младшего научного сотрудника. Но на этом заявлении, сказал он, должна быть виза ученого секретаря, с краткой характеристикой меня как работника. Это было странно, поскольку с ученым секретарем я не имел еще никакого дела, директор же вполне мог судить сам о моих возможностях, поскольку в его распоряжении находились собранные мной материалы для его
32
истории техники, которыми он, насколько можно было судить по его отношению к этой работе, остался вполне доволен, во всяком случае, не заявил покуда решительно никаких претензий.
Спорить с ним по этому поводу я, однако, не стал из некоторого, видимо, малодушия и сдержанности, а обратился к отцу, поскольку мне было известно, что с этим ученым секретарем - Борисом Яковлевичем Заксом — он был еще более коротко знаком, чем с директором, так как тот во время Первой мировой войны работал под началом моего отца во Всероссийском земском союзе, избежав таким образом солдатчины, а до того, если не ошибаюсь, был ему известен по революционной работе. Отец переговорил с Заксом по телефону и сказал мне, что я могу обратиться к нему с моим заявлением. Сопоставляя все это теперь в памяти, допускаю, что директору могли быть известны все эти обстоятельства и что он просто-напросто при моем зачислении в штат хотел заручиться на всякий случай еще и поддержкой ученого секретаря, в которой, по-видимому, не сомневался.
Отдав Заксу заявление, я решил не стоять у него над душой. Но прошло несколько дней, а меня никуда не вызывали и ничего от меня не требовали. «Может быть, он уже написал все что надо и сам передал заявление в личный стол? - подумалось мне. — Но тогда бы меня туда обязательно вызвали для заполнения анкеты, чего, однако, еще не произошло». Я поделился своими сомнениями с отцом. «Аты пойди да ему напомни. Он, вероятно, забыл...» - «Гм, забыл. А чего же он сразу-то не написал — всего ведь несколько слов?» — «Ну, уж этого я не знаю». Видно было, однако, что и отец испытывал по этому поводу не только недоумение, но и некоторое огорчение.
Когда я снова явился к Заксу, он поднял на меня несколько смущенный и как бы виноватый взгляд. «Господи, — подумал я, - что же это такое?» Я еще не понимал тогда, что у нас люди вообще очень неохотно ставят свою подпись там, где можно опасаться хоть какой-либо тени ответственности. Закс между тем порылся у себя в столе, извлек на свет божий мое заявление и взял в руки перо. Несколько раз он им как бы прицеливался, а потом останавливал в воздухе. Но в конце концов что-то быстро написал ниже моей подписи, расписался сам и подал листок мне с таким видом, точно сделано было нелегкое дело. Написал он, впрочем, что-то вполне положительное.
33
Директор, которому я отнес заявление, остался доволен, а еще через неделю я уже увидал мое имя в приказе: зачислить в отдел орудий труда на должность младшего научного сотрудника, с окладом в 115 рублей. Это составляло совсем небольшую сумму по тем временам (музейных работников оплачивали весьма скудно), и, хотя это был уже не первый мой заработок, я при виде приказа испытал известное чувство гордости, смешанное с предощущением наступившего в моей жизни перелома. Мать моя тоже осталась довольна всем происшедшим и, сколько можно было понять, даже отчасти удивлена тем, что все обернулось для меня так хорошо. Главное же состояло в том, что пока, а может быть и вообще, не нужно думать ни о каких экзаменах, ни о каком школьном учении, которое, как мы оба хорошо понимали, оказывалось для меня очень мучительным.
Знакомство с М.Е.Фосс
Как тут же выяснилось, отдел орудий труда, куда я был зачислен, существовал, в сущности, все еще только на бумаге. Я являлся его единственным сотрудником, а заведующая этим отделом - Мария Евгеньевна Фосс, впоследствии мой очень большой друг - пребывала в отпуску и на днях должна была вернуться на работу. Так что, хотя я и стал с этого дня являться в музей к 9 часам утра и уходить в 5, я продолжал поиски и чтение литературы по истории орудий труда.
Но библиотека Исторического музея, к этому времени уже довольно хорошо мне известная по ее каталогу, к сожалению, почти не обладала иностранной этнографической литературой. Злоупотреблять же беготней в служебное время в Ленинку я еще не решался.
Когда явилась моя заведующая, то передо мной оказалась женщина небольшого роста лет тридцати с небольшим. У нее было несколько болезненное выражение лица. Мне показалось, кроме того, что она в какой-то мере обескуражена новыми для нее обстоятельствами в связи с назначением на пост заведующей этим отделом. Вообще же она интересовалась преимущественно неолитическими культурами беломорского Севера и работала в археологическом отделе в качестве рядового сотрудника, так что это назначение открывало перед ней некоторые новые перспективы.
Как уже сказано, нашему отделу при его создании постави34
ли задачей организацию выставки по истории орудий труда. Как это сделать, она, видимо, и сама еще толком не знала, но обо всем этом сейчас не хотела даже и думать, потому что ей предстояло ехать в археологическую экспедицию на раскопки и Каргополь, на Онегу и на озеро Лача, месяца на полтора. Ее несколько озадачивало, а что же я буду делать все это время? Первоначально она остановилась было на мысли, что я-то и должен буду обдумать детали выставки и составить ее приблизительный план, который бы мы по ее возвращении вместе подработали и уточнили.
Надо сказать, что мне очень импонировало то обстоятельство, что она держалась со мной совершенно на равных, ничуть не давая почувствовать своего начальственного положения, а ей, вероятно, понравилось то, что я этим равенством никак не спешил воспользоваться. Сужу по тому, что ей, как только выяснилось, что ее прежний помощник по этой экспедиции, с которым она ездила вместе не первый год, на сей раз поехать не сможет, тотчас же пришло на ум предложить эту возможность мне, как-то почувствовав, видимо, что я не подведу ее в грудных экспедиционных условиях.
Я, разумеется, сразу же согласился, воспринимая ее предложение пока что с чисто романтической стороны и как удачную возможность сразу же начать приобщаться к полевой археологии, о которой бывало и раньше мечтал в шлимановском духе, а по приходе в музей стал относиться к присяжным археологам, хотя пока лишь совершенно отвлеченно, но с большой завистью.
В лице Марии Евгеньевны я столкнулся с ученицей В.А.Го- родцова - профессора Московского университета, возглавлявшего в 20-е годы кафедру археологии, и потому все молодые московские археологи того времени являлись его учениками. Городцов до 1929 года заведовал также и археологическим отделом Исторического музея. Этой московской археологической школе противостояла в Ленинграде другая школа, сформировавшаяся прей мущественно из учени ков А. А.Спицина—одного из руководителей петербургской Археологической комиссии - учреждения, хотя и не столь уж старого, но выработавшего некоторые, не столько впрочем строго научные, сколько скорее - в более широком смысле - «академические», приемы и традиции как в области полевой, так и камеральной археологии. К этому присоединялось в общем достаточно мотивированное 35
не только столичным положением этого учреждения, но и научной его маркой покровительственно-презрительное отношение ко всем провинциальным археологическим организациям, в том числе и к московским.
Хотя В.А.Городцов был и сам питомцем Петербургского археологического института, но пришел он в него не из академической, а из армейской среды. Археологией увлекся, будучи кадровым офицером, как самоучка, от чего и не мог избежать со стороны своих петербургских учителей и коллег ни на чем, впрочем, реально не основанных и более кулуарных, чем открытых, обвинений в дилетантизме.
Городцов был археологом всеобъемлющего профиля, знатоком материала от первобытности до средневековых кочевнических культур, подобно своему патрону и покровителю на поприще полевой археологии и музейной работы — графу Уварову, возглавлявшему некогда московские археологические центры. Работая в разных местах европейской России, преимущественно, впрочем, в южной и средней полосе, он открыл и определил много археологических культур, установив их последовательность и преемственность — то есть создал научную схему, до сих пор в главных своих чертах господствующую в советской археологии Схема эта, в том что касается культур эпохи бронзы и раннего железа, получила всеобщее признание.
От Марии Евгеньевны я узнал, что за год или за два до моего появления п музее в археологическом отделе произошла некоторая «революция». Должен был уйти с поста заведующего отделом В.А.Городцов, как не обеспечивший переход отдела на новый стиль работы, необходимый для перестройки соответствующих разделов музейной экспозиции из чисто археологического на исторический лад соответственно марксистской схеме. Должны были покинуть музей и еще два человека - А.А.Захаров и Б.Н.Граков — занимавшиеся оба преимущественно классической археологией, скифами и другими ранними кочевниками. Они позволяли себе сомневаться в пользе предпринимаемой перестройки. За Захаровым числился еще один немаловажный грех: в 1929 году во время голосования на
1 Данная характеристика относится ко времени написания воспоминаний, то есть к концу 1970-х годов.
36
общем собрании сотрудников музея резолюции, требующей смертной казни для подсудимых по «шахтинскому» процессу, он позволил себе воздержаться...
Что касается Гракова, то он в те времена носил нательный крест, демонстрируя его иногда открыто и как бы вызывающе. Надо сказать, что оба эти «реакционера» не являлись город- цовскими учениками, относились к нему и вообще к его школе свысока и насмешливо, чем восстанавливали против себя остальных сотрудников археологического отдела, состоявшего, как сказано, почти сплошь из учеников В.А.Городцова. Последнее обстоятельство, впрочем, не помешало тому, что именно городцовские ученики, в первую очередь А.В.Арциховский и С.В.Киселев, предпринявшие, кстати сказать, за год до того издание юбилейного «Грродцовского сборника», более всего содействовали его удалению из музея как ученого, не принимавшего якобы марксистской исторической теории.
Я очень мало общался с В.А.Городцовым. В то время, когда это сделалось для меня возможным, он пребывал уже в очень преклонном возрасте, сохраняя, однако, известную живость характера и значительный темперамент в своих реакциях на направленные против него происки названных его учеников. «Я этим артистам еще покажу...» - говаривал он, и видимо, более ради возможности осуществления этой угрозы, чем из каких-либо идейных соображений, незадолго до войны вступил в партию, может быть, в надежде на получение какого-либо ученого или административного поста, на котором он мог бы как-либо осуществить свои агрессивные намерения. Однако человек в его возрасте едва ли мог рассчитывать на что-либо большее, чем сохранение своего прежнего положения в Московском университете и Музее, если бы оно еще не было им утрачено. А для возвращения на прежние свои посты ему мешал и более чем восьмидесятилетний возраст, и враждебная позиция ближайших учеников, с пройдошистостью которых он никак не мог бы конкурировать. Будучи на ножах с ленинградскими коллегами, они в вопросе о Городцове готовы были с ними солидаризироваться, а у него, конечно, несмотря на всю его широту как ученого специалиста по всем разделам археологии СССР, уже не хватило бы сил отстаивать свой авторитет. Хотя ему в Ленинграде, собственно говоря, некого было бы и противопоставить, кроме, может быть, одного Равдоникаса, 37
не обладавшего, однако, ни столь же разнообразным полевым опытом, ни столь же пристальным взглядом в отношении возможностей разграничения и характеристики разнообразных и разновременных культур, многие из которых, несмотря на очень большое умножение археологического материала, до сих пор сохраняют городцовские определения и укладываются в разработанную им шкалу культур. Слабость городцовского метода заключалась в том, что он опирался как на основной хронологический и культурно-исторический критерий на типологические признаки, эволюцию которых для ряда культур разработал он сам. Кроме того, в отношении культур древнекаменного и ранне-бронзового века он значительно поотстал от зарубежного материала, необычайно умножившегося на протяжении первых трех десятилетий XX века. Опираясь преимущественно на отечественную археологическую литературу, он мог в своих построениях довольно легко обходиться без недоступных ему западных данных, учитывавших огромное количество новых находок и новых стратиграфических наблюдений, недосягаемых для него из-за слабого знакомства с новой иностранной литературой (как он с сожалением признавался своим ученикам - раньше, мол, знал, а теперь подзабыл иностранные языки). Так или иначе, его труды, представлявшее собой оригинальное, талантливое и в некоторых случаях непревзойденное до сих пор истолкование отечественного археологического материала, являют целую эпоху в науке. Он был последним в нашей стране «всеобщим» археологом - явление не менее редкое в современной науке, чем всеобщие историки. То, что основные его труды остались не переизданы (с необходимыми дополнениями и комментариями, как это принято повсеместно в серьезной зарубежной науке), а многие его работы стараниями ближайших учеников-врагов и вовсе остались не изданы, разлетевшись по ветру в военные годы и после его смерти (по словам его сына М.В.Городцова), вина и ответственность за это ложится всецело на науку нашего поколения и в первую очередь на его учеников, еще недавно стоявших у руководства нашей археологией.
Некоторые факты из истории советской археологии я узнавал постепенно от Марии Евгеньевны отчасти еще в Москве, главным же образом на пути и во время экспедиции. Выехали мы в июле месяце, в самую жару, работали в тучах слепней, ко38
маров, гнуса, так что экспедиционной романтики я вкусил сразу же по горло. В материале, который на неолитических стоянках довольно однообразен, сориентировался я сравнительно быстро. Правда, первоначально в некоторых случаях отличал кремневые орудия от осколков и отщепов с трудом, чем вызывал со стороны Марии Евгеньевны сдержанные насмешки. Археологическая стратиграфия на таких стоянках, какие она раскапывала в районе озера Лача и на Онеге, довольно проста, если не считать землянок и погребений, которые в первый год моего там пребывания нам не попадались. Довольно быстро научился я делать незамысловатые полевые чертежики в дневнике, планы и профили, а также производить глазомерную съемку. Позднее во всех этих делах, в отдельных случаях представлявших и некоторые сложности, я достиг известного совершенства. Не испытывал только желания фотографировать раскапываемые объекты. Этого с необходимой сноровкой я не научился делать и потом - помешало отчасти то, что я работал в больших экспедициях, где всегда действовали фотографы- профессионалы.
Естественным образом, в экспедиции, при постоянном общении, я довольно быстро стал представлять себе Марию Евгеньевну как человека своей профессии. Позднее я все более убеждался в том, что она типичный археолог. Таковы они были в 20-е и 30-е, таковыми в значительной мере остались и в 60-е и 70-е годы. Меня удивляла ограниченность ее знаний в соприлежных дисциплинах. Каждый археолог обязательно немного геолог. Но если она как-то представляла себе некоторые геологические условия четвертичного и современного периодов, важные для понимания палеолитических и неолитических залеганий, то общих геологических представлений из области истории земной коры она не имела, так же как и связных понятий об истории биологических и климатических изменений хотя бы на протяжении изучаемых ею периодов. Она знала только лишь то, что непосредственно соответствовало времени и месту изучаемой ею археологической культуры, не говоря уже о том, что общие знания из области истории не только нового времени, но древности и средневековья, были у нее достаточно поверхностны. Опять-таки и тут более известны ей оказывались разного рода частности, имевшие отношение к археологии или к музейному материалу исторических эпох.
39
Подобными же знаниями обладали и многие другие из наших музейных археологов. Иностранные языки обычно оставались им неизвестны, за исключением какого-либо одного, на котором человек с грехом пополам мог читать (точнее лишь разбирать) узкоспециальную литературу. И удивительным образом с подобными знаниями и подобным кругозором люди выходили в доктора наук и даже в академики. В отдельных случаях их вывозил сам открываемый ими новый и исторически значимый материал, но другой раз даже и этого не бывало, а действовала некая диссертационно-публикационная инерция.
Весьма резко из этого среднего уровня московских археологов, сотрудников археологического отдела Исторического музея, выделялись два человека — Арциховский и Брюсов. Они обладали значительно более обширными и глубокими знаниями в области всеобщей истории. А.В.Арциховский при этом отличался каким-то даже патологическим энциклопедизмом, культивировавшимся им совершенно сознательно, в каком- то спортивном раже. Они оба знали европейские языки, умея объясняться на одном или двух из них. Научные интересы их, впрочем, оставались сугубо археологическими, вплоть до того, что, например» Арциховский» когда в его руках оказались новгородские берестяные грамоты, не решился публиковать их самостоятельно, а привлек в качестве соавтора филолога-cjjh- виста академика Тихомирова.
И нельзя сказать все же, чтобы по общему культурному и профессиональному уровню эти двое очень сильно отличались от остальных музейных (и институтских) археологов. Объединяло их многое, в частности довольно резкая нелюбовь к иностранным коллегам, прикрываемая показным подобострастием в отношении каких-либо именитых зарубежных гостей. Пожалуй, у Брюсова и Арциховского эта ксенофобия оказывалась даже еще более резкой, чем у остальных. Более отчетливо ощущался у них и антисемитизм, в 30-е и первой половине 40-х годов еще как-то скрываемый, а позднее довольно-таки резко-откровенный. Впрочем, и у некоторых других моих коллег и ксенофобия и антисемитизм принимали уродливые и, я бы сказал, психопатические формы. Всего этого, как ни странно, не ощущалось у людей дореволюционной формации. Значительной интеллигентностью обладал А.В.Орешников — известный нумизмат, умерший на послу заведующего и хранителя нумизматической коллекции музея.
40
Выставка орудий труда
Наш «отдел орудий труда» выглядел неким инородным и малоперспективным наростом на музейном теле. Я этого тогда еще толком не понимал, но все же с некоторой завистью поглядывал на сотрудников археологического отдела, пребывавших в большом импозантном помещении, в окружении огромных шкафов, наполненных замечательными коллекциями, которые они призваны были хранить и обрабатывать. В зале этом стояли три огромных стола, за которыми и размещались сотрудники отдела, ведавшего всем археологическим материалом (от первобытных культур и до славянской археологии включительно). Тогда как мы с Марией Евгеньевной ютились в небольшой комнатушке с несколькими совершенно пустыми шкафами и этажерками...
Мы не были хранителями материала. Перед нами стояла одна конкретная задача - устройство выставки по истории ударных орудий труда, ради которой отдел и был создан. Кее осуществлению нам пришлось приступить сразу же по возвращении из экспедиции.
Так как я еще до зачисления в этот отдел в ожидании той работы, об участии в которой со мной договаривался директор, читал на эти темы кое-какую литературу социологического и этнологического характера, Мария Евгеньевна предложила мне приступить к разработке общих положений плана выставки, с тем чтобы потом самой наполнить его археологическим и этнографическим содержанием. Все это происходило в сентябре-октябре 1931 года. Сдав экспедиционный отчет, Мария Евгеньевна ушла в очередной отпуск, покуда на месячный срок (в те времена научные работники музея пользовались двухмесячным отпуском), и я снова оказался предоставлен самому себе. Но так как она никуда из Москвы не уезжала, то появлялась в музее не реже раза в неделю, с тем чтобы следить за моими делами.
К ее возвращению на работу план мною был в главных чертах разработан и составлен так называемый «ведущий этикетаж», в котором коротко излагалась эволюция ударных орудий (топоров, молотов, тесел, мотыг) от эпохи палеолита с его «ручными рубилами» и до железных орудий восточноевропейского средневековья.
Сразу же после октябрьских праздников план этот был ею 41
доложен на заседании археологического отдела и в общем одобрен, однако А.В.Арциховский обратил внимание на то, что в проекте выставки не получил отражения разработанный ака-; демиком Горячкиным и профессором Желиговским способ рационального конструирования рукоятей современных ударных орудий, позволяющий установить идеальные соотношения бойка орудия и его рукояти, длина которой определялась с учетом точки наименьшей отдачи при ударе. В связи с этим нам предложили проверить на археологическом и в особенности на этнографическом материале, соответствуют ли сохранившиеся рукояти древних примитивных орудий теоретическим нормам, найденным Желиговским, и нельзя ли, если дело обстоит именно так, научно обоснованным порядком определять длину и форму утраченных рукоятей древних орудий.
Желиговский, с которым мы однажды специально ради этого встретились, утвердил нас во мнении о возможности посредством практического определения момента инерции всякого орудия установления идеального размера и положения его рукояти.
Нам после этого ничего не оставалось, как заняться соответствующими исследованиями примитивных ударных орудий по московским и ленинградским археологическим и этногра-. фическим коллекциям. Эту работу мне тоже пришлось пригнать главным образом на себя.
Полученная нами со Златоустовского металлургического завода прекрасная коллекция современных топоров (плотницких, колунов и т.п.) позволила мне начать работу с того самого материала, какой был в руках Желиговского, и убедиться в том, что опытные данные в точности соответствуют его расчетам. Однако когда я перешел к работе с орудиями из археологических и этнографических коллекций, пришлось с огорчением констатировать, что расчеты эти пригодны для орудий — в особенности это относилось к топорам - лишь правильной формы, со строго дугообразным лезвием. Исследование же каменных и металлических орудий с бойками, искаженными или в результате их использования или под воздействием их нахождения в земле, со сбитыми, источенными и заржавевшими лезвиями, приводит к случайным и заведомо неверным результатам. Например, некоторые каменные массивные топоры только лишь ввиду определенного состояния их лезвия требовали, соответственно получаемым опытным порядком 42
данным, рукоятей необычайной длины, каких они, вероятней всего, в действительности никогда не имели, тогда как другие, близкие им по размерам и форме, но с другой линией рабочей части, на подобные рукояти вовсе не претендовали.
Мария Евгеньевна, хотя и была довольно-таки смущена этими обстоятельствами, не решилась все же отступить от результатов, получавшихся в подобных случаях при исследовании археологических и этнографических орудий по методу Желиговского, и считала, что лучше придерживаться данных исследований, как бы перекладывая таким образом ответственность за возможные ошибки с собственных плеч на плечи Желиговского. Так и получилось у нас, что некоторые топоры приобрели рукояти чуть ли не двухметровой длины, тогда как другие - рукояти-коротышки, более подходящие для молотка, чем для топора.
Выяснилось к тому же, что все теслообразные и мотыгообразные орудия с поперечным лезвием, которых в древности существовало великое множество, при значительном разнообразии их назначений, вообще не могут быть исследованы по этому методу с целью восстановления их рукоятей.
Когда после моего чуть ли не месячного пребывания в Ленинграде — время, за которое я ознакомился с богатыми коллекциями Музея антропологии и этнографии, с их многочисленными орудиями труда океанийского, африканского и американского происхождения, - я сообщил на каком-то из наших заседаний о своих сомнениях в возможности пользования методом Желиговского для археологических целей, это встретило резкое осуждение ио стороны Арциховского. Не имея возможности возражать по существу, он настаивал преимущественно на том, что использование физико-математических методов в археологии очень важно и перспективно. Какие именно перспективы имелись им в виду, я получил возможность судить, ознакомившись с его книжкой «Курганы вятичей», изданной в 1929 году в качестве как бы кандидатской диссертации, подготовленной в секции археологии РАНИОН, где он пребывал на правах, приближавшихся к правам аспиранта (в те времена ни кандидатских диссертаций, ни аспирантуры еще не было). В этой книге о курганных железных серпах было сказано, что они приближаются по форме к параболе и что, следовательно, кривизна их может быть точно определена по математической формуле для параболы. Разумеется, это 43
обстоятельство абсолютно ничего не прибавляло к изучению древнеславянских серпов, пониманию эволюции форм которых это подведение их под формулу параболы никак не содействовало. Вместо того чтобы просто на словах констатировать приближение формы серпа к форме параболы, автор приводит еще и самую формулу, определяющую математически данную форму. Практически же это не более чем констатация того, что веревка вервие простое...
Несмотря на то что все это было ясно и ему самому да и многим другим, дутая научность подобных приемов не мешала Ар циховскому держаться по отношению к коллегам с очень большим апломбом, чтобы не сказать с грубым высокомерием. Возражений от них он вообще не терпел, и когда кто-нибудь пытался при обсуждении той или другой из его работ в музее возразить ему в чем-либо, он осаживал человека очень резко. Я был свидетелем того, как на какие-то робкие возражения Марии Евгеньевны, сделанные ему однажды при обсуждении плана реэкспозиции, он, не отвечая по существу, заявил без обиняков: «Я это знаю лучше вас...» Бедная Мария Евгеньевна краснела и бледнела, не находя слов против подобной эскапады.
Мне же стало, во всяком случае, ясно, отчего Арциховский так настаивал на использовании метода Желиговского в архе-, ологии: пусть он и не дает ничего реально, но выглядит импо-г зантно и с претензией на математическую точность. Опять же выглядит как некоторая поддержка и продолжение его собственной попьпки введения математики в археологию...
Увы, наша выставка не состоялась. Директор, по мысли которого она затевалась, ушел из музея. Человек, пришедший на его место, по фамилии Воробьев, а по специальности, кажется, китаевед и бывший дипломат, принес с собой в музей «критическую струю», навеянную ему, вероятно, в музейном отделе Наркомпроса: необходима перестройка экспозиции, так как прежняя грешит техницизмом...
Ну разумеется, прежний директор интересовался историей техники, что и получило некоторое отражение в этикетаже, содержавшем разъяснения историко-технологического порядка. И уж конечно, выставка по истории ударных орудий в особенности оказалась под ударом: «Одни только орудия, а человека, ими пользующегося, не показали...» - разъяснял ученый се44
кретарь музея в своем докладе о перестройке работы музея на общем собрании научных сотрудников.
В общем, выставку отменили, отдел наш закрыли. С момен- ia моего поступления в музей не прошло и года. «Что же теперь будет? Мария Евгеньевна, вероятней всего, вернется в археологический отдел. Ну, а я куда? Я-то ведь не археолог, вообще неизвестно кто». Симпатий к себе со стороны большинства сотрудников археологического отдела я как-то не чувствовал. Меня просто не замечали или не знали, о чем со мной говорить. Вместе мы не учились, общего ничего не было...
Покуда мы обретались в комнатке нашего отдела, некоторые археологи заглядывали к нам иногда - поболтать с Марией Евгеньевной. Чаще других бывали у нас П.А.Дмитриев и Л.П.Смирнов, они же казались мне симпатичней других.
Павел Алексеевич Дмитриев, изучавший эпоху бронзы в Приуралье, добрый и простой человек, трагически погиб на войне. Вместе с ним мы были в Московском ополчении и одновременно в начале октября 1941 года очутились в окружении. К его несчастью, он не попал в плен и, следовательно, не был отведен от фронта немцами, а застрял, ввиду своего простонародного облика, в какой-то деревеньке Вяземской области. В начале нашего наступления в 1943 году он тут же «вышел из окружения», а с такими, при тогдашней подозрительности и озлобленности, поступали достаточно сурово: штрафной батальон. Поставили к миномету, с которым долго не провоюешь - слишком хорошая цель для немцев. Очень скоро ему оторвало обе ноги. Умер от потери крови. А вообще-то в это время научные работники, как правило, были уже удалены из армии.
Очень часто бывал у нас и Алексей Петрович Смирнов, занимавшийся позднесарматскими и другими кочевническими культурами раннесредневекового времени в Причерноморье и Поволжье. К нему я уже и тогда чувствовал определенную симпатию, сохранившуюся во мне до конца его жизни. С его стороны я тоже никогда не чувствовал никакой антипатии, хотя люди мы были все-таки довольно разные. Он тоже побывал в ополчении и в окружении, но его судьба сложилась гораздо счастливей. Выйдя из окружения вместе со штабом какого-то разбредшегося полка и пройдя лишь некоторые мытарства на проверке, он уже не вернулся в действующую часть, а какое-то время использовался на лекционной работе, покуда не был вовсе демобилизован.
45
Дружил я еще в те времена с располагавшимся с нами по соседству заведующим и единственным сотрудником отдела оружия - Николаем Ивановичем Соболевым, человеком уже довольно пожилым, вышедшим, как и В.А.Городцов, из старорежимного военного сословия и обладавшим глубокой внутренней интеллигентностью. Все это были люди, очень симпатизировавшие Марии Евгеньевне и распространявшие эту симпатию в какой-то мере и на меня. В частности, Николай Иванович бывал со мной достаточно откровенен:
- Вы не знаете ли, кто такой наш новый директор? - спросил он как-то меня.
- Говорят, что китаевед.
- А вы не знаете - настоящий китаевед или по части шанхайских событий?..
Не удерживаясь от смеха, я ему отвечал:
- Как будто бы скорее именно второе.
3. Шаг к антиковедению
В 1932 году, одновременно с ликвидацией нашего отдела как техницистской затеи прежнего директора, археологический отдел также ликвидировали и разбили натри части: 1) отдел первобытного общества, 2) отдел рабовладельческой формации и 3) отдел феодальной раздробленности. Возвращение Марии Евгеньевны в археологический отдел, вернее в отдел первобытного общества, заведующим которым назначили А.Я.Брюсова, археолога-первобытника и брата знаменитого поэта, ученика В.А.Городцова, того же университетского круга, что и Мария Евгеньевна, только лет на 20 ее старше, представлялось мне делом совершенно естественным. В отношении же меня все обстояло далеко не так просто. Со стороны первобытников — Брюсова и сотрудницы его О.А.Граковой — я чувствовал уже и раньше определенную антипатию. Они считали меня человеком посторонним, к науке не имеющим отношения и никогда бы меня к себе не взяли. С другой стороны, поздне-исторические отделы XVIII и XIX столетий испытывали нужду в кадрах. Поэтому дирекция тут же предложила мне перейти в экспозиционный отдел первой половины XIX столетия. В конце концов, я еще тогда не настолько пристрастился к археологии, чтобы по этой причине отклонить сделанное мне предложение, тем более что эпоха декабристов не была д ля меня вовсе безынтересна. Но отделом 46
ним заведовала женщина, вызывавшая у меня крайнее раздражение и антипатию. Работать с ней мне представлялось совершенно невозможным. Абсолютно не соображая, что подобная причина вряд ли могла выглядеть для дирекции сколько-нибудь серьезной, я так все это и выпалил без обиняков ученому секретарю. Не знаю, чем бы кончилось дело, если бы вдруг на меня не представил заявку А.П.Смирновэ назначенный заведовать отцепом рабовладельческого общества, где тоже недоставало сотрудников. То ли тут сыграла известную роль его собственная ко мне симпатия, толи к этому прибавилась просьба со стороны Марии Евгеньевны, не вовсе безразличной к моей судьбе (о чем она, впрочем, мне ничего не сказала). Возможно также, что важным соображением для А.П.Смирнова послужили мои знания иностранных и древних языков, которые могли понадобиться очень скоро в связи с перестройкой экспозиции. Во всяком случае, и без дальнейших проволочек был зачислен в отдел, которому предстояло хранить материал античной эпохи и переделывать экспозицию греческих колоний и ранних кочевников. И к тем и к другим я давно уже испытывал интерес, в особенности же к греко-римской культуре. Подобный выход из положения принял я поэтому с большой радостью.
Отдел этот принял в свои ряды Д.Н.Эдинга, пожилого уже тогда человека, выученика Археологического института, ученого широких исторических интересов (от приуральской бронзы до причерноморских готов и раннеславянских памятников средней полосы). Кроме того его сотрудниками стали: молодой городцовский ученик Е.И.Крупнов, интересы которого сосредотачивались преимущественно на Северном Кавказе; П.В.Трубникова, собственные археологические интересы которой определились немного позднее; и Н.В.Пятышева, занимавшаяся преимущественно древним и средневековым Херсонесом.
В экспедиции, вплоть до 1934 года, я продолжал ездить с Марией Евгеньевной. Последним отголоском деятельности отдела орудий труда была наша совместная с Марией Евгеньевной статья о древних шахтах для добывания кремня и употреблявшихся для этого орудиях. Мое участие обеспечило возможность использования немецких публикаций. Это была моя первая работа на археологическую тему и первое сочинение с некоторым исследовательским элементом. Статья эта была напечатана в сборнике «Палеолит и неолит» (Материалы по археологии СССР. № 2. М.-Л., 1941).
47
Работа же в новом отделе сводилась для меня к разработке экспозиционных планов, осуществлению самой экспозиции, составлению для нее этикетажа и, наконец, к написанию путеводителей (мне был поручен путеводитель по двум античным залам с материалом из древнегреческих колоний Северного Причерноморья). Кроме того, как каждому научному сотруднику, мне ежегодно планировалась какая-нибудь исследовательская тема, для осуществления которой в принципе бывала возможна научная командировка (практически, однако, начальство старалось подобные предприятия ограничивать, поскольку фонды бывали не велики). Мне в этом отношении завидовали. Я выбирал себе для ознакомления что-нибудь позаковыристей, чаще всего греческий эпиграфический материал или его издания, отсутствующие в Москве. Начальству бывало трудно отвести мотивированно подобную заявку, и я обычно получал разрешение на поездку в Ленинград или в какой-либо из крымских музеев без дополнительных усилий и настояний. Что касается до темы научной работы, то я в те годы планировал сбор и изучение письменных и археологических данных о проникновении древних греков на кавказское побережье Черного моря и прежде всего в знаменитую Колхиду. А в 1934 году, помимо поездки на раскопки с Марией Евгеньевной, я вместе с Е.И.Крупновым предпринял рекогносцировочную поездку*Ь Западную Грузию и Абхазию для ознакомления с тамошними музейными коллекциями, завершившуюся пешей экскурсией разведочного в археологическом отношении характера вдоль берегов реки Риони от Кутаиси до Поти.
Разведка наша, рассчитанная лишь на месячный срок и как первый опыт недостаточно хорошо подготовленная, позволила нам ознакомиться лишь с наземными памятниками архитектуры преимущественно средневековых и более поздних времен и дала в наши руки некоторый (преимущественно керамический) подъемный материал, отчасти также и более раннего времени, вплоть до эпохи бронзы.
Впрочем, в крепости Шаропань, расположенной на высоком рионском берегу, стены которой позволяли предположить в нижних своих горизонтах остатки кладки римского времени, мы заложили небольшой шурф в стремлении выяснить стратиграфию ее культурного слоя, Добытый из этого шурфа материал оказался в хронологическом отношении не очень опреде48
ленным, но в нем присутствовали фрагменты керамики, очень похожей на краснолаковую посуду ранней мпсраторского времени, связанную с нижним горизонтом культурного слоя.
Моя мечта, основываясь на древних описаниях Псевдо-Гиппократа и Арриана и новых авторов — преимущественно Дюбуа де Монпере — обнаружить хоть какие-нибудь остатки древнего Фасиса, не осуществилась, поскольку античные предметы соответственной степени древности, в изобилии обнаруженные преимущественно в послевоенные и в еще более поздние годы, найдены к югу и северу от Поти, но не на территории самого нового города и не в непосредственной от него близости.
Впрочем, поездка эта пробудила во мне любовь к Кавказу и позволила завязать некоторые связи с тамошними археологами, оказавшиеся для меня полезными в дальнейшем. На основании же собранных мною данных о кавказском побережье Черного моря в древности мной по плану научной работы была написана небольшая — листа на полтора-два — статья, никогда не увидавшая света, но произведшая благоприятное впечатление на тогдашнего и многолетнего заместителя по научной части наших часто сменявшихся директоров - Л.И.Пономарева, удивившего меня однажды тем, что он статью эту, как оказалось, прочел и процитировал мне несколько лет спустя ее начальные строки: «У древнегреческих колоний кавказского побережья Черного моря широкая слава, но темная и печальная судьба...» или что-то в этом роде, ибо рукопись у меня не сохранилась.
Работа с В. Д. Блаватским
В следующем году я уже больше не принимал участия в работах Марии Евгеньевны, тем более что она на север не поехала, а копала (охранным порядком), если не ошибаюсь, в Курской или Воронежской области. Я же вместе с заведующим нашим отделом А.П.Смирновым, возглавившим отряд Исторического музея, и Н.В.Пятышевой принял участие в экспедиции Музея изобразительных искусств по раскопкам древнеримской крепости Харакс на мысу Ай-Тодор в Крыму, где в предшествующем году сотрудник этого музея ВД.Блаватский исследовал могильник позднеримского времени, а в предреволюционные годы производил раскопки М.И.Ростовцев.
Жили мы на айтодорском маяке, причем смотритель маяка, военно-морской служащий в небольшом чине, все покачивал 49
с сомнением головой и удивлялся — как это мы получили разрешение у севастопольского морского начальства на производство здесь археологических работ. «Я бы ни за что не разрешил». Видимо, он считал свой маяк необычайно секретным устройством. Удивляться этому, впрочем, не приходилось. Еще во время разведок предшествующего года на Кавказе я имел случай убедиться, что для пограничников и для начальства охраны железнодорожных мостиков самый обычный фотоаппарат неуклонно принимался за орудие шпионажа.
Так как работать нам не мешали, мы не могли сваливать на посторонние обстоятельства малый эффект наших раскопок. Ростовцев, в общем, снял все сливки. Мы лишь несколько уточнили дату оборонительного вала, обнажив в некоторых местах его подошву, и выяснили происхождение этой крепости как древнетаврского укрепления, что впрочем не составляло секрета и для Ростовцева. Раскрыто было еще несколько погребений на восточном склоне айтодорской скалы.
Ввиду малой эффективности наших раскопок в самой крепости Блаватский решил поживиться римским водопроводом из глиняных труб, обнаруженным Ростовцевым в саду Гаспры. Два-три звена этого водопровода были им зачищены и сохранены in situА мне было предложено установить, не сохранились ли выше и ниже этого места еще какие-либо его звенйГя. С двумя рабочими я отправился в сад Гаспры и предпринял небольшие раскопки, не давшие, однако, ничего, кроме некоторого количества фрагментов водопроводных труб, разбитых, видимо, при перекопке садового грунта, когда собственно и был случайно обнаружен этот водопровод. К некоторому моему огорчению начальство приказало мне извлечь сохранившийся участок водопровода для экспозиции его в Историческом музее.
Как нередко бывает, в самый последний день наскочили мы на какой-то малопонятный архитектурный объект, выяснить происхождение которого уже не было времени, и мы стыдливо его прикрыли, оставив будущим исследователям, которые, если не ошибаюсь, пока еше после нас там не появлялись. А мы в том же составе, что и на Ай-Тодоре (к нам присоединилось только некоторое количество студентов), работали в 1936 году на новом объекте - Фанагорийском городище Таманского полуострова.
’ На месте (лат.).
50
Это был уже настоящий античный объект, слои которого, относящиеся к греко-римскому времени, уходили на глубину до 4-5 м. К сожалению, они оказались ужасно перемешаны при древних перестройках и позднейших выборках камня. Редкие архитектурные остатки (выкладки из нескольких камней, керамические вымостки и т.п.) представляли собой объекты, находящиеся на первоначальном месте, расположение и сопоставление которых позволяло устанавливать культурные горизонты. Туг я впервые познакомился со способом раскопки многослойных античных поселений, разработанным у нас Б.В.Фармаковским на Ольвийском городище и усвоенным его учениками, одним из которых и являлся руководитель наших работ В.Д.Блаватский. Поскольку я знакомился с подобным методом впервые, это не могло не стать предметом моих восторгов. Не будь этих восторгов, я бы, вероятно, не овладел так скоро и с таким рвением способами графической фиксации археологических объектов, чем стал заниматься наряду с собственно раскопочной работой. Вообще, археологи-антикове- ды не очень любят составлять чертежи и обмеры того, что они раскапывают, предоставляя это архитекторам. Поэтому у меня не было конкурентов. Уже в следующем году планиметрия и обмеры основных вскрытых объектов, равно как и фиксация некрополя (общий план и некоторые отдельные погребения), стали делом моих рук. Кроме того, я раскопал колодец позднеримского времени, сложенный из хорошо обработанных больших камней и заполненный огромным количеством керамики.
По окончании раскопок у нас состоялась научная конференция, на которой все сотрудники экспедиции, исследовавшие какой-либо определенный объект или категорию археологических памятников, сделали соответствующие сообщения. Был запланирован сборник: «Труды фанагорийской экспедиции за годы 1936-37». Однако выпуск его не состоялся. Вышел в свет (в «Сообщениях И ИМ К») только общий отчет руководителя экспедиции В.Д.Блаватского. А нам стало совершенно ясно, что работы других членов экспедиции с описаниями отдельных объектов или категорий памятников могли бы увидеть свет только в этих трудах. Но они так и не были изданы ни в этом, ни в последующие годы работы Фанагорийской экспедиции. И меня несколько поражало равнодушие, с которым Блаватский, разводя руками, сообщал о невозможности опубликования наших трудов. Выходило так, что мы писали лишь 51
для того, чтобы он мог в двух-трех словах упомянуть в своем отчете об изученных нами объектах и о результатах этого изучения. И хотя я всецело верил в силу объективных обстоятельств, препятствовавших опубликованию наших трудов, отношение его к этому представлялось мне довольно странным. Непонятно было, как человек, столь преданный науке, так умело и тщательно производивший раскопки, сумевший объединить в этой работе большой и дружный коллектив сотрудников, оказывается, в сущности, равнодушным к результатам усилий своих сотрудников, им же самим запланированным и санкционированным? Мы все очень уважали Блаватского. Его научный авторитет в наших глазах был весьма высок. И это была первая трещинка в созданном нашим коллективом его идеальном облике, воспринимавшаяся тогда мною скорей как некоторое недоразумение.
Ощущение этого недоразумения усугубилось во мне через некоторое время впечатлением от его поведения перед заседанием в ленинградском ИИМКе, на котором заслушивались отчеты крупнейших экспедиций минувшего археологического сезона. Подобно многим другим московским археологам, Блаватский не любил ленинградских коллег и ждал с их стороны обязательного подвоха. Чувство постоянной настороженности не рассеивалось у него и оттого, что он был завсегдатаем Эрмитажа и достаточно тесно соприкасался со многими сотрудниками ленинградского ИИМКа. На сей раз он тоже почему-то вообразил, что его сообщение о фанагорийских раскопках будет встречено враждебно-критически и проделанная нами работа будет опорочена. Может быть, его смущала незначительность результатов раскопок, бедность добытого материала? Перед самым его докладом что-то мне от него понадобилось, и я подошел к нему с каким-то вопросом. Но ему явно было не до меня. Он лихорадочно топтался на месте, был бледен и с искаженным лицом повторял: «Капкан, капкан...» - «Что случилось, Владимир Дмитриевич, почему вы так взволнованы?» — «Все пропало, голубчик, вот увидите...»
Мне почему-то вся эта истерика представилась совершенно надуманной, ни на чем не основанной. «Да почему вы решили, что вам готовят тут какую-то ловушку?» Но он вместо ответа только махнул рукой и отошел в сторону. Меня это так огорчило, что я не пошел слушать его доклад. Огорчило прежде всего то, что волнение, свидетелем которого я стал, не могло,
52
по-моему, не помешать Блаватскому доложить обстоятельно и вразумительно о наших раскопках. Действительно, как мне рассказали присутствовавшие, он мямлил, повторялся, а то вдруг терял нить изложения. Слушать его было скучно. Красноречием он не отличался вообще, но, во всяком случае, умел быть убедительным и последовательным. Впрочем, его, видимо, очень подымало то подобострастие, каким он был окружен в московской музейной среде, где чувствовал свою полную авторитетность в вопросах истории античного искусства и археологической техники. На пленумах же ИИМКа робел и терялся, и слушать его там становилось настолько неинтересно, что даже возникало чувство, будто предмет, о котором он держит речь, превышает его возможности.
А когда я потом спросил кого-то из присутствовавших на его докладе о результатах прений, то оказалось, что прений, собственно, никаких даже и не было. Задано было всего несколько вопросов. Вот ведь до чего доводит расстроенное воображен ие... Но увы, это не все, что меня в нем все более удивляло и огорчало. Пришлось убедиться в том, что чувство меры отказывало ему не только по отношению к людям, которых он считал себе враждебными. Значение своих друзей, своего окружения он готов бывал преувеличивать столь же беспричинно, как и свои страхи перед ленинградскими коллегами. Прислушавшись как-то раз, там же на Тамани во время раскопок, к тому, что он говорил группе студентов-практикантов о значении нашей экспедиции, я был поражен каскадом всяческих преувеличений, беззастенчиво им извергавшихся. «У нас здесь работают ученые с мировыми именами...» Я не знал, куда деваться, когда среди прочих «мировых имен» прозвучало и мое собственное...
В то же время ему не было стыдно передразнивать одного хотя и довольно недалекого, чудаковатого, но совершенно безобидного университетского преподавателя - А.С.Башкирова, злоупотреблявшего в своем языке выражением «так сказать»: «Я, так сказать, профессор, с моими, так сказать, студентами, поехал, так сказать, в экспедицию...» Сам он, однако, тоже в минуты волнения и увлечения совершенно неумеренно сыпал подобными же, засоряющими речь, выражениями, этого, однако, вовсе не замечая, и обладал самолюбием, проявлявшимся в некоторых случаях довольно болезненно. Однажды он, не имея терпения дождаться нормального вскрытия образовавшейся в 53
грунте пустоты, полез туда, углубившись в нее на полтуловища. Зрелище это было довольно комичное. Кто-то шепотом предложил фотографу снять его в этой позе. Но он услыхал и разгневанно закричал: «Уберите фотографа... я занимаюсь наукой, а не порнографией...»
Это не мешало нам всем, ближайшим его товарищам и сотрудникам, при всем к нему пиетете нет-нет да и поехидничать на его счет. Одна из грязевых сопок в районе наших раскопок, выводившая на поверхность отдававшую сероводородом горячую воду, называлась у местных жителей Блевака. Это давало повод для шуточных сопоставлений с его фамилией. А позднее один из его коллег по РАНИОНу, а потом по ИИМКу, закадычный его приятель Б.Н.Граков как-то изрек: «Блаватский — дорическая форма. А ионийская знаете как? - Блеватский...»
Но тогда, по крайней мере мне, все это представлялось беззлобными и дурацкими шутками. Злоба и враждебность стали накапливаться постепенно и несколько позднее, в особенности уже после войны.
В 1937 году, совершенно неожиданно для всех нас, вдруг возник в Москве журнал по древней истории, учрежденный самим «хозяином», у которого его исхлопотал родственник со стороны первой жены - А.С.Сванидзе, ученик знаменитого Леманн-Гаупта и автор диссертации об аллародийских племенах Малой Азии. Он был назначен главным редактором, а его заместителем — А.В.Мишулин, возглавлявший тогда сектор древней истории в Институте истории АН СССР. Членом редколлегии и фактическим рабочим редактором журнала стал А.Б.Ранович - сотрудник этого сектора и профессор Университета. Поскольку меня перед тем Мишулин привлек к совершенно еще впрочем предварительной работе — собственно, больше к разговорам о работе - по изданию «Всемирной истории» (что вылилось для меня практически в составление библиографии к тому 1), то возникновение этого журнала, с несколько нелепо прозвучавшим, но заданным свыше названием - «Вестник древней истории», никак не могло меня не коснуться. Журнал вообще-то должен был выходить поквартально, но № 1 предложено было собрать побыстрей, и поэтому А.Б.Ранович обратился также и ко мне с просьбой представить что-либо для журнала.
54
А я уже года два перед этим занят был составлением учебных карт по древней истории, в связи с чем обращался также и к древней картографии — к таким ее образцам, как карты к географии Птолемея, к Tabula Peutingeriana1, к Итинерарию Антонина. Поэтому публикация Ростовцевым в отчете о раскопках Дура-Европос фрагмента древнего пергамента с начертанной на нем восточной частью побережья Черного моря не прошла мимо моего внимания. Я быстро написал к ней небольшой комментарий, который и стал моей первой научной публикацией [2]2. В следующем номере журнала я опубликовал в виде истори ко-географического очерка кое-что из собранного мной материала о побережье древней Колхиды [6]. После этого почти в каждом номере «Вестника» стали появляться мои рецензии на иностранные и русские книги подревней истории и археологии и краткие рефераты статей, публиковавшихся в иностранных журналах.
В музее меня повысили в должности — сделали и.о. старшего научного сотрудника. И.о., конечно, потому, что у меня не было никаких формальных оснований для занятия этой должности. Впрочем, в те времена формальные основания еще не очень требовались. Кое-как можно было обходиться без них. При этом, конечно, на деловые качества обращалось несколько больше внимания, чем позднее, когда появился камуфляж ученых степеней, весьма выгодный для малограмотного начальства, как впрочем и для многих носителей этих званий, в общем из тех же соображений камуфляжа.
Но вообще тучи сгущались. Собственно, они начали сгущаться еще гораздо раньше. Когда я в 1932 году поехал в командировку в Херсонес и познакомился там со старым ленинградским археологом Н. И. Реп никовым («пьяница» - резко и безапелляционно охарактеризовал его Арциховский), он рассказал мне, что у них в 1АИМКе зимой на несколько дней была арестована целая группа сотрудников, выехавших куда-то в дачную местность «на блины». Их захватили по подозрению в организации сборища антисоветского (или, может быть, антипартийного) характера. Но времена были еще не такие кровожадные, и все 1 Пойти мгеэова таблица.
23десь и далее указаны ссылки на прилагаемую библиографию работ Л.А.Ельницкого.
55
кончилось благополучно. В следующем году арестовали и осудили на три года заключения в северных лагерях моего друга ГА.Бонн-Осмоловского, без всякого конкретного обвинения, видимо за одну фамилию, ибо вскоре после этого был арестован и осужден его брат, живший в Минске, якобы за какие-то вредительские действия, связанные с изданием словаря белорусского языка (оба они по отбытии назначенного им срока заключения благополучно возвратились домой).
В 1934 году Исторический музей взволновало известие об аресте А.А.Захарова, уже упомянутого выше, - ученого широкого профиля, одного из очень немногих специалистов в области крито-микенской культуры в нашей стране и, во всяком случае, в Москве - человека, которому Эванс прислал в подарок свой «The Palace of Minos». Незадолго до его ареста в музее происходило совещание по перестройке экспозиции зала со скифским материалом с докладом А.П.Смирнова, которому я помогал в подборе древних текстов. На доклад этот в качестве возможных оппонентов были приглашены Б.Н.Граков и А.А.Захаров.
А.П.Смирнов характеризовал скифское общество как рабовладельческое, что по тем временам выглядело ново и проблематично. Граков и Захаров пересмеивались, отпускали колкие замечания, а когда докладчик заявил, что скифскую дружину царя Атея сопровождала вспомогательная орда рабов-пасту- хов. Захаров застучал по полу клюкой; «Откуда у вас подобные данные?» Заведующий мой было замялся, но поскольку сведения эти, не очень популярные в литературе, были найдены мной у Юстина, я тут же громко назвал автора и цитированное место. Захаров в негодовании на эту выходку со стороны какого-то выскочки еще громче застучал клюкой и выкрикнул что-то вроде того, что, мол, не суйтесь, куда не просят... Я покраснел до корней волос, но был вознагражден благосклонной улыбкой нового директора музея, того самого «китаеведа по части шанхайских событий».
А через какой-нибудь год после этого Арциховский и Киселев с жаром рапортовали на весь археологический отдел о том, как они выступали в качестве свидетелей по «делу Захарова». Нужно ли объяснять, что в те времена свидетелей защиты и вообще никакой зашиты в серьезном смысле слова не существовало. В качестве же свидетелей обвинения обычно фигурировали люди совершенно определенного рода. Захарова осудили, 56
если не ошибаюсь, на пять лет, а так как это был очень больной человек, то его не хватило, кажется, и на полсрока ’.
Должен сказать, что я тогда очень плохо отдавал себе отчет в происходящем. Все эти горькие и страшные вещи не проникали в мое сознание сколько-нибудь глубоко и серьезно* Я готов был, может быть, даже допустить, что ничего особенно ужасного в этом не было. Арест, суд, заключение - все это было для меня достаточно нереально. Хотя на моей памяти у нас дома дважды производились обыски, а в 1920 году мой отец был арестован и едва избежал абсолютно ничем не мотивированного расстрела, от которого его спасли прежние революционные друзья, занимавшие в то время высокие посты в правительстве, - ’го ли Фрунзе, то ли Цюрупа.
Несколько более глубоко и серьезно меня задело событие гораздо меньшего значения, но зато оно происходило у меня па глазах. Я уже упоминал об университетском преподавателе, археологе и искусствоведе Башкирове, служившем предметом издевательства со стороны Блаватского. Еще более над ним издевались городцовские ученики, слушавшие его лекции во время обучения в Университете, в которых действительно попадалось немало перлов, вроде того, что архитектурная арка - это «оформление пустоты с внешней стороны». Всего этого я наслушался от Марии Евгеньевны, но в ее устах это звучало но крайней мере беззлобно. Издевательства же Арциховско- го и Киселева имели самые неприятные последствия. Прежде всего, они стоили Башкирову преподавательской должности в Университете, а когда ему удалось устроиться в Исторический музей, в одной из московских газет появился фельетон под названием «Олень с тоской во взоре»* 2 (тоже одна из фраз, ходившая за этим человеком). Фельетон был подписан, как помнится, какими-то никому не известными фамилиями, но Арциховский и Киселев не скрывали, что инициаторами фельетона являлись именно они. Но только когда я увидел Л.С.Башкирова плачущим перед директорским кабинетом, до меня наконец дошло полностью все значение этого фельетонного творчества. Вскоре же затем Башкиров был арестован и
’О судьбе Л.А.Захарова и Л.С.Башкирова см. в кн.: Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма: Историографические очерки. 2-е изд., доп. М., 2006. С.226-243.
2 Известна статья К.В.Тревер с тем же названием.
57
осужден за «пантюркизм» - обвинение, состряпанное, несомненно, с помощью «специалистов» историков - сами тогдашние гэпэушники вряд ли додумались бы до чего-либо подобного. К счастью, он еще до войны отсидел свой срок, а позднее получил, при поддержке академика Струве, докторскую степень за диссертацию об «антисейсмизме древней архитектуры» и кафедру в Калининском пединституте.
Если бы не это катастрофическое исчезновение людей вокруг меня, 30-е годы могли бы быть названы наиболее счастливыми и деятельными годами моей жизни. Неоткрытые процессы над известными партийно-политическими деятелями» которых мы привыкли считать основателями и организаторами нашего строя, параллельные им сообщения об осуждении и уничтожении других людей из числа военных руководителей, хозяйственников и ученых разных областей знания вызывали во мне чрезвычайный страх за собственную судьбу. В один из этих годов был арестован и В.Д.Блаватский, отделавшийся, впрочем, всего лишь пребыванием в тюрьме на протяжении нескольких месяцев и освобожденный, может быть, даже не без моего участия, поскольку я исполнил поручение его жены, попросившей меня исхлопотать для негохарактеристику у тогдашнего директора Музея изобразительных искусств, моего близкого родственника, до того занимавшего крупный пост по руководству политическим контролем (цензурой) печати и- зрелищ, сосредоточенным в то время в системе ГПУ, членом коллегии которого он являлся ‘.
На людей, выходящих из тюрьмы, пребывание там накладывает обычно некий неизгладимый отпечаток, в особенности заметный тем, кто близко знал этих людей до тюрьмы. Но на В.Д.Блаватском пребывание в Бутырках как будто ничуть не сказалось. Он, правда, почти ничего не рассказывал о связанных с его арестом обстоятельствах, но если и упоминал о пребывании в тюрьме, то почти всегда со смешком. Перемены (если это действительно были перемены, вызванные указанными обстоятельствами, а не какая-то глубоко запрятанная прирожденная сущность) я почувствовал много времени спустя.
’Этот родственник - дядя ЛАЕзьницкого Б.Е.Этингоф. В 1930- 1931 годах он занимал должность зам. зав. Главискусства, в 1932-1933 годах был директором Музея изобразительных искусств, затем до начала 1937 года работал в Верховном суде.
58
Особенно же устрашающе подействовала на меня гибель многих руководящих деятелей ленинградского ГАИМКа, каким-то образом пристегнутых к делу об убийстве Кирова. Допускаю, что не обошлось без участия некоторых сотрудников Московского отделения этого учреждения (Мишулина, Арциховского, Киселева и др.), ведших ожесточенную борьбу со своими ленинградскими коллегами и начальниками, - борьбу, не имевшую под собой ровно никаких реальных научных или политических оснований, а коренившуюся лишь в амбициозных и карьеристских побуждениях. В этом были одинаково виноваты как москвичи, так и ленинградцы, полные презрения к ненавидевшим их москвичам. Помню, как на одном многолюдном заседании Отделения общественных наук АН СССР на Волхонке ленинградские руководители ГАИМКа самым резким образом критиковали и изничтожали руководителей Московского отделения этого же учреждения. В особенности резко и оскорбительно главный руководитель ленинградцев Пригожин раздраконивал своего московского коллегу - руководителя Московского отделения - Мишулина, которому он во многом соответствовал как научный администратор, уступая ему, кажется, в академическом отношении. Разумеется, Мишулин не мог ни простить его, ни оставить все эти несправедливые нападки без ответа. А он был человек достаточно сильный в различных высоких инстанциях. Вскоре все эти ленинградцы из числа гаимковского руководства бесследно исчезли, с тем чтобы никогда больше не появляться на нашем горизонте ко всеобщему ликованию гаимковцев-мо- сквичей, более же всего Арциховского, Киселева, Брюсова и Блаватского. Впрочем, один из главных врагов московских археологов — Равдоникас, человек очень образованный и талантливый, но большой интриган, каким-то чудом уцелел, будучи все же, видимо, не из числа политиканов, как и другие уцелевшие ленинградские гаимковцы.
Наряду с этими трагическими событиями вспоминаются и другие эпизоды, носящие, скорее, курьезный характер. Так, Мишулин служил нередко предметом издевательств, впрочем довольно беззлобных, со стороны Б.Н.Гракова: «Искал-искал в греческом словаре да так и не нашел, бросил». Мишулин в имени Спартак в косвенных падежах ставил ударение на последнем слоге - Спартака, Спартаку. Как-то на заседании сектора в Институте Граков с болезненной миной на лице заметил ему: 59
«Почему вы “Спартак”, как “дурак”, склоняете?» А Арциховский как-то с большим злорадством сообщил о том, что Пригожин во всеуслышание вместо Аммиан Марцеллин произнес «Аммиан Марцеллиан»...
Еще одна забавная история связана с упомянутым выше Рав- доникасом. Он постоянно воевал с Арциховским на почве славянской археологии и с Брюсовым на почве северного неолита. Мария Евгеньевна невольно дала ему как-то повод для очень резкого суждения о Брюсове. Среди ее находок на Онеге имелся костяной идол, одна из нижних конечностей которого была приставная, из другой кости. Мария Евгеньевна приставила ее, как ей казалось, наиболее правильным образом, а я, разглядывая идольчика, нашел случайно другой и при этом совершенно бесспорный способ совмещения этой отдельной ноги с телом. Но перед этим Брюсов попросил фотографию идола для своей книги о беломорском неолите. На этой фотографии положение ноги было неправильным, а Равдоникасу Мария Евгеньевна продемонстрировала правильную реконструкцию. И тот ужасно напустился на Брюсова, посчитав именно его виновником этой ошибки. «Вот путаник... ей-богу, всегда я говорил, что он путаник...» Мария Евгеньевна смутилась и не решилась объяснить ему, как дело обстояло в действительности.
В 1939 году меня направили по просьбе С.П.Толстова, руководившего археологическими работами в Хорезме, к нему на раскопки, поскольку там имелись памятники, относившиеся Толстовым и его коллегами к бактрийской культуре, развивавшейся под античным влиянием. Моему музейному начальству да и мне самому было небезынтересно, насколько в действительности в Хорезме могло быть ощутимо влияние бактрийской и согдийской греко-иранской культуры к северу от границ названных областей. Те пункты на нижней Амударье, где производил раскопки С.П.Толстов, находились в культурном отношении между греко-иранским и ирано-скифским мирами, но, к сожалению, я не смог почувствовать там влияние этих культур хотя бы с некоторой определенностью и остротой. Возможно, конечно, что тех двух месяцев, которые я провел в Кызылкумах у крепости Аяз-кала, было мало для того, чтобы отрешиться от неприятия всего того, что выдавалось Толстовым за античность, но чуждого северочерноморскому и прикавказ- 60
скому античному миру, ставшему мне привычным по знакомству с ним в Крыму и на Тамани.
Чужды мне были не только место, не только архитектура и керамика, лежавшая на поверхности и добываемая из земли, но и сам Толстов и его способы исследования. Огорчали и частые водочные возлияния до довольно сильной степени опьянения. На подобную пьянку мы (я, ленинградский архитектор и группа московских студентов) угодили и в момент приезда. Усталые от непривычного путешествия по пустыне, под палящим солнцем на сорокаградусной жаре, мы отказались присоединиться кТолстову и его трем сотрудникам, уже находившимся на сильном взводе. Это оскорбило их в лучших чувствах. В наш адрес посыпались нелестные замечания, а затем брат С.П.Толстова даже выстрелил пару раз в нашу сторону из охотничьего ружья. На счастье, среди студентов оказался бывший матросик, с которым мы отобрали у них это дурацкое ружье и зарыли его в песок около места нашего ночлега.
Не понравилась мне и несдержанность Толстова как полевого работника. Он являлся раза два на мой раскоп с ножом в руках, садился на землю и принимался расковыривать грунт, не имея терпения подождать, покуда интересующий его горизонт не будет вскрыт как положено на всей площади раскопа. Я воспользовался ближайшей возможностью и с раскопок перешел на планиметрическую работу, которую мы осуществили вместе с ленинградским архитектором.
Антипатия наша была взаимной, но в общем не очень глубокой. Я не мог не уважать в нем исследователя среднеазиатского ирано-скифского мира с широкими и глубокими познаниями, а он, в свою очередь, как мне кажется, остался доволен моей работой. Но в следующем (предвоенном) году я с ним больше на раскопки не поехал, а вернулся на Тамань, на Фанагорийское городище, раскопки которого тоже, впрочем, перестали быть интересными, не обещая ничего существенно нового и значительного, хотя как раз, кажется, именно в этом году мы удостоились внимания со стороны газеты «Известия», чей корреспондент посетил нас и собрал материал для целого подвала.
Работая на античных городищах, отчасти также на грунтовых некрополях этих городищ, я испытывал большой интерес 61
к курганам, раскопки которых имеют свои методические особенности. Я не раз обращался к своему коллеге Б.Н.Гракову, почитая его к тому же своим учителем, с просьбой взять меня на раскопки - он-то как раз копал преимущественно скифские курганы. Но всякий раз по тем или иным причинам получал отказ. Так же как отвечал он отказом и на мои просьбы позаниматься со мной древнегреческим языком, который он преподавал музейным аспирантам, а я в нем чувствовал себя еще довольно-таки слабо. На это он отвечал, что-де я как филолог в состоянии и сам преодолеть те или иные трудности. Стыдно, мол, в таком деле обращаться за посторонней помощью. С этим я еще кое-как примирился, а вот посмотреть, как копают курганы, а еще лучше принять участие в самих раскопках, мне по-прежнему очень хотелось. А тут как раз я прознал о том, что Арциховский со своими университетскими студентами в порядке производственной практики намерен раскапывать славянские курганы туг же в Москве, в Черемушках, на территории Мен ьшиковского дворца. Я попросил у Арциховского разрешения присутствовать на этих раскопках, он согласился, поставив мне условием составление общего плана курганного некрополя, на что я тоже выразил согласие.
И я оказался не единственным посторонним лицом — «любителем» курганных раскопок. К нам на некрополь зачастил известный тогда в Москве археолог и приятель М.Е.Фосс — М.В.Воеводский, работавший в Музее антропологии при Уни-' верситете и занимавшийся палеолитом, но неравнодушный и к более поздним культурам. Приглядевшись к могильнику, он высмотрел на его периферии один довольно большой курган, определил его как вероятное княжеское погребение и стал подзадоривать Арциховского приняться за его раскопку. Тот сначала было отнекивался, ссылаясь на то, что силами студентов такую махину не раскопать, но узнав потом, что в Историческом музее одна из экспедиций по его же отделу не могла состояться, решил употребить запланированные на нее деньги для раскопки этого кургана.
Рабочие были наняты, и раскопка кургана пошла быстрыми темпами. В это время я вместе с приданым мне в подмогу студентом, впоследствии видным иимковским археологом Мон- гайтом, составлял план некрополя. Положение этого большого кургана несколько в стороне от всей группы и отсутствие вокруг него следов ровиков, обычно образующихся по сторонам
62
курганов при выемке грунта для насыпи, заставили меня приглядеться к нему более внимательно. Прежде всего я обратил внимание на то, что курган находится у угла большого правильной формы углубления, как выяснилось, бывшего пруда, вырытого в парке меньшиковского дворца, которое в это время весьма активно ровняли и засыпали два экскаватора, уже завалившие значительную часть углубления. Однако в некотором отдалении оказался цел еше другой его угол, у которого я заметил совершенно такой же «курган», как и тот, который мы принялись раскапывать. Тут же я заподозрил, что оба холма никакие не курганы, а холмики глинистого грунта, вынутого при устройстве водоема, предназначенные, быть может, для сооружения на них беседок.
Покуда я все это прикидывал в уме, курган раскопали, но не обнаружили ни могильного пятна, ни каких-либо остатков погребения и могильного инвентаря. Тогда я уже более смело приступил к Арциховскому, посвятив его в мои наблюдения и соображения. Тот очень помрачнел, но наотрез отверг мою версию. В кургане, по его словам, найден был один (!) фрагмент керамики курганного типа, что и позволяет-де ему утверждать, будто погребение было совершенно разрушено и расхищено.
Я не счел себя вправе настаивать на своей версии. Необходимо было подумать и о том, что времена наступили страшные, людей хватали направо и налево, повсеместно мерещилось вредительство, за которое вполне и могла бы сойти эта незадачливая история с раскопкой глиняного бугра вместо кургана. Не знаю - к сожалению не дошли руки, - был ли когда-либо опубликован Арциховским отчет об этих раскопках и как он истолковал эту историю позднее, когда к ней можно было отнестись спокойней и без страха, но меня в ней настраивало против него еще одно обстоятельство. Среди городцовских учеников притчей во языцех был известный петербургский археолог Веселовский, действовавший в конце XIX и в начале XX века в качестве члена Археологической комиссии и получавший очень большие средства на раскопки огромных южно- русских курганов - скифских и других кочевнических времен, который-де на раскопках проводил время в шатре за распитием прохладительных напитков, передоверяя наблюдение приказчикам и техникам, а сам выходил только в случае обнаружения каких-либо выдающихся находок. Но, к моему удивлению, Арциховский вел себя примерно в таком же роде. Шатра у него 63
не было, но он являлся на раскопки с портфелем, туго набитым бутербродами, за уничтожением которых проводил время где- либо в сторонке в холодке, тоже не утруждая себя регулярным ведением наблюдений. Иначе, конечно, прискорбный случай с глиняным холмом вместо кургана не имел бы места.
Кажется, именно в том же году Арциховский защищал докторскую диссертацию по небольшой работе, представлявшей собой археологическую интерпретацию миниатюр Кенигсбергской летописи. В те времена подобные защиты еще только входили в моду. За все довоенное время едва ли упомню хотя бы три-четыре подобных защиты. То ли Арциховский был достаточно дальновиден, то ли ему это действительно понадобилось для получения профессорского звания - не знаю. Во всяком случае, я почему-то пошел на его защиту, можетбыть именно в силу ее необычности. К сожалению, не помню фамилий его оппонентов. Один или двое (если их уже тогда полагалось иметь в числе трех) не явились, но один оказался налицо и говорил много неприятного, уличая диссертанта в разного рода промахах. Главное же, что мне запомнилось, - это подчеркнуто пренебрежительное его отношение к самой процедуре и к диссертанту, которого он неуклонно именовал «профессор Арцишевский». Думаю, что он не мог не знать его настоящей фамилии, а просто подчеркивал этим кажущимся незнанием свое нарочитое безразличие, даже презрение к происходящему. Меня это все отчасти позабавило, отчасти я даже почувствовал в его презрении как бы некоторое оправдание моей собственной позиции по отношению к этим средневекового толка защитам диссертаций и к самому Арциховскому. Но рядом со мной сидела О.А. Гракова — сотрудница Исторического музея и жена Б.Н.Гракова, в те времена находившегося с Арциховским в самых скверных отношениях. И вот она, к моему удивлению, выразила вслух те чувства, которые должен был испытывать сам Арциховский, оттого что оппонент всякий раз перевирал его фамилию. «Какое безобразие», — воскликнула она, оскорбленная, быть может, столь явным пренебрежением маститого историка к археологу. А ведь еще совсем недавно она же горячо возмущалась тем, что при перестройке экспозиции курганных коллекций славянских племен, производившейся сотрудниками отдела Арциховского при его личном участии, весь пол экспозиционного зала оказался усеян обломками бронзовых украшений, небрежно и грубо прибивавшихся к стеллажам гвоздями. Возмущалась она 64
еще и тем, что Арциховский не решился протестовать в дирекции музея против продажи какому-то иностранцу уникального серебряного византийского голубка, весьма украшавшего экспозицию и представлявшего собой ценный объект нашей коллекции вещей византийского происхождения.
Опять-таки приходится напомнить о том, что Арциховско- му было бы рискованно заявлять по этому поводу протесты, поскольку речь шла о валюте, в которой тогда у начальства ощущалась большая нужда* Кроме того, у этого человека, может быть, действительно были причины для осторожности, поскольку поговаривали, будто он, в бытность гимназистом одного из последних классов, бегал к белым...
Быть может, не менее сложное положение было и у Киселева, происходившего, сколько помнятся мне кое-какие на этот счет разговоры, из семейства крупного морского офицера. Все это, конечно, не должно что бы то ни было оправдывать, но по крайней мере может, вероятно, кое-что объяснить. Трудно удержаться и от мысли, что весьма удачным образом расчистилась для Киселева почва в области археологии Сибири, поскольку возглавлявший ее крупный ленинградский ученый С.А.Теплоухов исчез бесследно еще, кажется, в 1927 году. На такого рода сопоставления наталкивает меня непроизвольно один происшедший в моем присутствии разговор между ним и еще двумя-тремя музейными археологами о том, что, разумеется, в каждом учреждении имеется лицо, связанное с ГПУ по линии тайной агентуры. Не отрицая этого, Киселев вдруг сказал: «А вы знаете, кто исполняет эту роль у нас в МОГАИМКе? Ни минуты не сомневаюсь, что Иван Иваныч» (и он назвал одного из канцелярских сотрудников). Однако, сопоставляя вышеизложенные соображения и факты, упомянутые раньше, скорее приходится допустить, что роль эту, если таковая существовала в действительности, исполнял именно он сам, а указанием на мелкого и незадачливого канцеляриста просто-напросто старался отвести от себя вероятно не одному мне приходившее на ум подозрение...
Подобные же подозрения в сотрудничестве с ГПУ существовали и в отношении археолога и этнографа Худякова, сотрудника ленинградского ГАИМКа, очень нелюбимого и в Москве и в Ленинграде. И эти слухи имели для него самые трагические последствия. В середине 1930-х годов приезжал к нам в Ленинград глава финской археологии А.М.Тальгрен, 65
выученик Петербургского университета, довольно свободно объяснявшийся по-русски. С конца 1920-х годов он издавал непериодические сборники «Eurasia Septentrionalis antique», заполнявшиеся преимущественно переводами на европейские языки работ русских археологов. Сборники «Советская археология» выходили тогда тоже нерегулярно и редко, так что «Евразия» служила некоторым подспорьем в возможности опубликования чисто археологических работ, без социологической окраски. И Тальгрен приезжал именно для сбора новых материалов к последующим выпускам «Евразии» и каких-либо новостей для археологической хроники и хроники научной жизни, которые он составлял сам. По его возвращении домой и по выходе очередного выпуска «Евразии» мы прочли об аресте ряда ленинградских археологов. За получение этих сведений Тальгрен печатно поблагодарил Худякова. Говорили, что Тальгрен сознательно, руководствуясь жалобами ленинградских коллег, упомянул Худякова в качестве источника сведений об арестах, желая таким образом дезавуировать его в глазах нашего соответствующего начальства. Худяков действительно тотчас же исчез, его арестовали, и о его судьбе в дальнейшем не было ничего известно.
Перед самой войной защищал на ученом совете ИФЛИ, докторскую диссертацию Б.Н.Граков. Об этой защите я знати от него довольно задолго до ее осуществления. Диссертацию он спешным порядком составил из своих прежних работ по древнегреческой керамической эпиграфике. Говорил о ней в пренебрежительном тоне, как и о предстоящей церемонии ее защиты. Осуществление ее он оправдывал необходимостью укрепить свое положение в ИФЛИ. На этой церемонии я тоже присутствовал и мысленно сопоставлял ее с защитой Арцихов- ского. Насколько все было иначе. Оппонировали ему, сколько помнится, Ю.В.Готье, Н.А.Машкин и Н.Ф.Дератани. Все было чинно-благородно, речь шла о настоящей науке, и на душе было легко от какой-то очень приятной атмосферы, вообще царившей в ИФЛИ. Кажется уже после голосования, в президиуме заседания показался Ю.М.Соколов, появление которого было встречено довольно дружными аплодисментами. «По какому случаю аплодируют Соколову?» - спросил я одного из сидевших по соседству ифлийцев. Тот сначала было замялся:
66
«Не знаю... Да просто потому, что очень хороший человек!» Вероятно, именно это обстоятельство придало этому заседанию удержавшуюся в моей памяти легкость и радость.
Увы, все это кончилось через считанные недели. О возможности войны с немцами поговаривали еше с весны. На собрании археологического кружка в ИФЛИ, которым руководил Граков, тоже будто бы происходил какой-то разговор об этом, в ходе которого он якобы заметил: «Ну, если действительно произойдет война с немцами, они нам, пожалуй, вмажут...» После этого он отсутствовал дома дня два, а вернулся другим человеком. Скепсиса и фрондерства как небывало. Нательный крест тоже исчез. Во время формирования ополчения он отсиделся дома, а во время первых бомбардировок Москвы прятался в подвалах Исторического музея.
Весь мужской состав археологических отделов Музея изъявил готовность служить в народном ополчении, за исключением А.Я. Брюсова, проведшего Первую мировую войну в германском плену. Видимо, это обстоятельство отбило у него охоту от каких-либо встреч с немцами. Кроме того, он был значительно старше нас всех - ему уже шел шестой десяток. А мы с моим заведующим оформлялись в ополчение вместе. Он почему-то предпочел сделать это с музеем, а не с МОИ ИМ Ком, на чем порядочно прогадал. Прочие иимковцы почти все были очень быстро из ополчения отозваны и эвакуированы на восток. Из знакомых мне могаимковцев оставался в ополчении один только сравнительно молодой этнограф Золотарев, попавший и то же, что и мы, окружение, вышедший из него, но умерший от воспаления легких во время прохождения политпроверки в СМЕРШе.
Моим ближайшим музейным коллегам война обошлась гораздо легче, чем мне. Е.И.Крупнов был еще в августе или сентябре эвакуирован из-за тяжелого желудочного заболевания, а заведующий наш, А.П.Смирнов, попав в окружение, благополучно из него вышел, после чего был переведен на тыловую политработу. Пережить плен и вернуться по окончании войны домой из числа музейных археологов довелось, кроме меня, еще Д.А.Крайнову. Потеряв из вида всех музейных коллег в самом начале моей военной службы (мы оказались в разных подразделениях), я встретился с Крайновым случайно в самую ночь нашего пленения, с тем чтобы затем оторваться от всех моих прежних связей на все время войны.
67
4. Война и плен
Поскольку можно считать, что все военное время (с начала октября 1941 года до конца апреля 1945 года) я провел в германском плену можно было бы даже не напоминать о том, что все эти годы я был оторван не только от советской, но и от какой бы го ни было пауки вообще. Однако, поскольку речь у меня ведется не столько о самой науке, сколько об околонаучных обстоятельствах, считаю необходимым изложить здесь некоторые воспоминания, камнем лежащие в моем сознании. А поскольку эти воспоминания относятся уже к 1945 году, вероятно небезынтересно упомянуть и о том, как и в каком состоянии я оказался перед этими обстоятельствами, живыми до сих пор в моей памяти.
Многие люди интеллигентных профессий на моих глазах на войне и в плену как бы совершенно забывали о том, чем они были в довоенной жизни. Реальные обстоятельства всячески побуждали и понуждали к отрешению от всего того, что могло служить разве только помехой и без того расстроенному и до последней степени угнетенному сознанию. В моем случае, однако, сами обстоятельства не допускали меня до этого.
Первые недели плена я принужден был еще более напряженно делать то, что избрал для себя в качестве военной спе?, циальности в нашей армии, - оказание медицинской помощи. Инструктор батальонного санвзвода, в плену я оказался единственным среди нескольких тысяч человек обладателем кое- каких медикаментов, а главное, желания и энергии собирать лежащих по окрестным избам и по сараям раненых для оказания помощи и дальнейшей транспортировки, на что мною была получена санкция немецкого начальства. Во-первых, сама эта деятельность несколько подымала меня над обстоятельствами и вызывала некоторое уважение со стороны немцев, хотя, разумеется, не всех. Когда на вопрос — не еврей ли я, с моей стороны следовал отрицательный ответ, задававший этот вопрос человек принимал его с большим или меньшим недоверием. Но когда на вопрос о моей гражданской специальности узнавали, что я археолог, то реакцией на это почти всякий раз было выражение определенного уважения со стороны людей самых разных образовательных уровней.
Подымаясь насколько возможно над обстоятельствами, я действительно не давал в себе совершенно угаснуть археоло68
гическим интересам: оказываясь где-нибудь на берегах рек, разглядывал кремешки, а при наличии под ногами признаков культурного слоя, собирал также и обломки керамики. Наблюдая за мной, некоторые молодые немецкие солдатики проявляли интерес к моей деятельности и принимались мне помогать, чем обычно вызывали гнев своего непосредственного начальства — фельдфебеля или унтера. «А почему вы не ругаете за это Ельницкого?» — оправдывались они. «Это его специальность, а к чему оно вам? Изучали бы лучше пулемет...»
В селе Городок, на холме, расположенном в центре села, я подобрал горсть обломков орнаментированной керамики XIV-XV веков и рассказал об этом начальнику нашего лагеря, а он сболтнул командиру военной части, расположившейся возле нас на отдых. Меня вызвал очень интеллигентный офицер, проговоривший со мной на археологические темы битый час. Закончился разговор предложением походатайствовать как-либо за меня перед моим начальством. Подобный интерес ко мне, смешанный с известным сочувствием со стороны интеллигентных людей, в особенности же со стороны лиц, связанных в мирной жизни с литературой или наукой - гуманитариев, геологов и т.п., сопровождал меня на протяжении всего плена. Сведения об археологе-переводчике среди русских военнопленных достигли наконец даже начальника военной дороги, на которой располагались наши лагеря. Он остановил машину у ворот, вызвал меня, представился как геолог и обещал мне свое содействие, призывая к мужеству и терпению. По его распоряжению - правда, не скоро, только через год, - меня перевели в Минск и определили помощником служителя при маленькой дорожно-грунтовой лаборатории. Служителем в ней был очень добродушный старичок-немец, берлинский дорожный рабочий, подаривший мне позднее древнегреческо- немецкий карманный словарь, купленный им у букиниста. Заведовал лабораторией доктор Зимон из Гамбурга, с которым мы иногда вели разговоры на геолого-археологические и иные гемы. Когда позднее лабораторию за ненадобностью ликвидировали, доктор Зимон так искренно и настойчиво пытался меня определить куда-либо на службу, что мне было неловко отвечать ему прямым отказом, и я прибег к устрашению врачей на медкомиссии туберкулезом и тропической малярией в моем анамнезе. Этот прием, вкупе со стараниями доктора Зимона, обеспечил 69
мне пребывание в лагере для мобилизованных на прифронтовые дорожные работы людей из оккупированных европейских стран. Обслуживался он русскими военнопленными. Именно тут мне довелось встретиться с двумя моими коллегами - музейными работниками из Керчи. Это были Алла Юльевна Марти, с отцом которой Юлием Юльевичем Марти, директором Керченского музея, я неоднократно встречался на деловой почве, и её муж. Оказавшись в оккупированной Керчи, они, взяв с собой некоторые оставшиеся коллекции, эвакуировались по собственной воле в Германию. Узнав о моем пребывании в лагере Тфуневальд, они приехали ко мне в гости. Когда я вышел им навстречу из лагерных ворот, то почувствовал еще издали, что они приближаются ко мне с такими же двойственны ми чувствами, как и я к ним. Соотечественники, коллеги, мы встречались как таежные бродяги, не знающие, что у кого за пазухой, и выжидательно поглядывающие друг на друга. Поздоровавшись и войдя в наш барак, мы уселись, окруженные любопытными взглядами моих лагерных товарищей. Коротко рассказали друг другу наши истории. Я спросил их о Н.П.Кивокурце- ве — сравнительно молодом и хорошо мне известном сотруднике Керченского музея, с которым мне приходилось сталкиваться на почве наших общих занятий древнегреческими амфорными клеймами. «Он погиб в ополчении, - сказала Алла Юльевна. - Последний раз мы видели его незадолго до взятия города немцами, когда он буквально приполз в Музей...»
Мне был совершенно понятен их отъезд из обращенного в поле боя, совершенно разоренного города. Прочтя в моих глазах некоторое удивление при сообщении о вывозе коллекций, Алла Юльевна, не дожидаясь вопроса, объяснила: «Там их нельзя было оставить. Это означало бы бросить. Хотелось все же, что возможно, сохранить...»
То, что мы раньше были мало знакомы, и то, что очутились в Берлине различными путями, в силу не совсем одинаковых обстоятельств, не помешало нам ненадолго подружиться. Слишком уж важно оказалось то, что нас связывало: общие довоенные обстоятельства и в какой-то мере одинаковая судьба. Это было гораздо важнее того не столь уж существенного и серьезного, что нас разъединяло, хотя по этому поводу и можно было бы, вероятно, наговорить разных высокопарных слов. И эти слова Алла Юльевна услышала в недавнее время, к счастью, только нс от меня.
70
В Германии, на юге страны, образован был некий центр - приют для археологов, эвакуированных из оккупированных стран, о которых заботился известный у нас достаточно хорошо археолог Райнерт. Алла Юльевна сказала мне, что они с мужем, как им объявили, должны быть направлены к Райнерту, но до того, как это станет возможно, им предстоит прожить некоторое время в Дрездене. При расставании она мне грустно сказала: «У меня к вам очень большая просьба: вы, вероятно, вернетесь на родину...» Я перебил ее: «Почему вы не допускаете для себя такой возможности?» Она еще более грустно покачала головой: «Я прошу вас передать моему отцу все, что вы обо мне знаете...» Я, разумеется, обещал ей это, но, к сожалению, выполнить обещание не получил возможности.
Из Дрездена пришла от Аллы Юльевны открытка с описанием ужасного разгрома города в результате английской ночной бомбардировки. В последующей открытке она очень настаивала, чтобы я поехал вместе с ними к Райнерту. Еще задолго до этого меня побудил написать Райнерту доктор Зимон, и когда я, чтобы не огорчать его, исполнил это настояние, он хотел исправить ошибки в моем письме. Но тут уже я настоял на том, что Райнерт должен знать, с кем имеет дело, и не обманываться в отношении моих реальных возможностей. А я был почему-то уверен в отрицательном ответе профессора Райнерта: неизвестный в Германии русский археолог-антиковед, к тому же малограмотный в отношении немецкого, вряд ли окажется ему ко двору... Позднее я получил ответ, который содержал обещание принять меня к себе, после того как в его приюте будет построен новый барак.
В последние месяцы существования фашистского Берлина мое положение в лагере Груневальд сделалось более вольготным, у меня появилось свободное время в дневные часы, я стал чаше бывать в городе и как-то забрел в берлинскую Штаатсбиблио- теку, вход в которую уходил в глубокий подвал, напоминая скорее вход в бомбоубежище, не раз при этом уже пострадавшее от попаданий бомб. Я спросил при входе в помещение, в котором виднелись стеллажи с книгами, что нужно для того, чтобы стать читателем библиотеки. Мне ответили, что это возможно лишь в случае большой и срочной необходимости, в подтверждение чего надо иметь ходатайство учреждения. Начальник нашего лагеря написал мне такое ходатайство (в котором хотя и не содержалось подтверждения необходимости, но свидетельствовалось 71
мое корректное поведение), но я все-таки разрешения посещать библиотеку на основании этого документа не удостоился.
А об Алле Юльевне я получил неожиданное сообщение в самое недавнее время. Одна моя приятельница, тоже бывший музейный работник, хорошо знавшая семейство Марти, рассказала мне, что на каком-то послевоенном международном конгрессе Алла Юльевна подошла к Арциховскому и представилась ему, на что последовал поток брани, обвинения в предательстве и т.п. «Нашла, к кому обратиться», - добавила моя приятельница... Вот уж поистине так! Ему, конечно, важнее всего было проявить «принципиальность». Что он, эвакуированный куда-нибудь в Ташкент, мог знать о тех условиях, какие сложились в Керчи и вообще в Крыму в период жестокой борьбы за полуостров? Какое ему до всего этого было дело — ему, человеку, всегда стремившемуся забежать вперед и обязательно в заданном направлении. Хорошо помню, как перед самой войной он громко распинался о том, что в Германии вся наука фашизирована, хотя ему, человеку, знавшему языки, ничего не стоило убедиться в том, что это не так, взяв в руки любой археологический журнал. И непонятно, собственно для чего это нужно было, чтобы оно казалось так. Для чего нужно было преувеличивать, универсализировать фашизм? Разве только для того, чтобы легче было выдавать свою поверхностную назойливую трепотню за науку? И зачем нужно было с та-» ким «патриотизмом» разговаривать с А.Ю.Марти? Не лучше лй было бы поговорить с ней о возможности возвращения керченских коллекций?
Из разговоров с доктором Зимоном, а также и из отдельных личных впечатлений я почерпнул некоторые, впрочем совершенно отрывочные, представления об организации научной работы о Германии, преимущественно, разумеется, о военных аспектах этой организации. Прежде всего стало ясно, что у них, видимо, не было по чисто практическим условиям, поскольку вся территория Германии оказалась в сфере воздушной войны, эвакуации научных учреждений в том роде, как это было проделано у нас. «Эвакуированы», точнее свернуты и запрятаны, были только музейные коллекции да некоторые большие библиотеки. Что касается торгового книжного фонда, в том числе антикварно-букинистического, то он, видимо, пострадал от бомбежек очень сильно. Во всяком случае, в Берлине в 1944- 45 годах существовали преимущественно букинистические ла72
ночки на колесах с очень ограниченным выбором книг. Я спрашивал: «Может быть, у вас где-нибудь имеется склад, с большим количеством книг?» - «У нас нет никаких складов». — «Но куда же девались книги из больших книжных магазинов?» - «Это все погибло». - «Но почему же их не спрятали?» - «Мы не знали, что будут возможны такие бомбардировки. Гитлер обещал, что ни одна бомба не упадет на немецкую землю...»
«Что же будет с немецкой наукой после войны?» - думал я. Организация немецкой науки по части древнеисторических дисциплин вообще представлялась мне образцовой. Я полагал, например, что в Германии практически любая рукопись, мало- мальски имеющая научное значение, может быть без труда опубликована. Я думал так, руководствуясь всем, что мне довелось вычитать из многочисленных предисловий к разным изданиям. На эту же мысль наводило и наличие очень большого количества периодических изданий. Однако брошенное Зимоном однажды вскользь замечание: «Всякий раз возникает вопрос, должна ли быть напечатана именно эта статья или какая-либо другая» — заставило меня усомниться в моих прежних на этот счет представлениях. «Стало быть, - подумал я, — и у них люди испытывают примерно те же волнения и огорчения из-за затруднений, связанных с публикацией? Журналов-то у них много, но, видно, и авторов соответственно больше, чем у нас?»
У Зимона как заведующего дорожной лабораторией при штабе соединения «Организации Тодт» (нечто вроде Всероссийского земского союза эпохи Первой империалистической войны) был довольно высокий чин, судя по звездочкам на погонах, соответствовавший, вероятно, майору или оберегу. Его начальника, командовавшего всеми частями ОТ на дороге, ведшей из Польши до самого восточного фронта, они называли генералом, хотя на нем не было никаких знаков различия и который, так же как и доктор Зимон, был геологом по образованию. Как-то я спросил Зимона, все ли научные специальности не подлежат призыву в действующую армию. Он отрицательно покачал головой: «Нет, это дело случая. Я по состоянию здоровья не подлежу службе в армии. У меня миниатюрное сердце...» Действительно, как-то к нему пришел некий армейский унтер-офицер, с которым он весьма предупредительно разговаривал. После его ухода Зимон сказал, что это его коллега, очень способный геолог.
Как-то он дал мне для прочтения учебник дорожно-строительной геологии, автором которого значился некий про- (|>ессор с итальянским именем, Я спросил, не итальянский ли 73
это труд. «Нет, - ответил Зимон, - он немец и теперь заведует всей геологической службой в Центральном управлении ОТ». И когда мы всем составом лаборатории прибыли в Берлин, вернее, в какое-то его предместье, где среди моря развалин стоял ничуть не пострадавший от бомбардировок дом и к типа коттеджа, Зимон сказал, что это и есть ОТ-централе и что мы должны войти внутрь и доложиться начальству. Я было думал, что меня оставят снаружи, и осведомился, где именно я должен подождать, но Зимон заявил, что кочет представить меня профессору. Это оказался не старый еще человек, совершенно итальянской внешности. Несмотря на мой весьма непрезентабельный вил — русская, видавшая виды, шинель, на голове самодельный картуз, на ногах какие-то опорки, - он был в меру вежлив со мной и любезен. Носил он гражданское платье, что, конечно, вовсе не означало, что он находится на своем посту по доброй воле, а не в порядке мобилизации. Впрочем подобное использование крупных специалистов в военное время представляется мне более рациональным, чем пребывание в эвакуации, в глубоком тылу и при видимости какой-то научной занятости, которая в тех условиях вряд ли могла быть хоть сколько-нибудь нормальной и производительной.
5. Передышка
Вернувшись в октябре 1945 года в Москву, я нашел почти всех на своих местах. Из числа научных работников лишь очень немногие оказались в действующей армии, погибли или прошли через плен. Но научная жизнь, в особенности же издательская деятельность, восстанавливалась с некоторым трудом и очень медленно.
В Исторический музей меня как бывшего военнопленного, находящегося на «госпроверке», не взяли (директорша А.С.Карпова мотивировала свой отказ тем, что-де Музей находится на Красной площади!). Я, быть может, мог бы вернуться туда через посредство прокуратуры, поскольку действовало, кажется, общее правило, что репатрианты возвращались на прежнее место работы, но меня самого как-то не очень тянуло обратно в Музей, тем более что в Академии наук со мной обошлись милостивей, и Мишулин пообешал мне внештатную работу, как только возобновится наш богоспасаемый «Вестник». Хотя это произошло не раньше, чем через полгода, я не 74
чувствовал себя очень обездоленным. По предложению моего товарища А.К.Тарасенкова (также сравнительно недавно вернувшегося с Балтийского флота и ставшего секретарем редакции журнала «Знамя», а редактировал его Твардовский, тоже мой давнишний товарищ) я написал для этого журнала статью о новых пьесах исторического содержания, которую тут же и напечатали 119). Это был мой первый послевоенный заработок.
В.Д.Блаватский в качестве научного руководителя и старшего товарища был для меня тем же, чем и Б.Н.Граков, с той лишь разницей, что в Блаватском я никогда не чувствовал по отношению к себе и тени недоброжелательства, нет-нет да и проскальзывавшего в отношении ко мне Гракова. Наоборот, он всячески давал почувствовать свое расположение. Поэтому, когда я в октябре 1945 года возвратился из плена, одним из первых моих коллег, к которому я побежал сейчас же, чуть ли не на другой день по приезде, был именно он.
Отворив мне дверь, Блаватский, однако, не пригласил меня войти к нему, а сам вышел на лестницу. «Вот вы вернулись, - сказав он, — а Федоров, очень-очень способный человек, погиб...»
Я был настолько ошарашен таким приемом, что не мог как то сразу его принять всерьез и оценить по достоинству, - ретировался более смущенный, чем обиженный. Первое, что мне пришло в голову, это то, что он меня испугался как выходца с «того» света.
Выше я упоминал о том, что обращался по поводу Блаватского, когда его вдруг посадили в тюрьму году в 1935-ом, к одному моему родственнику', влиятельному в те времена как раз именно по этой части. Когда я ему рассказал теперь о приеме, оказанном мне Блаватским, тот с досадой сказал: «Вот негодяй, ведь я же его, дурака, тогда из тюрьмы вытащил...» Лет через десять после этого, в особенности по появлении некоторых моих печатных работ, Блаватский, видимо, был готов переменить позицию, но теперь у меня с ним не пошло дальше «здравствуйте-прощайте». Слишком горек был испытанный мной афронт и слишком несправедлив...
В самом конце 1945 года появился на моем горизонте А.Б.Ранович, возвратившийся из эвакуации, которую он провел, как выяснилось, в Уфе. Работал, кажется, в каком-то
’См. примеч. на с. 58.
75
высшем учебном заведении и на все корки ругал тамошние научные силы. «И откуда только берутся такие люди? Поверите ли, просто даже и не подозревал о возможности их существования...» Встретил я его в Библиотеке общественных наук (ФБОН АН СССР), где открылась выставка новых зарубежных поступлений в области исторической литературы, в том числе и подревней истории.
Положение мое представлялось мне достаточно неопределенным. То и дело приходилось слышать о том, что посадили то одного, то другого из возвратившихся из плена или из оккупированной немцами зоны людей. Посадили Д.А.Крайнова. Посадили мужа моей знакомой филологички-антиковедки - члена партии, попавшего в плен в бессознательном состоянии, с ранением в голову. Посадили моего товарища по ополчению - физика-атомщика, вузовского преподавателя П,И.Воронова. А об одном его товарище по плену - библиографе Ленинской библ ио теки — жена era, тоже сотрудница этой библиотеки, рассказала мне, что он умер надопросе по делу Воронова... Все это приводило меня в глубочайшее уныние. Каждый день я ждал ареста. Паспорта мне не дали, а выдали в милиции бумажку, из которой явствовало, что я не имею права выезда из Москвы, и продлевать которую я обязан был каждые три месяца.
Переиздание хрестоматии В. В.Латышева
Но А.В.Мишулин отнесся ко мне хорошо, приглашал меня на заседания сектора древней истории, которым по-прежнему заведовал в Институте. Как только возобновилось в 1946 году издание «Вестника», он дал мне, хотя и внештатно, но с постоянным заработком работу в редакции. Время шло, а меня не трогали. Вскоре мне было поручено составление комментария к текстам переиздававшейся в приложении к журналу латы- шевской хрестоматии «Известия древних писателей о Скифии и Кавказе»1, печатание которой было рассчитано на три года. И все эти три года я проработал довольно спокойно, не считая
Знаменитый труд академика В.В.Латышева «Scythica et Caucasica» — свод литературных источников античных писателей о Скифии и Кавказе, издан В1893-1906 годах в двух томах, включавших свидетельства греческих и латинских писателей. Эта работа была переиздана в приложениях к журналу ВДИ в 1947-49 годах, с дополнениями и расширенным комментарием. Некоторые дополнения вышли позднее, в 1952 году, № 2.
76
не совсем понятных мне вызовов то в военкомат, то в какую-то районную прокуратуру, оказавшуюся на поверку отделением Лубянки. По-видимому, последний вызов и повлиял в особенности на мою судьбу, так как мне и тут и там предлагали работу, а я от нее отказывался, заявляя, что хочу заниматься наукой...
Наш богоспасаемый «Вестник» стал после войны на глазах разрастаться, появились новые сотрудники редакции. Если раньше это были Мишулин (редактор), Ранович (его заместитель) и секретарша редакции (она же машинистка), то теперь, кроме первых двух, появились ученая секретарша (Н.М.Постовская), завред (Я.А.Ленцман) и сотрудник, специально ведавший приложениями (О.В.Кудрявцев), при котором находились два внештатных сотрудника: один поставлял текст, точнее, редакцию русских его переводов (С.П.Кондратьев), другой (именно я) — примечания, при благоприятных условиях обращавшиеся в ученый комментарий. Эти благоприятные условия возникали для меня далеко не всегда. Первоначально мне было сказано, что я должен дополнять леммы (сведения об авторах) и примечания Латышева - и то и другое лишь в случаях нужды. Вообще же примечания предполагались очень лаконичными и абсолютно элементарными (по принципу: Бо- рисфен - это Днепр). Потом Рановичу сделалось понятно, что серьезным оправданием переиздания русского перевода древних текстов хрестоматии Латышева может служить, помимо некоторых дополнений за счет введения в нее древневосточных источников и расширенного использования авторских текстов, именно глубокий филолого-исторический комментарий, в результате чего мне и разрешили расширять и углублять мои примечания.
После смерти обоих первых редакторов журнала, при которых была опубликована греческая часть хрестоматии, редактором «Вестника» фактически сделался НАМашкин, вообще говоря, совершенно резонно смотревший косо на приложения, но не имевший возможности их вовсе похерить. Он опять пошел по единственно возможной для него линии - сокращения примечаний. Я-то старался-старался, в отдельных случаях предпринимал настоящие исследования (в особенности это относилось к Плинию), а он ничтоже сумняшеся безжалостно вычеркивал комментарии, казавшиеся ему непомерно длинными. Таким образом высвобождался листаж для других 77
надобностей. Едва удалось согласовать с ним дополнения, обнаруженные и собранные мною тогда, когда соответствующие авторы уже были напечатаны. Этого рода дополнения по решению еще Мишулина должны были появиться в свет в 1950 году, по окончании переиздания всей хрестоматии.
Однако я несколько забежал вперед. Надо сказать, что редакция, помимо увеличения штата сотрудников, получила еще и редколлегию, состоявшую из нескольких крупных ученых Москвы и Ленинграда, которым иногда посылали на просмотр и на отзыв тот или иной близкий им по научному профилю материал, но которые очень редко появлялись в редакции. Я не помню, во всяком случае, чтобы эта редколлегия когда-нибудь заседала нормальным образом.
Раз или два на моей памяти устраивались открытые и расширенные заседания редколлегии, на которые приглашали и меня. Одно из них было посвящено экзекуции С.Я.Лурье, которого пытались обвинить в каком-то нарушении официозной идеологической линии. Спровоцировано это было, несомненно, Рановичем, все время враждовавшим с ленинградскими коллегами, в особенности с С.ЯЛурье и В.В.Струве. Доклад об ошибках С.Я.Лурье должна была сделать аспирантка Мишулина О.Н. Юл кина, исполнявшая свою роль довольно неохотно и несколько истерично. Заседание редколлегии по тогдашним правилам сопровождалось чаепитием с пирожными. Помню, как она по окончании своего выступления опустилась на стул с восклицанием: «Ну вот, слава богу, и все, дайте-ка мне поскорее чаю...» — и накинулась на угощения.
Однако счеты с Лурье сводились и другим способом. Один раз от него были получены сразу три небольших статейки на довольно-таки разные темы. Эта посылка вызвала со стороны Рановича и Ленцмана настоящую индейскую военную пляску с томагавками. Они кружились у стола, на котором лежали эти злосчастные статейки, и не находили слов для возмущения. Ни одна из них, кажется, так и не была напечатана.
Если вражду с ленинградскими коллегами наших московских археологов можно было, вероятно, объяснять какими-либо взаимными претензиями, то соответственные проявления ее в редакции «Вестника» представлялись мне уже совершенно неоправданными и уродливыми.
В 1948 году мы похоронили А.Б. Рановича, умершего от рака
78
кишечника. Мишулин произнес над ним очень прочувствованную речь, как мне показалось, весьма грустную и не лишенную предчувствий. Эти предчувствия оправдались не далее чем через год или полтора — он умер от рака легких.
У Рановича я побывал дома незадолго до его смерти, но не предвидел еще серьезности его болезни, и потому у меня не хватило такта не хвастаться перед ним моими работами, исследовательскими догадками и не заговаривать с ним о возвращении к делам. Он-то, видимо, хорошо понимал свое положение, но не считал нужным говорить об этом с другими.
О смерти Мишулина, для меня уже совсем неожиданной, - на вид это был очень крепкий и не старый еще человек — я узнал от его жены, поведавшей нам в редакции о его предсмертных страданиях. Все это получилось как-то уж слишком одно к одному.
Им обоим я был очень признателен за поддержку, а иногда даже и неожиданное для меня расположение. Однажды был такой случай: мой шурин, явившись поздно ночью домой, не ianep за собой входную дверь, из-за чего у нас унесли всю верхнюю одежду. Я без какой-либо задней мысли рассказал об этом и редакции и тут же получил от Мишулина предложение выписать мне весьма значительный аванс, от которого с большим смущением отказался.
Впрочем, пребывание с ними бок о бок обнаруживало иногда такие их качества, которые вызывали во мне недоуменные чувства. Однажды Мишулин почему-то вдруг усомнился в доброкачественности рецензии академика В.И.Пичеты на какую-то книгу по истории ранних славян и попросил меня отвезти ее на отзыв к С.В.Бахрушину. Я пытался втолковать ему, что Бахрушин ни за что не примет на себя этой миссии. «Л вы попробуйте, — сказал вкрадчиво Мишулин, — может быть, все-таки он согласится?» Мишулин, видимо, рассчитывал на какие-то, ему очевидно известные, несогласия между названными учеными. Но Бахрушин повел себя еще резче, чем я мог предвидеть: «Как вы решаетесь делать мне подобные предложения? Неужели вы думаете, что я могу заподозрить Владимира Ивановича в неспособности написать рецензию? Да что бы он ни написал, он имеет на это право...» Я стал извиняться и пробовал объяснить, что это не моя, а мишулинская затея, но что я не мог отказаться от этого поручения. Бахрушин был возмущен до чрезвычайности и дал понять, что ему дела
79
нет до того, как это все получилось, захлопнув дверь перед моим носом... А Мишулин отнюдь не был этим обескуражен. Не помню, впрочем, была ли эга рецензия напечатана.
Ранович, конечно, не был способен на подобные эксцессы, но своеволие в решении редакционных дел, келейность в осуществлении подбора и оценки материала, недоброжелательное отношение к своим преуспевающим коллегам были ему в полной мере свойственны. В особенности он был ревнив в вопросах библеистики и раннего христианства. В эти области никто не должен был вмешиваться, собственно, не должен был даже в них и соваться.
Говорят, у него произошел жаркий бой на докторской защите с выступавшим в качестве оппонента В.В.Струве, обвинившим Рановича полусерьезно в... антисемитизме. Антисемитом он, как человек еврейского происхождения, конечно не был (хотя, как известно, бывали и такие случаи), но писал он под псевдонимом. Б.Н.Граков недолюбливал его как за национальность, так и за редакторское самоуправство. «Ну этот все сокращает, - говаривал он мрачно, - даже и фамилию свою сократил...» (фамилия Ранович произошла от Рабинович).
Как-то я предложил Рановичу статью о греко-римских простонародных празднествах - Крониях-Сатурналиях [25], обря^ которых был связан с социал ьно-утопически ми представлениг ями о Золотом веке, имея в виду в качестве участников празднества преимущественно рабов. Он одобрил статью, но выкинул из нее все то, что относилось к раннехристианскому рассказу о казни Иисуса Христа, представляющему явные параллели праздничному обряду казни шуточного царя Сатурналий. Стараниями ученых П.Вендланда и Дж.Фрэзера оба религиозных факта были сопоставлены и прослежены на материале разноплеменных и разновременных «сатурн ических» празднеств.
Я не мог не высказать ему моего удивления по этому поводу. Он ответил мне несколько туманно, что-де не нужно смешивать в одно вещи все-таки разные — социально-утопические и религиозно-нравственные. «И вообще, — добавил он, - не надо стараться преподнести в одной статье все, что вам известно по данному вопросу...»
Я понял из этого только то, что он, видимо, не разделяет мнения названных выше ученых о связи христианства и Сатурналий, хотя Фрэзер очень детально проследил эти связи
80
не только в отношении римских Сатурналий, но и древнееврейского Пурима, в свою очередь обнаруживающих прямое соответствие древнеиранским Сакеям. Позднее я убедился в том, что Ранович с очень большим скептицизмом относился к тенденциям сближения раннего христианства с эллинизмом и к поискам корней первого в языческих культах и моральнофилософских учениях. Рьяному стороннику этих тенденций, определившихся в западной научной литературе, пытавшемуся популяризировать их у нас — Р.Ю.Випперу, обратившему внимание в своей книге «Возникновение христианской литературы» на прямые заимствования евангелистов у Плутарха, Ранович резко возразил в рецензии на эту книгу в том смысле, что нечего-де пытаться выискивать у Плутарха то, что может быть почерпнуто у пророков и в Талмуде... К большому сожалению, подобную точку зрения у нас разделяют многие историки древности, идя таким образом, хотя и невольно, на поводу у церковной историографии.
Но, пожалуй, это был единственный в те времена случай редакторского вмешательства в концепцию предложенной мною для «Вестника» работы. Помимо специальных поручений, дававшихся мне Рановичем и Мишулиным, — это бывали обзоры каких-либо изданий, рецензии и переводы статей, печатавшиеся неукоснительно, - также, в сущности, безотказно принимались и мои собственные предложения. При этом тогда редакцию совершенно не смущала широта моих интересов, служившая для меня камнем преткновения в последние два десятилетия. За годы 1937-49 я опубликовал несколько статей на разные темы (по исторической географии Причерноморья, по монументальной и керамической эпиграфике, по археологической хронологии эпохи бронзы и раннего железа, по античной идеологии). Но надо сказать, что в разделе статей, то есть корпусом, а не петитом, напечатаны были только две статьи, остальные преподносились в виде публикаций хроникального характера. Меня это не смущало — я привык к петиту — и не очень огорчало, поскольку я знал нелюбовь Рановича к слишком частому печатанию одних и тех же авторов. В этом помещении моих работ довольно регулярно в разряд хроники мне предлагалось угадывать, с одной стороны, нежелание выдвигать мои публикации на передний план, с другой же, стремление от них не отказываться. Помню, однако, как В.П.Горнунг 81
недоумевал, почему моя статья по средиземноморской хронологии 11-1 тысячелетий до н.э. [39|, которой он в связи со своими занятиями древнейшим эпосом склонен был придавать известное значение, напечатана петитом, как какая-нибудь хроникальная заметка...
В годы 1948—49 я писал, основываясь на материале, собранном для комментария к древним текстам Латышевской хрестоматии, книжку: «Знания древних народов о северных странах»1. Получилось что-то около 300 страниц. Думать о ее дальнейшей судьбе мне тогда даже и не пришлось, потому что совсем скоро после ее окончания, в марте 1950 года, я был арестован...
Писал я еще, параллельно с названной только что работой, главу по истории этрусков для подготовлявшейся Институтом истории «Всемирной истории». К тому же довольно быстро я подготовил кандидатскую диссертацию на тему о происхождении этрусков, на что меня подбил Н.А.Машкин, являвшийся тогда членом ВАКа и обещавший мне содействие в получении разрешения на ее защиту без предварительных экзаменов. Все это оборвалось с моим арестом. Возможно, что защита моя не состоялась бы и без этого, так как Н.А.Машкин скоропостижно скончался в том же году, кажется в конце лета.
6. Годы заключения
Так или иначе, я был вырван из всех моих довольно сложных и поглощавших меня целиком обстоятельств на достаточно продолжительное время. Следователь мой сразу же постарался дать мне понять, что я никогда больше не вернусь к прежней жизни и прежним делам, даже если и выйду когда- либо на свободу. «Академия наук, Библиотека Ленина - все это навсегда исключается из вашей жизни, и вы должны прежде всего отрешиться от мысли о каком-либо возвращении к науке когда-либо и в какой бы то ни было форме». И я, сидя в тюрьме, начал было послушно приучать себя к этой мысли, равно как и к сознанию полной безвозвратности всей прежней жизни, прежних отношений и связей. Впрочем, кое-какие надежды зашевелились во мне снова, как только я оказался на Воркуте, почти через год после ареста. Это было место, где отбывал свой сравнительно небольшой срок (3 года) мой друг
’Опубликована в 1961 году [75].
82
Г.А.Бонч-Осмоловский, получивший возможность применить себя там в качестве геолога. Что касается меня, то первоначально - впрочем, очень недолго, какой-нибудь месяц-полтора — я фигурировал там в роли лагерного библиотекаря, что обеспечило мне значительный досуг. Во мне зашевелились мысли о литературных делах. Я было написал какую-то статейку о Блоке как об интерпретаторе древних событий и социальных идей, которую я даже пытался куда-то переслать нелегальным путем. Конечно, она, вероятней всего, тут же угодила в руки какого- либо лагерного начальства, пощадившего меня в том отношении, что никаких репримандов по этому поводу сделано мне не было. Не исключено, впрочем, что мой пакетик с рукописью был уничтожен самим же взявшимся его отправить человеком — лагерным культоргом, у которого был пропуск на волю именно для осуществления почтовых и всяких других культурных связей.
Мечтал я, отчасти руководствуясь опытом Г.А.Бонч-Осмоловского, а отчасти советами некоторых опытных и интеллигентных солагерников, также и о геологической работе на Воркуте. Мечты эти оказались, однако, совершенно беспочвенны. Понял я это окончательно только весной 1951 года, когда оказался переброшен с Воркуты на Печору (станция Кожва), где не было уже никакой геологии, а существовала только перевалочная база для лесоматериалов и где мне объяснили, что я ио моему формуляру должен содержаться именно тут, а не на Воркуте. Пришлось вспомнить о медицинской работе, которой я занимался во время войны, отчасти и в плену, и снова обратиться в медбрата.
Впрочем, перед самым отъездом с Воркуты на Кожву какой- то до того не известный мне заключенный подарил мне книгу В.Бенжамена Смита «Дохристианский Иисус» на немецком языке. «Мне она ник чему, а вам, может быть, и пригодится», — сказал он. Для расспросов его о чем бы то ни было у меня не оставалось уже ни минуты времени. На книге я обнаружил наклейку и более поздний штамп, из которых явствовало, что первоначально эта книга находилась в библиотеке то ли киевской, то ли казанской Духовной академии (Б.К.Д.А.). Последнее представляется вероятным потому, что из двуязычного (татарского и русского) штампа явствовало, что после революции она попала в «кабинет диамата и ленинизма». Хотя по- настоящему книга эта пригодилась мне только тогда, когда я но возвращении из заключения, уже в 60-е годы, вплотную 83
занялся ранним христианством. Но и тогда, в заключении, чтение ее если и не будило во мне придавленный исследовательский интерес, то все же наводило на какие-то мысли, связанные с моим, как мне казалось, навсегда потерянным прошлым, подымая меня хоть немного над отчаянием и горечью лагерного существования. Книгу эту я, во всяком случае, берег среди небольшого своего имущества, сохранив ее и доныне.
В 1952 году мои родные прислали мне экземпляр «Вестника» (№ 2 за 1952 год), в котором оказались опубликованы мои дополнения к латышевским «Scythica et Caucasica» [281. Но вместо моей фамилии под публикацией значились имена (около десятка!) людей, мне отчасти известных, а отчасти даже и вовсе незнакомых. С одной стороны, я не мог не порадоваться тому, что эта довольно большая работа все же увидела свет. Оскорбленных авторских чувств я при этом почти не испытывал, исключая лишь то обстоятельство, что я вместе с авторством лишался и гонорара — денег, которые могли бы быть весьма полезны моему семейству. Решив попытать счастья, я отправился к лагерному начальству, отнесшемуся ко мне вполне сочувственно. Доверенность моя на имя жены была тут же заверена, и к моей огромной радости затея эта удалась, а большего в тогдашнем моем положении я, конечно, не мог и желать.
Через некоторое время после этого я получил в подарок от М.Е.Фосс толстый том - результат ее работы по изучению нео- ( литических культур севера СССР, итог ее многолетней археологической деятельности, в которой и я принял некоторое участие. Вернувшись домой в самом конце 1955 года, я уже не застал Марию Евгеньевну в живых, так что присылка мне этой книги стала как бы последним актом нашей с ней дружбы и связи на почве науки. С тем большим огорчением я думаю всякий раз о том, что поступил весьма опрометчиво, оставив эту книгу в библиотеке Кожвинского лаготделения, не рискнув взять ее с собой на этап. Тогда моя дальнейшая судьба представлялась мне совершенно неизвестной — очень легко было попасть в такие условия, когда книгу эту пришлось бы вообще бросить где-либо на произвол судьбы. Мне казалось, что в той довольно большой и аккуратно содержавшейся библиотеке существование ее было более сохранным и прочным. Так или иначе, я ее потерял, и потом мой поступок представился мне неоправданно глупым.
Когда я мысленно возвращаюсь к тогдашним обстоятель84
ствам, то представляю себе, что серьезным соображением, заставившим меня поступить с книгой Марии Евгеньевны именно так, было то, что у меня, помимо этой книги, имелись еще три, с которыми я не хотел расставаться из-за того, что испытывал в них реальную нужду, тогда как книга Марии Евгеньевны была лишь, так сказать, грузом памяти, пусть очень дорогим, но в физическом отношении довольно затруднительным - на этапе все имущество приходилось нести на себе. И мне было невыносимо думать, что вдруг из-за невозможности дотащить псе, что мне было дорого и необходимо, что-либо пришлось бы просто-напросто выкинуть. А кроме уже названной книги Б.Смита, у меня были еще «Аргонавтика» Аполлония Родосского по-гречески и греческо-русский словарь Вейсмана. С этими книгами, присланными мне из дому незадолго перед этапом, я не хотел расставаться потому, что начал работать над переводом этой поэмы, удовлетворяя жизненные инстинкты, действовавшие во мне сильнее каких угодно соображений, при том, что переводу я далеко не всякий день мог уделить хотя бы часок. Все же занятие это приносило мне необыкновенное нравственное подкрепление и подымало над обстоятельствами, хотя я и отдавал себе отчет во всей недостаточности того, что я делал при тогдашних возможностях и условиях. Закончить эту работу, которую я продолжал на обратном пути из лагеря, на Лубянке, довелось мне уже на свободе, в Ленинской библиотеке, в 1956 году.
7. Возвращение к науке
Попытки публикации перевода «Аргонавтики»
Света, однако, эта работа так и не увидала. Дело в том, что когда я закончил свой перевод, то узнал у С.П.Маркиша о существовании перевода покойного Г.Ф. Церетели, исполненного им чуть ли не в таких же самых условиях, в каких им занимался и я. Во всяком случае, ему закончить свою работу над «Аргонав- тикой» также помешало заключение. Перевод Церетели находился в руках у М.Е.Грабарь-Пассек, к которой я и отправился для переговоров. Они оказались столь же кратки, сколь для меня неблагоприятны. Я сказал ей, что готов представить мой перевод для использования в тех случаях, в каких перевод Церетели нуждается в дополнении или исправлении. Но Грабарь-Пассек 85
заявила мне, что она почитает своим долгом, поскольку многим обязана семье Церетели, издать этот перевод в возможно более полном соответствии авторской рукописи. Тогда я сказал ей, что у меня имеется к моему переводу обширное историко-литературное введение и историко-географический комментарий такой степени полноты, с какой эта поэма, насколько мне известно, никогда еще не издавалась. По она и это вес отвергла, за исключением, впрочем, комментария, который, однако, представляла себе лишь в виде самых скупых и лаконичных примечаний. На этом мы с ней и расстались.
Опубликовать мой перевод у меня тогда не было возможности. Не могу, впрочем, сказать, чтобы я приложил к этому все мыслимые усилия... Через некоторое время в Тбилиси появилось издание перевода Церетели вместе с его редакцией греческого текста поэмы en regard1 и с очень кратким предисловием Ф. А. Петровского2.
Много лет назад, еще юношей, я имел опыт общения с Петровским. который переводил многих латинских авторов и издавал их достаточно часто. Усердно занимаясь латинским языком, я больше чем прозу читал поэтов, и в частности Овидия, который ине внутренне представлялся ближе других авторов. Считая необходимым соединить поэтический эффект с историко-филологическим, я начал переводить и комментировать' замысловатую Овидиеву поэму «Фасты». Переведя значительную часть первой книги, я подумал о том, что мог бы, пожалуй, перевести ее всю, если бы можно было надеяться на последующую публикацию перевода. Со всеми этими вопросами я и отправился к Петровскому. Он обратил мое внимание на ошибки в передаче размера (спондеи в первой половине строки), на некоторые фактические неточности, а под конец сказал, что думать об издании перевода «Фастов» никак не приходится, поскольку в планах публикации древней поэзии, к которым он имел самое непосредственное отношение, на многие годы вперед значатся более известные и нужные читателю сочинения, нежели такая специфически археологическая поэма, как «Фасты». В общем он меня никак не окрылил. Не сказал - все же, мол, переводите дальше, авось на что-нибудь да пригодится; не }С параллельно напечатанным оригиналом (фр.).
2Перевод опубликован в 1964 году.
86
предложил как-либо иначе принять участие в тех изданиях, о которых он мне рассказывал.
Допускаю, что и на этот раз Петровский мог знать от М.И.Грабарь-Пассек о существовании моего перевода, введения и комментария к «Аргонавтике», но предпочел их игнорировать, хотя моя история эпической традиции аргонавтики и комментарий к тексту ничуть не помешали бы этому изданию. Если это действительно так, то это характеризует, к сожалению, не только самого Петровского, но и в какой-то мере более общее отношение в нашей науке к проделанной кем-то работе, к чужому труду, заведомо нежелательному именно потому, что он чужой, по крайней мере не принадлежащий перу какого-либо из «своих» авторов.
Спустя некоторое время после опубликования перевода Церетели в Грузии я счел возможным предложить мой перевод ГИХЛу, не сообразуясь, к сожалению, с тем, что античной литературой в этом издательстве заправляет та же Грабарь-Пассек. И хотя после нашего с ней разговора прошло уже лет десять, она осталась в точности верна своим намерениям, высказанным мне прежде. В сборнике «Александрийская поэзия»’ она опубликовала перевод Церетели, к которому у меня, опять-таки отвергнув весь мой сопроводительный материал, сотрудник издательства Ожегов потребовал лишь комментарий, который, как он заметил, «будет приведен в соответствие с характером издания». Я в то время очень нуждался в деньгах, так что, хотя все это и выглядело для меня достаточно обидно, не в состоянии был отказаться даже и от такого предложения. Но все получилось еще хуже, чем можло было предполагать: мало того, что примечания сведены были к минимуму, даже и инициалы мои в подписи под примечаниями были перевраны, думаю, что не вовсе неумышленно, потому что мое имя им, разумеется, должно было быть известно в точности. Это был просто лишний штрих бесцеремонного ко мне и хулиганского вообще отношения к вещам. Я стал ругать себя за то, что за какие-то три или четыре сотни рублей пошел на подобное унижение, но, увы, было уже поздно.
Мне осталось утешаться только тем, что я не предпринял в свою защиту ничего такого, что, помимо моего желания, могло бы помешать этому вторичному опубликованию перевода *М., Художественная литература, 1972.
87
Церетели, пусть на совершенно недостаточной научной основе даже по сравнению с тбилисским изданием. А сейчас положение таково, что существует советское издание оригинала поэмы, два издания одного ее перевода, а историко-критические представления о ней, даже и у людей, занимающихся греческой литературой специально, отсутствуют настолько, что писавший рецензию на мой перевод С.В.Шервинский охарактеризовал оригинал поэмы Аполлония Родосского как «прекрасное произведение греческого эпоса», тогда как поэма грубо сшита по крайней мере из двух разновременных и разностильных кусков, лишена конца и т.п.1 Из всего этого становится ясно, что Грабарь-Пассе к в этой ситуации руководствовалась отнюдь не пиететом к семье Церетели, а видимо, соображениями чисто личного характера.
Продолжение работы в «Вестнике древней истории»
По моем возвращении из заключения оказалось, что редактором «Вестника» уже несколько лет являлся С.В.Киселев, к этому времени избранный членкором, а редактором «Советской археологии» сделался Арциховский, кажется, тоже уже к тому времени членкор (или ставший таковым вскоре вслед за этим в связи с опубликованием новгородских берестяных грамот). К тому же он был еще и деканом истфака в Университете.
Оба журнала встретили меня довольно дружелюбно и просили хронику, библиографию, рецензии. Директором Института археологии состоял по-прежнему Б.А.Рыбаков, к которому я не стал обращаться, отчасти потому, что его заместитель и мой товарищ по довоенной работе в Музее Е. И. Крупнов сразу мне дал понять, что на штатную работу в Институте рассчитывать нечего, а вот в издательстве2 я могу получить даже и место штатного редактора. Но археологическая литература была в те времена сосредоточена в географическом отделе, которым ведала совершенно меня не знавшая женщина, потребовавшая рекомендации кого-либо из числа ведущих институтских археологов. Когда я спросил, от кого именно она бы предпочла иметь рекомендацию, она к моему полному удовольствию назвала моего бывшего заведующего по Историческому музею и ‘В 2001 году опубликован второй перевод - Н.А.Чистяковой, с обширным комментарием.
2Имеется в виду издательство АН СССР (с 1963 года - «Наука»).
88
собрата по ополчению А.П.Смирнова, к этому времени ставшего доктором и заведующим сектором. Он изъявил полную готовность и тут же взял лист бумаги, но когда приготовился писать, то я заметил, что он что-то мнется, примерно так же, как мялся в свое время ученый секретарь Исторического музея Ь.Я.Закс, когда понадобилась его рекомендация для зачисления меня в штат музея.
Поскольку мы были в достаточно коротких и дружеских отношениях, я открыто возмутился:
- Как же вам не стыдно, Алексей Пегрович? Неужели вы боитесь, что я вас как-либо подведу? Пишите-ка смелей, не задумывайтесь.
- Нет, нет, что вы, Лев Андреевич, я просто примериваюсь, как бы это получше изобразить...
Написал он довольно лаконично, но этого оказалось вполне достаточно. Мне было сказано в издательстве, что какое-то время я буду работать вне штата по договорам, а впоследствии - смотря по обстоятельствам...
Должен сказать, что штатной работы я не хотел сам, так как считал необходимым сохранить известную свободу, чтобы распоряжаться своим временем, поскольку имелась возможность работать для двух журналов, а также и для «Исторической энциклопедии», которая тогда только еще затевалась. Археолого-этнографической редакцией издательства «Советская энциклопедия» заведовал тогда бывший аспирант Исторического музея А.Я.Абрамович, не только не оставлявший меня без работы по своей редакции, но и протежировавший мне в редакциях всеобщей истории, культуры и искусства и вплоть до Литературной и Педагогической энциклопедий. Отчасти в силу всего этого десятилетие 1956-66 годов было, пожалуй, наиболее напряженным и плодотворным в моей жизни.
Хотя, проведя в заключении шесть лет, я и не чувствовал себя окончательно оторванным от умственной деятельности и хотя, кроме того, большую часть лагерного срока пребывал на медицинской работе, приносившей мне очень большое удовлетворение, все же я, конечно, испытывал сильный голод по своим прежним, грубо и резко прерванным арестом занятиям, настолько, что чуть ли не на следующий день по возвращении домой разыскал среди своих бумаг лишь наполовину, как мне казалось, написанную статью о социальных движениях в Древ89
нем Риме IV века до н.э. Должен сказать, что ни одна работа, пожалуй, не потребовала от меня такого напряжения и такого, несоответственного ее размерам, количества времени, как эта недописанная перед арестом статья. Когда я мечтал в лагере о том, как я эту статью дописал бы, если бы она снова попала мне в руки, то представлял себе это чуть ли не минутным делом. Мне все казалось ясным, чуть ли не вплоть до каждого слова... А когда я реально принялся за эту работу, то тут же заметил с ужасом, что топчусь на одном месте, кружусь вокруг уже сказанного, так как тот конец, который я подготовил в своих мечтах, оказывается. был не концом, а уже позабытым в деталях и в последовательности началом... То ли я несколько поотвык за шесть лет от подобной работы? В конце концов я эту статью дописал, и она появилась в «Вестнике», позднее была использована в книге о начале древнеримского рабовладения, но в памяти моей прочно засело то судорожное напряжение, почти отчаяние, с которым я доделывал прерванную на шесть лет работу.
Эго неожиданное затруднение, впрочем, не отняло у меня много лишнего времени, а было скорее явлением моральнонервного свойства - известная плата за отрыв от привычного дела и от связанной с ним обстановки. Не могу сказать, однако, чтобы этот отрыв проложил какую-то резкую границу между моей деловой жизнью до заключения и по возвращении из него. Тем более, что каких-либо значительных продвижений вперед в нашей науке, приходящихся на этот отрезок времени, я не заметил ни в области исторического антиковедения, ни в области античной и скифской археологии. Новых книг за утерянные мной годы появилось немного. А то, что попало на страницы журналов, я просмотрел и взял на свой учет довольно легко и быстро. Мне даже сказал кто-то из сотрудников «Вестника», что-де я могу не волноваться — за время моего отсутствия ничего существенного не произошло...
Поскольку С.В.Киселев был достаточно далек не только от классической античности, но и от археологии скифо-сарматских и прикавказских племен, по времени близких к рубежу н.э., его заместителем по редактированию «Вестника» назначили С.Л.Утченко, выученика Ленинградского университета и тамошней же аспирантуры, но в Ленинграде не прижившегося, вероятно и не хотевшего приживаться вследствие сильно сократившихся там в послевоенное время возможностей, в осо- 90
бенносги для людей, стремящихся к быстрому продвижению, но не имеющих серьезных научных интересов.
Впервые на московском горизонте он появился году в 1946-ом, еще в форме военного политработника, с небольшой рукописью в руках, написанной на основании статьи известного историка древности Ф.Альтгейма, с которым он, видимо, имел личный контакт во время пребывания в оккупированной нами зоне Германии. Работа эта была довольно быстро опубликована, вероятно она же послужила в каком-то виде материалом для его кандидатской диссертации. А когда я вернулся из лагеря, он уже стоял во главе сектора древней истории Института истории и на посту заместителя главного редактора «Вестника». Тут и там он вел себя в те годы достаточно скромно, тем более что и в секторе и в редакции имелось несколько достаточно образованных людей, с которыми ему поначалу никак нельзя было не считаться. Среди них я должен назвать в первую очередь Г.ЕДилигенского, в значительной мере определявшего физиономию журнала в конце 50-х и начале 60-х годов. Держался он скромно, но твердо и, видимо, в конце концов не ужился с Утченко и со все более приобретавшим в секторе вес К.К.Зельиным, работавшим в нем еще с довоенных времен. Зельин, сколько я мог заметить, был в хороших отношениях с Н.А.Машкиным, но не оказывал тогда заметного влияния на дела сектора, где в мишулинские времена погоду делал еще, кроме Машкина, В.С.Сергеев, один из последних талантливых лекторов, ученик М.И.Ростовцева, хотя и отнюдь не исследователь, но составитель очень хороших (хотя и не совсем аккуратных) вузовских учебников и книг для чтения по истории Греции и Рима, насыщенных богатыми идеями и историческими картинами значительной широты. Ростовцев его ценил и поощрял в своих письмах.
К «Вестнику» в те годы Зельин еще не имел прямого отношения, а Утченко, как уже было только что сказано, держался довольно скромно - возможно, ему не позволял еще развернуться Киселев, хотя и далекий по своим преимущественно древнесибирским интересам от тематики журнала, но, однако, вникавший если не во все, то все же в большую часть публикуемого материала. Сужу хотя бы по тому, что он внимательно читал даже мою археологическую хронику, относясь в особенности ревниво к тому, что соприкасалось с областью сибирской, среднеазиатской и приволжской археологии.
91
С огорчением приходится вспоминать и о том влиянии, чтобы не сказать давлении, которое Киселев оказывал на СИ.Руденко, публиковавшего открытые им замечательные памятники сибирских скифов, которых ему под напором самого Киселева и присяжных скифологов Гракова и Артамонова не разрешалось называть в своих книгах этим именем, а только констатировать временное и культурное совпадение древнеалтайских и верхнеенисейских кочевников с причерноморскими скифами. Отрицание этого яркого и глубокого евразийского культурного единства в I тысячелетии до н.э. мотивировалось преимущественно ссылками на плохо понятого Геродота.
Разумеется, сколько-нибудь определенного лица у «Вестника» как раньше, так и теперь, не было. Журнал не давал представления о состоянии нашего антиковедения со сколько- нибудь выраженной полнотой. Все его разделы наполнялись более или менее случайным материалом. Строго налаженных связей даже с Ленинградом не существовало, не говоря уж о российской провинции и о союзных республиках. Осуществлявшаяся там научная деятельность систематического отражения на страницах журнала не получала ни в разделе исследовательских публикаций, ни в хронике. Систематическое рецензирование книжной и другой печатной продукции не производилось. Рецензии в большинстве случаев «организовывались» самими авторами или эвентуальными рецензентами, по почину же редакции - лишь в очень редких случаях. Информация о зарубежной литературе, как и раньше, оставалась совершенно случайной, даже в том, что касалось деятельности соответственных научных учреждений и литературной продукции социалистических стран.
Если в довоенные и первые послевоенные времена библиографический раздел, в заполнении которого я принимал постоянное участие, составлялся лишь на основании ознакомления с книгами и журналами, поступавшими (достаточно нерегулярно) в две московские библиотеки (ФБОН и Ленинку), то позднее, если что и изменилось в этом отношении, то изменения эти происходили далеко не к лучшему. Конечно, мои библиографические обзоры, составлявшиеся подобным случайным порядком, так же как и краткие аннотации журнальных статей, грешили неполнотой, но как-то я их все-таки делал, по возможности стремясь давать информацию по всему
92
Средиземноморью, а также и Древнему Востоку, включая Иран и Индию.
Обсуждения работы журнала с привлечением широкого круга заинтересованных лиц из различных московских учреждений (институтов, Университета, педвузов, музеев) производились довольно редко, проходили формально и мало что давали для улучшения работы журнала. Редакция в каких-либо советах со стороны не была заинтересована, но обсуждения проводились во избежание упреков начальства. Одно из таких обсуждений (впрочем, может быть и не одно) пришлось на период главенства в журнале С.В.Киселева. Ввиду некоторых обстоятельств обсуждение это мне запомнилось. О том, что оно должно произойти, стало известно довольно случайно: я прочел статью А.И.Немировского по италийской археологии, показавшуюся мне в некоторых отношениях недостаточной, и посетовал секретарше редакции Н.М.Постовской на то, что мне не дал и ее предварительно прочесть, - может быть, удалось бы уговорить автора придать ей более законченный вид. Но она мне сказала, что редакции было бы неудобно, если бы из- за нее автор испытал хоть какое-нибудь неудовольствие: «Мы в нем сейчас очень заинтересованы...» Мне все это показалось довольно странным, и так как я с Н.М.Постовской знаком был достаточно давно, то это позволило мне, преодолев некоторое се сопротивление, добиться истины. «У нас скоро будет обсуждение работы журнала, и мы просили Немировского сделать вступительный доклад с обзором за истекший период. Нашли, что будет лучше, если доклад сделает кто-либо посторонний...»
Конечно, с позиций редакции кандидатура докладчика не вызывала каких-либо сомнений. А поскольку доклад не был серьезно критичным, то и прения протекали вполне спокойно. Я было собирался кое в чем это спокойствие нарушить, но Киселев слова мне не дал, заявив, что прения и так уже затянулись, а я, мол, как близкий редакции человек могу подать свой голос и помимо этого заседания... «И вообще, - закончил он в приподнятом тоне, - что бы тут ни говорилось, какие бы идеи пи прокламировались, “а за разбитые горшки ответственность нести все равно мне...”» Так «по-кутузовски» он эго обсуждение и закончил, к некоторой моей досаде, хотя, конечно, надеяться на какую-либо эффективность моего выступления не приходилось - в редакции то, что я хотел было сказать здесь, 93
говорилось мной неоднократно, но никогда и никем не принималось во внимание.
По договоренности с Г.Г.Дилигенским я в тех случаях, когда в зарубежной литературе возникали какие-либо более острые проблемы, получавшие отклик со стороны многих авторов, или когда широко обсуждались какие-либо важные новые археологические находки, группируя соответствующий материал, сталкивал различные, подчас противоречивые мнения, стараясь присовокупить и собственную точку зрения. Под довольно- таки фиктивным наименованием «библиографические заметки» мне довелось опубликовать две таких сводки некоторых новых явлений в исторической и археологической проблематике [56, 62]. Подобные же по характеру сопоставления новых археологических фактов публиковал я и в «Советской археологии». Эти обзоры пользовались, по-видимому, довольно широким вниманием, поскольку я находил ссылки на некоторые из них даже и в зарубежной литературе.
Однако моей деятельности в этом направлении не суждено было как следует развернуться. К моему удивлению, в «Вестнике» на мои обзоры типа «библиографических заметок» был наложен запрет. Я так и не мог добиться объяснения - почему, собственно. «Это сочла за благо редколлегия», — отвечали мне сотрудники редакции, а кто-то из них с кривой усмешкой до-‘ бавил: «Такие вещи они хотят писать сами...» Ну что ж, решил я, пусть пишут. Никто, однако, ничего подобного публиковать и не подумал.
Затем, опять-таки со ссылкой на мнение редколлегии, мне перестали поручать составление библиографических и археологических обзоров по греко-римским и древневосточным данным: мне сказали, что хронику и библиографию по древнему Двуречью и Ирану будут делать сотрудники Ленинградского отделения Института истории, а по египтологии — Н.Е.Семпер — московский египтолог, человек судьбы, очень схожей с моей ’. В результате же получилось, что обзоры библиографического характера по антиковедению и древнему востоковедению прекратились вовсе, за исключением египтологии. Н.Е.Семпер поставляла свои египтологические обозрения исправно два
10 ее судьбе см.: Семпер-Соколоеа Н.Е. Портреты и пейзажи: частные воспоминания о XX веке. М., 2007.
94
раза в год. Они были, конечно, гораздо полнее моих, в которых египтология занимала достаточно скромное место.
Удивительным образом, прекращение ведения античной библиографии никто в редакции как бы и не заметил, как не заметил и того, что со всеми этими реформами «Вестник» стал давать хроникально-библиографическую информацию только но одной египтологии. Почему-то это абсолютно никого не смутило. Не только в самой редакции, но и в институтах Истории и Археологии (ни в Москве, ни в Ленинграде) и в Отделении исторических наук АН СССР никто на это упущение не обратил внимания. Это совпало, правда, с уходом из редакции Г.Г.Дилигенского, имевшего, помимо занятий древней историей, значительный интерес к истории новейшего зарубежного рабочего движения. И хотя я замечал некоторое недоброжелательство по отношению к нему со стороны С.Л.Утченко, что свидетельствовало, вероятно, о каких-либо между ними трениях, все же, я думаю, что причиной его ухода были не эти трения, а его интерес к современности, пересиливший в нем ан- тиковедные интересы, плодом которых, тем не менее, явилась его далеко не заурядная кандидатская диссертация о Северной Африке IV-V веков н.э., опубликованная в 1961 году.
После неожиданной для всех смерти С.В.Киселева, умершего, как говорили, в результате неудачной полостной операции (разошлись швы!), редактором «Вестника» стал Утченко. Соединение в одном лице функций заведующего античным сектором и редактора «Вестника» сказалось на положении журнала в том отношении, что он еще больше, чем раньше, обратился в орган этого самого сектора. Именно поэтому у меня отняли античную археологическую хронику. Окончившая аспирантуру и зачисленная в сектор Л.П.Маринович чем- го должна была заполнить свой план. Вот ей и поручили вести хронику археологических раскопок на греко-римской почве. А когда несколько позднее в сектор была зачислена многолетняя его секретарша, ее план был построен на библиографии русской книжной и журнальной литературы по античности, печатавшейся в «Вестнике» также дважды в год; а зарубежная литература, не считая немногих рецензий, на страницах журнала больше не фигурировала. Собственно, редакция и не могла поступить иначе: журнал перестал быть гонорарным, совершенно мизерная оплата сохранилась только за переводы.
К тому же ни сектор, ни «Вестник» не имели сколько-нибудь 95
определенной научной ориентации. В мишулинские времена тематика работ сектора в некоторой мере определялась нуждами «Всемирной истории», несмотря на возражения некоторых сотрудников и прежде всего Н.А.Машкина, который резонно заявлял, что организация такого издания, как «Всемирная история», дело издательства, а вовсе не научного института. Но этого, очевидно, не понимало не только то начальство, которое затеяло самое издание и которому выполнение его представлялось предприятием совершенно достойным Академии наук, но и руководство Отделения исторических наук внутри Академии. А если и понимало, то держало язык за зубами, делая вид, что все совершенно правильно. Во всяком случае, даже такой почтенный человек, как академик С.А.Жебелёв, которого, казалось бы, неловко было заставлять заниматься такими делами, как эта «Всемирная история», сидел над редактированием подобранной мною общей библиографии по антиковедению, составленной по библиографическим разделам зарубежных изданий приблизительно такого же типа («Кембриджская древняя история», «Всеобщая история» и т.п.). Это предприятие, подготовительные работы к которому начаты были еще году в сороковом, прервалось из-за войны, и подготовка к нему после ее окончания вплоть до 1950 года продолжалась самыми черепашьими темпами, так что было не ясно, примутся ли за негЬ серьезно вообще. Осуществилось же оно довольно быстрым аллюром за время моего пребывания в лагере.
Сколько я знаю, значительная часть работы пала на моего коллегу по «Вестнику» О.В. Кудрявцева, которого уже не оказалось в живых, когда я вышел из заключения. Из расспросов его жены я мог понять, что рак пищевода, от которого он умер, опять-таки в результате неудачной операции, возник у него вследствие нечеловеческого труда, на который он сам себя обрек. Погибнув в 35-летнем возрасте, он уже был автором двух опубликованных очень серьезных монографий из области греко-римских отношений эпохи ранней империи. Высокая добротность всего, что он делал, стоила ему очень больших усилий. Он, например, заставлял себя писать печатными буквами, так что рукописи его совершенно не нуждались в машинописной перепечатке, а время свое он рассчитывал самым скупым образом по минутам, урывая его у сна и от прочих жизненных потребностей, в частности и от еды, на которую, по его мнению, уходило слишком много времени. Он ел, видимо, 96
чересчур горячую, плохо пережеванную пищу, чем и привел свой пищевод в катаральное состояние, породившее раковую опухоль, при удалении которой хирург, не рассчитавший размеров подхода, необходимого для извлечения опухоли, резким движением повредил дыхательный центр настолько, что отего расстройства Олег Всеволодович и скончался...
Воспоминания о С.А.Жебелёве
Разговор о «Всемирной истории» заставляет меня несколько отклониться от основной линии повествования и рассказать о С.А.Жебелёве, с которым я познакомился незадолго до начала войны в связи с работой над библиографией к этому изданию. Сергей Александрович не пережил войны, заставшей его в Ленинграде. В это время он уже был в достаточно преклонном возрасте — 70 с небольшим лет, - и невероятные тяготы, доставшиеся этому городу, оказались для него непосильны. Он не дотянул и до начала эвакуации. В его лице в могилу ушел последний представитель русской дореволюционной науки об античной древности - той поры, которую Ф.Ф.Зелинский назвал русским Возрождением, быть может несколько преувеличив, поскольку, несмотря на наличие крупных ученых, посвятивших себя изучению античной истории и культуры - таких, как тот же Зелинский, Ростовцев, Греве, Бузескул, Виппер и некоторые другие, - в России не было даже исторического журнала не только специально по древней, но даже и по всеобщей истории, так что предпринимавшиеся этими учеными исследования, если то не были монографии, выходившие отдельными изданиями, должны были печататься в записках некоторых высших учебных заведений или научных обществ (вроде некоторых обществ истории древности и археологии - Петербургского, Московского, Одесского ит.д.) или даже вжур- налах общественно-публицистического и литературного толка («Современный мир», «Русская мысль», «Вестник Европы» и др.).
О смерти Жебелёва я вспоминаю с особенным огорчением, потому что она, как впрочем и ускорившая ее война, прервала мои с ним становившиеся для меня очень приятными отношения. О чем-либо подобном я мечтал еше в юности, ученые того поколения несли в себе то поистине божественное начало, которое одухотворяло меня и моих тогдашних товарищей.
97
При некотором явном упадке гуманитарных знаний наших дней ученые предшествующего поколения представлялись мне людьми идеальными, недосягаемой высоты. С болью и огорчением за несколько лет до войны я читал в какой-то из центральных газет открытое письмо Жебелёва, в котором он принужден был отказываться от своей пожизненной дружбы с Ростовцевым, что представляется тем более огорчительным, что Ростовцев, как мне кажется, не только ничего решительно не сделал враждебного в отношении своей родины за время пребывания в эмиграции, но, наоборот, поднял нашу науку о древности на высоту, которая для нее и до, и после него оставалась недосягаемой.
Вспоминая о С.А.Жебелёве, я возвращаюсь мысленно к предвоенным временам, когда только, в сущности, стали определяться более серьезно мои научные интересы. Несмотря на то что я не получал какого-либо определенного и регулярного руководства со стороны старших коллег, все же я склонен считать их моими учителями. Собственные их занятия, насколько они мне становились известны, общие разговоры на научные темы, а то и какие-либо конкретные советы с их стороны оказывались для меня очень существенны, много чего мне давали. Но я искал еше и доброго отношения, благосклонности со стороны уважаемых и наиболее высоко ценимых мной людей, среди которых Жебелёв занимал в моих представлениях едва/ ли не самое почетное место.
Перед самой войной в бытность мою в Ленинграде, куда я в те времена имел счастливую возможность наезжать по нескольку раз в год, я напросился к Сергею Александровичу домой, с тем чтобы показать ему мою попытку восстановления текста древнегреческой надписи под знаменитой статуей, найденной совсем незадолго перед тем случайно в Анапе [41] и представлявшей, несомненно, некоего крупного общественного деятеля древней Горгиппии, портретная скульптура которого была исполнена с завидной художественностью. Надпись эта, хотя и сильно фрагментированная, особых трудностей при восстановлении ее текста не представляла. Поскольку это все же была одна из первых моих попыток обработки греческих эпиграфических памятников, критический взгляд Сергея Александровича на мою работу представлялся мне особенно важным.
Я обязался представить аргументацию моего толкования этого текста в виде доклада на сессии в Музее изобразитель- 98
пых искусств, обещавшей быть весьма многолюдной. Для того чтобы аудитория, состоявшая не только из археологов и филологов, но также и искусствоведов, не сочла для себя чрезмерно утомительным выслушивать подобные узкоспециальные доклады, каждое мое слово должно было быть заранее продумано и взвешено. Это был, по существу, мой первый доклад такой степени ответственности. Судя по некоторым довольно лестным для меня отзывам, все обстояло более или менее благополучно и не должно было породить чувства досады у слушателей, пусть и далеких от эпиграфики. Я, во всяком случае, извлек для себя на будущее тот урок, что если не хочешь обратить научное сообщение в пропускаемую мимо ушей тарабарщину, мало приемлемую даже для непосредственных коллег, необходима самая тщательная подготовка сообщений, граничащая с актерским исполнением роли. Только в этом случае можно надеяться на неослабное внимание слушателей, которое все время необходимо держать под контролем. Поэтому и в дальнейшем я старался никогда не читать моих сообщений по бумажке.
Приятно вспоминать о том, что Сергей Александрович, как мне показалось, был даже несколько тронут доверием, с которым москвич пришел к нему, ленинградцу, с этим не опубликованным еще текстом. Стыдно даже подумать о том, что где- то подспудно могли действовать между тогдашними учеными этих двух городов подобные чувства и отношения. Сейчас они, кажется, к счастью, почти совершенно исчезли, если не считать некоторой обособленности и замкнутости в отношениях научных учреждений обоих городов, существующих довольно давно уже под одной вывеской.
Допускаю, кроме того, что Сергей Александрович, несмотря на свое звание действительного члена Академии наук, отнюдь не был избалован вниманием и доброжелательным отношением в своей среде. Хотя были у него и хорошие ученики, которыми можно было гордиться, такие как Т.Н.Книпович, Д.П. Каллистов, В.Ф.Гайдукевич, А.И.Болтунова, оставившие заметный след в науке, подобно ему, проявившие себя и как историки, и как эпиграфисты и археологи; однако, принужденный работать в 20-е и 30-е годы в ленинградском ИИМКе и пребывать в чисто археологической среде, далекой от античной истории и филологии, он выглядел в ней довольно таки чуждой и случайной фигурой. Я недостаточно близок был к этой среде 99
ленинградских археологов как к таковой, знал о ней больше понаслышке от нескольких ленинградских друзей и, конечно, могу поэтому и ошибаться, но то нескрываемое презрение, с которым о Жебелёве говорил Арциховский, человек, мнение которого о тех или иных людях основывалось вовсе не на их научной или моральной значимости и который в оценке чего бы то или кого бы то ни было всегда оглядывался на других, являлось, как мне кажется, достаточно симптоматичным.
Надо сказать, впрочем, что с течением времени пошатнувшийся было совсем не по его вине научный и общественный авторитет С.А.Жебелёва вновь утвердился и с еще большей силой Названные выше ученики издали сборник его работ, в сумме определивших собой одну из вершин советского антико- ведения 20-х и 30-х годов. Был издан также сборник статей его памяти. Хотя следует вспомнить, что сборник в его честь, подготовленный группой крупных ученых, содержавший ряд очень важных для науки статей, так и не был опубликован типографским способом. С датой - 1926 год — он существует лишь в двух или трех машинописных копиях; в Москве, если не ошибаюсь, всего в одном экземпляре в Ленинской библиотеке. Несмотря на то что им нередко пользуются нынешние научные работники, а авторитет С.А.Жебелёва все увеличивается и место его в нашей науке становится все более значительным, странным образом никому из людей, осуществляющих планирование издания исторической литературы, не приходит в голову мыс/ьо настоятельной необходимости опубликования этого сборника хотя бы в самом минимальном количестве экземпляров, что при нынешней множительной технике не составило бы никакого труда и не повело бы к сколько-нибудь существенным затратам бумаги и денег. Факт этот, увы, необходимо считать достаточно характерным для нашей науки, крупные деятели которой то ли обладают слишком незначительными возмож-
’Это произошло после того, как Сергей Александрович предложил совершенно новую интерпретацию данных древних авторов и знаменитого херсонесского декрета в честь Диофанта, позволившую взглянуть на события, связанные с восстанием Савмака, приведшим к вмешательству в боспорские дела Митридата VI, в остром социальном аспекте. Эта работа вызвала интерес в западноевропейской науке, и ее перевод был опубликован в «Revue archtologique». Это событие может быть отмечено как первое после революции успешное выступление советского антиковеде- ния в «большой» и придирчивой к нам зарубежной науке. - Примеч. авт. 100
костями в организационном отношении, толи являются рабами всякого рода кратковременных и узковедомственных конъюнктур и тому подобных обстоятельств, препятствующих им серьезно задуматься над нуждами реальной науки. Иначе невозможно, мне кажется, объяснить, почему у нас выходят, например, прекрасно оформленные и многотиражные издания трудов Татищева, имеющие часто музейное значение, в то время как важные для современной науки, ставшие уникальными или вовсе еще не изданные и лежащие в архивах очень нужные груды не публикуются, оставаясь, таким образом, фактически вне науки. Например, книги В К). Виппера, вероятно последнего из числа всеобщих историков, для которых был возможен единый научный уровень трактовки как древних, так и средневековых, новых и новейших исторических явлений, важные для современной марксистской науки, выделяющиеся социологической глубиной и в то же время нередко значительной оригинальностью точек зрения, - ни разу не были переизданы.
Порода всеобщих историков вымирала еще на глазах старшего поколения ныне действующих ученых. В нашей стране, пожалуй, самым последним из числа таковых был ученик Р.Ю.Виппера - П.Ф.Преображенский, которого в строгом смысле «всеобщим» историком назвать уже, пожалуй, и нельзя, ибо его научные интересы все же не простирались на все «исторические» народы. Кроме того, он был не только историком, но и социологом и этнологом. Мне как раз посчастливилось слушать именно его курс этнологии, собиравший даже в гс, не очень удачные для этого предмета, времена много молодого народа в большой аудитории бывшего Психологического института.
В наши дни трудно найти историка, чьи научные интересы простирались бы на все эпохи существования даже какого-либо одного народа. И врядли можно назвать имя, объединяющее к себе научный интерес к истории всех народов нашей страны. Редки стали и специалисты всеобщей истории какого-либо одного периода. В частности, в области истории древности одним из немногих всеобщих ее историков был М.И.Ростовцев, хотя уже и не всей древности целиком, а преимущественно эллинизма и Рима. Однако Ростовцева необходимо признать, так же как, впрочем, и Эдуарда Мейера-, более историком древней культуры — исторической дисциплины, развившейся в недрах XIX столетия, а не только и не столько политической 101
истории. Но если некоторые сочинения связывают Э.Мейера со старой школой историков-прагматиков, то Ростовцев принадлежит к редкой разновидности историков-филологов и археологов. Ростовцева наряду с широкими культурно-историческими темами занимали также и исследования отдельных памятников эпиграфического или художественно-бытового порядка, производившиеся им на возможно более широком фоне истории культуры того периода, которому принадлежал публиковавшийся исследователем материал. При таком подходе, если историк обладает более или менее широкими и общими историческими перспективами, то подобные исследования нередко приводят, на основании наблюдений частного характера над новым или малоизученным материалом, к установлению новых аспектов в понимании тех или иных общих историко- культурных, социальных или идеологических явлений.
Не мудрено поэтому, что многие из числа историков — исследователей древних письменных, бытовых и художественных памятников - стремятся именно к такой интерпретации материала и использованию его при создании более широких культурно-исторических полотен. К числу зачинателей этого жанра в исторической науке следует отнести, вероятно, еще Нибура и Бёка.
Я в силу своих способностей и возможностей также стре^'ил- ся идти по этому пути. Наряду с несколькими монографическими работами из области исторической географии, социальной истории древности, истории культуры скифо-сарматских племен, я увлекался отдельными явлениями из области истории хозяйства и производства в древности, из истории древних культов, языческих и христианских; наконец, я публиковал (преимущественно греческие) надписи из числа найденных на территории нашей страны, а также переводы важных по содержанию надписей (греческих и латинских), найденных в недавнее время за пределами нашей страны, стараясь всякий раз снабдить их комментарием, вводящим их в рамки соответствующей географической и культурно-исторической среды и помогающим их пониманию и научному истолкованию.
Однажды по настоянию А.Б. Рановича я представил перевод на русский язык позднее названной «антидевовской» (т.е. ан- тиязыческой) надписи Ксеркса [15]. Перевод этот был сделан на основании сопоставления публикаций и переводов на евро-
102
пейские языки отдельных частей этой надписи, существенной в политико-идеологическом и историко-географическом отношениях. Подобная публикация представлялась мне рискованной и во многих отношениях неполноценной, но позднее М.М.Дьяконов назвал этот перевод полезным и единственно полным, чем вознаградил меня вполне за проделанную работу.
Подобная реализация научных интересов далеко не редкость в нынешнее время, а самая традиция такой именно реализации уходит корнями глубоко в XIX и даже в XVIII век. В моем случае должна быть, вероятно, отмечена некоторая широта и разнообразие интересов, что для многих, видимо, представляется чрезмерным и несерьезным. Может показаться, что человек не нашел своего определенного и прочного места в науке, потому-де и мечется из стороны в сторону. Во всяком случае, мне отказывали, например, в принадлежности к цеху археологов, несмотря на мой полевой стаж и на целый ряд публикаций чисто археологического характера. Этим отчасти, быть может, объясняются и мои затруднения с опубликованием разных работ, в частности по истории раннего христианства - области, в которой иные присяжные специалисты не очень, видимо, склонны признавать меня своим коллегой.
Работы по эпиграфике. Изучение амфорных клейм
Незадачливая судьба постигает иной раз и некоторые очень важные исторические источники. Не могу не упомянуть один характерный случай. Б.Н.Граков занимался, наряду с заведованием скифо-сарматским сектором в ИИМКе и преподаванием античной и скифской археологии в Университете, подготовкой к изданию тома 111 греческих надписей Северного Причерноморья, который должен был содержать керамические надписи (преимущественно клейма на амфорах и черепицах) ’. Подготовлявшийся еще с дореволюционных времен сотрудником Эрмитажа Е.М.Придиком, том этот после его смерти в 1935 году стал предметом внимания Б.Н.факова, обе диссертации которого базировались на изучении амфорных клейм.
1 Первые два тома свода греческих и латинских надписей, найденных на Юге России, под заглавием «Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Ladnae» (IOSPE) были изданы еще академиком В.ВЛатышевым в 1885-90 годах.
ЮЗ
За счет материалов, добытых раскопками 30-х и 50-х годов, количество амфорных клейм в музейных собраниях весьма умножилось, так что использованный Придиком материал составил лишь сравнительно небольшую часть собрания новых клейм, обработанных Б.Н.Граковым. Описание его заняло тысячи две страниц машинописного текста, в который должны были войти и греческие легенды клейм. Для их перепечатки на пишущей машинке с греческим шрифтом Б.Н.Граков привлек меня, оплачивая эту работу хотя и довольно скромно, но так, что этот гонорар, в особенности в силу его регулярности, оказался для меня существенным и довольно долговременным подспорьем, так как этой перепечаткой я занимался в общей сложности около двух лет в 1957—58 годах.
Граков, то ли извиняясь, то ли иронизируя, сообщил, нанимая меня на эту работу, что должен рассчитываться со мной прямо из своего кармана, минуя университетскую бухгалтерию и, стало быть, привлекая меня частным порядком: «Арцихов- ский (в то время декан факультета) о вас и слышать не хочет... Требует, чтобы ваше имя ни в каких документах не фигурировало... Но вам ведь, я думаю, это сейчас и не важно?» Меня это действительно беспокоило мало, хотя подобная перестраховка со стороны Арциховского представлялась достаточно неприятной. Но что было делать? «Шерсти клок» был необходим, отказываться от такого «оформления» моего труда я и в этом случае не имел ни права, ни возможности.
Но по исполнении этой работы очень быстро выяснилось, что для опубликования ее, несмотря на большую научную ценность и новизну материала, в сущности не имеется никаких возможностей. Новое начальство Института археологии (Б.А.Рыбаков), не имевшее никакого отношения к античной эпиграфике и недолюбливавшее Гракова за его невоздержанный язык, наотрез отказалось предоставить для этой цели отводившуюся Институту археологии издательскую бумагу. Университет также не располагал для подобного предприятия издательскими возможностями. По смерти Б.Н.Гракова материал этот перешел в ведение его ближайшего ученика, много сделавшего для изучения античного эпиграфического материала, в частности амфорных клейм, редактора сборников «Нумизматика и эпиграфика», заместителя директора Института археологии именно по издательской части - Д.Б.Шелова. Но 104
и он до последнего времени не имел возможностей для опубликования этой самой большой в мире коллекции древнегреческих керамических клейм, а может быть даже и не очень был склонен возлагать на свои плечи эту весьма нелегкую обузу. Однажды он мне сказал в разговоре, не знаю, до какой степени серьезно: «А зачем, собственно, издавать эти клейма? Кому надо - придет в университетский музей, где хранится рукопись, и посмотрит»1. Слышать подобные речи, даже если они продиктованы реальным чувством собственного бессилия, очень и очень неприятно и стыдно, в особенности имея в виду то обстоятельство, что все зарубежные коллекции античных керамических клейм опубликованы с достаточной полнотой, а новые находки неукоснительно продолжают публиковаться в периодике.
Меня все это огорчало в особенности потому, что я на протяжении многих лет, чуть ли не с самого начала моей антиковед- пой карьеры, имел основание считать себя причастным к изучению этих памятников. Еше до войны, глядя на то, как другие молодые участники наших экспедиций овладевают знанием той или другой категории материала - то ли металлических изделий - скажем, фибул или режущих инструментов, или деревянных поделок, то ли какой-нибудь разновидности керамики - чернолаковой, краснолаковой, местной грубой посуды, - и сосредоточил свое внимание на остродонных амфорах как па наиболее распространенном виде тары, употреблявшейся с архаических времен на протяжении всей античной эпохи да и много позже для хранения и перевозки жидких и сыпучих тел. Изучение этого материала представлялось многообещающим для истории древней торговли и, что не менее существенно, дня археологической хронологии, поскольку возможность датировать этот наиболее массовый материал с точностью хотя бы до одного столетия открывает весьма заманчивые перспективы для более точного определения времени существования соответственных горизонтов культурных напластований античных городищ.
В.Д.Блаватский очень поощрительно относился ко всем, кто способен был сосредоточить свои интересы на каком-либо
‘Эта работа Б.Н.Тракова, названная в продолжение латышевских двух томов IOSPE III, до сих пор не опубликована.
105
однообразном и невыразительном археологическом материале, всячески подчеркивая перспективность подобных занятий в смысле приобретения своего места в науке, предпочтительно перед хорошо и весьма тонко изученными древними художественными изделиями - будьте архитектура, скульптура, фресковая или керамическая живопись. Сам же он при этом весьма усердно занимался именно этими наиболее привлекательными разделами античного искусствоведения, оказавшимися, однако, и для него самого, к сожалению» в значительной мере бесперспективными. Правда, находки в нашем Причерноморье с точки зрения искусствоведения давали немного, так что если его отчеты о раскопках в Фанагории и в Пантикапее бывали скучноваты, это объяснялось скудостью и однообразием материала. Но когда в послевоенные годы на почве Албании в его руки попал богатейший античный материал, от греческой архаики и до позднеримских времен, в котором преобладали именно памятники искусства, при этом очень хорошей сохранности, сухость и скудость его отчетов могли объясняться только неумением подать и истолковать эти богатейшие и интереснейшие находки. К сожалению, тут ему не помогло ни доскональное знание технологии, ни не менее тонкое и детальное знание художественных стилей, их хронологии и признаков взаимовлияний. Не хватало чего-то существенно бод0е важного, а именно умения сопоставить новооткрытые памятники с уже известными и изученными и увязать явления искусства с общими культурно-историческими процессами, что так выгодно отличает от искусствоведческо-археологического крохоборства работы Фуртвен глера, Пикара, а у нас Штерна, Фармаковского и Ростовцева. Допускаю, что Блаватскому для приобретения соответствующего кругозора недоставало просто-напросто знания иностранных языков, что ему, как и многим другим нашим ученым, не позволяло читать иноязычные книги так же свободно и много, как русские, отчего знакомство с шедеврами зарубежной науки нередко ограничивалось лишь способностью кое-как разобраться в отдельных частностях фактического, хронологического и т.п. порядка, оставляя за пределами исследований самое важное - обшие художественно- и культурно-исторические перспективы.
То ли осознание всего этого, то ли просто настойчивые советы Блаватского помешали одной из наиболее способных его
106
учениц И.Б.Зеест, начавшей было с работы об Алкамснс-стар- шем, заниматься и далее древней скульптурой, а заставили ее обратиться к амфорной керамике греческих колоний Причерноморья. Результатом явилась работа, выясняющая эволюцию форм остродонных амфор различных эгейских и черноморских центров, а в вопросах хронологии опирающаяся преимущественно на труды Б.Н.Гракова в области керамической эпиграфики. Что же касается вопросов истории и географии древней торговли и ремесла, то они остались в этой работе, к сожалению, почти не освещенными. Несколько больше в этом направлении сделала последовательница И.Б.Зеест, а во многом и ее ученица, киевлянка Н.А.Лейпунская.
Мои огорчения по поводу отсутствия в работе И.Б.Зеест социально-экономических аспектов изучения древнегреческой керамической тары, ее значения как источника для истории древней торговли и древнего производства, излил я в статье [1111, которую хотел опубликовать в «Вестнике» с посвящением этой исследовательнице, последнее, однако, редакция выполнить отказалась. Пришлось мне ограничиться примечанием о том, что статья навеяна ее книгой. В этой статье я старался использовать данные не только амфорных клейм, но и древних аттических и островных законов о виноторговле, равно как и другие данные об эгейско-черноморской торговле, в сочетании с которыми амфорные черепки способны обратиться в первоклассный исторический источник. Вообще же, несмотря на то что книга Зеест «Керамическая тара Боспора» показала воочию, что серьезный человек, чем бы его ни заставили заниматься, поднимет до научного уровня даже самый, казалось бы, неблагодарный материал, мне было жалко, что ее в общем отстранили от занятий искусством. Тем более, что человек, которому Блаватский в этом отношении покровительствовал и протежировал - М.М. Кобылина, в своих работах о фанагорийских терракотах проявила полнейшую беспомощность. А когда, видимо для получения докторской степени и опять-таки не без благословения Блаватского, она напечатала книгу об археологии древнего Милета, публикация эта явилась образцом неряшливости и поверхностного отношения к предмету, усвоенному совершенно недостаточным образом. Эти обстоятельства были отмечены в рецензии двух ленинградских антиковедов, направленной в «Вестник» от Ленинградского отделения Института археологии, так что ее неудобно было бы
107
не напечатать. Но «Москва» вышла из положения, поместив в том же номере вторую рецензию — Я.АЛенцмана, человека, к предмету имевшего весьма отдаленное отношение и взявшего на себя нелегкую задачу опровержения ленинградской рецензии, видимо, по ходатайству Блаватского, дабы не дать в обиду «Ленинграду» своего человека...
Вскоре после этого И.Б.Зеест благополучно проводили на пенсию, а М.М.Кобылина осталась служить науке в античном секторе Института археологии.
Я, таким образом, обратился к остродонным амфорам как к материалу, обещавшему немало в смысле перспектив выяснения с его помощью торговых, а стало быть и вообще культурных связей многих средиземноморских центров. Из спорадического использования М.И.Ростовцевым этого материала в его «Социально-экономической истории эллинизма» видно, насколько ему недоставало ответов на многие вопросы хозяйственной истории, заключенных в этом распространеннейшем и обнимающем хронологически огромный период времени материале.
Повозившись некоторое время с технологией и убедившись в беспочвенности каких-либо выводов относительно места и времени изготовления керамики тех или иных неизвестных центров без серьезных сравнительных минералогических анализов глин и способов изготовления из них рабочих смесей, ’ я перекинулся на клейма как на источник всякий раз весьма интересных и, несомненно, гораздо более определенных сведений о самих амфорах и об их значении для хозяйственной и социальной истории древности. Заметив перемену моей ориентации в этом предмете, Б.Н.Граков сочувственно мне сказал: «Понимаю ваше стремление к писаному слову. Совсем иначе выглядит вещь, на которой что-то написано, что-то сказано... Сам всю жизнь этим грешу...»
Получив этакое своего рода благословение, я довольно много занимался керамической эпиграфикой эпохи эллинизма и Рима. Но Б.Н.Граков отнесся отрицательно к моей попытке выделить группу пантикапейских или, может быть, шире — боспорских амфор (хотя в Фанагории, видимо в более раннее время, до подчинения Боспору, имелись клейма другого характера) по клеймам с монограммами и сокращениями, аналогичным клеймам боспорских черепиц. По его мнению, отмеченные мной совпадения могли быть случайны. Его не убедило даже и то, что таких
108
совпадений в общей сложности набралось несколько десятков. В подготовлявшемся им томе ill IOSPE он упомянул о моей работе [ 17], но с соответствующими оговорками. Эту же позицию, выраженную, впрочем, как будто несколько менее определенно, принял в своем обзоре эпиграфических исследований в СССР ленинградский археолог-антиковед Брашинский.
В отношении одной или двух ручек были высказаны возражения на основании лишь визуальных наблюдений над глиной, но в весьма категорической форме.
Блаватский, узнав об этом моем «открытии», первоначально пришел в некоторый раж: «Валяйте диссертацию». - внушал он мне, почему-то понизив голос. Для меня этот совет должен был бы прозвучать как симптом наступившей вскоре вслед за тем диссертационной лихорадки, неутихающей и поныне. А я только ухмыльнулся, не возразив ему ни словом, но подумал о том, что бы это была за диссертация, когда все существенное уместилось бы на нескольких страницах? Он же, видимо, решил, что вокруг этих совпадений и сопоставлений можно накрутить бог знает что еще, лишь бы выглядело посолидней и попухлей.
Мне кажется, что для опровержения моего набора «керченских» амфорных клейм необходимо было бы показать, что значительная их часть присутствует в каких-то других локально определенных комплексах клейм. Кое-какие наблюдения этого рода в отношении отдельных монограмм были в моем распоряжении, но я ими пренебрег ввиду того, что подобранный мной круг сокращений и монограмм мало того что получает полнейшее подтверждение в аналогиях боспорских черепичных клейм, по и географически относится главным образом к Причерноморью. Находки подобных клейм в других местах единичны. Но и не хочу переносить полемику вокруг боспорских амфорных клейм на эти страницы, а больше огорчаюсь по поводу того, что «опровержения» моих оппонентов представляются мне довольно поверхностными и небеспристрастными.
Впрочем, у меня гораздо больше оснований дзя огорчений по поводу невнимания к некоторым другим моим наблюдениям в области причерноморской и эгейской керамической и монументальной эпиграфики. Например, В.Ф.Гайдукевич нашел «интересными» мои соображения относительно херсонес- ских клейм SKY0IKON и TAYPIKON1, но кроме этого устного
’«Скификон» и «таврикон», см. [89].
109
замечания я не дождался никаких реакций ни от него, ни от кого-либо другого из числа интересующихся керамическими клеймами или социально-политической историей причерноморских колоний. Так же обстоит дело и с рядом других моих наблюдений социально-исторического порядка. Подмеченные мной признаки того, что не только во многих случаях керамисты, но и в некоторых случаях даже астиномы1 могли быть людьми рабского состояния или происхождения, что казалось бы небезынтересно для социальной характеристики античного керамического производства, до сих пор, по-видимому, не заинтересовали никого в нашей науке, как будто бы с особенной остротой направленной на изучение социальных отношений древности.
Еще в начале 1960-х годов, идя по стопам Ф.Ф.Соколова и Н.И.Новосадского, я определил слово «састер» (оаотг|р) Хер- сонесской присяги2 как обозначение скифского наместника в Херсонесе, а вслед за Фасмером отождествил это имя с sastar’oM Авесты3, в противовес мнениям некоторых ученых, склонных толковать этот политический термин или как юридическое понятие (В.ВЛатышев), или как обозначение некоего священного предмета (С.А.Жебелёв) или предмета, имеющего военное значение (В.Д.Блаватский). Но мнение мое осталось как бы незамеченным, пока наконец редакция «Вестника» в самое недавнее время в оценке моего историографического очерка изучения Херсонесской присяги выразила мнение, что я «не доказал» толкования термина «састер» как обозначения скифского наместника в Херсонесе, и отказала мне в опубликовании статьи, вариант которой был опубликован в «Вестнике» же лет 15 назад |89]. Равным образом молчаливо было отвергнуто мое толкование термина «эпитроп» (у Геродота, IV, 76) применительно к скифу Тимну как ольвийскому наместнику - в противоречии с пониманием его в смысле «поверенный» и т.п. в русских переводах Геродота. Равным образом и статья 'Астином - должностное лицо в Древней Греции, которое должно было следить за порядком и благоустройством города.
2Херсонесская присяга - текст присяги граждан Херсонеса - замечательный памятник причерноморской эпиграфики III векадон.э. Впервые опубликован В.В.Латышевым. Слово «састер» втексте присяги до сих пор не имеет однозначного перевода.
3Авеста - собрание священных текстов, старейший памятник древнеиранской литературы.
ПО
о том, что греческие колонии Причерноморья были лишены суверенитета и всецело подчинены в воен но-политическом отношении скифам, также была отвергнута тем же журналом как бездоказательная. И наоборот, суверенитет греческих колоний на Черном море утверждался во всех без исключения ра- Сютах, касавшихся этого вопроса, хотя казалось бы с позиций элементарного здравого смысла, о каком суверенитете могла идти речь в отношении небольших и главным образом торгово-ремесленных городков-островков античной культуры, прилепившихся на краю почти безграничного скифского океана?
К концу 1950-х годов меня стали реже использовать в издательстве1 для редактирования археологических публикаций, монографий же на археологические темы мне не поручали вовсе. Не совсем понимаю, почему. Толи просто обходились собственными силами (т.е. взаимным редактированием), то ли авторы боялись моего вмешательства в содержание их работ (при редактировании раскопочных отчетов мне иногда приходилось оспаривать явно ошибочные, на чистых недоразумениях основанные истолкования памятников). Несколько раз, впрочем, авторы сами просили меня о редактировании их книг, но или институтское руководство или издательство всякий раз распоряжались иначе. Из крупных археологических монографий на мою долю выпало лишь редактирование «Древней истории Северного Кавказа» Е. И. Крупнова, видимо по его настоянию. И хотя годы войны и моего заключения сильно пошатнули паши товарищеские отношения, я отнесся к этой его работе, как к своей собственной, - например, главу «Духовная культура и первобытная идеология» сильно переработал, о чем многократно его предупреждал, с тем чтобы он внимательно читал корректуры и исключил бы все для него неприемлемое. Книга его получила государственную премию, а мне досталась только его авторская надпись с благодарностью на подаренном мне экземпляре. Даже в издательстве поздравляли и «качали» по этому случаю не меня, а принятого по недоразумению за меня какого-то другого сотрудника...
Последним моим делом, связанным с Е.И.Крупновым, была статья об А.А.Иессене, написанная хотя и по моему собственному почину, но с его согласия и поощрения. Меня же на это 1 Издательство АН СССР («Наука»).
Ill
подтолкнуло то обстоятельство, что об умершем в 1964 году А.А.Иессене в «Советской археологии» был напечатан только довольно поспешный некролог, подписанный Пиотровским, Крупновым и Смирновым1. Крупнов статью мою с некоторым пристрастием отредактировал, из чего я заключил, чю и он, несмотря на то что поддержал меня, должно быть, не является поклонником трудов Иессена. Меня это, конечно, огорчило, но еще большее огорчение вызвало чье-то замечание, что Арцихов- ский вряд ли эту статью пропустит - покой ни ка-де он недолюбливал и как Иессена (т.е. из-за его нерусской фамилии), и как ленинградца. Я обратился к А.П.Смирнову - заместителю Ар- циховского по «Советской археологии». Он, ознакомившись со статьей, обещал свою поддержку, а вскоре сообщил, что она прошла редколлегию и должна быть напечатана в последнем номере 1975 года. К сожалению, ни Е.И.Крупнов, ни А.П.Смирнов не дожили до этого срока. Когда же соответствующая книжка журнала вышла в свет без статьи об Иессене, я обратился к за- вреду - человеку в редакции новому. Она извлекла рукопись и пожала плечами: «На статье помечено, что она должна была быть напечатана в вышедшем номере. Придется адресоваться за разъяснениями к Арциховскому».
Понимая, что это бесполезно, я все же этот шаг предпринял, собственно больше из любопытства - как он будет отнекиваться?
Разведя руками, Арциховский сказал, что есть постановление Президиума АН о ликвидации в журналах раздела персоналий.
- Сколько я знаю, такое постановление существует не первый год, и редколлегия ваша небось знала о нем, когда вынесла решение о публикации этой статьи, собственно говоря к персоналиям и не относящейся. В ней речь идет о замечательных работах Иессена, которые должны быть популяризированы и продолжены.
- Да, да, я понимаю, я и сам сожалею... но что же делать, если такое постановление?
- Так ведь это же все-таки недоразумение. Если вас смущает название статьи, его можно изменить.
- Нет, нет, эта статья не будет напечатана...
По совету друзей я переслал статью в Грузию, где Иессеи
1СА. 1965. № 1. С.130-134.
112
был весьма уважаем, но и там ее тоже не напечатали. Впрочем, отказа я оттуда не получил: то ли просто забыли, то л и неловко было перед памятью Иессена — человека, сделавшего для кавказоведения больше многих и многих1.
Ко всем таким людям, как Иессен, Арциховский, по моим представлениям, должен был испытывать ревность и неприязнь. Так, в начале 1960-х годов ко мне обратился весьма заслуженный и сильно пострадавший исследователь и хранитель Херсонеса, уже восьмидесятилетний К.Э. Гриневич, доживавший дни свои в Харькове: «Не могли бы вы мне посоветовать, как напечатать статью в “Советской археологии”?» Что тут можно было посоветовать - Арциховский давно уже и неизвестно почему невзлюбил Гриневича... А несколько лет тому назад я сам по глупости и по наивности спросил одну сотрудницу ИИМКа, рассказавшую мне интересные и неизвестные вещи: «Почему вы не напечатаете это в “Советской археологии”?» Она мне не ответила ни слова, и только в глазах у нее стояли слезы...
Необходимо отметить также и бесцеремонность Арциховского, проявлявшуюся не только в случаях нежелания что-либо печатать, но также и тогда, когда ему почему-то хотелось что- либо напечатать во что бы то ни стало. На этой почве у меня с ним произошел следующий случай: в 1958 году в Пирее произведена была известная находка древних скульптур, о чем я для «Вестника» написал хроникальную заметку с несколькими иллюстрациями. Она сейчас же пошла в печать [70]. После того как я держал соответствующие корректуры, мне вдруг приносят еще одну верстку этой же статейки [71].
- В чем дело, что случилось, — спросил я завреда, — ведь это же все уже было?
- Это не для нас, а для «Советской археологии».
- То есть?
- Арциховский попросил у нас разрешения дублировать эту заметку в его журнале...
Я удивился и пошел к Арциховскому:
- Почему вы так странно поступаете? Если вас интересуют эти находки, сказали бы мне, я бы написал другую статейку. Подумайте, какая нелепость — в двух журналах слово в слово один и тот же текст, что твое сообщение ТАСС.
'В 1979 году статья эта все-таки была напечатана в Грузии (138|.
113
Он помолчал, а потом заметил:
— Нам представилось, что так будет удобнее...
И я понял, что разговаривать бесполезно.
А как вообще в редакции шла работа, я мог судить еще по рассказам заместителя Арциховского - А.П.Смирнова: «Когда Арциховского положили в больницу, остался я на время за главного... Хотел произвести маленькую реформу - чтобы отвергнутые статьи возвращали авторам. Так что вы думаете - сбегали в больницу и доложили... Арциховский вызвал меня: “Слушай, говорит, если ты что-то намерен предпринимать, советуйся первоначально со мной...”»
Все это могло бы послужить для меня поводом всяческих огорчений, но сытый голодного не разумеет... Огорчаться было некогда: как раз в течение этого времени мне все больше и больше перепадало рукописей в издательстве из отдела истории. Это бывали и плановые работы сотрудников сектора древней истории, но также и некоторые посторонние работы, в частности достался мне один из томов «Византийского временника», а потом меня очень просили взять на себя редактирование книги «Поздневизантийский феодализм» Б.Т.Горянова — человека, от которого Византийский сектор всеми силами старался отделаться (и избавились в конце концов, перебросив его в Ленинградское отделение). Редактирование обещало быть очень тяжелым, но, во-первых, я с автором, хотя и очень поверхностно, но на протяжении долгого времени был знаком, а во-вторых, я понял из разговоров на секторе, что из них никто эту рукопись редактировать не станет, а издательство требовало специального редактирования. Сил у меня эта книга отняла много, а получилась в конечном счете достаточно неудачной. Но мне совсем не хотелось, чтобы ее зарезали с моей помощью, а на это, может быть, в секторе отчасти надеялись.
8. Акцт)если можно так выразиться...
Работы на скифскую тему. Полемика с Б. Н. Граковым
В 1949 году я закончил работу над книгой «Знания древних народов о северных странах», написанной, как уже было сказано, в результате занятий, предпринимавшихся в связи с ком-
1Лкие - расцвет, зрелость, лучшая пора.
114
монтированием латышевской «Scythica et Caucasica», однако не имел возможности ничего предпринять для ее опубликования до середины пятидесятых годов, когда наконец взял ее у меня Географгиз, но опубликовал только в 1961 году1. Затронутые в ней темы продолжали занимать меня и позднее — в шестидесятые и в семидесятые годы, когда я, в частности, продолжил и развил мои представления о птолемеевской Скифо-Сарматии, результаты чего изложил в последней моей книжке на скифские темы, вышедшей в свет в 1977 году2.
Но в те времена я считал вопрос более или менее исчерпанным, хотя внутренне ощущал некоторые изъяны, не зная, однако, как эти изъяны могли бы быть ликвидированы.
Когда я стал закидывать удочки в отношении возможностей опубликования первой книги, Б.Н.Граков, к которому я было обратился, сразу мне сказал, что в Институте археологии наверняка ничего не выйдет, но добавил, что в ближайшее время собирается в Киев, где и поговорит с А.И.Тереножкиным, руководившим скифским отделом тамошнего Института археологии. «Увы, и там никаких возможностей», - такой ответ привез мне из Киева Граков. Пожалуй, я другого и не ожидал, несмотря на то что их обоих склонен был считать з числе своих если не друзей, то, во всяком случае, доброжелателей, интересующихся тем, что я делаю, хотя и во многом со мной не согласных. Граков, например, ценил мой интерес к эпиграфике. Однажды даже подарил мне небольшую надпись, которую собирался публиковать сам, а я предложил ему для нее лучшее чтение. «Ах, вы так читаете? Ну, так вы уж ее и публикуйте». Сколько я ни убеждал его в бескорыстии моего совета, он и слушать не захотел ничего больше.
Его волновала (хотя одновременно явно и раздражала) моя неприкаянность. Допускаю, что привлекая меня для печатанья амфорных клейм на «греческой» машинке, он искренно хотел мне помочь в материальном отношении, так как вообще-то мог бы, конечно, найти и кого-нибудь другого. Но в отношении выявленной мною группы боспорских амфорных клейм поступал он со мной, как мне кажется, нелояльно в том смысле, что, не отвергнув ни разу моего мнения печатно, он настойчиво
‘Знания древних о северных странах. М., 1961. Через год в Географгизе пышла вторая книга: Древнейшие океанские плавания. М., 1962.
2Скифия евразийских степей. Новосибирск, 1977.
115
внушал свои сомнения ученикам, так что среди них и появились, в конце концов, мои печатные оппоненты, возражения которых были хотя и довольно резки, но не столь основательны, чтобы под ними мог подписаться сам Граков, почему он, видимо, и не выступил ни разу собственной персоной.
Когда я написал в 1949 году статью о скифских религиозных культах1, Б.Н.Граков первоначально даже не высказал о ней столь резких суждений, как несколько позже, предложив мне доложить ее содержание у него на секторе и пригласив на это заседание директора Института А.Д.Удальцова, интересовавшегося этнонимикой и культурной географией причерноморских племен времени, близкого к начальным векам н.э. (а в моей работе присутствовал некоторый соответствующий материал). Я внутренне совершенно не был подготовлен к довольно разносной критике Б.Н.Гракова, состоявшей преимущественно в констатации и подчеркивании того обстоятельства, что я-де не оставил ни Геродоту, ни более поздним источникам почти ничего специфически скифского в их картине скифской религии, обнажив малоазийские, иранские и северо-балканские корни не только культовых черт и некоторых обычаев, но исамихтеофорных имен. В довершение всего он назвал это мое стремление определить корни легенд о происхождении скифов и данных об их верованиях изболев широкой культурной среды ни более ни менее как «космополитизмом», употребив тер,- мин, имевший в те времена весьма неприятную политическую окраску — за «космополитизм», в котором обвиняли к тому же преимущественно евреев, запросто сажали, как за своего рода контрреволюцию. Возможно, что такой критический прием с его стороны оказался неожиданным не только для меня, но и для Удальцова, в словах которого, обращенных ко мне, хотя в общем и примыкавших к граковской позиции, я почувствовал некоторое не то сожаление, не то участие.
Все это, однако, меня глубоко не задело. Свинью, которую он мне хотел или не хотел, но подкладывал со своим «космополитизмом», я сразу даже не оценил по достоинству. Неуравновешенность Гракова мне была хорошо ведома, как и его способность сменить гнев на милость. Тогда я расценил это как некоторое чудачество, как не всегда понятную в ее истоках вспыльчивость, на которую он был способен по отношению к кому угодно.
’Опубликована в 1960 году [73].
116
Не мог я, конечно, не чувствовать и того, что он никак не причисляет меня к своим идейным и научным сторонникам, хотя я считал себя многим ему обязанным, искал его советов, его поддержки и руководства.
В случае с докладом о скифских культах я не учел тогда одного обстоятельства, значение которого стало для меня проясняться гораздо позже — в конце 50-х и в 60-е годы. Дело в том, что в 1947 году вышла у Гракова небольшая, написанная в популярной форме, но очень отчетливо выражавшая его понимание скифской культуры книжка, которую ему из-за издательских затруднений пришлось опубликовать на украинском языке, вследствие чего она и не могла исполнить достаточно широко своей популяризаторской миссии. Но в ней содержалось много такого, о чем мне хотелось в самом серьезном плане поспорить, почему я и воспользовался с удовольствием предложением Ра- повича написать на нее рецензию [36]. И хотя полемика велась мной в совершенно академическом тоне, да и вообще я больше развивал свои собственные взгляды, чем критиковал граков- ские, он, по-видимому, обиделся на меня за эту рецензию, хотя в то время и не высказал мне этого определенно. А может быть, сначала он просто не удостоил ее своим вниманием, а прочел уже только тогда, когда в печати появились кое-какие другие мои работы на скифские темы. Так или иначе, резкие его нападки на мои взгляды, касающиеся скифских и вообще причерноморских обстоятельств, относятся к тому времени, когда я предложил ему мою работу о скифских культах. Видимо, именно в связи с этой статьей или несколько раньше, в связи с некоторыми моими комментариями к «Scythica et Caucasica», появилось у него в отношении меня чувство известного раздражения. Он стал порицать меня за некоторые толкования Геродотовых и Страбоновых данных, повторял опять, что-де я все валю в одну кучу, не признаю скифского этноса и т.п. «Вот погодите, - говаривал он, - выйдет моя книга о скифах, я с вами в ней как следует рассчитаюсь...»
Мне это представлялось отчасти даже лестно приобрести такого, как он, оппонента. Но книга его все что-то не выходила и не выходила. Уже в начале 70-х годов, когда он снова обрушился на меня с упреками за старую рецензию на его первую книжку о Скифии и повторил свои угрозы разделаться со мной на страницах его новой книги, я спросил у Д.Б.Шелова, что, мол, это за книга у Бориса Николаевича и когда же она наконец выйдет? 117
«Книга популярная и не очень большая - страниц 200, — ответил он, — а долго не выходит потому, что печатает ее университетское издательство, — они всё очень медленно печатают».
Я тогда было подумал, что это несколько расширенное переиздание украинской кн ижки, но это оказалось не совсем так. Книга эта, выхода которой в свет Б.Н.Граков так и не дождался, содержала много нового археологического материала и новых исторических соображений, с которыми я не мог так или иначе не посчитаться в своих работах. Что же касается исполнения его угроз в мой адрес, которые прозвучали в последний раз особенно резко после какого-то заседания в Институте археологии, то в конце концов они заставили меня упрекнуть его в неправоте и несправедливости в отношении той пресловутой моей рецензии и заявить, что я бы ему в ножки поклонился, если бы он написал на мою книгу такую рецензию, поскольку предметом внимательного отношения в печати мои работы на скифские темы не были почти что ни разу. При этой перепалке случайно присутствовала весьма уважаемая нами обоими ленинградская скифоведка А.П.Манцевич и была очень огорчена поведением Гракова. «Вот уж не ожидала», — говорила она, разводя руками... «А я уж к этому давно привык», — старался отшутиться я.
Однако, чего-либо враждебного и направленного в мой адрес книга не содержала, если не считать нескольких слов в примечании о том, что-де новый комментарий клатышевской хрестоматии содержит иные превратные толкования.
Через много лет по появлении в печати статьи о скифских религиозных верованиях я опубликовал в «Советской археологии» другую статью [118] о некоторых скифских легендах, представляющих культурно-исторический интерес, в которой равным образом устанавливались переднеазиатские и ираноиндийские параллели легендарных и культовых имен.
Если в работе В. П. Петрова («Ск1фи. Мова i етнос». Ки1в, 1968) мои попытки расширить ареал легендарных данных, заимствованных скифами у соседних более культурных народов, были расценены положительно, то позднее, в книге Д.С.Раевского («Очерки идеологии скифо-сакских племен». М., 1977), отвергалась самая возможность истолкования имени скифов как культурно-исторического понятия, установившегося в древнегреческой этнографии, и постулировалось этническое един118
ство скифских племен соответственно Геродотову заявлению (им же самим неоднократно опровергавшемуся).
Таким образом надо считать, что в нашей науке до сих пор торжествует точка зрения Гракова-Артамонова, настаивающая на единстве скифского этноса и языка. Это представление об этническом и культурном скифском единстве зашло в нашем скифоведении так далеко, что установленное А.П.Манцевич фракийское происхождение скифской торевтики1 совершенно не получило доверия, и большая ее работа о кургане Солохатак и осталась по этой причине не опубликована2.
Мои наблюдения над изображениями скифского змееногого женского божества (Ехидны), которые также уводят к грекофракийским истокам, равным образом были обойдены молчанием. Более благосклонно, но только преимущественно среди кавказоведов, оказалась принята моя работа о киммерийцах и их культуре [40], поскольку я пытался связывать ее с кобанской культурой. Работу эту приняли всего приветливей в балканских странах, наши же скифоведы отнеслись к ней, по-видимому, отрицательно, потому что я посчитал легендарной Геродотову «киммерийскую» топонимику на Боспоре и сообщение о курганном некрополе киммерийских царей при устье Днестра. Против моего мнения были мне высказаны изустные возражения. Более внимательные занятия киммерийской этнонимикой и топонимикой, наличествующей в древнегреческой этнографической литературе, а также клинописными данными о них, не позволяли мне более ограничивать представление о киммерийской культуре кобанскими памятниками, и я все более приходил к убеждению, вслед за И.М.Дьяконовым, о тождестве раннескифской и киммерийской культур и о североазиатском происхождении киммерийских племен, отождествляющихся исторически все определенней с Umman 1 Торевтика - искусство рельефной обработки художественных изделий из металла.
2 Мне кажется, что весьма убедительно вывел ассирийскую форму имени «скифы» - ишкуза из прототюркского племенного имени иш-огуз - О.Сулейменов. Я очень хотел отметить это в моей «Скифии евразийских степей», но издательство, испуганное резкой критикой книги Сулейме- нова «Аз и я» со стороны академического начальства, ни за что не соглашалось допустить ссылки моей на эту книгу, талантливую во многих отношениях. Это происшествие, как и всю историю с Сулейменовым, нельзя не счесть весьма характерным явлением в нашей науке. — Примеч. авт.
119
manda ассирийских источников. В дальнейшем мне показалось возможным связать с киммерийцами также и некоторую северочерноморскую топонимику, а также некоторые археологические комплексы в Северной Италии. Внимательное прочтение Страбона позволило мне связать с киммерийцами целый ряд племенных и местных наименований в Эгеиде и в Греции. Мне казалось, кроме того, что известную поддержку я получаю при установлении итало-киммерийских связей в наблюдениях В.И.Абаева над ирано-скифскими элементами в латыни, в подтверждение чего я привел несколько примеров из этрусской ономастики.
Когда я, коротко изложив соответствующие наблюдения археологического и ономастического характера, уместившиеся на трех машинописных страничках, предложил их под названием «Этруски и киммерийцы» «Советской археологии», Б.Б.Пиотровский как член редколлегии этого журнала нашел мою заметку интересной и просил только проиллюстрировать археологические данные. Я ответил ему, что иллюстрации у меня имеются и я их представлю, если заметку примут к печати. «Обязательно напечатаем», - заверил он меня. А через неделю после этого я получил от Арциховского лаконичный вердикт: «О серьезных вещах нельзя сообщать скороговоркой», — написано было в отказе. Содержание этой статейки я изложил все же в соответствующем разделе «Скифии евразийских степей», а целиком опубликовал в выпуске II «Норции» - сборнике кафедры древней истории Воронежского университета [136]. Сборники эти, с некоторым оттенком иронии, мой ленинградский коллега Е.В.Мавлеев назвал «наши “Studi Etruschi”’». А Б.Б.Пиотровский, хотя мне и приходилось раза два после этого обращаться к нему по другим делам, ни разу не вспомнил об этой моей статейке - то ли вовсе позабыв про нее, то л и ему неудобно было признаться в том, что он не хотел идти против Арциховского, отвергнувшего ее достаточно категорически.
Мои представления о киммерийско-скифском мире выглядели бы, вероятно, более отчетливыми и последовательными, если бы мне удалось опубликовать все, что я написал об этом предмете. В отличие от ученых, рассматривавших киммерийско-скифскую проблему преимущественно с ар- 1 Итальянский журнал «Этрусские исследования».
120
геологических позиций, я стремился показать значительную пническую и культурную общность носителей этих наименований, разнившихся между собой преимущественно лишь кронологически. Из археологов меня поддержал бы, вероятно, А.А.Иессен, с исторических позиций я во многом следовал за И.М.Дьяконовым. Я показал, мне кажется убедительно, что под именем киммерийцев в Малую Азию и Эгеиду проник ряд кавказских племен. Археологически и лингвистически киммерийские перемещения могут быть прослежены вплоть до (’свсрной Италии. Мне хотелось также обратить внимание на множественность «царских» скифских племен, стоящих во главе многоплеменных объединений, и на то, что этому соответствовала множественность скифских этиологических легенд. Я настаивал на известиомгкультурном единстве скифского мира, простиравшегося по наблюдениям древнегреческих географов до границ древнего Китая. Я предположил, что это культурное единство во многом способствовало возникновению стремления к установлению также и политического единства для всего этого культурного ареала, осуществлявшегося время от времени в более поздние периоды. Я пытался выяснить некоторые конкретные чергы взаимоотношений греков и скифов и Причерноморье, свидетельствующие о зависимом состоянии греческих обшин от скифских царей.
Уже говорилось о том, как постепенно, со времени утверждения С.Л.Утченко на посту главного редактора «Вестника», мое сотрудничество в журнале все более и более сокращалось. Если новые сотрудники — Ю.К.Колосовская и А.И.Павловская, — к которым мне теперь приходилось обращаться за работой, до- польно охотно принимали мои предложения или сами давали мне те или иные поручения, то к печати мои работы, выполненные по этим предложениям и поручениям, принимались псе реже и реже. Надо сказать, что такое отношение к людям со стороны, к каковым все более причисляли в «Вестнике» и меня, характерно не только для этой редакции. Так же точно со мной поступали неоднократно и в других местах — в «Вопросах истории», в «Науке и религии». Я получал совершенно конкретные поручения от сотрудников соответствующих отделов, и главные редакторы отвергали без всяких обиняков готовые уже рукописи. К чести «Вопросов истории» следует сказать, 121
что они в таких случаях все же оплачивали мне в некотором размере проделанную напрасно работу.
В «Вестнике» же даже рецензии, заказывавшиеся мне названными сотрудниками, перестали печататься вовсе, а поскольку журнал обратился в безгонорарный, об оплате вообще не было речи. Кроме того, мои рецензии, печатавшиеся до того безотказно, стали теперь вызывать недовольство и отвергаться под каким-либо предлогом, например, говорили, что рецензируемое издание признано не заслуживающим внимания. Или мне заявляли, будто я так пишу рецензии, что читателю непонятно, где мнение автора, а где рецензента, и что в них отсутствует в необходимой пропорции реферативный элемент, а редколлегия-де указывает на его необходимость. По какой-нибудь из перечисленных причин мои рецензии отвергались одна за другой. Договариваюсь я, например, о рецензии на книжку А.И.Харсекина - первую на русском языке сводную работу об этрусском языке. Предложение мое принимается, но рецензия отвергается заместителем главного редактора Зельиным, поставившим передо мной вопрос: «А правильно ли автор переводит этрусские надписи?» На что мне приходится ответить: «Да кто же возьмется что-либо на этот счет утверждать? Ведь грамматики этрусского языка не существует, и каждый переводит по наитию». - «А вот нам необходимо знать, правильные ли у него переводы или нет...»
В другом случае я предлагаю рецензию на очень интересную и важную книгу М.П.Инадзе, содержащую характеристику нового и большого материала по археологии древней Колхиды. Поскольку я получил эту книгу от автора, явно надеявшегося на мою рецензию, что было подкреплено соответствующими просьбами третьих лиц, я иду безропотно на все требования редакции: излагаю содержание по главам, собственную характеристику свожу до минимума, но рецензия лежит и лежит. В конце концов на мои вопросы, с которыми меня переадресовывают к главному редактору, следует ответ: «Видите ли, нам еще не ясны наши отношения с грузинами...»
В начале 60-х годов я потратил много времени на подведение итогов в области моих занятий скифской культурой, из чего года два-три спустя появилась рукопись большой работы — «Скифская культура в периферийных связях». Одну из основных глав - «Киммерийцы» - я предложил «Вестнику». В первой моей ра122
боте на эту тему, опубликованной в 1949 году [40], мною лишь ставился вопрос о прикавказских корнях киммерийской культуры. А в работе, о которой идет речь, сделана была попытка представить киммерийскую культуру в более полном объеме и проследить ее распространение от среднеазиатских пределов до Северной Италии. Работа получилась большая - около трех листов. Мне сказали, что редколлегия ее к печати утвердила, с оговоркой о необходимости значительного ее сокращения. Сотрудница редакции, интересовавшаяся в исследовательском порядке преимущественно Северными Балканами, мне разъяснила: «Сконцентрируйте ваше внимание на балканских киммерийцах». Я запротестовал: «О балканских киммерийцах как в историческом, так и в археологическом аспектах известно немало, вряд ли к тому, что уже написано, можно сейчас прибавить что- либо новое и существенное, полностью же киммерийская проблема толком еще не ставилась...» - «Тогда ваша статья не будет напечатана...» Так ее и не напечатали, несмотря на утверждение редколлегией, с которой в «Вестнике», несмотря на постоянные на нее ссылки, считались, видимо, не больше, чем в «Советской археологии». Свет эта моя работа увидала лишь совсем недавно, более чем через 12 лет после ее написания, в книге «Скифия евразийских степей».
Книга о раннеримском рабовладении
После того как сектор древней истории ведущей темой своих занятий определил историю античного полиса (тема эта не породила сколько-нибудь серьезных трудов или же из того, что породила, мало что попало на страницы «Вестника»), была запланирована серия монографий по истории античного рабства. Серия в общем-то в целом не состоялась, но появилось несколько работ: три индивидуальных монографии и коллективная книга об эллинистическом рабстве. Среди монографий оказалась и моя, появление которой было связано с некоторыми неожиданными и малоприятными для меня обстоятельствами
Начать с того, что в конце 50-х и в начале 60-х годов я опубликовал несколько статей о культуре раннего Рима [61, 68] по археологическим данным, отчасти полученным и обнародованным именно в нынешнем столетии вплоть до его середины,
‘Возникновение и развитие рабства в Риме в VHI-I1I вв. до н.э. М., Наука, 1964.
123
а также и о некоторых социальных пертурбациях в Италии раннереспубликанского времени |74, 81]. Вероятно, именно всвязи с этим С.Л.Утченко предложил мне как единствен ному занимавшемуся ранним Римом в те времена из числа людей, связанных с работой сектора, написать в соавторстве с ним исследование о раннеримском рабовладении. Он сказал, что договорился с руководством Института о привлечении меня к работе над этой темой, в доказательство чего мне предъявили документ, в котором говорилось о желательности привлечения к работе Института разных лиц, среди которых значилось и мое имя. Работа моя должна была оплачиваться из институтских средств.
Свое соавторство Утченко представил мне в достаточно туманных чертах. В конце концов он заявил, что намерен ограничиться обширным введением ко всей серии. Поместить свое введение именно в этот том и оказаться таким образом в соавторстве со мной Утченко, по его словам, счел необходимым именно для того, чтобы моя работа могла быть включена в издательский план Института и соответственно проведена через ученый совет.
Я как-то не очень вникал во все эти формальности, тема мне представлялась интересной, и я принялся за работу. Происходило это году в 1962-ом, когда у меня только что появились почти одновременно две книги в Географгизе, о которых ' речь была уже выше, и настроение мое в связи с этим, а также в связи с новой работой по истории римского (или как я себе представлял более широко - римско-этрусского и вообще италийского, а то даже и еще несколько шире - западносредиземноморского) рабства было приподнятым и довольно уверенным.
В конце года сектор подводил итоги проделанной его сотрудниками научной работы, в связи с чем на одном из заседаний заслушивалось и мое сообщение об основных установках готовящейся мной монографии. Когда я в тезисном порядке охарактеризовал привлекаемый материал и некоторые аспекты его интерпретации, с резкой отповедью выступил К.К.Зельин. Он настаивал на том, что вообще непонятно, как можно говорить о раннеримском рабовладении, поскольку общепризнано, что рабство в Риме появляется достаточно поздно, а то, что я имею в виду, - это совсем не рабство, и что-де прежде всего надо условиться, что следует считать рабством. Если принять эти поставленные им условия, о древнеримском рабовладении, 124
может быть, и можно написать несколько страниц, но никак не книгу.
Зельин в это время выдвинулся в секторе на роль судьи высшего ранга. К нему очень прислушивались остальные сотрудники как к наилучшему знатоку древних источников и автору двух монографий — одной по социальной истории древней Аттики, а другой о хозяйственной истории эллинистического Египта - и ряда довольно разнообразных статей преимущественно по вопросам истории эллинизма’. Держался он необыкновенно уверенно, и возражать ему никто не отваживался, да и ни у кого, вероятно, не возникало для этого оснований. Как бы в подтверждение моей догадки, вслед за Зельиным и еще кто-то поднял было голос: высказывались опасения в отношении того, что я готов распространить понятие рабства на категорию «свободных производителей» и что употребление в древности обозначения «раб» в отношении тех или иных представителей низших общественных состояний может быть чисто условным и требует от исследователя тщательного выяснения истинного социального положения людей, именовавшихся рабами.
Но тут, не дожидаясь окончания прений по моему сообщению, слово взял Утченко и недвусмысленно встал на мою защиту: широкий охват хотя бы и спорных данных, говорил он, представляется ему интересным и плодотворным. Замечания в мой адрес тут же прекратились. Надо сказать, что заседания этого сектора — да и не только этого (то же самое бывало и на других секторах, равно как и в других научных учреждениях) - являло иногда весьма забавную картину: когда заслушивали кого-либо из своих сотрудников, его обычно расхваливали. Критические замечания тонули в хоре удовлетворения и поощрения; если же докладчик был со стороны, ему редко
’В работе по социальной истории Аттики совершенно отвергалось историческое значение событий, связанных с деятельностью Солона. Зельин полагал, что сообщения о разорении и порабощении аттического крестьянства противоречат фактам, убеждающим в существовании мелкого свободного землевладения в Аттике еще в IV веке до н.э. Что же касается позиции Солона, то ее интерпретация древними и новыми историками основывается на его сочинениях, представляющих собой не что иное, как поэтическую вольность: Солон ведь писал стихами. Зельин при этом совершенно игнорировал то, что в эпоху Солона греческой прозы еще не существовало нив каком виде. - Примеч. авт.
125
оказывалось снисхождение. Тут же, припоминая все это, я немало удивлялся позиции заведующего сектором, резко пошедшего в этом случае против Зельина, которого он вообще всячески поддерживал, и тем остановившего поднявшуюся было против меня критическую волну. Я объяснял себе это тем, что поскольку он сам предложил мне эту работу, ему представлялось неловким так запросто выдать меня на съедение своему сектору, готовому растерзать меня за еще даже не написанную книгу, по одним только тезисам. В действительности же причина была несколько иной, и я мог бы, вероятно, это тогда же сообразить, но на это у меня не хватило смекалки. Понял же я, почему и как все это происходило, еще очень не скоро. А тут мне в заключение было высказано «добро» и предложено продолжать работу. Позиция же Зельина вполне умещалась в моем представлении в рамки его обычного «репертуара». Таким я знал его на протяжении не одного десятка лет, так что, в сущности, нечему было и удивляться.
Когда в руки Зельину попадала чья-либо работа, если это было лицо, поддержать которое он не был заинтересован или не чувствовал себя к чему-либо подобному обязанным, он обычно избирал обтекаемую и не очень членораздельную форму констатации недостаточности предложенной его вниманию работы: да, конечно, все это быть может и так, но скорее всего совершенно не так... Что-то подобное было написано в его рецензии на мою статью «Эвн как царь сатурналий» [53], напечатанную все же в «Вестнике истории мировой культуры» и содержавшую попытку истолкования древних представлений о деятельности вождя сицилийских рабов. Подобные рецензии, отличаясь спокойным и как бы незаинтересованным тоном и отсутствием какой-либо конкретной критики, в то же время представляют рецензируемую работу как совершенно бесперспективную, не дающую даже материала для серьезных возражений.
Довольно быстро, за какой-нибудь год, я закончил работу над книгой о раннеримском рабовладении и представил ее Утченко. Принимая ее, он сказал мне, что произошли некоторые изменения в возможности ее оплаты: у Института срезаны средства на внештатных сотрудников, но что он договорился в издательстве, которое мне ее и оплатит по напечатании. Я опять ничего толком не понял, но так как я был фактически сотрудником издательства, где ко мне хорошо относились, мне в связи с этой переменой не пришло в голову ни одной беспо-
126
койной мысли — издательство так издательство... Хотя я должен был бы понять, что издательство не оплачивает плановые работы институтов.
Рукопись мою дали на рецензию А.И.Немировскому, в то время доценту и заведующему кафедрой древней истории Воронежского университета. Он доложил ее на заседании сектора, где произошло окончательное обсуждение и принятие рукописи. Утченко после этого представил ее на утверждение Ученого совета Института и предложил мне, не очень, впрочем, настойчиво, явиться для ее защиты. Но я решил почему- то не ходить на этот Ученый совет: рукопись фигурировала под двумя именами, а Утченко ничего не сделал для реального подтверждения своего соавторства, так что предстояла какая-то ложь, в которой мне не хотелось участвовать. Кто-то из присутствовавших на этом заседании рассказал мне, что в ответ на попрос, в чем выразилось его участие в написании этой работы. он будто бы отшутился: «А у нас как у Ильфа с Петровым, один пишет, а другой по редакциям бегает...»
И когда он после заседания Ученого совета, на котором рукопись получила утверждение, опять-таки не очень настойчиво мне выговаривал за мое отсутствие, я прямо сказал, что не совсем понимаю, какую роль я должен был бы играть при возникновении каких-либо трений. Тут же я попросил его, чтобы он, поскольку рукопись идет под двумя фамилиями, написал хотя бы небольшое предисловие, на что с его стороны не последовало отказа. Через некоторое время в ежегодном (за 1964 год) проспекте издательства появилось оповещение о предстоящем выходе в свет этой монографии под двумя фамилиями. Сектор постановил перепечатать рукопись на машинке за казенный счет, с тем однако, чтобы из моего гонорара была удержана соответствующая сумма. Иностранные тексты впечатывал я собственноручно.
Издательство рукопись приняло, но в ней не оказалось ничего, написанного Утченко. В связи с этим заведующий отделом исторической литературы заявил мне, что я должен предпринять шаги, чтобы снять с титульного листа его фамилию, так как им хорошо известно, что это целиком моя работа, и на подлог они не пойдут. Я со своей стороны уверил его, что отнюдь в подобном подлоге не заинтересован, имею обещание Утченко написать обширное введение, о чем еще раз ему напомню. «Поздно напоминать, раз уж этого введения нет, — ответили мне, — но учтите, что для снятия фамилии Утченко с 127
титульного листа необходима письменная просьба Института за подписью директора».
С этим я и явился к Утченко. К моему крайнему удивлению, он на этот раз совершенно определенно отказался от соавторства, но заявил, что в дирекцию не пойдет, предоставляя мне выпутываться из создавшегося положения самому. Крайне озадаченный всем этим, я снова отправился в издательство к заведующему отделом истории и просил его посоветоваться с главным редактором, с которым я несколько раз имел дело по своей редакторской работе. Он производил на меня серьезное и приятное впечатление. Я бы мог, конечно, пойти к нему и сам, но мне хотелось, чтобы в этом каверзном деле была соблюдена необходимая субординация, тем более, что заведующий отделом истории являлся одновременно и секретарем парткома.
Как он мне потом рассказал, главный редактор, видимо, сразу понял, в чем дело (понял то, что для меня оставалось тайной на протяжении еще нескольких лет), и спросил только, чья фамилия стоит в проспекте на первом месте (опять-таки, видимо, хорошо зная, чья именно). Ему ответили, что моя. «Ну, вот этого и достаточно, - сказал он примирительным тоном. - Мы не имеем права снимать без ведома Института первую фамилию, а остальные, хоть бы их было несколько, можем убрать и по .своему усмотрению». Не знаю, так ли это было на самом деле? но с ним тотчас же согласились и инцидент оказался на этом исчерпан. Я вздохнул с облегчением, и даже более чем странное поведение Утченко в этом деле представилось мне лишь каким-то дурным сном. Впрочем, я слышал краем уха, что у него в дирекции произошли какие-то неприятности, и этим пытался объяснить его нежелание лишний раз туда соваться.
Книга между тем довольно быстро пошла в печать, и я счел своевременным напомнить о том, что у Утченко-де была договоренность об оплате издательством моей работы по ее написании и опубликовании. На что мне не без ехидства сказали, что поскольку я не первый день работаю в издательстве, то должен бы знать, что работы, печатающиеся по планам институтов, являются безгонорарными. Единственно, что мы вам можем обещать как старому, хотя и внештатному работнику издательства, так как эта работа не оплачена вам нив какой форме Институтом, поднять вопрос об ее оплате в случае утверждения Ком- издатом для нее достаточно высокого тиража. Но тираж назна128
чили очень маленький - 1500 экземпляров, следовательно, об оплате не могло быть речи.
Поначалу я с этим довольно легко примирился. Слава богу, что хоть бесплатно напечатали, могло ведь и этого не произойти, не пойди мне навстречу главный редактор, выведший меня из очень неприятного положения. Но мне стало ясно, во всяком случае, что Утченко обманул меня и на этот раз. Впрочем, может быть наобещал из чистого легкомыслия? Верить этому мешало мне его утверждение, что он якобы договорился в издательстве об оплате. В свое время я этому поверил, тем более что у него были очень большие связи в дирекции издательства, и тот же заведующий отделом истории давал мне понять, что для них Утченко более авторитетен, чем даже академик Рыбаков, стоявший тогда во главе Отделения исторических наук.
То, что я не получил гонорар за эту книгу, не явилось для меня большим ударом. У меня в это время было достаточно других заработков. Я не оставался без работы в этом же академическом издательстве. Помимо редактирования, я охотно составлял указатели — это тоже как-то оплачивалось. В Институте научной информации мне давали довольно много работы по реферированию книг и статей по исторической и экономической географии, туризму и т.п. Энциклопедия заказывала мне статьи, при этом иногда довольно большие, и присылала статьи других авторов для редактирования. «Вестник», хотя и прекратил оплату статей, а хроникальных обзоров мне больше не поручал, но еще оплачивал, хотя и очень скудно, переводы, нет-нет да и предлагая мне эту работу. Одним словом, если заработки мои и не были достаточно регулярны, я не мог бы назвать их малыми. Я в среднем зарабатывал не меньше рублей полутораста-двухсот в месяц, а наличие сберкнижки позволяло мне регулировать использование моих поступлений.
Но, к сожалению, мне пришлось отступить от принятого было мной решения не добиваться гонорара за книгу, написанную по заказу сектора. Энциклопедия предложила мне вступить в ее жилкооператив, пообещав комнату, в которой я очень нуждался. Но для этого следовало сразу выплатить довольно большой взнос, чего без этого злосчастного гонорара невозможно было осуществить. Я рассказал об этом Утченко, и он одобрил мое решение добиваться гонорара судебным порядком. «Я считаю, - сказал он, - что издательство обязано оплатить вам эту книгу».
129
В суде же, поскольку самый вопрос о гонораре представлялся бесспорным и предстояло лишь решить, кто именно - Институт или Издательство — должен его выплатить, мне посоветовали не указывать ответчика, изложив в заявлении, как было дело. «А мы вызовем обе стороны», - сказал судья.
На суде довольно быстро выяснилась одна пикантная подробность, объяснившая мне все то, чего я недопонимал в истории злоключений с моей работой о древнеримском рабовладении. Оказалось, что Утченко отчитался ею перед дирекцией Института за соответствующий годовой план своей научной работы. Судья не отказал себе в удовольствии посрамить его перед публикой за этот фортель. Ответчиком был признан Институт истории, и из его бюджета перечислена на мое имя сумма, которую определило по своим соображениям издательство «Наука» — около полутора тысяч, сущие гроши. Так как я был очень ограничен листажом, то чтобы больше сказать, я загонял многое в примечания, печатавшиеся, как всегда, петитом. А за петит издательство платит очень мало. Сыграло свою роль, конечно, и отсутствие у меня ученой степени. Из чьего кармана сумма эта была фактически изъята, я толком не узнал. Может быть, и из кармана самого Утченко, что, разумеется, было бы вполне справедливо. Но когда огласили судебное решение, Утченко мне сказал на прощание: «Ну вот, вы можете десять дней чувствовать себя победителем - мы, конечно, обжалуем это решение в Мосгорсуде». Однако приговор обжалован не был, и когда я потом спросил его, почему Институт этого не сделал, он с самым равнодушным видом сказал: «Не знаю, я этим не интересовался...»
Но там же на суде заместитель директора Института, представлявший администрацию, сказал мне с огорчением: «Этот Утченко ведет себя самым легкомысленным образом. Вот, он издал еще под своей редакцией сочинения С.Я.Лурье после его смерти (это был том листов на тридцать), и теперь родственники тоже требуют с нас гонорар. Кто будет это оплачивать, из каких средств — никому не известно...»
Более существенные огорчения, которые я нередко испытывал, были другого рода. Чувство, что у меня все более и более ускользает из-под ног почва в «Вестнике» и в секторе древней истории, не могло меня не волновать. С «Вестником» я был связан особенно тесно, достаточно, как мне казалось, для него сделал, чтобы рассчитывать на какую-либо поддержку со стороны его руководства. Однако после того, как меня все более и 130
более лишали возможности работать для журнала регулярно, а в секторе, в особенности после истории с судебным процессом из-за гонорара за монографию по истории рабства, со мной некоторые сотрудники даже перестали разговаривать - он-де по судам ходит! - я не мог не понять, что со мной хотят как можно меньше иметь дело. Правда, вскоре после инцидента с соавторством, Утченко, может быть из желания несколько сгладить впечатление от своего довольно-таки предательского поведения, сказал, что он подумывает о зачислении меня на должность вспомогательного сотрудника сектора: «Заниматься вы, конечно, будете своим делом, но оформить вас как научного сотрудника мы не можем...»
Я поблагодарил его, не выразив при этом никаких чувств. Напоминаний об этом разговоре я не делал, он со своей стороны тоже к нему больше не возвращался, так что я и забыл о нем как о чем-то случайном и несерьезном. Однако Утченко все же напомнил мне об этом через некоторое время, но при обстоятельствах самых неожиданных и неприятных.
К.К.Зелъин опубликовал в «Вестнике» статью, в которой он попытался дать социологическое определение античного рабства. По его мнению, рабом может быть назван лишь человек, лишенный каких бы то ни было общественных или личных связей, пребывающий в эргастерии своего владельца и подвергающийся эксплуатации физическим трудом. Все же остальные древние формы зависимости и эксплуатации к рабству отношения не имеют. В доказательство этого тезиса он приводил примеры не только из биологии (о формах эксплуатации у пчел или муравьев), но также и из математики. Пример с кругами Эйлера, по его мнению, позволяет установить, что неполное тождество не является тождеством вообще исходя из логических соображений.
Мне показалось необходимым выступить против этой вульгарной концепции, исходившей не из античных, а из современных, чтобы не сказать чисто личных, представлений о рабстве, и я написал небольшую статью, в которой разоблачал искусственность и произвольность этой концепции. Так как Зельин в это время был заместителем Утченко по журналу и пользовался очень большим авторитетом в секторе, я не мог надеяться на то, что ее опубликует «Вестник», и послал свою статейку в «Вопросы философии». Но оттуда мне ее вскоре вернули с указанием на то, что поскольку статья Зельина напечатана в «Вестнике», то-де и критиковать ее уместнее всего на страницах именно «Вестника». Тогда я 131
отнес эту статейку академику Коростовцеву как члену редколлегии «Вестника» с просьбой поставить ее на обсуждение редколлегии. У негоже, видимо, были какие-то основания к этому способу не прибегать, и он препоручил ее Утченко. Тот вызвал меня и на сей раз новел разговор как форменный уголовник: «Я вас согну в бараний рог, если вы будете пытаться порочить работу сектора и журнала... Вы сидели в лагере и ничему там не научились. Вы называете работу Зельина антимарксистской, а вы понимаете, что означает этот ярлык? Я не позволю вам подрывать его авторитет... Я было хотел взять вас к нам на работу, об этом теперь не может быть никакой речи...»
Он говорил со мной так, что у меня не осталось никаких неясностей в отношении того, что это за человек. Я подумал, а что если взять стул и прогнать его этим стулом по всему коридору?.. На этом его карьера, конечно бы, и кончилась. Но чего бы я добился этим? Помимо больших неприятностей для себя, только еще того, может быть, что редактором назначат именно Коростовцева, а тот, будучи филологом-египтологом, соответственным образом определит и физиономию журнала... Подумав так, я несколько поостыл и сказал Утченко только, что он вычитал из моей статьи больше, чем в ней написано, и сам добавил к ней то, что я мог бы с полным основанием сказать, но не сказал. В частности, я не называю Зельина антимарксистом, хотя для этого и имеются основания. Но зачем говорить о марксизме, когда прежде всего должен быть поставлен вопрос об историзме вообще? Как может быть назван историком человек, опирающийся не на историческую реальность, а на собственные предвзятые постулаты?
Встретив меня через некоторое время после этого разговора, Утченко, улыбаясь, сказал, что он прошлый раз напрасно погорячился. Действительно, обвинений в антимарксизме в моей статье нет, и он решил провести ее обсуждение на секторе. Но это намерение исполнено не было. Обсуждения не состоялось, а статейка моя так и осталась неопубликованной.
Работы об этрусках
В 1965 году издательство «Наука» предложило мне взять на себя редактирование перевода вышедшей за несколько лет перед тем на французском языке (и переведенной на другие европейские языки) книги З.Майяни «Этруски начинают го- 132
корить». По ознакомлении с книгой я выразил сотруднику издательства, ведшему со мной переговоры, сожаление по поводу того, что издательство принимает к опубликованию книгу, насыщенную хотя и значительным материалом, но трактованным во многих случаях с предвзятых и произвольных позиций, изложенным к тому же в полубеллетристической форме, в то время как серьезные работы, представляющие собой классику этрускологии и широко переведенные на другие языки, остаются недоступны нашим читателям. На это мне ответили, что строго научные труды должны издаваться по почину Института истории, там-де, мол, вы и хлопочите об этом. А что касается книги Майяни, то, во-первых, был представлен готовый уже перевод, а во-вторых, это коммерческое издание - издательство хочет на нем подзаработать. А чтобы все было в научном отношении на должном уровне, вам дается право предпослать книге Майяни обширное введение, в котором все необходимое об этой книге и вообще об этрускологии было бы сказано.
Такой оборот дела представился мне заманчивым, и я согласился на предложение издательства. Я решил, что в качестве введения к книге Майяни я смогу наконец опубликовать собственную работу об этрусской культуре, представлявшую собой переработку (с дополнениями) рукописи «О происхождении этрусков», написанную мной лет пятнадцать назад в качестве моей несостоявшейся диссертации. В сокращенном виде получилась у меня рукопись листов на 10, к которой я приложил альбом не менее чем из 200 воспроизведений памятников этрусской культуры. Поскольку имелось в виду - в то время, когда я готовил исподволь эту рукопись, - опубликование по плану Института истории моей книги о раннеримском рабовладении, я решил предложить книжку об этрусках для популярной серии, выходившей в Издательстве «Наука» и составлявшейся из внеплановых работ. Поскольку в редакционной коллегии этой серии находились люди, к издательству отношения не имевшие, я отправился к директору Института археологии Б.А.Рыбакову с просьбой рекомендовать не работу мою, но самую тему для включения в план этой серии.
К нему именно я обратился отчасти потому, что он в случай- ных беседах при встречах со мной в институтском коридоре не раз проявлял интерес к этрускологии и подзадоривал меня на какое-либо печатное выступление по этой части. Он не заставил себя упрашивать и тут же написал на институтском бланке 133
испрошенную мной рекомендацию, а точнее просьбу, адресованную редакции популярной серии, обратить внимание на работу, посвященную столь редкой теме. Я отдал рукопись с рекомендацией Рыбакова и большой коробкой фотографий в руки технической секретарши редакции - маленькой сгорбленной женщины, которую я давно уже знал, как и она меня, поскольку стол ее помещался в комнате младших редакторов отдела истории, где я всегда получал и куда отдавал рукописи и корректуры редактированных мной изданий.
После этого на протяжении примерно двух лет я ни разу не осведомился о судьбе моей работы. Перед сдачей ее в издательство я еще поговорил с профессором Туроком, одним из членов редакции этой серии, обещавшим мне самое внимательное отношение к моей рукописи. Я посчитал, что всего этого достаточно для того, чтобы без нужды и по собственной инициативе не напоминать о ней, и во мне шевелилось при этом некоторое суеверное чувство: мне казалось, что если дело будет идти само собой, без вмешательств и напоминаний с моей стороны, то так будет лучше. А книги у нас печатались вообще достаточно медленно. Рукописи в издательствах залеживались нередко долгими годами.
Но вот теперь, когда мне предложено было присоединить к переводу книги Майяни обширное введение, призванное охарактеризовать достаточно подробно этрусскую историю jf культуру, а также представить самую этрускологию более систематично и последовательно, чем это сделано у Майяни, я решил поинтересоваться тем, как обстоят мои дела в популярной серии, чтобы рассудить - не следует ли, в том случае если рукопись моя пребывает без движения, воспользоваться ею для составления введения к книге Майяни. Но когда я задал соответствующий вопрос секретарше редакции популярной серии - той самой, которой я из рук в руки передал мою рукопись, а она тут же составила на меня авторскую карточку, то был совершенно огорошен ее ответом: «Вы нам никакой рукописи не приносили... Авторская карточка? Да, у меня есть ваша карточка, но это значит, что мы посылали вам что-нибудь на рецензию...»
Первым моим побуждением, после того как мне так и не удалось убедить ее в том, что я отдал ей два года тому назад рукопись, было пойти с заявлением в дирекцию издательства. В «Науке» рукописи не пропадали. Поэтому ни при сдаче их в издательство, ни при получении из издательства для редакти134
рования не практиковалось никаких формальностей. Я получал рукописи для работы без всяких расписок, также без расписок я их возвращал обратно. Так что поди теперь — докажи... Но я-то как раз и мог бы доказать, поскольку я сдавал рукопись при свидетеле - сотруднице этого же издательства Н.Д.Эфрос, которая несомненно запомнила этот факт, так как подробно расспрашивала меня о сдаваемой работе и даже разглядывала фотографии. Она бы обязательно подтвердила мои слова.
Но по некотором размышлении я в дирекцию не пошел, сообразив, что рукопись искать все равно никто не будет Сделают проще - уволят секретаршу, пожилую горбатую женщину. Ей же ведь ничего другого и не оставалось, как стоять на том, что я рукописи не сдавал, поскольку она у нее исчезла. Кто мог ее взять? Может быть, кто-нибудь просто соблазнился большим количеством фотографий с редкостными воспроизведениями? Этого я так никогда и не узнал. Ноу меня был печальный опыт- случай, после которого я дал себе слово не жаловаться начальству. Я еще до войны написал жалобу на письмоносца, задержавшего на два или три дня денежный перевод на мое имя (меня он не заставал дома, но надеялся на чаевые). Он явился ко мне через несколько дней с сообщением, что по моей жалобе его уволили, хотя я жаловался, собственно, вовсе не на него, а на почтовые порядки, допускающие столь долгое блуждание переводов. По счастью, мой школьный товарищ в это время занимал пост заместителя наркома почтового ведомства. Через него удалось восстановить почтальона в должности, исправив глупую мою оплошность. Я не хотел повторения такой же истории с секретаршей редакции популярной серии. Что я, собственно, потерял? Только альбом, восстановить который было бы хлопотливо, да и недешево. Но увольнение секретарши стало бы неприятностью несравненно большей. И я махнул рукой.
Экземпляр рукописи у меня имелся, и я воспользовался им для составления введения к книге Майяни размером листов на пять. Но лишь после того, как это было сделано, выяснилось (как могли этого в издательстве не знать?), что такое обширное введение требует поставить мою фамилию в качестве соавтора, на что издательство не имеет права, да я бы и сам никогда не пошел на это. Мне предложили сократить введение до трех листов. В силу какой-то глупейшей фанаберии я почему-то решил, что такое резкое сокращение совершенно изуродует мое 135
введение, и заявил, что раз так, то я дам не обшеэтрускологи- ческое введение, а нечто вроде расширенного предисловия, листа на полтора. Видимо, я все же надеялся на то, что работу об этрусках мне удастся вскоре опубликовать в сколько-нибудь полном виде. Время показало совершенную беспочвенность моих надежд.
Книга Майяни1 была встречена этрускологической критикой довольно враждебно, как очередная попытка выведения этрусского языка из одного лингвистического источника, в данном случае из албанского языка, — обвинение, справедливость которого не может быть опровергнута. Однако Майяни предпринимал поиски и в других направлениях, не говоря о том, что и некоторые его истолкования этрусских имен и грамматических оборотов посредством албанских параллелей нельзя не признать удачными. При всей субъективности этру- скологов-лингвистов кое-какие из его догадок были встречены с одобрением. Разумеется, я имею в виду в данном случае западную этрускологическую критику. Среди наших лингвистов, очевидно не без оглядки на Запад, по-видимому, возобладало отрицательное отношение к книге, судить о чем, за отсутствием рецензий, приходится лишь ио инспирированному кем-то письму в редакцию «Вестника», подписанному именами, неизвестными в литературе, в котором книга Майяни расценивалась как научная мистификация. К такой ее оценке авторы письма пришли, видимо совершенно не учитывая (или сознательно игнорируя) ее популяризаторско-беллетризированный характер. На словах Б.А.Рыбаков ставил мне в вину то, что к русскому изданию не был приложен этрусский алфавит, хотя все этрусские тексты (за исключением двух-трех факсимильных воспроизведений) представлены в латинизированном виде. Но «Вестник» проявил галантность, опубликовав мою реплику на это письмо, в которой я попытался поставить вещи на свое место [109]. Быть может, впрочем, это была вовсе и не галантность. В издательстве, точнее в его отделе истории, это письмо в редакцию по поводу книги Майяни было воспринято как враждебная выходка со стороны журнала, печатающегося в том же издательстве. Возможно, что были предприняты некоторые шаги, оставшиеся мне неизвестными, побудившие 1 Майяни 3. Этруски начинают говорить/Пер. с фр. Ю.И.Богуславской; ред. и предисл. Л.А.Ельницкого. М., Наука, 1966.
136
«Вестник» безропотно и незамедлительно опубликовать мою реплику. К сожалению, больше никаких откликов на книгу Майяни, перевод которой представил собой наиболее фундаментальный этрускологический труд (во всяком случае по объему содержащегося в нем материала) па русском языке, пока нс последовало. На него, видимо, серьезного внимания не обратили. А жаль, поскольку собранные в нем тексты и их толкования полезны не только в чисто этрускологическом отношении, но и для сравнительной лингвистики вообще. Остается все же пожалеть о том, что первой по объему лингвистического материала этрускологической книгой оказалась именно книга Майяни, весьма произвольная во многом в отношении фигурирующих в ней данных, облеченных к тому же нередко в причудливую полубеллетристическую форму - кричащий пример нашей научной бесплановости и полнейшей несогласованности действий.
Мои интересы в области истории раннеримской и дорим- ской Италии привели меня к необходимости более точного и конкретного определения роли этрусков в процессе становления римской культуры и государственности. Этим вопросам в их социальном аспекте посвящены некоторые страницы книги о раннеримском рабовладении, а также статьи, выясняющие культурное взаимодействие тиррено-этрусков с латинским и другими италийскими племенами с конца эпохи бронзы, а подчас и с более ранних времен. Существенны также для понимания культурных взаимоотношений Рима с Элладой и ближневосточными странами некоторые явления этрусской культуры, сохранившие свое значение на протяжении всей истории империи много времени спустя после уничтожения этрусской политической самостоятельности и при наличии глубокой ассимиляции с римской культурой. Именно эти вопросы ставились в моих статьях, посвященных выяснению социального аспекта некоторых этрусских реминисценций культового и мифологического характера1.
Ко времени опубликования перевода книги Майяни на нашем горизонте появился отечественный лингвист А. И.Харсекин, довольно серьезно занимавшийся вопросами этрусского языка. Действовал он не в Москве и не в Ленинграде, а на Северном Кавказе и выпустил в 1963 году в Ставрополе небольшую книжку 'См. статьи 132, 35, 52, 56,61,88, 91, 105].
137
под названием «Вопросы интерпретации памятников этрусской письменности». В том же году вышло в свет немецкое издание этой книги, появлению которого посодействовал ФАльтгейм, посвятивший Харсекину четвертый том своей «Истории гуннов», видимо за содействие в сборе материалов по религиозной истории Сибири и Средней Азии. Немецкая этрускологическая критика встретила эту работу более чем сдержанно, отметив, впрочем, ее уникальный характер в русской лингвистической литературе, но оценив ее в целом как использование, недостаточно осторожное и критическое, представленных в западной науке попыток истолкования этрусского языка из древнегреческого.
Харсекин хотел представить свою книгу об этрусском языке в качестве кандидатской диссертации на кафедру античных языков и литературы Ленинградского университета, которой тогда руководил Тройский. Тот нашел почему-то, что книги в 90 страниц недостаточно для кандидатской диссертации. Харсекин сказал Тройскому, что у него имеются еще статьи по отдельным вопросам этрускологии. «Вот вы все это соедините, перепечатайте на машинке и принесите мне...» Харсекин, резонно обидевшись, к Тройскому больше не обращался, но кафедра Ленинградского университета была единственным местом в Союзе, где могла быть принята лингвистическая д^с- сертация на этрускологическую тему. Харсекин обратился в Воронеж к А.И.Немировскому, возглавлявшему там кафедру древней истории. Немировский отнесся к нему вполне благожелательно, поскольку сам интересовался этрусской культурой, но предложил несколько дополнить диссертацию, .так чтобы она могла пройти по рубрике истории древней культуры. Харсекин что-то в этом направлении сделал, что именно, я не знаю, отзыв, который он у меня попросил, я писал, имея в виду его книгу об этрусском языке. Во всяком случае, диссертацию свою он успешно защитил.
С моей рукописью по истории этрусской культуры я обратился в Совет по истории мировой культуры, где встречен был вполне благожелательно. Но я предложил, собственно, не мою книгу, а этрускологический сборник, в отношении которого договорился с Немировским и Харсекиным. Немировский написал небольшое источниковедческое введение, Харсекин - листа на четыре о языке, а я - о становлении этрусской культуры, листов 5-6, в общей сложности получилось около 10 листов. 138
Сначала все шло как по маслу. Титульным редактором сборника согласился стать академик Н.И.Конрад, тогдашний председатель Совета по истории мировой культуры, ведущим редактором - доцент Московского университета ИЛ.Маяк, читавшая небольшой курс по истории этрусской культуры на Историческом факультете. Рукопись получила утверждение РИСО издательства «Наука» и была включена в план редподготовки.
Но со смертью Конрада благополучие тут же и кончилось. На посту председателя Совета оказался Б.Б.Пиотровский, о котором уже выше шла речь в связи с судьбой моей заметки «Этруски и киммерийцы» и с которым до 70-х годов я встречался очень редко. Бывал на докладах о его удивительных раскопках урартских памятников в Армении; разговаривал с ним коротко, но всегда довольно для меня интересно при встречах на археологических конференциях. Его учено-европейский вид производил очень приятное впечатление. Содержание сообщений заставляло прощать его очень тяжелое заикание. Ему самому это обстоятельство внутренне, видимо, почти не мешало, чувствовалось, что он любит выступать перед публикой. Я было очень обрадовался, когда узнал, что первым номером эрмитажной этрускологической конференции 1972 года будет его вступительное слово и доклад об этрусско-урартских археологических параллелях. Во вступительном слове, кстати сказать, он помянул добрым словом и меня.
Поэтому когда я узнал от одной из организаторов этой конференции - АИ.Вощининой, — с которой у меня установились контакты на этрускологической почве еще с 50-х годов, что вопрос об издании трудов нашей конференции висит в воздухе, то окрыленно заявил, что готов поговорить об этом с Борисом Борисовичем. И был очень удивлен, когда она осадила меня в моем рвении, неожиданно заявив: «Нет, уж пожалуйста, не надо... Это совершенно бесполезно. Он ничего не сделает. Наши дела его абсолютно не интересуют, и мы его как научного руководителя совершенно не ощущаем. С нами он способен в лучшем случае говорить о ремонте Эрмитажа. А что касается науки, то его интересуют только его собственные дела, дела его сына и еще двух-трех человек...»
Я был ошарашен и... не поверил. Мало ли какие противоречия возникают между ежедневно трущимися локтями людьми? А.И.Немировский, предпринявший в Воронеже публикацию непериодических сборников «Норция» по древней истории 139
Западного Средиземноморья, очень сетовал на то, что воронежская полиграфия совершенно недостаточна для такого издания. Я обещал ему обратиться за помощью к Пиотровскому. О, если бы издание «Норции» можно было осуществлять в Ленинграде! Я приобрел для Бориса Борисовича экземпляр «Норции» и отправил его вместе с письмом, содержавшим изложение обстоятельств и надежд. Но, увы, я не получил никакого ответа. Ни благодарности за присылку книги, ни хотя бы сожаления по поводу невозможности прийти на помощь. Может быть, это какое-то недоразумение? Я написал еще раз, с тем же самым эффектом.
Тогда мне вспомнился вычитанный в каком-то из старых журналов рассказ о злоключениях Чихачёва, известного русского географа, жившего за границей, но мечтавшего о сотрудничестве с Русским географическим обществом. Он неоднократно посылал письма и свои работы в адрес его председателя, равным образом не получая никакого ответа.
Вспомнил я и о том, что раза два-три писал Б.А.Рыбакову, прося его о помощи в организации издания переводов капитальных и классических руководств по этрускологии, которые брался осуществить сам. Взывал к его этрускологическим интересам. И тоже не получал никакого ответа. Видимо, подобное поведение в традициях иных корифеев нашей науки. Если высокопоставленный человек почему-либо не может оказать помощь, он предпочитает отмалчиваться. Зачем обнаруживать свое слабосилие? Мало ли, может быть эти письма почему-либо так и не добрались до его высот?
Немировский потом обращался к Пиотровскому лично, и тот его уверил в полнейшей невозможности что-либо предпринять. Так мы от него помощи и не дождались, но вред нам он причинил очень большой, правда походя - это ему не стоило никаких специальных усилий. Заступив на пост председателя Совета по истории мировой культуры, вместо покойного Конрада, он тотчас же распорядился об изъятии из Издательства нашего этрускологического сборника и направил его, как он объяснил, на дополнительное рецензирование в Эрмитаж. Результатов этого рецензирования ждали мы терпеливо более двух лет. В аппарате Совета мне сказали, будто Пиотровский заявил им, что сборник издаваться не будет, и мне порекомендовали обратиться непосредственно к нему, для чего сообщили телефон дирекции Эрмитажа... «Вот, говорили мы вам в свое 140
время - сборники у нас проходят с трудом. Печатали бы свою собственную книжечку, как мы вам советовали, давно бы небось и вышла...» Каково это было слушать? Я-то ведь хотел лучшего: не свою только книжку издать, а осуществить первое в нашей стране коллективное этрускологическое предприятие. Я пошел ради этого на большое сокращение своего текста с 10до5 листов.
Немировский и Харсекин, видимо учуяв мою неудачли- вость, пошли по моему пути без меня: в Воронеже выпустили книжечку листов на 10 под названием «Этруски», в которой кроме них двоих участвовали некоторые воронежцы и ленинградцы. А меня даже не поставили об этом в известность.
Поймав Пиотровского за фалды в Москве на какой-то защите, где он выступал оппонентом, я попросил у него объяснений относительно сборника.
- Видите ли, - сказал он, - мы должны издавать не сборники, а только протоколы организуемых нами симпозиумов.
- Но ведь это было начинание, поддержанное вашим предшественником, оно было утверждено Советом и принято издательством «Наука». Вы заявили поначалу, что берете рукопись для дополнительного рецензирования.
- Да, и, между прочим, как раз по вашему разделу имеются замечания...
- Так почему же вы их столько времени мне не сообщаете? Вероятно, я мог бы эти замечания как-либо учесть.
- Нет, нет - я пришлю, обязательно пришлю. Вы их получите у нашего секретаря...
Это было в 1976 году. Так вот он их до сих пор и пересылает... А за истекшее время под маркой Совета вышло два больших сборника по истории культуры и искусства средних веков и нового времени. По-видимому, этот человек совершенно не понимал того, что он ведет себя недостойно по отношению к памяти своего предшественника на посту председателя Совета, а кроме того, совершает, собственно говоря, элементарное беззаконие. А может быть, как раз наоборот - понимал, что раз это не индивидуальный труд, а сборник и авторов у него несколько, то они вряд ли договорятся между собой, чтобы это самоуправство преследовать должностным или судебным порядком. Во всяком случае, он явно не понимал того, как мне объяснили еще тогда в Эрмитаже, что наука — это не только то, чем занят он сам, или не только то, что делается по его инициативе, а еще и то, что делается по инициативе его коллег и, 141
казалось бы, исполнителей того самого дела, которым он приставлен руководить и уж, во всяком случае, не изничтожать даже без объяснения причин.
Покуда я переживал все эти неудачи, у меня вдруг объявилась совершенно неожиданно аспирантка академика Окладникова из Новосибирска - Н.К.Тимофеева - для консультаций по вопросам истории этрусской религии, направленная ко мне ее руководителем по ее же собственной инициативе. Она довольно быстро написала работу об этрусском пантеоне и происхождении некоторых культов, которую хотела защищать в Воронеже, избрав оппонентами Немировского и Харсекина. Однако последний чрезвычайно ее подвел, поступив самым непорядочным образом. Сначала он бесконечно медлил с отзывом, а когда истекли все решительно сроки и ему было предложено отказаться от оппонирования, он счел возможным представить отзыв, в котором перечислялись орфографические ошибки, неисправленные машинописные искажения, указывались, с его точки зрения, неправильно расставленные знаки препинания, и не было сказано ни одного слова по существу работы.
Последнее обстоятельство - то, что Харсекин не мог судить об историко-религиозной стороне содержания диссертации, можно было, конечно, предвидеть, поскольку он был лишь лингвист, не способный судить об историко-культурном и тем более историко-религиозном материале. Вина Немировского в том, что он, не подумав обо всем этом, порекомендовал Харсекина в качестве оппонента по теме, в которой тот ничего решительно не смыслил, а вдобавок не нашел в себе мужества в этом признаться.
Защита не состоялась и смогла осуществиться только через два года после этого в Новосибирске. Но Харсекину эта история стоила разрыва отношений с Немировским и со мной. Надеюсь, что он и сам сознавал всю недостойность своего поведения, поскольку и сам не предпринимал попыток возобновить наши ранее достаточно дружественные связи.
Несмотря на то что отношения мои с сектором древней истории после судебного процесса из-за моего гонорара за книгу о древнеримском рабовладении и особенно после попытки выступить против «теории» рабства, предложенной Зельиным, очень испортились, без меня все же не нашли возможным 142
обойтись в связи с необходимостью посмертного опубликования книги А.К.Бергера, умершего, не успев окончательно запершить своей монографии о древнегреческих политических учениях’. Меня просили взять на себя ее редактирование, в чем я никак не мог отказать сектору уже по одному тому, что Л.К.Бергер, не будучи специалистом по древней географии, согласился взять на себя редактирование моей книги «Знания древних о северных странах», от которой все открещивались, гак что Географгиз готов был уже отказаться от ее публикации. Мыс ним в то время были еще довольно мало знакомы, поэтому я был ему особенно признателен за его согласие, тем более, что он дал его, не видав рукописи и не зная, в сущности, что его ждет как ее будущего редактора. После этого мы с ним до- нольно близко подружились, так что к чувству товарищеского долга присоединилась еще и симпатия к единственному из сотрудников сектора, с которым я находил общий язык и мог поддерживать отношения, не связанные ни с какими задними мыслями и камнями за пазухой.
Я знал, что работа его осталась незавершенной, но в какой степени — известно мне не было. То обстоятельство, что рукопись уже была передана в издательство, позволяло мне надеяться, что недоделки не столь велики. Однако, когда мне ее вручили, я сначала пришел было в уныние. При многочисленных цитатах из древних и новых авторов - ни одной полноценной ссылки. В некоторых случаях даже оставалось неизвестно, что именно цитируется - догадывайся как хочешь. Все греческие цитаты, а их было много, и они оказывались одна длинней другой, фигурировали только в оригинале, а издательство требовало замены греческих текстов их русскими переводами. Все это предстояло исполнить мне. Следовало удивляться тому, что издательство приняло работу в таком виде, тем более, что на титульном листе помещены были фамилии ее институтских редакторов, то есть хорошо было известно, с кого спрашивать.
Почему Институт постарался от рукописи избавиться, стало совершенно понятно: во-первых, чтобы все недоделки пали на долю издательского редактора, а во-вторых, потому еще наверно, чтобы я получил рукопись не от сектора, а от издательства. Сектор убедился, что я порядочный сутяга; и, видимо, боялся,
'Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии. М., Наука, 1966.
143
как бы я и тут не нашел способа получить с них гонорар за работу, вовсе не являющуюся обязанностью издательского редактора.
Когда же я проделал над рукописью всю необходимую работу, выяснилось, что книга Бергера передается в Восточную редакцию «Науки», представлявшую собой фактически совершенно самостоятельное издательство со своим аппаратом и своим отношением к делу. Сразу же по принятии рукописи они заявили «Науке», что не находят в ней никаких следов работы редактора и потому поручают ее как ведущему редактору какой- то весьма смазливенькой, но абсолютно далекой от антиковедения, а видимо, и вообще от какого бы то ни было «ведения», молодой женщине. Но дирекция «Науки», знавшая, как было дело, и считавшая необходимым иметь в выходных данных имя редактора-специалиста, на них «нажала», после чего наряду с именем их редакторши появилась и моя фамилия. Впрочем, расплатилась Восточная редакция со мной безукоризненно, по своей ставке, которая в полтора раза превышала редакторскую ставку в «Науке»: 15 рублей вместо 10 за печатный лист. И заплатил и даже за составлен н ы й м ной указател ь.
Сожаление, с которым я расставался с Восточной редакцией, было бы, конечно, еще большим, если бы я тогда знал, что это была вообще моя последняя редакторская работа. Произошло это потому, что издательские планы с этого времени сильно сократились, так что работы стало недоставать и для штатного персонала, а если кому и перепадало внештатное редактирование, то это были люди, более тесно связанные с издательством, чем я.
Еще некоторое время я пробавлялся перепадавшими мне на долю делами по линии Энциклопедии. Там мне еще продолжали поручать ту или иную работу по составлению или редактированию статей, иногда довольно большого размера. Я написал статьи: «Древнегреческая культура» для 3-го издания Большой советской энциклопедии (частично), «Римская литература» для Литературной энциклопедии, статью «Эпиграфика» для Советской исторической энциклопедии, но две последние вышли мне по некоторым причинам боком. Статью «Римская литература» консультант Литературной энциклопедии, уже упоминавшийся в другой связи ленинградский профессор Тройский, счел, видимо, чересчур социологичной, поскольку для меня 144
как для историка подобный уклон был неизбежен. Хотя, может быть, его просто смущало то, что я историк, а не филолог. Во всяком случае наряду с моей фамилией под статьей появилась фамилия Гаспарова. Поскольку к энциклопедическим статьям я не мог относиться слишком строго в отношении авторской чести, а гонорар мне заплатили из расчета размера заказа, я не стал уточнять обстоятельства. С «Эпиграфикой» же получилось следующее: в редакции всеобщей истории, по которой проходила статья, в это время не оказалось, по-видимому, никого с мало-мальски антиковедным образованием, и редактирование ее поручили неспециалисту, при этом женщине, во что бы то ни стало стремившейся показать, что и она-де не лыком шита: «Почему вы не написали, что слово “эпиграфика” означает не только науку о надписях, но и самые надписи?» Я было пытался объяснить ей, что во втором значении термин этот фигурирует лишь в просторечии и что упоминать об этом не нужно. Но она уперлась так крепко, что, выйдя из себя, я сказал ей, что для споров об эпиграфике нужно хоть сколько-нибудь «петрить» в этом предмете, чем нанес ей непоправимую обиду. Мой коллега, заведовавший другой редакцией, но чьими стараниями статья была поручена именно мне, очень отчитывал меня за такое поведение: «Как же вы могли обойтись с ней так грубо, ведь она родственница академика...» Единственное, чем я мог исправить положение, - сделал вид, будто никогда и ни на какой почве не имел с нею дела. Это было тем легче, что она ко мне больше ни с чем по поводу этой статьи не обращалась, и мы на деловой почве никогда больше не сталкивались. Однако статью эту, видимо, передать было некому (в ней фигурировала не только античная, но и древневосточная и древнерусская эпиграфика), и она осталась за мной, хотя редакторша и постаралась разбить ее на несколько частей.
В связи с окончанием в начале 70-х годов выпуска Исторической энциклопедии и завершением подготовки третьего издания Большой советской энциклопедии работа для меня в этом учреждении закончилась. К изданию Мифологического словаря меня уже не привлекали, что представлялось огорчительным преимущественно в материальном отношении: заработки мои совершенно сошли на нет. «Вестник» и «Советская археология» выплачивать гонорар перестали, а в те издания, где гонорары сохранялись, пробиться стало совершенно невозможно.
145
Заработки мои стали приобретать случайный характер. Подвернулся, например, один перевод со старофранцузского для Азербайджанского института истории, спротежирован- ный для меня З.И.Ямпольским, — небольшой, листа полтора, но оплаченный очень прилично - по 80 рублей за лист. Когда «Вестник» оказался вынужден срочно поручить мне перевод одной статьи с итальянского, я не очень-то хотел за него приниматься по той причине, что статья эта была уже переведена одним профессором Московского университета, хорошо при этом знавшим итальянский язык, но совершенно не справившимся с переводом в стилистическом отношении. Получилось настолько громоздко, что печатать статью оказалось немыслимо. и легче было перевести её заново, чем заниматься исправлениями. Так мне, собственно, и предложили поступить, не учитывая, что нанесут этим большую обиду тому переводчику. Первым моим желанием было отказаться от этого дела вообще. Но сотрудник редакции, ведший со мной переговоры, очень меня упрашивал, заявив, что если перевод не будет исполнен в самое короткое время, ему придется уходить с работы. Во избежание этого я согласился, оговорив, чтобы имя переводчика осталось прежним, а оплата была бы не ниже той, какую я получил из Азербайджана. Для выполнения этого условия редакции пришлось пойти на фиктивное увеличение размера статьи/ вдвое, ибо в Издательстве не было ставки за оплату перевода' выше 40 рублей за лист. Всё же первый переводчик очень обиделся и обиделся именно на меня, потому что хотя редакция и сохранила его имя в качестве переводчика, но сочла невозможным не упомянуть меня в качестве редактора перевода, испугавшись, вероятно, какой-либо непредвиденной ответственности.
Вообще с этой статьей получилось много мороки. Автор ее итальянский историк Серени - марксист в новом стиле - увлекался модным в те годы структурализмом. Термином этим его статья пестрила до чрезвычайности. Атак как мне представлялось более серьезным и спокойным обходиться по возможности без него, то я и избегал его в переводе везде, где только это было возможно. Когда же через некоторое время после сдачи рукописи я осведомился у того сотрудника, в обязанности которого входила подготовка этой статьи к печати и через которого достался мне этот перевод, какова его дальнейшая судьба, 146
он мне ответил с неудовольствием: «Сижу и вставляю слово “структурализм” всюду, где вы от него отказались...»1
Видимо, он все же не везде и не в полном соответствии авторскому намерению сумел это сделать, так как мне передавали позднее, что Серени, в какой-то мере владевший русским языком, высказал недовольство тем, что перевод получился менее структуралистским, чем оригинал. Но я позволил себе принять это как похвалу.
9. Пенсионер без пенсии
Ввиду того, что мои возможности жить на литературный заработок были исчерпаны, я стал подумывать о пенсии. Познакомившись с пенсионным законодательством, я убедился, что моя работа в Историческом музее в должности научного сотрудника открывает возможность получения половинной пенсии. В законе, сколько я мог понять, сказано было также, что и внештатная науч но-литературная работа также должна учитываться при начислении пенсии. И я принялся собирать документы. Это мне стоило порядочного труда, вернее порядочной беготни по бухгалтериям тех учреждений, для которых я работал продолжительное время. Издательство «Наука» выдало мне справку за 50-е и 60-е годы, отказав в справке за 40-е, мотивировав это отсутствием архивных данных. Собственно, мне выдали две справки - одну на зарплату за редактирование книг, другую - на гонорары за публикации в «Вестнике» и «Советской археологии». В справке на зарплату было указано, что с меня удерживался страховой (т.е. пенсионный) сбор. Таким образом, стаж той работы, которая, как мне казалось, безусловно предполагает пенсионное обеспечение, равнялся у меня примерно 22 годам. Кроме того, у меня имелись три монографии и несколько десятков журнальных статей. Далеко не всякий человек с докторской степенью мог бы представить о себе такие данные.
Когда я пришел в собес, ни у консультанта, ни у сотрудницы, принявшей у меня документы, не возникало сомнения в моем праве на пенсию. Речь шла только о ее размерах. Я допускал, что пенсия будет совсем невелика, потому что зарплата в Историческом музее в 30-е годы была довольно низкой. Как
‘Статья опубликована в ВДИ. 1967. № 2. С.77-97. 147
и.о. старшего научного сотрудника я получал рублей полтораста, не больше. Справки же о дополнительных заработках по музею отсутствовали, а гонорары учтены были далеко не полностью. Но меня это мало огорчало. Главное, о чем я мечтал, это хоть о каком-либо официальном общественном положении, которого я так и не имел все послевоенное время. Мало ли что может случиться? Ведь вот заработки мои кончаются, так что ссылаться на то, что живу на литературный гонорар, больше не придется. Так кто же я такой, на какие средства живу? Иждивенец. Живу на иждивении родных, поскольку моя научная работа нигде и никак не учитывается и не дает мне никаких средств к существованию.
Через некоторое время после того, как я сдал в райсобес документы, меня вызвали на пенсионную комиссию. Вызвали к определенному часу, а я пришел лаже чуть раньше, думая, что будет очередь и что народу может оказаться порядочно. К моему удивлению, перед кабинетом заведующей собесом, где должна была заседать комиссия, ни души не оказалось. Отдельные люди, видимо члены комиссии, входили туда на моих глазах. Но таких, как я, пришедших за назначением пенсии, не было никого. Я было обрадовался: вот, мол, сейчас меня и вызовут... Не тут-то было. В кабинете шли какие-то разговоры, решались, видимо, какие-то дела. Так я просидел в ожидании вызова три часа. Во мне уже стало закипать возмущение: Зачем было вызывать меня за три часа, а может и того более, до моего реального вызова, тем более что кроме меня никого не предвиделось? Наконец мне предложили войти. Из-за стола поднялась высокая строгого вида женщина - явно председатель комиссии и она же заведующая райсобесом:
- В пенсии вам отказано за недостатком трудового стажа. У вас только 12 лет работы в Историческом музее в довоенное время.
- Но я же представил справки из издательства «Наука»; из них явствует, что моя внештатная работа считалась там постоянной, поскольку из зарплаты вычитали страховые взносы.
- Этого не могло быть...
- Но это же засвидетельствовано документально.
- Повторяю вам, это не соответствует действительности...
- Но как же так?
-А вот так...
- Но ведь я же, во всяком случае, имею право на половин148
ную пенсию, не говоря уже о том, что у меня имеется много печатных научных трудов.
- Половинная пенсия может быть назначена в том случае, если работа прекращена не ранее, чем за полгода до подачи заявления в собес. Что касается договоров на издание и редактирование книг, то по договорам мы пенсии не назначаем вообще.
- Но ведь это же явно не так: домработницы, работающие по договорам, имеют право на пенсию.
- Домработницы работают по трудовым договорам.
- Но я же представил именно трудовые договора.
- Ваши договора не являются трудовыми. Мы их рассматриваем как подряды. Нам не известно, кем они в действительности выполнены...
- Но ведь это же очень легко проверить: на каждом из поименованных в этих договорах изданий мое имя значится или как имя автора, или как имя редактора.
Вместо ответа на эго мое утверждение заведующая собесом сказала:
- Единственное, что я вам могу посоветовать, — это поступить куда-либо на работу, а затем пройти ВТЭК и получить третью группу инвалидности...
После этого я отправился в Мосгорсобес, консультант которого посоветовала мне раздобыть еще кое-какие документы относительно работы в Историческом музее до зачисления в штат и в подтверждение внештатной, но регулярной работы в «Вестнике» в годы 1946-50. В последнем документе Утченко мне отказал: «Бухгалтерия категорически запрещает нам выдавать такого рода справки, тем более, что вы ходите по судам...» Все же мне удалось получить свидетельское подтверждение тогдашнего секретаря редакции.
Однако и эти документы оказались совершенно ник чему. На жалобу горсобес ответил мне совершенно в тех же выражениях, что и райсобес. Вся моя научная работа квалифицировалась как «частные отношения с издательствами», не принимаемые во внимание собесом. Еще менее вразумительный, хотя и в несколько отличных выражениях, ответ дал мне тот же Мосгорсобес еще раз по поручению Министерства социального обеспечения, куда я было направил третью и последнюю жалобу. В нем также начисто отвергались мои притязания на 149
научную квалификацию, а публикации трактовались как исполненные «в гражданском», то есть внеслужебном, порядке. То обстоятельство, что две мои монографии опубликованы по планам институтов АН СССР, опять-таки во внимание не принималось.
Больше жаловаться было некуда. Но все же по истечении двух лет после этого я предпринял еще одну попытку уже в другом направлении. Вычитав в пенсионном законе, что существуют персональные пенсии областного значения, назначаемые комиссиями при облисполкомах по ходатайству министерств, комитетов и приравненных к ним учреждений (размеры подобных пенсий не превышают 80 рублей в месяц, но могут быть и ниже, т.е. в денежном выражении являются совершенно заурядными), я решил, что это как раз мой случай. Я обратился с заявлением в Президиум АН СССР с просьбой о ходатайстве с его стороны перед Пенсионной комиссией Мосгорисполкома о назначении мне какой-либо пенсии персональным порядком, поскольку я многие годы работал по заданиям институтов АН СССР. На мое заявление последовал ответ юридического отдела Президиума Академии наук, что подобные пенсии назначаются лишь за особые заслуги перед государством, вследствие чего Президиум и не находит оснований для подобного ходатайства. Круг, таким образом, для меня замкнулся. Больше мне обращаться стало некуда. Конечно, я мог бы последовать совету, данному мне заведующей райсобесом, то есть поступить на работу и, пройдя ВТЭК, получить инвалидность, но эту возможность я решил отложить до появления реальной нужды в тех пенсионных деньгах, которые подобная мера могла бы мне принести. Потребное для всего этого время мне представлялось более разумным употребить на приведение в порядок и на устройство в печать моих работ, накопившихся в изрядном количестве, а определение их куда-либо становилось делом все более трудным.
Я уже упоминал о том, что «Вестник» печатал меня все более редко и неохотно. Легче других проходили через «редколлегию» этрускологические статьи, потому что у меня, в сущности, не было конкурентов. Однако доклад, прочитанный мной на этрускологической конференции в Эрмитаже в 1972 году, «Этрусская космогония в словаре Суды который я передал
’Космогонические представления этрусков сохранились в словаре- энциклопедии византийского лексикографа X века Суды. 150
затем в «Вестник», опубликован был только в 1977 году [134]. И при этом мне не сделали никаких замечаний и не предъявили никаких дополнительных требований. Имела место только некоторая видимость этого, причем уже после того, как доклад наконец был набран, но передвигался из номера в номер и чуть ли не из года в год. За несколько дней до своей смерти, для всех совершенно неожиданной, меня встретил на улице С.Л.Утченко и сказал: «Между прочим, в вашей статье об этрусской космогонии неправильно приведено имя какого-то древневосточного божества. У нас сейчас появилась новая сотрудница по разделу Древнего Востока, она молодая, но хорошо знает дело. И она сказала, что имя это у вас читается неправильно». — «Так в чем же дело, если вы вполне доверяете этой сотруднице, пусть она и исправит, как находит нужным». — «Нет, мы этого никогда не делаем. Это вы должны сделатьсами и при этом в самое короткое время. Если же вы этого не сделаете, то ваша статья, пролежавшая несколько лет, будет снова лежать неизвестно какое время».
Я в тот же день позвонил сотруднику редакции, через которого проходила эта статья. На мой вопрос он довольно хмуро ответил, что с ней все в порядке.
Работа о социальной диффузии в античном обществе
Году в 1972 отдел всеобщей истории журнала «Вопросы истории» попросил у меня какую-нибудь статью. Я предложил им написать на тему о социальной диффузии в древнем обществе. Написал я ее на основе работы, представленной тремя- четырьмя годами раньше сектору древней истории (размером в 5-6 печатных листов), где она была мною доложена, но довольно резко раскритикована Зельиным, поскольку в значительной мере была направлена именно против него - против развиваемых им теорий ограничительного и метафизического понятия рабства как социального статуса. Тогда еще Угчен- ко в заключение обсуждения сказал, что считает возможным опубликовать ее в сокращенном виде на страницах «Вестника». Собственно говоря, статью, переданную мной в «Вопросы истории», я предназначал именно для «Вестника», но поскольку в «Вопросах истории» - журнале более широкого профиля и значительно большего тиража, платящем к тому же хороший гонорар, — обнаружилась как будто возможность для ее 151
опубликования, я, разумеется, решил такую возможность не упустить. Статья была утверждена редколлегией, причем, как мне передали, о ней хорошо отозвался С.Д.Сказкин, пользовавшийся в журнале влиянием по вопросам всеобщей истории. Но главный редактор Трухановский, как оказалось, читает журнал в стадии верстки, из которой он благополучно статью и выкинул, мотивируя это тем, что-де «в ней одни рабы, а где же рабовладельцы?», как он это собственноручно начертал на полях верстки. Кроме того, хотя это не было им зафиксировано письменно, но будто бы он высказал недовольство еще и тем, что Спартак назван у меня, судя по его имени, выходцем из фракийского царского рода, в то время как он привык-де к тому, что это «вождь античного пролетариата». Заведующий отделом всеобщей истории сначала храбрился: «Ничего, мы его прижмем», - говорил он, но из этого прижимания ничего не получилось, настолько, что, переменив тон, этот же заведу щи й отделом стал спрашивать, нет ли у меня какого-либо могущественного заступника в академическом мире. Таковых у меня никогда не было. Я бы мог, может быть, обратиться к С.Д.Сказкину как к влиятельному члену редколлегии журнала, памятуя о том, что он заинтересовался этой статьей, но Сказки н к тому времени уже умер.
В общем, статья оказалась начисто отвергнута без каких- либо серьезных замечаний по существу и без предложений о ее исправлении. Это навело меня на мысль, что Трухановский, видимо, обращался по поводу моей статьи с какими-либо вопросами к Утченко, а тот, совершенно не заинтересованный в моих успехах, характеризовал ему меня, опираясь на мнение Зельина и других сотрудников своего сектора, как человека, чрезмерно преувеличивающего значение рабства в истории античного общества.
Как это ни удивительно, но в нашей науке после безоговорочного принятия рабовладения в качестве безусловной социально-экономической основы античной рабовладельческой формации, существование которой прослеживалось (на основании констатации следов рабовладения) не только в классическом, но и в других докапиталистических обществах, наметилась тенденция к отрицанию определяющей роли рабства в древности. Если в XIX веке крупнейшие историки античного мира представили социологам богатый материал для характеристики рабовладельческого строя в Греции, Риме и 152
на Древнем Востоке, то в XX столетии в западной науке возобладало направление, отвергавшее основополагающее значение рабства как социального и хозяйственного института классической древности, поскольку было констатировано чрезвычайное разнообразие форм социальной зависимости, относительно которых уже и в древности существовали противоречивые суждения. И если Эдуард Мейер в первом издании своей «Истории древности», так же как и Теодор Моммзен, признавал рабовладельческий характер античного хозяйствования, то позднее, в особенности в работе «Рабство в древности», он готов был уже приравнять древнее хозяйственное устройство к новейшему капитализму, а античных рабов к современному пролетариату. Быть может, реакция эта возникла отчасти из протеста против марксистской схемы, сводившей, как казалось, к искусственному единообразию живое разнообразие исторической действительности. Во всяком случае, она выразилась у многих западных антиковедов в стремлении как можно более ограничить, сели не вовсе свести на нет, античное рабство в количественном и качественном отношении: рабов было мало, так как в большинстве случаев те, кого называли рабами, в действительности ими не являлись. Для возможности подобных утверждений понадобились «определения» рабства. В нашей науке такое определение дал, в частности, Зельин, и соответственно ему из категории рабства выпадали все домашние рабы, рабы племенной, государственной, муниципальной и т.д. принадлежности, все гелоты, клароты, пелаты, афамио- ты и т.п. Историки, принимавшие такое определение рабства, утверждали, что можно говорить о нем как об основе хозяйства лишь применительно к Риму позднереспубликанского и раннеимператорского времени, а относительно Греции в том же смысле можно говорить лишь условно, применительно к V—IV векам до н.э. На этих примерно позициях стояли сотрудники сектора древней истории с Зельиным во главе, и моя работа, с их точки зрения, не выдерживала никакой критики.
Однако через некоторое время после того, как статья моя была отвергнута в «Вопросах истории», я решился предложить се «Вестнику» хотя бы для того, чтобы привести все это в полную ясность. И, по-видимому, я не ошибся в предположении относи- гельно того, что Трухановский зарезал мою статью на основании консультации, полученной им у Утченко. В «Вестнике» статья также была отвергнута совершенно категорически, и при этом из
(первый раз в жизни) мне вручили в письменной форме якобы высказанные на редколлегии замечания. Впрочем, часть их была мне изложена устно и при этом в достаточно грубой форме («Что вы за вздор написали, все это ерунда» и т.п.) совсем новым тогда еще сотрудником редакции Виноградовым. Письменные замечания, хотя они были и более вежливы и более серьезны, обнаруживали чрезвычайную тенденциозность, а в некоторых случаях и порядочную недобросовестность. Так, от имени редколлегии журнала мне преподносилось, что oikeus по-гречески означает «местный житель», а отнюдь не раб (хотя для разъяснения этого недоразумения достаточно было бы взять в руки любой греческий словарь); что толкование одной из древнейших греческих надписей (на сосуде дипилонского стиля VII ст. до н.э.) как своего рода манумиссии неправомерно, ибо существует и другое толкование (которое, впрочем, если в него вдуматься, совершенно не исключает и толкования, использованного мной, но не мной предложенного).
Более всего негодования вызвало мое обращение к свидетельству Плутарха о продаже значительной части афинских граждан в рабство в связи с лишением их права гражданства, признанного неполноценным. Дело в том, что этот совершенно правомерный соответственно афинским законам акт (что недвусмысленно свидетельствуется Аристотелем), получающий подтверждение в истории сицилийских греческих общин, как правило, отвергается в западной науке, признающей лишь со-' общение о лишении части афинян гражданских прав. Ради сохранения веры в идеальный характер афинской демократии люди, отвергающие сообщение Плутарха (восходящее, кстати сказать, к Филохору) об их продаже, позволяют себе не задумываться о том, в каком же социальном качестве должны были оказаться эти лишенные гражданских прав, но не имеющие статуса метеков лица?
Когда я высказал некоторые из моих соображений по поводу замечаний редакции на мою статью, Утченко сначала было решил провести ее обсуждение на редколлегии в моем присутствии, но некоторое время спустя отменил это решение, сославшись на то, что будто бы все члены редколлегии категорически возражают против ее опубликования, так что обсуждение не будет иметь смысла.
Я никак не мог примириться с тем, что работы мои отвергаются почти одна за другой. Не менее, чем отвержение ис154
следовательских статей, меня огорчало и отвержение рецензий. посредством которых я старался выражать не только свое отношение к рецензируемой работе, но и, по возможности, к самому ее предмету, стараясь позволить читателю взглянуть на него не только с точки зрения рецензируемого автора, но и с других точек зрения, в частности в какой-то мере и с моей собственной. Но именно это стремление обычно и губило мои рецензии в глазах редакции «Вестника»: требования, с некоторых пор предъявлявшиеся к рецензиям (при первых двух составах редакции этого журнала они были гораздо свободней), сводились, в сущности, к возможно более полному реферированию рецензируемой работы, чтобы, воспользовавшись рецензией, можно было сослаться на самую книгу. Что же касается каких-либо аспектов темы, привносимых рецензентом, то они оказывались тем менее желательными, чем легче было впасть в ошибку, приняв мнение рецензента и привлекаемый им дополнительный материал за мнение автора (а дополнительный материал — за принадлежащий рецензируемой работе). Все это не удерживало меня от попыток миновать всяческие Сциллы и Харибды, встречавшиеся на моем пути. В одном случае мне представлялось особенно трудным удержаться от соответствующей попытки. В руки мои попала немецкая диссертация Г.Прахнера на тему о раннеримском рабовладении, довольно тесно соприкасавшаяся с моей работой на ту же тему и упоминавшая о ней, к сожалению, лишь на основании самой краткой заметки на немецком языке в чешском историческом журнале. К сожалению, мой довольно подробный реферат на немецком же языке, напечатанный в «Studia classica oriental is», вышел, видимо, уже после опубликования этой диссертации. Но к написанию рецензии меня подзадоривало не столько это одно, сколько весьма гиперкритический характер диссертации, отрицавшей за данными, относящимися к VI-V векам, какую бы то ни было документальность, игнорировавшей археологические данные, а также отрицавшей рабовладение у этрусков эпохи их политической независимости.
Рецензия получилась размером более полулиста, с довольно подробным разбором реальной исторической ценности традиционных и археологических данных об этрусском и римском рабовладении в архаическую и классическую эпохи. Памятуя об указаниях редакции на тот счет, что в моих рецензиях недостаточно разведены рецензент и автор, я постарался исключить 155
возможность подобных кривотолков. Но, однако, и это мне не помогло. Редакция отклонила мою рецензию на том основании, что рецензировал я не книгу, а размноженную на ротапринте диссертацию, реагировать на которую журналу совершенно не обязательно. Я был очень огорчен таким оборотом дела, и поскольку редакция «Studia classica orientalise неоднократно обращалась ко мне с просьбами о рефератах тех или иных моих статей, я решил в свою очередь обратиться с просьбой к редактору этого издания Иоганну Йрмшеру с вопросом, не заинтересует ли их рецензия на диссертацию Прахнера. Положительный ответ не заставил себя долго ждать, и поскольку реферат моей книги о раннеримском рабовладении был напечатан в моем собственном и, как мне показалось, не очень сильно исправленном переводе, я решил перевести на немецкий язык также и эту рецензию. Не могу сказать, что я вовсе не колебался по поводу того, имею ли я право личным порядком и без предварительного запроса посылать за границу мою работу, будь то даже и социалистическая страна. Сколько мне было известно, статьи советских авторов печатались в заграничных изданиях лишь на основании предварительной официальной договоренности и чаще всего по прочтении их в качестве докладов на каких-нибудь международных симпозиумах. Поэтому я обратился за разъяснениями все к тому же Утченко, ибо с каким-либо более высоким академическим начальством мне в те годы вообще не приходилось име^ь дело. Утченко мне ответил уклончиво, что-де это моя личная воля, но что он на моем месте все же, вероятно, воздержался бы от подобного шага: «Я и мои сотрудники посылаем за границу наши материалы только но ини циативе дирекции Института, на вас же подобная инициатива, поскольку вы не сотрудник Института, распространена быть не может...»
Но я все же решил попытать счастья, и через некоторое время получил за подписью Ирмшера благодарственное уведомление о получении моей рецензии с обещанием ее опубликовать в каком-либо из периодических изданий. После этого прошел и год, и два, я уже перестал надеяться на выполнение данного мне ранее обещания, как вдруг, за подписью того же Ирмшера, пришло сообщение, поразившее меня до чрезвычайности: «Уважаемая г-жа такая-то, - было написано в сообщении. — Ваша статья будет напечатана в ежегоднике “Геликон”», издании, мне совершенно не известном. И так как письмо в результате путаницы — весьма неожиданной со стороны немцев - 156
было адресовано не мне (хотя и мне прислано), у меня совершенно не было уверенности в отношении того, о чьей — моей или же этой женщины - рецензии сообщается в полученном мной письме. Я не замедлил отправить это письмо обратно в Берлин с вопросом о том, что это все должно значить. На мой вопрос, однако, ответа не последовало. Допускаю, что мое отправление не достигло своей цели. Однако еще примерно через год я получил корректуру моей рецензии (через того же Ирм- шера) с просьбой как можно скорее прочитать ее и вернуть в Рим, в адрес профессора Мадзарино, что я, разумеется, и исполнил. Прошло еще около двух лет, и я наконец получил мою рецензию в количестве 50 оттисков из ежегодника «Геликон» — издания Мессинского университета. Чувство радости при ее получении значительно умерилось чувством стыда за тот перевод, в котором я ее в свое время представил. Сличение моей рукописи с печатным текстом сразу же заставило меня убедиться в очень большой стилистическо-грамматической переработке, которой подверглась рецензия, без того, однако, чтобы хоть какая-либо моя мысль была в малейшей степени искажена. И я так и не узнал, кому именно следовало бы мне адресовать благодарности за эту кропотливую и, несомненно, трудоемкую работу. Разумеется, я понимал, что даже и более глубокое, чем мое, знание немецкого языка не избавило бы любую мою рукопись от необходимости подобных исправлений. Сужу по тому, что ученые славянских национальностей, убежденные к тому же в том, что они владеют русским языком не хуже нас самих, присылали авторские переводы или резюме своих статей с самыми уморительными ошибками. У меня же дело обстояло, конечно, еше неизмеримо хуже.
В своих занятиях по истории древнего рабовладения я старался показать, что античное рабство было разнообразно по характеру, хотя во всех случаях речь должна идти лишь о различных формах одного и того же социального явления, определявшегося правом собственности или (в более мягкой форме) патронатом над личностью. Условия существования античной государственной общины не допускали возможности свободного положения и существования для личности, не являвшейся полноправным членом общины. Если бы такая личность никому не принадлежала, она была бы вынуждена сама искать себе хозяина в лице индивидуального владельца или государства. Так что рабство в определенных случаях мог157
ло быть выгодно для внеобщинных элементов (если речь шла о ремесленниках и торговцах). Рабское (или полурабское) положение благоприятствовало художникам, деятелям науки, иногда даже политическим деятелям высокого ранга. Разумеется, такие представления шли вразрез с мерками для определения рабства, постулированными из тех или иных соображений современными авторами.
Этого рода огорчения умерялись тем, что рецензия моя оказалась напечатана, собственно говоря, как статья, под названием «Раннеримское рабовладение», с отметкой лишь в примечании, что она содержит рассмотрение диссертации Прахнера. Но успехи мои на поприще международной науки этим и были исчерпаны. К большому сожалению и по непонятным причинам прекратили существование «Studia classicaorientalise. В последнем номере, помнится, что-то промелькнуло о том, будто издание прекращается ввиду замены его другим и несколько другого, видимо, профиля. Однако практически ничего такого не последовало. Дурной пример в этом отношении подавали мы сами. Если в области политики и экономики организующее начало с нашей стороны представляется несомненным, то в области истории и археологии древности о наших международных связях и взаимодействии, даже хотя бы о простой, но регулярной информации, серьезно говорить не приходилось. Я имею в виду уже не журналы, такие как «Вестник» или «Советская археология», но специальные издания, призванные заниматься научной информацией. Учрежденный несколько лет назад Институт научной информации по общественным паукам стал издавать четыре выпуска в год, содержащие рефераты исторических книг - советских и зарубежных. Не говоря уж о том, что зарубежная литература представлена в них случайно и выборочно из того, что так же случайно и выборочно приобретает Фундаментальная библиотека этого Института, но не приходится мечтать даже и о полноте отечественной информации. Реферативные журналы сообщают лишь о книгах, излагая довольно подробно (иногда в рефератах размером до полулиста) их содержание и почти не касаясь методологической и идейной стороны, дабы рефераты не обращались в рецензии. Надо ли указывать на то, что подобные рефераты, оставляющие в тени принципиальные и методические основы изложения реферируемых изданий, создают о них недостаточное, а порой и ложное представление. Реферат не был бы уже и потому рецен-
158
змей, что он преподносил бы оценку и критику в обобщенном виде, позволяющем, однако, судить не только о предмете, но и о характере изложения.
В отношении публикаций по древней истории библиографическая полнота не достигается у нас даже и при наличии бюллетеней новых поступлений, издаваемых самой библиотекой с учетом также и журнальных статей, далеких, однако, от того, чтобы быть исчерпывающими. Эту библиографию отчасти дублируют, но опять-таки не восполняют исчерпывающим образом обзоры отечественных публикаций по древней истории (на русском языке), печатающиеся с некоторых пор регулярно в «Вестнике*.
Особенно большое неблагополучие наблюдается у нас в отношении зарубежной библиографии по древней истории. Достаточно исчерпывающие (в отношении литературы на западноевропейских языках) французские и немецкие библиографические ежегодники по древней истории и археологии («Аппёе philologique» и библиографическое приложение к «Jahr- buch des Deutschen Archaologischen ln-ts») запаздывают года на 3-4, вследствие чего мы узнаем о многих важных публикациях лишь с большим опозданием и с еще большим опозданием приобретаем их (если они к этому времени не успевают разойтись полностью). Во всяком случае, при любых обстоятельствах было бы, вероятно, разумнее, ограничившись в отношении отечественной литературы библиографическими справочниками и предоставив рецензирование журналам (при условии его аккуратности и исчерпывающей полноты), реферировать одни лишь зарубежные издания, поскольку доступность последних для нашего читателя ограничивается преимущественно лишь двумя московскими библиотеками, пополняющимися, как было сказано, в достаточной степени случайно (в частности, итальянский «Helicon», где напечатана моя рецензия на книгу Прахнера, представляющий собой марксистское издание, отсутствует по какому-то недоразумению в наших библиотеках),
Меня поражало, что и переводы иностранных научных книг в нашей области совершаются совершенно случайным порядком. Каким-то странным образом повезло исторической географии. В 50-е и 60-е годы были изданы книги Томсона («История древней географии») и Хеннига («Неведомые земли» — в 3-х томах). Первая из названных книг, хотя и написана автором-коммунистом, марксистской по своей методологии не 159
является, тогда как очень известная многотомная марксистская «История Греции» Кордатоса оказалась непереведенной, равно как и очень серьезная и также марксистская четырехтомная «История древнеримской конституции», выходившая на протяжении 50-х и 60-х годов. У нас даже не изданы на русском языке опубликованные по-английски работы знаменитого М. И. Ростовцева, и прежде всего трехтомная его «Социально-экономическая история эллинизма», переведенная на все европейские языки.
Вряд ли это можно объяснить тем, что работы эти изданы в эмигрантский период его жизни, ибо его русские работы совершенно не были подвергнуты остракизму («Скифия и Боспор» вышла в свет, когда он уже эмигрировал), да и английские пользуются очень большим авторитетом в советской науке о древности. Создается такое впечатление, будто вопрос - что надо и чего не надо переводить - никогда не был предметом серьезного внимания со стороны нашей Академии наук: переводили по желанию какого-либо из отдельных учреждений, а то и просто издательств, при поддержке отдельных влиятельных, но от этого не менее случайных лиц.
В связи с непомерным увеличением числа кандидатских и докторских защит было введено правило публикаций не самих диссертаций, а лишь их авторефератов, в довольно изрядном количестве экземпляров (до 200), но такого характера, чтоюни лишь в самой малой мере могли быть использованы для науки, тогда как опубликование самих диссертаций ротапринтным способом и в минимальном количестве экземпляров (не более 25 — для нужд основных библиотек) действительно сделало бы их определенным вкладом в науку. Я пытался агитировать через периодическую печать за подобный способ публикации научных работ, но мои призывы ни разу не публиковались. Впрочем, одно из подобных писем в газету было направлено в Комиздат, заместитель председателя которого ответил мне довольно обстоятельным письмом и заверил, что ряд наших типографий переоборудуется для ротапринтных публикаций. Но прошло уже несколько лет со времени получения мной этого письма, а ротапринтные научные издания у нас по-прежнему крайне редки, тогда как рефераты диссертаций, издаваемые в большинстве случаев типографским способом, появляются во все больших количествах.
160
«Сказочная география»
В начале 1970-х годов я, отчасти отталкиваясь от материалов, собранных мной для прежних работ по исторической географии и по истории культуры древних племен, умноженных за счет привлечения палеоэтнографических материалов Западной Европы и Северной Африки, написал книгу «Сказочная география греков и римлян». Я отнес рукопись в географическую редакцию издательства «Мысль», вобравшего в себя бывший Географгиз. Люди там были в большинстве все те же, что и раньше. Рукопись встретили скорее недоброжелательно: «Мы должны заниматься настоящей наукой, а вы нам приносите какие-то сказки; нас и так ругают за то, что мы увлекаемся всякой беллетристикой». Я объяснял и доказывал, что древние географические легенды имеют большое значение для истории науки и что подобной книги, которая бы объединила в себе весь соответственный сказочный материал, еще нет ни в одной стране, а существуют только исследования по мифической географии гомеровского эпоса, по сказочным данным в сочинениях Геродота и некоторых других древних авторов по отдельности или исследования, касающиеся отдельных легенд, например, плавания аргонавтов и т.п.
Все это выслушивалось с некоторым сомнением, но, во всяком случае, название «Сказочная география» было признано неприемлемым и подлежащим замене. Рукопись мою передали для ознакомления редактору Белёву, которого я знал не с лучшей стороны по прежним временам. Надо сказать, что мне всю жизнь очень не везло в отношении редакторов моих публикаций. Обе книги, изданные Географгизом, я корректировал полностью сам, так как редактор бывал нередко совершенно пьян. Как я ни старался, чтобы ни одна операция в последней инстанции не проходила через его руки, все же это мне так и не удалось осуществить до конца. Сократив название книги «Знания древних народов» на «Знания древних», что мне резало ухо своим архаизмом, он умудрился еще в самый последний момент исказить в оглавлении одно географическое наименование. А в «Океанских плаваниях», сверки которой мне вообще не показали из-за возникшей неизвестно почему спешки, именно на этой стадии появилось несколько грубейших искажений - несомненно дело его рук. Жалобы мои на него главному редактору ни к чему не приводили. Более того, уже во время прохождения рукописи через типографию меня вдруг 161
вызвал заведующий издательством и заявил, что поскольку запланировано было двенадцать листов, а в книге их в действительности шестнадцать, необходимо уменьшить ее размер. «Но откуда же взялась эта цифра - 12? Ведь рукопись же за время пребывания в издательстве изменений не претерпела». - «Этого я не знаю, - ответил он, - но мы не можем превысить размер книги против запланированного больше, чем на два листа. Книготорг не примет у меня вашу книгу. Вон, видите, в углу свален тираж одной только что изданной книги? Ее не приняли именно по этой причине...»
Что было делать? Ни о каких пропорциональных сокращениях уже набранной рукописи речи быть не могло. На это уже просто не оставалось времени. Мне пришлось поэтому взять да и выкинуть первые три главы, составлявшие в общей сложности около двух печатных листов. Что-либо другое сделать представлялось мне невозможным. Отчаяние было так велико, что опустились руки.
В «Науке» свою книжку о римском рабовладении я вел, разумеется, тоже насколько было возможно сам, но даже и тут необходимое наличие ведущего редактора, который как-то обязан себя проявить, привело к нескольким ничем не оправданным изменениям в тексте и примечаниях.
Но особенно много огорчений принес мне редактор Сибир-, ского отделения издательства «Наука», ведший мою «Скификг евразийских степей». Он иногда делал совершенно ненужные изменения в тексте и ссылках, а также старался изгонять иностранные слова из моего лексикона. Убрав несколько подобных «исправлений», я умолял его их больше не делать, но к величайшему моему огорчению убедился в том, что если в верстке мной были встречены единицы таких поправок, то в сверке их уже насчитывались десятки. Очень мешало, конечно, то, что действовали мы с ним в разных городах, он - в Новосибирске, в трех тысячах километров от меня. И я даже собирался было туда съездить, чтобы облегчить работу издательства и типографии и устранить на месте недоразумения, увеличиваемые и укрепляемые этим расстоянием, но вскоре понял, что подобное предприятие не имело смысла, убедившись, что число недоразумений возрастает от любой операции над рукописью и от корректуры к корректуре.
Помимо этих редакторских художеств, налицо были очень большие и многочисленные типографские огрехи. Особен162
но же плачевно обстояло дело с воспроизведением греческих имен и фраз. Знаки придыханий и ударений не соответствовали шрифту, а во многих случаях вообще заменялись какими- то значками, употребительными, вероятно, в химических или каких-либо еще формулах. Все это производило довольно-таки удручающее впечатление. Я просил кое-кого из моих новосибирских коллег понаблюдать в типографии за состоянием греческого текста в моей книге при самом ее печатании. Но это не дало никакого результата - то ли их не позвали в нужный момент в типографию, то ли невозможно было фактически что- либо изменить. Так что и мой приезд, вероятнее всего, оказался бы напрасным и безрезультатным предприятием.
«Скифия евразийских степей» реализовалась в результате некоторого интереса, проявленного к моей рукописи «Скифская культура в периферийных связях» со стороны А.П.Окладникова, отчасти, видимо, потому, что она включала в себя довольно широко материал, относящийся к сибирским раннекочевническим культурам. Интересы наши, однако, очень мало в чем совпадали, никаких точек соприкосновения между нами не было. Поэтому я допускаю, чтоон, можетбыть, слышал обо мне что-нибудь краем уха от покойного Г.А.Бонч-Осмоловского - моего друга и своего учителя. Правда, когда я написал ему о том, что хотел бы посвятить книгу памяти Глеба Анатольевича, он мне на это попросту ничего не ответил. Впрочем, между нами вообще не было никогда никаких прямых контактов. Если он хотел чего-либо от меня, то желание это передавалось через кого-либо из сотрудников или аспирантов. Не ответил он мне ничего и на мой вопрос о том, не собирается ли его институт включить когда-нибудь в свой издательский план ту часть моей работы о скифах, которая осталась за бортом ввиду того, что мне предложено было уложиться в 12-15 листов, а в рукописи их было больше 30, почему все главы о периферийных скифских связях и главы о культуре и искусстве, легендарной и исторической географии мне пришлось исключить к неудовольствию самого же Окладникова, насколько опять-таки я мог об этом судить по чужим словам. Меня огорчило его нежелание как-либо реагировать на мое намерение посвятить книжку памяти Глеба Анатольевича. В конце концов, для этого могли быть указаны и некоторые объективные основания, поскольку ему приходилось иметь дело при исследовании крымских пещер 163
также и с предскифским материалом, которому он придал имя кизил коби некой культуры, удержавшееся в науке. Кто-то мне, однако, объяснил, что подобные посвящения на научных изданиях в настоящее время у нас не приняты...
Таким же примерно редактором, как этот сотрудник новосибирского издательства «Наука», оказался и редактор издательства «Мысль», в руки которого и попала моя рукопись о сказочной географии древних народов. Он совершенно не представлял себе значения древнего легендарного материала для осмысления античных географических и этнографических представлений. Все это казалось ему лишенным серьезного значения, надуманным, ничего существенного не дающим для познания каких-либо реальностей: «Зачем вы так много цитируете древние сочинения? Совершенно достаточно научной характеристики всех этих выдумок...» И не дай бог, если он наталкивался на какие-либо черты быта полулегендарных варварских племен Азии или Африки, неприличные по современным понятиям: «Это все необходимо убрать. Разве вы не знаете, какая у нас теперь молодежь? Сейчас же возьмут на заметку..»
Подобные разговоры приводили меня в чрезвычайное уныние. «Мы издательство популярной литературы. Мы не должны преподносить читателю какие-то загадки и прибаутки вместо реальных знаний. Достаточно сказать, что-де это в древ!|Ьсти подменяло науку...»
Главный редактор, хотя казалось и склонен был отнестись несколько иначе к моей работе, основываясь, впрочем, не столько на знакомстве с нею самой, сколько на авторитете моих прежних, им же в свое время опубликованных книг, но взять на себя ответственность о важности и своевременности этого издания он все же не решался, будучи тоже достаточно далек от всей этой древней премудрости. Он тоже, наверно, подумывал о том, что спокойней было бы для него во всех отношениях, если бы я обратился с моей рукописью в «Науку». Все это, конечно, не могло не приходить в голову и мне самому, но, во-первых, я не терял надежды на опубликование в сибирском отделении «Науки» моих «Скифов», тогда уже там запланированных, а во-вторых, по плану какого академического института мог бы я провести подобную работу? Институт географии крайне далек от исторической географии, примерно в такой же мере и Институт истории естествознания, тем более что работа моя по своему характеру историко-филологическая. А Инсти- 164
iyr истории сошлется на отсутствие у него соответствующих специалистов, как он уже готов был сделать в ответ на посылку ему моей рукописи «Знания древних народов о северных странах)».
Все это побуждало меня не оставлять попыток в «Мысли». Тем более, что в конце концов географическая редакция предложила мне подать официальную заявку на эту рукопись с приложением ее подробной анногации в адрес Главной редакции издательства «Мысль». Все это я тут же исполнил. «Ныне таков у нас строгий порядок», - пояснили мне в географической редакции.
Я стал было уже надеяться на благоприятный исход этого предприятия, как вдруг однажды заведующий географической редакцией остановил меня на улице и попросил взять у них мою рукопись обратно: «Не можем мы ее напечатать. Я было па что-то надеялся, но вот пришло распоряжение Комиздата о том, что мы должны напечатать 200 000 экземпляров романа “ Мать” Горького за счет нашего бумажного лимита, так что ничего не выйдет...»
Я не стал вдумываться в эти объяснения - так оно или не так, - но все же не мог не обратить внимания на то обстоятельство, что никакого официального отказа от Главной редакции издательства «Мысль» мне не поступило, хотя, казалось бы, «строгий порядок» и вообще государственное отношение к делу к этому обязывали. Как это можно такое серьезное дело заканчивать при случайной уличной встрече? Но все с самого начала оборачивалось так несерьезно, что у меня не хватило решимости довести дело до конца официальным порядком. «Вряд ли это хоть что-нибудь изменит, - подумал я, - раз уж люди не хотят, а может и вправду не могут этого сделать. А что касается соблюдения их же собственного порядка, то вряд ли я на них хоть сколько-нибудь повлияю...»
Думать я стал о другом: поскольку такой книги нету пока на других языках, нельзя ли ее перевести и напечатать на каком-нибудь из языков, доступных более широко для науки? В Агентстве по охране авторских прав меня встретили довольно приветливо; сказали, что такую книгу надеются пристроить скорее, чем многие другие, настойчиво предлагаемые им авторами. Когда в проспекте издательства «Наука» появилось сообщение о предстоящем выходе «Скифии евразийских степей», они сразу же проявили настойчивый интерес и к этой 165
моей книге. Сотрудница отдела рекламы этого агентства взяла у меня рукопись «Сказочной географии», чтобы, как она сказала, получить побольше данных для рекламной аннотации. Когда же через несколько месяцев я попросил мою рукопись обратно, мне ответили, что она все еще находится у той именно сотрудницы, которая у меня ее в свое время и попросила, но что ее давно уже нет на работе вследствие продолжительной болезни. Поскольку дело явно затягивалось, тем более, что за это время мне уже был представлен образец рекламной аннотации, не помню уж на каком именно из западноевропейских языков, очень коротенькой, но не очень вразумительной, хотя мной в свое время была представлена гораздо более подробная и конкретная аннотация, которой, как мне казалось, и следовало воспользоваться, я все же постарался связаться по телефону с заболевшей сотрудницей Агентства, в чьих руках продолжала оставаться моя рукопись. Она не сочла нужным котя бы извиниться за очень длительную задержку и предложила за рукописью приехать к ней на дом. Возвращая рукопись, она заметила: «Работа живо написана, но ведь это, конечно, компиляция...»
Я бы мог, разумеется, осведомиться у нее, с чего опа это взяла (или, вернее, не она сама, а тот человек, который так для нее квалифицировал мою работу, поскольку ей как неспециалисту что-либо подобное вряд ли вообще могло прийти в голову). ЙО именно эта характеристика заставила меня сразу сообразить, что рукопись за время столь долгой задержки успела побывать на отзыве у университетского профессора Бокщанина, который все мои работы, да и не только мои, считает огульным порядком скомпилированными, а вследствие незнания иностранных языков начисто отвергает всю зарубежную науку, прежде же всего и более всего - немецкую науку о древности. Кроме того, он страдал патологическим самолюбием. Сознание того, что кто-то способен на нечто большее, чем он, приводило его в совершенное исступление. Так, он учинил ужасную истерику по поводу устройства в Университете выставки печатных работ безвременно умершего О.В.Кудрявцева, автора очень хороших работ из области истории римских провинций эпохи ранней империи. Истерика эта привела к целому скандалу в деканате, куда он обратился с протестом против действий жены О.В.Кудрявцева, осуществлявшей устройство этой выставки. Все это было до такой степени бессовестно и глупо, 166
что даже тогдашний декан А.В.Арциховский, более конъюнктурщик, чем поборник серьезной науки, был возмущен поведением Бокщанина, тем более отвратительным, что речь шла о памяти совсем недавно скончавшегося человека.
А.Г.Бокщанин на протяжении многих лет руководил кафедрой древней истории на истфаке Московского университета, заняв этот пост, кажется, сразу же после смерти Н.А.Машкина. Иначе как ужасной деградацией кафедры период этот назвать невозможно. Сужу, впрочем, на собственном опыте лишь по одному ее заседанию с докладом А.И.Харсекина об этрусских числительных. Мне пришлось взять слово лишь потому, что на заседании, кроме меня, ни одного этрусколога не было, и можно было опасаться, что прения не состоятся вовсе. Я сказал что-то о том, что вот-де и в нашей науке нет-нет да и стали появляться оригинальные исследования из области этрусской эпиграфики и языка. На что последовала целая отповедь Бокщанина: напрасно, мол, я преуменьшаю роль и значение русской науки в области этрускологии, твердо находящейся в руках русских ученых чуть ли не с восемнадцатого столетия. А еще однажды я присутствовал при том, как он с пеной у рта поносил огульно всю немецкую науку о древности - это, мол, не наука, а одно жульничество. Немцы занимаются только тем, что принижают всячески древнюю культуру славянских и прибалтийских племен, непомерно возвеличивая свою. И хотя в словах его была некоторая доля истины, давно, впрочем, известной, преподносилось это в такой неприятной форме, что на слушателей его заявления должны были производить впечатление совершенно противоположное тому, которого он добивался.
Я помню Бокщанина с 1930-х годов, когда он уже немолодым человеком - лет под 40 - проходил аспирантуру в Историческом музее. Хотя задатки всего того, о чем говорилось, были у него и тогда, но трудно было представить себе, что все это расцветет столь махровым цветом. Конечно, это был своего рода маразм, но развился он под напором неких, набиравших все большую силу, завиральных идей, а не умственной деградации, как это приходилось наблюдать, например, у Блаватского.
В 1960-е и особенно в 1970-е годы Блаватский начал очень сильно деградировать на моих глазах. Сильно изменился физически, потерял подвижность, столь ему прежде свойственную, приобрел блуждающий, неуверенный взгляд, потерял 167
всякое чувство научной меры. На одном из международных историко-археологических конгрессов, проходившем в Москве, он выступил с докладом, центральной темой которого была констатация отсутствия какого бы то ни было культурного влияния Древнего Востока на греческий мир. Тут уж я готов был его пожалеть и возмущался лишь тем, что никто не вразумил его, не объяснил нелепости подобного утверждения; наконец, что никто из начальства не догадался не допустить подобного выступления, чтобы хоть не выставлять его на посмешище и не дать возможности профессору Авдиеву — другому человеку, пребывавшему в те годы примерно на такой же ступени умственного маразма, — публично его усовещивать: «Да как же так, Владимир Димитриевич, ведь не даром сказано — ex Oriente lux!
Кто-то из присутствовавших французов воззвал к их благоразумию и предложил подобные «проблемы» решать не на конгрессе, а у себя дома.
К величайшему удивлению и огорчению приходится признать, что многие наши коллеги, в том числе и из числа тех, кто мог бы тем или иным способом вмешаться в эту совершенно издевательски выглядевшую историю, все принимали всерьез и склонны были даже почесть этот бред чуть ли не за научное откровение. Таковой прежде всего оказалась его жена - Т. В. Блаватская, проявившая себя смолоду как очень серьезный ученый, автор хороших археологических и эпиграфических публикаций и книг по истории западно-понтийских греческих центров. Но в последней своей книге по истории ахейской Греции она не только поддерживает маразматическую идею своего супруга, но и пытается распространить ее на ахейский мир. К тому же она еще и присоединяется к числу ученых, представленных в некотором числе в западной науке, готовых принять исторические легенды древнегреческого эпоса за историческую прагматику, вплоть до признания реального существования поименованных в эпосе ахейских царей, имена которых, как известно, были предметом культа.
Как-то я обратил внимание на напечатанную в «Вестнике» статью Блаватского — что-то о Греции середины V века (по прекращении полевой археологической деятельности он переключился на работы исторического содержания). И тут меня
1С Востока свет (лат.).
168
сильно поразил чрезвычайно общий и популярный характер изложения, как если бы статья его предназначалась для журнала «История в школе» или для какого-либо подобного- издания. Между другими вещами она содержала новый перевод из надлобной речи Перикла (у Фукидида), до такой степени своеобразный, что я не мог не посетовать на это в разговоре с одним из сотрудников редакции: «Как не совестно выставлять старого, больного человека на посмешище, если уж журнал не дорожит собственной репутацией?» Ответ мне был дан такой: «Мы говорили об этом его жене, но она сказала, что Блаватский обусловил полнейшую неприкосновенность своего текста...»
Кажется, у нас академики имеют право на полнейшую свободу пера (в пределах специальности, разумеется). Но ведь Ьлаватский не академик. Да и академиков-то, пожалуй, тем более не следовало бы выставлять на посмешище, как бы ни была велика у редакции нужда в его имени на страницах своего издания — нужда к тому же в ее остроте не вполне понятная.
Впрочем, наш богоспасаемый «Вестник» умудрился напечатать письмо в редакцию В.В.Струве, в котором тот, тоже, видимо, в достаточно невменяемом состоянии, раздраженно выговаривает И.М.Дьяконову, что тот не подождал с критикой какой-то его работы, покуда он - то есть В.В.Струве - не выучит аккадский язык (!). Когда я с огорчением и недоумением говорил Утченко о неуместности этой публикации, он оправдывался тем, что журнал не имеет права отказывать академику в напечатании чего бы то ни было. «Вот вы напишите, что такие письма неуместны, - мы это тоже опубликуем...»
А еще раньше — при Киселеве - совершена была проделка почище: 3.И.Ямпольский предложил статью, которую редакция отвергла. Он пошел в Бюро отделения и пожаловался на немотивированный, с его точки зрения, отказ. Статью напечатали, но в следующем же, кажется, номере появилось письмо в редакцию некоего иркутского доцента, утверждавшего, что статья Ямпольского — сплошная «богдановщина». Ямпольский опять пошел в Бюро отделения, и «Вестник» опубликовал его протестующее письмо, с разъяснением, однако, от редакции: мы, мол, и сами понимаем, что это никакая не «богданов- щина», но поскольку было высказано такое мнение, редакция сочла неудобным его замолчать... Трогательно, не правда ли?
Я уже отмечал, что Блаватский был хорошим выучеником 169
Б.В.Фармаковского по части методики археологических раскопок. Хорошо знал он также вазовую живопись и скульптуру Ему недоставало знания древних языков, равно, впрочем, как и новых, для серьезных занятий историей античной культуры. Он понимал это сам, покуда не впал в маразм. Мне кажется, будь он в твердом уме, не стал бы он заниматься такими вопросами, как значение имени «састер» Херсонесской присяги, и утверждать, что оно означает «военный склад» (?!). Правда, об этом имени было высказано не одно только это opinion td- meraire’, и при том крупными знатоками-эпиграфистами, так что обидно, собственно, только лишь то, что Блаватскому в конце концов изменил природный такт, которого раньше, кажется, он все-таки не был лишен в такой мере.
Поведение Блаватского ввиду его болезненного состояния в оправдании не нуждается, чего нельзя сказать о поведении людей здоровых, но делающих вид, что они не замечают, будто король гол. Их оправданием является, быть может, лишь весьма свойственная нам манера не замечать существа дела ради проформы. Надо, чтобы известный профессор имел возможность сказать или напечатать все, что ему вздумается (разумеется, если только это не какая-нибудь «богдановщина»), чтобы он, упаси господи, не стал жаловаться своим и чужим на то, что его замалчивают. А что он там наплетет, это уж, в сущности, его личное дело.
А склонность, развивающаяся нередко даже и не у очень старых людей к занятиям вещами им в общем-то чуждыми, среди нас не такая редкость. К.В.Тревер была серьезным искусствоведом-иранистом. Но вдруг она возымела охоту интерпретировать те же древнегреческие надписи. Случайно - и это было еще в начале 30-х годов - я попал на один такой ее доклад, произнесенный на заседании Бюро отделения общественных наук - не менее того. Она ведь в 30-е годы была уже членом-корреспондентом. Боже, чего она только ни наговорила по поводу самой обычной римской императорской титула- туры! И ни одна душа - а в зале сидели и Струве, и Машкин, и другие немало занимавшиеся греческой эпиграфикой люди - не открыла рта. Тот же Ранович, способный ради науки на любые резкости, тут промолчал. А почему, собственно? Может
‘Смелое (бездоказательное) суждение (фр.).
170
быть, просто не хотелось обижать пожилую даму, к тому же жену академика, директора Эрмитажа?
Мне не приходилось слышать мнения сотрудников университетской кафедры древней истории о моей книге по истории древнеримского рабовладения. Вероятно, оно было достаточно невысоким, судя потому, что среди пособий, указанных в вузовском учебнике по истории Рима, выпущенном в 1971 году под редакцией АТ.Бокшанина и В.И.Кузищина, возглавившего в скором времени кафедру, она не была упомянута, хотя следов ее использования при составлении этого учебника, призванного, видимо, заменить учебник Н.А.Машкина, но значительно ему уступающего во всех отношениях, обнаруживалось немало.
В докладе же, посвященном всем выпускам серии книг по истории рабства, изданном сектором древней истории Института истории АН СССР, точнее в проекте рецензии на эту серию, предназначенной для «Вопросов истории», автор его, В.И.Кузищин, отметил главным образом большую разницу в подходе к материалу между моей книгой и остальными книгами серии. И хотя в мой адрес никаких конкретных упреков сделано не было, общее впечатление не позволяло усомниться в том, что отмеченное им различие предполагалось не в мою пользу, поскольку он провозгласил в качестве образцового и основополагающего представление о рабстве К.К.Зельина. К моему большому удовольствию, в опубликованном тексте этой рецензии1 моей книжке было уделено порядочное и, с моей точки зрения, достаточно благосклонное внимание. И во всяком случае, пока это единственный отзыв о ней, появившийся через 15 лет по ее выходе в свет. Этот доклад В.И.Кузищина явился первой попыткой критического рассмотрения всей серии книг по истории античного рабства, изданных сектором древней истории. В «Вестнике» рецензий на нее не появлялось, отчасти, вероятно, потому, что, как уже отмечалось, рецензирование и в этом и в других подобных журналах имеет у пас совершенно случайный характер. Но такое отношение ко всей серии, являвшейся для сектора на протяжении ряда лет его главной продукцией, не могло быть, видимо, делом чистого случая, поскольку журнал все более, в особенности в связи с приходом на пост главного редактора С.Л.Утченко, одновременно являвшегося также заведующим сектором древней
JВИ,№ Юза 1978 год. С. 141-147. - Примеч. авт. 171
истории, приобретал ведомственный характер. Именно поэтому, может быть, он как редактор руководствовался тем соображением, что-де неудобно рецензировать в журнале сектора свою же продукцию. Если причина действительно такова (сформулирована и заявлена она все же не была), то ее следует признать ложной и неразумной, ибо на эту, посвященную специальной проблеме серию, вряд ли где-либо еще из числа наших исторических изданий могла бы появиться достаточно обстоятельная рецензия. К тому же ее и для «Вестника» мог бы написать кто-либо посторонний сектору и Институту, например, тот же В.И.Кузищин.
Работа над этой серией как будто бы не предполагала в ее результате выработки какой-либо единообразной точки зрения на древнее рабство, но она более или менее сложилась сама собой, отчасти, может быть, под влиянием позиции Зельина, а отчасти потому, что и сам Зельин находился в фарватере довольно-таки общепринятых у нас представлений о рабовладении. Она не привнесла каких-либо новых точек зрения и не мобилизовала каких-либо существенно новых фактов. Любопытней же всего, что наиболее интересная в социологическом плане работа о рабовладении появилась без всякой связи с этой серией: я имею в виду книгу Илюшечкина, обратившую внимание на факты хотя и не безызвестные, но ранее не рассматривавшиеся в едином плане и в общей связи. В соответствии этим фактам Илюшечкин показал, что рабство в сущности не прекратило существования с падением Римской империи, с одной стороны, а феодальная эксплуатация, с другой, включавшая в себя значительную долю самых тривиальных рабовладельческих отношений, даже и в тех случаях, когда речь шла о крепостном крестьянстве, в существенных чертах не отличалась от эксплуатации, осуществлявшейся в рамках рабовладельческих отношений, вследствие чего классики марксизма рассматривали докапиталистические формы эксплуатации в определенном единстве, наблюдая их существование в азиатских и во многих европейских странах вплоть до XIX столетия.
Работа Илюшечкина очень существенно помогла пониманию античного и средневекового рабства с марксистских историкосоциологических позиций, хотя она и не давала аргументов в пользу выделения из докапиталистической хозяйственно-политической системы рабовладельческой формации, аспекты которой должны быть выявлены в социальной психологии античной 172
эпохи. Но история рабовладельческой психологии, существенным образом связанной именно с античной эпохой, еще не изучена и не написана.
Удивительным образом ни сектор, ни, следовательно, и «Вестник» совершенно не интересовались подобной проблематикой, не то бы они, конечно, заказали Илюшечкину статью, гем более что идеи его нуждались в проверке и поддержке, поскольку книга его, упомянутая выше, была напечатана на правах рукописи очень небольшим тиражом. Но наши истори- ки-антиковеды почему-то старались если не вовсе отвергать, то замазывать и приглушать противоречивые тенденции, проявлявшиеся в социальных явлениях античной эпохи. Так, мою статью о некоторых сицилийских и малоазийских греческих правителях-тиранах, вышедших непосредственно из рабов, хотя и напечатали, но название ее - «Тйраны-рабы» - решили изменить на «Некоторые случаи рабского происхождения тиранических правителей периферийных центров» [126]. А мне об этом не было сказано ни слова. Более того, я представил эту работу на сектор с целью прочитать на эту тему доклад, но вдруг, по прошествии некоторого времени, получил ее из «Вестника» в гранках. На мой недоуменный вопрос, как она попала в редакцию «Вестника», в то время как я представлял ее на сектор для доклада, мне ответили: «А разве для вас не лучше, что ее прямо отдали в печать?» Почему-то руководство сектора не захотело поставить этот доклад на обсуждение и даже не потрудилось объяснить причины.
Я уже приводил случаи довольно бесцеремонного со мной обращения в редакциях «Вестника» и «Советской археологии», так что, собственно, все это было мне не в диковинку. Конечно, может быть и следовало огорчаться и даже возмущаться по поводу того, что я за сорокалетнее сотрудничество в «Вестнике» не завоевал в Институте истории ни малейшего уважения, ни даже товарищеского отношения. Но очевидно, необходимо учитывать мою политическую и академическую неполноценность (был в плену и не имеет ни образования, ни степени), игнорировать которую руководству сектора и журнала, вероятно, представлялось делом рискованным, ибо это сейчас же поставили бы ему в строку в случае какого-либо ляпсуса с моей стороны. К сожалению, однако, мне приходилось наталкиваться на довольно пренебрежительное отношение и со стороны сотрудников, к руководству никакого отношения не имевших, 173
причиной чего, скорее всего, была именно моя академическая неполноценность, поскольку, как я неоднократно замечал, наличие степеней и званий не только автоматически избавляло от оскорбительного небрежения, но при наличии докторского и профессорского чина служило уже поводом для подобострастия.
Работы о раннем христианстве
Столкнувшись при изучении римских Сатурналий, к которым я вернулся еще раз в 1975 году в работе о римских и ранневизантийских простонародных празднествах [132], с явлениями сходства этого празднества (и соответствующих ему празднеств у других древних народов) с евангельскими описаниями казни Иисуса Христа, я заинтересовался ранним христианством как таковым - историей его возникновения и эволюцией его теологической и обрядовой сторон, в особенности в аспекте его связей с соответствующими явлениями эволюции античной идеологии.
На эти связи, позволяющие усматривать в раннем христианстве одно из явлений именно античной идеологии, отчасти загримированное в тона древнеиудейской (в сильной степени анти иудаистской) религиозности, в русской исторической литературе в свое время указывал Ф.Ф.Зелинский, а позднее, уже в рамках советской исторической науки, Р.Ю. Виппер (в особенности подробно и плодотворно в его позднейших работах «Возникновение христианской литературы» и «Рим и раннее христианство»), а также его ученик и последователь П.Ф. Преображенский (в книге «Тертуллиан и Рим»). Надо сказать, что тенденции к «оязычению» раннего христианства и к глубокому прояснению его античных корней давно уже и весьма многообразно представлены в зарубежной историкорелигиозной литературе (в особенности богато в немецкой и англо-американской литературе, образцом которой, вероятно, должны быть признаны исследования Робертсона). В нашей же науке Р.Ю.Виппер, помимо П.Ф.Преображенского, нашел последователей в лице А.Б.Рановича, С.И.Ковалева и Я.А.Ленцмана (не говоря об авторах многих популярных общих очерков раннего христианства или книг, посвященных более частным вопросам его истории). Но последние из названных исследователей не были последовательны в вопросах происхождения христианства и в конце концов более склоня- 174
пись к необходимости поиска его корней в иудейском (палестинском или рожденном в диаспоре) сектантстве. Настолько, что даже самые яркие находки из области установления заимствований евангелиями из греческих религиозных, исторических и морально-философских сочинений не представлялись им убедительными. Ранович, как уже говорилось, в рецензии отчитал Виппера за то, что тот указал на текстуальные совпадения в евангельских речениях Иисуса и в биографиях Плутарха, в Ленцман в последней своей работе («Сравнивая евангелия», М., 1967) был увлечен более всего именно этими библейскими параллелями, хотя в своем «Происхождении христианства» достаточно трезво и детально оценивал его античные истоки. И не любопытно ли, что ни один из трех названных только что историков раннего христианства (а к ним можно присоединить и всех других ныне пишущих о нем наших историков) не пошел за Фрэзером и Вендландом в установлении связей раннего христианства с идеями и ритуалом сатурнических празднеств у древних пародов, равно как и с другими глубоко внедрившимися в христианство античными религиозными представлениями.
На меня большое впечатление произвела работа Пфистера, впервые последовательно сопоставившего факты евангельской биографии Иисуса Христа с легендарной биографией Геракла. 11о мне представилось, что для сопоставления обоих этих божественных образов существенны не только легендарно-биографические черты, но и самый религиозный миф, как он сложился у киников и стоиков и как он преломился в языческом и кристианском культе. Я написал об этом статью [115], которую мне, однако, не удалось опубликовать ни в одном из академических изданий, ни даже в журнале «Наука и религия». Ее напечатал сборник «Прометей», редакция которого в те времена итличалась известным свободомыслием и либерализмом. Там же была напечатана и другая статья — о Понтии Пилате и о его мосте в христианской легенде [127]. Найденную в 1960 году и Кесарии Палестинской надпись Понтия Пилата мне с небольшим комментарием к ней довелось напечатать в «Вестнике» [95], но в откликах, попавших мне на глаза, были сделаны возражения против моей трактовки эволюции его образа в христианской литературе. Затем в редакции «Прометея» произошли изменения и принятая было к печати моя статья об Иуде Искариоте как о легендарном персонаже, евангельская трак- I пика которого отображает борьбу, происходившую между ор- 1одоксальным (античным) и иудейским христианством, была 175
отвергнута. Мне сказали, что я занимаюсь «реабилитацией Иуды». Разговор происходил по телефону, и я не без ехидства осведомился, не ошибся ли я номером и не угодил ли часом в редакцию «Журнала московской патриархии». На том конце провода что-то, видно, все-таки поняли и порекомендовали мне обратиться с моей статьей в какой-нибудь более специальный журнал, чем «Прометей».
Статейка эта покуда так и осталась ненапечатанной. Зато я опубликовал довольно большую статью в сборниках Института атеизма на тему об античных корнях христианства [120]. Статью на редколлегии сочли новаторской, хотя в ней, серьезно говоря, нового почти ничего не было. В науке это все давно известно и лишь очень немного приумножило то, что представлено также, хотя и весьма спорадически, и в нашей литературе. К сожалению, в процессе редактирования, производившегося как всегда спешно, статейку пообкарнали, и я вспоминаю о ней с некоторым огорчением. Мне кажется теперь, что я должен был написать иначе и короче. Откликов на эту публикацию, мне кажется, не было. Но больше моих статей «Вопросы атеизма» не печатали. Я предлагал им, например, статью о политических тенденциях раннехристианской апологетики. На нее были получены очень хорошие отзывы Свенцицкой и Каж- дана, которые отмечали как раз новаторский (на этот раз довольно справедливо) характер статьи, поскольку в ней псЛазы- валось довольно отчетливо, что апологетика ортодоксальной церкви отнюдь не противопоставляла христианство Империи, а наоборот, всячески стремилась примирить их между собой, Но Окулов (главный редактор «Вопросов атеизма») остался этими рецензиями недоволен и заставил написать еще один отзыв кого-то из своих сотрудников, в котором, хотя и не очень последовательно, отстаивалась тривиальная точка зрения на позицию церкви в отношении Империи. А в протоколе обсуждения этой статьи на редколлегии получилось, видимо из-за невнимания стенографистки, даже потешно — отметив поло-; жителъный характер отзывов на мою статью, Окулов резюмировал: «Значит, статья не представляет для нас интереса...»
В «Вестнике» мои статьи на темы раннего христианства также не имели успеха. Когда я предложил сводку материала, значительно пополняющую тот довольно скудный подбор сведений об идейных и текстуальных заимствованиях в христианской литературе из античных источников, статья была 176
отклонена на том основании, что я-де предлагаю случайный и спорный материал, хотя серьезная наука о раннем христианстве насчитывает уже десятки, если не сотни книг, оперирующих этим материалом на протяжении доброй сотни лет.
В частности, я подчеркивал самую тесную зависимость раннехристианских представлений о душе и загробном мире от соответствующих античных представлений, идущих от эпоса и раннего пифагорейства, через Платона и Плутарха, вплоть до Порфирия. Когда в связи с предстоявшей публикацией Плутархова трактата «О промедлении божьего наказания» мною было представлено введение к нему [137], раскрывавшее значение этого диалога для раннехристианских верований, меня заставили выкинуть из этого введения решительно все, относящееся к христианству, поскольку-де все предложенные мной сопоставлен ия не представл я ют интереса при ме н ител ьно к Пл у- тарху.
К моему удивлению, пришлось кроме того убедиться в том, что многие сотрудники редакции «Вестника» и сектора древней истории твердо стоят на позиции историчности Иисуса Христа. Мало того, что сравнительно недавно Каждан и Свенцицкая на страницах журнала «Наука и религия» утверждали вполне вероятную, по их мнению, историчность евангельских персонажей, таких, как Христос, Иоанн Креститель и другие, вплоть до Иуды Искариота, один из сотрудников редакции «Вестника» настаивал в моем присутствии на историчности Иисуса на том основании, что-де «всякая религия имеет своего зачинателя» (!), а другой сотрудник удивленно меня спросил: «Неужели же вы действительно не верите в то, что Иисус Христос жил?» А когда я ответил, что допускаю это в том смысле, в каком Цельз утверждал, что в его время в Сирии бродило много всяческих кудесников, призывавших слушателей к тому, чтобы они уверовали в их божественность, обещая за это посмертное спасение, он бросил в мою сторону недобрый взгляд и пробормотал: «Не желаю больше об этом с вами говорить...»
С удивлением и сожалением приходится констатировать, что некоторые из числа институтских коллег-антиковедов являются людьми, верующими в самом тривиально-конфессиональном смысле. Один такой коллега отвергает Л.Н.Толстого за то, что тот был противником православной церкви. А одна из сотрудниц сектора - человек с большим именем в науке - 177
как-то в разговоре со мной необыкновенно восторгалась знаменитой Нагорной проповедью в евангелии от Луки, уверяя, что «проповедь» эта (в действительности же набор сентенций из речений Иисуса и библейских пророков) представляет собой непревзойденный философско-морализаторский шедевр. В то время как даже для церковных историков, мало-мальски свободных от конфессиональной ограниченности, давно уже ясно, что Нагорная проповедь в действительности именно и представляет собой не более чем набор сентенций, зачастую провербиального характера, подобранных единственно по морализаторскому признаку и частично повторяющихся в других раннехристианских сочинениях.
В редакции «Вопросов истории» верующих, наверно, нет, но тем не менее там, во-первых, отвергли моего «Понтия Пилата» (без объяснения причин), а когда я пришел к заместителю Труханове кого, чтобы узнать причину отклонения заметки по поводу нарочитой неисторичности церковной хронологии апостола Павла, основанной в Деяниях апостолов на ложной синхронности его с Галлионом - проконсулом Ахайи (братом философа Сенеки), то на мое утверждение, что речь в данном случае должна идти не о христианах, а об иудейских сектантах, мне заявили, что я пытаюсь затянуть журнал в болото иудаиз- ма(!).
Несколько статей о явлениях антихристианской реакции на Кавказе в эпоху императора Юлиана и о явлениях близких христианству на востоке Империи мне довелось опубликовать в армянском «Историко-филологическом журнале» и на страницах «Вестника» и «Советской археологии» [84, 94], пока что с минимальными откликами.
Занятия ранним христианством привели меня к установлению значительного параллелизма между ортодоксальным и гностическим христианством в связи с представлениями о Симоне Маге, созданными сектантами-крестителями, выдававшими себя за его учеников. Некоторые гностические течения - прежде всего учение знаменитого Маркиона и его учителя Карпократа - представлены мной как содержащие более резкие социально-утопические тенденции, чем учения иудейско- сирийских сектантов I столетия н.э.
Но эти работы, как и ряд других, касающихся культовой раннехристианской литературы, а также обрядовых приемов, до сих пор являются достоянием лишь моего домашнего архи178
ва. Одно время (в конце 60-х годов) я сотрудничал в «Науке и религии» в разделе кратких очерков о предшественниках современного научного атеизма исключительно ради заработка, поскольку очерки эти были достаточно лаконичны, не затрагивали никаких спорных вопросов и публиковались без подписи.
Интересовался я отчасти и раннехристианской археологией, но более существенные результаты этих интересов до сих пор не увидели света. Одна из соответствующих работ - небольшая статейка, не лишенная, казалось бы, и известного политического значения, была мной предложена «Науке и религии». Она касалась нашумевших ватиканских раскопок в храме св. Петра в Риме, предпринятых по почину папы Сикста XI. В результате этих археологических изысканий возникла папская энциклика, в которой сообщалось, что найдена могила св. Петра. В археологическом же отчете ватиканских археологов и в основанных на нем работах католических ученых более осторожно сообщалось о находке «места», где могла располагаться эта могила, поскольку у «Памятника Петра» обнаружено несколько грунтовых могил, в археологическом горизонте, датирующемся будто бы находкой в нем черепицы с клеймом, относящимся ко времени императора Домициана, то есть к I столетию до н.э.
Однако норвежский археолог Торп в пространном и весьма прозорливом исследовании констатировал случайный характер этой находки, а далее им было показано, что на Ватиканском холме наиболее древние остатки языческого некрополя относятся ко II столетию н.э., христианские же могилы появляются не раньше IVстолетия, после сооружения там базилики Св. Петра.
Статью мою в «Науке и религии» отвергли под тем предлогом, что-де невыгодно ссориться с папским престолом, поскольку новый папа (Павел VI) не гнушается социализма. Я пытался определить ее куда-либо в другое место. Напечатать ее мне хотелось еще и потому, что в нашей литературе об этих раскопках не сказано ни слова, если не считать одного примечания в «Происхождении христианства» Я.А.Ленцмана, где он ошибочно - и что досадней всего, ссылаясь именно на непонятого им Торпа, — заявляет о принадлежности открытых па Ватикане могил у «Памятника Петру» к I веку н.э. В конце концов я отнес эту статейку в «Советскую археологию». Но Арциховский ответил мне, что поскольку «западная наука сама разобралась в значении ватиканских раскопок, излишне было бы повторяться».
179
К сожалению, можно назвать немало археологических событий, вызвавших в зарубежной специальной литературе целый поток исследований, но не удостоившихся упоминания у нас подчас именно в силу отсутствия необходимого интереса у какого-нибудь одного, но решающего лица.
К раннему христианству я подошел от явлений ему более или менее близких в области античной идеологии и языческой культовой практики. Я отказался от принципа, которым руководствуется с большим или меньшим ригоризмом вся современная наука о раннем христианстве, выводящая его преимущественно из древне-иудейского сектантства. Мне, как, впрочем, довольно безуспешно и А.Древсу, хотелось показать, что гностические учения, сочетавшиеся с мистицизмом, как бы они ни представлялись еретичны с точки зрения церковного правоверия, являли собой нечто совершенно неотъемлемо принадлежащее тому же христианству, понятому с исторических позиций. К сожалению, большая часть моих работ о раннем христианстве, в частности принятая было к печати работа о церковно-христианской апологетике, стремившейся поставить раннюю христианскую общину в те же условия по отношению к Римской империи, в которые она и была поставлена окончательно при Константине, остается до сих пор не опубликованной.
И все же не могу пожаловаться на судьбу. Хотя весьма значительная часть написанного мной не напечатана, а возраст мой уже достиг той черты, за которой, по мнению этрусских авгуров, человек более не должен рассчитывать на снисхождение подземных божеств, все же я в какой-то мере осуществил то, к чему стремился. Я обнародовал целый ряд оригинальных наблюдений в области социальной истории древности, хотя и не с той полнотой, как это было бы, может быть, возможно в результате всего подготовленного мной материала. Я высказал свои взгляды на скифскую культуру, нашел, мне кажется, объяснение некоторых ее явлений, нередко понимаемых ошибочно или не понимаемых вовсе.
Когда я недавно посетовал одному из главных редакторов «Вестника» на то, как грубо, а к тому же несерьезно и ретроградно обкорнали мое введение к Плутархову диалогу «О промедлении божьего наказания», он заметил мне в утешение: «Напрасно вы, ей-богу, расстраиваетесь. Ведь публикация 180
ваша идет в печать, а этого могло бы и не быть...» Увы, оно действительно так. Многого из того, что мне удалось осуществить, могло бы и не быть, так как многие мои публикации — дело чистого случая. Повезло, вот и все. Не говоря уж о том, ‘по из творческой жизни моей, в самом активном возрасте, обстоятельства вырвали десять лет. Действительно, несмотря на это мне удалось опубликовать больше, чем иному присяжному деятелю науки, находившемуся всегда «при месте», которому не приходилось гоняться ради заработка за всякими случайными и посторонними делами, отвлекавшими меня от основной работы. Некоторые люди, вероятно, и в этом отношении поглядывают на меня с завистью. Году в 1948-ом или 49-ом М.Е.Фосс спросила у кого-то из провинциальных археологов, приехавшего на очередную конференцию, знает ли он меня. «Как же, — ответил он, — помню. Знаю этого старика...» — «Не такой уж он еще старик», — поправила его она.
А к концу войны, когда я числился в пропавших без вести, меня было даже и вовсе похоронили. Как передавали, Б.Н.Граков, вспоминая обо мне, говаривал: «Л.А., покойник, царство небесное...»
Странно, конечно, что при сочувственном в общем отношении к моим трудам со стороны специалистов (сотрудница сектора истории средних веков, возглавлявшегося тогда С.Д.Сказкиным, как-то сказала мне, имея в виду, очевидно, именно его: «А мы ведь следим, следим за вашими работами...»), послевоенное академическое начальство меня или вовсе не замечало или, замечая, никак не привечало и не поощряло. Приходится допустить, что это начальство, несмотря на свое с виду достаточно авторитетное положение, побаивалось, как бы на него не пала тень испытанных мною «бед» и «грехов» поенного и послевоенного времени. Тем более что ведь имелась превосходная отговорка: человек-то не дипломированный, как его куда-нибудь приткнешь, как на щит подымешь?
Правда и то, что я сам никогда в этом смысле ничего не искал и не добивался, никому не мозолил глаза и не пытался сесть на шею. А пословица - дитя не плачет, мать не разумеет - может быть распространена также и на сочувственно настроенное начальство. Некоторые из их числа мне иногда говаривали: «И как только вы существуете, совершенно непонятно...»
Может быть, все это отчасти так получалось и потому, что паши творческие учреждения, в особенности в послевоенные 181
времена, чрезвычайно оказенились и одомашнились одновременно. В Институте археологии, как и в Художественном театре периода его упадка, среди сотрудников появилось немало лиц «второго поколения» - детей, проведших жизнь в стенах этого Института, его пожизненных научных сотрудников. Все это не могло не содействовать выработке в умах этих наследственных деятелей науки известного презрения к шушере, остававшейся за бортом научных учреждений, - их же бывших товарищей по учению, отчасти и по дальнейшей деятельности, но менее счастливых и обреченных затыкать собой дыры в провинциальных заштатных музеях, пединститутах и т.п.
И везде от этого страдала прежде всего именно научная работа. Как один из видов творческой деятельности, наука не терпит ни жесткой регламентации, ни повседневности. То и другое может служить лишь подменой творчеству. Люди научаются и привыкают жить на «проценты с капитала». Раз или два что-то серьезное сделали, а потом начинается или обман самого себя или обман других, чем и объясняются столь нередкие у нас теперь ухищрения, иногда даже преступного характера, с диссертациями, с соавторством и т.п.
Немудрено, что при таком положении вещей, когда за ученую степень платят как за военный чин, к ней возникает отнюдь не научный интерес. Разница между ученой степенью и военным чином заключается лишь в том, что военного чина человек добиваться не может, получая его сверху, а степени надо правдами или неправдами именно «добиваться» - сверху ее жалуют только заграничным ученым, с прибавлением эпитета «почетный» член, доктор и т.д. Огромное количество «остепененных» людей нередко принимается за показатель расцвета науки, тогда как значительная часть даже докторских диссертаций света никогда не видит, не для науки и пишется. Докторская диссертация даже такого серьезного ученого, как Б.Н.Граков, не была им опубликована. Совершенно удивительно, что у нас в эпоху так называемой научно-технической революции сохраняется и все более прочно утверждается совершенно средневековый способ присвоения ученых степеней и званий, в приобретении которых люди с настоящими научными или педагогическими интересами собственно совершенно не заинтересованы и смотрят на диссертации и все связанные с ними манипуляции, как на потерю времени, вынуждаемую, с одной стороны, невозможностью шагу ступить баз степени, с другой — необходимостью 182
получения соответствующей зарплаты. Если бы за степени перестали платить, моментально прекратился бы и поток в большинстве случаев совершенно ненужных диссертаций. Ученые советы могли бы заниматься более существенными делами, а степени или ученые звания присваивались бы за реальные научные или педагогические заслуги ВАКом, по собственной инициативе собирающим необходимые данные о работниках науки, не заставляя людей унижаться, ловя за фалды своих эвентуальных «оппонентов», и ловчить ради «соискания» того, что им полагается по заслугам.
А так получается волей-неволей, что вся ученая деятельность подчиняется не деловым надобностям, а всяческим «фокусам-покусам», связанным с диссертационными делами. Случайно мне пришлось присутствовать в «Вестнике» при том, как составлялась главными редакторами очередная книжка журнала. Интересовались они отнюдь не качеством и не научной ’злободневностью работ, а тем, кто и когда из авторов «защи ща- стся». «Вот у этого защита на носу, надо его обязательно скорее опубликовать, а у этого еще не так скоро - можно и повременить...»
Когда прошел слух, что система работы научных институтов будет изменена в том смысле, что в числе постоянных сотрудников останется лишь руководство как организующий костяк да вспомогательный персонал, а творческие работники будут приглашаться для исполнения конкретных работ или научных тем на договорных началах, помню, как многие люди, отнюдь не смущающиеся необходимостью сдавать восемь печатных листов ежегодно — это-то они, мол, всегда так или иначе наскребут, — говорили: «Нет, это не пройдет, да кто же на такое согласится?» И действительно, так-таки оно и не прошло... Все остается по-старому. И никто при этом не удивляется, что писателям, художникам, журналистам жалования не платят. А за науку платят. И во всех институтах имеются люди, к науке прямого отношения не имеющие, но существующие в самых разных качествах, и к этому все привыкли. Привыкли настолько, что научный стаж у нас исчисляется не по реальной научной деятельности, а по срокам пребывания в институтских кадрах.
При этом вырабатывается определенная, основанная на этой (бытовой, а не научной) совместности, дурная корпоративность - эти свои, а те чужие, хотя и те и эти — люди одной специальности, одних и тех же научных интересов. Но 183
работы «своих», хотя бы они и были неполноценны, принимаются, хвалятся, работы же «чужих» порицаются, отвергаются только за то, что они принадлежат чужим, а не своим. И делается это зачастую по самым несерьезным мотивам: он- де в нашу дуду не дует... За это преследуют, об этом пишут в газетах, но ничто не меняется, потому что такова сама система и поддержание ее возможно лишь таким способом.
Нередко газеты пишут, что такие-то и такие-то ученые и руководители секторов, кафедр ит.д. отнюдь неученые и не руководители, потому что труды их липовые и научное руководство липовое, а вот контрольные инстанции почему-то всячески избегают признания этих фактов, непонятно будто бы, почему. А оно совершенно понятно. Как они могут чернить тех, кого какое-то время тому назад сами подымали на щит? Если они это сделают, то и сами затем окажутся в сомнительном положении. Понятно также и то, что серьезные ученые не хотят заниматься этими дрязгами. Их дело наука, а не ловля жуликов.
В русской науке и прежде бывало немало рутины, немало ложной и казенной корпоративности и чинопочитания, но ведь все же никогда не было такого, чтобы библиотеки приходилось охранять с милицией, потому что уважаемые диссертанты то ли оттого, что очень торопятся, то ли в силу внутренней чуждости науке и культуре разворовывают или уродуют кнцги, вырывая из них нужные им листы! г.
А ведь нелегко сейчас человеку, не являющемуся сотрудником научного учреждения, попасть в серьезную библиотеку. Пусть на полках этой библиотеки стоят им написанные книги - никого это не интересует. Нужна бумажка от научного учреждения с просьбой допустить вас до книг. Помню, как от этой системы еше в тридцатые годы страдал мой отец, не имевший возможности получить такую бумажку без унизительных просьб в каком-либо секретариате. Теперь точно таким же образом страдаю от этого я. Библиотеки же переполнены. В них сидят бесчисленные диссертанты и аспиранты, без конца плодя щие свою высокооплачиваемую макулатуру.
Всякий раз, как у меня возникают затруднения с возобновлением читательского билета в Ленинскую библиотеку, я вспоминаю о том, что я ведь подарил этой самой библиотеке, соответственно выданной мне справке, около тысячи названий разных (главным образом иностранных) книг, в большинстве случаев многотомных, так что фактически этих томов было 184
больше двух тысяч. Довольно приличная библиотека. А если учесть, что некоторые из имевшихся у меня изданий в Ленинке до того отсутствовали, то ценность этого дара становится еще выше.
Мне предлагали заплатить за эти книги. Я отказался. Тор- 1овля тем, что мне было очень дорого и чего я лишал себя преимущественно из-за воплей родственников о том, что-де книги пас задушили, представлялась мне невозможным, унизительным делом, а Если вы хотите меня отблагодарить, выдайте мне бессрочный читательский билет, всего-навсего...» — «Этого мы сделать не правомочны. Даже и директор не может отдать такого распоряжения. В определенные сроки производится перерегистрация всех читателей...»
Так я ничего в этом отношении и не добился. Время от времени приходится доказывать, хотя бы и правдами, а не неправдами, что я научный работник, веду работу для органов печати. «Вот вы и принесите нам из того учреждения, для которого работаете, бумажку». — «С удовольствием бы принес, да ведь туда находишься за этой бумажкой не раз и не два: то бланков нет, то подписать некому. И обязательно присовокупят, подавая бумажку: “Вот видите, как нехорошо не иметь ученой степени. Нудь вы хоть кандидат наук, вас бы без всяких бумажек тут же и записали...” Действительно так, и ведь крыть-то нечем».
Несмотря на то что мне доводилось принимать участие в некоторых даже международных научных собраниях (разумеется, лишь на нашей территории) и выступать на них с докладами; несмотря на то, что временами меня довольно подолгу привлекали к работе Института истории, все это происходило всякий раз как-то полуофициально или вовсе неофициально, так что и постоянно чувствовал себя на отшибе. Я назвал эти записки «На паперти храма науки». Должен сказать, однако, что даже и это положение не вполне соответствует действительности. Ибо положение нищего на паперти храма представляется мне, с одной стороны, более логичным, а с другой - более определенным и надежным, чем мое положение около науки.
Я не хочу сказать этим, что кто-то сознательно поставил меня и такое положение и настойчиво меня в нем удерживал. Мне совершенно не на кого жаловаться, кроме как на себя самого, да еще на неудачно, а то и трагично складывавшиеся для меня обстоятельства. Что же касается людей - коллег, с которыми я поддерживал товарищеские отношения, или начальствующих 185
лиц — с их стороны я встречал сочувствие и поддержку. Правда, что так продолжалось лишь до тех пор, покуда я имел дело с людьми, знавшими меня с довоенных времен. Положение мое изменилось, когда эти люди ушли или вовсе из жизни или, по крайней мере, с моего горизонта. В секторе древней истории при Утченко ко мне относились дружественно, покуда на меня имелись какие-то виды, которые, стало быть, не оправдались. После моей попытки выступить против Зельина, помимо репримандов, полученных от Утченко и изложенных выше, со мной перестали общаться некоторые рядовые сотрудники, поддерживавшие до того дружеские и тесные деловые отношения, - перестали со мной даже разговаривать.
Вообще, надо сказать, что с конца 60-х и в начале 70-х годов сектор по отношению ко мне как бы «ощетинился». Хотя соответствующие времена давно уже миновали, у них появились какие-то закрытые заседания. Однажды я пришел на сектор по повестке, пригласив с собой одну преподавательницу древней истории из Пединститута, но на заседание нас не пустили, просили подождать, покуда не будут обсуждены вопросы, касающиеся лишь членов сектора. Я обозлился: «Какие тайны могут быть на этом секторе? Вы что, ворованное что ли делите?» - спросил я секретаршу. Она обиделась. «Мы не воруем». — «В таком случае, какие же у вас могут быть тайны от посторонних?» Мое воз/лу- щение было учтено. Другой раз, если я осведомлялся у секретарши, когда будет такой-то доклад, она мне говорила: «Докладчик просил передать, что он этот доклад хочет сделать только для членов сектора...» Вот тебе и наука, вот тебе и публичность... В общем, я мало-помалу отошел от этого сектора.
А. П.Смирнов, заведовавший скифо-сарматским сектором Института археологии, время от времени приглашал меня сделать какой-нибудь доклад у них на секторе на киммерийско-скифскую тему. После его смерти подобных предложений больше не поступало, хотя сделанные мной у них пару раз доклады выслушивались, как мне казалось, с интересом.
Надо, однако, сказать, что даже и в самые хорошие для меня времена в ведомственных изданиях Института археологии мне ни разу ничего не удалось опубликовать. Даже то, что я докладывал на скифо-сарматском секторе, даже в томике, посвященном М.Е.Фосс, мне не нашлось места. Многолетний редактор «Кратких сообщений» Т.С.Пассек в ответ на мою просьбу об 186
участии в этом сборнике1 просила меня сделать какие-либо конкретные предложения на этот счет. Я назвал три совсем небольшие археологические статейки, предложив их ей на выбор. Но все они были ею отклонены. Мне говорили, что у нее был большой зуб на меня: как-то в ответ на вопрос, заданный мне еще до войны, нахожу ли я Т.С.Пассек красавицей, каковой она слыла в наших кругах, я сказал что-то очень нелестное об се красоте, и это ей немедленно передали. А до этого у нас с ней бывали, хотя и довольно редкие, но вполне доброжелательные разговоры. Для «Вестника» я написал рецензию на ее докторскую диссертацию о трипольской культуре. Все это, увы, мне не помогло. Не имела успеха и еще одна просьба о помещении и выпуске «Кратких сообщений» античного сектора статейки о политическом квазисуверенитете северочерноморских греческих колоний: Заведующая сектором мне сказала: «У нас печатается только доложенное на секторе. Вам придется сделать об этом доклад». - «С превеликим удовольствием». - «Тогда обратитесь к нашему ученому секретарю, чтобы он нашел время для вашего доклада». А секретарь, разводя руками, сказал, что все время распланировано вперед на весь год...
Насколько изменилось ко мне отношение скифо-сарматского сектора, да и не одного этого сектора, а всего института в лице его директора Б.А.Рыбакова по смерти А.П.Смирнова, почувствовал я на примере совершенно нелепой истории, связанной с отзывом на мою рукопись «Скифии евразийских степей». Началось с того, что я было позондировал почву в издательстве «Знание». Мне там сказали, что могут напечатать такую книгу, если академик Рыбаков напишет к ней предисловие. Я отправился к Рыбакову, забыв печальную историю с рукописью об этрусках и памятуя только о нашей с ним более чем десятилетней совместном работе в Историческом музее. Он встретил меня любезно, согласившись написать предисловие в том случае, если я принесу ему отзыв сотрудницы скифо-сарматского сектора Н.Л.Членовой. Это был единственный человек на секторе (не считая покойного уже к тому времени А.П.Смирно- ва) хотя бы отчасти разделявший мою концепцию, и я было внутренне благословил Рыбакова, решив, что он помнит об 1 Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. Вып. 75. 1959.
187
афронте, который я получил от других членов сектора с рукописью «Скифская культура в периферийных связях».
Членова написала вполне положительный отзыв и отдала его вместе с моей рукописью в дирекцию. Там он, как водится, едва не затерялся, но все же обнаружился у ученого секретаря Института. Я - к Рыбакову с напоминанием. Он отнекивается: «Я еще отзыва не видал, но он кажется отрицательный?» - «Вы ошибаетесь, отзыв вполне положительный...» - «Ах, вот как, тогда попросите ко мне, пожалуйста, заведующего скифо-сар- матским сектором». Привожу. «Мне нужно с ним поговорить, а вы, пожалуйста, подождите тут в канцелярии...» Какая чепуха и бестактность. Но что делать. Выходит от него с несколько растерянным видом заведующий сектором. «Что он вам сказал?» — любопытствую я. «Он просит отзыв Мелюковой». (На этот раз Рыбаков угодил в жилу. От этой граковской ученицы, доведшей взгляды своего учителя до абсурда, я бы никогда не получил ничего доброго.) Я понял, что Рыбаков таким способом отделывается от обещанного было предисловия, и попросил завсектором не предпринимать дальнейших шагов. Что касается Членовой, то она отнюдь не была удивлена поведением директора. «Он частенько так поступает, — сказала она. - Недавно приезжали сибиряки из одного музея и заключили с Институтом договор о совместных работах. Он его подписал, а потом тут же от него отказался. Ему говорят: “Как же так,гведь это же не пустяк какой-нибудь, а юридический документ?” А тот и слышать ничего не желает...»
Конечно, кто его знает, как оно было на самом деле, за что, как говорится, купил, за то и продаю, но уж очень это все подходило к моим собственным обстоятельствам. Да собственно, и применительно ко многим другим моим бедам можно было бы, если покопаться в памяти, привести немало примеров из мартирологов других людей, иной раз даже дважды обладавших докторской степенью, находившихся на хороших местах, а не таких неудачников, как я, и в то же время достаточно натерпевшихся от всякого рода зависти и заушательства...
Кстати, если уж говорить о зависти, то как это ни смешно и ни невероятно, но один коллега и общий мой с Рыбаковым знакомый, могущий судить о нем вернее, чем я, когда я его спросил, почему, собственно, Рыбаков меня так не любит, ответил: «Потому что завидует...» Я было даже вознегодовал, а потом понял, что, пожалуй, позавидовать-то ему есть чему. Рассказыва188
ли, что приезжал к нему знаменитый Гордон Чайльд, большой наш друг, и пришел к нему как к директору Института археологии. «Говорите ли вы по-английски?» — спросил он. «Нет». — «По-немецки?» - «Нет». - «По-французски?» - «Нет...» - «Ну, тогда я буду говорить по-русски», - заявил Чайльд.
А в другой раз на банкете по случаю зашиты докторской диссертации его заместителем и ближайшим учеником Б.Н.Гракова Рыбаков захотел блеснуть эрудицией и произнес что-то по-древнегрсчески. И тут с другой стороны стола раздался ворчливый голос Гракова, также присутствовавшего на банкете, а перед этим чего-то не поделившего с Рыбаковым: «Стыдно историку, стыдно академику так перевирать греческие слова...»
Понял я также, что заявление Рыбакова о том, что он не считает себя специалистом в скифских делах, было с его стороны лишь уловкой, предпринятой ради того, чтобы отделаться от меня чужими руками. Вскоре после этой истории в «Курьере ЮНЕСКО» появилась его статья о походе Дария против скифов, в которой он допускал возможность проникновения персидского войска вплоть до полтавских мест, с тем чтобы разрушить там скифский город Гелон, отождествленный им вслед за Б.Н.Граковым с Бельским городищем.
Что же касается отзыва Членовой на мою работу, то он сослужил мне потом добрую службу в Новосибирске при включении рукописи «Скифии евразийских степей» в издательский план тамошнего Института истории.
Вот и получается, если повнимательнее вглядеться в перипетии моей деятельности, в мои удачи и неудачи, представляющие в известном смысле довольно горестный мартиролог, что я все же, пребывая «на паперти храма русской науки», умудрился насобирать кой-какой милостыни. Пусть ее податели руководствовались в своих щедротах самыми различными соображениями. Но в итоге, даже если позабыть о том, о чем по забыть невозможно, а именно, что мне удалось опубликовать лишь меньше половины наработанного мною за мою жизнь, то получается, что мне какими-то судьбами удалось сделать не меньше многих из тех, кто не был вырван из научной жизни на столь большие сроки, как я, и кто находился, осуществляя свой научный жизненный труд, отнюдь не на паперти, а в самом храме, а кое-кто даже в его, так сказать, алтаре...
Да не смутят кого-либо мои традиционные обращения к 189
церковной символике. За нею поэтическая традиция и, в частности, благородный приоритет Александра Блока:
...Пройду росистую межу, Ключ ржавый поверну в затворе И в алом от зари притворе Свою обедню отслужу...
В притворе... Удивительным образом совпадает не только символика, но и самое ощущение некоей стесненности, может быть даже ущербности жизненной позиции и творческой активности.
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Юношеские стихи
ОСЕНЬ
Лето уходит из города вон.
Город с летом прощается.
Желтый лист. Колокольный звон. Холодное небо качается.
Город шумит, как зимой и весной, Шумит, и ему не жаль, Что в серые дни, в холодный покой Клен осыпает печаль.
Сыплется, сыплется желтый град На асфальт, на крыши, в окно. Люди спешат. Огни горят. В небе осеннем темно.
Октябрь 1926
191
♦ * ♦
Вечером зори горят над Москвой, Медь куполов раскаляя.
Неба холодного край голубой
В облаке розовом тает.
Редкие листья с деревьев трясут
Осень и ветер содружно;
Скоро вечерние зори умрут В западе дальнем и чуждом.
Грохот, и топот, и гомон людской Замер в вечернем тумане.
Тихо у нас за китайской стеной Башни стоят сторожами.
Октябрь 1926
* ♦ ♦
Разогнал осенние туманы
И расчистил ветер небеса. Паруса надулись океана, И ушли туманы за леса.
Без тумана стало небо чисто,
И вода застыла на реке, И Москва с зарею из батиста — Комсомолка в розовом платке.
Октябрь 1926 - январь 1927
СМЕРТЬ
Вечер плакал мелкими слезами.
Две лошади в попонах черных шли.
Качнулся гроб над низкими крестами И стукнул глухо первый ком земли.
Заторопились, зазвенели дружно Лопаты ржавые, булыжник заскрипел. Склонились головы. Поднялся неуклюжий Печальный холмик. Ветер песню спел...
192
Вот и смерть. Вот и вся смерть;
Очень быстро и тихо кончилась.
Только ветер будет звенеть Заунывнее колокольчика.
...И уходили, хмуро озираясь,
И забывая голову прикрыть.
И каждый шел, от смерти отрекаясь, С неутолимой жаждой жить.
...Парит над нами с черными крылами, Взмахнет косой - и жизни не спасти...
И думал трус, что смерть не за горами, Что жизнь прожить, как поле перейти.
А смелый шел и улыбался взглядом, В глазах простор — ни смерти, ни могил... И одному она казалась рядом,
А для другого след ее простыл.
Ноябрь 1926
♦ **
Гуляют в снегах необъятных
По волчьим тропам огоньки, И черные по снегу пятна — Сухие кусты и пеньки.
Засыплет и до лета спрячет,
Завалит снегами меня,
И с присвистом гневным заплачет Крылатая вьюга-змея.
Усну я в холодной берлоге - Шуми, снеговая гроза!
Замерзнут и скрючатся ноги, Как льдинки, застынут глаза.
И пар от последнего вздоха
Слетит с остывающих губ;
И кустики снежного моха Узор на лице наведут.
Ноябрь 1926
193
Толстым слоем снег на крышах. Небо в пятнах синих.
Голоса приятно слышать Молодых и сильных.
Над летучими снегами Воздух чист и весел. А в гуденьи, грохотанъи - Городские песни.
По морозу к небосводу Тянут многогруд но Паровозы и заводы Высоко и трубно.
Колокольни, надрываясь, Голосят навстречу.
Мечут молнии трамваи, Искры-громы мечут.
И сливаясь в поднебесьи Создаются песни...
Толстым слоем снег на крыше. Небо в синих пятнах.
Голубые песни слышать Каждому приятно.
Январь 1927
♦ * ♦
От стихов душа туманится, Налетают ветерки.
Ты моя немая странница С белым пятнышком руки.
Ритмы скучные, веселые, Рифмы, звуки, бисера, Все деревья стали голые, В небе свежесть серебра.
194
Отпусти на покаяние, Мне давно, давно пора; Утро зимнее и раннее В окна смотрит со двора.
Ждут меня иные спутники И уйдут, меня забыв, Как пойду я в ночи жуткие, Светом глаз не окрылив.
Не сердись, не плачь, изгнанница, Не забуду я тебя;
Нынче небо не туманится, Светлый день оголубя.
Январь 1927
♦ ♦ *
Всю ночь не спят одни пивные, Где над шумихой дым повис. В грязи пустые мостовые И рельсы узкие слились.
Безлюдно. Робко. Все закрыто. Везде огни погашены.
Как оспой, звездами изрыто Корыто черной вышины.
Весна еще не наступила.
Но, как весной, всемутепло. И, как весной, тревожно было Всю ночь, пока не рассвело.
Январь 1927
Я научился с тишиной
О всем беседовать помногу... Но все кружит передо мной Железной радугой дорога.
Вот черный поезд мчит, летит - Ножи колес о рельсы тупит,
195
И паровоз берет на щит
С дороги все, что не отступит.
Ты далеко в степных снегах...
Вагон качает на рессорах - Огни во встречных городах, В холодных окнах снежный шорох.
Я жду тебя и с тишиной
Веду глухие разговоры, Но все кружат передо мной Метели тонкие узоры.
ТЕЛЕГРАММА
Туман сгустился. Он полосами Разволочась
Доносит гонги. Колоколами Бьет новый час.
Звонарь на высях, над куполадой Злаченых глав.
Его не видно. Спешу. Мне надо На телеграф.
На синем бланке даю я адрес Для черных строк;
Открылась дверца и в светлом кадре Мелькнул листок.
И в аппарате сверчок зацокал - Проснулся ток.
И телеграмма взнеслась, как сокол, — Владивосток.
У нас уж полночь. С японским солнцем Пора Вам встать.
Идти к такому, как здесь, оконцу - Меня встречать.
196
♦ » *
Готовьте женам утешенья - Война опять грозит мечом. И мы от новых поколений Ей дань живую принесем.
Сходитесь, юноши, и стройтесь, Ведь нам грозят - и мы грозим. Идите, юноши, и пойте;
Ужасный день неотвратим.
Грозятся нам войной, бедой. Сходитесь, юноши, и стройтесь. Коня седлай! Окопы рой!
Идите, юноши, и пойте.
И класс на класс. Седлай коня, Окопы рой, ложись в окопы.
Штыков, пропеллеров, огня Орудий, газовых потопов -
Всего, всего! И класс на класс! Искать борьбы, конца, надежды.
Подымет солнце красный глаз Сушить кровавые одежды.
Январь 1927
Цикл стихов, написанный по впечатлениям от поездки на Кольский полуостров
ЛЕД-ПОБЕДИТЕЛЬ
Льды по воде, как отраженья Громоздких серых туч, Идут, качая при движеньи Прозрачный парус круч.
197
Сырым закутало туманом Мой одинокий бот.
Я горд идти по океану, Что стонет и ревет.
Волны холодное кипенье Громит хоромы льдин.
Грозит мне гибелью крушенье Под тяжестью лавин.
И в ледяных я слышу гротах Мой океан ревет:
Жди горя в северных широтах, Отважный мореход.
Тяжелым сдавленный объятьем Безжалостных когорт, Я понял с бешеным проклятьем, Что льдами я затерт.
Уже трещат, ломаясь, доски, Срывается канат.
Бросает ветер отголоски Взрываемых гранат.
Как в корчах гибнущие доски, В бессильи жалок я.
И мне в лицо бросает блестки Холодная струя.
О лед, бессмысленный губитель, Отважных нежных душ.
О лед, суровый победитель. Лавиной гнев обрушь.
Я далеко на север дальний Заплыл с тобой вдвоем.
Я глубоко проникнул в тайны, Бери меня живьем.
198
Я в Ледовитом океане, Где только льды плывут, Блестя в серебряном тумане, Как бледный изумруд.
Пусть океан себе разбитый Возьмет в подарок бот. Я перепрыгну на омытый Соленой пеной лед.
И если вихрь с зеленой гривой Пойдет гулять по льду, Нырну с высокого обрыва В зеленую слюду.
Ноябрь 1926
♦ * ♦
Холодный океан шумит, Порывистый прибой кипит, Шарахаются каменные глыбы. У берегов купается гранит, На нем вода замерзшая блестит, Как чешуя прозрачная у рыбы.
Зеленая холодная волна, Береговая черная стена, Лавинами укатанные горы. К ним не причалишь утлого челна; Лишь валуны, поднятые со дна, Бьет океан о твердые заторы.
Безлюдие полярных берегов, Ристалище бунтующих снегов, Чудесный свет, сияющий ночами. И равнодушный, в золоте мехов, Не сохранивший мудрости веков, Лопарь с подслеповатыми глазами. Январь 1927
199
* * ♦
Кругом снега, как саван белый. И я, как снежный истукан. Незамерзающий и смелый, Внизу бушует океан.
Скользя по снегу и по скалам, Я одолел крутой подъем, Мне только ноги облизала Вода, не тронутая льдом.
И вижу: горы подпирают Гранитом черный небосвод И волны длинные качают В порту тяжелый пароход.
И вижу: лепятся по скалам И кручам дымчатые льды, И вдруг срываются обвалом В объятья темные воды.
И океан, когда бывают Мороз и ночь его черней, В холодных водах отражает Сиянье призрачных огней.
Январь 1927
♦ * *
Никто не ставил в тундре вех. Летим во весь мы дух.
Олень бежит, взметая вверх Холодный светлый пух.
Олений резв и легок бег, Ногами режет снег.
Минуя карликовый лес, Летим быстрей, быстрей... Нет голубей, чем здесь, небес И нет ночей темней.
200
И над верхушками берез Олень рога пронес, И голубой, как небо, лед Копытами скребет.
Олень бежит, бежит, бежит, Кусая снежный мох.
Пустыня гладкая лежит Без вех и без дорог.
Олень свободен, легок, скор, И в тундровый простор Он будет гнать, и гнать, и гнать Чтоб сбрую разорвать,
Чтоб в бледно-серые снега Зарыть свои рога, Чтоб оторваться от саней, Освободиться от ремней И в горы убежать.
Январь 1927
* ♦ ♦
Снегу, снегу, холодного, острого, С вечно темных чугунных высот! Снег и лед до высокого острова Над застывшим безбрежьем болот.
Под ногами я чувствую озеро.
В тишине только хруст ледяной. Стужа все замела, заморозила, Только сердце стучит под рукой.
Только холодно, мрачно и ветрено, И живой надо льдом ни души. Космы белые снега бессмертного, Завывающий ветер шумит.
Ураганы далекого севера... Ледяные седые смерчи...
201
И играя, у звездного веера, Разноцветные бьются мечи.
Январь 1927
***
Волна за волной подбегает к ногам, И мягкая, падает вспять.
Огромный зеленый шумит океан, Мне больно его покидать.
Я ночью бродил по крутым берегам И буйство его прославлял.
В горах одержимый плясал ураган, И я с ураганом плясал.
Пора разорвать мне ночную вуаль И к солнцу лицо повернуть.
Пусть рельсы протянут услужливо вдаль Серебряный узенький путь.
И вдаль по пути побегут огоньки, Над снегом завьются дымки.
Колеса тяжелые звонко в простор Чугунный начнут разговор.
Печально отходит волна от земли, Чтоб снова вернуться ко мне. И манят тяжелые льды-корабли К невиданной новой земле.
Январь 1927
Довоенные стихи (1930-1941)
Ж * ♦
Другие совсем не видят любимых.
Я ежедневно слежу за тем,
Как Вы напряженно ходите мимо, Точно большая, чужая тень.
Гляжу без претензий на отчужденье.
В нем теплится жизнь, а в близости - смерть Всех ослепительных озарений И произвольно приданных черт.
Поэтому как бы не узились чуждо Ваши глаза, сторонясь моих, Я неуклонно и нераздружно Веду разговоры один за двоих.
В тех диалогах — речь обо многом,
А наяву не хватает тем, Так, чтобы мне не трогать снова Слов, уже сказанных перед тем.
ж * *
Наши души друг от друга Так безумно далеки, Что бледнеет от испуга Тень протянутой руки.
И в погоне друг за другом Сбившись с верного пути, Голоса их тянут фугу, Раздувая мех груди.
Дни короткие проходят, Их все шире разводя, Через новые разводья Переправы не кладя.
203
Вместе может быть и встретят, Друг за другом колеся, Наши души смертный трепет, Божьей милости спроси.
Смерть - единственное средство Достиженья общих благ, И ненужное кокетство — Траур, выкинувший флаг.
* ♦ ♦
Те souviens tu de notre histoire ? Moi, fen ai garde la memoire - C’etaitje crois, Pete dernier'.
Я Вам стихи писал когда-то, Но это в памяти моей Не подкрепилось точной датой В них заприходованных дней.
Когда-то Скрябина слыхали Мы с Вами вместе на большом Концерте. Там, в Колонном зале, Был послан невпопад поклон.
Гипертрофия ли колонн Огонь симфонии убила, Но Скрябин мстил, и поделом... За это время много сплыло Судьбою взятого на слом.
Мне странно видеть Вас - как будто Я что-то сделал выше прав В те дни, а память, точно в шутку, Блюдет небывшее, как явь.
♦ • ♦
Вчера Вы только улыбались, Сегодня ж услыхал я смех,
‘Ты помнишь пашу историю? Я-то сохранил ее в памяти. Это было, кажется, прошлым летом (фр.).
204
С которым тихие смешались Слова: «и сущим во гробех...»
Настала Пасха. Смех сквозь слезы, Как громкий колокола взрыв, Над душной скорбью Берлиоза Тревогой в воздухе дрожит.
♦ * *
Я Вам жестокие стихи Хотел послать на той неделе, Но остановлен в этом деле Вмешательством чужой руки.
Зачем наказывать? Возмездье Не мне на свете подлежит. Друг будто отбыл. По приезде Мы будем снова дружно жить.
А не вернется, ну и что же - Я буду помнить о весне, Которой летопись дороже Должна быть не ему, а мне.
♦ ♦ ♦
Я обращаюсь к Вам, впервые в жизни дружбы, Теперь, когда она почти оборвалась.
Поэзии дела все хуже, и все реже Встречаемся мы там, где сводит нас Нейгауз.
«Для мальчиков не умирают Позы», — Напомнил смерти Блок. И знал, что будет мертв, Как только прозвучат печальные угрозы
(Чтоб снова их презрел бессмертный Бенкендорф).
И мы, как прежде Блок, яснее острой боли, В неузнанных полях все тот же видим путь
В мельканьи крыл и стрел, послушных дикой воле, С предсмертною тоской, ему запавшей в грудь.
205
Но все же облегчен тяжелой смертью Блока, Глухой к его правам, наш завтрашний удел, Объявленный вне мер пространства или срока И взявший под заслон весь видимый предел.
Тень Блока далека и не маячит глазу Вражды и дружбы тех, кому не прозвучал Их разобщивший шквал симфонией экстаза, Которой Блок внимал и вторить призывал -
Приникнувший к ее неслыханным звучаньям И в свой предсмертный ямб их ритмы перелив, Свободною судьбой сраженный, в редком званьи Поэта, страшных лет обнявшего порыв...
Нам легче оттого, что мы уже не ищем, Ценою чувства, льгот, на сердце положа Заветом этот труд, всего честней и чище, Что добыто в боях, которых кровь свежа.
под новый год
Я был под Новый год один С моими мыслями и с Вами. И Вас опять опередил, Как и всегда, в соревнованьи
Тревог, желаний и надежд, Отчаянья и исступленья. Я разделил, раздвоил время, В нас не делившееся прежде.
В образовавшуюся брешь Я бросил, вырвав из текучей Его среды, все эти чувства, Волнующиеся во мне.
Как демоны и колдуны, Влекущие чужие души, Я приневолил Вашу жизнь, За мною следуя, присутствовать
206
На небывалых торжествах Любви, из времени изъятой. Освобожденной от проклятья Его бесчеловечных прав.
Вы этот новогодний праздник Не сыщете в воспоминаньях.
***
Вы наконец пришли опять Сюда, по замкнутому кругу, - И антресоли Вас, как друга, Спешат у лестниц перенять,
Вы здешней родственны среде: Колоннам, люстрам и пейзажу Огней, пробивших кое-где Мглы к окнам липнущую сажу.
Их отворили к Вашей встрече, Чтоб пропустить трамвайный лязг И влажный холод, бьющий в плечи, В стопы бумаги на столах.
Вас обступили тесно спины Людей, склонившихся к томам, — Мне не поймать и половины Движений, приданных чертам
Портрета, как он был написан: Пробор в осенней седине, Глаз мягкий мрак и ночь на крышах, Огни в распахнутом окне.
* * *
Я Вам хотел бы показать Кавказ Во всей его нестройной планировке Массивов рыжих, небу напоказ Рассыпанных, как кубйки в коробке.
207
Перемеженные горбами бровки рек, Цветами яркими на неподвижной карте; Бегут из туч, прикрывших млечный снег, К морям, полощущим холодной сини скатерть.
Несет Квирила1 свой зеленый пунш Под мертвый камень старой Шаропани, С Дзирулой черною столкнув несхожесть душ В Риони* 2 тонет, спрятанной в тумане.
Мне грустно оттого, что весело тебе Подруга стольких глаз, зеленая Квирила. Мелькнул в тебе Помпей, стремясь к своей судьбе, Ты тень его под спуд своих наплывов скрыла.
Мне грустно оттого, что весело тебе, Колдунья черных недр, безумная Дзирула. Медеи темный дух кипит в твоей воде, И мести быстрота поныне не уснула.
Мне грустно оттого, что чувствую, как Вас Не радует Кавказа перспектива, Очерченная мной. Вы любите Кавказ Других цветов, совсем другого стиля.
Я вижу здешний край на много верст вперед. На много тысяч лет назад в его величьи.
Несу его в себе, как тащит самолет
Тень крыльев по земле в своем полете птичьем.
АРИАДНА
Снова не жду никаких воздаяний, Несправедливых не помню обид; Черен лишь парус над ярусом зданий, Светел корабль, покидающий Крит.
’Квирила - река в Грузии, приток Риони. У впадения в Квирилу реки
Дзирулы находятся развалины древней крепости Шаропань(Шорапани).
2Риони - крупнейшая река Западной Грузии, древний Фасис.
208
Ближнее небо - Эгейское море - Низведены облака в острова. Козни Ми носа замешаны в споре С робостью рук в расписных рукавах...
В залах бездомных искусство Дедала План лабиринта как мудрость хранит, Чтобы в любви пораженная пала Кровь искупленьем на вымостку плит...
С ней обрученный обратно я тронусь И доплыву до Наксосской скалы, Где ее примет, отнимет Дионис, Неуязвим для вражды и хулы.
♦ ♦ ♦
Дружно пошли карусели пейзажей. Солнцу пыля и на стыках стуча, Неба вертеп паровозною сажей Сплошь гримируя, наш поезд умчал.
Город отстал, отступив к горизонту, Грея железо в горячем поту.
Время рекою отхлынуло к Понту, И за верстою верстая версту.
Шкалами шпал разделила дорога Нас, умножая деленья в числе, В степь угоняя меня от порога, Врытого в тошей московской земле.
ПИСЬМО
Устав от пейзажей заплеванных пляжей, Отнятых морем у серой скалы, Сами усвоим и миру укажем Достоинства лесом поросшей яйлы.
Пусть меня ранит недавняя память Всем, чем колючий богат Ай-Тодор,
209
Чьи волноломы преграды не ставят Чувствам, открытым в широкий простор
К морю с вершин синусоид зеленых, К дружеской, солнцем согретой душе, Мне освещавшей те южные ночи, Ярче, чем фары на верхнем шоссе.
Между друзей, обретенных случайно, Но узаконенных давностью лет, Многих ли я от себя отлучаю Ради свершения новых побед?
Долго я ездил по ссохшейся глине Скифских и римских враждебных дорог; Быстро ли движется время в пустыне, Жизни и смерти исполнившей срок?
Рыжее солнце и блеклые волны Крымский, как сахар, грызут известняк. Керченский берег протянут, лишенный Пресной воды, приютивший меня.
Жизнь ощущается здесь по контрасту С мрачным оскалом скалы и камней, В грудах развалин совместного царства Греческих муз и сарматских царей.
Это письмо - результат совмещенья Чувств, перепутавших все адреса. Вашего ждет, как и я, возвращенья, С тем, чтоб просыпать крупицы смущенья В чопорной встрече на четверть часа.
* * ♦
I
Пусть бег колес клубок пространства Кружит, разматывая вспять.
Я Вас в мечтах держу, как в трансе, И тайной связи не разнять.
210
Еще Вы делите со мной И знойный день и краткий вечер, Чтоб этой радостью одной Пейзаж, как солнцем, был подсвечен.
И дни окрашивались в цвет Дежурный платья - нынче синий, А завтра красный... В этом нет Ничьей навязчивой гордыни.
Я не хочу остановить
Ни ход колес, ни пульс секунды И много слез готов пролить, Чтоб миг прощальный не был трудным.
2
Жизнь введена в обычный круг, А рыжее лицо Тамани Далёко и не в состояньи Нас взять, как прежде, на испуг.
Тем лучше - бабьим летом гаслым Умрут задорные цветы
На сгибе шляпы, чтобы в нас их Контраст не выдал пустоты.
Вчерашний мир суров на вид - Весь в крыльях гроз на горизонте. Но здесь, где отчий дом, как зонтик Предупредительно раскрыт,
Не схватит нас шальных стихий Неутомимая погоня, Которой прыть лишь мне напомнит Вчера звучавшие стихи.
Суровой жизни под открытым И близким небом кончен срок, Но я храню, как пережиток, В себе тепла ее кусок.
211
И в ветке мальвы над полями Широкой шляпы брезжит мне Круг солнца, скрытого над нами В дыму тяжелом встречных дней.
♦ * ♦
Сегодня солнце есть на свете.
И этот бледно-желтый круг Стал, точно к нежной встрече, светел. Что если б я Вас встретил вдруг?
Вы начались при свете солнца, Оборвались с его лучом.
И лишь сожженной кожи бронза В глазах пылает горячо.
Теперь уже не веря в бытность Ни Вашу, ни совместных дней, Я только жду - не повторится ль Еше раз та ж игра теней.
Под бледным солнцем, в нарушенье Приемов мистики дурной, Вас, как дневное привиденье, Хочу вести перед собой.
♦ ♦ ♦
1
Поближе подойди и тронь
Блесной ножа - звенящим пеньем. Пошевели, как камень, боль, Лишь приглушенную терпеньем.
Дай по-кошачьи им играть - Словам из песни позабытой, То возбуждать, то обрывать Движенья губ полуоткрытых.
Погрузи в мои глаза Жаркий взгляд глубоко,
212
Чтобы сердцем осязать Твое сердце мог я.
Я эту песню ни на что
В разменах дня не променяю, Какое солнце б ни взошло, К нему ресниц не подымаю,
Но только слышу мертвый звук, Протяжно-душный, пенно-сгрунный, Кружа, плетущий, как паук, Смертельной сети дым ажурный.
Подойди ко мне и тронь Грозди губ губами, Лей в них горечь и огонь Струнными волнами.
2
Эту песню струнную Спой мне величаво. Жизнь мою безумную Не травит отрава.
Я не вижу ни людей, Ни звезды, ни птицы... Только ты моих огней Черная царица.
Спой про ночи полные Боли и дурмана, Сердца гул и полымя, Ярость и усталость.
Я твоих касаюсь губ - Гроздей чернокровных.
О, прошу тебя, забудь Холод утра дробный.
Пой свою безумную Песню в полный голос.
213
Струнную, сумбурную, Наглую, как молодость.
3
Любил ли очи голубые?
Теперь люблю я черные.
Те были в нежности слепые, А эти — непокорные.
Я их люблю, с тоскою строгой, Любовно одинокой;
Я стал таинственным пророком, Волхвом их и астрологом.
Они затеи колдовские
В глухие ночи чувствуют;
Их чернь тревожная в дневных Мне странствиях сопутствует.
Я им предсказываю сдачу В раскаяньи и скорби;
Зрачки их черные заплачут И выцветут до голуби.
Любил я очи голубые?
Теперь люблю ли черные?
Те были в нежности слепые, А эти — в непокорности.
♦ * ♦
Мы жить могли бы в разных странах Безвестно и разновременно.
Совсем нетрудно разминуться В эпохах и концах вселенной.
Но ставите Вы твердо ногу, Изысканно-завидной формы, На землю, где мне так условны И зыбки кажутся все нормы.
214
И платья цвет на Вас, как знамя Декларативной правды жизни, В движеньи он рождает пламя Уверенных и полных ритмов.
Те дни, что были и грядут, Для Вас без оговорок пусты. Вам проблеск жизни - абсолют, Незыблемый и вечно сущий.
Я ж, глядя в дальний день, ищу, Сквозь черную столетий ризу, Страну и времени мету, Где солнце помнит Элоизу.
Увы, потенциальный друг
Не заменим реальным. Жалость Рвет сердце болью от любви, Что в прошлом навсегда осталась.
* * ♦
Я вижу, Азия Вас держит Своей горячею рукой. О да, и я ей был привержен - Испил экзотики настой.
Но перейдя пески пустыни, Глаза о солнце исколов, Внял притче о беспутном сыне, Вернувшемся под отчий кров.
Не приобшил меня пространства Пустой, как вечность, кругозор К воловьей лени мусульманства. Был тяжек ветра вечный спор.
И толи вкуса нет к нирване, То ль обнищал индийский дух, — Трудны мне были истязанья Жары и тошно царство мух.
215
Лишь в Вас, как взрослые в ребенке Своих былых порывов взлет, Я узнаю тот голос тонкий, Что песни Азии поет.
САМОЛЕТ
Самолет над пустыней, как сокол, стоял. Плыли низко песчаные волны.
Он чуть вздрагивал, как океанский корабль, О пропеллер дробилось безмолвье.
Небо съежилось. Был в перспективе песок, Разорвавший кольцо горизонта.
Чувство этой победы, как огненный ток, Отдавалось в расширенных бронхах.
Воздух жаркий и плотный давил, как свинец, И в него было втиснуто сердце.
Как беспечных и легких стихий образец Мне пустыня представилась сверху.
Это было однажды, но снова сейчас Встала в памяти тень ощущенья Птичьих радостей, познанных мною в тот раз, Ослепивших непрочное зренье.
Это чудо, как все чудеса, - неспроста.
Жизнь в отчаяньи черпает силы,
И тогда открывается вновь высота, По которой я шел над пустыней.
* * ♦
Речной пейзаж, как ангел, светел, Его широкие каймы, Заросшие рядами ветел, Встают из серой синевы.
Как из кратера, из долины Цепями всходит хвойный лес,
216
Овраги в жилах красной глины Бросают в воду свой отвес.
Его прозрачность, филигранность В просгранство врезанных частей, Л ишь терпят легкую туманность У самых низких этажей -
Там, где река холстом продольным Лежит, как брошенный этюд, Схвативший в схеме произвольной Пейзажа многогранный труд.
* * *
Река организует мир.
Ее глубокая долина,
Как та старинная картина, Где фон развернут вглубь и вширь.
В пространный светлый угол зренья Попали церкви на холмах, Леса и тучи без движенья, В сквозных повисшие лучах.
Искусству новых композиций
Река, как мастер, предана,
И горизонт, в ущерб традиций, Теряет целостность звена.
Оно трещит на взлете поймы,
Как перекрученная нить, А взглядам радостно и больно Его разрывы находить.
Их увлекают в бесконечность Крутые линии дорог, Свою теряющие вещность У выхода за наш мирок.
217
♦ * ♦
Я окружен рекой исполненным пейзажем, Он заполняет весь широкий контур дня, И ширмы сумерек, и даже Пустые ночи без огня.
Мир обозримый стянут к котловине, Где днем вода, а ночью чернь на дне И где бурлит реки весенняя гордыня, Как глиняный котел на медленном огне.
Я этим всем живу, и для меня в Поречье До самой глубины души обострено Искусства и речных начал противоречье, И честной их борьбе решенья не дано.
Я спорю сам с собой и в этих вечных спорах Искусства дорожу я первенством во всем, Блуждая по канве среди речных узоров, Я жажду их связать поэзии ключом.
ПРОГУЛКА
Выходил я один на прогулку, Но прибавило солнце свечей, Чтобы я Вашу теплую руку Ощутил у себя на плече.
День встречал меня чуть утомленный И того не желающий знать, Что лишь след от колес пропыленных Был в итоге вчерашних утрат.
Дождик начисто смыл его ночью, Нивелируя памяти гладь, И я снова Вас вижу воочию И шагаю шагам Вашим в лад.
Мы идем по-над берегом светлым, Где трава еще не поднялась
218
И где проседь березы заметно Хвойной поросли трогает масть,
Где река непрозрачно-молочна, А долины глубокий откос Принимает к ней пригнанный точно И навеки построенный мост.
Фермы в камень легли ипостасью, И рассчитанный скупо металл Входит глаз удивляющей связью В сколотивший пейзаж материал.
Но сегодня чудес этих мало: Мы хотим, чтобы вечная жизнь, Расстилая нам путь, исполняла Беспокойного сердца каприз.
И поэтому легкое слово,
Что чуть слышно я Вам произнес, Повторить вся округа готова Стройным хором прибрежных берез.
Когда-нибудь мы будем жить еще раз, Придем сюда, не помня ни о чем, И необъятный теплый ветра шорох Поставит нас опять к лицу лицом.
И мы продолжим прежнюю беседу, Как будто кратким прерванную сном, А жизнь одержит новую победу Своей улыбкой, дружбой и весной.
Должны мы верить в жизни повторимость, Иначе не смириться, не стерпеть Того, как к горлу тяжко подкатилась Слеза разлуки, горькая, как смерть.
219
ПОРТРЕТ
Вы в ветре, оттянувшем волосы, Наметившем движенья трен, Распространившем чувство молодости За рамку кадра, по вселенной.
Вы в ветре, волосом волнующе Блестящем в воздухе. Вы в нем, Как в драпе, тело драпирующем Шерстящим, треплющим плащом.
Вы в ветре, совместившем линии, Лишившем четкости пейзаж, Накрывшем серой парусиной Шелка и мешковину трав.
Вы в ветре, кажущемся деревом, Огромным деревом с листвой, Заполнившей шерстящим шелестом Простор над Вашей головой.
* * ♦
Я деревом хочу расти у Вашей двери И веток, инкрустированных в небе, Приливами волненья и доверья Качать высоко занесенный гребень.
Бездушное надежней бытиё - Ему дана и окон желтых близость, 1де в темном отражении моем Движений Ваших тонет торопливость.
Так и стоять бы длинною ногой
Над пылью дней, и корни под фундамент Глубоко врыть, и приводить в покой Порывов зыбь, звенящую листами.
Не нужно сердца рвущегося мне И острой боли ущемленных нервов, Не лучше ль ветра голосом шуметь Губам припухшим, как пушинки вербы.
220
♦ ♦ *
Жить в этом газоубежище
Душ, в заповедном уюте
Мне не пришлось.
Значит жив еще
Страх караульный в строю том
Елочном или в озере
Птичьем.
Прозрачны и сглажены
Контуры облаков на заре,
Впивают краску и влажность.
И
от ворот небесных
К дому по желтой аллее
Нет
пути неуместным
Чувствам и настроеньям.
221
♦ ♦ *
Он дик, мой соловьиный сад, Овражист и болотист;
В нем бурелом косых преград Накуролесил пропасть.
Но здесь такие соловьи, Что ночью, как в оркестре, Подвинчивающем колки, От дробных звуков тесно*
Жизнь - далеко от наших мест. В виду - лишь кровли хижин, И кроме птичьих песен здесь Мы ничего не слышим.
Но мир стал мал и проходим Для волн глубоких страха, И я, конечно, не один Скрываю скорбь о крахе
Всей жизни, бредившей своим Тысячелетним счетом,
Всей веры, благовонный дым Развеявшей к высотам.
В последнем воине, что пал От длинной стали гунна, Рим принял юности удар В свой кожаный нагрудник.
Такую ли найду я смерть — Войны слепой свидетель, Конец которой и предмет Темны, как победитель?
О чем просить у новых дней, Скупых неумолимо, Не возлагая на людей Задач неисполнимых?
222
***
Дома, как и люди, идешь - не идешь: Длинной и рваной шеренгой;
Смотришь в лицо им, и каждый похож На близнецов желтостенных.
Редок искусством рожденный скупым Портик, и точно прохожий, Вырванный статью своей из толпы, Жадному взгляду дороже.
Жизнь суеверна, как старый еврей, - Бога таинственный призрак Рушит горбатые своды церквей В ризах их фресок и фризов.
А мы и не чувствуем смертной вины: Праздничный и своенравный Строй мастерства вековой старины Пал в инквизиторской травле.
Крепче стоит восемнадцатый век, Грубый, в доспехах суровых Древних канонов, подвигших к борьбе Строгий язык Казакова.
Рваный и пестрый ковер городов, Брошенный на косогоры, Шитый из разных времен лоскутов: Избы, вокзалы, соборы...
Нет в нашей жизни закона-пути, Нет городам нашим плана.
Будет вовеки искусство расти Жалким цветком из бурьяна.
МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
Наш город был бы пуст и жалок без Кремля, Да и вообще-то мы плохие горожане -
223
К ансамблю без чутья, пловцами без руля, Кружатся улицы и громоздятся зданья.
Кружатся и идут, как льдины в океан. Сжимаясь и толпясь без толку и порядка, Всем табором спеша к луке, где царский стан Своих кирпичных стен выводит профиль гладкий.
И Азия глядит из этих кирпичей.
На память приводя строительство Тимура, Чьи крепости в песках стоят еще мрачней, Как мертвые суда на зыби желто-бурой.
И будто крылья бурь забросили в леса, Промчав над глубиной небес, его громаду, Чтоб, время приглуша на башенных часах, Покоить в тишине, как спящую армаду.
Но в наши дни молчать и древнему оружью Как видно не дано, коль снова он в дозор Поставил часовых и, точно силу вражью Почувствовав, закрыл ворота на запор.
ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО
Нам, жителям леса, диктует он Красок и форм прихотливость узорных И принимает под свой закон Шатровый взлет над срубом церковным.
Высится храм сосной саженной, Ширит по низу корни и поросль — Таков собой Василий Блаженный, Грозного прошлого тихий сторож.
Тесно пригнана к клети клеть, Точно соты дикого улья.
Девять голов, у которых свистеть Ветру в крестах, как в ветвях, разгульно.
224
Так он стоит купины кустом Неопалимым, под солнцем площади, И у крыльца под большим крылом Тайну хранят нетленные мощи.
Странные люди мы перед ним — Льем из бетона греческий портик, И может быть, больше не создадим Искусства этого плоть от плоти.
♦ * ♦
Полжизни сброшено с костей, Ее другая половина Лежит, как снежная лавина На замершем у ног хребте.
Твои достоинства в одном:
Ты белое не красишь черным И силишься рукой холодной Нащупать искренность во всем.
Каких еще тебе ловитв
Желать от доли завершенной?
Зачем ты ускоряешь ритм Своих движений утомленных?
Взгляни назад и рассуди - Что мог бы ты переиначить, Когда бы снова впереди Твой путь лежал, еще не начат?
Смотри, как каждый ясен день, Оправдан каждый жест случайный. Нет, жизни ход первоначальный Ты повторил бы тенью в тень.
Не торопи свою судьбу,
А принимай с надеждой вечной, Когда минуты отдают Свой долг, скупой и скоротечный.
225
Из них вытапливая жизнь, Ты расплавляешь снег лавины - Уже последней половины, Безумно устремленной вниз.
♦ ♦ ♦
Мне в кромешно темной жизни Раз мелькнул блаженный лик, Но блаженный лик расплылся Мрак ночной ко мне приник.
В темноте оставшись, дети Надрывают дружно грудь, И чтоб страх свой пересилить, Песню громкую поют.
Я пою, дитя шальное, Ныне в этой полной тьме. И хоть песнь звучит недобро, С ней не так уж страшно мне.
♦ * ♦
Мне никуда нельзя ходить - Я или дома не застану Хозяев, или, как незваный Гость, дам им повод для обид.
Прохожей с нежностью и скорбью Осмелюсь ли в глаза взглянуть я, Как тотчас же она ускорит Движенья, жесткие как прутья.
Вся эта мне напасть за то лишь, Что избежав когтей уродства, Я дик и неприятен больше, Чем зверь, - по принципу несходства.
226
СПЕШКА
Стоит в тумане запах рвотный Бензина с дымом вперемешку. Отравленное, тушей мертвой, Всплывает солнце в утра спешке.
Дышу холодным перегаром^
Чтоб время обыграть на скорость.
Я сердца чувствую удары, И час бежит в азарте спора.
Я мало сплю и снов не вижу.
В угаре день, как сон зловещий.
Судьбою будущего брежу,
И древность золотом мне блещет.
Но нет ни выгоды в погоне,
Ни знанья в двустороннем зреньи.
Сознанье суетное тонет
В слезах и муках нетерпенья.
СКОРОСТЬ
Снова в пейзаже, пронизанном ветром, Серой дороги блестит полоса.
Жадность к пространства широким просветам Ширит машины кошачьи глаза.
Взгляд их дрожит от напора и спешки, Вызванной времени темпом шальным. Километража недвижные вешки Хлещут по нервам тупым и больным.
Туго дается высокая скорость,
Туго пульсирует крови нажим.
Только в лицо ударяющий волос Меряет, скоро ль проносится жизнь.
227
♦ * *
Снег сыплет в пасть холодной ночи Своим серебряным зерном. Затихнуть музыка не хочет, Волнуясь с нами об одном.
Все на одну и ту же тему Идет тревожных ритмов спор, И наша дрожь сигналит небу — Души таинственный прибор.
О чем мы спорим? Небо пусто. Земля под всходами снегов.
Но вечный двигатель искусства - С покоем спорящая кровь.
ИСКУССТВО
Жизнь - это щель в небытии. В отсутствии гуманной цели Мы колготимся в ойкумене Необычайными зверьми.
Есть что-то в нас, что примирить Нельзя с земным существованьем. Инстинкт иль дух - как ни зови, Он все проникнуть норовит За бесконечность, к той нирване,
Где нас не мучает любви Неполноценная природа. Мы в вечных поисках обхода Ее законов и разброда Ее желаний бредовых.
Чтоб эти муки утолить, Мы создали условный мир Движений, звуков, цвета, чувства И нарекли его искусством.
228
Искусство - правка бытия, Паллиатив любви бесплодной. Оно живуче и свободно, Как смертен и неволен я.
В нем нереальное — приметно. Оно обманный чудо-круг Бесплотно-явственных подруг, Любвеобильных беззаветно.
ДОРОГА
Над тем, что в мире не от бога, На чем печать времен и рук, Свободно царствует дорога, Пересекая зренья круг.
Она живет не одиноко, Собрав по способу реки Проселков узкие притоки И троп лесные родники.
Как в зеркале речном, окрестность В ее поверхности светла, Но в этом сходстве неуместна Прямолинейности стрела.
В век скоростей и расстояний Мы принимаем даль дорог, Как бесконечности урок Глазам, коснеющим в незнаньи;
Как грезу о дорогах Рима, Лучами проторивших мир От темно-розовой Пальмиры До зимних Скоттии квартир;
Как древнего труда величье, Пронесшего весь груз времен, Чтоб встретить дрожью истеричной Машины шелестящий гон.
229
Стихи военных лет. Немецкий плен
В Московском ополчении
***
Нам жизнь не в жизнь. Уже который месяц В глазах туман, разброд и дрожь в груди. Мы ждем каких-то экстренных известий, Надеемся на что-то впереди.
А впереди немецкие машины, Колеса кружат в темную жидель. Их дробный гул развеял и разбрызгал Всю нашу жизнь, как грязь и дребедень.
Неведенье становится все глубже.
Все связи порваны, мой космос расчленен, Родные голоса звучат в душе все глуше...
Что город мой, мои друзья и дом?
Судьба людей, которым вечно предан, Едва ль светлей, чем наши вечера.
Жду - не дождусь, и снова жду победы - Свиданья «завтра» с прерванным «вчера».
Смерть перед нами держит настежь двери, И кровь течет свободнее воды, Но мы упрямо в будущее верим;
Лёт этих дней, как вещих птиц, следим.
Сентябрь 1941
230
В лагерях военнопленных. Рославль. Дорога Брянск-Орел. Ноябрь 1941 — июнь 1943
* ♦ ♦
Конец чудовищной войны В тумане, как и вся округа. Я здесь в плену утратил друга И оторвался от семьи.
Голодные, чужие люди
Кишат вокруг глухой толпой. Колеблемой, как серый студень, Крикливой, хриплой и больной.
Короткий день нас утомляет, А сон тяжелый не бодрит. Лишь время прыткое летит. Как птица, прочь от страшной стаи
Пустых и темных дней войны... Летит на свет ночною птицей, На мирный свет, грозя разбиться О диск воинственной луны.
Ноябрь 1941
Так близко от родного дома И так безумно далеко, Что я не узнаю знакомых Осенне-серых облаков.
Плен утомителен и горек. Судьба не менее темна, Чем под огнем, и с нею в споре Лишь тени мира в бликах сна.
И наяву тоска по дому Тем безнадежней и острей,
231
Чем ближе к городу большому Разливы взрывов и огней,
Чем отдаленней канонада От тяжко раненых ушей И чем бледней родного взгляда Живая память на душе.
Ноябрь 1941
♦ ♦ ♦
На всем и на самой природе Печать разлада и войны. Нет, точно не было в заводе, Глухой осенней тишины.
Гремят немецкие машины, Фанера в окнах дребезжит. И на массивах мокрой глины Лес обезглавлен и раскрыт.
Мне посчастливилось, и трупов Я видел мало в дни войны. Но небо пасмурно и грубо Глядит, как смертник, с вышины,
Распространяя по округе Заупокойно-жесткий свет, В котором блекнет на дороге Авто раздробленный скелет.
Ноябрь 1941
* ♦ ♦
Все это странно и нелепо - Пришли откуда-то враги И необъятных нас и крепких Легко согнули в три дуги.
И от удара мы не в силах Опомниться. Круги в глазах.
232
Мы ищем близких, ищем милых, И на душе ледяный страх.
Все спуталось, и в общей мути Смерть ловит жертвы без труда, Ломая жизни тонкий прутик Над битым зеркалом пруда.
Ноябрь 1941
СТИХИ О РОССИИ (Стихи немецкого унтер-офицера Лаутербаха в переводе Л. Ельницкого)
1 Под небесами твоими Апокалипсис станет сбываться. На их просторах Из языков пожарищ Небывалые встанут органы, Пораженные собственным громом, И в безумьи уничтоженья Грянут на землю.
Несл ыханные крики Тогда откроют глубины И, далеко загребущая, Будет смерти рука Гору столетий долбить. Вслед за этим Явится зверь, Чтобы пожрать Дерзко глядящих детей своих. Зверь и смерть, Чреватые ядом, Себе ненавистные, Оставшись вдвоем, Уничтожат друг друга. За этим наступит ночь, В которой Земля будет шириться, Новому утру навстречу глядя, Уже без нас.
233
2 Земля тяжка. Мы, сыновья ее, таскаем эту тяжесть На наших круто согнутых плечах. Мать строгая, Нам отдает она -
С тем, чтобы вечно напрягались силы, - Всё, что хранит про нас, Лишь после злой борьбы, Порабощая нас в своих полях.
Едва лишь солнечному удается свету - Но никогда звезды счастливому теплу — Огонь зажечь у нас в глазах.
И блеск серебряный на синем горизонте Под утро, ранее, чем выйдет день, Сияет не для нас.
3
Идут холодные ветры, Шумя над пустыми полями. А вечером туманы Подымаются с влажных лугов. Гнется, дрожа в вечерней краске, Кустарник к реке, К зеркальной картине, Видит в ней себя еще раз, Как бы в огромном летнем свете, И блекнет, и никнет низко в ночь. И никогда больше это тело Из этих глубин воскреснуть не может. Велйки стоят белые горы туч, Тяжелые от видений и мыслей, Над далекими лесами, Зовут меня
И это тихое поле Из теснот неволи земной В округ вечного света. Если лето нас испечет И мы станем спелы, в мягкую осень Пусть тогда ветер Рыжие листья, крутя,
234
Тащит вдаль.
Велики стоят белые горы туч Выше нас в синеве.
4
Всегда ты молчала.
Сердце твое, в жестких когтях страданья, Немо и глухо.
Пропасть — между тобою и мной. Прячешься ты в платок, Красивая, как немногие, Созданная людям на радость - Поэтому все свои мысли И все свои горькие чувства Скрываешь от нас.
Но, однако, врата твоих жалостных глаз Открыты и день и ночь.
Я вошел в них, На поле развалин ступив Твоего молодого, но мертвого сердца. И теперь твое горе Стало моим.
Часто в ночном одиночестве Думаю я о тебе.
Ноябрь 1941
♦ ♦ ♦
Уже два месяца без писем, Без ласковых и грустных слов. Удастся ль памяти расчислить Тропу запутанных следов,
Ведущих от родного дома Сквозь смерти и безумья жуть, Чтоб снова почерком знакомым Связать разбитую семью?
Кто жив из нас, его сознанью Грозит неведенье и страх Невыносимых ожиданий В открытых Януса вратах.
235
Их створы распахнулись настежь, Событий взмахи в них сквозят. Листочки дней шуршат все чаще, Но будущего мрачен взгляд.
Ноябрь 1941
* ж *
Жизнь разбилась в момент объявленья войны - Больше думать не нужно об этом.
Надо свыкнуться с мыслью, что дни сочтены И окрашены мертвенным цветом.
Может быть, их теченье светлей для других, Не отмеченных общей судьбою
Нашей братской могилы — упорно живых Еле эмблемой жизнью больною.
Вместе мы перешли через смертный огонь.
Ныне топят нас темные воды
Плена, горького, точно несбыточный сон О друзьях и домашней свободе.
Может быть, им дано пережить этот срок,
Этот гибельно-бурный период,
В их числе уцелеет ли грустный пророк, Чтобы сделать из мук этих вывод?
Декабрь 1941
♦ ♦ ♦
Время впустую шумит вокруг, Меняют лицо пейзажи.
Люди и вещи плывут из рук - Пленная жизнь все та же.
Мы отчаялись в наших снах, В наших мечтах последних. Жесткие жилы дрожат в кистях, Падающих, как плети.
236
Мир, безнадежно-далекий мир, В котором все изверились, Изождались до последних сил, Жалкие, как звери,
Который для самых глухих сердец Стал символом самого нежного, — Он в шуме времени, как бубенец, Пропавший в разгуле снежном.
Декабрь 1941
Блок блеснул мне родными глазами, Как всегда очень близкий и грустный. Я давно распростился с друзьями, Даже с теми, каких наизусть знал.
Я и рад неожиданной встрече, Но тоска еще горше, чем раньше. Видно даже и дружба не лечит, А страшней и мучительней ранит.
То, что прежде искусством и славой, То, что было любовью и болью, - Всё войны беспощадной облавой По пустому разбросано полю.
Декабрь 1941
♦ ♦ ♦
Новый год приближается натиском быстрым, Точно храбрый, никем не задержанный враг, Но найдет ли он выход из тех передряг, Из которых, казалось бы, выход немыслим.
В шесть часов новогоднее утро подымет Ото сна, беспокойного, точно в бреду.
Выйдем в темь из избы, маскированной инеем, И шаги по вечернему следу пройдут.
237
Этим свяжется «завтра» с печальным «сегодня», Передавшим пароль в темно-синий рассвет, И война, перешедши порог новогодний, Загремит по холодным дорогам к Москве.
Чувство праздности нам этот раз недоступно, И всего тяжелее безделье и смех, Не звучащий естественно даже утех, В ком сознанье слепой безнадежности глухо.
Декабрь 1941
* ♦ *
Все это страшно лишь в сознаньи Всей суммы беспощадных сил, В цепи событий нескончаемой, В кругу безвременных могил.
Но смерть, которую боишься И в мыслях отгоняешь прочь, Как нечто малое случится, Придет, как сон законный в ночь.
Нам страшно потому, что мы Давно как мертвецы живые, Глядим в одни глаза чужие, От глаз родных отлучены.
В своей среде, в своей постели Нам было б легче умирать, Чем при участии метели И равнодушии солдат.
Январь 1942
* * *
Все ждать конца, все думать о возможности Какого-то исхода -
Такая скорбь как дань на нас наложена Уже пол года.
238
Мы столько времени впустую тратим На споры, пересуды,
Но с неизвестностью слепой не сладим... Ах, будь что будет.
...Что будет. Лишь бы успокоить душу, Не ждать, не думать.
А время быстро мелет, мнет и рушит На камне грубом.
Февраль 1942
♦ * *
Мороз кует, подняв трескучий молот, Ресницы иней искрами свербит, Душа застыла, брошенная в холод, И плоть, закованная в лед, болит.
Всё прочее спокойно и чудесно: Сплошные розоватые снега, В них потонувших хат поселок тесный, Неубранные, голые стога.
В избе тепло. А в городе не может Согреться сердце в этот горький миг. Быт городской лишь к миру расположен И не выносит бедственной войны.
Слепыми дырами разрушенные зданья Зияют, и бессмысленный оскал Железа рваного - пустое назиданье Прошедшему не верящим векам.
А здесь, где жизнь была скупей и мельче, Теперь и смерть к нам менее строга. Здесь гнев войны умеренней и легче, И маскируют всё глубокие снега.
Но тем, кто связан с довоенным прошлым Разбитых, почерневших кирпичей -
239
Тем равнодушье теплой жизни горше» Чем смерть вблизи разрушенных печей.
И вспоминая город наш загубленный, Я не могу поверить до конца Тому, что по местам моим излюбленным Нс опознать теперь его лица.
Февраль 1942
♦ ♦ ж
По такому, как сегодня, морозу Могут вскоре нас погнать, погубить. Неужели мы неполную долю Яду-холоду успели испить?
И в судьбе этой самое обидное То, что беды - все на нас одних, А другие спокойны и невинны, Как бы заколдованы от них.
И глядят недоуменно и косо На страдающих под боком людей, Точно все наши боли и слезы Им привиделись, приснились во сне
Февраль 1942
ж * Ж
Нам нет ни от кого пощады.
Война безумней прежних войн; С ней соревнуясь злом и ядом Морозы поддают огонь.
День ото дня они суровей, Одежда нас не бережет - Их пыл никто не обусловил Терпеньем соблюдать черед.
Война вооружает зиму, Зима войне ссужает зла,
240
И обе ждут, нетерпеливы, Нас возле каждого столба.
И если я ушел от сотен Смертоубийственных машин, Теперь зима с тройною злостью Их промах выправить спешит.
Февраль 1942
♦ * ♦
Я все мечтаю - встанет солнце И нам объявит некий голос: Война окончена. Окончен Труд смерти. Снят последний колос.
Последний труп упал на земл ю. Казалось бы, при этой вести Восторги небо поколеблют. Но радость не достигнет тверди.
Все сразу о войне забудут - Своя довлеет злоба дневи - И светом пасмурным и нудным Явленья мира солнце встретит.
Придут волненья и заботы, Смущающие наши будни - Нужда, работа, неохота...
Войны ж, как и зимы, не будет.
Февраль 1942
Я потерял ненадолго сознанье — Это прелюдия смерти была; Смерти, предшествуемой страданьем, Темной для глаз, как небесная мгла.
Я не почувствовал исчезновенья Жизни, сдавившей виски, как утар, - 241
Ринулся вниз в безудержном движеньи, Свет, колыхнувшийся резко, пропал.
Первое чувство вернувшейся жизни - Чувство досады за отнятый сон, Близкое к чувствам рабыни на тризне, Видевшей страшный обряд похорон.
Март 1942
Мы опять переходим на новое место, Только-только привыкнув к деревне и людям, Точно в этом краю неуютно и тесно, И добра никакого мы тут не добудем.
К долгим странствиям наш человек непривычен, Тяготеет душа к постоянству и к дому.
А война выгоняет и в ночь из-под крыши И уводит в снега по пути столбовому.
Так из месяца в месяц, и лето и зиму, В этом страшном году я хожу по России. Недалёко отсюда мой город любимый, Дом, который, быть может, сожгли и разбили.
И меня и других, нас ведет неизвестность, Приучая не думать о завтрашних бедах, Равнодушная к каждому новому месту, К разговорам людей о боях и победах.
Март 1942
* ★ ♦
Мне это странно в высшей степени - Сквозь пушек отдаленный рев, Через надрывный трепет времени Ты пробиваешься, любовь.
Ты пробиваешься, не чувствуя Своей нелепости в кругу,
242
Влекомой к случаю от случая, Военной жизни на бегу;
Ты вводишь всю провинциалыцину Дурных волнений за собой
В ту грудь, где сердце, как сигнальщик, Бьет перебоями отбой.
Июль 1942
* ♦ *
Едва прошло три дня, как Вы уже далеко Остались позади на сотни верст, А я лечу вперед огромною дорогой, Протоптанной войной. Ни жив, ни мертв,
Как дым, принадлежа стихии вихря, Который шевелит солому деревень. Столпотворение над Вашим садом стихло, А надо мной кружит еще, как в первый день.
Мне не почувствовать одервененья крыльев, Паденья на бегу, до общего конца.
Вы скажете друзьям, что мы здесь с Вами жили, Что я сходил с коня у этого крыльца.
Август 1942
«♦*
Я счастливей всех, кто счастлив В этот несчастливый год, В этот год ненастоящий, Год, как ломкий лед.
Он нас свел, сдружил и сладил, С тем, чтоб завтра разлучить; Чтобы дружбы нашей ради Встреч немыслимую радость Часу не продлить.
Всех спокойней, в нетерпеньи Казни росстаней избыть,
243
Я счастливей всех уменьем Дружбы легкого именья На пути не обронить.
Я ношу его с собою, Как нательный крест, Перед встречною судьбой. С этой ношей нерасстанной, В миг предчувствием незванный, Глаз моих померкнет блеск.
Январь 1943
* ♦ ♦
Вы не приехали. Так и должно быть, Так полагается в грозном Мире батальном, времени темном, Сердце, чувствительном к просьбам.
Вы не приехали. Вы не приехали. Жду и, мне чудилось, вижу...
Вехи дорогой. Служит помехой Страх нашим встречам коротким.
Слезы сухие. Дробные мысли.
Так полагается в тусклом Нашем бытье, в этой жалостной жизни И в ожиданьи напрасном.
Март 1943
ОДИНОЧЕСТВО
Держу мою руку в другой руке И ощущаю ее как женскую.
Жизнь без ласки, на жестком пайке Одиночества, санкционирует эту замену.
При том нисколько не удивляет легкость И прямолинейность самообмана, Питающегося жалкими крохами, Завалявшимися в карманах
244
Чувств моих, выгоревших, как шинель, На зное и холоде испытаний. Так во всем. И только во мне Черствость желаний переживает
Праздники свои и требы,
Подчиненные монашескому чину плена, И я нахожу в себе, что бы не было, Проблески радостей и огорчений,
Слагавших прежде мой жизненный лад, Но поглощенных давно уже полностью, Без надежды на срок и возраст, Смерти тотальностью и безусловностью.
Март 1943
♦ ♦ *
Сознанье ничтожества так глубоко Во мне коренилось за два эти года, Что я не ценю мою жизнь ни во что - Курино-слепую с зари до захода.
Кощеева сила - в курином яйце.
Кощеева гордость во мне измельчала, Изверилась в вере и в скором конце Событий, стремительно-бурных сначала.
И все же мечтают дожить-пережить Какие-то цепкие корни инстинкта - Дойти, доползти до меты, до межи, Когда-нибудь ля гущей — тоньше мизинца,
Но глубже, чем самый глубокий провал, Бездонная щель в расщепленном сознаньи, Которой разделится день пополам. Как тонкая жердь, перебитая сталью, —
До этой межи, как предел-горизонт, Назад отступающей под наступленьем Напрасных и еле живых вожделений, Скребущих, упрямо ползущих вперед.
Апрель 1943
245
Земля вторично из-под снега Выходит под звездой войны, И мерзнущие всходы хлеба Изжелта-блсдны и больны.
Мы, подданные смерти, просим Вторую зиму и весну
О том, чтобы хоть в третью осень Над нами тихий свет блеснул -
Блаженным блеском, как бальзамом, Глаза больные пронизал, Чтобы не боле и не даром Цвет нашей жизни вымерзал;
Чтобы над нашею могилой Стал, как над полем колос, мир И мы не даром растворили Своею кровью желчь земли.
Апрель 1943
* * *
Если б я родился женщиной, Мне бы легче доставались Эти дни и я бы меньше Принял зол и истязаний;
Я бы с большей человечностью Встретил смертные удары, И во мне безумья свечи Свой огонь не колебали б.
Если б я родился женщиной, Не бродил бы я затерян
В беспросветной тьме военщины, В непроглядных дебрях плена.
К жизни женственной и в мирные Дни моя тянулась двойственность,
246
Потому ли, что невиннее Путь ее и ритм спокойнее,
Потому ль, что грубо-мужеским Я не защищен закалом И в блаженно-горькой юности Мне по-девичьи страдалось.
Апрель 1943
* ♦ *
Я объявил Вас не шутя Колдуньей здешней и вещуньей, Но время, бедствия терпя, Меня карает за кощунство.
Я Вас спросил, как в старину Жрец консультировал Сивиллу: «Не можете ли Вы войну Остановить своею силой?»
И Вы серьезно, как бы вняв Трагичности безумной просьбы, Сказали: «Нет, мне не унять Разлива пламени и крови...»
Я с девочкою лет пяти Сдружился у шоссейной будки. Однажды я ее спросил Без самой легкой тени шутки:
«Когда окончится война?»
Она раздумно, как большая, Мне отвечала: «Я не знаю», С улыбкой глядя на меня...
Нас подчиняют суеверью Бессилие и неизвестность.
Я в силу женскую, как в крепость, Доныне верил, а теперь мне
247
Защиты и ответа негде
Искать перед грозовым страхом.
Как Лир, под возмущенным небом Шаманить буду я и плакать
О том, что перебой сердец Не заглушит моторов трепет
И нервов срыв, как искра смерти, Не тронет взрывчатых веществ.
Май 1943
♦ * ♦
Письмо. Задаток новой жизни.
Остаток ущемленных прав Общенья дружеского. В письмах Воскреснем, забытье поправ.
Так верить хочется. Пусть даже На то надежд серьезных нет, Что полевая почта свяжет Нас с Вами, мой корреспондент;
Пусть это безнадежно-точный Потери знак всех мет и вех;
Пусть человек, лишенный почты, В глазах своих — не человек.
Июнь 1943
♦ * *
Ученым надлежало бы постичь
Их горькую ответственность за войны, Но эти люди девственно-спокойны И за собой не чувствуют вины.
А если Блерио не виноват
В кошмарах нынешних бомбардировок, То ненавистен мне его собрат - Жесткоголовый, тупо-вероломный,
248
Низведший и Дедалову мечту До уровня орудия убийства... Я пороху науке не прощу - Пусть мне моя наивность не простится.
Июнь 1943
В тылу у немцев. Бобруйск. Минск. Берлин. 1943-1945
МАТЕРИ
Я только о тебе и думаю, И мысли волокно, как нить, Я за собой тяну из дома Через пространства лабиринт.
Всё дальше время на махине Колес меня уносит прочь. Тоньшает наша пуповина, Но держит, как и прежде, прочно.
Ты тоже тянешь от меня Клубок надежды и отчаянья. И обо мне, быть может, знаешь Ты нечто большее, чем я.
Я только пуповину знаю. И в этом знаньи не собьет Меня ни время, нистреканье Все дальше скачущих колес.
Я ощущаю напряженье
Твоей надежды и любви И существую в них как миф - Апокриф круга Одиссея.
249
♦ * ♦
Я узнаю тебя в себе.
Из зеркала, в лице обветренном Мне глаз твоих ответный блеск Светло в глазах моих отсвечивает.
Я, глядя на себя, держу Тебя руками цепкой памяти, Как в заколдованном кругу, В мелькайьи близости и дальности.
Но отделиться от тебя
И твердо противопоставить Себя тебе я не могу
В чаду восторженном, в плену, В зеркально-бредовом капкане.
♦ ♦ ♦
Последние цветы качает на ветру.
Сходил бы в лес - нельзя, там партизаны. Любуюсь издали. Осина, как петух, Атравы и кусты — хвосты фазаньи.
В лесу - кто б ни был в нем, он перед ветром тих, - Лишь дерево гудит, разбрызгав краски.
Уснувшие под пулеметный тик, Сегодня мы - в покое кратком.
Расстрелянных вчера - забыли в тот же день. Мы спели, выпили, о них не думав. Осенне-длинные настали вечера — Без девок. Жженых бревен чернь, Не тронув глаз, глядит беззубо.
Здесь все же можно жить. И можно умереть. Не страшно. Наплевать, что партизаны.
Мутнеет. Ветер продолжает стыть.
Пусть бьют и тех и наших без пощады.
Октябрь 1943
250
ДОРОГИ войны
Третий год по дорогам безвестным блуждаю, Километры их меряю жизнью своей.
Я привык к этим жилам пространства бескрайним, По которым течет, точно кровь, наша жизнь.
И сегодняшним утром, бесснежно-декабрьским, Все окрасившим в буро-сырые тона, Между дымом земли и приниженно рабским Мраком неба — одна лишь дорога видна:
Так пустынно и мертвенно, будто столетья Не ходили, не ездили, камень застыл;
В этом ложном сознаньи готов умереть я, Но движеньем предчувствий полны тайники.
И подумать, что этой безлюдною трассой, Где, как бог до начала творенья, стою, Завтра двинется, в дребезге и беспорядке, Ошалелой войны бесконечный маршрут.
Декабрь 1943
♦ * *
На окне расцвела на погибель герань, Вертикальную выкрасив плоскость Света, мутно-жёлтого, как киноэкран, Ветер ставни в нем бьет и полощет.
Мы боимся всего, чем безумная жизнь
Заявляет свою непрестанность:
На погибель - любовь, на погибель - цветы, И минутна нежданная радость.
А богатство герани стоцветно красно, Теплотворно на фоне холодном Неба малого, как на экране кино, И светло, как огонь первородный.
251
НЕМЕЦКИЕ ЗВЕРСТВА
1
Рассказы об ужасах просты, Бесхитростны, невероятны: Убили детей и взрослых, Спаслись толькоте, кто спрятался.
Да полно, было ли это?
Лица рассказчиков ясны, Словно они не свидетельствуют, А сочиняют сказки.
Слушаешь и не веришь — Как отвергаешь внутренне Басни и прибаутки О злодеяньях цезарей,
О подвигах Александра, Аттилы и Наполеона - Прагматические истории Древних веков и новых;
Так и потомки-ученые, Читая о нашем времени, Будучи мирны и скромны, Ушам своим не поверят.
2
Юношей всевидящим и прытким Я не верил в плотскую любовь.
Знал о ней, но внутренне не принял — Дико мне казалось и смешно.
И теперь я многому не верю Из того, что вижу наяву, Злодеяний жутко-беспримерных Духом и сознаньем не приму.
Пусть они в беспамятную вечность Отойдут, как невидаль и бред,
252
Чтобы злу повадно было меньше Возлагать надежды на эффект.
3
На правом берегу Днепра, Как на чужбине, неуютно. Улики плена с глаз убрав, В лицо заглянешьлюдям — жутко.
Они молчат. Глядят, прикрыв
Свою звериную тревогу Апатией. И дети их Отцов не веселей намного.
Я угадал - их мучит мысль О поголовном истребленьи Врагом - а каждый хочет жить Инстинктом и мечтой о мщеньи.
МЕРТВЫЙ ДРУГ
В той бане, где повесился поляк, Мелькает свет и манит дружелюбно. Шагая мимо, думаю о вас И кланяюсь приветливому трупу.
О ничего, мой милый контролер, Я не боюсь и от твоей не прячусь Благой судьбы: упасть, как метеор, Сгореть, во тьме повиснув необъятной.
Шагая мимо, думаю о вас, О том, что буду до последней капли Моей души держать высокий класс Живучести, бравируя поляком.
Я вас люблю, прибежище мое, Всей болью жизни непосильно трудной И отдаю вам сердца колотьё, Клокочущее в жилах-трубах.
253
А моего поляка огонек Уютно смотрит на меня из бани. Не то зовет, не то блогословляет На колченогий и на крестный ход.
Качайся, друг, меж небом и землей! Мы связаны нерасторжимым пактом. Шутя с тобою, как с самим собой, Я мимо прохожу своим порядком.
Быть может, отшучусь и отверчусь, И вам моя улыбка не изменит - В глухой борьбе бесчувствия и чувств Нас мертвый друг еще не раз поддержит.
НА ШОССЕЙНОЙ ДОРОГЕ
В кюветах трупы лошадей.
Der miide Wanderer!1 С раздутым, Как бочка, брюхом. Смотрят вверх Копыта сбитые. Капут им.
Я помню, так лежали люди, Лежали мы, по сторонам Дороги, с животом раздутым, С лицом, откинутым назад.
А позади и впереди
Одна шоссейная дорога.
Морозный воздух. Руки дрогнут И дрожь холодная внутри.
По сторонам, лежали где мы, За время выросли кресты И на крестах стальные шлемы, Как в фильме противовоенном.
Устали кони от войны, А люди наперед устали,
1 Усталый путник.
254
И путь, отмеченный крестами, Им отдых истинный сулит.
ИЗВЕРЖЕНИЕ ВЕЗУВИЯ 1944 ГОДА
От потрясений и безумия,
От варварски жестоких зверств, Приходит в действие Везувия Неугасающая месть.
Она свидетельствует явно, Что чаша гнева - через край. И стынет сукровицей магма На обескровленной Италии.
Но мироощущенье Плиния Так цепко держится во мне, Что не страшны ни утопление В дожде золы, ни град камней,
Ни падающие колонны Помпеи, в грохоте стихий, Ни над вулканом распаленным Кроваво-черные столбы.
Инстинкт познанья-любопытства Во мне ничем не зачеркнуть, И до последней жизни искры Он познает явлений суть.
Март 1944
* ♦ *
Зачем я не умер на фронте, Зачем не поверил смерти, Остановившей стольких, Со мной отступавших вместе.
Мы шли вереницей нестройной, Бездушной и изможденной.
255
Безвольной и обезноженной. Шли безоглядно, как лошади.
Ташились мы и не знали, Запуганные обстрелами. Что вот оно, перед нами - Единственное спасение.
Чего ж мы не позавидуем Тем, чьи души избавлены Судьбою от унижения Существования краденого?
Что ж мы им не завидуем? Разве не легче исчезнуть — Развеяться в дыме взрывов, Чем этот страх и ответственность Передо всеми убийствами, Передо всеми бесстыдствами Дикого нашего времени?
Апрель 1944
ДАЕШЬ БЕРЛИН
Чует ли сердце твое родимое, Где я, куда меня ветер занес? Верит ли, верит еще, что жив я В террористическом лёте гроз?
Жив или нет в фугасном рвении Ветра, в тропическом ливне огней, В городе, насмерть разбитом в щебень, В чуждой своею листвою земле?
Я пролетел колесом через Польшу, Поцеловав ее лик налету.
Мало. Берлин даешь, и ни больше Ни меньше, как липы в позднем цвету.
256
Не понимаю, как могут жители Рваное тело улиц топтать.
Если б таким я увидел Питер, Умер бы, зрелища не приняв.
Июль 1944
♦ ♦ *
Я получил немецкой дружбы Военно-скудный рацион. Должно быть это так и нужно Моей неволи по закону.
Я не ропщу. Не претендую На то, на что претендовать Возможно было бы лишь в круге Духовно-кровного родства.
Обидно все же. Благородства И униженья пьедестал Так подымается высоко, Что ни за что не дотянуться Нам к безусловности плодам.
Август 1944
Поэмы, написанные в плену
ПОДРУГИ
7. Посвящение
От жизни отрешенный полностью, Как фильм, кручу воспоминанье. И перед прошлым, как над пропастью, Кружится мутное сознанье.
257
Оно восходит и заходит.
Как солнце теплой желтой осенью,
Оно встает из преисподней,
Как призрак дружественно-родственный.
Они манят меня и радуют - Мои таинственные связи С потусторонним краем радуги, Повисшей над грозой и грязью.
Бои идут в стенах Царицына, И грохот фронта еле слышен.
Мои подруги разнолицые
Со мной и под одною крышей.
Они сошлись в момент ответственный, Как для военного парада, И их святая непосредственность Неволит к беззаветной правде.
Мои подруги дружелюбные, Мое имущество и слава — Препятствие непереступное Для опалившей землю лавы;
Единственная в мире крепость, Таинственное убежище, Поставленное чистым склепом Душе, хранящей свет и свежесть.
А ты, живая, - будь свидетелем, Доброжелательным участником Большого этого совета, В его неколебимом счастье.
2. Вступление
Я жил среди моих подруг,
Как Ваши яблони в саду, В безветрии и на виду, Ветвей руками взявшись в круг.
258
Я жил в семье моих подруг Горячей и суровой жизнью. Мы обыденщиной, как грязью, Не замарали дружных рук.
День был для нас коротким, трудным. Мы изощряли мышцы чувств, Чтобы лучам искусства лунным Не дать под солнцем потонуть.
Мы тайной тешились свободой, Которая, как Блоку, нам Несла свой редко чтимый кодекс И строгий такт к чужим правам.
Мы исповедовали нежность, Самопожертвованье, грусть И превозмочь старались ревность, Опустошающую грудь.
Открытая для взглядов дружба, Без оговорок и преград, Связала нас, несхожих, туже И крепче, чем семья и брак.
Все это познано. Прославить
Наш опыт для чужих кругов Мне только замкнутость мешает И к пропаганде нелюбовь.
К тому же это знанье кровью И боли корью вышло мне. Покой рождается в тревоге И свет любви - в ее огне.
Но как ни дорого оплачен
Был выбор вольного родства - Моих родных я сам назначил, Их выстрадал и воспитал.
И в том, что мы не раздружились С подругами — и дух и плоть
259
Сквозь строгий строй прогнав - в той были, Как в сказке, - мудрости щепоть.
...Искусство наше фрагментарно - Больших не подымает форм.
Мне не по силам и подавно Симфонии стозевный хор.
Этюд. Скупой портрет на фоне Условном. Бедный интерьер. Но мы и в малых формах сломим Лед наших трех привычных мер.
За обезумевшим Пикассо Уйдем в чужой и новый мир, Где профиль режет контур фаса И сломан времени ранжир.
Портрет подруг. В нем ценна близость, В знакомых данная чертах, Чудесной древней Элоизы И новых Элоиз в веках.
Он в преходящем ищет вечность, В неверных бликах - горний свет. Таким я вижу узкоплечий И чистый по тонам портрет.
3. Оля
Мы познакомились с нею в Узском.
Я был юн и еще несмышлен.
А Оля приехала взрослая, умная, Озорная и легче табачного воздуха, В котором была она как бы взвешена.
Прошли бы недели, покуда я сам Придал бы значенье ее появленью. Но она схватила меня за шиворот, Как щенка (понимая, что это не больно), И подружила насильно с собой.
260
Все же почти лишь перед отъездом Я сообразил, что она красавица. Ловко простая, как дикий зверёк. И это при самой дамской внешности, В платьях, как на портретах Ван-Дейка.
Оля ни на кого не похожа.
Возможно, что раньше такие женщины Жили где-нибудь в старой Франции, А, может быть, не жили и нигде, Ибо русские женщины самые лучшие.
Поэтому умные иностранцы
Женятся и теперь, как встарь, на русских, И наши интеллектуальные царевны Несут тончайшую человечность Далеко за пределы их дикой родины.
Олины медно-ржавые волосы, Зачесанные жгутом, с прямым пробором, Стали чернеть и седеть на крыльях, Одевая узкий овал лица, Как осенний кустарник — овраги в Узском.
Это был необычайный пейзаж, До сих пор как живой и твердо-памятный: Сизый вверху, рыжий посередине, Ржаво-зеленый внизу. Эти краски Венчала белая пятиглавая церковь,
Стройная, с ржаво-зелеными маковками, Одна, как в диком скиту, на свету. Среди плоскостей беспокойных оврагов - Дом в величавых колоннах и чудо-аллея лиственниц Существовали, невидные издали, только для нас.
Оля, как церковь высокая, белая, легкая, Видная всем и приятная
Даже самым простым — своим колдовством и здоровьем, Спрятанным в узких плечах,
В исчезающе-тонкой талии, в длинных руках и ногах.
261
Она, как шальная лисица,
С носом, упрятанным в лисий большой воротник. Носилась со мной по оврагам, Печатая в красной ноябрьской глине Узкою пядью следы.
Сухость и легкость движений, Как у сучьев безлиственных в лёте По легкому ветру, как хвои Желто-зеленой мельканье В неба пролете бесцветном.
А в зале - шестнадцатый век, Кружева и тугие, темные ткани. Медицейская резкость и строгость, Приглушенный французский язык, Суховатая женственность. Легкая опухоль век.
Мы гуляли и дни и ночи одни.
Говорили преимущественно об искусстве. Целовались нечаянно и как будто грубо - Преждевременно, как представлялось мне.
Оля - женщина живописец, г'
Рвущийся стать полноценным художником, Смело берущийся за дело, Но, как вижу теперь, понимала в нем Много и тонко она лишь в теории.
Мыс ней расстались любовно-дружески.
Я - очарованно-огорошенный, Она — не знаю, какие чувства Увезла с собой в ненаглядный Питер, Тогда мне казавшийся мрачным и скучным.
Не помню, условились ли о переписке - Она началась исподволь - открытками.
Оля писала мужски выразительно, Короткими, острыми, меткими фразами. Я дрожал над каждым письмом.
262
Весной я приехал для продолжения Романа, начатого осенью.
Оля ждала меня. Прямо с поезда Я попал, неумытый, в ее объятия...
Любовь оказалась умней и строже нас,
Она испугалась этого натиска, И мы отступили, разочарованные, Склонные винить один другого - Равно непонимающе виноватого И равно неповинного ни в чем.
Дружба дрогнула, как перед бегством. Если бы мы на том и расстались, Она бы не выдержала удара.
Полубессознательно это почувствовав, Мы поспешили ей оба на выручку.
Три дня просидели мы на диване,
Как на лекции - о французской революции.
Оля слушала легко и внимательно.
Радуясь неожиданному богатству лекарства, Свалившемуся необычайно кстати.
Сумбурная повесть о бурных днях, Расцвеченная цитатами из Пер Дюшена, Сгладила внутренних бурь сумбур.
Вечерами, гладко переходящими в ночи, Мы глядели с балкона в сторону гавани...
В поезде, гулко скакавшем в Москву,
Я не спал, возбужденно-встревоженный, смутный. А по приезде проплакал два дня И вдень писал по десятку писем, Совершенно противоречивого содержания.
Это была, наконец, любовь -
Крепкая, горькая и горячая, как слезы.
Чувство отрыва с мясом и кровью Протянулось сквозь гарный и душный воздух Разделившего нас полотна-пространства.
263
Успокоился я с трудом на одном - Что во мне этот свет нерушим и незыблем. На посылку ей «Исповеди» Руссо Оля ответила: «Читая, я думала о том, Как это похоже на Вас, Левушка».
У Оли два сына. Отцом их, Скорее, была она, нежели матерью. Она их вскормила тяжелым трудом И упорством самостоятельной женщины, Как с собой, обращаясь с ними по-взрослому.
Старший взрос у меня на глазах.
Его любили и неусердно учили.
В остальном он был совершенно свободен, И от него требовалось не более, Чем от любого товарища по общежитью.
Когда он вырос и стал обыкновенным, Мать потеряла к нему любовь - Он стал ей как и другие родственники. Младший воспитывался на тех же правилах — Обласканно-вольный в одиноких затеях.
У Оли много близких друзей.
Ревность к ним была бы нелепа. Случалось, ее ревновали ко мне, Но она умело (а то и свирепо) Нейтрализовала в других эту нервную болезнь.
Друзья ее, если не становились Моими, - все же мне были необходимы Как ее окружение - то, без чего Она не была бы самой собою, А я бы — лишь одним из поклонников.
Мы виделись редко и мало писали, Но встречались — будто расстались вчера. Речь начиналась с того полуслова, Которое, силой свистка поездного, Отбрасывало к Питеру или к Москве.
264
Мы вместе ходили по двум городам. Дружба росла в музеях, на улицах, В театрах, в битком набитом трамвае. Движенье вещей в ее течении Колебалось и пенилось под натиском радости.
Переходя из пейзажа в пейзаж, С толпой изливаясь из улицы в улицу Единственного в России города, Дружба крепла пропорционально Нарастанью чувства архитектуры.
Среди этих блужданий встало сознанье Слитности зодчества, времени и природы. Колонны, арки и ракурсы зданий Врезаны в небо, вписаны в воздух И особенно четки в присутствии Оли.
Она занимает твердое место В комплексе Марсова поля, Миллионной, Невы и Петра, возносящего к небу Колонны и шпили, кресты и огни. Я вижу ее и себя в этом круге.
И вижу и слышу, как ухают бомбы У нас, или, может быть, там на Неве, Где блещут коня неживые копыта И страшен поверженный всадник, Убитый ужасной зимой, небывалой войной.
Те улицы. Зданий линялая краска. Линий мертвенных строгость и прямь. Пустота. Город умер давно. Вместе с миром и Блоком. Мы его пережиток. Ужасные похороны С опозданьем вершатся на наших глазах...
Вижу ее и в московском Багдаде, На обочинах пыльных бульваров, В белом платье на флёре листвы пропыленной, Среди разноэтажной игры кирпича, В прихотливо-восточном плетении улиц.
265
Мы гуляли. Мы плыли за пылью и гарью Мимо башен блаженных. Орлы-петухи С них глядели на мутно-молочную воду И на серый асфальт, залитой в тупики. Я водил ее. Оля в Москве отдыхала.
Изо всех перипетий нашей любви Часы, проведенные в зале Матисса, В музее новых французских картин, Самая непередаваемо сладкая, Вечно торжественная в сознаньи.
Слепящая яркость этих панно, Диких в своей простоте и свободе От всего постороннего искусству, Нас заключала в круг «Пляски» и «Хора», Влившихся в их первобытные ритмы.
И я уверен, что мы гармонировали Настолько с этим сиянием красок, Что публика, проходившая по залу И щурившая в раздражении веки, Нас от Матисса не отделяла.
Последний раз, в разрыве войн, Я был у Оли в растерянном Питере. Мы не заметили в небе грозы. Довлела нам наша благая злоба. Лишь ею оба мы были заняты.
Я ехал ради ее работ.
Увы, в них не было чувства труда, Ни легких сил, ни жертв через силу, Вливающих свет в сухие краски. Картины ее мне совсем не понравились.
Это была тенденция к классике, В пику декоративности и стилизации, Свойственная не только Оле.
«То, что вы ищете, сделал когда-то Энгр. Однажды найденное - не ищут».
266
Я причинил ей большую боль Тем, что назвал легковесно-поверхностным Претенциозный и школьный стиль, Торжествовавший в ее сознаньи, Но не оправданный мастерством.
Пронесть эту дерзость через любовь, Через жалость и гордость, через тщеславье, Через страх перед Олиным взглядом и словом - Пронесть-протащить неподатливо грузные, Неуклюжие, как неживые, слова.
Смею ли я, прикрываясь дружбой, Хулить и бесславить с первого взгляда То, над чем она билась годы, Урывая у сна и черной работы Минуты радостного творчества?
Был этот миг дик, как паденье.
Другом, который не раздружил
С другом своим, дружелюбье несущим, В полном презреньи к зренью кривому, - Другом бесстрашным стать нелегко.
Оля, хоть я и не убедил ее,
Слез не скрывая огромной обиды, Матерински и героически Выпила жгучесть моей жестокости, Моей безжалостно-нежной искренности.
После этой рискованной пробы, Когда мы еще короче сблизились, Когда не стало последних утаек, - Ничего, кроме чистой чести дружбы, Поглотила война и ее и меня.
Так разомкнулся круг наших рук, Как если бы их пересекла смерть... Слава тебе, непрестанное время, Сведшее нас и несшее волю
Далеких глаз к беспредельной близости.
267
Если нам предстоит еще встретиться, Мы поведем разговоре полуслова, Заглушенного воем войны.
Если же нет, то и перед смертью, Видите, я не лишился света, Этого яркого блеска дневного, Нам просиявшего солнцем двойным.
4. Тамара и Маруся
Бесчувственное ничегонеделанье.
Тупое ожидание налета. Ни на чем нельзя сосредоточиться В мыслях безотчетно-перелетных.
Слух насторожен. Автоматически Ловит шумы и классифицирует: Поезд... на шоссе машина... росплески Гула монотонного в эфире...
Самолет. И сердце, съежившись, Ждет удара. Звук, как парус, тает, А сознанье взорвано, размножено, Мелкие осколки рассевая.
В эти ночи то, что по отдельности Ищешь в памяти, - приходит разом; Возникает и как спицы вертится, Вихрем совмещенные для глаза.
Я искал Тамару и событий С нею связанных. Ее пейзажей, Жестов — то, чему не позабыться, Что подробно память перескажет.
Но зачем-то нету ей свободы. Тянут памяти тяжелой сгустки, Связанные с нею эпизоды Вместе с отнесенными к Марусе.
268
За широким, смуглым, то спокойным, То восторженным лицом Тамары Возникает сумрачно-нервозный Лик, Тамариному друг - не пара.
Не разнять мне их в тревожной памяти — Их февральский ветер жмет друг к другу. Так и рвется он меня заставить Двух в одну преобразить подругу.
Мы в него все это время вслушивались.
Он тревожно внятен всем троим.
Может быть и впрямь они подружатся - Я давно об этом их просил.
Правда, я очень просил ее. «Глупо», -
Отвечала Маруся, плакала и отказывалась.
Тамара готова была протянуть ей руку, Впрочем, тоже без великого энтузиазма.
И, так как обе они расстроили Мои обидно-нелепые замыслы, Трудно сладить с ними и воле, Отдергивающей спущенный ими занавес
Передо мной, играющим в открытую,
В одиночестве или на публике, Искренность подымающим под самую крышу, Как вывеску, видную спешащим и прогуливающимся.
Маруся маленькая, худая, длиннолоконная,
Очень упрямая в своих действиях, Приученная к кропотливой археологии, С жесткими сборками у губ застенчивых.
Она в обиде в мире на многое,
Хотя обижаться, собственно, не на что.
Любит дальних и скучных родственников И сурово судит измены.
269
Мы бы, конечно, не подружились,
Не свяжи нас совместный и дружный труд; Подчиняясь его рутине и силе, Близость сама напросилась в круг.
Маруся, несмотря на привязанности и привязчивость, Была человек внутренне одинокий.
Я же всегда себя чувствовал связанным Улыбкой и радостью с очень многими.
Порывами ревности и тоски
Она наказывала меня безжалостно;
Однажды уничтожила мои стихи
И статью, которую мы вместе писали.
Тамара оставалась ей непонятна И непосильна. А так бы просто, Казалось, смыть эти темные пятна С диска дней, укатившихся в прошлое.
Тамарины круглые луны-глаза
Смотрели на мир задорно-встревоженно.
Туберкулез лишь увеличивал азарт Ее увлечений, пусть самых ничтожных.
Она обучалась восточным языкам,
Но болезнь помешала ей в них проникнуть, Так что наук неуютный храм
Ее не принял и не подвигнул
На жертвы, опасные для жизни, И без того изъеденной чахоткой.
Тамара любила свой Крым и брызги Горячей, зеленой воды черноморской.
Любила лето, детей, собак.
Мальчишество было ее манией. Пятнадцати лет - она ходила в папахе И служила чуть ли не в Красной армии.
270
Она началась еще очень задолго
До того, как мы в три дня подружились С нею, а также с Мальвой и Волком - Овчарками, волчьи большими и злыми,
Но пребывала где-то в тылу сознанья, И я ее тогда очень редко встречал. Десять лет, как мы с нею расстались, И десять лет протекли до начала.
Меж двадцати этих быстрых лет Любовь-однодневка длилась недолго. Остальное же время только во мне Она таилась, глубоко, как водоросль.
Любовь была болезненной и мучительной. Я о ней вспоминаю, глаза зажмурив, - Так неудачна, трагична и бессильна Была эта внезапная и быстрая буря.
Тамаре она обернулась недоразуменьем, Тем более горьким, сколь непонятным, А я и теперь из всего, что мреет, Выделяю отчетливо Тамарины взгляды.
В моих потерях я их не утрачу, Радостных, через муки и грусти. Они отражают сосредоточенные, Тревожно-жалостные взгляды Маруси.
Тамара милее всего в лесу, В сумерки, среди талой воды по колено. Мы легкомысленны. Ноги идут Без нуги, в густые вечерние гсни.
В Москву возвращаемся поздно ночью, Мокрые, пахнущие влагой и свежестью. Весна блужданий пребудет вечно Среди далеко спрятанных ценностей,
271
Под ворохом книц впечатлений и записей, Росшим и росшим с тех пор над нею; Дорогой к Тамаре я не расставался В трамвае с каким-нибудь печатным делом.
И в тот же год пристрастился к музыке, Открыв, наконец, и уши искусству. Эту новую необъятную нагрузку С тех пор несу вместе с прежними грузами.
Марусе музыка была единственной По-настоящему внятной радостью, И однако, ей меня причастить Охоты она ничуть не выказывала.
Для нее, не верившей в доброе наущение, Проникновенное и плодотворное, Требовать к своим интересам и мнениям Внимания — казалось навязчиво-невозможным.
Искусство было ей тем спасением
От обид моих и измен — гем островом, Где сосредоточенность и уединение Подавляли реакцию боли острой.
Оно, береженное про нее одну, /
Оказалось нашей последней связью.
В особенности, Шопену и Скрябину Мы великими милостями обязаны.
Когда отошли и стали случайны Дела и болезненны тесные узы, И все это нас приводило в отчаянье, — Спасало и сглаживало одно искусство,
Через которое я немало влиял На Марусю и новое видеть заставил. К Тамаре же нечего было прибавить, Настолько плотен ее материал.
272
Ее восторженная жизнерадостность Шла к пессимизму моему и Марусиному; Тамара была проста, и надобности Не было усложнять ее искусственно.
Ее единственная молитва - улыбка - Ближе к богу, чем все откровения... Прямолинейно и решительно Она разрубила путы и вервия,
Вязавшие и резавшие тело до крови, До полной потери любви и сознанья - Невыносимые и проклятые, Как незаслуженное наказанье.
Едва очнувшись, я глянул издали На то, что было больно и ложно - Кровью оплаченное неистовство Стояло меж нами во всем убожестве...
Часто с Марусей перед войной Мыв келье ее уютной сиживали, Где пестрые книги с желтой стеной И с синими занавесями гармонировали.
А над постелью висел «Монах» Мистической кисти Франческо Франчья, Глядевший смиренно на наши дела, Но ставший символом моих несчастий.
За обыденными разговорами, За чаепитием и молчанием Чувствовалось что-то чрезвычайно Прочное, давнее и бесспорное -
Утихомиренная стихия дружбы, Столько раз принимавшей прямые удары, Тончайшая и прозрачная, как кружево, Как знамя, трепаное и стреляное недаром. 273
Маруся в синем вязаном платье, Знакомом на протяжении лет и лет, С движеньями экспрессивно-угловатыми, Колеблющими локонов темный балет, Казалась видимой через Борисова-Мусатова.
Мы сидели светлые, как персонажи Диккенсовских благородных романов, Отчужденней, но столько, чем прежде, глаже, Чтобы без слез говорить про Тамару.
Мелкая дрожь проходила по нервам От этой странной взаимности одиночества, Подчеркнутого инерцией нежности, Которой из двух ни одна не хочет.
Из двух - одна подруга раздвоенная, Взятая с бою, с большими потерями, Соединенная из по-разному скроенных Сердец, характеров и претензий -
Мною, чудашливым Дон Жуаном, Гордым своими испанскими предками, И в безумии своем обуянном К обеим отступницам
Чувствами накрепко детскими.
Сентябрь 1942 - февраль 1943
ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ
1
Пейзажи крымские цветут перед глазами, Как пышные осенние цветы, И пламенным кустом горят воспоминанья, Неизгладимо ярки и пестры.
Я глину крымскую и крымский камень Лопатой бил и ими пропылен;
Брал зелень южную горячими руками И просолился едкой солью волн.
274
Пространства вод, равнины суши — скучны, Но в стыке их даны изломы форм, И перезвон цветов, глубоко чистых, тучных, В струеньи моря и на взбеге гор.
И в море и во мне, колеблемом, как море, В безудержных валах войны, Стал Крыма мыс, омытый скорбью, Над вечной зеленью волны.
2
Два дня стучит на стыках скорый поезд - И мы в Крыму, пробившись через пыль Пустых степей и через узкий пояс Гнилого моря, соль его и мель.
Я не турист, я езжу на раскопки
И презираю весь курортный сброд.
Мой Крым суров, горяч, и горше водки Вкус на губах его соленых вод.
Пред чистотою воздуха и красок Бессильно бледен современный быт. Тем резче образы античных сказок, И под ногами звонче черепки.
Сияющие черно-сизым лаком.
И в этом блеске грек превыше всех - Создатель нетускнеющего блага, Творец искусства в суете сует.
Я собираю звонкие обломки И по догадке строю абрис форм. Ловлю их звук сухой, жестяно-тонкий, Как погребальных блесток перезвон.
И подымая, точно бремя, землю, Наплывшую за многие века На дремлющую времени под темью Плоть мрамора и кость известняка,
275
Мы воскрешаем жалкие обрывки Торжественно-велеречивых слов, Запечатленных в мраморе, как в книге, Певучим ионическим резцом.
Они звучат, как строки из Гомера, Трактуют продела и имена, Забытые еще до нашей эры В разрушенных классических стенах:
При некоем царе или архонте Принес ли кто богине в дар фиал Или в боях больших на скифском фронте Победу и венок себе стяжал.
От этой крови, пролитой не ныне, Нам веет миром, тленом и тоской, И кипариса обелиск живой, Как грусти знак, стоит в мечтах о Крыме.
Мыв эту древность слепо влюблены. К чему она, зачем ее тревожить. Что нам Гекуба в грубый век войны, И не поймем и разлюбить не можем.
3
Царь Агамемнон принес тебя в жертву Ветру в пустынной Авлиде.
Кровь твою камень впитал в себя мертвый, Эллины смерть твою видели.
Жертвою этой снискавшие ветра, Греки пустились на гибель.
Кровь никогда не падет безответно, Чью бы мы кровь ни пролили.
Только певец в пресвятом исступленьи Жертвы приносит благие, В мифе гуманном ища избавленья От беспощадных эриний.
276
Он тебя вынес из мертвого пламени, В дальнюю отдал Тавриду Жрицею нашему дикому племени Вольной и злой Артемиды.
Ты же проста и добра, Ифигения, Служишь богине любовью, Нашим паденьям и нашим мученьям Жертвуешь собственной скорбью.
В мире моем, бесприютно-огром ном Призраки верят и любят.
Миф и мечты о тебе полнокровны. Боги доступны, как люди.
Ты для меня абсолютно реальна, Как для родного Ореста, Ради тебя совершившего дальний Путь братолюбья и чести.
Я как бы знал, что в Крыму тебя встречу, Сердца чутьем на охоте.
Знал, но явилась ты ярче и резче Фар на крутом повороте.
4
Мы каждое видались лето.
Впервые свел нас Ай-Тодор,
[де Рим поставил лагерь-крепость, Незыблемую до сих пор.
По камню, в скипидаре пиний, В дурмане света и жары, Взошла ты русою княгиней, Как на стену, на кремль скалы.
Она столпом блистала в море, Как центр удара бледных волн На фоне сизого покоя Ай-Петри, грузного, как слон.
277
Сухая зелень восходила К вершинам, ребрами яйлы, К пустынно-знойной груди Крыма, Куда и нас с тобой влекли,
Спасая от курортной черни,
Одетой в белое белье, Кизила спеюшего дебри И им поросшее быльё.
Мы днями расчищали древность
От сора варварских времен, Как будто снова занял крепость Ее фракийский гарнизон,
А ночью над бессонным морем И душным сумраком скалы Сливали кровь свою с прибоем, Сиянье душ — с тропой луны.
Так совершались наши сутки В жару труда, во бденьи чувств, И лишь невольные уступки Усталость жертвовала сну.
О, в этой жизни напряженной Была такая благодать,
Как будто, в люди низведенный, Я в боги призван был опять.
5
В широкой шляпе с веткой мальвы Пришла со мною на Тамань, Картинно-статная, как лань Своей богини беспечальной.
В пески, в горячий солончак, Явилась, как и в Крым, княгиней Меня неволить и смущать Столичной резвостью в пустыне.
278
Я был измучен болью дружбы - Едва наука помогла Мне не поддаться малодушью И лай безумья избежать.
Она спокойствием лечила И озорством недужный дух. Ее наивность облучила Улыбкой мой грозовый круг.
Она меня ласкала дрожью В глазах прозрачных глубоко И платьем пламенным в горошек. Сидящим ловко и легко.
Гуляя с нею по Тамани, Я ощущал со стороны Ее живое обаянье Пейзажа пунктом узловым.
Теряясь в разоренном строе Курганов, я ее вплетал В мои мечты о древней Трое, Которой занят был тогда.
Домой в холодно-поздний месяц Мы плыли в море и во тьме. Она простые пела песни, Тесня дыханье их ко мне.
Те заглушенные звучанья Не стынут и теперь в груди, Прогрева крепкого Тамани, Уже не ждущей впереди.
6
Недалеко от улиц Херсонеса Владенья греков с таврами межуют. В уединеньи, на высоком месте, Одоме Ифигения тоскует.
279
Тоскует, но не мнит его увидеть.
Передо мной белеет пламя платья, И дует ветер с севера ей в спину, Бросая в море огненные складки.
А Понт гремучий, негостеприимный Плетет узоры по канве скалистой, По контуру извилистому Крыма, Мешая с пеной спектры краски чистой.
Взойдет ли тень моя на это место Соединить свой стон с тяжелым стоном Широких волн, пустынных и белесых, Рыдающих в Epistulae ex Ponto
Или одной, как три тысячелетья
Тому назад, на ветра вечном плаче, Стоять над морем Ифигении, пылая Пожаром несгорающего платья.
ДЕДАЛ И ИКАР
1
Остров Крит, в средиземии древнего света, Был заветно-желанным для всех моряков. Он теперь обездолел. На нем не заметно Ни величья следов, ни богатства садов.
Прежде все это было. Дворцов неоглядных Лабиринтами стены кружились бело.
И цветы, и плоды, и цветистые вазы, Пестрядь фресок, скульптуры слоновая кость.
Изощренные женщины в платьях открытых, Смуглокожее, ловкое тело мужчин.
Жизнь неслась и пузырилась пенно и быстро Средь забот и невзгод, через войны и мир.
’«Понтийские послания» Овидия - сборник элегий, написанных в изгнании.
280
Критом правил Минос, беспримерный и ныне. Он возвысил себя среди прочих царей.
Воевал всех сильней и сходил господином На чужих берегах с боевых кораблей.
Он изделия Крита далеко прославил. Грабил греков, египтян, сирийцев и Кипр. В лабиринте его, как разбойничьем складе, Было все, чем гордился по древности мир.
Он собрал живописцев, ваятелей, зодчих И велел им работать на щедрый заказ. Те трудились, а он их третировал строже, Чем правители наши любого из нас.
И не то чтобы их правежом и неволей, Как рабов, понуждал он без меры к труду - Нет - ни больше ни меньше — он звал поголовно К поклонению вкусу его и суду.
И от каждого требуя лести трескучей, Узаконил он пошлую прихоть царей На свободу творца посягать и надушу, Гнать его, как солдата, казенной стезей.
Я эстетики царской хулить не намерен, Да на это и права у подданных нет.
Наши музы взялись отродясь лицемерить, А без этого амба была бы им всем.
2
Дедал - ученый и художник,
Чей труд и имя на устах,
На Крите, как чудесный пленник, Уныло время коротал.
Он выстроил дворец Ми носа.
Хотенье царское постиг, Проникся умыслом и вкусом И создал чудо - лабиринт.
281
Вертеп огромный без фасада, Где тайны жалкие царя И Минотавр — его исчадье - Укрылись от самих себя.
Дворец-тюрьма. Порок идеи Искусством мастер не затмил - Чего-чего ни городил Внутри - кругом глухие стены.
Минос был рад. Но отвернулся Дедал от горького труда И погрузил свое искусство В тоскливый сумрак навсегда
Перед мучительным бессильем Вложить живое мастерство В сухую тяжесть и унынье Камней, заложенных царем.
При нем был сын. Своей печальной Ему он доли не хотел.
Икар подрос, не замечая Как мрачен и угрюм отец.
3
Темная горечь Дедала родила в нем гневные мысли;
«Критом владеет Минос. Да владеет он Критом и миром - Гением он не владеет, и небо ему не подвластно.
Заперты земли и воды - открыты воздушные выси.
Мы улетим!» Напрягая тоскующе-ищущий разум, Думал Дедал о крыле на коротком плече человека.
Думал природе вразрез, поддаваясь искусам искусства, Нитями острого смысла крепя легкокрылость фантазий.
Косный он взял материал, неподвижно-тяжелый и рыхлый. Соединил и принудил парить жесткоперою птицей.
Смелости верит стихия. Но вы, смельчаки, не сорвитесь! Не забывайте о том, что она не прощает ошибок.
282
4
Они летят, летят! Им раздувает сердце
И радость высоты и скорости напор, Простора чистота и бьющий в ноздри ветер, Веселье новизны и напряженья пот.
Под ними острова, цветущие на море Зелено-синем, как старинный шелк. И зренье колющие солнечные копья — В пылу, на высоте, щекочущей, как лед.
За тенью облаков внизу ползут их тени, А люди на земле глядят, поражены Видением — то бог безвестный или демон Им, может быть, беду иль новшества сулит.
Дедал ведет крыло между холодным небом И пылкой, как котел дымящейся землей. Икар, перехрабрен воздушною победой, Бросается, как стриж, излучиной, петлей.
Разлет, крутой вираж и разломилась птица, Как ветка налету, как павшая звезда. Покинутый Дедал в безумии кружится Над кручей, где Икар в голубизне пропал.
5
О сыне на пустой земле Дедала буйный гений стонет. Восторг и смерть живут в судьбе Его полета рокового.
Нам вещи изменять дано Через познание и хитрость. И все еще, себе во зло, Мы в этой воле ненасытны...
Невиданный, я вижу Крит - Крутой, горячий, неприступный. Там все же можно было жить, Хоть и мучительно и скупо.
283
Он не смирился, не презрел И мной терпимые обиды. Мы, в нашей доле дедал иды, Разделим и его удел.
Ноябрь 1943
НАЕДИНЕ С СОБОЙ (Ката осавтаи)
1
Я очутился вдруг один. Мне одиночество желанно. Всегда на людях нелюдим, Всегда в делах, всегда в романах,
Запутанных и небылых - Плодящихся в воображен ьи...
А ныне я невозмутим, Как Аввакум перед сожженьем.
Я на себя гляжу, как друг Глядит в глаза больному другу. Мне как бы внешен сердца стук, Свою сжимаю вчуже руку.
Я был бы счастлив, как никто, Имей и впрямь такого друга, Как я, с такою же душой, С таким лицом и сердца стуком.
Я вчуже б любовался им, Ловил движенья и желанья И на слова переводил Язык его воображенья.
Я возмечтал его создать В себе, подобья по рецепту. Он, как туманная звезда, То ярче, то бледней, то нету...
284
2
Я в детстве был совсем не тот. Заносчив, очень недалек, Безжалостен и беззастенчив. Я воровал табак и деньги И был с животными жесток.
Усвоив в ранние года Уже недетские замашки, Я рассуждал легко и гадко О взрослых и об их делах.
Подруг, приятелей моих Я выбирал из круга старших. Быть между взрослыми людьми Казалось вожделенней, слаще, В их грубой лени и любви.
Теперь я к детству возвращен, Не пережитому вначале. Я нежен, робок и смущен Чужой заботой и печалью.
И дружбу я веду с детьми, Порой с седыми волосами, Которых старость не бросает В объятья пошлости и лжи.
3
Мне женщины открыли мир.
Его не замечал я долго, Как мальчик в сказке, с колдовским В груди от зеркала осколком.
Я рослым юношей бродил Слепой и мертвый для искусства, Ни страха перед ним, ни мужества В моей крови не находил.
285
Живучесть материнских чувств И вечной молодости цельность В меня влились из женских душ, Как молоко в уста младенца.
И мать-любовница вела Меня по улицам явлений, Как по картинным галереям, Передавая мне сполна Из цепи поколений длинной Инстинкт и разум свой пчелиный.
Я и сейчас иду за ней, Ее не слыша и не видя, Но ровно столько тепля жизни, Сколь веры для нее во мне.
Я лишь постольку человек, Пророк, художник и ученый, Насколько матери завет Во мне чрез женственность исполнен.
4
Мое пристрастие к науке Ушло под бешеную жизнь И приучило даже в сутолоке Уединенье находить.
Я ухитрился на шакальем Концерте общей суеты Не заглушить в себе печальный Чуть внятный благовест души.
Мы, торжествуя, упразднили Обет и келью навсегда...
Увы, и тут поторопились - Нам в них великая нужда.
Я жду и верю, что однажды Построят снова монастырь
286
Те, у кого блестит во взгляде Сосредоточенность пустынь.
Монашеского чина строгость Я соблюдаю и в миру, И на войне, ее суровый И грубый исполняя труд.
В себе я чую тамплиера Спокойный и высокий дух, Когда один, во мраке веры, Иду среди смущенных душ.
Ноябрь 1943
Конец войны (1945-1946)
ТРУПЫ
Настолько вражеские трупы Неотделимы от земли, Что зреньем тупо-равнодушным Их игнорировали мы.
Их линии слились с рельефом Поверхности, и на глазах Себе присваивает цвет их И форму жадная земля.
Они в воде, как и на суше.
Я подойду и наклонюсь: Ничуть не страшен и не душен Воды мне этой мертвый вкус.
Мне труп - как дерево иль камень. Я нежность чувствую к тому, Что нас бессмертью приобщает, Приводит к корню одному.
287
* ♦ ж
От смерти к жизни перейти И от войны вернуться к миру - Всесильны и непостижимы Стихий разливы и отливы.
Они на запад гнали нас, Громя и разбивая нами Препятствий замки и сезамы, Земли взрывая нами рвы.
Теперь нас гонит на восток Инерция все той же силы. Она нас снова сбила в глыбы, В напористый и дикий полк.
Мы лоном ломимся лавин, Течем долинами Европы, Вперед, назад, таким же током Как толпы варварских племен.
Июль J945
♦ * ♦
Я чудо из семи чудес.
Мне самому на удивленье Гераклов труд. Для претворенья Мученья в миф служу я здесь.
Гнев неба на плечах держу, Низринувшегося на землю. И медлит, медлит с избавленьем Тот бог, которому служу.
Все тяготы и страсти душ, Войной разбитых и убитых, Веду в широкую орбиту Истонченных, как нити, чувств.
Неизгладимые следы Гигантоборческой работы
288
Меня навеки молодым Оставят, вопреки природе.
Не может одряхлеть душа, Огнем протравленная трижды, И смерти длинная рука Ее живьем подымет к вышним.
♦ * ♦
Быть может, это уж не я, А трижды перевоплощенный Смятенный дух, на третью скорость Переключенный бытия;
На буйство гроз и перемен, На плач и стон среди развалин, На одиночество в беспамятстве И в лаве огненных гиен.
В таком безумии погонь
Два эти года пролетели, Что очутившись вдруг в вагоне Я ощутил: «О, как же медленно,
Как медленно идут колеса, Плывут откосы и столбы. И только дым от паровоза Кружит и рвется, как и мы».
ГИБЕЛЬ
Все начисто разорено, На чем мы жили и стояли. Строенья стройные упали. На бывших улицах темно.
Темно на улицах, в глазах, Во всем тысячелетнем мире. Разбились связи, мысли сбились На мракобесие, во мрак.
289
Враг в городе, в бездомном сердце. Он втаптывает в темноту
Живую плоть, искусство, древность И обескровленный уют -
Всю нашу тощую культуру, Всю святость смятую. Дика Стихия лютая врага - Бессмысленна и необуздана:
Слепым инстинктом муравьев, Надежды безнадежным взрыдом, Увидите, мы своды выведем И снова связи соберем,
В разливах взрывов - взмывы танго. Земные раны затянув,
Уходит снова древний камень Глубоко времени под спуд.
ТАНГО
Меня притягивает танго
Своим чередованьем ритмов,
Своим меняющимся шагом, Колеблющимся ревматично.
Мне этот танец - танец смерти, Таинственный и ритуальный, Как танцы греческих мистерий И христиан первоначальных.
И музыка его повсюду
Встревает в грохоты и шумы.
Ее играют и танцуют
Мои обветренные губы,
Мои натруженные нервы, Мои расширенные жилы — Под скрежеты и лязги жизни, Под отблески и свисты смерти.
290
«ВОЙНАМ МИР»
Я эту книгу, точно заново Прочел, как вынул из души. И брызнувшие слезы радости Наружный гул не заглушил.
Крупицы мудрости и мужества
В чужой добытые крови, Я с удовлетвореньем грустным Опять нашел и подтвердил.
Я понял - новое, что глухо Росло сознания в углу, Был этот тихий Пьер Безухов, В меня вселившийся в плену
Страданья, зверства - брань стихии, Ее орудие - я свят
В моем непротивленья силе Противящейся убивать.
* * *
Гудки паровозов в открытом окне, В ночи, перебитой жарою;
Я дома, в мучительно-радостном сне, И смерть моя рядом со мною.
Она мне грозила из жерл и бойниц Ударами залповых вспышек;
Теперь она сердца у самых границ Постельной тепличностью дышит.
Мне жжет и слепит занавешенный день Безветренно-ранним покоем Глаза, устремленные в муку и темь Видений недавнего боя.
Легусуя W6
291
* * *
Грохочут ночные трамваи, Бегущие запоздно к Вам, И в грохоте их замирает Вчерашней войны тарарам.
И точно купаясь в забвеньи, Меняюсь я наскоро весь, Охвачен колес исступленьем На крене раскатанных рельс.
Ах, если б мне память отшибло Под этот жестокий концерт — Войны неуемное быдло Во мне не кричало бы впредь.
Сентябрь 1946
Стихи из северной поездки (август 1947 года)
СЕВЕРНАЯ АРХИТЕКТУРА
В однообразии и скудости Прочерченных природой линий, В унынии и на беспутице Морены выпасов тюленьих,
Над желтизной земли и зеленью Угрюмой сгрудившихся хмуро Лесных массивов - редким чудом Возносится архитектура.
В ней та живительная тонкость, Которой не имеет местность — Изящество и формы строгость Болот широтам неизвестная.
Изба - как сказочный дворец, Венец кудесничества-зодчества, Предельно строгого, законченного В традиции тысячелетней.
Бревенчатая гамма масс, Оконных вырубов пропорции, Венцов классических шкала - С природой спорящее творчество.
Владеющее, как она,
Вполне невзрачным материалом, Непрочным, но привычно ладным, Податливым, как плоти ткань.
Мне вереницы здешних изб Столичного ансамбля чинней И величавей, в их гордыне, На фоне непролазной глины,
293
На мертвенной тоске ландшафта, Подчеркнутой безлюдьем тракта.
БОЛЕЗНЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ
Я так подавлен болью, и усталость Так ущемляет зрительную прыть, Что мне искусства только и осталось На этот ежедневно-скудный вид.
Он чувствам в соответствие скупится - Хотя б один орнаментальный штрих! Холмы. А над холмами вереницы Стволов нескладно-кряжистой сосны.
И темень крон над охрою морены Сливается, как в выцветшем эскизе, С озерной составляющей, посменно Зелено-серой или грязно-сизой.
Вся эта скудость красок откровенно Стоит передо мной в кругу стихий, Едва еще влияющих на бледный, Не теплый их, не пестрый колорит,
Варьирующий несколько оттенков Нечистой сини, зелени и желтизны В границах линий крупно-примитивных, Лишенных глубины и вышины.
Вот это все, что может у природы
Взять переутомление, в ответ
На взгляд, всегда встречающий препоны Болезненно-одервенелых век.
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ВЕЧЕР
За озером еще отражено
Лицо ушедшего за Холмогоры солнца. Там все блестит — и камень и стекло, У нас же сумрак осенил околицу.
294
Мне тишина трубит, что нет войны, Трубит-звенит на все лады и тоны, Но, неподатлив пенью тишины, Я все, что было, как сегодня, помню.
И не могу отделаться на миг
От впечатлений незабвенно-страшных: Война стучит клюками всех калек, Костьми всех храбро и бесславно павших.
Она живет в сознании слепым Безумьем совершенной гекатомбы, И выросшие, как цветы, кресты — Единственный мной ощутимый плод ее.
Во мне трубит и стонет тишина Оркестром бредовых воспоминаний. Во всю гремит и ухает война — Мир существует только на бумаге.
* * ♦
Сознанье мира до меня
Путем окольным достигает: Я все не верю, что война Уже судьбой не управляет.
Вот дом. Его простая жизнь
Была мне в дни войны доступна.
Я без зазрения входил В чужие двери, и без стука.
А ныне, увидав в окно
Людей вчерашнего общенья, Я осознал, что не дано Мне с ними ощутить сближенья.
Что не поесть, не закурить И не обнять чужие плечи Мне в этом доме. Отворить Не выйдут. Взглянут - не приветят.
295
И мир - вчера желанней дня, Сегодня горек мне в сознаньи, Что ширь шальная бытия Вошла опять в скупые грани.
СЕВЕРНАЯ НОЧЬ
Гляжу сквозь серебристый мрак По-северному летней ночи, Насквозь гудящей до утра Кипеньем комариной мочи.
В том пеньи северный покой Невозмутимо прочный, черствый — Нам ведьмы за него клюкой Грозят и гадости пророчат.
Гляжу на строгий очерк крыш, На гамму бревен вороненых, Вникаю в стонущую тишь И в то, как час в теченьи ровен.
Звезда полярная стоит Бледна, высоко-непривычна, И от нее до черной крыши Серебряная темь звенит.
Срывается метеорит
В котел зудяще-жаркий мрака, И лет голодных верным знаком Собачье тявканье молчит.
Старухи, как всегда, свое Приводят давнее на память: Вода и птица, даже камень О древнем благе вопиет.
ПЕСНЯ
Из вечера мне слышен в вечер Призыв надрывно-монотонный:
296
«Овеченьки мои, овеченьки, Тпру-конюшки, тпру-конюшки...»
И голос бродит между избами, И по холмам, по можжевельнику Единственное, заунывное. Привычно-слышимое пение.
Здесь что-то женщины невеселы - Белесые, рябые, хмурые.
И редко-редко голос девичий Частушки выведет фигуру.
Она мелькнет в вечернем сумраке, Как ласточка из-под застрехи, Едва мотив ее немудрый Уловишь, а слова — потеряны.
Вот потому и вспомнить нечего Из здешней мелики мне, кроме Припева этого: «Овеченьки, Овеченьки мои, тпру-конюшки...»
* * ♦
Колоть дрова - приятно-грубый труд.
Звенит в руках, звенит в ушах и в теле. Полено суковатое берут
Нередко перед гладким в предпочтенье.
Ни так оно сначала и ни сяк, Ни сверху и ни сбоку не дается; Нет, расколоть такое не пустяк И не на шутку надо рассердиться.
Заметил я в товарищах любовь — В тех, кто спокойней и ровнее с виду — К напористой и звонкой колке дров, Друг перед другом этому завидуют.
Завидуют полену, топору, Уменью гакнуть в самый миг удара,
297
Завидуют тому, что этот труд Красив и прост, в пылу его задора.
АРХЕОЛОГИЯ
Мы снова подымаем жизнь, Давно лежащую под спудом Всепоглощающей земли. Ее усопшую мы будим.
Не хочет мертвое вставать
Еще упорнее сперва,
Чем держится за жизнь живое... На том идет у нас борьба.
...Борьба за цвет былых времен, За убывшее безвозвратно Из круга нашей бледной памяти, Какой наш разум наделен.
Все, что таится, вопреки Природе, нас пьянит и дразнит. Про клады и про тайники Сказанья сладко-неотвязны.
Когда ж земля нам отдает Куски невиданных керамик, Запечатлевшие в орнаменте Безвестной славы торжество;
Иль чудно-каменный топор Дикарски-экзотичной формы, Блеснув в земле, как рыба плещет, Реальной обернется вещью —
Тогда разрядом колдовства Нам наша кажется работа, И дрожь горячая проходит По жаждущим чудес сердцам.
298
Перед таинственным восторг Универсален. Люди падки На драгоценные остатки, Что вечность скупо отдает.
Тем непонятней и чудней Познанья этого потребность, Что нас, плохих учеников, Грядущему не учит древность.
Хоть мы бессильны повторить Соблазны древнего искусства, От заблуждений и безумства Дней прежних нам не упастись.
И не умея распознать Причины тайной любопытства, К минувшему за ложным смыслом Мы гонимся. Природа-мать
Дав обмануть себя, лишила Нас все же высшего плода: К познанью древности забытой Нас побуждающие силы Мы не постигнем никогда...
ПИТЕЙ
В нас птичьи свойства властвуют, и юг Не кажется нам родиной нисколько. Тень влажная и неба бледный круг Роднее, чем тропическое солнце.
Стремились древние на север, как и мы. Любимцами безоблачного неба Овладевала страсть к туманам и лесным Прогалам и, как перья, - хлопьям снега.
Но развивая нить мифических дорог - Экзотики такой, что не приснится
299
И аргонавтам, ни один милетянин не мог Проникнуть выше крайних киммерийцев.
Поэтому, когда Питей Массалиот, Пройдя Британию и устье Эридана» Сквозь сказочный туман и неприступный лед До скифского поднялся океана,
Увидел янтаря родные берега,
Куда весною устремлялись птицы, Гипербореев мягкие луга И северное устье Танаиса -
Скептических умов сухие голоса Его без промедлений опровергли; Перилл его исчез, и ночи пелена Окутала арктические дебри...
Об этом подвиге, перед которым миф Бледнеет об Арго божественном, мы ровно Не знали б ничего, не сохранись Две-три строки презрительных Страбона.
СЕПТИМОНТИЙ
Мычат телята громко, дружно В своем телятнике колхозном.
Их голос в пасмурное утро Звучит назойливо, тревожно.
И непрерывное мычанье
Во мне рождает смутный образ Чего-то слышанного ранее - Воспоминанья бледный проблеск.
Я грежу о древнейшем Риме:
И там, наверное, в ту пору, Когда он был еще деревней, Как та, где я дремлю и силюсь Очнуться, поутру таким же Мычаньем оглашался форум.
300
И оттого глухую память Мне бередит телячий голос, Что будто слышится мычанье В тех грубых древности названьях, Звучащих запросто и громко: Форум Боариум и Порта Мугония.
И сам древнейший Септимонтий Мне представляется таким же Селеньем, темным и холмистым, Как наше, и не наше ль стадо Бредет дорогою нечистой На пастбище через Велабрум?
И память о величьи Рима Звенит в мычании унылом.
АРИМАСПЕЯ
1
О странах дальше скифских пастбищ У греков не было вестей.
Про одноглазых аримаспов, Однако, пишет Аристей.
Никто не знает - сам у них он Бывал когда-нибудь в гостях Или покоится на скифских Преданьях и на древних мифах Молва об этих областях.
Известно - у горы Рипейской Тех аримаспов сторона, Где солнца золотые прииски Скупые грифы сторожат.
За золото воюет с ними Род одноглазый на конях, А отвоеванное скифы Приносят в дар своим царям.
301
И по рассказу Аристея, В который верится едва, Ту землю населяют звери Невиданные, без числа.
Весь этот мир звериных ликов, Родной для скифов и других Номадов, ионийской мыслью Завистливой воспринят был.
И мне приятен Аристея К безвестным странам интерес: Звериных и людских чудес Полна его периэгеса От Понта до пустынь и леса.
2 Пустыня скифская людей Таит чудесных и неведомых: Там северные меланхлены Живут в тени недолгих дней.
Живут вшееды, людоеды, Плешивые и племена Лесные, с рыбьими глазами, Белесые и с волосами На голове, желтее льна.
Их земли пусты. Непонятны Их варварские языки.
Курносы, как и деревянные Их боги, те лесовики.
Те люди - точно пни и кочки Болотные и пузыри.
Там долгий мрак полярной ночи, Холодные, слепые дни.
Никто не мерил в этих странах Ни водных, ни сухих дорог.
Их поминает с чувством странным И с недоверьем Геродот.
302
3
Где европейских рек начало, Откуда Истр и Ипакирь' Текут через пустыню вширь, В Рипейских неприступных скалах Грифоньи вы и возникают.
Их головы с орлиным клювом Колышатся над львиным туловом. Огромными когтями лапы Грозят, хватают и царапают.
Два грифа раздирают лань С ажурно-частыми рогами, Тончайшими, как нить, ногами. Переплетенными в орнамент.
Измышлены наперекор Имеющей свой стиль природе, В переднеазиатской моде С ее чутьем животных форм.
Как будто множество зверей Впились в тугие члены лани: Хитросплетенье клювов, лап Кошачьих, жилисто-массивных, И между ними крыльев длинных Протянутая вширь шкала.
Вот гриф дерется с амазонкой - Высокой, всеоружной, конной, Хватает, вздыбившись, коня Четырехпалыми ногами И, геральдически растянут, Грозит крылом ее обнять.
Грифоньи морды, точно страшные Пугающие чудо-маски, Глядятся с греческой леканы
’Древние названия рек, протекавших через Скифию. 303
Блестящей, в женские глаза: Чудовищ-оборотней скифских Жгла эллинское любопытство Скульптурно-дерзкая краса.
4
Весь скифский мир - звериный пир. Его богиня Аргимпаса’, Как рыба, ниже ног хвостата.
От рук - плетение ветвей. И в окружении зверином, Вселенную символизируя, Она всех варваров кумир.
Скиф мыслил вещи в преломлении Звериных качеств, в подчинении Могучей магии свойства: Врагу в навершии кинжала Клыкастым зевом угрожала Тупая барса голова.
Эфес - сплетенье хищных клювов, Седло, налучье, бляхи, сбруя - Везде звериные тела, Звериных лап переплетение 1
В прыжке, в изгибе мышц, в борении.
Весь мир — гроза звериных чувств. Искусство — радость форм звериных, Их поз зигзаги и извивы, Условный ракурс и масштаб; Огромные клыки и клювы, Зрачки, расширенные в луны, Орнаментальные рога, Пространство, сжатое в ногах.
Как измышляем мы людей, Скиф раздраконивал зверей
'Аргимпаса - в скифской мифологии крылатая богиня, покровительница зверей и птиц.
304
Немыслимых конгломераты, Игрою форм своих понятные И ныне, через даль веков. Для нас то дикое искусство И мастерством его и вкусом Недостижимо высоко.
5
Воскресни, призрак Аристея, Взойди, им вызванный мираж, Звени, звени, Аримаспея, Утраченная навсегда.
Сверкните ливнем линий гневных Сокровища звериных форм - Причудливые лики небыли В убежищах Рипейских гор.
Блесни мне, в бронзе или в золоте, На ярком камне и кости,
Искусство нашей дикой молодости - Зверино-исполинский стиль.
Придите, тени аримаспов, Племен степей, лесов, болот, Со взглядом смутным и белесым Под пологом льняных волос.
Звени, звени, Аримаспея, Чтоб нас, как греков, волновал Путь проконнесца Аристея По скифским сказочным тропам.
УМИРОТВОРЕНИЕ
Когда особенно гнетет Искусства бедственный упадок И мучимому сердцу гадок Поддельный пафос и расчет;
305
Когда мне кажется, что нет На искренность надежды больше, И пошлости слащавой горечь Все одевает в мертвый цвет, -
Передо мною в этот миг, Непроизвольно и фатально, Встает один и тот же вид Отчетливым воспоминаньем:
На голом и крутом холме, На зноем выжженной площадке, Где некий устроитель хваткий Планировал увеселений Дворец, для ближних поселений,
Была пустынная эстрада, Открытая любым ветрам И списанная в арсенал Заброшенных сооружений, Которыми богат наш гений.
Кто знает, довелось ли ей
Хоть раз гражданских муз приветить - Увы, я не нашел на месте Для посетителей скамей.
Перед эстрадой вместо них Высокие стояли стебли Растений. Благостен и тих Шел вечный праздник представленья.
Зеленых зрителей толпа Стояла чинно-неподвижно, А солнце, ведшее спектакль, Сияло на эстраде пышно.
То был торжественный театр Таких высоких категорий, Что на его репертуар Ни моде не влиять, ни злобе.
306
И был широк его обзор - Как бы весь мир в миниатюре: Селенья, реки, взбеги гор, Под небом большим, чем в натуре.
И внятен был прозрачный смысл Той сцены жизненного сходства - Искусства низменность и высь, Его удел и первородство!
Когда терзает и гнетет Меня наш творческий упадок И сердцу мучимому гадок Фальшивый тон, дурной расчет,
Когда мне тошно - эта сцена Ласкает память, как бальзам, И подтверждает в сердце цену Простым и истинным вешам.
ПЕЙЗАЖ С НАСТРОЕНИЕМ
Дождя не будет, несмотря На то, что крупными клоками И чуть ли не над головами Эскадра хмури пронеслась,
В нас вызвав пароксизм тоски Былых воздушных нападений. Безжизненны и далеки Леса с унылой мертвой зеленью.
Хотя шагаю я один, При скрытом солнце, на безлюдном Пейзаже сглаженных холмов И под меняющейся стражей Защитно-серых облаков - Реальна острота испуга И для измышленной подруги.
Я одиночество блюду Весьма любовно, но недолго —
307
Обряд очередной помолвки Во мне творится на ходу...
Не уследишь и не поймешь, Как, выходя один из дому, Оказываешься вдруг вдвоем С безвестной спутницей. Ее Верленовские добродетели - Предмет соблазнов и свидетели Моих экстазов, жертв и слез.
Дождя не будет, несмотря На то, что в очень низком небе К нам авиацией враждебной За рядом туч несется ряд.
КРУГОЗОР
С другого берега я посмотрел на тот, Где прожил срок без этой перспективы. Он показался мне холмист, высок И более, чем думал я, красивый.
Но главное, что круговой ансамбль Холмов, озерной глади и пространства Построился и предо мной предстал В гармонии, какой не прозревал я.
Широким выглядел и замкнутым кольцом Тот округ, где творились наши судьбы, И элемент холмов торжественно вошел В орнамент, наведенный, как на блюде,
По краю - берегам, приподнятым легко Над озером пустым — паркета глаже, И зеркало воды блистало глубоко, А мир ступенился, как цирк многоэтажный.
Всех ниже камыши белесой полосой, Потом луга, стога, деревни, огороды.
308
Еще этаж - полей желто-зеленый строй, И выше всех - холмов лесистые разброды.
Весь этот Колизей жил действием одним, Медлительным, как стародавний праздник. На ход его взглянув с далекой стороны, Себя, наш холм и дом я принял, как участник.
ПРОЩАНИЕ
Рев паровоза из-за озера, Сегодня резкий вдруг и близкий, Врывается полифонии
Лесной в протяжности и всплески.
Иду прогулкой предотьездной, С пейзажем северным прощаясь, И дождь тоскливо-безнадежный Меня слезами омывает.
Лес для прощальной встречи выслал Свои последние ресурсы - Брусники россыпи и цепи, Грибов посты и караулы...
И на прощанье - редкий случай - Спугнул я здешнюю дриаду.
Она взволнованно метнулась: «Ах, как меня вы напугали!»
Потом расспрашивала долго - Кто я, откуда, не за мною ль Вчера прошла машина полем И отчего я на дорогу Грибов не наберу побольше.
Так расставаясь с здешним местом, Дружней, как должно, чем при встрече, Я снисходительно, но честно На все вопросы ей ответил.
309
КАЛХАНТ
К моей взываете Вы женственности.
Я сам ищу ее среди Движений боли и блаженства Неутоляющей любви.
Я защищаюсь ей от гнева Порывов бредово-мужских И исцеляюсь от нагрева И света женственной души.
Я точно древний предсказатель, Единственный из всех, Калхант, Судом божественным носитель Начал обоих естества.
Он женской испытал и мужеской В себе природы благодать И состояний преимущества Сравнил и передал богам.
Опять униженный в мужчину, Он тосковал по той любви, Которой, женскую личину Нося, копил в себе прилив.
Я, как Калхант, по ней тоскую, Терзая душу и дробя, Чтобы почувствовать, ликуя, Вас долей самого себя.
* « *
Вы на меня в претензии за то, Что редким я у Вас бываю гостем. Ах, если б знали Вы мое житье, То не питали бы на это злости.
Урывками от жадного труда, В минуты беспокойных отвлечений, Меня толкает изменять друзьям Необходимость новых впечатлений.
310
Я только новизною и живу;
Она мое единственное средство
Для перевоплощений наяву, Которыми питается искусство.
И Вы бы не страдали за престиж
И за ущербы нашему общенью, Когда бы Вам представить счет пропаж И бедствий моего существованья,
Когда бы Вы познали, как бедна, Хотя и не лишенная трагизма, Урезанная часть добра и зла, Какую получаю я от жизни.
♦ * ♦
Как люди в царстве обезьян, Описанные Уэллсом,
Живу и я в кошмаре вечном, Спокойного не зная дня.
И, приучая не кричать,
Одна беспечность выручает
Меня, покуда исчезают Соседи, братья и друзья.
В надежде - не избегну ль плена Ужасного урлюберлёшей — Стараюсь я не растревожить Их неоправданного гнева.
Я даже рад бы людоедству Найти благое объясненье, Надеясь с помощью обмана Сам не попасться на съедение.
ОЖИДАНИЕ
Опустошающе томительна Ожидания неопределенность.
311
Волком душу готов извыть, Рвать на себе волосы.
Другие спокойно живут и ждут Обещанного, если не годы - сутки, Но я в безвестности быть не могу, Мне нарушение сроков - пытка.
В терпении - мудрость всего востока. Сиди и жди того, что будет.
И люди ждут и ждут без срока, Равнодушные и рассеянно-хмурые.
Ждут на вокзалах, на пристанях, В очередях, под дождем и на солнце, С одним и тем же во всех глазах Сквозящим сознанием безысходности.
Не то что ждать самому - смотреть На чужую тоску ожидания — смерть. Ужасно с темпераментом европейца В азиатских условиях родиться и маяться.
* ♦ ♦
Что ж вы не пишете, такие-сякие, Как вам понравились мои стихи? Поэзия требует ничуть не менее Всех остальных искусств поощрения.
Особенно я в поддержке нуждаюсь, Лишенный аудитории, больной и усталый. Вот уже месяц, как день изо дня Пишу-скачу, не слезая с коня,
Толкаемый странной внутренней силой, После работы, когда улеглись мы, Превозмогая боль и усталость, Напрягаюсь, чтобы писалась
Песня и пелась на тихий голос, Слышимый мне да Господу Богу.
312
Лагерные стихи (1951-1954)
Сказки и мифы
БРАТЕЦ ИВАНУШКА И СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА I
По проселку, вьющемуся ниткой, В дальний путь, от мачехи лихой, Брат с сестрой бежали дружно, прытко, Ухватившись за руку рукой. Их вела холмистая дорога Мимо перелесков и лугов, Мимосел, полей и огородов, Мимо переливчатых ручьев... Так они бежали мимо, мимо, Устали не чувствуя в ногах, По земле далеко обозримой, За холмы скрываясь, как в волнах. А над ними колыхалось небо, Точно клевером цветущий луг, И блестело солнце жарко, слепо, Распаляя жажду и недуг...
II
Говорит Аленушка-сестрица: «Я напьюсь из этого копытца». Отвечает брат: «Не пей, пока Чистого не встретим ручейка...» Но жара Аленушку терзает, Сушит нёбо, губы обметает. В горле истомившемся першит, Подпирает донышко души... Прилегла Аленушка к копытцу: «Ах, какая мутная водица, Теплая, пахучая, густая - Никогда так жадно не пила я!..» Пьет, не слышит уверений братца, Что колодца надо бы дождаться,
313
А кто в поле выпьет из копытца, Тот в овечку может превратиться.
Ill
Отошел Иванушка в сторонку, Нетерпеньем огорчен сестрицы. Слышит сзади кто-то блеет тонко, Обернулся он опять к копытцу - Видит, топчется вокруг овечка, Там, где только что была сестрица... И так больно, больно бесконечно, Сразу сделалось на детском сердце. «Бедная ты, бедная Аленка, - Повторял Иванушка сквозь слезы, - Отчего на свете все девчонки — Дерзкие упрямицы-занозы?» А овечка бегала и терлась Мордочкой о братнину рубашку, Блеяла аленушкиным голосом, Чтобы не ругал ее, бедняжку, Что она, Аленушка-овечка, Будет впредь покладистой и кроткой, - Блеяла и капали в ответ ей Слезы братца на густую шерстку...
IV Иванушке вспомнилось с болью, Как ушел он с сестрицей из дому, Где их мачеха грызла, неволила, Обижала и мучила голодом. Он решил, что она колдунья, Что детские слезы и стоны Ей на радость и что задумала Погубить она его Аленушку... Думал он, как и многие взрослые, Сколько в мире всяческой злобы И какие кругом вредоносные Колдуны и хитрые оборотни... И казалось, злодейка-мачеха Жестокими преследованиями
314
Их давно извела бы начисто, Если б любовь и преданность Сердца истинно-материнского Самую смерть перебарывая, Жизни не защитила их Своими добрыми чарами, Тихонько бы их не вывела Из дому неродимого, Над ними бы не раскинула Неба защиты синего - Не оградила ребячества их Оврагами и туманами, ...Хоть не дремала и мачеха, С ее ехидными планами...
V
Голос брата заглушив в сознаньи, Обманулась бедная сестрица; Мачеха, обманщица-лисица, Ей внушила блажь непослушанья... Плача над Аленушкой-овечкой, Матери напутственное слово Братец повторял и целовал он Сестрины глаза - кружки безбровые. Шли они опять своей дорогой - Мальчик и ягненок впереди, С бубенцом веселым на груди, Ласковый, пугливо-востроногий. И немного побурлив, притихла Братца бесприютная тоска, И аленушкина голоска К блеянью душа его привыкла... Как на старой, побледневшей фреске, Гармонировала всей природе, На капризной линии дороги, Эта пара - мальчик и овечка. Небо над колоннами деревьев Выкруглялось куполом белесым, Шествие детей тянулось пьесой На холмов амфитеатре древнем.
315
VI
Мачехи месть не желала дремать - Чуть дети утешились, вскоре Силы злодейки толкнули опять Их в новые муки и горести. Колдунья прохожих на них навела, На свежее мясо голодных.
И вот задымился костер у котла, И сталь заелозила злобно.
Огромный детина овечку схватил: «Баранинки долго не ел я!» Веревкой Аленушке ножки скрутил И бросил на жесткую землю. Тут блеющий голос пронесся, как стон, В пространстве прозрачном и тихом. Иванушки сердце взвилось высоко В сознании нового лиха.
«Спаси меня, братец, спаси от ножа», - Молила Аленушка горько.
Рвалась и старалась вскочить-убежать - Не ширились путы нисколько.
Ключом закипают котлы-чугуны, Наточены лезвия чисто;
Минуты любви и судьбы сочтены - Смешались в Иванушке чувства... Он молит чужих равнодушных людей Распутать овечку-сестрицу. Поддержки он ищет у мертвых камней И просит о помощи птицу.
Все тайны природы на помощь зовет;
В себе богатырских усилий Прилив ощущает. Он грезит - встает Их мать из холодной могилы...
Встает и к Аленушке тянется рук Ее материнская нежность...
И в нем то порывы надежды поют, То душит судьбы неизвестность.
VII
В спазме отчаянья крайнего, Все силы добра сконцентрировав
316
В сердце трепетно-пламенном, Кинулся братец на выручку... В глазах его встало огромное, С ножом обнаженным пугало. Рванулся к Аленушке... Темная Тень скрыла его и рухнула...
Как и прежде, дети без устали Идут по крутому проселку. Глаза у сестрицы грустные, А у братца глаза веселые. Веселые и у птиц голоса, Ветерок веселый насвистывает, Весело им луга и леса Картинки свои перелистывают...
Кто знает, какими силами Спаслась, обернулась девочкой Овечка-Аленушка?
Все, что случилось-стряслось С детьми, так дивно и небыльно, Так чрезвычайно и сказочно, Что людям, для смысла вящего Едва ли было 6 достаточно Даже веленья щучьего.
Мы вместе победу празднуем Над мачехиными кознями. Братцу с сестрицей радуемся, Как самым любимым родственникам. Но понимаем мало мы — Равно и дети и взрослые - Сколько добра небывалого Надо, чтоб весело кончилась Сказка, что скоро сказывается... Добрые чувства зреют не наспех... Ах, сколько еще добра понадобится Чтобы от всех избавиться мачех...
А пока мы бок о бок сними живем И от них страдают безвинные дети, Грустные глазки сестрицы Аленушки Правдой глядятся в лицо человечества.
9 октября 1951
317
СОБАКА И ПЕТУХ
I
Собака так дружно жила с петухом, Как только могла б с человеком.
Им радостно было в жилище одном И сладко за сытным обедом.
Собака охотой кормила семью, Петух хлопотал по хозяйству, Старался создать для подруги уют, Достойный взаимного счастья.
Он пыль обметал золотистым крылом. Выклевывал миски до блеска, — Управясь с работой, сидел под окном, За шитой пестро занавеской,
И звонким, раскатистым «ку-ка-ре-ку» Собаку встречал на пороге, И крыльями би л, чтобы лаем ему Она отвечала с дороги.
Приветно звучали друзей голоса В лесу, где ютилась избушка, Но с завистью к ним относилась лиса, Востря настороженно ушки.
П
Тихонько ночью подходила к дому Лиса и подымала острый носик, Вдыхая аппетитный и знакомо Дразнящий запах петушиной плоти.
Ворчала сонно чуткая собака, Встревоженная близостью враждебной, Петух спросонья бился и кудахтал, А в час урочный голосил усердно.
Лиса и днем наведывалась в гости, Старалась с петухом свести знакомство,
318
Прикидывалась простенькой и доброй, Ни на какую хитрость не способной.
Она его посулами смущала Заманчиво-невинных угощений: То проса золотого рассыпала, А то горох подбрасывала в сени.
Собака уходила далеко
И петушку наказывала строго На обещанья лисьи ни за что Не отвечать и не сходить с порога.
III
Уговоры лисьи были тонки — Нежные и вкрадчивые сказки, С петухом она, как мать с ребенком, Хитрость перемешивала с лаской.
Говорила: «Другты мой цветистый, О тебе тоскую и мечтаю;
С горячо-влюбленным любопытством Я твои привычки наблюдаю.
У тебя такая стать и поступь, А в глазах такая честь и гордость, Что без колебаний, неотступно, Твоему величью я покорна.
Выйди, ненаглядный, на крылечко Моего отведать угощенья...» А петух, скруглив глаза колечком, Слушал с простотой и удивленьем.
Никогда речей таких не знал он От своей заботливой подруги, Скромной на посулы и бахвальства, В обхожденьи сдержанной и строгой.
«Если вправду полюбился крепко Я такому ласковому зверю, —
319
Думает петух, - то было б грех мне Отказать ему в моем доверьи.
Я собачьей дружбы не унижу, Не нарушу верности границы, Если спрыгну из окна наружу - Познакомлюсь, поклюю гостинца».
Долго ли оконцу отвориться, Сердцу потянуться в нетерпеньи - И объятья цепкого лисицы На себе он чувствует давленье.
Голова у петушка кружится -
Не дыхнуть и не промолвить слова; Чувствует - несет его лисица Прочь от обиталища родного...
IV
Быстро бежит лиса,
Добычу закинув за спину.
У петуха в глазах Хвои колеблется занавес.
Он ощущает сердца комком,
Бьющим по жилам твердо, Как с каждым широким лисьим прыжком Он отдаляется от дому.
Чувствует - истончается связь С жизни теплом и уютом...
Он закричал, и в ушах отдалась Боль плоти и боль разлуки.
Черезо все холмы и леса
Он закричал в последнюю мочь: «Уносит, уносит меня лиса За дальние дали - уносит прочь...»
Звучала в голосе острая боль Утраты тепла и любви -
320
И услыхала отчаянный вопль Собака в лесной дали.
На помощь бросилась впопыхах, Как тень, гналась за лисой, Нагнала - отняла петуха И принесла домой.
Снова, как не бывало ни в чем, Зажили два дружка.
Ужас истерся тяжелым сном Из памяти петушка...
V
Страх испарился в одно лишь мгновенье Из петушиных мозгов, Так что собаке свои поученья Пришлось начинать с азов.
Пришлось повторять запреты, Напоминать об опасностях, Доказывать, чем чреваты Лисьи посулы и сладости.
Но только ЛИСИЦЫН голос Опять под окном послышался - Как в петушиной душе проснулось Прежнее любопытство.
И легче еще, чем первый раз, Сманила лиса его из дому.
И снова с добычею понеслась, Широко по лесу прыгая.
И петушиный отчаянный крик На резких, высоких нотах - Опять в пространстве лесном возник И разлетелся далеко.
Но то ли собака не услыхала, То ли прежней любви надежду
321
Потеряла - не побежала Она опять по лисьему следу.
И вот несет петуха лиса, Быстро мчит по холмам и оврагам; Качается небо в его глазах, Точно огромная колымага.
Мелькают ветви, травы и пни, Перья цепляют сучки и прутья... Крикнет петух, и летит его крик Под облака к голубым перепутьям.
Бьется и жалобно плачет петух. Зовы его звучат все глуше.
«Несет лиса...» Занимается дух В горле от крика и спазма распухшем.
Все дальше несет лиса петуха, Все меньше небес, теснее деревья...
Он замер и ждет, чтобы кончил мелькать В глазах его мчащийся мир поскорее.
9 ноября /95/
КРАСНАЯ ШАПОЧКА
1
Красная Шапочка шла по тропе, По коврику прелых листьев, - Шла, осторожно держа в руке Корзиночку для гостинцев. Она не боялась лесной тишины, Ни того, что дорога Уходила в темь глубины Мрачного царства лесного. Ее не пугали шумы в кустах, Только само сердечко От безотчетно-безвестного страха Звякало, как бубенчик. Двигались ножки ее уверенно,
322
Обутые в туфельки с пуговкой. Две косички висели чинно, Заплетенные туго-туго.
Красная Шапочка долго шла — В зрачках ее расширенных Леса туманилась глубина Густая, зелено-синяя.
Перед ней вставали стволы Прямые и величественные, Вверху, далеко от ее головы, Исчезающие между листьями.
II
Волк подбежал, как большая овчарка, Поджарый и рыжеватый.
Увидев его, Красная Шапочка Остановилась и чуть не заплакала. Волк поглядел — точно спросил: «Куда ты идешь, девочка?» И морду свою потешно скосил На бок, по-человечьи.
Улыбнулась Красная Шапочка И сказала: «Собачка, здравствуй!
У нас вчера захворала бабушка, Мама ей приготовила завтрак...» Волк понюхал корзинку И ответил: «Я не собака».
Девочка, сообразив ошибку, Вздрогнула и заплакала. Ее уверяли все, что теперь Волки бывают только в сказках. И вот, неожиданно, сказочный зверь Зло перед нею зубами лязгал.
Лязгал зубами - точно спрашивал: «Скажи мне, где живет твоя бабушка?» - «Там в лесу». И Красная Шапочка Повела боязливо пальчиком.
Быстро волк побежал вперед. Девочка плакала в страхе-раскаяньи. «Зачем показала дорогу? Найдет
323
Бабушку волк и съест обязательно». Она не знала - то л и назад Броситься ей, рассказать все толком Маме - то ли быстрей добежать До бабушки, раньше страшного волка.
III
Быстро бежит по лесной тропе Красная Шапочка запыхавшись. Бежит и крепко держит в руке, К груди прижимая, бабушкин завтрак. Стволы расступаются перед ней, Точно вежливые прохожие. Оглянется - сзади тесней и тесней Деревья стоят, толпясь настороженно. Она бежит, и ей чудится - волк Прыгает там впереди через чащу. Зубы, острые как иголки, Торчат из его раскрытой пасти. Скачет волк сквозь лесные дебри. Гнутся под ним кусты услужливо. Чудится девочке — близко двери Маленькой бабушкиной избушки. * Вот он стучится: «Открой, пожалуйста, Я твоя внучка, с завтраком вкусным!» Неужели ж обманется бабушка, Двери откроет и волка впустит?
IV Красная Шапочка подбегает к домику, С личиком красным, как самая шапочка. В комнату дверь отворяет легонько, Где всегда сидит ее бабушка.
Бабушка спит — точно тихо слушает. «Бабушка, волк, настоящий волк, Из лесу бросился к нам вот только что, Лязгал зубами, хотел тебя скушать!» Проснулась бабушка, «Что ты, детонька, Так испугалась и запыхалась? Какие волки — волков ведь нету,
324
Волки бывают только в сказках».
Но Красная Шапочка так отчетливо Видела волка, настолько прочен Был ее страх и так работала Ее фантазия безостановочно, Что чудилось ей - вскочив в избушку, Волк схватил и скушал бабушку, Лег потом на ее подушку, Точно бабушка взаправдашняя... Ей кажется - в бабушкиных глазах Бегают волчьи огонечки;
Она говорит и косится так, Как прежде косилась морда волчья. Улыбается бабушка, и во рту Светятся зубы - длинные, острые... Бросает Красную Шапочку в жуть, И в дрожь, и в жар, и в мороз... «Бабушка, бабушка, зачем это Глаза у тебя такие жгучие?» Ей чудится - та говорит: «Мой светик, Затем, чтобы видеть тебя получше». — «Бабушка, бабушка, а зачем У тебя такие длинные руки?» И будто она ей в ответ: «Затем, Чтоб крепче обнять тебя, милый друг мой». - «А острые зубы?» И слышит - волчьим Ей отвечает бабушка зыком:
«Чтобы съесть тебя!» — «Ай!» И больше Красная Шапочка ничего не слышит...
V
Проснувшись, она увидела рядом С бабушкой свою любимую маму. Обе глядели на девочку ласково, Мама ей косички разглаживала. Страха не оставалось в груди абсолютно, Лежать было очень легко и уютно. Девочка не удивилась ничуть Присутствию мамы в доме бабушки. Она намерилась было уснуть
325
Снова, как вспомнилось вдруг вчерашнее. Вспомнился страшный волчий оскал... Она, как могла, сказала спокойно: «Волк, который меня напугал, Со мной говорил человечьим голосом». Сказала и зажмурила веки крепко, Под теплом материнской ласки. Мама ответила: «Спи, моя детка. Волки бывают только в сказках».
Красная Шапочка вздохнула, Протестуя в сонном сознаньи: Волки, увы, она не придумывала, А убедилась — вправду бывают. И под любовно-сонным наркозом Уж ей не казалось страшным ничуть. Что зверь, повстречавшийся ей в лесу, Мог говорить человечьим голосом.
27 ноября 1951
КОЛОМЕНСКОЕ
1
Теперь лишь, когда на большом расстоянья’ Гляжу на шумливой Москвы разнобой, Где рядом с высотами зданий из стали Старинных фронтонов приземистый строй —
Мне ясно значение архитектуры Как фона моих впечатлений былых: Она предстает, как большая натура, Просторный театр воплощений живых.
И в прежней судьбе, как на гладкой ладони, Культуры гармонией и стихий, Стоит, как нетронутый камень, Коломенское - Торжественный центр фестивалей и игр.
Где праздник широкий и яркий искусства, Надежды и дружества пенистый пир,
326
Приподнято-грустный уют одиночества - Я многие годы искал-находил.
2
Гам на зелено-гладком взгорье, Москвой-рекой обрамленная, Глядит на дальние просторы Царица белокаменная...
Царица всех церквей-подруг - Она шатер свой выспренний Налип широкий полукруг, На всю округу выставила.
И линии ее остро
Пространство режут наискось, Вздымаясь стрельчатым костром Углов, комар и апексов.
Весь этот вызов небесам
Упрочен долговременно И опоясан по низам Пространной галереей,
С которой вид широк и чист Надали и покосы, И где высокое стоит Из камня кресло Грозного.
С него я озирал вокруг Заречные окрестности, И на меня спускался дух Неумиренной древности...
3
Когда я, сидя на каменном стуле,
Грезил в заречную синеву,
Образ Грозного, созданный в литературе, Отступал перед ведомым мне одному.
327
Я ощущал в себе славу опричнины, Истреблявшей боярский дух на Руси, Душившей фронду, измену, неметчину И исходившей в гневных усильях.
Мне казалось, что та нервозность, С которой я продираюсь сквозь жизнь, Кипит во мне наследием Грозного И в каждом жесте моем сквозит.
Я в себе чувствовал ответственность За репрессии, лютость и мщение, Обагрившие кровью веси, Грозным отданные земщине.
Злобой его роковой дыша, Плача о толпах людей загубленных, Грозного пышет во мне душа, Его огнем ненавидит и любит...
4
Я посвящал моих друзей В коломенские вдохновенья, Их провожая по стезе, Ведущей к церкви Вознесенья.
Я помогал им воспринять Ее как подлинное чудо. Они, я знаю, не забудут Внезапных откровений сласть,
Когда за разговором, вдруг, Из-за дуги надвратной арки Искусства радостным подарком Она нам преграждала путь, Бросая судорожно в грудь Волнений неподдельных яркость.
Ее шатер венчал для нас Для всех содружества устойчивость, Поэзии шальную власть, Звучавшей здесь, чем дома, звонче...
328
Так вехой жизненной стоит Она в моих воспоминаньях, Над тайной взлетов и камланий Святой религии любви.
5 Вижу Коломенское глубоко тонет В индустриальном пейзаже предместья, Но верю - Москва его не тронет, В сердце своем оставляя место.
Вижу друзей моих паломничества К этому саду любви и славы. Высоко стоит в душе Коломенское, Своим шатром блестя величавым.
Оно на памяти так отчетливо, Что воздух речной еще свеж в груди, И как судьба ни грозит поворотами, Его сиянье все впереди.
24 мая 1951
ГИПЕРБОРЕИ
1 В гамме ярких цветов Средиземного моря, В вечном празднике красок и тонко очерченных форм, Люди жили в бездумьи, в войне, в социальном раздоре, В напряжении нервном, себе и соседям в укор. Создавая шедевры бессмертных усилий искусства, До сих пор приводящие в трепет живые сердца, Люди злобой дышали, плодили ущерб и убийства, Подымался сосед на соседа и сын - на отца. В душно-пьяном угаре поэзии тонкой и брани Политических партий, в контрасте роскошных дворцов, Разукрашенных золотом, костью слоновой и тканями Экзотических стран, - со зловонием ям для рабов, Люди очень страдали. Метались в напрасных надеждах, Жили в поисках страстных исхода из нравственных бед И мечтали про век золотой, про времен благоденствие древних,
329
Прославляя племен первобытных простой и безгорестный быт. Их мечты уносились к снегам и туманам - на север, К скифским далям, где жил справедливый и честный народ, Не знававший ни рабства, ни душу калечащих денег, - Пролагавший любовью и строгостью людям дорогу вперед.
2 На берегах Арктического моря, За грозно величавыми горами, Снег покрывает землю мертвым слоем С ее долами, водами, лесами.
Там краски бледны, но легки и нежны, В минутных сочетаниях богаты; Там долги вечера и сине-серы, А утра поздние молочно-розоваты. Там в простоте живут гипербореи, Привычные к холодному простору, И на морозном воздухе синеют Живым огнем и теплотой их взоры. Они суровой радуются жизни - Бросают в землю золотые зерна, Червонными колосьями пшеницы Просторы их колышутся, как море. Законы их сурово справедливы: Они не знают ни проклятья рабства, Ни хитрого торгашества — счастливы В своем простом трудолюбивом братстве. Не знают ссор, ни войн междоусобных, — Живут в глубоком долговечном мире, И слава о народе этом, гордом Своей судьбой, разносится все шире. Соседи почитали их святыми, Дивились их спокойствию и ладу, И в идеал себе установили Гиперборейский нравственный порядок.
3
В Элладе - древней жизни пышном стане - Была светла гипербореев слава.
Их мудрости глубокой основанья
330
Философы профанам открывали. Рабы и бедняки мечтали тайно О жизни справедливой и свободной; Молились перед древним истуканом В унынии, неволе и невзгоде. Болезнью века мучась и болея, Про скифские свободы и законы Наслышаны, они в Гипербореях Желали видеть бога Аполлона. На достославном острове Делосе Жрецы в святилище многоколонном Заступника рабов и угнетенных Рассказывали мифы монотонно О том, как Аполлон на чудном грифе Спешил зимой в страну гипербореев, Где культ его живой и простодушный, Основанный на жизни справедливой Счастливейшего скифского народа, Дороже богу самой пышной помпы, У алтарей делосских учрежденной. Жрецы старинный помнили обычай, Оставленный лишь за враждой всеобщей: Благочестивый дар гипербореев, Обернутый в пшеничные колосья, Народы каждый год передавали Как некую святую эстафету Из глубочайших Скифии урочищ На праздничный, озолоченный Делос. Гипербореи дар несли будинам, Будины отдавали савроматам, А савроматы ближним фиссагетам; От фиссагетов попадал к фракийцам Тот дар - к народу, родственному грекам.
4
Так все соседи честь гипербореев И славу их святой и строгой жизни, Высоко подымая и лелея, По миру далеко распространили. Мужи гиперборейские и жены, Обетом приведенные на Делос,
331
У греков чтились вместе с Аполлоном — Рабы как божествам им поклонялись, С пасителя м -богам простон ародн ы м...
Делосские жрецы того не знали, Что по прошествии тысячелетий Опять с гиперборейскими дарами Сосед соседом с честью будет встречен. И вновь гиперборейские законы Свободной жизни без войны и рабства Торжественной мечтою миллионов Из уст в уста начнут передаваться.
И снова наш народ, как предки скифы, В суровом и простом своем примере Предстанет миру благостным и чистым От ненависти язв и лицемерья.
16 ноября 1951
Лагерная лирика
♦ ♦ *
Ты себя не чувствуешь в ответе За мою жестокую судьбу.
Твой, еще не возмущенный, светел Взгляд - звезда чудесная во лбу.
Взгляд - сиянье фар необычайных, Призмой ненадломленный слезы, Не подернутый бельмом печали, Сердца не мутимый мертвой зыбью...
Ты еще себя не мнишь в ответе
За мое ущербное соседство, Но в тебе уже растет, заметен, Знаком ущемленного кокетства
Сдержанности холодок и строгость... А в улыбке - прикусив губу,
332
Чую я прелюды и залоги Тайной скорби за мою судьбу.
2 августа 1953
♦ * ♦
Я дочь мою помню забавным зверьком. Живым и смешливым младенцем. Отцовского чувства нормальный синдром В моем не означился сердце.
Она мне была малолетним дружком, Мы ссорились с нею и ладили.
Родные меня попрекали на том, Что я не гожусь в воспитатели.
И правда, я не владел абсолютно Условностью псевдо-ребячьей, И с нею, как с ровней, держался круто, Истины глаз от нее не пряча.
Она обнаруживала смышленость И чувств остроту в моральной области - Когда видала меня огорченным, Жалея, ласкала и гладила волосы...
Потом война развела нас надолго... Вернувшись домой, в высокой девочке, Упрямо-неряшливой замарашке, Я не признал не только дочки, Но и прежней своей подружки.
Не помирившись до новой разлуки, Расстались мы с ней едва ль не навек — Все резервы и все уступки, Припасенные ей, отношу к тебе.
Прощаю упрямство, взгляды предвзятые, Сопротивление новому, трудному; Люблю за природные ум и изящество, За такт и очень большое мужество.
333
Преклоняюсь перед самостоятельностью, Взрослостью, умеряемой простодушием. Глаз из души идущим сиянием. Облика нежностью и воздушностью.
Глядеть не могу на тебя без слез И без остро-глубокой радости; Плотью своей тебя чту от волос До ногтей, и костью от кости.
Ты мне скажешь, что все это вздор, Обездоленного воображенья вольность, Прикрывающая разницей возраста Смущаемую влюбленность.
Пусть это даже так действительно — Не отступлюсь от любви всеобъемлющей, От влюбленности, глухо дремлющей И в обыденных чувствах родительских.
Ты для меня потому и дочь,
Что я любуюсь каждым жестом, Каждым взглядом твоим, точь-в-точь, Как бог своей неневестной невестой. /
Она ведь тоже была ему дочерью... Пусть считают меня изувером — Я преклоняюсь перед непорочной, Трагически-сладкой любовью Мольера...
6 августа 1953
♦ ♦ ♦
Мучимый двойственным чувством,
Я измеряю радостно, Но больше чем радостно — грустно — Глубину моего неравенства.
Тебе со мной не дозволены Самые скудные нежности, А жалости обусловлены Ничтожнейшие возможности.
334
Было б, конечно, к лучшему Чтоб мы никогда не сблизились — Тебе не пришлось бы мучиться, Слез на губах облизывать.
А мне не грозило б раскаянье, Что сбил тебя с панталыку И в скромной, наивноликой Раздул трагический пламень;
Обрек на одностороннюю Любовь, с непомерными жертвами, Которых осуществление Ограждено запретами...
Нет, лучше пусть все получится Обыденней и спокойней - Хоть где-то в груди и крутится Протеста железный шкворень:
Не мне б тебя видеть скованной, В наручниках равнодушия, Расчетливой и послушной Бессмысленно-злым условностям.
Отважившись на несчастную Любовь и на отщепенство, Ты стал а бы у причастия Мучительного блаженства.
Как истовая раскольница И гордая декабристка, Звалась бы в числе любовниц Неистовых и пречистых —
Трагических русских женщин, Подвижниц и утешительниц, Возвысивших силу преданности До границ головокружительных...
Ясно вижу всю твою стать В этом жертвенном апофеозе,
335
И горячей радости слезы
Не могу ни скрыть, ни сдержать...
Плачу и думаю - лучше иль хуже, Что не дано тебе этого куша Счастья, взалканного самыми выспренними? Мыслимо ль тебе это вынести?..
8 августа 1953
♦ * *
При взгляде на тебя через витраж
Окна, представилось мне, точно выше ростом Ты, привлекательная больше, чем вчера, Богатая теплом и превосходством.
Как будто на твою любуясь стать, Моих в тебе кровей я ощутил кипенье, — Так, точно проявляя нетерпенье, Природа двинулась путями торжества;
Как будто бы была и вправду дочь, От плоти ты моей и по душе мне, И видел я в тебе себя точь-в-точь, Как в юности, но много совершенней.
Все глядя на тебя, как нищий рёге Goriot ‘, Не мог я от тебя глазами оторваться.
Все лучшее мое должно в тебе собраться — Последнего тепла мое добро...
?0 августа 1953
♦ * ♦
Горсть голубики чудесных ягод, Иссиня-черных и винно-терпких, Жизни несущих благо и сладость В своих прохладных и влажных клетках,
’Отец Горио.
336
В руки мои из рук перепала Таких хороших идружески-чутких, Что я подумал - если б ты знала, Как горько, что не твои это руки...
Жизнь у тебя столь тесно заполнена Той суетой, для которой я мертв, И так ее захлестнута волнами, Что рядом мы, как за тысячу верст.
До ягод ли - я это понимаю, Не обижаюсь на твой недосуг, Недоумения боль вызывает Во мне одно лишь несходство рук...
12 августа 1953
♦ ♦ *
Вожу тебя подлинным галереям, lie происходят фестивали красок, И из блестящих рам на нас зияют Глазницы и гримасы пестрых масок.
И точно стон стоит разноголосый, Как будто плачут, прыгают, хохочут, Как ведьмы, развевающие косы, Перед глазами яркие полотна.
Ты за руку берешь меня опасливо - Перед лицом необычайных зрелищ. Глаза уже устали и погасли, На этот чувств стоцветный бунт глазея...
Я ближе подвожу тебя к портрету - Смотри на облик бледно-величавый: Какая кружев дрожь, какого цвета Шелков перегорающее пламя!
Смотри, смотри сожженными глазами! Ты в ужасе, что ничего не видишь?
337
Но краски вспыхнут, отлежавшись в памяти, - Пестры и ярки, мрак сует раздвинув...
15 августа 1953
* * *
На меня давно никто не глядит.
Ко мне обращаются только с нуждами.
И когда я ищу в глазах у других Внимания — наталкиваюсь на равнодушие.
Чувство фатально и смертно страшное Для отдающего жизненный пыл Любопытству, как долгу всегдашнему По отношению ко всем другим.
А твоего равнодушья угроза
Мне страшней перемноженных посторонних. Его гомеопатическая доза
Весь смысл и строй вселенной коробит
И отравляет мой оптимизм -
Веру в тебя, как в воплощенье Установлений моих священных, / Принятых ради любви и жизни.
Как это можно быть равнодушной
К обездоленно-безутешному, К тому, кто все порывы желаний Подчиняет твоим малейшим движеньям,
Умиляется тени твоей улыбки, Огорчается мимолетной хмури И всерьез, а не балагуря, Живет одними твоими молитвами?
Твое внимание и участие
Рыцарю чувств этих — очень много. Он воздаяний не ждет от бога, От тебя же их принимает, как счастье.
18 августа 1953
338
♦ ♦ ♦
Как ведуны своих питомцев Учили птичьим голосам, Так и тебя сподобить должен Я чужестранным языкам.
Чтоб стал приветливей и шире Твой мир, и книги за семью Печатями тебе открыли И ложь и истину свою;
Чтоб опыт нежности, взращенной Для экзотических сердец, Был передан тебе, смущенной Обильем приворотных средств;
Чтоб ты сама могла умножить Число ласкательных, едва Почувствуешь, что невозможно Жить ограниченной в словах...
/ 9 августа 1953
♦ * *
Тебе неприятно ко мне приходить - То ли неловко, то ли тоскливо. А я все жду и жду терпеливо — Нету? Ну что же - могу погодить...
Не день погодить, не два и не месяц, А дольше, дольше, гораздо дольше. Мне все равно только то и светит Солнце, что ты особою приносишь.
Нет для меня живого блеска
Ни в чьих глазах. Коснею в тумане, Где, точно в древнем аду, бестелесно Кружатся тени воспоминаний.
Тоске твоей глубоко сочувствую. Согласен - лучше бы быть подальше
339
Тебе от меня, но цепкой грустью Привязан к тебе, как к матери мальчик.
Каждый раз ты со мной прощаешься С тем, чтобы не вернуться больше. Но тебя приводят вновь обстоятельства, Неподвластные нашей воле.
И видя, как ты, при всем отчуждении, Не можешь никак от меня оттолкнуться, Я себя чувствую чародеем, Которому ход вещей повинуется.
Я понимаю - старый колдун - Искусство мое меня ж сильнее, И в гипнотическом оцепенении, Как жертву паук, стерегу твою душу...
20 августа 1953
Мы рядом, но ты далека, точно жизнь, Шумящая по городам и просторам. Мы рядом, но пропастей всех и пустынь На свете не хватит, чтоб высветить прорву, -
Бездонную топь роковой пустоты. Что навек и намертво нас разделяет. Ты рядом, как громкая слава чужая, Над горьким сознаньем моей немоты.
И я, как по жизни кипучей и острой, В тоске исхожу при тебе, за тебя — Чтоб за руку взять, приласкаться иль просто Улыбки теплом отразиться в глазах.
Мне надо сначала из мертвых воскреснуть, Поправ безнадежность свою и твою, Воспрянуть в тебе ослепительным блеском. Каким только звезды секунду живут.
22 мая 1954
340
*♦*
Я замечаю много недостатков - Физических, моральных и иных. И вовсе не прощаю их, но как-то Они нимало не вредят любви.
Они не только чувств не умаляют, С которыми к тебе я устремлен, Но жалости и горечи сознанье Вздымает к небу нежности циклон,
Во мне все раздувающийся шире. Напрасно риторически искать Основ того, что властвует в отборе,
В инстинкте, в том, что кровью чует мать -
Мать-человек ли, дерево ли, птица ль.
Любви всематеринской торжества Порукой то, что каждая частица Моя к тебе наполнена родства.
31 мая 1954
♦ * ♦
Об одолженьи попросила с легкостью Сознанья, что ни в жизнь не откажу.
Так и должно быть: с доблестью в сообществе Доверие и искренность живут.
Так и должно быть, оттого не следует Давать тебе к сомнению толчок: Далеко ли моя заходит преданность И вправду ль от корысти я далек?
И говорить не надо в назидание,
Что всякий долг нам красен платежом, Хоть с этим стародавним достоянием По-прежнему мы скаредно живем.
Хотелось бы, чтоб так ты и уверилась: Бывает в радость преданность сама —
341
И пользовалась ею без зазрения, Как ласками небесного тепла.
/ июня 1954
***
Вот они руки твои - отчего
К ним устремляется вся моя нежность? Грудь отворяется - к самому сердцу Хочется их примостить глубоко...
В самую душу, туда, где щемит Сладкая горечь и горькая радость, Чтобы объять их и жарко омыть Крови и ласки мучительным ядом.
Есть среди рук незабвенно-родных
Руки нежней и изящней твоих, Но ни желанней, ни жалостней нет, Чьи бы на сердце мечтал отогреть.
3 июня 1954
* ♦ ♦
В безумии сердце, в безумии сердце.
Оно расходилось, как зыбкое море;
Оно воплощает безумие жизни, Стремясь соответствовать общим пропорциям.
Мне больно в груди от сердечных ударов,
Как страшно от взрывов, как больно от страха, Но, будь моя воля, его подхлестнул бы И биться велел ему громче и чаще.
Любуюсь я страстно-расширенным взглядом На мир и безумным люблю его сердцем; Люблю тебя сердцем безумно-огромным, Расширенным до габаритов вселенной.
Всей негой отцовской, всей лаской любовной, Шумней и сильней отдаваясь по жилам, К тебе мое сердце безумное рвется. В тебе отдается ль оно, детонируя?
342
В тебе и во всем обезумевшем мире - Прекрасном, как ты, бесконечно любимом. Таком недоступном, таком безотзывном Для сердца, растущего вширь до разрыва...
Июнь 1954
* * *
Все ищет твоего вниманья Во мне уже который срок. Терзает зуд негодованья, Занозой дергает упрек...
Но я, как на буруны масло,
Лью слез бальзамы на прибой Своекорыстия: согласно Мое строптивое с тобой.
Мое ретивое довольно,
Что твой порыв не удержать И что, как птица, бесконтрольно Ты можешь чувства устремлять.
Мне б ни секунды не был светел Без искры любопытства взгляд. Я рад, что ты живешь на свете, - Легко и бескорыстно рад.
Июнь 1954
♦ ♦ ♦
Вывести стараюсь Эвридику
Я на свет из вечной темноты, В этом настоянии великом Мне мешаешь неуклонно ты.
Обернувшись с нетерпеньем, вижу
Я твои, а не ее глаза;
Руку протяну, а ты все ниже Отступаешь от меня назад.
И мое отчаянье взмывает Гневно-истерической волной;
343
Я мои обиды проклинаю, Горько пережитые тобой.
И опять бреду за Эвридикой
Вниз по подземелиям глухим, Чтобы снова, обернувшись, с ликом Встретиться мучительным твоим,
Чтобы снова оттолкнуть и бросить Тень твою в бесчувствие могил - Точно только об одном и просишь Ты, чтоб я к тебе не подходил...
28 ноября 1954
* ♦ ♦
Ты как бы стоишь в моих глазах — Столь в упор зрачков твоих сиянье, Явственно шершавит на губах Век непроизвольное дрожанье.
Нежный шелк я чувствую волос, Их мускатно-муравьиный запах, В непролазном сенокосе кос Плечи я и голову упрятал.
Ты вошла в меня как бы сама Вольно - без приводов и усилий. Чувств твоих, повадок и ума Пью - не испиваю эликсиры.
28 ноября 1954
ПРИЛОЖЕНИЯ
Краткая историческая справка
о научных институтах и журнале «Вестник древней истории», в которых Л.А.Ельницкий работал как внештатный сотрудник.
Институт археологии АН СССР
1919 - РАИМК - Российская академия истории материальной культуры, создана в Петрограде на основе Российской Императорской археологической комиссии.
1926 - ГАИМК — реорганизована в Государственную академию истории материальной культуры. МОГАИМК — Московское отделение.
1937 - ИИМК АН СССР - преобразован в Институт истории материальной культуры. Располагался в Ленинграде. МОИИМК- Московское отделение.
1943 - Институт переведен в Москву. В Ленинграде остается Ленинградское отделение.
1957 - переименован в Институт археологии АН СССР (сейчас РАН). Находится в Москве, на ул. Дмитрия Ульянова, 19.
Директорами института были:
Греков Б.Д. 1943-46 гг.
Удальцов А.Д. 1946-56 гг.
Рыбаков Б.А. 1956-87 гг.
Наиболее тесные связи Л.А.Ельницкий имел с сотрудниками института А.П.Смирновым и Б.Н.Граковым, которые возглавляли в разные годы скифо-сарматский сектор.
Институт истории АН СССР
Институт истории АН СССР создан в 1936 г. в Москве. Располагался в здании на Волхонке, 14, с 1960 г. — на ул. Дмитрия Ульянова,
19. В 1968 г. Институт разделен на Институт истории СССР АН СССР (современное название - Институт российской истории РАН) и Институт всеобщей истории АН СССР (РАН).
Л.А.Ельницкий сотрудничал с сектором древней истории этого института, заведующим которого на протяжении многих лет был С.Л.Утченко. Этот же сектор курировал издание журнала «Вестник древней истории».
345
«Вестник древней истории»
Журнал «Вестник древней истории» - издание Института истории АН СССР (сейчас - Института всеобщей истории РАН). Основан в 1937 г. А.С.Сванидзе.
Л.А. Ельницкий был постоянным внештатным сотрудником ВДИ с момента его основания. Здесь были опубликованы его первые научные работы, и в дальнейшем на страницах журнала регулярно публиковались его статьи, библиографические обзоры, аннотации иностранных журналов. В 1940-х гг. он участвовал в переиздании хрестоматии В.В.Латышева «Известия древних писателей о Скифии и Кавказе», которая публиковалась в приложении к «Вестнику». Здесь же в 1978-79 гг. были опубликованы последние его крупные работы - переводы из «Моралий» Плутарха.
Библиография работ Л.А. Ельницкого
Опубликованные научные работы1 .*
7925
1. Династия Романовых. Харьков, 1925.
1937
2. Новый источник географии древнего Северного Причерноморья // ВДИ* 2. 1937. № 1. С. 240-246.
3. [Карты подревней истории]. М., 1937-1938. (Выпушены отдельными листами, 9 карт).
1938
4. Раскопки в Дура-Эвропос// ВДИ. 1938. № 2. С. 170-176.
5. Археологические раскопки в Греции и Восточном Средиземноморье за последние годы // ВДИ. 1938. № 2. С. 194-223.
6. Из исторической географии древней Колхиды // ВДИ. 1938. № 2. С. 307-320.
7. «Кембриджская древняя история» // ВДИ. 1938. № 3. С. 276-297.
8. Аннотации иностранных журналов за 1937 год// ВДИ. 1938. № 4. С. 229-234.
1939
9. Л.Е. Новая иностранная литература по древней истории // ВДИ. 1939. № 1.С. 207-215.
10. Обзор археологических открытий в области Западного Средиземноморья // ВДИ. 1939. № 1. С. 223-248.
11. Обзор археологических открытий в области Испании, Римской Гкллии и Британии за последние годы // ВДИ. 1939. № 2. С. ISO- 164.
12. [Рецензия на:] А.И.Амиранашвили. Новая находка в низовьях реки Ингура. Тбилиси, 1935// ВДИ. 1939. № 3. С. 161-163.
13. Аннотации иностранных журналов за 1938 г. // ВДИ. 1939. № 4. С. 133-143.
1940
14. Обзор иностранных историко-археологических журналов за 1939 г. // ВДИ. 1940. №2. С. 142-154.
15. Новая надпись Ксеркса // ВДИ. 1940. № 2. С. 168-172.
16. Из новейшей литературы об этрусках // ВДИ. 1940. № 3-4. С. 215-221.
17.0 боспорских амфорных клеймах// ВДИ. 1940. № 3-4. С. 318-324.
’Библиография составлена на основании интернет-источников и материалов домашнего архива. В ней не учтена редакторская работа Л.А.Ельницкого и ряд стагей, о которых не было точных данных. Монографии в списке выделены жирным шрифтом.
2Вестник древней истории.
347
1941
18. Фосс М.Е., Ельницкий ЛА. О добывании камня и о древнейших каменоломных орудиях на севере Восточной Европы // Материалы и исследования по археологии СССР: Палеолит и неолит СССР. №2. М.-Л., 1941.
1946
19. Историческая тематика и новые пьесы об Иоанне Грозном // Знамя. 1946. № 1.
20. Из истории эллинистических культов в Причерноморье (Дио- нис—Сабазий) // СА1. VIII. 1946. С. 97-112.
21. Ельницкий Л.А., Кудрявцев О.В. Обзор иностранных историко-археологических журналов// ВДИ. 1946. № 2. С. 143-155.
22. Обзор иностранных историко-археологических журналов // ВДИ.
1946. №3. С. 143-153.
23. Результаты американских раскопок Трои // ВДИ. 1946. № 3. С. 209-220.
24. Олбрайт В.Ф. Третий пересмотр древней хронологии Передней Азии / Пер. Л.А.Ельницкого // ВДИ. 1946. № 4. С. 26-32.
25. О социальных идеях Сатурналий // ВДИ. 1946. № 4. С. 54-65.
26. Л.Е. Памяти академика В.В.Латышева // ВДИ. 1946. № 4. С. 166-167.
27. Л.Е. Памяти академика В.П.Бузескула // ВДИ. 1946. № 4.
с. 170-171. ;
1947
28. Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ.
1947. №№ 1,2,3,4;
1948. №№ 1,2, 3,4;
1949. №№ 1,2,3,4;
1952. № 2 (дополнения).
Научный аппарат проверен и дополнен Л.А.Ельницким.
29. Олбрайт В.Ф. Косвенный синхронизм между Египтом и Месопотамией около 1730 г. до н.э. / Пер. Л,А.Ельницкого // ВДИ. 1947. N» 1. С. 36-45.
30. Искусство древних этрусков (новые издания памятников) // ВДИ.
1947. № 1.С. 126-135.
31. [Рецензия на:] Градостроительство. Под ред. В.Шкварикова. М., 1945. 327 с. Ц ВДИ. 1947. № 2. С. 81-84.
32. Легендарная история колонизации Сицилии и Великой Греции // ВДИ. 1947. № 2. С. 114-123. (Обзор двух работ иностранных авторов).
’Советская археология.
348
М.Л.Е., Я.Л., Н.П. Обзор иностранных историко-археологических журналов// ВДИ. 1947. № 2. С. 139—149.
34. Эпиграфические новинки из Керчи / ВДИ. 1947. № 3. С. 205-208.
1948
35. Этруски и греки (эллинизация Италии) // ВДИ. 1948. № 1. С. 133-138. (Обзор двух работ иностранных авторов).
36. Некоторые проблемы истории скифской культуры (о книге Б.Н.Гракова «Ск1фи», Кжв, 1947)// ВДИ. 1948. № 2. С. 95-101.
37. (Рецензия на:] Проф. С.А.Семенов-Зусер. Скифская проблема в отечественной науке: 1692-1947. Харьков, 1947. 192 с. // ВДИ.
1948. №4. С. 109-116.
38. Л.Е. Обсуждение «Всеобщей истории архитектуры», т.1 // ВДИ. 1948. №4. С. 132-134.
1949
39. Из эгейской хронологии эпохи бронзы (в связи с пересмотром
некоторых дат древневосточной истории) // ВДИ. 1949. 2.
С. 263-266.
40. Киммерийцы и киммерийская культура (в порядке обсуждения) // ВДИ. 1949. №3. С. 14-26.
41. Подпись под статуей из Анапы // ВДИ. 1949. № 4. С. 132-136.
1950
42. (Рецензия на:] Т.С.Пассек. Периодизация трипольских поселений. МАИ, № 10. М.-Л., 1949.245с.// ВДИ. 1950. № 1. С. 139-143.
43. ЕльницкийЛ.А., Капошина С.И. Вопросы древней истории в «Кратких сообщениях ИИМК», вып. XII-XXV (1946-1949 гг.) // ВДИ.
1950. №1. CJ43-154.
44. Северочерноморские заметки (по следам новых публикаций и исследований) / ВДИ. 1950. № I. С.188—197. (4 отдельных заметки).
1956
45. Л.Е. Библиографические заметки и краткие аннотации // ВДИ. 1956. №3. С. 93-105.
46. Л.Е. Новейшие открытия в области античной археологии // ВДИ. 1956. №3. С. 159-162.
47. Л.Е. Новейшие археологические находки на Ближнем Востоке// ВДИ. 1956. №4. С. 167-168.
1957
48. Л.Е. Краткие аннотации. Новая иностранная литература подревней истории Ближнего Востока// ВДИ. 1957. № 1. С. 171-182.
49. Л.Е. Новая зарубежная литература по истории Греции и Рима (краткие аннотации) // ВДИ. 1957. hfe 2. С. 220-231.
50. Л.Е. Сессия Отделения исторических наук АН СССР и пленум ИИМК АН СССР, посвященные результатам археологических и 349
этнографических исследований (25—30 марта 1957 г.)// ВДИ. 1957. № 2. С. 232-235.
51. Л.Е. Из новой югославской литературы подревней истории (краткие аннотации)//ВДИ. 1957. №4. С. 189-199.
52. Из новейшей зарубежной литературы по археологии доримской Италии//СА. 1957. №4. С. 212-221.
53. Из истории революционной идеологии эллинизма. Эвн как царь сатурналий // ВИМК*. 1957. № 6. С. 58-70.
54. Новый журнал по древней истории // ВИ* 2. 1957. № 5. С. 220-221. (Обзор журн. «Das Altertum», выходившего в ГДР).
1958
55. К эпиграфике 1Ърни и Апарана // ВДИ. 1958. № I. С. 146-150.
56. Л.Е. По страницам новых публикаций и исследований // ВДИ. 1958. № 1. С. 212-223. (7 отдельных заметок).
57. [Без подписи]. Из новых поступлений в Гос. библиотеку им. Ленина и в ФБОН АН СССР зарубежной литературы подревней истории И ВДИ. 1958. № 1. с. 223-229.
58. Л.Е. Из новейшей зарубежной литературы по археологии (краткие аннотации)//СА. 1958. № 1. С. 299-307.
59. Л.Е. Аннотации иностранных журналов по греко-римской истории, филологии и археологии // ВДИ. 1958. № 2. С. 241-252.
60. В.Я. и Л.Е. Изучение древней истории в Венгрии // ВДИ. 1958. № 2. С. 254-262.
61. У истоков древнеримской культуры и государственност?г // ВДИ. 1958. №3. С. 142-156.
62. Л.Е. Библиографические заметки // ВДИ. 1958. № 3. С. 198-209. (9 отдельных заметок).
63. Древняя хронология в свете новейших исследований // ВИ. 1958. №3. С. 210-215.
1959
64. [Рецензия на:] Г. Корйатод. 'loropfa ардойад 'ЕХХйбас;. Тбцос; лрйго^ A6r|va. 1955. 471 с. // ВДИ. 1959. № 1. С. 181-183.
65. Л.Е. Аннотации иностранных журналов по истории античности // ВДИ. 1959. № 1. С. 195-206.
66. Новые книги по истории эгейской культуры // СА. 1959. № 1. С. 309-316.
67. Л.Е. Аннотации иностранных журналов по истории античности и классической филологии // ВДИ. 1959. № 3. С. 206-218.
‘Вестник истории мировой культуры.
2Вопросы истории. Большая часть публикаций в ВИ представляет собой короткие заметки в разделе «По страницам зарубежных журналов».
350
1960
68. .Археологическая документация древнейшего периода истории Рима// ВДИ. 1960. № 1. С. 150-158. (Обзор двух работ Гьерстада).
69. [Без подписи]. Аннотации иностранных журналов по истории античности и классической филологии // ВДИ. 1960. № 2.С. 161 - 173.
70. Л.Е. Находка греческих статуй в Пирее // ВДИ. I960. № 3. С. 228-232.
71.0 находке древнегреческих скульптур в Пирее в 1959 г. // СА. 1960. № 4. С. 222-224.
72. Из литературы по археологии Малой Азии // СА. I960. № 3. С. 336-344.
73. Из истории древнескифских культов // СА. 1960. № 4. С. 46-55.
74. Выступлениемамертиниев//ВДИ. 1960. №4. С. 108-113.
1961
75. Знания древних о северных странах. М., Географгиз, 1961. 224 с.
76. По поводу двух работ из области истории древней географии // ВДИ. 1961. № 1. С. 155-158. (О статьях С.А.Ковалевского).
77. [Без подписи]. Аннотации иностранных журналов по античной истории, археологии и классической филологии // ВДИ. 1961. № I.C. 192-203.
78. Л.Е. Аннотации иностранных журналов по истории античности и классической филологии // ВДИ. 1961. № 4. С. 167-177.
79. Роман о науке и научная романтика (К.Керам. Боги, гробницы, ученые. Роман археологии. Пер. с нем. А.С.Варшавского) // Новый мир. 1961. № 4. С. 277.
1962
80. Древнейшие океанские плавания. М., Географгиз, 1962. 85 с.
81. События 343-340 годов до н.э. в средней Италии и народное движение 342 г. до н.э. в Риме // ВДИ. 1962. N? 2. С. 56-64.
82. [Без подписи]. Содержание иностранных журналов по древней истории, филологии и археологии // ВДИ. 1962. № 3. С. 198-201.
83. По поводу портретных скульптур скифских царей Скилура и Па- лака//СА. 1962. № 3. С. 289-291.
84. Новые документы антихристианской реакции в Римской Империи в IV в. н.э. //СА. 1962. № 4. С. 228-233.
85. Легенда о «гиперборейских дарах» Аполлону и пути ее распространения // Материалы по археологии Северного Причерноморья. Вып. 4. Одесса, 1962. С. 209-212.
1963
86. Новый фундаментальный труд по истории древнеримских государственных учреждений//ВДИ. 1963. №3. С. 163—177. (0 4-томной работе Франческо Де Мартино «История римской конституции», 1958-62).
351
1964
87. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н.э. М., Наука. 1964. 287 с.
88. Элементы религии и духовной культуры древних этрусков // Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. Воронеж, 1964. С. 182-204.
89. О малоизученных или утраченных греческих надписях Северного Причерноморья // ВДИ. 1964. № I.C. 110-120.
90. О малоизученных или утраченных греческих и латинских надписях Закавказья // ВДИ 1964. № 2. С. 134-148.
91. (Рецензия на:] А.И.Немировский. История раннего Рима и Италии. Воронеж, 1962//ВДИ. 1964. №2. С. 182-187.
92. Финикийская проблема //ВИ. 1964. № 11. С. 206-207. (О статье С.Москати).
93. Формы и тенденции древнеримской историографии//ВИ. 1964. № 12. С. 188-189. (О статье Р.Мейстера).
1965
94. К истории антицерковных и антихристианских тенденций в Армении в IV в. н.э.//ВДИ. 1965. №2. С. 122-130.
95. Кесарийская надпись Понтия Пилата и её историческое значение // ВДИ. 1965. № 3. С. 142-146.
96. Утилитаризм в историографии: история как мораль // ВИ. 1965. № 2. С. 197-198. (О статье Ж. Над ел я «Философия истории до историзма»).
97. Надпись как археологический объект // ВИ. 1965. № 6. С. 207. (О статье А.Э.Раубичека).
98. История археологической методики // ВИ. 1965. ЛЬ 10. С. 194— 195. (О статье М. Вегнера).
1966
99. Майяни 3. Этруски начинают говорить / Пер. с фр. Ю.И.Богуславской; ред. и предисл. Л.А Ельницкого. М., Наука, 1966.
100. Тацит и древние германцы в свете политических тенденций своего времени // ВИ. 1966. № 3. С. 195-196. (О статье немецкого историка К. Криста).
101. Идеи, воспитавшие Тиберия Гракха// ВИ. 1966. № 8. С. 198-199. (О статье французского историка К.Николе).
1967
102. Цэеко-римские корни христианства// ВИ. 1967. № 2. С. 199-200. (О статье И.Лейпольдта).
103. Социальные термины «Илиады» и вопрос о «Гомеровской Греции» //ВИ. 1967. № 5. С. 197-198. (О статье Дж.Стагакиса).
104. Твердые цены в древности // ВИ. 1967. № 7. С.206. (О статье К. Ватена «Рыбный тариф в Дельфах»).
105. Археологические следы патриархального рабства в Италии // Античное общество. М., Наука, 1967. С. 28-33.
352
106. Одно столетие из истории раннего христианства// Наука и религия. М., 1967. № 12. С. 80. (О книге Н.И.Голубцовой «У истоков христианской церкви». М.: Наука, 1967).
1968
107. По поводу сухумской стелы // Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Л., Наука, 1968. С. 130—135.
108. Памяти Софьи Александровны Кауфман (1895-1967) // ВДИ. 1968. No 2. С. 220-222.
109. По поводу одного письма в редакцию // ВДИ. 1968. № 3. С.219- 220. (О книге 3.Майяни «Этруски начинают говорить»).
110. [Рецензия на:) Emilio Sereni. La circolazione etnica e culturale nella steppa eurasiatica. Le techniche e la nomenclature dell cavallo. «Studi Storici». VIII. №3. 1967 //ВДИ. 1968. №4. C. 164-167.
1969
111. Из истории древнегреческой виноторговли и керамического производства // ВДИ. 1969. № 3. С. 88-105.
112. Памяти С.А.Лясковского (1887-1968) // ВДИ. 1969. № 4. С. 231-232.
113. Был ли в древности известен Гольфстрим? // ВИ. 1969. № 2. С. 201. (О статье Г. В.Кларка).
114. Народное движение в Сиракузах в 356 г. до н.э. и идея социального равенства//ВИ. 1969. № 11. С. 199-200. (О статье английского ученого А.Факса).
115. Геракл и миф о Христе // Прометей. Т.7. М., Мол. гвардия, 1969. С. 452-457.
1970
116. Рабы в древних Афинах // ВИ. 1970. № 2. С. 186-187. (О статье П.Бикнелл «Демосфен и домашние рабы в Афинах»).
117. Историческое значение Аттилы // ВИ. 1970. № 9. С. 192—193. (О статье О.Менхен-Гельфена).
118. Скифские легенды как культурно-исторический материал //СА. 1970. №2. С. 64-74.
1971
119. Социально-политические аспекты «Бронтоскопического календаря» П.Нигидия Фигула//ВДИ. 1971. №2. С. 107-116.
120. О культовых, мифологических и литературных источниках раннего христианства // Вопросы научного атеизма. Вып. 12. 1971. С. 197-232.
121. Восстание монетариев и судьба Фелициссима // ВИ. 1971. № 4. С. 203—204. (О статье французского археолога Р.Ъоркана).
122. Временная и культурная принадлежность луристанских бронз // ВИ. 1971. № 10. С. 203-204. (О статье датского ученого Г.Тране).
123. Значение чиликтинских находок // ВИ. 1971. № 12. С. 177-179. (О статье Б.Брентьеса «Загадка Золотого кургана?»)
353
124. Минерва Ланхумита// Норция. Вып.1. Воронеж, 1971. С. 76-78.
1972
125. Древнейшая греческая надпись// ВИ. 1972. № 8. С. 192. (Остатье Нието).
126. О роли рабов и отпущенников в некоторых формах управления государством в Греции V-IV вв до н.э. // ВДИ. 1972. № 4. С. 100-106.
127. Понтий Пилат в истории и в христианской легенде // Прометей. T9. М., Мол. гвардия, 1972. С. 316-319.
128. Происхождение древнеэтрусской космогонии-дивинации (из словаря Суды) // История и культура этрусков. Краткие тезисы докладов научной конференции. Л., 1972. С. 7-8.
1973
129. Историческая и доисторическая Греция // ВИ. 1973. № 4. С. 184— 185. (О статье английского археолога Р.А.Мак-Нила).
130. На кого опирались древнегреческие тираны // ВИ. 1973. № 5. С. 197-198. (О статье американского историка Р.Древса).
1974
131. Этруски и Троада // ВИ. 1974. № 2. С.199-201. (О статье В.Ге- оргиева «Троянцы и этруски. Исторические корни сказания об Энее»).
1975
132. Византийский праздник брумалий и римские сатурналии // Ан¬
тичность и Византия / Под ред. Л.А.Фрейберг. М., Наука, 1975. С. 340-350. ;
1977
133. Скифия евразийских степей. Новосибирск, Наука, 1977. 256 с.
134. К происхождению этрусской космогонии-дивинации // ВДИ. 1977. №2. С. 121-128.
1978
135. Плутарх. Моралии. Наставления по управлению государством / Пер. и коммент. Л.А.Ельницкого; под ред. Л АФрейберг и МЛ.Гас- парова//ВДИ. 1978. № 3. С. 229-252; № 4. С. 213-234.
136. Этруски и киммерийцы // Норция. Вып.2. Воронеж, 1978. С. 57-60.
1979
137. Плутарх. Моралии. Почему божество медлит с воздаянием / Пер. и коммент. Л.А.Ельницкого; под ред. ЛАФрейберг и МЛ.Гаспарова// ВДИ. 1979. № 1.С. 225-253.
138. А.А.Иессен как историк и археолог-кавказовед // Вестник Гос. музея Грузии им. акад. С.Н.Джанашиа. Т 34-В. Тбилиси, 1979. С. 106-119.
354
1980
139. Новые эпиграфические данные (Tabula Banasitana) и эдикт Каракаллы о римском гражданстве // ВДИ. 1980. № 1. С. 162-171.
1983
140. Интерес к скифам, скифская тема в искусстве и скифское культурное влияние в Греции // Klio. Heft 1. Band 65. Берлин, 1983. С. 107-132.
2013
141. Великие путешествия античного мира. М„ Ломоносову 2013. 208 с. (Переиздание двух работ: «Древнейшие океанские плавания» - полностью и «Знания древних о северных странах» — частично).
Статьи в энциклопедиях:
О чем рассказывают остродонные амфоры // Детская энциклопедия. 2-е изд.: в 12-ти тт. Т. 8: Из истории человеческого общества. М., 1967.
Римская древняя литература / М.Л.Гаспаров, Л.А.Ельницкий // Краткая литературная энциклопедия: в 9-ти тт. Т. 6. М., 1971.
Греция Древняя. [Разделы:] Воспитание и просвещение. Древнегреческая культура (География. Историческая наука. Музыка) // Большая советская энциклопедия. 3-е изд.: в 30-ти тт. Т. 7. М., 1972.
Эпиграфика / Л.А.Ельницкий и др. // Советская историческая энциклопедия: в 16-ти тт. Т16. М., 1976.
Воспоминания:
Три круга воспоминаний. Война и плен. М., Аграф, 2012. 480 с. Три круга воспоминаний. Лагерный дневник. М., Аграф, 2013.464 с.
Три круга воспоминаний. На паперти храма науки. М., Аграф, 2013, 368 с.
Неопубликованные научные работы, сохранившиеся в домашнем архиве:
Аполлоний Родосский. Поход аргонавтов. Пер. и коммент.
Л. А. Ельницкого. 1956.
Становление, развитие и упадок этрусской культуры. 1968.
Сказочная география греков и римлян. 1974.
Из истории античной идеологии (культурно-мифологические и социально-исторические аспекты раннего христианства). 1978.
355
Указатель имен
Абаев Василий Иванович (1900-2001). Языковед» автор трудов по осетинской и иранской этимологии, осетинскому фольклору, иранистике, общему языкознанию. - 120
Абрамович А.Я.-89
Альтгейм Франц (Franz Altheim, 1898-1976). Немецкий историк и филолог. - 91, 138
Артамонов Михаил Илларионович (1898-1972). Ленинградский археолог и историк, специалист по истории хазар, скифов и славян. Зав. сектором и директор ИИМК, редактор журнала СА, зав. кафедрой археологии ЛГУ, директор Гос. Эрмитажа (1951—64). - 92
Арциховский Артемий Владимирович (1902-1978). Археолог и историк, специалист по славяно-русской археологии. Многие годы руководил раскопками в Новгороде. Известен как первооткрыватель новгородских берестяных грамот. Ученик В.А.Городцова. Сотрудник ГИМ (1920-е), зав. кафедрой археологии МГУ, декан истфака МГУ (1952-57), зав. сектором в ИА1, гл. редактор журнала СА (1957-78), член-корр. АН СССР. - 37,40,42-44, 55-57, 59-60,62-66, 72, 88, 100, 104,112-114, 120, 167, 179
Бахрушин Сергей Владимирович (1882-1950). Историк, специалист по истории России, проф. МГУ, зав. сектором в ИИ2, член-корр. АН СССР. - 79
Башкиров Алексей Степанович (1885-1963). Археолог и искусствовед, преп. МГУ. Арестован в 1935 г., отбывал ссылку в Казахстане, позднее вернулся к педагогической работе. - 53, 57
Бёк Филипп Август (ABfleckh, 1785-1867). Немецкий филолог и историк, основатель греческой эпиграфики. — 102
Бергер Анатолий Ксаверьевич (1888-1962). Историк античности. - 143-144
Блаватский Владимир Дмитриевич (1899—1980), археолог, искусствовед и историк античности. Руководил раскопками Харакса (1931— 35), Фанагории (1936-40), Пантикапея (1945-58), один из первооткрывателей Боспора. Учитель Л.А.Ельницкого. - 49-54, 57-59, 75, 105-110, 167-170
Блаватская Татьяна Васильевна (1917-2007). Историк-антико- вед, археолог, эпиграфист. - 168
Бокщанин Анатолий Георгиевич (1903—1979). Историк антично-
1 ИА - Институт археологии АН СССР.
2 ИИ - Институт истории АН СССР.
356
сти, проф. МГУ, автор учебников по истории Древнего Рима для высшей школы. — 166-167,171
Болтунова Анна И виновна (1900-1991). Историк-антиковед, специалист по эпиграфике Северного и Восточного Причерноморья. — 99
Бон ч-Осмоловский Глеб Анатольевич (1890-1943). Ленинградский археолог, друг Л.А.Ельницкого. Арестован в 1933 г., отбывал срок на Воркуте в 1934—36 гг. - 56, 83, 163
Брашинский ИосифБеньяминович(1928-1982).Ленинградский археолог, историк античности, специалист в области керамической эпиграфики. - 109
Брюсов Александр Яковлевич (1885-1966). Археолог, сотрудник РАНИОН, ИИМК. Специалист в области неолита и бронзы. Брат поэта В.Я. Брюсова. — 40, 46, 59—60, 67
Бузескул Владислав Петрович (1858-1931). Историк античности, академик, проф. Харьковского ун-та. - 97
Б юхе р К. (1847-1930). Немецкий экономист. - 32
Вендланд Пауль (Paul Wendland, 1864-1915). Немецкий филолог- классик. — 80, 175
Веселовский Николай Иванович (1848-1918). Петербургский археолог, востоковед, исследователь Средней Азии и скифских курганов Юга России. - 63
Виноградов Юрий Германович (1946—2000). Историк, эпиграфист. — 154
Виппер Роберт Юрьевич (1859-1954), русский и советский историк, академик. В 1924-41 гг. эмигрировал (выслан) в Латвию. С 1941 г. - проф. ИФЛИ, МГУ. Разрабатывал мифологическую теорию происхождения христианства. — 81,97, 101, 174—175
Воеводский Михаил Вацлавович (1903-1948). Археолог, исследователь каменного века Русской равнины. - 62
Воробьев П.И. -44
Воронов П.И. -76
Вощинина Александра Ильинична (1905-1974). Специалист по древнеримскому искусству, сотрудник Гос. Эрмитажа. — 139
Гайдукевич Виктор Франциевич (1904—1966). Ленинградский археолог, многолетний руководитель Боспорской археологической экспедиции, автор фундаментального исследования «Боспорское царство» (1949).-99, 109
Городцов Василий Алексеевич (1860-1945). Археолог, проф. Московского ун-та, ИФЛИ, сотрудник ИИМК. Проводил многочисленные раскопки на всей территории страны, открыл серию археологических
357
культур эпохи бронзы и установил их периодизацию, разрабатывал теоретические основы археологических исследований, оставил множество учеников. - 35-38, 46
Городцов Мстислав Васильевич (1896-1968). Археолог, сын В.АТородцова. - 38
Горя н о в Борис Тимофеевич (1897—1977). Историк-византинист. —114
Горячкин В.П. Советский ученый в области сельскохозяйственных машин, академик. - 42
Готье Юрий Владимирович (1873-1943). Историк, академик, специалист по истории России. — 66
Грабарь-Пассек Мария Евгеньевна (1893-1975). Филолог и переводчик античной литературы. - 85-88
Граков Борис Николаевич (1899-1970). Археолог, историк, филолог, более 40 лет вел масштабную полевую работу — исследования сарматских и скифских памятников, изучал керамическую эпиграфику Северного Причерноморья. Сотрудник ГИМ, ГАИМК, в 1940-е годы создал и возглавил сектор скифо-сарматской археологии ИИМК, проф. ИФЛИ, МГУ. Л.А.Ельницкий считал его своим учителем. - 36-37, 54, 56, 59, 62, 64,66-67,75,80,92, 103-108, 114-119, 181-182, 189
Гракова Ольга Александровна (Кривцова-Гракова, 1895-1970). Археолог, сотрудник ГИМ, ИИМК. - 46, 64
Греве Иван Михайлович (I860—1941). Специалист ио истории Римской империи, педагог, краевед, общественный деятель. -97
Гриневич Константин Эдуардович (1891-1970). Археолог, историк античности. Директор Керченского и Херсонесского музея. Репрессирован в 1932-39 гг. После освобождения преподавал в провинции. С 1953 проф. Харьковского ун-та. - 113
Дератани Николай Федорович (1884-1958). Филолог, специалист по античной литературе. - 66
Дилигенский Герман Германович (1930-2002). Историк, социолог, политолог. - 91, 94-95
Дмитриев Павел Алексеевич. Археолог, сотрудник ГИМ. - 45
Древе Артур (Arthur Drews, 1865-1935). Немецкий философ и писатель. Автор книги «Миф о Христе» (1909). - 180
Дьяконов Игорь Михайлович (1915—1999). Ленинградский востоковед, историк, лингвист. - 119, 121, 169
Дьяконов Михаил Михайлович (1907-1954). Востоковед, археолог, поэт-переводчик, брат И.М.Дьяконова. - 103
Же бе лев Сергей Александрович (1867-1941). Историк, филолог- классик, академик, проф. СПб. (Лен.) ун-та, с 1927 г. - сотрудник ГАИМК.
358
Автор трудов по античной истории, в том числе Северного Причерноморья, истории древнего искусства, археологии, эпиграфике, переводов античных писателей. Умер от истощения в блокадном Ленинграде, где руководил оставшимися в городе учреждениями АН СССР. — 96-100, 110
Желиговский В. А. Советский ученый в области сельского хозяйства, академик. - 42-44
Закс Б.Я.- 33,89
Замков Николай.— 23
Захаров Алексей Алексеевич (1884—1937). Археолог, проф. МГУ, сотрудник ГИМ. Арестован в 1934 г., в 1935 г. арестован повторно и тяжелобольным выслан в Алма-Ату, расстрелян в 1937 г. — 36,56-57
Зеест Ираида Борисовна (1902—1981). Археолог, руководила раскопками античной Гермонассы. — 107-108
Зелинский Фаддей Францевич (1859-1944). Историк культуры, филолог-классик, антиковед, поэт-переводчик. Проф. Петербургского историко-филологического института. В 1920 г. эмигрировал в Польшу. — 97, 174
Зельин Константин Константинович (1892-1983). Историк античности, сотрудник ИИ, зам. гл. редактора ВДИ с 1966 г. — 91, 122, 124—126, 131-132, 142, 151-153, 171-172, 186
И е с с е н .Александр Александрович (1896-1964). Археолог-кавказовед, сотрудник Гос. Эрмитажа, ИИМК. - 111-113, 121
Илюшечкин Василий Павлович (1915—1996). Историк-востоковед, философ, специалист в области теории стадийности исторического процесса. - 172-173
И н адзе Мери Платоновна. Грузинский историк. - 122
И р м ш е р Иоганн (Johannes Irmscher, 1920-2000). Немецкий историк античности, филолог и организатор науки в бывшей ГДР. - 156—157
Каждан Александр Петрович (1922-1997). Историк-византинист, сотрудник ИИ, в 1978 г. был вынужден эмигрировать в США. — 176—177
Каллистов Дмитрий Павлович(1903-1973). Ленинградскийисто- рик-антиковед, сотрудник Лен. отделения ИИ, проф. ЛГУ. - 99
Карпова А.С. - 74
Келдыш Миша. — 23, 25, 29
Кивокурцев Н.П. Сотрудник Керченского музея. - 70
Киселев Сергей Владимирович (1905-1962), Историк и археолог, специалист по истории Сибири и Центральной Азии. Многолетний сотрудник ИА (зам. директора, зав. сектором), проф. МГУ, гл. ред. ВДИ (с 1949 г.), член-корр. АН СССР. - 37, 56-57, 59, 65, 88, 90-93, 95, 169
359
Книпович Татьяна Николаевна (1896—1975). Ленинградский историк, археолог, эпиграфист, исследователь Ольвии, Танаиса. - 99
Кобылина Мария Михайловна (1897—1988). Историк античного искусства, археолог, много лет руководила раскопками в Фанагории (1947-1975).- 107-108
Ковалев Сергей Иванович (1886-1960). Ленинградский историк- антиковед. — 174
Колосовская Юлия Константиновна (1920-2002). Историк, многолетний редактор ВДИ с 1953 г. - 121
Кондратьев Сергей Петрович (1872-1964). Переводчик античной литературы. Сотрудник ВДИ в 1940-48 гг. - 77
Конрад Николай Иосифович (1891-1970). Востоковед,специалист по японской литературе. Подвергся репрессиям в 1938-41 гг. Проф. Ин- ститута востоковедения, МГУ, академик. — 139—140
Кордатос Янис(1891—1961). Греческий историк-марксист,деятель рабочего движения. - 160
Коростовнев Михаил Александрович (1900-1980), Египтолог, историк Древнего Востока, академик. — 132
Крайнов Дмитрий Александрович (1904-1998). Археолог, сотрудник ГИМ до войны, пережил немецкий плен и заключение в лагере после плена. - 67, 76
Кричевский ГГ. -23-24
Крупнов Евгений Игнатьевич (1904—1970). Археолог-кавказовед, сотрудник ГИМ с 1929 г., сотрудник ИИМК-ИАс 1937 г. (зам. директора в 1951-60 гг., зав. сектором с 1963 г.). -47-48, 67, 88, 111-112 ‘
Кудрявцев Олег Всеволодович (1921-1955). Историк-антиковед, специалист по истории ранней Римской империи, римских провинций. — 77,96, 166
Кузи щи н Василий Иванович (1930-2013). Историк античности, проф. МГУ, зав. каф. истории древнего мира (1973-2009), автор популярных учебников. - 171-172
Латышев Василий Васильевич (1855-1921). Филолог-классик, эпиграфист, историк. Автор фундаментальных трудов: «Свод античных надписей, найденных в Северном Причерноморье» (IOSPE, 1885—1901), «Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе» (1893-1906). - 76-77, 82, 103, ПО
Лейпунская Нина Александровна. Археолог, исследователь древней Ольвии. — 107
Л е н ц м а н Яков Абрамович (1908—1967). Историк античности. Сторонник мифологической теории происхождения христианства. - 77-78, 108, 174-175, 179
Лурье Соломон Яковлевич (1891-1964). Филологи историк антич360
ности. Преподаватель ЛГУ. В годы борьбы с «космополитизмом» вынужден был покинуть Ленинград. Проф. Львовского ун-та. - 78,130
Мавлеев Евгений Васильевич (1948-1995). Историк-антиковед, этрусколог, сотрудник Гос. Эрмитажа. - 120
Майяни 3. Французский востоковед. — 132—137
Манцевич Анастасия Петровна (1899-1982). Ленинградский историк, скифолог, сотрудник Гос. Эрмитажа. - 118-119
Маринович Людмила Петровна (1931-2010). Историк Древней Греции, сотрудник ИИ. - 95
Маркиш Симон Перецович (1931-2003). Переводчик, филолог, литературовед, эмигрировал в 1970 г., проф. Женевского ун-та. - 85
Марти Алла Юльевна. Музейный работник из Керчи, дочь Ю.Ю.Марти. -70, 72
Марти Юлий Юльевич (1874—1959). Директор Керченского музея. — 70
Машкин Николай Александрович (1900-1950). Историк античности, проф. МГУ, зав. сектором древней истории ИИ, гл. ред. ВДИ в 1949-50 г.-66, 77,82,91,96, 167, 170-171
Маяк Ия Леонидовна. Историк, проф. МГУ. — 139
Мейер Эдуард (Е.Меуег, 1855-1930). Немецкий историк, автор
5- томной «Истории древности». - 101-102, 153
Мелюкова Анна Ивановна. Археолог, скифолог, сотрудник ИА. — 188
Милонов Ю.К. - 30
Мишулин Александр Васильевич (1901-1948). Историк-антико- вед, проф. МГУ, зав. сектором древней истории ИИ, гл. ред. ВДИ (1938- 48).-54, 59,74, 76-81
Моммзен Теодор (TMommsen, 1817—1903). Немецкий историк, филолог-классик. Лауреат Нобелевской премии за труд «Римская история». - 153
Монгайт Александр Львович (1915—1974). Археолог, сотрудник ИА, автор известных учебников. — 62
М о н п е р е Дюбуа де (Dubois de Montpdreux, 1798-1850). Французский геолог, путешественник, писатель. В 1830-х гг. совершил путешествие по Кавказу и Крыму, результаты которого изложил в обширном
6- томном труде. — 49
Немировский Александр Иосифович (1919-2007). Историк Древнего Рима и этрусской культуры, писатель, переводчик. Автор научных трудов, стихотворных сборников, переводов античных поэтов, исторических романов. - 93, 127, 138-142
361
Нибур Бартольд Георг (B.G.Niebuhr, 1776-1831). Немецкий историк античности. - 102
Никольский Владимир Капитонович (1894-1953). Историк, этнограф, историк религии, проф. МГУ. - 21-22
Новосадский Николай Иванович (1859—1941). Филолог-классик, проф. МГУ, член-корр. АН СССР. - НО
Нуаре Людвиг(L.Noir£, 1829-1889). Немецкий философ. - 32
Окладников Алексей Павлович (1908-1981). Археолог, историк, этнограф, академик, специалист по древней истории Сибири и Дальнего Востока. - 142, 163
Окулов А.Ф. — 176
Орешников Алексей Васильевич (1855-1933). Нумизмат, сотрудник ГИМ с его основания. — 40
Павловская Александра Ивановна (1921-2012). Историк-египтолог. - 120
П а с с е к Татьяна Сергеевна (1903-1968). Археолог, сотрудник ИА. - 186-187
Петров Виктор Платонович (1894-1969). Украинский языковед, этнограф, писатель, а также советский разведчик. С 1956 — сотрудник ИА в Киеве. Литературные псевдонимы: Домонтович, Бер. — 118
Петровский Федор Александрович (1890-1978). Филолог-классик, переводчик античных авторов. - 86-87
Пикар Шарль (Charles Picard, 1883-1965). Французский археолог, историк классической скульптуры. - 106
Пиотровский Борис Борисович (1908-1990). Археолог, востоковед, академик. Многолетний сотрудник и директор Гос. Эрмитажа, зав. Лен. отделением ИА, зав. кафедрой истории Древнего Востока ЛГУ. - 112, 120, 139-141
П ичета Владимир Иванович (1878-1947). Историк, специалист по истории славянских народов, академик. Подвергся репрессиям в 1930- 1935 гг.-79
Пономарев Л.И. —49
Постовская Наталья Михайловна (1917—1997). Историк-египтолог, многолетний сотрудник редакции ВДИ. - 77, 93
Прахнер Готфрид (G.Prachner). Немецкий историк. - 155-156, 158-159
Преображенский Петр Федорович (1894-1941). Историк античности, этнограф, проф. МГУ с 1921 г. Арестован в 1933, 1937, после второго ареста находился в заключении, расстрелян в 1941 г. - 22-24,101, 174
362
Пригожин Абрам Григорьевич (1896—1937). Историк-марксист. С 1928 г. занимал различные должности в Ленинграде. С 1934 - директор ИФЛИ в Москве. Арестован в 1935, расстрелян в 1937 г. - 59-60
П р и д и к Евгений Мартынович (1865-1935). Филолог, эпиграфист, сотрудник Гос. Эрмитажа. - 103-104
Пфистер Фридрих (Friedrich Pfister, 1883-1967). Немецкий филолог-классик. - 175
Пятышева Наталья Валентиновна. Археолог, исследователь Херсонеса. - 47,49
Равдоникас Владислав Иосифович (1894—1976). Ленинградский археолог, сотрудник ИИМК (в 1940-х гг. руководил Лен. отделением), проф., зав. кафедрой археологии ЛГУ. - 37, 59-60
Раевский Дмитрий Сергеевич (1941—2004). Историк-скифолог, сотрудник Института востоковедения. - 118
Райнерт Ганс (Hans Reinerth, 1900-1990). Немецкий археолог. - 71
Р а н о в и ч Абрам Борисович (1885-1948). Историк античности, раннего христианства, проф. МГУ, сотрудник сектора древней истории ИИ, редактор ВДИ. - 54, 75, 77-81, 102, 117, 170, 174-175
Репников Николай Иванович (1882-1940). Археолог, сотрудник ГАИМК, Русского музея. — 55
Робертсон Джон Маккинон (J.M.Robertson, 1856—1933). Английский журналист, политик, историк христианства, представитель мифологической школы. - 174
Ростовцев Михаил Иванович (1870-1952). Историк античности, филолог-классик. Проф. СПб. ун-та, академик, после революции эмигрировал в США. В 1930-х проводил раскопки Дура-Европос. Автор обобщающих трудов по социально-экономической истории античного мира и истории юга России. — 49—50, 55, 91, 97—98, 101—102,106, 108, 160
Руденко Сергей Иванович (1885-1969). Археолог и этнограф, исследователь Алтая. В 1930 г. осужден и работал на строительстве Беломорканала. - 92
Рыбаков Борис Александрович (1908—2001). Археолог, историк, специалист по истории Древней Руси, академик. Сотрудник ГИМ с 1931 г., проф. МГУ, директор ИА в 1956-87 гг. - 88,104, 129, 133,134, 136, 140, 187-189
Сванидзе Александр Семенович (1886-1941). Историк, старый большевик, личный друг И.В.Сталина, основатель и первый гл. редактор ВДИ, арестован в 1937, расстрелян в 1941 г. вместе с женой и сестрой. - 54
Свенцицкая Ирина Сергеевна (1929-2006). Историк, специалист по раннему христианству. - 176,177
363
С е м п е р Наталья Евгеньевна (Семпер-Соколова, 1911-1995). Переводчик и художник. В 1949-55 гг. находилась в заключении в Вятлаге. - 94
Сергеев Владимир Сергеевич (1883—1941). Историк античности, проф. МГУ, ИФЛИ, сотрудник ИИ, автор первых советских учебников подревней истории. - 22,91
Серени Эмилио (Emilio Sereni, 1907—1977). Итальянский историк- марксист и общественный деятель. — 146, 147
Сказкин Сергей Данилович (1890—1973). Историк, академик, проф. МГУ, зав. сектором истории средних веков ИИ с 1961 г. - 152, 181
Смирнов Алексей Петрович (1899-1974). Археолог, ученик В.А.Городцова, много лет руководил раскопками в Поволжье и Прикамье. Сотрудник ГИМ с 1929 г. (зав. отделом, зам. директора с 1951 г.), сотрудник ГАИМК-ИА с 1932 г. (зам. директора, зав. сектором с 1956 г.), зам. гл. редактораСА, проф. МГУ- 45, 47,49, 56,67,89, 112, 114, 186-187
Смит Вильям Бенджамин (William Benjamin Smith, 1850-1934). Американский ученый, проф. математики, автор книг по раннему христианству. - 83, 85
Соболев Николай Иванович. Зав. отделом оружия ГИМ. -46
Соколов Федор Федорович (1841—1909). Историк, филолог, создатель русской эпиграфической школы. - 110
Соколов Юрий Матвеевич (1889—1941). Филолог-фольклорист, профессор МГУ, академик. - 66
Спицин Александр Андреевич (1858-1931). Петербургский археолог, специалист по славяно-русской археологии, профессор, ч/фн-корр. АН СССР, сотрудник РАИМК. - 35
Струве Василий Васильевич (1889—1965). Востоковед-марксист, академик. - 58, 78, 80, 169-170
Сулейменов Олжас Омарович. Казахский поэт, писатель, дипломат, автор историко-филологического эссе «Аз и Я» (1975), запрещенного в советское время. — 119
Тальгрен Арне Михаэль (1885—1945). Финский археолог. — 66
Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909— 1956). Литературовед, зам. гл. ред. «Нового мира». — 75
Твардовский Александр Трифонович (1910-1971). Писатель и поэт, гл, ред. «Нового мира» в период «оттепели». - 75
Теплоухов Сергей Александрович (1888-1934). Археолог, этнограф, исследователь Сибири, сотрудник ГАИМК, Русского музея. Арестован в 1933 г., повесился в камере во время следствия. - 65
Тереножкин Алексей Иванович (1907-1981). Археолог, специалист по археологии предскифского и скифского периодов, зав. отделом киевского ИА с 1948 г. - 115
364
Тимофеева Наталья Кирилловна. Историк, преподаватель НГУ. - 142
Толстов Сергей Павлович (1907-1976). Этнограф, археолог, исследователь Хорезма. Директор Института этнографии (1942-1965) и Института востоковедения, занимал также ряд др. руководящих должностей. — 60-61
Томсон Дж.О. (James Oliver Thomson). - 159
Торп Яльмар (H.Torp). - 179
Тревер Камилла Васильевна (1892-1974). Востоковед, историк культуры, сотрудник ГАИМК и Гос. Эрмитажа. - 57, 170
Тройский Иосиф Моисеевич (1897-1970). Филолог-классик, проф. ЛГУ, сотрудник Института языкознания. - 138, 144
Трубникова Нина Владимировна (1912-1997). Археолог, сотрудник ГИМ.-47
Трухановский Владимир Григорьевич (1914—2000). Историк и дипломат, академик, гл. редактор ВИ (1960-87). - 152-153, 178
Турок Владимир Михайлович (Турок-Попов, 1904-1981). Историк, специалист по странам Средней Европы. - 134
Уваров Алексей Сергеевич, граф (1825-1884). Археолог, почетный член Петербургской АН, основатель и председатель Московского археологического общества. - 36
Удальцов Александр Дмитриевич (1883-1958). Историк, проф. МГУ, директор ИИМК (1946—56), член-корр. АН СССР. — 116
Утченко Сергей Львович (1908-1976). Историк античности, проф. МГУ, зав. сектором древней истории ИИ с 1950 г., зам. гл. редактора ВДИ, потом гл. редактор (с 1966 г.). - 90, 91,95, 121, 124-132, 149, 151-154, 156, 169, 171, 186
Фармаковский Борис Владимирович (1870-1928). Археолог, историк искусства, исследователь античной Ольвии, член-корр. Петербургской АН. - 51, 106,170
Фас ме р Макс (1886-1962). Немецкий языковед российского происхождении, автор «Этимологического словаря русского языка». — 110
Фосс Мария Евгеньевна (1899-1955). Археолог, специалист по неолиту. Друг и учитель Л.А.Ельницкого. - 34-36, 38-39, 41-49, 57, 62, 84-85, 181, 186
Фрэзер Джеймс (James George Frazer, 1854—1941). Британский антрополог, этнолог, историк религии, наибольшей известностью пользуется его многотомное исследование «Золотая ветвь» (1890—1915). — 80, 175
365
Фуртвенглер Адольф (A.FurtwJLngler, 1853-1907). Немецкий археолог и историк античного искусства. - 106
Харсекин Алексей Иванович. Лингвист, специалист по этрусско- муязыку. - 122, 137, 138, 141, 142, 167
Хенниг Рихард (R.Hennig, 1874—1951). Немецкий географ, автор 4-томного труда «Неведомые земли» (русское изд. 1961-63 гг.). - 159
Худяков Михаил Георгиевич (1894—1936). Ленинградский археолог и этнограф, сотрудник ГАИМК, арестован и расстрелян в 1936 г. — 65, 66
Церетели Григорий Филимонович (1870-1939). Филолог-классик, папиролог, возглавлял кафедры классической филологии СПбУ, с 1920 - Тбилисского ун-та. Подвергался арестам в 1918, 1931 гг,, третий раз арестован в 1938 г. и осужден на 10 лет, погиб в заключении. - 85-88
Чайльд (Чайлд) Гордон (\fere Gordon Childe, 1892—1957). Британско-австралийский археолог и историк-марксист. Посещал Советский Союз, последний раз в 1956 г - 189
Членова Наталия Львовна (1929-2009). Археолог, специалист по археологии скифо-сибирского мира. - 187-189
Шелов Дмитрий Борисович (1919-1993). Археолог, нумизмат, эпиграфист. Многолетний сотрудник ИИМК—ИА. — 105,117
Шервинский Сергей Васильевич (1892—1991). Поэт, переводчик, писатель. - 88
Штерн Эрнест Романович (фон-Штерн, 1859—1924). Русский и немецкий историк античности, проф. Новороссийского ун-та в Одессе, с 1911 г. - проф. ун-та в Галле (Германия). - 106
Эванс Артур Джон (Arthur John Evans, 1851-1941). Британский археолог, первооткрыватель Минойской цивилизации, автор 4-томного труда «Дворец Миноса в Кноссе» (1921-36). - 56
Эдинг Дмитрий Николаевич (1887-1946). Археолог, сотрудник ГИМ. - 47
Юлкина О.Н.-78
Ямпольский Зелик Иосифович (1911—1981). Азербайджанский историк, исследователь Кавказской Албании. — 146, 169
366
Содержание
Л.М.Елъницкая, Предисловие 3
На паперти храма науки
1. Начала 15
2. Исторический музей 31
3. Шаг к антиковедению 46
4. Война и плен 68
5. Передышка 74
6. Годы заключения 82
7. Возвращение к науке 85
8. Акцг|, если можно так выразиться 114
9. Пенсионер без пенсии 147
Стихи разных лет
Юношеские стихи 191
Довоенные стихи (1930-1941) 203
Стихи военных лет Немецкий плен 230
Стихи из северной поездки (август 1947 года) 293
Лагерные стихи (1951-1954) 313
Приложения:
Краткая историческая справка 345
Библиография работ Л .А.Ельницкого 347
Указатель имен 356
367
Лев Андреевич Ельницкий
ТРИ КРУГА ВОСПОМИНАНИЙ
На паперти храма науки
На обложке портрет Л.А. Ельницкого работы Лидии Максимовны Бродской
Редактор И. Ларина Компьютерная верстка Т. Носовой
Подписано в печать 25.10.13. Формат 84x108/32 Гарнитура «NewtonC»
Усл.-печ. л. 19,32. Тираж 500 экз. Заказ hfe 4235.
Издательство «Аграф» e-mail: post@agrafbooks.ru htpp://www, website.ru/agraf т./ф. (495) 926-25-48 т. (495)926-25-46 т. (495) 926-25-47
Отпечатано способом ролевой струйной печати в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, 8(495)988-63-76, т/ф. 8(496)726-54-10
НА ПАПЕРТИ ХРАМА НАУКИ
Лев Андреевич Елъницкий (1907 -] 979) историк античности; в 1930-е годы он работал в Историческом музее. В 1941 году Елъницкий вместе с другими сотрудниками музея ушел на фронт в составе московского народного ополчения и вскоре попал в плен. После возвращения он был арестован и пробыл в лагере шесть лет.
Грепгй том представляет научную биографию Ельницкого. В нем подробно рассказано о муках ученого, потерявшего много лет жизни вне творчества и после перенесенных мытарств пробивающего собес великим трудом путь в науке..