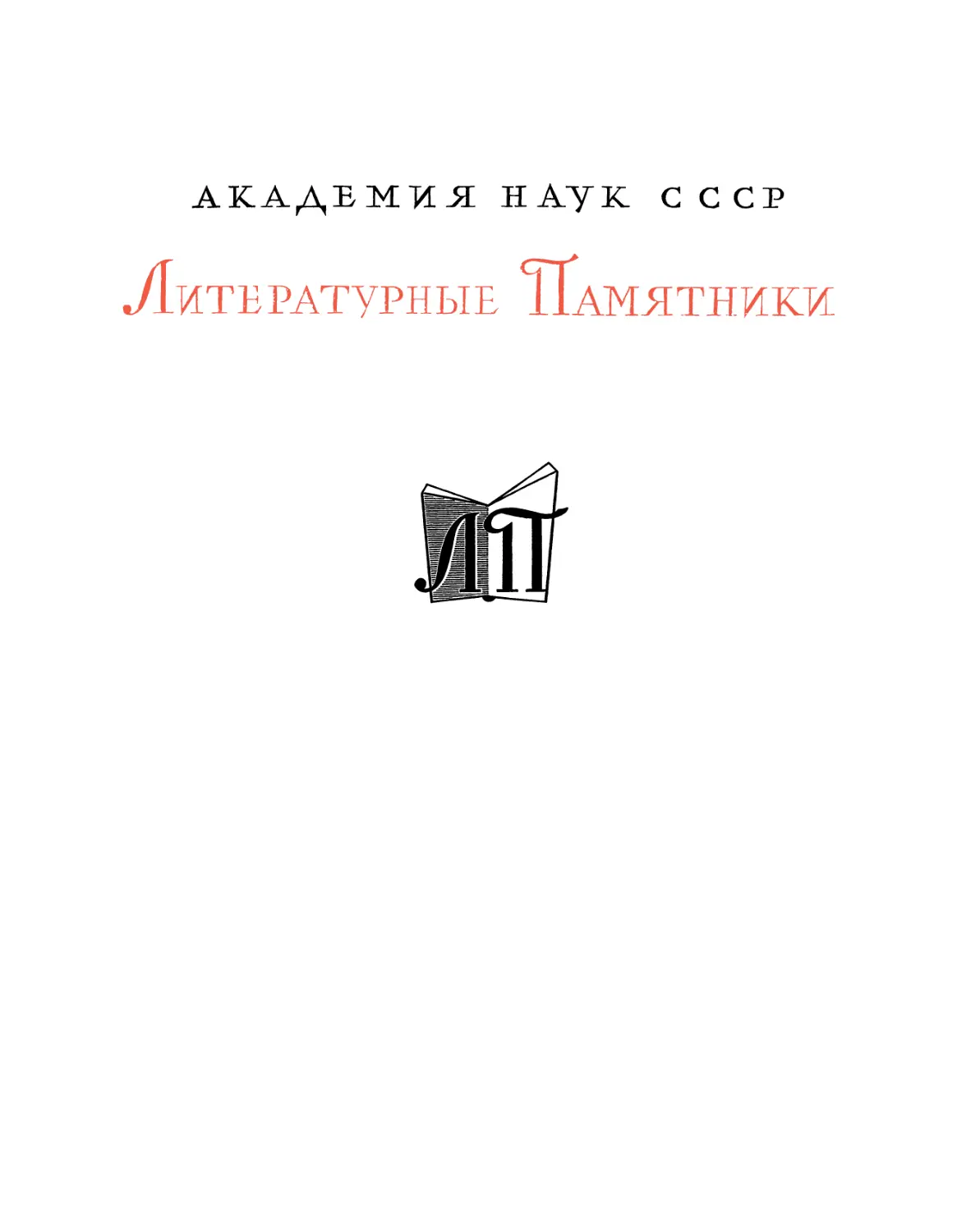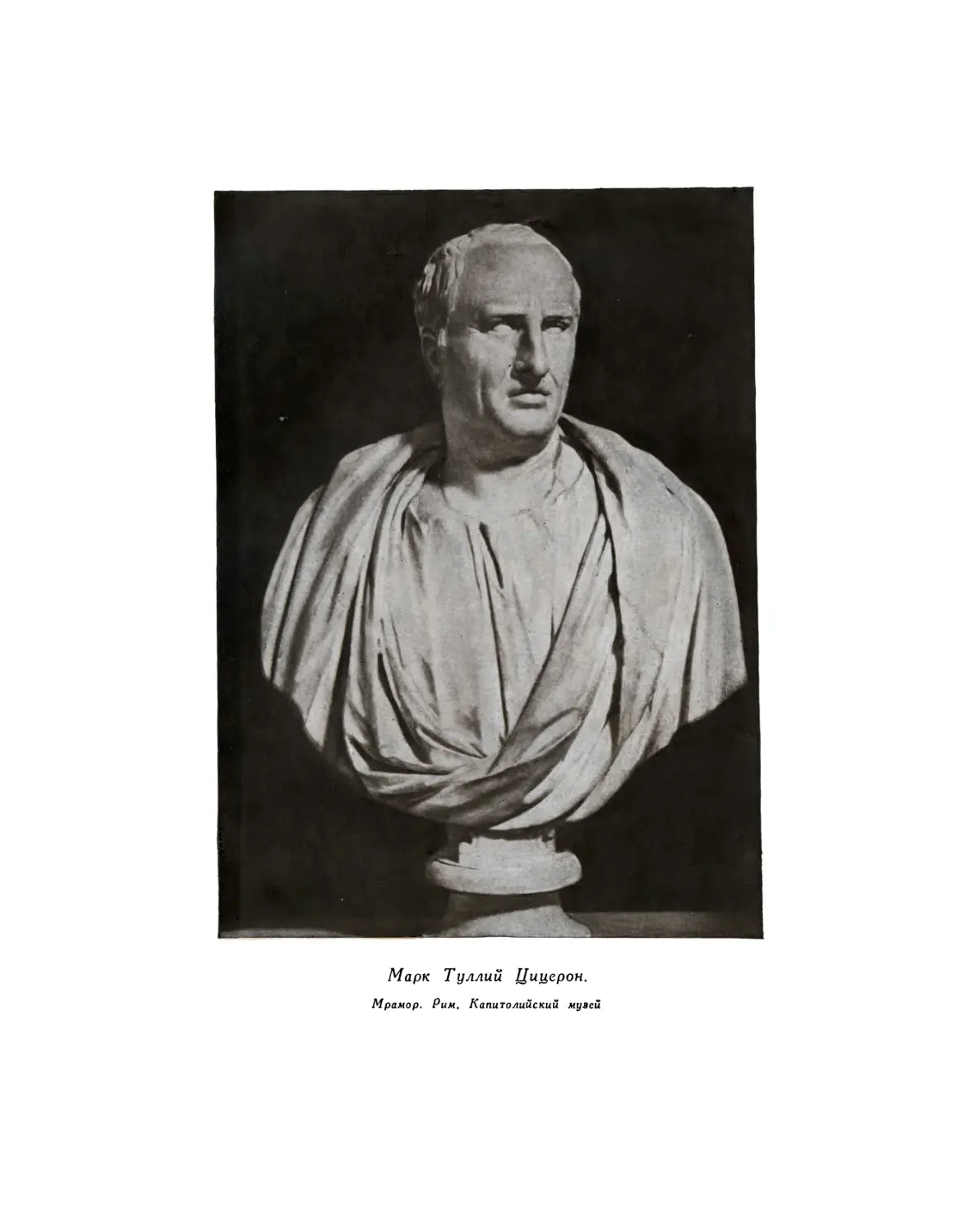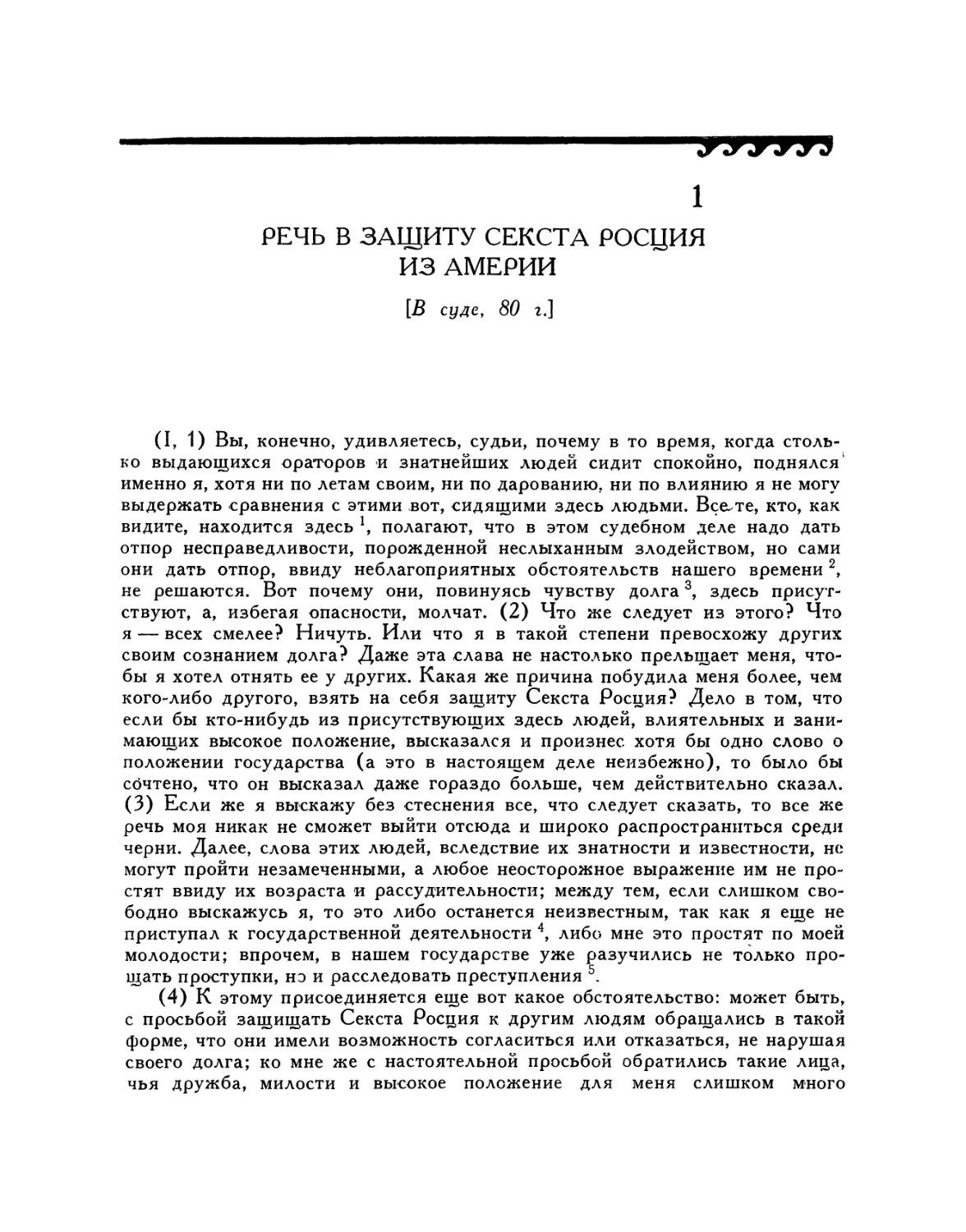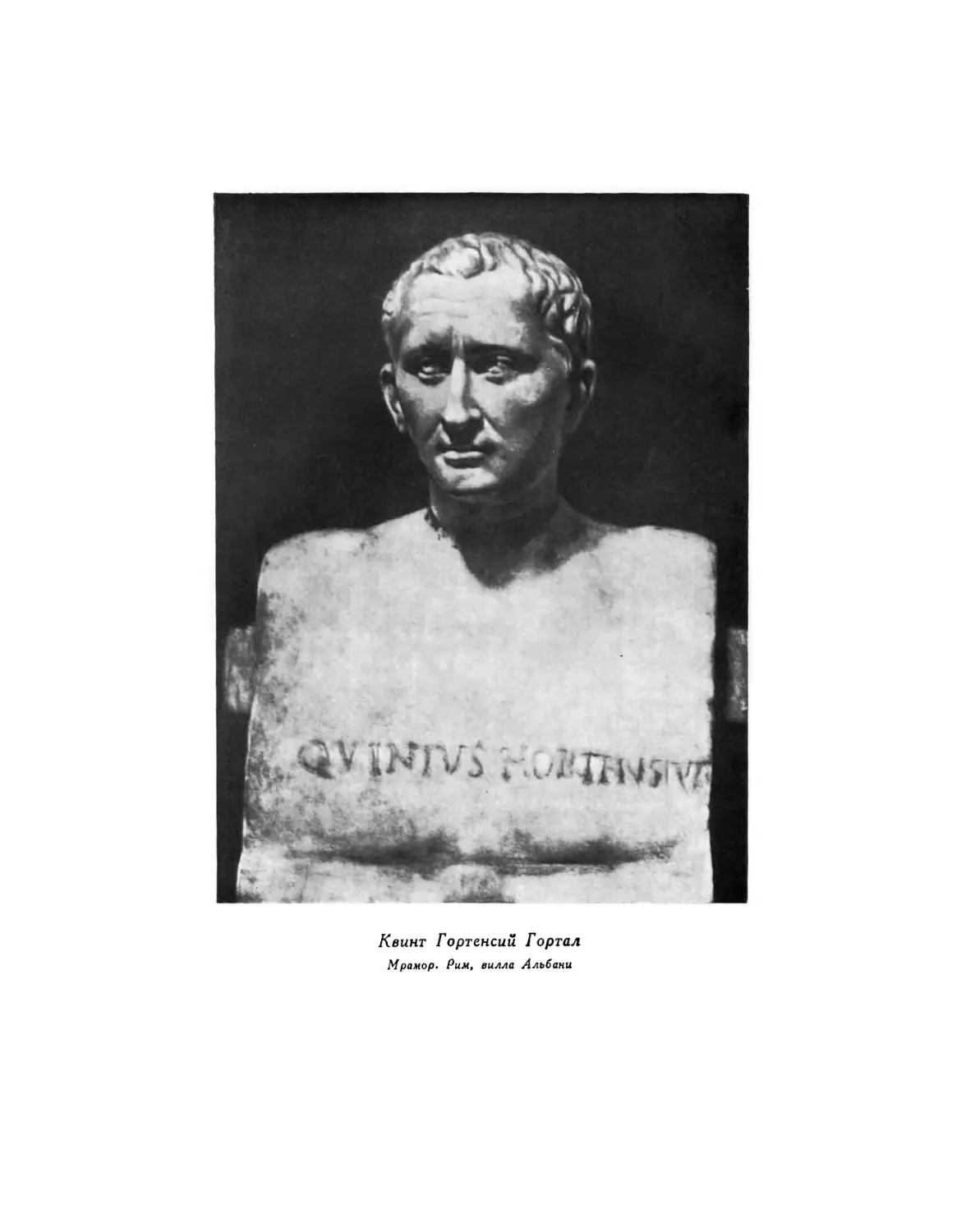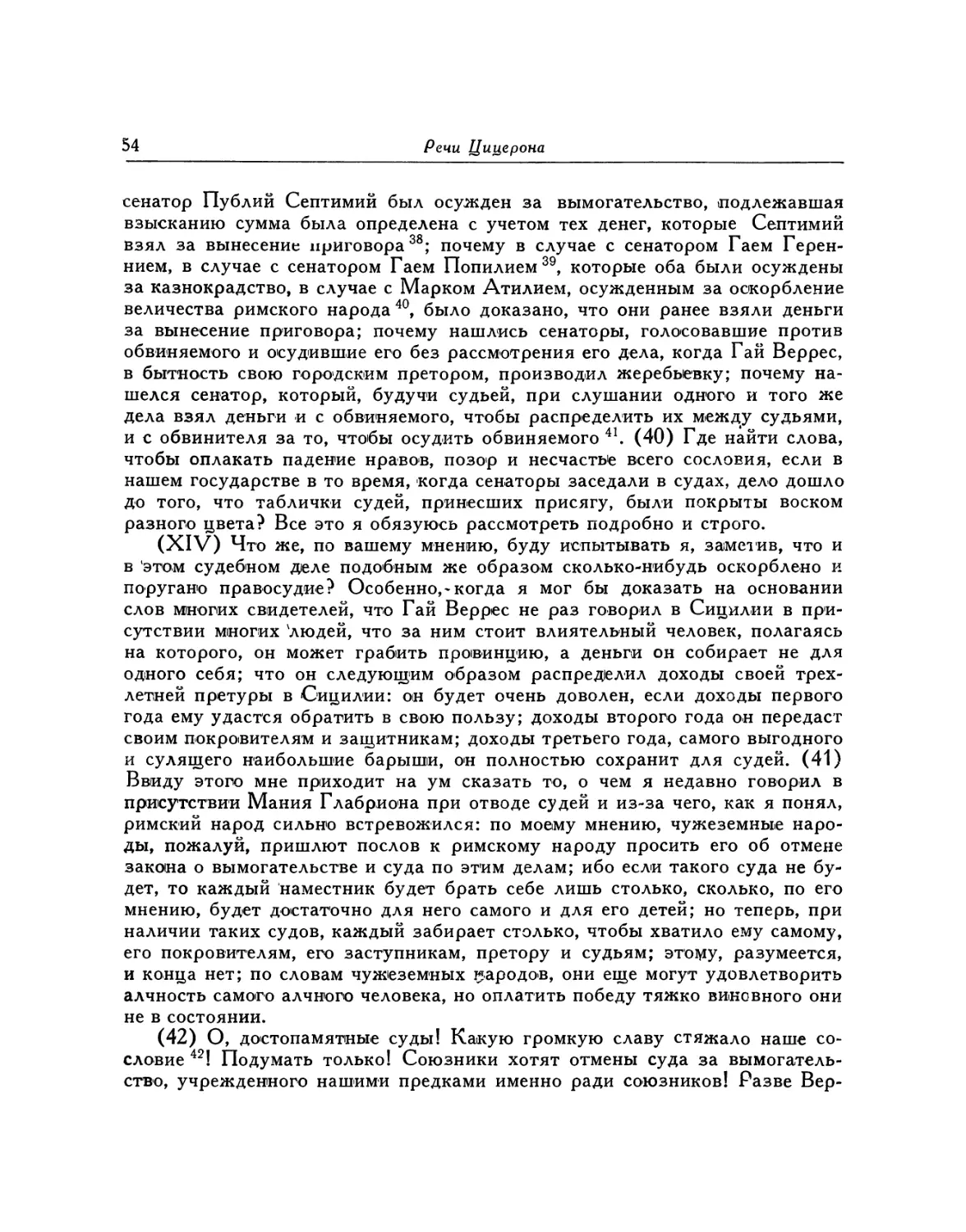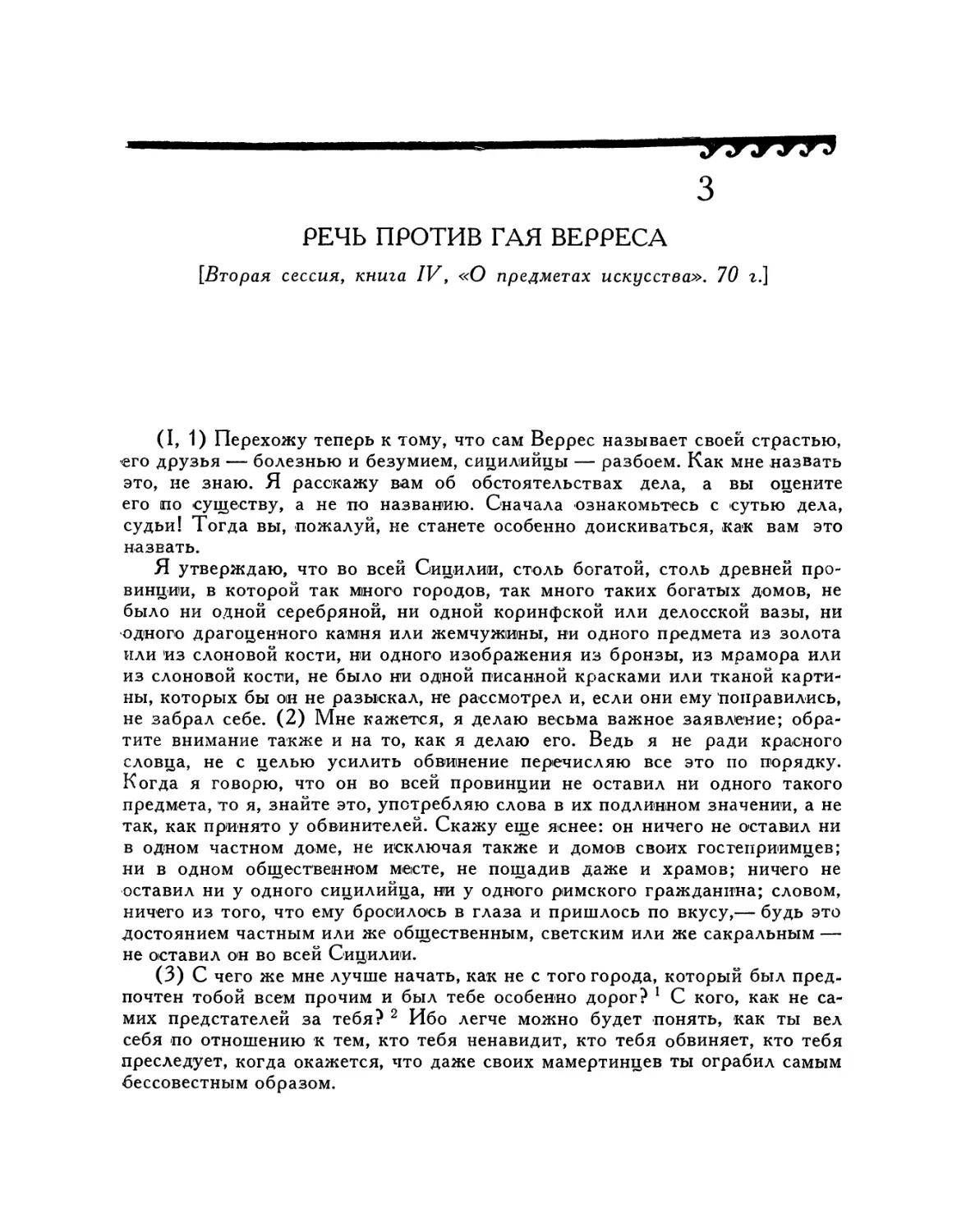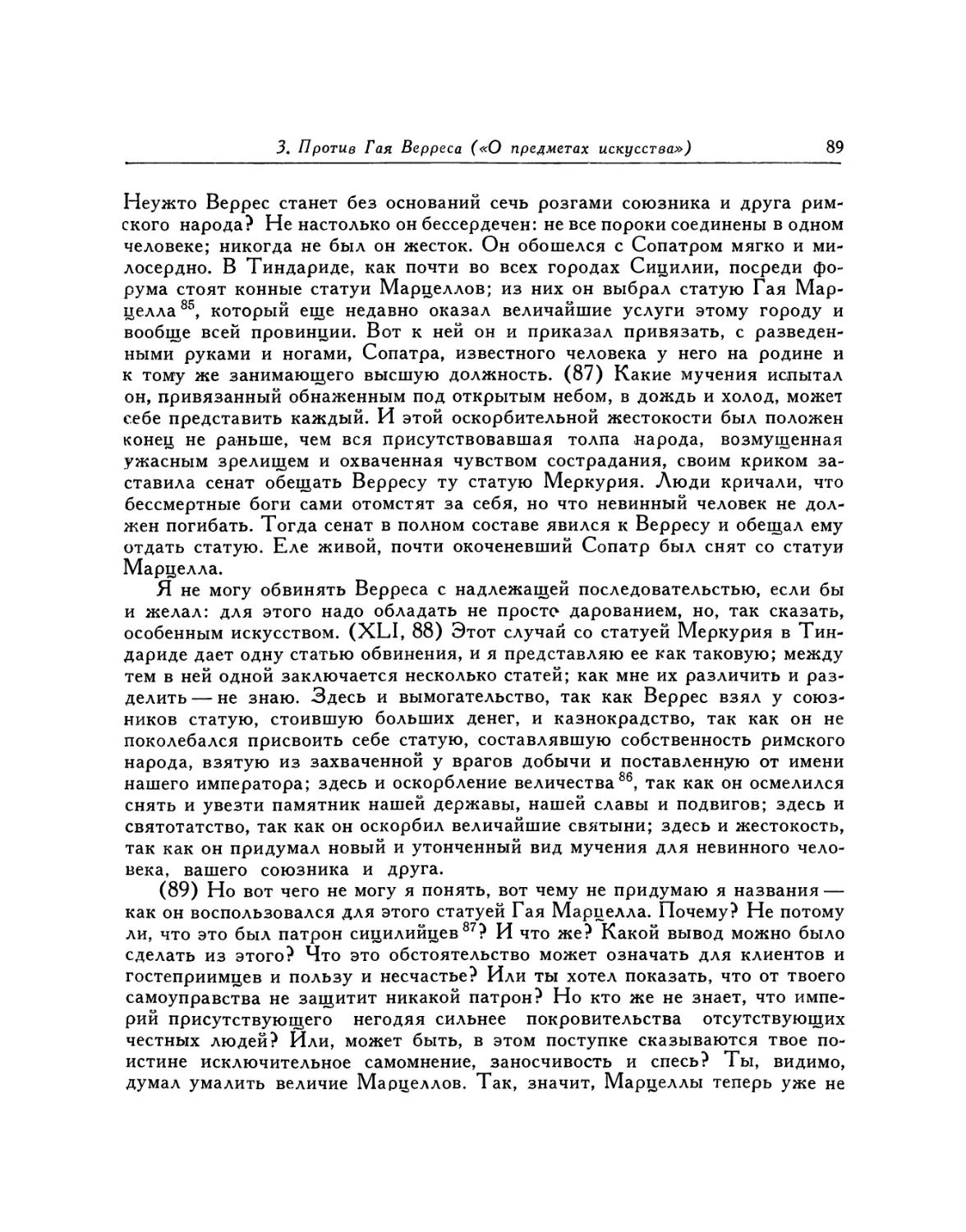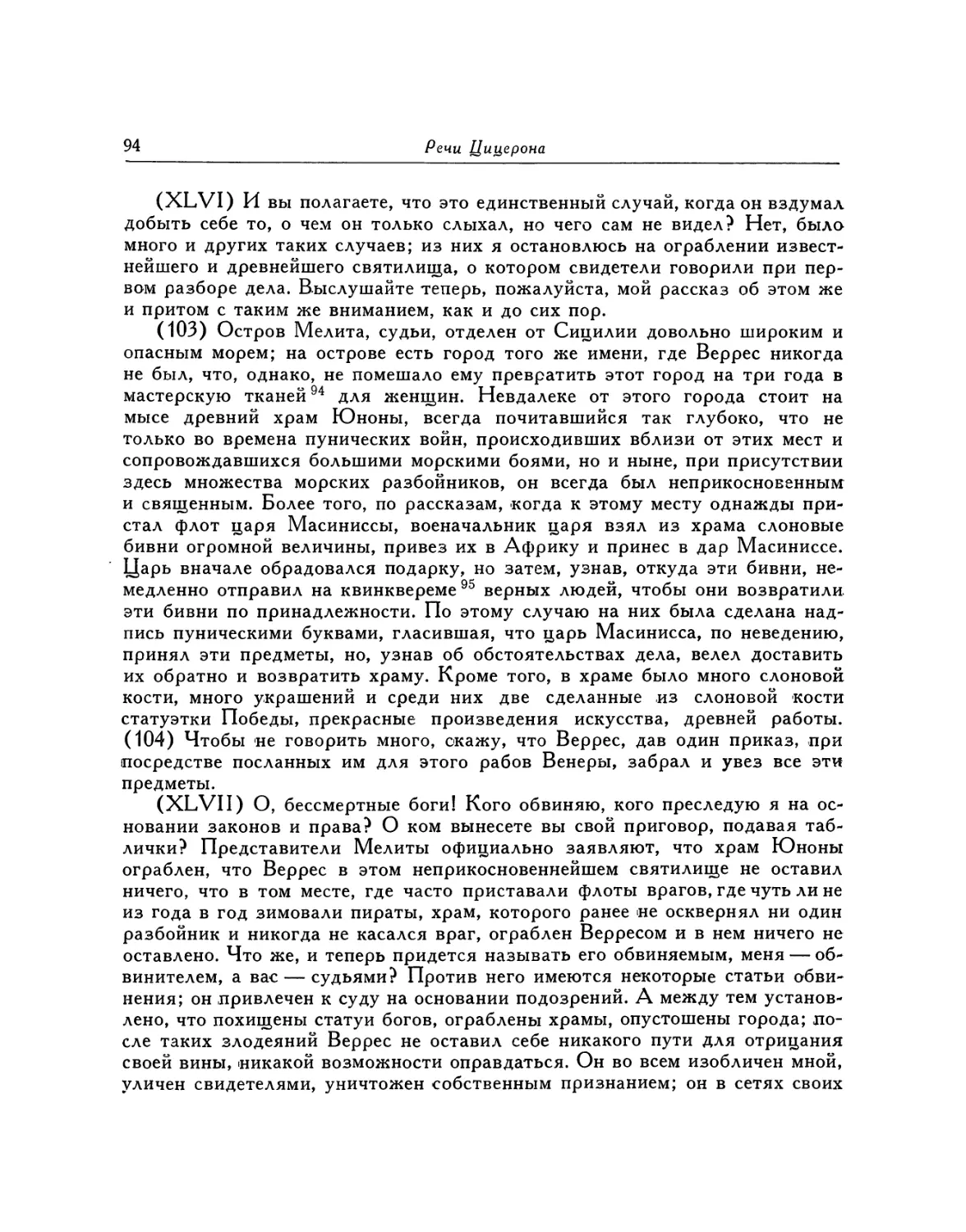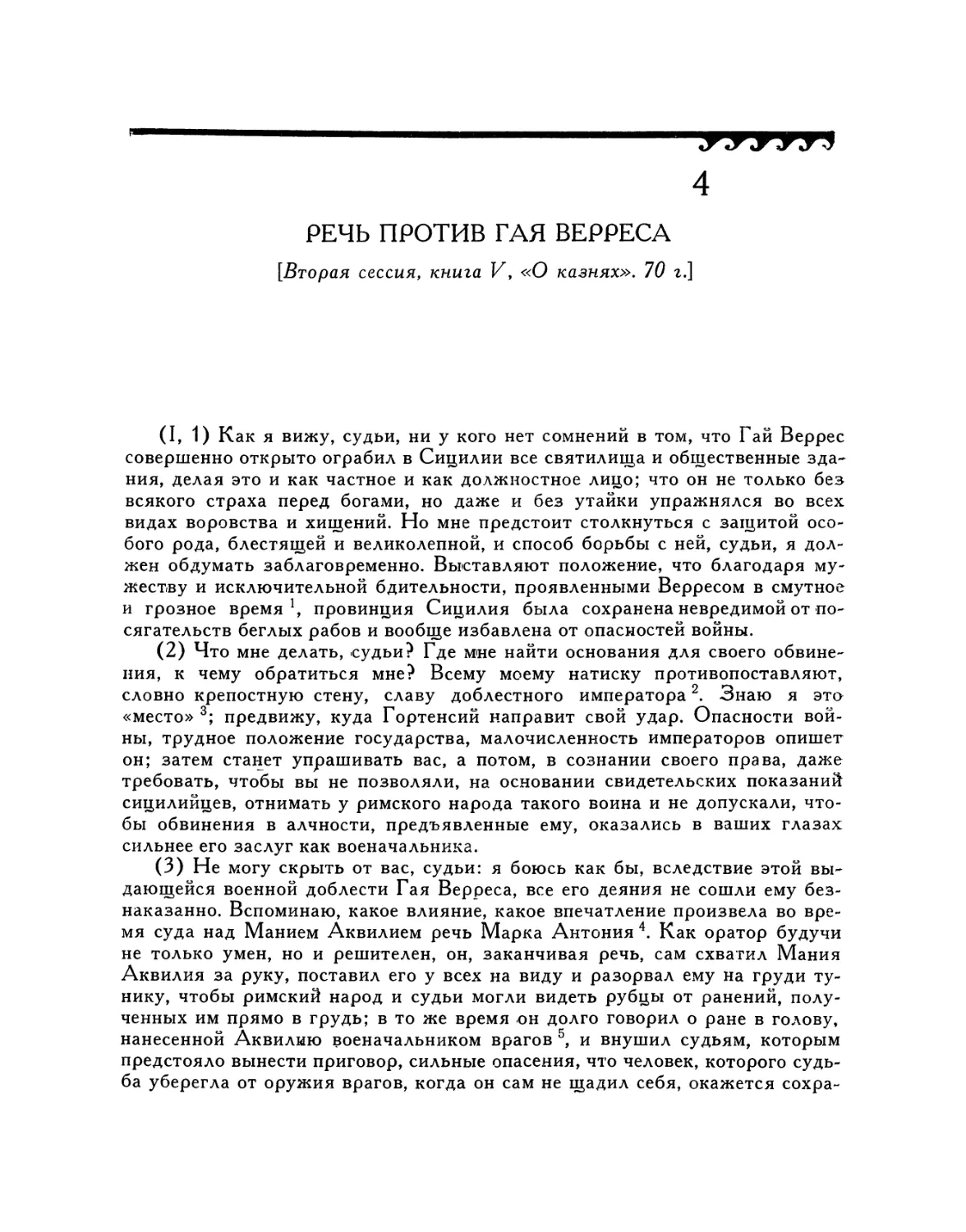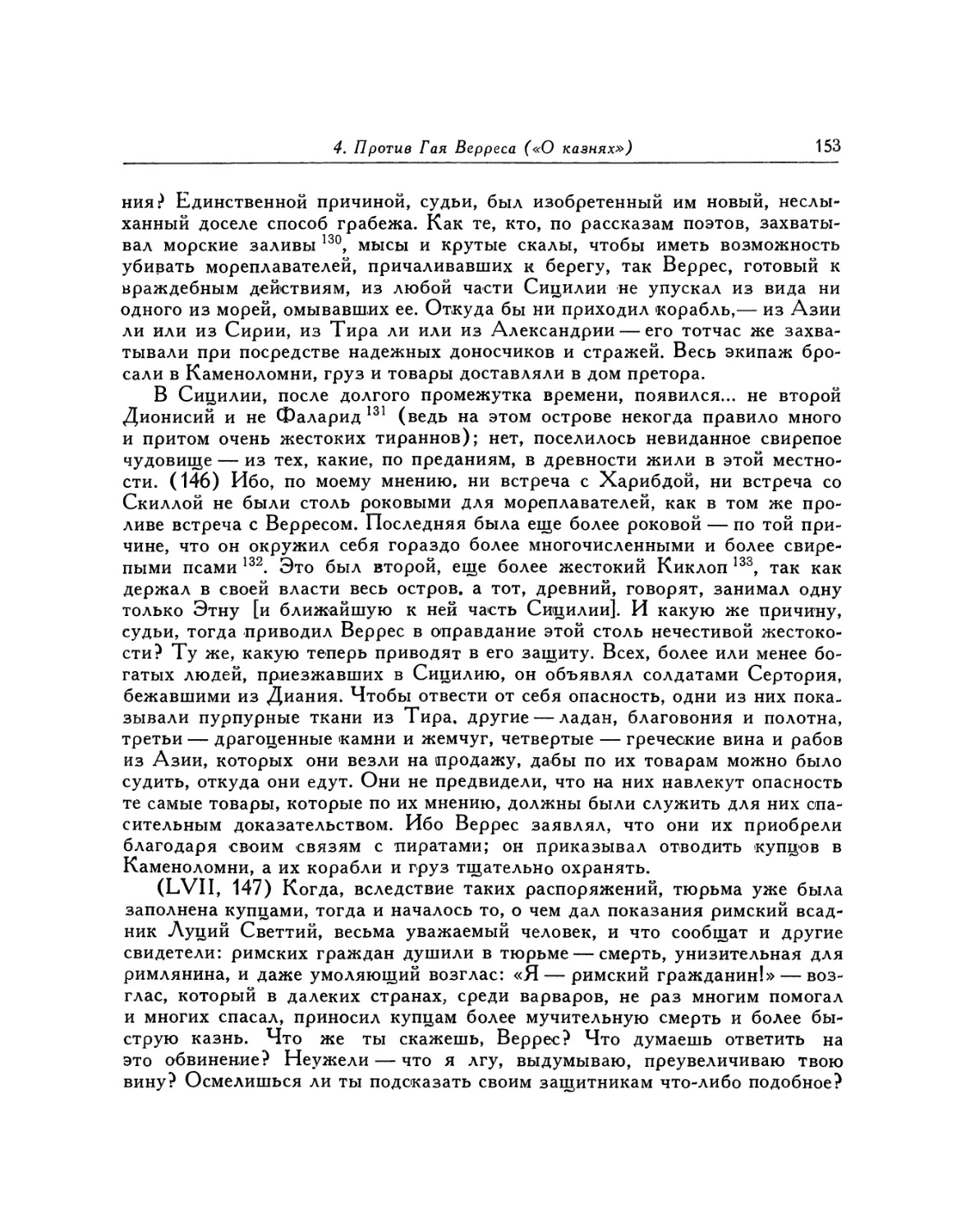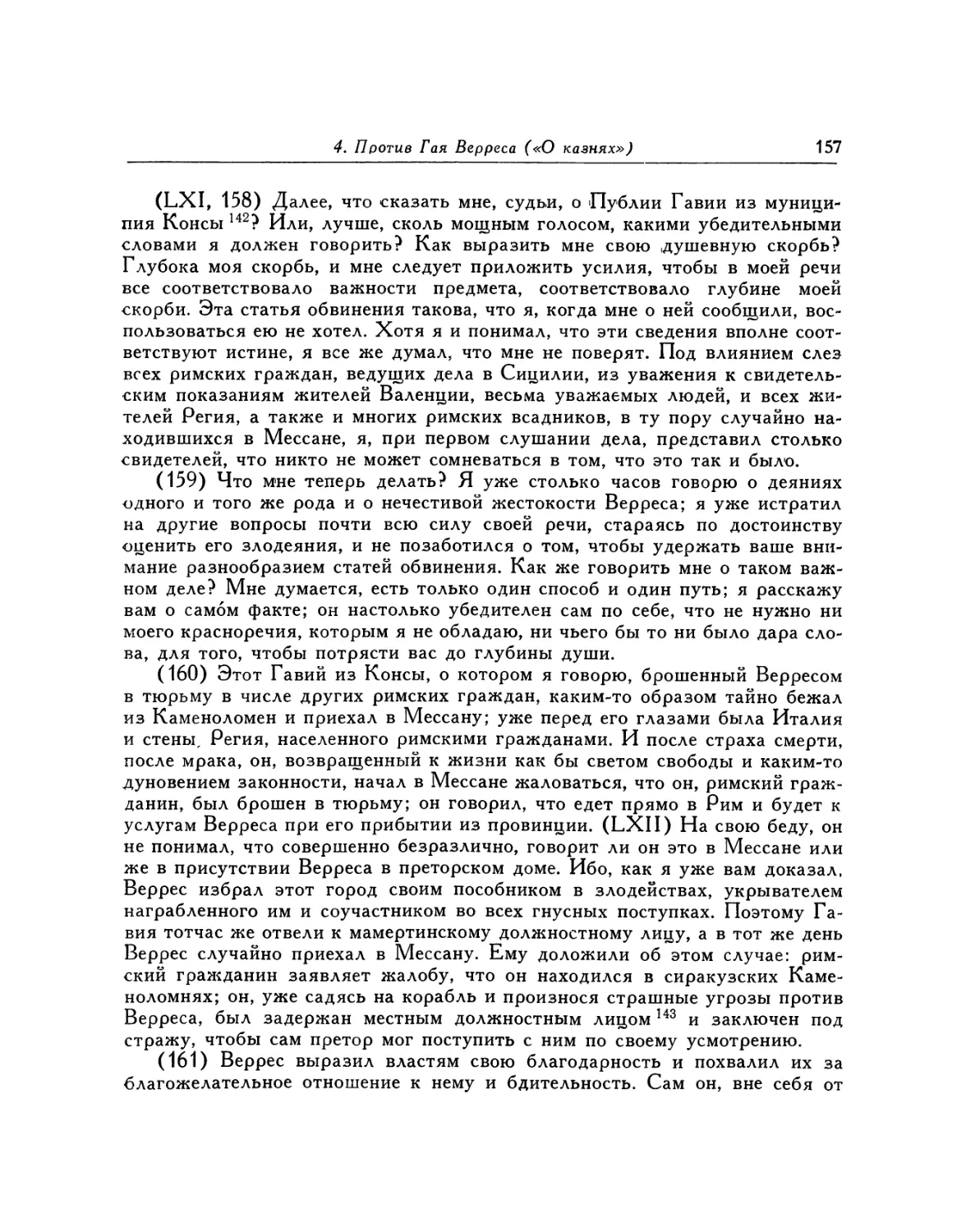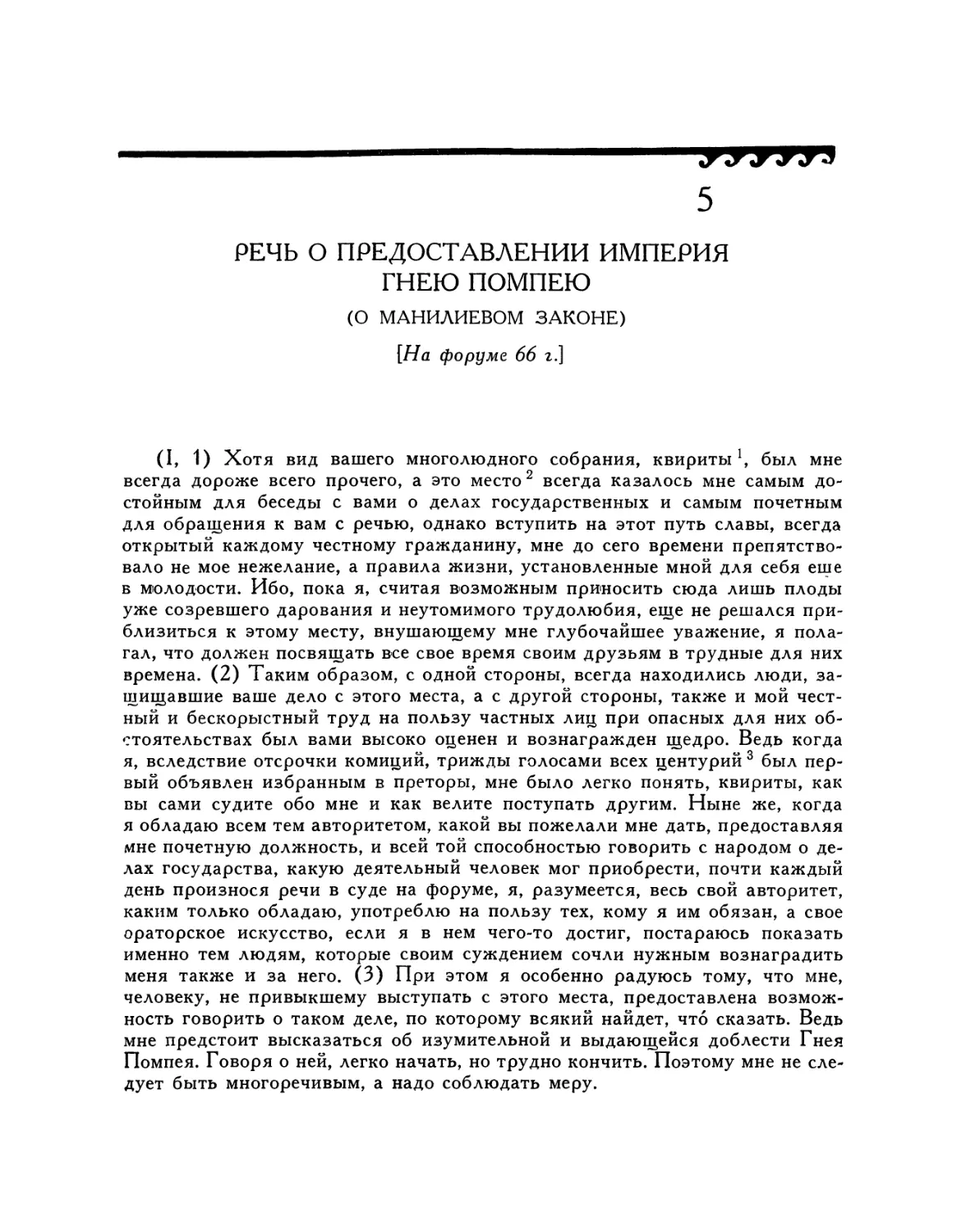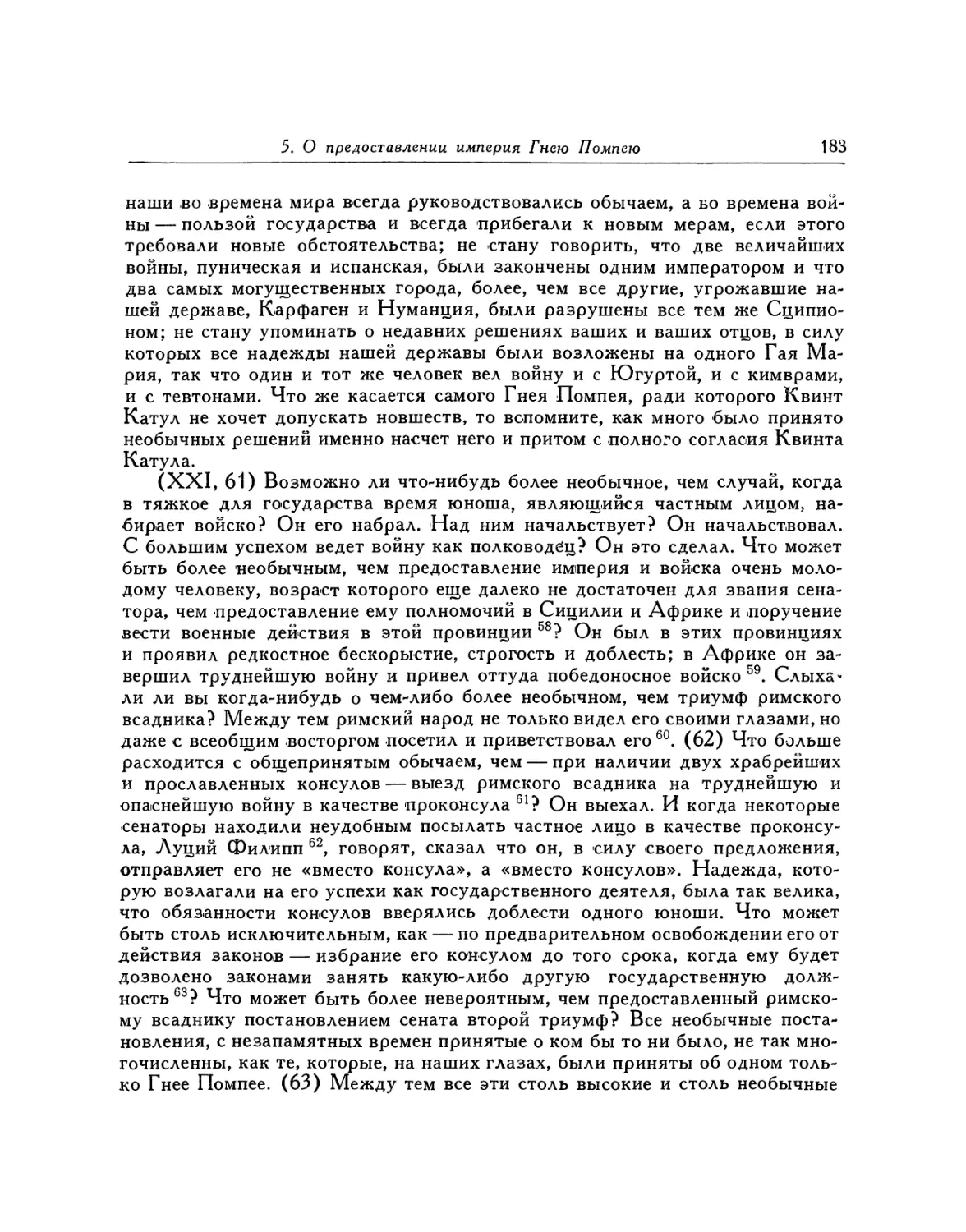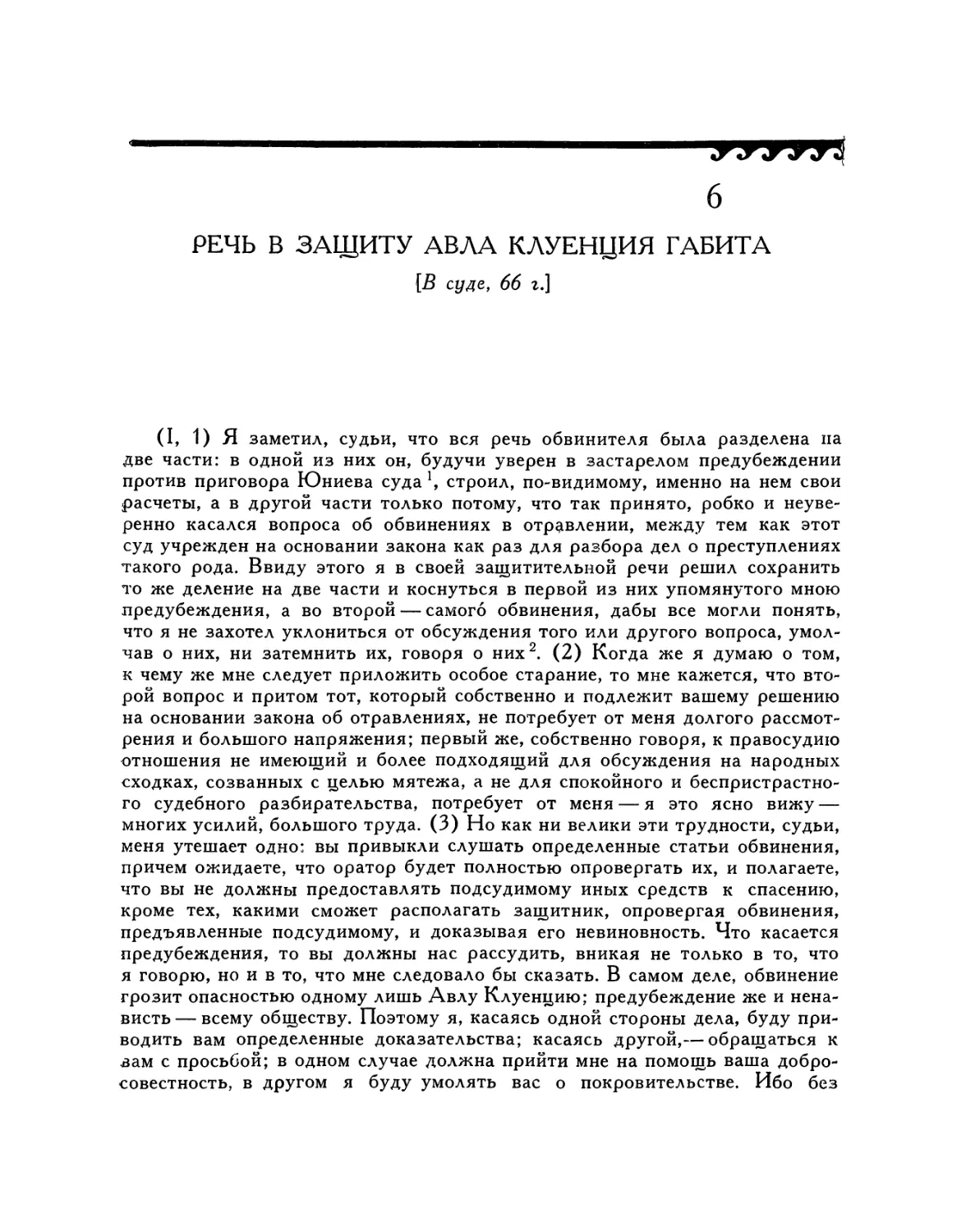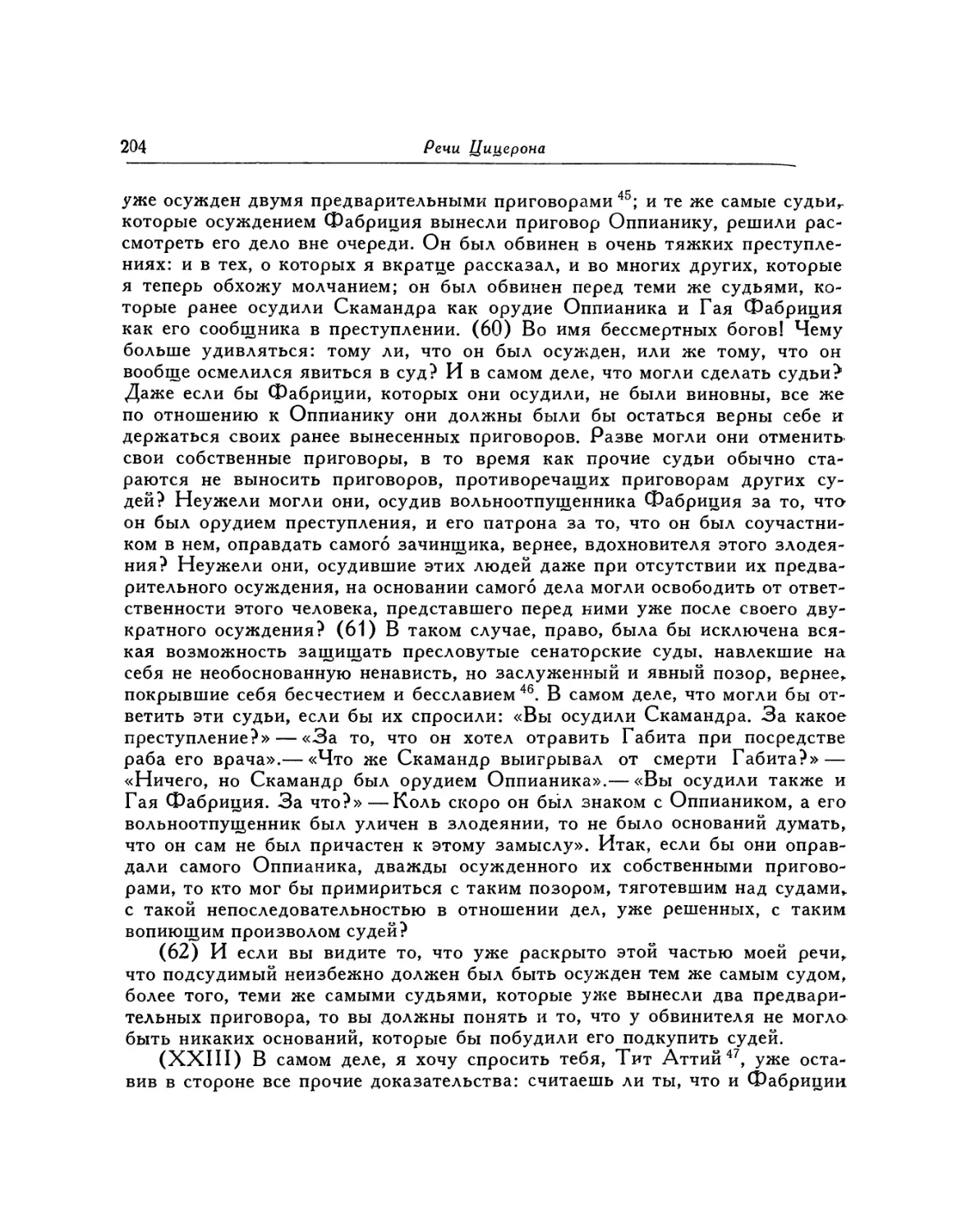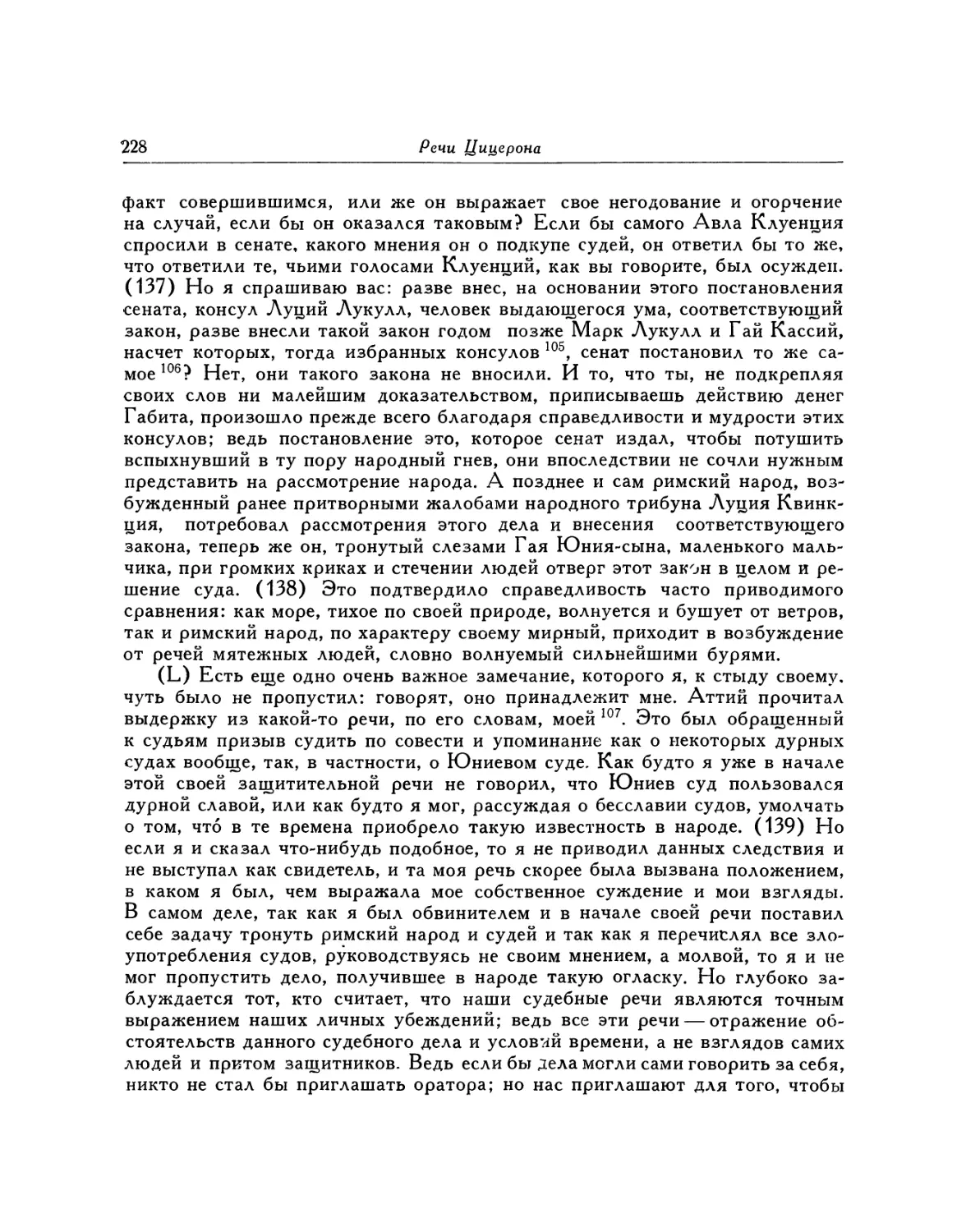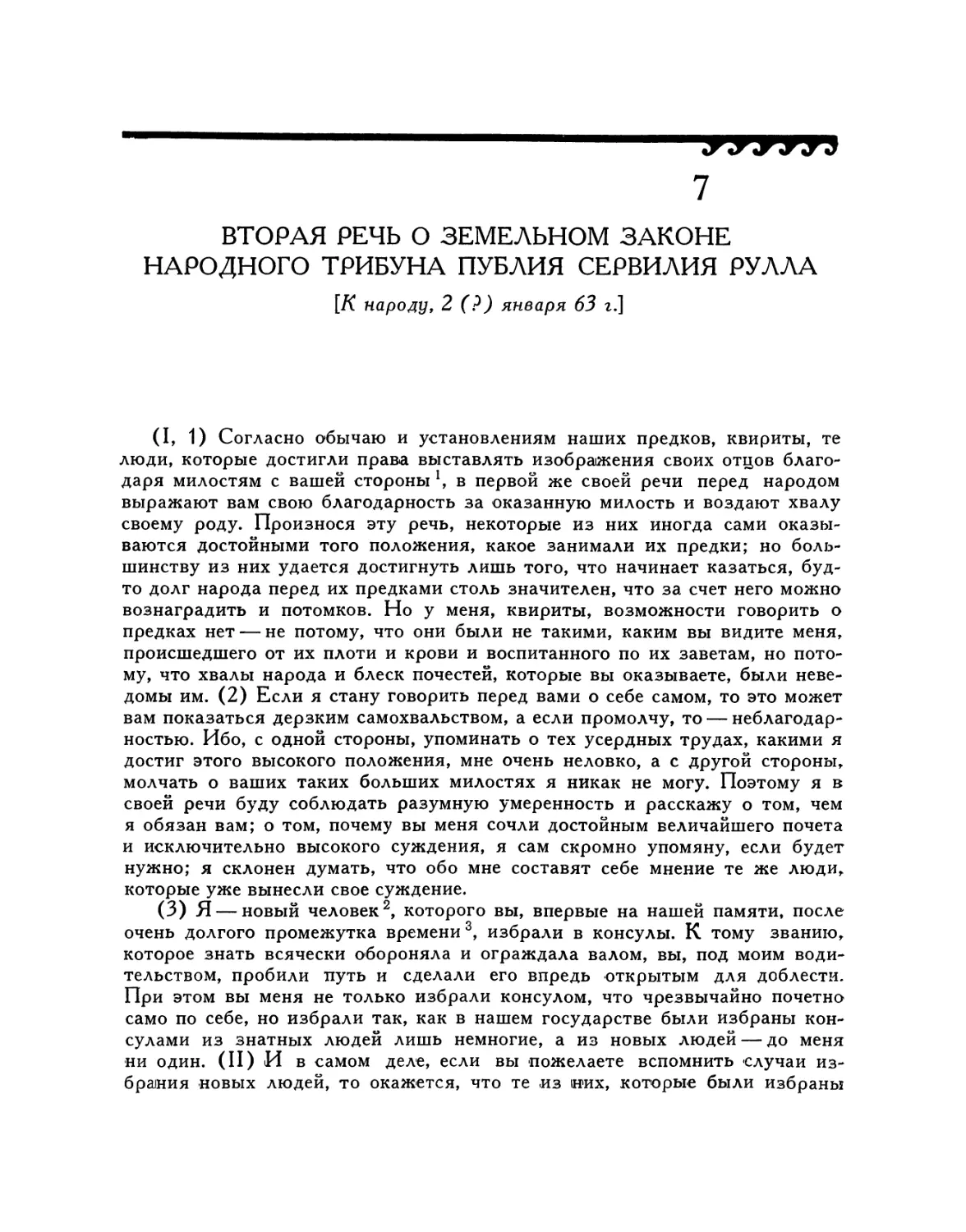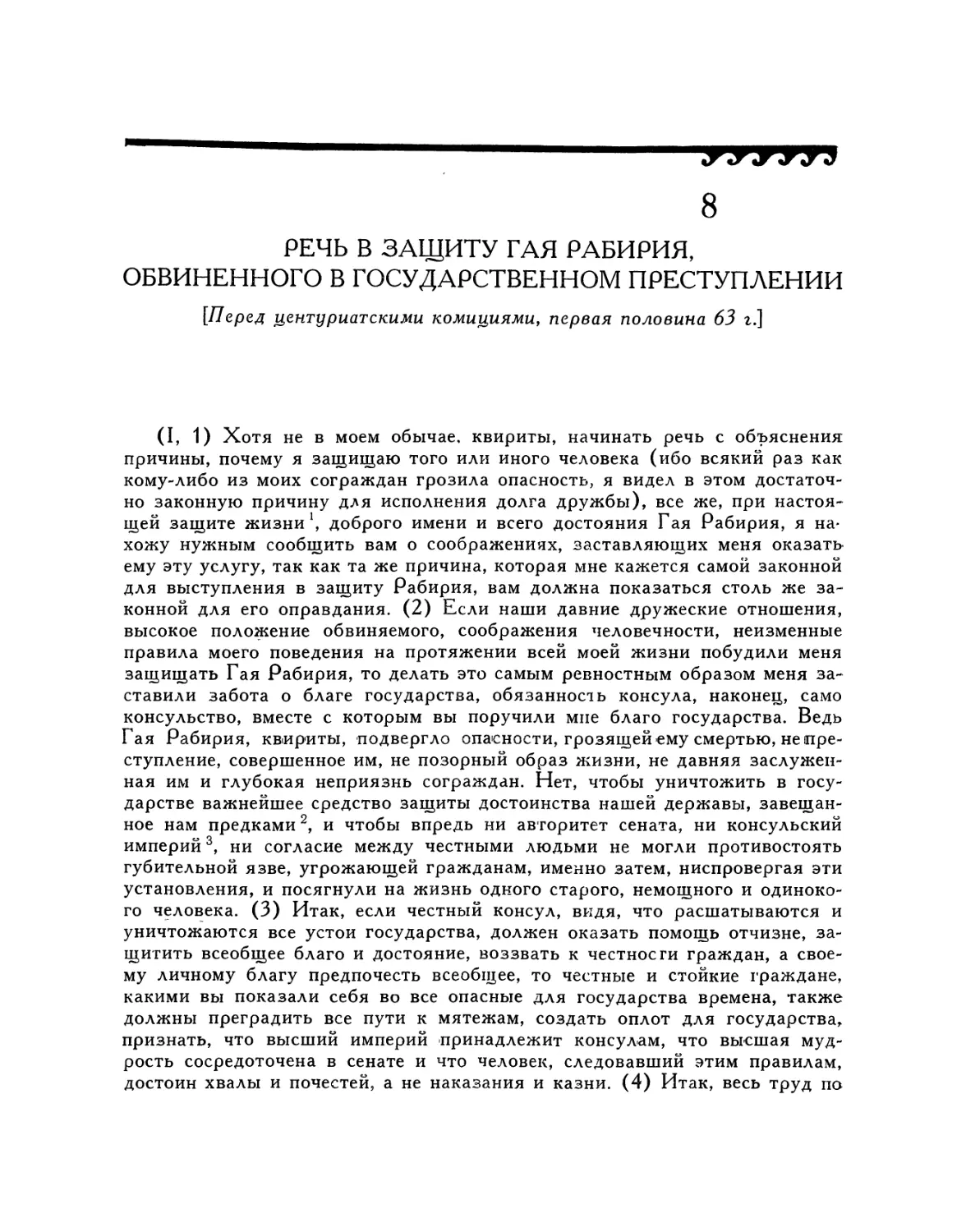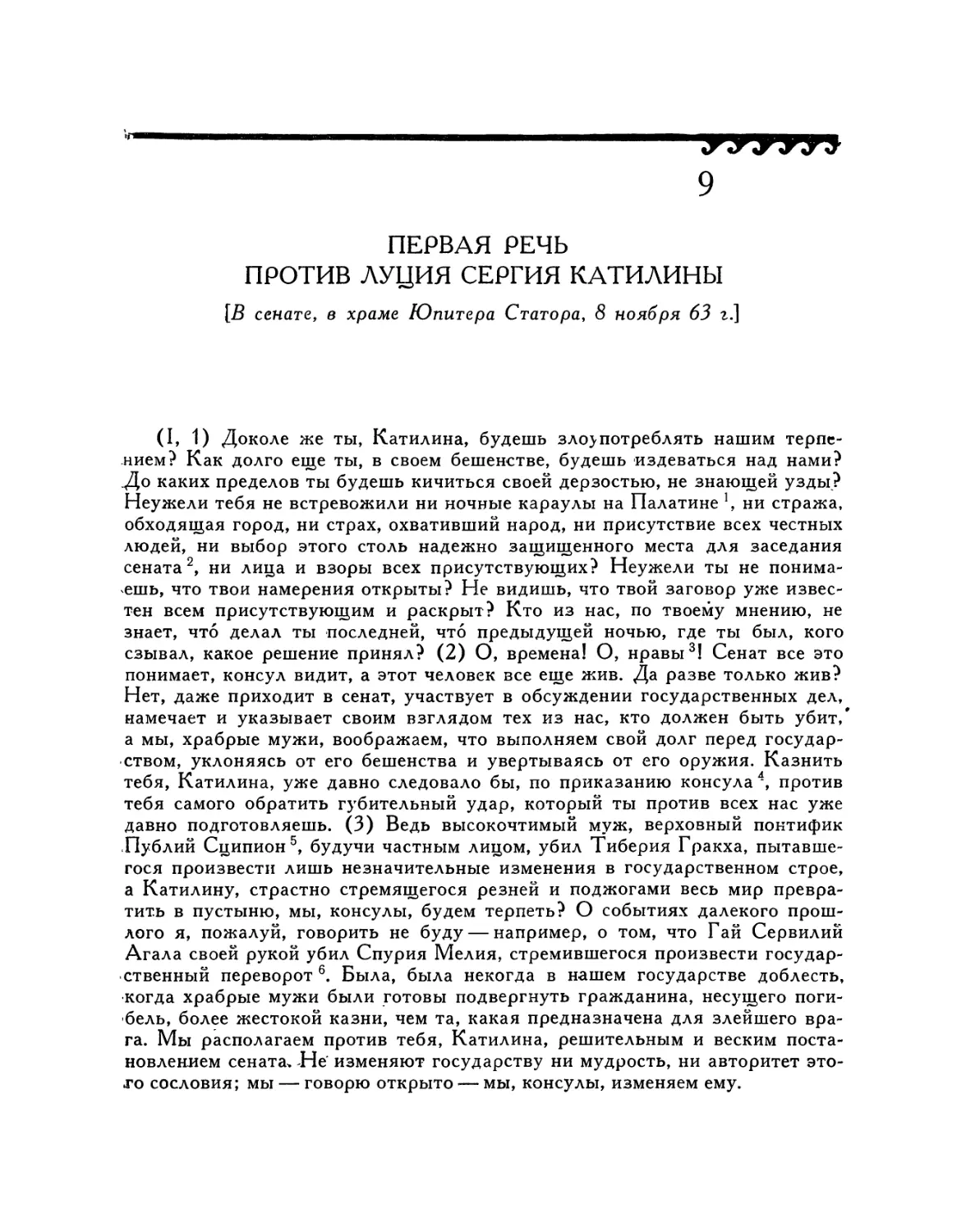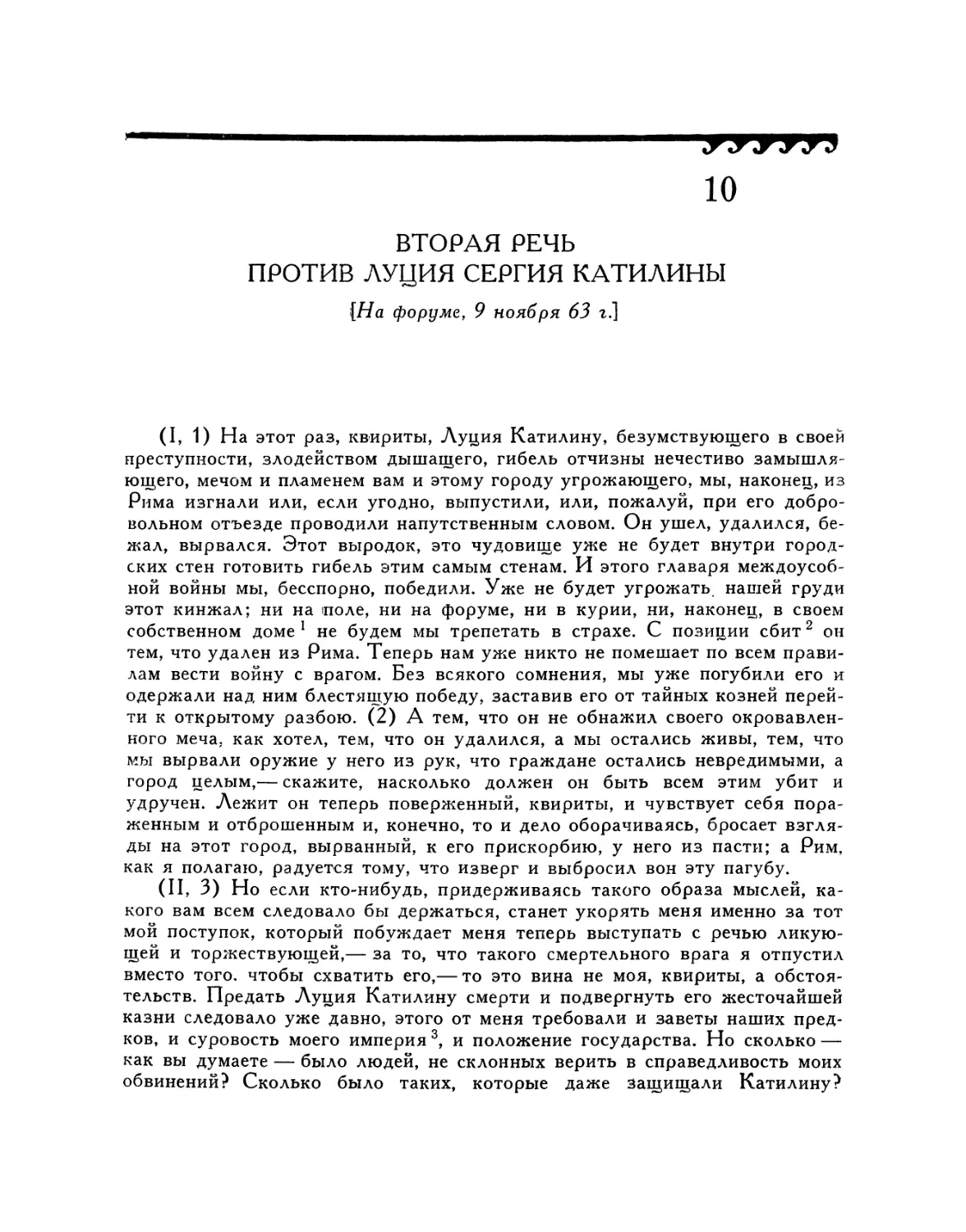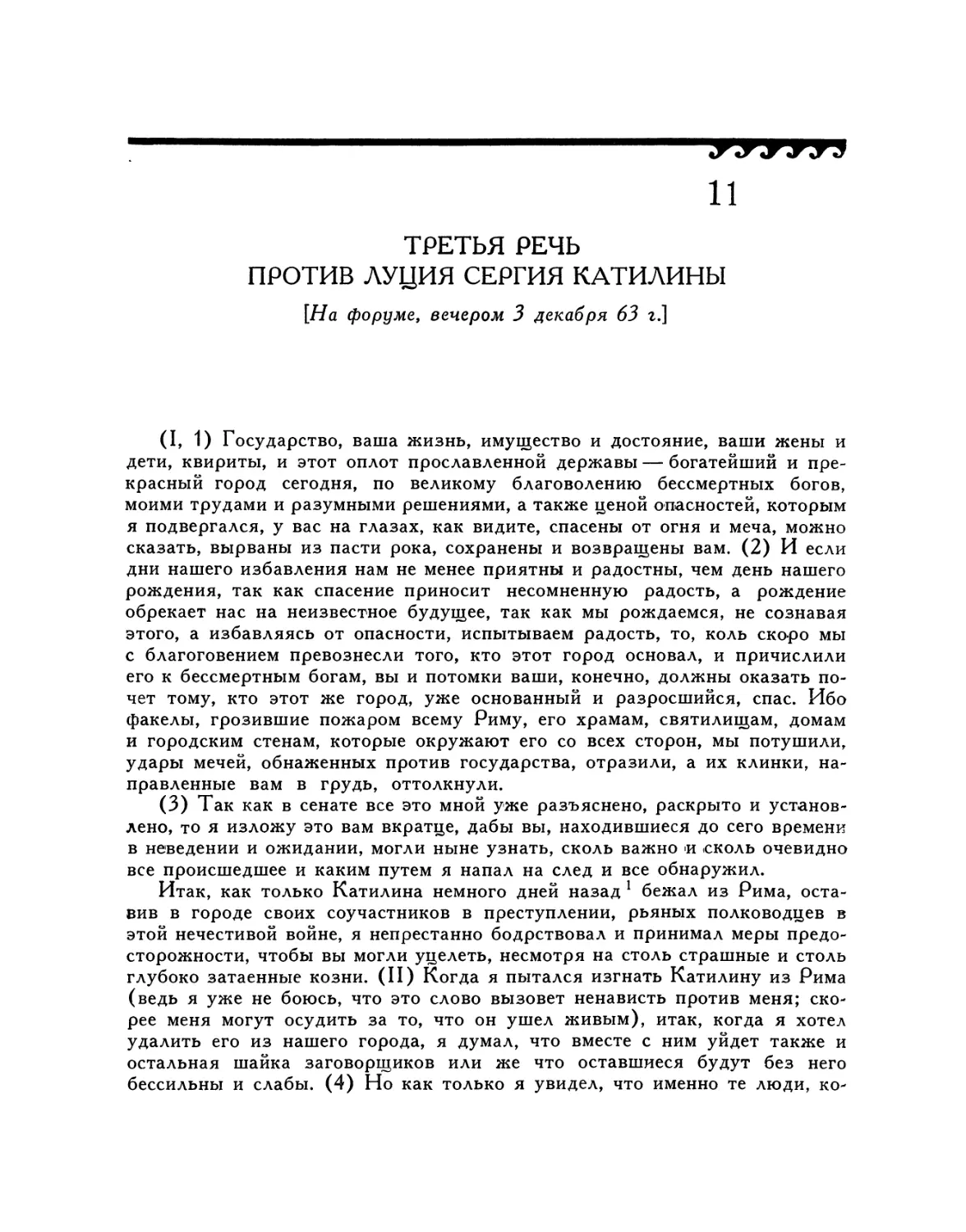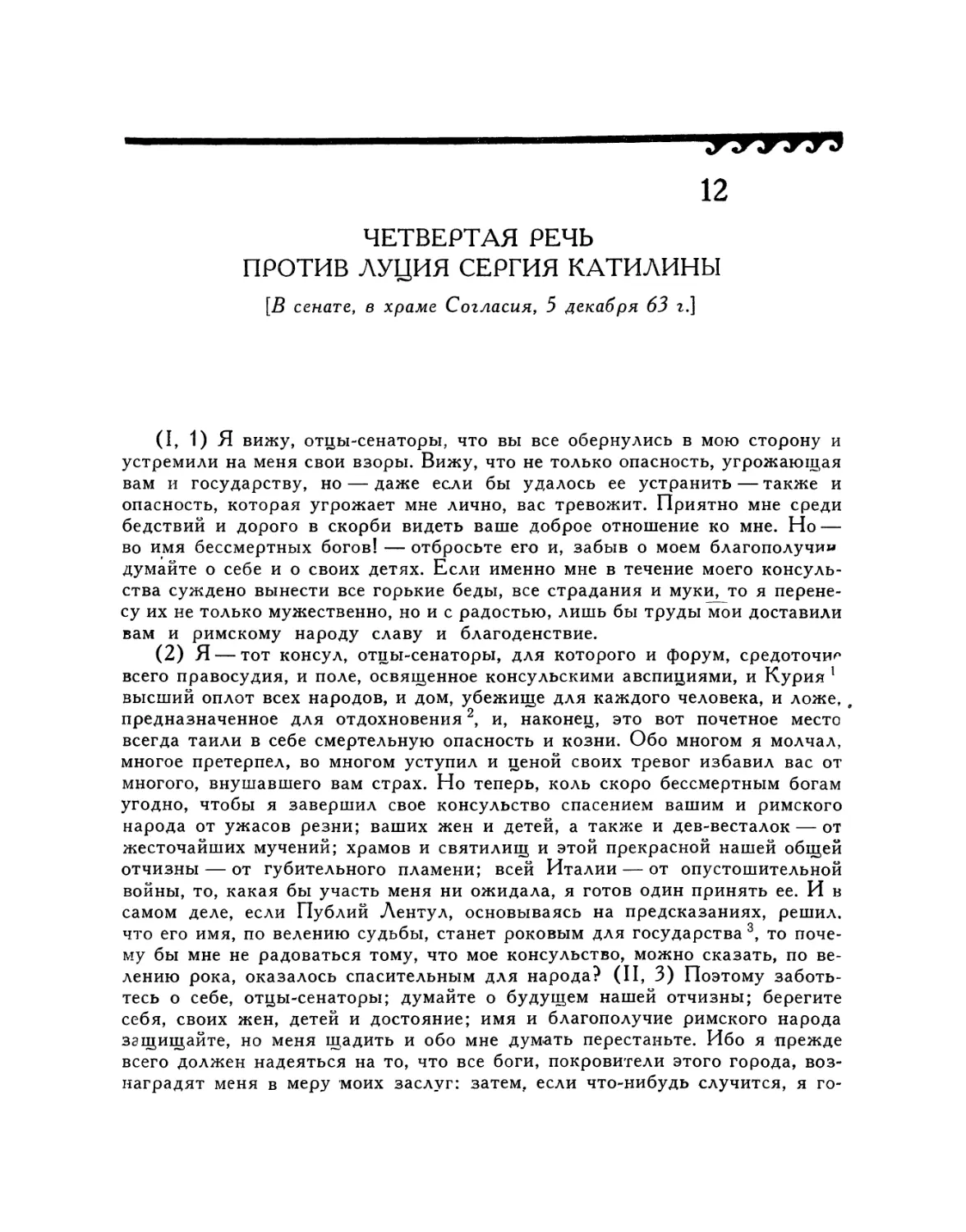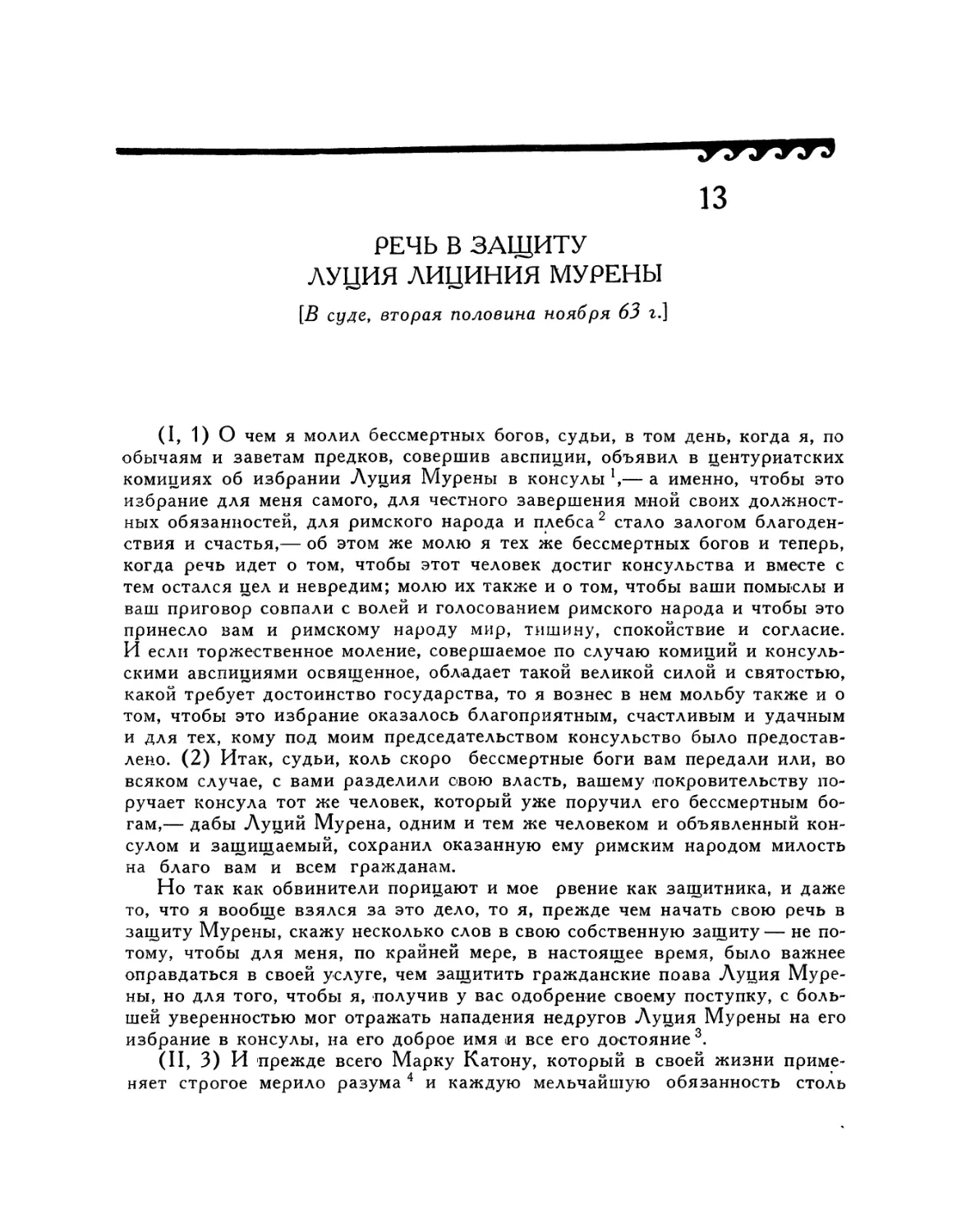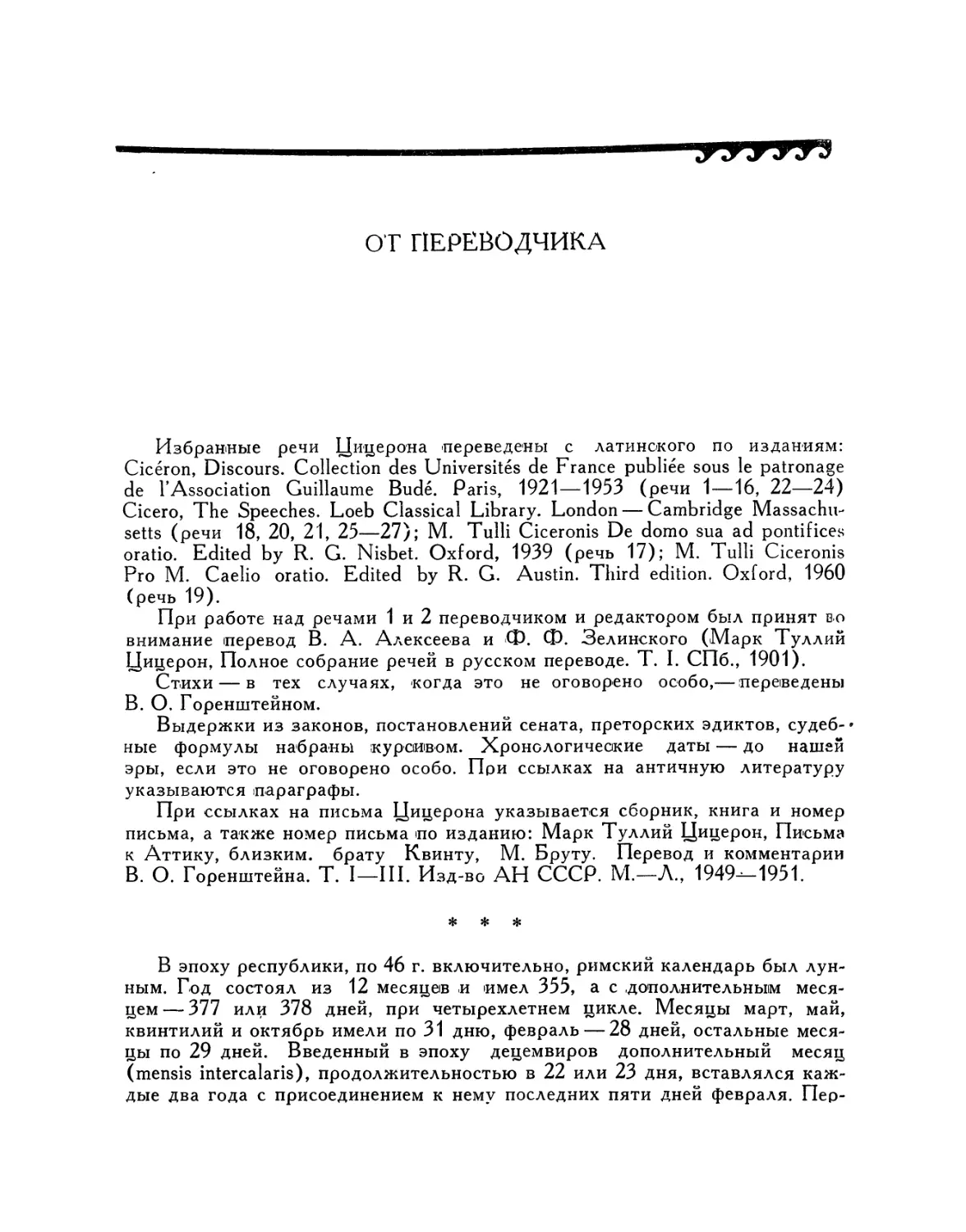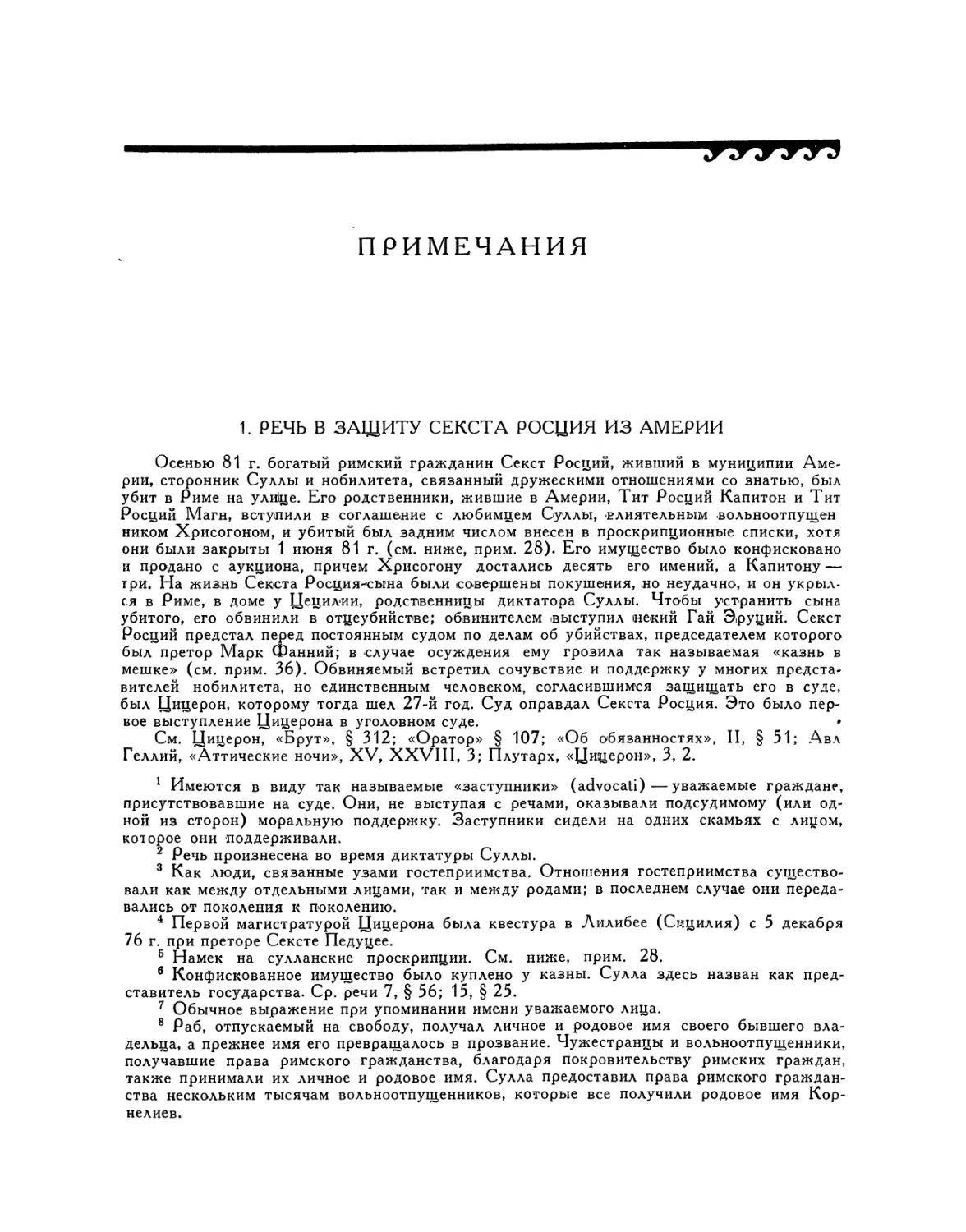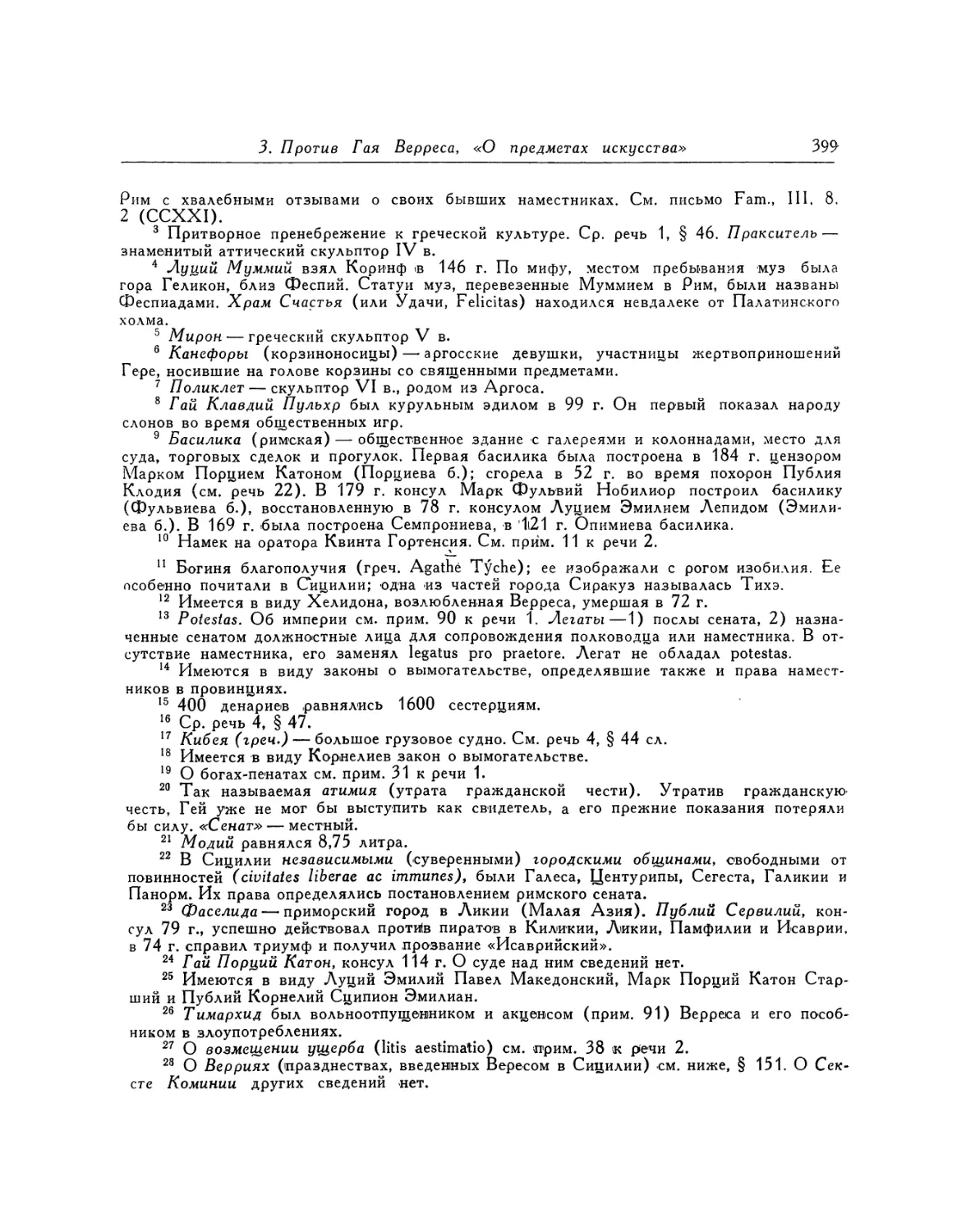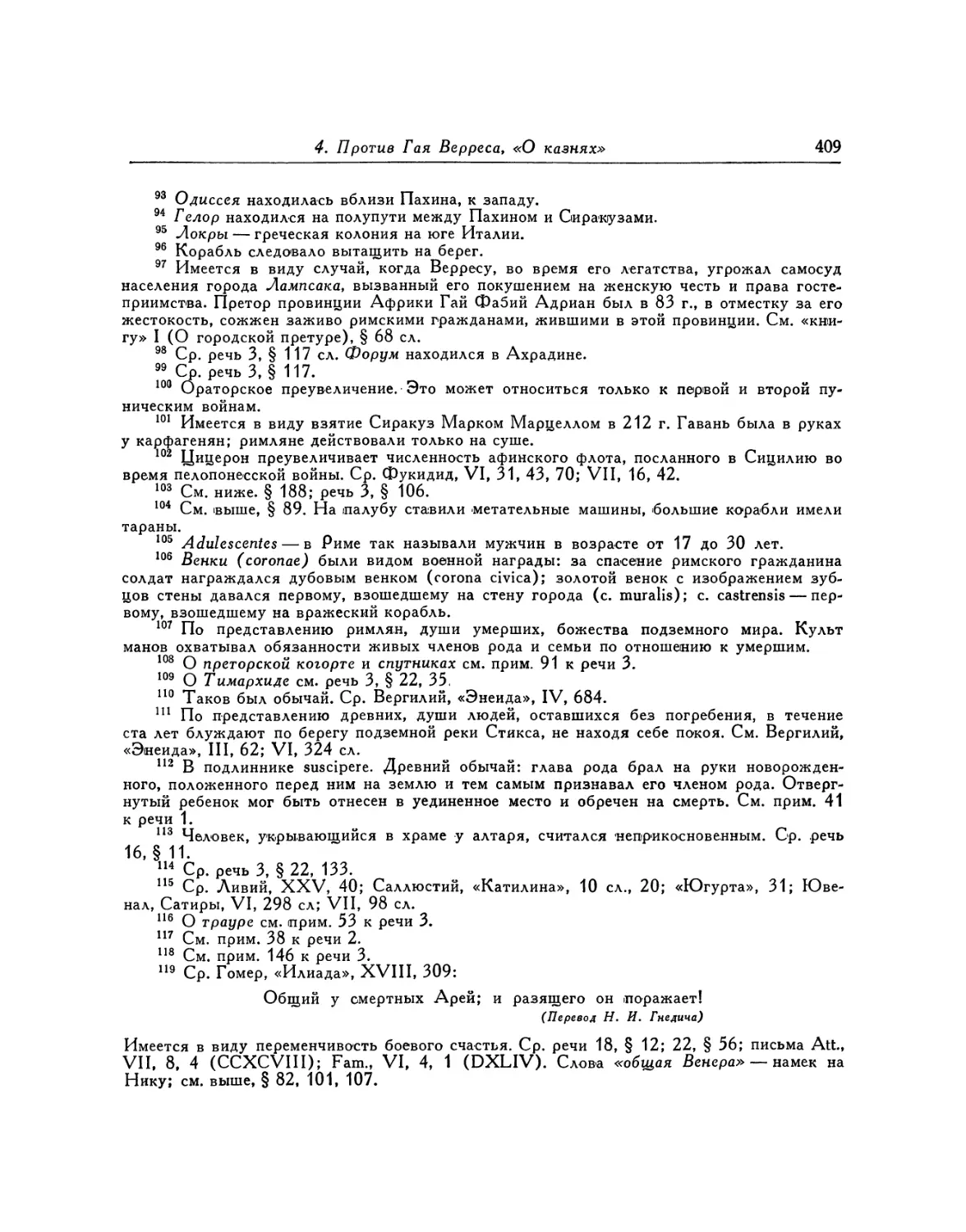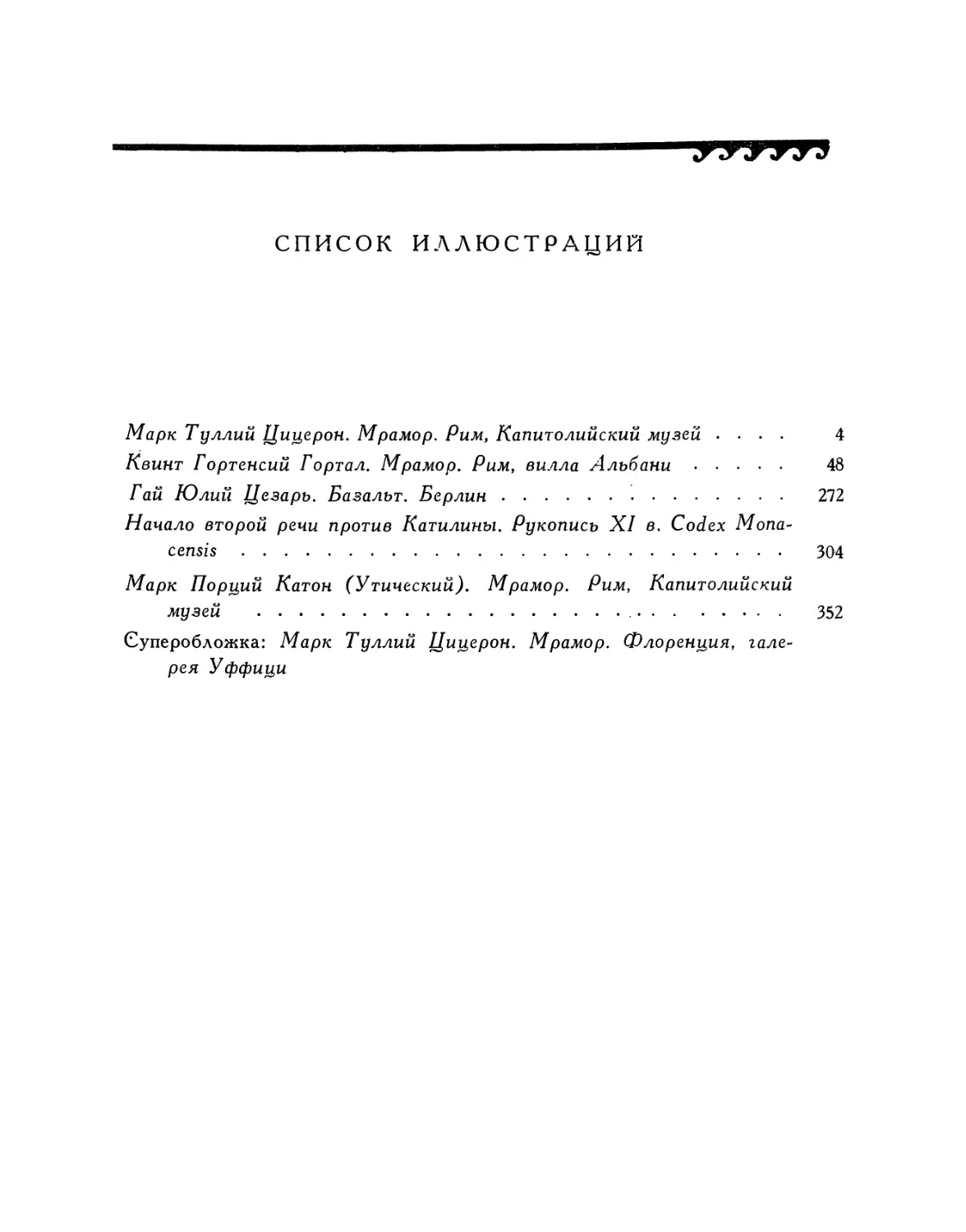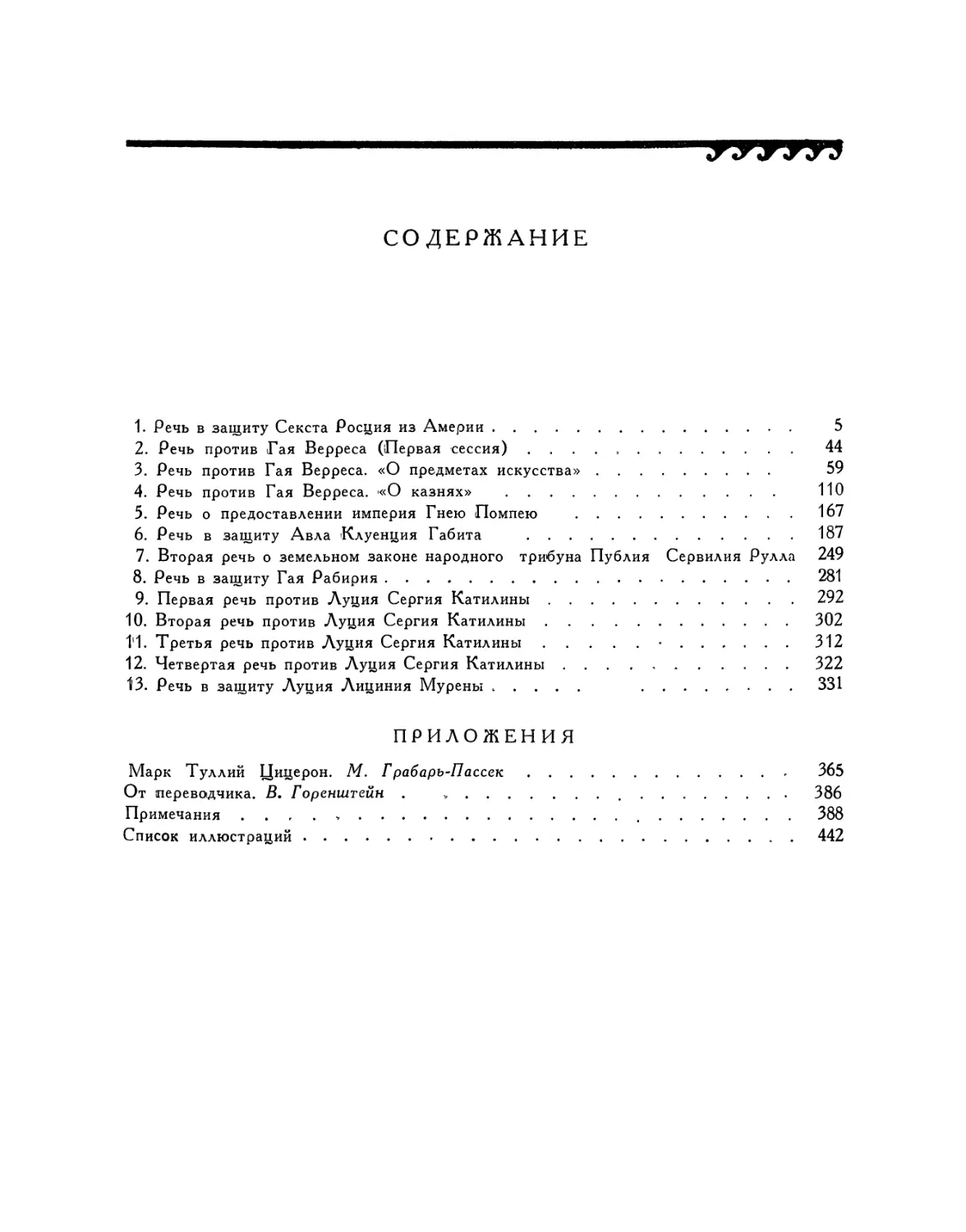Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
.Литературные Памятники
M. TVLLI
ClCERONIS
ORATIONES.
МАРК ТУЛЛИЙ
Цицерон
Ы
„РЕ Ч.К
В ДВУХ Т О.М.АХ
i
г оды 81-63 до н.э.
■ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
В.О.ГОРЕНШТЕЙН У1 -Л\.В.ГРАБАРЬ-ГГАССЕК
ИЗДАТЕЛЬСТВО АЗСАДЕАЛ-ИИ НАуК СССР
-М.О С К В А
19 6 2
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
Академик \В. П. Волгин ((председатель),
академики: 5. В. Виноградов, Н. И. Конрад (зам. председателя),
С. Д. С к а з к и н, М. Н. Тихомиров,
члены-корреспонденты АН СССР: И. И. А ни с и м о в,
Д. Д. Благой, В. М. Жирмунский, Д. С. Лихачев;
профессора: А. А. Елистратова, Ю. Г. О к с ман, С. А. У т ч е н к о;
кандидат филологических наук О. К. Логинова,
кандидат исторических наук Д. В. Ознобишин
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
М. £. Г Р АБА РЬ-П АС С ЕК
Марк Туллий Цицерон.
Мрамор. Рим, Капитолийский музей
1
РЕЧЬ В ЗАЩИТУ СЕКСТА РОСЦИЯ
ИЗ АМЕРИИ
[В суде, 80 г.]
(I, 1) Вы, конечно, удивляетесь, судьи, почему в то время, когда
столько выдающихся ораторов и знатнейших людей сидит спокойно, поднялся'
именно я, хотя ни по летам своим, ни по дарованию, ни по влиянию я не могу
выдержать сравнения с этими вот, сидящими здесь людьми. Всеете, кто, как
видите, находится здесь \ полагают, что в этом судебном деле надо дать
отпор несправедливости, порожденной неслыханным злодейством, но сами
они дать отпор, ввиду неблагоприятных обстоятельств нашего времени 2,
не решаются. Вот почему они, повинуясь чувству долга3, здесь
присутствуют, а, избегая опасности, молчат. (2) Что же следует из этого? Что
я — всех смелее? Ничуть. Или что я в такой степени превосхожу других
своим сознанием долга? Даже эта слава не настолько прельщает меня,
чтобы я хотел отнять ее у других. Какая же причина побудила меня более, чем
кого-либо другого, взять на себя защиту Секста Росция? Дело в том, что
если бы кто-нибудь из присутствующих здесь людей, влиятельных и
занимающих высокое положение, высказался и произнес хотя бы одно слово о
положении государства (а это в настоящем деле неизбежно), то было бы
сочтено, что он высказал даже гораздо больше, чем действительно сказал.
(3) Если же я выскажу без стеснения все, что следует сказать, то все же
речь моя никак не сможет выйти отсюда и широко распространиться среди
черни. Далее, слова этих людей, вследствие их знатности и известности, не
могут пройти незамеченными, а любое неосторожное выражение им не
простят ввиду их возраста и рассудительности; между тем, если слишком
свободно выскажусь я, то это либо останется неизвестным, так как я еще не
приступал к государственной деятельности 4, либо мне это простят по моей
молодости; впрочем, в нашем государстве уже разучились не только
прощать проступки, нэ и расследовать преступления 5.
(4) К этому присоединяется еще вот какое обстоятельство: может быть,
с просьбой защищать Секста Росция к другим людям обращались в такой
форме, что они имели возможность согласиться или отказаться, не нарушая
своего долга; ко мне же с настоятельной просьбой обратились такие лица,
чья дружба, милости и высокое положение для меня слишком много
6
Речи Цицерона
значат, и я не имел права ни забывать об их расположении ко мне, ни
презреть их авторитет, ни отнестись к их желанию небрежно. (II, 5) По этим
причинам я и оказался защитником, ведущим это дело,— не первым,
избранным предпочтительно перед другими за свое особое дарование, а,
напротив, последним из всех, так как могу говорить с наименьшей опасностью
для себя,— и не для того, чтобы Секст Росций нашел во мне достаточно
надежного защитника, а дабы он не остался вовсе беззащитным.
Быть может, вы спросите, какая же страшная, какая чудовищная
опасность препятствует столь многим и столь достойным мужам выступить с
речью в защиту гражданских прав и состояния другого человека, как они
это обычно делали. Неудивительно, если вы до сего времени не знаете
этого, так как обвинители преднамеренно не упомянули о том, из-за чего
возникло это судебное дело. (6) В чем же оно заключается? Имущество отца
присутствующего здесь Секста Росция, оценивающееся в 6 000 000
сестерциев, купил у знаменитейшего и храбрейшего мужа Луция Суллы 6,— чье
имя я произношу с уважением 7,— человек молодой, но в настоящее время,
пожалуй, самый могущественный в нашем государстве,— Луций Корнелий 8
Хрисогон, заплатив за него, как он сам говорит, 2 000 сестерциев. И вот он
требует от вас, судьи, чтобы вы — так как он совершенно беззаконно
завладел огромным и великолепным чужим имуществом и так как, по его
мнению, само существование Секста Росция мешает и препятствует ему
пользоваться этим имуществом — рассеяли все его опасения и избавили от
страха. Хрисогон думает, что пока Секст Росций жив и невредим, ему не
удастся навсегда присвоить себе обширное и богатое отцовское наследие ни в
чем не повинного человека, но если Секст Росций будет осужден и изгнан,
то он сможет прокутить и промотать все, что приобрел путем злодеяния.
Вот он и требует от вас, чтобы вы вырвали из его сердца это опасение,
грызущее его душу день и ночь, и сами открыто признали себя его пособниками
в этом преступном грабеже. (7) Если его требование вам, судьи, кажется
справедливым и честным, то и я, в ответ на него, выдвигаю требование
простое и, по моему убеждению, несколько более справедливое.
(III) Во-первых, я прошу Хрисогона удовлетвориться нашим богатством
и имуществом, а нашей крови и жизни9 не требовать; во-вторых, я прошу
вас, судьи, дать отпор злодеянию наглецов, облегчить бедственное
положение ни в чем не повинных людей и разбором дела Секста Росция устранить
опасность, угрожающую всем гражданам. (8) Но если возникнет либо
основание для обвинения, либо подозрение в том, что преступление
действительно совершено, или же если станет известно какое-нибудь обстоятельство,
хотя бы самое ничтожное, которое позволит думать, что у наших
противников все же были какие-то основания подать жалобу 10, наконец, если вы
найдете любой другой повод к судебному делу, помимо той добычи, о которой
я говорил, то мы идем на то, чтобы жизнь Секста Росция была предана в их
/• В защиту Секста Росцця
7
руки. Если же все дело только в том, чтобы удовлетворить этих ненасытных
людей, если ныне они бьются только из-за того, чтобы осуждением Секста
Росция как бы завершить захват богатой, великолепной добычи, то, не
правда ли, после многих возмутительных фактов самым возмутительным
является то, что вас сочли подходящими людьми для того, чтобы ваш
вынесенный после присяги приговор закрепил за ними то, чего они обычно
достигали преступлениями и оружием; то, что тайные убийцы и гладиаторы п
требуют, чтобы люди, за свои заслуги избранные из числа граждан в
сенаторы, а за свою строгость — из числа сенаторов в этот совет 12, не только
освободили их от наказания, которого они за свои злодеяния должны со
страхом и трепетом ожидать от вас, но еще и выпустили их отсюда
обогащенными и как бы награжденными славной боевой добычей 13.
(IV, 9) Не чувствую в себе сил ни достаточно изящно говорить об этих
столь тяжких и столь ужасных преступлениях, ни достаточно убедительно
жаловаться, ни достаточно свободно выражать свое негодование. Ибо для
изящества речи мне не хватает дарования, ее убедительности мешает моя
молодость, ее свободе — нынешнее положение дел. Кроме того, меня
охватывает необычайный страх, что объясняется и моей природной
застенчивостью и, и вашим высоким положением, и силой моих противников, и
опасностью, угрожающей Сексту Росцию. Поэтому я прошу и заклинаю вас,
судьи, отнестись к моим словам с вниманием и благожелательной
снисходительностью. (10) В надежде на вашу честность и мудрость я взял на себя
бремя более тяжкое, чем то, какое я, по моему мнению, могу снести. Если
вы, судьи, хоть сколько-нибудь облегчите мне его, я буду нести его по мере
своих сил, с усердием и настойчиво; но если вы, против моего ожидания,
оставите меня без поддержки, я все-таки не паду духом и, пока смогу, буду
нести то, что на себя взял. И если я не смогу донести его до конца, то
скорее паду под бременем долга, чем предательски брошу или малодушно
откажусь от доверенного мне.
(11) Также и тебя, Марк Фанний, я настоятельно прошу — каким ты
уже давно проявил себя по отношению к римскому народу, когда
председательствовал именно в этом постоянном суде 15, таким покажи себя нам
и государству в настоящее время. (V) Какое великое множество людей
собралось, чтобы присутствовать при этом суде, ты видишь; чего ожидают все
эти люди, как они желают справедливых и строгих приговоров, ты
понимаешь. После долгого перерыва сегодня впервые происходит суд по делу
об убийстве 16, а между тем за это время были совершены гнуснейшие и
чудовищные убийства. Все надеются, что этот постоянный суд, где претором
являешься ты, будет по заслугам карать за злодеяния, происходящие у всех
на глазах, и за ежедневное пролитие крови.
(12) С тем воплем о помощи, с каким при слушании других дел к судье
обычно обращаются обвинители, ныне обращаемся мы, привлеченные к
8
Речи Цицерона
ответственности. Мы просим тебя, Марк Фанний, и вас, судьи, возможно
строже покарать за злодеяния, возможно смелее дать отпор наглейшим
людям и помнить, что, если вы в этом судебном деле не покажете, каковы ваши
взгляды, то жадность, преступность и дерзость способны дойти до того,
что не только тайно, но даже здесь на форуме, перед твоим трибуналом 17,
Марк Фанний, у ваших ног, судьи, прямо между скамьями будут
происходить убийства. (13) И в самом деле, чего другого добиваются посредством
этого судебного дела, как не безнаказанности таких деяний? Обвиняют те,
кто захватил имущество Секста Росция; отвечает перед судом тот, кому
они не оставили ничего, кроме его несчастья. Обвиняют те, кому убийство
отца Секста Росция было выгодно 18, отвечает перед судом тот, кому смерть
отца принесла не только горе, но и нищету. Обвиняют те, кому
непреодолимо захотелось убить присутствующего здесь Секста Росция; перед судом
отвечает тот, кто даже на этот самый суд явился с охраной, дабы его не
убили здесь же, у вас на глазах. Коротко говоря, обвиняют те, над кем народ
требует суда; отвечает тот, кто один уцелел от злодеяния убийц. (14) А
чтобы вам легче было понять, судьи, что все происшедшее еще более
возмутительно, чем можно думать на основании моих слов, я расскажу вам с
самого начала, как все это случилось, дабы вам легче было представить себе
и несчастье, постигшее этого, ни в чем не повинного человека, и дерзость тех
людей, и бедственное положение государства.
(VI, 15) Секст Росций, отец моего подзащитного, был уроженцем
муниципия Америи 19, по своему происхождению, знатности и богатству,
пожалуй, первым человеком не только в своем муниципии, но и во всей округе;
кроме того, он был известен благодаря своему влиянию и узам
гостеприимства, соединявшим его со знатнейшими людьми. Ибо с Метеллами, Серви-
лиями и Сципионами его связывали не только узы гостеприимства, но и
близкое знакомство и общение. Имена их я называю, как подобает,
памятуя их высокое звание и положение. Из всех его преимуществ сыну
досталось одно только это; ибо состоянием его отца владеют разбойники-родичи,
захватив его силой; но доброе имя и жизнь ни в чем не повинного человека
защищают гостеприимцы и друзья его отца. (16) Так как Росций-отец все-
о of)
гда сочувствовал знати, то и во время последних потрясении , когда
высокому положению и жизни всех знатных людей угрожала опасность, он более,
чем кто-либо другой, ревностно отстаивал на своей родине их дело своим
примером, проявляя свою преданность им и используя свое влияние. Ибо
он действительно считал правильным бороться за почетное положение тех,
благодаря которым он сам достиг такого большого почета среди своих
сограждан. После того как победа была одержана и мы отложили оружие в
сторону, когда начались проскрипции и всюду стали хватать тех, кто
считался противниками знати, Секст Росций часто бывал в Риме и ежедневно
появлялся на форуме на виду у всех, дабы видно было, что он ликует по
/. В защиту Секста Росция 9
поводу победы знати, а не страшится каких бы то ни было печальных
последствий для себя самого.
(17) Он давно был не в ладах с двоими Росциями из Америи: один из
них, вижу я, сидит на скамьях обвинителей; другой, как мне известно,
владеет тремя имениями моего подзащитного. Если бы его отец сумел оградить
себя от их вражды настолько же, насколько он ее опасался, он был бы жив.
Ведь не без основания он опасался этой вражды, судьи! Ибо двое этих
Титов Росциев (прозвание одного из них — Капитон, а этого,
присутствующего здесь, зовут Магном21) — вот какие люди: первый считается
испытанным и известным гладиатором, стяжавшим немало пальмовых ветвей;
второй, присутствующий здесь, избрал его своим ланистои ^\ и тот, кто до
этого боя, насколько мне известно, был новичком, без труда превзошел
своей преступностью самого своего учителя. (VII, 18) Ибо, когда
присутствующий здесь Секст Росций был в Америи, то этот вот Тит Росций был
в Риме; когда сын безвыездно жил в имениях и, по желанию отца,
посвятил себя управлению поместьями и сельскому хозяйству, этот, напротив,
постоянно находился в Риме, и именно тогда Секст Росций-отец при
возвращении с обеда и был убит возле Паллацинских бань 23. Уже одно это
обстоятельство, надеюсь, не оставляет сомнений, на кого может пасть
подозрение в злодеянии; но если сами факты не сделают очевидным того, что
пока еще только вызывает подозрение, можете считать моего подзащитного
соучастником в преступлении.
(19) После убийства Секста Росция первым принес в Америю это
известие некий Маллий Главция, человек бедный, вольноотпущенник, клиент и
приятель Тита Росция, и принес его не в дом сына убитого, а в дом его
недруга, Тита Капитона. И хотя убийство произошло во втором часу ночи,
уже на рассвете гонец прибыл в Америю; за десять ночных часов он
пролетел на одноколке пятьдесят шесть миль 24 не только для того, чтобы
первым доставить недругу убитого желанную весть, но и чтобы показать ему
свежую кровь его недруга и нож, только что извлеченный из его тела.
• (20) На четвертый день после этого события о случившемся сообщают Хри-
согону в лагерь Луция Суллы под Волатеррами 25. Его внимание обращают
на огромное состояние Секста Росция, упоминают и о ценности поместий
(ведь убитый оставил тринадцать имений, которые почти все лежат на
берегах Тибра), о беспомощности и беззащитности его сына; указывают, что
если Секста Росция-отца, человека блистательного 2б и влиятельного, убить
было так легко, то ничего не будет стоить устранить его сына, человека
неискушенного, выросшего в деревне и неизвестного в Риме; предлагают
свою помощь в этом деле. Скажу коротко, судьи: «товарищество» было
создано 27.
(VIII, 21) Хотя проскрипций уже и в помине не было, хотя даже те,
кто ранее был в страхе, возвращались обратно и считали себя уже вне
10
Речи Цицерона
опасности, имя Секста Росция, горячего сторонника знати, было внесено в
списки28. Все скупил Хрисогон; три, пожалуй, самых лучших имения
перешли в руки Капитона, который владеет ими и ныне; остальное имущество
захватил Тит Росций, как он сам говорит, уполномоченный на это Хрисо-
гоном. Это имущество, стоившее 6000000 сестерциев, было куплено за
2000 сестерциев. Я знаю наверное, судьи, что все это было сделано без
ведома Луция Суллы. (22) И нет ничего удивительного в том, что он,
залечивая раны прошлого и в то же время обдумывая планы будущего и один
ведая вопросами мира и войны, когда на него одного обращены все взоры и
один он управляет всем, когда он обременен столькими и столь важными
делами, что ему и вздохнуть некогда,— что он чего-нибудь и не заметит, тем
более, что такое множество людей следит за его занятиями и старается
улучить время, чтобы совершить какой-нибудь подобный поступок, стоит
ему хотя бы на миг отвернуться. К тому же, как он ни счастлив29 (а это
действительно так), все же никто не может быть настолько счастливым,
чтобы не иметь среди своей многочисленной челяди хотя бы одного бесчестного
раба или вольноотпущенника.
(23) Тем временем этот вот самый Тит Росций, честнейший муж,
доверенный Хрисогона, приезжает в Америю, врывается в имения моего
подзащитного и его, несчастного, убитого горем, еще не успевшего полностью
отдать последний долг умершему отцу 30, судьи, выбрасывает из дома
раздетым догола, отталкивает его от родного очага и богов-пенатов jl, а сам
становится хозяином огромного имущества. Человек, живший на свои средства
в крайней скудости, оказался, как это часто бывает, наглецом, когда стал
жить на чужие; многое он открыто унес к себе домой, еще больше забрал
тайно; немало раздарил щедро и без разбора своим пособникам; остальное
продал, устроив торги.
(IX, 24) Это так удручающе подействовало на жителей Америи, что по
всему городу слышались плач и жалобы. И в самом деле, их воображению
одновременно представлялось многое: мучительная смерть Секста Росция,
человека, пользовавшегося их глубоким уважением, столь незаслуженная
нищета его сына, которому из богатого отцовского достояния этот
нечестивый разбойник не оставил даже права прохода к могиле отца 32, позорная
покупка имущества, захват его, воровство, хищения, раздачи. Всякий
предпочел бы решиться на все, лишь бы не видеть, как Тит Росций кичится,
хозяйничая в имении Секста Росция, прекрасного и достойнейшего
человека. (25) И вот, декурионы немедленно постановили, чтобы десять старейшин
отправились к Луцию Сулле, объяснили ему, каким человеком был Секст
Росций, заявили жалобу на злодеяние и беззакония этих людей и
попросили его взять под свою защиту доброе имя умершего отца и имущество ни
в чем не повинного сына. Прошу вас ознакомиться с этим постановлением
[Постановление декурионов]. Посланцы приезжают в лагерь. Становится
/. В защиту Секста Росция
11
очевидным, судьи, все то, о чем я уже говорил: эти гнусные злодеяния
совершались без ведома Луция Суллы. Ибо Хрисогон немедленно отправился
к ним сам, подослал к ним знатных людей просить их не обращаться к Сул-
ле и обещал им, что он, Хрисогон, сделает все, что они захотят. (26) Он так
перепугался, что согласился бы умереть, лишь бы Сулла не узнал о его
проступках. Посланцы, люди старой закалки, судившие о других по себе,
поверили ему, когда он дал им честное слово, что вычеркнет имя Секста
Росция из проскрипционных списков и передаст его сыну имения полностью,
а когда Тит Росций Капитон, бывший в числе десяти посланцев, тоже
обещал им, что это так и будет, они возвратились в Америю, не заявив
жалобы.
Сперва начали изо дня в день откладывать и переносить дело на завтра,
затем стали все больше затягивать его да еще издеваться и, наконец, как
это было легко понять, подготовлять покушение на жизнь присутствующего
здесь Секста Росция, полагая, что им не удастся долее владеть чужим
имуществом, пока его собственник жив и невредим. (X, 27) Как только Секст
Росций узнал об этом, он, по совету друзей ъ родных, бежал в Рим и
обратился — имя ее я произношу с уважением — к Цецилии, сестре Непота,
дочери Балеарского, которую хорошо знал его отец. Эта женщина, судьи, по
свидетельству всех, являясь образцом для других, даже ныне хранит в себе
черты древней верности долгу 33. Она приняла в свой дом Секста Росция,
обнищавшего, лишенного крова и выгнанного из его имений, бежавшего от
покушений и угроз разбойников, и пришла на помощь человеку, связанному
с ней узами гостеприимства и покинутому всеми. Ее благородству, верности
и усердию мой подзащитный обязан тем, что его внесли живым в список
обвиняемых, а не убитым в проскрипционный список.
(28) И вот, когда эти люди поняли, что жизнь Секста Росция
охраняется чрезвычайно заботливо и что у них нет никакой возможности убить
его, они приняли в высшей степени преступное и дерзкое решение —
привлечь его к суду по обвинению в отцеубийстве 34 и найти для этого какого-
нибудь ловкого обвинителя, который мог бы что-нибудь наболтать даже о
таком деле, которое не дает никаких оснований для подозрений; наконец,
не имея никаких данных для обвинения, они решили использовать
положение дел в государстве. Люди эти говорили так: «Коль скоро так долго дела
в суде не слушались, тот, кто первым предстанет перед судом, непременно
"должен быть осужден; Хрисогон очень влиятелен, и Сексту Росцию
защитников не найти; о продаже имущества и о „товариществе" никто даже не
заикнется; одного слова „отцеубийство" и такого ужасного обвинения будет
достаточно, чтобы убрать его с дороги, так как никто не возьмется его
защищать». (29) Руководимые этим замыслом, или, вернее, охваченные этим
безумием, они отдали этого человека, которого сами они, при всех своих
стараниях, не смогли убить, на заклание вам.
12
Речи Цицерона
(XI) На что мне сперва заявить жалобу, судьи, с чего именно мне
лучше всего начать, какой и у кого мне просить помощи? Бессмертных ли
богов, римский ли народ, вас ли, обладающих в настоящее время высшей
властью, умолять мне о покровительстве? (30) Отец убит злодейски; его
дом захвачен недругами; имущество отнято, забрано, расхищено; жизнь-
сына в опасности и ему не раз уже грозили нож и засада. Какого еще
преступления недостает в этом длинном ряду злодеяний? Но все же эти
преступления они хотят еще увенчать и усугубить другими, неслыханными; они
придумывают невероятное обвинение и обвинителей Секста Росция и
свидетелей против него нанимают на его же деньги; они предоставляют
несчастному следующий выбор: либо подставить свою шею под удар Титу Рос-
цию 35, либо умереть позорнейшей смертью, зашитым в мешок 36. Они
думали, что у него не найдется защитников; да, их не нашлось; но человек,
готовый говорить открыто, готовый защищать по совести,— а этого в
настоящем деле достаточно,— такой человек нашелся, судьи! (31) Быть
может, я, взявшись вести это дело, поступил опрометчиво в своем юношеском
увлечении; но раз я уже взялся за него, клянусь Геркулесом, пусть мне со
всех сторон угрожают всяческие ужасы, пусть любые опасности нависнут
над моей головой, я встречу их лицом к лицу. Я твердо решил не только
говорить обо всем том, что, по моему мнению, имеет отношение к делу Секста
Росция, но говорить об этом прямо, смело и независимо; ничто не заставит
меня, судьи, из чувства страха изменить своему долгу. (32) И в самом деле,
кто дошел до такой степени нравственного падения, что смог бы
промолчать или остаться равнодушным, видя все это? Отца моего, хотя его имя
и не было внесено в списки, вы умертвили; убив его, вы внесли его в
проскрипционные списки; меня вы из моего дома выгнали; имуществом моего
отца вы завладели. Чего вам еще? Неужели вы и к судейским скамьям
пришли с мечами и копьями, чтобы здесь или убить Секста Росция или
добиться его осуждения?
(XII, 33) Самым необузданным человеком из тех, какие за последнее
время были в нашем государстве, был Гай Фимбрия 37, совершенно
обезумевший человек, в чем не сомневается никто, кроме тех, кто и сам
безумствует. По его проискам во время похорон Гая Мария был ранен Квинт
Сцевола38, благороднейший и наиболее выдающийся муж среди наших
граждан; о его заслугах здесь не место много говорить; впрочем, о них нельзя
сказать больше, чем помнит сам римский народ; узнав, что Сцевола,
возможно, останется в живых, Фимбрия вызвал его в суд 39. Когда Фимбрию
спрашивали, в чем именно будет он обвинять того, кого даже восхвалить в
меру его заслуг не возможно, этот неистовый человек, говорят, ответил:
«В том, что он не принял удара меча по самую рукоять» 40. Римский народ
не видел зрелища более возмутительного, чем смерть этого человека,
которая была столь важным событием, что смогла поразить и погубить всех
/. В защиту Секста Росция
13
граждан; ведь именно теми, кого он хотел спасти путем примирения, он и
был убит. (34) Не напоминает ли наше дело всего того, что говорил и
совершал Фимбрия? Вы обвиняете Секста Росция? Почему же? Потому, что он
выскользнул из ваших рук; потому, что не дал убить себя. Преступление
Фимбрии, коль скоро оно было совершено над Сцеволой, вызывает большее
негодование; но разве можно примириться и с данным преступлением
потому, что его совершает Хрисогон? Ибо — во имя бессмертных богов! —
зачем в этом судебном деле нужна защита? Имеется ли какая-нибудь статья
обвинения, для опровержения которой от защитника потребовалось бы
дарование или от оратора — красноречие? Позвольте, судьи, развернуть перед
вами все дело и рассмотреть его, показав его вам воочию. Таким образом
вам легче будет понять, что именно составляет суть всего судебного дела,
о чем придется говорить мне и чего следует держаться вам.
(XIII, 35) Насколько я могу судить, Сексту Росцию ныне угрожают три
обстоятельства: обвинение, предъявленное ему его противниками, их
дерзость и их могущество. Выдумать преступление взялся обвинитель Эруций;
роль отважных негодяев потребовали для себя Росции; Хрисогон же (тог,
кто наиболее могуществен) пускает в ход свое влияние. Обо всем этом мне,
как я понимаю, и надо говорить. (36) Но как? Не обо всем одинаковым
образом: рассмотреть первое обстоятельство —мой долг, разобрать два
другие римский народ поручил вам. Мне лично надо опровергнуть обвинение,
вы же должны дать отпор дерзости и при первой же возможности
искоренить и уничтожить губительное и нестерпимое могущество подобных людей.
(37) Секста Росция обвиняют в отцеубийстве. О, бессмертные боги!
Ужасное, нечестивейшее преступление, равное всем другим злодеяниям,
вместе взятым! И в самом деле, если дети, по прекрасному выражению
мудрецов, часто нарушают свой долг перед родителями уже одним выражением
лица, то какая казнь будет достаточным возмездием тому, кто лишил
жизни своего отца, за которого, в случае необходимости, законы божеские и
человеческие велят умереть? Обвиняя кого-либо в этом столь тяжком, столь
ужасном, столь исключительном злодеянии, совершаемом так редко, что в
случаях, когда о нем слыхали, его считали подобным зловещему
предзнаменованию, какие же улики, Гай Эруций, по-твоему, должен представить
обвинитель? Не правда ли, он должен доказать исключительную преступную
дерзость обвиняемого, дикость его нравов и свирепость характера, его
порочный и позорный образ жизни, его полную безнравственность и
испорченность, влекущие его к гибели? Между тем ты — хотя бы ради того, чтобы
бросить упрек Сексту Росцию,— не упомянул ни о чем подобном.
(XIV, 39) Секст Росций убил своего отца.— «Что он за человек?
Испорченный юнец, подученный негодяями?» — Да ему за сорок лет.—
«Очевидно, испытанный убийца, отчаянный человек, не впервые проливающий
чужую кровь?» — Но об этом вы от обвинителя ничего не слыхали.— «Тогда
14
Речи Цицерона
его на это злодеяние, конечно, натолкнули расточительность, огромные
долги и неукротимые страсти». По обвинению в расточительности его оправдал
Эруций, сказав, что он едва ли был хотя бы на одной пирушке. Долгов у
него никогда не было. Что касается страстей, то какие страсти могут быть
у человека, который, как заявил сам обвинитель, всегда жил в деревне,
занимаясь сельским хозяйством? Ведь такая жизнь весьма далека от страстей
и учит сознанию долга. (40) Что же в таком случае ввергло Секста Росция
в такое неистовство? «Его отец,— говорит обвинитель,— недолюбливал
его». Отец его недолюбливал? По какой причине? Для этого непременно
должна была быть основательная, важная и понятная всем причина. Ибо,
если трудно поверить, что сын мог лишить отца жизни без очень многих
и очень важных причин, то маловероятно, чтобы сын мог навлечь на себя
ненависть отца без многих причин, важных и основательных. (41) Итак,
мы снова должны вернуться назад и спросить, какими же такими тяжкими
пороками страдал единственный сын, что отец не взлюбил его. Но всем ясно,
что никаких пороков у него не было. Следовательно безумен был * отец, раз
он без всякого основания ненавидел того, кого произвел на свет? Да нет же,
это был человек самого трезвого ума. Итак, конечно, уже вполне ясно, что,
если и отец не был безумен, и сын не был негодяем, то не было основания
ни для ненависти со стороны отца, ни для злодеяния со стороны сына.
(XV, 42) «Не знаю,— говорит обвинитель,— какова была причина
ненависти; что ненависть существовала, я заключаю из того, что раньше,
когда у него было два сына, он того, который впоследствии умер, всегда
держал при себе, а этого отослал в свои поместья». Мне при защите
честнейшего дела приходится столкнуться теперь с теми же трудностями, какие
выпали на долю Эруция при его злостном и вздорном обвинении. Эруций
не знал, как ему доказать свое вымышленное обвинение; я же не нахожу
способа разбить и опровергнуть такие неосновательные заявления. (43) Что
ты говоришь, Эруций? Секст Росций, желая сослать и покарать своего сына,
поручил ему вести хозяйство и ведать столькими и столь прекрасными,
столь доходными имениями? Что скажешь? Разве отцы семейств,
имеющие сыновей, особенно муниципалы из сельских областей, не желают всего
более, чтобы их сыновья возможно усерднее заботились о поместьях и
прилагали возможно больше труда и стараний к обработке земли? (44) Или
он отослал сына для того, чтобы тот жил в деревне и получал там только
свое пропитание, но не имел от этого никаких выгод? Ну, а если известно,
что мой подзащитный не только вел хозяйство в поместьях, но, при жизни
отца, также и пользовался доходами с определенных имений 41, то ты все-
таки назовешь такую жизнь ссылкой в деревню к изгнанием? Ты видишь,
Эруций, как несостоятельны твои доводы, как они далеки от истины. То,
что отцы делают почти всегда, ты порицаешь, как нечто необычное; то, что
делается по благоволению, ты, в своем обвинении, считаешь проявлением
/. В защиту Секста Росция
15
ненависти; то, что отец предоставил сыну, дабы оказать ему честь, он, по-
твоему, сделал с целью наказания. (45) И ты прекрасно понимаешь все
это, но у тебя так мало оснований для обвинения, что ты считаешь нужным
не только выступать против нас, но также и отвергать установленный
порядок вещей, обычаи людей и общепринятые взгляды.
(XVI) Но, скажешь ты, ведь он, имея двух сыновей, одного из них не
отпускал от себя, а другому позволял жить в деревне. Прошу тебя, Эру-
ций, не обижаться на то, что я тебе скажу, так как я сделаю это не для
осуждения, а с целью напомнить тебе кое о чем. (46) Если на твою долю
не выпало счастья знать, кто твой отец 42, так что ты не можешь понять,
как отец относится к своим детям, то все же ты от природы, несомненно,
не лишен человеческих чувств; к тому же ты — человек образованный и не
чуждый даже литературе. Неужели ты думаешь (возьмем пример из
комедий), что этот старик у Цецилия 43 любит сына своего Евтиха, живущего
в деревне, меньше, чем другого — Херестида (ведь его, если не ошибаюсь 44,
так зовут), и что второго он держит при себе в городе, чтобы оказать ему
честь, а первого отослал в деревню в наказание? (47) «К чему переходить
к этим пустякам?» — скажешь ты. Как будто мне трудно назвать тебе по
имени сколько угодно людей — чтобы не ходить далеко за примерами —
или из числа членов моей трибы или же из числа моих соседей, которые
желают видеть своих сыновей, притом самых любимых, усердными
сельскими хозяевами. Но на людей известных ссылаться не следует, так как
мы не знаем, хотят ли они быть названными по имени. Кроме того, ни один
из них не известен вам лучше, чем этот самый Евтих; наконец, для дела
совершенно безразлично, возьму ли я за образец этого молодого человека
из комедии или же какого-нибудь жителя области Вей 45. Ведь поэты, я
думаю, создают образы именно для того, чтобы мы, на примерах посторонних
людей, видели изображение своих собственных нравов и яркую картину
нашей обыденной жизни. (48) А теперь, пожалуйста, обратись к
действительности и подумай, какие занятия больше всего нравятся отцам семейств
не только в Умбрии и в соседних с ней областях, но также и здесь, в старых
муниципиях, и ты, конечно, сразу поймешь, что ты за недостатком улик
вменил Сексту Росцию в вину и в преступление то, что было его
величайшей заслугой.
(XVII) Но ведь и сыновья поступают так, не только исполняя волю
отцов; ведь и я, и каждый из вас, если не ошибаюсь, знаем очень многих
людей, которые и сами горячо любят сельское хозяйство, а эту жизнь в
деревне, которая, по-твоему, должна считаться позорной и служить
основанием для обвинений, находят почетнейшей и приятнейшей. (49) Как, по
твоему мнению, относится к сельскому хозяйству сам Секст Росций,
присутствующий здесь, и насколько он знает в нем толк? От этих вот
родственников его, почтеннейших людей, я слыхал, что ты в своем ремесле
16
Речи Цицерона
обвинителя не искуснее, чем он в своем. Впрочем, по милости Хрисогона, не
оставившего ему ни одного имения, ему, пожалуй, придется забыть свое
занятие и расстаться со своим усердным трудом. Как это ни тяжело и
незаслуженно, все же он перенесет это стойко, судьи, если сможет благодаря вам
остаться в живых и сохранить свое доброе имя. Но невыносимо одно — он
оказался в таком бедственном положении именно из-за ценности и большого
числа своих имений, и как раз то усердие, с каким он их обрабатывал,
более всего послужит ему во вред, словно для него недостаточно и того горя,
что плодами его трудов пользуются другие, а не он сам; нет, ему вменяют
в преступление, что он вообще обрабатывал свои имения.
(XVIII, 50) Ты, Эруций, право, был бы смешон в своей роли
обвинителя, родись ты в те времена, когда в консулы избирали прямо от плуга.
И в самом деле, раз ты считаешь земледелие унизительным занятием, ты,
конечно, признал бы глубоко опозорившимся и утратившим всякое
уважение человеком знаменитого Атилия46, которого посланцы застали
бросавшим своей рукой семена в землю. Но предки наши, клянусь Геркулесом,
думали совсем иначе — и о нем и о подобных ему мужах 47 — и поэтому
государство, вначале незначительное и очень бедное, оставили нам огромным
и процветающим. Ибо свои поля они возделывали усердно, а чужих не
домогались с алчностью. Этим1 они, покорив государству земли, города и
народы, возвеличили нашу державу и имя римского народа. (51) Привожу
эти факты не для того, чтобы сравнивать их с теми, которые мы теперь
рассматриваем, но дабы все поняли, что если во времена наших предков
выдающиеся мужи и прославленные люди, которые во всякое время должны
были бы стоять у кормила государства, все же отдавали сельскому
хозяйству некоторую часть своего времени и труда, то следует простить
человеку, если он заявит, что он деревенский житель,— раз он всегда безвыездно
жил в деревне,— в особенности если он этим более всего мог угодить отцу,
и для него самого именно это занятие было наиболее приятным и, по
существу, наиболее достойным.
(52) Итак, Эруций, сильнейшая ненависть отца к сыну видна, если не
ошибаюсь, из того, что отец позволял ему жить в деревне. Разве есть какое-
нибудь другое доказательство? «Как же,— говорит обвинитель,— есть; ведь
отец думал лишить сына наследства». Рад слышать; вот теперь ты
говоришь нечто, имеющее отношение к делу; ибо те твои доводы, как ты и сам,
думается мне, согласишься, несостоятельны и бессмысленны. «На пирах он
не бывал вместе с отцом».— Разумеется; ведь он и в свой город приезжал
крайне редко.— «Почти никто не приглашал его к себе».— Не
удивительно; ибо он не жил в Риме и не мог ответить на приглашение.
(XIX, 53) Но все это, как ты и сам понимаешь, пустяки. Обратимся к
тому, о чем мы начали говорить,— к тому доказательству ненависти,
надежнее которого не найти. «Отец думал лишить сына наследства». Не ста-
Т. В защиту Секста Росция
17
ну спрашивать, по какой причине; спрошу только, откуда ты знаешь это;
впрочем, тебе следовало назвать и перечислить все причины; ибо
непременной обязанностью обвинителя, уверенного в свсей правоте, обличающего
своего противника в столь тяжком злодеянии, было представить все пороки
и проступки сына, которые могли возмутить отца и побудить его заглушить
в себе голос природы, вырвать из своего сердца свойственную всем людям
родительскую любовь, словом, забыть, что он отец. Все это, думается мне,
могло бы произойти только вследствие тяжких проступков сына. (54) Но я,
пожалуй, пойду на уступку: я согласен, чтобы ты прошел мимо всего этого;
ведь ты своим молчанием уже соглашаешься признать, что ничего этого не
было; но желание Секста Росция лишить сына наследства ты, во всяком
случае, должен доказать. Какие же приводишь ты доводы, на основании
которых мы должны считать, что это было? Ты не можешь сказать ничего;
ну, придумай же хоть что-либо сколько-нибудь подходящее, дабы твое
поведение не казалось тем, что оно есть в действительности,— явным
издевательством над злоключениями этого несчастного человека и над высоким
званием этих вот, столь достойных мужей. Секст Росций хотел лишить сына
наследства. По какой причине? — «Не знаю».— Лишил он его наследства? —
«Нет».— Кто ему помешал? — «Он думал сделать это».— Думал? Кому он
говорил об этом? — «Никому не говорил». Что это, как не происходящее
в корыстных целях и ради удовлетворения прихотей злоупотребление
судом, законами и вашим достоинством — обвинять таким образом и ставить
в вину то, чего не только не можешь, но даже и не пытаешься доказать?
(55) Каждый из нас знает, что между тобой, Эруций, и Секстом Росцием
личной неприязни нет; все понимают, по какой причине ты выступаешь как
его недруг, и знают, что тебя соблазнило его богатство. Что же следует из
этого? Как ни велико твое корыстолюбие, тебе все-таки надо было бы
сохранять некоторое уважение к мнению этих вот людей и к Реммиеву
закону 48.
(XX) Что обвинителей в государстве много, полезно: чувство страха
должно сдерживать преступную отвагу 49; но это полезно лишь при
условии, что обвинители не издеваются над нами. Допустим, что есть человек,
не виновный ни в чем; однако, хотя вины на нем нет, подозрения против
него все же имеются; как это ни печально для него, но все же тому, кто
его обвинит, я мог бы простить это. Ибо, раз он может сообщить нечто
подозрительное, дающее какой-то повод к обвинению, он не издевается над
нами открыто и не клевещет сознательно. (56) Поэтому все мы согласны
с тем, чтобы обвинителей было возможно больше, так как невиновный, если
он и обвинен, может быть оправдан, виновный же, если он не был обвинен,
не может быть осужден; но лучше, чтобы был оправдан невиновный, чем
чтобы виноватый так и не был привлечен к суду. На кормление гусей
обществом сдается подряд, и в Капитолии содержат собак для того, чтобы
2"* Цицерон, т. I
18
Речи Цицерона
они подавали знак в случае появления воров 50. Собаки, правда, не могут
отличить воров от честных людей, но все же дают знать, если кто-либо
входит в Капитолий ночью. И так как это вызывает подозрение, то они — хотя
это только животные,— залаяв по ошибке, своей бдительностью приносят
пользу. Но если собаки станут лаять и днем, когда люди придут
поклониться богам, им, мне думается, перебьют лапы за то, что они проявляют
бдительность и тогда, когда для 'подозрений оснований нет. (57) Вполне
сходно с этим и положение обвинителей: одни из вас —гуси, которые
только гогочут, но не могут повредить; другие — собаки, которые могут и лаять
и кусать. Что вас подкармливают, мы видим; но вы должны нападать
главным образом на тех, кто этого заслуживает. Это народу более всего по-
сердцу. Затем, если захотите, можете лаять pi по подозрению — тогда, когда
можно предположить, что кто-нибудь совершил преступление; это также
допустимо. Но если вы обвините человека в отцеубийстве и не сможете
сказать, почему и как убил он отца, и будете лаять попусту, без всякого
подозрения, то ног вам, правда, не перебьют, но, если я хорошо знаю наших
судей, они с такой силой заклеймят вам лоб той хорошо известной буквой
(вы относитесь к ней с такой нелюбовью, что вам ненавистно даже слово
«календы»51)» что впредь вы никого не сможете обвинять, разве только
свою собственную злосчастную судьбу.
(XXI, 58) Что же ты, доблестный обвинитель, дал мне такого, от чего
я должен был бы защищаться, какое подозрение хотел ты внушить
судьям? — «Он опасался, что будет лишен наследства».— Пусть так; но
ведь никто не говорит, почему ему следовало опасаться этого.— «Его отец
намеревался сделать это».— Докажи. Никаких доказательств нет:
неизвестно, ни с кем Секст Росций обсуждал это, ни кого он об этом известил, ни
откуда у вас могло явиться такое подозрение. Обвиняя таким образом,
не говоришь ли ты, Эруций, во всеуслышание: «Что я получил, я знаю;
что мне говорить, не знаю; я основывался на одном — на утверждении Хри-
согона, что обвиняемому не найти защитника и что о покупке имущества
и об этом „товариществе" в наше время никто не осмелится и заикнуться»?
Эта ложная надежда и толкнула тебя на путь обмана. Ты, клянусь
Геркулесом, не вымолвил бы и слова, если бы думал, что кто-нибудь ответит
тебе.
(59) Стоило обратить внимание на то, как небрежно он держал себя,
выступая как обвинитель,— если только вы, судьи, заметили это. Увидев,
кто сидит на этих вот скамьях, он, вероятно, спросил, будет ли тот или иной
из вас защищать подсудимого; насчет меня у него не явилось и подозрения,
так как я еще не вел ни одного уголовного дела. Не найдя ни одного из тех,
кто может и кто имеет обыкновение выступать, он стал проявлять крайнюю
развязность, садясь, когда ему вздумается, затем расхаживая взад и
вперед; иногда он даже подзывал к себе раба, вероятно, для того, чтобы зака-
7. В защиту Секста Росция
19
зать ему обед; словом, он вел себя так, точно был совершенно один, не
считаясь ни с вами, судьями, ни с присутствующими. (XXII, 60) Наконец, он
закончил речь и сел на свое место; встал я. Он, казалось, с облегчениехМ
вздохнул, увидев, что говорю я, а не кто-либо другой. Я начал говорить.
Как я заметил, судьи, он шутил и занимался посторонними делами, пока
я не назвал Хрисогона; стоило мне произнести это имя, как наш приятель
тотчас же выпрямился и, видимо, изумился. Я понял, что именно поразило
его. Во второй и в третий раз назвал я Хрисогона. После этого взад и
вперед забегали люди, вероятно, чтобы сообщить Хрисогону, что среди
граждан есть человек, который осмеливается говорить наперекор его воле; что
дело принимает неожиданный оборот; что стала известной покупка
имущества; что жестоким нападкам подвергается все это «товарищество», а с его,
Хрисогона, влиянием и могуществом не считаются; что судьи слушают
весьма внимательно, а народ возмущен. (61) Так как ты в этом ошибся, Эру*
ций, так как ты видишь, что положение круто изменилось, что дело Секста
Росция ведется если и не искусно, то, во всяком случае, в открытую, и так
как ты понимаешь, что человека, которого ты считал брошенным на
произвол судьбы, защищают; что те, на чье предательство ты надеялся,
оказались, как видишь, настоящими людьми, то покажи нам, наконец, снова свою
прежнюю хитрость и проницательность, признайся: ты пришел сюда в
надежде, что здесь совершится разбой, а не правосудие.
Отцеубийство — вот о чем идет речь в данном суде; но никаких
оснований, почему сын мог убить отца, обвинитель не привел. (62) Вопрос,
который главным образом и прежде всего ставят даже при наличии
ничтожного ущерба и при незначительных проступках, совершаемых довольно часто
и чуть ли не каждый день, а именно — какова же была причина злодеяния,
этот вопрос Эруций в деле об отцеубийстве не считает нужным задать,
а между тем, когда дело идет о таком злодеянии, судьи, то даже при
очевидном совпадении многих причин, согласующихся одна с другой, все же
ничего не принимают на веру, не делают неосновательных предположений,
не слушают ненадежных свидетелей, не выносят приговора, убежденные
дарованием обвинителя. Необходимо доказать как множество ранее
совершенных злодеяний и развратнейший образ жизни обвиняемого, так и его
исключительную дерзость и не только дерзость, но и крайнее неистовство и
безумие. И даже при наличии всего этого все-таки должны быть явные следы
преступления: где, как, при чьем посредстве и когда именно злодеяние было
совершено. Если этих данных немного и они не слишком явны, то мы,
конечно, не можем поверить, что совершено такое преступное, такое ужасное,
такое нечестивое деяние. (63) Ибо велика сила человеческого чувства,
много значит кровное родство; против подобных подозрений вопиет сама
природа; выродком, чудовищем в человеческом образе, несомненно, является
тот, кто настолько превзошел диких зверей своей свирепостью, что тех
2*
20
Речи Цицерона
людей, благодаря которым сам он увидел свет, он злодейски лишил
возможности смотреть на этот сладчайший для нас свет солнца, между тем как
даже дикие звери связаны между собой узами общего рождения и даже самой
природой52. (XXIII, 64) Не так давно некий Тит Целий из Таррацины 53,
человек достаточно известный, отправившись после ужина спать в одну
комнату со своими двумя молодыми сыновьями, утром был, говорят, найден
убитым. Так как не было улик ни против рабов, ни против свободных
людей, то, хотя его два сына (взрослые, как я указал), спавшие тут же,
утверждали, что ничего не слышали, их все же обвинили в отцеубийстве. Не
правда ли, это было более чем подозрительно? Чтобы ни один из них не
услышал? Чтобы кто-нибудь решил прокрасться в эту комнату именно
тогда, когда там же находилось двое взрослых сыновей, которые легко могли
услышать шаги и защитить отца? Итак, подозрение не могло пасть ни на
кого другого. (65) Но все-таки, после того как судьям было достоверно
доказано, что сыновей нашли спящими при открытых дверях, юноши были
но суду оправданы и с них было снято всякое подозрение. Ибо никто не мог
поверить, чтобы нашелся человек, который, поправ все божеские и
человеческие законы нечестивейшим злодеянием, смог бы тотчас же заснуть, так
как люди, совершившие столь тяжкое преступление, не могут, не говорю
уже — беззаботно спать, но даже дышать, не испытывая страха.
(XXIV, 66) Разве вы не знаете, что тех людей, которые, по рассказам
поэтов, мстя за отца, убили мать,— несмотря на то, что они, по преданию,
совершили это по велению бессмертных богов и оракулов—.все же
преследуют фурии и не позволяют им найти себе пристанище где бы то ни было —
за то, что они не могли выполнить свой сыновний долг, не совершив
преступления? Вот как обстоит дело, судьи: велика власть, крепки узы, велика
святость отцовской и материнской крови; даже единое пятно этой крови
не только не может быть смыто, но проникает до самого сердца, вызывая
сильнейшее неистовство и безумие 54. (67) Но не верьте тому, что вы часто
видите в трагедиях,— будто тех, кто совершил нечестивый поступок и
злодеяние, преследуют фурии, устрашая их своими горящими факелами. Всего
мучительнее своя собственная вина и свой собственный страх; свое
собственное злодеяние лишает человека покоя и ввергает его в безумие; свое
собственное безумие и угрызения совести наводят на него ужас; они-то и есть
фурии, неразлучные, неотступные спутницы нечестивцев, денно и нощно
карающие извергов-сыновей за их родителей! (68) Но сама тяжес!ь
злодеяния и делает его невероятным, если убийство не доказано вполне, если не
установлено, что обвиняемый позорно провел свою молодость, что его жизнь
запятнана всяческими гнусностями, что он сорил деньгами во вред своей
чести и доброму имени, был необуздан в своей дерзости, а его
безрассудство было близко к помешательству. К этому всему должна присоединиться
ненависть к нему со стороны отца, страх перед наказанием, дружба с дур-
/. В защиту Секста Росция
21
ными людьми, соучастие рабов, выбор удобного времени и подходящего
места. Я готов сказать: судьи должны увидеть руки, обагренные кровью
отца, чтобы поверить, что произошло такое тяжкое, такое зверское, такое
ужасное злодейство. (69) Но зато, чем менее оно вероятно, если оно не
доказано, тем строже, если оно установлено, должна быть и кара за него.
(XXV) И вот, если на основании многого можно заключить, что наши
предки превзошли другие народы не только своей военной славой, но и
разумом и мудростью, то более всего свидетельствует об этом единственная
в своем роде казнь, придуманная ими для нечестивцев. Насколько они
дальновидностью своей превзошли тех, которые, как говорят, были самыми
мудрыми среди всех народов, судите сами. (70) По преданию, мудрейшим
государством были Афины, пока властвовали над другими городскими
общинами, а в этом городе мудрейшим, говорят, был Солон 55 — тот, который
составил законы, действующие в Афинах и поныне. Когда его спросили,
почему он не установил казни для отцеубийц, он ответил, что, по его мнению,
на такое дело не решится никто. Говорят, он поступил мудро, не назначив
кары за деяние, которое до того времени никем не было совершено,— дабы
не казалось, что он не столько его запрещает, сколько на него наталкивает.
Насколько мудрее были наши предки! Понимая, что на свете нет такой
святыни, на которую рано или поздно не посягнула бы человеческая
порочность, они придумали для отцеубийц единственную в своем роде казнь,
чтобы страхом перед тяжестью наказания удержать от злодеяния тех, кого
сама природа не сможет сохранить верными их долгу. Они повелели
зашивать отцеубийц живыми в мешок и бросать их в реку.
(XXVI, 71) О, сколь редкостная мудрость, судьи! Не правда ли, они
устраняли и вырывали этого человека из всей природы, разом отнимая у
него небо, свет солнца, воду и землю, дабы он, убивший того, кто его
породил, был лишен всего того, от чего было порождено все сущее. Они не
хотели отдавать его тело на растерзание диким зверям, чтобы эти твари,
прикоснувшись к такому страшному злодею, не стали еще более лютыми. Они
не хотели бросать его в реку нагим, чтобы он, унесенный течением в море,
не замарал его вод, которые, как считают, очищают все то, что было
осквернено 56. Словом, они не оставили ему даже малейшей частицы из всего того,
что является самым общедоступным и малоценным. (72) И в самом деле,
что столь доступно людям, как воздух — живым, как земля — умершим, как
море — плывущим, как берег — тем, кто выброшен волнами? Отцеубийцы,
пока могут, живут, обходясь без дуновения с небес; они умирают, и их кости
не соприкасаются с землей; их тела носятся по волнам, и вода не обмывает
их; наконец, их выбрасывает «а берег, но даже на прибрежных скалах они
не находят себе покоя после смерти .
И ты, Эруций, надеешься доказать таким мужам, как наши судьи,
справедливость обвинения в злодеянии, караемом столь необычным наказанием,
22
Речи Цицерона
не сообщив даже о причине этого злодеяния? Если бы ты обвинял Секста
Росция перед скупщиком его имущества и если бы на этом суде
председательствовал Хрисогон, то даже и тогда тебе следовало бы явиться на суд,
подготовившись более тщательно. (73) Разве ты не видишь, какое дело
слушается в суде и кто судьи? Слушается дело об отцеубийстве, а это
преступление не может быть совершенно без многих побудительных причин; судьи
же — мудрейшие люди, которые понимают, что без причины никто не
совершит даже ничтожного проступка.
(XXVII) Хорошо, указать основания ты не можешь. Хотя я уже
теперь должен был бы считаться победителем, я все же готов отказаться от
своего права и уступку, какой я не сделал бы в другом деле, сделать тебе
в этом, будучи уверен в невиновности Секста Росция. Я не спрашиваю тебя,
почему он убил отца; я спрашиваю, каким образом он его убил. Итак,
я спрашиваю тебя, Эруций: каким образом? При этом я, хотя и моя
очередь говорить, предоставляю тебе возможность и отвечать, и прерывать
меня, и даже, если захочешь, меня спрашивать 58.
(74) Каким образом он убил отца? Сам ли он нанес ему удар или же
поручил другим совершить это убийство? Если ты утверждаешь, что сам,
то его не было в Риме; если ты говоришь, что он сделал это при посредстве
других людей, то я спрашиваю, при чьем именно: рабов ли или же
свободных людей? Если при посредстве свободных, то при чьем же? При
посредстве ли земляков-америйцев или же здешних наемных убийц, жителей
Рима? Если это были жители Америи, то кто они такие? Почему их не
назвать по имени? Если это были жители Рима, то откуда Росций знал их,
когда он в течение многих лет в Рим не приезжал и больше трех дней в нем
никогда не проводил? Где он встретился с ними? Как вступил в
переговоры? Как убедил их? — «Он заплатил им».— Кому заплатил? Через кого?
Из каких средств и сколько? Не по этим ли следам обычно добираются до
корней злодеяния? В то же время постарайся вспомнить, какими красками
ты расписал образ жизни обвиняемого. Послушать тебя, он был дикого и
грубого нрава, никогда ни с кем не разговаривал, никогда не жил в своем
городе. (75) Здесь я оставляю в стороне то, что могло бы служить
убедительнейшим доказательством его невиновности: в деревне, в простом быту,
при суровой жизни, лишенной развлечений, злодеяния подобного рода
обычно не случаются. Как не на всякой почве можно найти любой злак
и любое дерево, так не всякое преступление может быть порождено любым
образом жизни. В городе рождается роскошь; роскошь неминуемо приводит
к алчности; алчность переходит в преступную отвагу, а из нее рождаются
всяческие пороки и злодеяния. Напротив, деревенская жизнь, которую ты
называешь грубой, учит бережливости, рачительности и справедливости.
(XXVIII, 76) Но это я оставляю в стороне; я спрашиваю только: при
чьем посредстве человек, который, как ты утверждаешь, никогда с людьми
/. В защиту Секста Росция
23
не общался, мог в такой тайне, да еще находясь в отсутствии, совершить
такое тяжкое преступление? Многие обвинения бывают ложными, судьи, но
их все же подкрепляют такими доводами, что подозрение может
возникнуть. Если в этом деле будет найдено хоть какое-нибудь основание для
подозрения, то я готов допустить наличие вины. Секст Росций был убит в
Риме, когда его сын находился в окрестностях Америи. Он, видимо, послал
письмо какому-нибудь наемному убийце, он, который никого не знал в Риме.
«Он вызвал его к себе».— Кого и когда? — «Он отправил гонца».— Кого
и к кому? — «Он прельстил кого-нибудь платой, подействовал своим
влиянием, посулами, обещаниями». Даже и выдумать ничего подобного не
удается — и все-таки слушается дело об отцеубийстве.
(77) Остается предположить, что он совершил отцеубийство при
посредстве рабов. О, бессмертные боги! Какое несчастье, какое горе! Ведь именно
того, что при таком обвинении обычно приносит спасение невиновным,
Сексту Росцию сделать нельзя: он не может дать обязательство представить в
суд, для допроса, своих рабов 59. Ведь вы, обвинители Секста Росция,
владеете всеми его рабами. Даже и одного раба, для ежедневного
прислуживания за столом, не оставили Сексту Росцию из всей его многочисленной
челяди! Я обращаюсь теперь к тебе, Публий Сципион, к тебе, Марк Метелл!
При вашем заступничестве, при вашем посредничестве Секст Росций
несколько раз требовал от своих противников, чтобы они представили двух
рабов, принадлежавших его отцу 60. Вы помните, что Тит Росций ответил
отказом? Что же? Где эти рабы? Они сопровождают Хрисогона, судьи!
Они у него в почете и в цене. Даже теперь я требую их допроса, а мой
подзащитный вас об этом просит и умоляет. (78) Что же вы делаете?
Почему вы отказываете нам? Подумайте, судьи, можете ли вы даже и теперь
сомневаться в том, кто именно убил Секста Росция: тот ли, кто из-за его
смерти стал нищим, кому грозят опасности, кому не дают возможности
даже произвести следствие о смерти отца, или же те, кто уклоняется от
следствия, владеет его имуществом и живет убийством и плодами убийств?
Все в этом деле, судьи, вызывает печаль и негодование, но самое жестокое
и несправедливое, о чем надо сказать,— это то, что сыну не позволяют
допросить рабов отца о смерти отца! Неужели его власть над своими рабами
не будет продлена до тех пор, пока они не подвергнутся допросу о смерти
его отца? Но к этому я еще вернусь и притом вскоре; ибо это всецело
касается тех Росциев, о чьей преступной дерзости я обещал говорить, после
того как опровергну обвинения, предъявленные Эруцием.
(XXIX, 79) Теперь перехожу к тебе, Эруций! Ты должен согласиться
со мной, что, если мой подзащитный замешан в этом злодеянии, то он
совершил его либо сам, что ты отрицаешь, либо при посредстве каких-то
свободных людей или рабов. При посредстве свободных людей? Но ты не
можешь указать, ни как он мог с ними встретиться, ни как он мог склонить их
24
Речи Цицерона
к убийству: ни где, ни через кого, ни какими посулами, ни какой платой.
Напротив, я доказываю, что Секст Росций не только не делал ничего
подобного, но даже и не мог сделать, так как не бывал в Риме в течение многих
лет и никогда, без важной причины, не выезжал из своих имений. Тебе,
по-видимому, остается назвать рабов; это будет как бы гавань, где ты
сможешь укрыться, после того как все твои другие подозрения потерпят
крушение; но здесь ты налетишь на такую скалу, что не только разобьется об
нее твое обвинение, но и все подозрения, как ты сам поймешь, падут на
вас самих.
(80) Итак, какое же, скажите мне, прибежище нашел для себя
обвинитель за недостатком улик? «Время было такое,— говорит он,— людей
походя убивали безнаказанно; поэтому, так как в убийцах недостатка не было,
ты и мог совершить преступление без всякого труда». Мне иногда кажется,
Эруций, что ты за одну и ту же плату хочешь достигнуть двух целей61:
запугать нас судом и в то же время именно тех, от кого ты получил плату,
обвинить. Что ты говоришь? Убивали походя? Чьей же рукой и по чьему
приказанию? Разве ты не помнишь, что тебя сюда привели именно
скупщики конфискованного имущества? Что из этого следует? Разве мы не
знаем, что в те времена, в большинстве случаев, одни и те же люди и
отрубали головы, и дробили имения62? (81) Словом, те самые люди, которые
днем и ночью расхаживали с оружием в руках, никогда не покидали Рима,
все время грабили и проливали кровь, вменят в вину Сексту Росцию
жестокость и несправедливость, свойственные тому времени, а присутствие
множества убийц, чьими предводителями и главарями были они сами, будут
считать основанием для того, чтобы его обвинить? Ведь его тогда не
только не было в Риме; он вообще не знал, что происходит в Риме; он
безвыездно жил в деревне, как ты сам признаешь.
(82) Я боюсь наскучить вам, судьи, или вам, быть может, покажется,
что я не доверяю вашему уму, если стану еще более рассуждать о столь
очевидных вещах. Все обвинения, предъявленные Эруцием, думается мне,
опровергнуты. Ведь вы, надеюсь, не ждете, что я стану опровергать новые
обвинения в казнокрадстве 63 и другие, подобные им лживые выдумки, о
которых мы до сего времени и не слыхали. Мне даже показалось, будто он
читал отрывок из речи64, составленной против другого обвиняемого; это
не имело никакого отношения ни к обвинению в отцеубийстве, ни к самому
подсудимому; коль скоро эти обвинения сводились к одним словам, их
достаточно и опровергнуть одними словами; если же он оставляет кое-что до
допроса свидетелей, то и тогда, как и во время обсуждения самого дела, он
найдет нас более подготовленными, чем ожидал.
(XXX, 83) Теперь перехожу к той части сЕоей речи, к которой меня
влечет не мое личное желание, а чувство долга. Ибо, если бы мне хотелось
стать обвинителем, я предпочел бы обвинять тех, благодаря кому я мог бы
/. В защиту Секста Росция
25
прославиться , но я решил не делать этого, пока буду волен выбирать.
Ибо самый достойный человек, по моему мнению,— тот, кто благодаря
своей собственной доблести занял более высокое место, а не тот, кто пре^
успевает ценой чужих несчастий и бед. Пора нам перестать рассматривать
пустые обвинения; поищем злодеяние там, где оно действительно кроется
и где его можно найти. Тогда ты, Эруций, поймешь, как много надо собрать
подозрительных фактов, чтобы предъявить обоснованное обвинение, хотя
я не выскажу всего и только слегка коснусь каждого отдельного факта. Я не
сделал бы и этого, не будь это необходимо, а доказательством того, что я
поступаю так поневоле, будет именно то, что я буду говорить не больше,
чем этого потребует благо моего подзащитного и мое чувство долга.
(84) Ты не смог найти причину убийства, когда дело касалось Секста
Росция; зато для убийства его Титом Росцием я причины нахожу. Да, тебя
имею я в виду, Тит Росций, так как ты сидишь вон там, на скамьях
обвинителей, и открыто объявляешь себя нашим противником. О Капитоне
речь будет впереди, если он выступит как свидетель, к чему он, как я
слыхал, готовится; тогда он узнает и о других своих лаврах; он даже не
подозревает, что я слыхал о них. Знаменитый Луций Кассий, которого римский
народ считал справедливейшим и мудрейшим судьей, обычно спрашивал во
время суда: «Кому это выгодно?» 66 Такова жизнь человека: никто не
пытается совершить злодеяние без расчета и без пользы для себя. (85) Его,
как председателя суда и как судьи, избегали и страшились все те, кому
грозил уголовный суд, так как он, при всей своей любви к правде, все же
казался от природы не столько склонным к состраданию, сколько
сторонником строгости. Я же — хотя во главе этого постоянного суда стоит муж,
непримиримо относящийся к преступным и милосерднейший к невинным
людям,— все же легко согласился бы защищать Секста Росция и в суде под
председательством того самого суровейшего судьи и перед Кассиевыми
судьями, чье одно имя и поныне внушает ужас людям, привлекаемым к
ответственности.
(XXXI, 86) Ведь они, видя, что противная сторона владеет огромным
имуществом, а мой подзащитный находится в крайней нищете, право, не
стали бы спрашивать в этом судебном деле, кому это было выгодно, но
ввиду очевидности этого заподозрили бы и обвинили тех, в чьих руках добыча,
а не того, кто лишился всего. А что, если к тому же ты ранее был беден,
был алчен, был преступно дерзок, был злейшим недругом убитого? Нужно
ли еще доискиваться причины, побудившей тебя совершить такое
злодеяние? Да возможно ли отрицать что-либо из упомянутого мной? Бедность
его такова, что он не может скрыть ее и она 1см оолее явна, чем больше
он ее прячет. (87) Алчность свою ты проявляешь открыто, раз ты
вошел с совершенно чужим тебе человеком в «товарищество» по разделу
имущества своего земляка и родича. Какова твоя дерзость, все могли понять
26
Речи Цицерона
уже из одного того,— о другом я уже и не говорю,— что из всего
«товарищества», то есть из числа стольких убийц, нашелся один ты, чтобы занять
место на скамье обвинителей, причем ты не только не прячешь своего лица,
но даже выставляешь его напоказ. Что ты с Секстом Росцием враждовал и
что у вас были большие споры из-за имущества, ты должен признать.
(88) И мы, судьи, еще будем сомневаться, кто из них двоих убил Секста
Росция: тот ли, кому, с его смертью, достались богатства, или же тот, кто
впал в нищету; тот ли, кто до убийства был неимущим, или же тот, кто
после него обеднел; тот ли, кто, горя алчностью, как враг набрасывается
на своих родственников, или же тот, кто по своему образу жизни никогда
не знал стяжания и пользовался только тем доходом, какой ему доставлял,
его труд; тот ли, кто является самым наглым из всех скупщиков
конфискованного имущества, или же тот, кто по своей непривычке к форуму и суду
страшится, уже не говорю — этих скамей, нет, даже пребывания в Риме;
наконец, судьи,— и это, по-моему, самое важное — недруг ли Секста
Росция или же его сын?
(XXXII, 89) Если бы ты, Эруций, располагал столькими и столь
важными уликами против обвиняемого, то как долго говорил бы ты, -как
кичился бы ими! Тебе, клянусь Геркулесом, скорее не хватило бы времени,
чем слов. В самом деле, по отдельным вопросам данных так много, что ты
мог бы обсуждать их в течение ряда дней. Да и я вовсе не лишен этой
способности; ибо я не настолько преуменьшаю свое умение,— хотя и не
преувеличиваю его,— чтобы думать, будто ты умеешь говорить более пространно,
чем я. Но я,— быть может, вследствие того, что защитников много,— не
выделяюсь из их толпы, между тем как тебя «битва под Каннами» сделала
достаточно видным обвинителем. Да, много убитых пришлось нам увидеть,
но не у Тразименских, а у Сервилиевых вод 67. (90)
Фригийский меч кому не наносил там ран? 68
Нет необходимости упоминать обо всех Курциях, Мариях, наконец, Мем-
миях, которых уже сам их возраст освобождал от участия в боях, и, в
последнюю очередь, о самом старце Приаме — об Антистии, которому не
только его лета, но и законы запрещали сражаться 69. Далее, были сотни
обвинителей (их никто не называет по имени ввиду их неизвестности),
которые выступали обвинителями в суде по делам об убийстве и отравлении.
По мне, пусть бы все они остались живы; ибо нет ничего дурного в том,
чтобы было возможно больше собак там, где надо следить за очень многими
людьми и многое охранять. (91) Однако бывает, что в вихре и буре войны
совершается многое без ведома императоров70. В то время как тот, кто
управлял всем государством, был занят другими делами, находились люди,
врачевавшие собственные раны; они бесчинствовали во мраке и все ниспро-
/. В защиту Секста Росция
27
вергали, как будто на государство спустилась вечная ночь; удивляюсь, как
они, дабы от правосудия не осталось и следа, не сожгли и самих скамей;
ведь они уничтожили и обвинителей и судей. К счастью, они вели такой
образ жизни, что истребить всех свидетелей они, при всем своем желании,
не смогли бы: пока будет существовать человеческий род, не будет
недостатка в людях, готовых обвинять их; пока будет существовать государство,
будет совершаться суд. Но, как я уже заметил, Эруций, если бы он
располагал уликами, о каких я упоминал, мог бы говорить об этом без конца и
я мог бы сделать это же самое, судьи! Но я, как уже говорил, намерен
вкратце упомянуть об этом и только слегка коснуться каждой статьи, дабы
все поняли, что я не обвиняю по своему побуждению, а защищаю в силу
своего долга.
(XXXIII, 92) Итак, как я вижу, было очень много причин, толкавших
Тита Росция на злодеяние. Посмотрим теперь, была ли у него возможность
совершить его. Где был убит Секст Росций? —«В Риме».— Ну, а ты, Тит
Росций, где был тогда? — «В Риме, но что же из того? Там были многие
и помимо меня». Словно теперь речь идет о том, кто из этого множества
людей был убийцей, а не опрашивается, что более правдоподобно: кем
был убит человек, убитый в Риме,— тем ли, кто в те времена безвыездно
жил в Риме, или же тем, кто в течение многих лет вообще не приезжал
в Рим? (93) А теперь рассмотрим и другие возможности совершить
преступление. Тогда было множество убийц, о чем говорил Эруций, и людей
убивали безнаказанно. Что же это были за убийцы? Если не ошибаюсь,
это были либо те, кто скупал имущество, либо те, кого эти скупщики
нанимали для убийства. Если ты относишь к ним охотников до чужого добра,
то ты как раз из их числа; ведь ты разбогател за наш счет; если же тех,
кого люди, выражающиеся более мягко, называют мастерами наносить удар,
то выясни, под чьим покровительством они находятся и чьи они клиенты.
Поверь мне, ты найдешь там кое-кого из членов своего «товарищества» 71.
И как бы ты ни возражал мне, сопоставь это с моими доводами в защиту
обвиняемого; тогда легче всего будет сравнить дело Секста Росция с твоим.
(94) Ты скажешь: «Что из того, что я безвыездно жил в Риме?» Отвечу:
«А я там вовсе не бывал».— «Признаю себя скупщиком имущества, но ведь
таких много».— «А я, по твоим собственным словам, земледелец и
деревенский житель».— «Из того, что я вращался в шайке убийц вовсе еще не
следует, что я сам — убийца».— «А я, который даже не знаком ни с одним
убийцей, и подавно далек от такого преступления». Можно привести много
доказательств в 'пользу того, что у тебя была полная возможность
совершить это злодеяние; опускаю их не только потому, что не очень охотно
обвиняю тебя, а скорее потому, что, если бы я захотел напомнить о многих
убийствах, совершенных тогда же и точно таким же образом, как и убийство
Секста Росция, то речь моя могла бы затронуть слишком многих.
28
Речи Цицерона
(XXXIV, 95) Рассмотрим теперь — также в общих чертах — твое
поведение, Тит Росций, после смерти Секста Росция. Все настолько очевидно
и ясно, что я, клянусь богом верности 72, судьи, говорю об этом неохотно.
Ибо, каким бы человеком ты ни был, Тит Росций, пожалуй, покажется»
что я, стремясь спасти Секста Росция, тебя совершенно не щажу. Но я,
даже опасаясь вызвать это впечатление и, желая пощадить тебя хотя бы
отчасти, насколько смогу сделать это, не нарушая своего долга, все же
снова меняю свое намерение, так как вспоминаю твою «аглость. Когда твои
другие сообщники сбежали и скрылись, чтобы казалось, будто этот суд
происходит по делу не о совершенном ими грабеже, а о злодеянии Секста
Росция, не ты ли выпросил для себя эту роль — выступить в суде и сидеть
рядом с обвинителем? Этим ты добился только одного: теперь все
убеждены в твоей дерзости и бесстыдстве. (96) Кто первым принес в Америю
весть об убийстве Секста Росция? Маллий Главция, которого я уже назвал
ранее,— твой клиент и приятель. Почему же ему надо было известить
именно тебя о том, что менее всего должно было тебя касаться, если только ты
уже заранее не замыслил убийства Секста Росция и захвата его
имущества и если ты ни с кем не сговорился — ни насчет злодеяния, ни насчет
награды за него? — «Маллий принес эту весть по своему собственному
желанию».— Скажи на милость, какое дело было ему до этого? Или он, приехав
в Америю не по этому поводу, случайно первым привез известие о том,
о чем слыхал в Риме? Зачем он приезжал в Америю? — «Я не умею,—
говоришь ты,— угадывать чужие мысли». Но я сделаю так, что угадывать
не понадобится. Из каких же соображений он прежде всего известил Тита
Росция Капитона? В Америи ведь был дом самого Секста Росция, жили его
жена и дети 73, множество близких и родичей с которыми он был в
наилучших отношениях. Из каких же соображений твой клиент, злодеяния твоего»
вестник, известил об этом именно Тита Росция Капитона?
(97) Секст Росций был убит при возвращении с обеда; еще не рассвело,
как в Америи уже знали об этом. Чем объяснить эту невероятно скорую
езду, эту необычайную поспешность и торопливость? Не спрашиваю, кто
нанес удар Сексту Росцию; можешь не бояться, Главция! Я тебя не
обыскиваю, чтобы узнать, нет ли у тебя случайно оружия, и тебя не
допрашиваю; я полагаю, что это не мое дело; так как я вижу, по чьему умыслу он
был убит, то, чьей рукой ему был нанесен удар, меня не заботит. Я
ссылаюсь лишь на те улики, которые мне раскрывают твое явное преступление,
а также и на несомненные факты. Где и от кого услыхал Главция об
убийстве? Как мог он так быстро узнать о нем? Допустим, он услыхал о нем
тотчас же? Что заставило его проделать в одну ночь такой длинный путь?
Какая крайняя необходимость принудила его — даже если он ездил в
Америю по своему собственному желанию — в такой поздний час выехать из:
Рима и не спать всю ночь напролет?
/. jB защиту Секста Россия
29
(XXXV, 98) Нужно ли, располагая столь очевидными уликами, еще
искать доказательств или прибегать к догадкам? Не кажется ли вам, судьи,
что вы, слыша об этом, видите все воочию? Не видите ли вы перед собой
несчастного, возвращающегося с обеда и не предвидящего гибели,
ожидающей его; не видите ли вы засады, устроенной ему, и внезапного нападения?
Не появляется ли перед вашими глазами Главция с окровавленными
руками, не присутствует ли при этом сам Тит Росций? Не своими ли руками
усаживает он на повозку этого Автомедонта 74, вестника его жесточайшего
злодейства и нечестивой победы? Не просит ли он его не спать эту ночь,
потрудиться из уважения к нему и возможно скорее известить Капитона?
(99) По какой причине он хотел, чтобы именно Капитон узнал об этом
первым? Не знаю, но вижу одно — Капитон участвовал в дележе
имущества Секста Росция: из его тринадцати имений Капитон, вижу я, владеет
тремя наилучшими. (100) Кроме того, я слыхал, что это не первое
подозрение, падающее на Капитона, что он заслужил много позорных для него
пальмовых ветвей, но эта, полученная им в Риме, даже украшена лентами 75;
что нет ни одного способа убийства, которым бы он не умертвил нескольких
человек: многих он лишил жизни ножом, многих — ядом; я даже могу
назвать вам человека, которого он, вопреки обычаю предков, сбросил с моста
в Тибр, хотя ему еще не было шестидесяти лет 76. Обо всем этом он, если
выступит или, вернее, когда выступит как свидетель (ибо я знаю, что он
выступит), услышит. (101) Пусть он только подойдет, пусть развернет свой
свиток, который, как я могу доказать, для него составил Эруций; ведь он,
говорят, запугивал им Секста Росция и угрожал ему, что скажет все это
в своем свидетельском показании. Ну, и достойный свидетель, судьи!
О, вожделенная строгость взглядов! О, честная жизнь, до такой степени
честная, что вы, дав присягу, будете охотно голосовать в полном
соответствии с его свидетельскими показаниями! Мы, конечно, не убедились бы
с такой очевидностью в злодеяниях этих людей, если бы их самих не
ослепляли их жадность, алчность и дерзость.
(XXXVI, 102) Один из них 76а тотчас же после убийства послал в
Америк) крылатого вестника к своему сообщнику, вернее, учителю, так что он —
даже если бы все пожелали скрыть, что они знают, кто именно совершил
злодеяние,— все же сам открыто выставляет свое преступление всем
напоказ. Другой же77 — если позволят бессмертные боги! —даже намерен дать
свидетельские показания против Секста Росция; как будто действительно
теперь речь идет о доверии к его словам, а не о возмездии за его деяние.
Недаром предки наши установили, что даже в самых незначительных
судебных делах люди, занимающие самое высокое положение, не должны
выступать свидетелями, если дело касается их самих. (103) Публий
Африканский 78, чье прозвание ясно говорит о покорении им третьей части мира,
и тот не стал бы выступать как свидетель, если бы дело касалось его
30
Речи Цицерона
самого; а ведь о таком муже я не решаюсь сказать: «Если бы он выступил,
ему не поверили бы». Посмотрите теперь, насколько все изменилось к
худшему. Когда слушается дело об имуществе и об убийстве, то свидетелем
намерен выступить человек, являющийся скупщиком конфискованного
имущества и убийцей, покупатель и владелец того самого имущества, о котором
идет речь, подстроивший убийство человека, чья смерть является
предметом данного судебного дела.
(104) Ну, что? Ты, честнейший муж, хочешь что-то сказать?
Послушайся меня: смотри, как бы ты себе не повредил сам; ведь разбирается
дело, очень важное и для тебя. Много совершил ты злодеяний, много
наглых, много бесчестных поступков, но одну величайшую глупость,—
конечно, самостоятельно, а не по совету Эруция: тебе вовсе не следовало садиться
на то место, где сидишь; ведь никому не нужен ни немой обвинитель, ни
свидетель, встающий со скамей обвинения. К тому же без этого ваша
алчность все же была бы несколько лучше скрыта и затаена. Чего еще
теперь от вас ждать, если вы держите себя так, что можно подумать, будто вы
действуете в нашу пользу и во вред самим себе? (105) А теперь, судьи,
рассмотрим события, происшедшие тотчас же после убийства.
(XXXVII) О смерти Секста Росция Хрисогону сообщили в лагерь Лу-
ция Суллы под Волатеррами на четвертый день после убийства. Неужели
еще и теперь возникает вопрос, кто послал этого гонца? Неужели не ясног
что это был тот же человек, который отправил гонца в Америю? И вот,
Хрисогон велел устроить продажу имущества Секста Росция немедленно,
хотя не знал ни убитого, ни обстоятельств дела. Почему же ему пришло на
ум пожелать приобрести имения неизвестного ему человека, которого он
вообще никогда не видел? Когда вы, судьи, слышите о чем-либо подобном,
вы обычно тотчас же говорите: «Конечно, об этом ему сказал кто-нибудь
из земляков или соседей; именно они в большинстве случаев оказываются
доносчиками; они же многих и предают». (106) В этом случае нет
оснований считать это одним лишь подозрением. Ибо я не стану рассуждать так:
«Вполне вероятно, что Росции сообщили об этом Хрисогону; ведь они и
ранее были в дружеских отношениях с ним; ибо, хотя у Росциев и было
много старых патронов 79 и гостеприимцев, связь с которыми к ним
перешла от предков, все же они перестали почитать и уважать всех их и
отдались под покровительство Хрисогона, призиав себя его клиентами».
(107) Я мог бы сказать все это, не уклоняясь от истины, но в этом
судебном деле нет никакой надобности прибегать к догадкам; Росции, я
уверен, и сами не отрицают, что Хрисогон подобрался к этому имуществу по
их наущению. Если того, кто получил часть этого имущества как награду
за извещение Хрисогона, вы увидите воочию, то сможете ли вы, судьи,
сомневаться в том, кто именно доиес? Кто же те люди, которым Хрисогон
уделил часть этого имущества? Оба Росция. Может быть, еще кто-нибудь,
/. В защиту Секста Росция
31
кроме них? Никого нет, судьи! Так возможны ли сомнения в том, что
добычу предложили Хрисогону именно те люди, которые и получили от него
часть этой добычи?
(108) А теперь рассмотрим поведение Росциев на основании суждения
самого Хрисогона. Если они в этом кровавом деле не совершили ничего
такого, что заслуживало бы награды, то за что Хрисогон так щедро их
одарил? Если они только сообщили ему о случившемся, то разве нельзя было
выразить им свою благодарность словесно или же, наконец, желая проявить
особую щедрость, сделать им небольшой подарок в знак своей
признательности? Почему Капитону тотчас были даны три имения огромной
стоимости? Почему Тит Росций вместе с Христогоном сообща владеют остальными
имениями? Неужели еще не ясно, судьи, что Хрисогон уступил Росциям
часть этой добычи, узнав все обстоятельства дела?
(XXXVIII, 109) В числе десяти старейшин в качестве посланца
приехал в лагерь Капитон. Обо всем его образе жизни, характере и нравах
вы можете судить на основании одного только этого посольства. Если вы
не убедитесь, судьи, что нет долга, что нет права, которого, несмотря на
всю его святость и неприкосновенность, Капитон не оскорбил бы и не
попрал в своей преступной подлости, то можете считать его честнейшим
человеком. (110) Он помешал посланцам рассказать Сулле о случившемся,
сообщил Хрисогону о планах и намерениях других посланцев, посоветовал
ему принять меры, чтобы дело не получило огласки, указал ему, что, если
продажа имущества будет отменена, Хрисогон лишится больших денег,,
а сам он предстанет перед уголовным судом. Хрисогона он подстрекал,
своих товарищей по посольству обманывал. Первому он беспрестанно
советовал быть осторожным, а вторым предательски подавал ложную надежду;
с Хрисогоном он составлял планы во вред посланцам, а их планы выдавал
Хрисогону; с ним он договорился о величине своей доли, а им он, каждый
раз придумывая тот или иной предлог для отсрочки, преграждал всякий
доступ к Сулле. Кончилось тем, что вследствие его советов, представлений
и посредничества посланцы так и не дошли до Суллы: обманутые в своем
доверии его вероломством, они — вы сможете узнать об этом от них самих,
если обвинитель захочет вызвать их как свидетелей 80,— вернулись домой
с ложными надеждами вместо успешного завершения дела.
(111) Предки наши считали величайшим позором, если кто-нибудь, даже
в частных делах, отнесется к доверенному ему делу, не говорю уже — хотя
бы с малейшим злым умыслом, в целях стяжания или ради своей выгоды,,
но даже несколько небрежно. Поэтому и было постановлено, что осуждение
за нарушение доверия не менее позорно, чем осуждение за кражу 81,— мне
думается, потому, что в делах, вести которые мы не можем сами, мы
доверяем друзьям занять наше место, так что человек, не оправдывающий
доверия, посягает на всеобщий оплот и, настолько это в его власти,.
32
Речи Цицерона
подрывает основы общественной жизни. Ведь мы не можем сами вести все
дела; один может принести больше пользы в одном деле, другой — в
другом. Поэтому мы и вступаем в дружеские отношения, чтобы взаимными
услугами действовать ради общей выгоды. (11) Зачем брать на себя
поручение, если ты намерен небрежно отнестись к нему или своекорыстно его
использовать? Зачем ты предлагаешь мне свою помощь и своей притворной
услужливостью мешаешь и вредишь мне? Оставь меня в покое, я буду
действовать через других. Ты берешь на себя бремя обязанностей и думаешь,
что оно по силам тебе, а оно не тяжко лишь для тех людей, которые сами
не легковесны.
(XXXIX) Итак, подобный проступок позорен именно потому, что
оскорбляет два священнейших начала — дружбу и верность слову. Ибо
каждый дает поручение только другу и верит только тому, кого считает
заслуживающим доверия. Только величайший негодяй может нарушить
дружбу и обмануть человека, который не пострадал бы, не доверься он ему.
(113) Не так ли? Если тот, кто небрежно относится к незначительному
поручению, возложенному на него, должен быть заклеймен позорнейшим
приговором, то можно ли того, кто в таком важном деле, когда ему были
поручены и доверены доброе имя умершего и достояние находящегося, в
живых человека, опорочил умершего и обрек живущего на нищету, относить
к числу честных людей или, вернее, полноправных граждан? В делах самых
незначительных и частных за простую небрежность, проявленную при
исполнении поручения, привлекают к суду и карают лишением чести, так
как — если дело ведется честно — проявить некоторую небрежность
позволительно доверителю, а не доверенному лицу. Какому же наказанию будет
подвергнут и каким приговором будет заклеймен человек, который в столь
важном деле, порученном и доверенном ему официально, не небрежностью
своей нанес ущерб каким-либо частным интересам, а вероломством своим
осквернил и запятнал священный характер посольства? (114) Если бы
Секст Росций как частное лицо поручил Капитону вступить в переговоры
и прийти'к соглашению с Хрисогоном и, в случае надобности, действовать
по совести и на свою ответственность, и если бы Капитон, взяв на себя эту
задачу, извлек из этого поручения хотя бы малейшую выгоду для себя
лично, то неужели он, в случае осуждения арбитральным судом, не
возместил бы нанесенного им убытка и не был бы совершенно опорочен82?
(115) Теперь же не Секст Росций дал ему это поручение, но (что гораздо
важнее) сам Секст Росций, его доброе имя, жизнь и достояние были
официально поручены Титу Росцию декурионами, а из этого он извлек для себя
не какую-нибудь незначительную прибыль, а в конец разорил моего
подзащитного, сам выговорил для себя три имения, а к воле декурионов и всех
муниципалов отнесся с таким же неуважением, как и к своему собственному
честному слову.
/. В защиту Секста Росция
33
(XL, 116) Далее обратите внимание, судьи, на другие поступки Тита
Росция и вы поймете, что нельзя и представить себе злодеяние, которым
он не запятнал бы себя. Обмануть товарища по предприятию даже в менее
важном деле — низкий поступок, столь же низкий, как и тот, о котором
я только что говорил. И мнение это вполне справедливо, так как человек
думает, что обеспечил себе помощь, объединившись с другим. На кого же
положиться ему, если человек, которому он доверился, его доверием
злоупотребил? При этом наиболее строгому наказанию должны подлежать
проступки, уберечься от которых труднее всего. Скрытными мы можем быть
по отношению к посторонним людям, но с близкими мы всегда более
откровенны. Как можем мы остерегаться товарища по предприятию? Даже
опасаясь его, мы оскорбляем права, предоставляемые ему его обязанностями.
Поэтому человека, обманувшего товарища по предприятию, наши предки
вполне справедливо не считали возможным причислять к порядочным
людям. (117) Однако Тит Росций не просто одного своего товарища по
денежным делам обманул; хотя это и является проступком, но все же с этим
как-то можно смириться; девятерых честнейших людей, имевших общие с
ним полномочия, своих товарищей по посольству, обязанностям и
поручению, он подвел, опутал, одурачил, выдал их противникам и обманул,
прибегнув ко всякого рода лжи и вероломству, а они не могли даже
заподозрить его в преступлении, не опасались своего товарища по обязанностям,
не видели его злых умыслов, поверили его пустым словам. И вот теперь
из-за его коварства этих честнейших людей обвиняют в недостатке
осторожности и предусмотрительности; он же, бывший сначала предателем, потом
перебежчиком, сперва рассказавший о намерениях своих товарищей
их противникам, а затем вступивший в сговор с самими противниками,
еще устрашает и запугивает нас, он, награжденный за свое преступление
тремя имениями. При такой его жизни, судьи, в числе его стольких и,
столь гнусных поступков вы найдете и злодеяние, рассматриваемое этим
судом.
(118) Вот как вы должны вести следствие: где вы увидите много
проявлений алчности, дерзости, бесчестности и вероломства, там, будьте
уверены, среди стольких гнусных поступков скрывается и преступление.
Впрочем, как раз оно менее всего бывает скрыто, так как оно столь явно и
очевидно, что нет надобности доказывать его теми злодеяниями, которыми,
как всем известно, запятнал себя этот человек; оно даже само служит
доказательством наличия всякого другого преступления, в котором могли быть
сомнения. Каково же ваше мнение, судьи? Неужели вы думаете, что тот
ланиста 83 уже совсем отложил в сторону свой меч или что этот ученик
сколько-нибудь уступает своему наставнику в искусстве? Они равны по
своей алчности, похожи друг на друга своей бесчестностью, одинаково
бесстыдны, родные братья по дерзости.
О Цицерон, т. I
34
Речи Цицерона
(XLI, 119) Далее, так как честность наставника вы оценили, оцените
теперь справедливость ученика. Я уже говорил, что у Росциев не раз
требовали двух рабов для допроса. Ты, Тит Росций, в этом всегда отказывал.
Я спрашиваю тебя: требовавшие ли не были достойны того, чтобы ты
выполнил их требование, или же тебя не волновала судьба того человека, ради
которого предъявлялось это требование, или же само требование казалось
тебе несправедливым? Требование это предъявляли знатнейшие и непод-
купнейшие люди нашего государства, которых я уже называл. Они так
прожили свою жизнь, их так высоко ценит римский народ, что едва ли
найдется хотя бы один человек, который не признал бы справедливым любое
их слово. И требование свое они предъявляли, защищая вызывающего
глубокую жалость несчастнейшего человека, который, при надобности, сам был
бы готов подвергнуться пытке, лишь бы было произведено следствие о
смерти его отца. (120) Далее, требование, предъявленное тебе, было такого
рода, что твой отказ был равносилен твоему сознанию в совершении тобой
злодеяния. Коль скоро это так, и я спрашиваю тебя, почему ты ответил
отказом. Во время убийства Секста Росция эти рабы были при нем. Их
самих я лично не обвиняю и не оправдываю, но вы так резко возражаете
против выдачи их для допроса, что это становится подозрительным; а то
весьма почетное положение, в каком они находятся у вас, с несомненностью
доказывает, что им известно нечто роковое для вас, если они об этом
расскажут.— «Допрос рабов о поступках их господ противоречит
требованиям справедливости».— Но ведь допрос этот не касается их господ;
подсудимый — Секст Росций, и допрос о нем не является допросом рабов о
поступках их господ; ибо их господами вы называете себя.— «Рабы находятся у
Хрисогона».— Вот как! Хрисогон, конечно, очарован их образованностью
и изысканностью и хочет, чтобы они вращались в кругу его любимчиков-
отроков, обученных всевозможным искусствам и выбранных им из
изящнейшей челяди во многих домах 84. Но ведь это чуть ли не чернорабочие,
прошедшие выучку в деревне, среди челяди америйского землевладельца!
(121) На самом деле всё, конечно, не так, судьи! Мало вероятно, чтобы
Хрисогон пленился их образованностью и воспитанием или оценил их
старательность и добросовестность. Здесь какая-то тайна, и чем усерднее они
скрывают и оберегают ее, тем более она всплывает на поверхность и
обнаруживается.
(XLII, 122) Что из этого следует? Хрисогон ли, желая скрыть свое
злодеяние, не хочет, чтобы эти рабы подверглись допросу? Вовсе нет, судьи!
Всех, полагаю я, нельзя мерить одной меркой. Лично я не подозреваю
Хрисогона ни в одном из подобных действий, и мне сегодня не впервые пришло
на ум это сказать. Как вы помните, я с самого начала разделил все
судебное дело на следующие части: на опровержение обвинения, поддерживать
которое было полностью поручено Эруцию, и на доказательство злого умыс-
/. В защиту Секста Росция
35
ла, что затрагивает Росциев. Всякое преступление, злодеяние и убийство,
какие только окажутся налицо, мы должны будем приписать Росциям.
Непомерное влияние и могущество Хрисогона, по нашему мнению, служат
помехой для нас и совершенно нестерпимы, и вы, коль скоро вам дана власть,
должны не только поколебать их, но и покарать за них. (123) Я рассуждаю
так: кто хочет допроса заведомых свидетелей убийства, тот желает, чтобы
была раскрыта истина; кто отказывает в этом допросе, тот, не решаясь
сказать это, все же поведением своим, несомненно, сознается в совершенном им
преступлении. Вначале я сказал, судьи, что не хочу говорить об их
злодеянии больше, чем этого потребует судебное дело или заставит сама
необходимость. Ведь можно привести много улик и каждую из них подтвердить
множеством доказательств. Но на том, что я делаю неохотно и по
необходимости, я не могу задерживаться и говорит об этом подробно. Того, чего
никак нельзя было обойти молчанием, я коснулся слегка, судьи! Что
основано на подозрениях и что потребовало бы более подробного обсуждения, если
начать об этом говорить, то я предоставляю вашему уму и
проницательности.
(XLIII, 124) Перехожу теперь к хорошо нам знакомому золотому имени
«Хрисогон» 85; этим именем было прикрыто все «товарищество». Не
придумаю я, судьи, ни как мне говорить, ни как мне умолчать о нем. Ибо,
умолчав о нем, я откажусь от наиболее важной части своих доводов; если
же я буду о нем говорить, то, чего доброго, не один только Хрисогон,— что
для меня безразлично — но и многие другие сочтут себя оскорбленными 86.
Впрочем, обстоятельства таковы, что мне нет особой надобности
распространяться о поступках скупщиков конфискованного имущества
вообще; ибо это судебное дело, конечно, не обычное и единственное в
своем роде.
(125) Имущество Секста Росция купил Хрисогон. Рассмотрим сперва
следующее: на каком основании продано имущество этого человека, вернее,
как оно могло поступить в продажу? Спрашиваю об этом, судьи, не для
того, чтобы сказать, что продажа имущества ни в чем не повинного
человека возмутительна87; ибо, даже если об этом можно будет слушать и
открыто говорить, то именно Секст Росций едва ли был столь значительным
лицом среди наших граждан, чтобы мы должны были печалиться прежде
всего о нем; но я спрашиваю вот о чем: как могло на основании того
самого закона о проскрипциях — Валериева или Корнелиева (точно не знаю) —
так вот, как могло на основании этого самого закона имущество Секста
Росция поступить в продажу? (126) Ведь там, говорят, написано следующее:
«Должно быть продано имущество тех, чьи имена внесены в
проскрипционные списки (среди них Секста Росция нет), или тех, кто был убит,
принадлежа к лагерю противников». Пока существовали какие-то лагери, Секст
Росций принадлежал к лагерю Суллы; когда мы перестали сражаться, он среди
3*
36
Речи Цицерона
лолного мира, возвращаясь с обеда, был убит в Риме. Если он был убит
по закону, то я готов признать, что имущество его тоже было продано с
торгов законно; но если установлено, что он был убит в нарушение, уже
не говорю — древних 88, но даже и новых законов, то по какому же праву,
каким образом, в силу какого закона было продано его имущество? Вот о
чем я спрашиваю.
(XLIV, 127) Ты хочешь знать, Эруций, кого я имею в виду. Не того,
кого ты хотел бы и о ком ты думаешь; ибо Суллу оправдало на вечные
времена и мое заявление, сделанное мной с самого начала, и его собственная
исключительная доблесть. Я утверждаю, что все это совершил Хрисогон:
он дал ложные сведения; выдумал, что Секст Росций был злонамеренным
гражданином; заявил, что он был убит, находясь среди противников; не
позволил посланцам америйцев рассказать обо всем Луцию Сулле.
Наконец, я подозреваю также, что это имущество вообще не было продано с
торгов; в дальнейшем, с вашего позволения, судьи, я докажу и это. (128)
Ибо по закону крайним сроком для проскрипций и продажи имущества,
бесспорно, были июньские календы: между тем Секст Росций был убит,
имущество его, как говорят, поступило в продажу только через несколько
месяцев после июньских календ. Во всяком случае, это имущество либо
не было внесено в официальные книги, и этот мошенник издевается над
нами более ловко, чем мы думаем, либо если оно и было внесено, то в
книгах каким-то образом совершен подлог; так как именно это имущество, как
установлено, законным образом поступить в продажу не могло. Я понимаю,
судьи, что рассматриваю этот вопрос преждевременно и, можно сказать,
уклоняюсь в сторону, раз я вместо того, чтобы спасать голову Секста Рос-
ция, лечу заусеницу 89. Ведь он не о деньгах тревожится и не об интересах
своих заботится; он думает, что легче перенесет свою бедность, если его
освободят от этого возмутительного подозрения и вымышленного
обвинения. (129) Но я прошу вас, судьи: слушая то немногое, что мне еще
остается сказать, считайте, что говорю я отчасти от своего имени, отчасти в
защиту Секста Росция. Что мне самому кажется возмутительным и
нестерпимым и что, по моему мнению, касается всех нас, если мы не примем мер,—
об этом я говорю от своего имени с душевной скорбью и болью; а о том,
что имеет отношение к жизни и к делу Секста Росция и что он хотел бы
услыхать в свою защиту, об этом вы, судьи, вскоре услышите в
заключительной части моей речи.
(XLV, 130) Я по своему почину, оставив в стороне дело Секста Росция,
спрашиваю Хрисогона: во-первых, почему имущество честнейшего
гражданина было продано с торгов? Затем, почему имущество человека, который
не был внесен в проскрипционные списки и не пал, находясь среди
противников, было продано с торгов, хотя закон был направлен только против
вышеупомянутых лиц; затем, почему оно было продано много позже срока,
/. 5 защиту Секста Росция
37
установленного законом? Наконец, почему оно было продано за такую
малую цену? Если Хрисогон, по примеру негодных и бесчестных
вольноотпущенников, захочет свалить все это на своего патрона, то это не удастся
ему; ибо всем известно, что, так как Луций Сулла был занят важнейшими
делами, многие совершили много проступков — частью против его желания,
частью без его ведома. (131) Итак, значит, можно согласиться с тем, что
некоторые дела могли ускользнуть от его внимания? Согласиться нельзя,
судьи, но это было неизбежно. И в самом деле, если Юпитер Всеблагой
Величайший, одним мановением руки и волей своей управляющий небом,
сушей и морями, не раз наносил вред людям, разрушал города, уничтожал
посевы то ветрами необычайной силы, то страшными бурями, то чрезмерной
жарой, то невыносимым холодом, причем все эти гибельные явления мы
приписываем не божественному промыслу, а великим силам природы, и
наоборот, если блага, какими мы пользуемся,— дневной свет, которым мы
живем, воздух, которым мы дышим,— мы рассматриваем как дар и милость
Юпитера, то можем ли мы удивляться, судьи, что Луций Сулла, один
стоявший во главе государства, управлявший Беем миром и укреплявший
посредством законов величие империя 90, добытого им оружием, мог не
заметить кое-чего? Удивительно ли, что ум человеческий не охватывает того,
чего не может достигнуть и божественная мощь?
(132) Но если оставить в стороне то, что уже произошло, неужели из
того, что происходит именно теперь, всякому не ясно, что единственным
виновником и зачинщиком всего является Хрисогон? Ведь это он велел
привлечь Секста Росция к суду, и ему в угоду Эруций, который сам об
этом говорит, выступает в качестве обвинителя 91. [Лакуна.]
(XLVI) ...[Те,] у кого есть поместья в области саллентинцев или в
Бруттии 92, откуда они с трудом могут получать известия трижды в год,
думают, что именно они владеют удобно расположенными и
благоустроенными [поместьями].
(133) Вот другой93 спускается с Палация, где у него свой дом; есть
у него для отдыха загородная приятная усадьба и, кроме того, несколько
имений; все они великолепны и расположены недалеко от города. В доме
у него множество сосудов коринфской и делосской работы и среди них зна-
менитая автепса , за которую он недавно заплатил так дорого, что
прохожие, слыша цену, которую выкрикивал глашатай, думали, что продается
имение. А как вы думаете — сколько у него, кроме того, чеканной
серебряной утвари, ковров, картин, статуй, мрамора? Разумеется, столько, сколько
возможно было нагромоздить в одном доме во время смуты и при
ограблении многих блистательных семейств. Что касается его челяди, то стоит ли
мне говорить, как она многочисленна и каким разнообразным искусствам
обучена? (134) Не говорю об обычных ремеслах — о поварах, пекарях,
носильщиках 95. Рабов, которые могут повеселить душу и усладить слух, у
38
Речи Цицерона
него столько, что ежедневным пением, струнной и духовой музыкой и
шумом ночных пирушек оглушена вся округа. Как вы думаете, судыи, каких
ежедневных расходов, какой расточительности требует такой образ жизни?
И какие это пирушки? Уж наверное, приличные — в таком доме, если
только следует его считать домом, а не школой разврата и рассадником
всяческих гнусностей! (135) А сам он? Как он, причесанный и напомаженный,
расхаживает по форуму в сопровождении целой свиты, одетой в тоги , вы
видите, судьи! Вы видите, как пренебрежительно смотрит он, на всех, лишь
одного себя считая человеком; по его мнению, один он счастлив, один он
силен. Если я стану рассказывать, что он делает и чего добивается, то
какой-нибудь неискушенный человек, судьи, пожалуй, подумает, что я хочу
повредить делу знати и ее победе. Но я вправе порицать все то, что мне
не нравится на этой стороне; ибо мне нечего опасаться, что меня могут
счесть враждебным делу знати.
(XLVII, 136) Всем, кто меня знает, известно, что после того как мое
сильнейшее желание, чтобы было достигнуто согласие между сторонами,
не исполнилось, я, по мере своих ничтожных и слабых сил, особенно
ратовал за победу тех, кто и победил. Ибо кто не видел, что низы боролись
за власть с людьми вышестоящими? В этой борьбе одни только дурные
граждане могли не примкнуть к тем, чей успех мог обеспечить государству
и блеск внутри страны, и уважение за ее пределами. Радуюсь и всем
сердцем ликую, судьи, что это свершилось, что каждому возвращено его
почетное положение, и понимаю, что все это произошло по воле богов, при живом
участии римского народа, благодаря мудрости, империю, счастью и удаче
Луция Суллы. (137) Что были наказаны люди, упорно сражавшиеся в
рядах противников, я порицать не должен; что храбрые мужи, особенно
отличившиеся во время тех событий, награждены, я хвалю. Думаю, что для
того и сражались, чтобы это было достигнуто, и признаюсь, что я
находился на этой стороне. Но если все это было предпринято, если за оружие
взялись ради того, чтобы самые последние люди могли обогащаться за
чужой счет и завладевать имуществом любого гражданина, и если нельзя,
не говорю уже — препятствовать этому делом, но даже порицать это
словом, то, право, война эта принесла римскому народу не возрождение и
обновление, а унижение и угнетение. (138) Но в действительности это
далеко не так; ничего подобного нет, судьи! Если вы дадите отпор этим
людям, то дело знати не только не пострадает, но даже прославится еще
больше.
(XLVIII) И в самом деле, люди, желающие порицать нынешнее
положение вещей, сетуют на столь значительную мощь Хрисогона; но люди,
склонные хвалить нынешние порядки, говорят, что такой власти ему вовсе
не дано. Теперь уже ни у кого нет оснований — по глупости ли или же по
бесчестности — говорить: «Если бы только мне было разрешено! Я сказал
/. В защиту Секста Россия
39
бы,...»—Пожалуйста, говори.— «Я сделал бы...» — Пожалуйста, делай;
никто тебе этого не запрещает.— «Я подал бы голос за...» 97 — Подавай,
но только честно, и все одобрят тебя.— «Я вынес бы приговор...» — Все
будут хвалить его, если ты будешь судить справедливо и по закону.
(139) Пока было необходимо и этого требовали сами обстоятельства,
всей полнотой власти обладал один человек; после того как он произвел
выборы должностных лиц и провел законы 98, каждому возвратили его
полномочия и авторитет. Если те, кому они возвращены, хотят их сохранить,
они смогут получить их навсегда. Но если они будут совершать и одобрять
эти убийства и грабежи и эту безмерную и ни с чем не сообразную
расточительность, то я, далекий от желания сказать что-либо более резкое,—
уже по одному тому, что это было бы дурным предзнаменованием,— скажу
только одно: если наша хваленая знать не будет бдительна, честна, храбра
и милосердна, ей неминуемо придется уступить свое высокое положение
людям, которые будут обладать этими качествами. (140) Поэтому пусть,
наконец, перестанут говорить, что человек, высказавшийся искренно и
независимо, говорил злонамеренно; пусть перестанут считать дело Хрисогона
своим делом; пусть перестанут думать: если он подвергся нападкам, то
задеты и они; пусть подумают, не позорно и не унизительно ли, что люди,
которые не смогли примириться с блеском всаднического сословия ", могут
переносить господством презренного раба. Это господство, судьи, ранее
проявляло себя в другом; какую дорогу оно прокладывает себе ныне и куда
пролагает себе путь, вы видите: оно направлено против вашей честности,
вашей присяги, ваших судов — против всего того, что, пожалуй, только и
остается в государстве чистым и священным. (141) Неужели и здесь Хри-
согон рассчитывает обладать какой-то властью? И здесь хочет он быть
могущественным? О, какое несчастье, какое бедствие! И я, клянусь
Геркулесом, негодую не потому, что я боюсь или что он действительно может
что-то значить; но потому, что он осмелился, потому, что он надеялся как-
то повлиять на таких мужей, как вы, и погубить ни в чем не виновного
человека,—вот на что я сетую.
(XLIX) Для того ли знать, от которой многого ожидали, огнем и
мечом вернула себе власть в государстве, чтобы вольноотпущенники и жалкие
рабы могли, по своему произволу, расхищать имущество знатных людей и
наше достояние, посягать на нашу жизнь? (142) Если дело дошло до этого,
то я, предпочитавший такой исход, признаюсь, что я заблуждался,
признаюсь, что был безумен, сочувствуя знати, хотя я, не беря в руки оружия,
сочувствовал ей, судьи! Но если, напротив, победа знати пойдет на славу
государству и римскому народу, то моя речь должна быть весьма по-сердцу
каждому благородному и знатному человеку. Если же кто-либо думает, что
ему самому и его единомышленникам наносят оскорбление, порицая
Хрисогона, то о« дела своей стороны не принимает во внимание, а заботится
40
Речи Цицерона
только о себе; ибо дело знати станет более славным, если будет дай отпор
всем негодяям, а тот бесчестнейший пособник Хрисогона, который
разделяет его образ мыслей, несет ущерб, отходя от участия в этом славном
деле.
(143) Но ,все это, как я уже заметил выше, я говорю от своего имени;
сказать это меня побудили благо государства, скорбь, испытываемая мной,
и беззакония этих людей. Секст Росций ничем этим не возмущается,
никого не обвиняет, не сетует на утрату отцовского имущества. Неопытный в
жизни человек, земледелец и деревенский житель, он считает все то, что,
по вашим словам, сделано по распоряжению Суллы, совершенным по
обычаю, по закону, по праву народов 10°. Оправданным и свободным от
неслыханного обвинения — вот каким хочет он уйти отсюда. (144) Если с него
будет снято это не заслуженное им подозрение, то он, по его словам,
спокойно перенесет утрату всего своего состояния; он просит и умоляет тебя,
Хрисогон,— если он ничем не воспользовался из огромного имущества
своего отца, если он ничего не утаил от тебя, если он вполне добросовестно
отдал тебе все свое достояние, все пересчитал, все взвесил, если он передал
тебе одежду, которой было прикрыто его тело, и перстень, который он
носил на пальце 101, если из всего своего достояния он не оставил себе ничего,
кроме своего нагого тела,— позволь ему, невиновному, влачить жизнь в
бедности, пользуясь помощью друзей.
(L, 145) Имениями моими ты владеешь, а я живу чужим милосердием.
Я на это согласен, так как отношусь к этому спокойно и это неизбежно.
Дом мой для тебя открыт, для меня заперт; мирюсь с этим.
Многочисленной челядью моей пользуешься ты, а у меня нет ни одного раба; терплю
это и считаю нужным переносить. Чего тебе еще? Почему ты меня
преследуешь, почему нападаешь на меня? В чем я, -по-твоему, тебе не угодил? Чем
я тебе мешаю? В чем стою тебе поперек дороги? Если ты хочешь убить
меня ради добычи, то ты уже добыл ее. Чего еще тебе нужно? Если ты
хочешь убить меня из-за вражды, то какая вражда возможна между тобой
и человеком, чьими имениями ты завладел еще до того, как узнал о нем
самом? Если из-за боязни, то неужели ты боишься человека, который, как
ты видишь, сам не умеет отвратить от себя столь страшную
несправедливость? Но если ты именно потому, что имущество, принадлежавшее Сексту
Росцию, стало твоим, и стараешься погубить его сына, присутствующего
здесь, то не доказываешь ли ты этим, что опасаешься как раз того, чего ты
должен был бы бояться менее, чем кто-либо другой,— что рано или поздно
имущество проскриптов-отцов будет возвращено их сыновьям?
(146) Ты ошибаешься, Хрисогон, если, в надежде удержать у себя
купленное тобой имущество, рассчитываешь на гибель моего подзащитного
больше, чем на все то, что сделано Луцием Суллой. Но если у тебя нет
личных оснований желать такого тяжкого несчастья этому жалкому чело-
/. В защиту Секста Росция
41
веку; если он отдал тебе все, кроме жизни, и ничего из отцовского
достояния не утаил для себя хотя бы на память, то — во имя бессмертных
богов! — что это за неслыханная жестокость с твоей стороны, что у тебя за
зверская, свирепая натура! Какой разбойник был когда-либо столь
бесчеловечен, какой пират — столь дик, чтобы он, имея возможность получить
добычу, всю целиком, без пролития крови, предпочел совлечь с противника
его доспехи окровавленными? (147) Ты знаешь, что у Секста Росция
ничего нет, что он ни на что не решается, ничего не может сделать, никогда не
думал вредить тебе в чем бы то ни было, и все-таки нападаешь на человека,
которого ты и бояться не можешь и ненавидеть тебе не за что, у которого,
как видишь, уже нет ничего такого, что ты мог бы еще отнять. Разве только
тебя возмущает, что человека, которого ты выгнал из отцовского поместья
нагим, словно после кораблекрушения, в суде ты видишь одетым. Как
будто тебе не известно, что его кормит и одевает Цецилия, дочь Балеарского,
сестра Непота, женщина выдающаяся, которая, имея прославленного отца,
достойнейших дядьев и знаменитого брата, все же, хотя она и женщина,
своим мужеством достигла того, что в воздаяние за великий почет, каким
она пользуется в связи с их высоким положением, она, со своей стороны,
украсила их не меньшей славой благодаря своим заслугам.
(LI, 148) Или ты, быть может, негодуешь на то, что Секста Росция
горячо защищают? Поверь мне, если бы, ввиду отношений гостеприимства
и дружбы, связывавших людей с его отцом, все гостеприимцы захотели
явиться сюда и осмелились его открыто защищать, то у него не было бы
недостатка в защитниках, а если бы все они могли покарать вас в меру
вашего беззакония,— ибо опасность, угрожающая Сексту Росцию,
затрагивает высшие интересы государства — то, клянусь Геркулесом, вам нельзя
было бы и показаться на этом месте. Но теперь его защищают так, что его
противники, конечно, не должны роптать и не могут думать, что
вынуждены уступить могуществу. (149) О его личных делах заботится Цецилия;
его дела на форуме и в суде, как вы видите, судьи, взял на себя Марк Мес-
салла 102, который и сам выступил бы в защиту Секста Росция, будь он
старше и решительнее. Но так как произнести речь ему мешают его
молодость и застенчивость, являющаяся украшением этого возраста, то он
передал дело мне, зная, что я хочу и обязан оказать ему эту услугу, а сам
своей настойчивостью, умом, влиянием и хлопотами добился, чтобы жизнь
Секста Росция, вырванная из рук этих грабителей, была доверена суду.
В защиту такой именно знати, судьи, подавляющее большинство граждан,
несомненно, и сражалось; их целью было восстановить в их гражданских
правах тех знатных людей, которые готовы сделать то, что, как видите,
делает Мессалла, которые готовы защищать жизнь невиновного, дать отпор
беззаконию, которые предпочитают, по мере своих сил, проявлять свое
могущество, не губя другого человека, а спасая его. Если бы так поступали
42
Речи Цицерона
все люди такого происхождения, то государство менее страдало бы от них,
а сами они меньше страдали бы от ненависти.
(LII, 150) Но если мы не можем добиться от Хрисогона, чтобы он
удовлетворился нашими деньгами, судыи, и пощадил нашу жизнь; если нет
возможности убедить его, чтобы он, отняв у нас все принадлежащее нам,
отказался от желания лишить нас этого вот света солнца, доступного всем;
если для него недостаточно насытить свою алчность деньгами и ему надо
еще и жестокость свою напоить кровью, то для Секста Росция остается
одно прибежище, судьи, одна надежда — та же, что и для государства —
на вашу неизменную доброту и сострадание. Если эти качества еще
сохранились в ваших сердцах, то мы даже теперь можем считать себя в
безопасности; но если та жестокость, которая ныне в обычае в нашем государстве,
сделала и ваши сердца более суровыми и черствыми,— что, конечно, не
возможно,— тогда все кончено, судьи! Лучше доживать свой век среди диких
зверей, чем находиться среди таких чудовищ.
(151) Для того ли вы уцелели, для того ли вы избраны, чтобы
выносить смертные приговоры тем, кого грабители и убийцы не смогли
уничтожить? Опытные полководцы, вступая в сражение, обычно стараются
расставить своих солдат там, куда, по их мнению, побегут враги, чтобы эти
солдаты неожиданно напали на бегущих. Бесспорно, так же думают и эти
скупщики имущества: будто вы, с голь достойные мужи, сидите здесь
именно для того, чтобы перехватывать тех, кто уйдет из их рук. Да не допустят
боги, чтобы учреждение, по воле наших предков названное
государственным советом103, стало считаться оплотом грабителей! (152) Или вы, судьи,
действительно не понимаете, что единственной целью этих действий
является уничтожение любым способом сыновей проскриптов и что начало этому
хотят положить вашим приговором по делу Секста Росция, грозящим ему
смертью? Можно ли сомневаться и не знать, чьих рук дело преступление
это, когда на одной стороне вы видите скупщика конфискованного
имущества, недруга, убийцу, являющегося в то же время и обвинителем, а на
другой — обездоленного человека, сына, дорогого его родичам, на котором
нет, уже не говорю — никакой вины, на которого даже подозрение не может
пасть? Разве вы не видите, что Секст Росций виноват лишь в том, что
имущество его отца поступило в продажу с торгов?
(LIII, 153) Если вы возьмете на себя ответственность за такое дело и
приложите к нему свою руку, если вы сидите здесь для того, чтобы к вам
приводили сыновей тех людей, чье имущество поступило в продажу с
торгов, то — во имя бессмертных богов, судьи! — берегитесь, как бы не
показалось, что вы начали новую и гораздо более жестокую проскрипцию! За
прежнюю, начатую против тех, кто был способен носить оружие, сенат всё
же отказался взять на себя ответственность, дабы не показалось, что более
суровая мера, чем это установлено обычаем предков, принята с согласия
/. В защиту Секста Росция
43
государственного совета; что же касается этой проскрипции, направленной
против их сыновей и даже против младенцев, еще лежащих в колыбели, то
если вы своим приговором не отвергнете ее с презрением, то вы увидите —
клянусь бессмертными богами! — до чего дойдет наше государство!
(154) Мудрым людям, наделенным авторитетом и властью, какими
обладаете вы, следует те недуги, от которых государство больше всего
страдает, тщательнее всего и врачевать. Среди вас нет никого, кто бы не
понимал, что римский народ, некогда считавшийся самым милостивым даже к
своим врагам, ныне страдает от жестокости к своим собственным
гражданам. Вот ее и гоните прочь от нас, судьи! Не давайте ей дальше
распространяться в нашем государстве. Она опасна не только тем, что самым
ужасным образом истребила стольких граждан, но и тем, что привычка
к постоянным картинам несчастий сделала самых добрых людей глухими
к голосу сострадания. Ибо, когда мы ежечасно видим одни только ужасы
или слышим о них, то — даже если мы от природы очень мягки — все же
наши сердца, вследствие непрекращающихся потрясений, теряют всякое
чувство человеколюбия.
2
РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА
[В суде, первая сессия, 5 августа 70 г.]
(1,1) Чего всего более надо было желать, судьи, что всего более должно
было смягчить ненависть к вашему сословию и развеять дурную славу,
тяготеющую над судами, то не по решению людей, а, можно сказать, по
воле богов даровано и вручено вам в столь ответственное для государства
время. Ибо уже установилось гибельное для государства, а для вас опасное
мнение, которое не только в Риме, но и среди чужеземных народов
передается из уст в уста,— будто при нынешних судах ни один человек,
располагающий деньгами, как бы виновен он ни был, осужден быть не может. (2)
И вот, в годину испытаний для вашего сословия и для ваших судов \ когда
подготовлены люди, которые речами на сходках и внесением законов
будут стараться разжечь эту ненависть к сенату, перед судом предстал Гай
Веррес, человек, за свой образ жизни и поступки общественным мнением
уже осужденный, но ввиду своего богатства, по его собственным расчетам
и утверждениям, оправданный. Я же взялся за это дело, судьи, по воле
римского народа и в оправдание его чаяний, отнюдь не для того, чтобы
усилить ненависть к вашему сословию, но дабы избавить всех нас от
бесславия. Ибо я к суду привлек такого человека, чтобы вы вынесенным ему
приговором могли восстановить утраченное уважение к судам, вернуть себе
расположение римского народа, удовлетворить требования чужеземных
народов. Это — расхититель казны 2, угнетатель Азии и Памфилии,
грабитель под видом городского претора, бич и губитель провинции Сицилии.
(3) Если вы вынесете ему строгий и беспристрастный приговор, то
авторитет, которым вы должны обладать, будет упрочен; но если его огромные
богатства возьмут верх над добросовестностью и честностью судей, я все-
таки достигну одного: все увидят, что в государстве не оказалось суда, а не
что для судей не нашлось подсудимого, а для подсудимого — обвинителя.
(II) Лично о себе я признаюсь, судьи: хотя Гай Веррес как на суше, так
и на море строил мне много козней 3, из которых одних я избежал
благодаря своей бдительности, а другие отразил благодаря стараниям и
преданности своих друзей, все же мне, по моему мнению, никогда не грозила такая
большая опасность и никогда не испытывал я такого страха, как теперь, во
2. Против Гая Верреса (первая сессия)
45
время самого слушания этого дела. (4) И меня волнует не столько
напряженное внимание, с каким ждут моей обвинительной речи, и такое огромное
стечение народа,— хотя и это очень и очень смущает меня — сколько те
предательские козни, которые Гай Веррес одновременно строит мне, вам,
претору Манию Глабриону, римскому народу, союзникам, чужеземным
народам и, наконец, сенаторскому сословию и званию. Вот что он говорит:
пусть боится тот, кто награбил лишь столько, что этого может хватить ему
одному, сам же он награбил столько, что этого хватит многим; по его
словам, нет святыни, на которую нельзя было бы посягнуть, нет крепости,
которою нельзя было бы овладеть за деньги4. (5) Если бы дерзости его
попыток соответствовало его умение действовать тайком, то ему, пожалуй,
когда-нибудь и удалось бы в чем-либо нас обмануть. Но, по счастью, с его
необычайной наглостью сочетается исключительная глупость: как он ранее
открыто расхищал деньги, так и теперь, надеясь подкупить суд, он сообщает
о своих замыслах и попытках всем и каждому. По его словам, он только один
раз за всю свою жизнь струсил — тогда, когда я привлек его к суду: он
лишь недавно вернулся из провинции, ненависть к нему и его дурная слава
были не недавнего происхождения, а старыми и давнишними, и как раз это
время оказалось неблагоприятным для подкупа судей 5. (6) Но вот, когда
я испросил для себя очень малый срок, чтобы произвести следствие в
Сицилии, он немедленно наднел человека, который для расследования дела в
Ахайе потребовал для себя срок, меньший на два дня, но человек этот
отнюдь не намеревался своим добросовестным отношением к делу и
настойчивостью достигнуть того же, чего добивался я своим трудом и ценой
бессонных ночей. Ведь этот ахейский следователь не доехал даже до Брунди-
сия, тогда как я в течение пятидесяти дней исколесил всю Сицилию,
собирая записи об обидах, причиненных как населению в целом, так и
отдельным лицам 6. Таким образом, всякому ясно, что Веррес искал
человека не для того, чтобы тот привлек своего обвиняемого к суду, но дабы он
отнял у суда время, предоставленное мне.
(III, 7) Теперь этот наглейший и безрассуднейший человек понимает,
что я явился в суд настолько подготовленным и знакомым с делом, что не
только вы одни услышите мой рассказ о его хищениях и гнусных поступках,
но их воочию увидят все. Он видит, что свидетелями его дерзости являются
многие сенаторы; видит многих римских всадников и многих граждан и
союзников, которым он нанес тяжкие обиды; видит также, что многие
дружественные нам городские общины прислали множество столь
уважаемых представителей, облеченных полномочиями от населения. (8) Хотя это
и так, он все же настолько дурного мнения обо всех честных людях и
считает сенаторские суды настолько испорченными и продажными, что во
всеуслышание говорит о себе: он не без причины был жаден к деньгам, так
как деньги — он видит это по опыту — очень сильное средство защиты; он,
46
Речи Цицерона
что было особенно трудно, купи\ даже время для суда над собой, чтобы
ему легче было впоследствии купить остальное, дабы ему, коль скоро он
никак не мог уйти от грозных обвинений, удалось спастись от бури,
связанной с ранним сроком разбора его дела в суде. (9) Имей он хоть какую-
либо надежду, не говорю уже —на правоту своего дела, но хотя бы на чье-
либо честное заступничество или на чье-нибудь красноречие или влияние,
он, конечно, не стал бы прибегать ко всем возможным средствам и не
пустился бы на розыски их; он не настолько презирал бы сенаторское
сословие, не настолько пренебрегал бы им, чтобы по своему усмотрению
выбирать из числа членов сената другого обвиняемого 7, чье дело должно было
бы разбираться до его дела, пока он успеет подготовить все, что нужно.
(10) По всему этому мне легко догадаться, на что он надеется и что
замышляет; но почему он так уверен в успехе при слушании дела перед
лицом этого претора и этого совета судей, я, право, понять не могу. Я
понимаю одно (и римский народ тоже высказал свое мнение во время отвода
судей 8): всю свою надежду на спасение Веррес возлагал на деньги, и если:
это средство защиты будет у него отнято, ему уже не поможет ничто. (IV)
В самом деле, можно ли представить себе столь великое дарование, столь
замечательный дар слова и такое красноречие, которое было бы в
состоянии хотя бы в одном отношении оправдать его образ жизни, запятнанный
столькими пороками и гнусностями и уже давно единогласно всеми
осужденный? (11) Даже если обойти молчанием грязные и позорные
проступки его молодости, то к чему иному свелась его квестура, первая почетная
должность, как не к тому, что он украл у Гнея Карбона, чьим квестором
он был, казенные деньги, ограбил и предал своего консула, бросил войско,
покинул провинцию, оскорбил святость отношений, налагаемых жребием?
Как легат он был бичом всей Азии и Памфилии; в этих провинциях он
ограбил много домов, множество городов и все храмы; тогда же он по
отношению к Гнею Долабелле повторил свое прежнее преступление времен
квестуры; своим злодеянием он навлек ненависть на человека, у которого
был легатом и проквестором, и не только покинул его в самое опасное
время, но и напал на него и его предал. (12) Как городской претор он ограбил
храмы и общественные здания и, вместе с тем, как судья, вопреки
общепринятому порядку, присуждал и раздавал имущества и владения 9.
Но самые многочисленные и самые важные доказательства и следы всех
своих пороков он оставил в провинции Сицилии, которую он в течение
трех лет так истерзал и разорил, что ее совершенно невозможно
восстановить в ее прежнем состоянии, и она лишь через много лет и с помощью
неподкупных преторов, в конце концов, видимо, сможет хоть
сколько-нибудь возродиться. (13) В бытность Верреса претором, для сицилийцев
не существовало ни их собственных законов, ни постановлений нашего
сената, ни общечеловеческих прав. В Сицилии каждому принадлежит только то,
2. Против Гая Верреса (первая сессия)
47
что ускользнуло от безмерной алчности и произвола этого человека —
потому ли, что он упустил это из вида, или же потому, что был уже
пресыщен.
(V) В течение трех лет ни одно судебное дело не решалось иначе, как
по мановению его бровей; не было ни одного имущества, унаследованного
от отца или деда, которое не было бы отчуждено судебным приговором по
повелению Верреса. Огромные деньги были взысканы с земледельцев на
основании введенных им новых, преступных правил; наши преданнейшие
союзники были отнесены к числу врагов, римские граждане были
подвергнуты пыткам и казням, словно это были рабы; преступнейшие люди были
за деньги освобождены от судебной ответственности, а весьма уважаемые
и бескорыстнейшие, будучи обвинены заочно, без слушания дела были
осуждены и изгнаны; прекрасно укрепленные гавани и огромные, надежно
защищенные города были открыты пиратам и разбойникам; сицилийские
матросы и солдаты, наши друзья и союзники, были обречены на голодную
смерть; прекрасный, крайне нужный нам флот, к великому позору для
римского народа, был потерян нами и уничтожен.
(14) Этот же пресловутый претор разграбил дочиста все древнейшие
памятники, часть которых была получена от богатейших царей, желавших
украсить ими города, часть — также и от наших императоров, которые
после своих побед либо даровали, либо возвратили их городским общинам
Сицилии 10. И он поступил так не только со статуями и украшениями,
принадлежавшими городским общинам; он ограбил все храмы,
предназначенные для совершения священных обрядов; словом, он не оставил
сицилийцам ни одного изображения божеств, если оно, по его мнению, было
сделано достаточно искусно и притом рукой старинного мастера. Что же
касается его разврата и гнусностей, то мне стыдно рассказывать о преступных
проявлениях его похоти и, кроме того, я не хочу своим рассказом усиливать
горе людей, которым не удалось уберечь своих детей и жен от его
посягательств. (15) «Но ведь его преступления,— скажут мне,— были совершены
так, что не должны были стать известны всем». Мне думается, нет
человека, который бы, услыхав его имя, не вспомнил тут же и о его беззаконных
поступках, так что меня скорее, пожалуй, упрекнут в том, что я упустил
из вида многие его преступления, а не в том, что я выдумываю их. Я думаю,
что это множество людей, собравшихся послушать дело, пришло не для
того, чтобы узнать от меня, в чем обвиняют Верреса, а чтобы вместе со
мной лучше ознакомиться с тем, что им уже известно.
(VI) При таком положении вещей этот безумный и преступный человек
изменяет свой способ борьбы со мной: не старается противопоставить мне
чье-либо красноречие, не полагается на чье-либо влияние; он делает вид,
будто полагается на все это, но я вижу, как он поступает в
действительности; ведь действует он отнюдь не тайно. Он бросает мне в лицо ничего
48
Речи Цицерона
не значащие имена знатных, то есть высокомерных людей, но не столько
пугает меня их знатность, сколько помогает мне их известность. Он
притворяется, что вполне доверяет их защите, а между тем уже давно замышляет
нечто совсем другое. (16) Какую надежду он теперь питает и о чем
хлопочет, я сейчас коротко вам расскажу, но сначала прошу вас послушать, что
он совершил с самого начала.
Как только он возвратился из провинции, oih подкупил наличный состав
суда за большие деньги. Эта сделка оставалась в силе вплоть до самого
отвода судей; так как во время жеребьевки судьба благоприятствовала
римскому народу и расчеты Верреса рухнули, а при отводе судей моя
бдительность восторжествовала над наглостью его сторонников, то после
отвода судей вся сделка была объявлена недействительной. (17) Итак, все
обстояло прекрасно. Тетрадки с именами вашими и членов этого совета
судей были у всех в руках; ни пометки, ни особого цвета п, ни
злоупотреблений — ничем нельзя было опорочить это голосование. И вдруг Веррес
из веселого и смеющегося сделался таким удрученным и опечаленным, что
не только римскому народу, но и самому себе казался уже осужденным.
Но вот, после комиций по выбору консулов, он внезапно в течение
нескольких последних дней снова возвращается к своим прежним замыслам,
определив на расходы еще более крупную сумму, и снова строятся козни против
вашего доброго имени и всеобщего благополучия. Это, судьи, открылось
мие сперва по самым малозаметным признакам и малоубедительным
доказательствам, но впоследствии я, укрепившись в своем подозрении,
безошибочно изучил все самые тайные замыслы своих противников.
(VII, 18) Ибо, когда избранный консул 12 Квинт Гортенсий
возвращался домой с поля в сопровождении огромной толпы, эту толпу случайно
встретил Гай Курион 13 (его имя произношу с уважением, а не из желания
его оскорбить; ведь я сейчас повторю то, чего он, конечно, не сказал бы
так открыто и во всеуслышание при таком большом стечении людей, если
бы не хотел, чтобы его слова запомнились: все же скажу это обдуманно и
осторожно, дабы все поняли, что я принял во внимание и наши дружеские
отношения и его высокое положение). (19) Возле самой Фабиевой арки14
он в толпе видит Верреса, окликает его и громко поздравляет. Самому
Гортенсию, который был избран в консулы, находившемуся тут же, его
родным и друзьям он не говорит ни слова. С Верресом же он
останавливается, обнимает его и говорит, что теперь ему нечего беспокоиться.
«Предсказываю тебе,— говорит он,— в нынешних комициях ты оправдан». Это
слышали многие очень уважаемые люди и тотчас передали мне; мало того,
всякий, встречая меня, рассказывал мне об этом. Одним это казалось
возмутительным, другим — смешным. Это казалось смешным тем, кто думал,
что исход дела Верреса зависит от честности свидетелей, от существа
предъявленных ему обвинений, от власти судей, а не от консульских коми-
Квинт Гортенсий Гортал
Мрамор. Рим, вилла Альбани
2. Против Гая Верреса (первая сессия)
49
ций; возмутигельным — тем, кто глубже вникал в дело и понимал, что
поздравление это имело в виду подкуп судей.
(20) И в самом деле, вот как рассуждали, вот о чем говорили эти
достойнейшие люди и между собой и со мной: «Теперь уже совершенно 'ясно
и очевидно, что правосудия не существует. Обвиняемый, который накануне
уже сам считал себя осужденным, ныне, после того как его защитник избран
в консулы, уже считается оправданным. Что это значит? Неужели не будет
иметь значения то, что вся Сицилия, все сицилийцы, все дельцы, все книги
с записями, принадлежащие городским общинам и частным лицам,
находятся в Риме?» — «Нет, не будет, если только избранный консул этого не
захочет».— «Как? Судьи не примут во внимание ни обвинений, ни
показаний свидетелей, ни мнения римского народа?» — «Нет, все будет зависеть
от власти и воли одного».
(VIII) Буду говорить откровенно, судьи! Это сильно встревожило меня.
Ведь все честнейшие люди говорили так: «Верреса, пожалуй, вырвут из
твоих рук, но нам не удастся в дальнейшем удержать за собой суды; в
самом деле, кто, в случае оправдания Верреса, сможет противиться передаче
судов?» (21) Такое положение в1ещей было неприятно для всех, причем
людей не столько огорчала неожиданная радость этого негодяя, сколько
необычное поздравление со стороны высокопоставленного мужа. Я старался
скрыть свое огорчение, старался не выдавать своей печали выражением
своего лица и таить ее в молчании.
Но вот в те самые дни, когда избранные преторы метали жребий 15, и
Марку Метеллу досталось ведать делами о вымогательстве, мне сообщили,
что Веррес получил столько поздравлений, что даже послал домой рабов
уведомить об этом жену. (22) Разумеется, такой исход этой жеребьевки
был мне неприятен, но я все-таки не понимал, чем же она так опасна для
меня. Одно только сообщили мне надежные люди, через которых я собирал
все сведения: множество корзин 1б с сицилийскими деньгами было
перенесено из дома некоего сенатора в дом одного римского всадника, а около
десяти корзин было оставлено у того же сенатора в связи с комициями,
касавшимися меня 17; раздатчиков во всех трибах ночью позвали к Вер-
ресу 18. (23) Один из них, считавший своей обязанностью помогать мне
во всем, в ту же ночь явился ко мне и рассказал, что говорил им Веррес.
Он напомнил им, как щедр был он к ним и ранее, когда он сам добивался
претуры, и во время последних комиций по выбору консулов и по выбору
преторов; затем он обещал им столько денег, сколько им будет угодно,
если только они помешают моему избранию в эдилы. Тут одни стали
говорить, что не решаются на это; другие отвечали, что не считают этого
возможным; но нашелся один дерзкий приятель из той же шайки
головорезов — Квинт Веррес из Ромилиевой трибы 19,— мастер раздавать деньги,
ученик и друг отца Верреса; он обещал это проделать, если на его имя
4 Цицерон, т. I
50
Речи Цицерона
внесут 500 000 сестерциев, причем несколько человек решило действовать
заодно с ним. Вот почему этот человек советовал мне — разумеется, из
доброжелательности— принять все меры предосторожности.
(IX, 24) Меня в одно и то же время, которого было очень мало,
беспокоили очень важные обстоятельства. Уже близок был срок комиций, во
время которых мне предстояло сражаться против огромных денег; недалек
был и суд; ему также угрожали и сицилийские корзины. Опасения за исход
выборов в комициях не давали мне спокойно заниматься тем, что имело
отношение к суду; а суд не позволял мне всецело посвятить себя
соисканию; наконец, грозить раздатчикам не было смысла, так как они — я видел
это — понимали, что я буду связан этим судом по рукам и по ногам. (25)
Именно в это время я вдруг узнаю, что сицилийцы были приглашены Гор-
тенсием к нему на дом, но держали себя вполне независимо и, понимая
зачем их зовут, не пошли к нему. Тем временем начались выборы в
комициях, в которых Веррес, как и в других комициях этого года, считал себя
полным хозяином. Этот великий муж, вместе со своим любезным и
податливым сынком, стал бегать от трибы к трибе, созывать всех приятелей
своего отца, то есть раздатчиков денег, и постоянно встречаться с ними.
Когда это было замечено и правильно понято, римский народ приложил все
свои усилия к тому, чтобы человек, чьи богатства не смогли отвратить меня
от верности долгу, при помощи денег не лишил меня возможности быть
избранным на почетную должность.
(26) Освободившись от большой заботы, связанной с соисканием, я,
уже не отвлекаемый ничем, вполне спокойно направил все свои усилия и
помыслы на ведение дела в суде. Я обнаружил, судьи, что мои противники
составили себе следующий план действий: всяческими способами
добиваться, чтобы дело слушалось под председательством претора Марка Метелла.
Это представляло вот какие преимущества: во-первых, Марк Метелл,
конечно, окажется вернейшим другом; во-вторых, Гортенсий будет консулом
и не только он, но и Квинт Метелл, а он тоже в большой дружбе с Верре-
сом; прошу вас обратить на это внимание, ведь он дал ему такое первое
доказательство своего расположения к нему, словно уже расплатился с ним
за исход голосования первой центурии 20.
(27) Могли ли вы подумать, что я стану молчать о таком важном
обстоятельстве? Что в минуту такой огромной опасности, грозящей и
государству и моему имени, я стану думать о чем-либо ином, кроме своего долга
и достоинства? Приглашает сицилийцев к себе другой избранный консул 21;
кое-кто из них приходит, так как Луций Метелл — претор в Сицилии.
Квинт Метелл говорит им следующее: сам он — консул, один брат его
управляет провинцией Сицилией, другой будет председательствовать в суде
по делам о вымогательстве; все предусмотрено, чтобы Верресу ничто не
могло повредить.
2. Против Гая Верреса (первая сессия)
51
(X, 28) Скажи на милость, Метелл, что же это такое, как не
издевательство над значением суда? Свидетелей, особенно и в первую очередь
сицилийцев, робких и угнетенных людей, запугивать не только своим
личным влиянием, но и своей консульской должностью и властью двоих
преторов! Можно себе представить, что сделал бы ты для невиновного
человека или для родича, раз ты ради величайшего негодяя и человека,
совершенно чужого тебе, изменяешь своему долгу и достоинству и допускаешь,
чтобы тем, кто тебя не знает, утверждения Верреса казались правдой! (29)
Ведь он, как говорили, заявлял, что ты избран в консулы не по воле рока,
как другие члены вашего рода22, а благодаря его стараниям. Итак, оба
консула и председатель суда — те люди, которые ему угодны. «Мы,—
говорит он,— не только избавимся от человека, чересчур тщательно
производящего следствие и слишком прислушивающегося к мнению народа,— от
Мания Глабриона; нам и еще кое-что будет на-руку. Среди судей есть Марк
Цесоний, коллега нашего обвинителя23, человек испытанный и
искушенный в судопроизводстве; нам совсем не выгодно, чтобы он входил в тот
совет судей, который мы всячески постараемся подкупить, так как в
прошлом он, входя в состав суда, где председательствовал Юний, не только был
удручен пресловутым позорным случаем в суде, но даже сам разоблачил
его 24; после январских календ он судьей уже не будет. (30) Квинт Манлий
и Квинт Корнифиций, двое строжайших и неподкупнейших судей, тоже
не будут судьями, так как они тогда будут народными трибунами; Публий
Сульпиций, суровый и неподкупный судья, в декабрьские ноны принимает
новую должность25; Марк Креперей, в строгости воспитанный в суровой
всаднической семье, Луций Кассий, также происходящий из семьи с самыми
строгими взглядами как на все вообще, так и на правосудие, Гней Тремел-
лий, необычайно честный и добросовестный человек, все эти люди старого
закала, все трое избраны в военные трибуны 26; после январских календ
все они уже не будут судьями. Кто-нибудь заменит по жребию и Марка
Метелла, так как он будет председательствовать именно в этом постоянном
суде. Таким образом, после январских календ, когда сменится претор и
весь совет судей, мы вволю и всласть посмеемся и над страшными
угрозами обвинителя, и над нетерпеливым ожиданием народа».
(31) Сегодня — секстильские ноны. Вы стали собираться в восьмом
часу; этот день уже не идет в счет. Остается десять дней до игр, которые,
согласно своему обету, намерен устроить Гней Помпеи; на эти игры уйдет
пятнадцать дней. Таким образом, наши противники рассчитывают отвечать
на то, что будет сказано мной, только дней через сорок. Затем им, по их
словам, разными отговорками и уловками будет легко добиться отсрочки
суда до игр Победы; за ними тут же следуют Плебейские игры 27, после
которых либо совсем не останется дней для суда, либо если и останется, то
очень мало. Таким образом, после того как обвинение потеряет свою силу
4*
52
Речи Цицерона
и свежесть, дело поступит к претору Марку Метеллу еще неразобранным.
Что касается его, то я, если бы не доверял его честности, не оставил бы его
в составе суда. (32) Но при нынешних обстоятельствах я, пожалуй,
предпочел бы, чтобы он при разборе этого дела был одним из судей, а не
претором и распоряжался только своей собственной табличкой, принеся
присягу, а не табличками других людей, не принеся ее 28.
(XI) Теперь я спрашиваю вас, судьи, что же мне следует, по вашему
Мнению, делать. Вы, конечно, мысленно дадите мне совет, последовать
которому я и сам считаю нужным. Если я для произнесения речи
воспользуюсь временем, предоставленным мне по закону, то я пожну плоды своих
трудов, стараний и усердия и покажу этой обвинительной речью, что никто
никогда, с незапамятных времен, не являлся в суд более подготовленным,
чем я, более бдительным, с более четко построенной речью. Но боюсь, как
бы под завесой похвал, которые я стяжаю своим усердием, обвиняемый не
выскользнул из моих рук. Что же мне делать? По моему мнению, ничто
не может быть яснее и очевиднее. (33) Награду в виде похвал, которую я
мог бы снискать непрерывающейся речью 29, мы отложим до другого
времени; теперь я буду обвинять Верреса на основании записей,
свидетельских показаний, письменных доказательств, полученных мной от частных
лиц и городских общин, и их официальных заявлений. Мне придется иметь
дело с одним тобой, Гортенсий! Буду говорить прямо. Если бы я думал,
что ты при слушании этого дела станешь выступать против меня, как
обычно,— произнося защитительную речь и опровергая обвинения по отдельным
статьям, то и я затратил бы все свои усилия, составляя обвинительную
речь и излагая обвинение, статью за статьей. Но теперь, коль скоро ты
решил сражаться со мной коварно, не столько следуя своему личному
вкусу, сколько считаясь с опасным положением подсудимого и его делом, то
необходимо и мне противопоставить твоему образу действий тот или иной
свой план. (34) Ты решил, что начнешь отвечать мне по окончании тех и
других игр; я же — произвести комперендинацию30 еще до первых игр.
Таким образом, будет видно, что твой образ действий — хитрая уловка,
а мое решение вызвано необходимостью.
(XII) Выше я заметил, что мне придется иметь дело с тобой. Объяснюсь
подробнее. Когда я, по просьбе сицилийцев, взялся за это дело и счел
лестным и почетным для себя, что мою честность и добросовестность хотят
использовать те люди, которые уже узнали мое бескорыстие и
воздержность, тогда я, взявшись за этот труд, поставил себе одновременно также
и более важную задачу; когда она будет выполнена мной, римский народ
поймет всю мою преданность государству. (35) Ибо я считал бы ниже
своего достоинства прилагать так много труда и усердия для того только,
чтобы к суду привлечь Верреса, уже осужденного всеобщим приговором, если
чбы твое нестерпимое властолюбие и та пристрастность, какую ты на про-
2. Против Гая Верреса (первая сессия)
53
тяжении последних лет проявлял в суде при разборе некоторых дел, не дали
себя знать и в совершенно безнадежном деле этого человека. Но теперь,
коль скоро ты так упоен этим господством и своей царской властью в
судах31, коль скоро есть люди, которым их разнузданность и дурная слава
не кажутся ни позорными, ни тягостными, которые, словно нарочно, по^
ступками своими стараются навлечь на себя ненависть и недовольство
римского народа, я открыто заявляю, что взял на себя, быть может, тяжелое
и опасное, но вполне достойное меня бремя, и, чтобы нести его, я напрягу
все силы, свойственные моему возрасту и настойчивости. (36) Так как все
сословие сенаторов страдает из-за бесчестности и дерзости небольшого
числа людей, так как усиливаются нарекания на суды, то я объявляю этим
людям, что буду непримиримым их обвинителем и полным ненависти,
настойчивым, жестоким противником. Вот что я беру на себя, вот к чему
стремлюсь; вот как буду действовать, вступив в должность эдила; вот о чем
буду говорить с того места, на котором мне повелел стоять римский народ,
чтобы я, начиная с январских календ, обращался к нему по делам
государства и докладывал о бесчестных людях 32. Это и будут те игры, которые
я как эдил устрою для римского народа; они будут более блестящими и
более великолепными; обещаю это. Напоминаю, предупреждаю, объявляю
заранее: кто привык либо вносить деньги на счет, либо принимать их на
хранение, либо получать их сам, либо сулить их другому, либо быть
хранителем денег или посредником по подкупу суда и кто в данном случае
проявил либо свое могущество, либо свое бесстыдство, пусть тот, при этом
суде, ни делом, ни помыслами своими не участвует в этом нечестивом
преступлении.
(XIII, 37) Итак, консулом тогда будет Гортенсий, облеченный высшим
империем и властью 33, а я — эдилом, то есть немногим выше, чем частное
лицо; и все дело, которое я обязуюсь вести, таково, оно так близко сердцу
римского народа и дорого ему, что в нем, в сравнении со мной, сам
консул — если только это возможно — окажется значащим еще меньше, чем
частное лицо.
Обо всем том, что в течение десяти лет, после того как суды были
переданы сенату 34, преступно и позорно совершалось при разборе дел в
судах, я не только упомяну, но и подробно сообщу, приводя достоверные
факты. (38) От меня римский народ узнает, почему в то время, когда
судило всадническое сословие,— почти в течение пятидесяти лет подряд 35 —
ни один римский всадник, судьи, не навлек на себя даже малейшего
подозрения в том, что взял деньги за вынесение им приговора; почему, после
того как суды были переданы сословию сенаторов, а римский народ был
лишен власти над каждым из вас 36, Квинт Калидий, будучи осужден,
сказал, что претория неприлично осудить, не получив за это хотя бы 3 000 000
сестерциев37; почему в бытность Квинта Гортенсия претором, когда
54
Речи Цицерона
сенатор Публий Септимий был осужден за вымогательство, подлежавшая
взысканию сумма была определена с учетом тех денег, которые Септимий
взял за вынесение приговора38; почему в случае с сенатором Гаем Герен-
нием, в случае с сенатором Гаем Попилием 39, которые оба были осуждены
за казнокрадство, в случае с Марком Атилием, осужденным за оскорбление
величества римского народа40, было доказано, что они ранее взяли деньги
за вынесение приговора; почему нашлись сенаторы, голосовавшие против
обвиняемого и осудившие его без рассмотрения его дела, когда Гай Веррес,
в бытность свою городским претором, производил жеребьевку; почему
нашелся сенатор, который, будучи судьей, при слушании одного и того же
дела взял деньги и с обвиняемого, чтобы распределить их между судьями,
и с обвинителя за то, чтобы осудить обвиняемого 41. (40) Где найти слова,
чтобы оплакать падение нравов, позор и несчастье всего сословия, если в
нашем государстве в то время, когда сенаторы заседали в судах, дело дошло
до того, что таблички судей, принесших присягу, были покрыты воском
разного цвета? Все это я обязуюсь рассмотреть подробно и строго.
(XIV) Что же, по вашему мнению, буду испытывать я, заметив, что и
в этом судебном деле подобным же образом сколько-нибудь оскорблено и
поругано правосудие? Особенно,-когда я мог бы доказать на основании
слов многих свидетелей, что Гай Веррес не раз говорил в Сицилии в
присутствии многих 'людей, что за ним стоит влиятельный человек, полагаясь
на которого, он может грабить провинцию, а деньги он собирает не для
одного себя; что он следующим образом распределил доходы своей
трехлетней претуры в Сицилии: он будет очень доволен, если доходы первого
года ему удастся обратить в свою пользу; доходы второго года он передаст
своим покровителям и защитникам; доходы третьего года, самого выгодного
и сулящего наибольшие барыши, он полностью сохранит для судей. (41)
Ввиду этого мне приходит на ум сказать то, о чем я недавно говорил в
присутствии Мания Глабриона при отводе судей и из-за чего, как я понял,
римский народ сильно встревожился: по моему мнению, чужеземные
народы, пожалуй, пришлют послов к римскому народу просить его об отмене
закона о вымогательстве и суда по этим делам; ибо если такого суда не
будет, то каждый наместник будет брать себе лишь столько, сколько, по его
мнению, будет достаточно для него самого и для его детей; но теперь, при
наличии таких судов, каждый забирает столько, чтобы хватило ему самому,
его покровителям, его заступникам, претору и судьям; этому, разумеется,
и конца нет; по словам чужеземных народов, они еще могут удовлетворить
алчность самого алчного человека, но оплатить победу тяжко виновного они
не в состоянии.
(42) О, достопамятные суды! Какую громкую славу стяжало наше
сословие 42! Подумать только! Союзники хотят отмены суда за
вымогательство, учрежденного нашими предками именно ради союзников! Разве Вер-
2. Против Гая Верреса (первая сессия)
55
рее питал бы какую-либо надежду на благоприятный исход суда, если бы
у него не сложилось дурного мнения о вас? Поэтому Веррес должен быть
вам ненавистен еще более, чем римскому народу, если это возможно, так
как считает вас равными себе по алчности, способности к злодеяниям и
клятвопреступлению.
(XV, 43) Во имя бессмертных богов, судьи! Проявите в эюм случае
заботливость и предусмотрительность. Предостерегаю и предупреждаю вас:
я твердо убежден в том, что возможность избавить все сословие от
ненависти, вражды, позора и бесславия вам дана свыше. В судах нет более ни
строгости, ни добросовестности; можно даже сказать, что и самих судов
нет. Поэтому римский народ и относится к нам с пренебрежением, с
презрением; на нас лежит пятно тяжкого и давнего бесславия. (44) Ведь именно
по этой причине римский народ так настаивал на восстановлении власти
трибунов. Выставляя это требование, он, казалось, на словах требовал
восстановления трибуната, на деле же — восстановления правосудия. И это
хорошо понял Квинт Катул 43, мудрейший и широко известный человек;
когда Гней Помпеи, храбрейший и прославленный муж, внес предложение
о восстановлении власти народных трибунов44 и Катула спросили о его
мнении, он с самого начала с глубокой уверенностью сказал: отцы-сенаторы
роняют и позорят правосудие; если бы они, вынося приговоры, захотели
считаться с мнением римского народа, то народ не требовал бы
восстановления власти трибунов так настоятельно. (45) Наконец, когда сам Гней
Помпеи как избранный консул впервые выступил с речью на народной
сходке вне городской черты 45 и когда он — чего, по-видимому, с
нетерпением ожидали — дал понять, что намерен восстановить власть народных
трибунов, то его слова вызвали в толпе перешептывание и одобрительные
возгласы. Но когда он сказал на этой сходке, что ограблены и разорены
провинции, а судебные приговоры выносятся позорные и гнусные, что он
намерен обратить на это свое особое внимание и принять меры для
устранения этого зла, тогда римский народ действительно выразил свою волю
уже не перешептыванием, а громкими криками.
(XVI, 46) Но теперь все люди стоят настороже и следят, как каждый
из нас относится к своим обязанностям и соблюдает законы. Он видит,
что до сего времени, после издания законов о трибунах, осужден только
один сенатор и притом человек малосостоятельный. Хотя они и не
порицают этого, но и хвалить им особенно нечего; ибо вовсе не заслуга быть
бескорыстным там, где тебя никто не может, да и не пытается подкупить.
(47) В этом судебном деле вы вынесете приговор обвиняемому, а
римский народ — вам. На примере этого человека будет установлено, может
ли — если судьями являются сенаторы — быть осужден человек явно
преступный и притом очень богатый. Ведь обвиняемый — такой человек, за
которым не числится ничего, кроме величайших преступлений, причем
56
Речи Цицерона
состояние у него огромное; поэтому если он будет оправдан, то это вызовет
только одно, самое позорное для вас подозрение; ни влияние, ни
родственные связи, ни какие-либо его благовидные поступки, которые он, быть
может, совершил в иных условиях, ни незначительность какого-либо его
отдельного промаха не покажутся достаточно веским доводом для оправдания
его столь многих и столь тяжких преступлений. (48) Наконец, я так поведу
дело, судьи, представлю такие факты, столь известные, столь хорошо
засвидетельствованные, столь важные, столь очевидные, что никто не попытается,
пустив в ход свое влияние, добиваться от вас оправдания Верреса. Впрочем,
у меня есть верный путь и план, чтобы разоблачить и проследить все
подобные попытки той стороны. Я поведу дало так, что все их замыслы не
только дойдут до ушей всего народа; нет, римский народ даже увидит их
воочию. (49) В вашей власти уничтожить и смыть позор и бесславие, вот
уже столько лет лежащие на этом сословии. Всем известно, что со времени
учреждения нынешних судов не было еще 1ни одного совета судей столь
блистательного, столь достойного. Если и он в чем-либо погрешит, все люди
решат, что уже не в этом сословии следует искать других, более
подходящих судей, так как это невозможно, но что к вынесению судебных
приговоров надо вообще привлечь другое сословие.
(XVII, 50) Поэтому, судьи, я прежде всего прошу бессмертных богов
о том, на что я, мне кажется, могу надеяться: чтобы при слушании этого
дела не нашлось ни одного бесчестного человека, кроме разве такого, чья
бесчестность известна уже давно; но если в дальнейшем таких окажется
несколько, то я заверяю вас, судьи, заверяю римский народ: с жизнью
своей, клянусь Геркулесом, расстанусь я скорее, чем мне при преследовании
их за их бесчестные поступки изменят силы и упорство.
(51) Но то зло, за которое я, не останавливаясь ни перед трудами, ни
перед опасностями, ни перед враждебным отношением к себе, обязуюсь
строго преследовать в случае, если оно окажется налицо, ты, Маний Глаб-
рион, авторитетом своим, мудростью и бдительностью можешь
предотвратить. Возьми на себя защиту правосудия, защиту строгости,
неподкупности, честности, верности долгу; возьми на себя защиту сената, чтобы он,
заслужив одобрение в этом судебном деле, стяжал похвалы и
благосклонность римского народа. Подумай, какое место ты занимаешь, что должен
ты дать римскому народу, чем обязан ты предкам; вспомни о внесенном
твоим отцом Ацилиевом законе, на основании которого римский народ в
делах о вымогательстве выносил безупречные приговоры при посредстве
строжайших судей. (52) Перед твоими глазами примеры великих
государственных людей, не позволяющие тебе забывать о славе твоего рода, днем
и ночью напоминающие тебе, что у тебя ^были храбрейший отец, мудрейший
дед, сильный духом тесть. Поэтому если ты, унаследовав силу и мужество
своего отца Глабриона, будешь давать отпор наглейшим людям, если ты*
2. Против Гая Верреса (первая сессия)
57
с предусмотрительностью своего деда Сцеволы 46, сумеешь предотвратить
козни, направленные против твоего доброго имени и против этих судей,
если ты, >с непоколебимостью своего тестя Скавра 47, будешь противиться
всем попыткам заставить тебя вынести несправедливый, необдуманный и
необоснованный приговор, то римский народ поймет, что, когда претор
неподкупен и безукоризненно честен, когда совет судей состоит из
достойных людей, богатства виновного подсудимого скорее усилили подозрение в
его преступности, чем способствовали его оправданию.
(XVIII, 53) Я твердо решил не допускать, чтобы во время разбора
этого дела сменились претор и совет судей. Я не потерплю, чтобы дело
затянули до той поры, когда сицилийцев, которых до сего времени все еще
не вызывали в суд рабы избранных консулов 48,— их, вопреки обычаю,
приглашали прийти всех сразу — могли бы вызвать ликторы консулов, уже
приступивших к своим должностным обязанностям. Я не допущу, чтобы
эти несчастные люди, в прошлом союзники и друзья римского народа, а
ныне его рабы и просители, в силу консульского империя не только
потеряли свои права, но даже были лишены возможности оплакивать потерю
своих прав. (54) Я, конечно, не допущу, чтобы, после того как я произнесу
речь, мне стали отвечать только через сорок дней, когда после столь
продолжительного перерыва моя обвинительная речь, конечно, будет забыта.
Я не соглашусь, чтобы приговор выносили тогда, когда это множество
людей Италии, собравшихся отовсюду одновременно по случаю комиций, игр
и ценза 49, покинет Рим. В этом судебном деле и награда в виде похвал, и
угроза осуждения, по моему мнению, должны выпасть на вашу долю; труды
и тревоги — на мою; знакомство с существом самого дела и память о том,
что будет сказано каждым из нас,— на долю всех. (55) Приступая сразу
к допросу свидетелей, я не ввожу никакого новшества; так и до меня
поступали люди, ныне первые среди наших сограждан. Нововведение с моей
стороны вы, судьи, можете усмотреть в порядке допроса свидетелей, который
мне позволит предъявить обвинение в целом; как только я подкреплю
статьи обвинения вопросами, доказательствами и объяснениями, я стану
допрашивать свидетелей по каждой статье обвинения, так что вся разница
между общепринятым и этим новым способом обвинения будет состоять
только в том, что при первом свидетелей представляют после того, как уже
сказано все, я же буду представлять свидетелей по каждой отдельной
статье обвинения — с тем, чтобы мои противники имели такую же
возможность допрашивать свидетелей, приводить свои доводы и выступать с
речами. Если кто-нибудь пожелает выслушать непрерывающуюся
обвинительную речь целиком, то он услышит ее во время второго разбора дела. Теперь-
же надо понять, что я действую так (с целью отразить своей
предусмотрительностью коварные замыслы своих противников) по
необходимости.
58
Речи Цицерона
(56) Итак, вот в какой форме обвинение предъявляется при первом
слушании дела: я утверждаю, что Гай Веррес в своей разнузданности и
жестокости совершил много преступлений по отношению к римским
гражданам и союзникам, много нечестивых поступков по отношению к богам и
людям и, кроме того, противозаконно стяжал в Сицилии 40 000 000 сестерциев.
Я докажу вам это с полной ясностью на основании свидетельских
показаний, на основании книг частных лиц и официальных отчетов, и вы должны
будете сами признать, что — даже если бы в моем распоряжении и было
достаточно времени и свободных дней, чтобы говорить, не ограничивая
себя,— в длинной речи все же никакой надобности не было. Я закончил.
3
РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА
[Вторая сессия, книга IV, «О предметах искусства». 70 г.]
(1,1) Перехожу теперь к тому, что сам Веррес называет своей страстью,
€ГО друзья — болезнью и безумием, сицилийцы — разбоем. Как мне назвать
это, не знаю. Я расскажу вам об обстоятельствах дела, а вы оцените
его по существу, а не по названию. Сначала ознакомьтесь с сутью дела,
судьи! Тогда вы, пожалуй, не станете особенно доискиваться, как вам это
назвать.
Я утверждаю, что во всей Сицилии, столь богатой, столь древней
провинции, в которой так много городов, так много таких богатых домов, не
было ни одной серебряной, ни одной коринфской или делосской вазы, ни
одного драгоценного камня или жемчужины, ни одного предмета из золота
или из слоновой кости, ни одного изображения из бронзы, из мрамора или
из слоновой кости, не было ни одной писанной красками или тканой
картины, которых бы он не разыскал, не рассмотрел и, если они ему понравились,
не забрал себе. (2) Мне кажется, я делаю весьма важное заявление;
обратите внимание также и на то, как я делаю его. Ведь я не ради красного
словца, не с целью усилить обвинение перечисляю все это по порядку.
Когда я говорю, что он во всей провинции не оставил ни одного такого
предмета, то я, знайте это, употребляю слова в их подлинном значении, а не
так, как принято у обвинителей. Скажу еще яснее: он ничего не оставил ни
в одном частном доме, не исключая также и домо>в своих гостеириимцев;
ни в одном общественном месте, не пощадив даже и храмов; ничего не
оставил ни у одного сицилийца, ни у одного римского гражданина; словом,
ничего из того, что ему бросилось в глаза и пришлось по вкусу,— будь это
достоянием частным или же общественным, светским или же сакральным —
не оставил он во всей Сицилии.
(3) С чего же мне лучше начать, как не с того города, который был
предпочтен тобой всем прочим и был тебе особенно дорог? 1 С кого, как не
самих предстателей за тебя? 2 Ибо легче можно будет понять, как ты вел
себя по отношению к тем, кто тебя ненавидит, кто тебя обвиняет, кто тебя
преследует, когда окажется, что даже своих мамертинцев ты ограбил самым
бессовестным образом.
60
Речи Цицерона
(II) Гай Гей, в чем со мной легко согласятся все, кто бывал в Месса-
не,— мамертинец, во всех отношениях самый выдающийся среди своих
сограждан. Его дом — едва ли не лучший в Мессане; во всяком случае
самый известный там и наиболее открытый для наших сограждан и очень
гостеприимный. Дом этот, до приезда Верреса, был так украшен, что и своему
городу служил украшением; ибо в самой Мессане, имеющей, правда,
красивое местоположение, стены и гавань, совсем нет предметов, которыми
увлекается Веррес. (4) Была в доме у Гея благоговейно чтимая, очень
древняя божница, перешедшая к нему от предков; в ней стояли четыре
прекрасные статуи чрезвычайно искусной работы, пользовавшиеся широкой
известностью; они могли бы доставить удовольствие, не говорю уже — этому
ценителю и знатоку, но даже нам, которых он называет невеждами. Из них
одна, мраморное изображение Купидона, изваяна Праксителем; как
видите, я, производя следствие по делу Верреса, заучил даже имена
художников 3. Если не ошибаюсь, тот же художник изваял Купидона в таком же
роде, находящегося в Феопиях, ради которого в Феспии приезжают
путешественники; ведь приезжать туда больше не за чем. Даже знаменитый Луций
Муммий, вывозя из этого города статуи Феспиад, которые ныне стоят перед
храмом Счастья4, и другие несвященные изображения, не тронул этого
мраморного Купидона, так как он был посвящен богам.
(III, 5) Но возвращаюсь к божнице. Та статуя Купидона, о которой я
говорю, была из мрамора; с другой стороны находилась статуя Геркулеса,
превосходно отлитая из бронзы. Ее приписывали, если не ошибаюсь,
Мирону 5 и с полным основанием. Перед изображениями этих богов стояли
маленькие алтари, ясно указывавшие любому человеку на святость божницы.
Кроме того, там были две бронзовые статуи средней величины, но
необычайно красивые, представляющие, если судить по осанке и одежде, девушек,
которые, подняв руки, держали на голове какие-то священные предметы,
как это в обычае у афинянок. Статуи эти назывались канефорами; 6 что
касается мастера,— кто он был? Ты напоминаешь мне, кстати,— их
приписывали Поликлету 7. Каждый из наших сограждан по приезде в Мессану
их осматривал; все могли осматривать их в любой день; дом этот был
славой города не менее, чем славой своего хозяина. (6) Гай Клавдий8,
который, как известно, самым торжественным образом отпраздновал свое
вступление в должность эдила, поставил этого Купидона на форуме на все
то время, пока форум, украшенный в честь бессмертных богов и римского
народа, находился в его распоряжении; так как Гай Клавдий связан с
Геями узами гостеприимства и был патроном мамертинцев, то Геи с полной
готовностью предоставили эту статую в его распоряжение, а он
добросовестно возвратил ее. Недавно,— но что я говорю «недавно»? — нет, только
что, в самое последнее время мы видели таких знатных людей, которые
украшали форум и басилики9 не добычей, взятой в провинциях, а богат-
3. Против Гая Веррсса («О предметах искусства»)
61
ствами своих друзей, предметами, предоставленными им их гостеприимца-
ми, а не украденными преступной рукой. При этом они возвращали
каждому то, что ему принадлежало,— и статуи и украшения, а не брали их из
городов наших союзников и друзей будто бы на четыре дня, под предлогом
празднования своего эдилитета, чтобы затем увезти их в свой дом и в свои
усадьбы10. (7) Все эти статуи, о которых я говорил, судьи, Веррес взял у
Гея из божницы; ни одной из них он, повторяю, не оставил, вообще ни
одной, кроме одной очень старой деревянной статуи — Доброй Фортуны п,
если не ошибаюсь; ее он не захотел держать в своем доме.
(IV) Заклинаю вас богами и людьми! Что это? Что это за судебное
дело? Какая наглость! Ведь эти статуи, о которых я говорю, до того, как
ты их увез, осматривал всякий, кто приезжал в Мессану, облеченный им-
перием. Столько преторов, столько консулов перебывало в Сицилии и в
военное и в мирное время, столько разных людей — я уж не говорю о
честных, бескорыстных, набожных,— нет, столько алчных, столько бессовест
ных, столько преступных, и все же никто ,не считал себя таким сильным,
таким могущественным, таким знаменитым, чтобы решиться потребовать
для себя, взять что-либо из той божницы или хотя бы к чему-нибудь
прикоснуться! А Веррес может забирать себе все самое прекрасное, где бы оно
ни оказалось? Кроме него, никому ничего нельзя будет иметь? Столько
богатейших домов поглотит один его дом? Для того ли все его
предшественники не прикоснулись ни к одному из этих предметов, чтобы их забрал
этот человек? Для того ли их возвратил Гай Клавдий Пульхр, чтобы их
мог увезти Гай Веррес? Но ведь тот Купидон не стремился в дом сводника
и в школу разврата; он был вполне доволен пребыванием в родной
божнице; он знал, что Гею он достался от его предков как наследственная
святыня, и не стремился попасть в руки наследника распутницы 12.
(8) Но почему я так жестоко нападаю на Верреса? Меня могут
остановить одним словом. Он говорит: «Все это я купил». Бессмертные боги!
Превосходное оправдание! Так это купца посылали мы в провинцию,
облеченного империем и в сопровождении ликторов, чтобы он скупал все статуи,
картины, все изделия из серебра и золота, слоновую кость, драгоценные
камни, никому не оставляя ничего? Вот вам и оправдание от всех
обвинений: «Все это было куплено». Если я соглашусь с твоим утверждением, что
ты купил эти вещи,— ведь это, очевидно, будет единственным твоим
возможным оправданием по этой статье обвинения — то прежде всего я
спрошу тебя: какого мнения был ты о римском суде, если думал, что кто-нибудь
сочтет допустимым, что ты, претор, облеченный империем, скупил столько
таких драгоценностей, да и вообще мало-мальски ценных вещей во всей
провинции?
(V, 9) Обратите внимание на предусмотрительность наших предков,
которые, не предполагая, что возможны такие огромные злоупотребления, все
62
Речи Цицерона
же предвидели, что это могло произойти в частных случаях. Ни от кого из-
тех, кто выезжал в провинцию, облеченный властью или как легат 13, они
не ожидали такого безумия, чтобы он стал покупать серебро (оно ему
давалось от казны) или ковры (они ему предоставлялись на основании
законов14); покупку раба они считали возможной; рабами все мы пользуемся,
и народ их нам не предоставляет; но предки наши разрешали покупать
рабов только взамен умерших. И в том случае, если кто-нибудь из них умрет
в Риме? Нет, только если кто-либо умрет там, на месте. Ибо они вовсе не
хотели, чтобы ты богател в провинции, но только чтобы ты пополнил свою
утрату, понесенную там. (10) По какой же причине они так строго
запрещали нам покупки в провинциях? По той причине, судьи, что они
считали грабежом, а не покупкой, если продающему нельзя продать свое
имущество по своему усмотрению. Они понимали: если лицо, облеченное
империем и властью, захочет в провинциях купить что ему вздумается,
у кого бы то ни было и если это будет ему разрешено, то он возьмет
себе любую вещь — продается ли она или нет — по той цене, по какой он
захочет.
Мне скажут: «Не приводи таких доводов, говоря о Верресе, и не
применяй к его поступкам травил строгой старины; согласись с тем, что
покупка его законна, если только он совершил ее честно, не злоупотребив своей
властью, не принудив владельца, не допустив беззакония». Хорошо, я
буду рассуждать так: если Гей хотел продать что-либо из своего имущества,
если он получил ту цену, какую назначил, то я не стану спрашивать, на
каком основании купил ее ты (VI, 11). Что же нам следует делать? Нужно
ли нам в таком деле приводить доказательства? Мне думается, надо
спросить: разве у Гея были долги, разве он устраивал продажу с торгов? Если
да, то настолько ли он нуждался в деньгах, в таких ли стесненных
обстоятельствах, в таком ли безвыходном положении был он, что ему пришлось
ограбить свою божницу, продать богов своих отцов? Но он, оказывается,
не устраивал никаких торгов, никогда ничего не продавал, кроме своего
урожая; у него не только нет и не было долгов, но есть много своих денег
и всегда их было много; оказывается, даже если бы все было иначе, он все-
таки никогда бы не согласился продать эти статуи, бывшие в течение
стольких лет достоянием его рода и находившиеся в божнице его предков.
«А что, если он польстился на большие деньги?» Трудно поверить, чтобы
у такого богатого, такого почтенного человека любовь к деньгам взяла верх
над благочестием и уважением к памяти предков.— (12) «Это так; но ведь
иногда люди изменяют своим правилам, польстившись на большие деньги».
Посмотрим теперь, велика ли была та сумма, которая смогла заставить Гея,
очень богатого и совсем не алчного человека, забыть и свое достоинство,
и уважение к памяти предков, и благочестие. Если не ошибаюсь, ты велел
ему собственноручно внести в его приходо-расходные книги: «Все эти ста-
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
63-
туи Праксителя, Мирона и Поликлета проданы Верресу за 6 500
сестерциев». Так он и записал. Читай. [Записи в приходно-расходных книгах]. Не
забавно ли, что эти славные имена художников, которые знатоки
превозносят до небес, так пали в мнении Верреса? Купидон Праксителя — за
1600 сестерциев! Конечно, отсюда и возникла пословица: «Лучше купить,
чем просить».
(VII, 13) Мне скажут: «Вот как? Ты оцениваешь эти вещи так
высоко?»— Нет, я оцениваю их не в соответствии со своими вкусами или со
своим отношением к таким вещам, но все же полагаю, что вы должны
руководствоваться три ценой, какую они имеют по мнению любителей, за
какую их обычно продают, за какую можно было бы продать эти самые
статуи, если бы они продавались открыто и свободно, какую, наконец, они
имеют по оценке самого Верреса. Ибо, если бы этот Купидон, по мнению
Верреса, стоил 400 денариев 15, то он никогда бы не согласился сделаться
из-за него предметом разговоров и навлечь на себя такое сильное
порицание. (14) Кто из вас не знает, во сколько эти предметы ценятся? Не на
наших ли глазах небольшая бронзовая статуя была продана на торгах за
40 000 сестерциев? А разве я, при желании, не мог бы назвать людей,
давших не меньшую и даже большую цену? И в самом деле, насколько
сильно твое желание купить такую вещь, во столько ты ее и ценишь:
трудно установить предельную цену, не установив пределов для своей
страсти. Итак, ясно, что ни собственное желание, ни затруднительные
обстоятельства, ни предложенные тобой деньги не могли заставить Гея продать
эти статуи, и ты под видом покупки при помощи насилия и угроз, пуская
в ход свой империй и ликторские связки, отнял и увез статуи у человека,
которого, как и других союзников, римский народ вверил не только твоей
власти, но, особенно, твоей честности.
(15) Что может быть для меня, судьи, более желательным, чем
подтверждение этого обвинения самим Геем? Ничто, конечно; но не будем
желать того, что трудно достижимо. Гей — мамертинец, а мамертинская
община — единственная, которая официально, по всеобщему решению, дает
Верресу хвалебный отзыв; все остальные сицилийцы его ненавидят; одни
только мамертинцы его любят; более того, главой посольства, присланного
с хвалебным отзывом о Верресе, является Гей (ведь он — первый среди
своих сограждан); и он, стараясь выполнить официальное поручение,
пожалуй, должен умолчать об обиде, нанесенной лично ему 16!
(16) Зная и обдумывая все это, судьи, я все-таки положился на Гея; я
предоставил ему слово при первом слушании дела и сделал это, ничем не
рискуя. В самом деле, что мог бы ответить Гей, будь он человеком
бесчестным, а не тем, каков он в действительности? Что эти статуи находятся у
него в доме, а не у Верреса? Как мог бы он сказать что-нибудь подобное?
Будь он даже величайшим негодяем и бессовестнейшим лжецом, он мог бы
'64
Речи Цицерона
сказать разве только одно — что назначил их к продаже и продал за
столько, за сколько хотел. Будучи знатнейшим человеком у себя на родине,
желая более всего, чтобы вы справедливо судили о его благочестии и
чувстве собственного достоинства, он сначала сказал, что официально он Вер-
реса восхваляет, так как это ему поручено; затем о том, что он не назначал
тех статуй к продаже и что ни при каких условиях, если бы он был волен
поступить, как захочет, его никогда бы не удалось склонить к продаже этих
статуй, находившихся в божнице и оставленных и завещанных ему
предками.
(VIII, 17) Почему же ты безучастно сидишь, Веррес? Чего ты ждешь?
Почему ты говоришь, что Центурипы, Катина, Галеса, Тиндарида, Энна,
Агирий и другие городские общины Сицилии стараются тебя подвести и
погубить? А вот теперь Мессана, твоя вторая родина, как ты ее
обыкновенно называл, она-то тебя и подводит; да, твоя Мессана, помощница твоя
в злодеяниях, любовных дел твоих свидетельница, укрывательница твоей
добычи и украденного тобой имущества. Ведь здесь присутствует
влиятельнейший муж из этой городской общины, по случаю этого суда присланный
оттуда в качестве ее представителя, первым выступивший с хвалебным
отзывом о тебе, в официальном заявлении тебя прославляющий. Ибо так ему
было поручено и приказано. Впрочем, вы помните его ответ, когда его
спросили насчет кибеи 17; по его словам, ее построили рабочие, собранные
городом, и от имени общины постройкой ведал мамертинский сенатор.
И тот же Гей — как частное лицо — обращается к вам, судьи! Он
ссылается «а закон, на основании которого производится суд, на закон,
являющийся оплотом для всех союзников 18. Хотя это закон о вымогательстве
денег, все же Гей, по его словам, денег обратно не требует; имущественный
ущерб для него не особенно ощутителен; но возвращения святынь своих
предков он, по его словам, от тебя требует; богов пенатов 19 своих отцов
хочет вернуть себе. (18) Есть ли у тебя какое-нибудь чувство чести, какая-
нибудь вера в богов, Веррес, хоть какой-нибудь страх перед законами? Ты
жил в доме у Гея в Мессане; чуть ли не каждый день ты мог видеть, как он
совершал обряды перед этими статуями богов в своей божнице. Ему не
жаль денег; наконец, и статуй, служивших украшением дома, он не требует;
оставь у себя канефор, но изображения богов возврати. И вот, за то, что он
это сказал, за то, что он, союзник и друг римского народа, воспользовался
удобным случаем, чтобы принести вам свою скромную жалобу, за то, что
он был верен своему священному долгу не только тогда, когда требовал
обратно отчих богов, но и тогда, когда под присягой давал показания,
Веррес, знайте это, отправил в Мессану человека, одного из представителей
городской общины, того самого, который, по ее поручению, ведал
постройкой его корабля, с требованием, чтобы сенат объявил Гея человеком,
утратившим гражданскую честь 20.
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
65
(IX, 19) Безрассуднейший человек, о чем ты при этом думал? Что тебя
послушаются? Неужели ты не знал, как уважали Гея его сограждане, каким
влиянием он пользовался у них? Но допустим, что ты бы добился своего;
допустим, что мамертинцы вынесли бы какое-нибудь строгое постановление
против Гея. Какой, по-твоему, вес будет иметь их хвалебный отзыв, если
они решат наказать человека, давшего заведомо правдивые свидетельские
показания? Впрочем, чего стоит этот хвалебный отзыв, когда хвалящий,
отвечая на вопросы, неизбежно должен дать отзыв неблагоприятный?
Далее, разве эти предстатели за тебя не являются в то же время свидетелями
с моей стороны? Гей выступает с хвалебным отзывом и в то же время он
тебе очень сильно повредил; я предоставлю слово остальным; о чем они
смогут умолчать, они умолчат охотно, а что придется сказать, то скажут
даже 'против своего желания.
Могут ли они отрицать, что тот огромный грузовой корабль был
построен для Верреса в Мессане? Пусть отрицают, если могут. Станут ли они
отрицать, что постройкой этого корабля, по поручению городской общины,
редал мамертинский сенатор? Как хорошо было бы, если бы они стали это
отрицать! Есть также и многое другое, чего предпочитаю не затрагивать,
дабы дать свидетелям возможно меньше времени обдумать, как им
обосновать свое клятвопреступление. (20) Поздравляю тебя с этим хвалебным
отзывом. Может ли служить для тебя поддержкой мнение тех людей,
которые не должны были бы тебе помогать, если бы могли, но не могут, даже
если бы захотели; которым ты нанес множество обид и оскорблений как
частным лицам и в чьем городе ты своими бесчинствами и гнусностями
опозорил так много семейств в лице всех их членов? Но ты, могут мне сказать,
оказал услуги их городу. Да, но не без огромного ущерба для нашего
государства и для провинции Сицилии. Мамертинцы должны были давать и
обычно давали римскому народу в виде покупного хлеба 60 000 модиев21
пшеницы; один ты освободил их от этой обязанности. Государство
понесло ущерб, так как ты в одной городской общине поступился правами нашей
державы; потерпели его и сицилийцы, так как из общего количества хлеба,
подлежавшего сдаче, ты этого количества хлеба не вычел, а переложил его
поставку на Центурипы и Галесу, .независимые общины22, что оказалось
для них непосильным бременем.
(21) Ты должен был приказать мамертинцам на основании договора
поставить корабль; ты дал им для этого три года сроку: в течение этих лет
ты не потребовал от них ни одного солдата. Ты поступил точно так же, как
поступают морские разбойники; будучи врагами всем людям, они все же
заручаются дружбой некоторых из них — с тем, чтобы не только их щадить,
но даже обогащать своей добычей; это особенно относится к жителям
городов, расположенных в удобном для разбойников месте, куда их кораблям
часто приходится приставать, иногда даже в силу необходимости.
О Цицерон, т. I
66
Речи Цицерона
(X) Пресловутая Фаселида, которую завоевал Публий Сервилий23,
раньше не принадлежала киликийцам и не была стоянкой разбойников;
жителями ее были ликийцы, греки. Но она была расположена на мысе,
выдававшемся в море так далеко, что морские разбойники, выходя на кораблях
из Киликии, по необходимости часто приставали к ее берегам, а когда
приплывали из наших краев, их корабли относило туда же; поэтому
пираты вступили в сношения с этим городом; сначала в торговые, а затем также
и в союз. (22) Мамертинская городская община ранее не была бесчестной;
она даже была недругом бесчестным людям; ведь она задержала у себя обоз
Гая Катона — того, который был консулом24. Какой это был человек!
Прославленный и могущественнейший; и все-таки он после своего консульства
был осужден. Да, Гай Катон, внук двоих знаменитейших людей, Луция
Павла и Марка Катона, и сын сестры Публия Африканского25! После его
осуждения — в то время, когда выносились суровые приговоры,— ущерб,
подлежавший возмещению, был определен в 8 000 сестерциев. Мамертинцы
были раздражены против него — они, которые на завтрак для Тимархи-
да 26 не раз тратили больше, чем составляла сумма, подлежащая
возмещению27 Катоном.
С23) И этот город был подлинной Фаселидой для Верреса, сицилийского
разбойника и пирата. Сюда все свозилось отовсюду, здесь же оставлялось
на хранение; что надо было скрыть, то жители этого города складывали и
прятали; при их посредстве Веррес тайком грузил на корабли, что хотел,
и незаметно вывозил; наконец, у них он построил и снарядил огромный
корабль, чтобы отправить его в Италию с грузом награбленного. За все это
Веррес освободил их от затрат, тягот, военной службы, словом, от всего;
в течение трех лет они одни ib наше время не только в Сицилии, но,
думается мне, во всем мире были безусловно и совершенно освобождены и
избавлены от всяких издержек, хлопот и повинностей. (24) Отсюда пошли
знаменитые Веррии28, во время которых он приказал привести к себе Секста
Коминия; его Веррес, швырнув в него кубком, велел схватить за горло
и отвести в темницу. Тогда и был сооружен крест (на нем он распял
римского гражданина на глазах у толпы); его он осмелился воздвигнуть
только в том городе, который был его соучастником во всех его злодеяниях
и разбое 29.
(XI) И после всего этого вы являетесь с хвалебным отзывом? Какое
значение может иметь ваш отзыв? Может ли он иметь какое-либо значение
в глазах сената или же в глазах римского народа? (25) Есть ли городская
община,— не только в наших провинциях, но и в отдаленнейших странах —
которая мнила бы себя столь могущественной или столь независимой,
вернее, была бы столь дика и неприветлива, чтобы не пригласить под свой
кров сенатора римского народа 30? Наконец, какой царь не сделал бы
этого? Честь эту оказывают не только данному лицу, но прежде всего римско-
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
67
му народу, по чьему благоволению я вступил в это сословие , затем
авторитету всего этого сословия; ведь если последний не будет велик в глазах
союзников и иноземных народов, то что станет с именем и достоинством
нашей державы? Мамертинцы же от имени города меня к себе не
пригласили. Что они не пригласили меня, не важно; но если они не пригласили
сенатора римского народа, то они отказали в должном почете не одному
человеку, а сословию. Ибо лично для Туллия был открыт великолепнейший
дом Гнея Помпея Василиска, куда я заехал бы даже в том случае, если бы
и был приглашен вами; к моим услугам был также пользующийся
величайшим уважением дом Перценниев, которые теперь тоже носят имя Пом-
пеев32; в него, по их любезнейшему приглашению, заехал мой двоюродный
брат Луций. Сенатор римского народа, если бы это зависело от вас, мог
бы остаться в вашем городе на улице и провести ночь под открытым небом.
Ни один другой город никогда так не поступал.— «Это потому, что ты
пытался привлечь к суду нашего друга».— Ты, значит, мою деятельность как
частного лица используешь как предлог для отказа сенатору в должном
почете?
(26) Но на это я буду жаловаться лишь в том случае, если о вас зайдет
речь среди членов того сословия, к которому доныне только вы одни
отнеслись с пренебрежением33. А вот как осмелились вы предстать перед
римским народом? А тот крест, по которому и теперь еще струится кровь
римского гражданина, водруженный возле гавани вашего города? Неужели
вы его не повалили, не бросили в море, не очистили всего того места
искупительными жертвами, прежде чем явиться в Рим и предстать перед этим
собранием? На земле союзного и мирного города мамертинцев воздвигнут
памятник жестокости Верреса. Не ваш ли город выбран для того, чтобы
все, едущие из Италии, видели крест римского гражданина раньше, чем
встретят какого-либо друга римского народа? Ведь вы для того и
показываете этот крест жителям Регия 34, которым вы завидуете из-за
предоставленных им прав римского гражданства, а равно и живущим у вас
поселенцам 35, римским гражданам, чтобы они стали менее заносчивы и не смотрели
на вас свысока, видя, что их права римского гражданства уничтожены этой
казнью.
(XII, 27) Но ты утверждаешь, что купил те предметы, о которых была
речь. Ну, а те ковры во вкусе Аттала 36, известные на всю Сицилию? Их ты
забыл купить у того же Гея? Ты ведь мог приобрести их таким же
способом, каким приобрел статуи. Что же произошло? Или тебе лень было
приписать несколько букв? Нет, этот полоумный человек просто упустил из
вида; он решил, что кража из шкафа будет менее заметна, чем кража из
божницы. И как он ее совершил? Я не могу сказать яснее, чем вам сказал
это сам Гей. Когда я его спросил, не попало ли к Верресу что-нибудь из его
имущества, Гей ответил, что Веррес прислал ему приказ отправить ковры к
б*
68
Речи Цицерона
нему в Агригент. Я спросил, послал ли он их. Он не мог не ответить, что
повиновался слову претора и отправил ковры. Я спросил, довезли ли их до
Агригента; он ответил утвердительно. Я задал вопрос, как они были ему
возвращены; он ответил, что они не возвращены ему и поныне. Толпа
захохотала, а вы все были поражены. (28) И тут тебе не пришло на ум
приказать Гею, чтобы он записал в свои книги, что и эти вещи он также продал
тебе за 6 500 сестерциев? Или ты побоялся увеличить общую сумму своих
долгов, если бы тебе в 6 500 сестерциев обошлись вещи, которые ты легко
продал бы за 200000 сестерциев? Поверь мне, дело этого стоило; у тебя
было бы что сказать в свою защиту; никто не спросил бы, сколько стоили
эти вещи; если бы ты только мог сказать, что купил их, то тебе было бы
легко перед кем угодно оправдаться в своем поступке; но теперь из дела с
коврами тебе не вывернуться.
(29) А великолепные, фалеры37, по преданию, принадлежавшие царю
Гиерону? Отнял ты их или же купил у Филарха из Центурип, богатого и
всем известного человека? Во всяком случае, когда я был в Сицилии, я и от
центурипинцев и от других людей — дело получило большую огласку —
слышал следующее: ты взял у центурипинца Филарха эти фалеры так же,
как взял и другие, такие же знаменитые фалеры у Ариста из Панорма, как
третьи — у Кратиппа из Тиндариды. И в самом деле, если бы Филарх их
тебе продал, то ты после внесения тебя в список обвиняемых не обещал бы
ему их вернуть. Но так как ты убедился, что об этом все равно знают
многие, то ты и рассудил: если ты отдашь фалеры, ценных вещей у тебя
будет меньше, а свидетельских показаний против тебя не убавится; поэтому
ты их и не отдал. Филарх как свидетель показал, что он, зная твою
«болезнь», как выражаются твои друзья, хотел от тебя утаить фалеры и,
когда ты его позвал к себе, он ответил, что их у него нет, и показал, что даже
отдал их на хранение другому лицу, чтобы их не нашли; но ты оказался
настолько проницательным, что тебе удалось осмотреть их при посредстве
того самого человека, у которого они хранились, и тогда Филарх, будучи
уличен, уже не мог запираться. Таким образом, у него отняли фалеры
против его воли и притом даром.
(XIII, 30) Теперь стоит, судьи, обратить внимание на то, как Веррес
находил и выслеживал все ценные вещи. В Кибире жили два брата — Тле-
полем и Гиерон; один из них, если не ошибаюсь, занимался лепкой из
воска, другой — живописью. Они, по-видимому, заподозренные жителями Ки-
биры в ограблении храма Аполлона, в страхе перед судом и законной карой
бежали из родного города. Что Веррес — поклонник их искусства, они
узнали еще тогда, когда он, как вам сообщили свидетели, приезжал в Киби-
ру с письменными обязательствами, составленными для видимости38;
поэтому, покинув свою родину и став изгнанниками, они обратились к нему,
когда он был в Азии. Они находились при нем в течение всего этого време-
3, Против Гая Верреса («О предметах искусства») 69
ни, он много пользовался их помощью и советами при грабежах и
хищениях, пока был легатом 39. (31) Именно им Квинт Тадий 40, согласно записи
в его книгах, по приказанию Верреса заплатил деньги как «греческим жи*
вописцам». Хорошо узнав и проверив их на деле, Веррес взял их с собой
в Сицилию. Они, когда туда приехали, всем на удивление, словно охотничьи
собаки, все вынюхивали и выслеживали, находя тем или иным способом
что бы и где бы то ни было. Одно они разыскивали посредством угроз,
другое — посредством обещаний; одно — с помощью рабов, другое — с
помощью свободных людей; одно — при посредстве друзей, другое — при
посредстве недругов; стоило вещи понравиться им, пиши — пропало. Те, от
кого Веррес требовал серебряную утварь, желали одного — чтобы она не
понравилась Гиерону и Тлеполему.
(XIV, 32) Это, клянусь Геркулесом, правдивый рассказ, судьи! Я
припоминаю, как Памфил из Лилибея, мой друг и гостеприимец, знатный
человек, рассказывал мне, что он — после того как Веррес, злоупотребив
своей властью, отнял у него массивную гидрию 41 чудной работы,
произведение Боэта,— возвратился домой опечаленный и расстроенный тем, что
такой ценный сосуд, доставшийся ему от отца и предков, которым он
пользовался в праздничные дни и при приеме гостей, у него отняли. «Сидел я
у себя дома печальный,— говорил он,— вдруг прибегает раб Венеры 42 и
велит мне немедленно нести к претору кубки с рельефами; я сильно
встревожился,— продолжает он,— кубков у меня была пара; я велел достать оба
кубка, чтобы не стряслось большей беды, и нести их со мной в дом претора.
Когда я туда пришел, претор почивал; пресловутые братья из Кибиры
расхаживали по дому; увидев меня, они спросили: «Где же твои кубки,
Памфил?» Показываю их с грустью; хвалят. Начинаю сетовать: если мне
придется отдать также и эти кубки, у меня не останется ни одной сколько-
нибудь ценной вещи. Тогда они, видя мое огорчение, говорят: «Сколько ты
дашь нам за то, чтобы кубки остались у тебя?» Одним словом,— сказал
Памфил,— они потребовали с меня тысячу сестерциев; я обещал дать их.
В это время послышался голос претора, требовавшего кубки. Тогда они
стали говорить, что на основании рассказов им казалось, что кубки Памфи-
ла представляют ценность, но это дрянь, недостойная находиться среди
серебряной утвари Верреса. Тот сказал, что и он такого мнения». Так
Памфил унес домой свои прекрасные кубки. (33) И хотя я, клянусь
Геркулесом, полагал, что знать толк в этих вещах — дело пустое, все же я ранее
был склонен удивляться, что Веррес несколько разбирается в этом. (XV)
Только тогда и понял я, что те братья из Кибиры для того и существовали
при Верресе, чтобы он при своих хищениях пользовался своими руками,
но их глазами.
Но Веррес настолько дорожит этой прекрасной репутацией знатока
произведений искусства, что совсем недавно — судите о его безрассудстве —
70
Речи Цицерона
уже после комперендинации , когда его считали уже осужденным и
мертвым как гражданина, он, во время игр в цирке, рано утоом, когда в.
доме у Луция Сисенны44, виднейшего мужа, были постланы
триклинии 45 и уставлены серебряной утварью столы и когда, в соответствии с
высоким положением Луция Сисенны, к нему явилось множество очень
почтенных людей, подошел к серебряной утвари и начал не торопясь очень
внимательно рассматривать каждую вещь. Одни удивлялись его глупости,
так как он, находясь под судом, давал пищу подозрению, что действительно
подвержен той самой страсти, какую ему приписывали; другие — его
безрассудству, раз ему, после комперендинации, когда уже высказалось такое
множество свидетелей, приходят на ум такие пустяки. Но рабы Сисенны,
вероятно, потому что слышали свидетельские показания, уличавшие Верре-
са, не спускали с него глаз и ни на шаг не отходили от серебра. (34)
Хороший судья должен обладать способностью на основании мелочей судить и
о жадности и о воздержности каждого. Если обвиняемый и притом
обвиняемый, по закону еще только подвергнутый комперендинации, а в
действительности и по всеобщему мнению, можно сказать, осужденный, в
присутствии стольких людей не удержался и стал брать в руки и осматривать
серебряную утварь Луция Сисенны, то кто допустит, что этот человек, в
бытность свою претором в провинции, мог сдерживать свою страсть и не
посягать на серебряную утварь сицилийцев?
(XVI, 35) Но — после этого отступления — вернемся в Лилибей.
У Памфила, у того самого, у которого отняли гидрию, есть зять Диокл, по
прозванию Попилий; у него Веррес отобрал все вазы, какие были
расставлены на абаке 46. Впрочем, он может сказать, что купил их; и в самом деле,
в этом случае, ввиду значительной ценности забранных вещей, составлена
запись. Он 1велел Тимархиду оценить серебряную утварь возможно
дешевле — как никто не оценивал даже подарков для актеров 47.
Впрочем, я уже давно иду по ложному пути, говоря о твоих покупках и
спрашивая, купил ли ты эти вещи или не покупал их и как ты их купил и
за сколько, в то время как я могу выразить это одним словом. Покажи мне
записи о том, сколько серебряной утвари ты приобрел в провинции
Сицилии, у кого ты купил каждую вещь и за сколько. (36) Ну, что же? Правда,
мне не следовало бы требовать от тебя этих записей; ибо я должен был бы
располагать твоими книгами и иметь возможность их предъявить. Но ты
говоришь, что ты в течение нескольких лет не вел книг. Представь сведения
о том, о чем я требую,— о серебряной утвари; насчет остального — дело
мое.— «И записей нет у меня и предъявить мне нечего».— Как же быть?
Что же, по твоему мнению, могут сделать наши судьи? В доме у тебя было
множество прекрасных статуй еще до твоей претуры; многие из них стоят
в твоих усадьбах, многие переданы на хранение твоим друзьям, много их
роздано и раздарено другим людям; но в книгах не говорится ни об одной
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
71
покупке. Вся серебряная утварь похищена из Сицилии; владельцам не
оставлено ничего такого, что представляло бы малейшую ценность в их
глазах. Придумывают ложное оправдание, будто все это серебро претор
скупил; но именно это и нет возможности доказать на основании записей в
книгах. Если в книгах, которые ты предъявляешь, не записано, как
приобретено то, что у тебя имеется, а за последнее время, когда ты, по твоим
словам, купил очень много вещей, ты вообще никаких книг не предъявляешь,
то не должен ли суд — и на основании предъявленных и на основании не-
предъявленных тобой книг — вынести тебе обвинительный приговор?
(XVII, 37) Это ты в Лилибее отнял у римского всадника Марка Целия,
отличного во всех отношениях молодого человека, все, что хотел; это ты не
постеснялся отнять у Гая Какурия, деятельного, предприимчивого и
чрезвычайно влиятельного человека, всю его утварь; это ты, ни от кого не таясь,
отнял в Лилибее у Квинта Лутация Диодора, получившего от Луция Сул-
лы, по ходатайству Квинта Катула, права римского гражданства, его
огромный и великолепный стол цитрового дерева 48. Не порицаю тебя за то,
что ты обобрал человека, вполне достойного тебя,— Аполлония из Дрепана,
сына Никона, которого теперь зовут Авлом Клодием, и отнял у него все
его прекрасное чеканное серебро; об этом я молчу. Ведь он не считает себя
обиженным, так как ты пришел ему на помощь, когда он был совершенно
разорен и собирался надеть петлю на шею; при этом ты поделился с ним
похищенным тобою у дрепанских сирот отцовским имуществом. Меня даже
радует, что ты у него кое-что отнял, и я считаю это самым справедливым
из твоих поступков. Но у Лисона, первого человека в Лилибее, в доме у
которого ты жил, тебе во всяком случае не следовало отбирать статую
Аполлона. Ты скажешь, что купил ее. Знаю, за тысячу сестерциев.— «Да, если
не ошибаюсь».— Знаю, повторяю я.— «Я 'представлю записи».— Все же
тебе не следовало так поступать. А подопечный Гая Марцелла, малолетний
Гей, у которого ты отнял большую сумму денег? Ты утверждаешь, что ты
купил у нгго в Лилибее чаши с рельефами, или же сознаешься, что
отобрал их?
(38) Но к чему мне собирать подобного рода мелкие факты, касающиеся
беззаконий Верреса и сводящиеся к хищениям, совершенным им, и к
убыткам потерпевших? Если позволите, судьи, я приведу вам факт, из которого
вы сможете усмотреть не просто жадность, а единственное в своем роде
безрассудство и неистовство Верреса.
(XVIII) Диодор, уже выступавший перед вами как свидетель, родом из
Мелиты, много лет подряд живет в Лилибее; он известный человек у себя
на родине и ввиду своих высоких качеств блистательный и влиятельный в
том городе, куда он переселился. Верресу говорят, что у него есть
прекрасные вещи чеканной работы и, между лрочим, так называемые ферикловы
кубки, сделанные искуснейшей рукой Ментора 49. Как только Веррес узнал
72
Речи Цицерона
об этом, он загорелся таким сильным желанием не только взглянуть на эти
вещи, но и взять их себе, что позвал к себе Диодора и стал требовать
кубки. Диодор, не имея никакой охоты расставаться с ними, отвечал, что их нет
у него в Лилибее, что он оставил их в Мелите у одного из своих
родственников. (39) Тогда Веррес тотчас же послал в Мелиту верных людей,
написал кое-кому из жителей Мелиты, чтобы они все разузнали насчет этих
сосудов, и просил Диодора написать своему родственнику; ожидание
казалось ему бесконечным, настолько ему хотелось увидеть эти серебряные
изделия. Диодор, честный и бережливый человек, желая сохранить свое
имущество, в письме просил своего родственника ответить посланцам Верреса,
что это серебро он недавно отослал в Лилибей. Сам он тем временем уехал;
он предпочел на некоторое время отлучиться из дома, лишь бы не потерять
своего прекрасного серебра, оставаясь на месте. Узнав об этом, Веррес
рассвирепел так, что все, без сомнения, сочли его помешавшимся и всбесившим-
ся. Так как сам он не смог отнять серебро, то он начал твердить, что Диодор
отнял у него вазы превосходной работы; он стал грозить уехавшему Диодо-
ру, орать в присутствии всех, иногда с трудом сдерживая слезы. Есть
предание об Эрифиле, жадность которой была так велика, что она, увидев,
если не ошибаюсь, золотое ожерелье с драгоценными камнями и
пленившись его красотой, предала собственного мужа 50. Такая же жадность
обуяла Верреса, даже еще более сильная и более безумная; ведь та женщина
желала получить то, что она видела, а его желания возбуждались не только
тем, что он видел, но и тем, о чем слышал.
(XIX, 40) Он велел -искать Диодора по всей провинции; но тот уже
успел покинуть Сицилию, собрав свои пожитки. Наш приятель, чтобы как-
нибудь заманить Диодора обратно в провинцию, придумал вот какую
уловку, если только это можно назвать хитрой уловкой, а не бессмысленной
выдумкой: обратился к помощи одного из своих псов 51 с тем, чтобы тот заявил
о своем намерении привлечь Диодора из Мелиты к уголовному суду.
Вначале всем показалось странным, что обвиняют Диодора, человека в высшей
степени смирного, которого никому не приходило в голову и заподозрить,
уже не говорю — в преступлении, даже в малейшем проступке; затем стало
ясно, что всему виной серебро. Веррес не колеблясь велел возбудить
обвинение против Диодора; именно тогда он, если не ошибаюсь, и внес его заочно
в списки обвиняемых52. (41) По всей Сицилии разнеслась весть, что из-за
страсти к чеканному серебру людей привлекают к уголовному суду и притом
даже заочно. Диодор в траурной одежде 53 стал обходить в Риме своих
патронов и гостеприимцев и всем рассказал о своем деле. Веррес начал
получать резкие письма от отца и друзей с советами обдумать свои действия по
отношению к Диодору и их последствия, с сообщением, что дело получило
огласку и вызывает возмущение, с подозрениями, что он не в своем уме и
погибнет из-за одного этого обвинения, если не остережется. В то время
3, Против Гая Верреса (<Ю предметах искусства»)
73
Веррес еще относился к своему отцу, если не как к отцу, то все же как к
человеку; он еще не запасся такими деньгами, чтобы не бояться суда. Это
был первый год его наместничества, его сундуки еще не ломились от денег
так, как во времена дела Стения 54. Поэтому он несколько сдержался в своем
неистовстве, но не из чувства чести, а из опасений и из страха. Он не посмел
заочно вынести Диодору обвинительный приговор и вычеркнул его из
списка обвиняемых. Между тем Диодор почти в течение трех лет, в бытность
Верреса претором, жил вдали от провинции и своего дома.
(42) Все другие сицилийцы и даже римские граждане пришли к
заключению, что, коль скоро Веррес так далеко зашел в своей страсти,
никому не удастся ни спасти, ни сохранить у себя в доме ни одной вещи,
какая приглянется ему; когда же они узнали, что тот стойкий муж, которого
провинция ждала с нетерпением,— Квинт Аррий — не сменит Верреса50,
они поняли, что у них нет ни одной вещи, которая могла бы быть заперта и
спрятана так тщательно, чтобы она не оказалась открытой и доступной для
страсти Верреса.
(XX) Вскоре после этого Веррес отнял у блистательного и
влиятельного римского всадника Гнея Калидия, чей сын, как ему было известно, был
сенатором римского народа и судьей, серебряные кубки с конской головой,
прекрасной работы, ранее принадлежавшие Квинту Максиму. (43) Но я
напрасно заговорил об этом, судьи! Он их купил, а не отобрал; я сожалею,
что так сказал; он будет красоваться и гарцовать на этих конях.— «Я
купил их, заплатил деньги».— Верю.— «Даже книги будут предъявлены».—
Ну, что ж, предъяви мне книги. Опровергни хотя бы это обвинение насчет
Калидия, пока я буду просматривать твои книги. Но почему же Калидий
жаловался в Риме, что он, в течение стольких лет ведя дела в Сицилии,
лишь с твоей стороны встретил такое пренебрежение, такое презрение, что
был обобран тобой наряду с остальными сицилийцами? Если ты купил у
него это серебро, то какое было у него основание заявлять, что он потребует
его у тебя по суду, раз он продал его тебе добровольно? Далее, мог ли бы
ты повести дело так, чтобы не возвращать этого серебра Гнею Калидию,
тем более, что он поддерживает столь дружеские отношения с твоим
защитником Луцием Сисенной и что прочим друзьям Луция Сисенны ты
возвратил их собственность? (44) Наконец, ты, я думаю, не станешь отрицать,
что ты возвратил уважаемому человеку, но не более влиятельному, чем
Гней Калидий,— Луцию Куридию — его серебряную утварь через
посредство твоего друга Потамона. Впрочем, из-за Куридия ухудшилось
положение других людей. Ибо ты сперва обещал многим людям вернуть им их
собственность, но после того как Куридий показал перед судом, что ты
возвратил ему его вещи, ты возвращать награбленное перестал, видя, что добычу
из рук ты выпускаешь, а избегнуть свидетельских показаний тебе все равно
не удается.
74
Речи Цицерона
Римскому всаднику Гнею Калидию ни один из других преторов не
запрещал иметь у себя серебряную утварь хорошей работы; ни один из них
не лишал его возможности пышно и богато украшать свой стол во время
пиршеств, принимая у себя должностных или других высокопоставленных
лиц. Многие люди, облеченные властью и империем, посещали дом Гнея
Калидия, но ни один из них не был так безумен, чтобы забрать себе эти
столь прекрасные и знаменитые серебряные изделия; ни один из них не был
так нагл, чтобы выпрашивать их себе в дар; ни один из них не был столь
бесстыден, чтобы потребовать от владельца продажи их. (45) Ведь это —
самомнение и притом совершенно нестерпимое, судьи, если претор в
провинции заявляет уважаемому, зажиточному и блистательному человеку:
«Продай мне свои чеканные вазы!» Ведь это означает: «Ты не достоин
владеть вещами такой художественной работы. Это может соответствовать
только моему достоинству». А разве ты, Веррес, более достойный человек,
чем Калидий? Не стану сравнивать твоей жизни с его жизнью, твоей
репутации с его репутацией (ведь это и не поддается сравнению); сравню
именно то, в чем ты считаешь себя выше его: не потому ли, что ты дал
300000 сестерциев раздатчикам денег при скупке голосов, чтобы тебя
объявили избранным в преторы, 300 000 — обвинителю, чтобы он не тревожил
тебя 55, ты и относишься свысока и с глубоким презрением к всадническому
сословию? И поэтому ты, вероятно, и счел возмутительным, что вещью,
которая тебе понравилась, владеет Калидий, а не ты?
(XXI, 46) Веррес давно уже хвалится своим поступком по отношению к
Калидию и твердит всем, что купил у него эти вещи. А кадильницу57 у
Луция Папиния, виднейшего человека и зажиточного и почтенного римского
всадника, ты тоже купил? Он показал как свидетель, что ты потребовал,
чтобы ее тебе дали для осмотра, и что ты, сняв с нее накладные рельефы,
возвратил ее, дабы вы поняли, что он знаток, а не алчный человек и
прельстился не серебром, а художественной отделкой.
И не только в случае с Папинием Веррес проявил такую воздержность;
он следовал этому правилу всякий раз, как видел кадильницы, какие только
были в Сицилии. А сколько их было и как прекрасны они были, трудно
поверить. Очевидно, тогда, когда Сицилия процветала и была богата, на этом
острове работало много искусных мастеров. Ибо, до претуры Верреса, в
Сицилии не было мало-мальски зажиточного дома, где нельзя было бы найти
таких предметов, как большого блюда с рельефными фигурами и
изображениями богов, чаши для жертвоприношений, совершаемых женщинами, и
кадильницы,— даже если в этом доме, кроме этих предметов, никакого
серебра не было. Все это были вещи древней и художественной работы, так
что можно предположить, что сицилийцы некогда имели в соответствующем
числе также и другие ценные вещи, но что они, потеряв многое по воле
судьбы, сохранили только то, что им велела оставить у себя религия.
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
75
(47) Я сказал, судьи, что вещей этих было много чуть ли не у всех
сицилийцев, и я же утверждаю, что теперь у них не осталось ни единой. Что
это значит? Какое чудовище, какого изверга послали мы в провинцию! Не
кажется ли вам, что он, по возвращении своем в Рим, старался не просто
наслаждаться видом красивых вещей и удовлетворять не только свою
прихоть, но также и безумную страсть всех самых жадных людей? Как только
он приезжал в какой-нибудь город, он немедленно выпускал своих кибир-
ских псов, чтобы они все выследили и разнюхали. Если они находили
большую вазу или вообще крупную вещь, они с восторгом ее тащили ему; но
если им не удавалось затравить такого зверя, то они хватали хотя бы
мелкую дичь — в виде небольших блюд, чаш, кадильниц. Как вы думаете,
какой плач, какие сетования начинались среди женщин при таких
обстоятельствах? Все это, быть может, покажется вам мелочью, но оно вызывает
большую и глубокую скорбь, особенно у слабых женщин, когда у них вырывают
из рук то, чем они привыкли пользоваться при религиозных обрядах, то,
что они получили от родителей, то, что всегда принадлежало их семье.
(XXII, 48) Не ждите здесь, что я стану ходить из двери в дверь за
обвинениями и говорить, что у Эсхила из Тиндариды он унес чашу, у Фра-
сона, также из Тиндариды,— небольшое блюдо, у Нимфодора из Агриген-
та — кадильницу. Когда я представлю свидетелей «из Сицилии, то пусть
Веррес выбирает, кого захочет: я спрошу этого человека о блюдах, о чашах
и о кадильницах; не найдется, уже не говорю — города, нет даже
мало-мальски зажиточного дома, не пострадавшего от него. Придя .на пирушку, он,
заметив какую-нибудь чеканную вещь, не мог удержаться, чтобы не
наложить на нее рук, судьи! В Тиндариде живет некто Гней Помпеи; ранее его
звали Филоном. Он дал Верресу обед в своей усадьбе близ Тиндариды. Он
сделал то, на что сицилийцы не решались: будучи римским гражданином,
он подумал, что для него это будет не так опасно; он поставил на стол
блюдо с превосходными рельефными изображениями. Стоило Верресу увидеть
их, как он тотчас же без всяких колебаний забрал с гостеприимного стола
это драгоценное достояние пенатов и богов-покровителей гостеприимства;
но все же — ведь я ранее говорил о его умеренности — он, сняв рельефы,
возвратил остальное серебро, не проявив никакой алчности. (49) А Евпо-
лем из Калакты, знатный человек, связанный узами гостеприимства с
Лукуллами и их близкий друг, находящийся теперь в войске Луция Лукулла?
Не поступил ли Веррес с ним точно так же? Веррес у него обедал; он
поставил на стол только гладкое серебро, чтобы его не ограбили; но два
небольших кубка были с рельефами. Веррес, словно он был красивым
актером, тут же, чтобы не уходить с пира без подарка, на глазах у гостей велел
снять изображения с этих кубков.
И я не пытаюсь теперь перечислить все его поступки; в этом нет нужды и
это совершенно невозможно. Я только хочу дать вам образчики и примеры
76
Речи Цицерона
каждого из разнообразных видов его бесчестности. Ведь он вел себя не
как человек, сознающий, что в будущем ему придется дать ответ во всемг
но в полной уверенности, что он никогда не будет обвинен или же что
опасность суда, предстоящего ему, будет тем меньше, чем больше он награбит.
То, о чем я говорю, он делал уже не тайно, не через своих друзей и
посредников, но явно, с высоты трибунала, в силу своего империя и власти.
(XXIII, 50) Приехав в Катину, богатый, пользующийся почетом и
процветающий город, он велел позвать к себе Дионисиарха, проагора, то есть
высшее должностное лицо, и при всех приказал ему собрать и принести к
нему всю серебряную утварь, какая только найдется у жителей Катины.
Не слыхали ли вы, как центурипинец Филарх, выдающийся человек по
своей знатности, достоинствам, зажиточности, говорил это же самое под
присягой — что Веррес дал ему поручение и приказал собрать и доставить-
ему всю серебряную утварь, какая только найдется в Центурипах, одном из
самых больших и самых богатых городов во всей Сицилии? Точно так же, то-
требованию Верреса, Аполлодор, чьи свидетельские показания вы
слышали, отправил из Агирия в Сиракузы коринфские вазы.
(51) Но лучше всего следующее: приехав в Галунтий, он, этот усердный
и добросовестный претор, не пожелал сам входить в город, так как подъем,
был труден и крут; он велел позвать галунтинца Архагата, именитейшего
человека не только у себя на родине, но и во всей Сицилии, и приказал ему
немедленно свезти из города к берегу моря всю чеканную серебряную
утварь, какая только найдется в Галунтий, а также все коринфские вазы.
Архагат поднялся в город. Знатный человек, желавший сохранить любовь
и расположение сограждан, был удручен возложенным на него поручением,,
но делать было нечего. Он объявил о данном ему приказании и велел всем
принести, что у кого было. Все перепугались донельзя; сам тиранн не
двигался с места, а ждал под городом, лежа на лектйке 58 у моря, Архагата и
серебро. (52) Представляете ли вы себе, какая суматоха началась в городе,
как кричали или, вернее, как плакали женщины? При виде этого всякий
сказал бы, что в город ввезли Троянского коня, что город взят. Вазы
выносят без футляров, их вырывают из рук у женщин, во многих домах ломают
двери, сбивают замки. Подумайте только: бывает, что в связи с войной и
чрезвычайным положением 59, у частных лиц отбирают щиты и люди все же
дают их неохотно, хотя они и знают, что дают их для всеобщего спасения;
говорю об этом, дабы вы не думали, что кто-нибудь без глубокой скорби
выносил из дому свою чеканную серебряную утварь, чтобы она досталась
в добычу другому. Все отнесли Верресу; позвали кибирских братьев;
небольшое число вещей не понравилось им; с тех вещей, которые им
понравились, сорвали чеканные пластинки и рельефы; таким образом, галунтинцьг
возвратились домой с обчищенным серебром, лишившись своих любимых
вещей.
3, Против Гая Берреса («О предметах искусства»)
11
(XXIV, 53) Была ли когда-либо, судьи, такая метла60 в какой-либо
провинции? Правда, нередко при посредстве местных властей кое-кто
урывал что-нибудь из общинной казны; но даже тем, кто отнимал что-нибудь
тайком у частного лица, все-таки выносили обвинительный приговор. И если
вы хотите знать, я, даже в ущерб себе самому, считаю, что это и были
настоящие обвинители, раз они хищения, совершенные такими людьми,
выслеживали чутьем или же по оставленным ими легким следам. Но как же мне
держать себя в деле Верреса, которого я нашел вывалявшимся в грязи, где
остался след от всего его тела? Очень трудно выступать с речью против
человека, который мимоходом, оставив на короткое время свою лектйку, не
обманом, а открыто, своей властью, одним своим приказанием ограбил целый
город, дом за домом! Все же, чтобы иметь возможность сказать, что он
купил это серебро, он велел Архагату для видимости дать несколько жалких
сестерциев тем, кому принадлежала серебряная утварь; Архагат нашел
лишь немногих, которые согласились взять деньги, и дал их им. Веррес,
однако, Архагату этих денег не вернул. Архагат хотел по суду взыскать их
в Риме, но Гней Лентул Марцеллин отсоветовал ему это, как вы слышали
от него самого. Прочти показания Архагата и Лентула.
(54) Но не подумайте случайно, что Веррес хотел набрать такую кучу
рельефов без всякой цели; посудите сами, как высоко ставил он вас, как
высоко ценил он мнение римского народа, как уважал он законы, суды,
•свидетельские показания сицилийцев и дельцов. Собрав такое множество
рельефов и никому ни одного не оставив, он устроил в царском дворце в
Сиракузах61 огромную мастерскую. Он открыто велел созвать всех
художников-чеканщиков и мастеров, изготовляющих вазы; кроме этих мастеров,
у него было немало также и своих. Все это множество людей он запер у
себя. В течение восьми месяцев кряду у них не было недостатка в работе,
причем они изготовляли одни только золотые вазы. Вот тогда-то
украшения, сорванные с кадильниц, были так умело приделаны к золотым кубкам,
так удачно прилажены к золотым чашам, что казалось, будто они были
созданы именно для них; при этом сам претор, чьей бдительности, если
верить его словам, Сицилия обязана своим спокойствием, проводил в этой
мастерской большую часть дня, одетый в темную тунику и плащ62.
(XXV, 55) Я не осмелился бы говорить об этом, судьи, если бы не
боялся, как бы вы не сказали мне, что вы в случайных беседах с другими
людьми узнали о Верресе больше, чем от меня в суде. В самом деле, кто не
слыхал об этой мастерской, о золотых сосудах, о его плаще? Пусть мне
назовут любого порядочного человека из сиракузского конвента63; я
предоставлю ему слово; всякий скажет, что он либо слыхал об этой мастерской,
либо видел ее.
(56) О, времена, о, нравы! Приведу вам не особенно давний пример.
Не один из вас знавал Луция Писона, отца ныне здравствующего Луция
78
Речи Цицерона
Писона, который был претором 64. Когда он был претором в Испании — в^
той провинции, где его убили,— у него во время военных упражнений каким-
то образом разломился на куски его золотой перстень. Желая заказать себе
перстень, он велел позвать на форум в Кордубе, где он сидел в своем
кресле65, золотых дел мастера и на виду у всех дал ему золота по весу; он велел
мастеру поставить свой стул на форуме и делать перстень в присутствии
всех. Быть может, его назовут излишне добросовестным; кто хочет, может
его порицать, не более. Но ему это следовало простить: ведь он был сыном
того Луция Писона, который первый предложил закон о вымогательствах.
(57) Смешно, что я теперь говорю о Верресе, после того как говорил о Пи-
соне Фруги; но обратите внимание на разницу между ними: Верреса, хотя
он и заказал вазы, которых бы хватило на несколько абаков, ничуть не
заботило то, что ему пришлось бы услышать, не говорю уже — в Сицилии, но
даже в Риме во время суда; Писон, при заказе на полунции золота, хотел,
чтобы вся Испания знала, откуда то золото, из которого делают перстень
для претора. Веррес, бесспорно, оправдал свое родовое <имя, Писон — свое
прозвание.
(XXVI) Никак не могу я ни обнять своей памятью, ни охватить своей
речью все позорные поступки Верреса; я хочу коротко коснуться отдельных
видов их; этот перстень Писона только что напом,нил мне об одном из них,
о котором я совершенно забыл. Как вы думаете, у скольких почтенных
людей снял он перстни с пальцев? Он без колебаний делал это всякий раз,
когда либо драгоценный камень, либо перстень нравился ему. Расскажу вам
о случае невероятном, но столь ясном, что сам Веррес, полагаю я, не станет
его отрицать. (58) Его переводчику Валенцию прислали письмо из Агриген-
та, Веррес случайно обратил внимание на оттиск печати в белой глине66;
печать понравилась ему; он спросил, откуда письмо получено; ему отвечали,
что оно из Агригента. Он отправил письмо тем людям, которым
обыкновенно писал в таких случаях, с приказанием, при первой возможности,
доставить ему этот перстень. Таким образом, после его письма, был снят
перстень с пальца почтенного отца семейства, римского всадника Луция Тиция.
Поистине жадность Верреса совершенно невероятна: ибо если даже
допустить, что он хотел иметь по тридцати прекрасно убранных лож с
прочими принадлежностями для пира для каждой из столовых, имеющихся у
него не только в Риме, но и во всех его усадьбах, то и тогда он наготовил их
себе слишком много. В Сицилии не было ни одного богатого дома, где бы
он не устроил для себя ткацкой мастерской. (59) В Сегесте живет очень
богатая и знатная женщина по имени Ламия; в течение трех лет ее дом был
уставлен ткацкими станками, и у, нее изготовлялись 'ковры и притом толька
окрашенные пурпуром; то же делал богач Аттал в Нете, Лисон — в Лили-
бее, Критолай в Этне, в Сиракузах — Эсхрион, Клеомен и Феомнаст, &
Гелоре — Архонид. Мне скорее не хватит дня для перечисления, а не
3. Против Гая Верреса (<Ю предметах искусства»)
79
имен.— «Но пурпур давал он, друзья его — только рабочую силу».— Верю;
ведь я не склонен вменять ему в вину все; как будто мне недостаточно для
обвинения и того, что у него было так много пурпура, который он мог дать:
что он хотел вывезти так много; наконец, того, с чем он сам согласен: он
пользовался при этом рабочей силой своих друзей. (60) Далее,
изготовлялись ли, по вашему мнению, в Сиракузах в течение трех лет для
кого-нибудь, кроме него, ложа с бронзовыми украшениями и бронзовые
канделябры?— «Он их покупал».— Верю; я только сообщаю вам, судьи, чем он;
будучи претором, занимался в провинции, дабы никому не казалось, что он
был недостаточно заботлив и не умел пользоваться властью, чтобы
устроиться и обставиться вполне удовлетворительно.
(XXVII) Перехожу теперь уже к хищениям, не к жадности, не к
алчности Верреса, а к такому его деянию, которое, на мой взгляд, охватывает и
заключает в себе все нечестивые поступки; бессмертные боги были этим
деянием оскорблены, уважение к римскому народу и авторитет его имени
унижены; права гостеприимства поруганы; это преступление Верреса
оттолкнуло от нас всех искренно расположенных к нам царей и подвластные
им народы.
(61)Как вам известно, в Риме недавно были сирийские царевичи,
сыновья царя Антиоха67; они приезжали не по поводу получения ими царской
власти в Сирии (их права на нее были бесспорны, так как они унаследовали
ее от отца и предков); но они полагали, что им и их матери Селене должна
достаться царская власть в Египте. Когда, вследствие неблагоприятного
положения дел в нашем государстве 68, им не удалось при посредстве сената
добиться того, чего они хотели, они выехали в Сирию, в царство своих
отцов. Один из них, которого зовут Антиохом, пожелал ехать через
Сицилию. И вот, он, во время претуры Верреса, прибыл в Сиракузы. (62) Тогда-
то Веррес и решил, что ему досталось крупное наследство, так как в его
царство приехал и в его руки попал человек, который, как он слыхал и
подозревал, вез с собой много прекрасных вещей. Веррес послал ему
довольно щедрые подарки для домашнего обихода — масла, вина, сколько нашел
нужным, а также и пшеницы в достаточном количестве из своих десятин
Затем он пригласил самого царевича на обед. Он велел пышно и
великолепно украсить триклиний 69 и расставить то, чего у него было вдоволь,—
множество серебряных ваз прекрасной работы; ибо золотых он еще не успел
изготовить. Он постарался, чтобы пир был обставлен и снабжен всем, чем
следует. К чему много слов? Царевич отбыл, убежденный и в том, что
Веррес весьма богат, и в том, что ему самому был оказан должный почет.
Затем он сам пригласил претора на обед к себе; велел выставить
напоказ все свои богатства — много серебряной утвари, не мало и золотых
кубков, украшенных, как это принято у царей, особенно в Сирии, прекрасными
самоцветными камнями. Среди них был и ковш для вина, выдолбленный
80
Речи Цицерона
из цельного, очень большого самоцветного камня, с золотой ручкой; вы
слышали показания о нем, данные я полагаю, вполне достойным доверия
и авторитетным свидетелем, Квинтом Минуцием. (63) Веррес стал брать
в руки один сосуд за другим, хвалить их, любоваться ими. Царевич
радовался, что пир у него доставляет такое удовольствие претору римского народа.
Когда гости разошлись, Веррес, как показал исход дела, стал думать только
об одном — как бы ему отпустить царевича из провинции обобранным и
ограбленным. Он обратился к нему с просьбой дать ему красивые вазы,
которые он у него видел; он будто бы хотел показать их своим
мастерам-чеканщикам. Царевич, не зная его, дал их очень охотно, без малейшего
подозрения; Веррес прислал также за ковшом из самоцветного камня; он, по
его словам, хотел внимательнее осмотреть его; ему послали и ковш.
(XXVIII, 64) Теперь, судьи, внимательно слушайте продолжение;
впрочем, об этом вы слышали и римский народ услышит не впервые, и это
дошло до чужеземных народов вплоть до самых далеких окраин. Те
царевичи, о которых я говорю, привезли в Рим осыпанный чудесными камнями
канделябр 70 изумительной работы, чтобы поставить его в Капитолии; но
так как храм оказался неоконченным71, то они не смогли поставить там
канделябр и не хотели выставлять его напоказ всем, чтобы, когда его, в свое
время, поставят в святилище 72 Юпитера Всеблагого Величайшего, он
показался и более драгоценным и более великолепным, и более блестящим,
когда люди узрят его в его свежей и невиданной ранее красоте. Они решили
увезти его с собой обратно в Сирию с тем, чтобы, получив известие о
дедикации 73 статуи Юпитера Всеблагого Величайшего, снарядить посольство и
среди других приношений доставить в Капитолий и этот редкостный и
великолепнейший дар. Это каким-то образом дошло до ушей Beppeda: ибо
царевич хотел сохранить это в тайне, но не потому, что чего-либо боялся или
что-нибудь подозревал, а так как не желал, чтобы многие люди увидели
этот канделябр раньше, чем его увидит римский народ. Веррес начал
просить и усиленно уговаривать царевича прислать ему канделябр; он, по его
словам, желает взглянуть на него и никому не позволит видеть его. (65)
Антиох, этот царственный юноша, конечно, не заподозрил Верреса в
бесчестности; он велел своим рабам, самым тщательным образом закрыв
канделябр, отнести его в преторский дом. Когда его принесли и поставили, сняв
покрывала, Веррес стал восклицать, что вещь эта достойна сирийского
царства, достойна быть царским даром, достойна Капитолия. И в самом деле,
канделябр обладал таким блеском, какой должен был исходить от столь
блестящих и великолепных камней, отличался таким разнообразием работы,
что искусство, казалось, вступило в состязание с пышностью, такими
большими размерами, что он, несомненно, предназначался не для повседневного
употребления в доме, а для украшения величайшего храма. Когда
посланным показалось, что Веррес насмотрелся вдоволь, они начали поднимать
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства») 81
канделябр, чтобы нести его обратно. Веррес сказал, что хочет смотреть еще
и еще, что он далеко еще не удовлетворен; он велел им уйти и оставить
канделябр у него. Так они вернулись к Антиоху с пустыми руками.
(XXIX, 66) Вначале у царевича не было ни опасений, ни подозрений;
проходит день, другой, несколько дней; канделябра не возвращают. Тогда
он посылает к Верресу людей с покорной просьбой возвратить канделябр;
Веррес велит им прийти в другой раз. Царевич удивлен, посылает вторично;
вещи не отдают. Он сам обращается к претору и просит его отдать
канделябр. Обратите внимание на медный лоб Верреса, на его неслыханное
бесстыдство. Он знал, он слышал от самого царевича, что этот дар
предназначен для Капитолия; он видел, что его сберегают для Юпитера Всеблагого
Величайшего, для римского народа, и все-таки стал настойчиво требовать,
чтобы дар этот отдали ему. Когда царевич ответил, что этому препятствует
и его благоговение перед Юпитером Капитолийским и забота об общем
мнении, так как многие народы могут засвидетельствовать назначение этой
вещи, Веррес начал осыпать его страшными угрозами. Когда же он понял,
что его угрозы действуют на царевича так же мало, как и его просьбы, он
велел Антиоху немедленно, еще до наступления ночи, покинуть провинцию:
он, по его словам, получил сведения, что из Сирии в Сицилию едут пираты.
(67) Царевич при величайшем стечении народа на форуме в Сиракузах —
пусть никто не думает, что я привожу неясные улики и присочиняю на
основании простого подозрения,— повторяю, на форуме в Сиракузах,
призывая в свидетели богов и людей, со слезами на глазах стал жаловаться, что
сделанный из самоцветных камней канделябр, который он собирался
послать в Капитолий и поставить в знаменитейшем храме как памятник его
дружеских чувств союзника римского народа, Гай Веррес у него отнял;
утрата других принадлежавших ему вещей из золота и редких камней,
находящихся ныне у Верреса, его не огорчает; но отнять у него этот
канделябр— низко и подло. Хотя он и его брат уже давно в мыслях и в сердце
своем посвятили этот канделябр, все же он теперь, в присутствии всего
конвента римских граждан, дает, дарит, жертвует и посвящает его Юпитеру
Всеблагому Величайшему и призывает самого Юпитера быть свидетелем
его воли и обета.
(XXX) Найдутся ли силы и достаточно громкий голос, чтобы заявить
жалобу и поддержать одно это обвинение? Царевича Антиоха, которого
мы все почти в течение двух лет видели в Риме с его блестящей царской
свитой, друга и союзника римского народа, сына и внука царей, бывших
нашими лучшими друзьями, происходящего от предков, издревле бывших
прославленными царями, и из богатейшего и величайшего царства, Веррес
внезапно прогнал из провинции римского народа! (68) Как, по твоему
мнению, примут это чужеземные народы, что скажут они, когда молва о твоем
поступке дойдет в чужие царства и на край света, когда узнают, что
Ь Цицерон, т. I
82
Речи Цицерона
претор римского народа оскорбил в своей провинции царя, ограбил гостя,
изгнал союзника и друга римского народа? Знайте, судьи, имя ваше и
римского народа навлечет на себя ненависть и породит чувство ожесточения у
чужеземных народов, если это великое беззаконие Верреса останется
безнаказанным. Все будут думать — в особенности, когда эта молва об
алчности и жадности наших граждан разнесется во все края,— что это вина не
одного только Верреса, но также и тех, кто одобрил его поступок. Многие
цари, многие независимые городские общины, многие богатые и влиятельные
частные лица, конечно, намерены украшать Капитолий так, как этого
требуют достоинство храма и имя нашей державы. Если они поймут, что вы
похищение этого ^царского дара приняли близко к сердцу, то они будут
считать, что их усердие и их подарки будут по-сердцу вам и римскому
народу; но если они узнают, что вы равнодушно отнеслись к такому
вопиющему беззаконию по отношению к столь известному царю и к столь
великолепному дару, то они впредь не будут столь безумны, чтобы тратить свои
труды, заботы и деньги на вещи, которые, по их мнению, не будут вам по-
сердцу.
(XXXI, 69) Здесь я призываю тебя, Квинт Катул! Ведь речь идет о
славном и прекраснейшем памятнике для тебя самого. По этой статье
обвинения ты должен проявить не только строгость судьи, но, можно сказать,
также и непримиримость недруга и обвинителя. Ведь именно тебе, милостью
сената и римского народа, в этом храме воздается слава, твое имя становится
бессмертным вместе с этим храмом; тебе следует потрудиться, тебе следует
позаботиться о том, чтобы Капитолий, восстановленный в большем
великолепии, был также и украшен еще богаче, дабы казалось, что пожар возник
по промыслу богов — не для того, чтобы уничтожить храм Юпитера
Всеблагого Величайшего, но чтобы потребовать постройки еще более
прекрасного и более величественного храма. (70) Ты слыхал, как Квинт Мину-
пий говорил, что царевич Антиох жил в его доме в Сиракузах; что он знает
о передаче канделябра Верресу и о том, что он его не возвратил; ты уже
слыхал и еще услышишь показания членов сиракузского конвента о том,
что царевич Антиох в их присутствии пожертвовал и посвятил канделябр
Юпитеру Всеблагому Величайшему. Даже если бы ты и не был судьей, но
если бы тебе об этом заявили, то именно ты и должен был бы начать
судебное преследование, ты — подать жалобу, ты — возбудить народ.
Поэтому я и не сомневаюсь в строгости, с какой ты как судья отнесешься к
этому преступлению, когда ты сам должен был бы вчинить иск и обвинять
Верреса перед другим судьей с гораздо большей силой, чем это делаю я.
(XXXII, 71) А вы, судьи? Можете ли вы представить себе более
возмутительный и более неслыханный поступок? Веррес будет держать в своем
доме канделябр Юпитера, [украшенный золотом и драгоценными камнями]?
Канделябр, который должен был освещать и украшать своим блеском храм
3, Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
83
Юпитера Всеблагого Величайшего, будет стоять у Верреса во время таких
пиров, которые будут охвачены пламенем привычного для него разврата
и позора? В доме этого гнуснейшего сводника, вместе с другими
украшениями, полученными по наследству от Хелидоны, будут находиться украшения
Капитолия? Может ли, по вашему мнению, что-либо быть священным и
неприкосновенным для этого человека, который даже теперь не сознает всей
тяжести совершенного им преступления, который является в суд, где он
не может даже обратиться с мольбой к Юпитеру Всеблагому Величайшему
и попросить у него помощи, как поступают все люди; для человека, от
которого даже бессмертные боги требуют возвращения своей собственности в
этом суде, учрежденном для того, чтобы возвращения собственности
требовали люди? И мы удивляемся, что Веррес оскорбил в Афинах Минерву, на
Делосе — Аполлона, на Самосе — Юнону, в Перге — Диану и, кроме того,
многих богов во всей Азии и Греции, раз он даже от ограбления Капитолия
удержаться не мог? Тот храм, который украшают и намерены украшать на
свои деньги частные лица, Гай Веррес не позволил украшать царям! (7l)
После этого святотатства для Верреса уже не было ничего ни священного,
ни запретного во всей Сицилии. Он три года вел себя в этой провинции так,
словно объявил войну не только людям, но даже бессмертным богам.
(XXXIII) В Сицилии, судьи, есть очень древний город Сегеста, по
преданию, основанный Энеем, когда он бежал из Трои и приехал в эту
местность 74. Поэтому жители Сегесты считают себя связанными с римским
народом не только постоянным союзом и дружбой, но и кровным родством.
Некогда эта община самостоятельно и по собственному почину вела войну
с пунийцами; город был захвачен карфагенянами и разрушен ими, причем
все статуи, какие только могли служить украшением городу, были увезены в
Карфаген. В Сегесте была бронзовая статуя Дианы, отличавшаяся, помимо
своей необычайной древности и святости, редкостной художественной
работой. Будучи перевезена в Карфаген, она переменила только место и покло-.
нявшихся ей людей; благоговение перед ней осталось неизменным; ибо она,
ввиду своей исключительной красоты, даже врагам казалась достойной
почитания.
(73) Спустя несколько столетий, Публий Сципион во время третьей
пунической войны взял Карфаген75. После этой победы — обратите
внимание на доблесть и добросовестность Сципиона и вы порадуетесь примерам
прославленной доблести наших сограждан и признаете необычайную
дерзость Верреса заслуживающей еще большей ненависти,— Сципион, зная,
что Сицилия очень долго и очень часто страдала от нападений карфагенян,
созвал представителей всех городских общин Сицилии и приказал все
разыскать; он обещал всячески позаботиться о том, чтобы каждому городу была
возвращена вся его собственность. Тогда городу Фермам и было
возвращено то, что было взято в Гимере, о чем я уже говорил; тогда одни
6*
84
Речи Цицерона
предметы были возвращены Геле, другие — Агригенту; среди них был
также тот знаменитый бык, принадлежавший, говорят, жесточайшему из
всех тираннов, Фалариду76, который с целью казни сажал в него живых
людей и приказывал разводить под ним огонь. Возвращая этого быка
жителям Агригента, Сципион, говорят, сказал, что им следует призадуматься над
вопросом, что для них выгоднее: быть ли рабами своих соотечественников
или же повиноваться римскому народу? Ведь один и тот же предмет будет
служить памятником, напоминающим и о жестокости их согражданина и о
нашем мягкосердечии.
(XXXIV, 74) В то время в Сегесту с величайшей заботливостью была
возвращена та самая статуя Дианы, о которой я говорю; ее привезли в
Сегесту и при громких выражениях благодарности и ликовании граждан
поставили на ее прежнее место. Ее установили в Сегесте на довольно
высоком цоколе, на котором крупными буквами было вырезано имя Публия
Африканского и было написано, что он, взяв Карфаген, возвратил статую
в Сегесту. Статуе Дианы поклонялись граждане; все приезжие ходили
смотреть на нее; когда я был квестором, мне прежде всего показали эту статую.
Это была очень большая и высокая статуя; богиня была одета в столу77;
несмотря на размеры статуи, она казалась легкой и юной; на плече у нее
висел колчан со стрелами; в левой руке она держала лук, в правой несла
перед собой пылающий факел.
(75) Когда этот грабитель и враг всех священнодействий и обрядов
увидел ее, он воспылал такой жадностью и безумием, словно богиня поразила
его тем самым факелом78. Он потребовал от местных властей, чтобы они
сняли статую с цоколя и отдали ее ему; он указал им, что ему нельзя ничем
более угодить. Но они отвечали, что это запрещено им божеским законом
и что их удерживает от этого как строжайший религиозный запрет, так и
страх перед законами и правосудием. Веррес стал то просить, то запугивать
их, пускать в ход то обещания, то угрозы. В ответ ему они указывали на
имя Публия Африканского; говорили, что статуя есть собственность
римского народа, что они не властны над памятником, который прославлен-
ныи император , взяв вражеский город, захотел поставить как
воспоминание о победе римского народа.
(76) Так как Веррес не отставал, более того — изо дня в день становился
все настойчивее, то вопрос обсуждался в сенате80. Все резко возражали, и
тогда, то есть в первый приезд, ему было отказано. После этого он именнсг
на Сегесту начал налагать всяческие совершенно непосильные для
населения повинности, требуя матросов и гребцов, приказывая доставлять ему
хлеб. Кроме того, он вызывал к себе должностных лиц, посылал за лучшими
и знатнейшими из граждан, таскал их за собой из одного судебного округа
провинции в другой 81, каждому в отдельности сулил всевозможные беды,
а всем им грозил, что сотрет с лица земли их город. Сломленные многочис-
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
85
ленными бедствиями и сильным страхом, жители Сегесты, наконец, решили
повиноваться приказанию претора. К великому горю и скорби всей
общины, при громком плаче и причитаниях всех мужчин и женщин, был сдан
подряд на снятие статуи Дианы.
(XXXV, 77) Обратите внимание, как велико было благоговение перед
этой богиней: знайте, судьи, в Сегесте не нашлось никого — ни
свободнорожденного, ни раба, ни гражданина, ни чужеземца, который бы осмелился
прикоснуться к этой статуе; были, наконец, привезены, знайте это, из
Лилибея какие-то рабочие из варваров и они, не зная обо всем деле и о
религиозном запрете, за плату сняли статую. А знаете ли вы, какая толпа
женщин собралась, когда статую вывозили из города, как плакали старики?
Ведь некоторые из них еще помнили тот день, когда та же Диана, приве-
звенная назад в Сегесту из Карфагена, своим возвращением возвестила о
победе римского народа. Как непохож был этот день на те времена! Тогда
император римского народа, прославленный муж, возвращал жителям
Сегесты богов отчизны, отбитых им во вражеском городе; теперь из союзного
города претор того же народа, гнуснейший и подлейший человек, увозил тех
же богов, совершая нечестивое злодеяние. Разве не рассказывали по всей
Сицилии о том, как все матроны и девушки Сегесты собрались, когда Диану
увозили из их города, как они ее умащали благовониями, мазями, украшали
венками и цветами, воскуряя ладан и благоуханные смолы, и провожали
до самых границ своей земли?
(78) Если тогда, облеченный империем, ты в своей алчности и дерзости,
не побоялся нарушить столь строгий религиозный запрет, то неужели даже
теперь, когда тебе и твоим детям грозит такая большая опасность, он тебя
не страшит? Какой человек — подумай об этом — придет тебе на помощь
против воли богов и тем более, кто из богов, после того как тобой были
оскорблены такие почитаемые святыни? Во времена мира и благополучия
Диана тебе не внушила должного благоговения к себе — она, которая,
увидев взятыми и сожженными два города, где она находилась, дважды, во
время двух войн, была спасена от огня и от меча; она, которая, переменив
после победы карфагенян место своего пребывания, все-таки продолжала
пользоваться поклонением, а возвратившись на свое прежнее место,
благодаря доблести Публия Африканского, встретила такое же благоговейное
отношение к себе?
Когда, после этого злодеяния Верреса, цоколь с вырезанным на нем
именем Публия Африканского остался пустым, все стали негодовать и
возмущаться не только поруганием святыни, но также тем, что Гай Веррес,
посягнул на славу подвигов Публия Африканского, храбрейшего мужа, на
воспоминания о его доблести, на памятник его победы. (79) Когда Верресу
сказали об этом, он решил, что все будет забыто, если он уничтожит и самый
цоколь, как бы обличавший его в злодеянии. Поэтому по его приказанию
86
Речи Цицерона
был сдан подряд на снос цоколя; об условиях этого подряда вам прочитали
во время первого слушания дела на основании записей в книгах города
Сегесты.
(XXXVI) Тебя призываю я теперь, Публий Сципион82, да, тебя,
украшенный высокими доблестями юноша! Настоятельно требую от тебя —
исполни свой долг перед своим родом и именем. Почему ты сражаешься за
того, кто унизил ваш прославленный и честный род? Почему ты хочешь,
чтобы этот человек нашел защиту? Почему я выступаю здесь вместо тебя,
почему я исполняю твой долг? Почему Марк Туллий требует
восстановления памятников Публия Африканского, а Публий Сципион защищает того,
кто уничтожил их? Неужели, несмотря на то, что обычай, завещанный нам
предками, требует, чтобы каждый оберегал памятники предков, не позволяя
даже украшать их чужим именем, ты станешь поддерживать того, кто не
просто преградил доступ с какой-либо стороны к памятнику Публия
Сципиона, а разрушил его и уничтожил до основания? (80) Скажи,— во имя
бессмертных богов! — кто же будет чтить память об умершем Публии
Сципионе, оберегать памятники, свидетельствующие о его доблести, если ты
их покидаешь, оставляешь на произвол судьбы и не только миришься с
надругательством над ними, но и защищаешь того, кто над ними надругался
и их осквернил?
Здесь находятся твои клиенты, жители Сегесты, союзники и друзья
римского народа; они тебе говорят, что Публий Африканский, разрушив
Карфаген, возвратил статую Дианы их предкам, что она была поставлена
в Сегесте и подвергнута дедикации от имени этого императора; что Веррес
приказал снять ее с подножия и увезти, а имя Публия Сципиона вообще
уничтожить и стереть всякие следы его; они умоляют и заклинают тебя
вернуть им их святыню, а твоему роду — честь и славу, чтобы то, что онит
благодаря Публию Африканскому, получили из вражеского города, они
могли, благодаря тебе, спасти из дома грабителя.
(XXXVII) Какой ответ можешь ты, говоря по чести, дать им? Что
могут они делать, как не умолять тебя о покровительстве? они находятся
здесь и тебя умоляют. Ты можешь поддержать величие своего рода,
Сципион, ты это можешь; в тебе есть все то, чем судьба или природа дарит
людей. Я не хочу заранее присваивать себе плоды того, что входит в твои
обязанности, и стяжать похвалы, довлеющие другим людям; чужих заслуг
я не добиваюсь; мне, при моем чувстве долга, не следует, пока жив и
невредим Публий Сципион, юноша в полном расцвете сил, объявлять себя
передовым бойцом и защитником памятников Публия Сципиона. (81)
Поэтому, если ты обязуешься оберегать славу своего рода, мне надо будет не
только молчать о ваших памятниках, но и радоваться, что Публию
Африканскому после его смерти выпала завидная доля: заслуженный им почет
защищают члены его же рода, и он не нуждается в чьей-либо посторонней
3, Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
87
помощи. Но если тебе мешает твое дружеское отношение к Верресу, если ты
полагаешь, что выполнение моего требования в твои обязанности не входит,
то я заменю тебя, я возьму на себя дело, которое я не считал своим.
Но пусть тогда ваша прославленная знать отныне перестанет сетовать на
то, что римский народ охотно предоставляет и всегда предоставлял
почетные должности деятельным новым людям83. Нечего сетовать на то, что в
нашем государстве, повелевающем всеми народами благодаря своей
доблести, самое большое значение придается именно доблести. Пусть другие
хранят у себя изображение Публия Африканского, пусть доблестью и именем
умершего украшаются другие; этот знаменитый муж был таким человеком,
оказал римскому народу такие услуги, что хранить его память должен не
один его род, а все государство. Это потому является и моей обязанностью
как человека, что я принадлежу к тому государству, которое он сделал
обширным, знаменитым и славным, особенно же и потому, что я по мере
своих сил подражаю ему в том, в чем он превосходил других людей: в
справедливости, трудолюбии, умеренности, в защите обиженных, в ненависти к
бесчестным; это родство, основанное на сходных стремлениях и трудах, не
менее тесно, чем то, каким гордитесь вы,— родство по происхождению и
имени.
(XXXVIII, 82) Я требую от тебя, Веррес, памятника Публия
Африканского; дело сицилийцев, которое я взялся вести, я оставляю; суда по
делу о вымогательстве пусть в настоящее время не будет; беззакониями но
отношению к жителям Сегесты пусть в настоящее время пренебрегут. Пусть
будет (восстановлен цоколь, поставленный Публием Сципионом; шусть
вырежут на нем имя непобедимого императора; пусть будет воздвигнута на ее
прежнем месте прекрасная статуя, взятая в Карфагене. Этого требует от
тебя не защитник сицилийцев, не твой обвинитель, не жители Сегесты, но
тот, кто взялся оберегать и охранять честь и славу Публия Африканского.
Я не боюсь, что выполнение мной этого долга не будет одобрено судьей
Публием Сервилием; так как он сам совершил величайшие подвиги и теперь
усиленно занят сооружением памятников, которые должны их увековечить,
он, конечно, захочет передать эти памятники не только своим потомкам, но
и всем храбрым мужам и честным гражданам для охраны, а не на
разграбление бесчестным людям. Я не боюсь, что ты, Квинт Катул, воздвигший
величайший и славнейший в мире памятник, не согласишься с тем, чтобы
возможно большее число людей было охранителями памятников и чтобы все
честные люди считали защиту славы других людей своей обязанностью.
(83) Меня самого остальные грабежи и гнусные поступки Верреса
возмущают лишь в такой мере, что я считаю нужным только осуждать их; но в этом
случае я испытываю сильнейшую скорбь, ибо мне кажется, что не
может быть поступка более недостойного, более недопустимого. Веррес
украсит памятниками Публия Африканского свой запятнанный развратом,
88
Речи Цицерона
запятнанный гнусностями, запятнанный позором дом? Веррес поместит
памятный дар высоконравственного, благороднейшего мужа — статую девы
Дианы — в доме, из которого не выходят гнусные распутницы и сводники.
(XXXIX, 84) Но, скажешь ты, это был единственный памятник
Публия Африканского, который ты осквернил! А разве в Тиндариде ты не
забрал прекрасной статуи Меркурия, воздвигнутой тем же Сципионом в
знак его благоволения к ее жителям? И каким образом,— бессмертные
боги!—как нагло, как самовольно, как бесстыдно! Вы недавно слышали
показания представителей Тиндариды, людей весьма уважаемых и первых
среди своих сограждан: статую Меркурия, в честь которого с величайшим
благоговением ежегодно совершались обряды, статую, которую Публий
Африканский, взяв Карфаген, отдал Тиндариде в память и в знак не только
своей победы, но и их верности как союзников, Веррес насильственно,
преступно, на основании своего империя у них отнял. Тотчас же по своем
приезде в этот город Веррес — словно это было не только допустимо, но и
совершенно необходимо, словно таково было поручение сената и повеление
римского народа — велел снять статую с цоколя и отправить в Мессану. (85)
Так как присутствовавшим это показалось возмутительным, а тем, кто об
этом слышал — невероятным, то он, в свой первый приезд не настаивал.
Уезжая, он поручил проагору 84 Сопатру, который уже давал вам показания,
снять статую с цоколя; когда тот не согласился, он стал ему угрожать и
немедленно уехал из города. Проагор доложил сенату; все ответили
решительным отказом. Коротко говоря, Веррес вторично приехал в город через
некоторое время и тотчас же осведомился о статуе. Ему ответили, что сенат
не дает своего согласия, что всякому, кто к ней прикоснется без разрешения
сената, грозит смертная казнь; заодно упомянули и о религиозном запрете.
Тогда Веррес: «О каком толкуешь ты мне религиозном запрете, о какой
казни, о каком сенате? Живым не выпущу; умрешь под розгами, если мне
не отдадут статуи». Сопатр вторично, со слезами на глазах, доложил сенату
о положении дела, сообщил об алчности и об угрозах Верреса. Сенаторы не
дали Сопатру никакого ответа, но разошлись в волнении и смятении.
Проагор, явившись по зову претора, объяснил ему положение дела и сказал ему,
что его требование не выполнимо. (XI) Обратите внимание (ведь не
следует пропускать ничего такого, что имеет отношение к бессовестности
Верреса), что это говорилось во время присутствия, всенародно, с кресла
наместника, с возвышенного места.
(86) Была глубокая зима; погода, как вы слышали от самого Сопатра,
была очень холодная, шел сильный дождь, как вдруг Веррес приказал
ликторам столкнуть Сопатра с портика, где сам он сидел, на форум и раздеть
донага; едва успел он отдать это распоряжение, как Сопатр уже стоял
голый, окруженный ликторами. Все думали, что несчастный и притом ни
в чем не виноватый человек будет засечен розгами. В этом они ошиблись.
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
89
Неужто Веррес станет без оснований сечь розгами союзника и друга
римского народа? Не настолько он бессердечен: не все пороки соединены в одном
человеке; никогда не был он жесток. Он обошелся с Сопатром мягко и
милосердно. В Тиндариде, как почти во всех городах Сицилии, посреди
форума стоят конные статуи Марцеллов; из них он выбрал статую Гая Мар-
целла85, который еще недавно оказал величайшие услуги этому городу и
вообще всей провинции. Вот к ней он и приказал привязать, с
разведенными руками и ногами, Сопатра, известного человека у него на родине и
к тому же занимающего высшую должность. (87) Какие мучения испытал
он, привязанный обнаженным под открытым небом, в дождь и холод, может
себе представить каждый. И этой оскорбительной жестокости был положен
конец не раньше, чем вся присутствовавшая толпа .народа, возмущенная
ужасным зрелищем и охваченная чувством сострадания, своим криком
заставила сенат обещать Верресу ту статую Меркурия. Люди кричали, что
бессмертные боги сами отомстят за себя, но что невинный человек не
должен погибать. Тогда сенат в полном составе явился к Верресу и обещал ему
отдать статую. Еле живой, почти окоченевший Сопатр был снят со статуи
Марцелла.
Я не могу обвинять Верреса с надлежащей последовательстью, если бы
и желал: для этого надо обладать не просто дарованием, но, так сказать,
особенным искусством. (XLI, 88) Этот случай со статуей Меркурия в
Тиндариде дает одну статью обвинения, и я представляю ее как таковую; между
тем в ней одной заключается несколько статей; как мне их различить и
разделить — не знаю. Здесь и вымогательство, так как Веррес взял у
союзников статую, стоившую больших денег, и казнокрадство, так как он не
поколебался присвоить себе статую, составлявшую собственность римского
народа, взятую из захваченной у врагов добычи и поставленную от имени
нашего императора; здесь и оскорбление величества86, так как он осмелился
снять и увезти памятник нашей державы, нашей славы и подвигов; здесь и
святотатство, так как он оскорбил величайшие святыни; здесь и жестокость,
так как он придумал новый и утонченный вид мучения для невинного
человека, вашего союзника и друга.
(89) Но вот чего не могу я понять, вот чему не придумаю я названия —
как он воспользовался для этого статуей Гая Марцелла. Почему? Не потому
ли, что это был патрон сицилийцев87? И что же? Какой вывод можно было
сделать из этого? Что это обстоятельство может означать для клиентов и
гостеприимцев и пользу и несчастье? Или ты хотел показать, что от твоего
самоуправства не защитит никакой патрон? Но кто же не знает, что
империй присутствующего негодяя сильнее покровительства отсутствующих
честных людей? Или, может быть, в этом поступке сказываются твое
поистине исключительное самомнение, заносчивость и спесь? Ты, видимо,
думал умалить величие Марцеллов. Так, значит, Марцеллы теперь уже не
90
Речи Цицерона
патроны сицилийцев; их место занял Веррес. (90) Какую же доблесть,
какие достоинства открыл ты в себе, раз ты попытался перевести на себя
клиентелу такой блистательной, такой знаменитой провинции, отняв ее у
надежнейших и давнишних патронов? Да разве ты, при твоей
испорченности, тупости и лености, можешь обеспечить клиентелу, уже не говорю —
всей Сицилии, нет, хотя бы одного, самого нищего сицилийца? И это тебе
статуя Марцелла послужила орудием для пытки клиентов Марцеллов?
Поставленный ему почетный памятник ты хотел превратить в орудие мучения
для тех, кто ему оказал почет? А далее? Какой представлял ты себе
дальнейшую участь своих собственных статуй? Такой ли, какой она оказалась
в действительности? Ведь как только жители Тиндариды узнали, что Вер-
ресу назначен преемник, они опрокинули статую Верреса, которую он велел
поставить рядом со статуями Марцеллов и притом на более высоком цоколе.
(XLII) Судьба, благоволящая сицилийцам, теперь дала тебе в качестве
судьи Гая Марцелла с тем, чтобы мы передали тебя, связанным и
скованным, на строгий суд тому человеку, к чьей статуе, во время твоей претуры,
привязывали сицилийцев. (91) Сначала, судьи, Веррес пытался
утверждать, что жители Тиндариды продали эту статую Меркурия
присутствующему здесь Марку Марцеллу Эсернину, и надеялся, что также и Марк Мар-
целл подтвердит это. Я всегда отказывался верить, что молодой человек из
такого знатного рода, патрон Сицилии, согласится дать свое имя для того,
чтобы снять вину с Верреса. Но мной все предусмотрено и приняты все
меры предосторожности, так что, если бы, сверх ожидания, и нашелся
охотник взять на себя вину Верреса и стать обвиняемым по этой статье, он все
же ничего не мог бы достигнуть; ибо я привез таких свидетелей и доставил
такие письменные доказательства, что в вине Верреса не может быть
никаких сомнений. (92) Из официальных записей видно, что статуя Меркурия
была отправлена в Мессану за счет города; в них говорится, каковы были
расходы; этим делом от имени города ведал легат Полея. Вы спросите, где
он? Здесь, среди свидетелей. Это было сделано по распоряжению проагора
Сопатра. Кто это такой? Тот самый, которого привязали к статуе. А он
где? Вы его видели и слышали его приказания. Снятием статуи с цоколя
распоряжался гимнасиарх88 Деметрий, ведавший местом, где она стояла. Что
же? Я ли это говорю? Да нет же — он сам, присутствующий здесь. По его
словам, сам Веррес, будучи уже в Риме, недавно обещал вернуть статую
представителям городской общины, если будут уничтожены доказательства
его виновности по этому делу и если представители ему поручатся, что не
выступят как свидетели. Это сказали в вашем присутствии Зосиип и Исме-
ний, знатнейшие люди и первые среди граждан Тиндариды.
(XLIII, 93) Далее, не похитил ли ты в Агригенте, из священнейшего
храма Эскулапа89, памятный дар того же Публия Сципиона — прекрасную
статую Аполлона, на бедре которой мелкими серебряными буквами было
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства») 91
написано имя Мирона? Когда он сделал это тайком, использовав для своего
злодеяния, для кощунственной кражи, в качестве наводчиков и пособников
нескольких бесчестных людей, городская община была сильно возмущена.
Ибо жители Агригента одновременно лишались дара Сципиона
Африканского, отечественной святыни, украшения города, памятника победы и
доказательства их союза с нами. Поэтому, по почину первых граждан того
города, квесторам и эдилам90 было поручено охранять храмы в ночное
время. Ведь, в Агригенте — мне думается, потому, что его население
многочисленно и состоит из честных людей, а также потому, что римские
граждане, стойкие и уважаемые люди, многочисленные в этом городе, живут с
коренными жителями душа в душу, занимаясь торговлей,— Веррес не
решался открыто требовать, а тем более уносить то, что ему нравилось.
(94) В Агригенте, невдалеке от форума, есть храм Геркулеса,
священный в глазах населения и глубоко почитаемый. В нем есть бронзовая
статуя самого Геркулеса, едва ли не самое прекрасное из всех произведений
искусства, когда-либо виденных мной (правда, я не так уж много понимаю
в таких вещах, но много видел их); его так глубоко почитают, судьи, что
его губы и подбородок несколько стерлись, потому что люди, при
просительных и благодарственных молитвах, не только обращаются к нему, но и
целуют его. К этому храму, во время пребывания Верреса в Агригенте,
в глухую ночь внезапно, под предводительством Тимархида, сбежалась
толпа вооруженных рабов и хотела ворваться в храм. Ночная стража и
хранители храма подняли крик; вначале они попытались оказать
сопротивление и защитить храм, но их отогнали, избив палицами и дубинами; затем,
сбив запоры и .выломав двери, нападавшие попытались снять статую с
цоколя и увезти ее на катках. Тем временем все услыхали крики, и по
всему городу разнеслась весть о том, что на статуи богов их отчизны
нападают, но что это не неожиданный вражеский налет и не внезапный
разбойничий набег, нет, из дома и из когорты претора91 явилась хорошо
снаряженная и вооруженная шайка беглых рабов. (95) В Агригенте не
было человека, который бы, узнав о случившемся, не вскочил с постели и
не схватил первого попавшегося ему под руку оружия, как бы слаб и стар
он ни был. В скором времени к храму сбежался весь город. Уже больше часа
множество людей выбивалось из сил, стараясь сдвинуть статую с места; но
она никак не поддавалась, хотя одни пытались подвинуть ее, подложив под
нее катки, другие тащили ее к себе канатами, привязав их ко всем ее
членам. Но вот внезапно сбежались жители Агригента; градом посыпались
камни; в бегство обратились ночные вояки прославленного императора. Две
крошечные статуэтки они все-таки прихватили, чтобы не возвращаться к
этому похитителю святынь с совсем пустыми руками. Нет такого горя,
которое бы лишило сицилийцев их способности острить и шутить; так и в
этом случае они говорили, что к числу подвигов Геркулеса теперь надо
92
Речи Цицерона
относить с одинаковым основанием победу и над этим чудовищным боровом
и над вепрем Эриманфским.
(XLIV, 96) Примеру доблестных жителей Агригента в дальнейшем
последовали жители Ассора, храбрые и верные мужи, хотя их город далеко
не так известен и знаменит. В пределах Ассорской области протекает река
Хрис. Жители считают ее божеством и почитают с величайшим
благоговением. Храм Хриса находится за городом у самой дороги из Ассора в Энну;
в нем стоит превосходная мраморная статуя этого божества. Вследствие
исключительной святости этого храма, Веррес не осмелился потребовать от
жителей Ассора эту статую. Он дал поручение Тлеполему и Гиерону. Они
явились ночью с вооруженными людьми и взломали двери храма. Но
храмовые служители и сторожа вовремя заметили их и затрубили в рог, чта
было сигналом, известным во всей округе; из всей окрестности сбежался
народ. Тлеполема вышвырнули и он обратился в бегство; в храме Хриса
не досчитались только одной бронзовой статуэтки.
(97) В Энгии есть храм Великой Матери 92. Теперь мне приходится не
только говорить о каждом случае очень кратко, но даже пропускать очень
многое, чтобы перейги к более важным и получившим большую известность
преступлениям Верреса в том же духе. В этом храме находятся бронзовые
панцири и шлемы коринфской чеканной работы и такой же работы
большие гидрии, сделанные с тем же совершенным мастерством; их принес в
дар все тот же знаменитый Сципион, выдающийся во всех отношениях муж,
велев вырезать на них свое имя. Но к чему мне так много говорить о Верре-
се и заявлять жалобы? Все это он похитил, судьи, и не оставил в глубоко
почитаемом храме ничего, кроме следов своего святотатства и имени Публия
Сципиона. Отбитым доспехам врагов, памятникам императоров, украшениям
и убранству храмов отныне суждено, расставшись с этими славными
именами, стать частью домашней обстановки и утвари Гая Верреса.
(98) Очевидно, ты один получаешь наслаждение от вида коринфских
ваз, ты со всей тонкостью разбираешься в составе этой бронзы, ты можешь
оценить их линии. Так значит, знаменитый Сципион, хотя и был ученейшим
и просвещеннейшим человеком, этого не понимал, а ты, человек без всякого-
образования, без вкуса, без дарования, без знаний, понимаешь это и умеешь
оценить! Смотри, как бы не оказалось, что он не только своей умеренностью,
но и пониманием превосходил тебя и тех, которые хотят, чтобы их называли
знатоками. Ибо Сципион, понимая, насколько эти вещи красивы, считал
их созданными не как предметы роскоши для жилищ людей, а для
украшения храмов и городов, чтобы наши потомки считали их священными
памятниками.
(XLV, 99) Послушайте, судьи, и об исключительной жадности,
дерзости и безумии Верреса, проявившихся к тому же в осквернении такой
святыни, которая считалась неприкосновенной не только для рук, но и для
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
93
помышлений человеческих. Есть в Катине святилище Цереры, почитаемой
там так же благоговейно, как в Риме, как в других местностях, как, можно
сказать, во всем мире93. Во внутренней части этого святилища находилась
очень древняя статуя Цецеры, причем мужчины не знали, не говорю уже —
о ее внешнем виде, но даже о ее существовании; ибо доступ в это святилище
запрещен мужчинам; обряды совершаются женщинами и девушками.
Статую эту рабы Верреса унесли тайком, ночью, из того священнейшего и
древнейшего места. На другой день жрицы Цереры и настоятельницы этого
храма, знатные женщины преклонного возраста и чистой жизни, донесли
своим властям о случившемся. Все были поражены, возмущены и удручены.
(100) Тогда Веррес, будучи встревожен тяжестью своего проступка и желая
отвести от себя подозрение в этом злодействе, поручил одному из своих го-
степриимцев подыскать кого-нибудь, чтобы свалить на него эту вину и
добиться его осуждения по этому обвинению, дабы самому избежать
ответственности. Откладывать дело не стали. Когда Веррес уехал из Катины, на
одного раба была подана жалоба; он был обвинен; были выставлены
лжесвидетели; дело, на основании законов, разбирал катинский сенат, собравшийся
в полном составе. Были вызваны жрицы; их тайно спросили в курии, каково
их мнение о случившемся и каким образом статую можно было похитить.
Они ответили, что в храме видели рабов претора. Дело, которое и раньше
не было темным, стало, благодаря показаниям жриц, вполне ясным. Суд
начал совещаться. Раба единогласно признали невиновным, чтобы вы тем
легче могли единогласно вынести Верресу обвинительный приговор.
(101) В самом деле, чего ты требуешь, Веррес, на что надеешься, чего
ждешь? Кто из богов или людей, по-твоему, придет тебе на помощь? Не
туда ли осмелился ты, для ограбления святилища, послать рабов, куда и
свободным людям божественный закон не разрешал входить даже с
дарами? Не на те ли предметы ты наложил без всяких колебаний свою руку, от
которых священные заветы велели тебе даже отводить взор? При этом ведь
не твои глаза соблазнили тебя совершить такой злодейский, такой
нечестивый поступок; ибо ты пожелал того, чего никогда не видел; повторяю, ты
страстно захотел иметь то, на что тебе ранее и взглянуть не пришлось. На
основании слухов ты воспылал такой безмерной жадностью, что ее не
сдержали ни страх, ни запрет, ни гнев богов, ни мнение людей. (102) Но ты,
быть может, слышал об этой статуе от честного и заслуживающего доверия
человека. Как же это было возможно, когда от мужчины ты вообще не мог
о ней слышать? Следовательно, ты слышал о ней от женщины, так как муж
чины не могли ни видеть ее, ни знать о ней. Но какова, по вашему мнению,
судьи, была та женщина. Сколь целомудренна была она, раз она
беседовала с Верресом; сколь благочестива, раз она его научила, как ограбить
святилище! Ясно, что таинства, совершаемые девушками и женщинами
необычайной непорочности, осквернены гнусным кощунством Верреса.
94
Речи Цицерона
(XLVI) И вы полагаете, что это единственный случаи, когда он вздумал
добыть себе то, о чем он только слыхал, но чего сам не видел? Нет, была
много и других таких случаев; из них я остановлюсь на ограблении
известнейшего и древнейшего святилища, о котором свидетели говорили при
первом разборе дела. Выслушайте теперь, пожалуйста, мой рассказ об этом же
и притом с таким же вниманием, как и до сих пор.
(103) Остров Мелита, судьи, отделен от Сицилии довольно широким и
опасным морем; на острове есть город того же имени, где Веррес никогда
не был, что, однако, не помешало ему превратить этот город на три года в
мастерскую тканей94 для женщин. Невдалеке от этого города стоит на
мысе древний храм Юноны, всегда почитавшийся так глубоко, что не
только во времена пунических войн, происходивших вблизи от этих мест и
сопровождавшихся большими морскими боями, но и ныне, при присутствии
здесь множества морских разбойников, он всегда был неприкосновенным
и священным. Более того, по рассказам, когда к этому месту однажды
пристал флот царя Масиниссы, военачальник царя взял из храма слоновые
бивни огромной величины, привез их в Африку и принес в дар Масиниссе.
Царь вначале обрадовался подарку, но затем, узнав, откуда эти бивни,
немедленно отправил на квинквереме 95 верных людей, чтобы они возвратили,
эти бивни по принадлежности. По этому случаю на них была сделана
надпись пуническими буквами, гласившая, что царь Масинисса, по неведению,
принял эти предметы, но, узнав об обстоятельствах дела, велел доставить
их обратно и возвратить храму. Кроме того, в храме было много слоновой
кости, много украшений и среди них две сделанные из слоновой кости
статуэтки Победы, прекрасные произведения искусства, древней работы.
(104) Чтобы не говорить много, окажу, что Веррес, дав один приказ, при
посредстве посланных им для этого рабов Венеры, забрал и увез все эти
предметы.
(XLVII) О, бессмертные боги! Кого обвиняю, кого преследую я на
основании законов и права? О ком вынесете вы свой приговор, подавая
таблички? Представители Мелиты официально заявляют, что храм Юноны
ограблен, что Веррес в этом неприкосновеннейшем святилище не оставил
ничего, что в том месте, где часто приставали флоты врагов, где чуть ли не
из года в год зимовали пираты, храм, которого ранее «е осквернял ни один
разбойник и никогда не касался враг, ограблен Верресом и в нем ничего не
оставлено. Что же, и теперь придется называть его обвиняемым, меня —
обвинителем, а вас — судьями? Против него имеются некоторые статьи
обвинения; он привлечен к суду на основании подозрений. А между тем
установлено, что похищены статуи богов, ограблены храмы, опустошены города;
после таких злодеяний Веррес не оставил себе никакого пути для отрицания
своей вины, никакой возможности оправдаться. Он во всем изобличен мной,
уличен свидетелями, уничтожен собственным признанием; он в сетях своих
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
95
явных злодеяний — и все же он остается здесь и молча, вместе со мной,
следит за раскрытием своих собственных поступков.
(105) Я пожалуй, слишком долго занимаюсь обвинениями одного рода;
я сознаю, судьи, что мне не следует утомлять ваш слух и ваше внимание.
Поэтому я многое обойду молчанием. Но — во имя бессмертных богов, тех
самых, о почитании которых мы говорим уже долго! — чтобы выслушать то,
что я собираюсь сказать, прошу вас, судьи, набраться новых сил, дабы их
вам хватило, пока я буду подробно рассказывать вам о преступлении
Верреса, которое потрясло всю провинцию. Если вам покажется, что я слишком
углубляюсь в прошлое, чтобы проследить, откуда -идет это почитание, то
простите это мне: важность дела не позволяет м«е быть кратким в
повествовании об этом страшном преступлении.
(XLVIII, 106) Согласно старинному верованию, судьи, о котором
свидетельствуют древнейшие греческие писания и памятники, остров Сицилия
весь был посвящен Церере и Либере 96. Если так полагают и другие народы,
то сами сицилийцы в этом вполне убеждены, и это верование, можно
сказать, вошло в их плоть и кровь. Они верят, что здесь родились эти богини,
что хлебопашество впервые возникло на их земле, что Либера, которую они
называют также Просерпиной, была похищена в роще близ Энны; это
место, расположенное в средней части острова, называется «пупом
Сицилии». Желая напасть на след Либера и найти ее, Церера, говорят, зажгла
свои факелы от огней, вырывающихся из вершины Этны, и, неся их перед
собой, обошла весь мир. (107) Энна, где, по преданию, происходило то, о
чем я говорю, расположена на очень высоком, господствующем над
окрестностью плоскогорье с неиссякающими источниками; со всех сторон подъем
крут и обрывист. Вблизи Энны очень много озер и рощ, где круглый год
цветут прекрасные цветы, так что само место свидетельствует о том, что
именно здесь и произошло похищение девушки, о котором мы слышали еще
в детстве. И в самом деле, поблизости находится неизмеримой глубины
пещера, обращенная на север; из нее, говорят, неожиданно появился на
своей колеснице отец Дит, который схватил девушку и увез с собой;
невдалеке от Сиракуз он внезапно исчез под землей, а на этом месте тотчас же
образовалось озеро; на его берегу сиракузяне и поныне справляют
ежегодные празднества при огромном стечении мужчин и женщин.
(XLIX) В свяьи с древним верованием, что в этой местности есть
следы пребывания этих божеств и что здесь, можно сказать, стояла их
колыбель, во всей Сицилии как частными лицами, так и городскими
общинами воздаются особенные почести Церере Эннской. Многочисленные
чудеса свидетельствуют о ее божественной силе; много раз оказывала она
людям в трудную минуту их жизни верную помощь, так что богиня,
казалось, не только любит этот остров, но и обитает на нем и охраняет его. (108)
И не только сицилийцы, но и другие племена и народы глубоко чтут эннскую
96
Речи Цицерона
Цереру. Действительно, если принимать участие в священнодействиях
афинян стремятся все люди, хотя Церера только посетила Афины, во время
своих скитаний и принесла туда плоды земледелия97, то как глубоко
должны чтить богиню те, в чьей стране она, как известно, родилась и
научила людей земледелию впервые! Поэтому во времена наших отцов, тяжкие и
трудные для государства, когда был убит Тиберий Гракх, все с ужасом
ожидали великих бедствий, предвещаемых зловещими знамениями, в
консульство Публия Муция и Луция Кальпурния 98 обратились к Сивиллиным
книгам", в которых было найдено повеление умилостивить древнейшую
Цереру. И хотя в нашем городе находился прекрасный и великолепный
храм Цереры 10°, все же жрецы римского народа из знаменитой коллегии
децемвиров выехали в самую Энну. Ибо там с древнейших времен почитали
Цереру столь глубоко, что люди, выезжая туда, казалось, отправлялись не
в храм Цереры, а к самой Церере.
(109) Не стану злоупотреблять вашим вниманием; моя речь, пожалуй,
уже давно не подходит для суда и не похожа на речи, какие принято
произносить. Скажу прямо: эта самая Церера, древнейшая и священнейшая
родоначальница всех таинств, совершаемых у всех племен и народов, из храма,
где она стояла, Гаем Верресом была похищена. Если вы бывали в Энне, вы
видели мраморную статую Цереры, а в другом храме — статую Либеры.
Они огромной величины и очень красивы, но не очень древние. Была другая
статуя, из бронзы, не особенно больших размеров, но прекрасной работы,
с факелами, очень древняя, наиболее древняя из всех статуй, находящихся
в том храме. Ее он и похитил и все же этим не был доволен. (110) Перед
храмом Цереры, на открытой и обширной площадке, стоят две статуи,—
Цереры и Триптолема 101 —очень красивые и огромных размеров; их
красота была опасна для них, но их размеры — спасительны, так как снять их с
цоколей и перевезти оказалось непосильной задачей. В правой руке у
Цереры была большая, прекрасной работы, статуя Победы 102; Веррес
приказал снять ее со статуи Цереры и доставить ему.
(L) Что же должен теперь испытывать Веррес, вспоминая свои
злодеяния, когда я сам, упоминая о них, не только скорблю душой, но и
содрогаюсь всем телом? Я живо представляю себе и храм, и местность, и
священные обряды; перед моими глазами встает все: тот день, когда, после моего
приезда в Энну, жрицы Цереры вышли мне навстречу с ветвями, обвитыми
повязками103; народ, собравшийся на сходку, конвент римских граждан:
там, во время моей речи, было столько стонов и слез, что казалось, будто
весь город рыдает в тяжкой скорби. (111) Не требования насчет десятин,
не расхищение их имущества, не беззакония в судах, не возмутительный
разврат Верреса, не насилия и оскорбления, какими он терзал и угнетал их,
заставили .их принести мне жалобы; нет, за поругание Цереры, ее
древних обрядов, ее священного храма требовали они искупительной кары
для этого преступнейшего и наглейшего человека; все прочее, они говорили,
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
97
согласны они претерпеть и предать забвению. Их скорбь была так велика,
словно в Энну явился новый Орк и не Просерпину увез, а похитил самое
Цереру.
И в самом деле тот город кажется не городом, а храмом Цереры; жители
Энны считают, что Церера обитает среди них, так что они кажутся мне не
гражданами своей общины, а все — жрецами, все — обитателями и
хранителями храма Цереры. (112) И из Энны ты осмелился увезти статую
Цереры? В Энне ты попытался вырвать Победу из руки Цереры и отнять
богиню у богини? Их не осмелились ни осквернить, ни коснуться те, которые,
по всем своим качествам, были склонны скорее к злодейству, чем к
благочестию. Ведь в консульство Публия Попилия и Публия Рупилия 104 эта
местность была в руках у рабов, беглых, варваров, врагов; но они не в такой
мере были рабами своих господ, в какой ты — рабом своих страстей; они не
так стремились бежать от своих господ, как ты — от права и законов; они
не были такими варварами по языку и происхождению, как ты — по натуре
и нравам, не были столь враждебны людям,, как ты — бессмертным богам.
Какое же снисхождение можно оказать ему, превзошедшему рабов
низостью, беглых дерзостью, варваров преступностью, врагов жестокостью?
(LI, 113) Вы слышали официальное заявление Феодора, Нумения и Ни-
касиона, представителей Энны, о поручении, данном им их согражданами:
обратиться к Верресу с требованием возвратить городу статуи Цереры и
Победы; в случае его согласия, остаться верными древнему обычаю
населения Энны и, хотя Веррес и был мучителем Сицилии, все-таки, следуя
заветам предков, не выступать со свидетельскими показаниями против него;
если же он не возвратит статуй, то явиться в суд, рассказать судьям о его
беззакониях, но главным образом, заявить жалобу на оскорбление религии.
Во имя бессмертных богов! —не будьте глухи к их жалобам, не
относитесь к ним с презрением и пренебрежением, судьи! Дело идет о
беззакониях, совершенных по отношению к союзникам, дело идет о значении
законов, об уважении к суду и о правосудии. Все это очень важно, но вот что
самое важное: вся провинция охвачена таким сильным страхом перед
богами, из-за деяний Верреса всеми сицилийцами овладел такой суеверный
ужас, что всякое несчастье, какое бы ни случилось,— с городской ли
общиной или же с частным лицом — связывают со злодейством Верреса. (114)
Вы слышали официальные заявления жителей Центурип, Агирия, Катины,
Этны, Гербиты и многих других городов о том, в какую пустыню
превращены их поля, как они разорены, как много земледельцев бежало, оставив
свои поля незасеянными, покинув их на произвол судьбы. И хотя это
случилось вследствие многочисленных и разнообразных беззаконий Верреса, но
сицилийцы придают наибольшее значение одному обстоятельству: гибель
всех посевов и даров Цереры в этих местностях объясняют оскорблением,
нанесенным Церере.
* Цицерон, т. I
98
Речи Цицерона
Поддержите страх союзников перед богами, судьи, сохраните свой
собственный. Ведь эти верования вовсе не безразличны для вас и вам не
чужды, и даже если бы это было так, если бы вы не хотели перенять их, вам
все же следовало бы покарать того, кто оскорбил эти верования. (115) Но
теперь речь идет о религии, общей всем народам, и о священнодействиях,
которые наши предки восприняли и совершали, заимствовав их от
чужеземных народов, о священнодействиях, названных ими греческими, какими
они и были в действительности. Как же можем мы, даже если бы и
пожелали, быть равнодушными и беспечными?
(LII) Теперь я напомню и подробно опишу вам, судьи, разграбление
одного только города, но прекраснейшего и богатейшего из всех городов —
Сиракуз, чтобы, наконец, закончить эту часть своей речи. Среди вас,
пожалуй, нет никого, кто бы не слышал и не читал в летописях рассказа о
том, как Сиракузы были взяты Марком Марцеллом. Сравните же
нынешнее состояние мира с тогдашней войной; приезд этого претора сравните с
победой того императора, запятнанную когорту Верреса — с непобедимым
войском Марцелла, произвол одного — с воздержностью другого. Вы
скажете, что тот, кто завоевал Сиракузы, был их основателем, а тот, кто
получил их благоустроенными, вел себя, как завоеватель. (116) Обхожу теперь
молчанием то, о чем я уже говорил и еще буду говорить во многих местах
своей речи: форум в Сиракузах, не запятнанный убийствами при
вступлении Марцелла в город, был залит кровью невинных сицилийцев при
приезде Верреса; сиракузская гавань, остававшаяся недоступной и для нашего
и для карфагенского флотов, во время претуры Верреса была открыта для
миопаро«а килийцев 105 и для морских разбойников. Не стану говорить о
его насильственных действиях по отношению к свободнорожденным, о его
надругательствах над матерями семейств — обо всем том, чего тогда в
завоеванном городе не позволили себе ни разъяренные враги, ни буйные
солдаты, ни по обычаю войны, ни по праву победы; повторяю, я обхожу
молчанием все это, совершавшееся Верресом в течение трех лет его претуры.
Расскажу вам о том, что тесно связано с событиями, о которых я уже говорил.
(117) Вы не раз слышали, что Сиракузы — самый большой из
греческих городов и самый красивый 106; это действительно так, судьи! Ибо он
очень выгодно расположен, и как с суши, так и с моря вид его великолепен;
его гавани находятся внутри городской черты, к ним то тут, то там
прилегают городские здания; имея самостоятельные входы, эти гавани
соединяются и сливаются; там, где они соединяются друг с другом, узкий морской
пролив отделяет одну часть города, называемую Островом; эта часть
сообщается с остальными частями города посредством моста.
(LIII, 118) Город этот так велик, что может показаться, будто он
состоит из четырех огромных городов. Один из них, тот, о котором я уже
говорил,— Остров, омываемый двумя гаванями, выдается далеко в море,
5. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
99
соприкасается с входами в обе гавани и доступен с обеих сторон. Здесь
стоит дворец, принадлежавший царю Гиерону и теперь находящийся в
распоряжении преторов. Здесь же очень много храмов, но два из них намного
превосходят все остальные: один — Дианы, другой, до приезда Верреса
поражавший своим богатством,— Минервы. На самом краю Острова течет
ручей с пресной водой, называемый Аретусой, очень широкий, кишащий
рыбой; если бы он не был отделен от моря каменной плотиной, то морские
волны вливались бы в него. (119) Второй город в Сиракузах называется
Ахрадиной; здесь есть обширный форум, красивейшие портики,
великолепный пританей107, величественная курия и замечательный храм Юпитера
Олимпийского, выдающееся произведение искусства; остальные части
этого города, пересекаемые одной широкой продольной улицей и многими
поперечными, застроены частными домами. Третий город называется Тихэ,
так как в этой части города был древний храм Фортуны; в нем есть
огромный гимнасий, множество храмов; эта часть города сильно застроена и
густо населена. Четвертый город называется Неаполем 108, так как был
построен последним; в самой возвышенной части его находится огромный
театр и, кроме того, два прекрасных храма: Цереры и Либеры, а также и
очень красивая статуя Аполлона Теменита 109, которую Веррес похитил бы
без всяких колебаний, если бы смог ее перевезти.
(LIV, 120) Возвращусь теперь к деяниям Марцелла, дабы не казалось,
что я без оснований упомянул обо всем этом. Взяв приступом столь
великолепный город, он решил, что если вся эта красота будет разрушена и
уничтожена, то это римскому народу чести и славы не принесет, тем более, что
красота эта ничем не угрожала. Поэтому он пощадил все здания как
общественные, так и частные, храмы и жилые дома, словно пришел с войском
для их защиты, а не для завоевания. А украшения города? Тут он
руководствовался и правами победителя и требованиями человечности; по его
мнению, по праву победителя ему следовало отправить в Рим многие предметы,
которые могли украсить Рим; но как человек он не хотел подвергать
полному разграблению город, тем более такой, который он сам пожелал
сохранить. (121) При распределении украшений города победа Марцелла дала
римскому народу столько же, сколько его человечность сохранила для
жителей Сиракуз. То, что привезено в Рим, мы можем видеть в храме
Чести и Доблести и кое-где в других местах. Ни у себя в доме, ни в садах
своих, ни в загородной усадьбе он не поставил ничего. Он полагал, если он
не привезет в свой дом украшений, принадлежащих городу, то сам его дом
будет служить украшением городу Риму. В Сиракузах, напротив, он
оставил очень много и притом редкостных памятников искусства; из богов же
он не оскорбил ни одного и не прикоснулся ни к одному священному
изображению. Сравните Верреса с Марцеллом — не для того, чтобы
сопоставить их, как человека с человеком (этим великому мужу было бы посмертно
7*
100
Речи Цицерона
нанесено оскорбление), но чтобы сравнить мир с войной, законы с насилием,
правосудие на форуме с господством оружия, приезд наместника и его свиты
с вступлением победоносного войска.
(LV, 122) На Острове есть храм Минервы, о котором я уже говорил.
Марцелл его не тронул, его богатства и украшения оставил в целости;
Веррес же так обобрал и разграбил его, как его мог опустошить не враг,
который даже во время войны уважает святыню и обычаи, а морские
разбойники-варвары. В храме были по стенам развешаны картины, изображавшие
бой конницы царя Агафокла ио. Картины эти считались верхом
совершенства и главной достопримечательностью Сиракуз. Марк Марцелл, хотя его
победа и сняла религиозный запрет со всех этих предметов111, все-таки, из
благочестия, не тронул этих картин. Веррес же, получив их священными и
неприкосновенными в связи с длительным миром и верностью жителей
Сиракуз, все те картины забрал ce6ie, а стены, украшения которых
сохранялись в течение стольких веков и избежали опасности во время стольких войн,
оставил голыми и обезображенными. (123) Марцелл, давший обет — в
случае, если он возьмет Сиракузы, построить в Риме два храма, не пожелал
украсить будущие храмы захваченными им предметами. Веррес, давший
обеты не Чести и Доблести, как это сделал Марцелл, а Венере и Купидону,
попытался ограбить храм Минервы. Марцелл не хотел одаривать богов
добычей, .взятой у богов; Веррес перенес украшения девственницы Минервы
в дом распутницы 112. Кроме того, он унес из храма двадцать семь
превосходных картин, изображавших сицилийских царей и тираннов и не только
радовавших глаз мастерством живописцев, но и будивших воспоминания о
людях, чьи черты они передавали. Решайте сами, насколько этот тиранн
был для жителей Сиракуз отвратительнее любого из прежних: те все же
украсили храмы бессмертных богов, этот похитил даже памятники и
украшения, поставленные ими.
(LVI, 124) Далее, упоминать ли мне о дверях этого храма? Пожалуй,
те, кто их не видел, подумают, что я все преувеличиваю и приукрашаю. Но
пусть никто не подозревает меня в таком пристрастии и не думает, что я
пошел бы даже на то, чтобы столько уважаемых людей (тем более из числа
судей), которые бывали в Сиракузах и видели то, о чем я говорю, уличили
меня в безрассудстве и лжи. Могу с уверенностью утверждать, судьи, что
ни в одном храме не было более великолепных, более искусно сделанных из
золота и слоновой кости дверных створ. Трудно поверить, сколько греков
оставило описание их красоты. Они, быть может, склонны черезчур
восхищаться такими предметами и их превозносить; допустим; так вот, судьи,
для нашего государства больше чести от того, что наш император во время
войны оставил нетронутыми те предметы, которые грекам кажутся
красивыми, чем от того, что претор в мирное время похитил их. Дверные створы
были украшены тончайшими изображениями из слоновой кости. Веррес
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
101
постарался, чтобы все они были сорваны; великолепную голову змееволо-
сой Горгоны он тоже сорвал и взял себе; при этом он, однако, доказал, что
его привлекает вовсе не только мастерство, но и стоимость вещи и желание
поживиться; ибо он без всяких колебаний забрал себе все многочисленные и
тяжелые золотые шары, укрепленные на этих дверях и понравившиеся ему
не работой, а своим весом. Таким образом, двери, некогда созданные,
главным образом, для украшения храма, он оставил в таком виде, что они
отныне годятся только на то, чтобы его запирать. (125) Даже бамбуковые
копья — помню ваше изумление, когда о них говорил один из свидетелей,
так как в них не было ничего особенного и достаточно было взглянуть на
них один раз,— не замечательные ни своей работой, ни своей
красотой, а только своей необычайной длиной, о которой, однако, достаточно
услыхать (а видеть их более одного раза вовсе не нужно),— и на них ты
польстился.
(LVII, 126) Другое дело — Сапфо; похищение ее статуи из пританея
вполне оправдано и его, пожалуй, следует признать допустимым и
простительным. Неужели возможно, чтобы столь совершенным, столь изящным,
столь тщательно отделанным произведением Силаниона113 владел
кто-нибудь другой, не говорю уже — частное лицо, но даже народ, а не такой
утонченный знаток и высоко образованный человек —Веррес? Возразить,
конечно, нечего. Ведь если любой из нас — мы ведь не так богаты, как он, и не
можем быть такими изощренными — захочет взглянуть на какое-нибудь из
таких произведений искусства, то ему придется пройтись до храма Счастья,
к памятнику Катула 1И, в портик Метелла 115, добиваться доступа в тускуль-
скую усадьбу одного из этих знатоков, любоваться украшенным форумом,
если только Веррес соблаговолит предоставить эдилам ту или иную из своих
драгоценностей. Но Веррес, конечно, пусть держит все эти предметы у себя;
Веррес пусть заполняет свой дом украшениями городов и храмов, забивает
ими свои усадьбы. И вы, судьи, будете переносить увлечения и любимые
утехи этого грузчика, которому, по его рождению и воспитанию, по
свойствам души и тела, по-видимому, следовало бы скорее перетаскивать
статуи, чем таскать их к себе? (127) Трудно выразить словами ту скорбь,
какую вызвало похищение этой статуи Сапфо. Ибо, помимо того, что это было
само по себе редкостное произведение искусства, на ее цоколе была вырезана
знаменитая греческая эпиграмма П6, которую этот образованный человек и
поклонник греков, умеющий так тонко обо всем судить, он, этот
единственный ценитель искусства, наверное, тоже утащил бы к себе, если бы знал
хотя бы одну греческую букву; теперь надпись на пустом цоколе говорит,
что на нем стояло, и обличает похитителя.
Далее, разве ты не похитил из храма Эскулапа статую Пэана 117,
прекрасной работы, священную и неприкосновенную? Красотой ее все
любовались, святость ее чтили. (128) А разве не по твоему приказанию из храма
102
Речи Цицерона
Либера у всех на глазах было унесено изображение Аристея? ,18 А из
храма Юпитера разве ты не забрал священнейшей статуи
Юпитера-Императора, которого греки называют Урием 119, статуи прекрасной работы?
Далее, разве ты поколебался взять из храма Либеры знаменитую голову Пэа-
на, чудесной работы, из паросского мрамора, которой мы так часто
любовались? А между тем в честь этого Пэана, вместе с Эскулапом, сиракузяне
ежегодно устраивали празднества. Что касается Аристея, которого греки
считают сыном Либера и который, как говорят, впервые добыл оливковое
масло, то ему в Сиракузах поклонялись в одном и том же храме вместе
с отцом Либером.
(LVIII, 129) А знаете ли вы, каким почетом пользовался Юпитер-
Император в своем храме? Вы можете себе представить это, если вспомните,
как глубоко почитали сходное с (ним и столь же прекрасное изображение
Юпитера, которое Тит Фламинин захватил в Македонии и поставил в
Капитолии. Вообще во всем мире, говорят, было три одинаковых и
великолепнейших статуи Юпитера-Императора: первая — македонская, которую
мы видели в Капитолии 120; вторая, что стоит у узкого пролива, ведущего в
Понт; третья — та, которая, до претуры Верреса, находилась в Сиракузах.
Первую Фламинин увез из храма Юпитера, но с тем, чтобы поставить ее
в Капитолии, то есть в земном жилище Юпитера. (130) Статуя,
находившаяся у входа в Понт, и по сей день цела и невредима, несмотря на то, что
немало войн начиналось в пределах этого моря, а впоследствии
распространялось на Понт. Третью же статую, находившуюся в Сиракузах,
которую Марк Марцелл, победитель с оружием в руках, видел, но не
тронул из уважения к религиозному чувству населения и которую чтили
граждане и поселенцы, а приезжие посещали не только с целью осмотра, но и для
поклонения ей,— ее Гай Веррес из храма Юпитера похитил. (131)
Возвращаясь еще раз к Марцеллу, выскажу вам свое мнение: жители Сиракуз
потеряли больше богов после приезда Мерреса, чем своих граждан после
победы Марцелла. И ,в самом деле, Марцелл, говорят, даже разыскивал
знаменитого Архимеда, человека величайшего ума и учености, и был глубоко
опечален вестью о его гибели 121; а все, что разыскивал Веррес, не
сохранялось, а похищалось.
(LIX) Оставляю в стороне то, что покажется менее значительным,—
похищение мраморных дельфийских столов, прекрасных бронзовых
кратеров 122, множества коринфских ваз, совершенное Верресом во всех храмах
Сиракуз. (132) Поэтому, судьи, все те, кто сопровождает приезжих и
показывает им каждую достопримечательность Сиракуз (так называемые
мистагоги), уже изменили способ показа: раньше они показывали, где что есть,
теперь же сообщают, откуда что похищено.
Так что же? Уже не думаете ли вы, что горе, причиненное сицилийцам,
не особенно велико? Это не так судьи! Во-первых, все люди дорожат своей
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
103
религией и считают своим долгом свято почитать богов отчизны и беречь
их изображения, завещанные им их предками; затем, эти украшения, эти
произведения искусных мастеров, статуи и картины несказанно милы сердцу
греков. Из их жалоб мы можем понять, сколь тяжела для них эта утрата,
которая нам, быть может, кажется незначительной и не заслуживающей
внимания. Поверьте мне, судьи,— хотя вы и сами, наверное, слышали об
этом — из всех несчастий и обид, испытанных в течение последнего
времени союзниками и чужеземными народами, ничто не причинило и не
причиняет грекам такой скорби, как подобные ограбления храмов и городов.
(133) Сколько бы Веррес, по своему обыкновению, ни говорил, что он
эти предметы купил, поверьте мне, судьи: «и во всей Азии, ни в Греции нет
ни одной городской общины, которая бы .когда-либо продала кому-нибудь
хотя бы одну статую, картину, словом, какое-либо украшение их города.
Или вы, быть может, думаете, что греки, после того как в Риме перестали
выносить строгие судебные приговоры, начали вдруг продавать те вещи,
которые они в то время, когда приговоры выносились суровые, не только
не продавали, но даже скупали? Уже не думаете ли вы, что, в то время как
Луцию Крассу, Квинту Сцеволе 123, Гаю Клавдию, могущественнейшим
людям, как мы видели, пышно отпраздновавшим свой эдилитет, греки этих
предметов не продавали, они стали продавать их тем лицам, которые были
избраны в эдилы после того, как суды стали снисходительнее?
(LX, 134) Знайте — эта ложная и мнимая покупка даже более
огорчительна для городских общин, чем тайный захват или же открытое
похищение и увоз. Ибо они считают величайшим позором для себя запись в
городских книгах, удостоверяющую, что граждане, за плату и притом небольшую,
согласились продать и уступить предметы, полученные ими от предков.
Действительно, можно только удивляться, как сильно греки дорожат этими
предметами, которыми мы пренебрегаем. Вот почему наши предки охотно
допускали, чтобы у греков было возможно больше таких предметов: у
союзников — для того, чтобы они возможно больше преуспевали и
благоденствовали под нашим владычеством; у тех же, кого они облагали податями и данью,
они все-таки оставляли эти предметы, дабы люди, которых радует то, что
нам кажется несущественным, получали от этого удовольствие и утешались
в своем рабстве. (135) Как вы думаете? Сколько жители Регия, ныне
римские граждане, хотели бы получить за то, чтобы от них увезли знаменитую
мраморную статую Венеры? Сколько жители Тарента взяли бы за Европу
на быке, за Сатира, находящегося в храме Весты в их городе, и за другие
статуи? Жители Феспий — за статую Купидона, жители Книда — за
мраморную Венеру, жители Коса — за писанную красками, жители Эфеса —
за Александра, жители Кизика — за Аянта или за Медею, жители
Родоса — за Иалиса -124, афиняне — за мраморного Иакха 125, или за писанного Па-
рала 126, или за бронзовую коровку Мирона? Много времени заняло бы,
104
Речи Цицерона
да и нет необходимости перечислять одну за другой достопримечательности
во всей Азии и Греции; я говорю об этом только потому, что хочу, чтобы
вы поняли, как глубоко бывают удручены те, из чьих городов увозят такие
произведения.
(LXI, 136) Но оставим в стороне других; послушайте о самих жителях
Сиракуз. По приезде своем в Сиракузы, я вначале, в соответствии с тем,
что узнал в Риме от друзей Верреса, думал, что в связи с делом о
наследстве Гераклия 127 сиракузская община расположена к Верресу не менее, чем
мамертинская, его соучастница в грабежах и хищениях. В то же время я
боялся — в случае, если я найду что-нибудь в книгах жителей Сиракуз,—
нападок вследствие влияния знатных и красивых женщин, руководивших
Верресом в течение трех лет его претуры, и вследствие чрезмерной, не
говорю уже — сговорчивости, но даже щедрости к нему, проявленной их
мужьями 128. (137) Поэтому в Сиракузах я встречался с римскими гражданами,
знакомился с их книгами, расследовал нанесенные им обиды. Устав от этой
продолжительной и кропотливой работы, я, для отдыха и развлечения,
обратился к знаменитым книгам Карпинация 129, где я вместе с римскими
всадниками, самыми уважаемыми членами конвента, разоблачил его «Вер-
руциев», о которых я уже говорил 130; от сиракузян я совсем не ожидал
помощи — ни официально, ни частным образом, да и не собирался
требовать ее.
Когда я был занят этим, ко мне вдруг является Гераклий, бывший тогда
в Сиракузах должностным лицом 131, знатный человек, в прошлом жрец
Юпитера, а эта должность в Сиракузах — наиболее почетна; он предложил
мне и моему брату, если нам будет угодно, пожаловать в их сенат; по его
словам, сенаторы в полном сборе в курии, и он, по решению сената, просит
нас прийти.
(LXII, 138) Вначале мы колебались и не знали, что нам де\ать; но нам
сейчас же пришло на ум, что мы не должны отказываться от присутствия
в этом собрании. Поэтому мы -пришли в курию. Нас очень почтительно
приветствуют вставанием. По просьбе должностного лица, мы садимся.
Начинает говорить Диодор, сын Тимархида 132, превосходивший других и своим
влиянием и летами, и, как мне показалось, жизненным опытом. Вначале он
сказал следующее: сенат и жители Сиракуз глубоко опечалены тем, что я,
в других городах Сицилии объяснявший сенату и жителям, сколько пользы
для себя и сколько добра они могут ожидать от моего приезда,
принимавший от всех жалобы, представителей и письма и выслушивавший
свидетельские показания, в их городе ничего подобного не делаю. Я ответил, что в
Риме, в собрании сицилийцев, когда, по общему решению всех
представителей городских общин, меня просили о помощи и поручили мне вести дело
всей провинции, представители Сиракуз не присутствовали, а я, со своей
стороны, не требую, чтобы сколько-нибудь неблагоприятное для Гая Верреса
3. Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
105
решение было принято в той курии, где я вижу золоченую статую Гая
Верреса. (139) После этих моих слов присутствовавшие начали так громко
сетовать при виде этой статуи и при напоминании о ней, что она показалась
мне поставленным в курии памятником преступлений, а не милостей. Затем,
все они — каждый по-своему, насколько умел, убедительно — начали
рассказывать мне о том, о чем я уже говорил: что разграблен город, что храмы
опустошены, что из наследства Гераклия, которое Веррес будто бы уступил
управителям палестры, сам он взял себе наибольшую часть; что нельзя
требовать приязни к управителям палестры от человека, унесшего даже бога,
создавшего оливковое масло; что его статуя сооружена не на общественные
деньги и не от имени города,— ее решили изготовить и поставить те, кто
участвовал в расхищении наследства; что они же были представителями
общины, прибывшими в Рим, помощниками Верреса в его бесчестных
действиях, соучастниками в его грабежах, его пособниками в гнусных
поступках; что мне нечего удивляться, если те лица не присоединились к общему
решению представителей городских общин и пренебрегли благополучием
Сицилии.
(LXIII, 140) Убедившись, что на беззакония Верреса жители Сиракуз
сетуют не меньше, а скорее даже больше, чем остальные сицилийцы, я
открыл им свои намерения, касающиеся их, потом изложил и объяснил им
всю свою задачу и, наконец, посоветовал им не изменять общему делу и
признать недействительным тот хвалебный отзыв, какой они, по их словам,
вынесли Верресу задолго до этого времени, под влиянием насилия и страха.
Тогда, судьи, жители Сиракуз — клиенты и друзья Верреса — поступили
так: прежде всего показали мне городские книги, хранившиеся в тайном
отделении эрария; в них были перечислены все похищенные Верресом
предметы, упомянутые мной, и даже большее число их, чем я мог назвать; было
точно записано, что именно пропало из храма Минервы, что — из храма
Юпитера, что — из храма Либера; кто и как должен был следить за
сохранностью этих предметов, тоже было внесено в записи; а так как эти лица,
согласно правилу, должны были сдавать отчет и передавать все полученное
ими своим преемникам по должности, то они просили не возлагать на них
ответственности за пропажу этих вещей; поэтому все они были
освобождены от ответственности и прощены. Я распорядился опечатать эти книги
печатью города и доставить их мне.
(141) Что касается хвалебного отзыва, то мне дали следующее
объяснение. Вначале, когда от Гая Верреса, за некоторое время до моего приезда,
пришло письмо насчет хвалебного отзыва, они не приняли никакого
решения; затем, когда некоторые из его друзей стали им напоминать, что
следует вынести какое-нибудь решение, их предложение было отвергнуто с
громким криком и бранью. Впоследствии, незадолго до моего приезда, лицо,
облеченное высшей властью 133, потребовало от них постановления. Они;
106
Речи Цицерона
постановили дать хвалебный отзыв, но так, чтобы он мог принести Верресу
больше вреда, чем пользы. Это именно так, судьи! Послушайте мой рассказ,
основанный на том, что они мне сообщили.
(LXIV, 142) В Сиракузах есть обычай, по которому в случаях, когда
сенату о чем-нибудь докладывают, всякий желающий может высказать свое
мнение; поименно никому не предлагают высказываться; однако лица,
старшие годами и занимающие более высокие должности, обычно сами
высказываются первыми, а остальные дают им эту возможность. Но если все
молчат, то их обязывают высказаться и порядок определяется по жребию.
Таков был обычай, когда сенату доложили насчет хвалебного отзыва о Вер-
ресе. Прежде всего, желая оттянуть время, многие внесли запрос: когда речь
шла о Сексте Педуцее 134, человеке с величайшими заслугами перед
городской общиной и всей провинцией, они ранее, узнав о грозящих ему
неприятностях и желая вынести ему хвалебный отзыв от имени города за его
многочисленные и величайшие заслуги, натолкнулись на запрещение со стороны
Верреса; хотя Педуцей теперь в их хвалебном отзыве не нуждается, все-таки
будет несправедливо, если сперва будет принято не их тогдашнее
добровольное решение, а нынешнее вынужденное. Все присутствовавшие громко
приветствовали это предложение и потребовали, чтобы оно было принято.
(143) Доложили насчет Педуцея. Каждый высказался по очереди, в
соответствии со своим возрастом и почетной должностью. Это можно видеть из
подлинного постановления сената; ведь предложения виднейших людей
записываются дословно. Читай. «Что касается высказываний о Сексте
Педуцее, ...высказались...» Указаны имена тех, которые выступали первыми.
Выносится решение.
Затем докладывают насчет Верреса. Пожалуйста, скажи, как. «Что
касается высказаваний о Гае Верресе, ...» Что же написано дальше? —«...так
как никто не встал и не внес предложения, ...»—Что это значит? — «был
брошен жребий». Почему? Неужели никто не захотел добровольно
высказать похвалу тебе как претору, защитить тебя от опасности, особенно когда
этим самым можно было снискать расположение претора? Никто. Даже
участники в твоих попойках, твои советчики, сообщники, приспешники не
подмели произнести ни слова; в той самой курии, где стояла твоя статуя
и нагая статуя твоего сына, никого не тронул даже вид твоего обнаженного
сына 135, так как все помнили, как была обнажена провинция.
(144) Кроме того, они рассказали мне, что они составили хвалебный
отзыв так, чтобы всякий мог понять, что это не похвала, а скорее
издевательство, коль скоро отзыв напоминает о позорной и злополучной претуре
Верреса. Ведь в нем было написано: «Так как он никого не засек розгами
до смерти, ...» — он, который, как вы слышали 136, велел обезглавить
знатнейших и честнейших людей! — «так как он неусыпно заботился о
провинции, ...» — он, который если не досыпал, то ради бесчинств и разврата! —
3, Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
107
«так как он не подпускал морских разбойников к острову Сицилии, ...» —
он, который позволил им посетить даже Остров в Сиракузах 137!
(LXV, 145) Получив от них эти сведения, я ушел вместе с братом из
курии, чтобы они, в наше отсутствие, вынесли решение по своему
усмотрению 138. Они тотчас же постановили, во-первых, от имени общикы
заключить с братом моим Луцием союз гостеприимства, так как он отнесся к
жителям Сиракуз с такой же приязнью, с какой к ним всегда относился я 139.
Решение это тогда было не только записано, .но и вырезано на медной
дощечке и передано нам. Очень любят тебя, клянусь Геркулесом, твои милые
сиракузяне, на которых ты так часто ссылаешься, раз они усматривают
вполне основательную причину для дружеских отношений с твоим
обвинителем в его намерении обвинять тебя и в его приезде для расследования
по твоему делу! Затем — и притом без колебаний в мнениях, почти
единогласно — было решено объявить недействительным принятый ранее
хвалебный отзыв о Гае Верресе. (146) После того как уже не только была
произведена дисцессия 140, но и было записано и внесено в книги решение,
к претору обратились с апелляцией 141. И кто? Какое-либо должностное
лицо? Нет. Сенатор? Даже не сенатор. Кто-нибудь из жителей Сиракуз?
Вовсе нет. Кто же обратился к претору с апелляцией? Бывший квестор
Верреса— Публий Цесеций 142. Забавное дело! Всеми Веррес покинут, лишен
помощи, оставлен! На решение сицилийского должностного лица — для
того, чтобы сицилийцы не могли вынести постановления в своем сенате,
чтобы они не могли осуществить своего права согласно своим обычаям, своим
законам,— с апелляцией обратился к претору не друг Верреса, не его
гостеприимец, даже не сицилиец, а квестор римского народа! Где это
видано, где слыхано? Справедливый и мудрый претор велел распустить сенат 143;
ко мне сбежалась огромная толпа. Прежде всего сенаторы стали
жаловаться на то, что у них отнимают их права, их свободу: народ хвалил и
благодарил сенаторов; римские граждане ни на шаг не отходили от меня. В этот
день мне едва удалось — и то с большими усилиями — предотвратить
насилие над тем любителем апелляций.
(147) Когда мы явились к трибуналу претора, он придумал очень
остроумное решение: прежде чем я мог произнести хотя бы одно слово, он встал
с кресла и ушел. Так как уже начало смеркаться, мы ушли с форума.
(LXVI) На следующий день, рано утром, я потребовал, чтобы претор
позволил жителям Сиракуз передать мне вынесенное накануне постановление
их сената. Он ответил отказом и сказал, что мое выступление с речью в
греческом сенате было недостойным поступком с моей стороны, но уж
совершенно недопустимо было то, что я, находясь среди греков, говорил
по-гречески. Я ответил ему то, что мог, что должен был и что хотел ответить;
между прочим, я, помнится, указал ему на явную разницу между ним
.и знаменитым Нумидийским, настоящим и истинным Метеллом 144: тот
108
Речи Цицерона
отказался помочь своим хвалебным отзывом своему шурину и близкому
другу, Луцию Лукуллу 145; он же для совершенно чужого ему человека
добывает у городских общин хвалебные отзывы, применяя насилие и угрозы.
(148) Поняв, что на претора сильно повлияли последние известия, силь-
1 46
но повлияли письма — не рекомендательные, а денежные , я, по совету
самих жителей Сиракуз, попытался силой завладеть книгами,
содержавшими постановление сената. По поводу этого — новое стечение народа и
новые распри; итак, не подумайте, что Веррес был совсем лишен друзей и
гостеприимцев в Сиракузах, был вовсе гол и одинок. Оборонять книги
начинает какой-то Феомнаст, до смешного сумасшедший человек, которого
сиракузяне зовут Феорактом 147; человек, за которым бегают мальчишки;
всякая его речь вызывает дружный смех. Однако его безумие, забавное в
глазах других людей, тогда мне было в тягость; с пеной у рта, сверкая
глазами, он с громким криком обвинял меня в насильственных действиях по
отношению к нему; мы вместе отправились в суд. (149) Тут я стал
требовать позволения опечатать книги и увезти их; Феомнаст возражал, говоря,
что это не постановление сената, раз насчет него к претору обратились
с апелляцией, и что его не надо передавать мне. Я стал читать закон, в силу
которого в моем распоряжении должны быть все книги и записи; но этот
полоумный настаивал на своем, говоря, что до наших законов ему дела нет.
Хитроумный претор сказал, что ему не хотелось бы, чтобы я увозил в Рим
то, что нельзя признать постановлением сената. Словом, если бы я не
пригрозил ему хорошенько, если бы я не указал ему на кару, налагаемую
законом, то я не получил бы книг. А этот полоумный, который, выступая в
защиту Верреса, на меня орал, после того как ничего не добился, отдал мне,
видимо, желая снискать мое благоволение, тетрадку, где были перечислены
все грабежи, совершенные Верресом в Сиракузах, впрочем, уже известные
мне из показаний других людей.
(LXVII, 150) Пусть тебя теперь хвалят мамертинцы, так как они —
единственные во всей провинции, желающие твоего оправдания; но пусть
хвалят при условии, что Гей, глава посольства, будет здесь 148; при условии,
что они будут готовы отвечать мне на мои вопросы. А я — да будет им
ведомо! — намерен опросить их вот о чем: должны ли они поставлять
корабли римскому народу? Они ответят утвердительно. Поставили ли они
корабль в претуру Верреса? Они ответят отрицательно. Построили ли они за
счет города огромный грузовой корабль, который они отдали Верресу? Они
не смогут это отрицать. Брал ли у них Гай Веррес хлеб, чтобы отправлять
его римскому народу, как поступали его предшественники? Нет. Сколько
солдат и матросов дали они в течение трех лет? Ни одного, скажут они.
Что Мессана была складом для всего похищенного и награбленного добра,
они отрицать не смогут; что оттуда вывезено очень много вещей на
множестве кораблей, наконец, что этот огромный корабль, данный Верресу мамер-
3, Против Гая Верреса («О предметах искусства»)
109
тинцами, с грузом вышел в море и что Веррес выехал на нем,— все это им
лридется признать.
(151) Поэтому держись, пожалуй, за этот хвалебный отзыв мамертин-
цев. Но сиракузская городская община, как мы видим, настроена против
тебя именно так, как этого заслуживает твое обращение с ней. Они
упразднили также и позорные Веррии. И в самом деле, совершенно не подобало
воздавать божеские почести тому человеку, который похитил изображения
богов. Сиракузяне, клянусь Геркулесом, по всей справедливости даже
заслуживали бы порицания, если бы они, вычеркнув из своего календаря
торжественный и праздничный день игр, собиравший толпы народа,— так как в
этот день Сиракузы, как говорят, были взяты Марцеллом,— в этот же
самый день устраивали празднество в честь Верреса, хотя он отнял у сира-
кузян то, что им было оставлено в тот злосчастный день. Но обратите
внимание, судьи, на бесстыдство и наглость человека, который не только
учредил эти позорные и смехотворные Веррии на деньги Гераклия, но также
и велел упразднить Марцеллии с тем, чтобы сиракузяне из года в год
совершали священнодействия в честь того, из-за кого они лишились
возможности совершать священнодействия, завещанные им предками, и утратили
даже и богов своих отцов, и чтобы они отменили празднества в честь того
рода, благодаря которому они сохранили все другие праздничные дни.
4
РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА
[Вторая сессия, книга V, «О казнях». 70 г.]
(I, 1) Как я вижу, судьи, ни у кого нет сомнений в том, что Гай Веррес
совершенно открыто ограбил в Сицилии все святилища и общественные
здания, делая это и как частное и как должностное лицо; что он не только без
всякого страха перед богами, но даже и без утайки упражнялся во всех
видах воровства и хищений. Но мне предстоит столкнуться с защитой
особого рода, блестящей и великолепной, и способ борьбы с ней, судьи, я
должен обдумать заблаговременно. Выставляют положение, что благодаря
мужеству и исключительной бдительности, проявленными Верресом в смутное
и грозное время1, провинция Сицилия была сохранена невредимой от
посягательств беглых рабов и вообще избавлена от опасностей войны.
(2) Что мне делать, судьи? Где мее найти основания для своего
обвинения, к чему обратиться мне? Всему моему натиску противопоставляют,
словно крепостную стену, славу доблестного императора2. Знаю я это
«место» 3; предвижу, куда Гортенсий направит свой удар. Опасности
войны, трудное положение государства, малочисленность императоров опишет
он; затем станет упрашивать вас, а потом, в сознании своего права, даже
требовать, чтобы вы не позволяли, на основании свидетельских показаний
сицилийцев, отнимать у римского народа такого воина и не допускали,
чтобы обвинения в алчности, предъявленные ему, оказались в ваших глазах
сильнее его заслуг как военачальника.
(3) Не могу скрыть от вас, судьи: я боюсь как бы, вследствие этой
выдающейся военной доблести Гая Верреса, все его деяния не сошли ему
безнаказанно. Вспоминаю, какое влияние, какое впечатление произвела во
время суда над Манием Аквилием речь Марка Антония4. Как оратор будучи
не только умен, но и решителен, он, заканчивая речь, сам схватил Мания
Аквилия за руку, поставил его у всех на виду и разорвал ему на груди
тунику, чтобы римский народ и судьи могли видеть рубцы от ранений,
полученных им прямо в грудь; в то же время он долго говорил о ране в голову,
нанесенной Аквилию военачальником врагов 5, и внушил судьям, которым
предстояло вынести приговор, сильные опасения, что человек, которого
судьба уберегла от оружия врагов, когда он сам не щадил себя, окажется сохра-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
111
ненным не для того, чтобы слышать хвалу от римского народа, а чтобы
испытать на себе суровость судей. (4) Мои противники пытаются теперь
прибегнуть к тому же способу и вести защиту по тому же пути; к этому-то
они и стремятся. Пусть Веррес вор, пусть он святотатец, пусть он первый
во всех гнусностях и пороках, но он доблестный император, ему сопутствует
счастье 6 и его надо сохранить, памятуя об испытаниях, которые могут
предстоять государству.
(II) Не буду рассматривать твоего дела по всей строгости закона, не
буду говорить того, чего я, пожалуй, должен был бы придерживаться, коль
скоро суд происходит на основании определенного закона 7,— а именно, что
мы должны услыхать от тебя вовсе не о том, какую храбрость ты проявил
на войне, а о том, как ты сохранил свои руки чистыми от чужого имущества.
Но я повторяю — не об этом я буду говорить, но задам тебе вопрос,
соответствующий, как я понимаю, твоему желанию: каковы и сколь
значительны были твои деяния во время войны?
(5) Что ты говоришь? От войны, начатой беглыми рабами, Сицилия
была избавлена благодаря твоей доблести? Великая это заслуга и
делающая тебе честь речь! Но все-таки — от какой же это войны? Ведь,
насколько нам известно, после той войны, которую завершил Маний Аквилий, в
Сицилии войны с беглыми рабами не было.— «Но в Италии такая война
была».— Знаю и притом большая и ожесточенная. И ты пытаешься хотя
бы часть успехов, достигнутых во время той войны, приписать себе? И ты
хочешь разделить славу той победы с Марком Крассом или с Гнеем Пом-
пеем? 8 Да, пожалуй, у тебя хватит наглости даже и на подобное
заявление. Видимо, именно ты воспрепятствовал полчищам беглых рабов
переправиться из Италии в Сицилию. Где, когда, с какой стороны? Тогда, когда
они пытались пристать к берегу — на плотах или на судах? Ведь мы ничего
подобного никогда не слыхали, но знаем одно: доблесть и мудрость
храбрейшего мужа Марка Красса не позволили беглым рабам переправиться
через пролив в Мессану на соединенных ими плотах, причем этой их
попытке не пришлось бы препятствовать с таким трудом, если бы в Сицилии
предполагали наличие военных сил, способных отразить их вторжение.—
(6) «Но в то время как в Италии война происходила близко от Сицилии,
все-таки в Сицилии ее не было».— А что в этом удивительного? Когда
война происходила в Сицилии, столь же близко от Италии, она даже частично
Италии не захватила.
(III) В самом деле, какое значение придаете вы в связи с этим такому
близкому расстоянию между Сицилией и Италией? Доступ ли для врагов
был, по вашему мнению, легок или же заразительность примера, побуждав
шего начать войну, была опасна? Всякий доступ в Сицилию был не только
затруднен, но и прегражден для этих людей, не имевших ни одного
корабля, так что тем, которые, по твоим словам, находились так близко от
112
Речи Цицерона
Сицилии, достигнуть Океана9 было легче, чем высадиться у Пелорского
мыса. (7) Что касается заразительности восстания рабов, то почему о ней
твердишь именно ты, а не все те люди, которые стояли во главе других
провинций? Не потому ли, что в Сицилии и ранее происходили восстания беглых
рабов 10? Но именно этому обстоятельству провинция эта и обязана своей
безопасностью и в настоящем и в прошлом. Ибо, после того как Маний
Аквилий покинул провинцию, согласно распоряжениям и эдиктам всех
преторов, ни один раб не имел права носить оружие. Приведу вам случай
давний и, ввиду примененной строгости, хорошо известный каждому из вас.
Ауцию Домицию, во время его претуры в Сицилии п, однажды принесли
убитого огромного вепря; он с удивлением спросил, кто его убил; узнав, что
это был чей-то пастух, он велел позвать его; тот немедленно прибежал в
надежде на похвалу и награду; Домиций спросил его, как убил он такого
огромного зверя; тот ответил — рогатиной. Претор тут же приказал его
распять. Проступок этот может показаться слишком суровым; я лично
воздержусь от его оценки; я только вижу, что Домиций предпочел прослыть
жестоким, карая ослушника, а не, попустительствуя ему,— беспечным.
(IV, 8) Благодаря такому управлению провинцией, уже тогда когда вся
Италия была охвачена Союзнической войной, Гай Норбан 12, при всей своей
нерешительности и недостатке храбрости, наслаждался полным
спокойствием; ибо Сицилия вполне могла сама оберечь себя от возникновения
войны внутри страны. Право, трудно представить себе более тесную связь,
чем между нашими дельцами и сицилийцами, поддерживаемую общением,
деловыми отношениями, расчетами, согласием; условия жизни самих
сицилийцев таковы, что все блага жизни связаны для них с состоянием мира;
кроме того, они настолько благожелательно относятся к владычеству
римского народа, что не имеют ни малейшего желания ослабить его и заменить
другим владычеством; распоряжения преторов и строгости владельцев
предотвращают опасность мятежей рабов, и поэтому нет такого внутреннего
зла, какое могло бы возникнуть в самой провинции.
(9) Итак, во время претуры Верреса, значит, «е было никаких волнений
среди рабов в Сицилии, никаких заговоров? Нет, не произошло
решительно ничего такого, о чем могли бы узнать сенат и римский народ, ничего,
о чем сам Веррес написал бы в Рим. И все же, подозреваю я, в некоторых
местностях Сицилии начиналось брожение среди рабов; я, надо сказать,
заключаю об этом не столько на основании событий, сколько на основании
поступков и указов Верреса. Обратите внимание, как далек буду я от
неприязни к нему, ведя дело. Те факты, которые он хотел бы найти, и о
которых вы еще никогда не слышали, припомню и подробно изложу вам
я сам.
(10) В Триокальском округе, который беглые ргбы уже занимали ранее,
на челядь одного сицилийца, некоего Леонида, пало подозрение в заговоре.
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
113
Об этом сообщили Верресу; немедленно, как и надлежало, по его приказу
людей, которые были названы, схватили и доставили в Лилибей. Хозяин
их был вызван, суд состоялся, был вынесен обвинительный приговор.
(V) Что же дальше? Что вы думаете? Вы, пожалуй, ждете рассказа о
каком-либо воровстве или хищении? Нечего вам постоянно подозревать одно
и то же! Когда грозит война, какое уж тут воровство! Даже если в этом
деле представился удобный случай нажиться, то он был упущен. Веррес
мог сорвать с Леонида денежки тогда, когда вызывал его в суд. Тогда он
мог сторговаться с ним — дело .не новое для Верреса — о прекращении
следствия; затем — об оправдании; но после обвинительного приговора рабам
какая же еще возможна нажива? Их надо вести на казнь. Ведь свидетелями
были и члены совета судей, и официальные записи, и блистательная
городская община Лилибей, и пользующийся глубоким уважением
многочисленный конвент римских граждан 13. Делать было нечего, их пришлось вывести.
И вот. их вывели и привязали к столбам н. (11) Вы все еще, мне кажется,
ждете какой-то развязки, судьи, так как Веррес никогда ничего не делает
без какого-либо барыша и поживы. Что мог он сделать при подобных
обстоятельствах? Вообразите себе, какое вам угодно, бесчестное деяние —
и я все-таки поражу всех вас неожиданностью. Людей, признанных
виновными в преступлении и притом в заговоре, обреченных на казнь,
привязанных к столбам, неожиданно, на глазах у многих тысяч зрителей, отвязали
и возвратили их хозяину из Триокалы.
Что можешь ты сказать по этому поводу, лишенный рассудка человек,
кроме того, о чем я тебя не спрашиваю, о 'чем в таком преступном деле, хотя
сомневаться и не приходится, спрашивать не следует, даже если возникает
сомнение,— что же ты получил, сколько и каким образом? Во все это я
не вхожу и избавляю тебя от такой заботы. И без того — я в этом
уверен — все поймут, что на такое дело, на которое никого, кроме тебя,
нельзя было бы склонить никакими деньгами, ты даром отважиться не мог.
Но я ничего не говорю о твоем способе красть и грабить; я обсуждаю
теперь твои заслуги как военачальника.
(VI, 12) Что же ты скажешь теперь, доблестный страж и защитник
провинции? Рабов, которые, как ты установил при следствии, решили взяться
за оружие и поднять мятеж в Сицилии и которых ты, на основании
решения своего совета, признал виновными, ты, уже передав их для казни по
обычаю предков, осмелился избавить от смерти и освободить, а крест,
воздвигнутый тобой для осужденных рабов, ты сохранил, видимо, для римских
граждан, казнимых без суда. Гибнущие государства, утратив последнюю
надежду на спасение, обычно решаются на крайнюю меру: восстанавливают
осужденных в их правах, освобождают заключенных, возвращают
изгнанников, отменяют судебные приговоры 15. Когда это случается, все понимают,
что такое государство близко к гибели и что на его спасение надежды не
*5 Цицерон, т- I
114
Речи Цицерона
остается. (13) Но там, где это бывало, это делали для избавления от
казни или для возвращения из изгнания либо людей, любимых народом, либо
знатных; притом это совершали не те же самые лица, которые ранее
вынесли им приговор; это происходило не тотчас же после осуждения и не в
том случае, если эти люди были осуждены за покушение на жизнь и
достояние всех граждан. Но ©тот случай, право, совершенно неслыханный, и его
можно объяснить, только приняв во внимание характер Верреса, а не
существо самого дела: ведь от казни были избавлены рабы, избавлены тем
самым человеком, который их судил; они были освобождены им тотчас же
после осуждения, уже во время казни; и это были рабы, осужденные за
преступление, угрожавшее существованию и жизни всех свободных людей.
(14) О, прославленный полководец! Он подстать не Манию Аквилию,
храбрейшему мужу, но, право, Павлам, Сципионам, Мариям! Как
дальновиден был он при страхе, охватившем провинцию ввиду опасности,
угрожавшей ей! Видя, что сицилийские рабы готовы восстать в связи с мятежом
среди беглых рабов в Италии, какой ужас внушил он им! Ведь никто из них
и шевельнуться ,не посмел. Он велел схватить их. Кто не испугался бы
этого? Он велел привлечь их хозяев к ответственности. Что может быть
страшнее для раба? Он вынес приговор: «По-видимому, совершили... 16».
Возникавшее пламя он, видимо, потушил слезами и кровью кучки людей. Что же
дальше? Порка, пытка раскаленным железом и — последняя кара для
осужденных, острастка для других — распятие и смерть на кресге. От всех
этих мучений их избавили. Какой ужас должен был, вне всякого сомнения,
охватить рабов при этой сговорчивости претора, у которого жизнь рабов,
осужденных за преступный заговор, можно было выкупить даже при по
средничестве самого палача!
(VII, 15) Далее, разве ты в случае с Аристодамом из Аполлонии, в
случае с Леонтом из Имахары не поступил точно так же? А это брожение
среди рабов и 'внезапно возникшее подозрение насчет возможности мятежа?
Что вызвало оно с твоей стороны? Заботу ли об охране провинции или же
надежду на новый источник бесчестнейшей наживы? После того как, по
твоему наущению, был обвинен управитель усадьбой одного знатного и
уважаемого человека, Евменида из Галикий, за которого Евменид заплатил
очень дорого, ты взял у Евменида 60 000 сестерциев, как он сам недавно
показал под присягой, сообщив все (Подробности этого дела. С римского
всадника Гая Матриния ты, в его отсутствие, когда он был в Риме, взял
600 000 сестерциев, заявив, что его управители усадьбами и пастухи
кажутся тебе подозрительными. Это сказал Луций Флавий, доверенный Гая
Матриния, выплативший тебе эти деньги; это сказал сам Матриний; это
говорит прославленный муж, цензор Гней Лентул, который, из уважения к
Матринию, тотчас же написал тебе письмо и попросил других людей
о том же.
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
115
(16) Далее, возможно ли обойти молчанием случай с Аполлонием" из.
Панорма, сыном Диокла, по прозванию Близнецом? Возможно ли привести
случай, более известный во всей Сицилии, более возмутительный, более
ясный? Приехав в Панорм, Веррес послал за ним и велел назвать его имя
с трибунала в присутствии большой толпы и многочисленных римских
граждан. Тотчас же пошли толки: «А я-то удивлялся, как же он так долго
оставляет в покое богатого Аполлония»; «Видно, он что-нибудь придумал, что-
нибудь нашел»; «Уж, конечно, Веррес внезапно вызывает такого богача в
суд не спроста». Все ждали с крайним нетерпением, что будет, как вдруг
прибежал смертельно бледный сам Аполлоний с юным сыном; престарелый
отец Аполлония уже давно не покидал постели. (17) Веррес назвал ему
раба, по его словам, старшего пастуха, и сказал, что тот устроил заговор и
подстрекал других рабов; .между гем такого раба среди челяди Аполлония
вообще не было. Веррес потребовал немедленной выдачи этого раба.
Аполлоний стал уверять, что у него вообще нет раба с таким именем. Претор
велел схватить его у трибунала и бросить в тюрьму. Тот, когда его брали,
кричал, что он, несчастный, ничего не совершал, что за ним нет никакого
проступка, что его деньги розданы взаймы и наличных у него нет. Пока он
говорил это ов присутствии огромной толпы, давая каждому понять, что
подвергается такой жестокой несправедливости именно потому, что не дал
денег, пока он, повторяю, вопил о деньгах, его заковали и бросили в тюрьму.
(VIII, 18) Обратите внимание на последовательность претора [и притом
такого], которого при этих обстоятельствах не защищают, как
посредственного претора, а хвалят, как выдающегося полководца. Когда нам угрожал
мятеж рабов, Веррес, без суда, подвергал владельцев рабов той казни, от
которой он освобождал осужденных рабов. Аполлония, богатейшего
человека, который, в случае мятежа рабов в Сицилии, лишился бы огромного
состояния, Веррес, под предлогом мятежа беглых рабов, без разбора дела
бросил в тюрьму; рабов же, которых он сам, в соответствии с мнением
своего совета, признал виновными в заговоре с целью мятежа, он, не
спросив мнения своего совета, избавил от всякой кары. (19) Но что, если
Аполлоний действительно провинился и понес за это кару, заслуженную им?
Неужели мы все же, ведя это дело, поставим Верресу в вину и признаем
предосудительным всякий мало-мальски строгий приговор? Я не буду столь
суров, не стану следовать обычаю обвинителей — рассматривать всякое
проявление милосердия как крупную небрежность, выставлять малейшую
суровость при наказании как отвратительную жестокость. Не стану я так
рассуждать; твои приговоры я буду отстаивать, твой авторитет — защищать,
пока ты сам будешь хотеть этого. Но как только ты сам начнешь отменять
свои собственные приговоры, тебе придется отказаться от нападок на меня:
я с полным правом буду требовать, чтобы тот, кто сам себя осудил, был
осужден также и присяжными судьями.
8*
116
Речи Цицерона
(20) Не стану я защищать Аполлония, своего друга и гостеприимца 17,
чтобы не показалось, что я добиваюсь отмены твоего приговора; не буду
говорить о его честности, достоинстве и добросовестности; оставлю в
стороне и то, уже упомянутое мной обстоятельство, что состояние Аполлония
составляли рабы, скот, усадьбы, деньги, данные взаймы, так что ему
меньше, чем кому-либо другому, были на руку беспорядки или войны в
Сицилии; не стану также говорить, что даже в случае значительной вины
Аполлония, его, всеми уважаемого гражданина весьма уважаемой городской
общины, не следовало подвергать такому тяжкому наказанию без суда. (21)
Не буду возбуждать против тебя ненависти даже в связи с тем, что в то
время, когда такой муж находился в темной, смрадной и грязной тюрьме,
ты своими достойными тиранна интердиктами 18 совершенно запретил
допускать к этому несчастному его престарелого отца и юного сына. Обойду
также молчанием, что в каждый твой приезд в Панорм, на протяжении года
и шести месяцев (вот сколько времени Аполлоний находился в тюрьме!)
к тебе являлись в качестве просителей все члены панормского сената вместе
«с властями и городскими жрецами и умоляли и заклинали тебя, наконец,
избавить от мучений этого несчастного и невинного человека. Все это я
оставляю в стороне; если я пожелаю это рассмотреть, мне будет легко
доказать, что ты своей жестокостью ко всем другим людям уже давно преградил
состраданию всякий доступ к сердцам твоих судей.
(IX, 22) Во всем этом я тебе уступлю и пойду тебе навстречу:
предвижу, что именно Гортенсий будет говорить в твою защиту. Он скажет, что,
действительно, ни старость отца, ни молодость сына, ни слезы их обоих не
имели для Верреса никакого значения по сравнению с заботой о пользе и
благе провинции; что невозможно управлять государством, не внушая
людям страха и не применяя строгости; спросит, почему перед пре.торами носят
связки, зачем им даны секиры 19, зачем построены тюрьмы, зачем, по
обычаю предков, определено столько видов наказания для дурных людей. Когда
он выскажет все это с подобающей внушительностью и строгостью, я
спрошу его, почему же этого самого Аполлония тот же Веррес неожиданно, не
приведя ни одного нового факта, без чьего-либо заступничества, без всякого
основания велел выпустить из тюрьмы, и буду утверждать, что это
обвинение порождает столько подозрений, что я, не приводя доказательств,
предоставлю судьям уже самим догадаться, в чем заключается этот способ
грабежа — сколь он бесчестен, сколь он возмутителен и какие неизмеримые
и какие неограниченные возможности стяжания он дает.
(23) В самом деле, ознакомьтесь сначала вкратце с действиями Верреса
по отношению к Аполлонию — сколько обид он причинил ему и сколь они
значительны; затем взвесьте каждую из них и переведите на деньги. Вы
поймете, что он для того и заставил одного богатого человека испытать так
много, чтобы внушить другим страх перед такими же несчастьями и пока-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
117
зать им пример грозящих им опасностей. Прежде всего, внезапно было
предъявлено обвинение в уголовном и притом вызывающем ненависть
преступлении; сообразите, сколько человек от этого откупилось и во сколько
это могло им обойтись. Затем, дело — без обвинения, приговор — без
участия совета судей, осуждение — без защиты; определите цену всему этому и
подумайте только, что эти несправедливости выпали на долю одного
Аполлония и что другие люди — а их, конечно, было много — от этих несчастий
избавились за деньги. Наконец, мрак, оковы, тюрьма, мучительное
заключение вдали от родителей и детей, вообще без чистого воздуха и солнечного
света, нашего общего достояния; эту пытку, от которой человек вправе
откупиться даже ценой жизни, перевести на деньги я не могу. (24)
Аполлоний откупился от всего этого поздно, уже сломленный горем и несчастьями,
но его судьба все же научила других вовремя уступать преступной алчности
Верреса — если только вы не думаете, что Веррес взвел именно на этого
богатейшего человека столь ужасное обвинение без расчета на наживу и что
он без такого же расчета внезапно освободил его из тюрьмы, или что этот
род грабежа был применен Верресом к одному только Аполлонию в виде
опыта, а не для того, чтобы его примером запугать всех самых богатых
сицилийцев и внушить им страх.
(X, 25) Я желал бы, судьи, чтобы Веррес сам напомнил мне о тех своих
подвигах, которые я, быть может, пропущу; ведь я говорю о его военной
славе. Мне кажется, что обо всех подвигах, совершенных им в связи с
ожидавшимся мятежом беглых рабов, я уже рассказал; сознательно я, право,
ничего не пропустил. Итак, вы знаете о его решениях, заботливости,
бдительности, об охране и защите им провинции. В сущности, вам следует
знать, какого рода полководцем является Веррес (ведь бывают разные
полководцы), дабы при малочисленности храбрых мужей никто не мог
забывать о таком полководце. Не вспоминайте ни о предусмотрительности
Квинта Максима20, ни о быстроте действий знаменитого старшего Публия
Африканского, ни о редкостной вдумчивости его преемника21, ни об
осмотрительности и искусстве Павла, ни о силе натиска и о мужестве Гая Мария.
Прошу вас послушать о другом роде военачальников, которых надо с особой
тщательностью поощрять и беречь.
(26) Скажем прежде, судьи, несколько слов о трудностях переходов;
ведь они в военном деле весьма значительны, а в Сицилии совершенно
неизбежны. Послушайте, с каким умом, с какой сообразительностью он
облегчил себе эти труды и сделал их приятными. Прежде всего, в зимнее время
он нашел прекрасное средство избавиться от сильных холодов, непогоды и
опасностей, связанной с переправой через реки: избрал местом своего
постоянного пребывания город Сиракузы, расположение и климат которого
таковы, что там, говорят, никогда не бывает таких ненастных и бурных
дней, чтобы хоть раз не выглянуло солнце. Здесь-то и проводил зимние
118
Речи Цицерона
месяцы этот доблестный военачальник, причем его нелегко было увидеть
не только вне его дома, но и вне его ложа22. Короткий день он заполнял
попойками, длинную ночь — развратом и гнусностями.
(27) С наступлением весны (о ее начале Веррес судил не по дуновению
Фавония23 и не по появлению того или иного светила; нет, он решал, что
настала весна, увидев розы 24) он всецело отдавался трудам и разъездам,
проявляя при этом такую выносливость и рвение, что никто никогда не
видел его едущим верхом. (XI) Как некогда царей Вифинии, так и его восемь
человек носили в лектике *° с подушками, покрытыми прозрачной мелитскои
тканью и набитыми лепестками роз; один венок был у него на голове,
другой был надет на шею, и он подносил к носу сеточку из тончайшей ткани
с мелкими отверстиями, наполненную розами. Когда он, таким образом
закончив путь, прибывал в какой-либо город, его на той же лектйке вносили
прямо в спальню. Сюда к нему являлись сицилийские должностные лица,
римские всадники, о чем вы слыхали от многих свидетелей, давших присягу.
Его тайно знакомили со спорными делами; немного спустя во
всеуслышание объявлялись его решения. Затем, уделив в спальне некоторое время
правосудию сообразно с платой, а не с требованиями справедливости, он
считал, что остальное время принадлежит уже Венере и Либеру26. (28)
Здесь я, мне кажется, не должен обходить молчанием выдающуюся и
редкостную заботливость прославленного военачальника; в Сицилии, знайте
это, среди городов, где преторы имеют обыкновение останавливаться и
творить суд 27, нет ни одного, где бы он не выбрал себе в знатной семье
женщины, которая должна была удовлетворять его сладострастие. Некоторых
из них открыто приводили на пир; более застенчивые приходили к
назначенному времени, избегая света и взоров людей. На пиршестве у Верреса
не было молчания, обычного во время обедов у преторов и императоров
римского народа, не было благопристойности, приличествующей пиру
должностных лиц; на нем раздавались громкие крики и брань; иногда дело
доходило до потасовки и драки. Ведь Веррес, строгий и добросовестный претор,
законам римского народа никогда не повиновавшийся, правилам попойки
подчинялся весьма добросовестно. Дело кончалось тем, что одного на руках
выносили из-за стола, словно с поля битвы, другого оставляли лежать, как
мертвеца; многие валялись без сознания и чувств, так что любой человек,
взглянув на эту картину, подумал бы, что видит не пир у претора, а
Каннскую битву распутства 28.
(XII, 29) В самый же разгар лета,— а это время года преторы Сицилии
всегда проводили в разъездах, считая особенно важным надзор за
состоянием провинции тогда, когда хлеб находится на току, так как в эту пору
челядь бывает в сборе, рабов легко пересчитать, тяжелый труд вызывает
недовольство челяди, обилие хлеба волнует умы, а время года не является
помехой,— тогда, повтоояю. когда другие преторы постоянно объезжают
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
119
свои провинции, этот император в новом вкусе разбивал для себя
постоянный лагерь в самом красивом месте в Сиракузах. (30) У самого входа в
гавань, где берег изгибается в сторону города, он приказывал ставить
палатки, крытые тончайшим полотном. Сюда и переезжал он из преторского
дома, некогда принадлежавшего царю Гиерону, и в течение этого времени
уже никто не видел его нигде в другом месте. Но именно в это место не было
доступа никому из тех, кто не мог быть ни участником, ни его пособником
в делах сладострастья. Сюда стекались все его сиракузские наложницы,
численность которых трудно себе представить; сюда сходились мужчины,
достойные его дружбы, достойные чести разделять его образ жизни и
пировать вместе с ним; и вот среди таких женщин и мужчин проводил время
его сын-подросток, так что даже если бы он, по своим природным
склонностям, не был похож на отца, то все же привычка к такому обществу и
отцовское воспитание неминуемо сделали бы его подобным отцу. (31)
Небезызвестная Терция, обманом и хитростью отнятая у родосского флейтиста
и привезенная сюда, говорят, вызвала целую бурю в его лагере: жена сира-
кузца Клеомена, знатная родом, как и жена Эсхриона, благородного
происхождения, были возмущены появлением в их обществе дочери мима
Исидора. Но этому Ганнибалу, считавшему, что в его лагере надо состязаться
в доблести, а не в родовитости29, так полюбилась эта Терция, что он даже
увез ее с собой из провинции. (XIII) И все-таки в эти дни, когда Веррес
в пурпурном плаще и в тунике до пят 30 пировал в обществе женщин, люди
на него не обижались и легко мирились с тем, что на форуме отсутствует
должностное лицо, что судебные дела не разбираются и приговоры не
выносятся; что на той части берега раздаются женские голоса, пение и музыка,
а на форуме царит полное молчание и нет речи о делах и о праве, никого
не огорчало. Ибо с форума, казалось, удалились не право и правосудие,
а насилие, жестокость и неумолимый и возмутительный грабеж.
(32) И этот человек, по твоему утверждению, Гортенсий, является
императором? Его хищения, грабежи, жадность, жестокость, высокомерие,
злодеяния, наглость пытаешься ты прикрыть, прославляя его подвиги и
заслуги как императора? Вот когда следует опасаться, как бы ты к концу
своей защитительной речи не воспользовался тем старым приемом и примером
Антония31, как бы ты не заставил Верреса встать, обнажить себе грудь и
показать римскому народу рубцы от укусов женщин, следы сладострастья и
распутства. (33) Дали бы боги, чтобы ты осмелился упомянуть о его
военной службе, о войне! Тогда мы узнаем обо всем раннем времени его
«службы» и вы поймете, каков он был не только как «начальник», но и как
«подначальный». Мы вспомним первое время его службы, когда его попросту
уводили с форума, а не торжественно провожали, как он хвалится 32. Будет
назван и лагерь плацентинского игрока, где Верреса, несмотря на его
исправность на этой службе, все же лишали жалования; будут упомянуты многие
120
Речи Цицерона
поражения, понесенные им на этом поприще, которые он полностью
покрывал и возмещал себе цветом своей молодости. (34) Затем, когда он
закалился и его постыдная выносливость надоела всем, кроме него самого, каким
храбрым мужем он стал, сколько твердынь стыда и стыдливости взял он
силой и смелостью! Зачем мне говорить об этом и в связи с его гнусными
поступками позорить других людей? Не стану я так поступать, судьи! Все
прошлое я обойду молчанием. Я только приведу вам два недавних факта,
не позорящие никого постороннего и позволяющие вам догадаться обо всех
остальных его поступках. Первый из них был известен всем и каждому: ни
один житель муниципия, приезжавший в Рим в консульство Луция
Лукулла и Марка Котты 33, дабы предстать перед судом, не был так прост, чтобы
не знать, что все судебные решения городского претора зависят от воли и
усмотрения жалкой распутницы Хелидоны. Второй факт следующий: после
того как Веррес выступил из города Рима в походном плаще, дав обеты за
свой империй и за благоденствие всего государства, он несколько раз ради
встречи с женщиной, которая была женой одного человека, но принадлежала
многим, приказывал носить себя ночью на лектйке в Рим, попирая божеское
право, авспиции, все заветы богов и людей 34.
(XIV, 35) О, бессмертные боги! Насколько люди несходны в своих
взглядах и помыслах! Пусть мои намерения и надежды на будущее так
находят одобрение у вас и у римского народа, как справедливо то, что
должностные полномочия, какими римский народ облекал меня до сего времени,
я принимал в полном сознании святости всех своих обязанностей!
Избранный квестором, я считал, что эта почетная должность мне не просто дана,
а вверена и вручена. Будучи квестором в провинции Сицилии, я представлял
себе, что глаза всех людей обращены на одного меня, что я в роли квестора
выступаю как бы во всемирном театре, что я должен отказывать себе во
всех удовольствиях, уж не говорю — в каких-нибудь из ряда вон выходящих
страстных желаниях, но и в законных требованиях самой природы. (36)
Теперь я избран эдилом; я отдаю себе отчет в том, что мне поручено
римским народом; мне предстоит устроить с величайшей тщательностью и
торжественностью священные игры в честь Цереры, Либера и Либеры;
умилостивить в пользу римского народа и плебса матерь Флору блеском игр в ее
честь 35; устроить с величайшим великолепием и благоговением древнейшие
игры в честь Юпитера, Юноны и Минервы 36, игры, первыми названные
римскими; мне поручен надзор за храмами и охрана всего города Рима; за
эти труды и тревоги мне дана и награда: преимущество при голосовании в
сенате 37, тога-претекста, курульное кресло, право оставить свое изображение
потомству на память38. (37) Да будут все боги столь благосклонны ко мне,
судьи, сколь справедливо то, что как ни приятен мне почет, оказываемый
мне народом, он все-таки доставляет мне далеко не столько удовольствия,
сколько тревог и труда; так что именно эта должность эдила кажется не по
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
121
необходимости отданной случайному кандидату, а — ввиду того, что так
надлежало,— предоставленной разумно и, по решению народа, доверенной
надежному человеку.
(XV, 38) А когда ты — правдами и неправдами — был объявлен
претором (оставляю в стороне и не говорю, как это произошло39); итак, когда
ты, как я сказал, был объявлен избранным, то неужели самый голос
глашатая, столько раз сообщавший о голосовании и о том, сколько раз этот
почет тебе оказали такая-то младшая и такая-то старшая центурии 40, не
заставил тебя подумать, что тебе вверена важная часть государственных дел
и что в течение хотя бы одного того года тебе следует воздержаться от
посещений дома распутницы? Когда тебе по жребию досталось творить
суд41, неужели ты ни разу не представил себе всей важности, всего бремени
этой обязанности? Неужели ты — если только мог пробудиться — не отдал
себе отчета в том, что эти полномочия, которые трудно выполнять, даже
отличаясь исключительной мудростью и неподкупностью, достались в руки
величайшей глупости и подлости? И вот, ты не только отказался на время
своей претуры выгнать Хелидону из своего дома, но в ее дом перенес всю
свою претуру42. (39) Затем началось твое наместничество, во время
которого тебе ни разу не пришло в голову, что ликторские связки и секиры и
столь обширная полнота империя, и все внешние знаки столь высокого
положения даны тебе не для того, чтобы ты, пользуясь этой властью и
авторитетом, мог сокрушать все преграды, воздвигнутые чувством чести и
долгом, и считать имущество всех и каждого своей добычей, не с тем, чтобы
ничье имущество не было для себя неприкосновенным, ни один дом —
запретным, не с тем, чтобы ничья жизнь не была в безопасности, ничье
целомудрие не было запретным для твоих вожделений и наглости; во время
наместничества ты вел себя так, что тебе, при неопровержимости всех улик,
только и остается ссылаться на войну с беглыми рабами, которая, как тебе
уже ясно, не только не послужила тебе защитой, но и придала величайшую
силу обвинениям, выставленным против тебя; разве только ты, быть может,
упомянешь о последней вспышке войны беглых рабов в Италии и о
беспорядках в Темпсе43; как только они произошли, судьба привела тебя туда;
для тебя это было бы величайшей удачей, если бы в тебе нашлась хоть
капля мужества и стойкости; но ты оказался тем же, кем был всегда. (XVI,
40) Когда к тебе явились жители Валенции44, и красноречивый и знатный
Марк Марий стал от их имени просить тебя, чтобы ты, облеченный импе-
рием и званием претора, взял на себя начальствование и руководство для
уничтожения той небольшой шайки, ты от этого уклонился; более того, в то
самое время, когда ты был на берегу, твоя небезызвестная Терция, которую
ты с собой везде возил, была у всех на виду. Кроме того, ты, давая по
такому важному делу ответ представителям Валенции, такого знаменитого и
известного муниципия, был одет в темную тунику и плащ.
122
Речи Цицерона
Как вы думаете, каково было его поведение на пути в Сицилию и в
самой провинции, если он во время возвращения в Рим (где его ожидал не
триумф45, а суд) не избежал даже того срама, каким он себя покрыл, не
получая при этом никакого удовольствия? (41) О, внушенный богами ропот
сената, в полном составе собравшегося в храме Беллоны 46. Как вы помните,
судьи, уже смеркалось; незадолго до того было получено известие о
волнениях в Темпсе; человека, облеченного империем, которого можно было бы
туда послать, не находили; тогда кто-то сказал, что невдалеке от Темпсы
находится Веррес. Каким всеобщим ропотом встретили это предложение, как
открыто первоприсутствующие сенаторы против этого возражали! И
человек, изобличенный столькими обвинениями и свидетельскими показаниями,
возлагает какую-то надежду на то, что за него будут голосовать люди,
которые все, еще до расследования дела, во всеуслышание единогласно вынесли
ему обвинительный приговор?
(XVII, 42) Пусть это так, скажут нам; в той действительной или
ожидавшейся войне с беглыми рабами Веррес не приобрел славы, так как ни
такой войны, ни угрозы ее в Сицилии не было, и он на этот случай не
принимал мер предосторожности. Но вот, против нападений морских
разбойников он на самом деле содержал снаряженный флот, проявил
исключительную заботливость и в этом отношении прекрасно защитил провинцию.
Переходя к вопросу о военных действиях морских разбойников и о
сицилийском флоте, судьи, я уже заранее утверждаю, что в одной этой области
деятельности Верреса и проявились все его величайшие преступления: алчность,
превышение власти47, безрассудные действия, произвол, жестокость.
Прошу вас выслушать мой краткий рассказ с таким же вниманием, какое вы
мне уделяли до сего времени.
(43) Прежде всего я утверждаю, что делами флота он занимался, имея
в виду не оборону провинции, а стяжание денег под предлогом постройки
кораблей. В то время как прежние преторы обыкновенно требовали от
городских общин предоставления кораблей и определенного числа матросов
и солдат, ты и не подумал о том, чтобы потребовать чего бы то ни было от
самой значительной, богатейшей мамертинской городской общины 48.
Сколько мамертинцы тайно заплатили тебе за это, мы впоследствии, в случае
надобности, из их книг и от свидетелей узнаем. (44) Что огромная кибея,
величиной с трирему49 (великолепная и прекрасно снаряженная кибея), на
глазах у всех построенная для тебя за счет города, о чем знала вся
Сицилия, была подарена тебе местными властями и сенатом Мессаны, я
утверждаю. Корабль этот, нагруженный сицилийской добычей и сам составлявший
часть этой добычи, ко времени отъезда Верреса прибыл в Велию 50 с
многочисленными ценностями и притом с такими, которые он не хотел посылать
в Рим вместе с другими украденными им предметами, так как они стоили
дорого и особенно нравились ему. Это судно, великолепное и прекрасно
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
123
снаряженное, я сам недавно видел в Велии, судьи, и его видели многие
другие; но всем, смотревшим на него, казалось, что оно уже предвидит свое
изгнание и высматривает путь для бегства своего хозяина.
(XVIII, 45) Что ты ответишь мне на это? Разве только то, что
неизбежно приходится говорить в суде по делу о вымогательстве, хотя этот
довод никак не может быть признан удовлетворительным,— корабль был
построен на твои деньги. Посмей только так ответить, хотя это и
неизбежно. Не бойся, Гортенсий, я не стану спрашивать, по какому праву сенатор
построил для себя корабль51. Законы, запрещающие это,— старые и
отжившие, как ты выражаешься. Некогда положение в нашем государстве
было таково, строгость в судах была такова, что обвинитель считал нужным
относить эти проступки к тяжким преступлениям. В самом деле, зачем тебе
понадобился корабль? Ведь если бы ты поехал куда-нибудь по делам
государственным, тебе предоставили бы корабли на казенный счет и для твоей
охраны и для переезда, а как частное лицо ты не можешь ни разъезжать,
ни отправлять предметы морем из тех мест, где тебе нельзя иметь
собственность. (46) Затем, почему ты, в нарушение законов, вообще приобрел
собственность? Такое обвинение имело бы значение в государстве в те давние,
суровые и преисполненные достоинства времена; теперь же я не только не
обвиняю тебя в этом преступлении, но даже не порицаю тебя с
общепринятой точки зрения. Однако неужели ты никогда не подумал о том, что это
будет для тебя позором, преступлением, навлечет на тебя ненависть —
постройка грузового корабля на глазах у всех в самом людном месте
провинции, которой ты управляешь, обладая империем? Что, по твоему мнению,
должны были говорить те, кто это видел? Что должны были подумать те,
кто об этом слышал? Что ты отправишь в Италию корабль без груза?
Что ты по приезде в Рим намерен стать судовладельцем? Ни у кого не
могло появиться даже предположения, будто у тебя в Италии есть приморское
имение и ты для перевозки урожая обзаводишься грузовым судном. Тебе,
должно быть было угодно, чтобы всюду открыто пошли толки, будто ты
готовишь себе корабль для вывоза своей добычи из Сицилии и доставки
тебе похищенных предметов, остававшихся в провинции?
(47) И все же, если ты докажешь, что корабль был построен на твой
счет, я готов оставить все это в стороне и простить тебе. Но неужели ты,
безрассуднейший человек, не понимаешь, что эти самые мамертинцы,
предстатели за тебя, при первом слушании дела лишили тебя возможности
такого оправдания? Ибо Гей, глава посольства, присланного с хвалебным
отзывом о тебе 52, сказал, что корабль для тебя строили рабочие за счет города
Мессаны и постройкой, по поручению города, ведал мамертинский сенатор.
Остается вопрос о строительном материале; его ты официально потребовал
у жителей Регия, как они сами заявляют53; ведь у мамертинцев леса не
было; впрочем, ты и сам не можешь это отрицать.
124
Речи Цицерона
(XIX) Но если и материалы для постройки корабля и рабочую силу ты
потребовал, а не оплатил, где же скрыто то, за что ты, по твоим словам,
платил сам? (48) В книгах мамертинцев, скажут нам, об этом ничего нет.
И действительно, они из своей казны, может быть, ничего и не давали.
Могли ведь наши предки выстроить и отделать Капитолий даром, призвав
мастеров и собрав рабочих от имени государства. Затем, как я догадываюсь и
как я докажу на основании книг мамертинцев, когда вызову для допроса
их самих, большие суммы денег, испрошенные для Верреса на оплату работ,
записаны под вымышленными статьями. Нет ничего удивительного, если
мамертинцы пощадили в своих записях гражданскую честь своего
величайшего благодетеля, который, как они убедились на опыте, был им большим
другом, нежели римскому народу. Но если отсутствие соответствующих
записей доказывает, что мамертинцы не давали тебе денег, то невозможность
для тебя предъявить записи о покупке или о подряде должна служить
доказательством того, что корабль построен для тебя даром.
(49) Но, скажут нам, ты потому и не стал требовать от мамертинцев
постройки корабля, что это союзная городская община. Да одобрят эта
боги! Нашелся достойный ученик фециалов 54, строжайший и
внимательнейший блюститель священных обязанностей, налагаемых на государства
договорами. Следует головой выдать мамертинцам всех преторов, бывших до
тебя, так как они требовали от них поставки кораблей в нарушение условий
договора. Но как же ты, неподкупный и добросовестный человек,
потребовал корабль от Тавромения, также союзного города? Правдоподобно ли,
чтобы без взятки, при одинаковом положении жителей, их права оказались
столь различными, а отношение к ним — столь несходным? (50) А если я
докажу, судьи, что на основании двух договоров, заключенных с двумя
городами, именно Тавромений совершенно освобожден от повинности
предоставлять корабль, Мессане же самим договором строго предписано
поставить корабль, а между тем Веррес, нарушая договор, потребовал корабль
от жителей Тавромения и освободил мамертинцев от этой поставки?
Сможет ли у кого-либо возникнуть сомнение, что время его претуры кибея
мамертинцев помогла им больше, чем жителям Тавромения заключенный
договор? Пусть прочтут текст договора.
(XX) Таким образом, этим своим, как ты хвалишься, благодеянием
или, как показывают факты, взяткой и сделкой ты умалил величие
римского народа, уменьшил вспомогательные военные силы государства,
уменьшил средства, добытые мужеством и мудростью наших предков, нарушил
права нашей державы и условия, установленные для наших союзников,
попрал уважение к заключенному с ними договору. Те, которые в силу
самого договора должны были отправить нам корабль, вооруженный и
снаряженный на их счет и страх, хотя бы до самого Океана, если бы мы этого
потребовали, откупились данной тебе взяткой от выполнения своих дого-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
125
ворных обязательств и от условий, вытекающих из их подчинения нашей
державе, откупились даже от обязанностей плавать в проливе, у самого
порога своих домов, защищая свои стены и гавани. (51) Как вы думаете,
сколько труда, сколько хлопот, сколько денежных жертв согласились бы
взять на себя мамертинцы при заключении этого договора, если бы они
каким-либо способом могли добиться от наших предков, чтобы их не
обязывали давать эту бирему? Ибо столь тяжелая повинность, возложенная
на городскую общину, накладывала на союзный договор, так сказать,
клеймо порабощения. Итак, той льготы, которой мамертинцы не смогли
добиться от наших предков на основании договора в те времена, когда их
заслуги еще были свежи в нашей памяти 55, когда наши правовые отношения
с ними еще не были упорядочены, когда римский народ не испытывал
затруднений, они, не оказав нам никаких новых услуг, [через столько лет,
в течение которых это обязательство, по праву нашего империя,] из года в
год соблюдалось и всегда выполнялось, теперь, при нынешней необычайной
нехватке кораблей, добились от Верреса за деньги; при этом они не только
освободились от повинности давать нам корабль. Дали ли мамертинцы, на
протяжении трех лет твоей претуры, хотя бы одного матроса или солдата?
(XXI, 52) Наконец, хотя, на основании постановления сената56, а
также Теренциева и Касиева закона57, надо было по равномерной разверстке
покупать хлеб у всех городских общин Сицилии, ты даже от этой легкой и
оощей для всех повинности освободил мамертинцев. Они, скажешь ты, не
обязаны давать хлеб. Почему же они не обязаны? Не обязаны продавать
его? Ведь этого хлеба у них не взимали даром; его покупали. Итак, по
твоему мнению и толкованию, мамертинцы не должны были помогать римскому
народу даже путем продажи хлеба на рынке. (53). Но в таком случае, какая
же община была обязана это делать? Обязательства тех, кто возделывает
земли, принадлежащие казне, определяются постановлением цензора58.
Почему же ты потребовал от них новых поставок? А общины, платящие
десятину? Разве они обязаны, в силу Гиеронова закона59, давать сколько-
нибудь, сверх десятины? Почему ты и им указал, сколько покупного хлеба
они обязаны давать? А общины, свободные от повинностей? Они, конечно,
ничего не обязаны давать. Между тем ты не только приказал им доставить
хлеб, но даже — для того, чтобы они давали больше, чем могли дать,—
прибавил к их доле те 60 000 модиев в год, от поставки которых ты
освободил мамертинцев. Но я сейчас говорю не о том, что ты незаконно
потребовал хлеб от других городов; я утверждаю, что находившимся в таком же
положении мамертинцам, от которых все твои предшественники требовали
хлеб на таких же условиях, как и от других общин, и которым они платили
за него деньги на основании постановления сената и закона 60, ты
предоставил льготу незаконно. А для того, чтобы благодеяние это, как говорится,
плотничьим гвоздем прибить61, Веррес вместе со своим советом разобрал
126
Речи Цицерона
дело мамертинцев и, на основании решения совета, объявил, что от мамер-
тинцев он хлеба не требует.
(54) Слушайте указ продажного претора, взятый из его собственных
записей; обратите внимание на торжественность его языка, на его
авторитет, с каким он определяет права. Читай. [Записи.] На основании решения
совета он, по его словам, «охотно делает это»; так и записано. А если бы
ты не употребил слова «охотно»? Право, мы бы подумали, что ты берешь
взятки нехотя. И это «на основании решения совета»! Вы, судьи, слышали
имена членов этого славного совета. Что вы подумали, слыша эти имена?
Кого называют вам — состав ли преторского совета или же товарищей и
спутников отъявленного разбойника? (55) Вот они, толкователи договоров,
учредители товарищества62, блюстители религиозных запретов! Никогда
еще, при покупке в Сицилии хлеба казной, мамертинцев не освобождали от
поставки их доли — до той поры, пока Веррес не образовал своего славного
совета из избранных им людей, чтобы получать от мамертинцев деньги и
оставаться верным себе. Поэтому его указ имел такую силу, какую и
должен был иметь указ человека, продавшего свой указ тем, у кого он должен
был покупать хлеб. Ибо Луций Метелл, как только сменил Верреса, тотчас
же, на основании записанных постановлений Гая Сацердота63 и Секста Пе-
дуцея64, потребовал от мамертинцев поставки хлеба. (XXII, 56) Тогда-то
они и поняли, что им не удастся дольше пользоваться тем, что они купили
у человека, на эту продажу не уполномоченного.
Далее, почему ты, который хотел прослыть таким добросовестным
толкователем договоров, потребовал хлеб от жителей Тавромения, от жителей
Нета, когда обе эти городские общины являются союзными? При этом
жители Нета не преминули защитить свои интересы и, как только ты объявил,
что охотно предоставляешь льготу мамертинцам, явились к тебе и
объяснили, что они, в силу союзного договора, находятся в таких же условиях.
Решить одинаковое дело по-разному ты не мог; ты постановил, что жители
Нета не должны доставлять хлеб, и все же взыскал его с них. Подай мне
книги нашего претора: книгу его указов и роспись истребованного им хлеба.
[Указы претора Гая Верреса.] Что другое можем мы предположить, судьи,
в связи со столь грубым и столь позорным непостоянством, как не то, что
само собой напрашивается: либо жители Нета не дали ему денег, каких он
требовал, либо он постарался, чтобы мамертинцы поняли, что они удачно
поместили у него такие большие деньги и сделали ему подарки, коль скоро
другие, заявляя такие же притязания, такой же льготы от него не получили.
(57) И после этого он еще осмелится толковать мне о хвалебном отзыве
мамертинцев? Да есть ли среди вас, судьи, хотя бы один человек, который
бы не понимал, как много в этом отзыве слабых сторон? Во-первых, тому,
кто не в состоянии привести в суд десятерых предстателей 65, лучше не
приводить ни одного, чем не набрать этого, можно сказать, узаконенного обы-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
127
чаем числа. В Сицилии так много городских общин, которыми ты управлял
в течение трех лет; большинство из них тебя обвиняет, несколько общин,
незначительных и запуганных, молчат; одна тебя восхваляет. О чем это
говорит, как не о том, что ты сам понимаешь, какова польза от истинного
хвалебного отзыва? Но ты так управлял провинцией, что воспользоваться им
ты никак не сможешь. (58) Затем (я уже говорил это в другом месте66),
какова, наконец, ценность этого хвалебного отзыва, когда представители
городских общин и главы этих представителей 67 заявили, что за счет
города для тебя был построен корабль, а они сами как частные лица были
ограблены тобой и обобраны? Наконец, раз они, одни во всей Сицилии, тебя
хвалят, то что делают они, как не свидетельствуют нам, что все, столь щедро
дарованное тобой им, ты отнял у нашего государства? Какая колония68 в
Италии находится в столь благоприятном правовом положении, какой
муниципий столь свободен от повинностей69, что пользовался в течение
последних лет такими большими льготами во всех отношениях, какими
пользовалась мамертинская городская община? На протяжении трех лет лишь она
одна не дала того, что должна была давать в силу союзного договора; она
одна, во время претуры Верреса, была свободна от всех повинностей; она
одна, под его империем, была в особом положении, римскому народу не
давая ничего, а Верресу ни в чем не отказывая.
(XXIII, 59) Но вернемся к вопросу о флоте, о чем я начал было
говорить; ты получил от мамертинцев корабль незаконно; ты, нарушая
договоры, предоставил им льготу. Таким образом, по отношению к одной и той же
городской общине ты был бесчестен дважды: когда ты предоставлял ей
льготу, какой не следовало предоставлять, и когда ты принял от нее то, чего
нельзя было принимать. Ты должен был потребовать корабль для борьбы
против морских разбойников, а не для перевозки плодов разбоя, для
защиты провинции от ограбления, а не для доставки добра из ограбленной
провинции. Мамертинцы предоставили в твое распоряжение и свой город,
чтобы ты отовсюду свозил в него краденое добро, и корабль, чтобы ты вывозил
его на нем; этот город был для тебя складом добычи; эти люди —
свидетелями и укрывателями краденого; они подготовили тебе место для хранения
краденого и средства для вывоза его. Поэтому, даже тогда, когда ты из-за
своей алчности и подлости потерял флот70, ты не осмелился потребовать
корабль у мамертинцев, хотя в то время, при таком недостатке кораблей и
при столь бедственном положении провинции — даже если бы мамертинцев
пришлось об этом просить, как об одолжении,— все же надо было получить
у них корабль. Ведь и твою решимость требовать и твои попытки просить
корабль останавливала мысль не о том прекрасном корабле — не о биреме,
поставленной римскому народу, а о кибее, подаренной претору. Это была
плата за твой империй, за освобождение от обязанности оказывать помощь,
за твой отказ от своего права, от обычая и от требований союзного договора.
128
Речи Цицерона
(60) Вот как была потеряна, вернее, продана за деньги крепкая опора в
лице одной из городских общин. Послушайте теперь о новом способе
грабежа, впервые придуманном Верресом. (XXIV) Каждая городская община
предоставляла в распоряжение своего наварха71 все необходимое для
содержания флота: хлеб, жалование и все остальное. А наварх не мог совершить
ничего такого, в чем матросы могли бы его обвинить, и, кроме того, он
должен был отчитываться перед своими согражданами; при исполнении им
своих обязанностей наварх не только прилагал свой труд, но также и нес
ответственность за все. Так, говорю я, делалось всегда и не только в Сицилии, но
также и во всех провинциях; того же порядка держались относительно
жалования и расходов на содержание войск союзников и латинян — тогда,
когда мы пользовались их вспомогательными силами 72. Веррес, первый
после установления нашего владычества, приказал всем городским общинам
выплачивать эти деньги ему — с тем, чтобы ими распоряжался тот, кому
он сам это поручит. (61) Возможны ли сомнения, почему ты первый
изменил общепринятый старый порядок, пренебрег таким большим
преимуществом, что деньги поступают в распоряжение других людей, и почему ты
взял на себя такую трудную задачу, которая может повлечь за собой
обвинения, и бремя, порождающее подозрения? Затем были созданы также и
другие статьи дохода. Смотрите, как много их в одном только морском деле:
брать деньги с городских общин за освобождение их от повинности давать
матросов; за определенную плату отпускать матросов; все жалование,
причитающееся отпущенным, присваивать себе; остальным положенного не
платить. Ознакомьтесь со всем этим на основании свидетельских показаний
городских общин. Читай. [Свидетельские показания городских
общин.]
(XXX, 62) Нет, каков негодяй! Каково его бесстыдство, судьи! Какова
его наглость! Назначить городским общинам денежные взносы в
соответствии с числом солдат; установить определенную плату за увольнение
матросов в отпуск73 — по шестисот сестерциев с каждого! Всякий, кто давал их
ему, незаконно получал отпуск на все лето, а Веррес брал себе все деньги,
полученные для уплаты жалования этому матросу и на содержание его. Так
он получал двойную выгоду от предоставления отпуска одному человеку.
И он, в своем безрассудстве, при таких дерзких набегах морских
разбойников и при таком опасном положении провинции, действовал настолько
открыто, что это знали даже разбойники, а вся провинция была этому
свидетельницей.
(63) В то время, когда, вследствие алчности Верреса, флот существовал
в Сицилии только по названию, а в действительности это были пустые
корабли, пригодные для того, чтобы возить претору награбленное им добро,
а не внушать страх грабителям, все же Публий Цесеций и Публий Тадий 74,
плавая во главе отряда из десяти кораблей, лишенных половины экипажа,
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
129
не столько захватили, сколько увели корабль пиратов с богатой добычей,
можно сказать, обреченный либо на то, чтобы попасть в чужие руки, либо
на то, чтобы пойти ко дну вследствие тяжести груза. На этом корабле было
много очень красивых молодых людей, большое количество серебра в
изделиях и в виде монеты, а также много ковров. Это — единственный корабль,
который, собственно говоря, был не захвачен, а найден нашим флотом под
Мегаридой, невдалеке от Сиракуз. Как только Верреса известили об этом,
он, хотя и лежал на берегу пьяный в обществе своих наложниц, все-таки
собрался с силами и тотчас же послал своим квестору и легату
многочисленную стражу, чтобы ему доставили всю добычу в целости и притом
возможно скорее. (64) Корабль привели в Сиракузы. Все ждали казни пленников.
Но Веррес, словно ему попала в руки добыча, а не были захвачены
разбойники, признал врагами75 только стариков и уродливых пленников; остальных
же, покрасивее, помоложе, обученных каким-либо искусствам, он всех взял
себе; нескольких человек роздал своим писцам, сыну и когорте; шестерых
певцов и музыкантов послал в Рим, в подарок одному из своих приятелей.
Вся следующая ночь ушла на разгрузку корабля. Самого архипирата,
подлежавшего казни, никто не видел. Все и по сей день думают (что можно
ожидать от Верреса, вы сами должны догадаться), что он за освобождение этого
архипирата тайно получил от пиратов деньги. (XXVI, 65) — «Это —
только догадка».— Никто не может быть хорошим судьей, если не
руководствуется хорошо обоснованным подозрением. Вы знаете Верреса; вам известно
обыкновение всех тех, кто берет в плен главаря разбойников или врагов,—
как охотно позволяют они выставить его всем напоказ. Из всего
многочисленного сиракузского конвента, судьи, я не встречал ни одного человека,
который бы сказал, что видел взятого в плен архипирата, хотя все, по
обычаю, как это водится, сбежались, расспрашивали о нем и желали его
увидеть. По какой же причине этого человека скрывали так тщательно, что на
него даже случайно никому не удалось взглянуть? Несмотря на то, что
жившие в Сиракузах моряки, часто слышавшие имя этого главаря и не раз
испытывавшие страх перед ним, хотели воочию увидеть его казнь, и
насладиться видом его мучений, все же никому из них не дали возможности
взглянуть на него.
(66) Публий Сервилий 76 один захватил живыми больше главарей
морских разбойников, чем все его предшественники. Было ли когда-нибудь кому
бы то ни было отказано в разрешении и удовольствии взглянуть на пирата,
взятого им в плен? Напротив, где бы ни проходил его путь, он всем
доставлял это приятное зрелище — вид связанных врагов, взятых в плен. Поэтому
зрители стекались отовсюду, причем ради того, чтобы взглянуть на
пленных, собиралось не только население тех городов, через которые их вели,
но и жители всех соседних городов. А самый триумф Сервилия? Почему он
был для римского народа самым приятным и радостным из всех триумфов?
" Цицерон, т. I
130
Речи Цицерона
Ведь нет [ничего более сладостного, чем победа; но нет] более убедительного
свидетельства о победе, чем возможность видеть, как связанными ведут на
казнь тех, кто так часто внушал людям страх. (67) Почему ты не сделал
этого, почему ты так спрятал архипирата как будто взглянуть на него было
бы кощунством? Почему ты не казнил его? По какой причине ты сохранил
ему жизнь? Знаешь ли ты хотя бы одного архигирата, взятого в прошлом
в плен и не обезглавленного? Назови мне хотя бы одного человека, на
которого ты мог бы сослаться, представь мне хотя бы один такой пример. Ты
сохранил жизнь архипирату. С какой целью? Ну, разумеется, для того,
чтобы он во время триумфа шел перед твоей колесницей. В самом деле,
единственное, что оставалось сделать, это — чтобы тебе, после того как ты потерял
превосходный флот римского народа и разорил провинцию, назначили
морской триумф 77.
(XXVII, 68) Но продолжим; он предпочел, в виде новшества, держать
главаря морских разбойников под стражей вместо того, чтобы обезглавить
его, как все обычно поступали. В руках каких стражей был он и как его
охраняли? Все вы слыхали о сиракузских каменоломнях; многие из вас зна-
ют их; это огромное и величественное создание царей и тираннов , все они
вырублены в скале на необычайную глубину, для чего потребовался труд
многочисленных рабочих. Невозможно ни устроить, ни даже представить
себе тюрьму, которая в такой степени исключала бы возможности побега,
была бы так хорошо ограждена со всех сторон и столь надежна. В эти
каменоломни даже и из других городов Сицилии по приказу доставляют
государственных преступников для содержания под стражей. (69) Так как Вер-
рес ранее бросил туда многих узников из числа римских граждан, так как
он приказал заключить туда же других пиратов, он понял, что если он
заточит в ту же тюрьму подставное лицо, которым он хотел заменить
архипирата, то многие люди будут разыскивать в каменоломнях настоящего
предводителя пиратов. Поэтому он и не решился доверить его этой наилучшей и
надежнейшей тюрьме; наконец, он побаивался Сиракуз вообще. Он отослал
его — куда? Быть может, в Лилибей? Это я понял бы; но он все же
побаивался жителей побережья. Нет, судьи, не туда. Тогда в Панорм? Это,
пожалуй, было возможно. Впрочем, пирата, захваченного в сиракузских водах,
надо было если не казнить, то, во всяком случае, содержать под стражей
именно в Сиракузах. (70) Нет, даже не в Панорм. Куда же? А куда бы вы
думали? К людям, совершенно не знавшим страха перед пиратами и не
имевшим представления о них, совершенно не знакомым с мореплаванием и с
морским делом,— к центурипинцам, живущим в самой середине острова,
превосходным земледельцам, которые никогда не боялись даже имени
морского разбойника и, во время твоей претуры, страшились одного только
Апрония, архипирата на суше 79. А чтобы всякий легко мог понять, что Вер-
рес сделал это для того, чтобы подставному архипирату было и легко и при-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
131
ятно разыгрывать роль того, кем он в действительности не был, он и велел
жителям Центурип быть возможно более щедрыми и не отказывать ему ни
в хорошей пище, ни в других удобствах.
(XXVIII, 71) Тем временем жители Сиракуз, люди опытные и
догадливые, способные не только видеть то, что у них на глазах, но и подозревать
то, что от них скрывают, изо дня в день вели счет пиратам, которых
казнили. Сколько их должно было быть, они заключали на основании размеров
захваченного корабля и числа его весел. Уведя к себе всех пиратов,
которые были обучены чему-либо, или красивы, Веррес думал, что если он,
согласно обычаю, велит привязать к столбам всех остальных одновременно,
то народ поднимет крик, так как число людей, уведенных им к себе, намного
превышало число оставленных. Хотя он из этих соображений и решил
выводить их на казнь в разное время, все же при таком большом населении
не было человека, который бы не вел точного счета пленникам и не только
не замечал их недостачи, но и со всей настоятельностью не требовал их
голов.
(72) Так как недоставало большого числа пленных, то этот нечестивец
начал заменять пиратов, взятых им себе, римскими гражданами, ранее
брошенными им в тюрьму; одних римских граждан он выдавал за бывших
солдат Сертория и говорил, что они бежали из Испании и высадились в
Сицилии 80; других, захваченных морскими разбойниками во время поездок по
морю по торговым или другим делам, он обвинял в добровольном
соглашении с пиратами. Поэтому одних римских граждан влекли из тюрьмы к
столбам и на казнь, закутав им головы81, чтобы не было возможности их
опознать; другим, хотя многие римские граждане опознавали и все защищали
их, тем не менее отрубали головы. Об их ужасной смерти и жестоких
мучениях я буду говорить в свое время, когда стану обсуждать этот вопрос,
причем если меня, во время этих сетований на жестокость Верреса и на
совершенно не подобающую римским гражданам смерть, оставят не только
силы, но и жизнь, то я сочту это славным и сладостным концом для себя.
(73) Итак, вот в чем воинский подвиг Верреса, вот в чем его славная
победа: после захвата миопарона82 пиратов их главарь был освобожден,
музыканты отправлены в Рим, красивые, молодые и обученные искусствам люди
уведены в дом претора; вместо них, в таком же числе, распяты и казнены
римские граждане, словно это были враги; все ткани были забраны, все
золото и серебро забрано и похищено.
(XXIX) А как запутался Веррес при первом слушании дела! После
того как он молчал в течение стольких дней, он вдруг, после свидетельских
показаний весьма выдающегося человека, Марка Анния 83, заявившего, что
римскому гражданину отрубили голову, а архипират казнен не был, вскочил
со своего места, возбужденный сознанием своего преступления и безумием,
вызванным его злодеянием84, и сказал: предвидя обвинения в том, что он
9*
132
Речи Цицерона
взял деньги и не казнил настоящего архипирата, он потому и не отрубил ему
головы; у него в доме, сказал он, находятся двое архипиратов.
(74) О, милосердие или, вернее, удивительное и редкостное
долготерпение римского народа! Римский всадник Марк Анний говорит, что
римскому гражданину отрубили голову; ты молчишь; он же говорит, что
архипират не был казнен; ты это признаешь. Поднимается всеобщий ропот,
раздаются крики, и все-таки римский народ сдерживает свой гнев и не
подвергает тебя немедленной казни, а заботу о своем благе поручает строгости
судей. Как? Ты знал, что тебя обвинят во всем этом? Как же мог ты знать
это или как могло у тебя возникнуть такое подозрение? Личных врагов у
тебя не было; но, если бы они даже и были, все же ты, как мы видим, вел
такой образ жизни, что, видимо, не очень боялся, что тебя рано или поздно
привлекут к суду. Или нечистая совесть, как это бывает, сделала тебя
трусливым и подозрительным? Но если ты страшился обвинения и суда даже
тогда, когда обладал империем, то как можешь ты сомневаться, что тебе
теперь, когда ты изобличен показаниями стольких свидетелей, вынесут
обвинительный приговор? (75) Но если ты боялся обвинения в том, что ты
вместо архипирата подверг казни подставное лицо, то какое же из двух
средств защиты счел ты более верным в будущем — представить ли через
долгий срок, во время суда, по моему требованию и настоянию, людям,
незнакомым с делом, какого-то человека, которого ты назовешь архипиратом,
или казнить его на месте, в Сиракузах, среди знающих его людей, на глазах
чуть ли не у всей Сицилии?
Вот какая разница между тем и другим, теперь ты видишь, что тебе
следовало делать: в последнем случае [никаких оснований для упреков тебе
не было бы, а в данном случае никакой возможности оправдаться нет.]
Поэтому все всегда прибегали ко второму образу действий. А кто, до тебя,
прибегал к первому; кто, помимо тебя, поступал так, хочу я знать. Ты
сохранил пирату жизнь. До какого времени? Пока ты обладал империем. На
каком основании, по чьему примеру, почему так долго? Почему, повторяю,
ты, тотчас же обезглавив римских граждан, взятых в плен пиратами,
позволил самим пиратам так долго смотреть на солнечный свет? (76) Но пусть
будет по-твоему. Допустим, что ты был волен в своих действиях в течение
всего того времени, пока обладал империем. Но как же ты, уже будучи
частным лицом, уже будучи обвинен, уже, можно сказать, будучи почти
осужден, решился содержать предводителя врагов в частном доме? 85 Один,
два месяца, наконец, почти год с того времени, как они попали в плен,
пираты находились в твоем доме, пока этого не пресек я, вернее, Маний Глаб-
рион, который, по моему требованию, приказал забрать их оттуда и
заключить в тюрьму.
(XXX) Какое имел ты право на это, что это за обычай, имеются ли
подобные примеры? Какое частное лицо, когда бы то ни было могло дер-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
133
жать в стенах Рима, у себя в доме, жесточайшего и заклятого врага римского
народа, вернее, общего врага всех племен и народов? (77) Ну, а если бы
накануне того дня, когда я тебя заставил сознаться, что после казни римских
граждан главарь разбойников остался жив и находился под твоим кровом;
повторяю, если бы он накануне того дня бежал из твоего дома, если бы ему
удалось набрать шайку разбойников для действий против государства,—
что сказал бы ты? — «Он жил у меня в доме, он общался со мной; я, имея
в виду свое судебное дело — чтобы мне было легче опровергать обвинения,
предъявленные мне моими недругами,— сохранил его живым и невреди-
мым».— Не так ли? Ты хочешь отвратить опасность от себя ценой
опасности для всех? Время для казни, которой подлежат побежденные враги, ты
выберешь, когда это будет выгодно тебе, а не государству? Враг римского
народа будет находиться под стражей в доме частного лица? Но даже те,
кто справляет триумф и для этого дольше обычного сохраняет жизнь
военачальникам врагов, дабы их шествием во время триумфа доставить римскому
народу великолепное зрелище и показать ему плоды одержанной победы,
все же, когда колесницы начинают поворачивать с форума в сторону
Капитолия, даже они приказывают отвести вражеских военачальников в тюрьму,
и один и тот же день оказывается последним и для империя победителей и
для жизни побежденных 86.
(78) И теперь кое у кого, конечно, возникают сомнения, что ты (тем
более в ожидании суда, по твоим словам, предстоявшего тебе) мог
совершить этот промах: вместо того, чтобы архипирата казнить, ты, с явной
опасностью для себя, оставил его в живых. В самом деле, а если бы он умер,
то как, скажи мне, ты, по твоим словам, боявшийся обвинения, убедил бы
в этом кого бы то ни было? Раз установлено, что ни один человек в
Сиракузах не видел архипирата, хотя все желали его видеть; раз никто не
сомневался, что ты освободил его за деньги; раз всюду говорили о замене его
другим человеком, которого ты хотел выдать за него; раз ты сам
признался, что ты уже давно боялся этого обвинения, скажи, кто стал бы тебя
слушать, если бы ты объявил о его смерти? (79) Теперь, когда ты нам
показываешь какого-то незнакомого нам человека, ты видишь, что над
тобой все же смеются. А если бы он бежал, если бы он разбил оковы, как тот
знаменитый пират Никон, которого Публий Сервилий вторично взял в плен
так же удачно, как и в первый раз, что сказал бы ты? Но дело обстояло
вот как: если бы в один прекрасный день тот настоящий пират был
обезглавлен, ты не получил бы денег; если бы этот мнимый умер или бежал,
не представило бы труда заменить одно подставное лицо другим. Я говорил
об этом архипирате дольше, чем хотел, и все же самых убедительных
доказательств по этой статье обвинения не привел. Ибо я хочу оставить всю эту
статью обвинения неисчерпанной; есть определенное место, определенный
закон, определенный трибунал, ведению которого она подлежит8'.
134
Речи Цицерона
(XXXI, 80) Поживившись столь крупной добычей — рабами,
серебряной утварью, тканями,— Веррес, однако, не стал более заботливо
относиться ни к снаряжению флота, ни к созыву уволенных в отпуск солдат, ни к
снабжению их продовольствием, хотя эти меры могли доставить не только
покой провинции, но и добычу ему самому. Ибо в самый разгар лета, когда
другие преторы обычно объезжают провинцию, посещая ее области, или
даже, ввиду такой сильной угрозы со стороны морских разбойников, сами
выходят в море, в это время Веррес, в погоне за утехами и любовными
наслаждениями, не удовольствовался пребыванием в своем царском доме
[это был дом царя Гиерона, и в нем жили преторы] и, следуя своим
привычкам летнего времени, о чем я уже рассказывал, велел раскинуть полотняные
палатки на берегу сиракузского Острова, за ручьем Аретусой, у самого
входа в гавань, в очень приятном месте, укрытом от посторонних взоров.
(81) Здесь претор римского народа, охранитель и защитник провинции,
проводил летние дни, предаваясь попойкам с женщинами, причем из
мужчин возлежал только он и его сын, носящий претексту (впрочем, я был бы
вправе, не делая исключений, сказать, что там не было ни одного мужчины,
так как были только они двое); иногда допускали также
вольноотпущенника Тимархида; что касается женщин, то многие из них были замужними,
из знатных семей, кроме одной — дочери мима Исидора, которую
Веррес, влюбившись, увез у родосского флейтиста. Там бывала некая Пипа,
жена сиракузянина Эсхриона; о страсти Верреса к этой женщине по
всей Сицилии распространено множество стихов. (82) Там бывала
Ника, как говорят, женщина необыкновенной красоты, жена
сиракузянина Клеомена. Муж любил ее, но противиться страсти Верреса не мог,
да и не осмеливался; к тому же тот привлекал его к себе многочисленными
подарками и милостями. Но в то время Веррес, при всем своем бесстыдстве,
известном нам, все же не мог, когда ее муж был в Сиракузах, без всяких
стеснений проводить с его женой столько дней на морском берегу. Поэтому
он придумал единственную в своем роде уловку — корабли, "над которыми
начальствовал легат, он передал Клеомену. Над флотом римского народа он
приказал начальствовать сиракузянину Клеомену. Целью его было — чтобы
Клеомен не просто отсутствовал во время своих выходов в море, но уезжал
охотно, так как ему оказаны великая честь и милость, а чтобы сам Веррес,
избавившись от присутствия мужа и отправив его подальше, мог не
отпускать от себя его жены; Верресу это не то, чтобы развязывало руки (в самом
деле, кто был когда-либо помехой его похоти?), но, по крайней мере, он мог
меньше стесняться, если удалит человека, бывшего не мужем, а как бы
соперником.
(83) И вот принимает под свое начало корабли наших союзников и
друзей сиракузянин Клеомен. (XXXII) С чего начать мне: с обвинений или
с сетований? Сицилийцу предоставить полноту власти и почетные права,
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
135
принадлежащие легату, квестору и, наконец, претору? Если сам ты был
слишком увлечен попойками и женщинами, то где же были твои квесторы,
где были легаты, [где был хлеб, оцененный в три денария за модий, где
мулы, где палатки, где столь многочисленные и столь значительные
поставки, назначенные должностным лицам и легатам римским народом и
сенатом 88], наконец, где были твои префекты, твои трибуны 89? Если не было
римского гражданина, достойного этих полномочий, то не нашлось ли бы
его в городских общинах, неизменно остававшихся друзьями римскому
народу и состоявших под его покровительством? Где была Сегеста, где были
Центурипы? Ведь их сближают с римским народом не только взаимные
услуги, верность, давность отношений, но и родство 90. (84) О, бессмертные
боги! Что же это значит? Если начальствовать над солдатами, кораблями
и навархами этих, названных мной городских общин было приказано сира-
кузянину Клеомену, то не означает ли это, что Веррес уничтожил всякий
почет, который по справедливости следует воздавать высокому положению
и заслугам? Разве мы вели когда-либо войнуtв Сицилии, когда бы центури-
пинцы не были нашими союзниками, а сиракузяне — врагами? Я хочу
только напомнить о событиях далекого прошлого, отнюдь не желая упрекать в
чем-либо эту городскую общину91. Вот почему тот прославленный муж и
выдающийся император, Марк Марцелл (его доблести мы обязаны взятием
Сиракуз, а его милосердию их спасением) не позволил коренным сиракузя-
нам селиться в части города, называемой Островом; даже поныне, повторяю
я, сиракузянам селиться там запрещено; ибо это место может оборонять
даже небольшой отряд. Поэтому Марцелл не захотел доверить его людям,
ке вполне надежным, тем более, что именно мимо этой части города должны
проходить корабли, прибывающие из открытого моря. Вот почему он не
счел возможным доверять ключ от Сиракуз людям, не раз преграждавшим
доступ туда нашим войскам. (85) Вот в чем различие между твоим
произволом и заветами наших предков, между твоими неистовыми страстями и
их мудрым предвидением. Они лишили сиракузян доступа к берегу, ты
предоставил им империй на море; они не велели сиракузянам селиться в
местности, куда корабли могут подходить, ты повелел начальствовать над
флотом и кораблями сиракузянину; тем, у кого наши предки отняли часть их
города, ты дал часть нашего империя, а союзникам, с чьей помощью мы
привели сиракузян к повиновению, ты приказал повиноваться сиракузянину.
(XXXIII, 86) И вот выходит Клеомен на центурипинской квадриреме
из гавани. За ним следуют корабль Сегесты, корабли Тиндариды, Гербиты,
Гераклия, Аполлонии, Галунтия — с виду превосходный флот, но слабый
и беспомощный из-за отсутствия гребцов и бойцов, уволенных в отпуск.
Этот добросовестный претор, будучи облечен империем, видел свой флот,
только пока тот проходил мимо места его позорнейшей пирушки; сам
он, которого не видели уже много дней, тогда на короткое время все-таки
136
Речи Цицерона
показался своим матросам. Обутый в сандалии — претор римского
народа! — стоял он на берегу, одетый в пурпурный плащ и тунику до пят и
поддерживаемый какой-то бабенкой. Именно в этом наряде его весьма часто
видели сицилийцы и очень многие римские граждане. (87) После того как
флот, пройдя некоторое расстояние, только на пятый день прислал к мысу
Пахину 92, матросы, томимые голодом, стали собирать корни диких пальм, в
изобилии растущих в той местности, как и вообще в большей части
Сицилии. Вот чем питались эти несчастные; Клеомен же, считая себя вторым
Верресом как по своей склонности к роскошествам и к подлости, так и по
своему империю, все дни напролет, подобно Верресу, пьянствовал на берегу
в раскинутой для него палатке.
(XXXIV) Когда Клеомен был пьян, а все остальные умирали с голоду,
вдруг приходит известие, что корабли пиратов находятся в гавани
Одиссеи93; так называется эта местность; наш флот стоял в гавани Пахина. Так
как у Пахина находился гарнизон,— по названию, но не в
действительности — то Клеомен рассчитывал пополнить недостающее ему число матросов
и гребцов солдатами, которых он собирался там взять. Но оказалось, что
Веррес, в своей великой алчности, вел себя по отношению к сухопутным
силам так же, как и по отношению к морским: налицо было очень мало
людей, остальные были отпущены. (88) Клеомен прежде всего приказал
поставить мачту на центурипинской квадриреме, поднять паруса и обрубить
якоря и в то же время подать другим кораблям знак следовать за ним.
Этот центурипинский корабль обладал необычайной скоростью хода под
парусами; а какой скорости тот или иной корабль, во время претуры Верре-
са, мог достигнуть на веслах, знать никто не мог. Впрочем, с этой квадри-
ремы, ввиду высокого положения Клеомена и благосклонности к нему Вер-
реса, было уволено меньше всего гребцов и солдат. И вот, квадрирема в
своем бегстве уже почти исчезла из виду, в то время как остальные корабли
все еще старались сдвинуться с места. (89) Однако те, кто остался, не пали
духом. Хотя их было мало, они все же кричали, что хотят сражаться при
любых условиях и тот остаток жизни и сил, какой еще сохранился у этих
людей, измученных голодом, отдать в открытом бою. Не обратись Клеомен
в бегство столь поспешно, у оставшихся была бы хоть некоторая
возможность сопротивляться. Дело в том, что один его корабль был палубным и
настолько большим, что мог служить прикрытием для остальных; если бы
он участвовал в бою с морскими разбойниками, он производил бы
впечатление города среди пиратских миопаронов. А теперь эти люди, беспомощные
и покинутые своим предводителем и начальником флота, поневоле
последовали за ним по тому же пути.
(90) По примеру корабля Клеомена, все корабли плыли по направлению
к Гелору 94, причем они не столько спасались от нападения морских
разбойников, сколько следовали за своим императором. При этом тот корабль
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
137
который во время бегства шел последним, в опасное положение попадал
первым. И вот, прежде всего пираты захватили корабль Галунтия, которым
командовал знатнейший галунтинец Филарх; впоследствии локрийцы95
выкупили его у разбойников за счет городской общины; во время первого
слушания дела он под присягой рассказал вам обо всех этих событиях. Затем
пираты захватили корабль Аполлонии, причем его командир, Антропин,
был убит. (XXXV, 91) Тем временем Клеомен уже достиг берега Гелора;
он тотчас же высадился и бросил квадрирему, оставив ее качаться на
волнах 9о. После того как император сошел на землю, командиры других
кораблей, не имея возможности ни дать отпор врагу, ни спастись бегством по
морю, последовали примеру Клеомена, пристав к берегу Гелора. Тогда
предводитель морских разбойников Гераклеон, обязанный своей совершенно
неожиданной победой не своему мужеству, а алчности и подлости Верреса,
приказал великолепный флот римского народа, прибитый к берегу и
выброшенный волнами на сушу, с наступлением сумерек поджечь и спалить дотла.
(92) О, страшное и тяжкое время для провинции Сицилии! О,
памятное нам событие, пагубное и роковое для многих, ни в чем не повинных
людей! О, неслыханная подлость и злодейство Верреса! В одну и ту же ночь,
когда претор пылал позорнейшей страстью, флот римского народа пылал в
огне, подожженный разбойниками. Поздней ночью известие об этом
великом несчастье было получено в Сиракузах. Все сбежались к дому претора,
куда незадолго до того женщины с музыкой и пением отвели Верреса по
окончании той славной пирушки, о которой я говорил. Клеомен не
осмелился предстать перед народом даже ночью и заперся у себя в доме; не было
с ним и жены, которая могла бы утешить его в его несчастье. (93) В доме
у нашего прославленного императора были установлены такие строгие
правила, что, несмотря на получение такого важного известия по делу столь
значительному, все же к нему не допустили никого, и никто не решался ни
разбудить Верреса, если он спал, ни, если он бодрствовал, его потревожить.
Но вот, когда все узнали об этом событии, во всем городе стали собираться
огромные толпы народа. Ведь о приближении морских разбойников на этот
раз подали знак не огнями, зажженными на сторожевых башнях или на
холмах, как это ранее обычно всегда делалось; нет, пламя горевших
кораблей возвестило о случившемся несчастье и о грозящей опасности.
(XXXVI) Стали искать претора; узнав, что никто не сказал ему о
происшедшем, толпа с криками устремилась к его дому и осадила его. (94)
Тогда он встал, велел Тимархиду рассказать ему обо всем, надел военный
плащ (тем временем почти рассвело) и вышел из дому, с головой, тяжелой
от вина, сна и разврата. Все встретили его такими криками, что он мигом
вспомнил об опасности, некогда угрожавшей ему в Лампсаке97. Но эта
опасность показалась ему даже более грозной, так как если ненависть в
обоих случаях была одинаково сильна, то теперь толпа была более много-
138
Речи Цицерона
численна. Верреса попрекали его поведением на берегу, его
отвратительными пирушками; толпа по именам называла его наложниц. Его во
всеуслышание спрашивали, где он был и что делал столько дней подряд, когда его
ни разу не видели; требовали, чтобы им показали Клеомена, которого он
назначил императором. Еще немного — и то, что в Утике произошло с
Адрианом, повторилось бы в Сиракузах, и две могилы двух бесчестных
преторов оказались бы в двух провинциях. Но толпа все же сознавала, каково
общее положение, насколько оно тревожно; сознавала также и
необходимость сохранить свое достоинство и всеобщее уважение, так как сиракузский
конвент римских граждан считается наиболее достойным не только в той
провинции, но и в нашем государстве. (95) Пока Веррес, все еще
полусонный, был как бы в оцепенении, граждане, ободряя друг друга, взялись за
оружие и заняли весь форум и Остров, составляющие значительную часть
города .
Проведя одну только ночь под Гелором, морские разбойники, бросив
наши, еще дымящиеся корабли, начали подходить к Сиракузам. Так как они,
очевидно, не раз слышали о несравненной красоте сиракузских зданий и
гавани, то они и решили, что если им не удастся увидеть их во время прету-
ры Верреса, то уж наверное не удастся никогда.
(XXXVII, 96) Сначала они подошли на своих кораблях к упомянутому
мной месту летней стоянки претора, к той части берега, где Веррес,
раскинув палатки, в течение трех дней разместил свой лагерь наслаждений.
Найдя это место пустым и лоняв, что претор уже снялся оттуда, они тотчас же,
ничего не опасаясь, начали входить в самую гавань. Людям, незнакомым с
этими местами, следует объяснить более подробно: когда я говорю «в
гавань», это значит, что пираты проникли в самый город и притом в его
внутреннюю часть. Дело в том, что не город окружен гаванью, а, напротив,
самая гавань со всех сторон опоясана городом, так что морем омываются
не стены зданий на окраине города, а в самое сердце города проникают воды
гавани". (97) Здесь-то, в бытность твою претором, пират Гераклеон
четырьмя небольшими миопаронами бороздил воды гавани, сколько ему
заблагорассудилось. О, бессмертные боги! В то время как в Сиракузах
находился носитель империя римского народа и ликторы со связками, пиратский
миопарон дошел до самого сиракузского форума и до всех набережных;
а между тем сюда никогда не удавалось проникнуть ни господствовавшим
на море и увенчанным славой флотам карфагенян, несмотря на их частые
попытки во время многих войн, ни знаменитому флоту римского народа,
до твоей претуры не знавшему поражений в течение стольких войн с
карфагенянами и сицилийцами 10°. Естественные условия здесь таковы, что
жители Сиракуз внутри своих стен, в городе, на форуме увидели вооруженного
и победоносного врага раньше, чем в гавани — какой-либо вражеский
корабль101. (98) В бытность твою претором, суденышки морских разбойников
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
139
сновали там, куда в давние времена ворвался, благодаря своей силе и
численному превосходству, один только афинский флот в составе трехсот
кораблей 102, но и он, ввиду естественных условий местности и гавани, именно
здесь был побежден и разбит. Здесь впервые получило тяжкий удар и было
сломлено могущество этого государства; именно в этой гавани, как принято
думать, величие, владычество и слава Афин потерпели крушение.
(XXXVIII) А теперь пират проник туда, где у него, как только он
вошел, не только с обеих сторон, но и сзади оказалась значительная часть
города. Он прошел мимо всего Острова, одного из городов, образующих
Сиракузы, носящего особое название и окруженного особыми стенами; в
этом месте, как я уже говорил, наши предки запретили селиться жителям
Сиракуз, понимая, что те, кто будет занимать эту часть города, будут
держать в своей власти гавань. (99) И как вели себя пираты, разъезжая по
гавани! Они бросали на берег найденные ими на наших кораблях корни
диких пальм, чтобы все могли воочию убедиться в бесчестности Верреса и
в несчастье, постигшем Сицилию. И сицилийские солдаты, сыновья
земледельцев, чьи отцы своим трудом снимали с полей столько хлеба, что могли
поставлять его римскому народу и всей Италии, они, родившиеся на
острове Цереры, где, по преданию, впервые были найдены хлебные злаки 103,
пользовались пищей, от которой их предки, найдя хлебные злаки, избавили
всех других людей! Во время твоей претуры, сицилийские солдаты питались
корнями пальм, а пираты — сицилийским хлебом! (100) О, жалкое и
прискорбное зрелище! Слава Рима, имя римского народа, множество
честнейших людей были отданы на посмешище миопарону пиратов! В гавани
Сиракуз пират справлял триумф по случаю победы над флотом римского народа,
и беспомощному и бессовестному претору летели в глаза брызги от весел
морских разбойников.
После того как пираты покинули гавань,— не из чувства страха, а когда
им надоело находиться в ней,— все стали доискиваться причины такого
страшного несчастья. Все говорили и открыто признавали, что нечего
удивляться, если, после того как гребцы и солдаты были распущены, оставшиеся
были истощены лишениями и голодом, а претор в течение стольких дней
пьянствовал со своими наложницами, на город обрушились такой позор и
такое несчастье. (101) Достойное всяческого порицания позорное поведение
Верреса подтверждалось словами тех, кому их городские общины поручили
начальствовать над кораблями, кто уцелел и, после потери флота, бежал
назад в Сиракузы. Каждый из них говорил, сколько солдат, как ему было
точно известно, было отпущено с его корабля. Дело было ясно, и Верреса
изобличали в его наглости не только доказательства, но и вполне надежные
свидетели.
(XXXIX) Верресу донесли, что на форуме и среди римских граждан
весь день только и говорят об этом и что навархов расспрашивают о при-
140
Речи Цицерона
чинах потери флота, а те отвечают и каждому объясняют ее увольнением
гребцов, голодом среди оставшихся, трусостью и бегством Клеомена. Узнав
об этом, Веррес придумал следующий план действий. Что ему не миновать
суда, он понял еще до того, как ему было предъявлено обвинение; это вы
сами слышали от него при первом разборе дела. Он видел, что при
свидетелях в лице этих навархов ему никак не оправдаться от столь тяжких
обвинений. Вначале он принял решение нелепое, но все же довольно мягкое.
(102) Он велит позвать навархов; они приходят; он пеняет им за такие
разговоры о нем, просит прекратить их; пусть каждый говорит, что на era
корабле было столько матросов, сколько полагалось, что уволенных в отпуск
не было. Навархи выражают готовность поступить так, как он хочет. Веррес,
не откладывая дела, тотчас же зовет своих приятелей; он спрашивает
каждого наварха, сколько у него было матросов; каждый отвечает, как его
учили; Веррес составляет запись об этом и запечатывает ее печатями своих
приятелей, как предусмотрительный человек, очевидно, чтобы в случае
надобности воспользоваться этими свидетельскими показаниями против
данного обвинения. (103) Его советчики, думается мне, посмеялись над era
безрассудством и указали ему, что эти записи нисколько ему не помогут;
более того, излишняя осторожность претора может только усилить
подозрения против него по этой статье обвинения. Он уже делал эту глупость во
многих случаях, приказав городским властям сделать желательные для нега
подчистки и исправления в официальных записях. Теперь он понял, чта
все эти меры не принесут ему пользы, после того как он изобличен точными
записями, свидетельскими показаниями и подлинными книгами.
(XL) Поняв, что признание навархов, их показания, заверенные им
самим, и записи нисколько ему не помогут, Веррес принял решение, достойное,
не говорю уже — бесчестного претора (ибо это было бы еще терпимо), но
жестокого и безумного тиранна; он решил, что он, если хочет ослабить
тяжесть этого обвинения (ибо совсем его опровергнуть он не рассчитывал),
должен всех навархов, свидетелей его преступления, лишить жизни. (104)
Его останавливало только одно соображение: как поступить с Клеоменомг*
«Смогу ли я покарать тех, кому я приказал повиноваться, и оказать
снисхождение тому, кому я предоставил власть и империй? Смогу ли я казнить
тех, которые за Клеоменом последовали, и простить Клеомена,
приказавшего им вместе с ним обратиться в бегство и следовать за ним? Смогу ли
я быть неумолимым к тем, чьи корабли не только были лишены экипажа,
но и не имели палубы, и слабым по отношению к тому, кто один располагал
палубным кораблем и сравнительно полным экипажем 104? Клеомен должен-
погибнуть вместе с другими! А данное мной слово? А торжественные
клятвы? А рукопожатия и поцелуи? А боевое товарищество и общие ратные
подвиги в делах любви на том восхитительном берегу?» Нет, Клеомена
никак нельзя было не пощадить.
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
141
(105) Веррес велел позвать Клеомена и сказал ему, что решил покарать
всех навархов: этого настоятельно требует его собственная безопасность.
«Одного тебя я пощажу и скорее соглашусь взять твою вину на себя и
выслушать упреки в непоследовательности, чем либо жестоко поступить с
тобой, либо сохранить живыми и невредимыми столь многочисленных и столь
опасных свидетелей». Клеомен поблагодарил его и одобрил его решение,
сказав, что именно так и следует поступить; при этом он, однако, указал
Верресу на одно обстоятельство, которого тот не принял во внимание: на-
варха Фалакра из Центурип наказывать нельзя, так как он был вместе с
ним, Клеоменом, на центурипинской квадриреме. Как же быть? Этого
человека, происходящего из такой известной городской общины, молодого, очень
знатного, оставить как свидетеля? «В настоящее время,— сказал Клеомен,—
по необходимости придется это сделать; но впоследствии мы примем меры,
чтобы он не мог нам повредить».
(XLI, 106) Обсудив и приняв это решение, Веррес неожиданно вышел
из преторского дома вне себя от злобы и бешенства, охваченный яростью.
Он пришел на форум и велел позвать навархов. Так как они ничего не
опасались, ничего не подозревали, они тотчас же пришли. Он велел заковать
в цепи этих несчастных, ни в чем не повинных людей. Те стали умолять
претора быть справедливым к ним и спросили его, за что он так поступает
с ними. Тогда он объявил им причину: они сдали флот морским
разбойникам. Народ встретил это заявление криками, удивляясь такому бесстыдству
и наглости человека, который сваливает на других причину несчастья,
происшедшего полностью вследствие его собственной алчности, и обвиняет
других в предательстве, между тем как его самого считают союзником морских
разбойниксв; кроме того, указывали, что обвинение предъявлено только
через пятнадцать дней после гибели флота. (107) В то же время стали
спрашивать, где же Клеомен, но не потому, что кто-либо считал его, каков бы он
ни был, достойным казни в связи с совершившимся несчастьем. В самом
деле, что мог сделать Клеомен? Ведь я ни на кого не могу взводить ложные
обвинения. Что, повторяю, мог при всем своем желании сделать Клеомен,
когда корабли, вследствие алчности Верреса, остались без экипажа?
Глядят — а он сидит рядом с претором и, по своему обыкновению, по-дружески,
что-то шепчет ему на ухо. Тогда все сочли поистине возмутительным, что
честнейшие люди, выбранные их городскими общинами, закованы в
кандалы, а Клеомен, ввиду его соучастия в гнусных и позорных поступках
претора, сохраняет его неограниченное доверие. (108) Против навархов все же
выставили обвинителя, Невия Турпиона, который, в претуру Гая Сацер-
дота, был осужден за нанесение оскорблений. Это был человек, вполне
подходящий Верресу в качестве пособника в преступлениях; Веррес
пользовался его услугами как разведчика и подручного в десятинном деле, в
уголовных делах и во всякого рода ложных обвинениях.
142
Речи Цицерона
(XLII) В Сиракузы приехали отцы и близкие несчастных молодых лю-
деи , потрясенные этим неожиданным известием о постигшем их несчастье.
Они увидели своих сыновей закованными в цепи, поплатившимися свободой
из-за алчности Верреса. Они пришли к тебе, старались оправдать своих
сыновей, громко жаловались, взывали к твоему честному слову, которого
у тебя нет и не было ни в чем и никогда. Среди этих отцов был Дексон из
Тиндариды, знатнейший человек, связанный с тобой узами
гостеприимства. Он принимал тебя в своем доме, ты его называл своим гостеприимцем.
Неужели, когда ты его видел, несмотря на его высокое положение,
сломленным несчастьем, постигшем его, то ни его слезы, ни его старость, ни права
гостеприимства, да и само слово «узы гостеприимства» не отвратили тебя
от преступления и не внушили тебе хотя бы малую долю человеческого
чувства? (109) Но к чему говорить мне о правах гостеприимства, имея дело
с этим диким зверем? Неужели от того, кто заочно внес в списки
обвиняемых и, без слушания дела, признал виновным в уголовном преступлении
Стения из Ферм, своего гостеприимца, чей дом он ограбил и опустошил,
злоупотребив правами гостя, мы теперь можем ожидать соблюдения
законов и обязанностей гостеприимства? И действительно, с жестоким ли
человеком имеем мы дело или же с диким и хищным зверем? Тебя не тро-
н)гли слезы отца, вызванные опасностью, угрожавшей его ни в чем не
повинному сыну; хотя ты и сам оставил дома отца, а твой сын был вместе с тобой,
неужели твой сын своим присутствием не напомнил тебе об отцовской
любви, а мысль об отсутствующем отце — о сыновнем чувстве? (110) В цепях
был твой гостеприимец Аристей, сын Дексона. За что?—«Он сдал флот
пиратам».— А за какую награду?—«Ему удалось бежать».— А Клео-
мен?—«Он оказался трусом».— Но ранее ты наградил его за мужество
венком 106. «Он уволил матросов в отпуск».— Но плату за это увольнение
от всех получил ты. По другую сторону от Верреса стоял другой отец,
Евбулид из Гербиты, известный у себя на родине и знатный человек. За то,
что он, говоря в защиту сына, задел честь Клеомена, его чуть было не
раздели донага. Но что же можно было говорить или приводить в
оправдание?— «Называть Клеомена нельзя».— Но этого требует самое дело.—
«Умрешь, если назовешь его имя».— Легкими наказаниями он никому не
грозил.— «Но ведь не было гребцов».— «Претора смеешь ты обвинять?
Удавить его!» — Но если нельзя будет обвинять ни претора, ни его
соперника, когда вся суть дела в них двоих, то что же будет?
(XLIII, 111) К суду был привлечен также Гераклий из Сегесты,
человек, известный у себя на родине и очень знатный. Слушайте меня, судьи,
как того требует ваше человеколюбие; вы услышите о больших
притеснениях и обидах, испытанных нашими союзниками. Надо вам знать, что
Гераклий был в особом положении: вследствие тяжелой болезни глаз он тогда
не выходил в море на корабле и по приказу лица, облеченного властью, оста-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
143'
вался в Сиракузах, уволенный в отпуск. Он, во всяком случае, не сдавал
флота пиратам, не бежал в страхе и не покидал своего места. Так что его,
очевидно, следовало наказать тогда, когда флот выходил из Сиракуз. Но он
был подвергнут такому же судебному преследованию, словно был уличен
в каком-либо явном преступлении, хотя на него нельзя было взвести даже
ложного обвинения.
(112) Среди навархов был некто Фурий из Гераклеи (некоторые
сицилийцы носят латинские имена); человек этот, пока был жив, был известен
и пользовался уважением не только у себя на родине, а после смерти стал
известен во всей Сицилии. У него хватило мужества не только открыто
обличать Верреса (ибо он понимал, что ему, перед лицом неминуемой
смерти, нечего терять); более того, осужденный на смерть, когда рядом с ним
в тюрьме дни и ночи, обливаясь слезами, сидела его мать, он написал речь
в свою защиту. Нет теперь человека в Сицилии, у которого бы не было
этой речи, кто бы ее не читал и не вспоминал, благодаря ей, о твоих
злодеяниях и жестокости. Он указывает в ней, сколько матросов он получил
от своей городской общины; скольких Веррес уволил в отпуск и сколько
денег взял у каждого из них; сколько матросов осталось на его корабле;
это же он сообщает и о других кораблях. Когда Фурий стал говорить это
в твоем присутствии, его начали стегать розгами по глазам. Перед лицом
смерти он легко переносил телесную боль. Он кричал (и это сохранилось
в написанной им речи): если слезы его матери, умоляющей о спасении его
жизни, значат для тебя меньше, чем слезы бесстыднейшей женщины,
хлопочущей за Клеомена, то это — позорное преступление. (113) Затем, я
также вижу из этой речи, что Фурий уже перед смертью справедливо
предсказал и насчет вас (если только римский народ в вас не ошибся): Веррес,
убивая свидетелей, не в силах уничтожить правосудие; он, Фурий, перед
лицом разумных судей будет более важным свидетелем, находясь у
подземных богов, чем в случае, если бы он, будучи жив, был вызван в суд; живой
он был бы свидетелем одной только алчности Верреса; теперь же,
казненный таким образом, он станет свидетелем его злодейства, наглости и
жестокости. Вот еще одно прекрасное место: «Когда твое дело будет разбираться,
в суд явятся не только толпы свидетелей, но и Кары, посланные богами-
манами 107 невинных людей, и фурии, мстительницы за злодеяния; мне же
моя участь представляется более легкой потому, что я уже видел острие
твоих секир и лицо и руку твоего палача Секстия, когда в присутствии
конвента римских граждан, по твоему повелению, римских граждан казнили»
(114) Короче говоря, судьи, свободой, которую вы предоставили
союзникам, Фурий полностью воспользовался перед мучительной казнью, уделом
самых жалких рабов.
(XLIV) На основании решения совета судей, Веррес всем вынес
обвинительный приговор. Но в таком важном деле, касавшемся стольких людей,,
144
Речи Цицерона
он не привлек к участию в суде ни своего квестора Тита Веттия, чьим
советом он мог бы воспользоваться, ни легата Публия Цервия, достойного мужа,
которого Веррес первым отвел как судью именно потому, что он был
легатом, когда Веррес был в Сицилии претором; нет, на основании решения
разбойников, то есть своих спутников108, он всем вынес обвинительный
приговор. (115) Всех сицилийцев, наших преданнейших и давнишних
союзников, много раз облагодетельствованных нашими предками, это сильно
встревожило и внушило им страх за их судьбу и за все их имущество. Они
негодовали на то, что всем известные милосердие и мягкость нашего
владычества сменились жестокостью и бесчеловечностью, что выносится
обвинительный приговор стольким людям одновременно при отсутствии
преступления, что бесчестный претор ищет оправдания своим хищениям в
позорнейшей казни ни в чем не повинных людей. Кажется, уже ничего не
прибавишь к этой бесчестности, безрассудству и жестокости, и вполне справедливо
так кажется; ибо, если Веррес станет состязаться с другими в бесчестности,
он всех оставит позади себя и на много. (116) Но он состязается с самим
собой; он всегда старается, чтобы его новое злодейство превзошло его
прежний проступок. Я уже говорил о том, что по просьбе Клеомена пощадили
Фалакра из Центурип, так как Клеомен находился на его квадриреме;
однако этот молодой человек все же сильно тревожился, понимая, что он
в таком же положении, как и те, которые гибли без всякой вины; и вот,
к нему явился Тимархид 109; смерть под секирой, сказал он, не угрожает
Фалакру; но он советует ему принять меры, чтобы его не засекли розгами.
Не буду вдаваться в подробности; вы сами слышали показания молодого
человека: он в страхе дал Тимархиду взятку. (117) Но это пустячное
обвинение для такого подсудимого. Наварх знаменитой городской общины,
страшась розог, откупился деньгами; житейская мелочь. Другой, во
избежание обвинительного приговора, дал взятку; дело обычное. Римский народ
не хочет, чтобы Верресу предъявлялись избитые обвинения; он требует
новых, жаждет неслыханных; он думает, что суд происходит не над претором
Сицилии, а над нечестивым тиранном.
(XLV) Осужденных бросили в тюрьму; их обрекли на казнь; подвергли
мучениям родителей навархов; им запретили посещать их сыновей,
запретили приносить пищу и одежду своим детям. (118) Отцы, которых вы здесь
видите, лежали у порога тюрьмы; несчастные матери проводили ночи у ее
дверей, лишенные возможности в последний раз увидеть своих детей. Они
молили только о позволении принять своими устами последний вздох своих
сыновей 110. Там же был и тюремщик, палач претора, смерть и ужас для
союзников и граждан — ликтор Секстий, из каждого стона и из каждого
страдания извлекавший определенный доход. «За вход ты дашь мне
столько-то; за право принести пищу — столько-то». Все на это соглашались. «Ну,
а за то, что я снесу голову твоему сыну одним взмахом секиры, сколько
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
145
дашь ты мне? За то, чтобы он не мучился долго, чтобы не пришлось
повторять удар; за то, чтобы он испустил дух без страданий?» И они давали
ликтору деньги даже за это. (119) О, какое страшное и невыносимое горе!
Какая тяжкая и жестокая участь! Родителей заставляли выкупать за
деньги не жизнь их детей, а быстроту их смерти! Да и молодые люди сами
уславливались с Секстием об ударе и об одном взмахе секиры, и последняя
просьба сыновей к их родителям была о том, чтобы те дали деньги ликтору
за облегчение их мук.
Много страданий и притом очень тяжких было изобретено для
родителей и близких, очень много; но пусть бы они кончились со смертью навар-
хов! Нет, не кончатся. Может ли жестокость дойти еще до чего-нибудь?
Да, найдется кое-что еще. Ибо, после того как они будут казнены ударом
секиры, их тела будут брошены на съедение диким зверям111. Если это
горестно для родителей, то пусть они заплатят за возможность похоронить
своих сыновей. (120) Вы слышали показания Онаса из Сегесты, человека
знатного, он заплатил Тимархиду деньги за право похоронить наварха
Гераклия. Тут ты уже не скажешь: «Пришли отцы, озлобленные потерей
своих сыновей». Это говорит виднейший муж, известнейший человек, и
говорит не о своем сыне. Да был ли в Сиракузах человек, который бы не
слышал, который бы не знал, что соглашение о своем погребении навархи
заключали с Тимархидом еще при своей жизни? Разве они не говорили с
Тимархидом на глазах у всех, разве в этом не участвовали все их
родственники? Разве не заказывались похороны еще живых людей?
(XLVI, 121) Когда все было выяснено и решено, осужденных стали
выводить из тюрьмы и привязывать к столбам. Кто из присутствующих
обладал таким каменным сердцем, кто, кроме тебя одного, был настолько
лишен человеческих чувств, что его не тронула молодость, знатность,
несчастье, постигшее навархов? Кто не плакал, кто не усматривал в беде,
постигшей их, участи, не исключенной и для себя, и опасности, грозившей
всем? Взмахи секиры. Все в горе, а ты радуешься и ликуешь; ты доволен,
что устранены свидетели твоей алчности. Ты, заблуждался, Веррес, и
сильно заблуждался, думая, что позор своих хищений и гнусностей ты
смываешь кровью неповинных союзников. Обезумев, ты был слеп, раз ты
полагал, что жестокость — лекарство для ран, нанесенных твоей алчностью. И в
самом деле, хотя и мертвы те свидетели твоего злодейства, все же их
родичи не забывают ни о них, ни о тебе; из числа самих навархов кое-кто все же
остался жив и находится здесь; мне кажется, судьба сохранила их для того,
чтобы они явились мстителями за тех неповинных людей и выступили в этом
суде. (122) Здесь находится Филарх из Галунтия, который, не участвуя в
бегстве вместе с Клеоменом, подвергся нападению морских разбойников и
был взят ими в плен. Это несчастье спасло его, так как, не попади он в плен
к пиратам, он оказался бы в руках у этого разбойника, истребляющего
1U Цицерон, т. I
146
Речи Цицерона
союзников. Он говорит как свидетель об увольнении матросов в
отпуск, о голоде, о бегстве Клеомена. Здесь находится Фалакр из Центурип,
происходящий из прославленной общины, человек из знатного рода; он дает
такие же показания, ни в чем не расходясь с Филархом.
(123) Во имя бессмертных богов! С каким, скажите мне, чувством
сидите вы здесь, судьи? Какое впечатление на вас произвел мой рассказ? Я ли
потерял разум и сверх всякой меры скорблю об этом бедствии и несчастье,
постигшем союзников, или жесточайшие мучения и скорбь их родных,
выпавшие на долю ни в чем не повинных людей, удручают в такой степени
также и вас? Ибо, когда я говорю, что наварх из Гербиты, что наварх из
Гераклеи были обезглавлены, перед моими глазами встает возмущающая
душу картина этого несчастья. (XLVII) Неужели граждане этих городов,
питомцы тех полей, с которых их стараниями из года в год доставляется
огромное количество хлеба для римского плебса, люди, которых родители
произвели на свет112 и взрастили в надежде на нашу державу и на нашу
справедливость, были сохранены для нечестивой свирепости Гая Верреса
и для его роковой секиры? (124) Вспоминая о навархе из Тиндариды,
вспоминая о навархе из Сегесты, я в то же время думаю о правах и об
обязанностях этих городских общин. Города, которые Публий Африканский счел
нужным даже украсить добычей, отнятой им у врагов, Гай Веррес своим
нечестивым злодеянием лишил не только тех украшений, но и знатнейших
мужей. Вот что любят говорить жители Тиндариды: «Мы принадлежим к
числу семнадцати городских общин Сицилии; мы всегда, во время
пунических и сицилийских войн, были верными друзьями римского народа; мы
всегда доставляли римскому народу и помощь при ведении войны и
возможность наслаждаться миром». Поистине много помогли им эти права под
империем и властью Верреса! (125) Моряков ваших некогда водил против
Карфагена Сципион, а теперь корабль, почти лишенный экипажа, против
морских разбойников ведет Клеомен. Публий Африканский поделился с
вами доспехами, отбитыми у врагов, и наградами за заслуги, а теперь вы,
ограбленные Верресом, потеряв корабль, уведенный морскими
разбойниками, сами признаны врагами. Что еще сказать мне? Кровное родство,
соединяющее нас с жителями Сегесты, не только засвидетельствовано
памятниками письменности, не только упоминается в преданиях, но и
подтверждено и доказано многочисленными услугами с их стороны; какие же плоды
принесли им, под империем Верреса, эти тесные связи? Очевидно, то
преимущество, судьи, что знатнейший молодой человек был вырван из лона
отечества и отдан в руки Секстия, палача Верреса. Город, которому наши
предки дали обширные тучные поля, который они освободили от
повинностей, не добился, в уважение к своему родству с нами, верности, древности,
влиянию, даже права вымолить пощаду своему честнейшему и ни в чем не
повинному гражданину и избавить его от смерти.
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
147
(XLVIII, 126) Где же союзники наши найдут для себя прибежище?
К кому обратиться им с мольбой? Какая надежда будет привязывать их к
жизни, если вы покинете их? В сенат ли обращаться им? Зачем? Чтобы
он осудил Верреса на казнь? Это не в обычае и не является правом сената.
У римского ли народа искать им прибежища? У народа готов ответ: он
скажет, что издал закон ради блага союзников и поставил вас
охранителями этого закона и карателями за его нарушение. Итак, здесь единственное
место, где они могут найти убежище. Вот пристань, вот крепость, вот
алтарь113 для союзников! Однако теперь они обращаются сюда не за тем,
за чем обращались раньше, требуя возврата своей собственности. Не
серебряную утварь, не золото, не ткани, не рабов требуют они вернуть им, не
украшения, похищенные из городов и святилищ; как люди неискушенные,
они боятся, что римский народ уже допускает эти хищения и согласен на то,
чтобы они совершались 114. Ведь мы уже в течение многих лет терпим и
молчим, видя, что все достояние целых народов перешло в руки нескольких
человек. Наше равнодушие и наше потворство этому стяжанию кажется
еще большим потому, что ни один из этих грабителей не скрывает своей
жадности и, видимо, даже не старается, чтобы она менее бросалась в глаза.
(127) Найдется ли в нашем великолепном и богато украшенном городе хотя
бы одна статуя, хотя бы одна картина, которая была бы взята не у
побежденных нами врагов, вывезена не из их страны? А вот усадьбы этих
стяжателей украшены и переполнены множеством прекрасных предметов,
захваченных ими у наших преданнейших союзников. Где же, по вашему
мнению, находятся богатства всех чужеземных народов, ныне впавших в
нищету, когда вы видите, что Афины, Пергам, Кизик, Милет, Хиос, Самос,
словом, вся Азия, Ахайя, Греция, Сицилия заключены в столь немногих
усадьбах115?
Но союзники ваши, судьи, повторяю, махнули на это рукой.
Возможность изъятия их имущества в пользу римского народа они предотвратили
своими заслугами и верностью. Что касается алчности отдельных лиц, то,
когда они ей не могли препятствовать, они все же могли каким-то образом
ее удовлетворять; но теперь они уже лишены возможности не только
противиться ей, но даже удовлетворять ее. Поэтому о своем имуществе они не
заботятся; возврата денег, давшего название настоящему суду, они не
требуют; они от них отказываются. Вот в каком уборе П6 прибегают они к
вашему заступничеству.
(XLIX, 128) Взгляните, судьи, взгляните на скорбный и нищенский
вид наших союзников. Вот Стений из Ферм, отпустивший себе волосы и
носящий траурную одежду; хотя весь его дом разграблен, он о твоих
хищениях не говорит; он требует от тебя, чтобы ты возвратил ему его самого*
так как ты, своим преступным произволом, выгнал его из родного города,
где он был виднейшим человеком благодаря своим многим достоинствам и
10*
148
Речи Цицерона
заслугам. Этот вот Дексон, которого вы видите перед собой, не требует от
тебя ни того, что ты похитил у общины Тиндариды, ни того, что ты украл
у него самого; несчастный отец требует, чтобы ты вернул ему его
единственного, прекрасного и ни в чем не повинного сына; не деньги хочет он
увезти домой из суммы, подлежащей взысканию с тебя117; он хочет
известием о постигшей тебя каре принести хоть какое-нибудь утешение праху
и костям своего сына. Этот вот старец Евбулид на закате своих дней
совершил это многотрудное путешествие не для того, чтобы получить обратно
хотя бы часть своего имущества, но чтобы теми же самыми глазами, какими
он видел окровавленное тело своего сына, увидеть, как тебе вынесут
обвинительный приговор. (129) Если бы Луций Метелл разрешил им 118, то
сюда, судьи, пришли бы и матери и сестры тех несчастных людей. Когда я
подъезжал ночью к Гераклее, одна из них, в сопровождении всех матрон
с множеством факелов в руках, вышла навстречу мне и, обращаясь ко мне
как к своему спасителю, а тебя называя своим палачом, повторяя со
слезами имя своего сына, бросилась, несчастная, к моим ногам, словно в моей
власти было вызвать ее сына из подземного мира. Так же поступали и в
других городах престарелые матери и маленькие дети несчастных навархов;
возраст и тех и других от меня требовал труда и настойчивости, а от вас
требует справедливости и сострадания. (130) Поэтому, судьи, Сицилия, со
слезами, поручила мне поддерживать эту жалобу более настоятельно, чем
другие. Слезы ее, а не жажда славы привели меня сюда для того, чтобы ни
несправедливые приговоры, ни тюрьма, ни цепи, ни побои, ни секиры, ни
пытки союзников, ни кровь невинных людей, ни, наконец, окровавленные
тела казненных и горе их родителей и близких не могли быть источником
стяжания для наших должностных лиц. Если я, благодаря вашей
справедливости и строгости, осуждением Верреса избавлю Сицилию от этого
страха, судьи, то я сочту, что выполнил свой долг и оправдал надежды тех, кто
мне поручил вести это дело.
(L, 131) Поэтому, если ты случайно найдешь человека, который
попытается защищать тебя от обвинения в потере флота, то пусть он защищает
тебя так: общие соображения, не имеющие отношения к делу, пусть он
оставит в стороне — будто я вменяю тебе в вину случайность, несчастье
называю преступлением, упрекаю тебя в потере флота, хотя многие храбрые
мужи не раз терпели неудачи на суше и на море вследствие обычных и
непредвиденных опасностей во время войны. Никакой превратности судьбы
я не ставлю тебе в вину; никаких нет у тебя оснований приводить мне
в пример чужие неудачи и подбирать примеры злоключений,
испытанных многими людьми. Да, я утверждаю, что на кораблях не было
экипажа, что гребцы и матросы были уволены в отпуск, что оставшиеся
питались корнями пальм, что над флотом римского народа начальствовал
сицилиец, а над нашими неизменными союзниками и друзьями — сираку-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
149
зянин; я утверждаю, что ты как раз в то время и на протяжении всех
предшествовавших дней пьянствовал на берегу в обществе своих наложниц;
я вам представляю людей, которые могут удостоверить и
засвидетельствовать все эти факты. (132) Неужели ты думаешь, что я хочу тебя оскорбить
в твоем несчастье, лишить тебя возможности сослаться на судьбу, попрекаю
тебя и ставлю тебе в вину случайности, неизбежные во время войны?
Впрочем, обычно не хотят, чтобы их попрекали случайностями судьбы, именно
те люди, которые ей доверились, которые сами испытали ее опасности и
изменчивость. Правда, к этой твоей беде судьба не была причастна. Ведь люди
обычно испытывают свое военное счастье в сражениях, а не в попойках.
В этом же несчастье — мы можем смело сказать—не Марс был «общим»,
а Венера119. А если превратности судьбы не следует ставить в вину тебе,
то почему ты не отнесся снисходительно к превратностям судьбы,
постигшим тех ни в чем не повинных людей?
(133) Вот еще довод, от которого тебе придется отказаться: будто я
обвиняю и черню тебя за казнь по обычаю предков — за отсечение головы.
Не из-за рода казни обвинение. Не отрицаю ни необходимости казни через
отсечение головы, ни надобности поддерживать воинскую дисциплину
страхом и не считаю нужным уничтожать строгость империя, отменять кару за
позорное деяние. Я признаю, что не только к союзникам, но даже и к
нашим согражданам и к нашим солдатам очень часто применялись суровые и
строгие наказания. (LI) Поэтому ты можешь опустить это возражение.
Я же, со своей стороны, доказываю, что были виноваты не навархи, а ты;
я обвиняю тебя в том, что ты за деньги отпустил гребцов и солдат; это
говорят и уцелевшие навархи 120; это официально говорит союзная городская
община Нет; Это официально говорят представители Аместрата, Гербиты,
[Энны,] Агирия, Тиндариды; наконец, это говорит твой свидетель, твой
император, твой соперник, твой гостеприимец Клеомен: он высадился на
берег с целью пополнения своего экипажа солдатами из гарнизона в Пахине.
Он, конечно, не сделал бы этого, будь на кораблях полное число матросов;
ведь численность экипажа на полностью вооруженном и снаряженном
корабле такова, что к нему, уже не говорю — многих, но даже и одного
человека прибавить нельзя. (134) Кроме того, я утверждаю, что даже
оставшиеся матросы были истощены и обессилены голодом и всевозможными
лишениями. Я утверждаю: либо ни один из навархов не был виноват; либо, если
одного из них следует признать виновным, то наиболее виновен тот, кто
располагал наилучшим кораблем, наибольшим числом матросов и обладал
высшим империем; либо если все они были виноваты, то не следовало
позволять Клеомену присутствовать при их мучительной казни. Я также
утверждаю, что во время самой казни назначать плату за возможность оплакать
своих близких, плату за смертельный удар, плату за совершение
погребальных обрядов и погребение было нарушением божеского закона.
150
Речи Цицерона
(135) Поэтому, если ты захочешь ответить мне, говори следующее: флот
был полностью снаряжен, все бойцы были налицо; не было весла, которое
бы, за отсутствием гребца, скользило по воде; продовольствия было
достаточно; лгут навархи; лгут столь уважаемые городские общины; лжет даже
вся Сицилия; предал тебя Клеомен, который, по его словам, высадился на
берег, чтобы привести для себя солдат из Пахина; мужества не хватило у
навархов, а не военной силы; Клеомен, сражавшийся с великой храбростью,
был покинут и оставлен ими; за погребение никто не получил ни сестерция.
Если ты это скажешь, ты будешь уличен во лжи; если же ты будешь
говорить что-либо другое, ты не опровергнешь ничего из того, что я сказал.
(LII, 136) И здесь ты осмелишься сказать: «Среди судей есть мой
близкий друг, есть друг моего отца» ш? Неужели ты не сознаешь, что, чем
ближе человек связан с тобой в каком-либо отношении, тем больше ты должен
стыдиться, будучи обвинен в таком преступлении? — «Это друг моего
отца».— Да если бы твой отец сам входил в состав суда, что — во имя
бессмертных богов! — мог бы он сделать? Если бы он сказал тебе: «Ты, претор
в провинции римского народа, когда тебе надо было руководить военными
действиями на море, в течение трех лет освобождал мамертинцев от
обусловленной договором поставки корабля; для тебя, для твоих личных нужд,
у тех же мамертинцев был за счет города построен огромный грузовой
корабль; ты вымогал у городских общин деньги под предлогом снаряжения
флота; ты за плату распустил гребцов; ты, когда твой квестор и легат
захватили корабль морских разбойников, скрыл архипирата от глаз всего
населения; ты счел возможным казнить через отсечение головы людей,
которых называли римскими гражданами и которых многие лица таковыми
признавали; ты осмелился к себе в дом увести пиратов [и в суд привести
архипирата из своего дома]; (137) ты в такой прекрасной провинции, среди
преданнейших нам союзников и честнейших римских граждан, перед лицом
опасности, угрожавшей провинции, в течение многих дней подряд валялся
на берегу, предаваясь попойкам; тебя в те дни никто не мог ни посетить в
твоем доме, ни увидеть на форуме; ты заставлял матерей семейств, жен
наших союзников и друзей, участвовать в этих попойках; ты заставлял своего
сына, носящего претексту, моего внука, находиться в обществе таких
женщин, чтобы ему, в его восприимчивом и опасном возрасте, служил примером
порочный образ жизни отца; тебя, претора в провинции, видели в тунике
и пурпурном плаще; ты, под влиянием развратной любви, отнял у легата
римского народа империй над флотом и передал его сиракузянину; твои
солдаты в провинции Сицилии 122 были лишены продовольствия; из-за твоей
страсти к роскоши и из-за твоей алчности флот римского народа был
захвачен и сожжен морскими разбойниками; (138) с основания Сиракуз воды
гавани этого города, ранее недоступные для врагов, впервые стали
бороздить корабли пиратов; и ты не захотел ни скрыть, ни постараться пре-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
151
дать забвению столько и притом таких тяжких проступков, ни умолчать
о них; нет, ты, без всяких к тому оснований, вырвал навархов из объятий
их отцов, с которыми был связан узами гостеприимства, и обрек их на
мучительную смерть; ни горе, ни слезы отцов, которые могли напомнить тебе
обо мне, тебя не смягчили; кровь невинных не только доставила тебе
удовольствие, но и принесла доход», (LIII) —если бы твой отец сказал
тебе все это, мог ли бы ты искать у него снисхождения, просить опрощении?
(139) Я сделал для сицилийцев достаточно, исполнил долг дружбы,
выполнил данное мной обещание и обязательство 123. Остается еще одно дело:
я не брал его на себя, судьи, но оно внушено мне самой природой; оно не
поручено мне, но глубоко запало и проникло в мое сердце и разум; оно
касается уже не благополучия наших союзников, а жизни и крови римских
граждан, то есть каждого из нас. В этой части моей речи не ждите от меня,
судьи, что я стану приводить доказательства, словно что-то здесь может
внушать сомнения; все то, о чем я буду говорить, окажется настолько
известным, что для подтверждения этого я мог бы привлечь всю Сицилию
как свидетельницу. В самом деле, какое-то бешенство, спутник злодейства
и преступной отваги, поразило его необузданный ум и душу, лишенную
всяких человеческих чувств, таким сильным безумием, что он, творя суд, ни
разу не поколебался, в присутствии всех, открыто осуждать римских
граждан на казнь, установленную для рабов, уличенных в злодеяниях.
(140) Стоит ли мне назвать всех тех, кого Веррес засек розгами? Скажу
в двух словах: во время его претуры разницы между гражданами и не-граж-
данами в этом отношении не было. Поэтому ликтор уже по привычке, даже
без знака, данного Верресом, налагал руку на римского гражданина. (LIV)
Можешь ли ты отрицать, Веррес, что на форуме в Лилибее в присутствии
огромной толпы Гай Сервилий, римский гражданин из панормского
конвента, давно ведущий дела в Сицилии, упал на землю подле твоего трибунала,
у твоих ног, под ударами розог? Посмей отрицать этот первый факт, если
можешь. В Лилибее не было человека, который бы не видел этого, в
Сицилии — человека, который бы не слышал об этой расправе. Под ударами
твоих ликторов, повторяю я, римский гражданин на твоих глазах повалился
на землю. (141) И за что, бессмертные боги! Впрочем, таким вопросом я
оскорбляю всех римлян и права римского гражданства; я спрашиваю о
причинах расправы с Сервилием, как будто вообще может быть законная
причина для такого обращения с любым римским гражданином. Простите мне
это, судьи, в одном этом случае, в остальных я уже не буду доискиваться
причин. Сервилий довольно резко высказался о бесчестности и подлых
поступках Верреса. Как только претору об этом сообщили, он повелел, чтобы
Сервилий дал рабу Венеры 124 обязательство явиться на суд в Лилибей.
Сервилий дал обязательство; стороны явились в Лилибей. Хотя никто не
вчинял иска и никто не предъявлял обвинения, Веррес начал принуждать
152
Речи Цицерона
Сервилия к заключению спонсии с его ликтором на две тысячи сестерциев
по формуле: «Если окажется, что он не обогащался путем кражи 125...».
Рекуператоров, говорил Веррес, он назначит из состава своей когорты. Серви-
лий отказался; он умолял Верреса не подвергать его перед пристрастными
судьями и без участия противника суду, угрожающему его гражданским
правам. (142) В то время как он это говорил, его обступило шестеро дюжих
ликторов, очень опытных по части избиений и порки; они стали жестоко сечь
его розгами; под конец, Секстий, первый ликтор 126, о котором я уже
говорил, начал, повернув розгу толстым концом, жестоко бить этого
несчастного по глазам. И вот, Сервилий, когда кровь залила ему лицо и глаза, рухнул
на землю, но они продолжали избивать лежачего, чтобы он, наконец,
произнес формулу спонсии. После такой расправы Сервилия унесли замертво, и
он вскоре умер, а наш служитель Венеры, преисполненный приятности и
обаяния, за его счет поставил в храме Венеры серебряную статую
Купидона. Так он, используя даже имущество своих жертв, исполнял обеты,
данные им в ночи наслаждений 127.
(LV, 143) К чему говорить мне о каждом из видов мучений, каким
Веррес подвергал римских граждан? Я лучше опишу их все в совокупности.
Знаменитая тюрьма, устроенная в Сиракузах жесточайшим тиранном
Дионисием 128 и называемая Каменоломнями, под империем Верреса стала
местом жительства римских граждан. Стоило кому-нибудь не угодить Верресу
своими речами или своим видом — и его тотчас же бросали в Каменоломни.
Я вижу, судьи, что все возмущены этим, и я понял это уже во время первого
слушания дела, когда об этом говорили свидетели. Ведь права свободного
гражданина, по вашему мнению, должны быть в силе не только здесь, где
находятся народные трибуны и другие должностные лица, где на форуме
заседают суды, где существует власть сената, где высказывает свое мнение
стекающийся отовсюду римский народ; нет, в какой бы стране и среди
какого бы народа ни были оскорблены права римских граждан, это близко
касается всеобщего дела свободы и чести, что вами твердо постановлено.
(144) В тюрьму, предназначенную для содержания злодеев и преступников
из числа чужеземцев, для содержания морских разбойников и врагов,
ты осмелился бросить такое множество римских граждан? И
неужели тебе никогда не приходила в голову мысль о суде, о народной
сходке 129, об этом вот множестве людей, которые теперь смотрят на тебя с такой
неприязнью и ненавистью? Ни разу не помыслил ты о достоинстве далекого
от тебя римского народа, ни разу не представил себе даже вида этой толпы?
Неужели ни разу не пришло тебе в голову, что тебе придется возвратиться
и предстать перед этими людьми, появиться на форуме римского народа,
оказаться во власти законов и правосудия?
(LVI, 145) И что это была за страсть совершать жестокие поступки?
Какова была причина, толкавшая Верреса на столь многочисленные злодея-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
153
ния? Единственной причиной, судьи, был изобретенный им новый,
неслыханный доселе способ грабежа. Как те, кто, по рассказам поэтов,
захватывал морские заливы 130, мысы и крутые скалы, чтобы иметь возможность
убивать мореплавателей, причаливавших к берегу, так Веррес, готовый к
враждебным действиям, из любой части Сицилии не упускал из вида ни
одного из морей, омывавших ее. Откуда бы ни приходил корабль,— из Азии
ли или из Сирии, из Тира ли или из Александрии — его тотчас же
захватывали при посредстве надежных доносчиков и стражей. Весь экипаж
бросали в Каменоломни, груз и товары доставляли в дом претора.
В Сицилии, после долгого промежутка времени, появился... не второй
Дионисий и не Фаларид 131 (ведь на этом острове некогда правило много
и притом очень жестоких тираннов); нет, поселилось невиданное свирепое
чудовище — из тех, какие, по преданиям, в древности жили в этой
местности. (146) Ибо, по моему мнению, ни встреча с Харибдой, ни встреча со
Скиллой не были столь роковыми для мореплавателей, как в том же
проливе встреча с Верресом. Последняя была еще более роковой — по той
причине, что он окружил себя гораздо более многочисленными и более
свирепыми псами 132. Это был второй, еще более жестокий Киклоп 133, так как
держал в своей власти весь остров» а тот, древний, говорят, занимал одну
только Этну [и ближайшую к ней часть Сицилии]. И какую же причину,
судьи, тогда приводил Веррес в оправдание этой столь нечестивой
жестокости? Ту же, какую теперь приводят в его защиту. Всех, более или менее
богатых людей, приезжавших в Сицилию, он объявлял солдатами Сертория,
бежавшими из Диания. Чтобы отвести от себя опасность, одни из них
показывали пурпурные ткани из Тира, другие — ладан, благовония и полотна,
третьи — драгоценные камни и жемчуг, четвертые — греческие вина и рабов
из Азии, которых они везли на продажу, дабы по их товарам можно было
судить, откуда они едут. Они не предвидели, что на них навлекут опасность
те самые товары, которые по их мнению, должны были служить для них
спасительным доказательством. Ибо Веррес заявлял, что они их приобрели
благодаря своим связям с пиратами; он приказывал отводить купцов в
Каменоломни, а их корабли и груз тщательно охранять.
(LVII, 147) Когда, вследствие таких распоряжений, тюрьма уже была
заполнена купцами, тогда и началось то, о чем дал показания римский
всадник Луций Светтий, весьма уважаемый человек, и что сообщат и другие
свидетели: римских граждан душили в тюрьме — смерть, унизительная для
римлянина, и даже умоляющий возглас: «Я — римский гражданин!» —
возглас, который в далеких странах, среди варваров, не раз многим помогал
и многих спасал, приносил купцам более мучительную смерть и более
быструю казнь. Что же ты скажешь, Веррес? Что думаешь ответить на
это обвинение? Неужели — что я лгу, выдумываю, преувеличиваю твою
вину? Осмелишься ли ты подсказать своим защитникам что-либо подобное?
154
Речи Цицерона
Прошу подать мне список сиракузян, который Веррес прятал в складках
своей тоги; ведь этот список, как он полагает, составлен по его указаниям.
Дай мне этот весьма тщательно составленный список заключенных, из
которого видно, кто когда взят под стражу, когда умер, когда казнен. [Список
жителей Сиракуз.] (148) Вы видите, что римских граждан толпами бросали
в Каменоломни; вы видите, что в то место, (Пребывание в котором было
величайшим унижением, было согнано множество наших сограждан. Ищите
теперь пометки об их выходе из этого места; таковых нет. Что же, все они
умерли своей смертью? Если бы Веррес стал это утверждать, то его слова
не заслуживали бы доверия. Но в том же списке есть греческое слово,
которого этот невежественный и небрежный человек никогда не мог ни
заметить, ни понять: eSixaidbOrjaav [были осуждены] ,то есть, как говорят
сицилийцы, казнены, умерщвлены.
(LVIII, 149) Если бы какой-нибудь царь, какая-нибудь чужеземная
городская община, какое-нибудь племя поступили с римскими гражданами
подобным образом, неужели мы не покарали бы их за это от имени нашего
государства, не объявили бы им войны? Разве можно было бы оставить
без возмездия и без наказания такое оскорбление и надругательство над
именем римлян? Вспомните, сколько раз и какие большие войны вели наши
предки, получив известие об оскорблении, нанесенном римским гражданам,
о задержании наших судовладельцев 134, об ограблении наших купцов! Но
на задержание их я уже не жалуюсь, с их ограблением приходится мириться;
но ведь купцы, после того как у них отняли корабли, рабов и товары, были
брошены в тюрьму, и там римские граждане были казнены — вот в чем я
обвиняю Верреса! (150) Если бы я, описывая столь многочисленные и
столь жестокие казни римских граждан, говорил это перед скифами, а не
здесь, перед таким большим собранием римских граждан, не перед
сенаторами — цветом наших граждан, то я все же растрогал бы даже варваров.
Ибо так обширна наша держава, так велико достоинство, в представлении
всех народов связанное с именем римлянина, что твоя жестокость по
отношению к нашим соотечественникам не может показаться дозволенной кому
бы то ни было. Могу ли я теперь думать, что у тебя есть какая-либо
надежда на спасение и какое-либо прибежище, когда вижу тебя во власти сурового
суда, как бы попавшимся в сети собравшихся толп римского народа? (151)
Если ты — этой возможности я не допускаю — освободишься из этих пут
и выскользнешь из них при помощи какого-нибудь средства или уловки,
то ты, клянусь Геркулесом, попадешь в еще более крепкие тенета 135, причем
опять-таки я, выступив с более высокого места 136, уничтожу и добью тебя.
В самом деле, даже если бы я и согласился принять его оправдания, все
же его ложное оправдание само по себе было бы для него не менее
губительным, чем мое справедливое обвинение. Что же говорит он в свое
оправдание? Что он задерживал беглецов из Испании и казнил их. А кто позволил
4. Против Гая Веррсса («О казнях») 155
тебе это? По какому праву ты это сделал? Кто еще так поступал? Почему
и как это было тебе разрешено? (152) Мы видим, что такие люди
заполняют форум и басилики [и видим это совершенно спокойно]. Ведь надо
считать счастливым исходом гражданской смуты, или безумия, или роковых
событий, или бедствия, когда можно сохранить невредимыми хотя бы
уцелевших граждан. Веррес, в прошлом предавший своего консула,
оказавшийся во время своей квестуры перебежчиком и расхитителем казенных
денег, присвоил себе такую власть в деле управления государством, что тех
людей, которым сенат, римский народ, все должностные лица предоставили
право бывать на форуме, подавать голос, находиться в этом городе, в
пределах нашего государства, всех обрекал на мучительную и жестокую казнь,
если судьба приводила их к берегам Сицилии.
(153) После того как Перпенна был казнен137, очень многие солдаты
Сертория перебежали к Гнею Помпею, прославленному и храбрейшему
мужу. Кого из них не постарался он сохранить здравым и невредимым?
Какому гражданину, умолявшему его о пощаде, не протянул он в залог
безопасности своей непобедимой руки и кому только не подал он надежды на
спасение? Разве это не так? И этих людей, находивших прибежище у того,
против кого они пошли с оружием в руках, у тебя, никогда не
заботившегося о благе государства, ожидала мучительная смерть?
(LIX) Смотри, какой удачный способ защиты ты придумал! Я бы
предпочел,— клянусь Геркулесом — чтобы судьи и римский народ согласились
с тем, что ты приводишь в свое оправдание, а не с тем, ib чем тебя
обвиняю я. Повторяю, я бы предпочел, чтобы тебя считали недругом и врагом
тем людям, о которых я упомянул, а не купцам и судовладельцам. Ибо мое
обвинение изобличает тебя в необычайной алчности, твоя попытка
оправдаться — в каком-то бешенстве, свирепости, неслыханной жестокости и,
0 I СО
можно сказать в новой проскрипции .
(154) Но воспользоваться этим преимуществом мне нельзя, судьи, как
оно ни велико. Нельзя. Ведь здесь в сборе все Путеолы 139 В полном составе
приехали на суд все купцы, богатые и уважаемые люди; они заявляют, что
из их сотоварищей, из их вольноотпущенников, далее из
вольноотпущенников этих последних одни были ограблены и брошены в тюрьму, [другие
умерщвлены в тюрьме,] третьи обезглавлены. Смотри, как справедлив к
тебе я буду при этом. Когда я представлю Публия Грания как свидетеля,
когда он скажет, что ты отрубил головы его вольноотпущенникам, и
потребует от тебя свой корабль и свои товары, опровергай тогда его заявление,
если сможешь. Я откажусь от него как от свидетеля; я встану на твою
сторону, повторяю, я тебе помогу; доказывай тогда, что эти люди были у
Сертория, что их отнесло в сторону Сицилии во время их бегства из Диа-
ния. Докажи это. Для меня это даже более чем желательно; ибо
невозможно найти преступление, которое бы заслуживало более суровой кары, и за
156
Речи Цицерона
него тебя необходимо привлечь к суду. (155) Я снова вызову римского
всадника Луция Флавия, если захочешь; при первом слушании дела ты ни
одному из свидетелей не задал вопроса; как говорят твои защитники, ты
сделал это от своего, так сказать, большого — правда, в новом роде — ума,
но на самом деле, как все понимают, ты поступил так ввиду сознания своих
преступлений и убедительности показаний моих свидетелей. Пусть Флавия,
если захочешь, спросят, кто такой был тот Тит Геренний, который, по его
словам, держал меняльную лавку в Лепте140. Хотя более ста римских
граждан из сиракузского конвента не только удостоверяло его личность, но
и защищало его, умоляя тебя в слезах, ты все же в присутствии жителей
Сиракуз велел отрубить ему голову. Я хочу, чтобы ты опроверг показания
и этого моего свидетеля, доказал и подтвердил, что этот Геренний был в
в войске Сертория.
(LX, 156) Что сказать мне о том множестве людей — о тех, кого, с
закутанными головами, в числе пленных пиратов вели на казнь? Что за
необычная осторожность! С какой целью ты ее придумал? Быть может,
громкие сетования Луция Флавия и других людей о Тите Геренний встревожили
тебя? Или важное значение высказываний Марка Анния, достойнейшего и
весьма уважаемого мужа, заставило тебя быть более осмотрительным и
робким? Ведь он как свидетель недавно показал, что ты велел отрубить
голову не какому-то пришельцу, не чужеземцу, а римскому гражданину,
известному всем членам того конвента и родившемуся в Сиракузах. (157)
После того как народ стал громко выражать свое негодование, когда все
шире стали распространяться разные толки и жалобы, Веррес начал
действовать, правда, не более мягко,— он по-прежнему казнил людей — но
более осмотрительно. Он распорядился, чтобы римских граждан выводили на
казнь, закутав им голову; все же он казнил их у всех на глазах потому, что
члены конвента, как я уже говорил, очень точно вели счет морским
разбойникам.
И такая участь, в твою претуру, была уготована римскому плебсу141?
И это ожидало людей, занимающихся торговлей? Вот что угрожало их
гражданским правам и жизни? Разве и без того мало неизбежных
опасностей грозит купцам на их пути от превратностей судьбы, чтобы их
ожидали еще также и эти ужасы со стороны наших должностных лиц и к тому же
в наших провинциях? Для того ли существовала эта ближайшая к городу
Риму и верная ему провинция, населенная множеством честнейших
союзников и весьма уважаемых граждан, всегда с величайшей охотой принимавшая
у себя всех римских граждан, чтобы люди, приезжавшие сюда по морю даже
из отдаленной Сирии и Египта и даже у варваров пользовавшиеся
некоторым уважением благодаря своей тоге, спасшись от засад со стороны
морских разбойников и от опасных бурь, умирали под секирой в Сицилии,
когда они уже думали, что достигли своего дома?
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
157
(LXI, 158) Далее, что сказать мне, судьи, о Публии Гавии из
муниципия Консы 142? Или, лучше, сколь мощным голосом, какими убедительными
словами я должен говорить? Как выразить мне свою душевную скорбь?
Глубока моя скорбь, и мне следует приложить усилия, чтобы в моей речи
все соответствовало важности предмета, соответствовало глубине моей
скорби. Эта статья обвинения такова, что я, когда мне о ней сообщили,
воспользоваться ею не хотел. Хотя я и понимал, что эти сведения вполне
соответствуют истине, я все же думал, что мне не поверят. Под влиянием слез
всех римских граждан, ведущих дела в Сицилии, из уважения к
свидетельским показаниям жителей Валенции, весьма уважаемых людей, и всех
жителей Регия, а также и многих римских всадников, в ту пору случайно
находившихся в Мессане, я, при первом слушании дела, представил столько
свидетелей, что никто не может сомневаться в том, что это так и было.
(159) Что мне теперь делать? Я уже столько часов говорю о деяниях
одного и того же рода и о нечестивой жестокости Верреса; я уже истратил
на другие вопросы почти всю силу своей речи, стараясь по достоинству
оценить его злодеяния, и не позаботился о том, чтобы удержать ваше
внимание разнообразием статей обвинения. Как же говорить мне о таком
важном деле? Мне думается, есть только один способ и один путь; я расскажу
вам о самом факте; он настолько убедителен сам по себе, что не нужно ни
моего красноречия, которым я не обладаю, ни чьего бы то ни было дара
слова, для того, чтобы потрясти вас до глубины души.
(160) Этот Гавий из Консы, о котором я говорю, брошенный Верресом
в тюрьму в числе других римских граждан, каким-то образом тайно бежал
из Каменоломен и приехал в Мессану; уже перед его глазами была Италия
и стены, Регия, населенного римскими гражданами. И после страха смерти,
после мрака, он, возвращенный к жизни как бы светом свободы и каким-то
дуновением законности, начал в Мессане жаловаться, что он, римский
гражданин, был брошен в тюрьму; он говорил, что едет прямо в Рим и будет к
услугам Верреса при его прибытии из провинции. (LXII) На свою беду, он
не понимал, что совершенно безразлично, говорит ли он это в Мессане или
же в присутствии Верреса в преторском доме. Ибо, как я уже вам доказал,
Веррес избрал этот город своим пособником в злодействах, укрывателем
награбленного им и соучастником во всех гнусных поступках. Поэтому Га-
вия тотчас же отвели к мамертинскому должностному лицу, а в тот же день
Веррес случайно приехал в Мессану. Ему доложили об этом случае:
римский гражданин заявляет жалобу, что он находился в сиракузских
Каменоломнях; он, уже садясь на корабль и произнося страшные угрозы против
Верреса, был задержан местным должностным лицом143 и заключен под
стражу, чтобы сам претор мог поступить с ним по своему усмотрению.
(161) Веррес выразил властям свою благодарность и похвалил их за
благожелательное отношение к нему и бдительность. Сам он, вне себя от
158
Речи Цицерона
преступной ярости, пришел на форум; его глаза горели; все его лицо дышало
бешенством144; все ждали, до чего он дойдет и что станет делать, как
вдруг он приказывает притащить Гавия сюда, раздеть его посреди
форума, привязать к столбу и приготовить розги. Несчастный кричал, что он —
римский гражданин из муниципия Консы, что он служил под началом Лу-
ция Реция, известнейшего римского всадника, который ведет дела в Панорме
и может подтвердить это Верресу. Тогда Веррес заявил, что, по его
сведениям, Гавий послан в Сицилию предводителями беглых рабов как
соглядатай; между тем ни доноса, ни каких бы то ни было признаков подобного
дела, ни подозрений не имелось. Затем он приказал всем ликторам сечь
Гавия без всякой пощады. (162) В Мессане посреди форума, судьи, секли
розгами римского гражданина, но, несмотря на все страдания, не было
слышно ни одного стона этого несчастного и, сквозь свист розог, слышались
только слова: «Я — римский гражданин». Этим напоминанием о своих
гражданских правах он думал отвратить от себя удары розог и избавиться
от распятия на кресте. Но ему не только не удалось добиться этим
прекращения порки, но, в то время он усиленно умолял и продолжал взывать к
правам римского гражданина, ему уже готовили крест, повторяю, крест для
этого несчастного и замученного человека, никогда ранее не видевшего
этого омерзительного орудия казни.
(LXIII, 163) О, сладкое имя свободы! О, великое право нашего
государства! О, Порциев закон, о, Семпрониевы законы145! О, вожделенная
власть народных трибунов, наконец, возвращенная римскому плебсу146!
Так ли низко пали все эти установления, что римского гражданина в
провинции римского народа, в союзном городе могли на форуме связать и
подвергнуть порке розгами по приказанию человека, получившего связки и
секиры в знак милости римского народа? Как? Когда разводили огонь и
приготовляли раскаленное железо и другие орудия пытки, тебя не заставили
опомниться если не отчаянные мольбы и страдальческие возгласы твоей
жертвы, то хотя бы плач и горестные сетования римских граждан? И ты
осмелился распять человека, называвшего себя римским гражданином?
Я не хотел с такой резкостью говорить об этом при первом слушании
дела, судьи, я этого не хотел. Ведь вы заметили, как возбуждена была толпа
против Верреса, движимая душевной болью, ненавистью и страхом перед
угрожающей всем опасностью. Тогда я и мой свидетель, видный римский
всадник Гай Нумиторий, проявили сдержанность в своей речи и я
обрадовался поступку Мания Глабриона, который, весьма разумно, вдруг прервал
заседание во время допроса моего свидетеля: он не без основания боялся,
что римский народ расправится с Верресом самочинно, опасаясь, что тот
избегнет кары благодаря законам и вашему приговору. (164) Но теперь,
когда твое положение и ожидающая тебя участь ясны всем, я буду обвинять
тебя уже по-иному: я докажу, что этот Гавий, оказавшийся, по твоим ело-
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
159
вам, соглядатаем, был брошен тобой в сиракузские Каменоломни, и докажу
это не только на основании списков жителей Сиракуз; иначе ты, пожалуй,
скажешь, что я — ввиду того, что в списках значится какой-то Гавий,—
нарочно выбрал это имя, дающее мне возможность сказать, что этот Гавий
и есть то самое лицо, о котором я говорил; нет; я вызову свидетелей,
скольких ты потребуешь, и они покажут, что этот Гавий и есть то самое лицо,
которое ты бросил в сиракузские Каменоломни. Я вам представлю и
жителей Консы, его земляков и друзей, которые заявят,— для тебя, правда,
теперь уже поздно, но для судей еще своевременно — что тот Публий Гавий,
которого ты распял, был римским гражданином и жителем муниципия
Консы, а не соглядатаем из шайки беглых рабов.
(LXIV, 165) На основании свидетельских показаний, установив с
несомненностью все эти факты, о которых я говорю, я затем буду держаться
в пределах только того, что ты сам предоставляешь в мое распоряжение.
Я вполне удовлетворюсь и этим. В самом деле, что заявил ты недавно,
когда, встревоженный криками и негодованием римского народа, ты вскочил со
своего места? Что ты тогда сказал? Что Гавий только для того и вопил, что
он — римский гражданин, чтобы добиться отсрочки своей казни, но в
действительности он был соглядатаем. Значит, мои свидетели говорят правду.
Что говорит Гай Нумиторий, что говорят Марк и Публий Коттии, очень
известные люди из округа Тавромения, что говорит Квинт Лукцей,
державший большую меняльную лавку в Регии, что говорят другие? Ведь
свидетели, представленные мной до сего времени, не говорили, что они знали
Гавия лично, но — что они видели, как человека, во всеуслышание
называвшего себя римским гражданином, распинали. Это же самое и ты говоришь,
Веррес, это же и ты признаешь: он восклицал, что он — римский
гражданин. И звание гражданина для тебя, очевидно, не имело никакого значения,
раз ты ничуть не поколебался в своем намерении распять его и не отложил
хотя бы не надолго его жесточайшей и позорнейшей казни.
(166) Вот чем руководствуюсь я, вот чего я строго держусь, судьи! Мне
достаточно одного этого; прочее я опускаю и оставляю в стороне. Верреса
неотвратимо опутывает и уничтожает его собственное признание. Ты не
знал, кто он; ты подозревал, что он—соглядатай. Не спрашиваю тебя о
твоих подозрениях, обвиняю тебя на основании твоих же слов: он себя
называл римским гражданином. Если бы тебя, Веррес, схватили в Персии или
в далекой Индии* и повели на казнь, что стал бы ты кричать,
как не то, что ты — римский гражданин? И в то время как это
прославленное и всем известное звание римского гражданина должно было бы спасти
тебя даже среди не знающих тебя и незнакомых тебе людей, среди
варваров, среди народов, живущих на краю света, этот человек,— кто бы он ни
был — которого ты влек на крест, который был тебе незнаком, не мог, хотя
и называл себя римским гражданином, хотя и ссылался на свои гражданские
160
Речи Цицерона
права и упоминал о них, добиться от тебя, претора, если не избавления от
смерти, то хотя бы отсрочки казни.
(LXV, 167) Простые незаметные люди незнатного происхождения,
путешествуя по морям, приезжают в местности, которых они никогда не
видели раньше, где они незнакомы тем, к кому они приехали, и где они не
всегда могут сослаться на людей, которые могли бы удостоверить их
личность. И все же они, полагаясь на свои права римского гражданства,
уверены в своей безопасности не только перед нашими должностными лицами,
ответственными и перед законом и перед всеобщим мнением, и не только
среди римских граждан, которых объединяют язык, право и общие
интересы, но и везде, куда бы они ни приехали. (168) Отними у римских граждан
эту надежду, этот оплот; установи за правило, что слова: «Я — римский
гражданин» — бесполезны, что претор или любое другое лицо может
безнаказанно, под предлогом, что не знает, кто перед ним находится,
подвергнуть любой казни человека, называющего себя римским гражданином, и
тогда все провинции, все царства, все независимые городские общины 147,
одним словом, весь мир, который всегда был открыт и доступен для наших
соотечественников, ты, этим своим утверждением, для римских граждан
закроешь.
Далее, если Гавий ссылался на римского всадника Луция Реция,
который тогда жил в Сицилии, неужели было трудно написать в Панорм? Ты
мог отдать Гавия под стражу своим друзьям-мамертинцам, держать его
в тюрьме в оковах до приезда Реция из Панорма; если бы он удостоверил
личность Гавия, ты мог бы несколько смягчить наказание; если бы
оказалось, что он его не знает, тогда ты, если бы признал нужным, мог бы
установить правило, что человек, неизвестный тебе и не представляющий
надежного поручителя, даже если этот человек — римский гражданин,
подлежит казни на кресте.
(LXVI, 169) Но зачем мне продолжать говорить о Гавии, словно ты
только Гавию гибель принес, а имени наших граждан, всем им в целом и
их правам врагом не был? Не ему, повторяю, был ты недругом, но общему
делу свободы. В самом деле, когда мамертинцы, согласно своему обычаю и
правилу, стали водружать крест за городом, на Помпеевой дороге 148, зачем
понадобилось тебе приказывать, чтобы его водрузили на той части ее,
которая обращена к проливу, и прибавлять то, что ты во всеуслышание
сказал в присутствии всех и чего ты никак не можешь отрицать: ты выбираешь
это место для того, чтобы Гавий, коль скоро он называет себя римским
гражданином, мог с креста видеть Италию и смотреть на свой дом? И вот,
это был единственный крест, судьи, водруженный в этом именно месте со
времени основания Мессаны. Веррес для того и выбрал это место на берегу,
обращенном к Италии, чтобы Гавий, умирая в страданиях и мучениях,
понял, что между рабским состоянием и правами свободного гражданина
лежит только очень узкий пролив, и чтобы Италия видела, что ее питомец
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
161
подвергнут жесточайшей и позорнейшей казни, предназначенной для
рабов. (170) Заковать римского гражданина—преступление; подвергнуть его
сечению розгами — злодеяние; убить его,— можно сказать,
братоубийство 149, как же назвать мне распятие его 150? Столь нечестивому поступку
нет названия. Но Верресу и всего этого было мало. «Пусть Гавий,— сказал
он,— смотрит на свою родину; в виду законов и свободы пусть умирает
он!» В этом месте ты не Гавия, ты не первого попавшегося тебе человека
[римского гражданина], а всеобщую свободу и наши гражданские права
обрек на муки и на распятие. Далее, обратите внимание на безумную
дерзость Верреса! Не было ли ему, по вашему мнению, досадно, что этого
креста, предназначенного им для римских граждан, он не может водрузить
на форуме, на комиции, на рострах151? Ведь он выбрал в своей провинции
именно такое место, которое многолюдностью своей может более всего
напоминать именно эти места и, кроме того, расположено к нам ближе
любого другого: он хотел, чтобы памятник его злодейства и дерзости
находился в виду Италии, в преддверии Сицилии, на пути всех тех, кто плывет на
кораблях в обоих направлениях.
(LXVII, 171) Если бы я захотел скорбеть об этом событии и
оплакивать его не в присутствии римских граждан, тех или иных друзей нашего
государства, людей, слышавших имя римского народа, наконец, если бы я
обращался не к людям, а к диким зверям или даже — чтобы пойти
дальше— если бы я в глубине пустынь обратился к скалам и утесам, то даже
вся немая и неодушевленная природа была бы потрясена такой страшной,
такой возмутительной жестокостью. Но теперь, говоря перед сенаторами
римского народа, блюстителями законов, правосудия и права, я не должен
сомневаться в вашем приговоре: только один, этот вот гражданин будет
признан вами достойным казни на кресте, а ко всем другим она не
применима. (172) Совсем недавно, судьи, мы не могли сдержать своих слез,
слыша о горестной и незаслуженной казни навархов, и с полным основанием
скорбели о несчастье, постигшем наших ни в чем не повинных союзников.
Что же должны мы делать теперь, когда проливается наша собственная
кровь? Да, надо считать, что все римские граждане связаны друг с
другом кровно; ибо этого требует наше всеобщее благополучие и это
соответствует истине. Все римские граждане, как присутствующие, так и
отсутствующие, где бы они ни находились, требуют от вас суровости, взывают к
вашей справедливости, ищут у вас помощи; все их права, благополучие и
оплот, наконец, вся их свобода, по их мнению, зависят от вашего приговора.
(173) Хотя я и сделал достаточно много, все же, если исход событий не
оправдает моих ожиданий, я сделаю для римских граждан, быть может,
больше, чем они просят. Ибо если какая-нибудь сила избавит Верреса от
суровости вашего приговора,— хотя я этого не боюсь, судьи, и совершенно
не допускаю такой возможности — итак, если окажется, что я ошибся в
1 1 Цицерон, т. I
162
Речи Цицерона
своих расчетах, тогда сицилийцы, конечно будут сетовать на то, что
проиграли свое дело; я вполне разделю их огорчение, а римский народ, так как
он дал мне возможность обратиться к нему с речью, своим голосованием,
на основании моей жалобы, вскоре отстоит свои права еще до февральских
календ 152. А если вы захотите позаботиться о моей славе и известности,
судьи, то я, пожалуй, не имел бы ничего против того, чтобы Веррес был
вырван у меня вашим судебным приговором и сохранен для суда римского
народа. Блестящее это будет дело, богатое доказательствами и легкое для
меня, а народу оно придется по-сердцу и будет приятно. Наконец, если кто-
нибудь думает, что я пожелал выдвинуться в связи с делом одного Верре-
са,— к чему я отнюдь не стремился — то в случае его оправдания, которое
невозможно без преступлений многих людей 153, я смогу еще более
выдвинуться, выступая по многим судебным делам.
(LXVIII) Но, клянусь Геркулесом, для вашей же пользы, судьи, и
для блага государства я не хочу, чтобы в этом отобранном совете судей
произошло столь позорное событие; не хочу, чтобы эти судьи, одобренные и
отобранные мной 154, в случае оправдания Верреса, ходили по этому городу
заклейменные, покрытые не воском, а грязью155. (174) Поэтому
предостерегаю также тебя, Гортенсий,— если только есть какая-нибудь возможность
предостерегать с этого места — подумай хорошенько и взвесь, что ты
делаешь, куда идешь, кого и на каком основании защищаешь. И я отнюдь не
препятствую тебе состязаться со мной твоим дарованием и всем твоим
ораторским искусством; но если ты рассчитываешь тайком применить вне суда
какие-либо средства [воздействия на суд], если ты думаешь достигнуть чего-
нибудь уловками, хитростью, могуществом, влиянием, богатством
подсудимого, то я настоятельно советую тебе отказаться от своего намерения, а
попытки, уже предпринятые Верресом, но обнаруженные и разгаданные
мной, советую тебе пресечь, а в дальнейшем не давать им ходу. Всякий
промах в этом судебном деле будет весьма опасен для тебя, более опасен,
чем ты думаешь. (175) Если ты полагаешь, что тебе уже нечего бояться
мнения людей, так как ты уже занимал почетные должности и являешься
избранным консулом 156, то — поверь мне — сохранить эти почести и
милости римского народа не менее трудно, чем их снискать. Государство наше,
пока могло, пока это было неизбежно 157, терпело вашу, прямо-таки царскую
власть в судах и во всех государственных делах 158; да, оно терпело ее, но
в тот день, когда римскому народу были возвращены народные трибуны,
вся эта ваша власть — если вы, быть может, этого еще не понимаете— была
отнята и вырвана у вас из рук. И теперь, вот в это именно время, глаза всех
людей обращены на каждого из нас — честно ли я обвиняю Верреса,
добросовестно ли судьи вынесут ему приговор, какими средствами ты его
защищаешь. Если кто-либо из нас сколько-нибудь уклонится от прямого пути,
то последует не молчаливая оценка нашего поведения, которую вы до сего
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
163
времени презирали, а строгий и независимый приговор римского народа.
(176) Тебя, Квинт159, не связывают с Верресом ни родство, ни дружеские
отношения. Оправданиями, к каким ты однажды старался прибегать,
защищая свое несколько излишнее рвение во время одного судебного дела,
ты в отношении этого подсудимого воспользоваться не можешь; тебе вот о
чем следует всемерно заботиться, чтобы те слова Верреса, которые он во
всеуслышание повторил в провинции,— что он позволяет себе все эти
злоупотребления, всецело рассчитывая на твою защиту,— чтобы эти слова не
оправдались.
(LXIX, 177) Что касается меня, то даже все мои величайшие
недоброжелатели, несомненно, полагают, что я долг свой исполнил. Ибо, при первом
слушании дела, я в течение нескольких часов добился того, что всеобщее
мнение признало Верреса виновным. В дальнейшем речь будет не о моей
верности долгу (она во всем видна), не о жизни Верреса (она всеми
осуждена), а о поведении судей и, сказать правду, о тебе самом. И при каких
обстоятельствах это произойдет? Ведь именно это требует самого
пристального внимания; ибо в делах государственных, как и во всех других, очень
важно общее положение вещей и направление, в котором развиваются
события. Это ведь произойдет в то время, когда римский народ станет
привлекать к участию в суде других людей и другое сословие,— после того,
как уже объявлен закон о новых судах и судьях 160. И закон этот объявил
не тот человек, от чьего имени он, как вы видите, составлен; нет, этот вот
подсудимый, повторяю, этот подсудимый, своими расчетами и мнением,
какое у него сложилось о вас, приложил усилия к тому, чтобы этот закон
был составлен и объявлен. (178) И вот, когда начиналось первое слушание
дела, закон объявлен еще не был; в то время, когда Веррес,
встревоженный вашей строгостью, не раз давал понять, почему он не склонен являться
в суд, о законе еще не было и речи; но после того как к Верресу, казалось,
вернулись силы и уверенность, закон тотчас же был объявлен. Если чувство
вашего достоинства всячески противится изданию этого закона, то всего
сильнее говорят за него ложные надежды и необычайное бесстыдство
Верреса. Если кто-нибудь из вас совершит в этом случае что-нибудь
предосудительное, то либо римский народ вынесет свой приговор о таком человеке,
которого он уже ранее признал недостойным участвовать в правосудии,
либо это сделают те люди, которые станут новыми судьями на основании
нового закона и будут судить прежних судей за нарушение правосудия.
(LXX, 179) Что касается меня, то, даже если я и не скажу, все равно
всякий поймет, что мне необходимо вести дело до конца. Но смогу ли я
молчать, Гортенсий, смогу ли притвориться безучастным, когда окажется,
что государству нанесена такая глубокая рана, если то, что разорены
провинции 161, замучены наши союзники я бессмертные боги ограблены, а
римские граждане распяты на крестах и истреблены, пройдет Верресу
11*
164
Речи Цицерона
безнаказанно, несмотря на то, что дело вел я? Смогу ли я сложить с себя
столь тяжкое бремя в этом суде или продолжать нести его молча? Не будет
ли моим долгом вести преследование, предать дело гласности, умолять
римский народ о правосудии, обвинить и привлечь к ответственности и к суду
всех тех, которые запятнали себя таким преступлением, что либо сами
позволили подкупить себя, утратив честь, либо подкупили судей?
(180) Кто-нибудь, быть может, спросит: «И ты готов взять на себя
такой большой труд, навлечь на себя такую сильную неприязнь стольких
людей?» Делаю это, клянусь Геркулесом, не по особой склонности и не по
доброй воле; но мне нельзя поступать так, как можно поступать тем, кто
происходит из знатных родов и кому все милости римского народа
достаются во время сна 162. Совсем по другим правилам и в других условиях
приходится мне жить в нашем государстве. Вспоминаю я Марка Катона,
мудрейшего и прозорливейшего человека: сознавая, что не происхождение, а
доблесть его может расположить к нему римский народ, желая, вместе с
тем, чтобы его род приобрел имя, начиная с него, и чтобы это имя стало
широко известным, он вступил во вражду с влиятельнейшими людьми и
в величайших трудах прожил до глубокой старости с необычайной
славой 1б3. (181) А впоследствии, разве Квинт Помпеи 164, происходя из
незначительного и малоизвестного рода, не достиг высших почестей, преодолев
неприязнь очень многих людей, величайшие опасности и лишения?
Недавно мы были свидетелями того, как Гай Фимбрия 165, Гай Марий 166 и Гай
Целий 167 напрягали силы в далеко не легкой борьбе с недругами, чтобы
ценой трудов добиться тех почестей, каких вы достигаете шутя и без
забот 1б8. По этому же самому направлению и пути следую я в своей
деятельности; правила этих людей я ставлю себе в пример.
(LXXXI) Мы видим, какую зависть и ненависть вызывают у
некоторых знатных людей доблесть и трудолюбие новых людей. Стоит нам
сколько-нибудь ослабить свое внимание — и козни против нас готовы, стоит нам
дать малейший повод к подозрению или обвинению — и нам тотчас же
наносят рану. Мы видим, что нам всегда надо быть настороже, всегда надо
трудиться 169. (182) Нападки надо терпеть, за всякое трудное дело —
браться, причем безмолвной и тайной неприязни следует бояться больше, чем
объявленной и открытой. Среди знатных людей нашим усилиям, можно
сказать, не сочувствует ни один. Снискать их расположение мы не можем
никакими заслугами. Они так далеки от нас по своему духу и стремлениям,
словно природа создала их не такими, как мы. Стоит ли поэтому
тревожиться из-за исконной зависти и неприязни, существовавших еще до того,
как ты столкнулся с каким-либо проявлением их г»
(183) Итак, судьи, я, правда, очень хочу, чтобы мне после этого
судебного дела, когда я выполню и свой долг перед римским народом и поручение,
возложенное на меня моими друзьями-сицилийцами, уже более никого
4. Против Гая Верреса («О казнях»)
165
обвинять не пришлось 7 ; но для меня дело решенное: если мое мнение о
вас окажется ошибочным, я буду преследовать не только главных
виновников подкупа суда, но и людей, запятнанных соучастием в этом подкупе.
Итак, если есть люди, которым угодно в деле этого подсудимого проявить
свое могущество или дерзость, или свое искусство в подкупе суда, то пусть
они будут готовы — когда дело будет разбирать римский народ,— иметь
дело со мной; и если они нашли меня достаточно упорным,
достаточно настойчивым, достаточно бдительным в деле этого подсудимого, чьим
противником сицилийцы поручили мне быть, то пусть они поймут, что по
отношению к тем людям, вражду которых я навлеку на себя, служа
благополучию римского народа, я буду гораздо более настойчив и более крут.
(LXXII, 184) Теперь я умоляю и призываю тебя, Юпитер Всеблагой
Величайший! Принесенный тебе царский дар, достойный твоего
великолепного храма, достойный Капитолия — этого оплота всех народов, достойный
подарок царя, изготовленный для тебя царями, тебе предназначенный и
обещанный, Веррес, совершив нечестивое святотатство, вырвал из рук
царя 171; твою священнейшую и великолепнейшую статую он похитил из
Сиракуз; умоляю и призываю тебя, царица Юнона, чьи два священнейших и
древнейших храма, находящихся на двух островах наших союзников — на
Мелите и на Самосе, тот же Веррес лишил всех даров и украшений; и тебя,
Минерва, которую он ограбил также в двух прославленных и глубоко
почитаемых храмах: в Афинах, где он похитил огромное количество золота,
и в Сиракузах, где он не оставил в целости ничего, кроме кровли и стен;
(185) и вас, Латона, Аполлон и Диана, вас, чье святилище на Делосе, нет,
даже не святилище, а, как гласит предание, древнюю обитель и
божественное жилище этот разбойник ограбил, ворвавшись в него ночью; также и
тебя, Аполлон, чье изображение он похитил на Хиосе, и снова и снова,
Диана, тебя, ограбленную им в Перге, тебя, чью глубоко чтимую в Сегесте
статую, вдвойне священную для сегестинцев — и как предмет религиозного
почитания и как победный дар Публия Африканского — он велел снять
и увезти; и тебя, Меркурий, чью статую Веррес поставил в доме и на
палестре частного лица, а Публий Африканский хотел видеть в городе наших
союзников, на гимнасии в Тиндариде, стражем и покровителем юношества;
(186) и тебя Геркулес, чью статую в Агригенте Веррес в глухую ночь,
набрав шайку вооруженных рабов, пытался сдвинуть с подножия и увезти;
и тебя, священнейшая Матерь Идейская172, которую он в великолепном
и глубоко почитаемом храме в Энгии обобрал и оставил в таком виде, что
теперь сохранились только имя Публия Африканского и следы
святотатства, а памятников победы и храмовых украшений до нас не дошло; и вас,
посредники и свидетели всех судебных дел, важнейших совещаний,
законодательства и судопроизводства, находящиеся на самой многолюдной
площади римского народа,— вас, Кастор и Поллукс173, чей храм он превратил в
166
Речи Цицерона
источник барыша и бесчестнейшей наживы; и вас, все боги, посещающие —
когда вас привозят на тенсах — ежегодные празднества во время игр174;
ведь эго его заботами ваша дорога была устроена и вымощена в
соответствии с его выгодой, а не торжественностью обрядов; (187) и вас, Церера
и Либера, чьи обряды, по мнению и по верованиям людей, основаны на
важнейших и заветнейших священнодействиях, вас, давших и
распределивших между людьми и их общинами начала животворной пищи, обычаев и
законов, кротости и человечности; вас, чьи обряды римский народ,
заимствовав и переняв их у греков, хранит и в своей общественной и в своей
частной жизни с таким благоговением, что они уже кажутся перешедшими
17е» «
не от греков к нам, а от нас к другим народам , на священнодействия эти
один только Веррес посягнул и тяжко оскорбил их, велев снять с цоколя и
увезти из святилища в Катине статую Цереры, к которой ни один мужчина
не смел прикасаться; нет, даже увидеть ее было нарушением божественного
закона; другую статую Цереры он забрал из ее обители в Энне, а это была
такая статуя, что люди, видевшие ее, думали, что видят самое Цереру или
же изображение Цереры, не созданное человеческими руками, а
спустившееся с неба; (188) снова и снова умоляю и призываю вас, глубоко почитаемые
богини, обитающие у озер и в рощах Энны, покровительницы всей
Сицилии, порученной моей защите; ведь вы дали всему миру обретенные вами
хлебные злаки, и все племена и народы благоговейно чтят вашу волю;
равным образом умоляю и заклинаю всех других богов и богинь, с чьими
храмами и обрядами Веррес, обуянный каким-то нечестивым бешенством
и преступной дерзостью, непрерывно вел кощунственную и
святотатственную войну: если по отношению к этому обвиняемому и в этом судебном деле
все мои помыслы были направлены на благо союзников, на величие римского
народа, на мою верность своим обязательствам, если все мои заботы,
бессонные ночи и мысли были посвящены только исполнению мной своего
долга и служению добру, то пусть те же намерения, какие у меня были,
когда я брался за это дело, и та же честность, с какой я его вел, руководят
вами при вынесении вами приговора; (189) пусть Гая Верреса за его
поистине неслыханные и исключительные деяния, порожденные преступностью,
наглостью, вероломством, похотью, алчностью и жестокостью, в силу вашего
приговора постигнет конец, достойный такого образа жизни и такого
поведения, а наше государство и моя совесть пусть удовольствуются одним этим
обвинением, чтобы впредь мне можно было защищать честных людей, а не
обвинять преступных.
5
РЕЧЬ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМПЕРИЯ
ГНЕЮ ПОМПЕЮ
(О МАНИЛИЕВОМ ЗАКОНЕ)
[На форуме 66 г.]
(I, 1) Хотя вид вашего многолюдного собрания, квириты1, был мне
всегда дороже всего прочего, а это место2 всегда казалось мне самым
достойным для беседы с вами о делах государственных и самым почетным
для обращения к вам с речью, однако вступить на этот путь славы, всегда
открытый каждому честному гражданину, мне до сего времени
препятствовало не мое нежелание, а правила жизни, установленные мной для себя еше
в мюлодости. Ибо, пока я, считая возможным приносить сюда лишь плоды
уже созревшего дарования и неутомимого трудолюбия, еще не решался
приблизиться к этому месту, внушающему мне глубочайшее уважение, я
полагал, что должен посвящать все свое время своим друзьям в трудные для них
времена. (2) Таким образом, с одной стороны, всегда находились люди,
защищавшие ваше дело с этого места, а с другой стороны, также и мой
честный и бескорыстный труд на пользу частных лиц при опасных для них
обстоятельствах был вами высоко оценен и вознагражден щедро. Ведь когда
я, вследствие отсрочки комиций, трижды голосами всех центурий 3 был
первый объявлен избранным в преторы, мне было легко понять, квириты, как
вы сами судите обо мне и как велите поступать другим. Ныне же, когда
я обладаю всем тем авторитетом, какой вы пожелали мне дать, предоставляя
мне почетную должность, и всей той способностью говорить с народом о
делах государства, какую деятельный человек мог приобрести, почти каждый
день произнося речи в суде на форуме, я, разумеется, весь свой авторитет,
каким только обладаю, употреблю на пользу тех, кому я им обязан, а свое
ораторское искусство, если я в нем чего-то достиг, постараюсь показать
именно тем людям, которые своим суждением сочли нужным вознаградить
меня также и за него. (3) При этом я особенно радуюсь тому, что мне,
человеку, не привыкшему выступать с этого места, предоставлена
возможность говорить о таком деле, по которому всякий найдет, что сказать. Ведь
мне предстоит высказаться об изумительной и выдающейся доблести Гнея
Помпея. Говоря о ней, легко начать, но трудно кончить. Поэтому мне не
следует быть многоречивым, а надо соблюдать меру.
168
Речи Цицерона
(II, 4) Итак,— дабы начать речь с того же, с чего началось все дело,—
тяжкой и опасной войной пошли на ваших союзников и данников два
могущественных царя, Митридат и Тигран, которые — первый, будучи
оставлен нами в покое, второй, усмотрев вызов с нашей стороны,— сочли, что им
представился случай захватить Азию4. Римские всадники, весьма
уважаемые люди, поместившие большие деньги в дело сбора податей и налогов 5,
взимаемых в вашу пользу, получают ежедневно вести из Азии. Пользуясь
моими связями с их сословием, они поручили мне при ведении этого
общегосударственного дела защитить и их собственные интересы. (5) Им
сообщают, что в Вифинии, которая ныне является вашей провинцией 6,
сожжено много сел; царство Ариобарзана 7, граничащее с землями ваших
данников, все целиком находится во власти врагов; Луций Лукулл, совершив
большие подвиги, перестает руководить военными действиями; его
преемник8 недостаточно подготовлен для ведения столь трудной войны; одного
только человека настоятельно требуют в императоры9 и все союзники, и все
граждане; только его одного боятся враги, а кроме него — никого.
(6) Каково положение дел, вы видите; теперь подумайте, что же следует
делать. Мне кажется, сначала надо поговорить о характере этой войны,
затем о ее трудностях и, наконец, о выборе императора.
По характеру своему война эта такова, что вы должны проникнуться
и воспламениться желанием довести ее до конца. Дело идет о завещанной
вам предками славе римского народа, великой во всех отношениях, но более
всего в военном деле; о благополучии наших союзников и друзей, ради
которого наши предки вели не одну трудную и тяжкую войну; о самых
верных и богатых источниках доходов римского народа, с утратой которых
вы лишитесь средств и для радостей мира, и для ведения войны; об
имуществе многих граждан, о которых вам следует заботиться как ради них са
мих, так и в интересах государства.
(III, 7) И так как вы всегда стремились к славе более, чем все другие
народы, и жаждали хвалы, то вы должны смыть пятно позора, павшего на
вас в первую войну с Митридатом; глубоко въелось это пятно и слишком
долго лежит оно на имени римского народа: ведь тот, кто в один день одним
своим приказанием, по одному условному знаку перебил и предал жестокой
казни всех римских граждан во всей Азии, в стольких ее городских
общинах, до сего времени не только не понес кары, достойной его злодеяния, а
царствует уже двадцать третий год с того времени, мало того, что
царствует,— не хочет более скрываться в Понте и в каппадокийских дебрях;
нет, он переступил пределы царства своих отцов и находится теперь на
землях ваших данников, в самом сердце Азии. (8) И в самом деле, наши
императоры воевали с этим царем так, что возвращались домой со знаками
победы, но не с самой победой. Справил триумф Луций Сулла, справил
триумф по случаю победы над Митридатом и Луций Мурена 10, оба — храб-
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
169
рейшие мужи и выдающиеся императоры; но они справили свои триумфы
так, что Митридат, отброшенный и побежденный, продолжал царствовать.
Впрочем, этих императоров все же можно похвалить за то, что они сделали,
и простить им то, чего они не доделали: Суллу отозвали в Италию с войны
дела государственные, а Мурену — Сулла.
(IV, 9) Между тем Митридат воспользовался предоставленным ему
временем не для того, чтобы заставить вас позабыть о минувшей войне, а для
того, чтобы подготовиться к новой. Построив и оснастив сильный флот и
набрав многочисленные полчища из всех племен, из каких он только мог,
он, под предлогом похода против своих соседей, жителей Боспора п, до
самой Испании разослал послов с письмами к военачальникам, с которыми мы
тогда воевали 12,— с тем, чтобы война происходила в двух местах, сильно
удаленных одно от другого и лежащих в противоположных концах
вселенной, на суше и на море, и велась по одному плану двумя неприятельскими
войсками, а вы должны были сражаться за римскую державу, разделив
свои силы и направив их в противоположные стороны. (10) Но опасность
на одном направлении и притом гораздо бол'ее страшную и грозную — со
стороны Сертория и Испании — удалось отразить благодаря разумным
решениям Гнея Помпея, внушенным ему богами, и его выдающейся
доблести. Что касается другой стороны, то Луций Лукулл, выдающийся муж, так
руководил там военными действиями, что его успехи в начале войны,
большие и славные, следует приписывать не его военному счастью, а его
мужеству, а недавние события — объяснять не его виной, а случайностью,
Впрочем, о Лукулле, квириты, я буду говорить в другом месте и при этом
постараюсь не умалить в своей речи его подлинных заслуг и не приписать
ему мнимых; (11) но подумайте о том, чего требуют величие и слава вашей
державы (ведь с этого я и начал свою речь); это и должно вас
воодушевлять.
(V) Предки наши не раз объявляли войну за небольшие оскорбления,
нанесенные нашим торговцам и судовладельцам 13. А вы? Как же должны
отнестись ,вы к убийству стольких тысяч римских граждан, совершенному по
одному приказанию и одновременно? За высокомерное обращение к нашим
послам отцы ваши повелели разрушить Коринф, светоч всей Греции 14, а вы
примиритесь с безнаказанностью царя, который держал в тюрьме, избивал
и зверски замучил посла римского народа и консуляра? Они не потерпели
ограничения свободы римских граждан, а вы оставите без внимания то, что
их лишили жизни? Они преследовали за оскорбленное одним словом право
посольства, а вы оставите без последствий мучительную казнь посла? (12)
Смотрите, в то время как для наших предков было .великой заслугой
передать вам нашу державу столь славной, как бы для вас не оказалось
величайшим позором то, что вы не в силах защитить и сохранить полученное
вами.
170
Речи Цицерона
А что должны вы испытывать в связи со страшной опасностью, какой
подвергаются жизнь и достояние наших союзников? Из своего царства
изгнан царь Ариобарзан, союзник и друг римского народа. Всей Азии грозит
вторжение двух царей, не только ваших заклятых врагов, но и врагов
ваших союзников и друзей. Величайшая опасность заставляет все городские
общины во всей Азии и Греции обратиться за помощью к вам; они не
решаются просить вас о назначении того императора, которого они желают
(особенно теперь, когда вы уже отправили к ним другого); они опасаются,
что это может навлечь на них величайшие испытания. (13) Подобно вам,
они сознают и чувствуют, что только один муж соединяет в себе все
качества в самой высокой степени, знают, что он находится близко от них, и тем
больнее чувствуют отсутствие поддержки с его стороны. Они понимают, что
уже один его приезд и его имя — хотя он приезжал для ведения войны на
море — сдержали и замедлили вторжение врагов. Так как им нельзя
говорить свободно, то своим молчанием они просят вас признать и их
достойными того же, чего вы признали достойными союзников в других провинциях,
благополучие которых вы вверяете столь выдающемуся мужу. И они просят
вас об этом тем настоятельнее, что мы обычно посылаем в провинцию
облеченными империем таких людей, что — даже если они и защищают ее от
врага— все же их приезд в города союзников мало чем отличается от захвата
врагом; Помпеи же, как они ранее знали по слухам, а теперь убедились сами,
так воздержан, так мягок, так добр, что люди считают себя тем счастливее,
чем долее он у них остается.
(VI, 14) Итак, если наши предки за одних лишь своих союзников, сами
не будучи оскорблены, воевали с Антиохом, с Филиппом, с этолянами, с
пунийцами 15, то с каким же рвением следует вам, отвечая на оскорбления,
нанесенные вам, защищать, наряду с неприкосновенностью союзников,
достоинство своей державы — тем более, что дело идет о ваших важнейших
податях! Ведь податей, получаемых в других провинциях, квириты, едва
хватает на оборону самих провинций; Азия же так богата и так
плодородна, что и тучностью своих полей, и разнообразием своих плодов, и
обширностью своих пастбищ, и обилием всех предметов вывоза намного
превосходит все другие страны. Итак, эту провинцию, квириты,— если только вы
хотите сохранить возможность воевать -с успехом и с достоинством жить в
условиях мира — вы должны не только защитить от несчастий, но и
избавить от страха перед ними. (15) Ведь в других случаях убыток несут тогда,
когда несчастье уже произошло; но в деле взимания податей не одна только
уже случившаяся беда, но и самый страх перед ней приносит несчастье. Ибо,
когда вражеское войско находится невдалеке, то, даже если оно еще не
совершило вторжения, люди .все же оставляют пастбища, бросают свои поля,
а торговое мореплавание прекращается. Так пропадают доходы и от пошлин
в гаванях, и от десятины, и с пастбищ 16. Поэтому один лишь слух об опас-
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
171
ности и один лишь страх перед войной не раз лишал нас доходов целого года.
(16) Как же, по вашему мнению, должны быть настроены и наши
плательщики податей и налогов и те, кто их берет на откуп и взимает, когда
поблизости стоят два царя с многочисленными войсками, когда один набег
конницы может в самое короткое время лишить их доходов целого года, когда
откупщики считают большой опасностью для себя присутствие
многочисленных рабов, которых они держат на соляных промыслах, на полях, в гаванях
и на сторожевых постах? Думаете ли вы, что сможете пользоваться всем
этим, не защитив тех людей, которые приносят вам эту пользу, и не избавив
их не только, как я уже говорил, от несчастья, но даже от страха перед
несчастьем?
(VII, 17) Наконец, мы не должны оставлять без внимания также и то,
чему я отвел последнее место, когда собирался говорить о характере этой
войны: речь идет об имуществе многих римских граждан, о которых вы,
квириты, как люди разумные должны особенно заботиться. Во-первых, в ту
провинцию перенесли свои дела и средства откупщики, почтеннейшие и
виднейшие люди, а их имущество и интересы уже сами по себе заслуживают
вашего внимания. И право, если мы всегда считали подати жилами
государства, то мы по справедливости назовем сословие, ведающее их сбором,
конечно, опорой других сословий. (18) Затем, предприимчивые и деяте\ьные
люди, принадлежащие к другим сословиям 17, отчасти сами ведут дела в
Азии,— и вы должны заботиться о них в их отсутствие — отчасти
поместили большие средства в этой провинции 18. Следовательно, вы по своей
доброте должны уберечь своих многочисленных сограждан от несчастья, а по
своей мудрости должны лонять, что несчастье, угрожающее многим
гражданам, не может не отразиться на положении государства. И в самом деле,
мало толку говорить, что вы, не защитив откупщиков, впоследствии, путем
победы, вернете себе эти доходы; ведь у прежних откупщиков, уже
разорившихся, не будет возможности снова взять их на откуп на торгах, а у
новых — охоты браться за это дело из-за боязни. (19) Далее, то, чему нас
в начале войны в Азии научили та же Азия и тот же Митридат, мы, уже
наученные несчастьем, должны твердо помнить: когда очень многие люди
потеряли в Азии большие деньги, в Риме, как мы знаем, платежи были
приостановлены и кредит упал. Ибо многие граждане одного и того же
государства не могут потерять свое имущество, не вовлекая в это несчастье
еще большего числа других людей. Оградите наше государство от этой
опасности и поверьте мне и своему собственному опыту: кредит,
существующий здесь, и все денежные дела, которые совершаются в Риме, на форуме
тесно и неразрывно связаны с денежными оборотами в Азии; крушение этих
последних нанесет первым такой сильный удар, что они не могут не
рухнуть. Решайте поэтому, можно ли вам еще сомневаться в необходимости
приложить все свои заботы к ведению этой войны, во время которой вы
172
Речи Цицерона
защищаете славу своего имени, неприкосновенность союзников, свои
важнейшие государственные доходы, благосостояние многих своих сограждан,
тесно связанное с интересами государства.
(VIII, 20) Так как о характере этой войны я уже сказал, то я скажу
теперь коротко о том, как трудно ее вести. Ведь мне могут сказать, что она
по своему характеру настолько необходима, что ее вести действительно
следует, но не так трудна, чтобы ее приходилось страшиться. Здесь мне надо
особенно постараться, чтобы не показалось вам пустяками то, что требует
величайшего внимания. А дабы все поняли, что я воздаю Луцию Лукуллу
всю похвалу, какой он заслуживает как храбрый муж, многоопытный
человек и великий император, я утверждаю, что ко времени его приезда Мит-
ридат располагал многочисленными войсками, снабженными всем
необходимым и подготовленными к войне, и что полчища Митридата во главе с ним
самим обложили Кизик — один из наиболее известных и самых
дружественных нам городов Азии — и подвергли его ожесточенной осаде 19, что Луций
Лукулл, благодаря своему мужеству, настойчивости и продуманным
действиям, избавил этот город от величайших опасностей, связанных с осадой;
(21) что этот же император разбил и уничтожил большой и хорошо
снаряженный флот, который с военачальниками Сертория во главе рвался к
берегам Италии, горя яростью и ненавистью; что, кроме того, большие военные
силы врагов были уничтожены во многих сражениях, и нашим легионам
была открыта дорога в Понт, до того времени со всех сторон недоступый
для римского народа; что Лукулл сразу же, по прибытии, взял города Сино-
пу и Амис, где находились царские дворцы, пышно разукрашенные и
переполненные всякими сокровищами, и занял очень много других городов
Понта и Каппадокии, и что царь, лишившись царства своего отца и своих дедов,
как проситель обратился к другим царям и к другим народам 20; и что все
эти подвиги были совершены без убытка для союзников и без ущерба для
поступления налогов и податей. В этом, полагаю я, заключается очень веская
похвала, квириты, которая должна убедить вас в том, что ни один из
хулителей защищаемого мной закона и дела не воздал Луцию Лукуллу с этого
места подобной хвалы.
(IX, 22) Теперь, быть может, спросят, почему же, если это все так,
предстоящая нам война может быть столь важной. Выслушайте, квириты, мое
объяснение; ведь об этом спрашивают, пожалуй, не без оснований.
Во-первых, Митридат бежал из своего царства так, как некогда из того же Понта,
по преданию, бежала Медея; она, говорят, во время своего бегства
разбросала члены своего брата в той местности, по которой ее должен был
преследовать отец,— для того, чтобы разыскивание их и родительское горе за-
замедлили быстроту преследования. Так и Митридат, во время своего
бегства, целиком оставил в Понте груды золота, серебра и драгоценностей,
которые он и получил в наследство от своих предков, и сам награбил в про-
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
173
шлую войну в Азии и свез в свое царство. Пока наши солдаты слишком
усердно собирали эти сокровища, сам царь ускользнул у них из рук. Так,
отцу Медеи помехой в преследовании было горе, нашим войскам —
ликование. (23) Бежавший в страхе Митридат нашел приют у Тиграна, царя
Армении, который поднял его упавший дух, вернул ему утраченную бодрость
и оживил в нем его былые надежды 21. После того как Луций Лукулл вошел
с войском в пределы его царства, множество племен выступило против
нашего императора. Ибо этим народам, против которых римский народ
никогда не считал нужным предпринимать военные или какие-либо другие
действия, был внушен страх; ведь среди варваров был пущен устрашающий
слух, сильно взволновавший их,— будто наше войско введено в эту страну
с целью разграбления их богатейшего и благоговейно чтимого храма22.
И вот, многие сильные племена поднимались, охваченные небывалым
ужасом и страхом. А наше войско, хотя и овладело городом в царстве Тиграна
и выиграло несколько сражений, все же стало испытывать тревогу из-за
необычайной отдаленности этих мест, тоскуя по своим близким. (24)
Продолжать об этом не буду; дело кончилось тем, что наши солдаты вместо
дальнейшего продвижения потребовали немедленного отступления 23.
Митридат же тем временем привел в порядок свои войска и получил
значительную поддержку в лице людей, собравшихся к нему из его царства,
и в виде вспомогательных сил, присланных ему многими царями и
народами. Как известно, обычно бывает так: несчастья, случившиеся с
царями, во многих людях вызывают сострадание и деятельное участие, в
особенности же в тех, которые или сами являются царями или живут под
царской властью, так что царское имя кажется им великим и священным.
(25) Поэтому Митридат, побежденный, смог совершить то, чего он до
своего поражения никогда не посмел бы и желать. Ибо он,
возвратившись в свое царство, не удовлетворился неожиданным даром счастья,
позволившего ему вновь ступить на землю, из которой он был изгнан, а
совершил нападение на наше прославленное и победоносное войско. Позвольте
мне здесь, квириты, по примеру поэтов, излагающих историю Рима 24,
умолчать о нашем несчастье, которое было столь тяжелым, что императору
принес эту весть не гонец с поля битвы, а молва 25. (26) Тут, среди этих
несчастий, потерпев сильнейшее поражение, Луций Лукулл, который, быть
может, еще мог бы до некоторой степени поправить дела, по вашему
повелению,— так как вы, следуя древнейшему обычаю, сочли нужным
ограничить продолжительность его империя — уволил солдат, срок службы
которых уже истек, а оставшихся передал Манию Глабриону. Я нарочно обхожу
молчанием многие другие обстоятельства, но вы сами догадываетесь о них и
понимаете, как трудна должна быть война, которую соединенными силами
ведут могущественные цари, возобновляют уже восставшие против нас
народы, начинают еще не затронутые войной племена, берет на себя
174
Речи Цицерона
новый император, присланный нами после поражения нашего прежнего
войска.
(X, 27) Мне кажется, я объяснил достаточно ясно, почему эта война по
своему характеру необходима, а по своей трудности опасна. Мне остается
сказать о выборе императора для ведения этой войны и для руководства
столь трудным делом.
О, если бы к .вашим услугам, квириты, было так много храбрых и
честных мужей, что вам было бы трудно решить, кому именно можно поручить
столь важную задачу и ведение столь трудной войны! Но теперь, когда Гней
Помпеи является единственным человеком, мужеством своим затмившим
славу не только своих современников, но также и тех, о ком повествуют
предания старины, что может при решении этого вопроса вызвать сомнения у
кого бы то ни было? (28) По моему мнению, выдающийся император должен
обладать следующими четырьмя дарами: знанием военного дела,
доблестью, авторитетом, удачливостью.
Итак, существовал ли когда-либо или мог ли существовать человек,
который бы знал военное дело лучше, чем Помпеи? Ведь он еще совсем юным,
оставив школу и ученье, во время труднейшей войны со свирепым врагом
отправился к войску своего отца для прохождения военной службы. К
концу своей юности он был солдатом в войске выдающегося императора, а еще
очень молодым сам был императором над многочисленным войском 26. Он
чаще сражался на поле брани с врагом, чем другие состязались перед судом
со своими недругами; больше войн знает по личному участию в них, чем
другие — по описаниям в книгах; выполнил больше государственных
поручений, чем другие желали выполнить; в своей юности изучал военное
искусство не по чужим наставлениям, а начальствуя сам, не на поражениях, а
на победах, считая не годы службы, а триумфы 27. Была ли, наконец, какая-
либо война, в которой судьбы государства не подвергли бы его испытанию?
Войны гражданская, африканская, трансальпийская, испанская, война с
рабами, война на море, различные и по своим особенностям и по характеру
врагов, он не только вел сам. но и удачно закончил, а это доказывает, что в
военном деле нет ни одной области, которая бы могла быть неизвестна это-
му мужу .
(XI, 29) Далее, что касается доблести Гнея Помпея, то возможно ли
подобрать подобающие ей слова? Можно ли привести что-нибудь такое, что
было бы достойно Помпея, или ново для вас, или неизвестно кому бы то
ни было? Ведь он обладает не одними только доблестями, которые обычно
считаются свойственными императору,— выдержкой при трудностях,
храбростью в опасностях, настойчивостью в начинаниях, быстротой в действиях,
разумной предусмотрительностью. Этими качествами он один превосходит
всех других императоров, каких мы видели и о каких слыхали (30)
Свидетельницей этому Италия, которая, по признанию самого победителя, Луция
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
175
Суллы, была освобождена благодаря доблестной поддержке Помпея;
свидетельницей этому Сицилия, которую он избавил от опасностей,
угрожавших ей отовсюду, не ужасами войны, а быстротой своих решений;
свидетельницей атому Африка, которая, до того находившаяся под пятой огромных
полчищ .врагов, была напоена их же кровью; свидетельницей этому Галлия,
через которую он открыл нашим легионам путь в Испанию, истребив
галлов; свидетельницей этому Испания, не раз видевшая поражение и
уничтожение множества врагов его рукой; свидетельницей этому уже не в первый
раз та же Италия, которая, страдая от ужасной и опасной войны с рабами,
призвала его на помощь из чужих краев, причем в этой войне от одного
ожидания приезда Помпея наступило успокоение и затишье, а после его
прибытия она была закончена и позабыта. (31) Свидетельствуют об этом еще и
поныне все страны и все живущие в них племена и народы, наконец, все
моря — как в своей совокупности, так и все заливы и гавани на каждом
побережье. И в самом деле, какое место на всем море обладало за последние годы
достаточно сильной охраной, чтобы быть в безопасности и было в такой
степени удалено, чтобы оставаться скрытым? Кто пускался в морское плавание,
не рискуя жизнью ил*1 свободой, так как приходилось плыть либо зимой,
либо по морю, кишащему пиратами? Кто мог подумать, что эта столь труд-
« 2Q
ная, сголь позорная воина, ведущаяся уже давно , столь широко
распространившаяся и охватившая самые различные участки, могла быть
закончена всеми императорами в один год или же в течение всей жизни одним им-
ператом? (32) Какая из ваших провинций в течение последних лет была
недосягаема для морских разбойников? Какие ваши подати были в
безопасности? Кого из союзников вы защитили? Кому послужили оплотом ваши
морские силы. Как велико, по вашему мнению, было число покинутых
жителями островов, как велико было число союзных городов, покинутых их
населением из страха или захваченных морскими разбойниками?
(XII) Но зачем упоминать мне о том, что произошло в дальних краях?
Ведь это было искони, было всегда в обычае римского народа — сражаться
вдали от родины и передовыми отрядами нашей державы защищать
благополучие наших союзников, а не свой кров. Говорить ли мне о том, что для
наших союзников в течение последних лет море было недоступным, так как
наши войска должны были каждый раз дожидаться в Брундисии переправы,
возможной только глубокой зимой? Стоит ли мне сетовать на то, что те.
кто приезжал к нам от имени чужеземных народов, попадали в плен, когда
нам пришлось выкупать из плена послов римского народа? Говорить ли мне
о том, что море не было безопасным для торговцев, когда во власть пиратов
попало двенадцать секир 30? (33) Упоминать ли мне о захвате знаменитых
городов Книда, Колофона, Самоса и бесчисленного множества других,
когда ваши собственные гавани и притом те, благодаря которым вы живете
и дышите, как вы знаете, были во власти морских разбойников? Или вы
176
Речи Цицерона
действительно не знаете, что широко известная и переполненная кораблями
гавань Кайеты была разграблена морскими разбойниками на глазах у
претора, а из Мисена морскими разбойниками были похищены дети того самого
человека, который ранее вел войну против морских разбойников31?
Следует ли мне сетовать на несчастье в Остии и на это позорное для государства
пятно, когда флот, над которым начальствовал консул римского народа,
почти у вас на глазах был захвачен и уничтожен морскими разбойниками32? О,
бессмертные боги! Подумать только — необычайная, вернее, ниспосланная
богами доблесть одного человека в столь короткое время могла принести
государству такой яркий свет, что вы, недавно видевшие вражеский флот у
входа в устье Тибра, не слышите ни об одном пиратском корабле даже перед
входом в Океан 33? (34) И с какой быстротой это было совершено! Хотя вы
и сами это знаете, все же я в своей речи не должен об этом умалчивать. И в
самом деле, кто когда-либо, путешествуя по собственным делам или в погоне
за наживой, мог в столь короткое время посетить столько местностей,
совершить такие длинные переходы так быстро, как это под водительством
Гнея Помпея делал наш военный флот 34? Не дождавшись удобного для
мореплавания времени35, Помпеи посетил Сицилию, обследовал побережье
Африки, оттуда во главе флота направился в Сардинию и защитил эти три
житницы государства надежнейшими гарнизонами и флотами. (35) Когда
он оттуда возвратился в Италию, снабдив гарнизонами и кораблями обо
Испании и Трансальпийскую Галлию и отправив корабли к берегам
Иллирийского моря, в Ахайю и во всю Грецию, он обеспечил оба моря Италии
сильнейшими флотами и надежнейшими гарнизонами. Сам он на сорок
девятый день после своего выхода из Брундисия присоединил к державе
римского народа всю Киликию. Все морские разбойники, где бы они ни
находились, либо были взяты в плен и казнены, либо сдались ему одному,
признав над собой его империй и власть. Критян, когда они прислали к Помпею
в самую Памфилию послов с просьбой о пощаде, он не лишил надежды на
возможность сдачи и потребовал от них заложников 36. Так, эту столь
трудную, столь затяжную, столь далеко и широко распространившуюся войну,
от которой страдали все племена и народы, Гней Помпеи в конце зимы
подготовил, с наступлением весны начал, в середине лета закончил.
(XII, 36) Вот какова ниспосланная свыше необычайная доблесть этого
императора. А его другие качества, о которых я уже говорил, сколь велики
они и сколь многочисленны! Ведь не одной лишь воинской доблести следует
требовать от выдающегося и высокоопытного императора; есть много
других особых качеств, помогающих и сопутствующих этой доблести. Каким,
прежде всего, бескорыстием должны отличаться императоры, какой
воздержанностью во всех отношениях, какой честностью, какой доступностью,
каким умом, какой человечностью! Рассмотрим вкратце, насколько Гней
Помпеи обладает этими качествами. Все они присущи ему в самой высокой степе-
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
177
ни, квириты, но их легче узнать и понять, сравнив их с качествами других
императоров, а не рассматривая их сами по себе.
(37) И в самом деле, каким человеком можем мы считать императора,
в чьем войске продавались и продаются должности центурионов? Можно ли
предположить великие и возвышенные замыслы о благе государства у
человека, который деньги, полученные ими из эрария на военные нужды, либо
роздал должностным лицам, чтобы сохранить за собой наместничество,
либо же, по своей алчности, оставил в Риме, чтобы их отдали в рост37? Ваш
ропот, квириты, показывает, что вы знаете тех, которые так поступали; сам
я никого не называю, и поэтому никто не сможет на меня сердиться, если
только не захочет сам себя выдать. А какие несчастья, именно вследствие
этой алчности императоров, приносят наши войска, куда бы они ни вошли!
Кто этого не знает38? (38) Вспомните только, каковы были в течение
последних лет походы наших императоров в пределах Италии, через земли и
города римских граждан; тогда вам будет легче себе представить, что
происходит в чужих странах. Как вы думаете, чего больше — вражеских ли
городов, за последнее время уничтоженных оружием ваших солдат, или
городских общин союзников, разоренных пребыванием солдат на зимних
квартирах? Ведь не может сдерживать свое войское император, который не
сдерживается сам; не может быть строгим судьей тот, кто не хочет, чтобы его
судили строго другие. (39) Можем ли мы после этого удивляться
решительному превосходству этого человека над всеми другими, когда от перехода его
легионов в Азию не пострадал ни один мирный житель, не говорю уже —
от руки такого огромного войска, но от его следов? Более того, как ведут
себя его солдаты на зимних квартирах, мы узнаем каждый день и по слухам
и из писем; не говорю уже о том, что никого не принуждают нести расходы
на содержание солдат; этого не позволяют и желающим: по заветам наших
предков, убежищем от зимней стужи, но не убежищем для алчности должен
быть кров наших союзников.
(XIV, 40) А теперь обратите внимание на его воздержность в других
отношениях. Откуда, по вашему мнению, взялась у него эта быстрота, эта
столь необычная скорость при передвижениях? Ведь не какая-либо
исключительная сила гребцов, не искусство небывалое кормчих, не ветры,
неизвестные ранее, так быстро перенесли его в самые отдаленные страны. Нет,
он просто не задерживался из-за того, что обычно заставляет других
полководцев замедлять свой путь. Его не отвлекла от намеченного им себе пути
ни алчность к добыче, ни жажда наслаждений, ни красота страны — ради
удовольствий, ни известность городов — ради ознакомления с ними, ни, на-
конец, усталость — ради отдыха , на статуи и картины и на прочие
украшения греческих городов, которые другие должностные лица считают себя
вправе увозить, он не счел для себя позволительным даже взглянуть. (41)
Вот почему все люди там теперь смотрят на Гнея Помпея, как на человека,
12 Цицерон, т. I
178
Речи Цицерона
не присланного к ним из нашего города, а спустившегося с небес; только
теперь они начинают верить, что в древности действительно существовали
римляне, отличавшиеся такой необычайной воздержностью, а прежде все это
казалось чужеземным народам невероятными и старинными россказнями;
только теперь блеск вашей державы начал приносить свет этим племенам;
только теперь они поняли, что их предки в те времена, когда наши
должностные лица отличались такой сдержанностью, не без основания предпочли
покорность римскому народу господству над другими племенами. Далее,
доступ к нему настолько легок для частных лиц, ему можно так свободно
пожаловаться на нанесенную обиду, что он, превосходящий своим положением
всех именитейших людей, по своей доступности кажется равным самым
незначительным. (42) Что касается его ума, убедительности и богатства его
ораторской речи40,— а именно в этом тоже кроется, так сказать, некое
достоинство императора — то вы, квириты, не раз могли оценить их, когда он
говорил с этого самого места. А каким уважением пользуется среди наших
союзников его верность своему слову! Ведь решительно все наши враги
признали ее непоколебимой. Доброжелательность его так велика, что трудно
сказать, более ли боялись враги его мужества, сражаясь против него, или
же ценили его мягкосердечие, будучи им побеждены. Станет ли кто-нибудь
еще сомневаться, следует ли поручить ведение этой столь трудной войны
человеку, по промыслу богов, видимо, рожденному для того, чтобы
завершать все войны нашего времени?
(XV, 43) Ввиду того, что при руководстве военными действиями и
осуществлении военного империя 41 большое значение имеет авторитет, никому,
конечно, не придет в голову сомневаться, что этот император — первый и в
этом отношении. Кому неизвестно, насколько важно для руководства
военными действиями мнение врагов и мнение союзников о наших императорах?
Ведь мы знаем, что при столь важных обстоятельствах слухи и молва не
менее, чем доводы рассудка, заставляют людей бояться или презирать,
ненавидеть или любить. Какое же имя было когда-либо более прославлено во
всем мире? Чьи деяния равны деяниям Помпея? О ком вы — а это придает
наибольший авторитет — принимали столь важные и столь почетные
решения? (44) Найдется ли где-либо страна, куда, как бы пустынна она ни была,
не дошла молва о том дне, когда римский народ, наводнив форум и
заполнив все храмы, из которых возможно видеть это место 42, потребовал, чтобы
его императором в войне, в этом общем деле всех народов, был именно Гней
Помпеи? Итак, чтобы мне не говорить слишком много и не ссылаться на
примеры из деятельности других полководцев в доказательство значения
авторитета во время войны, приведем примеры разных выдающихся подвигов
самого Помпея. Ведь в тот день, когда ему как императору была поручена
война на море, одной надежды на него, одного его имени оказалось
достаточно, чтобы крайняя нехватка и дороговизна хлеба сразу сменились такой
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
(179
дешевизной его, какую едва ли мог бы принести длительный мир при
богатейшем урожае. (45) Затем, когда, после постигшего нас в Понте
несчастья43, о котором я, против своего желания, несколько ранее вам напомнил,
наших союзников охватил страх, когда силы врагов и их уверенность в себе
возросли, а провинция не имела достаточно надежной защиты, вы потеряли
бы Азию 44, квириты, если бы в то грозное время счастливая судьба
римского народа, по промыслу богов, не привела Гнея Помпея в те страны. Его
приезд сдержал пыл Митридата, возгордившегося непривычной для него
победой, и замедлил движение Тиграна, чьи полчища угрожали Азии. И кто
усомнится в том, какие подвиги совершит своей доблестью человек,
который уже совершил так много своим авторитетом? Кто усомнится в легкости,
с какой он, обладая империем и находясь во главе войска, сохранит
невредимыми наших союзников и сбережет наши подати и налоги, когда одного его
имени и молвы о нем было достаточно, чтобы их защитить?
(XVI, 46) Вот вам еще одно свидетельство того, сколь большим
уважением пользуется Гней Помпеи у врагов римского народа: они, находившиеся
в таких удаленных и так далеко отстоящих одно от другого местах, в столь
короткое время все сдались ему одному; послы от союза городских общин
Крита, хотя на их острове находился наш император с войском 45, приехали
к Гнею Помпею чуть ли не на край света и заявили, что все городские
общины Крита хотят сдаться именно ему. А разве тот же Митридат не
отправил к тому же Гнею Помпею посла в самую Испанию? Правда, в том
человеке, которого Помпеи всегда считал послом, некоторые люди, недовольные
тем, что он был прислан именно к Помпею 46, предпочли .видеть не посла, а
соглядатая. Итак, вы уже теперь можете себе представить, квириты, как
велик будет его авторитет, еще возросший благодаря многим его подвигам
и вашим важным решениям, в глазах обоих царей, как велик будет он
.среди чужеземных народов.
(47) Мне остается робко и кратко — так людям подобает говорить о,мо-
щи богов — упомянуть об удачливости47 Гнея Помпея; ведь ее никто не
может приписывать себе самому, но мы можем помнить и говорить о.ней,
когда это касается другого человека. По моему убеждению, Максиму, Мар-
целлу, Сципиону, Марию 48 и другим великим императорам много раз
вручали империй и вверяли войска не только ввиду их доблести, но и ввиду их
счастливой судьбы. Несомненно, что некоторым выдающимся- мужам, ради
их высокого положения, ради их славы, ради удачного совершения ими
важных дел, действительно было, по промыслу богов, ниспослано и особое
счастье. Но я, говоря об удачливости того, о ком сейчас идет речь, выраж,у,сь
осторожно: не стану говорить, что судьба ему подвластна^ но
постараюсьfпоказать, что мы помним прошлое и надеемся на будущее, дабы бессмертные
боги не сочли моих слов ни дерзостными, ни неблагодарными. (48)г Потому
не стану говорить подробно о деяниях, совершенных им в Риме и во время
12*
180
Речи Цицерона
походов,- на суше и на море, о счастье, которое сопутствовало ему, так что
не только всегда соглашались с его решениями сограждане, им не только
повиновались союзники и покорялись враги, но и помогали ветры и бури.
Скажу все в немногих словах: не было никогда столь бесстыдного человека,
который бы дерзнул тайком молить бессмертных богов о ниспослании ему
стольких и таких исключительных успехов, какие они даровали Гнею
Помпею. Желать и молить, чтобы эта милость богов ему постоянно
сопутствовала как ради нашего общего блага и ради нашей державы, так и ради него
самого — вот что вы должны делать, квириты; так вы и поступаете.
(49) Итак, коль скоро война настолько необходима, что ее нельзя
оставлять без внимания, настолько трудна, что ведение ее требует величайшей
тщательности, и коль скоро вы можете поручить ведение ее императору,
соединяющему в себе выдающееся знание военного дела, редкостную
доблесть, прославленный авторитет, исключительное счастье, станете ли вы еще
сомневаться, квириты, обратить ли вам то, что ниспослано и даровано вам
бессмертными богами, на благо и величие государства? (XVII, 50) Даже
если бы Гней Помпеи в настоящее время ж>ил в Риме в качестве частного
лица, все же, ввиду важного значения этой войны, его следовало бы
назначить полководцем и послать в поход; но теперь, когда к другим
величайшим преимуществам присоединяется и то благоприятное обстоятельство,
что он находится именно там, сам имеет войско и может немедленно
принять войска от их нынешних начальников49,— чего мы ждем? Вернее,
почему человеку, которому мы, под водительством бессмертных богов, к
величайшему счастью для государства, поручали ведение других войн, мы не
поручаем ведения также и этой войны с царями?
(51) Но, скажут нам, прославленный и глубоко преданный государству
муж, удостоенный вами величайших милостей, Квинт Катул, а также
человек, обладающий величайшими достоинствами, почетным положением,
богатством, мужеством и дарованием, Квинт Гортенсий, придерживаются
противоположного мнения 50. Их авторитет во многих случаях был очень велик
и должен быть велик в ваших глазах; я это признаю; но в этом деле, хотя
вам и известны противоположные суждения храбрейших и прославленных
мужей, мы все же, оставив эти мнения в стороне, можем узнать истину на
основании самих событий и соображений разума и тем легче, что именно эти
люди признают справедливость всего сказанного мной ранее — и что война
необходима, и что она трудна, и что только один Гней Помпеи сочетает в
себе все выдающиеся качества. (52) Что же говорит Гортенсий? Если надо
облечь всей полнотой власти одного человека, то, по мнению Гортенсия,
этого наиболее достоин Помпеи, но все же предоставлять всю полноту власти
одному человеку не следует. Устарели уже эти речи, отвергнутые
действительностью в гораздо большей степени, чем словами. Ведь именно ты, Квинт
Гортенсий, со всей силой своего богатого и редкостного дарования, убеди-
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
181
тельно и красноречиво возражал в сенате храброму мужу, Авлу Габинию,
когда он объявил закон о назначении одного императора для войны с
морскими разбойниками, и с этого самого места ты весьма многословно говорил
против принятия этого закона. (53) И что же? Клянусь бессмертными
богами, если бы тогда римский народ придал твоему авторитету больше значе-
чения, чем своей собственной безопасности и своим истинным интересам,
разве мы сохраняли бы и поныне нашу славу и наше владычество над
миром? Или это, по твоему мнению, было владычество—тогда, когда послов
римского народа, его квесторов и преторов брали в плен51, когда ни одна
провинция не могла посылать нам хлеб ни частным путем, ни официально;
когда все моря были для нас закрыты, так что мы уже не могли ездить за
море ни по личным, ни по государственным делам?
(XVIII, 54) Существовало ли когда-либо ранее государство,— не
говорю ни об Афинах, некогда властвовавших на значительном пространстве
моря, ни о Карфагене, обладавшем могущественным флотом и сильном на
морях, ни о Родосе, и поныне славящемся искусством мореплавания,—
повторяю, существовал ли ранее город или островок, который был бы так
бессилен, что не мог бы защитить сам свои гавани, земли и некоторую часть
страны и побережья? Но, клянусь Геркулесом, в течение целого ряда лет,
до издания Габиниева закона, тот самый римский народ, чье имя, вплоть до
нашего времени неизменно считалось непобедимым на море, утратил
значительную, вернее, наибольшую часть не только своих выгод, но и своего
достоинства и державы. (55) Мы, чьи предки одержали на море победу над
царями Антиохом и Персеем 52, и во всех морских боях разбили карфагенян,
как они ни были искусны и испытаны в морском деле, мы уже не могли по-
меряться силами с пиратами. Мы, кто ранее не только охранял безопасность
Италии, но, благодаря значительности ^воей державы, мог поручиться за
благополучие всех своих союзников на самых отдаленных окраинах,— в то
время как остров Делос, лежащий так далеко от нас в Эгейском море, куда
из всех стран съезжались купцы с товарами и грузами, остров богатейший,
во маленький и незащищенный, не знал страха 53,— мы были лишены
доступа, не говорю уже — к провинциям, к морскому побережью Италии и к
своим гаваням, нет, даже к Аппиевой дороге 54. И в те времена должностные
лица римского народа не стыдились подниматься на это вот возвышение ,
которое наши предки оставили нам украшенным остатками кораблей и
добычей, взятой при победе над флотами!
(XIX, 56) Что касается тебя, Квинт Гортенсий, и тех, кто тогда
разделял твое мнение, то римский народ не сомневался в ваших добрых
намерениях; но все же, когда дело касалось всеобщего благополучия, тот же
римский народ предпочел внять голосу своей скорби, а не вашему совету. И вот,
один закон, один муж, один год не только избавили нас от несчастья и
позора, но и вернули нам действительное владычество, на суше и на море, над
182
Речи Цицерона
всеми племенами и народами. (57) Тем более оскорбительным — для
Габиния ли, или для Помпея, или для них обоих, что более соответствует
действительности,— кажется мне, противодействие, которое и поныне оказывают
назначению Авла Габиния легатом, о чем просит и чего требует Гней
Помпеи 56. Неужели тот, кто об этом просит, не достоин получить в качестве
легата в столь важной войне избранного им человека, между тем как другие
наместники брали с собой в качестве легатов, кого хотели, для ограбления
союзников и для разорения провинций; или же сам Габиний, чей закон
послужил основанием для благополучия и достоинства римского народа и всех
племен, не должен разделять славы того императора и того войска, которым
его разумное предложение дали власть и силу? (58) Ведь Гай Фальцидий.
Квинт Метелл, Квинт Целий Латиниенс и Гней Лентул, чьи имена я
произношу с должным уважением, после того как были народными трибунами,
на следующий год могли быть легатами. И только по отношению к одному
Габинию вдруг оказалось необходимым проявить строгость; а между тем он
во время той самой войны, которая ведется на основании Габиниева закона,
при том же самом императоре и при том войске, которое он сам предложил
вам снарядить, должен был бы быть даже на особом правовом положении.
Я надеюсь, что консулы доложат сенату о его назначении легатом; но если
они станут колебаться или выискивать затруднения, то я сам обязуюсь об
этом доложить. И ничей враждебный эдикт не помешает мне, имеющему
опору в вас, отстаивать данные вами права и преимущества; и я не
посчитаюсь ни с чем, кроме интерцессии, но полагаю, что те самые люди, которые
нам ею угрожают, еще и еще раз подумают, можно ли к ней прибегнуть 57.
По моему мнению, квириты, в летописях войны с морскими разбойниками
только одно имя — Авла Габиния достойно стоять рядом с именем Гнея
Помпея, так как именно Габиний, на основании поданных вами голосов,
поручил ведение этой войны одному человеку, а Помпеи, приняв это
поручение, успешно его выполнил.
(XX, 59) Мне, по-видимому, следует сказать еще несколько слов о
важном заявлении Квинта Катула. Когда он спросил вас, кто будет вашей
надеждой, если с Гнеем Помпеем, которому зы вверяете всю полноту власти,
что-нибудь случится, он был щедро вознагражден за свою доблесть и
достоинство вашим почти единогласным ответом, что тогда вы возложите все свои
надежды именно на него. И в самом деле, достоинства этого мужа столь
велики, что любую задачу, как бы трудна и сложна она ни была, он может
разумно решить, бескорыстно выполнить и доблестно завершить. Но именно
в одном я с ним совсем не согласен: чем менее надежна и чем менее
продолжительна жизнь человека, тем более следует государству, пока бессмертные
боги это дозволяют, извлекать пользу из деятельности доблестного и
выдающегося мужа, пока он жив. (60) Но, говорит Катул, не следует поступать
вопреки примерам и заветам предков. Не стану здесь говорить, что предки
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
183
наши во времена мира всегда руководствовались обычаем, а во времена
войны — пользой государства и всегда прибегали к новым мерам, если этого
требовали новые обстоятельства; не стану говорить, что две величайших
войны, пуническая и испанская, были закончены одним императором и что
два самых могущественных города, более, чем все другие, угрожавшие
нашей державе, Карфаген и Нуманция, были разрушены все тем же
Сципионом; не стану упоминать о недавних решениях ваших и ваших отцов, в силу
которых все надежды нашей державы были возложены на одного Гая
Мария, так что один и тот же человек вел войну и с Югуртой, и с кимврами,
и с тевтонами. Что же касается самого Гнея Помпея, ради которого Квинт
Катул не хочет допускать новшеств, то вспомните, как много было принято
необычных решений именно насчет него и притом с полного согласия Квинта
Катула.
(XXI, 61) Возможно ли что-нибудь более необычное, чем случай, когда
в тяжкое для государства время юноша, являющийся частным лицом,
набирает войско? Он его набрал. Над ним начальствует? Он начальствовал.
С большим успехом ведет войну как полководец? Он это сделал. Что может
быть более необычным, чем предоставление империя и войска очень
молодому человеку, возраст которого еще далеко не достаточен для звания
сенатора, чем предоставление ему полномочий в Сицилии и Африке и поручение
вести военные действия в этой провинции 58? Он был в этих провинциях
и проявил редкостное бескорыстие, строгость и доблесть; в Африке он
завершил труднейшую войну и привел оттуда победоносное войско 59.
Слыхали ли вы когда-нибудь о чем-либо более необычном, чем триумф римского
всадника? Между тем римский народ не только видел его своими глазами, но
даже с всеобщим восторгом посетил и приветствовал его 60. (62) Что больше
расходится с общепринятым обычаем, чем — при наличии двух храбрейших
и прославленных консулов — выезд римского всадника на труднейшую и
опаснейшую войну в качестве проконсула 61? Он выехал. И когда некоторые
сенаторы находили неудобным посылать частное лицо в качестве
проконсула, Луций Филипп 62, говорят, сказал что он, в силу своего предложения,
отправляет его не «вместо консула», а «вместо консулов». Надежда,
которую возлагали на его успехи как государственного деятеля, была так велика,
что обязанности консулов вверялись доблести одного юноши. Что может
быть столь исключительным, как — по предварительном освобождении его от
действия законов — избрание его консулом до того срока, когда ему будет
дозволено законами занять какую-либо другую государственную
должность63? Что может быть более невероятным, чем предоставленный
римскому всаднику постановлением сената второй триумф? Все необычные
постановления, с незапамятных времен принятые о ком бы то ни было, не так
многочисленны, как те, которые, на наших глазах, были приняты об одном
только Гнее Помпее. (63) Между тем все эти столь высокие и столь необычные
184
Речи Цицерона
почести, оказанные все тому же Помпею, исходили от Квинта Катула и
от других виднейших людей, принадлежавших к тому же сенаторскому
сословию.
(XXII) Поэтому пусть они подумают, не окажется ли крайне
несправедливым и недопустимым то, что их предложения об оказании почета Гнею
Помпею вами всегда одобрялись 64, а, напротив, ваше суждение об этом
человеке и решение римского народа встречают их неодобрение — тем более,
что римский народ, в осуществление своего права, теперь может отстаивать
свое суждение об этом человеке даже наперекор всем, кто с ним не согласен,
так как, несмотря на возражения этих же самых людей, вы в свое время
избрали из всех именно одного Помпея, чтобы поручить ему ведение войны
против пиратов. (64) Если .вы, принимая это решение, поступили
опрометчиво и не подумали о пользе государства, то их стремление управлять вашей
волей вполне законно; но если вы тогда позаботились о государстве лучше,
чем они, если вы своими собственными усилиями, несмотря на
сопротивление с их стороны, даровали нашей державе достоинство, а всему миру
спасение, то пусть эти ваши руководители, наконец, признают обязательным и
для себя и для других повиноваться воле всего римского народа.
Помимо всего прочего, эта война против царей, происходящая в Азии,
требует не одной только воинской доблести, которой Гней Помпеи обладает
в исключительной степени, но и многих других выдающихся душевных
качеств. Нелегко нашему императору, находясь в Азии 65, Киликии, Сирии и
в более отдаленных царствах, не помышлять ни о чем другом, как только
о враге и только о своей славе. Ведь даже если находятся люди,
воздержные, совестливые и умеющие владеть собой, все же никто не считает их
такими ввиду наличия огромного числа людей алчных. (65) Трудно выразить
словами, квириты, как чужеземные народы ненавидят нас за распущенность
и несправедивость тех людей, которых мы в течение последнего времени к
ним посылали облеченными империем. Как вы думаете, остался ли в тех
краях хотя бы один храм, к которому наши должностные лица отнеслись бы
с должным уважением, как к святилищу, хотя бы один город, который они
признали бы неприкосновенным, хотя бы один дом, достаточно крепко
запертый и защищенный? Они уже выискивают богатые и благоденствующие
города, чтобы объявить им войну под любым предлогом, лишь бы получить
возможность разграбить их. (66) Я бы охотно при всех обсудил этот вопрос
с Квинтом Катулом и Квинтом Гортенсием, выдающимися и
прославленными мужами, ведь они знают раны наших союзников, видят их несчастья, их
жалобы слышат. Как вы думаете, зачем вы посылаете войска — в защиту ли
союзников и против врагов, или же, под предлогом войны с врагами, против
наших союзников и друзей? Найдется ли теперь в Азии хоть один город,,
который мог бы удовлетворить прихоти и притязания, не говорю уже —
императора или легата, но даже одного военного трибуна66?
5. О предоставлении империя Гнею Помпею
185
(XXIII) Итак, даже если у вас есть на примете человек, которого вы
считаете способным победить войска царей, вступив с ними в сражение, он
все же не окажется подходящим для ведения этой войны с царями в Азии,
если только он не <в силах удержать свои руки, глаза и душу от
посягательств на имущество наших союзников, на их жен и детей, на убранство их
храмов и городов, на золото и сокровища царей. (67) Как вы думаете,— есть
ли среди замиренных городов хотя бы один, который остался бы богатым67?
Есть ли среди богатых хотя бы один, который этим людям казался бы
замиренным? Прибрежные города, квириты, просили о назначении Гнея Помпея
не ввиду одной только его военной славы, но и ввиду его воздержности. Ведь
они видели, как наши преторы, за редкими исключениями, из года в год
обогащались за счет денег, собранных на государственные нужды, между тем
как их так называемые флоты, постоянно терпя поражения, приносили нам
один только позор68. А ныне? Эти противники передачи всей полноты
власти одному человеку будто бы не знают, какой жадностью охвачены люди,
выезжающие в провинции, какие они для этого делают затраты, какие
заключают условия. Как будто мы не видим, что Гнея Помпея вознесли столь
высоко ие только его собственные доблести, но и чужие пороки. (68)
Поэтому вы можете без всяких сомнений доверить всю полноту власти Помпею,
на протяжении стольких лет оказавшемуся единственным человеком, чье
прибытие во главе войска в города наших союзников приносит им радость.
Но если вы считаете нужным, квириты, чтобы я подкрепил это
предложение мнением авторитетных людей, то я укажу вам на человека,
опытнейшего в -войнах всякого рода и важнейших государственных делах,— на
Публия Сервилия; подвигами своими на суше и на море он заслужил, чтобы вы,
обсуждая вопрос о войне, признали его мнение самым веским из всех. Укажу
на Гая Куриона, удостоенного вами высших милостей, совершившего слав-
еа о АО
неишие подвиги и в высшей степени одаренного и разумного , укажу на
Гнея Лентула, которого вы, удостоив его высших должностей, признали
человеком исключительной мудрости и строгих правил 70. Укажу на Гая
Кассия, отличающегося редкостной неподкупностью, искренностью и
непоколебимостью71. Смотрите, как спокойно мы, основываясь на их суждениях,
можем отвечать на речи людей, не согласных с нами.
(XXIV, 69) При этих обстоятельствах, Гай Манилий, я прежде всего
хвалю и полностью поддерживаю внесенный тобой закон, твое решение и
твое суждение; затем я призываю тебя остаться, с одобрения римского
народа, верным своему мнению и не страшиться ни насилия, ни угроз с чьей
бы то ни было стороны. Во-первых, ты, мне думается, достаточно храбр и
непоколебим; во-вторых, при виде такой огромной толпы, которая здесь, как
мы видим, снова с таким восторгом наделяет полномочиями того же самого
человека, разве мы можем сомневаться в правоте своего дела и в своем
конечном успехе? Сам же я обещаю и обязуюсь перед тобой и перед римским
186
Речи Цицерона
народом посвятить свершению этого дела все свое усердие, ум, трудолюбие,
дарование, все то влияние, каким я пользуюсь благодаря милости римского
народа, то есть благодаря своей преторской власти, а также своему
личному авторитету, честности и стойкости. (70) И я призываю в
свидетели всех богов и в особенности тех, которые являются покровителями этого
священного места72 и видят все помыслы всех государственных мужей; делаю
это не по чьей-либо просьбе, не с целью приобрести своим участием в этом
деле расположение Гнея Помпея, не из желания найти в чьем-либо мощном
влиянии защиту от возможных опасностей и помощь при соискании
почетных должностей, так как опасности я — насколько человек может за себя
ручаться—легко избегну своим бескорыстием; почестей же я достигну не
благодаря одному человеку, не выступлениями с этого места, а, при вашем
благоволении, все тем же своим неутомимым трудолюбием.
(71) Итак, все взятое мной на себя в этом деле, квириты, было взято —
я твердо заявляю об этом — ради блага государства, и я настолько далек
от стремления приобрести чье-либо расположение, что даже навлек на
себя — я это понимаю — и явное и тайное недоброжелательство многих
людей и притом без настоятельной необходимости для себя лично, но не без
пользы для вас. Однако я, будучи вами удостоен почетной должности и
получив от вас, квириты, такие значительные милости, решил, что вашу волю,
достоинство государства и благополучие провинций и союзников мне
следует ставить выше, чем все свои личные выгоды и расчеты.
6
РЕЧЬ В ЗАЩИТУ АВЛА КЛУЕНЦИЯ ГАБИТА
[В суде, 66 г.]
(I, 1) Я заметил, судьи, что вся речь обвинителя была разделена на
две части: в одной из них он, будучи уверен в застарелом предубеждении
против приговора Юниева суда 1, строил, по-видимому, именно на нем свои
расчеты, а в другой части только потому, что так принято, робко и
неуверенно касался вопроса об обвинениях в отравлении, между тем как этот
суд учрежден на основании закона как раз для разбора дел о преступлениях
такого рода. Ввиду этого я в своей защитительной речи решил сохранить
то же деление на две части и коснуться в первой из них упомянутого мною
предубеждения, а во второй — самого обвинения, дабы все могли понять,
что я не захотел уклониться от обсуждения того или другого вопроса,
умолчав о них, ни затемнить их, говоря о них2. (2) Когда же я думаю о том,
к чему же мне следует приложить особое старание, то мне кажется, что
второй вопрос и притом тот, который собственно и подлежит вашему решению
на основании закона об отравлениях, не потребует от меня долгого
рассмотрения и большого напряжения; первый же, собственно говоря, к правосудию
отношения не имеющий и более подходящий для обсуждения на народных
сходках, созванных с целью мятежа, а не для спокойного и
беспристрастного судебного разбирательства, потребует от меня — я это ясно вижу —
многих усилий, большого труда. (3) Но как ни велики эти трудности, судьи,
меня утешает одно: вы привыкли слушать определенные статьи обвинения,
причем ожидаете, что оратор будет полностью опровергать их, и полагаете,
что вы не должны предоставлять подсудимому иных средств к спасению,
кроме тех, какими сможет располагать защитник, опровергая обвинения,
предъявленные подсудимому, и доказывая его невиновность. Что касается
предубеждения, то вы должны нас рассудить, вникая не только в то, что
я говорю, но и в то, что мне следовало бы сказать. В самом деле, обвинение
грозит опасностью одному лишь Авлу Клуенцию; предубеждение же и
ненависть — всему обществу. Поэтому я, касаясь одной стороны дела, буду
приводить вам определенные доказательства; касаясь другой,— обращаться к
зам с просьбой; в одном случае должна прийти мне на помощь ваша
добросовестность, в другом я буду умолять вас о покровительстве. Ибо без
188
Речи Цицерона
защиты со стороны вашей и подобных вам людей никому не устоять против
ненависти. (4) Что касается меня, то я не знаю, к чему мне прибегнуть:
отрицать ли мне позорный факт подкупа суда; отрицать ли мне, что о нем
открыто говорили на народных сходках, спорили в судах, упоминали в
сенате3? Могу ли я вырвать из сознания людей столь твердое, столь глубоко
укоренившееся, столь давнее предубеждение? Нет, не мое дарование, но
лишь ваше содействие, судьи, может помочь этому ни в чем не виновному
человеку при наличии такой пагубной молвы, подобной некоему
разрушительному, вернее, всеобщему пожару.
(II, 5) И в самом деле, между тем как в других местах не на что
опереться истине, которая бессильна, здесь должна ослабеть несправедливая
ненависть. Пусть она господствует на народных сходках, но встречает отпор
в суде; лусть она торжествует в мнениях и толках неискушенных людей, но
дальновидные пусть ее отвергают; пусть она неожиданно совершает свои
стремительные набеги, но с течением времени и после расследования дела
пусть теряет свою силу. Пусть, наконец, сохранится в неприкосновенности
тот завет, который наши предки дали правому суду: при отсутствии
предубеждения, в суде вину надо карать, а при отсутствии вины —
предубеждение отметать.
(6) Поэтому, судьи, прежде чем начинать свою речь о самом деле,
прошу вас о следующем: во-первых,— и это вполне справедливо — не
являйтесь сюда с уже готовым приговором (ведь мы утратим не только всякий
авторитет, но и самое имя «судьи», если будем судить не на основании
данных следствия и приходить на суд с приговором, уже составленным у себя
дома; во-вторых, если у вас уже есть какое-либо предвзятое мнение,
не отстаивайте его, если оно будет поколеблено доводами, расшатано моей
речью, наконец, опрокинуто силой истины, не сопротивляйтесь и изгоните
его из своей души либо охотно, либо, по крайней мере, спокойно; а когда
я стану говорить о каждом обстоятельстве в отдельности и опровергать его,
прошу вас не размышлять тайком о возражениях, которые можно сделать
против моих доводов, а подождать до конца и позволить мне сохранить
составленный мной план речи; когда я закончу ее, тогда только спросите
себя, не пропустил ли я чего-нибудь.
(III, 7) Я прекрасно понимаю, судьи, что приступаю к защите человека,
о котором уже восемь лет подряд люди слушают речи его противников,
человека, о котором всеобщее мнение уже почти что вынесло свой
молчаливый приговор, признав его виновным и подвергнув осуждению. Но если
кто-либо из богов внушит вам желание выслушать меня благосклонно, то я,
конечно, добьюсь того, чтобы вы все поняли, что человеку следует больше
всего бояться предвзятого мнения, что невиновный, против которого оно уже
сложилось, должен больше всего желать справедливого суда, так как
только такой суд может положить предел и конец лживой молве, позорящей его
6. В защиту А ела Клуенция Габита
189
имя. Вот почему я твердо надеюсь, что (если я смогу представить вам
факты, относящиеся к этому судебному делу, и исчерпывающим образом
рассмотреть их в своей речи) это место и это ваше заседание, которое, по
расчетам наших противников, должно стать страшным и грозным для Авла
Клуенция, в конце концов окажется для него пристанью и прибежищем в
его злосчастной, полной треволнений судьбе.
(8) Хотя, прежде чем говорить о самом деле, мне следовало бы многое
сказать об опасностях, которые для всех нас представляют подобные
враждебные настроения, все же, чтобы не злоупотребить вашим вниманием,
говоря чересчур долго, я приступлю к самому обвинению, судьи, обратившись
к вам с просьбой, которую мне, как я понимаю, придется повторять не раз:
слушайте меня так, словно ныне это дело разбирается впервые в суде (это
и соответствует действительности), а не так, словно оно велось уже не раз
и всегда безуспешно. Ибо сегодня впервые представляется возможность
опровергнуть старое обвинение; до сего времени в данном деле
господствовали заблуждение и ненависть. Поэтому *прошу вас, судьи, когда я стану в
краткой и ясной речи отвечать на обвинение', повторявшееся на протяжении
многих лет, выслушайте меня благосклонно и внимательно, как вы
поступали с самого начала.
(IV, 9) Авл Клуенций, нам говорят, подкупил суд деньгами, чтобы он
осудил его врага Стация Аббия, хотя этот последний не был виновен. Коль
скоро суть этого ужасного события, вызвавшего ненависть, была в том, что
за деньги погубили невинного человека, я, судьи, докажу, во-первых, что
к суду еще никогда не привлекался человек, которому были бы предъявлены
более тяжкие обвинения и против которого были бы даны более веские
свидетельские показания; во-вторых, те самые судьи, которые его
осудили, вынесли о нем такие предварительные приговоры, что не только
они сами, но и никакие другие судьи не могли бы его оправдать.
Установив это, я докажу положение, выяснение которого, как я понимаю,
наиболее необходимо: попытка подкупить суд деньгами была совершена не Клуен-
цием, а во вред Клуенцию, и вы — я этого добьюсь — поймете, какие факты
лежат в основе всего этого дела, что является плодом заблуждения и
что порождено ненавистью.
(10) Итак, первое, из чего возможно понять, что Клуенций должен был
быть вполне уверен в правоте своего дела, следующее: он спустился на
форум4 для предъявления обвинения, располагая самыми убедительными
уликами и свидетельскими показаниями. Здесь, судьи, я считаю нужным
вкратце изложить вам статьи обвинения, на основании которых Аббий был
осужден. Тебя, Оппианик5, я прошу считать, что я неохотно говорю о деле
твоего отца, повинуясь своему долгу и исполняя свою обязанность
защитника. И в самом деле, если я в настоящее время не смогу услужить тебе, то
в будущем мне все же не раз представится случай оказать тебе услугу; но
190
Речи Цицерона
если я теперь не окажу услуги Клуенцию, то впоследствии у меня уже не
будет возможности ему услужить. В то же время, кто может сомневаться
в том, выступать ли ему против человека, уже осужденного и умершего,,
в защиту человека полноправного и живого? Ведь того, против кого
выступают, обвинительный приговор уже избавил от всякой угрозы дурной
славы, а смерть — также и от страданий. Что касается того человека, в чью
защиту я говорю, то ему, напротив, малейшая неудача причинит
сильнейшие душевные муки и будет грозить величайшим бесславием и позором в
его дальнейшей жизни. (11) А дабы вы поняли, что Клуенций подал в суд
жалобу на Оппианика не из страсти обвинять 6, не из стремления быть на
виду и таким путем прославиться, но решился на это в связи с гнусными
оскорблениями, ежедневными кознями, явной опасностью для своей жизни,
я начну свой рассказ с несколько более отдаленного времени. Прошу вас,
судьи, не сетовать на меня за это, ибо вам, когда вы ознакомитесь с
началом дела, будет гораздо легче понять его развязку.
(V) Отец обвиняемого, Авл Клуенций Габит, судьи, и по своим
нравственным качествам, и по своей знатности, пользовался всеобщим уважением
и был, несомненно, первым человеком не только в своем родном
муниципии7 Ларине, но и во всей той области, и в соседних. Он умер в
консульство Суллы и Помпея 8, оставив этого вот сына, которому тогда было
пятнадцать лет, и взрослую дочь-невесту, вышедшую вскоре после смерти отца
за своего двоюродного брата Авла Аврия Мелина, считавшегося тогда
в тех краях одним из лучших молодых людей, уважаемых и знатных.
(12) Это был весьма достойный брачный союз, и молодые жили в полном
согласии. Но вот в одной распущенной женщине вдруг вспыхнула
нечестивая страсть, которая не только навлекла на семью позор, но и привела к
злодеянию. Ибо Сассия, мать этого вот Габита, да, мать... во всей своей
речи я буду называть ее, повторяю, матерью, хотя она относится к нему
с ненавистью и жестокой враждой, и она, во время моего рассказа о ее
преступности и бесчеловечности, должна будет каждый раз слышать имя,
данное ей природой; чем больше само имя «мать» вызывает чувство любви и
нежности, тем более омерзительной покажется вам неслыханная
преступность той матери, которая вот уже столько лет — и ныне более, чем когда-
либо,— жаждет гибели своего сына. Итак, мать Габита, воспылав
беззаконной любовью к своему зятю, молодому Мелину, вначале, хотя и недолго,,
пыталась бороться с этой страстью, как только могла; но затем безумие
так охватило ее, так разбушевалось в ней пламя похоти, что ни совесть, ни
стыдливость, ни долг матери, ни позор, грозящий семье, ни дурная молва,»
ни горе сына, ни отчаяние дочери — ничто не могло заглушить в ней ее
страсть. (13) Она опутала неопытного и еще не окрепшего духом юношу>
пустив в ход все средства, которыми можно завлечь и прельстить человека
его возраста. Ее дочь не только была оскорблена, как бывает оскорблена
6. В защиту А ела Клуенция Габита
191
каждая женщина подобным проступком мужа, но и не могла стерпеть
нечестивого прелюбодеяния матери; даже жаловаться на это она сочла бы
преступлением и хотела, чтобы никто не знал о ее страшном несчастье; только
на груди у нежно любящего брата она терзала себя, давая волю слезам.
(14) И вот происходит спешный развод; казалось, он принесет избавление
от всех бед. Клуенция оставляет дом Мелина; после таких тяжких
оскорблений она делает это не против своей воли, но расстается с мужем без
радости. Тут уже эта мать, редкостная и достойная, стала открыто ликовать и
справлять триумф, одержав победу над дочерью, но не над похотью. Она
захотела положить конец всем глухим толкам, порочащим ее имя; то самое
брачное ложе9, которое она два года назад постлала, выдавая замуж свою
дочь, она велела приготовить и постлать для себя в том самом доме, откуда
она выжила и выгнала свою дочь. И вот, в брак с зятем вступила теща, без
авспиций 10, без поручителей11, при зловещих предзнаменованиях. (VI, 15)
О, преступление женщины, невероятное и никогда не слыханное на земле,
кроме этого случая! О, разнузданная и неукротимая похоть! О,
единственная в своем роде наглость! Неужели она не по'боялась — если не гнева богов
и людской молвы, то хотя бы той самой брачной ночи и ее факелов, порога
спальни, ложа своей дочери, наконец, самих стен, свидетельниц первого
брака? Нет, она своей бешеной страстью разбила и опрокинула все
преграды. Над совестью восторжествовала похоть, над страхом — преступная
дерзость, над рассудком — безумие. (16) Позор этот, павший на всю семью, на
родню, на имя Клуенциев, был тяжелым ударом для сына; к тому же его
горе еще усиливалось от ежедневных жалоб и постоянных рыданий его
сестры. Все же он решил, что единственным его ответом на такое
оскорбление и на такое преступление матери будет то, что он перестанет обращаться
с ней, как с матерью; ведь если бы он сохранил сыновнее уважение к той,
которую он, не испытывая величайшей скорби, даже видеть не мог, то и его
самого могли бы счесть таким человеком, который не только видится с ней,
но и одобряет ее поступок.
(17) Итак, с чего началась его вражда с матерью, вы уже знаете; а то,
что это имело отношение к данному судебному делу, вы поймете, когда
узнаете и остальное. Ибо я вполне сознаю, что, какова бы ни была мать,
во время суда над сыном не следует говорить о позорном поведении
родившей его. Я не был бы вообще способен вести какое бы то ни было дело,
судьи, если бы я, призванный защищать людей, подвергающихся опасности,
забывал о чувстве, заложенном в душу всем людям и коренящемся в самой
природе 12. Мне вполне понятно, что люди должны не только молчать об
оскорблениях со стороны своих родителей, но и мириться с ними. Но, по
моему мнению, переносить следует то, что возможно перенести, молчать —
о том, о чем возможно молчать. (18) Всякий раз, когда Авла Клуенция
постигало какое-нибудь несчастье; всякий раз, когда он подвергался
192
Речи Цицерона
смертельной опасности; всякий раз, когда ему угрожала беда,—
единственной зачинщицей и виновницей этого была его мать. Он и в настоящее время
не сказал бы ничего и, не будучи в состоянии забыть обо всем этом, все же
согласился бы хранить молчание и скрывать это. Но она держит себя так,
что молчать он больше никак не может. Ведь даже самый суд, эти
опасности, обвинение, возбужденное противной стороной, множество свидетелей,
готовых давать показания,— все это затеяла его мать; она их подготовила,
она их подстрекает и снабжает из своих средств. Наконец, она сама недавно
примчалась из Ларина в Рим, чтобы погубить своего сына; она здесь, эта
наглая женщина, богатая, жестокая; она подстрекает обвинителей,
наставляет свидетелей, радуется жалкому виду и лохмотьям подсудимого 13,
жаждет его погибели, идет на то, чтобы пролилась вся ее кровь, лишь бы она
успела увидеть пролившуюся кровь своего сына. Если вы не увидите всего
этого во время слушания дела, считайте, чго я называю ее имя
необдуманно; но если ее участие в деле окажется столь же явным, сколь и
преступным, то вы должны будете простить Клуенцию, что он мне позволяет так
говорить; вы, напротив, не должны были бы простить мне, если бы я об
этом умолчал.
(VII, 19) Теперь я ознакомлю вас в общих чертах с преступлениями,
за которые был осужден Оппианик, дабы вы могли убедиться как в
стойкости Авла Клуенция, так и в основательности самого обвинения. Но
сначала я укажу вам причину, заставившую его выступить обвинителем, дабы
вы поняли, что Авл Клуенций даже это сделал в силу необходимости.
(20) Когда он захватил с поличным человека, собиравшегося его отравить
ядом, который для него приготовил муж его матери, Оппианик, и когда это
обстоятельство было установлено не путем догадок, а было очевидным и
явным, и когда дело уже не вызывало никаких сомнений,— только тогда он
обвинил Оппианика. Как обоснованно и как обдуманно он это сделал, я
скажу потом; теперь я только хочу, чтобы вам было известно следующее: у него
не было никакой иной причины обвинять Оппианика, кроме желания
избежать постоянных опасностей, угрожавших его жизни, и ежедневных
козней его противников. А дабы вы поняли, что преступления, в которых
Оппианик был обвинен, по своему существу освобождали обвинителя от всяких
опасений, а подсудимого лишали всякой надежды, я сообщу вам некоторые
статьи обвинения, предъявленного во время того суда. Ознакомившись с
ними, никто из вас не будет удивляться тому, что Оппианик, не надеясь
на благополучный исход дела, обратился к Стайену и дал взятку.
(21) В Ларине жила некая Динея, теща Оппианика; у нее были сыновья,
Марк и Нумерий Аврии, Гней Магий и дочь Магия, вышедшая замуж за
Оппианика. Марк Аврий в юности был взят в плен под Аскулом во время
Италийской войны14, попал в руки сенатора Квинта Сергия — того самого,
который был осужден за убийство,— и находился у него в эргастуле 15.
6. В защиту А ела Клуенция Габита
193
Брат его, Нумерий Аврий, умер, назначив своим наследником своего брата,
Гнея Магия. Впоследствии умерла и Магия, жена Оппианика. Наконец,
умер и последний из сыновей Динеи, Гней Магий; он оставил своим
наследником молодого Оппианика, сына своей сестры, с тем, однако, чтобы тот
разделил наследство с его матерью Динеей. Но вот Динея получает
довольно точное и достоверное известие, что ее сын Марк Аврий жив и
находится в рабстве в Галльской области 16. (22) Когда у этой женщины,
потерявшей всех своих детей, появилась надежда возвратить себе
единственного сына, какой у нее остался, она созвала всех своих родственников и
друзей своего сына и, в слезах, стала их умолять, чтобы они взяли на себя
труд разыскать юношу и вернули ей сына, единственного, которого судьбе
было угодно сохранить из ее многих детей. После того, как она дала ход
этому делу, она тяжело заболела; поэтому она составила завещание,
отказав этому сыну легат 17 в 400 000 сестерциев и назначив главным
наследником уже названного мной Оппианика, своего внука. Через несколько дней
она умерла. Все же ее родственники, в соответствии со своим решением,
принятым ими при ее жизни, отправились после ее смерти в Галльскую область,
на поиски Марка Аврия, взяв с собой человека, сообщившего, что он жив.
(VIII, 23) Тем временем Оппианик, по своей исключительной
преступности и дерзости, в которых вам не раз придется убедиться, прежде всего
подкупил вестника, действуя через своего близкого друга родом из
Галльской области; затем он, без больших издержек, позаботился о том, чтобы
самого Марка Аврия, убив, устранили. Те, которые отправились, чтобы
разыскать и вернуть себе своего родственника, прислали письмо в Ларин
к Авриям, родичам юноши и своим друзьям, с известием, что разыскать его
трудно, так как, насколько они понимают, вестник подкуплен Оппиаником.
Авл Аврий, храбрый, деятельный и известный у себя на родине человек,
близкий родственник того Марка Аврия, прочитал это письмо на форуме,
всенародно, перед большой толпой, в присутствии самого Оппианика, и
громогласно объявил, что он, если получит сведения об убийстве Марка Аврия,
привлечет Оппианика к судебной ответственности. (24) Прошло немного
времени, и те, кто выезжал в Галльскую область, возвратились в Ларин
и сообщили, что Марк Аврий убит. Тут уже не только родственники
убитого, но и все жители Ларина почувствовали к Оппианику ненависть, а к
молодому человеку сострадание. И вот, когда Авл Аврий — тот самый,
который ранее объявил о своем намерении возбудить судебное дело,— начал
преследовать Оппианика своими громкими угрозами, тот бежал из Ларина
и отправился в лагерь прославленного мужа, Квинта Метелла 18. (25) После
этого бегства, ясно доказавшего, что Оппианик совершил злодеяние и что
совесть у него не чиста, он уже ни разу не дерзнул ни довериться
правосудию и законам, ни появиться безоружным среди своих недругов; нет,
воспользовавшись памятными нам насилиями и победой Луция Суллы, он,
• <5 Цицерон, т. I
194
Речи Цицерона
внушая всем ужас, примчался в Ларин во главе вооруженного отряда; кват-
туорвиров 19, избранных населением муниципия, он отрешил от должности;
объявил, что Сулла, назначив кваттуорвирами его и еще троих человек,
приказал внести в проскрипционные списки и казнить того Авла Аврия,
который угрожал Оппианику судебной ответственностью и утратой гражданских
прав, а также другого Авла Аврия и его сына Гая, а равным образом и
Секста Вибия, который, по слухам, был посредником при подкупе вестника.
После их жестокой казни остальные страшились проскрипции и смерти.
Когда при разборе дела в суде эти факты были раскрыты, кто мог бы подумать,
что Оппианика могут оправдать? Послушайте об остальном и вы удивитесь
не тому, что он, наконец, был осужден, а его долгой безнаказанности.
(26) Прежде всего обратите внимание на его наглость. Он пожелал
жениться на Сассии, матери Габита,— на той, чьего мужа, Авла Аврия, он
убил. Он ли был более бесстыден, делая такое предложение, или она — более
бессердечна, соглашаясь на него? Трудно сказать. Как бы то ни было,
обратите внимание на их человеческое достоинство и их нравственные устои.
(27) Оппианик домогается руки Сассии и упорно добивается этого. Она
не удивляется его дерзости, к его бесстыдству не относится с презрением,
наконец, не испытывает чувства ужаса перед домом Оппианика, залитым
кровью ее собственного мужа, но отвечает, что у него три сына 20 и что
именно это обстоятельство делает брак с ним для нее неприемлемым. Оппианик,
страстно желавший получить деньги Сассии, счел нужным поискать у себя
в доме средства против препятствия, мешающего его браку. У него был
малютка-сын от Новии и еще один сын от Папии, воспитывавшийся в Теане
Апулийском, в восемнадцати милях21 от Ларина, у своей матери. И вот,
Оппианик внезапно, без всякой причины, посылает в Теан за сыном, чего
он до того никогда не делал, разве только в дни общественных игр и в
праздники. Бедная мать, не подозревая ничего дурного, посылает к нему сына.
В тот самый день, когда Оппианик будто бы уехал в Тарент, мальчик,
которого еще в одиннадцатом часу видели в общественном месте здоровым,
до наступления ночи умер и на другой день, еще до рассвета; тело его было
сожжено. (28) И о столь горестном событии до матери дошел слух раньше,
чем кто-либо из челяди Оппианика потрудился ее об этом известить. Узнав
в одно и то же время, что ее не только лишили сына, но и не дали ей
возможности отдать ему последний долг, она, убитая горем, поспешно
приехала в Ларин и устроила новые похороны уже погребенному сыну. Не прошло
и десяти дней, как и второй сын Оппианика, младенец, был убит. Тотчас
же после этого Сассия вышла за Оппианика, уже ликующего и полного
надежд. Это и не удивительно, раз она видела, что он прельщал ее не
свадебными дарами, а похоронами своих сыновей. Итак, в то время как люди ради
своих детей обычно желают получить побольше денег, он ради денег охотно
пожертвовал своими детьми.
6. В защиту А ела Клуенция Габита
195
(X, 29) Я замечаю, судьи, как сильно взволновало вас, при вашей
доброте к людям, данное мной краткое описание злодейств Оппианика. Что же
должны были, по вашему мнению, испытывать те, которым пришлось не
только выслушать все это, но также вынести по этому делу свой приговор?
Вы слушаете рассказ о человеке, которого вы не судите, не видите, уже
не можете ненавидеть, который заплатил уже дань и природе и законам,
о человеке, которого законы покарали изгнанием, а природа — смертью; вы
слушаете этот рассказ не от его недруга и в отсутствие свидетелей,
слушаете то, что может быть изложено чрезвычайно подробно, в моем кратком и
сжатом изложении. Они же слушали рассказ о человеке, о котором должны
были под присягой вынести приговор, о человеке, который был тут же и
на чье порочное и преступное лицо они глядели, о человеке, которого все
ненавидели за его наглость и считали достойным всяческой казни; они
слышали этот рассказ от обвинителей, слышали показания многих свидетелей,
слышали убедительное и обстоятельное развитие каждого отдельного
обвинения красноречивейшим Публием Каннуцием22. (30) Кто же,
ознакомившись со всем этим, может заподозрить, что Оппианик был без вины
осужден неправым судом?
Об остальном, судьи, я буду говорить уже в общих чертах, чтобы,
наконец, перейти к тому, что имеет более близкое отношение к данному
судебному делу и связано с ним более тесно. Но вас я прошу помнить, что я вовсе
не ставил себе целью обвинять Оппианика, уже умершего, но что я, желая
убедить вас в том, что мой подзащитный суда не подкупал, исхожу в своей
защите и основываю ее на том, что в лице Оппианика был осужден
величайший злодей и преступнейший человек. Ведь после того как он сам подал
своей жене Клуенции, тетке нашего Габита, кубок, та. начав пить, вдруг
вскрикнула, что умирает в страшных муках, и жизнь ее прервалась на этих
словах, ибо она, не успев договорить, умерла с воплем. Как внезапность ее
смерти и содержание ее предсмертных слов, так и обнаруженные на ее теле
признаки свидетельствовали о действии яда. Тем же ядом он умертвил и
своего брата, Гая Оппианика. (XI, 31) Но и этого мало. Правда, уже само
братоубийство, мне кажется, охватывает все вообще возможные для
человека преступления; однако путь к этому нечестивому деянию он
подготовил себе заранее другими преступлениями: когда Аврия, жена его брата,
была беременна и вскоре должна была родить, он убил ядом ее, чтобы
заодно умертвить и ребенка, зачатого ею от его брата. Затем он принялся за
брата. Тот, осушив кубок смерти, когда уже было поздно, стал кричать, что
знает причину смерти своей и жены, и пожелал переделать завещание; как
раз в то время, когда он выражал эту свою волю, он умер. Так Оппианик
умертвил эту женщину, чтобы ребенок, который должен был у нее родиться,
не мог лишить его наследства после его брата; ребенка своего брата он
лишил жизни раньше, чем тот мог явиться на свет; таким образом, все могли
13*
196
Речи Цицерона
понять, что для человека, чья преступность не пощадила ребенка брата
даже во чреве матери, не может быть ничего запретного, ничего святого.
(32) Помнится, в бытность мою в Азии 23, одна уроженка Милета была
присуждена к смертной казни за то, что она, получив от вторых
наследников деньги, сама разными снадобьями вытравила у себя плод. Она вполне
заслужила это; ведь она убила надежду отца, носителя его имени, опору
его рода, наследника его имущества, будущего гражданина государства.
Сколь более жестокой казни достоин Оппианик, совершивший такое же
преступление! Ведь та женщина, насилуя природу в собственном теле,
подвергла истязанию самое себя, а он достиг той же цели, подвергнув другого
человека мукам и смерти. Иные люди, видимо, не могут, убив одного человека,
совершить тем самым несколько убийств; надо быть Оппиаником, чтобы
в одном теле убить многих!
(XII, 33) Поэтому, когда знавший об этом его преступном обыкновении
дядя молодого Оппианика, Гней Магий, опасно заболел и стал назначать
своим наследником этого племянника, сына сестры, он созвал друзей и,
в присутствии матери своей, Динеи, спросил жену, не беременна ли она.
Получив от нее утвердительный ответ, он попросил ее жить, после его
смерти, у ее свекрови Динеи до самых родов и со всей заботливостью беречь
зачатого ею ребенка, чтобы благополучно родить. В связи с этим он отказал
ей по завещанию, в виде легата, большие деньги, которые она должна была
бы получить от своего сына, если бы он родился; легата от второго
наследника он ей не завещал 24. (34) Чего он опасался со стороны Оппианика, вы
видите; какого мнения был он о нем, совершенно ясно; ибо наследником
своим он назначил сына человека, которому опеки над своим ожидаемым
ребенком не доверил. Послушайте теперь, что совершил Оппианик, и вы
поймете, что Магий, умирая, не был дальновиден. Те деньги, которые он
отказал жене в виде легата от имени своего сына, если бы таковой родился,
Оппианик, хотя он вовсе не был должен ей, выплатил ей немедленно —
если только это можно назвать выплатой легата, а не наградой за
вытравление плода. Получив эту плату и, кроме того, множество подарков, которые
тогда были перечислены на основании приходо-расходных книг Оппианика,
она, поддавшись алчности, продала злодею Оппианику свою надежду —
порученный ей мужем плод, который она носила во чреве. (35) Казалось бы,
этим достигнут предел человеческой порочности; послушайте же, чем дело
кончилось. Женщина, которую муж заклинал не знать в течение десяти
месяцев25 другого дома, кроме дома своей свекрови, через четыре месяца
после смерти мужа вышла за самого Оппианика. Правда, недолговечен был
этот союз: их соединило соучастие в злодействе, а не святость брака.
(XIII, 36) А убийство Асувия из Ларина, этого богатого юноши!
Сколько шуму наделало оно, когда было еще свежо у всех в памяти, сколько
толков оно вызвало! В Ларине жил некто Авиллий, человек, испорченный до
6. В защиту А ела Клуенция Габита
197
мозга костей и дошедший до крайней нищеты, но наделенный каким-то
искусством возбуждать страсти у юношей. Как только он, лестью и
угодливостью, втерся в доверие и дружбу с Асувием, у Оппианика тотчас же
появилась надежда воспользоваться этим Авиллием, словно осадной
машиной, чтобы овладеть молодым Асувием и состоянием, доставшимся ему
от отца. План был задуман в Ларине, осуществление его перенесено в Рим:
они полагали, что составить план легче в глуши, привести замысел в
исполнение удобнее среди шумной толпы. Асувий и Аеиллий поехали в Рим. За
ними по пятам туда же отправился Оппианик. О том, какой образ жизни
они вели в Риме, об их пирах, разврате, тратах и расточительности — не
только с ведома Оппианика, но и при его участии и помощи — распространяться
не буду, тем более что спешу перейти к другому вопросу. Послушайте о
развязке этой притворной дружбы. (37) В то время как юноша находился в
доме у одной бабенки, переночевав у нее и задержавшись на следующий
день, Авиллий, как было решено, притворился больным и пожелал
составить завещание; Оппианик привел к нему свидетелей, не знавших ни Асу-
вия, ни Авиллия, и назвал его Асувием; после того как завещание,
написанное от имени Асувия, было скреплено печатями 26, все разошлись.
Авиллий тотчас же вызодоровел. Вскоре после этого Асувия пригласили якобы
на прогулку в какие-то сады, завели в пески 27 за Эсквилинские ворота и
там убили. (38) Проходит день, два, несколько дней; хватились Асувия,
стали искать там, где он обыкновенно бывал, и не нашли; к тому же
Оппианик рассказывал на форуме в Ларине, что недавно он и его друзья скрепили
печатями завещание Асувия. Тогда вольноотпущенники Асувия и
несколько его друзей схватили Авиллия и привели к трибуналу Квинта Манилия,
бывшего тогда триумвиром28, так как было установлено, что в тот день,
когда Асувия видели в последний раз, с ним был Авиллий, причем его
видели многие.4 И тут Авиллий, несмотря на то, что ни свидетелей против
него, ни доносчиков не нашлось, терзаемый сознанием своего недавнего
злодеяния, тотчас же рассказал обо всем то, что я только что вам сообщил,
и сознался, что он убил Асувия по наущению Оппианика. (39) Манилий
велел схватить Оппианика, скрывавшегося у себя дома. Была устроена
очная ставка с Авиллием, давшим показания. Стоит ли говорить о
дальнейших событиях? Большинство из вас Манилия знало: с детства он ни разу
не подумал ни о чести, ни о доблести, ни о тех благах, какими нас
награждает уважение людей; нет, после того как он был дерзким и бесчестным
фигляром, он, во времена гражданских смут, по голосованию народа добил-
ся места у той самой колонны , к которой не раз приводили его самого,
осыпаемого бранью толпы. И вот, он заключил сделку с Оппиаником,
получил от него деньги и прекратил дело, уже принятое им и вполне ясное. Но
в деле Оппианика преступление против Асувия подтверждалось как
показаниями многих свидетелей, так особенно разоблачениями Авиллия,
198
Речи Цицерона
в которых, среди имен людей, причастных к этому делу, на первом месте
было имя Оппианика — того самого, которого вы считаете несчастной и
безвинной жертвой неправого суда.
(XIV, 40) А твоя, Оппианик, бабка Динея, наследником которой сам
ты являешься? Разве не известно, что твой отец умертвил ее? Когда он
привел к ней своего врача, уже испытанного им и одержавшего немало побед,
врача, при чьем посредстве он умертвил множество людей, Динея
воскликнула, что ни за что не станет лечиться у человека, который своим лечением
погубил всех ее родных. Тогда Оппианик, не теряя времени, обратился к
некоему Луцию Клодию из Анконы, площадному лекарю и торговцу
снадобьями, тогда случайно приехавшему в Ларин, и сторговался с ним за
2000 сестерциев, что тогда было доказано на основании его собственных
приходо-расходных книг. Луций Клодий, который торопился, так как ему
предстояло посетить еще много городских площадей, закончил дело в
первое же свое посещение: доконал больную первым же глотком
приготовленного им питья и после этого не задержался в Ларине ни на мгновение.
(41) Когда эта же самая Динея составляла завещание, то Оппианик, быв-
шии ее зятем , взял записные дощечки, стер пальцем записи о легатах и,
опасаясь, что после ее смерти будет уличен в подлоге, так как он сделал
это во многих местах, переписал завещание на другие дощечки и скрепил
поддельными печатями31. Многое я пропускаю преднамеренно: боюсь, не
сказал ли я и так уже слишком много. Но вы должны понять, что он и в
дальнейшем оставался верен себе. Что он совершил подлог в официальных
цензорских записях Ларина, единогласно признали декурионы 32. С ним уже
никто не заключал соглашения и не вступал в деловые отношения. Никто
из его многочисленных родных и свойственников не записывал его
опекуном своих детей; никто не считал его достойным ни приветствия, ни
встречи, ни беседы, ни приглашения к столу; все от него отворачивались, все его
чуждались; все его избегали, как свирепого и хищного зверя, как моровой
болезни.
(42) И все же, судьи, этого человека, столь наглого, столь
нечестивого, столь преступного, Габит никогда не стал бы обвинять, если бы мог
отказаться от обвинения, не рискуя своей жизнью. Недругом был ему
Оппианик,— да, был,— но все же это был его отчим. Жестокую вражду питала
к нему его мать, но все же это была его мать. Наконец, Клуенцию — и по
его натуре, и по его склонности, и по его правилам — совершенно не
свойственно быть обвинителем. Но так как ему оставалось одно из двух — либо
выступить с честным и добросовестным обвинением, либо умереть
мучительной и жалкой смертью, то он и предпочел выступить, как умеет, и обвинить
Оппианика, но не погибать самому.
(43) А для того, чтобы вы могли убедиться в справедливости этого
моего заявления, расскажу вам о покушении Оппианика, раскрытом и до-
6. В защиту А ела Клуенция Габита
199
казанном с несомненностью, из чего вы поймете, что Клуенцию непременно
надо было его обвинить, а Оппианик неизбежно должен был быть осужден.
(XV) В Ларине существовали так называемые «марциалы» —
государственные служители Марса, посвященные этому богу в силу древнейших
религиозных установлений жителей Ларина. Их было довольно много и они
считались в Ларине челядью Марса — совершенно так же, как в Сицилии
множество рабов принадлежит Венере33. Неожиданно Оппианик стал
утверждать, что все они — свободные люди и римские граждане. Декурио-
ны и все жители муниципия Ларина были возмущены этим и обратились к
Габиту с просьбой взять на себя это дело и вести его от имени городской
общины. Габит, хотя он и держался обычно в стороне от подобных дел, всё
же, памятуя о своем положении в общине, о древности своего рода, о том,
что он, в силу своего рождения, обязан заботиться не об одних лишь своих
выгодах, но также и о благе своих земляков и друзей 34, не решился
отклонить столь важное поручение всех жителей Ларина. (44) После того как
он взял на себя ведение этого дела и перенес его в Рим, между ним и Оп-
пиаником ежедневно стали возникать столкновения, ввиду упорного
желания каждого из них отстоять свою точку зрения. Оппианик и без того был
свирепого и жестокого нрава, а тут еще разжигала его безумие мать Габита,
глубоко ненавидевшая своего сына. Они оба считали очень важным для себя
отстранить Габита от ведения дела о марциалах; но к этому соображению
присоединялось другое, еще более значительное; оно чрезвычайно
волновало Оппианика, человека в высшей степени алчного и преступного. (45) Дело
в том, что Габит до самого дня суда еще не успел составить завещание: он
не мог решиться ни отказать легат такой матери, ни вовсе пропустить г
своем завещании ее имя. Зная это (тайны тут не было никакой), Оппианир
понял, что в случае смерти Габита, все его состояние перейдет к его матери
и что впоследствии можно будет убить ее с большей выгодой для себя, так
как ее имущество увеличится, и с меньшим риском, так как сына у нее
не будет. Послушайте теперь, каким образом он, загоревшись этим
замыслом, попытался отравить Габита.
(XVI, 46) Некие Гай и Луций Фабриции, братья-близнецы из
муниципия Алетрия, так же походили друг на друга своей наружностью и
нравами, как не походили на своих земляков; а сколь блистательны последние,
как размерен их образ жизни, как почти все они постоянны и воздержны,
каждому из вас, думаю, хорошо известно. С этими Фабрициями
Оппианик всегда был весьма близок. Ведь вы, надо полагать, все знаете, как
важно для заключения дружбы сходство наклонностей и нравов. Так как
Фабриции следовали в своей жизни правилу не брезгать никаким доходом, так
как от них исходили всевозможные обманы, всякие подвохи и ловушки для
молодых людей, и так как они всем людям были известны своими пороками
а бесчестностью, то Оппианик, как я уже говорил, уже много лет назад
200
Речи Цицерона
постарался как можно ближе сойтись с ними. (47) Поэтому он и решил
тогда устроить Габиту западню при посредстве Гая Фабриция; Луций к
тому времени уже умер. В ту пору Габит отличался слабым здоровьем.
У него был врач, довольно известный и уважаемый человек, по имени Клео-
фант. Его раба Диогена Фабриций стал склонять посулами денег, чтобы тот
дал Габиту яд. Раб, человек, правда, не лишенный лукавства, но, как
показало само дело, честный и бескорыстный, не стал отвергать с презрением
предложения Фабриция; он обо всем рассказал своему хозяину. Клеофант,
в свою очередь, поговорил с Габитом, а он тотчас сообщил об этом своему
близкому другу, сенатору Марку Бебию35, чью честность,
проницательность, высокие достоинства вы, мне думается, помните. Бебий посоветовал
Габиту купить Диогена у Клеофанта. чтобы было легче, следуя его
указаниям, обнаружить преступление или же установить лживость доноса. Буду
краток: Диоген был куплен; яд через несколько дней был припасен; в
присутствии многих честных людей, подстерегавших преступника,
запечатанные деньги, предназначавшиеся как награда за преступление, были
захвачены в руках Скамандра, вольноотпущенника Фабрициев. (48) О,
бессмертные боги! Кто после этого скажет, что Оппианик был жертвой неправого
суда? (XVII) Был ли когда-либо представлен суду более преступный,
более виновный, более непреложно изобличенный человек? Какой ум, какой
дар слова, какая защитительная речь, кем бы она ни была придумана,
могла бы отвести хотя бы одно только это обвинение? Кто, к тому же,
согласится, что Клуенцию, после того как он открыл и явно доказал такое
злодеяние, оставалось либо встретить смерть, либо взять на себя роль
обвинителя?
(49) Мне думается, вполне доказано, судьи, что самое существо
обвинений, предъявленных Оппианику, исключало для него всякую возможность
быть оправданным честным путем. Я докажу вам теперь, что, уже до вызова
обвиняемого в суд, его дело слушалось дважды и что он явился в суд, уже
будучи осужден. Ведь Клуенций, судьи, сначала подал жалобу на того
человека, в чьих руках он захватил яд. Это был вольноотпущенник
Фабрициев, Скамандр. Совет судей не был предубежден; не было ни малейшего
подозрения, что они подкуплены; дело, переданное в суд, было простое и
определенное и касалось лишь одной статьи обвинения. Тут уже названный
мной Гай Фабриций, понимая, что осуждение вольноотпущенника грозит
такой же опасностью ему самому, и зная, что жители Алетрия — мои
соседи и, в большинстве своем, мои добрые знакомые, привел многих из них ко
мне домой. Хотя они были о самом Фабриций такого мнения, какого он
заслуживал, все же, поскольку он был из их муниципия, они полагали, что
их достоинство велит им защищать его, насколько сил хватит. Поэтому они
стали просить меня поступить так же и взять на себя ведение дела
Скамандра, так как от его исхода зависела участь его патрона. (50) Я же,
6. В защиту А ела Клуенция Габита
201
с одной стороны, не будучи в состоянии отказать в чем-либо этим столь
достойным и столь расположенным ко мне людям, с другой стороны, не
считая этого обвинения таким тяжким и так ясно доказанным,— как думали
и они, поручавшие мне это дело,— обещал им сделать все, чего они хотели.
(XVIII) Началось слушание дела; был вызван Скамандр в качестве
обвиняемого. Обвинял Публий Каннуций, чрезвычайно одаренный человек
и опытный оратор. Но его обвинение против Скамандра содержало лишь
три слова: «Был захвачен яд». Все копья всей своей обвинительной речи
он метал в Оппианика; он раскрыл причину покушения; упомянул о
близком знакомстве Оппианика с Фабрициями, описал его образ жизни, его
преступность; словом, всю свою обвинительную речь, произнесенную
живо и убедительно, он закончил доказательством явного для всех
захвата яда. (51) И вот, чтобы ответить ему, встал я. Бессмертные
боги! Какое волнение, какая тревога, какой страх охватили меня!
Правда, я всегда сильно волнуюсь, начиная свою речь; всякий раз, как я
говорю, мне кажется, что я пришел отдать на суд не только свое дарование,
но и свою честность и добросовестность; я бо'юсь, как бы вам не показалось,
что я утверждаю то, чего не смогу доказать, а это свидетельствовало бы
о моем бесстыдстве, или же что не достигаю того, чего мог бы достигнуть,
а это можно было бы приписать моей недобросовестности или
небрежности. Но тогда я был до того взволнован, что боялся всего: ничего не
сказав, прослыть лишенным дара речи; сказав по делу такого рода слишком
много, прослыть совершенно бессовестным человеком. (XIX) Наконец,
я собрался с духом и решил говорить смело; ведь людей моего возраста36
обычно хвалят за то, что они даже в делах, не слишком надежных, не
оставляют своего подзащитного, находящегося в отчаянном положении. Так я и
поступил. Я так боролся, так изыскивал разные способы доказательства,
так неутомимо прибегал ко всем средствам, ко всем лазейкам, какие только
мог отыскать, что достиг одного: никто — скажу скромно — не мог
подумать, что защитник оказался предателем по отношению к своему
подзащитному. (52) Но за какое бы оружие я ни брался, обвинитель тотчас же
выбивал его у меня из рук. Если я спрашивал, какую неприязнь Скамандр
питал к Габиту, он отвечал, что никакой, но что Оппианик, чьим орудием
был подсудимый, был и остался злейшим недругом Габиту. Если же я
указывал, что смерть Габита не сулила Скамандру никакой выгоды, то
обвинитель со мной соглашался, но говорил, что все его имущество в этом случае
должно было бы достаться жене Оппианика, человека искушенного в
убийстве своих жен. Когда я приводил в пользу Скамандра довод, всегда
встречавший особенное одобрение при слушании дел вольноотпущенников, что
Скамандр пользуется доверием у своего патрона37, он соглашался, но
спрашивал, у кого пользуется доверием сам патрон. (53) Если я, не жалея слов,
отстаивал мысль, что Скамандру была устроена западня при посредстве
202
Речи Цицерона
Диогена, что они сговорились насчет другого дела с тем, чтобы Диоген
принес лекарство, а не яд, что это могло случиться со всяким, то
обвинитель спрашивал, почему же Скамандр пришел в такое укромное место,
почему он пришел один, почему с запечатанными деньгами 38. Наконец, в этом
вопросе моей защите наносили удар свидетельские показания самых
уважаемых людей. Марк Бебий говорил, что Диоген был куплен по его совету,
что в его присутствии Скамандр был задержан с ядом и деньгами в руках.
Публий Квинтилий Вар, человек чрезвычайно добросовестный и
влиятельный, сообщил, что Клеофант и ранее говорил ему о покушении,
подготовлявшемся против Габита, и о попытке подкупить Диогена, немедленно после
того, как она была сделана. (54) Итак, во время того суда, когда я,
казалось, защищал Скамандра, он был обвиняемым только по имени, но в
действительности и по существу всего обвинения им был Оппианик, которому
и грозила опасность. Он и сам этого не скрывал, да ему и не удалось бы
скрыть: он постоянно присутствовал в заседании суда, был заступником39,
боролся, прилагая всяческие старания и пуская в ход все свое влияние.
Под конец он — и это было хуже всего для того дела — сидел на этом
самом месте, словно сам был обвиняемым. Взоры всех судей были направлены
не на Скамандра, а на Оппианика; его страх, его волнение, выражение
тревожного ожидания на его лице, частые перемены цвета его лица делали
явным и очевидным все то, что ранее можно было только подозревать.
(XX, 55) Когда судьям надо было приступить к совещанию, то Гай Юний,
председатель суда, в сответствии с действовавшим тогда Корнелиевым за-
коном , спросил подсудимого, какого голосования он хочет: тайного или
открытого? По совету Оппианика, называвшего Юния близким другом Га-
бита, подсудимый пожелал тайного голосования. Суд приступил к
совещанию. Всеми поданными голосами, за исключением одного, который, по
утверждению Стайена, принадлежал ему самому, Скамандр был осужден
при первом слушании дела41. Кто тогда не считал, что осуждением
Скамандра приговор вынесен Оппианику? Что было признано этим осуждением,
как не то, что яд был добыт для отравления Габита? Наконец, было ли
высказано против Скамандра — или, вернее, могло ли быть высказано —
хотя бы малейшее подозрение в том, что он, по собственному побуждению,
решил умертвить Габита?
(56) И вот тогда, после этого приговора, когда Оппианик — по
существу и всеобщим мнением, но еще не законом и не объявлением
приговора— уже был осужден, Габит все же не сразу привлек Оппианика к суду.
Он хотел узнать, относятся ли судьи так строго только к тем людям, в чьих
руках, как они установили, оказался яд, или же считают достойными кары
также и тех, кто задумал такое преступление и знал о нем. Поэтому он
тотчас же привлек к суду Гая Фабриция, которого он, ввиду его близкого
знакомства с Оппиаником, считал сообщником в этом преступлении, и ввиду
6. В защиту А ела Клуенция Габита
203
тесной связи между этими двумя делами добился разбирательства в
первую очередь. Но тут уже Фабриций не только не стал приводить ко мне
жителей Алетрия, моих соседей и друзей, но и сам уже не мог найти в них
«и защитников, ни предстателей 42. (57) Пока еще ничего не было решено,
я, по своей доброте, считал своим долгом защищать не чужого мне человека
даже в подозрительном деле, но всякую попытку поколебать уже
вынесенный приговор признал бы бессовестной. Поэтому Фабриций, оказавшись в
беспомощном и безвыходном положении, ввиду самого характера своего
дела, обратился к братьям Цепасиям, людям расторопным, жадно
хватавшимся за любую представившуюся им возможность произнести речь и
считавших это за честь и выгоду для себя43. (XXI) Вообще в таких случаях
допускается, можно сказать, большая неправильность: при болезни
человека, чем она опаснее, тем более известного и более сведущего врача к нему
приглашают; напротив, при наличии угрозы гражданским правам, чем
положение труднее, тем к более слабому и менее известному защитнику
обращаются. Или это, быть может, объясняется тем, что врач должен проявить
одно лишь свое искусство, а оратор, кроме того, поддерживает обвиняемого
и своим авторитетом? (58) Итак, обвиняемого вызывают в суд, слушается
дело, коротко, словно приговор уже вынесен, обвиняет Каннуций; начинает
отвечать, сделав очень длинное вступление и начав издалека, старший Це-
пасий; вначале речь его слушают внимательно; приободрился Оппианик,
который уже пал духом и был в отчаянии; стал радоваться и сам
Фабриций; он не понимал, что судьи поражены не красноречием его защитника,
а его бесстыдной речью. Но когда оратор приступил к самому делу, он, так
сказать, к тем ранам, какие подсудимому нанес разбор дела, стал
прибавлять новые, так что, как он ни старался, иногда, казалось, о:н не защищал
подсудимого, а действовал по сговору с обвинителем44. И вот, когда он
считал, что говорит чрезвычайно тонко, пользуясь самыми убедительными
выражениями, взятыми им из тайников своего искусства («Бросьте взгляд,
судьи, на участь человека, на превратность счастья, на старость Гая Фабри-
ция!»), и когда он, желая придать своей речи красоту, несколько раз
повторил это «Бросьте взгляд!», он сам бросил взгляд — но Гай Фабриций уже
успел встать со скамьи подсудимых и ушел, понурив голову. (59) Тут судьи
рассмеялись, а рассерженный защитник стал жаловаться, что ему испортили
всю защиту, не дав досказать речь до конца от того места: «Бросьте взгляд,
судьи!». Еще немного — и он бросился бы преследовать Фабриция, чтобы
схватить его за горло и привести к его скамье, дабы иметь возможность
закончить свою речь. Таким образом, Фабриций был осужден, во-первых,
своим собственным приговором, что самое главное, во-вторых, силой закона
и голосами судей.
«- (XXII) Стоит ли мне, после этого, продолжать свою речь о личности
Оппианика и о его деле? Он был обвинен перед теми же судьями, будучи
204
Речи Цицерона
уже осужден двумя предварительными приговорами ,* и те же самые судьиг
которые осуждением Фабриция вынесли приговор Оппианику, решили
рассмотреть его дело вне очереди. Он был обвинен в очень тяжких
преступлениях: и в тех, о которых я вкратце рассказал, и во многих других, которые
я теперь обхожу молчанием; он был обвинен перед теми же судьями,
которые ранее осудили Скамандра как орудие Оппианика и Гая Фабриция
как его сообщника в преступлении. (60) Во имя бессмертных богов! Чему
больше удивляться: тому ли, что он был осужден, или же тому, что он
вообще осмелился явиться в суд? И в самом деле, что могли сделать судьи?
Даже если бы Фабриции, которых они осудили, не были виновны, все же
по отношению к Оппианику они должны были бы остаться верны себе и
держаться своих ранее вынесенных приговоров. Разве могли они отменить
свои собственные приговоры, в то время как прочие судьи обычно
стараются не выносить приговоров, противоречащих приговорам других
судей? Неужели могли они, осудив вольноотпущенника Фабриция за то, что*
он был орудием преступления, и его патрона за то, что он был
соучастником в нем, оправдать самого зачинщика, вернее, вдохновителя этого
злодеяния? Неужели они, осудившие этих людей даже при отсутствии их
предварительного осуждения, на основании самого дела могли освободить от
ответственности этого человека, представшего перед ними уже после своего
двукратного осуждения? (61) В таком случае, право, была бы исключена
всякая возможность защищать пресловутые сенаторские суды, навлекшие на
себя не необоснованную ненависть, но заслуженный и явный позор, вернее,,
покрывшие себя бесчестием и бесславием 46. В самом деле, что могли бы
ответить эти судьи, если бы их спросили: «Вы осудили Скамандра. За какое
преступление?» — «За то, что он хотел отравить Габита при посредстве
раба его врача».— «Что же Скамандр выигрывал от смерти Габита?» —
«Ничего, но Скамандр был орудием Оппианика».— «Вы осудили также и
Гая Фабриция. За что?»—Коль скоро он был знаком с Оппиаником, а его
вольноотпущенник был уличен в злодеянии, то не было оснований думать,
что он сам не был причастен к этому замыслу». Итак, если бы они
оправдали самого Оппианика, дважды осужденного их собственными
приговорами, то кто мог бы примириться с таким позором, тяготевшим над судами*
с такой непоследовательностью в отношении дел, уже решенных, с таким
вопиющим произволом судей?
(62) И если вы видите то, что уже раскрыто этой частью моей речи*
что подсудимый неизбежно должен был быть осужден тем же самым судом,
более того, теми же самыми судьями, которые уже вынесли два
предварительных приговора, то вы должны понять и то, что у обвинителя не могла
быть никаких оснований, которые бы побудили его подкупить судей.
(XXIII) В самом деле, я хочу спросить тебя, Тит Аттий 47, уже
оставив в стороне все прочие доказательства: считаешь ли ты, что и Фабриции,
6. В защиту А ела Клуенция Габита
205
были осуждены безвинно, что и в тех судах, в которых один подсудимый
получил оправдательный голос одного только Стайена, а другой
подсудимый сам себя осудил, судьи были подкуплены? Но если те люди были
виновны, то в каком, скажи, преступлении? Разве им ставили в вину что-
либо другое, кроме попытки добыть яд, чтобы отравить Габита? Разве в
тех судах была речь о чем-либо, кроме этого покушения на жизнь Габита,
которое было устроено Оппиаником при посредстве Фабрициев? Ничего,
повторяю, ничего другого вы не найдете, судьи! Память о тех делах жива,
официальные записи сохранились48; уличи меня, если я говорю неправду;
лрочти показания свидетелей; укажи, в чем именно, кроме соучастия с
Оппиаником в попытке отравления, подсудимых во время слушания их дел,
не говорю уже — обвиняли, но хотя бы упрекали. (63) Можно высказать
много соображений, которые докажут неизбежность вынесенного тогда
приговора, но я опережу ваши ожидания, судьи! Ибо, хотя вы слушаете меня
с таким вниманием, с такой благосклонностью, как, пожалуй, не слушали
никого, однако ваше молчаливое ожидание уже давно зовет меня дальше и,
как мне кажется, говорит: «Что же? Ты отрицаешь, что тот суд был
подкуплен?»— Не отрицаю этого, но утверждаю, что он был подкуплен не Га-
битом».— «Кем же, в таком случае, был он подкуплен?» — Мне думается,
во-первых, если бы исход того суда был сомнителен, все же более
вероятным был бы подкуп его человеком, боявшимся, что он сам будет осужден,
а не человеком, опасавшимся, что другой человек будет оправдан;
во-вторых,— так как никто не сомневался в том, какой именно приговор
неминуемо должен быть вынесен,— скорее можно было предполагать подкуп суда
тем человеком, который, из известных соображений, не был уверен в
благополучном для него исходе суда, а не тем, кто мог быть вполне уверен
в благоприятном для него приговоре; наконец, вернее, что суд был
подкуплен тем, кто дважды потерпел неудачу у этих судей, а не тем, кто дважды
доказал им свою правоту. (64) Всякий, каким бы недругом Клуенцию он
ни был, бесспорно, согласится со мной в одном: если факт подкупа суда
установлен, то суд был подкуплен либо Габитом, либо Оппиаником;
доказав, что он был подкуплен не Габитом, я уличу Оппианика; установив, что
это сделал Оппианик, я сниму подозрение с Габита 49. Таким образом, хотя
я уже достаточно ясно доказал, что у моего подзащитного не было никаких
оснований подкупать суд, из чего можно заключить, что суд был подкуплен
Оппиаником, все же рассмотрим вопрос об этом особо.
(XXIV) Не стану приводить тех доказательств, которые уже сами по
себе вполне убедительны: подкупил тот, кому грозила опасность, кто
боялся за себя, кто не видел другой возможности сохранить свои гражданские
права, кто всегда отличался исключительной наглостью. Таких доводов
можно привести много; но коль скоро я знаю одно обстоятельство не спорное,
а ясное и несомненное, то не вижу необходимости перечислять отдельные
206
Речи Цицерона
доказательства. (65) Я утверждаю, что Стаций Аббий дал судье Гаю
Элию Стайену большую сумму денег для подкупа суда. Разве кто-нибудь
отрицает это? Обращаюсь к тебе, Оппианик, к тебе, Тит Аттий! Ведь вы
оба оплакиваете осуждение этого человека, один — чтобы показать свое
красноречие, другой — молча, из сыновнего чувства. Посмейте только
отрицать, что Оппианик дал деньги судье Стайену, отрицайте это, повторяю,
отрицайте! Уступаю вам свою очередь. Что же вы молчите? Разве вы
можете отрицать, что вы потребовали возврата этих денег, признали их своими
и забрали их? Каким же наглым надо быть, чтобы говорить о подкупе
суда, когда вы признаете, что ваша сторона дала деньги судье до суда,,
а после суда их у него отобрала! (66) Каким же образом все это
произошло? Я ненадолго вернусь к событиям прошлого, судьи, и все,
остававшееся в течение долгого времени скрытым и неизвестным, вам открою, так
что вы увидите это воочию. Прошу вас выслушать мою дальнейшую речь
с тем же вниманием, с каким вы слушали меня до сего времени, и, право-
я не скажу ничего, что не было бы достойно этого собрания и его безмолвия^
достойно интереса и внимания, какое вы проявляете.
Как только Оппианик начал подозревать, что ему грозит в связи с
привлечением Скамандра к суду, он немедленно стал втираться в дружбу к
человеку малоимущему и ловкому, искушенному в деле подкупа суда и
бывшему тогда судьей,— к Стайену 50. На первых порах, после внесения
Скамандра в списки обвиняемых, Оппианик своими подарками и услугами
только заручился благосклонностью Стайена, большей, чем этого требовала его»
честность как судьи. (67) Но впоследствии, когда Скамандр получил
оправдательный голос одного только Стайена, а патрон Скамандра не
получил даже своего собственного оправдательного голоса, Оппианик счел,
нужным применить, в защиту своего благополучия, более сильные
средства. Тогда он и обратился к Стайену, как к человеку, весьма
изобретательному по части уловок, бесстыдному и наглому, в высшей степени
упорному в выполнении своих намерений (он действительно в какой-то»
мере обладал всеми этими качествами, но в еще большей степени
притворялся, что обладает ими), и стал просить у него помощи, чтобы сохранить
свои гражданские права и свое положение.
(XXV) Вы хорошо знаете, судьи, что даже дикие звери, томимые
голодом, часто возвращаются туда, где они когда-то находили пищу. (68) Стай-
ен, взявшись два года назад вести дело об имуществе Сафиния из Ател-
лы51, сказал, что он, располагая 600000 сестерциев, подкупит суд. Получи*
от малолетнего наследника эту сумму, он оставил ее у себя и, после суда,,
не возвратил ее ни Сафинию, ни лицам, купившим это имущество.
Растратив эти деньги и не оставив себе ничего для удовлетворения, не говорю-
уже — своих прихотей, но даже насущных потребностей, он решил
вернуться к тому же самому роду стяжания, то есть к присвоению денег, выдавае-
6. В защиту А ела Клуенция Габита
207
мых ему для подкупа суда. Видя отчаянное положение Оппианика,
сраженного двумя предварительными приговорами, Стайен ободрил его своими
обещаниями и в то же время посоветовал ему не терять надежды на
спасение. Оппианик же начал его умолять, чтобы он указал ему способ
подкупа суда. (69) Тогда Стайен, как впоследствии заявил сам Оппианик,
сказал, что во всем государстве никто, кроме него, не может это устроить. Но
вначале он стал отнекиваться, говоря, что он вместе со знатнейшими
людьми добивается должности эдила и боится вызвать неодобрительное
отношение к себе и всеобщее неудовольствие. Затем, снизойдя к просьбам, он
сначала потребовал огромных денег, затем согласился на сходную сумму и
велел, чтобы ему на дом доставили 640000 сестерциев. Как только деньги
были доставлены, этот негодяй начал раздумывать и скоро сообразил, что
в его интересах, чтобы Оппианик был осужден: в случае оправдания
деньги пришлось бы распределить между судьями или же возвратить ему; в
случае же его осуждения никто не станет требовать их обратно52. (70)
Поэтому он придумал нечто исключительное. Но мой правдивый рассказ, судьи,
встретит больше доверия с вашей стороны, если вы пожелаете представить
себе (после прошедшего с тех пор времени) образ жизни и характер Гая
Стайена; ибо мы на основании своего мнения о нравах каждого человека
можем заключить, что он сделал и чего не делал.
(XXVI) Будучи человеком неимущим, расточительным, наглым,
хитрым и вероломным, он, видя в своем обнищавшем и опустошенном доме
такую большую сумму денег, стал замышлять всяческие ухищрения и
обманы. «Неужели я дам деньги судьям? А мне что тогда достанется, кроме
опасности и позора? Неужели мне не придумать способа для неизбежного
осуждения Оппианика? Как же быть? Ведь все может случиться: если
какая-нибудь неожиданность вдруг избавит его от опасности, деньги,
пожалуй, придется возвратить. Итак, подтолкнем,— сказал он себе,—
падающего и повергнем погибшего». (71) Он задумал вот что: посулить деньги
кое-кому из наименее добросовестных судей, а затем не дать их; люди
строгих правил, полагал он, и сами безусловно вынесут суровый приговор,
а у менее добросовестных он своим обманом вызовет раздражение против
Оппианика. Поэтому он, делая все вопреки рассудку и навыворот, начал с
Бульба, который, давно не получая никаких побочных доходов, был
печальным и унылым. Стайен подбодрил его: «Ну, Бульб,— сказал он,— не
поможешь ли ты мне кое в чем, чтобы нам служить государству не задаром?»
Тот, как только услыхал это «не задаром», ответил: «За тобой я пойду,
куда захочешь, но что ты предлагаешь?». Тогда Стайен обещал дать ему,
в случае оправдания Оппианика, 40000 сестерциев и предложил ему
обратиться к другим, давно знакомым ему людям и даже сам, как повар,
затеявший всю эту стряпню, брызнул на этот «лук» «каплей» приправы53. (72)
И вот, этот «лук» показался не таким уже горьким тем людям, которые,
208
Речи Цицерона
благодаря словам Стайена, предвкушали еще кое-что в будущем. Про-
шел день, другой; дело стало сомнительным; посредника0* и поручителя
за уплату видно не было. Тогда Бульб, с веселой улыбкой и настолько
ласково, насколько умел, обратился к Стайену: «Ну, что же, Пет,—
говорит он (дело в том, что Стайен, на основании родовых изображений Элиев,
выбрал себе именно это прозвание, дабы не казалось, что у него, если бы
он назвал себя Лигуром, прозвание не родовое, а племенное55),— люди
спрашивают меня, где же денежки за то дело, о котором ты со мной
говорил». Тут этот бессовестный проходимец, привыкший наживаться на
судебных делах, в душе уже считая припрятанные им деньги своими,
нахмурился (вспомните его лицо и его лживую и напускную важность) и, будучи
до мозга костей обманщиком и лжецом, наделенным этими пороками от
природы и сдобрившим их, так сказать, своим усердием и искусством
совершать подлости, невозмутимо заявляет, что Оппианик обманул его, и
прибавляет для большей убедительности, что он намерен при открытом
голосовании подать против него обвинительный голос.
(XXVII, 73) Распространилась молва, что в совете между судьями были
какие-то разговоры о деньгах. Дело это не было ни в такой мере тайным,
в какой его следовало держать в тайне, ни в такой мере явным, в какой
о нем, ради блага государства, следовало бы объявить. Все колебались и
не знали, как быть, но Каннуций, который был человеком искушенным
и, так сказать, чутьем понял, что Стайен подкуплен, но полагал, что дело
еще не завершено, внезапно счел нужным произнести: «Высказались» 5ь.
В то время Оппианик не особенно боялся за себя: он думал, что Стайен
все уладил. (74) Приступить к совещанию должны были тридцать два
судьи. Для оправдания было достаточно шестнадцати голосов57; такое число
голосов было бы обеспечено Оппианику раздачей 640 000 сестерциев, по
40000 сестерциев на человека, так что семнадцатый голос самого Стайена,
рассчитывавшего на более значительную награду, только завершил бы
победу. Но случайно, именно потому, что все произошло неожиданно, сам
Стайен отсутствовал; он защищал чье-то * дело в суде. С этим мог легко
примириться Габит, мог мириться Каннуций, но не примирились ни
Оппианик, ни его защитник Луций Квинкций, который, будучи тогда
народным трибуном, грубо выбранил председателя суда, Гая Юния, и
потребовал, чтобы судьи не начинали совещаться до прихода Стайена, а так как
посыльные, по его мнению, мешкали нарочно, то он сам из уголовного суда
отправился в суд по частным делам, где находился Стайен, и, в силу своих
полномочий, велел отложить слушание дела58; затем он сам привел Стайена
к судейским скамьям. (75) Судьи встают, чтобы приступить к совещанию,
после того как Оппианик, как это было тогда принято, пожелал открытой
подачи голосов, дабы Стайен мог знать, что каждому из судей следует
уплатить. Состав суда был довольно пестрый: продажных членов было
6. В защиту А ела Клуенция Габита
209
немного, но все он-и были недовольны. Подобно тому, как на поле 59 люди,
привыкшие получать взятки, бывают особенно озлоблены против тех
кандидатов, которых они подозревают в том, что те задержали обещанные
ими деньги, точно так же эти судьи тогда пришли, враждебно настроенные
против подсудимого/Другие судьи не сомневались в виновности Оппианика,
но ждали, чтобы проголосовали те судьи, которых они считали
подкупленными, дабы на основании этого голосования определить, кто именно
подкупил суд. (XXVIII) И вдруг — жребий выпадает так, что первыми подавать
голоса должны Бульб, Стайен и Гутта; все ждут с нетерпением, как же
будут голосовать эти ничтожные люди и продажные судьи. Но они все, без
малейшего колебания выносят обвинительный приговор. (76) Тут у всех
появилось подозрение и все стали недоумевать, что же собственно
произошло. Тогда люди, сведущие в законах, судьи старого закала, не считая
возможным оправдать заведомо виновного человека и не желая сразу, без
расследования, при первом же слушании дела, осудить человека, ставшего,
как они заподозрили, жертвой подкупа, выне,сли решение: «Дело не ясно».
Напротив, некоторые строгие люди, которые сочли, что каждый должен в
своих поступках слушаться только своей совести, полагали, что если
другие вынесли справедливый приговор, получив за это деньги, то сами они
тем не менее обязаны оставаться верны своим прежним судебным
решениям; поэтому они вынесли обвинительный приговор. Нашлось всего пятеро
судей, которые то ли по своему неразумию, то ли из жалости, то ли ввиду
каких-то подозрений, то ли из угодливости вынесли этому вашему ни в чем
не повинному Оппианику оправдательный приговор.
(77) После осуждения Оппианика, Луций Квинкций, человек,
пользовавшийся чрезвычайным благоволением народа, привыкший собирать все
слухи и подлаживаться под настроение народных сходок, решил, что ему
представился случай возвыситься, использовав ненависть народа к
сенаторам, так как полагал, что суды, составленные из членов этого сословия,
уже не пользуются доверием народа. Созывается одна народная сходка,
затем другая, бурные и внушительные; народный трибун кричал, что судьи
взяли деньги за то, чтобы вынести обвинительный приговор невиновному;
говорил, что имущество каждого под угрозой и теперь нет более
правосудия, а человек, у которого есть богатый недруг, не может быть уверен в своей
безопасности60. У людей, которые не имели понятия о существе дела,
никогда не видели Оппианика и думали, что честнейший муж и добросовестный
человек погублен путем подкупа, возникли сильные подозрения и они стали
требовать, чтобы вопрос был расследован и все дело было доложено им.
(78) В то же время Стайен по приглашению Оппианика ночью пришел* в
дом Тита Анния61. глубоко уважаемого человека, моего близкого друга;
остальное известно всем — как Оппианик говорил со Стайеном о деньгах,
как тот обещал их возвратить, как весь их разговор подслушали честные
* т* Цицерон, т. I
210
Речи Цицерона
мужи, нарочно спрятавшиеся там, как дело было раскрыто и стало
известно на форуме и как все деньги были забраны и отняты у Стайена62.
(XXIX) Народ уже давно раскусил и узнал этого Стайена;
подозрение в любом гнусном поступке с его стороны казалось вполне вероятным.
Что он оставил у себя деньги, которые обещал раздать от имени
обвиняемого,—этого люди, собиравшиеся на сходки, не понимали, да им об этом
и не сообщили. Что в суде была речь о взятках, они понимали; что
подсудимый был осужден безвинно, они слышали; что Стайен подал
обвинительный голос, они видели; что он сделал это не безвозмездно, в этом они,
хорошо его зная, были уверены. Такое же подозрение было и насчет Буль-
ба, Гутты и некоторых других. (79) Поэтому я признаю (теперь уже можно
безнаказанно это признать, тем более здесь), что так как не только образ
жизни Оппианика, но даже его имя до этого времени не были известны
народу; так как казалось возмутительным, что невиновный человек был
осужден за деньги; так как к тому же бесчестность Стайена и дурная слава
некоторых других, подобных ему судей усиливали это подозрение и к тому
же дело вел Луций Квинкций, человек, облеченный высшей властью и
умевший разжечь страсти толпы,— я признаю, что этот суд навлек на себя
сильнейшую ненависть и был покрыт позором. Помню я, как в это ярко
разгоревшееся пламя был ввергнут Гай Юний, председатель этого суда, и как
этот эдилиций63, в глазах людей уже почти достигший претуры, был
удален с форума — более того, из среды граждан,— не после прений сторон,
а под крики толпы 64.
(80) Я не жалею о том, что защищаю Авла Клуенция именно теперь,
а не тогда. Дело его остается тем же, каким и было, да и не может
измениться; но те времена, несправедливые и ненавистные, миновали, так что
зло, которое было связано с условиями времени, повредить нам уже
нисколько не может, а подлинная суть самого дела теперь уже говорит в нашу
пользу. Поэтому теперь я чувствую, как ко мне относятся те, кто меня
слушает,— и не только те, в чьих руках правосудие и власть, но также и те,
которые могут только высказать свое мнение. Если бы я стал говорить
тогда, меня не стали бы слушать — и не потому, что самб дело было
другим; нет, оно осталось тем же; но время было другое. Это станет вам ясно
из следующего. (XXX) Кто тогда посмел бы сказать, что осужденный
Оппианик был виновен? Кто теперь смеет это отрицать? Кто тогда мог
бы обвинить Оппианика в попытке подкупить суд? Кто ныне может это
опровергать? Кому тогда позволили бы доказывать, что Оппианик был
привлечен к суду, уже осужденный двумя предварительными приговорами?
Найдется ли ныне кто-нибудь, кто попытается это опровергнуть? (81) Итак,
коль скоро угасла ненависть, которую течение времени смягчило, моя речь
осудила, ваше добросовестное и справедливое отношение к выяснению
истинной сути дела отвергло, то что еще, скажите, остается в этом деле?
6. В защиту А ела Клуенция Габига
211
Установлено, что суду предлагали деньги. Спрашивается, от кого
исходило это предложение: от обвинителя или от подсудимого? Обвинитель
говорит: «Во-первых, я обвинял, располагая такими вескими уликами, что
у меня не было надобности предлагать деньги; во-вторых, я привел в суд
человека, который уже был осужден, так что даже деньги не могли бы
вырвать его у меня из рук; наконец, даже если бы его оправдали, мое
собственное положение в обществе и государстве нисколько не пострадало бы».
А подсудимый? «Во-первых, множество и тяжесть предъявленных мне
обвинений внушали мне страх. Во-вторых, после осуждения Фабрициев за
соучастие в моем преступлении, я тоже стал чувствовать себя осужденным;
наконец, я дошел до такой крайности, что все мое положение в обществе
и государстве стало зависеть от одного этого приговора».
(82) А теперь, коль скоро у Оппианика было много, и притом важных,
побуждений для подкупа суда, а у Клуенция не было никаких, поищем
источник самой взятки. Клуенций вел свои приходо-расходные книги очень
тщательно. Этот обычай, несомненно, ведет к тому, что ни прибыль, ни
убыток в имуществе не могут остаться скрытыми. Вот уже восемь лет, как
противная сторона изощряет свою находчивость в этом деле, обсуждая,
разбирая и исследуя все, относящееся к нему,— из книг Клуенция и других
людей, и все же вам не удается найти и следа денег Клуенция. А деньги
Аббия? Идти ли нам по их следу, пользуясь своим чутьем, или же мы
можем под вашим руководством добраться до самого логова зверя? В одном
месте захвачены 640000 сестерциев, захвачены у человека, склонного к
самым дерзким преступлениям, захвачены у судьи. Чего вам еще? (83) Но,
скажете вы, не Оппианик, а Клуенций подговорил Стайена подкупить суд.
Почему же, когда судьи приступали к голосованию, Клуенций и Каннуций
не имели ничего против его отсутствия? Почему, допуская голосование, они
не требовали присутствия судьи Стайена, которому они ранее дали деньги^
Ведь жаловался на это Оппианик, требовал его присутствия Квинкций;
пользуясь своей властью трибуна, именно он не позволил в отсутствие
Стайена приступить к совещанию. Но, скажут нам, Стайен подал
обвинительный голос. Он сделал это, чтобы показать и Бульбу и другим, что
Оппианик его обманул. Итак, если у той стороны есть основания для
подкупа суда, на той стороне деньги, на той стороне Стайен, наконец, на той
стороне всяческий обман и преступность, а на нашей — добросовестность,
честно прожитая жизнь, ни малейшего следа денег, взяточничества,
никаких оснований для подкупа суда, то позвольте теперь, когда истина
раскрыта и всякие заблуждения рассеяны, перенести пятно этого позора на того,
за которым числятся и другие преступления и пусть ненависть, наконец,
оставит в покое того, кто, как видите, никогда ни в чем не провинился.
(XXXI, 84) Но, скажете вы, Оппианик дал Стайену деньги не для
того, чтоб он подкупил суд, а для того, чтоб он помирил его с Клуенцием.
14*
212
Речи Цицерона
И это говоришь ты, Аттий, при твоей проницательности, при твоей
опытности и знании жизни? Говорят, самый умный человек это тот, который сам
знает, что ему делать; ближе всех к нему по уму тот, кто следует тонкому
совету другого. При глупости — наоборот. Тот, кому ничего не может
прийти в голову, менее глуп, чем тот, кто одобряет глупость, придуманную
другим. Ведь этот довод насчет примирения Стайен либо сам придумал по
горячим следам, когда его взяли за горло, либо, как тогда говорили, сочинил
эту басню о примирении, следуя совету Публия Цетега65. (85) Ведь вы
можете вспомнить распространившиеся тогда толки о том, что Цетег,
ненавидя Стайена и не желая, чтобы государство страдало от его нечестных
выходок, дал ему коварный совет, понимая, что человек, признавшийся в
том, что он, будучи судьей, тайно и без внесения в книги66 взял деньги
у обвиняемого, не сможет вывернуться. Если Цетег при этом поступил
нечестно, то он, мне кажется, сделал это потому, что хотел устранить своего
противника 67; но если положение было таково, что Стайен не мог отрицать, что
он получил деньги, причем самым опасным и самым позорным для него было
признаться, для какой цели он их получил, то Цетега нельзя упрекать за
его совет. (86) Но одно дело — тогдашнее положение Стайена, другое дело —
нынешнее твое положение, Аттий!
Для него, ввиду очевидности улик, любое объяснение было бы более
благовидным, чем признание того, что действительно произошло. Но как
же ты теперь возвратился к тому, что было освистано и отвергнуто? Вот
чему я крайне удивляюсь. В самом деле, разве Клуенций мог тогда
помириться с Оппиаником? Или помириться с матерью? Обвиняемый и
обвинитель значились в официальных списках; Фабриции были осуждены;
с одной сторны, Аббий, даже при другом обвинителе, осуждения избегнуть
не мог; с другой стороны, Клуенций не мог отказаться от обвинения, не
рискуя опозориться как злостный обвинитель68. (XXXII, 87) Или Оппианик
хотел склонить Клуенция к преварикации68а? Но и она также относится
к подкупу суда. А зачем для этого надо было прибегать к судье в качестве
посредника? И вообще, к чему было поручать Есе это дело Стайену,
человеку совершенно чужому им обоим и отъявленному негодяю, между тем как
можно было обратиться к какому-нибудь порядочному человеку из числа
их общих добрых друзей? Впрочем, зачем я так долго толкую об этом,
словно о каком-то неясном вопросе? Ведь сумма денег, данная Стайену,
весьма значительная и ясно указывает нам, для чего они предназначались.
Я утверждаю, что для оправдания Оппианика надо было подкупить
шестнадцать судей. Стайену было вручено 640000 сестерциев. Если, как
говоришь ты, эти деньги были даны, чтобы достигнуть примирения, то что
означает эта придача в 40000 сестерциев 69? Если же, как утверждаем мы,—
чтобы дать каждому из шестнадцати судей по 40000 сестерциев, то даже
сам Архимед не мог бы лучше рассчитать.
6. В защиту А ела Клуенция Габита
213
(88) Но, скажете вы, был вынесен целый ряд приговоров,
устанавливающих, что Клуенций подкупил суд, Нет, напротив, доныне это дело ни
разу в своем подлинном виде не было представлено в суд. Такой шум был
поднят вокруг этого дела, так долго носились с ним, что только сегодня
по нему была впервые выставлена защита, только сегодня истина, возлагая
надежду на этих вот судей, впервые возвысила свой голос против
ненависти. А впрочем, что это за ряд приговоров? Я обеспечил себе возможность
ответить на все нападки и подготовился к выступлению так, что могу
доказать следующее: из так называемых приговоров, впоследствии вынесенных
о суде прежнего состава, часть походила скорее на обвал и бурю, чем на суд
и разбирательство, часть ни в чем не уличает Габита, часть даже была
вынесена в его пользу, часть же такова, что их никогда и не называли и не
считали судебными приговорами. (89) Здесь я, больше потому, что так
принято, а вовсе не потому, что вы не делаете этого сами, буду вас просить
слушать меня внимательно, когда я буду обсуждать каждый из этих
приговоров в отдельности.
(XXXIII) Был осужден Гай Юний, председательствовавший в том
прежнем постоянном суде; прибавь также, если угодно: он был осужден
тогда, когда был председателем суда. Народный трибун не дал ему
отсрочки, полагавшейся ему не только для завершения дела, но и по закону 70. В то
самое время, когда не дозволялось отв\екать его от присутствия в суде для
какой бы то ни было другой государственной деятельности, его самого
схватили, чтобы суд вершить над ним! Какой же суд? Выражение ваших лиц,
судьи, велит мне теперь свободно говорить о том, о чем я, считал нужным
умолчать, и я охотно сделаю это. (90) Что же это было: постоянный суд,
или разбирательство дела, или вынесение приговора? Положим, что так.
Пусть же любой человек из той возбужденной толпы, чье требование тогда
было выполнено, скажет сегодня, в чем обвинялся Юний. Кого ни спросишь,
всякий ответит: в том, что дал себя подкупить; в том, что засудил
невиновного. Таково всеобщее мнение. Но, если бы это было так, он должен был
быть обвинен на основании того же закона, на основании которого ныне
обвиняется Габит. Впрочем, он сам судил на основании этого закона. Квинк-
цию следовало подождать несколько дней71, но он не хотел ни выступить
как обвинитель, уже сделавшись частным лицом, ни выступать, когда
волнение уже уляжется. Итак, вы видите, что обвинитель возлагал надежды
не на существо самого дела, а на обстоятельства и на свою власть как
трибуна. (91) Он потребовал наложения пени. В силу какого закона? Потому
что Юний не присягал в том, что будет применять данный закон 72,— но это
никогда никому в вину не ставилось,— потому что в подчищенном списке
честного и добросовестного городского претора Гая Верреса, который тогда
показывали народу, не было имен судей, избранных при дополнительной
жеребьевке 73. Вот по каким причинам, судьи,— ничтожнейшим и несостоя-
214
Речи Цицерона
тельным, на которые вообще ссылаться в суде не следовало, Гай Юний был
осужден. Таким образом, его погубило не его дело, а обстоятельства.
{XXXIV, 92) И этот приговор, по вашему мнению, должен быть
неблагоприятен для Клуенция? По какой причине? Если Юний не произвел
дополнительной жеребьевки в соответствии с требованием закона, если он
когда-то не присягнул в том, что будет применять какой-то закон, то
неужели его осуждение по этому делу заключало в себе приговор Клуенцию?
«Нет,— говорит обвинитель,— но Юний потому был осужден на основании
этих законов, что нарушил другой закон». Те, кто утверждает это,
возьмутся, пожалуй, защищать и самый тогдашний суд! «К тому же и римский
народ,— говорит он,— тогда был озлоблен против Гая Юния за то, что
при его посредстве, как тогда думали, тот суд и был подкуплен». Ну, а
теперь разве суть самого дела изменилась? Разве сам состав дела, смысл
судебного разбирательства, характер всего дела в целом теперь не те же,
какими были раньше? Не думаю, чтобы из всего того, что произошло
действительно, что-либо могло измениться. (93) Почему же теперь мою
защитительную речь слушают, соблюдая такое молчание, а тогда Юния лишили
возможности защищаться? Потому что тогда все судебное разбирательство
свелось к проявлению одной только ненависти, заблуждений, подозрений и
к обсуждению на ежедневных сходках, созывавшихся с целью мятежа и в
угоду толпе. И на сходках и перед судейскими скамьями выступал как
обвинитель все один и тот же народный трибун; на суд он не только сам
приходил прямо со сходки, но даже приводил с собой ее участников. Аврелие-
вы ступени74, тогда новые, казалось, были построены, чтобы служить
театральными скамьями для того суда; как только обвинитель сгонял на них
возбужденную толпу, не было возможности, не говорю уже — защищать
обвиняемого, нет, даже встать для того, чтобы произнести речь.
(94) Недавно, в суде под председательством моего коллеги, Гая Орхи-
вия 75, судьи не приняли жалобы на Фавста Сз'ллу76, обвиненного в
присвоении казенных денег, но не потому, что они считали Суллу стоящим выше
законов, и не потому, что не придавали значения делам о казенных
деньгах, а так как не видели возможности — раз в качестве обвинителя
выступает народный трибун — обеспечить обеим сторонам равные права. Но могу
ли я Суллу сравнивать с Юнием или нынешнего народного трибуна —
с Квинкцием, или наше время с прежним? У Суллы огромные средства,
множество родичей, родственников, друзей, клиентов; у Юния же вся эта
опора была мала, слаба и была приобретена и создана лишь его личными
стараниями. Народный трибун, о котором я говорю,— человек скромный,
добросовестный и не только не является мятежником, но даже против
мятежников; а тот был злобным, злоречивым, заискивал перед толпой и был
смутьяном. Наше время спокойное и мирное, в то время разразилась буря
ненависти. И несмотря на это, наши судьи решили, что обстоятельства не
6. В защиту А ела Клуенция Габита
215
благоприятны для слушания дела Фавста, так как его противник, в
дополнение к своим правам обвинителя, мог бы опереться еще и на свою власть
как народного трибуна.
(XXXV, 95) Это соображение, судьи, вы, по своей мудрости и
благорасположенности, должны твердо запомнить и всегда иметь в виду, не
забывая, какое зло, какую опасность для каждого из нас таит в себе власть
народного трибуна, особенно если он станет разжигать ненависть и с целью
мятежа созывать народные сходки. В лучшие времена, когда людей
охраняло не заискивание перед толпой, а их достоинство и бескорыстие, все же,
клянусь Геркулесом, ни Публий Попилий77, ни Квинт Метелл75,
прославленные и знаменитые мужи, не могли устоять против насильственных
действий трибунов; тем более в наше время, при нынешних нравах и при
нынешних должностных лицах, мы едва ли можем быть невредимы, если
ваша мудрость и правосудие не придут нам на помощь. (96) Поэтому и не
был тот суд похож на суд, не был, судьи! Ведь в нем ни порядка никакого
не было, ни обычай и заветы предков не были соблюдены, ни защита не
была осуществлена. Это было насилие и, как я уже говорил не раз, так
сказать, обвал и буря,— что угодно, но только не приговор, не
разбирательство, не постоянный суд. Поэтому, если кто-нибудь думает, что то был
действительный приговор, и считает нужным рассматривать это дело как
решенное, то все же и этот человек должен отделять настоящее дело от того
прежнего. На Юния, говорят, была наложена пеня — за то ли, что он будто
бы не присягнул, что будет соблюдать закон, за то ли, что не произвел
дополнительной жеребьевки судей в соответствии с требованием закона; но
дело Клуенция не может иметь никакого отношения к тем законам, на
основании которых на Юния была наложена пеня.
(97) Но, скажешь ты, осужден был и Бульб. Прибавь — за оскорбление
величества 79 и ты поймешь, что настоящее судебное дело не связано с
прежним — «Но ему было предъявлено обвинение и в получении взятки».—
Признаю это, но было также установлено на основании донесения Гая Кос-
ЯП ** °
кония си и показании многих свидетелей, что он подстрекал к мятежу легион
в Иллирике, а это преступление было подсудно именно тому постоянному
суду и на него распространялся закон об оскорблении величества.— «Но его
погубило, главным образом, именно то обвинение».— Это уже догадки; если
дозволено пользоваться ими, то мои предположения, пожалуй, гораздо
ближе к истине. Я лично думаю так: Бульб был известен как негодяй, подлец,
бесчестный человек, запятнанный многими гнусными поступками, и
поэтому, когда он предстал перед судом, осудить его и было легко. Ты же из
всего дела Бульба выхватываешь то, что тебе выгодно, и утверждаешь, что
судьи руководствовались именно этим.
(XXXVI, 98) Вследствие этого осуждение Бульба не должно вредить
нашему делу больше, чем те два приговора, упомянутые обвинителем,—
216
Речи Цицерона
Публию Попилию и Тиберию Гутте, которые были привлечены к
ответственности за незаконное домогательство 81 и обвинены людьми, которые сами
были осуждены за домогательство. По моему мнению, эти последние не
потому были восстановлены б своих правах, что доказали виновность
Попилил и Гутты в том, что они вынесли судебное решение, получив взятку, но
потому, что, уличив других людей в тех же проступках, за которые они
пострадали сами, они сумели убедить судей в том, что им по закону
полагается награда 82. Поэтому, мне думается, никто не усомнится в том, что
осуждение их за домогательство не имеет ни малейшего отношения к делу Клу-
енция и к вашему решению.
(99) А осуждение Стайена? Я не говорю теперь, судьи, того, что,
пожалуй, следовало бы сказать,— что он был осужден за оскорбление
величества; не оглашаю свидетельских показаний, данных против Стайена весьма
уважаемыми людьми, бывшими легатами, префектами и военными
трибунами Мамерка Эмилия 83, прославленного мужа. Этими свидетельскими
показаниями достоверно установлено, что, в бытность Стайена квестором, главным
образом его происки и привели к мятежу в войске. Не оглашаю даже
свидетельских показаний, данных насчет 600 000 сестерциев, которые Стайен,
получив их на дело Сафиния, задержал и присвоил себе так же, как
впоследствии во время суда над Оппиаником. (100) Оставляю в стороне это и очень
многое другое, высказанное против Стайена во время того суда. Утверждаю
одно: римские всадники Публий и Луций Коминии84, весьма уважаемые и
красноречивые люди, обвинявшие Стайена, вели с ним точно такой же спор,
какой я теперь веду с Аттием. Коминии утверждали то же, что теперь
говорю я: Стайен получил от Оппианика деньги на подкуп суда; Стайен же
утверждал, что получил их для того, чтобы примирить Оппианика с Клуен-
цием.
(101) Одни насмешки вызывало это выдуманное им примирение и
надетая им на себя личина порядочного человека, как и случай с
позолоченными статуями, воздвигнутыми им около храма Ютурны, с надписями на
цоколях, гласившими о состоявшемся благодаря ему примирении между
царями85. Люди обсуждали все его обманы и подвохи, доказывали, что вся
его жизнь была основана на таких ухищрениях; описывали бедность его
дома и алчность, проявляемую им на форуме; изобличали этого продажного
миротворца и поборника согласия. Поэтому Стайен, приводивший в свое
оправдание те же доказательства, какие теперь приводит Аттий, тогда и
был осужден. (102) Коминии же, отстаивавшие то же, что в течение всего
слушания дела отстаивал я, вышли победителями. Итак, если суд, своим
обвинительным приговором Стайену, признал, что Оппианик хотел
подкупить суд, что Оппианик дал судье денег для подкупа судей; коль скоро
установлено, что вина падает либо на Клуенция, либо на Оппианика, причем
не находится и следов денег Клуенция, будто бы данных им судье, между
6. В защиту А ела Клуенция Габита
217
тем как деньги Оппианика были, после вынесения приговора, отняты у
судьи, то может ли быть сомнение, что тот обвинительный приговор.Стайе-
ну не только не вредит Клуенцию, но чрезвычайно помогает нашему делу
и моей защите? (XXXVII, 103) Итак, из всего сказанного до сего времени
я вижу, что суд над Юнием протекал так, что его скорее следует назвать
набегом мятежников, насилием со стороны толпы, нападением народного
трибуна, а не судом. И даже если кто-нибудь назовет его судом, все же он
должен признать, что связывать дело Клуенция с пеней, наложенной на
Юния, никак нельзя. Ибо этот приговор вынесен против Юния путем
насилия, приговоры Бульбу, Попилию и Гутте не говорят против Клуенция, а
приговор Стайену говорит даже в пользу Клуенция. Посмотрим, не удастся
ли нам привести еще один приговор, который бы говорил в его пользу.
Так вот, не привлекался ли к суду голосовавший за осуждение
Оппианика Гай Фидикуланий Фалькула, который, будучи назначен
дополнительной жеребьевкой86, пробыл судьей всего лишь несколько дней? Ведь
именно это обстоятельство и навлекло на него ненависть во время того суда.
Да, он привлекался к суду и притом дважды. Ведь Луций Квинкций, на
ежедневных мятежных и бурных сходках, вызвал сильнейшую ненависть
к нему. При первом суде на него была наложена пеня на том же основании,
что и на Юния,— за то, что он участвовал в суде не в очередь своей деку-
рии и не в соответствии с законом. Он был привлечен к суду в несколько
более спокойное время, чем Юний, но обвинялся почти в том же проступке
и подпадал под действие того же закона. Так как во время суда не было ни
мятежа, ни насильственных действий и не собиралась толпа, то он, при
первом же слушании дела, без всяких затруднений был оправдан. Этому
оправданию я большого значения не придаю; ведь даже если предположить, что
он не провинился в том, за что положена пеня, то он тем не менее мог взять
деньги за вынесение судебного решения,— так же, как и Стайен, взявший
деньги, ни разу не был судим, во всяком случае, на основании этого закона.
Преступления такого рода не были подсудны этому постоянному суду. (104)
Что же ставили Фидикуланию в вину? Что он получил от Клуенция 400000
сестерциев. К какому сословию он принадлежал? К сенаторскому. Будучи
обвинен на основании того закона, по которому сенаторы привлекаются к
ответственности за такие проступки, а именно на основании закона о
вымогательстве, он был с почетом оправдан. Ибо дело велось по заветам наших
предков — без применения насилия, без запугивания, без угроз; все было
высказано, изложено, доказано. Судьи убедились в том, что любой человек,
не входящий в состав суда в течение всего предшествующего времени и
руководимый только своей совестью, мог вынести Оппианику обвинительный
приговор; более того, даже если бы он как судья не знал ничего другого,
кроме вынесенных об Оппианике предварительных приговоров, ему и этого
было бы вполне достаточно.
218
Речи Цицерона
(XXXVIII, 105) Даже и те пятеро судей, которые, руководствуясь
слухами, распространявшимися людьми несведущими, в свое время вынесли
Оппианику оправдательный приговор 87, теперь уже неохотно слушали
похвалы своему милосердию. Если бы кто-нибудь спросил их, входили ли они
в состав суда над Гаем Фабрицием, они ответили бы утвердительно; на
вопрос, был ли он обвинен в чем-либо другом, кроме приобретения яда, как
говорили, для отравления Габита, они ответили бы отрицательно; если бы
их затем спросили, какой приговор они вынесли, они сказали бы, что
признали подсудимого виновным; в самом деле, ни один из них не стоял за
оправдание его. Если бы им предложили такие же вопросы насчет Скамаи-
дра, они, несомненно, ответили бы то же самое; хотя один оправдательный
голос и был подан, но никто из них не признался бы в том, что это был
его голос. (106) Кому же в таком случае было бы легче обосновать свое
решение: тому ли, кто оставался верен себе и своим поежним приговорам,
или же тому, кому пришлось бы признать, что он по отношению к главному
преступнику оказался снисходителен, а к его помощникам и сообщникам
беспощаден? Но не мое дело рассуждать о поданных ими голосах; не
сомневаюсь, что если у таких мужей неожиданно возникло какое-то подозрение,
они, конечно, изменили свои взгляды. Поэтому мягкосердечия тех судей,
которые голосовали за оправдание Оппианика, я не порицаю;
непоколебимость тех из них, кто остался верен своим прежним приговорам, действуя
по своей воле и не поддаваясь на происки Стайена, одобряю; мудрость тех,
кто заявил, что вопрос не ясен, особенно хвалю; не видя никакой
возможности оправдать человека, в чьей преступности они убедились и которого
они сами уже дважды осудили, они предпочли, ввиду нареканий на совет
судей и возникших подозрений в столь тяжком преступлении, осудить
Оппианика через некоторое время, по выяснении всех обстоятельств дела.
(107) Но не только за этот поступок считайте их мудрыми; нет, зная, какие
они люди, следует одобрить также и все их действия, как совершенные
справедливо и мудро. Можно ли назвать человека, который превосходил бы
Публия Октавия Бальба природным умом, знанием права, тщательностью
и безупречностью в вопросах чести, совести и долга? Он за оправдание
Оппианика не голосовал. Кто превзошел Квинта Консидия
непоколебимостью? Кто более искушен в судебном деле и в поддержании того
достоинства, которое должно быть присуще уголовным судам? Кто более известен
своим мужеством, умом, авторитетом? Он также не голосовал за оправдание
Оппианика. Много времени заняло бы, если бы я стал говорить о
достоинстве и образе жизни каждого из судей. Все это хорошо известно и не
нуждается в пышных словах. Каким человеком был Марк Ювенций Педон, из
судей старого закала! А Луций Кавлий Мерг, Марк Басил, Гай Кавдин!
Все они славились в уголовных судах еще тогда, когда славилось и наше
государство. К ним следует причислить Луция Кассия и Гнея Гея, людей
6. В защиту А ела Клуенция Габита
219
такой же неподкупности и проницательности. Ни один из них не голосовал
за оправдание Оппианика. Да и Публий Сатурий, по летам самый младший
из всех судей, но умом, добросовестностью и сознанием долга равный тем,
о которых я уже говорил, голосовал так же. (108) Хороша невиновность
Оппианика! Тех, кто голосовал за его оправдание, считают лицеприятными;
тех, которые сочли нужным отложить слушание дела,— осторожными; тех,
которые вынесли обвинительный приговор,— непоколебимыми.
(XXXIX) В ту пору Квинкций держал себя так, что изложить все это
ни на народной сходке, ни в суде возможности не было: он и сам никому
не позволял говорить и, подстрекая толпу, никому и слова не давал сказать
Но, погубив Юния, он все это дело оставил; через несколько дней сам он
стал частным лицом, да и страсти толпы, как он видел, улеглись. Однако
если бы он в течение тех же дней, когда обвинял Юния, захотел обвинить
и Фидикулания, последнему не дали бы возможности отвечать. Правда,
Квинкций вначале угрожал всем тем судьям, которые осудили Оппианика.
(109) Его заносчивость вы знали, знали его нетерпимость как трибуна.
Какой ненавистью дышал он, бессмертные боги! Какая надменность, какое
самомнение, какое необычайное и нестерпимое высокомерие! Он был
особенно раздражен именно потому — с этого все и началось,— что дело
оправдания Оппианика не предоставили ему и его защите. Как будто то
обстоятельство, что Оппианику пришлось прибегнуть к помощи такого защитника,
не было достаточным признаком того, что он покинут всеми. Ведь в Риме
было очень много защитников, людей весьма красноречивых и уважаемых;
уж, наверное, кто-нибудь из них согласился бы защищать римского
всадника, небезызвестного в своем муниципии, если бы только защиту такого
дела он мог признать совместимой со своей честью. (XL, 110) Да разве
Квинкций вел когда-нибудь хотя бы одно дело, дожив до пятидесяти лет?
Кто видел его когда-либо, уже не говорю — в роли защитника, но хотя бы
в роли предстателя или заступника? Так как ему удалось захватить уже
давно никем не занимавшиеся ростры и место, с которого, после прибытия
Луция Суллы в Рим, перестал раздаваться голос трибуна88, и так как он
вернул толпе, уже отвыкшей от сходок, некоторое подобие прежнего обычая,
то он не надолго приобрел известное расположение некоторых людей. Но
зато как потом возненавидели его те же самые люди, с чьей помощью он
достиг более высокого положения! И поделом! (111) В самом деле,
постарайтесь вспомнить, не говорю уже — его характер и высокомерие, нет, его
лицо, одежду, одну его, памятную нам пурпурную тогу, доходившую ему
до пят89! Словно не будучи в состоянии мириться со своим поражением
в суде, он перенес дело с судейских скамей на ростры. И мы еще нередко
жалуемся, что новые люди 90 не получают в нашем государстве достаточных
наград за свои труды! Я утверждаю, что больших наград не было никогда
и нигде; если человек незнатного происхождения ведет такой образ жизни,
220
Речи Цицерона
что он, ввиду своих достоинств, как все видят, заслуживает высокого
положения, занимаемого знатью, то он достигает того, что ему приносят его
усердие и бескорыстие. (112) Но если он опирается на одну лишь
незнатность своего происхождения, то он часто преуспевает даже больше, чем
преуспел бы, обладая такими же пороками, но принадлежа к высшей знати.
Например, будь Квинкций (о других не стану говорить) знатным
человеком, кто смог бы мириться с его памятной нам надменностью и
нетерпимостью? Но ввиду его происхождения его терпели, находя нужным
зачитывать ему в приход все то, что в нем было хорошего от природы, а его
надменность и заносчивость считая, ввиду его низкого происхождения, скорее
смешным, чем страшным.
(XLI) Но вернемся к оправданию Фидикулания. Ты говоришь о
вынесенных приговорах. Я спрашиваю тебя, какой приговор, по твоему мнению,
тогда был вынесен. Несомненно, приговор, что Фидикуланий подал свой
голос безвозмездно. (113) Но он, скажешь ты, подал обвинительный голос;
но он не все время присутствовал при слушании дела; но он на всех сходках
не раз подвергался резким нападкам народного трибуна Луция Квинкция.
Следовательно, все эти нападки Квинкция были пристрастны,
необоснованны, рассчитаны на бурные страсти, на заискивание перед народом,
побуждали к мятежу. «Пусть будет так,— скажут мне, — Фалькула мог быть
невиновен». Значит, кто-то подал против Оппианика обвинительный голос,
не будучи подкуплен91. Выходит, что Юний не подбирал, путем
дополнительной жеребьевки, таких людей, которые бы за взятку вынесли
обвинительный приговор. Значит, можно было не участвовать в суде с самого нача~
ла и все же вынести Оппианику обвинительный приговор безвозмездно.
Но если не виновен Фалькула, то кто же, скажи на милость, виновен? Если
он подал обвинительный голос безвозмездно, то кто же брал деньги? Я
утверждаю, что в числе обвинений, предъявленных другим членам суда,
не было ни одного, которое бы не было предъявлено Фидикуланию; что
в деле Фидикулания не было ничего такого, чего не было бы также и в делах
других людей. (114) Ты, чье обвинение, видимо, основано на решенных
делах, должен либо порицать этот приговор, либо, соглашаясь, что он
справедлив, признать, что Оппианик был осужден безвозмездно.
Впрочем, достаточно веским доказательством должно быть то, что после
оправдания Фалькулы ни один из столь многочисленных судей привлечен
к ответственности не был. В самом деле, зачем вы приводите мне случаи
осуждения за домогательство на основании другого закона при наличии
определенных обвинений, при множестве свидетелей, когда те судьи должны
были быть обвинены скорее во взяточничестве, чем в домогательстве? Ибо
если подозрение во взяточничестве повредило им в судах за домогательство,
когда они привлекались к ответственности на основании другого закона,,
то оно,— если бы они предстали перед судом на основании закона, преду-
6. В защиту А ела Клуенция Габита
221
сматривающего именно этот проступок,— несомненно, повредило бы им
гораздо больше. (115) Затем, если это обвинение было таким тяжким, что
могло погубить любого из судей Оппианика, независимо от закона, на
основании которого он был бы предан суду, то почему же при таком множестве
обвинителей, при столь значительных наградах не были привлечены к
ответственности также и другие судьи?
Здесь приводят то, что никак нельзя назвать судебным приговором: на
основании этого обвинения была определена сумма денег, подлежавшая
возмещению 92 Публием Септимием Сцеволой. Каким образом обычно ведутся
такие дела, мне нет надобности доказывать подробно, так как я говорю
перед людьми весьма опытными. Ведь той тщательности, какую судьи
проявляют, пока приговор еще не ясен, они не проявляют, когда обвиняемый уже
осужден. (116) При определении суммы, подлежащей возмещению, судьи,
пожалуй, либо считая человека, которого они уже однажды осудили, своим
врагом, не допускают вчинения ему нового иска, грозящего его гражданским
правам, либо, находя, что они уже выполнили свою обязанность, раз они
вынесли подсудимому приговор, судят об остальном более небрежно. Так,
по обвинению в оскорблении величества были оправданы очень многие
люди, которым, когда они были ранее осуждены за вымогательство, сумма,
подлежащая возмещению ими, была определена к внесению после суда за
оскорбление величества. И мы изо дня в день видим, как после осуждения
за вымогательство те же судьи оправдывают людей, к которым, как
установлено при определении подлежащих возмещению сумм, эти деньги
поступили. Это не следует считать отменой приговора, но этим устанавливается,
что определение суммы, подлежащей возмещению, не есть судебный
приговор. Сцевола был осужден по другим обвинениям, при множестве
свидетелей из Апулии. Его противники усиленно добивались того, чтобы решение
суда о возмещении ущерба было признано поражающим его гражданские
права. Если бы это решение имело силу судебного приговора, то те же самые
или другие недруги Сцеволы привлекли бы его к суду на основании именно
данного закона.
(XLII, 117) Далее следует то, что наши противники называют уже
вынесенным судебным приговором; между тем наши предки никогда не
называли официального цензорского замечания судебным приговором и не
рассматривали его как вынесенный приговор93. Прежде чем я начну говорить
об этом, я должен сказать несколько слов о своей обязанности; вы увидите,
что я не упустил из видз' ни опасности, угрожающей Клуенцию, ни также
и своих обязанностей по отношению к друзьям. Ибо с обоими доблестными
мужами, которые недавно были цензорами94, я связан дружбой; но с одним
из них, как большинство из вас знает, я особенно близок; наша тесная связь
основана на взаимных услугах. (118) Поэтому я хотел бы, чтобы все то,
что я буду вынужден сказать в своей речи по поводу сделанных ими
222
Речи Цицерона
записей, было отнесено не к их поступку, а к цензуре как таковой. Что
касается моего близкого друга Лентула, чье имя я произношу с уважением,
подобающим его выдающимся доблестям и высшим почестям, оказанным
ему римским народом, то у этого человека, который привык не только
честно и добросовестно, но и мужественно и открыто защищать своих друзей,
находящихся в опасном положении, я без труда испрошу дозволение, судьи,
подражать ему в этих качествах в такой мере, в какой я должен сделать это,
чтобы не подвергнуть Клуенция опасности. Однако, как и подобает, все
будет сказано мной осторожно и осмотрительно — так, чтобы, с одной
стороны, был соблюден мой долг, как защитника, с другой стороны, ничье
достоинство не было задето и ничья дружба не была оскорблена.
(119) Я знаю, судьи, что цензоры выразили порицание некоторым
судьям из Юниева совета, отметив в своим записях именно то судебное
дело, о котором идет речь. Здесь я прежде всего выскажу следующее общее
положение: в нашем государстве цензорским замечаниям никогда не
придавали силы произнесенного судебного приговора. Не стану терять времени,
говоря о хорошо известных вещах; приведу один пример: Гай Гета,
исключенный из сената цензорами Луцием Метеллом и Гнеем Домицием,
впоследствии сам был избран в цензоры; человек, за свой образ жизни
заслуживший порицание цензоров, в дальнейшем сам стал блюстителем нравов как
римского народа, так и тех, кто вынес порицание ему самому. Так что, если
бы цензорскому порицанию придавали значение судебного приговора, то-
люди, получившие замечание, были бы точно так же лишены доступа к
почетным должностям и возможности возвратиться в курию, как другие,
осужденные по какому-либо позорному делу, навсегда лишаются всякого
почета и достоинства. (120) Но если теперь вольноотпущенник Гнея
Лентула или Луция Геллия вынесет кому-нибудь обвинительный приговор за
воровство, то этот человек, утратив все свои преимущества, никогда не
вернет себе и малейшей доли своего почетного положения; напротив, те, кому
сами Луций Геллий и Гней Лентул, двое цензоров, прославленные мужи и
мудрейшие люди, вынесли порицание за воровство и взяточничество,
не только возвратились в сенат, но даже были оправданы по суду, когда
их обвинили в этих самых проступках. (XLIII) По воле наших предков»
не только в делах, касающихся доброго имени человека, но даже и в самой
пустой тяжбе об имуществе никто не может быть судьей, не будучи
назначен с согласия обеих сторон. Вот почему порочащее порицание не
упоминается ни в одном законе, где перечисляются причины, препятствующие
занятию государственных должностей, избранию в судьи, или судебному
преследованию другого человека. Предки наши хотели, чтобы власть
цензоров внушала страх, но не карала человека на всю его жизнь. (121) И я
мог бы привести в качестве примеров — как вы уже и сами видите — много
случаев отмены цензорских замечаний не только голосованием римского на-
6. В защиту А ела Клуенция Габита 223
рода, но и судебными приговорами тех людей, которые, принеся присягу,
должны были принимать свои решения с большой осторожностью и
внимательностью. Прежде всего, судьи, сенаторы и римские всадники, вынося
приговор многим подсудимым, получившим замечание от цензоров за
противозаконное получение денег, повиновались более своей совести, чем
мнению цензоров. Далее, городские преторы, которые, принеся присягу, должны
были включать любого честного гражданина в списки отобранных судей95,
никогда не считали позорящее замечание цензора препятствием к этому.
(122) Наконец, сами цензоры часто не следовали приговорам (если вам
угодно называть это приговорами) своих предшественников. Да и сами
цензоры между собой придают настолько мало значения этим приговорам,
что один из них иногда не только порицает, но даже отменяет приговор
другого; один хочет исключить гражданина из сената, другой оставляет его
там и признает его достойным принадлежать к высшему сословию; один
хочет отнести его к эрарным трибунам или перевести в другую трибу,
другой запрещает это. Как же вам приходит в голову называть приговором
суждение, которое, как вы видите, римским народом может быть отменено,
присяжными судьями отвергнуто, должностными лицами оставлено без
внимания, преемниками по должности изменено, а между коллегами может
стать поводом к разногласиям?
(XLIV, 123) Коль скоро это так, посмотрим, какое же суждение, как
говорят, цензоры вынесли насчет подкупа того суда, о котором идет речь.
Прежде всего решим вопрос, должны ли мы потому признать, что подкуп
был совершен, что факт этот подтвердили цензоры, или же цензоры так
решили потому, что действительно был совершен подкуп. Если — потому,
что факт подкупа подтвердили цензоры, то подумайте, что вам делать, дабы
не дать цензорам на будущее время царской власти над каждым из нас,
дабы цензорское порицание не могло приносить гражданам столь же
великие бедствия, как жесточайшая проскрипция, дабы мы впредь не
страшились цензорского стиля, острие которого наши предки притупили многими
средствами, так же, как мы страшимся памятного нам диктаторского меча 96.
(124) Но если цензорское осуждение должно иметь вес потому, что его
содержание соответствует истине, рассмотрим, действительно ли оно
соответствует ей или же оно ложно. Оставим в стороне замечания цензоров,
устраним из дела все, что к делу не относится. Объясни нам, какие деньги
дал Клуенций, откуда он их взял, как он их дал; укажи нам вообще хотя бы
малейший след денег, исходивших от Клуенция. Далее, убеди нас в том, что
Оппианик был честным мужем и неподкупным человеком, что его никогда
не считали иным и что о нем не выносили предварительных приговоров.
Тогда и обращайся к авторитету цензоров, тогда и утверждай, что их
приговор имеет отношение к нашему делу. (125) Но пока не будет
опровергнуто, что Оппианик — человек, который, как было установлено, собственно-
224
Речи Цицерона
ручно подделал официальные списки своего муниципия; переделал чужое
завещание; с помощью подставного лица велел скрепить печатями
подложное завещание, а того человека от чьего имени оно было составлено, велел
убить; своего шурина, бывшего в рабстве и в оковах, умертвил; своих
земляков внес в проскрипционные списки и казнил; на вдове убитого им
человека женился; деньгами склонил женщину к вытравлению плода; умертвил
и свою тещу, и своих жен, и жену своего брата вместе с ожидаемым
ребенком, а также самого брата и, наконец, своих собственных детей; был
захвачен с поличным при попытке отравить своего пасынка; будучи привлечен
к суду, после осуждения своих помощников и сообщников, дал деньги судье
для подкупа других судей,— пока, повторяю, все эти факты, касающиеся
Оппианика, не будут опровергнуты и пока в то же время не будет приведено
доказательств, что деньги были даны Клуенцием, какую помощь это
цензорское решение или мнение может оказать тебе и как может оно погубить
этого ни в чем не повинного человека?
(XLV, 126) Какими же соображениями руководствовались цензоры?
Даже сами они — приведу наиболее убедительные соображения — не
назовут ничего другого, кроме слухов и молвы. Они не скажут, что получили
сведения от свидетелей, из записей, на основании каких-либо важных
доказательств, что они вообще что-либо установили, изучив это дело. Даже
если бы они и сделали это, их решение все же не было бы настолько
неоспоримым, чтобы его нельзя было опровергнуть. Не буду приводить вам
бесчисленных примеров, имеющихся в моем распоряжении; ни на судебные
случаи из прошлого, ни на какого-либо могущественного и влиятельного
человека ссылаться не стану. Недавно, защищая одного маленького
человека, эдильского писца 97 Децима Матриния, перед преторами Марком Юнием
и Квинтом Публицием и курульными эдилами Марком Плеторием и Гаем
Фламинием, я убедил их принести присягу, зачислить в писцы этого
человека, хотя те же самые цензоры оставили его эрарным трибуном93. Коль
скоро за ним не было замечено никакой провинности, было сочтено, что
следует руководствоваться тем, чего этот человек заслуживал, а не тем, что
о нем было постановлено.
(127) Обратимся теперь к замечанию цензоров насчет подкупа суда:
неужели кто-нибудь может признать, что они достаточно расследовали дело
и тщательно взвесили свое решение? Порицание их, вижу я, касается Мания
Аквилия и Тиберия Гутты 98. Что это значит? Они признают, что только
два человека были подкуплены, а прочие, очевидно, вынесли
обвинительный приговор безвозмездно. Следовательно, Оппианик вовсе не пал
жертвой неправого суда, не был погублен денежной взяткой, и не все те люди,
которые вынесли ему обвинительный приговор, виновны, и не на всех падает
подозрение, как это, по слухам, утверждали на этих Квинкциевых
сборищах. Всего два человека, вижу я, по мнению цензоров, причастны к этому
6. В защиту А ела Клуенция Габита
225
гнусному делу. Или пусть наши противники, по крайней мере, признают,
что если против этих двух человек улики были, то это не значит, что они
имеются и против остальных.
(XLVI, 128) Ибо никак нельзя одобрить, чтобы к цензорским
замечаниям и суждениям применялись правила, принятые в войсках. Ведь наши
предки установили правило, что за тяжкое воинское преступление,
совершенное множеством людей сообща, должна понести наказание избираемая
по жребию часть виновных ", так что страх охватывает всех, но кара
постигает немногих. Прилично ли, чтобы цензоры поступали так же при
возведении в высшее достоинство, при суждении о гражданах, при порицании за
пороки? Солдат, не устоявший в бою, испугавшийся натиска и мощи врагов,
впоследствии может стать и более надежным солдатом, и честным
человеком, и полезным гражданином. Поэтому, кто во время войны, из страха
перед врагом, совершил преступление, тому наши предки и внушили
сильнейший страх перед смертной казнью; но чтобы не слишком многие
платились жизнью, была введена жеребьевка. (129) И что же — ты, будучи
цензором, поступишь так же, составляя сенат? Если окажется много судей, за
взятку осудивших невинного, то ты накажешь не всех, а выхватишь из них,
кого захочешь, и из многих людей выберешь нескольких, чтобы покарать
их бесчестием? Разве не будет позором, что с твоего ведома и у тебя на
глазах в курии будет сенатор, у римского народа — судья, в
государстве — гражданин, продавший свою честь и совесть, чтобы погубить
невинного, и что человек, который, польстившись на деньги, отнимет у невинного
гражданина его отечество, имущество и детей, не будет заклеймен
цензорской суровостью? И тебя будут считать блюстителем нравов и наставником
в строгих правилах старины, между тем как ты оставишь в сенате человека,
заведомо запятнанного таким тяжким преступлением, или решишь, что
одинаково виновные люди не должны нести одну и ту же кару? И
положение о наказаниях, установленное нашими предками на время войны для
трусливых солдат, ты применишь во времена мира к бесчестным сенаторам?
Но даже если следовало применить этот воинский обычай в случае
цензорского замечания, то надо было прибегнуть к жеребьевке. Но если цензору
совсем не подобает определять наказания по жребию и судить о
проступках, полагаясь на случайность, то нельзя, конечно, при большом числе
виновных выхватывать немногих, чтобы поразить бесчестием и позором
только их.
(XLVII, 130) Все мы, впрочем, понимаем, что те цензорские замечания,
о которых идет речь, имели целью снискать благоволение народа. Дело
обсуждалось мятежным трибуном на народной сходке; толпа, не
ознакомившись с делом, согласилась с трибуном; возражать не позволяли никому;
наконец, никто и не старался защищать противную сторону. Сенаторские
суды и без того пользовались очень дурной славой. И действительно, через
10 Цицерон, т. I
226
Речи Цицерона
несколько месяцев после дела Оппианика они опять навлекли на себя
сильную ненависть в связи с подачей меченых табличек 10°. Цензоры, очевидно,
не могли оставить без внимания это позорное пятно и пренебречь им.
Людей, обесчещенных другими пороками и гнусностями, они решили наказать
также и этим замечанием — тем более, что именно в это время, в их
цензуру, доступ в суды уже был открыт для всаднического сословия101; таким
образом, они, заклеймив тех, кто это заслужил, как бы осудили тем самым
старые суды вообще. (131) Если бы мне или кому-нибудь другому
позволили защищать это дело перед теми же самыми цензорами, то им, людям
столь выдающегося ума, я, несомненно, мог бы доказать, что они не
располагали данными следствия и установленными фактами и что — это видно
из самого дела — целью всех их замечаний было угодить молве и
заслужить рукоплескание народа. И действительно, Публия Попилия, подавшего
голос за осуждение Оппианика, Луций Геллий заклеймил, так как он будто
бы взял деньги за то, чтобы вынести обвинительный приговор невиновному.
Но сколь проницательным надо быть для того, чтобы достоверно знать, что
обвиняемый, которого ты, пожалуй, никогда не видел, был невиновен, когда
мудрейшие люди, судьи (о тех, которые вынесли обвинительный приговор,
я уже и говорить не буду), ознакомившись с делом, сказали, что для них*
вопрос не ясен!
(132) Но пусть будет так: Геллий осуждает Попилия, полагая, что тот
получил от Клуенция взятку; Лентул это отрицает; правда, он не допускает
Попилия в сенат, потому что тот был сыном вольноотпущенника 102; но
сенаторское место на играх и другие знаки отличия он ему оставляет и
совершенно снимает с него пятно бесчестия. Делая это, Лентул признает, что
Попилий подал голос за осуждение Оппианика безвозмездно. И об этом же
Попилии Лентул впоследствии, во время суда за домогательство, как
свидетель дал очень лестный отзыв. Итак, если с одной стороны, Лентул не
согласился с суждением Луция Геллия, а с другой стороны, Геллий не был
доволен мнением Лентула, если каждый из них как6цензор отказался
признать обязательным для себя мнение другого цензора, то как можно
требовать от нас, чтобы мы считали все цензорские осуждения незыблемыми и
действительными на вечные времена?
(XLVIII, 133) Но, скажут нам, они выразили порицание самому Габи-
ту. Да, но не из-за какого-либо гнусного поступка, не из-за какого-либо,
не скажу — порока, даже не из-за ошибки, допущенной им хотя бы раз в
течение всей его жизни. Нет человека, более безупречного, чем он, более
честного, более добросовестного в исполнении всех своих обязанностей. Да
они этого и не оспаривают; но они руководствовались все той же молвой
о подкупе суда; их мнение о его добросовестности, бескорыстии,
достоинстве ничуть не расходится с тем мнением, в справедливости которого мы хотим
убедить вас; но они не сочли возможным пощадить обвинителя, раз они
6. В защиту А ела Клуенция Габита
227
наказали судей. По поводу этого дела я приведу лишь один пример из
старых времен и больше ничего говорить не стану. (134) Не могу обойти
молчанием случай иъ жизни величайшего и знаменитейшего мужа, Публия
Африканского. Когда во время его цензуры производился смотр всадников
и перед ним проходил Гай Лициний Сацердот, он громким голосом, чтобы
все собравшиеся могли его слышать, заявил, что ему известен случай
формального клятвопреступления со стороны Сацердота и что, если кто-нибудь
хочет выступить как обвинитель, сам он готов дать свидетельские
показания. Но так как никто не откликнулся, то он велел Сацердоту вести коня
дальше 103. Таким образом, тот, чье мнение всегда было решающим и для
римского народа и для чужеземных племен, сам не признал своего личного
убеждения достаточным для того, чтобы опозорить другого человека. Если
бы Габиту позволили, то он в присутствии самих судей с легкостью
опроверг бы ложное подозрение и дал бы отпор ненависти, возбужденной против
него в расчете на благоволение народа.
(135) Есть еще одно обстоятельство, которое меня очень смущает;
пожалуй, на это возражение мне едва ли удастся ответить. Ты прочитал
выдержку из завещания Гнея Эгнация-отца, человека якобы честнейшего и
умнейшего: он, по его словам, потому лишил своего сына наследства, что
тот за вынесение обвинительного приговора Оппианику получил взятку.
О легкомыслии и ненадежности этого человека распространяться не стану;
об этих его качествах достаточно говорит то самое завещание, которое ты
прочитал: лишая ненавистного ему сына наследства, он любимому сыну
назначил сонаследниками совершенно чужих для него людей. Но ты, Аттий,
я полагаю, должен хорошенько подумать, чье решение для тебя имеет
больший вес: цензороп или Эгнация? Если ты стоишь за Эгнация, то суждения
цензоров о других людях не имеют значения; ведь цензоры исключили ив
сената самого Гнея Эгнация, чьим мнением ты так дорожишь. Если же ты
стоишь за цензоров, то знай, что этого Эгнация, которого родной отец,
своим цензорским осуждением лишает наследства, цензоры оставили в сенате,
исключив из него его отца.
(XLIX, 136) Но, говоришь ты, весь сенат признал, что этот суд был
подкуплен. Каким же образом?—«Он вмешался в это дело»104.— Мог ли
сенат отказаться от этого, когда такое дело внесли на его рассмотрение?
Когда народный трибун, подняв народ, чуть было не вызвал открытого
мятежа, когда все говорили, что честнейший муж и безупречнейший
человек пал жертвой подкупленного суда, когда сенаторское сословие навлекло
на себя сильнейшую ненависть,— можно ли было не принять решения,
можно ли было пренебречь возбуждением толпы, не подвергая государства
величайшей опасности? Но какое постановление было принято? Сколь
справедливое, сколь мудрое, сколь осторожное! «Если есть люди, чьи действия
привели к подкупу уголовного суда,...» Как вам кажется: признает ли сенат
15*
228
Речи Цицерона
факт совершившимся, или же он выражает свое негодование и огорчение
на случай, если бы он оказался таковым? Если бы самого Авла Клуенция
спросили в сенате, какого мнения он о подкупе судей, он ответил бы то же,
что ответили те, чьими голосами Клуенций, как вы говорите, был осужден.
(137) Но я спрашиваю вас: разве внес, на основании этого постановления
сената, консул Луций Лукулл, человек выдающегося ума, соответствующий
закон, разве внесли такой закон годом позже Марк Лукулл и Гай Кассий,
насчет которых, тогда избранных консулов 105, сенат постановил то же
самое 106? Нет, они такого закона не вносили. И то, что ты, не подкрепляя
своих слов ни малейшим доказательством, приписываешь действию денег
Габита, произошло прежде всего благодаря справедливости и мудрости этих
консулов; ведь постановление это, которое сенат издал, чтобы потушить
вспыхнувший в ту пору народный гнев, они впоследствии не сочли нужным
представить на рассмотрение народа. А позднее и сам римский народ,
возбужденный ранее притворными жалобами народного трибуна Луция Квинк-
ция, потребовал рассмотрения этого дела и внесения соответствующего
закона, теперь же он, тронутый слезами Гая Юния-сына, маленького
мальчика, при громких криках и стечении людей отверг этот закон в целом и
решение суда. (138) Это подтвердило справедливость часто приводимого
сравнения: как море, тихое по своей природе, волнуется и бушует от ветров,
так и римский народ, по характеру своему мирный, приходит в возбуждение
от речей мятежных людей, словно волнуемый сильнейшими бурями.
(L) Есть еще одно очень важное замечание, которого я, к стыду своему,
чуть было не пропустил: говорят, оно принадлежит мне. Аттий прочитал
выдержку из какой-то речи, по его словам, моей 107. Это был обращенный
к судьям призыв судить по совести и упоминание как о некоторых дурных
судах вообще, так, в частности, о Юниевом суде. Как будто я уже в начале
этой своей защитительной речи не говорил, что Юниев суд пользовался
дурной славой, или как будто я мог, рассуждая о бесславии судов, умолчать
о том, что в те времена приобрело такую известность в народе. (139) Но
если я и сказал что-нибудь подобное, то я не приводил данных следствия и
не выступал как свидетель, и та моя речь скорее была вызвана положением,
в каком я был, чем выражала мое собственное суждение и мои взгляды.
В самом деле, так как я был обвинителем и в начале своей речи поставил
себе задачу тронуть римский народ и судей и так как я перечислял все
злоупотребления судов, руководствуясь не своим мнением, а молвой, то я и не
мог пропустить дело, получившее в народе такую огласку. Но глубоко
заблуждается тот, кто считает, что наши судебные речи являются точным
выражением наших личных убеждений; ведь все эти речи — отражение
обстоятельств данного судебного дела и условий времени, а не взглядов самих
людей и притом защитников. Ведь если бы дела могли сами говорить за себя,
никто не стал бы приглашать оратора; но нас приглашают для того, чтобы
6. В защиту А ела Клуенция Габита
229
мы излагали не свои собственные воззрения, а то, чего требует само дело
и интересы стороны. (140) Марк Антоний 108, человек очень умный,
говаривал, что он не записал ни одной из своих речей, чтобы в случае надобности,
ему было легче отказаться от своих собственных слов; как будто наши слова
и поступки не запечатлеваются в памяти людей и без всяких записей,
сделанных нами! (LI) Нет, я по поводу этого охотнее соглашусь с другими
ораторами, а особенно с красноречивейшим и мудрейшим из них — с Луцием
Крассом 109; однажды он защищал Гнея Планка; обвинителем был Марк
Брут110, оратор пылкий и находчивый. Брут представил суду двоих чтецов
и велел им прочитать по главе из двух речей Красса, в которых развивались
мнения, противоречащие одно другому: в одной речи — об отклонении
ротации, направленной против колонии Нарбона111,— авторитет сената
умалялся до пределов возможного; другая речь — в защиту Сервилиева
закона 112— содержала самые горячие похвалы сенату; из этой же речи Брут
велел прочитать много резких отзывов о римских всадниках, чтобы
восстановить против Красса судей из этого сословия; тот, говорят, несколько
смутился. (141) И вот, в своем ответе, Красе прежде всего объяснил, чего
требовало положение, существовавшее в то время, когда была произнесена
каждая из этих речей,— чтобы доказать, что и та и другая речь
соответствовала сути и интересам самого дела. Затем, чтобы Брут понял, каков
человек, которого он задел, каким не только красноречием, но и обаянием и
остроумием он обладает, он и сам вызвал троих чтецов, каждого с одной из
книг о гражданском праве, написанных Марком Брутом, отцом обвинителя.
Когда чтецы стали читать начальные строки, вам, мне думается, известные:
«Пришлось нам однажды быть в Привернском имении, мне и сыну моему
Бруту...»,— Красе спросил, куда девалось Привернское имение; «Мы были
в Альбанском имении, я и сын мой Брут...»,— Красе спросил насчет Альбан-
ского имения; «Однажды отдыхали мы в своем поместье под Тибуром, я и
сын мой Брут...»,— Красе спросил, что стало с поместьем под Тибуром. Он
сказал, что Брут, человек умный, зная, какой бездельник его сын, хотел
засвидетельствовать, какие имения он ему оставляет; если бы можно было,
не нарушая правил приличия, написать, что он был в банях вместе с
взрослым сыном из, то он не пропустил бы и этого; впрочем, о банях Красе все-
таки требует отчета — если не по книгам отца Брута, то на основании
цензорских записей 114. Бруту пришлось горько раскаяться в том, что он
вызвал чтецов; так отомстил ему Красе, которому, очевидно, было неприятно
порицание, высказанное ему за его речи о положении государства, в которых
от оратора, пожалуй, больше всего требуется постоянство во взглядах.
(142) Что касается меня, то все прочитанное Аттием меня ничуть не
смущает. Тому времени и обстоятельствам того дела, которое я защищал, моя
тогдашняя речь вполне соответствовала; я не взял на себя обязательств,
которые бы мне мешали честно и независимо выступать защитником в
230
Речи Цицерона
настоящем деле. А если я сознаюсь, что я только теперь расследую дело
Авла Клуенция, а ранее разделял всеобщее мнение, то кто может поставить
мне это в вину? Тем более, что и вам по справедливости следует
удовлетворить ту мою просьбу, с какой я обратился к вам в начале своей речи и
обращаюсь теперь,— чтобы вы, пришедшие сюда с дурным мнением о прежнем
суде, узнав подробности дела и всю правду, отказались от предубеждения.
(LII, 143) Теперь, Тит Аттий, так как я ответил на все сказанное тобой
об осуждении Оппианика, ты должен сознаться, что ты жестоко ошибся;
ты думал, что я буду защищать Авла Клуенция, основываясь не на его
действиях, а на законе115. Ты ведь не раз говорил, что, по дошедшим до
тебя сведениям, я намерен вести эту защиту, основываясь на законе. Не так
ли? Видимо, нас, без нашего ведома, предают наши друзья, а среди тех,
кого мы считаем своими друзьями, есть кто-то, кто выдает наши замыслы
нашим противникам. Но кто именно сообщил тебе об этом, кто оказался
столь бесчестен? Кому же я сам об этом рассказал? Я думаю, в этом не
повинен никто, а тебя, бесспорно, этому научил сам закон. Однако разве я,
по-твоему, во всей своей защитительной речи хотя бы раз упомянул о
законе? Разве я не вел защиту в таком духе, как если бы Габит подпадал
под действие этого закона? Насколько человек может судить, ни одного
соображения, которое поможет обелить Клуенция от обвинения,
возбуждающего ненависть против него, я не пропустил. (144) Но что же?
Кто-нибудь, быть может, спросит, отказываюсь ли я прибегать к защите закона,
чтобы избавить своего подзащитного от угрозы уголовного суда. Нет, судьи,
я от этого не отказываюсь, но я верен своим правилам. Когда судят
честного и умного человека, то я обычно следую не только своему решению, но
также принимаю во внимание решение и желания своего подзащитного.
И вот, когда меня попросили взять на себя защиту, я, будучи обязан знать
законы, ради которых к нам обращаются и с которыми мы все время имеем
дело, тотчас же сказал Габиту, что по статье «Если кто вступит в сговор,
чтобы добиться осуждения человека...» он ответственности не подлежит, так
как она касается нашего сословия 116. Тогда он стал умолять и заклинать
меня, чтобы я не вел его защиты, ссылаясь на этот закон; я не преминул
высказать ему свои соображения, но он уговорил меня сделать так, как ему
казалось лучше: он утверждал со слезами на глазах, что доброе имя для
него дороже, чем гражданские права. (145) Я исполнил его желание, но
сделал это лишь потому (поступать так всегда мы не должны), что дело,
как я видел, само по себе — и без ссылки на закон — давало мне большие
возможности для защиты. Я видел, что в том способе защиты, каким я
теперь воспользовался, будет больше достоинства, а в том* к которому Клуен-
ций просил меня не прибегать,— меньше трудностей. Действительно, если
бы моей единственной целью было выиграть дело, то я прочитал бы вам
текст закона и на этом закончил бы свою речь.
6. В защиту А ела Клуенция Габита
231
(LIII) И меня не волнует речь Аттия, негодующего на то, что сенатора
способствовавший незаконному осуждению человека, подпадает под
действие законов, между тем как римский всадник, поступивший так же, под их
действие не подпадает. (146) Допустим, если я соглашусь с тобой в том,
что это возмутительно (я сейчас рассмотрю, так ли это), то ты должен
будешь согласиться со мной, что много более возмутительно, когда в
государстве, чьим оплотом являются законы, от них отступают117. Ведь законы —
опора того высокого положения, которым мы пользуемся в государстве,
основа свободы, источник правосудия; разум, душа, мудрость и смысл
государства сосредоточены в законах. Как тело, лишенное ума, не может
пользоваться жилами, кровью, членами, так государство, лишенное законов,—
своими отдельными частями. Слуги законов — должностные лица,
толкователи законов — судьи; наконец, рабы законов — все мы, именно благодаря
этому мы можем быть свободны. (147) Где причина того, что ты, Квинт
Насон 118, заседаешь на шестом трибунале? Где та сила, которая заставляет
этих судей, занимающих такое высокое положение, повиноваться тебе?
А вы, судьи, по какой причине, из такого большого числа граждан, в таком
малом числе избраны именно вы, чтобы выносить решение об участи других
людей? По какому праву Аттий сказал все, что хотел? Почему мне дается
возможность говорить так долго? Что означает присутствие писцов,
ликторов и всех прочих людей, которые, как я вижу, состоят при этом
постоянном суде? Все это, полагаю я, совершается по воле закона, весь этот суд,
как я уже говорил, управляется и руководствуется, так сказать, разумом
закона. Что же? А разве это единственный постоянный суд, который
подчиняется закону? А суд по делам об убийстве, руководимый Марком Пле-
торием и Гаем Фламинием? А суд по делам о казнокрадстве, руководимый
Гаем Орхивием? А суд по делам о вымогательстве, руководимый мной?
А суд, как раз теперь слушающий дело о домогательстве, руководимый
Гаем Аквилием? А остальные постоянные суды? Окиньте взором все части
нашего государства: вы увидите, что все совершается по велению и
указанию законов. (148) Если бы кто-нибудь захотел обвинить тебя, Тит Аттий,
перед моим трибуналом119, ты воскликнул бы, что закон о вымогательстве
на тебя не распространяется 120, и это твое возражение вовсе не было бы
равносильно твоему признанию в получении тобой взятки; нет, это было
бы желание отвести от себя неприятности и опасности, которым по закону
ты подвергаться не должен. (LIV) Смотри теперь, о чем идет дело и какого
рода те правовые положения, которые ты хочешь ввести. Закон, на
основании которого учрежден этот постоянный суд, велит, чтобы его
председатель, то есть Квинт Воконий, с судьями, назначенными ему жребием,—
закон призывает вас, судьи!— произвел следствие об отравлении. Следствие
над кем? Ограничений нет. «Всякий, кто приготовил, продал, купил, имел,
дал яд...». Что еще говорится в этом же законе? Читай «...да свершится
232
Речи Цицерона
уголовный суд над тем человеком». Над кем? Над тем ли, кто вошел в
сговор, заключил условие? Нет. В чем же дело? «Над тем, кто, будучи
военным трибуном первых четырех легионов 121, или квестором, или народным
трибуном (следует перечень всех должностей), или лицом, вносившим или
собиравшимся вносить предложение в сенате,...» Как же дальше? «Кто из
них вошел или войдет в сговор, или заключил, заключит условие с целью
осуждения человека уголовным судом...». «Кто из них...» Из кого же?
Очевидно, из тех людей, которые поименованы выше. Какое же значение имеет
то, как они поименованы? Хотя это и очевидно, все же сам закон >казывает
это нам. В случаях, когда он распространяется на всех людей, он гласит
так: «Всякий, кто приготовил, приготовит смертельный яд,...» Подсудны все
мужчины и женщины, свободные и рабы. Если бы закон имел в виду такой
сговор, было бы прибавлено: «или кто войдет в сговор...» Но закон гласит:
«Да свершится уголовный суд над тем, кто будет должностным лицом или
же будет вносить предложение в сенате; кто из них вошел или войдет в
сговор,...» (149) Разве Клуенций из числа таких людей? Конечно, нет. Кто
же такой Клуенций? Человек, который, несмотря ни на что, не согласился на
то, чтобы его защищали, ссылаясь на этот закон. Поэтому я оставляю закон
в стороне, следую желанию Клуенция. Но тебе, Аттий, я отвечу
несколькими словами, не имеющими непосредственного отношения к его делу. В нем
есть особенность, которая, по мнению Клуенция, касается его; есть и
другая, которая, по-моему, касается меня. Он считает важным для себя, чтобы
его защищали на основании самого дела и фактов, а не на основании
закона; я же считаю важным для себя, чтобы ни в одной части нашего спора с
Аттием я не оказался побежденным. Ведь мне придется выступать еще не в
одном судебном деле; мой усердный труд — к услугам всех тех, кого могут
удовлетворить мои способности как защитника. Я не хочу, чтобы кто-либо
из присутствующих подумал, что если я отвечу молчанием на рассуждения
Аттия о нашем законе, то это означает, что я с ними согласен. Поэтому я
повинуюсь тебе, Клуенций, насколько дело касается тебя; я не оглашаю
закона и то, что я говорю сейчас, говорю не ради тебя; но не премину
высказать то, чего, по моему мнению, от меня ожидают.
(LV, 150) Тебе, Аттий, кажется несправедливым, что не на »всех
граждан распространяются одни и те же законы. Прежде всего, если даже и
признать это величайшей несправедливостью, то из этого следует, что
законы эти надо изменить, но отнюдь не следует, что существующим законам
мы можем не повиноваться. Затем, кто из сенаторов, достигнув, благодаря
милости римского народа, более высокого положения, когда-либо
отказывался подвергаться, в силу законов, тем более строгим ограничениям?
Скольких преимуществ лишены мы! Сколько тягот и трудностей мы несем!
И за все это нас достаточно вознаграждают одним лишь преимуществом
в виде почета и высокого положения! Заставь же теперь всадническое и
6. В защиту А ела Клуенция Габита
233*
другие сословия подвергаться таким же ограничениям. Они не стерпят
этого. По их мнению, им в меньшей степени должны угрожать путы в виде
законов, стеснительных условий и судов, раз они либо не смогли занять
высшее положение среди граждан, либо к нему не стремились. (151) Не
буду говорить об всех других законах, распространяющихся на нас, между
тем как другие сословия от их соблюдения освобождены; возьмем вот какой
закон: «Никто не должен страдать от судебных злоупотреблений...»,
внесенный Гаем Гракхом; он внес этот закон ради блага плебса, а не во вред
плебсу. Впоследствии Луций Сулла, как ни чужды были ему интересы народа,
все же, учреждая постоянный суд для разбора дел, подобных нашему, на
основании того самого закона, по которому вы судите и в настоящее время,
не решился связать новым видом постоянного суда римский народ, который
он принял свободным от этого вида судебной ответственности. Если бы он
счел это возможным, то, при его ненависти к всадническому сословию 122,
он ничего бы так не хотел, как собрать всю памятную нам жестокость своей
проскрипции, какую он применил против прежних судей, в одном этом
постоянном суде. (152) Так и теперь — поверьте мне, судьи, и заранее
примите необходимые меры предосторожности — дело идет не о чем ином, как
о том, чтобы этот закон угрожал карой также и римским всадникам; правда,
усилия прилагают к этому не все граждане, а только немногие; ибо те
сенаторы, которым служат надежной защитой их неподкупность и
безупречность (таковы, скажу правду, вы и другие люди, прожившие свой век, не
проявив алчности), желают, чтобы всадническое сословие, по своему
достоинству ближайшее к сенаторскому, было тесно связано с ним узами
согласия. Но люди, желающие сосредоточить всю власть в своих руках, ни в чем
не делясь ею ни с кем,— ни с другим человеком, ни с другим сословием —
полагают, что им удастся подчинить римских всадников своей власти,
запугав их постановлением о том, что те из них, которые были судьями, могут
быть привлечены к суду на основании этого закона. Люди эти видят, что
авторитет всаднического сословия укрепляется; видят, что суды встречают
всеобщее одобрение; люди эти уверены в том, что они, внушив вам этот
страх, могут вырвать у вас жало вашей строгости. (153) В самом деле, кто
отважится добросовестно и стойко судить человека, даже немного более-
влиятельного, чем он сам, зная, что ему придется отвечать перед судом по
обвинению в сговоре и в заключении условия? (LVI) О, непоколебимые
мужи, римские всадники, давшие отпор прославленному мужу с огромным
влиянием, народному трибуну Марку Друсу 123, когда он, вместе со всей
знатью тех времен, добивался одного,— чтобы тех, кто входил в состав суда,
можно было привлекать к ответственности в таких именно постоянных
судах! Тогдашние лучшие люди, бывшие опорой римского народа,— Гай
Флавий Пусион, Гней Титиний, Гай Меценат,— а с ними и другие члены
всаднического сословия не сделали того, что теперь делает Клуенций; они не
234
Речи Цицерона
думали, что, отказываясь нести ответственность, они тем самым как бы
берут на себя некоторую вину; нет, они оказали Друсу самое открытое со-
лротивление, полагая и заявляя напрямик, стойко и честно, что они могли
бы, по решению римского народа, достигнуть самых высоких должностей,
если бы захотели обратить все свои стремления на соискание почестей; что
они видели, сколько в такой жизни блеска, преимуществ и достоинства; что
они не из презрения отказались от всего этого, но, будучи удовлетворены
пребыванием в сословии своем и своих отцов, предпочли остаться верными
своей тихой и спокойной жизни, далекой от бурь ненависти и судебных дел
этого рода. (154) Либо, говорили они, надо вернуть им их молодость и тем
самым дать им возможность добиваться почетных должностей, либо, коль
скоро это не выполнимо, оставить им те условия жизни, ради которых они
отказались от соискания должностей; несправедливо, чтобы люди,
отказавшиеся от блеска почетных должностей из-за множества связанных с ними
опасностей, милостей народа были лишены, но от опасностей со стороны
новых судов избавлены не были. Сенатор, говорили они, жаловаться на это
не может, так как все эти условия были в силе уже тогда, когда он
приступил к соисканию должностей, и так как имеется множество преимуществ,
облегчающих тяготы его должности: высокое положение, авторитет, блеск
и почет на родине, значение и влияние в глазах чужеземных народов, тога-
претекста, курульное кресло, знаки отличия, ликторские связки, империй,
наместничество в провинциях; по воле наших предков, на этом поприще его
ожидают, за честные действия, великие награды, а за проступки ему грозит
немало опасностей. Предки наши не отказывались от судебной
ответственности по тому закону, на основании которого теперь обвиняется Габит
(тогда это был Семпрониев, ныне это Корнелиев закон); ведь они понимали,
что закон этот на всадническое сословие не распространяется; но они
беспокоились о том, чтобы их не связали новым законом. (155) Габит же никогда
не отказывался дать отчет в своей жизни и притом даже на основании того
закона, который на него не распространяется. Если вы считаете такое
положение желательным, то постараемся, чтобы возможно скорее все сословия
стали подсудны этому постоянному суду.
(LVII) Однако пока этого не произошло,— во имя бессмертных
богов!— так как мы всеми своими преимуществами, правами, свободой,
наконец, благополучием обязаны законам, не будем же отступать от них;
подумаем также и вот о чем: римский народ теперь занят другими делами; он
поручил вам дела государства и свои собственные интересы, живет, не ведая
заботы, и не боится, что в силу закона, которого он никогда не принимал, он
он может быть привлечен к тому суду, которому считал себя неподсудным,
и что суд этот — в составе нескольких судей — будет выносить о нем
приговор. (156) Ведь Тит Аттий, юноша доблестный и красноречивый, исходит
в своей речи из положения, что все граждане подпадают под действие всех
6. В защиту А ела Клуенция Габита 235
законов; вы проявляете внимание и молча слушаете его рассуждения, как
вы и должны поступать. А между тем Авл Клуенций, римский всадник,
привлечен к судебной ответственности на основании закона, под действие
которого подпадают одни только сенаторы и бывшие должностные лица.
Клуенций запретил мне возражать против этого и вести защиту, создавая
себе оплот в виде закона, словно это крепость. Если он будет оправдан, на
что я твердо рассчитываю, уверенный в вашей справедливости, то все
сочтут, что он (как это и будет) оправдан ввиду своей невиновности, потому
что его защищали на основании именно этого, но что самый закон, к защите
которого он прибегнуть отказался, оплотом ему не служил.
(157) Но теперь возникает вопрос, о котором я уже говорил; он
касается лично меня и я должен отвечать за это перед римским народом; ибо цель
моей жизни состоит в том, чтобы все мои заботы и труды были направлены
в защиту обвиняемых. Я вижу, какой длинный, какой бесконечный ряд
опаснейших судебных дел могут начать обвинители, пытаясь
распространить на весь римский народ действие закона, составленного для применения
только к нашему сословию. В этом законе говорится: «Кто окажется
вступившим в сговор» (вы видите, как растяжимо это понятие), «заключившим
условие» (понятие столь же неопределенное и неограниченное),
«разделившим взгляды» (это уже нечто не только неопределенное, но и прямо
загадочное и неясное) «или давшим ложное свидетельское показание,...» Кто из
римского плебса никогда не давал таких свидетельских показаний, чтобы
ему (если согласиться с Титом Аттием) не грозила такая опасность? Ведь
если римскому плебсу будет грозить привлечение к ответственности перед
этим судом, то никто — я утверждаю — не станет выступать как свидетель.
(158) Но вот какое обязательство всем гражданам даю я: если кому-нибудь
будут чинить неприятности на основании закона, который на этого
человека не распространяется, и если он пожелает, чтобы я был его защитником,
то я буду вести его защиту на основании закона и с величайшей легкостью
добьюсь признания его правоты — у этих ли судей или у их достойных
преемников; и во всей своей защитительной речи я буду опираться на тот закон,
пользоваться которым мне теперь не позволяет человек, чью волю я обязан
уважать.
(LVIII) Ведь я никоим образом не могу сомневаться, судьи, что вы,
получив для разбирательства дело человека, не подпадающего под действие
какого-либо закона,— даже если об этом человеке идет дурная слава, если
он со многими во вражде, даже если он ненавистен вам самим, даже если
вам, против вашей воли, придется его оправдать — все же его
оправдаете, повинуясь своей совести, а не чувству ненависти. (159) Долг мудрого
судьи — всегда иметь в виду, что римский народ вручил ему лишь такие
полномочия, какие ограничены пределами вверенной ему должности, и
помнить, что он облечен не только властью, но и доверием; он должен уметь
236
Речи Цицерона
оправдать того, кого ненавидит, осудить того, к кому не испытывает
ненависти; всегда думать не о том, чего он желал бы сам, а о том, чего от него*
требуют закон и долг; принимать во внимание, на основании какого закона
подсудимый привлекается к ответственности, о каком подсудимом он ведет
следствие, в чем тот обвиняется. И если все это ему надо иметь в виду,
судьи, то долг человека значительного и мудрого — когда он берет в руку
табличку для вынесения приговора,— не считать себя единоличным судьей,
которому дозволено все, что ему вздумается, но руководствоваться законом,
верой в богов, справедливостью и честностью; произвол же, гнев, ненависть,
страх и все страсти отметать и превыше всего ставить свою совесть, которая
дана нам бессмертными богами и не может быть у нас отнята; если она на
протяжении всей нашей жизни будет для нас свидетельницей наших
наилучших помыслов и поступков, то мы проживем без страха, окруженные
глубоким уважением. (160) Если бы Тит Аттий это понял или обдумал,
он даже не попытался бы высказать то положение, которое он столь
многословно развил,— будто судья должен решать дела по собственному
усмотрению и связанным законами себя не считать. Мне кажется, что об этом —
если принять во внимание желание Клуенция — я говорил слишком много-
если принять во внимание важность вопроса — слишком мало; если же
принять во внимание вашу мудрость — достаточно.
Остается очень немногое. Так как дело было подсудно вашему
постоянному суду, то наши противники сочли нужным представить суду различные
свои выдумки, чтобы не заслужить полного презрения, когда они явятся в
суд лишь со своим злобным предвзятым мнением. (LIX) А дабы вы
признали, что обо всем, о чем я говорил, высказаться подробно я был
вынужден, выслушайте внимательно также и то, что мне остается сказать; вы,
конечно, придете к выводу, что там, где была возможность привести
доказательства в немногих словах, моя защита была очень краткой.
(161) Ты сказал, что Гнею Децидию из Самния, который был внесен в
проскрипционные списки и находился в бедственном (положении, челядь
Клуенция нанесла оскорбление 124. Нет, никто не отнесся к нему более
великодушно, чем именно Клуенций — он помог Децидию своими средствами в
его нужде, это признал как сам Децидий, так и все его друзья и
родственники. Затем ты сказал, что управители Клуенция расправились с
пастухами Анхария и Пацена. Когда на одной из троп произошла какая-то ссора
между пастухами (это случается нередко), то управители Клуенция
вступились за интересы своего хозяина и за его права частного владения; когда
была подана жалоба, противники получили разъяснения, а дело было
улажено без суда и споров. (162) «Публий Элий, в своем завещании лишив
наследства своего ближайшего родственника, назначил своим наследником
Клуенция, с которым он был в более отдаленном родстве».— Публий Элий
сделал это, желая вознаградить Габита за услугу; к тому же Габит при
6. В защиту Авла Клуенция Габита
237
составлении завещания и не присутствовал, а завещание скрепил печатью
как раз его недруг Оппианик. «Клуенций не уплатил Флорию легата,
завещанного ему».— Это не верно. Так как в завещании вместо 300000
сестерциев значилось 30000 сестерциев и так как обозначение суммы показалось
Клуенцию недостаточно ясным, то он и хотел, чтобы ту сумму, какую он
согласится выплатить, зачли в приход его щедрости; сначала он отрицал
этот долг, а затем без всякого спора уплатил эти деньги. «После войны от
него потребовали выдачи жены некоего Цея из Самния».— Хотя он и купил
эту женщину у скупщиков конфискованных имений 125, он, узнав, что она
была свободной, вернул ее Цею, не дожидаясь суда. (163) «Имущество
некоего Энния Габит удерживает у себя».— Энний этот — обнищавший
клеветник, приспешник Оппианика; в течение многих лет он вел себя смирно,
затем вдруг возбудил дело против раба Габита, обвинив его в воровстве,
а недавно подал жалобу на самого Габита. Поверьте мне,— когда этот суд
тю частному делу состоится, Эннию не избежать последствий злостного иска,
даже если вы сами будете его защитниками. Кроме того, вы, говорят,
выставляете свидетелем еще одного человека, отличающегося большим
гостеприимством,— некоего Авла Бивия, трактирщика с Латинской дороги; он
заявляет, что Клуенций, при посредстве подговоренных людей и своих
собственных рабов, избил его в его же харчевне. Об этом человеке пока еще
нет надобности говорить. Если он, по своему обыкновению, меня пригласит,
то я обойдусь с ним так, что он пожалеет, что отошел от дороги126. (164)
Вот вам, судьи, все те сведения насчет нравов и всей жизни Авла Клуен-
ция, которые удалось собрать его обвинителям в течение восьми лет; ведь,
по их утверждению, его все ненавидят! Как все это легковесно и
неубедительно, как ложно по существу; как мало можно на это ответить! (LX)
Ознакомьтесь теперь с тем, что имеет прямое отношение к данной вами
присяге, что подлежит вашему решению, чего от вас требует закон, на
основании которого вы здесь собрались,— с обвинениями в попытке
отравления — дабы все поняли, как мало слов можно было затратить на
рассмотрение настоящего дела и как много пришлось мне сказать такого, что
было угодно обвиняемому, но имело самое малое отношение к вашему суду.
(165) Присутствующему здесь Авлу Клуенцию было брошено обвинение
в том, что он отравил Гая Вибия Капака. К счастью, здесь присутствует
честнейший и достойнейший человек, сенатор Луций Плеторий, гостеприи-
мец и друг Капака. У него Капак жил в Риме, у него заболел, у него в доме
умер. «Но наследником Капака стал Клуенций».— Я утверждаю, что Капак
умер, не оставив завещания, и что владение его имуществом, согласно
эдикту претора, перешло к сыну его сестры, римскому всаднику Нумерию
Клуенцию, достойнейшему и честнейшему юноше, который здесь перед вами.
(166) Другое обвинение в отравлении заключается в следующем:
на свадьбе присутствующего здесь молодого Оппианика, на которой, по
238
Речи Цицерона
обычаю жителей Ларина, пировало множество людей, якобы по наущению
Клуенция, для Оппианика был приготовлен яд; но, как говорят, когда яд
поднесли ему в вине с медом, его друг, некий Бальбуций, перехватил кубок,
осушил его и тотчас же умер. Если бы я стал обсуждать это так тщательно,
как будто мне надо было бы опровергнуть обвинение, я подробно
рассмотрел бы то, чего я теперь касаюсь в своей речи лишь вкратце. (167) Какой
проступок когда-либо совершил Габит, который бы позволил считать его
способным на подобное преступление? Почему бы Габиту до такой степени
бояться Оппианика, когда тот, при слушании этого дела, ни слова не сумел
произнести против него? Между тем в обвинителях Клуенция, пока era
мать жива, недостатка не было. В этом вы сейчас убедитесь. Или именна
для того, чтобы опасность, угрожающая ему при разборе данного дела, не
уменьшилась, к нему и прибавили еще новое обвинение? К чему было
приурочивать попытку отравления именно ко дню свадьбы, к такому
многолюдному сборищу? Кто поднес яд? Откуда его взяли? Почему был
перехвачен кубок? Отчего напиток не был предложен снова? Можно было бы
сказать многое, но я не хочу создавать впечатление, что я, ничего не говоря*
хотел поговорить во что бы то ни стало; ведь факты говорят сами за себя.
(168) Я отрицаю, что тот юноша, который, по вашим словам, умер, осушив
кубок, умер именно в тот день. Это страшная и бесстыдная ложь!
Ознакомьтесь с остальными фактами. Я заявляю, что молодой Бальбуций, явившись
тогда к стелу уже нездоровым и, как это обычно в его возрасте, проявив
неумеренность, проболел несколько дней и умер. Кто может это
засвидетельствовать? Тот же, кто об этом скорбит: его отец; повторяю, отец этого
юноши; ведь если бы у него было хотя бы малейшее подозрение, то era
скорбь заставила бы его выступить здесь свидетелем против Авла
Клуенция; между тем он своими показаниями его обеляет. Огласи его показания.
А ты, отец, если тебе не трудно, приподнимись на короткое время. Перенеси
скорбь, какую у тебя вызывает этот необходимый рассказ, на котором я не
стану задерживаться, так как ты исполнил свой долг честнейшего мужа,
не допустив, чтобы твоя скорбь принесла несчастье невинному человеку и
навлекла на него ложное обвинение.
(LXI, 169) Теперь мне остается рассмотреть лишь одно обвинение в
этом роде, судьи! Благодаря этому вы сможете убедиться в справедливости
моих слов, сказанных мной в начале моей речи: все несчастья, изведанные
Авлом Клуенцием за эти последние годы, все тревоги и затруднения,
испытываемые им в настоящее время, все это — дело рук его матери. Оппианик,
говорите вы, умер от яда, данного ему в хлебе его другом, неким Марком
Аселлием, причем это будто бы было сделано по наущению Габита. Прежде
всего я спрошу: по какой же причине Габит хотел убить Оппианика? Между
ними была вражда; это я признаю. Но ведь люди желают смерти своим
недругам либо из страха перед ними, либо из ненависти к ним. (170) Чего
6. В защиту А ела Клуенция Габита
239
же боялся Габит до такой степени, что попытался совершить такое
преступление? Кому был страшен Оппианик, уже понесший кару за свои злодеяния
и исключенный из числа граждан? Чего мог опасаться Габит? Что он
подвергнется нападкам этого погибшего человека, что его обвинит тот, кто уже
осужден, или что изгнанник выступит свидетелем против него? Или же
Габит, ненавидя своего недруга и не желая, чтобы он наслаждался жизнью,
был столь неразумен, что считал подлинной жизнью ту жизнь, какую
Оппианик тогда влачил,— жизнь осужденного, изгнанного, всеми покинутого
человека, которого за его подлость, никто не пускал под свой кров, не удо-
стоивал ни встречи, ни разговора, ни взгляда? И такая жизнь вызывала
ненависть у Габита? (171) Если он ненавидел Оппианика непримиримо и
глубоко, то разве он не должен был желать ему прожить как можно дольше?
Если бы Оппианик обладал хотя бы каплей мужества, он сам покончил бы
с собой, как делали многие храбрые мужи, находясь в столь горестном
положении. Но как же мог недруг предложить ему то, чего он сам должен был
для себя желать? В самом деле, что дурного принесла ему смерть? Если
только мы не поддадимся на нелепые россказни и не поверим, что он у
подземных богов испытал мучения, уготованные нечестивцам, и встретил там
еще большее число врагов, чем оставил здесь, что Кары 127 его тещи, его
жен, его брата и его детей ввергли его туда, где пребывают злодеи. Если же
все это — вымысел (а так думают все), то что же, кроме страданий, смерть
могла у него отнять?
(172) Далее, кем был дан яд? Марком Аселлием. (LXII) Что
связывало его с Габитом? Ничто не связывало; более того, ввиду тесной дружбы
с Оппиаником, он скорее должен был относиться к Габиту
недоброжелательно. И что же, именно такому человеку, своему заведомому недругу и
лучшему другу Оппианика, Клуенций поручил совершить злодеяние и убить
Оппианика? Далее, почему же ты, которого сыновнее чувство заставило
выступить обвинителем, так долго оставляешь этого Аселлия
безнаказанным? Почему ты не последовал примеру Габита — с тем, чтобы путем
осуждения человека, принесшего яд, добиться предварительного приговора
моему подзащитному128? (173) Что это за невероятный, необычный,
небывалый способ отравления — давать яд в хлебе? Разве это было легче
сделать, чем поднести его в кубке? Разве яд, скрытый в куске хлеба, мог
проникнуть в тело легче, чем в случае, если бы он был весь растворен в питье?
Разве съеденный яд мог быстрее, чем выпитый, проникнуть в жилы и чсе
члены тела? А если бы преступление было обнаружено, то разве яд мог бы
остаться незамеченным в хлебе скорее, чем в кубке, где он успел бы
раствориться и где его не удалось бы отделить от напитка? «Но Оппианик
умер скоропостижно».— (174) Даже если бы это было правдой, то такая
смерть, постигшая очень многих, не может служить достаточно
убедительным доводом в пользу отравления; но если бы это и внушало подозрения,
240
Речи Цицерона
то они могли бы пасть на других скорее, чем на Габита. Но именно это —
бесстыднейшая ложь. Чтобы вы это поняли, я расскажу вам, и как Оппиа-
ник умер, и как после его смерти мать Габита стала искать возможности
обвинить своего сына.
(175) Скитаясь изгнанником и нигде не находя себе пристанища, Оппиа-
ник отправился в Фалернскую область к Гаю Квинктилию, где он впервые
захворал и проболел долго и довольно тяжело; вместе с ним была и Сассия,
причем между ней и неким колоном Стацием Аббием, здоровенным
мужчиной, обычно находившимся при ней, возникли отношения, более близкие,
чем мог бы допустить самый распутный муж, если бы он был в более
благоприятном положении. Но Сассия считала священные узы законного брака
расторгнутыми, раз ее муж был осужден. Некий Никострат, верный
молодой раб Оппианика, очень наблюдательный и вполне правдивый, говорят,
обо многом рассказывал своему господину. Когда Оппианик начал
поправляться, он, не будучи в силах, находясь в Фалернской области, переносить
наглость этого колона, переехал в окрестности Рима, где обычно нанимал
для себя жилье за городскими воротами; в пути он, говорят, упал с лошади
и — как это понятно при его слабом здоровье — сильно повредил себе бок;
приехав в окрестности Рима, он заболел горячкой и через несколько дней
умер. Обстоятельства его смерти, судьи, подозрений не вызывают, а если
и вызывают, то преступление это — семейное, совершенное в стенах дома.
(LXIII, 176) После его смерти Сассия, эта нечестивая женщина, тотчас
же начала строить козни своему сыну. Она решила произвести следствие
об обстоятельствах смерти своего мужа. Она купила у Авла Рупилия,
который был врачом Оппианика, некоего Стратона, словно для того, чтобы
последовать примеру Габита, в свое время купившего Диогена 129. Она
объявила о своем намерении допросить этого Стратона, а также своего раба,
некоего Асклу. Кроме того, у присутствующего здесь молодого Оппианика она
потребовала для допроса раба Никострата,— о нем я уже говорил,— которого
считала чрезмерно болтливым и преданным своему господину. Так как
Оппианик был в то время мальчиком и так как ему говорили, что допрос
должен обнаружить виновника смерти его отца, то он не осмелился перечить
мачехе, хотя и считал этого раба преданным слугой своим и своего
умершего отца. Были приглашены многие друзья и гостеприимцы Оппианика и
самой Сассии, честные и весьма уважаемые люди. Были применены самые
жестокие пытки. Но как ни старалась Сассия, то обнадеживая, то
запугивая рабов, вырвать у них показания, рабы все же,— как я полагаю —
благодаря присутствию столь достойных людей, продолжали говорить правду и
заявили, что они ничего не знают130. (177) По настоянию друзей, в тот
день допрос был прекращен. Довольно много времени спустя, Сассия
созвала их вновь и возобновила допрос. Рабов подвергли самой мучительной
лытке, какую только можно было придумать. Приглашенные, не в силах
6. В защиту А ела Клуенция Габита 241
выносить это зрелище, стали выражать свое негодование, но жестокая и
бесчеловечная женщина была взбешена тем, что задуманные ею действия
не приводят к ожидаемому успеху. Когда и палач уже утомился и, казалось,
самые орудия пытки отказались служить, а она все еще не унималась, один
из приглашенных, человек, которого народ удостоил почестей, и весьма
доблестный, заявил, что, по его убеждению, допрос производится не для того,
чтобы узнать истину, а для того, чтобы добыть ложные показания.
Остальные присоединились к его мнению, и, по общему решению, допрос был
признан законченным. (178) Никострата возвратили Оппианику. Сама Сассия
выехала со своими рабами в Ларин, глубоко огорченная тем, что ее сын
теперь уже, наверное, останется невредим и будет недосягаем не только для
обоснованного обвинения, но даже и для ложного подозрения, и что ему
не смогут повредить не только открытые нападки недругов, но даже и
тайные козни матери. Приехав в Ларин, Сассия, ранее прикидывавшаяся
убежденной в том, что Стратон поднес яд ее мужу, в Ларине тотчас же
предоставила в его распоряжение лавку для продажи лекарств, снабженную всем
необходимым. (LXIV) Проходит год, другой, третий; Сассия ведет себя
смирно; она, видимо, желает своему сыну всяческих бедствий и накликает
их на него, но сама ничего не затевает и не предпринимает. (179) Но вот,
в консульство Квинта Гортенсия и Квинта Метелла 131, Сассия, чтобы
привлечь на свою сторону в качестве обвинителя молодого Оппианика, занятого
другими делами и совершенно не думавшего ни о чем подобном, женит его,
против его желания, на своей дочери — той, которую она родила своему
зятю; она рассчитывала забрать его в свои руки, связав его и этим браком
и надеждой на получение наследства. Почти тогда же этот самый лекарь
Стратон совершил у нее в доме кражу с убийством: там, в шкафу, как ему
было известно, хранилась некоторая сумма денег и золото; однажды ночью
он убил двоих спящих товарищей-рабов, бросил их в рыбный садок, затем
взломал дно шкафа и унес... [Лакуна.] сестерциев и пять фунтов золота; его
сообщником был раб-подросток. (180) На следующий день, когда кража
была обнаружена, подозрение пало на исчезнувших рабов. Но когда
заметили отверстие в дне шкафа и не могли понять, как все это могло случиться,
один из друзей Сассии вспомнил, что он недавно видел на торгах, среди
мелких вещей, изогнутую кривую пилку с зубцами с обеих сторон, которой,
по-видимому, можно было выпилить круглый кусок дерева. Коротко говоря,
запросили старшин на торгах; оказалось, что эту пилку приобрел Стратон.
Когда таким образом напали на след преступления и подозрение пало на
Стратона, то мальчик, его сообщник, испугался и во всем признался своей
госпоже. Трупы в рыбном садке были найдены. Стратона заковали в цепи,
а в его лавке оказались деньги, правда, не все. (181) Началось следствие
о краже. Ибо о чем другом могла идти речь? Быть может, вы станете
утверждать, что — после взлома шкафа, похищения денег, обнаружения одной
■ Ь Цицерон, т. I
242
Речи Цицерона
лишь их части, убийства людей — было начато следствие о смерти Оппиа-
ника? Кто поверит вам? Можно ли было сочинить что-либо менее
правдоподобное? Затем,— уж не говоря об остальном — можно ли было затевать
следствие о смерти Оппианика по прошествии трех лет? И все-таки Сассия,
горя своей прежней ненавистью, без всяких оснований потребовала того же
Никострата для допроса. Оппианик вначале отказал ей; затем, когда она
ему пригрозила разлучить его со своей дочерью и переделать завещание,
он выдал жестокой женщине своего преданного раба — не для допроса, а
прямо на мучительную казнь.
(LXV, 182) И вот, через три года, Сассия возобновила допрос об
обстоятельствах смерти своего мужа. Но над какими рабами происходило
следствие? Разумеется, были найдены новые улики, заподозрены новые
люди? Нет, были привлечены Стратон и Никострат. Как? Разве они не
были уже допрошены в Риме? Скажи мне, женщина, обезумевшая не от
болезни, а от преступности,— после того как ты вела допрос в Риме, после
того как по решению Тита Анния, Луция Рутилия, Публия Сатурия и
других честнейших мужей допрос был признан законченным, ты через три года,
не пригласив, не скажу — ни одного мужчины (чтобы вы не могли сказать,
что присутствовал тот самый колон), но честного мужчины, затеяла снова
допрос тех же самых рабов, чтобы вырвать у них показания, грозящие
гибелью твоему сыну? (183) Или вы утверждаете (ведь мне самому пришло
в голову, что это можно сказать, хотя, вспомните, до сего времени ничего
сказано не было), что во время допроса о краже Стратон сознался кое в чем
и насчет отравления? Ведь нередко именно таким путем, судьи,
обнаруживается истина, скрывавшаяся многими бесчестными людьми, а защита
невиновного человека вновь обретает голос, которого была лишена; это
происходит либо потому, что люди, способные к коварным замыслам,
оказываются недостаточно смелыми, чтобы привести их в исполнение, либо потому,
что люди отважные и наглые недостаточно хитроумны. Если бы коварство
было уверенным в себе, а дерзость — хитрой, то едва ли было бы возможно
дать им отпор.
Скажите, разве не была совершена кража. Да о ней знал весь Ларин.
Разве против Стратона не было улик? Да ведь он был уличен, когда была
найдена пилка, и был выдан подростком, своим сообщником. Или допрос
этого не касался? А какая же другая причина могла вызвать допрос? Не
то ли, что вынуждены признать вы и о чем тогда твердила Сассия: во
время допроса по делу о краже Стратон, под той же пыткой, говорил об
отравлении. (184) Это как раз то, о чем я уже говорил: наглости у этой
женщины — в избытке, но благоразумия и здравого смысла не хватает. Ведь было
представлено несколько записей допроса; они были прочитаны и розданы
вам; это те самые записи, которые, по ее словам, были скреплены
печатями 132; в этих записях ни слова нет о краже. Сассии не пришло в голову сна-
6. В защиту А ела Клуенция Габита
243
чала сочинить от имени Стратона показание о краже, а затем прибавить
несколько слов об отравлении — с тем, чтобы его заявление показалось не
добытым путем выспрашивания, а вырванным под пыткой. Ведь допрос
касался кражи, а подозрение в отравлении отпало уже во время первого
допроса; это в то время признала сама Сассия; ведь она, по настоянию своих
друзей объявив в Риме следствие законченным, затем в течение трех лет
благоволила к этому Стратону более, чем к какому-либо другому рабу,
осыпала его милостями и предоставила ему всяческие преимущества.
(185) Итак, когда его допрашивали насчет кражи и притом насчет кражи,
которую он, бесспорно, совершил, он, следовательно, ни проронил ни слова
о том, о чем его допрашивали? Значит, он тотчас же заговорил о яде, а о
самой краже не проронил ни слова — и не только тогда, когда именно это
требовалось от него, но даже ни в последней, ни в средней, ни в какой-либо
другой части своих показаний? (LXVI) Вы теперь видите, судьи, что эта
нечестивая женщина той же рукой, какой она стремится убить своего
сына,— если ей дадут такую возможность — составила эту подложную
запись о допросе. Но назовите же мне имя хотя бы одного человека,
скрепившего своей печатью эту самую запись. Вы не найдете никого; разве только
того человека, упомянуть имя которого для меня еще выгоднее, чем не
называть никого133. (186) Что ты говоришь, Тит Аттий? Ты готов
представить суду запись, угрожающую гражданским правам человека,
содержащую улики его злодеяния, решающую его участь, и не назовешь никого, кто
поручился за ее подлинность, скрепил ее своей печатью и был свидетелем?
И эти столь достойные мужи согласятся с тем, чтобы то оружие, которое
ты получишь из рук матери, погубило ее ни в чем не повинного сына? Но
допустим, что эти записи доверия к себе не внушают; почему же данные
самого следствия не сохранены для судей, не сохранены для тех друзей и
гостеприимцев Оппианика, которых Сассия приглашала в первый раз?
Почему они не уцелели до нынешнего дня? Что сделали с теми людьми — со
Стратоном и Никостратом? (187) Я спрашиваю тебя, Оппианик! Скажи,
что сделали с твоим рабом Никостратом. Так как ты намеревался в скором
времени выступить обвинителем Клуенция, ты должен был привезти Нико-
страта в Рим, предоставить ему возможность дать показания, вообще
сохранить его невредимым для допроса, сохранить его для этих вот судей,
сохранить его для нынешнего дня. Что касается Стратона, судьи, то он — знайте
это — был распят на кресте после того, как у него вырезали язык. В Ларине
все знают об этом. Обезумевшая женщина боялась не своей совести, не
ненависти своих земляков, не повсеместной дурной молвы; нет,— словно не все
окружающие могли впоследствии стать свидетелями ее злодейства — она
испугалась обвинительного приговора из уст своего умиравшего раба.
(188) Какое это чудовище, бессмертные боги! Видели ли где-либо на
земле такое страшилище? Как назвать это воплощение отвратительных и
16*
244
Речи Цицерона
беспримерных злодейств? Откуда оно взялось? Теперь вы, конечно, уже
понимаете, судьи, что я не без веских и важных причин говорил в начале
своей речи о матери Клуенция. Нет бедствия, на которое бы она его не
обрекла, нет преступления, которого бы она против него не замыслила, не
затеяла, не пожелала совершить и не совершила. Умолчу о первом
оскорбительном проявлении ее похоти; умолчу о ее нечестивой свадьбе с
собственным зятем; умолчу о расторжении брака ее дочери, вызванном страстью
матери; все это еще не угрожало жизни Клуенция, хотя и позорило всю
семью. Не стану упрекать ее также за ее второй брак с Оппиаником 13\
от которого она предварительно приняла в залог трупы его детей, а затем
уже вошла женой в его дом, на горе семье и на погибель своим пасынкам.
Не буду говорить и о том, что она, зная об участии Оппианика в
проскрипции и убийстве Авла Аврия, тещей которого она когда-то была, а вскоре
стала женой, избрала себе для жительства тот дом, где она изо дня в день
должна была видеть следы смерти своего прежнего мужа и его расхищенное
имущество. (189) Нет, я прежде всего ставлю ей в вину то преступление,
которое раскрыто только теперь,— попытку отравления при посредстве Фаб-
рициев 135; уже тогда, когда другие, по горячим следам, заподозрили ее в
сообщничестве, одному только Клуенцию оно казалось невероятным; но
теперь оно явно и несомненно для всех; конечно, от матери не могла быть
скрыта эта попытка; Оппианик ничего не замышлял, не посоветовавшись
с Сассией; если бы дело обстояло иначе, то впоследствии, по раскрытии
преступления, она бы, несомненно, не говорю уже — разошлась с ним, как
с бесчестным мужем, а бежала бы от него, как от лютого врага, и дом его,
запятнанный всяческими преступлениями, оставила бы навсегда. (190)
Однако она не только не сделала этого, но с того времени не упустила ни
одного случая причинить Клуенцию зло. И днем и ночью эта мать только и
думала о том, как бы ей погубить своего сына. Прежде всего, чтобы
заручиться помощью Оппианика как обвинителя своего сына, она привлекла
его на свою сторону подарками, услугами, выдала за него свою дочь, подала
ему надежду на наследство.
(LXVII) У других людей раздоры между родственниками, как
приходится видеть, часто имеют своим последствием развод, расторжение
родственных связей; между тем эта женщина рассчитывала найти надежного
обвинителя ее сына только в том человеке, который бы предварительно
женился на его сестре! Другие люди, под влиянием новых родственных
связей, часто забывают давнюю вражду; она же сочла, что для нее новые
родственные связи послужат залогом укрепления вражды. (191) И она не
только постаралась подыскать обвинителя против своего сына, но также
подумала и о том, каким оружием его снабдить. Отсюда ее старания склонить
на свою сторону рабов угрозами и обещаниями; отсюда те нескончаемые
жесточайшие допросы об обстоятельствах смерти Оппианика, которым, на-
6. В защиту А ела Клуенция Габита
245
конец, положило предел не ее собственное чувство меры, а настояния ее
друзей. Три года спустя ее же преступные замыслы привели к допросам,
произведенным в Ларине; ее же безумие породило подложные записи
допросов; ее же бешенство заставило ее преступно вырвать язык у раба.
Словом, подготовка всего этого обвинения против Клуенция и задумана и
осуществлена ею.
(192) Снабдив обвинителя своего сына всем необходимым и отправив
его в Рим, она сама в течение некоторого времени оставалась в Ларине,
чтобы набрать и подкупить свидетелей; но потом, как только ее известили, что
день суда над Клуенцием приближается, она немедленно примчалась сюда,
опасаясь как бы обвинителям не изменило их усердие, а свидетели не
остались без денег и боясь, что она, мать, может пропустить самое желанное для
нее зрелище — видеть Авла Клуенция в рубище, в горе и в трауре!
(LXVIII) А как представляете вы себе поездку этой женщины в Рим?
Живя по соседству с Аквином и Фабратерной, я слышал о ней от многих
очевидцев. Как сбегались жители этих городов! Какими воплями
встречали ее и мужчины и женщины! Из Ларина, говорили они, мчится какая-то
женщина, чуть ли не с берегов Верхнего моря 136 едет она с
многочисленными спутниками и большими деньгами, чтобы с возможно большей
легкостью предать своего сына уголовному суду и погубить его! (193) Чуть ли
не все они были готовы требовать совершения очистительных обрядов 137
в тех местах, где она проезжала. Все считали, что сама земля, мать всего
сущего, осквернена следами ног этой преступной матери. Поэтому не было
города, который позволил бы ей остановиться в его стенах; среди стольких
ее гостеприимцев не нашлось ни одного, который не бежал бы от нее, как
от лютой заразы; она предпочитала доверяться мраку и пустыне, а не
городам или гостеприимцам. (194) Ну, а теперь? Кто из нас, по ее мнению,
не знает, чем занята она, что затевает и что изо дня в день замышляет?
Мы знаем, к кому она обратилась, кому посулила денег, чью верность
пыталась поколебать обещанием награды. Более того, мы разузнали все даже
о ее ночных жертвоприношениях, которые она считает тайными, о ее
преступных молитвах и нечестивых обетах 138; в них она даже бессмертных
богов призывает в свидетели своего злодейства и не понимает, что богов можно
умилостивить благочестием, верностью своему долгу и искренними
молитвами, а не позорным суеверием и жертвами, закланными ради успеха
преступления. Но неистовство ее и жестокость, как я в том уверен, бессмертные
боги с отвращением оттолкнули от своих алтарей и храмов.
(LXIX, 195) А вы, судьи, которых Судьба поставила как бы в
качестве иных богов для этого вот Авла Клуенция на все время его жизни,
отведите удар бесчеловечной матери от головы ее сына. Многие судьи не раз
оказывали снисхождение детям из сострадания к их родителям. Вас же мы
умоляем не отдавать Клуенция, честнейшим образом прожившего свой век,
246
Речи Цицерона
на произвол его жестокой матери — тем более, что на стороне защиты вы
можете видеть весь муниципий. Все жители Ларина, знайте это, судьи,—
это невероятно, но я скажу вам сущую правду — все, кто только мог,
приехали в Рим, чтобы, по мере своих сил, своей преданностью и
многочисленностью поддержать Клуенция в его столь опасном положении. Знайте, в
настоящее время их город поручен детям и женщинам и ныне находится в
безопасности благодаря всеобщему миру в Италии, а не благодаря своим
военным силам. Но и те, кто остался дома, равно как и те, кого вы видите
здесь, днем и ночью в тревоге ожидают вашего приговора. (196) По их
мнению, вам предстоит голосами своими не только решить участь одного
их земляка, но и вынести приговор о положении, достоинстве и
благополучии всего муниципия. Ибо Клуенций, судьи, проявляет величайшую заботу
о благе всего муниципия, благожелательность к его отдельным жителям,
справедливость и честность по отношению ко всем людям. Кроме того, он
свято оберегает честь своего знатного имени и свое положение среди своих
земляков, завещанное ему предками, не уступая последним в твердости,
непоколебимости, влиянии и щедрости. Поэтому жители Ларина,
официально воздавая ему хвалу в таких выражениях, не только выступают
свидетелями и высказывают свое мнение о нем, но и выражают свою тревогу и
скорбь. Во время чтения этого хвалебного отзыва вас, представивших его,
я прошу встать.
(197) Видя их слезы, судьи, вы можете заключить, что все декурионы,
принимая это решение, тоже проливали слезы. Далее, какое рвение, какую
необычайную благожелательность, какую заботливость проявили жители
соседних областей! Они не прислали принятого ими хвалебного отзыва з
письменном виде, но постановили, чтобы самые уважаемые среди них люди,
известные всем нам, в большом числе явились сюда и лично высказали
хвалу Клуенцию. Здесь находятся знатнейшие френтаны и равные им по своему
достоинству марруцины; вы видите в качестве представителей весьма
уважаемых римских всадников из Теана в Апулии и из Луцерии. Из Бовиана
и из всего Самния присланы очень лестные хвалебные отзывы и прибыли
весьма влиятельные и очень знатные люди. (198) Что касается людей,
владеющих поместьями в Ларинской области, ведущих там дела и
занимающихся скотоводством,— честных и весьма известных — то трудно сказать,
как они встревожены и озабочены. Мне кажется, немного найдется людей,
которых хотя бы одни человек любил так, как присутствующие здесь
любят Клуенция.
(LXX) Как я огорчен, что здесь в суде нет Луция Волусиена,
блистательного и доблестного человека! Как бы мне хотелось назвать в числе
присутствующих именитейшего римского всадника Публия Гельвидия
Руфа! Дни и ночи занимаясь делом Клуенция и разъясняя его мне, он
тяжело и опасно заболел; при этом он все же тревожится о гражданских пра-
б. В защиту А ела Клуенция Габита
247
вах Клуенция не менее, чем о своей собственной жизни. Что касается
сенатора Гнея Тудиция, честнейшего и почтеннейшего мужа, то из его
свидетельских показаний и из его хвалебного отзыва вы поймете, что он
защищает Клуенция с таким же рвением, как и Гельвидий. С такой же надеждой,
но с большей сдержанностью произношу я твое имя, Публий Волумний 139,
так как ты — один из судей Авла Клуенция. Коротко говоря, я утверждаю,
что все соседи относятся к обвиняемому с глубокой доброжелательностью.
(199) Против рвения, заботливости и усердия всех этих людей, а также и
против моих усилий, когда я, по старинному обычаю, один произнес всю
защитительную речь 140, а заодно и против вашей, судьи, справедливости и
человеколюбия борется одна мать Клуенция. Но какая мать! Вы видите ее,
ослепленную жестокостью и преступностью, неспособную, потворствуя своим
страстям, остановиться ни перед каким гнусным поступком, ее, которая своей
порочностью извратила все понятия о человеческом правосудии; ведь она
настолько безумна, что никто не станет называть ее человеком, настолько
необузданна, что ее нельзя назвать женщиной, и столь жестока, что матерью
ее тоже не назовешь. Даже названия родственных отношений она исказила,
не говоря уже о названиях и правах, данных ей природой: женой она стала
зятю, мачехой — сыну, дочери — разлучницей; наконец, она дошла до того,
что, кроме своей наружности, не сохранила никакого подобия человека.
(200) Ввиду всего этого, судьи, если вы ненавидите преступление,
преградите матери доступ к крови ее сына, причините родительнице тяжкое
огорчение, даровав спасение и победу ее детищу; сделайте так, чтобы мать
не могла ликовать, потеряв сына, и ушла, побежденная вашим правосудием.
Если вы, как вам свойственно, любите честь, добро и доблесть, то
облегчите, наконец, участь этого просителя, судьи, уже столько лет страдающего от
незаслуженной им ненависти и подвергающегося опасностям; ведь он ныне
впервые, вырвавшись из пламени, зажженного чужими преступлением и
страстями, воспрянул духом в надежде на вашу справедливость и вздохнул
свободнее, избавившись от страха; все свои упования он возлагает на вас;
видеть его спасенным желают очень многие, но спасти его можете только
вы одни. (201) Габит умоляет вас, судьи, со слезами заклинает вас: не
делайте его жертвой ненависти, которой не место в суде; не выдавайте его
ни матери, чьи обеты и молитвы должны быть противны вам, ни Оппианику,
нечестивцу, давно уже осужденному и мертвому. (LXXI) Если Авла
Клуенция, несмотря на его невиновность, в этом суде постигнет несчастье, то этот
злополучный человек,— если только он останется в живых, что мало
вероятно,— не раз пожалеет о том, что попытка Фабрициев отравить его некогда
была раскрыта. Если бы его тогда о ней не предупредили, то для этого
страдальца яд был бы не ядом, а лекарством от многих скорбей; тогда,
быть может, сама мать пошла бы проводить его прах и притворилась бы
оплакивающей смерть сына. А ныне что выиграет он? Разве только то, что,
248
Речи Цицерона
едва избавившись от смертельной опасности, он в печали будет влачить
жизнь, сохраненную ему, а в случае смерти будет лишен погребения в
гробнице своих отцов. (202) Достаточно долго томился он, судьи, достаточно
много лет страдал от ненависти; но никто не был более враждебен ему, чем
его мать, чья ненависть все еще не утолена. Вы же, справедливые ко всем,
вы, которые тем благосклоннее поддерживаете человека, чем ожесточеннее
на него нападают, спасите Авла Клуенция, возвратите его невредимым его
муниципию; его друзьям, соседям, гостеприимцам, чью преданность вы
видите, верните его; сделайте его навеки должником вашим и ваших детей.
Это будет достойно вас, судьи, достойно вашего звания, вашего
милосердия. Мы вправе требовать от вас, чтобы вы, наконец, избавили от этих
несчастий честного и ни в чем не повинного человека, дорогого такому
множеству людей, дабы все они поняли, что если на народных сходках
находится место для ненависти, то в судах господствует правда.
7
ВТОРАЯ РЕЧЬ О ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ
НАРОДНОГО ТРИБУНА ПУБЛИЯ СЕРВИЛИЯ РУЛЛА
[К народу, 2 (?) января 63 г.]
(I, 1) Согласно обычаю и установлениям наших предков, квириты, те
люди, которые достигли права выставлять изображения своих отцов
благодаря милостям с вашей стороны *, в первой же своей речи перед народом
выражают вам свою благодарность за оказанную милость и воздают хвалу
своему роду. Произнося эту речь, некоторые из них иногда сами
оказываются достойными того положения, какое занимали их предки; но
большинству из них удается достигнуть лишь того, что начинает казаться,
будто долг народа перед их предками столь значителен, что за счет него можно
вознаградить и потомков. Но у меня, квириты, возможности говорить о
предках нет — не потому, что они были не такими, каким вы видите меня,
происшедшего от их плоти и крови и воспитанного по их заветам, но
потому, что хвалы народа и блеск почестей, которые вы оказываете, были
неведомы им. (2) Если я стану говорить перед вами о себе самом, то это может
вам показаться дерзким самохвальством, а если промолчу, то —
неблагодарностью. Ибо, с одной стороны, упоминать о тех усердных трудах, какими я
достиг этого высокого положения, мне очень неловко, а с другой стороны,
молчать о ваших таких больших милостях я никак не могу. Поэтому я в
своей речи буду соблюдать разумную умеренность и расскажу о том, чем
я обязан вам; о том, почему вы меня сочли достойным величайшего почета
и исключительно высокого суждения, я сам скромно упомяну, если будет
нужно; я склонен думать, что обо мне составят себе мнение те же люди,
которые уже вынесли свое суждение.
(3) Я — новый человек2, которого вы, впервые на нашей памяти, после
очень долгого промежутка времени3, избрали в консулы. К тому званию,
которое знать всячески обороняла и ограждала валом, вы, под моим
водительством, пробили путь и сделали его впредь открытым для доблести.
При этом вы меня не только избрали консулом, что чрезвычайно почетно
само по себе, но избрали так, как в нашем государстве были избраны
консулами из знатных людей лишь немногие, а из новых людей — до меня
ни один. (II) И в самом деле, если вы пожелаете вспомнить случаи
избрания новых людей, то окажется, что те из июих, которые были избраны
250
Речи Цицерона
в консулы, не потерпев поражения на выборах, были избраны благодаря
своим продолжительным усилиям или какому-либо благоприятному
случаю 4 причем они участвовали в соискании через много лет после своей пре-
туры — гораздо позже, чем им позволяли их возраст и наши законы5; что
те, кто участвовал в соискании «в свой год», были избраны" в консулы
только после того, как потерпели неудачу; что я—единственный из всех
новых людей, которых мы можем припомнить, кто участвовал в соискании
консульства, как только это стало возмож* , ш по закону, и был избран
консулом при первом же соискании, так что почет, оказанный мне вами и
достигнутый мною в положенный мне срок, представляется не
случайно выпавшим .на мою долю в связи с неудачным соисканием другого
человека и не выпрошенным долгими мольбами, а достигнутыми моими заслугами.
(4) Все, о чем я только что говорил, квириты, для меня чрезвычайно
почетно: мне первому из новых людей вы, по прошествии многих лет,
оказали эту честь; вы оказали ее мне при первом же моем соискании, «в мой
год»; но самое прекрасное и лестное для меня то, что во время моих коми-
ций вы не табличками, этим безмолвным залогом свободы, но громкими
возгласами выразили свое расположение ко мне и свое рвение. Таким
образом, я был объявлен консулом не после окончательного подсчета голосов,
но в первом же вашем собрании, не голосами отдельных глашатаев, а
единым голосом всего римского народа 6.
(5) Эта столь необычайная, столь исключительная милость с вашей
стороны, квириты, приносит мне величайшее удовлетворение и радость, но еще
сильнее призывает меня к бдительности и неусыпным заботам. Ибо меня,
квириты, терзают разные гнетущие мысли, ни днем, ни ночью не
дающие мне покоя,— прежде всего забота о том, чтобы соблюсти достоинство
своего консульства, задача трудная и важная для всех людей, а для меня
особенно; ведь мне, в случае ошибки, пощады не будет, а за правильные
действия меня похвалят скупо и нехотя; в случае сомнений знатные люди
не дадут мне доброго совета, а в случае затруднений не окажут надежной
поддержки. (III, 6) Если бы какая-либо опасность угрожала мне одному,
то я, квириты, принял бы это более спокойно; но есть, мне кажется,
определенные люди, которые, если они сочтут, что я в чем-либо погрешил и
не только преднамеренно, но даже случайно, станут порицать всех вас,
оказавших мне предпочтение перед знатью. Что касается меня, квириты,
то я готов скорее претерпеть все что угодно, лишь бы только исполнять
свои обязанности консула так, чтобы люди, видя все мои поступки и
решения, прославляли ваш поступок и ваше решение, касавшееся меня. К тому
же мне, при исполнении консульских обязанностей, предстоят величайшие
усилия и труднейшая задача, так как я решил руководствоваться не теми
правилами и положениями, какими руководствовались прежние консулы:
одни из них 'всячески избегали выходить на это место 7 и встречаться с
7. Вторая речь о земельном законе
251
вами, а другие к этому не особенно стремились. И я буду говорить так не
только с этого места, где легче всего говорить именно так, но даже и в
сенате, где, казалось бы, не место для таких речей, я в первой своей речи,
в январские календы, сказал, что буду консулом, верным воле народа.
(7) Ведь я хорошо знаю, что я избран в консулы не стараниями
могущественных людей, не ввиду исключительного влияния меньшинства, а по
решению всего римского народа, причем мне было оказано значительное
предпочтение перед знатными людьми. Поэтому я, в своих действиях,
не могу не быть верным воле народа и в этой деятельности консула, и в
течение всей своей жизни. Но для истолкования смысла этих слов я очень
нуждаюсь в вашей мудрости; ибо повсюду распространено глубокое
заблуждение, связанное с коварным притворством некоторых людей, которые,
нападая и посягая не только на благополучие, но даже на безопасность
народа, хотят снискать своими речами славу людей, верных народу.
(8) Каково было положение государства, квириты, когда я в
январские календы приступил к своим обязанностям, я знаю хорошо: все были
в тревоге и в страхе, не было такого зла, не было такого несчастья, которо-
ю бы не опасались честные и не ожидали дурные люди; ходили слухи, что
против нынешнего положения государства и против вашего спокойствия
мятежные замыслы частью составляются, частью, в бытность нашу
избранными консулами, уже составлены8. На форуме был подорван кредит, не
вследствие какого-либо внезапного нового несчастья, а ввиду недоверия к
суду, нарушения правосудия, неисполнения уже вынесенных приговоров.
Говорили, что намечаются какие-то новые, необычные виды владычества —
уже не экстраординарный империи у, а царская власть .
(IV, 9) Не только подозревая, но и ясно видя это (ведь все это
происходило отнюдь не тайно), я сказал в сенате, что я, исполняя свои
должностные обязанности, буду консулом, верным народу. И в самом деле, что в
такой степени дорого народу, как мир? Ему, мне кажется, радуются не
только существа, от природы наделенные разумом, но даже дома и поля. Что
так дорого народу, как свобода? Ее, как видите, ценят более всего другого
не только люди, но и звери. Что в такой степени дорого народу, как
спокойствие? Оно столь приятно, что и вы, и предки ваши, и любой из
храбрейших мужей согласны на величайшие труды — с тем, чтобы рано или поздно
достигнуть спокойствия, особенно при наличии власти и достоинства. Более
того, мы потому должны особенно прославлять и благодарить наших
предков, что именно после их трудов мы можем в безопасности наслаждаться
спокойствием. Как же я могу не быть сторонником народа, квириты, видя,
что все это — мир на наших границах, свобода, неотделимая от вашего рода
и имени, спокойствие внутри страны, словом, все то, что дорого и важно
для вас, вверено мне и, так сказать, отдано под мое попечение как
консула? (10) Ибо вам, квириты, не следует прельщаться и считать полезным
252
Речи Цицерона
для народа провозглашение какой-то раздачи земель, которую на словах
обещать легко, а осуществить на деле возможно только ценой полного
истощения эрария. Ведь поистине никак нельзя признать полезным для
народа потрясение основ правосудия, неисполнение вынесенных приговоров,
восстановление осужденных в их правах; именно эти крайние средства
приводят гибнущие государства к окончательному крушению. И тех людей,
которые обещают римскому народу землю, но, тайно замышляя одно, подают
ложные надежды и притворно сулят другое, нельзя считать сторонниками
народа.
(V) Ибо — скажу откровенно, квириты!—проведение земельных
законов как таковых я порицать не могу. Ведь я вспоминаю, что двое
прославленных, умнейших и глубоко преданных римскому плебсу мужей, Тиберий
и Гай Гракхи, поселили плебс на государственных землях, которыми ранее
владели частные лица. Ведь сам я, конечно, не из тех консулов, которые —
а таких большинство — считают преступлением хвалить Гракхов, чьи
замыслы, мудрость и законы, как я вижу, способствовали устроению многих
государственных дел п.
(11) Поэтому, как только мне, в бытность мою избранным консулом12,
сообщили, что избранные народные трибуны составляют земельный закон,
я пожелал узнать их замыслы. Я действительно думал, что, коль скоро нам
предстоит исполнять свои должностные обязанности в один и тот же год,
между нами должно быть какое-то единение на благо государству. (12) В то
время как я по-дружески пытался завязать с ними разговор, они от меня
прятались и меня избегали, а когда я давал понять, что в случае, если закон
покажется мне полезным для римского плебса, я буду его сторонником и
буду способствовать его принятию, то они все-таки пренебрегли этим моим
благожелательным предложением; по их мнению, не было никакой
возможности добиться от меня согласия на какую-либо раздачу земли. Я перестал
предлагать им свои услуги, чтобы мое усердие, чего доброго, не показалось
им коварством или же навязчивостью. Между тем они не переставали тайно
собираться, приглашать кое-кого из частных лиц и устраивать тайные
собрания под покровом ночи и в уединенных местах. О страхе, какой это у меня
вызвало, вы легко составите себе представление, вспомнив о той тревоге,
которую испытывали в то время и вы. (13) Наконец, народные трибуны
приступили к исполнению своих обязанностей; все ждали, что Публий
Рулл выступит на народной сходке с речью, так как он был автором закона
и держался более грозно, чем другие. Едва он был избран, как уже
постарался иначе глядеть, иным голосом говорить, иначе ходить; в поношенной
одежде, неопрятный и препротивный на вид, с лохматыми волосами и
длинной бородой, он, казалось, своим взором и своей внешностью возвещал
всем, сколь он будет своевластен как трибун, и угрожал государству.
Я ждал, каков будет его закон и что он наговорит на народной сходке. Сна-
7. Вторая речь о земельном законе
253
чала он не предложил никакого закона, а народную сходку велел созвать
в канун ид. Народ в большом нетерпении сбежался на сходку. Рулл
выступил с очень длинной речью и сказал много превосходных слов. Речь его,
по-моему, страдала лишь одним недостатком: в такой большой толпе
собравшихся нельзя было найти человека, который бы понимал, что он
говорил. Сделал ли он это с какой-либо коварной целью, или же именно такой
род красноречия ему доставляет удовольствие,— не знаю. Все же более
догадливые из присутствовавших на сходке заподозрили, что кое-что насчет
земельного закона он все-таки хотел сказать. Наконец, когда я еще был
избранным консулом, запись текста закона выставили в общественном
месте 13. По моему приказанию, туда одновременно поспешили несколько
писцов и доставили мне переписанный текст закона.
(VII, 14) Искренно заверяю вас, квириты, что я приступил к чтению и
изучению закона с желанием — если найду его пригодным и полезным
вам — быть его сторонником и способствовать его проведению. Ведь не по
велению природы, не по склонности к распрям и не по какой-то застарелой
ненависти ведется искони война между консульством и трибунатом; дело
в том, что бесчестным народным трибунам честные и храбрые консулы очень
часто противодействовали, а народные трибуны своей властью не раз
давали отпор произволу консулов. Не различие в характере власти, а
расхождение во взглядах порождает раздоры. (15) И вот, я взял текст закона
в руки, воодушевленный желанием признать его соответствующим вашим
интересам, в надежде найти его таким, чтобы консул, сторонник народа на
деле, а не на словах, мог с чистой совестью и охотно защищать его. Но,
начиная с первой же главы закона и до самого его конца, квириты, я вижу,
что все это задумано, предпринято и проведено только для того, чтобы
установить власть десяти царей над эрарием, доходами, всеми
провинциями, над всем государством, над царствами и независимыми народами,
словом, над всем миром, ,и что все это делается под лживым предлогом
проведения земельного закона. Заверяю вас, квириты, на основании этого
пресловутого земельного закона, будто бы составленного ради блага народа,
вам не дают ничего, но определенным людям отдают все; римскому народу
сулят земли, но лишают его даже свободы; богатства частных людей
увеличивают, государственную казну вычерпывают до дна; наконец,— и это
самое возмутительное — именно народный трибун, которому предки наши
повелели быть оплотом и стражем свободы в нашем государстве,
устанавливает царскую власть! (16) Если все, что я изложу вам, квириты,
покажется вам неверным, то я подчинюсь вашему авторитету и изменю свое мнение;
но если вы поймете, что под видом раздачи земли злоумышляют против
вашей свободы, то без колебаний защищайте свободу, завоеванную для вас
вашими предками; ведь они, пролив реки пота и крови, передали ее вам, а с
помощью вашего консула вам удастся без труда защлтить ее.
254
Речи Цицерона
(VII) Первая глава земельного закона, по их замыслу, направлена на
то, чтобы осторожно выяснить, как вы можете отнестись к ограничению
своей свободы. Закон велит народному трибуну, автору этого закона,
произвести выборы децемвиров семнадцатью трибами — с тем, чтобы всякий,
кому отдадут свои голоса девять триб, был децемвиром. (17) В этой связи
я и спрашиваю, по какой причине Рулл — в своих действиях и
законодательстве— начал с того, что лишил римский народ права голоса. Ведь для
проведения земельных законов уже столько раз назначали исполнителей в
лице триумвиров, квинквевиров, децемвиров; я и спрашиваю трибуна,
этого сторонника народа, были ли они когда-либо избраны иначе, как
тридцатью пятью трибами. И в самом деле, если все виды власти, все империи,
все заведования 14 должны исходить от римского народа в целом, то это
особенно относится к тем из них, которые устанавливаются для пользы и
выгоды римского народа, когда, с одной стороны, все сообща избирают
человека, который, по их мнению, проявит наибольшую заботу о римском
народе, с другой стороны, всякий, своим усердием и подачей своего голоса,
может проложить себе путь к получению преимуществ. Но этому народному
трибуну пришло на ум лишить права голоса римский народ в целом, и лишь
несколько триб (притом не на основании определенных правовых
установлений, а по случайной милости жребия) призвать к осуществлению их прав
свободных людей.
(18) «Условия и способ избрания,— говорится во второй главе,— будут
такие же, как при избрании верховного понтифика комициями» 15. Этот
человек не понял даже вот чего: предки наши были такими сторонниками
народа, что, согласно их постановлению, тот, кого, вследствие святости
обрядов, нельзя было избирать народным голосованием, все же, ввиду важности
его жреческой должности, получал одобрение народа. То же самое
предложил насчет других жреческих должностей прославленный муж, народный
трибун Гней Домиций: так как народ в целом, по религиозным уставам,
жреческих должностей предоставлять не мог, Домиций и предложил, чтобы
все же меньшая часть народа к голосованию привлекалась; тот, кто будет
избран этой частью народа, будет принят и коллегией 16. (19) Поймите,
как велика разница между народным трибуном Гнеем Домицием,
знатнейшим человеком, и Публием Руллом, который, пожалуй, издевался над вами,
причисляя себя к знати. То, чем, по правилам религии, народ ведать не мог,
Домиций, насколько это было возможно, насколько это допускал божеский
закон, насколько это было дозволено, постарался все же предоставить
известной части народа. А то, что всегда было достоянием народа, чего никто
не умалял, никто не изменял — с тем, чтобы люди, которые должны были
раздавать народу землю, сперва сами получили милость от народа, а
потом оказывали ему услугу — Рулл и попытался целиком отнять у вас и вы-
овать у вас из рук. То, что никак нельзя было предоставить народу, Доми-
7. Вторая речь о земельном законе
255
ций все же в какой-то мере ему дал; а Рулл, наоборот, то, что никакими
ухищрениями отнять невозможно, все же каким-то способом хочет вырвать.
(VIII, 20) Меня спросят, что он имел в виду, совершая такую большую
несправедливость и проявляя такое бесстыдство. Ему не хватило не
замыслов; преданности римскому плебсу, квириты; уважения к вам и к вашей
свободе — вот чего не хватило ему. Ведь он хочет, чтобы тот человек, который
предложил закон, и руководил комициями по выбору децемвиров. Скажу
еще яснее: Рулл, этот человек ничуть, конечно, не жадный и не
честолюбивый, хочет, чтобы комиции созвал сам Рулл. Впрочем, пока еще я не
порицаю его; мы уже видели, что так поступали и другие; но смотрите, к чему
клонится этот беспримерный замысел — эти выборы, в которых участвует
меньшая часть народа. Он созовет комиции; он же захочет объявить
избранными тех, для кого, в силу этого закона, испрашивается царская власть;
народу в целом и сам он не доверяет, и те, кто все это задумал 17, с полным
основанием не считают возможным довериться народу. (21) Трибы
назначит по жребию все тот же Рулл. Ему повезет, конечно, и он допустит к
голосованию те трибы, какие захочет допустить. Те, кого изберут
децемвирами девять триб, собранные по выбору того же самого Рулла, будут у нас,
как я сейчас докажу, владыками над всем. Эти люди, конечно, признают
себя в долгу перед своими знакомыми из этих девяти триб и захотят их
отблагодарить за полученные от них благодеяния; что же касается
остальных двадцати шести триб, то децемвиры сочтут себя вполне вправе
отказывать им решительно во всем. Итак, кого же, наконец, хочет он видеть
децемвирами? Во-первых, себя самого. А на каком основании? Ведь
существуют древние законы и притом предложенные не консулами (если это,
по вашему мнению, имеет значение), а трибунами, очень желанные и
угодные вам и вашим предкам: есть Лициниев закон и другой — Эбуциев,
согласно которому не только тот, кто внесет предложение о каком-либо
заведовании и должностных полномочиях, но и его коллеги, родственники и
свояки не допускаются к занятию этих должностей и к этому заведованию.
(22) И в самом деле, если ты заботишься о народе, отведи от себя
подозрение, что ты ищешь какой-либо личной выгоды, докажи, что добиваешься
одной только пользы и блага для народа; пусть другие получат власть,
а ты — благодарность за свою услугу. Ибо иное положение вещей едва ли
подобает независимому народу, едва ли к лицу вам при благородстве
вашей души.
(IX) Кто предложил закон? Рулл. Кто лишил большую часть народа
права голосовать? Рулл. Кто председательствовал в комициях, кто к
голосованию призвал трибы, какие хотел, произведя жеребьевку без участия
наблюдателя 18; кто объявил об избрании децемвирами тех людей, каких
хотел? Все тот же Рулл. Кого объявил он избранным первым? Рулла.
По-моему, он, клянусь Геркулесом, едва ли заслужит за это одобрение даже
256
Речи Цицерона
у своих рабов, не говорю уже о вас, владыках над всеми народами. Итак,
наилучшие законы будут, без всякой оговорки, отменены этим законом;
один и тот же человек на основании своего же закона будет добиваться для
себя заведования; он же, лишив большую часть народа возможности
голосовать, созовет комиции; кого захочет, в том числе и самого себя, он
объявит избранными и, разумеется, не отвергнет и своих коллег,
поддержавших земельный закон и поставивших его имя на первое место в заглавии
и вводной части закона; все другие выгоды, полученные от успеха этого
закона, они, связанные круговой порукой, поделят между собой поровну.
(23) Но обратите внимание на его предусмотрительность, если вы
полагаете, что все это придумал Рулл или* что это могло прийти «а ум именно
Руллу. Те, которые подстроили все это, поняли, что, если вам предоставить
право выбирать из всего народа, то всякое дело, требующее честности,
неподкупности, мужества и авторитета, вы без каких бы то ни было колебаний
передадите в ведение Гнея Помпея 19. Они понимали, что, коль скоро, вы его
одного выбрали из числа всех людей, чтобы ему поручить ведение всех
войн со всеми народами на суше и на море, то — независимо от того, чем
будет сочтено избрание в децемвиры, доверия ли признаком или почета,—
надежнее всего будет доверить это дело и всего справедливее предоставить
эти полномочия именно ему. (24) Поэтому закон этот не предусматривает
отвода ни ввиду молодости, ни в связи с каким-либо законным
препятствием, или с какими-либо полномочиями, или государственной должностью,
исполнение которой сопряжено с другими занятиями и законными
препятствиями; наконец, этот закон не исключает избрания в децемвиры человека,
привлеченного к суду; именно Гнея Помпея отводит он, лишая его
возможности быть избранным вместе с Публием Руллом (о других молчу). Ведь
Рулл требует личного присутствия для заявления о соискании, чего никогда
не было ни в одном законе, даже насчет тех должностных лиц, относительно
которых установлен определенный порядок20; цель этого — чтобы вы в
случае, если закон будет принят, не придавали Помпея Руллу в качестве
коллеги, который бы наблюдал за ним и карал его за алчность.
(X) Теперь я, видя, что вы высодо цените заслуги Помпея и приняли
близко к сердцу обиду, наносимую ему этим законом, повторю сказанное
мной вначале: царская власть подготовляется этим законом, ваша свобода
с корнем уничтожается. (25) А вы как полагали? Неужели эти несколько
человек, раз уж они бросили свои жадные взоры на все ваше достояние,
не постараются прежде всего полностью отстранить Гнея Помпея от
охраны вашей свободы, лишить его власти, не дать ему возможности опекать и
защищать ваши интересы? Они поняли и понимают, что если вы, по своей
неосмотрительности и из-за небрежности с моей стороны, примете закон,
не ознакомившись с ним, то вы впоследствии, ознакомившись с его
коварными уловками уже после того, как изберете децемвиров, сочтете нужным
7. Вторая речь о земельном законе
257
противопоставить всем недостаткам этого преступного закона оплот в лице
Гнея Помпея. Неужели же это еще недостаточное для вас доказательство
того, что определенные лица стремятся к господству и к власти над В'сем
государством, раз вы видите, что тот, кто будет стоять на страже вашей
свободы — а это они понимают — лишается возможности получить
почетную должность?
(26) Послушайте же теперь, какую и сколь обширную власть
предоставляют децемвирам. Прежде всего, их облекают полномочиями на
основании куриатского закона21. А ведь уже это одно неслыханно и
совершенно* необычно — на основании куриатского закона предоставлять должность,
которую ранее никакие комиции не предоставляли. Далее, Рулл хочет,
чтобы претор римского народа, который будет избран первым, предложил этот
закон. И как? Так, чтобы децемвират был предоставлен тем людям,
которых изберет римский плебс. Он забыл, что плебс никого не избирает22.
Итак, всю вселенную опутывает законами человек, который в третьей главе
закона забывает, что написано во второй? Теперь-то совершенно ясно,
какие права вы получили от предков и какие вам оставляет этот народный
трибун. (XI) Предки наши повелели, чтобы о каждом роде должностных
лиц вы выносили решение дважды. Ведь когда о цензорах издавался цен-
туриатскии закон , а о прочих патрицианских должностных лицах — ку-
риатский, то об одних и тех же лицах решение выносили дважды, дабы
народ мог взять свое решение обратно, если он раскается в милости, какую
он оказал.
(27) Теперь вы, квириты, сохранили только первые два вида комиций —
центуриатские и трибутские; куриатские же остались только для
совершения авспиций. Но так как этот народный трибун понимал, что никто не
может получить в руки власть без повеления народа или плебса, он и утвердил
эти полномочия за куриатскими, в которые вы не входите, а трибутские,
в которых вы участвуете, упразднил. Таким образом, хотя предки наши
повелели, чтобы вы выносили решение в комициях двух родов о каждом
отдельном должностном лице, этот сторонник народа не оставил народу
возможности вынести свое решение даже в комициях одного рода. (28) Но
обратите внимание на его добросовестность и рвение. Он увидел и хорошо
понял, что без издания куриатского закона децемвиры не могут обладать
властью, так как будут избраны только девятью трибами. Он хочет,
чтобы о них был внесен куриатский закон, и велит сделать это претору24.
Насколько это нелепо, мне дела нет. Ведь он хочет, чтобы этот куриатский
закон внес тот претор, который будет избран первым; если же он не
сможет его внести, то это должен сделать претор, избранный последним; таким
образом, может показаться, либо он шутил в таком важном деле, либо он
имел что-то в виду, но что — неизвестно. Все это настолько ни с чем не
сообразно, что вызывает смех, и (Настолько хитроумно, что непонятно;
17 Цицерон, т I
258
Речи Цицерона
поэтому оставим это и вернемся к вопросу о его добросовестности. Он
видит, что без куриатского закона децемвиры не могут приступить к своей
деятельности. (29) Что же произойдет, если этот закон не будет издан?
Обратите внимание на его изобретательность. «Тогда эти децемвиры,—
говорит он,— должны обладать такими же правами, какими обладают
должностные лица, избранные с соблюдением всех законов». Если в таком
государстве, как наше, в отношении прав и свобод намного превосходящем
другие государства, кто угодно может, без всяких комиций, получить империй
или власть, то к чему в третьей главе требовать издания куриатского
закона, когда в четвертой ты позволяешь, чтобы децемвиры, без издания
куриатского закона, имели такие же права, какие у них были бы, если бы
они избирались народом с соблюдением всех законов? Царей, не
децемвиров назначают нам, квириты! Вот что получается из таких начал и
исходных положений: когда они начнут действовать и даже как только их
назначат, то вашим правам, власти и свободе придет конец.
(XII, 30) Но смотрите, как тщательно Рулл оберегает права народных
трибунов. Когда консулы предлагали куриатский закон, народные трибуны
не раз совершали интерцессию; все же мы не сетуем на то, что народные
трибуны обладают такой властью: только в том случае, если кто-нибудь
этими своими полномочиями злоупотребит, мы выносим свое суждение; но
этот народный трибун уничтожает право интерцессии при издании
куриатского закона, который должен внести претор. Прежде всего заслуживает
порицания, что трибунская власть ограничивается по воле народного
трибуна; но прямо-таки смешно, что, между тем, как консулу, без проведения
куриатского закона, нельзя начальствовать над войском, децемвиру, по
отношению к которому интерцессия запрещена, Рулл, даже в случае
интерцессии, предоставляет такую же власть, какой он обладал бы, если бы закон
был принят; поэтому я и не понимаю, ни почему Рулл запрещает
интерцессию, ни почему он думает, что кто-нибудь станет ее совершать, когда
интерцессия будет свидетельствовать о глупости лица, совершившего ее, но
почему не помешает.
(31) Итак, пусть будут назначены децемвиры, не избранные ни
настоящими комициями, то есть голосованием народа, ни хотя бы комициями,
созываемыми для видимости, ради соблюдения древнего обычая, по
случаю авспиций, при участии тридцати ликторов. Теперь обратите внимание,
насколько полномочия, какими Рулл наделяет людей, не получивших от вас
никакой власти, больше тех, какими наделены все мы, которым вы дали
величайшую власть. Он велит, чтобы при децемвирах по выводу колоний на-
ходились пулларии ° — «на тех же основаниях,— говорит он,— на каких
они были при тресвирах в силу Семпрониева закона» 26. И ты, Рулл, еще
смеешь говорить о Семпрониевом законе, и сам закон этот не напоминает
тебе, что эти тресвиры были избраны голосованием тридцати пяти триб?
7. Вторая речь о земельном законе
259
И ты, которому столь чуждо то чувство справедливости и чести, каким
обладал Тиберий Гракх, думаешь, что к совершенному на совсем иных
началах, следует применять те же правовые положения? (XIII, 32) Кроме того,
Рулл предоставляет децемвирам власть, на словах преторскую, в
действительности же царскую; он ограничивает ее срок пятилетием, но делает ее
вечной; ибо он 'подкрепляет ее такими мощными средствами, что отнять ее
у них, против их воли, не будет никакой возможности. Затем, он придает
им посыльных, писцов, письмоводителей, глашатаев, архитекторов; кроме
того, он дает им мулов, палатки, [...] утварь; деньги на расходы он черпает
из эрария, берет у союзников; двести землемеров он назначает из
всаднического сословия, по двадцати телохранителей — каждому из них; они же
будут их прислужниками и приспешниками при осуществлении децемвирами
своей власти.
Пока еще перед вами, квириты, один только внешний вид тираннов. Вы
видите знаки власти, но еще не самое власть. Кто-нибудь, пожалуй,
скажет: «Чем мне все это мешает — писец, ликтор, глашатай, пулларий?» Все
эти знаки таковы, квириты, что лицо, обладающее ими без вашего
голосования, является либо царем, что нестерпимо, либо частным человеком,
потерявшим рассудок. (33) Поймите, сколь великая власть предоставлена
децемвирам, и вы скажете, что это уже не безумие частных лиц, а
надменность царей. Прежде всего, им предоставляют неограниченную власть
собирать несметные богатства с ваших земель, облагаемых податями, и
притом не употреблять эти деньги с пользой, а отчуждать их; затем — над всем
миром и над всеми народами децемвирам вручается судебная власть, не
ограниченная советом судей, право наказывать без провокации 2/ и карать,
лишая подсудимого права помощи28. (34) В течение пяти лет они смогут
судить даже консулов, даже самих народных трибунов; между тем их в
течение этого времени никто судить не может; добиваться должностей им
будет дозволено, а привлекать их к суду не будет дозволено; они смогут
покупать земли, у кого захотят и какие захотят, и притом за любую цену;
им дозволяется выводить новые колонии, вновь заселять старые, заполнить
всю Италию своими колониями; им дается полная власть разъезжать по
всем провинциям, отнимать земли у независимых городских общин,
продавать царства; им предоставляется право находиться в Риме, когда они
захотят, и когда им заблагорассудится — выезжать, куда захотят, облеченны»
ми высшим империем и всей полнотой судебной власти; в то же время они
смогут отменять приговоры уголовных судов, удалять из совета судей,
кого захотят; каждый из них сможет выносить приговор по важнейшим
делам, облекать квестора полномочиями, посылать землемера, причем
сказанное землемером будет считаться утвержденным. (XIV, 35) Я называю
эту власть царской, квириты, потому что я не нахожу иного подходящего
слова; но она, конечно, еще более велика. Ведь никогда не было царской'
17*
260
Речи Цицерона
власти, которая бы не была ограничена если не законами, то все же
пределами страны. Эта же власть поистине беспредельна, коль скоро она, на
законном основании, охватывает и все царства, и вашу обширную державу,
и земли, частью не зависящие от вас, частью даже вам неизвестные.
Итак, во-первых, децемвирам разрешается продавать все земли, о
продаже которых сенат вынес постановления в консульство Марка Туллия и
Гнея Корнелия29 или же впоследствии. (36) Почему это написано так
неясно и так темно? Разве не могли они перечислить в своем законе
поименно все те земли, насчет которых сенат вынес решение? Есть две причины
этой неясности, квириты: одна — это чувство стыда (если только может
быть какой-либо стыд при таком необычайном бесстыдстве), другая —
преступные намерения. Ибо то, что сенат назначил к продаже, Рулл назвать
не решается; это — общественные участки земли в городе Риме, это —
священные места, к которым, после восстановления власти трибунов 30, никто
не прикоснулся; часть их наши предки повелели превратить в Риме в
убежища на случай опасности. А теперь децемвиры все это будут продавать
на основании закона, предложенного трибуном. К этому прибавится гора
Гавр31, прибавятся ивняки под Минтурнами32, сюда же пойдет и
знаменитая Геркуланская дорога 33,— ее продать легко, она очень приятна и
приносит большой доход — прибавится и многое другое, что сенат в ту пору*
вследствие скудости средств в эрарии, назначил к продаже, а консулы,
боясь недовольства народа, не продали. (37) Но об этом, пожалуй, из
чувства стыда, в законе умалчивают. Особенно же следует остерегаться и
страшиться вот чего: разнузданности децемвиров предоставляется полная
возможность совершать подлоги в официальных книгах и ссылаться на
вымышленные ими постановления сената, которых никогда и не было — тем более,
что из числа людей, бывших за то время консулами 34, многие уже умерли.
Или вы, быть может, полагаете, что мы не вправе подозревать в преступной
дерзости тех, кому в их алчности, весь мир кажется тесным?
(XV, 38) Вот вам тот род продажи, который, как я понимаю,
представляется вам заслуживающим внимания; а теперь вдумайтесь в то, что
за этим следует. Вы поймете, что это, так сказать, занятая ими исходная
позиция 35 и подступ к дальнейшему. «Земли, местности, постройки,
которые...» Что следует за этим? Много разного имущества: рабы, скот, золото,
серебро, слоновая кость, ковры, мебель и прочее. Что на это сказать?
Может быть, он думал, что навлечет на себя всеобщее осуждение, если
перечислит все точно? Он не боится осуждения. Что же в таком случае? Он
решил, что точный список будет слишком длинен, а пропустить что-либо
боялся; потому добавил: «или любое другое имущество». Благодаря этой
краткости, как видите, ничего не исключено. Итак, все то, что вне Италии
сделалось государственным имуществом римского народа в консульство Лу-
ция Суллы и Квинта Помпея36 или позже,— все это он велит децемвирам
7. Вторая речь о земельном законе
261
пустить в продажу. (39) Этой главой, квириты, утверждаю я, децемвирам
выданы головой и отданы на произвол, на суд и во власть все племена,
народы, провинции и царства. Прежде всего я спрашиваю: есть ли,
скажите мне, где-нибудь такая местность, относительно которой децемвиры не
могли бы объявить, что она является государственной собственностью
римского народа? Ибо, если судьей будет тот же, кто это объявил, то чего
только он не объявит, если ему же будет дозволено судить? Будет выгодно
объявить собственностью римского народа Пергам, Смирну, Траллы, Эфес,
Кизик, словом, всю Азию, возвращенную нам после консульства Луция
Суллы и Квинта Помпея. (40) Разве нельзя будет составить речь по
этому вопросу или же,— если обсуждать дело и выносить решение будет один
и тот же человек — разве не будет возможности заставить его вынести
несправедливое решение? А если он не захочет вынести Азии суровый
приговор, неужели же он не возьмет с нее, за избавление от страха перед
угрожающей ей карой, любой платы по своему усмотрению? Ну, а Вифинское
царство37? Ведь оно, несомненно, превращено»в государственную
собственность римского народа; это неоспоримо, коль скоро это нами уже
установлено и решено и мы это наследство приняли. Что же, в таком случае, может
помешать децемвирам приступить к продаже всех земель, городов, соляных
промыслов, гаваней, словом, всей Вифинии?
(XVI) А Митилены, которые, вне всякого сомнения, стали вашей
собственностью, квириты, по закону войны и по праву победы 39,— город,
известнейший как по своим естественным условиям и местоположению, так и
по расположению и красоте зданий, с его красивыми и плодородными
землями? Ведь все это охватывает одна и та же глава закона. (41) А
Александрия и весь Египет? Как тщательно они их припрятали, как обходят они
вопрос об этих землях, а тайком полностью передают их децемвирам!
И в самом деле, до кого из вас не дошла молва, что это царство, в силу
завещания царя Алексы39, стало принадлежать римскому народу? Насчет
этого я, консул римского народа, не только не стану выносить решения, но
не скажу даже и того, что думаю. Ибо по этому вопросу, мне кажется,
трудно не только принять постановление, но даже высказаться. Я вижу,
найдутся люди, которые станут утверждать, что завещание действительно было
составлено; я согласен, что существует суждение сената40 о вступлении в
права наследства, вынесенное тогда, когда мы, после смерти Алексы,
отправили в Тир послов с поручением получить для нас деньги, положенные там
царем. (42) Как я хорошо помню, Луций Филипп41 не раз настаивал на
этом в сенате. Что касается человека, который ныне занимает там царский
престол42, то, по-моему, почти все согласятся, что он не царь — ни по
своему происхождению, ни по духу. Другие же говорят, что никакого
завещания нет, что римскому народу не подобает добиваться всех царств, но что
наши сограждане готовы туда переселяться ввиду плодородия земли и
262
Речи Цицерона
всеобщего изобилия. (43) И об этом столь важном деле будет выносить
решение Публий Рулл вместе с другими децемвирами, своими коллегами?
Будет ли он судить справедливо? Ведь решение — как положительное, так
и отрицательное — настолько важно, что небрежное отношение к нему
совершенно не допустимо и не терпимо. Предположим, он захочет народу
угодить: он присудит Египет римскому народу. И вот, он сам, в силу своего
закона, распродаст Александрию, распродаст Египет; над великолепным
городом, над землями, прекраснее которых нет, он станет судьей, арбитром,
владыкой, словом, царем над богатейшим царством. Но допустим, что он
не будет столь притязателен и алчен; он признает, что Александрия
принадлежит царю, а у римского народа ее отнимет.
(XVII, 44) Во-первых, почему решение о наследстве, достающемся
римскому народу, должны выносить децемвиры, когда вы повелели, чтобы
о наследствах частных лиц решение выносили центумвиры43? Затем, кто
будет защищать интересы римского народа? Где это дело будет
обсуждаться? Где найдутся такие децемвиры, которые, как это можно предвидеть,
присудят Птолемею царскую власть в Александрии бесплатно? Но если
они имели в виду Александрию, то почему они в настоящее время не
избрали того же пути, какой они избрали в консульство Луция Котты и Луция
Торквата44? Почему они нацелились на эту страну не открыто, как некогда,
и почему не таким же образом, как тогда — не прямо и не у всех на
глазах? Или те, которые не смогли овладеть этим царством во время этесий 45?
совершив прямой морской переход, теперь, под покровом густых туманов
и мрака, рассчитывают достигнуть Александрии?
(45) Обратите внимание еще на одно обстоятельство, квириты!
Присутствие наших легатов, лиц с незначительными полномочиями, которым
предоставляется свободное легатство46 для устройства их частных дел,
чужеземные народы все же едва терпят; ибо само название «власть» им в тягость
и внушает им страх, даже когда она представлена незначительной
личностью; ведь легаты, всякий раз выезжая из Рима, злоупотребляют вашим,
а не своим именем. Что, по вашему мнению, будет, когда эти децемвиры
станут разъезжать по всему миру, облеченные империем, с ликторами, с
известной нам избранной молодежью в лице землемеров,— в каком
настроении, в каком страхе будут эти несчастные народы, какие опасности грозят
им! (46) Уже сам империй внушает им ужас — стерпят. Приезд децемвиров
сопряжен с издержками — будут нести. На них возложат кое-какие повин*
ности — не откажутся. Но каково будет, квириты, когда тот децемвир,
который приедет в какой-нибудь город,— либо долгожданный как гость, либо
неожиданно как хозяин — и объявит то самое место, куда он приехал, тот
самый гостеприимный дом, в который его привели, государственной
собственностью римского народа? Какое страшное несчастье будет для
населения, если он это объявит! Какой доход для него самого, если он этого не еде-
7. Вторая речь о земельном законе
263
лает! И все же эти самые люди, которые добиваются таких полномочий,
иногда сетуют, что все страны и все моря отданы во власть Гнея Помпея 47.
Ну, разумеется, это одно и то же — предоставить полномочия или даром
отдать все; поручить ли многотрудное дело или вручить доходы и прибыли;
быть ли посланным для освобождения союзников или для их угнетения!
Наконец, если речь идет об исключительных полномочиях, то разве
безразлично, предоставит ли их римский народ тому, кому захочет, или же они будут
у римского народа нагло вырваны коварным законом?
(XVIII, 47) Вы уже поняли, как многочисленны и как велики
владения, которые децемвиры будут продавать на основании этого закона. Этого
недостаточно. Упившись кровью союзников, кровью чужеземных народов,
кровью царей, они намерены подсечь жилы римскому народу, наложить
руку на ваши доходы и ворваться в эрарий! Ведь следующая глава даже
не только позволяет, на случай отсутствия денег (хотя они, на основании
вышеупомянутых полномочий, должны поступать в таком количестве,
что в них не может быть недостатка), но повелительно требует (будто бы
ради вашего блага),'чтобы децемвиры продавали облагаемые податями
земли, перечисленные по их названиям. (48) Прочитай же мне по порядку, по
записи закона, об этой распродаже римского народа; даже самому
глашатаю, клянусь Геркулесом, будет печально и горестно объявлять о ней. [Об
аукционе.] Как и свое собственное имущество, так и государственное Рулл
проматывает, как расточитель, готовый продать свои рощи раньше, чем
продаст виноградники. Италию ты уже распродал; переходи к Сицилии. Из
всего того, что наши предки оставили нам в этой провинции как нашу
собственность,— в городах ли или на полях — не остается ничего; все он велит
продавать. (49) И то, что предки наши, после своей недавней победы,
оставили вам в городах и на землях наших союзников как залог мира и как
памятник войны, вы, получив от них, по воле Рулла, будете продавать? Я вижу,
что внушаю вам некоторую тревогу, квириты, раскрывая вам козни, которые
они строят, по их мнению, тайком против высокого положения Гнея
Помпея. Простоте мне, что я так часто называю имя этого мужа. Два года назад,
в мою претуру 48, вы сами, квириты, на этом же месте возложили на меня
задачу — всем, чем только смогу, защищать вместе с вами его достоинство
в его отсутствие. До сего времени я делал все, что мог, не побуждаемый
к этому ни дружескими отношениями, ни расчетами на почести и на
получение высшего достоинства, которого я достиг благодаря вам,— правда, с его
одобрения, но все-таки в его отсутствие. (50) Вот почему, понимая, что
почти весь этот закон подготовляют, словно осадную машину, дабы уничтожить
все могущество Помпея, я и дам отпор намерениям этих людей и, конечно,
собьюсь того, чтобы вы все могли не только видеть то, что вижу я, но
также и ощупать это. (XIX) Закон предусматривает продажу земель,
принадлежавших жителям Атталии, Фаселиды, Олимпа, а также и земель Аперы,
264
Речи Цицерона
Ороанды и Элевсы 49. Области эти, благодаря империю и победам
прославленного мужа, Публия Сервилия, сделались вашей собственностью.
Закон присоединяет к ним также и царские земли в Вифинии, доходы с
которых в настоящее время получают откупщики, затем — земли Аттала в Хер-
сонесе 50, земли в Македонии, принадлежавшие царю Филиппу и царю
Персею; цензоры и эти земли отдавали на откуп; [они приносят вам] верный
доход [...].
(51) Он назначает на продажу также и тучные и плодородные земли в
Коринфе, затем зем\и в Кирене, принадлежавшие Апиону51, а также и
земли в Испании, вблизи Нового Карфагена, а в Африке он продает даже
старый Карфаген, на который Публий Африканский, по решению совета52,
наложил проклятье53. Он, разумеется, сделал это не из благоговения перед
этим издревле населенным местом и не для того, чтобы само место это
свидетельствовало о бедствии, постигшем тех, кто с нашим городом
вступил в борьбу за владычество; нет, просто он не был так рьян, как Рулл,
да, пожалуй, он и не мог найти покупателя для этого места. Наконец, к
числу этих земель, [принадлежавших царям,! захваченных в прежние войны
благодаря мужеству выдающихся императоров, Рулл присоединяет царские
земли, которыми Митридат владел в Пафлагонии, Понте и Каппадокии,—
с тем, чтобы децемвиры продавали также и их.
(52) Как же так? Пока побежденным еще не предъявлено никаких
условий, император доклада не делал, словом, пока война еще не закончена,
причем царь Митридат, потерявший свое войско и из царства своего
изгнанный, даже теперь что-то замышляет, находясь в странах, лежащих на краю
света, и от непобедимой руки Гнея Помпея его защищают Меотида54 и ее
топи, трудности пути и вышина гор, когда наш император еще воюет и в
этих местностях еще и поныне сохраняется состояние войны, то неужели
децемвиры будут продавать земли, на которые, по обычаю предков, пока еще
должна распространяться судебная и всякая другая власть Гнея Помпея?
(55) И Публий Рулл (ведь он ведет себя так, словно уже считает себя
избранным децемвиром), пожалуй, поедет, чтобы участвовать именно в этой
продаже с торгов! (XX) Прежде чем приехать в Понт, он, очевидно,
пошлет Гнею Помпею письмо, которое эти люди, мне думается, уже
составили приблизительно так: «Народный трибун Публий Сервилий Рулл,
децемвир, шлет привет Гнею Помпею, сыну Гнея». Не думаю, чтобы он добавил:
«Великому»55; ведь он едва ли окажет словом ту честь, какую пытается
умалить своим законом. «Предлагаю тебе явиться ко мне в Синопу и
привести вспомогательные войска на то время, пока земли, которые ты своими
трудами захватил, я, на основании своего закона, буду продавать». А
Помпея он к продаже не допустит? Он будет в его провинции продавать
имущество, завоеванное этим императором? Представьте себе воочию Рулла,
производящим в Понте торги вместе с красавчиками землемерами, после
7. Вторая речь о земельном законе
265
того как он водрузит копье между нашим и вражеским лагерями56. (54)
И не только в одном этом заключается необычайно тяжкое и доселе
неслыханное оскорбление, чтобы — пока условия мира еще не продиктованы,
более того, пока император еще ведет войну — ценности, добытые войной, не
говорю уже — поступали в продажу, но даже были отданы на откуп. Но эти
люди, несомненно, имеют в виду нечто большее, чем одно только
оскорбление. Они надеются, что если недругам Гнея Помпея, облеченным импе-
рием, полной судебной и неограниченной властью, позволят с огромными
деньгами не только разъезжать повсюду, но и добраться также и до его
войска, то им удастся строить козни ему самому, а также лишить его части
его войска, средств и славы. Они думают, что войско Гнея Помпея, если
оно питает какую-то надежду получить от него земли или другие
преимущества, оставит его, увидев, что власть распределять все эти блага
передана децемвирам. (55) Я вижу не без удовольствия, насколько тупы люди,
питающие такие надежды, и насколько наглы люди, делающие такие
попытки; но мне обидно, что они настолько презирают меня, рассчитывая
осуществить эти чудовищные замыслы именно в мое консульство.
Более того, при продаже всех этих земель и строений децемвирам
предоставляется право продавать все это в любом месте, где только им
вздумается. О, крушение основ! О, произвол, требующий обуздания! О, превратные
и губительные замыслы! (XXI) Отдавать сбор податей на откуп
разрешается только в этом вот городе — либо с этого, либо вон с того места 57,
когда вы в полном сборе, как сегодня. А продавать наше имущество и
навеки его отчуждать будет дозволено и во мраке Пафлагонии, и в пустынных
краях Каппадокии? (56) Когда Луций Сулла, на устроенных им роковых
торгах, продавал достояние без суда осужденных граждан и говорил, что
продает свою добычу58, он все-таки продавал его с этого места и не
осмелился скрыться от тех самых людей, чьи взоры он оскорблял. И неужели
децемвиры.будут продавать ваши облагаемые податями земли, квириты, не
говорю уже — без вашего ведома, но даже без свидетеля в лице
государственного глашатая?
Далее говорится обо «всех землях вне Италии» 59, без ограничения
давности, а не так, как это было ранее, со времени консульства Суллы и
Помпея. Частное ли это имущество или же государственная земля,
предоставляется решать децемвирам, причем эти земли облагаются очень большой
податью. (57) Ну, кто же не понимает, сколь велика, сколь нестерпима
такая судебная власть, насколько она в духе царей — власть, дающая
возможность в любой местности, по своему усмотрению, без всякого разбора дела,
без всякого совещания забирать частное имущество в казну, казенное
освобождать от продажи? В этой же главе делается исключение для земель Ре-
цеиторика в Сицилии, этой оговорке я сам — и ввиду своих тесных связей
с населением этой местности60, и ввиду справедливости этого решения —
266
Речи Цицерона
чрезвычайно рад, квириты! Но какова наглость! Люди, владеющие землей
в Реценторике, основывают свое право владения на его давности, а не на
законе; они владеют землей ввиду милосердия сената, а не по правовым
установлениям. Они признают, что эта земля — государственная, но
полагают, что не следует удалять их из их владений, с насиженных с
древнейших времен мест, от их богов-пенатов61. Но если эти земли в
Реценторике— частная собственность, то почему ты их исключаешь? Если же это
государственная собственность, то какова цена такой справедливости —
позволять, чтобы другие земли, даже являющиеся частной собственностью,
признавались государственными, а исключались именно эти, которые их
население считает государственными? Итак, исключение делается для
земель тех людей, которые каким-либо путем приобрели значение в глазах
Рулла, а все прочие земли, где бы они ни находились, без какого-либо
выбора, без ведома римского народа, должны быть без решения сената
присуждены децемвирам? (XXII, 58) К тому же в предыдущей главе, на
основании которой должно поступать в продажу все, есть и другая, весьма
выгодная оговорка, которая будет оберегать земли, охраняемые договором. Рулл
слыхал, что в сенате, а иногда и на этом месте часто ставился — не мной,
а другими лицами — вопрос о том, что царь Гиемпсал владеет на побережье
землями, которые Публий Африканский присудил римскому народу; тем
не менее впоследствии консул Гай Котта на основании договора обеспечил
царю его права62. Так как вы не утвердили этого договора, то Гиемпсал
опасается, достаточно ли он надежен и прочен. Как? Что же это значит?
Отменяется ваше решение, а договор в целом принимается и одобряется.
Что Рулл ограничивает продажу земли децемвирами, я хвалю; что он
обеспечивает интересы дружественного нам царя, не порицаю; но что все это
делается не даром,— на это я вам указываю. (59) Ведь у этих людей все
время вертится перед глазами Юба, сын царя, у которого столько же денег,
сколько волос на голове 63.
Трудно даже представить себе место, способное принять в себя такие
горы денег; Рулл накопляет их, прибавляет, собирает в кучу. «Все золото и
серебро, захваченное как добыча и полученное от ее продажи, золото для
венка, независимо от того, кому оно досталось, не сданное в казну и не
израсходованное на сооружение памятника»64,— обо всем он велит объявлять
децемвирам и передавать это им. Глава эта, как видите, поручает
децемвирам даже расследование деятельности прославленных мужей, которые вели
войны именем римского народа, а также и суд по делам о вымогательстве.
А вот о децемвирах никакой суд уже не будет решать, сколько каждый из
них получил от продажи добычи, что передано ими в казну, а что оставлено
себе. А на будущее время для каждого из ваших императоров
устанавливается правило — по своем отъезде из провинции объявлять тем же
децемвирам, как велики его добыча и деньги от ее продажи и сколько у него
7. Вторая речь о земельном законе
267
золота для венка. (60) Но этот честнейший муж все же делает исключение
для того, кого он так любит,— для Гнея Помпея. Откуда же эта любовь,
столь неожиданная, столь внезапная? Тому самому человеку, которому,
чуть ли не называя его по имени, отказывают в почете, связанном с
децемвиратом, человеку, чья судеб-ная власть, право ставить условия и выносить
решения насчет земель, завоеванных его доблестью, уничтожаются, к
которому уже не в провинцию, но в самый лагерь посылают децемвиров,
облеченных империем, с огромными деньгами, с неограниченной властью и
правом суда по всем делам, человеку, у которого одного вырывают право
империя, искони сохранявшиееся за всеми императорами, именно ему, в виде
исключения, позволяют не передавать своей добычи в казну? Что имеется
в виду в этой главе: оказать ли ему почет или же вызвать ненависть к нему?
(XXIII, 61) Гней Помпеи обойдется без этих поблажек Рулла;
благодеяниями этого закона, милостями децемвиров он пользоваться не хочет.
Ибо, если справедливо, чтобы императоры не обращали добычи,
захваченной ими, и денег от ее продажи ни на сооружение памятников в честь
бессмертных богов, ни на украшение города Рима, а передавали эту добычу
децемвирам, словно те — их владыки, то Помпеи никаких преимуществ для
себя не желает, никаких; он хочет пользоваться обыкновенными правами —
такими же, какими пользуются другие. Но если несправедливо, квириты,
если позорно, если нестерпимо, чтобы эти децемвиры назначались в
качестве надсмотрщиков над всеми деньгами всех людей и обирали не только
царей и население чужих стран, но даже и ваших императоров, то для
Помпея, по моему мнению, делают исключение вовсе не для того, чтобы оказать
•ему почет; нет, они боятся, что того оскорбления, какое терпят другие, он
не стерпит. (62) Но вот что думает Помпеи: все, что угодно вам, он считает
нужным переносить; но если вы чего-нибудь переносить не сможете, то он,
конечно, добьется того, чтобы вас не принуждали терпеть это слишком
долго. Так вот, Рулл вносит оговорку, что все деньги, какие после моего
консульства могут поступить благодаря новым податям, должны быть в
распоряжении децемвиров. Но он понимает, что новые подати будут
поступать с земель присоединенных Помпеем. Таким образом, предоставив
Помпею деньги от продажи добычи, Рулл считает себя вправе пользоваться
доходами, которые принесла доблесть Помпея.
Но вот для децемвиров, квириты, добыты все деньги, какие только есть
•на свете; не пропущено ничего; все города, области, как и царства и,
наконец, ваши облагаемые податями земли поступили в продажу; в ту же кучу
сложены деньги от продажи добычи ваших императоров. Какие огромные,
какие чудовищные богатства предстоит собрать децемвирам на таких
больших аукционах, посредством стольких судебных решений, своей властью,
столь -неограниченной во всех отношениях,— вы видите. (XXIV, 63)
Узнайте теперь о других видах беспримерного и нестерпимого стяжания и вы
268
Речи Цицерона
поймете, что для удовлетворения наглой алчности определенных людей и:
выбрали это приятное народу название — земельный закон. На эти деньги
Рулл велит покупать земли, чтобы устраивать на них колонии для вас.
Не привык я, квириты, говорить о людях резко, кроме случаев, когда меня
вызовут на это. Я бы не хотел оскорблять людей, которые рассчитывают
сделаться децемвирами. Вы вскоре поймете, каким людям вы предоставите
власть все продавать и все покупать. (64) Но то, чего я еще не считаю
нужным говорить, вы все же'можете и сами представить себе. Во всяком случае,
я, мне кажется, могу вполне искренно сказать одно: тогда, когда в нашем
государстве были Лусцины, Калатины, Ацидины — люди, украшенные не
только почестями, оказанными им народом, и своими подвигами, но также
тем терпением, с каким они переносили свою бедность, и тогда, когда жили
Катоны, Филы, Лелии 65, чьи мудрость и умеренность в делах
государственных и частных, на форуме и среди их домочадцев вам хорошо известны, все
же ни одного из них не облекали такими полномочиями, чтобы один и тот
же человек выносил судебное решение и продавал земли, делая это в
течение пяти лет во всем мире, чтобы он же отчуждал облагаемые податями
земли римского народа и, собрав для себя, по своему усмотрению, без
свидетелей, огромные деньги, наконец, стал покупать на них у кого захочет то,
что ему заблагорассудится. (65) Облекайте же сами, квириты, ныне всеми
этими полномочиями этих людей, которые, как вы подозреваете, нацелились
на этот децемвират; вы поймете, что одни из них безмерно корыстны,
другие— безмерно расточительны. (XXV) Не стану я теперь обсуждать здесь
и то, что и так вполне ясно: наши предки не оставляли нам завета покупать
земли у частных лиц с тем, чтобы государство выводило на них плебс; на
основании всех законов с государственных земель частных лиц удаляли.
Сознаюсь, я ожидал от этого страшного и беспощадного народного трибуна
какой-нибудь меры в этом роде. Но это доходнейшее и позорнейшее
торгашество в виде покупки и продажи земли я всегда считал чуждым
деятельности трибунов, чуждым достоинству римского народа. (66) Рулл велит
покупать земли. Прежде всего я хочу з.нать, какие земли и в каких
местностях. Я не хочу, чтобы римский плебс, с чувством тревоги и неуверенности,
питал неясные надежды и слепо ожидал дальнейших событий. Есть земли
Альбы, Сетии, Приверна, Фунд, Весции, Фалерна, Литерна, Кум, Ацерр б6.
Я понимаю. При выезде из других ворот67 — земли Капена, Фалиска,
сабинские, земли Реаты; при выезде из третьих — земли Венафра, Аллиф и
Требулы. Ты располагаешь такими большими деньгами, что можешь все
эти и подобные им земли не только купить, но и накопить. Почему ты не
указываешь их точно и не называешь их, чтобы римский плебс мог хотя бы
обсудить, что в его интересах, что ему выгодно, насколько он может на тебя
положиться в деле покупки и продажи земель? «Я указываю,— говорит
он,— в границах Италии». Да, это сказано очень точно. И в самом деле~
7. Вторая речь о земельном законе
269
какая разница, у подошвы ли Массика68 вас поселят, или же где-нибудь
в другом месте [в Италии]? (67) Хорошо, местности ты не указываешь.
А каково качество почвы? «Конечно,— говорит Рулл,— земли, которые
можно распахать или обработать». Можно распахать, говорит он, можно
•обработать, но не — земли распаханные или обработанные. Что же это:
закон или же объявление о Вератиевых торгах? Там, говорят, было написано:
«Двести югеров, на которых можно посадить оливы, триста югеров, на
которых можно разбить виноградник», И ты, на свои огромные деньги,
станешь покупать эти земли, которые можно распахать или обработать? Да
существует ли такая бедная и тощая почва, что ее не поднять лемехом, или
столь каменистая местность, где труд земледельца окажется напрасным?
«Я потому,— говорит он,— и не могу точно назвать земли, что не
прикоснусь ни к чьей земле без согласия ее владельца». Это, квириты, дело,
гораздо более прибыльное, чем отчуждение земли без согласия ее владельца. Ибо
он, конечно, учтет, сколько дохода он может извлечь из ваших денег, и, в
конце концов, земля будет куплена только в том случае, когда это будет
выгодно покупателю и продавцу.
(XXVI, 68) Но вникните в смысл земельного закона. Даже те, кто
занимает государственные земли, уступят их только в том случае, если эти
земли будут взяты у них на самых выгодных для них условиях и за
огромные деньги. Какой крутой поворот! Ранее достаточно было народному
трибуну упомянуть о земельном законе — и людей, занимавших
государственные земли или такие имения, владение которыми порождало ненависть,
тотчас же охватывало чувство страха; но этот закон приносит им богатство
и избавляет их от ненависти. И в самом деле, квириты, сколько, по вашему
мнению, людей, которые не могут ни сохранить свюи обширные владения,
ни выносить ту ненависть, которую вызывают сулланские раздачи земель?
Ведь они желали бы продать землю, но не находят покупателя; они уже
давно хотят любым способом избавиться от этих земель. Людей, которые
еще недавно и днем и ночью дрожали от одного имени трибуна, опасались
вашей мощи, страшились упоминания о земельном законе, теперь даже
будут просить и умолять о передаче, по назначенной ими цене, децемвирам
земель, часть которых принадлежит государству, а часть навлекает
ненависть на их владельцев и грозит им опасностью. Но вот песенка, которую
этот народный трибун напевает потихоньку, не для вас, а для себя. (69)
Его тесть, честнейший муж, под покровом мрака, спустившегося в ту пору
на государство, захватил себе столько земли, сколько ему было угодно.
Ему, уже изнемогающему и раздавленному бременем, взваленным на него
Суллой, Рулл и хочет прийти на помощь своим законом — с тем, чтобы ему
можно было от ненависти спастись, а деньги припрятать. Неужели же вы
решитесь продавать облагаемые податями земли, добытые кровью и потом
ваших предков, только для того, чтобы людей, владеющих землей по воле
270
Речи Цицерона
Суллы, обогатить и избавить от опасности? (70) Ибо эта покупка земель,
поручаемая децемвирам, касается двух родов земельных владений,
квириты! С одних земель хозяева бегут потому, что владение ими навлекло на них
всеобщую ненависть; с других — ввиду их запустения. Сулланские наделы,
которые кое-кто уже значительно округлил, вызывают такую ненависть, чта
они рухнут при первом же слове недовольства со стороны подлинного и
стойкого народного трибуна. По какой бы цене ни скупали все эти земли,
все же они обойдутся нам необычайно дорого. Земли другого рода,
бесплодные и поэтому необработанные, места с нездоровым воздухом, пустынные
и заброшенные, будут покупаться у тех людей, которые понимают, что им
все равно придется их бросить, если не удастся их продать. Вот,
несомненно, причина, почему этот народный трибун и сказал в сенате, что городской
плебс чересчур много силы забрал в государстве и что его следует
«вычерпать»; ведь он употребил именно это слово, точно говорил о какой-то
выгребной яме 69, а не о сословии честнейших граждан.
(XXVII, 71) Но вы, квириты, если хотите послушаться меня, сохраните
'те блага, которыми вы владеете,— влияние, свободу, право голоса,
достоинство, возможность находиться в Риме, форум, игры, праздничные дни и все
другие преимущества,— если только вы не предпочитаете, покинув все вот
это и расставшись с этим сердцем нашего государства, под водительством
Рулла поселиться на засушливых землях Сипонта или в гиблых местностях
Сальпина70. Но пусть он, по крайней мере, скажет, какие земли намерен он
покупать; пусть сообщит, что и кому собирается он дать. Но чтобы он,
продав все города, земли, облагаемые податями области и царства, стал
покупать какие-то жалкие пески и болота — да можете ли вы, скажите мне, это-
допустить? А впрочем, вот еще что является из ряду вон выходящим: на
основании этого закона сначала все поступает в продажу, причем деньги
будут собраны и накоплены раньше, чем будет куплен хотя бы ком земли;
далее, покупать земли Рулл велит, покупать их в принудительном порядке
запрещает. (72) Я хочу знать: если не окажется людей, желающих продать*
землю, что будет с деньгами? Закон и запрещает передавать их в эрарий
и не допускает их возврата децемвирами. Итак, все деньги останутся в
руках децемвиров. Для вас землю покупать не будут. После отчуждения
облагаемых податями земель, угнетения союзников, разорения царей и всех
народов деньги у децемвиров будут, а земли у вас не будет. «Легко будет,—
говорит Рулл,— большими деньгами склонить владельцев к продаже
земли». Значит, закон сводится к тому, чтобы свое имущество мы продавали,
за сколько сможем, а чужое покупали, за сколько захотят его владельцы.
(73) Более того, Рулл велит, чтобы на эти земли, купленные на
основании его закона, децемвиры вывели колонии. Как? Разве всякое место
годится для этого, разве для государства может быть безразлично, будет ли
туда выведены колония или не будет? Ведь одно место требует устройства*
7. Вторая речь о земельном законе
271
колонии, а другое его совершенно не допускает. В этом деле, как и в других
государственных делах, стоит вспомнить о бдительности наших предков,
которые, предвидя возможную опасность, так разместили колонии в
подходящих для этой цели местностях, что они кажутся не столько городами
Италии, сколько передовыми укреплениями нашего государства. А
децемвиры будут выводить колонии на те земли, какие они купят? Даже если
это не будет в интересах государства? (74) «...и, кроме того, в любые
местности, по своему усмотрению». Почему бы им в таком случае не вывести
колонии на Яникул и не посадить свой гарнизон нам на шею как ярмо?
Ты, значит, не укажешь нам с точностью, сколько колоний, в какие
местности ты хочешь вывести и какова будет численность колонов? И ты займешь
любое место, какое только признаешь подходящим для насильственных
действий, заселишь его, укрепишь по своему усмотрению, чтобы за счет доходов
римского народа и всех его средств связать, задавить сам римский народ и
отдать его на произвол « во власть децемвирам?
(XXVIII, 75) Что Рулл действительно рассчитывает занять всю
Италию и захватить ее своими гарнизонами, в'этом, квириты, прошу вас
убедиться: он предоставляет децемвирам право выводить во все муниципии
и колонии всей Италии колонов, каких они захотят вывести, и велит давать
этим колонам землю. Разве не ясно, что создаются силы и гарнизоны,
присутствие которых несовместимо с вашей свободой? Разве не ясно, что
устанавливается царская власть, что гибнет ваша свобода? Ибо, когда эти же
лица, благодаря своей огромной власти, заберут себе все деньги, привлекут
к себе толпы людей... [Лакуна.], то есть всю Италию, когда они зажмут в
тиски вашу свободу своими гарнизонами и колониями, какая возможность
возвратить себе свободу останется у вас?
(76) Но, скажут мне, на основании этого закона распределят земли в
Кампании, самые прекрасные во всем мире, и выведут колонию в Капую,
прославленный и великолепный город. Что можем мы ответить на это?
Сначала я буду говорить о ваших интересах, квириты! Затем возвращусь к
вопросу о вашем почетном положении и достоинстве, чтобы те люди,
которые, быть может, прельщаются красотой этой области или города, ни на
что не рассчитывали, а те, которые негодуют на недопустимость этих
действий, воспротивились этой притворной щедрости. Прежде всего я буду
говорить об этом городе — на случай, если кто-нибудь склонен восхищаться
Капуей больше, чем Римом. Закон велит назначить в Капую пять тысяч
колонов; из этого числа каждый децемвир берет в свое ведение по пятисот
человек. (77) Пожалуйста, не обманывайтесь; оцените положение трезво и
внимательно. Неужели вы думаете, что среди них найдется место для вас
или вам подобных людей, неподкупных, стоящих за спокойствие и мир?
Если оно найдется для всех вас или же для большей части из вас,—
хотя почет, оказанный м«е вами, и велит мне бодрствовать дни и ночи и
272
Речи Цицерона
смотреть на все государственные дела, пристально устремив на них глаза,—
то я все же, если это в ваших интересах, на короткое время глаза закрою. Но
если для этих пяти тысяч людей, выбранных для насильственных действий,
для преступления и резни, ищут место или, вернее, город, который даст им
возможность начать войну и вести ее, то неужели вы все-таки потерпите,
чтобы вашим именем против вас накопляли силы, вооружали гарнизоны,
подготовляли себе опору в городах, в областях и в войсках? (78) Ибо
именно тех самых земель в Кампании, которые они сулят вам, они пожелали
для себя; они выведут туда своих сторонников, чтобы, прикрываясь их
именем, самим владеть землей и получать доход; кроме того, они будут скупать
землю; эти участки по десяти югеров они объединят в сплошные владения.
Если же они скажут, что законом это не дозволено, то это не дозволено
даже Корнелиевым законам71; но мы видим,— чтобы далеко не ходить за
примерами,— что землями в Пренесте владеет лишь несколько человек72.
И децемвирам при их денежных средствах, как я вижу, недостает только
тех угодий, на доходы с которых они могли бы содержать многочисленную
челядь и нести расходы по своим имениям в Кумах и Путеолах73. Но если
Рулл имеет в виду вашу пользу, пусть он придет и открыто обсудит со мной
вопрос о разделе земель в Кампании.
(XXIX), 79) В январские календы я спросил его, между кем и каким
образом собирается он распределять эти земли. Он ответил мне, что начнет
с Ромилиевой трибы. Во-первых, что это за высокомерное и оскорбительное
решение — выделять часть народа, не обращать внимания на порядок триб
и давать землю сельским трибам, уже владеющим землей, раньше, чем
городским, которых соблазняют приятной надеждой на получение земли?
Если же Рулл отрекается от сказанного им и думает удовлетворить всех
вас, пусть он это докажет, пусть разделит землю на наделы по десять
югеров каждый и перепишет ваши имена, начиная с Субурской трибы и кончая
Арнской 74. Если вы поймете, что нет возможности, уже не говорю — дать
вам по десяти югеров, но даже и разместить на землях Кампании такое
множество людей, то неужели вы все же потерпите, чтобы народный трибун
и далее потрясал основы государства, пренебрегал величеством римского
народа и издевался над вами самими? (80) Даже если бы эти земли могли
достаться вам, разве вы все-таки не предпочли бы, чтобы они оставались
вашим общим имуществом? Допустите ли вы полное уничтожение самых
прекрасных владений римского народа, вашего главного достояния, мирной
жизни украшения, опоры на случай войны, основы ваших доходов, житницы
для ваших легионов, важнейшего источника вашего снабжения хлебом? Или
вы забыли, какие многочисленные войска вы во время Италийской войны75,
после утраты других источников доходов, кормили урожаем, собранным в
Кампании? Или вы не знаете, что другие доходы римского народа, как ни
велики они, часто зависят от малейших превратностей судьбы, от неблаго-
Гай Юлий Цезарь
Базальт. Берлин
7, Вторая речь о земельном законе
273
приятных обстоятельств? Помогут ли нам сколько-нибудь гавани в Азии,
пастбищные сборы, все доходы, получаемые нами из-за моря, при малейшей
угрозе появления морских разбойников или врагов? (81) Напротив, эти
доходы с земель Кампании особенные: они собираются у нас и защищены
гарнизонами всех городов и им, кроме того, не угрожают ни войны, ни
неурожай, ни бедствия, связанные с погодой и местностью; поэтому наши
предки не только не отказались от части земель, отнятых ими у жителей
Кампании, но даже окупили земли, находившиеся .в руках у людей, у
которых их нельзя было отнять без нарушения закона. По этой причине ни оба
Гракха, проявившие такую большую заботу о благе римского плебса, ни
Луций Сулла, без каких-либо зазрений совести раздававший все, кому
хотел, не осмелились и прикоснуться к землям в Кампании. Нашелся один
только Рулл, готовый лишить государство тех владений, из которых его не
изгнали ни щедрость Гракхов, ни владычество Суллы. (XXX) Земли,
которые вы, проезжая мимо, называете своими и о которых путешествующим
чужестранцам говорят, что они принадлежат вам, после раздела... [Лакуна.]
не будут называться вашими. Но кто же будет ими владеть? (82) Прежде
всего это будут беспокойные люди, склонные к насилию, готовые к мятежу;
по первому же знаку децемвиров они возьмутся за оружие против граждан
и не остановятся перед резней; затем, вы увидите, как все земли в
Кампании будут передавать малому числу людей, известных своей мощью и
богатством. Между тем вам, получившим от предков эти завоеванные ими
прекрасные области, источник ваших доходов, из владений ваших отцов и
дедов не оставят и клочка земли. Неужели же о вас будут заботиться
гораздо меньше, чем о частных лицах? Как это возможно? Когда предки наши
послали в те самые местности Публия Лентула76, который был
первоприсутствующим в сенате, для покупки на государственный счет земель,
вклинивавшихся в государственные земли Кампании, он, говорят, сообщил, что
один участок земли ему ни за какие деньги купить не удалось и что человек,
отказавшийся его продать, заявил ему, что его ничем не удастся склонить
к этой продаже, так как он, имея много владений, только из одного этого
никогда никаких дурных известий не получал. (83) Как же так? Значит,
для частного человека довод этот был убедителен. А римский народ тот же
довод не заставит отказаться от безвозмездной передачи земель в
Кампании частным лицам в соответствии с рогацией Рулла? Но римский народ
может сказать об этих доходах то же самое, что владелец этот, как говорят,
сказал о своем именье. Азия в течение многих лет, во время войны с Митри-
датом, вам доходов не приносила77, с обеих Испании мы, во времена Серто-
рия 78, никаких податей не получали. Городским общинам Сицилии, во
время войны с беглыми рабами, Маний Аквилий даже дал хлеб заимообразно.
Но из этой обложенной податями и налогами области мы никогда не
получали дурных известий. Сбор других доходов нарушается вследствие
• О Цицерон, т I
274
Речи Цицерона
затруднений, вызываемых войной, а эти доходы даже дают возможность
вести войну. (84) Затем, по поводу этого распределения земли нельзя
сказать даже того, что говорилось в других случаях — не должно быть земли,
брошенной плебсом и не обрабатываемой свободными людьми79. (XXXI)
Я утверждаю: распределить земли в Камлании, значит, разорить плебс и
согнать его с земли, а не поселить и разместить его. Ведь все земли в
Кампании обрабатывает и держит в своих руках80 плебс и притом честнейший
и умереннейший плебс. Этих высоконравственных людей, прекрасных
земледельцев и солдат, наш народный трибун, благожелатель плебса, разоряет
до тла. И несчастным людям, родившимся и выросшим на этой земле,
опытным хлебопашцам, вдруг негде будет приклонить голову. А этим вот
силачам и наглым приспешникам децемвиров будет передано владение всеми
землями в Кампании. И если вы ныне с гордостью говорите о своих
предках: «Земли эти мы от наших предков получили»,— то ваши потомки будут
о вас говорить: «Земли эти наши отцы, получив их от своих отцов,
загубили». (85) Я, со своей стороны, полагаю: если дсйдут до раздела Марсова
поля и каждому из вас будут давать по два фута земли, чтобы у него было
где встать, вы все же предпочтете владеть всей землей сообща, а не ее малой
частью каждый поодиночке. Итак, даже если бы каждому из вас должна
была достаться хотя бы малая часть из тех земель, которые сулят вам, а
готовят для других, все же для вас было бы больше чести владеть ими
сообща, а не каждому порознь. Но так как в действительности вас совершенно
не имеют в виду, земли приобретают для других, а у вас их отнимают, то
неужели вы, защищая свою землю, не дадите ожесточенного отпора этому
закону, как дали бы его вооруженному врагу?
К землям в Кампании Рулл присоединяет Стеллатскую область и в ней
назначает каждому гражданину по двенадцати югеров, словно между кам-
панской и стеллатской землей разница незначительна. (86) Но, чтобы
заселить там все города, квириты, требуется множество людей. Ибо, как я уже
говорил, закон позволяет децемвирам занимать, по их усмотрению, своими
колонами муниципии, а также уже существующие колонии. Они и заполнят
муниципий Калы, захватят Теан, свяжут присутствием своих гарнизонов
Ателлы, Кумы, Неаполь, Помпеи и Нуцерию. Что касается Путеол, ныне
самостоятельных и свободных, то их полностью займут новым населением и
пришлым людом. (XXXII) И вот тогда известное нам знамя кампанской
колонии, столь опасное для нашей державы, децемвиры водрузят в Капуе;
тогда против этого вот Рима, нашей общей родины, воздвигнут тот второй
Рим. (87) Делаются преступные попытки перенести управление вашим
государством именно в тот город, где наши предки вообще не хотели
допускать и существования государственной власти; ведь они признали, что во
всем мире носителями величия и имени державы могут быть только три
города: Карфаген, Коринф и Капуя. Разрушен был Карфаген, так как он
7. Вторая речь о земельном законе
275
ввиду своей многолюдности, своего местоположения и естественных условий,
опоясанный гаванями, огражденный стенами, казалось, стремился выйти
за пределы Африки и угрожал двум плодороднейшим островам римского
народа. От Коринфа остались одни только следы81. Он находился на
перешейке, вернее, у входа в Грецию, будучи на суше ключом к этой стране, и
почти что соединял два моря, позволяя кораблям проплывать в обе
стороны — настолько узок перешеек, разделяющий моря. Города эти,
находившиеся за пределами нашей державы, предки наши не только покорили, но
даже — дабы они никогда не могли возродиться, встать из праха и войти в
силу — уничтожили до основания, как я уже говорил. (88) Насчет Капуи
много и долго совещались82. До нас, квириты, дошли официальные записи;
сохранилось много постановлений сената. Умудренные опытом люди
решили, что если отнять у жителей Кампании их земли, если уничтожить в этом
городе государственные должности, сенат и народное собрание и не
оставить в нем и видимости государственного строя, то у нас не будет оснований
бояться Капуи. Итак, вы найдете в старых книгах следующую запись: чтобы
существовал город, который мог бы снабжать земли в Кампании всем
необходимым для обработки, чтобы существовало место, пригодное для доставки
и хранения урожая, чтобы у земледельцев, утомленных полевыми работами,
была возможность пользоваться городскими жилищами,— только ради
этого все эти здания не были разрушены.
(XXXIII, 89) Посмотрите же, как велика разница между мудростью
наших предков и безрассудством этих людей: те хотели, чтобы Капуя была
пристанищем для земледельцев, местом торга для жителей деревень,
складом и амбаром для земель Кампании, эти, изгнав земледельцев, растратив
и рассеяв свой урожай, делают Капую средоточием нового государства,
подготовляют оплот против старого государства. Если бы наши предки
могли предположить, что в столь знаменитой державе, при столь
прославленном римском государственном строе, найдется человек, подобный Марку
Бруту83 или Публию Руллу (ведь только они двое, как мы видели, до сего
времени хотели перенести в Капую управление нашим государством), то
они, конечно, не сохранили бы и названия этого города. (90) Предки наши,
без сомнения, думали, что в Коринфе и в Карфагене — даже если
уничтожить сенат и государственные должности и отнять землю у граждан — все
же не будет недостатка в людях, способных восстановить прежний порядок
и изменить все государственное устройство раньше, чем мы даже услышим
об этом; но что здесь, на глазах у сената и римского народа, не может
возникнуть ничего такого, что нельзя было бы полностью подавить и
уничтожить еще раньше, чем оно вполне проявится и обнаружится. И
действительно, события подтвердили правильность решений этих людей,
преисполненных божественного разума и мудрости; ибо, после консульства Квинта
Фульвия и Квинта Фабия 84, когда Капуя была окончательно побеждена и
18*
276
Речи Цицерона
взята, в городе этом не было, уж не говорю — сделано, но даже и задумано
ничего такого, что нанесло бы вред нашему государству. Впоследствии мы
вели много войн с царями — Филиппом, Антиохом, Персеем,
Лже-Филиппом, Аристоником, Митридатом и другими; кроме того,— много тяжелых
войн с Карфагеном, Коринфом, Нуманцией; много было в нашем
государстве междоусобий и мятежей, которые я обхожу молчанием; были войны с
союзниками — война с Фрегеллами85, Марсийская; во время этих войн, и
междоусобных и с внешними врагами, Капуя не только не вредила нам, но
даже оказывала огромные услуги, предоставляя нам все необходимое для
ведения войны, снабжая наши войска и принимая их под свой кров и на
своей земле. (91) В этом городе не было людей, готовых держать
злонамеренные речи на сходках, призывать к мятежу при помощи постановлений
сената, несправедливыми решениями вызывать смуту в государстве и искать
повод для переворота. Ибо ни у кого не было возможности ни произнести
речь на народной сходке, ни всенародно принять решение. Жажда славы не
увлекала людей, так как там, где нет почетных государственных
должностей, не может быть и жажды славы; нет и раздоров, порождаемых
соперничеством или честолюбием. Ведь у них не оставалось ничего такого, из-за
чего бы О'ни 'Могли состязаться, что они могли бы оспаривать друг у друга:
не было повода к разногласиям. Таким образом, предки наши своим
разумом и мудростью превратили пресловутую кампанскую заносчивость и
нестерпимую надменность в склонность к полнейшему бездействию ид
праздности. Так они, не разрушив прекраснейшего города Италии, избежали
упрека в жестокости и на очень долгое время устранили опасности; ибо они,
подрезав этому городу все жилы, оставили самый город расслабленным и
лишенным сил.
(XXXIV, 92) Эти соображения наших предков, о чем я уже говорил,
показались Марку Бруту достойными порицания, как и Публию Руллу.
А знамения и авспиции, совершенные Марком Брутом, не удерживают тебя,
Публий Рулл, от подобного же неистовства? Ведь и тот, кто вывел
колонию, и те, которые, по его выбору, взяли на себя государственные
должности в Капуе, и те, которые сколько-нибудь участвовали в том выводе
колонии, в почестях, в управлении, все подверглись жесточайшему наказанию,
положенному нечестивцам. А так как я упомянул о Марке Бруте и о том
времени, я расскажу вам и о том, что я видел сам, приехав в Капую после
вывода туда колонии, в бытность Луция Консидия и Секста Сальция
«преторами»,— как они себя величали,— дабы вы поняли, насколько быстро само
это место делает людей надменными. Это вполне можно было почувствовать
уже в течение нескольких дней, истекших с основания там колонии. (93)
Прежде всего, как я уже говорил, хотя в других колониях должностные
лица назывались дуовирами, они хотели называться преторами. Если у них
уже в первый год появилось такое желание, то не думаете ли вы, что они
7. Вторая речь о земельном законе
277
через несколько лет стали бы добиваться звания консулов? Далее, перед
ними шло двое ликторов не с палками, но, как здесь у нас перед городскими
преторами, со связками. На форуме были выставлены большие жертвы86,
о принесении которых эти преторы, по решению их совета, объявили с
возвышения,— подобно тому, как это делаем мы, консулы; жертвы заклали в
присутствии глашатая и трубача. Далее созывали ,,отцов-сенаторов" 87.
А само выражение лица Консидия поистине было совершенно нестерпимо.
Человека этого,
бесплотного от чахлой худобы, 88
вы видели в Риме презираемым всеми и забитым; видя в Капуе на его лице
кампанскую спесь и царскую заносчивость, я, казалось мне, видел снова
памятных нам Блоссиев и Вибеллиев 89. (94) Но каким страхом были охвачены
все люди в туниках90! И какое было на Альбанской улице и на Сепласии91
стечение людей, толковавших о том, какой эдикт издал претор, где он
обедал, куда сообщил о своем приезде! А нас, приехавших из Рима, называли
уже не гостями, а чужестранцами, вернее, пришельцами.
(XXXV, 95) Не думаете ли вы, что людей, предвидевших все это,—
я говорю о ваших предках, квириты! —мы должны почитать наравне с
бессмертными богами и поклоняться им? И в самом деле, что они предвидели?
То, что я прошу вас теперь рассмотреть и понять. Нравы людей
определяются не столько их происхождением и их кровью, сколько всем тем, что
сама природа предоставляет нам для нашей повседневной жизни,— тем, чем
мы питаемся и благодаря чему мы существуем. Карфагеняне стали склонны
к обману и лжи 92 не по своему происхождению, а из-за естественных
условий места, где они жили, так как они, располагая множеством гаваней,
соприкасались с многочисленными купцами и пришельцами, речи которых,
возбуждая в них жажду наживы, склоняли их к лжи. Лигурийцы, жители
гор, суровы и дики; этому их научила сама земля, ничего не приносящая им
без тщательной обработки и огромных трудов. Жители Кампании всегда
гордились тучностью своей земли и богатыми урожаями, полезным для
здоровья местоположением, благоустройством и красотой своего города. От
этого изобилия и притока всех благ прежде всего и возникла та
заносчивость, с какой Капуя потребовала от наших предков, чтобы один из
консулов был из Капуи. Впоследствии возникла та склонность к роскоши,
которая даже самого Ганнибала, тогда еще непобедимого оружием, победила
наслаждениями. (96) Когда эти децемвиры выведут сюда, на основании
закона Рулла, пять тысяч колонов и назначат сто декурионов, десятерых
авгуров, шестерых понтификов, каковы будут, по вашему мнению, их
гордость, наглость, дерзость? Рим, расположенный на холмах и в долинах, как
бы висящий высоко в воздухе, с его многоэтажными домами, с его не слиш-
278
Речи Цицерона
ком хорошими улицами и тесными улочками, они станут сравнивать со
своей Капуей, раскинувшейся на вполне ровном месте и прекрасно
расположенной, и он станет предметом их насмешек и презрения. А Ватиканские
земли и Пупинскую область они, разумеется, не признают даже достойными
сравнения со своими тучными и плодородными полями. Что касается
множества соседних городов, то они станут сравнивать их с нашими городами
только ради смеха и в шутку. Вейи, Фидены, Коллацию, клянусь
Геркулесом, даже Ланувий, Арицию и Тускул 93 они станут сравнивать с Калами,
Теаном, Неаполем, Путеолами, Кумами, Помпеями и Нуцерией. (97) По
этой причине они, возгордившись и раздувшись от спеси,— если не теперь
же, быть может, то, конечно, тогда, когда они с течением времени наберутся
сил,— уже перестанут сдерживаться, пойдут дальше и возомнят о себе
слишком много. Ведь даже каждому частному человеку, если только он не
наделен глубокой мудростью, стоит большого труда при полном
благополучии и большом богатстве держаться в должных границах; тем более эти
люди, привлеченные и выбранные Руллом и подобными ему в качестве
колонов, размещенные в Капуе, месте, где обитает надменная роскошь, не
упустят случая совершить любое преступление и любую подлость; более того,
они даже превзойдут исконных уроженцев Кампании, так как и последних,
родившихся и воспитанных в прежних условиях благоденствия, их
чрезмерное богатство все же портило, а на этих, сменивших крайне скудное
существование на изобилие, будет вредно влиять не только богатство, но и
непривычная для них обстановка.
(XXXVI, 98) И ты, Публий Рулл, предпочел идти по преступным
следам Марка Брута, а не подражать памятникам мудрости наших предков?
Вот что придумал ты вместе со своими вдохновителями: [чтобы вы
разграбили] издавна поступающие доходы... [Лакуна.1 и нашли возможность
получать новые, создать город, который соперничал бы с Римом в своем
великолепии; чтобы вы подчинили своим законам, своей судебной власти и своему
владычеству города, племена, провинции, независимые народы, царей,
словом, весь мир; а после того, как вы растратите все деньги, имеющиеся в
эрарии, вытянете из налогов и податей все, что возможно, соберете их со
всех царей, народов и наших императоров, чтобы вы все же скупили земли
тех, кто их получил благодаря милости Суллы и обречен на ненависть,
заброшенные и гиблые земли своих сторонников и собственные, а потом
навязали их римскому народу по цене, назначенной вам; чтобы вы заняли
при посредстве новых колонов все муниципии и колонии Италии; чтобы вы
устраивали колонии всюду, где только признаете нужным; (99) чтобы вы
окружили все государство своими солдатами, своими городами, своими
гарнизонами и держали его под своей пятой; чтобы вы могли самого Гнея
Помпея, столько раз бывшего для государства оплотом и против заклятых
врагов и против преступных граждан, ...[Лакуна.] победителя, лишить возмож-
7. Вторая речь о земельном законе
27
ности видеть наш народ; чтобы вы, захватив, держали под своей пятой все
то, что только возможно забрать посредством золота и серебра, что можно
объявить принятым на основании большинства поданных голосов, добыть
насилием и оружием; чтобы вы тем временем разъезжали по всем странам,
по всем царствам, облеченные высшим империем, неограниченной судебной
властью, располагая всеми деньгами; чтобы вы явились в лагерь Гнея
Помпея и продали, если вам будет выгодно, даже самый лагерь; чтобы вы тем
временем, свободные на основании всех законов, могли без страха перед
судом, без риска добиваться всех остальных государственных должностей;
чтобы никто не мог ни заставить вас предстать перед лицом римского
народа, ни вызвать вас в суд, ни заставить вас явиться в сенат; чтобы ни
консул не мог применить к вам меры принуждения 94, ни народный трибун —
вас удержать.
(100) Что вы этого пожелали при своей глупости и невоздержности, я
лично не удивляюсь; что вы возымели надежду достигнуть этого именно
в мое консульство, вот в чем я сильно удивлен.. Если охрана
государственного строя должна быть предметом большой и неусыпной заботы для всех
консулов, то это особенно относится к тем из них, которые были избраны
консулами не в колыбели, а на поле 95. Ни один из моих предков не давал за
меня обязательств римскому народу; это доверие оказано именно мне; от
меня должны вы требовать, чтобы я исполнил свой долг; меня самого
должны вы к этому призывать. И подобно тому, как меня, когда я
добивался избрания, не препоручал вам ни один представитель моего рода, так—
если я в чем-либо погрешу — у меня нет изображений предков, которые бы
стали просить вас о снисхождении ко мне. (XXXVII) Поэтому — только
бы не пресеклась моя жизнь, которую я высшими ...[Лакуна], [намерен]
защищать от их шреступных козней,— заверяю вас, квириты, с чистым
сердцем: ,вы доверили дела государства бдительному, далеко не робкому,
усердному человеку. (101) Неужели я — такой консул, который станет опасаться
народной сходки, трепетать перед народным трибуном, часто и без
оснований беспокоиться, бояться, что мне придется жить в тюрьме, если народный
трибун повелит взять меня иод стражу96? Вооруженный вашим оружием,
украшенный высшими знаками отличия, облеченный империем и
авторитетом, я без всякого страха поднимаюсь на это место, чтобы, с вашего
одобрения, дать отпор бесчестности этого человека, и не боюсь, что государство,
обладая таким оплотом, может быть побеждено и оказаться под пятой у
этих людей. Если бы я ранее и испытывал чувство страха, то на этой
сходке, перед этим народом я, конечно, не стал бы опасаться ничего. И право,
кто когда-либо уговаривал вас принять земельный закон при столь
благоприятном настроении сходки, какое встретил я, чтобы отговорить вас от
принятия его? Если только это значит отговорить, а не полностью
уничтожить.
280
Речи Цицерона
(102) Из всего этого можно понять, квириты, что наиболее всего народу
по душе то, что я, верный народу консул, приношу вам на этот год: мир,
тишина, спокойствие. То, чего вы боялись в то время, когда мы были
избранными консулами, предотвращено моей разумной
предусмотрительностью. Не только вы будете наслаждаться спокойствием, вы, которые
всегда этого хотели; нет, даже тех людей, которым спокойствие всегда
ненавистно, я успокою и утихомирю. И в самом деле, для них источником почестей,
власти и богатств обычно являются мятежи и раздоры среди граждан; вы
же, чье влияние зиждется на голосовании, свобода — на законах, права —
на правосудии и беспристрастии должностных лиц, обязаны всеми
средствами поддерживать спокойствие. (103) Ведь люди, живущие в спокойствии
и пользующиеся досугом, все же в своей позорной лености наслаждаются
самим спокойствием; насколько же большим счастьем будет для вас
сохранить свое нынешнее положение, достигнутое вами не бездействием, а
мужеством! Это положение я также, благодаря соглашению со своим кол-
« Q7 «
легои ,— к великому неудовольствию людей, твердивших, что мы, во время
своего консульства и являемся и останемся недругами,— для всех
обеспечил, предусмотрел, можно сказать, восстановил. И я же объявил народным
трибунам, чтобы они не вздумали во время моего консульства вызывать
какие-либо беспорядки. Но наилучший и надежнейший оплот для
всеобщего благополучия, квириты,— в том, чтобы то рвение, какое вы сегодня
проявили на многолюдной сходке, вы и впредь проявляли ради блага
государства. Беру на себя ответственность, обещаю и заверяю вас: я добьюсь того,
что люди, завидовавшие оказанному мне почету, все же признают, что вы
все, избирая консула, проявили величайшее предвидение.
8
РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ГАЯ РАБИРИЯ,
ОБВИНЕННОГО В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
[Перед центуриатскими комициями, первая половина 63 г.]
(I, 1) Хотя не в моем обычае, квириты, начинать речь с объяснения
причины, почему я защищаю того или иного человека (ибо всякий раз как
кому-либо из моих сограждан грозила опасность, я видел в этом
достаточно законную причину для исполнения долга дружбы), все же, при
настоящей защите жизни \ доброго имени и всего достояния Гая Рабирия, я
нахожу нужным сообщить вам о соображениях, заставляющих меня оказать
ему эту услугу, так как та же причина, которая мне кажется самой законной
для выступления в защиту Рабирия, вам должна показаться столь же
законной для его оправдания. (2) Если наши давние дружеские отношения,
высокое положение обвиняемого, соображения человечности, неизменные
правила моего поведения на протяжении всей моей жизни побудили меня
защищать Гая Рабирия, то делать это самым ревностным образом меня
заставили забота о благе государства, обязанность консула, наконец, само
консульство, вместе с которым вы поручили мне благо государства. Ведь
Гая Рабирия, квириты, подвергло опасности, грозящей ему смертью,
неопреступление, совершенное им, не позорный образ жизни, не давняя
заслуженная им и глубокая неприязнь сограждан. Нет, чтобы уничтожить в
государстве важнейшее средство защиты достоинства нашей державы,
завещанное нам предками2, и чтобы впредь ни авторитет сената, ни консульский
империй3, ни согласие между честными людьми не могли противостоять
губительной язве, угрожающей гражданам, именно затем, ниспровергая эти
установления, и посягнули на жизнь одного старого, немощного и
одинокого человека. (3) Итак, если честный консул, видя, что расшатываются и
уничтожаются все устои государства, должен оказать помощь отчизне,
защитить всеобщее благо и достояние, воззвать к честности граждан, а
своему личному благу предпочесть всеобщее, то честные и стойкие граждане,
какими вы показали себя во все опасные для государства времена, также
должны преградить все пути к мятежам, создать оплот для государства,
признать, что высший империй принадлежит консулам, что высшая
мудрость сосредоточена в сенате и что человек, следовавший этим правилам,
достоин хвалы и почестей, а не наказания и казни. (4) Итак, весь труд по
282
Речи Цицерона
защите Гая Рабирия я беру на себя, но усердное желание спасти его должно
быть у нас с вами общим.
(II) Вы должны твердо знать, квириты, что с незапамятных времен
среди всех дел, которые народный трибун возбуждал, в которых консул брал
на себя защиту, которые выносились на суд римского народа, не было еще
более важного, более опасного дела, которое потребовало бы большей
осмотрительности от вас всех. Ведь это дело, квириты, преследует лишь
одну цель — чтобы впредь в государстве не существовало ни
государственного совета, ни согласия между честными людьми, направленного против
преступного неистовства дурных граждан, ни — в случаях крайней
опасности для государства — убежища и защиты для всеобщей
неприкосновенности. (5) При таком положении дел я прежде всего, как это и необходимо,
когда столь велика угроза для жизни, доброго имени и достояния всех
граждан, молю Юпитера Всеблагого Величайшего и других бессмертных
богов и богинь, чья помощь и поддержка в гораздо большей степени, чем
разум и мудрость людей, правят нашим государством, ниспослать нам мир
и милость. Я умоляю их о том, чтобы свет этого дня принес Гаю Рабирию
спасение, а государство наше укрепил. Далее я умоляю и заклинаю вас,
квириты, чья власть уступает только всемогуществу бессмертных богов:
так как в одно и то же время в ваших руках находятся и от вашего
голосования зависят и жизнь Гая Рабирия, глубоко несчастного и ни в чем не
повинного человека, и благополучие нашего государства, то, решая вопрос
об участии человека, проявите свойственное вам сострадание; решая вопрос
о неприкосновенности государства,— обычную для вас мудрость.
(6) А теперь, так как ты, Тит Лабиен, постарался поставить преграды
моему усердию как защитника и время, предоставленное мне и
установленное для защиты, ограничил всего получасом 4, я подчинюсь условиям обви
нителя, что является величайшей несправедливостью, и власти моего недру
га, что является величайшим несчастьем, Впрочем, ограничивая меня эти]
получасом времени, ты оставляешь мне возможность выполнить свою
задачу защитника, хотя и не даешь мне выступить как консулу, так как для
защиты мне почти достаточно этого времени, а для сетований его не
хватит. (7) Или ты, быть может, находишь нужным, чтобы я подробно
ответил тебе о священных местах и рощах, оскверненных, по твоим словам, Гаем
Рабирием5? Ведь по этой статье обвинения ты никогда не говорил ничего
другого, кроме того, что Гай Макр выдвинул ее против Гая Рабирия. В
связи с этим меня удивляет, что ты помнишь об обвинениях, предъявленных
Гаю Рабирию Макром, его недругом, но забыл о приговоре, вынесенном
беспристрастными судьями, давшими присягу. (III, 8) А разве требует
длинных объяснений обвинение в казнокрадстве и поджоге архива? По
этому обвинению родственник Гая Рабирия, Гай Курций, с большим почетом,
в соответствии с его высокими нравственными качествами, был оправдан
8. В защиту Гая Рабирия
283
торжественно произнесенным приговором; но сам Рабирий, не говорю уже —
не был привлечен к суду по этим обвинениям; нет, на него не пало даже
малейшее подозрение, против него не было сказано ни одного слова.
Требует ли более обстоятельного ответа обвинение насчет сына его сестры?
По твоим словам, Рабирий убил его, чтобы добиться отсрочки суда в связи
с семейным горем. Неужели можно поверить, чтобы муж его сестры был
ему дороже, чем ее сын, и притом настолько дороже, чтобы Рабирий был
готов со всей жестокостью лишить своего племянника жизни, дабы
добиться двухдневной отсрочки суда над Гаем Курцием? Что касается
задержания чужих рабов, будто бы совершенного им в нарушение Фабиева закона 6,
наказания розгами и казни римских граждан в нарушение Порциева
закона 7, то следует ли говорить об этом подробно, когда вся Апулия оказывает
Гаю Рабирию честь своим сочувствием, а Кампания — своей
исключительной благожелательностью, когда для избавления его от грозящей ему
опасности собрались не только отдельные люди, но чуть ли не сами области
страны, причем охватившее их волнение распространилось и за пределами
и притом гораздо дальше, чем того требовали добрососедские отношения8?
Стоит ли мне приводить длинное объяснение в ответ на то, что написано в
предложении наложить пеню9, где говорится, что Рабирий не щадил ни
своей, ни чужой стыдливости? (9) Нет, я даже подозреваю, что Лабиен
ограничил меня получасом времени именно для того, чтобы я не слишком
долго говорил о стыдливости. Итак, тебе понятно, что предоставленное
тобою получаса времени мне слишком много для ответа на эти обвинения
взывающие к добросовестности защитника. Вторую часть моей речи — оО
убийстве Сатурнина — ты пожелал особенно ограничить; между тем оно
взывает не к оратору, требуя от него дарования, а к консулу, требуя от него
помощи. (10) Что касается суда за государственную измену, в упразднении
которого ты то и дело обвиняешь меня, то это обвинение относится ко мне,
а не к Рабирию. О, если бы я, квириты, был либо первым, либо
единственным человеком, упразднившим этот суд в «ашем государстве! О, если бы
деяние это, в котором он видит преступление, принесло славу именно мне!
И в самом деле, чего могу я желать сильнее, чем в консульство свое удалить
палача с форума и крест с поля 10? Но эта заслуга, квириты, принадлежит
прежде всего нашим предкам, которые, изгнав царей, не оставили в
свободном народе и следа царской жестокости, затем — многим храбрым мужам,
по воле которых ваша свобода не внушает страха жестокостью казней, а
ограждена милосердием законов.
(IV, 11) Итак, Лабиен, кто же из нас двоих действительно сторонник
народа: ты ли, считающий нужным во время самой народной сходки
отдавать римских граждан в руки палача и заключать в оковы, ты ли,
приказывающий на Марсовом поле, во время центуриатских комиций, на
освященном авспициями и месте воздвигнуть и водрузить крест для казни
284
Речи Цицерона
граждан, или же я, запрещающий осквернять народную сходку
присутствием -палача, я, требующий, чтобы форум римского народа был очищен 12
от следов этого нечестивого злодейства, я, утверждающий, что народную
сходку следует сохранять чистой, поле — священным, всех римских
граждан— неприкосновенными, права на свободу — нетронутыми? (12) Хорош
народный трибун, страж и защитник права и свободы! Порциев закон
избавил всех римских граждан от наказания розгами; этот сострадательный
человек вводит вновь бичевание. Порциев закон защитил свободу граждан
от посягательств ликтора; Лабиен, сторонник народа, отдал ее в руки
палача. Гай Гракх предложил закон 13, запрещающий без вашего повеления
выносить смертный приговор римскому гражданину; этот сторонник народа
захотел, чтобы дуовиры не только выносили без вашего повеления приговор
о судьбе римского гражданина, но осуждали римского гражданина на смерть
даже без слушания дела. (13) И ты еще смеешь толковать мне о Порцие-
вом законе, о Гае Гракхе, о свободе этих вот людей, вообще о каких-то
сторонниках народа, когда ты сам попытался не только необычайной
казнью, но и неслыханной жестокостью выражений оскорбить свободу
нашего народа, подвергнуть испытанию его мягкосердечие, изменить его
обычаи? Вот ведь слова, которые тебе, милосердному человеку и стороннику
народа, доставляют удовольствие: «Ступай, ликтор, свяжи ему руки»,—
слова, которые не подходят, не говорю уже — к нашему времени свободы
и душевной мягкости, но даже к временам Ромула и Нумы Помпилия. Во
вкусе Тарквиния, надменнейшего 'И жесточайшего царя, эти твои слова,
обрекающие на казнь, которые ты, мягкий и благожелательный к народу
человек, повторяешь так охотно: «Закутай ему голову, повесь его на
зловещем дереве» и. В нашем государстве, квириты, давно уже утратили силу
эти слова, не только потерявшиеся во тьме веков, но и побежденные светом
свободы.
(V, 14) Но если бы этот вид судебного преследования действительно
служил благу народа или если бы в нем была хотя бы малая доля
справедливости и законности, то неужели Гай Гракх отказался бы от него?
Видимо, смерть твоего дяди 15 тебя опечалила больше, чем Гая Гракха — смерть
его брата, и для тебя смерть дяди, которого ты никогда не видел, была
горше, чем для него смерть его брата, с которым он до того жил в полном
согласии. И ты караешь за смерть дяди в силу того же права, в силу
которого он мог бы преследовать тех, которые убили его брата, если бы
пожелал действовать по твоему способу. И римский народ, видимо, горевал по
этому Лабиену, дяде твоему,— кто бы он ни был — так же, как некогда
горевал по Тиберию Гракху. Или твои родственные чувства более сильны,
чем родственные чувства Гая Гракха, или ты, может быть, превосходишь
его мужеством, мудростью, влиянием, авторитетом, красноречием? Даже
если он обладал этими качествами в самой малой степени, все же в сравне-
8. В защиту Гая Рабирия
285
нии с твоими их следовало бы признать выдающимися. (15) Но так как
Гай Гракх всеми этими качествами действительно превосходил всех людей,
то как велико, по твоему мнению, различие между тобой и им? Однако Гай
Гракх скорее согласился бы тысячу раз умереть жесточайшей смертью, лишь
бы только не допускать на созванной им народной сходке присутствия
палача; ведь палачу цензорские постановления воспретили находиться, не
говорю уже — на форуме, нет, даже под нашим небом, а также и дышать
нашим воздухом и жить в городе Риме 16. И этот человек смеет себя называть
сторонником народа и говорить, что я не забочусь о вашем благе, хотя он
выискал самые разнообразные жесточайшие способы казни и формулы —
не из того, что помните вы и ваши отцы, а из летописей и из судебников
царей 17, между тем как я всеми своими силами, всеми помыслами, всеми
высказываниями и поступками своими боролся с жестокостью и
противился ей! Ведь не согласитесь же вы находиться в таком положении, какого
даже рабы, не будь у них «адежды на освобождение, никак не могли бы
терпеть. (16) Несчастье, когда испытываешь на себе весь позор уголовного
суда, несчастье, когда у тебя конфискуют имущество, несчастье —
удалиться в изгнание; однако даже в этом бедственном положении человек
сохраняет какую-то видимость свободы. Наконец, если нам предстоит умереть,
то умрем как свободные люди — не от руки палача и не с закутанной
головой, и пусть о кресте даже не говорят — не только тогда, когда речь зайдет
о личности римских граждан; нет, они не должны ни думать, ни слышать
о нем, ни видеть его. Ведь не только подвергнуться такому приговору и
такой казни, но даже оказаться в таком положении, ждать ее, наконец, хотя
бы слышать о ней унизительно для римского гражданина и вообще для
свободного человека. Значит, рабов наших избавляет от страха перед всеми
этими мучениями милость и одно прикосновение жезла 18, а нас от порки
розгами, от крюка 19, наконец, от ужасной смерти на кресте не избавят ни
наши деяния, ни прожитая нами жизнь, ни почетные должности, которые
вы нам предоставляли? (17) Вот почему, Лабиен, я заявляю или, лучше,
объявляю и с гордостью утверждаю: своим разумным выступлением,
мужеством и авторитетом я лишил тебя возможности вести это жестокое и
наглое судебное преследование, достойное не трибуна, а царя20. Хотя ты
во время этого судебного преследования и презрел все заветы наших
предков, все законы, весь авторитет сената, все религиозные запреты и все
официально установленные права авспиций, все же, при столь ограниченном
времени, предоставленном мне, об этом ты не услышишь от меня ни слова;
у нас еще когда-нибудь будет время для обсуждения этого вопроса.
(VI, 18) Теперь мы будем говорить об обвинении, связанном со смертью
Сатурнина и твоего прославленного дяди. Ты утверждаешь, что Луций
Сатурнин был убит Гаем Рабирием. Но ведь Гай Рабирий, на основании
показаний многочисленных свидетелей, при красноречивейшей защите
286
Речи Цицерона
Квинта Гортенсия, уже доказал ложность этого обвинения. Я же, будь еще
у меня полная возможность говорить по своему усмотрению, принял бы это
обвинение, признал бы его, согласился бы с ним. О, если бы само дело
позволило мне с гордостью заявить, что Луций Сатурнин, враг римского
народа, был убит рукой Гая Рабирия! Крики ваши меня ничуть не
смущают, напротив, ободряют, показывая, что если еще есть недостаточно
осведомленные граждане, то их немного. Поверьте мне, римский народ — этот
вот, который молчит,— никогда не избрал бы меня консулом, если бы
думал, что ваши крики приведут меня в замешательство. Но вот, восклицания
уже стихают; прекратите же крики, доказывающие ваше неразумие и
свидетельствующие о вашей малочисленности! (19) Я охотно признал бы
это обвинение, если бы мог это сделать, не греша против истины, или,
вернее, если бы у меня еще была полная возможность говорить, что найду
нужным; повторяю, я признал бы обвинение, что Луций Сатурнин был убит
рукой Гая Рабирия, и ч счел бы это деяние прекрасным; но, коль скоро я
не могу этого сделать, я признаю факт, который принесет ему меньшую
славу, но для обвинения будет иметь значение не меньшее. Я признаю, что
Гай Рабирий взялся за оружие с целью убийства Сатурнина. Что скажешь
ты, Лабиен? Какого более важного признания ждешь ты от меня или,
вернее, какого более тяжкого обвинения против Рабирия? Или ты, быть может,
усматриваешь некоторую разницу между убийцей и человеком, взявшимся
за оружие с целью убийства? Если убить Сатурнина было беззаконием,
то взяться за оружие, угрожающее Сатурнину смертью, нельзя было, не
совершая злодейства; если ты признаешь, что за оружие взялись законно,
[то ты неизбежно должен допустить законность убийства.] [Лакуна.]
(VII, 20) Сенат вынес постановление о том, чтобы консулы Гай Марий
и Луций Валерий обратились к народным трибунам и преторам по своему
выбору и приложили усилия к сохранению державы и величества римского
народа21. Они обратились ко всем народным трибунам, за исключением
Сатурнина, и ко всем преторам, за исключением Главции. Они приказали всем
тем, кому дорого благо государства, взяться за оружие и следовать за ними.
Все повиновались им. Из храма Санка22 и из государственных арсеналов
римского народа, по распоряжению консула Гая Мария, было роздано
оружие. Тут уже — чтобы мне не говорить о дальнейших событиях — я спрошу
тебя самого, Лабиен! Когда Сатурнин с оружием в руках занимал
Капитолий и вместе с ним были Гай Главция, Гай Савфей, а также пресловутый
Гракх23, вырвавшийся из колодок и эргастула, ну, и твой дядя Квинт
Лабиен (назову также и его, раз ты этого хочешь); когда, с другой стороны,
на форуме находились консулы Гай Марий и Луций Валерий Флакк, а за
ними весь сенат и притом тот сенат, который вы сами, не уважающие
нынешних отцов-сенаторов, обычно восхваляете, чтобы вам было еще легче
умалить достоинство -нынешнего сената; когда всадническое сословие (и ка-
8. В защиту Гая Рабирия
287
кие римские всадники! Бессмертные боги! Это были наши отцы,
принадлежавшие к тому поколению, которое тогда играло важную роль в государстве
и обладало всей полнотой судебной власти24), когда все люди,
принадлежавшие ко всем сословиям и полагавшие, что их собственное благополучие
зависит от благополучия государства, взялись за оружие, то как же, скажи
на милость, следовало поступить Гаю Рабирию? (21) Да, Лабиен, я
спрашиваю именно тебя. Когда консулы, в силу постановления сената, призвали
народ к оружию; когда Марк Эмилий25, первоприсутствующий в сенате,
появился на комиции26 вооруженный, причем он, едва будучи в силах
ходить, полагал, что его немощные ноги не помешают ему преследовать
противника, но не позволят обратиться в бегство перед ним; когда Квинт Сце-
вола27, удрученный годами, истощенный болезнью, бессильный, опираясь
на копье, явил и силу своего духа и слабость своего тела; когда Луций
Метелл, Сервий Гальба, Гай Серран, Публий Рутилий, Гай Фимбрия, Квинт
Катул и все тогдашние консуляры ради общего блага взялись за оружие,
когда сбежались все преторы, вся знать, все юношество; когда Гней и
Луций Домиции28, Луций Красе, Квинт Муций, Гай Клавдий, Марк Друс»
когда все Октавии, Метеллы, Юлии, Кассии, Катоны, Помпеи, когда Луций
Филипп, Луций Сципион, Мамерк Лепид, Децим Брут, когда даже
присутствующий здесь Публий Сервилий, под чьим империем ты сам служил,
Лабиен, когда присутствующий здесь Квинт Катул (тогда еще совсем
молодой человек), когда присутствующий здесь Гай Курион,— словом, когда все
прославленные мужи были вместе с консулами, что, скажи на милость,
подобало делать Гаю Рабирию? Запереться ли, удалиться и спрятаться в
неизвестном месте и скрыть свою трусость в потемках и за надежными
стенами или, быть может, подняться на Капитолий и примкнуть там к твоему
дяде и к другим людям, в смерти искавшим спасения от своей позорной
жизни, или же присоединиться к Марию, Скавру, Катулу, Метеллу, Сцево-
ле, словом, ко всем честным людям, чтобы вместе с ними либо спастись,
либо пойти навстречу опасности?
(VIII, 22) А ты сам, Лабиен? Как поступил бы ты при таких
обстоятельствах и в такое время? Если бы трусость побуждала тебя бежать и
скрыться, если бы бесчестность и бешенство Луция Сатурнина влекли тебя
в Капитолий, а консулы призывали тебя >к защите всеобщего благополучия
и свободы, то чьему, скажи, авторитету, чьему зову, какой стороне, чьему
именно приказанию предпочел бы ты тогда повиноваться? «Мой дядя,—
говорит он,— был вместе с Сатурнином». А с кем был твой отец? А
родственники ваши, римские всадники? А вся ваша префектура, область,
соседи? А вся Пиценская область 29. Бешенству ли трибуна повиновалась она
или же авторитету консула? (23) Я лично утверждаю: в том, за что ты
теперь восхваляешь своего дядю, до сего времени еще никто никогда
не признавался; повторяю, еще не нашлось такого испорченного, такого
288
Речи Цицерона
пропащего человека, до такой степени утратившего, не говорю — честность,
нет, даже способность притворяться честным, чтобы он сам сознался в том,
что был в Капитолии вместе с Сатурнином. Но ваш дядя, скажут нам, там
был; положим, что он там действительно был и притом не вынужденный
к этому ни отчаянным .положением своих дел, ни каким-либо семейным
несчастьем;, приязнь к Сатурнину, предположим, побудила его
пожертвовать благом отечества ради дружбы. Почему же это могло стать для Гая
Рабирия причиной измены делу государства, причиной отказа встать в ряды
честных людей, взявшихся за оружие, неповиновения зову и империю
консулов? (24) Но положение дел, как мы видим, допускало для него три
возможности: либо быть на стороне Сатурнина, либо быть на стороне
честных людей, либо скрыться. Скрыться было равносильно позорнейшей
смерти; быть на стороне Сатурнина было бы бешенством и преступлением;
доблесть, честность и совесть заставляли его быть на стороне консулов.
Итак, ты вменяешь Гаю Рабирию в вину, что он был на стороне тех людей,
сражаясь против которых, он показал бы себя безумцем, а оставив их без
поддержки — негодяем?
(IX) Но, скажешь ты, был осужден Гай Дециан 30 (о котором ты
говоришь так часто) за то, что он, при горячем одобрении со стороны честных
людей обвиняя Публия Фурия, человека, запятнавшего себя многими
позорными делами, осмелился на народной сходке сокрушаться о смерти
Сатурнина; Секст Тиций 31 тоже был осужден за то, что хранил у себя в доме
изображение Луция Сатурнина; этим своим приговором римские всадники
установили, что дурным гражданином, недостойным оставаться в числе
граждан, является всякий, кто, храня у себя изображение мятежника и
врага государства, тем самым чтит его после его смерти, всякий, кто вызывает
сожаление о нем среди мало осведомленных людей, возбуждая их
сострадание, или же кто обнаруживает намерение подражать его преступным
деяниям. (25) Поэтому я не понимаю, Лабиен, где мог ты найти это хранящееся
у тебя изображение Луция Сатурнина, так как после осуждения Секста
Тиция не находилось никого, кто бы осмелился хранить у себя это
изображение. И если бы ты об этом слышал, или, по возрасту своему, мог об этом
знать, ты, конечно, никогда бы не принес на ростры, то есть на народную
сходку, того изображения, за которое Секст Тиций, поместившгй его у себя
в доме, поплатился изгнанием и жизнью; ты никогда бы не направил свое
судно на те скалы, о которые, как ты видел, разбился корабль Секста
Тиция и где потерпел кораблекрушение Гай Дециан. Но во всем этом ты
допускаешь оплошность по своей неосведомленности. Ведь ты взялся вести
дело о том, чего ты помнить не можешь; ибо оно еще до твоего рождения
стало достоянием прошлого, а ты передаешь в суд такое дело, в котором,
'если бы тебе (позволил твой возраст, ты, конечно, принял бы участие сам.
<(26) Или ты не понимаешь, прежде всего, кто такие те люди и как славны
8. В защиту Гая Рабирия
289
те мужи, которых ты посмертно обвиняешь в величайшем преступлении,
затем — скольких из тех, которые живы, ты тем же обвинением
подвергаешь величайшей опасности, угрожающей их гражданским правам? Если
бы Гай Рабирий совершил государственное преступление тем, что взялся
за оружие против Луция Сатурнина, то некоторым оправданием ему мог бы
тогда служить его возраст. Ну, а Квинт Катул, отец нашего современника,
отличавшийся величайшей мудростью, редкостной доблестью,
исключительной добротой? А Марк Скавр, человек известной всем строгости взглядов,
мудрости, дальновидности? А двое Муциев, Луций Красе, Марк Антоний,
находившийся тогда во главе войск вне пределов города Рима,— все эти
люди, проявившие в нашем государстве величайшую мудрость и дарование,
а также и другие, занимавшие разное положение, стражи и кормчие
государства? Как оправдаем мы их после их смерти? (27) Что будем мы
говорить о тех весьма уважаемых мужах и выдающихся гражданах, римских
всадниках, которые тогда, -вместе с сенатом, защитили неприкосновенность
государства, о тех эрарных трибунах 32 и гражданах всех других сословий,
которые тогда взялись за оружие, защищая всеобщую свободу? (X) Но
зачем говорю я обо всех тех людях, которые повиновались империю
консулов? Что будет с добрым именем самих консулов? И Луция Флакка.
жреца и руководителя священнодействий, человека исключительно
ревностно относившегося к своей государственной деятельности «и к выполнению
овоих должностных обязанностей, мы посмертно осудим за нечестивое
преступление и братоубийство33? И мы посмертно запятнаем этим
величайшим позором даже имя Гая Мария? Гая Мария, которого мы по всей
справедливости можем назвать отцом отчизны, отцом, повторяю, и
родителем вашей свободы и этого вот государства, мы посмертно осудим за
злодеяние и нечестивое братоубийство? (28) И в самом деле, если для Гая
Рабирия за то, что он взялся за оружие, Тит Лабиен признал нужным
воздвигнуть крест на Марсовом поле, то какую скажите мне, казнь
придумать для того человека, который призвал граждан к оружию? Более того,
если Сатурнина заверили в личной неприкосновенности, о чем ты не
перестаешь твердить, то в ней его заверил не Гай Рабирий, а Гай Марий, он
же ее и нарушил, конечно, если признать, что он своего слова не сдержал.
Но как это заверение, Лабиен, могло быть дано без постановления сената 34?
Настолько ли чужой человек ты в нашем городе, настолько ли не знаком
ты с нашими порядками и обычаями, что не знаешь всего этого, так что
кажется, будто ты путешествуешь по чужой стране, а не исполняешь
должностные обязанности у себя на родине?
(29) «Какой вред,— говорит он,— может все это причинить Гаю Марию,
когда он уже бесчувствен и мертв?» Но разве это так? Неужели Гай Марий
стал бы переносить такие великие труды и подвергаться таким опасностям
в течение всей своей жизни, если бы он, в своих помыслах насчет себя и
•9 Цицерон, т. I
290
Речи Цииерона
своей славы, не питал надежд, выходивших далеко за пределы человеческоГг
жизни? Итак, разбив в Италии на голову бесчисленные полчища врагов и
избавив государство от непосредственной опасности35, он думал, что все
его деяния умрут вместе с ним,— и я должен этому верить? Нет, это не так,
квириты, и всякий из нас, славно и доблестно служа государству и
подвергаясь опасностям, надеется на признательность потомков. Вот почему, не
говоря о многих других причинах, я думаю, что помыслы честных людей
внушены им богами и будут жить века, что все честнейшие и мудрейшие
люди обладают даром предвидеть-будущее и обращают свои помыслы
только к тому, что вечно. (30) Вот почему душу Гая Мария и души других
мудрейших и храбрейших граждан, которые после их земной жизни, по моему
убеждению, переселились в священную обитель богов, я привожу в
свидетели своего обещания бороться за их доброе имя, их славу и память точно
так же, как за родные храмы и святилища, и я, если бы мне пришлось
взяться за оружие в защиту их заслуг, сделал бы это с такой же решимостью,
с какой за него взялись они, защищая всеобщее благополучие. И в самом
деле, квириты, не долог путь жизни, назначенный нам природой, но
беспределен путь славы. (XI) Поэтому мы, возвеличивая тех людей, которые уже
ушли из жизни, подготовим для себя более благоприятную судьбу после
смерти. Но если ты, Лабиен, относишься с пренебрежением к людям, видеть
которых мы уже не можем, то не следует ли, по твоему мнению,
позаботиться хотя бы о тех, кого ты видишь? (31) Я утверждаю: из
присутствующих здесь,— если только они находились в Риме в тот день, который ты
делаешь предметом судебного следствия, и были взрослыми,— не было
никого, кто бы не взялся за оружие и не последовал за консулами. Значит,
всех тех, о чьем тогдашнем поведении ты можешь догадаться, приняв во
внимание их возраст, ты, привлекая Гая Рабирия к суду, обвиняешь в
уголовном преступлении. Но, скажешь ты, Сатурнина убил именно Рабирий.
О, если бы он это совершил! В таком случае я не просил бы об избавлении
его от казни, а требовал награды для него. И право, если Сцеве, рабу
Квинта Кротона, убившему Луция Сатурнина, была дарована свобода, то какая
достойная награда могла бы быть дана римскому всаднику? И если Гай
Марий за то, что он приказал перерезать водопроводные трубы, по которым
вода поступала в храм и жилище Юпитера Всеблагого Величайшего, за то,
что он .на капитолийском склоне... дурных граждан... [Лакуна.]
ФРАГМЕНТЫ
(XII, 32) Вот почему при рассмотрении этого дела, предпринятом по
моему предложению, сенат проявил не больше внимания и суровости, чем
проявили вы, выразив свои чувства жестами и криками и отказав в своем
согласии на раздачу земли во всем мире и, в частности, в знаменитой Кам-
панской области36. (33) Как и человек, возбудивший это судебное дело, я
8. В защиту Гая РаЬирия 291
во всеуслышание говорю, заявляю, утверждаю: нет больше ни царя, ни
племени, ни народа, которые внушали бы вам страх; никакое зло, проникающее
к нам извне и чуждое нашему строю, не может прокрасться в наше
государство. Если вы хотите, чтобы было бессмертно наше государство, чтобы была
вечной наша держава, чтобы наша слава сохранилась навсегда, то нам
следует остерегаться мятежных людей, падких до переворотов [, остерегаться
внутренних зол] и внутренних заговоров 37. (34) Но именно против этих зол
предки ваши и оставили вам великое средство защиты — хорошо известный
нам призыв консула: «Кто хочет, чтобы государство было невредимо,...»38
Поддержите этот призыв, квириты, и не лишайте меня своим приговором...
[Лакуна.] и не отнимайте у государства надежды сохранить свободу,
сохранить неприкосновенность, сохранить достоинство. (35) Что стал бы я
делать, если бы Тит Лабиен, подобно Луцию Сатурнину, устроил резню среди
граждан, взломал двери тюрьмы оэ и во главе вооруженных людей захватил
Капитолий? Я сделал бы то же, что сделал Гай Марий: доложил бы об этом
сенату, призвал бы вас к защите государства, ,а сам, взявшись за оружие,
вместе с вами дал бы отпор поднявшему оружие врагу. Но теперь, так как
опасаться оружия не приходится, копий я не вижу, ни насильственных
действий, ни резни нет, ни Капитолий, ни крепость40 не осаждены, но коль
скоро предъявлено грозное обвинение, происходит беспощадный суд, и все
дело начато народным трибуном против государства, то я и счел нужным
не призывать вас к оружию, но склонить к голосованию против
посягательств на ваше величество41. Поэтому я теперь всех вас молю, заклинаю
и призываю. Ведь у нас не в обычае, чтобы консул... [Лакуна.]
(XIII, 36) ...боится. Человек, который грудью защищал государство и
42
получил эти вот раны , свидетельствующие о его мужестве, страшится, что
будет нанесена рана его доброму имени. Человек, которого никогда не могли
заставить отступить нападения врагов, теперь испытывает ужас перед
натиском граждан, против которого ему никак не устоять. (37) Он теперь
просит вас дать ему не жить в благоденствии, а умереть с честью и
заботиться не о том, чтобы жить в своем доме, а о том, чтобы не лишиться
погребения в гробнице своих отцов. И он молит и заклинает вас об одном: не
лишать его погребения по установленному обряду, не отнимать у него
возможности умереть у себя дома и позволить тому, кто никогда не уклонялся
от смертельной опасности, защищая отечество, в своем отечестве и умереть.
(38) Я закончил свою речь ко времени, установленному для меня народ-
ным трибуном. Вас же я настоятельно прошу считать эту мою
защитительную речь проявлениехМ моей верности другу, находящемуся в опасности, и
исполнением долга консула, стоящего на страже благополучия государства.
...и глубоко любимый как всем римским народом, так особенно всадниче-.
ским сословием 43.
19*
9
ПЕРВАЯ РЕЧЬ
ПРОТИВ ЛУЦИЯ СЕРГИЯ КАТИЛИНЫ
[В сенате, в храме Юпитера Статора, 8 ноября 63 г.]
(I, 1) Доколе же ты, Катилина, будешь зло>потреблять нашим
терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами?
До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды?
Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине \ ни стража,
обходящая город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных
людей, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания
сената2, ни лица и взоры всех присутствующих? Неужели ты не
понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже
известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не
знает, что делал ты последней, что предыдущей ночью, где ты был, кого
сзывал, какое решение принял? (2) О, времена! О, нравы3! Сенат все это
понимает, консул видит, а этот человек все еще жив. Да разве только жив?
Нет, даже приходит в сенат, участвует в обсуждении государственных дел,
намечает и указывает своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит/
а мы, храбрые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед
государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его оружия. Казнить
тебя, Катилина, уже давно следовало бы, по приказанию консула4, против
тебя самого обратить губительный удар, который ты против всех нас уже
давно подготовляешь. (3) Ведь высокочтимый муж, верховный понтифик
Публий Сципион 5, будучи частным лицом, убил Тиберия Гракха,
пытавшегося произвести лишь незначительные изменения в государственном строе,
а Катилину, страстно стремящегося резней и поджогами весь мир
превратить в пустыню, мы, консулы, будем терпеть? О событиях далекого
прошлого я, пожалуй, говорить не буду — например, о том, что Гай Сервилий
Агала своей рукой убил Спурия Мелия, стремившегося произвести
государственный переворот6. Была, была некогда в нашем государстве доблесть,
когда храбрые мужи были готовы подвергнуть гражданина, несущего
погибель, более жестокой казни, чем та, какая предназначена для злейшего
врага. Мы располагаем против тебя, Катилина, решительным и веским
постановлением сената. -Не изменяют государству ни мудрость, ни авторитет
этого сословия; мы — говорю открыто — мы, консулы, изменяем ему.
9. Первая речь против Катилины
293
(II, 4) Сенат, своим постановлением, некогда обязал консула Луция
Опимия принять меры, дабы государство не понесло ущерба7. Не прошло
и ночи — и был убит, вследствие одного лишь подозрения в подготовке
мятежа, Гай Гракх, сын, внук и потомок знаменитых людей; был предан
смерти, вместе со своими сыновьями, консуляр Марк Фульвий 8. На основании
такого же постановления сената, защита государства была вверена
консулам Гаю Марию и Луцию Валерию9. Заставила ли себя ждать хотя бы
один день смерть народного трибуна Луция Сатурнина и претора Гая Сер-
вилия, вернее, кара, назначенная для них государством? А мы, вот уже
двадцатый день10, спокойно смотрим, как притупляется острие полномочий
сената. Правда, и мы располагаем таким постановлением сената, но оно
таится в записях и подобно мечу, вложенному в ножны; на основании этого
постановления сената, тебя, Каталина, следовало немедленно предать
смерти, а между тем ты все еще живешь и живешь не для того, чтобы отречься
от своей преступной отваги; нет,— чтобы укрепиться в ней. Хочу я, отцы-
сенаторы, быть милосердным; не хочу, при таких великих испытаниях для
государства, показаться безвольным; но я сам уже осуждаю себя за
бездеятельность и трусость. (5) В самой Италии, на путях в Этрурию, устроен
лагерь на погибель римскому народу; с каждым днем растет число врагов,
а самого начальника этого лагеря, императора11 и предводителя врагов, мы
ви&им в своих стенах, более того — в сенате; изо дня в день готовит он
изнутри гибель государству. Если я тотчас же велю тебя схватить, Катилина,
если я велю тебя казнить, то мне, несомненно, придется бояться, что все
честные люди признают мой поступок запоздалым, а не опасаться, что кто-
нибудь назовет его слишком жестоким.
Но, что уже давно должно было быть сделано, я, имея на это веские
основания, все еще не могу заставить себя привести в исполнение. Ты
будешь казнен только тогда, когда уже не найдется ни одного столь
бесчестного, столь низко падшего, столь подобного тебе человека, который не
признал бы, что это совершенно законно. (6) Но пока есть хотя бы один
человек, который осмелится тебя защищать, ты будешь жить, но так, как живешь
ныне,— окруженный моей многочисленной и надежной стражей, дабы у тебя
не было ни малейшей возможности даже пальцем шевельнуть во вред
государству. Более того, множество глаз и ушей будет — незаметно для тебя,
как это было также и до сего времени,— за тобой наблюдать и следить.
(III) И в самом деле, чего еще ждешь ты, Катилина, когда ни ночь не
может скрыть в своем мраке сборище нечестивцев, ни частный
дом—удержать в своих стенах голоса участников твоего заговора, если все становится
явным, все прорывается наружу? Поверь мне, уже пора тебе изменить свой
образ мыслей; забудь о резне и поджогах. Ты окружен со всех сторон;
света яснее нам все твои замыслы, которые ты можешь теперь обсудить вместе
со мной. (7) Разве ты не помнишь, как за одиннадцать дней до ноябрьских
294
Речи Цицерона
календ я говорил в сенате, что в определенный день, а именно за пять дней
до ноябрьских календ, возьмется за оружие Гай Манлий, твой приверженец
и орудие твоей преступной отваги? Разве я ошибся, Катилина, не говорю
уже — в том, что произойдет такое ужасное и невероятное событие, но
также,— и это должно вызывать гораздо большее изумление,— в определении
его срока? И я же сказал в сенате, что ты назначил резню оптиматоз на
день за четыре дня до ноябрьских календ — тогда, когда многие из первых
наших граждан бежали из Рима не столько ради того, чтобы избегнуть
опасности, сколько для того, чтобы не дать исполниться твоим замыслам.
Можешь ли ты отрицать, что в тот самый день ты, окруженный со всех сторон
моими отрядами, благодаря моей бдительности не смог ни шагу сделать
против государства, но, по твоим словам, ввиду отъезда всех остальных 12 ты
был бы вполне удовлетворен, если бы тебе удалось убить одного меня, коль
скоро я остался в Риме? (8) А потом? Когда ты был уверен, что тебе в
самые ноябрьские календы удастся ночью, одним натиском, захватить Пре-
несту 13, не понял ли ты тогда, что колония эта, именно по моему
приказанию, была обеспечена войсками, охраной, ночными дозорами? Ты ничего
не можешь ни сделать, ни затеять, ни задумать без того, чтобы я об этом
не услыхал, более того — этого не увидел и ясно не ощутил.
(IV) Припомни же, наконец, вместе со мной события достопамятной
позапрошлой ночи и ты сразу поймешь, что я с гораздо большим усердием
неусыпно охраняю благополучие государства, чем ты готовишь ему гибель.
Я утверждаю, что ты в эту ночь пришел на улицу Серповщиков — буду
говорить напрямик — в дом Марка Леки14; там же собралось множество
соучастников этого безрассудного преступления. Смеешь ли ты отпираться?
Что ж ты молчишь ? Докажу, если вздумаешь отрицать. Ведь я вижу, что
здесь, в сенате, присутствует кое-кто из тех, которые были вместе с тобой.
(9) О, бессмертные боги! В какой стране мы находимся? Что за
государство у нас? В каком городе мы живем? Здесь, здесь, среди нас,
отцы-сенаторы, в этом священнейшем и достойнейшем собрании, равного которому в
мире нет, находятся люди, помышляющие о нашей всеобщей гибели, об
уничтожении этого вот города, более того, об уничтожении всего мира!
И я, консул, вижу их здесь, даже предлагаю им высказать свое мнение о
положении государства и все еще не решаюсь уязвить словами людей,
которых следовало бы истребить мечом.
Итак, ты был у Леки в эту ночь, Катилина! Ты разделил на части
Италию 15, ты указал, кому куда следовало выехать; ты выбрал тех, кого
следовало оставить в Риме, и тех, кого следовало взять с собой; ты распределил
между своими сообщниками кварталы Рима, предназначенные для поджога,
подтвердил, что ты сам в ближайшее время выедешь из города, но сказал:
что ты все же еще не надолго задержишься, так как я еще жив. Нашлись
двое римских всадников, выразивших желание избавить тебя от этой забо-
9. Первая речь против Катилины
295
ты и обещавших тебе в ту же ночь, перед рассветом, убить меня в моей
постели 16. (10) Обо всем этом я узнал, как только было распущено ваше
собрание 17. Дом свой я надежно защитил, усилив стражу; не допустил к себе
тех, кого ты ранним утром прислал ко мне с приветствиями 18; впрочем, ведь
пришли как раз те люди, чей приход — и притом именно в это время —
я уже заранее предсказал многим виднейшим мужам.
(V) Теперь, Катилина, продолжай идти тем путем, каким ты пошел;
покинь, наконец, Рим; ворота открыты настежь, уезжай. Слишком уж долго
ждет тебя, императора, твой славный Манлиев лагерь. Возьми с собой и
всех своих сторонников; хотя бы не от всех, но от возможно большего числа
их очисти Рим. Ты избавишь меня от сильного страха, как только мы будем
отделены друг от друга городской стеной. Находиться среди нас ты уже
больше не можешь; я этого не потерплю, не позволю, не допущу. (11)
Великую благодарность следует воздать бессмертным богам и, в частности,
этому вот Юпитеру Статору 19, древнейшему стражу нашего города, за то,
что мы уже столько раз были избавлены от столь отвратительной язвы,
столь ужасной и столь пагубной для государства. Отныне благополучию
государства не должна уже угрожать опасность от одного человека. Пока ты,
Катилина, строил козни мне, избранному консулу, я защищался от тебя
не с помощью официально предоставленной мне охраны, а принимая свои
меры предосторожности. Но когда ты, во время последних комиций по
выбору консулов, хотел меня, консула, и своих соискателей убить на поле20,
я пресек твою нечестивую попытку, найдя защиту в лице многочисленных
друзей, не объявляя, однако, чрезвычайного положения 21 официально.
Словом, сколько раз ни пытался ты нанести мне удар, я отражал его сам, хотя
и понимал, что моя гибель была бы большим несчастьем для государства.
(12) Но теперь ты уже открыто хочешь нанести удар государству в целом;
уже и храмы бессмертных богов, городские дома, всех граждан, всю
Италию обрекаешь ты на уничтожение и гибель. Поэтому, коль скоро я все еще
не решаюсь совершить то, что является моей первой обязанностью и на что
дает мне право предоставленный мне империй22 и заветы наших предков,
я прибегну к каре более мягкой, но более полезной для всеобщего
спасения. Если я прикажу тебя казнить, то остальные люди из шайки
заговорщиков в государстве уцелеют; но если ты, к чему я уже давно тебя
склоняю, уедешь, то из Рима буд>т удалены обильные и зловредные подонки
государства в лице твоих приверженцев23. (13) Что же, Катилина?
Неужели же ты колеблешься сделать, по моему приказанию, то, что ты был готов
сделать добровольно? Консул велит врагу24 удалиться из Рима. Ты
спрашиваешь меня — неужели в изгнание? Я тебе не велю, но, раз ты меня
спрашиваешь, советую так поступить.
(VI) И в самом деле, Катилина, что еще может радовать тебя в этом
городе, где, кроме твоих заговорщиков, пропащих людей, не найдется
296
Речи Цицерона
никого, кто бы тебя не боялся, кто бы не чуствовал к тебе ненависти? Есть
ли позорное клеймо, которым твоя семейная жизнь не была бы отмечена?
Каким только бесстыдством не ославил ты себя в своей частной жизни?
Каким только непристойным зрелищем не осквернил ты своих глаз, каким
деянием — своих рук, какой гнусностью — всего своего тела? Найдется ли
юнец, перед которым бы ты, чтобы заманить его в сети и совратить, не нес
кинжала на пути к преступлению или же факела на пути к разврату25?
(14) Разве недавно, когда ты, смертью своей первой жены, приготовил свой
опустевший дом для нового брака, ты не добавил к этому злодеянию еще
другого, невообразимого26? Не стану о нем говорить,— пусть лучше о нем
молчат — дабы не казалось, что в нашем государстве такое чудовищное
преступление могло произойти или же остаться безнаказанным 27. Не буду
говорить о твоем полном разорении, всю тяжесть которого ты почувствуешь
в ближайшие иды 28. Перехожу к тому, что относится не к твоей позорной
и порочной частной жизни, не к твоим семейным бедствиям и бесчестию,
а к высшим интересам государства, к нашему существованию и всеобщему
благополучию.
(15) Неужели тебе, Катилина, может быть мил этот вот свет солнца или
воздух под этим небом, когда каждому из присутствующих, как ты знаешь,
известно, что ты, в консульство Лепида и Тулла29, в канун январских
календ стоял на комиции 30 с оружием в руках; что ты, с целью убийства
консулов и первых граждан, собрал большую шайку и что твое безумное
злодеяние было предотвращено не твоими собственными соображениями и не
страхом, а Фортуной римского народа? Я и об этом не стану
распространяться; ибо это ни для кого не тайна, а ты и впоследствии совершил .немало
преступлений. Сколько раз покушался ты на мою жизнь, пока я был
избранным консулом, сколько раз — во время моего консульства! От скольких
твоих нападений, рассчитанных так, что, казалось, не было возможности их
избежать, я спасся, как говорится, лишь чуть-чуть отклонившись в
сторону! Ничего тебе не удается, ничего ты не достигаешь, но все-таки не
отказываешься от своих попыток и стремлений. (16) Сколько раз уже
вырывали кинжал у тебя из рук! Сколько раз он случайно выскальзывал у тебя
из рук и падал на землю! Не знаю, во время каких таинств, каким обетом
ты посвятил его богам31, раз ты считаешь необходимым вонзить его
именно в грудь консула.
(VII) А теперь какова твоя жизнь? Ведь я теперь буду говорить с
тобой так, словно мной движет не ненависть, что было бы моим долгом, а
сострадание, на которое ты не имеешь никакого права. Ты только что явился
в сенат. Кто среди этого многочисленного собрания, среди стольких твоих
друзей и близких приветствовал тебя? Ведь этого — с незапамятных
времен—не случалось ни с кем; и ты еще ждешь оскорбительных слов, когда
само это молчание — уничтожающий приговор! А то, что после твоего при-
9. Первая речь против Катилины
297'
хода твоя скамъя опустела, что все консуляры, которых ты в прошлом не
раз обрекал на убийство, пересели, оставив незанятыми скамьи той стороны,
где сел ты? Как ты можешь это терпеть?
(17) Если бы мои рабы боялись меня так, как тебя боятся все твои
сограждане, то я, клянусь Геркулесом, предпочел бы покинуть свой дом32.
А ты не считаешь нужным покинуть Рим? И если бы я видел, что я —
пусть даже незаслуженно — навлек на себя такое тяжкое подозрение и не^
приязнь сограждан, то я отказался бы от общения с ними, только бы не
чувствовать ненависти в их взглядах. Ты же, зная за собой свои
злодеяния и признавая всеобщую ненависть справедливой и давно уже
заслуженной, еще колеблешься, бежать ли тебе от взоров и от общества тех людей,
чьи умы и чувства страдают от твоего присутствия? Если бы твои родители
боялись и ненавидели тебя и если бы тебе никак не удавалось смягчить их,
ты, мне думается, скрылся бы куда-нибудь с их глаз. Но теперь отчизна,
наша общая мать, тебя ненавидит, боится и уверена, что ты уже давно не
помышляешь ни о чем другом, кроме отцеубийства 33. И ты не склонишься
перед ее решением, не подчинишься ее приговору, не испугаешься ее
могущества? (18). Она так обращается к тебе, Катилина, и своим молчанием словно
говорит: «Не было в течение ряда лет ни одного преступления, которого не
совершил ты; не было гнусности, учиненной без твоего участия; ты один
безнаказанно и беспрепятственно убивал многих граждан 34, притеснял и
разорял наших союзников; ты оказался в силах не только пренебрегать
законами и правосудием, но также уничтожать их и попирать. Прежние твои
преступления, хотя они и были невыносимы, я все же терпела, как могла; но
теперь то, что я вся охвачена страхом из-за тебя одного, что при малейшем
лязге оружия я испытываю страх перед Катилиной, что каждый замысел,
направленный против меня, кажется мне порожденным твоей
преступностью,— все это нестерпимо. Поэтому удались и избавь меня от этого
страха; если он справедлив,— чтобы мне не погибнуть; если он ложен,— чтобы
мне, наконец, перестать бояться». (VIII, 19) Если бы отчизна говорила
с тобой так, неужели ты не должен был бы повиноваться ей, даже если бы
она не могла применить силу?
А то, что ты сам предложил взять тебя под стражу, что ты, дабы
избегнуть подозрения, заявил о своем желании жить в доме у Мания Лепи-
да35? Не принятый им, ты даже ко мне осмелился явиться и меня попросил
держать тебя в моем доме. Получив и от меня ответ, что я никак не могу
чувствовать себя в безопасности, находясь с тобой под одним кровом,
потому что подвергаюсь большой опасности, уже находясь с тобой в одних
и тех же городских стенах, ты пришел к претору Квинту Метеллу;
отвергнутый им, ты переселился к своему сотоварищу, отличнейшему человеку,
Марку Метеллу36, которого ты, очевидно, считал крайне исполнительным
в деле охраны, в высшей степени проницательным в его подозрениях и
298
Речи Цицерона
непоколебимым три наказании. Итак, долго ли до тюрьмы и оков тому, кто
уже сам признал себя заслуживающим заключения под стражу? (20) И при
таких обстоятельствах, Каталина, ты, если у тебя нет сил спокойно
покончить с жизнью, еще не знаешь, стоит ли тебе уехать в какую-либо страну
и жизнь свою, которую ты спасешь от множества мучений, вполне тобой
заслуженных, влачить в изгнании и одиночестве?
«Доложи,— говоришь ты,— об этом сенату». Ведь ты этого требуешь и
выражаешь готовность, если это сословие осудит тебя на изгнание, ему
повиноваться. Нет, я докладывать не буду — это против моих правил —
и все-таки заставлю тебя понять, что думают о тебе присутствующие.
Уезжай из Рима, Катилина; избавь государство от страха; в изгнание —
если ты именно этого слова ждешь от меня — отправляйся. Что же теперь?
Ты еще чего-то ждешь? Разве ты не замечаешь молчания присутствующих?
Они терпят, молчат. К чему ждать тебе их приговора, если их воля ясно
выражена их молчанием? (21) Ведь если бы я сказал это же самое
присутствующему здесь достойнейшему молодому человеку, Публию Сестию37,
или же храбрейшему мужу, Марку Марцеллу 38, то сенат в этом же храме,
с полным правом, на меня, консула, поднял бы руку. Но когда дело идет
о тебе, Катилина, то сенаторы, оставаясь безучастными, одобряют; слушая,
выносят решение; храня молчание, громко говорят, и так поступают не
только эти вот люди, чей авторитет ты, по-видимому, высоко ценишь, но чью
жизнь не ставишь ни во что, но также и вон те римские всадники, глубоко
почитаемые и честнейшие мужи, и другие храбрейшие граждане, стоящие
вокруг этого храма; ведь ты мог видеть, сколь они многочисленны,
почувствовать их рвение, а недавно и услышать их возгласы. Мне уже давно
едва удается удержать их от вооруженной расправы с тобой, но я с
легкостью подвигну их на то, чтобы они — в случае, если ты будешь
оставлять Рим, который ты уже давно стремишься уничтожить,— проводили
тебя до самых ворот 39.
(IX, 22) Впрочем, к чему я это говорю? Разве возможно, чтобы тебя
что-либо сломило? Чтобы ты когда-либо исправился, помыслил о бегстве,
подумал об изгнании? О, если бы бессмертные боги внушили тебе это
намерение! Впрочем, я понимаю, какая страшная буря ненависти — в случае,
если ты, устрашенный моими словами, решишь удалиться в изгнание —
угрожает мне если не в настоящее время, когда память о твоих злодействах
еще свежа, то, во всяком случае, в будущем. Но пусть будет так, только
бы это несчастье обрушилось на меня одного и не грозило опасностью
государству! Однако требовать от тебя, чтобы тебя привели в ужас твои
собственные пороки, чтобы ты побоялся законной кары, чтобы ты подумал об
опасном положении государства, не приходится. Не таков ты, Катилина,
чтобы совесть удержала тебя от подлости, страх — от опасных действий
;или же здравый смысл — от безумия. (23) Итак,— говорю это уже не в пер-
9. Первая речь против Катилины
299
вый раз — уезжай, причем, если ты, как ты заявляешь, хочешь разжечь
ненависть ко мне, своему недругу, то уезжай прямо в изгнание. Тяжко
будет мне терпеть людскую молву, если ты так поступишь; тяжко будет мне
выдерживать лавину этой ненависти, если ты уедешь в изгнание по
повелению консула. Но если ты, напротив, предпочитаешь меня возвеличить и
прославить, то покинь Рим вместе с наглой шайкой преступников,
отправляйся к Манлию и призови пропащих граждан к мятежу, порви с
честными людьми, объяви войну отчизне, предайся нечестивому разбою, дабы
казалось, что ты выехал из Рима не изгнанный мною к чужим, но
приглашенный к своим.
(24) А впрочем, зачем мне тебе это предлагать, когда ты — как я
знаю — уже послал вперед людей40, чтобы они с оружием в руках
встретили тебя вблизи Аврелиева Форума41; когда ты — как я знаю — назначил
определенный день для встречи с Манлием; более того, когда ты даже того
серебряного орла42, который, я уверен, губительным и роковым окажется
именно для тебя самого и для всех твоих,сторонников 43 и для которого у
тебя в доме была устроена нечестивая божница, когда ты этого самого орла,
как я знаю, уже послал вперед? Как ты сможешь и долее обходиться без
него, когда ты не раз возносил к нему моления, отправляясь на резню,
и после прикосновения к его алтарю твоя нечестивая рука так часто
переходила к убийству граждан?
(X, 25) И вот, ты, наконец, отправишься туда, куда твоя необузданная
и бешеная страсть уже давно тебя увлекает. Ведь это не только не
удручает тебя, но даже доставляет себе какое-то невыразимое наслаждение. Для
этого безрассудства тебя природа породила, твоя воля воспитала, судьба
сохранила. Никогда не желал ты, не говорю уже — мира, нет, даже войны, если
только эта война не была преступной. Ты мабрал себе отряд из бесчестного
сброда пропащих людей, потерявших не только все .свое достояние, «о также
и всякую .надежду. (26) Какую радость будешь ты испытывать, находясь
среди них, какому ликованию предаваться! Какое наслаждение опьянит
тебя, когда ты среди своих столь многочисленных сторонников не
услышишь и не увидишь ни одного честного человека! Ведь именно для такого
образа жизни ты и придумал свои знаменитые лишения — лежать на голой
земле не только, чтобы насладиться беззаконной страстью, но и чтобы
совершить злодеяние; бодрствовать, злоумышляя не только против спящих
мужей, но и против мирных богатых людей. У тебя есть возможность
блеснуть своей хваленой способностью переносить голод, холод, всяческие
лишения44, которыми ты вскоре будешь сломлен. (27) Отняв у тебя
возможность быть избранным в консулы, я, во всяком случае, достиг одного: как
изгнанник ты можешь покушаться на государственный строй, но как
консул 45 ниспровергнуть его не можешь,— твои злодейские действия будут
названы разбоем, а не войной.
300
Речи Цицерона
(XI) Теперь, отцы-сенаторы, дабы я мог решительно отвести от себя
почти справедливую, надо сказать, жалобу отчизны, прошу вас
внимательно выслушать меня с тем, чтобы мои слова глубоко запали вам в душу и в
сознание. В самом деле, если отчизна, которая мне гораздо дороже жизни,
если вся Италия, все государство мне скажут: «Марк Туллий, что ты
делаешь? Неужели тому, кого ты разоблачил как врага, в ком ты видишь
будущего предводителя мятежа, кого, как ты знаешь, как императора
ожидают во вражеском лагере — зачинщику злодейства, главарю заговора,
вербовщику рабов и граждан губителю ты позволишь удалиться, так что он
будет казаться не выпущенным тобой из Рима, а впущенным тобой в Рим?
Неужели ты не повелишь заключить его в тюрьму, повлечь на смерть,
предать мучительной казни? (28) Что, скажи, останавливает тебя? Уж не
заветы ли предков? Но ведь в нашем государстве далеко не редко даже
частные лица карали смертью граждан, несших ему погибель. Или
существующие законы о казни, касающиеся римских граждан? 46 Но ведь в нашем
городе люди, изменившие государству, никогда не сохраняли своих
гражданских прав. Или ты боишься ненависти потомков? Поистине прекрасно
воздашь ты благодарность римскому народу, который тебя, человека,
известного только личными заслугами и не порученного ему предками 47, так рано48
вознес по ступеням всех почетных должностей к высшей власти, если ты,
боясь ненависти и страшась какой-то опасности, пренебрежешь
благополучием своих сограждан. (29) Но если в какой-то мере и следует опасаться
ненависти, то разве ненависть за проявленную суровость и мужество
страшнее, чем ненависть за слабость и трусость? Когда война начнет опустошать
Италию, когда будут рушиться города, пылать дома, что же, тогда,
по-твоему, не сожжет тебя пламя ненависти?» (XII) Отвечу коротко на эти
священные слова государства и на мысли людей, разделяющих эти взгляды. Да,
отцы-сенаторы, если бы я считал наилучшим решением покарать Катилину
смертью, я этому гладиатору и часа не дал бы прожить. И в самом деле,
если выдающиеся мужи и самые известные граждане >не только не запятнали
себя, но даже прославились, пролив кровь Сатурнина, Гракхов и Флакка 49,
а также многих предшественников их, то мне, конечно, нечего было бояться,
что казнь этого братоубийцы, истребляющего граждан, навлечет на меня
ненависть грядущих поколений. Как бы ни была сильна эта угроза, я все же
всегда буду убежден в том, что ненависть, порожденную доблестью, следует
считать не ненавистью, а славой.
(30) Впрочем, кое-кто в этом сословии либо не видит того, что угрожает
нам, либо закрывает глаза на то, что видит. Люди эти снисходительностью
своей обнадеживали Катилину, а своим недоверчивым отношением
благоприятствовали росту заговора при его зарождении. Опираясь на их
авторитет, многие не только бесчестные, но просто неискушенные люди — в
случае, если бы я Катилину покарал,— назвали бы мой поступок жестоким и
9. Первая речь против Катилины
301
свойственным разве только царю 50. Но теперь я полагаю, что если
Каталина доберется до лагеря Манлия, в который он стремится, то никто не будет
столь глуп, чтобы не увидеть ясно, что заговор действительно существует,
и никто — столь бесчестен, чтобы это отрицать. Я понимаю, что, казнив
одного только Катилину, можно на некоторое время ослабить эту моровую
болезнь в государстве, но навсегда уничтожить ее нельзя. Если же он сам
удалится в изгнание, уведет с собой своих приверженцев и захватит с собой
также и прочие подонки, им отовсюду собранные, то будут окончательно
уничтожены не только эта, уже застарелая болезнь государства, но также
и корень и зародыш всяческих зол. (XIII, 31) И в самом деле,
отцы-сенаторы, ведь мы уже давно живем среди опасностей и козней, связанных с
этим заговором, но почему-то все злодейства, давнишнее бешенство и
преступная отвага созрели и вырвались наружу именно во время моего
консульства. Если из такого множества разбойников будет устранен один только
Катилина, то нам, пожалуй, на какое-то короткое время может показаться,
что мы избавлены от тревоги и страха; но опасность останется и будет
скрыта глубоко в жилах и теле государства. Часто люди, страдающие
тяжелой болезнью и мечущиеся в бреду, если выпьют ледяной воды, вначале
чувствуют облегчение, но затем им становится гораздо хуже; так и эта
болезнь, которой страдает государство, ослабевшая после наказания
Катилины, усилится еще более, если остальные преступники уцелеют.
(32) Поэтому пусть удалятся бесчестные; пусть они отделятся от
честных, соберутся в одно место; наконец, пусть их, как я уже не раз говорил,
от нас отделит городская стена. Пусть они перестанут покушаться на жизнь
консула у него в доме, стоять вокруг трибунала городского претора51,
осаждать с мечами в руках курию, готовить зажигательные стрелы и факелы
для поджога Рима; пусть, наконец, на лице у каждого будет написано, что
он думает о положении государства. Заверяю вас, отцы-сенаторы, мы,
консулы, проявим такую бдительность, вы — такой авторитет, римские
всадники — такое мужество, все честные люди — такую сплоченность, что после
отъезда Катилины все замыслы его вы увидите раскрытыми,
разоблаченными, подавленными и понесшими должную кару.
(33) При этих предзнаменованиях, Катилина, на благо государству, на
беду и на несчастье себе, на погибель тем, кого с тобой соединили
всяческие братоубийственные преступления, отправляйся на нечестивую и
преступную войну. А ты, Юпитер52, чью статую Ромул воздвиг при тех же
авспициях, при каких основал этот вот город, ты, которого мы справедливо
называем оплотом нашего города и державы, отразишь удар Катилины
и его сообщников от своих и от других храмов, от домов и стен Рима, от
жизни и. достояния всех граждан; а недругов всех честных людей, врагов
отчизны, опустошителей Италии, объединившихся в злодейском союзе и
нечестивом сообществе, ты обречешь — живых и мертвых.— на вечные муки.
10
ВТОРАЯ РЕЧЬ
ПРОТИВ ЛУЦИЯ СЕРГИЯ КАТИЛИНЫ
{На форуме, 9 ноября 63 г.]
(I, 1) На этот раз, квириты, Луция Каталину, безумствующего в своей
преступности, злодейством дышащего, гибель отчизны нечестиво
замышляющего, мечом и пламенем вам и этому городу угрожающего, мы, наконец, из
Рима изгнали или, если угодно, выпустили, или, пожалуй, при его
добровольном отъезде проводили напутственным словом. Он ушел, удалился,
бежал, вырвался. Этот выродок, это чудовище уже не будет внутри
городских стен готовить гибель этим самым стенам. И этого главаря
междоусобной войны мы, бесспорно, победили. Уже не будет угрожать нашей груди
этот кинжал; ни на толе, ни на форуме, ни в курии, ни, наконец, в своем
собственном доме 1 не будем мы трепетать в страхе. С позиции сбит2 он
тем, что удален из Рима. Теперь нам уже никто не помешает по всем
правилам вести войну с врагом. Без всякого сомнения, мы уже погубили его и
одержали над ним блестящую победу, заставив его от тайных козней
перейти к открытому разбою. (2) А тем, что он не обнажил своего
окровавленного меча, как хотел, тем, что он удалился, а мы остались живы, тем, что
мы вырвали оружие у него из рук, что граждане остались невредимыми, а
город целым,— скажите, насколько должен он быть всем этим убит и
удручен. Лежит он теперь поверженный, квириты, и чувствует себя
пораженным и отброшенным и, конечно, то и дело оборачиваясь, бросает
взгляды на этот город, вырванный, к его прискорбию, у него из пасти; а Рим,
как я полагаю, радуется тому, что изверг и выбросил вон эту пагубу.
(II, 3) Но если кто-нибудь, придерживаясь такого образа мыслей,
какого вам всем следовало бы держаться, станет укорять меня именно за тот
мой поступок, который побуждает меня теперь выступать с речью
ликующей и торжествующей,— за то, что такого смертельного врага я отпустил
вместо того, чтобы схватить его,— то это вина не моя, квириты, а
обстоятельств. Предать Луция Катилину смерти и подвергнуть его жесточайшей
казни следовало уже давно, этого от меня требовали и заветы наших
предков, и суровость моего империя 3, и положение государства. Но сколько —
как вы думаете — было людей, не склонных верить в справедливость моих
обвинений? Сколько было таких, которые даже защищали Катилину?
10. Вторая речь против Катилины
303
[Сколько было таких, которые, по своей недальновидности, его не считали
врагом; сколько было таких, которые, по своей бесчестности, ему
сочувствовали?] Если бы я полагал, что я, уничтожив его, избавлю вас от всякой
опасности, то я уже давно уничтожил бы Луция Катилину, рискуя, не
говорю уже — навлечь на себя ненависть, но даже поплатиться жизнью. (4) Но
я понимал, что если я, пока даже не все вы убеждены в его невиновности,
покараю его смертью, как он этого заслужил, то вызову против себя
ненависть и уже не смогу преследовать его сообщников; поэтому я и довел деле
до нынешнего положения, дабы вы могли_л открыто бороться с ним, воочию
видя в нем врага. Сколь страшным считаю я этого врага, находящегося уже
вне пределов города, квириты, вы можете понять из того, что я огорчен
даже тем, что он покинул Рим с небольшим числом спутников. О, если б
он увел с собой все свои войска! Тонгилия, видите ли, которым он
прельстился, когда тот еще носил претексту 4, он с собой увел, а также Пу6лиция
и Минуция; за ними осталось по харчевням немало долгов, но это
никак не могло вызвать волнений в государстве. Но каких людей он оставил
здесь! Какими долгами обременены они! Сколь они влиятельны, сколь
знатны!
(III, 5) Поэтому, сравнивая его войско с нашими легионами,
находящимися в Галии, с войсками, набранными Квинтом Метеллом 5 в Пиценской и
Галльской областях6, и с теми военными силами, которые мы снаряжаем
изо дня в день, я отношусь к этому войску с полным презрением; ведь оно
собрано из стариков7, которым уже терять нечего, из деревенщины,
склонной к мотовству, из поселян, любителей тратить деньги, из людей, которые
предпочли не являться в суд8, а вступить в его войско. Если я им покажу,
не говорю уже — наше войско в боевом строю, нет, хотя бы эдикт претора,
они рухнут наземь. Что же касается этих вот людей, которые, я вижу,
снуют по форуму, стоят перед курией и даже приходят в сенат, которые
умащены благовониями, щеголяют в пурпурной одежде, то я предпочел бы,
чтобы Катилина увел их с собой как своих солдат; коль скоро они остаются
здесь, нам — помните это — следует страшиться не столько его войска,
сколько этих людей, покинувших его войско. При этом их надо бояться еще
потому, что они, хотя и понимают, что я знаю их помыслы, все же ничуть
этим не обеспокоены. (6) Знаю я, кому при дележе досталась Апулия, кто
получил Этрурию, кто Пиценскую, кто Галльскую область9, кто
потребовал для себя права остаться в засаде в Риме с целью резни и поджогов. Они
понимают, что все планы, составленные позапрошлой ночью, мне
сообщены; вчера я раскрыл их в сенате. Сам Катилина испугался и спасся
бегством. А они чего ждут? Как бы им не ошибиться в надежде на то, что моя
былая мягкость останется неизменной.
(IV) Той цели, какую я себе поставил, я уже достиг; вы все видите, что
заговор против государства устроен открыто; ведь едва ли кто-нибудь из
;304
Речи Цицерона
вас предполагает, что люди, подобные Катилине, не разделяют его
взглядов. Теперь уже мягкость неуместна; суровости требуют сами
обстоятельства. Но одну уступку я готов сделать даже теперь: 1пусть они удалятся,
пусть уезжают; не допускать же им, чтобы несчастный Катилина чах от
тоски по ним. Путь я им укажу: он выехал по Аврелиевой дороге; если они
захотят поторопиться, к вечеру догонят его 10. (7) О, какое счастье будет
для государства, если только оно извергнет эти подонки Рима! Мне
кажется, клянусь Геркулесом, что государство, избавившись даже от одного
только Каталины, свободно вздохнуло и вернуло себе силы. Можно ли
представить или вообразить себе какое-либо зло или преступление, какого бы
не придумал он? Найдется ли во всей Италии отравитель, гладиатор,
убийца, братоубийца, подделыватель завещаний, злостный обманщик, кутила,
•мот, прелюбодей, беспутная женщина, развратитель юношества,
испорченный или пропащий человек, которые бы не сознались, что их связывали с
Катилиной тесные дружеские отношения? Какое убийство совершено за
последние годы без его участия, какое нечестивое прелюбодеяние — не при
его посредстве? (8) Далее,— кто когда-либо обладал такой способностью
завлекать юношей, какой обладает он? Ведь к одним он сам испытывал
постыдное влечение, для других служил орудием позорнейшей похоти,
третьим сулил удовлетворение их страстей, четвертым — смерть их родителей,
причем он не только подстрекал их, но даже помогал им. А теперь? С какой
быстротой собрал он огромные толпы пропащих людей не только из города
Рима, но и из деревень! Не было человека, не говорю уже — в Риме, даже
в любом закоулке во всей Италии, который, запутавшись в долгах, не
был бы вовлечен им в этот небывалый союз злодейства.
(V, 9) А чтобы вы могли ознакомиться с его различными
наклонностями, столь непохожими одна на другую п, я скажу, что в школе гладиаторов
не найдется ни одного человека с преступными стремлениями, который бы
не объявил себя близким другом Каталины; в театре нет ни одного низкого
и распутного актера 12, который бы, по его словам, не был чуть ли не его
товарищем. Постоянно предаваясь распутству и совершая злодеяния, он
привык переносить холод, голод и жажду и не спать по ночам, и именно
за эти качества весь этот сброд превозносил его как храбреца, между тем
он тратил силы своего тела и духа на разврат и преступления. (10) Если
спутники Каталины последуют за ним, если удалятся из Рима преступные
шайки людей, которым нечего терять, то какая это будет для нас радость,
какое счастье для государства, как прославится мое консульство! Ибо
безмерны преступные страсти этих людей; нет, это уже не люди, и
дерзость их нестерпима! Они не помышляют ни о чем другом, кроме резни,
поджогов и грабежей. Свое родовое имущество они промотали и свои имения
заложили давно, но распутство, каким они отличались в дни своего
богатства, у них остается неизменным. Если бы.они, пьянствуя и играя в кости,
Начало второй речи против Катилины
Рукопись XI в. Codex Monacensis
70. Вторая речь против Катилины
305
не искали ничего другого, кроме пирушек и общества распутниц, то,
будучи, конечно, людьми пропащими, они все же были бы еще терпимы; но
можно ли мириться с тем, что бездельники злоумышляют против храбрейших
мужей, безумцы — против умнейших, пьяные — против трезвых,
неисправимые лентяи — против бдительных? Возлежа на пирушках, они, обняв
бесстыдных женщин, упившись вином, объевшись, украсившись венками,
умастившись благовониями, ослабев от разврата, грозят истребить
честных людей и поджечь города. (11) Я убежден, что им не уйти от их
судьбы и что кара, уже давно заслуженная ими за их бесчестность,
подлость, преступления и разврат, над ними уже нависла или, во всяком
случае, уже близка. Если мое консульство, не будучи в состоянии их исправить,
их уничтожит, оно укрепит государство не на какой-нибудь краткий срок,
а на многие века. Ведь нет народа, которого бы мы страшились, нет царя,
который бы мог объявить войну римскому народу; за рубежом, на суше
и на море, все умиротворено мужеством одного человека 13; остается
междоусобная война, внутри государства строятся козни, изнутри нам грозит
опасность, внутри находится враг. С развращенностью, с безрассудством,
с преступностью должны мы вести борьбу, и полководцем в этой войне
обязуюсь быть я, квириты! Вражду этих пропащих людей я принимаю на себя;
что поддастся исправлению, буду лечить, чем только смогу; а что надо
будет отсечь, того я не оставлю на погибель государству. Итак, пусть они
либо удалятся из Рима, либо сидят смирно, либо — если они останутся в
Риме, но от своих намерений не откажутся — пусть ожидают того, чего
заслуживают.
(IV, 12) Но все еще находятся люди, квириты, которые все-таки
говорят, что Катилина мной изгнан. Если бы я мог добиться этого одним
своим словом, я изгнал бы именно тех, кто это болтает. Катилина, этот
робкий или, лучше, скромнейший человек, не мог, видимо, вынести голоса
консула: как только ему велели удалиться в изгнание, он повиновался.
Вчера, после того как меня чуть не убили в моем собственном доме, я созвал
сенат в храме Юпитера Статора и доложил отцам-сенаторам о положении
государства. Туда пришел Катилина. Кто из сенаторов заговорил с ним,
кто приветствовал его, кто, наконец, своим взглядом не осудил его, как
негодного гражданина, более того — как опаснейшего врага? Мало того,
первые люди в этом сословии даже пересели с тех скамей, к которым он
подошел, и оставили их незанятыми. (13) Тогда я, рьяный консул, одним словом
своим посылающий граждан в изгнание, спросил Катилину, участвовал ли
он в ночном сборище, в доме у Марка Леки или не участвовал. Когда он,
при всей своей наглости, сначала промолчал, сознавая свою преступность,
я разоблачил другие его поступки. Что делал он в ту ночь, что назначил
он на прошлую ночь, как был разработан план всего мятежа,— все я
изложил. Он медлил, был смущен. Тогда я спросил, почему он не решается
Цицерон, т. I
306
Речи Цицерона
отправиться туда, куда уже давно собирается, коль скоро туда, как мне
известно, уже послано оружие, секиры, ликторские связки, трубы, военные
знаки 14, тот знаменитый серебряный орел, для хранения которого он даже
устроил божницу в своем доме 15. (14) Значит, это я заставил удалиться в
изгнание того, кто, как я видел, уже вступил на путь войны? Следовательно,
этот центурион Манлий, ставший лагерем под Фезулами, конечно, от своего
имени объявил войну римскому народу, и этот лагерь ныне не ждет Катили-
ны в качестве полководца, а он, изгнанник, направляется в Массилию 16, как
говорят, а не в этот лагерь.
(VII) О, сколь жалко положение того, кто, не говорю уже — управляет
государством, но даже спасает его! Если теперь Луций Катилина, которого
я, своей бдительностью, своими трудами, подвергаясь опасностям,
окружил и лишил возможности действовать, внезапно испугается, изменит свои
намерения, покинет своих сторонников, откажется от своего замысла начать
войну и, сойдя с этого пути преступной войны, обратится в бегство и
направится в изгнание, то не будут говорить, что я отнял у него оружие,
приготовленное им для дерзостного преступления, привел его в замешательство
и устрашил своей бдительностью, что я отнял у него надежды и пресек его
попытки, а скажут, что он, не будучи ни осужден, ни виновен, был изгнан
консулом, применившим силу и угрозы; и если он поступит так, еще
найдутся люди, склонные считать его не бесчестным, но несчастным человеком,
а меня не бдительнейшим консулом, но жесточайшим тиранном17! (15)
Я готов, квириты, выдержать эту бурю незаслуженной и несправедливой
ненависти, лишь бы только избавить вас от опасности этой ужасной и
преступной войны. Пожалуй, пусть говорят, что он был мной выслан, лишь бы
он удалился в изгнание. Но не уйдет он в изгнание, поверьте мне. Ради
того только, чтобы утихла ненависть ко мне, я никогда не стану, квириты,
просить бессмертных богов о том, чтобы до вас дошла весть, что Катилина
взялся за оружие и ведет на вас вражеское войско; но через три дня вы об
этом услышите. Гораздо больше боюсь я другого: меня когда-нибудь могут
упрекнуть в том, что я выпустил его из Рима, а не изгнал. Но если теперь
находятся люди, утверждающие, что он изгнан,— хотя он уехал
добровольно,— то что стали бы говорить они, будь он казнен? (16) Впрочем, те,
которые твердят, что Катилина держит путь в Массилию, не столько на это
сетуют, сколько этого опасаются. Ни один из них не жалостлив в такой
степени, чтобы пожелать ему отправиться в Массилию, а не к Манлию 18.
А сам он, клянусь Геркулесом, даже если бы он заранее не обдумал того,
что будет делать, все же предпочел бы быть казнен как разбойник, а не
жить как изгнанник. Но теперь, коль скоро с ним до сего времени не
случалось ничего, что не совпало бы с его желанием и замыслами,— кроме того»
что он уехал из Рима, оставив меня живым,— пожелаем лучше, чтббы он
отправился в изгнание, вместо того, чтобы на это сетовать.
10. Вторая речь против Катилины
307
(VIII, 17) Но почему мы столько времени толкуем об одном враге
и притом о таком, который уже открыто признает себя врагом и которого
я не боюсь, так как нас отделяет от него городская стена,— чего я всегда
хотел,— а о тех людях, которые скрывают свою вражду, остаются в Риме
и находятся среди нас, не говорим ничего? Именно их, если только это
возможно, я стараюсь не столько покарать, сколько излечить ради них самих,
примирить с государством и не вижу причины, почему бы это не было
возможно, если только они согласятся меня выслушать. Итак, я изложу вам,
квириты, какого рода люди составляют войска Катилины; затем, если
смогу, попытаюсь каждого из них излечить советами и уговорами.
(18) Одни из них — это люди, при своих больших долгах, все же
обладающие еще более значительными владениями, привязанность к которым
никак не дает им возможности выпутаться из этого положения 19. По
внешнему виду, они — люди почтенные (ведь они богаты), но их стремления и
притязания совершенно бесстыдны. И вы, имея в избытке земли, дома,
серебряную утварь, рабов, разное имущество, не решаетесь расстаться с
частью своей собственности и вернуть себе всеобщее доверие? Чего вы
ждете? Войны? А дальше? Не думаете ли вы, что, когда все рухнет, именно
ваши владения останутся священными и неприкосновенными? Или вы
ждете введения новых долговых записей20? Заблуждаются люди, ожидающие
их от Катилины. Нет, мной будут выставлены новые записи, но только
насчет продажи с аукциона; ведь люди, обладающие собственностью, не
могут привести свои дела в порядок никаким другим способом. Если бы они
захотели это сделать более своевременно, вместо того, чтобы покрывать
проценты доходами со своих имений,— что крайне неразумно,— они и сами
были бы богаче, а как граждане полезнее для государства. Но именно этих
людей, по моему мнению, менее всего следует страшиться, так как их либо
возможно переубедить, либо они, если и останутся верны себе, мне кажется,
скорее будут посылать государству проклятия, чем возьмутся за оружие
против него.
(IX, 19) Другие, хотя они и обременены долгами, все же рассчитывают
достигнуть власти, хотят стать во главе государства и думают, что
почетных должностей, на которые им нечего рассчитывать при спокойствии в
государстве, они смогут добиться, вызвав в нем смуту. Им следует дать
такое же наставление, какое, очевидно, следует дать и всем другим: пусть
откажутся от надежды, что они добьются того, чего пытаются добиться.
Прежде всего, я сам бдителен, твердо стою на своем посту и на страже
государства. Затем, великим мужеством воодушевлены все честные мужи,
велико согласие между ними, [огромна их численность,] велики, кроме того,
и наши военные силы. Наконец, и бессмертные боги придут на помощь
нашему непобедимому народу, прославленной державе и прекрасному
городу в их борьбе против столь страшного преступления. Но даже если
20*
308
Речи Цицерона
вообразить себе, что эти люди уже достигли того, к чему они стремятся в
своем неистовом бешенстве, то неужели они надеются на пепле Рима и на
крови граждан — а ведь именно этого пожелали они своим преступным и
нечестивым умом — сделаться консулами и диктаторами, вернее, даже
царями? Разве они не понимают, что, даже если они и достигнут того, чего
желают, им все-таки неминуемо придется уступить все это какому-нибудь
беглому рабу или гладиатору21?
(20) Третьи — люди уже преклонного возраста, но испытанные и
сильные; из их среды вышел Манлий, которого (сменяет теперь Катилина. Это
люди из колоний, учрежденных Суллой. Я знаю, что колонии эти, по
большей части, заселены честнейшими гражданами и храбрейшими мужами, но
все же это те колоны, которые, нежданно-негаданно получив имущество,
жили чересчур пышно и не по средствам. Они возводят такие постройки,
словно обладают несметными богатствами; их радует устройство
образцовых имений, множество челяди, великолепные пирушки, и поэтому они
запутались в таких значительных долгах, что им, если бы они захотели с ними
разделаться, пришлось бы вызвать из царства мертвых самого Суллу. Они
даже подали кое-кому из сельских жителей, бедным и неимущим людям,
надежду на такие же грабежи, какие происходили в прошлом. И тех и
других людей я отношу к одному и тому же разряду грабителей и расхитителей
имущества, но советую им перестать безумствовать и помышлять о
проскрипциях и диктатурах. Ведь от тех времен в сердцах наших граждан
сохранилась такая жгучая боль, что всего этого, мне думается, теперь не
22
вытерпят, не говорю уже — люди, нет, даже скот .
(X, 21) Четвертые — это множество людей крайне разнообразного,
смешанного и пестрого состава. Они уже давно испытывают затруднения и
никогда уже не смогут встать на ноги; отчасти по лености, отчасти
вследствие дурного ведения ими своих дел, отчасти также и из-за своей
расточительности они по уши в старых долгах; они измучены обязательствами о
явке в суд, судебными делами, описью имущества; очень многие из них,—
и из города Рима и из сел — по слухам, направляются в тот лагерь. Вот
они-то, по моему мнению, не столько спешат в бой, сколько медлят с
уплатой долгов 23. Пусть эти люди, раз они не могут устоять на ногах,
погибнут возможно скорее, но так, чтобы этого не почувствовало, уже не
говорю — государство, нет — даже их ближайшие соседи. Ибо я не понимаю
одного: если они не могут жить честно, то почему они хотят погибнуть с
позором, вернее, почему они считают гибель вместе с многими другими
людьми менее мучительной, чем гибель в одиночестве?
(22) Пятые — это братоубийцы 24, головорезы, наконец, всякие
преступники; их я не пытаюсь отвлечь от Катилины, да их и невозможно оторвать
от него. Пусть же погибнут они, занимаясь разбоем, так как их столько,
что тюрьма25 вместить их не может.
10. Вторая речь против Катилины
309
Перейду к последнему роду людей — последнему не только по счету, но
и по их характеру и образу жизни; это — самые близкие Катилине люди,
его избранники, более того, его любимцы и наперсники; вы видите их,
тщательно причесанных, вылощенных, либо безбородых, либо с холеными
бородками, в туниках с рукавами и до пят26, закутанных в целые паруса,
вместо тог. Все их рвение и способность бодрствовать по ночам
обнаруживаются ими только на пирушках до рассвета. (23) В этой своре находятся
все игроки, все развратники, все грязные и бесстыдные люди. Эти изящные
и изнеженные мальчики обучены не только любить и удовлетворять
любовные страсти, плясать и петь, но и кинжалы в ход пускать и подсыпать яды.
Если они не покинут Рим, если они не погибнут, то — знайте это — даже
в случае гибели самого Катилины в нашем государстве останется этот
рассадник Катилин. И на что рассчитывают эти жалкие люди? Неужели они
думают повезти с собой в лагерь своих бабенок? Но как смогут они без них
обойтись, особенно в эти ночи? И как они перенесут пребывание на Аппен-
нине с его стужей и снегами? Или они, быть может, думают, что им потому
будет легче переносить зимнюю стужу, что они научились плясать нагими
во время пирушек?
(XI, 24) О, как должна страшить нас эта война, когда у Катилины
будет эта преторская когорта27 из блудников и блудниц! Выстройте же
теперь в боевом порядке, квириты, против столь славных сил Катилины свои
гарнизоны и войска и, прежде всего, против этого истрепанного и
израненного гладиатора выставьте своих консулов и императоров; затем, против
этой шайки отверженного и жалкого отребья двиньте цвет и опору всей
Италии. Право, даже города в наших колониях и муниципиях могут поме-
ряться силами с Катилиной, укрывающимся на лесистых холмах28. Мне,
конечно, нет надобности сопоставлять ваши остальные богатые средства
снабжения, ваше снаряжение и гарнизоны с бессильным и необеспеченным
войском этого пресловутого разбойника. (25) Но если мы, даже не говоря
обо всем том, чем располагаем мы и чего Катилина лишен,— я имею в виду
сенат, римских всадников, город Рим, эрарий, государственные доходы, всю
Италию, все провинции, чужеземные народы — если мы, не говоря обо
всем этом, захотим сравнить наше дело с его делом (ведь они вступают
в борьбу, одно с другим), то мы сможем понять, как низко пали наши
противники. Ведь на нашей стороне сражается чувство чести, на той —
наглость; здесь — стыдливость, там — разврат; здесь — верность, там —
обман; здесь — доблесть, там — преступление; здесь — непоколебимость,
там — неистовство; здесь — честное имя, там — позор; здесь —
сдержанность, там — распущенность; словом, справедливость, умеренность,
храбрость, благоразумие, все доблести борются с несправедливостью,
развращенностью, леностью, безрассудством, всяческими пороками; наконец,
изобилие сражается с нищетой, порядочность — с подлостью, разум — с
310
Речи Цицерона
безумием, наконец, добрые надежды — с полной безнадежностью. Неужели
при таком столкновении, вернее, в такой битве сами бессмертные боги не
даруют этим прославленным доблестям победы над столькими и столь
тяжкими пороками?
(XII, 26) При этих обстоятельствах, квириты, сами защищайте свои
дома, неся ночные караулы и охрану, как и до сей поры. Я, со своей
стороны, позаботился ;и принял все меры, чтобы обеспечить город надежной
охраной, не вызывая чувства тревоги у вас и не объявляя чрезвычайного
положения 29. Всем колонам и вашим землякам из муниципиев, извещенным
мной об этом поспешном ночном отъезде Катилины, будет легко защитить
свои города и земли. Гладиаторы, на которых он рассчитывал как на свой
надежнейший отряд,— хотя они и похрабрее, чем часть наших патрициев,—
все же будут в нашей власти. Квинт Метелл, которого я, предвидя эти
события, заранее послал в Галльскую и Пиценскую области, либо разобьет
Катилину, либо воспрепятствует передвижению его сил и его действиям.
Об остальных мерах, которые понадобится принять, ускорить, осуществить,
я доложу сенату, который я, как видите, созываю.
(27) Что же касается людей, которые застряли в Риме или, вернее,
были оставлены Катилиной на погибель Риму и всем вам в городе, то я,
хотя это и враги, все же, коль скоро они родились гражданами, хочу
настоятельно предостеречь их. Я при своей мягкости, которая до сего времени
кое-кому могла показаться слабостью, ждал только, чтобы вырвалось
наружу то, что оставалось скрытым. Но отныне я уже не могу забыть, что
здесь моя отчизна, что я — консул этих вот людей, что мой долг — либо
вместе с ними жить, либо за них умереть. У городских ворот нет сторожей,
на дороге нет засад. Если кто-нибудь захочет уехать, я могу на это закрыть
глаза. Но тот, кто в Риме хотя бы чуть-чуть шевельнется, тот, за кем я
замечу, не говорю уже — какое-либо действие, но даже стремление или попытку
действовать во вред отчизне, поймет, что в этом городе есть бдительные
консулы, есть достойные должностные лица, есть стойкий сенат, что в нем
есть оружие, есть тюрьма, которая, по воле наших предков, карает за
нечестивые преступления, когда они раскрыты.
(XIII, 28) И все эти меры будут проведены так, чтобы величайшие
угрозы были устранены при ничтожнейших потрясениях, огромные
опасности — без объявления чрезвычайного положения, чтобы междоусобная и
внутренняя война, жесточайшая и величайшая из всех, какие помнят люди,
была закончена мной одним, единственным полководцем и императором,
носящим тогу 30. Я буду так руководить этим, квириты, чтобы — если только
это окажется возможным — даже бесчестный человек не понес кары за свое
преступление в стенах этого города. Но если какой-либо открытый
дерзостный поступок, если опасность, грозящая нашей отчизне, заставят меня по
необходимости отказаться от моей душевной мягкости, то я непременно
10. Вторая речь против Катилины
311
добьюсь того, на что при такой трудной войне, среди стольких козней, едва
ли можно надеяться: ни один честный человек не погибнет, и кара, которой
подвергнутся немногие, принесет спасение всем вам. (29) Обещаю это вам,
квириты, полагаясь не на свою проницательность и не на человеческую
мудрость, а на многочисленные и притом несомненные знамения бессмертных
богов. Ведь ими руководясь, я и возымел эту надежду и принял это
решение. Уже не издали, как это некогда бывало, и не от внешнего врага,
находящегося далеко от нас, защищают они свои храмы и дома Рима; нет, они
защищают их, находясь здесь, изъявлением своей воли и своей помощью.
Им должны вы молиться, их почитать и умолять о том, чтобы этот город,
по их воле ставший самым прекрасным, самым счастливым и самым
могущественным, они после побед, одержанных нами на суше и на море над
силами всех наших врагов31, защитили от нечестивого злодеяния преступ-
нейших граждан.
11
ТРЕТЬЯ РЕЧЬ
ПРОТИВ ЛУЦИЯ СЕРГИЯ КАТИЛИНЫ
[На форуме, вечером 3 декабря 63 г.]
(I, 1) Государство, ваша жизнь, имущество и достояние, ваши жены и
дети, квириты, и этот оплот прославленной державы — богатейший и
прекрасный город сегодня, по великому благоволению бессмертных богов,
моими трудами и разумными решениями, а также ценой опасностей, которым
я подвергался, у вас на глазах, как видите, спасены от огня и меча, можно
сказать, вырваны из пасти рока, сохранены и возвращены вам. (2) И если
дни нашего избавления нам не менее приятны и радостны, чем день нашего
рождения, так как спасение приносит несомненную радость, а рождение
обрекает нас на неизвестное будущее, так как мы рождаемся, не сознавая
этого, а избавляясь от опасности, испытываем радость, то, коль скоро мы
с благоговением превознесли того, кто этот город основал, и причислили
его к бессмертным богам, вы и потомки ваши, конечно, должны оказать
почет тому, кто этот же город, уже основанный и разросшийся, спас. Ибо
факелы, грозившие пожаром всему Риму, его храмам, святилищам, домам
и городским стенам, которые окружают его со всех сторон, мы потушили,
удары мечей, обнаженных против государства, отразили, а их клинки,
направленные вам в грудь, оттолкнули.
(3) Так как в сенате все это мной уже разъяснено, раскрыто и
установлено, то я изложу это вам вкратце, дабы вы, находившиеся до сего времени
в неведении и ожидании, могли ныне узнать, сколь важно >и сколь очевидно
все происшедшее и каким путем я напал на след и все обнаружил.
Итак, как только Катилина немного дней назад 1 бежал из Рима,
оставив в городе своих соучастников в преступлении, рьяных полководцев в
этой нечестивой войне, я непрестанно бодрствовал и принимал меры
предосторожности, чтобы вы могли уцелеть, несмотря на столь страшные и столь
глубоко затаенные козни. (II) Когда я пытался изгнать Катилину из Рима
(ведь я уже не боюсь, что это слово вызовет ненависть против меня;
скорее меня могут осудить за то, что он ушел живым), итак, когда я хотел
удалить его из нашего города, я думал, что вместе с ним уйдет также и
остальная шайка заговорщиков или же что оставшиеся будут без него
бессильны и слабы. (4) Но как только я увидел, что именно те люди, ко-
//. Третья речь против Катилины
31S
торые, по моим сведениям, были воспламенены преступным безумием,
остались в Риме среди нас, я стал день и ночь наблюдать за ними, чтобы
выследить их и раскрыть их действия и замыслы и чтобы — коль скоро вы могли,
ввиду невероятной тяжести их преступления, отнестись к моим словам
недоверчиво— захватить преступников с поличным; ведь только когда
вы воочию увидите самое злодейство, вы примете меры в защиту своей
жизни. И вот, как только я узнал, что Публий Лентул 2, желая вызвать войну
в заальпийских странах и взбунтовать галлов, подстрекает послов аллобро-
гов, что их отправляют в Галлию к их согражданам, дав им письма и
поручения, по тому же пути, который ведет к Катилине, а их спутником будет
Тит Вольтурций 3, с которым также посылают письма к Катилине, я
решил, что мне представился случай выполнить труднейшую задачу, которую
я всегда просил у бессмертных богов,— раскрыть все преступление так,
чтобы оно стало явным не только для меня, но также для сената и для вас.
(5) Поэтому я вчера призвал к себе преторов Луция Флакка 4 и Гая
Помптина5, мужей храбрейших и преданнейших государству. Я изложил
им все обстоятельства и объяснил им, что нам следует делать. Они как
честные граждане, одушевленные великой любовью к государству, без
колебаний и промедления взялись за дело и, когда стало вечереть, тайком
подошли к Мульвиеву мосту6 и расположились в ближайших усадьбах по
обеим сторонам Тибра и моста. Туда же и они сами, не вызвав ни у кого
подозрения, привели многих храбрых людей, да и я послал из Реатинской
префектуры 7 вооруженный мечами отряд отборных молодых людей, к
помощи которых я всегда прибегаю при защите государства. (6) Тем
временем, к концу третьей стражи8, когда послы аллоброгов вместе с Вольтур-
цием и со своей многочисленной свитой уже вступили на Мульвиев мост,
на них было совершено нападение; обе стороны обнажили мечи. Одни
только преторы знали, в чем дело; прочие были в неведении. (III) Затем
подоспели Помптин и Флакк и прекратили схватку. Все письма, какие только
оказались у свиты, с неповрежденными печатями 9 были переданы преторам;
самих послов задержали и на рассвете привели ко мне. Я тотчас же велел
позвать самого бесчестного зачинщика всех этих преступлений — Кимвра
Габиния, еще ничего не подозревавшего; затем был вызван также Луций
Статилий, а после него — Цетег. Позже всех пришел Лентул, мне думается,
потому, что он, занятый составлением писем, вопреки своему обыкновению,
не спал всю прошлую ночь10.
(7) Хотя виднейшие и прославленные мужи из числа наших сограждан,
при первом же известии о случившемся собравшиеся в большом числе у
меня в доме рано утром, советовали мне вскрыть письма до того, как я
доложу о них сенату, чтобы — в случае, если в них не будет найдено ничего
существенного,— не оказалось, что я необдуманно вызвал такую сильную
тревогу среди граждан, я ответил, что не считаю возможным представить
314
Речи Цицерона
государственному совету улики насчет опасности, угрожающей
государству, иначе, как только в нетронутом виде. И в самом деле, квириты, даже
если бы то, о чем мне сообщили, не было раскрыто, все же, по моему
мнению, при такой большой угрозе существованию государства, мне не
следовало бы опасаться, что бдительность с моей стороны покажется чрезмерной.
Как вы видели, я быстро созвал сенат в полном составе. (8) Кроме того,
по совету аллоброгов, я тут же послал претора Гая Сульпиция, храброго
мужа, забрать из дома Цетега оружие, если оно там окажется; он изъял
много кинжалов и мечей.
(IV) Я велел ввести Вольтурция без галлов. По решению сената я
заверил его в неприкосновенности и и предложил ему дать без всякого страха
показания обо всем, что знает. С трудом победив свой сильный страх, он
сказал, что получил от Публия Лентула письма и поручения к Катилине:
Катилина должен прибегнуть к помощи рабов и возможно скорее
двинуться с войском на Рим; последнее — с тем, чтобы, после того как они
подожгут город со всех сторон, как это было заранее указано каждому, и
перебьют бесчисленное множество граждан, он оказался на месте и мог
перехватывать беглецов и соединиться с вожаками, оставшимися в городе. (9)
Галлы, когда их ввели, сказали, что Публий Лентул, Цетег и Статилий дали
им клятвенное обещание и письма к их племени, причем сами они и Луций
Кассий велели галлам послать конницу в Италию возможно скорее; пехоты
у них самих хватит. Лентул, по словам галлов, утверждал, что на основании
предсказаний Сивиллы 12 и ответов гаруспиков 13 он — тот третий
Корнелий, которому должны достаться царская власть и империй в этом городе:
до него ими обладали Цинна и Сулла. При этом он сказал, что нынешний
год — роковой и принесет гибель нашему городу и державе, так как это
десятый год после оправдания дев-весталок 14, а после пожара Капитолия —
двадцатый 15. (10) Наконец, они сообщили о разногласиях между Цетегом
и прочими заговорщиками: Лентул и другие считали нужным устроить
резню и поджечь город в Сатурналии 16, Цетегу же этот юрок казался
слишком долгим.
(V) Буду краток, квириты: я велел подать дощечки с письмами,
которые, как говорили галлы, были им вручены каждым из заговорщиков.
Сначала я показал Цетегу печать; он ее признал за свою. Я разрезал нить и
прочитал письмо: он собственноручно писал сенату аллоброгов и народу,
что сделает то, в чем он ранее заверил их послов; он просит, чтобы и они
выполнили обязательства, данные ему их послами. Тогда Цетег, который
незадолго до того все-таки пытался дать какие-то объяснения насчет мечей
и кинжалов, найденных у него в доме, и говорил, что всегда был любителем
хороших клинков, после прочтения писем смутился и, мучимый совестью,
вдруг замолчал. Статилий, когда его ввели, признал свою печать и свою
руку. Было прочитано его письмо почти такого же содержания, как и пись-
//. Третья речь против Катилины
315
мо Цетега; он сознался. Затем я показал письмо Лентулу и спросил его,
узнает ли он печать; он подтвердил это кивком головы. «Это,— говорю я,—
несомненно, всем хорошо знакомая печать, изображение твоего деда 17,
прославленного мужа, горячо любившего отечество и своих сограждан; уже
одно оно, хотя и немое, должно было бы удержать тебя от такого
преступления». (11) Было прочитано его письмо <к сенату аллоброгов, такого же
содержания. Я дал ему возможность сказать по этому поводу, что он найдет
нужным. Сперва он отказался; но через некоторое время, когда все
показания были изложены и прочитаны, он встал и спросил галлов, какие же дела
могли быть у него с ними и зачем они приходили к нему на дом. Об этом
же он опросил и Вольтурция. Когда же они коротко и твердо ответили, кто
их к нему приводил и сколько раз, и спросили его, не говорил ли он им о
предсказаниях Сивиллы, то он внезапно, обезумев в преступном
неистовстве, доказал нам, как могущественна совесть; ибо, хотя он и мог это
отрицать, он внезапно, вопреки всеобщему ожиданию, сознался. Таким образом,
ему изменили не только его способности и находчивость в речах, в чем он
всегда был силен; нет, его ужасное преступление было столь явно и
очевидно, что ему изменило даже его бесстыдство, которым он превосходил
всех, даже его бесчестность. (12) Вольтурций же вдруг велел принести и
вскрыть письмо, которое, по его словам, Лентул дал ему к Катилине. Тут
уже Лентул окончательно растерялся, но все-таки признал и печать и свою
руку. Письмо было безымянное, но гласило: «Кто я, узнаешь от человека,
которого я к тебе посылаю; будь мужем и обдумай, как далеко ты зашел;
решай, что тебе теперь делать; обеспечь себе всеобщую поддержку, даже
со стороны людей самого низкого положения» 18. Затем ввели Габиния;
вначале он отвечал нагло, но под конец не стал уже ничего отрицать из того,
в чем его обвиняли галлы. (13) Что касается меня лично, квириты, то,
сколь ни убедительны были все улики и доказательства совершенного
преступления — письма, печати, почерк, наконец, признание каждого из
заговорщиков, мне показались еще более убедительными их бледность,
выражение их глаз и лиц, их молчание. Ведь они так остолбенели, так упорно
смотрели в землю, такие взгляды время от времени украдкой бросали друг на
друга, что казалось, будто не другие показывали против них, а они сами —
против себя.
(VI) Когда показания были изложены и прочитаны, квириты, я
спросил сенат, какие меры считает он нужным принять в защиту безопасности
государства. Первоприсутствующие сенаторы высказались в высшей
степени сурово и решительно, и сенат без всяких колебаний примкнул к ним.
Так как постановление сената еще не составлено, я по памяти изложу вам,
квириты, что сенат решил. (14) Прежде всего в самых лестных выражениях
воздается благодарность мне за то, что моей доблестью, мудростью и
предусмотрительностью государство избавлено от величайших опасностей.
316
Речи Цицерона
Затем преторам Луцию Флакку и Гаю Помптину за то, что они своей
храбростью и преданностью оказали мне помощь, высказывается
заслуженная и справедливая хвала. Кроме того, храбрый муж, мой коллега 19,
удостоился похвалы за то, что он порвал с участниками этого заговора всякие
личные и официальные отношения. Кроме того, было решено, чтобы Публий
Лентул, сложив с себя обязанности лретора, был взят под стражу, а также
чтобы Гай Цетег, Луций Статилий и Публий Габиний, которые все
находились налицо, были взяты под стражу20; то же было решено насчет Лу-
ция Кассия, выпросившего для себя поручение поджечь город; насчет
Марка Цепария, которому, согласно показаниям, была назначена Апулия с тем,
чтобы он подстрекал пастухов21 к мятежу; насчет Публия Фурия,
принадлежавшего к числу тех колонов, которых Луций Сулла вывел в Фезулы;
насчет Квинта Анния Хилона, который вместе с этим Фурием все время
склонял аллоброгов к участию в заговоре; насчет вольноотпущенника
Публия Умбрена, который, как было установлено, первый привел галлов к Га-
бинию. При этом сенат проявил величайшее мягкосердечие, квириты, и,
несмотря на столь значительный заговор и такое множество внутренних
■врагов все же признавал, что, коль скоро государство спасено, то кара,
которая постигнет девятерых шреступнейших человек, остальных сможет
«излечить от безумия. (15) Кроме того, бессмертным богам за их
исключительную милость было назначено молебствие22 от моего имени, причем, со
времени основания Рима, из людей, носивших тогу 23, этого впервые
удостоился я; молебствие было назначено в следующих выражениях: «Так как я
избавил Рим от поджогов, от резни —граждан, Италию — от войны...» Если
сравнить это молебствие с другими, то видно, в чем их различие: те были
назначены за оказанные государству услуги и одно лишь это — за его
спасение. Затем было совершено и доведено до конца то, что надо было сделать
прежде всего. Публий Лентул, хотя он на основании неопровержимых
показаний, своего собственного признания и решения сената утратил права не
только претора, но и гражданина, все же от своей должности отказался сам;
таким образом, религиозный запрет, который, правда, не помешал Гаю
Марию, прославленному мужу, убить претора Гая Главцию, чье имя в
постановлении сената даже не было названо,— этот запрет не будет нам
препятствовать покарать Публия Лентула, отныне частное лицо.
(VII, 16) Но теперь, квириты, коль скоро нечестивые зачинщики пре-
ступнейшей и опаснейшей войны схвачены и находятся в ваших руках, вы
можете быть уверены, что, с устранением этих опасностей, угрожавших
Риму, все военные силы Катилины уничтожены, и все его надежды и средства
погибли. Право, изгоняя его из Рима, я предвидел, квириты, что после
удаления Катилины мне не придется страшиться ни сонливого Публия
Лентула, ни тучного Луция Кассия, ни бешено безрассудного Гая Цетега. Из всех
этих людей стоило бояться одного только Катилины, но и его — лишь пока
77. Третья речь против Катилины
317
он находился в стенах Рима. Он знал все, умел подойти к любому человеку;
он мог, он осмеливался привлекать к себе людей, выведывать их мысли,
подстрекать их; он обладал способностью задумать преступное деяние, и этой
способности верно служили и его язык и его руки. Для выполнения
определенных задач он располагал определенными людьми, отобранными и
назначенными им, причем он, дав им какое-нибудь поручение, не считал его
уже выполненным; решительно во все он входил сам, за все брался сам;
был бдителен и рьян; холод, жажда и голод были ему нипочем. (17) Если
бы этого человека, столь деятельного, столь отважного, столь
предприимчивого, столь хитрого, столь осторожного при совершении им злодейств,
столь неутомимого в преступлениях, я не заставил отказаться от козней
в стенах Рима и вступить на путь разбойничьей войны (говорю то, что
думаю, квириты!), мне не легко было бы отвратить страшную беду, нависшую
над вашими головами. Уж он, конечно, не назначил бы нашего истребления
на день Сатурналий, не объявил бы государству за столько времени вперед
о роковом дне его уничтожения и, наконец, не допустил бы, чтобы были
захвачены его печать и письма, эти неопровержимые свидетельства его
преступления. Теперь же в его отсутствие все дело повели так, что кражу в
частном доме, пожалуй, никогда не удавалось раскрыть с такой
очевидностью, с какой был обнаружен и раскрыт этот страшный заговор,
угрожавший государству. И если бы Катилина оставался в государстве и по сей
день, то, хотя я, пока он был здесь, оказывал ему сопротивление и боролся
со всеми его замыслами, все же (выражусь очень мягко) нам пришлось бы
сразиться с ним, причем мы никогда — если бы этот враг все еще находился
в Риме — не избавили бы государства от таких больших опасностей,
сохранив при этом мир, спокойствие и тишину.
(VIII, 18) Впрочем, все это, квириты, было сделано мной так, что
кажется свершившимся по решению, по воле и промыслу бессмертных богов.
Мы потому можем прийти к такому заключению, что человеческому разуму
едва ли могло быть доступно управление такими важными событиями;
кроме того, боги в то время своим непосредственным присутствием оказали
нам такое содействие и помощь, что мы, можно сказать, могли видеть их
воочию. Если не говорить о том, что в ночное время на западе были видны
вспышки света и зарево на небе; если удары молнии и землетрясения
оставить без внимания; если не упоминать о других, столь многочисленных
знамениях, наблюдавшихся в мое консульство, когда бессмертные боги,
казалось, предвещали нынешние события, то, конечно, нельзя ни пропустить,
ни оставить без внимания, квириты, того, о чем я сейчас буду говорить.
(19) Вы, конечно, помните, что в консульство Котты и Торквата24 в
Капитолии много предметов было поражено молнией, причем изображения
богов сброшены с их оснований, статуи живших в старину людей
низвергнуты, а медные доски с записью законов расплавлены. Это коснулось даже
318
Речи Цицерона
основателя нашего города, Ромула, чья позолоченная статуя, где он
изображен в виде грудного ребенка, тянущегося к сосцам волчицы, как вы
помните, стояла в Капитолии. Гаруспики, собравшиеся в те времена из всей
Этрурии, предсказали, что надвигаются резня, пожары, уничтожение
законов, гражданская и междоусобная война, падение Рима и всей нашей
державы, если только бессмертные боги, которых надо умилостивить всем, чем
только возможно, волей своей не отклонят этих судеб. (20) Поэтому тогдаг
на основании их ответов, были устроены игры в течение десяти дней и не
было упущено ничего такого, что могло бы умилостивить богов. Кроме того,
гаруспики велели изваять изображение Юпитера больших размеров,
установить его на более высоком подножии и, не в пример прошлому, обратите
его лицом к востоку; они, по их словам, надеялись, что если эта статуя,
которую вы видите, будет смотреть на восходящее солнце, на форум и на
курию, то замыслы, тайно составленные во вред благополучию Рима и
нашей державы, будут настолько разоблачены, что станут вполне ясны сенату
и римскому народу. На сооружение этой статуи консулы в ту пору сдали
подряд, но работы производились так медленно, что ни в консульство моих
предшественников, ни в мое статуя так и не была воздвигнута.
(IX, 21) Кто может быть столь враждебен истине, квириты, столь
безрассуден, столь безумен, чтобы отрицать, что все находящееся перед нашими
глазами, а особенно этот вот город управляется волей и властью
бессмертных богов? И в самом деле, тогда нам был дан ответ, что
подготовляются — и притом нашими же гражданами — резня, поджоги и уничтожение
государства, но кое-кому из вас все это в ту пору казалось слишком тяжким
злодеянием и поэтому чем-то невероятным; теперь же вы воочию увидели,
что нечестивые граждане не только задумали все это, но и приступили к
выполнению. А разве не явным доказательством воли Юпитера Всеблагого
Величайшего служит то, что, когда сегодня рано утром, по моему
приказанию, заговорщиков и доносчиков вели через форум в храм Согласия25,
именно в это время воздвигали статую? Как только она была установлена
и обращена лицом к вам и к сенату, все замыслы против всеобщего
благополучия, как вы убедились, были разоблачены и раскрыты. (22) Тем
большей ненависти и тем более мучительной казни достойны те люди, которые
не только ваши жилища и дома, но храмы и святилища богов пытались
предать губительному и нечестивому пламени.
Если я скажу, что это я погасил его, я припишу себе чересчур много и
притязания мои будут нестерпимы. Это он, это Юпитер погасил пламя;
это он хотел, чтобы Капитолий, эти храмы, весь город, все вы были спасены.
Я же, под водительством бессмертных богов, поставил себе эту цель,
принял это решение и добыл эти столь важные улики. Право, ни Лентул, ни
другие внутренние враги не стали бы с таким безрассудством подстрекать
аллоброгов и, конечно, никогда не доверили бы такого важного дела неиз-
//. Третья речь против Катилины
319
вестным им людям и притом варварам и не вручили бы им писем, если бы
бессмертные боги не отняли разума у них, полных столь преступной отваги.
Как? Неужели можно допустить, что галлы, притом происходящие из не
вполне покоренной общины (ведь это — единственное племя, которое может
и вовсе не прочь начать войну против римского народа), пренебрегли
надеждой на независимость и на огромные выгоды, которую им добровольно
подали патриции, и предпочли ваше опасение своей пользе, если не
предположить, что все это произошло по промыслу богов, тем более, что галлы
могли нас победить, не сражаясь с .нами, а лишь храня молчание?
(X, 23) Вот почему, коль скоро молебствие назначено перед ложами
всех богов, отпразднуйте, квириты, эти дни вместе со своими женами и
детьми; ибо много раз бессмертным богам оказывали вполне
заслуженные ими и должные почести, но более заслуженных, конечно, им не было
оказано никогда; ибо вы избавлены от самой мучительной и самой жалкой
гибели, избавлены без резни, без кровопролития, без участия войска, без
боев; вы, носящие тогу, с носящим тогу императором во главе, одержали
победу. (24) И в самом деле, припомните, квириты, все раздоры между
нашими гражданами — не только те, о которых вы слыхали, но также те,
которые вы сами помните и видели. Луций Сулла Публия Сульпиция
уничтожил26; Гая Мария, стража этого города, и многих храбрых мужей —
одних изгнал, других казнил. Консул Гней Октавий, применив оружие,
изгнал из Рима своего коллегу27; все это место было покрыто грудами тел
и полито кровью граждан. Потом победили Цинна и Марий 28; и вот тогда
убиты были знаменитейшие мужи, и этим погашены светила государства 29.
За жестокость этой победы в дальнейшем отомстил Сулла; не стоит даже
говорить, сколько граждан погибло при этом и как велики были бедствия
государства. Марк Лепид30 вступил в борьбу с прославленным и
храбрейшим мужем, Квинтом Катулом; не столько гибель самого Лепи да, сколько
гибель многих других людей причинила горе государству. (25) Но все-таки
все эти раздоры имели своей целью не уничтожение государства, а
изменение государственного строя; все те люди не хотели полного уничтожения
государства, но хотели главенствовать в том государстве, которое
существовало. И не предать этот город огню хотели они, а наслаждаться властью в
нем. (И все же всем этим смутам, из которых ни одна не имела целью
уничтожить государство, был положен конец не путем восстановления
согласия, а ценой истребления граждан). Напротив, во время этой войны,
величайшей и жесточайшей из всех войн, происходивших на памяти людей,
во время беспримерной войны, какой даже варвары никогда не вели со
своим народом, во время войны, когда Лентул, Катилина, Цетег и Кассий
установили правилом считать врагом всякого, кто мог бы остаться невредимым,
если невредимым сохранится Рим, я предпринял, квириты, все, чтобы
спасены были все вы, и, хотя ваши враги и думали, что уцелеет лишь сколько
320
Речи Цицерона
граждан, сколько их спасется от беспощадной резни, а Рим уцелеет лишь
настолько, насколько его не удастся уничтожить огнем, я сохранил и город
и граждан целыми и невредимыми.
(XI, 26) За эти столь великие деяния, квириты, ни награды за
мужество, ни знаков почета, ни памятника в честь моих заслуг не требую я от
вас. Нет, пусть этот день будет для вас памятным навеки. Я хочу, чтобы
в сердцах ваших были запечатлены и сохранились все мои триумфы, все
мои почетные награды, памятники славы и знаки моих заслуг. Никакой
немой, никакой безмолвный памятник не порадует меня и ничто из того,
чего могут добиться даже люди, менее достойные. В памяти вашей, квириты,
будут жить мои деяния, в речах ваших расти, в памятниках слова
приобретут долговечную славу. Я думаю, судьбой назначен один и тот же срок,
который, надеюсь, продлится вечно,— и для благоденствия Рима и для памяти
о моем консульстве, когда в нашем государстве одновременно оказалось
двое граждан, один из которых провел границы нашей державы не по земле,
а по небу31, а другой спас оплот и средоточие этой державы.
(XII, 27) Совершив эти подвиги, я нахожусь, однако, в иных условиях
и в ином положении по сравнению с полководцами, которые воевали с
внешними врагами, так как мне придется жить среди людей, которых я победил
и смирил, между тем как их враги либо истреблены, либо покорены.
Поэтому, квириты, от вас зависит, чтобы — в то время как другие получают
заслуженную награду за свои подвиги — мои деяния рано или поздно не
оказались пагубными для меня. Принять меры, чтобы злодейские и
нечестивые замыслы преступнейших людей не могли повредить вам, было моим
делом; принять меры, чтобы они не повредили мне,— дело ваше. Впрочем,
квириты, мне повредить они уже не могут; ибо сильна охрана со стороны
честных людей, навсегда обеспеченная мне; велик авторитет государства,
который всегда будет молча защищать меня; велика сила совести — и те,
которые ею пренебрегут, когда захотят посягнуть на меня, сами выступят
против себя. (28) Я обладаю достаточным мужеством, квириты, чтобы не
только не отступать ни перед чьей дерзкой отвагой, но, по собственному
побуждению, всегда также и нападать на всех бесчестных людей. И если
весь натиск внутренних врагов, отраженный мной от вас, обратится против
меня одного, то вам, квириты, придется решать, в каком положении впредь
окажутся те люди, которые, защищая ваше благополучие, навлекут на себя
ненависть и подвергнутся всяческим опасностям. Что касается меня лично,
то каких радостей в жизни мог бы я еще пожелать? Ведь не осталось
никакой более высокой цели, которой стоило бы добиваться, после того как я
стяжал от вас почет и славу за свою доблесть. (29) Я, конечно, и далее буду
действовать так, квириты, чтобы все то, что я совершил во время своего
консульства, я продолжал защищать и укреплять как частное лицо — с тем,
чтобы ненависть, которую я, быть может, на себя навлек, спасая государ-
//. Третья речь против Катилины
321
ство, обратилась против самих ненавистников, а моей славе способствовала.
Словом, в своей государственной деятельности я всегда буду памятовать
о том, что я совершил, и стараться, чтобы это представлялось совершенным
мной благодаря моей доблести, а не по милости случая.
Вы же, квириты, так как уже наступила ночь, с чувством благоговения
к Юпитеру, хранителю этого города и вашему, расходитесь по домам и, хотя
опасность уже устранена, все же, как и в прошлую ночь, защитите их
стражей и ночными дозорами. Чтобы вам не пришлось долго так поступать и
чтобы вы могли наслаждаться ничем не нарушаемым миром,— об этом
позабочусь я, квириты!
21 Цицерон, т. 1
JJJJJJ
12
ЧЕТВЕРТАЯ РЕЧЬ
ПРОТИВ ЛУЦИЯ СЕРГИЯ КАТИЛИНЫ
[В сенате, в храме Согласия, 5 декабря 63 г.]
(I, 1) Я вижу, отцы-сенаторы, что вы все обернулись в мою сторону и
устремили на меня свои взоры. Вижу, что не только опасность, угрожающая
вам и государству, но — даже если бы удалось ее устранить — также и
опасность, которая угрожает мне лично, вас тревожит. Приятно мне среди
бедствий и дорого в скорби видеть ваше доброе отношение ко мне. Но —
во имя бессмертных богов! — отбросьте его и, забыв о моем благополучии
думайте о себе и о своих детях. Если именно мне в течение моего
консульства суждено вынести все горькие беды, все страдания и муки, то я
перенесу их не только мужественно, но и с радостью, лишь бы труды мои доставили
вам и римскому народу славу и благоденствие.
(2) Я — тот консул, отцы-сенаторы, для которого и форум, средоточие
всего правосудия, и поле, освященное консульскими авспициями, и Курия 1
высший оплот всех народов, и дом, убежище для каждого человека, и ложе, 0
предназначенное для отдохновения2, и, наконец, это вот почетное место
всегда таили в себе смертельную опасность и козни. Обо многом я молчал,
многое претерпел, во многом уступил и ценой своих тревог избавил вас от
многого, внушавшего вам страх. Но теперь, коль скоро бессмертным богам
угодно, чтобы я завершил свое консульство спасением вашим и римского
народа от ужасов резни; ваших жен и детей, а также и дев-весталок — от
жесточайших мучений; храмов и святилищ и этой прекрасной нашей общей
отчизны — от губительного пламени; всей Италии — от опустошительной
войны, то, какая бы участь меня ни ожидала, я готов один принять ее. И в
самом деле, если Публий Лентул, основываясь на предсказаниях, решил,
что его имя, по велению судьбы, станет роковым для государства 3, то
почему бы мне не радоваться тому, что мое консульство, можно сказать, по
велению рока, оказалось спасительным для народа? (II, 3) Поэтому
заботьтесь о себе, отцы-сенаторы; думайте о будущем нашей отчизны; берегите
себя, своих жен, детей и достояние; имя и благополучие римского народа
защищайте, но меня щадить и обо мне думать перестаньте. Ибо я прежде
всего должен надеяться на то, что все боги, покровители этого города,
вознаградят меня в меру моих заслуг: затем, если что-нибудь случится, я го-
12, Четвертая речь против Катилины
323
тов умереть спокойно; ведь смерть не может быть ни позорной для храброго
мужа, ни преждевременной для консуляра, ни жалкой для мудрого человека.
Но я не такой уж черствый человек, чтобы меня не трогало горе присут-'1"
ствующего здесь 4 моего дорогого и горячо любящего брата и слезы всех
этих вот людей, которые, как видите, меня окружают. Мысленно я все
время переношусь в свой дом к убитой горем жене, к измученной страхом
дочери и малютке-сыну 5, которого — я сказал бы — государство держит в
своих объятиях как залог моей верности обязанностям консула. Переношусь
мысленно также и к тому человеку, который, как я вижу, стоя вон там, ждет
окончания нынешнего дня, к своему зятю 6. Все это волнует меня, но пусть
мои родные останутся невредимы вместе с вами, а не погибнут вместе с
нами всеми от одной и той же моровой язвы, грозящей государству
уничтожением.
(4) Поэтому, отцы-сенаторы, напрягите все свои силы ради спасения
государства; подумайте обо всех бурях, с которыми мы столкнемся, если вы
не примете мер предосторожности. Не Тиберий Гракх за свое желание быть
избранным в народные трибуны во второй раз 7, не Гай Гракх за свою
попытку призвать сторонников земельных законов к восстанию, не Луций
Сатурнин за убийство Гая Меммия 8 привлечены к ответственности и
отданы на ваш строгий суд. Схвачены те, кто остался в Риме, чтобы поджечь
город, истребить всех вас, принять Катилину; у нас в руках их письма с
печатями и собственноручными подписями; наконец, все они сознались; они
подстрекали аллоброгов, рабов призывали к мятежу, Катилину призывали
в Рим; коротко говоря, вот что они задумали; истребив всех, не оставить
никого, кто бы мог хотя бы оплакивать римский народ и сокрушаться о
гибели такой великой державы. (III, 5) Все это сообщили доносчики, в этом
сознались виновные, вы сами уже признали это многими своими решениями;
прежде всего — тем, что в самых лестных выражениях высказали мне
благодарность и установили, что я своим мужеством и бдительностью раскрыл
заговор преступников; далее тем, что вы заставили Публия Лентула
отказаться от претуры; тем, что вы сочли нужным его и других, о которых вы
вынесли решения, взять под стражу; но особенно тем, что вы назначили от
моего имени молебствие, а этот почет ни одному должностному лицу,
носящему тогу9, до меня оказан не был; наконец, вы вчера щедро наградили
послов аллоброгов и Тита Вольтурция. Все эти решения свидетельствуют
о том, что люди, поименно взятые под стражу 10, без всякого сомнения, вами
осуждены.
(6) Но я решил доложить вам, отцы-сенаторы, обо всем деле так, словно
оно еще не начато, и просить вас вынести решение о происшедшем и
назначить кару. Начну с того, что подобает сказать консулу. Да, я уже давно
увидел, что в государстве нарастает какое-то страшное безумие, и понял,
что затевается и назоевает какое-то зло, неведомое доселе, но я никогда не
21*
324
Речи Цицерона
думал, что этот столь значительный, столь губительный заговор устроили
граждане. Теперь во что бы то ни стало, к чему бы вы ни склонялись в
своих мнениях и предложениях, вы должны вынести постановление еще
до наступления ночи п. Сколь тяжко деяние, переданное на ваше
рассмотрение, вы видите. Если вы полагаете, что в нем замешаны лишь немногие
люди, то вы глубоко заблуждаетесь. Много шире, чем думают,
распространилось это зло; оно охватило не только Италию, оно перешло через Альпы
и, расползаясь в потемках, уже поразило многие провинции 12. Уничтожить
его отсрочками и оттяжками совершенно невозможно. Какой бы способ
наказания вы ни избрали, вы должны быстро покарать преступников.
(IV, 7) Я вижу, что до сего времени внесено два предложения: одно —
Децимом Силаном, который полагает, что людей, пытавшихся уничтожить
наше государство, следует покарать смертью; другое — Гаем Цезарем,
который отвергает смертную казнь, но предлагает любое из других
тягчайших наказаний. И тот и другой в соответствии со своим достоинством и с
важностью дела проявляют величайшую суровость. Первый считает, что
люди, сделавшие попытку всех нас лишить жизни, разрушить нашу
державу, уничтожить имя римского народа, не должны больше ни мгновения
наслаждаться жизнью и дышать этим воздухом, нашим общим достоянием;
он напоминает нам, что бесчестных граждан в нашем государстве не раз
подвергали каре этого рода 13. Второй полагает, что бессмертные боги
определили, чтобы смерть была не казнью, а либо законом природы, либо
отдохновением от трудов и несчастий и/ Поэтому мудрые люди всегда
встречали ее спокойно, а храбрые часто даже с радостью. Но тюремное
заключение и притом на вечные времена, несомненно, придумано как высшая
кара за нечестивое преступление. Цезарь предлагает распределить
преступников по муниципиям, но предложение это несправедливо, если муниципиям
прикажут, и трудно выполнимо, если к ним обратятся с просьбой.
Впрочем, если угодно, пусть будет принято такое решение. (8) Я поищу и,
надеюсь, найду людей, которые сочтут несовместимым со своим достоинством
отказаться от того, что вы постановите ради всеобщего благополучия.
Далее Цезарь предлагает дополнительно назначить тяжкое наказание
жителям муниципиев, если кто-нибудь из них окажет содействие побегу
преступников. Он предусматривает строжайшее заключение, достойную кару за
преступление, совершенное пропащими людьми; он устанавливает, что
никто — ни по постановлению сената, ни по решению народа — не вправе
облегчить кару, назначенную тем, кого он предлагает осудить, он даже
отнимает у них надежду, которая только одна и утешает человека в его
несчастьях. Кроме того, он предлагает продать их имущество в пользу казны;
одну только жизнь сохраняет он нечестивцам; если бы он отнял у них
также и ее, он сразу избавил бы их от многих страданий души и тела и от всех
наказаний за злодейства. Поэтому люди древности, желая, чтобы бесчест-
12. Четвертая речь против Катилины
325
ные люди хотя бы чего-нибудь боялись при жизни, утверждали, что
нечестивцам назначены в подземном царстве какие-то ужасные мучения, так как
они, по-видимому, понимали, что без угрозы в виде таких наказаний смерть
сама по себе не страшна.
(V, 9) Я теперь-хорошо понимаю, отцы-сенаторы, какое из решений
выгодно мне. Если вы последуете предложению Гая Цезаря, избравшего в
своей государственной деятельности путь, считающийся защитой интересов
народа, то мне, пожалуй,— при том, что это предложение вносит и защищает
именно он,— в меньшей степени придется страшиться нападок сторонников
народа. Если же вы последуете другому предложению, то у меня могут
.возникнуть значительно большие затруднения. Но все же пусть благо
государства будет выше соображений о моей личной безопасности. Ведь Цезарь, как
этого требовали его личное достоинство и слава его предков, внес
предложение, являющееся как бы залогом его неизменной преданности
государству. Стало понятным все различие между ничтожностью крикунов на
народных сходках и подлинной преданностью народу и заботой о его благе. (10)
Я вижу, что кое-кто из тех, которые хотят считаться сторонниками народа,
не явился сюда, видимо, чтобы не выносить смертного приговора римским
гражданам, а между тем те же лица отдали третьего дня римских граждан
под стражу и голосовали за молебствие от моего имени, а вчера щедро
наградили доносчиков; но ведь если человек голосовал за содержание
заговорщиков под стражей, за вынесение благодарности должностному лицу,
производившему следствие, за награждение доносчиков, то уже едва ли
можно сомневаться насчет его приговора по поводу всех событий
разбираемого дела. Гай Цезарь, скажут мне, хорошо понимает, что Семпрониев
закон 15 касается римских граждан, но тот, кто является врагом государства,
быть гражданином никак не может; наконец, сам автор Семпрониева закона
поцес — без повеления народа — кару за свое преступление против
государства. Далее Цезарь полагает, что Лентул, несмотря на всю щедрость и
расточительность, не может уже быть назван сторонником народа, коль
скоро он с такой жестокостью, с такой беспощадностью задумал истребить
римский народ и уничтожить этот город. Поэтому Цезарь, при всем своем
мягкосердечии и благожелательности, без всяких колебаний обрекает
Публия Лентула на пожизненное заключение ib мрачной тюрьме и
закрепляет эту кару также и на будущее время с тем, чтобы никто не мог впредь
хвалиться, что облегчил это мучительное -наказание, и римскому народу на
погибель впоследствии выставлять себя сторонником народа. Кроме
того, Цезарь предлагает продать имущество заговорщиков в пользу казны,
дабы все мучения их души и тела сопровождались также бедностью и
нищетой.
(VI, 11) Итак, если вы примете предложение Цезаря, то .вы дадите мне
для выступления на народной сходке спутника, любимого народом и угод-
326
Речи Цицерона
ного ему. Если же вы предпочтете последовать 'предложению Силана, то
римский народ едва ли станет упрекать меня и вас в жестокости, а я докажу,
что сама эта жестокость была проявлением мягкосердечия. Впрочем, можно
ли говорить о жестокости, отцы-сенаторы, когда речь идет о наказании за
такое страшное преступление? Я лично сужу на основании того, что
чувствую сам. Да будет мне дозволено вместе с вами наслаждаться
благоденствием нашего государства в такой же мере, в какой я проявляю непримиримость
в этом деле, руководствуясь отнюдь не чувством жестокости (право, кто
более мягкий человек, чем я?), но, напротив, исключительной, так сказать,
добротой и состраданием. Мне кажется, я вижу, как наш город, светоч всего
мира и оплот всех народов, внезапно уничтожается огромным пожаром; я
воображаю себе лежащие в погребенной отчизне груды жалких тел
непогребенных граждан; перед моими глазами встает исступленное лицо Цетега,
ликующего при виде того, как вас убивают. (12) А когда я представляю
себе, что Лентул царствует 16, на что он, по его собственному признанию,
надеялся, ссылаясь на волю судьбы, что Габиний в пурпурном одеянии
находится при нем, что Катилина привел сюда свое войско, то я содрогаюсь
при мысли о стенаниях матерей, о бегстве девушек и детей, о
надругательстве над девами-весталками. И так как все эти несчастья потрясают меня и
внушают мне чувство сострадания, то к людям, добивавшимся этого, я буду
суров и непреклонен. И в самом деле, скажите мне: если отец, глава семьи,
найдя своих детей убитыми рабом, жену зарезанной, а дом сожженным, не
подвергнет своих рабов жесточайшей казни, то кем сочтем мы его —
милосердным ли и сострадательным или же бесчувственным и жестоким? Мне
лично кажется отвратительным и бессердечным тот, кто не облегчит своих
страданий и мук, покарав преступника. Таково и наше положение по
отношению к этим людям, которые хотели убить нас, наших жен и детей,
пытались разрушить наши дома и это государство, наше общее обиталище,
старались поселить на развалинах нашего города и на пепелище сожженной
ими державы племя аллоброгов: если мы будем беспощадны к ним, то нас
сочтут людьми сострадательными; если же мы захотим оказать им
снисхождение, то молва осудит нас за величайшую жестокость к нашей отчизне и
согражданам, которым грозила гибель. (13) Или,* быть может, Луций
Цезарь 17, храбрейший и глубоко преданный государству муж, третьего дня
показался кому-либо чересчур жестоким, когда признал, что муж его сестры,
достойнейшей женщины, должен быть казнен, и заявил это в его
присутствии, и также, когда он назвал законным совершенное по приказанию
консула убийство своего деда 18 и смерть его юного сына, присланного отцом для
переговоров и казненного в тюрьме? А между тем разве их поступки
можно сравнить с виной этих людей? Разве у них было намерение уничтожить
государство? Тогда в стране было стремление произвести раздачу земли и
происходила, так сказать, борьба сторон. Но в то же время дед нашего Лен-
12, Четвертак речь против Катилины
327
туда 19, прославленный муж, с оружием в руках преследовал Гракха. Он
тогда даже был тяжело ранен, защищая государственный строй. А вот внук
его, желая разрушить устои государства, призывает галлов, подстрекает
рабов, зовет Катилину, Цетегу поручает истребить нас, Габинию — перерезать
других граждан, Кассию — сжечь город, Катилине — опустошить и
разграбить всю Италию. Да, уж действительно вам следует опасаться, что ваше
постановление о таком ужасном и нечестивом преступлении может кому-то
показаться чересчур суровым! Нет, гораздо больше нам следует опасаться,
как бы нам, если мы смягчим наказание, не оказаться жестокими по
отношению к отечеству, а вовсе не того, что мы, проявив суровость при
выборе нами кары для них, окажемся слишком беспощадны к своим заклятым
врагам.
(VII, 14) Но я не могу скрыть, отцы-сенаторы, того, что мне приходится
слышать. До моего слуха доносятся голоса тех, кто, видимо, сомневается,
достаточно ли у меня военной силы, чтобы привести в исполнение те
решения, которые вам сегодня предстоит принять. Все предусмотрено,
подготовлено и устроено, отцы-сенаторы, благодаря моей величайшей заботливости
и бдительности и особенно благодаря твердой решительности римского
народа, желающего сохранить в своих руках высший империй и спасти
достояние всех граждан. Все они находятся здесь: это люди из всех сословий, всех
слоев населения, наконец, люди любого возраста; ими полон форум, полны
все храмы вокруг форума, полны все пути, ведущие к этому храму и к этому
месту. Со времени основания Рима это — единственное дело, в котором все
вполне единодушны, за исключением тех людей, которые, видя, что они
обречены на гибель, предпочли погибать вместе со всеми гражданами, а не в
одиночестве. (15) Их я охотно исключаю и отделяю от .всех прочих людей и
думаю, что их следует относить даже не к числу бесчестных граждан, а к
числу заклятых врагов. Но другие! Бессмертные боги! —как много их, с
какой преданностью, с каким мужеством единодушно выступают они в защиту
всеобщего благополучия и достоинства! Упоминать ли мне здесь о римских
всадниках? Ведь они, если и уступают вам в сословных правах, соперничают
с вами в преданности государству. После их многолетних раздоров с
сенаторским сословием, нынешний день и это дело возвратили их к союзу и
согласию с вами20; если это единение, закрепленное во время моего
консульства, мы сохраним в государстве навсегда, то впредь — заверяю вас —
никакие внутренние гражданские распри ничем не будут угрожать государству.
С таким же ревностным стремлением защищать государство, вижу я,
сошлись сюда эрарные трибуны21, храбрейшие мужи; также и все писцы,
именно сегодня собравшиеся по особому случаю около эрария 22, вижу я, не
стали дожидаться исхода жеребьевки и бросились на защиту всеобщего
благополучия. (16) Здесь присутствуют все многочисленные
свободнорожденные люди, даже беднейшие. В самом деле, найдется ли человек, которому
328
Речи Цицерона
бы эти вот храмы, (вид Рима, права свободы, наконец, сам солнечный свет
и почва нашего общего отечества не были дороги, более того — не
казались сладостными и восхитительными? (VIII) Стоит обратить внимание,
отцы-сенаторы, и на рвение, проявленное вольноотпущенниками, которые,
благодаря своим заслугам приобщившись к судьбе нашего государства,
считают его своей подлинной отчизной, между тем как некоторые люди,
рожденные здесь и притом происходящие из знатнейших родов, сочли его не
своей отчизной, а вражеским городом. Но зачем я говорю об этих сословиях
и об этих людях, которых к защите отечестве побудили забота об их личном
благополучии, польза государства и, наконец, свобода, самое ценное наше
достояние? Раба не найдется, который — если только его положение как
раба терпимо — не испытывал бы чувства ужаса перед преступностью
граждан, не желал бы сохранения нынешнего положения и, насколько смеет и
насколько может, не способствовал бы успеху дела всеобщего спасения. (17)
Поэтому, если кого-нибудь из вас сильно беспокоят слухи о том, что какой-
то сводник, сторонник Лентула бродит вокруг торговых рядов в надежде,
что ему удастся путем подкупа вызвать волнения среди неимущих и
неискушенных людей, то нужно сказать, что такая попытка действительно была
сделана 22, но не нашлось ни одного бедняка, ни одного пропащего человека,
который бы не желал сохранить <в целости место, где он трудится, сидя на
своей скамье, и изо дня в день зарабатывает себе на хлеб, сохранить свое
жилище и свою постель, словом, свою спокойную жизнь. И действительно,
огромное большинство тех, кто владеет лавками, вернее, .все они (ибо это
оолее правильно) горячо стоят за спокойствие. Ведь всякий источник
существования, всякий труд и заработок поддерживаются спросом и процветают
в условиях мира. Если доходы этих людей уменьшаются, когда их лавки на
запоре, то что, скажите мне, будет, если эти лавки сожгут?
(18) При этих обстоятельствах, отцы-сенаторы, римский народ вас без
поддержки не оставляет; но вам следует принять меры, дабы римский народ
не остался без вашей поддержки. (IX) У вас есть консул, уцелевший среди
многочисленных опасностей и козней, грозивших ему, вернее, спасшийся от
угрожавшей ему смерти не для того, чтобы самому остаться в живых, а
чтобы спасти вас. Для спасения государства объединились все сословия своими
помыслами, волей, высказываниями. Наша общая отчизна, которой
угрожают факелы и оружие нечестивого заговора, с мольбой простирает к вам
свои руки; вам препоручает она себя, вам — жизнь всех граждан, вам —
крепость и Капитолий 24, вам — алтари Пенатов, вам — вон тот неугасимый
огонь Весты, вам — храмы и святилища всех богов, вам — городские стены
и дома. Наконец, вам сегодня предстоит вынести приговор, от которого
будет зависеть ваша жизнь, существование ваших жен и детей, достояние всех
граждан, целость ваших жилищ и домашних очагов. (19) У вас есть
руководитель, помнящий о вас и забывающий о себе,—случай, который не всегда
12. Четвертая речь против Катилины
329
бывает. Перед вами все сословия, все люди, весь римский «арод и все они
вполне единодушны, что в пору гражданской смуты сегодня произошло
впервые. Подумайте, какими трудами была основана наша держава, какой
доблестью была укреплена свобода, сколь велика милость богов, благодаря
которой были созданы и накоплены эти богатства,— и всего этого едва не
уничтожила одна ночь25. Чтобы граждане впредь не могли, не говорю уже —
совершить подобную попытку, но даже помыслить о ней, вот о чем должны
вы позаботиться сегодня. И я это сказал не с целью возбудить ваше
рвение,— вы, пожалуй, в этом отношении даже превосходите меня — но для
того, чтобы мой голос, который должен звучать как первый в государстве,
соответствовал моему званию консула.
(X, 20) Теперь, прежде чем переходить к голосованию, скажу несколько
слов о себе самом. Я вижу, что численность недругов, которых я приобрел,
равна численности шайки заговорщиков, а она, как видите, очень велика;
но недругов своих я считаю людьми презренными, слабыми и
отверженными. Но даже если эта шайка при подстрекательстве со стороны какого-
нибудь бешеного и преступного человека когда-либо окажется сильнее
вашего авторитета и достоинства государства, то все же я, отцы-сенаторы,
никогда не стану раскаиваться в своих решениях. И в самом деле, смерть,
которой они, быть может, мне угрожают, ожидает нас всех, между тем таких
высоких похвал, каких вы своими постановлениями удостоили меня при
жизни, не достигал никто; ведь другим вы своим постановлением воздавали
благодарность за подвиги, совершенные во славу государства, и только
мне — за его спасение. (21) Да будет славен Сципион, благодаря мудрому
руководству и доблести которого Ганнибал был вынужден покинуть Италию
и возвратиться в Африку; пусть воздают высокую хвалу второму
Африканскому26, разрушившему два города, которые были злейшими врагами
нашей державы,— Карфаген и Нуманцию; пусть превозносят Павла, за чьей
колесницей шел один из некогда самых могущественных и самых
знаменитых царей — Персей 27; вечная слава Марию, дважды избавившему Италию
от врагов и от угрозы порабощения28; выше всех пусть возносят Помпея,
чьи подвиги и чья доблесть охватывают все страны и все пределы, какие
посещает солнце 29. Среди похвал, воздаваемых этим людям, конечно,
найдется место и для моей славы, если только завоевывать для нас провинции,
где мы можем расселяться, большая заслуга, чем позаботиться о том, чтобы
у отсутствующих было куда возвратиться после побед. (22) Впрочем, в этом
отношении победа над внешним врагом выгоднее победы над внутренним:
чужеземные враги в случае своего поражения либо становятся рабами, либо,
встретив милостивое отношение к себе, чувствуют себя обязанными нам;
что же касается граждан, которые в своем безрассудстве однажды
оказались врагами отчизны, то их — если им не дали погубить государство —
невозможно ни принудить силой 30, ни смягчить милосердием. Поэтому я, как
330
Речи Цицерона
вижу, вступил с дурными гражданами в вечную войну. Но помощь ваша и
всех честных людей и воспоминание об огромных опасностях, которое
всегда будет храниться в преданиях и в памяти не только нашего народа,
спасенного мной, но и всех племен, могут — я в этом уверен — с легкостью
отразить угрозу этой войны от меня и от моих родных. И, конечно, не
найдется столь великой силы, которая могла бы разорвать и поколебать ваше
единение с римскими всадниками и тесный союз между всеми честными людьми.
(XI, 23) Коль скоро это так, взамен империя, взамен войска, взамен
провинции, от которой я отказался, взамен триумфа и других знаков славы,
отвергнутых мной из желания быть на страже благополучия Рима и вашего,
взамен отношении клиентелы и уз гостеприимства , которые я мог бы
завязать в провинциях и которые я все же средствами, находящимися в
моем распоряжении в Риме, оберегаю с таким же старанием, с каким их
создаю, словом, взамен всего этого, в воздаяние за мое исключительное рвение,
за мою всем вам ведомую бдительность, направленную на спасение
государства, я ничего от вас не требую, -кроме того, чтобы вы помнили об этом дне и
обо всем моем консульстве; пока вы будете твердо хранить в своих сердцах
память об этом, я буду считать себя за крепчайшей стеной; но если
надежда меня обманет, а сила бесчестных людей восторжествует, то поручаю кям
своего малолетнего сына; поистине, если вы будете помнить, что он — сын
того, кто спас наше государство, подвергая опасности одного себя, то это не
только охранит его от гибели, но и откроет ему путь к почестям. (24) Итак,
обдуманно и смело, как вы вели себя с самого начала, выносите
постановление о самом существовании своем и римского народа, о своих женах и
детях, об алтарях и домашних очагах, о святилищах и храмах, о домах и
зданиях всего Рима, о нашей державе и свободе, о благополучии Италии, о
государстве в целом. У вас есть консул, который без колебаний подчинится
вашим постановлениям и, пока будет жив, сможет их защитить и сам за них
постоять.
JJJJJJ
13
РЕЧЬ В ЗАЩИТУ
ЛУЦИЯ ЛИЦИНИЯ МУРЕНЫ
[5 суде, вторая половина ноября 63 г.]
(I, 1) О чем я молил бессмертных богов, судьи, в том день, когда я, по
обычаям и заветам предков, совершив авспиции, объявил в центуриатских
комициях об избрании Луция Мурены в консулы \— а именно, чтобы это
избрание для меня самого, для честного завершения мной своих
должностных обязанностей, для римского народа и плебса 2 стало залогом
благоденствия и счастья,— об этом же молю я тех же бессмертных богов и теперь,
когда речь идет о том, чтобы этот человек достиг консульства и вместе с
тем остался цел и невредим; молю их также и о том, чтобы ваши помыслы и
ваш приговор совпали с волей и голосованием римского народа и чтобы это
принесло вам и римскому народу мир, тишину, спокойствие и согласие.
И если торжественное моление, совершаемое по случаю комиций и
консульскими авспициями освященное, обладает такой великой силой и святостью,
какой требует достоинство государства, то я вознес в нем мольбу также и о
том, чтобы это избрание оказалось благоприятным, счастливым и удачным
и для тех, кому под моим председательством консульство было
предоставлено. (2) Итак, судьи, коль скоро бессмертные боги вам передали или, во
всяком случае, с вами разделили свою власть, вашему покровительству
поручает консула тот же человек, который уже поручил его бессмертным
богам,— дабы Луций Мурена, одним и тем же человеком и объявленный
консулом и защищаемый, сохранил оказанную ему римским народом милость
на благо вам и всем гражданам.
Но так как обвинители порицают и мое рвение как защитника, и даже
то, что я вообще взялся за это дело, то я, прежде чем начать свою речь в
защиту Мурены, скажу несколько слов в свою собственную защиту — не
потому, чтобы для меня, по крайней мере, в настоящее время, было важнее
оправдаться в своей услуге, чем защитить гражданские поава Луция
Мурены, но для того, чтобы я, получив у вас одобрение своему поступку, с
большей уверенностью мог отражать нападения недругов Луция Мурены на его
избрание в консулы, на его доброе имя и все его достояние 3.
(II, 3) И прежде всего Марку Катону, который в своей жизни
применяет строгое мерило разума 4 и каждую мельчайшую обязанность столь
332
Речи Цицерона
придирчиво взвешивает, отвечу я об исполнении мной своей обязанности.
Катон утверждает, что мне, консулу и автору закона о домогательстве,
после столь строго проведенного консульства не подобало браться за дело Лу-
ция Мурены. Порицание именно с его стороны меня глубоко волнует и
заставляет взяться за оправдание своего поведения не только перед вами,
судьи, перед которыми я безусловно должен это сделать, но и перед самим
Катоном, мужем достойнейшим и неподкупнейшим. Скажи, Марк Катон,
кто, как не консул, по всей справедливости должен защищать консула. Кто
во всем государстве может или должен быть мне ближе, чем тот, чьей
охране я передаю все государство, сохраненное мной ценою великих трудов
и опасностей? И если в случае спора из-за вещей, подлежащих манципации,
ответственность по суду должно нести лицо, взявшее на себя
обязательство 5, то сохранять для избранного 6 консула милость римского народа и
защищать его от грозящих ему опасностей в том случае, когда он привлечен
к суду, должен, несомненно, именно тот консул, который объявлял о его
избрании. (4) Более того, если бы защитник в подобном деле назначался
официально,— как это принято в некоторых государствах7,— то человеку,
удостоенному высшего почета, было бы наиболее правильно дать в качестве
защитника именно того, кто, будучи отмечен таким же почетом, мог бы
выступить столь же авторитетно, сколь и красноречиво. И если те, кто
возвращается из открытого моря, сообщают выходящим из гавани все подробности
и о бурях, и о морских разбойниках, и об опасных местах (ведь сама
природа велит нам принимать участие в людях, вступающих на путь таких же
опасностей, какие мы сами уже испытали), то как, скажите, должен я, после
продолжительных скитаний по морям видя сушу, отнестись к человеку,
которому, как я предвижу, предстоит выдержать величайшие бури в
государстве? Поэтому, если долг честного консула — не только видеть, что
происходит, но и предвидеть, что произойдет, то я изложу в дальнейшем, как важно
для всеобщего благополучия, чтобы в государстве в январские календы было
два консула. (5) Поэтому не столько сознание своей личной обязанности
должно было призвать меня к защите благополучия друга, сколько польза
государства — побудить консула к защите всеобщей безопасности.
(III) Закон о домогательстве, действительно, провел я, но провел его,
уж никак не имея в виду отмены того закона, какой я искони установил для
самого себя,— защищать сограждан от грозящих им опасностей. И в самом
деле, если бы я признавал, что при выборах был совершен подкуп, а .в
оправдание утверждал, что он был совершен законно, то я поступал бы
бесчестно, даже если бы закон был предложен кем-либо другим; но коль скоро
я утверждаю, что ничего противозаконного совершено не было, чем же
может внесенный мною закон помешать моему выступлению как защитника?
(6) Но Катон утверждает, что я изменяю своей суровости, раз я своими
речами и, можно сказать, империем 8 изгнал из Рима Катилину, который в
73. В защиту Луция Лии,иния Мурены
333
его стенах замышлял уничтожение государства, а теперь выступаю в
защиту Луция Мурены. Но ведь эту роль — мягкого и милосердного человека,
которой меня обучила сама природа, я всегда играл охотно, а роли строгого
и сурового не добивался 9, но, когда государство ее на меня возложило,
исполнял ее так, как этого требовало достоинство моего империя в пору
величайших испытаний для граждан. И если я поборол себя, когда
государство ожидало от меня проявления силы и суровости, и — по воле
обстоятельств, а не по своей — был непреклонен, то теперь, когда все призывает
меня к состраданию и к человечности, сколь покорно должен я повиноваться
голосу своей натуры и привычки! О своем долге как защитника и о твоих
соображениях как обвинителя мне, пожалуй, придется говорить и в другой
части своей речи.
(7) Но меня, судьи, не менее, чем обвинение, высказанное Катоном,
тревожили сетования мудрейшего и виднейшего человека. Сервия Сульпиция,
которого, по его словам, глубоко огорчило и опечалило то, что я, забыв о
тесных дружеских отношениях между нами, выступаю против него и
защищаю Луция Мурену. Перед ним, судьи, я хочу оправдаться, а вас привлечь
в качестве третейских судей. Ибо, если тяжело, когда тебя заслуженно
обвиняют в пренебрежении дружбой, то оставлять это без внимания не
следует, даже если тебя обвиняют незаслуженно. Да, Сервий Сульпиций, я
признаю, что, ввиду дружеских отношений между нами, я во время твоего
соискания должен был оказывать тебе всяческое содействие и услуги, и думаю,
что я их тебе оказал. Добиваясь консульства, ты не испытывал недостатка
в услугах, каких можно было требовать и от друга, и от влиятельного
человека, и от консула. То время прошло; положение изменилось. Вот что я
думаю, вот в чем я твердо убежден: противодействовать избранию Луция
Мурены на почетную должность я должен был в такой мере, в какой ты от
меня этого требовал, но выступать против него, когда дело идет о его
гражданских правах, я отнюдь не должен. (8) Ведь если тогда, когда ты метил
в консулы, я тебя поддержал, то теперь, когда ты в самого Мурену метишь,
я не должен помогать тебе таким же образом. Более того, не только не
похвально, но даже и вовсе не допустимо, чтобы мы — из-за того, что
обвинение предъявлено нашими друзьями,— не защищали даже совершенно
чужих нам людей.
(IV) Между тем, судьи, меня с Муреной соединяет тесная и давняя
дружба, от которой, во время борьбы из-за его гражданских прав, Сервий
Сульпиций не заставит меня отказаться потому только, что он же одержал
над этой дружбой победу в споре за избрание. Но даже не будь этой
причины, все же ввиду высоких достоинств самого обвиняемого и ввиду
великого значения достигнутых им должностей меня заклеймили бы как человека
высокомерного и жестокого, если бы я отказался вести дело, столь опасное
для того, кто широко известен как своими личными заслугами, так и почет-
334
Речи Цицерона
ными наградами, полученными им от римского народа. Ведь мне теперь не
подобает (да я в этом и не волен) уклоняться от помощи людям,
находящимся в опасном ^положении. Коль скоро беспримерные награды 10 были мне
даны именно за эту деятельность, я, по моему мнению, ... [Лакуна.]
отказываться от тех трудов, благодаря которым они были получены, значит быть
лукавым и неблагодарным человеком. (9) И если бы можно было перестать
трудиться, если бы я мог это сделать на твою ответственность, не навлекая
этим на себя ни осуждения за леность, ни постыдных упреков в
высокомерии, ни обвинения в бесчеловечности, то я, право, готов сделать это.
Но если стремление бежать от труда свидетельствует о нерадивости, отказ
принимать просителей — о высокомерии, пренебрежение к друзьям — о
бесчестности, то как раз это судебное дело, бесспорно, таково, что ни один
деятельный, ни один сострадательный, ни один верный своему долгу человек
не может от него отказаться. Представление об этом деле ты, Сервий п.
очень легко составишь себе на основании своей собственной деятельности.
Ибо раз ты считаешь необходимым давать разъяснения даже противникам
своих друзей, обращающимся к тебе за советом по вопросам права, и
находишь позорным для себя, если после обращения обеих сторон к тебе тот,
против кого ты выступишь, проиграет дело по формальным причинам 12, то
не будь столь несправедлив, чтобы, в то время как твои родники открыты
даже для твоих недругов, полагать, что мои должны быть закрыты даже
для моих друзей. (10) И в самом деле, если бы дружеские отношения между
тобой и мной помешали мне вести это дело и если бы то же самое произошло
с прославленными мужами Квинтом Гортеисием и Марком Крассом, а
также и с другими людьми, .которые, как мне известно, высоко ценят твое
расположение, то избранный консул был бы лишен защитника в том самом
государстве, где, по воле наших предков, самый незначительный человек
должен иметь защитника в суде. Да я, судьи, право, сам признал бы
себя нарушившим божеский закон, если бы отказал в помощи другу,
жестоким — если бы отказал несчастному человеку, высокомерным — если бы
отказал консулу.'Итак, долг перед дружбой будет выполнен мной в полной
мере; против тебя, Сервий, я буду выступать так же, как я выступал бы,
если бы на твоем месте был мой горячо любимый брат 13; а о том, о чем я
должен буду говорить в силу своей обязанности и верности слову, следуя
совести, я буду говорить сдержанно, памятуя, что выступаю против одного
друга, защищая другого, находящегося в опасном положении.
(V, 11) Я знаю, судьи, что все обвинение состояло из трех частей; одна
из них содержала порицание образа жизни Луция Мурены; другая
относилась к спору из-за высокой чести; третья заключала обвинение в незаконном
домогательстве. Первая из уних, которая должна была быть самой главной,
оказалась настолько слабой и незначительной, что наши противники,
говоря о прошлой жизни Луция Мурены, по-видимому, скорее следовали каким-
/J. Б защиту Луция Лициния Мурены
335
то правилам, общепринятым у обвинителей, чем приводили действительные
основания для хулы. Так, ему ставили в вину его пребывание в Азии; но
ведь он отправился туда не ради наслаждений и излишеств, а прошел ее,
участвуя в походах. Если бы он, юношей, не стал служить под начальством
своего отца-императора, можно было бы подумать, что он испугался врага или
же империя своего отца, или что он был отцом уволен от службы. Или,
быть может, в то время как существует обычай, чтобы именно сыновья,
носящие претексту, ехали верхами на конях триумфаторов и, ему следовало
уклониться от возможности украсить своими воинскими отличиями триумф
отца, как бы справляя триумф вместе со своим отцом после совместно
совершенных подвигов? (12) Да, судьи, он действительно был в Азии и отцу
своему, храбрейшему мужу, был помощником в опасностях, опорой в трудах,
радостью при победах. И если само пребывание в Азии вызывает
подозрение в распущенности, то человека следует хвалить не за то, что он Азии
никогда не видел, а за то, что жил в Азии воздержно. Поэтому Мурену можно
было бы попрекать не словом «Азия», коль скоро именно она доставила
почет его ветви рода, известность всему его роду, честь и славу его имени,
а какими-нибудь отвратительными, позорными пороками, которым он
научился в Азии или из Азии вывез. Напротив, нести службу во время войны,
не только весьма трудной, но и исключительно опасной, которую тогда вел
римский народ, было делом доблести; прослужить с величайшей охотой
под началом отца — проявлением сыновнего долга; закончить военную
службу одновременно с победой и триумфом отца — велением счастливой
судьбы. Поэтому злоречью здесь места нет; все говорит о славе.
(IV, 13) Плясуном 15 называет Луция Мурену Катон. Даже если этот
упрек справедлив, то это — бранное слово в устах яростного обвинителя;
но если он не заслужен, то это — брань хулителя. Поэтому ты, Марк,
пользуясь таким авторитетом, не должен подхватывать оскорбительные
выкрики на перекрестках или брань фигляров и необдуманно называть консула
римского народа плясуном; следует подумать, какими иными пороками
должен страдать тот, кому можно по справедливости бросить такой упрек. Ибо
никто, пожалуй, не станет плясать ни в трезвом виде, разве только если
человек не в своем уме, ни наедине, ни на скромном и почетном пиру. Нет,
напротив, на рано начинающихся пирушках 16 наслаждения и
многочисленные развлечения под конец сопровождаются пляской. Ты же ставишь
ему в вину тот порок, который всегда является самым последним, и
упускаешь из вида те, без которых он вообще не возможен. Ты не указываешь
нам ни на непристойные пирушки, ни на любовные связи, ни на попойки,
ни на сладострастие, ни на расточительность и, не найдя того, что
подразумевают под словом «наслаждение» (хотя было бы вернее все это называть
пороком), ты, не обнаружив подлинного разврата, рассчитываешь
обнаружить тень развращенности? (14) Итак, о жизни Луция Мурены нельзя ска-
336
Речи Цицерона
зать ничего предосудительного, повторяю, решительно ничего, судьи! Я
защищаю избранного консула, исходя из того, что на протяжении всей его
жизни нельзя заметить ни обмана с его стороны, ни алчности, ни
вероломства, ни жестокости, ни одного грубого слова. Вот и отлично; основания для
защиты заложены. Я, еще не прибегая к похвалам (что я сделаю
впоследствии), но, можно сказать, основываясь на словах самих недругов Луция
Мурены, утверждаю в его защиту, что он честный муж и неподкупный
человек. Раз это установлено, мне легче перейти к вопросу о соискании почетной
должности, то есть ко второй части обвинения.
(VII, 15) Ты, Сервий Сульпиций,— я это знаю — весьма родовит,
неподкупен, усерден и обладаешь всеми другими достоинствами, дающими
право приступить к соисканию консульства. Равные качества я усматриваю
также и у Луция Мурены и притом настолько равные, что ни ты не мог
бы победить его, ни он не превзошел бы тебя своими достоинствами. К роду
Луция Мурены ты отнесся с пренебрежением 17, а свой род превознес. Что
касается этого вопроса, то, если ты решаешься утверждать, что никто, кроме
патрициев, не может принадлежать к уважаемому роду, ты, пожалуй,
добьешься того, что плебс снова удалится на Авентин 1S. Но если существуют
известные и уважаемые плебейские ветви родов, то я скажу, что прадед и
дед Луция Мурены были преторами, а его отец, с величайшей славой и
почетом справив триумф после своей претуры, тем самым подготовил ему
исходную позицию 19 для достижения консульства: ведь консульства, уже
заслуженного отцом, добивался его сын. (16) Но твоя знатность, Сервий
Сульпиций, хотя она и необычайно высока, все же более известна
образованным людям и знатокам старины, а народ и сторонники во время
выборов знают о ней гораздо меньше. Ведь отец твой был римским всадником,
дед особыми заслугами не прославился. Поэтому доказательства твоей
знатности приходится разыскивать не в толках современников, а в пыли
летописей. Вот почему лично я всегда причисляю тебя к нашим людям20, так как
тебя, сына римского всадника, благодаря твоей доблести и усердию все же
считают достойным высшей должности в государстве. Мне никогда не
казалось, что Квинт Помпеи 21, новый человек и храбрейший муж, обладал
меньшей доблестью, чем знатнейший Марк Эмилий 22. И в самом деле, столь
же великое мужество и ум требуются и для того, чтобы передать своим по'
томкам славу своего имени, ни от кого не полученную, как сделал Помпеи,
и для того, чтобы обновить своей доблестью почти изгладившуюся память о
своем роде, как поступил Скавр.
(VIII, 17) Впрочем, я сам думал, судьи, что трудами своими я
добился того, что многих храбрых мужей уже перестали попрекать их
незнатностью. Ведь сколько бы ни упоминали, уже не говорю — о Куриях23, Като-
нах24 и Помпеях, храбрейших мужах древности, которые были новыми
людьми, но даже о живших недавно — о Мариях 25, Дидиях, Целиях 26, они
13. В защиту Луция Лициния Мурены
337
все-таки оставались в пренебрежении. Но когда я, после такого большого
промежутка времени, сломал воздвигнутые знатью преграды — с тем, чтобы
впредь доступ к консульству был, как во времена наших предков, открыт
для доблести столь же широко, как и для знатности,— я не думал, что если
консул, сын римского всадника, будет защищать избранного консула,
вышедшего из древней и знаменитой ветви рода, то обвинители станут
говорить о незнатности его происхождения. И в самом деле, ведь мне самому
пришлось участвовать в соискании вместе с двоими патрициями, из которых
один был подлейшим и наглейшим человеком, а другой — скромнейшим и
честнейшим мужем; все же благодаря своему достоинству, я взял верх над
Катилиной, благодаря известности—«ад Гальбой. И если бы именно это
следовало ставить в вину новому человеку, у меня, конечно, не оказалось бы
недостатка ни в недругах, ни в ненавистниках. (18) Перестанем же говорить
о происхождении; в этом отношении они оба очень достойные люди;
рассмотрим другие обстоятельства.
«Квестуры он добивался вместе со мной, но я был избран раньше, чем
он».— Не на все стоит отвечать. Ведь всякий из' вас понимает, что, когда
избираются многие люди, равные между собой по 'своему достоинству, причем
занять первое место может только один из «их, то при установлении
порядка, в каком объявляется об их избрании, не руководствуются оценкой их
достоинства, так как объявление происходит по очереди, достоинство же очень
часто у всех одинаково. Но квестура каждого из вас была, в силу жребия,
можно сказать, одинаковой значимости. Мурене, на основании Тициева
закона, выпала тихая и спокойная деятельность, тебе же — такая, которую
при метании жребия квесторами даже встречают возгласами,— квестура в
Остии, приносящая мало влияния и известности, но много трудов и тягот 27.
Во время этой квестуры ни об одном из вас не было слышно ничего; ибо
жребий не предоставил вам такого поля деятельности, чтобы ваша доблесть
могла проявиться и обратить на себя внимание.
(19) Последовавшее за этим время делает сравнение между вами
возможным. Вы провели его далеко не одинаково. (IX) Сервий вместе с нами
нес свою службу здесь в Риме, давая разъяснения, составляя формулы,
охраняя интересы людей; все это чревато тревогами и огорчениями; он
изучил гражданское право, не спал много ночей, трудился, был к услугам
многих, терпел их глупость, выносил их высокомерие, страдал от их
тяжелого нрава, жил, сообразуясь с мнением других, а не со своим собственным.
Велика эта заслуга и достойна благодарности людей — когда один человек
трудится в области такой науки, которая может принести пользу многим.
(20) А что по тем временам делал Мурена? Был легатом храбрейшего и
мудрейшего мужа, выдающегося императора Луция Лукулла. Во время
этого легатства он начальствовал над войском, дал ряд сражений, вступал в
рукопашный бой, разбил полчища врагов, взял города: одни приступом,
11 'Цицерон, т. I
338
Речи Цицерона
другие после осады. Твою пресловутую Азию, богатейшую и
располагающую к изнеженности, он прошел, не оставив в «ей ни следов своей алчности,
ни следов своей развращенности; в течение тяжкой войны Мурена сам
совершил много великих подвигов без участия своего императора, но
император без него ни одного подвига не совершил. Хотя я говорю это в
присутствии Луция Лукулла, все же, дабы не казалось, что он сам ввиду опасного
положения, в каком мы находимся, позволил нам прибегнуть к вымыслу,
я скажу, что все это удостоверено записями, где Луций Лукулл уделяет
Мурене столько похвал, сколько император, далекий как от честолюбия, так
и от зависти, должен был воздать другому, делясь с ним славой.
(21) Итак, они оба, Сервий Сульпиций и Мурена, пользуются
исключительным почетом, оба занимают выдающееся положение; последнее я, с
разрешения Сервия, готов признать равным и воздать им обоим одинаковую
хвалу. Но он этого не разрешает; он поносит военную службу, хулит все это
легатство и полагает, что наша постоянная деятельность и эти наши
повседневные труды в Риме должны быть увенчаны именно консульством. «Ты,—
говорит он,— станешь проводить время при войсках; на протяжении
стольких лет не ступишь ногой на форум; будешь отсутствовать так долго, а
когда ты после большого промежутка времени возвратишься, то с этими вот
людьми, которые, можно сказать, на форуме жили, еще станешь спорить о
занятии высокой должности?» Во-первых, что касается этого нашего
постоянного присутствия, Сервий, то ты не знаешь, как оно порой надоедает
людям, как оно им докучает. Правда, мне лично оно пошло на пользу: люди
обычно благоволят к тем, кто у них 'постоянно на глазах; пресыщение моим
присутствием мне все же удалось преодолеть своим большим усердием и
тебе, быть может, тоже. Но все-таки, если бы люди заметили отсутствие
каждого из нас, то это отнюдь не повредило бы нам.
(22) Но, оставив все это, вернемся к сравнению двух занятий и двух
наук. Можно ли сомневаться в том, что слава воинских подвигов в гораздо
большей степени, чем слава законоведа, способствует избранию в консулы?
Ты не спишь ночей, чтобы давать разъяснения по вопросам права; он —
чтобы во-время прибыть с войском в назначенное место; тебя будит пение
петухов28, его — звуки труб; ты составляешь жалобу, он расставляет
войска; ты предупреждаешь проигрыш дел твоими доверителями, он—потерю
городов и лагеря; он умеет отвратить нападение войска врагов, ты —
отвести дождевую воду29; он привык расширять рубежи, ты—их проводить30.
Скажу, что думаю: воинская доблесть, бесспорно, превосходит все
остальные. (X) Это она возвысила имя римского народа; это она овеяла наш
город вечной славой; это она весь мир подчинила нашей державе. Все
городские дела, все -наши прославленные занятия и эта наша хваленая
деятельность на форуме находятся под опекой и защитой воинской доблести.
При малейшей угрозе чрезвычайного положения 31 наши науки умолкают.
13. В защиту Луиця Луциния Мурены
339
(23) И так как ты, мне кажется, лелеешь свою науку о праве, словно
это твоя дочурка, то я не позволю тебе и далее быть в таком заблуждении
и считать те пустяки, которые ты изучил ценой таких усилий, чем-то столь
высоким и славным. Я лично всегда считал тебя, ввиду твоих других
высоких качеств — воздержности, строгости правил, справедливости, честности и
всего прочего,— вполне достойным консульства и всяческого почета. Что же
касается изучения гражданского права, то я не стану говорить, что ты
затратил свой труд шопусту, но скажу, что эта наука вовсе не является
надежным путем к консульству. Ибо все виды деятельности, которые могут
привлечь к нам благосклонность римского народа, должны обладать высоким
достоинством и приносить людям желанную пользу.
(XI, 24) Более всех других пользуются уважением люди с
выдающимися воинскими заслугами; по общему мнению, они защищают и укрепляют
все то, от чего зависят наше владычество и существование государства;
они также и приносят величайшую пользу, так как только ввиду их
мудрости и ценой опасностей, угрожающих им, мы,можем пользоваться благами
государственной жизни и своим собственным имуществом. Важна также и
высоко ценится способность, часто имевшая значение при избрании
консула,— умение своей разумной речью увлечь за собой и сенат, и народ, и
людей, творящих суд. Людям нужен консул, который своей речью мог бы
иногда обуздать бешенство трибунов, возбуждение в народе успокоить, подкупу
дать отпор. Не удивительно, что, благодаря этой способности, консульства
часто достигали даже люди незнатные—тем более, что именно она
приносит им благоволение толпы, создает самые прочные дружеские отношения и
обеспечивает всеобщее расположение. Между тем в вашем хитроумном
ремесле, Сульпиций, ни одного из этих преимуществ нет.
(25) Во-первых, в такой сухой науке никакого достоинства, внушающего
уважение, быть не может; ибо она в мелочах, можно сказать, цепляющихся
за отдельные буквы и разделения слов. Во-вторых, даже если занятия эти
во времена наших предков и вызывали восхищение, то ныне, после
разглашения ваших мистерий, они с презрением отвергнуты. Является ли тот или
иной день судебным, некогда знали только немногие люди; ведь фасты еще
не были всеобщим достоянием. Те люди, у которых получали подобные
разъяснения, были очень могущественны; ибо у них, словно это были
халдеи, старались разузнать также и о том или ином деле. Нашелся какой-то
писец, Гней Флавий32; он выколол воронам глаза33, сделал фасты
достоянием народа, чтобы народ мог ознакомиться с особенностями каждого дня,
и похитил премудрость законоведов из их собственных книжных ларей.
И вот они, охваченные гневом, опасаясь, что, с разглашением сведений об
особенностях разных дней, можно будет вести судебные дела также и без
их участия, составили ряд формул, чтобы иметь возможность самим
вмешиваться во все.
22*
340
Речи Цицерона
(XII, 26) Можно, например, прекраснейшим образом вести дело так:
«Это сабинское имение принадлежит мне».— «Нет, мне». Затем
происходит суд. Но они «е захотели сделать так. «Имение,— говорят они,—
находящееся в области, которая называется Сабинской,...» Уже это достаточно
многословно. Но что же дальше? «Имение это я, на основании квиритскою
права 34, объявляю принадлежащим мне». Что же еще далее? «Предлагаю
тебе выйти отсюда и из суда для схватки» 35. Ответчик не знал, что и
отвечать такому болтливому сутяге. Этот же законовед переходит на другую
сторону, уподобляясь флейтисту-латинянину 36. «Откуда ты меня,— говорит
он,— вызвал для схватки, оттуда я, в свою очередь, зову тебя». Но, дабы
претор между тем не воображал, что он может пребывать в полном
спокойствии, и мог сказать что-нибудь и от себя, также и для него была составлена
формула, бессмысленная как во всем, так особенно вот в чем: «В
присутствии свидетелей обеих сторон я вам указываю дорогу; ступайте!» Тут как тут
был и тот самый сведущий в праве человек, готовый указать предстоящий
им путь. «Вернитесь]» Они и возвращались под его водительством. Уже
тогда, во времена знаменитых бородачей 37, пожалуй, казалось смешным, что
людям, после того как они уже стояли именно там, где следовало, велят
уйти, чтобы тотчас возвратиться туда же, откуда они ушли. Все это
затемнено такими же нелепостями: «Так как я вижу тебя перед судом, ...», а
также: «Готов ли ты сказать, на каком основании ты заявил притязания?»
Пока все это держалось в тайне, в силу необходимости обращались к тем, кто
ведал этим. Но после того, как все это стало всеобщим достоянием и
оказалось у всех в руках и на устах, оно было признано лишенным малейшего
здравого смысла, но преисполненным обмана и нелепостей. (27) Хотя
законы и установили много прекрасных правил, большинство из них было
извращено и искажено выдумками законоведов. Предки наши признали
нужным отдавать всех женщин, ввиду их неразумия, под власть опекунов;
законоведы изобрели таких опекунов, которые подпадали под власть женщин.
Предки наши повелели сохранять священнодействия неприкосновенными.
Законоведы, в своей находчивости, с целью уничтожения священнодействий
нашли стариков для коемпции 38. Словом, во всем гражданском праве они
отказались от справедливости и стали хвататься за точное значение слов;
так, коль скоро они — приведем пример — нашли имя Гаи в чьих-то книгах,
они сочли, что всех женщин, вступающих в брак путем коемпции, зовут
Гаями 39. Я, право, склонен удивляться, как такое множество умных людей
по прошествии скольких лет и поныне не может решить, как следует
говорить: «на третий день» или «послезавтра», «судья» или «арбитр», «дело»
или «тяжба»?
(XIII, 28) Поэтому, как я уже говорил, достоинства, подобающего
консулу, никогда не могла придать эта ваша наука, всецело основанная на
вымыслах и крючкотворстве; возможности снискать расположение народа она
13, В защиту Лу\±ия Лициния Мурены
341
и подавно не давала. Ибо то, что открыто для всех и в равной степени
доступно и мне и моему противнику, никогда не может привлечь людскую
благодарность. Поэтому вы уже утратили не только надежду обязать кого-либо
своей услугой, но также и некогда существовавшую возможность применять
формулу: «Нельзя ли посоветоваться}» Ученым не может быть признан тот.
кто занимается такой наукой, которая не имеет силы ни где бы то ни было
вне Рима, ни в самом Риме после отсрочки разбора дел. Искушенным в ней
никто не может считаться потому, что в вопросах, известных всем,
расходиться никоим образом не возможно. Трудным же предмет этот нельзя
считать потому, что он изложен в нескольких вполне ясных списках. Поэтому,
если вы меня выведете из себя, то, как я ни занят, я через три дня объявлю
себя законоведом. И в самом деле, тяжбы, которые ведутся по формулам, все
записаны, причем \не найти такой точной записи, к которой бы я не мог
прибавить: «То, о чем ведется дело,...» Что касается устных заключений,
то они даются без малейшего риска. Если ты ответишь то, что надо, будет
казаться, что ты ответил то же, что ответил,бы и Сервий; если — не так,
все же покажется, будто ты сведущ в драве и в ведении тяжб.
(29) По этой причине не только военную славу, о которой я говорил,
следует поставить выше ваших формул и ваших судебных дел; «нет, также и
привычка произносить речи имеет, при соискании почетных должностей,
гораздо большее значение, чем ваша сноровка. Поэтому многие люди, мне
думается, сначала стремились к ораторскому искусству, но впоследствии,
когда им не удалось им овладеть, скатились именно к твоему занятию. У
греков, говорят, в качестве авледа выступает тот, кто не мог сделаться кифаре-
дом40; так и мы видим, что люди, которым не удалось стать ораторами,
обращаются к изучению законоведения. Великих трудов требует красноречие,
велика его задача, великое достоинство оно придает, огромно его влияние,
и действительно, у вас ищут, так сказать, некоторых спасительных советов,
а у ораторов—самого спасения. Затем, ваши заключения и решения часто
опровергаются силой красноречия и без защиты оратора прочными быть
не могут. Если бы я достаточно 'преуспел в этом искусстве, я восхвалял бы
его более сдержанно; но теперь я говорю не о себе, а о великих ораторах
наших дней или прошлого.
(XIV, 30) Человеку могут доставить наиболее высокое положение
заслуги двух родов: великого императора и великого оратора. Последний
оберегает блага мирной жизни, первый отвращает опасности войны. Но и
другие доблести сами по себе имеют большое значение; таковы справедливость,
верность слову, добросовестность, воздержность. Качествами этими ты,
Сервий, «как все знают, обладаешь в полной мере; но я теперь рассуждаю о
занятиях, приносящих почет, а не о личных достоинствах, присущих каждому.
Первый же звук трубы, призывающей к оружию, отрывает нас от этих
занятий. И в самом деле, как сказал выдающийся поэт и свидетель
342
Речи Цицерона
надежный 41, с объявлением войны «изгнана прочь» не только ваша
поддельная многословная ученость, но даже и сама владычица мира— «мудрость»;
«решается дело насильем»; «оратор презрен», не только докучливый и
болтливый, но даже «честный»; «в почете воитель свирепый», а ваше занятие
теряет всякое значение:
Не идут из суда, чтобы длань наложить, но булатом
Вещь отнимают свою, —
говорит поэт. Коль скоро это так, Сульпиций, то форум мне думается, дол-
жен склониться перед лагерем, мирные занятия — перед военным делом,
стиль 42 — перед мечом, тень — перед солнцем. Словом, да будет в
государстве на первом месте та наука, благодаря которой само государство
первенствует над всеми другими.
(31) Но Катон хочет доказать, что мы в своих высказываниях
преувеличиваем значение этих событий и забыли, что в течение всей той памятной
нам войны против Митридата сражались с бабенками. Я совершенно не
согласен с ним, судьи, но рассмотрю этот вопрос вкратце, коль скоро дело
не в этом. Если все те войны, которые мы вели против греков, заслуживают
пренебрежения, то ведь можно осмеять также и триумфы, которые были
справлены, когда Маний Курий одержал победу над царем Пирром, Тит
Фламинин — над Филлиппом, Марк Фульвий — над этолянами, Луций
Павел — над царем Персеем, Квинт Метелл — над Лже-Филлиппом, Луций
Муммий — над коринфянами 43. Но если войны эти были очень тяжки для
нас, а победы, одержанные во время их, весьма радостны, то почему же
народы Азии и, в частности, памятный нам враг44 вызывают у тебя
презрение? Ведь из летописей о событиях прошлого я вижу, что одной из
важнейших войн, какие вел римский народ, была война с Антиохом. Луций
Сципион, победитель в этой войне 45, приобрел славу, равную славе своего брата
Публия, и если слава последнего, завоевавшего Африку, запечатлена в
самом его прозвании, то первый стяжал такую же славу, отмеченную
названием «Азия». (32) Именно во время этой войны особенно прославился
своей доблестью Марк Катон, твой прадед46; коль скоро он был таким, каким
я его себе представляю и каким вижу тебя, то он никогда не отправился бы
туда вместе с Глабрионом, если бы думал, что ему придется сражаться с
бабенками. Да и сенат, право, не стал бы предлагать Публию Африканскому
выехать вместе с братом в качестве легата,— после того как он недавно,
выгнав Ганнибала из Италии, вытеснив его из Африки, сокрушив мощь
Карфагена, избавил государство от величайшей опасности,— если бы эту войну
не считали трудной и опасной.
(XV) Но если ты хорошенько подумаешь, каково было могущество
Митридата, что он совершил и каким он был человеком, то ты, бесспорно, по-
13. В защиту Луиия Лициния Мурены
343
ставишь этого царя выше всех других царей, с которыми римский народ вел
войны. Ведь именно с ним Луций Сулла, сражаясь во главе
многочисленного и храбрейшего войска, будучи сам отважным и испытанным императором
и далеко не новичком (не говорю уже обо всем прочем), заключил мир
после того, как Митридат распространил военные действия она всю Азию 47.
Ведь именно с ним Луций Мурена, отец обвиняемого, сражался с
величайшей неутомимостью и бдительностью и вытеснил его почти отовсюду, но не
уничтожил. Этот царь, затратив несколько лет на составление плана войны
и на подготовку средств для ее ведения, зашел в своих надеждах и
попытках так далеко, что рассчитывал соединить Океан с Понтом, а войска Сер-
тория со своими48. (33) Когда для ведения этой войны послали обоих
консулов 49 с тем, чтобы один из них преследовал Митридата, а другой
защищал Вифинию, то неудачи, постигшие одного из них на суше и на море,
сильно способствовали усилению царя и росту его славы. Но успехи Луция
Лукулла были так велики, что едва ли можно припомнить более
значительную войну, которая бы велась с большим искусством и мужеством. Когда
во время военных действий весь удар пришелся на крепостные стены Кизи-
ка, причем Митридат предполагал, что город этот будет для него дверью в
Азию и что он, взломав и сорвав ее, откроет себе -путь во всю провинцию,
то Лукулл повел все действия так, что город наших преданнейших
союзников был защищен, а все силы царя, вследствие длительной осады,
истощились. А тот морской бой под Тенедосом, когда вражеский флот, под
начальством рьяных начальников, открыленный надеждами и уверенностью
в победе, стремился прямо в сторону Италии50? Разве это была легкая
битва и незначительная схватка? Не буду говорить о сражениях, обойду
молчанием осаду городов. Митридат, наконец, изгнанный нами из его царства,
все же был настолько силен своей изворотливостью и влиянием, что он,
заключив союз с царем Армении, получил новые средства и свежие войска.
(XVI) Если бы мне теперь предстояло говорить о подвигах наших войск
и нашего императора, я мог бы назвать множество величайших сражений; но
речь не об этом. (34) Я утверждаю одно: если бы война эта, если бы этот
враг, если бы сам этот царь заслуживали пренебрежения, то ни сенат, ни
римский народ не сочли бы нужным уделять им столько внимания, не вел
бы этой войны в течение стольких лет и с такой славой Луций Лукулл, а
римский народ с таким воодушевлением не поручил бы, конечно, Гнею
Помпею завершить эту войну. Из многих сражений, данных Помпеем,— а им нет
числа — пожалуй, самым страшным кажется мне то сражение, которое он
дал самому царю: оно отличалось необычайным ожесточением51. Когда
царь -вырвался из этого сражения и бежал в Боспор, куда наше войско
дойти не могло, он, даже потерпев величайшие неудачи, и в бегстве своем все
же сохранил за собой царский сан. Поэтому Помпеи, уже овладев самим
царством и вытеснив врага со всего побережья и из всех значительных
344
Речи Цицерона
поселений, придавал, однако, жизни одного этого человека величайшее
значение; даже одерживая победу за победой, захватывая все, что Митридат
уже держал в руках, что он покорил, на что рассчитывал, Помпеи тем не
менее полагал, что война будет завершена только после того, как Митридат
будет вынужден расстаться с жизнью. И такого врага, ты, Катон,
презираешь, врага, с которым в течение стольких лет, в стольких сражениях,
столько императоров вело войны, врага, которому, пока он был жив, хотя
и был выгнан и вытеснен отовсюду, придавали такое важное значение, что
сочли войну законченной только после известия о его смерти? И вот, в этой
войне, утверждаю я, Луций Мурена проявил себя как легат в высшей
степени храбрый, необычайно предусмотрительный, исключительно
выносливый, и эти его труды дали ему не в меньшей степени право стать консулом,
чем нам — наша деятельность на форуме.
(XVII, 35) Но, скажут нам, при избрании их обоих преторами первым
был объявлен Сервкй 52. Вы так упорно обращаетесь к народу, словно
действуете на основании долговой расписки,— точно народ при замещении
следующий должности обязан предоставлять ее в той же очередности, в какой
он уже однажды предоставил ее тому или другому лицу. Но в каком
проливе, в каком Еврипе 53 увидите вы такое движение воды, такое сильное и
столь непостоянное волнение и перемену течений, чтобы их можно было
сравнить с потрясениями и бурями в комициях? Пропущенный день или
протекшая ночь часто расстраивает все, и самый ничтожный слух нарушает
иногда все расчеты. Часто, даже без всякой видимой причины, исход
выборов <не соответствует нашим ожиданиям, так что иногда народ даже
удивляется тому, что совершилось, как будто не сам он это совершил. (36) Нет
ничего менее надежного, чем толпа, ничего более темного, чем воля людей,
ничего боле обманчивого, чем весь порядок выборов. Кто думал, чтобы Лу-
ция Филиппа, при его выдающемся уме, заслугах, влиянии, знатности, мог
победить Марк Геренний; чтобы над Квинтом Катулом, человеком
редкостного образования, мудрости и бескорыстия, мог взять верх Г.ней Маллий;
чтобы Марка Скавра, человека строжайших правил, выдающегося
гражданина, достойнейшего сенатора, мог победить Квинт Максим 54. Такого исхода
не предполагали; более того, даже когда это случилось, никто не мог понять,
почему так случилось. Ибо, если бури часто вызываются каким-либо
определенным созвездием, а часто разражаются неожиданно и необъяснимо, и
причины их остаютсл скрытыми, то и при этой народной буре в комициях часто
можно понять, под какой звездой она возникла; часто же (Причина ее
настолько темна, что она кажется возникшей случайно.
(XVIII, 37) Все же — если нуж-но привести объяснение — при
соискании претуры не было налицо двух обстоятельств, которые оба
впоследствии очень помогли Мурене при соискании консульства: одним было
ожидание игр, усиливавшееся в связи -с какими-то слухами, которые старательно
13. В защиту Луция Лиицния Мурены
345
раздували его соперники; другим — что те лица, которые в провинции и во
время его легатства все были свидетелями его благородства и мужества,
в то время еще не возвратились в Рим 55. Оба эти обстоятельства счастливая
судьба приберегла ему ко времени соискания консульства. Ибо войско
Луция Лукулла, которое собралось для триумфа, было к услугам Луция
Мурены во время комиций, и те великолепные игры, которые не состоялись во
время соискания им претуры, были устроены им уже во время самой пре-
туры 56. (38) Неужели тебе кажется слабой помощью и поддержкой при
выборах в консулы приязнь солдат, имеющая значение и сама по себе как
вследствие их многочисленности, так и ввиду их влияния на близких,— тем
более, что при провозглашении консула голоса солдат оказывают огромное
влияние на весь римский народ. Ведь во время консульских комиций
избирают императоров, а не истолкователей слов. Поэтому большой вес имеют
такие заявления: «Я был ранен, а он спас мне жизнь»; «Со мной он
поделился добычей»; «Под его начальством мы взяли лагерь, вступили в бой»;
«Он никогда не заставлял солдат переносить больше трудностей, чем терпел
сам»; «Он столь же храбр, сколь и удачлив». Как все это, по-твоему,
действует на людскую молву и волю? И в самом деле, если в этих комициях
укоренилась такая сильная богобоязненность, что и поныне голосование
первоочередной центурии 57 всегда признается знамением, то следует ли
удивляться, что при избрании Луция Мурены оказали влияние молва и толки
о его счастливой судьбе?
(XIX) Но если то, что является очень важным, ты считаешь
незначительным и если голоса городских жителей ты ставишь выше голосов
солдат, не вздумай смотреть свысока на красоту игр, устроенных Муреной и
на великолепие сцены: все это принесло ему большую пользу. Стоит ли мне
говорить, что народ и неискушенная толпа наслаждаются играми? Этому
совершенно нечего удивляться; впрочем, нашему делу это идет на пользу;
ведь комиций принадлежат народу и толпе. Поэтому, если великолепие игр
услаждает народ, то нечего удивляться, что именно оно и расположило
народ в пользу Луция Мурены. (39) Но если мы сами, которым дела
мешают предаваться общедоступным развлечениям (причем мы от самих
занятий своих получаем много удовольствий другого рода), все же радуемся
играм и увлекаемся ими, то можно ли удивляться поведению невежественной
толпы 58. (40) Луций Отон, храбрый муж и мой близкий друг, возвратил
всадническому сословию не только его высокое положение, но и возможность
получать удовольствие. Закон, касающийся игр 59, народу потому более яо-
сердцу, чем все остальные, что он возвратил этому весьма уважаемому
сословию, наряду с блеском, также и возможность приятно проводить время.
Поверь мне, игры радуют даже тех людей, которые это скрывают, а не
только тех, которые в этом сознаются. Я понял это во время своего
соискания; ибо и моей соперницей была сцена. И вот, если я, в бытность свою
346
Речи Цицерона
эдилом, устраивал игры трижды и все-таки испытывал беспокойство из-за
игр, устроенных Антонием 60, то не думаешь ли ты, который в силу
обстоятельств ни разу не устраивал игр, что именно эта убранная серебром сцена
Мурены, предмет твоих насмешек, и оказалась твоей противницей?
(41) Но допустим, что все .ваши заслуги во всех отношениях равны, что
труды на форуме равны трудам военной службы, что голоса военных не
уступают голосам горожан, что дать великолепные игры и не дать никаких —
одно и то же. Ну, а во время самой претуры между твоим и его жребием
никакой разницы не было? Как ты полагаешь? (XX) Ему выпал тот
жребий, какого все мы, твои близкие друзья, желали тебе,— творить суд по
гражданским делам61. В этом деле славу приносит значительность занятий,
расположение, глубокая справедливость; при исполнении этих обязанностей
мудрый претор, каким был Мурена, избегает недовольства народа правотой
своих решений, снискивает благожелательность своей готовностью
выслушивать людей. Это полномочия из ряду вон выходящие; они вполне могут
подготовить избрание в консулы — хвала за справедливость, бескорыстие и
доступность под конец увенчиваются удовольствием, доставляемым играми.
(42) А твой жребий? Печальный и жестокий — суд за казнокрадство: с
одной стороны, одни только слезы и траур; с другой стороны, одни только
цепи и доносы./'Судьи, которых приходится собирать против их воли и
удерживать против их желания; осужден писец — враждебно все сословие 62;
порицают сулланские раздачи 63 — недовольны многие храГфые мужи и чуть
ли не половина граждан; строго определены суммы, подлежащие
возмещению 64 — кто остался доволен, забывает, кто обижен, помнит. В довершение
всего ты отказался выехать в провинцию. Порицать тебя за это не могут,
так как сам я — во время своей претуры и своего консульства — поступил так
и счел это правильным. Однако Луцию Мурене управление провинцией
много раз приносило благодарность и доставило всеобщее уважение. При своем
отъезде в провинцию он произвел набор солдат в Умбрии; государство дало
ему возможность быть щедрым, чем он привлек на свою сторону множество
триб, в состав которых входят муниципии Умбрии. Сам он своей
справедливостью и заботливостью достиг того, что наши сограждане могли взыскать
в Галлии уже безнадежные долги 65. Ты же, оставаясь в Риме, тем временем,
разумеется, был к услугам своих друзей — это я признаю; но все же не
забывай, что преданность некоторых друзей по отношению к людям, явно
пренебрегающим провинциями, обычно уменьшается.
(XXI, 43) Как я уже указал, судьи, у Мурены и у Сульпиция было
одинаково высокое положение, дававшее им право добиваться консульства,
но неодинаковые заслуги в связи с выполнением ими своих полномочий;
теперь же я скажу более открыто, в чем мой близкий друг Сервий отставал,
и ныне, когда время уже упущено, скажу в ваи,ем присутствии то, что часто
говорил ему с глазу на глаз, пока еще не было поздно. Не умел ты доби-
13. В защиту Луция Лиииния Мурены
347
ваться консульства, Сервий! Я твердил это тебе не раз. И даже при тех
обстоятельствах, когда ты, как я видел, действовал и высказывался стойко
и решительно, я обычно говорил тебе, что ты кажешься мне скорее
решительным обвинителем, чем разумным кандидатом. Прежде всего те
страшные угрозы возбудить обвинение 66, к которым ты прибегал изо дря в день,
конечно, свойственны храброму мужу, но внушают народу мненье, что сам
соискатель не надеется на успех, и ослабляют старания друзей. Почему-то
всегда,— и это было замечено не в одном-двух, а уже во многих случаях —
как только поймут, что кандидат готовит обвинение, уже начинают думать,
что он потерял надежду на избрание. (44) «Что же в таком случае? Мне
не подобает преследовать за нанесенную мне обиду?»—Да нет же, вполне
подобает; но на все есть время — и для соискания, и для судебного
преследования. Сам я хочу, чтобы соискатель, особенно соискатель консульства,
спускался на форум и на поле 67 полный надежд, с твердой уверенностью
в успехе и в сопровождении большой толпы. Не нравится мне, когда
кандидат производит расследование; это предвещает неудачу при выборах; не
нравится мне подготовка свидетелей вместо подготовки голосующих, угрозы
вместо любезностей, громогласные выкрики вместо взаимных приветствий,
особенно когда ныне, по новому обычаю, люди толпой обходят дома чуть ли
ле всех кандидатов и, по выражению их лиц, судят об уверенности и
возможностях каждого из них. (45) «Видишь, как он опечален и удручен? Он
пал духом, не уверен в себе, сложил оружие». Ползет слух: «Ты знаешь —
он подготовляет обвинение, собирает сведения насчет соискателей, ищет
свидетелей; проголосую я лучше за другого, так как он сам потерял надежду
на успех». Даже самые близкие друзья таких кандидатов теряют мужество,
перестают прилагать старания; либо совсем отказываются поддерживать
кандидата, либо приберегают свое содействие и влияние для суда и
обвинения. (XXII) К тому же и сам кандидат не может направить на соискание
все свои заботы, усилия и внимание. Ведь прибавляются помыслы об
обвинении — дело не малое и, бесспорно, самое важное из всех. Ведь это большой
труд — подготовить такие средства, чтобы при помощи их удалось
вычеркнуть из числа граждан человека, тем более далеко не бедного и не
лишенного поддержки — такого, который сумеет себя защитить сам и при
посредстве своих близких и даже при посредстве чужих ему людей. Ибо все мы
спешим на помощь, чтобы отвратить грозящую опасность (если только мы
не открытые недруги), и даже, совершенно чужим людям, чьи гражданские
права находятся под угрозой, оказываем такие услуги и проявляем такую
преданность, какую проявляют лишь лучшие друзья. (46) И вот, я сам,
изведав тяготы, связанные с соисканием, с защитой с обвинением, понял,
что соискание требует необычайной настойчивости, защита — глубокого
сознания долга, обвинение — величайшего труда. Из этого я заключаю, что один
и тот же человек никак не может со всем вниманием подготовить и обставить
348
Речи Цицерона
обвинение и соискание. Даже одна из этих задач по силам лишь немногим,,
но обе — никому. Свернув с шути соискания и перейдя к обвинению, ты
решил, что сможешь выполнить обе задачи; ты глубоко ошибся. И в самом
деле, после того как ты вступил на этот путь подготовки обвинения, был ли
в твоем распоряжении хоть один день, который бы тебе не пришлось пол-
ностью затратить только на это дело?
(XXIII) Ты потребовал издания закона о домогательстве; он тебе вовсе
не был нужен, так как существовал строжайший Кальпурниев закон 68. Твое
желание и твое почетное положение были приняты во внимание. Нэ этот
закон в целом, пожалуй, был бы для тебя пригодным оружием, если бы
ты как обвинитель преследовал виновного; в действительности же
соисканию твоему он помешал. (47) Ты своими .настояниями добился назначения
более строгого наказания для плебса; более бедные люди были встревожены;
для нашего сословия ты добился кары в виде изгнания; сенат уступил твоему
требованию, и согласно твоему предложению, установил более суровые
условия для всех граждан, но неохотно. Для тех, кто стал бы объяснять свою
неявку в суд болезнью 69, кара была усилена. Многие были этим
недовольны: ведь таким людям приходится либо напрягать свои силы в ущерб
своему здоровью, либо из-за болезни отказываться от прочих жизненных благ.
И что же? Кто это провел? Тот, кто повиновался авторитету сената и
твоему желанию, словом, тот, кому это менее всего было выгодно 70. Ну, а те
предложения, которые, согласно с моим сильнейшим желанием, отверг
сенат, собравшийся в полном составе? Неужели ты не понимаешь, что они
немало повредили себе? Ты требовал совместной подачи голосов, принятия
Манилиева закона 71, уравнения во влиянии, в положении, в праве голоса.
Люди уважаемые, пользовавшиеся влиянием среди своих соседей и в своих
муниципиях, были удручены тем, что такой муж выступил за уничтожение
всех различий в почетном положении и влиянии. Кроме того, ты хотел,
чтобы судей назначал обвинитель72 — с тем, чтобы ненависть граждан, в
настоящее время скрытая <и ограниченная глухими распрями, вырвалась
наружу и .поразила благополучие любого из честнейших людей. (48) Все это
путь к обвинению тебе пролагало, путь к избранию закрывало.
К тому же вот еще один удар, нанесенный твоему соисканию, и. как
я не раз говорил, тяжелейший; о нем многое было убедительно сказано
высоко одаренным и красноречивейшим человеком, Квинтом Гортенсием. Мне
же труднее говорить в предоставленную мне очередь именно потому, что
до меня говорили и он, и муж, занимающий самое высокое положение,
необычайно добросовестный и красноречивый — Марк Красе, а я в
заключение должен рассмотреть не ту или иную часть дела, а дело в целом
по своему усмотрению. Итак, я рассматриваю, можно сказать, почти те же
вопросы, судьи, и, насколько смогу, постараюсь не утомить вас. (XXIV)
Но все-таки, как ты думаешь, Сервий,— какой удар секирой ты нанес
13. В защиту Луция Лициния Мурены
349
своему соисканию, внушив римскому народу страх, что Катилина будет
избран в консулы, пока сам ты будешь подготовлять обвинение,
отбросив всякую мысль о соискании? (49) Правда, тебя видели ведущим
расследование; ты был мрачен, твои друзья были опечалены; люди видели,
как ты вел наблюдение, устанавливал факты, беседовал со свидетелями,
удалялся с субскрипторами 73— делал все то, от чего обычно, как нам
кажется, даже набеленные мелом тоги кандидатов темнеют. Тем временем
Каталину видели бодрым и веселым, в сопровождении свиты молодых
людей, окруженным доносчиками и убийцами, воодушевленным как
надеждами на солдат, так и — он сам это говорил — посулами моего коллеги.
Вокруг него толпилось его войско, составленное из колонов Арреция и Фе-
зул, и среди этой своры, резко от нее отличаясь, были видны жертвы
сулланского безвременья. Его лицо дышало неистовством, взор —
преступлением, речь — высокомерием. Ему, видимо, казалось, что консульство ему
уже обеспечено и у него в руках. К Мурене он относился с презрением,
Сульпиция же считал своим обвинителем, а не соискателем; ему он сулил
расправу; государству угрожал.
(XXV), 50) Какой страх охватил при этом всех честных людей, как ч
они отчаивались в судьбе государства в случае избрания Каталины! Не
заставляйте меня напоминать вам. Подумайте об этом сами. Ведь вы не
забыли: когда повсюду разнеслись слова этого нечестивого гладиатора,
которые он, говорят, сказал на сходке у себя дома,— что никто не может быть
преданным защитником обездоленных людей, кроме того, кто обездолен
сам; что посулам благоденствующих и богатых людей пострадавшие и
обездоленные верить не должны; поэтому пусть те, которые хотят возместить
себе растраченное и вернуть себе отнятое у них, взглянут, как велики его
долги, каково его имущество, какова его отвага; бесстрашным и неимущим
должен быть тот, кто станет >вождем и знаменосцем неимущих; (51) итак,
когда об этом узнали, то сенат, как вы помните, по моему докладу принял
постановление — на следующий день комиции отменить, дабы мы могли
обсудить этот вопрос в сенате. И вот на другой день я перед лицом всего
сената привлек Катилину к ответу и предложил ему высказаться о том,
что мне сообщили. Он же, как всегда, выступавший совершенно открыто,
не стал оправдываться, но сам себя обличил. Именно тогда он и сказал,
что у государства есть два тела: одно — слабосильное, с некрепкой головой,
другое—'Крепкое, но без головы; это последнее, если пойдет ему
навстречу, не будет нуждаться в голове, пока он жив. Весь сенат зароптал, но
достаточно суровое постановление, какого заслуживало его возмутительное
поведение, принято не было; ибо одни, вынося постановление, не были
решительны именно потому, что ничего не боялись, другие — потому, что
боялись чересчур. И вот Катилина выбежал из сената, ликуя от радости,—
он, которому вообще не следовало бы выйти оттуда живым, тем более после
350
Речи Цицерона
ответа, несколькими днями ранее данного им опять-таки в сенате Катону,
храбрейшему мужу, грозившему ему судом; он сказал, что, если
попытаются разжечь пожар, который будет угрожать его благополучию, то он
потушит его не водой, а развалинами.
(XXVI, 52) Встревоженный этим и зная, что Катилина уже тогда
привел на поле заговорщиков с мечами, я спустился на поле с надежной
охраной из храбрейших мужей и в широком, бросавшемся в глаза панцире —
не для того, чтобы он прикрывал мое тело (ведь я знал, что Катилина
метит мне не в бок и не в живот, а в голову и шею), но чтобы все честные
люди это заметили и, видя, что консулу грозит страшная опасность,
сбежались к нему на помощь, чтобы его защитить, как это и произошло.
И вот, думая, что ты, Сервий, слишком медлителен в своем соискании, видя,
что Катилина горит надеждой и желанием быть избранным, все те, которые
хотели избавить государство от этого бича, тотчас же перешли на сторону
Мурены. (53) Огромное значение имеет во время консульских комиций
неожиданное изменение взглядов, особенно тогда, когда оно совершилось
в пользу честного мужа, располагающего при соискании и многими
другими преимуществами. Так как Мурена, происходящий от высокопочитае-
мого отца и предков, проведший свою молодость в высшей степени
скромно, прославившийся как легат и заслуживший во время своей прету-
ры одобрение как судья, за устроенные им игры — благодарность, за
наместничество— признание, добивался избрания со всей заботливостью
и притом не отступал ни перед кем из угрожавших ему людей, сам же не
угрожал никому, то следует ли удивляться, что ему сильно помогла внезапно
возникшая у Катилины надежда на консульство?
(54) Теперь мне в своей речи остается рассмотреть третью часть
обвинения — в незаконном домогательстве, тщательно разобранную говорившими
ло меня; к ней я, по желанию Мурены, должен вернуться. Тут я отвечу
своему бли жому другу Гаю Постуму, виднейшему мужу, о заявлениях
раздатчиков и об изъятых у них деньгах; умному и честному молодому
человеку, Сервию Сульпицию,— о центуриях всадников 74; человеку,
выдающемуся всяческой доблестью, Марку Катону,— о выдвинутом им обвинении о
постановлении сената, о положении государства.
(XXVII, 55) Но сначала я в нескольких словах выскажу то, что меня
неожиданно взволновало, и посетую на судьбу, постигшую Луция Мурену.
Если я, судьи, ранее, на опыте чужих несчастий и своих повседневных забот
и трудов считал счастливыми людей, далеких от честолюбивых стремлений
и проводящих свою жизнь праздно и в спокойствии, то при столь сильных
и совершенно непредвиденных опасностях, угрожающих Луцию Мурене,
я, право, потрясен так, что не в силах достаточно оплакать ни нашего общего
положения, ни исхода, к которому судьба привела Мурену; ведь вначале он,
попытавшись подняться еще на одну ступень в ряду почетных должностей,
13, В защиту Луция Лициния Мурены
351
которых неизменно достигала их ветвь рода и его предки, оказался перед
угрозой утратить и то, что ему было оставлено, и то, что он приобрел сам;
затем, ему, вследствие его стремления к новым заслугам, стала угрожать
опасность потерять также и свое прежнее благополучие. (56) Все это
тяжко, судьи, но самое горькое то, что его обвинители не из ненависти и
враждебности дошли до обвинения, а из стремления обвинить дошли до
враждебности. Ибо (если не говорить о Сервии Сульпиции, который, как я
понимаю, обвиняет Луция Мурену не из-за испытанной им обиды, а в связи
с борьбой за почетную должность) его обвиняет Гай Постум, как он и сам
говорит, друг и давнишний сосед его отца, свой человек, который привел
много оснований для дружеских отношений между ними и не мог назвать
ни одного основания для раздора; его обвиняет Сервий Сульпиции, отец
которого принадлежит к тому же товариществу75, что и Мурена; он всеми
силами своего ума должен был бы защищать всех близких друзей отца; его
обвиняет Марк Катон, который никогда ни в чем не расходился с Муреной,
причем он рожден в нашем государстве для того, чтобы его влияние и
дарование служили защитой многим, даже чужим ему людям и не губили даже
его недругов. (57) Итак, сначала я отвечу Постуму, который, будучи
кандидатом в преторы, почему-то бросается на кандидата в консулы, словно
конь для вольтижировки — на беговую дорожку квадриг. Если его
собственные соперники ни в чем не погрешили, то он, отказавшись от соискания,
признал их превосходство над собой; но если кто-нибудь из них подкупил
избирателей, то надо добиваться дружбы человека, который готов преследовать
скорее за обиду, нанесенную другому, чем за обиду, нанесенную ему самому.
[Об обвинениях со стороны Постума и молодого Сервия Сульпиция 76.]
(XXVIII, 58) Перехожу теперь к Марку Катону, так как на его участии
зиждется и держится все обвинение. Как он ни суров, как он ни рьян в
качестве обвинителя, все же его авторитет страшит меня гораздо больше, чем
обвинения, предъявленные им. Говоря об этом обвинителе, судьи, я прежде
всего буду поосить, чтобы ни его высокое положение, ни предстоящий ему
трибунат, ни его блистательная и достойная жизнь не повредили как-нибудь
Луцию Мурене, чтобы Мурена, в конце концов, не оказался единственным
человеком, которому вредили бы все добродетели Марка Катона, которые
тот воспитал в себе с целью быть полезным многим людям.' Дважды был
консулом Публий Африканский и уже успел разрушить два города,
наводившие ужас на нашу державу,— Карфаген и Нуманцию, когда обвинил
Луция Котту77. Он отличался необычайным красноречием, необычайной
честностью, необычайным бескорыстием, а авторитет его был столь же
велик, как авторитет, присущий самой державе римского народа, чьей опорой
он был. Я не раз слышал от старших, что именно исключительная
убедительность и достоинство, с какими он поддерживал обвинение, пошли
Луцию Котте очень и очень на пользу. Мудрейшие люди, бывшие тогда судьями
352
Речи Цицерона
по этому делу, не хотели вызвать впечатления, что какой бы то ни было
обвиняемый может быть осужден, будучи повержен исключительно
сильным влиянием своего противника. (59) А Сервий Гальба78? Ведь предание
о нем сохранилось: не вырвал ли его римский народ из рук твоего прадеда,
Марк Катон, храбрейшего и виднейшего мужа, старавшегося погубить его?
Всегда в нашем государстве весь народ и мудрые и предусмотрительные
мужи противодействовали чрезмерным усилиям обвинителей. Я против того,
чтобы обвинитель подавлял в суде своим могуществом, своим особым
превосходством, выдающимся авторитетом, непомерным влиянием. Пусть все
это способствует спасению невиновных, защите слабых, помощи несчастным,
но при наличии опасности для граждан и при угрозе их существованию
этому не должно быть места! (60) Если кто-нибудь случайно скажет,
что Катон не стал бы обвинять, если бы заранее не вынес суждения по
делу, то такой человек, судьи, установит несправедливый закон и поставит
людей, привлеченных к суду, в жалкое положение, признав, что суждение
обвинителя об обвиняемом должно иметь значение предварительного
приговора.
(XXIX) За твое решение я лично, ввиду своего исключительно
высокого мнения о твоих нравственных качествах, Катон, порицать тебя не хочу;
но кое в чем я, пожалуй, мог бы тебя поправить и указать тебе несколько
лучший путь. «Ты делаешь не много ошибок,— сказал храбрейшему мужу
его престарелый наставник,— но все-таки делаешь их; значит, я могу тебя
кое-чему научить» 79. Но мне тебя не учить. Поистине я готов вполне
искренне оказать, что ты ни в чем не делаешь ошибок и что в тебе нет ничего
такого, в чем бы тебя следовало поправить, а не слегка исправить. Ведь сама
природа создала тебя великим и выдающимся человеком, обладающим
честностью, вдумчивостью, воздержностью, великодушием, справедливостью,
словом, всеми доблестями. К этому присоединилось влияние философского
учения, далекого от умеренности и мягкости, но, как мне кажется, несколько
более сурового и строгого, чем это допускает действительность или
природа. (61) И так как мне приходится держать эту речь не перед
необразованной толпой и не в собрании невежественных людей 80, то я буду несколько
смелее рассуждать о просвещении, которое знакомо и дорого мне и вам.
Знайте, судьи, те дарованные богами и выдающиеся качества, какие мы
видим у Марка Катона, свойственны ему самому; те же, каких мы подчас
ищем у него и не находим, все происходят не от природы, а от его учителя.
Жил некогда муж необычайного ума, Зенон81; ревнителей его учения
называют стоиками. Его мысли и наставления следующие: мудрый никогда не
бывает лицеприятен, никогда и никому не прощает проступков; никто не
может быть милосердным, кроме глупого и пустого человека; муж не должен
ни уступать просьбам, ни смягчаться; одни только мудрецы, даже
безобразные, прекрасны; в нищете они богаты; даже в рабстве они цари; нас же,
Марк Порций Катон (Утический)
Мрамор. Рим, Капитолийский музей
13. В защиту Луция Лициния Мурены
353
не являющихся мудрецами, стоики называют беглыми рабами,
изгнанниками, врагами, наконец, безумцами; по их мнению, все погрешности
одинаковы, всякий поступок есть нечестивое злодейство, и задушить петуха, когда
в этом не было нужды, не меньшее преступление, чем задушить отца;
мудрец ни над чем не задумывается, ни в чем не раскаивается, ни в чем не
ошибается, своего мнения никогда не изменяет 82.
(XXX, 62) Вот взгляды, которые себе усвоил Марк Катон, человек
высокого ума, следуя ученейшим наставникам, и не для того, чтобы вести
споры, как поступает большинство людей, но чтобы так жить. Откупщики
просят о чем-либо.— «Не вздумайте что-нибудь сделать в их пользу» 83. Какие-
нибудь несчастные и находящиеся в беде люди умоляют о помощи.— «Ты
будешь преступником и нечестивцем, если сделаешь что-либо, уступив
голосу сострадания».— Человек признает себя виновным и просит о
снисхождении к своему проступку.— «Простить — тяжкое преступление». Но
проступок невелик.— «Все проступки одинаковы».— Ты высказал какое-либо
мнение, ...— «Оно окончательно и непреложно».— ...руководствуясь не фактом,
а предположением.— «Мудрец никогда ничего не предполагает».— Ты кое
в чем ошибся. Он оскорблен. Этому учению он обязан следующими
словами: «Я заявил в сенате, что привлеку к суду кандидата в консулы»84. Ты
сказал это в гневе.— «Мудрец,— говорит Катон,— никогда не знает
гнева». Но это связано с обстоятельствами.— «Лишь бесчестному человеку,—
говорит он,— свойственно обманывать, прибегая к лжи; изменять свое
мнение — позор, уступить просьбам — преступление, проявить жалость —
гнусность». (63) А вот мои учителя (я признаюсь, Катон, и я в молодости
своей, не полагаясь на свой ум, искал помощи в изучении философии),
повторяю, мои учителя, -последователи Платона и Аристотеля, люди умеренные и
сдержанные, говорят, что и мудрец порой руководствуется приязнью, что
хорошему чело-веку свойственно проявлять сострадание, что проступки
бывают разные, потому неодинаковы и наказания; что и непоколебимый
человек может прощать; что даже мудрец иногда высказывает предположение
насчет того, чего не знает; что он иногда испытывает чувство гнева, доступен
просьбам и мольбам, изменяет ранее сказанное им, если это оказывается
более правильным, /порой отступает от своего мнения; что все доблести
смягчаются соблюдением известной меры85.
(XXXI, 64) Если бы судьба направила тебя, Катон, к этим учителям,
то ты, при своем характере, конечно, не был бы ни более честным, ни более
стойким, ни более воздержным, ни более справедливым мужем (ведь это
и невозможно), но несколько более склонным к мягкости. Ты не стал бы
обвинять человека, в высшей степени добросовестного, занимающего высокое
положение и весьма уважаемого, не питая к нему неприязни и не будучи
им оскорблен. Ты считал бы, что, коль скоро судьба в один и тот же
год поставила тебя и Мурену на страже государства, ты в какой-то мере
23 Цицерон, т I
354
Речи Цицерона
соединен с «им узами государственной деятельности. Суровых слов,
сказанных тобой в сенате, ты либо совсем не произнес бы, либо, высказав их,
смягчил бы их значение. (65) Впрочем, насколько я могу предсказать на
основании своих соображений, тебя самого, охваченного теперь, так
сказать, душевным порывом, увлеченного силой своей натуры и ума, тебя,
горящего от недавних занятий философией, вскоре опыт изменит, время
смягчит, возраст успокоит. И в самом деле, даже ваши учителя и
наставники в доблести, мне думается, провели границы долга несколько дальше,
чем велит природа,— для того, чтобы мы, умом устремившись к самой
далекой цели, все же остановились там, где нужно. «Ничего не прощай».—
Да нет же, кое-что можно, но не все. «Ничего не делай,
уступая чьему-либо влиянию».— Да нет же, давай отпор влиянию, когда этого
потребуют твой долг и честность. «Не поддавайся чувству сострадания».—
Да, конечно, если это ослабляет суровость, но все же и доброта в какой-то
мере похвальна. «Твердо держись своего мнения».— Да, если это мнение не
будет побеждено другим лучшим. (66) Например, знаменитый Сципион, не
колеблясь, поступал так же, как и ты, 'поселив у себя в доме ученейшего
Панэтия 8б. Но от его высказываний и наставлений, хотя они вполне
совпадали с теми, какими восхищаешься ты, он все-таки не стал более суров, но,
как я слыхал от стариков, сделался очень мягок душой. Кто поистине был
более благожелателен, более ласков, чем Гай Лелий, принадлежавший к той
же школе, кто был более строг, чем он, более мудр? (Это же я могу сказать
о Луции Филе и о Гае Галле87; «о теперь я вернусь с тобой в твой дом.
Кто, по твоему мнению, был более доступен, более участлив, более умерен,
чем твой прадед Катон, кто, более него, обладал всеми чертами,
свойственными подлинному человеку? Справедливо и с достоинством говоря о его
выдающейся доблести, ты сказал, что пример для подражания есть в твоем
собственном доме. Правда, пример этот в твоем доме тебе дан; натура
прадеда тебе, его потомку, могла передаться более, чем кому-либо из нас; но,
как образец для подражания, он стоит передо мной, право, так же, как и
перед тобой. Если же ты добавишь к своей строгости и суровости его
благожелательность и доступность, то твои качества и без того выдающиеся,
правда, лучше не станут, но, во всяком случае, будут приправлены приятнее.
(XXXII, 67) Поэтому — чтобы возвратиться к тому, с чего я начал,—
не ссылайся при разборе этого дела на имя Катона, не оказывай давления,
не ссылайся на авторитет, который в суде либо не должен иметь силы, либо
должен способствовать оправданию обвиняемого; борись со мной только по
статьям обвинения. В чем ты обвиняешь Мурену, Катон? Что предлагаешь
ты для судебного разбирательства? Что ты ставишь ему в вину? Ты
осуждаешь незаконное домогательство. Его я не защищаю. Меня ты упрекаешь
в том, что я оправдываю то самое, за что я, своим законом, назначил кару
Я караю незаконное домогательство, а не невиновность. Само домогатель-
13, В защиту Луция Лиицния Мурены
355
ство я, даже вместе с тобой, буду осуждать, если захочешь. Ты сказал, что
по моему докладу сенат принял постановление, гласящее, что если люди,
за плату, выйдут навстречу кандидатам, если они, будучи наняты, станут
их сопровождать, если во время боев гладиаторов места для народа, а
также и угощение будут предоставлены трибам, то это будет признано
нарушением Кальпурниева закона. И вот, сенат, признавая эти действия
противозаконными,— если они действительно совершены — выносит в угоду
кандидатам решение, в котором нет надобности; ведь весь вопрос о том,
совершены ли противозаконные действия или не совершены; если они совершены,
то сомневаться в их противозаконности не может никто. (68) Поэтому
смешно оставлять невыясненным то, что сомнительно, и выносить решение о том,
что ни для кого сомнительным быть не может. К тому же это было решено
по требованию всех кандидатов, так что из постановления сената нельзя
понять, ни в чьих интересах, ни против кого оно вынесено. Докажи
поэтому, что Луций Мурена совершил подобные действия; тогда я соглашусь
с тобой, что они были совершены противозаконно.
(XXXIII) «Когда он возвращался из провинции, навстречу ему вышло
множество людей» 88.— Так обычно поступают, когда человек добивается
консульства; кроме того, кому только не выходят навстречу, когда он
возвращается домой? «Кто был в этой толпе?» — Прежде всего — допустим,
что я не мог бы объяснить тебе это,— следует ли удивляться, что при
прибытии такого мужа, кандидата в консулы, навстречу ему вышло так много
народа? Если бы этого не произошло, пожалуй, было бы более
удивительно. (69) А если я даже добавлю то, что не противоречит обычаю,— многих
об этом просили? Неужели можно считать преступным или необычайным
то, что в государстве, где мы, уступая просьбе, часто чуть ли не среди ночи
приходим с окраин Рима, чтобы сопровождать на форум сыновей самых
незначительных людей 89,— что в этом государстве люди не сочли для себя
трудным выйти в третьем часу на Марсово поле, особенно когда их
попросили от имени такого мужа? А если пришли все товарищества откупщиков,
к которым принадлежат многие из судей, сидящих здесь? А если это были
многие весьма уважаемые люди из нашего сословия? А если все кандидаты
сообща, эти любезнейшие люди, которые не могут допустить, чтобы кому-
либо при въезде в Рим не было оказано должного почета, если, наконец, сам
наш обвинитель Постум вышел навстречу Мурене с внушительной толпой
своих друзей, то можно ли удивляться тому, что скопилось такое
множество людей? Не говорю уже о клиентах, о соседях, о членах его трибы,
обо всем войске Лукулла, прибывшем в те дни в Рим для участия в
триумфе. Скажу одно: не было случая, чтобы в подобной услуге — и притом
совершенно бескорыстной — любому человеку, не только если он ее вполне
заслужил, но даже если он выразил такое желание, было отказано. (70) «Но
его сопровождали многие».— Докажи, что это было сделано за плату, и я
23*
356
Речи Цицерона
соглашусь с тобой в том, что это преступление. Но что, кроме этого, ставишь
ты ему в вину? (XXXIV) «Зачем,— опрашивает обвинитель,— нужна вся
эта свита?» Меня спрашиваешь ты, зачем нужно то, что всегда было в
обычае? У незначительных людей есть лишь одна возможность либо заслужить
милость нашего сословия, либо отблагодарить за нее, а именно
содействовать нашему соисканию и сопровождать кандидата. Ведь невозможно,— да
и нечего требовать,— чтобы мы или римские всадники целыми днями
сопровождали своих близких [кандидатов]; если такие люди посетят наш дом,
если они иногда проводят нас на форум, если они окажут нам честь один раз
пройтись с нами по басилике, то мы уже в этом усматриваем большое
уважение и внимание к себе. Но друзья, занимающие более скромное
положение и ничем не занятые, должны непрерывно быть при нас; честные и
щедрые мужи обычно не могут пожаловаться на недостаток внимания со
стороны множества таких людей. (71) Итак, не отнимай у этих людей из
низшего сословия приятной им возможности оказать нам услугу, Катон! Ведь
они надеются получить от нас все; позволь же и им самим что-нибудь
сделать для нас. Если это будут только их голоса, то этого мало: ведь их
голоса большого значения не имеют. Наконец, они, как склонны говорить эти
люди, -не могут ни произносить речи в нашу пользу, ни давать обещания за
нас, ни приглашать нас к себе домой. Всего этого они ожидают от нас и,
по их мнению, за все то, что они от нас получают, они могут вознаградить нас
одним только своим содействием. Поэтому они не посчитались ни с Фабие-
вым законом о численности сопровождающих, ни с постановлением сената,
принятым в консульство Луция Цезаря 90. Ведь не существует кары, которая
бы могла удержать услужливых людей низшего положения от соблюдения
древнего обычая оказывать услуги.
(72) «Но места для присутствия во время зрелищ были распределены
по трибам и множество людей было приглашено для угощения». Хотя
Мурена этого вовсе не делал, судьи, а сделали это его друзья, следуя обычаю
и соблюдая меру, все же я в связи с этим вспоминаю, Сервий, сколько
точек91 потеряли мы из-за этих жалоб, высказанных в сенате. В самом деле,
было ли время,— на нашей ли памяти или же на памяти наших отцов —
когда бы не проявлялось этого честолюбия или, быть может, щедрости,
выражавшейся в предоставлении друзьям и членам трибы мест в цирке и на
форуме92? Маленькие люди получали эти награды и преимущества от
членов своей трибы в силу древнего обычая... [Лакуна.]
(XXXV, 73) [Если Мурене ставят в вину,] что начальник войсковых
рабочих93 один раз предоставил места членам своей трибы, то что сказать о
виднейших мужах, позаботившихся о целых отделениях в цирке для членов
своей трибы? Все эти статьи обвинения насчет сопровождения, зрелищ и
угощения народ счел проявлением излишнего рвения с твоей стороны,
Сервий! Мурену же в этом отношении оправдывает авторитет сената. Разве
13. В защиту Луция Лициния Мурены
357
сенат считает выход навстречу преступлением? — «Нет, но выход за
плату».— Приведи улики. А если сопровождает большая толпа? — «Нет,
только если она нанята».— Докажи. Разве предоставлять места во время
зрелищ и приглашать для угощения — преступление?—«Отнюдь нет, но не
такое множество людей».— Что это значит — множество людей? — «Всех
без исключения». Однако, если Луций Натта 94, молодой человек из
знатного рода (кто он такой, каковы его намерения ныне и каким мужем он
станет, мы видим), хотел снискать расположение всаднических центурий
как в этом случае, выполняя свой долг родства, так и на будущее время,
то это не должно быть вменено в вину и в преступление его отчиму; и если
дева-весталка, близкая родственница Луция Мурены, отдала ему свое место
для присутствия на боях гладиаторов 95, то ни она не нарушила долга чести,
ни он ни в чем не виноват. Все это — взаимные услуги между близкими
людьми, удовольствие для маленьких людей, обязанности кандидатов.
(74) Но сурово и по-стоически говорит со мной Катон; он не находит
допустимым снискивать расположение угощением и считает, что во время
предоставления должностей подкупать людей удовольствиями не подобает.
Поэтому если человек по случаю соискания пригласит людей на обед, то
его следует осудить? «Разумеется,— говорит он,— и ты станешь
добиваться высшего империя, высшего авторитета, хочешь встать у кормила
государства, потворствуя страстям людей, ослабляя их мужество и доставляя им
наслаждения? Чего ты добивался,— спрашивает он,— доходов ли сводника,
получаемых им от кучки развратных юношей, или же владычества над
миром, которое вручает римский народ?» Наводящая ужас речь, но ее
отвергают наши обычаи, условия жизни, нравы, даже наши гражданские
установления. Ведь ни лакедемоняне, у которых ты заимствовал житейские
правила и особенности речи96 и которые каждый день едят, возлежа на
деревянных ложах, ни, во всяком случае, критяне, из которых никто никогда не
вкушал пищи лежа, не сохранили своих государств в неприкосновенности
лучше, чем римляне, уделяющие должное время и удовольствию и труду.
Из этих двух народов один был покорен одним только прибытием нашего
войска97; другой сохраняет свои установления и законы под защитой
нашей державы. (XXXVI, 75) Поэтому не осуждай, Катон, своей не в меру
суровой речью установлений наших предков, оправдываемых самой
действительностью и продолжительным существованием нашей державы. К той
же школе, что и ты, принадлежал живший во времена наших отцов ученый
муж, уважаемый и знатный человек, Квинт Туберон. Квинт Максим,
устраивая угощение для римского народа в память своего дяди, Публия
Африканского98, попросил его приготовить триклиний, так как Туберон был
сыном сестры того же Африканского. А этот ученейший человек и притом
стоик постелил какие-то козлиные шкуры на жалкие пунийские ложа и
расставил самосскую посуду ", как будто умер киник Диоген 10°, а не устраи-
358
Речи Цицерона
валось торжество в память божественного Публия Африканского. Когда
Максим произносил хвалебную речь в день его похорон, он вознес
бессмертным богам благодарность за то, что такой человек родился именно в нашем
государстве; ибо владычество над миром должно было быть именно там, где
находился он. Во время этих торжественных похорон римский народ
негодовал на неуместную мудрость Туберона. (76) И вот, бескорыстнейшему
человеку, честнейшему гражданину, внуку Луция Павла и, как я уже сказал,
сыну сестры Публия Африканского, было отказано в претуре из-за
жалких козлиных шкур. Ненавидит римский народ роскошь у частных лиц,
а пышность в общественных делах ценит; не любит он роскошных пиршеств,
но скаредность и грубость — еще того менее. Сообразно со своими
обязанностями и обстоятельствами, он умеет чередовать труд и удовольствия. Ты
вот говоришь, что при соискании государственной должности нельзя
привлекать людей к себе ничем иьым, кроме своих высоких достоинств; а ведь
сам ты, при своих необычайных достоинствах, этого не соблюдаешь.
Почему ты просишь других содействовать и помогать тебе? Ведь ты мне
предлагаешь свое покровительство с тем, чтобы я был к твоим услугам. Как же
так? Следует ли тебе предлагать это мне? Разве не мне следовало бы
просить тебя об этом, дабы ты, ради моего блага, взял на себя этот опасный
труд? (77) А зачем тебе номенклатор 101? Ведь при его помощи ты людей
обманываешь и вводишь в заблуждение. Ибо, если обращаться к
согражданам по имени значит оказывать им честь, то позорно, что твоему рабу они
знакомы лучше, чем тебе. А если тебе, даже когда ты их знаешь, все же
приходится называть их по имени в соответствии с указаниями советчика,
то зачем же ты спрашиваешь об их именах, словно ты их не знаешь 102?
Далее, почему также и в тех случаях, когда их имена тебе приходится
напоминать, ты все же приветствуешь их, словно сам их знаешь? Почему,
после того как тебя изберут, ты приветствуешь их уже более небрежно?
Если оценивать все это в соответствии с нашими гражданскими обычаями,
то это правильно; но если ты захочешь взвесить это применительно к
требованиям своей философии, то это окажется весьма дурным. Поэтому не
следует лишать римский плебс удовольствий в виде игр, боев гладиаторов и
пиршеств — всего того, что было введено нашими предками, и у кандидатов
нельзя отнимать эту возможность проявить внимание, свидетельствующее
скорее о щедрости, чем о подкупе .
(XXXVII, 78) Но ты, пожалуй, скажешь, что выступаешь с
обвинением ради лользы государства. Верю. Катон, что ты пришел именно с
таким намерением и с такими мыслями; но ты поступаешь неразумно. То, что
сам я делаю, судьи, я делаю из дружеского отношения к Луцию Мурене
и ввиду его высоких достоинств. Кроме того, я — во всеуслышание заявляю
и свидетельствую — поступаю так во имя мира, спокойствия, согласия,
свободы, благополучия и, наконец, нашей всеобщей личной безопасности. Слу-
13. В защиту Луция Лициния Мурены
359
шайте, слушайте консула, судьи! Не стану хвалиться; скажу только —
консула, дни и ночи думающего о делах государства. Луций Катилина не
настолько презирал государство, чтобы полагать, что он при посредстве того
сброда, который он вывел с собой из Рима, сможет одолеть нашу державу.
Шире, чем думают, распространилась зараза его преступления, и больше
людей затронуто ею. Внутри, да, внутри наших стен Троянский конь, но
никогда, пока я буду консулом, ему не захватить вас спящими.
(79) Ты спрашиваешь меня, неужели я так боюсь Каталины. Вовсе нет
и я позаботился о том, чтобы никто не боялся его, но я утверждаю, что
его приспешников, которых я здесь вижу, бояться следует. И теперь мне
внушает страх не столько войско Луция Каталины, сколько те, которые, как
говорят, его войско покинули. Нет, они его вовсе не покинули; они были
оставлены Каталиной на сторожевых башнях и в засадах, чтобы угрожать
нам ударом в голову и в шею. Именно они и хотят, чтобы неподкупный
консул и доблестный император, которого и его характер, и сама судьба
(предназначили для служения делу благополучия государства, был, вашим
голосованием, от защиты Рима отстранен и лишен возможности охранять
граждан. Их оружие, их натиск я отбил на поле, сломил на форуме, не раз
одолевал даже в своем доме, судьи! Если вы выдадите им одного из консулов,
то они, голосованием вашим, достигнут большего, чем своими мечами. Очень
важно, судьи, чтобы — как я, несмотря на противодействие многих, этого и
добился — в январские календы в государстве консулов было двое.
(80) Не думайте, что эти люди питают обычные замыслы и идут
избитой тропой. Нет, их цель уже — не преступный закон, не губительная
расточительность, не какое-нибудь иное бедствие для государства, о котором уже
слыхали. Среди наших граждан, судьи, возникли планы разрушения городэ.
истребления граждан, уничтожения имени римлянина. И граждане,
повторяю, граждане — если только их дозволено называть этим именем —
замышляют и замыслили это на гибель своей отчизне! Изо дня в день я
противодействую их замыслам, борюсь с их преступной отвагой, даю отпор их
злодейству. Но напоминаю вам, судьи: мое консульство уже приходит к
концу. Не отнимайте у меня человека, столь же бдительного, способного
меня заменить, не устраняйте того, кому я желаю передать государство
невредимым, дабы он защищал его от этих столь грозных опасностей.
(XXXVIII, 81) А чем усугубляются эти несчастья? Неужели вы этого
не видите, судьи? К тебе, к тебе, Катон, обращаюсь я. Разве ты не видишь,
какая буря угрожает нам в год твоего трибуната? Ведь уже на вчерашней
сходке раздался угрожающий голос избранного народного трибуна, твоего
коллеги104, против которого меры предосторожности благоразумно
приняты тобой и всеми честными гражданами, призвавшими тебя к
соисканию трибуната. Замыслы, зародившиеся в течение последних трех лет,—
с того времени, когда Луций Катилина и Гней Писон, как вы знаете,
360
Речи Цицерона
задумали убить сенаторов105,—«все эти замыслы в эти дни, в эти месяцы, в
это время готовы к осуществлению. (82) Можно ли, судьи, назвать место,
время, день, ночь, когда бы я не избежал и не ускользнул от их козней, от
их кинжалов не столько по своему разумению, сколько по промыслу богов?
Не меня убить, но отстранить от дела защиты государства неусьшно
бодрствующего консула— вот чего добиваются они. В такой же мере они хотели бы
избавиться также и от тебя, Каток, если бы могли. Поверь мне, именно к
этому они и стремятся, это и замышляют. Они видят, сколь ты мужествен,
умен, влиятелен, каким оплотом для государства являешься. Но они
полагают, что, когда власть трибунов будет лишена опоры в виде авторитета и
помощи консулов, им будет легче уничтожить тебя, безоружного и
лишенного силы. Ибо они не боятся, что будет решено доизбрать нового консула.
Они понимают, что это будет во власти твоих коллег, и надеются, что Децим
Силан, прославленный муж, оставшись без коллеги, ты, оставшись без
консула, а государство, оставшись без защиты, попадут в их руки.
(83) При этих важных обстоятельствах, и перед лицом столь грозных
опасностей, твой долг, Катон,— коль скоро ты, мне кажется, рожден не для
себя, а для отчизны — видеть, что происходит, сохранить свою опору,
своего защитника, союзника в государственной деятельности, консула
бескорыстного, консула (обстоятельства повелительно этого требуют), ввиду
своего высокого положения стремящегося к миру в стране, благодаря своим
знаниям способного вести войну, благодаря своему мужеству и опыту
готового выполнить любую задачу.
(XXXIX) Впрочем, все это в ваших руках, судьи! Это вы в настоящем
деле — опора всего государства; это вы им управляете. Если бы Луций
Катилина вместе со своим советом из преступных людей, которых он увел
за собой, мог вынести приговор по этому делу, он признал бы Мурену
виновным; если бы он мог его убить, он казнил бы его. Ведь замыслы Кати-
лины ведут к тому, чтобы государство лишилось помощи; чтобы число
императоров, способных противостоять его неистовству, уменьшилось; чтобы
народным трибунам, после устранения такого противника, как Мурена, была
дана большая возможность разжигать мятежи и распри. Неужели
честнейшие и мудрейшие мужи, избранные из виднейших сословий, вынесут
такой же приговор, какой вынес бы этот наглейший гладиатор, враг
государства? (84) Поверьте мне, судьи, в этом судебном деле вы вынесете приговор
о спасении не только Луция Мурены, но и о своем собственном. Мы
находимся в крайне опасном положении; ибо уже нет возможности восполнить
наши потери, вернее, подняться, если мы падем. Ведь враг не на берегу
Анио, что во время пунической войны было признано величайшей
опасностью 106, но в Риме, на форуме. О, бессмертные боги! Об этом без
тяжелых вздохов нельзя и говорить. Даже в святилище государства, да, в
самой Курии враги! Дали бы боги, чтобы мой коллега 107, храбрейший муж,
13. В защиту Ауция Лициния Мурены
36t
истребил вооруженной рукой эту преступную шайку разбойников Катили-
ны! Я же, нося тогу, с помощью вашей и всех честных людей, своими
продуманными действиями рассею и устраню эту опасность, семя которой
воспринято государством и которую оно ныне в муках рождает. (85) Но что
произойдет, если все это зло, вырвавшись из моих рук, выступит наружу
в будущем году? У нас будет только один консул и притом занятый не
ведением войны, а доизбранием своего коллеги; кое-кто станет создавать ему
препятствия [при проведении выборов,]... вырвется страшная и жестокая
моровая язва в лице Катилины, угрожающая римскому народу; Катилина
неожиданно налетит .на окрестности Рима; [ростры] охватит неистовство,
Курию— страх, форум — заговор; на поле будут войска, нивы будут
опустошены; в каждом селении, в любой местности нам придется страшиться меча
и пламени; все это уже давно подготовляется. Но все это, если государство
будет ограждено средствами защиты, будет легко устранить мудрыми
мерами должностных и бдительностью частных лиц.
(XL, 86) Ввиду всего этого, судьи, ради .государства, дороже которого
для нас ничто не должно быть, я, по своей неустанной и известной вам
преданности общему благу, прежде всего напоминаю вам и с ответственностью
консула советую, а ввиду огромной угрожающей нам опасности именем
богов заклинаю: подумайте о спокойствии, о мире, о благополучии, о жизни
своей и других граждан. Затем, я, движимый долгом защитника и друга^
прошу и умоляю вас, судьи, видя перед собой несчастного Луция Мурену,
удрученного телесным недугом и душевной скорбью, не допускайте, чтобы
его недавнее ликование было омрачено сетованиями. Не так давно, будучи
удостоен римским народом величайшей милостью, он был осчастливлен, так
как первым в старинную ветвь рода, первым в древнейший муниципии 1и5
он принес звание консула. Теперь тот же Мурена в траурной одежде,
удрученный болезнью, от слез и горя обессилевший, является к вам, судьи, как
проситель, заклинает вас быть справедливыми, умоляет вас о сострадании,,
обращается к вашему могуществу и к вашей помощи. (87) Во имя
бессмертных богов, судьи!—не лишайте его ни этого звания, которое, как он
думал, должно было принести ему еще больший почет, ни других, ранее
заслуженных им почестей, а также его высокого положения и достояния. Да,
Луций Мурена молит и заклинает вас, судьи, если он никому не нанес
обиды* если он не оскорбил ничьего слуха и никому наперекор не поступал,
если он, выражусь возможно мягче, ни у кого, ни в Риме, ни во время
походов, не вызвал чувства ненависти, то пусть скромность найдет у вас
пристанище, смирение — убежище, а добросовестность — помощь. Горячее
сострадание должна вызывать у людей утрата консульства, судьи! Ведь вместе
с консульством у человека отнимают все; зависти же в наше время
консульство само по себе, право, не может вызывать; ведь именно против консула
направлены речи на сходках мятежников, козни заговорщиков и оружие
362
Речи Цицерона
Катилины; словом, всяческим опасностям и всяческой ненависти
противостоит он один. (88) Итак, в чем можно завидовать Мурене или кому-нибудь
из нас, когда речь идет об этой хваленой должности консула, судьи, понять
трудно; но то, что действительно должно вызывать сострадание, вот оно
теперь у меня перед глазами, да и вы сами можете это понять и увидеть.
(XLI) Если вы — да отвратит Юпитер такое предзнаменование! —
уничтожите Мурену своим приговором, куда пойдет он в своем несчастье 109?
Домой ли, чтобы то самое изображение прославленного мужа по, своего
отца, на которое он, несколькими днями ранее, принимая поздравления,
смотрел, когда оно было украшено лаврами, увидеть обезображенным от
позора и плачущим? Или к матери своей, которая недавно обнимала своего
сына-консула, а теперь, несчастная, мучится в тревоге, что она вскоре
увидит его лишенным всех знаков его высокого положения? (89) Но зачем я
говорю о матери и о доме того человека, которого новая кара ш по закону
лишает и дома, и матери, и общения со всеми близкими ему людьми?
Следовательно, он, в своем несчастье, удалится в изгнание? Куда? В страны
Востока, где он много лет был легатом, полководцем, совершил величайшие
подвиги? Но очень прискорбно туда, откуда ты уехал с почетом,
возвращаться опозоренным. Или же он отправится на другой край света, чтобы
того, кого Трансальпийская Галлия недавно с великой радостью видела
облеченным высшим империем, она теперь увидела в печали, в юдоли и в
изгнании? Более того, как встретится он в этой провинции со своим братом,
Гаем Муреной? Какова будет скорбь одного, каково будет горе другого,
каковы будут сетования их обоих! Какая потрясающая перемена судьбы!
Что будут говорить там, где несколькими днями ранее прославляли
избрание Мурены в консулы и откуда его гостеприимцы и друзья съезжались в
Рим поздравить его! И там он вдруг появится сам в качестве вестника
своего несчастья! (90) Если все это тяжко, горестно и плачевно, если все это
противоречит вашему чувству жалости и сострадания, судьи, то сохраните
Мурене милость, оказанную ему римским народом, возвратите государству
консула, сделайте это ради его доброго имени, ради его умершего отца, его
рода и семьи, ради честнейшего муниципия Ланувия; ведь толпы его
опечаленных жителей вы видели здесь при разборе (всего этого дела. Не
отрывайте от священнодействий в честь Юноны Спасительницы, которые все
консулы должны совершать, 'консула, унаследовавшего эти обряды от 'предков,
консула ей близкого и родного. Если мои слова, судьи, и ,мое
поручительство имеют значение и авторитет, то я, как консул (препоручает консула,
препоручаю вам Мурену, усерднейшего сторонника мира среди граждан,
глубоко преданного честным людям,'непримиримого .противника мятежей,
храбрейшего воина и ярого борца против заговора, который ныне колеблет устои
государства. Что Мурена таков и будет, это я вам обещаю и за это ручаюсь.
п
РИЛОЖЕНИЯ
ШГТТТТ5
МАРК ТУЛЛИЙ ЦИЦЕРОН
i
Марк Туллий Цицерон -принадлежит к тем знаменитым деятелям
античного мира, чья жизнь и судьба в течение многих .веков привлекала к
себе интерес и внимание историков, юристов, писателей, ораторов и
политиков. Интерес этот не угас и поныне. Не проходит года, который бы не внес
своего вклада в необозримую литературу о Цицероне; число книг и статей
о нем достигает нескольких сотен, и едва ли' найдется исследователь,
которому было бы известно все, что написано о Цицероне; но даже при беглом
знакомстве с основными трудами о Цицероне и высказываниями наиболее
известных исследователей римской истории и литературы нельзя не
заметить расхождений в мнении о нем, доходящих иногда до полемики,
ожесточенный тон которой может показаться странным, так как дело идет о
характеристике и оценке человека, умершего 2000 лет назад. Несмотря на то, что
данные, относящиеся к биографии* Цицерона, имеются в изобилии, а его
литературное наследие очень богато, может быть, именно поэтому ученые
не пришли к единому мнению о Цицероне как политическом деятеле и
человеке, но его славу как оратора не оспаривал почти никто, а само имя его
стало как бы символом совершенного ораторского искусства *.
Однако резкие различия в оценке деятельности и характера Цицерона
кажутся странными только на первый взгляд; время его жизни совпало с
бурным и сложным переломным периодом в политическом и экономическом
развитии римского государства; в зависимости от того, с какой точки
зрения тот или иной исследователь склонен рассматривать и оценивать
события этого периода, он так или иначе характеризует и оценивает деятельность
Цицерона, принимавшего в этих событиях прямое или косвенное участие.
Краткий обзор основных моментов его биографии на фоне той
исторической обстановки, в которой он жил и действовал и с которой был
вынужден считаться, может, до известной степени, раскрыть причины
противоречий как в поведении самого Цицерона, так и в позднейших суждениях о нем.
1 Более подробно о политической позиции Цицерона и о его литературной
деятельности см.: История римской литературы, т. I. Изд-во АН СССР, 1959; сборник «Цицерон»,
Изд-во АН СССР, 1958.
366
M. E. Грабарь-Пассек
К концу II в. до н. э. государственный строй Рима, казавшийся
современникам чрезвычайно устойчивым и даже совершенным (это мнение
высказал и пытался обосновать такой вдумчивый историк, как Полибий), стал
расшатываться. Вся система управления римским государством с ежегодной
сменой выборных магистратов была рассчитана на небольшую общину,
члены которой, занятые в мирное время преимущественно сельским
хозяйством, брались за оружие во время войны. Эта система оказалась непригодной
для большой державы, которая вела мировую торговлю, имела флот и
заморские провинции, населенные иноземными племенами. Ко II в. рухнули
прежние сословные перегородки между «патрициями» и «плебеями»;
произошла перегруппировка в различных слоях населения и возникли
противоречия уже между нобилитетом, объединявшим древние патрицианские и
наиболее знатные плебейские роды, и всадническим сословием; все большее
значение имело теперь имущественное положение; однако представителям
нобилитета все еще удавалось сохранить за собой если не юридическое, то
фактическое право занимать высшие магистратуры; по традиции
магистратуры эти переходили внутри нобилитета из рук в руки. Всадникам весьма
редко удавалось достигнуть ведущего положения в государстве; зато они
нашли для себя широкое и доходное поприще в откупах на сбор налогов в
провинциях и в торговле с ними; их имущественное положение быстро
улучшилось, и нобилитет, удерживая в своих руках магистратуры, требовавшие
порой довольно больших расходов, разорялся; его отдельные представители
спешили обогатиться путем нещадных поборов с населения провинций,
власть над которыми давалась наместнику, как правило, лишь на годичный
срок (правда, случаи продления этого срока до двух-трех лет были
нередки), и магистрат, если он обладал достаточной беззастенчивостью, доводил
свою провинцию до разорения и нищеты. К тому же сенаторы не имели
права вести от своего имени торговлю и были вынуждены прибегать к
посредничеству либо всадников, либо своих вольноотпущенников и даже рабов
На поприще ограбления провинций и сталкивались интересы откупщиков и
сенаторов . Наряду с этим, шло обезземеление мелкого италийского
крестьянства и образование безработного обнищавшего городского населения, но
об этом ни нобилитет, ни всадники нимало не беспокоились, занятые своими
взаимными столкновениями; хотя порой им приходилось искать поддержки
у обезземеленного плебса, но всякое предложение более глубоких реформ
с целью улучшить положение широких слоев населения отвергалось
одинаково упорно и нобилитетом и всадниками; у нобилитета оказалось еще
достаточно сил, чтобы воспротивиться реформам Гракхов и погубить обоих
братьев; но всадникам, благодаря Гаю Гракху, который ввел откупную
систему в провинции Азии, все же удалось добиться некоторого успеха: суды
были переданы в их руки, всадники получили возможность привлекать
нобилей к суду; число процессов «о вымогательстве» (de pecuniis repetundis)
Марк Туллий Цицерон
367
росло с каждым годом, тем самым претензии всадников до поры до времени
были удовлетворены.
Авторитет сенаторов был уже к концу II в. сильно поколеблен, а
затяжная Югуртинская война (111—105 гг.) нанесла ему еще один тяжелый
удар: вследствие некоторой медлительности консула 109 г. Квинта Цецилия
Метелла Нумидийского и подкупности первоприсутствующего в сенате
Марка Эмилия Скавра на первый план выдвинулись новые полководцы, еще
недавно никому не известные: «новый человек» Гай Марий и выходец из
обедневшего патрицианского рода Луций Корнелий Сулла, два смелых и
талантливых соперника, борьба между которыми не раз приводила к победе
и единовластному правлению то одного, то другого, хотя и недолгому, но
уже ясно показавшему, какой конец ожидает республику. Едва закончилась
Югуртинская война, как Марий, одержав победу над полчищами
германских племен, грозивших хлынуть в Италию, добился исключительного
влияния в государстве и на некоторое время демократические тенденции
победили: Марий, неродовитый и необразованный, семь раз избирался в консулы
(107, 104—100, 86 гг.); но это не означало, что нобилитет согласен без боя
отказаться от своей ведущей роли в государственных делах; этот
антагонизм позднее привел к кровавым схваткам 80-х годов и диктатуре Суллы.
Такова была та сложная и напряженная обстановка, полная
неразрешенных и, по существу, неразрешимых противоречий, в которой в 106 г. до н. э.
родился Марк Туллий Цицерон. Однако его детство и ранняя юность
прошли мирно, не затронутые бурями эпохи. Он принадлежал к всадническому
роду, ничем себя в истории не прославившему; отец его владел небольшим
поместьем возле Арпина (около 150 километров от Рима); Цицерон в
течение всей своей жизни подчеркивал, что он «новый человек» (homo novus)
и что его род не имеет ничего общего с патрицианским родом Туллиев.
Марий был земляком Цицерона; Цицерон, несомненно, еще с детства знал
и о военных подвигах Мария в Африке и Галлии и о его почти бессменном
консульстве; именно этот ореол славы, окружавший старого арпината,
возможно, и был причиной того, что Цицерон всегда отзывался о Марии более
благосклонно, чем можно было ожидать, имея в виду отношение Цицерона
ко всем, кто пытался поколебать основы римского государственного строя.
В ранней юности Цицерон даже написал поэму «.Марий».
Арпинским родовым имением впоследствии совместно владели Марк
Цицерон и его младший брат Квинт, но выросли они в Риме, куда их, еще
мальчиками, перевез отец, чтобы дать им образование. В Риме Цицерон
был введен в круг тех наук, изучение которых было необходимо для
молодого человека, имевшего надежду преуспеть на поприще судебного оратора,
а впоследствии вступить на путь магистратур; он изучал риторику у
известного родосского ритора Молона, жившего в те время в Риме, и
гражданское право у Квинта Муция Сцеволы Авгура и у его двоюродного брата»
368
М. Е„ Грабаръ-Пассек
законоведа. Он ознакомился с философскими учениями различных школ,
слушая эпикурейца Федра, стоика Диодота и Филона, представителя Новой
Академии; будучи подростком, он имел возможность присутствовать на
выступлениях лучших ораторов того времени — Луция Красса (умер в
91 г.), к которому на всю жизнь сохранил глубокое уважение, и Марка
Антония (убит марианцами в 87 г.); сам Цицерон готовился к публичным
выступлениям, учась декламации у знаменитого актера Росция; он хорошо
изучил греческий язык и перевел астрономическую поэму Арата,
эллинистического ученого и поэта; юношеское сочинение Цицерона «De inventione»
(«О подборе материала для речей») свидетельствует о хорошем знании
греческих риторических теорий. К военной службе Цицерон не чувствовал
влечения; прослужив около года в войске Помпея Страбона (отца Гнея
Помпея «Великого»), он вернулся к своим занятиям.
80-е годы являются тем периодом жизни Цицерона, о котором мы
ничего, по существу, не знаем. В годы борьбы между сторонниками Мария и
Суллы, когда погибли Муций Сцевола и Марк Антоний, убитые
марианцами, Цицерон, по-видимому, не принимал активного участия в борьбе
политических группировок и выжидал более подходящего момента, чтобы
начать выступать в суде. Первые дошедшие до нас речи его датируются 81
и 80 гг., т. е. кратким, но тяжким периодом диктатуры Суллы (82—79 гг.):
проскрипции уже закончились, но были свежи в памяти у всех; в силу Кор-
нелиева закона о судоустройстве, судебная власть была отнята у римских
всадников и передана нобилитету.
Первые выступления Цицерона принято считать доказательством его
демократических взглядов в этот период его жизни, поскольку он решился
в речи за Секста Росция задеть если не самого Суллу, то его временщика
Хрисогона; но это доказательство недостаточно убедительно, так как
оппозиционно настроены против Суллы были не только приверженцы Мария,
в ту пору разбитые, но и представители старинных римских родов,
утратившие при Сулле свое исконное влияние или вынужденные делиться им с
низкородными людьми из окружения Суллы. По-видимому, как ставленник
именно этих кругов — в первую очередь членов рода Метеллов — и
выступил молодой Цицерон. Но даже его осторожные выступления против сул-
ланаксто режима, по-видимому, вызвали недовольство власть имущих;
Цицерон на два года покинул Рим и уехал в Грецию—как бы заканчивать
свое образование; он побывал в Афинах, слушал лекции философа-эклектика
Антиоха Аскалонского, посетил на Родосе своего учителя, ритора Молона и
вернулся в Рим уже после смерти Суллы.
70-е годы в истории Рима были лишь немногим спокойнее, чем
предшествовавшее десятилетие: гражданская война, правда, уже не бушевала
в самих городских стенах, но с остатками марианцев велась упорная борьба
в Испании, где во главе их стоял Квинт Серторий, сопротивлявшийся в
Марк Туллий Цицерон
369
течение восьми лет (80—72 гг.); с 74 по 71 г. в Италии продолжалось
принявшее неслыханный размах восстание рабов и гладиаторов под
руководством Спартака; оно угрожало самому Риму и было подавлено с крайней
жестокостью. В том же 74 г. на Востоке началась третья война с Митрида-
том VI, затянувшаяся до 63 г. Во внутренней политике, напротив, борьба
различных группировок в это десятилетие не была такой острой, как
раньше: крайности сулланской конституции шаг за шагом смягчались; римские
всадники, жестоко пострадавшие при проскрипциях, опять подняли голову,
особенно после того, как Гней Помпеи, римский всадник, справил два
триумфа, проявив в войне с Митридатом свой выдающийся военный талант.
Перед лицом грозного восстания рабов нобилитет и римские всадники на
время забыли свои распри, и в 70 г., в консульство Помпея и Красса, был
принят закон Луция Аврелия Котты о судоустройстве — об избрании судей
не только из сенаторов, но и из всадников и эрарных трибунов 1 (из всех
трех сословий поровну); был полностью восстановлен в правах народный
трибунат, при диктатуре Суллы если и не уничтоженный формально, то
фактически лишенный своего значения.
В это десятилетие Цицерон, возвратившись из Греции, обзавелся семьей
и начал свое восхождение по лестнице государственных должностей:
в 76 г. он стал квестором и провел 75 год в Сицилии, где оставил по себе
настолько добрую славу, что в начале 70 г. сицилийские городские общины
обратились к нему с просьбой выступить обвинителем пропретора Сицилии
Верреса, который после отъезда Цицерона в течение трех лет грабил
имущество сицилийцев, а их самих подвергал издевательству, пыткам и казням.
Цицерон согласился выступить обвинителем: процесс против Верреса мог
принести ему известность, дискредитировать сенаторские суды и систему
управления провинциями и способствовать принятию Аврелиева закона,
а кроме того — что, быть может, было для него наиболее важным —
расположить в его пользу избирателей при выборах эдилов на 69 г. Все эти
расчеты оправдались: Веррес добровольно удалился в изгнание еще до
окончания процесса; Цицерон помог своему сословию, сам был избран в эдилы
и выдвинулся как оратор, издав и распространив не только две первые,
действительно произнесенные им речи против Верреса, но и те, что ему не
пришлось произнести. Все они свидетельствуют как об огромной
трудоспособности Цицерона, так и о его художественном даровании.
60-е годы были еще более богаты внешними и внутренними событиями:
в 67 г. сенат был вынужден принять крайние меры для борьбы с пиратами,
которые парализовали плавание по Средиземному морю, подвоз хлеба в
Италию и даже стали появляться в устье Тибра. Скрепя сердце, сенат
поручил единоличное командование все тому же Помпею, который блестяще
1 Об эрарных трибунах см. прим. 93 к речи 6.
24 Цицерон, т. I
370
М. Е. Грабаръ-Пассек
выполнил свою задачу, закончив войну с пиратами в несколько месяцев. Уже
в следующем году война с Митридатом приняла угрожающий оборот, так
что и на нее пришлось, несмотря на сопротивление многих сенаторов из
старого нобилитета, отправить опять-таки Помпея, снабдив его
неограниченными полномочиями. Наконец, в 63 г. республиканскому строю и в первую
очередь сенату едва не был нанесен жестокий удар заговором Катилины.
Вопрос о руководителях, причинах и ходе развития этого заговора
чрезвычайно сложен; по-видимому, начавшись в среде разорившихся нобилей,
во главе которых встал Луций Сергий Катилина, принадлежавший и сам
к этой группе, движение стало быстро разрастаться, захватывая все более
широкие слои населения; к нему стали примыкать как крестьяне,
утратившие свою землю, так и ветераны Суллы, получившие земельные наделы, но
не сумевшие вести хозяйство; вопрос о привлечении беглых рабов в войско
Катилины не вполне ясен; однако самый факт, что можно говорить о
«войске» Катилины, что против него были посланы войска под началом консула
Гая Антония и претора Квинта Метелла Целера и что битва под Писторией
в январе 62 г., закончившаяся истреблением войска Катилины и гибелью
его самого, была упорной и жестокой — все это свидетельствует о том, что
движение вышло за пределы «заговора».
Для Цицерона 60-е годы были самым блестящим периодом его жизни:
в 66 г. он был претором и произнес свою первую чисто политическую речь
в пользу предоставления Помпею верховного командования в войне с
Митридатом. В этой речи он восхваляет Помпея, его военный талант, его
честность и скромность и подчеркивает, что Помпеи — только римский всадник,
а не нобиль; с большим искусством он указывает и на то, что неудача в
войне с Митридатом грозит разорением не только откупщикам, вложившим
в восточные провинции большие денежные средства, но и сенаторам. В 64 г,
Цицерон был избран в консулы на 63 г. Получив эту высшую
государственную магистратуру, он достиг предела своих желаний и показал себя ярым
противником всяких попыток изменить, а тем более ниспровергнуть
существующий государственный строй; едва вступив в должность, он резко
воспротивился проекту земельной реформы, внесенному трибуном Публием
Сервилием Руллом; вскоре он выступил в защиту некоего Гая Рабирия,
обвиненного, правда, по прошествии долгого срока, в убийстве народного
трибуна Сатурнина в 100 г.; наконец, в своей борьбе с Катилиной он совершил
деяние, которое он в течение многих лет восхвалял как свой величайший
подвиг, как «спасение государства»: казнил без формального суда пятерых
римских граждан, главных участников заговора Катилины.
Вопрос о том, имел ли Цицерон право так поступить, не раз обсуждался
и в римском сенате и в последующей литературе о Цицероне; сенат не имел
судебной власти, и Цицерон, если бы положение не было угрожающим, был
бы обязан предать заговорщиков суду; но сенат имел право выносить —
Марк Туллий Цицерон
371
и в данном случае вынес — senatus consultum ultimum, т. е. объявил
чрезвычайное положение и предоставил консулам право жизни и смерти; вся
ответственность в таких случаях .падала на консула, против него
впоследствии мог быть возбужден процесс, причем сенат не мог его защитить.
Это и произошло с Цицероном, который в течение 60-х годов все более
прочно связывал свою судьбу с сенатом. Ораторский талант Цицерона в
эти годы был в полном расцвете; как его судебные речи (речь по
уголовному делу Клуенция), так и политические выступления (речи об аграрном
законе и против Катилины) являются образцами красноречия и в то же
время изобилуют примерами ораторской находчивости; в речи в защиту
Мурены, обвиненного в подкупе избирателей, талант Цицерона
раскрывается еще и с другой стороны, которую он проявляет обычно в своих письмах;
это шутливость и остроумие; дело в том, что Мурена был одним из
помощников Цицерона при раскрытии и подавлении заговора Катилины; он был
уже избран в консулы на 62 г., когда его соперник, потерпевший неудачу,
обвинил его в подкупе избирателей (de ambitu); для Цицерона было очень
важно закрепить на следующий год одно консульское место за своим
сторонником, но дело Мурены было, по-видимому, настолько Сомнительным,
что Цицерону пришлось не столько доказывать слушателям невиновность
Мурены, сколько ошеломлять их блеском своих аргументов; речь вызвала
неодобрение строгого Катона, но Мурена был оправдан.
Нападки на Цицерона за его расправу с заговорщиками начались
немедленно по окончании его консульства; теперь, когда опасность миновала, даже
и сенат поддерживал его недостаточно энергично, а народный трибун Ме-
телл Непот не дал ему произнести обычную «прощальную» речь. В
дальнейшем положение Цицерона стало все более ухудшаться; начался ряд дел
против его единомышленников; Цицерон по-прежнему выступал в их защиту
и все чаще упоминал о собственных заслугах перед государством.
50-е годы не принесли успокоения, напротив, в течение всего этого
десятилетия борьба между политическими группировками становилась все
острее и постепенно принимала форму уличных боев. В 60 г. Цезарь, Помпеи
и Красе объединились для совместной борьбы против сената (так
называемый Первый триумвират); назревала новая гражданская война —
между Помпеем, ставшим теперь на сторону сената, и Цезарем, который в
эти годы «жаждал великой власти, командования войском, новой войны, где
могла бы заблистать его доблесть» (Саллюстий, «Катилина», 54, 4).
Хотя главные силы Катилины были разбиты и он сам погиб, в Риме —
к несчастью для Цицерона — осталось немало его приверженцев; их
возглавил Публий Клодий, ярый враг Цицерона.
Публий Клодий Пульхр происходил из патрицианского рода Клавдиев.
Уже в молодости, служа в войске Лукулла, Клодий затеял мятеж;
вернувшись в Рим, он не только стал поражать благонамеренных граждан шумными
24*
372
М. Е. Грабаръ-Пассек
и скандальными любовными похождениями, но и пытался играть
политическую роль своей резкой оппозицией сенату. В заговоре Катилины он,
по-видимому, лично не участвовал, так как на это ни в письмах, ни в речах
Цицерона намеков нет; но зато тем чаще и охотнее возвращается Цицерон к
«нечестию» Клодия, который в 61 г. прокрался в дом Юлия Цезаря, одетый
в женское платье, в день жертвоприношения Доброй богине, к которому
допускались одни только женщины; против Клодия было возбуждено
судебное преследование, но ему удалось путем подкупа судей добиться
оправдательного приговора. С этого времени вражда между ним и Цицероном
разгорелась с особенной силой. Однако Клодий как патриций был лишен
возможности предпринимать решительные шаги против сената, не выходя за рамки
законности, а неудача Катилины показала, что сенат еще достаточно силен.
Поэтому Клодий постарался перейти путем усыновления в плебейский род
Фонтеев, что ему удалось в 59 г.; в том же году он был избран в народные
трибуны на 58 г. и повел открытую атаку против сената вообще и в
особенности против Цицерона. В 58 г. Цицерон, опасаясь худшего исхода,
добровольно удалился в изгнание, после чего, по предложению Клодия, был
принят закон, осуждавший его на изгнание за казнь сторонников Катилины;
его дом в Риме и усадьбы были разрушены, имущество взято в казну. Сенат,
надевший траур в знак скорби о Цицероне, защитить его не сумел, а
Помпеи, запуганный Клодием и боявшийся резни в городе, то упорно
скрывался от Цицерона, то ограничивался успокоительными отговорками.
Свое изгнание Цицерон провел в Греции и переносил чрезвычайно
тяжело; оно продолжалось около полутора лет. Законом, предложенным
консулом 57 г. Публием Корнелием Лентулом Спинтером, Цицерону было
разрешено вернуться в Рим. Он был возвращен с почетом, но когда остыла
первая радость по поводу возвращения на родину и свидания с семьей и
друзьями, Цицерону пришлось перенести немало неприятностей в связи с
хлопотами о возвращении ему его имущества. Клодий был еще достаточно
силен и Цицерону лишь с большими трудностями удалось получить обратно
дом и усадьбы и восстановить дом на государственный счет (см. речи
«О своем доме» и «Об ответах гаруспиков»). Еще больше, чем эти
затруднения материального характера, беспокоила Цицерона политическая
обстановка; он увидел, насколько запутанной стала она за время его изгнания;
последовательно придерживаться избранной им линии, направленной на
сплочение нобилитета и всадников и оправдавшей себя в минуту острой
опасности со стороны Катилины, теперь уже было невозможно; пришлось
лавировать между двумя соперниками, Помпеем и Цезарем, отношения
между которыми были еще не враждебными, но уже неустойчивыми. Цицерон
склонялся более к Помпею, который в это время решил более крепко
связать свою судьбу с сенатом; но после того как Цицерон выступил в сенате
против проекта Цезаря о распределении кампанских земель, Помпеи и Це-
Марк Туллий Цицерон
373
зарь, встретившись в Луке в 56 г., согласовали спорные вопросы, и
Цицерону пришлось произнести в сенате речь «О консульских провинциях»,
в которой он высказался за продление наместничества Цезаря в Галлии. Но
с 54 г. отношения между Помпеем и Цезарем снова ухудшились, и
Цицерону, только что завязавшему мнимую дружбу с Цезарем через своего брата
Квинта, который был легатом Цезаря, опять пришлось решать, на чью
сторону ему встать.
Положение Цицерона осложнялось еще тем, что он был обязан своим
возвращением ряду лиц, из которых далеко не все были ему симпатичны,
но которых он был вынужден защищать, если им грозила опасность; так,
в 56 г. он защищал Публия Сестия, обвиненного в «насильственных
действиях», в 54 г.— Гнея Планция, обвиненного в «домогательстве»; оба дела
были, по-видимому, несколько сомнительны, и Цицерону пришлось больше
говорить о той помощи, какую Сестий и Планций оказали лично ему во
время его изгнания, чем оправдывать их поведение. Ораторский талант
Цицерона в эти годы начинает сильно тускнеть; до нас, правда, дошла его
блестящая речь «В защиту Целия», но речи за Сестия и за Планция уже
растянуты, переполнены обвинениями и оскорблениями по адресу Клодия,
патетическими возгласами и общими рассуждениями. В 52 г. Цицерон был
вынужден выступить по еще более сомнительному делу: при довольно
неясных обстоятельствах, в схватке на Аппиевой дороге, Публий Клодий был
убит рабами Тита Анния Милона, народного трибуна 57 г., сторонника
возвращения Цицерона из изгнания. Долг благодарности побуждал
Цицерона защищать этого человека, о котором он сам был невысокого мнения
(см. письмо к Аттику, IV, 2, 7); кроме того, сторонники убитого создали
в городе такую напряженную обстановку, что во время суда форум был
оцеплен войсками. Цицерон пытался доказать, что Милон был неповинен
в убийстве Клодия, более того, что Клодий готовил Милону засаду; однако
это был один из немногих случаев, когда речь Цицерона не привела к
оправданию обвиняемого: Милон был осужден и удалился в изгнание.
В 51 г. Цицерон был назначен в качестве проконсула в Киликию, где он
показал себя человеком честным и справедливым. Однако душой он жил в ь
Риме, вел постоянную переписку с Марком Целием, сообщавшим ему все
римские новости; едва дождавшись окончания проконсульства, он вернулся
в Рим незадолго до начала гражданской войны. С января 49 г. события
стали развиваться чрезвычайно быстро. Гражданская война, перенесенная
из Италии в Эпир и Фессалию, не закончилась после победы Цезаря при
Фарсале и гибели Помпея в Египте: помпеянцы еще долго оказывали
сопротивление сперва на Востоке и в Африке, где после их поражения кончил
самоубийством Катон, а потом в Испании. Цезарю, до его гибели в
«мартовские иды» 44 г., удалось пробыть диктатором в Риме в сравнительно
спокойной обстановке лишь один год.
374
М. Е. Грабаръ-Пассек
Когда началась гражданская война, Цицерон находился в Риме; после
долгих и мучительных колебаний он последовал за Помпеем и за теми
сенаторами, которые вместе с Помпеем и сенатским войском покинули Рим;
Цицерона возмущало поведение обоих соперников: Цезарь явно пошел
против государства, отказавшись подчиниться решению сената о роспуске
своего войска, ,и в глазах Цицерона тем самым превратился >в «тиранна» (см. II
и XIV «Филиппики»); Помпеи же действовал слишком медленно и
нерешительно, а его приверженцы-нобили умели только спорить о том, какие
должности они займут в Риме после победы над Цезарем. При поражении
Помпея Цицерон не присутствовал: он не поехал дальше города Диррахия в
Иллирике и после известия о Фарсальской битве вернулся в Италию.
Однако помпеянцам не было разрешено возвратиться в Рим немедленно, и
Цицерону пришлось провести год в Брундисии; он переносил свое невольное
изгнание еще хуже, чем добровольное, и чуть ли не ежедневно посылал
своим друзьям в Рим умоляющие письма. Наконец, Цезарь, на обратном пути
из Египта, где он вмешался в династические раздоры (Александрийская
война 48—47гг.), разрешил Цицерону, лично встретившись с ним в Тарен-
те, вернуться в Рим. Но и в Риме Цицерон уже не чувствовал себя
счастливым: невозможность принимать участие в государственных делах и даже
открыто выступать на форуме, угнетала его; к этому присоединились и
личные неприятности: в 46 г. он развелся с женой Теренцией, которая, по его
утверждению, в его отсутствие небрежно вела его финансовые и
хозяйственные дела, слишком доверяя вольноотпущенникам; новый брак Цицерона с
богатой молодой Публилией окончился через год разводом. Самым
тяжелым ударом для Цицерона была смерть любимой дочери Туллии (в 45 г.);
однако Цицерон нашел в себе силы работать над сочинениями по
философии и ораторскому искусству; в эти годы написан ряд его произведений, в
том числе и «Брут», одна из его лучших книг, где он дал историю римского
красноречия. Кроме того, от этого периода осталось много писем и только
три речи, произнесенные перед Цезарем; в них Цицерон ходатайствовал за
бывших помпеянцев Марка Марцелла и Квинта Лигария и за галатского
царя Дейотара — изящно и красноречиво, но не очень убедительно.
Гибель Цезаря от руки заговорщиков, многие из которых — прежде
всего Марк Брут — были личными друзьями Цицерона, вызвала в нем
большую радость и надежду на восстановление прежнего республиканского
строя. Наступил последний подъем политической деятельности и
ораторского искусства Цицерона. Он принял живое участие в оппозиции, которую
сенат оказал Марку Антонию, ярому цезарианцу.
Марк Антоний, внук известного оратора, был храбрым воином, но
человеком распущенным и беспринципным; в первые дни после смерти Цезаря,
боясь за себя и своих сторонников, он, упразднив само название
«диктатура», выражал свое полное согласие с политикой сената; но вскоре, видя
Марк Туллий Цицерон
375
нерешительность убийц Цезаря, он стал забирать власть в свои руки,
проводил различные антисенатские мероприятия» ссылаясь на якобы найденные
им распоряжения Цезаря, и, наконец, перешел к открытым военным
действиям, осадив в Муните Децима Брута, одного из убийц Цезаря.
Цицерон, в первое время пытавшийся поддерживать с Антонием
хорошие отношения, вскоре круто переменил свою позицию и обрушился на
Антония в ряде гневных речей, которые он сам назвал «Филиппиками»
(в подражение речам Демосфена против македонского царя Филиппа).
Недостаток энергии Брута и Кассия, потери сенатского войска в сражении
под My тиной и двуличное поведение молодого Октавйана, внучатного
племянника Цезаря, усыновленного им,— все это омрачило последние месяцы
жизни Цицерона. Войско, посланное на подмогу Дециму Бруту под
командой консулов Авла Гирция и Гая Пансы, разбило Антония, но оба консула
пали, а Октавиан, который участвовал в войне на стороне сената, теперь,
действуя в интересах своих цезариански настроенных солдат, вошел в
соглашение с только что побежденным Антонием, который уже ранее привлек на
свою сторону Марка Лепида, располагавшего значительными силами. Таким
образом, был создан второй триумвират. Овладев положением, триумвиры
прибыли в Рим. Одной из первых жертв проскрипций, объявленных
триумвирами, был Цицерон; при попустительстве Октавйана, пытавшегося, по
словам Плутарха («Цицерон», 46), в течение двух дней отстоять Цицерона,
Антоний отомстил за оскорбления, которыми Цицерон осыпал его в «Фи-
липпиках». Цицерон, может быть, и избежал бы смерти, если бы
своевременно уехал в Грецию, но он не сумел — или не захотел — сделать это;
убийцы, посланные Антонием, настигли его возле Кайеты, где у него было
поместье. Ему отрубили голову и правую руку к, по распоряжению
Антония, выставили их в Риме на форуме. Это жестокое издевательство над
убитым «отцом отечества» (это почетное наименование было дано Цицерону
сенатом после подавления заговора Кати\ины) вызвало негодующие
отклики многих историков и поэтов последующих веков.
II
Даже из такого сжатого обзора жизни Цицерона, данного на фоне
событий его времени, (Можно 'видеть, насколько тесно была связана его жизнь
со всем, что совершалось в государстве, насколько живо он откликался на
все происходившее. Ознакомимся теперь несколько ближе с тем, каковы
были его отклики на современные ему события, и выясним, какого мнения
он держался насчет общего положения вещей в государстве и как отвечал
на те важнейшие вопросы внутренней и внешней политики, вокруг которых
велась непрерывная борьба. Были ли его взгляды по этим вопросам
постоянны или изменчивы (ведь именно в этом и расходятся мнения историков)?
376
М. Е. Грабаръ-Пассек
Такими важными и острыми вопросами в I в. были следующие: 1)
оценка существующего строя государства, системы управления и деятельности
исконных органов государственной власти (сенат, магистраты, трибунат,
комиции); 2) отношение к попыткам изменить этот строй, к диктатуре и к
борющимся между собой сословиям и группировкам (нобилитет, римские
всадники, городская и сельская беднота, рабы), к вождям различных групп
(Марий, Сулла, Помпеи, Цезарь, Клодий, Антоний); 3) вопрос о
законодательстве и судопроизводстве; 4) отношение к собственности вообще и к
проектам земельных реформ; 5) чрезвычайно острый вопрос об управлении
провинциями и об отношении к союзникам. Из тех ответов, какие Цицерон
дает на эти вопросы, и вытекает его характеристика как государственного
деятеля, а отчасти и как человека.
Среди множества исследователей, уделявших Цицерону внимание
длительно или мимоходом и нередко упрекавших его за тот или иной взгляд
или поступок, едва ли найдется хоть один, который решился бы упрекнуть
Цицерона в отсутствии любви к Риму,— как к самому городу, так и к
римской державе. Вне Рима для Цицерона не было жизни; даже в своих
усадьбах, из которых он больше всего любил тускульскую, он никогда не мог
пробыть долго; не только в изгнании или в течение вынужденного
пребывания в Брундисии после поражения Помпея, но во время проконсульства в
Киликии он умолял своих друзей сообщать ему обо всех событиях в Риме;
сам он постоянно пишет даже о мелких происшествиях в городе своему
другу и свояку Титу Помпонию Аттику, который большей частью жил в своем
поместье в Эпире (он ;вел финансовые дела Цицерона я м«огих 'видных
людей и появлялся в Риме не особенно часто, но как раз во "все важные
моменты политической жизни).
Принимая горячее участие во всех современных событиях и
происшествиях, Цицерон нередко критикует людей своего времени; с тем большим
уважением говорит он о прошлом Рима; ссылки на предков и на их
«заветы»— его излюбленное «общее место», без которого не обходится почти
ни одна его речь. Цицерон охотно приводит из истории Рима примеры
воинской доблести, верности долгу и слову, честности и неподкупности. Его
любимый герой и образец — Марк Порций Катон Старший (234—149);
возможно, что в его судьбе он видел общие черты со своей собственной
карьерой: Катон происходил из плебейского рода Порциев, родился в Тус-
куле, но провел молодость в Самнии, в горной усадьбе; на политическом
поприще он был «новым человеком», свои первые шаги сделал благодаря
поддержке знатного соседа по имению, Валерия Флакка, и достиг не только
консульства, но и цензуры; образ Катона Цицерон сильно идеализировал и,
по-видимому, делал это вполне искренне. Восхваляя доблесть и мудрость
предков, Цицерон, однако, обычно приводит примеры из времен первой и
второй пунических войн; II в., кажется ему, уже содержал элементы порчи
Марк Туллий Цицерон
377
исконного государственного устройства. В этом его взгляды совпадают с
взглядами его недруга Саллюстия, сформулировавшего более четко теорию
«падения нравов», вызванного ростом богатства р>имлян.
К отдельным составным элементам римской конституции Цицерон
относится не всегда одинаково: превознося сенат прежних времен, он порой
довольно сурово относится к современному ему сенату; правда, нельзя
забывать, что Сулла ввел в сенат множество своих приспешников; возможно, что
сенаторами стали даже сулланские вольноотпущенники, которых у Суллы
было множество и которые все получили родовое имя Суллы — Корнелиев.
После смерти Суллы списки сенаторов были пересмотрены, многие новые
члены -сената были из него исключены. Однако в 60-е годы Цицерон, в своих
выступлениях по делу Верреса не слишком 'почтительно 'отзывавшийся о
сенате, в особенности об отдельных сенаторах ,и о сенатских судах, стал
сближаться с сенаторами «и как при .подавлении заговора Катилины, так и
после него обращался к сенату как к высшему государственному органу.
Значительно менее доброжелательно Цицерон относился к народным
трибунам, всегда ожидая от них вмешательства .в уже предрешенные дела и
каких-либо «мятежных» замыслов; даже в 70 г., во время подготовки
процесса Верреса, он довольно сдержанно говорит о предложении Помпея
вернуть трибунам всю полноту их власти (Верр., первая сессия, 15, 45); еще
более резко отзывается он в речи в защиту Клуенция о том вредном
влиянии, какое трибун Луций Квинкций оказывал на народные массы, собирая
их на сходки и возбуждая их против сенаторов (За Клуенция, 39, 108).
При вступлении в должность консула Цицерон столкнулся с проектом
земельной реформы, предложенной народным трибуном Публием Сервилием
Руллом, которого он обвинил в стремлении захватить власть и ограбить
Италию и провинции. В дальнейшем он столь же неблагосклонно
вспоминает о выступлениях Ливия Друса, вызвавших Союзническую войну.
О третьем составном элементе государственного строя Рима — народном
собрании или комициях — Цицерон отзывается всегда с уважением; он
строго различает «римский народ» (populus Romanus) и «толпу» (vulgus), «ко-
миции» и «сходки» (contiones); «толпу» он упрекает в непостоянстве и
непродуманных решениях, ее вождей — в склонности к мятежу; напротив,
голос комиций, избирающих магистратов в установленном порядке, является,
по словам Цицерона, подлинным суждением римского народа, которому
избранный должен быть благодарен за доверие (О Манилиевом законе,
24, 69). Было бы, конечно, странно думать, что Цицерон, много раз
выступавший в процессах «о незаконном домогательстве», был твердо уверен в
том, что избиратели всегда подают голоса, не получив предварительно
наград или, во всяком случае, обещания наград; все сочинение его брата
Квинта (Commentariolum petitionis), в котором он поучает своего старшего
брата, «как добиваться консульства», посвящено именно этому вопросу;
378
Mo E. Грабаръ-Пассек
правда, о денежных вознаграждениях в нем речи нет, но оказание услуг и
любезные беседы с избирателями считаются явлением желательным.
Вполне искренно идеализируя государственный строй древнейших
времен, Цицерон видит недостатки современного ему строя, но, не умея
раскрыть их причин, все же резко противится изменению его в каком-либо
отношении, кроме возвращения к старине; иначе говоря, Цицерон в своих
общих положениях, касающихся государственно-правовых норм, является
несомненным консерватором.
Исходя из таких воззрений, Цицерон враждебно относится к
единоличной диктатуре, приравнивая ее к греческой «тираннии»; он, конечно, хорошо
знал, что в особо затруднительных положениях в Риме, начиная с
древнейших времен, избирали диктатора; но диктатор в этих случаях облекался
полнотой власти преимущественно для ведения войны, а по прошествии ее
(большей частью по истечении шести месяцев) слагал с себя полномочия;
полноту власти он получал от сената и народного собрания. Правомерность
таких чрезвычайных полномочий военного характера Цицерон, несомненно,
признавал, почему он и ходатайствовал в 66 г. о назначении Помпея
главным военачальником в войне против Митридата, а через десять лет, правда,
уже не слишком охотно — о продлении полномочий Цезаря, воевавшего в
Галлии.
Но к тому, что он называл «царской .властью», к единовластию и
произволу правителя, не подчиняющегося постановлениям сената, Цицерон
всегда относился с отвращением; он был настолько привязан к
традиционным формам управления государством, что недостаточно ясно оценивал их
непригодность к новым политическим и .имущественным соотношениям,
сложившимся в I в. до н. э.
Наиболее серьезным вопросом, который различные историки решают
по-разному, является вопрос о том, был ли Цицерон в начале своей
деятельности «популяром» и можно ли считать его ренегатом, перекинувшимся из
честолюбия на сторону сената; такие нарекания обосновываются обычно
тем, что он в молодости выступал против Суллы, т. е. якобы против
нобилитета вообще, а также опираются на интересный памятник — так
называемую «инвективу Саллюстия против Цицерона» и ответную «инвективу
Цицерона против Саллюстия». Ныне признано, что эти инвективы являются
риторическими упражнениями I—II вв. н. э., что, однако, не уменьшает их
значения, поскольку они свидетельствуют о том, что уже тогда политическая
позиция Цицерона была предметом споров.
Однако из того, что Цицерон не принадлежал к представителям
демократического крыла, не следует делать вывода, что он был только
случайным приверженцем знатных покровителей или ограничивался абстрактным
восхвалением «доблести предков»; он хотел и умел защищать интересы той
группы, к которой принадлежал по происхождению, т. е. римских всадников;
Марк Туллий Цицерон
379
своей принадлежностью к ней, а также и успехами ее представителей он
гордился; обиды, наносимые ей, переживал, как обиду личную, и, исходя из
этого, составил себе ту политическую программу, о которой неоднократно
говорил в своих речах; программа эта — «consensus bonorum omnium», т. е.
«согласие между всеми честными гражданами» (или, так сказать,
«порядочными людьми»)—соответствовала соотношению сил в те моменты, когда
обеим привилегированным группам римских граждан — нобилитету и
римским всадникам — грозила общая опасность.
О том, что эта программа «согласия между сословиями» (concordia
ordinum) не могла быть долговечной, говорить нечего; судя по
высказываниям Цицерона в письмах к Аттику, Цицерон сам понимал это и не раз
отзывался то с резкой критикой, то с насмешкой как о «твердокаменных»
защитниках сенатской знати, например, о Катоне, так и о разбогатевших
откупщиках-всадниках; тем упорнее он настаивал в своих речах на
необходимости оберегать это «согласие». Ходатаем за права римских всадников
Цицерон был с самого начала своей деятельности; наиболее горячо он
выступал в их пользу в своих речах против Верреса и в речи о Манилиевом
законе.
Цицерон основой всякой законности полагал нерушимое право
собственности; нарушение его он считал недопустимым беззаконием. Именно
поэтому все проекты земельной реформы вызывают отчаянное сопротивление
Цицерона; всякая земельная реформа была в его глазах связана с какими-
то диктаторскими полномочиями — комиссии или единоличного
властителя — и уже тем самым казалась ему неприемлемой.
Одной из привлекательных черт характера Цицерона, как мы видели,
была его личная честность: именно поэтому он искренно возмущался
ограблением провинций, которое позволяли себе наместники; те же громы и
молнии, которые он метал в Верреса, он — в менее патетической форме, но не
с меньшим негодованием — мечет в своего предшественника по управлению
Киликией в конце 50-х годов (письма к Аттику, V 16, 2—3; 17, 6; 21, 7—13:
к близким, XV 4, 2); в своих письмах к брату, управлявшему провинцией
Азией (К брату Квинту, I 1; 2), он дает точные указания и разумные
советы о том, как надо относиться к населению провинций. Единственным
суровым выступлением Цицерона по отношению к населению провинций
является его речь в защиту Фонтея (69 г.), которого галлы обвинили в
лихоимстве; но возможно, что к населению Галлии (в отличие от жителей
восточных провинций), Цицерон относился враждебно, памятуя нашествие
галлов на Рим, и презрительно, как к «дикарям». Напротив, о Египте,
Малой Азии, островах Эгейского моря и особенно о Греции он говорит с
уважением и дружелюбием, памятуя великую прежнюю славу этих стран и ценя
их древ.нюю культуру; так же отзывается он и об италийских муниципалах
и союзниках, в защиту которых он так часто выступал.
380
М. Е. Грабарь-Пассек
III
Литературное наследие Цицерона очень велико и разнообразно. Прежде
всего его слава основывается, несомненно, на его речах. Хотя не все его
речи дошли до нас, но число сохранившихся достаточно велико, а характер
их достаточно ясно выражен, чтобы наше представление о его ораторском
даровании было вполне законченным и исчерпывающим. В полное собрание
его сочинений принято включать пятьдесят восемь речей, большинство
которых сохранилось полностью; в нескольких недостает начала, в
нескольких— конца, в иных имеются пропуски (лакуны); несколько речей,
представляющих собой фрагменты, достаточно крупные и содержательные,
также обычно включаются в собрание (речи по делу актера Росция, по
делу Марка Туллия, в защиту Фонтея); помимо этого, имеются еще
незначительные фрагменты, приведенные позднейшими авторами (Авл Геллий,
Макробий и др.); известны также и названия многих утраченных речей
(около тридцати), упоминаемых либо самим Цицероном, либо другими
писателями.
При изучении речей Цицерона как произведений литературных нередко
приходится обращаться к его сочинениям по теории ораторского искусства.
Для выяснения взглядов Цицерона на искусство речи чрезвычайно важны
три его крупных произведения, написанные им в уже позднем возрасте:
«De oratore» (Об ораторе), «Brutus» (Брут, с позднейшим подзаголовком
«De claris oratoribus» — О знаменитых ораторах), «Orator» (Оратор) и
несколько небольших («О наилучшем роде ораторов» и др.). Рисуя в них
образ идеального оратора, Цицерон в то же время дает много интересных
практических указаний и советов, полезных для начинающего оратора,
приводит примеры из своих речей, излагает теорию речевых стилей,
характеризует своих предшественников и полемизирует с современниками.
Поскольку Цицерон считал широкое философское образование непременным
условием того, чтобы стать хорошим самостоятельным оратором, а не только
имитатором чужих ухищрений, то он уделил немало внимания и
философским проблемам, преимущественно этического и политического характера.
Наконец, к литературным произведениям Цицерона можно отнести и
его письма; число его писем, дошедших до нас, превышает девятьсот.
Письма от конца 60-х, от 50-х и 40-х годов дают полную картину жизни Рима
в эту бурную эпоху и рисуют нам образ самого Цицерона гораздо ярче, чем
его речи и философские трактаты.
Задачи, стоящие перед ораторским искусством вообще, Цицерон
формулировал следующим образом: «Красноречивым можно считать того, кто,
говоря и на форуме, и в суде, умеет доказывать, очаровывать и убеждать.
Доказывать необходимо, очаровывать приятно, убеждать — верный путь к
победе; именно это последнее свойство наиболее важно, если хочешь выиг-
Марк Туллий Цицерон
381
рать дело; сколько задач стоит перед оратором, столько же имеется видов
красноречия: доказывать надо тонко, очаровывать — в меру, убеждать
горячо; во .всем этом и заключается сила оратора» («Оратор», 21, 69).
В течение своей долгой ораторской деятельности Цицерону приходилось
выступать по самым разнообразным вопросам и перед разного рода
слушателями: в суде по делам гражданским и уголовным, в сенате и комициях
на темы 'политические. В судебных делах Цицерон в подавляющем
большинстве случаев выступал как защитник; уже согласившись взять на себя дело
по обвинению Верреса, он с самого начала счел нужным подчеркнуть, что
такая роль ему не свойственна и не совсем приятна; правда, по существу
Цицерон и здесь остался верен своему призванию защитника, ратуя за
сицилийцев, ограбленных и оскорбленных Верресом. Однако в позднейшие
периоды своей жизни Цицерону иногда приходилось закрывать глаза на
факты, защищая своих единомышленников и благожелателей.
Уже задолго до времени Цицерона в риторике была выработана
классическая схема защитительной речи, сохранявшая свою силу в течение
многих веков; схему эту, в основном, сохраняет и Цицерон. Судебная речь
должна, во-первых, ознакомить слушателей с фактическим составом дела;
во-вторых, дать освещение и оценку изложенных фактов и сделать из этого
выводы; обвинитель, выступающий первым, уже должен изложить сами
факты; но он дает им оценку не в пользу обвиняемого и требует осуждения
его; поэтому защитник имеет право еще раз повторить рассказ о
происшедшем конфликте и осветить его со своей точки зрения, приведя
доказательства в пользу своего истолкования; затем он должен систематически
опровергнуть доказательства обвинителя. Таким образом, речь защитника
естественно распадается на три основные части: 1. повествование (narratio);
2. истолкование фактов, подкрепленное доказательствами (probatio);
3. опровержение доводов обвинителя (refutatio). Дополнительными частями
являются введение (exordium), обрисовка главной темы, которой будет
посвящена речь (propositio), план речи по ее разделам (partitio) и заключение
(peroratio). Хотя античная риторика вводит и более мелкие подразделения
этой схемы, но каких-либо существенных изменений они в нее не вносят.
Оратор, конечно, может в разной степени обнаруживать свой талант в
той или иной трактовке этой схемы: в умелой композиции, в соразмерности
частей, в убедительных и точных доказательствах, в остроумном
опровержении доводов противника, в живости рассказа, в горячности и пафосе,
наконец, в словесном мастерстве — во владении синтаксическим строем
речи, лексикой и синонимикой, риторическими приемами и даже чисто
звуковой стороной: фонетикой и ритмикой. Цицерон, несомненно, владеет
всеми сторонами этого сложного искусства,^но, по его собственному признанию,
не всеми в равной мере: в некоторых его дарование обнаруживается
особенно ярко, в других выступают налицо и известные его недостатки.
382
М. Е. Грабаръ-Пассек
Наиболее слабой стороной некоторых речей Цицерона можно считать их
композицию; сам Цицерон (см. «Брут», 37, 95) с завистью
противопоставляет себе своего старшего современника Гортенсия, который заранее
намечал себе план речи и следовал ему неуклонно; Цицерон, более живой и
эмоциональный, напротив, нередко отклоняется от того плана, который он сам
излагает в разделе «partitio». Другим недостатком большинства его речей
являются излишнее многословие и патетические повторения одних и тех же
мыслей.
Исключительно интересной частью речей Цицерона является
«повествование» (narratio); к нему Цицерон прилагал, по-видимому, особые
старания; вероятно, немалого труда стоило ему создавать из фактов, уже
известных судьям и слушателям (из речи обвинителя, а при громких делах и до
слушания дела в суде), блестящие захватывающие рассказы и бытовые
картины; особенно хороши повествовательные части в речах против Верре-
са, в защиту Клуенция и в защиту Целия. Повествовательную часть речи
Цицерон нередко оживляет историческими анекдотами, вымышленными
диалогами между действующими лицами, поговорками, литературными
цитатами, философскими сентенциями, шутками и игрой слов.
Собственно юридическая часть речи разрабатывается Цицероном в
разных речах по-разному: наиболее строго и логично он ведет свою
аргументацию там, где он твердо уверен в правоте дела. Там, где дело не столь
ясно (например, в речах в защиту Мурены и Сестия), Цицерон переносит
тяжесть доказательств не на подбор фактов, а на их освещение и
истолкование. В таких случаях ему нередко приходилось пускать в ход два
средства: либо морализирующий пафос, либо остроумные шутки; и то и другое
производило, очевидно, чарующее впечатление и на судей и на слушателей.
В вводных и особенно в заключительных частях судебных речей
Цицерон нередко прибегает к одним и тем же приемам: гв exordium взывает к
справедливости судей и выражает свою уверенность в их честности,
непоколебимости и неподкупности (особенно усердно он делает это в тех
случаях, когда он сомневается в наличии этих качеств);, в заключении
защитительной речи (peroratio, epilogus) он взывает к милосердию судей, рисуя —
часто гиперболически — печальную участь обвиняемого в случае его
осуждения, горе его семьи и родичей.
Политические речи Цицерона построены в общем по схеме, сходной с
судебными, и в них особенно сильна повествовательная часть.
Аргументация же в пользу того политического мероприятия, о котором идет дело, и
опровержение доводов лиц, несогласных с ним, проводится менее
систематично, чем iB речах судебных, но чрезвычайно искусно; например, в речах
прртив земельных законов Рулла и в речи о законе Манилия Цицерон
играет на стремлении сенаторов к наживе и на их нежелании поступиться
своим имуществом и привилегиями.
Марк Туллий Цицерон
383
Особенным украшением речей Цицерона являются художественные
характеристики заинтересованных лиц; так в речи о Манилиевом законе он
в панегирических тонах представляет слушателям Помпея, а в речи в защиту
Мурены он, не давая ни одной характеристики в буквальном смысле слова,
изображает как бы мимоходом, но совершенно ясно три различных образа:
Мурены, храброго на войне, но веселого, легкомысленного и в то же время
хитрого в мирное время; его соперника Сервия Сульпиция, упорного,
прилежного, но неуживчивого и скупого законоведа; сурового, строго
принципиального стоика Марка Катона.
Наряду с характеристиками лиц, так или иначе заинтересованных в
судебных делах, Цицерон умеет дать и живые портреты политических
деятелей своего времени; при этом ему удается обрисовать людей, которых он
не любит, лучше, чем своих друзей; последние обычно переполнены
хвалебными эпитетами в превосходной степени; наиболее интересны портреты
Катилины и Гая Юлия Цезаря; и того и другого Цицерон считает врагами
отечества, дорогого ему республиканского строя и в то же время не может
устоять перед неотразимым обаянием этих высокоодаренных людей.
Достаточно прочитать характеристику Катилины в речи за Целия (гл. 5—6,
12 ел.) и Цезаря ibo II Филшшшке (55, 117,), чтобы убедиться в этом.
В течение всего доконсульского периода жизни Цицерона, а также и
года консульства, его ораторский талант все более развертывался и
совершенствовался. Первые его речи, дошедшие до нас, свидетельствуют о
некоторой неопытности их автора, который и сам охотно упоминает о своей
молодости и неискушенности на судебном поприще; в них периоды построены
несколько тяжеловесно, имеются места, почти буквально повторяющие одну
и ту же мысль; антитезы и патетические тирады носят еще характер заранее
подготовленного риторического упражнения. В своем последнем трактате
об ораторском искусстве, написанном уже в 60-летнем возрасте, Цицерон
сам подшучивает над надуманными возвышенными возгласами, какими
изобилует речь в защиту Секста Росция («Оратор», 30, 107 ел.), но и здесь
не забывает отметить, что в ту пору они вызвали восторг слушателей.
Веррины как с чисто-деловой, так и с литературной точек зрения
являются лучшим памятником как добросовестности и усердия, так и художест-
вениого таланта Цицерона. Большой литературной славой пользуются речи
против Катилины, в особенности первая; в ней действительно как бы
сосредоточены все эффектнейшие приемы, какие были в распоряжении
Цицерона,— образные выражения, олицетворения, метафоры, риторические
вопросы и пр.; даже теперь при чтении ее можно себе представить то
потрясающее впечатление, какое она должна была произвести на слушателей, даже
если она была произнесена не в такой до совершенства отточенной форме,
до какой довел ее Цицерон при последующей обработке. Три остальные
речи против Катилины уже значительно слабее; в них Цицерон слишком
384
М. Е. Грабаръ-Пассек
много говорит о себе и своих заслугах. В речах, произнесенных по
возвращении из изгнания, Цицерон все больше «прибегает к многословным
риторическим тирадам и к неумеренному самовосхвалению. Постоянные
напоминания об «этом великом дне» (раскрытия заговора Катилины), о -своем
добровольном отъезде из Рима и о торжественном возвращении едва ли могли
производить .сильное впечатление на слушателей, для которых и гибель
Катилины, и изгнание Цицерона уже отошли в прошлое. Подлинный пафос
Цицерон вновь обрел только в некоторых филиппиках.
В заключение следует сказать о тех чисто литературных приемах, умелое
пользование которыми дает при чтении даже деловых его речей подлинное
художественное наслаждение. К сожалению, перевод полного представления
о красоте языка Цицерона и о его богатейшей лексике и синонимике дать
не может.
Цицерон широко пользуется различными «фигурами речи»;
располагаемые с большим искусством, они не затемняют смысла, не загромождают
речи, а облегчают слушателю восприятие ее. Само расположение членов
предложения позволяет Цицерону подчеркнуть именно то, к чему он хочет
привлечь внимание слушателей; например, он выносит подлежащее на
последнее место: l Nunc vero quae tua est ista vita} (Cat, I, 7, 16). Itaque ad
magistratum Mamertinum statim deducitur Gavius. (Verr., V, 62, 160). Или
напротив, выносит сказуемое на первое место: Egreditur in Centuripina
quadriremi Cleomenes e portu, sequitur Seqestana naves (Verr., V, 33, 86).
Тот же прием он усиливает повторением особо важного слова: Vivis et
vivis поп ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam. (Cat., I, 2, 4). Crux,
crux, inquam, irfelici et aerumnoso... comparabatur (Verr., V, 62, 162).
Особую расстановку слов представляют собой и фигуры хиазма
(перекрещивания) и климакса (нарастания).
Примеры хиазма: Tntellego maluisse Domitium crudelem in animadvert end о,
quam in praetermittendo dissolutum videri (Verr., V, 3, 7). Odit populus Roma-
nus privatum, luxuriam, publicam magnificentiam diligit. (pro Murena, 36, 76).
Примеры климакса: Non feram, non patiar, non sinam. (Cat, I, 5, 10).
Postremo tenebraet vinda, career, inclusum supplicium (Verr., V, 9, 23).
Риторический вопрос — один из излюбленных приемов Цицерона,
которым он порой даже злоупотребляет: Ubinam gentium sumus? In qua urbe vivi-
mus? Quern rem publicam habemus? (Cat., I, 4, 9).
Такие же вопросы встречаются и в филиппиках.
Цицерон охотно пользуется и более* сложными фигурами,
охватывающими одно предложение или ряд предложений в целом,— антитезой и
анафорой.
Примеры антитезы: ...neque enim tibi haec res affert dolorem, sed quandam
incredibilem voluptatem (Cat., I, 10, 25)... Nusquam tu non modo, otium, sed ne
helium quidem nisi nefarium concupisti (ibid.).
Марк Туллий Цицерон
385
Примеры анафоры: Dico etiam in ipso supplicio mercedem lacrimarum,
mercedem vulneris atque plagae, mercedem funeris ac sepulturae constitui nefas
fuisse (Verr., V, 51, 134). Cupio, patres conscripti, me esse clementem, cupio in
tantis rei publicae periculis me non dissolutum videri (Cat., I, 2, 4).
Так же искусно Цицерон пользуется и обратной фигурой — эпифорой:
De exilio reducti a mortuo, civitas data non solum singulis, sed nationibus
a mortuo, immunitatibus infinitis sublata vectigalia a mortuo (Phil., I, 10, 24).
Кое-где он прибегает и к созвучному окончанию предложений, почти
рифме (так называемое homoioteleuton): Summi viri... sanguine non modo se
contaminarun/, sed etiam honestarunt (Cat., I, 12, 29). Cum senibus grauzfer, cum
iuventute comffer (Pro Caelio, 6, 13).
Сравнительно реже и осторожнее применяет Цицерон такую
заостренную фигуру, как oxymoron, содержащую в себе противоположные понятия;
в речи против Катилины он применяет ее дважды: кроме знаменитого «cum
tacent, clamant» (Cat., I, 2, 21), еще раз он ее >потребляет, вводя ею речь
олицетворенной родины: «quodam modo tacita loquitur» (Cat., I, 7, 18).
Цицерон умел с достаточным остроумием пустить в ход против своего
соперника беззлобную шутку и ядовитый сарказм: примерами первого
изобилует речь в защиту Мурены; образцы второго можно найти в речах
против Верреса. Он увеселяет слушателей грубоватой игрой слов на «ius Verri-
num» (verres — боров; ius verrinum — «Верресово право, правосудие» и
«свиная похлебка») и рифмованным фривольным намеком на образ жизни
Верреса: ut eum non modo extra tectum, sed ne extra ledum quidem quisquam videret
(Verr., V, 10,26).
И, наконец, верхом издевательства над Верресом является § 28 той же
речи, где Цицерон изображает пирушку Верреса в виде битвы, откуда одних
выносят «замертво», а другие остаются лежать «на поле сражения».
Богатейшую синонимику речей Цицерона и в особенности их звуковую
сторону, чередование долгих и кратких слогов, благозвучие окончаний
периодов, мы, несмотря на труды многих исследователей (Ф. Ф. Зелинского,
Л. Лорана, Э. Нордена и др.), полностью оценить не можем и нам
приходится примириться с насмешками Цицерона над теми, кто этого не
чувствует. «Не знаю,— говорит он,— что за уши у них \и что в них
человеческого» («Оратор», 50, 168).
Столь краткий обзор литературных приемов Цицерона не может,
конечно, дать полного представления о художественном совершенстве его речей;
мы можем только присоединиться к тому мнению, какое Цицерон с вполне
оправданной гордостью высказал о себе: «Нет ни одной черты, достойной
похвалы, в любом роде ораторского искусства, выявить которую если не в
совершенстве, то хотя бы приблизительно мы не попытались бы в своих
речах» («Оратор», 39, 103).
М. Г р а б аръ - П а с сек
25 Цицерон, т. I
уууууэ
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Избранные речи Цицерона переведены с латинского по изданиям:
Ciceron, Discours. Collection des Universites de France publiee sous le patronage
de l'Association Guillaume Bude. Paris, 1921—1953 (речи 1—16, 22—24)
Cicero, The Speeches. Loeb Classical Library. London — Cambridge
Massachusetts (речи 18, 20, 21, 25—27); M. Tulli Ciceronis De domo sua ad pontifices
oratio. Edited by R. G. Nisbet. Oxford, 1939 (речь 17); M. Tulli Ciceronis
Pro M. Caelio oratio. Edited by R. G. Austin. Third edition. Oxford, 1960
(речь 19).
При работе над речами 1 и 2 переводчиком и редактором был принят во
внимание (перевод В. А. Алексеева и Ф. Ф. Зелинского (Марк Туллий
Цицерон, Полное собрание речей в русском переводе. Т. I. СПб., 1901).
Стихи — в тех случаях, когда это не оговорено особо,— переведены
В. О. Горенштейном.
Выдержки из законов, постановлений сената, преторских эдиктов, судеб- *
ные формулы набраны курсивом. Хронологические даты — до нашей
эры, если это не оговорено особо. При ссылках на античную литературу
указываются параграфы.
При ссылках на письма Цицерона указывается сборник, книга и номер
письма, а также номер письма ino изданию: Марк Туллий Цицерон, Письма
к Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. Перевод и комментарии
В. О. Горенштейна. Т. I—III. Изд-во АН СССР. М.—Л., 1949—1951.
* * *
В эпоху республики, по 46 г. включительно, римский календарь был
лунным. Год состоял из 12 месяцев и имел 355, а с дополнительным
месяцем— 377 или 378 дней, при четырехлетнем цикле. Месяцы март, май,
квинтилий и октябрь имели по 31 дню, февраль — 28 дней, остальные
месяцы по 29 дней. Введенный в эпоху децемвиров дополнительный месяц
(mensis intercalaris), продолжительностью в 22 или 23 дня, вставлялся
каждые два года с присоединением к нему последних пяти дней февраля. Пер-
От переводчика
387
вый день месяца назывался календами; в четырех месяцах, имевших по
31 дню, седьмой день назывался нонами, пятнадцатый — идами; в
остальных месяцах эти названия относились соответственно к пятому и
тринадцатому дням. В лунном месяце календы были днем новолуния, ноны —
днем первой четверти, иды — днем полнолуния. Счет дней производился от
календ, «он и ид в обратном порядке, причем считались также и
указываемый день и день, от которого производился счет. Дополнительный месяц
вводился с целью сохранить соответствие между календарем и временами
года. Расхождение между официальным и истинным календарем иногда
доходило до двух месяцев и более. Календарем ведали жрецы-понтифики.
В 46 г. по распоряжению диктатора Гая Юлия Цезаря, на основании
вычислений александрийского астронома Сосигена, была произведена реформа
календаря и введен солнечный год. В феврале было оставлено 28 дней.
Месяцы январь, секстилий и декабрь были удлинены на два дня каждый,
остальные 29-дневные месяцы — на один день каждый. Каждый четвертый
год был сделан високосным, с 29 днями в феврале. Этот календарь
впоследствии получил название Юлианского. Дая упорядочения календаря 46 год
довели до 445 дней, введя в него три дополнительных месяца
продолжительностью в 28, 29, 28 дней и 10-дневный период.
В начале 44 г. месяц квинтилий был назван июлем в честь Цезаря,
родившегося в этом месяце. В 8 г. н. э. секстилий был назван августом в
честь принцепса Октавиана Августа.
В русском переводе сохранены обозначения римского календаря, но не
считается день, от которого ведется счет дней.
День в Риме считался от восхода и до захода солнца, ночь — от захода
солнца и до его восхода. День, как и ночь, делился на 12 часов: поэтому
продолжительность каждого часа зависела от времени года: летом дневные
часы были длиннее, чем ночные; зимой соотношения были обратными.
Время обозначалось порядковым числительным, например, «в пятом часу»
(от восхода солнца). В войсках ночь делилась на четыре «стражи» (vigiliae),
по три часа в каждой.
В. Горенштейн
25*
jjjjyy
ПРИМЕЧАНИЯ
1. РЕЧЬ В ЗАЩИТУ СЕКСТА РОСЦИЯ ИЗ АМЕРИИ
Осенью 81 г. богатый римский гражданин Секст Росций, живший в муниципии Аме-
рии, сторонник Суллы и нобилитета, связанный дружескими отношениями со знатью, был
убит в Риме на ули1це. Его родственники, жившие в Америи, Тит Росций Капитон и Тит
Росций Магн, вступили в соглашение 'с любимцем Суллы, .влиятельным .вольноотпущен
ником Хрисогоном, и убитый был задним числом внесен в проскрипционные списки, хотя
они были закрыты 1 июня 81г. (см. ниже, прим. 28). Его имущество было конфисковано
и продано с аукциона, причем Хрисогону достались десять его имений, а Капитону —
три. На жизнь Секста Росция-сына были совершены покушения, ,но неудачно, и он
укрылся в Риме, в доме у Цецилии, родственницы диктатора Суллы. Чтобы устранить сына
убитого, его обвинили в отцеубийстве; обвинителем выступил некий Гай Эюуций. Секст
Росций предстал перед постоянным судом по делам об убийствах, председателем которого
был претор Марк Фанний; в случае осуждения ему грозила так называемая «казнь в
мешке» (см. прим. 36). Обвиняемый встретил сочувствие и поддержку у многих
представителей нобилитета, но единственным человеком, согласившимся защищать его в суде,
был Цицерон, которому тогда шел 27-й год. Суд оправдал Секста Росция. Это было
первое выступление Цицерона в уголовном суде. •
См. Цицерон, «Брут», § 312; «Оратор» § 107; «Об обязанностях», II, § 51; Авл
Геллий, «Аттические ночи», XV, XXVIII, 3; Плутарх, «Цицерон», 3, 2.
1 Имеются в виду так называемые «заступники» (advocati)—уважаемые граждане,
присутствовавшие на суде. Они, не выступая с речами, оказывали подсудимому (или
одной из сторон) моральную поддержку. Заступники сидели на одних скамьях с лицом,
которое они поддерживали.
2 Речь произнесена во время диктатуры Суллы.
3 Как люди, связанные узами гостеприимства. Отношения гостеприимства
существовали как между отдельными лицами, так и между родами; в последнем случае они
передавались от поколения к поколению.
4 Первой магистратурой Цицерона была квестура в Лилибее (Сицилия) с 5 декабря
76 г. при преторе Сексте Педуцее.
5 Намек на сулланские проскрипции. См. ниже, прим. 28.
6 Конфискованное имущество было куплено у казны. Сулла здесь назван как
представитель государства. Ср. речи 7, § 56; 15, § 25.
7 Обычное выражение при упоминании имени уважаемого лица.
8 Раб, отпускаемый на свободу, получал личное и родовое имя своего бывшего
владельца, а прежнее имя его превращалось в прозвание. Чужестранцы и вольноотпущенники,
получавшие права римского гражданства, благодаря покровительству римских граждан,
также принимали их личное и родовое имя. Сулла предоставил права римского
гражданства нескольким тысячам вольноотпущенников, которые все получили родовое имя
Корнелиев.
/. В защиту С. Росция
389
9 Оратор как бы объединяет себя со своим подзащитным; частый прием у Цицерона.
10 Первым шагом лица, привлекавшего кого-либо к суду, было устное заявление
претору с просьбой о принятии жалобы (postulatio); затем следовало вручение жалобы —
nominis delatio; принятие жалобы претором называлось nominis receptio; претор вносил
обвиняемого в списки подсудимых, и последний становился reus.
11 Слово «гладиатор» было бранным: головорез, убийца.
12 Совет судей. Сулла ввел в сенат, поредевший после гражданской войны, около
300 новых членов, руководствуясь политическими соображениями. Число сенаторов дошло
до 600. Из их числа городской претор составлял список судей (album iudicum); на
основании этого списка составлялся совет постоянного суда (quaestio perpetua); при Сулле
судьями были только сенаторы.
13 Spolia (spolia opima) — первоначально доспехи, снятые победителем с убитого врага
после боя или поединка; Цицерон часто пользуется этим выражением метафорически.
14 Цицерон часто упоминает о своей застенчивости. Ср. речь 6, § 51; «Об ораторе»,
I. § 121.
15 В 80 г. Марк Фанний был претором. Помимо преторов, в постоянном суде могло
председательствовать лицо, назначавшееся городским претором, обычно из числа бывших
эдилов — quaesitor, iudex quaestionis. Это делалось в случае, когда для председательство-
вания в суде преторов не хватало.
15 Очевидно, во время гражданских войн суды не действовали. Суд над Росцием
производился на основании закона об убийцах и отравителях, проведенного Суллой в 81 г.
(lex Cornelia de sicariis et veneficis).
17 Суд происходил на форуме под открытым небом. Претор сидел на возвышении
(трибунал), вокруг которого были скамьи для судей, обвинителей, защитников,
заступников и обвиняемого. Римский форум, главная площадь Рима, была политическим,
судебным, религиозным и торговым центром. Форум существовал во всех значительных
римских городах.
18 См. ниже, § 84, 86.
19 Америк — город в Умбрии, в 50 римских милях от Рима. Муниципием называлась
городская община в Италии; ее население на основании особого положения пользовалось
некоторьши правами и несло повинности, главным образом предоставляя Риму солдат.
Права голосовать в комициях муниципалы вначале не имели (civitas sine suffragio).
Полные права римского гражданства муниципии получили после Союзнической войны 91 —
81 гг. Во главе муниципия стоял сенат (курия) (-100 человек); члены его назывались де-
курионами; сенат возглавляло 10 старейшин.
20 Имеются в .виду гражданские войны 88—82 гг.
21 Тит Росций Магн был свидетелем обвинения и мог выступить только после речей
обвинителя и защитника. О Тите Росций Капитоне см. ниже, § 25.
22 Пальмовой веткой награждали победителя-гладиатора. Гладиаторы — бойцы,
сражавшиеся попарно друг с другем первоначально на похоронах знатных людей, а
впоследствии во время общественных игр. Вначале игры происходили на форуме, а с I в. в
амфитеатрах. Гладиаторами становились военнопленные, а также и осужденные на казнь.
Владелец «школы» гладиаторов назывался лапистой. Гладиаторы различались по вооружению.
23 Паллацинские бани находились вблизи Фламиниева цирка.
24 В I в. письмоносцы (tabellarii), т. е. нарочные, развозившие письма и донесения
магистратов, делали 40—50 миль в сутки. Римская миля—около 1,5 км.
25 Город Волатерры в Этрурии, последний оплот марианцев, в то время был осажден
Суллой. Ср. Цицерон, письма Att, I, 19, 4 (XXV); Fam, XIII, 4, 1 sq. (DCLXXIV).
26 Splendidus — обычный эпитет римского всадника.
27 Товарищества (societates) — компании, образованные чаще всего богатыми
римскими всадниками и вольноотпущенниками, занимались торговлей и откупами налогов и
податей в провинциях. Здесь ирония.
390
Примечания
28 Речь идет о проскрипционных списках. Термин «проскрипция» означает опись
имущества, объявление о продаже. После диктатуры Суллы он получил значение расправы
без суда. В 82 г., после своей .победы над марианцами, Сулла выпустил эдикт с приказом
убивать всякого, кто ьыступил против него после соглашения о мире, заключенного им с
консулом 83 г. Лущием Корнелием Сципионом. В дальнейшем .на основании закона,
проведенного интерр&ксом Луцием Валерием Флакком, была установлена диктатура Суллы;
после этого был издан закон о проскрипции, который предусматривал смертную казнь для
врагов, внесенных в списки (убить такого человека мог первый встречный); конфискацию
имущества 1как их, так и врагов, павших в бою против Суллы; смертную (Казнь для тех»
кто помогал проскриптам; награду за убийство проскрипта; запрещение сыновьям и
внукам проскриптов занимать магистратуры. Как последний срок для убийств и конфискации
имущества было установлено 1 июня 81 г. Цицерон, очевидно, имеет в виду списки,
составленные на основании закона о проскрипции. В 63 .г. Цицерон произнес речь о
сыновьях проскриптов (до нас не дошла). См. речь 7 § 10; письма Att., II, 1, 3 (XXVII);
IX, 10, 6 (CCCLXIV); 11, 3 '(CCCLXVI); Плутарх, «Сулла» 31, 1 ел.
29 Имеется в виду эпитет «Счастливый» (Felix), который Сулла после своем
окончательной победы присоединил к своему имени. Это было выражением эллинистического
учения о харизме, т. е. благоволении богов. Сулла полагал, что ему покровительствует
Венера (Venus Felix, Афродита); поэтому он именовал себя по-гречески Эпафродитом. Ср.
речь 5, § 47; Плутарх, «Сулла», § 34.
30 Церемонии, связанные с похоронами, заканчивались жертвоприношением и
поминками на девятый день после погребения (caena novemdialis, novemdialia).
31 Пенаты — боги-покровители благосостояния дома (penus — кладовая для хранения
припасов). В широком смысле — все божества, особенно почитаемые в данном доме.
32 Римляне, которые иногда хоронили своих близких людей в усадьбах, при продаже
владения выговаривали себе право доступа к могиле. Это было одним из видов сервитута
(servitus itineris, iter ad sepulcrum). Сервитутом называлось право пользования чужой
собственностью, создававшее выгоды для определенного лица и налагавшее обязательства на
собственника. См письма Att, XII, 9, 1 (DLVII); Q. fr., Ill, 1, 3 (CXLV); «Об
ораторе», I, § 173.
33 Дочь Квинта Цецилия Метелла Балеарского, консула 123 г. Ее брат — Квинт Ме-
телл Непот, консул 98 г. Ее родственница Метелла, дочь Метелла Далматинского, была
женой Суллы с 88 г. Согласно традиции, она умилостивила богиню Юнону Соспиту после
осквернения ее храма во время Союзнической войны.
3* Под parricidium разумели убийство отца, кровного родственника, римского
гражданина. Определения насчет parricidium составляли особый раздел изданного при Сулле
закона об убийцах и отравителях. В древнейшую эпоху существовал особый суд (quaes-
tores parricidii), ведавший делами об убийстве римского гражданина.
35 Имеется в виду присутствующий в суде Тит Росций Магн.
36 .По старинному обычаю, после вынесения обвинительного приговора отцеубийце
надевали на голову волчью шкуру, на ноги деревянные башмаки и отводили его в тюрьму,
где он ждал, пока будет изготовлен кожаный мешок, в который его, после наказания
розгами, зашивали вместе с петухом, собакой, обезьяной и змеей и топили в реке или в море.
Это так называемая poena cullei. Насчет значения, какое придавалось присутствию этих
животных в мешке, мнения расходятся.
37 Гай Флавий Фимбрия, сторонник Мария, был в 86 г. легатом консула Луция
Валерия Флакка, посланного марианцами для военных действий против Митридата VI.
Фимбрия возмутил войско против Флакка, который был убит. В 84 г. войско Фимбрии
перешло на сторону Суллы, Фимбрия бежал в Пергам, где покончил с собой.
38 Квинт Мииий Сцевола, известный юрист и оратор, один из учителей Цицерона,
был наместником в провинции Азии в 99 г., верховным понтификом, консулом в 95 г.
Это событие произошло в январе 86 г. В 82 г. Сцевола был убит марианцами.
/. В защиту С. Россия
391
39 Речь идет о суде народа, т. е. центуриатских комиций, которые могли приговорить
к смертной казни, или о суде трибутских комиций, налагавших денежный штраф. После
учреждения постоянных судов (quaestiones perpetuae, в 149 г.) суд народа назначался
только по поводу преступления, для которого не было соответствующего постоянного
суда, особенно при обвинении в государственной измене (perduellio). См. речь 8.
Обвинитель должен был, по предъявлении им обвинения (accusatio), к определенному сроку
вызвать обвиненного им римского гражданина в комиций (diem dicere), затем дважды
назначить ему срок явки на народную сходку и обвинять его перед ней и только в
четвертый раз обвинять его перед комициями, которые и выносили приговор.
,'40 В подлиннике «recipere telum». Поверженному гладиатору зрители иногда кричали:
recipe ferrum (>или telum) — прими последний удар. Ср. речь 18, § 80.
41 Сын не мог без разрешения отца ни приобретать имущество, ни владеть им. Под
«властью отца» (patria potestas) разумеют существовавшую в древнейшую эпоху, а в
историческую эпоху сохранившуюся лишь формально власть главы рода и семьи над женой,
детьми, женами сыновей, внуками, рабами и всем имуществом. Она выражалась также в
праве жизни и смерти и в праве продажи в рабство («за Тибр»). После трехкратной
продажи IB 1рабст)во «.власть отца» прекращалась, как и после утраты им гражданских прав.
42 Намек на темное происхождение Эруция.
43 Цецилий Стаций (умер в 166 г.) — римский поэт; переделывал греческие комедии
для римской сцены. Цицерон называет имена действующих лиц из комедии Цецилия
«Подкидыш» (от нее сохранились фрагменты). Римляне были знакомы с греческими
комедиями и трагедиями в значительной степени по подражаниям и переделкам поэтов Эн-
ния, Пакувия, Акция и Стация.
44 Цицерон делает вид, что поверхностно знаком с литературой. Интерес к греческой
культуре не подобал римлянину старого закала. Ср. речь 3, § 4, письмо Fam., XV, 6, 1
(CCLXXVII).
45 Вейи — город в Этрурии.
46 Гай Атилий Регул, консул 257 и 250 гг. Его прозвание «Сарран» (от города Сар-
рана), позднее было переосмыслено как Серран (сеятель). См. Плиний, «Естественная
история», XVIII, 20.
47 Ср. рассказы о Луции Квинкции Цинциннате. См. Марк Порций Катон,
«Земледелие», предисловие, § 2.
48 Реммиев закон имел в виду злостное, заведомо ложное обвинение с корыстной
целью (calumnia). Осуждение влекло за собой утрату гражданской чести, в частности,
права быть обвинителем и свидетелем в суде. Древнее наказание — клеймение лба буквой
«К» (kalumniator).
49 В Риме уголовные дела в судах должны были возбуждать должностные или
частные лица. Обвинитель уполномочивался производить следствия с правом доступа в
архивы, изъятия документов (также и у частных лиц), снятия копий с них.
50 В Капитолии держали гусей и собак. Предание рассказывает о спасении
Капитолия от захвата галлами в 390 г. Находившиеся в нем гуси проявили беспокойство, а
собаки знака не подали. Поэтому, по обычаю, каждый год распинали нескольких собак. См.
Плиний, «Ест. ист.», X, 22, 51.
51 В календы (первое число месяца) платили проценты по долгам. Слово Kalendae
начиналось с той же буквы «К», которой в древнейшую эпоху клеймили лоб за ложное
обвинение; см. выше, прим. 48.
52 Ср. Цицерон, «О границах добра и зла», III, § 62.
03 Целий — неизвестное нам лицо. Таррацина — город в Лации.
54 Имеются в виду Орест и Алкмеон. По преданию, Орест убил по повелению
Аполлона свою мать Клитемнестру, мстя ей за убийство своего отца Агамемнона. Алкмеон
убил мать Эрифилу, уговорившую своего мужа Амфиарая принять участие в походе против
Фив, где ему было суждено погибнуть. Мифы о терзаниях Ореста и Алкмеона обработа-
392
Примечания
ли Эсхил и Эврипид. См. Вергилий, «Энеида», III, 331. Фурии (Кары) — богини
возмездия; соответствуют эриниям греческой мифологии.
55 Афинский законодатель VI в.
56 По представлениям древних, текучая и морская вода очищала убийцу от
совершенного им преступления. См. Эврипид, «Ифигения в Тавриде», 1191.
57 Ср. Цицерон, «Оратор», 107.
58 Перекрестный допрос (altercatio) происходил после речей обвинителя и защитника,
но Цицерон, уверенный в невиновности Росция, готов отступить от этого правила. См.
ниже, § 94.
59 Допрос рабов, как и допрос всяких свидетелей, происходил после речей обвинителя
и защитника. Допрос рабов для получения показаний против их господина допускался
только при суде о кощунстве и о государственном преступлении. Показания рабов
считались действительными только в том случае, если были получены под пыткой. См. ниже,
§77 ел., 120. Ср. речи 6, § 176 ел.; 19, § 68; 22, § 59; «Подразделения речей», § 118.
60 О заступниках см. прим. 1. Заступниками Росция, возможно, были Публий
Корнелий Сципион Насика, претор 94 г., и Марк Цецилий Метелл, претор 69 г. В данном
случае допрос рабов должен был происходить частным образом. Ср. речь 6, § 176.
61 Поговорка. Ср. письмо Fam., VII, 29, 2 (DCLXXIX).
62 В подлиннике игра слов, основанная на двояком значении слова sector: 1) sector
collorum — рассекающий шею; 2) sector bonorum — покупающий на аукционе
конфискованные имения, разделенные на части, или же покупающий имения для перепродажи по
частям.
63 Peculatus—кража государственного имущества; таковым стало конфискованное
имущество Росция-отца. Его сына, по-видимому, обвиняли в утайке этого имущества. Ср.
ниже, § 144.
64 Declamare — призносить речь на тему, заданную ритором.
65 Обвинение в уголовном деянии (causa publica), закончившееся обвинительным
приговором (особенно видному лицу) считалось заслугой и облегчало политическую
карьеру. См. Цицерон, «Об обязанностях», II, § 49 ел.
66 Луций Кассий Лонгин Равилла, народный трибун 137 г., консул 127 г., автор
закона о тайном голосовании в уголовных судах (lex Cassia tabellaria). Его (выражение
«cui bono?» («кому выгодно?») стало крылатым, как и выражение «Каосиевы (т. е.
строгие) судьи». См. ниже, § 85; ср. речи 22, § 32; 25, § 35; «Брут», § 97.
67 Во время проскрипций 81 г. (прим. 28) головы профессиональных обвинителей
были выставлены на форуме, на ораторской трибуне и около Сервилиева пруда,
находившегося вблизи форума. В битвах у Трасименского озера (217 г.) и под Каннами (216 г.)
Ганнибал нанес римлянам тяжелые поражения. Выражение «битва под Каннами» стало
поговоркой: побоище. Ср. речь 4, § 28.
68 Кв. Энний, «Hectoris lytra», фрагм. 167 Уормингтон. Перевод Ф. Ф. Зелинского.
69 Очевидно, профессиональные обвинители. Люди старше 60 лет освобождались от
участия в войне и не могли выступать в суде и голосовать в кохмициях. Антистий, видимо,
утратил гражданскую честь, раз ему «законы запрещали сражаться».
70 Император — © эпоху республики высшее почетное военное звание. После
решительной победы, дававшей право на триумф (см. прим. 45 к речи 4), солдаты
приветствовали своего полководца как императора. В I в. звание императора присваивал также и
сенат.
71 Намек на Хрисогона. См. выше, § 20.
72 Dius Fidius — бог клятвы и верности, покровитель гостеприимства; этот культ
отделился от культа Юпитера; был отождествлен с умбро-сабинским культом Семона
Санка, покровителя верности. См. Овидий, «Фасты», VI, 213 ел.
'3 Римляне говорили о детях во множественном числе даже при наличии одного сына
или дочери.
В защиту С. Росция
393
74 Автомедонт— возница Ахилла, известный своей быстрой ездой. См. Гомер.
«Илиада», XVI, 145; XVII, 459.
75 Награда, украшенная лентой, считалась более почетной.
76 Возможно, намек на старинный обычай лишать римских граждан, ■достигших 60 лет,
избирательных прав (см. прим. 69). Их не допускали к мосткам, по которым граждане
проходили для голосования -подачей таблички. Так возникла поговорка: «Шестидесяти-
летних с моста!». Есть указания и на то, что в древности стариков сбрасывали с моста &
Тибр.
7ба Тит Росций Магн.
77 Тит Росций Капитон.
78 Публий Корнелий Сципион Эмилиан.
79 Патронат и клиентела — в древнейшую эпоху отношения между патрицием и
зависевшими от него людьми, возможно, из покоренного населения. Патрон
покровительствовал клиенту, защищал его в суде. Клиенты помогали патрону оружием и деньгами,
поддерживали его при соискании магистратур. Впоследствии патронат и клиентела
охватывали все отношения между влиятельным лицом и его вольноотпущенниками.
Эти отношения существовали также и между влиятельным лицом и городской
общиной, между бывшим наместником провинции и ее населением. Они были
преемственными.
80 Выступление в качестве свидетеля было обязательно только в уголовном суде.
Правом вызова свидетелей обладал обвинитель, но не обвиняемый.
81 Речь идет о договоре поручения (mandatum): одно лицо (доверитель—mandans,
mandator) поручает, а другое (доверенный,— mandatarius, procurator) принимает на себя
безвозмездное выполнение каких-либо действий. Лицо, осужденное за нарушение доверия,
теряло гражданскую честь (infamia, atimia).
82 Иск за невыполнение поручения был иском за нарушение доверия. Судья (арбитр)
выносил решение не по формуле, а по совести (bona fide). Суд назывался arbitrium или
bonae fidei iudicium.
83 См. прим. 22. Здесь речь идет о Тите Росций Капитоне; «ученик»—Тит Росций
Магн.
84 Рабы-греки, которых Хрисогон забирал для себя у проскриптов.
85 «Хрисогон» означает златорожденный.
86 Намек на более значительных людей из окружения Суллы.
87 Имеется в виду конфискация имущества проскриптов,
88 «Древние законы» — вероятно законы Двенадцати таблиц, согласно традиции,
первое писаное уложение Рима (середина V в.) Ср. речь 22, § 9.
89 Поговорка. В подлиннике игра слов, основанная на двояком значении слова caput:
1) голова, 2) сумма гражданских прав.
93 В эпоху республики понятие «империй» охватывало всю полноту власти консулов
и преторов, ограниченной коллегиальностью, годичным сроком, интерцессией народных
трибунов и правом провокации (апелляции) к народу, присущим римским гражданам.
Империй слагался из права авспиций, набора солдат и командования войском, созыва
куриатских комиций, юрисдикции, принуждения и наказания. Различался imperium domi,
т. е. судебная власть в пределах померия (сакральная городская черта Рима), и imperiun*
militiae, т. е. вся полнота власти вне померия, в Италии и в провинциях. Магистрату, уже
облеченному гражданской властью (potestas), империй предоставлялся путем издания
куриатского закона (lex curiata de imperio). В I в. куриатские комиций уже утратили
значение, при издании такого закона символически голосовали 30 ликторов в присутствии
трех авгуров. Под imperium maius (imperium infinitum) разумели верховное командование
с чрезвычайными полномочиями.
91 Далее в тексте лакуна. Схолиаст приводит следующую фразу из утраченного
текста: Хрисогон говорил: «Не потому растратил я имущество, что боялся, как бы его у
394
Примечания
меня не отняли, ню так как строился под Вейями; поэтому я и перенес туда, что мне было
нужно».
92 Бруттий — область в Калабрии (южная Италия).
93 Имеется в виду Хрисогон. В Риме, на Палатинском холме был его богато
убранный дом.
94 Изделия из коринфской и из делосской бронзы (сплав меди с серебром и золотом)
особенно ценились. Ср. речь 3, § 1. Автепса (буквально «самовар»)—металлический
сосуд с двойным дном или с особым вместилищем для углей; служил для нагревания
воды или вина.
95 Собственно, лектикарии — рабы, носившие .лектйку, парадные носилки. См. письмо
Q. fr., II, 8, 2 (CXI); Катулл, 10, 16.
96 Т. е. римских граждан, клиентов вольноотпущенника. Тога — шерстяная верхняя
одежда римских граждан, мужчин и детей. Это кусок ткани овальной формы, который
по определенным правилам обертывали вокруг тела. Курульные (старшие) магистраты
носили тогу с пурпурной каймой (toga praetexta). Претексту носили и мальчики; на 16-м
году жизни, в день Либералий (17 марта), ^мальчик сменял перед алтарем ларов детскую
тогу на белую (toga virilis, t. pura, t. libera), после чего его имя вносили в списки членов
трибы. Набеленную .мелом тогу (t. Candida) носили лица, добивавшиеся магистратур
(«кандидаты»). Выражение «носящий тогу» (togatus) означало: 1) римский гражданин,
2) магистрат, не применяющий империя.
97 Как сенатор внес бы предложение и обосновал бы его.
98 Сулла, которому в 82 г., по предложению интеррекса Луция Валерия Флакка, была
предоставлена диктатура, провел выборы консулов на 81 г. Он предложил и провел ряд
законов: о судоустройстве, о вымогательстве, о магистратурах и др.
99 До диктатуры Суллы судебная власть принадлежала сословию римских всадников
(по закону Гая Гракха, 123 г.). Во время гражданской войны многие римские всадники
поддерживали марианцев, что навлекло на них месть Суллы.
100 Ius gentium — система права, применимого ко всем народам; она сложилась на
почве юрисдикции претора, разбиравшего тяжбы между римскими гражданами и
чужеземцами (praetor peregrinus, магистратура учреждена в 242 г.). Как и частное право (ius
civile), ius gentium касалось частных отношений.
101 Перстень с именной печатью носил римский гражданин. Золотой перстень был
знаком принадлежности к одному из высших сословий. Ср. речь 3, § 57 ел.; письмо Fam.,
X, 32, 2 (DCCCXCV).
102 Марк Валерий Мессалла Нигр был консулом в 61 г. См. Цицерон, «Брут», §246.
103 Consilium publicum — обычно так говорили о римском сенате; здесь, возможно,
говорится о совете судей, составленном из сенаторов в соответствии с Корнелиевым
законом о судоустройстве.
2—4. РЕЧИ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА
Гай Веррес, наместник в провинции Сицилии в 73—71 гг., был в начале 70 г.
привлечен городскими общинами Сицилии к суду на основании Корнелиева закона о
вымогательстве, проведенного Суллой. Обвинение охватывало хищения, взяточничество,
неправый суд, превышение власти, оскорбление религии. Городские общины поручили
поддерживать обвинение Цицерону, бывшему в 75 г. квестором в Лилибее (западная Сицилия).
Сумма иска была определена в 100 000 000 сестерциев.
Веррес нашел поддержку у представителей нобилитета. После того как Цицерон в
январе 70 г. подал жалобу претору Манию Ацилию Глабриону, сторонники Верреса
предложили в качестве обвинителя Квинта Цецилия Нигра, бывшего квестора Верреса,
клиента Метеллов; ибо обвинитель мог быть назначен и помимо и даже вопреки желанию
2. Против Гая Верреса (Первая сессия)
3.95
потерпевшей стороны. Возникло дело о назначении обвинителя, или дивинация: каждый
из желающих быть обвинителем должен был произнести перед судом речь и привести
основания, в силу которых обвинение следовало поручить именно ему, после чего совет
судей решал вопрос об обвинителе. Право быть обвинителем было предоставлено Цице-
,рону. Вскоре после дивинации Цицерон выехал в Сицилию для следствия, сбора
письменных доказательств и вызова свидетелей. За 50 дней следствие было им закончено;
весной 70 г. Цицерон возвратился в Рим.
Потерпев неудачу при дивинации, покровители Верреса устроили так, что
неизвестное нам лицо привлекло к суду бывшего наместника провинции Ахайи, имя которого
также неизвестно, потребовав для следствия 108 дней, в то время как Цицерон
потребовал для себя 110 дней. Слушание этого дела началось до слушания дела Верреса,
причем его нарочито затягивали. Процесс Верреса начался лишь в августе 70 г. За это
время Квинт Метелл Критский, доброжелатель Верреса, и Квинт Гортенсий, его
защитник, были избраны в консулы на 69 г. Марк Метелл был избран в преторы; кроме того,
должен был измениться состав суда. Поэтому сторонники Верреса старались затянуть
слушание дела и перенести его на 69 г., когда вся судебная процедура должна была быть
повторена; в 69 г. оправдание Верреса было весьма вероятным.
Слушание дела началось 5 августа 70 г. и должно было быть прервано из-за ряда
•общественных игр, происходивших в течение августа—.ноября, причем игры по обету
Помпея (ludi votivi) начинались 16 августа. Сначала должен был говорить обвинитель,
.затем защитник, второй обвинитель и второй защитник; потом выступали свидетели
обвинения и защиты и велся .перекрестный допрос. После перерыва в несколько дней
начиналась вторая сессия в таком же порядке. В интересах обвинения было закончить весь
процесс до начала общественных игр. Поэтому Цицерон вместо длинной речи произнес
,ряд коротких, сопровождая каждую чтением документов и представлением свидетелей.
Уже 7 августа Веррес сказался больным и не явился в суд; вскоре он покинул Рим.
Гортенсий отказался защищать его. Допрос свидетелей и чтение документов закончились на
девятый день суда. Суд подтвердил факт добровольного изгнания Верреса и взыскал с
него в пользу сицилийцев 40 0,00 000 сестерциев.
Речи, предназначавшиеся Цицероном для второго слушания дела и впоследствии
обработанные им, выпустил в свет его вольноотпущенник Марк Туллий Тирон. Весь
•материал был разделен на пять «книг»; грамматики впоследствии дали им названия,
принятые и ныне. Речи написаны так, словно дело слушается в суде в присутствии
обвиняемого. В настоящем издании помещены «книги» IV и V. В IV «книге» (речь 3) речь
идет о похищении Верресом статуй богов и произведений искусства, принадлежавших
как частным лицам, так и городским общинам, и об ограблении храмов. V «книга»
(речь 4) по своему содержанию выходит за рамки обвинения о вымогательстве и состоит
из двух частей: в первой говорится о мнимых заслугах Верреса как военачальника, во
второй —■ о незаконных казнях командиров военных кораблей и римских граждан. Речь
эта содержит заключительную часть, относящуюся ко всем пяти речам.
2. ПЕРВАЯ СЕССИЯ
1 Имеются в виду сенаторские суды и сословие сенаторов. Речь идет о предстоящей
промульгации Аврелиева закона о судоустройстве; см. речь 4, § 178. На основании Це-
цилиева-Дидиева закона 98 г. (и Юниева-Лициниева закона 62 г.) законопроект
объявляли народу на форуме за три нундины (8-дневные недели) до его обсуждения и
голосования в комициях; этот акт назывался промульгацией. Цецилиев-Дидиев закон
запрещал также включать несколько вопросов в один законопроект.
2 Aerarium (эрарий) — государственное казначейство, находившееся при храме Са-
ггурна. Эрарием управляли двое городских квесторов под контролем сената.
396
Примечания
3 Во время поездки Цицерона в Сицилию для следствия. Он возвратился в Рим не-
через Регий и далее по суше, а морем — из Вибона до Велии.
4 Намек на слова македонского царя Филиппа. Ср. письмо Att, I, 16, 12 (XXII).
5 Цицерон хочет сказать, что 70 г., вследствие честнюсти претора Мания Ацилия
Глабриона, гае благоприятен для Верреса.
О тщательности, с какой Цицерон вел следствие по делу Верреса, см. его речь в=
защиту Марка Эмилия Скавра, § 25.
7 См. выше, § 6.
8 Как обвинитель, так и обвиняемый имели право отводить судей, которых назначал,
претор. По закону Суллы об отводе судей (lex Cornelia de reiectione iudicum), обвиняемый,,
не принадлежавший к сословию сенаторов, мог отвести не больше трех судей; сенатор-
как обвиняемый пользовался более широким правом отвода судей.
9 См. вводнее примечание.
10 Цари— это Гиерон II и Агафокл. Императоры — это Марк Марцелл, взявший1
Сиракузы в 212 г., и Публий Корнелий Сципион Эмилиан. О значении термина
«император» во времена республики см. прим. 70 к речи 1.
11 Цицерон намекает на случай, происшедший в 75 г. при суде над Теренцием Вар-
роном, обвиненным в вымогательстве. Квинт Гортенсий, подкупив судей, роздал им
таблички для голосования, покрытые воском необычного цвета, чтобы иметь возможность-
проследить за голосованием. На табличках по слою воска писали буквы «A» (absolvo —
(оправдываю), «С» (condemno— осуждаю), «NL» (поп liquet — неясно»); ненужную
надпись судья стирал и опускал табличку в урну.
12 «Избранный» — перевод термина «designates». Так назывался магистрат, уже
избранный комициями, но еще не приступивший к исполнению своих обязанностей.
Избранный магистрат считался частным лицом и мог быть привлечен к суду. «Поле» — Марео-
во, где происходили выборы.
13 Гай Скрибоний Курион, народный трибун 90 г., легат Суллы во время войны с
Митридатом VI, консул 76 г. i
14 Триумфальная арка, построенная консулом 121 г. Фабием Максимом
Кунктатором на Священной дороге у входа на форум.
15 Имеется в виду метание жребия о полномочиях преторов (городская претура,
разбор дел между чужеземцами и римскими гражданами, постоянные суды). Марк Метелл
был в 69 г. городским претором.
16 Fiscus — ивовая корзина для перевозки денег; отсюда — «фиск», название казны*
в императорскую эпоху.
17 Имеются в виду комиции по выбору курульных эдилов на 69 г.
18 Подкуп избирателей считался преступлением (crimen de ambitu —
«домогательство»). Так как голосование в комициях происходило по трибам, то кандидату надо было-
обеспечить себе голоса 18 триб (из общего числа 35 триб). Подкуп производился через-
раздатчиков (divisores); иногда деньги передавались посредникам (sequestres) и
раздавались уже после выборов. Кандидаты иногда вступали в соглашение (coitio) о взаимной
поддержке голосами своих сторонников. При домогательстве использовались также-
и «товарищества» (sodalitates — объединения граждан в пределах трибы, преследовавшие
культовые цели) и «сообщества» (collegia sodalicia — объединения граждан в пределах
трибы, объединения ремесленников). Для борьбы с незаконным домогательством был
издан ряд законов. Корнелиев закон карал это преступление запрещением занимать
государственные должности в течение 10 лет, Кальпурниев-Ацилиев закон 67 г.—
денежным штрафом и неограниченным по времени запрещением занимать государственные
должности. Туллиев закон 63 г., проведенный Цицероном, запрещал платить
сторонникам, устраивать зрелища для народа и угощать трибы и карал изгнанием на 10 лет.
19 Квинт Веррес, по-видимому, был вольноотпущенником одного из Верресов.
Название трибы иногда прибавлялось к родовому имени малоизвестного человека.
2. Против Гая Верреса (Первая сессия)
397
20 Порядок голосования центурий и триб во время выборов определялся жребием.
Центурия (триба), голосовавшая первой, называлась centuria (tribus) praerogativa; ее
голосованию обычно следовали остальные центурии (трибы). В подлиннике непереводимая
игра слов.
21 Квинт Цецилий Метелл Критский.
22 Намек на стих Гнея Невия (III в.):
Злой рок дает Метеллов Риму в консулы!
(Перевод Ф. А. Петровского)
23 Марк Цесоний был избран в курульные эдилы на 69 г.
24 Имеется в виду дело Оппианика. См. речь 6, § 1, 103, 119, 138.
25 В декабрьские ноны (5 декабря) новоизбранные квесторы, после распределения
алежду собой обязанностей по жребию в храме Сатурна, приступали к своим
обязанностям.
26 Военные трибуны — командный состав римского легиона; для первых четырех
легионов они избирались комициями (tribuni militum comitiati); для прочих они
назначались полководцем или же выбирались солдатами (tribuni militum rufuli). В легионе было
-24 военных трибуна.
27 Обет устроить игры для народа был дан Помпеем в связи с военными
действиями против Сертория. Игры должны были состояться с 16 августа по 1 сентября.
Римские игры происходили с 5 по 19 сентября, игры Победы (Суллы, в 82 г.) — с 26
октября по 1 ноября, Плебейские игры — с 4 по 17 ноября.
28 В постоянных судах (quaestiones perpetuae) судьи приносили присягу; председатель
суда не приносил ее.
29 Имеется в виду oratio perpetua, т. е. речь, которая не прерывается репликами и
•вопросами противной стороны. Ср. речь 1, § 73.
30 Для слушания уголовного дела было три возможности: 1) судебное следствие
должно было быть закончено в одну сессию; 2) оно откладывалось один раз (комперен-
динация), дело должно было быть решено в две сессии; 3) оно откладывалось решением
судей неограниченное число раз (амплиация). Амплиация была введена законом о
вымогательстве, проведенным \в 123 г. <или 122 г. 'народным трибуном Манием Ацилием Гла-
брионом (Ацилиев закон). Другие законы распространили ее на все уголовные суды.
Она была отменена Сервилиевым законом о вымогательстве (111 г. или 106 г.) с
заменой ее комперендинацией. Сулла вновь ввел амплиацию для уголовных дел, кроме
суда о вымогательстве. Аврелиев закон о судоустройстве (70 г.) отменил амплиацию и
комперендинацию и ввел первый способ.
31 Цицерон нередко говорит о «царской власти» Гортенсия в судах. Ср. речь 4, § 75.
Понятия «царь» и «царская власть» имели для Цицерона отрицательный смысл и были
равносильны понятиям «тиранн» и «тиранния». Царем и тиранном он назвал также и
Гая Юлия Цезаря. См. речи 7, § 8, |1!5, 20, 32 ел., 35; 14, § 25; письма Att, I, 16,
10, (XXII); И, 13, 2 (XL); Fam., IX, 19, 1 (CCCCLXXVI); VI, 19, 1 (DCLII);
XII, 1, 1 (DCCLIV); XI, 5, 3(DCCCX); 8, 1 (DCCCXVI); «Об обязанностях», III,
§§ 19, 82.
32 В городе Риме курульные эдилы имели ограниченную судебную власть в
областях гражданской и уголовной, т. е. могли налагать штраф и в случае апелляции
(провокации) к народу отстаивать принятую ими меру перед народом. «Место» —
ораторская трибуна на форуме, «ростры»; она была в 338 г. украшена носовыми частями
(таранами, рострами) вражеских кораблей.
33 Imperium el potestas. Об империи см. прим. 90 к речи 1. Potestas — власть
магистрата, избранного комициями и не обладающего империем (эдил, квестор).
34 На основании закона Суллы о судоустройстве (81 г.).
398
Примечания
35 Точнее — 42 года, на основании закона Гая Гракха о судоустройстве (123 г.).
Римские всадники иногда выносили суровые приговоры магистратам, препятствовавшим-
им грабить провинции. Так, Публий Рутилий Руф, в 97 г. легат проконсула Азии,
Квинта Муция Сцеволы, а впоследствии его преемник, был обвинен в вымогательстве и
осужден. См. речь 8, § 21; письма Fam., I, 9, 26 (CLIX); Att, V, 17, 5 (CCIX); VI, 1,
15 (CCLI); VIII, 3, 6 (CCCXXXII); IX, 12, 1 (CCCLXVII); «Брут», § 115.
36 Намек на ограничение власти народных трибунов, произведенное Суллой.
37 Квинт Калидий, пропретор Испании в 79 г., был осужден после своего
наместничества. Преторий — бывший претор.
38 После осуждения определялся материальный ущерб, который осужденный должен
был возместить (litis aestimatio), по формуле: «Куда эти деньги попали» (quo ista pecu-
nia pervenerit). Ср. речь 6, § 45; письмо Fam., VIII, 8, 2 (ССХХП). Здесь речь идет о
взятке, полученной членом суда Публием Септимием Сцеволой во время разбора дела
Оппианика. См. речь 6, § 115.
39 Гай Попилий после осуждения жил в Нуцерии, где получил права гражданства.
40 Crimen de maiestate, crimen minutae maiestatis populi Romani. В эпоху республики
умалением и оскорблением «величества римского народа» могло быть признано любое
действие магистрата, объявленное вредным для государства: командование войском,
закончившееся поражением, выезд наместника из провинции без разрешения сената,
самочинное объявление войны, вообще дурное исполнение магистратом его обязанностей.
Такие действия карались по Аппулееву закону (103 или 100 г.), Вариеву закону (90 г.)
и Корнелиеву закону (81 г.) по суду в quaestio perpetua de maiestate.
41 Два последних факта, приводимые Цицероном, также относятся к делу
Оппианика. См. речь 6, § 79, 89.
42 Т. е. сословие сенаторов, в которое Цицерон перешел из всаднического после
своей квестуры в 75 г.
43 Квинт Лутаций Катул Капитолийский, консул 78 г., оптимат, один из судей Вер-
реса. См. речь 5, § 51.
44 Речь идет об обсуждении в сенате закона о полном восстановлении власти
народных трибунов, предложенного в 70 г. консулами Гнеем Помпеем и Марком Лицини-
ем Крассом (lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate). «Высказывать мнение» (sen*en-
tiam dicere) — технический термин: мотивированное голосование сенатора.
45 Ad Urbem, т. е. вне померия (сакральная городская черта Рима). Помпеи ожидал-
согласия сената на предоставление ему триумфа. См. прим. 45 к речи 4.
46 Публий Муций Сцевола, консул 133 г. См. «Брут», § 239; Att. VI, it, 4(CCLI).
47 Марк Эмилий Скавр, консул 1115 г. и И07 г. Ср. речи 13, § 16; 16, § 101; «Об
ораторе», I, § 214.
48 См. выше, § 27.
49 Ценз — производившееся через каждые пять лет составление списка римских,
граждан с распределением их на классы в зависимости от размера их имущества.
Цензоры блюли строгость нравов, составляли список сенаторов и были вправе удалять из.
сената его членов, запятнавших себя позорным поведением. Сулла ограничил права
цензоров. Цензоры 70 г. Гней Корнелий Лентул Клодиан и Луций Геллий Попликола
произвели ценз, коснувшийся 900 000 римских граждан; они удалили из сената 64
сенаторов из числа трехсот, введенных в сенат Суллой. См. шрим. 93 к речи 6.
3. О ПРЕДМЕТАХ ИСКУССТВА
1 Имеется в виду Мессана. Ее жителей называли также и мамертинцами — от ос-
ского и сабинского «Мамерс» (Марс, покровитель Мессаны). Ср. речь 4, § 42 ел.
2 Предстатель (laudator) — лицо, выступающее в суде с хвалебным отзывом о
подсудимом. Кроме случаев суда, предстатели из городских общин иногда приезжали в
3. Против Гая Верреса, «О предметах искусства»
399
Рим с хвалебными отзывами о своих бывших наместниках. См. письмо Fam., Ill, 8,
2 (CCXXI).
3 Притворное пренебрежение к греческой культуре. Ср. речь 1, § 46. Праксителъ —
знаменитый аттический скульптор IV в.
4 Луций Муммий взял Коринф iB 146 г. По мифу, местом пребывания муз была
гора Геликон, близ Феспий. Статуи муз, перевезенные Муммием в Рим, были названы
Феспиадами. Храм Счастья (или Удачи, Felicitas) находился невдалеке от Палатинского
холма.
5 Мирон — греческий скульптор V в.
6 Канефоры (корзиноносицы)—аргосские девушки, участницы жертвоприношений
Гере, носившие на голове корзины со священными предметами.
7 Поликлет — скульптор VI в., родом из Аргоса.
8 Гай Клавдий Пулъхр был курульным эдилом в 99 г. Он первый показал народу
слонов во время общественных игр.
9 Басилика (римская) — общественное здание с галереями и колоннадами, место для
суда, торговых сделок и прогулок. Первая басилика была построена в 184 г. цензором
Марком Порцием Катоном (Порциева б.); сгорела в 52 г. во время похорон Публия
Клодия (см. речь 22). В 179 г. консул Марк Фульвий Нобилиор построил басилику
(Фульвиева б.), восстановленную в 78 г. консулом Луцием Эмилием Лепидом (Эмили-
ева б.). В 169 г. была построена Семпрониева, в 1(21 г. Опимиева басилика.
10 Намек на оратора Квинта Гортенсия. См. прим. 11 к речи 2.
11 Богиня благополучия (греч. Agathe Tyche); ее изображали с рогом изобилия. Ее
особенно почитали в Сицилии; одна из частей города Сиракуз называлась Тихэ.
12 Имеется в виду Хелидона, возлюбленная Верреса, умершая в 72 г.
13 Potestas. Об империи см. прим. 90 к речи 1. Легаты—1) послы сената, 2)
назначенные сенатом должностные лица для сопровождения полководца или наместника. В
отсутствие наместника, его заменял legatus pro praetore. Легат не обладал potestas.
14 Имеются в виду законы о вымогательстве, определявшие также и права
наместников в провинциях.
15 400 денариев равнялись 1600 сестерциям.
16 Ср. речь 4, § 47.
17 Кибея (греч.) — большое грузовое судно. См. речь 4, § 44 ел.
18 Имеется в виду Кориелиев закон о вымогательстве.
19 О богах-пенатах см. прим. 31 к речи 1.
20 Так называемая атимия (утрата гражданской чести). Утратив гражданскую
честь, Гей уже не мог бы выступить как свидетель, а его прежние показания потеряли
бы силу. «Сенат» — местный.
21 Модий равнялся 8,75 литра.
22 В Сицилии независимыми (суверенными) городскими общинами, свободными от
повинностей (civitates liberae ас immunes), были Галеса, Центурипы, Сегеста, Галикии и
Панорм. Их права определялись постановлением римского сената.
23 Фаселида — приморский город в Ликии (Малая Азия). Публий Сервилий,
консул 79 г., успешно действовал против пиратов в Киликии, Ликии, Памфилии и Исаврии,
в 74 г. справил триумф и получил прозвание «Исаврийский».
24 Гай Порций Катон, консул 114 г. О суде над ним сведений нет.
25 Имеются в виду Луций Эмилий Павел Македонский, Марк Порций Катон
Старший и Публий Корнелий Сципион Эмилиан.
26 Тимархид был вольноотпущенником и акценсом (прим. 91) Верреса и его пособ-
ником в злоупотреблениях.
27 О возмещении ущерба (litis aestimatio) см. етрим. 38 к речи 2.
28 О Верриях (празднествах, введенных Вересом в Сицилии) см. ниже, § 151.0
Сексте Коминии других сведений нет.
400
Примечания
29 См. речь 4, § 139—171.
30 Об узах гостеприимства см. прим. 3 к речи 1. Городская община оказывала
римскому официальному лицу гостеприимство путем так называемой проксении: именитый
член общины принимал его у себя от имени общины; при этом соблюдалась очередность.
31 «Благоволение» римского народа—'избрание в квесторы. Бывший квестор (кве-
хторий) становился сенатором.
32 Очевидно, Басилиск и Перценнии получили права римского гражданства
благодаря Гнею Помпею Страбону и, по обычаю, приняли его родовое, а Басилиск также и
личное имя. Ср. ниже, § 37 ел.
33 Т. е. к сенаторам, которых Цицерон старается настроить против городской
общины, не уважавшей сената.
34 Город Регий получил права римского гражданства в 90 г. Регий находился на
италийском берегу Мессанского (Сицилийского) пролива.
5 Городская община в Италии и в провинциях обычно состояла из граждан (cives)
и поселенцев (incolae).
36 Аттал — имя пергамских царей; имеются в виду ковры, расшитые золотом.
37 Фалеры —■ золотые или серебряные пластины с изображениями; их носили
поверх панциря, а также украшали ими сбрую коня.
38 Кибира—город в Карий. Этот факт, по-видимому, относится к квестуре Верреса.
Ср. речь 2, § 11.
39 Веррес был в 80—79 гг. легатом Гнея Корнелия Долабеллы в Киликии, его ле-
гатство, по словам Цицерона, ознаменовалось грабежами и насилиями.
40 Один из приближенных Верреса.
41 Гидрия — сосуд для воды.
42 В Сицилии на горе Эрике находился храм Афродиты Урании. При храме были
рабы и рабыни, помогавшие при богослужении. Они могли выкупаться на свободу, но
оставались в зависимом положении. 0,ни имели право .выступать в суде как сторона.
Веррес использовал «рабов Венеры» как своих агентов для сбора десятины и для
вымогательства. См. речи 4, § 141; 6, § 43.
43 О комперендинации см. прим. 30 к речи 2.
44 О Луиии Корнелии Сисенне см. ниже, § 43; «Брут», § 228. Речь идет о Римских
играх в цирке; они состояли в беговых состязаниях — на колесницах и верхом. Сисенна
был тогда курульным эдилом и устраивал празднества для народа.
45 Триклиний — ложе на троих: вокруг стола с трех сторон ставили три таких
ложа; пирующие возлежали, опираясь на локоть.
46 Абак (греч.) — стол, на который во время обеда или напоказ ставили ценную
утварь. Его доска и ножки изготовлялись из ценного материала.
47 Закон запрещал делать актерам дорогие подарки; поэтому их стоимость пре-
уменьшали._
48 Африканская туя из породы можжевельников. Это дерево очень ценилось.
49 Ферикл — ваятель родом из Коринфа. Ментор — знаменитый скульптор; см. Мар-
циал, Эпиграммы, XI, 11, 5.
50 По мифу, царь Амфиарай, обладавший даром предвидения, скрывался, чтобы не
участвовать в войне Семерых против Фив, на которой ему было суждено погибнуть.
Его .выдала его жена Эрифила, которой Полиник, сын Эдипа, добивавшийся власти над
Фивами, подарил золотое ожерелье.
51 Т. е. человека из своей преторской когорты (см. прим. 91). Ср. речь 4, § 146.
52 Внесение отсутствующего человека в списки обвиняемых считалось
противозаконным.
53 Траур: обвиняемый или лицо, которому грозило судебное преследование,
появлялись в общественных местах в темной тоге, отпускали бороду и волосы на голове;
сенаторы сменяли тунику с цшрокой пурпурной каймой (tunica laticlava) на тунику с
3. Против Гая Верреса, «О предметах искусства»
401
узкой каймой (t. angusticlava), какую носили римские всадники; последние надевали
тунику без пурпурной полосы. Траур надевали также и родственники и друзья
обвиняемого.
54 Стений, гражданин города Ферм в Сицилии, был ограблен Верресом, а
впоследствии осужден им заочно.
55 Квинт Лррийу претор 73 г., должен был сменить Верреса в 72 г., но ему было
поручено вести войну против Спартака. Аррий умер в 72 г.
56 О раздатчиках см. прим. 18 к речи 2. Подкуп обвинителя и нерадивое
исполнение им своих обязанностей назывались преварикацией. Ср. речь 2, § 22 ел.
57 Сосуд для сжигания благовоний, иногда на цепях.
58 О лектйке см. прим. 95 к речи 1.
59 Tumultus — положение чрезвычайной опасности, которое объявляли в Риме,
когда враг переходил через Альпы; граждане поголовно призывались к оружию,
деятельность государственных учреждений и разбор дел в судах приостанавливались (так
называемое iustitum). Ср. 10, § 26, 28; 11, § 4; 14, § 33.
60 В подлиннике everriculum — игра слов, намек на родовое имя «Веррес». Ср. ниже,
§ 95. Ниже намек на значение слова «Веррес» (боров). Ср. ниже, § 57.
61 Дворец царя Гиерона II (269—216 гг.), резиденция римских наместников.
62 Темная туника и плащ были одеждой греков, не подобавшей римскому
магистрату. Римляне иногда одевались так в провинциях.
63 Конвентом римских граждан называлось общество римских граждан, живших в
данном округе провинции и внесенных в списки. Конвентом назывался также и судебный
округ провинции (conventus iuridicus); центр округа назывался форумом.
64 Ауций Калъпурний Писон был в 74 г. претором вместе с Верресом; его отец был
в 113 г. претором в Испании; его дед, Луций Кальпурний Писон, народный трибун 149 г.,
был автором закона о вымогательстве и получил прозвание Frugi (честный),
сохранившееся в этой ветви Кальпурниева рода.
65 Имеется в виду курульное кресло — складное кресло из дерева или из бронзы
с украшениями, принадлежность курульных (старших) магистратов.
66 Белой глиной греки пользовались для печатей на Востоке и, по-видимому, в
Сицилии; у римлян были приняты восковые печати.
67 Сыновья Антиоха Евсебия, изгнанного из Сирии Тиграном, царем Армении.
После успехов, достигнутых Лукуллом в войне с Митридатом VI, они вместе со своей
матерью, дочерью Птолемея Фискона, отправились в Рим поддерживать свои притязания
на царство в Александрии.
68 Имеются в виду войны Рима против Сертория, Митридата, пиратов и
восставших гладиаторов (74—73 гг.).
69 В данном случае триклиний — столовая.
70 Канделябры изготовлялись из бронзы или мрамора и имели до 2—3 метров в
вышину. На плоскую верхушку канделябра ставили лампы.
71 Храм Юпитера Капитолийского сгорел во время пожара в 83 г. Восстановление
его было начато Суллой и закончено Квинтом Лутацием Катулом в 69 г. Катул получил
прозвание «Капитолийский».
72 Cella — святилище, в котором стояло изображение божества. Ср. речь 4, § 184.
73 Дедикация — акт освящения, передачи храма или предмета божеству.
74 См. Вергилий, «Энеида», V, 711 ел., 746—762.
75 Публий Корнелий Сципион Эмилиан, Карфаген был взят им и разрушен
в 146 г.
76 Тиранн Агригента (570—554 гг.). Мастера, по его заказу изготовившего полого
медного быка, звали Периллом или Перилаем. Ср. речь 4, § 145; письмо Att, VII, 20,
2 (CCCXVII).
77 Одежда римских матрон, доходившая до пят.
26 Цицерон, т. I
402
Примечания
78 По представлению древних, человек, пораженный факелом божества, лишался
рассудка. Ср. речь 1, § 66 ел.
79 Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
80 Имеется в виду орган самоуправления городской общины, «курия».
81 Не давая им аудиенции.
82 Публий Корнелий Сципион Насика, усыновленный Квинтом Цецилием Метеллом
Пием, получил имя Квинта Цецилия Метелла Пия Сципиона; оптимат, впоследствии
тесть Помпея; заступник Верреса.
83 «Новым человеком» (homo novus) называли человека не из сенаторского сословия,
первым в своем роду добивающегося или достигшего консульства. Ср. речи 1, § 139; 4,
§ 35 ел.; 7, § 1, 3; 13, § 14 ел.; Квинт Цицерон, письмо Comment, pet., § 1 ел. (XII);
Ювенал, Сатиры, VIII, 237.
84 Проагор — высшее должностное лицо греческой городской общины в Сицилии.
85 Гай Клавдий Марцелл был наместником в Сицилии в 79 г.
86 См. прим. 40 к речи 2.
87 После взятия Сиракуз Марком Клавдием Марцеллом (212 г.) Марцеллы стали
патронами Сицилии. В честь Марка Марцелла были учреждены празднества — Марцел-
лии, впоследствии упраздненные Верресом.
88 Гимнасиарх — управитель гимнасия, т. е. участка и помещений, где происходили
гимнастические упражнения.
89 Культ Эскулапа (Асклепия) возник в Фессалии и распространился на области,
населенные греками. Эскулап считался сыном Аполлона.
90 Имеются в виду должностные лица городской общины.
91 Преторскую когорту составляли «спутники» (contubernales, comites) наместника,
его личная охрана — молодые люди, начинавшие военную службу или желавшие сделать
карьеру, а также и писцы, гаруспики, врачи, акценсы и вольноотпущенники. Акценс —
младший чиновник при магистрате с империем. Ср. письмо Q. fr., I, 1, 11 (XXX).
92 Великая Матерь — обожествленная земля, в разных странах именовавшаяся по-
разному: Геей, Реей, Кибелой Посвященные божеству панцири и шлемы употреблялись
при священной пляске жрецов-куретов. См. Гесиод, фрагм. 198.
93 В Сицилии был распространен культ Деметры (Цереры) и Персефоны (Просер-
пины). В Катине почитали Деметру-Законодателъницу (Thesmophoros — наставница в
земледелии).
94 Изготовлявшиеся в Мелите (Мальта) ткани и ковры славились.
95 Квинкверема (военное судно с пятью рядами весел) была снаряжена для оказания
почета. В Карфагене поклонялись Юноне-Небожительнице (Iuno Caelestis).
96 Греческие божества Деметра и ее дочь Персефона были отождествлены с
римскими божествами Церерой и Либерой. Область Энны, ввиду своего плодородия,
считалась местом пребывания Цереры. Дит и Орк (§ 111) — имена бога Плутона. См.
Овидий, «Метаморфозы», V, 385 ел.; «Фасты», IV, 417 ел.
97 Афиняне справляли в честь Деметры и Коры (Персефоны) мистерии в Элевсине,
где по греческой традиции возникло земледелие.
98 В 113 г.
99 Сивиллины книги — собрание предсказаний, по преданию, привезенное из Эрифт
(Азия) в Кумы, а оттуда в Рим. Они получили название по имени пророчицы Сивиллы.
Истолкованием их занималась особая жреческая коллегия (decemviri sacris faciundis).
100 Храм Цереры> Ливера и Ливеры находился в Риме и был основан диктатором
Авлом Постумием в 496 г., во время голода. Отец Ливер — италийское божество
плодородия и весны, впоследствии отождествленное с греческим Дионисом (Вакхом).
101 Триптолем — аттическое божество, покровитель земледелия.
102 Ника (Победа) часто изображалась вместе с главными божествами греков.
Фидий изваял Зевса и Афину держащими на руке Нику.
3. Против Гая Верреса, «О предметах искусства»
403
юз Ветки оливы, обвитые шерстяными лентами, были у греков принадлежностью
просителей.
104 В 132 г., во время первого восстания рабов в Сицилии. Рабы, осажденные
римлянами в Энне, продержались около двух лет.
105 Ср. речь 4, § 95 ел., 103 ел. Киликийцы были пиратами.
106 По свидетельству Страбона, город Сиракузы имел 180 стадиев (около 33
километров) в окружности; площадь его, внутри стен, равнялась около 18 квадратных
километров. Это был самый большой город классической древности.
107 Т. е. общественное здание, место суда, пиршеств и пр.
108 Слово «Неаполь» означает новый город.
109 Temenos (греч.) — участок, посвященный божеству, святилище. Теменит был
предместьем Сиракуз и получил свое название от находившегося там храма Аполлона.
110 Агафокл — тираня, а позднее царь в Сиракузах (317—289 гг.).
111 По верованию римлян, всякий город находился под охраной своих богов и его
можно было взять только после того, как боги отступятся от него. Поэтому осаде города
предшествовали особые обряды и молитвы, в которых полководец, который вел осаду,
просил богов-покровителей города покинуть его и переселиться в Рим (так называемая
эвокация). Успешность осады свидетельствовала о том, что боги покинули храмы города,
которые тем самым теряли свою святость и неприкосновенность.
112 Имеется в виду Хелидона; см. выше, § 7, 83.
113 Силанион — греческий скульптор середины IV в. Сапфо — греческая поэтесса
VII—VI вв., родом с острова Лесбоса.
114 Храм Богини счастливого случая (Fortuna huiusce diei), построенный Квинтом
Лутацием Кату лом, консулом 102 г., после его победы над кимврами. В нем стояла
статуя Афины работы Фидия.
115 Находившийся вблизи Фламиниева цирка портик Метелла Македонского был
построен им после победы над Лже-Филиппом и превращения Македонии в римскую
провинцию (148 г.).
116 «Эпиграмма» — надпись, обычно в стихах; в данном случае — посвящение или
прославление.
117 Пэан — врач богов в гомеровской мифологии. Его отождествляли с Аполлоном.
118 О Ливере ср. прим. 100. Аристей, греческое божество, считался сыном
Аполлона и нимфы Кирены, он познакомил людей с оливой.
119 Урий (греч.) — посылающий попутный ветер.
120 До пожара 83 г. Эта статуя была вывезена из Пренесты Титом Квинкцием Цин-
циннатом; см. Ливии, VI, 29. На цоколе была надпись «Т. Квинкций», чем можно
объяснить ошибку Цицерона. Тит Квинкций Фламинин — победитель македонян при Кино-
скефалах (197 г.)
121 О могиле Архимеда см. Цицерон, «Тускуланские беседы», V, § 64; Ливии,
XXV, 31.
122 Delphica mensa — стол из мрамора или бронзы на трех ножках, напоминающий
дельфийский треножник. Кратер (греч.) — сосуд с широким горлом для смешивания
вина с водой.
123 Оратор Луций Аициний Красе и Квинт Муций Сцевола (понтифик) были >в 103 г.
курульными эдилами и во время общественных игр впервые в Риме показали народу
львов.
124 Статуя Европы на быке была изваяна Пифагором из Регия (V в.). Сатир, или
Сатирий — герой-эпоним Сатирик, местности вокруг Тарента. В Книде (Кария)
находилась статуя Афродиты, в Косе — картина Апеллеса, изображавшая Афродиту. В Эфесе,
в храме Артемиды, находилась картина Апеллеса, изображавшая Александра Великого
с молнией в руке. «Аянт» и «Медея», по-видимому, картины Тимомаха. Иалис —
легендарный основатель города Иалиса на острове Родосе.
28*
404
Примечания
125 В храме Деметры, около Афин, было три статуи работы Праксителя: Деметры,
Персефоны и Иакха с факелом в руке. Иакх — гений из окружения Деметры;
впоследствии превратился в юного Диониса.
126 Парал — аттический герой, которому приписывали изобретение длинных кораблей.
127 Об ограблении Верресом Гераклия говорится в «книге» II (О судебном деле),
§35.
128 Ср. речь 4, §31.
129 Луций Карпинаций был представителем компании откупщиков пастбищ и
находился в Сицилии при Верросе. Вначале Карпинаций, в своих письмах в Рим, жаловался
на притеснения со стороны Верреса, но впоследствии столковался с ним.
30 Имеются в виду злоупотребления Верреса в связи с откупами в Сицилии. «Вер-
руций» (вместо «Веррес») — подлог в книгах Карпинация, раскрытый Цицероном. См.
«книга» II (О судебном деле), § 169—191.
131 Т. е. проагором; ср. выше, § 50, 85; речь 4, § 160. Не смешивать с Гераклием,
упомянутым в § 136.
132 Не смешивать с Тимархидом, агентом Верреса.
133 Претор Луций Цецилий Метелл, сменивший Верреса в Сицилии в 70 г.
134 Наместник в Сицилии в 76—75 гг.
135 Сын Верреса был изображен нагим, по греческому обычаю; так изображали
эфебов (юношей-гимнастов).
136 Во время первой сессии, при допросе свидетелей.
137 См. выше, § 117; речь 4, § 96 ел.
138 Цицерон был вправе присутствовать в сиракузском «сенате», но удалился,
памятуя о правилах, принятых в римском сенате: приняв послов, сенат приступал к
обсуждению вопроса лишь после их ухода.
139 Цицерон был связан с сиракузянами узами общественного гостеприимства со
времени своей квестуры в Лилибее (75 г.).
140 Дисцессия— голосование в сенате; при этом сенаторы переходили к месту того
сенатора, чье предложение они поддерживали.
141 Апелляцией, в широком смысле слова, называлось обращение к высшему
магистрату с жалобой на действия или на распоряжение низшего.
142 О Цесеции см. речь 4, § 63.
143 Тем самым претор Луций Метелл выступил в защиту Верреса.
144 Квинт Цецилий Метелл был консулом в 109 г. и за победу над царем Югуртой
получил прозвание «Нумидийский». См. речь 18, § 37, 101, 130; письма Att., I, 16, 4
(XXII); Fam., I, 9, 16 (CLIX).
145 Луций Лициний Лукулл, отец консула 74 г., после неудачных действий в 102 г.
против восставших рабов в Сицилии был обвинен в казнокрадстве и осужден.
146 После получения этих писем Луций Метелл начал требовать, чтобы городские
общины Сицилии дали хвалебные отзывы о Верресе, запугивать свидетелей и
препятствовать их выезду в Рим. См. «книгу» II (О судебном деле), § 64.
147 Прозвище «Феоракт» означает: обезумевший по воле богов.
148 Ср. выше, § 15; речь 4, § 57 ел.
4. О КАЗНЯХ
1 Имеются в виду восстание рабов под руководством Спартака, господство пиратов
на морях и третья война с Митридатом VI.
2 Об императоре см. прим. 70 к речи 1, об империи — прим. 90 к речи 1.
3 «Место» (locus communis) — технический термин: общее положение в риторике.
См. Цицерон, «Оратор», § 122.
4. Против Гая Верреса, «О казнях»
405
4 Маний Аквилий, /проконсул Сицилии в 101—98 гг., подавивший восстание рабов,
был в 98 г. обвинен в вымогательстве. Оратор Марк Антоний, консул 99 г., был убит
марианцами в 87 г.
5 Афинион, вождь восставших сицилийских рабов, которого Маний Аквилий убил в
рукопашном бою.
6 См. прим. 29 к речи 1.
7 Корнелиев закон 81 г. о вымогательстве. Обвинение, поддерживаемое Цицероном,
выходит за рамки иска по этому закону.
8 Когда силы Спартака прорвались из Регия, где они были окружены Марком Лици-
нием Крассом, и двинулись на север, Помпея вызвали из Испании, где он воевал против
Сертория. Красе настиг войско рабов и нанес ему поражение в Аукании. Помпеи
истребил остатки их войска.
9 Океаном древние называли море, по их представлению, обтекающее всю сушу.
10 Имеются в виду восстания рабов Сицилии, происходившие в 134—»132 гг. и в
104—101 гг.
11 Через несколько лет после Мания Аквилия. Он был консулом в 94 г.
12 Союзническая, или Италийская, или Марсийская, война (восстание союзников
против Рима) 91—88 гг. Гай Юний Норбан был пропретором Сицилии в 91 г. и
консулом в 83 г.
13 О конвенте римских граждан см. прим. 63 к речи 3.
14 Для наказания розгами, после чего рабов распинали на крестах (казнь «по
обычаю предков»). Римским гражданам отсекали голову.
15 Ср. речь 7, § 10.
16 Обычная формула приговора. Ср. Ливии, XXV, 4.
17 Об узах гостеприимства см. прим. 3 к речи 1. Аполлоний м©г принимать
Цицерона во время его квестуры или во время его поездки по Сицилии для следствия по
делу Верреса.
18 Интердикт —• приказ претора, запрещавший какое-либо действие или
предписывавший что-либо. Интердикту предшествовало расследование (cognitio).
19 Секиры были принадлежностью ликторов, почетной охраны магистратов,
облеченных империем. См. прим. 126.
20 Квинт Фабий Максим Кунктатор, герой второй пунической войны. См. Энний,
«Анналы», фрагм. 360 Уормингтон:
Нам один человек республику спас промедленьем.
21 Имеются в виду Сципионы — Старший и Младший, сын Луция Эмилия Павла
Македонского, усыновленный сыном Сципиона Старшего.
22 В подлиннике игра слов: lectus ложе и tectum кров, дом; кроме того, сарказм,
основанный на разных значениях слова lectus — ложе в спальне и ложе в столовой.
23 Фавоний — западный ветер. Ср. Гораций, Оды, I, 4, 1.
24 Сарказм Цицерона связан с обычаем римлян бросать на стол во время пира
лепестки роз. Ср. Гораций, Оды, I, 36, 15.
25 О лектйке см. прим. 95 к речи 1; о мелитских тканях — прим. 94 к речи 3.
26 См. прим. 96 и 100 к речи 3.
27 В Сицилии центрами судебных округов были Сиракузы, Агригент (Акрагант),
Панорм, Лилибей и Тиндарида.
28 Ср. речь 1, § 89.
29 Ср. Энний, «Анналы», фрагм. 276 ел. Уормингтон:
Всяк, кто ударит врага, Карфагена сочтен будет сыном,
Кто бы, откуда бы родом он ни был.
(Перевод Ф. Ф. Зелинского)
406
Примечания
39 Греческий плащ, тем более пурпурный, и туника до пят (одежда женщин) были
неприличны для римского магистрата. См. «иже, § 86, 1>37; речи 3, § 54; 10, § 22.
31 См. выше. § 3.
32 Во всем § 32 содержатся намеки на распутно проведенную молодость Верреса.
Выражение militia Veneris (военная служба у Венеры) было общепринятым. Ср. Овидий,
Amores, I, 9, 1 ел.
33 Т. е. в 74 г., когда Веррес был городским претором.
34 Консул или претор, перед выездом в провинцию или на войну, совершал в
Капитолии авспиции (вопрошение воли богов), после чего приносил жертву богам и давал
им обет (nuncupatio votorum); затем он надевал военный плащ (paludamentum), это было
началом его военного империя, причем он терял право доступа в пределы померия
(сакральная городская черта Рима).
35 Флоралии, праздник в честь богини Флоры, начинались 28 апреля.
38 Римские игры в честь капитолийских божеств Юпитера, Юноны и Минервы
происходили с 5 по 19 сентября.
37 Голосование в сенате, т. е. высказывание сенатором его предложения,
происходило по старшинству магистратов.
38 Ius imaginum — право хранить у себя в доме восковые маски предков. Эти маски
несли во время похоронного шествия. Таким правом обладали курульные магистраты и
их потомки.
39 Ср. речь 3, § 45.
40 По традиции со времен царя Сервия Туллия свободное население (ополчение)
Рима делилось на 193 центурии, которые делились на пять классов по имущественному
признаку. В каждом классе центурии делились на старшие (воины от 46 до 60 лет) и
младшие (воины от 17 до 40 лег:). Вероятно, в 221 г. была произведена реформа цен-
туриатских комиций на основе территориального принципа в сочетании с цензовым —
в соответствии с наличием 35 триб, каждая из которых была разделена на пять разрядов;
разряд состоял из старшей и младшей центурий. Общее количество центурий
определяется следующей формулой: (2 центурии X 5) X 35+18 центурий всадников +4 центурии
ремесленников и музыкантов + 1 центурия пролетариев = 373 центурии.
41 В 74 г. как городской претор, обладающий юрисдикцией.
42 Ср. речь 3, § 7, 71, 123.
43 Город в Бруттии; в нем укрывались остатки войск Спартака.
44 Vibo Valentia (ранее Гиппон) — город в Бруттии, обычно назывался Вибоном.
45 Триумф—празднество в честь Юпитера Феретрийского, приуроченное к
возвращению полководца после большой победы над внешним врагом, когда пало не менее
5000 врагов. В ожидании триумфа полководец находился в окрестностях Рима (ad Ur-
bem) и должен был получить на день триумфа империй в Риме, о чем издавался кури-
атский закон. В шествии участвовали сенаторы и магистраты; за ними следовали
трубачи; несли военную добычу и изображения взятых городов, вели белых быков для
жертвоприношения и наиболее важных пленников в оковах. За ними, на триумфальной
колеснице, запряженной четверкой белых коней, стоя ехал триумфатор с лавровой веткой
в руке, с лицом, раскрашенным в красный цвет (как у древних статуй Юпитера);
государственный раб держал над его головой золотой венок. Колесницу окружали ликторы,
связки которых были увиты лавром. За ликторами следовали солдаты, иногда
распевавшие песенки с насмешками над триумфатором. Процессия вступала в Рим через
триумфальные ворота, проходила по Большому цирку, forum boarium, Велабру и по
Священной дороге вступала на форум. У подъема на Капитолий пленников уводили и обычно
казнили. В Капитолии триумфатор приносил жертву Юпитеру и слагал с себя венок. Его
имя вносили в особые списки (fasti triumphales).
46 Беллона (Дуеллона) — богиня войны (культ ее, возможно, сабинского
происхождения), впоследствии отождествленная с греческой Эниб и восточным божеством луны
4. Против Гая Верреса, «О казнях»
407
Храм Беллоны был на Марсовом поле; перед храмом стояла колонна (columna bellica),
над которой фециал (прим. 54) метал копье в знак объявления войны. Культ каппадо-
кийской Беллоны был перенесен в Рим при Сулле, после войны с Митридатом.
47 См. прим. 40 к речи 2.
48 Ср. речь 3, § 23.
49 Кибея (греч.) — большой грузовой корабль. Трирема (греч.)—военное судно с
тремя, бирема — с двумя рядами весел.
50 Город в Аукании, на Тирренском море.
51 Клавдиев плебисцит 218 г. запрещал сенатору и сыну сенатора иметь корабль
емкостью более 300 амфор (8 тонн). Корабль средней величины обладал емкостью
около 2000 амфор.
52 См. речь 3, § 15. О предстателях см. прим. 2 к речи 3.
53 Наместникам Сицилии, по-видимому, разрешалось реквизировать строевой лес
на италийском берегу пролива.
54 Фециалы— жрецы бога верности (см. прим. 72 к речи 1), высшая инстанция в
Риме по международному праву. В древнейшую эпоху ее глава (pater patratus) объявлял
войну и заключал мир.
55 В 264 г. Мессана обратилась к Риму за помощью; это послужило поводом к
первой пунической войне.
66 Имеется в виду senatus consultum de ornandis >provinciis praetorum — постановление
сената о предоставлении преторам, назначенным в провинции, денег, войска и всего
необходимого для наместничества.
57 Lex Cassia Terentia — закон, проведенный в 73 г. консулами Гаем Кассием Варом
и Марком Теренцием Варроном Лукуллом, о предоставлении римским гражданам зерна
по дешевой цене и о принудительной покупке его в провинциях, в частности — в
Сицилии.
58 Lex censoria — постановление цензора, определявшее ставки податей за
пользование государственной землей (ager publicus); издавалось на пятилетие. См. письмо Q. fr.,
I, 1, 35 (XXX). См. вводное примечание к речи 7.
59 Гиеронов закон — положение о едином сельскохозяйственном налоге натурой в
размере десятины, изданное сицилийским царем Гиероном II (269—215) и
распространенное на всю Сицилию римлянами после завоевания ими Сицилии. См. «книгу» III,
О хлебном деле.
60 По-видимому, поставки хлеба Сицилией определялись, помимо Кассиева-Терен-
циева закона, также и другими законами, возможно, законом Гая Гракха (lex Sempronia
frumentaria), отмененным при Сулле.
61 Поговорка. Ср. Гораций, Оды, I, 35, 18; Петроний, Сатиры, § 75.
62 Имеется в виду компания откупщиков.
63 Гай Лициний Сацердот был наместником в Сицилии в 74 г.
64 Секст Педуцей был наместником в Сицилии в 76—75 гг.
65 Упоминаемое Цицероном число предстателей требовалось при разборе дела о
вымогательстве.
66 См. речь 3, § 19 слл., 150 ел.
67 Риторическое преувеличение: такое заявление сделал один только Гей. См. речь
3, § 3 ел.
68 Колонией называлось военное поселение, основанное со стратегической целью,
в силу закона, издававшегося в каждом отдельном случае, с предоставлением земли
римским гражданам, сохранявшим принадлежность к своим трибам (colonia civium Ro-
manorum). Лица, которым поручалось вывести колонию (curatores coloniae deducendae),
часто облекались империем и впоследствии становились патронами колонии. Другим
видом колонии была латинская колония, которая составлялась из членов общин,
входивших в латинскую федерацию: эти колонии существовали на основании латинского
408
Примечания
права (ius Latii). Третий вид колонии — колонии солдат-ветеранов, которым давали
землю после увольнения их от службы.
69 О муниципии см. прим. 19 к речи 1. Это может относиться к муниципию,
который еще дочпредоставления прав римского гражданства союзникам-италикам (по Юлиеву
закону 90 г.) стал суверенной общиной (civitas immunis et libera).
70 См. ниже, § 86 ел.
71 Командир военного корабля или флота.
72 Такое положение существовало до Союзнической войны, когда италики
считались союзниками (socii) и должны были выставлять вспомогательные войска (auxilia).
Юлиев закон 90 г. дал им возможность вступать в римские легионы.
73 Экипаж военного судна состоял из матросов, гребцов и солдат.
74 Первый был квестором, второй — легатом Верреса.
75 Т. е. осудил на смерть.
76 Публий Сервилий Исаврийский (см. прим. 23 к речи 3) входил в совет судей.
77 При «морском триумфе» (прим. 45) трофеем являлись носовые части (тараны,
ростры) вражеских кораблей. Трофей (греч.) воздвигался на месте, где враг был разбит,
и посвящался божеству, «обращающему врага в бегство»,— Зевсу, Гере, Афродите,
Посейдону. Морской трофей сооружался на берегу. Римляне сооружали трофеи по окончании
кампании. Первоначально это был столб, на который вешали оружие врага.
78 «Цари» — это Агафокл, объявивший себя царем Сиракуз в 306 г., после 11 лет
гираннии, и Гиерон II (269—.216 гг.). «Тиранны» — это Дионисий Старший (см. ниже,
§ 143). В Каменоломнях содержались афиняне, взятые в плен во время их похода в
Сицилию (415—413 гг.). См. ниже, § 98.
79 Квинт .Апроний был агентом Верреса и участвовал в* незаконных поборах с
населения Сицилии. См. «книгу» III, О хлебном деле.
80 После убийства Сертория в 72 г. его войско было разбито Помпеем; уцелевшие
солдаты разбрелись. Веррес мог сослаться на то, что серторианцы были вне закона как
государственные преступники. См. ниже, § 146, 151.
81 По старинному обычаю, отжившему в I в. См. ниже, § 156 ел. Ср. речь 8, § 13.
82 Миопарон — легкое быстроходное военное судно.
83 Марк Анний — римский всадник, жил в Сиракузах.
84 См. ниже, § 113; речи 1, § 66; 3, § 74 ел., 14, § 76.
85 Это обстоятельство отягчало вину Верреса.
86 Во время триумфа колесница триумфатора поворачивала у храма Сатурна, где
начинался подъем на Капитолий. Каз-нь пленных военачальников совершалась в подземелье
Мамертинской тюрьмы.
87 Имеется в виду постоянный суд по делам об оскорблении величества римского
народа. См. прим. 40 к речи 2.
88 Речь идет о хлебе для нужд претора и его когорты (frumentum in cellam). Мулы
и палатки были нужны наместнику при разъездах. Возможно, что слова в квадратных
скобках относятся к другому месту речи, так как упоминание о мулах, после того как
говорилось о квесторе и легате, едва ли было уместным. Ср. речь 7, § 32.
89 Префект — младший начальник. О военных трибунах см. прим. 26 к речи 2.
90 По преданию, эти города были основаны выходцами из Трои. Ср. речь 3, §, 72.
Сегеста и Центурипы были суверенными городами, и потому их гражданин имел на
командование флотом больше прав, чем сиракузянин Клеомен. Сиракузы были
завоеванным городом. Ср. ниже, § 125.
91 Цицерон умалчивает о верности Сиракуз Риму во времена Гиерона II и о
разграблении города, которое допустил Марк Марцелл, взяв Сиракузы в 212 г. См. Ливии,
XXV, 31.
92 Пахин — мыс на юго-востоке Сицилии. Обычно морской переход от Сиракуз до
Пахина продолжался двое суток.
4. Против Гая Верреса, «О казнях»
409
93 Одиссея находилась вблизи Пахина, к западу.
94 Гелор находился на полупути между Пахином и Сиракузами.
95 Локры — греческая колония на юге Италии.
96 Корабль следовало вытащить на берег.
97 Имеется в виду случай, когда Верресу, во время его легатства, угрожал самосуд
населения города Лампсака, вызванный его покушением на женскую честь и права
гостеприимства. Претор провинции Африки Гай Фабий Адриан был в 83 г., в отместку за его
жестокость, сожжен заживо римскими гражданами, жившими в этой провинции. См.
«книгу» I (О городской претуре), § 68 ел.
98 Ср. речь 3, § 117 ел. Форум находился в Ахрадине.
99 Ср. речь 3, § 117.
100 Ораторское преувеличение. Это может относиться только к первой и второй
пуническим войнам.
101 Имеется в виду взятие Сиракуз Марком Марцеллом в 212 г. Гавань была в руках
у карфагенян; римляне действовали только на суше.
102 Цицерон преувеличивает численность афинского флота, посланного в Сицилию во
время пелопонесской войны. Ср. Фукидид, VI, 31, 43, 70; VII, 16, 42.
103 См. ниже. § 188; речь 3, § 106.
104 См. выше, § 89. На палубу ставили метательные машины, большие корабли имели
тараны.
105 Adulescentes — в Риме так называли мужчин в возрасте от 17 до 30 лет.
106 Венки (согопае) были видом военной награды: за спасение римского гражданина
солдат награждался дубовым венком (corona civica); золотой венок с изображением
зубцов стены давался первому, взошедшему на стену города (с. muralis); с. castrensis —
первому, взошедшему на вражеский корабль.
107 По представлению римлян, души умерших, божества подземного мира. Культ
манов охватывал обязанности живых членов рода и семьи по отношению к умершим.
108 О преторской когорте и спутниках см. прим. 91 к речи 3.
109 О Тимархиде см. речь 3, § 22, 35.
110 Таков был обычай. Ср. Вергилий, «Энеида», IV, 684.
111 По представлению древних, души людей, оставшихся без погребения, в течение
ста лет блуждают по берегу подземной реки Стикса, не находя себе покоя. См. Вергилий,
«Энеида», III, 62; VI, 324 ел.
112 В подлиннике suscipere. Древний обычай: глава рода брал на руки
новорожденного, положенного перед ним на землю и тем самым признавал его членом рода.
Отвергнутый ребенок мог быть отнесен в уединенное место и обречен на смерть. См. прим. 41
к речи 1.
113 Человек, укрывающийся в храме у алтаря, считался неприкосновенным. Ср. речь
16, § 11.
114 Ср. речь 3, § 22, 133.
115 Ср. Ливии, XXV, 40; Саллюстий, «Катилина», 10 ел., 20; «Югурта», 31; Юве-
нал, Сатиры, VI, 298 ел; VII, 98 ел.
116 О трауре см. прим. 53 к речи 3.
117 См. прим. 38 к речи 2.
118 См. прим. 146 к речи 3.
119 Ср. Гомер, «Илиада», XVIII, 309:
Общий у смертных Арей; и разящего он поражает!
(Перевод Н. И. Гнедича)
Имеется в виду переменчивость боевого счастья. Ср. речи 18, § 12; 22, § 56; письма Att,
VII, 8, 4 (CCXCVIII); Fam., VI, 4, 1 (DXLIV). Слова «общая Венера» — намек на
Нику; см. выше, § 82, 101, 107.
410
Примечания
120 Фалакр и Филарх.
121 Марк Цецилий Метелл, избранный в преторы «а 69 г., брат Луция Метелла,
назначенного в качестве наместника Сицилии на 69 г.
122 Т. е. в провинции плодородной и обильной хлебом.
123 Как бывшего квестора в Лилибее и в силу уз гостеприимства.
124 О рабах Венеры Эрицинской см. прим. 42 к речи 3.
125 Устная процедура перед судом или. рекуператорами (коллегия, разбиравшая
тяжбы о материальном ущербе), самостоятельная или же предваряющая вчинение иска. При
спонсии доказывался или опровергался тот или иной факт, давалось обязательство
уплатить определенную сумму денег в случае проигрыша дела. Лицо, требовавшее такого
обязательства, называлось стипулятором; лицо, дававшее обязательство,— промиссором.
Спонсия совершалась в виде вопроса и ответа. В данном случае ликтор был подставным
лицом, вместо Верреса. Проигравший спонсию терял гражданскую честь.
128 Ликторы составляли почетную охрану магистратов с империем и носили перед
ними связки прутьев, в которые вне Рима втыкали секиры. При диктаторе было 24
ликтора, при консуле 12,. при преторе — 2 в Риме и 6 в провинции. Старшим ликтором был
тот, который шел непосредственно перед магистратом (lictor proximus, 1. summus).
Ликторы приводили в исполнение наказания, в провинциях и смертную казнь. «Ближайшим
ликтором» Верреса был Секстий; см. ниже, § 113, 118.
127 В подлиннике игра слов: Cupido (Купидон) и cupiditas (страсть).
128 Сицилийский тиранн Дионисий Старший (406—367 гг.).
129 На народной сходке могли быть заявлены жалобы на магистратов, превысивших
власть и совершивших преступление.
130 Возможно, имеются в виду лестригоны. См. Гомер, «Одиссея», X, 80 ел.
131 О Фалариде см. речь 3, § 73.
132 Цицерон намекает на агентов Верреса. См. речь 3, § 40. Харибда — водоворот в
Сицилийском проливе, Сцилла — утес дротив Харибды, на италийском берегу. По
мифологии, Харибда — чудовище, поглощавшее корабли, Сцилла — чудовище, опоясанное
псами. Ср. речи 18, § 18; 24, § 67. См. Гомер, «Одиссея» XII, 85 ел.; Лукреций, «О
природе вещей», V, 892; Овидий, «Метаморфозы», XIII, 730 ел.; Гораций, Оды, I, 27, 97.
183 См. Гомер, «Одиссея» IX, 216 ел.
134 Судовладельцы были объединены в компании. См. выше, § 46.
135 Выбор этих метафор можно связать со значением слова verres (боров). Ср. речь
3, § 53, 95; Гораций, Оды, J, 1, 28; Эподы, II, 31.
136 Т. е. с ораторской трибуны на форуме, как курульный эдил в 69 г., когда Цицерон
созовет суд народа (см. прим. 39 к речи 1), если суд по делу об оскорблении величества
не осудит Верреса (см. выше, § 79). Речь может идти о государственном преступлении
(perduellio), когда осужденный объявлялся врагом государства (hostis publicus).
137 Марк Перпенна вначале был соратником Сертория (см. прим. 80), но затем
составил против него заговор, и Серторий был убит. Перпенна был разбит Помпеем, попал в
плен и был казнен.
138 О проскрипции см. прим. 28 к речи 1.
139 Путеолы — порт в Неаполитанском заливе. Суда, направлявшиеся в Путеолы,
заходили в Сицилию, возвращаясь с Востока.
140 Город в северной Африке.
141 Вольноотпущенники принадлежали главным образом к плебсу, низшему сословию.
142 Город в Самнии.
143 Т. е. проагором; он и доложил Верресу о своих действиях.
144 Ср. выше, § 106; см. Квинтилиан, «Обучение оратора», IX. 2, 40; XI, 1, 30.
145 Известны три Порциевых закона (198, 195 и 185 гг.). Их обычно объединяли;
см. речь 8, § 12. Говоря о Семпрониевых законах, Цицерон имеет з виду законодательство
Гая Гракха, в частности — закон о провокации. Эти законы расширяли право провокации,
т. е. право римского гражданина апеллировать к центуриатским комициям на действия
4. Против Гая Верреса, «О казнях»
411
магистратов или на приговор суда. Валериев закон о провокации был издан в 300 г., но
традиция приписывала его Публию Валерию Попликоле, одному из первых консулов
Рима после изгнания царей. См. Ливии, X, 9, 3.
146 Право апеллировать к народу, отнятое у народных трибунов Суллой в 82 г., было
возвращено им в 70 г., в консульство Помпея и Красса. Власть трибунов была
ограничена пределами города Рима. См. также прим. 90 к речи 1.
147«Царства» — государства, подвластные Риму, но управляемые царями;
«независимые городские общины» — суверенные.
148 Возможно, дорога, проложенная Помпеем в 82 г., во время его действий против
марианцев.
149 См. прим. 34 к речи 1.
150 Ср. речи 2, § 13; 3, § 24 ел. После издания Порциевых законов порке розгами
стали подвергать только чужеземцев. Распятие на кресте было казнью для рабов,
перебежчиков и жителей провинций — за пиратство, убийство, разбой, мятеж.
151 Комиций — незастроенная северная часть римского форума, где происходили
выборы магистратов. О рострах см. прим. 32 к речи 2
152 Курульный эдилитет Цицерона должен был начаться 1 января 69 г. См. выше,
§ 151; речь 2, §37.
153 Намек на возможный подкуп судей. Ср. речь 2, § 36, 50.
154 Имеется в виду отвод судей, произведенный обвинителем.
155 В подлиннике игра слов: сета (воск) и саепипг (грязь). См. прим. 11 к речи 2.
156 Ко времени слушания дела Верреса Гортенсий уже был избран в консулы на 69 г.
Ср. речь 2, § 18 ел.
157 Намек на диктатуру Суллы.
158 Имеется в виду нобилитет. О господстве Гортенсия в судах см. речь 2, § 35.
159 Гортенсий. Обращение по личному имени звучало по-дружески; здесь ирония. Ср.
речь 13, § 9.
160 Имеется в виду Аврелиев закон о судоустройстве (lex Aurelia iudiciaria),
проведенный претором Луцием Аврелием Коттой в 70 г. Совет судей должен был
составляться из трех декурий: сенаторов, римских всадников и эрарных трибунов. О последних см.
прим. 93 к речи 6.
161 Имеются в виду, кроме Сицилии, провинции Азия, Киликия, Цисальпийская
Галлия, Памфилия.
162 Милости римского народа — избрание в магистраты. Выборы начинались на
рассвете; слова Цицерона можно понимать и буквально. Ср. речь 7, § 100; Саллюстий,
«Югурта», 85.
163 Марк Порций Катон Старший (234—149), как и Цицерон, был «новым
человеком» (см. прим. 83 к речи 3) и первый в овоем роду получил право изображений.
164 Квинт Помпеи, консул 141 г., «новый человек», был противником Гая Лелия и
Сципиона Эмилиана. См. Цицерон, «Брут», § 96.
165 Гай Флавий Фимбрия, консул 104 г., вместе с Гаем Марием. См. прим. 37 к речи
1. См. Цицерон, «Брут», § 129.
166 Цицерон часто упоминает о том, что Гай Марий был его земляком и тоже «новым
человеком». См., речи 14, § 23; 16^§ 38; 18, § 37 ел., 50, 116; 21, § 19, 32.
167 Гай Целий Калъд, народный трибун 107 г., автор закона о тайном голосовании в
суде о государственной измене (lex Caelia tabellaria), консул 98 г., сторонник Мария.
168 Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Цицерон здесь превозносит
противников нобилитета.
169 Ср. речь 18, § 102.
170 До процесса Верреса Цицерон выступал в суде только как защитник; позднее,
а конце 52 г. или в начале 51 г., он обвинял ;в суде Тита Мунация Планка Бурсу и
добился осуждения.
412
Примечания
171 См. речь 3, § 61 ел.
172 В культе Великой Матери богов римляне объединяли культы Матери Идейской,
Реи (Крит), Кибелы (Фригия). Ида — название горы во Фригии и горы на Крите.
173 Храм Диоскуров (Кастора и Поллукса, Aedes Castoris) был одним из мест
собраний римского сената.
174 Во время Римских игр и других празднеств в Большом цирке (Circus Maximus)
происходили бега и скачки, начинавшиеся с торжественного шествия из Капитолия через
форум и Велабр. При этом статуи богов везли на священных колесницах (тенсы); когда
процессия вступала в Большой цирк, изображения богов ставили на особые подушки
(pulvinaria). Ср. речь 20, § 115.
175 Ср. речьЗ, § 115.
5. РЕЧЬ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМПЕРИЯ ГНЕЮ ПОМПЕЮ
(О Манилиевом законе)
Первое столкновение между Римом и понтийским царем Митридатом VI Евпатором
произошло в 92 г. или 91 г., когда этот царь подчинил себе почти всю Малую Азию.
Когда он назначил правителя в Каппадокию, Сулла, бывший тогда пропретором Киликии,
вытеснил последнего. В 90 г. римляне послали в Малую Азию легата Мания Аквилия,
чтобы он восстановил на вифинском престоле царя Никомеда III, изгнанного Митридатом.
Митридат не только оказал сопротивление Никомеду и Аквилию, но и захватил самого
Аквилия, а в 88 г., в один день, устроил избиение всех римлян и италиков, находившихся
в городах и на островах Малой Азии; их погибло около 80 000 человек. Вслед за этим
царь подчинил себе острова Эгейского моря и овладел Европейской Грецией. В 87 г.
Сулла высадился с войском в Греции и, продвигаясь от Эпира и почти не встречая
сопротивления, дошел до Афин, которые взял в 86 г.; он нанес поражение полководцам Мит*
ридата под Херонеей и Орхоменом (в Беотии) и вытеснил его в Азию. Марианцы после
своей победы в Риме направили против Митридата свои войска под командованием
консула 86 г. Луция Валерия Флакка, который вскоре был убит своим легатом Гаем
Флавием Фимбрией. Фимбрия, действовавший в Малой Азии, нанес войскам царя ряд
поражений. Митридат был вынужден искать мира с Суллой, который, в свою очередь, хотел
развязать себе руки для расправы с Фимбрией и своими политическими противниками в
Риме. В 85 г. был заключен мирный договор, по которому царь уплатил Риму 3000
талантов контрибуции, выдал 80 военных кораблей и отказался от своих завоеваний. Так
закончилась первая война Рима с Митридатом.
В 83 г. легат Суллы, Луций Лициний Мурена, начал военные действия против царя,
но был разбит. Митридат обратился к Сулле, и война прекратилась в 82 г. (вторая война
с Митридатом).
В 75 г., после .смерти вифинокого царя Никомеда III Филопатора, Вифиния, по его
завещанию, перешла под власть Рима. Это послужило поводом к вторжению Митридата.
Консул Марк Аврелий Котта был им разбит, но другой консул 74 г., Луций Лициний
Лукулл, впоследствии проконсул Киликии, нанес царю ряд поражений на суше и на море
и вытеснил его из его царства. В 71 г. Митридат бежал в Армению к своему зятю, царю
Тиграну. В 69 г. Лукулл вторгся в Армению, разбил Тиграна под Тигранокертой и
двинулся на его столицу Артаксату, но ввиду мятежа в войске отступил из Армении в
Каппадокию. Одному из его легатов Митридат нанес поражение. Консул 67 г. Маний Ацилий
Глабрион не мог действовать против Митридата, располагая ненадежным войском
Лукулла. Митридат вторгся в Каппадокию и стал угрожать провинции Азии.
В это время Гней Помпеи, облеченный чрезвычайными полномочиями для борьбы с
пиратами, находился в Киликии. При этих обстоятельствах в 66 г. народный трибун Гай
Манилий предложил закон о предоставлении Помпею верховного командования в
5. О предоставлении империя Гн, Помпрю
413
провинциях Азии, Вифинии и Киликии с правам заключения договоров и союзов, набора
войск и неограниченного получения денег из казны. Этот законопроект встретил лишь
слабые возражения со стороны нобилитета: Квинт Лутаций Катул и Квинт Гортенсий
указывали на его несовместимость с установлениями республики; но сторонники Помпея
обратились за поддержкой к народу, у которого Помпеи пользовался популярностью
после своих побед над пиратами, чье господство на морях не раз вызывало недостаток хлеба
в Италии. Как претор, имевший право созывать народные сходки и обращаться к народу
с речью, Цицерон произнес речь в защиту законопроекта Манилия. Закон был принят
комициями.
1 Почетно-торжественное наименование римского народа.
2 Ораторская трибуна на форуме (ростры).
3 Преторы избирались центуриатскими комициями; как только кандидат получал в
данной центурии большинство голосов, счетчики сообщали об этом
председательствующему, а тот объявлял собранию; имя кандидата, первым получившего большинство
голосов в центуриях, объявлялось в первую очередь. Причина отсрочки выборов неизвестна.
4 Т. е. провинцию Азию, в состав которой входили Фригия, Мисия, Кария и Лидия.
Под «данниками» Цицерон разумеет население провинций; «союзники» — население
провинций и цари, дружественные Риму.
5 Взимание податей и налогов, а также и пастбищных сборов в провинциях, по Сем-
прониеву закону 123 г., сдавалось в Риме цензорами на откуп на пятилетие.
Откупщиками были римские всадники, объединявшиеся в компании. О связях Цицерона,
происходившего из всаднического сословия, с откупщиками см. речь 13, § 62; письма Q. fr., I,
1. 7 (XXX); Fam., XIII, 9 (CCXXXVII); 65 (CCXXXVI); «Об обязанностях», III,
§88.
6 Вифиния была завещана Риму царем Никомедом III в 77 г.
7 Царь Каппадокии, которого называли Филоромеем («друг римлян»). См. письмо
Fam., XV, 2, 3 ел. (ССХХ).
8 Консул 67 г. Маний Ацилий Глабрион.
9 Об императоре см. прим. 70 к речи 1.
10 Мурена, легат Суллы, хотя и потерпел поражение, все же справил триумф. Ср.
речь 13, § 11.
11 Подготовка Митридатом похода против Боспора Киммерийского предшествовала
его действиям против Мурены.
12 Имеются в виду переговоры Митридата с Серторием о совместных действиях
против Рима. Ср. речь 13, § 33.
13 См., например, речь 4, § 149.
14 Взятый римлянами в 146 г. Коринф был ими разрушен до основания под
предлогом наказания за оскорбление римских послов.
15 Войны Рима с сирийским царем Антиохом III (192—188 гг.) и македонским царем
Филиппом V (200—197 гг.) были начаты Римом под предлогом защиты интересов Пер-
гама, Родоса и Афин; война с этолянами (189 г.) была связана с нападением их на
греческие города. Вторая пуническая война была связана с нападением Ганнибала на город
Сагунт в Испании.
16 Десятиной называлась десятая часть всех видов урожая, сдававшаяся римской
казне. Пользование государственными землями (ager publicus) для пастбищ сдавалось на
откуп; сборы (scriptura) исчислялись по числу голов скота.
17 Кроме откупщиков, в Азии находилось много дельцов из других сословий: купцов,
менял, судовладельцев, ремесленников. Они пострадали в 88 г. и в 74 г.
18 Многие богатые люди вкладывали деньги в дела откупщиков и предоставляли
займы городским общинам в провинциях. См. письма Fam., V, 5, 3 (XVIII); Att, I, 13, 'I
(XIX); 19, 9 (XXV); V, 21, 10 ел. (CCXLIX); VI, 1, 3 ел. (CCLI).
414
Примечания
19 Союзный город Кизик находился на острове в Пропонтиде. См. речь 13, § 33-
20 Митридат обратился за помощью к своему сыну, царю Боспора Киммерийского,,
и к своему зятю, царю Армении Тиграну.
21 Рассказ Цицерона не вполне точен: Тигран встретил Митридата враждебно и два
года держал его в крепости как пленника. Отношение Тиграна к Митридату изменилось
к лучшему после того, как Лукулл потребовал его выдачи.
22 Возможно, храм в Бариде, на пути из Артаксаты в Экбатану.
23 После разгрома войск Тиграна под Тигранокертой (октябрь 69 г.) Лукулл, заняв
всю страну к югу от реки Тигра, летом 68 г. двинулся на Артаксату, но вследствие
жары и волнений в войске должен был отступить к югу. В это время его легаты,
находившиеся в Понте, оказались в опасном положении.
24 Гней Невий (III в.) — автор поэмы «Пуническая война», и Квинт Энний (II в.) —
автор «Анналов», истории Рима. От этих поэм до нас дошли фрагменты.
25 Речь идет о поражении под Гациурой, которое потерпел легат Триарий (весна
67 г.); римская пехота была уничтожена.
26 Союзническая война 91—88 гг. Помпеи начал военную службу под знаменами
своего отца, консула 89 г. Гнея Помпея Страбона. В 83 г., когда Сулла возвратился в
Италию из Азии, молодой Помпеи привел к нему два легиона, составленные им из клиентов
и бывших солдат своего отца. Сулла приветствовал Помпея как императора.
21 Помпеи справил триумф в 81 г., в 26-летнем возрасте, по случаю победы над ну-
мидийским царем Ярбой, и в 71 г., после войны в Испании, но не по случаю победы над.
Серторием, так как победа в гражданской войне не давала права на триумф. См. прим.
45 к речи 4.
28 Находясь под началом Суллы, Помпеи нанес поражение марианцам в Сицилии в
82 г. и в Африке в 81 г. После смерти Суллы он по поручению сената действовал против
Лепида на севере Италии в 77 г. Он восстановил коммуникации между Италией и
Испанией, нарушенные восставшими галльскими племенами. В звании проконсула он в 77—
71 гг. успешно действовал против Сертория и Перпенны. Возвратившись из Испании, он.
уничтожил часть войск Спартака. В 67 г. он уничтожил пиратов.
29 Ни победы Марка Антония (102—100 гг.), ни победы Публия Сервилия (78—
74 гг.) не привели к уничтожению морского разбоя. Действия Марка Антония
«Критского» закончились его поражением в 71 г. С тех пор пираты господствовали на
Средиземном море вплоть до 67 г.
30 Метонимия: двое преторов, каждого из которых в провинции сопровождало
шестеро ликторов. См. прим. 126 к речи 4.
31 Пираты похитили дочь Марка Антония. См. Плутарх, «Помпеи», 24.
32 Имя консула неизвестно. См. Дион Кассий, XXXVI, 5.
33 «Вход в Океан» — Гадитанский (Гибралтарский) пролив.
34 Помпеи сначала освободил от пиратов западную часть Средиземного моря, затем
перенес свои действия на Восток и завершил их в Киликии, опорном пункте пиратов. Он
провел в Киликии зиму 67/66 гг.
35 Обычно зимой мореплавание по Средиземному морю прекращалось.
36 После неудач Марка Антония «Критского» в 74—71 гг. действия против критян,,
помогавших пиратам, были в 68 г. поручены Квинту Цецилию Метеллу. В силу Габини-
ева закона 67 г. Метелл должен был быть подчинен Помпею, но не сложил своего
командования. Помпеи потребовал, чтобы послы критян явились к нему, и послал на Крит
легата принять командование от Метелла.
37 В этом Цицерон впоследствии обвинял консула 58 г. Луция Кальпурния Писона,.
бывшего проконсула Македонии.
38 Ср. Цицерон, письмо Q. fr., I, 1, 7 (XXX).
39 Помпеи задержался только в Афинах; принеся жертву богам и выступив с речью
перед народом, он продолжал свой путь. См. Плутарх, «Помпеи», 27.
5. О предоставлении империя Гн. Помпею
415
40 Ср. Цицерон, «Брут», § 239.
41 Об imperium militiae см. прим. 90 к речи 1.
42 Имеются в виду храм Весты и храм Диоскуров, находившиеся у подошвы Пала-
тинского холма, и храм Согласия, находившийся у подошвы Капитолийского холма.
43 Имеется в виду поражение, нанесенное Митридатом Триарию, легату Луция
Лукулла. См. выше, § 25; Плутарх, «Лукулл», 24.
44 В действительности Мшгридат, освободив свое царство от римлян, был занят
приготовлениями к войне, и Вифиния страдала только от набегов конницы. Тигран,
проникший в Каппадокию, отступил в Армению, узнав, что его сын объявил себя царем.
45 В это время Квинт Метелл еще находился на Крите с тремя легионами. См.
выше, § 35.
46 Так как проконсулом Дальней Испании в то время был Квинт Цецилий Метелл
Пий, действовавший против Сертория. См. выше, § 9.
47 Об удачливости как благоволении богов см. прим. 29 к речи 1.
48 Квинт Фабий Максим Кунктатор спас Рим от Ганнибала во время второй
пунической войны. Марк Марцелл взял Сиракузы в 212 г. Оба они были консулами по пяти
раз. Сципион Эмилиан взял Карфаген в 146 г. и Нуманцию в 133 г. Гай Марий победил
Югурту в 106 г., кимвров и тевтонов в 102 г. >и 101 г.
49 Получив верховное командование в силу Манилиева закона, Помпеи должен был
принять войска от Луция Лукулла, сохранявшего за собой провинцию Азию, от Мания
Ацилия Глабриона, действовавшего в Вифинии, и от Квинта Марция Рекса, проконсула
Киликии.
50 Квинт Аутаций Катул, консул 78 г., и Квинт Гортснсий, консул 69 г., в 67 г.
возражали против издания Габиниева закона. В 66 г. они были противниками Маиилиева
закона.
51 См. выше, § 32 (но о квесторах там не говорится).
52 Флот сирийского царя Антиоха III был уничтожен римлянами в 191 г. у берегов
Ионии. Флот последнего македонского царя Персея сдался в 168 г. Гнею Октавию.
53 Делос, находившийся на полупути из Европы в Азию, имел большое торговое
значение; оно еще более возросло после разрушения Коринфа в 146 г. Вопреки
утверждению Цицерона, Делос был в 88 г. разорен Митридатом, в 69 г.— пиратом Афинодором.
54 От Таррацины (Лаций) и до Синуессы (Кампания) Аппиева дорога проходит по
берегу Тирренского («Нижнего») моря.
55 О рострах см. прим. 32 к речи 2.
56 Право назначать легатов принадлежало сенату. Габиниев закон предоставил
Помпею право выбирать для себя легатов, но Лициниев и Эбуциев законы не допускали,
чтобы автор предложения о предоставлении полномочий сам получил назначение в силу
своего предложения.
5; Как претор Цицерон имел право докладывать сенату. По его предложению мог
совершить интерцессию его коллега или же консул. Интерцессией .называлось
осуществляемое личным вмешательством наложение магистратом запрета на распоряжение или
предложение его коллеги или нижестоящего магистрата. В частности, право народных
трибунов налагать запрет на указы магистратов, законопроекты и постановления сената;
последние в этом случае записывались как senatus auctoritas («суждение сената»); право
трибунов запрещать созыв комиций для выбора ординарных магистратов (за
исключением плебейских магистратов). Ср. письмо Fam., VIII, 8, 4 ел. (CCXXII).
58 В 80 г. Помпею было 25 лет; для квестуры требовался возраст не меньше 27 лет
(см. прим. 63).
59 По окончании военных действий против марианцев Сулла приказал Помпею
распустить свое войско и не хотел согласиться на триумф Помпея.
61 Триумф предоставлялся только магистратам с империем (претор, консул,
диктатор). См. прим. 45 к речи 4. Ср. речь 13, § 15.
416
Примечания
61 В 77 г. консулами были Децим Юний Брут и Мамерк Эмилий Лепид. Имеется в
виду война с Серторием. Помпеи был облечен проконсульским империем.
62 Луций Марий Филипп, консул 91 г., сторонник Суллы. См. Цицерон, «Брут»,
§ 173; «Об ораторе», III, § 4. Далее игра слов: pro consule— прокоисул и «вместо
консула».
"^f 63 По Виллиеву закону 180 г. (lex Villia annalis)—магистратуры предоставлялись
только после военной службы с промежутком в три года между каждой из них:
квестура не ранее 27 лет, эдилитет — 30, претура — 33, консульство — 36. По Корнелиеву
закону 81 г. (lex Cornelia de magistratibus), квестура предоставлялась «е ранее 29, претура
(после обязательного 10-летнего промежутка)—39 лет, консульство — по достижении
42 лет, второе консульство — только через 10 лет после .первого. Избрание иа должность
в указанном возрасте называлось избранием «в свой год» (suo anno). Бывший консул
назывался консуляром (vir consularis), бывший претор — преторием, бывший эдил — эди-
лицием, бывший трибун — трибуницием, бывший квестор —квесторием.
64 В действительности, со времени диктатуры Суллы и по 70 г. народное собрание не
имело значения при решении государственных дел, которыми ведал сенат. Здесь уловка
оратора.
65 Ср. Цицерон, письмо Q. fr., I, 1, 19 (XXX).
66 При разъездах магистрата по провинции все расходы несло ее население. Ср.
письма Q. fr., I, 1, 9 (XXX); Att., V, 16, 2 (CCVIII).
67 Ср. письма Att, V, 16, 2 (CCVIII); Fam., XV, 4, 2 (CCXXXVIII).
68 Имеется в виду, главным образом, деятельность Марка Антония «Критского».
69 Гай Скрибоний Курион, консул 76 г., проконсул Македонии в 75—73 гг., справил
триумф после победы над фракийцами.
70 Гней Корнелий Лентул Клодиан был консулом в 72 г., цензором в 70 г., легатом
Помпея во время войны с пиратами; был разбит Спартаком в 72 г.
71 Гай Кассий Лонгин Вар, консул 73 г., был разбит Спартаком в 72 г.
72 Ростры были освящены. Освящение города, храма, магистрата по его избрании
совершалось с участием авгура и называлось инавгурацией. Авгур при этом совершал ав-
спиции, разделив своим посохом небо на четыре участка. Освященное место называлось
locus inaugurates и templum. См. речь 18, § 75. См. прим. 11 к речи 8.
6. РЕЧЬ В ЗАЩИТУ АВЛА КЛУЕНЦИЯ ГАБИТА
Суд над Клуенцием происходил на основании Корнелиева закона об убийцах и
отравителях, проведенного Суллой в 81 г. Председателем суда был Квинт Воконий Насон,
обвинение поддерживали Тит Аттий и молодой Аббий Ошшаник. Обвиняемый Авл Клу-
енций Габит, родом из Ларина, был римским всадником. По словам Цицерона, между
ним и его матерью Сассией возникла вражда, когда Сассия отбила у своей дочери,
сестры обвиняемого, ее мужа Авла Аврия Мелииа и вступила с ним в брак. Когда Мелин
был убит после захвата власти Суллой, Сассия вышла замуж — уже в третий раз — за
его убийцу, Стация Аббия Оппианика. История вражды между Клуенцием, с одной
стороны, и Сассией и Оппиаником — с другой, и составляет содержание всего дела.
Оппианик будто бы умертвил пятерых жен, одну за другой, своего брата Гая
Оппианика и его жену Аврию; он совершил и ряд других убийств. Спасаясь от преследований
Авриев, он отправился в лагерь Квинта Метелла Пия, сторонника Суллы. Победа Суллы
в гражданской войне позволила Оппианику возвратиться в Ларин и расправиться со
своими обвинителями, внеся их в проскрипционные списки. Так погиб, в частности, Авл
Аврий Мелин, на вдове которого, Сассии, Оппианик впоследствии женился. Сассия
условием своего согласия на брак поставила, чтобы Оппианик устранил своих двух
малолетних сыновей. Вскоре между Клуенцием и Оппиаником возникло недоразумение в связи
6. В защиту А. Клуенция Габита
417
с событиями в Ларине — из-за марциалов, служителей культа Марса, бывших на
полурабском положении; Оппианик настаивал на том, что они — свободные люди, а это
наносило ущерб интересам муниципия; дело было перенесено в Рим, Клуенций выступал от
имени муниципия.
По словам Цицерона, это обстоятельство и желание Оппианика обеспечить себе в
•будущем права на имущество Сассии натолкнули его на попытку отравить Клуенция,
которая была раскрыта и дала повод к судебному преследованию виновных:
вольноотпущенника Скамандра, которого защищал Цицерон, и Гая Фабриция, патрона Скамандра.
Суд под председательством Гая Юния осудил обвиняемых (74 г.)- Затем суд, в том
же составе (32 судьи) осудил самого Оппианика. Этот приговор породил толки о подкупе
суда; их распространял народный трибун Луций Квинкций, защищавший Оппианика.
Восемь судей (из семнадцати, голосовавших за осуждение) подверглись наказанию; сам
Клуенций в 70 г. получил замечание от цензоров. Они исключили из сената двоих судей.
В 72 г. Оппианик умер при неясных обстоятельствах. Цицерон дает понять, что в его
смерти была виновна Сассия, но она обвинила в ней своего сына Авла Клуенция и
подвергла пытке своих рабов, чтобы вырвать у них нужные ей показания.
Речь Цицерона состоит из двух частей: первая (§ 9—160) касается вопроса о
подкупе «Юниева суда» 74 г., поставленном в вину Клуенцию; вторая (§ 164—194)
—вопроса об отравлении Оппианика. Подкуп суда подпадал под действие Корнелиева закона
об убийцах и отравителях только в том случае, если был совершен членом сословия
сенаторов; Клуенций как римский всадник под его действие не подпадал. Цицерон этой
оговоркой не воспользовался. Клуенций, по-видимому, был оправдан.
1 О Юниевом суде упоминается также и в § 119 и 138; намек на него см. в речи 2,
§ 39.
2 Впоследствии, впрочем, рассказывали, что Цицерон позднее говорил, что он
«затемнил вопрос при слушании дела Клуенция». См. Квинтилиан, II, 17, 21.
3 Об этих событиях говорится в § 79, 95, 103, 110 ел., 127, 137 ел.
4 Римский форум лежал в низине между холмами; отсюда выражение «спуститься
для обвинения» (descendere ad accusandum).
5 Гай Оппианик младший.
6 Обвинение в суде было средством обратить на себя внимание и сделать
политическую карьеру. Кроме того, были профессиональные обвинители. См. прим. 67 к речи 1.
7 О муниципии см. прим. 19 к речи 1.
8 Луций Корнелий Сулла и Квинт Помпеи Руф были консулами в 88 г.
9 Lectus genialis — парадное ложе, стоявшее в атрии римского дома.
10 Авспиции—'вопрошение воли богов. В I в. auspices nuptiarum уже утратили свое
значение при свадебных церемониях. Об авспициях см. прим. 11 к речи 8.
11 Женщина, находившаяся под властью (in manu) отца, мужа или брата, могла
совершить юридический акт только с их согласия.
12 Ср. Цицерон, «О границах добра и зла», IV, § 55; «Об ораторе», III, § 195;
Гораций, Сатиры, I, 3, 66.
13 О трауре см. прим. 53 к речи 3.
14 Об Италийской войне см. прим. 12 к речи 4.
15 Острог для рабов; устраивался в усадьбах, реже при городских домах. Рабы
носили оковы и выполняли тяжелые работы. После Италийской войны жители Ларина
получили права римского гражданства; поэтому Сергий должен был отпустить Марка
Аврия; задержав его в эргастуле, он совершил преступление plagium. См. прим. 6 к
речи 8.
16 Ager Gallicus — территория на берегу Адриатического моря, между Аримином и
Анконой, некогда населенная сенонскими галлами.
17 Легат — денежная сумма, отказанная по завещанию.
Цицерон, т. I
418
Примечания
18 Квинт Цецилий Метелл Пий, сын Метелла Нумидийского, в 83 г. возвратился из*
Африки, где он, во времена господства Цинны, был в изгнании, и в Брундисии
присоединился к Сулле, возвращавшемуся с Востока.
19 Во главе муниципия стояли дуумвиры или кваттуорвиры; из последних двое
ведали правосудием, двое были эдилами.
20 Имеются в виду молодой Оппианик, сын Магии, и еще два сына, о которых речь-
будет ниже.
21 Римская миля составляла около 1,48 километров.
22 Об ораторском искусстве Каннуция см. также и ниже, в § 50, «Брут», § 205.
23 Речь идет о поездке Цицерона в Грецию и Азию, совершенной им в 79 г. См.
«Брут», § 314.
24 Вторые наследники назначались на случай смерти первых или утраты ими
гражданских прав. Легат (прим. 17) должен был заплатить наследник. Вторым наследником
был молодой Оппианик. Завещатель хотел заинтересовать Оппианика-отца в том, чтобы
его, завещателя, сын, рождение которого ожидалось, был жив.
25 Десять лунных месяцев —• продолжительность беременности. Ср. Апулей,
«Апология», § 15. Траур по мужу продолжался столько же; см. Овидий, «Фасты», I, 35 ел.
Обозначение срока беременности по лунным месяцам сохранилось и после реформы
календаря (46 г.). См. Вергилий, «Эклоги», IV. 61:
Десять месяцев ей принесли страданий не мало
(Перевод С. В. Шервинского)
Счет по лунным месяцам сохранился и в сакральном языке.
26 При составлении завещания должны были присутствовать семеро римских
граждан, скреплявшие завещание своими печатями.
27 По-видимому, карьеры для добывания вулканического песка.
28 Tresviri capitales (tr. nocturni). Их обязанностью было собирать сведения о
преступлениях, совершенных в Риме; они исполняли и смертные приговоры.
29 Мениева колонна, находившаяся в северной части форума, около тюрьмы, где
находился трибунал «ночных триумвиров». Ср. речь 18, § 124.
30 Как муж Магии. См. § 21 ел.
31 Ввиду этого он подлежал судебной ответственности на основании Корнелиева
закона о подлогах (lex Cornelia de falsis). Завещание было написано на деревянных
дощечках, покрытых слоем воска.
32 О декурионах см. прим. 19 к речи 1.
33 О рабах Венеры см. прим. 42 к речи 3.
34 Ср. речь 13, §83.
35 Неизвестное нам лицо.
36 В это время Цицерону было 32 года.
37 См. прим. 79 к речи 1.
38 Рассказ Цицерона позволяет думать, что он не произнес непрерывающейся речи
(oratio perpetua) и что это была так называемая альтеркация: ряд коротких замечаний,
прерываемых возражениями и вопросами противника. Ср. речи 1, § 94; 14, § 39.
39 См. прим. 1 к речи 1.
40 В 137 г. Кассиев закон ввел тайное голосование в уголовном суде. В 80 г. Сулла
установил свободный выбор способа голосования; этот Корнелиев закон был отменен
незадолго до процесса Клуенция.
41 Второе слушание дела назначалось в случае, когда большинство судей вынесло
решение «неясно». См. прим. 11 к речи 2.
42 О предстателях см. прим. 2 к речи 3.
43 О Цепасиях см. Цицерон, «Брут», § 242.
6. В защиту А. Клуенция Габита
419
44 О преварикации см. прим. 56 к речи 3.
45 Т. е. приговорами (praeiudicia, см. выше, § 9) Гаю Фабрицию и его
вольноотпущеннику Скамандру.
46 См. ниже, § 79, 93; ср. речь 2, § 2.
47 Тит Аттий (Акций), обвинитель Клуенция.
48 Это место свидетельствует о том, что записи прений и свидетельских показаний в
уголовных судах хранились в архиве. См. § 99.
49 Цицерон умалчивает о третьей возможности — подкуп суда и Оппиаником и Клу-
енцием. Ср. Квинтилиан, V, 10, 68.
50 Ср. ниже, § 78.
51 Об этом деле см. ниже, § 99.
52 О поведении Стайена см. Цицерон, «Брут», § 241.
53 Непереводимая игра слов: 1) bulbus — лук; еды не начинали с лука; поэтому
Цицерон и говорит: «вопреки рассудку и навыворот»; 2) condltor (от condere) — основатель,
зачинщик; condltor (от condire) — приправляющий, сдабривающий; вторая игра слов
повторена в § 72: «припрятанные деньги» и «сдобривший».
54 См. прим. 18 к речи 2.
55 Ср. Цицерон, «Брут», § 421. В р'оду Элиев были ветви с прозваниями: Ламия, Пет,
Лигур. Игра слов: лигурийцы слыли лживыми и хитрыми людьми. Ср. речь 18, § 69;
Вергилий, «Энеида», VI, 701, 715.
66 Обычная формула при окончании речи. Ср. речь 2, конец. Каннуций не
использовал -своего права отвечать.
67 Ср. письмо Fam., VIII, 8, 3 (ССХХП); Плутарх, «Марий», 5.
58 Это право народного трибуна называлось prohibitio — недопущение.
59 Марсово поле, где происходили выборы магистратов.
60 Ср. речь 2, § 1.
61 Это мог быть усыновитель будущего трибуна 57 г. Милона, происходившего из
рода Папиев «(после усыновления Тит Анний Папиан Милон). См. речь 22.
62 См. выше, § 65, 70; Topica, § 75.
63 Эмилиций — бывший эдил. Эдилициям часто поручалось председательствование в
постоянном суде (iudex quaestionis, quaesitor).
64 Гай Юний отказался от государственной деятельности; он не утратил гражданских
прав, так как не был осужден за уголовное преступление.
65 Публий Корнелий Цетег вначале был марианцем и бежал после победы Суллы;
впоследствии перешел на его сторону.
66 Extra ordinem. Экстраординарными назывались деньги, полученные необычным
путем — по завещанию или как дар, и деньги, не внесенные в приходо-расходную книгу.
67 Возможно, что и Стайен и Цетег в то время добивались эдилитета.
68 Calumnia. См. прим. 48 к речи 1.
68а См. прим. 44.
69 При толковании Стайена непонятно, почему Оппианик дал ему 640 000 сестерциев,
а не 600 000.
70 Обвиняемый имел право на отсрочку в 10 дней для подготовки к суду.
71 Полномочия народных трибунов истекали 10 декабря.
72 Председатель суда должен был дать клятву, что будет применять закон,
соответствующий данному постоянному суду.
73 В речи против Верреса (II сессия, книга I, О городской претуре, § 157 ел.)
Цицерон излагает дело по-иному.
74 Имеются в виду ступени Аврелиева трибунала, построенного, скорее всего,
консулом 74 г. Марком Аврелием Коттой («тогда новые»). Ср. речи 17, § 54; 18, § 34.
75 Гай Орхивий, претор 66 г., ведал постоянным судом по делам о казнокрадстве
(quaestio perpetua de peculatu).
*27 Цицерон, т. Г
420
Примечании
76 Луций Корнелий Сулла Фавст, сын диктатора, унаследовал огромное состояние
отца.
77 Публий Попилий Ленат, консул 132 г., один из виновников смерти Тиберия Грак-
ха, удалился в изгнание, когда Гай Гракх провел закон о провокации. Ср. речи 16, § 37
ел.; 17, § 32, 87.
78 Квинт Цецилий Метелл Нумидийский удалился в изгнание в 100 г., когда трибун
Луций Аппулей Сатурнин провел земельный закон. Ср. речи ^6, § 25, 37 ел.; 17, § 82,
87; 18, § 37; 19, § 59; письмо Fam., I, 9, 16 (CLIX).
79 См. прим. 40 к речи 2.
80 Гай Косконий был в 78—76 гг. проконсулом Иллирика и завоевал значительную
часть Далмации,
81 См. прим. 18 к речи 2.
82 В случае осуждения обвиненного его обвинитель имел право на награду (praemium
ex lege): осужденные за подкуп избирателей, уличив в этом другое лицо, подлежали
восстановлению в правах; член городской трибы переходил в ту из сельских триб, к
которой принадлежал осужденный; вольноотпущенники переходили в сословие
свободнорожденных; денежная награда за счет осужденного.
83 Мамерк Эмилий Аепид Ливиан был консулом в 77 г.
84 О Публии Коминии см. Цицерон, «Брут», § 271.
85 Храм нимфы Ютурны находился на Марсовом поле. О каких царях здесь
говорится, неизвестно.
86 Subsortitio — жеребьевка для пополнения списка судей, взамен выбывших. Это
вызвало подозрение в том, что Фалькула был умышленно выбран Верресом и Юнием,
а не назначен путем жеребьевки.
S7 Упоминаемые здесь судьи нам неизвестны. См. выше, § 76.
88 В 81 г. Сулла лишил трибунов права законодательной инициативы.
89 Трибун не имел права 'носить тогу-претексту. Возможно, что Квинкций
рассчитывал на избрание в курульные эдилы или в преторы и заранее облекся в нее.
90 См. прим. 83 к речи 3.
91 Ср. речь 2, § 39.
92 См. прим. 38 к речи 2.
93 Пометка (nota), которую цензоры делали в списке граждан, сопровождалась
указанием проступка данного лица («осуждение», subscriptio). Цензоры осуществляли надзор
за нравами (cura morum): 1) lectio senatus—составление списка сенаторов с правом
вычеркивать лиц недостойного поведения; 2) составление списка римских всадников; 3)
составление списков граждан по трибам и центуриям; цензоры могли переводить граждан
из сельских триб в городские (tribu movere), что было равносильно лишению права голоса,
так как в городских трибах было много членов, а в сельских— мало, а также зачислять,
граждан в эрарные трибуны (aerarium relinquere); последние составляли сословие,
следующее по цензу после римских .всадников (ценз—300 000 сестерциев); вначале это были
магистраты, собиравшие военную контрибуцию и выдававшие жалование войску.
94 Луций Геллий и Гней Корнелий Лентул Клодиан были первыми цензорами,
избранными на 70 г. после восстановления прав цензоров в связи с отменой сулланской
конституции.
95 Iudices selecti — судьи, отбираемые претором (после Аврелиевой судебной
реформы 70 г.) из числа сенаторов, римских всадников и эрарных трибунов. Их имена
ежегодно вносились в список судей (album iudicum).
96 Игра слов: subscriptio—«осуждение» и proscriptio. Стиль (греч.) — заостренная
палочка для писания на навощенной дощечке; намек на проскрипции 82—81 гг. Ср. речь
13, § 30.
97 Писцы были организованы в сословие, состоявшее при соответствующей коллегии
магистратов.
6. В защиту А. Клуенция Габита
421
98 Этот Маний Аквилий нам не известен. О Гутте см. выше, § 98.
99 Имеется в виду децимация (казнь каждого десятого), применявшаяся в войсках
во время войны.
100 См. прим. 11 к речи 2.
101 См. речь 4, § 177 и прим. 160.
102 Лентул Клодиан не присоединился к мнению коллеги, но исключил Попилия из
сената по другим соображениям.
103 Цензура Сципиона Эмилиана (142 г.). Смотр конницы происходил на форуме.
Выражение «traduc equum» (веди коня дальше) означало, что всадник остается на
службе; в противном случае ему говорили «vende equum» (продай коня).
104 Сенат имел право потребовать рассмотрения дела судом вне очереди. См. речь 22.
105 g 74 г. консулами были Яуций Лициний Лукулл и Марк Аврелий Котта, в 73 г.—
Марк Теренций Варрон Лукулл и Гай Кассий Вар. См. прим. 12 к речи 2.
106 Закон, о котором говорится выше,— о привлечении римского всадника Клуенция
к суду на основании Корнелиева закона — не был предложен. Корнелиев закон, каравший
за подкуп при вынесении приговора, применялся только к сенаторам. Для привлечения
римского всадника требовалось особое постановление сената (формула его приведена в
§ 136).
107 По-видимому, имеется в виду речь Цицерона против Ве.рреса.
108 Марк Антоний (143—87), оратор, претор 102 г., консул 97 г., оптимат. В 102 г.
боролся с пиратами и организовал провинцию Киликию. Убит марианцами. См.
Цицерон, «Брут», § 139.
109 Луций Лициний Красе (140—91), оратор, консул 95 г., цензор 92 г. В 91 г.
поддерживал реформы Марка Друса младшего (прим. 123) и, как и Марк Антоний,
выведен Цицероном как участник диалога «Об ораторе».
110 Марк Брут, сын известного юриста, не занимая магистратур, был
профессиональным обвинителем. См. «Об ораторе», II, § 222 ел.; «Брут», § 130; «Об обязанностях»,
II, §50.
111 Колония Нарбон Марсов (Narbo Martius) была основана в Трансальпийской
Галлии в 118 г. консулом Квинтом Марцием Рексом. Ротацией называлось внесение
законопроекта в комиции, а также и самый законопроект.
112 В 106 г. Квинт Сервилий Цепион предложил — в отмену Семпрониева закона,
проведенного Гаем Гракхом в 123 г.,— возвратить судебную власть сенаторскому сос-
словию.
113 Этого не допускал обычай. См. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 129.
114 Речь идет о банях, построенных Брутом-отцом с коммерческой целью.
115 См. вводное примечание. Выдержки из текста Корнелиева закона см. в § 148, 157.
116 «Наше сословие» — сенаторское.
117 Ср. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 89; II, § 41 ел.
118 Квинт Воконий Насон был председателем суда; см. § 148.
119 В 66 т. Цицерон как претор был председателем суда по делам о вымогательстве
(quaestio repetundarum).
120 Ср. выше, § 104.
121 О военных трибунах см. прим. 26 к речи 2.
122 Жертвами сулланских проскрипций пало около 1600 римских всадников.
123 О Марке Ливии Друсе см. прим. 55 к речи 17.
124 Об этом и о событиях, о которых говорится ниже, сведений нет.
125 Имеется в виду конфискация имений во время проскрипций 82—81 гг. Ср. речь
1, § 80.
126 Игра слов: трактирщик мог покинуть Латинскую дорогу и приехать в Рим или
же отойти от нее в поисках посетителей.
12' О Карах см. прим. 54 к речи 1. Ср. речь 26, § 32.
422
Примечания
128 Подобно тому, как Клуенций преследовал Скамандра и Гая Фабриция. См. выше,
§ 49 ел.
129 См. выше, § 47.
130 О допросе рабов в присутствии свидетелей см. речь 1, § 77.
131 Квинт Гортенсий и Квинт Цецилий Метелл Критский были консулами в 69 г.
132 Речь идет о записях допроса раба Стратона. См. § 182.
133 Стаций Аббий, упомянутый в § 175, 182.
134 В действительности это третий брак Сассии. Цицерон не считает ее брака с Клу-
енцием-отцом.
135 См. выше, § 47 ел.
136 «Верхнее море» — Адриатическое. Сассия должна была проехать через Бовиан и
Эсернию, затем направиться в Рим по Латинской дороге, на которой лежали Ак-вин и
Фабратерна.
137 Оскверненный предмет или местность подлежали очищению (lustratio) — особому
молению, которым к ним снова привлекалась милость богов. При этом применялись
очистительные средства (окуривание icepofi); вокруг предмета (или участка земли) возили
жертвенное животное. См. Катон Старший, «Земледелие», гл. 141; Проперций, Элеги**.
V, 8, 86.
138 Женщинам были запрещены ночные жретвоприношения. Цицерон обвиняет Сж*-
сию в defixio — магических действиях с целью навлечь на Клуенция гнев богов. См.
Цицерон. «О законах», II, § 21; Овидий, «Любовные элегии», III, 7, 27; Гораций, Эподы, V.
139 Об этих лицах сведений нет. О Публии Волумнии Евтрапеле см. письма Цице-
рона. Att., XV, 8, 1 (DCCXLIII); Fam., VII, 32 (CCXXIX); 33 (CCCCLXXI); IX,
26, 1 sq. (D).
140 В уголовном суде выступало несколько защитников. Цицерон обычно говорил
последним. См. письмо Att, IV, 17, 4 (CXLVI).
7. ВТОРАЯ РЕЧЬ О ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ
НАРОДНОГО ТРИБУНА ПУБЛИЯ СЕРВИЛИЯ РУЛЛА
Одним из главных источников доходов римской казны в эпоху республики были-
государственные земли (ager publicus), значительную часть которых составляли земли,
конфискованные после побед в Италии и за ее пределами. Судьба этих государственных
земель была различной.
Обработанные земли могли быть: 1) проданы квесторами в полную собственность
(ager quaestorius); 2) по жребию отданы римским гражданам в полную собственность по
два югера на человека (agri dati assignati); они переходили по наследству; 3) арендованы
на длительный срок; арендаторы (mancipes) могли передавать аренду другим лицам, но
земля при этом оставалась собственностью государства.
Необработанная и пришедшая в запустение земля предоставлялась в бессрочное
пользование частным лицам, оставаясь собственностью государства. Этот вид
землепользования назывался оккупацией (ager occupatiorius); держатели земли (possessores) должны
были платить государству десятину урожая хлебов и одну пятую часть урожая
винограда и плодов. Государственная земля отдавалась и под пастбища как отдельным' лицам,
так и компаниям откупщиков, а также и городским общинам. Держатели этих земель не
получали полных прав собственности (dominium); их владение было прекарным, т. е.
временным, до отказа со стороны казны; давность владения не имела значения. По То-
риеву закону 111' г. оккупированные земли стали частной собственностью.
Такое землепользование порождало злоупотребления: держатели земель (в
древнейшее время это были только патриции) часто не платили сборов, считая государственную
землю своей собственностью. В связи с войнами в пределах Италии, особенно после
7. О земельном законе
423
второй пунической войны, стала происходить концентрация земель в руках малого числа
лиц; при этом разорившиеся мелкие крестьяне и держатели, оставив свою землю и не
находя приложения своему труду в больших владениях, так как рабский труд был
дешевле, устремлялись в Рим, где скоплялось множество неимущих людей, нуждавшихся в
помощи государства. Так возник аграрный вопрос — необходимость расселить этих
неимущих римских граждан на предоставляемых им землях. Аграрный вопрос не был
разрешен во времена Гракхов и оставался основным вопросом внутренней политики Рима,
используемым также и в политических целях.
В консулы на 63 г. были избраны Цицерон и Гай Антоний. 10 декабря 64 г., когда
новые .народные трибуны приступили к исполнению своих обязанностей, трибун Публий
Сервилий Рулл внес широко задуманный проект земельного закона, авторами которого
считают Гая Цезаря и Марка Красса. Этот законопроект был политическим шагом,
направленным против Гнея Помпея (см. ниже) и против Цицерона: если бы закон,
несмотря на противодействие Цицерона, был одобрен народом, Цицерон лишился бы доверия
сената; если бы он был отвергнут, то Цицерон утратил бы расположение народных масс.
Закон предусматривал образование комиссии из десяти челозек, которая должна
была проводить его в жизнь; их должны были избрать 17 триб (из 35), назначенные по
жребию; таким образом, для избрания децемвиров было достаточно голосования девяти
триб. Для избрания было обязательным присутствие кандидата в Риме, что исключало
возможность избрания Помпея, находившегося на Востоке. Децемзиры избирались на
пять лет, их полномочия подтверждались изданием куриатского закона об империи. Они
пользовались судебной в\астью и правами пропреторов, в частности, правом авспиций;
им придавался вспомогательный персонал; они могли совмещать свою деятельность с
любой магистратурой, оставаясь неподсудными в течение всего пятилетия.
Задача децемвиров состояла в устройстве колоний и распределении государственных
земель в Италии; вначале подлежали распределению земли в Кампании (по 10 югеров)
и в Стеллатской области (по 12 югеров на человека). В Капую должны были вывести
5000 колонов. Так как казенных земель хватить для всех .нуждающихся не могло, то
предполагалась покупка земель на особые средства: децемвирам предоставлялось право
продавать в Италии земли, объявленные государственными в 88 г. и 81 г. и не проданные.
Предполагалась продажа и многих земель вне пределов Италии. Децемвирам давалось
право отчуждать земли, признанные ими государственными, или же оставлять их
владельцам, назначив арендную плату. Продавать землю предполагалось на местах.
1 января 63 г., в первый день своего консульства, Цицерон выступил в сенате с
речью против закона Рулла; на другой день он произнес речь перед народом;
впоследствии он произнес еще две речи, из которых до нас дошла одна. Законопроект,
по-видимому, был взят обратно его автором.
Речи о земельном законе, в защиту Гая Рабирия, против Катилины и некоторые
другие, произнесенные в год консульства, относятся к числу речей, которым Цицерон
придавал особое значение и которые он называл «консульскими»; он собирался выпустить их
в виде сборника. См. письмо Att., II, 1,3 (XXVII).
1 Об изображениях предков см. прим. 38 к речи 4.
2 О «новых людях» см. прим. 83 к речи 3. Ср. речь 4, § 180 ел.
3 Из числа «новых людей» в консулы были избраны Гай Марий в 107 г., Тит Ди-
дий в 98 г., Гай Целий Кальд в 94 г.
4 Ср. речь 13, § 17.
5 См. прим. 63 к речи 5.
6 Тайное голосование в комициях было введено Габиниевым законом в 138 г.
Цицерону не пришлось ждать подсчета голосов всех центурий, так как уже до этого
выяснилось, что за него проголосовало большинство центурий.
7 Ораторская трибуна на форуме. См. прим. 32 к речи 2.
424
Примечания
8 Имеются в виду события 64 г., когда популяры с Цезарем и Крассом во главе
пытались провести Катилину в консулы.
9 Об империи см. прим. 90 к речи 1. Экстраординарным империем (imperium
infinitum) были облечены: Марк Антоний в 74 г. для борьбы с критскими пиратами; Гней
Помпеи в 67 г., для борьбы с пиратами, в силу Габиниева закона, и в 66 г., для ведения
войны против М'ИТридата VI, в силу Манилиева закона.
10 См. прим. 31 к речи 2.
11 Давая деятельности Гракхов такую высокую оценку, Цицерон, по-видимому,
принимал во внимание добрую память, какую народ хранил о них. Сам Цицерон, видимо,
придерживался иного мнения. Так, например, в 44 г. он писал («Об обязанностях», II,
§43), что Гракхи, при своей жизии, не находили одобрения у честных людей и что после
их смерти их относили к числу людей, убитых по справедливости. Ср. также и речь 22,
§ 8.
12 Designatus. См. прим. 12 к речи 2.
13 См. прим. 1 к речи 2.
14 Curatio. Заведование какой-либо областью гражданской администрации, например,
состоянием дорог (curatio viarum).
15 Т. е. голосованием девяти триб. См. § 16 ел.
16 Домициев закон (около 103 г.) был компромиссом между религиозным правом и
народовластием. Такой способ выборов восходит к 255—252 гг., когда было лишь 33
трибы, и поэтому 17 триб составляли большинство. Этот закон был отменен при Сулле и
восстановлен в 63 г. по предложению трибуна Тита Лабиена.
17 По-видимому, намек на Цезаря и Красса.
18 Наблюдатель (custos) следил за опусканием табличек (жребиев) в урну.
«Призвать трибы к голосованию» — термин.
19 Помпеи в это время был в Антиохии. В течение всего 63 г. он был занят
подавлением восстания 'В Иудее и организацией Сирии как римской провинции. Он возвратился
в Рим в конце 62 г.
20 Таковы квестура, эдилитет и др. При соискании магистратуры кандидат мог
сделать заявление (professio) при посредстве родных или друзей. Он должен был быть в
Риме только в день выборов.
21 См. прим. 90 к речи 1. См. ниже, § 31.
22 Магистратов избирали комиции, а народных трибунов — concilium plebis (римский
плебс в целом); 17 триб не были народным собранием.
23 Lex centuriata de censoria potestate; он издавался в древнейшую эпоху. Цензоры не
обладали империем.
24 Трибун не был вправе вносить куриатский закон, так как не обладал правом авс-
пйций. Цицерон нарочно говорит «велит»: трибун не был вправе приказывать магистрату.
25 Пулларии (цыплятники) ведали священными курами, жадный клёв которых
считался хорошим предзнаменованием. См. письмо Fam., VI, 6, 7 (CCCCXCI).
26 Имеется в виду земельный закон Тиберия Гракха (133 г.).
27 См. прим. 145 к речи 4.
28 Auxilium — древнейшая обязанность трибунов: оказание помощи плебеям
(впоследствии и патрициям) путем интерцессии. Эта помощь оказывалась ими также и в
суде гражданском и уголовном как до вынесения решения, так и после него. При этом
требовалось единогласие всех трибунов. См. прим. 57 к речи 5.
29 Марк Туллий Декула и Гней Корнелий Долабелла были консулами в 81 г.
30 Власть трибунов, ограниченная Суллой в 82 г., была полностью восстановлена в
70 г., в консульство Помпея и Красса.
31 Гора Гавр в Кампании славилась виноградниками.
32 Заросли ивняка в Лации, в устье реки Лирис, где в 88 г. скрывался .Марий.
Какие доходы казна извлекала из этого ивняка, неизвестно.
7. О земельном законе
425
33 Либо дорога между Байями и Путеолами («Геркулесова дорога»), либо дорога
в Геркулан.
34 Промежуток в 18 лет между консульством Декулы и Долабеллы (81 г.) и
консульством Цицерона (63 г.).
35 В подлиннике военный термин gradus — исходная позиция.
36 Луций Корнелий Сулла и Квинт Помпеи Руф были консулами в 88 г.
37 Вифинское царство было в 74 г. завещано Риму царем Никомедом III.
38 Город на острове Лесбосе. После того как Сулла заключил мир с Митридатом,
римлянам сдались все города Азии, за исключением Митилен. Митилены были взяты
после осады и разрушены.
39 Птолемей XII Александр II (Алекса) воцарился в 80 г., при поддержке Суллы;
царство-вал всего 19 дней и был свергнут и убит. В Риме распространился слух, что
Алекса завещал свое царство Риму. См. Цицерон, письмо Fam., I, 1 (XCIV).
40 См. прим. 57 к речи 5.
41 Луи,ий Марций Филипп, консул 91 г., оратор. См. речь 5, § 62.
42 Птолемей XIII Авлет Ноф, побочный сын Птолемея Лафира (Сотера II), отец
Клеопатры.
43 Ежегодно избираемый суд в составе 105 членов; рассматривал тяжбы главным
образом о наследствах.
44 В 65 г., в консульство Луция Аврелия Котты и Луция Манлия Торквата.
Возможно, имеется в виду намерение Марка Лициния Красса, тогда цензора, сделать
Египет данником Рима; этому воспротивился цензор Квинт Лутаций Катул.
45 Пассатные, так называемые «годичные ветры». См. письмо Fam., XII, 25, 3
(DCCCXXV); Лукреций, «О природе вещей», VI, 716; Цезарь, «Записки о
гражданской войне», III, 107.
46 Legatio libera — поездка, которую сенаторы совершали как официальные лица и на
казенный счет, но по своим делам; расходы при этом несли муниципии. Как консул
Цицерон боролся с этим обычаем; ср. «О законах», III, § 18. Цезарь ограничил свободные
легатства своим законом о вымогательстве (lex Iulia de repetundis, 59 г.).
47 На основании Габиниева (67 г.) и Манилиева (66 г.) законов.
48 Т. е. в 66 г. Цицерон не считает ни года своей претуры, ни года своего консульства;
далее он намекает на поддержку, оказанную им Манилиеву законопроекту, см. речь 5.
49 Атталия и Олимп находились в Памфилии, Фаселида — в Ликии, Ороанда — в
Писидии. О Публии Сервилии см. прим. 23 к речи 3.
50 Херсонес Фракийский, относившийся к Пергамскому царству. Последний пергам-
ский царь, Аттал III, в 133 г. завещал свое царство Риму.
51 Киренаика (Северная Африка) была завещана Риму в 96 г. царем Птолемеем
Апионом; римская провинция с 75 г.
52 Назначенная сенатом комиссия (decemviri ex lege Livia facti), которая должна была
вместе с полководцем решить судьбу побежденной страны. Речь идет о Сципионе Эми-
лиане.
53 Эта земля не должна была обрабатываться, так как считалась посвященной
богине Юноне.
54 Митридат после полного поражения, которое ему в 62 г. нанес Помпеи, удалился
в Херсонес Таврический, где покончил с собой. Меотида — Азовское море.
55 «Великий» (Magnus) — прозвание Помпея, перешедшее к его сыновьям.
56 Копье, как символ квиритской собственности, водружалось при аукционе, при
продаже имущества в пользу казны. Отсюда выражение «vendere sub hasta» — продать
под копьем, т. е. с аукциона.
57 Первое — ораторская трибуна на форуме, ростры; второе, возможно,— басилика.
58 Речь идет о продаже имущества проскриптов. Ср. Цицерон, речь против Верреса,
II сессия, «книга» III (О хлебном деле), § 81.
426
Примечания
59 Земли, принадлежащие римской казне (ager publicus).
60 Цицерон имеет в виду свою квестуру в Сицилии в 75 г. и дело Верреса. См. речи
2-4.
61 О богах-пенатах см. прим. 31 к речи 1.
62 Нумидийский царь, в 81 г. восстановленный Помпеем на престоле. Гай Аврелий
Котта был консулом в 75 г.
63 Царь Юба, сын Гиемпсала, сторонник Помпея, в 46 г. был разбит Цезарем под
Тапсом, после чего Нумидия была сделана римской провинцией; iuba — по-латински
грива, на чем и основан каламбур.
64 Речь идет о золоте для венка, которое наместники требовали от населения
провинций, рассчитывая на триумф. Они также заставляли население провинций сооружать
в их честь памятники. См. письмо Q. fr., I, 1, 26 (XXX).
65 Гай Фабриций Лусцин, консул 282 и 278 гг., воевал против Пирра; Авл Атти-
лий Калатин участвовал в первой пунической войне; консул 258 г., затем диктатор. Лу-
ций Манлий Аицдин, консул 179 г., участвовал во второй пунической войне. Марк
Порций Катон Старший, консул 195 г., был врагом Карфагена. Луций Фурий Фил, консул
136 г., и Гай Лелий Мудрый, консул 140 г.,— друзья Сципиона Эмилиана.
66 Эти земли были расположены к югу от Рима.
67 Фламиниевы ворота, через которые из Рима выезжали иа север. По Аппиевой
дороге (через «третьи ворота») выезжали на юг, в Капую.
68 Массик (Фалернская гора) — гора в Кампании, славилась винами.
69 В марте 60 г., говоря о Флавиевом земельном законе, Цицерон повторит это
выражение. Ср. речи 9, § 12; 10, § 7; письмо Att., I, 19, 4 (XXV); Саллюстий,
«Каталина», 37, 5.
70 Сипонт — город в Апулии, у моря; Сальпин— город в Этрурии.
71 Имеется в виду один из законов Суллы.
72 Эти земли были розданы Суллой после казни их владельцев, жителей Пренесты,
предоставивших убежище Гаю Марию младшему. Несмотря на юридическую
неотчуждаемость земли, новые владельцы передали ее крупным землевладельцам. Ср. речь 9, § 8.
73 Кумы и Путеолы были излюбленными местами отдыха римской знати.
74 Трибы перечислялись в определенном лорядке; сначала четыре городских: Субур-
ская, Палатинская, Эсквилинская, Коллинская; затем 31 сельская: на первом месте
была Ромилийская, на последнем Арнская (35-я по счету).
75 Италийская (Союзническая, Марсийская) война 91—88 гг.
76 Публий Корнелий Ленту л, консул 162 г., умерший в 121 г. от ранц, полученной
им при подавлении движения Гая Гракха. Princeps senatus («первоприсутствующий в
сенате») — сенатор, имя которого стояло первым в цензорском списке сенаторов.
77 Митридат VI захватывал провинцию Азию в 88 и 73 гг.
78 Восстание Квинта Сертория продолжалось с 80 г. до 72 г.
79 Основа земельной политики Гракхов: стремление заменить рабов, занятых на
государственных землях, бывших в руках у крупных землевладельцев, римскими
гражданами.
80 Т. е. владеет (possidet) арендуемой им землей.
81 Ср. Цицерон, письмо Fam., IV, 5, 4 (DLX).
82 За измену Риму во время второй пунической войны Капуя была лишена
независимости и превращена в префектуру. Ее земли стали государственными. В 59 г. на
основании второго земельного закона Цезаря в Капуе была основана колония ветеранов
(20 000 человек) и созданы местные органы власти. См. прим. 68 к речи 4 и прим. 7
к речи 11.
83 Марк Юний Брут, отец будущего убийцы Цезаря, во время гражданской войны
был на стороне Мария младшего. В 83 г. (год его трибуната?) провел закон о выводе
колонии в Капую; был казнен Помпеем в 77 г. в Цисальпийской Галлии.
8. В защиту Г. Рабирия
427
84 Хронологическая ошибка: в 211 г. (год взятия Капуи) консулами были Гней
Фульвий Центумал и Публий Сульпиций Гальба. Лица, названные Цицероном, были
консулами в 209 г.
85 Город на реке Лирис. В 125 г. он восстал против Рима, но был взят и разрушен
консулом Луцием Опимием.
86 О разных видах жертвы см. Цицерон, «О законах», II, § 29.
87 Члены совета колонии имели право только на звание декурионов. «Сенат»
муниципия и колонии состоял из ста декурионов. Ср. речь 1, § 25.
88 Стих неизвестного поэта. Перевод Ф. Ф. Зелинского.
89 После взятия Капуи братья Блосии устроили заговор против Рима. Вибеллий
Таврея, друг Ганнибала, покончил с собой в присутствии консула Флакка. См. Ливии,
XXVII, 3.
90 Т. е. не носившие тоги, простой народ.
91 Сепласия — улица или площадь в Капуе, где продавались благовония. Ср. речь
18, §19.
92 Хитрость и вероломство пунийцев (карфагенян) вошли в поговорку («пунийская
верность», Punica fides). Ср. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 38; Саллюстий, «Югур-
та», 108, 3.
93 Эти небольшие города в I в., в связи с увеличившимся значением Рима, пришли
в упадок. Ср. речь 22, § 23.
94 Высшие магистраты имели право принимать меры принуждения (co'ercitio) к
гражданам, неповинующимся закону или их распоряжениям: арест, штраф, высылка. Говоря
так о народном трибуне, Цицерон допускает преувеличение.
95 На Марсовом поле. Цицерон противопоставляет себя, достигшего консульства
своими личными заслугами, нобилитету. Ср. речь 4, § 180.
96 Трибун мог арестовать любое должностное лицо, за исключением диктатора.
В 60 г. трибун Луций Флавий арестовал консула Квинта Цецилия Метелла Целера,
противника его земельного закона.
97 По Семпрониеву закону, провинции, которыми новоизбранные консулы должны
были впоследствии, по окончании своего консульства, управлять, назначались им по
жребию сенатом после их избрания. Цицерону досталась Македония, Гаю Антонию —
Цисальпийская Галлия. Цицерон поменялся провинциями с Антонием, уступив ему
богатую Македонию. Этим он Антония, которого подозревали в сочувствии движению
Катилины, удалял из Италии. Впоследствии Цицерон отказался от проконсульства в
Цисальпийской Галлии.
8. РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ГАЯ РАБИРИЯ
Привлечение Гая Рабирия к суду по обвинению в государственном преступлении,
как и изгнание Цицерона в 58 г., было связано с борьбой популяров против сенатской
олигархии. Популяры опирались на положения, защищавшие неприкосновенность
личности римского гражданина, которые традиция относит к уложению децемвиров (V в.),
впоследствии выраженные в Валериевом и Порциевых законах (leges de capite civis
Romani): вопрос о смертном приговоре римскому гражданину и даже о лишении его
гражданских прав подлежал суду центуриатских комиций. Положения эти были
подтверждены в 123 г. Семпрониевым законом о провокации, т. е. об апелляции к народу,
причем виновному в нарушении их грозила aquae et ignis interdictio — кара, носившая
сакральный и административный характер: лишение гражданских прав и конфискация
имущества.
Нобилитет противопоставлял этим положениям так называемое senatus consultum ul-
timum или senatus consultum de re publica defendenda по формуле: Videant consules, ne
428
Примечания
quid detrimenti res publica capiat («Да примут консулы меры, чтобы государство не
потерпело ущерба»). Такое постановление сената облекало консулов чрезвычайными
полномочиями с правом казнить римских граждан без формального суда. Впервые оно было
принято в 121 г. во время борьбы нобилитета против движения Гая Гракха, затем в
100 г.— против движения Сатурнина и Главции, в 77 г.— против Лепида^в 63 г.—
против движения Катилины, а также и в 62, 52, 49, 48 и 40 гг.
В 100 г., когда консул Гай Марий на основании s. с. и. действовал против претора
Гая Сервилия Главции и народного трибуна Луция Аппулея Сатурнина, то последний,
хотя ему была гарантирована неприкосновенность (fides publica), все же был убит. Это
убийство было двойным кощунством: посягательством на личность трибуна и
нарушением fides publica, т. е. неприкосновенности, гарантированной государством.
В первой половине 63 г., т. е. через 36 лет, народный трибун Тит Лабиен, человек,
в то время принадлежавший к окружению Гая Юлия Цезаря, привлек престарелого
сенатора Гая Рабирия к суду за это убийство. При этом была воскрешена уже отжившая
в то время процедура суда за perduellio, т. е. за тягчайшее государственное
преступление. В соответствии с этой процедурой, дело Рабирия предварительно было рассмотрено
судом в составе двух человек, назначенных претором; этими duoviri perduellionis были
Гай Цезарь и его родственник Луций Юлий Цезарь, бывший в 64 г. консулом.
Обвиняемый, осужденный ими на позорную казнь (бичевание и распятие на кресте),
воспользовался правом провокации, т. е. апеллировал к народу и предстал перед судом центу-
риатских комиций. В этом, уже окончательном суде Рабирия защищали Квинт Гортен-
еий и Цицерон, говоривший вторым; тогда и была произнесена настоящая речь. Процесс
этот, по свидетельству историка Диона Кассия, не был окончен, так как претор Квинт
Цецилий Метелл Целер, не желая допускать вынесения приговора, спустил знамя,
развевавшееся на холме Яникуле, вследствие чего центуриатские комиций должны были
быть распущены. В дальнейшем обвинение против Гая Рабирия не было возобновлено.
Таким образом, выступление популяров против допустимости применения senatus consul-
turn ultimum политически не удалось, и это чрезвычайное постановление в октябре того
же 63 г. было принято сенатом для борьбы с движением Катилины.
1 В подлиннике caput, т. е. жизнь и сумма гражданских прав; также и ниже Цицерон
говорит, что Рабирию грозит смертная казнь. Изгнание, о котором он упоминает в
§ 16 и 37, было не карой по закону, а средством, позволявшим обвиненному избегнуть
суда. Ср. речь 9, § 13.
2 Речь идет о senatus consultum ultimum, см. вводное примечание.
3 Об империи см. прим. 90 к речи 1.
4 Лабиен был вправе сделать это как народный трибун.
5 В § 7—8 опровергаются дополнительные пункты обвинения, касающиеся прошлой
жизни подсудимого. О них сведений нет.
6 Захват чужих рабов (plagium) преследовался на основании lex Fabia de plagiarhs
Ловили и свободных людей для обращения их в рабство. См. письмо Q. fr., I, 2, 6 (LIII).
7 Порциевы законы (от 198, 195 и 184 гг.) о неприкосновенности личности
римского гражданина объединяли в один закон (lex Porcia de tergo civium), Cp речи 1, § 126;
4, § 163.
8 Речь идет о предстателях. См. прим. 2 к речи 3.
9 К наложению штрафа присуждали трибутские комиций, в которых
председательствовал народный трибун.
10 Казнь на кресте происходила на Марсовом поле.
11 Официальные акты (созыв комиций, назначение диктатора, выступление войска в
иоход и пр.) требовали предварительных авгурий, или австгиций, т. е. вопрошения воли
богов, о которой, по представлению римлян, можно было узнать по явлениям на небе,
по полету и крику птиц, поеданию корма священными курами, необычному поведению
8. В защиту Г. Рабирия
429
людей и животных. В эпоху республики правом авспиций обладали магистраты с импе-
рием. Различались auspicia urbana, совершавшиеся внутри померия (сакральная
городская черта Рима), и a. bellica, совершавшиеся в походе и перед боем; различались a. im-
petrativa и a. oblativa; первые получались путем нарочитого наблюдения, вторые
обнаруживались случайно, например, случай падучей болезни во время комиций. Городские
авспиций совершались на авгуракуле, особом месте в крепости. Авспиций совершались в
присутствии жреца-авгура, истолковывавшего их. Уже одного заявления магистрата, что
им начаты авспиций (нунциация), было достаточно для того, чтобы комиций были
отложены. Сообщение о неблагоприятных знамениях называлось обнунциацией. Право нун-
циации и обнунциации, принадлежавшее магистратам и трибунам, по-видимому, было
установлено Элиевым законом (середина II в.); им широко пользовались в
политических целях.
12 Об очистительных обрядах см. прим. 137 к речи 6.
13 Имеется в виду закон о провокации, проведенный Гаем Гракхом в 123 г. (Сем-
прониев закон). См. прим. 145 к речи 4.
14 Согласно традиции, последний римский царь Тарквиний Гордый был изгнан в
510 г. Приведенные Цицероном выражения относятся, по свидетельству Ливия (I, 26),
к закону, изданному царем Туллом Гостилием. «Зловещее дерево» — то, на котором
совершалась казнь; оно считалось посвященным подземным богам.
15 Дядя обвинителя, Квинт Лабиен, убитый вместе с Сатуюнимом и Главцией в 100 г.
16 Обязанности палачей исполнялись государственными рабами, которые были в
распоряжении цензоров.
17 Возможно, постановления сакрального характера более древние, чем законы
Двенадцати таблиц. См. прим. 88 к речи 1.
18 Намек на процедуру отпуска раба на свободу per vindictam, когда претор (assertor
libertatis) прикасался к рабу своим жезлом (vindicta, festuca).
19 Крюком влекл'и к Тибру тело преступника низкого происхождения.
20 См. прим. 31 к речи 2.
21 Приводится содержание senatus consultum ultimum, принятого в 100 г.
22 Умбро-сабинское божество Семон Санк считалось покровителем верности.
См. прим. 72 к речи 1.
23 Вольноотпущенник Эквиций, выдававший себя за сына Тиберия Гракха, в 100 г.
вместе с Сатурнином выставил свою кандидатуру в народные трибуны на 99 г. Об эр-
гастуле см. прим. 15 к речи 6.
24 В 123 г., в силу Семпрониева закона, судебная власть была передана римским
всадникам. В 81 г., в силу Корнелиева закона, суды были переданы сенаторам.
25 Марк Эмилий Скавр был первоприсутствующим в сенате (princeps senatus), т. е.
первым в цензорском списке сенаторов, с 115 г.
26 О комиций см. прим. 151 к речи 4„
27 Квинт Муций Сцевола («авгур») был консулом в 117 г. Далее перечисляются
консуляры: Луций Цецилий Метелл Далматинский, консул 119 г.; Сервий Сулъпиций
Галъба, консул 108 г.; Гай Атилий Серран, консул 106 г.; Публий Рутилий Руф, консул
105 г.; Гай Флавий Фимбрия, консул 104 г., «новый человек»; Квинт Аутаций Катул,
консул 102 г., победитель кимвров.
28 Цицерон перечисляет лиц, ставших консулами впоследствии: Гней Домиций Аге-
нобарб был консулом в 96 г., его брат Ауций— в 94 г.; Квинт Муций Сцевола
(«понтифик») и Луций Лициний Красе (оратор) — в 95 г.; Гай Клавдий Пулъхр — в 92 г.
Народный трибун Марк Ливии Друс (младший) был убит в 91 г. Далее говорится о
консуле 91 г. Луции Марции Филиппе, о консуле 83 г. Луции Корнелии Сципионе
Азиатском, о консулах 77 г. Мамерке Эмилии Лепиде Ливиане и Дециме Юнии Бруте,
о консуле 79 г. Публии Сервилии, о консуле 78 г. Квинте Аутаций Катуле и о консуле
76 г.- Гае Скрибонии Курионе.
28 Цицерон, т. I
430
Примечания
29 Пиценская область находилась в южной Италии, между Аппенином и
Адриатическим морем.
30 О Гае Аппулее Дециане см. Валерий Максим, VIII, 1, 2.
31 Секст Тиицй был народным трибуном в 99 г.
32 Об эрарных трибунах см. прим. 93 к речи 6.
33 Parricidium. См. прим. 34 к речи 1.
34 Так как вся полнота власти уже была вручена консулам, в силу senatus consultum
ultimum, в этом постановлении сената не было надобности.
35 Имеется в виду победа Мария над киМврами (i101 г.).
36 Цицерон, по-видимому, имеет в виду свои выступления, в сенате и на сходках,
против земельного закона Рулла. См. речь 7.
37 Ср. речи 10, § 11; 13, §78; 18, § 51.
38 Призыв к оружию, обращенный консулами к гражданам после издания senatus
consultum ultimum. Ср. речь 16, § 24; Саллюстий, «Катилина», 29, 2.
39 Имеется в виду освобождение Лже-Гракха (прим. 23), схваченного Марием.
40 Крепость в Риме (агх) находилась около Капитолийского холма. Ср. речь 12, § 18.
41 См. прим. 40 к речи 2.
42 Из речи Гортенсия, который защищал Рабирия первым, до нас дошли всего два
слова: «...моих рубцов...».
43 Servius, Ad Vergil. Aeneid., I, 13.
9—12. РЕЧИ ПРОТИВ ЛУЦИЯ СЕРГИЯ КАТИЛИНЫ
Дошедшие до нас речи против Катилины представляют собой результат
произведенной Цицероном в 61—60 гг. литературной обработки речей, произнесенных им в ноябре
и декабре 63 г. при подавлении движения, известного под названием заговора Катилины.
Луций Сергий Катилина (108—62 гг.) принадлежал к патрицианскому роду, был
на стороне Суллы и в 82—81 гг. лично участвовал в казнях. В 68 г. был претором,
в 67 г. пропретором провинции Африки. В 66 г. Катилина добивался консульства, но
был привлечен населением своей провинции к суду за вымогательство и потому был
исключен из числа (Кандидатов, что побудило его принять участие в заговоре с целью
захвата власти (см. вводное примечание к речи 14). Этот так называемый первый заговор
Катилины не выразился в активных выступлениях; несмотря на то что его наличие было
явным, участники его не были привлечены к ответственности.
Суд по обвинению Катилины в вымогательстве закончился его оправданием, но
привлечение к суду не позволило ему участвовать в соискании консульства на 64 г.
В соискании консульства на 63 г. участвовало семь человек, среди них Цицерон,
Катилина, Гай Антоний. Предвыборная агитация, во время которой была обещана отмена
долгов, вышла за пределы законного, вследствие чего сенат принял особые постановления
на этот счет. Стараниями нобилей и римских всадников были избраны Цицерон и Гай
Антоний.
Первые месяцы консульства Цицерона ознаменовались его выступлениями против
земельного закона Рулла и защитой Гая Рабирия; вторая половина его консульства
прошла в борьбе с движением Катилины. Политическая программа Катилины была
неопределенной: приход к власти законным или же насильственным путем, ограничение
власти сената. Катилина имел успех среди низших слоев населения, разорившихся
ветеранов Суллы и среди разорившихся нобилей, надеявшихся освободиться от долгов и
достигнуть высших должностей. В Фезулах (Этрурия) центурион Гай Манлий собрал
вооруженные отряды, чтобы двинуться на Рим; Цицерона предполагалось убить. Борьба
усилилась летом 63 г. Слухи о поджоге Рима и о резне, подготовляемых Катилиной.
усилились, этот вопрос обсуждался в сенате в его присутствии. В октябре Красе получи \
9. Первая речь против Катилины
431
анонимные письма с советом уехать из Рима и @тим спастись от смерти. Были получены
сведения, что Манлий двинется на Рим 21 октября и что в ночь с 28 на 29 октября
заговорщики подожгут Рим и устроят резню. 2 октября сенат принял senatus consultum
ultimum (см. вводное примечание к речи 8). Было решено двинуть войска против Ман-
лия, который был объявлен врагом государства (hostis publicus); Катилина был
привлечен к суду ;по обвинению в насильственных действиях, на основании Плавциева закона.
Он предложил ряду лиц взять его под стражу у себя в доме (custodia libera), но
встретил отказ.
В ночь с 6 на 7 ноября заговорщики собрались в доме у Марка Порция Леки; были
отданы последние распоряжения: насчет восстания и, в частности, убийства Цицерона,
который узнал об этом через своих осведомителей и усилил охрану города. 8 ноября
Цицерон созвал сенат в храме Юпитера Статора и обвинил Катилину, явившегося в сенат,
в противогосударственных действиях. Не имея улик, Цицерон предложил ему покинуть
Рим (первая речь против Катилины). В ночь на 9 ноября Катилина выехал из Рима в
лагерь Манлия. 9 ноября Цицерон выступил на форуме и сообщил народу о своих
действиях (вторая речь), он предостерег заговорщиков, оставшихся в Риме, от каких-либо
выступлений.
Военные действия против Катилины были поручены консулу Гаю Антонию и претору
Квинту Метеллу Целеру. Прямые улики против заговорщиков были получены в ночь
со 2 на 3 декабря, при аресте послов галльского племени аллоброгов; послы везли
собственноручные письма заговорщиков к Катилине. Рано утром 3 декабря Цицерон
арестовал заговорщиков Лентула Суру, Цетега, Габиния и Статилия. В храме Согласия был
созван сенат, которому Цицерон доложил о событиях минувшей ночи; письма были
предъявлены заговорщикам, которые признали их подлинность. Сенат заставил Публия
Корнелия Лентула Суру сложить с себя звание претора. Цицерон был объявлен «отцом
отечества», от его имени было назначено благодарственное молебствие богам. 3 декабря
он произнес перед народом речь о получении им прямых улик о заговоре (третья речь
против Катилины).
4 декабря сенат объявил заговорщиков врагами государства. 5 декабря сенат
собрался в храме Согласия. Избранный консул Децим Юний Силаг высказался за
смертную казнь как для задержанных, так и для других заговорщиков, если они будут
схвачены. Избранный претор Гай Цезарь высказался за пожизненное заключение и
конфискацию имущества заговорщиков. Его предложение и колебания среди сенаторов
заставили Цицерона выступить с речью (четвертая речь против Катилины); он высказался
против предложения Цезаря и за смертную казнь. Речь Марка Катона склонила сенат
к решению о немедленной казни пятерых заговорщиков, которая и была совершена
вечером 5 декабря в подземелье Мамертинской тюрьмы. 5 января 62 г. под Писторией
произошло сражение между войсками Гая Антония, которыми командовал его легат Марк
Петрей, и отрядами Катилины, окончившееся истреблением последних вместе с их
предводителем.
Цицерон ставил себе в большую заслугу раскрытие и подавление заговора
Катилины— «спасение государства, достигнутое им трудами и ценой опасностей»; он описал
свое консульство в двух поэмах: «О моем консульстве», 61 г. и «О моем времени», 54 г.
9. ПЕРВАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ КАТИЛИНЫ
1 При наличии опасности Палатинский холм, имевший военное значение, охранялся
особенно тщательно. См. Саллюстий, «Катилина», 30, 7.
2 Сенат собирался в Гостилиевой курии или в одном из храмов. Храм Юпитера
Статора находился у подошвы Палатинского холма.
3 Ср. речи 3, § 56; 17, § 137.
28*
432
Примечания
4 На основании senatus consultum ultimum консулы обладали в это время
чрезвычайными полномочиями, правом жизни и смерти.
5 В 133 г. ко'нсуляр Публий Сципион Насика Серапион поднял сторонников
нобилитета против Тиберия Гракха.
6 В 439 г., во время голода, Спурий Мелий стал продавать народу хлеб по дешевой
цене; он был заподозрен в стремлении к царской власти. Не явившись для ответа по
вызову диктатора Цинцинната, он был убит его помощником Гаем Сервилием Структом
Агалой. Ср. речи 17, § 86; 22, § 8, 83; 26, § 26 ел.; письма Att, II, 22, 4 (LI); XIII,
40, 1 (DCLXIV).
7 Консул 121 г. Луций Опимий, действуя на основании senatus consultum ultimum,
подавил движение Гая Гракха. Гай Гракх был внуком Публия Корнелия Сципиона
Африканского (Старшего).
8 Марк Фулъвий Флакк, соратник Гая Гракха, консул 125 г., народный трибун
122 г., хотел предоставить гражданские права всем италикам.
9 В 100 г. для действий против Сатурнина и Главции. См. речь 8, § 20.
10 Точнее, 18-й день; т. е. с 21 октября.
11 Об императоре см. прим. 70 к речи 1. Здесь ирония.
12 Одни уехали из страха, другие, чтобы не быть скомпрометированными.
13 Пренеста — город в 24 милях к юго-востоку от Рима. О колонии см. прим. 68 к
речи 4.
14 Марк Порций Лека принадлежал к одному из лучших родов Рима. Ср. речь 14,
§ 6; Саллюстий, «Катилина», 17.
15 Т. е. наметил очаги восстания.
16 Это были Гай Корнелий и Луций Варгунтей. Ср. речь 14, § 18, 52; Саллюстий,
«Катилина», 28, 1.
17 Цицерон был извещен некоей Фульвией. См. Саллюстий, «Катилина», 23, 3 ел.
18 Salutatio — утреннее посещение влиятельного лица его друзьями и клиентами.
Ср. речь 14, § 73; Квинт Цицерон, письмо Comment, petit., 34 (XII).
19 Речь произнесена в храме Юпитера Статора.
20 Марсово поле, где собирались центуриатские комиции.
21 См. прим. 59 к речи 3.
22 Об империи см. прим. 90 к речи 1. Здесь имеются в виду полномочия на
основании senatus consultum ultimum.
23 Ср. речи 7, § 70; 10, § 7; письмо Att, I, 19, 4 (XXV); Саллюстий, «Катилина»,
37, 5.
24 Hostis publicus, т. е. государственный преступник.
25 Улицы Рима не освещались; рабы несли факелы перед своими господами.
26 Молва обвиняла Катилину в убийстве сына. Ср. речь 6, § 27 ел.; Саллюстий,
«Катилина», 15, 2.
27 См. прим. 49 к речи 1.
28 Обычным сроком уплаты долгов были календы, крайним — иды, после чего была
неизбежна утрата заложенного имущества.
29 Маний Эмилий Лепид и Луций Волкаций Тулл были консулами в 66 г. Консулы
приступали к своим обязанностям 1 января. Речь идет о покушении на избранных на
65 г. консулов Луция Аврелия Котту и Луция Мания Торквата. Ношение оружия в
городе Риме не резрешалось. Канун январских календ —29 декабря.
30 О комиции см. прим. 151 к речи 4.
31 Нож, применявшийся при жертвоприношении, поовящался божеству, как и
оружие, которым было совершено политическое убийство. См. Тацит, «Анналы», XV, 74.
32 Цицерон не всегда проявлял такую мягкость по отношению к рабам. Ср. речь
12, § 12.
33 См. прим. 34 к речи 1.
10. Вторая речь против Катилины
433
34 См. Квинт Цицерон, письмо Comment, petit., 9 ел. (XII).
30 Маний Эмилий Аепид, консул 66 г., был одним из противников Катилины.
36 Квинт Цецилий Метелл Целер был претором в 63 г., консулом в 60 г. О Марке
Метелле сведения недостаточны.
37 Публий Сестий в январе 62 г. участвовал в сражении против Катилины под Писто-
рией; в 57 г. как трибун способствовал возвращению Цицерона из изгнания. См. речь 18.
38 Марк Клавдий Марцелл, консул 51 г., впоследствии помпеянец. См. речь 23;
письма Fam., IV, 8 (CCCCLXXXVI); 7 (CCCCLXXXVII); 9 (CCCCLXXXVIII);
11; (ССССХСШ); 12 (DCXVIII); IX, 10 (DXL).
39 Когда магистраты выезжали из Рима, их друзья и клиенты провожали их до
городских ворот. Здесь ирония.
40 Это могло быть решено во время собрания заговорщиков у Марка Леки. См.
выше, § 9.
41 Городок Аврелиев Форум лежал у Аврелиевой дороги, которая вела в сторону
Фезул, где находился Гай Манл'ий с войском.
42 По преданию, этот серебряный орел (знак легиона) был у Мария во время войны
с кимврами. См. Саллюстий, «Катилина», 59, 3.
43 О сторонниках Катилины см. речь 10, § 17 ел.
44 Ср. речь 19, § 12 ел.
45 В подлиннике игра слов: exsul (изгнанник) —consul.
46 По зако-нам Валериеву, Порциевым и Семпрониеву вынести смертный приговор-
римскому гражданину могли только центуриатские комиции.
47 Цицерон был «новым человеком». См. прим. 83 к речи 3.
48 Цицерон достиг государственных должностей «в свой год». См. прим. 63 к речи 5.
49 Тиберий Гракх был убит в 133 г., Гай Гракх и Марк Фулъвий Флакк— в 121 г.,
Яуи,ий Аппулей Сатурнин — в 100 г.
50 См. прим. 31 к речи 2.
51 Дела о долгах рассматривались городским претором. В 63 г. им был Луций
Валерий Флакк.
52 Храм Юпитера Статора («Останавливающего бегущие войска») был освящен;
294 г.
10. ВТОРАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ КАТИЛИНЫ
1 Ср. речь 9, § 9 ел., 15, 32.
2 Выражение гладиаторов. Подобные выражения как метафоры часты у Цицерона^
3 Чрезвычайные полномочия в силу senatus consultum ultimum.
4 Речь идет о молодом развратнике. О претексте ом. прим. 96 к речи 1.
5 См. письмо Fam., V, 1, 2 (XIII).
6 О Пиценской области см. прим. 29 к речи 8, о Галльской — прим. 16 к речи 6.
7 Имеются в виду ветераны Суллы; ср. Саллюстий, «Катилина», 16, 4. Сулла
наделил землей около 120 000 ветеранов, устроив колонии, главным образом, в Этрурии и
Самнии.
8 Неявка в суд по делу о неуплате долга влекла за собой опись имущества и утрату
залога. Присоединение к войску Катилины было равносильно удалению в изгнание.
9 Ср. речь 9, § 9.
10 Аврелиева дорога была менее прямой, чем Кассиева, но Катилина, видимо, хотел,
чтобы думали, что он поехал в Массилию, а не в Этрурию.
11 Ср. речь 19, § 12 ел.
12 Ремесло актера презиралось в Риме и было несовместимо, например, с
принадлежностью к всадническому сословию. См. письмо Fam., X, 32, 2 (DCCCXCV).
434
Примечания
13 Гней Помпеи.
14 Над войсками, составленными из римских граждан, мог начальствовать только
магистрат, облеченный империем. Поэтому Катилина и присвоил себе эти знаки. См. Сал-
люстий, «Катилина», 36, 1.
15 См. речь 9, § 24.
16 Катилина писал друзьям, что уезжает в Массилию, обычное место изгнания.
См. Саллюстий, «Каггилина», 34, 2.
17 Ср. речь 9, § 30; см. прим. 31 к речи 2.
18 Так как Катилину, по мнению Цицерона, могло спасти только изгнание.
19 Ср. речь 14, § 59.
20 Имеется в виду кассация долгов и составление новых долговых книг (tabulae
novae). См. Саллюстий, «Катилина», 21, 2.
21 Ср. Саллюстий, «Катилина», 39, 4.
22 Ср. Цицерон, письмо Att., I, 16, 6 (XXII).
23 В подлиннике infitiatores lenti, т. е. люди, склонные уклоняться от военной службы
и от уплаты долгов.
24 См. прим. 34 к речи 1.
25 Мамертинская тюрьма в Риме имела две подземные камеры, расположенные одна
над другой; в нижней (Tullianum) осужденных казнили (удавливали). См. Саллюстий,
< Катилина», 55, 3.
26 Холеную бородку в Риме носили щеголи. См. письмо Att., I, 14, 5 (XX).
Тунику до пят с рукавами носили женщины. Носить такую тунику было недостойным
мужчины.
27 О преторской когорте см. прим. 91 к речи 3.
28 Цицерон хочет сказать, что Катилина способен только на удары из засады.
29 См. прим. 59 к речи 3.
30 См. прим. 96 к речи 1.
31 Имеются в виду победы Помпея.
11. ТРЕТЬЯ РЕЧЬ ПРОТИВ КАТИЛИНЫ
1 Катилина покинул Рим 24 дня назад, в ночь на 9 ноября.
2 Публий Корнелий Ленту л Сура, консул 71 г., был в 70 г. исключен цензорами из
сената; добился претуры на 63 г., дабы возвратиться в сенат. См. Плутарх. «Цицерон», 17.
3 Тит Вольтурций вез письма от Лентула Суры, Цетега и Статилия. См. Саллюстий,
«Катилина», 44, 3.
4 Луций Валерий Флакк был после претуры пропретором Азии; в 59 г. он был
обвинен в вымогательстве. Это обвинение носило политический характер и было направлено
против Цицерона, который защищал Флакка в суде.
5 Гай Помптин в 61 г. как пропретор Нарбонской Галлии вел войну с восставшими
аллоброгами и в 54 г. справил триумф.
6 Мост, построенный цензором Марком Эмилием Скавром на Тибре, на Фламиние-
>вой дороге; «Мулъвиев»—народное название, вместо «Эмилиев».
7 Префектура — поселение, во главе которого стоял назначаемый Римом префект
(praefectus iuri dicundo) с судебной властью. Цицерон был патроном Реаты.
8 Ночь делилась на четыре стражи. Третья стража была от полуночи до трех часов
утра.
9 Письма писали на навощенных дощечках; их затем складывали и перевязывали
нитью; узел закрепляли воском, к которому прикладывали именную печать.
10 Ирония. Письмо Лентула содержало всего три строки; см. ниже, § 12. Он был
.известен своей леностью.
//. Третья речь против Катилины
435
11 Неприкосновенность как доносчика; ср. Att., II, 24, 2 (LI). Гарантировать
неприкосновенность .мог только сенат. Ср. речь 8, § 28; Саллюстий, «Катилина», 47, 1; 48, 4.
12 См. прим. 99 к речи 3.
13 О гаруспицине см. вводное примечание к речи 20.
14 Жрицы Весты, считавшейся покровительницей домашнего и государственного очага.
Они поддерживали неугасимый огонь в ее храме. Они имели право миловать осужденных
на казнь, составлять завещание и выступать в суде как свидетельницы и были свободны
от опеки родичей. В течение 30 лет своего служения богине они были обязаны хранить
целомудрие; нарушение этого обета каралось замурованием заживо. Суд над весталкой за
нарушение обета целомудрия считался дурным предзнаменованием даже в случае
оправдания. В 73 г., среди других весталок, к суду |была привлечена Фабия, родственница жены
Цицерона, скомпрометированная Катилиной.
15 Пожар Капитолия произошел в 83 г., причина его неизвестна.
16 Сатурналии начинались 19 декабря и продолжались несколько дней; в Сатурналии
было принято делать подарки.
17 Публий Корнелий Аентул, консул 162 г., был ранен при подавлении движения Гая
Гракха. См. речь 12, § 13.
18 Имеются в виду рабы, к помощи которых Катилина до сего времени не прибегал.
См. Саллюстий, «Катилина», 44, 5.
19 Гай Антоний, консул 63 г. Перед битвой под Писторией в январе 62 г. он сказался
больным и передал командование своему легату Марку Петрею.
20 Т. е. под охрану уважаемого гражданина (custodia libera). Ср. речь 9, § 19.
21 Т. е. рабов, находившихся в латифундиях.
22 Всенародные молебствия богам устраивались как для предотвращения несчастья,
так и в начале войны; их повторяли как благодарственные после победы. Вначале
молебствия были однодневными; в I в. их продолжительность была увеличена до 10, 15, 20 и
даже 50 дней. В дни молебствий храмы были открыты и совершались лектистернии, т. е.
угощение богов, изображения которых помещали на ложах. См. ниже, § 23; речи 14, § 85;
17, § 136; 20, § 26 ел.; 26, § 26, 37; Цезарь, «Записки о галльской войне», II, 35; IV,
38; VII, 90.
23 Цицерон был первым, от чьего имени как магистрата, не применившего военного
империя, были назначены молебствия. См. речи 10, § 28; 14, § 26; 26, § 13. О тоге см.
прим. 96 к 'речи 1.
24 Ауций Аврелий Котта и Ауций Манлий Торкват были консулами в 65 г.
25 Где происходило заседание сената.
26 Народный трибун 88 г. Публий Сулъпиций Руф предложил возвратить граждан,
которые были изгнаны в 100 г. после подавления движения Сатурвина, исключить из
сената всех, имеющих более 2000 денариев, и впредь приписывать новых граждан из числа
италиков не к 8, а ко всем 38 трибам, а также командование в войне против Митридата
отнять у Суллы и передать Марию. Руф был убит в 88 г. после захвата Рима Суллой.
27 Ауций Корнелий Цинна, сторонник Мария, покинул Рим после ожесточенных
уличных боев (87 г.).
28 В конце 87 г. Гай Марий и Цинна были избраны в консулы на 86 г. На
семнадцатый день консульства (седьмого по счету) Марий умер.
29 Имеется в виду истребление виднейших нобилей: консула 87 г. Гнея Октавия,
консула 102 г. Квинта Лутация Катула, оратора Марка Антония, Квинта Муция Сцеволы
(«понтифика»), Публия Лициния Красса, Луция и Гая Юлиев Цезарей.
30 Марк Эмилий Аепид, отец триум!вира 43 г., консул 78 г., выступил против суллан-
ской конституции, но был разбит на Марсовом поле войсками своего коллеги, консула
Квинта Лутация Катула. Союзник Лепида, народный трибун Марк Юний Брут был в
77 г. разбит и казнен Помпеем.
31 Имеется в виду Гней Помпеи- Ср. речи 10, § 11; 17, § 67.
436
Примечания
12. ЧЕТВЕРТАЯ РЕЧЬ ПРОТИВ КАТИЛИНЫ
1 О покушении на жизнь Цицерона, совершенном в Гостилиевой курии,
неизвестно.
2 Намек на задуманное заговорщиками покушение на жизнь Цицерона. Ср. речи 9,
§9; 14, § 18.
3 Ср. речь 11, §9.
4 Квинт Цицерон был в это время избранным претором (на 62 г.)
5 Туллии, дочери Цицерона, тогда было тринадцать лет, сыну Марку — два
года. \
6 Гай Калъпурний Писон Фруги; он не был сенатором, поэтому стоял у входа в храм.
Он был квестором в 58 г. и умер, когда Цицерон находился в изгнании.
7 Ср. речь 9, § 3. Тиберий Гракх вторично добивался трибуната на 133 г. и это
послужило поводом к выступлению нобилитета.
8 Ср. речь 9, § 4. Гай Меммий был убит Сатурнином в то время, когда добивался
консульства.
9 См. речь 11, § 15.
10 См. Саллюстий, «Катилина», 47, 4.
11 С заходом солнца заседание сената прерывалось, поэтому решение не могло быть
принято.
12 В частности, Испанию и Мавретанию. См. Саллюстий, «Катилина», 21,3.
13 Ср. речь 9, § 4, 28.
14 См. речь Цезаря у Саллюстия, «Катилина», 51, 20.
15 О Семпрониевом законе о провокации см. прим. 145 к речи 4.
16 Ср. речь 11, §9.
17 Луций Юлий Цезарь Страбон, консул 64 г. Его сестра Юлия, мать будущего
гриумвира Марка Антония, во втором браке была женой Публия Корнелия Лентула
Суры.
18 Марк Фульвий Флакк, сподвижник Гая Гракха, казненный консулом Луцием Опи-
мием в 121 г. См. Плутарх, «Гай Гракх», 16.
19 Публий Корнелий Ленту л, консул 162 г. Ср. речь 11, § 10.
20 Согласие между сенаторским и всадническим сословиями (concordia ordinum)
Цицерон считал опорой римского государственного строя. Более подробно об этом см. в
статье М. Е. Грабарь-Пассек (стр. 379 настоящего издания). Ср. также письма Att, I, 14,
4 (XX); 17, 10 (XXIII); 18, 3 (XXIV).
21 Об эрарных трибунах см. ирим. 93 к речи 6.
22 5 декабря новые квесторы приступали к >овоим обязанностям и метали жребий,
определявший круг деятельности каждого из них. При жеребьевке присутствовали писцы,
объединенные в сословие. Об эрарии см. прим. 2 к речи 2.
23 О попытке освободить Лентула см. Саллюстий, «Катилина», 50, 1 ел.
24 См. прим. 40 к речи 8.
25 Имеется в виду ночь с 2 на 3 декабря. См. вводное примечание.
26 Публий Корнелий Сципион Африканский Старший и Публий Корнелий Сципион
Эмилиан Африканский (Младший).
27 Последний македонский царь Персей шел перед колесницей своего победителя Лу-
ция Эмилия Павла во время его триумфа. См. прим. 45 к речи 4.
28 Гай Марий нанес поражение тевтонам в 102 г. и кимврам в 101 г.
29 Ср. речи 10, § 11,29; 11, §26.
30 О праве принуждения см. прим. 94 к речи 7.
31 О клиентеле см. прим. 79 к речи 1.
32 Об узах гостеприимства см. прим, 3 к речи 1.
13. В защиту Л. Лициния Мурены
437
13. РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ЛУЦИЯ ЛИЦИНИЯ МУРЕНЫ
Луций Лициний Мурена происходил из плебейского рода; высшей магистратурой его
предков была претура. Он начал военную службу в первую войну с Митридатом; затем
был квестором вместе с Сервием Сульпицием Руфом, своим будущим обвинителем. Эди-
литет его прошел незаметно. В 74 г. он участвовал в третьей войне с Митридатом как
легат Луция Лукулла. В 65 г. он был городским претором, в 64 г.— пропретором в
Трансальпийской Галлии. В 62 г. он выставил свою кандидатуру в консулы на 62 г. Его
соперниками были Децим Юний Силан, Сервий Сульпиций Руф, известный законовед,
и Луций Сергий Катилина.
В октябре 63 г. в консулы были избраны Силан и Мурена. Сульпиций привлек
Мурену к суду за домогательство незаконными путями (crimen de ambitu; см. прим. 18 к речи 2)
на основании Туллиева закона. Осуждение Мурены повлекло бы за собой кассацию его
избрания. Суд происходил во второй половине ноября 63 г., когда Катилина уже покинул
Рим, но еще до задержания послов аллоброгов (см. вводное примечание к речам 9—12).
Мурену обвиняли также и молодой Сульпиций, Гней Постум и Марк Порций Катон,
избранный в трибуны на 62 г. Силан, добившийся избрания, такими же средствами, что
и Мурена, не был привлечен к суду. Мурену защищали Квинт Гортенсий, Марк Красе и
Цицерон, говоривший последним. Суд оправдал Мурену; о его дальнейшей судьбе
сведений нет.
Дошедший до нас текст речи — результат позднейшей литературной обработки; это
особенно относится к остротам Цицерона. Трудность положения Цицерона усугублялась,
тем, что он, автор закона о домогательстве, защищал от обвинения в этом преступлении;
но его задача облегчалась наличием прямой угрозы со стороны Катилины и его
сторонников, оставшихся в Риме, в то время как обвинители Мурены, несмотря на это,
добивались кассации избрания одного из консулов и тем самым соглашались на нарушение
преемственности верховной власти.
1 Курульные магистраты избирались центуриатскими комициями после совершения
авспиций. В комициях председательствовал консул, вначале приносивший жертву и
совершавший моление.
2 Выражение «римский народ и плебс» встречается в молитвах, оракулах и формулах.
Оно возникло в древнейшую эпоху, когда полноправными гражданами были одни только-
патриции («римский народ»).
3 Ср. речь 14, § 2.
4 Марк Порций Катон придерживался стоической философии.
5 Манципация— древняя процедура передачи прав полной собственности;
символический акт: покупавший брал в руку вещь и произносил установленную формулу, ударив
по весам куском меди, в присутствии «весодержателя» и пяти свидетелей. Продавший, если
это была недвижимость, становился auctor fundi; т. е. нес ответственность за
доброкачественность имущества и должен был помогать купившему отводить возможные впоследствии
претензии других лиц.
6 См. прим. 12 к речи 2.
7 Имеются в виду Афины.
8 Об империи см. прим. 90 к речи 1. О Катилине см. вводные примечания к речам,
о л у
9 Ср. речь 14, § 8.
10 Ср. речи 5, § 2; 7, § 2 ел.
11 Об обращении по личному имени см. прим. 159 к речи 4.
12 Это следует понимать в том смысле, что противная сторона ранее обращалась к
Сульпицию за советом, с просьбой составить исковую формулу.
13 Квинт Туллий Цицерон, избранный в преторы на 62 г.
438
Примечания
14 См. прим. 45 к речи 4. Во время триумфа малолетние дети триумфатора ехали на
его колеснице, сыновья-подростки — верхом на лошадях, запряженных в колесницу,
взрослые сыновья — верхами рядом с колесницей.
15 Т. е. актером, выступавшим с мимической пляской на пиру; занятие рабов и
вольноотпущенников, считавшееся неподобающим римскому гражданину.
16 Обед начинался в девятом часу дня. Здесь речь идет о необычно раннем обеде,
о чревоугодии. Ср. |речь 15, § 13; письмо Att., IX, 13, 6 (CCCLXIX).
17 Лициниев род был плебейским; особенно известны были Лицинии Лукуллы и Ли-
цинии Крассы.
18 Согласно традиции, первый уход плебса, в его борьбе против патрициев, произошел
в 494 г. После этого был учрежден трибунат. См. Ливии, II, 22.
19 См. прим. 35 к речи 7.
20 Т. е. к «новым людям», как и Цицерон. В случае избрания Сульпиций был бы в
своем роду первым консулом. См. прим. 93 к речи 3.
21 Квинт Помпеи, в 141 г. первый консул-плебей. Ср. речь 4, § 181.
22 Марк Эмилий Скавр был консулом в 115 и 107 гг., цензором в 109 г. См. Цице
рон, «Об ораторе», I, § 214; Саллюстий, «Югурта», 15, 4.
23 Маний Курий Дентат, победитель самнитов и Пирра, консул 290, 285 и 274 гг.
24 Марк Порций Катон Старший был консулом в 195 г., цензором в 184 г.
25 Гай Марий был консулом в 107, 104—100 и 86 гг.
26 Ср. речь 7, § 3 и прим. 3.
27 О Тициевом законе сведений нет. В городе Риме было два квестора, вне Рима
четыре. Через Остию в Италию ввозились товары и хлеб.
28 Ср. Гораций, Сатиры, I, 1, 9 ел.
29 Если кто-нибудь преграждал дождевой воде доступ на свой участок и наносил этим
ущерб соседу, то сосед мог вчинить иск — actio aquae pluviae arcendae.
30 Возможно, намек на акт «указания рубежей» (demonstratio finium), совершавшийся
при продаже или разделе земли.
31 См. прим. 59 к речи 3.
32 Гней Флавий, писец Аппия Клавдия Слепого, опубликовал судебные формулы —
ligis actiones (ius Flavianum). В 304 г. он, будучи курульным эдилом, опубликовал
календарь, в котором судебные дни (dies fasti) обозначались буквой «F», несудебные (dies nefas-
ti) — буквой «N». Ранее календарь был в ведении понтификов. См. Цицерон, «Об
ораторе», I, § 186; Ливии, IX, 46.
33 «Выколоть вороне глаз» — поговорка, означающая перехитрить хитрого и
связанная с ворожбой. Ср. Проперций, Элегии, V, 5, 16.
34 Первоначально квиритским правом называлось право, применявшееся к квиритам,
во времена государства-города — патрициям, носившим оружие. Впоследствии сумма
частных прав римских граждан.
35 Имеется в виду древнейший вид тяжбы о собственности — legis actio per sacramen-
tum, когда стороны подтверждали свое заявление клятвой и вносили денежный залог.
Стороны заявляли претору о своих правах на спорный участок земли и выходили на него
(«из суда», ex iure); впоследствии это совершалось над комом земли, положенным
невдалеке от места суда; стороны накладывали руки на спорную вещь или для вида вступали
в бой (conserere manum); после этого акта они возвращались в суд (in ius). См. ниже,
§ 30; письмо Fam., VII, 13, 2 (CLXIII); Энний, «Анналы», фр. 262 ел. Уормингтон; Гел-
лий, «Аттические ночи», XX, 10, 4.
36 В римской драме флейтист сопровождал речитатив (canticum). Ср. письмо Fam.,
IX, 22, 1 (DCXXXyiH).
37 Т. е. в древнейшую эпоху.
38 Речь идет о родовых обрядах и домашних культах (sacra privata), переходивших
по наследству. Богатые женщины, желая избавиться от обязанности совершать их, всту-
13. В защиту А. Аициния Мурены
439
пали в брак со стариками, не имевшими наследников, заключавшийся путем коемпции
(символическая купля-продажа). Обязанность совершать обряды переходила к мужу,
который, по предварительному уговору, возвращал женщине свободу и ее состояние; за
вознаграждение он продолжал совершать обряды до своей смерти, когда они прекращались.
39 Намек на формулу, которую произносили при заключении брака: у порога своего
дома жених спрашивал невесту, как ее имя; она отвечала: «Ubi tu Gaius, ego Gaia» (раз
ты — Гай, то я — Гая). Возможно, что имя приведено для примера.
40 Авлед — флейтист. Кифаред пел под аккомпанемент кифары. См. Цицерон, «Тус-
куланские беседы», V, § 116.
41 Энний, «Анналы», фрагм. 262 ел. Уормингтон:
Мудрость изгнана прочь, решается дело насильем.
Честный оратор презрен, в почете воитель свирепый.
Не идут из суда, чтобы длань наложить, но булагом
Вещь отнимают свою. . .
См. выше, § 26 и прим. 35.
42 Ср. речь 6, § 123.
43 Маний Курий Дентат одержал победу над Пирром под Беневентом в 275 г., Тит
Квинкций Фламинин—над Филиппом V под Киноскефалами в 197 г., Марк Фульвий
Нобилиор занял Амбракию и покорил Этолию в 187 г., Ауций Эмилий Павел разбил
царя Персея под Пидной в 168 г. Самозванец Андриск, выдававший себя за незаконного
сына Филиппа V и овладевший Македонией, был разбит и взят в плен Квинтом Цеци-
лием Метеллом в 148 г. Ауций Муммий взял Коринф в 146 г.
44 Митридат VI Евпатор.
45 Ауций Корнелий Сципион в 190 г. победил под Магнесией сирийского царя Антио-
ха III; он получил прозвание «Азиатский».
46 Марк Порций Катон Старший (234—149 гг.) был во время войны с Антиохом III
военным трибуном Мания Ацилия Глабриона и отличился под Фермопилами.
47 Речь идет об окончании первой войны с Митридатом (88—84 гг.). Суллу заставила
заключить мир необходимость возвратиться в Италию для борьбы с марианцами.
48 Митридат вел переговоры с Серторием в 75 г. через Луция Магия и Луция Фан-
ния, бывших центурионов Гая Флавия Фимбрии; речь была о совместных действиях
против Рима. См. Плутарх, «Серторий», XXII, 3.
49 В 74 г. консулами были Луций Лициний Лукулл и Марк Аврелий Котта.
50 Флотом командовал Марк Марий, центурион Сертория; предполагалось вызвать
гражданскую войну в Италии. Ср. речь 5, § 21.
51 Имеется в виду битва под Никополем, на реке Лике (66 г.), после которой
Митридат бежал в Боспор Киммерийский. Помпеи дошел до реки Фасиса (ныне Рион).
52 См. прим. 3 к речи 5.
53 Еврип — пролив между островом Евбеей и материком; в нем течение менялось
несколько раз в течение суток.
54 При выборах консулов неудачу потерпели Марк Эмилий Скавр в 116 г., Квинт
Аутаций Кату л в 105 г., Ауций Марций Филипп в 93 г.
55 Ауций Аукулл возвратился из Азии в 66 г., но не получал согласия сената на
триумф, поэтому он находился в«е померия; триумф его состоялся только в 63 г.
56 |Мурена не был эдилом и поэтому не устраивал игр, установленных обычаем; он не
отметил играми и похорон отца. Как городской претор он устроил игры в честь Аполлона.
57 См. прим. 20 к речи 2.
58 Ср. письмо Fam., VII, 1, 1 (CXXVII).
59 Плебисцит (постановление трибутских комиций), проведенный в 67 г. трибуном
Луцием Росцием О таном (lex Roscia theatralis), о предоставлении римским всадникам 14
440
Примечания
передних рядов в театре (позади мест сенаторов). Сулла лишил всадников этого
преимущества. Ср. речь 26, § 44; письма Att., II, 1, 3 (XXVII); Fam., X, 32, 2 (DCCCXCV);
Ювенал, Сатиры, III, 159.
60.Цицерон и Гай Антоний устроили игры как курульные эдилы в 69 г. Они оба были
преторами в 66 г.
61 Со времен Суллы в Риме было восемь преторов: два для рассмотрения гражданских
дел (iuris dictio) — praetor urbanus, praetor peregrinus; шесть председательствовали в
постоянных судах. Сульпиций ведал судом о казнокрадстве. Мурена был городским претором.
62 Сословие квесторских и эдильских писцов; почти все они были
свободнорожденными людьми. Прочие писцы были вольноотпущенниками.
63 Земли, конфискованные Суллой у его противников и розданные его сторонникам
и ветеранам.
64 См. прим. 38 к речи 2.
65 Наместники помогали откупщикам -и римлянам-кредиторам взыскивать долги в
провинциях. См. письма Fam., XIII, 11 (CCCCLI); 14 (CCCCLII); 56 (ССХХХИ).
66 См. прим. 18 к речи 2.
67 Марсово поле, где происходили выборы консулов.
68 Закон об учреждении постоянного суда по делам о вымогательстве (quaestio рег-
petua repetundarum), проведенный Луцием Кальпурнием Писоном Фруги в 149 г.
69 «Наше сословие» — сенаторское. Избранный магистрат, привлеченный к суду за
недозволенные способы домогательства, часто, ссылаясь на болезнь, оттягивал явку в суд
вплоть до начала своих должностных полномочий, когда он становился неподсудным.
70 Сам Цицерон, автор закона о домогательстве.
71 В 67 г. трибун Гай Манилий провел закон, допускавший вольноотпущенников к
голосованию в составе триб их патронов, т. е. всех 35 триб (а не только четырех
городских триб). Закон был вскоре отменен. '
72 Iudices editicii. Обвинитель был вправе предложить из общего списка судей 125
судей из числа римских всадников и эрарных трибунов, обвиняемый—отвести 75 судей
73 Субскриптор—второй обвинитель, подписывавший заявление, подаваемое претору,
после первого обвинителя.
74 Речь идет о 18 центуриях римских всадников, приглашенных Муреной на
празднество. Цицерон обращается к Сервию Сульпицию-сыну.
75 Товарищество (sodalitas) преследовало политические или же культовые цели. Его
члены помогали друг другу. Ср. речь 14, § 7; «О старости», § 45.
76 Ответ на обвинение со стороны Постума и Сульгшция-сына, по-видимому, был
исключен Цицероном при обработке текста речи. Ср. Плиний Младший, Письма, I, 20, 7.
77 Луций Аврелий Котта, консул 144 г;, был обвинен в вымогательстве Сципионом
Эмилианом. Он был виновен, но был оправдан.
78 Сервий Сульпиций Галъба в 150 г. казнил 30 000 луситанцев, сдавшихся ему на
честное слово. В 149 г. он был обвинен Титом Скрибонием Либоном и Катоном Старшим,
которому тогда было более 90 лет. См. Цицерон, «Брут», § 89; Тацит, «Анналы», III, 66.
79 Возможно, цитата из «Мирмидонян» Луция Акция. Речь идет об Ахилле и его
наставнике: Фениксе или кентавре Хироне. См. Гомер, «Илиада», IX, 432 ел.
80 Ср. Цицерон, «О границах добра и зла», IV, § 74.
81 Зенон из Кития (Кипр), основатель стоического учения.
82 См. Цицерон, «Парадоксы стоиков».
83 Позднейшая вставка, относящаяся к событиям 61 г., когда откупщики потребовали
уменьшения платы за откупа в Азии, ссылаясь на разорение провинции. Катон был в этом
вопросе непримирим. Плата была уменьшена только в 59 г., по закону, проведенному
Цезарем. См. речь 21, § 10; письма Att., I, 17, 9 (XXIII); 18, 7 (XXIV); II, 1, 8 (XXVII);
16, 2, 4 (XLIII); Q. fr., I, 1, 33 (XXX); Светоний, «Божественный Юлий», 20.
84 См. Плутарх, «Катон младший», 21.
13. В защиту Л, Лициния Мурены
441
85 Ср. Цицерон, «Об обязанностях», I, § 89.
86 В доме у Сципиона Эмилиана жил стоик Панэтий; у Катона Младшего—стоик
Афинодор; у Цицерона — стоик Диодот. См. Att, II, 20, 6 (XLVII); «Брут», § 309.
87 Перечисляются члены кружка Сципиона Эмилиана: Гай Лелий, консул 140 г.,
Луций Фурий Фил, консул 136 г., Гай Сульпиций Галл, консул %6 т. Ср. «О
государстве», III, § 5; «Об ораторе», II, § 154.
88 При возвращении наместника из провинции ему устраивали торжественную встречу.
89 Юношу, надевшего тогу взрослого, т. е. достигшего совершеннолетия, в первый раз
сопровождали на форум друзья его отца; так называемая deductio.
90 Об этом Фабиевом законе сведений нет. Луций Цезаръ был консулом в 64 г. Это
постановление сената могло быть направлено против действий Каталины во время
подготовки выборов. Ср. Квинт Цицерон, Comment, petit., § 34 ел. (XII).
91 При подсчете голоса отмечались точками.
92 В то время бои гладиаторов происходили на форуме. Первый известный нам
амфитеатр для боев гладиаторов был построен в Помпеях в 80 г. Первый постоянный
каменный амфитеатр был построен Статилием Тавром в 29 г.
93 Praefectus fabrum — начальник рабочих и мастеров в войсках.
94 Луций Пинарий Натта, пасынок обвиняемого. Ср. речь 17, § 118, 134, 139 ел.
95 Право занимать почетные места во время общественных игр и боев гладиаторов
было одним из преимуществ жриц Весты.
96 Краткость-речи лакедемонян (спартанцев) вошла в поговорку («лаконическая речь»).
97 См. прим. 36 к речи 5.
98 Квинт Элий Туберон, внук Луция Эмилия Павла, ученик Панэтия, соблюдавший
правила стоической философии также и в обыденной жизни; участник диалога Цицерона
«О государстве»; см. «Бру*г» § 117. Квинт Фабий Максим Аллоброгский, внук Луция
Эмилия Павла, был консулом в 121 г. Публий Африканский — Сципион Эмилиан.
99 О триклинии см. прим. 45 к речи 3. В торжественных случаях на ложа стелили
роскошные ткани и ковры и подавали еду на золотой, серебряной или бронзовой посуде,
а не на глиняной («самосской»). «Пунийские ложа» — жесткие.
100 Философ-киник Диоген, родом из Синопы (404—323 гг.), учил, что человек
должен довольствоваться малым.
101 Одним из дозволенных способов домогательства была prensatio: кандидат подходил
к гражданину в общественном месте, брал его за руку и заговаривал с ним; раб-номенкла-
тор, знавший граждан в лицо, называл кандидату имена граждан, встречавшихся ему
102 Текст испорчен; перевод по конъектуре Кларка.
103 Ср. Цицерон, «Об ораторе», II, § 105.
104 Народный трибун 62 г. Квинт Цецилий Метелл Непот. См. письмо Fam., V, 2,
6 слл. (XIV); Плутарх, «Катон Младший», 20.
105 Имеются в виду события 66—65 гг. См. вводное примечание к речи 14.
106 В 211 г. во время Второй пунической войны Ганнибал, желая облегчить положение
Капуи, осажденной римлянами, совершил поход на Рим и стал лагерем на реке Аннио,
§ 4; 25, § 11; 27, § 9.
107 Перед битвой под Писторией (январь 62 г.), окончившейся истреблением войска
Катилины и гибелью его самого, Гай Антоний сказался больным и передал командование
легату Марку Петрею.
108 Ланувий, где находился храм Юноны Спасительницы. См. ниже, § 90; речь 22,
§ 27, 45 ел.; Проперций, Элегии, V, 8, 16.
109 Ср. Цицерон, «Об ораторе», III, § 214, 217.
110 О родовых изображениях см. прим. 39 к речи 4. Изображение отца обвиняемого
было украшено лавром, так как он справил триумф и был vir triumphalis.
111 В виде изгнания, в соответствии с Туллиевым законом. См. выше, § 46.
JJJJJJ
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Марк Туллий Цицерон. Мрамор, Рим, Капитолийский музей .... 4
Квинт Гортенсий Гортал. Мрамор. Рим, вилла Алъбани 48
Гай Юлий Цезарь. Базальт. Берлин 272
Начало второй речи против Катилины. Рукопись XI в. Codex Мопа-
censis 304
Марк Порций Катон (Утический). Мрамор. Рим, Капитолийский
музей 352
Суперобложка: Марк Туллий Цицерон. Мрамор. Флоренция,
галерея Уффици
СОДЕРЖАНИЕ
1. Речь в защиту Секста Росция из Америи 5
2. Речь против Гая Верреса (Первая сессия) . . . . , 44
3. Речь против Гая Верреса. «О предметах искусства» .... 59
4. Речь против Гая Верреса. «О казнях» 110
5. Речь о предоставлении империя Гнею Помпею 167
6. Речь в защиту Авла Клуенция Габита 187
7. Вторая речь о земельном законе народного трибуна Публия Сервилия Рулла 249
8. Речь в защиту Гая Рабирия 281
9. Первая речь против Луция Сергия Катилины 292
10. Вторая речь против Луция Сергия Катилины 302
1'1. Третья речь против Луция Сергия Катилины •..,... 312
12. Четвертая речь против Луция Сергия Катилины 322
\Ъ. Речь в защиту Луция Лициния Мурены . . . . . ........ 331
ПРИЛОЖЕНИЯ
Марк Туллий Цицерон. М. Грабаръ-Пассек , 365
От переводчика. В. Горенштейн . ., 386
Примечания . , , . * 388
Список иллюстраций 442
Марк Туллий Цицерон
Речи, том I
(81—63 гг. до н. э.)
Утверждено к печати
редколлегией серии «Литературные памятники»
Академии наук СССР
*
Редактор издательства В. М. Смирин
Художник Н. А. Седельников
Технический редактор С. П. Голубь
Корректор Л. С. Агапова
*
РИСО АН СССР № 5-133В. Сдано в набор 5/1V 1962 г.
Подписано к печати 14/VI 1962 г.
^Формат 70 X 90Vi6. Печ. л. 27,75 + 5 вкл.= 31,5 усл. печ. л.
31,6 уч.-издат. л. (0,2 уч.-изд. л. вкл.) Тираж 10 000 экз.
Изд. № 505 Тип. зак. № 528
Цена двух томов 4 р.
Издательство Академии Наук СССР-
Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография Издательства АН СССР.
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10
ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ
Страница
79
102
234
258
273
299
306
435
Строка
13 СВ.
14 сн.
5 сн.
13 сн.
9 св.
19 сн.
1 сн.
14 сн.
Напечатано
уже к хищениям,
Мерреса,
принимал, он
почему
окупили
себе
чтобы на это
38 трибам,
Должно быть
уже не к хищениям,
Верреса,
принимал,
ничему
■скупили
тебе
чтобы нам на это
35 трибам,
Цицерон, том
I