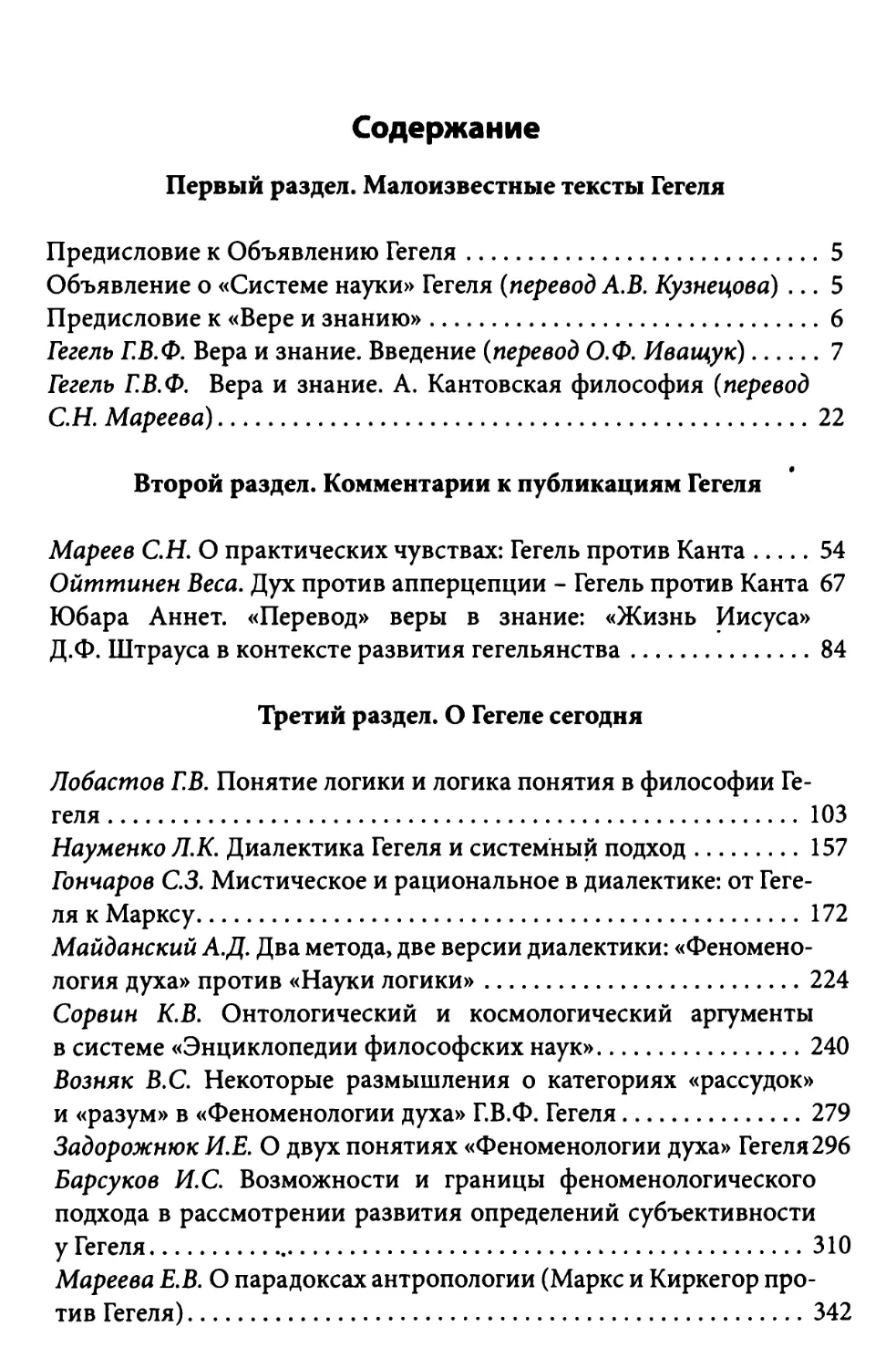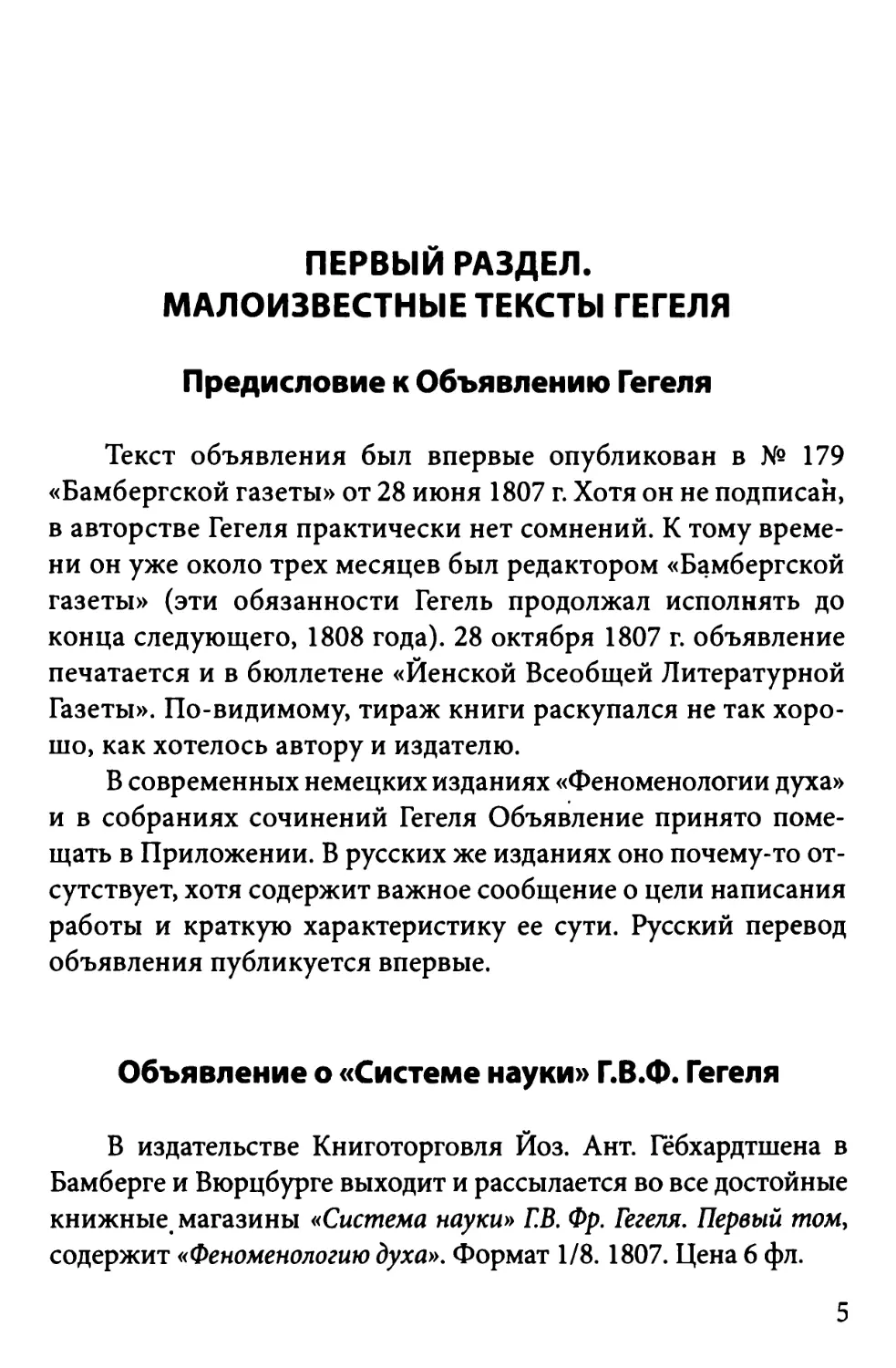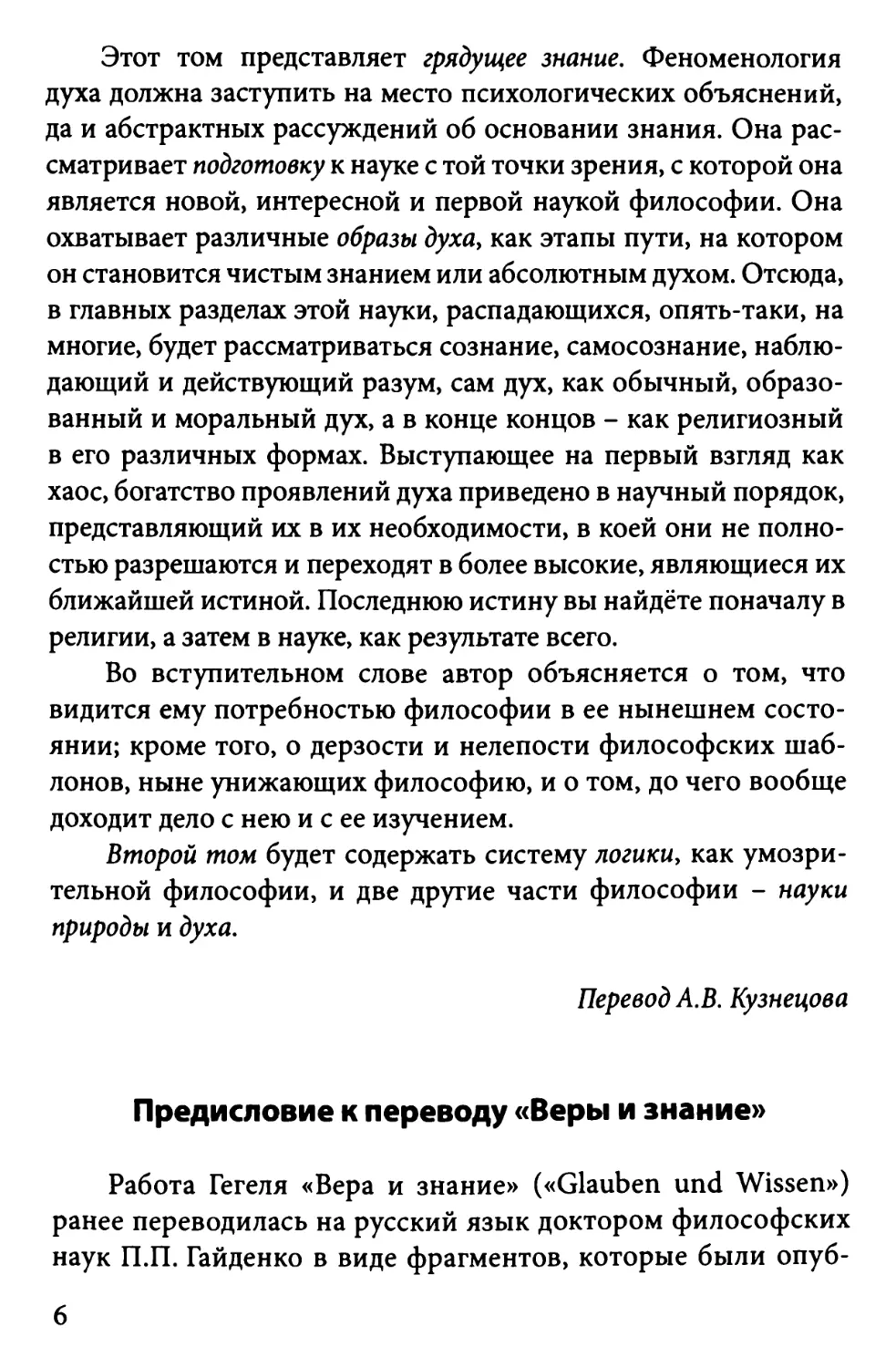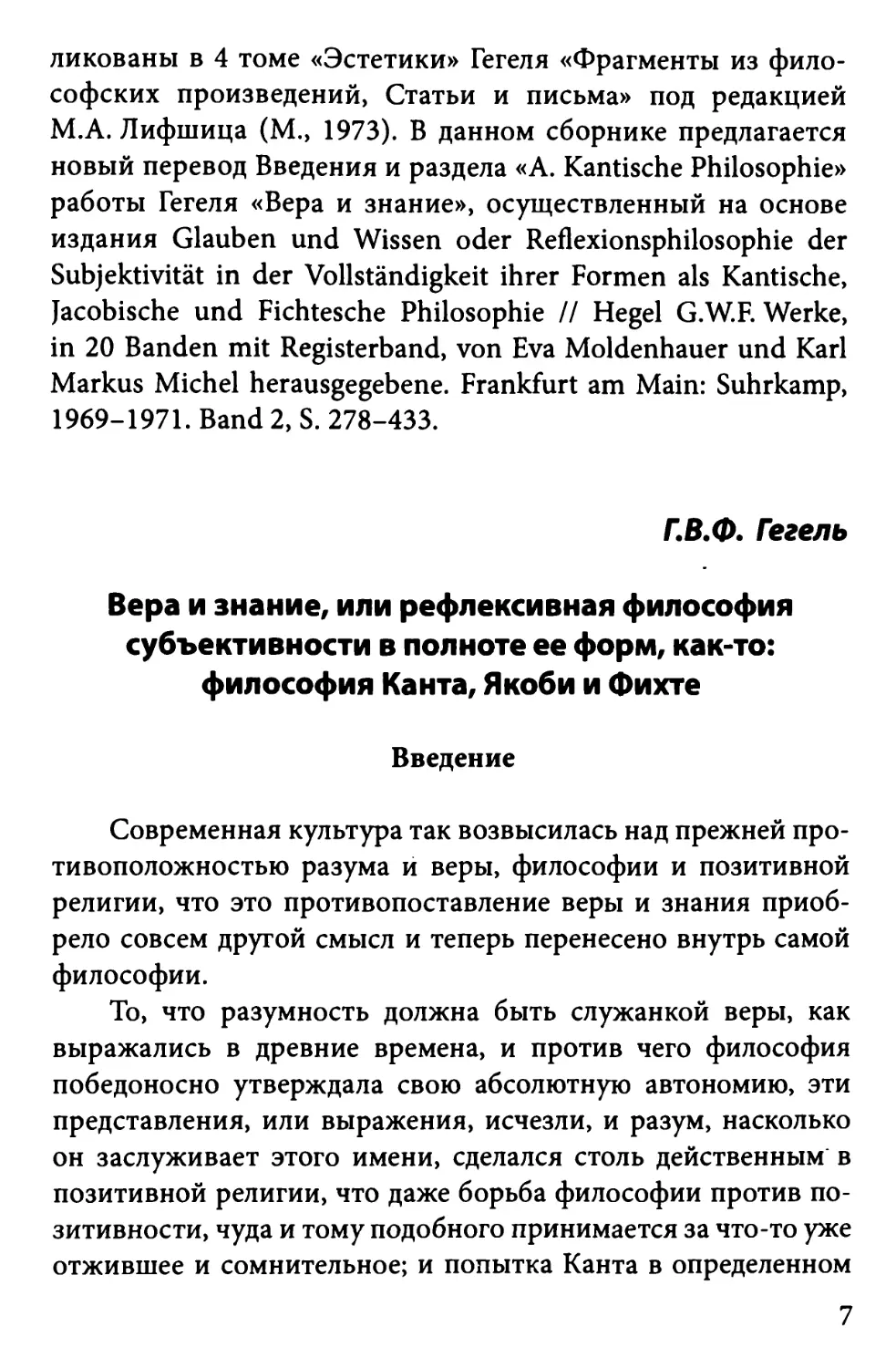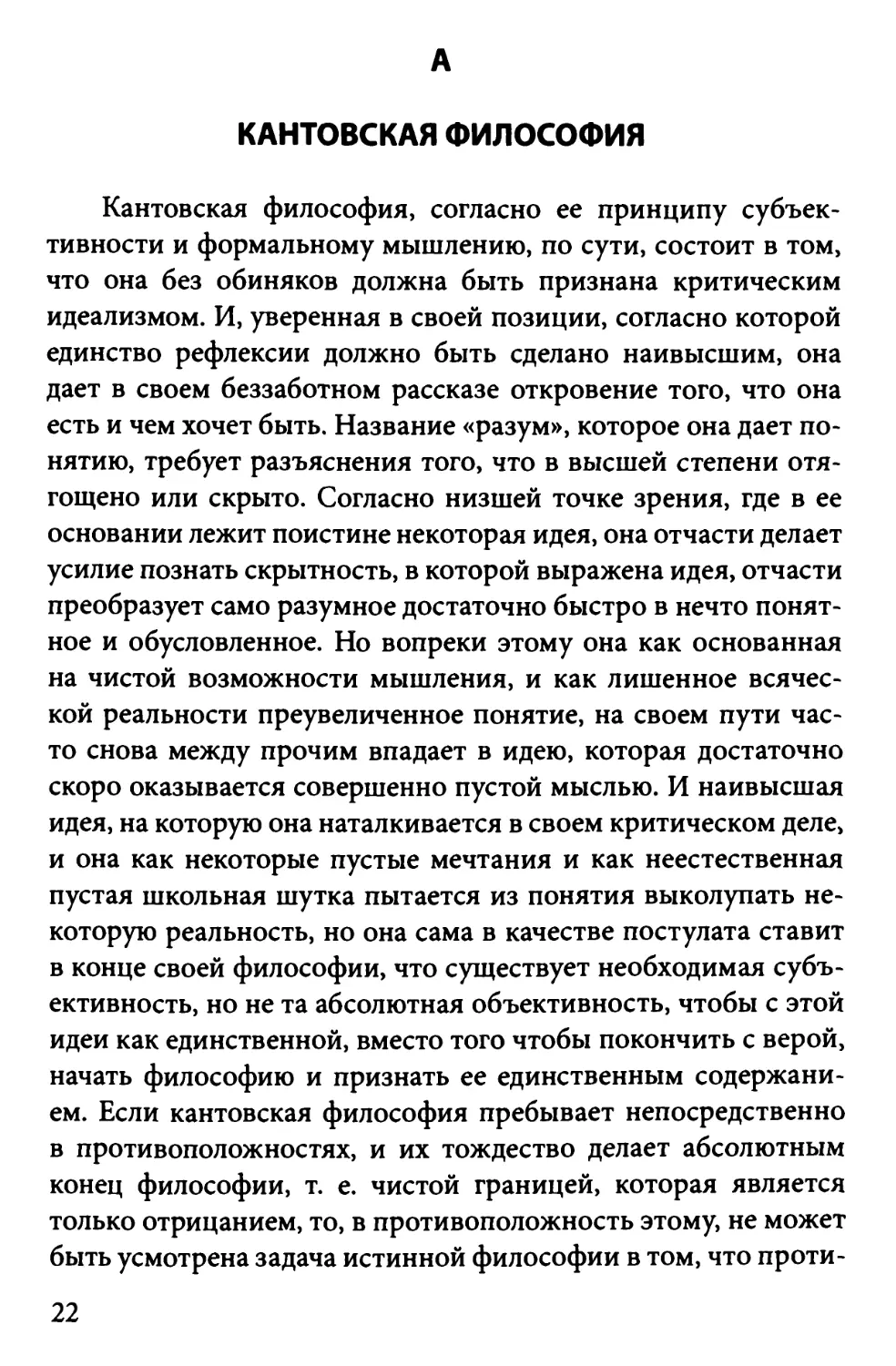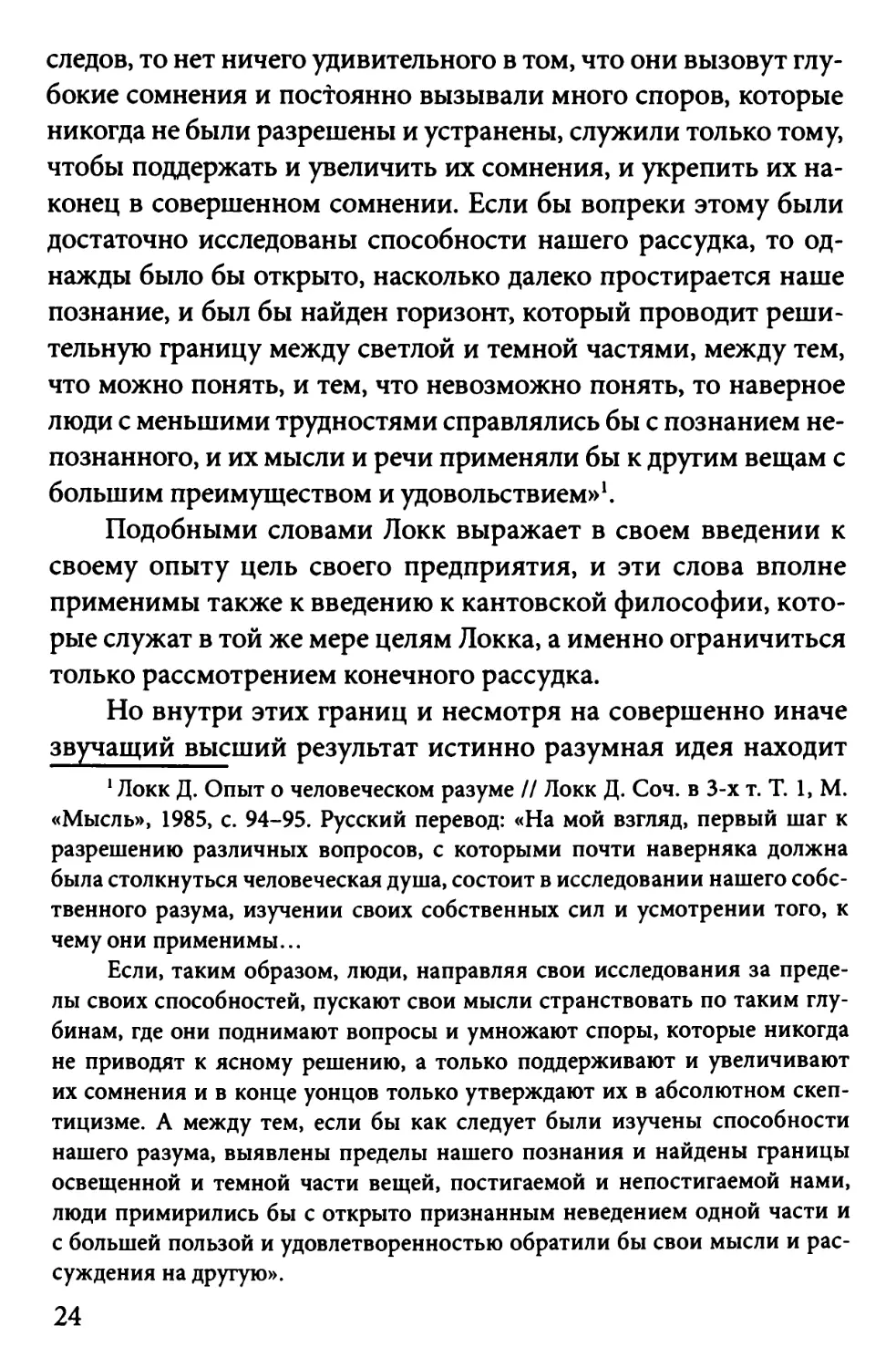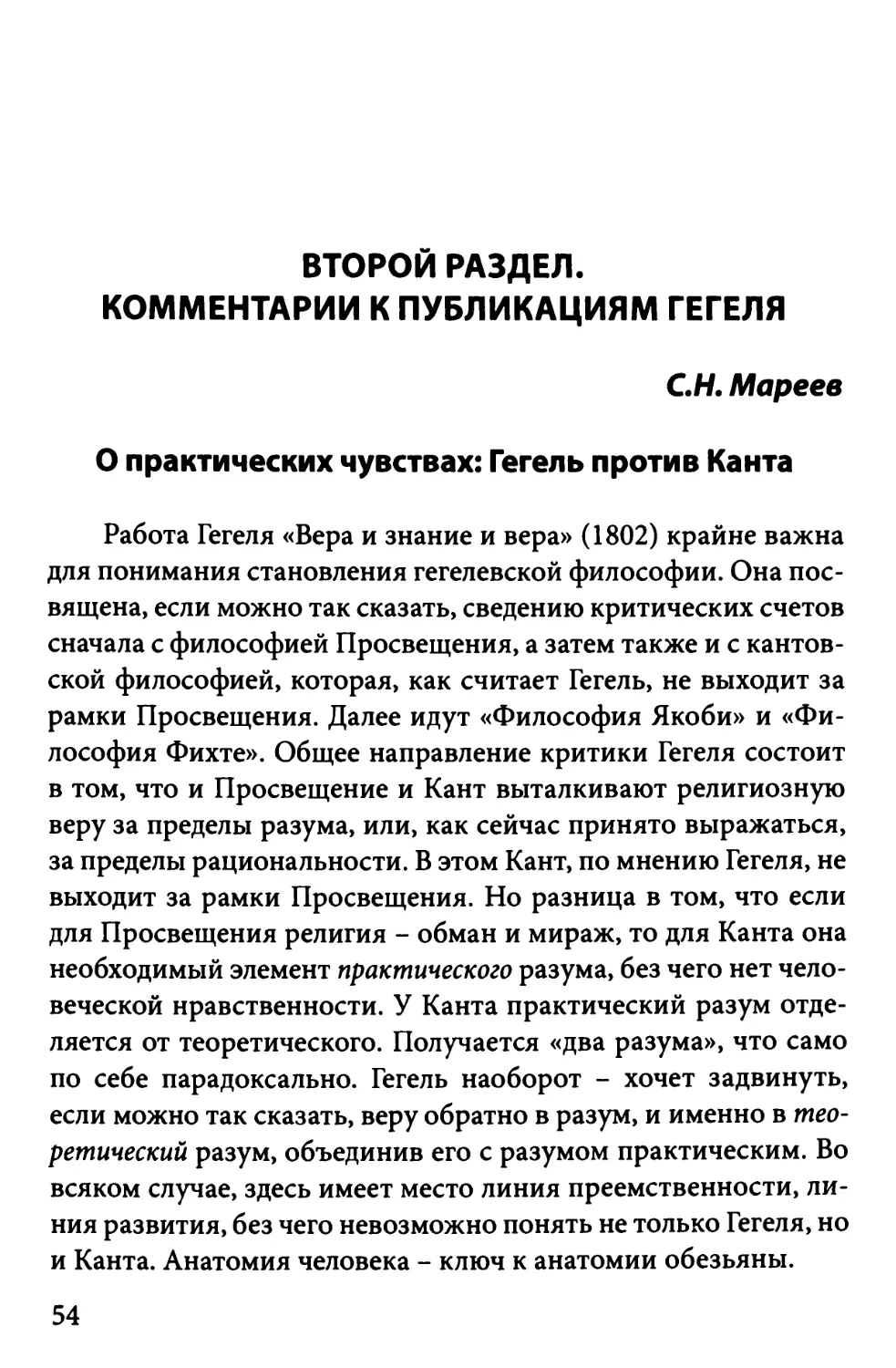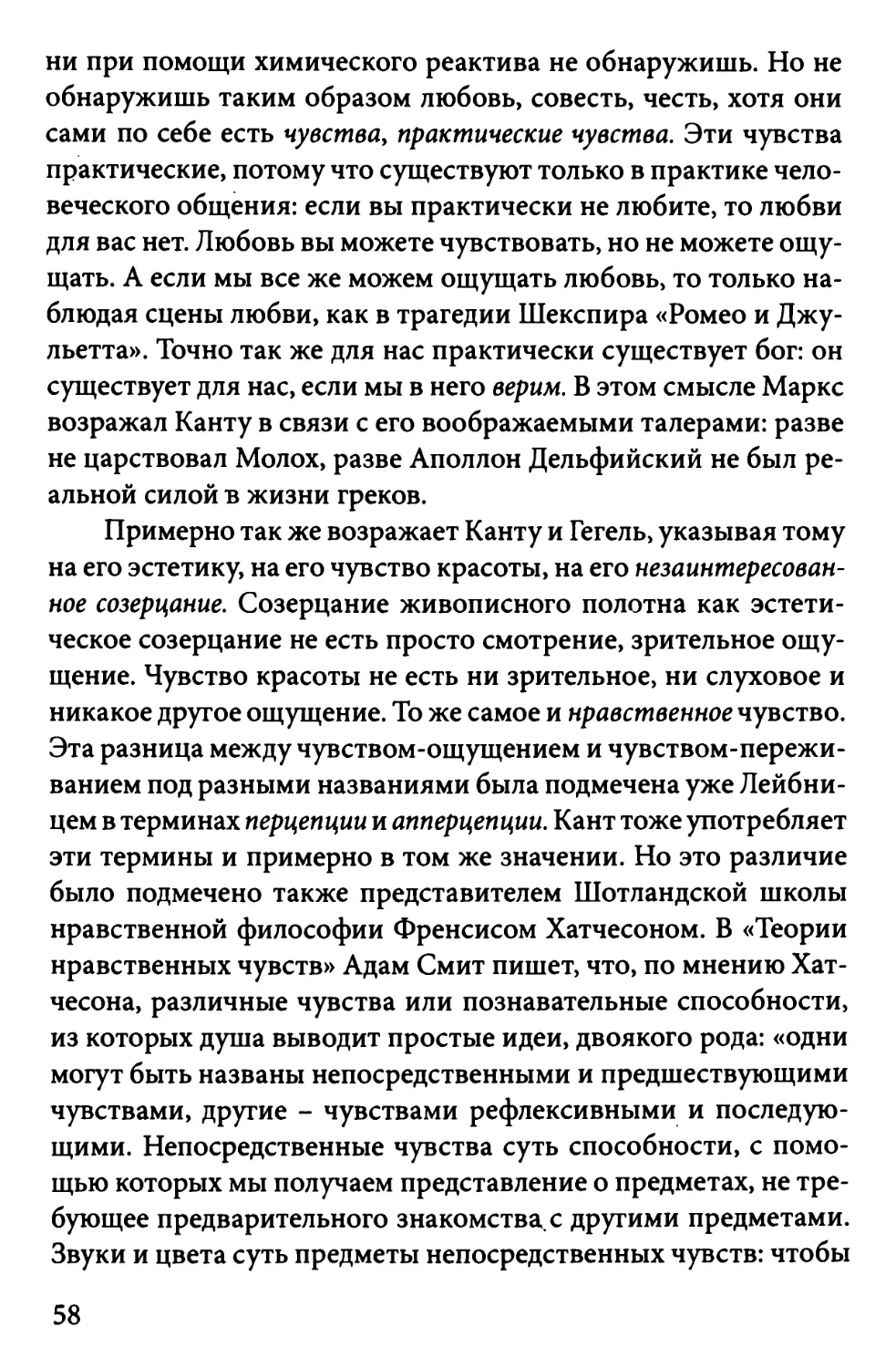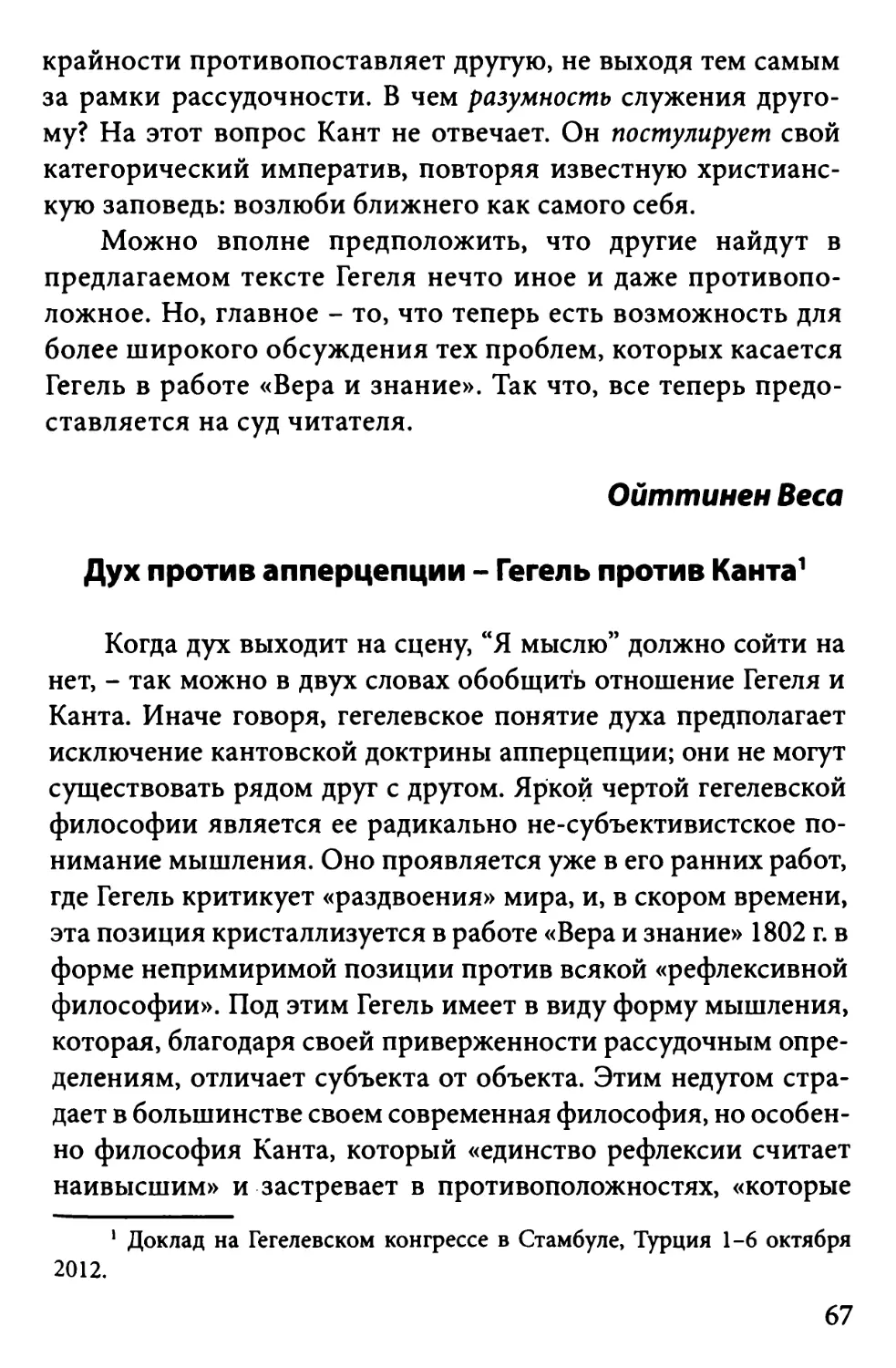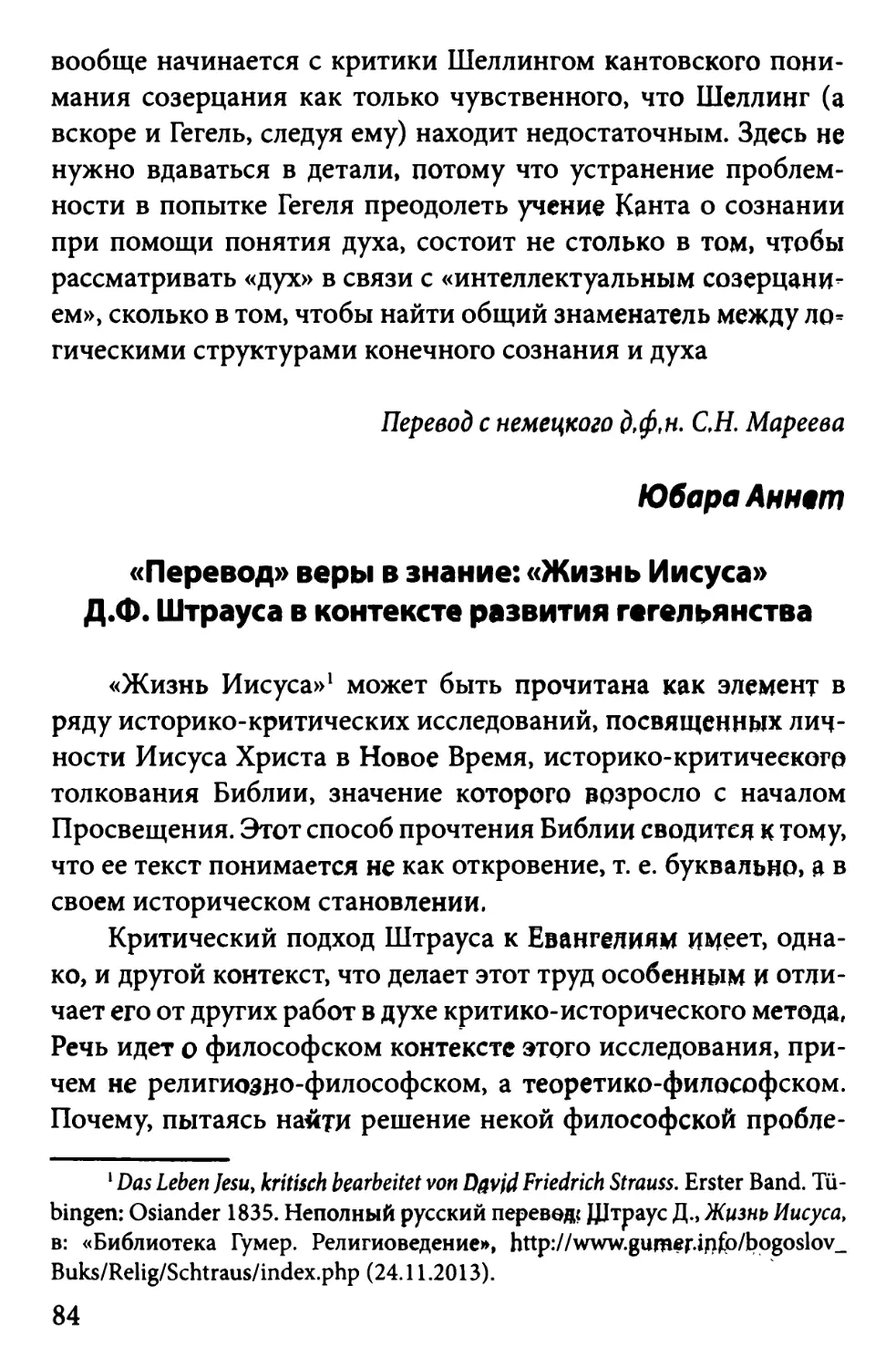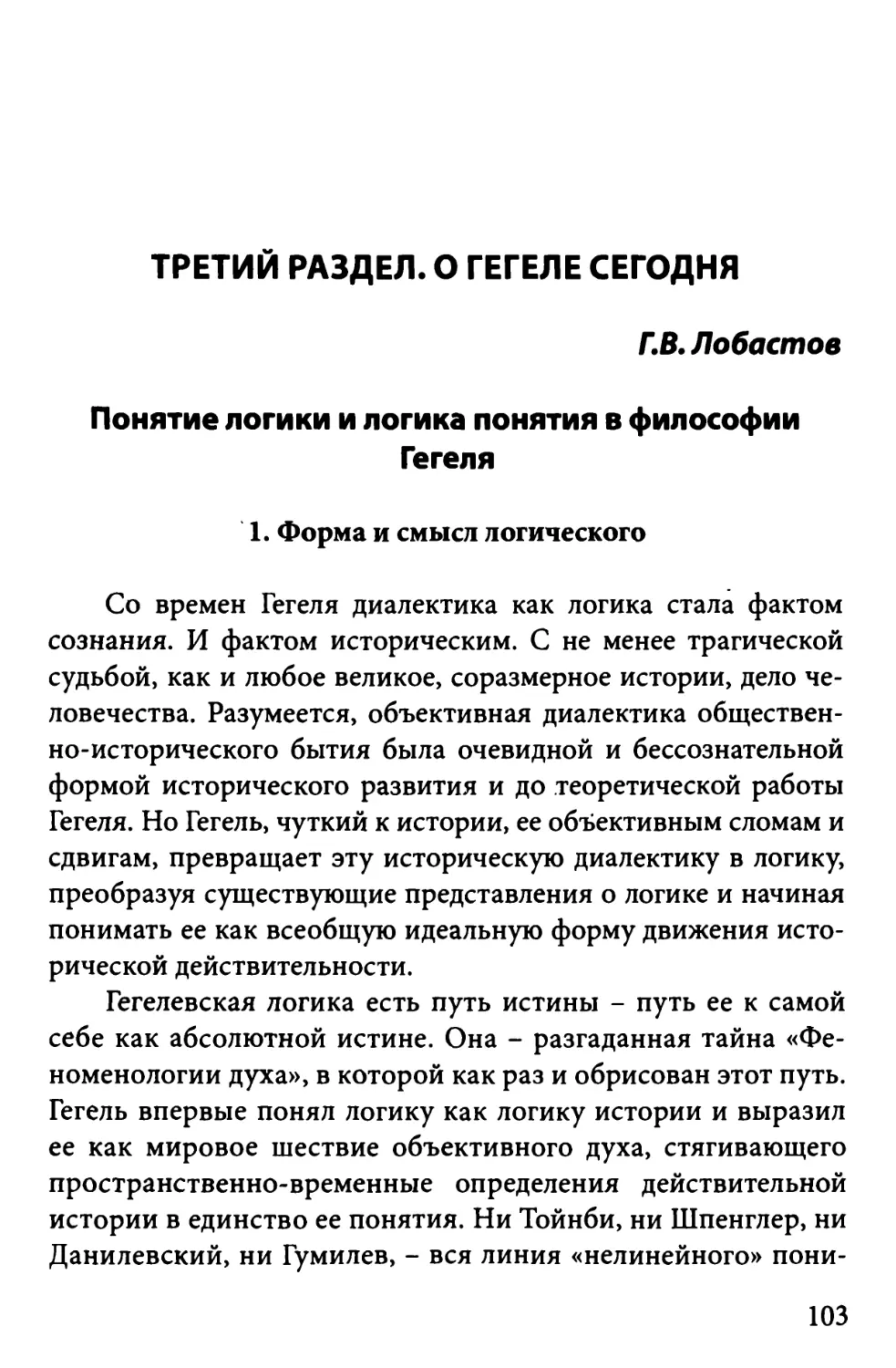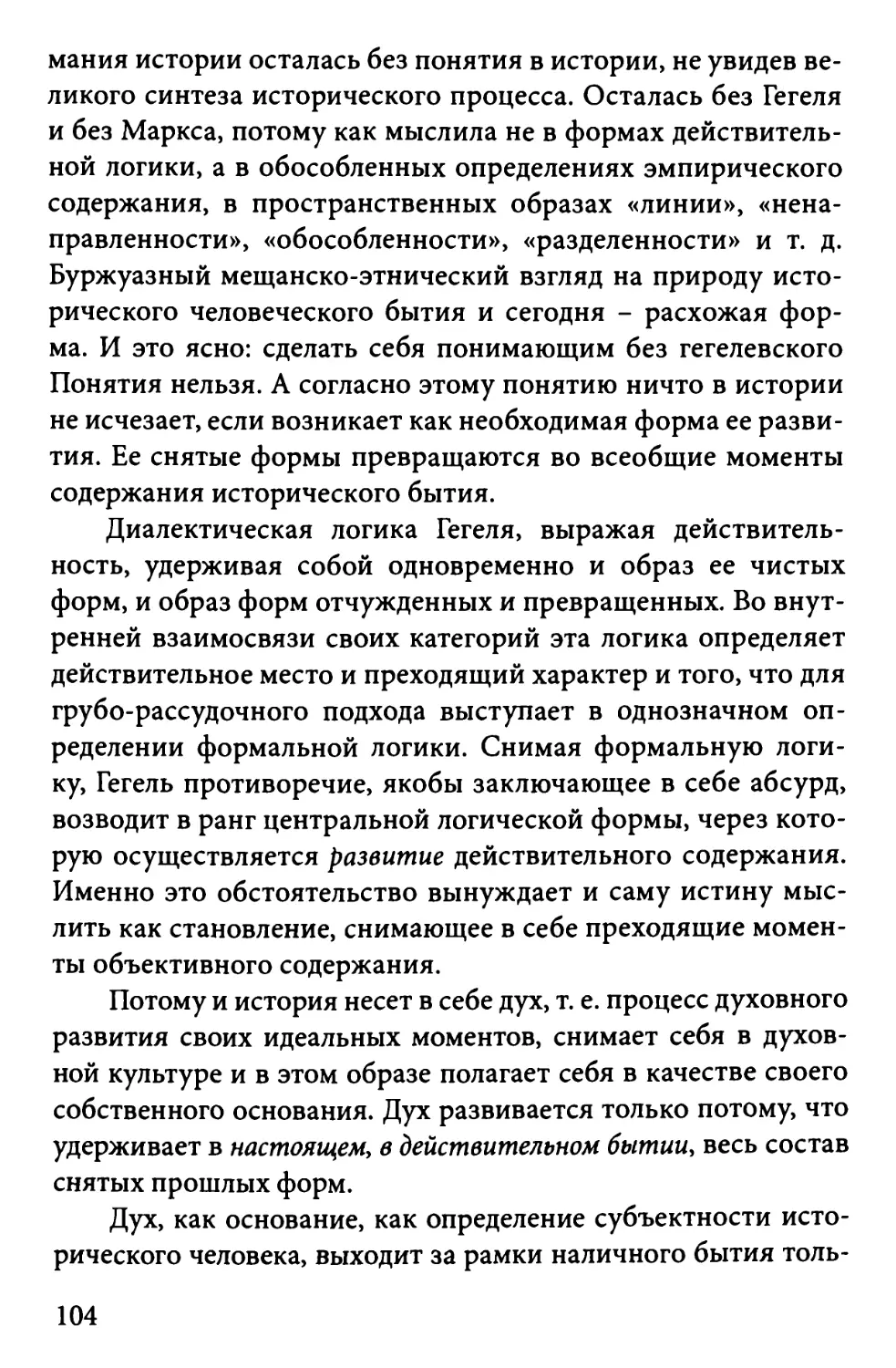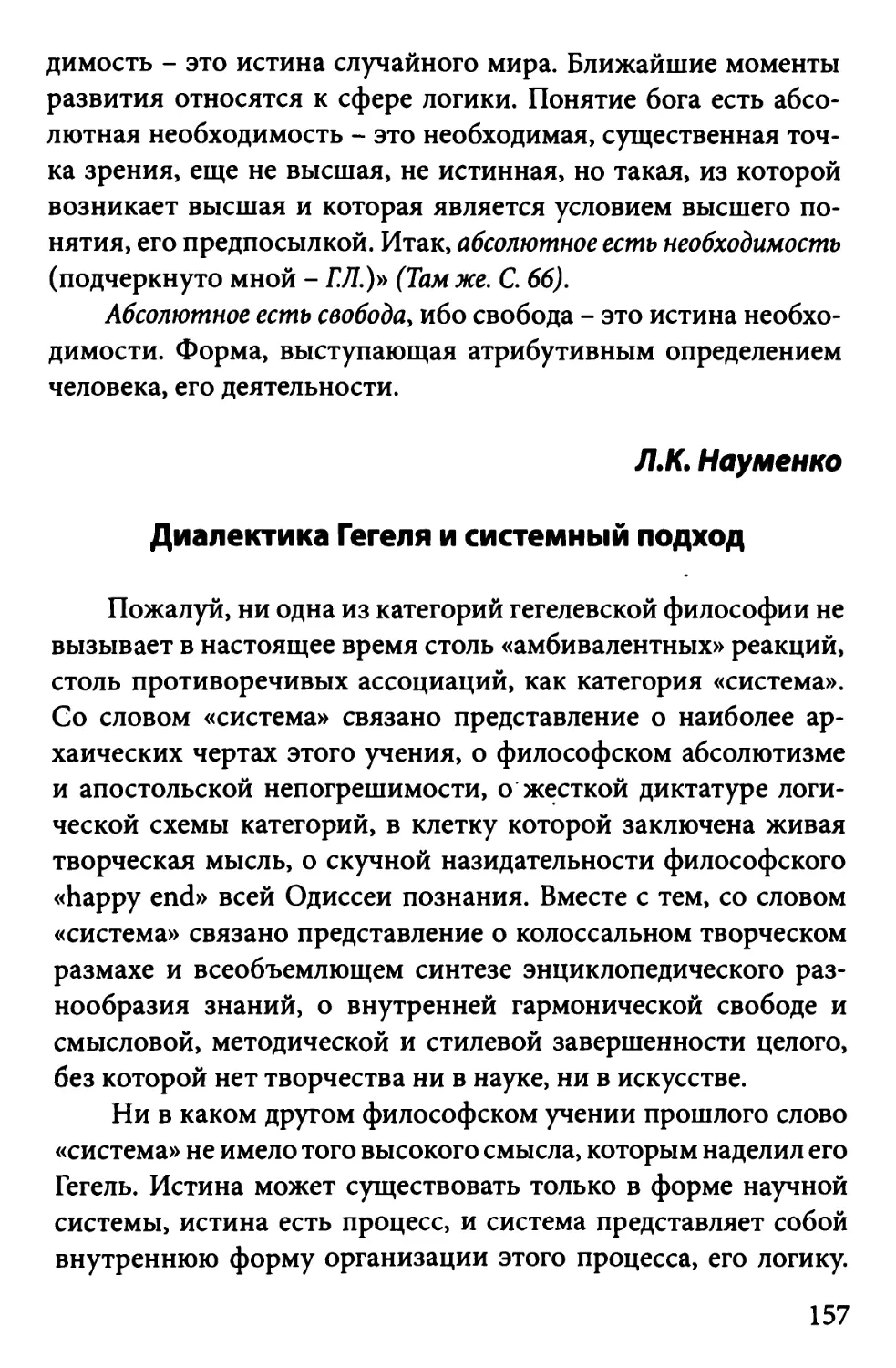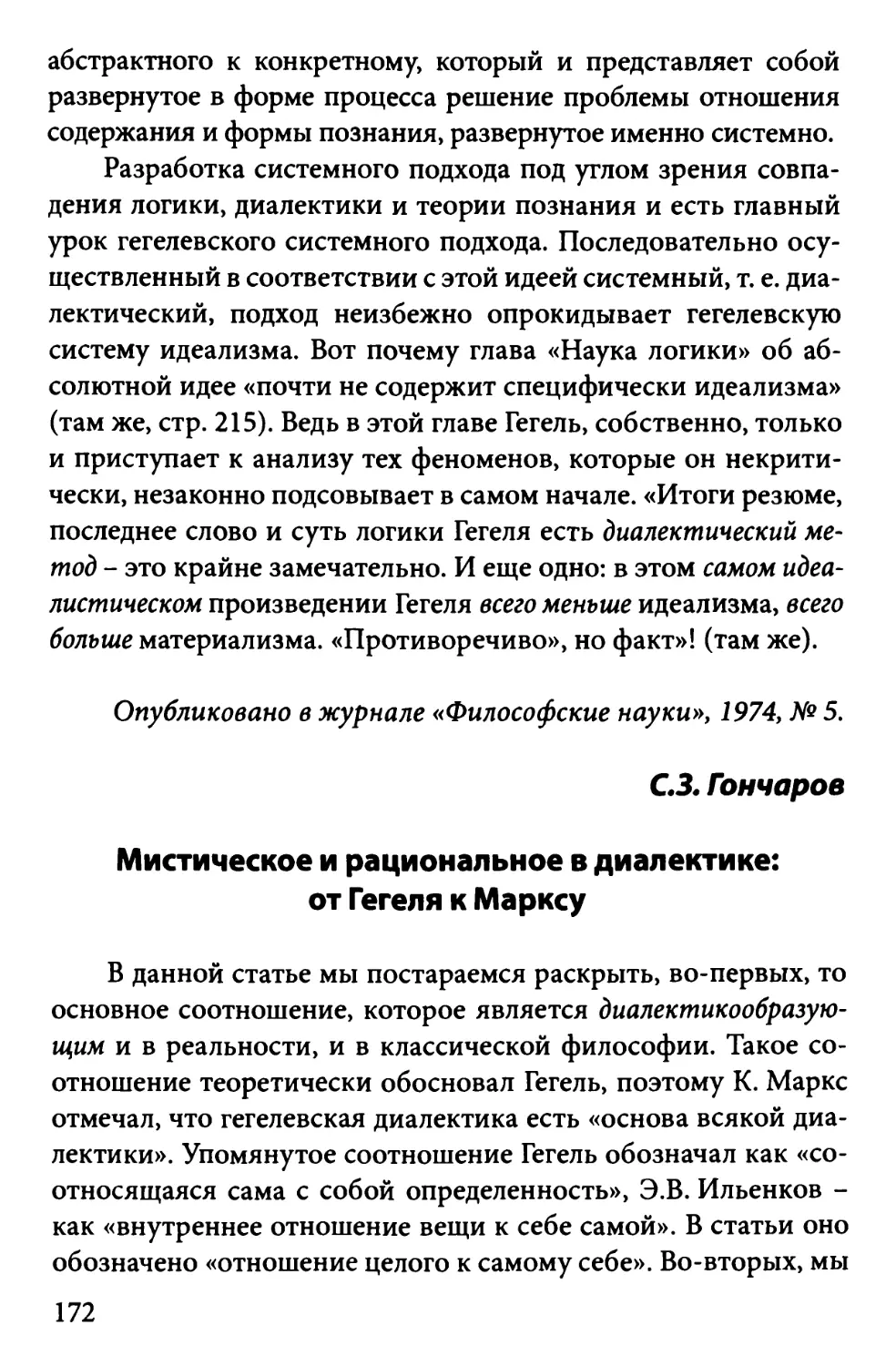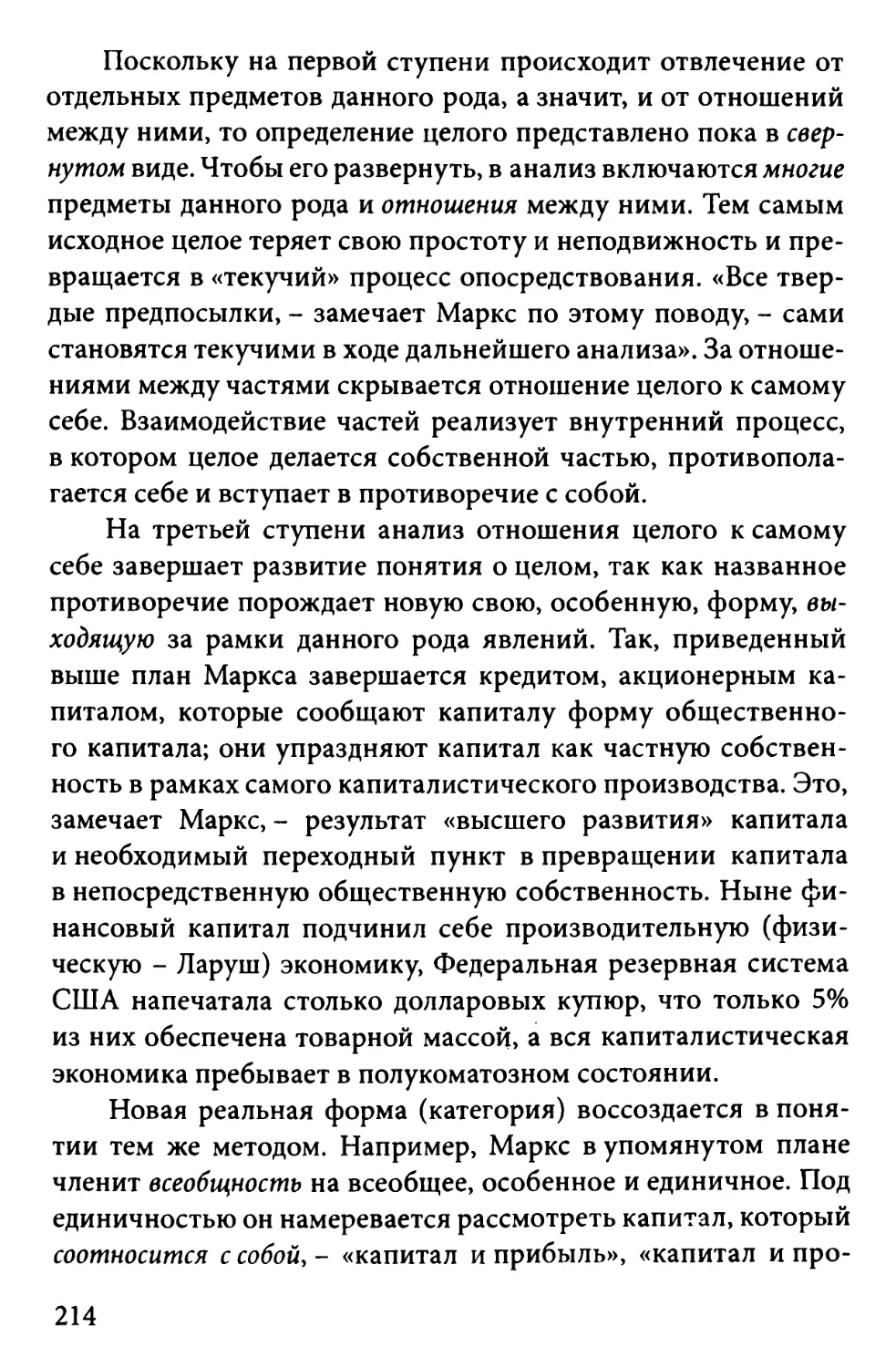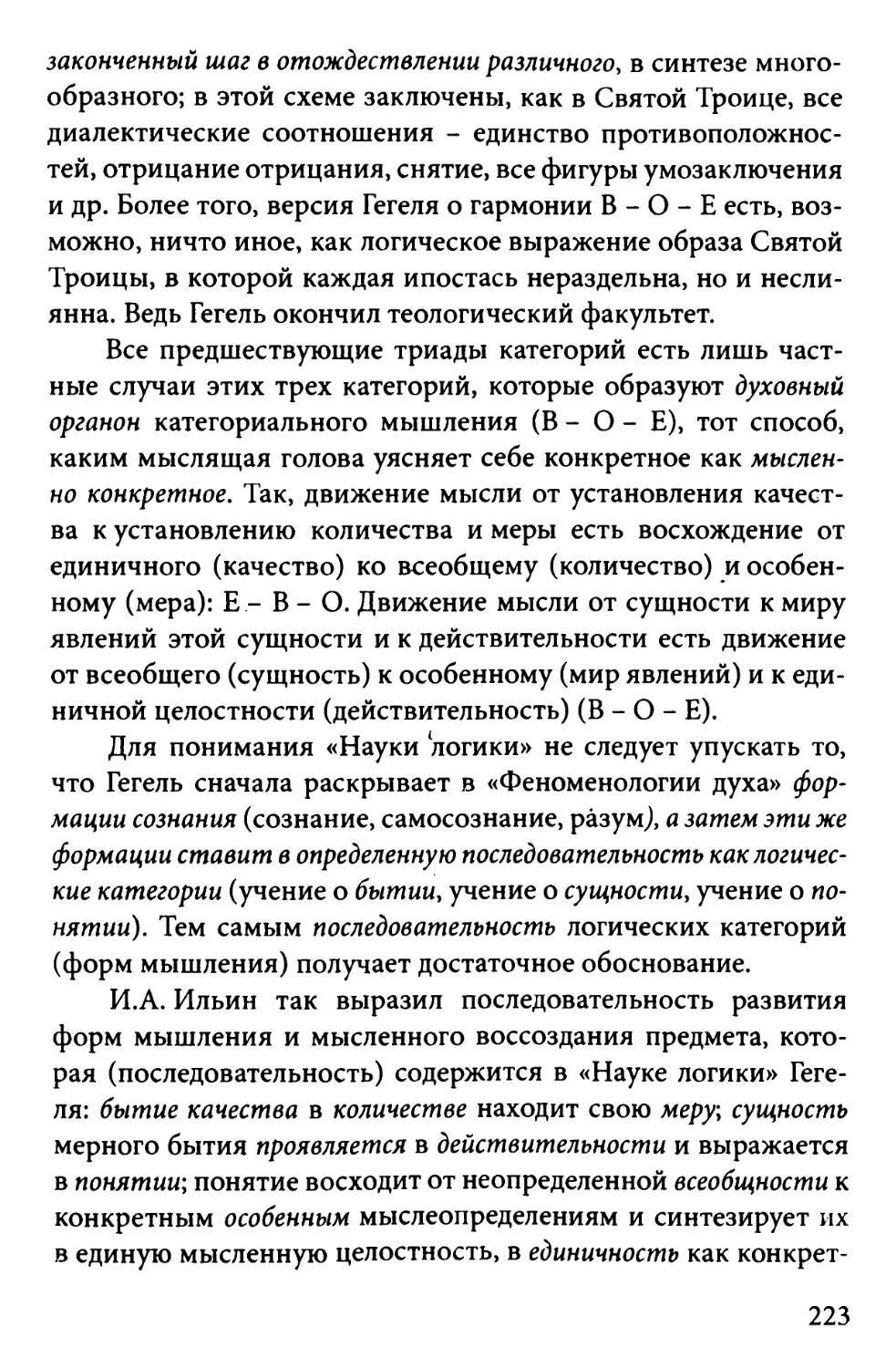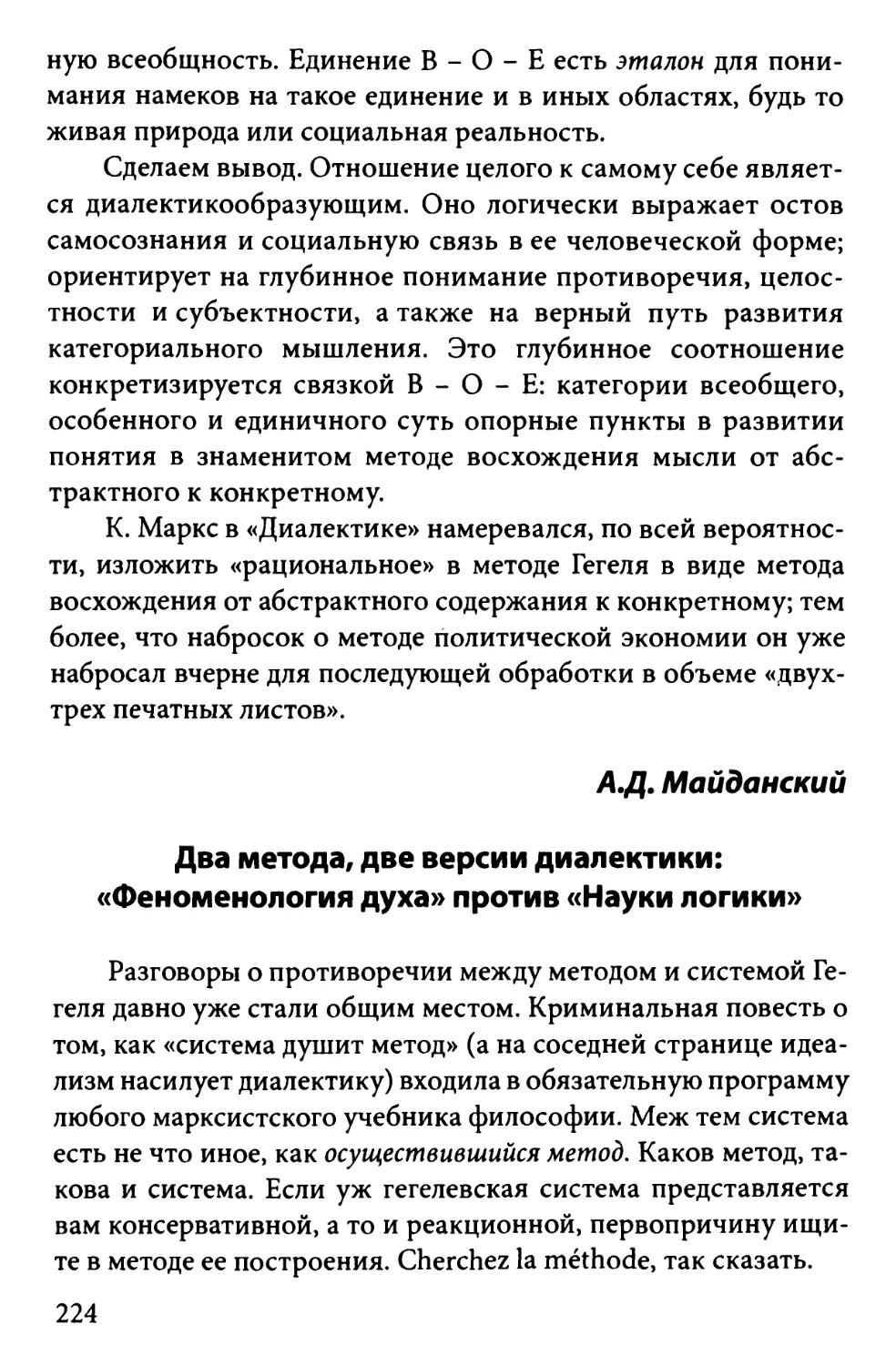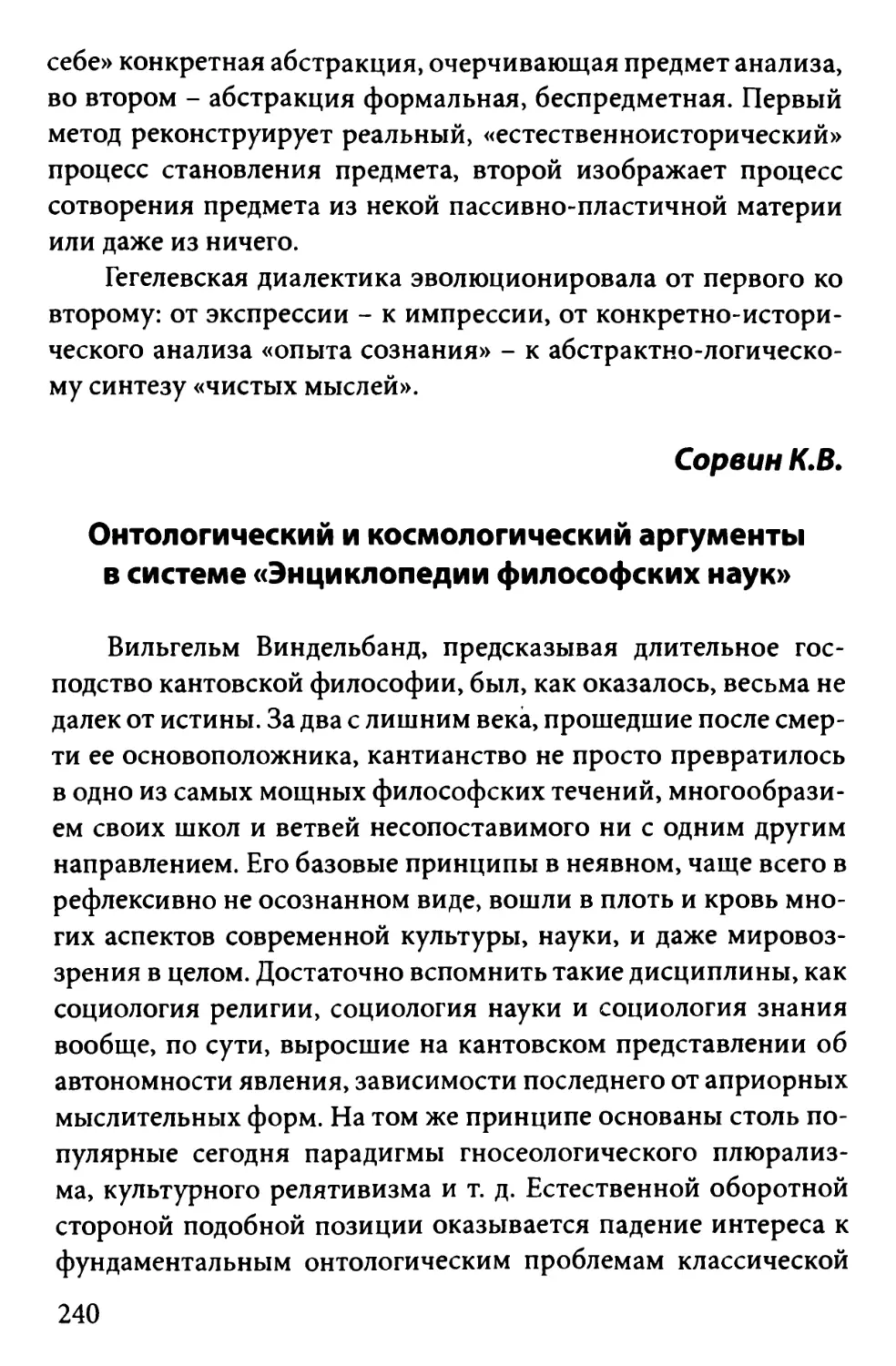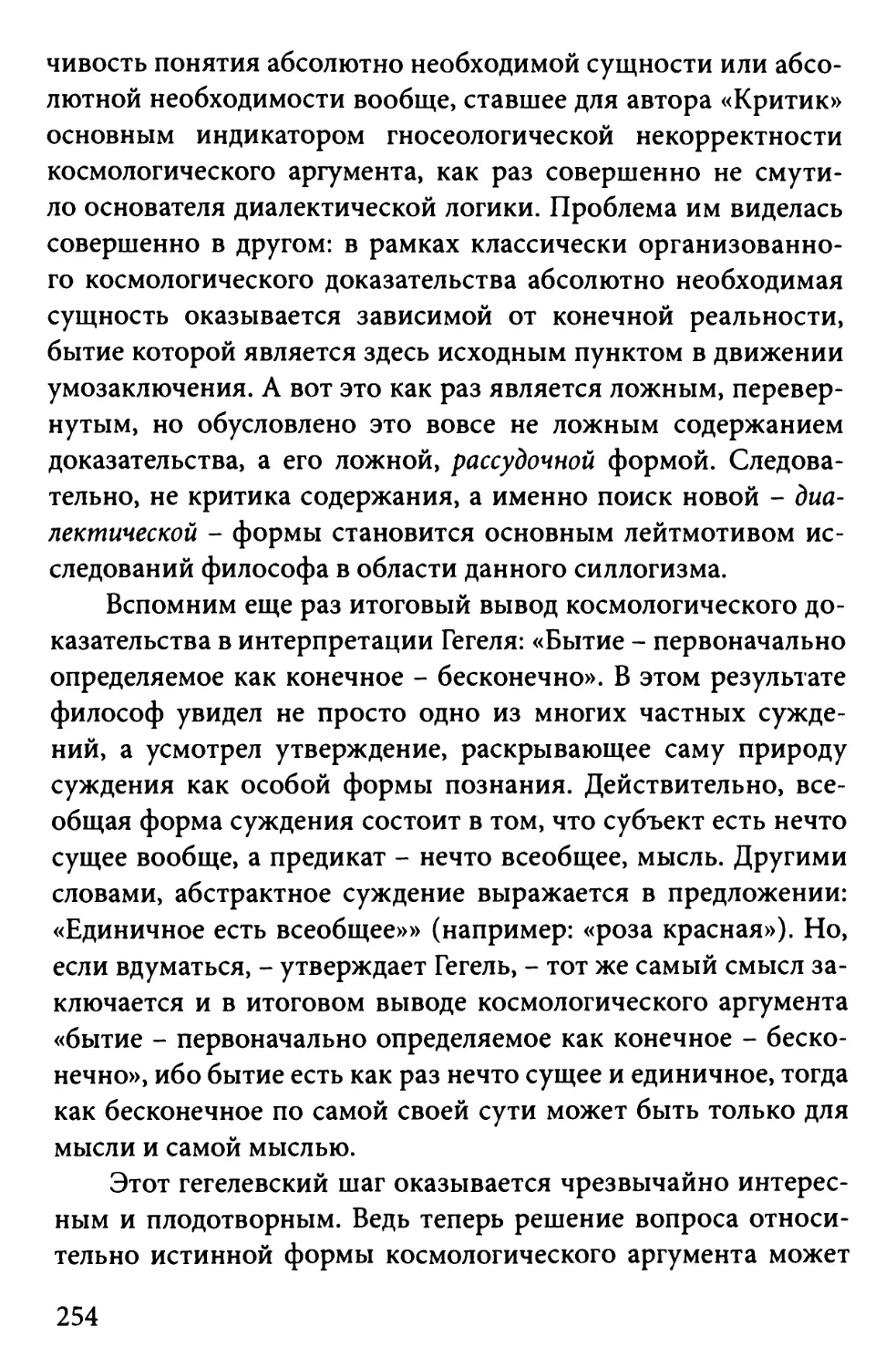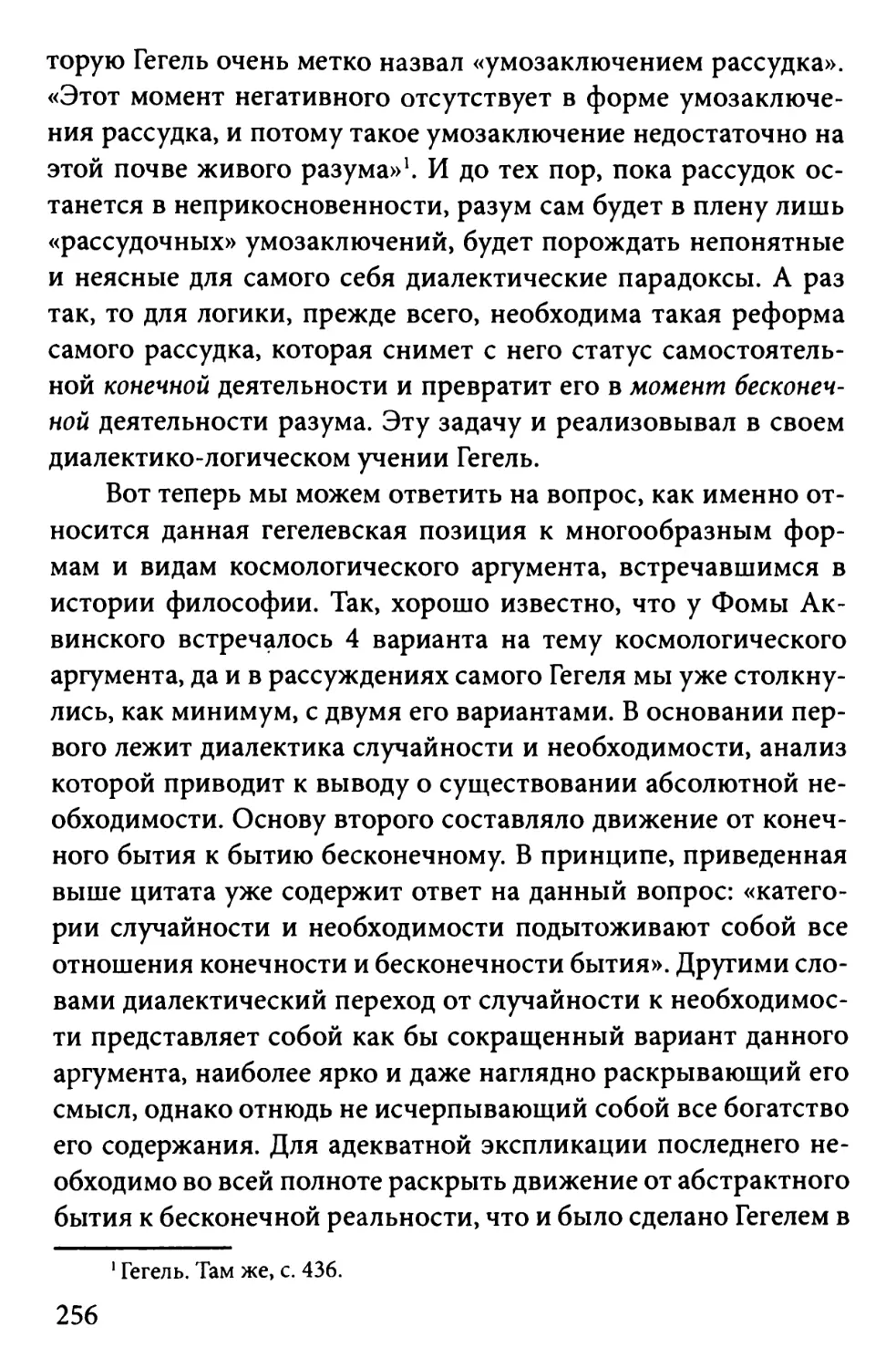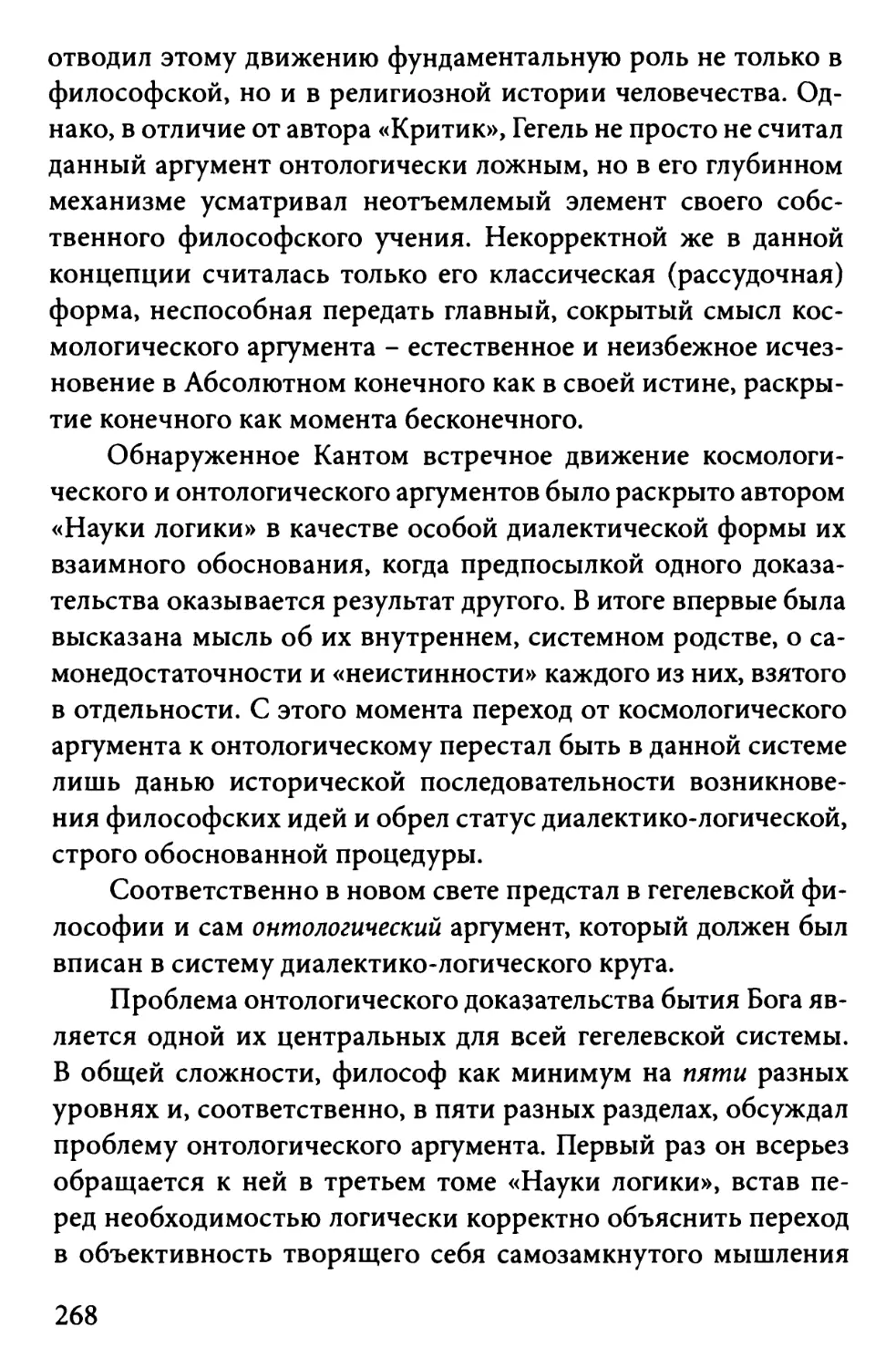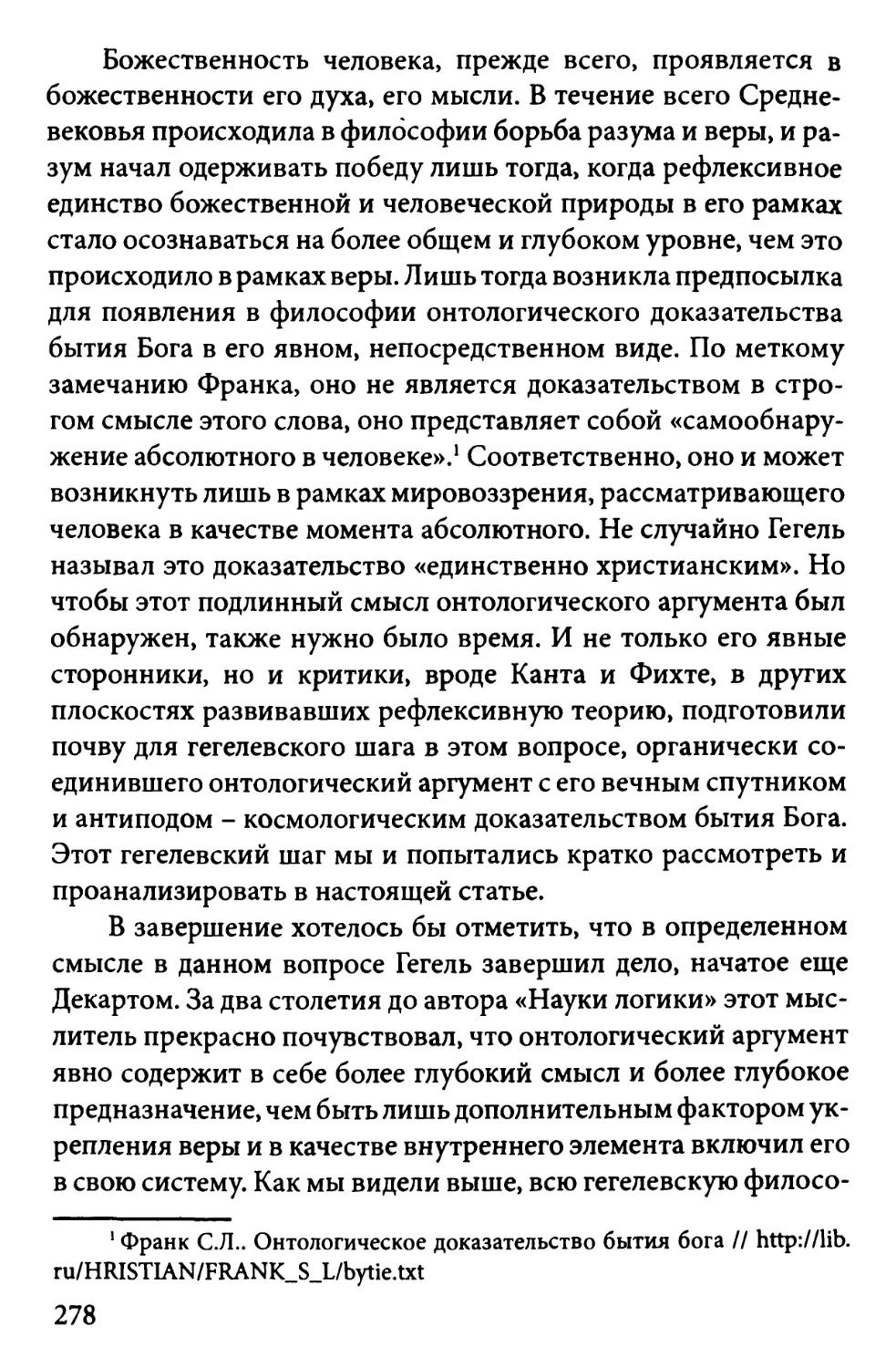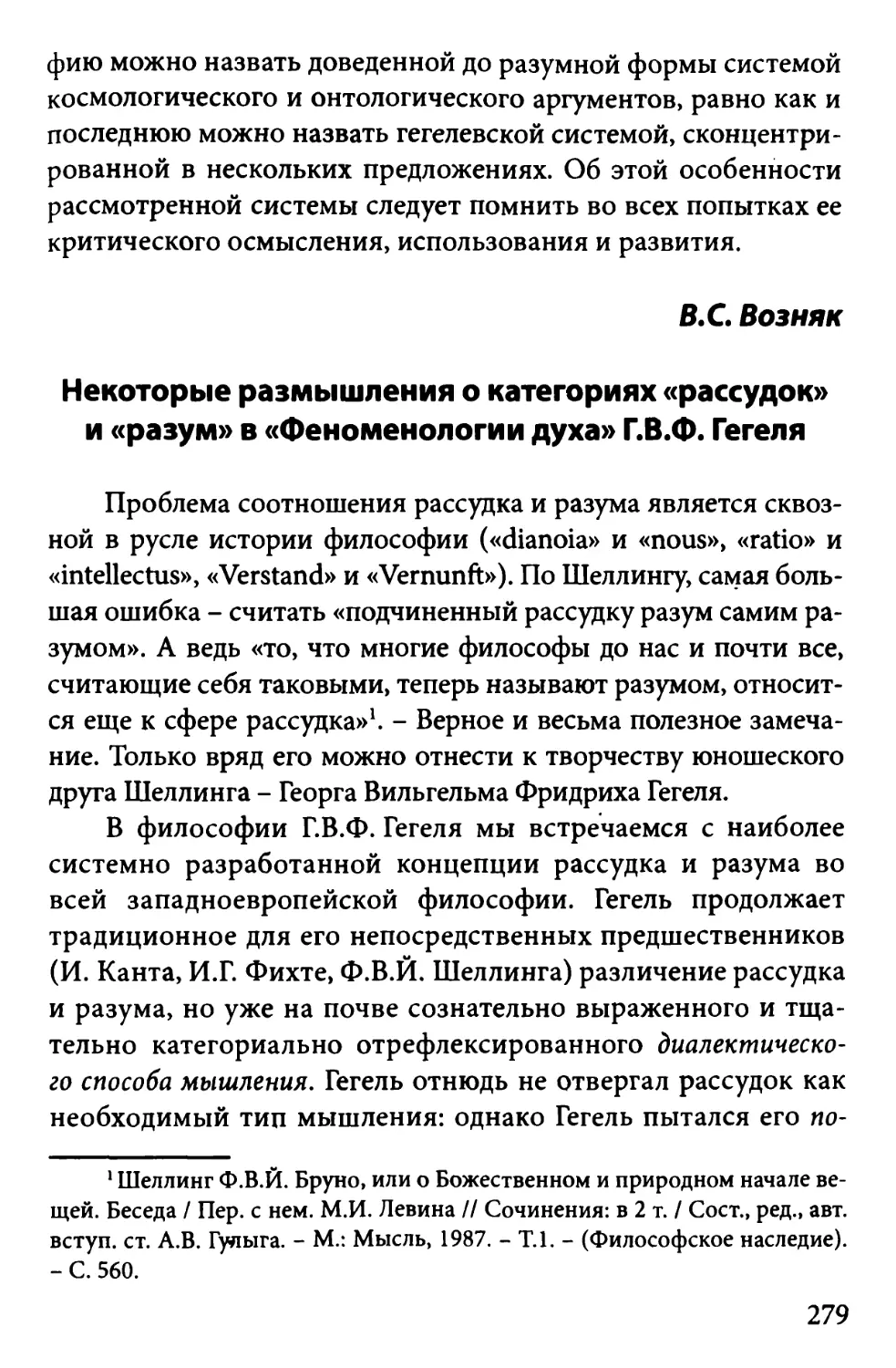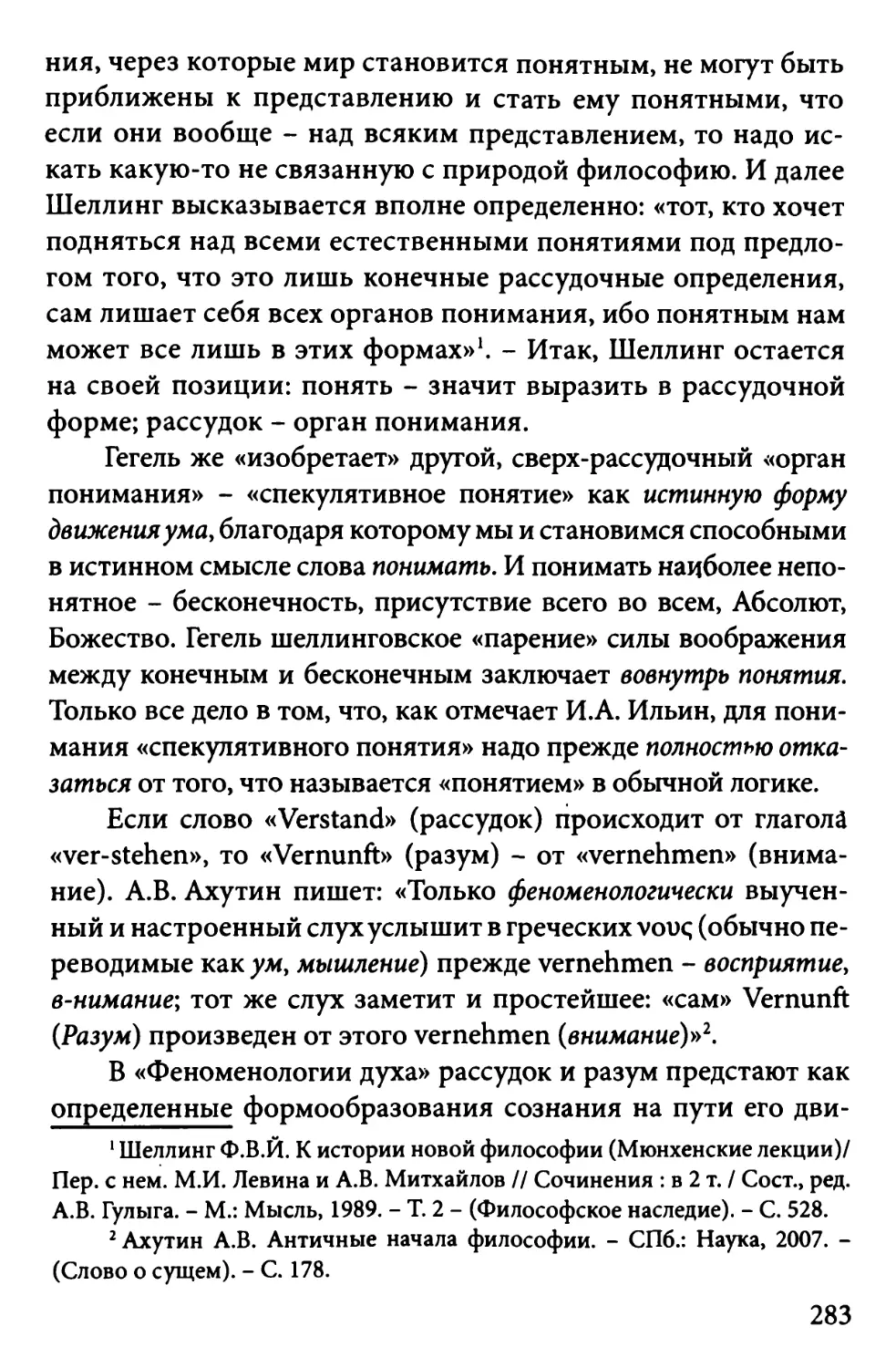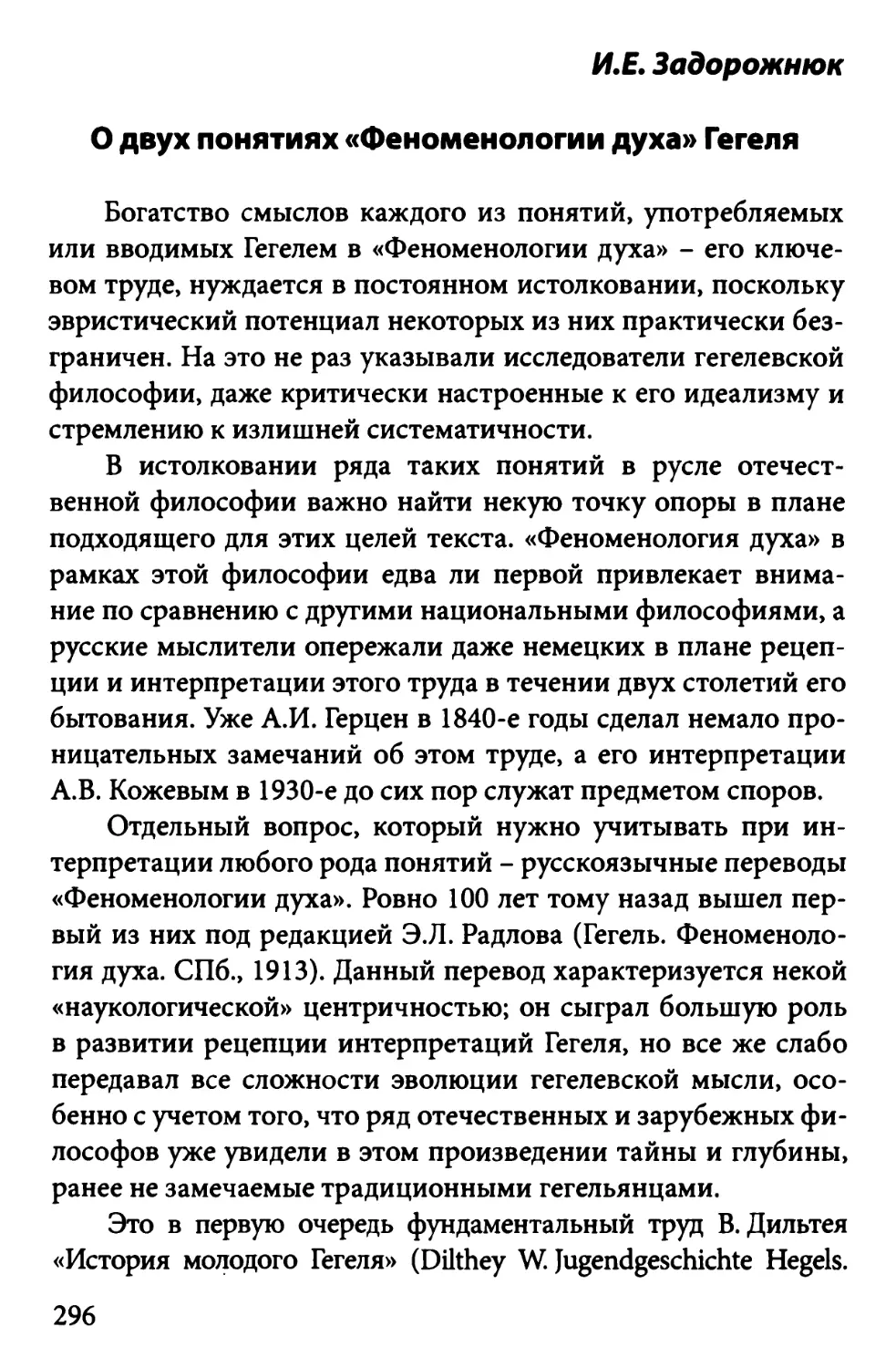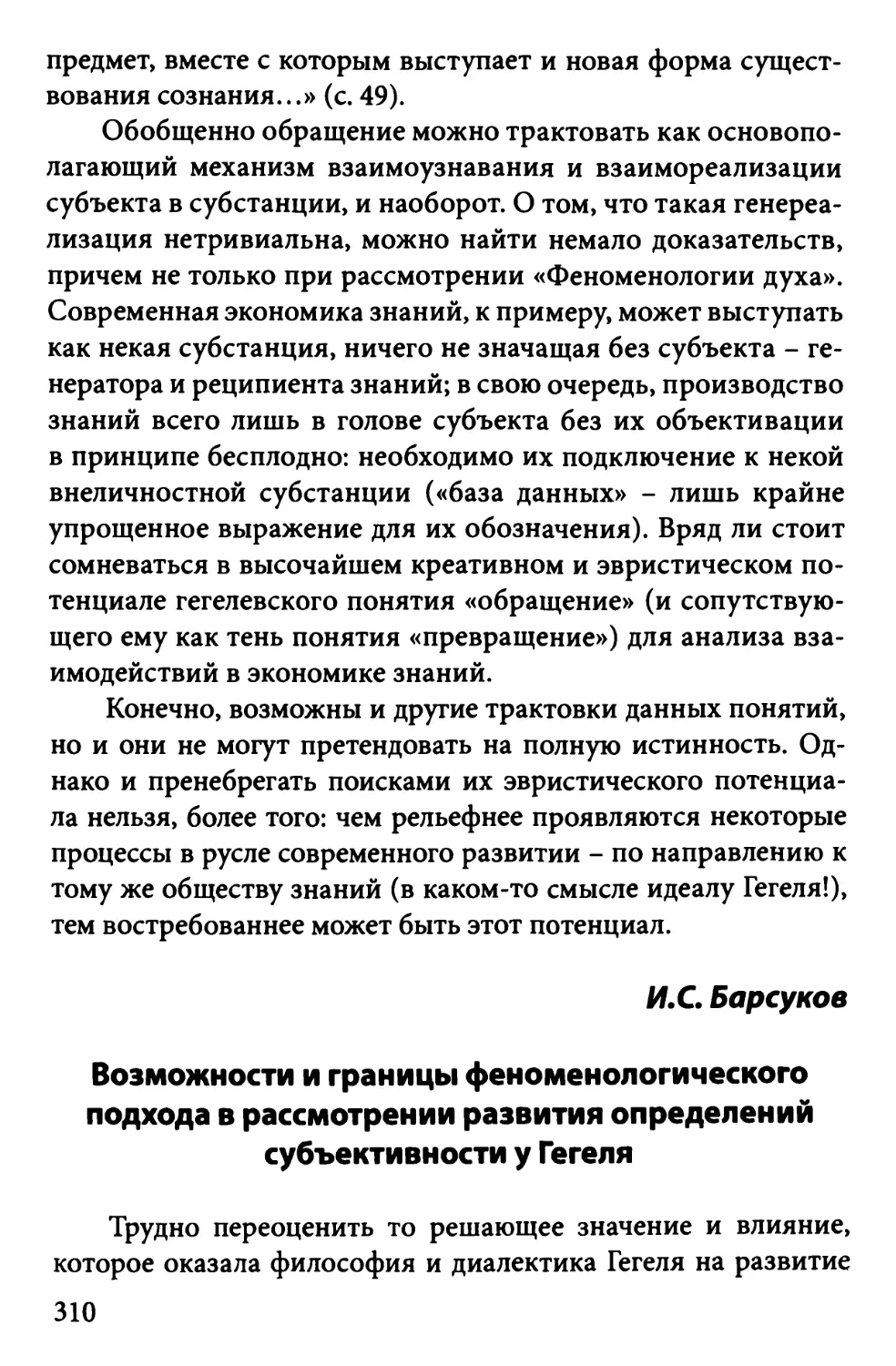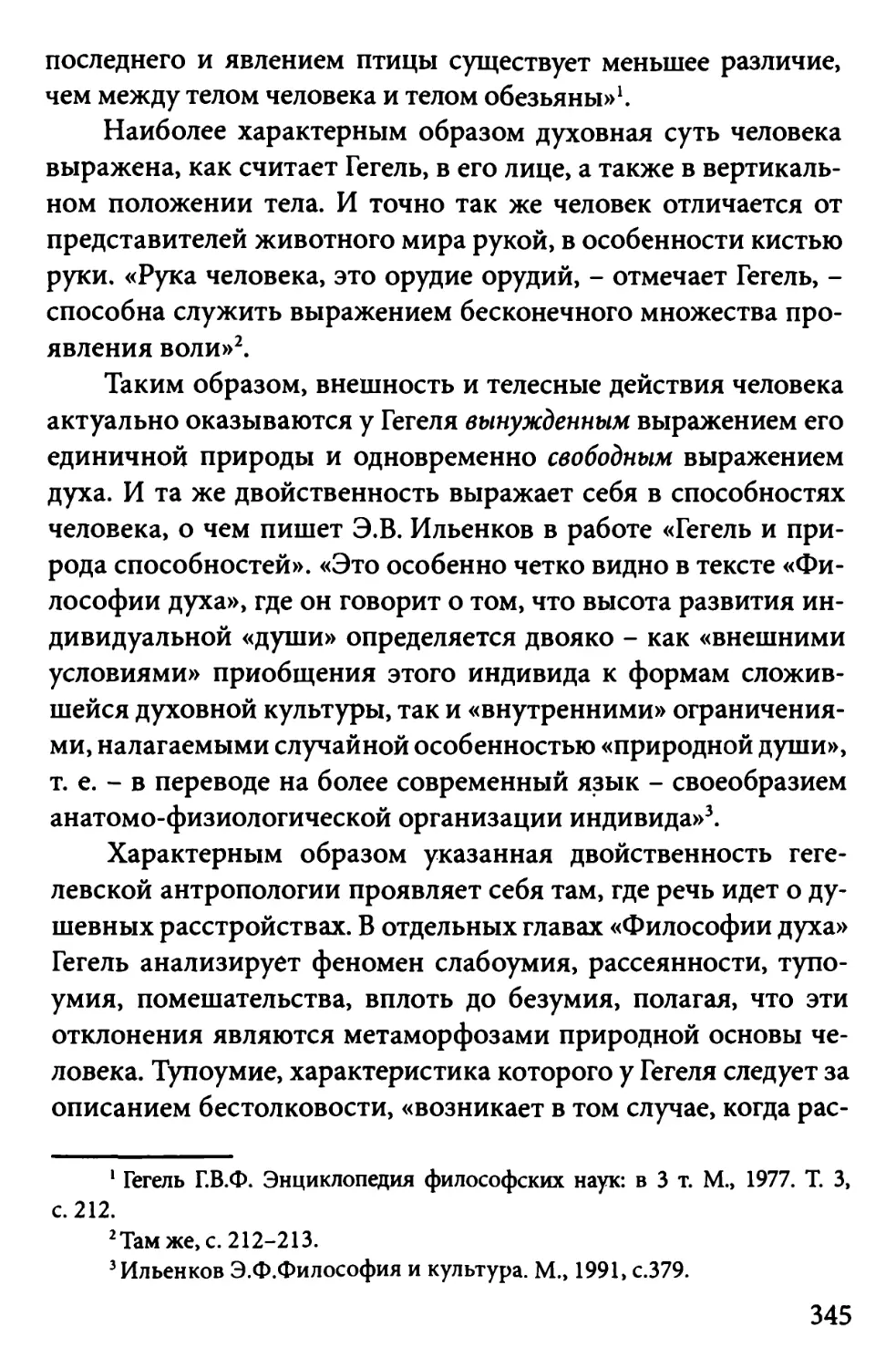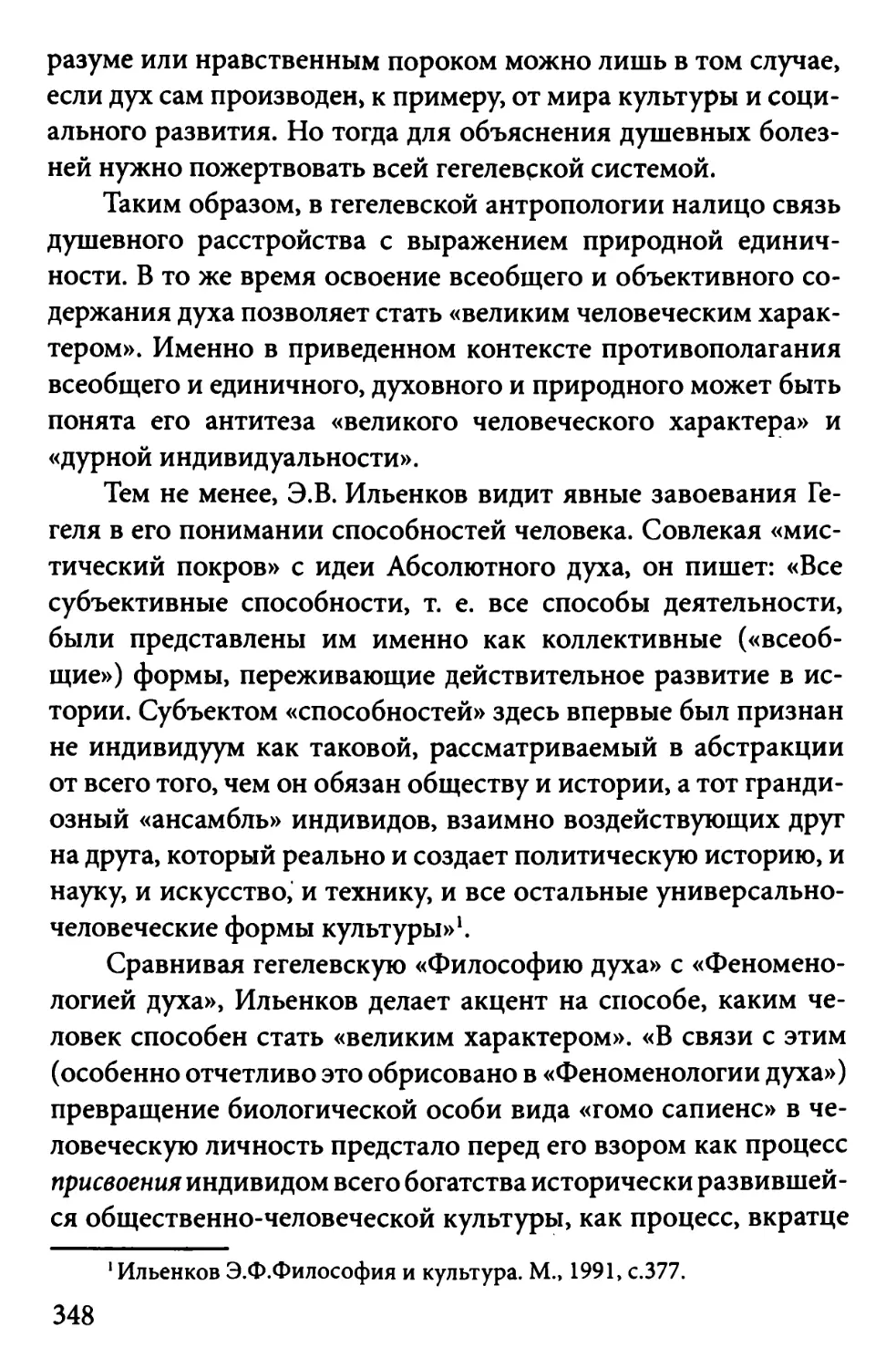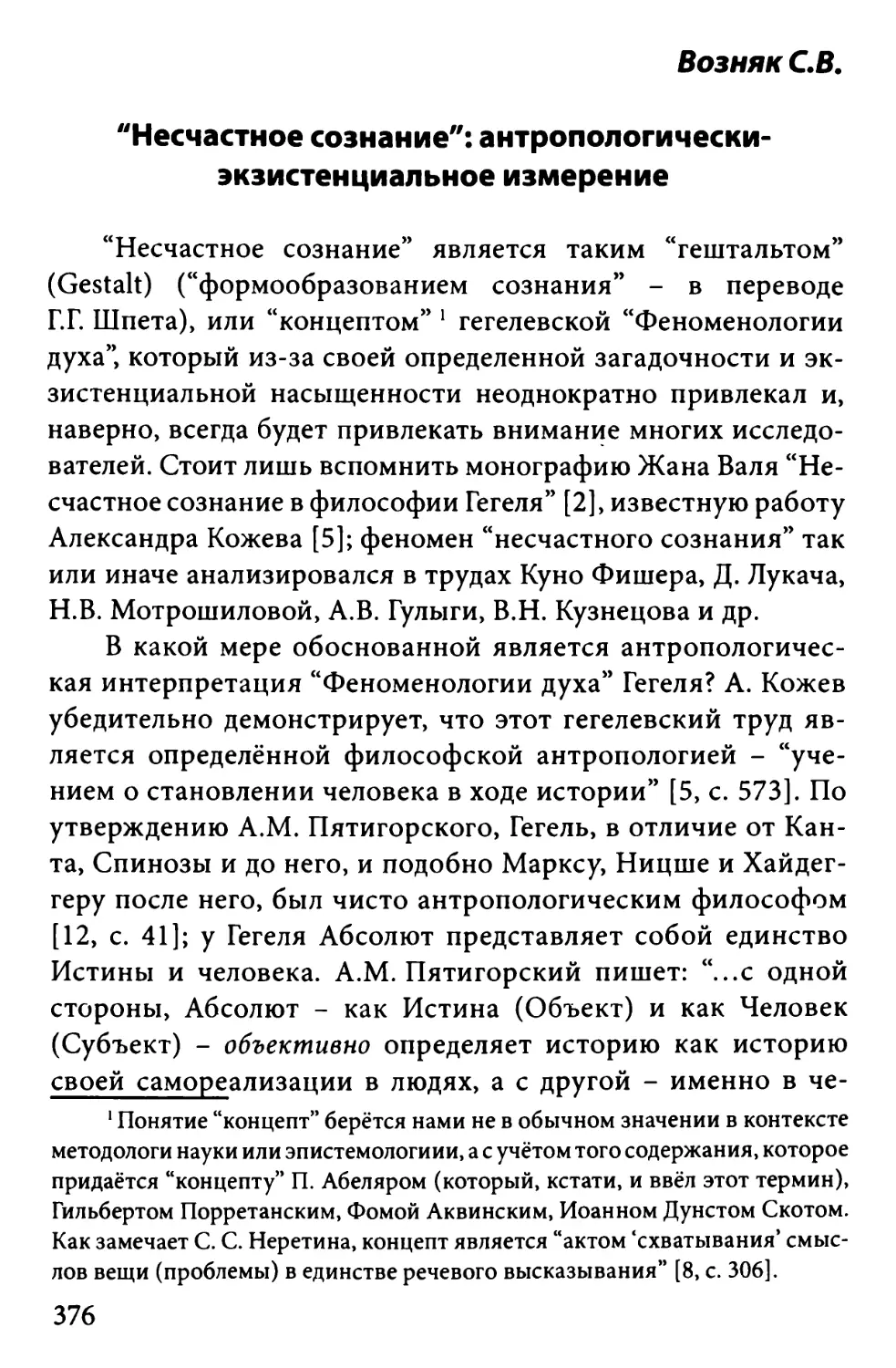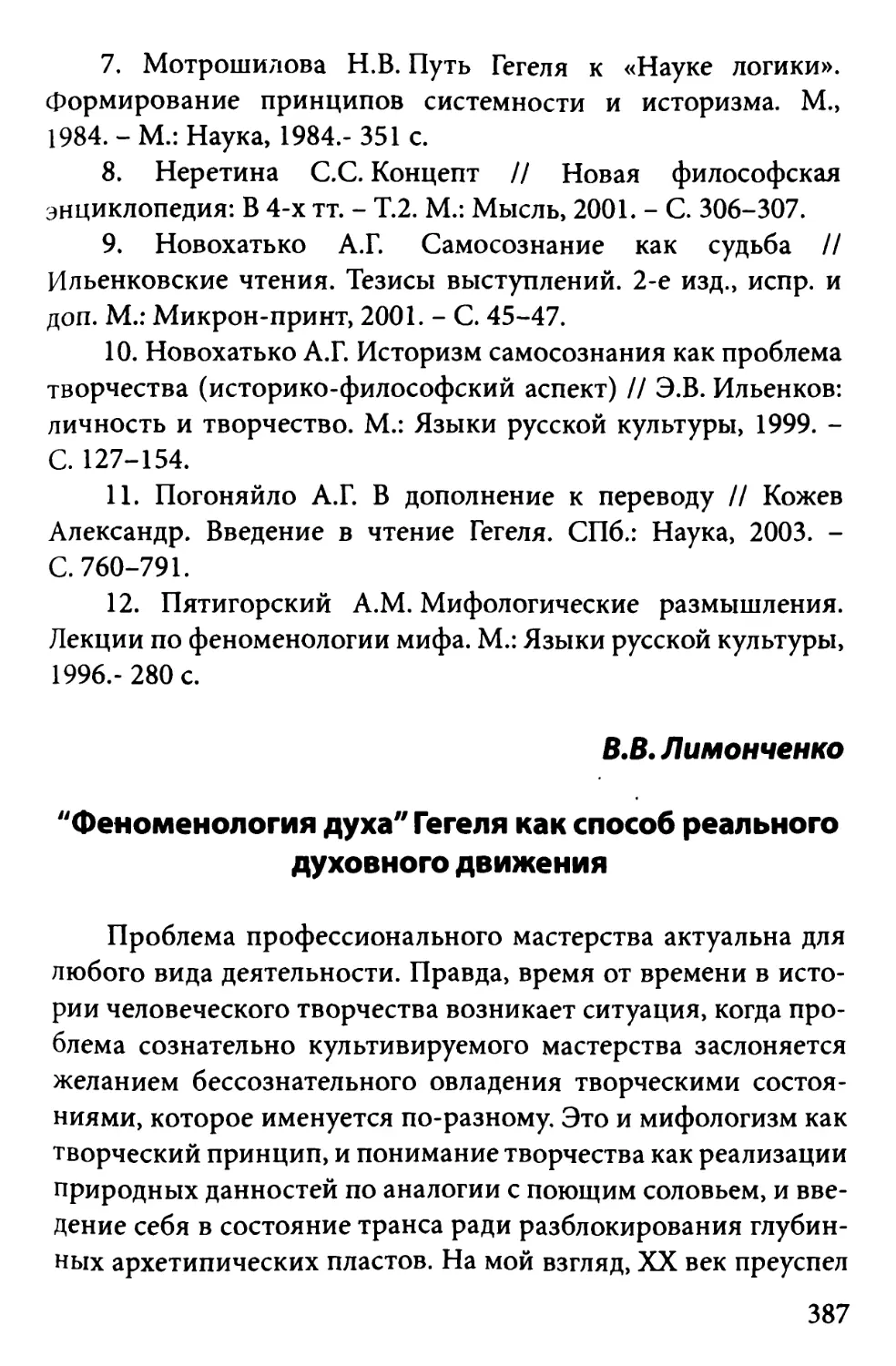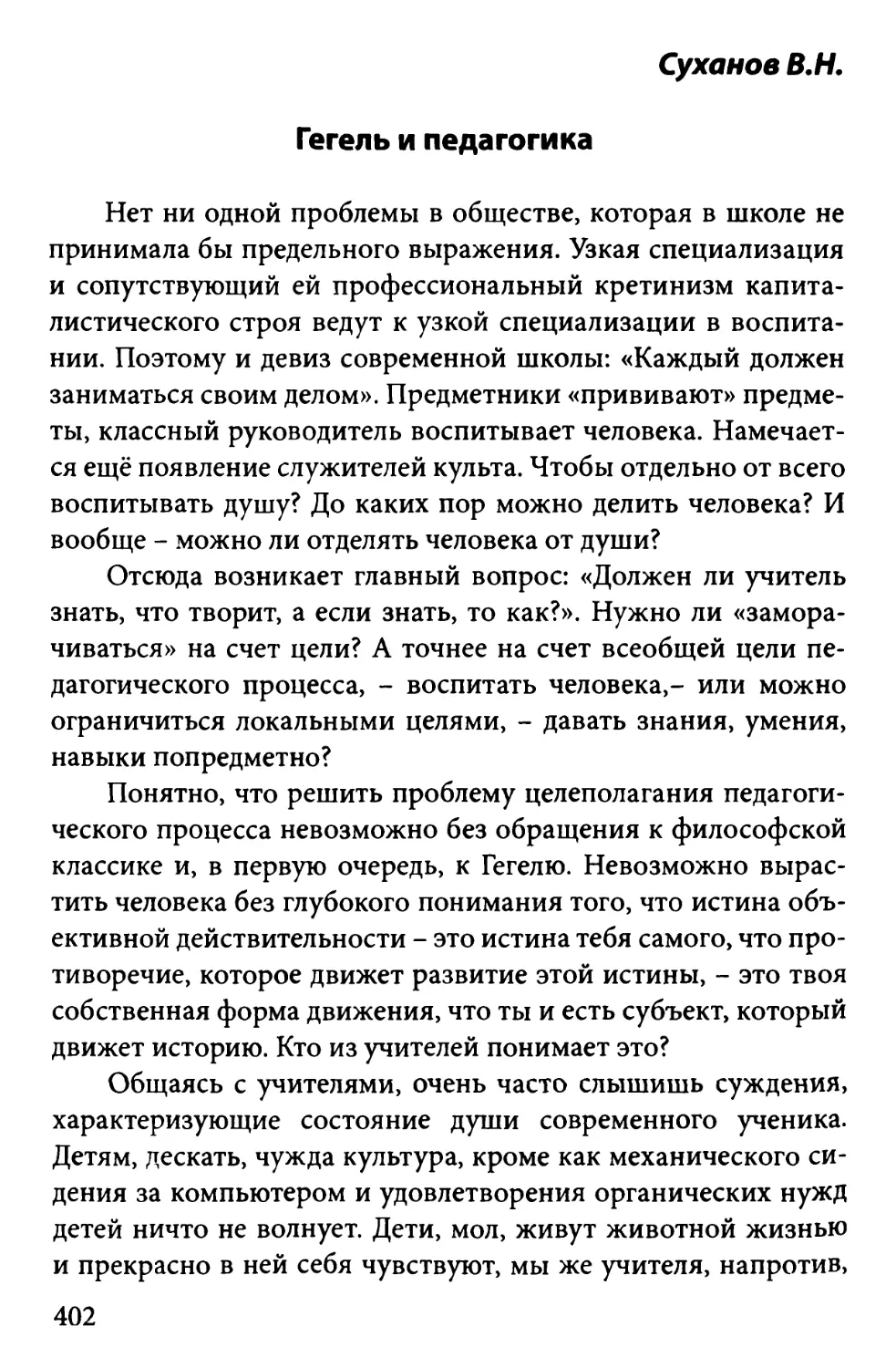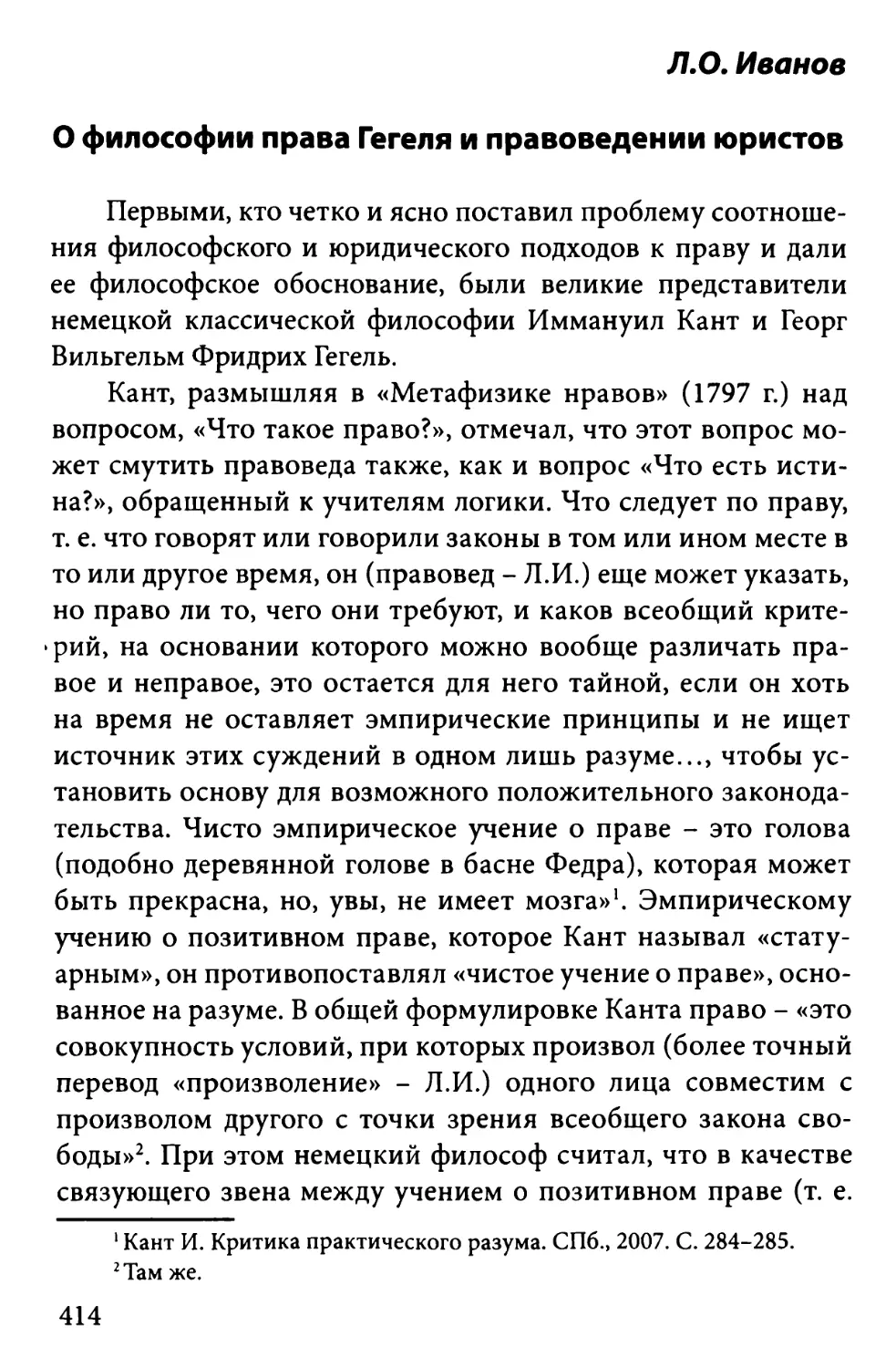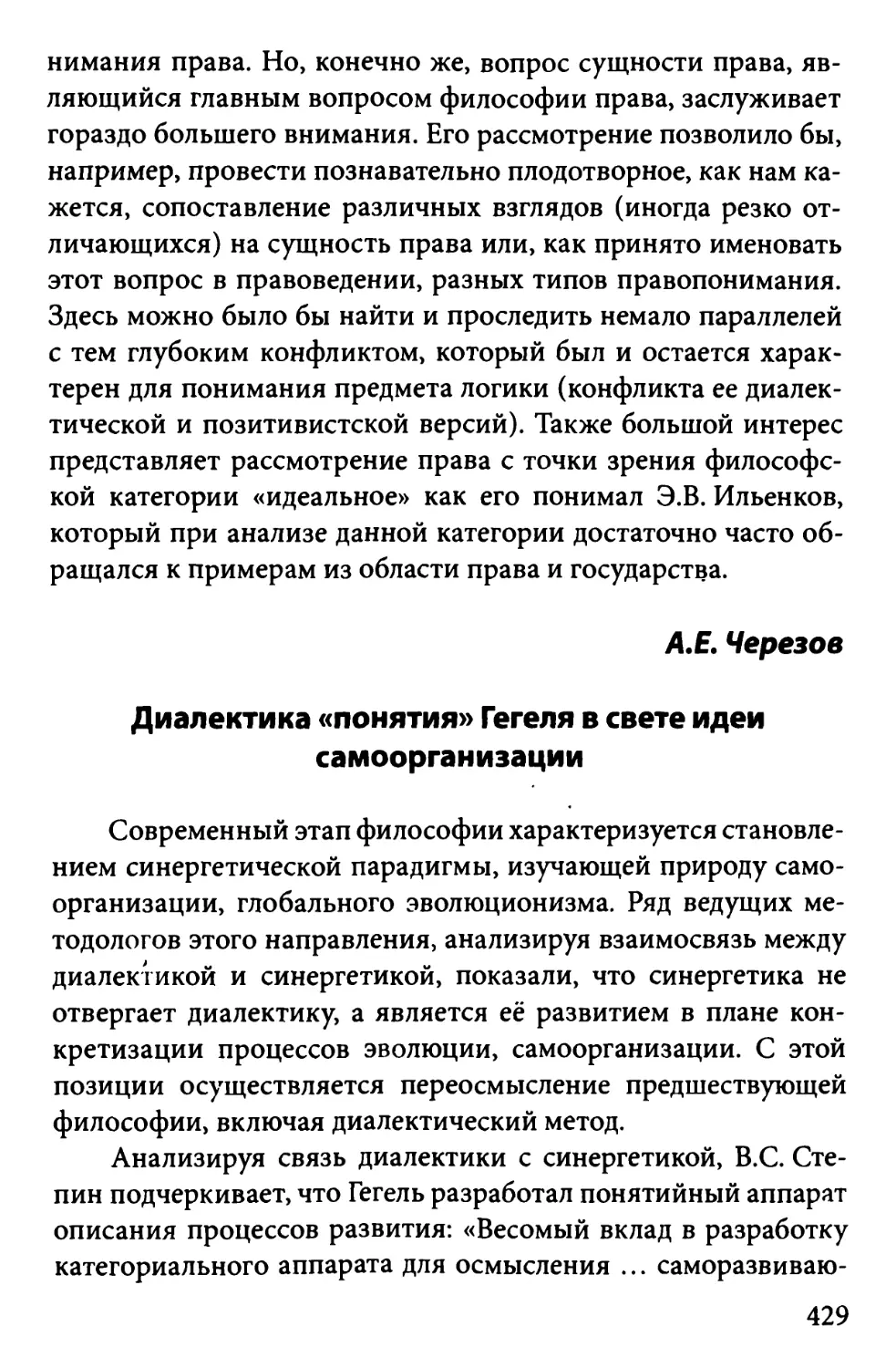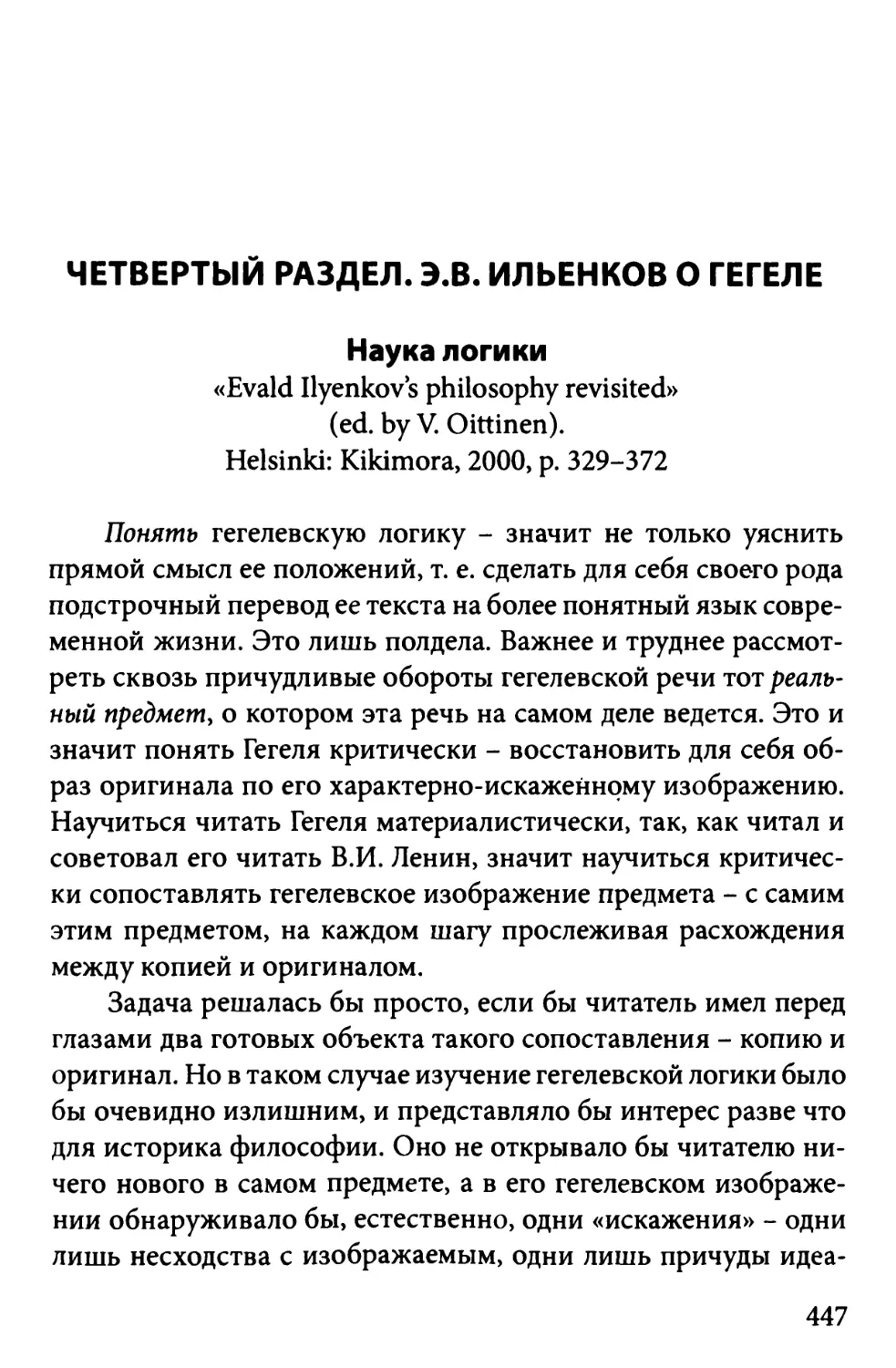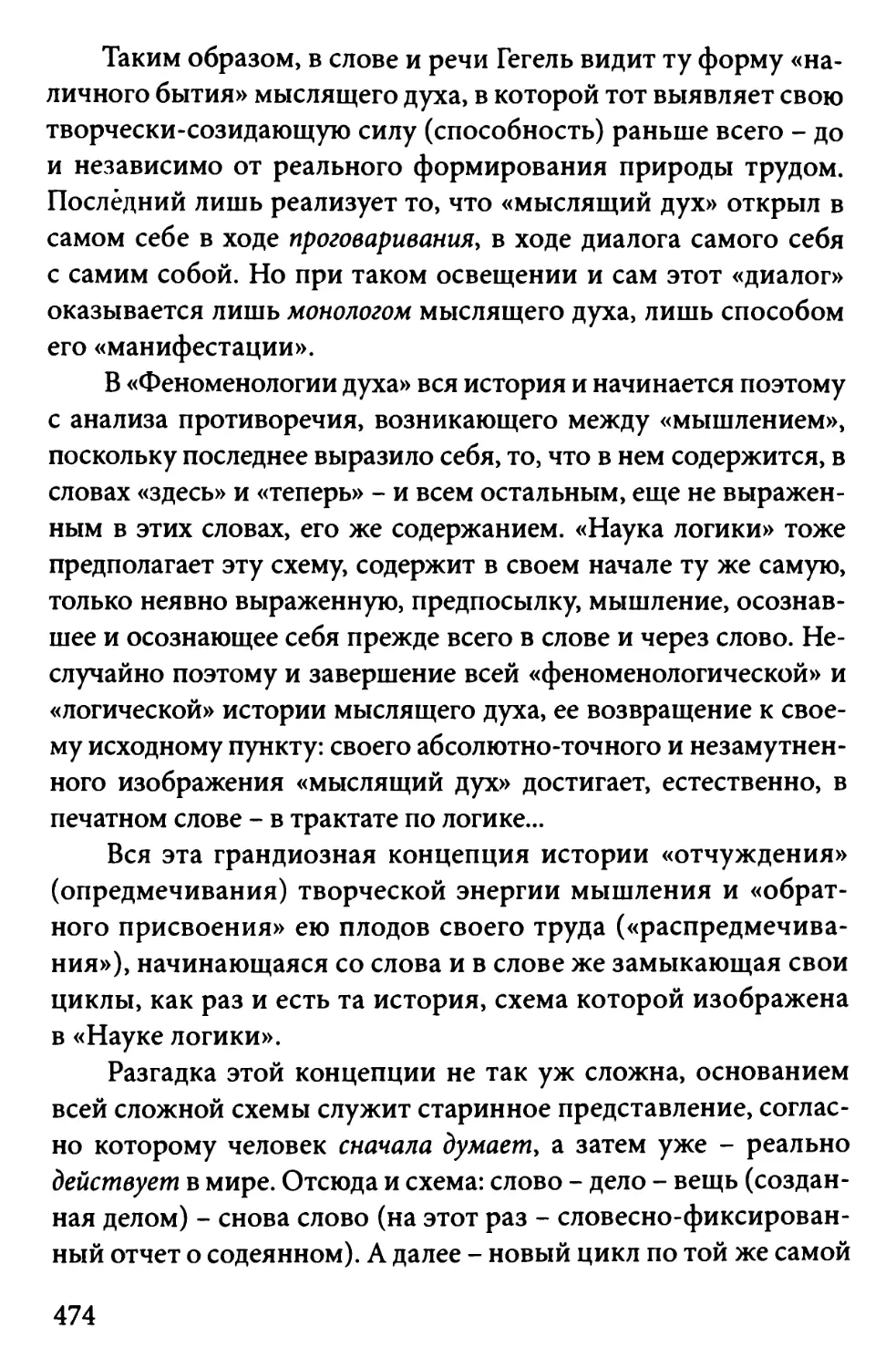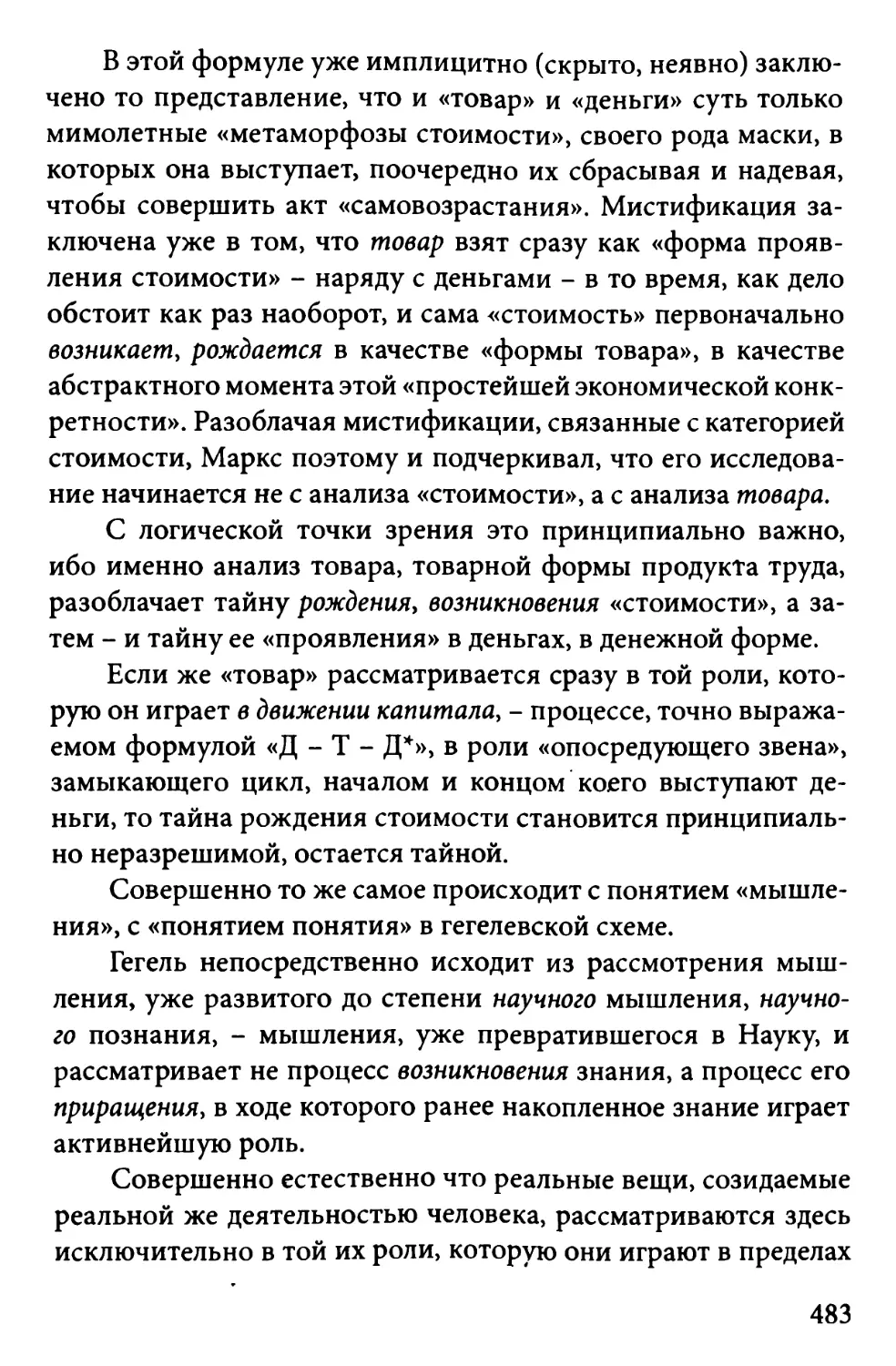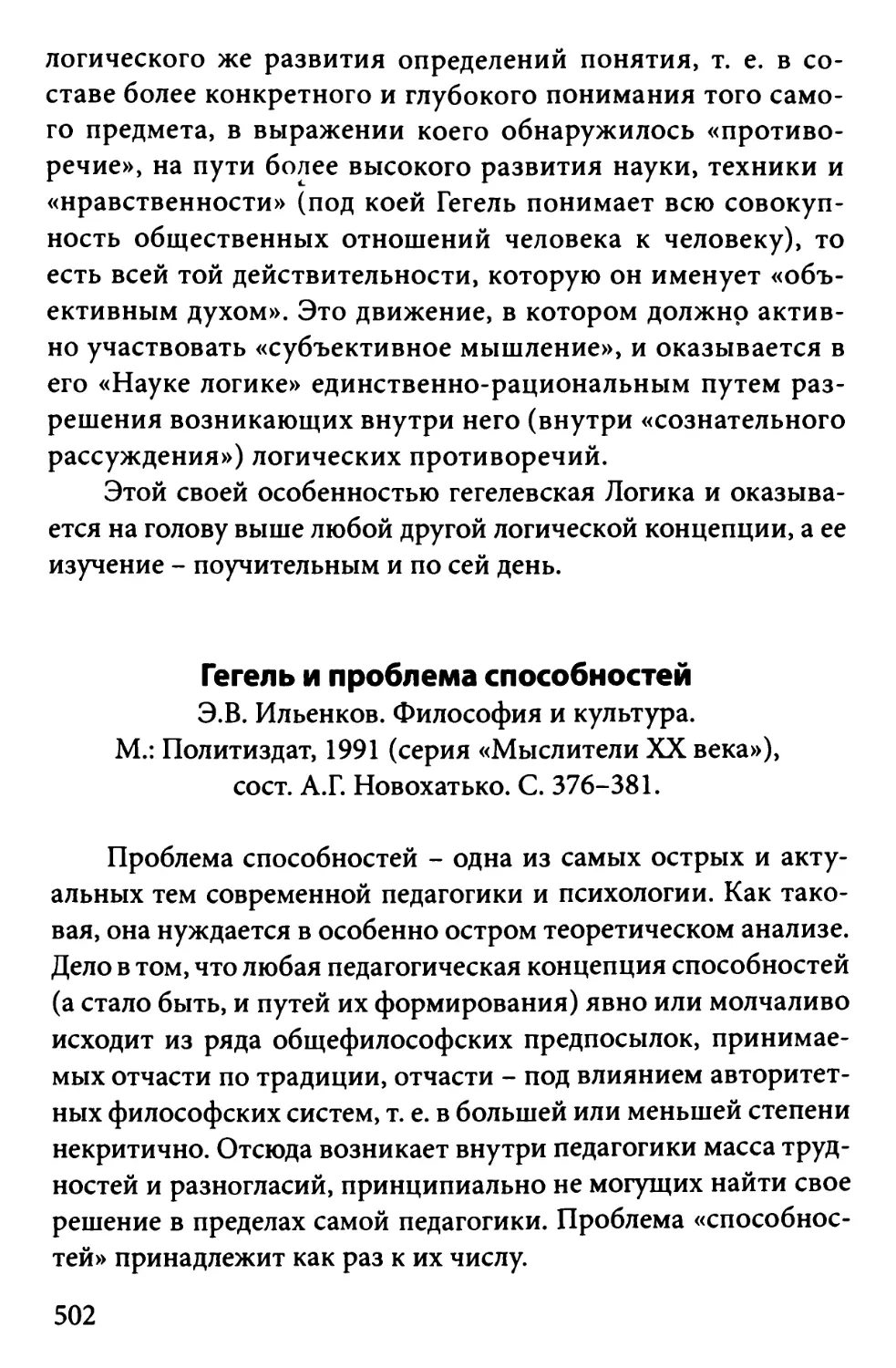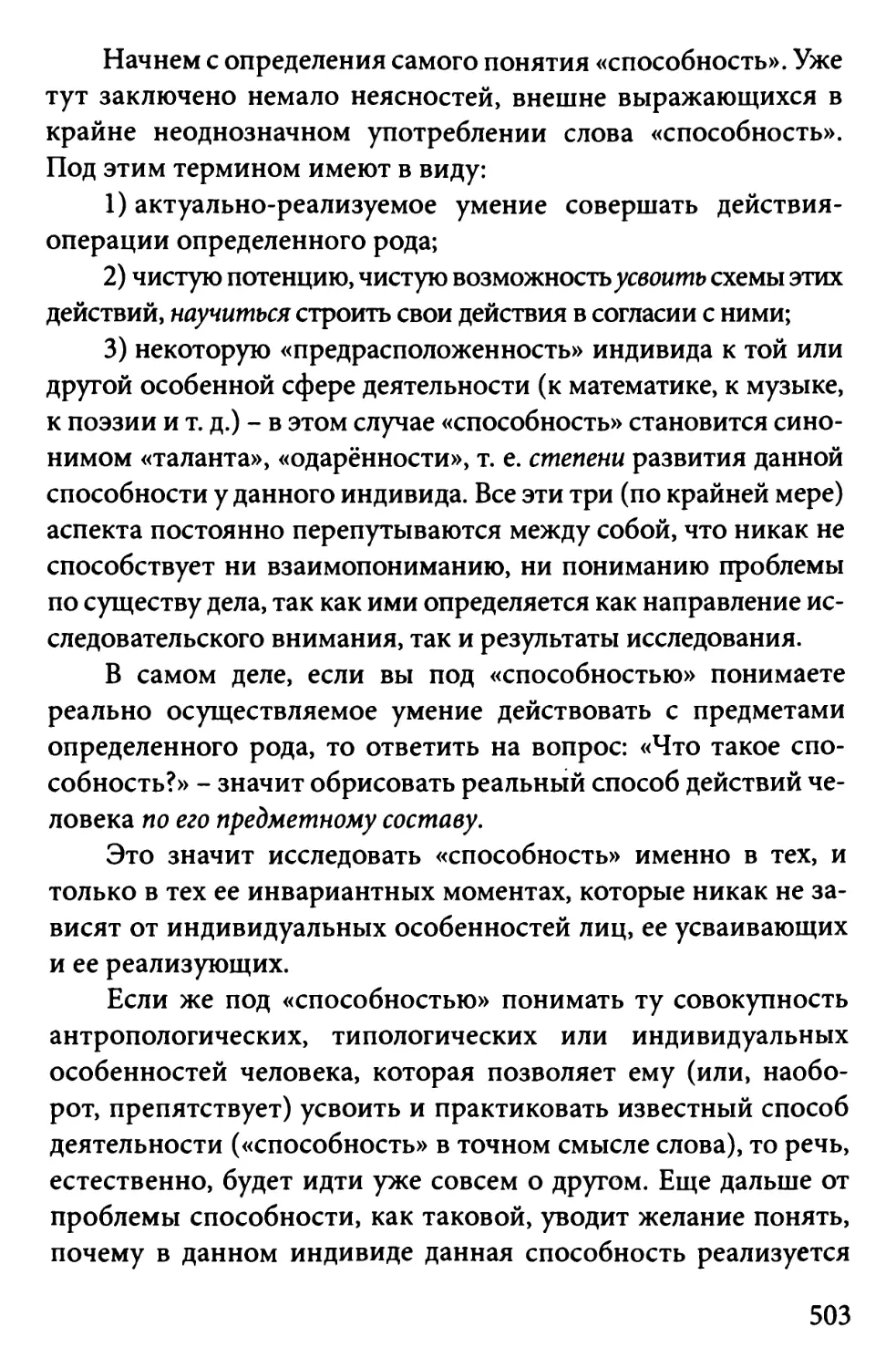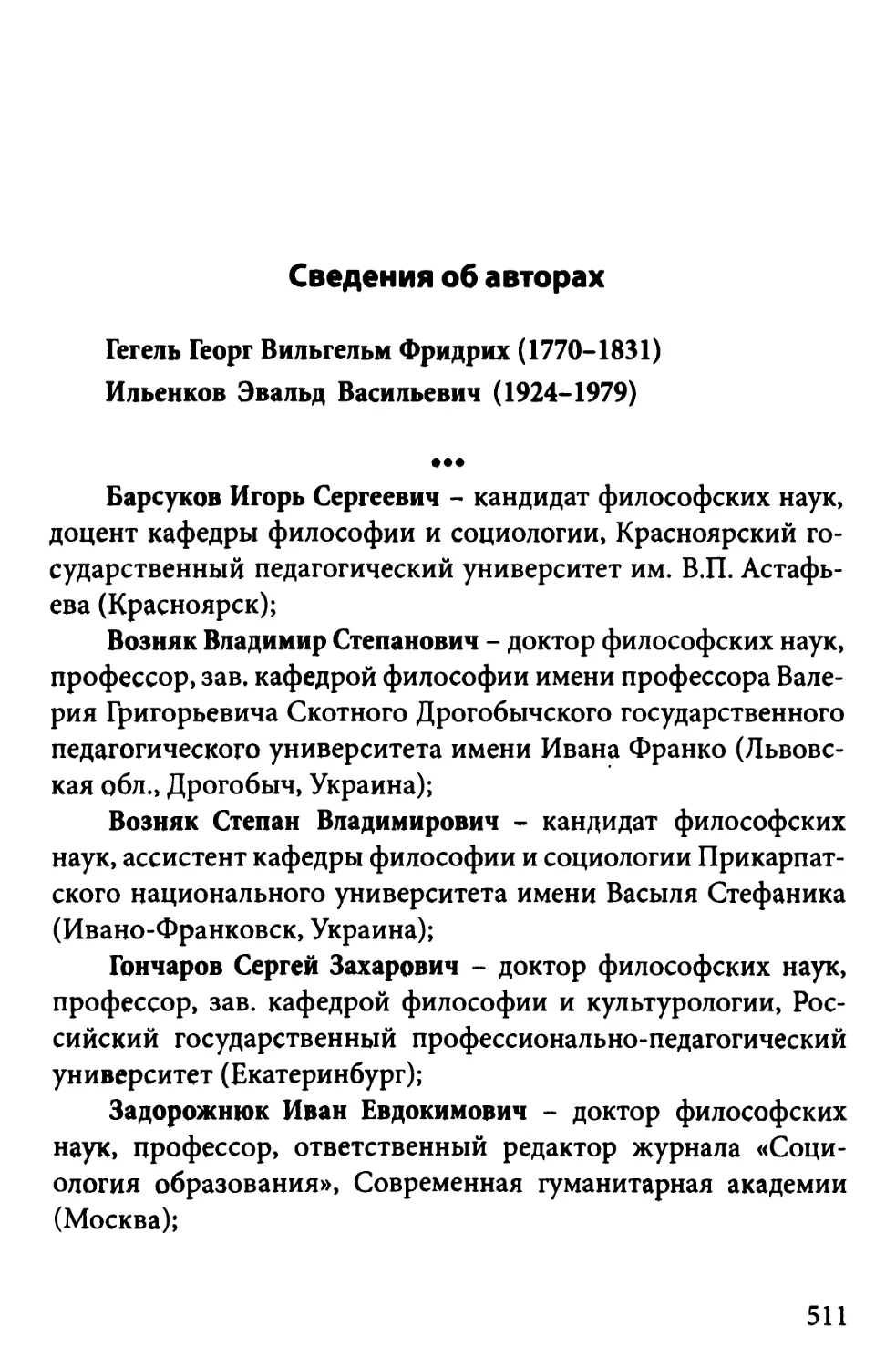Текст
ФИЛОСОФИЯ ГЕГЕЛЯ:
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ,
КОММЕНТАРИИ
Современная гуманитарная академия
Общероссийская ассоциация общественных
объединений
Философское общество «Диалектика и культура»
ФИЛОСОФИЯ ГЕГЕЛЯ:
НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ,
ИССЛЕДОВАНИЯ, КОММЕНТАРИИ
Москва 2014
Философия Гегеля: новые переводы, исследования,
комментарии / Под общ. ред. Е.В. Мареевой. М: Изд-во СГУ, 2014.
514 с.
Редакционная коллегия:
Мареев С.Н., доктор философских наук
Лобастов Г.В., доктор философских наук
Майданский А.Д., доктор философских наук
Иващук О.Ф., доктор философских наук
ISBN 978-5-8323-0950-7
Предлагаемый сборник посвящен философскому наследию
выдающего философа Г.В.Ф. Гегеля. Цель составителей - предложить
русскоязычному читателю малоизвестные материалы*из наследия Гегеля, ознакомить его
с оценками творчества Гегеля, по преимуществу, с ильенковских позиций.
Сборник включает в себя четыре раздела. Первый раздел содержит
впервые переведенные на русский язык тексты самого Гегеля. Во втором
разделе даны комментарии к работе Гегеля «Вера знание» под разными
углами зрения. В третьем разделе предложен анализ и оценка некоторых
аспектов гегелевского учения сегодня. В последнем разделе представлены два
текста Э.В. Ильенкова: работа «Наука логики», впервые опубликованная
в сборнике «Возвращаясь к философии Эвальда Ильенкова» (Хельсинки,
2000) под редакцией В. Ойттинена, и малоизвестная работа Ильенкова
«Гегель и проблема способностей».
© Современная гуманитарная академия, 2014
© Философское общество
«Диалектика и культура», 2014
© Издательство СГУ, оформление, 2014
ISBN 978-5-8323-0950-7
Содержание
Первый раздел. Малоизвестные тексты Гегеля
Предисловие к Объявлению Гегеля 5
Объявление о «Системе науки» Гегеля (перевод A.B. Кузнецова) ... 5
Предисловие к «Вере и знанию» 6
Гегель Г.В.Ф. Вера и знание. Введение (перевод О.Ф. Иващук) 7
Гегель Г.В.Ф. Вера и знание. А. Кантовская философия (перевод
С.Н. Мареева) 22
Второй раздел. Комментарии к публикациям Гегеля
Мареев С.Н. О практических чувствах: Гегель против Канта 54
Ойттинен Веса. Дух против апперцепции - Гегель против Канта 67
Юбара Аннет. «Перевод» веры в знание: «Жизнь Иисуса»
Д.Ф. Штрауса в контексте развития гегельянства 84
Третий раздел. О Гегеле сегодня
Лобастое Г.В. Понятие логики и логика понятия в философии
Гегеля 103
Науменко Л.К. Диалектика Гегеля и системный подход 157
Гончаров С.З. Мистическое и рациональное в диалектике: от
Гегеля к Марксу 172
Майданский А.Д. Два метода, две версии диалектики:
«Феноменология духа» против «Науки логики» 224
Сорвин К.В. Онтологический и космологический аргументы
в системе «Энциклопедии философских наук» 240
Возняк B.C. Некоторые размышления о категориях «рассудок»
и «разум» в «Феноменологии духа» Г.В.Ф. Гегеля 279
Задорожнюк И.Е. О двух понятиях «Феноменологии духа» Гегеля 296
Барсуков И.С. Возможности и границы феноменологического
подхода в рассмотрении развития определений субъективности
у Гегеля 310
Мареева Е.В. О парадоксах антропологии (Маркс и Киркегор
против Гегеля) 342
Возняк СВ. «Несчастное сознание»:
антропологически-экзистенциальное измерение 376
Лимонченко В.В. «Феноменология духа» Гегеля как способ
реального духовного движения 387
Суханов В.Н. Гегель и педагогика 402
Иванов И.О. О философии права Гегеля и правоведении
юристов 414
Черезов А.Е. Диалектика «понятия» Гегеля в свете идеи
самоорганизации 429
Четвертый раздел. Э.В. Ильенков о Гегеле
Ильенков Э.В. Наука логики 447
Ильенков Э.В. Гегель и проблема способностей 502
Сведения об авторах 511
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ.
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ТЕКСТЫ ГЕГЕЛЯ
Предисловие к Объявлению Гегеля
Текст объявления был впервые опубликован в № 179
«Бамбергской газеты» от 28 июня 1807 г. Хотя он не подписан,
в авторстве Гегеля практически нет сомнений. К тому
времени он уже около трех месяцев был редактором «Бамбергской
газеты» (эти обязанности Гегель продолжал исполнять до
конца следующего, 1808 года). 28 октября 1807 г. объявление
печатается и в бюллетене «Йенской Всеобщей Литературной
Газеты». По-видимому, тираж книги раскупался не так
хорошо, как хотелось автору и издателю.
В современных немецких изданиях «Феноменологии духа»
и в собраниях сочинений Гегеля Объявление принято
помещать в Приложении. В русских же изданиях оно почему-то
отсутствует, хотя содержит важное сообщение о цели написания
работы и краткую характеристику ее сути. Русский перевод
объявления публикуется впервые.
Объявление о «Системе науки» Г.В.Ф. Гегеля
В издательстве Книготорговля Йоз. Ант. Гёбхардтшена в
Бамберге и Вюрцбурге выходит и рассылается во все достойные
книжные, магазины «Система науки» Г.В. Фр. Гегеля. Первый том,
содержит «Феноменологию духа». Формат 1/8.1807. Цена 6 фл.
5
Этот том представляет грядущее знание. Феноменология
духа должна заступить на место психологических объяснений,
да и абстрактных рассуждений об основании знания. Она
рассматривает подготовку к науке с той точки зрения, с которой она
является новой, интересной и первой наукой философии. Она
охватывает различные образы духа, как этапы пути, на котором
он становится чистым знанием или абсолютным духом. Отсюда,
в главных разделах этой науки, распадающихся, опять-таки, на
многие, будет рассматриваться сознание, самосознание,
наблюдающий и действующий разум, сам дух, как обычный,
образованный и моральный дух, а в конце концов - как религиозный
в его различных формах. Выступающее на первый взгляд как
хаос, богатство проявлений духа приведено в научный порядок,
представляющий их в их необходимости, в коей они не
полностью разрешаются и переходят в более высокие, являющиеся их
ближайшей истиной. Последнюю истину вы найдёте поначалу в
религии, а затем в науке, как результате всего.
Во вступительном слове автор объясняется о том, что
видится ему потребностью философии в ее нынешнем
состоянии; кроме того, о дерзости и нелепости философских
шаблонов, ныне унижающих философию, и о том, до чего вообще
доходит дело с нею и с ее изучением.
Второй том будет содержать систему логики, как
умозрительной философии, и две другие части философии - науки
природы и духа.
Перевод A.B. Кузнецова
Предисловие к переводу «Веры и знание»
Работа Гегеля «Вера и знание» («Glauben und Wissen»)
ранее переводилась на русский язык доктором философских
наук П.П. Гайденко в виде фрагментов, которые были опуб-
6
ликованы в 4 томе «Эстетики» Гегеля «Фрагменты из
философских произведений, Статьи и письма» под редакцией
М.А. Лифшица (М., 1973). В данном сборнике предлагается
новый перевод Введения и раздела «А. Kantische Philosophie»
работы Гегеля «Вера и знание», осуществленный на основе
издания Glauben und Wissen oder Reflexionsphilosophie der
Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische,
Jacobische und Fichtesche Philosophie // Hegel G.W.F. Werke,
in 20 Banden mit Registerband, von Eva Moldenhauer und Karl
Markus Michel herausgegebene. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1969-1971. Band 2, S. 278-433.
Г.В.Ф. Гегель
Вера и знание, или рефлексивная философия
субъективности в полноте ее форм, как-то:
философия Канта, Якоби и Фихте
Введение
Современная культура так возвысилась над прежней
противоположностью разума и веры, философии и позитивной
религии, что это противопоставление веры и знания
приобрело совсем другой смысл и теперь перенесено внутрь самой
философии.
То, что разумность должна быть служанкой веры, как
выражались в древние времена, и против чего философия
победоносно утверждала свою абсолютную автономию, эти
представления, или выражения, исчезли, и разум, насколько
он заслуживает этого имени, сделался столь действенным в
позитивной религии, что даже борьба философии против
позитивности, чуда и тому подобного принимается за что-то уже
отжившее и сомнительное; и попытка Канта в определенном
7
смысле оживить в своей философии позитивную форму
религии не имела успеха не потому, что собственный смысл этих
форм тем самым был бы изменен, а потому, что они не кажутся
достойными даже и этой чести. Но еще вопрос, не испытал ли
разум-победитель судьбу, которую обыкновенно испытывает
победившая сила варварских народов против побежденной
слабости образованных: сохранять преимущество во внешнем
господстве, по духу же быть побежденной. Славная победа,
которую одержал просвещенный разум над тем, что он
рассматривал, исходя из ничтожной массы своих религиозных
понятий, как противостоящую ему веру, не есть, при свете дня, ни
победа позитивного, с которым он вел борьбу, [т. е.] религии,
ни того, что, торжествуя, остается разумом, но рожденное,
которое празднует триумф над этими останками поверженных
и которое витает как общее, объединяющее то и другое дитя
мира, столь же мало несет в себе от разума, как и от истинной
веры. Разум, который истощился в себе и для себя из-за того,
что он понимал религию только как что-то позитивное, не
идеалистически, теперь не смог сделать ничего лучшего, как после
борьбы обратить взор на себя, чтобы достичь самопознания и
признать его ничтожность: и в силу того, что он полагает
лучшее, чем он сам (ибо он есть рассудок), в качестве
потустороннего в вере вне и сверх себя, как это происходит в философии
Канта, Якоби и Фихте; и в силу того, что он себя снова делает
слугой веры. Согласно Канту, сверхчувственное не может быть
познано разумом, а высшая идея не обладает реальностью;
согласно Якоби, разум стыдится просить милостыню, а
чтобы рыть, у него нет ни рук, ни ног, и человеку остается только
чувство и сознание своего незнания истинного, только
предчувствие (Ahnung) истинного в разуме, который есть нечто в
общем субъективное и инстинктивное. Согласно Фихте, Бог
есть нечто непостижимое и немыслимое, знание знает лишь
то, что оно знает Ничто, и должно спасаться бегством в веру. У
них у всех абсолютное столь же мало может, согласно прежне-
8
му различию, выступать против разума, как и на его стороне:
оно превыше разума. - Негативное действие Просвещения,
позитивная сторона которого в его суетном тщеславии была
лишена ядра, раздобыло себе таковое благодаря тому, что оно
уразумело саму свою негативность и отчасти освободилось от
своей серости благодаря чистоте и бесконечности
негативного, отчасти же как раз поэтому для позитивного познания оно
могло оставить лишь конечное и эмпирическое, а вечное лишь
по ту сторону; так что последнее для познания пусто, и это
бесконечное пустое пространство познания может быть
наполнено только субъективностью тоски и предчувствия (Ahnens);
и то, что обычно считалось смертью философии (когда разум
должен совершить отречение от своего бытия в абсолютном,
просто исключить себя из него и относиться к нему лишь
негативно), отныне стало высшим пунктом философии, и
негативность (Nichtssein) Просвещения стала системой благодаря
осознанию этой негативности.
Несовершенные философские построения вообще-то
непосредственно принадлежат, по причине этого
несовершенства, к эмпирической необходимости и поэтому
доступны познанию в силу и со стороны.своего несовершенства;
эмпирическое, то, что предстает в мире как простая
действительность, при его философском осмыслении предстает
в форме понятия как объединенное с сознанием и потому
как обоснованное. Общий субъективный принцип
вышеназванных философских учений есть отчасти не что иное, как
ограниченная форма духа небольшого исторического
периода, или небольшого круга лиц, отчасти же могущественная
форма духа, которая является [исходным] принципом этих
учений, без сомнения, достигает в них совершенства своего
осознания, своего философского оформления и своего
завершенного выражения в познании.
Но великая форма мирового духа, которая опознается в
этих учениях, есть принцип Севера, и, рассматриваемый ре-
9
лигиозно, принцип протестантизма, - субъективность, в
которой Красота и Истина предстают в чувствах и образе мыслей,
в любви и рассудке; религия строит свой храм и алтарь в
сердце индивидуума, стон и молитва стремятся к Богу,
которого запрещено созерцать из-за опасности со стороны рассудка,
который признает в созерцаемом только вещь, в роще - лишь
древесину. Правда, внутреннее должно стать внешним, а
замысел должен достичь действительности в действии,
непосредственное религиозное чувство должно выразить себя во
внешнем движении, а избегающая объективности познания вера
- стать объективной в мысли, понятии и слове; но рассудок
тщательно отделяет субъективное от объективного, и
последнее становится тем, что не имеет ценности, ничтожным, так
же и борьба субъективной красоты должна как раз состоять в
том, чтобы надлежащим образом ограждать себя от
необходимости, согласно которой субъективное становится
объективным, - и эта красота в рассудке становится реальной (reell) и
достается объективности, и там, где сознание хотело бы
обратиться к ее изображению (Darstellung) и к самой
объективности, сформировать ее явление или двигаться в нем, формируя
себя, - все это совершенно не могло бы состояться (wegfallen),
так как это было бы опасным излишеством и, поскольку оно
благодаря рассудку могло бы превратиться в «нечто», - злом,
так же как чувство прекрасного, превратившись в
бесстрастное (schmerzlose) созерцание, оказалось бы суеверием.
Та сила, которая придается рассудку субъективной
красотой, ее неудержимая устремленность, которая уносится за
пределы конечного, для которой конечное есть ничто, прежде
всего, кажется противоречивой, но она столь же необходимо
принадлежит рассудку, сколь и направлена против него; и в
изображении философских учений этой субъективности она
далее выявится. Именно из-за ее бегства от конечного и из-за
устойчивого бытия субъективности для нее превращаются в
выдумку: прекрасное в вещах вообще, роща в древесине, обра-
10
зы в тех вещах, которые имеют глаза и не видят, имеют уши и
не слышат, а также идеалы, поскольку в реальности абсолютно
здравого смысла они не могут быть восприняты как чурбаки и
камни, - все это становится выдумкой, и всякая отнесенность
к ним кажется несущественной игрой или зависимостью от
объектов и суеверием.
Но наряду с этим расхожим пониманием, усматривающим
в истине бытия только конечное, религия как чувство, как
вечная, полная страстного искания любовь, имеет свою
возвышенную сторону в том, что она не привязана ни к преходящим
созерцаниям, ни к наслаждениям, но взыскует вечной красоты
и блаженства; как стремление, она есть нечто субъективное,
то же, чего она ищет, и что не дано ей в созерцании, есть
абсолютное и вечное; если бы стремление обрело свой предмет,
то преходящая красота субъекта, как отдельного-, стала бы его
блаженством, совершенством мирского существа, однако в той
мере, в какой эта красота действительно обособляла бы его,
она не была бы уже чем-то прекрасным; но как чистая плоть
(Leib) внутренней красоты, само эмпирическое существование
перестает быть чем-то временным и своеобразным. Замысел
тогда остается незапятнанным своей объективностью как
поступком (Handlung), а действование (Tat), как и наслаждение, не
возвысится рассудком к некоторому Нечто в направлении
истинного тождества внутреннего и внешнего; высшее познание
было бы таким, каким была бы эта плоть, в которой индивид
не был бы изолирован и удовлетворялось бы стремление к
совершенному созерцанию и к благому наслаждению.
Когда пришло время, эта бесконечная устремленность
за пределы тела и мира примирилась с существованием
(Dasein), но так, что та реальность, с которой произошло
примирение, объективное, которому субъективное отказывало в
признании, и в самом деле было лишь эмпирическим
существованием, обычным миром и действительностью, таким
образом, само это примирение не утратило характера абсолют-
11
ного противоположения, которое заложено в возвышенной
устремленности, только теперь оно перебросилось на другую
примиряемую сторону антитезы, на сторону эмпирического
мира; и если благодаря своей абсолютно слепой
естественной необходимости сам мир уже прочно утвердился в своем
внутреннем основании, он нуждается всё же в объективной
форме для этого основания, и бессознательная достоверность
погруженного в реальность эмпирического существования
должна, согласно той же природной необходимости, вместе
с тем содействовать стремлению к справедливости и доброй
совести; это примирение делается осознанным в учениях о
счастье, так что неизменный пункт, из которого исходят, есть
эмпирический субъект, и то, с чем он примиряется, точно
так же есть обычная действительность, к которой он питает
доверие и которой ему можно предаваться без греха. Явную
грубость и совершенную вульгарность, как внутреннюю
основу этого учения о счастье, скрашивает лишь то, что в ней
заложено стремление к справедливости и к благому
сознанию, которое (поскольку эмпирическое абсолютно и оно не
может достичь [объективности] разума посредством идеи)
может достичь лишь объективности рассудка, [т. е. достичь]
понятия, каковое понятие изобразило себя в виде так
называемого чистого разума в его высшей абстракции.
Догматизм просветительства и эвдемонизма состоит,
таким образом, не в том, что блаженство и наслаждение возводят
в высшее: ведь когда блаженство понимается как идея, оно
перестает быть чем-то эмпирическим и случайным, так же как и
чувственным; разумный поступок и высшее наслаждение
едины в высшем проявлении (Dasein); и если высшее блаженство
есть высшая идея, то совершенно безразлично, хотят ли это
высшее проявление понимать со стороны его идеальности,
которая взятая изолированно, становится разумным поступком,
или со стороны его реальности, которая, взятая изолированно,
становится тем, что можно назвать наслаждением и чувством;
12
ведь разумный поступок и высшее наслаждение, идеальность
и реальность, оба существуют равным образом в ней и
тождественны. Любая философия ничего другого и не выражает,
кроме того, что она конституирует высшее блаженство в
качестве идеи; когда высшее наслаждение познается разумом,
различимость обоих непосредственно отпадает, понятие и
бесконечность, которые правят в поступке, а также реальность и
конечность, которые правят в наслаждении, поглощают друг
друга. Полемика против блаженства станет пустой болтовней,
когда это блаженство будет познано как благое наслаждение
вечным созерцанием. Но, разумеется, то, что называют эвде-
монией, эмпирическое счастье, чувственное наслаждение,
нельзя понимать как вечное созерцание и блаженство.
Этой абсолютности эмпирического и конечного
существа так непосредственно противостоит понятие, или
бесконечность, что одно обусловлено через другое и есть вместе с
другим, и, поскольку первое в своем для-себя-бытии абсолютно,
также и второе, то третье, которое поистине есть первое,
вечность, оказывается по ту сторону этого противоположения.
Бесконечное, понятие, как в себе пустое, ничто, получает свое
содержание через то самое, с чем оно приведено в отношение
противоположности, а именно, через эмпирическое счастье
индивида; подвести все под такое единство понятия (чьим
содержанием является абсолютная разрозненность), исчислить
для этого все и каждый в отдельности образы прекрасного и
выражение идеи, мудрость и добродетель, искусство и науку -
это значит превратить в нечто то, что не есть в себе, ведь здесь
единственным в-себе является абстрактное понятие того, что
есть не идея, но абсолютная разрозненность, и [все это]
называется наукой и мудростью.
Согласно твердому принципу этой системы рассуждения
(Bildung), который состоит в том, что конечное есть в себе и
для себя и абсолютно единственная реальность, на одной
стороне стоит, таким образом, конечное и отдельное в форме мно-
13
гообразия, и в нее выбрасывается всё религиозное,
нравственное и прекрасное, потому что его можно схватить с помощью
рассудка как отдельное; на другой стороне та же абсолютная
конечность в форме бесконечного, как понятие блаженства;
конечное и бесконечное, которые в этой идее не должны быть
положены как тождественные, ведь каждое есть абсолютное
для себя, противостоят друг другу в отношении господства,
ведь в абсолютном противоположении того же самого
понятие является определяющим. Но над этим абсолютным
противоположением и относительными тождествами
господствующих, и над эмпирически схватываемым стоит вечность;
поскольку она есть абсолютное, то эта сфера неисчислима,
непостижима, пуста; непознаваемый Бог, который лежит по ту
сторону пограничных столбов разума; это сфера, которая для
созерцания - ничто, ведь наше созерцание только чувственное
и ограниченное; такое же ничто она и для наслаждения, ведь
существует только эмпирическое счастье; ничто она и для
познания, ведь то, что зовется разумом, есть ничто с точки зрения
исчисления всего и всякого из разрозненного многообразия и
рассмотрения каждой идеи под формой конечного.
Этот основной характер эвдемонизма и Просвещения,
который превратил прекрасную субъективность
протестантизма в эмпирическую, поэзию его страдания, которое стыдилось
всякого примирения с эмпирическим существованием, - в
прозу довольства этим конечным и спокойную поэтому поводу
совесть, - какое отношение он имеет к философии Канта, Яко-
би и Фихте? Эти учения так мало выходят за его пределы, что
они скорее представляют собой лишь его высшее, совершенное
осуществление. Сознательно они направлены против
принципа эвдемонизма, но в силу того, что они суть не что иное, как
это направление, их позитивный характер и есть сам этот
принцип; так что модификация, которую эти учения привнесли в
эвдемонизм, только усовершенствовала его образ, что само по
себе для разума и философии в принципе безразлично. В этих
14
учениях сохраняется абсолютность конечного и эмпирической
реальности, абсолютная противопоставленность
бесконечного и конечного, а идеальное понято только как понятие; в
частности, если это понятие полагается позитивно, между ними
остается возможное, лишь относительное тождество,
господство посредством понятия над тем, что является в качестве
реального и конечного, под которое равным образом подпадает
всё прекрасное и нравственное; но если понятие полагается
негативно, то налицо субъективность индивидуума в
эмпирической форме, и господство совершается не через рассудок, а
как естественная сила и слабость противостоящих друг другу
субъективностей; превыше этой абсолютной конечности и
абсолютной бесконечности остается абсолютное как пустота
разума, пустота неизменной непостижимости и веры, которую, в
себе неразумную, называют разумной потому, что
ограниченный своей абсолютной противоположностью разум признает
над собой высшее начало, из которого себя исключает.
В форме эвдемонизма принцип абсолютной конечности
еще не достиг полноты абстракции, так как и на стороне
бесконечного понятие положено не в чистом виде, но
наполненное содержанием: блаженством. В силу того, что понятие не
является чистым, оно находится в положительном равенстве
со своей противоположностью, поскольку то самое, что
составляет его содержание, есть как раз реальность, положенная
здесь в форме понятия, которая на другой стороне есть
множественность, так что никакой рефлексии на эту
противоположность не имеется, другими словами, противоположность
не объективна, и ни эмпирическое как негативность понятия,
ни понятие как негативное эмпирического, ни понятие как в
себе негативное не положены. Но в полноте абстракции
рефлексия на эту противоположность, или идеальная
противоположность, объективна, и каждое положено как нечто такое,
которое не есть оно, есть другое; единство и множественность
выступают здесь как абстракции друг против друга, благодаря
15
чему противопоставленные удерживают обе
противоположные стороны, позитивное и негативное, друг против друга; так
что эмпирическое есть для понятия в одно и то же время
абсолютное Нечто и абсолютное Ничто. Благодаря одной стороне
они суть предшествующий эмпиризм, благодаря другой - в то
же время идеализм и скептицизм, одно называют
теоретической философией, другое - практической философией, с точки
зрения первой, эмпирическое для понятия, или в себе и для
себя, имеет абсолютную реальность; с точки зрения второй
знание об эмпирическом есть ничто.
Внутри этого общего основного принципа абсолютности
конечного с проистекающей отсюда абсолютной
противоположностью конечного и бесконечного, реальности и идеальности,
чувственного и сверхчувственного и принципа потусторонности
бытия действительно реального и абсолютного эти философские
учения образуют снова противоположности друг другу, и притом
тотальность возможных для этого принципа форм. Кантовская
философия разрабатывает объективную сторону всей этой
сферы; абсолютное понятие, непосредственно для себя сущее как
практический разум, есть высшая объективность в конечном,
и постулируется абсолютно как идеальность в себе и для себя.
Философия Якоби есть субъективная сторона, она перемещает
противоположность и абсолютно постулируемое тождество в
субъективность чувства, как чувства бесконечного стремления
и неизлечимой боли. Фихтевская философия есть синтез обеих;
она требует формы объективности и основоположений, как и у
Канта, но в то же время полагает конфликт между этой чистой
объективностью и субъективностью как стремлением и
субъективным тождеством. У Канта бесконечное понятие положено в
себе и для себя и единственно лишь это признается философией;
у Якоби бесконечное, аффицированное субъективностью,
выступает как инстинкт, стремление, индивидуальность; у Фихте само
аффицированное субъективностью бесконечное снова делается
объективным как долг и стремление.
16
Сколь диаметрально сами эти философские учения
противополагают себя эвдемонизму, столь же мало они из него
выступают; единственная выраженная ими тенденция и намеченный
ими принцип - возвыситься над субъективным и
эмпирическим, указать (vindizieren) разуму на его абсолютность и его
независимость от обыденной действительности. Но так как этот
разум направлен лишь на эмпирическое, а бесконечное в себе
существует только в отношении к конечному, то эти
философские учения, борясь с эмпирическим, остаются непосредственно
в его сфере. Кантовская и фихтевская философия возвысилась,
пожалуй, до понятия, но не до идеи, а чистое понятие есть
абсолютная идеальность и пустота, которая имеет свое содержание
и свою сферу применения (Dimensionen) только в отношении
к эмпирическому, и притом посредством его же, и
обосновывает как раз абсолютный нравственный и научный эмпиризм,
который эта философия ставит в упрек эвдемонизму.
Философия Якоби не идет таким окольным путем - обособлять
понятие от эмпирической реальности, чтобы затем дать понятию
уничтожающее его содержание опять из этой эмпирической
реальности, помимо которой для понятия ничего не
существует, - но она, так как ее принципом непосредственно является
субъективность, есть непосредственный эвдемонизм, только
с имитацией негативности, когда она рефлектирует на то, что
мышление, которое еще не познается эвдемонизмом как
идеальное, негативное для реальности, в себе есть ничто.
Если прежние научные проявления этого реализма
конечного (что касается вненаучных, к ним принадлежат все деяния
и устремления новой культуры), локкианство и учения о
счастье, превращают философию в эмпирическую психологию и в
высший исходный пункт возводят субъекта и просто
существующее конечное, и если их вопросы и ответы были о том, чем
является согласно рассудочному исчислению универсум для
чувствующей и сознающей субъективности или для разума,
погруженного только в конечное и отказавшегося от созерца-
17
ния и познания вечного, то усовершенствованием и
идеализацией этой эмпирической психологии являются три названные
философские учения, которые состоят просто в познании того,
что бесконечное понятие противоречит эмпирическому
бытию, и что это противоречие между конечным и бесконечным
абсолютно. Но если конечное и бесконечное так противостоят,
то одно столь же конечно, как и другое; и над ними, по ту
сторону понятия и эмпирического, должна быть вечность, однако
познавательная способность и разум должны ограничиваться
только лишь указанной сферой. В таком, мыслящем лишь
конечное, разуме, обнаруживается, понятно, то, что он и может
мыслить лишь конечное, а в разуме как стремлении и
инстинкте - то, что он не может мыслить вечное. Идеализм, который
в субъективном измерении, а именно, в философии Якоби,
может иметь только форму скептицизма, и даже не истинного
скептицизма (так как здесь чистое мышление положено лишь
как субъективное, а собственно идеализм, напротив, состоит в
том, что мышление есть объективное), идеализм, на который
способны эти философские построения, есть идеализм
конечного, и не в том смысле, что конечное для них - ничто, но в
том, что здесь конечное взято в виде идеального, и конечная
идеальность, т. е. чистое понятие, [т. е.] бесконечность,
абсолютно противопоставленная конечности, положена вместе с
реальным конечным, причем оба равным образом абсолютно.
В соответствии с этим, существует тогда единственное в
себе несомненное: что мыслящий субъект есть разум, аффи-
цируемый конечным, и вся философия состоит в том, чтобы
определить универсум для этого конечного разума; так
называемая критика познавательных сил у Канта, невозможность
перелететь границы сознания и выйти к трансцендентному у
Фихте, отказ Якоби предпринимать что-либо для разума
невозможное означает не что иное, как абсолютно ограничивать
разум формой конечности, во всяком же разумном познании
не забывать об абсолютности субъекта и превращать эту ог-
18
раниченность в вечный закон и бытие, как в себе, так и для
философии.
Таким образом, в этих философских учениях не нужно
усматривать ничего иного, кроме возведения культуры
рефлексии в систему; культура обычного человеческого
здравого смысла, который поднимается до мышления всеобщего,
но который принимает бесконечное понятие за абсолютное
мышление, так как он остается обычным рассудком, и просто
разводит в стороны свое прежнее созерцание вечного и
бесконечное понятие, и пусть он или вообще отрекается от этого
созерцания и удерживается в понятии и эмпирии, или пусть
удерживает то и другое, но не может их объединить, не может
ни свое созерцание воспринять в понятие, ни, равным
образом, устранить понятие и эмпирию.
Муки возвышенных натур при этом огранич*ении или
абсолютном противопоставлении выражаются в тоскующем
стремлении, в сознании, что существует ограниченность, из
которой они не могут выйти, эти муки выражаются в вере в то,
что находится по ту сторону этой ограниченности, в
постоянной неспособности, равной невозможности, выйти за эти
пределы и возвыситься до самой по себе чистой и не содержащей
в себе тоскующего стремления (sehnsuchtlose) области разума.
Коль скоро прочный исходный пункт, который
всемогущее время и его культура определили для философии, есть
аффицируемый чувственностью разум, тогда то, к чему такая
философия может быть устремлена, не может быть
познанием Бога, но лишь тем, что называют познанием человека; этот
человек и человечество есть ее абсолютный исходный пункт,
а именно, как фиксированная, непреодолимая конечность
разума; не как отблеск вечной красоты, не как духовный фокус
универсума, но как абсолютная чувственность, у которой,
однако, есть способность верить [в возможность] раскрасить
себя в разных местах ей чуждым сверхчувственным. Как если
бы искусство, ограниченное искусством портрета, полагало
19
бы свой идеал в том, чтобы взгляду обыкновенного лица
добавить тоску, а выражению уст меланхолическую улыбку, при
этом богов, возвышающихся над тоской и меланхолией, ему
было бы просто запрещено изображать, как будто воплощение
вечного образа возможно только за счет человечности, - так и
философия должна изображать не идею человека, но
абстракцию эмпирического человечества с примесью ограниченности,
и нести неподвижно вбитый в себя кол абсолютной
противоположности; когда же она себе уясняет свою ограниченность
чувственным, ей хочется этот свой абстракт анализировать
или изящно и трогательно совсем его покинуть, украшая себя
одновременно поверхностным оттенком сверхчувственного и
указывая на веру как на нечто высшее. Но истину не обманешь
таким освящением конечного, которое продолжает
существовать, ведь подлинная святость должна была бы его отрицать.
Подобно тому, как художник не может дать действительности
подлинную истину (поскольку он, дав упасть на нее эфирному
лучу, целиком в него ее вбирает, но может лишь изобразить
действительность в себе и для себя, как она обычно
называется реальностью и истиной, не будучи ни тем, ни другим),
прибегает к трогательному средству против действительности, к
средству тоски и сентиментальности, и вульгарности во всех
отношениях дорисовывает на щеках слезы, а в уста вкладывает
[восклицание] «о, Боже!», благодаря чему его образы конечно,
устремляются от действительности к небесам, но, как летучие
мыши, не принадлежат ни птичьему, ни звериному племени,
ни земле, ни небу, и такая красота не без уродства, такая
нравственность не без слабости и низости, такой случающийся здесь
рассудок не без плоских мест, счастье и несчастье, которые
ведут игру, одно не без низости, другое не без страха и трусости,
но то и другое не могут не вызывать презрения; - и
философия, когда она своим способом, в форме понятия,
воспринимает конечное и субъективность как абсолютную истину, так
же мало может очистить их посредством приведения их в от-
20
ношение к бесконечному, ведь это бесконечное само не есть
истина, потому что оно не способно поглотить это конечное.
И если действительность и временное как таковое исчезает в
ней, то это надо оценить как жестокую вивисекцию, которая
человеку совершенно непозволительна, и как насильственную
абстракцию, у которой нет истинности, в особенности
практической истинности, и такая абстракция будет пониматься
как болезненное отсекновение существенной части от
полноты целого; но как существенная часть и как абсолютное в-себе
будет познано временное, эмпирическое и частичное; это так
же, как если бы тот, кто видит лишь основу, на которой стоит
произведение искусства, когда целое открылось бы его взору,
стал бы сетовать, что его лишили этой неполноты, что
неполнота восполнилась. Познавать конечное и означает познавать
часть и отдельное; если бы абсолютное было составленным из
конечного и бесконечного, то абстракция от конечного была
бы, конечно, потерей, но в идее конечное и бесконечное суть
одно, поэтому конечное как таковое исчезает в той мере, в
какой оно должно было бы иметь истину и реальность в себе
и для себя; оно ведь есть только то, что есть в своем
отрицании, лишь будучи отрицаемым, оно полагается как
подлинное утверждение. Наивысшая абстракция этого сделанного
абсолютным отрицания есть чистое «Я» (die Egoität), так же
как вещь есть наивысшая абстракция полагания; одно, как и
другое, есть, собственно, только негация другого; чистое
бытие, как чистая мысль, - абсолютная вещь и абсолютное «Я»
(Egoität) одинаковым образом делают конечное абсолютным,
и на той же самой ступени стоят, не говоря уже о других
явлениях, эвдемонизм и просветительство, а также философия
Канта, Якоби и Фихте, к более подробному критическому
разбору которых мы теперь обратимся.
Перевод д.ф.н. О.Ф. Иващук
21
A
КАНТОВСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Кантовская философия, согласно ее принципу
субъективности и формальному мышлению, по сути, состоит в том,
что она без обиняков должна быть признана критическим
идеализмом. И, уверенная в своей позиции, согласно которой
единство рефлексии должно быть сделано наивысшим, она
дает в своем беззаботном рассказе откровение того, что она
есть и чем хочет быть. Название «разум», которое она дает
понятию, требует разъяснения того, что в высшей степени
отягощено или скрыто. Согласно низшей точке зрения, где в ее
основании лежит поистине некоторая идея, она отчасти делает
усилие познать скрытность, в которой выражена идея, отчасти
преобразует само разумное достаточно быстро в нечто
понятное и обусловленное. Но вопреки этому она как основанная
на чистой возможности мышления, и как лишенное
всяческой реальности преувеличенное понятие, на своем пути
часто снова между прочим впадает в идею, которая достаточно
скоро оказывается совершенно пустой мыслью. И наивысшая
идея, на которую она наталкивается в своем критическом деле,
и она как некоторые пустые мечтания и как неестественная
пустая школьная шутка пытается из понятия выколупать
некоторую реальность, но она сама в качестве постулата ставит
в конце своей философии, что существует необходимая
субъективность, но не та абсолютная объективность, чтобы с этой
идеи как единственной, вместо того чтобы покончить с верой,
начать философию и признать ее единственным
содержанием. Если кантовская философия пребывает непосредственно
в противоположностях, и их тождество делает абсолютным
конец философии, т. е. чистой границей, которая является
только отрицанием, то, в противоположность этому, не может
быть усмотрена задача истинной философии в том, что проти-
22
воположности, которые открыты, ближайшим образом были
схвачены как Дух и Мир, как душа и тело, как Я и Природа и
т. д., должны быть разрешены в его конце, наоборот, ее
единственная идея, которая имеет для нее реальность и истинную
объективность, есть абсолютное снятие противоположности,
и это абсолютное тождество есть всеобщий субъективный
нереализуемый постулат, вопреки тому, что она есть
единственная истинная реальность. Не познание ее есть вера, т. е.
потусторонность для знания, а их единственное знание. Поскольку
теперь философия в абсолютном тождестве, ни та, которая
противоположна, ни другая, в своей абстракции от другой,
признается существующей для себя, и каждая
рассматривается в отдельности, она есть ничто, она есть идеализм. И кантов-
ская философия имеет заслугу быть идеализмом, поскольку
она доказывает, что ни одно понятие для себя, ни одно
созерцание для себя, нечто, созерцание для себя слепо и понятие
для себя пусто. И что конечное тождество обоих в сознании,
которое называется опытом, также мало является разумным
познанием; но поскольку кантовская философия это конечное
познание объявляет единственно возможным, и делает как
в себе существующую, позитивную, так и негативную, чисто
идеалистическую сторону, или также снова это пустое
понятие абсолютным, как в практическом, так и в теоретическом
разуме, она выпадает назад в абсолютную конечность и
субъективность. И вся задача и содержание этой философии
является не познанием абсолютного, а познанием субъективности
или критикой познавательных способностей.
«Я держусь того, что первым шагом так сказать необходимо
воздать должное тем различным исследованиям души, которые
были охотно предприняты, если мы точно рассмотрим наш
рассудок, исследуем и рассмотрим наши силы, к каким вещам они
приложимы. Если люди пойдут дальше в своих исследованиях,
насколько им позволяют их способности, и позволяют
блуждать в таком глубоком море, где они не могут найти никаких
23
следов, то нет ничего удивительного в том, что они вызовут
глубокие сомнения и постоянно вызывали много споров, которые
никогда не были разрешены и устранены, служили только тому,
чтобы поддержать и увеличить их сомнения, и укрепить их
наконец в совершенном сомнении. Если бы вопреки этому были
достаточно исследованы способности нашего рассудка, то
однажды было бы открыто, насколько далеко простирается наше
познание, и был бы найден горизонт, который проводит
решительную границу между светлой и темной частями, между тем,
что можно понять, и тем, что невозможно понять, то наверное
люди с меньшими трудностями справлялись бы с познанием
непознанного, и их мысли и речи применяли бы к другим вещам с
большим преимуществом и удовольствием»1.
Подобными словами Локк выражает в своем введении к
своему опыту цель своего предприятия, и эти слова вполне
применимы также к введению к кантовской философии,
которые служат в той же мере целям Локка, а именно ограничиться
только рассмотрением конечного рассудка.
Но внутри этих границ и несмотря на совершенно иначе
звучащий высший результат истинно разумная идея находит
1 Локк Д. Опыт о человеческом разуме // Локк Д. Соч. в 3-х т. Т. 1, М.
«Мысль», 1985, с. 94-95. Русский перевод: «На мой взгляд, первый шаг к
разрешению различных вопросов, с которыми почти наверняка должна
была столкнуться человеческая душа, состоит в исследовании нашего
собственного разума, изучении своих собственных сил и усмотрении того, к
чему они применимы...
Если, таким образом, люди, направляя свои исследования за
пределы своих способностей, пускают свои мысли странствовать по таким
глубинам, где они поднимают вопросы и умножают споры, которые никогда
не приводят к ясному решению, а только поддерживают и увеличивают
их сомнения и в конце уонцов только утверждают их в абсолютном
скептицизме. А между тем, если бы как следует были изучены способности
нашего разума, выявлены пределы нашего познания и найдены границы
освещенной и темной части вещей, постигаемой и непостигаемой нами,
люди примирились бы с открыто признанным неведением одной части и
с большей пользой и удовлетворенностью обратили бы свои мысли и
рассуждения на другую».
24
себе выражение в формуле: как возможны синтетические
суждения a priori. Но Кант сталкивается с тем, в чем он обвинял
Юма, а именно, что он эту задачу философии в дальнейшем
не определяет в достаточной степени и не продумывает ее в ее
всеобщности, а остается только при субъективном и внешнем
значении этого вопроса, и надеется вывести отсюда, что
разумное познание невозможно, и согласно его заключению все,
что называется философией, сводится к чистой иллюзии
ошибочного разумного взгляда.
Как возможны синтетические суждения a priori? Эту
проблему нельзя выразить иначе, как идею, что в синтетическом
суждении субъект и предикат, то особенное, это всеобщее, то
форма бытия, это форма мысли, - эти несравнимые
одновременно a priori, т. е. абсолютно тождественны. Возможность
этого полагает только разум, который есть ничто иное, как
это тождество подобных несравнимых. Эта идея
усматривается через плоскую дедукцию категорий, и в отношении к
пространству и времени не видно, где они должны быть, в
трансцендентальном обсуждении этих форм, но однако познаются
только в порядке, в котором первоначально синтетическое
единство апперцепции выходит на свет только при дедукции
категорий, а также как принцип фигурного синтеза, или
формы созерцания, а сами пространство и время как
синтетические отдельности и продуктивная сила воображения,
спонтанность и абсолютная синтетическая деятельность, понимается
как принцип чувственности, который до этого
характеризовался только как восприимчивость.
Это первоначальное синтетическое единство, т. е.
единство, которое не должно пониматься как продукт
противоположного, а как действительно необходимого, абсолютного,
противоположного первоначальному тождеству, не столько
принцип продуктивной силы воображения, слепого, т. е.
потонувшего в различиях, не отличающего себя от самого себя,
сколько полагающего тождественными противоположности,
25
но отличающего себя от различий единства, рассудка.
Отсюда ясно, что кантовские формы созерцания и формы
мышления лежат не как совершенно особенные изолированные
друг от друга способности, как это обычно себе
представляют. Одно и то же самое синтетическое единство, - и как оно
здесь называется, так оно и определяется, - является
принципом созерцания и рассудка, рассудок является единственной
высшей потенцией, в которой тождество, которое целиком и
полностью потоплено в многообразии, одновременно
является как противополагающая ему себя в себе всеобщность,
через что она является высшей потенцией, конституируется.
Поэтому Кант совершенно прав, когда он называет
созерцания без формы слепыми, ибо в созерцании не относительная
противоположность и, следовательно, также относительное
тождество между единством и различием, как это имеет
место в относительном тождестве и противоположности между
зрением и сознанием, а тождество как в магните полностью
тождественно с различием: но поскольку созерцание есть
чувственное, т. е. противоположность не снята как в
интеллектуальном созерцании, а в эмпирическом созерцании
должно выступить как таковое, то оно состоит также в этой
форме погруженности в бытие, и так противоположности
выступают как две формы созерцания по отношению друг к
другу, одна как тождество мышления, другая как тождество
бытия, как созерцание времени и пространства. Точно так же
понятие пусто без созерцания, ибо синтетическое единство
является только понятием, поскольку оно связывает
различие так, что оно одновременно помимо такового выступает
в относительной противоположности по отношению к нему.
Изолированное чистое понятие есть пустое тождество.
Только как относительно тождественное одновременно с тем,
чему оно противоположно, оно является понятием и
наполненным только через многообразие созерцания. Чувственное
созерцание А = В; понятие А2 = (А = В).
26
Что касается того главного обстоятельства, что
продуктивная сила воображения, как в форме чувственного
созерцания, как понятия созерцания, или опыта, так и опыта,
является действительно спекулятивной идеей, то тождество через
выражение синтетического единства видимости, как будто
оно предполагает антитезис, и многообразие антитезиса, как
нуждающегося в независимом от нее и существующем для
себя, следовательно, может содержаться в природе, ставшей
позже противоположностью. Одно это единство у Канта
непротиворечиво является абсолютным первоначальным
тождеством самосознания, которое абсолютно из себя полагает
суждение, или суждение в большей мере как тождество
субъективного и объективного в сознании. Это первоначальное
единство апперцепции называется из-за его
дополнительности, потому что в нем противоположности абсолютно
едины. Если абсолютный синтез, который абсолютный потому,
что он не является агрегатом составляющих многообразных
элементов, и именно согласно этому является подходящим к
нему, отделены от него и рефлектируют в свою
противоположность, так что одно есть то, что есть пустое Я, одно
понятие, другое - многообразие, тело, материя или что угодно.
Кант очень хорошо говорит в «Критике чистого разума», что
через пустое Я как простое представление не дано ничего
многообразного. Истинное синтетическое единство или
разумное тождество только то, которое является отношением
многообразного к пустому тождеству, к Я, из которого, как
первоначального синтеза, как мыслящий субъект, и
многообразное, как тело и мир, сначала отделены друг от друга, через
что, следовательно, Кант различает абстракцию Я, или
рассудочного тождества, от самого истинного Я, как абсолютного,
первоначально синтетического тождества как принципа.
Так Кант в действительности решает вопрос: как
возможны синтетические суждения a priori; они возможны через
первоначальное абсолютное тождество нетождественных, из
27
которого как непосредственного оно само сначала
отделяется как в форме суждения отделенных являющихся
субъекта и предиката, особенного и всеобщего. Но разумное или,
как выражается Кант, априорное этого суждения,
абсолютное тождество, как промежуточное понятие, не выступает
в суждении, а только в заключении. В суждении оно только
связка: «есть», нечто бессознательное. И само суждение есть
только преобладающее проявление различия. Разумное здесь
для познания погружено точно так же в противоположности,
как и для сознания вообще тождество в созерцании, связка,
не есть нечто мыслимое, познаваемое, а выражается как раз
непознаваемое бытие разумного. То, что выходит на свет и
имеется в сознании, есть только продукт, как член
противоположности: субъект и предикат. И только они являются в
форме суждения, а не в форме отдельного бытия положены
как предмет мышления. В чувственном созерцании
выступают по отношению друг к другу не понятие и реальное. В
суждении тождество как всеобщее вытаскивает себя как раз
из своей погруженности в бытие, в различие, которое таким
образом является как особенное, и выступает по отношению
к этому погруженному бытию. Но разумное тождество
тождества, как всеобщего и особенного есть бессознательное в
суждении, и само суждение есть только явление такового.
Обо всей трансцендентальной дедукции, как форм
созерцания, так и категорий вообще, без Я, которое есть
представляющее и субъект и сопровождающее все представления,
как их называет Кант, ничего невозможно понять, если не
различать то, что он называет возможностью первоначального
синтетического единства апперцепции, и эту способность
воображения, не как член, который вставляется между
существующим абсолютным субъектом и абсолютно существующим
миром, а как то, что является первым и первоначальным, и из
которого отделяются как субъективное Я, так и объективный
мир, только лишь необходимо двухчастное явление и продукт,
28
могут быть познаны единственно как В-себе. Эта сила
воображения как первоначальное двухстороннее тождество, которое,
с одной стороны, становится субъектом вообще, но с другой
стороны - объектом, и первоначально оба есть не что иное как
сам разум, идея которого была только что определена. Только
разум как являющийся в сфере эмпирического сознания. То,
что В-себе эмпирического сознания является самим разумом и
продуктивной силой воображения, как созерцающее, так и
созерцаемое, являются не особыми, отделенными от разума, и что
эта продуктивная сила воображения называется только
рассудком, поскольку категории как определенные формы
созерцающей силы воображения положены в форме бесконечного,
и фиксированы как понятия, которые в таком случае образуют
в своей сфере завершенную систему, это должно быть прежде
всего понято из того, что, если говорить о силе воображения,
что не рассудок, и еще менее разум, а только беззаконность,
произвол и выдумка, и не могут отделаться от представления
некоторого качественного многообразия возможностей и
способностей духа. Продуктивную способность воображения в
кантовской философии поэтому часто упускают из вида, потому
что ее чистая идея часто представлена, как и другие потенции,
почти в обычной форме психологических, но априорных, форм,
и Кант только априорное, будь то чувственное или рассудочное,
или какое-либо еще, считает не разумом, а только формальным
понятием всеобщего и необходимого, и, как мы сейчас увидим,
действительно само априорное делает снова чистым, т. е. не
первоначально синтетическим единством.
Но из того, что этот взгляд представлен как потенция
силы воображения, но ее двойственность схвачена как реф-
лектированное удвоение, а именно как суждение, а также его
тождество как рассудок и категория, следовательно, как в
равной мере рефлектированная и относительная, то абсолютное
тождество относительного должно быть рефлектировано как
фиксированное тождество всеобщего или категории и отно-
29
сительной двойственности всеобщего и особенного и
признано в качестве разума. Однако сила воображения, которая
есть разум, погружена в различии, как эта потенция снимается
только в форме бесконечности, фиксируется как рассудок, и
это чисто относительное тождество необходимо
противопоставляется особенному, непосредственно им аффицируется как
чуждым и эмпирическим, и в-себе обоих, тождество рассудка
и эмпирического, или априорное суждения, не выступает на
поверхности. И эта философия от суждения не доходит до
априорного заключения, от признания, что есть явление в-себе,
до познания этого в-себе. И поэтому абсолютное суждение в
кантовском изложении может, и в этой потенции должно быть
понято так, что многообразие чувственности, эмпирическое
сознание как созерцание и ощущение, как нечто в себе
связанное, а мир в себе как нечто распавшееся, которое только
через волевое действие самосознания понимающего человека
содержит некоторую объективную взаимосвязь и опору,
субстанциальность, многообразие и даже действительность и
возможность, некоторую объективную определенность, которую
человек усматривает и исторгает из себя. Вся дедукция как бы
содержит очень ясный смысл, вещи-в-себе и ощущения, - и
имея в виду, что ощущения и их эмпирическая реальность
остаются ничем иным, как только мыслимым, что ощущение ве-
щей-в-себе происходит, потому что от них вообще
происходит непостижимая определенность эмпирического сознания,
и они не могут быть ни созерцаемы, ни также познаны; то, что
является в опыте формой созерцания, принадлежит
фигуративному, а то, что есть понятие, принадлежит
интеллектуальному синтезу, для вещи-в-себе не остается никакого другого
органа, кроме как ощущения, ибо только оно одно основано не
a priori, т. е. не в человеческих познавательных возможностях,
к которым принадлежат только явления, - что вещи-в-себе, и
ощущения не имеют объективной определенности. Их
объективная определенность есть их единство, но это единство явля-
30
ется только самосознанием имеющего опыт субъекта. И таким
образом нечто так же мало истинно априорное и в себе
существующее, как и всякая другая субъективность. Критический
идеализм поэтому состоит не в чем ином, как в формальном
знании, что субъект и вещи, или не-Я, каждое существует для
себя, Я утверждения «Я мыслю» и вещь-в-себе положены не
так, как если бы каждое из них было субстанцией, одно как
душевная вещь, а другое как объективная вещь, но Я
предложения «Я мыслю», как субъект, является абсолютным, так же
как и лежащая напротив него вещь-в-себе, оба без
дальнейшего определения в категориях. Объективная определенность
и ее формы, выступают только по отношению друг к другу, и
это их тождество является формальным, которое выступает
как причинная взаимосвязь, так что вещь-в-себе становится
объектом, поскольку она содержит некоторую определенность
от деятельного субъекта, которая в обоих через одно это есть
одно и то же, но помимо этого являются чем-то полностью
несравнимым, они становятся тождественными, как Солнце
и камень, в отношении тепла, если Солнце нагревает камень.
В подобном формальном тождестве состоит абсолютное
тождество субъекта и объекта, и трансцендентальный идеализм
переходит в этот формальный, - или по большей части и
собственно, - в психологический идеализм. - Суждение, если
субъект и объект, оторванные друг от друга, снова
выступает двояко в субъективном и объективном, как переход от
некоторого объективного к некоторому другому, которые сами
снова полагаются в отношение некоторого субъективного и
объективного, и в тождество обоих. Точно так же от одного
субъективного явления к некоторому другому. Так же трудно
понять объективное как субъективное или особенное тела, но
как движение объективного или всеобщего. Или как
субъективное, силу воображения, как субъективное или особенное,
Я, но как объективное или всеобщее опыта. Эти отношения
явления как суждения Кант выставляет с их объективной сто-
31
роны в системе принципов способности суждения. И
поскольку тождество в некотором подобном отношении суждения
выступает как нечто разнородное, например, поскольку то,
что есть суждение, необходимо, т. е. абсолютно привязано к
действию, следовательно, является трансцендентальным
тождеством, в этом можно усмотреть истинный идеализм. Но вся
эта система принципов сама снова выступает как
сознательный человеческий рассудок с одной стороны, как нечто
субъективное. И теперь возникает вопрос, какое отношение имеет
это суждение, а именно эта субъективность рассудка к
объективности? Оба тождественны, но тождественны формально,
поскольку неоднородность явления здесь опущена. Форма А
как таковая налична и в субъекте, и в объекте. Она
положена не одновременно некоторым неоднородным способом, т. е.
один раз как субъективное, другой раз как объективное, один
раз как единство, другой раз как многообразие, как
противоположность и явление должны быть признаны. Не так, что
один раз как точка, а другой раз как линия, не как 1 = 2, а так,
что если есть субъективная точка, то есть также и объективная
точка, если есть субъективная линия, то есть также и
объективная линия. Одно и то же самое один раз рассматривается как
представление, другой раз как существующая вещь; дерево как
мое представление, и как вещь; тепло, свет, краснота, сладость
и т. д. как моё ощущение и как особенность некоторой вещи;
так же как категория полагается один раз как отношение моих
мыслей, другой раз как отношение вещей. Что только подобная
разница, которая здесь представлена, только различные
стороны моего субъективного представления, и что эти стороны
положены не как сами снова объективные в противоположности
как познание явления, а как то формальное тождество
является сущностью, это приводит к сущности формального или
психологического идеализма, который так же мало познает
явление абсолютного согласно его истине, как и абсолютное
тождество, - одно непосредственно неотделимо от другого, - и в
32
котором кантовская, но в особенности фихтевская философия
проходит все моменты. - Подобное формальное тождество
непосредственно имеет рядом, или против, с собой некоторую
нетождественность, с которой она должна соединяться
некоторым непонятным образом. Таким же образом получается на
одной стороне Я с его продуктивной силой воображения, или
скорее - с его синтетическим единством, так изолированно
положенное формальное единство многообразного, но рядом с
которым существует бесконечность ощущений и, если хотите,
вещей в себе, царство которых, поскольку оно лишено
категорий, может быть не чем иным, как бесформенной кучей, хотя
она содержит в себе также согласно критике способности
суждения царство прекрасных определенностей природы, для
которых способность суждения может существовать не
подчиненным образом, а только рефлексивным. Но, поскольку все
же объективность и основание происходят вообще только из
категорий, это царство, но без категорий, и все же существует
для себя и для рефлексии, то его невозможно представить
иначе, как того железного короля в сказке, которому в прожилках
объективности внедрили человеческое самосознание, и вот он
стоит как истукан, чьи золотые прожилки формального
трансцендентального идеализма вылизали блуждающие огоньки,
так что статуя оседает и превращается в нечто среднее между
формой и кучей отвратительного вида; и для познания
природы, помимо впрыснутого в ее прожилки самосознания, не
остается ничего другого кроме ощущений.
Следовательно, при таком подходе объективность
категорий в опыте, и необходимость этих отношений снова
становятся чем-то случайным и субъективным; этот рассудок есть
человеческий рассудок, часть познавательных способностей,
рассудок фиксированного пункта яйности (der Egoität). Вещи,
как они становятся познаваемыми через рассудок, являются
только явлениями, ничто в себе, что есть весь действительный
результат; но непосредственное заключение состоит в том, что
33
также рассудок, который познает только явления и ничто в себе,
есть явление и ничто в себе. Но так познающий дискурсивный
рассудок напротив становится в себе и абсолютным и
догматически рассматривает познание явлений как единственный
способ познания и отрицает разумное познание. Если формы,
через которые существует объект, являются ничто в себе, то
они должны быть также ничто в себе для познающего разума.
Но то, что рассудок есть абсолютное человеческого духа,
относительно этого у Канта не возникает ни малейшего сомнения,
а рассудок есть абсолютно фиксированная непреодолимая
конечность человеческого разума. - Решая задачу объяснить
общность души и тела Кант справедливо усматривает трудность
(не объяснения, а познания) в изначальной несравнимости
души с предметами внешних чувств. Но если подумать, что
оба вида предметов относятся к этому не внутренне, а только
поскольку одно с другим являются внешне, отделенными друг
от друга, вместе с тем то, что лежит в основе явления материи
как сама вещь в себе, не может наверное быть таким
несравнимым, то трудность исчезает, и не остается ничего иного, как
то, как вообще возможна общность субстанций, (этого более
чем достаточно, чтобы обыграть эти трудности) которые надо
разрешить - без сомнения лежит также вне поля человеческого
познания. Думается, что это может происходить с любым
человечеством и его познавательными способностями, что Кант
свою мысль о том, что та вероятно не так несравнима, а что
существует только в явлении, так мало ценит, и считает эту
мысль чистым случаем возможности, а не разумной.
Подобный формальный идеализм, который, таким
образом, полагает, с одной стороны, абсолютную точку зрения
яйности и, с другой стороны, абсолютное многообразие или
ощущение, таким образом, является дуализмом, и
идеалистическая сторона, которая приписывает субъекту определенные
отношения, которые называются категориями, является не чем
иным, как расширением локкианства, которое получает по-
34
нятия через объект, и только восприятие вообще, некоторый
всеобщий рассудок полагает в субъект. Здесь, напротив, этот
идеализм определяет восприятие как имманентную форму
самого себя, и через это в любом случае получает еще
бесконечную возможность утверждать, что пустота восприятия, или
спонтанность, a priori абсолютно наполняется некоторым
содержанием, благодаря чему определенность формы есть не что
иное, как тождество противоположностей, через которые,
следовательно, априорный рассудок одновременно становится по
крайней мере в общем апостериорным, ибо апостериорность
является не чем иным как противоположностью априорности,
и таким образом формальное понятие рассудка, априорно и
апостериорно, должны быть даны как тождественные и не
тождественные, но идея которого остается рассудком, и познается
в некотором абсолютном единстве, но продукт которого есть
только синтетическое суждение a priori. Следовательно, внутри
рассудка, поскольку в нем самом всеобщее и особенное едины,
является спекулятивной идеей, и должно быть спекулятивной
идеей; ибо противоположность суждения должна быть a priori
необходимой и всеобщей, т. е. абсолютно тождественной. Но
она остается в пределах долженствования; ибо это мышление
есть опять-таки рассудок, противоположность эмпирической
чувственности; вся дедукция является анализом опыта, и по-
лагание некоторого абсолютного антитезиса и дуализма. Что
рассудок есть нечто субъективное, для которого вещи
являются не в себе, а только явлениями, имеет, таким образом,
двойственный смысл: это очень правильно, что рассудок выражает
принцип противоположности и абстракцию конечности, но
другой смысл в том, что согласно ему эта конечность и
явление в человеке является абсолютным, не в себе вещей, но в себе
познающего разума, как субъективное качество духа он должен
быть абсолютным. Но сам факт вообще, что он установлен как
нечто субъективное, он не признается как нечто абсолютное,
и сам должен быть равнодушным к формальному идеализму,
35
будь то необходимо и сообразно своей форме признанный ум
установлен субъективно или объективно. Когда ум будет
рассматриваться индивидуально, так как это право считать
абстракции формы в своей тройственности его ум сознания, или,
как понимание природы, как форма сознательного или
бессознательного разума, так что, как Я интеллектуализированных
в уме, [он] хорошо продуманно реализуется в природе. Если
бы вообще существовал рассудок в себе, он был бы в
природе, как некоторый в себе и для себя понимаемый мир помимо
понимающего познания, то он имел бы столько реальности,
как и мыслящий себя при помощи интеллектуальности
рассудок. Опыт субъективен как сознательный настолько же,
насколько опыт и объективен, есть бессознательная система
многообразия и связей мира. Но мир поэтому не есть ничто
в себе, потому что только сознательный рассудок и дает его
формы, но потому, что они имеют природу, то есть сверх
конечности и рассудка. И точно так же сознательный рассудок
ничто в себе не потому, что он человеческий рассудок, а
потому, что он рассудок вообще, то есть в нем есть абсолютное
бытие противоположности.
Поэтому, следовательно, мы должны считать заслугой
Канта не то, что он установил формы, которые выражаются в
категориях, в которых человеческое познание положено как куча
абсолютных конченностей, но то, что он главным образом
понял в форме трансцендентального воображения идею истинной
априорности, но что также через это в рассудке положено
начало идеи разума, что он понял мышление или форму не
субъективно, а как взятую в себе, не как нечто бесформенное,
пустую апперцепцию, но что он мышление понял как рассудок, как
истинную форму, а именно как троичность. В этой троичности
единственно заключено семя спекулятивного, потому что в нем
заключено также первоначальное суждение, или
двойственность, следовательно, возможность самой апостериорности, и
апостериорность таким образом прерывается, абсолютно про-
36
тивопоставляется априорности, и именно поэтому
прекращается и априорность. Но чистая идея рассудка, который является
одновременно и апостериорным, идеи абсолютной середины
созерцающего рассудка мы коснемся позже.
Прежде чем показать, как эта идея Канта
одновременно как апостериорный или интуитивный рассудок, и как он
ее высказывает, представлена очень хорошо, но как он
снова сознательно уничтожил её, мы должны рассмотреть, чем
может быть разум, который отказывается от этой идеи.
Ради этого отказа у нее не было другого выбора, кроме чистой
пустоты тождества, в состоянии которого оно приходит, если
рассматривать разум только в суждении, как для себя
существующую чистую всеобщность, то есть субъективное, как оно
есть в своем полностью очищенном от многообразия
состоянии, как чисто абстрактное единство. Человеческий рассудок
является сведением многообразия к единству самосознания.
В анализе получается нечто субъективное, как связывающая
деятельность, которая сама как спонтанность имеет
измерение, которая проявляет себя в категориях, и постольку
является рассудком. Но абстракция от содержания как в том
случае, когда это привязывание происходит через ее отношение к
эмпирическому, так и благодаря ее имманентной
особенности, которая выражается в ее измерении, это пустое единство
есть разум. Рассудок есть единство возможного опыта, но
разумное единство относится к рассудку и к его суждениям. В
этом всеобщем определении разум поднимается из области
относительного тождества рассудка во всяком случае, и этот
отрицательный характер приводит к тому, что оно понимается
как абсолютное тождество. Но оно должно быть также снято,
чтобы в воображении выступить наиболее ярко, уже депотен-
цированная в рассудке идея, в разуме полностью погружается
в формальное тождество. Как Кант делает это пустое единство
с правом лишь регулятивным, а не конститутивным
принципом, ибо как должно это непосредственно бессодержательное
37
что-то конституировать, принципом, как он полагает это как
безусловное, рассмотрение этого имеет отчасти тот интерес,
что для того, чтобы конституировать эту пустоту, Кант
полемически выступает против разума, и разумное, которое
признано в рассудке и его дедукции как трансцендентальный
синтез, только постольку, поскольку он признается не как продукт
и в своем явлении как суждение, а чтобы быть признанным в
качестве разума, снова выкорчевывает себя. Это представляет
интерес также в особенности в том отношении, как это пустое
единство все же может в качестве практического разума снова
стать конститутивным, породить себя из самого себя и дать
самому себе содержание. Как далее в конечном счете идея
разума снова представляется чистой, но снова уничтожается, и
как абсолютная потусторонность безумности веры, положена
как пустое для познания и тем самым субъективность, которая
кажущимся невинным образом выступает уже в
представлении рассудка, остается абсолютным и принципом.
Что разум как безмерная деятельность, как чистое понятие
бесконечности в противоположность к конечному установлено
и в нем как абсолютное, следовательно, как чистое единство без
созерцания, является в себе пустым, - это Кант признает
совершенно и во всех отношениях. Но непосредственное
противоречие, которое заключено в этом, что эта бесконечность, которая
непосредственно обусловлена через абстракцию от своей
противоположности, и является помимо этой противоположности
непосредственно ничто, однако одновременно утверждается как
абсолютная спонтанность и автономия. Как свобода она
должна быть абсолютной, ибо сущность этой свободы состоит в том,
чтобы существовать через противоположное. Для этой системы
это непреодолимое и разрушающее противоречие становится
реальной непоследовательностью, в которой эта абсолютная
пустота дает себе некоторое содержание как практический
разум и должна распространиться в форме долга.
Теоретический разум, который должен взять от рассудка многообразие и
38
его только регулировать, не предъявляет никаких претензий
ни на автономное достоинство, ни на самосвидетельство Сына
из себя, и должен свою собственную пустоту и недостоинство
мог вынести в этом дуализме чистой разумности и
рассудочного многообразия, и без потребности быть серединой и
имманентным познанием, остается предоставленным самому себе.
Вместо идеи разума, которая происходит в процессе дедукции
категорий как первоначальное тождество единого и
многообразного, здесь совершенно выходит из его явления как рассудок,
это явление по одному из своих членов, становится единством,
и тем самым также по другому перманентным, и завершает
абсолютную конечность. Снова разворачивается разумное, снова
извлекается имя идеи из Платона, познаются как идеи
добродетель и красота, но сам этот разум приносит не так много, не в
силах произвести идею.
Полемическая сторона этого разума в его паралогизмах не
имеет никакого другого интереса, кроме как рассудочных
понятий, которые предицируются со стороны Я, должна быть
снята, и из сферы вещей и объективных конечных
определений подняться к интеллектуальности, в ней нет никакого
определенного измерения и отдельных форм рассудка, чтобы
предицировать со стороны духа, но абстрактная форма самой
конечности; и преобразовать «Я мыслю» не в некоторую
существующую монаду в форме субстанции, а в
интеллектуальную монаду как некоторую фиксированную единицу, которая
обусловлена через бесконечное противопоставление и
является абсолютной в этой конечности. Так что Я из душевной
вещи преобразуется в качественную интеллектуальность, в
некоторую интеллектуальную абстрактную и как таковую
абсолютную единицу, которую предшествующее догматическое
объективное преобразуется в некоторую догматическую
субъективную абсолютную конечность.
В математических антиномиях применение разума
рассматривается как простая отрицательность по отношению к
39
фиксированному рефлексией, через что производится
непосредственно эмпирическая бесконечность. А положено и
одновременно не положено; оно положено, поскольку оно остается
тем, что оно есть, оно снято, поскольку оно перешло во что-то
другое; это пустое требование чего-то другого, и абсолютное
бытие которого, для которого требуется нечто другое, дает эту
эмпирическую бесконечность. Антиномия возникает, потому
что как инобытие, так и бытие, полагает противоречие в его
абсолютной непреодолимости. Одна сторона антиномии,
следовательно, должна быть, что является здесь определяющим
пунктом, и противоречие, и противополагание, что
противоположность, другая сторона становится положенной; другая
сторона антиномии - наоборот. Если Кант признал эту борьбу,
что она возникает только через и в конечном, и поэтому
возникает необходимая видимость, то он отчасти не разрешает ее,
потому что он не снял самоё конечность, а снова делает борьбу
чем-то субъективным, ту же самую борьбу он оставляет
существовать. Кант отчасти мог использовать трансцендентальный
идеализм только как отрицательный ключ к ее разрешению,
поскольку он отрицает обе стороны антиномии, как нечто в
себе существующее, но позитивное этих антиномий, их центр
через это не является познанным. Разум является только с его
чистой стороны, как снимающий рефлексию, но он сам в его
собственной форме не выступает. Однако эта отрицательность
уже вполне достаточна, чтобы сохранить бесконечный прогресс,
ибо он есть та же самая антиномия что и бесконечный регресс,
и сама есть только в конечном и для конечного. Практический
разум, который дает ему убежище, и должен абсолютно
конституироваться как свобода, познает также через эту
бесконечность прогресса свою конечность и неспособность сделать
себя абсолютно значимым.
Но разрешение динамических антиномий, не осталось
чисто отрицательным, а подтверждает абсолютный дуализм этой
философии. Она снимает противоречие за счет того, что она
40
делает его абсолютным. Свобода и необходимость,
интеллигибельный и чувственный мир, абсолютная и эмпирическая
необходимость связаны друг с другом, производят некоторую
антиномию. Ее разрешение состоит в том, что эти
противоположности соотносятся между собой не этим неубедительным
образом, а они берутся как абсолютно несравнимые,
существующие вне всякой общности. И перед неудовлетворительным
и беспринципным отношением свободы и необходимости,
которое видит заслугу в том, что безусловно полностью
отрывает интеллигибельный мир от чувственного, что их абсолютное
тождество становится совершенно чистым. Но их отрыв друг
от друга делается Кантом не для этого, а что отрыв должен
быть абсолютным, они мыслятся совершенно вне всякой
общности, поэтому они не противоречат друг другу.
То, что дано в этом так называемом разрешении
антиномий, выступает просто как мысль, что свобода и необходимость
могут быть полностью отделены друг от друга, категорически
полагается в некоторой другой форме рефлексии, а именно в
знаменитой критике спекулятивной теологии, в которой
позитивно утверждается абсолютное противопоставление свободы
в форме понятия и необходимости в форме бытия и
одерживается полная победа над ужасным ослеплением выше
упомянутой философии над антифилософией. Тупой рассудок здесь
наслаждается своим триумфом над разумом, который
является абсолютным тождеством высшей идеи и абсолютной
реальности, в полной уверенности в своей самодостаточности. Кант,
таким образом, сделал свой триумф еще более блестящим и
приятным, что он то, что называют онтологическим
доказательством бытия Бога, в непосредственной форме, какая
только возможна, и которая была ему дана Мендельсоном и
другими, которые сделали существование некоторой особенностью,
через которую, следовательно, тождество идеи и реальности
выступает как добавление одного понятия к другому. Как же
Кант вообще даже невежество и отсутствие знания того, что
41
выходило бы за чисто историческую справку, в особенности
показал в опровержении такового.
После этого полного попрания разума и ликования рассудка
по этому поводу, постановило как Абсолют, есть конечность как
высшей абстракции субъективности или сознательной
конечности, то и в его позитивной форме, и в этом он практического
разума. Как чистый формализм этого принципа, пустота
выполняет с контрастом эмпирических изобилия и подготовки кадров
для системы, мы находимся в проводимом и последовательном
развитии, которое у Фихте становится интеграцией этого пустого
единства и его противоположности друг с другом.
Вот самый интересный момент кантовской системы, а
именно, тот пункт, который является серединой между
эмпирическим многообразием и абсолютно абстрактным
единством, но опять же не для области знаний, но только стороной
его внешнего вида, но не причиной, причина обусловлена,
признана в качестве мысли, но не как реальность.
В рефлектирующем суждении Кант находит именно
средний член между понятием природы и понятием свободы, то
есть между определенным в понятии объективным
многообразием, рассудком вообще, и чистой абстракцией рассудка.
Область тождества того, что в абсолютном суждении об этой
сфере теоретической философии снимается так же мало, как
и в практической философии, является субъектом и
предикатом. Но это тождество, которое единственно является
истинным и единственно разумом, является, согласно Канту, не
разумом, но только рефлектирующей способностью суждения.
Поскольку Кант рефлектирует здесь о разуме в его реальности,
как сознательном созерцании, о красоте, и о ней как о
бессознательном созерцании, об организации, он высказывает идею
разума более или менее формальным образом. Для идеальной
формы красоты Кант выдвигает идею закономерной
способности суждения, закономерности без закона, и свободного
совпадения способности суждения с рассудком. Пояснения
42
об этом, например об эстетической идее, что это
представление способности, которая сильно способствуют мышлению,
что без этого какое-либо определенное понятие не может быть
адекватным, которое, следовательно, невозможно полностью
выразить в языке и сделать понятным, является весьма
эмпирическим, ибо здесь нет никаких признаков, которые
показывают, что мы находимся здесь в области разума. - Там где Кант
приходит к разрешению антиномии вкуса найдя ключ к
разгадке в разуме, там находится не что иное, как неопределенная
идея сверхчувственного в нас, что невозможно сделать более
понятным, кроме как самое его понятие дать в тождестве
природы и понятия свободы. Эстетическая идея, согласно Канту,
не может дать никакого познания, потому что она содержит
в себе понятие сверхчувственного, которому никогда
невозможно найти соответствующее созерцание. То
непредставимое представление способности воображения, это недемонс-
трируемое понятие разума. Как будто бы не эстетическая идея
имеет свое представление в идее разума, а идея разума
представлена в красоте, что Кант называет демонстрацией, а
именно представление понятия в созерцании. Но Кант требует как
раз того, что составляет основу математических антиномий, а
именно некоторого подобного созерцания для идеи разума, в
которой идея воспринимается как одна возле другой как
чисто конечное и чувственное и в то же время также как
сверхчувственное, как нечто потустороннее опыту, не в абсолютном
тождестве созерцаются чувственное и сверхчувственное, - и
экспозиция и познание эстетического, в котором эстетическое
исчерпывается при помощи рассудка. Поскольку наилучшее в
красоте, как познаваемой, это созерцаемая идея, то есть форма
противоположности созерцания и понятия здесь устраняется,
то Кант признает это выпадение как нечто отрицательное в
понятии сверхчувственного вообще, но и то, что красота
позитивно созерцается, или, как говорит Кант, дана для опыта, и
то, что, поскольку принцип красоты экспонируется как тож-
43
дество понятий природы и свободы, сверхчувственное,
интеллигибельный субстрат природы вне нас и в нас, вещь в себе
- как определяет Кант сверхчувственное, признается
некоторым поверхностным образом. Более того, нельзя сказать, что
оно раз и навсегда положено в основании противоположности
сверхчувственного и чувственного, так что сверхчувственное
положено ни как познаваемое, ни как созерцаемое. Благодаря
тому, что разумное в этом неразрешимом
противопоставлении, и как сверхчувственное, и как созерцание и как разумное
познание, твердо установлено, эстетическое содержит
отношение к способности суждения, и некоторой субъективности,
для которой сверхчувственное, принцип целесообразности
природы приспособлен к нашей познавательной
способности, но ни это созерцание не становится доступным для идеи
и познания, ни его идея - для созерцания. Оно,
следовательно, становится сверхчувственным, поскольку оно является
принципом эстетического, снова не является сознательным; и
прекрасное оказывается чем-то таким, что относится только
к человеческой познавательной способности и согласованной
игре ее многообразных сил, следовательно - непосредственно
чем-то конечным и субъективным.
Рефлексия на объективную сторону, а именно на
бессознательное созерцание реальности разумом, или
органическую природу, в критике телеологической способности
суждения, идея разума проявляется более определенно, чем в
предшествующем понятии гармонической игры
познавательных сил, а именно в идее созерцающего рассудка, для
которого возможность и действительность являются одним. Для их
понятия (речь идет исключительно о возможности предмета)
и чувственные созерцания, (которые дают нам нечто, без чего
однако его невозможно познать как предмет), оба выпадают.
Одно - интуитивный рассудок, который не идет от общего к
особенному и, таким образом, (через понятие) к отдельному,
для которого случайность в совпадении природы в ее продук-
44
тах по особым законами не касаются рассудка, в котором как в
первоначальном рассудке возможность частей и т. д., согласно
их структуре и внутренней связи, зависит от целого. В свете
этой идеи Кант признает в то же время, что мы по
необходимости нуждаемся в ней. И идея этого архетипического
интуитивного рассудка в сущности есть ничто иное, как та же самая
идея трансцендентальной способности воображения, которую мы
рассматривали выше, ибо это есть созерцающая деятельность,
и одновременно ее внутреннее единство есть не что иное, как
единство самого рассудка, категории в своем применении
опущены, которое становится рассудком и категорией,
поскольку они отделяются от применения. Трансцендентальная
способность воображения, таким образом есть сам созерцающий
рассудок. Необходимость этой идеи, которая возникает здесь
только как мысль, несмотря на это, не должна от нее преди-
цировать реальность, а мы должны держаться всякий раз за
то, что эсеобщее и особенное абсолютно необходимо
различные вещи, рассудок для понятия и чувственное созерцание для
объекта, - две совершенно гетерогенные части. Идея есть
нечто абсолютно необходимое, но и что-то проблематичное, для
нашей познавательной возможности признается ничем иным,
как формой его явления в (как Кант называет)
осуществлении, в котором возможность и действительность становятся
неразрывными, в котором всеобщее и особенное едины,
спонтанность которого является одновременно созерцающей. Кант
не имеет никакого другого основания кроме непосредственно
опыта и эмпирической психологии для того, чтобы отстоять
человеческую познавательную способность согласно ее
сущности, как представляется, а именно в его продвижении от общего
к особенному или наоборот - от особенного к всеобщему. Но в
этом он сам мыслит некоторый интуитивный рассудок, к нему
приводит абсолютно необходимая идея, он сам выставляет
противоположный опыт от мышления некоторого
недискурсивного рассудка, и доказывает, что его познавательная спо-
45
собность познает не только явление и отрыв в нем
возможного от действительного, но и разум и В-себе-бытие. Кант здесь
имеет перед собой обоих, идею некоторого разума, в котором
возможность и действительность абсолютно тождественны,
и его явление как способность познания, где они разделены,
Он находит в опыте своего мышления обе мысли, но в выборе
между обоими его натура отвергает необходимость мыслить
разумное, некоторую созерцающую спонтанность, и
решается открыть себя для явления. - Он, в себе и для себяу признает,
что, если это возможно, чтобы механизм природы, причинное
отношение и телеологический техницизм возможно, что
механизм природы, причинно-следственной связи, и
телеологический техницизм являются единым, т. е. не то что они
определены через некоторую ей противоположную идею, а что то, что
абсолютно отделено от механизма, одна как причина, другая
как действие, является в некоторой эмпирической
взаимосвязи необходимости, в некотором первоначальном тождестве,
как первичное и абсолютно взаимосвязанное. Несмотря на
то, что Кант не признает это невозможным, следовательно, за
некоторый вид рассмотрения, то он все же остается при этом
способе рассмотрения, согласно которому они
непосредственно разделены, и что они познаны, нечто непосредственно
случайное, абсолютно конечное и субъективная познавательная
способность, которую он называет человеческой
познавательной способностью, и заявляет разумное познание, для
которого организм, как реальный разум, заявленный ранее принцип
природы и тождество всеобщего и особенного, как
трансцендентное. Он признает, следовательно, также в спинозизме
идеализм конечных причин в том смысле, как если бы Спиноза
хотел отнять от идеи конечных причин всякую реальность,
и как основание для объяснения целесообразности, которую
он не отрицает, вещи природы он называет просто единством
субъекта, которому они все принадлежат и делает чисто
онтологическим принципом, (так должно называться рассудочное)
46
абстрактное единство, (как единство, которое Кант называет
разумом), чтобы чистое представление единства субстрата
могло действовать не только как идея также только
непреднамеренной целесообразности. Если бы Кант имел в спинозизме
не его рассудочное единство, которое он называет
теоретическим и практическим разумом, а его идею единства некоторого
интуитивного рассудка, как и в каком понятии и созерцании,
возможность и действительность являются единством,
актуально его имеют, то спинозовское единство он понимал бы не
как абстрактное, которое лишено целесообразности, т. е.
абсолютной привязанности к вещам, а необходимо принять за
абсолютно интеллигибельное и в себе органическое единство,
цель природы, которую он понял бы как некоторое
определенное бытие частей благодаря целому, как тождество причины
и действия, непосредственно таким способом разумно познал
бы. Но такое истинное единство, органическое единство
интуитивного рассудка не может быть помыслено. Здесь должен
познавать не разум, а это должно рефлектироваться через
способность суждения и стать его принципом, чтобы быть в
состоянии мыслить, как если бы природу определял обладающий
сознанием рассудок. Кант очень хорошо понимает, что это не
объективное утверждение, а только нечто субъективное, но эта
субъективность и конечность должны оставаться максимой
абсолютного познания. В-себе не невозможно, что механизм
совпадает с целесообразностью природы, а для нас людей это
невозможно. Поскольку для познания этого совпадения требуется
иное, чем чувственное созерцание и определенное познание
интеллигибельного субстрата природы, из которого сами явления
механизма могут иметь основание в особых законах, которые
полностью превосходили бы все наши возможности.
Вопреки самому Канту в прекрасном мы имеем другое
созерцание чем чувственное, и поскольку он субстрат
природы обозначает как интеллигибельный, она разумна и как
тождественная со всяким разумом, как и познание, в кото-
47
ром понятие и созерцание оторваны друг от друга, для
субъективного конечного познания, познание признается только
как созерцание, то оно должно все же в этом конечном
познании оставаться абсолютным. Вопреки этому
познавательная способность идеи и разумного в состоянии, все же
непосредственно познавать не при помощи их, а только если оно
соответствует явлению органического и познает, наконец,
самое себя, считает себя абсолютным. Так же как
действительно спекулятивная сторона кантовской философии может
состоять единственно в том, что идея была столь
определенно продумана и высказана, и насколько она сама по себе
интересна, если следовать этой стороне его философии, то
намного труднее, если только разумное снова не запутается,
но с полным сознанием портят высшую идею и усматривают
выше себя рефлексию и конечное познание.
Из этого представления получается коротко говоря
трансцендентальное знание в этой философии, которая, после того
как отрефлектирована дедукция категорий из органической
идеи продуктивной способности воображения в
механическое отношение единства самосознания, которое, в
противоположно эмпирическому многообразию и само
превращается в рефлектированное и формальное знание. К единству
самосознания, которое есть в то же время объективное
единство, категория, формальное тождество, к этому единству
должен присоединиться некоторый Plus эмпирического через это
тождество не определенный непостижимым образом как нечто
чуждое, и это присоединение некоторого В к чистой яйности
называется опыт, или присоединение А к В, если В положено
как первичное действуя разумно. Некоторое А имеет
знаменателем А + В. АвА + В есть объективное единство
самосознания. В, эмпирическое, содержание опыта, которое связано как
многообразие через единство А. Но для А В является чем-то
чуждым, в А не содержащимся, и сам Plus, а именно связь тех
связанных и этого многообразия, непостижима. Этот Plus был
48
признан как продуктивная сила воображения, но поскольку
эта продуктивная сила воображения является особенностью
только субъекта, человека и его рассудка, она сама покидает
свое центральное положение, через что он только и является
тем, что он есть, и становится чем-то субъективным. Это все
равно, как представить то формальное знание, как знание,
нанизанное на нить тождества или в свою очередь каузальной
связи. Ибо А как всеобщее, поскольку оно положено в (А + В)
как противоположное особенному, есть причина, или рефлек-
тируется тем, что в обоих содержится одно и то же А, которое
как понятие связано с особенным, так что это каузальное
отношение выступает как отношение тождества, с той стороны, с
которой причина связана с действием, т. е. по отношению к
которому она есть причина, но со стороны которой добавляется
нечто другое. И надо сказать, каузальная связь целиком
принадлежит аналитическому суждению, или оно становится в
ней абсолютно противоположным, является одним и тем же.
Это формальное знание, в общем, имеет такую форму, что
его формальное тождество абсолютно противоположно
многообразию. Формальное тождество, как существующее в себе,
а именно ей абсолютно противоположны как свобода,
практический разум, антиномия, закон практическая идея и т. д.,
необходимость, склонность и побуждение, гетерономия, природа и
т. д. Возможная связь обоих есть незавершенная связь внутри
границ некоторой абсолютной противоположности,
становление определенности многообразной стороны через единство.
Так же как наполнение пустоты тождества через многообразие,
которые подходят один к другому, деятельно или
страдательно, как нечто чуждое некоторым формальным образом.
Поскольку это формальное знание противоположно во всей своей
абсолютности в дозволенных тождествах, которые приводят
к состоянию, позволяющему им выстоять, и промежуточный
член, разум, у них отсутствует, потому что каждый из членов,
так как это имеет место в противоположности, должен сущес-
49
твовать как нечто абсолютное, так эта середина, и становление
обоих ничем и конечностью абсолютно потустороннего.
Становится понятным, что эта противоположность по
необходимости предполагает некоторый центр, точно так что она в нем
должна была бы уничтожить его содержание, но это не
действительное и истинное уничтожение, а только признание, что
конечное должно быть снято, не истинный центр, а точно так
же только признание, что должен существовать разум, будь он
положен в некоторой вере, содержание которой само по себе
пусто, потому что помимо нее противоположность, которая
как абсолютное тождество могла бы исключить собственное
содержание, должно оставаться, содержание которого, если
должен позитивно выражаться его характер, есть отсутствие
ума, потому что он является некоторой абсолютно
невообразимой, непознаваемой и непостижимой потусторонностью.
Если мы практической вере кантовской философии (а
именно, вере в Бога, - ибо кантовское изложение
практической веры в бессмертие, лишенной всех собственных сторон, со
стороны которых она заслуживала бы философского
внимания,) берет нечто от нефилософского и непопулярной одежды,
в которую она одета, то в этом не выражено ничего другого,
кроме как идея снять всякую противоположность свободы и
необходимости, что бесконечное мышление является
одновременно абсолютной реальностью, или абсолютным тождеством
мышления и бытия. Эта идея теперь совершенно та же самая,
как и та, которая признает онтологическое доказательство, и
всякую истинную философию как первую и единственную,
как единственно истинную и философскую. Спекулятивное
этой идеи конечно отливается Кантом в такую гуманную
форму, что моральность и блаженство гармонируют, и если эта
гармония будет снова сделана мыслью, и это называется
высшим благом на свете, что если эта мысль будет реализована,
то что является более худшим, чем эта моральность и
блаженство. Именно разум, как он проявляется в конечном, не может,
50
очевидно, достичь ничего более высокого, чем подобная
практическая вера, эта вера как раз настолько велика, что она
нуждается в погружении в эмпирию. Ибо она побуждает его как
к конечности его мышления и действия, так и к конечности
его наслаждения. Выйди он к созерцанию и знанию, что разум
и природа абсолютно гармонируют и в себе блаженны, то он
должен был бы сам признать за ничто свою дурную
моральность, которая не гармонирует с блаженством, и плохое
блаженство, которое не гармонирует с моральностью. Но чтобы
иметь с этим дело, что оба нечто, и должно быть нечто высшее
и абсолютное. Но эта моральность так опошляет природу и
сам дух, как если бы организация природы не делалась
разумной, а напротив он в своем убожестве, для которого дух
универсума конечно себя так не организует, был бы в себе и вечно,
и даже мнит себя рефлектировать и даже прославить, что он
в вере прекрасно представляет реальность разума, но не как
нечто, что имеет абсолютное бытие, ибо если абсолютная
реальность разума имела истинную очевидность, то конечное и
ограниченное бытие и эта моральность не могли бы иметь ни
очевидности, ни истины.
Но не следует также упускать из виду,, что Кант с его
постулатом остается внутри его истинных и правильных границ,
которые Фихте не признает. Согласно самому Канту именно
постулаты и его вера являются чем-то субъективным.
Остается только вопрос о том, как воспринимается это
субъективное. Именно тождество бесконечного мышления и
бытия, разума и его реальности является субъективным? Или
просто постулаты и вера в него? Содержанием или формой
постулатов? Содержанием это не может быть, потому что его
негативное содержание было бы непосредственно снятием
всего субъективного. Следовательно, это форма. Т.е. это нечто
субъективное и случайное, что идея является только чем-то
субъективным. В себе не должно быть никакого
постулирования, никакого долженствования и никакой веры. И постули-
51
рование абсолютной реальности высшей идеи является чем-то
неразумным. Фихте не признает эту субъективность
постулирования и веры и долженствования, а для него это то же самое,
что В-себе. Несмотря на это Кант признает, что
постулирование и долженствование и вера являются чем-то субъективным
и конечным, должно ли это оставаться непосредственно, как
это имеет место во всякой моральности. И что это притом
должно оставаться, или это плохое в себе вещи, а именно
форма постулирования в любом случае это как раз то, что
вызывает всеобщие аплодисменты.
Этот характер кантовской философии, что знание является
формальным, и разум как некоторая чистая отрицательность
обусловливает некоторую абсолютную потусторонность,
которая как потусторонность и отрицательность, через
посюсторонность и позитивность, бесконечность и конечность, обе
вместе с их противоположностью являются одинаково
абсолютными, является всеобщим характером всякой философии
рефлексии, о которых мы говорим. Форма, в которой
излагается кантовская, и поучительное и образовательное
распространение, которые она имеет. Так что истина помещается внутри
границ, но которые она полагает не только для себя, но и разуму
вообще, так что удерживается интересная сторона, от которой
она переходит к истинно спекулятивной идее, но как падение
и совершенно нереальные мысли, ей свойственно то, что она
свою абсолютную субъективность представляет в
объективной форме как понятие и закон, и субъективность, и только
субъективность благодаря своей чистоте способна перейти в
противоположную ей объективность, следовательно, от
обоих сторон рефлексии, конечного и бесконечного, бесконечное
поднимается над конечным, и через это формальное разума
делает мало значимым. Ее высшая идея есть полнейшая пустота
субъективности, или чистота бесконечного понятия, которая
одновременно положена в сфере рассудка как объективное,
однако здесь в категориальном измерении. Но с практической
52
стороны как объективный закон. Но между обоими сторонами
аффицированная со стороны конечности и некоторая чистая
бесконечность, есть тождество конечного и бесконечного само
снова положено только в форме бесконечного как понятия, и
истинная идея остается абсолютно субъективной максимой,
отчасти для рефлексии, отчасти для веры, только не для
центра познания и разума.
Перевод д.ф.н. С.Н. Мареева
53
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ.
КОММЕНТАРИИ К ПУБЛИКАЦИЯМ ГЕГЕЛЯ
СН. Мареев
О практических чувствах: Гегель против Канта
Работа Гегеля «Вера и знание и вера» (1802) крайне важна
для понимания становления гегелевской философии. Она
посвящена, если можно так сказать, сведению критических счетов
сначала с философией Просвещения, а затем также и с кантов-
ской философией, которая, как считает Гегель, не выходит за
рамки Просвещения. Далее идут «Философия Якоби» и
«Философия Фихте». Общее направление критики Гегеля состоит
в том, что и Просвещение и Кант выталкивают религиозную
веру за пределы разума, или, как сейчас принято выражаться,
за пределы рациональности. В этом Кант, по мнению Гегеля, не
выходит за рамки Просвещения. Но разница в том, что если
для Просвещения религия - обман и мираж, то для Канта она
необходимый элемент практического разума, без чего нет
человеческой нравственности. У Канта практический разум
отделяется от теоретического. Получается «два разума», что само
по себе парадоксально. Гегель наоборот - хочет задвинуть,
если можно так сказать, веру обратно в разум, и именно в
теоретический разум, объединив его с разумом практическим. Во
всяком случае, здесь имеет место линия преемственности,
линия развития, без чего невозможно понять не только Гегеля, но
и Канта. Анатомия человека - ключ к анатомии обезьяны.
54
Кант - родоначальник немецкой классической философии.
Это общее место, которое оспаривать или объяснять -
неблагодарное занятие. И поэтому когда М. Мамардашвили заявил,
что Кант не немецкий, а «французский» философ, то здесь,
скорее, расчет на сенсацию, чем претензия на науку. «Я не
случайно говорю «французский», - пишет Мамардашвили, -
потому что после Канта начинается эпоха для меня
отвратительная, эпоха собственно немецкой философии. Кант, конечно, не
немецкий философ, не в том смысле, что он не мыслил внутри
немецкого языка, был привязан к своему месту. Но во времена
Канта еще не было понятия «нация» и тем более не было
национал-философов, т. е. идеологов, которые под барабанный бой
своих фраз хотели вести вперед народы, свои, конечно,
народы. И среди многих предрассудков, которые мешают нам
понять, что говорится со страниц кантовских сочинений, следует
числить предрассудок, в силу которого Канта рассматривают
как ступеньку к чему-нибудь»1.
В общем, на Канте философия остановилась: вершина и
конец. Остальное - молчанье. Две с половиной тысячи лет
истории европейской философии, это, получается, топтание на
месте без малейшего прогрессивного сдвига. Но Кант - это все
же какой-то сдвиг, или это топтание на поле прежней
метафизики, которую Кант объявил невозможной наукой? И если сам
Кант - не абсолютная истина в последней инстанции, то,
видимо, возможно, дальнейшее развитие. Но если дальше идет
«идеология», как считает Мамардашвили, то первыми
идеологами как раз и были Ваши любимые французы. А француз
Наполеон как раз и повел народы, под барабанный бой и пение
Марсельезы, в том числе и на Германию, что вызвало в
немецком народе националистическую идеологию, включая и
национализм Иоганна Готлиба Фихте, который призывал немцев
осознать свою национальную задачу и объединиться против
французского нашествия. И, главное, почему не вынести это
1 Квинтэссенция. Философский альманах 1991. М., 1992. С. 121-122
55
все за скобки и не рассматривать историю немецкой
философии объективно научно. К примеру, покажите, что в работе
Гегеля о кантовской и последующей якобианской и фихтевской
философии так, а что не так.
Всем известны слова из предисловия ко 2-му изданию
«Критики чистого разума» о том, что его автору «пришлось
ограничить (aufheben) знание, чтобы освободить место вере»1.
Переводчики с немецкого здесь оставили в скобках слово
aufheben, которое означает не «ограничение», а «подъем». Но в
гегелевской трактовке такое означает отрицание с сохранением. Вот
этого и не получается у Канта: он помещает веру не в разум, а
за пределами чистого теоретического разума. А чтобы не
оставлять веру совершенно неразумной, он обосновывает
необходимость веры из практического разума. С точки зрения чистого
разума существование бога, свободы и бессмертия невозможно.
Но если следовать «чистому» разуму, тогда и нравственность
невозможна: если Бога нет, то все позволено, как говорят герои
Ф.М. Достоевского. И здесь главный пункт критики Канта со
стороны Гегеля. Во всей религии Нового времени, как замечает
Гегель, присутствует чувство, что «Бог мёртв». Кант пытается
«оживить» Бога, соединив его с «практическим разумом». Это
не устраивает Гегеля, и он сделает впоследствии «практику»
моментом движения самого теоретического разума к
Абсолютной идее, а Бога отождествит с Разумом.
Гегель, как и Лютер, вырывает веру из сердца человека и
помещает ее в голову. Вернее, он соединяет сердце и разум,
делая человеческие чувства разумными, а разум не слепым и
формальным рассудком, а разумом чувствующим и волящим.
Задача, которую ставит себе Кант в «Критике чистого разума»,
это соединение чувств и рассудка посредством
трансцендентального синтеза. Но он связывает, как скажет потом Гегель,
чувственность и рассудок подобно тому, как связывают ногу и
1 Кант И. Критика чистого разума // Сочинения в 6-ти тт. - М.: Мысль,
1964. Т. 3, с. 95.
56
деревяшку. Применение абстрактно-всеобщей категории к
материи ощущений не может дать, как считает Гегель,
органического синтеза, не может дать особенного. Категории особенного
нет в составе кантовских категорий. Но у него есть
трансцендентальная способность воображения, которая и связывает
«ногу» и «деревяшку».
Поскольку Кант считает природу самой способности
воображения неизвестной и непознаваемой, то он и не может
показать конкретно, каким образом, отдельное и всеобщее,
чувственность и рассудок переходят друг в друга,
чувственность становится рассудком, а рассудок чувственностью.
Противоречие не разрешается, а противоположности остаются
застывшими и окостеневшими. То, что кроется в чувственности,
или за чувственностью, остается неизвестным, непознаваемой
вещью-в-себе> которая никогда не становится вещью-для-нас.
Способность воображения оказывается у Канта лишенной
категориального смысла, логической формы, хотя эта форма и
выступает в виде «схематизма» воображения. Но этот
«схематизм» сам Кант не использует активно.
Кантовская философия, как считает Гегель, пытается из
понятия «выколупать» саму реальность. Но это то же самое, что
отвергнутое Кантом онтологическое доказательство бытия Бога.
И то, что невозможно для теоретического разума, он считает
возможным для практического разума. Но и сверхчувственное
может быть дано только в чувстве. Если оно не дано ни в каком
чувстве, оно вообще не дано. И Бог оказывается чистым
понятием, если он не вызывает в нас никакого чувства.
По отношению к таким вещам, как бог, стоимость, Маркс
будет употреблять выражение
«чувственно-сверхчувственное». Это выражение вызывало раздражение у советских диа-
матчиков, поскольку они знали только одно чувство -
ощущение. А поскольку Бога мы ни видим, ни слышим, ни осязаем
и на вкус не пробуем, то его и нет. Но тогда нет и стоимости,
которую, как замечает Маркс, ни при помощи микроскопа,
57
ни при помощи химического реактива не обнаружишь. Но не
обнаружишь таким образом любовь, совесть, честь, хотя они
сами по себе есть чувства, практические чувства. Эти чувства
практические, потому что существуют только в практике
человеческого общения: если вы практически не любите, то любви
для вас нет. Любовь вы можете чувствовать, но не можете
ощущать. А если мы все же можем ощущать любовь, то только
наблюдая сцены любви, как в трагедии Шекспира «Ромео и
Джульетта». Точно так же для нас практически существует бог: он
существует для нас, если мы в него верим. В этом смысле Маркс
возражал Канту в связи с его воображаемыми талерами: разве
не царствовал Молох, разве Аполлон Дельфийский не был
реальной силой в жизни греков.
Примерно так же возражает Канту и Гегель, указывая тому
на его эстетику, на его чувство красоты, на его
незаинтересованное созерцание. Созерцание живописного полотна как
эстетическое созерцание не есть просто смотрение, зрительное
ощущение. Чувство красоты не есть ни зрительное, ни слуховое и
никакое другое ощущение. То же самое и нравственное чувство.
Эта разница между чувством-ощущением и
чувством-переживанием под разными названиями была подмечена уже
Лейбницем в терминах перцепции и апперцепции. Кант тоже употребляет
эти термины и примерно в том же значении. Но это различие
было подмечено также представителем Шотландской школы
нравственной философии Френсисом Хатчесоном. В «Теории
нравственных чувств» Адам Смит пишет, что, по мнению Хат-
чесона, различные чувства или познавательные способности,
из которых душа выводит простые идеи, двоякого рода: «одни
могут быть названы непосредственными и предшествующими
чувствами, другие - чувствами рефлексивными и
последующими. Непосредственные чувства суть способности, с
помощью которых мы получаем представление о предметах, не
требующее предварительного знакомства, с другими предметами.
Звуки и цвета суть предметы непосредственных чувств: чтобы
58
слышать звук или видеть цвет, вовсе не требуется
предшествующего знакомства с каким-либо качеством или предметом.
Чувства рефлектирующие, или последующие, напротив, суть
способности, посредством которых душа воспринимает
предметы, предполагающие представление о других предметах.
Гармония и красота могут служить примером предметов,
данных в рефлексивном чувстве. Чтобы почувствовать гармонию
звуков и красоту красок, нужно предварительно воспринять
сами звуки и цвета. Нравственное чувство можно также
рассматривать как способность этого рода»1.
Способность рефлексии, продолжает Смит, из которой,
согласно Локку, мы выводим простые идеи человеческих страстей
и эмоции, «по системе доктора Хатчесона, есть непосредственное
внутреннее чувство; а способность, при содействии которой мы
отличаем красоту или безобразие, порок или добродетель в наших
страстях и эмоциях, есть внутреннее рефлексивное чувство»2.
Главная трудность в понимании этих вещей заключается
в том, что мы не сначала воспринимаем, а потом переживаем.
А мы переживаем в процессе самого восприятия. Мы видим
дуб и переживаем его могучую красоту. Чувство красоты, - и
в этом специфика всякого человеческого чувства, -оно не
привязано к предмету в пространстве и времени. Я уже не вижу
этого дуба, он остался позади, а я все продолжаю переживать.
И то же переживание возникает во мне, когда я слышу слова
песни: «Растет, цветет высокий дуб в могучей красоте». Когда
я читаю строки Некрасова: «Есть женщины в русских селеньях
с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях,
с походкой, со взглядом цариц...», именно воображение
рисует мне этих женщин, а, тем не менее, я вижу их, и любуюсь
ими как живыми. И в своем воображении я представляю все
это даже интересней, чем это могло быть в реальности. В этом
сила искусства, основанного на воображении: оно изображает
1 Смит А. Теория нравственных чувств. М., 1997, с. 311
2 Там же.
59
действительность, как выразился где-то Достоевский,
действительнее самой действительности.
В чувстве красоты, - и в этом колоссальная проблема, -
соединяются в органическом синтезе два разнородных начала:
зрение как зрительное ощущение, объясняемое физиологией зрения,
и красота, которую мы тоже видим, но это видение не может
объяснить никакая физиология. Поэтому это чувство сейчас, как и во
времена Гегеля, толкуется как нечто иррациональное. Такое
толкование намечается уже у Канта, который считает способность
воображения, - а всякое чувство красоты с этой способностью
связано, - необъяснимой, и, в этом смысле иррациональной. И Гегель,
как суровый рационалист, относится к этому очень осторожно: он
не может принять романтическую чувственность романтиков, в
том числе своего студенческого друга Шеллинга, у которого в
конечном счете «интеллектуальная интуиция» оборачивается
католицизмом и христианским откровением. Здесь уже сознательный
иррационализм, который идет именно от Шеллинга.
Адам Смит тоже осторожно отнесся к «рефлексивным
чувствам» Хатчесона, потому что не видел возможности
редуцировать их к природным чувствам. Ведь эти чувства, к
примеру, чувство справедливости, зависят от воспринимаемого
предмета и от воспитания. Это, примерно, то же самое, что потом
напишет Смит про социальные типы, которые образуются не
от природы, а в результате разделения труда. «Различные люди, -
пишет Смит, - отличаются друг от друга своими естественными
способностями гораздо меньше, чем мы предполагаем, и само
различие способностей, которыми они отличаются в своем
зрелом возрасте, во многих случаях является не столько причиной,
сколько следствием разделения труда. Различие между самыми
несхожими характерами, между ученым и простым уличным
носильщиком, например, создается, по-видимому, не столько
природой, сколько привычкой, практикой и воспитанием»1.
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.,
2007. С. 78.
60
Чувства как раз и даются воспитанием, культурой, как об
этом только догадывается Смит, а Кант почти определенно
скажет об этом в своей «Критике практического разума»,
заявив, что вкус как способность суждения вкуса, - это красиво,
это прекрасно и т. п., - дается воспитанием, и преодолеет тем
самым здесь свой априоризм. Но Гегель боится эвдемонизма
и сентиментализма, поэтому не замечает эту сторону учения
Канта, т. е. ростки того, что должно привести к его
собственной философии. «Но конечно то, что называют
эвдемонизмом, - пишет Гегель, - должно быть понято как эмпирическое
блаженство, наслаждение ощущением, а не как вечное
созерцание и душевность».
Эвдемонизм действительно сводит чувство к ощущению,
а душевность к наслаждению. «Эвдемонист» - это Фёдор
Карамазов, который хочет иметь удовольствия за деньги, которые
он и бережет на это дело. Человек со своим ощущением только
лесоруб перед рощей. Этот образ из Горация Гегель приводит
для иллюстрации того, что прагматизм убивает чувство. То же
самое Маркс выразит своей сентенцией, что чувство
обладания убивает всякое человеческое чувство. Но, как ощущение
становится чувством, - вот в чем вопрос. Как человек
приобретает незаинтересованное созерцание? Как он из «лесоруба»
превращается в художника?
То, что без воображения мы не можем высказать
элементарного суждения, вроде «Иван - человек», величайшее
открытие Канта, значение которого толком не понято до сих пор. Но
Кант не только открыл эту важнейшую человеческую
способность, но и «закрыл» ее, заявив, что тайну этой способности
мы не разгадаем никогда. И в этом также заключен исток кан-
товского «агностицизма», поскольку именно в способности
воображения заключена «тайна» человеческой чувственности.
Ведь без способности воображения мы бы не только не
могли сказать «Иван - человек», но и не могли бы воспринимать
Ивана как человека. Мы не отличали бы человека от фикуса. И
61
только в очень плоской теории познания считается, что
сначала мы воспринимаем, а потом судим, сначала «опыт», а потом
«рассудок».
Это выдумка позитивистов, что у человека есть
«чистый опыт», т. е. опыт, очищенный от всякого понятия. Такой
«опыт» есть у животных, но у человека всякий опыт есть
практический опыт. Всякое человеческое восприятие
заключает в себе практику в двояком смысле: как материальную
деятельность, изменяющую предметный мир, и как общение
между людьми. Одно неразрывно связано с другим. И
поэтому не только восприятие другого человека всегда
эмоционально нагружено, всегда есть не только восприятие, но и
переживание. Точно так же и восприятие предметного мира,
окружающего человека, втянутого в человеческую
деятельность и общение, есть переживание, моральное и
эстетическое. А это значит, что нормальный человек созерцает рощу
не только как лесоруб, для которого роща - определенное
количество кубометров дров, а ему присуще то, что Кант
называет незаинтересованным созерцанием.
Гегель рассматривает философию Канта как
«расширение локкианства». Иначе говоря, Кант, согласно Гегелю, не
преодолевает сенсуализм Локка, не снимает его, а просто
как бы уравновешивает его априоризмом. Здесь опять-таки
«нога» и «деревяшка». Иначе говоря, априоризм Канта - это
только протез к эмпиризму и сенсуализму Локка. Кант здесь,
опять же не владеет категорией особенного, в которой «нога»
и «деревяшка» становятся чем-то единым целым. В развитом
воображении категория и чувственная материя уже не «нога»
и «деревяшка». Другое дело, что Кант в своей «плоской
дедукции» категорий не доходит до органического синтеза
соответствующих парных категорий в третьей. Поэтому он не
выводит категорий, а только вводит их посредством
формального конструирования, т. е. посредством того самого метода,
который Гегель назовет метафизическим.
62
Гегель говорит о «созерцании реальности разумом». Все
знают, что разумом мы мыслим, а созерцаем глазами и
прочими органами чувств. Философы созерцательного
направления видели здесь непроходимую грань. Немецкая
философия нашла здесь мостик, который она, в лице Шеллинга
и Фихте, назвала интеллектуальным созерцанием,
intellektuelle Anschauung. Гегель говорит также о созерцающей
деятельности. И это тоже, с точки зрения обычной логики,
невозможная вещь. Ведь созерцание всегда противопоставлялось
деятельности: созерцание - покой и неподвижность,
деятельность - это всегда движение. Получается «неподвижное
движение». Непонятно! С этим связан и тезис Маркса о том, что
недостаток прежнего материализма состоял в том, что
объект, действительность брались им только как созерцание, а не
как деятельность, не субъективно. Этот недостаток прежнего
материализма и преодолевал немецкий идеализм, начиная с
Канта и кончая Гегелем. Но «неподвижное движение» в
созерцании всякий может обнаружить, понаблюдав за тем, как
мы созерцаем: мы-то неподвижны, а глаз наш при этом
совершает ощупывающие движения. И без этого движения мы
не могли бы видеть ни объем, ни контур, ни форму вещи.
В противоположность априористическому толкованию
категорий Кантом Гегель трактует категории как объективные
формы субъективной человеческой деятельности. И в мышлении,
и в реальности категория есть одна и та же форма. «Форма А
как таковая налична и в субъекте, и в объекте. Она
положена не одновременно некоторым неоднородным способом, т. е.
один раз как субъективное, другой раз как объективное, один
раз как единство, другой раз как многообразие, как
противоположность и явление должны быть признаны. Не так, что
один раз как точка, а другой раз как линия, не как 1 = 2, а так,
что если есть субъективная точка, то есть также и объективная
точка, если есть субъективная линия, то есть также и
объективная линия. Одно и то же самое один раз рассматривается
63
как представление, другой раз как существующая вещь; дерево
как мое представление, и как вещь; тепло, свет, краснота,
сладость и т. д. как моё ощущение и как особенность некоторой
вещи; так же как категория полагается один раз как отношение
моих мыслей, другой раз как отношение вещей».
Речь идет о тождестве мышления и бытия, которое у Канта,
с одной стороны, является формальным и «плоским», с другой
стороны - отсутствие существенного различия того и другого и
перехода одного в другое. Кант и не может показать переход от
субъективности к объективности. Отсюда - агностицизм.
Гегель критикует также кантовское учение об идее. У
Канта идея имеет только регулятивное значение. Но тогда она не
имеет непосредственно объективного значения. А если идея
не имеет объективного значения, то это вообще не идея
разума. И разум, как считает Гегель, низводится Кантом до
рассудка, а идея до эмпирического понятия. Конечное и бесконечное
оказываются по разные стороны: бесконечное оказывается
трансцендентным и недоступным познающему субъекту, и
ему достается только конечное. Это и есть то, что называют
кантовским агностицизмом.
Что касается критики Якоби со стороны Гегеля, то здесь
проще, потому что Якоби просто возвращает вере ее
трансцендентное значение. Она полностью выходит из-под
юрисдикции разума. Это уже традиционный католицизм, и отсюда
критика «пантеизма» Спинозы, которого Якоби, по словам
Гегеля, третирует, как мёртвую собаку.
Но относительно Фихте Гегель, как кажется, не совсем
справедлив. Фихте открывает путь к бесконечному познанию
через снятие противоречий, и, прежде всего, через
деятельность^ через труд, которого нет у Канта и Якоби. Позже Гегель
отметит ту заслугу Фихте, что это была первая попытка
выводить категории в противоположность кантовской «плоской»
дедукции. Дедукция Фихте не формальная и не плоская, это
дедукция генетическая, близкая по типу тому историзму, кото-
64
рый проявит себя в гегелевской «Феноменологии духа», а
потом в «Капитале» у Маркса.
Фихте невозможно обвинить также в эвдемонизме.
Напротив, он выступает против эвдемонизма: «Не потребность, -
пишет он, - источник порока, она - побуждение к деятельности
и к добродетели: леность - источник всех пороков. Как
можно больше наслаждаться, как можно меньше делать, - это задача
испорченной природы, и немало попыток, которые делаются,
чтобы решить ее, являются ее пороками. Нет спасения для
человека до тех пор, пока эта естественная косность не будет
счастливо побеждена и пока человек не найдет в
деятельности и только в деятельности своих радостей и своего
наслаждения»1. Радость преодоления - вот в чем истинная радость по
Фихте. И такой «эвдемонизм» должен был бы приветствовать
сам Гегель. Поэтому странны его упреки в сторону Фихте. Они,
думается, несправедливы.
Общий итог развития от Канта до Фихте заключается в
том, как пишет Гегель, что «в тотальности рассмотренных
философских учений, догматизм бытия переплавился в
догматизм мышления, метафизика объективности - в метафизику
субъективности». «Метафизика субъективности» - это,
примерно, то, что в философии Хайдеггера было названо
«фундаментальной онтологией» и что несет в себе тоску, «страх»
и «заботу», не будучи в силах прорваться к объективности.
«Мука лучших натур, - как пишет Гегель, - от этой
ограниченности или абсолютного противопоставления выражает
себя через тоску и томление, через сознание, что оно есть
ограниченность, которую оно не может преодолеть, как вера
в потусторонность этой ограниченности. Но как
многолетняя неспособность и одновременно невозможность выйти за
рамки своей ограниченности и приобрести себе ясную
самому себе и беспечальную область разума». Тоска и томление
- удел рассудочных и, вместе с тем, сентиментальных роман-
1 Фихте И.-Г. Соч. в 2-х тт., Т.Н. С. 62.
65
тических натур, которые не могут приобрести себе
«беспечальную область разума». Разум есть снятие
противоположности между чувственностью и рассудком, их органическое
соединении в действии и конкретном понятии, до которого
не дорабатывается философия Просвещения.
Гегель считает, что Кант, и следующие за ним Якоби и
Фихте, не выработали адекватного понятия разума: разум у Канта
только ограничивает притязания рассудка на постижение
бесконечного, но не имеет объективной идеи, которая могла быть
прорывом в бесконечность универсума, чем разум и должен
приобрести себе «беспечальную область». У Якоби
«протестантская субъективность возвращается от кантовской
понятийной формы к своему подлинному образу, к субъективной
красоте восприятия (Schönheit der Empfindung) и лирике тоски
по раю, то всё же вера и индивидуальная красота благодаря
существенному ингредиенту рефлексии и сознания этой
субъективной красоты выталкивается из непосредственности и
грубости, в силу чего она только и способна быть прекрасной,
благочестивой и религиозной».
Философия Просвещения, считает Гегель, оправдывает
эгоизм и эвдемонизм. Что касается родственности этих
понятий, то она должна быть понятна из того, что для эгоиста
теряет смысл другой, а поэтому высшим принципом
оказывается собственное удовольствие. И к этому философов
Просвещения приводит не их собственный эгоизм и эвдемонизм,
- по своей собственной натуре они могут быть даже
альтруистами и аскетами, - а их философия. Поэтому даже
собственное служение людям они склонны оправдывать тем, что это
доставляет им удовольствие, как это делали герои романа
Н.Г. Чернышевского «Что делать». Кант противопоставляет
этой философии эвдемонизма и эгоизма философию долга.
Ближнему ты обязан служить не потому, что это доставляет
тебе удовольствие, а потому, что ты обязан служить людям.
Но Кант не снимает антитезу эгоизма и альтруизма, а одной
66
крайности противопоставляет другую, не выходя тем самым
за рамки рассудочности. В чем разумность служения
другому? На этот вопрос Кант не отвечает. Он постулирует свой
категорический императив, повторяя известную
христианскую заповедь: возлюби ближнего как самого себя.
Можно вполне предположить, что другие найдут в
предлагаемом тексте Гегеля нечто иное и даже
противоположное. Но, главное - то, что теперь есть возможность для
более широкого обсуждения тех проблем, которых касается
Гегель в работе «Вера и знание». Так что, все теперь
предоставляется на суд читателя.
Ойттинен Веса
Дух против апперцепции - Гегель против Канта1
Когда дух выходит на сцену, "Я мыслю" должно сойти на
нет, - так можно в двух словах обобщить отношение Гегеля и
Канта. Иначе говоря, гегелевское понятие духа предполагает
исключение кантовской доктрины апперцепции; они не могут
существовать рядом друг с другом. Яркой чертой гегелевской
философии является ее радикально не-субъективистское
понимание мышления. Оно проявляется уже в его ранних работ,
где Гегель критикует «раздвоения» мира, и, в скором времени,
эта позиция кристаллизуется в работе «Вера и знание» 1802 г. в
форме непримиримой позиции против всякой «рефлексивной
философии». Под этим Гегель имеет в виду форму мышления,
которая, благодаря своей приверженности рассудочным
определениям, отличает субъекта от объекта. Этим недугом
страдает в большинстве своем современная философия, но
особенно философия Канта, который «единство рефлексии считает
наивысшим» и застревает в противоположностях, «которые
1 Доклад на Гегелевском конгрессе в Стамбуле, Турция 1-6 октября
2012.
67
вскоре будут пониматься как дух и мир, душа и тело, Я и
природа и т. д.»1. [1]
Апперцепция и рефлексивная философия
Сердцевина этой «рефлексивной философии» Гегель
усматривает в понятии сознания Канта. Он, правда, признает,
что кантовская постановка вопроса о возможности
синтетических суждений a priori является новаторской по сравнению
с тем, что имелось во всей предшествующей истории
философии. Ведь эта сформулированная Кантом проблема «выражает
не что иное, как идею, что в синтетическом суждении субъект
и предикат, тот как особенное, этот как всеобщее, тот в
форме бытия, этот в форме мышления, - это неоднородное в то
же время является a priori, то есть абсолютно идентичным»2.
К сожалению, Кант уже при следующем шаге теряет свою
изначальную великую идею синтеза, так как он не в состоянии
выбраться из клетки определений рефлексии. Поэтому он
разделяет "первоначальное абсолютное тождество"3, полагая
субъективность как нечто совершенно и полностью отличное
от объекта. Согласно Гегелю этот недостаток кантианства
проявляет себя уже в том, что априорный момент суждения, то
есть само тождество, появится еще не в собственно суждении,
но только в заключении. В суждении это тождество выступает
только как связка (словечко «и»), и таким образом суждение
по своей непосредственной форме отягощается своей
противоположностью и раздвоением4.
Единство устанавливается тем, продолжает Гегель свое
обвинение против Канта, просто через «самосознание имею-
щего опыт субъекта». Я как субъект и как объект различают-
1 G. W.F. Hegel, Glauben und Wissen, in: G. W.R Hegel, Hauptwerke in sechs
Bänden (далее: HW), Bd. 1, Hamburg: Felix Meiner Vlg 1999, стр. 325.
2 Op. cit., стр. 327.
3 Op. cit., стр. 328.
4 Op. cit., стр. 328-329.
68
ся, и то тождество, которое критическая философия создает
между ними, может быть лишь формальным, ибо «вещь-в-
себе становится объектом, поскольку она получает некоторую
определенность от действующего субъекта» - определенность,
которая у обоих, вопреки их несходству, является той же
самой благодаря деятельности субъекта, Я: «тождественны как
солнце и камень по отношению к теплу, когда солнце
нагревает камень»1. Кантовское Я выступает как принцип «чистой
пустоты тождества» (reine Leerheit der Identität), «в своем
полностью очищенном от многообразия состоянии, как чистое
абстрактное единство»2.
Гегель формулирует итог своей критики кантовского
понятия сознания, подчеркивая, что «трансцендентальное
знание в этой философии... превращается в формальное знание;
к этому единству должен добавиться «плюс» эмпирического
материала (ein Plus des Empirischen) ..., нечто чужеродное, и
это присоединение некоторого В к чистой яйности
называется опыт, или присоединение А к В, если В положено как
первое, разумно действуя; А:А + В;АвА + В есть объективное
единство самосознания; В, эмпирическое, содержание опыта,
которое как некоторое многообразное связано через единство
А; но В есть для А нечто чуждое, не содержащееся в А, и само
присоединение, которое есть связь именно этого связанного и
этого многообразия, является непостижимым...»3.
Это, едва ли не благонамеренное, но все же достоверное
изложение кантовской теории сознания, которая, как звучит
известная формулировка в «Критике чистого разума»,
настаивает на том, что Я - «для себя совершенно пустое
представление», «о котором нельзя даже сказать, что оно является
понятием, а наоборот чистое сознание, которое сопровождает все
понятия». Это мыслящее Я - «не более чем трансценденталь-
1 Op. cit., стр. 331.
2 Op. cit., стр. 335.
3 Op. cit., стр. 343.
69
ный субъект мысли», некоторый X, «который может быть
узнан только через мысли, которые являются его предикатами,
и о котором в отдельности мы никогда не может иметь ни
малейшего понятия".
Важно понять, что это Я для Канта на самом деле является
парным предметом вещи-в-себе, следовательно Я-в-себе,
которое остается позади «трансцендентального занавеса» и не
может быть предметом истинного знания. Таким образом
трансцендентное Я является лишь формальным принципом. Именно
поэтому, например, попытки К.Л. Рейнгольда в 1790-х гг.
систематизировать кантовскую критику разума при помощи
«основоположения сознания» неизбежно потерпели поражение, так
как он при этом толковал сознание «феноменологически», как
состоящее из представлений. Иными словами, Рейнгольд не
учитывал, что «Я мыслю» отнюдь не является представлением.
В «Я мыслю», в том смысле как Кант его понимает, вовсе не
входит репрезентационный материал. Это и отличает кантианское
«Я мыслю» от картезианского « cogito»1.
При чтении «Веры и знания» удивляет, однако, что Гегель
не пытается проанализировать кантовское учение о Я с точки
зрения его внутренних предпосылок, чтобы набросать ей аль-
1 Апории проекта Рейнгольда Основного принципа философии я
подробно анализировал в работе: Vesa Oittinen, Reinhold, ein Cartesianer? в:
Bondeli, Martin und Lazzari, Alessandro (Hg), Philosophie ohne Beynamen. System,
Freiheit und Geschichte im Denken Karl Leonhard Reinholds, Basel: Schwabe Vlg 2004,
S. 56 - 81, и в: то же., Über einige phänomenologische Motive in Reinholds Philosophie,
в: Pierluigi Valenza (Hg.), KL. Reinhold - Am Vorhof des Idealismus, Pisa/Roma: Ist.
editoriali e poligrafici internazionali 2006, S. 115-128. Основные источники
апорий Рейнгольда проистекают из факта, что мы, как заметил Кант в
цитированном выше месте, при мышлении Я «вращаемся в порочном круге,
в котором мы постоянно вынуждены пользоваться представлением о нем,
чтобы при помощи его судить о чем-то». Это, продолжает Кант,
«некоторое неудобство, от которого невозможно избавиться, потому что сознание
в себе является как представлением, которое отличает особенный объект,
так и его форма вообще, так дальше должно будет называться познание...»
(KrV В, стр. 404).
70
тернативу. Пассаж, посвященный Канту, кончается коротким
замечанием: «Этот характер кантовской философии, что
знание является формальным, и разум как чистая негативность
некоторая абсолютная потусторонность..., является общим
характером философии рефлексии, о которой мы говорим»1.
В этом, собственно, суть гегелевской критики Канта. Вся
его аргументация заложена уже здесь в работах йенского
периода. В основе своей она остается без изменений до самых поздних
работ Гегеля: критицизм в конечном счете является просто
продолжением и расширением предшествующей философии
Просвещения, которая не могла освободиться от оков
рассудочного мышления. Уже на первой странице работы 1802 года Гегель
набрасывает контуры современного состояния философии и
культуры. Просвещение основательно изменило прежнее
отношение между верой и знанием: разум больше не может быть
назван слугой веры. Однако победа Просвещения куплена
дорогой ценой, потому что она «вновь для положительного знания
полагает только конечное и эмпирическое, вечное же мы можем
иметь только как потустороннее»2. В Просвещении, таким
образом, присутствует «опасность рассудка,... который созерцаемое
познает как вещь, рощу как лесоруб»3.
Дух выступает - как Deus ex machina
Но Гегель видит также близкое спасение. Нельзя «при
ограниченной формой духа небольшого периода времени»,
1 Гегель Г. В. Ф., Glauben und Wissen, в: HW, т. 1, стр. 346.
2 Op. cit., стр. 315, 316.
3 Op. cit., стр. 317 Термин "роща как дерево" происходит от Горация,
Epist. I: 6. 31 и далее: Virtutem verba putas/ut lugum ligna. Замечательно, что
Гегель, характеризуя таким образом просветительское мышление, которое
утилитаристски рассматривало прекрасную рощу как источник полезной
древесины, относит это также и к Канту, несмотря на то, что решающий
анти-утилитаризм кантовской этики все же должен был бы стать ясным
для Гегеля.
71
который называется до сих пор Просвещением, забывать
большое достижение просветительской мысли, а именно
обоснование идеи субъективности. «Великая форма
мирового духа, которая проявилась в этой философии, является
принципом Севера, и, рассматриваемая с религиозной точки
зрения, с точки зрения протестантизма, есть субъективность,
в которой красота и истина представляют себя в чувствах и
настроениях, в любви и рассудке... »\
В приведенном предложении выступает - внезапно и
непосредственно, как Deus ex machina, «Мировой дух» в
качестве агента, который ведет к преодолению односторонностей
всей предшествующей рефлексивной философии и, таким
образом, также кантовского понятия сознания. Как я уже
замечал, Гегель совершенно не пытается снять недостатки
Канта через имманентный анализ его учения о сознании и
познании. Его исходный пункт, скорее, диагноз времени, откуда
он выводит необходимость преодоления критической
философии. Исходным пунктом гегелевского анализа всегда
является историческая ситуация, «требование времени». Можно
сказать, что та основная идея позднего Гегеля, согласно
которой философия не может перепрыгнуть через свое время, и
таким образом необходимо следовать принципу Hic Rhodus,
hic salta, в силе уже в юношеской работе 1802 года, иными
словами, еще до формирования окончательной философской
системы Гегеля.
Гегель, конечно, всеми признан мыслителем par
excellence историческим, всегда подчеркивающим
историческое измерение и развитие понятий, в противоположность
прежней, основывающейся на «вечных истинах»,
метафизике. Во всяком случае, кажется, что весь радикализм выпада
Гегеля, часто все же ускользает от внимания последующих
читателей. А именно Гегель смело соединяет в своей
философской системе не только логику и метафизику. С этим он
1 Op. cit., стр. 316.
72
связывает также историческое время, эпоху, которая таким
образом превращается в один из принципов построения
системы. Историческое проникает в логическое. В
результате диалектика как логическая форма идеи развивает себя
в истории, поскольку она прислушивается к предпосылкам
соответствующей исторической эпохи. Например, в
античности ростки субъективного принципа (выступающего
как отрицание объективности) появляются как «порча»
государства-полиса, потому что эпоха еще не созрела для
дальнейших шагов, для отрицания этого отрицания. Только
в Новое время, в эпоху, когда достигается (так, во всяком
случае, надеялся Гегель) опосредствование и примирение
субъективного и объективного, диалектика может
полностью себя реализовать - или, иными словами: только Новое
время подлинно диалектично.
Я не буду детально входить здесь в этот вопрос, так как
я уже обсуждал эту тему в некоторых своих работах1.
Достаточно отметить, что еще старый Розенкранц, очевидно, понял
существо дела, когда писал в своей биографии Гегеля: «Нет
более ложного и поверхностного представления о гегелевской
философии, как то, которое видит в ней только критику или
логику, иногда с добавлением, что гегелевская логика, конечно
же, не есть логика здравого рассудка, напротив, она
отождествляет себя с метафизикой и понятию приписывает творческое
начало, которое является в высшей степени рискованным и
напряженным платонизмом... Гегелевская система является
по преимуществу философией духа в том смысле, что при нем
1 См: Vesa Oittinen, "Die alten Philosophen beantworten unsere Fragen
nicht" - Antike vs. Moderne in Hegels Philosophie der Geschichte, Доклад на
Гегелевском конгрессе в Сараево 2010, опубликован в: Э.В. Ильенков: Идеальное.
Мышление. Сознание, Москва: Современная Гуманитарная Академия 2012,
S. 84-93, и: то же Antike Tragödie und dialektische Moderne in Hegels Ästhetik, доклад
на Гегелевском конгрессе в Утрехте 1998, опубликован в: Arndt, A., Bal, К.,
Ottmann, H. (Hg.), Hegel Jahrbuch 1999 - Hegels Ästhetik. Die Kunst der Politik - Die
Politik der Kunst, Akademie Verlag: Berlin 2000, Teil 1, pp. 126-135.
73
одно только понятие духа делает возможными также природу и
идею как логическое»1.
Розенкранц добавляет к этому также важное
методологическое замечание, что дух для Гегеля представляет собой
"конкретную форму" (логическая форма является абстрактной), и,
как таковая, дух есть, как «реально продуктивное, все другие
формы актуально интегрирующая форма», первое и
одновременно последнее; он - нечто, полагающее начало:
«Отсюда мы совершенно не видим, как можно было согласно
многочисленным характеристикам его философии, ожидать, что
в юности он будто бы занимался сухим логическим схематизмом
..., наоборот, мы видим воодушевленного человека ..., которому
в особенности близки история как произведение духа и религия как
универсальная форма представления, которая делает себя
исторически являющимся духом по своей сути, проходит через сердце»2.
Как подчеркивает Розенкранц, гегелевская философия
встраивает в систему диагностику времени таким образом, что она
оказывается совершенно своеобразной в истории философии. Многие
философы, конечно, анализировали свое время, принимали участие в
политических дискуссиях и т. д., но чаще всего это происходило рядом
с их «собственным» философствованием. Чтобы привести пример из
более недавнего времени, то это отчетливо проявляется у таких
мыслителей аналитической традиции, как Бертран Рассел и Георг Хенрик
фон Вригт. Оба публиковали работы о своем времени - как Вригт,
например, писал о будущем нашей техногенной культуры - но это
образует в их творчестве социально-критическую или полемическую
часть, четко отличающуюся от их логической профессии3.
1 Karl Rosenkranz, Vita di Hegel/Hegels Leben (Немецко-итальянское
параллельное издание), Milano: Bompiani, 2012, стр. 282.
2 Там же.
3 О Вригте см., в частности некролог Томаса Валлгрена (Thomas
Wallgren, Georg Henrik von Wright: A Memorial Notice, in: Philosophical
Investigations 28:1 (2005)) где Валлгрен в частности указывает на «напряженность
между его двумя ролями: философский наблюдатель истории и
профессиональный логик» (стр. 10).
74
Дух как предпосылка сознания
Диагностика времени, как краеугольный камень теории
познания, привносится Гегелем в систему при помощи понятия духа.
Кантовское понятие сознания - «механизм» трансцендентальной
апперцепции - собственно строго логически и ни в коем случае
не предполагает историчности. Это вытекает из того, что время
для Канта является лишь формой внутреннего созерцания, и, как
таковое, содержит только «эмпирическую реальность». Другими
словами, время, если «отвлечься от субъективных условий
чувственного созерцания, ровно ничего не означает и не может быть
причислено к предметам самим по себе (безотносительно к
нашему созерцанию) ни как субстанция, ни как свойство» (KrV В
52-53). Поэтому для Гегеля не было возможным историзировать
учение Канта об апперцепции «изнутри», через имманентную
критику. Вместо этого апперцепция была просто отброшена и
было введено понятие духа, который только и делает возможным
объединение временности и логики.
Это радикальное решение проблемы сознания,
предложенное в его ранних работах, Гегель и позже не покидает.
Дух является важнейшим принципом, пронизывающим всю
его систему, как логику, так и реальную философию. Здесь
не место подробнее обсуждать идейные корни гегелевского
понятия духа. Гегель, с одной стороны, связывает его,
естественно, с античной традицией («мировая душа» Анаксагора,
понятие Разума у Аристотеля1), но с другой стороны, понятие
1 В «Энциклопедии» Гегель даже полагает, что «книга Аристотеля
о душе с его рассуждениями об особых сторонах и состояниях... все еще
является преимущественной или единственной спекулятивной работой
об этом предмете» и тут же добавляет к этому: «Существенный
интерес философии духа должен быть тот, чтобы ввести понятие познания
духа, чтобы снова раскрыть смысл тех аристотелевских книг» (параграф
379). Эта привязка к античной традиции замечательна потому, что
Античность — как сам Гегель повторяет в соответствующих местах своих
лекций по истории философии - еще не может быть принципом субъек-
75
духа было уже у Канта (у которого однако - nota bene! - он не
играл никакой роли в теории познания) и разрабатывался в
раннем немецком идеализме в связи с концепцией гения, что
означает, что он тематизировался, прежде всего, эстетически.
Уже в силу своих разнообразных источников и инспираций
понятие Духа остается у Гегеля многозначным, и его не
легко схватить в точном определении. Однако можно привести
довольно репрезентативное высказывание из записей лекций
по истории философии 1820 года. Процесс духа кратко
описывается следующим образом:
«Дух разрабатывает и распространяет принцип
определенной ступени своего самосознания каждый раз во всем
богатстве своей универсальности. Царства духа, дух народа -
организация - собор - многочисленные своды, коридоры, колоннады,
залы, отделения - появляются из целого, единой цели»1.
Такие архитектонические образы показывают, что Гегель
понимал дух как структурированный. А в тех местах, где
Гегель вынужден давать точные формулировки, он просто
придает духу те же основные характеристики, которые сознание
уже имело у Канта. Прежде всего, дух должен быть саморефе-
ренциальным, то есть иметь отношение к себе самому. Так в
«Феноменологии» 1807 говорится:
«Дух [...] есть нравственная действительность. Он есть
самость действительного сознания, по отношению к
которому он выступает как предметный действительный мир... Дух
вместе с тем есть самоподдерживающееся абсолютно реальное
существо. Все предыдущие формы сознания являются его
абстракциями; он есть то, что он в себе анализирует, различает
свои моменты и остается отдельным. Подобные изолирован-
тивности, как Новое время. Открытие заново аристотелевского учения о
душе, на чем настаивает Гегель, означает в этой связи как минимум отказ
от достигнутого со времен Канта уровня понимания субъективности.
1 G.. W.F. Hegel, Vorlesungen Bd. 6, Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie, 1, hgg. von Pierre Garniron und Walter Jaeschke, Hamburg: Felix Meiner
1994, стр. 58-59.
76
ные моменты превращаются в нем самом в предпосылки...»1.
Здесь, несмотря на темный язык, читателю становится
ясно, во-первых, что дух является первичным по отношению
к единичному сознанию, к отдельному Я. Во-вторых, дух
является «самостью» (сходно с Я), чем-то самодостаточным (т. е.
субстанциальным). И, как и все другие предыдущие формы
сознания, Я выводятся из духа, что трудно истолковать иначе,
как отдельное Я или сознание и его особенности только
благодаря духу может быть самореференциальным. В
«Энциклопедии» 1830 года, где находятся окончательные формулировки
по этому вопросу, акценты существенно не изменяются.
Теперь общее определение духа состоит в том, что он возникает
из природы (где «жизнь» уже заявила о себе), которая должна
рассматриваться как «идея, достигшая своего для-себя-бытия»
(die zu ihrem Fürsichseyn gelangte Idee; § 381). Самореференци-
альность как фундаментальная черта духа сохраняется во всех
своих моментах развития: как субъективный, объективный и
абсолютный дух. При ближайшем определении абсолютного
духа, Гегель возвращается к темам его сочинения 1802 года,
замечая теперь, что вера и знание не должны рассматриваться
как противоположные, «но вера напротив есть знание» (§ 554).
Изображение абсолютного духа в энциклопедии
заканчивается известной цитатой из «Метафизики» Аристотеля (XI: 7), где
тот описывает свое учение о noêsis noêseôs - о мышлении
соответственно интеллекте, который сам себя мыслит. По
Аристотелю этот способ мыслить является божественным, а по
Гегелю абсолютный дух должен пониматься, соответственно, как
самосознание Бога.
Важно заметить, что дух (как абсолютный, сам себя
мыслящий и познающий дух) выступает не только как результат
гегелевской системы, но и является его началом, потому что он
цель всего развития. Знаменитая гегелевская формулировка,
согласно которой логика есть «изображение Бога таким, как
1 Phänomenologie des Geistes, HW 2, стр. 238-239.
77
он существует до сотворения мира и конечного духа»,
предполагает предсуществующую цель. Поэтому дух является также
предпосылкой конечного Я человека. Человеческое сознание
получает свои структуры - отношение к себе, способность к
действию «Я мыслю» и т. д. - поскольку он как бы предвидит
величие абсолютного, без остатка замкнутого на себя духа.
Таким образом, Гегель полагает преодолеть учение о
сознании Канта. Он не анализирует учение о трансцендентальной
апперцепции дальше. Например, он не обращает
достаточного внимания на тот факт, что Кант вводил идею
трансцендентальной апперцепции именно для того, чтобы преодолеть
понятие старой метафизики об особой «духовной субстанции».
Молчание Гегеля, очевидно, обусловлено тем, что для Канта «Я
мыслю», в качестве апперцепции, есть чистое действие, и как
таковое не годится как исходная точка для субстанциалист-
ской «философии духа».
Примечательно, далее, что Гегель в этом решающем пункте
своей философии не пользуется обычным диалектическим
развитием понятия, а наоборот - искусным образом ищет обходной
путь. Вместо того чтобы выводить необходимость
универсального понятия духа из неадекватности абстрактного кантовского «Я
мыслю» (ведь он мог диалектически вводить
сверхиндивидуальный дух как «инаковость» апперципирующего конечного
сознания), он насильно разрубает гордиев узел. Как было уже сказано,
он находит апперцепцию только недостаточной и слишком
абстрактной. Но всю проблематику, которая связана с кантовским
понятием апперцепции, он отодвигает в сторону и вводит дух как
ту инстанцию, которая снимает кантовскую «эгологию».
В результате такого подхода кантовская проблематика
сознания у Гегеля в значительной степени остается неразработанной. В
гегелевской системе философии духа неоднократно встречаются
реминисценции кантианства как непереваренные куски.
Пример того, какие неотредактированные проблемы
встречаются нам в гегелевской философии духа, мы находим
78
в уже цитированных выше словах из резюме 1820 года.
После того, как Гегель описал дух в архитектурных метафорах как
организованный, он констатирует, что философия является
высшей формой самопознания духа, через которую он только
осознает свои структуры. После этого он продолжает:
«Философия есть одна из форм этих многообразных
сторон [архитектоники Духа - В.О.]... Она есть высший цвет, она
есть понятие всего образа духа, сознание и духовная сущность
всего состояния народа, дух времени как мыслящий себя дух.
Многообразное целое отражается в ней как в простом фокусе,
как в своем знающем себя понятии»1.
Гегель здесь хочет представить философию как
самосознающее отражение «духа времени». Но, как мы уже видели, он, с
другой стороны, выбросил за борт кантовскую модель
апперцепции. Как же можно это сделать самосознанием духа иначе,
как не через апперцепцию? Гегель здесь попадает в тиски. Так
как он не может открыто вернуться к понятию апперцепции,
к «я мыслю» Канта - в противном случае он сконфузил бы сам
себя - он должен найти решение вопроса: он говорит о
«фокальной точке» (Brennpunkt), то есть о фокусе, который здесь
служит заменой апперцепирующего Я. Но фактически
названный Гегелем «простой фокус» духа во многом употребляется
таким же образом, как и кантовское «я мыслю».
Конечность как предпосылка самосознания
Решение Гегеля сделать дух структурным принципом
своей философии напоминает, если смотреть с «системно
архитектурной» точки зрения, учение Спинозы. Поскольку дух у
Гегеля так же, как субстанция Спинозы, является принципом,
перекрывающим все другие принципы, и так же, как дух у
Гегеля, субстанция Спиноза является причиной самой себя. И так
1 Гегель Г.В.Ф., Лекции по истории философии. Книга первая.
Санкт-Петербург, «Наука», 1993, стр. 111.
79
же, как у Спинозы mens humana (сознание отдельного) является
только модусом мыслящего атрибута субстанции, то так же и у
Гегеля Я отдельного является лишь отражением духа.
Однако принципиальная разница между Спинозой и
Гегелем состоит в том, что Спиноза никогда не утверждает, что
субстанция пользуется самосознанием. Субстанция Спинозы
имеет атрибут мышления, но она не имеет самосознания.
Почему это так, Спиноза сам нигде не объясняет, но причиной
является, конечно, то, что вообще недопустимо применять к
субстанции человеческие определения и формы, ибо эти свойства
«не могли совпадать, за исключением имени, а следовательно
не иначе, как созвездие Пса и лающее животное похожи друг
на друга» (Eth., I prop. 17 schol.).
Может быть, Спиноза только интуитивно избегал
говорить о самосознании субстанции, но все указывает на то, что
это была правильная интуиция1. Почему это так, Кант может
объяснить нам. Как известно, для Канта это была
трансцендентальная апперцепция, которая служит для обеспечения
единства сознания каждого отдельного содержания сознания
через «Я мыслю», которое одновременно обозначается или
отмечается как принадлежащее некоторому субъекту. Заметьте:
апперцепция у Канта не является «собирательной идеей». Она
вообще не «идея», а, как настойчиво подчеркивает Кант, «Я
мыслю», следовательно, действие, которое приводит к
выражению спонтанность субъекта; как таковая она является
«чистым сознанием», которое как «средство передвижения»
(Vehikel) сопровождает все мои представления (KrV В 399,404). Как
таковая эта апперцепция еще не мышление, но она лежит в
основе мышления (ср. «Пролегомены», § 36). Единственное дело
1 Я проанализировал проблему предполагаемого самосознания
субстанции у Спинозы более подробно в моем эссе Spinoza und Kant über das
göttliche Selbstbewusstsein, в: M. Czelinski, Th. Kisser, R. Schnepf, M. Senn, J. Stenzel
(eds.), Transformation der Metaphysik in der Moderne. Zur Gegenwärtigkeit der
theoretischen und praktischen Philosophie Spinozas, Würzburg: Königshausen & Neumann
2003, стр. 183-191.
80
трансцендентной апперцепции - быть логическим субъектом
мышлений и идеи. Гегель воспринимает это как недостаток,
но рассматривая с точки зрения кантовских интенций вполне
правильно подчеркивать «пустоту» апперцепции. Рассуждать
наоборот было бы нелогично. Гегель в своей критике
"абстрактности" апперцепции исходит из того, что он эту абстракцию
чувствует и воспринимает как недостаточную - но эти чувства,
равно как и ощущения, уже предполагают определения
эмпирического Я, конкретное содержание сознания, о котором Кант
на этом уровне теории совершенно не задается вопросом.
Зададимся теперь вопросом о самосознании
бесконечного существа, будь то Бог или «абсолютная идея» Гегеля.
С точки зрения Канта вопрос должен быть поставлен так:
пользуется ли апперцепцией Бог или бесконечный
интеллект Бога, или Абсолютная идея? С точки зрения структуры,
все альтернативы сводятся к одной, поскольку у всех троих
речь идет о самореференциальности, то есть в них
отсылается на самое себя. Такая структура апперцепции
совершенно необходима для конституирования самосознания - это
показала еще критика Кантом юмовской концепции «потока
сознания», который оказалось апоретическим, так как Юм
не мог указать его носителя.
И здесь мы сталкиваемся с трудностью, которая уже
кладет топор под корень гегелевской теории духа. Ибо
апперцепция является особенностью только конечного существа. «Я
мыслю», которое сопровождает все мои представления как
средство передвижения и этим самым делает их моими,
полагает также всегда предел, конституируя не-Я (как это хорошо
заметил Фихте). Как раз необходимость в не-Я для человека
является камнем преткновения, который заставляет понять,
что в «я мыслю» лежит неустранимый момент
дискурсивного. Самосознание служит, как видно, для человека
вспомогательным средством, которым он должен пользоваться
вследствие конечности своих интеллектуальных способностей. Как
81
формулирует Кант в одном месте, человек пользуется только
«дискурсивным, требующим образов» intellectus ectypus (Kdu
351), который нуждается в апперцепции как инстанции в
своей синтетической способности. Напротив, божественный
интеллект, то есть (гипотетический) бесконечный интеллект, как
intellectus archetypus мыслит интуитивно, то есть он может
схватывать предметное содержание uno intuitu, без
последующего синтеза с помощью самосознания (Kdu 349).
Так что, если под самосознанием имеется в виду
апперцептивная структура, то ни Бог или какое-либо другое
бесконечное существо, а также бесконечный Дух, не может быть
сознательным. Кант здесь полностью однозначен. Он отмечает
в другом месте:
«Тот рассудок, через самосознания которого в то же время
было бы дано и многообразие в созерцании, рассудок, через
представления которого объекты этого представления
существовали бы, не нуждался бы в специальном акта синтеза
многообразия к единству сознания; в таком акте нуждается
человеческий рассудок, который только мыслит, а не созерцает»
(KrV В 138-139).
Тем самым установлено: бесконечная субъективность не
может мыслить. Согласно Канту, такому бесконечному
субъекту остается только один выбор - интеллектуально созерцать.
Но именно в этом и состоит хитрость: если интеллектуально
созерцающий бесконечный субъект не пользуется
самосознанием, в чем тогда состоит его идентичность как субъекта? Если
он не может себя конституировать посредством акта «Я
мыслю», то как иначе? Мы не можем утверждать, что бесконечный
субъект себя самого созерцает (вместо мышления), ибо
именно из-за своей бесконечности у такого «субъекта» не было бы
фокуса, на котором бы он держался. Здесь снова вспоминается
изречение Спинозы о созвездии пса и лающем животном
собаке: понятие «субъекта» просто теряет свой смысл, когда его
пытаются применить к бесконечному существу.
82
Это то место, где дух Гегеля и дух Канта различаются, и
совершенно не примиримы. Гегель критикует понятие
апперцепции Канта из-за того, что оно является выражением
философии рассудка. Например, в лекциях по истории философии
(коллегиум 1825/1826) Гегель формулирует свои возражения
следующим образом: «...Кант называет вообще мышление
спонтанейностью... Рассудок есть деятельное мышление, само
«я» ...»1. Так как Кант определяет единство апперцепции
именно как рассудок, то становится очевидным, что идея
апперцепции принадлежит к репертуару отвергнутого Гегелем
«рассудочного мышления». Можно было бы утверждать, что
Кант не остается стоять на позициях рассудка, но
настаивает на том, что высшей познавательной способностью
является разум и таким образом устраняет недостатки рассудочного
мышления. Однако, говорит Гегель, это не так, ибо, хотя разум
«делает бесконечное своим объектом» и имеет побуждение
познать бесконечность, это «ему все же не удается, потому что
для бесконечного нет соответствующего созерцания, ...Если
предположено, что наше знание является опытом, синтезом
мысли и материи чувственности, то бесконечное в любом
случае не может быть познано в том смысле, что для этого
имеется некоторое чувственное восприятие»2.
Ergo: если опираться на кантовскую модель сознания,
которая принимает апперцепцию, то о познании бесконечного
не может быть речи. С позиции Канта мы можем только
мыслить бесконечное, но не познать его. Недостаток кантианства
поэтому - по Гегелю - лежит глубже, чем просто в том, что он
держится на понятия рассудка. Он уже заложен в модели Кант
сознания как апперцептивном.
Естественно, проблематика интеллектуального
созерцания Гегелю хорошо известна, более того, немецкий идеализм
1 Гегель Г.В.Ф., Лекции по истории философии. Книга третья. Санкт-
Петербург, «Наука», 1994, стр. 483.
2 Там же, стр. 489.
83
вообще начинается с критики Шеллингом кантовского
понимания созерцания как только чувственного, что Шеллинг (а
вскоре и Гегель, следуя ему) находит недостаточным. Здесь не
нужно вдаваться в детали, потому что устранение проблем-
ности в попытке Гегеля преодолеть учение Канта о сознании
при помощи понятия духа, состоит не столько в том, чтобы
рассматривать «дух» в связи с «интеллектуальным
созерцанием», сколько в том, чтобы найти общий знаменатель между
логическими структурами конечного сознания и духа
Перевод с немецкого д.ф.н. С.Н. Мареева
ЮбараАннет
«Перевод» веры в знание: «Жизнь Иисуса»
Д.Ф. Штрауса в контексте развития гегельянства
«Жизнь Иисуса»1 может быть прочитана как элемент в
ряду историко-критических исследований, посвященных
личности Иисуса Христа в Новое Время, историко-критичеекогр
толкования Библии, значение которого возросло с началом
Просвещения. Этот способ прочтения Библии сводится к тому,
что ее текст понимается не как откровение, т. е. буквально, а в
своем историческом становлении.
Критический подход Штрауса к Евангелиям имеет,
однако, и другой контекст, что делает этот труд особенным и
отличает его от других работ в духе критико-исторического метода,
Речь идет о философском контексте этого исследования,
причем не религиозно-философском, а теоретико-философском.
Почему, пытаясь найти решение некой философской пробле-
1 Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet von David Friedrich Strauss. Erster Band.
Tübingen: Osiander 1835. Неполный русский перевод« Штраус Д., Жизнь Иисуса,
в: «Библиотека Гумер. Религиоведение», http://www.gumer.info/bogoslov_
Buks/Relig/Schtraus/index.php (24.11.2013).
84
мы, Штраус обращается к Евангелиям? Он не побоялся
сравнить Иисуса и Мухаммеда с Сократом, для него все трое были
«гениями». Что подвигло протестантского теолога Штрауса к
подобной идее?
Пытаясь ответить на этот вопрос, стоит для начала
уточнить наши собственные координаты. Мы, «просвещенные»,
«прогрессивные» люди, привыкли проводить между верой и
знанием, а тем самым - между религией и философией, равно
как и между религией и наукой, демаркационную линию. Для
нас это суть две совершенно раздельные сферы.
Давид Штраус был, напротив, исполнен стремления к
субстанциальному и рефлексированному единению знания и
веры. В его представлении вера должна отдавать должное
знанию, считаться с ним (имелось в виду философское знание);
знание же должно не просто терпеть существование веры, а
уважать ее. И для этого необходимо было «перевести» веру в
знание, осуществить ее перевод на язык последнего. При
написании ЖИ Штраусом им руководила убежденность в том,
что подобная переводимая вера имеет не приватный, а
всеобщий характер, что ее обязательность способствует сплочению
человеческого сообщества. Но уже спустя всего несколько лет
после публикации книги Штраус испытал разочарование
относительно достижимости этой цели. По прошествии четырех
лет после выхода ЖИ в свет он подводит итоги бурных
изменений последнего времени: «Противопоставление веры и
знания, сознание преодоленности которого считалось у прямых
учеников Гегеля чем-то само собой разумеющимся, снова
встало перед нами, как будто никогда и не было сокрушено»1.
Таким образом, уже в 1840 г. Штраус был вынужден
признать этот современный, все еще характерный для нас, статус
1 Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe
mit der modernen Wissenschaft dargestellt von Dr. David F. Strauss. Erster Band,
Tübingen und Stuttgart 1840. Цит. по: Philosophenlesebuch. Band 2. Berlin: Dietz
1988, S. 438.
85
кво, хотя и периодически возвращался в последующих трудах
и дискуссиях с противниками и друзьями к цели достижения
единства знания и веры.
Философский контекст ЖИ представляется интересным
еще и потому, что у предложенной Штраусом критики
Евангелий имеется дополнительное измерение, которое можно
назвать «переводческим». Речь идет о 1) переводе религиозного
содержания веры из1 мира религиозных представлений в
знание (а именно философское) и 2) переводе из знания, из
философской науки в жизнь. Эту цель преследовали Гегель,
гегелевская школа и, в несколько ином смысле, младогегельянцы.
Гегельянцы называли этот постепенный перевод
«христианизацией» жизни. Секуляризацию они представляли себе
именно как «христианизацию», в то время как сегодня под ней, как
правило, подразумевают «де-христианизацию».
В настоящей статье речь, однако, пойдет не о
секуляризации, т. е. не о втором переводе, а о первом переводе -
переводе из веры в знание. Публикация ЖИ является
поворотным моментом на пути перевода религиозного содержания
в область знания: книга Штрауса привела - по причинам,
которых я коснусь позже, - к расколу гегелевской школы на
старо- или правогегельянцев и младо- или левогегельянцев.
Сам Штраус не принадлежал ни к тому, ни к другому
направлению. ЖИ знаменует собой раскол, но идейно ближе к
младогегельянцам.
1 Неопубликованная немецкая рукопись обыгрывает полисемию слов
«Übersetzung», «Übersetzen», перенося прямые пространственные
коннотации сопровождающих их предлогов «aus» (с, из) и «in» (на, в) из узко
языковой сферы (например: «перевод с немецкого на русский») в другие
контексты. За счет этого возникает своего рода эффект визуализации
«невизуального» действия перевода, которое становится переносом,
трансфером, трансляцией из одной области в другую, но при этом не теряется
первоначальная лингвистическая семантика. Для сохранения этого эффекта в
русском переводе используется не свойственное для русского языка
сочетание «перевод из... в...» (прим. перев.).
86
На почве, подготовленной младогегельянцами, выросли
две атеистические идеологии, имевшие в XX веке
колоссальное влияние: марксизм и ницшеанство. Молодой Маркс был
учеником младогегельянцев Бруно Бауэра и Людвига
Фейербаха. Ницше пересказал на новый лад младогегельянские идеи,
или же просто воспроизвел их, не указав источника (взгляды
ученого сообщества в этом вопросе расходятся). Таким
образом, стремление перевести христианство в жизнь привело в
конечном итоге, вопреки первоначальному замыслу, к
подъему атеистических, даже антихристианских идеологий.
На конкретной идейно- и культурно-исторической
взаимосвязи между началом младогегельянского движения - в
особенности ЖИ Штрауса - и данными идеологиями я лишь
коротко остановлюсь в заключительной части статьи. Сейчас
же речь пойдет о специфике, особом контексте и
непосредственном влиянии штраусовской критики Евангелий. Для
этого будет коротко изложена и прокомментирована основная
цель книги ЖИ с учетом отличий от изданных позже
полемических трудов Штрауса - в ЖИ на первом плане стоит
контекст критики Библии, в последующих же трудах преобладает
философский контекст. В заключение будет рассмотрена
взаимосвязь между целями штраусовского труда и философией
Гегеля, а также коротко обрисованы идеологические
последствия публикации ЖИ.
Давид Фридрих Штраус (1808-1874) учился в Тюбингенс-
ком университете на теологическом отделении, собираясь
после получения образования обосноваться на поприще
университетской теологии. Во время учебы он, однако, знакомится с
гегелевской философией и после прочтения «Феноменологии
духа» становится убежденным гегельянцем. Штраус
отправляется в Берлин, чтобы завершить свою учебу у самого Гегеля.
Но вскоре после прибытия Штрауса в Берлин, Гегель
умирает, и Штраус примыкает к гегелевской школе, в особенности к
Ватке. Именно под его влиянием и оформляется проект книги
87
ЖИ.1 Когда труд выходит в свет, среди протестантских
богословов разгорается многолетняя ожесточенная полемика. По
«решению» университетского начальства Штраусу
приходится попрощаться со своей университетской карьерой, и он
становится частным учителем и писателем.
Штраус следующим образом формулирует цель своего
исследования в предисловии к ЖИ: по прошествии
некоторого времени в истории любой религии, опирающейся на
письмо/писание, возникает расхождение между духом
религии и формой старых письменных источников, т. е. между
тем, что предлагают эти письменные источники - священное
писание, и новым образованием/Bildung тех, кто зависит от
священных книг. Основные идеи и представления этих книг
больше не отвечают запросам прогрессивного образования,
так как излагаемое в них непосредственное вмешательство
божественного в жизнь людей становится по ходу истории
религии все менее правдоподобным. Встречи с ангелами,
явление человеку бога, чудеса, о которых повествуют эти
книги, теряют для современного человека свою достоверность.
Толкователи священных писаний, сталкиваясь с этой
проблемой, разрабатывают различные способы ее решения - в
особенности это касается эпохи Просвещения. В этой связи
Штраус предлагает новый, названный им мифическим, подход
к рассмотрению истории Иисуса Христа. Штраус не
претендует на абсолютную новизну своего подхода. Просто он
впервые применяет данный способ трактовки на все Евангелия.
Это не означает, что история Христа полностью
объявляется мифом: все ее составляющие должны быть подвергнуты
проверке на предмет содержания мифических элементов, для
того чтобы понять, в какой мере Евангелия опираются на
исторический фундамент.
1 См.: Strauß, David Friedrich, Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 36
(1893), S. 538-548, http://de.wikisource.Org/wiki/ADB:Strau%C3%9F._David_
Friedrich (04.10.2013).
88
Иными словами, мифическое содержание Евангелий
должно быть отделено от их исторического содержания. По Штраусу,
настало время провести это различие. Мифическое - это все,
что относится к области чудесного, сверхъестественного в
жизни Христа, например, обстоятельства его зачатия, совершаемые
им чудеса. Самое же «чудесное» в его жизни - это чудеса
воскресения и вознесения. Важность этих двух моментов
демонстрирует тот факт, что они по сей день - даже в нашем секуляр-
ном обществе - являются предпосылкой закрепленных законом
праздников, несмотря на то, что сегодня лишь немногие знают,
что они означают. При жизни Штрауса ситуация была иной.
Оба момента были неотъемлемой частью духовной жизни
общества, и, подвергнув их критическому осмыслению, Штраус,
можно сказать, посягнул на самое сокровенное.
В чем состояло это «посягательство»? Отчего именно его
труд, продолживший, казалось бы, традицию критики Библии,
вызвал такой скандал? Штраус признается, что, вероятно, есть
умы, более компетентные и подходящие для проведения такой
работы. Тем не менее, по словам Штрауса, он обладает
качеством, которого у этих ученых умов не достает, а именно:
внутренняя свобода мышления от религиозных и догматических
предпосылок, свобода, которой он обязан своим философским
изысканиям. Богословы считают отсутствие у него этих
предпосылок нехристианским. С его же точки зрения, вероисповед-
ческая подоплека их собственной работы ненаучна. Однако,
продолжает Штраус, вне зависимости от того, какого мнения
относительно его научного подхода придерживаются теологи,
подход этот нельзя назвать нехристианским, поскольку для
автора ЖИ внутренняя суть его христианской веры абсолютно
не зависит от предлагаемого им критического исследования.
В этом состоит отличие его взглядов, резюмирует Штраус, от
натуралистических воззрений прошлых столетий, в которых
отражалась попытка одним ударом сокрушить не только
исторический факт, но и религиозную истину.
89
Как все это понимать? И что конкретно подразумевает
Штраус под «мифическим» способом интерпретации?
Штраус проводит различие между своим подходом и двумя
более старыми способами толкования мифов. Согласно самому
древнему из них, аллегорическому, историческое является лишь
оболочкой, формой, в которую высший - божественный - дух
«упаковывает» над-историческую истину; в этом случае задача
интерпретатора заключается в том, чтобы экстрагировать эту
истину из истории. Более новый подход - это подход
рационалистов и натуралистов. Они больше не опираются на
предположение о наличии божественного содержания в священной
истории, а придерживаются лишь пустой исторической формы,
т. е. исходят из того, что у библейской истории нет
сверхъестественного значения, а лишь естественное - то, что на самом деле
произошло. Подход Штрауса - третий, мифический, способ
толкования библейской истории - ближе к первому,
аллегорическому, с той лишь разницей, что для него высшим духом,
«упаковывающим» над-историческую правду в оболочку истории,
является не божество, а дух народа или религиозной общины.
Подход Штрауса вызвал различные возражения.
Например, была высказана мысль о недопустимости применения
понятия «миф», ассоциативно связанного с язычеством, к
христианству, т. е. оспаривалась мысль о том, что христианская
община создает свои собственные мифы. Тот факт, что
Штраусу это казалось допустимым, связан с особой ролью общины,
которую она с точки зрения гегельянства играет в религиозном
процессе. Создание мифов и легенд христианской общиной
отличается от такового в язычестве, поскольку у христианского
мифа совсем иной статус. Согласно Штраусу, в Новом Завете
раннехристианские (апостольские) идеи упакованы в
рассказы, являющиеся результатом спонтанного мифотворчества.
Когда Штраус говорит о различении мифического и
исторического содержания библейской истории, создается
впечатление, что в своем труде он пытается обрисовать действитель-
90
ный исторический контекст возникновения Нового Завета,
выяснить, кем были написаны евангельские повествования. И
действительно, в своих изысканиях Штраус касается вопроса
авторства и момента написания Евангелий. Однако делает он
это не потому, что его волнуют «исторические факты» и
вопросы датировки, а по другой причине: «Тому, кто вопреки
очевидным фактам настаивает на том, что возникновение мифов
о жизни Иисуса в тот исторический период, в котором она
проходила, невозможно, нужно возразить, что вокруг великой
личности, в особенности если с ней связаны глубокие
перемены в жизни людей, даже в самую сухую историческую эпоху,
очень рано формируются прославляющие легенды, не
связанные с конкретными историческими фактами. Если учесть тот
факт, что раннехристианская община была молодой общиной;
что она прославляла своего основателя столь рьяно,
поскольку жизненный путь его оборвался неожиданным и трагичным
способом; что она несла в себе массу новых идей, призванных
до основания изменить мир; что состояла она большей частью
из необразованных людей, людей Востока, неспособных
выразить эти идеи в абстрактной форме рассудка и понятия, но
лишь в виде конкретных фантазий, образов и историй, то
приходится признать: в таких обстоятельствах возникло то, что
должно было возникнуть: венок святых историй, призванных
наглядно воплотить в себе всю ту массу новых, исходивших
от самого Иисуса, а также старых, проецированных на
отдельные моменты его жизни идей. <...> Простой исторический
каркас жизни Иисуса <...> оброс разнообразными и
глубокомысленными хитросплетениями благочестивых размышлений
и фантазий, а представления, имевшиеся у первых христиан
относительно их наставника, были вплетены в его биографию
как факты» (курсив А. Ю.)1.
Иисус умер на кресте - это исторический элемент.
Воскресение и вознесение же относятся к тому благочестивому рою фан-
1 Das leben Jesu..., Band 1, Tübingen 1835, S. 69-70.
91
тазий, что были вплетены первыми христианами в
жизнеописание их учителя. Воскресение и вознесение суть превращенные в
мифы раннехристианские идеи, не исторические факты. Штраус
называет Иисуса Христа «великой личностью», «основателем»
религиозной общины и «наставником». История о вознесении
благочестиво сочиняется его последователями в целях
прославления - о божественной природе Христа речь не идет.
В работе «Скоротечное и непреходящее в христианстве»1
Штраус высказывается еще однозначнее: Иисус должен сойти
с трона сына божьего и спасителя. Но кто же он тогда? Ответ
Штрауса: он гений. Особенность гения Христа, отличающая
его от других (Сократа, Мухаммеда), состоит в интимной
связи его души с Богом, отчего он называл его своим отцом. Что,
стало быть, часть «вечного» Христа, а что нет? Вечный
Христос - это исторический, не мифический Христос; личность, а
не символ. Вечными являются лишь те элементы его жизни,
в которых выражается его религиозное совершенство - его
речи, его нравственное поведение, его терпимость.
Все, что непосредственно не связано с его нравственным
поведением - чудеса, обстоятельства его смерти, воскресение
и вознесение - приобретает религиозную ценность лишь
благодаря символическому толкованию, которое меняется с
течением времени. Христос перестает быть сыном божьим, но
остается для нас тем, без чьего присутствия невозможно достичь
совершенного благочестия сердца. Именно благодаря этому,
считает Штраус, суть христианства для нас сохраняется.
Высказанные Штраусом идеи были открытым выпадом
против ортодоксии, в том числе и протестантской. Церковь
твердо придерживалась догмы богочеловечности - в этом и
заключался корень вызванного трудом Штрауса скандала.
1 David F. Strauß, Vergängliches und Bleibendes im Christentum.
Selbstgespräche. Zweiter Teil (1838), in: Heinz und Ingrid Pepperle (Hg.), Die Hegeische
Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im deutschen Vormärz, Leipzig: Reclam
1985, S. 86-98.
92
Остается вопрос - по какой причине он пошел на этот
скандал?
Ни основное значение труда Штрауса, ни, что еще более
важно, его познавательный интерес не лежат в
историко-филологической плоскости. Исторических и филологических
моментов он касается, скорее, «по долгу службы» -
поскольку они затрагиваются в контексте пояснений его мифического
подхода к тексту Библии. В чем заключаются основная цель и
собственно познавательный интерес этого труда, Штраус
объяснил в ходе разгоревшейся после выхода книги дискуссии.
В одной из дискуссионных статей1 Штраус называет
причину создания книги. По его словам, толчком к написанию
ЖЦ послужила неоднозначность гегелевской системы. Самым
интересным с теологической точки зрения аспектом
философии Гегеля Штраус и его друзья считали «различение между
представлением и понятием в религии», так как оно позволяло
в равной степени учесть как традицию, так и свободу мысли.
Но, вскоре, это различение спровоцировало вопрос об
отношении понятия к представлению - в особенности к
имеющимся в Евангелиях представлениях.
Как должна поступить сведенная к понятию религия, т.
е. религия, ставшая философским знанием, «переведенная» в
философское знание, с содержанием религиозных
представлений, например, с подробным описанием чудесной жизни
Христа? Принять или отвергнуть их?
Что подразумевается здесь под «представлением»
(Vorstellung) и «понятием» (Begriff), какой смысл вкладывается в фор-
мулиррвку «свести религию к понятию» (die Religion auf den
Begriff bringen)? Ответ на эти вопросы можно найти в
опубликованной э 1806 году гегелевской «Феноменологии духа» (ФД),
1 Pavjd Friedrich Strauß, Allgemeines Verhältnis der Hegeischen
Philosophie zur Theologischen Kritik (1838), in: Heinz und Ingrid Pepperle (Hg.), Die
Hegeische Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im deutschen Vormärz. Leipzig:
Reclam 1985, S. 51-68.
93
с энтузиазмом воспринятой Штраусом. Именно благодаря
этому труду он стал гегельянцем. В ФД рассматриваются
явления («феномены») или формы духа, причем «дух» выступает
как «наследник» историко-философской проблематики
«самосознания». Это формы, которые принимает сознание на пути
своего формирования (развития). Иными словами, в ФД речь
идет о единичном сознании, проделывающим некое развитие
и формирующимся в процессе этого развития, становящимся
научным сознанием - это путь сознания к знанию.
Одновременно данная история суть общая история форм сознания,
не только единичного. Гегель не проводил строгого различия
между единичным и всеобщим; ведь речь как раз идет о том,
чтобы единичное сознание преодолело свою единичность
(ограниченность, идиосинкразию, «оригинальность») и стало
универсальным, т. е. поднялось до общего уровня науки
(научной философии). Подлинным самосознанием для Гегеля
является лишь самосознание, преодолевшее в себе антиномию
единичности и всеобщности, т. е. такое самосознание,
которое, оставаясь единичным, одновременно становится
универсальным. Как известно, этот диалектический путь к знанию
раскрывается Гегелем с помощью очень богатого, понятийно
многомерного языка. Здесь я использую лишь самые простые
гегелевские понятия из ФД (которые, конечно, на самом деле и
самые сложные): сознание и самосознание.
Вначале сознание направлено на внешние предметы.
Помимо этого, существует достоверность самости (Gewissheit des
eigenen Selbst) - оба момента сходятся, когда «я» переживает
сознание предметов как свое сознание т. е. как самосознание.
Данный опыт приобретается не сразу, а поэтапно. Результат
этого процесса Гегель называет духом, обладающим
достоверностью себя самого (der seiner selbst gewisse Geist).
Пока религия не играет сколько-нибудь существенной
роли. Однако на определенном этапе осознающий самое себя
дух задается вопросом: что есть «самосознание»? Иными сло-
94
вами: что представляет из себя форма, которую приняло
теперь мое сознание, достигнув цели? Т. е. самосознание само
становится предметом сознания. Здесь и «выходит на сцену»
религия, точнее: история религии как процесс. Поэтому для
Гегеля религия суть часть философии. Он не разработал
специальной философии религии; религия для него
непосредственно задействована в процесс философского самопознания.
В ходе религиозного процесса - или если угодно: в ходе
истории религии - человеку сначала весь мир кажется
исполненным самостью (Selbst) - все представляется одушевленным.
Это анимизм, дошедший до нас в форме мифов, легенд и сказок.
Впоследствии люди отделяют самость от животных, растений и
предметов и понимают ее как автономную универсальную силу,
которой исполнена вся вселенная, - они называют ее «духами»,
«богами» или «богом». Далее люди понимают, что эта.самость,
названная ими богом, не что иное, как их собственное,
человеческое самосознание, т. е. понимают, что бог - это человек.
Понимание этого происходит не в ходе акта абстрактного
познания, через просвещение, «штудии», науку, а
непосредственно: перед людьми предстает ставший человеком бог. В некоторых
современных философских учениях нечто подобное
называется «событием» (Ereignis), Гегель называет это «откровением».
Ставший человеком бог - Христос; люди, проходящие через
этот опыт - члены христианской общины. Согласно Гегелю,
опыт осознания того, что самосознание, ранее приписываемое
людьми богу, на самом деле человеческое самосознание, - суть
религиозный опыт, т. е. содержание некоего представления. Это
основополагающий опыт христианской религии. Однако
верующие христиане еще не имеют понятия о значении того, что они
видят, - о подлинном смысле образа Христа. Этот последний
познавательный шаг совершает философское знание,
конкретнее: философия Гегеля, сводящая представление к понятию.
Именно это подразумевается в данном контексте под
представлением и понятием и их взаимосвязью.
95
После смерти учителя перед учениками Гегеля встал
вопрос о том, должна ли религия, сведенная к понятию, т. е.
ставшая философским знанием, отвергнуть содержание
религиозных представлений, т. е. содержащиеся в Евангелиях
подробные рассказы о жизни Христа и сотворенных им чудесах.
У самого Гегеля четкого ответа на этот вопрос не найти.
Причиной тому известная и намеренная многозначность гегелевского
текста и его понятийности. Ярким тому примером может служить
понятие «снятие» (Aufhebung). Немецкий глагол «aufheben»
имеет три значения: поднимать что-либо на более высокий уровень,
сохранять/сберегать и упразднять. Штраус заявляет, что прямые
ученики Гегеля, к которым он и его друзья обратились за
советом касательно понимания выражения «снятие представления в
понятии» (Aufhebung der Vorstellung im Begriff), также не внесли
ясности в эту проблему. Те, кто занимал в данном вопросе более
однозначную позицию, к примеру Филипп Маргейнеке, скорее,
отдавали предпочтение аффирмации истории, т. е. содержания
представлений, содержания Евангелий - посредством
(понятийного) мышления, в ущерб отрицанию. По мнению Штрауса,
такого подхода придерживалась все теологическая секция гегелевской
школы. Согласно этому направлению - будущим старогегельян-
цам - философия должна признать религию в дошедшей до нас
форме, т. е. согласиться с содержанием Евангелий.
По Штраусу, это решение для «нас» (т. е. будущих
младогегельянцев) неудовлетворительно: для чего проделывать всю
работу понятия, если, в конечном счете, содержание
представления воссоздастся в том виде, в каком оно существовало
до этого? Не должна ли философская работа принести
познавательную «прибыль», привести к возникновению чего-то
нового, а не просто подтвердить уже известное? Ведь иначе,
продолжает Штраус, свобода мышления лишь кажущаяся, а
«прохождение этапов мышления - лишь иллюзия».
Именно в связи с нерешенностью вопроса об отношении
понятия к представлению, т. е. к содержанию Евангелий, Штра-
96
ус и решил «проработать» жизнь Христа - так возник проект,
результатом которого стала обсуждаемая здесь книга.
Вопреки неясности гегелевских понятий, Штраус именно
у Гегеля находит поддержку для своего критического
прочтения Евангелий. А именно там, где тот отходит от Шеллинга
и снова сближается с Кантом. Яснее всего это проявляется в
тексте, обозначившем разрыв с Шеллингом - в ФД. Подробно
обсуждая различие между методами Гегеля и Шеллинга,
Штраус в особенности ссылается на предисловие ФД: «В этой
антиномии систем Гегеля и Шеллинга <...> заключено сближение
первой с критикой [т. е. с Кантом; А. Ю.] <...>: вся
феноменология суть критика сознания»1. Кроме того, Штраус напрямую
нападает на старогегельянцев: кто заменяет феноменологию,
т. е. критику сознания, на нечто вроде интеллектуального
созерцания, которое стремится «узреть в евангельском
повествовании истину как таковую», тот отходит от гегелевской
позиции и опускается до позиции Шеллинга. Старогегельянцы в
глазах Штрауса - не настоящие гегельянцы, ибо они
реабилитируют теологическую догматику и выступают за то, чтобы в
конце системы реанимировать теологию. Как абсолютно ясно
и лаконично формулирует Штраус, подлинно гегельянская
позиция - не теологическая, а позиция критики сознания.
Старогегельянец не в состоянии перешагнуть через
Священную историю, чтобы за ее пределами обнаружить истину. Своего
рода провидец, он «находит истину в том, во что верят»2. У Гегеля
же «все непосредственное вовлекается в процесс опосредования,
ведущий к тому, что оно теряет как свою первоначальную форму,
так и свою первоначальную ценность»3 - именно в этом и состоит
метод ФД, столь четко сформулированный Штраусом.
1 David Friedrich Strauß, Allgemeines Verhältnis der Hegeischen
Philosophie zur Theologischen Kritik (1838), in: Heinz und Ingrid Pepperle (Hg.), Die
Hegeische Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im deutschen Vormärz. Leipzig:
Reclam 1985, S. 57/58.
2TaM>Ke,S.60.
3 Там же.
97
Евангельские истории как таковые не содержат истины,
только критика религиозного сознания способна пробиться
к ней. Работа понятия, таким образом, действительно ведет к
чему-то новому, к пониманию, которого не достичь простым
созерцанием пестрых образов, представленных в Евангелиях,
Штраус пишет, что теперь (идет 1838 год), после критического
прочтения жизни Христа, он пришел к выводу, что описанные
в Евангелиях события действительно могли иметь место, но это
не обязательно. Их функция заключается в том, чтобы помочь
определенным понятиям воплотиться в истине. Истинными
они остаются и без конкретного нарратива. Самым важным из
этих понятий является вочеловечивание бога (Menschwerdung
Gottes), которое, согласно Штраусу, не обязательно должно
рассматриваться в рамках представленного в Евангелиях
жизнеописания Иисуса. Это понятие охватывает некое становление
(ein Werden), благодаря которому «бог», т. е. предмет сознания,
«присутствует и одновременно не присутствует в каждом
индивидууме, в любое время и в любом месте, как человек - т. е.
как форма самосознания»1.
Подведем итоги: решающую роль в расколе между старо-
и младогегельянцами сыграл вопрос об отношении религии и
философии. Воспроизводит ли философия в форме понятий
то, что религия уже знает, реабилитируя тем самым
содержание представлений последней? Или же философия с помощью
понятий перешагивает границы этого старого содержания,
добавляя к нему что-то новое? И не просто перешагивает его
границы, но и отрицает его? У философии «больше нет нуждь1» в
евангельских повествованиях; она может обойтись и без сына
божьего, т. е. без конкретного христианского представления о
боге. Иными словами, она может быть атеистической. Подчер-
1 David Friedrich Strauß, Allgemeines Verhältnis der Hegelsehf n
Philosophie zur Theologischen Kritik (1838), in: Heinz und Ingrid Pepperle (Hg)» Die
Hegeische Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im deutschen Vormärz. Leipzig:
Reclam 1985, S. 62.
98
кивая аффирмативный момент в снятии (Aufhebung), мы
встаем на теологическую позицию - позицию старогегельянцев;
выделяя, напротив, момент отрицания (Negation), мы
оказываемся на позиции младогегельянцев, которая имплицирует
возможность атеизма.
Несмотря на продолжавшиеся попытки Штрауса,
тождество между верой (религией, представлением) и знанием
(философией, понятием) в ходе последующей радикализации
младогегельянского направления стало просто невозможным.
Бауэр и Фейербах, главные оппоненты Штрауса среди
младогегельянцев, углубили «негативное снятие» (negative Aufhebung)
до снятия самого снятия (Aufhebung der Aufhebung). Штраусовс-
кий постулат о том, что религиозное представление «не
обязательно», заменяется у Бауэра убежденностью в том, что
религия везде и всегда бессмысленна; Фейербах, в свою .очередь,
порывает с гегелевской системой, в которой религия занимала
центральное место. Бог у Фейербаха - это больше не
необходимый этап формирования сознания, а проекция человека;
позже Фрейд назовет ее «иллюзией».
Сам Штраус видел в религиозных представлениях нечто
произвольное, случайное, не являющееся необходимым для
знания. С его точки зрения, еще гегельянской, вера имеет для
духа лишь историческое значение, это часть его «прошлого»
(также как и искусство, вера преодолевается знанием,
«переводится» в знание).
А с точки зрения, уже переставшей быть гегельянской
(Фейербах, Маркс, Ницше), под вопрос ставится сама связь
между верой и знанием как таковая, а тем самым и сама
возможность «перевода» веры в знание и в жизнь; ибо вера
рассматривается теперь не с позиций знания, т. е. как особый вид
знания, а в прагматико-психологической перспективе.
Для молодого Маркса религия больше не является высшей
формой знания человека о самом себе. У него речь идет о
«религиозном убожестве» (Elend), в котором находит выражение
99
действительная нищета (Elend) и которое в то же время
представляет собой протест против этой нищеты: «Религия - это
вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно
тому как она - дух бездушных порядков. Религия есть опиум
народа»1. На таком социально-психологическом объяснении
религии для Маркса завершается критика религии. Теперь
перед ним стоит задача критики и изменения общественных
отношений, приведших к возникновению религии («Тезисы о
Фейербахе»). Молодой Маркс отходит от философии и
обращается к социально-революционному активизму.
Штраус, а, точнее, один из его поздних трудов «Старая и
новая вера» (1872)2, становится прямым объектом критики
Ницше3. Для Штрауса старой верой является христианство. В
этой книге он задается вопросом, христианин ли он или уже
стал апологетом новой веры, не противоречащей современной
научной картине мира. Ницше поучительным тоном
критикует Штрауса за то, что он так и не научился быть философом,
потому что остался богословом, «так как он не умеет
различать веру и знание и <...> называет одним, так сказать,
дыханием "новую веру" и "новые науки"»4. Требуя, как чего-то
самоочевидного, строгого разграничения веры и знания, Ницше
делает вид, как будто Штраус не ставил во главу угла именно
преодоление пропасти между ними.
Ницше, однако, вполне осознает, что Штраус преследовал
1 Карл Маркс, К критике гегелевской философии права. Введение, в;
Карл Маркс/Фридрих Энгельс: Сочинения. Т. 1. М., 1955. С. 415.
2 В этом труде Штраус уже стоял на позициях материалистического
монизма. На вопрос, являемся ли «мы» все еще христианами, он открыто
дает отрицательный ответ. Сам Штраус лично не был поборником
религиозности, опирающейся на понимание вселенной как работающего по
законам физики механизма, однако считал такую религиозность допустимой
альтернативой христианскому богу.
3См. работу Ницше «Несвоевременные размышления: "Давид Штраус,
исповедник и писатель"», http://lib.ru/NICSHE/razmyshleniya2.txt (21.11.13).
4 Там же, глава 9.
100
эту цель, ибо в другом месте1 он обвиняет гегелевскую
философию в пропаганде «безобидного» требования проводить
различие между идеями христианства и его феноменальными
формами. Гегель, продолжает Ницше, превратил христианство
в знание о христианстве и тем самым уничтожил его. Поэтому
христианство перестает «жить»; ибо жизнь живет
инстинктами и умерщвляется знанием2. Иными словами, знание о вере -
это враг живой веры. Ницше совершенно точно передал цель
философии Гегеля, но, возведя в абсолют ни о чем не
говорящее противопоставление «мертвого», «умерщвляющего
знания» и «живой жизни» - противопоставление в духе модной
в то время философии жизни - он одновременно лишил эту
цель всякого значения. Пустой идеологический характер
данной антиномии ясно предстает перед нами, если вспомнить,
что именно в ФД речь идет не о мертвом знании, а, наоборот,
о жизни духа (конечно, включающей в себя, - как всякая форма
жизни - и смерть).
Согласно Ницше, вера должна быть живой, должна
служить «жизни». Так как бог, с его точки зрения, не «стал
человеком», а умер, то и сама вера в мертвого бога больше не в
состоянии кого-либо взбудоражить; возникла потребность в новой
«живой» вере. Этой верой призвана стать вера в грядущего
сверхчеловека, позже описанная Ницше в его трактате «Так
говорил Заратустра».
Заключение и перспективы
Подлинное различие между Гегелем и рассмотренными
новыми идеологиями не лежит на линии антиномии между
теологией и атеизмом. Ведь философия Гегеля - суть
философия атеистическая, по крайней мере, если не придерживать-
1 Фридрих Ницше, Несвоевременные размышления: „О пользе и вреде
истории для жизни" http://lib.ru/NICSHE/razmyshleniyal.txt (21.11.2013).
2Там же, глава?.
101
ся позиции старогегельянцев. Их понимание Гегеля Штраус и
ближайшие ученики Гегеля (к примеру, Карл Людвиг Мишле)
охарактеризовали как неправильное толкование Гегеля в духе
Шеллинга, как негегельянское.
Подлинное различие между Гегелем и новыми
идеологиями заключается в разрушении единства знания и веры,
существовавшего в философской парадигме самопознания и
самокритики сознания.
В процессе «смены парадигм» на место гегелевской
философии приходят современные идеологии, такие как
марксизм и ницшеанство, подчеркивающие свой атеистический и
антирелигиозный характер, но принимающие при этом
черты нового религиозного учения, как это видно на примере
ницшеанской религии о сверхчеловеке и марксистского
пролетарского мессианизма.
Но, помимо этого, смена парадигм дала начало
критической социальной теории в виде критики политической
экономии более позднего Маркса, опиравшегося в своем методе на
Гегеля. Маркс применил разработанный Гегелем для
философского самопознания спекулятивно-диалектический способ
мышления, превращая его из «дела логики» в «логику дела», к
анализу общественного отношения под названием «капитал».
Этот путь, на мой взгляд, шел в обход младогегельянской линии
разложения и переистолкования гегелевской системы.
Поздний Маркс развивает иную часть гегелевского наследия,
которую следует строго отличать от младогегельянского наследия
в марксизме. Лишь такая парадигма критической социальной
теории имеет отношение к известному «развитию социализма
от утопии (т. е. идеологии) к науке».
102
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ. О ГЕГЕЛЕ СЕГОДНЯ
Г.В. Лобастое
Понятие логики и логика понятия в философии
Гегеля
1. Форма и смысл логического
Со времен Гегеля диалектика как логика стала фактом
сознания. И фактом историческим. С не менее трагической
судьбой, как и любое великое, соразмерное истории, дело
человечества. Разумеется, объективная диалектика
общественно-исторического бытия была очевидной и бессознательной
формой исторического развития и до теоретической работы
Гегеля. Но Гегель, чуткий к истории, ее объективным сломам и
сдвигам, превращает эту историческую диалектику в логику,
преобразуя существующие представления о логике и начиная
понимать ее как всеобщую идеальную форму движения
исторической действительности.
Гегелевская логика есть путь истины - путь ее к самой
себе как абсолютной истине. Она - разгаданная тайна
«Феноменологии духа», в которой как раз и обрисован этот путь.
Гегель впервые понял логику как логику истории и выразил
ее как мировое шествие объективного духа, стягивающего
пространственно-временные определения действительной
истории в единство ее понятия. Ни Тойнби, ни Шпенглер, ни
Данилевский, ни Гумилев, - вся линия «нелинейного» пони-
103
мания истории осталась без понятия в истории, не увидев
великого синтеза исторического процесса. Осталась без Гегеля
и без Маркса, потому как мыслила не в формах
действительной логики, а в обособленных определениях эмпирического
содержания, в пространственных образах «линии»,
«ненаправленности», «обособленности», «разделенности» и т. д.
Буржуазный мещанско-этнический взгляд на природу
исторического человеческого бытия и сегодня - расхожая
форма. И это ясно: сделать себя понимающим без гегелевского
Понятия нельзя. А согласно этому понятию ничто в истории
не исчезает, если возникает как необходимая форма ее
развития. Ее снятые формы превращаются во всеобщие моменты
содержания исторического бытия.
Диалектическая логика Гегеля, выражая
действительность, удерживая собой одновременно и образ ее чистых
форм, и образ форм отчужденных и превращенных. Во
внутренней взаимосвязи своих категорий эта логика определяет
действительное место и преходящий характер и того, что для
грубо-рассудочного подхода выступает в однозначном
определении формальной логики. Снимая формальную
логику, Гегель противоречие, якобы заключающее в себе абсурд,
возводит в ранг центральной логической формы, через
которую осуществляется развитие действительного содержания.
Именно это обстоятельство вынуждает и саму истину
мыслить как становление, снимающее в себе преходящие
моменты объективного содержания.
Потому и история несет в себе дух, т. е. процесс духовного
развития своих идеальных моментов, снимает себя в
духовной культуре и в этом образе полагает себя в качестве своего
собственного основания. Дух развивается только потому, что
удерживает в настоящему в действительном бытии, весь состав
снятых прошлых форм.
Дух, как основание, как определение субъектности
исторического человека, выходит за рамки наличного бытия толь-
104
ко потому, что поднимает сущность этих наличных форм в
форму понятия. Сделать форму понятия действительной
основой бытия - это, по Гегелю, дело самого понятия, в самом
себе обнаруживающем способ движения к абсолютной истине,
удерживающей в себе начала и концы любого целостного
формообразования. Форма, способ синтеза любой действительной
формы и форма ее прехождения дана в форме самой логики, т. е.
устойчиво-необходимой, и одновременно
универсально-пластичной, - как аристотелевская форма форм, форме мышления,
форме развития действительности.
Гегелевская логика - это внутренняя способность
человеческой личности. Более того, сама личность втянута в логическую
картину мира. Логика - это и движение общественной истории,
и становление человеческой индивидуальности, и универсальная
личностная способность. Субъект и предикат здесь
тождественны. Потому и любая человеческая функция, сколь бы
непосредственной она ни была, оказывается опосредованной этой
логикой - более того, оказывается исполненной этой логики.
Человеческое Я вообще, его самосознание, с самого
начала опирается на формы объективного бытия, превращая их в
специфическое зеркало своего собственного содержания. Это
содержание развивается на основе предметно-практической
деятельности, а сам факт самосознания есть отражение
момента раздвоения и противополагания активности субъекта и
объективации ее результата.
Самосознание вообще происходит за границей сознания,
в объективной действительности исторического процесса.
Потому логику Гегеля и надо понять как всеобщий
теоретический образ этого самосознания. В ней человек сознает не только
форму своей индивидуальной мысли, движущейся по
определениям бытия, но и форму исторического движения
действительности, форму движения самих вещей в условиях этого
культурно-исторического бытия. Сознает и диалектику - как
форму своего собственного бытия.
105
Гегелевская логика - это логика творчества, творческого
развития. Этим она прямо противоположна позитивистским
представлениям о логике. А эта, позитивистская логика, так
называемая философия науки, есть всего лишь общая форма,
списанная с объективированных способов мысли
современной науки, ни на гран це выходящая за рамки традиционной
формальной логики, в каких бы модификациях последняя ни
представала. Здесь мысль мыслится как всецело
принадлежащая субъекту. Позитивизм, в своем противоположении
субъекта объективному бытию, хочет видеть это бытие только в
рамках субъективно определенных схем.
Сознание принадлежит действительности как ее
собственный активный момент. Насколько сознание, его
способность определять реальные действия, определяет и
направляет действительные мотивы активности человека - вопрос
ключевой, ибо это вопрос о наличии и месте самосознающего
разума в бытии. Сознание творит мир, творит его сообразно
своим представлениям. Заблуждения и ложь воплощаются в
мир ничуть не меньше, чем истина и правда. Обнаружение же
прямых денотатов нашим суждениям еще не делает сознание
истинным. Хотя, разумеется, и законы формальной логики
выражают некий внешний момент действительного бытия.
Истина, как и заблуждение, содержится не только в словах, не
только в суждениях, не только в сознании, - она
воплощается в действительность и присутствует там. Истина, говорит
Гегель, это соответствие предмета самому себе, соответствие
вещи своему понятию.
Именно на такую форму бытия может и должен
опираться разум. Это бытие, исполненное разумом. Может разум
преобразовать бытие сообразно своей форме? Для Гегеля такого
вопроса нет. Ибо если разум не может этого делать, то зачем
он? Разум должен увидеть и обосновать себя, обнаружить
свою мощь в преобразовании неразумного бытия с
объективно в нем содержащимся сознанием, мнящим действительность
106
только по собственной логике, по тем схемам, которые явились
сознанию в ограниченных формах этого мира. Мир
человеческий был бы обречен, если бы идеи утратили свое значение,
если бы действительность исторического бытия не
выворачивала из себя ту форму, тот идеал, которую стихия удержать не
может, но мышление - обязано.
Но и разум, как известно, далеко не всегда существует в
своей собственной, т. е. разумной форме. Он не всегда
соответствует сам себе, своему понятию. Сознание более
опирается на форму действительности, как она обнаружила себя
в наличном бытии, чем на ее собственный (обособленный в
теории) разумный момент. Иначе говоря, сознание не умеет
сознательно опереться на само себя, на свое собственное
разумно-истинное содержание, на свою развитую форму, -
способность различения истины и заблуждения спрятана в самом
бытии и может быть обнаружена в сознании и самосознании
только захватывающей всю полноту бытия диалектикой.
Сделать форму понятия действительной основой бытия -
это, по Гегелю, дело самого понятия, в самом себе
обнаруживающем способ движения к абсолютной истине, удерживающей
в себе начала и концы любого целостного формообразования.
Способ синтеза любой действительной целостности и способ
ее прехождения даны у Гегеля в форме самой логики, т. е.
устойчиво-необходимой (и одновременно
универсально-пластичной, - как аристотелевская форма форм) форме мышления,
форме развития действительности.
Она порождена ходом истории, ее действительным
содержанием. Превращенные формы сознания (подобно
идеологии) принадлежат самой исторической действительности и
связаны не только с моментом отчуждения человека от своей
собственной сущности - они принадлежат к
содержательному составу исторического движения самой этой сущности.
Нравственно они не имеют оправдания, но логика обязана
выразить их в своем движении, и ее всеобщая форма должна
107
показать их снимаемый характер. Логически эти неистинные
формы фиксируются как недоразвитые формы самого этого
бытия, реальность опирается на них как на свою собственную
прочную основу, отраженную в сознании под образом
исторической всеобщности. Эта всеобщая форма выражает и
совпадает с формой реального бытия, и если ограниченность этого
бытия мыслится как детерминирующая материальная основа
мысли, а совпадение с ней мысли - как истина, то такой
материализм просто не ведает своих собственных заблуждений.
Тогда как логика - форма идеальной всеобщности - умеет
задать истинную меру развития действительности. Разумеется,
там, где мышление не знает развития, его истина мыслится в
простом совпадении с предметом.
В анализе и оценке гегелевской логики, конечно,
возникает вопрос - и значительно более острый, нежели при
оценке всяких прочих «концептов» - о действительном
историческом месте и значении диалектической логики. В
общей форме, разумеется, ясно, что в объективном движении
истории теоретические (логические) представления значимы
в той мере, в какой они истинны, в какой становятся
субъективной силой человека. Вспомним Маркса: идея, овладевшая
массами, становится материальной силой. Но обнаружила
ли действительность себя истинным образом в
диалектическом самосознании человечества? И - значат ли человеческие
«трагедии» после Гегеля и Маркса неистинность их логико-
мировоззренческих представлений?
2. Понятие как форма истины
Гегель первым осознал тот факт, что развернуть
теоретические определения понятия возможно только через
предварительный анализ той основы, из которой понятие
происходит. «Объективная логика, рассматривающая бытие и
сущность, - говорит он, составляет поэтому, собственно го-
108
воря, генетическую экспозицию понятия» (Гегель. Наука
логики, т. 3. М., 1972. С. 10). Оно должно быть выведено, получено в
качестве истины бытия и сущности, истины развивающейся
и завершающей себя в абсолютной идее как форме
адекватного понятия. И процесс этого выведения, то есть движение
категорий логики, логической науки непосредственно
совпадает с процессом познания. «В науке о понятии, - пишет
Гегель, - его содержание и определение может быть
подтверждено только посредством имманентной дедукции, содержащей
его генезис...» (Гегель. Наука логики, т. 3. С. 16). Выведение
понятия поэтому есть не что иное как процесс формирования
понятия познающим мышлением. И именно поэтому «там,
где дело идет о мыслящем познании, нельзя начать с истины,
потому что истина в качестве начала основана на одном лишь
заверении, а мыслимая истина как таковая должна .доказать
себя мышлению» (Гегель. ЭФН. Т. 1. М., 1974. С. 339).
Действительное же разрешение проблема понятия
получает только там, где анализ дает принципиальное объяснение
перехода материального в идеальное и идеального в
материальное. Легко, однако, заметить, что именно этот
взаимопереход материального и идеального и порождает логический круг
в теоретических определениях объективной
действительности и познавательных форм. И материализм в его домарксовой
форме эту проблему не мог решить именно потому, что был
метафизичным и созерцательным, то есть не видел диалектики
этого взаимоперехода и исходил из действительности, данной
«только в форме объекта, или в форме созерцания» (К. Маркс и
Ф. Энгельс. Соч., т. 42, с. 261).
Но чтобы эту диалектику усмотреть, более того,
обнаружить в ней способ выхода из тавтологии теоретических
взаимоопределений материального и идеального, из состава
объективной действительности необходимо вычленить
такую форму бытия, внутри которой эта диалектика постоянно
совершается. Объект как таковой, взятый в качестве принци-
109
па, проблемы не решает, поскольку он фиксируется лишь как
абстрактная противоположность созерцанию, а потому и как
нечто тождественное ему. Именно это К. Маркс и отмечает
как главный недостаток всего предшествующего
материализма. Поэтому, согласно К. Марксу, предмет должен быть понят
не в форме объекта, или в форме созерцания (что по
существу одно и то же), а «как чувственно-человеческая деятельность,
практика», субъективно (см.: там же). Иначе говоря, предмет,
действительность, из которой должен исходить материализм
диалектический, не совпадает с абстрактно понятым
объектом - это есть действительность, совпадающая с
чувственно-предметной деятельностью человека, с его практикой, это
объект, данный в формах общественно-исторической
деятельности человека, то есть, по Марксу, «субъективно».
К такому пониманию вплотную подошел уже Гегель,
частью он даже выразил именно такое понимание
действительности. Как философ, усматривающий предмет своего
исследования во всеобщей и необходимой форме постигающего в
понятиях мышления, он абстрагирует этот предмет -
мышление - от состава реальной действительности и рассматривает
его именно в этом абстрактном его бытии, которое реально, в
действительности имеет место только в науке. Действительная
форма, обнаруживающая идеальное - трудовая
преобразовательная деятельность, - им оставлена за пределами «Науки
логики», точнее сказать, оказалась снятой «в своей истине» - в
мышлении. Поэтому, согласно Гегелю, объект в своей истине
совпадает лишь с формой теоретической деятельности, с
определениями мышления.
По Марксу же, истинная природа объекта выявляется
только в формах общественно-исторической практической
деятельности человека. Объект, данный субъективно, - это и означает
объект, как он выявлен в практической деятельности
общественного человека. Объект в формах практики представляет
собой ту особенную форму объекта, которая есть одновременно
ПО
форма всеобщности, а потому и идеализованная форма. Объект
здесь обнаруживает себя таким, каким он является в своей
сущности, в формах практики он выявляет свою «чистую» форму,
ту, которая не обнаруживает и не может обнаружить себя вне
преобразовательной человеческой деятельности. В практике,
материальной деятельности выявляется внутренняя связь
вещей объективного мира, та форма и способ их бытия, которые
не даны чувственному созерцанию. Практика поэтому
«объясняет» вещи, но она же объясняет и логику познающего эти вещи
мышления. Однако вне теоретической деятельности эта чистая
форма сознанию быть дана не может.
Значит, понять понятие как логическую форму и как
идеальную форму отражения действительности - это значит, в первую
очередь, понять объективную предметную действительность в
формах практики, в формах человеческой
общественно-исторической деятельности, а не только в формах мысли, как это
имеет место у Гегеля,
Но и Гегель хорошо понимает, что собственная природа
вещи, «чистая» ее форма или форма идеальная, обнаруживает
себя в изменении вещей природного мира, в трудовой
деятельности. «...В стихии бытия вообще, - говорит он, - множество
потребностей; вещи, служащие их удовлетворению,
перерабатываются, их всеобщая внутренняя возможность полагается как
нечто внешнее, как форма» (Гегель. Работы разных лет. Т. 1. М.,
1970. С. 324). Иначе говоря, в труде во внешней форме
проявляется собственная природа вещи, ее внутренние определения
или, по Гегелю, идеальное. «Я как абстрактному для-себя-бы-
тию противостоит также его неорганическая природа как сущее;
оно относится отрицательно к ней и снимает ее (в) единстве
их обоих, но таким образом, что оно сначала формирует ее как
свою самость, затем созерцает собственную форму (в последнем
случае подчеркнуто мной - ГЛ.)» (Там же. С. 323). Продукт
труда, снятые в нем определения природы представляют собой,
иначе говоря, содержание человеческого Я, посредством кото-
111
рого человек знает не только природу, но и самого себя как Я,
как снятое единство этих природных определений.
Собственная внутренняя природа вещей теперь положена трудом уже
не только в образе внешне существующей формы вещи, но и
представлено в Я, в понятии.
Но форма труда, проявившая идеальное, Гегелем
снимается в самостоятельном движении всеобщих идеальных форм как
форм мышления. Анализ этого действительного начала понятия,
труда, остается у Гегеля в предпосылке собственно логического
анализа понимающего мышления, и уже логическое движение
категорий предстает единственно истинным способом
движения и развития понятия. Такое понимание понятия для Гегеля -
это не просто абстрактная фиксация понятийной формы
мышления, а выражение понятия в его сути, развернутой в процесс,
в движение ее собственных имманентных определений.
Одновременно это движение логических категорий
мышления есть объективное движение определений предмета
этого понятия, а не просто абстрактное движение логических
определений - всеобщего, особенного и единичного в форме
суждения и умозаключения как оно выступает в субъективной
логике. Понятие поэтому всегда объективно определено,
содержание его есть содержание объекта, а потому и та
логическая форма, внутри которой оно обнаруживает свою
самостоятельность, есть форма, объективная закономерность самой
предметной действительности. Выразить предмет в понятии
поэтому и означает воспроизвести его в его
объективно-закономерном движении или, как это выражает Гегель,
«осознать его понятие» (Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1.
М., 1975. С. 352), поскольку объект «в его непосредственности
есть понятие лишь в себе» (Там же. С. 385). «Необходимость как
таковая есть в себе соотносящее себя с собой понятие» (Там же.
С. 416), «есть положенное в себе понятие» (Там же. С. 387).
В этом - глубочайший смысл гегелевского представления
о понятии. Объект имеет свое собственное объективно-за-
112
кономерное движение. Категориальная форма этого
движения не дана в его непосредственном бытии, как не дано и его
истинное содержание. Они представлены здесь лишь в себе.
Снять непосредственность объекта можно лишь в
деятельности, в рамках которой он обнаруживает свои сущностные,
рефлективные определения. То, что было в себе, в
деятельности становится формой для-себя-бытия, в которой «выступает
определение идеальности» (Там же. С. 236). Это идеальное вещи
и проявляется, осознается в форме ее понятия. Поэтому
«деятельность субъективного понятия должна рассматриваться...
лишь как развитие того, что уже есть в объекте, потому что сам
объект есть не что иное, как целокупность понятия» (Гегель.
Наука логики. Т. 3. С. 247).
Тождество бытия и мышления, имеющее место в любой
философской концепции и проявляющее себя в форме
логического круга взаимоопределений материального и идеального, у
Гегеля выступает как сознательный теоретический принцип,
вырастающий из понимания диалектики деятельности. «...
Превращение данного материала в логические определения...
есть полагание, которое столь же непосредственно определяет
себя как предполагание; поэтому благодаря моменту предпола-
гания логическое может казаться чем-то готовым в предмете,
так же как благодаря моменту полагания оно может казаться
продуктом чисто субъективной деятельности. Но отделить эти
два момента друг от друга нельзя; логическое в своей
абстрактной форме, в которую его выделяет анализ, несомненно,
имеется лишь в познании, равно как и наоборот, оно не только
нечто положенное, но и нечто в-себе-сущее» (Там же. С. 247).
Объективные определения природы, выявленные в
общественно исторической практической деятельности,
предстают как продукты этой деятельности. Воплощенные в
формах человеческой культуры, эти объективные природные
определения есть по существу своему абстракции. Но это не есть
абстракции внешних, чувственно данных свойств, а абстрак-
113
ции, производимые самой логикой
общественно-исторического бытия человека, абстракции, имеющие свое собственное,
определенное общественно-исторической действительностью,
содержательное движение в объективном процессе развития
исторической культуры. Эти абстракции объективны. Более
того, они представлены в материальной
культурно-исторической предметности.
Именно эта общественно-историческая
культурно-предметная действительность лежит в основе созерцания и
мышления человека. Абстракции мышления суть абстракции самой,
данной в формах общественно-исторической деятельности,
предметной действительности. А логика этого мышления,
взаимосвязь абстракций в составе мыслительной деятельности
есть объективная логика развития, внутренняя взаимосвязь
объективно расчлененной и различенной предметной
исторической действительности. Абстракции мышления поэтому не
есть результат субъективной деятельности сознания, а
представляет собой продукт общественно-исторической
практической деятельности человека.
Объективные определения вещи (ее свойства) имеют,
однако, возможность отвлечения и обособления не только в
человеческой практической деятельности, но и везде, где имеет
место процесс объективного самодвижения, саморазвития.
Свойство вообще проявляет себя в отношении («...Свойства
данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам,
а лишь обнаруживаются в таком отношении...» - К. Маркс и
Ф. Энгельс. Соч., т. 23. С. 67), во взаимодействии. Свойство вещи
определяет другую вещь к такому движению, каково оно само;
оно тем самым полагает себя вне себя, в других вещах, - оно в
них отражается. Бытие этого свойства в другом (в иной
форме) и есть его обособление, его объективная абстракция.
И если бы не было этой объективной рефлексии,
обособления свойств и способностей вещи в других вещах, не было
бы возможности и отразить эти определения вещей в созна-
114
нии. Отражение в сознании - это всегда вторичное
(опосредованное) отражение. Вещь обнаруживает свои свойства для
сознания только потому, что она обнаруживает их для других
вещей. Деятельность человека и есть та форма, в которой вещи
соотнесены друг с другом так, как они не соотносятся в стихии
природного бытия, доступного наблюдению, - и только
потому эта форма позволяет обнаружить «сверхчувственные»,
сущностные определения вещей.
Вещь поэтому понимается не как одна в ряду многих,
обладающих одинаковыми чувственно-эмпирическими
характеристиками, а как особенное выражение и воплощение всеобщего,
всеобщей взаимосвязи вещей внутри определенной
конкретности. Совокупность этих взаимосвязей внутри целого, их
ансамбль, и определяет место и функцию каждой вещи, ее особую
функцию внутри этой системы вещей. Вещь в ее существенных
определениях поэтому и может быть понята только через ее
взаимосвязь со всеобщим, в ее отношении ко всеобщему; лишь
здесь постигаются ее «сверхчувственные» определения как
определения, не вытекающие из ее собственного субстрата, а лишь
посредством его существующие и посредством его
осуществляющие свою объективную функцию, определения, которые
положены в вещи со стороны других вещей.
Сущность любой вещи заключена в реальном составе
других вещей, в совокупности их взаимоопределений.
Генетическое начало ее представлено фактом определенного
противоречия внутри этой системы взаимосвязанных вещей.
Содержательный состав вещи, ее форма и функция находят свое
объяснение в конкретном содержании этого противоречия и
вне анализа его поняты быть не могут. «...Мышление
противоречия есть существенный момент понятия» (Гегель. Наука
логики. Т. 3. С. 301). Столь же определенно положено этим
противоречием и место порожденной вещи в составе целого. В способе
бытия вещи удержаны все внутренние определения ее,
делающие ее данной определенной вещью, в ее функции выражены
115
ее внутренние связи с другими вещами. Внутренние,
необходимые определения вещи суть поэтому такие определения ее,
которые имеют место не внутри пространства ее натуральной
формы, а в пространстве более широкой системы вещей. Эти
определения, естественно, представлены и в натуральном теле
вещи, поскольку вещь как разрешающая определенное
противоречие должна снимать в себе его противоположные
моменты. Однако в чувственных характеристиках вещи эти ее
внутренние сущностные определения не представлены адекватным
образом, эти чувственно данные свойства вещи выражают
сущностные определения лишь постольку, поскольку через
них и посредством них вещь отправляет свою положенную ей
функцию, осуществляет свой способ бытия. В этом и
заключается сложность постижения сущностных определений вещи.
Но вещь является сознанию совсем не в первую очередь -
сознание может что-либо сказать о вещи только тогда, когда о
ней «высказались» другие вещи. Внутри материальной
практики человека вещь поставлена в соотношение с другими
вещами, и здесь она обнаруживает себя тем, чем она есть, вещь
интерпретирует сама действительность в рамках
определенной формы общественно-исторической практики, а не то или
иное сознание. И истинное отражение вещи, постижение ее
есть только то, которое воспроизводит ее возникновение и
способ существования так, как они обнаруживаются в
объективном процессе общественно-исторической деятельности
людей, то есть вне и помимо сознания человека. Такова схема
«Науки логики».
Преобразованный объект, как он выступает в результате
деятельности, и является реализованным понятием. Поэтому
ничего удивительного нет в утверждении Гегеля, что «все суть
умозаключения, нечто всеобщее, связанное через особенность с
единичностью» (Гегель. Наука логики. Т. 3. С. 122). И сама
реализация цели, то есть деятельность, по Гегелю, «является полным
умозаключением» (Гегель. Работы разных лет. Т. 2. М., 1971. С. 167).
116
В реализации цели, в деятельности понятие определяется
в его истине, поскольку снимает субъективные определения
цели. И одновременно оно (понятие) получает выражение
через свою противоположность - через объективное бытие
предмета, продукта деятельности. И наоборот: объект утрачивает в
деятельности «черты кажимости, внешности и ничтожности»
(В.И. Ленин), предстает в своей истине. Одновременно,
поскольку объективное отождествилось в формах деятельности и ее
продукте с субъективным, объект представлен в
субъективном, субъективное есть понятие объекта; объект представлен
тем самым через противоположную себе форму. Поэтому
процесс отождествления в деятельности объективного с
субъективным есть одновременно процесс противоположения
предмета и его понятия, причем каждый из полюсов представлен
как единство, тождество субъективного и объективного.
Тождество субъективного и объективного, таким
образом, проявляется в двух формах: в форме чувственно
преобразованного объекта и в форме понятия, субъекта. И обе формы
в качестве результата снимают в себе свое становление -
деятельность. Логика деятельности есть поэтому и логика
понятия, и логика объекта.
Чувственно-предметная форма продукта деятельности в
своей непосредственности является (со стороны гносеологической)
предметом чувственного созерцания, чувственность потому и
становится человеческой чувственностью, что имеет дело с этим
особым предметом, содержащим в себе субъективные и объективные
определения общественно-исторической деятельности человека.
Предметом же понятия являются определения более
широкой действительности, нежели непосредственно данный в
созерцании предмет, - те определения, которые этот предмет
порождают, формируют и задают ему способ бытия внутри
этой действительности, определения, которые, следовательно,
в созерцании даны быть не могут, но которые сняты и
обособлены в наличном чувственном предмете.
117
Поскольку эти определения актуально наличны,
развернуты во взаимосвязь лишь в формах общественно-исторической
деятельности постольку и в сознании они удерживаются в
тех же формах. Понятие поэтому разворачивает внутренние,
сущностные определения предмета в логике всеобщих форм
общественно-исторической деятельности, то есть во
взаимосвязях всех категорий общественного бытия, выявленных
человеческой практикой. Вне идеального удержания полноты
предметного содержания в формах мысли - категориях,
которые суть одновременно всеобщие формы бытия, выявленные
и представленные в формах общественно-исторической
практической деятельности, - вне этого удержания нет понятия,
понимания предмета.
Определения предмета понятия действительны только
во взаимодействии вещей внутри пространства и времени
общественно-исторической деятельности, лишь здесь этот
предмет представлен в реальной объективной развернутости
своих свойств и характеристик, в любой же точке
пространства и времени, взятой отдельно, в любом акте особенной
деятельности он определен односторонне, абстрактно. Но в
этой абстрактности он идеально соотнесен со своим
конкретным содержанием, со своим всеобщим основанием,
представленным вне его самого - в составе, формах и способах
общественно-исторической деятельности, то есть там, где
всегда актуальны условия превращения этого идеального
соотнесения в соотношение материальное.
Движение этого идеального соотношения вещей в составе
человеческой общественной жизнедеятельности возникает
совершенно независимо от сознания человека - как производный
момент общественно-исторической практики. И вне этой категории
идеального, представленной в формах деятельности как
необходимый момент взаимосвязи общественного целого, невозможно
не только целостное бытие общественного «организма», но и
никакой единичный акт человеческой деятельности.
118
Понятие как раз и воспроизводит это идеальное
содержание общественно исторической действительности. Как таковое
оно есть «ставшее вполне свободным проявление сущности»
(Гегель. Наука логики. Т. 3. С. 25)У субъект, бесконечная
творческая форма, «которая заключает в самой себе всю полноту
всякого содержания и служит вместе с тем его источником»
(Гегель. ЭФН. Т. 1. С. 342).
В понятии идеально представлен категориальный состав
предметной действительности, категории мысли в нем свернуты
(сняты), понятие выступает как результат (синтез) их движения
в мышлении. Для этого мышление необходимо должно
пройти сферу бытия и сущности, развив полноту их определений, и
снять их в понятии. Поэтому-то понятие и представляет собой
«идеальное единство бытия и сущности» (Гегель. Энциклопедия
философских наук. Т. 1. С. 365). «...Понятие содержит в самом себе как
снятые все прежние определения мышления». «...Оно содержит
в самом себе в идеальном единстве бытие и сущность и,
следовательно, все богатство этих двух сфер» (Там же. С. 341-342).
В этом заключен очень важный момент для
материалистического анализа проблемы понятия. Его существование как
формы идеального непосредственно представляется
определенным двусторонне. С одной стороны, понятие
определяется к бытию самой общественно исторической практической
деятельностью человека как необходимая форма,
опосредующая этот процесс, как форма, содержащая в себе знание
сущности явлений действительности. С другой стороны,
понятие - это специфическая форма познания, мышления, форма
движения углубляющегося в действительность сознания,
форма, относительно независимая от действительности,
относительно самостоятельная форма бытия и движения
знания, форма, отличенная от всяких прочих форм знания, как
чувственных, так и рациональных.
Основание понятия должно содержать в себе
противоречие, формой разрешения которого и должно выступить понятие.
119
Это понятие как разрешающая противоречие форма само
должно оказаться средством движения своей основы, то есть
разрешать противоречия в реальной материальной
действительности, а не только в сфере идеального, в сфере движения науки.
Разрешение противоречий в этой последней сфере, в сфере
обособленной деятельности познания служит лишь предпосылкой,
теоретической основой практического процесса, активного
разрешения реальных материальных противоречий бытия.
Переход же понятия в сферу бытия осуществляется посредством
идеи - высшей формы развития понятия.
Иначе говоря, теоретический анализ понятия должен
пройти два взаимосвязанных круга, исходящих и
замыкающихся в одной «точке», в общих для них обоих основе. Первый
круг - это исследование движения понятия от его
возникновения до формы воплощения в реальное бытие; это путь
понятия как следствия определенной формы бытия (деятельности)
до понятия как основания того же самого бытия в его
самодвижении. Второй круг - это анализ движения понятия внутри
теоретической деятельности, то есть внутри его определения
быть следствием, отражением бытия.
Второй круг - лишь развернутый момент внутри
первого. Поэтому, если не рассматривается отношение круга бытия
и круга понятия, то есть объективной и субъективной логики,
если эти последние не понимаются как противоположности
внутри некоторого единого целого, не понимаются как
противоположности, переходящие друг в друга, и, следовательно,
теряется объективная различенность материального и идеального,
их диалектика, - иначе говоря, если каждый из кругов
исследуется обособленно, в отрыве от другого, то невозможно достичь
в исследовании конкретной полноты определений понятия.
Философское мышление поэтому при воспроизведении
понятия, понимания самого себя, исходит не из факта
очевидности своего существования и описания тех явлений, которые
непосредственно предстают как явления мышления, понима-
120
ния, понятия, - оно исходит из такой объективной
реальности, которая в силу собственной противоречивости в своем
имманентном движении обнаруживает идеальную форму во
всех ее различениях и которая одновременно обнажает
необходимость всех реальных (материальных) воплощений этой
формы. И только такое теоретическое движение может само
претендовать на форму понятия, понимания понятия в его
всеобщей форме.
Это теоретическое исследование понятия исходит,
следовательно, не само из себя, а из своего другого, из формы
противоположной, из бытия, начинает поэтому не с понятия или
какой либо другой формы субъективности, а с объективного
движения определенной реальности. У Гегеля - с анализа
логики бытия вообще. И только на первый взгляд кажется, что
теоретический анализ первого круга, круга бытия, не имеет
отношения к понятию и что таковое отношение имеет лишь
второй круг, субъективная логика.
Но и субъективная логика может быть подвергнута
исследованию лишь по ее наличным, чувственным
воплощениям. Вне анализа этих воплощений исследование повергается
в интроспекцию, и застревает в субъективных отчетах
самосознания. Исследование же логики по ее языковым
воплощениям, которые кажутся ближайшими и непосредственными,
как правило, приводят к анализу языка, языковых структур,
структуры науки, логики науки. Движение по кругу этих
воплощений оказывается замкнутым в себе, несмотря на то, что
внешним образом оно может опираться на те или иные
философские предпосылки. Из этого круга можно выйти лишь
через анализ объективных воплощений мышления внутри
социально-исторического бытия, лишь выйдя на первый круг
движения понятия.
Определение сферы воплощения понятия должно быть с
необходимостью выведено из диалектики самой общественно-
исторической деятельности. Анализ этой диалектики, первого
121
крута, легко обнаруживает, что ближайшим воплощением
понятия является не язык, а материальный результат
предметно-преобразующей деятельности человека. Но сам этот
материальный продукт столь же мало есть понятие, сколь и его
языковое воплощение. Лишь в форме деятельности с
предметом явно и адекватно обнаруживает себя понимание
предмета, его понятие.
Понятие поэтому совпадает с формой, способом
деятельности. В том, в чем деятельность воплощается и фиксируется,
воплощается и фиксируется понятие. А чтобы превратить это
понятие в актуальную способность индивида, необходимо активное
освоение продукта этого понятия, способа деятельности с ним. И
если в практической деятельности понятие обнаруживается
через адекватный способ деятельности с предметом, то в идеальной
деятельности мышления оно обнаруживает и фиксирует себя в
форме теории, в способе ее разворачивания, - разворачивания,
адекватного объективной форме бытия и развития предмета.
Иными словами, форма понятия выражает себя в методе.
Если на первом круге понятие непосредственно
вырастает из условий материального производства и воплощается
в его формах и продуктах, то второй круг осуществляет себя
посредством языка и непосредственно в нем воплощается. Как
средство выражения и идеального удержания объективной
предметной действительности, язык в принципе универсален:
его имманентные закономерности способны своим движением
выразить содержание любой воспроизводимой посредством
его действительности. Универсальность языка связана с тем,
что «элемент» его, знак, независим в своем бытии от природы
обозначаемого предметного содержания, в своем движении он
подчиняется закономерностям языка, а не закономерностям
обозначаемого предмета. Знак и может что-либо обозначать
только через систему языка, в составе которого представлено
фиксированное всем опытом практической деятельности
человека общественно-историческое значение вещей.
122
Понятия фиксируется в языке и с помощью его
удерживается в относительно независимой от материальных
практических процессов, в относительно самостоятельной форме.
Это обеспечивает возможность теоретического (идеального)
развития содержания понятия до и вне реального изменения,
развития его предмета. Истина этого процесса выявляется,
однако, лишь в реальном, практическом взаимодействии с
предметом. Понимать предмет - это значит уметь его
воспроизвести не просто в составе языка (это лишь исчезающий
момент), а в объективных процессах взаимодействующих вещей.
Именно это предполагает выражение единичного и
особенного через всеобщее, а всеобщего - в особенном и единичном.
Здесь понятие объективно совпадает с формой деятельности.
Его субъективное воспроизведение в мышлении (и в
движении языка) есть лишь отражение этого объективного процесса
общественно-исторической деятельности.
Но в чем бы понятие ни фиксировало себя, посредством
чего бы оно ни было удержано, единственный способ
развернуть его в сознании - это осуществить с его предметом
идеальную деятельность) воспроизводящую всеобщую форму
материальной деятельности с ним. И только потому оно выступает
образом действительности, а не образом, не формой
материала, посредством которого выражается.
Существует ли, однако, какая-либо особая предметность,
которая, выражая себя в понятии, одновременно бы тем самым
выражала понятие понятия?
Если понятие вообще существует в формах деятельности,
то естественно полагать, что теоретическое выражение
всеобщей формы деятельности и дает нам понятие понятия. В таком
случае оно будет фиксировано в языке. Неслучайно для Гегеля
такой фиксацией, теоретическим выражением понятия
является текст «Науки логики».
Но что такое существование понятия в формах
деятельности? Это значит, что оно существует в форме субъекта этой
123
деятельности, через эту деятельность себя обнаруживает и этой
деятельностью воплощает себя в объективной
действительности. Потому нет ничего удивительного в том, что Гегель
действительным субъектом считает понятие. Или, иначе, понятие
является имманентным определением субъекта деятельности.
Понятие определяет субъектность. И именно потому, что
снимает бытие. Понятие содержит в себе импульс активности,
ибо его логика есть логика саморазвивающегося содержания.
Обособляясь в форме идеальной деятельности, она и
становится активной универсальной способностью человека.
Первая форма такого обособления и выражения
мышления для Гегеля есть язык. И в этом есть момент истины,
потому что в объективном процессе природно-исторического
бытия логика связана особенным содержанием и не проявлена
в чистом виде, понятие еще не извлечено из бытия и потому
не дано сознанию в истинной форме. В чистой форме оно
может быть представлено только в языке и посредством языка. В
пространстве языка мысль получает свободу и способна
определиться в соответствии с обстоятельствами, увидеть свою
собственную связанность реальными объективными
условиями, увидеть их идеальное содержание и именно благодаря
этому различию материального и идеального положить
деятельность, воплощающую свою идею в действительность.
Увидеть идеальное содержание вещей - это и значит
достичь понятия вещи, следовательно, способа ее бытия и
саморазвития, а потому и ее объективного места в
действительности, ее собственных возможностей и способностей изменения и
самоизменения. И вещь в деятельности становится
подчиненной своей собственной логике, удвоенной в форме понятия
в составе мыслящего духа действующего субъекта. Потому
понятие и есть свобода, т. е. снятие объективности и
деятельность в сопряжении с ее, объективности, собственной
логикой, иначе говоря, логикой понятия. Но, не будучи способно
преодолеть сопротивление бытия, понятие вынуждено при-
124
мириться с действительностью и понять последнюю как свое
собственное предельное выражение.
В логике Гегеля представлена идея в ее чистой
(обособленной в сознании) форме, т. е. как чистая потенция бытия, в себе
самой содержащая мотив, как способность осуществления
себя в бытии. И первый акт гегелевской идеи - погружение
себя в природу. Не в язык. Язык еще должен будет возникнуть,
и именно как универсальное средство удержания и идеального
разворачивания понятия, когда оно высвобождается из
природы в форме духа. Движение субъективного духа и должно
воспроизвести этот круг бытия. Потому логика и показывает
движение идеи в бытии и достижение ею сущности, и только
снимая последние (бытие и сущность), понятие становится
свободным и активно полагающим деятельностный процесс.
Становится ясно, что для понимания понятия важнейшей
проблемой является проблема монизма. Эта проблема
принципиально не может получить своего разрешения в рамках
идеализма, - здесь материю приходится принимать в лучшем
случае как инобытие духа или, если не удается от нее
вообще избавиться, допускать как некоторое инертное условие
деятельности сознания, или, что чревато уже сознательным
дуализмом, видеть в ней некоторое потустороннее сознанию
начало. Гегелевский идеализм, правда, не отличает идею от
всеобщей закономерности бытия, он лишь обособляет ее и
полагает в основание всех его конкретных форм. Делается это на
том основании, что закон управляет движением вещей, бытие
вещи зависит от ее закона, поэтому закон не только
определяет вещь, но он и логически первичен по отношению к ней.
Такое обособление и идеализация закона в науке
осуществляется всегда и принимается ею как естественная норма. Но
Гегеля нельзя упрекнуть, что он не отдает отчета в том, как идея
связана с бытием. Понятие как основную логическую форму
он выводит из бытия. Правда, само бытие у него представлено
в его собственных всеобщих (логических) определениях, по-
125
этому иногда и кажется, что это не есть бытие, а всего лишь
движение категорий мышления, что Гегель за бытие выдает
категории, что существенны и необходимы только одни они, а
бытие преходяще и несущественно.
Но в том-то и дело, что он исследует категории, законы
движения бытия и их переход в форму понятия, т. е. логика
здесь анализируется не просто и не только со стороны ее
ставших форм, а в движении всеобщей формы становления.
Поэтому логика здесь разворачивается не как формальная схема
движения мышления, присущая лишь субъекту, а как форма
развития самой действительности, включая сюда как
самого субъекта, как логика перехода бытия в понятие и понятия
в бытие. Глупа, уж во всяком случае неполна, та философия,
которая, пытаясь осуществить переход одной
противоположности в другую (от бытия к мышлению или от мышления к
бытию), не заботится о том, чтобы осуществить обратный
переход. Обосновать мышление бытием совершенно недостаточно,
необходимо бытие обосновать мышлением. Бытие истинно
только тогда, когда оно соответствует понятию. Но
возможность субъективизма здесь устраняется тем, что понятие
обосновывается категориальным составом самого бытия, оно
объективно определено, является истиной этого бытия, а не
случайным определением субъекта. В гегелевской философии
субъект противоположен миру лишь как его собственная всеобщая
форма, обособившая в себе его необходимые всеобщие
определения и логику их объективного движения.
И основанием единства субъекта и объекта является
именно эта всеобщая форма самой действительности. Форма
всеобщности в мире и в мышлении совпадает. Поэтому
Гегель представляет бытие как понятое бытие, т. е. развернутое
в его собственных всеобщих формах. Странно было бы искать
монизм там, где одна противоположность дана в ее
эмпирическом существовании, а в отношении другой требуют
теоретической формы. Как истинный теоретик Гегель и движется
126
в однородном логическом пространстве, здесь он фиксирует
противоположность бытия и мышления и, нигде не выходя
за границы этого пространства, теоретически осуществляет
взаимопереход этих противоположных определений одного и
того же - определений бытия и определений мышления.
Движение от эмпирического к теоретическому есть не что иное,
как теоретическое выражение того же самого, эмпирического,
возведение его в логическую форму, понимание его, понятие,
выражение его сущности, закона движения, развития.
Непосредственно из эмпирии нельзя получить закон,
непосредственно ее можно лишь описывать, но описание не есть понимание
ее, для этого требуется теоретическое движение мышления
внутри этого эмпирического материала.
Нетрудно заметить, что тождество бытия и мышления
осуществляется Гегелем внутри самого мышления - в его
рациональной, теоретической форме, абстрагированной и
представленной в качестве объективно-самостоятельной. С
этих позиций неистинным оказывается сенсуализм
любого рода. «Совершенно недопустима поэтому ссылка на одни
только собственные ощущения. Кто это делает, тот отступает
с общего для всех поля оснований, мышления и самого дела
в область своей единичной субъективности... Из всего этого
вытекает, что ощущение есть самая плохая форма духовного
и что оно может испортить самое лучшее содержание» (Гегель.
Соч., т. 3. М., 1956. С. 109).
Но создается впечатление, что, критикуя субъективизм,
Гегель не выходит за рамки лишь мыслимого единства бытия
и мышления, речь же должна идти о действительном их
тождестве, раз дело касается истины. Впечатление это, однако,
было бы истинным, если бы в гегелевской философии не было
достаточно емкого анализа труда, практической
деятельности. Этот анализ остается за пределами «Науки логики», но
сохраняется в ней в качестве объективно-всеобщей формы
деятельностного процесса.
127
Именно поэтому гегелевская философия является
ближайшей предпосылкой понимания Марксом центральной
проблемы философии - проблемы истины. Как
материалист Маркс поставил проблему шире, чем те
сенсуалистические концепции, которые исходят из ощущения в анализе
природы знания. Сознание есть осознанное бытие, и
поэтому природа знания заключается в природе человеческого
бытия. А это далеко не только ощущения. Основой знания
является практика человека, и (повторю еще раз эту мысль
Маркса) «вопрос о том, обладает ли человеческое мышление
предметной истинностью, - вовсе не вопрос теории, а
практический вопрос. В практике должен доказать человек
истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность
своего мышления. Спор о действительности или
недействительности мышления, изолированного от практики, есть
чисто схоластический вопрос».
В предметно-практической деятельности человека
связь знания и его предмета приобретает форму тождества
противоположного. Практика как форма объективного бытия
отождествляет определения субъекта и объекта. Но субъект
не дан до практики, он в ней порождается и его мышление есть
всего лишь отражение бытия. И истина этого отражения, то
есть тождество бытия и мышления, предметно представлена в
формах и результатах труда.
Как бы и сколь бы мышление и бытие ни различались, они
объективно отождествляются в продуктах человеческой
деятельности. Знание здесь не отграничивается от объекта
ощущением и не сводится к его, ощущения, содержанию, а
переходит за ощущение, выходит за свои собственные пределы - в
бытие. И когда знание из формы субъективного переходит в
форму объективного, в форму предмета, опредмечивается,
тогда проблема измерения истинности знания оборачивается
совершенно неожиданной стороной. Поворот этой проблемы
состоит в следующем.
128
Анализ показывает, что когда знание и его предмет
сводятся (отождествляются) к знанию в его чувственной или
рациональной форме, проблема критерия его оказывается
неразрешимой. Непосредственно знание знанием измерить
нельзя. А теперь в продукте практической деятельности
обнаружилось совпадение знания с предметом, субъективное
и объективное свелись к чувственно-предметному
содержанию. Что здесь, в акте предметно-трудовой деятельности,
произошло? Подтверждение и измерение истинности
знания? Вне сомнения, раз мы исходим из положения, что
истина есть знание, соответствующее действительности. И на
этом разговоры об истине можно было бы закончить, для
убедительности еще раз сославшись на классическую мысль,
что практика есть критерий истины.
Но не получится ли тут опять круг, только другого рода?
Ведь знание тут понято как отражение предмета в
практической деятельности и этой же практической деятельностью оно
измеряется. Получается. Но так и должно быть, поскольку
критерий, как раньше уже было зафиксировано, выражает собой
природу знания: если природа знания усматривается в
ощущении, истинность его ощущением и измеряется. Поэтому
остановиться просто на констатации этого обстоятельства, того
факта, что знание здесь совпадает с бытием, значит не довести
рассуждение до конца - не измерить знание в движении этого
материального круга, в движении самих вещей, фиксирующих
и представляющих собой знание.
Материальное образование можно измерить только
материальной мерой, и возникает проблема определения
самой этой меры. Иначе говоря, вопрос тут ставится так: к чему
надо свести вещь, чтобы измерить ее истинность? Не просто
измерить какое-то из ее свойств, например, протяжение или
вес, а вещь в ее собственном особенном бытии.
Вопрос, правда, звучит несколько необычно - истинность
вещи? Ведь категория истинности, согласно обычному ее по-
129
ниманию, относится только к знанию, к вещам объективного
мира она неприменима: истина есть в знании, но не в вещах.
Но вопрос поставлен совершенно правильно, поскольку
вещь оказалась представляющей знание, овеществленным
знанием. И оборачивается этот вопрос проблемой природы самой
вещи: измерить вещь можно только мерой, соответствующей
ее природе. Мера вещи, чем бы конкретно она ни представала,
должна выражать собой природу вещи.
При таком повороте проблемы истины создается
впечатление, что речь о знании уже больше не идет: проблема
погрузилась в природу вещи или, как любят выражаться в
определенной философской традиции, в ее (проблемы) онтологический
аспект. Но подобного рода впечатление возникало и тогда,
когда поиски критерия истины шли только в рамках знания,
- здесь казалось, что, напротив, нет речи о вещах. Поэтому как
там, так и тут возникает основной для философии вопрос: как
связано знание с предметом. И дело, следовательно,
заключается в том, чтобы при решении проблемы истины были
налицо все условия разрешимости этого основного вопроса.
И получается, что вне общественно-исторической
практики людей, превращающей определения вещей в определения
мыслей и, наоборот, определения мыслей в определения
вещей, проблема истины принципиально не может быть решена.
Вещь дана познающему мышлению лишь постольку, поскольку
она дана практически действующему человеку. Иначе говоря,
нет никакого изолированного от практики гносеологического
отношения. Познавательный процесс в его обособленности
через практику уже снял определения вещи, причем именно
ее всеобщие и необходимые (логические) формы. Эти формы
и являются законами познавательной деятельности, и теория
познания должна обнаружить их за движением
познавательных средств, будь то чувственность, язык или формальные
операции рассудка, - в способах общественно-исторической
практической деятельности.
130
Вот это-то тождество познавательных, логических и
объективно-предметных форм и имеет своим основанием
практику, а поэтому и объяснить эти формы возможно только
через объективное движение вещей внутри практики. Практика
и является тем пространством, внутри которого и мысли, и
вещи получают единую меру. Отсюда, кстати, и вырастает всем
известный, но не всеми понятый принцип единства
диалектики, логики и теории познания. Ведь суть этого принципа в том,
что как бы ни распадались особенные определения
диалектики, логики и теории познания в условиях их
абстрактно-обособленного существования, адекватное понимание каждого
из этих моментов может быть достигнуто только в рамках их
тождества, то есть внутри того реально- объективного
процесса, где они - одно и то же.
Ответ на этот вопрос очень прост: то, что не дано в
чувствах, дано в практике как ее собственная форма,
воспроизводящая те определения вещей, которые в непосредственном и
естественном бытии чувствам не даны. В практике внечувс-
твенное содержание переходит в чувственное, то, что было
недоступно чувствам, становится им доступным.
Человеческая предметная деятельность, преобразуя объект, выявляет
такие характеристики, такие определения действительности,
которые не лежат на поверхности, доступной чувственности,
но которые определяют характер и способ самой этой
деятельности. Вещь поэтому дается человеку не просто в чувствах, а в
формах его предметно-практической деятельности. Всеобщие,
универсальные способы этой деятельности и выступают как
формы мышления, содержащие в себе момент абсолютной
истины - абсолютные пределы самой действительности.
И только потому, что эти пределы определяют деятельность
человека, они признаются наличными в самих вещах. И это
признание носит не конвенциональный, а
объективно-принудительный характер. Норма человеческого бытия поэтому
детерминируется самой объективной действительностью.
131
Последней мыслью можно, разумеется, оправдать все, в
том числе и плюрализм. Но дело в том, что действительность
различна в себе. Каждая вещь в этом мире различается внутри
себя: она имеет свои совершенные, развитые формы, формы
чистые, свободные от действия случайных детерминирующих
обстоятельств, и формы, деформированные этими
обстоятельствами, формы недоразвитые, адекватно не выражающие
своей сущности и даже скрывающие ее, а потому и
«обманывающие» нас, заставляющие принимать их за нечто другое.
Поэтому и «дана» способность ума, чтобы уметь различать эти
формы и делать нормой бытия те из них, которые наиболее
полно выражают собой природу вещи.
Проблема истинности вещи или, выражая это на языке
Гегеля, проблема отношения вещи к самой себе, сравнения ее
форм, принимаемых ею в процессе развития, с ее собственной
сущностью, непосредственно сопряжена с пониманием про-
цесса развития. Ведь ясно, что если развития нет, то проблема
отношения вещи к самой себе лишена смысла: вещь при этом
условии может быть отнесена лишь к чему-то, лежащему за ее
собственными пределами и потому несоразмерному с нею. Но
если вещь изменяется, то надо найти основание и закон
изменения вещи. Необходимо знать, как связаны друг с другом формы
вещи в процессе ее изменения, развития, каков закон перехода
от одной ее формы к другой. Конкретную форму бытия вещи
поэтому можно измерить только ее собственными пределами:
ее отношением к ее собственному началу и к ее завершению.
Начало - это порождающее эту вещь противоречие в составе
предпосылок; завершение - полнота формообразования с
предельной конкретностью. В развитой ее форме, в завершении,
получают обнаружение все реальные возможности вещи,
явление здесь совпадает с сущностью. Это предел, это ее истина
и это ее идеал. Достигает вещь идеала в своем конкретном
бытии или нет - это вопрос другой, но меру истинности эта вещь
находит только в зеркале своего идеала.
132
Но здесь возникает новая проблема - проблема истинности
самого идеала, раз им измеряется истинность вещи. Идеал - это
не только объективный предел развития вещи, совпадение ее
явления с сущностью, но и форма сознания. Чем она определяется?
Определяется она пониманием объективного процесса развития
вещи. Поэтому истинность идеала может быть обоснована только
адекватностью отражения логики вещи в практике и познании.
Иначе говоря, лишь в преобразовательной,
предметно-практической деятельности определяется и идеал как знание
универсально-всеобщей (идеальной) формы самой действительности, и
сам предмет в его истине. Здесь проверке подвергается не только
знание, его соответствие предмету, но и сам предмет, его
соответствие понятию, то есть пониманию его природы и сущности.
Взаимоопределения понятия и предмета происходят
только в деятельности, которая согласуется с логикой объективного
развития действительности. А если не согласуется? Коли сама
практика односторонняя, не ориентирована на идеальные,
универсальные формы действительности и мыслит свой идеал
в частно-ограниченной форме бытия? Ничего не поделаешь -
она и будет определять и понятия, и вещи, а если и те и другие
расходятся с ее частным интересом, она, возводя последний во
всеобщность, будет любыми силами, включая сюда и прямое
насилие, представлять одностороннее, неполное, а потому и
ложное, понимание действительности истинным.
Неистинность этих представлений может быть
обнаружена двояко: фактом объективного распада
материально-практической основы существования этих ограниченных интересов
или глубокой рефлексией логики исторического бытия
человека, - либо стихийно, либо сознательно.
3. Диалектика как логика творчества
В творчестве имеет место момент, в объяснении
выходящий за рамки работы рассудочных форм и потому необъясни-
133
мый из состава оснований наличного бытия. Но если строго
удерживаться на диалектико-логических позициях, то надо
признать и в наличном бытии такое содержание, которое в
движении деятельности (так называемой творческой
деятельности) получает противоположные определения, не
разрушающие, а, наоборот, удерживающие разумную форму. Это
указывает на то, что творчество - в каких бы формах и какими бы
способностями оно ни осуществлялась - имеет закономерный,
более того, вполне четко определенный логический характер.
Иначе говоря, продукт этой деятельности предопределен
составом исходных предпосылок и условий, содержанием того
конкретного противоречия, которое, разрешаясь, снимается в
форме, выступающей для сознания продуктом творения. Еще
иначе: это объективный процесс, и прежде чем рассматривать
его субъективную сторону, необходимо отдать отчет в
содержании и форме того движения, в пределах которого
субъективное выступает в своей активной форме. И вместе с тем
одновременно посмотреть, способно ли субъективное
преодолеть объективную границу развивающихся процессов и, если
это так, что выступает содержанием и предметом его
творящего действия. Иначе говоря, куда выходит субъективное и что
творит оно, если оно способно к сотворению запредельных
(выступающих за наличные пределы), метафизических форм,
не вычитываемых из движения естественных процессов.
Природа вещи кажется постигнутой, поскольку описаны и
просчитаны ее деятельные способности. А как иначе? Что еще
можно и нужно сказать о вещи, коль скоро она на основании
этого знания легко вписывается в практические взаимосвязи и
взаимодействия? Поэтому и образ ее легко сохраняется в
представлении через структуру деятельности, а ее научно-«теоретическое»
описание выступает всего лишь условием детально-тщательной
подгонки ее к другим вещам в практической жизнедеятельности.
Деятельная способность вещи, однако, не есть ее
собственная способность. Она есть способность всеобщая, в вещи
134
этой проявляющаяся. «Я» вещи, будучи зависимо от состава
этих, не ей только принадлежащих способностей, но
всеобщих в буквальном смысле, а потому и могущих быть
понятыми только через контекст этой всеобщности, - «Я» вещи эти
способности «использует» в формах своего единичного бытия,
т. е. в той траектории ее, этой вещи, судьбы, которая отличает
ее от всякого прочего индивидуального бытия и движения.
Собственная сила вещи только в особенностях этого ее
индивидуального движения и проявляется. И естественная наука
легко просчитывает это движение, понимая собственную
способность каждой вещи через определенный синтез всеобщих
природных способностей, которые она понимает как некие
силы и которые умеет количественно выражать. Ее, этой науки,
законы и суть формы синтеза этих сил, которые, кстати, и
обнаруживаются только во всеобщем пространстве их бытия.
Вынутая из поля всеобщности, вещь теряет свои свойства.
У Маркса есть, однако, как будто совершенно другая
мысль, высказанная им в примечаниях: свойства вещи не
возникают в ее отношениях к другим вещам, а только в этих
отношениях проявляются. Здесь легко можно вычитать мысль об
изначальном наличии в вещах собственных свойств, т. е. не тех,
которые присваиваются и делаются своими, т. е. свойствами, а
тех, которые вещи присущи изначально, т. е. ее атрибутивных
способностей, свойственных ей как таковой. Откуда, однако, у
вещи могут быть такие способности (свойства)?
Мыслить отдельную вещь как абсолютно обособленное
бытие было бы делом неразумным, ибо такое мышление
осуществляет неправомерную абстракцию. Любая вещь, конечно,
есть обособление, но обособление не есть разрыв, а есть
обособленное бытие того же самого, от чего обособление
осуществляется. Абсолютное обособление как разрыв прямо
противоречит идее всеобщей взаимосвязи явлений мира. Абсолютное
принадлежит не отдельной вещи, но ей - только в той мере, в
какой она в своей единичной форме его способна выразить.
135
Поэтому будет правильным утверждать, что вещь не
самостоятельна в своем бытии, не свободна в своем движении, и
ее отношение к другим вещам только обнаруживает ее
единство с этими вещами, вне которого не было бы и никакого
отношения - ни материального, ни идеального. Способности вещи
ей принадлежат в той же мере, в какой и не принадлежат.
И в самом деле, она их обнаружить может только в
деятельном отношении с другими вещами. Вне этого отношения
о них абсолютно ничего нельзя сказать не только потому, что
они оказываются не доступны познанию, но в первую очередь
потому, что познание здесь производит неистинную
абстракцию, о содержании которой в самом деле можно мыслить что
угодно - как о вещи-в-себе. Вне отношения к другому вещь не
имеет и отношения к себе и тем более она не существует для-
себя, она «не знает», что она есть и что она собой представляет.
А это и есть предельное логическое завершение той мысли, что
вещь в ее абсолютно обособленном бытии не существует.
Потому собственная сила вещи, ее собственное действие
- это самодействие, самодвижение того относительно
обособленного образования, которое в этом обособлении
приобретает некоторое качественное своеобразие (а именно: качество,
равное бытию этой вещи) и благодаря этому способно
выполнить некую особую функцию в составе более широкой
системы. Той системы, которая как раз и задает ей как способ
организации ее внутреннего устройства, так и способ ее особого
движения - способ, принадлежащий обособленному
образованию (исходной системе) в той же мере, в какой он
принадлежит активной способности целого.
Целое активно в отношении своих частей. Но эта
целостность принадлежит стихии бытия в его бесконечных
пространственно-временных определениях. Истинное Я, субъект-
ность, появляется там, где целостность бытия, - а не случайная
совокупность его определений в той или иной вещи, - получает
обособление в особой форме существования. Где обосаблива-
136
ется не частичность, а всеобщность сама по себе, где часть
втягивает в себя всю полноту целого и, не разрушая бытия этого
целого, оказывается способной подчинить себе любую часть
бытия. Здесь часть получает все права целого и в силу этого
обладает не той или иной совокупностью деятельных
способностей, а способностью целостности, которой подчинена
каждая из способностей и вся их совокупность внутри целого.
То есть она владеет сама собой. Она самосознательна и
свободна, ибо не есть часть как часть, а есть часть как целое.
Поэтому же она обладает целью. И ее первое определение
цели есть она сама. Ибо целое и есть ее цель. Она деятельна в
отношении самой себя. Всякое внешнее полагание есть ее са-
мополагание.
И именно поэтому она творит.
Иначе говоря, творчество есть только там, где
осуществляется развитие целого, где всякая создаваемая форма, вещь,
подчинена движению этого целого, которое через это
создаваемое и сохраняет себя и себя развивает. Творчество есть там,
где субъект творения снимает в себе определенность целого и
делает ее исходным основанием движения и конечной целью
этого движения.
Обладает ли это творящее движение определением
абсолютности? Ведь если на этот вопрос будет получен
отрицательный ответ, творчество не будет отвечать своему понятию,
не будет истинным, будет ограничено изначально
заданными рамками бытия мировой действительности. Может быть,
творчество - это прогрессивное движение самоопределения
той целостности, которая лежит в его основании и которая
есть его цель?
Вопрос этот оборачивается вопросом об объективном
значении творчества для самого бытия, а, следовательно, и
вопросом об объективном значении творческого мышления для
самого мироздания (вспомним Ильенковскую «попытку
установить в общих чертах объективную роль мыслящей материи
137
в системе мирового взаимодействия» в его известном трактате
«Космология духа»). Э.В. Ильенков понимает мировой процесс
как замкнутый круговорот, высшим достижением развития
которого является мыслящая материя и, соответственно,
мышление, а низшей точкой этого круговорота - «противоположный
предел - предел простоты организации материи, предельно
простую форму движения, относительное «начало»
круговорота, в противном случае получается нелепость: в одну «сторону»
- в сторону усложнения организации материи и формы ее
движения - допущен предел, а в другую сторону - в сторону
«упрощения» ее организации - предположена дурная бесконечность»
(Э.В. Ильенков. Философия и культура. М., 1991. С. 420). Ильенков
показывает, что ни в той, ни в другой «стороне» реальное
человеческое мышление (познание) на сегодняшний день не
достигло предела, перед познанием стоит как проблема и цель сама
чистая форма этого познания (мышление) и столь же
непознанным является тот ««нижний» предел, ниже которого
оказывается невозможным существование материи», до открытия
которого, «нам, очевидно, еще очень далеко» (Там же).
Логика совсем не требует понимать такой подход как
ограничение мирового процесса, наоборот, она здесь четко
констатирует бесконечность пространственно-временного бытия. С
уже отработанных позиций единства мира и принципиальной
его познаваемости Э.В. Ильенков показывает невозможность
мышления за рамками так обозначенного процесса
круговорота никакого прочего существования - как принципиально
немыслимого. По его мнению, это будет либо кантовская вещь
в себе, либо бог, либо нечто этому подобное - «безразлично
название». «Другими словами, мы этим допущением сделали
бы принципиально возможной любую мистику и
чертовщину... Мы допустили бы, что сверх природы и сверх мышления
существует еще нечто и это «нечто», в силу своей
сверхъестественной сложности, принципиально было бы непознаваемо,
непостижимо для мышления» (Там же. С. 418).
138
Тогда получается, что творить можно только формы
мышления в их прогрессивном развитии до некоторого
абсолютного предела. А таким пределом выступает сама предметная
граница познания, которая онтологически обозначается как
мыслящая материя мозга, с одной стороны, и «абсолютно
недифференцированная» материя - с другой. А так как
мышление есть всеобщая форма воспроизведения любой вещи вне ее
самой, то творение самой этой формы мышления есть всего
лишь познание, открытие того, что есть в этом бесконечном
круговом процессе.
Это вполне укладывается в гегелевское движение
абсолютной идеи от себя к самой себе. «У Гегеля, - пишет, однако,
Э.В. Ильенков, - если сверхчеловеческий Разум и допускается,
то мышлению все же приписывается способность развиться
до такой высоты, где оно, не переставая быть мышлением, все
же становится равным по своему могуществу этому мировому
Разуму. В логике - по Гегелю - законы мышления все же
совпадают с законами абсолюта, становятся соответствующими ему.
Но это значит, что мышление - хотя и окольным путем - все
же возводится в ранг абсолютно высшей реальности. В итоге
«Феноменологии духа» мышление человека становится
тождественным абсолюту, постигает законы, которым
подчиняется сам абсолютный разум, а тем самым и превращается в
воплощение самой высшей реальности, становится само формой
движения, выше и сложнее которой нет и не может быть уже
ничего» (Там же. С. 418).
И хотя Э.В. Ильенков здесь бросает некоторый упрек в
адрес Гегеля за возведение мышления в ранг абсолютно высшей
реальности, по существу он стоит на точке зрения Гегеля,
которую, по сути, и невозможно преодолеть, коль скоро
мышление понимается как атрибутивное свойство самой материи,
как система ее в-себе-и-для-себя-бытующих закономерностей.
Э.В. Ильенков совершенно неслучайно рекомендует читать
именно Гегеля. По всеобщему признанию философия Гегеля
139
- это именно последняя законченная философская система.
Система, выдающаяся по своей внутренней логической
завершенности, и вместе с тем динамичная, активная, т. е. творящая.
Логика ее и есть логика творчества.
Однако выраженная в абстрактно-всеобщей форме.
Потому Ильенков и внимателен к «Капиталу» Маркса. Именно
здесь он видит тот самый способ развития мысли, который,
будучи всегда конкретно-историческим, оказывается вместе с
тем всеобщим логическим способом познания и
действительного преобразования мира. Способом, которым, можно
сказать, достигается абсолют.
Что же такое это абсолютное? Самое простое его
определение заключается в безусловности. Бытие, для своего
существования не нуждающееся ни в каких условиях. В
онтологическом значении оно есть causa sui, в гносеологическом - это
тот момент в составе знания, который сохраняется в нем при
любых условиях. Это обстоятельство позволяет заключить, что
познание здесь наталкивается на абсолютное в самой
действительности, на некоторое предельное определение ее, ту самую
ее деятельную силу, которая, оставаясь самой собой,
сохраняет себя во всем круговороте мирового процесса. Или, может
быть, это не так? Может сама она, эта сила, есть нечто
становящееся в этом процессе, выступая первоначально как некая
потенция? В той самой предельной форме
недифференцированной материи?
Вопросы, кажется, излишние. Потому что мир дан сразу
во всех своих состояниях, которые - опять-таки в силу своих
абсолютных определений - распространены (существуют как
рядоположенные и самотождественные) и временны
(изменчивы и преходящи) в каждой точке этого пространственно-
временного бытия. Инобытие каждой из существующих форм
этого мира принадлежит самому этому миру. Диалектика
Гегеля сильна именно тем, что все «запредельное» она вписала в
пределы этого мира, а пределы этого мира выразила как формы
140
мысли. Это одно и то же. Универсальные законы бытия и есть
универсальные законы мышления. Тождество бытия и
мышления у Гегеля реализуется как онтологически, так и
гносеологически. Потому-то онтология, логика и теория познания есть
одно и то же. Но логика внепространственна и вневременна.
Именно поэтому она абсолютна. Точнее будет сказать
наоборот: поскольку логика абсолютна, выражает собой пределы
мировой действительности, их, этих пределов, момент
самотождественности во всех состояниях, постольку она
вневременна и внепространственна.
Этот момент самотождественности мира, удержанный в
абстракции, и дает у Гегеля систему. Противоположный момент,
момент самопротиворечивости, противоречия всеобщих и
абсолютных пределов (категорий), содержащихся внутри этой
системы и выражающих противоречие как фундаментальную
логическую категорию, выступает основанием движения,
движения ее особенных форм. В этом движении осуществляются
ее, этой системы, абсолютные формы. Именно это движение
выражает человеческая деятельность, ибо вынуждена, чтобы
осуществить свою цель, согласовывать свою форму с
неподатливостью всеобщих пределов объективной реальности. И
потому эти пределы выявлять как условие своего сознательного
действия и удерживать их как логику мыслящей
субъективности и как внутреннюю форму предметно-преобразующей
деятельности. Здесь и осуществляется различение бытия и
снятие этого различия. Это и есть движение банально
известного тождества противоположностей. В анализе гегелевской
философии оно мало кем и мало где понимается. Даже Энгельс,
указывая на противоречие между системой и методом Гегеля,
не замечает снимаемость его.
Объективные пределы мирового бытия, будучи по своей
природе противоречивыми, вечно «ищут» покоя, своей
абсолютной самотождественности. Но обречены выходить в
особенное содержание и быть в нем. Противоречие всеобщего и
141
особенного - рассматривая дело с этой стороны - ключевое
противоречие в мировом процессе.
Тождество мирового бытия есть цель, идеал, разрешение
противоречия. В стихии объективного процесса оно
осуществляется со случайной необходимостью, атрибутивным, но
внеположным моментом, в бесконечности конечных форм. Но
неужели бесконечное, всеобщее, абсолютное существует только
в конечных, особенных и относительных формах?
Может быть, существует такая конечная форма, которая
способна нести с собой все бесконечные определения
действительности, будучи безразличной к тому, что она несет? Не
являясь собственной формой бытия бесконечного, всеобщего,
абсолютного? Форма, способная снять и обособить в себе и
собой удержать объективную логику мирового процесса?
Конечно, именно так. Такой формой является человек.
«И появление, и развитие и гибель человечества объективно
обусловлены со стороны этой бесконечной системы
взаимодействия - в ней, в ее понимании приходится искать смысл и
оправдание места и роли человечества во Вселенной - искать
разгадку того вопроса, который в идеалистическом
выражении звучит как вопрос о высшей, о конечной цели
существования человечества.
«Историческое начало» истории человека вполне
рационально и материалистически объясняется наукой. Биологическое
развитие определенной породы обезьян, затем - труд, как
социальная форма взаимодействия организма с окружающим миром, как
процесс «самопорождения человека», как процесс, для которого
характерно саморазвитие, отражающееся в идеологическом
сознании в виде представления о «цели», имманентной
человечеству. (...) История человечества предстала теперь как необходимый
процесс саморазвития, движущие причины которого находятся
в ней самой, во внутренних противоречиях его развития, и
которое не нуждается ни в каких трансцендентных или
трансцендентальных целях для своего объяснения» (Там же. С. 421-422).
142
С точки зрения и Гегеля, и Маркса, и Ильенкова
«трансцендентное» имманентно самому миру, дано в практике и
познании человечества. И любая категория (предельное определение
формы, способа бытия объективной реальности) имманентна
любой и каждой особенной форме бытия, коль скоро она
имеет относительно самостоятельное существование.
Противоречие и тождество, которые выше были поняты как объективные
пределы мирового процесса, представлены в любой точке
движущегося бытия, представлены особым образом и в особом
содержании. Диалектические категории Гегеля связали в единство
проблему начала с проблемой конца, движение с его
собственным источником и т. д. и лишили основания нечто допускать в
качестве трансцендентного. Можно сказать, что мировой
процесс, будучи движением из самого себя (в силу отрицательного
отношения его к самому себе) к самому себе, к
самотождественности, с необходимостью и порождает человека как форму,
снимающую объективные пределы мира и потому обособляющую
логику этого мира вне его самого. И это «вне» есть «внутри» как
его, этого мира, инобытие, идеальное. Поэтому мир развивает из
себя человека и в человеке достигает тождества с самим собой.
Ясно, что абсолютность этого тождества содержит в себе столь
же абсолютный момент противоречия. Но задачи, которые не
разрешает природа сама по себе, теперь выпадают на долю
человека, который их разрешает, - но лишь как условие личностного
бытия, развитие духа.
4. Логика как деятельная способность
Давно стала расхожей идущая от Гегеля мысль, что
изучение логики не научает мышление. В чем же тогда смысл науки
логики? Логика, пишет Э.В. Ильенков, «создает его
(предмета - Г.Л.) духовную репродукцию, реконструирует его
саморазвитие, воссоздает его в логике движения понятий, чтобы
воссоздать потом и на деле - в эксперименте, в практике. Логика и
143
есть теоретическое изображение такого мышления» (Э.В.
Ильенков. Диалектическая логика. М.у 1974. С. 4-5).
Сказано предельно ясно. Посмотрите: логика есть
духовная репродукция предмета, осуществляющаяся с целью его
воссоздания в практической деятельности. Логика
представлена в «духе», в «движении понятий», понимания. Именно это
понимание и лежит в основе воссоздания предмета «потом и
на деле - в эксперименте, в практике». Это - в полном
согласии с Гегелем. Поэтому нельзя не процитировать: «Задача и
состоит в том, чтобы осознать эту логическую природу,
которая одушевляет дух, движет и действует в нем.
Инстинктивная деятельность отличается от руководимой интеллектом и
свободной деятельности вообще тем, что последняя
осуществляется сознательно; поскольку содержание побудительного
мотива выключается из непосредственного единства с
субъектом и доведено до предметности, возникает свобода духа,
который, будучи в инстинктивной деятельности мышления
связанным своими категориями, расщепляется на бесконечно
разнообразный материал. В этой сети завязываются там и сям
более прочные узлы, служащие опорными и
направляющими пунктами жизни и сознания духа; эти узлы обязаны
своей прочностью и мощью именно тому, что они, доведенные до
сознания, суть в себе и для себя сущие понятия его сущности.
Важнейший пункт, уясняющий природу духа, - это отношение
не только того, что он есть в себе, к тому, что он есть в Ъейс-
твительностиу но и того, чем он себя знает; так как дух есть
по своей сущности сознание, то это знание себя есть основное
определение его действительности. Следовательно, высшая
задача логики - очистить категории, действующие лишь
инстинктивно как влечения и осознаваемые духом прежде всего
разрозненно, тем самым как изменчивые и путающие друг друга,
доставляющие ему таким образом разрозненную и
сомнительную действительность, и этим очищением возвысить его в них
к свободе и истине» (Гегель. Наука логики. Т.1. М., 1970. С. 88).
144
Ну разве можно сказать лучше?! Оставим в стороне
«инстинктивность действия категорий», переведем эту мысль
Гегеля как бессознательность, точнее, неосознанность.
Ильенкова разделяет с Гегелем не столько понимание логики, сколько
природа логических форм: предзаданность их у Гегеля и
культурно-историческая общественно-практическая
определенность у Ильенкова.
Конечно, никакую логику, никакой метод нельзя просто
«применять», нельзя использовать как внешнее орудие. «Пока
диалектику (диалектическую логику), - пишет Э.В.
Ильенков, - рассматривают как простое орудие доказательства
заранее принятого тезиса ... она так и останется чем-то
«несущественным».» ((Э.В. Ильенков. Диалектическая логика. С. 4).
«Система логики - это царство теней, мир простых
сущностей, освобожденных от всякой чувственной конкретности.
Изучение этой науки, длительное пребывание и работа в этом
царстве теней есть абсолютная культура и дисциплина
сознания. ... Но главным образом благодаря этому занятию мысль
приобретает самостоятельность и независимость. Она
привыкает вращаться в абстракциях и двигаться вперед с помощью
понятий без чувственных субстратов, становится
бессознательной мощью, способностью вбирать в себя все
многообразие знаний и наук в разумную форму, схватывать и удерживать
их суть, отбрасывать внешнее и таким образом извлекать из
них логическое, или, что то же самое, наполнять содержанием
всякой истины абстрактную основу логического, ранее
приобретенную посредством изучения, и придавать логическому
ценность такого всеобщего, которое больше уже не находится
как нечто особенное рядом с другим особенным, а
возвышается над всем этим и составляет его сущность, то, что абсолютно
истинно» (Гегель. Наука логики. Т.1.С. 113).
И - вся суть диалектической логики как деятельной
способности этим выражена! Попробуем, однако, всмотреться
более пристально в эту проблематику.
145
Логика - и по этому поводу споров нет не только между
Ильенковым и Гегелем, но даже и между ними и
позитивистами - есть наука о мышлении. Споры начинаются с
проблемы предмета этой науки и по необходимости заканчиваются
обозначением его сущностных пределов. И по всему этому
пространству проблем научное понимание мышления
сталкивается с необходимостью преодоления явно
субъективистских представлений на этот счет, глубоко сидящих не только
в составе здравого смысла обыденного сознания, но и в
содержании сознания естественнонаучного. И даже
философского. Модусы этого представления, разумеется, различны, но
природа их одна и та же: неспособность удержать в сознании
единство объективного и субъективного, всеобщего и
единичного. Если, например, для Канта замкнутость в субъективное
исходно определена (он ставит задачей исследование
внутренних возможностей и пределов познающей способности),
то здравый смысл обыденного сознания уверенно живет в
дуалистическом миропредставлении. И даже религия, как бы
указывающая на монизм исходного принципа, для него этой
противоположности сознания и бытия не снимает.
Но именно тот факт, что в каждой точке бытия
элементарный акт мышления наталкивается на противоречия, и сама
объективная ситуация в сознании проявляется противоречием
ее, ситуации, собственного содержания, - именно это
обстоятельство указывает на то, что дело логики далеко не сводится к
ее сегодняшнему образу, представленному через формальные
принципы мышления.
Исследуя историческое развитие представлений о
мышлении, Ильенков, как истинный мыслитель, в самом этом
развитии фиксировал именно логически последовательное
движение, детерминируемое внутренней противоречивостью
мышления о мышлении; фиксировал тупики этого движения и
выходы его в действительно познающее русло. Ибо логика как
наука о мышлении должна в обнаружении форм этого мыш-
146
ления обнаружить и их познающую способность: логика,
выражающая мышление, должна быть формой постижения
мыслимого предмета, а не просто формой организации материала
опыта, к чему и сводится функция традиционной логики.
Анализируя философские принципы диалектической
логики Гегеля, Ильенков однозначно делает заключение, что
«действительное критическое преодоление гегелевской
логики, бережно сохранившее все ее положительные
результаты и очистившее от мистики преклонения перед «чистым
мышлением», перед «божественным понятием» оказалось
под силу лишь Марксу и Энгельсу. Ни одна другая
философская система после Гегеля справиться с ней «оружием
критики» так и не смогла, так как ни одна из них не заняла
позиции революционно-критического отношения к тем
объективным условиям, которые питают иллюзии идеализма, т.
е. к ситуации отчуждения реальных деятельных
способностей человека от большинства индивидов, ситуации, внутри
которой все всеобщие (общественные) силы, т. е.
деятельные способности общественного человека, выступают как
силы, независимые от большинства индивидов, как силы
господствующие над ними, как внешняя необходимость...»
(Э.В. Ильенков. Диалектическая логика. С. 182).
«Всеобщие законы изменения природы человеком - это и
есть всеобщие законы природы, в согласии с которыми
человек только и может успешно ее изменять. Будучи
осознанными, они и выступают как законы разума, как логические
законы» (Там же. С. 210).
Что отличает эту позицию от позиции Гераклита-Гегеля,
великих диалектиков? Только тот факт, что в концепции
Маркса-Ильенкова человек активно-практически изменяет
действительность, согласуя по необходимости себя с логосом природы,
а не просто «внимает» логосу вещей. Иначе говоря, познание
никоим образом не осуществляется посредством движения
«чистого духа», но только путем преобразования действитель-
147
ности, в процессе которого и выявляется истинный образ ее. А
логическая форма - это и есть форма преобразования вещи, но
форма, существующая как всеобщая деятельная способность
человека. Следовательно, она и существует только в формах
деятельности общественно-исторического человека. Понять
мышление - значит понять форму деятельности.
Иначе говоря, в своем всеобщем содержании форма
мышления совпадает с всеобщей формой деятельности. Последняя
же снимает в себе и выстраивает себя по логике внутренней
природы вещи - как она предстала в контексте
преобразующих ее действий.
Снятые же - значит идеальные. Однако само идеальное
в деятельности выступает как процесс его, идеального,
собственного становления, - но только как разрешение
противоречия становления самой вещи. Иначе говоря, «идеальное есть
форма вещи вне вещи» (Э.В. Ильенков). Потому-то в
становлении вещи и выявляется ее истина. Но снятая форма, существуя
как объективное условие деятельности, представленное в ее
предметном содержании, одновременно выступает условием
субъективным - как образ действительности, в пространстве
которой осуществляется деятельность.
Становление идеального и есть становление мышления,
ибо последнее, по Ильенкову, есть «идеальный компонент
реальной деятельности общественного человека,
преобразующего своим трудом и внешнюю природу, и самого себя» (Э.В.
Ильенков. Диалектическая логика. С. 5).
Идеальное существует в преобразовании
действительности трудом. Это значит, что логика в своем действительно
научно-последовательном изложении может быть построена
только как логика возникновения и развития общественной
предметно-преобразующей деятельности. Как деятельности,
выявляющей идеальную форму вещи и делающей ее, вещи,
идеальные (логические) определения внутренне-активным
моментом ее, этой практической деятельности, осуществле-
148
ния. Идеальное - это и есть всеобщий образ
действительности, представленный в деятельности.
В этой точке прозрачнее всего предстает тождество
бытия и мышления, совпадение содержания и формы
мышления. Но тут же и возникает вопрос об их различении. То, как
это различие дано в «естественности» обыденного сознания и
здравого смысла науки, и порождает неразрешимые
проблемы в науке о мышлении, консервируя дуализм и позитивизм
некритичной философской рефлексии. Логика тут и предстает
абстрактно-обособленной формой, присущей якобы
индивидуальному сознанию и лишь через язык (в языке) находящей
всеобщность. Эта абстрактная всеобщность субъектом (некой
его способностью) извне прикладывается, налагается на
материал познания, выступая столь же внешним
методологическим руководством.
Однако повторю: «...Общая логика исследует...
единственно то, как данные представления становятся в мышлении
понятиями». Но именно этот процесс, согласно Э. Ильенкову,
описывает и диалектическая логика. Последняя есть движение
категориальных форм (пусть понимаемых иначе),
заканчивающееся понятием предмета мышления, выражающим его таким,
каков он есть в объективном пространстве-времени.
Следовательно, это движение выражает объективное движение
самого содержания предмета. Философский метод, говорит Гегель,
«составляет предмет самой логики, ибо метод есть осознание
формы внутреннего самодвижения ее (философской науки -
ГЛ.) содержания». Метод «не есть нечто отличное от самого
предмета и содержания, ибо именно содержание внутри себя,
диалектика, которую он имеет в самом себе, движет вперед это
содержание. Ясно, что нельзя считать научными какие-либо
способы изложения, если они не следуют движению этого
метода и не соответствуют его простому ритму, ибо движение
этого метода есть движение самой сути дела» (Гегель. Наука
логики. Т.1, М.у 1970. С. 107,108).
149
Логика, конечно же, - если она претендует на
универсальность своего значения, на подвластность ей любого
содержания, - обязана объяснить и все свои условия, «общие условия
образования всякого понятия вообще» (Кант). Иначе говоря,
и способность сравнения, и способность рефлексии, и
способность абстракции должны быть выведены из той же самой
основы, из какой выводятся и все прочие категории,
необходимые при построении понятия.
Именно такую задачу поставил и разрешил Георг
Вильгельм Фридрих Гегель. Что Марксом не написан обещанный
очерк диалектики, вряд ли можно объяснить его занятостью
другими проблемами: уж никак нельзя сказать, что
проблема диалектики была для него периферийной - ни для теории,
ни для практики. Мысль, что в Гегеле завершилось
философское системотворчество, не содержит в себе иронического
отношения к предшествующему развитию философии, - в
ней просто констатируется факт завершенного выражения
мышления в гегелевской логике. Гегелевская система логики
и есть метод. И если вы отбросите систему, то вместе с ней
выбросите и метод. Это и сделала последующая философия,
отодвинув Гегеля в маргиналы.
Мышление есть атрибут общественно-исторической
практически-трудовой деятельности. Потому оно и опосредует ее
движение. Тем самым оно - как внутренний и определяющий
момент сознания - есть всего лишь «осознанное бытие». Но
осознанное в его сути.
Деятельность поэтому опирается на возможности вещи, а
не на саму вещь: мыслящая деятельность знаемыми
возможностями вещи определяет саму вещь как условие, как
обстоятельство, как средство, как свой предмет и как свой результат.
И здесь возможность выступает как категория, как идеальная
категориальная связь. Сама же практическая деятельность как
чувственный процесс «опирается» только на
чувственно-эмпирическое содержание вещей.
150
Знать значит иметь в определениях мысли весь состав
категориальных определений вещи. Но знание вещи в процессе
деятельности не есть еще определение самой деятельности.
Деятельность определяется ее идеей, завершающей себя в образе
цели. И эта цель отождествляет определения вещи с
определениями самой деятельности. Процесс этот и может протекать
только в рамках категориальных определений, в формах которых
удерживаются и конечные вещи, и бесконечные определения
субъекта (субъектности).
Поэтому мышление и есть способ отождествления
особенного со всеобщим (утвердительное суждение). Как и
наоборот, различение особенного и всеобщего (отрицательное
суждение) в единичном. Но проблема для логики заключается
в том, чтобы понять и особенное, и всеобщее в их
собственном содержании. И через анализ их собственного содержания
обнаружить необходимость их взаимосвязи, а внутри
последнего - их тождество.
В сознании вообще нет ничего, чего бы не было в опыте.
Поэтому эти категории первоначально должны быть выявлены
в деятельности, выявлены как объективные категории бытия,
как формы, присущие самой действительности. Деятельность
должна натолкнуться на факт единично-обособленного бытия
вещей объективного мира, с одной стороны, и на столь же
очевидный факт их взаимосвязанности. Очевидный, т. е. данный
в чувственно-эмпирическом опыте. В форме созерцания.
Категория в форме созерцания? В объективной
действительности все вещи существуют в связанной форме. Чистая
форма выделяется только в практической деятельности.
Идеальная форма - это и есть форма бытия вещи в
деятельности человека, и она получает развитие до своего собственного
предела, освобождаясь от случайного, привходящего
содержания. Связано мышление с этими формами? Несомненно.
Но не они есть формы мышления. Последние - это все-таки
формы деятельности преобразующего эти вещи человека,
151
формы всеобщие, т. е. обобщенные
общественно-историческим опытом человека и существующие как деятельные
способности общественного индивида. Идеальны они именно
потому, что не совпадают ни с вещами объективного мира, даже
их чистыми формами, и ни с самими
чувственно-практическими способами предметной деятельности. Повторю: они
существуют как деятельные способности, т. е. существуют
только в деятельности, только в актах перехода одной формы
вещи в другую ее форму.
Иначе говоря, преобразование вещи, переход ее одной
формы в другую опосредуется ее собственной идеализован-
ной формой, выступающей культурно-историческим ее, вещи,
образом, противоположенным реально-чувственному ее
единично-обособленному бытию. Этот образ опирается на
всеобщую форму вещи, на ее самобытие, высвобожденное из
связанности объективного содержания, т. е. абстрагированное в
практике и потому удержанное в теоретической абстракции.
Но ведь и единичное как категория должна выразить
необходимую и общую всем объективно существующим вещам
единичного рода полноту определений. Чтобы не случилось
так, «когда при рассмотрении какой-то категории мыслят
нечто иное, а не самое эту категорию. Такая неспособность
осознавать тем более не может быть оправдана, что это иное
представляет собой другие определения мысли и понятия, а в
системе логики именно эти другие категории также должны
были найти свое место и быть там самостоятельно
рассмотрены» (Гегель. Наука логики. Т.1. С. 92). Иначе говоря, категория
единичного имеет свое собственное содержание, предстающее
через всеобще-необходимые моменты своей формы.
Потому единичное как логическая форма не
тождественно конкретно-единичному предмету. Потому и логическая
конкретность непосредственно не совпадает с чувственно-
эмпирической конкретностью. «Содержание, которого мы не
находим в логических формах, есть не что иное, как некото-
152
рая прочная основа и сращение (Konkretion) этих абстрактных
определений, и обычно ищут для них такую субстанциальную
сущность вне логики. Но сам логический разум и есть то
субстанциальное или реальное, которое удерживает в себе все
абстрактные определения, и он есть их подлинное, абсолютно
конкретное единство» (Гегель. Наука логики. Т. 1. С. 101).
Категория по своей объективной природе есть форма
общественно-историческая - именно так она предстает и у
Канта, и у Гегеля. И, уж тем более, у Маркса и Ильенкова. Различия
же позиций Канта и Гегеля - в их трактовке самой логики. «Эта
наука, - пишет о логике Гегель, - в том состоянии, в котором
она еще находится, лишена, правда, того содержания, которое
признается в обыденном сознании реальностью и некоей
истинной вещью (Sache). Однако не поэтому она формальная
наука, лишенная всякой содержательной истины, В том
материале, который в ней не находят и отсутствием которого
обычно объясняют ее неудовлетворительность, мы, впрочем,
не должны искать сферу истины. Причина
бессодержательности логических форм скорее только в способе их рассмотрения
и трактовки. Так как они в качестве застывших определений
лишены связи друг с другом и не удерживаются в
органическом единстве, то они мертвые формы и в них не обитает дух,
составляющий их живое конкретное единство. Но тем самым
им не достает подлинного содержания (Inhalt) - материи,
которая была бы в самой себе содержанием (Gehalt)» (Гегель.
Наука логики. Т.1. М, 1970. С. 100-101).
Конечно, если бы эта универсальная логическая форма
не превращалась в субъективную деятельную способность,
не было бы и нужды разворачивать ее всеобщий
теоретический образ. Однако уже вхождение в этот образ есть процесс
присвоения этой универсальной формы. А поскольку эта
диалектическая форма по своей природе активна, выражает
собой деятельную форму бытия, то и субъективный образ ее эту
интенцию содержит в себе. Разумеется, воображение вооб-
153
ще - не только как вхождение в образ диалектической логики,
а как возведение в образ любого объективно данного
содержания - развивается внутри практического преобразования
предмета, его практического анализа и синтеза, изменения его
формы. Здесь сама объективно-предметная форма
становится формой субъективной деятельности, оформляющей силой,
силой формирующей - формирующей образ этого предмета.
Преобразование как формирование и формирование как
преобразование оборачивается способностью удерживать в
подвижном соотношении всеобщие и непреходящие определения
предмета (меняющиеся лишь в своих собственных мерах) и
его определения исчезающие. Поэтому воображение строит
образ по логике самого предметного содержания в формах
реально-преобразовательной деятельности субъекта. Потому
же способность воображения становится интегральной формой
движения субъективности, формой, обобщенной самими
условиями коллективной практической деятельности. Но
воображение остается бессознательной формой активной работы
человеческой субъективности, поскольку не различает
внутри себя своих составляющих (в первую очередь, всеобщего и
особенного, чувственного и рационального). Рефлексия (как
необходимый момент построения образа) в составе
воображения касается только внешнего материала, форма же самого
воображения может быть выявлена только мышлением.
Но в общей форме выражая это дело, следует сказать, что
любое обнаружение и проявление индивидуальной
субъективности определено необходимостью, содержащей в себе
логический характер. Объективно-онтологической основой
этого процесса, идеально-всеобщей формой входящей в него,
является практическая преобразовательная деятельность, в
которой, по большому счету, человек лишь управляет
движением вещей - на основе их собственных субстанциальных
определений. Именно они представлены в составе субъективности,
представлены как идеальные формы этого бытия. По логике
154
этих идеальных форм и выстраивается субъектом его
деятельность. Эта логика объективно-всеобща, совпадает с пределами
бытия, эти пределы, следовательно, втянуты субъектом в свое
собственное движение, он ими определяет себя и их полагает
в качестве своих условий. Потому человек и есть мера всех
вещей (Протагор).
Субстанциальное, абсолютное, как замкнутое на себя
бытие, как единство предельных определений, как полнота
бытия, как совершенное бытие и т. д. - абсолютное вбирает в
себя (содержит в себе) все возможные определения, и
содержит их в их действительной форме, выражающей и
сохраняющей единство этой целостности, не нуждающейся ни в
каких условиях, кроме своих собственных пределов, увязанных
в эту целостность их собственными формами. Для Гегеля
поэтому логика и выражает это абсолютное, абсолютную идею,
бога - нечувственное бытие, бытующее в чувственных формах.
«Абсолютное, бог, определено как единая субъективность,
чистая и тем самым в себе всеобщая субъективность, или,
наоборот, субъективность, которая является в себе всеобщей,
может быть только одна» ((Гегель. Философия религии в двух
томах. Т. 2. М.у 1977. С. 86).
Исторические поиски этого абсолюта, разумеется, идут
в формах сознания, а, значит, связаны с пониманием самого
сознания. Познающее мышление должно обосновать самого
себя и, как Гегель это великолепно показал, должно совпадать
с природой предмета. Тождество бытия и мышления -
исходный пункт, и их обособленное бытие в форме
противоположностей есть только существенный момент их
взаимоопределения. Поэтому абсолютное в форме логики, логическая форма
абсолютного, есть всего лишь одна сторона, внечувственная
форма чувственного реального бытия. Чувственное же
содержание этого бытия как раз и выступает другой стороной.
Тем самым очерчены и пределы Абсолюта, абсолютные
пределы, предполагающие и выражающие друг друга. Потому
155
субъективность, на которую Гегель указывает как на
всеобщность, абсолютность, есть осуществленная потенция бытия,
удерживающая все его многообразие, бог. И потому эта
субъективность и способна полагать это бытие во всем
многообразии его форм - в пределах, связанных абсолютной,
безусловной формой, формой, замкнутой на самое себя.
А это - логика. Логика необходимости и потому логика
свободы. «Необходимость есть движение, процесс в себе,
состоящий в том, что случайное вещей, мира, определенное как
случайное и последнее, себя в себе самом снимает, возводя в
необходимое» (Там же. С. 63). «Необходимость,
следовательно, есть полагание условий, они сами положены единством;
результат есть тоже нечто положенное, а именно он положен
рефлексией, процессом, рефлексией единства в самое себя, но
это единство как раз и есть бытие результата. Таким образом,
в необходимости то, что происходит, совпадает только с сами
собой. Единство выбрасывает себя наружу, рассеивает себя
в обстоятельствах, которые кажутся случайными, единство
само выбрасывает свои условия, как стоящие вне подозрений,
как равнодушные камни, которые выступают
непосредственно, не возбуждая подозрений. Вторым моментом является то,
что они положены, принадлежат не себе, а некоторому
другому, их результату. Таким образом, они расколоты в самих
себе и проявление их положенного бытия есть их самоснятие,
возникновение другого результата, который, однако, кажется
другим лишь перед лицом их рассеянного существования. Но
содержание одно: результат есть то, чем они являются в себе,
изменяется только способ проявления. Результат - это
собрание того, что содержат обстоятельства, и проявление этого в
качестве образа. Жизнь есть то, что выбрасывает себе свои
условия, средства раздражения, побуждения, но они не выглядят
как жизнь: внутреннее, в-себе выступает только в результате.
Необходимость есть, следовательно, такой процесс, в котором
результат и предпосылка различны лишь по форме... .Необхо-
156
димость - это истина случайного мира. Ближайшие моменты
развития относятся к сфере логики. Понятие бога есть
абсолютная необходимость - это необходимая, существенная
точка зрения, еще не высшая, не истинная, но такая, из которой
возникает высшая и которая является условием высшего
понятия, его предпосылкой. Итак, абсолютное есть необходимость
(подчеркнуто мной - Г.Л.)» (Там же. С. 66).
Абсолютное есть свобода, ибо свобода - это истина
необходимости. Форма, выступающая атрибутивным определением
человека, его деятельности.
Л.К. Науменко
Диалектика Гегеля и системный подход
Пожалуй, ни одна из категорий гегелевской философии не
вызывает в настоящее время столь «амбивалентных» реакций,
столь противоречивых ассоциаций, как категория «система».
Со словом «система» связано представление о наиболее
архаических чертах этого учения, о философском абсолютизме
и апостольской непогрешимости, о жесткой диктатуре
логической схемы категорий, в клетку которой заключена живая
творческая мысль, о скучной назидательности философского
«happy end» всей Одиссеи познания. Вместе с тем, со словом
«система» связано представление о колоссальном творческом
размахе и всеобъемлющем синтезе энциклопедического
разнообразия знаний, о внутренней гармонической свободе и
смысловой, методической и стилевой завершенности целого,
без которой нет творчества ни в науке, ни в искусстве.
Ни в каком другом философском учении прошлого слово
«система» не имело того высокого смысла, которым наделил его
Гегель. Истина может существовать только в форме научной
системы, истина есть процесс, и система представляет собой
внутреннюю форму организации этого процесса, его логику.
157
С этой точки зрения, слово «система» вызывает представление
не только об умозрительном и искусственном способе
сведения воедино готовых и окончательных результатов познания,
но и о методе получения этих результатов, о методе системного
исследования, т. е. наиболее современные ассоциации.
Вряд ли можно согласиться с мнением А. Раппопорта о
том, что родословная системного подхода не выводит нас за
пределы XX в. и что, по существу, она начинается только с
А.Н. Уайтхеда (см.: А. Раппопорт. Математические аспекты
абстрактного анализа систем. В сб.: «Исследования по общей
теории систем». М., 1969. С. 83). Подобная историческая
близорукость отчасти обусловлена той дурной славой, которая
сопутствовала категории системы в философии и была связана
с ограниченным смыслом этой категории, продиктованным
концепцией абсолютного знания. Отчасти же она обусловлена
еще и тем, что многие из фундаментальных «системных» идей
Гегеля издавна упали на почву науки и культуры и взошли на
ней, вросли в ткань современного научного мышления так, что
ретроспективный взгляд порой видит в самой гегелевской
философии только сухой опустевший стручок.
Противоречие между диалектическим методом и
идеалистической философской системой в интересующем нас
аспекте предстает как противоречие между
системно-диалектическим подходом и системой идеализма. В марксизме идея системы
не была отброшена. Она была осмыслена именно
методологически, диалектически, и сделано это было ранее всего в
философских и экономических исследованиях К. Маркса.
Логика исторического развития освободила системный принцип
диалектического метода от ограниченности, связанной с
концепцией идеализма, предоставила ему оперативный
творческий простор - все поле науки. Системность - наиболее
важная черта диалектического метода. Анализ идей Гегеля с точки
зрения современного системного подхода и, наоборот, оценка
ведущих идей этого подхода в свете общей исторической тен-
158
денции развития научной методологии представляет сейчас не
только исторический интерес.
Гегель считал диалектику отличительной чертой именно
философского познания. Самая общая и абстрактная
дефиниция диалектики сводится к определению ее как метода
развития мысли, адекватно выражающего природу ее содержания.
Исходным методологическим принципом гегелевской
диалектики является объективность рассмотрения предмета,
теоретическое выражение стихии его собственного движения, жизни
«самой сути дела». «Такая диалектика есть не внешнее деяние
субъективного мышления, а собственная душа содержания,
органически выгоняющая свои ветви и плоды» (Гегель. Соч.,
т. VII, с. 55). Философу в таком случае остается только
«наблюдать собственное имманентное развитие самого предмета»
(там же, с. 24). «Объективность рассмотрения» - высший
принцип диалектики Гегеля и системный подход представляет
собой лишь способ его реализации. Научная значимость
диалектики Гегеля, ее историческое значение в наибольшей степени
определяются тем, насколько Гегелю фактически удалось
последовательно реализовать этот принцип. Оценка этого
значения предполагает выяснение той роли, которую сыграла в
этой реализации идеалистическая философская концепция.
Ведь «объективность рассмотрения» есть первая заповедь
науки, а ценность философского метода, собственно, прежде
все го этим и определяется. Не случайно В.И. Ленин называет
данный принцип в качестве «первого» элемента диалектики»
(В.И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, с. 202).
Проблема объективности рассмотрения у Гегеля
расшифровываете как проблема отношения содержания мысли
и ее формы. На первый взгляд, ее решение Гегелем
выглядит достаточно просто: совпадение форм развития мысли с
формой самодвижения содержания заложен уже в исходные
посылки идеалистической философии тождества. Поэтому
может показаться, что главная проблема гегелевской диа-
159
лектики есть главная проблема его философской системы, а
потому вместе крушением этой системы должна рухнуть и
диалектика, следователи и тот системный подход, который
был развит в русле ее идей.
Однако было бы большим упрощением понимать
гегелевскую концепцию метода как простую редукцию «логики вещей»
к субъективной логике понятий, а революционный переворот
в диалектике, осуществленный марксизмом, - как обратную
редукцию логики понятий к логике вещей. В обоих случаях
диалектика содержит в себе принципиальное понимание
логического, чем то, которое развивалось традиционной логикой, в
кантианской, а впоследствии в позитивистской ее трактовке.
Это понимание логического предполагает системный
подход к вопросу о взаимоотношении «логики вещей» и «логики
понятий», означающее, что диалектика исследует те взаимно
обусловленные определения объективного и субъективного,
которые эти категории приобретают только в системе - в
системе теоретического познания, и которыми они не обладают,
если рассматривать их как рядом положенные и
обособленные, сами по себе. Следовательно, специфику форм и
процедур мышления можно понять только из этой взаимосвязи, а
не отвлекаясь от нее, только из этого единства, а не
независимо от него. Вот это преобразование формы объективного
и формы субъективного в процессе теоретического познания
и составляет основную проблему гегелевской диалектики как
логики и теории познания. Ее решение определяет
своеобразие, удельный вес и общенаучное значение гегелевской
концепции системного подхода.
В этой связи необходимо прежде всего рассмотреть, что
Гегель понимает под содержанием теоретического познания и под
его формой. Объективность рассмотрения Гегель не понимает
таким образом, что философское познание есть лишь
пассивное созерцание. Напротив, она требует наивысшей
активности мышления, «проникновения в разумное» сквозь «пеструю
160
кору» эмпирических форм существования предмета, с тем
чтобы «нащупать внутренний пульс и ощутить его биение также и
во внешних образованиях» (Гегель. Соч., т. VII, с. 15).
«Внутренний пульс» - это и есть «биение» в вещах объективного
понятия, поэтому объективность рассмотрения означает, что
философ хочет «только наблюдать, как понятие определяет себя», и
«заставляет себя» «не прибавлять к этим определениям ничего
из нашего мнения и мышления» (там же, с. 57).
Что же представляют собой эти «определения»?
Эмпирические определения вещей Гегель не
рассматривает, как их объективные определения, как определения вещей
«самих по себе», независимо от познания. Напротив, они суть
определения формы бытия вещей именно «для сознания»,
т. е. представляют собой результат определенной
«обработки» вещей эмпирическим созерцанием. Характер же этой
обработки вполне корректно описывается содержательными
категориями. Это - разобщенность, «атомарность»,
взаимонезависимость, несистемность явлений, составляющих «кору»
объекта. Поэтому эмпирическое созерцание являет некоторую
логику точно так же, как философско-теоретическое
постижение единства, внутренней связи, системы объекта, его
«разума». Но если это так, то вопрос о содержании мысли сводится к
вопросу о том, какую логику мы предпочтем считать «логикой
вещей самих по себе»: логику ли разрозненного, несистемного
существования или ту, которая раскрывается в философско-
теоретическом постижении.
Что же касается этой последней, то Гегель исходит из
мысли, что диалектический разум проникает «внутрь» вещей (а
вещи «внутрь» сознания) именно в силу того, как он
постигает взаимное «проникновение» определений вещей - единого и
многого, части и целого, количества и качества и т. д. Способ,
каким вещи «даны» умозрению, есть просто способ, каким вещи
«даны» друг другу. Если они «даны» друг другу в форме рядо-
положности, внешности и отчуждения, то это и будет определе-
161
нием формы эмпирического знания. Если же они «даны» друг
другу системно, взаимопроникают друг в друга и «содержатся»
друг в друге, то это и есть форма бытия «для»
диалектического разума. «Быть» для этого разума означает просто «быть в
системе», «внутри себя», а не в сознании, не «в» субъективном
мышлении, быть в опосредствованиях, во внутренней связи.
Следовательно, «проникновение в разумное» есть попросту
обнаружение системной природы определений вещей, фактов,
событий, процессов. «Кора» соответствует форме
несистемного, а «внутренний пульс» - форме системного бытия. Какую же
форму следует предпочесть и считать подлинно объективной,
выражающей природу вещей «самих по себе?».
Решить этот вопрос, не обращаясь к диалектике познания,
к логике понятий невозможно, ибо «вещи сами по себе» даны
нам лишь через те определения (теоретические и
эмпирические), которые они получают в познании. Решающим
критерием является, конечно, практика, но это синтетический
критерий, относящийся ко всему познанию в целом, в данном же
случае стоит аналитическая задача.
Решая эту задачу, Гегель в сущности избирает
единственно возможный путь: он рассматривает определения и
эмпирического и теоретического познания «сами по себе»,
содержательно, производя то, что впоследствии было названо
«мысленным экспериментом», и наблюдает за полученными
результатами. Мышление в этом случае «должно отойти от
своего содержания, дать ему действовать самостоятельно»
(там же, т. V, с. 57). Иными словами, принципу
эмпирического знания, заключающемуся в рассмотрении объектов с
точки зрения их внеположности, абстрактности, независимости,
он не просто противопоставляет принцип диалектической
взаимосвязи, системности как один из возможных «способов
описания». Он принимает этот эмпирический принцип и
показывает, как он сам опровергает, разлагает себя и с
необходимостью приводит к диалектической, системной точке зрения,
162
т. е. к такой, при которой определения вещей не существуют
сами по себе, оказываются «несамодостаточными»,
предполагают другие и существуют лишь через их посредство, в
целостной системе определений.
Как само начало гегелевской «Логики» - учение о чистом
бытии и ничто, так и вся совокупность идей его диалектики
содержит систематическое доказательство невозможности,
немыслимости несистемного бытия. Мысль о существовании,
не опосредованном системой зависимостей, пуста,
бессодержательна, невозможна. Внесистемное бытие, бытие как
безотносительное и безусловно непосредственное определение,
непременно разлагает себя и превращается в свою
противоположность, в систему. Эта «синяя птица» может быть удержана
только в сети категорий. «Быть» для Гегеля имеет смысл только
«быть в системе», т. е. «быть мерой», «быть сущностью»,
«действительностью», «субъектом». Высокая полнота бытия, так
сказать, высокая степень «бытийственности», присуща
только объекту, отличающемуся высоким уровнем организации,
объемом интегрированных связей. Поэтому жизнь, например,
как вид бытия в большей степени «есть», чем, скажем, простая
ассоциация молекул. «Быть» для Гамлета не то же самое, что
«быть» для Полония. Бытие для Гамлета наполнено объемом
и глубиной его связей с миром, с человечеством, с прошлым и
будущим. Поэтому «быть субъектом» означает не то же самое,
что быть просто живым. Границы «жизни сознания»
простираются далее и прочерчены глубже, чем границы жизни как
таковой. «Быть» для Гамлета означает много больше того, чем
«быть» для Полония, ибо и «не быть» для Гамлета глубже, чем
для Полония. В сущности Полоний «есть» даже тогда, когда
им... «ужинают черви». Ведь его существование удерживает
не больший объем связей и имеет поэтому не больший смысл,
чем существование червяка, который «ужинает» Полонием,
или карася, который «обедает» червяком и которым
завтракает Полоний. Во всех приведенных случаях объем этого бы-
163
тия очерчен границами стихии жизни, которая бессмертна в
вечном круговороте веществ мира, внешнего и безразличного
для Полония. Иное дело, когда вместе со смертью рушится и
мир, заключенный в определении «быть человеком»,
«связанный» в тугой узел, в «систему» внутри него.
Вся совокупность категорий гегелевской логики есть не
что иное, как категориальный строй системного подхода.
Каждая категория фиксирует определенный тип содержательной
системной связи. Таких типов три: «переход в иное»,
«рефлексия в ином», «конкретная всеобщность». Каждый из этих
типов системной интеграции содержит в себе подчиненные
циклы, «подсистемы».
Принцип «объективности рассмотрения» требует
устранения всяких предвзятых мнений, случайных
суждений,"произвольных «соглашений», и «допущений». Этой декларации
Гегель придерживается весьма строго. Однако эта строгость сама
не выходит за пределы декларации. Объективность
рассмотрения как принцип гегелевской идеалистической диалектики
все же предполагает одно «допущение», единственное в своем
роде, но решающее во всех его идеалистических построениях,
нигде у него, ничем и никак не обоснованное. Это
«допущение» заключается в том, что философское познание
обнаруживает именно идеальную природу вещей, «заключающееся в
них понятие». Нигде, ни в одном сочинении Гегеля о
«проникновении в разумное» не сказано более того, что сказано выше.
Ничего другого, кроме как мысли о системной интеграции и
дифференциации гегелевское учение об «объективном
понятии» и не содержит, если изучать это учение в соответствии с
основной логической нитью гегелевской диалектики.
Рассмотренные логически его аргументы в пользу идеализма
оказываются просто аргументами системно-диалектического подхода.
Действительно, Гегель четко отличает логические
категории от эмпирических. Первые системны и определяются
только характером внутренних системных связей содержания,
164
степенью интегрированности этого содержания, безразлично
какого. Это безразличие важно, ибо для Гегеля, в отличие от
современной общей теории систем, эмпирическое содержание
не вообще безразлично, но оно должно быть получено в
результате системного анализа, т. е. быть функцией системного
движения содержания. Поэтому Гегель, например,
определяет «механизм» как логическую категорию не путем указания
«той области природы, от которой эта категория получила
свое название» (Гегель. Соч., т. I, с. 308), но универсально, т. е.
системно: механизм есть такое отношение моментов
некоторого целого, при котором они «обладают безразличной
самостоятельностью как объекты вне друг друга» (Гегель. Наука
логики, т. 3. М., 1972. С. 158). «Понятие» определяется таким же
способом, на основе категории целостности (см., напр.: Гегель.
Соч., т. I, с. 265). Тем самым понятие как нечто «известное»,
как эмпирическое представление, становится «познанным»,
т. е. системно-дедуцированной категорией. И это логично. Но
когда Гегель определяет целостность через понятие, которое
само должно «появиться» только в субъективной логике, то
это в лучшем случае выглядит излишеством, а в худшем -
логическим «сальто мортале». Здесь по существу эмпирическое
определение подставляется на место системно-логического.
Наиболее существенным моментом гегелевской
диалектики, системносо подхода является понятие «идеальности». Гегель
использует его и для обоснования своей идеалистической
доктрины. «Точка зрения понятия есть вообще точка зрения
абсолютного идеализма, и философия есть познание посредством
понятий, поскольку то, что прочее сознание считает сущим и
самостоятельным в своей непосредственности, в ней
признается лишь как некий идеальный момент» (там же, с. 264).
Определение идеального Гегель дает в «Науке логики»:
«Идеальное (ideelle) есть конечное, как оно есть в истинно
бесконечном - как некоторое определение, содержание, которое
различено, но не есть нечто самостоятельное сущее, а дано как момент»
165
(Гегель. Наука логики, т. 1. M., 197(ЬС. 215-216). Здесь
идеальное определяется уже через «момент». Но это - чисто
«системное» определение. Термин «момент» и «мимолетный момент»
К. Маркс довольно широко употребляет при характеристике
системной природы материальных экономических отношений.
В «Логике» же и в «Энциклопедии» Гегель определяет идеальное
через «снятие» - термин, хорошо выражающий «системный»
смысл категории «быть»: «быть в системе», «быть в другом». В
этом же смысле К. Маркс употребляет «идеальное» для
описания системных явлений, несамостоятельности определений («В
товаре меновая стоимость выступает еще как идеальное
определение». - К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. II, с. 465), для
формы возможности, где идеальность близка, например, к
«виртуальности» в физике. Во всех этих случаях, как и у самого Гегеля,
нет необходимости в допущении особого содержания для этого
термина, т. е. специфически идеалистического.
Сам Гегель, критикуя «дурной идеализм», показывает, что
определение идеальности реальность получает не через
«причастность» реального к какой-то особой, духовной сфере,
дополняющей реальность; «такая идеальность, стоящая рядом
с реальностью или хотя бы выше ее, была бы на самом деле
пустым названием» (Гегель. Соч., т. 1, с. 165). Здесь идеальное
лишено специфического «ментального» смысла и является
категорией не идеализма, а системного подхода, попросту -
категорией диалектики, ибо определения самого духа, разума
получаются с помощью и через посредство этой системной
категории. Огромный скачок от системно-диалектического к
философско-идеалистическому смыслу термина «идеальное»,
который демонстрирует Гегель двумя строками ниже
цитируемого определения идеального через «момент», производит
тягостное впечатление: «Положение о том, что конечное идеально,
составляет идеализм. Философский идеализм состоит только
в том, что конечное не признается истинно сущим» (Гегель.
Наука логики, т. 1, с. 221). Но в таком случае и вся физика, ко-
166
торой удалось свести «конечные», т. е. независимые,
самостоятельные определения теплоты, механики, магнетизма, света
и электричества к единой сущности и понять их как ее
«моменты» есть не что иное, как идеализм. То же самое следует
сказать и о политической экономии.
В действительности же Гегель совершенно произвольно
приписывает материи, природе определения конечности, вне-
положности, «атомарности», а духу - целостности,
системности, непрерывности. Не случайно в «Философии природы» он
рассматривает «континуальные» физические феномены
(например, электричество и магнетизм) как обнаружения
идеальной сущности физических явлений вообще. Гегель просто
облекает в этом случае в логическую форму некоторые
предрассудки естествознания своей эпохи.
Действительный идеализм гегелевской логики и
диалектики выступает не там, где он оперирует понятием
идеальности, где он говорит об «объективном понятии», хотя имеет в
виду органическую целостность, а там, где он обособляет эту
целостность и систему от того, целостностью и системой чего
они являются, от реальных явлений и реальных субъектов,
и превращает эту целостность и систему в самостоятельную
реальность, в самостоятельный субъект, в «абстрактный
объект», в «систему в себе и для себя», которая лишь реализуется,
«манифестируется», «выполняется» на реальном материале,
будучи по своей сути независимой от него. Реальные
эмпирические явления в этом случае - лишь «интерпретации»
логической системы. Эти «интерпретации» различаются только по
степени «кондиционности» того эмпирического, природного
материала, в котором они воплощены. «Дело логики»,
абстрактного системного подхода здесь, как и в некоторых концепциях
общей теории систем, подменяет реальную, «специфическую
логику специфического предмета» (К. Маркс), «логику дела».
Этот подход выступает в качестве следствия тех
социально-классовых обстоятельств, в которых формировалась фило-
167
софия Гегеля. Отчуждение общественных связей индивидов
от самих индивидов и обособление целостности этих связей
в особую сферу - сферу политики, религии и философии,
возвышающуюся над сферой реальной жизни «атомарных»
индивидов, частных лиц в «гражданском обществе», представляет
не изобретение гегелевского идеализма, а социальный факт.
Фетишизированная, отчужденная, духовная целостность
общества составляет действительный исток и тайну гегелевской
логики как логики идей. «Но абстракция или идея есть не что
иное, как теоретическое выражение этих материальных
отношений, господствующих над ними (индивидами. - П. К)»
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 108).
Важнейшей проблемой гегелевского системного подхода
является проблема взаимоотношения системных и логико-
гносеологических категорий. В современной теории систем
это отношение выражается очень просто, одномерно.
Система есть «представление» объекта, его абстрактная «проекция»,
его «научная «модель». Интересующий нас вопрос сводится к
проблеме отношения абстрактной модели к конкретному
объекту, причем конкретность понимается как определение
эмпирического, а абстрактное - системного. Объект допускает
различные «системные истолкования», система - различные
эмпирические «интерпретации», откуда следует идея
релятивизации системы, которую можно было бы рассматривать как
контрпредложение в отношении гегелевской идеи «уникальной
и всеобъемлющей картины мира» (см., напр., Л. Фон Берталан-
фи. Общая теория систем - критический обзор / Исследования
по общей теории систем. М., 1969. С. 32, 68).
Однако многообразие системных моделей объекта
выдвигает проблему их синтеза, которая немедленно ставит
системный подход в проблемную ситуацию, суть которой
заключается в. следующем. Если система описания есть лишь функция
исследовательской цели, то сам объект описания, «объект
сам по себе» (а без этого понятия принцип релятивности не
168
имеет смысла) должен быть в системном отношении
неопределенным, подобно кантовской «вещи в себе» или «чувственным
данным» логического позитивизма. Но, как убедительно
показал Гегель, эта неопределенность и есть логическое
определение объекта, а именно абстракция, значение которой может
быть раскрыто лишь в системе абстракций (какою и является
логика Гегеля). Но абстрактность, по определению, есть
характеристика «системной модели», следовательно, релятивная
система должна быть «взвешена» в какой-то другой системе, в
которой эта релятивность имеет уже не
логико-гносеологический, а объективно-диалектический смысл.
Принцип релятивности системы оправдан в очень узких
пределах, в пределах определенной исследовательской задачи.
Попытка же обобщения этого принципа для отличения
современного системного подхода от «классического» неизбежно
приводит к порочному кругу. Те же результаты получаются
и при анализе синтеза системных моделей: проблема синтеза
оборачивается проблемой интеграции целей науки, которая
сама оказывается функцией либо системной организации
самой науки (ее категориального строя, языка), либо общества,
в котором наука - элемент, либо практика, где определения и
общества и природы даны системно, т. е. функцией
объективно-диалектической, а не логико-гносеологической системы в
ее отличии от объективной.
Такова одна сторона проблемы: попытка определить
систему, исходя из специфики форм активности научного
мышления и обособления этих форм от форм диалектической
«активности» объекта, оканчиваются неудачей. Логика науки
неизбежно превращается в «онтологию».
Однако и противоположный подход к той же самой
проблеме не содержит в себе решения. Предположим, что
каждая «модель» релятивна в том смысле, что отображает не весь
объект, но его сторону, а именно ту, под углом зрения которой
разные объекты могут быть рассмотрены как изоморфные.
169
Не говоря уже о том, что в этом случае прямо предполагается
понятие объективной структуры, или «уровней организации»
объекта, в отношении к разным объектам выделенная и
системно описанная его сторона обретает разные, но опять-таки
системные качества, которые на содержательно-предметном,
объективно-диалектическом языке невыразимы. Например,
для одного объекта одно и то же по содержанию системное
описание окажется исчерпывающим, раскрывающим его
специфику, а для другого нет. Тогда одна и та же модель будет
конкретной в отношении первого объекта и абстрактной в
отношении второго. Но абстрактное и конкретное - это уже
категории метода науки, формы активности мышления,
логики науки. Неизбежно возникает вопрос об отношении форм
движения и развития мысли (в частности, абстрактного и
конкретного) к формам организации, движения и развития
объекта. Именно этот вопрос составляет главную проблему
гегелевского учения о методе науки. К этой проблеме Гегель
подходит системно.
Рассматривая многообразие форм мышления, Гегель
раскрывает их единство, обнаруживая несамостоятельность,
«идеализированность» каждой формы в составе целостности.
Сама эта целостность не может быть рассмотрена только
внутренне, самостоятельно, но лишь как «момент» более широкого
единства, куда, кроме субъективного мышления со
специфической для него системой активности, включен также объект
со специфической для него системной организацией, также в
качестве «момента».
Эта взаимосвязь субъекта и объекта (познавательная
система) сама должна быть проинтегрирована, следовательно, и
формы объекта и формы субъекта должны быть представлены
в общем системном масштабе, в общей и для объекта и для
субъекта необходимости. Этой системой и является
диалектический метод - «общие законы движения мира и мышления»
(В.И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, с. 156).
170
В этой системе определения объекта приобретают новые,
системные качества. В этой системе категории, представляющие
собой определенные типы системного единства объективного
содержания, сами выступают как «моменты познания...
человеком природы» (там же, с. 186), следовательно, одновременно и
как уровни или «слои» организации, объекта и как «ступени»
познания его, т. е. не как понятия разных логик - логики вещей
и логики познания, а одной логики - диалектики. Это новое
системное качество предметных категорий, то новое
«информационное содержание», которое они приобретают в системе
познания, отображается категориями абстрактного и конкретного.
Но и определения субъекта приобретают в системе
диалектического познания новое качество. Субъективность,
познание есть высшие продукты системного развития, они могут
быть поняты только на его основе. Следовательно, объективно-
диалектические качества превращаются в
логико-гносеологические качества, причем так, что вторые есть более развитое и
концентрированное выражение первых. А это значит, что
определения целостности, развитые на материале объективной
логики, превращаются в определения целостности понятия,
познавательного образа. Однако для познания, чтобы быть
системным, совершенно недостаточно быть только
целостным. Эта категория просто не подходит сюда, ибо не
раскрывает специфики организации познания как системы в отличие,
например, от организации жизни как системы. Целостной
может быть и ложная система идей, понятие же целостно только
тогда, когда оно истинно. Каждая истинная система целостна,
но не каждая целостная система истинна. Тогда определению
целостности в объекте будет соответствовать определение
конкретности в познании, которое есть характеристика
целостности познания с точки зрения его отношения к объекту, т. е.
истинностных параметров познавательной системы.
Поэтому на уровне метода развития науки
системно-диалектический подход предстает как способ восхождения от
171
абстрактного к конкретному, который и представляет собой
развернутое в форме процесса решение проблемы отношения
содержания и формы познания, развернутое именно системно.
Разработка системного подхода под утлом зрения
совпадения логики, диалектики и теории познания и есть главный
урок гегелевского системного подхода. Последовательно
осуществленный в соответствии с этой идеей системный, т. е.
диалектический, подход неизбежно опрокидывает гегелевскую
систему идеализма. Вот почему глава «Наука логики» об
абсолютной идее «почти не содержит специфически идеализма»
(там же, стр. 215). Ведь в этой главе Гегель, собственно, только
и приступает к анализу тех феноменов, которые он
некритически, незаконно подсовывает в самом начале. «Итоги резюме,
последнее слово и суть логики Гегеля есть диалектический
метод - это крайне замечательно. И еще одно: в этом самом
идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего
больше материализма. «Противоречиво», но факт»! (там же).
Опубликовано в журнале «Философские науки», 1974, № 5.
СЗ. Гончаров
Мистическое и рациональное в диалектике:
от Гегеля к Марксу
В данной статье мы постараемся раскрыть, во-первых, то
основное соотношение, которое является диалектикообразую-
щим и в реальности, и в классической философии. Такое
соотношение теоретически обосновал Гегель, поэтому К. Маркс
отмечал, что гегелевская диалектика есть «основа всякой
диалектики». Упомянутое соотношение Гегель обозначал как
«соотносящаяся сама с собой определенность», Э.В. Ильенков -
как «внутреннее отношение вещи к себе самой». В статьи оно
обозначено «отношение целого к самому себе». Во-вторых, мы
172
попытаемся обосновать то, что данное отношение есть общая
основа диалектики, а конкретным основанием диалектического
метода развития понятия (метода восхождения от
абстрактного содержания к конкретному) выступает соотношение
«всеобщее - особенное - единичное» (В - О - Е).
Бесплодные варианты создания «материалистической диалектики» в
советский период объяснимы, в частности, игнорированием
методологической значимости этих двух важнейших
соотношений, которыми руководствовались Гегель и Маркс.
В-третьих, на материале «Науки логики» и «Капитала» мы проследим
методологическую значимость данных соотношений.
Логика рассудка и логика разума
Об особенностях мышления на его рассудочной и
разумной стадиях Гегель написал столь определенно, что и ныне
нечего добавить. Рассудок перерабатывает созерцания в понятия
посредством логических категорий, которые в отличие от
категорий иных наук обладают всеобщей способностью синтеза.
Понятия получают определенность, ясные смысловые границы,
отделяющие одно понятие от другого. На этом деятельность
рассудка заканчивается. На чем завершает работу рассудок, на
том начинается деятельность разума; синтез самих понятия в
мысленную конкретность, в духовную целостность под
названием теория. На стадии разработки теории, отмечал Ф. Энгельс,
ученый сразу сталкивается с неповоротливостью рассудочной
дотики и вынужден прибегать к иной логике - к диалектике.
Верному пониманию диалектики мешает рассудочная
логика «определения извне» («бытие-для-другого»): одно
определяется другим, а другое - иным другим и так до
бесконечности, которую Гегель остроумно назвал «дурной». Регресс в
бесконечность возникает потому, что за внешним отношением
одного к другому мысль упускает внутреннее отношение -
отношение целого к самому себе.
173
Логика рассудка не позволяет понять саморазвитие целого
на собственной основе, когда целое само полагает вовне
предпосылки своего сохранения и роста и поэтому является
самообоснованным, самодействующим. Саморазвитие целого
диктует такой логике невыполнимое для нее условие - понять
действие на другое как момент самодействия, определение
извне - как момент самоопределения; словом, «за отношением
к другому видеть скрытое за ним отношение к самому себе,
внутреннее отношение вещи».
Согласно представителям такой недиалектической
логики, отмечал Э.В. Ильенков, - «отношение может быть только
между одним и другим! Только между двумя разными вещами!
Отношение к самому себе - это абсурд, нелепость, незаконное
сочетание терминов!». А ведь разговор со сторонником такой
формальной логики, продолжает Э.В. Ильенков, начался с того,
что у него спросили, как он себя чувствует, и он ответил:
«Нормально». «В этой форме, в форме самочувствия, "отношение к
самому себе" было понятно и ему. Но отношение к самому себе
как телесное отношение < > мышление, скованное постулатами
формальной логики, понять не в состоянии».
Такое мышление старательно избегает анализировать
самонаправленные процессы - самоопределение,
самодеятельность, самореализация и др. «само». Личность при этом
мыслится как теннисный шарик, траекторию движения которого
определяют внешние обстоятельства - педагогическое
начальство, методы воспитания, среда и так до бесконечности.
Возникает рефлексия рассудка из многих внешних оснований, а не
из самообоснования целого. Уже растительный и животный
миры посрамляют такую логику, не говоря уже о субъектах,
преследующих свои цели. Разумеется, принцип объяснения
через «другое» необходим, когда мы искусственно
вычленяем из состава целого те или иные части и рассматриваем их
взаимодействие. Но он недостаточен, например, в понимании
субстанции как причины самой себя, как универсального, все-
174
объемлющего начала, вне которого ничего нет, нет даже этого
«вне». Поэтому объяснять субстанцию (Бога, природу,
материю) через другое нельзя. Рассудок пребывает в
замешательстве и с необходимостью переходит к логике разума:
субстанция есть причина своего бытия, действие модусов субстанции
друг на друга оказывается воздействием субстанции на саму
себя, т. е. мышление научается за особенными определениями
схватывать их всеобщее основание.
В еще большей мере объяснение через другое не эврис-
тично, когда речь идет о самоопределении и самодеятельности
людей, вообще о саморазвитии; т. е. когда мысль
наталкивается на совпадение противоположностей, на явное
противоречие, в рамках которого объект действия и субъект действия
совпадают, будь то самовоспитание, самоопределение и т. п. И
такое совпадение встречается в практике человека на каждом
шагу, оно зафиксировано уже на уровне языка в виде
возвратных местоимений и глаголов («сам себя», «я радуюсь» и др.)!
В таких языковых выражениях проявляется устойчивое
логическая категория - отношение целого к самому себе, выражающее
самое существенное, диалектикообразующее отношение.
Осознанию этого отношения препятствуют
гносеологические и социальные причины. Гносеологической причиной
является то, что мысль не выходит за рамки наличного бытия (где
одно ограничено другим, а другое - иным другим) в сферу
сущности - в то единое основание, которое воздействует на само
себя через взаимное действие своих собственных частей. То, что в
сфере сущности (субстанции) есть самоопределение,
воздействие на себя, то в мире явлений обнаруживается как действие
на другое, как определение извне. Например, Петр, относясь к
Павлу как к человеку, актуализирует свою собственную
человеческую природу. Относясь к себе как человеку, Петр
отличает в себе социальное от природного. Но на таком различии
дело не заканчивается. Отношение между Петром и Павлом
как людей есть в итоге отношение социальности к себе самой.
175
И такое самоотношение социальности ощутимым образом
проявляется в борьбе людей за общественное признание, в
соревновании, будь то спорт, экономика, политика, вузы и т. д.
В еще большей мере самоотнесенность целого через
отношение своих частей раскрыто в экономике. Например, в
процессе обращения капитала (мир явлений) один отдельный
капитал действует на другой, и каждый из них воспринимает
это внешнее действие (конкуренцию) как определение извне,
как внешнюю необходимость, принудительно
ограничивающую свободу их функционирования. Такова видимость с
позиций отдельных различных капиталов. Однако отдельные
капиталы есть органы совокупного капитала как целого. И за
отношением одного капитала к другому скрывается отношение
капитала как целого к самому себе. Через взаимное действие
отдельных капиталов проявляется воздействие капитала на
самого себя, его «самоопределение». В действительности,
замечает К. Маркс, - «конкуренция представляет собой
отношение капитала к самому себе как к другому капиталу»,
«самоопределение» капитала как целого. Конкуренция
приводит в исполнение «внутренние законы капитала» в форме
внешней необходимости ля отдельных капиталов.
Во всех таких ситуациях отношение социальности к себе
самой выступает как противоречие потому, что одна и та же
социальность противополагает себя себе самой в форме
взаимоотношений отдельных индивидов и социальных групп.
Отношение целого к самому себе Гегель зафиксировал в виде
понятия «бытие-для-себя» в отличие от понятия «бытие-для-
другого». Отношение к самому себе есть принцип
самосознания, а отношение к другому - схема работы чувственного
сознания, ориентированного вовне.
В социальном плане логика «определения извне» выражает
те ситуации, в которых люди низведены до исполнителей извне
навязанных стандартов мышления, поведения, потребления, до
«точки действия для другого» (B.C. Библер) со стороны обще-
176
ственных сил. Такие ситуации и порождают выражения
«рычаги управления», «хозяйственный механизм» и прочую
механику. При этом человек сводится «до тени своей собственной
тени» (Э.В. Ильенков). Подобная социальная детерминация
формирует в сознании привычку жить по извне полученным
правилам и нормам и впечатывает в сознание логику
«определения извне». Такая логика превращается в «достоверный»,
самоочевидный навык рассудочного мышления, который
возводится во всеобщую схему миропонимания.
Эту схему, за которой скрываются антигуманные
обстоятельства, позитивистский рассудок объявляет единственно
научной, а логику самоопределения (диалектику) толкует как
«темную гегельянщину», не соответствующую
действительности. Именно отделение деятельности от самодеятельности
изменение объекта от «самоизменения» субъекта, функций
исполнительских от нормотворнеских порождает отчужденную
практику, ту социальную ситуацию, в которой индивиды производят
собственное бытие как чуждое себе «инобытие», как бытие иного
против самих себя.
Логика рассудка приспособлена к реальности, где нет
субъектов сознательного действия. Социальным эквивалентом
такой логики является пассивный созерцательный субстан-
циализм, за которым скрывается накопленная и застывшая в
пространстве человеческая деятельность в виде устоявшихся
порядков, норм, образа жизни.
Ограниченность логики «действия на другое» побуждает и
теоретиков естествознания переосмыслить казавшуюся ранее
очевидной логическую основу общего воззрения на предмет.
В естествознании, математике, подчеркивал B.C. Библер,
поставлена под вопрос «всеобщность классического предмета (и
субъекта) - точки действия на другое». В современном
мышлении возникает идея радикально нового предмета и
субъекта теоретического познания. Это - «идея предмета как "causa
sui"», «идея движения как самодействия, самодеятельности». С
177
возрастанием в обществе доли личных свобод и
самодеятельности изменяется и методология науки - предметная область
толкуется по подобию человеческой самодеятельности.
Против логики «действия на другое» боролись
классики философии. «Самопричинность» (causa sui) субстанции у
Спинозы, «самодеятельность» монад у Лейбница,
«самоопределение» и «самополагание» Я у Канта и Фихте, «для-себя-бы-
тие» у Гегеля, «самоизменение» субъекта у Маркса - эти
родственные идеи выражали логику, позволяющую верно понять
самонаправленную социальность.
Отношение к самому себе исполняет в работах Маркса
(также и Гегеля) основополагающую теоретическую роль. И
«без четкого понимания этого пункта, этого решающего ядра
логики «Капитала», - писал Э.В. Ильенков, - невозможно
ничего понять ни в «Капитале», ни в его логике».
В философском плане суть отчуждения как раз состоит в
том, что люди передают свои субъектные функции какой-либо
внешней Инстанции, превращая ее в абсолютного субъекта, а
себя - в исполнителей ее воли. Поэтому они не видят в
сотворенных ими же произведениях (будь то государство, иные
социальные институты и т. п.) свое собственное авторство и
воспринимают сеть общественных отношений как нечто совершенно
внешнее, чужое, от чего надо спрятаться или отстраниться.
В конечном счете, логика определения извне - продукт
взаимного отчуждения людей друг от друга по разным
причинам (экономическим, социально-статусным, политическим,
мировоззренческим). Рассмотрим этапы осознания
отношения целого к самому себе в философии.
Формирование отношения целого к самому себе:
Кант, Фихте, Гегель
Выразим обобщенно саму «парадигму» осознания
отношения целого к самому себе. Такая парадигма на интуитив-
178
ном уровне схватывалась еще Гераклитом, согласно которому
космос есть «вечный огонь», который мерами возгорается и
мерами угасает. Подобные интуитивные прозрения
Спиноза чеканно выразил в онтологическом принципе: субстанция
есть причина самой себя, т. е. она самопричина, за что Римская
курия подвергла мыслителя анафеме, хорошо понимая, куда
клонит Спиноза. Только классики немецкой философии
теоретически выразили данное отношение.
У Канта трансцендентальное Я - это область
однородной самоустремленной деятельности, возникающей в акте
самовоздействия. Фихте отлично понял суть философии
Канта и сосредоточил усилия на раскрытии
процессуальное™ Я. У него Я - процесс деятельного самопорождения:
в актах самовоздействия Я различает себя на Я и на неЯ.
Это - процесс противополагания: Я «является в одно и то же
время и тем, что совершает действие, и продуктом этого
действия». В акте противополагания отношение к другому
(предмету) есть необходимый момент в саморазличении Я,
но он подчинен отношению Я к самому себе, без которого
самосознание не возникает. Если субъект останавливается на
отношении к другому, то он не выходит за рамки
чувственного сознания, ибо он захвачен внешней предметностью
и не возвращается в сознании к самому себе, к Я. Поэтому
акт противополагания дополняется актом сополагания -
возвращением Я из внешнего созерцания к самому себе,
самонаправленностью Я в противополагании.
Движение сознания, по Фихте, предстает так: самополага-
ние (Я = Я)у противополагание {Я = неЯ) и сополагание (Я = Я +
неЯ). Самонаправленность, т. е. отношение Я к самому себе,
соединяет противоположные моменты (Я и неЯ) в единство.
Я саморазличается в себе путем противополагания, которое
образует противоположности, соединяемые в единство. Их
единство есть противоречие потому, что противоположности
суть различия в пределах одной основы - Я.
179
Таким образом, отношение к самому себе логически
выражает у Фихте остов самосознания. Поскольку категории Фихте
развивает вслед за Кантом как схемы работы самосознания, то
и категории представляются им согласно трем моментам
основного отношения самосознания - отношения к самому себе.
Категориальные «гнезда» включают «тезис - антитезис - син-
тезис», чему соответствует «полагание - противополагание -
единство противоположностей»; например, «реальность -
отрицание - ограничение».
Триадичность есть точка зрения самосознания. Синтез
противоположных категорий в третьей есть понятийно-вербальная
демонстрация работы самосознания, его единства. Парность же
в трактовке категорий означает, по Фихте, или разорванность
самосознания, или его редукцию к сознанию, которое не
выходит за рамки отношения к другому, а поэтому не соединяет
противоположности в единство в составе третьей категории.
Достижением Фихте является понимание
противоположностей как существенных различий в составе одной основы.
С этого и начинается всякая диалектика с ее имманентной
динамикой и пульсацией. Я продуцирует понятия, образы и др.,
которые предстают для Я как его деятельные произведения.
Поэтому Я не отчуждается от своих произведений и
пребывает в самом себе и у себя.
В «уравнениях» Фихте, например Я = неЯ, имеется тот
же смысл, что и в уравнениях Маркса («холст = сюртук»): как
сюртук представляет своей натуральной формой стоимость
холста вне холста, так же неЛ представляет собой состав Я как
его иное бытие, т. е. представляет субъекту содержание его же
собственного сознания, но как нечто внешнее. Это следует
отметить, так как именно в этом пункте своих рассуждений
Фихте был не понят современниками. Ведь Фихте исследовал
движение сознания.
Далее Фихте делает героическое усилие: он первый вынес
логику самополагания, противополагания и сополагания во вне-
180
шний план, во внешний опыт субъекта. Теперь уже совокупное Л
(совокупный трансцендентальный субъект) противополагает
себя самому себе: оно деятельно оформляет природный
материал в мир культуры (неЛ) и начинает осознавать себя в
порожденном им же мире (Я = Я+ неЛ). Оказывается, неЛ есть
объективированное Я во внешних предметных формах. Я возвращается
к самому себе из предметно оформленного мира (сополагание).
Оно теперь не теряет себя в своих произведениях, узнает себя
в них, властвует над ними, возвышается в равной мере и над
своими субъективными состояниями психики, и над
объективированными формами своей деятельности, поэтому предстает для
себя как абсолютное Я, как субъект всех изменений.
Это было открытием! Каково было ликование Фихте,
можно судить по тому пафосу и энтузиазму, которые выражены
в его произведениях. Рядоположенность субъекта и внешней
реальности была преодолена. Все застывшее было понято как
процессу мир вне головы оказался миром, порожденным при
посредстве головы. «Катаракта» чувственного сознания была
снята. В пламени активности субъекта все окаменевшие
рассудочные понятия метафизики возгорелись и преобразились
в стройный процесс самопорождения Я: его противополагания
(объективирования) и возвращения к самому себе. Фихте
зарядил философию активизмом, деятельным преобразованием
всего. Действовать, действовать и действовать как свободный
субъект - таков пафос его философии.
Но самополагание (Я = Я), противополагание (Я = неЛ) и
сополагание (Я = Я + неЛ) происходит все-таки в сфере сознания.
Отмечая субъективизм диалектики Фихте, Гегель, тем не
менее, заимствует его триаду и наполняет триадичный ритм
развития сознания богатым историческим материалом. Он тоже
отмечает три отношения сознания к предмету:
• чувственное сознание относится к предмету как к истине,
как к высшему авторитету (язычество, античные досократики,
католицизм, авторитарное государство и т. п.);
181
• отношение самосознания, как инстанции истины, к
предмету, лишенному авторитета истины (рассудок, Сократ,
протестантизм, идеология французских просветителей);
• истинное отношение самосознания к предмету как к истине
(диалектический понятийный разум, отношение духа к самому
себе, знающий себя дух)-, при таком отношении субстанция вне
духа есть на самом деле «окаменевший» дух, иное бытие духа,
прикрытое предметной оболочкой.
Субъектом саморазличения у Гегеля выступает
мышление, Разум (под именем Идеи), который деятельно порождает
сам из себя свои все более конкретные формы и тоже
возвращается к себе как знающий себя абсолютный дух. Дух
выдержал на пути к самому себе острейшие противоречия, драмы
и трагедии, претерпел муки отчуждения, выразил себя в
своих объективациях в истории, пришел к самому себе из плена
отчуждения - через образы искусства, символы религии - и,
наконец, выразил себя адекватно в форме понятия в Логике.
Схема Фихте «полагание (Я = Я), противополагание (Я =
неЛ), сополагание (Я = Я + неЯ)», приобрела у Гегеля всеобщую
логическую форму: «бытие-в-себе - бытие-дпя-другого - бытие-
для-себя». Гегель интерпретировал отношение к самому себе
как универсальную логическую категорию, передающую
адекватно специфику и суть диалектики: решающий способ
понимать противоположности в их единой основе.
В его «Науке логики» учение о сущности и учение о
понятии целиком развиты на основе данного отношения. Наличное
бытие - это область внешнего отношения одного к другому,
переход одного в другое. Одно качество изменяется,
появляется другое качество. Почка исчезает, и возникает цветок, а
цветок вытесняется плодом.
Сущность же есть отношение к самому себе, она
самонаправленная, рефлектированная; в ней отношение к
иному - момент отношения к самому себе. Оказывается, «почка -
цветок - плод» суть текучие моменты единого целого, которое
182
сохраняет себя в смене этих моментов. Сущность -
«возвращение в себя», «простое соотношение с самой собой, чистое
тождество». Сущность «противополагает себя самой себе и лишь
постольку есть бесконечное для-себя-бытие», «отталкивание
себя от самой себя». Сущность опосредствует себя с собой
своим отрицанием и сохраняет себя в таком отрицании.
Сущность - «соотношение со своим инобытием в самой себе», «суб-
станция как отношение к самому себе» и т. п.
Самоотнесенность и процессуальность сущности Маркс
прекрасно выразил в «Капитале» и в рукописях, где
капитал предстает как соотносящаяся с собой определенность
(Д - Т - Д'), как субъект, проходящий через все свои
временные формы, как самовозрастающая стоимость и т. д.
Решающим и у Фихте, и у Гегеля является третье звено: со-
попагание у Фихте и бытие-для-себя у Гегеля. Это звено
логически выражало самосознание, знающий себя дух, не теряющий
себя в объективациях. Отношение целого к самому себе здесь
представлено третьим звеном, которое выражает высший
уровень формации духа.
Кант, Фихте и Гегель сделали подлинные открытия в
философии. Фихте и Гегель продолжили «коперниканский
переворот» в области истории духа. То, что они раскрыли логику
саморазвития сознания, диалектику, в области «абстрактно-
духовной», ничуть не умаляет их научной заслуги.
Традиционные упреки в идеализме подобны иждивенческой установке -
дайте все сразу, всех «жареных рябчиков науки». После Гегеля
открылся простор для переноса самой логики отношения
целого к самому себе на конкретный исторический материал.
Отношение целого к самому себе в работах Маркса
Маркс продолжил «коперниканский переворот»,
применяя триадичный ритм диалектики. Схемы Фихте и Гегеля
были творчески переосмыслены и применены, во-первых,
183
в решении проблемы отчуждения, во-вторых, в понимании
социальной связи в ее человеческой форме, в-третьих, в
обновлении понятийного аппарата, отражающего самонаправленные
процессы бытия человека - самоопределение,
самоосуществление, самоустремленность, самоизменение,
самодеятельность и др.; в-четвертых, в акцентировании субъектности
людей (класс «в себе» и класс «для себя») и процессуальности
социальной реальности.
Как происходило такое переосмысление,
документально свидетельствуют «Экономическо-философские рукописи
1844 года». Они представляют собой манифест нового
миропонимания, креативно-антропологическое ядро, содержащее
в свернутом виде все основные философские идеи К.
Маркса. Маркс признает «величие» гегелевской «Феноменологии
духа» и подвергает критике ее слабые стороны. Эта критика
целиком сохраняет свою актуальность. Величие же
«Феноменологии» состоит, по Марксу, в том, что Гегель рассматривает
«самопорождение человека как процесс, опредмечивание как
распредмечивание, как самоотчуждение и снятие этого
самоотчуждения», что он понимает действительного человека как
«результат его собственного труда».
Вот как Маркс наполняет отношение целого к самому себе
реальным материалом: Я Фихте заменяется действительным
человеком; полагание неЛ - процессом труда, тотальностью
человеческого проявления жизни; неЯ - реальной
действительностью (промышленностью, государством, обществом); «со-
полагание» - человеческой общностью, возвращением человека
к самому себе.
Действительное, деятельное отношение человека к себе
как к родовому существу, подчеркивает К. Маркс, возможно
только тем путем, «что человек действительно извлекает из
себя все свои родовые силы
< > и относится к ним как к предметам», как к своим
собственным произведениям. А это возможно, продолжает
184
он, «сперва только в форме отчуждения». Ибо нужда,
потребность в предмете приковывает внимание к телесной стороне
предмета, занавешивая опредмеченную социальность; кроме
того, предмет, как собственность другого субъекта,
действительно предстает как чужой предмет; «предмет моего желания
находится в недоступном мне обладании другого».
Когда же человек узнает в предмете опредмеченную
социальность и относится к предмету по-человечески? Очевидно,
тогда, когда предмет «относится» к человеку по-человечески,
актуализирует креативные возможности и силы человека.
А это происходит тогда, когда люди сознательно производят
свою социальную связь как человеческую общность, намеренно
производя друг для друга такие предметы. «Человек, -
утверждает К. Маркс, - не теряет самого себя в своем предмете лишь
в том случае, если этот предмет становится для него
человеческим предметом или опредмеченным человеком. Это возможно
лишь тогда, когда этот предмет становится для него
общественным предметом, сам он становится для себя общественным
существом, а общество становится для него сущностью в данном
предмете». Поэтому «человек есть самоустремленное (selbstisch)
существо. Его глаз, его ухо и т. д. самоустремлены; каждая из
едю сущностных сил обладает в нем свойством
самоустремленности». Самоустремленность - атрибут человека.
Самоустренмленность производна от того, что вне себя
человек обретает свою сущность в виде мира культуры, и
отношение к ней есть его существенное отношение к самому себе.
Отношение к другому - это точка зрения сознания человека,
захваченного вещественностью предмета. Отношение к самому
себе - позиция субъекта как знающей себя социальности он не
теряет себя в предмете потому, что сам предмет воспринимается
в его «человекопроводности» - как опредмеченная
социальность, как предметное бытие одного человека для другого.
Маркс раскрывает социальную связь не в овещненной,
а в человеческой форме. Предположим, пишет он, что мы про-
185
изводили бы как люди. Каждый из нас двояким образом
утверждал бы и самого себя, и другого:
«1)Я в моем производстве опредмечивал бы мою
индивидуальность, ее своеобразие, и поэтому во время деятельности я
наслаждался бы индивидуальным проявлением жизни, г в
созерцании от произведенного предмета испытывал бы
индивидуальную радость от сознания того, что моя личность выступает
как предметная, чувственно созерцаемая и потому находящаяся
вне всяких сомнений сила. 2) В твоем пользовании моим
продуктом или в твоем потреблении его я бы непосредственно
испытывал сознание того, что моим трудом удовлетворена
человеческая потребность, следовательно опредмечена человеческая
сущность, и что поэтому создан предмет, соответствующий
потребности другого человеческого существа.
3) Я был бы для тебя посредником между тобой и родом
и сознавался бы и воспринимался бы тобою как дополнение
твоей собственной сущности, как неотъемлемая часть тебя
самого - и тем самым я сознавал бы самого себя утверждаемым
в твоем мышлении и в твоей любви.
4) В моем индивидуальном проявлении жизни я
непосредственно создавал бы твое жизненное проявление, и,
следовательно, в моей индивидуальной деятельности я
непосредственно утверждал бы и осуществлял бы мою истинную
сущность, мою человеческую, мою общественную сущность.
Наше производство было бы в такой же мере и зеркалом,
отражающим нашу сущность». «С твоей стороны имело бы
место то же самое, что имеет место с моей стороны». В подобных
суждениях Маркса его критики усматривали остатки
фейербахианства, тогда как такие суждения выражали суть
антропологии Маркса, его представлений об общении в грядущем
постбуржуазном обществе.
При таком предположении производство выступает не
как производство товаров, а как креативный антропогенный
процесс производства жизни и обновления творческих сил
186
субъектов. Изменяется и качество отношений между ними:
отношения сбрасывают отчужденные формы и предстают в
прозрачном виде как непосредственные общественные отношения,
в рамках которых через формы общения индивиды взаимно
дополняют, обогащают и обновляют свою субъективность;
каждый нуждается не только в вещественных свойствах
продуктов, но и (в первую очередь!) в своеобразии личных дарований
других индивидов. Способности других становятся
дополнительными органами каждого индивида для усвоения жизни.
Так созидаются естественная человеческая связь и
естественная человеческая общность, укорененная не во внешние опоры
(разделение труда, гражданство, социальные статусы и др.),
а в креативную природу каждого как общественного существа.
В естественной общности людей мерилами являются
сами человеческие качества, это - имманентные человеку меры.
К.Маркс продолжает диалог с воображаемым собеседником,
акцентируя естественность таких мер: «Предположи теперь
человека как человека и его отношение к миру как человеческое
отношение: в таком случае ты сможешь любовь обменивать
только на любовь, доверие только на доверие и т. д. Если ты хочешь
наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно
Образованным человеком. Если ты хочешь оказывать влияние
на других людей, то ты должен быть человеком, действительно
стимулирующим и двигающим вперед других людей».
Иное дело социальная связь в ее вещной форме. Деньги
обмениваются на весь мир человеческий и природный. «Кто
может купить храбрость, - писал К. Маркс, - тот храбр, хотя
бы он и был трусом». Мощь денег связана не с
индивидуальностью человека, а с общественной мощью. Деньги являются
всеобщим средством обмена потому, что они символизируют
собой накопленный труд. «Я плохой, нечестный, бессовестный,
скудоумный человек, но деньги в почете, а значит в почете
и их владелец». Деньги превращают «верность в измену,
любовь в ненависть, ненависть в любовь, добродетель в порок,
187
а порок в добродетель, раба в господина, господина в раба,
глупость в ум, ум в глупость». Деньги смешивают все и
обменивают все вещи, они «всеобщий сводник людей и народов».
Извращение и смешение, братание невозможностей - эта сила
денег кроется в отчуждающейся сущности человека. Деньги -
«отчужденная мощь человечества».
Таким образом, в изображении Маркса производство
и общение представляют собой родовой
(культурно-исторический) процесс самообновления индивидуальности каждого;
содержанием процесса является всеобщее содержание
(культурная субъектность), функционирующее в своеобразных
индивидуальных преломлениях индивидов. Каждый выступает в
производстве и общении как рефлектированное в себя родовое
существо, как идеальная тотальность субъективных сил и
человеческих отношений. Идеальный, представленный, аспект
бытия индивидов есть существенное измерение социальной
связи: в идеальном представлены смысл и цель производства
и общения, потребность в человеческом содержании жизни,
признание других как равноценных по сущности и различных
по существованию, стремление осуществить себя достойным
образом в сознании других и объективировать свои
способности для других как личный дар.
Индивидуальная и родовая жизнь, отмечал К. Маркс, не
является чем-то различным: «способ существования
индивидуальной жизни бывает либо более особенным, либо более
всеобщим проявлением родовой жизни, а родовая жизнь
бывает либо более особенной, либо более всеобщей индивидуальной
жизнью. Как родовое сознание человек утверждает свою
реальную общественную жизнь и только повторяет в мышлении свое
реальное бытие, как и наоборот, родовое бытие утверждает
себя в родовом сознании и в своей всеобщности существует
для себя как мыслящее существо».
Идеально выраженная всеобщность сознания и реальная
общественность человека суть, таким образом, одно и то же
corn
держание, но в разных измерениях - идеальном и реально-бы-
тийственном. Если человек есть «индивидуальное общественное
существо, то он в такой же мере есть также и тотальность,
идеальная тотальность, субъективное для-себя-бытие
мыслимого и ощущаемого общества»
Человеческая форма социальной связи, столь
впечатляюще изложенная К. Марксом, всегда существовала в истории,
в большей или меньшей степени, - в дружбе, товариществе,
в добровольных сообществах единомышленников в области
науки, искусства, в духовной солидарности народа.
Человеческая связь образует содержание культуры как новой ступени
истории: дикость - варварство - цивилизация - культура. Как
Земля вращается вокруг Солнца, так и человек вращается
вокруг своей собственной универсальной культурной природы.
Итак, отношение целого к самому себе служило у Канта,
Фихте и Гегеля логическим оформлением самосознания и
самодеятельности в абстрактно-духовной области. У Маркса
оно выражает социальную связь как человеческую общность,
как снятие отчуждения и утверждение человеческих
продуктивных сил. Эта логическая форма мышления - продукт
развитой социальности и развитого сознания общественного
человека как субъекта.
Идею о самонаправленности сознания Маркс, конечно, не
отрицал, он истолковал ее как «самоустремленность»
человека. Человек же может быть устремлен на свою сущность
потому, что она находится не в теле человека, а вне его - как
объективированная система деятельности и общения. Маркс поэтому
самым тщательным образом анализировал исторически
определенные формы деятельности и общения. Продажа рабочей
силы - корень всех видов отчуждения, ибо работник
превращается в проводника чужой воли и осуществляет свое бытие
как чуждое себе. Труд извращается в
креативно-антропологическом отношении, мотивируется внешним образом, часто
реализуется как «мука и самоутрата». Критикуя концепции, тол-
189
кующие труд как «жертву», а нетруд как «свободу и счастье»,
К. Маркс развивает положение о труде как о
самоосуществлении в форме самодеятельности. В таком труде разрешается
противоречие между опредмечиванием и
самоосуществлением, цели теряют характер внешней необходимости и
полагаются «как самоосуществление, предметное воплощение субъекта,
стало быть, как действительная свобода, деятельным
проявлением которой как раз и является труд». Самоосуществление
есть перевод сущности человека в действительность, импуль-
сированный потребностью объективировать себя.
Социальное основание отношения целого к самому себе
Самодеятельность - адекватная форма
самоосуществления. В самодеятельности доминирует направленность
субъекта на преобразование самих способов деятельности. Субъект
одновременно выступает и деятелем, и объектом делания;
он противополагает себя самому себе в реальном процессе
и в то же время объемлет обе противоположности - процесс
делания и результат. Соединяя в себе эти
противоположности, субъект есть противоречие между Я прошлым и Я
актуальным, между деятельностью ставшей и становящейся. Это
противоречие разрешается и вновь становится через
самоизменение, самоотталкивание и вместе с тем через вбирание
субъектом в себя положенных им моментов, но уже как
моментов-условий для новой фазы самостановления, а не для
повтора стереотипов.
Такая пульсация полагания, противополагания и
возвращение к самому себе продуцирует прирост и обновление
творческих сил. Здесь социальным квантом оказывается личность,
«постоянно неравная сама себе». В самодеятельности
противоречие между предметом и субъектом переносится в область
творческих сил и превращается в противоречие между
репродуктивным и продуктивным, разрешение которого требу-
190
ет интенсивного напряжения духовных сил и заканчивается,
в конечном итоге, обновлением самого предмета.
Мы рассмотрели самонаправленность субъекта в актах
самодеятельности, отвлекаясь от многих иных субъектов.
Включим их в анализ, а значит, учтем то отношение, которое
возникает между ними в области реализации сущностных сил.
Таким отношением является имманентное для субъектов
отношение - со-ревнование по поводу творческих потенций лиц
и коллективов. В соревновании каждый идеально полагает себя
равным с другим по возможностям. Но в то же время и в том
же отношении каждый полагает себя неравным с другим, что
выражается в практическом стремлении опередить себе
равного. Это выхождение за пределы равенства предполагает само
равенство. Ведь смысл и накал борьбы проистекает в
состязании с равным, себе достойным.
Соревнование- конкретное процессуирующее
тождество, форма движения истинно диалектического противоречия
«в одно и то же время и в одном и том же отношении».
Именно этот род противоречия есть корень и «нерв» саморазвития
в отличие от рассудочно трактуемого противоречия «в разных
отношениях», не содержащего самодвижения и жизненности.
Такое псевдопротиворечие Э.В. Ильенков точно уподобил
драке, в которой дерущиеся машут кулаками «в разные стороны».
Опережая себе равного, субъект опережает самого себя,
вступает в самосостязание. Противоречие между соревнующимися
превращается в противоречие субъекта с самим собой,
переводя в действительность все скрытые резервы и возможности.
Противоречие соревнования - один из примеров того
имманентного противоречия, которое интересовало Гегеля. Он
писал: «противоречие не следует считать просто какой-то
ненормальностью, встречающейся лишь кое-где: оно есть
отрицательное в своем существенном определении, принцип
всякого самодвижения, состоящего не более как в изображении
противоречия». Противоречие- «корень всякого движения
191
и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе
противоречие, оно движется, имеет побуждение и деятельно».
В самом деле, потребности, независимо от их уровня,
потому побуждают к активности (и человек стремится), что
потребность есть отрицательное бытие предмета в субъекте, отсутствие
предмета, данное как реальность. Гегель продолжает:
«внутреннее, подлинное самодвижение, побуждение вообще (стремление
или напряжение монады, энтелехия абсолютно простой
сущности) - это только то, что нечто в самом себе и его отсутствие,
отрицательное его самого суть в одном и том же отношении».
Именно, в одном и том же отношении*. На чем обоснованно
всегда настаивал Эвальд Васильевич Ильенков. В этом
уточнении заключен принцип понимания противоречия. «Таким
образом, нечто жизненно, только если оно содержит в себе
противоречие, и есть именно та сила, которая в состоянии
вмещать в себе это противоречие и выдерживать его. Если же
нечто существующее не в состоянии в своем положительном
определении в то же время перейти в свое отрицательное
[определение] и удержать одно в другом, если оно не способно
иметь в самом себе противоречие, то оно не живое единство,
не основание, а погибает в противоречии». Гегелевское
противоречие, отметил К. Маркс, - «источник всякой диалектики».
Заметим, известная полемика между Э.В. Ильенковым
и И.С. Нарским о понимании противоречия («в одном и том
же отношении» - Э.В. Ильенков; «в разных отношениях» -
И.С. Нарский) ясно выразила гражданскую позицию каждого:
Э.В. Ильенков самым серьезным образом беспокоился
всполохами грядущих перемен («перестройкой» по М.С.
Горбачеву); И.С. Нарский пятился от действительных противоречий
советского общества, всячески замазывал их («в одном
отношении - так, в другом отношении - иначе; это - как
посмотреть») и олицетворял собой беспринципную, самодовольную
линию в советской философии. Ведь борьба между трудом и
капиталом мотивирована «одним и тем же основанием» - от-
192
ношением к рабочему времени! А рабочее время - это время
жизни рабочего. Присваивая прибавочный труд, капиталист
присваивает саму жизнь, само пространство свободного
развития личности.
Самоустремленность реализуется на уровне отдельного
субъекта самодеятельности и на уровне межсубъектных
отношений. Самонаправленность субъектов в реальном противопола-
гании, противоречие в самодеятельности между ставшим и
становящимся порождает в мышлении соответствующее себе логическое
отношение - отношение целого к самому себе, зафиксированное
в языковых формах, в возвратных глаголах.
Лейбниц восхищал К. Маркса, вероятней всего, идеей
самодеятельности, спонтанной активностью монад, прообразом
которых была душа человека. «Ты знаешь, - писал он Ф.
Энгельсу, - как я восхищаюсь Лейбницем»- Содержание всей
философии Канта, писал Ф. Шиллер, заключается в словах
«Определяйся сам собой» То же у Фихте: «Сам человек есть
цель - он должен сам определять себя...».
Перерабатывая эти идеи, К. Маркс формулирует тезис
о «самоизменении» в практике. Производя основу
общественной жизни, субъекты самообосновывают свое развитие.
Практическое самообоснование порождает адекватные идеи,
идущие от античных диалектиков к Марксу и к
современности, - идеи самообоснования. Живучесть этих идей в
философской классике объяснима их важнейшим социальным значением.
При внешнем различии эти идеи содержат единый логический
стержень - диалектическая связь раскрывается через
возвратное отношение - отношение целого к самому себе.
Мы рассмотрели реальное основание отношения целого
к самому себе. Представим его в логически обобщенном виде.
Это отношение означает себетождественность целого в смене
его форм и в его противоречиях: совершая спиралевидный
кругооборот в процессе функционирования, целое
возвращается к себе на расширенной и более конкретной основе,
193
утверждает себя в метаморфозе форм как основа в
обоснованном и предстает как самообоснованное целое. Включая
структуру кругооборота» это отношение включает отрицание
отрицания, а значит и снятие. Выражая противоречие в самой
развитой форме (в самодеятельности), данное отношение
позволяет отобразить противоречие и в иных случаях -
воссоздать саморазвитие целого на собственной основе, понять
движение как самодвижение, причинность как самопричинность;
оно позволяет конкретизировать логику понимания субъект-
ности и ориентирует на логику категорий как на логику
творчества, в которой социальная самодеятельность представлена
в снятой и во всеобщей форме. Рассмотрим методологические
возможности этого логического отношения.
Отношение к самому себе и противоречие
Рассматривается ли отношение одного товара к
другому, труда к капиталу, субъекта к объекту, одной нации к
другой и т. д., всегда за внешним отношением одного к другому
К. Маркс вскрывает внутреннее отношение вещи к себе самой.
Уже в тезисах о Фейербахе данное отношение демонстрирует
свою диалектическую мощь, радикальность в понимании.
Одностороннее утверждение об изменении людей
обстоятельствами К. Маркс развивает в положение об их «самоизменении»
через изменение обстоятельств, когда субъект одновременно
предстает и как воспитатель, и как воспитуемый; и как
субъект, и как объект действия; и как законодатель, и как
исполнитель собственных принципов.
Реальная диалектика возникает тогда, когда сущность
(основа) самого предмета противополагается себе через свои
части и предмет как целое соотносится с положенными им же
предпосылками своего развития, выступает в пространстве
формируемым материалом, во времени - формирующим
процессом. Поясним этот важный момент. Различные вещи без тож-
194
дества их сущности не вступают между собой во внутреннюю
связь. В пределах такой связи каждая из вещей относится к
другой как к представителю общей для обеих сущности. Относясь
к иной вещи как к сущности, данная вещь относится и к себе
как к сущности. Относясь к себе как к сущности, вещь
отличается от себя как явления. Раздвоение вещей на внутренний
и на внешний уровни ведет к раздвоению предметной
области на уровень сущности и на мир явлений. Однако здесь дано
отличие сущности от явления. При более детальном анализе
выясняется, что отношение между вещами одной сущности
сводится в итоге к отношению сущности к себе самой, к ее
самоотнесению и тем самым - к противополаганию субстрата
сущности самому себе, следовательно, к существенному
противоречию, которое невыносимо для предметной области;
поэтому противоречие в самой сущности предметной области
осуществляется только как процесс нахождения меры между про-
тивоположностями в процессах развития.
Отношение к самому себе углубляет понимание
противоречия. Ошибочно ограничиваться, утверждал ГС. Батищев,
фиксацией противоположностей как равноправных сторон
отношения двойственности или полярности. В явлении противоречие
обнаруживается как взаимодействие двух противоположностей,
но в сущности противоречие есть «спор» с собой одного итого
же начала. Там, где различие, отмечает С.Н. Мареев, достигает
своего «максимума» - противоположности, «обнаруживается
в то же время и тождество, потому, что у противоположностей
"материя" одна и та же». Противоположности обнаруживают
себя как таковые «только тогда, когда один раз в
положительной, другой раз в отрицательной форме имеет место одно и то
же содержание. Иными выражениями единство, тождество
противоположностей трудно передать». Так, потребность в
хлебе есть отрицательное бытие реального хлеба у голодного.
Дуализм недостаточен в понимании противоречия, так
как при этом фиксируется взаимодействие двух особенных
195
содержаний, но их общая сущность не улавливается именно
потому, что противоположности не понимаются как
результат противополагания одного начала. Дуализм отмечает лишь
внешнюю форму явления противоречия. Например, в явлении
труд и капитал кажутся равноправными
противоположностями. Теория сводит противостояние труда капиталу к
противостоянию труда самому севе, ибо капитал производен от труда,
есть его «иное бытие»: «труд свою собственную
действительность полагает не как бытие-для-себя, а как всего лишь бытие-
для-другого < > как бытие иного против самого себя». Дуализм
отражает бытие-для-другого, упуская отношение труда к
самому себе. Дуализм статичен и не прогностичен.
Понимание труда в аспекте отношения к самому себе
сразу ориентирует на способ разрешения противоречия: оно
может успешно разрешаться лишь в пользу труда, интересы
труда дают верный ориентир. «Ибо сколь бы обе крайности ни
выступали в своем существовании как действительные и как
крайности, - свойство быть крайностью кроется все же лишь
в сущности одной из них, в другой же крайность не имеет
значения истинной действительности». Точно так же обстоит дело
с решением противоречий между частными интересами
различных субъектов того или иного общего дела - будь то
производство, образование, наука и др. Ведь здоровый личный
интерес связан, по существу, с общим интересом общего дела,
из которого и надо исходить в решении противоречий. Если же
встать на точку зрения лишь особенного, частного интереса, то
одному особенному интересу противостоит другой
особенный интерес, и сознание будет видеть только различия без их
внутреннего единства. Каждый начнет настаивать только на
своем особенном. В итоге различия заострятся до враждебных
противоположностей, до острого противоречия, до паралича
общего дела, который в итоге заставит посмотреть на предмет
более глубоко и увидеть за особенным всеобщее содержание,
существующее через особенное, а не рядом с ним. Точно так же
196
особенное существует не вне всеобщего, а как форма его
своеобразного бытия. Ведь всеобщее существует через особенное.
«На деле всякое всеобщее реально как особенное, единичное,
как сущее для другого».
Именно в рамках всеобщего (для сторон общения)
содержания можно осуществить разумный творческий синтез тех
противоположностей, которые ранее представлялись
непримиримыми. Речь идет не о том, чтобы погасить личный интерес
в общем деле. От такого дела люди разбегаются. Человек -
индивидуальное общественное существо, «оединиченная
всеобщность». Его частный интерес может успешно реализоваться
лишь в общем деле. Кто игнорирует интерес такого дела, тот
добивается того, что его тоже будут игнорировать, вплоть до
правовых санкций. Общее дело - это «весы», которые
определяют удельный вес каждого его участника. .Если взять
противоположные (отечественные и западнические)
ориентации в области идеологии и политики России, то здесь
с очевидностью можно утверждать, что российские
западники не имеют значения «истинной действительности» потому,
что они не укоренены в «почву», в отечественные традиции
и культуру, в национальный общенародный интерес, а
имитируют чужие формы жизни, слоняются по чужим дорогам
и побираются под чужими окнами чужих посольств.
Из отношения целого к самому себе следует
асимметричность противоположностей, различие их статуса, значения. В
явлении каждая из них есть особенная форма, это создает
видимость их равноправия и симметрии. Но, в сущности, лишь
одна из них, как правило, является основной (представляет
общую основу) и порождает иную как производную форму. Ведь
предмету присуща одна основа. И ее в большей мере
представляет та или иная противоположность на том или ином этапе
развития целого. Оптимально состояние, когда обе
противоположности в равной степени выражают единую основу. Такое
состояние есть гармония противоположностей, к которой сле-
197
дует стремиться в общем деле, исходя из его целого, которое
существует в воображении как предпосылка верного
понимания проблем и противоречий.
Вопрос о гармонии противоположностей принципиально
важен. У Гегеля не диалектика является определяющей, а процесс
нарастания конкретности в развитии целого путем разрешения
противоречий. Противоречие есть форма, в пределах которой
противоположности, дополняя друг друга своими
содержаниями, срастаются в новое, более развитое образование и возникает
полнота содержания. Именно в противоречиях проходят
апробацию на жизнеспособность те или иные содержания. И,
выдержав противоречия, они срастаются в конкретное целое. Поэтому
противоречия являются не только источником деструктивнос-
ти, разлома и гибели, но и способом взращивания
жизнеспособных конкретных форм. В мышлении разумно восходить от
абстрактного содержания к конкретному содержанию, которое
обеспечивает власть над практическими обстоятельствами; но
не менее разумно это осуществлять и на практике, в
налаживании, «конструировании» социальных связей с емким
человеческим содержанием, дарующим полноту выражения
продуктивно-творческих сил индивидуальности. «Свободное развитие
каждого как условие свободного развитие всех» - это самый
благородный принцип за всю историю человечество,
призывающий к должному переустройству общежития людей.
Противоречия неистребимы. Но они могут обретать
разные формы. Нет основания увековечивать антагонизм
классовых противоречий. Классы - это различные части народа.
Враждебность межклассовых отношений означает
возможность гражданской войны, которая разрушительнее войны
между народами. Настаивать в теории на классовой вражде -
значит провоцировать гражданскую войну, то скрытую, то
открытую. Это - позиция догматического следования точке
зрения мыслителей XIX в. Марксу не откажешь в
диалектическом понимании социальной реальности, но и он указы-
198
вал, что буржуазные производственные отношения являются
последней антагонистической формой общественного
процесса. Полнота содержания возможна только в рамках
единства противоположностей.
Асимметрия противоположностей принципиально важна.
Положительное и отрицательное кажутся, на первый взгляд,
сугубо соотносительными категориями. Но отрицание в развитии
есть форма утверждения положительного содержания, которое
всегда остается основой и ведущей стороной. Мышление сначала
уясняет соотношение положительного (П) и отрицательного (О)
дуалистично, по схеме П - О, фиксирует статику, а не движение
к разрешению противоречия по схеме П - О - ГГ. Утверждение
одного содержания есть отрицание по отношению к другому
содержанию. Отрицание есть отношение одного положительного
к другому положительному, т. е. отношение положительного к
самому себе. Отрицательность не имеет самостоятельного
содержания, она производна от положительного. В противном случае
отрицание как самоцель (О - П - О') превращается в «безумие
самомнения» (Гегель), в абсолютное зло, в тупиковое и
деструктивное направление в развитии, что подтверждается всякий
раз радикальными отрицаниями без созидательного
потенциала. М. Бакунин признавал первенство отрицания, «неустанное
самосожжение положительного на чистом огне
отрицательного». Он писал: «Радость разрушения есть в то же время
творческая радость»; «я ищу Бога в революции». Между тем
отрицание производно от утверждения и в жизни, и в теории. За
культом отрицания скрываются глубинные психологические
и социально-политические установки, в частности отчуждение
от родного, родины и др. Дорогое и родное не разрушают, а
берегут и развивают. Рассудочному мышлению соотношение
добра и зла тоже представляется симметричным («добро - зло»).
Однако зло можно вывести из утверждения добра: добро более
высокого уровня может отрицать добро вчерашнего дня
(«добро - зло - добро'»).
199
Культ отрицания понимается верующим сознанием как
логика дьявола, как установка, реализуя которую индивид
испытывает некий «возвышенный» пафос и, используем сильное
выражение, сатанинский «оргазм» от разрушения цветущих
форм жизни, духа и культуры. Подобная установка сознания
возникает, как правило, в условиях отмирания прежних
устоев жизни. И всегда находятся такие индивиды, которые за
отрицанием особенных форм жизни не видят рождение
новых жизнеспособных форм и поэтому само отрицание делают
самоцелью, своей судьбой, которой их якобы наделили некие
сверхчеловеческие могущественные силы. Такая бесоодержи-
мость была свойственна Л.Д. Троцкому с его «перманентной
революцией». Российские радикальные демократы тоже
оценивают степень свободы масштабом разрушения.
Поскольку противоречие между особенным и всеобщим
интересами сопровождает всю жизнь человека и народов в их
истории, то способ разрешения такого противоречия
является, на наш взгляд, руководством для разрешения
противоречий и в иных областях знания и жизни: разрешение
противоречий между особенными содержаниями возможно на основе
их единого основания. Представим это схематично (рис. 1).
Рис. 1. Разрешение противоречия между особенными содержаниями,
исходя из их единого основания
Итак, отношение к самому себе выражает специфику
диалектической связи и сущность противоречия; оно
служит методом понимания противоречия в единстве его
внешнего и внутреннего уровней и дает ориентир в
разрешении противоречий.
200
Отношение к самому себе и целостность
Рассматриваемое отношение важно для понимания
процессов саморазвития, в частности превращения
системы в целостность. Становление целостности включает две
фазы: 1) превращение внешних условий в органы
функционирования целого и 2) полагание системой предпосылок
своего функционирования. Во втором случае создаются
внутренние предпосылки, адекватные свободному
функционированию системы. Производя предпосылки своего
функционирования, система себя самообусловливает и
является самообоснованной, а значит и саморазвивающейся; она
превращается в гомогенную, лишенную инородных
включений целостность. Формой существования целостности
является существование на собственной основе, - т. е. такой
процесс, продуктами которого являются предпосылки его
возобновления! Например, организм, коллектив с духовной
солидарностью, дух человека и др. Целостность в своей основе
«монистична», а в частях «плюралистична».
Отношение целого к самому себе выражает специфику
целостности - ее самонаправленность и себетождественность
в смене форм и противоречий. Капитал, «исходя из самого
себя, сам создает предпосылки своего сохранения и роста».
Производя предпосылки своего сохранения, целое
совершает круговорот, где «результат выступает как предпосылка»
(К. Маркс). Если в анализ, согласно методу, включить многие
кругообороты, то обнажится следующее: развитие целого на
собственной основе есть развитие самой основы. Многие
кругообороты приведут количественные изменения к качественным
различиям. Поэтому К. Маркс отмечает в процессах капитала
два плана: «сохранение» и «рост», т. е. горизонтальный
(функционирование) и вертикальный (развитие).
Функционирование сохраняет прежние стадиальные меры
целого и частей, оно есть количественный повтор. Вертикаль-
201
ный вектор есть вектор развития самой основы,
устанавливающий новые пропорции между мерой целого и мерами частей,
это - процесс перехода на качественно новый уровень. При
этом кругооборота не происходит: юноша, став взрослым, не
превращается далее в юношу.
Вертикальный вектор может иметь восходящую
(прогрессивную) и нисходящую (регрессивную) направленность.
В первом случае доминирует отношение целого к самому себе,
отношение себетождественности в смене форм; целое
реализует свою «власть» над частями, т. е. согласует через
опосредствованные процессы единичные меры элементов и особенные
меры частей (подсистем) с мерой целого, устанавливает
надлежащую пропорцию мер. Капитал, отмечал К. Маркс, есть
«самоутверждающее начало», он «относится к самому себе» как основа
к обоснованному и есть самообоснованное. «В форме Д -Т -Д'
меновая стоимость становится содержанием и самоцелью. < >
Она претерпевает изменения формы, в процессе которых,
однако, сохраняет себя и поэтому выступает их субъектом».
Такое согласование мер выступает для отдельных частей и
элементов как некоторое отрицание; с позиций целого данный
процесс есть утверждение целого. Но утверждение целого есть
утверждение и его частей. Части и элементы претерпевают
определенное отрицание, чтобы утвердиться как необходимые
моменты целого. Здесь имеется «демократический централизм»:
приведение частей и элементов к мере целого не есть внешнее
отрицание, это отрицание внешнего, инородного для системы,
«отторжение инородной ткани» в частях и элементах и
обретение ими «системного качества».
Состав целого, приведенный к единой мере целого, становится
целосообразным, что поражало И. Канта в живых целостностях.
Так единичные и особенные содержания превращаются в
функциональные органы целого, всем им общего и поэтому всеобщего
отношения. Целосообразность живых систем есть
предпосылка для целесообразности человека. Целесообразность обретает
202
в целях идеальное длжебя-бытие и является как знающая себя
целесообразность. Целеполагание и целеосуществление
необходимо согласовывать с «мерой» целого - общего дела, шире,
общества. Без базисных целей, без «больших проектов»
будущего общество деградирует, ибо находится в бесцельной,
бессмысленной фазе; исчезает вертикаль в развитии основы.
Отношение целого к самому себе делает возможным себе-
тождественностъ целого в смене форм, сообщает внутренней
форме (энтелехии) целого самонаправленность,
«самоустремленность» и является целостнообразующим фактором. Это
отношение блокирует распад целого, распад его
функционального поля на обособленные очаги-доминанты. Как только
отношение целого к самому себе (отношение себетождествен-
ности и целосообразности) начинает разлагаться, то
разлагается и мера целого, затухает развитие на собственной основе.
Возникает «сепаратизм» частей, претендующих на роль целого
и выстраивающих свои собственные «основы». Прогресс
сменяется регрессом: меры частей доминируют над мерой целого,
части утверждают себя за счет целого; имеет место «эгоизм»
частей. Гибнет целое - гибнут и части со своими непомерными
претензиями. Такие претензии и есть болезненное состояние
целого, будь то страна, ее экономика, политика, культура.
В современной России меры «элементов» (отдельных лиц)
и «частей» (регионов) рассогласованы потому, что нет меры
целого, нет базисных, добровольно принятых гражданами
единых целей. Без таких целей невозможны предвидение и оценка
текущих событий, невозможна и дружная кооперация усилий
по горизонтали и вертикали. Россия находится в состоянии
болезни, потери управляемости, усиливающейся деградации
и хаотичности. Внесистемные и скрытые иерархии лиц
устанавливают своемерие и своеволие, разрушая целое.
Необходимо, а это будет сделано потребностью общества,
восстановить должную меру целого, государства, в регуляции
общественного жизненного процесса в России. Ведь государс-
203
тво относится к гражданскому обществу так же, как всеобщее
содержание относится к содержанию особенному. Государство
есть сфера всеобщих интересов, рефлектированных внутрь
себя. Гражданское общество - сфера частных интересов.
Необходим практический синтез всеобщих и особенных интересов.
Метод развития понятия
Метод развития понятия в систематическом виде
разработал Гегель. Гегель сделал гениальное открытие в логике, он
раскрыл всеобщие моменты понятия и в своей «Науке логики»
доказал верность своего открытия, например, в учении о
понятии. К. Маркс на протяжении своего творчества
относился к методу Гегеля конструктивно. Он отмечал в этом методе
«мистифицирующую сторону» и его «рациональное зерно».
Он даже «открыто объявил себя учеником этого великого
мыслителя». «Мистификация, которую претерпела
диалектика в руках Гегеля, - отмечал Маркс в послесловии ко
второму изданию первого тома "Капитала", - отнюдь не помешала
тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и
сознательное изображение ее всеобщих форм движения. У Гегеля
диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы
вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно».
Там же Маркс пояснял, что он понимал под «мистической
оболочкой». «Мистифицирующую сторону гегелевской
диалектики, - сообщал он читателю, - я подверг критике почти
30 лет назад»; т. е. в своей рукописи «Критика гегелевской
диалектики и философии вообще».
В указанном послесловии Маркс сжато излагает свою
критику мистического в методе Гегеля. «Мой
диалектический метод, - писал он, - по своей основе не только отличен
от гегелевского, но является его прямой
противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он превращает
даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть де-
204
миург действительного, которое составляет лишь его
внешнее проявление. У меня же, наоборот, идеальное есть не
что иное, как материальное, пересаженное в человеческую
голову и преобразованное в ней». В том же послесловии
Маркс ссылается на предисловие «К критике политической
экономии», где он, по его выражению, «изложил
материалистическую основу» своего метода.
Отношение к методу Гегеля у Маркса не менялось.
Гегелевскую диалектику он оценивал очень высоко. «Гегелевская
диалектика, - отмечал К. Маркс в письме к Л. Кугельману в
апреле 1868 г., - является основной формой всякой диалектики, но
лишь после освобождения ее от ее мистической формы, а это
как раз и отличает от нее мой метод». Спустя месяц он писал
И. Дицгену: «Когда я сброшу экономическое бремя, я напишу
"Диалектику". Истинные законы диалектики имеются уже у
Гегеля - правда, в мистической форме. Необходимо освободить
их от этой формы».
Однако экономическое бремя Маркс так и не сбросил
и в завершенном виде «Диалектики» не оставил. Но он
оставил литературное наследие, исходя из которого можно
реконструировать замысел «Диалектики». Это наследие
содержит следующие основы, позволяющие восстановить замысел.
Первая из них отражает, как Маркс понимал
«материалистическую основу» диалектики как логики мышления. Ко второй
основе относится знаменитый раздел рукописи «Метод
политической экономии», в котором раскрывается
гносеологический аспект диалектики - отношение познающего мышления
к предмету познания. Третью основу составляет логика метода
развития понятия, а четвертую - центральное для диалектики
отношение целого к самому себе («бытиедлясебя»); это
отношение пронизывает все теоретические работы Маркса начиная
с его докторской диссертации. Первые две основы
общеизвестны, достаточно определенно изложены К. Марксом и не
нуждаются в комментарии. Мы рассмотрим две последние
205
основы - логику метода и отношение целого к самому себе,
которое составляет сущность всякой диалектики и является
диалектикообразующим отношением.
В январе 1859 г., в период интенсивной работы, когда
Маркс намечал общую логику изложения всего материала
к «Капиталу» (три тома), он сообщает Ф. Энгельсу: «Для
метода обработки материала большую услугу оказало мне то,
что я по чистой случайности вновь перелистал "Логику"
Гегеля». Далее Маркс пишет о своем намерении изложить «на
двух или трех печатных листах в доступной здравому
человеческому рассудку форме то рациональное, что есть в методе,
который Гегель открыл, но в то же время и мистифицировал».
Чем же «Логика» Гегеля оказала «большую услугу» в
систематизации материала?
Обратимся к хронологии. Маркс перелистал «Логику»
в конце октября 1857 г. В начале ноября 1857 г. Маркс составил
третий план исследования капитала. В этом плане он
специально подчеркнул саму логику развития категорий: всеобщ-
ностьу особенность и единичность (В - О - Е), вероятно, в связи
с размышлением о «рациональном» в методе Гегеля. Анализ
этой логики отсутствует в марксоведении. Вот этот план.
«Капитал.
I. Всеобщность: 1. А) Становление капитала из денег. Б)
Капитал и труд (опосредствование чужим трудом). С) Элементы
капитала, сгруппированные сообразно их отношению к труду
(продукт, сырье, орудие труда). 2. Обособление капитала: а)
оборотный капитал, основной капитал. Оборот капитала. 3)
Единичность капитала: Капитал и прибыль. Капитал и процент.
Капитал как стоимость, отличающийся от самого себя как
процента и прибыли.
П. Особенность: 1) Накопление капиталов. 2) Конкуренция
капиталов. 3) Концентрация капиталов (количественное
различие капитала как вместе с тем качественное различие, как
мера величины и действия капитала).
206
III. Единичность: 1) Капитал как кредит. 2) Капитал как
акционерный капитал. 3) Капитал как денежный рынок».
Рассмотрим логику развития категорий. На первой
ступени метода («I. Всеобщность») определяется капитал вообще,
его генетически исходная родовая форма. Капитал вообще - не
только «всего лишь абстракция», но и действительное
отношение, та всеобщая форма, которая «присуща каждому
капиталу». Это Маркс подчеркивал со всей определенностью.
Капитал получает особенную функциональную форму
лишь в отношении одного капитала к другому капиталу. По
отношению же к товарному производству капитал выступает
не со стороны особенных конкретных определений, а в виде
простой всеобщей определенности (Д - Т - Д'), отличающей
капиталистически модифицированное товарное производство
от товарного производства. Всеобщее определение предмета
выявляется тогда, когда предмет данного рода берется не в
отношении к предметам того же рода, а в отношении к
генетически предшествующему роду. Для выяснения общей специфики
капитала не следует привлекать другие капиталы, иначе будет
определен не капитал вообш,е, а та или иная его особенная
форма, его виду а не род. Также не следует определять человека
указанием на мужчину и женщину, а материю - путем
перечисления ее особенных состояний, будь то вещество, поле, плазма.
Сначала необходимо обратиться к генетически
предшествующей экономической форме, товарному производству
и проследить его развитие в ту особенную форму, которая
выходит за рамки товарного производства и составляет
отличительную особенность и всеобщее определение вышестоящего
рода - капитала. Исторический подход, точка зрения развития
выступает с самого начала принципом познания.
В раскрытие понятия капитала вообще многие особенные
капиталы непосредственно не включаются. Оборот капитала
Маркс рассматривает в тех моментах, которые следуют «из
простого понятия капитала, рассматриваемого в общем виде».
207
«Мы рассматриваем капитал вообще. < > Но мы не имеем еще
здесь дела с какой-нибудь особой формой капитала, ни с
отдельным капиталом, отличающимся от других отдельных
капиталов». Исследуется только качественная особенность капитала.
«Наличие многих капиталов, - настойчиво подчеркивает он
эту важную методологическую закономерность, - не должно
здесь нарушать рассмотрения предмета, наоборот, отношение
многих капиталов выясняется после».
На второй ступени метода («П. Особенность») Маркс
переходит от капитала вообще к «особенным капиталам» путем
включения в анализ многих капиталов* а значит, и конкретных
отношений* возникающих между ними. Эти отношения
сообщают капиталам особенные функциональные формы. Маркс отмечает
важность включения в анализ количественной стороны - многих
капиталов. «Это существенный аспект < > как отличается
рассмотрение капитала как такового от рассмотрения капитала в его
отношении к другому капиталу, или от рассмотрения капитала
в его реальности». Особенные определения возникают лишь при
рассмотрении многих различных представителей одного рода.
На первой ступени метода капитал брался «в себе» - вне
отношений к другим капиталам. Поэтому его существенные
определения еще не получили внешнего проявления. На
второй ступени Маркс рассматривает, как через взаимную связь
отдельных капиталов существенные определения капитала,
будучи в свернутом виде, перемещаются в поле внешних
отношений, отделяются друг от друга и распределяются за разными
отдельными капиталами как их функции. Те моменты, которые
«при рассмотрении капитала соответственно его общему
понятию содержались в нем в неразвитом виде, приобретают
теперь самостоятельную реальность и проявляются только
тогда, когда капитал выступает реально в виде многих
капиталов». Примерно то же происходит и с человеческой природой,
когда она в актах общения объективируется и в своей полноте
представляется многими индивидами.
208
Система отношений между отдельными многими
капиталами есть сущность капитала, развернуто представленная
в мире явлений капиталов друг другу. Капитал теперь берется
не в «в себе», а в плане «бытиядлядругого», в аспекте явлений
капиталов друг другу; т. е. от производства капитала Маркс
переходит к обращению капитала, от его «внутренней жизни»
к его «внешним отношениям жизни», где противостоят друг
другу «капитал и капитал».
На третьей ступени метода («III. Единичность») многие
отдельные капиталы воссоздаются как органы одного,
совокупного капитала. Основополагающим здесь является следующее:
за отношением одного капитала к другому капиталу Маркс
вскрывает отношение капитала к самому себе как целому. Это
отношение противоречиво по существу. Поскольку одному
капиталу противостоит другой капитал, то конкуренция выступает
для отдельного капитала как внешняя необходимость,
принудительно ограничивающая свободу его функционирования. Но
поскольку одному капиталу противостоит другой капитал, то
«конкуренция представляет собой отношение капитала к
самому себе как к другому капиталу» и выступает как
«самоопределение» капитала; она приводит в исполнение «внутренние
законы капитала» в форме внешней необходимости для
отдельных капиталов. Кажется, противоречия здесь нет, так как
вступает в действие логика «в разных отношениях», к которой
прибегал И.С. Нарский: конкуренция есть свобода для
функционирования отдельного капитала, поскольку он - капитал,
но она есть несвобода, поскольку он - отдельный и особенный
капитал. Но отдельный капитал есть одновременно и то, и другое.
Он есть отдельный капитал, единство особенной
функциональной формы и всеобщей природы. Поэтому противоположные
отношения замыкаются в одном пункте, превращая отдельный
капитал в противоречие. Этот основной момент в понимании
противоречия - соединение противоположностей в одной
основе - упускает рассудочная логика «в разных отношениях».
209
Заключенное в отдельном капитале противоречие между
особенной формой и всеобщей природой отдельных капиталов
порождает раздвоение всего совокупного капитала на особенные
капиталы и на всеобщий по значению капитал, который
накапливается в банках. Такое различное представительство (особенное
и всеобщее) происходит в любом общем деле, будь то
университет, армия, завод или государство. В университете
преподаватель менее причастен к всеобщему уровню, заведующий
кафедрой - в большей мере, декан - еще больше, ректор есть всеобщее
по своим функциям лицо. Между тем все они могут находиться
рядом, и внешний наблюдатель будет воспринимать их как
частные лица, не различая их должностного ранга.
В форме кредита «весь капитал выступает по отношению
к отдельным капиталам как всеобщий элемент». Капитал во
всеобщей форме существует теперь отдельно, рядом с
генетически предшествующими формами капитала; подобно тому
как глава государства и вся вертикаль власти представлены
персонифицированно наряду с рядовыми гражданами.
Скрытое в отдельных капиталах противоречие между
особенной функциональной формой и всеобщей природой
проявилось наружу и разрешилось тем, что воспроизвелось в масштабах
всего общества! Это раздвоение подобно поляризации меновой
стоимости на особенную форму (товар) и на всеобщую форму
(деньги), на жителя города и главу городской администрации.
Так как один капитал относится к другому сразу двояко -
и как к другому капиталу, и как к капиталу, то отношения
между капиталами распадаются на внешние (отношение к другому)
и на внутренние (отношение капитала к самому себе).
Внутреннее движение капитала как его «отношение к самому себе»,
замечает Маркс, противостоит «его телесному движению, его
бытиюдлядругого». Это «двоякое полагание, - продолжает
Маркс, - отношение к самому себе как к чему-то чужому
< > становится чертовски реальным», когда капитал одной
нации для увеличения его стоимости отдается «взаймы другой
210
нации»; тем самым капитал создает предпосылки своего
роста, т. е. воспроизводит себя не как стоимость только, но как
самовозрастающую стоимость. Ведь капитал отдается «взаймы»
обязательно под процент, для самовозрастания. Банковский
капитал относится к промышленному капиталу так же, как,
например, глава государства относится к отдельному
гражданину. Первый реализует всеобщую политическую волю всех
граждан, а второй - свою частную волю. Причем, такое
отношение тоже распадается на «внешние» (личные отношения на
охоте и т. п.) и на «внутренние», субстанциальные (в аспекте
гражданских прав и обязанностей). Капитал, относясь к себе
двояко (как к капиталу и как к другому особенному капиталу),
распадается на внутренние и внешние отношения.
На третьей ступени метода Маркс изображает единство
этих отношений в тех формах, которые возникают из
движения капитала как «целого». Иными словами, от обращения
капитала Маркс переходит к изображению капитала в единстве
его производства и обращения, к единству сущности и
явления капитала в сфере действительности, т. е. «длясебя-бытию»
совокупного капитала. Движение мысли от простого единства
свернутых определений капитала к анализу его
обособившихся частей сменяется установкой на целостное воспроизведение
капитала, каким он выступает в действительности. Или,
иначе, по схеме: «капитал вообще -» многие особенные капиталы-»
капитал как целостность, соотносящаяся сам с собой».
Отмеченную выше логику плана Маркс сжато изложил
в письме к Ф. Энгельсу: «а) капитал вообще < > б) конкуренция
или действие многих капиталов друг на друга, в) Кредит, где
весь капитал выступает по отношению к отдельным
капиталам как всеобщий элемент, d. Акционерный капитал, как самая
совершенная форма (подводящая к коммунизму) вместе со
всеми его противоречиями».
Схема В - О - Е составляет общую логику метода, причем
«единичность» понимается не как «неповторимые черты», как
211
это нередко трактуется, но как «конкретно-всеобщее»,
которое соотносится само с собой, с собственными
следствиями-результатами, положенными им же самим в процессе
функционирования, а не с чем-то внешним. Например, в своем плане
(пункт I) Маркс намечает «Единичность капитала: Капитал
и прибыль. Капитал и процент. Капитал как стоимость*
отличающийся от самого себя как процента и прибыли». Здесь
капитал понимается как соотносящаяся сама с собой
определенность* которая производит свои следствия как предпосылки
своего функционирования. Точно так же единичность
предстает в п. III как капитал, который соотносится сам с собой, но
уже на более высоком уровне, как финансовый капитал в
международном масштабе («1) Капитал как кредит. 2) Капитал как
акционерный капитал. 3) Капитал как денежный рынок»).
Исходная же всеобщность Д - Т - Д* является более
конкретной лишь по отношению к товарному производству, но
абстрактной по отношению к дальнейшим определениям
капитала.
Таким образом, следует различать единичность как
чувственную конкретность («это», воспринятое «здесь» и «теперь»),
данную в живом созерцании, и единичность как мысленную
конкретность, синтез особенных определений в целостность,
завершающий результат исследования.
Как следует из анализа, Марксов метод развития
категорий включает три взаимосвязанных звена:
1) «всеобщее- особенное- единичное» (под единичным
понимается конкретная всеобщность);
2) «род как нерасчлененное одно - многие единицы
внутри рода - род как конкретное целое»;
3) «целое само по себе - отношение одной части к
другой - отношение целого к самому себе».
Первое звено составляет общую логику восхождения
от абстрактного к конкретному, второе и третье звенья
представляют соответственно внешнюю (количественную)
212
и внутреннюю (сущностную) формы восхождения, они
конкретизируют первое звено. Элементы трех звеньев находятся
в отношении взаимного соответствия. Восхождению от
всеобщих определений к особенным и к их синтезу в
мысленную конкретность («единичность») соответствует переход от
родовой характеристики предметной области к
отношениям между единицами внутри рода и к роду как целостности,
единству определений; со стороны внутренней формы -
движение от целого самого по себе («бытиевсебе») к отношению
одной части к другой («бытиедлядругого») и к отношению
целого к самому себе («бытиедлясебя»). В.И. Ленин
отмечал «крайнюю правильность и меткость» терминов «всебе»
и «длясебя». Эти отношения взаимного соответствия можно
представить в виде схемы (рис. 2).
Всеобщность —— Особенность Единичность
Род Многие единицы рода Род как целостность
Целое в себе Отношение к другому Отношение к самому себе
1 Рис. 2
На первой ступени метода воссоздается простая и
всеобщая определенность того или иного рода предметов
путем сопоставления с генетически предшествующим родом.
«Родовидовое отношение, - отмечает С.Н. Мареев, - здесь
не просто формальное отношение, а отношение реального
генезиса, и род здесь не только этимологически и
формально, но по существу, "по природе" является родом, тем, что
действительно рождает». Так, из товарного производства
рождается капиталистическое товарное производство. При
этом единицы данного рода в анализ не включаются. Эту
закономерность ясно понимал Б. Спиноза. Понятие, писал он,
раскрывает «природу определяемой вещи» без
«определенного числа отдельных вещей».
213
Поскольку на первой ступени происходит отвлечение от
отдельных предметов данного рода, а значит, и от отношений
между ними, то определение целого представлено пока в
свернутом виде. Чтобы его развернуть, в анализ включаются многие
предметы данного рода и отношения между ними. Тем самым
исходное целое теряет свою простоту и неподвижность и
превращается в «текучий» процесс опосредствования. «Все
твердые предпосылки, - замечает Маркс по этому поводу, - сами
становятся текучими в ходе дальнейшего анализа». За
отношениями между частями скрывается отношение целого к самому
себе. Взаимодействие частей реализует внутренний процесс,
в котором целое делается собственной частью,
противополагается себе и вступает в противоречие с собой.
На третьей ступени анализ отношения целого к самому
себе завершает развитие понятия о целом, так как названное
противоречие порождает новую свою, особенную, форму,
выходящую за рамки данного рода явлений. Так, приведенный
выше план Маркса завершается кредитом, акционерным
капиталом, которые сообщают капиталу форму
общественного капитала; они упраздняют капитал как частную
собственность в рамках самого капиталистического производства. Это,
замечает Маркс, - результат «высшего развития» капитала
и необходимый переходный пункт в превращении капитала
в непосредственную общественную собственность. Ныне
финансовый капитал подчинил себе производительную
(физическую - Ларуш) экономику, Федеральная резервная система
США напечатала столько долларовых купюр, что только 5%
из них обеспечена товарной массой, а вся капиталистическая
экономика пребывает в полукоматозном состоянии.
Новая реальная форма (категория) воссоздается в
понятии тем же методом. Например, Маркс в упомянутом плане
членит всеобщность на всеобщее, особенное и единичное. Под
единичностью он намеревается рассмотреть капитал, который
соотносится с собой, - «капитал и прибыль», «капитал и про-
214
цент», «капитал как стоимость, отличающийся от самого себя
как процента и прибыли». Каждый новый виток логической
спирали В - О - Е конкретизирует понятие, и оно
расширяется в систему.
Разумеется, развитие понятий выражает развитие самих
предметных форм. Высмеивая манеру А. Вагнера выводить
экономические формы из понятий, Маркс замечает: «Прежде
всего, я исхожу не из "понятия". ...Не я подразделяю стоимость
на потребительную и меновую стоимость, ... на которые
распадается абстракция "стоимости", а конкретная общественная
форма труда, "товар" есть с одной стороны потребительная
стоимость, а с другой стороны - "стоимость"».
Для раскрытия всей важности третьего звена метода
возьмем один из самых трудных моментов в выведении
логических категорий - выведение категории количества из категории
качества. Гегель осуществляет переход от качества к
количеству путем категории «длясебя-бытия как отношения с самим
собой». Эта дедукция, сделанная Гегелем, осталась непонятой
в отечественной философии. У Гегеля, отмечал В.И. Ленин,
переход от качества к количеству темен («темна вода»). Совсем
неудовлетворительны попытки определять количество через
его особенные формы (величину)! Получается круг в
определении - ведь величина есть определенное количество. Между
тем так и определяют количество.
Правильно определить количество вообще можно лишь
выведением его из категории качества. От качества вообще
последовательное движение мысли состоит во включении в
анализ многих качеств, а значит, и отношений между ними
(граница и др.). От качества вообще мысль переходит к отношению
одного качества к другому качеству. Здесь возникает проблема:
ограничиться ли отношением к другому или завершить анализ
отношением качества к самому себе.
Остановка на отношении к другому рождает регресс
в бесконечность: одно качество ограничено другим, а дру-
215
roe - иным другим и так до «дурной» бесконечности. Ведь
возникновение бесконечного ряда сигнализирует о том, что
мышление впало в односторонность: за отношением к
другому оно упустило отношение качества к самому себе, за особенной
стороной качеств - их всеобщий момент. Ибо, рассматривая
отношение одного качества к другому, мы обращаем внимание
на особенное (одно, другое). Особенное же, именно потому,
что оно особенное, ограничено другим особенным. И
вращение мысли лишь в сфере особенного неизбежно порождает
регресс в бесконечность.
Но особенное едино с всеобщим. Отношение одного
качества к другому качеству есть в итоге отношение качества
к самому себе. Соотнесенное с собой качество теряет свою
особенность, будь то вес, протяженность, длительность и т. д.
Обнажается всеобщий аспект качества. Качество теперь предстает
как нечто совершенно однородное. Однородное качество есть
противоречие в определении. Это уже не качество, а
количество вообще. Предпосылкой «всего лишь количественного
различия вещей», отмечал Маркс, является «одинаковость их
качества», качественная тождественность, однородность.
Как же возникает однородное качество? Оно возникает
всякий раз вполне предметно в процедуре измерения, где
измеряемым и измеряющим является одно и то же качество! Вес
меряется весом и т. д. Соотнося в измерении качество с ним же
самим, мы тем самым гасим специфику качества (веса, твердости,
яркости, стоимости, пространства, времени и т. д.) и обнажаем
его всеобщий момент, присущий любому качеству.
Предмет, выступающий мерой, превращается в единицу,
а измеряемые предметы - в численность этой единицы. Из
самой численности теперь невозможно узнать специфику
качества. При всякой мере, подчеркивает Маркс, природа меры
«становится безразличной и исчезает в самом акте сравнения;
единица-мера становится просто числовой единицей;
качество этой единицы исчезло - то, например, что сама она есть
216
определенная величина длины или времени или градус утла
и т. д. Но лишь тогда, когда различные вещи уже
предполагаются как измеренные, единица, служащая мерой, обозначает
только пропорцию между ними».
Соотнесенное с собой качество превратилось в нечто
совершенно однородное - в количество вообще. Гегель пишет:
«Количество есть некоторое качество, соотносящаяся с собой
определенность < > качество явило себя переходящим в
количество». Так что у Гегеля все верно, Неверно мудрить с
генезисом количественных определений, привлекая теорию
множеств! Эта теория уже предполагает образование не только
количества, но и числового ряда, который рождался всякий
раз в практике измерения в далекой древности.
Отношение к самому себе - главный момент в переходе от
качества к количеству, и без этого отношения такой переход не
осуществим вообще. За отношением одного качества к другому
раскрыто отношение качества к самому себе. Поэтому регресс
в бесконечность не возникает.
От количества вообще последовательное развитие мысли
состоит во включении в анализ особенных количеств (величин),
а значит, и конкретных отношений между ними, что и делает
Гегель в «Науке логики». Качество представляло собой
единичный момент, а количество - всеобщий. Второе было отрицанием
первого. Путем этого отрицания было получено новое
определение - количество. Теперь следует снять это отрицание,
чтобы восстановить единство единичного и всеобщего. Для этого
нужна третья категория - мера. Восхождение от качества к
количеству и к мере можно представить схематично: Е - В - О.
От категории меры вообще развитие мысли состоит во
введении количественного аспекта - многих отдельных мер, а
значит, и отношений между ними, одной меры к другой. Из таких
отношений возникает «узловая линия» мер. Эта линия может
показаться бесконечной, если за отношением одной меры к
другой не обнаружить более глубинного отношения - отношения
217
субстрата сущности к самому себе. Многие особенные меры, по
Гегелю, оказываются лишь «состояниями» единого субстрата
сущности, который сохраняет себя «в смене своих мер». Так,
К. Маркс за многообразными формами капитала вскрывает
их единую субстанцию - общественно необходимый труд, за
качественно различными формациями общества - их
технологическую основу и конкретное экономическое основание
(отношения собственности на средства производства).
Соотношения категорий всеобщего, особенного и
единичного составляют фундамент восхождения мысли от
абстрактного содержания к конкретному.
Под рациональным в методе Гегеля Маркс, вероятно,
подразумевал, в частности, соотношение именно этих категорий.
То, что эти категории есть всеобщие формы развития понятия,
Гегель действительно доказал, и Маркс целиком был согласен
с Гегелем в данном пункте, сравнивая свое открытие
относительной и эквивалентной форм стоимости с гегелевским
открытием всеобщей формы развития понятий. Более того,
Маркс упрекал логиков по профессии за то, что они упустили
в своих исследованиях взаимную связь этих форм. «Стоит ли
удивляться тому, - писал он в первом издании "Капитала", -
что экономисты, всецело поглощенные вещественной
стороной дела, проглядели формальный состав относительного
выражения стоимости, если профессиональные логики до Гегеля
упускали из виду формальный состав фигур суждений и
умозаключений». Формальный состав заключается в связке
В - О - Е.
И Гегель, и Фейербах, и Маркс отмечали, что всеобщее,
особенное и единичное суть «категории всех категорий». Все
фигуры силлогизма - лишь разные комбинации всеобщего
(В), особенного (О) и единичного (Е). Все категории в «Науке
логики» выводятся на основе отношения В - О - Е.
Определение понятия тоже строится через род и видовое отличие
(Е = В + О).
218
Почему же эти категории являются базисными для
логического мышления? Вероятно, потому, что связь «всеобщее -
особенное - единичное» есть логическое выражение
абсолютной для нас, людей, социальной связи; с детства и на протяжении
всей жизни мы связываем свое Я (Е) с ближайшей общностью
(О) и с более общей (В). Что сказал бы старик Гегель,
восклицает Маркс, если бы узнал на том свете, что «общее»
означает у германцев и у скандинавских народов общинную землю,
а «частное» - выделившуюся из этой земли частную
собственность. «Выходит, что логические категории прямо
вытекают из наших отношений». Категориальные формы, отмечала
Л.М. Косарева, будучи по генезису формами социальных
отношений, наполняются природным содержанием настолько,
что социальный генезис этих форм утопает в натуральном
теле физического закона.
«Мистическая форма» гегелевской диалектики
заключается в том, что Гегель, пишет Маркс, впал в иллюзию,
«понимая реальное как результат себя в себе синтезирующего, в себя
углубляющегося и из самого ^ебя развивающегося мышления,
между тем как метод восхождения от абстрактного к
конкретному есть лишь тот способ, при помощи которого мышление
усваивает себе конкретное, воспроизводит его как духовно
конкретное. Однако это ни в коем случае не есть процесс
возникновения самого конкретного» в самой действительности.
Мысленная конкретность, целостность, продолжает Маркс,
есть «продукт мышления, понимания, результат
«переработки созерцания и представления в понятия», но это «ни в коем
случае не продукт понятия, порождающего само себя и
размышляющего вне созерцания и представления (выделено нами. -
С. Г.)». Предмет мышления «все время остается вне головы,
существуя во всей своей самостоятельности, пока голова
относится к нему лишь умозрительно, лишь теоретически».
Предмет «должен постоянно витать перед нашим представлением
как предпосылка».
219
Итак, мысленная конкретность есть результат
«переработки созерцаний и представлений в понятия». И способом такой
переработки является связь В - О - Е, содержащая разумное,
а не рассудочное отношение; это - синтез
противоположностей, возвращение к исходному пункту на расширенной основе
(от абстрактно-всеобщего к конкретно-всеобщему),
преемственность, отрицание отрицания и снятие.
Из логики метода следуют два важных вывода. Во-первых, три
ступени метода адекватно выражают диалектическое отношение,
которое включает в себя противоречие в рамках одной основы,
отрицание отрицания и снятие. Такая адекватность выражена
в каждой категориальной завершенной схеме: «качество -
количество- мера»; «основа- обоснованное- самообоснованное»;
«сущность - явление - действительность» и т. д. Триадичны и
категориальные схемы в «Капитале». Л. Сэв прибегает к триадич-
ности категорий: «деятельность - потребность - деятельность
(Д - П - Д)». Там, где речь идет «о выведении при помощи
диалектики какой-либо новой категории», отмечал К. Маркс, следует
помнить, что «сосуществование двух взаимно-противоречащих
сторон, их борьба и их слияние в новую категорию составляет
сущность диалектического движения».
Триадичность - «не формальный привесок к закону
отрицания отрицания, а выражение самой его сути»,
«возникновения и снятия противоречий». Традиционное же изложение
категорий в виде рассудочной «парности» не позволяет
выразить отрицание отрицания и снятие, присущие процессу
саморазвития; фиксирует статику, а не движение
противоположностей к синтезу в третьей, итоговой и самой содержательной
категории. При этом за отношением к другому упускается
главное - отношение целого к самому себе; например, в
анализе связи «основа - обоснованное» - самообоснованное».
Так же односторонне толковалась связь «базис - надстройка».
У Гегеля эти категории получают истинное содержание лишь
в триаде «основа (В) - обоснованное (О) - самообоснованное
220
(Е)». Ведь основа в обоснованном развертывает свое
содержание и сливается с ним, углубляясь в себя.
Во-вторых, при содержательном понимании категорий за
формальным повторением скрывается самообоснование.
Например, за повторением причины «... - причина - действие -
причина - ...» скрывается возвращение причинности к себе самой.
Тем самым понимание причинности доводится до
самопричинности, до causa sut. При формальном же понимании
категориального ряда кажется, что его можно начать не только с
качества, но и с количества и т. д. Признавая важность отрицания
отрицания для логической последовательности, В. А. Глядков
утверждает: «Вопрос о том, что считать первым, что вторым <
> лишен смысла». По его мнению, невозможно установить, что
считать началом во взаимоотношении сущности и явления,
количества и качества, меновой стоимости и потребительной
стоимости и т. д.
Утверждение о произвольности начала именно при
логической последовательности неверно. Невозможно логически
вывести из покоя движение, из количества- качество.
Меновая стоимость все-таки производна от потребительной.
Маркс за формально разными последовательностями Т - Д - Т
и Д - Т - Д' раскрывает экономически различное содержание.
Размышляя о методе, Маркс отмечал две стадии в
познании. Первая - восхождение мысли от чувственно-конкретного,
данного в живом созерцании, к «простейшим определениям»;
т. е. эмпирическая стадия переработки созерцаний и
представлений в понятия, односторонние определения. Чувственно-
конкретное разлагается на множество абстрактно-всеобщих
определений. Как только отдельные моменты целого
абстрагированы, возникает потребность в систематическом
воспроизведении целого как «мысленной целостности, мысленной
конкретности». Это вторая, теоретическая, стадия.
Изложенный выше метод играет решающую роль на второй,
теоретической стадии. Достоинство метода заключается в том, что
221
он дает стратегию в воссоздании целого, не отвлекая мысль
на второстепенные детали. Но это достоинство есть и его
ограниченность в том смысле, что он не исчерпывает целиком
методологический арсенал теоретика и не заменяет собой ни
общенаучные (идеализация, формализация, моделирование
и др.), ни частнонаучные методы.
Разум - высший уровень мышления, в рамках которого
соотношение
В - О - Е существует «для - себя». Разум есть рефлектиро-
ванное в себя и знающее само себя соотношение В - О - Е. Поэтому
разум всегда исходит из Целого, из всеобщего, из Идеи,
чтобы из свернутого всеобщего развернуть богатство особенных
частей и синтезировать их в единичную целостность.
Поскольку в самой реальности (природной и социальной) в той или
иной мере содержатся на определенное время гармония между
единичным, особенным и всеобщим, то есть все основания
утверждать о том, что разум не инороден Универсуму, что он
пребывает в нем, например, в живом организме, где все члены
дружно кооперируют свои усилия согласно мере целого; что
разум всегда был в истории, хотя не всегда в разумной форме
(К. Маркс). Единение В - О - Е есть тот эталон, в
«окрестностях» которого, выражаясь языком математики, колеблются все
образования, сотворенные бессознательно природой или
созданные разумными существами.
Единение В - О - Е дарует гармонию в жизни целого, будь то
живой организм, семья, коллектив, государство или общность
народа. Такая сущностная гармония, пульсирующая в
согласованности элементов, частей и целого, являет себя мышлению
как подлинная истина, нравственному чувству - как добро, а
эстетическому созерцанию как нечто прекрасное. Соотношения
категорий разумного мышления (В - О - Е) суть высшая
алгебра в понимании содержания всякого опыта и всеобщая схема
синтеза данных из области физики и биологии, социологии и
психологии и т. д. Схема В - О - Е есть доступный обозрению,
222
законченный шаг в отождествлении различного, в синтезе
многообразного; в этой схеме заключены, как в Святой Троице, все
диалектические соотношения - единство
противоположностей, отрицание отрицания, снятие, все фигуры умозаключения
и др. Более того, версия Гегеля о гармонии В - О - Е есть,
возможно, ничто иное, как логическое выражение образа Святой
Троицы, в которой каждая ипостась нераздельна, но и несли-
янна. Ведь Гегель окончил теологический факультет.
Все предшествующие триады категорий есть лишь
частные случаи этих трех категорий, которые образуют духовный
органон категориального мышления (В - О - Е), тот способ,
каким мыслящая голова уясняет себе конкретное как
мысленно конкретное. Так, движение мысли от установления
качества к установлению количества и меры есть восхождение от
единичного (качество) ко всеобщему (количество) и
особенному (мера): Е.- В - О. Движение мысли от сущности к миру
явлений этой сущности и к действительности есть движение
от всеобщего (сущность) к особенному (мир явлений) и к
единичной целостности (действительность) (В - О - Е).
Для понимания «Науки логики» не следует упускать то,
что Гегель сначала раскрывает в «Феноменологии духа»
формации сознания (сознание, самосознание, разум,), а затем эти же
формации ставит в определенную последовательность как
логические категории (учение о бытии, учение о сущности, учение о
понятии). Тем самым последовательность логических категорий
(форм мышления) получает достаточное обоснование.
И.А. Ильин так выразил последовательность развития
форм мышления и мысленного воссоздания предмета,
которая (последовательность) содержится в «Науке логики»
Гегеля: бытие качества в количестве находит свою меру; сущность
мерного бытия проявляется в действительности и выражается
в понятии; понятие восходит от неопределенной всеобщности к
конкретным особенным мыслеопределениям и синтезирует их
в единую мысленную целостность, в единичность как конкрет-
223
ную всеобщность. Единение В - О - Е есть эталон для
понимания намеков на такое единение и в иных областях, будь то
живая природа или социальная реальность.
Сделаем вывод. Отношение целого к самому себе
является диалектикообразующим. Оно логически выражает остов
самосознания и социальную связь в ее человеческой форме;
ориентирует на глубинное понимание противоречия,
целостности и субъектности, а также на верный путь развития
категориального мышления. Это глубинное соотношение
конкретизируется связкой В - О - Е: категории всеобщего,
особенного и единичного суть опорные пункты в развитии
понятия в знаменитом методе восхождения мысли от
абстрактного к конкретному.
К. Маркс в «Диалектике» намеревался, по всей
вероятности, изложить «рациональное» в методе Гегеля в виде метода
восхождения от абстрактного содержания к конкретному; тем
более, что набросок о методе политической экономии он уже
набросал вчерне для последующей обработки в объеме «двух-
трех печатных листов».
А.Д. Майданский
Два метода, две версии диалектики:
«Феноменология духа» против «Науки логики»
Разговоры о противоречии между методом и системой
Гегеля давно уже стали общим местом. Криминальная повесть о
том, как «система душит метод» (а на соседней странице
идеализм насилует диалектику) входила в обязательную программу
любого марксистского учебника философии. Меж тем система
есть не что иное, как осуществившийся метод. Каков метод,
такова и система. Если уж гегелевская система представляется
вам консервативной, а то и реакционной, первопричину
ищите в методе ее построения. Cherchez la méthode, так сказать.
224
Называя «Феноменологию духа» подлинным истоком и
тайной гегелевской философии, Маркс, вероятно, имел в виду,
что здесь мы воочию наблюдаем рождение на свет
диалектического метода, еще не закованного Гегелем в стальные латы
триад. При этом по умолчанию предполагается, что сам метод
остается, по сути своей, тем же самым на всем протяжении
построения системы. Мы увидим, однако, что дело обстоит не
так или, во всяком случае, не совсем так:
«феноменологическая» диалектика существенным образом - структурно и
предметно - отличается от диалектики «спекулятивной».
I
Общее представление о методе «Феноменологии» дается
Гегелем уже в первых строках Предисловия, где построение
«философской системы», и «прогрессирующее развитие истины»
вообще, уподобляется жизни растения. Истина есть древо мысли,
органическое целое, с необходимостью проходящее в процессе
своего становления ряд последовательно сменяющихся фаз, или
формообразований (Gestaltungen, «гештальтов»).
«Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было
бы сказать, что она опровергается цветком; точно так же при
появлении плода цветок признается ложным наличным
бытием растения, а в качестве его истины вместо цветка
выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, но и
вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая
природа делает их в то же время моментами органического
единства, в котором они не только не противоречат друг другу,
но один так же необходим, как и другой; и только эта
одинаковая необходимость и составляет жизнь целого»1.
Чуть ниже Гегель проводит еще одну органическую
аналогию, иллюстрирующую момент перехода от одной фазы
развития к другой, - рождение ребенка, когда с первым глотком воз-
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 9.
225
духа обрывается прежняя форма жизни и, «словно вспышкой
молнии, озаряется картина нового мира».
Феноменологический метод прослеживает генезис
человеческого сознания с момента чувственного восприятия «это
есть» до «абсолютного понятия». Такая дедукция может быть
названа генетической, или конкретно-исторической. В основе
ее лежит «простое понятие» о субстанции и субъекте
процесса формообразования органического целого. Для Гегеля таким
субстанциальным субъектом является Мировой дух (Weltgeist).
У духа имеется простая внутренняя структура, своего рода
«геном», в котором записана программа его развития. Конкретное
же историческое осуществление этой природы духа зависит,
кроме нее самой, еще и от особенностей материала,
используемого духом для реализации своей генетической матрицы.
Гегель не-торопится выставить генетику духа на
обозрение читателя. Вместо этого он неспешно, поочередно
переходит от одного «простого момента» духа к другому, и лишь в
разделе VII «Религия» перед нами наконец открывается
картина в целом. Логический «скелет» духа включает в себя четыре
простых элемента:
«Эти моменты суть сознание, самосознание, разум и дух, - дух
именно как непосредственный дух, который еще не есть
сознание духа. Их совокупная целостность {zusammengefaßte Totalität)
составляет дух в его мирском наличном бытии вообще»1.
Перед нами - тетрада элементарных форм, образующих
субстанцию духа. История духовной культуры представляет
собой, по Гегелю, поочередное «полагание» четырех этих
моментов в стихии человеческой деятельности и в формируемом
ею предметном мире. Точно так же, как генетикам история
живого существа представляется полаганием наследственной
программы в жизнедеятельности и морфологии этого
существа: хранящийся в ДНК геном индивида «опредмечивается» -
облекает себя в живую плоть и разворачивается во времени.
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 346.
226
Практически то же самое происходит с духом: четыре
простых момента, или атрибута, его субстанции поочередно
обретают наличное бытие в пространстве-времени
человеческой истории. Цель исторического развития духа заключается
в том, чтобы сообщить каждому из них форму «в себе и для
себя бытия». Подобно всему живому дух стремится как можно
полнее запечатлеть свой идеальный «геном» в материале
внешней природы, развить все формы, которые только способна
принять его субстанция. Один за другим, в строгой
очередности, моменты субстанции духа выступают на поверхность
мировой истории и обрастают живой плотью феноменов.
Биологическим эквивалентом этого процесса «отрешения вовне»,
«овнешнения» (Entäußerung) субстанции является экспрессия
генову в ходе которой наследственная информация реализуется
в молекулах белка или РНК.
Осуществляющийся в ту или иную историческую эпоху
момент делается полномочным представителем субстанции
как целого: три остальных момента на время скрываются в его
тени. Вокруг доминирующего момента выстраивается целая
духовная формация - «некая галерея образов» (eine Galerie
von Bildern), в которые дух отливает свою субстанцию.
«А именно, каждый такой момент, как мы видели, в свою
очередь, в самом себе принимает в собственном
последовательном течении различные и разнообразные формы, как,
например, в сознании различались чувственная достоверность и
восприятие. Это последние стороны расходятся по времени и
принадлежат некоторому особенному целому»1.
В итоге каждый из четырех простых моментов духа
оставляет в истории свой «оформленный отпечаток» (gestalteter
Abdruck). В ходе образования индивид усваивает, вбирает в себя
духовное содержание этих внешних форм, тем самым
превращая себя в «посредника - служителя» (vermittelnder Diener),
в медиума, руками и головой которого пользуется для своих
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. С. 346.
227
высших целей Мировой дух. Образование индивида есть его
отрешение от самости1 в пользу субстанции, акт самоотдачи Я
в распоряжение Мирового духа.
В форме религии завершается осуществление всех
четырех моментов субстанции и, тем самым, достигается их,
покамест всего лишь абстрактное, единство - «простая
целостность» (einfache Totalität) духа.
«Если поэтому религия есть завершение духа, в которое
отдельные моменты его - сознание, самосознание, разум и дух
- возвращаются и вернулись как в свою основу, то в
совокупности они составляют налично сущую действительность духа в
целом, который только и есть как различающее и
возвращающееся в себя движение этих его сторон...
В рассмотренной последовательности каждый момент,
углубляясь в себя, складывался в некоторое целое по
свойственному ему принципу; и познавание было той глубиной
или тем духом, в котором эти моменты, для себя не имевшие
устойчивого существования, получали свою субстанцию. Но
теперь эта субстанция выступила; она есть глубина духа,
достоверно знающего себя самого, глубина, которая не
позволяет отдельному принципу изолироваться и сделаться целым
внутри себя самого, а собирая и удерживая вместе внутри
себя все эти моменты, она продвигается в этом совокупном
богатстве своего действительного духа, и все его отдельные
моменты сообща принимают и получают одинаковую
определенность целого внутри себя»2.
Следующая задача духа заключается в том, чтобы
превратить эту абстрактную, простую целостность в конкретную - в
то высшее единство многообразия, каковым в мире познания
оказывается наука. Достигая своего понятия в «эфире» науки,
1 «Сила индивида состоит в том, что он сообразовывается с ней
субстанцией духа>, т. е. что он отрешается от своей самости (es sich seines
Selbsts entäußert), стало быть, полагает себя как предметную сущую
субстанцию» (там же. С. 365).
2 Там же. С. 346-347.
228
дух оканчивает свою историю и «завершает себя как Мировой
дух» (als Weltgeist sich vollendet).
Итак, кратко суммируем наши наблюдения.
1. Феноменологическая дедукция строится по органической
модели, реконструирует историю духа по типу развития живых
существ (растения, ребенка).
2. Генезис духа изображается как осуществление
субстанции (Verwirklichung der Substanz) - поочередное «полагание»
четырех простых моментов субстанции духа, аналогично
процессу экспрессии генов в биологическом морфогенезе.
3. В первой фазе истории субстанция поочередно
отрешает и опредмечивает четыре своих простых момента; во второй
фазе - восходит от их абстрактного единства к конкретному, от
непосредственного самосознания духа как целого (религия) -
к абсолютному знанию (наука).
Гегелевская феноменологическая дедукция не просто
логический прием, нечто большее, чем схема выведения категорий.
Это - логическая реконструкция живого, реального
культурно-исторического процесса, скрытого за внешней, событийной
текстурой мировой истории, так же как за видимым глазу
морфогенезом скрывается руководящий им процесс экспрессии генов.
II
Посмотрим теперь, как разворачивается дедукция
категорий в «Науке логики». Первым делом следует обратить
внимание на выбор исходной абстракции, поскольку она
представляет собою тот «ген», из которого Гегелю предстояло вырастить
древо «чистой мысли». Как известно, первая категория его
логики - чистое бытие.
«Sein, reines Sein, - ohne alle weitere Bestimmung»1.
1 HegelG.W.R Wissenschaft der Logik // Werke, in 20 Bänden. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1969-1971. Bd. 5. S. 82. «Бытие, чистое бытие, - без всякого
дальнейшего определения» (Наука логики. М.: Мысль, 1970. Т. 1. С. 139).
229
Если феноменологический метод берет за отправную
точку конкретное понятие - понятие деятельной субстанции,
опредмечивающей свои простые моменты в «гештальтах»
истории культуры, то «спекулятивно-разумная» метода начинает
с радикальной стерилизации мысли. Все до единого
определения бытия стираются, и в итоге мы имеем... ничто. Можно ли
вырастить нечто конкретное из подобной пустой,
мертворожденной абстракции? Вопрос риторический - ex nihilo nihil fit.
Первым на ущербность отправного пункта «Науки
логики» обратил внимание Фейербах в работе «К критике
философии Гегеля», помещенной в «Галлеском ежегоднике» (1839).
Предпринятое Гегелем «очищение» понятия бытия от всякого
конкретного содержания, разрушает это понятие как таковое,
утверждал Фейербах.
«Понятие бытия, в котором ты опускаешь содержание
бытия, уже больше не оказывается понятием бытия. Сколь
многообразны вещи, столь же многообразно бытие. Бытие
составляет единство с той вещью, которая существует. У кого ты
отнимаешь бытие, того ты лишаешь всего. Бытие нельзя
отмежевать как нечто самостоятельное»1.
Начинать философию следует не с формализованной,
дочиста выпотрошенной рассудком категории бытия, но с бытия
конкретного, содержащего в себе in писе (лат. «в орехе», в
эмбриональной форме) все многообразие вещей.
Как показывает Фейербах, сам Гегель, рассуждая о
«чистом бытии», не может обойтись без помощи чувственных
представлений, среди которых обнаруживается и «в высшей
степени сомнительное представление покоя». Мало того,
Гегель на каждом шагу пользуется целым рядом категорий,
которые выводятся им намного позже - во второй книге «Науки
логики» (Учение о сущности).
«"Бытие есть нечто непосредственное, неопределенное,
равное себе, себе тождественное, неразличимое". Но разве
1 Фейербах Л. Сочинения. М.: Наука, 1995. Т. 1. С. 37.
230
здесь не предполагаются понятия непосредственности,
неопределенности, тождества?»
На всем протяжении Учения о бытии Гегель пользуется
рефлективными категориями тождества и различия,
противоположности и противоречия, которые им пока что еще не
выведены. Без них Гегель, как логик, ровным счетом ничего не
мог бы сказать о категории чистого бытия. В таком случае, не
следует ли начать Логику именно с них, а не с чистого бытия,
тождественного с ничто?
«Такие предпосылки, как понятия тождества,
идентичности и т. д., понятны сами по себе, совершенно естественны. Как
бы иначе могли мы мыслить бытие? Эти понятия - необходимые
средства, благодаря им мы можем познать бытие как нечто
первоначальное. Совершенно верно; но в таком случае
представляет ли собою бытие, по крайней мере для нас, нечто
.непосредственное? Не является ли, скорее, для нас первоначальным то, от
чего мы больше не можем абстрагироваться?»1.
В истории человеческого мышления чувственное
восприятие предшествует рефлексии и пониманию. Эта
феноменологическая лестница познания и предопределила структуру
Логики: бытие - сущность - понятие. Категория чистого бытия
представляет собой простейшую форму чувственности: она
образуется в результате сведения многообразия чувственного
созерцания к абстрактному, формальному тождеству. Порядок
и связь категорий логики повторяет порядок и связь явлений в
«опыте сознания».
Таким образом, «Наука логики» продолжает дело
«Феноменологии духа» в том, что касается последовательности форм
познания: чувственное восприятие - рефлексия - понятие,
- но порывает с принципом конкретности исходного понятия.
«Чистое бытие», в отличие от «Мирового духа», не имеет
никакой внутренней структуры, в нем стёрты все конкретные
различия между вещами, даже и разница между бесконечным и
1 Фейербах Л. Сочинения. М.: Наука, 1995. Т. 1. С. 36.
231
конечным, Богом и стами талерами, в осознании и сохранении
которой, по заверению Гегеля, он видит истинный смысл
критики категорий и разума.
Меткую критику первоначала гегелевской Логики мы
находим в книге Б.Г. Кузнецова «Разум и бытие». В главе
четвертой противопоставляются два понятия: чистое,
бессодержательное бытие и бытие «гетерогенное», в себе конкретное,
субстанциальное.
«Чистое бытие отрубает голову змее, кусавшей свой хвост.
Начало стало априорной констатацией... Это "бытие-ничто"
существует только как мысль о бытии, без предмета мысли, мысль,
вытеснившая свой предмет. И именно оно, эта мысль,
оказывается началом диалектического анализа. Мысль начинает свое
царствование с Ходынки. Она уничтожает своих подданных. Весь
процесс дальнейшего развития несет на себе печать принципиально
бессодержательного начала - результата простой, неконкретизи-
рующей, только абстрагирующей, догегелевской абстракции. В
философию входит в качестве начального понятия небытие... Это
призрак, который претендует на роль демиурга»1.
Движение мысли, начинающееся с формальной
абстракции бытия, может перейти к конкретному не иначе, как на
словах, при помощи обычной для Гегеля «философской магии»
(Жан Валь). Конкретная действительность умерщвляется, а
затем чудесным образом воскрешается Словом, этим Богом-
творцом гегелевской системы. Слово становится плотью, а
плоть - мирской оболочкой Слова.
В мистификации отношений языка и мышления видел
исток гегелевского идеализма Э.В. Ильенков.
«Гегель очень часто заполняет пробелы в переходах от
категории к категории за счет чисто словесных ухищрений, с
помощью лингвистической ловкости... Частенько сбивается
с определений понятий на определения слов, и эти сбои за-
1 Кузнецов Б.Г. Разум и бытие: Этюды о классическом рационализме и
неклассической науке. М: Наука, 1972. С. 221-222.
232
ключены в его общем понимании отношения понятия к слову,
мышления - к языку. Рассматривая слово и язык если и не как
единственную форму "наличного бытия мысли", то все же как
высшую, достойнейшую и адекватнейшую форму ее
"внешнего осуществления", Гегель и сползает на рельсы старой, чисто
формальной интерпретации мышления и логики»1.
Маэстро диалектической логики, Ильенков не подвергал
сомнению первенство категории чистого бытия, однако
повторил вслед за Фейербахом, что бытие как таковое,
существующее независимо от мышления, не принимается Гегелем в
расчет, оставаясь для него «чем-то всецело потусторонним
и неопределенным». Коль скоро чистое бытие есть «чистая
мысль»2, тождество мышления и бытия оказывается здесь не
более чем формальностью, тождеством мышления самому себе.
Абстракция чистого бытия появляется только у Пармени-
да, поэтому Гегелю приходится объявить его первым
философом в собственном смысле слова3, отправив в «доисторию»
философии милетцев. В противном случае категория становления
оказалась бы исторически «первее» чистого бытия. За явную
предвзятость Гегеля укорял еще Адольф Тренделенбург: в
лекциях по истории философии Гегелю «приходится, например,
начинать с Парменида, так же как Логика начинается с
чистого бытия, при этом позабыв, что становление предшествовало
<чистому 6ытию> в первоначалах ионийских фюсиологов»4.
1 Ильенков Э.В. Гегель и проблема предмета логики // Философия Гегеля
и современность. М.: Мысль, 1973. С. 143-144.
2 «Das reine Sein macht den Anfang, weil es sowohl reiner Gedanke...» (Hegel
G. W.E Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, § 86 //
Werke. Bd. 8. S. 182).
3 «Mit Parmenides hat das eigentliche Philosophieren angefangen»
(Hegel G.W.F. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, I // Werke. Bd. 18.
S. 290).
4 «Man muss z. B. mit Parmenides anfangen, wie die Logik mit dem reinen
Sein anhebt, und vergisst dabei, dass das Werden in den Elementen der ionischen
Physiologen voranging» (Trendelenburg F.A. Logische Untersuchungen. Leipzig:
Hirzel, 1870. Bd. 1.S.83).
233
Первоначала милетцев Гегель отказался зачислить в класс
категорий Логики из-за того, что бытие выступает тут лишь
в чувственной, физической форме - воды, воздуха или
«всеобщей материи» (так Гегель квалифицировал «апейрон» -
беспредельное Анаксимандра). Допустим, однако категорией
становления милетцы, вне всяких сомнений, уже оперировали. В
первом же уцелевшем фрагменте философского текста речь
идет о всеобщем законе становления - рождения и гибели
вещей1. Всё на свете движется и меняется, - эта мысль служит
исходным пунктом всех размышлений милетских
натурфилософов. Собственно говоря, такова решаемая ими проблема.
Каждый предлагает собственное решение, отыскивая
причину становления и первое начало всех вещей. Категории сферы
сущности - причина и субстанция (первоначало: arche), -
появляются одновременно с категорией становления.
Гераклит исследует закон становления - «вечно сущий
Логос». Сей божественный закон (nomos, еще одна категория
сферы сущности) «простирает свою власть так далеко, как
только пожелает, и всему довлеет, и [все] превосходит»2. Логос
наделяется практически теми же атрибутами, что и Бытие у
элейцев: вечность и неизменность, единственность,
бесконечность и совершенство, - но проявляет себя Логос не в
устранении всякого различия между вещами, а, напротив, в
заострении этого различия до противоположности и противоречия:
«все возникает через вражду» [В 80 DK].
Гераклит разъяснил новорожденной науке ее истинное
предназначение: поиск законов природы, - в то время как Парменид
воздвиг китайскую стену между чувственным опытом и
умопостигаемым бытием, тем самым отрезав самую возможность по-
1 «А из каких <начал> вещам рожденье, в те же самые и гибель
совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу право-
законное возмещение неправды <= ущерба> в назначенный срок времени»
(Анаксимандр: В 1 DK // Фрагменты ранних греческих философов. Часть I.
Перевод A.B. Лебедева. М.: Наука, 1989. С. 127).
2 Гераклит В 114 DK // Там же. С. 197.
234
нять закономерную связь явлений. Ну и, в конце концов, разве
не Логос дал имя науке Логики? Так, может быть, лавры «первого
философа в собственном смысле слова» стоит отдать Гераклиту?
Тем более, он и летами постарше, чем Парменид.
III
Как видим, предлагаемая Гегелем последовательность
выведения логических категорий идет вразрез с реальной
историей логического мышления. Меж тем выбор исходной
категории предопределяет решительно всё - во всяком случае, в
теории, строящейся методом восхождения от абстрактного к
конкретному. Что посеешь вначале, то и пожнешь в финале:
Логос, закон природы, или же бытие, тождественное с ничто.
Тут тебе Родос, прыгай, философ...
В гегелевской Логике всякая логическая категория - от
становления до Абсолютной идеи - выступает в качестве
своеобразного посредника, или «медиума», соединяющего бытие
и ничто. В итоге непосредственное тождество бытия и ничто
превращается в тождество конкретное, вобравшее с себя
десятки мыслительных форм.
В диалектике Гераклита бытие раздваивается (на
множественное и единое, становящееся и неизменное, временное и
вечное) и противостоит самому себе. Точно так же обстоит дело и
в «Этике» Спинозы, первая аксиома которой гласит: «Все, что
существует, существует либо в себе, либо в ином». Этой
аксиомой конкретности бытия задается координатная плоскость
спинозовской философии: ее абсциссу и ординату образуют не
бытие и ничто, а бытие в себе (in se esse) и бытие в ином (in alio
esse), т. е. субстанция и модус. Бытие в логике Спинозы
противостоит самому себе, вернее, своему собственному инобытию:
Природа порождающая против Природы порожденной.
Ну а «ничто», «небытие» изгоняется в область категорий
рассудка (entia rationis), лишенных реального, предметного
235
содержания. У Гегеля, по всей видимости, имелись
предшественники из числа средневековых метафизиков, которые, по
словам Спинозы, «не без большого ущерба для истины искали
среднего (medium) между Сущим и Ничто. Однако я не стану
задерживаться на опровержении их заблуждений, так как они,
пытаясь дать определения таких [срединных] состояний, сами
совершенно теряются в своих пустых тонкостях»1.
Со своей стороны, Гегель приравнивает порождающую
самое себя, двуединую (naturans и naturata) Природу Спинозы
к Парменидовой голой абстракции бытия, этой «темной
бесформенной бездне (finstere, gestaltlose Abgrund)». Отсюда
проистекает гегелевский сомнительный комплимент спинозизму:
мол, это - «сущностное начало всякого философствования»2.
Существование негоже мыслить в форме абстрактной
всеобщности, настаивает Спиноза:
«Чем более обще (generalius) мыслится существование, тем
более смутно оно мыслится и тем легче его можно приписать
какой угодно вещи; и напротив, чем конкретнее (particularius)3
мыслится [существование], тем оно понимается яснее»4.
Еще резче он возражает против абстрактного понимания
бытия Природы как субстанции:
1 «Unde non satis mirari possum illorum ingénia subtilissima, qui medium
quaesiverunt, non sine magno detrimento veritatis, inter ens, et nihil. Sed in eo-
rum errorem refutando non morabor, quandoquidem ipsi, ubi talium affectio-
num definitiones tradere moliuntur, in vanâ suâ subtilitate prorsus evanescunt»
(Cogitata Metaphysica, I, cap. 3 // Spinoza Opera, 4 vols. Heidelberg: Carl
Winters, 1924. Vol. 1. P. 240).
2«Der wesentliche Anfang alles Philosophierens» (Hegel G.W.E Vorlesungen
über die Geschichte der Philosophie // Werke. Bd. 20. S. 165).
3 Прилагательное «частный» в русском языке не имеет
сравнительной степени, которая позволила бы точно перевести слово «particularius».
В.Н. Половцова переводит его выражением «более специально», а Я.М.
Боровский - «же». Я счел за лучшее перевести «particularius» словом
«конкретнее», так как «партикулярное» понятие существования Спиноза
противопоставляет всеобщей (generalis) абстракции существования.
4Tractatus de intellectus emendatione // Spinoza Opera. Vol. 2. P. 20.
236
«Начало Природы... нельзя понять посредством
абстракции или универсалии..., оно есть всё бытие и то, помимо чего
нет никакого бытия»1.
Природу надлежит мыслить конкретно! Она источник и
причина всякого, в том числе и своего собственного, бытия.
Категория всецелого бытия (omne esse) отличается от категории
чистого бытия (ens) настолько же, насколько в физике поле
отлично от вакуума, или в математике универсальное множество
(U) - от пустого множества (0).
Б.Г. Кузнецов провел параллель между гегелевским быти-
ем-ничто и «абсолютным пространством» Ньютона2. Две эти
абстракции действительно имеют общую природу, обе суть
чистые формы созерцания, абсолютно равнодушные к
созерцаемому предмету. Теория заполняет эти пустые формы
конкретным содержимым - физическими процессами и телами,
логическими принципами и категориями. Так живописец начинает
с чистого листа или холста, который он заполняет красками.
Такой же «чистой доской» представлял себе человеческую душу
Локк, - в дальнейшем опыт наполняет ее «идеями». У
Аристотеля роль tabula rasa отводится «первоматерии» (prôto hyle); Ум-
демиург привносит в нее эйдосы и сообщает движение.
Такова логика импрессии - запечатления внешних форм в
том или ином пластичном субстрате. «Наука логики» доводит
этот спекулятивный метод до диалектического совершенства,
до абсолюта. У читателя возникает иллюзия, что субстрат -
ничтожное бытие - порождает все прочие, конкретные категории
из самого себя. Что было ничем, то стало всем. Логический фокус,
рядом с которым бледнеет миф о сотворении Богом мира из
ничего. Первые опыты такого рода проделали еще средневековые
мистики, для которых Бог есть ничто и одновременно - всё.
1 «Origo Naturae ... пес abstracte sive universaliter concipi possit, ... est
omne esse, et praeter quod nullum datur esse» (Tractatus de intellectus emenda-
tione. P. 29).
2 См.: Кузнецов Б.Г. Разум и бытие. С. 139-141.
237
Напротив, логика экспрессии опирается на предмет,
субстанцию-субъект, имеющий конкретные атрибуты и
внутреннюю структуру, которую Спиноза именовал «ordo et connexio
rerum» (порядок и связь вещей). В этом плане вся его
философия есть экспрессия идеи Природы. Любопытно, что в «Этике»
генетический термин expressio (в глагольной форме: exprimere)
появляется прямо в дефиниции Бога, как субстанции,
состоящей из атрибутов, каждый из которых выражает (exprimit) ее
сущность. А далее тело и дух суть два модуса экспрессии
одной и той же вещи: una eademque est res sed duobus modis expressa.
«Экспрессионизму» Спинозы посвящена превосходная статья
Ф. Кауфмана и на удивление хорошая диссертация Ж. Делёза1.
В уже упомянутой книге Б.Г. Кузнецова бытие спинозовс-
кой субстанции сравнивается с пространственно-временным
континуумом релятивистской физики. Субстанция обладает
конкретными атрибутами - протяжением и мышлением,
пространство-время характеризуется кривизной, зависящей от
распределения масс, энергий и импульсов. Отдельные вещи
выступают как модусы, гештальты, формы бытия и действия
общей им всем субстанции.
В данном отношении метод «Феноменологии духа»
ближе к спинозовской «Этике», нежели к «Науке логики».
«Феноменология» не конструирует свой предмет с нуля, ex nihilo,
а лишь рефлектирует исторически данный «опыт сознания»,
рассматривая его сквозь четырехгранную призму субстанции
духа; так же, как в «Этике» подвергается рефлексии уже
имеющаяся у нас «идея Бога» (интеллект, разум) и в особенности
одна ее мыслящая частица - «идея тела» (дух).
Порядок мышления во всех трех случаях выглядит,
вроде бы, одинаково: мысль движется от всеобщего к особенному
и единичному. Однако «Наука логики» начинает с формально
1 Kaufmann F. Spinozas system as theory of expression // Philosophy and
phenomenological research, 1940. Vol. 1, no. 1. P. 83-97; Deleuze G. Spinoza et le
problème de l'expression. Paris: Minuit, 1968.
238
всеобщего, с абстракции от всякого содержания, а
«Феноменология духа» и «Этика» - с всеобщих определений субстанции,
обладающей конкретными атрибутами.
Впоследствии Маркс скажет, что конкретное целое, как
«реальный субъект», должно «постоянно витать в нашем
представлении как предпосылка»1. Этого как раз нет у Гегеля,
утверждает Маркс. Гегель «впал в иллюзию», понимая
конкретное как результат деятельности мышления. Конкретное вовсе
не синтезируется из чистых абстракций, а лишь анализируется,
мысленно усваивается с помощью абстракций.
Спиноза в этом пункте прав против Гегеля на все сто. Как
блестяще показал в свое время Ильенков, в логике Спинозы
«целое предполагается данным, а все исследование ведется
как анализ... Именно идея такого анализа, - исходящего из
ясного представления о целом, и идущего последовательно по
цепочке причинности, которая и воспроизводит это целое уже как
результат анализа, - и заключена в
логически-концентрированном виде в категории субстанции, как "causa sui", - как причины
самой себя... Идея "субстанции", - то есть основная идея
спинозизма, - идея детерминации частей со стороны целого, или, в
другой терминологии - первенства конкретного (как "единства
во многообразии") как исходной категории Логики»2.
Трудно лишь понять, отчего Ильенков числил Гегеля среди
единомышленников Спинозы в вопросе о начале Логики как
науки. В гегелевской Логике ни о каком «первенстве
конкретного» и речи нет - там абстракция всему голова.
Диалектическое восхождение от абстрактного к
конкретному может совершаться аналитически либо синтетически. В
первом случае исходным пунктом служит содержательная, «в
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1861 гг. М.: Политиздат. Ч. I.
С. 39.
2 Ильенков Э.В. К докладу о Спинозе // Драма советской философии.
М: ИФРАН, 1997. С. 174-175,181.
239
себе» конкретная абстракция, очерчивающая предмет анализа,
во втором - абстракция формальная, беспредметная. Первый
метод реконструирует реальный, «естественноисторический»
процесс становления предмета, второй изображает процесс
сотворения предмета из некой пассивно-пластичной материи
или даже из ничего.
Гегелевская диалектика эволюционировала от первого ко
второму: от экспрессии - к импрессии, от
конкретно-исторического анализа «опыта сознания» - к
абстрактно-логическому синтезу «чистых мыслей».
Сорвин К.В.
Онтологический и космологический аргументы
в системе «Энциклопедии философских наук»
Вильгельм Виндельбанд, предсказывая длительное
господство кантовской философии, был, как оказалось, весьма не
далек от истины. За два с лишним века, прошедшие после
смерти ее основоположника, кантианство не просто превратилось
в одно из самых мощных философских течений,
многообразием своих школ и ветвей несопоставимого ни с одним другим
направлением. Его базовые принципы в неявном, чаще всего в
рефлексивно не осознанном виде, вошли в плоть и кровь
многих аспектов современной культуры, науки, и даже
мировоззрения в целом. Достаточно вспомнить такие дисциплины, как
социология религии, социология науки и социология знания
вообще, по сути, выросшие на кантовском представлении об
автономности явления, зависимости последнего от априорных
мыслительных форм. На том же принципе основаны столь
популярные сегодня парадигмы гносеологического
плюрализма, культурного релятивизма и т. д. Естественной оборотной
стороной подобной позиции оказывается падение интереса к
фундаментальным онтологическим проблемам классической
240
философии, которые, в связи с принципом «непознаваемости
вещи в себе» объявляются неразрешимыми. В итоге сегодня
даже в школьных учебниках можно встретить утверждение о
невозможности теоретического разрешения вопроса о бытии
или небытии Бога, сформулированное не в связи с
обсуждением учения Канта, а в качестве непреложного вердикта, будто
бы давно вынесенного философией.
Однако авторы подобных текстов, к сожалению,
забывают собственную мысль Канта, согласно которой метафизика
за два с лишним тысячелетия своего существования не смогла
дать миру ни одного бесспорного положения. Не стала
исключением из этого правила и собственная философия создателя
знаменитых «Критик». Именно поэтому сегодня особый
интерес приобретает обращение к взглядам мыслителей,
критически отнесшихся к кантовскому агностицизму и
обосновавших противоположные ему онтологические взгляды. Особое
же место среди них занимает наследие Гегеля - философа, не
просто реабилитировавшего проблематику классической
метафизики (еще до него это сделали Фихте и Шеллинг), но
открыто признавшего права доказательств бытия Бога, хотя и
представших в его системе в новом виде и смысле. Обратиться
к его взглядам актуально вовсе не для того, чтобы найти новые
аргументы в пользу идеализма, а чтобы разглядеть в его
подходах методологические основы для построения неклассической
посткантовской онтологии.
Специальному анализу проблематики доказательств
бытия Бога был посвящен семестровый курс, прочитанный
Гегелем в Берлинском университете незадолго до смерти - в 1829
г., а затем с некоторыми дополнениями и изменениями в 1830-
1831 гг. Как указывают исследователи творчества философа, он
намеревался издать текст лекций и начал готовить рукопись
к печати, однако внезапная кончина не позволила
осуществиться этим планам. В итоге «Лекции о доказательствах бытия
Бога» были доработаны редактором Ф. Марганейке и впервые
241
вышли в свет в виде 12-ого тома посмертно изданного
собрания сочинений философа1. Что же касается других
произведений, то данная проблематика неоднократно поднималась во
всех томах «Науки логики», «Философии религии» и «Лекциях
по истории философии».
Относительно появления «Лекций о доказательствах
бытия Бога» сам Гегель писал следующее: «...Внешним поводом
к чтению этого курса была необходимость читать в
теперешнем семестре только один, охватывающий целую дисциплину,
курс. Мне, однако, хотелось добавить к нему второй - об
одном отдельном предмете науки. При этом я избрал такой
предмет, который находится в связи с другим моим курсом лекций
и составляет если не по содержанию, то по форме дополнение
к нему, будучи специфическим проявлением основных
принципов логики. Поэтому лекции эти в первую очередь
предназначаются для тех, кто слушает у меня общий курс логики, и
понятнее всего будут им»2.
Последнее утверждение весьма примечательно и
указывает на важнейшее, исходное родство гегелевского и кантов-
ского подходов к данному вопросу - для обоих философов
доказательства бытия Бога, по крайней мере, в основе своей
представляют собой не искусственные процедуры разума, а
совершенно естественные интеллектуальные движения,
основывающиеся на фундаментальных законах мыслительной
деятельности человека и соответственно раскрывающие их.
Именно поэтому Гегель считал проблематику доказательств
Божьего бытия неотъемлемой честью создававшейся им диалекти-
ко-логической науки.
С нашей точки зрения, правильно будет начать с
исследования гегелевского отношения к кантовской критике доказа-
1 См. A.A. Аверинцев, A.B. Михайлов, A.B. Гулыга. Примечания //
Гегель. Философия религии, том 2. М., 1977, с. 531.
2 Гегель. Лекции о доказательстве бытия Бога // Гегель. Философия
религии, т. 2. М., 1977, с. 337.
242
тельств бытия Бога. Такой подход, с одной стороны, позволит
увидеть преемственность позиций философов и
соответственно избавит от необходимости повторения соображений, уже
высказанных по этим вопросам Кантом. С другой -
наилучшим образом позволит понять специфику именно
гегелевского отношения к многовековой традиции метафизических
силлогизмов. Говоря о ниспровержении Кантом классических
доказательств бытия бога, очень часто забывают о позитивном
результате его критики. А ведь именно в трудах этого
философа классические метафизические силлогизмы были
представлены не просто в виде доказательств, обосновывающих некую
заранее принятую предпосылку, а как креативные
интеллектуальные действия, в ходе которых возникают сами идеи Бога
в трех различных (а, позже, и в четвертой) определенностях.
И данный шаг предшественника всегда чрезвычайно высоко
оценивался Гегелем. Более того, «...Если Кант подорвал
авторитет так называемых доказательств бытия Бога и превратил
их недостаточность не более чем в предубеждение по
отношению к ним, то это было делом величайшей важности. Но
критика им этих доказательств сама по себе недостаточна, не
говоря уже о том, что он не понял более глубокой основы этих
доказательств, а потому и не сумел воздать должное их
истинному содержанию»1. Здесь нам и предстоит разобраться с тем,
почему же, согласно Гегелю, эти доказательства действительно
нуждались в кантовском ниспровержении и какое именно их
«истинное содержание» не увидел, тем не менее, сам Кант.
Как известно, родоначальнику трансцендентальной
традиции принадлежит ставшая впоследствии классической
типология метафизических силлогизмов. Во-первых,
доказательство бытия бога может исходить из какого-либо частного
свойства мира, каковым является физико-телеологический
аргумент, отталкивающийся от факта наличия
целесообразности в природе. Во-вторых, из самого факта бытия мироздания,
1 Гегель. Ук. соч., с. 418.
243
что реализовано в космологическом доказательстве. Наконец,
в-третьих, оно может основываться исключительно на идее
высшего существа, и на этом движении мысли основывается
онтологический аргумент. В данную систему Гегель вносит, на
первый взгляд, не очень заметные, на самом же деле, весьма
значимые изменения.
С одной стороны философ, следуя базовым положениям
своей диалектической логики, утверждал, что «в принципе
любая логическая категория может стать исходным пунктом в
доказательстве Бытия бога»1, ибо каждая из них, в силу своей
имманентной диалектики, есть закономерный этап движения
мысли к Абсолютному. Поэтому, строго говоря, доказательств
может быть столько, сколько встречаем мы категорий в
логическом учении Гегеля. Однако в истории философской мысли
не случайно сложились именно указанные выше классические
формы. Для объяснения этого факта Гегель, прежде всего,
несколько видоизменяет кантовскую классификацию, группируя
доказательства не по трем, а по двум типам. «...Часть
доказательств идет от бытия к идее Бога, то есть, конкретнее, от
определенного бытия к истинному бытию как бытию Бога; другая
же часть идет от идеи Бога, истины самой по себе, к бытию
этой истины.... Перед нами два определения - идея Бога и
бытие. Итак, можно исходить и из одного, и из другого в том ходе,
который должен осуществить их связь»2.
Таким образом, в гегелевской классификации
метафизические доказательства бывают двух принципиально разных
типов, причем к первому, исходящему из бытия и его опреде-
ленностей, относятся физико-телеологическое и космологическое,
к другому, исходящему из чистого понятия - только
онтологическое. При всей очевидности данного противопоставления,
мы не встречались с ним, по крайней мере, в столь явно
очерченном виде, в кантовской философии. Напротив, в гегелев-
1 Гегель. Ук. соч., с. 385.
2 Там же, с. 387.
244
ской системе это противопоставление становится
системообразующим принципом всего учения о доказательствах бытия
Бога и, более того, обнаруживает с совершенно новых сторон
понимание философом самой сути Божества.
В естественном и закономерном возникновении двух
типов доказательств в истории философской мысли Гегель,
прежде всего, усматривает смутно проступавшее в сознании
человечества ощущение потребности в двустороннем раскрытии
природы Бога. С одной стороны, требуется показать, каким
образом Бог нисходит в мир, то есть как, в силу каких логических
механизмов бесконечная идея определяет себя к конечному
бытию, что как раз и раскрывается в движении онтологического
аргумента. С другой, следует понять, каким образом
происходит возвращение мира к Богу, или, по-другому, каким образом
в бытии конечного мира проявляет себя бесконечная
божественная жизнь - здесь развертываются физико-телеологический и
космологический аргументы. Каждое из этих
интеллектуальных движений обнаруживает фундаментальные и
неотъемлемые аспекты истинной природы Бога - «... рассмотренные с
обеих сторон для себя, они являют нам наиболее важные
односторонности»1. Что же касается логической
последовательности, в которой эти силлогизмы должны быть расположены при
их анализе, то поскольку в гегелевской системе доказательства
бытия Бога представляют собой различные способы
возвышения духа над конечностью, первыми идут «доказательства от
бытия мира» и, лишь пройдя этот путь и придя к Богу, разум
может заняться изучением исходного движения.
Сгруппировав вместе физико-телеологическое и
космологическое доказательства, Гегель, вполне естественно,
вносит изменение и в кантовское представление об их
взаимосвязи и иерархии. Рассматривая физико-телеологическое
доказательство, философ пишет: «... Когда он (Кант. - К.С.)
добавляет: это доказательство самое древнее, то он заблуж-
1 Гегель. Ук. соч., с. 391.
245
дается. Первое определение Бога - могущество, лишь второе -
мудрость. И встречается это доказательство (второе - К.С.)
только у греков.... Это доказательство исторически совпадает
с развитием свободы»1. Или в другом фрагменте: «Но истина
самой необходимости - в свободе, а вместе со свободой
открывается новая сфера - это почва самого понятия. И тогда
эта почва допускает иное отношение для определения и для
хода возвышения к Богу, иное определение исходного пункта
и результата, а именно, прежде всего определение
целесообразности и цели. И такое определение будет тогда категорией
для нового доказательства бытия Бога»2.
Для Гегеля такая последовательность была принципиальна,
поскольку она определяла собой не только логическую
последовательность в системе доказательств бытия Бога, но проявлялась
в реальном историческом развитии религий. Религия
могущества - это ветхозаветная религия, в которой единый Бог
представляет собой абсолютное начало мира. Однако выше этой
религии в системе Абсолютного идеализма стоит религия греков, в
которой впервые атрибутивным определением Бога становится
духовность, а, значит, и разум, и которая первой порождает
формулировку физико-телеологического доказательства3.
Кроме того, в пользу подобной последовательности
говорят и общие логические соображения: исходный пункт
космологического доказательства предельно абстрактен - это
неопределенное бытие вообще, тогда как физико-телеологическое
доказательство исходит из целесообразно организованного
бытия. Таким образом, в гегелевской системе и логически, и
исторически физико-телеологическое доказательство оказывается
как бы стадией в развитии принципиально близкого к нему, и
1 Гегель. Ук. соч., с. 467.
2 Там же, с. 399.
3 В своих «Лекциях по истории философии» Гегель давал чрезвычайно
высокую оценку антропоморфизму греческих богов, считая подобный
облик небожителей в качестве выдающегося шага в развитии человеческого
самосознания. См. Гегель. Соч., т.9. Л., 1932, с. 136-140.
246
в то же время, более фундаментального и более общего
космологического аргумента.
В итоге все приведенные выше рассуждения о
подлинном - подчиненном - статусе физико-телеологического
аргумента лишь обострили и позволили выделить в чистом виде
фундаментальную противоположность и в то же время
фундаментальную взаимосвязь космологического и онтологического
аргументов. Стремясь придать их единству системный вид, Гегель
свел результаты этих доказательств к двум противоположным
суждениям, что позволило философу на новом уровне
проанализировать как сущность каждого из них в отдельности, так и
систему аргументов в целом. Итогом космологического
аргумента является суждение «бытие - первоначально определяемое
как конечное - бесконечно», итогом онтологического -
«бесконечное есть». Начнем анализ с первого суждения.
Несмотря на явное пристрастие Гегеля к традиции
онтологического доказательства, основное внимание в его
«Лекциях» было уделено разбору космологического аргумента. И это
не случайно. Согласно Канту, данное доказательство венчало
собой систему антиномий чистого разума и соответственно
представляло собой предельную форму всех возможных
системно-теоретических построений разума. Кроме того, его ан-
тиномичность, невозможность реализации по классическим
субъект-объектным схемам указывала на неадекватность
сугубо объектного, нерефлексивного отношения человека к
мирозданию. Такое понимание космологического доказательства
становится основополагающим и для Гегеля. Однако если для
Канта этот силлогизм был хотя и естественным, но, тем не
менее, некорректным действием разума, то гегелевский подход к
данному вопросу оказывается принципиально иным. В
частности, стихийность его возникновения указывала на слабости,
естественность же указывала на неотъемлемые права.
Развивая кантовские представления о
системно-методологической роли космологического доказательства, Гегель на-
247
ходит соответствующее ему категориальное развитие в своей
«Науке логики» - развитие, реализующееся в разделе,
посвященном категории абсолютной необходимости и связанным с
ней категориям слунайностиу необходимости и причинности.
Такой подход становится руководящей нитью в осуществленном
философом анализе данной проблемы.
Как уже говорилось, с точки зрения Гегеля, в принципе
любая логическая категория может стать исходным пунктом
в развертывании доказательства Божия бытия, ибо каждая из
категорий является особым способом определения
Абсолютного, а в их диалектике (эксплицированной в «Науке логике»)
в специфической форме представлен переход от конечного
к бесконечному. Тем не менее, тот факт, что в историческом
развитии человеческого духа именно оппозиции случайность-
необходимость суждено было стать основой возникновения
фундаментального космологического силлогизма, имело, с его
точки зрения, весьма веские основания. «Ближайшей
причиной того, - писал он, - почему определение случайности мира
и соответствующего ей абсолютно необходимого существа
представилось наиболее удобным в качестве исходного пункта и
результата доказательства, следует полагать... то, что
категория отношения случайности и необходимости резюмирует,
подытоживает собой все отношения конечности и
бесконечности бытия; самое конкретное определение конечности
бытия - случайность, и равным образом бесконечность бытия в
самом конкретном своем определении - это необходимость»1.
Рассмотрим внимательно тот логический механизм,
который, согласно Гегелю, лежит в основе космологического
доказательства бытия Бога - механизм, в чистом виде
представленный им в заключительной главе «Учения о сущности».
Категория абсолютной необходимости, соответствующая
итоговому понятию космологического доказательства, возникает,
согласно Гегелю, из имманентной диалектики категорий слу-
'См. Гегель. Соч., т.9. Л., 1932, с. 398-399.
248
чайности и необходимости и является ее разрешением.
Исходный пункт данного движения - непосредственно наблюдаемая
случайность мира, который, первоначально, предстает в виде
бесчисленного множества совершенно несвязанных друг с
другом непосредственно наблюдаемых предметов. В то же
время последние находятся в бесконечном множестве различных
взаимосвязей, которые, в конечном итоге, и определяют собой
и их судьбу, и их существование. Благодаря этим взаимосвязям
и их раскрытию существование предметов перестает быть
случайным и становится необходимым. Однако достаточно
приглядеться к этой необходимости, как сразу же обнаруживается, что
она лишь внешняя необходимость, ибо ее источник - другой
конечный и эмпирически данный предмет - столь же случаен, ибо
не содержит в самом себе причину собственного бытия. Кроме
того, и сами соотношения необходимости - законы -
предстают на этом этапе как нечто внешне найденное, а, значит, и
случайное. «Необходимое,.. .стоит лишь рассмотреть его поближе,
само падает назад, в сферу случайного, как потому, что такое
необходимое, полагаемое иным, несамостоятельно, так и потому,
что, изъятое из своей взаимосвязи, обособленное, оно тотчас
же непосредственно случайно; следовательно, проведенные
различия только мнимые»1. Такое движение категории
необходимости указывает, согласно Гегелю, на появление какой-то новой
категории, в которой должно сняться данное противоречие. Но
не будем забывать, что для этого философа, в отличие от Канта,
категории есть не только определения нашего мышления - они
есть определения самого бытия.
Эта новая категория, суть которой состоит в том, что в
ее рамках, согласно Гегелю, необходимость оказывается
соответствующей своему понятию (!), должна содержать в себе
взаимоисключающие определения. С одной стороны,
описываемая ею реальность должна быть самостоятельной и
независимой - в противном случае, она оказывается чем-то обус-
1 См. Гегель. Соч., т.9. Л., 1932, с. 427.
249
ловленным, а, значит, и случайным. С другой - эта реальность
должна быть обоснована, и находиться в полноте взаимосвязи
со всем иным - иначе это иное будет обособлено и окажется
совершенно безразлично, есть оно, или не есть, а это в свою
очередь, будет характеризовать и его, и данную реальность как
случайное. Другими словами, необходимое должно быть
всецело сопряжено с собой, однако не так, как это имеет место в
ситуации с простой случайностью, когда это приводит к полному
безразличию ко всему иному - оно должно всецело содержать
свое иное внутри себя, но при этом во всех своих движениях
быть себе абсолютно равным.
В гегелевской логике эта категория получает название
абсолютной необходимости, суть которой как раз и состоит в
соединении подобных, для обыденного рассудка
взаимоисключающих требований. «Абсолютная необходимость - та
необходимость, которая сообразна со своим понятием
необходимости»1. Таков, согласно Гегелю, логический (говоря
точнее - диалектико-логический) механизм, лежащий в основе
космологического доказательства Божия бытия и связанных с
ним движений разума.
Первое, что бросается в глаза в этих рассуждениях -
бесспорная близость Гегеля к Канту в интерпретации механизма
данного доказательства - для обоих мыслителей его
возникновение вызвано естественными системными устремлениями
человеческого духа и, кроме того, в основе его лежит
нисходящий ряд движения от обусловленного к его условию.
Однако здесь же обнаруживается и отличие: для автора «Критики
чистого разума» в основе этого доказательства лежало
движение умозаключения, тогда как в гегелевском подходе -
имманентная диалектика категорий случайности-необходимости. В
принципе, данный факт сам по себе еще ни о чем не говорит,
ведь в «Науке логики» само возникновение умозаключений
рассматривалось как результат и форма имманентной диалек-
1 См. Гегель. Соч., т.9. Л., 1932, с. 428.
250
тики категорий, а в «Критике чистого разума»
трансцендентальные идеи представляли собой ничто иное, как
образующие нисходящий ряд категорий, оторванных от эмпирических
условий опыта. Но здесь важно обратить внимание на другой
аспект, причем, в данном случае, на аспект наиболее важный.
Рассматривая космологическое доказательство как результат
внутреннего движения категории необходимости, философ,
тем самым, эмансипирует его от жесткой привязанности к
теологической проблематике. Поэтому данное движение разума
становится элементом имманентного развития любой сферы
духовной деятельности человека, где, в той или иной степени,
присутствуют категории случайности и необходимости, и где
соответственно мы с неизбежностью должны сталкиваться
со стихийным проявлением их имманентной диалектики.
Естественно, что при таком подходе движение, совершаемое по
логике космологического аргумента, оказывается возможным
проследить в рамках любой научной дисциплины, достигшей
стадии системного знания и столкнувшейся с требованием
теоретического обоснования своего начала.
Далее позиции философов по этому вопросу расходятся
еще сильнее. Хорошо известно, что Кант рассматривал
открытые им антиномии чистого разума в качестве дополнительных
аргументов в пользу базовых постулатов своего учения. Так
было в случае математических антиномий, в которых он, а
затем и Фихте, увидели дополнительное, причем важнейшее
подтверждение концепции феноменальности (априорности)
пространства и времени. Так было и в случае как раз
интересующей нас здесь четвертой антиномии, которая, согласно
Канту, лишь подтверждала тот факт, что категории
необходимости и случайности не затрагивают и не задевают самих
вещей, ибо «я вынужден мыслить что-то необходимое для
существующих вещей, но не могу мыслить ни одну вещь как
необходимую саму по себе, в себе»1.
1 Кант. Критика чистого разума, СПб.. 1993, с. 359.
251
Что здесь признает Гегель безо всяких оговорок - так это
утверждение предшественника о сверхчувственности
абсолютно необходимой сущности, которая принципиально не может
стать предметом созерцания» подчинив себя условиям
пространства и времени. В то же время тот факт, что само понятие
абсолютной необходимости соединяет в себе
взаимоисключающие категории, вовсе не говорит для него в пользу
невозможности описания ее каким-либо рациональным образом, а
значит, и невозможности познания.
Процитируем целиком гегелевский отрывок,
посвященный данному вопросу. «Это такое деликатное обращение с
вещами, - писал Гегель, - которое не допускает для них
никакого противоречия, хотя даже самый поверхностный и
самый глубокий опыт повсюду показывают, что вещи
полны противоречий. ...Если такое противоречие -
недостаток, то на деле его следовало бы отнести, скорее, за счет так
называемых вещей - они лишь отчасти эмпирические и
конечные, отчасти же бессильная и не способная проявиться
вещь в себе, но не за счет разума, каковой и на взгляд Канта
тоже есть способность идей, безусловного, бесконечного. В
действительности разум, конечно, способен вынести такое
противоречие, притом способен и разрешить его, да и вещи
тоже способны его терпеть, или, лучше сказать, вещи - это
только противоречие в своем существовании, - таков и кан-
товский призрак вещи в себе, таковы и все эмпирические
вещи, и только поскольку они разумны, они одновременно
разрешают противоречие в самих себе»1.
Этот фрагмент очень интересен, ибо в нем Гегель, быть
может, наиболее точно и откровенно обозначает ту очень тонкую
и в то же время фундаментальную грань, что отделяет
созданную им онтологию от кантовской. Еще немного, и эта
тончайшая перегородка исчезнет совсем, или, напротив,
превратится в непроницаемую стену, но философ четко фиксирует ее
1 Гегель. Ук. соч., с. 412.
252
пределы. Заметим: дважды в этом небольшом отрывке Гегель
признает близость своего понимания сути вещей кантовс-
кой концепции «вещи в себе». Наблюдаемые в опыте явления
представляют собой, как и у Канта, нечто ложное, неистинное
и исчезающее, но это связано не с имманентными границами
человеческого познания, а с ничтожностью самих вещей, не
способных, ввиду именно слабости собственной конечности,
проявить себя во всей полноте и истине.
В то же время, в данном отрывке появляется и важнейшее
отличие в позициях обоих мыслителей: если противоречия
находятся не в мышлении, а в самих вещах, то
гносеологические проблемы связаны вовсе не с неумелым использованием
человеком своей высшей синтетической способности -
разума, как это утверждалось в философии Канта, а с
неадекватностью всех интеллектуальных форм познания, в том числе, и
даже прежде всего, рассудка. Именно эти формы, будучи
неподвижными и непротиворечивыми, оказываются неадекватными
противоречивым и изменчивым, ввиду своей конечности,
вещам окружающего мира. Поэтому не разум, а, прежде всего,
рассудок является познавательной формой, требующей
кардинального переосмысления - своеобразной «Критики чистого
рассудка». К такому пониманию ближайших задач философии
в итоге и склонился Гегель, который, в отличие от
оставившего без изменений рассудочные формы познания Канта,
предпринял попытку их критического реформирования. На
данный аспект здесь тем более следует обратить внимание, ибо в
первую очередь с критикой рассудка будут связаны и основные
методологические новаторства, сделанные философом в сфере
доказательств Божьего бытия, а также гегелевское
представление об «истинной форме» космологического аргумента.
Отказав классическим формам рассудка в адекватности и
выдвинув тезис о необходимости их тотального
реформирования, Гегель иначе, чем Кант, подошел и к пониманию смысла
и назначения космологического доказательства. Противоре-
253
чивость понятия абсолютно необходимой сущности или
абсолютной необходимости вообще, ставшее для автора «Критик»
основным индикатором гносеологической некорректности
космологического аргумента, как раз совершенно не
смутило основателя диалектической логики. Проблема им виделась
совершенно в другом: в рамках классически
организованного космологического доказательства абсолютно необходимая
сущность оказывается зависимой от конечной реальности,
бытие которой является здесь исходным пунктом в движении
умозаключения. А вот это как раз является ложным,
перевернутым, но обусловлено это вовсе не ложным содержанием
доказательства, а его ложной, рассудочной формой.
Следовательно, не критика содержания, а именно поиск новой -
диалектической - формы становится основным лейтмотивом
исследований философа в области данного силлогизма.
Вспомним еще раз итоговый вывод космологического
доказательства в интерпретации Гегеля: «Бытие - первоначально
определяемое как конечное - бесконечно». В этом результате
философ увидел не просто одно из многих частных
суждений, а усмотрел утверждение, раскрывающее саму природу
суждения как особой формы познания. Действительно,
всеобщая форма суждения состоит в том, что субъект есть нечто
сущее вообще, а предикат - нечто всеобщее, мысль. Другими
словами, абстрактное суждение выражается в предложении:
«Единичное есть всеобщее»» (например: «роза красная»). Но,
если вдуматься, - утверждает Гегель, - тот же самый смысл
заключается и в итоговом выводе космологического аргумента
«бытие - первоначально определяемое как конечное -
бесконечно», ибо бытие есть как раз нечто сущее и единичное, тогда
как бесконечное по самой своей сути может быть только для
мысли и самой мыслью.
Этот гегелевский шаг оказывается чрезвычайно
интересным и плодотворным. Ведь теперь решение вопроса
относительно истинной формы космологического аргумента может
254
быть перемещено в совершенно иную плоскость - в плоскость
ответа на вопрос об адекватной форме рассудочного познания. А
данная проблема, в свою очередь, была детально исследована
философом в его логических работах, так что в «Лекциях о
доказательствах бытия Бога» он ограничивается лишь кратким
резюме своих главных выводов.
Если приглядеться внимательно к самой форме суждения
(«единичное есть всеобщее»), то, - утверждает философ, -
нельзя не заметить, что соотношение субъекта и предиката, на
самом деле, не может быть удовлетворительно описано
принятыми в классической логике принципами. Ведь субъект в
самом себе не есть нечто истинное и пребывающее - напротив,
сама природа его состоит в том, чтобы исчезнуть и перейти во
всеобщее, являющееся его истиной. И именно такое
диалектическое исчезновение субъекта в предикате должно, с.его
точки зрения, наблюдаться в истинном не только по содержанию,
но и по форме варианте космологического доказательства. Не
движение от пребывающего в своей неизменности случайного
бытия, а исчезновение этого конечного бытия в своей истине -
бесконечном - вот что, по сути своей, должно возвещать
развертывание космологического аргумента. «Не потому, что
случайное ecmbj - резюмировал свои рассуждения философ, - а,
напротив, потому, что случайное - это небытие, только явление,
и бытие его - не истинная реальность, - только потому есть
абсолютная необходимость; абсолютная необходимость - бытие
и истина случайного»1.
Таким образом, диалектика, обнаруженная Кантом в
космологическом доказательстве бытия Бога, действительно
является неизбежным его аспектом. Другое дело, что диалектика
эта должна быть истолкована не как запрет на данное
движение разума, а как явное указание на неадекватность формы,
способа классического варианта такого движения - формы, ко-
1 Гегель. Лекции о доказательствах бытия Бога // Философия религии,
М., 1977, Т.2, с. 436
255
торую Гегель очень метко назвал «умозаключением рассудка».
«Этот момент негативного отсутствует в форме
умозаключения рассудка, и потому такое умозаключение недостаточно на
этой почве живого разума»1. И до тех пор, пока рассудок
останется в неприкосновенности, разум сам будет в плену лишь
«рассудочных» умозаключений, будет порождать непонятные
и неясные для самого себя диалектические парадоксы. А раз
так, то для логики, прежде всего, необходима такая реформа
самого рассудка, которая снимет с него статус
самостоятельной конечной деятельности и превратит его в момент
бесконечной деятельности разума. Эту задачу и реализовывал в своем
диалектико-логическом учении Гегель.
Вот теперь мы можем ответить на вопрос, как именно
относится данная гегелевская позиция к многообразным
формам и видам космологического аргумента, встречавшимся в
истории философии. Так, хорошо известно, что у Фомы Ак-
винского встречалось 4 варианта на тему космологического
аргумента, да и в рассуждениях самого Гегеля мы уже
столкнулись, как минимум, с двумя его вариантами. В основании
первого лежит диалектика случайности и необходимости, анализ
которой приводит к выводу о существовании абсолютной
необходимости. Основу второго составляло движение от
конечного бытия к бытию бесконечному. В принципе, приведенная
выше цитата уже содержит ответ на данный вопрос:
«категории случайности и необходимости подытоживают собой все
отношения конечности и бесконечности бытия». Другими
словами диалектический переход от случайности к
необходимости представляет собой как бы сокращенный вариант данного
аргумента, наиболее ярко и даже наглядно раскрывающий его
смысл, однако отнюдь не исчерпывающий собой все богатство
его содержания. Для адекватной экспликации последнего
необходимо во всей полноте раскрыть движение от абстрактного
бытия к бесконечной реальности, что и было сделано Гегелем в
1 Гегель. Там же, с. 436.
256
двух первых томах «Науки логики». Именно эти два тома,
объединенные также названием «Объективной логики»,
представляют собой ничто иное как космологический аргумент, во всей
полноте развернутый в своей истинной, разумной форме. Но
верно и обратное: итоговый вывод данного силлогизма
«бытие, первоначально представленное как конечное,
бесконечно», является одновременно и кратким итогом двух первых
томов диалектической логики.
Теперь настало время вспомнить, что Гегель, как и Кант,
в первую очередь, видел в космологическом аргументе
закономерное и потому неизбежное движение разума, которое,
будучи неосознанным адекватно, сугубо стихийно прокладывало
себе путь в ходе естественной эволюции человеческого духа.
И реализовывалось это движение в двух взаимосвязанных, но
при этом принципиально различных формах. С одной
стороны, в форме космологического доказательства в строгом
смысле этого слова, возникшего в рамках классической метафизики
и явившегося одним из стержней ее исторического развития.
С другой стороны - в форме бессознательного (в смысле
рефлексивно не осознанного) движения разума, не дошедшего до
логически оформленных силлогизмов, но явившегося одним
из важнейших (если не важнейшим) источников
формирования религиозного сознания человечества.
Что касается общего соотношения философии и религии,
то в гегелевской концепции они рассматриваются как две
формы постижения Абсолютного, с той лишь разницей, что в
первой это постижение происходит в стихии чистого
понятийного мышления, а во второй - в форме представления. Очень часто
можно столкнуться с поверхностным утверждением, будто
Гегель ставил философию однозначно выше религии. На самом
общем уровне такая точка зрения оказывается, безусловно,
верной, ибо чистое мышление всегда являлось для этого
автора высшей формой и движения, и постижения абсолютного.
Однако не будем забывать, что Гегель в ничуть не меньшей сте-
257
пени, чем Кант, был критиком мышления в его
непосредственной, нерефлексивной данности, в том его виде, который оно
имеет в любой, в том числе и научной сфере, с характерным
для нее всецело объектным отношением к собственной
предметности. И вот здесь-то оказывается, что религия как
самостоятельная форма постижения Абсолютного в ряде случаев
может стать выше постижения его в
рассудочно-нерефлексивной форме. И случай с космологическим аргументом как раз
таким и оказывается.
При всей ее ориентации на образность и даже наглядность
религия, по сравнению с философией, обладает тем неоспоримым
преимуществом, что, не будучи связанной рассудочными
запретами и формально-логическими законами, оказывается в
состоянии осуществить тот самый диалектический скачек, на который
оказались неспособны классические формы космологического
силлогизма! «... В самом доказательстве (в его классической
форме. - К.С.) бытия Бога возвышение духа к Богу эксплицировано
неверно. Если сравнить то и другое, - писал Гегель, - форму
доказательства и религиозное возвышение, то возвышение - это...
выход за пределы мирского существования как только
временного, изменчивого, преходящего; все мирское, правда,
высказывается как наличное бытие..., но, коль скоро оно определено как
временное, случайное, изменчивое и преходящее, бытие его - не
удовлетворительное,... оно определено как снимающее себя, как
себя отрицающее. Наличное бытие не останавливается на этом
определении - быть, но ему приписывается (в религии. - К.С.)
бытие не более ценное, чем небытие; определение такого бытия
заключает в себе небытие его, иное его, а тем самым его
противоречие, его разрешение, его гибель в себе»1.
Таким образом, религия оказывается в состоянии
рассмотреть исходный пункт своего возвышения - наличное
бытие - не как пребывающее, а как себя снимающее и, потому,
исчезающее, а, значит, оказывается способной совершить тот
1 Гегель. Там же, с. 436.
258
самый диалектический скачек, который так и не появился в
развивавшихся параллельно философских формах
космологического аргумента. И даже в тех случаях, - утверждает
Гегель, - когда религия более серьезно относится к наличным
реалиям окружающего мира, сохраняя их конечность наряду
с бесконечностью мира Божьего, в религиозных учениях «...
всякое умиротворение .. .перелагается в вечный мир, в мир
самостоятельный в себе и для себя»1. Так в итоге слабость
религии оборачивается ее силой, и для формы «абсолютного духа»,
менее развитой, нежели философия, оказывается возможным
осуществить переход, запрещенный правилами логической
науки «любителей мудрости».
Гегелевское понимание подлинных задач и истинной
формы космологического доказательства позволяет с новых
позиций взглянуть и на вечного спутника данного силлогизма - на
онтологический аргумент.
К безусловной заслуге автора «Критики чистого разума»
Гегель относил само открытие взаимосвязи космологического
и онтологического аргументов, а также осознание их
взаимоперехода как неизбежной, естественной и закономерной
процедуры разума. В то же время смысл этого логического
движения виделся каждому из них по-своему, и многие кантовские
подходы вызывали серьезнейшие возражения его оппонента.
Гегель полностью разделял данное Кантом определение
причины, по которой разум оказывается неудовлетворен
итогом космологического доказательства - бессодержательность
понятия абсолютно необходимого существа, что порождало
естественное стремление разума к его более полному
определению. Если говорить строго, абсолютно необходимое
существо, согласно Гегелю, не есть существо (субъект) в точном
смысле этого слова, (как не были субъектами греческие Мойры, как
не была субъектом субстанция Спинозы) - оно представляет
собой лишь некую абсолютную, обезличенную мощь, что кон-
1 Гегель. Там же, с. 437.
259
трастирует с нашим несравненно более богатым и конкретным
представлением о Боге. Именно поэтому для обоих
мыслителей естественным и неизбежным было не только
возникновение в разуме космологического доказательства, но и появление
потребности выйти за рамки полученного результата, перейти
к содержательному определению Бога, что и направляло разум
в сторону онтологического аргумента.
В то же время различия двух мыслителей в подходах к
интерпретации этого интереснейшего движения разума
проявляются уже с самого начала. Для Канта, в основе
космологического и онтологического доказательств лежат два
абсолютно разных, друг с другом не связанных самостоятельных
движения, совершающиеся даже по различным логическим
механизмам. Взаимопереход же начинается за пределами
этих движений, а вместе с тем, и за пределами логической науки
вообще1. Осуществив восхождение к абсолютно
необходимому существу, - утверждал философ, - человеческий разум,
испытывает потребность в его всестороннем определении.
В противном случае, у нас будет наибеднейшее понятие
высшего существа, которое, строго говоря, не будет серьезных
оснований именовать субъектом. В итоге, разум «...озира-
етсЯу подыскивая понятие существа, для которого подходило
бы такое преимущество существования, как абсолютная
необходимость; он ищет такого понятия не для того, чтобы
затем априори умозаключить от него к его существованию, ...
а только для того, чтобы из всех понятий возможных вещей
найти то, в котором нет ничего, противоречащего
абсолютной необходимости»2. Таковым понятием оказывается
понятие всереальнейшего существа - исходного пункта в движе-
нии онтологического аргумента.
1 См подробнее Сорвин К.В. За пределами классической логики:
взаимообусловленность космологического и онтологического аргументов //
Философия Канта в критике современного разума. Сборник статей. М.:
Русская панорама, 2010, с. 161 - 185.
2 Кант. Критика чистого разума. - СПб., 1993, с. 348.
260
Обратим внимание на терминологию, посредством
которой Кант описывает механизм перехода космологического
аргумента в аргумент онтологический. Не правда ли,
весьма странно при описании логически закономерных
движений разума встретиться с действием, определенным таким
словом, как «озирается»? Однако столь неадекватное для
решения поставленных задач определение вырвалось
(буквально!) у философа отнюдь не случайно и ярче всего
свидетельствует о потере им прежней исследовательской канвы,
о переходе с изучения описываемых в категориях строгой
(традиционной!) логики закономерных действий разума на
изучение функций, стоящих по ту сторону классической
логической науки. В рассматриваемом фрагменте философ
буквально воочию столкнулся с явно закономерным движением
разума, которое, однако, не могло быть описано в категориях
и понятиях классической логической науки. Не удивительно
поэтому, что великий реформатор классических
представлений о сути логической науки Гегель в решении этого вопроса
изберет какой-то радикально иной путь.
Что касается самой возможности содержательного
развития понятия абсолютно необходимого существа в понятие
существа всереальнейшего, то, несмотря на явное противоречие
этого движения канонам формальной логики, запрещающей
появление в умозаключениях нового, аналитически не
связанного с исходными понятиями содержания, такой переход
рассматривается Гегелем как допустимый, закономерный и
логически корректный. Все дело в том, что создававшаяся им
диалектическая логика, будучи логикой креативного мышления,
не просто не запрещала, но утверждала и обосновывала
способность мышления самостоятельно порождать новое,
аналитически не выводимое из существующих понятий знание. Для
Гегеля Кант навсегда остался мыслителем, почувствовавшим
подобную способность (например, в учении о синтетических
учениях априори), однако остановившимся на полпути, так и
261
не доведшим до системной реализации свое открытие. И
движение понятия, явившегося итогом космологического
аргумента в сторону понятия, представляющего собой исходный
пункт доказательства онтологического, было для нашего
автора лучшей иллюстрацией верности подобного подхода.
«...Определение так называемого наиреальнейшего
существа легко вывести из определения
абсолютно-необходимого существа или, если угодно, из определения бесконечного...,
ибо любая ограниченность содержит в себе соотношение с
иным и потому противоречит определению абсолютно
необходимого и бесконечного»1. Таким образом, не сугубо внешний
переход, когда «разум оглядывается в поисках понятия,
наиболее подходящего для определения абсолютно
необходимого существа», а имманентное развитие категории абсолютной
необходимости является для Гегеля основой этого, во-первых,
закономерного и естественного, во-вторых, логически
корректного движения разума. С этих позиций философ и дает
отповедь кантовской критике рассматриваемого перехода: «...Если
из развития всего содержания в определении абсолютно
необходимого существа вытекают вследствие правильного
умозаключения дальнейшие определения, что же можно
противопоставить принятию их и убежденности в их правильности?»2.
Выше мы уже говорили, что кратко сформулированный
в космологическом аргументе переход конечного в
бесконечное был подробно развернут в двух томах «Науки логики».
Нечто подобное можно обнаружить и в рассматриваемом
случае: движение от содержательно бедной категории абсолют-
1 Гегель. Лекции о доказательстве бытия Бога //Гегель. Философия
религии, т. 2. М., 1977, с. 405.
2 Там же, с. 405. Похожая ситуация (правда, без введения понятия
«всереальнейшего существа», взятая, что называется, в своем «чистом
виде») описывается и в «Науке логики», в которой категория «абсолютной
необходимости» знаменует собой завершение «Объективной логики» и
начало перехода в «логику Субъективную», где главным вектором развития
становится самополагание понятия.
262
но необходимого существа к всестороннему определенному
понятию составляет основной стержень в развитии первого
раздела третьего тома «Науки логики», названного
философом «Субъективность». И именно в завершении этого раздела
появляется потребность в переходе субъекта в объект, то есть
в совершении подлинного онтологического перехода. Таким
образом Гегель как бы достроил недостающий в кантовской
философии фрагмент и категориально строго, с позиций
диалектической логики, описал переход от содержательно бедной
категории абсолютной необходимости к всесторонне
определенному понятию.
Проделав этот путь, Гегель получает возможность по-
новому взглянуть на саму проблему взаимопереходов двух
основных метафизических силлогизмов, обнаружив в этом
явлении совершенно новый смысл. Обращаясь к итоговым
выводам каждого из них - «бытие - первоначально определяемое как
конечное - бесконечно» и «бесконечное есть» философ делает
принципиальный вывод об их логической симметричности: то,
что является утверждением одного, оказывается
предпосылкой другого. Действительно, космологическое доказательство
начинает с предельно абстрактного бытия, и путем
умозаключений приводит его к определению бесконечности. Напротив,
онтологическое доказательство начинает с абстрактного
определения бесконечности (ибо всереальнейшее существо - это
существо ничем не ограниченное, а значит и бесконечное) и в
итоге утверждает необходимую присущность этой
бесконечности определениям бытия.
Для обыденного (нерефлексивного) сознания,
принимающего категории в качестве неких априори заданных очевид-
ностей, путь космологического доказательства
представляется наиболее естественным и беспредпосылочным. Однако
стоит встать на спекулятивную точку зрения, и, вслед за
Гегелем, потребовать дедукции всех категории (определений)
мышления, как сама категория бытия становится чем-то та-
263
ким, что также требует собственного обоснования. Ведь
говоря «бытие», мы тем самым уже наполняем эту категорию
неким содержанием, а откуда берется уверенность в том,
что данное содержание является истинным? Любое
доказательство должно исходить из некоей твердо установленной
предпосылки и далее присоединять к ней некий предикат. Но
является ли истинным исходное, принимаемое нами a priori,
содержание такой предпосылки? Находясь в мире конечных
вещей и отношений, мы всегда можем отодвинуть это
обоснование в некую смежную «метасферу», перепоручив ей
заботу о наших началах. Однако на каком-то этапе это движение
должно достичь предела. Для Гегеля (да и не только для него)
этим пределом являются категории, «за спиной» у которых
уже нет ничего, более абстрактного и всеобщего. В этой
сфере, очевидно, традиционные обоснования предпосылок уже
невозможны. «...Сама природа суждений, подобных
приведенным, - писал философ, - делает невозможным их
подлинное (т. е. классическое. - К.С.) доказательство»1.
В такой ситуации и получается, что единственное, на что
может опереться предпосылка одного доказательства, так это
на результат другого. Вследствие чисто бессознательного
ощущения потребности в подобном обосновании и возникли,
согласно Гегелю, эти два типа доказательств, а также образующий
своеобразный логический круг их взаимопереход, блестяще
зафиксированный, но... не понятый Кантом. Этот
взаимопереход представляет собой реализацию естественной
потребности разума, неосознанно пробивавшей себе дорогу в истории
религиозной и философской мысли.
Поэтому, в отличие от Канта, для которого часть
метафизических доказательств была естественным, а другая часть
искусственным действием разума, но при этом все они были
одинаково ложны, для Гегеля они, во-первых, все являются ес-
1 Гегель. Лекции о доказательстве бытия Бога //Гегель. Философия
религии, т.2. М., 1977, с. 415.
264
тественными, во-вторых, все являются по содержанию
истинными, в-третьих, и это, быть может, самое важное, они
являются не самостоятельными дискретными движениями разума,
а имеют смысл только будучи взяты все вместе, то есть в
качестве системы доказательств. Ложной же во всех этих
доказательствах была их формау благодаря которой могла возникнуть
видимость их самостоятельности и самодостаточности. Эта
неадекватная форма и оказывается в эпицентре критических
размышлений философа, в ходе которых, в конечном итоге,
появляются и контуры его собственного позитива.
Присмотримся же внимательнее к гегелевскому пониманию «истинной
формы» этого взаимообоснования.
Итак, потребность разума в обосновании предпосылок
обоих суждений очевидна, но столь же очевидна и
непригодность стихийно возникшей формы этого обоснования
- формы обычного (недиалектического) логического круга, со
времен античности раскритикованной классиками этой
науки. Какой же выход из этой ситуации предлагает Гегель? Еще
только создавая свою систему, он встал перед проблемой, по
сути своей тождественной той, с которой мы столкнулись в
данном пункте. Ведь с одной стороны, философия является
дисциплиной, по самой сути своей нацеленной на
критическое исследование априорных предпосылок любых сфер
знания и духовной культуры вообще. С другой, будучи формой
знания, она сама не может обойтись без предпосылок, что
делает весьма нетривиальной проблему ее самокритики. С
точки зрения Гегеля, в конечном итоге, об этот риф
разбивались величайшие метафизические системы, начиная от
учений древнейшей философии и кончая критической
философией современной ему эпохи. Даже последняя, в лице Канта
подвергнувшая критике наличные формы научного знания,
оказалась совершенно некритичной к самой себе, не сумев
отрефлексировать своих собственных исходных
положений. Именно поэтому поиск адекватной формы философской
265
системы, в рамках которой философия могла бы не только
быть критичной к другим областям знания, но и в ничуть не
меньшей степени к самой себе, становится одним из главных
векторов методологических размышлений начинавшего
выстраивать свою систему Гегеля. Итогом этих размышлений и
стала его знаменитая концепция «философского круга».
«Начало философии, - писал он в «Науке логики», -
должно быть или чем-то опосредованным, или чем-то
непосредственным-, и легко показать, что оно не может быть ни тем, ни
другим; стало быть, и тот и другой способ начинать находит свое
опровержение»1. Анализируя современные ему формы
рефлексии данной проблемы (прежде всего, концепцию Рейнгольда),
Гегель продолжает: «Понимание того, что абсолютно истинное
есть, несомненно, результат и что, наоборот, всякий результат
предполагает некое первое истинное, которое, однако, именно
потому, что оно есть первое, не необходимо, ...это понимание
привело в новейшее время к мысли, что философия должна
начинать с чего-то гипотетически и проблематически истинного, и
что философствование может быть сначала лишь исканием»2.
Однако, отдавая должное данному взгляду и признав, что в
его основе лежит истинный интерес к спекулятивной природе
философского начала, а также согласившись, что «...движение
вперед есть возвращение назад в основание, к
первоначальному и истинному, от которого зависит то, с чего начинают,
и которое на деле порождает начало»3, философ справедливо
указывает и на явную слабость этой позиции. Ведь при таком
подходе получается, что это движение самообоснования есть
нечто только предварительное и гипотетическое, еще не есть
познание в собственном смысле этого слова, а есть лишь
прелюдия к познанию. В итоге там, где начинается настоящее
познание, там заканчивается философия. Но ведь как раз такой
1 Гегель. Наука логики. М., 1970, т. 1, с. 123.
2 Там же, с. 127.
3Там же, с. 127.
266
разрыв исследования природы знания и самого познания был
одним из основных векторов упреков Гегеля Канту.
Согласно Гегелю, все должно обстоять радикально иначе.
Начало в этом движении не может быть произвольно и
случайно выбранной гипотезой, относительно которой впоследствии
все же оказывается, что мы поступили правильно, сделав ее
началом. И начало, и движение его самообоснования должны
быть связаны с самой сутью дела, вытекать из самой природы
и мышления, и вещей. Такое не произвольно выбранное
начало может быть только одно - это категория чистого бытияу
которое, с одной стороны, есть абсолютная непосредственность
(ибо оно есть то, что не опосредовано ни одним определением),
с другой стороны оно есть своеобразный предел
абстрагирующей, опосредствующей деятельности мышления. Целью же
подлинной философии является возвращение в подобное
абсолютное единство, которое и может быть достигнуто только в
категории чистого бытия, которая, тем самым, окажется
обоснованной. К этой цели в итоге и приходит Гегель на последних
страницах своей системы.
Таким образом, здесь можно сделать важный вывод:
исходный пункт системы «Энциклопедии философских наук»
принципиально тот же, что и исходный пункт
космологического доказательства бытия Бога, представленного в своем
адекватном виде. Более того, вся гегелевская система построена на
принципе того же круга, контуры которого как раз и начали
намечаться в историческом развитии космологического и
онтологического аргументов. Следовательно, гегелевское
исследование природы данного перехода - это как бы сокращенная
экспликация базовых положений всего учения философа, это
сама система, суженная до предела, это сам принцип системы,
представленный в своем «исторически первозданном» виде.
Подведем краткий итог всего вышесказанного. Как и
Кант, Гегель рассматривал космологический аргумент в качестве
естественного движения разума и, подобно предшественнику,
267
отводил этому движению фундаментальную роль не только в
философской, но и в религиозной истории человечества.
Однако, в отличие от автора «Критик», Гегель не просто не считал
данный аргумент онтологически ложным, но в его глубинном
механизме усматривал неотъемлемый элемент своего
собственного философского учения. Некорректной же в данной
концепции считалась только его классическая (рассудочная)
форма, неспособная передать главный, сокрытый смысл
космологического аргумента - естественное и неизбежное
исчезновение в Абсолютном конечного как в своей истине,
раскрытие конечного как момента бесконечного.
Обнаруженное Кантом встречное движение
космологического и онтологического аргументов было раскрыто автором
«Науки логики» в качестве особой диалектической формы их
взаимного обоснования, когда предпосылкой одного
доказательства оказывается результат другого. В итоге впервые была
высказана мысль об их внутреннем, системном родстве, о
самонедостаточности и «неистинности» каждого из них, взятого
в отдельности. С этого момента переход от космологического
аргумента к онтологическому перестал быть в данной системе
лишь данью исторической последовательности
возникновения философских идей и обрел статус диалектико-логической,
строго обоснованной процедуры.
Соответственно в новом свете предстал в гегелевской
философии и сам онтологический аргумент, который должен был
вписан в систему диалектико-логического круга.
Проблема онтологического доказательства бытия Бога
является одной их центральных для всей гегелевской системы.
В общей сложности, философ как минимум на пяти разных
уровнях и, соответственно, в пяти разных разделах, обсуждал
проблему онтологического аргумента. Первый раз он всерьез
обращается к ней в третьем томе «Науки логики», встав
перед необходимостью логически корректно объяснить переход
в объективность творящего себя самозамкнутого мышления
268
Бога. Второй раз он заговорит о вопросах, связанных с
темой онтологического аргумента, в самом конце «Науки
логики», где зайдет речь о логическом обосновании перехода идеи
в природу. В обоих случаях речь идет о раскрытии природы
Бога как творца мироздания. В третий раз об этом силлогизме
зайдет речь уже в «Философии религии», когда исследование
внутренней логики развития религиозных учений приведет
его к осмыслению базового принципа ветхозаветного
иудаизма о сотворении Богом мира из ничего. В возникновении этого
положения философ увидит проявившееся на уровне
массового сознания действие логического механизма
онтологического аргумента, подобно тому, как действующий столь же
бессознательно космологический аргумент сформировал в
религиозных учениях представление о бытии единого начала.
И только на четвертом уровне своего анализа, в «Лекциях по
истории философии», Гегель обратится к исследованию
причин возникновения и границ онтологического доказательства
в точном, буквальном смысле этого слова. Последний же раз
он мельком вспомнит про него в заключительных главах
«Философии духа», а также «Лекций по истории философии», где,
осмысливая свой собственный шаг в развитии метафизики,
прежде всего, свяжет его с формированием адекватной
(разумной) формы онтологического аргумента - формы, по сути,
совпадающей со всей, созданной им системой.
Если вновь продолжить сопоставление с Кантом, то
следует заметить, что при обсуждении проблематики
онтологического силлогизма у Гегеля возникают совершенно новые с ним
расхождения. Вспомним: хотя любой метафизический
силлогизм рассматривался Кантом как логически некорректный,
тем не менее, за космологическим доказательством им был
четко закреплен статус естественного движения разума, и
именно этот пункт оказался точкой согласия обоих мыслителей.
Напротив, онтологическое доказательство само по себе
трактовалось Кантом не как естественное, а как сугубо искусственное
269
изобретение схоластики, исказившее подлинный вектор
движения разума, и вот как раз с этой оценкой категорически не
был согласен его оппонент.
Действительно, если мы имеем дело с искусственным
метафизическим силлогизмом, то совершаемое в нем движение
разума, согласно автору «Критик», оказывается бесплотным
пустоцветом, за пределами философии не играющим никакой
фундаментальной роли в духовной эволюции человеческого
рода. Напротив, естественно возникающий метафизический
силлогизм, то есть силлогизм, имеющий свои основания в
природе самого разума, порождает, ни много ни мало, ту или иную
форму религии, или даже становится основанием
формирования религиозного сознания вообще. Таким образом, для Канта
онтологический аргумент является бесплотной
интеллектуальной игрой, не оказавшей никакого влияния на религиозное
возвышение человечества. Гегель же, видевший в нем
глубинное интеллектуальное движение разума, напротив,
изначально связывал его не просто с религией, а религией христианской,
более того, видел в нем квинтэссенцию рефлексивных основ
всего христианского мировоззрения. Именно поэтому,
серьезнейшие размышления философа о сути интеллектуального
действия, называемого «онтологическим доказательством
бытия Бога» встречаются не только в его лекциях, специально
посвященных истории метафизических аргументов, и не
только в работах по истории философии, но также и в текстах,
традиционно относимых к области философии религии.
Вполне естественно ожидать, что подобная позиция
Гегеля должна была сказаться и на его отношении к исторически
сложившимся формам онтологического доказательства. Если
основной гегелевский упрек в адрес традиционных
вариантов космологического аргумента был связан с рассудочным
характером их формы, с отсутствием в ходе их развертывания
диалектических переходов и скачков, то очевидно, что
подобные упреки в адрес онтологического доказательства были явно
270
невозможны - диалектики в этой традиции явно хватало!
Более того, нарушение в онтологическом силлогизме всех правил
формальной логики было едва ли не самым давним и самым
распространенным доводом в пользу его некорректности. И
великий диалектик Гегель, конечно же, не мог не оценить по
заслугам это формирование диалектических элементов в
исторической эволюции онтологического доказательства, увидев
в них первые подходы к теоретическому постижению
мышления как тотально творческой, креативной деятельности. То,
что традиционно считалось слабостью онтологического
доказательства, в гегелевском понимании было как раз его силой.
Критические же стрелы в адрес сторонников
онтологического аргумента были выпущены им по иному поводу. «В
Ансельмовой форме доказательства предпосылкой по существу
является единство понятия и реальности; но именно это
обстоятельство делает такое доказательство неудовлетворительным
с точки зрения разума, ибо предпосылка есть то, что следует
доказать. Но то, что понятие себя в себе определяет, себя
объективирует, само себя реализует, - это дальнейшее понимание,
которое проистекает только из природы понятия и которого
не могло быть у Ансельма»1. Похожие на это критические
рассуждения мы встречаем и в адрес метафизики Декарта.2
В чем суть этого гегелевского упрека? Заметим, что
философ здесь вовсе не отвергает самой возможности подобной
дедукции бытия из понятия, а указывает лишь на то, что само
это единство понятия и реальности требует своего обоснования
и своего доказательства. Его нельзя предпосылать, оно должно
быть само обосновано. И именно это обоснование единства
понятия и реальности рассматривается Гегелем в качестве
истинной задачи и подлинной сути онтологического
доказательства - задачи, которая, естественно, не могла быть осознана
в адекватной форме в момент появления самого доказатель-
1 Гегель. Наука логики. М., 1970, т. 1, с. 221.
2 См. Гегель. Лекции по истории философии, т. 3, с. 333 - 334.
271
ства. Точно так же, как подлинной задачей космологического
аргумента в его понимании являлось теоретическое описание
процесса исчезновения конечного в бесконечном, что
первоначально было сокрыто за оболочкой классического
силлогизма, доказывавшего бытие Бога, исходя из бытия мира.
Таким образом, смысл онтологического доказательства
изначально виделся Гегелю гораздо шире, нежели просто переход
от идеи всереальнейшего существа к его бытию. Главным для
него здесь оказывается не это, пусть и бесконечно значимое,
но все же частное движение, главным для него здесь является
сам принцип объективации субъекта, сам переход
субъективности в объективность. Отсюда вытекало и отношение философа
к классическим формам онтологического доказательства.
Попытка дедукции бытия из понятия всереальнейшего
существа представляла собой лишь исторически преходящую форму, а
вовсе не суть онтологического аргумента. Задача последнего
виделась ему гораздо шире - теоретическое соединение
осознавшего свою бесконечную свободу и внутреннюю глубину
разума с объективным, реально существующим миром, а значит
и с Богом, как его основанием.
Не удивительно поэтому, что Гегель практически
проигнорировал исследованный Кантом логический механизм
порождения разумом идеи всереальнейшего существа
(трансцендентального идеала). С его точки зрения Кант принял
исторически преходящую форму онтологического аргумента
за его истинный и единственный вариант, благодаря чему не
заметил присутствующий в этом движении бесконечно
более значимый и глубокий смысл. Поэтому, хотя шаг Канта
действительно был значим, его исследование механизма
порождения разумом идеи всереальнейшего существа далеко
не исчерпывало всей глубины онтологического силлогизма.
Правда, здесь не следует забывать, что это «непонимание»
самим Кантом было вызвано отнюдь не случайными
причинами, ибо он как поистине великий философ был абсолютно
272
точен и абсолютно прав в рамках тех постулатов и
предпосылок, которые им были приняты изначально раз и навсегда.
Ведь преодоление пропасти, разделяющей субъект и объект, в
кантовской философии было принципиально невозможным
для рационального познания актом - в противном случае он
должен был признать за человеческим мышлением
способность творить не только идеи, но и само бытие, причем бытие
самого Бога! А это был бы уже не Кант.
В таком случае задача Гегеля действительно
переносится в новую плоскость, ибо теперь для раскрытия «истинной
формы онтологического аргумента» - той самой формы, что
лишь проглядывала и угадывалась сквозь его более ранние
модификации - требовалось, в первую очередь, обосновать
истинное, а не мнимое начало этого силлогизма. После всего
выше сказанного нетрудно догадаться, что таким началом
уже не могла быть какая-то частная идея, существующая в
разуме человека, ей может быть только сама бесконечная
идея, явившаяся результатом движения достигшего
разумной формы космологического аргумента, сама субъективность,
взятая в своем наиболее полном, предельно развитом виде.
Но каким же образом Гегель описывает и обосновывает сам
онтологический переход? Это - последний вопрос, который
нам осталось вкратце разобрать.
Так исторически сложилось, что в интерпретациях
гегелевской логики постоянно подчеркивается наличие в ней
диалектических скачков, качественных переходов. И это верно, но
в не меньшей степени верно и обратное: одним из важнейших
отличий «Науки логики» от предшествующей ей метафизики
является как раз тот факт, что каждый такой скачек
подготавливается и опосредуется множеством плавных, порой едва
заметных переходов. Именно благодаря этому он выглядит не как
неожиданный парадокс и даже диалектический фокус, но как
обоснованное и неизбежное интеллектуальное действие,
вытекающее из самой сути предмета. Ярчайшим тому примером
273
может стать разобранный нами выше космологический
аргумент: переход от относительного и конечного бытия к бытию
абсолютной и бесконечной реальности, в классических
вариантах данного силлогизма свершавшийся посредством всего
нескольких предложений, в гегелевском варианте
оказывается, по сути, опосредован всем содержанием двух первых томов
«Науки логики». Но именно поэтому данный переход выглядит
не как логический трюк, а представляет собой обоснованное
движение диалектической мысли. Нечто подобное наблюдаем
мы и в рассматриваемом пункте гегелевской системы:
онтологический переход, призванный разрешить фундаментальную
философскую проблему и обосновать единство мышления и
бытия, начинается с едва заметного шага: понятие не
переходит в объект, а лишь оказывается объектом, достигнув в своем
развитии высшей формы умозаключения.
Наверное, вся парадоксальность онтологического
аргумента, в конечном счете, сводится к одному: сам переход
мышления в бытие, сознания в реальность, духа в материю
для недиалектического разума выглядит как чудо. Именно
поэтому сама мысль о его строгом обосновании
воспринимается в качестве полного абсурда, ибо чудо как раз есть то,
что по определению не может быть рационально объяснено.
Но как раз никакого чуда не происходит в данном пункте
гегелевской системы: понятие вовсе не творит объект, как себе
нечто противоположное, не создает, нарушая все физические
запреты, из духа материю, а как бы «застывает»,
«окостеневает» в ней. Оно не переходит в объект, оно становится им.
И лишь дальнейшее развитие этого «застывшего» понятия
приведет к формированию противоречия между субъектом
и объектом, духом и материей, противоречия преходящего, а
потому и снимающего себя.
Понятие - это абсолютная реальность, замкнутая на себя
и достигшая высшей формы внутреннего развития. Но
именно эта высшая форма, в рамках которой исчезает различие
274
между опосредуемым и опосредованным, причиной и
действием, началом и концом, твореньем и творцом, лишает его
структуры в стандартном, классическом смысле. «Объект, как
выяснилось, это - умозаключение, опосредствование
которого сгладилось и потому стало непосредственным тождеством»1. В
итоге то, что представляет собой, по своей сути, нечто самое
сложное и развитое, начинает обретать образ чего-то самого
простого и элементарного. Абсолютная реальность есть нечто
самозамкнутое, единое, но именно поэтому она есть единое,
одно. Она очень напоминает атом, с той лишь разницей, что
этот атом вмещает в себя весь мир. Один мир.
Гегель здесь справедливо упоминает теорию монад
Лейбница. Монады и есть самозамкнутые духовные сущности,
они неделимы, как не может быть разделено самосознание, но
именно своими отношениями они создают видимость своей
материальности. Монада для Лейбница одновременно и
бесконечно сложна, и абсолютно проста, и в этом нет
надуманного, искусственно созданного парадокса. Атом и
человеческое Я - вот две принципиально неделимые реальности мира,
но если первый неделим в силу своей абсолютной простоты,
то второе неделимо в силу своей бесконечной сложности. И,
наверное, одной из главных заслуг Лейбница и была та
глубочайшая мысль, что душа, достигнув своего наивысшего
развития и став самой сложной реальностью в этом мире,
может обрести вид самого простого. По сути, с этого момента
в философии по-настоящему начинает появляться проблема
отчуждения. Эту идею Лейбница и берет за основу Гегель в
данном пункте своей системы.
Возникший таким образом объект, с точки зрения своей
логической определенности, соответствует категории бытия, с
той лишь разницей, что теперь у него появляется как бы
«второй план» - его подлинная идеальная основа. Дальнейшее
развитие сферы «объективности» проходит стадии механизма,
1 Наука логики, том 3, с. 160.
275
химизма, телеологии и, наконец, идеи. По своему содержанию
данное движение вновь оказывается соответствующим смыслу
достигшего «разумной формы» космологического аргумента:
самое простое и абстрактное, обнаруживая и раскрывая свою
неустойчивость, переходит к более глубоким определениям,
пока, наконец, не достигает стадии абсолютной идеи,
понимаемой как «единство понятия и реальности». Результат
данного движения оказывается весьма схожим и с итогом первого
развития по логике космологического аргумента, только
теперь в самозамкнутую систему оказывается включенным и то,
что мы назвали «вторым планом». Соответственно, и
онтологический переход теперь уже не может совершиться в стихии
чистой мысли, и идея порождает, точнее говоря, становится
природой. Так возникает предпосылка для третьего витка
космологического аргумента: восходя от простейших
механических объектов, имеющих лишь «бытийные» характеристики,
природа в своем развитии доходит до формирования новой
самозамкнутой идеальности - человеческой духовности.
Теперь содержательное развитие происходит внутри
данной сферы. Абсолютная необходимость как итог
космологического аргумента представляла собой «в себе» свободу,
однако переход от «в себе» к «для себя» представляет собой целый
процесс, развернутый в разделе «Субъективное понятие».
Точно так же и человеческая духовность, лишь возникнув, отнюдь
еще не является свободной. Первоначально представляя собой
лишь духовную субстанцию, эта сфера, пройдя историческое
развитие продолжительностью в несколько тысячелетий,
приходит, в итоге, к формированию человеческой субъективности
в точном смысле этого слова. Эта субъективность осознала
свою бесконечную свободу, но вместе с тем и абсолютную
самозамкнутость, она оказывается подобной субъективному
понятию, развившемуся внутри себя и стремящемуся прорвать
свой предел. Так в третий раз в гегелевской системе возникает
предпосылка для онтологического перехода. При этом в сфере
276
человеческого духа данная предпосылка проявляется двояко.
Во-первых, она проявляется в формировании нового образа
божества, которое начинает мыслиться как всемогущее начало,
творящее мир из ничего, что представляет собой осознанный
в религиозной форме онтологический переход. Во-вторых, в
сфере самосознания, человек осознает собственное Я в
качестве носителя всех высших принципов и критериев, реальность,
детерминированную исключительно собственным знанием и
собственной волей. И если первый аспект реализуется в древ-
неиудейской религии, то второй возникает в рамках позднего
эллинизма, духовная атмосфера которого не случайно была
охарактеризована Гегелем как «несчастное сознание».
Соответственно и онтологический переход, теперь уже
третьего уровня, предполагает встречное движение этих двух
сфер. Религиозный миф о сотворении мира из ничего
дополняется теперь мифом о вочеяовечивании Бога и, соответственно,
о божественности осознавшего свою свободу человеческого
Я. Человеческая мысль более не представляет собой
самозамкнутую тотальность, ей вновь открыт для познания и
деятельности мир. Однако условием этой открытости становится
теперь осознание единства божественной и человеческой
природы, которое также может мыслиться на разных уровнях
всеобщности и глубины. Самый первый шаг - понимание этого
единства как особого события, состоявшегося в определенный
исторический период и реализованного в одном определенном
субъекте - Богочеловеке. С этого, пока еще абстрактного акта
веры, начинается восхождение человечества к предельно
всестороннему и конкретному пониманию и реализации данного
принципа. Божественность человека означает, согласно
Гегелю, приобщенность его к свободе, и именно принципы свободы
начинают все более прорастать в государствах, возникших в
рамках христианского мира. Таким образом, вновь, теперь уже
в четвертый раз, на очередном витке формирования системы,
свершалось движение по логике космологического аргумента.
277
Божественность человека, прежде всего, проявляется в
божественности его духа, его мысли. В течение всего
Средневековья происходила в философии борьба разума и веры, и
разум начал одерживать победу лишь тогда, когда рефлексивное
единство божественной и человеческой природы в его рамках
стало осознаваться на более общем и глубоком уровне, чем это
происходило в рамках веры. Лишь тогда возникла предпосылка
для появления в философии онтологического доказательства
бытия Бога в его явном, непосредственном виде. По меткому
замечанию Франка, оно не является доказательством в
строгом смысле этого слова, оно представляет собой
«самообнаружение абсолютного в человеке».1 Соответственно, оно и может
возникнуть лишь в рамках мировоззрения, рассматривающего
человека в качестве момента абсолютного. Не случайно Гегель
называл это доказательство «единственно христианским». Но
чтобы этот подлинный смысл онтологического аргумента был
обнаружен, также нужно было время. И не только его явные
сторонники, но и критики, вроде Канта и Фихте, в других
плоскостях развивавших рефлексивную теорию, подготовили
почву для гегелевского шага в этом вопросе, органически
соединившего онтологический аргумент с его вечным спутником
и антиподом - космологическим доказательством бытия Бога.
Этот гегелевский шаг мы и попытались кратко рассмотреть и
проанализировать в настоящей статье.
В завершение хотелось бы отметить, что в определенном
смысле в данном вопросе Гегель завершил дело, начатое еще
Декартом. За два столетия до автора «Науки логики» этот
мыслитель прекрасно почувствовал, что онтологический аргумент
явно содержит в себе более глубокий смысл и более глубокое
предназначение, чем быть лишь дополнительным фактором
укрепления веры и в качестве внутреннего элемента включил его
в свою систему. Как мы видели выше, всю гегелевскую филосо-
1 Франк С.Л.. Онтологическое доказательство бытия бога // http://lib.
ru/HRISTIAN/FRANK_S_L/bytie.txt
278
фию можно назвать доведенной до разумной формы системой
космологического и онтологического аргументов, равно как и
последнюю можно назвать гегелевской системой,
сконцентрированной в нескольких предложениях. Об этой особенности
рассмотренной системы следует помнить во всех попытках ее
критического осмысления, использования и развития.
B.C. Возняк
Некоторые размышления о категориях «рассудок»
и «разум» в «Феноменологии духа» Г.В.Ф. Гегеля
Проблема соотношения рассудка и разума является
сквозной в русле истории философии («dianoia» и «nous», «ratio» и
«intellectus», «Verstand» и «Vernunft»). По Шеллингу, самая
большая ошибка - считать «подчиненный рассудку разум самим
разумом». А ведь «то, что многие философы до нас и почти все,
считающие себя таковыми, теперь называют разумом,
относится еще к сфере рассудка»1. - Верное и весьма полезное
замечание. Только вряд его можно отнести к творчеству юношеского
друга Шеллинга - Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.
В философии Г.В.Ф. Гегеля мы встречаемся с наиболее
системно разработанной концепции рассудка и разума во
всей западноевропейской философии. Гегель продолжает
традиционное для его непосредственных предшественников
(И. Канта, И.Г. Фихте, Ф.В.Й. Шеллинга) различение рассудка
и разума, но уже на почве сознательно выраженного и
тщательно категориально отрефлексированного
диалектического способа мышления. Гегель отнюдь не отвергал рассудок как
необходимый тип мышления: однако Гегель пытался его по-
1 Шеллинг Ф.В.Й. Бруно, или о Божественном и природном начале
вещей. Беседа / Пер. с нем. М.И. Левина // Сочинения: в 2 т. / Сост., ред., авт.
вступ. ст. A.B. Гулыга. - М.: Мысль, 1987. - Т.1. - (Философское наследие).
- С. 560.
279
пять, то есть - увидеть глазами разума. Он писал:
«Уразумение того, что диалектика составляет природу самого
мышления, что в качестве рассудка оно должно впадать в отрицание
самого себя, в противоречие, уразумение этого составляет
одну из главных сторон логики»1. Гегель не просто постоянно
утверждал превосходство разума по сравнению с рассудком.
Он природу разума, способ осуществления его мощной
творческой силы обосновал логически, построив диалектическую
логику как логос осуществления разума движением
категорий и их связей. При этом Гегель показал и объяснил, как
можно и нужно мыслить противоречие, сочетание
противоположностей - и это дело именно спекулятивного разума.
Следующие рассуждения Гегеля из «Предисловия» к
«Феноменологии духа» часто цитируют, но не всегда адекватно
понимают: «Рассудочная форма науки - это всем
предоставленный и для всех одинаково проложенный путь к ней, и
достигнуть при помощи рассудка разумного знания есть
справедливое требование сознания, которое приступает к науке, так
что рассудок есть мышление, чистое "я" вообще; и
рассудочное есть уже известное и общее для науки и ненаучной
сознания, благодаря чему последнее в состоянии непосредственно
приобщиться к науке»2. По моему мнению, эти слова следует
понимать сугубо конкретно: прежде всего здесь Гегель
выступает против некоторой эзотерики Шеллинга и его
последователей. Однако вряд ли сам Гегель серьезно считает, что именно
с помощью рассудка можно подняться до уровня его
собственной, гегелевской, Науки и что именно почтенному рассудку
стоит поручать дело адекватного восхождения ступеньками
«Феноменологии духа» как науки об опыте сознания. При этом,
как известно, Гегель отнюдь не ограничивает себя в инвекти-
1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук / Пер. с нем. Б. Столпнер.
Т. 1. Наука логики. - М.: Мысль, 1974. - (Философское наследие). - С. 96.
2 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г. Г. Шпет //
Сочинения . М. : Соцэкгиз, 1959. - Т. IV. - С. 7.
280
вах в адрес рассудка, здравого смысла именно в «Предисловии».
Вспомнить хотя бы: рассудок «дает только оглавление к
содержанию, но не дает самого содержания»1. Или же: «Вместо того,
чтобы вникнуть в имманентное содержание дела, этот
рассудок всегда просматривает <...> целое и стоит над единичным
наличным бытием, о котором он говорит, т. е. он его вовсе не
видит <...>. Научное познавание, напротив, требует отдаться
жизни предмета или, что то же самое, иметь перед глазами и
выражать внутреннюю необходимость его»2.
Итак, Гегель отнюдь не утверждает, что «рассудочная
форма науки» - самая правильная и единственно необходимая, он
говорит иное: нельзя пренебрегать такой формой, чтобы
изучить науку, нельзя пренебрегать рассудком на пути
восхождения к разуму. Ведь рассудочнось является разумностью лишь
в качестве «некоторого становления»3. Опора на рассудок -
«справедливое требование сознания». И не более. Разве Гегель
призывает ограничиться «рассудочной формой науки», отдать
всецело предпочтение именно ей? И странно было бы
обвинять немецкого мыслителя в том, что современные школьные
(и университетские - туда же) учебники окромя рассудочной
формы ничего не ведают (а их авторы не только не различают
рассудок и разум, они и слов-то таких не знают), а потому и
написаны так, что напоминают, как говорил Ф.Т. Михайлов,
«инструкции по пользованию бытовыми приборами».
Путями рассудка и исключительно рассудка не достичь
действительной, настоящей - логической - необходимости, которая
состоит в том, чтобы «быть в своем бытии своим понятием»4.
В немецком языке слово "Verstand" (рассудок) происходит
от глагола "ver-stehen", то есть - понимать. Русское же
"рассудок", по мнению П.П. Гайденко, более соответствует немецко-
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г. Г. Шпет //
Сочинения . М. : Соцэкгиз, 1959. - Т. IV. - С. 28.
2 Там же. -С. 29.
3 Там же. -С. 30.
4 Там же.
281
му "Urtail" - суждение1. Понимание, способность мышления
как способность владеть понятиями, Кант, Фихте и Шеллинг
связывают именно с рассудком (Verstand). Гегель же делает
радикальный поворот в переосмыслении самого понимания: на
уровне рассудка мы еще не имеем дела с понятием как
таковым, здесь - лишь общие представления. Понять же, выразить
в понятии, по Гегелю, - значит преодолеть рассудочную
односторонность и схватить внутреннее единство различных (в
том числе и противоположных) определений в высшей форме
понимания, в спекулятивном разуме. Понятия в гегелевской
интерпретации выступает единством противоположностей,
единство всеобщего, особенного и единичного, и только тогда
оно постигает истинное.
Как известно, Шеллинг не смог понять новой философии
своего старого друга. Преодолев лишь предисловие к
"Феноменологии духа", Шеллинг пишет Гегелю: «я признаю, что не
понимаю смысла того, почему ты противопоставляешь
понятие интуиции (Anschauung). Не можешь ведь ты
подразумевать под понятием нечто иное, чем то, что мы с тобой
называем идеей, которая, с одной стороны, является понятием, а с
другой - интуицией»2. Однако в своих «Мюнхенских лекциях
по истории новой философии» Шеллинг вообще оценивает
философию Гегеля как «эпизод» и довольно резко
противостоит гегелевскому пониманию «понимания». Гегель
считает, что общая задача философии заключается в том, чтобы
вывести человека за пределы представления, т. е. мышления,
ограниченного рассудком. Шеллинг соглашается с этим
пунктом в том плане, что философия ничего не должна
принимать как наличное и не подвергать рефлексии только данное.
Однако при этом Шеллинг считает, что если высшие отноше-
1 Гайденко П. П. Философия Фихте и современность. - М. : Мысль,
1979. - С. 81.
2 Шеллинг - Гегелю. Мюнхен, 2 ноября 1807 г. / Работы разных лет: в
2 т. - М.: Мысль, 1971. - Т. 2. - (Философское наследие). - С. 283.
282
ния, через которые мир становится понятным, не могут быть
приближены к представлению и стать ему понятными, что
если они вообще - над всяким представлением, то надо
искать какую-то не связанную с природой философию. И далее
Шеллинг высказывается вполне определенно: «тот, кто хочет
подняться над всеми естественными понятиями под
предлогом того, что это лишь конечные рассудочные определения,
сам лишает себя всех органов понимания, ибо понятным нам
может все лишь в этих формах»1. - Итак, Шеллинг остается
на своей позиции: понять - значит выразить в рассудочной
форме; рассудок - орган понимания.
Гегель же «изобретает» другой, сверх-рассудочный «орган
понимания» - «спекулятивное понятие» как истинную форму
движения ума, благодаря которому мы и становимся способными
в истинном смысле слова понимать. И понимать наиболее
непонятное - бесконечность, присутствие всего во всем, Абсолют,
Божество. Гегель шеллинговское «парение» силы воображения
между конечным и бесконечным заключает вовнутрь понятия.
Только все дело в том, что, как отмечает И.А. Ильин, для
понимания «спекулятивного понятия» надо прежде полностью
отказаться от того, что называется «понятием» в обычной логике.
Если слово «Verstand» (рассудок) происходит от глаголи
«ver-stehen», то «Vernunft» (разум) - от «vernehmen»
(внимание). A.B. Ахутин пишет: «Только феноменологически
выученный и настроенный слух услышит в греческих voue, (обычно
переводимые как ум, мышление) прежде vernehmen - восприятие,
в-нимание; тот же слух заметит и простейшее: «сам» Vernunft
(Разум) произведен от этого vernehmen (внимание)»2.
В «Феноменологии духа» рассудок и разум предстают как
определенные формообразования сознания на пути его дви-
1 Шеллинг Ф.В.Й. К истории новой философии (Мюнхенские лекции)/
Пер. с нем. М.И. Левина и A.B. Митхайлов // Сочинения : в 2 т. / Сост., ред.
A.B. Гулыга. - М.: Мысль, 1989. - Т. 2 - (Философское наследие). - С. 528.
2 Ахутин A.B. Античные начала философии. - СПб.: Наука, 2007. -
(Слово о сущем). - С. 178.
283
жения к абсолютному знанию. В «Логике» же эти категории
имеют несколько иное толкование: они являются
моментами развертывания самого логического. Гегель выделяет три
стороны логического: абстрактная, или рассудочная;
диалектическая, или отрицательно-разумная; спекулятивная, или
положительно-разумная. Причем эти моменты существуют
одновременно. «Логическое» у Гегеля, по мнению Александра
Кожева, означает не логическое мышление само по себе, а
Бытие, раскрытое (правильно) в мышлении и посредством
мышления, или речи (Логос). «Три упомянутые "момента" - это,
стало быть, прежде всего моменты самого Бытия,
онтологические, а не логические или гносеологические категории, и уж
конечно, не просто ухищрения исследовательского метода или
способа изложения»1. Эти моменты присущи самому Бытию, а
«структура мышления <...> определена структурой
раскрываемого им Бытия»2.
Итак, Гегель ни в «Феноменологии духа», ни в «Науке
логики» отнюдь не исключает рассудок. Правда, Ф. Энгельс считал,
что «больше всего Гегель презирал рассудок, а что это такое,
как не разум, фиксированный в своей субъективности и
единичности»3. Пожалуй, верным будет то, что Гегель не самый
рассудок презирал, а его чрезмерные претензии на полноту
истины, - хотя бывает ли рассудок без таких претензий?
Чувственная достоверность, восприятие, рассудок
являются формообразованиями сознания, просто сознания,
«внешнего сознания», по выражению А. Кожева (я бы сказал иначе: не
«внешнего сознания», а «сознания внешнего»). Рассудок
поднимается к восприятию закона, внутреннего вещей, различает
чувственное и сверхчувственное. Однако Гегель тут же замеча-
ет: «это внутреннее различие пока лишь исходит от рассудка и
1 Кожев Александр. Введение в чтение Гегеля. - СПб.: Наука, 2003. -
(Слово о сущем). - С. 554.
2Тамже.-С. 555.
3 Энгельс Ф. Александр Юнг. Лекции о современной литературе
немцев // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.: Изд. 2-е.- Т.1. - С. 476.
284
еще не установлено в самой сути дела. Следовательно, рассудок
провозглашает лишь собственную необходимость, - различие,
которое он, следовательно, проводит, только выражая в то же
время, что это различие не есть различие самой сути дела»1.
Итак, провозглашение лишь «собственной
необходимости» при неспособности воспринять и выразить объективную
необходимость развития существа дела, проведение
различения, которое не является «различием самой сути дела» -
особенность рассудка как собственно рассудка. Дело в том, что
рассудочная форма как таковая не рефлектирует внутри себя
как содержательно определенная. Она не рефлектирует
субъекту, действующему в пределах такой - рассудочной - формы,
своей культурно-человеческой, исторической
определенности. Именно в этом - огромная сила, мощь и преимущество
рассудка, и именно в этом - серьезная опасность, когда, рассудок
вторгается в запретные для него сферы. Рассудок твёрдо
держится именно своей формы, а посему откровенно
безразличен к нравственным и эстетическим измерениям
человеческого бытия (хотя способен весьма небескорыстно использовать
так называемые «ценностные ориентации», которые - всецело
продукт его грубых интеллектуальных усилий). Разумная же
форма рефлектирует внутри самой себя своей бытийствен-
ной (субстанциальной) содержательностью, она репрезентует
(и презентует - ибо дарит, а не отдает на временное
потребление, пользование, функционирование) субъекту его
собственное культурно-историческое бытие; она небезразлична к
нравственно-эстетическим измерениям человеческого бытия,
более того: нравственное самоопределение личности - сфера ее,
разумной формы, собственной «компетенции». Субъектная
интенция разума не позволяет в другом видеть лишь объект,
средство; она содержательно ориентирует внимание и
уважение к субъектности другого.
1 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпет //
Сочинения. - М.: Соцэкгиз, 1959. - Т. IV. - С. 84.
285
Поскольку мы вброшены в жизнь, полагает О. Розеншток-
Хюсси, мы вторгаемся в живое, текучее при помощи разума.
Поскольку же мы должны похоронить мёртвое, то при помощи
рассудка мы схватываем это мёртвое1. Кстати, такое
соотношение рассудка и разума является нормальным, эталонным - они
здесь «на своих местах». Но в реальной исторической
ситуации человека, который либо не нашел себя, либо уже потерял
(то есть, в условиях господства овещненного труда над живым,
отчужденной социальности над общественными индивидами,
абстракций - над жизнью) - рассудок берет верх над разумом.
А точнее - это недоразвитый, несовершенный разум
позволяет себе «орассудочиться», а рассудку - вершить свое злое дело.
Именно тогда рассудок стремиться убить живое или похоронить
его живьем, а продукты разложения незахороненного мертвого
смертельно отравляют пространство человеческого бытия.
Гегель в «Феноменологии духа» также связывает
деятельность рассудка с удержанием мертвого. И при этом считает,
что рассудок обладает абсолютной, изумительнейшей, величайшей
мощью. И это - именно Гегель, презиравший рассудок, по
словам Ф. Энгельса... Гегель отдает рассудку должное, - но
никоим образом не более того. «Деятельность разложения [на
составные части] есть сила и работа рассудка, изумительнейшей
и величайшей или, лучше сказать, абсолютной мощи.
Неподвижный, замкнутый в себе круг, как субстанция содержащий
свои моменты, есть отношение непосредственное и потому
не вызывающее изумления. Но в том, что оторванное от
своей сферы акцидентальное как таковое, в том, что связанное
и действительное только в своей связи с другим приобретает
собственное наличное бытие и обособленную свободу, - в этом
проявляется огромная сила негативного; это - энергия
мышления, чистого "я". Смерть, если мы так назовем упомянутую не-
1 Розеншток-Хюсси О. Бог заставляет нас говорить / Пер. с нем. и.
англ. А.И. Пигалев. - М.: Канон+, 1997. - (История философии в
памятниках). - С. 7.
286
действительность, есть самое ужасное, и для того, чтобы
удержать мертвое, требуется величайшая сила. Бессильная красота
ненавидит рассудок, потому что он от нее требует того, к чему
она неспособна. Но не та жизнь, которая страшится смерти и
только бережет себя от разрушения, а та, которая
претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа»1. Целостная жизнь
духа как духа, конечно же, допускает, терпит, но главное -
претерпевает рассудок.
В чем же природа этого абсолютного могущества
рассудка? В первую очередь - в сплошной ориентации на абстрактно-
общее и, соответственно, на использование. Рассудок не знает
и знать в принципе не может своей меры, посему от
является откровенно своемерным. Своемерие - логика рассудка, его
царство, его кодекс чести. Ведь сфера абстрактно-общего
поистине вездесуща: любую конкретность можно редуцировать к
абстрактному. Это ведь огромная, страшная сила - мерить
(исчислять, просчитывать, раскладывать по полочкам, файлам и
папкам) всё, не ведая при этом своей действительной,
объективной меры, пределов применимости. Именно здесь, именно
в этом - истоки самых существенных преимуществ рассудка,
способного «отрывать» и работать «в отрыве»,
самостоятельно, не взирая на иные измерения и проявления человеческого
бытия. Потому рассудочное, как таковое, способно, в конце
концов, работать и без непосредственного участия человека - в
первую очередь в современных информационных системах и
технологиях. Последние призваны радикально увеличить
человеческие возможности осуществления различных форм
деятельности, освобождая человека от несвойственных ему
функций. Однако, как это не раз бывало в человеческой истории,
человек становится рабом своих собственных изобретений, и
тогда не могучий рассудок обслуживает человеческую
жизнедеятельность, а наоборот.
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. ГГ. Шпет //
Сочинения. - М.: Соцэкгиз, 1959. - Т. IV. - С. 17.
287
Вина - не в рассудке как таковом, а в неразвитости самого
разума. Рассудок сам по себе не знает и знать не может своих
пределов (он так «устроен»); поставить их - дело и удел разума.
Лишь разум способен обуздать рассудок, задать ему цели и
заставить работать на них. По своей имманентной природе
рассудок - лишь Санчо Панса, и только. Прекрасно сказано об этом
у Гегеля: «Рассудок есть некий придворный, который угождает
настроением своего господина: он умеет разыскать основания
для оправдания всякой страсти, для всякой затеи, он является
преимущественно слугой себялюбия, всегда очень
проницательного в стремлении придать красивую окраску совершенным
или будущим ошибкам и часто восхваляющего самого себя за
то, что оно нашло для себя такую хорошую отговорку»1. То, что
рассудок преимущественно является слугою себялюбия - опять
не вина рассудка, а именно человека, редуцировавшего себя к
себялюбию или неспособного подняться над ним. Дело
рассудка - служить. Вся проблема в том - каким целям.
Полагание целей - суверенное право разума. Гегель
спрашивает: «Может ли высшая цель разума быть дана ему только
самим разумом, не противоречит ли глубочайшей сущности
его, если цель такая полагается для него извне или же
полагается чуждым авторитетом, - или же разум не способен ставить
себе цели?»2. И отвечает: всеми должен быть признан тот
принцип, что «никакая история, никакой авторитет не могут
ставить разуму его высшую цель»3. Но, к сожалению, разум очень
часто способен терять свою суверенность, и тогда рассудку
перепоручается функция полагания цели. Рассудок
узурпирует права разума, и сам разум становится слугой рассудочных
1 Гегель Г. В. Ф. Народная религия и христианство / Пер. с нем. Е.А.
Фролова // Работы разных лет: в 2 т. - М.: Мысль, 1970. - Т. 1. -
(Философское наследие). - С. 58.
2 Гегель Г.В.Ф. Позитивность христианской религии / Пер. с нем. Е.А.
Фролова // Работы разных лет: в 2 т. - М.: Мысль, 1970. - Т. 1. -
(Философское наследие). - С. 198-199.
3Тамже.-С. 199.
288
(утилитарных, убогих, партикулярных, корпоративных,
себялюбивых, вещных) целей. Разве история и современное
состояние - буржуазной по духу и формам проявления -
цивилизации не является ярким свидетельством такой инверсии?
Сила рассудка - в абстрагировании и в оперировании
абстракциями, среди которых он чувствует себя как рыба в воде.
Рассудок предстает способностью человека осуществлять
деятельность, абстрагируясь как от смысловых,
культурно-исторических измерений осваиваемой и преобразуемой
реальности (в рассудочном деле - используемой реальности), так и от
собственной общественно-исторической (то бишь -
человеческой) сущности. Подобная «отстраненность» рассудка
никоим образом не препятствует его «приземленности», наоборот:
именно она и позволяет ему быть нашим надёжным
поводырем в мире вещной повседневности.
В этом смысле рассудок, как замечает Н.В. Мотрошило-
ва, является «комплексным, сложным гештальтом духа, но это
пока своего рода слепой гештальт»1. Рассудок осуществляет
процедуры абстрагирования, но сам попадает в плен игры
объективированных абстракций. Слепота рассудка прежде всего
состоит в том, что он, вместе со своими предшественниками
(«чувственной достоверностью» и «восприятием»), относится
к предмету как к внешней вещи и не узнает себя в
действительности. Александр Кожев так определяет эту принципиальную
особенность «внешнего сознания»: «сознавая предмету Миру в
котором он живет, человек не знает, что тем самым он
осознает самого себя. Он не отдает себе в этом отчета, потому что
не знает, что он есть свое Действие и что он есть в своем
произведении, что его произведение и есть он сам. И не зная
этого, он думает, что произведение или предмет - это некоторое
Sein, определенное и устойчивое, существующее независимо
от него, нечто ему противопоставленное <...> Таким образом,
1 Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». Формирование
принципов системности и историзма. - М.: Наука, 1984. - С. 158.
289
этот предмет представляется ему <...> некоей определеннойу
постоянной, неизменной сущностью, осязаемой конкретной
формой. Соотнося себя таким образом с произведением, он и
себя самого понимает как <...> определенность и Gestalt
(форму, образ); в таком случае для себя самого Человек
становится наличной устойчивой вещью, обладающей определенными
постоянными качествами»1.
На уровне рассудка, и только рассудка, человек не
осознает, что окружающая его предметность так или иначе является
собственно человеческим миром, в том числе - и результатом
человеческого труда. Рассудок, считает А. Кожев, из принципа
тождества полностью и правильно раскрывает налично-дан-
ное-Бытие или естественную Реальность, то есть природный
мир, но при этом, исключая человека и его мир, социальный
или исторический2. - Однако, по моему мнению, это не совсем
точно: ведь рассудок может быть направлен и на человеческий
мир, мир человеческой культуры и цивилизации, но он видит
его не как человеческий, то есть редуцирует к обычной
вещности. В этом - определенное преимущество рассудка, но и его
существенная ограниченность.
В «Феноменологии духа» между рассудком и разумом
Гегель располагает такую необходимую «станцию» движения
духа, как самосознание. Переход от рассудка к разуму, от
сознания к самосознанию - это выяснение истины, содержащейся
в достоверности представления. Достоверность - это не
истина, истина в ней скрыта: «онтологически проблема
восприятия (восприятия как онтологической проблемы)
формулируется в вопросе: насколько адекватно мыслим мы бытие, если
мыслим его как восприятие вещей? Этот вопрос приводит нас
в "царство рассудка" (in das Reich des Verstandes), в котором
после долгих мытарств сознание, которое было еще до сих пор
1 Кожев Александр. Введение в чтение Гегеля. - СПб.: Наука, 2003. -
(Слово о сущем). - С. 284-285.
2Тамже.-С584.
290
"предметным" или "вещным", т. е. рассматривающем предмет
как нечто себе противопоставленное, вынуждено поставить
под вопрос саму эту противопоставленность, усомниться в ее
изначальности и безусловности. Тем самым оно встает на путь
превращения в самосознание»1. В самосознании граница
между сознанием и предметом стирается, хотя тут же и
восстанавливается, но уже не как непреодолимая: она преодолевается
именно тем, что снимается, сознание удостоверилась в том, что
вся реальность - в нем, и вся (целая) реальность - оно само.
А здесь уже мы можем иметь дело с таким
формообразованием духа, как разум. Гегель пишет: «разум стремится знать
истину, найти как понятие того, что для мнения и восприни-
мания есть вещь, то есть обладать в вещности только
сознанием себя самого. Разум теперь проявляет общий интерес к миру
потому, что он есть достоверность того, что он наличествует
в мире, или что наличность - разумна. Он ищет свое "иное"
зная, что обладает в нем не чем иным, как самим собой; он
ищет только свою собственную бесконечность»2. Однако этот
разум является пока весьма абстрактным - он просто
наблюдает. Наблюдающий разум - это не тот разум, который
полностью осуществился. Это разум, исключенный из деятельности,
чисто пассивное, но - разумное, созерцание. Следовательно,
это еще не является адекватно осознающим себя разумом; в
таком состоянии ему не подняться к духу, и он не идёт далее
понятия Жизни. Перед нами абстрактный разум. Человек
такого разума не осознает себя конкретным индивидом, потому
что наблюдающий разум является разумом отдельного,
асоциального индивида, едва распознаваемого на фоне чисто
биологической жизни. Человек такого разума не знает истории, его
жизнь является лишь абстрактной жизнью Мира, и мир для
1 Погоняйло А.Г. В дополнение к переводу / Кожев Александр.
Введение в чтение Гегеля. - СПб.: Наука, 2003. - С. 776.
2 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. ГГ. Шпет //
Сочинения. - М.: Соцэкгиз, 1959. - Т. IV. - С. 129-130.
291
него - лишь Природа. Разум наблюдает, верит, что мир
интересует его сам по себе, и он способен найти сущность вещей как
вещей. Следовательно, он не понимает сам себя1.
Рассудок созерцает, и разум созерцает, - точнее, -
наблюдает, но более внимательно (внимание - vernehmen) по
отношению к самой сути вещей, стараясь не привносить чего-то
только своего; рассудок же, в конце концов, как мы уже знаем,
провозглашает лишь собственную необходимость.
В то же время деятельностный характер присущ как
разуму, так и рассудку «разум есть целесообразное действование»2.
Только Трудом порождается Мышление и Рассудок, то есть
концептуальное постижение Мира3.
Гегель отмечает, что не просто «в себе»у но именно «для себя»
человек является собственно человеком «только как развитый
ум, который превратил себя в то, что он есть в себе. Лишь в этом
состоит действительность разума. Но этот результат сам есть
простая непосредственность, ибо он есть обладающая
самосознанием свобода, которая покоится внутри себя и которая
не устранила противоположности и не отвращается от нее, а
с ней примирена»4. Преобразование того, что есть «в себе»,
в состояние «для себя» является делом именно разума,
потому что понять самого себя (ту истину, что содержится в самом
себе) - это уже Vernunft5.
Разум в «Феноменологии духа» оказывается единством
сознания и самосознания* однако такое единство само движет-
1 Кожев Александр. Введение в чтение Гегеля. - СПб.: Наука, 2003. -
(Слово о сущем). - С. 98.
2 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпет //
Сочинения. - М.: Соцэкгиз, 1959. - Т. IV. - С. 11.
3 Кожев Александр. Введение в чтение Гегеля. - СПб.: Наука, 2003. -
(Слово о сущем). - С. 469.
4 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпет //
Сочинения. - М.: Соцэкгиз, 1959. - Т. IV. - С. 11.
5 Кожев Александр. Введение в чтение Гегеля. - СПб.: Наука, 2003. -
(Слово о сущем). - С. 82.
292
ся и развивается, поскольку высший и окончательный
синтез сознания и самосознания, по Гегелю, возможен лишь как
абсолютное знание, Наука. Из абстрактного состояния разум
должен подняться к конкретному своему бытию, сбыванию,
осуществлению, а это уже - дух.
Гегель в «Феноменологии духа», по мнению О.Г. Погоняй-
ло, выступает как первый критик всей предшествующей
новоевропейской парадигмы в понимании мышления, то есть
- пресловутого представляющего мышления. Таким образом,
Гегель десубстанциализует сознание.
Представляющее мышление (мышление представления,
так или иначе - рассудок) работает по модели «субъект -
объект». Хорошо об этом сказано у И.А. Ильина: «В то время, как
рассудочное мышление подходит к "понятию" как бы извне, со
стороны, как некоторому эмпирически данному и
подлежащему обработке содержанию, и само при этом остается функцией
субъективной человеческой души, - спекулятивное мышление
не характеризуется этими чертами. Обычная рассудочная мыспъ
образует "раз"; предмет ее образует "два". Мышление рассудка
есть схождение, сопоставление, соприкосновение двух сторон;
этот двойственный состав сохраняется на всем протяжении
мыслительного процесса, который и заканчивается
равнодушной, беспечальной разлукой. Мышление кардинально
оторвано от предмета, субъект - от объекта, познающий акт - от
познаваемого содержания. Субъект и объект не суть едино, хотя
и вступают в эфемерное единение. Субъект не растворяется
в объекте, объект не совпадает с субъектом, не сливается, не
отождествляется с ним. «Сознание человека» самобытно, как
самобытна и изучаемая "измеряемая" им "вещь"»1. - Разумная
(спекулятивная) мысль разрушает эти две отдельные
самобытности, полагая развертывание одной - самого бытия сквозь
человека и в человеке, собственно - человеком. Здесь самобытие
1 Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и
человека: в 2 т. - СПб.: Наука, 1994. - (Слово о сущем). - С. 54.
293
человека тождественно самобытию самого бытия. Точнее -
именно здесь подлинное событие, поскольку - со-бытие.
Для представляющего сознайия представленное является
чем-то отличным от сознания, но в понятии это различие
оказывается внутри сознания. По Гегелю, в мышлении предмет
движется не в представлениях или образах, а в понятиях, т. е.
в некотором различаемом в-себе-бытии, которое
непосредственно для сознания от него же не отличается.
«Представляющее сознание представляет себе себя как некую сущность,
субстанцию, противопоставленную субстанции вещей. В
разумном самосознании, или мышлении, эта
противоположность снята, т. е. сохранена как противоположность внутри
мышления. <...> Сознание тогда самостоятельно, когда оно
сознает свою несамостоятельность, знает себя сознаванием
вещей, тогда она, мысля "иное себя", остается у себя дома.
Субстанциальность сознания в том, что оно есть чистое
опосредование, а не какой-то "мыслящая субстанция"»1.
Таким образом, в «Феноменологии духа» категории
«рассудок» и «разум» играют несколько иную роль, чем в «Науке
логики», поскольку рассматриваются не как одновременные
моменты самодвижения мышления, а как необходимые
формообразования духа на пути овладения последним самим
собой как полноценной истиной бытия. Станция «рассудок»
является необходимым этапом такого становления для того,
чтобы подготовить почву для перехода к разуму, не минуя при
этом всех мытарств самосознания. Для того, чтобы, - вспомним:
«быть в своем бытии своим понятием», необходимо войти в
ситуацию подлинно «своего» - своего бытия, осознанного своего
бытия, т. е. войти в артикулированное самосознание.
Однако и «разум» не является ни конечным пунктом, ни
чем-то заранее приготовленным для вхождения субъективного
сознания в его подлинный эйдос, - разум является не прос-
1 Погоняйло А.Г. В дополнение к переводу // Кожев Александр.
Введение в чтение Гегеля. - СПб.: Наука, 2003. - С. 787.
294
то этапом, состоянием, формой. Разум - это определенный
способ самодвижения субъекта в процессе создания и адекватного
осознавания как мира, так и собственной сущности. Видимо,
таким образом можно истолковать следующие слова Г.В.Ф.
Гегеля: «Если бы разум перерыл все внутренности вещей вскрыл
им все жилы, чтобы хлынуть оттуда себе навстречу, он не
достиг бы этого счастья, а должен был бы сначала в себе самом
найти свое завершение, чтобы потом иметь возможность
узнать на опыте свою завершенность»1.
Относительно этой фразы из Гегеля можно заметить, что
тут мы имеем блестящую формулировку великого принципа
тождества мышления и бытия. Далее: мы получаем умное
определение счастья: хлынуть себе навстречу - из иного. Высшая
цель развития, - неоднократно отмечал Гегель в разных
работах, - возвращение к самому себе, уже иному и из иного, но -
именно к себе. И еще: не надо разуму тупо номиналистически
«перерывать все внутренности вещей» и вскрывать им всем жилы,
чтобы убедиться еще раз: «мы с тобой одной крови».
Процедура копания во внутренностях имеет дело с неживым, лишь с
трупами, - по крайней мере, она омертвляет и даже умертвля-
ет (чем и занята «позитивная» наука). Общественный человек
в своей истории не просто «роется во внутренностях вещей», а
худо-бедно, так или иначе (и даже так-растак), но - производит
свой мир как мир человека, достраивает субстанцию до
культуры, погружаясь в плоть, в естество, в существо матушки-
природы не как внешняя, чужая, своенравная и равнодушная
сила, а как всеобщая сила самой же природы - по мерам, формам
и сути самой матушки-природы. И только так - встречается с
собой. Субстанция - с субъектом. Природа - с самой собою.
Мышление - с бытием, а вернее - бытие, достигшее разумного
мышления, с самим собою. А человек - с человеком. И лишь
вследствие этого - таки и с собой.
1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. ГГ. Шпет //
Сочинения. - М.: Соцэкгиз, 1959. - Т. IV. - С. 130.
295
И.Е. Задорожнюк
О двух понятиях «Феноменологии духа» Гегеля
Богатство смыслов каждого из понятий, употребляемых
или вводимых Гегелем в «Феноменологии духа» - его
ключевом труде, нуждается в постоянном истолковании, поскольку
эвристический потенциал некоторых из них практически
безграничен. На это не раз указывали исследователи гегелевской
философии, даже критически настроенные к его идеализму и
стремлению к излишней систематичности.
В истолковании ряда таких понятий в русле
отечественной философии важно найти некую точку опоры в плане
подходящего для этих целей текста. «Феноменология духа» в
рамках этой философии едва ли первой привлекает
внимание по сравнению с другими национальными философиями, а
русские мыслители опережали даже немецких в плане
рецепции и интерпретации этого труда в течении двух столетий его
бытования. Уже А.И. Герцен в 1840-е годы сделал немало
проницательных замечаний об этом труде, а его интерпретации
A.B. Кожевым в 1930-е до сих пор служат предметом споров.
Отдельный вопрос, который нужно учитывать при
интерпретации любого рода понятий - русскоязычные переводы
«Феноменологии духа». Ровно 100 лет тому назад вышел
первый из них под редакцией Э.Л. Радлова (Гегель.
Феноменология духа. СПб., 1913). Данный перевод характеризуется некой
«наукологической» центричностью; он сыграл большую роль
в развитии рецепции интерпретаций Гегеля, но все же слабо
передавал все сложности эволюции гегелевской мысли,
особенно с учетом того, что ряд отечественных и зарубежных
философов уже увидели в этом произведении тайны и глубины,
ранее не замечаемые традиционными гегельянцами.
Это в первую очередь фундаментальный труд В. Дильтея
«История молодого Гегеля» (Dilthey W. Jugendgeschichte Hegels.
296
Berlin, 1905), равно как и ряд трудов на европейских языках, по-
новому истолковывавших ключевое произведение Гегеля, в ходе
его написания становившегося уже не «юным», а «зрелым». Что
касается русской философии, то важный шаг в этом направлении
был сделан И.А. Ильиным в книге «Учение Гегеля о конкретности
Бога и человека» (М., 1918, тт. 1-2), вышедшей в годы
революционных преобразований и «приземлившей» многие абстрактные
понятия «Феноменологии духа» - понятие «конкретность» в этом
плане оказалось весьма парадоксально-креативным.
Особенно значимы в этом плане философские продукты
феноменологического истолкования «Феноменологии духа» -
продукты, в значительной степени произведенные Г.Г. Шпетом,
уже прошедшим школу гуссерлевской феноменологии
(примечателен в этом плане его труд «Явление и смысл», вышедший в
1914 г. в Москве) и вышедшим на рубежи герменевтики в
анализе конкретных социокультурных данностей. Такой продукт
как перевод данного произведения, осуществленный в 1920-е
годы, справедливо считается непревзойденным; он вышел в
1959 г. как 4 том сочинений Гегеля1 и был переиздан
издательством «Наука» в 2000 и 2006 годах в Москве и
Санкт-Петербурге. Автор послесловия к первому переизданию (дополненному
переводом подробных примечаний немецких издателей) при
этом трактовал «Феноменологию духа» как импульс к
поиску и развертыванию субъективности2. Это понятие, на наш
взгляд, мало соотносится с более значимым для Гегеля
понятием «субъектности» (особенно в его корреляции с понятием
«субстанциональности»). Авторы предисловия ко второму3
1 Гегель. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. М..: Изд-
во социально-экономической литературы, 1959 - ссылки в статье будут на
него.
2 Быкова М.Ф. Феноменология духа» как набросок новой концепции
субъективности // Гегель. Феноменология духа. М..: Изд-во Наука. М., 2000,
с. 453 - 485.
'Сергеев К. А, Слинин Я. А. Феноменология духа» как наука об опыте
сознания // Гегель. Феноменология духа. СПб., 2006, с. 51.
297
справедливо назвали перевод Шпета «интеллектуальным и
гражданским подвигом», заставившим по-новому взглянуть и
на всю философию Гегеля, дистанцируясь не только от
навязываемых «Философских тетрадей» В.И. Ленина, но и от многих
устоявшихся интерпретаций. При этом и они дали лишь
фрагментарное истолкование ключевых понятий «Феноменологии
духа», за исключением, может быть, одного - хотя и крайне
важного - из них: Bildung; в нем сводятся трактовки процессов
и образования (обучения и воспитания) индивида, и
становления формообразований субъекта.
Естественно, что данный перевод нормативен и считается
гегелеведами лучшим из всех иноязычных переводов, а
истолкования Шпетом ключевых гегелевских понятий схватывают
все богатство их смыслов в наиболее полном объеме. Однако
сам Шпет отмечал, что работа в данном направлении не
должна прекращаться, поскольку даже сама терминология Гегеля
отличается динамичной неопределенностью, «ясная в
применении к одной стадии, на другой превращается в сплошное
иносказание» (с. XLVII).
Это касается в частности и таких ключевых для
«Феноменологии духа» понятий как «обращение - Umkehrung» (и
сопутствующее ему «превращение - Verkehrung») сознания
и «господство и рабство - Herrschaft - Knechtschaft». Как
и относительно многих других понятий «Феноменология
духа» в них можно выделить два их смысловых поля:
суженное и расширенное. Это особенно важно относительно
понятия «обращение (превращение)», которое не так часто
попадает в центр исследовательского поиска отечественных
гегелеведов. В суженном смысле оно - побуждение к
познаванию, фиксация различия себя и предмета (с. 91).Такое
обращение может выступать и как форма превращения; так,
если наука впервые предстает непосредственному
самосознанию, то она может выступать в качестве «чего-то
превратного в отношении к нему» (с. 14).
298
И все же более продуктивным является расширенное
истолкование обращения (превращения), поскольку оно
касается магистрального движения «Феноменологии духа»: «Все дело
в том, чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию
только, но равным образом и как субъект... Живая
субстанция есть бытие, которое поистине есть субъект или, что то же
самое, которое поистине есть действительное бытие лишь
постольку, поскольку она есть движение самоутверждения, или
поскольку она есть опосредствование становления для себя
иною» (с. 9). Можно сказать, что процесс обращения в данном
плане представляет то, как субъект «узнает» себя в
субстанции, и наоборот, причем, как подчеркивает на этой же
странице Гегель, данное взаимное «узнавание» и составляет весь
строй изложения «Феноменологии духа».
Так, в заключительных положениях данного труда
повторяется, что «дух есть это движение самости, которая отрешается
от себя и погружается в свою субстанцию, а равным образом в
качестве субъекта ушло из нее в себя и делает ее предметом и
содержанием, когда снимает это различие между
предметностью и содержанием» (с. 431).
Надо подчеркнуть, что именно в таких расширенных
ракурсах толкует понятие «обращение» зарубежное, и
особенно германское гегелеведение. Так, еще в 1972 г. вышла
немецкоязычная монография, специально посвященная этому
понятию, причем в соотношении с понятием «превращение»,
под примечательным названием: «Усыновление в ходе
превращения: к «обращению сознания» по Гегелю и Фейербаху»
(Schultz-Heienbrok I. Versöhnung in Verkehrung: zur
"Umkehrung des Bewusstseins" bis Hegel und Feuerbach. Berlin. 1972).
Давая обобщенное толкование понятию «обращение», ее автор
подчеркивает, что оно в большей мере используется Гегелем,
чем понятие «превращение»; даже чаще упоминаемому, он
придает ему меньшее значение. Зато его
ученик-ниспровергатель Л. Фейербах в полной мере использовал потенциал имен-
299
но второго понятия, сделав такой мысленный ход: он обратил
внимание, что Бог-сын может трактоваться и просто как сын,
проецирующий свои качества на отца, и так было в истории
- знаменитая его «Сущность христианства» (1841) как раз об
этом. Гегель «обращает» субъекта в субстанцию, и наоборот;
Фейербах «обращает» человека в Бога, и наоборот; правда,
второе обращение больше похоже на гегелевское превращение
(немцам разобраться в этом легче - но ведь если вспомнить,
что на русском языке «обращение» - это принятие основ некой
веры, то ситуация предстает еще сложнее).
Еще в одном немецкоязычном труде, изданном в США,
понятие «обращение» используется - как в марксизме - для
указания на возможность обоснования программы перехода
от идеалистической диалектики к материалистической
(Redlich D. Die "Umkehrung" der Hegeischen Dialektik: Programme
idealistische und materialistische Dialektik. Michigan. 1999). В уже
англоязычном труде, выпущенном тоже в США, автор
трактует понятие «обращение» как «метафору самого сознания,
связанную с наличием такового в любой данный момент с самым
разнородным бытием»1.
Франкоязычный философ Ж. Д*Онт (1920 - 2012) в
книге о Гегеле писал: «Гегель и сам безжалостно
уничтожает великие философские системы прошлого, как Наполеон
опровергал великие герцогства - отжившие государства»;
понятие обращение - один острейших орудий такого
уничтожения/возрождения2.
В отечественной философии больше «повезло»
понятию «превращение». На волне призывов: «долой
идеологию», громко звучавших в 1960-е годы на Западе, что нашло
отражение и у представителей франкфуртской школы, и у
новых левых, и у Д. Белла, и у других социальных мыслите-
1 Verene D. Hegels recollections; a study of images in Phenomenology of
spirit. Albany. 1985, p. 25.
2 Д*Онт Ж. Гегель: биография. Пер. с фр. СПб., 2012. С. 222.
300
лей, в 5 томе «Философской энциклопедии» появилась статья
М.К. Мамардашвили «Форма превращенная». Больше
адресуясь к «Теориям прибавочной стоимости» К. Маркса, чем
к вводящем это понятие работам Гегеля, ее автор трактовал
его как «продукт внутренних отношений сложной системы,
...скрывающий их фактический характер и прямую
взаимосвязь косвенными выражениями»1. Из нее - как из
зернышка - в дальнейшем вырастали диссертации и монографии,
«обличавшие» разного рода мифологии и идеологии, формы
религиозности, феномены фетишизмов и т. д.
Завидная судьба этой, действительно, прорывной статьи
не отменяет необходимости самое ее подвергнуть операции
«превращения». Действительно, уже ко времени ее выхода
начали звучать в западной мысли призывы к «ре-идеологизации»,
а в настоящее время поди заяви, что религия - превращенная
форма сознания: многие, причем, серьезные люди, могут не
понять... Более серьезны в этом плане возражения со стороны
представителей современной философии науки, в частности
B.C. Степина: согласно его взглядам, постнеклассическая
стадия ее развития предполагает поиск креативного знания в
самых различных формах его, включая мистику и т. д.
Вторая пара понятий «господство и рабство - Herrschaft -
Knechtschaft» - куда более разработана гегелеведами в прошлом
и настоящем. Если первое понятие в узкой трактовке чаще
встречается в первой части «Сознание» «Феноменологии духа»
как «науки об опыте сознания», а в более широкой пронизывает
все три ее части, то пара двух других соотносится в основном
со второй частью - «Самосознание» и лишь в латентной форме
проявляется все же и в третьей части «Абсолютный субъект».
Несмотря на видимую социологическую привязку данных
понятий к определенному историческому периоду -
рабовладельческому строю - говорить о том, что имеются в виду
именно рабовладельцы и рабы не приходится. Во-первых, у Гегеля
1 Философская энциклопедия. Т.5. М., 1970, с. 386.
301
такие привязки обозначаются в основном намеками: суть того
же «несчастного сознания», о котором говорится в
завершение второй части «Самосознания», сводится к тому, что «оно
не может уловить «иное» как единичное или как действительное.
Там, где его ищут, оно не может быть найдено; ибо оно
должно быть именно чем-то потусторонним» (с. 117) - это сознание
встречается лишь в момент богооставленности мира.
Во-вторых, уже само наименование рабства - Knechtschaft
указывает на то, что его можно трактовать скорее как
служение, а не рабство. И в этом модусе данное понятие весьма часто
просматривается в главах о разуме, духе, религии и
абсолютной истине в третьей части труда, превосходящей по объему
почти в три раза две предыдущих.
Господство и рабство коррелирует, согласно Гегелю, с
самосознанием как знанием о себе самом - в соотношении с
внешним миром, наполненным носителями такого же
самосознания. «Самосознание есть вообще вожделение - Begierde»
(с. 94), - фиксирует Гегель, второе трактуется им как предмет
с характером чего-то негативного, что должно преодолеваться
для устойчивости существования самосознания.
Самосознание есть жизнь или, по слову Гегеля, «растворение
разъединения» (с. 96) я и мира, себя и другого.
«Самосознание есть для самосознания. Лишь благодаря
этому оно в самом деле есть, ибо лишь в этом обнаруживается
для него единство его самого в его инобытии; «я», которое есть
предмет его понятия, на деле не есть предмет; предмет же
вожделения существует только самостоятельно, ибо он есть
всеобщая неуничтожимая субстанция, текучая себе самой равная
сущность» (с. 98). Расшифровывая это сложное положение,
Гегель несколько ранее обращается и к понятию
«перевертывание - Verkehrung», или «переворачивание»,
«превращение». Взаимодействие самосознаний, заключает Гегель, и есть
жизнь, поскольку возможность того, что «для самосознания
есть другое самосознание» (с. 99), детерминируется тем, что
302
это не столько взаимное всматривание, сколько «его действова-
ние, как и действование иного» (с. 100).
Модусы этого действования различны, но в целом это игра
сил, доходящая до риска собственной жизнью. В дальнейшем
Гегель довольно абстрактно излагает ситуацию, обозначенную
ранее Т. Гоббсом как борьба всех против всех, другими
словами, столкновение атомарных индивидов. Жизнь без борьбы
непродуктивна, но и всеобщая смерть как итог непрестанной
борьбы невозможна в принципе. «Хотя благодаря смерти
достигается достоверность того, что оба рисковали своей жизнью
и презирали ее и в себе и в другом, но не для тех, кто устоял в
этой борьбе (с. 102). Для устоявших важно признание -
Anerkennung, в итоге которого появляются два противоположных
вида сознания: «сознание самостоятельное, для которого для-
себя-бытие есть сущность, другое - несамостоятельное, для
которого жизнь или бытие для некоторого другого есть
сущность; первое - господину второе -раб» (с. 103).
Господин - самостоятельное бытие, и потому, что он
продемонстрировал негацию вещности, и потому, что он держит
на цепи раба, потерявшего в борьбе свою самостоятельность:
таковую он имеет - потенциально - как раз в вещности. «Раб
вообще как самосознание вообще соотносится с вещью также
негативно и снимает ее; но в то же время она для него
самостоятельна, и поэтому своим негативным отношением он не
может расправиться с ней вплоть до уничтожения, другими
словами, он только обрабатывает ее» (с. 103).
Тем самым негация вещи для господина - ее потребление
как удовлетворенное с помощью раба вожделение; негация для
раба - обработка как сохранение ее самостоятельности до
дальнейшего потребления. Бытие вещи не уничтожается, она
замедленно сохраняется; как раб - предпосылка для-себя-бытия
господина, так самодовлеющая вещь - предпосылка для-себя-
бытия раба. Неравнозначность признания - и раба, и вещи - в
сопоставлении с признанием господина выступает, однако,
303
лишь начальным пунктом движения. И выявляется сложная
диалектика поиска подлинной самостоятельности, не
сводящейся всего лишь к негации (вещи) и устрашению (раба).
Происходит очередное оборачивание (не
зафиксированное в данном месте «Феноменологии духа» терминологически)
и оказывается, что «истина самостоятельного сознания есть
рабское сознание» (с. 104). Будучи оттесняемым от вещности как
предмета чистой негации, оно через заторможенную ее нега-
цию возвращается к своей истинной самостоятельности.
Это восхождение характеризуется рядом этапов. На
первом для рабства господин есть сущность - в модусе чистой
негативности. Причина - страх и самого господина, ничего не
боящегося (Гегель немного ниже не без иронии употребляет
выражение, что такой страх есть лишь начало мудрости), но
также и «страх смерти, абсолютного господина» (с. 105). Это
уже следующий этап: не только страх, но и трепет как «чистое
общее движение, превращение всякого устойчивого
существования в абсолютную текучесть» (там же).
Далее наступает момент противостояния этой текучести -
через служение. Оно сводится к обеспечению негации вещи -
во имя «.беспримесного чувствования себя» (там же), но вещь
потребления - это признак устойчивости существования даже
с учетом ее негации в процессе вожделения.
Очередной этап - труд или, можно сказать, служение на
расстоянии от негации и ее носителя. «Труд, напротив того,
есть заторможенное вожделение, задержанное исчезновение,
другими словами он образует. Негативное отношение к
предмету становится формой его и чем-то постоянным* потому что
именно для работающего предмет обладает
самостоятельностью. Этот негативный средний термин или формирующее дейс-
твование есть в то же время единичность или чистое для-себя-
бытие сознания, которое теперь в труде, направленном вовне,
вступает в стихию постоянства; работающее сознание
приходит, следовательно, этим путем к созерцанию самостоятель-
304
ного бытия как себя самого» (с. 105). Страх исчезает - именно
поэтому Гегель напоминал о нем не без иронии, а в процессе
образования негации противостоит устойчивая форма.
Остается добавить, что концепт образования,
предельно близкий в концепту труда, задается Гегелем как цель еще в
«Предисловии» к «Феноменологии духа». «Образование, если
рассматривать его со стороны индивида, состоит в том, что
он добывает себе то, что находится перед ним, поглощает в
себя свою неорганическую природу и овладевает ею для себя.
Со стороны же всеобщего духа как субстанции образование
обозначает только то, что эта субстанция сообщает себе свое
самосознание, т. е. порождает свое становление и свою
рефлексию в себя» (с. 15).
И еще: как известно, Маркс очень артикулированно
подчеркнул, что Гегель именно в «Феноменологии духа»
«ухватывает сущность труда и понимает предметного человека,
истинного, потому что действительного, человека как
результат его собственного труда». Более того - Гегель стоит на
точке зрения современной политической экономии в
подобных трактовках - как ни один другой немец или француз. И
все же немецкий мыслитель «знает и признает только один
вид труда, именно абстрактно-духовный труд» Однако если
заглянуть за пределы этой знаменитой страницы, то надо
признать: такое признание, в частности связанное с
отождествлением труда и образования, далеко от тривиальности,
равно как и от «мистической критики» и некритического
позитивизма1. Так, лозунг образования в течение всей жизни,
высоко значимый для общества знаний и соответствующей
ему информационной экономики, подчеркивает ценность
именно «абстрактно-духовной» стороны труда. Такого рода
труд в целом, помимо всего прочего, - по сути предпосылка
любого качественного труда.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 627, 629,
636.
305
Данными соображениями предваряется изложение
очередного этапа освобождения носителя служащего сознания
из-под власти господина: «в процессе образования для-себя-
бытие становится для него его собственным, и оно приходит
к сознанию, что оно само есть в себе и для себя. Оттого, что
форма выносится вовне, она не становится для него чем-то
другим, нежели оно само, ибо именно форма есть его чистое для-
себя-бытие, которое становится тут для него истиной» (с. 106).
Господин при этом отходит на второй план, поскольку как раз
для служителя страх утопает в делании - изготовке внешней
формы для внутренней истины.
Наконец, последний этап длительного оборачивания:
именно в силу этого обретения себя вновь, именно благодаря себе
самому как погружающемуся во внешнее «оно (служащее
сознание) становится собственным смыслом именно в труде, в котором,
казалось, заключался только чужой смысл» (Там же). Страх же
преодолевается дисциплиной службы и, можно сказать, зрящего
повиновения, этому способствует также процесс образования.
Вернемся к тому утверждению, что термин «служащее
сознание» более релевантен, чем термин «рабское». A.B. Ко-
жев, применяя именно последний термин в своем
знаменитом анализе диалектики двух сознаний - главного предмета
своего фундаментального труда, все же выходит за рамки
того, что именуется рабовладельческой формацией. Он
пишет (точнее - комментирует текст Гегеля): «Если праздное
Господство - это тупик, то работающее Рабство, напротив,
есть источник всякого человеческого, общественного и
исторического прогресса. История - это история
трудящегося Раба»1. Появляются при этом опорные понятия не только
Труда (Arbeit), но также Службы (Dienst) и Образования
(Bildung) - именно они, конкретизируя ход обращения Рабского
1 Кожев А. В. Введение в чтение Гегеля. Лекции по «Феноменологии
духа», читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической школе. СПб.:
Наука. 2003, с. 39.
306
сознания, «претворяют в жизнь и раскрывают идеал
самостоятельного Самосознания»1. На наш взгляд, тем самым
открывается возможность трактовки обращения как хода Истории,
и как объяснения ряда ее ключевых пунктов, так и описания
некоторых более конкретных ситуаций.
Как в тексте «Феноменологии духа» Гегель постоянно
обращается к началу в анализе своих генерализированных
категорий, «закольцовывая» их, так это делает и Кожев. Дав
общее описание диалектики господина и раба, он вновь
возвращается к ее начальной стадии, пристальнее рассматривая
понятие «вожделение - Begierde» - страстное стремление
обладать предметом, для чего господин и рискует своей
жизнью в ходе признавания. «Рабский труд - это не уничтожение
предмета (как в случае Begierde); - он его формирует,
трансформирует. Труд преобразует Natur в Welt (универсум
природы в исторический мир). Тем самым Раб действительно
освобождается от Природы»2.
А.Г. Поганяйло, комментируя этот комментарий, добавляет:
«Разглядев в cogito вожделение, а в вожделении - самосознание,
Гегель совершил некоторое Umkehrimg, оборачивание»3, а
также сравнивает данное оборачивание с заменой Кантом разума
теоретического на практический. Комментатору на этот второй
комментарий остается добавить, что термин «обращение» все
же цельнее термина «оборачивание», и что труд вполне
правомерно отождествить с данной формой обращения.
Остается добавить, что и сам Кожев прибегает к
эвристическому потенциалу этого понятия, анализируя главу В
«Претворение разумного самосознания в действительность
им самим», подраздел «Добродетель и общий ход вещей»
(главу так назвал сам Гегель, подраздел - как и многие другие
1 Кожев А. В. Введение в чтение Гегеля. Лекции по «Феноменологии
духа», читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической школе. СПб.:
Наука. 2003, с. 38.
2 Там же, с. 65.
3Тамже,с.780.
307
подразделы - его издатели). Трактуя шествие Добродетели
(die Tugend) и соотнося ее с ходом вещей в мире (der
Weltlauf), автор «Феноменологии духа» и его комментатор
соотносят с ходом революций (первый - Великой французской,
второй - социалистических; примечательно, что добродетель
выражается существительным женского рода, а пресловутый
ход - мужского, и если припомнить аллюзии Гегеля на
Наполеона - жестко мужского).
И - если вернуться к тексту «Феноменологии духа» -
указанное «извращение перестает считаться извращением
(Verkehrung) добра, ибо это извращение есть, напротив,
превращение (Verkehrung) добра как простой цели в действительность»
(с. 208); Шпет оставил эти слова на языке оригинала - но ведь
таковы особенности многих текстов Гегеля: то одним словом
обозначаются разные понятия, то одно понятие репрезентует-
ся разными словами.
Если же еще раз обратиться к тому утверждению, что
термин «служащее сознание» более релевантен, чем термин
«рабское», то следует учесть три во многом иллюстрационных
момента. Во-первых, это толкование позволяет перебросить
мостик между этим понятием и знаменитым понятием Beruf
- призвание, которое М. Вебер сделал ключевым для
анализа становления «духа капитализма»; такую трактовку можно
приложить к тому же служению (а заодно и сопоставить
присущую русскому, но не немецкому языку игру слов: признание
- призвание, что в случае господина позволяет говорить: он
хотя и признанный, но не призванный).
Во-вторых, анализ этого сознания на материале не столь
далеко отстоящих от современности процессов может
объяснить такой феномен как менеджериальная революция.
Действительно, именно служащие четче вникают в ход тех
социально производительных процессов, которые определяют
направление развития общества - и «господа»-собственники
в той или иной форме вынуждены это признавать.
308
Еще один пример: в условиях «болезни бессубъектнос-
ти»1 местное население - назовем его крайне условно:
Господин передает ряд производительных функций Рабу, опять же
крайне условной фигуре, репрезентацией которой являются
рабочие-мигранты. Они, следуя диалектике Гегеля, осваивают
все больше производств - и превращаются в Господина, не
потому, что местные «плохие», а понаехавшие - «хорошие» (или
наоборот), а потому, что это отдаленное проявление все того
же обращения. Следовательно, указанную болезнь надо
преодолевать, чтобы не потерять качества добротной субъектнос-
ти, связанной с субстанциональностью.
О том, что диалектика господина и раба значима для и
современных реалий, связанных с отношениями э
эксплуатации, пишет президент Института национальной стратегии
М. Ремизов. Он подчеркивает, что нужно вторичное открытие
мнимого «аристократизма», ассоциируемого с современным
господином, и продуктивного служения2.
Если вернуться к тексту Гегеля и поставить вопрос о
связи рассмотренных всех вышеупомянутых понятий, то рабское
сознание выделывается в освобождающе-креативное в
процессе труда, то есть как раз в ходе обращения субъектности в
субстанциональность. В итоге выявляется: «если познавание есть
орудие труда для овладения абсолютной сущностью, то сразу
же бросается в глаза, что применение орудия к какой-нибудь
вещи не оставляет ее в том виде, в каком она есть для себя, а,
напротив, формирует и изменяет ее» (с. 41). И еще: «Новый
предмет возник благодаря обращению (Umkehrung) самого
сознания. .. так как то, что сперва казалось предметом низведено
для сознания до знания о нем, а то, что в себе, становится
некоторым бытием этого «в себе» для сознания, то это есть новый
1 Лепский В. Е. Становление стратегических субъектов: постановка
проблемы // Рефлексивные процессы и управление. №1. 2002. С. 23.
2 Ремизов М.В. Консерватизм и современность // Свободная мысль,
№9-10, 2012. С. 32.
309
предмет, вместе с которым выступает и новая форма
существования сознания...» (с. 49).
Обобщенно обращение можно трактовать как
основополагающий механизм взаимоузнавания и взаимореализации
субъекта в субстанции, и наоборот. О том, что такая генереа-
лизация нетривиальна, можно найти немало доказательств,
причем не только при рассмотрении «Феноменологии духа».
Современная экономика знаний, к примеру, может выступать
как некая субстанция, ничего не значащая без субъекта -
генератора и реципиента знаний; в свою очередь, производство
знаний всего лишь в голове субъекта без их объективации
в принципе бесплодно: необходимо их подключение к некой
внеличностной субстанции («база данных» - лишь крайне
упрощенное выражение для их обозначения). Вряд ли стоит
сомневаться в высочайшем креативном и эвристическом
потенциале гегелевского понятия «обращение» (и
сопутствующего ему как тень понятия «превращение») для анализа
взаимодействий в экономике знаний.
Конечно, возможны и другие трактовки данных понятий,
но и они не могут претендовать на полную истинность.
Однако и пренебрегать поисками их эвристического
потенциала нельзя, более того: чем рельефнее проявляются некоторые
процессы в русле современного развитии - по направлению к
тому же обществу знаний (в каком-то смысле идеалу Гегеля!),
тем востребованнее может быть этот потенциал.
И.С. Барсуков
Возможности и границы феноменологического
подхода в рассмотрении развития определений
субъективности у Гегеля
Трудно переоценить то решающее значение и влияние,
которое оказала философия и диалектика Гегеля на развитие
310
философской мысли в XIX и XX веках. Ни один крупный
философ, ни одна философская школа не могла обойти стороной
фундаментальные принципы гегелевских построений и
полноценно развиваться без того, чтобы в той или иной форме
не выразить отношение к его философии. И, тем не менее,
несмотря на огромное количество исследований и гегелеведчес-
кой литературы до сих пор остаётся не раскрытым
объективное значение и эвристический потенциал философии Гегеля.
Особенно большие трудности в понимании замысла Гегеля и
неоднозначные оценки вызывала его философская система,
а также трактовка формы абсолютного как результата
систематического движения в том виде, в каком его предъявил
Гегель. Выявить действительное значение систематических
построений Гегеля, прояснить его действительный замысел,
задача, имеющая не только историко-философский интерес,
но и задача настоятельно требуемая временем, ибо, как
никогда прежде, требуется выявить механизмы становления
продуктивных деятельных сил человека как реального источника
богатства в самом широком смысле, перевести эти механизмы
в систему целенаправленной подготовки человека к активной
творческой деятельности в современных условиях.
I
Современное состояние исследований философии Гегеля
таково, что, несмотря на работы, касающиеся проблематики
гегелевской Системы, эти исследования оставляют без ответа
многие вопросы, поставленные в своё время Гегелем, да и
выявленные в ходе осмысления его работ, прежде всего, во
второй половине XX века. Неразрешённой до сих пор остаются
проблема предмета «Феноменологии духа», проблема отказа
Гегеля от задуманного в йенский период плана построения
Системы с включением в него феноменологического
движения в качестве первого структурного компонента, и переход к
311
изображению определений духа на основе логического, а
также проблема итога всего систематического движения -
характеристик абсолютного.
Заметим, что гегелеведение на западе так и не справилось
с поиском ответов на поставленные выше вопросы.
Констатируя связь между «Феноменологией духа» и «Наукой логики», то
отводя «Феноменологии духа» определяющую роль как
введению в «Энциклопедическую систему» [15,19,20], то оставляя за
ней только пропедевтическую функцию [17], многочисленные
интерпретаторы вместо содержательного анализа чаще всего
заняты простым сопоставлением категорий реальной
философии с категориями логики, поэтому приходят к выводу,
имеющему отношение только к историко-философскому процессу,
определяя гегелевскую логику как границу, разделяющую две
традиции в философии классическую и современную.
В контексте поисков значения и смысла «Феноменологии
духа» как части системы следует отметить работы Й. Хайн-
рихса и В. Маркса [16, 18], в которых авторы выделяют
несколько смысловых пластов «Феноменологии»: точку зрения
автора, точку зрения читающего и интерпретирующего
(«философа») и точку зрения самого предмета феноменологии.
Но своеобразное расщепление точек зрения и рефлексия по
этому поводу, имеющие цель выявить подлинный замысел
Гегеля, лишь отвлекают от действительного рассмотрения
предмета, что уводит от постановки проблемы связи
структуры «Феноменологии» с предметом, который она отражает
и, как следствие, делает проблематичным выявление
подлинного значения «Феноменологии духа» для эволюции взглядов
Гегеля на проблему систематизирования. Следует заметить,
что Гегель указаниями на позицию «рассматривающего» в
большей обозначает специфику произведения, а, именно,
специфику произведения в котором изображено
последовательное воспроизведение определений предмета, и суть дела,
конечно, не в позиции наблюдающего, а во внутренней и
312
объективной логике развёртывания содержательных
определений субъективности, а, при указанном выше способе
рассмотрения, на первый план выходит рефлексирующая
интерпретация смыслов, бесконечно возникающих при прочтении,
отодвигая проблематику выявления объективных смыслов
в содержании на периферию исследований. Разработка
различных смысловых пластов «Феноменологии духа», с учётом
того, что они в основном лежат на поверхности, также
оказалась непродуктивной для выявления действительного
значения Системы и места в ней «Феноменологии».
В целом для всего спектра исследований произведений
Гегеля, прежде всего, характерно, что при постоянно
умножающемся количестве, умножаются только вопросы и
проблемы, чаще всего привносимые субъективной рефлексией
извне и чуждые объективному смыслу и значению
гегелевской системы, с весьма проблематичной перспективой их
разрешения. Ввиду различных причин в западной философии
XX века так и не сложилась традиция интерпретации
систематической философии Гегеля как философии, отражающей
фундаментальные характеристики действительности как
мирового целого с определяющим местом в нём деятельности и
труда, а также выявлением роли мыслительных форм в
раскрытии природы целесообразного действия, что связано, в
большей степени, с игнорированием принципов, отказ от
которых считается главным достижением «постклассической»
философии - отказ от диалектики в её классическом
варианте. Философия же, выстроенная на принципах
диалектического выведения, каковой является философия Гегеля, может
быть понята только в результате сопоставления определений
реальной предметности, выказывающей себя диалектически
со структурными элементами системы.
Что касается проблематики исследований философской
системы Гегеля в в СССР и затем в России как одну из
значительных работ посвященных проблематике оснований систе-
313
мы можно отметить работу Н.В. Мотрошиловой «Путь Гегеля
к «Науке логики»» [12] где автор исследует становление
принципа системности во взаимной связи с принципом историзма
у Гегеля, рассматривая как определяющий ранний (1801-1804
годы) этап йенского периода творчества философа. В
качестве пропедевтических оснований будущей системы Н.В. Мот-
рошилова видит логику и «метафизику» (систему категорий
бытия) Гегеля, значение же его социальной концепции в этот
период явно преуменьшается. Однако, ни значение
субъективной логики, ни значение логических оснований бытия для
построения системы в этот период ещё не прояснены для
самого Гегеля и, поэтому только социальная философия может
служить тем основанием, в котором наиболее адекватно
отражено противоречивое существование индивида. Здесь ещё
не субъективная логика понятия ориентирует Гегеля в
подходах к выявлению принципа самодвижения объективности, а
объективная логика (необходимость) социальных отношений
выказывает себя диалектически. Но поскольку в качестве
основания систематизирования отбрасывается именно начало
изображения социального процесса, которое у Гегеля
выражено в чувственной потребности в труде что, по Н.В.
Мотрошиловой, неудовлетворительно, поскольку потребность и труд
есть только ширма, за которой скрывается стремление Гегеля
продемонстрировать тождество реальности и понятия,
поэтому телеология не может выступить объективным основанием
системы: «...телеология субсумирования - слишком общий и,
прямо говоря, слишком искусственный, формальный,
однообразно-скучный принцип, чтобы под его влиянием сами собой
рождались содержательные различения системы ...» [12, с. 97]
Труд как целесообразная деятельность и движение цели как
внутренняя диалектика идеальной формы, согласно Н.В.
Мотрошиловой не подходят для систематического
конструирования, поскольку моменты сознания и самосознания, будучи
формами являющегося духа, ей не рассматриваются в качес-
314
тве превращенных форм человеческой деятельности, форм
идеального объективирования общественных отношений,
выражающих взаимосвязь индивидов с внешним (обществом и
природой). Вместо исследования способов связывания
субъекта и объекта в деятельности, раскрытия значения целевого
отношения для выявления принципа системного
конструирования Гегелю сразу приписывается ограниченность
идеалистического способа рассмотрения, где объективная реальность
должна обязательно скрыться за пеленой идеалистических
конструкций. В итоге, несмотря на то, что гегелевская логика
рассматривается Н.В. Мотрошиловой как вершина
систематизирования, тем не менее её значение для системы и место
в системе остаются не прояснёнными, поскольку нет
объяснения ни изменению основного замысла в построении
системы (переход от феноменологического принципа построения
системы к логическому), ни необходимости введения раздела
«Объективность» в структуру самой «Логики» и затем
необходимости перехода к содержательным определениям мирового
целого: к Природе и к Духу в «Энциклопедии».
В итоге возобладал вывод о том, что гегелевская
концепция - есть логицизм и панлогизм. В других работах Н.В.
Мотрошиловой [11,13], несмотря на то, что в них имеются ценные
наблюдения и глубокие обобщения, все они в большей степени
касаются историко-философской стороны проблемы и только
увеличивает число вопросов по содержательной стороне
проблематики систематического наследия Гегеля, но не проясняют
общего замысла и масштаба его системы.
Другим значимым исследованием системы Гегеля уже в 90-
е годы выступает цикл работ М.Ф. Быковой, а также
исследование гегелевской концепции абсолютного духа A.B. Кричевским
[1, 2]. В качестве определяющего для формирования
принципов систематизирования М.Ф. Быкова выделяет ранний этап
йенского периода творчества Гегеля. Предметом, который
попал в поле зрения философа, по мнению М.Ф. Быковой, вы-
315
ступает субъективность при этом, указывая на содержащееся
в субъективности активное начало - «самоотношение», [2, с.
468] Быкова упорно держится представлений, что эти
определения разрабатываются Гегелем исключительно в логике и
«метафизике». Но ни логика, ни «метафизика» (система
категорий «бытия»), как было отмечено, в йенский период не
разработаны Гегелем в той мере, что позволяет их использовать
в качестве оснований для построения системы, ибо
вышеуказанные области не имеют опоры в самих себе, в них не открыт
принцип самодвижной формы, поэтому на их основе Гегель не
мог выдвигать принцип в виде «самоотношения».
Ограничивая поиск оснований системы логикой и
«метафизикой», М.Ф. Быкова не может найти объяснение ни
введению в анализ категории «жизнь», ни необходимость
обращения Гегеля к социальным феноменам: «конкретный
реальный субъект», условия «самоотношения»: «интеллект» и
«воля», отношение между «вещью» и «Я» [2, с. 470]. При этом
феномен «отчуждения» М.Ф. Быковой не рассматривается в
качестве концептуального основания системы. Так
упускается из виду реальная основа становления субъективности, и
объективный анализ превращается в поверхностные
рассуждения о целостности «Феноменологии духа», о «встречном
движении мысли вперёд (развитие субъективности) и назад
(логика этого развития)», об «абсолютной субъективности»,
из которых должна следовать необходимость логического
развёртывания как утверждение объективного идеализма
системы. Обещания остаются невыполненными: не
прояснён ни смысл создания «Феноменологии духа», не раскрыта
необходимость перехода к созданию системы на логических
основаниях, не объяснена «утрата интереса» Гегеля к
феноменологическому проекту в последующем.
К рассмотрению места и роли абсолютного духа в
гегелевской системе с использованием принципов трансцеденталь-
ной философии обращается A.B. Кричевский. Противоречи-
316
вые характеристики абсолютного духа A.B. Кричевский видит
в совпадении в нём (абсолютном духе) двух
противоположных определений: абсолютный дух - результат имманентного
развития универсума и абсолютный дух - подлинное
первоначало, что даёт A.B. Кричевскому основание рассматривать
его (абсолютный дух) как истинно бесконечное и абсолютную
деятельность, позволяет связать качества абсолютного духа с
категорией «цели» как «самоцели», т. е. в своей неподвижности
движущей цели, и понятием мыслящего само себя мышления,
что вообще не характерно для гегелеведения как раннего, так
и позднего периодов.
Рассмотренный с указанных позиций абсолютный дух,
по Кричевскому, есть подлинная реальность и поскольку как
результат системы он выступает обогащенной точкой зрения
по отношению к пройденному пути, то можно было ожидать,
что такой адекватный образ результата системы как
абсолютный дух выступит у A.B. Кричевского основанием для
выявления подлинного смысла всего систематического движения.
Но Кричевский останавливается только на одной из
характеристик абсолютного духа, а, именно, абсолютный дух - есть
абсолютное начало и ему ничто не предшествует ни в
логическом, ни онтологическом, ни во временном плане [1, с. 193].
Рассмотренный, исходя из принципов трансцендентальной
философии, и без опосредствования абсолютный дух, теряет
определённость своего значения в контексте реального.
В этом случае возникает возможность произвольного и
абстрактного толкования его сущности, и A.B. Кричевский
приходит к выводу о личностно-теистическом характере
абсолютного духа, к выводу о том, что абсолютный дух есть
не что иное как «спекулятивно-философский портрет Бога»
[1, с. 228], надо заметить, в полном соответствии с
принципами трансцендентальной философии, для которой смешение
«ordo cognoscendi» (порядка познания) и «ordo essendi»
(порядка бытия) - есть самый большой «философский грех». Но
317
указанная методология не применима к гегелевским
построениям, и поэтому добавление к характеристике гегелевской
системы трактовки её как пантеологической не раскрывает
подлинного смысла, задуманного Гегелем, а лишь добавляет к
давно существующему бесконечному ряду оценок (панлогизм,
панрационализм, панспиритуализм, этатический пантеизм,
панэпистемизм, пансхематизм и т. д.) ещё одну неоднозначную
и одностороннюю оценку.
Из работ по проблематике систематического наследия
Гегеля, вышедших в последнее десятилетие выделяются работы
В.И. Коротких по проблематике структуре системы
философии Гегеля [см., например, 8]. Определяя значимость каждого
из трёх периодов в эволюции взглядов Гегеля на
систематизирование: ранний - «не доходящий до подлинного основания»,
зрелый - создание «Феноменологии духа» и «Науки логики» и
поздний - трёхчастная последовательность «Энциклопедии»,
В.И. Коротких определяет ранний период как
несущественный, а третий как своеобразную «деградацию возникшего в
Йене проекта системы». В качестве подлинного проекта
системы, В.И. Коротких видит так называемый проект «Системы
науки», определив, не без оснований, два фундаментальных
гегелевских произведения в качестве самых значимых для
реконструкции системы.
Эволюционно-историческому взгляду, характерному для
западного гегелеведения, В.И. Коротких в качестве
альтернативы в исследовании системы, противопоставляет
необходимость содержательного анализа «Феноменологии» и «Логики»,
а трактовке, долгое время определявшей отношение к
гегелевской системе как к логицизму, специфическое авторское
прочтение с элементами рефлексивного и герменевтического
толкования текстов.
Однако, снижение значения ранних систематических
произведений Гегеля и социальной проблематики в построении
системы, невнимание к разработанной в период работы над
318
«Феноменологией духа» оригинальной концепции
«отчуждения», в пределах которой принцип отрицательности как
движущий принцип развития продуман Гегелем основательно, не
позволяют вычленить предмет «Феноменологии». Предметность,
предположенная В.И. Коротких: «бытие-определённость», или
«определённость в качестве бытия», так и остаётся
абстрактной предметностью неопределённой абстрактной формой, что
даёт основания для произвольного толкования смысла
«Феноменологии духа».
Не добавляет ясности и указание на то, что в
«Феноменологии духа» изображено и соотносятся несколько процессов, у
В.И. Коротких - это соотношение «сознания» (собственно
сознания) и «самого сознания» (сознания, следящего за
развитием сознания), согласно В.И. Коротких, здесь следует искать ещё
один предметный ракурс и скрытый смысл «Феноменологии».
Как уже отмечалось выше в связи с работами Й. Хайринхса и
В. Маркса введение позиции «рассматривающего»
совершенно излишне, поскольку отвлекает от изображаемого предмета,
ибо имеющаяся трудность удвоения предмета
«Феноменологии духа» связана не с читателем, а с объективными
процессами самоперемещения цели в деятельности субъективности.
Другое затруднение у В.И. Коротких возникает в связи с
установкой на трансцендентальный способ рассмотрения в
процессе реконструкции гегелевской системы. Кроме того, что
сам термин «трансцендентальное» Гегель считал «варварским
выражением», для него разработка принципа преодоления
границ логически обусловленного - наиважнейшая задача,
без решения которой невозможно построение системы,
поскольку без разработки логических механизмов снятия
границ субъективности форм мышления невозможно не
только опосредствование (выведение) частей системы, но и
раскрытие природы целевого отношения.
Таким образом, опосредствование частей системы,
В.И. Коротких подменяет «опосредованием», поэтому вместо
319
содержательного анализа проекта «Системы науки» он
получает абстрактные схемы, скрывая содержательную пустоту
анализа структуры «Феноменологии духа» за буквенными
обозначениями циклов или кругов, поскольку рассматривает
систему Гегеля вне контекста становления реального
предмета, и применяет чуждый для опосредствования частей внутри
системы трансцендентальный принцип, что искажает
действительную системную связь.
Получается так, что при всём многообразии оценок
интерпретаций и стремления реконструировать
систематическое движение в философской литературе посвященной Гегелю,
продолжается тенденция не замечать одну важную деталь,
характеризующую его ранние произведения, а именно влияние
экономических воззрений Гегеля на формирование
оригинальной философской концепции. До сих пор серьёзный анализ
определяющего влияния на Гегеля экономических теорий того
времени имеется только у Д. Лукача в работе «Молодой Гегель
и проблемы капиталистического общества», заметившего, что «
...в литературе о Гегеле за редким исключением экономическая
сторона его социальной философии полностью игнорируется
даже теми авторами, которые, отлично зная, что Гегель
занимался проблемами политэкономии, тем не менее, не замечали
значения гегелевских суждений в этой области» [9, с. 361].
С точки зрения Лукача, эволюция воззрений Гегеля в Йене
заключается, в том, что внутри самой целостной концепции
нравственности он всё сильнее подчёркивает объективные:
экономический и исторический моменты в противовес
одной лишь моральности. Но это не просто, как отмечает Лукач,
принятие во внимание экономических определений при
рассмотрении сложнейших социальных проблем, существенным
выступает здесь то, что при анализе экономических воззрений
Гегеля в йенский период, прежде всего, следует отметить, что
он рассматривает сферу человеческого труда, сферу
экономической деятельности в качестве основы, как исходный пункт
320
практической философии [9, с. 360]. И всё же, обнаруживая
только затруднения Гегеля при изображении им развития
субъективности на феноменологических основаниях и
освобождения её (субъективности) от различных форм
отчуждения, Лукач не раскрывает необходимость перехода Гегеля к
построению системы на логических основаниях, оставляя без
рассмотрения проблему взаимосвязи труда и мышления.
Тем не менее, именно введение Гегелем, сначала в
практическую философию, а затем в феноменологический анализ
действительности, определений труда позволяет, не только
обнаружить движущий принцип в развитии субъективности и
устранить главную трудность изображения
феноменологического становления субъективности - выявление
действительной внутренней связи формообразований духа в соотношении
с реальной основой, но уловить глубокую связь
действительности с логическими определениями. Рассмотрим в
последующих двух частях настоящей статьи, прежде всего, проблему
предмета «Феноменологии духа», опираясь на анализ ранних
систематических произведений Гегеля йенского периода (если
«Феноменология духа» ключ ко всей философии Гегеля, то
ключ к самой «Феноменологии» - его экономические
воззрения), а также границы самого феноменологического подхода
в последовательном раскрытии развития определений
субъективности, что собственно позволит, на наш взгляд, в
некоторой мере продвинуться в решении вопроса действительной
роли «Феноменологии духа» в выработке концептуальных
оснований системы и вопроса об изменении основного замысла
Гегеля в её построении.
II
Особенностью становления философских взглядов Гегеля
в ранний период выступает настойчивое стремление
объяснить социальную и политическую структуру общества, понять
321
противоречивую основу общественных отношений, опираясь
на анализ предметно-практической деятельности. Поэтому
помимо специфически философских проблем, выраженных в
философской терминологии, в гегелевские тексты не
случайно проникают определения предметно-практической
деятельности, определения труда, его видов (труд абстрактный и труд
конкретный), экономические понятия и категории [14].
Введение в анализ экономических характеристик труда
позволяют Гегелю устранить главную трудность изображения
феноменологического становления субъективности -
изобразить переход формообразований духа в соотношении с
реальной основой, с феноменами действительности [10, с. 159].
В реальной истории, феномен вычленения индивида в
качестве существенной стороны в отношении с родовыми силами
возникает на фоне перехода сообществ людей от труда,
протекающего в примитивных формах, труда, непосредственно и
жёстко привязанного к природным условиям существования
на труд, обеспечивающий устойчивое получение избыточного
продукта над необходимым потреблением, имеет своей
основой диалектику перехода конкретного труда в абстрактный.
Формой общественной связи индивидов на ступени
конкретного труда выступает семья. Семья в значении рода
является необходимым условием самосохранения индивида и
выступает также конкретной основой и индивида, и самой
себя как разновидности родовой связи благодаря совместному
труду, хотя уже внутри рода имеется разделение труда,
обусловленное, однако, в большей степени, природными
различиями индивидов. Но поскольку семейное владение предполагает
равенство по форме участия в продуктах труда: «Труд также
распределяется согласно природе каждого члена, но его
продукт является общим; именно через это распределение
каждый производит избыток, но не как свою собственность.
Переход не есть обмен, он совершается непосредственно, является
общим в себе и для себя самого» [3, с. 307] - то, по Гегелю, этот
322
труд является формой, при которой субъективность сращена
с родом и не существует как отдельное лицо (Person). Поэтому
труд в пределах семьи в значении рода есть конкретный труд в
его непосредственности, труд людей, которые создают продукт
для непосредственного потребления. Индивид как участник
(субъект) родового процесса и продукт этого труда ещё
сохраняет свою прочную связь с природой, поэтому:
«Конкретный труд является первоначальным, он есть субстанциальное
сохранение, грубая основа целого, как и доверие» [4, с. 367].
Положительным в этой форме труда является то, что индивид
в ней существует как целостность, именно в связи с этой
первоначальной сращенностью (синкретизмом) своих
индивидуальных целей с общественными.
Поскольку конкретный труд есть первая определённость
процесса труда, то именно на его основе происходит
реальное самобнаружение субъективности, но в пределах имеющей
место формы сращенности индивида и рода. Устойчивая связь
субъективности с внешним, опредмеченным им же самим
миром, при которой индивид не отличает себя как деятеля от
опредмеченного мира, и образует, по Гегелю, определённость
формы сознания и его противоречивую основу. Как
необходимая историческая ступень развития духа, сознание -
довольно прочное формообразование, но внутри него вызревают
процессы, его отрицающие, и это важный для Гегеля момент
анализа, поскольку позволяет ему наметить переход от формы
сознания к более развитой форме - к форме самосознания.
Одним из тезисов при защите диссертации философом
в Йенском университете был тезис о противоречивости
естественного состояния: «Естественное состояние не
является несправедливым, и поэтому из него необходимо выйти»
[3, с. 264]. То, что Гегель выносит этот тезис на защиту,
говорит о том, что уже в йенский период он не только видит
взаимосвязь общественно-политических проблем с проблемами
экономическими и философскими, но и начинает угадывать в
323
экономических формах прообразы форм духа,
целенаправленно работает над выявлением внутренней взаимосвязи
формообразований духа, и тем самым делает серьёзный шаг на пути
к построению системы.
Внешним проявлением отрицания естественного
состояния, по Гегелю, опять же выступает экономическая
определённость, которая собственно снимает «не несправедливое
состояние» тем, что приводит к получению «избытка», или
более определённо, на языке политэкономии, - к получению
устойчивого прибавочного продукта. Именно
производство избытка над обеспечивающими необходимый минимум
существования предметами и выступает главным пунктом,
вокруг которого выстраиваются все рассуждения Гегеля.
Гегель вполне определённо увязывает форму продукта -
избыток - с формообразованиями духа (с идеальным) вообще и
феноменом вычленения субъективности в качестве
отдельного лица в частности: «2) Продукт труда определяется
здесь так же, как определяется субъект и его труд. Для
субъекта он является разделённым и потому чистым
количеством; так как он не находится в отношении с целокупностью
потребностей, а превосходит её, он есть количество вообще
и существует в абстракции.» [3, с. 269] - и далее: «3) субъект
является не просто определённым в качестве владеющего, а
принявшим форму всеобщности; он выступает в качестве
единичного, в соотношении с другим, отрицательного
вообще, в качестве признанного обладателя, ибо познание есть
обособленность, отрицание, которое как таковое остаётся
фиксированным, но, идеально существуя в других, есть лишь
абстракция идеальности в них самих. Владение в этом плане
есть собственность; абстракция же всеобщности в нём есть
право...» [4, с. 296-297]. Гегель здесь указывает на феномен
абстрактного труда, становящегося в пределах
товарно-денежных отношений основой всего общественного организма
и всех общественных институциональных форм.
324
При этом возникающие в абстрактном труде отношения
собственности позволяют выделиться индивидуальности в
качестве значимой фигуры общественного целого. Каждый
индивид в абстрактном труде тождествен другому такому
же индивиду, включённому в орбиту разделения труда.
Отсюда вытекает положение, согласно которому абстрактный
труд - это также форма процесса рода (всеобщего труда), это
приобретение такого «эфира», в котором каждый отдельный
человек тождествен роду и одновременно самостоятелен. «Ь) В
своём абстрактном труде он, индивид, созерцает всеобщность
самого себя, своей формы или созерцает своё бытие для
другого» [4, с. 325]. Абстрактный труд и составляет основу для
появления устойчивой формы общественной связи индивидов в
их практической жизни. Гегель определяет возникший способ
связи индивидов как существенное формообразование духа и
ступень развития субъективности - как самосознание.
В основе исторической ступени организации жизни
индивидов лежит уже не просто предметность как продукт их
совместной деятельности для потребления, а продукт, через
который постоянно выявляется их (индивидов) внутренняя
связь, их тождество. Само же это тождество возможно
благодаря специфической форме продукта как результата
всеобщего труда, труда, лишённого содержательной стороны,
то есть труда абстрактного. А действительной или реальной
основой появления такой формы выступает экономическая
необходимость, представленная в таких экономических
феноменах, как товар, деньги, обмен, договор и другие.
«Всеобщность труда, - отмечается в «Системе нравственности», -
или безразличие всех видов труда, полагается в качестве его
среднего термина, с которым он сравнивается и в который
может непосредственно превращаться всякое единичное в
качестве реального, денег...» [3, с. 380].
Диалектика конкретного и абстрактного труда
позволяет Гегелю увидеть действительную историческую связь двух
325
форм связывания индивида и рода и изобразить их переход
как переход сознания в самосознание. Это важно для
последующего феноменологического анализа, поскольку позволяет
вскрыть необходимые внутренние причины появления новых
видов общественной связи, основанных на абстрактном труде.
Не просто поставить в рассудочную связь обнаруженные
формообразования духа, а опосредствовать, т. е. вывести из менее
развитой более развитую ступень, обнаружив внутри
первоначальной формы противоречивую основу и внутренние
механизмы разрешения противоречий.
Самосознание Гегель трактует не как субъективную
рефлексию индивида в себя, а индивида - не в качестве
обособленного Я, а как объективно возникающий в процессе
жизнедеятельности способ взаимодействия людей. Таким образом,
самосознание получает значение необходимой ступени
развития духа, а философские проблемы из «эфира чистого
мышления» переводятся на земную основу. Для философии,
чуть ли впервые в её истории, связь специфически ей
принадлежавших проблем наглядно, ощутимо пересекается с
самыми обыденными и простейшими формами организации
жизни общества, причём анализ Гегелем ведётся на самом
высоком уровне философской традиции и культуры мышления,
представляя собой не плоское теоретизирование и не голую
эмпирию, а объективный анализ философских и
экономических процессов, здесь, в этой точке анализа совпадающих
и взаимообусловленных.
Примечательно, что кроме констатации главного вывода
о роли абстрактного труда в процессе действительного
вычленения субъективности в качестве самостоятельной стороны
отношения «индивид - род», Гегель обнаруживает виды
внутри самого самосознания. Видом самосознания, наиболее
адекватно выражающим его (самосознания) противоречие, что
также обеспечивает момент самодвижения формы, является
отношение признания.
326
Борьба за признание, диалектику которой Гегель
достаточно подробно раскроет уже в «Феноменологии духа»,
должна уступить место более высокой форме: «Из этой борьбы
каждый выходит [благодаря тому], что он видел другого как
чистую самость, а это есть знание воли, так что воля каждого
есть знающая, то есть в себе целиком рефлектированная в своё
чистое единство. Лишённая побуждения воля скрыла в себе
определённость знания бытия не как чуждого.
Эта знающая воля теперь есть всеобщее. Она есть бытие
в признанности. Будучи противопоставлена себе в форме
всеобщности, она есть бытие, действительность вообще, а
единичное, субъект есть лицо. Воля единичных <индивидов> есть
всеобщая воля, а всеобщая воля есть воля единичных,
нравственность вообще, непосредственно же право» [4, с. 322].
Гегель ясно видит, что стихия абстрактного труда,
пронизывая все сферы практической жизни общества в условиях
«признанности», становится также основой для
возникновения новых институциональных форм, поскольку
абстрактный труд становится всеобщим трудом (в «Феноменологии
духа» этот переход обозначен как переход признающего
самосознания во всеобщее самосознание) в масштабах целой
цивилизации: «Благодаря этому владение превращается в
право, как до этого труд - во всеобщее; то что было семейным
достоянием, в котором супруги знали себя, становится
всеобщим делом и потребляется всеми... Труд всех и для всех, и
пользование - пользование всех. Каждый служит другому и
оказывает помощь, или же индивид лишь здесь имеет
наличное бытие как единичный; до этого он был лишь абстрактным
или неистинным» [4, с. 323].
Осмысление противоречий абстрактной формы
укоренения индивида в обществе впоследствии приведет Гегеля к
созданию концепции отчуждения. Пока же он в связи с
проблемой абстрактного труда отыскивает как положительные,
так и отрицательные, следовательно, противоречивые сторо-
327
ны проникновения абстрактного труда во все сферы
жизнедеятельности общества. С одной стороны: «То, что <индивид>
производит, опредмечивая себя в своём наличном бытии, не
может служить удовлетворению всех его потребностей.
Всеобщий труд есть, таким образом, разделение труда, экономия. ...
Содержание его труда выходит за пределы его потребности...»,
труд одного «...предполагает труд многих» [4, с. 324], что даёт
повышение эффективности производства и рост богатства
народа, с другой - «Так как его труд есть такой абстрактный труд,
то он выступает как абстрактное Я или по образу вещности -
не как широкий, богатый содержанием дух, владеющий большим
объёмом всего и являющийся его господином» [4, с. 324-325].
В этом случае сам живой человек выступает не субъектом, а
вещью, которая употребляется и, подобно орудию, бесследно
исчезает в процессе производства, субъект отчуждается от
своей субъективности. С одной стороны, абстракция от всех
видов конкретного труда - это сильная сторона абстрактной
формы, она способствует использованию сил природы и
совершенствованию орудий: «Сам его труд становится
совершенно механическим или принадлежит какой-либо простой
определённости; но чем абстрактнее становится последняя,
тем более он <индивид> есть лишь абстрактная деятельность,
и благодаря этому он в состоянии изъять себя из <процесса>
труда и на место своей деятельности поставить деятельность
внешней природы. Ему нужно только движение, и он
находит таковое во внешней природе, или чистое движение есть
именно отношение абстрактных форм пространства и
времени - абстрактная внешняя деятельность, машина» [4, с. 325],
с другой стороны:«у) но благодаря абстрактности труда [он]
вместе с тем [становится] более механическим, притуплённым,
бездуховным. Духовное, эта исполненная самосознательная
жизнь, становится пустым деланием. Сила самости состоит в
широте охвата, а последнее теряется» [4, с. 343]. Субъект всё
больше зависит от общественного разделения труда, что огра-
328
ничивает умения индивида, обедняя его натуру, заведомо
снижая его потенциал.
Главное противоречие общественной организации,
фундаментом которой является абстрактный труд, Гегель видит в
том, что, освобождаясь от природной предпосылки, человек
создаёт другую форму необходимости, которая способна быть
более изощрённой в изобретении форм зависимости,
поскольку может создавать при этом иллюзию или видимость
свободы. Индивид обнаруживает, «.. .что он делал нечто совершенно
иное, чем он сам мнил; его мнение было чистым отношением
его бытия к самому себе, его принуждённым для-себя-быти-
ем. ...Но всеобщее есть одновременно его необходимость,
которая приносит его в жертву при его юридической свободе.
...его труд абстрактен, и в соответствии с этим он <индивид>
получает преимущество перед природой. Но это обращается
в другую форму случайности. ...абстрактный труд всё больше
пронизывает отдельные виды и охватывает всё более широкую
сферу» [4, с. 342-344]. Эта другая форма необходимости,
которая не меньше, чем природная, способна подчинять себе
свободную волю, следовательно, лишать субъективность одного
из существенных её определений, определений свободы.
Для Гегеля отчуждение в своей отрицательности
становится существенной и неотъемлемой стороной труда, несмотря
на то что оно (отчуждение) есть и приобретение, позитивное
отрицание и основа сохранения Я, но только сохранение это
происходит опять же противоречиво: «а) В труде Я
непосредственно делаю себя вещью, формой, которое есть бытие.
ß) Это своё наличное бытие я тоже отчуждаю, делаю его
чем-то чуждым себе и сохраняю себя в нём» [4, с. 327].
Указанное противоречие в реальности оборачивается не единством, а
«разорванностью воли», «неравенством нищеты и богатства»,
«чёрствостью духа». «Но всеобщее есть одновременно его
необходимость, которая приносит его в жертву при его юридической
свободе» [4, с. 342]. Этот разлад внутри самосознания и образует
329
противоречие самосознания с самим собой, которое Гегель
более определённо сформулирует уже в «Феноменологии духа».
Обнаруженное противоречие внутри самосознания есть
для Гегеля основание для поиска способа разрешения
противоречия. Перебирая одну за другой институциональные
формы, пригодные для разрешения противоречия и снятия
отчуждения, он как бы проводит своеобразный эксперимент.
Через отбор проходят все значимые объективные формы духа:
сословия, гражданское общество, государство, церковь.
Особую роль Гегель при этом отводит государству, институту,
способному, по его мнению, реально противостоять произволу
необходимости общественного процесса, основанному на
абстрактной форме труда, привнося в общественный процесс
разумную связь. Но и в «Системе нравственности», и в «Иенской
реальной философии» эти поиски приводят к выводу о том,
что все указанные объективные формы духа содержат, как
выясняет Гегель, определения духа в ограниченной форме и
поэтому не годятся в качестве формы, разрешающей
противоречия отчуждённого духа: сословия со своими ограниченными
целями и интересами, и гражданское общество как общество
потребления, напрямую зависящее от абстрактной формы, и
правительство, призванное наблюдать за соблюдением общего
интереса через соблюдение частных, как «...уверенный в
самом себе дух природы» [4, с. 374], и церковь, по Гегелю, - «.. .го-
сударствОу возведённое в мысль» [4, с. 382], и искусство.
В пределах какого типа действия должно разрешиться
противоречие абстрактной формы существования индивида
Гегелю становится ясно из анализа целевого отношения как
существенной характеристики процесса труда [4, с. 287-322].
Оно должно разрешиться не в практической деятельности
(Воле), а в области теоретической (Интеллект), ведь
именно Интеллект в качестве формирующей субъективность силе
первоначально преграждает путь Воле к свободной форме
реализации субъективности, отчего Воля (единичная воля или
330
субъективность) попадает в бесконечный круг
опосредствования самой себя ограниченными определениями. Это кружение
Воли в замкнутом цикле противоречий может быть нарушено,
по Гегелю, только в Интеллекте. И для Гегеля поэтому уже не
стоит вопрос о поиске области, посредством которой можно
разрешить указанное противоречие, такой областью может
быть только философия, причём философия,
основывающаяся на диалектике, на спекулятивном мышлении как
единственной форме мышления, способной выходить за пределы закона
тождества, снимать абстрактность и ограниченность
деятельности: «Абсолютно свободный дух, принявший обратно в себя
свои определения, создаёт теперь другой мир - мир, который
имеет облик самого духа, где его дело завершено в себе и он
достигает созерцания себя как себя» [4, с. 375].
Философия, по Гегелю, единственная форма духа, в
которой индивидуальность, субъективность как деятельное
начало мира полностью, абсолютно совпадает со своим предметом.
Только с помощью философского знания и его спекулятивной
основы дух приходит к осознанию своей природы и осознанию
природы как пропитанной духом реальности. И предмет
философии - понятие не просто форма мышления, а форма
деятельности, снимающая посредством собственной деятельной силы
пределы любого содержания и свои собственные пределы.
Таким образом, анализ социальных, политических,
экономических и исторических явлений, проведённый посредством
диалектики труда, позволяет Гегелю уже в самом начале
философского пути обнаружить земную основу становления
субъективности. Схваченный Гегелем процесс перехода
субъективности как существенного момента продуктивной деятельности
из состояния «в-себе» в состояние «для-себя» открывает перед
ним совершенно уникальные перспективы построения
системы и оправдания философии как необходимой и
уникальной формы в структуре человеческих возможностей освоения
действительности.
331
Поскольку теперь понятна в общих чертах грандиозная
картина становления духовного мира человека во всех
необходимых пунктах, то программа построения системы
существенно уточняется: следующим шагом на пути к системе
становится феноменологический срез действительности, ибо
требуется показать весь процесс как опосредствованный
изнутри. Ясной становится и структура самого движения,
поскольку выделены существенные фигуры процесса:
субъективный дух - объективный дух - абсолютное знание, выявлены
способы «обращения» знания, его диалектика (от Интеллекта
к Воле и обратно), посредством которых субъективный и
объективный дух обмениваются определениями и получают
развитие. Также определены порядок и последовательность этого
движения через существенные исторические образы духа (Ge-
shtalten) или ступени, по которым индивид, как по «лестнице»,
должен добраться до понимания себя как абсолютного
субъекта: сознание - самосознание - абсолютный субъект (разум,
дух, абсолютное знание). Гегель воспроизводит это
грандиозное, внутренне противоречивое, но подчинённое объективной
логике движение в «Феноменологии духа».
III
Несмотря на то, что «Феноменология духа» играет
исключительную роль в обнаружении функции абсолютного в
системе формы, по замыслу Гегеля, снимающей ограниченность
существования индивида, «Феноменология духа» не
оправдала главного, не оправдала системную связь ограниченных
форм духа с абсолютной формой. Даже введение в
феноменологическое движение определений объективного духа (раздел
«Объективный дух») не позволило осуществить логически
обоснованный переход к абсолютной форме.
Не получив систематической целостности, Гегель
впоследствии не включает «Феноменологию» как самостоятельную
332
часть в Систему наук. Абсолютное знание как
формообразование духа, хотя и получило через внутреннее различие
определённость формы (субстанция-субъект), осталось только
внешним соединением двух сторон «примирения сознания
со своим самосознанием», отсюда разрешение противоречий
абстрактного существования индивида осталось также
неудовлетворительным. Именно неудовлетворённость
результатом феноменологического рассмотрения развития
субъективности предопределила новые направления поиска формы
совершенного объединения Я и его предмета.
И Гегель намечает новый поворот в исследовании
природы субъективности, о чём он вполне определённо
высказывается в самом последнем выводе «Феноменологии духа»: «Цель,
абсолютное знание, или дух, знающий себя в качестве духа,
должен пройти путь воспоминания о духах, как они
существуют в нём самом и как они осуществляют организацию своего
царства. Сохранение их [в памяти], если рассматривать со
стороны их свободного бытия, являющегося в форме
случайности, есть история, со стороны же их организации постигнутой в
понятии, - наука о являющемся знании; обе стороны вместе -
история, постигнутая в понятии и составляют воспоминания
абсолютного духа и его Голгофу» [5, с. 410]. Здесь уже
вполне определённо Гегелем намечен переход к другой программе
действий, нежели чем исследование феноменологического
развития субъективности - это уже будет совсем другая история
субъективности - «история, постигнутая в понятии», т. е.
система логического и система мира, построенная на чистом
логическом фундаменте. Теперь требовалось, чтобы абсолютное
было раскрыто как результат развития природы логического, а
логически определённое абсолютное наполнило
содержательными определениями деятельную субъективность.
Абсолютное может выступить вершиной научной
системы если опирается на природу понятия - предметность,
обеспечивающую примирение или снятие отчуждения Я от
333
предмета, предметность, соответствующую труду в его
абстрактно-конкретной форме. Синтетическая функция понятия
и придаёт понятию, несмотря на то, что оно в себе содержит
отрицательность логической формы, значение конкретного,
полного и развитого бытия. Утверждение себя в этой
предметности и есть, по Гегелю, единственная возможность для «Я» из
формы абстрактного самосознания вернуться к конкретному
единству с предметным, с объективным.
Так как понятие, по Гегелю, высшая форма предметности,
полное и конкретное бытие, то так называемая «экспозиция
понятия» должна в себе содержать и моменты преодоления
противоречий и границ субъективной деятельности. Поэтому то, что
не удалось в «Феноменологии духа» через развёртывание
формообразований субъективного и объективного духа, Гегель
пытается развернуть, рассматривая особую форму опредмеченно-
го труда - понятие. Понятие - есть предметность, соединяющая
в себе объективное и субъективное в полноте формы и само по
себе без обращения к другим формам предметности может
служить основанием для перехода к абсолютному.
Сама же «Феноменология духа», какой её видит Гегель
есть не более чем, сохранённая в памяти история
становления субъективности, то есть существенный момент развития
субъективного духа, поэтому в «Энциклопедии» Гегель
отводит «Феноменологии духа» место в качестве раздела в
Философии духа (раздел «Субъективный дух»), т. е. представляет
собой ступень развития субъективного духа и выступает
существенным этапом развития субъективности на пути к
абсолютному. Получив в «Феноменологии духа», прежде всего, в
её результате, в абсолютном знании объективную основу для
своих дальнейших исследований, Гегель направляет усилия на
создание логической концепции - «Науки Логики».
Перед Гегелем вырисовывается более общая картина
объективного мирового целого, в которой феноменология духа
как становление человека в процессе труда, существенный, но
334
всё-таки фрагмент. Теперь не только историческое развитие
человечества, но и развитие всего природного
неорганического и органического мира должны быть включены в общий
поток становления субъективности, что и послужило поводом, в
своё время, объявить гегелевскую систематику панлогизмом,
хотя сама эта особая предметность - понятие, по Гегелю, есть
результат феноменологического процесса, т. е. имеет
основания в реальном историческом процессе возвышения
субъективности до формы абсолютного. Если понятие - абсолютная
мощь по отношению к субстанции, ко всему существующему
объективному, то и его (понятия) происхождение должно быть
оправдано как становление на основе объективного, и
начинаться рассмотрение логического должно не со способностей
духа какими они определённо выступили в человеке.
Переходя к другой программе исследования, Гегель
выходит за пределы самой феноменологии, за переделы
исторического процесса как такового, за пределы человеческой
истории, а значит и за пределы труда как специфической
деятельности, обеспечивающей воспроизводство человека и
общества. Здесь собственно и намечается прорыв тех
онтологических и гносеологических границ, незыблемость которых
Кантом была возведена в принцип, и которые безуспешно
пытался преодолеть Фихте: «Фихтевская философия делает
«я» исходным пунктом философского развития, и категории
должны получаться в результате деятельности «я». Но «я» не
выступает здесь как истинно свободная, спонтанная
деятельность, так как в качестве побуждения к его деятельности
рассматривается лишь внешний толчок. ... Природа толчка
остаётся при этом непознанным внешним, и «я» всегда нечто
обусловленное, которому противостоит некое другое. ...«Я»
рассматривается при этом как находящееся в отношении к
«не-я», и только благодаря этому последнему возбуждается
деятельность самоопределения «я», и именно таким образом,
что «я» есть лишь непрерывная деятельность освобождения
335
от толчка. При этом всё же «я» никогда не достигает
действительного освобождения, так как с прекращением толчка
прекратилось бы само «я», бытие которого состоит лишь в
его деятельности» [6, с. 184]. Здесь Гегель определённо
высказывается не только против Канта и Фихте, но против и
самого себя как автора «Феноменологии духа». Гегель,
предпринявший попытку преодолеть недостатки философии Канта
и систематизирования Фихте, получает в «Феноменологии
духа» те же трудности, с которыми столкнулись его
предшественники. При выявлении необходимой внутренней связи
ступеней возвышения духа от явления через достоверность
до истины (Сознание, Самосознание, Разум, Дух, Абсолютная
идея), опосредствование не получено, а это ставит под
сомнение не только истину результата, т. е. форму абсолютного, но
и простую достоверность результата. И эта трудность
выглядит непреодолимой, если основу взаимосвязи
формообразований духа искать только в отобранных Гегелем объективных
формах исторического процесса.
Недостаток всего феноменологического анализа уже не
связан ни с материальной стороной дела, ни с конкретной
исторической ситуацией, а принадлежит, скорее, внутренней природе
той действительности, которая попала в поле анализа
философа - природе продуктивной деятельности человека - труду как
таковому. Поскольку Гегель в качестве причины самодвижения
духа в феноменологическом процессе выбирает форму
отношения индивидуального к предметному, форму связи
индивидуального и родового опыта в расколотом на две стороны процессе
обмена определениями между индивидом и родовыми силами,
то этим он схватывает действительную природу процесса труда
(как верно заметил ещё К. Маркс) [10, с. 158-159], но только как
внешнее единство. «Образы духа» или «ступени возвышения
духа» до формы абсолютного, в этом случае выглядят лишь как
преднайденный результат исторического движения,
действительная основа которого скрыта.
336
Гегель пытается уловить порядок, выстраивая
формообразования духа в последовательный ряд, с учётом событий
реальной истории, при этом, ничуть не противореча духу
феноменологии. Обнаруженные им в ходе анализа формы духа
не могут не быть ничем иным как явлением. Явление же, по
Гегелю, есть не более чем видимость (видимость в другом)
реального внутреннего процесса, выступающего причиной
порождения, но продолжающего скрываться под маской
«формообразований духа». Другими словами процесс труда, взятый
со стороны отношения субъекта к предметному, позволяет
обнаружить границы указанного отношения и даже полноту
форм (абсолютное знание как принцип, разрешающий
трудности самоподтверждения индивида в роде, и как последняя
ступень развития формообразований духа), но не позволяет
вскрыть действительную причину порождения
отрицательных или абстрактных форм (способов связи индивида и рода,
отрицающих, прежде всего, самого индивида) отношения
индивида к предметному.
Более определённо от наблюдающего за развёртыванием
этой специфически изображённой «историей человечества»,
каковой является «Феноменология духа», ускользает
природа самого процесса деятельности как таковой, но поскольку
деятельность имеет со стороны формы идеальную природу,
а она и не рассматривается (фиксируется только «образ духа»
как лежащий на поверхности устойчивый результат развития
идеальной или деятельной формы), поэтому действительная
причина трансформации отношений объективного и
субъективного остаётся вне поля зрения рассматривающего
феноменологическое развитие. В конечном итоге
феноменологический срез действительности не даёт опосредствования
абсолютного, он только помогает обнаружить эту форму
среди других налично имеющихся форм. Внутри самосознания и
разума можно только обнаружить противоречия отчуждения
индивида от родовых сил, но без выхода за пределы отчуж-
337
дения. Таким образом, основа и причина непосредственного
перехода к более высокой форме ускользает от
феноменологического анализа формообразований духа, она скрыта за
переплетением реальных отношений, которые в самой своей
основе не способны дать разрешение противоречий.
Таким образом, природа рассматриваемого в
«Феноменологии духа» процесса - духа как он есть в своём явлении -
содержит непреодолимые границы для понимания механизма снятия
отчуждения, для «совершенного объединения» субъективного и
объективного, поэтому претендовать на роль исходной основы
в общей систематике к которой стремиться Гегель
«Феноменология духа» никак не могла. В лучшем случае «Феноменология
духа» - это только фрагмент развития субъективности,
история её становления со стороны формы отношения субъекта к
предметному. Поэтому в самой Системе Гегель помещает
Феноменологию в раздел «Субъективный дух» в качестве
существенной ступени развития субъективности, результатом которого
выступает совсем не абсолютное а, напротив, абстрактное или
внешнее единство сознания и самосознания в разуме: «В-себе-
и-для-себя-сущая истина, которая есть разум, представляет
собой простое тождество субъективности понятия с его
объективностью и всеобщностью» [7, с. 250].
Тем не менее «Феноменология духа», прежде всего, со
стороны своего результата - Абсолютного знания, сыграла
ключевую роль в переходе Гегеля к новой программе систематических
исследований. Выступив необходимой ступенью для поиска
новых определений абсолютного, «Феноменология духа»
укрепила Гегеля в мысли о невозможности раскрытия механизмов
преодоления отчуждения в рамках феноменологического
развития субъективности, то есть в рамках самого отчуждения,
на что вполне определённо указал опять же К. Маркс.
Выход за пределы ограниченности формообразований
духа, по Гегелю, возможно осуществить через природу и
систему логического. Понятие как форма мышления есть в то
338
же время высшая форма предметности, способная вместить
и разрешить противоречие абстрактности и ограниченности
субъекта (привести к единству сознание и самосознание). Если
Кант, углядев в мыслительных формах их существенную
характеристику - способность выполнять синтетическую функцию
по объединению разрозненных представлений в единство,
приходит к выводу о существовании непреодолимых
естественных границ деятельности разума, то Гегель занят поисками
таких характеристик мышления, которые позволяют выходить
за указанные Кантом пределы.
С тем чтобы вывести из понятия определения
абсолютного, в понятии должны в развитом виде выступить следующие
характеристики: переход абстрактных и ограниченных
определений в конкретное единство (возможность синтеза
посредством понятия), и понятие как всеобщее с необходимостью
должно обладать характеристиками единичного в виде
исключительного бытия, поэтому оно должно быть предметным
выражением единства объективного и субъективного, то есть
обладать качеством объективной реальности.
При этом должно быть выполнено обязательное
требование систематического изложения - все ступени Системы
должны быть опосредствованы, выведены. Только когда
абсолютное восстановлено из объективности оно может служить
не только ограниченным логическим средством, но и началом,
по Гегелю, «всякой жизненности», поэтому Гегель не может
окончательно отказаться от феноменологического принципа.
Но это должно быть своеобразное восстановление.
Абсолютная идея как форма абсолютного в «Науке
Логики» должна была выступить в качестве результата не только
логического процесса, но и феноменологического, только
феноменологического в специфической форме. Это должна быть
«...история [предмета] постигнутая в понятии...» [7, с. 399].
Поэтому рассмотрением только природы понятия в Науке
Логики Гегель не ограничивается, ему важно выявить внутрен-
339
нюю взаимосвязь логического с определениями деятельности,
и поэтому в субъективной логике, из анализа умозаключения,
нет перехода непосредственно к абсолютному, выраженному в
определённости логической формы, каковым является
диалектический метод, а всё движение субъективного понятия
переводится в объективность.
Если бы логическое было только субъективным, оно,
получив окончательный вид в качестве логического средства, в
своей законченности, имело бы к объективности лишь
внешнее отношение, или было бы к ней применимо, только в
качестве субъективного масштаба. Но для Гегеля результатом
развития понятия выступает не чистота логической формы, а
раскрытие глубинного противоречия деятельного отношения,
чему посвящены итоговые разделы Науки Логики:
«Объективность» и «Идея».
Поскольку от феноменологического принципа
построения Системы Гегель переходит к логическому, то
феноменология в качестве истории становления субъективности остаётся
единственной формой, связывающей Систему с
действительной человеческой историей, а, следовательно, и с миром.
Поэтому феноменология как необходимое условие
систематических построений обязательно должна проявиться в Системе как
опосредствование перехода к Абсолютной идее, только уже в
форме соответствующей природе понятия. В Науке Логики
Гегель более определённо рассматривает такую сторону природы
логического, такие качества понятия, которые позволяют ему
совершить переход от абстрактности понятия (ограниченных
форм мышления посредством которых индивидуальность
реализует себя в действительности), что, по Гегелю, собственно
и определяет феномен отчуждения субъекта, к объективности
и конкретности понятия, как исходной основе деятельности
субъекта, снимающей ограниченные формы его (субъекта)
собственного существования.
340
Литература
1. Быкова М.Ф., Кричевский A.B. Абсолютная идея и
абсолютный дух в философии Гегеля. М.: Наука, 1993. 270 с.
2. Быкова М.Ф. «Феноменология духа» как набросок
новой концепции субъективности // Гегель Г.В.Ф.
Феноменология духа. М., 2000. С. 470
3. Гегель Г.В.Ф. Политические произведения. М.: Наука,
1978.438 с.
4. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль,
1972.668 с.
5. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М: Наука, 2000.495 с.
6. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Наука
логики. Т.1. - М: Мысль, 1971. 452 с.
7. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук.
Философия духа. Т.З. М.: Мысль, 1977. 471 с.
8. Коротких В.И. Очерк исследования структуры системы
философии Гегеля. М.: Прометей; Елец: ЕГПИ, 1999. 371 с.
9. Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы
капиталистического общества. М: Наука, 1987. 614с.
10. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., (Изд. 2-е), Т.42. М:
Издательство политической литературы, 1974. 536 с.
11. Мотрошилова Н.В. Диалектика системности и
системность диалектики в «Науке Логики» Гегеля // Философия
Гегеля: проблемы диалектики. М: Наука, 1987. С. 165-187.
12. Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики»:
формирование принципов системности и историзма. М., 1984.
13. Мотрошилова Н.В. Современное исследование
философии Гегеля: Новые тексты и проблемы // Вопросы
философии. 1984. № 7. С. 81-97
14. Хандруев A.A. Гегель и политическая экономия. М.:
Экономика, 1990. 127 с.
15. Düsing К. Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik:
Systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen
341
zum Prinzip der Idealismus und zur Dialektik. Bonn: Bouvier Ve-
riag Herbert Grundmann, 1976 (Hegel-Studien, Beiheft 15.) 371 s.
16. Heinrichs J. Die Logik der «Phanomenologie des Geistes». -
Bonn: Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 1974. XIV, 559 s.
17. Hosle V Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität
und das Problem der Intersubjektivitaet. Bd. 1. Hamburg: Meiner,
1988.275 s.; Hosle V. Hegels System. Der Idealismus der
Subjektivität und das Problem der Intersubjektivitaet. Bd. 2. Hamburg:
Meiner, 1988. 277 s.
18. Marx W. Hegels Phanomenologie des Geistes. Die Besti-
mung ihrer Idee in «Vorrede» und «Einleitung». 2 Ausgabe. Fr. am
M.: Vittorio Klostermann, 1981.136 s.
19. Poggeler O. Hegels Idee einer Phanomenologie des
Geistes. - Freiburg; München: Verlag Karl Alber, 1973.407 s.
20. Puntel L.B. Darstellung, Methode und Struktur.
Untersuchungen zur Einheit der systematischen Philosophie G.W.F. Hegels.
Bonn: Bouvier Verlag, 1973 (Hegel-Studien, Beiheft 10). 357 s.
E.B. Mapeeea
О парадоксах антропологии
(Маркс и Киркегор против Гегеля)
В клетке с табличкой «Философская антропология»
сегодня всех тварей по паре, поскольку допустим любой подход,
любая парадигма. Но противоречия, скрывающиеся за этой
абстрактной вывеской, обнаруживает история философии, в
частности сопоставление «антропологии» в версии Г. Гегеля и
С. Киркегора, осознанно не принявшего учение первого. Здесь
тот особый случай, который демонстрирует принципиальное
различие учения о человеке в его классическом и
неклассическом варианте. Не менее показательным и важным
оказывается различение позиций Гегеля и Маркса, который шел путем
«снимающей» критики.
342
Человекознание, писал Гегель, есть самое высокое и трудное
занятие. Но в нем нужно исследовать не отдельные
способности, характер и склонности людей, а сущность духа как такового.
Истинным предметом самопознания, подчеркивал он, должны
быть не особые «изгибы человеческого сердца», а всеобщее1.
Индивидуальные особенности людей - это неподлинное,
от которого нужно продвигаться к духу как к подлинной
реальности, как к субстанции, скрывающейся за различными
человеческими проявлениями. И только такой вектор познания
является собственно философским. «Самопознание в
обычном, тривиальном смысле исследования собственных
слабостей и погрешностей индивидуума, - читаем мы у Гегеля, -
представляет интерес и имеет важность только для отдельного
человека, а не для философии; но даже и в отношении к
отдельному человеку оно имеет тем меньшую ценность, чем менее
вдается в познание всеобщей моральной и интеллектуальной
природы человека и чем более оно, отвлекая свое внимание от
обязанностей человека, т. е. подлинного содержания его воли,
вырождается в самодовольное няньчанье индивидуума со
своими, ему одному дорогими особенностями»2.
Уточним, что все ступени развития субъективного духа,
согласно Гегелю, находятся в ведении разных философских
наук. Антропология занимается проблемой души. Там, где
душа переходит в сознание, появляется феноменология. А
когда сознание превращается в собственно дух, им занимается
психология. И каждая из этих областей знания в гегелевской
трактовке выглядит не так, как сегодня.
Душа человека, считает Гегель, «находится посредине
между лежащей позади нее природой, с одной стороны, и
вырабатывающимся из природного духа миром нравственной
свободы - с другой»3. Он принуждает дух «проснуться» уже в
1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М, 1977. Т. 3. С. 6.
2 Там же, с. 7.
3 Там же, с. 53.
343
материи, а затем природная душа пытается совлечь с себя
материальную форму.
Именно антропология явным образом демонстрирует,
что Гегель не отрицает человеческой индивидуальности,
которая, тем не менее, выражается в индивидуальных различиях,
включая прихоти и страсти, которые являются не духовным, а
природным в человеке. Антропология у Гегеля исследует
природные основы человека, к которым, в частности, относятся
расовые признаки, различия темперамента и физиономии,
таланты, предрасположенности и идиосинкразии.
Если у Фейербаха из природных оснований можно
объяснить не только тело, но и дух человека, то у Гегеля все выше
перечисленное есть природное инобытие духа, и из этого
проистекает двойственность в его характеристике телесных
проявлений человека. «В своей телесности, преобразованной
душой и ею освоенной, - пишет Гегель, - душа выступает как
единичный субъект для себя, а телесность является, таким
образом, внешностью в качестве предиката, в котором субъект
относится только к самому себе. Эта внешность представляет
не себя, но душу и является ее знаком»1.
Под внешностью в данном случае Гегель имеет в виду в
самом прямом смысле физиономию человека, которая, как
известно, есть «зеркало души». Уточняя этот момент применительно
ко всему телу человека, Гегель пишет: «Напротив, подлежащие
теперь нашему рассмотрению свободно происходящие
воплощения (внутренних ощущений - Е.М.) придают человеческому
телу столь своеобразный духовный отпечаток, что благодаря
ему оно гораздо более отличается от животных, чем вследствие
какой-либо только природной определенности. Со своей чисто
телесной стороны человек не очень отличается от обезьяны; но
по проникнутому духом внешнему виду он до такой степени
отличается от названного животного, что между явлением этого
1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М., 1977. Т. 3,
с. 210.
344
последнего и явлением птицы существует меньшее различие,
чем между телом человека и телом обезьяны»1.
Наиболее характерным образом духовная суть человека
выражена, как считает Гегель, в его лице, а также в
вертикальном положении тела. И точно так же человек отличается от
представителей животного мира рукой, в особенности кистью
руки. «Рука человека, это орудие орудий, - отмечает Гегель, -
способна служить выражением бесконечного множества
проявления воли»2.
Таким образом, внешность и телесные действия человека
актуально оказываются у Гегеля вынужденным выражением его
единичной природы и одновременно свободным выражением
духа. И та же двойственность выражает себя в способностях
человека, о чем пишет Э.В. Ильенков в работе «Гегель и
природа способностей». «Это особенно четко видно в тексте
«Философии духа», где он говорит о том, что высота развития
индивидуальной «души» определяется двояко - как «внешними
условиями» приобщения этого индивида к формам
сложившейся духовной культуры, так и «внутренними»
ограничениями, налагаемыми случайной особенностью «природной души»,
т. е. - в переводе на более современный язык - своеобразием
анатомо-физиологической организации индивида»3.
Характерным образом указанная двойственность
гегелевской антропологии проявляет себя там, где речь идет о
душевных расстройствах. В отдельных главах «Философии духа»
Гегель анализирует феномен слабоумия, рассеянности,
тупоумия, помешательства, вплоть до безумия, полагая, что эти
отклонения являются метаморфозами природной основы
человека. Тупоумие, характеристика которого у Гегеля следует за
описанием бестолковости, «возникает в том случае, когда рас-
1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М, 1977. Т. 3,
с. 212.
2Там же, с. 212-213.
3 Ильенков Э.Ф.Философия и культура. М., 1991, с.379.
345
смотренная выше в своих различных модификациях
замкнутость природного духа в себе получает определенное
содержание и это содержание превращается в навязчивое представление
вследствие того, что еще не вполне овладевший собой дух в
такой же мере погружается в это содержание, в какой он при
слабоумии погружен в самого себя, в бездну своей
неопределенности»1. И дальше Гегель пишет: «Где начинается тупоумие в
собственном смысле слова, с точностью сказать трудно. В
маленьких городах, например, можно встретить людей, особенно
женщин, которые до такой степени погружены в до крайности
ограниченный круг своих частных интересов и в этой своей
ограниченности чувствуют себя до того приятно, что
подобного рода индивидуумов мы справедливо можем считать
тупоумными людьми»2.
Приведенный пример очень показателен в методологическом
плане. Гегель причисляет здесь тупоумие, как и слабоумие, к
отклонениям «природного духа», но при этом приводит примеры
совсем иного плана. В чем причина тупости мещанки из
немецкого городка, которая, согласно писаным и неписаным законам,
ограничена тремя «К»: Kinder, Küche, Kirche? Является здесь
причиной природный склад ума или социальный уклад жизни?
Далее Гегель рассуждает в том же духе, сравнивая
тупоумие с собственно сумасшествием. Сумасшествие, по его
мнению, возникает тогда, когда человек оказывается во власти
единичного или, иначе говоря, узко понятого
субъективного. Такое душевное состояние, уточняет он, по большей
части есть следствие замыкания в самом себе из-за недовольства
действительностью. Но, что касается причин такого «полного
погружения души в самое себя», то Гегель здесь указывает на
тщеславие и высокомерие3.
1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М, 1977. Т. 3.
С. 190-191.
2 Там же.
3Тамже,с. 191.
346
Вывести тщеславие и высокомерие из природного мира
довольно сложно. Как сложно вывести из него зависть,
распространенную в той же мещанской среде, или, к примеру,
пресыщенность жизнью и меланхолию, которой, по мнению Гегеля,
страдают, как правило, англичане. Из этого душевного
состояния у англичан, замечает он, нередко развивается
непреодолимое влечение к самоубийству. Правда, Гегель тут же
опровергает «непреодолимость» этого состояния, приводя случай с
англичанином, который излечился в тот самый момент, когда
на него, готовящегося утопиться в Темзе, напали разбойники.
Борьба с разбойниками пробудила в нем ощущение ценности
жизни, преодолевшее тягу к самоубийству1.
Такого рода веселых (и не очень) примеров в
гегелевской антропологии много. И большинство из них
демонстрируют нам предвзятость его трактовки душевных расстройств
как патологии, прежде всего, природного, а не культурного и
нравственного развития человека. Но Гегель и сам чувствует
здесь ложную ситуацию, что вынуждает его заявить: «Мы
имеем при этом в виду то, что помешательство по существу
должно быть понято как одновременно и духовная, и телесная болезнь,
что в нем господствует совершенно Непосредственное, еще не
прошедшее бесконечного опосредствования единство
субъективного и объективного»2.
Тут же Гегель пишет, что душевная болезнь - это крайнее
состояние, до которого рассудок может опуститься. Гегель не
возлагает вину за патологические состояния человека на сам
дух из принципиальных соображений. Причиной здесь вполне
может быть природа, которая сама есть отклонение от истины
мироздания. Что касается сознания, то оно находится
слишком близко к истине - самому духу, чтобы искать здесь
причину патологий. Связать душевную болезнь с повреждением в
1 См.: Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М., 1977.
Т. 3, с. 192.
2Тамже,с. 184.
347
разуме или нравственным пороком можно лишь в том случае,
если дух сам произволен, к примеру, от мира культуры и
социального развития. Но тогда для объяснения душевных
болезней нужно пожертвовать всей гегелевской системой.
Таким образом, в гегелевской антропологии налицо связь
душевного расстройства с выражением природной
единичности. В то же время освоение всеобщего и объективного
содержания духа позволяет стать «великим человеческим
характером». Именно в приведенном контексте противополагания
всеобщего и единичного, духовного и природного может быть
понята его антитеза «великого человеческого характера» и
«дурной индивидуальности».
Тем не менее, Э.В. Ильенков видит явные завоевания
Гегеля в его понимании способностей человека. Совлекая
«мистический покров» с идеи Абсолютного духа, он пишет: «Все
субъективные способности, т. е. все способы деятельности,
были представлены им именно как коллективные
(«всеобщие») формы, переживающие действительное развитие в
истории. Субъектом «способностей» здесь впервые был признан
не индивидуум как таковой, рассматриваемый в абстракции
от всего того, чем он обязан обществу и истории, а тот
грандиозный «ансамбль» индивидов, взаимно воздействующих друг
на друга, который реально и создает политическую историю, и
науку, и искусство, и технику, и все остальные универсально-
человеческие формы культуры»1.
Сравнивая гегелевскую «Философию духа» с
«Феноменологией духа», Ильенков делает акцент на способе, каким
человек способен стать «великим характером». «В связи с этим
(особенно отчетливо это обрисовано в «Феноменологии духа»)
превращение биологической особи вида «гомо сапиенс» в
человеческую личность предстало перед его взором как процесс
присвоения индивидом всего богатства исторически
развившейся общественно-человеческой культуры, как процесс, вкратце
1 Ильенков Э.Ф.Философия и культура. М., 1991, с.377.
348
воспроизводящий историю возникновения и эволюции самой
этой культуры»1.
Уточним, что напрямую человеческая душа с миром
культуры в учении Гегеля не соотносится. Общая траектория
мирового развития у Гегеля выглядит так: Абсолют в виде
логической идеи - природа - природная душа - субъективный
дух - объективный дух - абсолютный дух. Душа происходит
из мира природы, а культура разворачивается в формах
объективного и абсолютного духа. Культура, таким образом,
является внешней инстанцией по отношению к человеческой душе.
И на лестнице бытия они не встречаются.
Гегель, согласно Ильенкову, не только характеризует
перспективы развития личности, но и остро ставит вопрос
о преградах на таком пути, каким, как подчеркивает
Ильенков, является разделение труда. Социальный аспект проблемы
действительно обозначен уже в начале «Философии духа», где
Гегедь пишет о безразличии философии к чертам характера
отдельных духов, в отличие от великих характеров. Но при этом
он замечает: «Для жизни такое знание несомненно полезно и
нужно, в особенности при дурных политических
обстоятельствах, когда господствуют не право и нравственность, но
упрямство, прихоть и произвол индивидуумов, в обстановке
интриг, когда характеры людей опираются не на существо дела, а
держатся только на хитром использовании своеобразных
особенностей других людей, стремясь таким путем достичь своих
случайных целей»2.
Но более развернуто данная ситуация проанализирована
там, где в «Философии права» у Гегеля идет речь о гражданском
обществе, со свойственной ему патологией эгоизма. Именно в
гражданском обществе получает максимальное развитие тот
тип поведения, пишет Гегель, когда «каждый для себя - цель,
1Тамже,с.378.
? Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. М., 1977. Т. 3.
С. 7.
349
все остальное для него ничто»1. Но поскольку без
взаимодействия с другими людьми человек не может достичь своих целей
в полном объеме, «эти другие суть поэтому средства для цели
особенного»2.
Гражданское общество Гегель характеризует как зрелище
нищеты и излишества на фоне общего физического и
нравственного упадка. Он отмечает, что своими представлениями и
рефлексиями человек расширяет сферу вожделений, не
представляющую замкнутого круга, как у животного. Но, с другой
стороны, лишения и нужда есть тоже нечто безмерное. И
запутанность этого состояния может быть приведена к гармонии
только силой государства3.
Уточняя цель гражданского общества, Гегель пишет, что
ею является конкретное лицо как «целостность потребностей
и смешение природной необходимости и произвола»4. Но
произвол, в свою очередь, в гегелевской трактовке есть влечение,
существующее уже в природе. Однако, в отличие от
животного, человек полагает это влечение своим. Тем не менее, по
большому счету эгоистическое поведение не выводит нас за
пределы «животного царства».
Противовесом эгоизма частных лиц в философии Гегеля,
как известно, являются государство, религия, мораль и
философия. И с той же настойчивостью, с какой Гегель продвигает
человеческую душу со всеми ее отклонениями в мир природы,
он сближает с Абсолютом государство, религию, мораль и
философию. Антагонизм материального и идеального, согласно
такой трактовке гражданского общества, буквально раздирает
тело современной цивилизации. И выход из этой ситуации
Гегель видит в балансе сил, что характеризует его как
консерватора, но никак не как утописта.
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 228.
2 Там же.
3См.:тамже, с. 231.
4См.:тамже, с. 227.
350
Если в гегелевской антропологии душевная аномалия -
проявление природного в человеке, то у датчанина С. Киркегора,
как известно, ситуация оборачивается - высшим проявлением
духа оказывается как раз аномальное, преодолевающее
зависимость от общего порядка природы и общества. Но в отрицании
гегелевской диалектики Киркегор ее не столько преодолевает,
сколько меняет акценты. Дух - единичное, а общее
представлено природой, обществом, церковью. Но это были хорошо
известные ему общество и церковь, отвергнутые Киркегором вместе
с оправдывающей их гегелевской философией.
Киркегор начал творческую биографию с отрицания
общепризнанной гегелевской философии. А в конце жизни
вступил в конфронтацию с датскими церковными кругами.
««Толпа», - писал он в одном из дневников - вот главный
сюжет моей полемики... Хочу открыть толпе глаза, и если она не
поймет меня добром, заставлю насильно. Надо, однако, понять
меня. Я не хочу бить толпу (одиночка не может бить массу),
но я хочу заставить её бить меня. Вот в каком смысле только я
пущу в ход насилие. Раз толпа примется бить меня, внимание
её поневоле должно будет пробудиться. Ещё лучше, если она
убьёт меня, тогда внимание её сосредоточится всецело, стало
быть, и победа моя будет полной».1
Патологические проявления - почти норма у творческой
интеллигенции, начиная уже с XIX в. «Индивидуальность,
лишенная возможности проявлять себя в действительно
важных, значимых не только для нее одной, а и для другого (для
других, для всех) действиях, - пишет Ильенков, - поскольку
формы таких действий заранее заданы ей, ритуализированы
и охраняются всей мощью социальных механизмов, поневоле
начинает искать выхода для себя в пустяках, в ничего не
значащих (для другого, для всех) причудах, в странностях»2,
1 Киркегор С. Из дневников // Серен Киркегор сам о себе в изложении
Петера П. Роде. Челябинск, 1998.С. 350-351.
2 Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 412.
351
Все это было у Киркегора. В благополучном Копенгагене
он страдал той самой меланхолией, которая, по замечанию
Гегеля, влечет англичан к самоубийству. «Я только что пришёл из
общества, душою которого я был. - пишет он в дневнике. -
Остроты сыпались с моих уст, все смеялись, восторженно
смотрели на меня. - А я, и тут моё тире должно быть длинным, как
радиус земной орбиты, - я погибал и хотел застрелиться».1
Киркегор обращал на себя всеобщее внимание и
одновременно вызывал раздражение тем, что не хотел «быть, как
все». Неординарностью внешности, манер и поступков он
провоцировал добропорядочных сограждан. «Был ли апостол
Павел государственным служащим? - пишет в дневнике
Киркегор, - Нет. Имел ли он выгодную работу? Нет. Зарабатывал
ли он большие деньги? Нет. Был ли он женат и производил ли
на свет детей? Нет. Но ведь тогда выходит, что Павел не был
серьёзным человеком!"2
Лев Шестов часто повторяет слова Киркегора о
«выпадении из общего», где «общее», по убеждению Шестова, - это
законы разума, природы, общества, морали. Для Шестова, уже
усвоившего уроки ницшеанства, культура и мораль «по ту
сторону» истинно человеческого. Но у Киркегора все еще
двоится, что просматривается в его работах 1843 года «Или-или» и
«Повторение». Подчиниться власти «общего» для него, прежде
всего, оказаться в тисках существующей материальной и
социальной необходимости. А значит идеальное доступно лишь
одиночке, стоящей в стороне от общих дел.
В работе «Или-или» Киркегора есть сходство с
«Феноменологией духа» в анализе восхождения духа, в данном случае -
по ступеням эстетического, этического и религиозного
отношения к жизни. Тот, кого Киркегор именует «эстетиком», еще
1 Цит. по: Бибихин В. В. Кьеркегор и Гоголь // Мир Кьеркегора. Русские
и датские интерпретации творчества Серена Кьеркегора. М., 1994. С. 87.
2 Цит. по: Серен Киркегор сам о себе в изложении Петера П. Роде.
Челябинск, 1998. С. 201.
352
идет на поводу у природы. Но жажда телесных наслаждений
уже здесь способна надевать маску душевной работы, когда
желание переплавляется в эстетическое переживание. Таким у
Киркегора является романтик - яркая фигура его эпохи.
Это видоизмененное проявление чувственности в работе
Гайденко, посвященной Киркегору, характеризуется как
«романический эстетизм»1. Романтическое искусство обретается
в области фантазий, подобно спекулятивной философии. Если
Истина - Бог теоретика, то Красота является Богом эстетика.
Но стремление к красоте у романтика, считает Киркегор, лишь
маска и внешние скрепы для поиска ярких ощущений и
переживаний, питающих его фантазию. Духовное здесь выступает
лишь как внешнее, а не внутреннее. Поэтому романтическую
натуру, которую Киркегор ассоциирует с Дон Жуаном, он
помещает между эстетиком и этиком.
Киркегору ясно, что там, где индивид живет
стихийными желаниями, он по сути идет у них на поводу, но, подчиняя
себе этот произвол, он становится свободен. Поэтому эстетик
у него зависим, в то время как этик свободен. Душа эстетика,
повторяет он, является рабой минуты. Но, главное, на что
способен этик, это полагать себя как единство, внутреннюю
целостность. «Можешь ли ты представить себе что-нибудь ужаснее
развязки, - читаем мы в «Или-или», - когда существо человека
распадается на тысячи отдельных частей, подобно
рассыпавшемуся легиону изгнанных бесов, когда оно утрачивает самое
дорогое, самое священное для человека - объединяющую силу
личности, своё единое, сущее «я»?»2.
Выбор между наслаждением и долгом - центральная тема
«Или-или». Именно под таким названием, но в урезанном виде,
вышла эта работа впервые в России в переводе «русского»
датчанина П. Ганзена. Религиозная тема только намечена в работе
1 См.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., 1997.
С 118-126.
2 Киркегор С. Или-или. М., 1991. С. 198.
353
Киркегора «Или-или». Но вполне определенно в ней ставится
вопрос об истоках и объединяющей силе личности.
Вспомним, что у романтика - не личность, а личина, а
значит маска, имитирующая единство личности, собственное
Я. На деле, уверен Киркегор, душа романтика не знает
никакой объединяющей силы, поскольку романтик не может, а
точнее, не желает осуществлять реальный жизненный выбор.
Тем не менее, актом такого выбора создается объединяющая
сила личности. Подлинный выбор - это выбор самого себя как
субъекта, отвечающего за желания и поступки. Тем самым
эстетик становится этиком, т. е. нравственным субъектом.
Единство человеческой души для Киркегора так же
значимо в нравственном и философском смысле, как и для всей
классической философии и культуры. В этом пункте
Киркегор, стоящий у истоков неклассической философии, -
антипод ее современных представителей в лице
постмодернистов, у которых фрагментация личного Я превратилась
из ужасной развязки в норму существования человека. В
вопросе единства личного Я датчанин Киркегор - плоть от
плоти немецкой классической философии. Но в каком
пункте «философская антропология» Киркегора выходит за
пределы философской классики?
Благодаря Шестову, сегодня растиражированы слова
Киркегора об отказе от спекулятивного философа Гегеля в пользу
«частного мыслителя» Иова, о котором впервые заходит речь
в 1843 году в работе Киркегора «Повторение». Гегелевская
спекулятивная истина, по мнению Киркегора, абстрактна как бы
вдвойне. С одной стороны, она отвлечена от жизни, а с
другой - противостоит отдельному индивиду в качестве внешней
силы, выдающей предписания от имени Всеобщего.
Исторический и культурный контекст в рассуждениях
Киркегора выступает фоном, чаще всего враждебным духу.
Мир культуры, подобно природе, является сугубо внешней
инстанцией для духа. Тем не менее, общее, считает Киркегор,
354
может быть реабилитировано там, где оно не противостоит,
а совпадает с частным. Уже в работе «Или - или»
основанием морали у него выступает не общее, а частное. «Между тем,
- пишет он, - общее ведь и не существует само по себе, а лежит
в самом человеке, энергии его сознания, и от человека самого
зависит, видеть в частном общее или только частное»1.
Таким образом, Киркегор в лице «частного мыслителя»
Иова оказывается за пределами философской классики
потому, что не только отождествляет частное и общее, но пытается
извлечь из первого второе. Если у Гегеля индивид становится
личностью, осваивая общее как богатство Абсолютного духа,
то у Киркегора само единство личности, как и ее внутреннее
богатство, созидается силой выбора единичного, а еще точнее -
Единственного, как его именует Киркегор.
Повторим, что в решении многих принципиальных
вопросов Киркегор - это Гегель навыворот. Абсолютному духу он
противопоставляет индивидуальный дух, объективному
содержанию личности - субъективное, но великому характеру он
еще противопоставляет не дурную индивидуальность, а такое
единичное, из которого возможно извлечь все богатство духа.
Я с малой буквы непонятным образом становится у Керкегора
Я с большой. Слово «непонятным» здесь употребляется не
случайно. Переход, который Гегель заполняет освоением
Абсолюта, у Киркегора осуществляется силой отчаяния одиночки.
Тем не менее, если оставить в стороне тему отчаяния,
которое, овладевая эстетиком в его наслаждении жизнью, в
определенном смысле рождает личность, пафос Киркегора
вписывается в общую тональность рождавшегося неклассического
философствования. Этот пафос, как показывает в своей
статье Аннет Юбара (см. наст, сборник) находит выражение и у
младогегельянцев, демонстрируя трансформацию гегелевской
диалектики в новых условиях. Но радикализм антигегелевской
«антропологии», обостряя, не решает проблему.
1 Киркегор С. Или-или. М., 1991. С. 357.
355
Давно существует мнение, которое в некоторой степени
поддерживает Юбара, что Маркс в «Экономическо-философ-
ских рукописях 1844 года» дает оценки Гегелю, не преодолев
окончательно влияния младогегельянцев. Величие гегелевской
«Феноменологии» и ее конечного результата, пишет Маркс, в
1844 году, заключается в том, что «Гегель рассматривает
самопорождение человека как процесс, рассматривает
опредмечивание как распредмечивание, как отчуждение и снятие этого
отчуждения, в том, что он, стало быть, ухватывает сущность
труда и понимает предметного человека, истинного, потому что
действительного, человека как результат его собственного труда.
Действительное, деятельное отношение человека к себе как
родовому существу или действительное проявление им себя на деле
как родового существа, т. е. как человеческого существа,
возможно только тем путем, что человек действительно извлекает
из себя все свои родовые силы (что опять-таки возможно лишь
посредством совокупной деятельности человечества, лишь как
результат истории) и относится к ним как к предметам, а это
опять-таки возможно сперва только в форме отчуждения»1.
Все «родовые силы» в данном случае не даны человеку ни
Создателем, ни природой. Но диалектика самопорождения
человека выглядит так, что, не будучи изначально данным,
всеобщее, как его «родовые силы», все же «извлекается» человеком
из самого себя, и в то же время это возможно лишь посредством
внешней деятельности опредмечивания и распредмечивания
в «неорганическом теле» цивилизации. В этом рефлексивном
движении, опосредованном предметным телом культуры,
состоит саморазвитие человека. Именно в такой форме, где
влияние младогегельянства представлено не только на уровне
риторики, в марксизм входит идея человека как «результата его
собственного труда».
Если в рукописях 1844 года «совокупная деятельность
человечества» выглядит, скорее, как необходимое условие и
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42, с. 158-159.
356
средство самополагания человека, то в «Тезисах о Фейербахе»
в форме практики она становится самой сутью
самосозидания людей в конкретных обстоятельствах. Именно здесь,
фигурально выражаясь, антропология снимается в социологии,
конечно, не в смысле Конта. Согласно шестому тезису,
всеобщее как сущность человека, не может быть ни заключена, ни
извлечена из отдельного индивида, идет ли речь о его теле, или
о духовной «самости».
Интересно, что там, где в статье Ильенкова Гегель впервые
признает субъектом не отдельного индивидуума в абстракции
от общества и истории, а грандиозный «ансамбль» индивидову
воздействующих друг на друга, и тем самым создающий науку,
технику и все «универсально-человеческие формы культуры»,
он по сути воспроизводит знаменитый шестой тезис Маркса1.
И эта параллель указывает на методологическую близость
«Тезисов о Фейербахе», скорее, к самому Гегелю, чем к
младогегельянцам. Но смотрит здесь Ильенков глазами Маркса на Гегеля
или, наоборот, глазами Гегеля на Маркса?
Здесь, однако, стоит вспомнить Аристотеля, который, в
числе других категорий, указывает на соотношение
единичного и общего на примере индивида и рода в природном мире.
В третьей и четвертой главах третьей книги "Метафизики" он
выступает против отождествления сущности с самими
единичными вещами, а, с другой стороны, против отождествления ее
с их общим родом и видом. Аристотель предполагает, что
общее каким-то образом выражено, представлено в отдельном, и
при этом отдельное не перестает быть отдельным.
На примере души растения и животного Аристотель
демонстрирует, как отдельное оказывается всеобщим,
существуя, тем не менее, рядом и независимо от других вещей.
Характеризуя душу растения и животного, Аристотель замечает, что
в животном присутствуют способности растения, а в человеке
- способности животного, а через него и растения. В резуль-
'См.: Ильенков Э.Ф.Философия и культура. М., 1991, с. 377.
357
тате у Аристотеля растительная способность оказывается как
отдельной, так и всеобщей, поскольку присутствует во всем
живом. Поясняя это положение, Аристотель приводит пример
с геометрическими фигурами: "С относящимся к душе, -
пишет он, - дело обстоит почти так же, как с фигурами, вот в
каком еще смысле. А именно: и у фигур, и у одушевленных
существ в последующем всегда содержится в возможности
предшествующее, например: в четырехугольнике - треугольник, в
способности ощущения - растительная способность"1.
Справедливости ради надо сказать, что растительная
способность и треугольник отдельными являются у Аристотеля в
действительности, а всеобщими - только в возможности. Но
это не меняет сути дела. Даже при таком условии перед нами
пример того, как отдельное выступает в роли всеобщего
относительно данного рода вещей и явлений.
Аристотель интересуется отношением индивида к роду в
природном мире, и душа человека здесь включена в систему не
общественных, а родовидовых отношений. При этом понятия
«единичное», «отдельное» и «особенное» здесь еще сплавлены
и не различены. Но и в наши дни они, чаще всего, фигурируют
как синонимы. У известного австрийского психолога А.
Адлера мы читаем сакраментальное: «Так же, как невозможно
найти на дереве два абсолютно одинаковых листа, невозможно
отыскать двух одинаковых людей». Перед нами не более, чем
обыденная формулировка принципа дифференциации,
адекватно сформулированного Г. Лейбницем. Тем не менее, Адлер,
как и другие, пытается природной дифференциацией
обосновать индивидуальные различия людей. Мерку единичного в
природе здесь прикладывают к индивидуальному в культуре.
На языке Гегеля, указанная банальность означает, что
несхожесть людей, прежде всего, представлена их «дурной
индивидуальностью». Но как иначе единичное может быть
представлено в человеке?
1 См.: Аристотель. Соч. в четырех томах. 1975. Т. 1. С. 400.
358
В буквальном смысле индивид, т. е. единичное, как раз
означает отдельное как отделенное от другого, что выражает
принцип дифференциации. Но, как указывает уже
Аристотель, единичное способно быть общим, повторяясь в других
представителях этого рода. Здесь перед нами то отношение
между единичным и общим, которое Маркс в шестом тезисе
относит к самому Фейербаху: «поэтому у него человеческая
сущность может рассматриваться только как «род», как
внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов
только природными узами».
В природе индивид в качестве всеобщего представляет
свой род. И в этом качестве может представлять род более или
менее адекватно. Говоря банально, урод представляет свой род
неадекватно. Здесь его «дурная индивидуальность» доведена
почти до предела, за которым своеобразие индивида может
вывести его за пределы рода. Нечто, стоящее на границе
собственного рода, принято называть «уникальным». Но на другом
полюсе - такое представительство всеобщего в единичном,
которое М.А. Лифшиц определил бы как «идеальное» в природе.
Это же перекликается с характеристикой Ильенковым
гегелевского решения этого вопроса. В качестве закона,
управляющего взаимопревращением явлений, у Гегеля «конкретное
всеобщее есть «душа единичного»1.
Но диалектика единичного и всеобщего выражается не
только в том, что единичное более или менее адекватно
представляет свой род. Уже в природном мире единичное способно
как выражать, так и стать началом нового всеобщего.
«Действие всеобщей закономерности выражается в единичном и
через единичное, - пишет Ильенков в статье «Единичное» в
«Философской энциклопедии» 60-х гг., - а всякая новая всеобщая
форма (закономерность) всегда вначале выступает в
действительности в виде единичного исключения из всеобщего пра-
1 См.: Ильенков Э.В /Единичное / Философская энциклопедия. Т.2. М.,
1962. С. 103.
359
вила...»1. И далее: «При этом сохраняются и воспроизводятся
развитием, получая всеобщее значение, лишь такие
единичные «исключения», которые соответствуют общей тенденции
развития, требованиям, заложенным во всей совокупности
условий, и реализуют эти требования своей особенностью
(выделено - Е.М.), своим отличием от других единичных»2.
Единичное, как мы видим, из исключения становится
правилом через свою особенность. Перед нами та ситуация, в
которой единичное и особенное уже различены и реально, и
теоретически. Причем особенное имеет отношение к способу, каким
единичное в своем развитии получает всеобщее значение т. е.
становится новым всеобщим.
Оппоненты укажут на то, что в других контекстах у
Ильенкова единичное, отдельное и особенное рядоположены. Но
более значимы те моменты, где Ильенков их различает и
отсылает нас уже к диалектике единичного, всеобщего и
особенного. «Для мысли единичное важно как внутреннее различение
внутри всеобщего, как особенное»3 - пишет он. Единичное
обретает особое качество, становится особенным через
внутренне различение всеобщего.
Приближаясь по смыслу к тому, что более адекватно
схватывает категория особенного, единичное все дальше уходит от
различия двух листочков на дереве и двух деревьев в лесу.
Категория особенного в диалектике обретает значимость там, где
перед нами взаимосвязь единичного и всеобщего в развитии,
где речь идет о характере их взаимоперехода. Но чем
диалектика развития всеобщего через особенное в природе отличается
от того же в культуре?
«Через единичные, случайные отклонения, - пишет
Ильенков в статье «Единичное», - прокладывает себе дорогу об-
1 См.: Ильенков Э.В /Единичное / Философская энциклопедия. Т. 2. М.,
1962. С. 103.
2См.:тамже.
3 Там же.
360
щая необходимость, закономерность»1. Речь идет, прежде
всего, о всеобщем в природе, где случайно возникшее единичное
способно стать началом нового рода, что у живых существ
закрепляется естественным отбором. Механизм естественного
отбора и есть тот особый способу каким единичное переходит во
всеобщее в живой природе. Именно естественный отбор -
особый способ порождения индивидом рода в животном мире. Но
нам известны теории, в которых этот способ проецируется на
формирование и развитие общества. В этот ряд встраиваются
и те натуралистические учения, в борьбе с которыми
Ильенков пребывал всю жизнь.
Нет смысла разбираться в аргументах тех, кто в 60-70-е гг.
XX в. доказывал, что мысль порождается мозгом, а личность
зашифрована в генетическом коде. Важнее вопрос о том, чем
именно диалектика у Ильенкова отличается от гегелевской
диалектики в решении «антропологических» вопросов. Ведь если
признать, к примеру, что социальная необходимость, будучи
естественно-исторической, трансформируется через случайные
отклонения в развитии людей, как это обозначено в общем
виде в статье Ильенкова «Единичное», то в развитии общества
уже нет места свободе как творчеству. Такая логика исключает
из развития людей как раз тот момент, который веками
пыталась понять философия. Свобода в таком контексте
оказывается или редуцирована к стихийному отклонению, случайно
реализующего объективную тенденцию, либо отвергнута как
выдумка философов, вроде Киркегора или младогегельянцев.
Едва ли не каждая из работ Ильенкова по проблеме
становления личности была репликой в спорах, вошедших в
историю советской философии. Так называемая
«культурно-историческая теория» (КИТ), которой, в лице Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева и Э.В. Ильенкова, теперь всерьез занимаются
на Западе, признана фактом истории философской и психоло-
1 Ильенков Э.В /Единичное / Философская энциклопедия. Т. 2. М.,
1962. С 103.
361
гической мысли. К азам КИТ во всем мире относят ильенковс-
кое понимание формирования личности: «Процесс
возникновения личности, - пишет Ильенков, - выступает как процесс
преобразования биологически заданного материала силами
социальной действительности, существующей до, вне и
совершенно независимо от этого материала»1.
Характеризуя способ, каким природная активность
новорожденного переплавляется в культурно-историческое
развитие, Ильенков пишет: «Все эти схемы («способности как
таковые») на все сто процентов, а не на девяносто пять и даже не
на девяносто девять процентов есть результат, который умно
организованный педагогический процесс и может и должен
реализовать в каждом медицински нормальном индивиде»2.
Именно потому, что превращение природного индивида в
личность происходит по мере его «вращивания» в социальную
жизнь, как раз последняя определяет своеобразие
индивидуальных способностей человека. Ильенков делает акцент на том,
что в процессе формирования личности то, что обычно
связывают с «природным талантом», определяется не внутренним, а
внешним для индивида - его включенностью в систему
взаимодействий с другими людьми. При этом он солидаризуется с
Гегелем в его понимании конкретно-всеобщего, которое на
уровне социального целого оказывается не «немой всеобщностью»
существ, подобных друг другу, а единством их многообразия.
Здесь не подобие, а несходство оказывается главным условием
связи индивидов в единое целое.
Справедливости ради нужно отметить, что уже
жизнедеятельность организма возможна за счет различия, а не подобия
органов - сердца, легких, мозга. А в животном стаде различие
выражено телесной разницей, прежде всего, самки и самца.
Но, в отличие от органического целого, сущность
социального целого выражается не в телесном строении и его функциях,
1С чего начинается личность. М., 1983. С.335.
2 Ильенков Э.Ф.Философия и культура. М., 1991. С.380-381.
362
а в способе взаимоотношений между людьми. И в этом смысле
правомерно говорить, что сущность человека находится не в
нем самом, а вне его. Опираясь на шестой пункт в «Тезисах о
Фейербахе», Ильенков отмечает, что человеческая личность
существует «не внутри единичного тела, а как раз вне его, в
системе реальных взаимоотношений данного единичного
тела с другим таким же телом через вещи, находящиеся в
пространстве между ними и замыкающие их «как бы в одно тело»,
управляемое «как бы одной душой»1.
Этот образ «как бы одного тела» имеет явную связь с
понятием «неорганического тела» цивилизации в рукописях
Маркса 1844 года, посредством которого человек деятельно
опредмечивает свои способности и распредмечивает чужие,
превращая тем самым общество в единство многообразия.
Делая акцент на опредмечивающе-распредмечивающем
характере общения людей, Маркс, вслед за Фейербахом, ставит здесь
во главу угла человека с его органическим и «неорганическим»
телом. Но способом, а значит сущностью саморазвития
человека, здесь уже является общение в практике, или труд в
качестве того «общего дела», участвуя в котором люди формируют
себя и других в качестве людей.
Парные категории «опредмечивание» и
«распредмечивание» в данном случае указывают на исток формирования
человека - рефлексивную природу труда, в котором я формирую себя
только с помощью другого и через него. Маркс подчеркивает в
рукописях 1844 года, что Гегель понял человека как результат
его собственного труда. А это значит, что формирование
человека извне - только момент его ошосозидания. Но если труд -
это самосозидание людей в ходе совместного преобразования
природы, то сущность человека во многих местах у Ильенкова
предстает в двойственном свете.
Речь идет о роли личности в грандиозном «ансамбле
индивидов», который выступает как сущность человека в ра-
1 Ильенков Э.Ф.Философия и культура. М., 1991. С.394.
363
ботах Ильенкова. И в этом контексте «ансамбль индивидов», в
общении которых преобразуются они сами и созидается мир
культуры, безусловно, есть величественный субъект,
сущностью которого как способом самосозидания является труд.
Но своеобразие такого субъекта как
конкретно-всеобщего состоит не только в разнообразии его «органов»,
по-разному включенных и включаемых в «социальный организм».
Рефлексивный характер труда как сущности человека
проявляет себя в том, что не органом, а «скрипкой» в этом ансамбле
может быть тоже только субъект. Но и аналогия со скрипкой в
данном случае чревата в методологическом плане. Ведь
социальный субъект как единство многообразия не только
объединяет усилия скрипачей. Основной вектор саморазвития
общества - формирование из людей равных себе субъектов, причем
настолько, насколько они способны менять само общество.
И в этом, с одной стороны, азы, а с другой - главная проблема
педагогики: не просто встроить индивида в социальную жизнь, но
«научить его учиться». В более общем виде этот вектор
педагогических усилий самого Ильенкова, теоретических и практических,
выражался в умении человека «выделывать самого себя» в
конкретных обстоятельствах. Собственно, в этом и состоит главное
«социальное качество» человека, выраженное понятием
личности и несводимое к «сумме» социальных ролей, которую обычно
здесь имеют в виду. И как раз совместно-разделенная деятельность
с другим человеком, практиковавшаяся в ходе «Загорского
эксперимента», является способом освоения не только
репродуктивного, но и продуктивного момента деятельности.
Именно в этом свете утверждение тезиса о личности как
«органе» социального субъекта методологически чревато,
поскольку здесь мы силой абстракции извлекаем только один
момент, одну сторону из взаимоотношений людей,
обусловленных рефлексивностью труда. И во многом это та
репродуктивная сторона, к которой сводится человеческая деятельность
историческим отчуждением труда.
364
Когда Ильенков пишет, что личность вообще «есть
единичное выражение жизнедеятельности «ансамбля
социальных отношений вообще»1, из разных переводов «Тезисов о
Фейербахе» уже следует разное понимание сущности
человека. В «ансамбле» индивидов каждый способен стать
субъектом, но орган в организме может только более или менее
адекватно исполнять свою функцию. Применительно к
обществу, как «социальному организму», такой совершенный
«орган» - профессионал, в совершенстве исполняющий свою
роль, на что, собственно, и ориентирован индивид в
конкретных исторических условиях.
И то же касается индивида по отношению к роду, где его
«творчество» - это гибель рода, а не его преображение.
Индивид может стать началом нового рода, пишет в другом месте
Ильенков, через случайное отклонение, реализующее общую
тенденцию. Но при этом, что важно, он остается индивидом, а
не становится личностью. В контексте отношения тела к
органам, рода к индивидам, понятие личности оказывается
избыточным, предполагая отношения иного порядка. Вот почему
параллель между телом и органами в данном случае
методологически опасна. Тем не менее, в этом конкретном месте
Ильенков уточняет: «Данная личность есть единичное выражение
той по необходимости ограниченной совокупности этих
отношений (не всех), которыми она непосредственно связана с
другими (некоторыми, а не всеми) индивидами - «органами»
этого коллективного «тела» - тела рода человеческого»2.
По поводу таких пунктов в концепции Ильенкова и
разворачиваются споры. Ведь не только у Гегеля были
последователи, вступавшие в полемику между собой. Полемика в рамках
«ильенковской школы» проходит, к слову сказать, на фоне и в
противовес возрождению натуралистической «антропологии»,
по преимуществу, в американской аналитической философии.
1 Ильенков Э.Ф.Философия и культура. М., 1991. С. 394.
2 Там же.
365
Но наиболее характерным внутри «ильенковской школы»
оказался спор вокруг трактовки Ильенкова А.Д. Майданским.
Концепция личности у Майданского основана как раз на
идее выражения в ней «ансамбля социальных отношений». Там,
где он пишет о личности как своеобразном «узелке» в
многомерной сети общественных отношений, это не стоит
воспринимать лишь как художественный образ. «Мое «Я», - подчеркивает
Майданский в той же работе, посвященной
культурно-исторической психологии, - есть сгусток общественных отношений.
Личность дышит кислородом культуры и сама является
элементарной частицей культурно-исторической реальности»1.
«Частица общества, завладевшая телом и душой индивида, - читаем
мы в той же работе, - вот что есть такое личность («эго»,
«экзистенция», «самость» - как ее ни назови)»2.
Методология КИТ позволяет извлекать человеческие
проявления не из физиологии нашего тела, а из строения «тела
культуры». За образами «узелка», «сгустка», «частицы» стоит понятие
«выраженности» и «представленности» общества как всеобщего
в личности как единичном. «Тело - лишь сырье, материал, -
пишет Майданский, - из которого обществу предстоит отчеканить
«монету» личности. В биологическом плане тело - субъект
психической деятельности; в плане идеальном оно лишь орган или
орудие, а настоящим субъектом является общество»3.
Природная активность здесь, как и у Ильенкова,
преобразуется в социальные действия на основе тех схем, которые
опредмечены в культуре. В этом смысле способность
человека - это возможность и умение действовать согласно
культурной «схеме», опредмеченной в теле культуры. Личностью
человек «становится в тот самый миг, - подчеркивает
Майданский, - когда совершает свой первый общественно знани-
1 Майданский А.Д. Понятие личности в культурно-исторической
психологии / Свободная мысль. 2011. № 10. С. 80.
2 Там же, с. 78.
3Тамже,с. 80.
366
мый поступок - продиктованный не телом или природной
психикой, а теми нормами культуры, что приняты в родном
для него сообществе людей. Начиная активно совершать те
действия, которые ранее совершали по отношению к нему
другие люди, ребенок и превращается в личность - в
субъекта культурной деятельности»1.
Эта довольно большая цитата интересна тем, что на ее
основе уже возможна реконструкция понятия субъекта
культуры в данной версии понимания Ильенкова. Личность
способна реализовать себя как субъекта, но именно там, где начинает
активно, т. е. самостоятельно совершать действия, согласно
нормам, которые приняты в данном сообществе, а, в
конечном счете, положены обществом как «настоящим» субъектом.
Рефлексивная связь индивида и общества, таким образом, в
соответствии с уроками Гегеля, размыкается здесь на" уровне
всеобщего субъекта. Но откуда извлекаются указанные схемы
и нормы самим всеобщим субъектом? Ведь уже сказано, что
люди, могут действовать более или менее адекватно лишь по
заложенным в культуре схемам. Именно общество как
субъект преобразует природу через людей, активно действующих
согласно опредмеченным схемам.
Здесь уже не обойтись без понятия свободы, которая, к
примеру, у Гегеля реализуется индивидом исторически, но присуща
абсолютному субъекту изначально как субстанции-субъекту.
Вполне возможно, что отличаясь последовательностью, Майданский
признает и свободу, согласно урокам Гегеля, изначально
присущей обществу. Обществу изначально присуща свобода, которая
совпадает со способностью индивидов воспроизводить его же
схематизмы. В таком построении есть своя логика. Но насколько
это соответствует гуманистическому пафосу Ильенкова?
В другом месте, однако, Майданский пишет: «Изменяя
внешнюю природу, человек тем самым преобразует себя: в нем фор-
1 Майданский А.Д. Понятие личности в культурно-исторической
психологии / Свободная мысль. 2011. № 10, с. 91.
367
мируются и развиваются человеческие способности, меняются
его отношение к себе и взаимоотношения с другими людьми»1.
В другом месте, он подчеркивает, что «масштаб личности
измеряется культурной ценностью ее деяний. Личность человека
тем значительнее, чем мощнее ее воздействие на другую
личность, а в конечном счете - на историю человечества»2.
Тем не менее, в обоих случаях вновь встает тот же
вопрос, за счет чего человек способен не только воспроизводить
наличные формы культуры, но и менять их. Откуда личность,
будучи «отчеканенной» обществом, подобно монете, черпает
в качестве уже «малого» субъекта новую «культурную
ценность» и ту творческую мощь, которая отличает ее от других?
И, в конце концов, способна ли личность, меняя природу и
себя, выйти за пределы, положенные ей родом?
Культурные вещи суть «хромосомы человечности»,
подчеркивает Майданский, и этот образ у него как раз не случаен. К
числу таких вещей принадлежит и органическое тело
человека, включая мозг с его «нейродинамическими кодами», причем
«принадлежит в той мере, в какой оно является предметом
общественного труда и, так сказать, первой скрипкой в «ансамбле
общественных отношений»»3. Тело человека - тоже предмет
труда общественного субъекта, действующего через других людей
на данного индивида. В приведенной выше цитате не случайно
акцент сделан на сходстве тела человека и любого другого тела в
мире культуры. Этим, по сути, оканчивается данная статья. Но
если общество извне чеканит тело (и душу?) индивида, подобно
другим природным телам, то каким образом это тело
превращается в первую «скрипку» ансамбля тел культуры?
Тот вариант, что тело человека превращает в субъекта
извне данная душа, Майданский, естественно, отвергает. Тот
1 Майданский А.Д. Понятие личности в культурно-исторической
психологии / Свободная мысль. 2011. № 10. С. 82.
2Там же, с. 91.
3Тамже.С92.
368
вариант, что способность выдвинуться на роль действующей
силы, закреплена в самом теле и функциях этого тела, он
отрицает тоже. Остается характер встраивания тела человека в
культуру, в отличие от вещи и иных организмов. Но почему, к
примеру, воспитание собаки не превращает ее единичное тело
в личность? Хотя дрессура тоже разрывает цепь между
потребностью и ее удовлетворением.
Главная проблема, на наш взгляд, в том, что подлинным
субъектом Майданский считает только общество как
«совокупность общественных отношений», и, даже признавая на
стороне индивидуальности субъектное начало, сводит его к активной
работе со схемами, положенными общественным субъектом.
Именно индивидуальная свобода и творчество, таким образом,
становится главной загадкой, которую, на наш взгляд, может
разгадать иной взгляд на взаимосвязь единичного и всеобщего
в человеке, иной взгляд на превращение индивида в субъекта,
иное понимание роли индивидуального субъекта в культуре, о
чем пойдет речь далее. Иначе круг в рассуждениях размыкается
только гегелевским решением этой проблемы.
Оставим в стороне идею о том, что подлинным
социальным субъектом в таком процессе является сам труд, которая,
в свое время, обострила полемику в кругу ильенковцев.
Текстуальные фрагменты из работ Ильенкова, приводимые Май-
данским, в данном случае не были восприняты в качества
доказательства. Тем не менее, так или иначе, обсуждая ильен-
ковскую версию Майданского, мы упираемся в проблему
такого различия между людьми, когда одна личность способна
на продуктивную деятельность, а другая - только на
деятельность репродуктивную.
В споре с Леонтьевым, и, косвенно, с Ильенковым,
психолог С.Л. Рубинштейн ссылается именно на этот момент как
на концептуальный зазор в культурно-исторической теории.
«Если весь состав способностей «задан» индивиду «извне»,
будучи «депонирован» в формах предметно-человеческого мира,
369
- пересказывает аргументы Рубинштейна Ильенков, -
сообразуясь с которыми индивид тренирует свои органы, делая
их «способными» к определенному типу действий, то процесс
развития способности сводится просто к «усвоению
исторически выработанных операций»1. «Но при данной постановке
вопроса исчезает не что иное, как сам субъект, - продолжает
цитировать Рубинштейна Ильенков, - или, точнее,
индивидуум с самого начала не рассматривается как субъект, а только
как объект внешних воздействий, только как нечто
формируемое, но не как формирующее»2.
Весь этот комплекс вопросов можно обратить и против
понимания природы личности Майданским. Но как в
данном случае рассуждает сам Ильенков? «Один из важнейших
компонентов «способности, - пишет здесь, Ильенков, -
умение действовать там, где заранее заданного способа действия
нет»3. Ведь умение действовать в такой ситуации, продолжает
Ильенков, как раз и отличает «способного» от «неспособного»,
а, в конце концов, человека - от машины.
Пытаясь объяснить в данном случае позицию
Рубинштейна, Ильенков указывает на то, что тот ищет взаимосвязь
внешних и внутренних условий в детерминации способности.
Легче всего здесь пойти по пути механического дополнения
внешнего внутренним при формировании творческой
способности. Но Ильенков видит у Рубинштейна стремление понять
механизм синтеза внешнего и внутреннего, а по сути синтез
всеобщего, как приобщения к миру культуры, и единичного
как исходной телесной организации индивида.
Диалектический характер такого синтеза выражается не в
представленности, а именно в снятии всеобщего в единичном,
которое преобразуется этим механизмом из единичного в осо-
1 Ильенков Э.В. О природе способностей, http://caute.tk/ilyenkov/texts/
sch/potent.html.
2 Там же.
3 Там же.
370
бенное. Особый талант как способность к продуктивной, а не
только репродуктивной деятельности, для которой
достаточно усвоения наличных норм и схем культуры, именно в силу
такого погружения всеобщего в основание единичного,
выглядит как изначально присущая человеку индивидуальная
способность. И эта объективная видимость или маска «природного
таланта», которую в данном случае с необходимостью
надевает на себя социальное качество, - следствие «спрессованности»
всеобщего и единичного в человеческой индивидуальности.
Понятие «индивидуальность» в его собственном смысле,
выражает особенное, отличное от телесной единичности,
выраженной гегелевским понятием «дурная индивидуальность», тогда
как понятием «личность», мы, скорее, фиксируем то всеобщее
в человеке, которое и снимается в моей индивидуальности.
Талант - всегда исключение из правила. Но еслив
природе особенное -следствие случайного отклонения от правила,
то механизм формирования таланта не случаен.
Формирование творческой способности начинается с того, пишет
Ильенков, чтобы поставить ученика перед ситуацией, в которой
«он сам должен разрешить противоречие, выйти из
противостояния тезиса и антитезиса, сам открыть синтез»1. Поиск
особого синтеза в процессе творчества - суть прижизненного
формирования индивидуальности, когда найденное решение,
погружаясь в основание продуктивной способности,
углубляет и развивает мой талант. И в работах, посвященных
фантазии как продуктивной способности воображения, Ильенков,
уже на примере искусства, пытается разобраться в механизме
действия творческой способности, когда она в поисках синтеза
противоположностей, надевает с необходимостью «маску»
непосредственности в действии творческой интуиции.
Индивидуальность становится субъектом потому, где
всеобщее здесь именно снимается в единичном и, тем самым, еди-
1 Ильенков Э.В. О природе способностей, http://caute.tk/ilyenkov/texts/
sch/potent.html.
371
ничное получает мощь общего в качестве личного усилия. И
этим развитие всеобщего содержания в культуре отличается
от рождения нового рода в природе. Тем особенным, которое
размыкает рефлексивный круг взаимоотношений всеобщего и
индивидуального субъектов является всегда конкретная
индивидуальность, изучение творческого пути которой объясняет
создание нового в культуре.
Эта простая истина всегда была идеалом классической
культуры под именем «всесторонне развитой личности»,
развитие которой должно быть условием всестороннего
развития всех, в противовес идее самосозидания Абсолютного
духа или самосозидания «совокупности общественных
отношений». В противоположном случае рефлексивное
отношение индивидуальностей редуцируется до абстракции
человеческой единичности, которое гонит вперед неизведанная
внутренняя сила, какой у Киркегора стала сила отчаяния,
связанная с первородным грехом. Без диалектики
особенного творческий момент деятельности с необходимостью
загоняется в иррациональные глубины отдельного я, где отдается
на откуп мистике или психологии.
Иными словами, если сущность человека через общение с
другими представлена вовне, то индивидуальность всегда во мне,
и даже обращенная к другим и выраженная в действии и
поступке, она есть личное усилие и связана с личными
переживаниями, адекватно или превратно реализующими мою конкретную,
социальную по сути, но индивидуально-особенную в своем
существовании «самость». Внутри тела индивида, справедливо
замечает в одной из работ Ильенков, существует не личность,
а лишь ее односторонняя («абстрактная») проекция на экран
биологии, осуществляемая динамикой нервных процессов. Но
то, что в обиходе называют «личностью», или «душой»,
продолжает он, «не есть личность в подлинно материалистическом
смысле, а лишь однобокое и не всегда адекватное самочувствие,
ее самосознание, ее самомнение, ее мнение о себе, а не она сама,
372
как таковая»1. Жесткость этого полемического высказывания
опять создает впечатление, что материализм, в отличие от
идеализма, отождествляет любую душу с «дурной
индивидуальностью», которая при всех своих претензиях, в силу асоциальности,
невменяема. Но тогда естественным является вопрос, к чему и,
главное, к кому, с такой точки зрения, обращается искусство,
мировая литература, и, главное - поэзия?
Если в природе новая закономерность имеет своим
истоком случайное отклонение, то в культуре, она предстает,
согласно Канту, как «причинность через свободу». Понятно, что в ней
имеют место и историческая случайность и «животный
произвол» как момент, но не суть исторического творчества. В той
мере, в какой действие индивида не пропитано всеобщим, перед
нами произвол. Соответственно, там, где я действую согласно
внешнему правилу, а не внутреннему принципу, это алгоритм,
характерный для техники, но не для наших поступков. И даже
там, где моим личным выбором становится жизнь по правилам,
это паллиатив, поскольку свобода - реальный выход за
пределы наличного, где не только продолжают, но и открывают двери
для новой необходимости в пространстве культуры. Действие
согласно внутреннему принципу - всегда особое действие,
соответствующее конкретной ситуации. Но адекватным понятию
свободы является творческое действие в ситуации, когда
всеобщее как принцип, погруженный в конкретное индивидуальное
действие, не просто соответствует ситуации, а
трансформирует ее, открывая новые возможности для дальнейших действий.
Творчество - это душа свободы именно в том смысле, в каком
это не выбор из налично данного, а выбор как созидание новых
обстоятельств для последующего развития, что наиболее
продуктивно в области социального творчества.
В истории, как и в решении учебной задачи в педагогике,
о чем много писал Ильенков, необходимость в личном усилии
возрастает там, где альтернативность, как внутреннее качество
1 Ильенков Э.Ф.Философия и культура. М., 19.91. С. 394.
373
истории, предполагает и провоцирует личный выбор в
разрешении исторического противоречия. В данном случае
формирование особой исторической личности, как и саму суть ее особого
решения, в качестве «субъективного фактора» нельзя изъять из
истории, не превращая ее в аналог действия природной
необходимости. Ведь даже апатия масс, как показал Маркс в работе
«Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и демонстрирует
современная Россия, может стать решающим фактором в истории.
Индивидуальный выбор не только реализует всеобщее,
но и творит его. И с этим, скорее всего, не согласится Май-
данский, последовательно проводя свою линию, где понятие
индивидуального, в отличие от понятия единичного, не
имеет специфического понятийного содержания. Эволюция,
пишет Майданский в уже цитированной статье, демонстрирует
рост «степеней свободы» живых существ. И преимущество
«человеческого рода» выражается в иной технологии
«программирования» этим родом своей жизнедеятельности, перед
остальными живыми видами. Суть этой технологии
программирования жизнедеятельности - в труде как практическом
очеловечивании вещей. В такой технологии, подчеркивает
автор, и заключается начало нашей свободы1.
Слово «программирование» Майданский здесь понимает
буквально. Но кто в этом случае является «программистом»,
который создает схемы человеческой жизнедеятельности? А
если труд - это самопрограммирование человеческого рода,
в процессе которого задаются правила, инструкции и схемы
действий, то перед нами вновь встает проблема, кто тут
субъект - сам труд, общество, индивидуальность? А если все они -
один и тот же самопрограммирующийся субъект, то каким
образом в нем соотносятся указанные моменты?
На наш взгляд, непроясненность данного момента,
позволяет выдвигать на роль исторического субъекта именно обще-
1 См.: Майданский А.Д. Понятие личности в культурно-исторической
психологии / Свободная мысль. 2011. № 10. С. 90.
374
ство как «совокупности общественных отношений». Общество
посредством индивидов трудится и развивает себя? Или
человеческая индивидуальность, через деятельном общении с равными
себеУ - конкретный субъект и движущая сила истории? Май-
данский, который отличается последовательностью, в данном
случае, на наш взгляд, должен исключать индивидуальность
с ее созидающей активностью из социального творчества как
главную действующую силу. Выбор личность в истории,
согласно такой позиции, должен или реализовать ее логику, или
быть выражением случайного отклонения в истории.
Представленная чуть выше логика не подкреплена
цитатами. Важно, однако, то, что работы самого Ильенкова не
исключают подобного прочтения и могут быть подкреплены
цитатами, реализуя, на наш взгляд, лишь одну из линий в его
творчестве и в трактовках культурно-исторической .теории
(КИТ). И это линия, на наш взгляд, связана с моментом
непреодоленного методологического влияния Гегеля.
Тем не менее, и в этом случае отклонение лучше
высвечивает суть. И в попытке действовать наперекор, опять же, не только
проявляет себя самомнение «дурной индивидуальности».
Индивидуальное как «выпадение из общего» - не только
отклонение от всеобщего, но и единственный путь его изменения.
Выламывание из наличных общих схем - характерный пример
индивидуальности, какой, собственно, и был Ильенков.
375
Возняк СВ.
"Несчастное сознание": антропологически-
экзистенциальное измерение
"Несчастное сознание" является таким "гештальтом"
(Gestalt) ("формообразованием сознания" - в переводе
Г.Г. Шпета), или "концептом" 1 гегелевской "Феноменологии
духа", который из-за своей определенной загадочности и
экзистенциальной насыщенности неоднократно привлекал и,
наверно, всегда будет привлекать внимание многих
исследователей. Стоит лишь вспомнить монографию Жана Валя
"Несчастное сознание в философии Гегеля" [2], известную работу
Александра Кожева [5]; феномен "несчастного сознания" так
или иначе анализировался в трудах Куно Фишера, Д. Лукача,
Н.В. Мотрошиловой, A.B. Гулыги, В.Н. Кузнецова и др.
В какой мере обоснованной является
антропологическая интерпретация "Феноменологии духа" Гегеля? А. Кожев
убедительно демонстрирует, что этот гегелевский труд
является определённой философской антропологией -
"учением о становлении человека в ходе истории" [5, с. 573]. По
утверждению A.M. Пятигорского, Гегель, в отличие от
Канта, Спинозы и до него, и подобно Марксу, Ницше и Хайдег-
геру после него, был чисто антропологическим философом
[12, с. 41]; у Гегеля Абсолют представляет собой единство
Истины и человека. A.M. Пятигорский пишет: "...с одной
стороны, Абсолют - как Истина (Объект) и как Человек
(Субъект) - объективно определяет историю как историю
своей самореализации в людях, а с другой - именно в че-
1 Понятие "концепт" берётся нами не в обычном значении в контексте
методологи науки или эпистемологиии, а с учётом того содержания, которое
придаётся "концепту" П. Абеляром (который, кстати, и ввёл этот термин),
Гильбертом Порретанским, Фомой Аквинским, Иоанном Дунстом Скотом.
Как замечаете. С. Неретина, концепт является "актом 'схватывания'
смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания" [8, с. 306].
376
ловеческом мышлении такой детерминизм получает свою
феноменологию и антропологию" [12, с. 42].
Однако возможной и не менее убедительной является и
сугубо онтологическая интерпретация содержания
"Феноменологии духа", представленная немецким философом Ойгеном
Финком, который полагал, что "задача Гегеля состояла не в
том, чтобы описать историю становления человека человеком,
а в том, чтобы позволить 'сказаться' бытию, дать предмету, в
данном случае, совокупному целому сущего, самому прийти к
своему понятию" [цит. по: 11, с. 773 ].
Как мне представляется, разнообразные подходы к
фундаментальному гегелевскому труду (как науке об "опыте
сознания") являются правомерными, но так же, наверно,
правомерным будет утверждение, что сама "Феноменология духа"
является оригинальным творческим синтезом
феноменологии, антропологии, онтологии и логики.
Если Александр Кожев рассматривает концепт
"несчастное сознание" чисто в историческом ключе, то, согласно Ой-
гену Финку, разговоры о несчастном сознании имеют
отношение не столько к религии, сколько к сознанию вообще, которое
"несчастно" в качестве сознания в принципе [11, с. 769].
Такого же взгляда придерживается и Жан Валь. В.Ю. Быстрое так
излагает его мысль: "...если несчастное сознание - это
сознание разорванное и осознающее свою разорванность, то любая
форма являющегося духа в той мере, в которой она
является определённой, то есть ограниченной формой, оторвана от
того, что её определяет, то есть, в конечном счете, от Абсолюта.
И, следовательно, такое сознание в любом случае будет
разорванным, а значит, и несчастным. Поэтому, согласно Ж. Валю,
любое сознание, пока оно не тождественно Абсолюту, - это
несчастное сознание" [1, с. 322].
Именно поэтому скитания "несчастного сознания" можно
анализировать и с антропологической, и с чисто
экзистенциальной (в том числе и личностной) точки зрения.
377
Сразу же возникает вопрос: а что ж нам дает основание
рассматривать гегелевскую систему с личностной точки зрения?
Ответ весьма прост: сама его система из-за своей диалектич-
ности. По Гегелю, Абсолют является субъектом -
следовательно, между человеком и Абсолютом возможны
субъект-субъектные отношения. Александр Кожев пишет: "Утверждать, что
Абсолют - не только субстанция, но еще и субъект - значит
сказать, что Тотальность, кроме идентичности, содержит в
себе к тому же и отрицательность. Это значит также, что
бытие реализует себя не только в качестве бытия природы, но и в
качестве человека. Это, наконец, значит, что человек,
существенно отличающийся от природы только в той мере, в которой
он есть Разум или связанный, осмысленный, раскрывающий
бытие дискурс, сам представляет собою не наличное Бытие, а
творческое движение" [6, с. 137].
Здесь уже нельзя оправдать это само несчастье
самосознания тем, что оно является неприятным, но необходимым
состоянием на пути к разуму1. Когда носителем такого сознания
становится отдельная личность, а не историческая эпоха, все
становится намного сложнее. Как замечает А.Г. Новохатько,
"самосознание, поднятое уже у Фихте до уровня субстанции,
Гегелем понимается гораздо более конкретно - как дух, как
знание драмы своего исторического становления" [10, с. 144].
Вспомним еще раз: самосознание является предтечей
разума - "оно существенно как предвестник разума" [7, с. 182].
Следовательно, по Гегелю, развитие отдельной личности
определенным образом воспроизводит всеобщее развитие
(достаточно известный тезис о том, что онтогенез повторяет
филогенез в снятом виде): мы так или иначе проходим ступени
чувственно-достоверного созерцания, чувственного воспри-
1 „Выход самосознания за пределы самосознания (это не тавтология) в
мир объективной идеальности необратим. Утрачивая себя, оно порождает
себя в качестве саморазвивающегося, сращивающегося (лат. concrescere),
или, языком Гегеля, конкретизирующегося" [10, с. 135].
378
ятия, затем - сверхчувственного рассудочного познания и,
наконец, поднимаемся к самосознанию. То есть осознаем, что
для того, чтобы знать мир (более того - Абсолют), мы должны
иметь в себе достоверное знание о самих себе. Отсюда -
обращение взгляда из мира в себя, саморефлексия, которая
различает самосознание внутри него самого. Тут все понятно1.
Однако здесь не срабатывает обычная точка зрения,
согласно которой переживание собственной самости, приобретение
достоверного знания о самом себе возможны без и вне познания
действительности, - наша внутренняя рефлексия доводит нас к
осознанию того, что мир и самосознание пребывают во
внутреннем единстве. И самосознание начинает относиться к предметам
действительности как к живым вещам; они выступают для нее
как равные ей, как сама имеющие некое самосознание. Иными
словами, сознание начинает относиться к действительности как к
самому себе. "Вся-то тонкость - в том, что фихтевско-гегелевском
понимании в 'структуру сознания целиком входит то, что
существует объективно вне сознания. Именно этот внесознательный
момент сознания предполагает возможность 'единства сознания*
как отношения к себе, возможность единства сознания и
самосознания' с выходом сферу разума™ [10, с. 146].
И несчастье самосознание вновь-таки состоит в его
внутреннем освобождении: "'несчастье' сознания было и остается
платой за его возрастающую свободу, за приобретенную
'самость'" [7, с. 182]. Та борьба его, которая описана у Гегеля как
отношения господина и раба, после этого освобождения
перерастает во внутреннюю борьбу. Через диалектику господства и
рабства раскрывается "тайна возникновения самосознания как
'самостоятельного сознания' в ином и через иное" [10, с. 146].
Самосознание снова удваивается внутри себя, но это уже
не то первичное рефлексивное раздвоение, которое привело к
1 При этом "самосознание не сводится к рефлексии. Самосознание есть
прежде всего порождение духом своего 'становления' плюс порождение им
же рефлексии этого процесса в себя"" [10, с. 139].
379
его рождению, - это, снова-таки, тяжелая внутренняя борьба
между двумя рефлексиями: первая - осознание того, что
отчужденное, прагматическое отношение к вещам невозможно,
поскольку оно ведет к рабской зависимости от "раба",
поставленного между сознанием и вещью; вторая - знание о
невозможности преодоления этого внутреннего отчуждения силами
самого самосознания. В несчастии самосознания распадается то
уже осознанное единство между ним и действительностью -
самосознание является разорванным, как уже упоминалось выше,
на отношение к себе и отношение к действительности.
Самосознание встречается с судьбой. В архиве
выдающегося русского философа XX века, "гегельянца в
марксизме", - Эвальда Васильевича Ильенкова - был найден такой
текст: "Судьбу в строгом смысле слова имеет только
самосознание, - ибо только оно и вольно противопоставить самое
себя, - в качестве самостоятельного 'Я' во всей его
единичности, - той самой всеобщности, которая его объективно
определяет, - только оно и вольно отстранить себя от нее. Но самим
этим актом объединения оно и сдвигает с места сочленения
механизма некой судьбы. Стало быть, для того, чтобы такая
судьба могла одолеть самосознание, это самосознание
должно определить себя так, чтобы вне его, как нечто ему
постороннее, осталась бы какая-то всеобщая определенность его же
собственного существа. Иными словами, оно должно сделать
что-либо. Делая что-то свое, оно и отмежевывает себя от
всего остального, и та абстрактная всеобщность, которую оно от
себя отмежевало в виде чего-то налично существующего,
остается вместе с тем стороной его собственного, хотя и
отвергнутого им, существа. Эта сторона и составляет тот его открытый
фланг, сквозь который в него внедряются силы, коим оно себя
само противопоставило, исключив их из своего состава; этой
стороной оно и приобщено к процессу" [цит.по: 9, с. 46].
Иными словами, самосознание знает о единстве
мышления и бытия, но осознает, что в его случае этого единства не
380
существует, то есть - оно фиксирует свое несовпадение с
собственным бытием, свою разорванность с ним. Сознание знает
об Абсолюте, но знает также, что не может его достичь; оно
осознает свою нищету и раздвоенность. Сие и является
действительным состоянием несчастья.
Фактически, перед нами христианское сознание, и
несчастие здесь является постоянным состоянием раскаяния.
Так же христианским деянием является и преодоление
самосознанием своего несчастья, или, если иначе, своей
осознающей себя греховности. По Гегелю, это - преодоление себя,
отказ от себя как только самосознания ради того, чтобы войти
в состояние разума. Лишь в самопожертвовании
восстанавливается единство сознания (уже снятого в разуме) и бытия, или
же - действительности. Тут мы имеем дело (если снова
перевести дискурс в плоскость - а точнее, вертикаль -.
христианского мировидения) с феноменом святости. Правда, мы не
можем откровенно приписать гегелевскому разуму все атрибуты
святости - разум у Гегеля все ж таки структура понятийная
и включенная в систему, однако определенные коллизии тут
имеют место. Здесь речь идет не о разуме-понятии, разуме-
рефлексии, а о разуме-любви, если можно так сказать.
Святость является отказом от себя ради того, чтобы в тебе выросла
некоторая новая сущность, имеющая намного более крепкую
и глубокую связь с Абсолютом, нежели твое несовершенное,
разъятое постоянными противоречиями самосознание.
Эту идею можно было бы продолжить развивать, но тут
мы говорим о связи с Абсолютом, рискуя потерять
самосознание как таковое. Тем более существует опасность, что нас
может "занести" от Гегеля в совсем иные метафизические
пространства.
Итак, как именно и, что важнее, где именно это
"несчастное" самосознание воплощается как явление, как
действительность, где именно оно перестает быть гегелевской теорией и
становится реальностью?
381
Имею дерзость утверждать, что такое состояние присуще
большинству представителей рода человеческого (тут я
напомню, что речь идет о классическом понимании проблемы
связи с Абсолютом, и именно о его классическом типе). Вспомним:
самосознание - уже не рассудок, но еще и не разум. Человеку
вообще присуще осознание себя как личности (даже если сие и
не совсем соответствует действительности), всегда существует
некоторое знание себя> некоторая внутренняя достоверность -
даже на внепонятийном, до-понятийном уровне. И если
человек хоть каким-либо образом начинает ставить вопрос об
Абсолюте (о бытии, о Боге...) и о связи себя как личности с этим
Абсолютом, он непременно приходит... к состоянию
несчастного самосознания. Это может происходить на разных уровнях - на
философском, религиозном, экзистенциальном и т. д. Просто
человек a priori не может постоянно пребывать в
экзистенциальном напряжении, которого требует знание об Абсолютном
и отношение к нему; сознание всегда, таким образом, является
мельканием, постоянным колебанием между "потусторонним
и земным мирами", если говорит языком Гегеля; а
самосознание, как на беду, фиксирует в себе самом эту невозможность,
поскольку обращено на самое себя. Однако самосознание,
несмотря на его разорванность, предстает под определенным
углом зрения в своем предельном онтологическом наполнении.
Относительно этого хорошо сказал А.Г. Новохатько:
"Самосознание непосредственно не есть бытие. Вернее, оно есть бытие
только в той мере, в какой способно вызвать его на себя. Иначе
(в отличие от самоощущения, самочувствия) самосознание
вообще не рождается. Самосознание есть не только
опосредствование себя 'иным', но и одновременно высвобождение себя от
своей противоположности, или уже в буквальном
объективном смысле - знание себя. Формула самосознания проста:
отражение сильнее луча" [10, с. 136]. - Итак, самосознание
"вызывает бытие на себя". Эта мысль перекликается с толкованием
человека и бытия у М. Хайдеггера: человек есть "просвет в бы-
382
тии", именно человек причастен к бытию как таковому; истина
бытия как его несокрытость открывается лишь человеку.
Самым важным здесь является момент двойной
рефлексии: рефлексия-осознание необходимости движения к
Абсолюту как необходимого условия человеческого типа
существования и рефлексия-осознание того, что достижение Абсолюта
при условии сохранения себя как отъединенной личности
является невозможным. Тут как-то отдает "мазохизмом", однако
сие именно так. Самосознание знает о своем порыве к
безусловному, но и знает о своей неспособности достичь его, и это
противоречие и является его несчастием.
Я настаиваю на том, что связь человеческого самосознания
с Абсолютным - то ли Бытием, то ли Богом, то ли Истиной -
априорно трагична.1 Невозможно полностью постичь Бога,
будучи распятым между тварной материей и собственным
духовным наполнением - но именно в таком состоянии единственно
возможно пребывание в отношении к Богу. Человек в своем
познании безусловного всегда стоит на грани между бытием и
небытием; собственная материальность и духовное наполнение
не является непреодолимым дуализмом; самосознание как раз и
преодолевает этот дуализм, разрешает противоречие, но ценой
этой победы и является его, самосознания, несчастье.
Иными словами получается, что несчастье, трагедия2,
страдание, страсть - это именно и есть состояние предельного
1А возможно, трагична не только связь человека и Абсолюта, и
трагично не только человеческое существование, но и сам Абсолют. Христианство
"выявляет разорванность в самом Боге, устанавливает тождество между, с
одной стороны, несчастным сознанием и, с другого - таким же несчастным,
страдающим, разорванным, 'распятым' Абсолютом" [1, с. 322]. Характерно,
что В.Ю. Быстрое свое послесловие к книге Жана Валя "Несчастное
сознание в философии Гегеля" назвал "Трагедия Абсолюта" [1]. На определенные
раздумья настраивают и следующие слова А. Г. Новохатько:"«В трагедиях
Шекспира мы имеем дело с формой раздвоенности в человеке Абсолюта -
формой, принадлежащей себе (и именно потому - личностной)" [10, с. 133].
2 "Трагизм не в гибели, а в неотвратимости ее возникновения из
мыслящего действия" [10, с. 132].
383
напряжения человеческого самосознания в его ностальгии за
Абсолютом, в его стремлении слиться с Абсолютом. Об этом
говорит нам и сам Гегель, правда, в более позитивном значении:
"Истинное... есть вакхический восторг, все участники
которого упоены; и так как каждый из них, обособляясь, столь
же непосредственно растворяется им, то он так же есть чистый
и простой покой" [3, с. 30].
Действительно, переживание истинного не может не
содержать в себе целостной захваченности им, целостной
вовлеченности в него, но страдание сознания - это плата, расплата
за сверхчеловеческое усилие, без которого, однако,
невозможно взойти к этому истинному. Ведь человек постоянно в
своем отношении к Абсолюту превышает сам себя. Что же лежит
в основании самой возможности превращения сознания в
самосознание, возникновения самосознания? В первую
очередь - это разорванность самого духа, - конечно, чисто
диалектическое само-удвоение, отрицательность, которую дух в
своем историческом развертывании снимает (или не
снимает?), но все это происходит весьма непросто, не по какому-то
заранее написанному сценарию.
Дело в том, что момент "несчастности" присущ
самосознанию як таковому, имманентен. "Самосознание - синоним
'не-покоя'. Душа предмета есть то, что приводит его в
движение. Душа сознания - 'негативное', различаемостъ неравенства
между 'я' и его предметом ('субстанцией'). Но одновременно
это неравенство есть и неравенство субстанции с самой собой.
Так что на деле она и есть подлинный субъект, ибо
деятельность 1я - это ее собственное действование. Бесконечность
как 'абсолютный непокой' чистого самодвижения, становясь
предметом для сознания, превращает сознание в
самосознание" [10, с. 144-145]. Расщепление человеческого сознания в
самосознании не просто "выражает" несовпадение
субстанции с самой собой (то есть ее имманентную субъектность,
- ведь истинное должно быть понято не только как субстан-
384
ция, но и как субъект). Именно в самосознании бытие
реально приобретает истинные формы своего самодвижения через
"негативность". В самосознании проступает имманентная
истина всеобщего бытия, его объективная идеальность (ideale),
которая вне человека и без человека существует лишь ideele,
скажем так: лишь в-себе.
Здесь открывается огромное поле как для дальнейший
размышлений, так и для критики предыдущих выкладок, ибо
по Гегелю самосознание все же преодолевает свою
саморазорванность принесением себя в жертву и становится разумом,
то есть - единством действительности и своего
внутреннего наполнения, единством субъективного и объективного.
Действительно, получается, что я останавливаю сознание в
его развитии, беру его "как таковое" без гегелевских связей
и опосредствовании, то есть свершаю "смертный грех" по
отношению к диалектике: беру понятие не в его конкретном
всеединстве, а, казалось бы, абстрактно. Но это не совсем так,
поскольку несчастное сознание именно потому и несчастно,
что выступает предвестником разума. Более того, оно является
необходимо несчастным, поскольку осознает, что должно стать
"разумом", но оно может и не стать им. Суть дела в том, что
самосознание должно развиться в более совершенную
форму существования духа, но это не значит, что в каждом
отдельном становлении личности происходит переход к
разуму. Этот принцип может срабатывать на общечеловеческом,
соборном уровне (да и это представляется весьма
проблемным...), но на уровне личностном все намного сложнее - и
несчастное самосознание в большинстве случаем так и
остается несчастным, оставаясь единственно возможным
способом отношения личности к Абсолютному. Итак, человек
всегда пребывает в состоянии определенной утраты, потери
полноты и целостности (однако трансцендентальная память
об утраченном остается). "По тому, чем довольствуется дух,
можно судить о величии его потери" [3, с. 11].
385
Тем не менее, прав я или не прав в истолковании
феномена "несчастного сознания", основной принцип бытийство-
вания самосознания - в любом случае трагедия, поскольку
личность является несовершенной и постоянно стремится
это несовершенство преодолеть, зная о невозможности
этого преодоления при условии сохранения себя как личности.
Наверно, дело не в преодолении "несчастия", а в умении
смириться с ним, жить в нем "с миром", - но не в смысле
утешаться им и наслаждаться собой-несчастненьким-любимым либо
замазывать трещины само-раздвоения - как сознания, так и
бытия - густым клеем разнообразных "симулякров" (кстати,
функционально они предназначены именно для этой
процедуры). Просто помнить вечную правду слов великого Гегеля:
"Заштопанный чулок лучше разорванного; не так с
самосознанием" [4, с. 548]. Иными словами, стоит находить
онтологически оправданные моменты и интонации в состоянии
само-разорванности, не-покоя, - ведь что же тогда является
"счастием" вне такого состояния?...
Литература
1. Быстрое В.Ю. Трагедия Абсолюта // Валь Жан.
Несчастное сознание в философии Гегеля / Пер. с фр. СПб.:
Владимир Даль, 2006. С. 315-330.
2. Валь Жан. Несчастное сознание в философии Гегеля /
Пер. с фр. СПб.: Владимир Даль, 2006.- 332 с.
3. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000.- 452 с.
4. ГегельГ.В.Ф. Афоризмы. Иенский период // Гегель
Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2-х тт.- Т. 2. М.: Мысль, 1971. - С.
530-556.
5. Кожев А. Введение в чтение Гегеля / Пер. с фр. СПб.:
Наука, 2003.- 792 с. '
6. Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос,
Прогресс-Традиция, 1998.- 208 с.
386
7. Мотроши/юва H.В. Путь Гегеля к «Науке логики»,
формирование принципов системности и историзма. М.,
1984. - М.: Наука, 1984.- 351 с.
8. Неретина С.С. Концепт // Новая философская
энциклопедия: В 4-х тт. - Т.2. М.: Мысль, 2001. - С. 306-307.
9. Новохатько А.Г. Самосознание как судьба //
Ильенковские чтения. Тезисы выступлений. 2-е изд., испр. и
доп. М.: Микрон-принт, 2001. - С. 45-47.
10. Новохатько А.Г. Историзм самосознания как проблема
творчества (историко-философский аспект) // Э.В. Ильенков:
личность и творчество. М.: Языки русской культуры, 1999. -
С. 127-154.
11. Погоняйло А.Г. В дополнение к переводу // Кожев
Александр. Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003. -
С. 760-791.
12. Пятигорский A.M. Мифологические размышления.
Лекции по феноменологии мифа. М.: Языки русской культуры,
1996.-280 с.
В.В.Лимонченко
"Феноменология духа" Гегеля как способ реального
духовного движения
Проблема профессионального мастерства актуальна для
любого вида деятельности. Правда, время от времени в
истории человеческого творчества возникает ситуация, когда
проблема сознательно культивируемого мастерства заслоняется
желанием бессознательного овладения творческими
состояниями, которое именуется по-разному. Это и мифологизм как
творческий принцип, и понимание творчества как реализации
природных данностей по аналогии с поющим соловьем, и
введение себя в состояние транса ради разблокирования
глубинных архетипических пластов. На мой взгляд, XX век преуспел
387
в сфере выработки способов отключения сознания, и
обращение к философии Гегеля дает возможность приостановить
односторонность тенденции, которая на языке философии XX
века названа "смерть Бога", "смерть человека", "смерть автора".
Обращение к философии Гегеля не может утратить своей
актуальности именно потому, что даже если отбрасывать
значимость и значительность идейно-содержательного аспекта
гегелевской философии, трудно отрицать ее роль в становлении
и культивировании, шлифовке, доведении до
профессионализма самого органа, необходимого для человеческой
жизнедеятельности - мыслящей человеческой головы. Человеческая
история никак не может достичь точки, в которой звучали бы
ненужным анахронизмом слова Гегеля: "Относительно же
философии, напротив, в настоящее время, видимо, господствует
предрассудок, что, - хотя из того, что у каждого есть глаза и
руки, не следует, что он сумеет сшить сапоги, если ему дадут
кожу и инструменты, - тем не менее каждый непосредственно
умеет философствовать и рассуждать о философии, потому
что обладает для этого меркой в виде своего природного
разума, как будто он не обладает такой же точно меркой для сапога
в виде своей ноги" [2, с. 36-37]. А тем, кто утверждает, что
терпеть не может Гегеля из-за его несносной манеры изъясняться,
хочется напомнить слова Сократа, сказанные им в адрес
Ксантиппы - в спорах с ней я совершенствую свое мастерство.
Для осмысления этой же проблемы очень показательны
слова К. Шмитта, произнесенные в день прихода нацистов
к власти: "Гегель умер в Германии!" [7, с. 88]. Ведь как раз
вопреки этим словам достаточно часто звучат обвинения
гегелевской мысли в тяготении к тоталитарности, что
возникает вследствие соотнесенности каждого момента мысли со
всецелой полнотой Абсолютной Идеи и квалифицирования
гегелевской философии как реализации мышления и
самомышления (самосознания) Абсолютной Идеи в
объективной форме гегелевской философии, то есть в определенном
388
формообразовании истории. Какое из утверждений звучит
убедительней и обоснованней? Как можно обосновать
свободу и открытость мысли, сознательно ориентированной на
тождество мышления и бытия, утверждающей свою
субстанциальность?1 Во-первых, стоит вспомнить роль правовых
регулятивов в объективно-государственной реализации
Абсолютной Идеи. А. Руткевич, приводящий слова К. Шмитта,
напоминает, что над сферой объективного Духа, трактовка
которой была названа Ж. Декомбом "террористической
концепцией истории", возвышается сфера абсолютного Духа,
по принципу гегелевского снятия необходимо отменяющая
тотальность объективации и открывающая иные измерения
существа дела - понять и выразить истинное, и это
во-вторых. И третье, именно обращение к самой гегелевской
мысли в ее собственном, а не пересказанном звучании, воцреки
либеральничающему позитивизму способно противостоять
"террористическим концепциям истории". Считать Гегеля
основоположником тоталитаризма и без собственного
продумывания и испытания тоталитарно-догматически
исповедовать эту идею было бы по меньшей мере непрофессионально,
К счастью, уважительное внимание к Гегелю - не такое
редкое явление и в наши "утомленные солнцем сознания"
времена. Квалификацию гегелевской философии как вершины
европейской философии, концентрировано представляющей
опыт профессионального мышления, разделяют большинс-
J Если Гегеля еще достаточно легко вывести из-под обвинения его в
политической некорректности (тоталитаризме, фашизме), то мысль М.
Хайдеггера (философа XX века, да еще живущего и активно
действующего в нацистской Германии) с ее ориентацией на незабвение бытия, то есть
на раскрытие именно бытийственной укорененности мысли, очень просто
провозгласить по самой своей сути связанной с политическим
тоталитаризмом. С легковесной доверчивостью признается свободной и свободо-
Утверждающей мысль плюралистично-относительная, но мысль, льнущая
к истине бытия, желающая тождества с ним, объявляется зараженной
тоталитаризмом.
389
тво философов второй половины XX - начала XXI века, даже
если своей задачей ставят преодоление такового.
Исчерпывающий список работающих над Гегелем дать трудно, однако
интересны те мыслители, в поле внимания которых
акцентуированы не только идеи, высказанные Гегелем открыто,
явно, предметно, но стал предметом исследования
гегелевский способ мыслить, специфика мыслительных актов и
рефлексивно-спекулятивных движений, не только та, которая
присутствует как способ организации текста, но та, которая
действительно конституирует и питает мысль в
бодрствующем рабочем состоянии. Причем, эта проблема, которая от-
страненно терминологически может быть названа проблемой
метода, должна ставиться в связь с экзистенциальным
уровнем человеческого бытия, то есть, она имеет не столько
методологическую, сколько антропологическую направленность.
Чтение "Феноменологии духа" под углом зрения выше
названной проблематики выявило достаточно неожиданную
созвучность, рассмотрение которой и стало целью (энергийным
стимулом) данного размышления - выявление движения
формообразований духа по определенным ступеням, фиксированным
точкам, станциям, и терминологически, и сущностно
аналогично лествице аскетического восхождения, проработанной в
восточном мистическом христианстве. Обе формы размышления не
позиционируют себя антропологией, но тем не менее обе
удерживаются смысловым средоточием, которым является человек.
Данная аналогия тем более интересна, что и Гегелю, и
христианскому аскетическому монашеству ставится в вину пренебрежение
индивидуальным волением и подчинение индивида всеобщему
(что видится ситуацией закрытости), в то время как можно
утверждать, что и гегелевский, и христианский варианты
осмысления человеческого бытия есть способы преодоления конечности
и ограниченности индивида, а значит это пути открытости.
Исходный пункт гегелевской феноменологии - понятие
сознания. Но возможна различная акцентуация, изменяю-
390
щая смысловую направленность: понятие сознания, что может
быть соотнесено с поисками формально-логической
дефиниции, понятие сознания - что ориентирует мысль на
описательно-феноменальное движение, гегелевский
феноменологический метод ставит задачу поставить акцент на целостное
словосочетание: понятие сознания. Это может быть понято
как разворачивание некоторого содержания из собственных
бытийственных оснований и полагание логических
оформляющих определенностей самим этим разворачиванием.
Гегелевская борьба за спекулятивное мышление и философскую
форму предложения есть осмысленная постановка задачи
удерживать различенную подвижную структуру целого - и не
непроясненный мрак Абсолюта, в котором все кошки серы, и
не бесконечная цепочка суждений, относящихся друг к другу,
выводимых друг из друга, но не имеющих отношения, к
абсолютной реальности. Указанная задача имеет у Гегеля
множество формулировок: и категориально-логических - "понять и
выразить истинное не как субстанцию только, но равным
образом и как субъект" [2, с. 9], и образно-художественных -
невозможность обрести субстанциальное знание во сне [2, с. 5]
и положить его как монету в карман [2, с. 20], абсолютное
знание не обретаемо выстрелом из пистолета, которым
разделываются с другими точками зрения [2, с. 14], и антрополого-
экзистенциальных (порой называемых психологическими) -
соотношение между формообразованиями Абсолютной Идеи
(всеобщего духа) и ступенями образования отдельного
индивида (несовершенного духа, некоторого конкретного
образа) - "...надо выдержать длину этого пути, ибо каждый момент
необходим; - с другой стороны, на каждом из них надо
задержаться, ибо каждый момент есть некоторая индивидуальная,
цельная форма и рассматривается лишь постольку абсолютно,
поскольку его определенность рассматривается как целое или
конкретное " [2, с. 15]. Это может быть названо
удерживанием абсолютности каждого относительного формообразования
391
духа, или, другими словами, рассмотрение "сознания как
такового". В. Зеньковский подобную структуру мысли
квалифицирует как "мистический реализм", "который признает всю
действительность эмпирической реальности, но видит за ней
иную реальность; обе сферы бытия действительны, но
иерархически неравноценны; эмпирическое бытие держится только
благодаря "причастию" к мистической реальности" [3, с. 41],
но оно не эфемерно-иллюзорно.
Ставит Гегель проблему и соответствующих
спекулятивному мышлению форм построения предложения. Обычное
предложение строится так, что сказанное о субъекте есть его
предикат, то есть "субъект составляет базис, к которому
прикрепляется содержание и на котором то тут, то там
совершается движение" [2, с. 33] - движение не принадлежит самому
субъекту. Философская форма предложения, будучи
способом выявления мышления в понятиях, необходимо должна
схватить движение самого субъекта, порождающего свое
содержание, и тогда - "Содержание тем самым на деле уже не
предикат субъекта, а субстанция, сущность и понятие того, о
чем идет речь" [2, с. 33]. Эта же проблема ставится Н.
Бердяевым, обвиняющим современную философию в том, что она
непрестанно говорит о чем-то, но не дерзает высказать нечто
[1, с. 14]. Гегель, на мой взгляд, и выстраивает текст
"Феноменологии духа" как собственное движение
субъекта-субстанции - сознания как такового, которое из своего
собственного непокоя претерпевает все метаморфозы: как чувственная
достоверность фиксирует "это", "здесь", "теперь",
ускользающие от неш в своей точечной простоте непосредственности;
как восприятие встречается с вещью и высказывает условное
мнение; далее обретает определенность рассудка и восходит
на новый уровень самосознания, вобрав в себя прежнее
хлопотливое движение... Куно Фишер употребляет очень точный
образ - годы учения сознания. "Весь этот процесс протекает по
собственному побуждению сознания, без обучения, указания
392
и помочей извне; сознание само принужденно в себе и с
собою делать опыты, и постоянное содержание всех этих
опытов состоит в том, что результаты всегда оказываются иными,
чем цели и предположения; в процессе его познавания в конце
каждого этапа всегда получается нечто иное, чем в начале
искалось и предполагалось; из каждой своей ступени сознание
выходит иным, чем оно было в начале ее. Таковы те опыты,
которые служат поучением; потому феноменологию Гегеля,
которая заставляет человеческое сознание пройти и пережить
полный цикл таких опытов, можно удачно и метко назвать
годами учения сознанияу применяя это выражение в таком же
смысле, как Гете в Вильгельме Мейстере" [9, с. 227].
Однако при чтении достаточно часто возникают нервные
вопросы: "Кто такой этот "Самосознание", вступающий в
борьбу за признание и подтверждающий свою свободу
риском жизни?" "Кто такой этот "Сознание"?" И этим
вскрывается персонифицированная мифологизация (данные слова
не должны восприниматься как обвинительные), ибо
здравый смысл норовит задать вопрос: "Чье это самосознание?"
С точки зрения тождественности употребляемых понятий и
единства ведущего сюжетную линию субъекта текст не
выдерживает проверки - налицо постоянное расщепление
сознания, двойничество, экстатический выход за собственную
определенность. Сразу вспоминается курьезная ситуация,
которую с различными смысловыми акцентами рассказывают
и сторонники, и противники гегелевской философии.
Психиатрическая экспертиза гегелевских текстов выявляет у автора
шизофрению. Самое удивительное - это несовпадение такого
Диагноза и образа жизни Г. В.Ф. Гегеля, директора гимназии,
преподавателя философии, ректора университета,
здравомыслящего семьянина - он больше заслуживает упрек в
мещанстве, чем в экстатическом визионерстве. Скорее всего, дело не
в личных особенностях жизненного опыта, но в сознательно
(методически) поставленном опыте сознания.
393
При всем том, что ставится задача рассмотреть сознание
безотносительно к тому, кто им обладает, при чтении
"Феноменологии духа" явственно присутствие скрещения
различных (различенных) взглядов: взгляд сознания, движущегося
в формах своего опыта и фиксирующее их, и взгляд
читателя, фиксирующий это фиксирование. Возникает вопрос: "Кто
движется действительно, кому принадлежит постановка опы-'
та сознания?" По замыслу Гегеля, активно само сознание,
своим собственным движением обретающее возможность
превращений. Основания этих превращений очень часто
непрозрачны, непонятны, что дает основания обвинениям в
надуманности переходов. При чтении Гегеля достаточно часто
возникает антитетическая мысль: "Либо я глупец, либо автор
текста многоречивый болтун". Поскольку человеку,
прошедшему определенный образовательный курс, трудно признать
первое и тогда утверждается второе, то, чтобы освоить Гегеля,
его надо читать юным и безбородым. Это, конечно, не совсем
серьезно, но несомненна гегелевская установка на готовность
претерпевать изменения, не закостеневать в достигнутой
определенности и не дорожить жизнью конечной самости.
Поэтому, на мой взгляд, хотя сама гегелевская философия - плод
зрелой, находящейся в апогее эпохи (после чего, как известно
неизбежен спад...), наиболее востребованным может быть
Гегель в начале пути, на заре как индивидуальной жизни, так и
культурно-цивилизационных образований.
Итак, проблема в том, откуда исходит движение понятия,
поставленное Гегелем в качестве предмета, кому принадлежит
исток. Есть вариант простого ответа - самому Гегелю. Ведь
несомненна постоянная обращенность Гегеля к читателю, перед
которым он ставит опыт движения сознания, разыгрывает
спектакль, спекулятивное представление. Р. Рорти называет
гегелевскую концепцию "мыслительным экспериментом" [цит.
по 7, с. 149], Ж. Ипполит говорит о приключенческой
авантюрности гегелевского произведения [цит. по 5, с. 150], сам Гегель
394
называет "Феноменологию духа" философской
автобиографией, своим путешествием за открытиями. Насколько возможно
проводить параллель между формообразованиями сознания
и гегелевской интерпретацией фактов истории, которая
видима даже без кропотливого составления комментариев? В.
Коротких подобную позицию называет наивным пониманием
сущности и характера "Феноменологии духа" [4, с. 159]. Хотя
нельзя не согласиться, что дело не в том, чтобы расшифровать
реальную историю, зашифрованную в тексте, однако было бы
поспешным считать лишь "человеческой слабостью"
проступание фактически-исторического сквозь
универсально-феноменологическое [4, с. 159]. Вне сомнения, предмет
"Феноменологии духа" - чистая структурная определенность сознания,
но отрезать как несущественное "определенность
вступающих в существование, воплощающихся в реальной истории,
его носителей" [4, с. 159], было бы высокомерным
резонерством, если вспомнить слова самого Гегеля. Непонятно, каким
образом можно развести Гегеля как автора "Феноменологии
духа" и Гегеля как конкретного человека? То, что текст не есть
отражение жизни Гегеля несомненно, но столь же несомненно
присутствие этого текста как события жизни Гегеля, которое
выводит в жизнь совершаемое Гегелем движение мысли. Один
из уровней предмета "Феноменологии духа" - становление
гегелевского духа и его осуществление, то есть речь не о
фактах реальной истории, а о становлении гегелевской истории.
Старый детский вопрос: "Где присутствует Гегель более
выразительно - в финансовых указаниях жене или в апологии
философского стремления к истине?" И анекдотический ответ
- и там, и там. Это гегелевское сознание проходит этапы
предметного сознания и обнаруживает неистинность их, переходя
на новый уровень углубляющегося в себя самосознания, где
происходит борьба за господство и освобождение... Не стоит
слишком увлекаться, все-таки "Феноменология духа"
отличается от "Самопознания" Н. Бердяева и "Исповеди" Августина,
395
но мера очевидности происходящего в "Феноменологии духа"
опыта движения сознания усиливается пониманием того, что
опыт проделывается Гегелем над самим собою.
И в соответствие к гегелевской мысли необходимым
условием движения предмета его текста есть движение мысли
самого читателя. Дело не в некоторой сумме идей,
подлежащих усвоению, но в вовлечении мысли собеседника, что
видимо даже на уровне словесных оборотов. П.-Ж. Лабарьер видит
различие двух уровней гегелевского анализа "для сознания
" и "для нас", имеющееся в каждой фигуре гегелевского
анализа [цит. по: 5, с. 151], причем, В. Виланд отмечает, что
оборот "мы", "для нас" не позиция абсолютного знания, а способ
включения в движение гегелевской мысли движущейся мысли
читателя [цит. по: 5, с. 151]. Без экзистенциальной (когда не
текст и мысль Гегеля находятся перед читателем в виде
предмета, но читатель совершает усилие вхождения в
пространство мысли) вовлеченности читателя гегелевский театр мысли
не работает. Спекулятивный взгляда читателя есть та заводная
пружина, которая запускает движение, выстраивающее
феноменологический опыт сознания1. Как мистическое богословие
аскетического богопознания не столько дерзает умствовать по
поводу природы и сущности Бога, сколько фиксирует
собственное движение к Нему, так и Истина (на параллели
мистическому богословию можно употребить заглавную букву)
феноменологического движения обретаема в результате
сравнения предмета и понятия, предмета сознания и понятия
сознания о предмете, нетождественность каковых (или сила от-
1 Подобный вывод делает и В. Коротких, когда говорит, что
единственно сущее сознание в "Феноменологии духа" наше сознание, а само
сознание - лишь понятие сознания, структура или смысл. В дальнейшем он
говорит о "магическом" понимании книги - "в процессе чтения читатель
должен наполнять феноменологические структуры содержанием своего
сознания, "оживлять" их, тем самым возвышая и свое сознание до
запрограммированного книгой уровня"[4, с. 165]. Правда, возникает сомнение в
адекватности задаче гегелевской книги слова "запрограммированный".
396
рицательного) есть движущая сила восхождения по ступеням,
по лестнице, которую вправе требовать каждый индивид для
обретения истины и которую Гегель ему предлагает [2, с. 13].
Нельзя не вспомнить, что одним из ведущих импульсов
всей гегелевской работы в философии (что он сознательно и
четко утверждает сам) есть требование сделать философию
общепонятной, положить конец всякой эзотеричности и
сделать философию пригодной для преподавания и изучения
[9, с. 221]. Можно спорить насколько это удалось Гегелю, но
отрицание философской элитарности (иудейской
Богоизбранности) налицо - право каждого человека на обретение истины
"зиждется на его абсолютной самостоятельности, которой он
может располагать во всяком виде (Gestalt) своего знания, ибо
во всяком таком виде - признает его наука или нет, индивид
есть абсолютная форма, т. е. непосредственная достоверность
себя самого...он есть тем самым безусловное бытие" [2, с. 13].
То есть, реализация права каждого человека на обретение
истины происходит при условии удерживания индивидом себя
как абсолютной формы - абсолютность же предполагает
действие от самого себя, когда все происходящее не есть
произведенное с тобой и над тобой, когда действие не есть реакция
рефлекса на действие другого. Путь в философию, открытый
для всех, - это путь осуществления опыта сознания в себе и с
собою, снятие завесы с внутреннего мира, освещение светом
исследования (различения) того, что совершается как бы за
спиной сознания, прояснение и уяснение своих
непроизвольных метаморфоз. Иная формулировка - сделать свет сознания
предметом, увидеть то, чем и благодаря чему можно вообще
видеть, что достигается действием принципа самосознания
(непосредственной достоверности себя). Но принцип
самосознания не предполагает всецелой обращенности на себя и
концентрации внимания на себе. Обращение очей вовнутрь
имеет смысл в состоянии взгляда, то есть в состоянии
работающего сознания - когда оно, сняв завесу, само заходит за нее,
397
чтобы можно было видеть и было что видеть. Так, Б. Бауэр
считает наиболее ценным у Гегеля утверждение "критической
позиции", то есть опору на собственную самость и доверие
собственному разуму и опыту [цит. по: 6, с. 27].
Поэтому первый шаг опыта - погружение в предмет,
схождение сознания и предмета, растворение в предмете до
самозабвения, чтобы дать возможность проявиться самому предмету.
Это состояние полной пассивности, достигаемое действием
всецелой активности - поскольку не происходит само по себе, а
предполагает серьезную работу укрощения самовластия. Гегель
не говорит о смирении, кротости и послушании, что есть одной
из центральных задач монашеской аскезы. Но смысл, который
имеет послушание, соотносим с первичной задачей
феноменологического опыта. Послушание имеет два центра - отсечение
своеволия и способность слышать. Если отсечение своеволия
освобождает от случайности и частичности собственного
мнения и опыта, вводя выверенное соборным церковным опытом
измерение (можно вспомнить П.А. Флоренского - "в
канонических формах дышится легко"), то способность слышать
противостоит безвольности подчинения. Послушание предполагает
минимальное привнесение себя при максимальности
присутствия себя. Это не пассивность и не страдательность, скорее
независимость от внутренних и внешних впечатлений, отсечение
преходящего и случайного, выход из самозабвения и потому
- нахождение самого себя. Смысловое пространство
послушания - очищение и предельное бодрствование, противостоящие
пленённости миром, сонливости и рассеянности.
Гегель говорит о необходимости предоставить содержанию
возможность двигаться согласно его собственной природе [2,
с. 32], что и есть мышление в понятиях в отличие от
мышления в представлениях, мышление в существе дела в отличие от
мышления в случайности. И достигается это воздержанием.
"Освободиться от собственного вмешательства в имманентный
ритм понятий, не вторгаться в него по произволу и с прежде
398
приобретенной мудростью - такое воздержание само есть
существенный момент внимания к понятию" [2, с. 32]. На мой
взгляд, подобное высказывание может быть понято как
укоренение понятийного (интеллектуального) познания в волевой
сфере и, значит, явственна тенденция к волюнтативности. Не
стоит делать следующий шаг и утверждать Гегеля сторонником
волюнтаризма, к которому он "принадлежал, сам того не
подозревая" (формула следственного дела Г.Г. Шпета), но движение
опосредования, необходимое для становления собой, по Гегелю
предполагает не столько дискурсивный последовательный
переход от одной мыслительной формы к другой, сколько
нарушение равенства с самим собой, движение к иному и в ином, то
есть напряжение между интеллектом и волей. Познавательное
движение разума адекватно, когда не страшится смерти и не
бережет себя от разрушения, но "претерпевает ее и в ней
сохраняется " [2, с. 17]. Если школьно-академическое (или истори-
ографично-философское в противовес
действенно-философскому) прочтение Гегеля квалифицирует его как классического
представителя классического рационализма, то в живой ткани
философского процесса (то есть, в прочтении Гегеля теми, кто
реально философствует, а не теми, кто пишет учебники) Гегель
предстает и мистиком-интуитивистом (И.А. Ильин), и
философом действия, философствующим молотом разрушения (М.
Бакунин, более мягкая форма А. Цешковский), и религиозным
романтиком, выводящим путем несчастного сознания к самому
высокому счастью (Ж. Валь), и культовой фигурой левых
интеллектуалов (К. Маркс, Д. Лукач, Ж.-П. Сартр, Р. Арон), и ловким
литератором, мастерски переименовывающим старые общие
места (Р. Рорти). Чтобы опровергнуть слишком произвольные
прочтения Гегеля, надо не полагаться на рассказы "дедки" про
то, как барин "едал", а съесть гуся самому - то есть читать Гегеля
самому, отдавшись этому чтению до самозабвения, удерживая
свою мысль волевым движением для жизни в едином ритме с
мыслью Гегеля. Что равносильно задаче схватить взмахи крыль-
399
ев мотылька, но не в смысле неисполнимости, а в смысле
хрупкости предмета, предупреждения своемерных вмешательств, в
результате чего вместо летящего мотылька на ладони увидим
мертвое тельце. Именно потому, что истина есть целое, есть цель
вместе со своим результатом, ни на одной из ступенек нельзя
остановиться, расположившись в удобности достижения,
прохождение некоторого процесса сознавания имеет смысл снятия
формы непосредственности и понимания себя, но поскольку в
этом процессе происходит метаморфоз, возникновение новой
предметности самого себя, движение замыкается и
возвращается в начало, предстающее вновь формой непосредственности,
подлежащей различению. Но это не бессмысленно-бесконечное
блуждание по кругу собственной самости, а восхождение к
абсолютности знания.
Абсолютность знания достигается тем, что: "Знание знает
не только себя, но и негативное себя самого, т. е. свой предел.
Знать свой предел - значит уметь собою жертвовать" [2, с. 433].
И тогда "дух должен столь же непредвзято начинать сызнова,
придерживаясь его непосредственности (нового наличного
бытия - В.Л.), и заново вырастить себя из него, словно все
предшествующее было потеряно для него и словно он ничему
не научился из опыта предыдущих духов" [2, с. 434]. То есть,
абсолютное знание никак не означает некоторого застывшего
в совершенстве знания, лишь подлежащего усвоению и
повторению, гегелевская конструкция - не закрытая замкнутая
система, к которой не стоит возвращаться ибо суждение о ней
уже вынесено, или которую достаточно изложить на уровне
общих идей Гегеля. Подобную позицию Гегель называет
"царским" путем в науке - "положиться на здравый человеческий
смысл и - дабы, впрочем, не отстать от времени и
философии, - читать рецензии на философские произведения, да,
пожалуй, предисловия и первые параграфы этих
произведений. Ибо в предисловиях и первых параграфах даются общие
принципы, на которых все строится, а в рецензиях - наряду с
400
историческими сведениями также критика, которая, - именно
потому, что она критика, - стоит даже выше критикуемого"
[2, с. 38]. Голгофа же, упоминание о которой звучит в самом
конце "Феноменологии духа", предполагает действительное и
собственное прохождение опыта восхождения сознания.
Принятие на себя усилия движения мысли и есть принятие
позиции страдания, страдательности - предоставления себя самого
и своей собственной активности осуществлению дела мысли
бытия ради ступенчатого восхождения для встречи лицом к
лицу с Истиной.
Литература
1. БердяевН. Философия свободы//Бердяев Н. Философия
свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989. С. 12-252.-
2. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М.: Издательство
социально-экономической литературы, 1959. 440 с.
3. Зеньковский В.В. прот. История русской философии.
T.I. Paris: YMKA-PRESS. 469 с.
4. Коротких В.И. Предмет и структура "Феноменологии
духа" Гегеля // Вопросы философии. 2005. № 4. С. 158-166.
5. Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к "Науке логики". М.:
Наука, 1984.351с.
6. Пушкин В.Г. Философия Гегеля: абсолютное в человеке.
СПб.: Лань, 2000. 448 с.
7. Плютто П.А. Религия интеллектуалов: судьба высоких
фикций "танцующего" Гегеля // Вопросы философии. 2005.
№4. С. 145-157.
8. Руткевич A.M. А. Кожев и Л. Штраусе: спор о тирании //
Вопросы философии. 1998. № 6. С. 79-92.
9. Фишер К. Гегель, его жизнь, сочинения и учение. Первый
полутом // Фишер К. История новой философии. Т. VIII. - М.-
Л.: Государственное социально-экономическое издательство,
1933.611с.
401
Суханов В.Н.
Гегель и педагогика
Нет ни одной проблемы в обществе, которая в школе не
принимала бы предельного выражения. Узкая специализация
и сопутствующий ей профессиональный кретинизм
капиталистического строя ведут к узкой специализации в
воспитании. Поэтому и девиз современной школы: «Каждый должен
заниматься своим делом». Предметники «прививают»
предметы, классный руководитель воспитывает человека.
Намечается ещё появление служителей культа. Чтобы отдельно от всего
воспитывать душу? До каких пор можно делить человека? И
вообще - можно ли отделять человека от души?
Отсюда возникает главный вопрос: «Должен ли учитель
знать, что творит, а если знать, то как?». Нужно ли «замора-
чиваться» на счет цели? А точнее на счет всеобщей цели
педагогического процесса, - воспитать человека,- или можно
ограничиться локальными целями, - давать знания, умения,
навыки попредметно?
Понятно, что решить проблему целеполагания
педагогического процесса невозможно без обращения к философской
классике и, в первую очередь, к Гегелю. Невозможно
вырастить человека без глубокого понимания того, что истина
объективной действительности - это истина тебя самого, что
противоречие, которое движет развитие этой истины, - это твоя
собственная форма движения, что ты и есть субъект, который
движет историю. Кто из учителей понимает это?
Общаясь с учителями, очень часто слышишь суждения,
характеризующие состояние души современного ученика.
Детям, дескать, чужда культура, кроме как механического
сидения за компьютером и удовлетворения органических нужд
детей ничто не волнует. Дети, мол, живут животной жизнью
и прекрасно в ней себя чувствуют, мы же учителя, напротив,
402
живём человеческой жизнью, активно трудимся,
зарабатываем сами на жизнь, прекрасно разбираемся в предмете,
который преподаем, но эти «животные» ничего не хотят.
Суждение, повторюсь, очень распространённое и в
основании его лежит ясное и четкое понимание учителем отличия
человека от животного. Это отличие - труд.
Малыш-животное, способный подолгу фиксировать внимание на вещи, а не
на органической потребности, постепенно превращается в
человека, поскольку эти освоенные вещи, сделанные
человеком для человека, со временем дают ему возможность
взглянуть на себя как бы со стороны, с позиции культуры, малыш,
не способный взглянуть на себя со стороны, так и
останется животным. Все вроде правильно, но в том то и дело, что
взглянуть на себя со стороны с позиции культуры означает
вовсе не с позиции освоенных единичных вещей, а с позиции
господа бога, абсолюта. Того абсолюта, который Гегель
называл Разумом. Вот чего не понимает ни один учитель. Что уж
говорить об учениках.
Животное действительно не способно отделить себя от
своей жизнедеятельности. Учитель, естественно думает, что
он делает это, раз его труд принадлежит духовной сфере, но
в том то и вся суть проблемы воспитания человека, что
учитель не сознает, что сам находится на животном уровне, и что
вытащить к человеку ученика с откровенной животностью
бывает намного проще, чем забуревшего в своём
профессиональном кретинизме учителя. Способен ли учитель отделить
себя от своей учительской деятельности? Есть ли над ним
божий глаз? Может ли учитель взглянуть на себя со стороны с
позиции культуры, осуществить рефлексию своей
педагогической деятельности?
Все эти вопросы, естественно, разбиваются о скалу
учительского непонимания, а подчас и ненависти, поскольку
философия, являющаяся каркасом культуры, душой культуры,
СтРащно далека и педагогическим вузам, и самим учителям.
403
Труд действительно создал и создает человека. Но не всякий.
Ведь человек в естественно-природном состоянии уже
трудился, но человеком в полном смысле его назвать было ещё
нельзя. Он находился лишь на переходной ступени,
поскольку не владел законом, абсолютом своего существования. Лишь
вышелушив образ бога из своего труда, человек и становится
человеком. Но рефлексии себя в этом состоянии у человека
ещё нет, есть лишь видение себя в образе бога, полное и
безоговорочное подчинение своего индивидуального я нуждам и
потребностям рода. Внешне противоречие отдельного и
всеобщего представлено как полная власть всеобщего.
Соответственно и позиция «общественное выше личного», столь
активно навязываемая в советское время, и сейчас не утратившая
силы, качественно ничем не отличается от родовой идиллии,
где всё держалось на страхе. Страх перед богом, как образом
«общественного», был намного сильнее страха перед любым
хищным зверем. Как ни парадоксально, это давало результат.
Но что удивительно, такая власть общественного над
личным в древнее время привело к рождению философии как
науки и отождествлению в познании субъективного и
объективного (софисты, Сократ); но в XX веке это привело к
полному отделению человека от всеобщего. И сколько ни строй
церквей, и не размахивай красным флагом, ничего уже не
изменишь - знание объективной истины и субъективная
деятельность человека страшно далеки друг от друга.
Гегель остро критиковал конечность современного ему
познания. В своей работе «Философия религии» он так
ставит эту проблему. «Обе стороны достигли в своей
противоположности полного развития. На стороне религии - душа,
преисполненная божественного, но лишённая свободы,
самосознания и последовательности в своём объяснении мира
определённых вещей, который выступает здесь скорее в форме
случайного. Последовательность связей определённых вещей
относится к стороне познания, которое в конечном мире чувс-
404
твует себя дома и свободно движется среди многочисленных
связей в их мысленных определениях, создавая, однако,
систему без абсолютной значимости, без бога. На область религии
приходится абсолютное содержание и цель, но только в
качестве абстрактно позитивного. Познание захватило весь
конечный материал^ втянув его в сферу своего господства; к нему
отошло всё определённое содержание; однако, устанавливая в
нём необходимую связь, оно не способно ввести в него связь
абсолютную» [1, с. 216]. Что-нибудь изменилось со времён
Гегеля по сей день?
Качественно - ничего. На стороне религии по-прежнему
душа, «лишённая свободы», на стороне познания - «весь
конечный материал». Поэтому и законом у нас - абсолют религии
«в качестве абстрактно позитивного», и полный релятивизм в
познании. И что получает школа на выходе с господствующим
девизом современного познания - «нет ничего абсолютного»?
Полную бездарность. А кто в этом виноват? Конечно же дети.
И несмотря на пилюли толерантности, ребёнок
действительно крайний в педагогическом процессе. Поскольку дураком
делают именно его без всякой надежды на спасение. Пройдя
«санобработку» школы, выпускник в принципе не способен стать умным.
Но ведь некоторые всё-таки становятся? Как им это удается?
Что стихийно совершает редкий умный выпускник
школы? Понятно, что технологии производства ума, души нет и
быть не может, но может есть какие-то базовые, узловые
пункты воспитания, обойдя которые стороной никогда не
воспитаешь ум? И на которые, повторюсь, стихийно натыкается
умный ученик вне стен школы, и абсолютно игнорирует школа.
Так или иначе мы опять возвращаемся к вопросу о
возможности соединения знания и души. Возможно ли снятие всех
знаний, умений, навыков в бесконечной душе ребёнка, а точнее
возможно ли моделирование таких ситуаций, где это снятие будет
происходить с необходимостью, или соединение души со
знанием бесконтрольный, случайный, иррациональный процесс?
405
В «Философии религии» Гегель отталкивается от этого
вопроса как от решенного. «Перед лицом бесконечного
конечная форма знания должна снять себя» [1, с. 217]. Чуть ниже
он объясняет, почему так делает. «В данном исследовании мы
находимся не на начальной стадии философии; философия
религии - одна из философских наук и предполагает
существование других философских дисциплин, является,
следовательно, уже неким результатом» [1, с. 217]. Необходимость
соединения, а точнее обнаружения бесконечного в конечном
была выведена Гегелем в «Науке логики».
Гегель был непревзойденным мастером во всём
отыскивать начало. И даже у такой вечной и бесконечной вещи как
бог. Есть ли начало у бога? На первый взгляд кажется, что нет.
Действительно, как можно найти начало у бесконечности? Но
Гегель ищет и находит.
В тождестве бытия и ничто. Находит его и в истории
философии в лице Парменида. В определении тождества
исторического и логического логическое является определяющим,
поскольку Парменид вовсе не был первым философом, но фи-
лосософия начинается именно с него. С его отождествления
мысли и того, о чем она мыслит.
Чем педагогической науке может быть интересен такой
ход Гегеля в историю философии? Поможет ли нам Гегель
отыскать начало человека, начало формирования души,
начало, имманентно присутствующее во всей жизни души? Где
оно изначальное тождество бытия и ничто маленького
человечка? В освоении первых предметов, сделанных человеком
для человека? Но ведь освоив пустышку, малыш уже обретает
наличное бытие...Тогда где же? А может и здесь
педагогически-историческое и логическое не совпадают. Может и здесь
логическое является определяющим, и своё ничто надо
выстрадать, создать начало самому?
Очевидно, что это так, поскольку несамостоятельно
сотворенная душа и душой то не будет. И именно на это указы-
406
вал Ильенков, говоря о совместно-разделённой деятельности
взрослого и ребёнка. «Это - труд, требующий от воспитателя
не только адского терпения, но и - что бесконечно важнее -
острейшей внимательности к малейшему проявлению
самостоятельности, к едва заметному намёку на неё со стороны
малыша. Как только такой намёк появился, сразу же
ослабляй, педагог, руководящее усилие! И продолжай его
ослаблять ровно в той мере, в какой усиливается активность руки
малыша! В этом - первая заповедь педагогики
«первоначального очеловечивания», имеющая принципиальное значение
и - что нетрудно понять - не только для воспитания
слепоглухонемого» [2, с. 38]. Учитель обязан вовремя убрать
руководящую руку. Лишь только когда ученик сам наткнётся на
противоречие неподатливой вещи, он обретёт возможность
сотворить зерно своей души, сможет сам вышелушить образ
бога из своей жизнедеятельности так, как это сделало
человечество в процессе филогенеза.
Тексты Ильенкова до обманчивости просты, - об этом не
раз говорилось на Ильенковских чтениях, - и если понимать
слова философа буквально, спрямляя его мысль, то можно
подумать, что душа и возникает во время освоения
материальных предметов человеческого мира. На самом деле это ещё не
душа, это своеобразная пропедевтика зарождения души,
«первоначальное очеловечивание». Душа возникает, когда ребёнок
сам сможет отделить Слово от Дела, создав некий образ,
несущий в себе всю потенцию движения души. Но именно эта
пропедевтика дает возможность создать человеческий образ,
удерживающий Истину - тождество субъективного и
объективного, тождество мышления и бытия.
Но почему с точки зрения логики так важно
самостоятельное вышелушивание бога из предметно-чувственной
деятельности? Создавая образ взаимодействия с вещью, малыш
сам, с необходимостью, поймет своё ничто. И это очень важно,
поскольку за счёт самости это ничто будет тождественно бы-
407
тию. Важно ещё и потому, что школа неосознанно тоже ведет
ученика к тому, что он полное ничто.... Но это получившееся
на выходе ничто так и остаётся полным ничто в жизни,
поскольку обрело его вне тождества с бытием. Лишь
самостоятельно выстраданное, вылущенное из предметно-чувственной
деятельности тождество бытия и мышления и будет зерном
души, началом Я.
И именно тогда само понятие бога, изложенное в
доступных терминах, будет вовсе не чуждым душе ребёнка, о
чём повествует Г.В. Лобастов в «Философско-педагогичес-
ких этюдах». Профессор философии рассказывает об
уникальнейшем педагогическом эксперименте. Малыш четырёх
с половиной лет, прочитав басню «Ворона и лисица»,
спросил: «А что такое бог?». Услышав ответ Геннадия
Васильевича: «Бог - это существо, сотворившее всё, что есть»,
малыш тут же задал второй вопрос: « Значит, и самого себя?».
Лобастов делает вывод о том, что ребёнок моментально
схватил логический предел творения - самотворение.
«Всеобщность получила полное завершение. Это отношение к
самому себе, создающее столько ттроблем для формальной
логики, поскольку оно обязательно содержит в себе
противоречие, для ребёнка не оказалось камнем преткновения»
[3, с. 53]. Фактически малыш-дошкольник в общем виде, в
образе схватил идею субстанции. Почему это произошло?
Да потому что он так жил, - на субстанциальном уровне, - в
своей деятельности творил субстанцию. Был причиной
самого себя. Поэтому и бог, «сотворивший всё что есть», во
всём этом «есть» творит в первую очередь себя. Понятно,
что этот эксперимент уникален, и не все дошкольники
таковы, но всё-таки начало формирования души, зерно, в
котором заложена потенция всего движения души и которое
нельзя убивать ни под каким предлогом, высвечивается
этим экспериментом очень четко. А если такой дошкольник
придёт в современную школу?
408
Вопрос о том, как ввести знание в душу ребёнка,
абсолютно тождественен вопросу, что такое наука? Какое знание
является научным? Учитель обязан быть философом, его прямой
долг знать «с чего следует начинать науку» (Гегель). В
педагогике начало науки и начало вхождения знания в душу ребёнка
должны совпасть. Гегель в «Науке логики» начинает науку с
абстрактного, неопределённого бытия. Ввиду того, что это
бытие не имеет никаких определений - оно ничтожно,
тождественно с ничто. Бытие и ничто тождественны, и различие их
лишь предполагается. «Единство, моменты которого, бытие и
ничто, даны как неразделимые, в то же время отлично от них
самих и таким образом есть в отношении их некое третье,
которое в своей самой характерной форме есть становление»
[4, с. 79]. Учитель, не понявший этого изначального тождества
бытия и ничто, в большинстве случаев ссылаясь на
«мудрёность», всегда рискует впасть в ту или иную крайность, или
утверждая «дедовским» способом бытие без отрицания (без
ничто), или на волне толерантности создавая культ
отрицания, культ ничто. Какая из позиций опасней для души ребёнка
судить трудно, но факт остаётся фактом, душа из
человеческого состояния трансформируется в животное и полуживотное
состояние. Неспособность учителя удержать исходное
противоречие науки дорого обходится человечеству. Понятно, что
учителя ни в коем случае нельзя делать крайним, поскольку
госзаказ на производство товара «рабочая сила» диктуется
ежедневно капиталистическим рынком, но понимать, в какие
опасные игры он играет, учитель обязан.
Бытие и ничто не существуют друг вне друга. Они
существуют лишь в третьем, в становлении. Школьные предметы все
без исключения должны стать становлением «Я» ребенка. Не
палочки складывать на уроках математики, а увести, увлечь
ребёнка «по горло» в бытие математики, в самые её
основания, чтобы малыш сам «родил» понятие числа, не пределы
возможностей тела фиксировать на уроках физкультуры, а
409
дать возможность обнаружить само понятие предела, создать
такие условия, чтобы ребёнок сам задался вопросом, а есть ли
вообще предел души? И почему поиск предела души
неминуемо ведёт к поиску предела физического развития, как это было
в Древней Греции? Что побуждало человека искать предел и
выходить за предел в любом деле, в любом познании?
В чём-то учителя можно понять, поскольку «увлечь «по
горло» в бытие математики», - это действительно докопаться
до самых оснований этой науки. Где в математике исходное
тождество мышления и бытия? Боюсь, что и мы с вами об этом
никогда не задумывались.
До какого предела дошел человек, чтобы «родить» понятие
числа? На какое неразрешимое противоречие он наткнулся?
Какая острейшая необходимость побудила человека создать
новое Слово? А ведь число - это действительно Слово, Слово
математики. Слово, которое есть бог. Но также как бога
сделали в процессе филогенеза «абстрактно позитивным», также и
число сделали цифрой и именно в таком качестве преподносят
ученику. А ведь ученик должен сам отделить Слово от Дела...
Но получается опасно для души ребёнка осваивать
формально даже 1+1=2? Зачем малышу складывать не его
палочки? Не им сотворенные. Малыш в вышеприведённом примере
запросто понял, что такое бог. Поскольку бог оказался
абсолютно тождественным его полю самотворчества. Но ведь и
нахождение предела, рождающего число, возможно также лишь
в этом поле. Любое понятие, в том числе и единицы, должно
выводиться как дедукция целого, единого - поля
самотворчества. Единого поля, созданного малышом.
Что есть бог? Бог - некий образ единства рода. Единица и
единство - не случайно однокоренные слова. Понять единицу
как предел человеческого бытия, весь огромный человеческий
мир как одну большую единицу. Живую и рождающую
миллионы маленьких единиц. И если он сам создаст уравнение
1=1+1+1+1+1+1+1, то для его души это будет намного полез-
410
нее. Ведь если понимать единицу как первоначально
обнаруженное единство себя с человеческим родом, а двойку как
раздвоение этого единства, то малыш вряд ли станет
«индуктивным ослом» (Энгельс).
Относиться к малышу как к человеку. Тогда и только тогда
всякое отношение в познании будет отношением к себе.
Конечно, сегодня об этом можно только мечтать. Но как тут не
вспомнить призыв В.И. Ленина: «Революции нужны
мечтатели, романтики и поэты». Но чтобы не стать прекраснодушным
мечтателем, необходимо утвердить и антитезис, абсолютно
тождественный ленинским словам: «Революции необходимы
люди, умеющие калёным железом выжигать рафинированное
отношение к абстракциям».
Эта же тема прослеживается и в «Этюдах» Лобастова.
Разбирая возникновение абстракции прямой линии, учёный
пишет: «Она принадлежит, эта прямая, не непосредственно миру
природных вещей, а миру человеческой действительности,
которая её как потенцию актуализирует, делает
субъективно открывшейся и объективно применяемой в деле. А
потому она становится объективно-реальной принадлежностью
человеческих вещей. Теперь её можно созерцать, и ребёнок
задолго до введения его в понятие прямой имеет её в своём
представлении - как нечто вынутое из чувственного опыта. И
ему кажется, что созерцаемые, уже чувственно различённые,
абстрактные характеристики вещей человеческого мира есть
характеристики вещей человеческого мира вообще. А потому
это созерцание и кажется достаточным основанием,
принципом производства знания. Совмещённость в созерцании
абстрактных определений вещи здесь и мыслится как истинный
образ её. Ребёнок поэтому везде старается найти
чувственный эквивалент своих абстрактных представлений о вещах»
[3, с. 84]. Но как разрушить такое наличное бытие
образования, где «везде ищут наглядный эквивалент теоретической
абстракции, пример и т. д.» [3, с. 84]?
411
Для обнаружения себя в счёте не обязательно складывать
людей, но понять причину возникновения математических
абстракций малыш должен до того, как научится считать. Но
как такое объяснить ученику, если даже профессиональные
математики абсолютно чужды этому вопросу? Что уж
говорить о ребёнке! Но здесь как раз именно тот случай, когда
дошкольник умнее профессионала, который никогда не сможет
сотворить себя во время операций с числами. А что сможет?
Лишь более виртуозно выполнять эти операции.
Профи-математик глубоко разбирается во всех исторических кризисах
математики, но о базовом кризисе, о том, что привело к
рождению математики как науки и знать ничего не желает.
Изначально необходимо удержать в себе истину в целом.
И не просто удержать, а определять это целое как цель всех
творческих поисков себя. Но поскольку цель в тебе самом, то
познание мира превращается в самопознание. И в то же
время, изначальное удержание субстанции в себе даёт
возможность познавать именно весь мир, его объективные законы, а
не заниматься интроспекцией.
Проблема, поставленная Гегелем, до сих пор не решена, но
она помогает увидеть основное противоречие
образовательного процесса, которое буквально витает в воздухе школы.
Противоречие между самостоятельностью ученика и знанием.
Наблюдая сегодняшний педагогический процесс, и, к
сожалению, участвуя в нём, с грустью замечаешь, что познание вещи
и познание себя предельно разведены, и детям не остается
ничего кроме «познания» себя вне культуры. Полное
обособление от знания возникает как протест, как интуитивное
сохранение потенции творчества. Школьное знание полностью
замкнуто на вещь и потому является внешним душе
ребёнка. В педагогическом «железном потоке» есть лишь потенция
ничто, чистого ничто без всякой связи с бытием. Способна ли
душа развиться в таком статическом состоянии? Очевидно,
что если что и может развиться в таком состоянии, то лишь
412
неизбывная тоска по поводу того, что жизнь твоей души и
истина отделены непроходимой пропастью. Эту пропасть очень
часто и видишь в глазах старших учеников, выходящих за
ворота школы покурить и купить булочек. Не радостное
сознание своей значимости, а действительно вселенскую тоску
наблюдаешь во взгляде юной девушки, чувствующей
абсолютную бесполезность всех школьных занятий.
Жизнь это самость. Как эту самость не убить, вытащить,
сохранить, развить является вопросом вопросов педагогики,
проблемой проблем. Чем в этом вопросе философия может
помочь педагогике? Как исследование самодвижения
понятия, взаимоперехода философских категорий может повлиять
на созидание души ребенка? В этой статье решение намечено
лишь пунктиром. Очевидно, что полное решение этой гло-
бальнейшей задачи под силу лишь коллективу философов и
педагогов, работающих в теснейшем контакте, и именно на её
решение должны быть направлены основные силы
профессиональных философов.
Литература
1. Гегель Г.В.Ф. Философия религии в двух томах. Т. 1. М.,
1976.
2. Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991.
3. Лобастов Г.В. Философско-педагогические этюды. М.,
2003.
4. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. СПб., 2002.
413
Л.О. Иванов
О философии права Гегеля и правоведении юристов
Первыми, кто четко и ясно поставил проблему
соотношения философского и юридического подходов к праву и дали
ее философское обоснование, были великие представители
немецкой классической философии Иммануил Кант и Георг
Вильгельм Фридрих Гегель.
Кант, размышляя в «Метафизике нравов» (1797 г.) над
вопросом, «Что такое право?», отмечал, что этот вопрос
может смутить правоведа также, как и вопрос «Что есть
истина?», обращенный к учителям логики. Что следует по праву,
т. е. что говорят или говорили законы в том или ином месте в
то или другое время, он (правовед - Л.И.) еще может указать,
но право ли то, чего они требуют, и каков всеобщий
критерий, на основании которого можно вообще различать
правое и неправое, это остается для него тайной, если он хоть
на время не оставляет эмпирические принципы и не ищет
источник этих суждений в одном лишь разуме..., чтобы
установить основу для возможного положительного
законодательства. Чисто эмпирическое учение о праве - это голова
(подобно деревянной голове в басне Федра), которая может
быть прекрасна, но, увы, не имеет мозга»1. Эмпирическому
учению о позитивном праве, которое Кант называл
«статуарным», он противопоставлял «чистое учение о праве»,
основанное на разуме. В общей формулировке Канта право - «это
совокупность условий, при которых произвол (более точный
перевод «произволение» - Л.И.) одного лица совместим с
произволом другого с точки зрения всеобщего закона
свободы»2. При этом немецкий философ считал, что в качестве
связующего звена между учением о позитивном праве (т. е.
1 Кант И. Критика практического разума. СПб., 2007. С. 284-285.
2 Там же.
414
правоведением) и чистым учением о праве (т. е.
философским его пониманием) нужна еще одна, особая часть учения о
праве (политика права), задача которой помогать
законодателю создавать разумное и соответствующее праву позитивное
законодательство. Разработку же этой дисциплины должны,
как полагал Кант, осуществлять правоведы.
Гегель дает ответ на вопрос «что есть право?» в своей
«Философии права» (1820 г.). Но в этой книге не найти
традиционных определений этого понятия, поскольку, как пишет Гегель,
«философия занимается идеями; поэтому она не занимается
тем, что обычно называют только понятиями... философская
наука о праве имеет своим предметом идею права - понятие
права и его осуществление... Идея права есть свобода, и
истинное ее понимание достигается лишь тогда, когда она
познается в ее понятии и наличном бытии этого понятия»1. •
Гегель различает науку о праве и науку о позитивном
праве, считая, что только философское учение о праве является
подлинной наукой о праве. Юридическая наука по Гегелю
занимается не смыслом права, а тем, что в данном месте и в данное
время установлено как закон, т. е. исторически изменчивым
законодательством (позитивным правом). Она, следовательно,
в своем подходе к праву исходит не из разума, а из авторитета
(властного установления). В позитивной юриспруденции
(начиная от римских юристов), по оценке Гегеля, дефиниции
дедуцируются преимущественно посредством абстрагирования
от особых случаев, причем основой служат чувства и
представления2. Как замечает далее Гегель, «последовательность
представляет собой, несомненно, существенное свойство
науки о праве, как и математики, и вообще каждой рассудочной
науки, но с удовлетворением требований разума и с
философской наукой эта рассудочная наука не имеет ничего общего»3.
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 59.
2 См.: там же. С.60.
3 Там же. С.67.
415
Проводя четкий водораздел между философией права и
правоведением, Кант и Гегель закладывают в то же время
традицию различения права и закона, что по авторитетному
мнению академика РАН B.C. Нерсесянца, всесторонне
исследовавшего проблему данного различия, принципиально важно для
понимания двух противоположных подходов к анализу права
(типов правопонимания). Если для легизма (от lex - закон)
право - это любые официально принятые управомоченными
государственными органами действующие законодательные и иные
нормативные акты, то для правового подхода законодательный
акт является правом не всегда, а только тогда, когда он
соответствует объективным принципам права, в частности принципу
формального равенства, справедливости и свободы1.
Таким образом, на рубеже XVII-XVIII столетий
достаточно прочно укрепилась традиция рассмотрения сущностных
вопросов права в рамках философии с позиций разума, а
вопросов внешней и внутренней форм наличного бытия права
правоведением на основе рассмотрения, прежде всего,
законодательного материала (позитивного права). В соответствии
с этим складывались и представления о предмете научных
интересов этих дисциплин. Если предметом правоведения
выступал закон и основная задача исследователя-юриста
состояла в его догматическом анализе, комментировании,
систематизации, классификации, выявлении пробелов и
противоречий и т. п., то философия права занималась, прежде всего,
выявлением сущности права, анализом соотношения права и
иных социальных регуляторов (морали, нравственности,
религии и др.), рассмотрением вопросов ценности права,
справедливости права и т. п.
Но если разведение сущностных и содержательных
аспектов в познании права по разным научным «ведомствам»
может быть оправдано в силу методологических и методических
резонов, то в процессе реальной практической деятельности
'См.: Нерсесянц B.C. Философия права. М., 1998. С.32.
416
по разработке подготовки и принятию законодательных актов
(при условии стремления к созданию правовых законов, т. е.
соответствующих идее правового государства) философский
и юридический подходы должны органически дополнять
другу друга. Т. е. несовпадение права и закона должно
минимизироваться с целью приближения позитивного закона к праву, к
началам свободы, равенства и справедливости. Иными
словами ситуация созидания и совершенствования права
(особенно в периоды глубоких социальных перемен) должна заметно
усиливать тенденцию к объединению профессиональных
усилий философов и юристов. Юристы должны не только владеть
навыками анализа текстов законов, но и понимать сущность и
принципы права и руководствоваться ими в своей
профессиональной деятельности.
3. Различение права и закона, разработанное в рамках
философии права, вовсе не означало в то же время их тесной
взаимосвязи, неразрывности и диалектического единства. Суть
этой взаимосвязи Гегель поясняет в следующем рассуждении:
«то, что есть право в себе, положено в его объективном
наличном бытии, т. е. определено для сознания мыслью и известно
как то, что есть и признано правом, как закон; посредством
этого определения право есть вообще позитивное право»1. В
то же время, поясняет Гегель, «в этом тождестве в себе бытия и
положенности обязательно как право лишь то, что есть закон.
Поскольку положенность составляет ту сторону наличного
бытия, в которой может выступить и случайность,
порождаемая своеволием и другой особенностью, постольку то, что
есть закон, может быть отличным по своему содержанию от
того, что есть право в себе»2.
С позиций диалектики Гегеля, право - это всеобщее, но
не абстрактно общее, принадлежащее всем единичным
явлениям рода в качестве их общего признака, а конкретно всеоб-
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. С. 247.
2Тамже.С250.
417
щее, т. е., образно говоря, «душа» всех единичных предметов
данного рода. Всеобщее толкуется Гегелем как конкретность
(или тотальность), внутренняя цель развития определенной
деятельности. Оно существует как «конкретная живая связь
различных и противоположных вещей, явлений, процессов.
Конкретно всеобщее существует в действительности через
особенное, единичное, различное, и противоположное, через
переход, превращение противоположностей друг в друга, т.
е. как конкретное тождество..., а не как «абстракт, присущий
конкретному индивиду»»1.
Всеобщее не существует иначе, как в диалектическом
единстве с особенным и единичным. При этом
диалектическая логика в категории особенного фиксирует момент именно
единства всеобщего и единичного, а само особенное выступает
здесь как такой элемент в составе отношения
«единичное-всеобщее-особенное», в котором снимается односторонность двух
первых элементов триединства. В результате, особенное как бы
исчезает как относительно самостоятельная категория и
рассматривается как всеобщее по отношению к единичному и как
единичное по отношению к всеобщему2. Таким образом,
особенное как «определенное всеобщее» (по формулировке Гегеля)
включает в себя и абстрактность единичного, и конкретность
подлинно всеобщего в его необходимости и закономерности.
Применительно к проблеме отношения «право - закон»
введение в анализ категории особенное означает возможность
нахождения и включения в данное отношение такого звена,
которое могло бы, опосредуя отношения права и закона, явиться
единичным по отношению к первому элементу и всеобщим по
отношению ко второму. Такого рода звеном может быть лишь
определенный законодательный акт, имеющий неоспоримую
1 См.: Ильенков Э. Всеобщее. Философская энциклопедия. Т.1. М.,
1960. С. 302-303.
2 См.: Трубников Н. Особенное. Философская энциклопедия. Т.4. М.,
1967. С. 173.
418
правовую всеобщность по отношению к любому иному акту
законодательства и в то же время являющийся правом в его
«объективном наличном бытии, определенным для сознания
мыслью и известным как то, что есть и признано правом»1.
Таким актом является конституция государства, утверждающая
идею права, т. е. закрепляющая принципы свободы, равенства,
справедливости и т. п.
4. Гегель в «Философии права» не ставил перед собой
задачу рассмотрения проблем конституции, но, тем не менее, и
в этом произведении имеются суждения, ясно
свидетельствующие о значимости для немецкого философа авторитета
конституционных установлений. Так, Гегель замечает, что «развитие
государства в конституционную монархию - дело нового мира,
в котором субстанциональная идея обрела бесконечную
форму». Далее он пишет: «Если же этот вопрос предполагает (кто
должен устанавливать государственное устройство - Л.И.), что
государственное устройство уже существует, то слово
установление означает лишь изменение, а из предпосылки о наличии
государственного строя непосредственно само по себе следует,
что такое изменение может происходить лишь
конституционным путем». Или еще ниже: «мы не хотим сказать, что монарху
дозволено действовать произвольно; напротив, он связан
конкретным содержанием совещаний, и если конституция
действенна, то ему часто остается лишь поставить свое имя»2.
Согласно позиции B.C. Нерсесянца, идея свободы у Гегеля
«достигает своей полной реализации лишь в конституционно
оформленных и развитых государствах современности. Эти
государства представляют нечто разумное внутри себя; они
действительны, а не только существуют»3.
1 См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. С. 247.
2 Там же. С.311, 314 и 322. Кроме того, в 1802 году Гегелем была
закончена работа «Конституция Германии» (См.: Гегель.Политические
произведения. М., 1978. С. 65-184).
3Нерсесянц B.C. Право и закон. М., 1983. С.293.
419
Как известно, первые конституции в современном
понимании этих актов появились в конце 18-го столетия в США
(1787 г.) и Франции (1791 г.), на волне глубоких социальных
перемен в этих странах, фактически предшествуют
становлению классической философии права. Политико-правовой
смысл принятия конституций заключался прежде всего в
необходимости правовыми средствами ограничить верховную
публичную власть и создать надежные гарантии соблюдения
важнейших прав и свобод граждан.
В современном смысле конституционность государства
- это прежде всего его связанность правом, а конституция
- надлежащая форма основополагающего узаконения
правового характера организации и функционирования власти в ее
отношениях с субъектами гражданского общества1.
От обычных правовых норм конституционные нормы
отличаются тем, что закрепляют методы и формы
осуществления государственной власти. Предмет их правового
регулирования отличается высшей политической важностью
и фундаментальностью, поскольку они касаются самых
основных условий политического бытия всего общества2.
Конституция - это и акт целеполагания, и свод принципов,
связывающих законы общепризнанными принципами и
нормами международного права, она задает также
иерархию правовых норм, где конституционные правоположения
имеют высший приоритет и юридическую силу. В
конституции находят свое выражение признаваемые государством
правовые идеалы и ценности, отступление от которых в
сфере законодательства или подзаконного нормативного
регулирования должно приводить к отмене
соответствующих правовых актов.
1 См.: Четвернин В.А.Демократическое конституционное государство:
введение в теорию. М., 1993. С. 126.
2 См.: Мишин A.A. Конституционное (государственное) право
зарубежных стран. М., 2009 (15-е издание). С. 31.
420
Известные российские специалисты
конституционного права, указывая на особенности конституции как особого
юридического документа, отмечают, что «современная
конституция - это учредительный правовой акт, основной закон
государства, принимаемый и изменяемый в усложненном
порядке, обладающий в современных условиях особым объектом
регулирования, высшей юридической силой и являющийся
юридической базой для правотворчества, правоприменения и
правосознания»1.
Вышесказанное позволяет заключить, что именно
конституционный акт является ближайшим родом права,
вступившего в наличное бытие в форме закона. Он наиболее
полно выражает идею права, сформулированную в виде системы
юридических норм общего характера, т. е. фиксирующих,
прежде всего не конкретные правоотношения, а
устанавливающих нормы-принципы, нормы-гарантии, нормы-ценности
и т. д. При этом «приоритет конституции по отношению ко
всем остальным властным установлениям вытекает не из того
факта, что она провозглашается основным законом, а из тех
соображений, что она... является чистым выражением права
(во всяком случае она должна быть такой)»2.
Конечно, не надо забывать и о том, что каждая страна
отличается своеобразием конституционных форм и форм
организации государственной власти, что обусловлено и
характером социального, политического, экономического,
культурного и иного развития. Все это в целом справедливо и по
отношению к российской Конституции 1993 года.
Как указывал B.C. Нерсесянц, Конституция России
опирается на юридический тип правопонимания (т. е. на
концепцию различения права и закона), что определяет, в конечном
счете, ее правовой характер. «Основные характеристики всего
1 Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.,
2007. С. 39.
2Четвернин В.А. Указ. работа. С. 130.
421
конституционно регламентируемого пространства в целом и
правовой государственности в особенности даются в
Конституции с позиций и под углом зрения прав и свобод человека
и гражданина, их признания и защиты... Присущее
Конституции человекоцентристское правопонимание можно
охарактеризовать как своеобразный естественноправовой вариант
общей концепции различения права и закона...
Определенная стилизация под естественное право призвана
продемонстрировать исходную и безусловную свободу, правомочность
и правосубъектность любого индивида в его отношениях со
всеми остальными - государством, обществом, другими
индивидами. Логика такого правопонимания понятна: без
свободных индивидов, без прав и свобод человека невозможно и
само право как таковое. Ведь право как необходимая форма
свободы вообще возможно и имеет смысл лишь при наличии
свободных и независимых индивидов-субъектов права»1.
Важно также отметить, что Конституция России в статье
18, согласно которой права и свободы человека и гражданина
определяют смысл, содержание и применение законов,
содержит важнейший критерий, определяющий соответствие
закона праву и требование принятия законодателем только
правовых законов. Статья же 55 Конституции РФ устанавливает
прямой запрет издания законов, ущемляющих права и
свободы человека и гражданина. Мы здесь не касаемся вопроса
социальной эффективности указанных конституционных норм
и их практической реализации, что зависит главным образом
от факторов, лежащих вне сферы права и закона.
Но одна из причин недостаточной действенности
конституционных норм имеет, безусловно, юридическую
составляющую и заключается в нередких отступлениях
законодательных норм от конституционных установлений. Возникающие
несоответствия между законом и Конституцией должны
обязательно устраняться путем отмены или изменения закона,
1 Нерсесянц B.C. Философия права. С.374-376.
422
как акта более низкого уровня, поскольку в ином случае
законодательное регулирование становилось бы выше
конституционного. В Российской Федерации органом, призванным
обнаруживать и исправлять несоответствие закона
конституции является Конституционный суд, который либо отменяет
неконституционную норму, либо, выявляя подлинный
конституционно-правовой смысл нормы закона, вносит
соответствующие коррективы в ее истолкование правоприменителем.
«Право, вступившее в наличное бытие в форме закона...
самостоятельно противостоит особенному волению и мнению о праве и
должно сделать себя значимым как всеобщее. Это познание и
осуществление права в особенном случае... принадлежит публичной
власти, суду»1. Эта гегелевская характеристика сущности судебной
деятельности еще в большей мере, чем к общему правосудию
относится к конституционной юрисдикции, для которой познание
права, опосредованное единичными нормами закона и
положениями конституции становится не только средством осуществления
правосудия, но по существу главной целью деятельности.
При осуществлении конституционного контроля
Конституционный суд вправе, не ограничиваясь позитивными
нормами Конституции, руководствоваться также
общеправовыми, в том числе международно-признанными принципами и
положениями, что в полной мере соответствует новой
правовой идеологии Конституции, идее господства права, природе
и назначению правовой государственности2.
В качестве наглядных примеров именно такого подхода к
анализу проверяемых законодательных норм, т. е. когда
Конституционный Суд РФ делает вывод о конституционности в
условиях отсутствия прямого конституционного нормативного
регулирования, опираясь на правовые позиции,
сформулированные на основе собственной интерпретации общих
конституционных положений, принципов и ценностей права, можно
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. С.257.
2Нерсесянц B.C. Философия права. С. 386-387.
423
привести следующие:- личность в ее взаимоотношениях с
государством выступает не как объект государственной
деятельности, а как равноправный субъект (постановление от 3.05.1995
№ 4-П);- принцип соразмерного ограничения прав и свобод,
закрепленный в статье 55 (ч.З) Конституции РФ означает, что
публичные интересы, перечисленные в данной
конституционной норме, могут оправдать правовые ограничения прав и
свобод, если они адекватны социально оправданным целям
(постановление от 13. 06.1996 № 14-П);- общеправовой критерий
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы
вытекает из конституционного принципа равенства всех перед
законом и судом (ч.1 ст. 19 Конституции РФ), поскольку такое
равенство может быть обеспечено лишь при условии
единообразного понимания и толкования нормы всеми
правоприменителями (постановление от 15.06.1999 № 11-П);- принцип
поддержания доверия граждан и юридических лиц к закону и
действиям государства, вытекающий из части 1 статьи 1, статьи
2 части 2 статьи 6, частей 2 и 3 статьи 55 Конституции РФ,
предполагает сохранение разумной стабильности правового
регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений
в действующую систему норм, а также предоставление
гражданам в случае необходимости возможности в течение разумного
переходного периода адаптироваться к вносимым изменениям
(Постановление от 24.05.2001 № 8-П).
Необходимо отметить, что подобных примеров можно
было бы привести гораздо больше, поскольку почти в
каждом своем постановлении и иных решениях
Конституционный суд прибегает к выявлению не только буквального
смысла конституционных положений, но и смысла,
вытекающего из их толкования, в том числе исходя из системной
связи норм Конституции, а также общего понимания права и
424
его принципов1. Это подтверждает и позиция известного
немецкого конституционалиста Бадуры, который, считает, что
Конституционный суд «не только контролирует соблюдение
конституции, но и выступает как интерпретатор наиболее
фундаментальных прав независимо от их эксплицитного
выражения в тексте конституции и в этом смысле - как творец
живого конституционного права»2.
Как можно заметить в ходе осуществления нормоконтро-
ля Конституционный суд обращается, прежде всего, не к
текстуальному содержанию положений конституции и
проверяемых норм закона, а к их реальному правовому и социальному
смыслу, чтобы уже на основании этого перейти к их
сопоставлению и к определению меры соответствия. При этом, что
особенно важно отметить, смысл анализируемых
конституционных положений, как правило, уточняется и конкретизируется
через опосредование объективными принципами права,
которые понимаются как такие принципы, которые лежат в основе
«конституционного строя современных демократий»3.
Многие из этих принципов (правового государства,
демократии, разделения властей, социального государства,
неприкосновенности собственности, высшей ценности
человека, его прав и свобод, стремления к обеспечению
благополучия и процветания России, ответственности за свою
Родину перед нынешним и будущими поколениями и др.)
только названы в Конституции РФ, но не наполнены ясным
нормативным содержанием.
Обращаясь к вопросу понимания указанных принципов,
один из действующих судей Конституционного Суда РФ от-
1 Надо учитывать, что указанное понимание, стремясь быть
объективным, все же всегда носит печать субъективности в силу своего конкретно-
исторического характера.
2 Badura Р. Verfassung und Verfassungsgesetz//Festschrift fuer Ulrich
Scheuner zum 70. Geburstag. B. 1973.S.34 ff. (цитируется по: Четвернин B.A.
Указ. работа. С. 129).
3См.: Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. М., 2008. С.138.
425
мечает, что «каждый из них (конституционных принципов -
Л.И.) - это таинство, и потому, как все, что имеет
таинственную природу, они столь интересны. Действительно, а каково
нормативное содержания каждого из этих принципов?
Видимо, это множество разумных правил, императивов, велений,
которые выявляются в процессе практической деятельности
всех ветвей власти, но, прежде всего - судебной»1.
Таким образом, можно заключить, что Конституционный
суд, в чьи прерогативы входит адекватное раскрытие смысла
конституционных принципов и иных положений основного
закона страны, исходит как из содержания самой
Конституции, включая нормативную систему всех ее разделов и
преамбулы, общепризнанных принципов и норм международного
права, так и из анализа объективных закономерностей
социального развития общества, конкретно-исторического
понимания сущности идей свободы, равенства и справедливости т.
е. современного философского познания идеи права.
При этом то высокое предназначение Конституционного
Суда как институционального выразителя идеи права вовсе не
означает, что его видение и понимание этой идеи в конкретных
решениях о конституционности тех или иных законов и
соответствии (несоответствии) их праву, являются абсолютно
истинными (путь к истине, как известно, труден и лежит
через множество последовательно снимаемых заблуждений). Но
эти решения, вырабатываемые коллективным разумом судей
Конституционного Суда, и это следует особо подчеркнуть,
всегда отражают не абстрактное понимание права, а именно
то, которое является слепком конкретно-исторических реалий
современной жизни, господствующих культурных традиций,
социально-политического уклада и т. д.
Таким образом, разошедшиеся на рубеже XVII-XVIII
столетий пути развития правоведения и философии права (по
1 Гаджиев ГА. Конституционные принципы рыночной экономики. М.,
2002. С.8.
426
линии предметного содержания этих научных дисциплин и их
методологии), в XX столетии снова сблизились в рамках
возникшей во многих странах, в том числе и в России, к
конституционной юстиции, которая, стала походить к рассмотрению и
оценке закона сквозь призму определения осуществления в нем
идеи права, и выносить вердикты по поводу того, соответствует
ли конкретный законодательный акт Конституции как праву в
себе, т. е. праву в его сущностных характеристиках.
Необходимо также отметить, что вопрос соответствия
того или иного закона Конституции, возникает, хотя в более
ограниченном объеме, чем для конституционной юстиции, в
ходе рассмотрения конкретных дел перед всеми иными
судами. Ведь основа самостоятельности судебной власти, которая
позволяет ей на равных выступать в триаде ветвей власти
(наряду с законодательной и исполнительной), состоит именно
в монопольной - в отличие от всех других
правоприменителей - компетенции суда контролировать содержание законов,
иными словами, в правоустановительной деятельности суда
для данного конкретного дела. Суд, определяя применимое
право, должен в любом случае выявить в нем такие сущности,
которые соответствуют идеям верховенства права. И именно
это превращает суды в наиболее эффективный институт,
обеспечивающий это верховенство. Понятие верховенства права
представляет собой гораздо более сложное явление, чем
"законность" или "диктатура закона", потому что два последних
исключительно призывают правоприменителя, в том числе и
суд, следовать букве закона (включая и подзаконное
регулирование), а не его глубокому правовому смыслу. И именно этот
смысл суд каждый раз должен выявлять, потому что он не
имеет права применять неправовой закон. Это с несомненностью
вытекает из общих предписаний Конституции, относящихся
как к ее главе о судебной власти1, так и к тем положениям, ко-
1 Например, предписаний ее ст. 120, ч. 2, согласно которой «Суд,
установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного
427
торые ориентируют на развитие правового государства (ст. 1)
и на признание и обеспечение в качестве высшей ценности
личности, ее прав и свобод (ст. 2)1.
В связи с этим хотелось бы поддержать мысль о том, что
«конституционные идеалы могут и должны быть
осуществлены. И это произойдет, когда философы права станут
конституционалистами..., а юристы-конституционалисты станут
философами права».2 Стоит только уточнить, что навыками
философского анализа права должны овладеть (хотя бы
отчасти) далеко не только юристы-конституционалисты, но и
все специалисты в области юриспруденции, особенно судьи.
Конечно, оставаясь на реалистических позициях,
следует оговориться, что сроки российского приближения к
конституционным идеалам могут затянуться, но все же есть
момент несомненной реалистичности в высказанной
надежде, реалистичности, которая связана с тем, что одна из
важнейших российских институций - Конституционный
суд, призванный и старающийся быть институциональным
философом права в духе наиболее полно обоснованной
Гегелем традиции философского понимания права, уже нередко
демонстрирует хорошие образцы органического соединения
этого подхода с глубоким юридико-догматическим анализом
законодательных положений.
* * *
В настоящей статье рассмотрены лишь общие вопросы
соотношения философского и юридического подходов к
анализу права и мало затронут сущностный аспект проблемы
поили иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом»
или ст. 125, ч. 4, предусматривающей, что «Конституционый Суд РФ... по
запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или
подлежащего применению в конкретном деле».
1 Об этом подробнее см.: Морщакова Т.Г. Судебное правоприменение
в России: о должном и реальном. М.: Р. Валент, 2010. С. 78-84.
2 Баренбойм П.Д. Философия права и конституционная экономика //
Очерки конституционной экономики. 23 октября 2009. М„ 2009. С.27.
428
нимания права. Но, конечно же, вопрос сущности права,
являющийся главным вопросом философии права, заслуживает
гораздо большего внимания. Его рассмотрение позволило бы,
например, провести познавательно плодотворное, как нам
кажется, сопоставление различных взглядов (иногда резко
отличающихся) на сущность права или, как принято именовать
этот вопрос в правоведении, разных типов правопонимания.
Здесь можно было бы найти и проследить немало параллелей
с тем глубоким конфликтом, который был и остается
характерен для понимания предмета логики (конфликта ее
диалектической и позитивистской версий). Также большой интерес
представляет рассмотрение права с точки зрения
философской категории «идеальное» как его понимал Э.В. Ильенков,
который при анализе данной категории достаточно часто
обращался к примерам из области права и государства.
А.Е. Черезов
Диалектика «понятия» Гегеля в свете идеи
самоорганизации
Современный этап философии характеризуется
становлением синергетической парадигмы, изучающей природу
самоорганизации, глобального эволюционизма. Ряд ведущих
методологов этого направления, анализируя взаимосвязь между
диалектикой и синергетикой, показали, что синергетика не
отвергает диалектику, а является её развитием в плане
конкретизации процессов эволюции, самоорганизации. С этой
позиции осуществляется переосмысление предшествующей
философии, включая диалектический метод.
Анализируя связь диалектики с синергетикой, B.C. Сте-
пин подчеркивает, что Гегель разработал понятийный аппарат
описания процессов развития: «Весомый вклад в разработку
категориального аппарата для осмысления ... саморазвиваю-
429
щихся объектов внесено Гегелем ... нечто ... порождает «свое
иное» вступает с ним в рефлексивную связь» [10, с. 63].
«Рефлексивная связь» - это функциональная основа
кибернетических процессов регуляции, самоорганизации, в виде
кольцевой обратной связи, характерная для живых систем.
«Свое иное» в системе Гегеля означает принцип раздвоения на
две противоположные и одновременно тождественные
формы, между которыми устанавливается отношение
«тождества нетождественного». Раздвоение выступает как внутреннее
противоречие, принцип живого. Диалектика раздвоения на
две противоположные формы связана с понятиями «души»
и «тела», где идеальная форма и материальная замкнуты друг
на друга, образуют кольцевую связь. Согласно Шеллингу
принцип раздвоения составляет сущность живого, выявляет
противоречие органической природы: «...органическая природа
... являет себя нам как деятельность, которая непрерывно
служит одновременно причиной и действием самой себя ...
жизнь должна мыслиться в постоянной борьбе с
круговоротом природы ... Спиноза ... называет душу понятием тела. ...
Это было бы понятием объекта, который одновременно
противоположен и равен самому себе. Но таким может быть лишь
объект, который одновременно есть и причина и действие,
производящее и продукт, субъект и объект самого себя ...
понятием, которое выражало бы изначальную двойственность в
тождестве и наоборот» [15, с. 261-263].
Представление принципа живого в виде кольца обратной
связи между генотипом и фенотипом подкрепляет воззрение
финского логика Г.Х. Вригта: «Из отрицания отрицания ...
следует нечто отличное от исходного понятии ...
переформулируем их идеи в терминах отрицательной обратной связи.
Процесс обратной связи носит характер «двойного
отрицания» [2, с. 188].
Принцип отрицание отрицания выступает как основа
диалектики самодвижения, саморазвития. Он возникает в
430
кольцевой структуре образованной из двух
противоположных форм. Одна из них представляет идеальную форму, в
современной биологии её называют генотипом, генетической
информацией. Вторая форма, называемая фенотипом, возникает
на основе реализации генетической информации. Две формы
взаимно опосредуют друг друга, имеют одно и то же
содержание, но противоположны по форме. Между ними возникает
диалектическое отношение «тождество нетождественного»,
«раздвоение единого».
Как же связана диалектика с познанием эволюции живых
систем? Согласно И.Т. Фролову диалектика Гегеля позволяет
глубже осмыслить природу живого: «Задача философского
исследования ... заключается в том, чтобы показать
содержательную связь философии и биологии ... концепция Гегеля ...
в существенной степени стимулировала осознание жизни как
диалектического процесса» [13, с. 174-178].
Принято считать немецкую классическую философию,
особенно диалектический метод, одним из теоретических
источников марксизма. Так, Ф. Энгельс указывал: «...мы,
немецкие социалисты гордимся тем, что ведем свое происхождение
не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но также и от Канта,
Фихте и Гегеля» [6, с. 326].
Осмысление диалектики в контексте парадигмы
самоорганизации обнаруживает имманентную связь двух парадигм.
Такая связь выявляется в методологии фрактального
подхода. Исходя из приведенного положения финского логика
Г.Х. Вригта, ядро диалектики «отрицание отрицания» связано
с принципом обратной связи. Снятие осуществляется за счет
того, что вторая форма (фенотип) формируется на основе
информации, заложенной в генотипе. «Снятие», согласно Гегелю,
- это диалектический переход, воспроизведение идеального
содержания в материальной форме и наоборот. С одной
стороны оно отрицает первую форму, с другой стороны,
сохраняет её в иной форме. Возникает взаимоопосредование двух
431
противоположных форм, самодвижение, диалектика
«двойного снятия», которая отрицая первую форму, сохраняя
содержание в иной форме.
Что же означает кольцевая связь в синергетике? В
методологии синергетики, фрактального подхода, формирование,
рост фракталов, как самоподобных объектов,
осуществляется за счет итерации (повторении самого себя), основанной на
обратной связи. Принцип кольцевой связи в философии
определяется как «самоцель», с которым Аристотель связывает
сущность живого. Гегель также определяет сущность живого
через понятие «причины самого себя», «самоцель».
Внутренняя цель, в виде информационной программы, выступает как
причина активности живого, поэтому понятия «самоцели» и
«причина самого себя» выражают один и тот же смысл.
Таким образом, принцип кольцевой связи души и тела,
«понятия» и его реализации впервые исследуются в
философии как определение сущности жизни.
В биологии в основе фундаментальных теорий И.П. Павлова,
П.К. Анохина, H.A. Берштейна, теории самоорганизации М. Эйге-
на, теории аутопоэзиса У Матурана и Ф. Варела, кольцевая
структура составляет функциональную основу, теоретическое ядро.
Философия Гегеля по образу построения из единого
принципа, логике выведения категорий в последовательности
логического развития, выступает как монистическая система. В
основе монистических построений лежит общий принцип, а
система выступает как логическое развитие «клеточки»,
единого принципа. Фрактальность системы проявляется в итерации
общего паттерна, в результате каждый элемент подобен целому.
В организме в генетической программе в сокращенной форме
отражена история вида, которая каждый раз воспроизводится
в эмбриональном развитии, онтогенез повторяет филогенез.
Поэтому существует определенная аналогия между логическим
развитием гегелевской системы философии и эмбриональным
развитием, что доказывает их фрактальный характер.
432
Эта идея получила развитие в работах С.Н. Мареева:
«Совпадение онтогенеза с филогенезом было открыто
благодаря ...развитию эмбриологии ... это соответствие положено
в основу... в «Феноменологии духа» Гегеля ... которое
является ... отображением индивидуального сознания ...
рассматриваемых как сокращенное воспроизведение ступеней,
исторически пройденных человеческим сознанием» [8, с. 65].
Методология логического развития теории известна в
отечественной литературе как принцип диалектической
«клеточки», положенный в основу построения «Капитала» К. Маркса.
Этот принцип выступает в виде диалектики товара, который
раздваивается на две противоположные формы,
опосредующие друг друга, образующие кольцевую связь, - «кругооборот».
Одна из форм представляет собой идеальную форму (в виде
денежных знаков), а вторая материальную. Две формы с
одной стороны (стоимостной) тождественны, именно поэтому их
можно обменивать друг на друга, а с другой, - противоположны.
Исследуя диалектику развития капитала, К. Маркс пишет: «Две
противоположно направленные фазы товарного метаморфоза
образуют кругооборот: товарная форма, сбрасывание товарной
формы, возвращение к товарной форме» [6,.с 122].
Известно, что Маркс определял денежную (знаковую)
форму товара как идеальную форму. Поэтому сбрасывание
товарной формы выступает как диалектическое снятие, которое
отрицает форму, но сохраняет содержание. Обратный переход
выступает как отрицание отрицательного. Идеальная и
материальная формы замыкаются друг на друга, образуя процесс,
диалектику отрицания отрицания. Структура логической
клеточки, описанная К. Марксом, соответствует диалектическому
процессу «двойного снятия», «отрицания отрицания»
гегелевского понятия. С другой стороны, она соответствует
диалектике «самоцели», принципу кольцевой связи живой системы.
Принцип самодвижения, состоящий из двух
противоположных форм единого, обнаруживает определенную общность
433
у Гегеля, Маркса, этот же принцип характерен для теории
самоорганизации живых систем М. Эйгена, теории аутопоэзиса
У. Матурана, Ф. Варела.
Осмысляя логику принципа жизни, М. Эйген пишет: « ..
.самоорганизация и дальнейшая эволюция ... должна начаться на
уровне самовоспроизводящихся молекул ... Вопрос о
возникновении жизни часто представляют как вопрос о «причине и
следствии» ... не может быть организованной «функции», если
нет «информации», а эта «информация» приобретает смысл
только через «функцию», которую она кодирует ... Такую
систему можно сравнить с замкнутой петлей» [14, с. 10-14].
В качестве причины в такой системе, выступает
генетическая информация молекулы ДНК, которая определяет
формообразование фенотипа и его активности, а следствием
является организм, который сохраняет и размножает генетические
программы. Получается, что информация через иную форму
самой себя обеспечивает сохранение и размножение себя.
Поскольку причина замкнута на следствие возникает принцип
«причины самого себя» или «самоцели». Логика живого в виде
«петли», «причины самого себя», которая выявилась между
информацией и её проявления в фенотипе, определяется как
«самоцель» у Аристотеля и Гегеля. Это означает, что в
понятийной форме сущность жизни была осмыслена
первоначально в философии и лишь в XX веке природу живого удалось
понять на молекулярно - генетическом уровне, выявить
кольцевой принцип живого.
Какова природа понятия в гегелевской системе?
Традиционно в отечественной литературе под понятием понимается
«гносеологическая» категория субъекта мышления как
сущностное, обобщенное отражение объекта познания. Однако
смысл и предметное значение «понятия» в философии Гегеля
шире, оно охватывает природу души живых систем.
Существуют две альтернативные позиции - «гносеологизации» и «он-
тологизации» понятия.
434
Приведем небольшой фрагмент иллюстрирующий
позицию A.M. Деборина. Исследуя эту проблему Т.И. Ойзерман
пишет: «Конечно, Деборин оговаривается, подчеркивая, что
отправным пунктом диалектической логики должно быть не
чистое бытие, а материя, природа. Он возражает также против
третьей части гегелевской «Логики», т. е. учении о понятии,
указывая, что понятие не является онтологической
категорией, а представляет собой высшую ступень в процессе
человеческого познания» [9, с. 25].
Природа понятия в онтологическом плане на уровне
живых систем в отечественной литературе практически не
исследовалась. Сам Гегель отмечает, что его понятие есть то же
самое, что душа у Аристотеля. Можно понять природу понятия
как принцип живого, как идеальную сущность, управляющую
живым организмом.
Таким образом, существует понятие в его высшей форме,
это «гносеологическое» понятие как инструмент понятийного
аппарата субъекта мышления. В древнегреческой и немецкой
классической философии существует низшая форма понятия
известная как идеальная душа живого. Онтологизация
понятия на уровне живого означает, что понятие понимаемое
в качестве души живого организма существует объективно,
независимо от субъекта мышления. В этом состоит её
онтологический статус. С позиции современной науки понятие в
качестве души может быть интерпретировано как информация,
генетическая программа, управляющая внешними
проявлениями и функциями организма. В этом процессе она
объективируется, идеальное переходит в материальное.
В основе философии Гегеля лежит диалектика
самодвижения, саморазвития «души», «идеи», «понятия». Гегелевское
«понятие» на уровне органической природы представляет
собой принцип живого, это внутренняя идеальная цель
организма, аристотелевская «душа», спинозовская «субстанция»,
«монада» Лейбница.
435
Анализируя природу живого, Аристотель связывает её с
нематериальной душой, которая определяет внутреннюю
целесообразность организма: « ...ведь душа есть как бы начало
живых существ ... Гераклит утверждал, что душа ... в высшей
степени бестелесное и непрестанно текучее ... Демокрит ... по
его мнению душа - то же самое, что и ум ... Таким образом,
душа необходимо есть сущность в смысле формы
естественного тела, обладающего в возможности жизнью, сущность же,
как форма, есть энтелехия; ... энтелехия же имеет двоякий
смысл: или такой, как знание, или такой, как деятельность
созерцания» [1, с. 374-383].
Душа, согласно определению Аристотеля, по природе
идеальна и выступает как внутренняя причина, активности
живого, управляющий фактор, как внутренняя цель живого.
Она связана с отражением, поэтому душа есть энтелехия.
Категория отражения в отечественной литературе связывалась
с понятие идеального и понятием информации. По своим
свойствам «текучести», как фактор отражения и внутренний
фактор управления организмом, природа души соответствует
современному понятию информации.
Существуют две точки зрения на природу информации -
атрибутивная и функциональная. Атрибутивная точка зрения
исходит из того, что информация является атрибутом всей
материи. Поскольку информация определяется как природа
идеального, то атрибутивная точка зрения невольно для себя
приписывает идеальное всей материи. С этой точки зрения её
можно обвинить в идеализме. Функциональная точка зрения
состоит в том, что информация впервые появляется в виде
генетической информации вместе с возникновением жизни,
поскольку живые системы способны использовать, получать,
хранить информацию в виде памяти. На уровне живых систем
информация представлена в виде знаковой системы, языка. В
генах закодирована последовательность аминокислот из
которых строятся все белки.
436
Таким образом, информация как фактор отражения
представляет собой природу идеального, начиная с первых
знаковых систем, каковыми являются генетические
программы. Все органы чувств, с точки зрения нейрофизиологии,
представляют собой системы, осуществляющие перевод
физической энергии в кодированную (знаковую) форму в виде
нервных импульсов. Мы живем в закодированном мире или
в мире информации.
Почему же сущность информации выступает как
природа идеального? Приведем точку зрения болгарского философа
М. Янкова: «Сильный философский «взрыв» был связан ещё
со знаменитой формулой отца кибернетики: «Информация
не есть ни материя, ни энергия», этой мыслью Н. Винер
положил начало одной из самых острых философских дискуссий в
современном научном познании... Относительная
независимость информации по отношению к её вещественно-
энергетическим носителям и не сводимость к ним ... нацелили нас на
некоторые «таинственные» ... параметры» [16, с. 28].
Информация, будучи зафиксирована на материальных
носителях с помощью кода, представляет собой природу
идеального. Это связано с тем, что информационное содержание,
фиксированное с помощью знаков, выпадает из материальных связей,
пространственно - временных отношений, она им не
подчиняется. Время и пространство информационного содержания как
бы застыло, выпало из потока движения, поэтому информацию
хранят с помощью носителей, знаковых систем, языка.
Согласно Н. Винеру, информации не присущи свойства
материального мира, она отрицает материальность, поэтому
попадает в категорию противостоящую понятию материи.
Специфика идеального как понятия связана не с содержанием
идеального, а с формой, которая определяется носителями в
виде кодов, знаков языка. Такая форма отражения появляется
на уровне генетической информации, определившей
возникновение жизни.
437
Понятие как внутренняя цель живого в философии
Гегеля появляется на уровне органической природы, поэтому идея
как адекватное, реализованное понятие, есть субъект жизни в
процессе исторического развития. Логика эволюции понятия
живого (идеи) в понимании когнитивного развития, в
эволюции наполняется объективным содержанием, выступает как
истинное знание. В биологии пользуются понятием «цефали-
зация», характеризующим прогрессивное развитие головного
мозга. Это направление и представляет собой то, что Гегель
называет идеей, с той поправкой, что речь идет не о развитии
головного мозга, а о развитии «когнитивной эволюции»,
развитии знания как средства эволюционного прогресса.
«Жизнь, или органическая природа, - пишет Гегель, - есть
та ступень природы, на которой выступает понятие; но как
слепое, не постигающее само себя, т. е. не мыслящее понятие;
как мыслящее оно присуще лишь духу. Однако логическая
форма понятия не зависит ни от того бездуховного, ни от того
духовного образа понятия .. .понятие как таковое, ещё не
полно: оно должно быть возведено в идею, которая одна только и
есть единство понятия и реальности» [3, с. 538].
Понятие появляется на уровне развития органической
природы на основе предшествующих этапов развития
материи - «механизма» и «химизма». Идея это принцип жизни в
его развитии, развитие понятия до уровня живого субъекта,
когда понятие достигает объективной реализации. Иначе
говоря, идея это общий принцип субъекта, целостность души и
тела в его развитии.
Более конкретно описывается живой организма как
проявление внутреннего понятия, души живого. Исследуя
устройство организма, Гегель пишет: «Живой индивид есть, ...
как душа, как понятие самого себя, совершенно определенное
внутри себя, как начинающий самодвижущий
принцип—Живое обладает телесностью прежде всего как реальность,
непосредственно тождественная с понятием; ... Эта объективность
438
живого есть организм; она средство, орудие цели, совершен-
но, целесообразна, так как понятие составляет её субстанцию;
...Субъект есть самоцель, понятие, имеющее в подчиненной
ему объективности свое средство и свою субъективную
реальность; тем самым он конституирован как в себе и для себя
сущая идея» [3, с. 701-705].
Диалектика основывается на логике процесса
самодвижения, присущего развитию живого субъекта. Определяя
природу идеи, Гегель пишет: «...сама идея представляет собой
диалектику ...Идея есть по существу своему процесс, потому
что её тождество есть лишь постольку абсолютное и
свободное тождество понятия, поскольку оно есть абсолютная
отрицательность и поэтому диалектично. Идея есть круговорот, в
котором понятие, как всеобщность, которая есть единичность,
определяет себя к объективности и к противоположности этой
объективности, и эта внешность, имеющая понятие своей
субстанцией, своей имманентной диалектикой, возвращает себя
обратно в субъективность» [4, с. 324-325].
Идея воплощает в себе две стороны диалектической
целостности, - понятие как идеальную душу и его реализацию
в виде организма. Логика развития состоит в том, что процесс
диалектического отношения между душой и телом на более
высоком уровне выступает как процесс познания и
подчинения внешней объективности материального мира
внутреннему субъективному началу. Однако это подчинение, управление
внешней реальностью возможно в силу познания
объективной реальности, когда субъективное понятие наполняется
объективным материалом. Понятие как внутренняя сущность
живого изначально проявляет экспансию путем познания
объективной реальности, в этом состоит смысл диалектики
развития. Принцип отношения между генотипом и
фенотипом переносится на более высокий уровень. Генотип
социального субъекта это то, что называют социальной программой,
историческим опытом, накоплением объективных знаний,
439
этот генотип выстраивает вокруг себя новый «фенотип»,
который можно назвать цивилизацией. Однако логика развития
отношений между идеальной информацией в виде знания и
материальным воплощением знаний сохраняется той же что и
отношение между генетической программой и её
материализацией в виде фенотипического проявления.
Описывая предмет идеи, Гегель пишет: «Идея как процесс,
проходит в своем развитии три ступени. Первую форму идеи
представляет собою жизнь, т. е. идея в форме
непосредственности. Вторую её форму представляет ... идея как познание,
которое выступает в двойном образе, в образе теоретической
идеи и в образе практической идеи. Процесс познания имеет
своим результатом восстановление единства ... и это дает
третью форму, форму абсолютной идеи ...Абсолютная идея есть
прежде всего единство практической и теоретической идеи и,
следовательно, вместе с тем единство идеи жизни и идеи
познания» [4, с. 326-337].
Процесс развития определяется отношением между
материальным миром и идеальным, который представлен вначале
живым субъектом, а затем субъектом познания. Как сам
разъясняет Гегель, логическая форма понятия одна и та же, как на
уровне субъекта жизни, так и на уровне субъекта познания.
Отличие состоит в отсутствии сознания на уровне живого.
Принцип диалектического движения легче познать на уровне
диалектики живого. Живой организм имеет потребности,
которые определяют его цели. Внутренняя цель, это некоторая
модель, программа, отражающая внешний объект цели.
Реализация внутренней цели означает переход, диалектические
снятие от идеальной формы к материальной. В этом процессе
живое сохраняет себя за счет потребления внешнего. Гегель
пишет: «Цель есть понятие, вступившее посредством
отрицания непосредственной объективности в свободное
существование, есть для-себя-сущее понятие ... сама цель есть
снятие, деятельность, отрицающая противоположность так, что
440
полагает её тождественной с собой ... реализация, в которой
цель, сделав себя иным своей субъективности и
объективировав себя, снимает различие субъективности и
объективности, - смыкается лишь с самой собою и сохраняет себя ...
Потребности, влечения суть ближайшие примеры цели. Они
суть чувствуемое противоречие, которое имеет место внутри
самого живого субъекта, и переходят в деятельность
отрицания этого отрицания» [4, с. 313-315].
Согласно Гегелю понятие это внутренняя цель, которая
стремится к реализации, что определяет самосохранение
живого. В живом субъекте внутренняя цель это душа, идеальное
понятие. Понятие можно определить в качестве программы
информационной модели поведения либо модели. Рассмотрим
действия скульптора, в голове которого имеется идеальная
модель в виде будущей скульптуры. В процессе деятельности,
отсекания всего лишнего от глыбы, он воплощает,
материализует идеальный замысел.
В этом процессе цель, идеальная форма модели переходит
в материальную форму. Переход идеальной формы в
материальную Гегель называет снятием, диалектическим отрицанием
формы, при этом сохраняется содержание в иной форме. Этим
можно объяснить то, что когда Гегель описывает процесс
развития на основе внутренней цели, он подчеркивает, что
ничего нового при этом не возникает. Именно за это отрицание
появления нового, Гегеля часто обвиняют в отрицании
развития. В данном процессе речь идет о так называемом
онтогенезе, когда действительно ничего нового не возникает,
поскольку всё что возникает, прежде уже имелось в виде внутренней
информационной программы.
В биологии различают развитие в онтогенезе и
развитие филогенетическое, эволюционное, осуществляемое в
историческом процессе. Развитие на основе внутренней
программы соответствует тому, что называют
эмбриогенезом и онтогенезом.
441
Понятие внутренней цели в философии связывают с
диалектикой живого. Внутренняя цель, согласно Гегелю, это душа,
идеальное понятие. С научной точки зрения внутренняя цель
живого понимается как информационная программа.
Анализируя проблему цели живого в философии, И.Т. Фролов
пишет: «Именно поэтому программа, закодированная в
наследственных структурах, так и в физиологических системах,
имеющих фиксированный акцептор результата действия,
может выступать в качестве предвосхищающей модели ещё не
совершившегося действия, его результата. И заслуга
кибернетики состоит прежде всего в том, что она показала
возможность существования таких моделей в природе, дав новые
направления понимания цели и целесообразности» [13, с. 148].
Как показал И.Т. Фролов внутренняя цель, есть удвоение
в иной форме, предвосхищение результата, который
возникнет после реализации цели. Эта идеальная форма представляет
собой информационную программу. Трактовка природы
внутренней цели соответствует гегелевскому идеальному понятию.
Следовательно, то, что Гегель называет понятием, душой
живого, если принять во внимание трактовку И.Т. Фролова,
представляет собой внутреннюю информационную программу.
Живой организм представляет собой
самоорганизующуюся систему, которая регулируется за счет поступления
информации. Отражение себя внутри себя есть основа
самоуправления. Внутреннее отражение живого Гегель определяет
как абсолютный идеализм: «...жизнь животного, будучи этой
высшей точкой природы, есть абсолютный идеализм,
поскольку определенность своей телесности она имеет вместе с
тем в совершенно текучем виде внутри себя ... Животное есть
существующая идея, поскольку его члены суть
исключительно лишь моменты формы, поскольку они все время отрицают
свою самостоятельность и разрешаются обратно в единство,
которое есть реальность понятия и для понятия ... это сущее
в себе единство есть душа, понятие» [5, с. 438-439].
442
Организм животного внутри себя удвоен (отражен) за
счет информационной модели (генетической информации).
Внутренняя, информационная модель построена на основе
центральной нервной системы, а по своей сущности это
иерархическая модель, управляющая система. Такое удвоение
на организм и управляющую информационную систему
Гегель называет внутренним понятием и его реализацией.
Раздвоение на уровне организма, которое называется
генотипом и фенотипом, на более развитом уровне получает иную
форму, - живое раздвоено на идеальную, информационную
модель, которая выступает как управляющая система, и
организм, представляющий собой управляемую систему. Принцип
раздвоения на генотип и фенотип на более высоком уровне
воплощается в раздвоении на управляющую систему (модель)
и форму реализации информации в виде поведения, внешней
активности. Идея как развитие субъекта жизни охватывает
три ступени: 1) идея как понятие жизни; 2) на более высоком
уровне она выступает как идея познания и идея практики; 3)
на третьем уровне, развитие познания и практика образуют
единство, что составляет абсолютную идею или науку.
Представляет интерес точка зрения К. Фишера на
природу гегелевского понятия. Согласно К. Фишеру, понятие - это
внутренняя цель, душа живого или энтелехией органического
тела: «Цель есть понятие, самоцель ... само себя реализующее
или объективирующее ... Понятие, о котором здесь идет речь,
которое воплощается и называется душою, есть ... то, что
Аристотель называл первою энтелехиею органического тела, т.
е. присущею ему целестремительною силою ... То, что мы
назвали понятием, душою, организмом, есть субъект ... живой
субъект овладевает объектами внешнего мира, полезными для
его цели ... и оказывается таким образом властью над
объектами» [12, с. 428-430].
Понятие в своем развитии достигает адекватного
понятия, выступает как идея жизни в логическом становлении.
443
Идея, как адекватное понятие, представляет собой развитие
информационной программы, которая на более высоком
уровне предстает в виде научного познания, и его практического
воплощения. Принцип взаимосвязи понятия и его формы
реализации представляют собой кольцевую структуру,
состоящую из двух противоположных форм единого, что составляет
диалектику развивающейся идеи. Диалектика состоит в том,
что определенность материи (объекта) переходит в
определенность знания, определенность понятия, которым
наполняется идея. Внешнее объективное материальное содержание
в понятии перестает быть внешним (переходит в содержание
информации, идеального), становится достоянием понятия,
идеи. Такое развитие понятия определяет свободу субъекта,
содержащего в себе знание внешнего мира и себя.
Определяя природу идеи, Гегель говорит: «Философия
исторически не ставила своей целью ничего иного, кроме мыслящего
познания идеи... Её можно назвать разумом... субъектом -
объектом, единством идеального и реального ... души и тела.. .Сама
идея представляет собою диалектику ... Идея есть по существу
своему процесс... есть круговорот, в котором понятие...
определяет себя к объективности ... и эта внешность, имеющая понятие
своей субстанцией, своей имманентной диалектикой,
возвращает себя обратно в субъективность» [4, с. 321-323].
Идея как процесс совпадает с современным
представлением о развитии жизни, эволюции субъекта мышления и его
практической, преобразующей деятельности. Фрактальность
гегелевской системы проявляется также в том, что
сформировавшийся «паттерн» живого в виде кольцевой структуры
между душой и телом, в дальнейшем повторяется в более развитой
форме. Это относится к идее познания на уровне мышления.
Понятие и объект понятия образуют кольцевую структуру,
что проявляется в процессе преобразования объекта
(материализации понятия) на основе объективного знания. Принцип
«понятия» как универсальный принцип жизни, позволяет Ге-
444
гелю последовательно осмыслить идею жизни, начиная с
зарождения и заканчивая понятием науки и другими формами
развития духа. Понятие в форме идеи последовательно
проходит все ступени, логически развивается, на каждой ступени.
Развитие познания в виде научного мышления отражает
себя и свое знание, доходит до уровня самосознании.
Стратегия развития науки определяется теми эволюционными
паттернами, которые сформировались на этапе становления
субъекта жизни. Исследование становления гегелевского
понятия (идеи) вскрывает логику становления субъекта жизни,
включая её высшую форму, - человеческий дух, органично
вбирающий в себя нравственность, мораль как целостное
развитие понятия разума.
Литература
1. Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. -
550 с.
2. Вригт Г.Х. Логико-философские исследования. М.:
Прогресс, 1986.600 с.
3. Гегель. Наука логики. СПб.: Наука, 1977. -799с.
4. Гегель. Энциклопедия философских наук. 4.1. М.-Л.,
1930. 367с.
5. Гегель. Философия природы. М.-Л., 1934. - 683с.
6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19.
7. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23.
8. Мареев С.Н. Диалектика логического и исторического и
конкретный историзм К. Маркса. М.: Наука, 1984.
9. Ойзерман Т.И. Кант и Гегель. М.: «Канон+» РООИ
«Реабилитация», 2008. - 520 с.
10. Степин B.C. Синергетика и системный анализ // Синер-
гетическая парадигма. М.:Прогресс-Традиция, 2004. С. 58-78.
11. Степин B.C. О прогностической природе
философского знания // Вопросы философии. №4. 1986. С. 39-54.
445
12. Фишер К. Гегель. М-Л., 1933. 607 с.
13. Фролов И.Т. Жизнь и познание. М.: Наука, 2002. 285 с.
14. Эйген М. Самоорганизация материи и эволюция
биологических макромолекул. М.: Мир, 1973. 214 с.
15. Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2-х тт. Т.1. М.: Мысль,
1987. 637 с.
16. Янков М. Материя и информация. М.: Прогресс, 1979.
333 с.
446
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ. Э.В. ИЛЬЕНКОВ О ГЕГЕЛЕ
Наука логики
«Evald Ilyenkovs philosophy revisited»
(ed. by V. Oittinen).
Helsinki: Kikimora, 2000, p. 329-372
Понять гегелевскую логику - значит не только уяснить
прямой смысл ее положений, т. е. сделать для себя своего рода
подстрочный перевод ее текста на более понятный язык
современной жизни. Это лишь полдела. Важнее и труднее
рассмотреть сквозь причудливые обороты гегелевской речи тот
реальный предмет, о котором эта речь на самом деле ведется. Это и
значит понять Гегеля критически - восстановить для себя
образ оригинала по его характерно-искаженному изображению.
Научиться читать Гегеля материалистически, так, как читал и
советовал его читать В.И. Ленин, значит научиться
критически сопоставлять гегелевское изображение предмета - с самим
этим предметом, на каждом шагу прослеживая расхождения
между копией и оригиналом.
Задача решалась бы просто, если бы читатель имел перед
глазами два готовых объекта такого сопоставления - копию и
оригинал. Но в таком случае изучение гегелевской логики было
бы очевидно излишним, и представляло бы интерес разве что
для историка философии. Оно не открывало бы читателю
ничего нового в самом предмете, а в его гегелевском
изображении обнаруживало бы, естественно, одни «искажения» - одни
лишь несходства с изображаемым, одни лишь причуды идеа-
447
листа. В самом деле - глупо тратить время на изучение
предмета по его заведомо искаженному изображению, если перед
глазами находится сам предмет, или, по крайней мере - его
точный, реалистически выполненный и очищенный от всяких
субъективных искажений портрет...
К сожалению, или по счастью для науки, дело обстоит не
столь просто. Прежде всего возникает вопрос: с чем
непосредственно придется сопоставлять и сравнивать
теоретические конструкции «Науки логики», этой «искаженной копии»?
С самим оригиналом, с подлинными формами и законами
развития научно-теоретического мышления? С самим процессом
мышления, протекающим в строгом согласии с требованиями
подлинно-научной Логики?
Но это возможно лишь при том предположении, что
читатель уже заранее им обладает, владея развитой культурой
логического мышления в такой мере, что не нуждается ни в
ее совершенствовании, ни в ее теоретическом изучении. Такой
читатель и в самом деле имел бы право смотреть на Гегеля
только сверху вниз, и мы не осмелились бы советовать ему тратить
время на прочтение «Науки логики». Предположив такого
читателя, мы могли бы лишь посетовать на то, что он до сих пор
не осчастливил человечество своим руководством по логике,
во всех отношениях более совершенным, нежели гегелевское,
и тем самым не сделал изучение последнего для всех столь же
ненужным, как и для себя лично.
Читатель с подобным самомнением не выдуман, нами. Он
существует, и у него немало единомышленников. Из их рядов
и рекрутируются ныне философы-неопозитивисты, всерьез
полагающие, будто в их обладании находится «логика науки»,
«логика современного научного знания», точное и
неискаженное описание логических схем научного мышления. Исходя из
такого представления, неопозитивисты считают излишним и
даже вредным уже простое знакомство с гегелевской логикой.
Усомниться в основательности их претензий заставляет уже
448
тот факт, что все вместе взятые неопозитивистские труды по
логике не смогли и не могут воспрепятствовать тому
могучему воздействию, которое оказала и продолжает оказывать на
реальное научное мышление та традиция в логической науке,
к которой принадлежит теоретическое наследие Гегеля. С
другой стороны, анализ работ неопозитивистов показывает, что
их претенциозная «логика науки» представляет собой всего-
навсего педантически-некритическое описание тех рутинных
логических схем, которыми давным-давно сознательно
пользуется любой представитель математического естествознания.
Именно поэтому «логика науки» ничему новому его научить
и не может. Она просто показывает ему, как в зеркале, то, что
он и без нее прекрасно знает - его собственные сознательные
представления о логике собственного мышления, о схемах его
собственной работы.
А вот в какой мере эти традиционные сознательно
применяемые в математическом естествознании логические схемы
согласуются с действительной логикой развития современного
научного знания - этим вопросом неопозитивистская логика
попросту не задается. Она вполне некритически «описывает»
то, что есть, и в этой некритичности по отношению к
«современной науке» усматривает даже свою добродетель.
Между тем единственно-серьезный логический вопрос, то
и дело вырастающий перед теоретиками конкретных областей
научного познания, заключается именно в критическом
анализе наличных логических форм с точки зрения их
соответствия действительным потребностям развития науки,
действительной логике развития современного научного знания. И в
этом отношении гегелевская «Наука логики», несмотря на все
ее связанные с идеализмом пороки, может дать современной
науке бесконечно больше, чем претенциозная «логика науки».
Именно для понимания действительных форм и законов
развития современного научно-теоретического познания,
которые властно управляют мышлением отдельных ученых зачас-
449
тую вопреки их наличному логическому сознанию, вопреки их
сознательно принимаемым логическим установкам.
Приходится исходить из того, что подлинная Логика
современной науки непосредственно нам не дана, ее еще
нужно выявить, понять, а затем - превратить в сознательно
применяемый инструментарий работы с понятиями, в
логический метод разрешения тех проблем современной науки,
которые не поддаются рутинным логическим методам,
выдаваемым неопозитивистами за единственно-законные, за
единственно-научные.
Но если так, то критическое изучение «Науки логики»
не может сводиться к простому сравнению ее положений - с
той логикой, которой сознательно руководствуются
современные естествоиспытатели, считая последнюю безупречной и
не подлежащей сомнению; не следует думать, что Гегель прав
только в тех пунктах, где его взгляды согласуются с
логическими представлениями современных естествоиспытателей, а в
случае их разногласия всегда неправ Гегель. При ближайшем
рассмотрении ситуация может оказаться как раз обратной.
Может статься, что именно в этих пунктах гегелевская
логика находится ближе к истине, чем логические представления
ныне здравствующих теоретиков, что как раз тут он и
выступает от имени логики, которой современному естествознанию
не хватает, той самой логики, потребность в которой назрела в
организме современной науки и не может быть удовлетворена
традиционными логическими методами.
Если все это иметь в виду, то задача, перед которой
оказывается читатель «Науки логики», рисуется по
существу исследовательской. Трудность ее в том, что гегелевское
изображение предмета, в данном случае мышления,
придется критически сопоставлять не с готовым заранее известным
его прообразом, а с предметом, контуры которого только
впервые и начинают прорисовываться в ходе самого
критического преодоления гегелевских конструкций.
450
Читатель оказывается как бы в положении узника
платоновской пещеры, он видит лишь тени, отбрасываемые
невидимыми для него фигурами, и по контурам этих теней должен
реконструировать для себя образы самих фигур, которые сами
по себе так и остаются для него невидимыми... Ведь мышление
и в самом деле невидимо...
Реконструировать для себя сам прообраз,
представленный в гегелевской логике вереницей сменяющих друг друга
«теней», каждая из которых своеобразно искажает
отображаемый ею оригинал, читатель сможет в том случае, если ясно
понимает устройство той оптики, сквозь которую Гегель
рассматривает предмет своего исследования. Эта искажающая,
но вместе с тем и увеличивающая, оптика (система
фундаментальных принципов гегелевской логики) как раз и позволила
Гегелю увидеть, хотя бы и в идеалистически-перевернутом
виде, диалектику мышления, ту самую логику, которая
остается невидимой для философски-невооруженного взора, для
простого «здравого смысла»
Прежде всего важно ясно понять, какой реальный предмет
исследует и описывает Гегель в своей «Науке логики», чтобы
сразу же обрести критическую дистанцию по отношению к его
изображению. Предмет этот - мышление «Что предмет логики
есть мышление - с этим все согласны», - подчеркивает Гегель
в своей «Малой логике»1. Далее совершенно логично логика
как наука получает определение «мышления о мышлении» или
«мыслящего само себя мышления».
В этом определении и в выраженном им понимании нет
еще ровно ничего ни специфически-гегелевского, ни
специфически-идеалистического. Это просто-напросто
традиционное представление о предмете логики как науки, доведенное
до предельно-четкого и категорического выражения. В логике
предметом научного осмысления оказывается само же
мышление, в то время как любая другая наука есть мышление о чем-то
1 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. I. М.-Л., 1929. С. 41.
451
другом, будь то звезды или минералы, исторические события
или телесная организация самого человеческого существа с его
мозгом, печенью, сердцем и прочими органами. Определяя
логику как «мышление о мышлении», Гегель совершенно точно
указывает ее единственное отличие от любой другой науки.
Однако эта дефиниция сразу же ставит нас перед
следующим вопросом и обязывает к не менее ясному ответу, а что
такое мышление?
Само собой разумеется, отвечает Гегель (и в этом с ним
также приходится согласиться), что
единственно-удовлетворительным ответом на этот вопрос может быть только
самое изложение «сути дела», т. е. конкретно-развернутая
теория, сама наука о мышлении, «наука логики», а не
очередная «дефиниция».
(Сравни слова Ф. Энгельса. «Наша дефиниция жизни,
разумеется, весьма недостаточна, поскольку она далека от
того, чтобы охватить все явления жизни, а, напротив,
ограничивается самыми общими и самыми простыми среди них.
Все дефиниции имеют в научном отношении незначительную
ценность. Чтобы получить действительно исчерпывающее
представление о жизни, нам пришлось бы проследить все
формы ее проявления, от самой низшей до наивысшей»1. И
далее: «Дефиниции не имеют значения для науки, потому что
они всегда оказываются недостаточными. Единственно
реальной дефиницией оказывается развитие самого существа
дела, а это уже не есть дефиниция»2).
Однако в любой науке, а потому и в логике, приходится все
же предварительно обозначить, контурно очертить хотя бы
самые общие границы предмета предстоящего исследования - т.
е. указать область фактов, которые в данной науке надлежит
принимать во внимание. Иначе будет неясен критерий отбора
фактов, а его роль станет исполнять произвол, считающийся
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20, с. 84.
2 Там же, с. 634-635.
452
только
с теми фактами, которые «подтверждают» его
обобщения, и игнорирует все прочие, неприятные для него факты, как
не имеющие, якобы, отношений к делу, к компетенции данной
науки, И Гегель такое предварительное разъяснение дает, не
утаивая от читателя (как то делали и делают многие авторы книг
по логике), что именно он понимает под словом «мышление».
Этот пункт особенно важен, от его верного понимания
зависит все остальное. Не разобравшись до конца в этом пункте,
не стоит даже приступать к чтению последующего текста «Науки
логики», он будет понят заведомо неверно. Совсем не случайно
до сих пор основные возражения Гегелю, как справедливые, так
и несправедливые, направляются как раз сюда. Неопозитивисты,
например, единодушно упрекают Гегеля в том, что он, де,
недопустимо «расширил» предмет логики своим пониманием
«мышления», включив в его границы массу вещей, которые
«мышлением» в обычном и строгом смысле назвать никак нельзя. "
Прежде всего - всю сферу понятий, относившихся по
традиции к «метафизике», к «онтологии», то есть к науке «о
самих вещах», всю систему категорий - всеобщих определений
действительности вне сознания человека, вне «субъективного
мышления», понимаемого как психическая способность
человека, как лишь одна из психических его способностей.
Если под «мышлением» иметь в виду именно это, а
именно психическую способность человека, психическую
деятельность, протекающую в человеческой голове и известную всем
как сознательное рассуждение, как «размышление», то
неопозитивистский упрек Гегелю и в самом деле придется посчитать
резонным.
Гегель действительно понимает под «мышлением» нечто
иное, нечто более серьезное и, на первый взгляд, загадочное,
даже мистическое, когда говорите «мышлении»,
совершающемся где-то вне человека и помимо человека, независимо
от его головы, о «мышлении как таковом», о «чистом
мышлении», и предметом Логики считает именно это - «абсолютное»,
453
сверхчеловеческое мышление. Логику, согласно его
определениям, следует понимать даже как «изображение бога, каков он
есть в своей вечной сущности до сотворения природы и
какого бы то ни было конечного духа»1.
Эти - и подобные им - определения способны сбить
читателя с толку, с самого начала дезориентировать его.
Конечно же, такого «мышления» - как некоей сверхъестественной
силы, творящей из себя и природу, и историю, и самого
человека с его сознанием нигде во вселенной нет. Но тогда
гегелевская Логика есть изображение несуществующего предмета,
выдуманного, чисто-фантастического объекта?
Как же быть в таком случае, как решать задачу
критического переосмысления гегелевских построений? С чем, с каким
реальным предметом, придется сравнивать и сопоставлять
вереницы его теоретических определений, чтобы отличить в них
истину от заблуждения?
С реальным мышлением человека? Но Гегель ответил бы,
что в его «Науке логики» речь идет совсем не об этом, и что
если эмпирически-очевидное человеческое мышление не
таково, то это совсем не довод против его Логики, изображающей
другой предмет. Ведь критика теории лишь в том случае имеет
смысл, если эту теорию сравнивают с тем самым предметом,
который в ней изображается, а не с чем то иным. В противном
случае критика направляется мимо цели. Нельзя же, в самом
деле, «опровергать», например, таблицу умножения
указанием на тот очевидный факт, что в эмпирической
действительности дело обстоит совсем не так, что там дважды две капли
воды, например, дают при их «сложении» вовсе не четыре, а
и одну, и семь, и двадцать пять, уж сколько получится в силу
случайно складывающихся обстоятельств. То же самое и здесь.
С фактически протекающими в головах людей актами
мышления сравнивать Логику нельзя уже потому, что люди сплошь и
рядом мыслят весьма нелогично. Даже элементарно нелогично,
1 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. Т. 1. М., 1970. С. 103.
454
не говоря уже о логике более высокого порядка, о той самой,
которую имеет в виду Гегель.
Поэтому когда вы укажете логику, что реальное
мышление человека протекает не так, как изображает его теория, он
на это резонно ответит: тем хуже для этого мышления; и не
теорию тут надлежит приспосабливать к эмпирии, а реальное
мышление постараться сделать логичным, привести его в
согласие с логическими принципами.
Однако для логики как науки отсюда происходит
фундаментальная трудность. Если логические принципы допустимо
сопоставлять только с «логичным» мышлением, то исчезает какая бы
то ни была возможность проверить - а правильны ли они сами?
Само собой понятно, что они всегда будут
согласовываться с тем мышлением, которое заранее согласовано с ними и
совершается в полном соответствии с их предписаниями. Но
ведь это и значит, что логические принципы согласуются лишь
сами с собой, со своим собственным «воплощением» в
эмпирических актах мышления.
Для теории в данном случае создается весьма щекотливое
положение. Теория здесь соглашается считаться только с теми
фактами, которые заведомо ее подтверждают, а все остальные
факты принципиально игнорирует как не имеющие
отношения к делу. Любой «противоречащий», «опровергающий» ее
положения, факт (факт «нелогичного», «не согласующегося
с требованиями логики», мышления) она просто отметет на
том основании, что он «не относится к предмету логики», и
потому неправомочен в качестве критической инстанции для
ее положений, для ее аксиом и постулатов... Логика имеет в
виду только логически-безупречное мышление, а «логически-
неправильное» мышление не довод против ее схем. Но
«логически-безупречным» она соглашается считать только такое
мышление, которое в точности подтверждает ее собственные
представления о мышлении, рабски и некритически следуя их
указаниям, а любое уклонение от ее правил расценивает как
455
факт, находящийся за рамками ее предмета и потому
рассматривает только как «ошибку», которую надо «исправить».
В любой другой науке подобная претензия вызвала бы
недоумение. Что это за теория, которая заранее объявляет,
что согласна принимать в расчет лишь такие факты,
которые ее подтверждают, и не желает считаться с
противоречащими фактами, хотя бы их были миллионы и миллиарды? А
ведь именно такова традиционная позиция логики, которая
представляется ее адептам само собой разумеющейся... Но это
именно и делает эту логику абсолютно несамокритичной с
одной стороны, и неспособной к какому бы то ни было развитию
- с другой. Она, как мифический Нарцисс, видит в реальном
мышлении только себя, только отражение своих собственных
постулатов и рекомендаций, только те ходы мысли, которые
совершаются по ее правилам, а все остальное богатство
развивающегося мышления объявляет следствием
вмешательства «посторонних», «внелогических» и «алогичных» факторов,
интуиции, прагматического интереса, чисто-психологических
случайностей, эмоций, ассоциаций, политических страстей,
эмпирических обстоятельств, и т. д. и т. п.
С этой именно позицией связана и знаменитая иллюзия
Канта, согласно которой «логика» как теория давным-давно
обрела вполне замкнутый, завершенный характер и не только
не нуждается, а и не может по самой ее природе нуждаться в
развитии своих положений.
Эта иллюзия, как прекрасно понял Гегель, становится
абсолютно неизбежной, если предметом логики как науки
считать исключительно формы и правила сознательного мышления,
или мышления, понимаемого как одна из психических
способностей человека, стоящая в одном ряду с другими
психическими способностями, свойственными человеческому индивиду.
«Когда мы говорим о мышлении, оно нам сначала
представляется субъективной деятельностью, одной из тех способностей,
каких мы имеем много, как, например, память, представление,
456
воля и т. д.» Но такой взгляд сразу же замыкает логику в рамки
исследования индивидуального сознания, тех правил, которые
мыслящий индивид обретает из своего собственного опыта, и
которые именно поэтому кажутся ему чем-то само собой
разумеющимся и самоочевидным, «своим».
«Мышление, рассматриваемое с этой стороны в его
законах, есть то, что обычно составляет содержание логики»1.
Именно поэтому логика, исходящая из такого понимания
мышления, лишь проясняет, доводит до ясного сознания те
самые правила, которыми любой индивид пользуется и без нее,
и если мы изучаем такую логику, то продолжаем мыслить как и
до ее изучения, «может быть, методичнее, но без особых
перемен». Совершенно естественно, констатирует Гегель, пока
логика рассматривает мышление лишь как психическую
способность индивида и выясняет правила, которым эта способность
подчиняется в ходе индивидуально совершаемого опыта, она
ничего большего дать и не может. В этом случае логика,
«разумеется, не дала бы ничего такого, что не могло бы быть сделано
так же хорошо и без нее. Прежняя логика и в самом деле
ставила себе эту задачу»2.
С таким - оправданным, но ограниченным - взглядом
на мышление как на предмет логики, связана и
историческая судьба этой науки, тот отмеченный Кантом факт, что со
времен Аристотеля она в общем и целом особых изменений
не претерпела. Средневековые схоластики «ничего не
прибавили к ее содержанию, а лишь развили ее в частностях»,
а «главный вклад нового времени в логику ограничивается
преимущественно, с одной стороны, опусканием многих,
созданных Аристотелем и схоластиками, логических
определений и прибавлением значительного количества постороннего
психологического материала - с другой»3.
1 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. I, с. 46.
2 Там же, с. 42.
3 Там же, с. 47.
457
Это - почти дословное повторение слов Канта из
«Критики чистого разума», констатация совершенно бесспорного
исторического факта. Однако из этого факта Гегель делает вывод,
прямо обратный по сравнению с выводом Канта:
«...Если со времен Аристотеля логика не подверглась
никаким изменениям, и в самом деле при рассмотрении новых
учебников логики мы убеждаемся, что изменения сводятся
часто больше всего к сокращениям, то мы отсюда должны
сделать скорее тот вывод, что она тем больше нуждается в полной
переработке»1.
Прежде всего Гегель подвергает «полной переработке»
самое понятие мышления. В логике нельзя понимать
мышление как одну из психических способностей человеческого
индивида, как деятельность, протекающую под его черепной
крышкой. Такое понимание оправдано и допустимо в
психологии. Будучи без корректив перенесено в логику, оно
становится ложным, слишком узким. Ближайшим следствием
такого понимания оказывается тот предрассудок, согласно
которому под «мышлением» сразу же понимается
сознательно совершаемое «рассуждение» - и только, и мышление
поэтому предстаёт перед исследователем в образе «внутренней
речи», которая, разумеется, может выражаться вовне и в виде
устной, «внешней» речи, а также в виде графически
зафиксированной речи, в виде письма. Вся старая логика, начиная
с Аристотеля, так именно дело и понимала. Для нее
«мышление» - это что-то вроде «немой речи», а устная речь - это
мышление так сказать «вслух».
Неслучайно поэтому логические исследования и
производились в ходе анализа диалогов и монологов, процесса
словесного выражения субъективной мысли, и мысль
рассматривалась лишь в ее словесном «бытии», лишь в форме
предложений и цепочек предложений («суждений»). В силу
этого старая логика никогда не могла различить четко «субъ-
1 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. ТА. С. 105.
458
ект» (логического суждения) от «подлежащего» (как члена
предложения), «предикат» - от «сказуемого», «понятие» - от
«термина» и т. д. и т. п.
Заметим попутно, что все без исключения логические
школы, прошедшие мимо гегелевской критики старой
логики, этот древний предрассудок разделяют, как ни в чем ни
бывало, и до сих пор. Наиболее откровенно его исповедуют
неопозитивисты, прямо отождествляющие «мышление» - с
«языковой деятельностью», а «логику» - с «анализом языка».
Самое комичное во всем этом - то самомнение, с которым
архаически-наивный предрассудок выдается ими за
самоновейшее открытие логической мысли ХХ-го столетия, за
наконец-то явленный миру принцип научной разработки логики,
за аксиому «логики науки». Неопозитивистам кажется
«непонятной мистикой» гегелевское представление о том, что
предметом логики как науки является «чистое мышление», а
не формы его словесного выражения. Как можно исследовать
«мышление» помимо форм его проявления? Это недоумение
на первый взгляд может показаться резонным, - недоумением
трезвомыслящего теоретика, желающего изучать фактически
наблюдаемые явления «мышления», а не «мышление как
таковое», как «чистую деятельность», ни в чем предметно себя не
обнаруживающую...
Между тем как раз в этом пункте Гегель мыслит гораздо
трезвее, чем все неопозитивисты, вместе взятые.
Кто сказал, что язык (речь) есть единственная
фактически-эмпирически наблюдаемая форма, в которой проявляет
себя человеческое мышление? Разве в поступках человека, в
ходе реального формирования окружающего мира, в делании
вещей человек не обнаруживает себя как мыслящее существо?
Разве мыслящим существом он выступает только в акте
говорения? Вопрос, пожалуй, чисто риторический.
Мышление, о котором говорит Гегель, обнаруживает себя
в делах человеческих отнюдь не менее очевидно, чем в словах,
459
в цепочках терминов, в кружевах словосочетаний, которые
только и маячат перед взором логика-неопозитивиста. Более
того, в реальных делах человек обнаруживает подлинный
способ своего мышления гораздо более адекватно, чем в своих
повествованиях об этих делах.
Кому неизвестно, что о человеке, об образе его мысли,
можно гораздо вернее судить по тому, что и как он делает,
нежели по тому, что и как он о себе говорит? Разве не ясно,
что цепочки поступков обнаруживают подлинную логику его
мышления полнее и правдивее, чем цепочки знаков-терминов?
Разве не вошли в поговорку знаменитые сентенции: «язык дан
человеку, чтобы скрывать свои мысли» и «мысль изреченная
есть ложь»? При этом речь идет вовсе не о сознательном
обмане другого человека, о сознательном сокрытии от него
правды - «истинного положения вещей», а о совершенно
искреннем и «честном» самообмане.
Но если так, то поступки человека, а, стало быть, и
результаты этих поступков, «вещи», которые ими создаются, не
только можно, а и нужно рассматривать как акты обнаружения его
мышления, как акты «опредмечивания» его мысли, его
замыслов, его планов, его сознательных намерений. В логике, в науке
о мышлении, не менее важно учитывать различие между
словами и делами, сопоставлять дела и слова, чем в реальной
жизни. Это простое соображение Гегель и выдвигает против всей
прежней логики, которая, в духе схоластически
интерпретированного Аристотеля, понимала под «мышлением» почти
исключительно устно или графически зафиксированную «немую
речь», и именно потому судила о «мышлении» прежде всего
по фактам его словесной «экспликации». Гегель же с самого
начала требует исследовать «мышление» во всех формах его
обнаружения, его «реализации», и прежде всего - в делах
человеческих, в поступках, в делах, в актах созидания вещей и
событий. Мышление обнаруживает себя, свою силу, свою
деятельную энергию, вовсе не только в говорении, но и во всем
460
грандиозном процессе созидания культуры, всего предметного
тела человеческой цивилизации, всего «неорганического тела
человека», включая сюда орудия труда и статуи, мастерские и
храмы, фабрики и государственные канцелярии, политические
организации и системы законодательства - всё.
Гегель тем самым прямо вводит практику - чувственно-
предметную деятельность человека - в логику, в науку о
мышлении, делая этим колоссальной шаг вперед в понимании
мышления и науки о нем; «несомненно, практика стоит у Гегеля, как
звено, в анализе процесса познания и именно как переход к
объективной («абсолютной», по Гегелю) истине. Маркс,
следовательно, непосредственно к Гегелю примыкает, вводя
критерий практики в теорию познания: см. тезисы о Фейербахе»1.
Именно на этом основании Гегель и обретает право
рассматривать внутри Логики - внутри науки о мышлении -
объективные определения вещей вне сознания, вне психики
человеческого индивида, причем во всей их независимости от этой
психики, от этого сознания. Ничего «мистического» или
«идеалистического» в этом пока нет, в виду имеются
непосредственно формы («определения») вещей, созданных деятельностью
мыслящего человека. Иными словами - формы его мышления,
«воплощенные» в естественно-природном материале,
«положенные» в него человеческой деятельностью. Так, дом выглядит
с этой точки зрения как воплощенный в камне замысел
архитектора, машина - как выполненная в металле мысль инженера, и
т. д. и т. п., а все колоссальное предметное тело цивилизации -
как «мышление в его инобытии», в его чувственно-предметном
«воплощении». Соответственно и вся история человечества
рассматривается как процесс «внешнего обнаружения» силы
мысли, энергии мышления, как процесс реализации идей,
понятий, представлений, планов, замыслов и целей человека, как
процесс «опредмечивания логики», тех схем, которым
подчиняется целенаправленная деятельность людей.
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 38, с. 203.
461
Понимание и тщательный анализ этого аспекта человеческой
деятельности, ее «активной стороны», как называет его Маркс в
«Тезисах о Фейербахе», также не есть еще «идеализм». Этот
реальный аспект может быть понят и без всякой мистики. Более
того, специально в логике его анализ как раз и составил
решающий шаг этой науки в направлении к настоящему - «умному» -
материализму, к пониманию того факта, что все без исключения
«логические формы» суть отраженные в человеческом сознании
и проверенные ходом тысячелетней практики всеобщие формы
развития действительности вне мышления. Рассматривая
«мышление» не только в его словесном обнаружении, но и в процессе
его «опредмечивания», его «овеществления» в
естественно-природном материале, в камне и бронзе, в дереве и железе, а далее - и
в структурах социальной организации (в виде государственных
и экономических систем взаимоотношений между индивидами),
Гегель отнюдь не выходит за пределы рассмотрения мышления,
за рамки предмета логики как особой науки. Он просто вводит в
поле зрения логики ту реальную фазу процесса развития
мышления, без понимания которой логика не могла и не может стать
действительной наукой, наукой о мышлении в точном и
конкретном значении этого понятия.
Вводя в логику практику, а вместе с нею - и все те формы
вещей, которые этой практикой «вносятся» в вещество
природы, и затем толкуя эти формы вещей вне сознания как
«формы мышления в их инобытии», в их чувственно-предметном
«воплощении», Гегель вовсе не перестает быть логиком в самом
строгом и точном смысле слова.
Упрекать его приходится вовсе не за то, что он вводит в
логику чуждый ей материал и выходит тем самым за законные
границы науки о мышлении. С точки зрения последовательного
материализма справедлив скорее как раз обратный упрек, в том, что
он остается «чистым» логиком и там, где точка зрения логики уже
недостаточна. Беда Гегеля в том, что «дело логики» поглощает его
настолько, что он перестает видеть за ним «логику дела».
462
Эта своеобразная профессиональная слепота логика
обнаруживает себя прежде всего в том, что практика, т. е. реальная
чувственно-предметная деятельность человека,
рассматривается здесь только как «критерий истины», только как
проверочная инстанция для «мышления», для свершившейся до
нее и независимо от нее духовно-теоретической работы, а еще
точнее - для результатов этой работы.
Практика поэтому и рассматривается здесь абстрактно,
то есть освещается лишь с той стороны, лишь в тех ее
характеристиках, которыми она и в самом деле обязана
«мышлению», то есть представляет собой акт реализации
некоторого замысла, плана, идеи, понятия, той или иной заранее
разработанной цели, и совершенно не рассматривается «как
таковая», в ее собственной, ни от какого мышления не
зависящей, детерминации. Соответственно с этим и все
результаты практической деятельности людей, вещи, созданные
трудом человека, и исторические события с их
последствиями, также принимаются в расчет лишь постольку,
поскольку в них «опредмечены» те или иные «мысли». В понимании
исторического процесса в целом такая точка зрения
представляет собою, само собой понятно, чистейший
(«абсолютный») идеализм. Однако по отношению к логике, к науке о
мышлении, эта точка зрения представляется не только
оправданной, но и единственно-резонной.
В самом деле - можно ли упрекать логика за то, что он
строжайшим образом абстрагируется от всего того, что не имеет
отношения к предмету его специального исследования, к
мышлению, и любой факт принимает во внимание лишь постольку,
поскольку тот может быть понят как следствие, как форма
обнаружения его предмета, предмета его науки - мышления?
Упрекать логика-профессионала в том, что «дело логики»
занимает его больше, чем логика дела (т. е. логика любой
другой конкретной области человеческой деятельности) столь же
нелепо, сколь нелепо корить химика за излишнее внимание к
463
«делу химии»... Совсем не этот смысл кроется в известных
словах Маркса, сказанных по адресу Гегеля.
Беда узкого профессионализма заключается вовсе не в
строгом ограничении его мышления рамками предмета его
науки. Беда его в неспособности ясно видеть связанные с этой
абстрактной ограниченностью взгляда на вещи границы
компетенции собственной науки. Пока химик занимается «делом
химии», т. е. рассматривает все богатство мироздания
исключительно под абстрактно-химическим аспектом, мыслит
любой предмет во вселенной, будь то нефть или «Сикстинская
мадонна» Рафаэля, только в понятиях своей науки - никому в
голову, разумеется, не придет упрекать его в том, что его при
этом мало интересует дело политэкономии или эстетики. Но
как только он начинает мнить, будто в понятиях его
специальной дисциплины как раз выражается самая глубокая, самая
интимная тайна предмета любой другой науки, его
профессионализм сразу же оборачивается своими минусами. В этом
случае ему начинает казаться, например, что биология - это лишь
поверхностно-феноменологическое описание явлений
подлинную тайну которых раскрывает лишь он, химик, поскольку
он занимается частным разделом своей науки - биохимией. В
наказание за это самомнение он сразу же получает удар в
спину от физика, для коего вся его химия - лишь поверхностное
обнаружение глубинных «субатомных» структур. А над
обоими посмеивается математик, для которого и биология, и
химия и физика - всего-навсего «частные случаи» обнаружения
универсальных схем соединения и разъединения «элементов
вообще» внутри «структур вообще»...
Эта коварная иллюзия характерна и для Гегеля, для
типичного профессионала-логика В качестве логика он абсолютно
прав, когда рассматривает и «высказывание» и «дело»
исключительно с точки зрения обнаруживающихся в них
абстрактных схем мышления, и только, когда логика любого дела
интересует его лишь постольку, поскольку в нем обнаруживает
464
себя деятельность мышления вообще. С этой точки зрения
просматриваются лишь те формы, схемы, законы и правила,
которые остаются инвариантными и в мышлении Ньютона, и
в мышлении Робеспьера, и в мышлении Канта, и в мышлении
Кая Юлия Цезаря. «Специфика» мышления всех этих персо1
нажей его, как логика, интересовать, естественно, не может.
Как раз от нее любой логик, и именно потому что он - логик, и
обязан отвлекаться (абстрагироваться), чтобы разглядеть свой
предмет, предмет своей специальной науки.
Мистицизм гегелевской логики, и одновременно та ее
коварная особенность, которую Маркс назвал «некритическим
позитивизмом», начинаются там, где специальная точка зрения логика
принимается и выдается за ту единственно-научную точку
зрения, с высоты которой только, якобы, и раскрывается
«последняя», самая глубокая, самая интимная, самая сокровенная, самая
важная истина, доступная вообще человеку и человечеству...
Как логик, Гегель вполне прав, рассматривая любое
явление в развитии человеческой культуры как акт «обнаружения»
силы мышления, и потому толкуя развитие и науки, и
техники, и «нравственности» (в гегелевском ее понимании,
включающем всю совокупность общественных отношений человека
к человеку - от моральных до экономических) как процесс,
в котором обнаруживает себя способность мыслить, т. е. как
процесс обнаружения этой способности, и только.
Но стоит добавить к этому (в логике допустимому и
естественному) взгляду немногое, а именно, что в специально-
логических абстракциях как раз и выражена суть самих по себе
явлений, из коих эти абстракции извлечены, как истина сразу
же превращается в ложь. В такую же ложь, в какую тотчас же
превратились бы совершенно точные результаты химического
исследования состава красок, которыми написана
«Сикстинская мадонна», как только в этих результатах химик усмотрел
бы единственно-научное понимание этого уникального
«синтеза» химических элементов...
465
Точно то же и тут. Абстракции, совершенно точно
выражающие (описывающие) формы и схемы протекания
логического процесса, мышления, во всех формах его «конкретного»
осуществления - в физике и в политике, в технике и в
теологии, в искусстве и в экономической жизнедеятельности,
непосредственно и прямо выдаются за схемы процесса, созидающего
все многообразие человеческой культуры, в составе которой
они и были обнаружены.
Вся мистика гегелевской концепции мышления
сосредоточивается в результате в одном единственном пункте.
Рассматривая все многообразие форм человеческой культуры как
результат «обнаружения» действующей в человеке
способности мыслить, то есть как тот материал, в котором он - как логик
- обнаруживает «предметно-явленные» схемы
реализованного в них мышления, он утрачивает всякую возможность
понять - а откуда же вообще взялась в человеке эта уникальная
способность с ее схемами и правилами?
Возводя «мышление» в ранг божественной силы и энергии,
изнутри побуждающей человека к историческому творчеству,
Гегель просто-напросто выдает отсутствие ответа на этот
резонный вопрос - за единственно-возможный на него ответ.
Мышление, по Гегелю, не возникает в человеке, а лишь
пробуждается в нем, будучи до этого пробуждения некоторой
дремлющей, лишенной сознания и самосознания, но все же вполне
реальной активной силой. В человеке это «мышление»
просыпается, обретает сознание самого себя, т. е. «самосознание», само
себя делает предметом своей собственной деятельности,
выступает уже как «мышление о мышлении», в чем и
обнаруживается, де, его «подлинная природа», его «истинное лицо».
Но прямо и непосредственно это «мышление» рассмотреть
себя не может, ибо оно невидимо, неслышимо и вообще
неощутимо. Для того, чтобы рассмотреть самое себя, этому мышлению
требуется некоторое зеркало, в котором оно могло бы увидеть
себя как бы со стороны, как нечто «иное». Этим своеобразным
466
«зеркалом» и становится для него создаваемый им предметный
мир, совокупность его собственных «обнаружений» - в виде
слова, в виде орудий труда, в виде
государственно-политических образований, в виде статуй, книг и всех прочих созданий
«мыслящего духа». Творя предметно-развернутое богатство
человеческой культуры, «мыслящий дух», с самого начала
обитающий в человеке, как раз и создает «вне себя» и «против себя»
то зеркало, в котором он впервые сам себя и видит, правда, не
понимая вначале, что в зеркале вещей и событий ему
отражается его собственный образ и ничего более.
Во всей этой мистически-фантастической картине,
превращающей реальное мышление реальных людей - в процесс
«обнаружения» некоторой отличной от них самих, абсолютно
не зависящей от их воли, от их желаний и потребностей, от их
сознания и самосознания - вполне объективной - всемогущей
схемы не так уж трудно разглядеть проступающие сквозь нее
реальные черты вполне земного прообраза, - того мышления,
с которого Гегель и срисовывает портрет «бога».
Это - не «мышление вообще», не «мышление как
таковое», как представлялось самому Гегелю. Непосредственно -
это мышление профессионала-логика со всеми его
характернейшими чертами и особенностями, принятыми и выданными за
универсальные особенности мышления вообще, за выражение
«природы мышления как такового». Если это учитывать, то все
загадочные определения, которые Гегель дает «мышлению»,
оказываются не только понятными, но подчас даже банально-
самоочевидными.
Это он - логик - осуществляет ту работу, которая состоит
исключительно в «мышлении о мышлении»; логика как наука
это и есть «мыслящее само себя мышление». Осмысливать сам
процесс мышления, доводить до сознания людей те схемы,
законы и правила, в рамках которых совершается их собственное
мышление, хотя они сами этих схем и правил ясно и не осознают,
а подчиняются им под властным давлением всей совокупности
467
обстоятельств, внутри которых они «мыслят» и действуют,
поскольку они действуют именно как мыслящие существа. Это он -
логик - рассматривает и описывает вовсе не свое собственное
мышление, как индивидуально ему свойственную психическую
способность, как психическую деятельность, протекающую в
его индивидуальной голове, а те совершенно безличные схемы,"
которые отчетливо прорисовываются в ходе
целенаправленной жизнедеятельности любого - каждого - человека, если ее
рассмотреть «задним числом» и отвлекаясь при этом от всего
того, что и как он сам при этом думал, что и как он в составе
собственных действий осознавал (т. е. доводил до собственного
сознания в ясной словесной форме).
Это он - логик ex professo (логик-профессионал)
осуществляет в своем лице «самосознание» того «мышления», которое
осуществляет не отдельный индивид наедине с самим собой, а
только более или менее развитый коллектив индивидов,
связанных в одно целое узами языка, обычаев, нравов и норм,
регулирующих их отношения к «вещам»; в его лице и
осуществляется «самопознание» того самого мышления, которое
обнаруживает себя прежде всего не столько в немом монологе,
сколько в драматически-напряженных диалогах и в
результатах таких диалогов, в некоторых общих выводах из уроков
столкновений между «мыслящими индивидами», в некоторых
«правилах», которые они в итоге устанавливают в качестве
общеобязательных, в нормах быта и работы, морали и права, в
законах науки и заповедях религии, и т. д. и т. п.
Он, логик-профессионал, и олицетворяет собою
процесс осознания тех форм, схем и законов, в рамках которых
осуществляется это - коллективно осуществляемое -
мышление. Мышление, реализующее себя не только в монологах
и диалогах, но и в сознательно-целенаправленных
поступках, в формировании вещей и в протекании исторических
событий, короче говоря, в процессе созидания предметного
тела цивилизации, «неорганического тела человека». Мыш-
468
ление, которое - как предмет исследования - противостоит
логику вовсе не в образе психофизиологического процесса,
протекающего под черепной крышкой отдельного
индивида, а как всемирно-исторический процесс развития науки,
техники и нравственности. Формы и законы развертывания
этого процесса (в ходе которого индивид с его психикой
действительно играет подчиненную роль, роль
исполнителя, а то и орудия исполнения, вне и независимо от него
назревших задач, проблем, потребностей) - и составляют для
логика-теоретика такой же объективный предмет
исследования, каким для астронома выступают законы движения
планет, звезд и галактик...
Формы и законы мышления, понимаемого таким
образом, как естественноисторический процесс, совершаемый не
внутри одной-единственной головы, а только внутри
миллионов голов, связанных сетью коммуникаций как бы в одну
голову, в одно «мыслящее» существо, находящееся в
непрестанном диалоге с «самим собой» - они то как раз и составляют
объективный предмет Логики в ее гегелевском смысле. Этот
вполне реальный предмет и является прообразом гегелевского
«бога» - объективного Понятия, Абсолютной Идеи.
За этими мистическими титулами везде кроется реальное
человеческое мышление, каким оно выступает перед
абстрактно-теоретическим взором логика-профессионала, т. е.
исключительно в его всеобщих, очищенных от всего «частного»,
характеристиках. И та фразеология, в облачении которой этот
реальный предмет выступает перед нами на страницах «Науки
логики», поддается вполне рациональной расшифровке как в
общем, так и в частностях. Но при одном условии - если эта
расшифровка, эта перекодировка производится с точки
зрения материалистического взгляда на тот же самый предмет,
на мышление в вышеобрисованном понимании^ а не в том
понимании этого слова, которое предлагается психологией или,
например, неопозитивистской «логикой науки».
469
Если под «мышлением» понимать что-то другое, скажем,
субъективно-психическую способность и деятельность,
протекающую в отдельной голове, и потому непосредственно
фиксируемую в виде и образе «немой речи», «немого монолога»,
в виде и образе «высказывания» и цепочки таких
«высказываний», и сопоставлять гегелевскую Логику с так понимаемым
«мышлением», то она и в самом деле покажется чистым и
абсолютным мистическим бредом, описанием «несуществующего
предмета», выдуманного объекта - и только,
Если же сопоставлять гегелевское изображение с тем самым
предметом, который в ней на самом деле и изображен - с
мышлением, реализованным и реализуемым в виде Науки и
Техники, в виде реальных поступков и действий человека
(«мыслящего существа», «субъекта»), целенаправленно изменяющего как
внешнюю природу, так и природу своего собственного тела, то
в труднопонимаемых оборотах гегелевской речи сразу же
начинает просматриваться смысл куда более земной и глубокий, чем
в псевдоздравомыслящей «логике науки».
Одновременно с этим становятся заметными и те
«белые пятна», которые зияют в гегелевском изображении этого
реального предмета, мышления, и которые Гегель вынужден
маскировать вычурными оборотами речи, иногда даже
просто с помощью лингвистической ловкости и непереводимой на
русский язык игры немецкими словами, доставляющей массу
мучений переводчикам его «Науки логики».
Дело в том, что идеализм, т. е. представление о
«мышлении» как о всеобщей способности, которая лишь
«пробуждается» в человеке к самосознанию, а не возникает в точном и
строгом смысле на почве определенных - вне и независимо от
него складывающихся - условий, приводит к ряду
абсолютно неразрешимых проблем и внутри самой логики. И эти-то
неразрешенные им, а на почве идеализма и принципиально
неразрешимые, проблемы Гегель и вынужден «решать» чисто-
лингвистическими средствами, т. е. просто увиливая от них
470
с помощью иногда остроумных, иногда - просто
невразумительных оборотов речи.
Всмотримся чуть пристальнее в его понимание
мышления. Гегель безусловно делает колоссальной важности шаг
вперед в его понимании, когда устанавливает, что это
«мышление» осуществляется отнюдь не только в виде «слов» и
«цепочек слов» («высказываний» и «силлогизмов»), но и в виде
«дел», в виде поступков человека и актов его труда,
деятельности, непосредственно формирующей
естественно-природный материал. В соответствии с этим «формы мышления» -
как логические формы - и понимаются им как всеобщие формы
всякой активно-целенаправленной деятельности человека, в
каком бы материале в частности они ни «воплощались», будь
то слова или вещи.
Логическая категория (логическое понятие) - это
абстракция, одинаково охватывающая обе частные формы выражения
«мышления вообще», и потому, естественно, равно
игнорирующая «специфические особенности» каждой из обеих форм,
взятых порознь. Именно поэтому в ней и выражена «суть речей
и вещей» - а не только «вещей» и не только «речей»,
внутренняя форма движения и того и другого. В «логосе» - в «разуме»
- выражены в логическом аспекте (в отличие от
психологически-феноменологического) одинаково «Sage und Sache» -
«вещание и вещь», или, скорее, «былина и быль»1.
Кстати - весьма характерный для Гегеля (пример) игры
словами, игры, высвечивающей однако генетическое родство
выражаемых этими словами представлений. «Sage» - сказыва-
ние, сказание, вещание - откуда «Сага» - легенда о подвигах.
былина; «Sache» - ёмкое слово, означающее не столько
единичную чувственно-воспринимаемую вещь, сколько «суть дела»,
«положение вещей», «существо вопроса», фактическое
положение дел (вещей), всё то, что есть или было на самом деле,
1 См. «Иенскую реальную философию» /Гегель Г.В.Ф. Работы разных
лет, 2 т. М., 1970. Т. 1, с. 292.
471
«быль». Русскому слову «вещь» буквально соответствует в
немецком языке «Das Ding». Эта этимология используется и в
«Науке логики» для выражения очень важного оттенка мысли,
который в ленинском переводе и в ленинской -
материалистической - интерпретации звучит так: «С этим введением
содержания в логическое рассмотрение предметом становятся не
«Dinge», a «die Sache, der Begriff der Dinge. - Не вещи, а законы
их движения, материалистически»1.
Однако же, делая колоссальнейшей важности шаг вперед
в понимании «логических форм» мышления, Гегель
останавливается на полпути и даже возвращается назад, как только
перед ним встает вопрос о взаимоотношении указанных
«внешних форм» мышления, - чувственно-воспринимаемых
предметных форм «воплощения» деятельности духа (мышления),
его «наличного бытия» или «существования», в которых он
- мыслящий дух человека - становится для самого себя
предметом рассмотрения.
Отказываясь считать слово (речь, язык, «сказывание»)
единственной формой «наличного бытия духа», Гегель, тем не менее,
продолжает считать его преимущественной, наиболее
адекватной своей сути, формой, в виде которой мышление
противополагает себя самого - себе самому, чтобы рассмотреть само себя
как нечто «иное», как некоторый отличный от самого себя
предмет, чтобы на само себя взглянуть как бы со стороны.
«В начале было Слово», в применении к человеческому
мышлению (мыслящему духу человека) Гегель сохраняет этот
тезис Евангелия от Иоанна нетронутым, принимая его как
нечто самоочевидное, и делая его основоположением (аксиомой)
всей дальнейшей конструкции, точнее «реконструкции»
развития мыслящего духа к самосознанию, к самопознанию.
Мыслящий дух человека пробуждается впервые (т. е.
противополагает себя - «всему остальному») именно в Слове,
через Слово - как способность «наименовывания», а потому
'Ленин В.И., Полное собрание сочинений. Т. 38, с. 82.
472
и оформляется прежде всего как «царство Имён», названий.
Слово и выступает как первая, и по существу и по времени -
«предметная действительность мысли», как исходная и
непосредственная форма «бытия духа для себя самого». Это - форма,
в которой «мыслящий дух», противополагая самого себя -
самому же себе, остается, тем не менее, «внутри себя самого».
Наглядно это выглядит так: один «конечный дух»
(«мышление индивида») в Слове и через Слово делает себя предметом
для другого такого же «конечного духа». Возникнув из «духа»,
как определенным образом артикулированный звук - Слово -
будучи «услышанным» - опять превращается в «дух» - в
состояние «мыслящего духа» другого человека. Колебания
воздушной среды (слышимое слово) и оказываются в этой схеме
чистым посредником между двумя состояниями духа, -
способом отношения духа к духу, или, выражаясь гегелевским
языком - духа к самому себе.
Слово (речь) и выступает здесь как первое орудие
внешнего воплощения мышления, которое мыслящий дух создает
«из себя», чтобы для самого себя (в образе другого мыслящего
духа) стать предметом.
Реальное же орудие труда, каменный топор или зубило,
скребок или соха, в составе этой конструкции начинает
выглядеть как второе и вторичное - производное - орудие того
же самого процесса «опредмечивания», процесса
«опосредования» мышления с самим собой, как чувственно-предметная
метаморфоза мышления.
Эта схема, яснее всего очерченная в «Иенской реальной
философии», сохраняется далее и в «Феноменологии духа»
и в «Науке логики». Состоит она в том, что «мыслящий дух»
(или просто мышление) просыпается в человеке прежде всего
как «наименовывающая сила» («Namengebende Kraft»), а затем
уже, достаточно осознав себя в слове, приступает к созиданию
орудий труда, жилищ, городов, машин, храмов и прочих
атрибутов материальной культуры.
473
Таким образом, в слове и речи Гегель видит ту форму
«наличного бытия» мыслящего духа, в которой тот выявляет свою
творчески-созидающую силу (способность) раньше всего - до
и независимо от реального формирования природы трудом.
Последний лишь реализует то, что «мыслящий дух» открыл в
самом себе в ходе проговариванияу в ходе диалога самого себя
с самим собой. Но при таком освещении и сам этот «диалог»
оказывается лишь монологом мыслящего духа, лишь способом
его «манифестации».
В «Феноменологии духа» вся история и начинается поэтому
с анализа противоречия, возникающего между «мышлением»,
поскольку последнее выразило себя, то, что в нем содержится, в
словах «здесь» и «теперь» - и всем остальным, еще не
выраженным в этих словах, его же содержанием. «Наука логики» тоже
предполагает эту схему, содержит в своем начале ту же самую,
только неявно выраженную, предпосылку, мышление,
осознавшее и осознающее себя прежде всего в слове и через слово.
Неслучайно поэтому и завершение всей «феноменологической» и
«логической» истории мыслящего духа, ее возвращение к
своему исходному пункту: своего абсолютно-точного и
незамутненного изображения «мыслящий дух» достигает, естественно, в
печатном слове - в трактате по логике...
Вся эта грандиозная концепция истории «отчуждения»
(опредмечивания) творческой энергии мышления и
«обратного присвоения» ею плодов своего труда
(«распредмечивания»), начинающаяся со слова и в слове же замыкающая свои
циклы, как раз и есть та история, схема которой изображена
в «Науке логики».
Разгадка этой концепции не так уж сложна, основанием
всей сложной схемы служит старинное представление,
согласно которому человек сначала думает* а затем уже - реально
действует в мире. Отсюда и схема: слово - дело - вещь
(созданная делом) - снова слово (на этот раз -
словесно-фиксированный отчет о содеянном). А далее - новый цикл по той же самой
474
схеме, но на новой основе, благодаря чему все движение имеет
форму не «круга», а спирали, цикла циклов, «круга кругов»,
каждый из которых, однако, и начинается и заканчивается в
одной и той же точке, в слове.
«Рациональное зерно» - и одновременно
мистифицирующий момент этой схемы - легче всего рассмотреть сквозь
аналогию (хотя это и больше, чем просто «аналогия») с теми
метаморфозами, которые политэкономия выявила в анализе
товарно-денежного обращения. Схема последнего
выражается, как известно, в формуле: «Т - Д - Т». Товар (Т) выступает
тут ж как «начало», и как «конец» цикла, а Деньги - как «пос-
редующее звено» его, как «метаморфоза товара». Но в
определенной точке бесконечно замыкающегося на себя -
циклического - движения Т-Д-Т-Д-Т- Д... деньги перестают
быть просто «посредником» - средством обращения товарных
масс - и обретают вдруг загадочную способность к
«самовозрастанию». Схематически, в формуле, этот феномен
точнейшим образом выражается так: «Д - Т - Д*». Товару же,
подлинному исходному пункту всего процесса в целом, достается
их прежняя роль - роль посредника и средства, мимолетной
метаморфозы денег, в которую они «воплощаются», чтобы
совершить акт «самовозрастания». Деньги, которые обрели это
таинственное свойство, есть Капиталу и в образе капитала
Стоимость получает «магическую способность творить стоимость
в силу того, что сама она есть стоимость» - «она внезапно
выступает как саморазвивающаяся, как самодвижущаяся
субстанция, для которой товары и деньги суть только формы»1. В
формуле «Д - Т - Д*» стоимость предстаёт как «автоматически
действующий субъект»2, как «субстанция-субьект» всего
постоянно возвращающегося в свою исходную точку
циклического движения; «...стоимость становится здесь субъектом
некоторого процесса, в котором она, постоянно меняя денежную
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23, с. 165.
2Тамже,с. 164.
475
форму на товарную и обратно, сама изменяет свою величину,
отталкивает себя как прибавочную стоимость от себя самой
как первоначальной стоимости, самовозрастает», и это
происходит «на самом деле»1.
В «Науке логики» Гегель зафиксировал абсолютно ту же
самую ситуацию, «только не в отношении «стоимости», а в
отношении знания («понятия», системы понятий, «истины»).
Фактически он имеет дело с процессом накопления знания,
ибо «понятие» - это и есть накопленное знание, так сказать,
«постоянный капитал» мышления, который в науке всегда
выступает как терминологически зафиксированное «богатство
знания», «понятие» в форме слова.
А отсюда и представление, совершенно аналогичное
представлению о стоимости как о «самовозрастающей субстанции»,
как о «субстанции-субъекте», для которой товары и деньги -
суть только метаморфозы, мимолетно-обретаемые и
мимолетно-сбрасываемые ею «формы» ее «наличного бытия»...
Представим себе теперь экономиста, который пытается
теоретически объяснить загадку «самовозрастания стоимости»,
взяв за исходный пункт своего объяснения Деньги, а не Товар.
В этом случае мы будем иметь абсолютно точный
эквивалент гегелевской концепции развития мышления. Гегель с
самого начала фиксирует «мышление» (мыслящее познание,
«понятие») в словесной форме его «воплощения», его «наличного
бытия», как осмысленно произносимое Слово. Реальные же
вещи, созданные мыслящим человеком (орудия труда и
потребления) в этой схеме неизбежно станут выглядеть как вторая и
вторичная, производная, «форма воплощения» того же самого
«мышления», которое сначала «оформилось» как Слово...
«Понятие», для которого слово и вещь (создаваемая
человеком) оказываются лишь «формами» его «воплощения»,
мимолетно-пробегаемыми «метаморфозами», при таком
объяснении и определяется как «автоматически действующий
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. с. 164.
476
субъект», как «субъект-субстанция», как «саморазвивающаяся
субстанция (= субъект всех своих изменений)»...
Эта схема, как легко понять, вовсе не является горячечным
бредом и выдумкой идеалиста. Это просто такое же
некритическое описание реального процесса производства и
накопления знания («понятия», «системы понятий»), каким является и
политико-экономическая теория, бравшая за исходный пункт
своего объяснения точно зафиксированный, но
теоретически не понятый ею факт. Тот факт, что Деньги, выступая как
«форма движения капитала», как исходный пункт и цель всего
циклически-возвращающегося к «самому себе» процесса,
обнаруживают мистически-загадочную способность
самовозрастания, «саморазвития».
В этом случае стоимости, уже «воплощенной» в деньгах, в
известной денежной сумме, необходимо придется приписать
«имманентно заключенную в ней» способность саморазвития...
Факт, оставленный тем самым без объяснения, и
превращается в мистически-загадочный факт. Ему приписывается -
в качестве «имманентно-присущей» ему способности -
свойство, которое на самом то деле принадлежит вовсе не этому
факту, а совсем другому процессу, который выражается
(«отражает себя») в его форме.
Маркс, раскрывая в «Капитале» тайну «самовозрастания
стоимости» - тайну производства и накопления прибавочной
стоимости, - не по прихоти и не из кокетства, а намеренно и
последовательно-сознательно, использует всю приведенную
выше терминологию гегелевской Логики, гегелевской
концепции мышления, «понятия».
Дело в том, что идеалистическая иллюзия, создаваемая
Гегелем-логиком, имеет ту же самую природу, что и
практически-необходимые («практически-истинные») иллюзии, в сфере
которых вращается все сознание человека, насильно
втянутого в непонятный для него, независимо от его сознания и воли
совершающийся, процесс производства и накопления приба-
477
вочной стоимости, в процесс «самовозрастания стоимости».
Логическая и социально-историческая схема возникновения
этих иллюзий объективно и субъективно одна и та же.
Для капиталиста определенная сумма денег, определенная
стоимость в непременно-денежной формеу является исходным
пунктом всей его дальнейшей деятельности в качестве капиталиста
(а потому предпосылкой и условием sine qua non этой
деятельности), в качестве «персонифицированного капитала», а потому
- и формальной целью этой его специфической деятельности, его
жизнедеятельности как профессионала-капиталиста. Откуда и
как возникает первоначально эта денежная сумма вместе с ее
магическими свойствами, его специально интересовать не
может. Это - «не его дело». Он, как «персонифицированный
капитал», должен превратить эту денежную сумму в товары
определенного рода, чтобы, переработав и продав эти товары, вернуть
исходную денежную сумму с приращением* с «прибылью».
То же самое происходит и с профессионалом-теоретиком,
с человеком, представляющим собою, своей личностью,
«персонифицированное Знание», «персонифицированную Науку»,
«персонифицированное Понятие». Для него, для его
профессии, Знание, накопленное человечеством, не им лично, и
притом в строго зафиксированной словесно-знаковой форме, в
виде «языка науки», выступает одновременно и как исходный
пункту и как цель его специальной работы. Его личное участие
в процессе производства и накопления Знания («определений
Понятия») и заключается в том, чтобы приплюсовать к
исходному Понятию (к полученному им в ходе образования знанию)
новые определения.
Практика же, как вне и независимо от него
совершающийся процесс созидания «вещей», и «вещи», созидаемые
этой практикой, его интересует главным образом как процесс
«овеществления» и проверки его теоретических выкладок, его
рекомендаций, как процесс «воплощения Понятия», как «фаза
логического процесса».
478
На «практику» теоретик неизбежно смотрит так, как
смотрит драматург на спектакль, поставленный по его пьесе,
его интересует, естественно, вопрос - насколько точно и полно
«воплощен» его замысел, его идея, и какие уточнения он
должен внести в свой текст, чтобы на сцене этот замысел получил
еще более адекватное «воплощение»...
Поскольку Понятие (или система понятий с маленькой
буквы) выступает для теоретика и как исходный пункт, и как
цель его деятельности, он и на весь процесс в целом неизбежно
смотрит со своей точки зрения - как на процесс, протекающий
по схеме: Понятие - процесс «овеществления» Понятия -
анализ результатов этого «воплощения» - выражение результатов
этого анализа снова в Понятии. Понятие, совершив цикл своих
превращений, снова «возвращается» к «самому себе», в
исходную форму своего «наличного бытия» - в Слово, в формулу, в
систему терминологически-отработанных определений.
Естественно, что с этой специальной точки зрения
Понятие и начинает казаться «саморазвивающейся субстанцией»,
«автоматически действующим субъектом»,
«субъектом-субстанцией всех своих изменений», всех своих «метаморфоз».
Вопрос же о том, откуда вообще возникает самое
Понятие, выступающее сначала в образе Слова, и уже затем - в виде
Вещи, созидаемой Делом (сознательной и целесообразной
деятельностью, опирающейся на Слово), становится, с этой
точки зрения, во-первых, неразрешимым, а, во-вторых -
довольно безразличным. Столь же безразличным, сколь безразличен
для капиталиста вопрос о том, откуда же вообще возникает
Стоимость. Для него - для его жизнедеятельности - наличие
стоимости является предпосылкой, такой же «естественной» и
«необходимой», как наличие воздуха для живого существа. Его
специально интересует уже не вопрос о том, откуда вообще
берется «стоимость», а только вопрос о том, что и как он
должен делать с этой «стоимостью», чтобы получить «прибыль»,
чтобы превратить ее в «самовозрастающую стоимость».
479
Происхождение предпосылок, при наличии которых вообще
становится возможной его специфическая жизнедеятельность,
ее специфические формы, правила и законы, предпосылок,
созревающих вне, до и независимо от его собственной работы, его,
естественно, специально интересовать не может. Он вынужден
брать их как нечто готовое, как нечто данное, как нечто уже
наличное, как материал собственной деятельности.
Аналогично смотрит на весь «внешний мир» и теоретик,
профессионал умственного (духовного) труда, как на «сырье»
или «полуфабрикат» производства и накопления Знания,
«определений Понятия». «Понятие» с самого начала является той
«стихией», которой он живет, которой он дышит, которую он
персонифицирует, тем «субъектом», от имени коего он
выступает в качестве полномочного представителя.
Отсюда - из реальной формы жизнедеятельности
профессионала-теоретика - и растут все те
практически-необходимые иллюзии насчет «мышления» и «понятия»,
систематическое выражение которых и представляет собой гегелевская
«Наука логики».
Поэтому понять гегелевскую логику легче всего, если
смотреть на нее как на систематическое, и одновременно
некритическое, описание тех «форм мышления», в рамках которых
протекает весь процесс «производства Понятия», т. е. специальная
деятельность профессионала-теоретика, профессионала
умственного труда, человека, для которого Понятие (система
понятий) является и исходным пунктом - условием и предпосылкой - и
целью - итоговым результатом - работы, а «практика» играет
роль «посредствующего звена» между началом и результатом,
роль «метаморфозы Понятия», роль его «инобытия».
Если говорить еще точнее, то гегелевская Логика
обрисовывает ту систему «объективных форм мысли», в рамках
которых вращается процесс расширенного воспроизводства
Понятия, процесс «накопления» определений понятий, процесс,
который в его развитых формах никогда не начинается «с
480
самого начала», а совершается как процесс
«совершенствования» уже наличных понятий, как процесс преобразования уже
накопленного теоретического знания, как процесс его
«приращения». Понятие как таковое здесь всегда уже
предполагается как своего рода плацдарм новых завоеваний, речь идет о
расширении сферы познанного - а исходные понятия тут
играют активнейшую роль. Чем больше капитал, тем большую
он дает и прибыль, хотя бы норма этой прибыли и имела
неуклонную тенденцию к понижению...
Всмотримся в аналогию процесса расширенного
воспроизводства Понятия с процессом производства и накопления
прибавочной стоимости, который на поверхности выглядит
как процесс «самовозрастания стоимости», взятой за исходный
пункт. Здесь та же самая видимость - процесс в целом
выглядит как процесс «саморазвития Понятия», как процесс
«самовозрастания определений Понятия», и формы, в рамках
которых протекает этот процесс, тоже кажутся «естественными» и
«вечными» формами производства продукта труда вообще.
Если фиксировать отдельные формы проявлений,
которые расширяющееся, «возрастающее» Знание попеременно
принимает в своем жизненном кругообороте, то получаются
такие определения: Наука (накопленное знание) есть слова
(«язык науки»). Наука есть вещи (созданные на основе знания,
«опредмеченная сила знания»).
Знание («понятие») становится здесь субъектом
некоторого процесса, в котором оно, постоянно меняя словесную
форму на предметно-вещественную, само изменяет свою
величину, свои масштабы, отталкивает себя как прибавленное знание
от себя самого, как исходного знания, саморазвивается. Ибо
движение, в котором оно присоединяет к себе новое знание,
есть его собственное движение, следовательно, его
возрастание есть самовозрастание, самоуглубление, саморазвитие. Оно
получило магическую способность творить знание в силу того,
что само оно есть знание...
481
Поэтому тут совершенно так же, как в процессе
производства и накопления прибавочной стоимости реальные
формы этого процесса выглядят как формы «самовозрастания
стоимости», логические формы (реальные формы производства
знания) начинают выглядеть как формы саморазвития этого
знания. Тел самым они и мистифицируются.
И состоит эта мистификация «всего-навсего» в том, что
схема, совершенно точно выражающая моменты деятельности
профессионала-теоретика, принимаются и выдаётся за схему
развития знания вообще.
Абсолютно та же мистификация, что и в политэкономии,
где «товар» и «деньги» оказываются «метаморфозами»,
которые попеременно принимает капитал, чтобы совершить акт
«самовозрастания».
Формула капитала (= накопленного прибавочного
труда): Д - Т - Д*, - в противоположность формуле простого
товарного производства и обращения, где Деньги только
«опосредствуют» обмен и «исчезают» в конечном пункте
движения, в Товаре.
Но коварство этой формулы (Д - Т - Д*) заключается
именно в том, что здесь «и товар и деньги функционируют
лишь как различные способы существования самой
стоимости: деньги как всеобщий, товар - как особенный и, так сказать,
замаскированный способ ее существования»1.
И если движение «стоимости» рассматривается сразу в той
форме, которую оно обретает в капитале, т. е. в форме «Д - Т - Д*»,
где исходной точкой выступают деньги, а товар - играет роль
посредника-средства акта «приращения» исходной денежной
суммы, то «стоимость» уже неизбежно начинает
представляться субъектом обеих «форм своего собственного проявления» - и
денег, и товара, то есть некоторой таинственной «сущностью»,
которую мы уже вынуждены предположить существующей до
своего «обнаружения» в деньгах и в товаре...
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. с. 164.
482
В этой формуле уже имплицитно (скрыто, неявно)
заключено то представление, что и «товар» и «деньги» суть только
мимолетные «метаморфозы стоимости», своего рода маски, в
которых она выступает, поочередно их сбрасывая и надевая,
чтобы совершить акт «самовозрастания». Мистификация
заключена уже в том, что товар взят сразу как «форма
проявления стоимости» - наряду с деньгами - в то время, как дело
обстоит как раз наоборот, и сама «стоимость» первоначально
возникаегПу рождается в качестве «формы товара», в качестве
абстрактного момента этой «простейшей экономической
конкретности». Разоблачая мистификации, связанные с категорией
стоимости, Маркс поэтому и подчеркивал, что его
исследование начинается не с анализа «стоимости», а с анализа товара.
С логической точки зрения это принципиально важно,
ибо именно анализ товара, товарной формы продукта труда,
разоблачает тайну рождения, возникновения «стоимости», а
затем - и тайну ее «проявления» в деньгах, в денежной форме.
Если же «товар» рассматривается сразу в той роли,
которую он играет в движении капитала, - процессе, точно
выражаемом формулой «Д - Т - Д*», в роли «опосредующего звена»,
замыкающего цикл, началом и концом коего выступают
деньги, то тайна рождения стоимости становится
принципиально неразрешимой, остается тайной.
Совершенно то же самое происходит с понятием
«мышления», с «понятием понятия» в гегелевской схеме.
Гегель непосредственно исходит из рассмотрения
мышления, уже развитого до степени научного мышления,
научного познания, - мышления, уже превратившегося в Науку, и
рассматривает не процесс возникновения знания, а процесс его
приращения, в ходе которого ранее накопленное знание играет
активнейшую роль.
Совершенно естественно что реальные вещи, созидаемые
реальной же деятельностью человека, рассматриваются здесь
исключительно в той их роли, которую они играют в пределах
483
этого процесса - процесса приращения уже накопленного
знания - уже имеющихся «определений понятия»,
зафиксированных в слове, в «языке науки».
Гегель фиксирует те моменты, которые действительно
пробегает процесс мышления в его развитой форме, в форме
науки, как особой (обособившейся) сферы разделения
общественного труда, - и формула, которая совершенно точно
отражает тут поверхность процесса, выглядит так: С - Д - С, где
С - словесно зафиксированное знание, знание в его всеобщей
форме, в форме «языка науки», в виде формул, схем, символов
всякого рода, моделей, чертежей и т. д. и т. п.
Слово - язык в широком смысле - действительно и есть
та всеобщая форма, в которой непосредственно выступает
накопленное знание. Реальные же вещи (и события), создаваемые
целенаправленной деятельностью человека, в пределах этой
формулы действительно выступают как «опосредующее
звено» процесса, началом и концом коего выступает Слово,
знание в его всеобщей форме.
Слово и Вещь и выступают здесь как две формы
«проявления», «осуществления» Знания, Понятия, которые это
«понятие» проходит в своем жизненном кругообороте, постоянно
«возвращаясь к себе».
Картина получается в точности такая же, как и на
поверхности движения капитала, накопленного труда,
выраженной формулой Д - Т - Д*. В этой формуле выражено
реальное свойство «стоимости», выступающей в образе и форме
капитала. В пределах этой формулы (и реальности, ею
выраженной) «стоимость постоянно переходит из одной формы в
другую» никогда, однако, не утрачиваясь в этом движении, и
превращается таким образом в автоматически действующий
субъект»1.
То же самое происходит и здесь. Гегелевское толкование
«мышления» («понятия») как субъекта^ существующего вне, до
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. с. 164.
484
и независимо от сознания человека, лишь на первый взгляд
кажется диким, непонятным и несуразным.
На самом же деле это представление есть не что иное, как
некритически описанное реальное свойство человеческого
мышления, развитого до степени научного мышления,
мышления, как оно осуществляется в образе Науки. Ведь Наука -
это и есть мышление, развившееся в особую сферу разделения
общественного труда, обособившееся в особую сферу
деятельности, реально противостоящую другим формам деятельности
и, стало быть, осуществляющим их индивидам.
В виде Науки, в виде системы «определений понятия»,
мышление действительно, и вовсе не в фантазии идеалиста,
противостоит индивиду с его сознанием и волей как вне его
сознания существующая, как до его рождения
сформировавшаяся, как абсолютно независимо от его индивидуального
сознания и воли развивающаяся «реальность». Реальность,
которая непосредственно «воплощена» в «языке науки», в ее
терминологии, в ее формулах и символике, и которая затем
«воплощается» также и в вещах, создаваемых по ее
предначертаниям, выступая как производительная сила. Как творческая
сила, созревшая и осознавшая себя сначала в «слове», а затем
уже выступившая из царства «теней Амента» в сферу вне ее
существующей и ей противостоящей «грубо-материальной»
действительности...
Вот это-то Мышление, мышление в образе
развивающейся науки и техники, как вполне объективный, т. е. не
зависящий от воли и сознания индивида и даже вне
сознания отдельного индивида совершающийся процесс, а вовсе
не психический процесс, протекающий под черепной
крышкой этого индивида, и есть тот реальный предмету описанием
форм и законов развития коего выступает «Наука логики».
Это «мышление» осуществляется как совершенно безликий
и безличный акт на протяжении всей истории человеческой
культуры, и «субъектом», осуществляющим этот акт, оказы-
485
вается только человечество в его развитии. Поэтому
«логические формы» - это формы развития всеобщего,
коллективно-осуществляемого «дела», и в рамках этого деда они только
и могут быть обнаружены.
Индивид с его «сознательным мышлением», «втянутый»
в этот совершенно независимо от его воли и сознания
совершающийся процесс, участвует в нем лишь постольку,
поскольку его индивидуальное мышление вносит в общее дело, цели
и формы которого заданы ему извне в ходе его образования,
лишь такой «вклад», который согласуется с требованиями
«всеобщего» развития и потому ассимилируется этим всеобщим
развитием, принимается им, и таким образом превращается в
штрих, в деталь - в «определение» - всеобщего «духа»,
всеобще-человеческого Мышления. В противном случае результат
индивидуально-осуществляемого - «сознательного» -
мышления отталкивается, не принимается, или же существенно
корректируется «сознательным мышлением» других индивидов,
иногда до неузнаваемости.
Этим путем «всеобщее мышление» и осуществляет себя
через «индивидуальное», вызывая внутри этого индивидуального
мышления - внутри «сознательного мышления» - совершенно
неожиданные и непонятные для последнего коллизии,
возмущения, противоречия, конфликты, антиномии, и тем самым
заставляя индивида с его индивидуальным мышлением искать
выход до тех пор, пока он этот выход не найдет или не будет
отброшен в сторону как негодное орудие «всеобщего развития
духа» - или «развития всеобщего Духа», что одно и то же.
Всеобщие - логические - формы и «правила», которым
подчиняется это всеобщее развитие, хотя бы ни один из
непосредственно осуществляющих его индивидов того не
осознавал, поэтому и не могут быть выявлены в «опыте»
отдельного мыслящего индивида, в «опыте конечного мышления», как
называет его Гегель. Они проступают только в масштабах того
грандиозного жизненного кругооборота, который совершает
486
«дух в целом», и в циклы которого вовлечены миллионы
мыслящих индивидов, каждый из которых «мыслит» лишь
отчасти в согласии с требованиями «всеобщего духа», а отчасти - в
противоречии с ним.
Принципиальный недостаток всей прежней логики Гегель
и видит прежде всего в том, что она пыталась нарисовать образ
«мышления вообще», исходя из «опыта конечного мышления»,
по образцу (по «модели») индивидуально-осуществляемого
мышления. Уже здесь был заключен принципиальный
просчет, ибо Мышление вообще (которое Гегель именует
«бесконечным», «абсолютным» мышлением) представлялось просто
как многократно повторенное индивидуальное («конечное»)
мышление. В ранг «логических» форм и законов мышления
поэтому и возводились лишь формы и правила этого
«конечного мышления», понимаемого как вполне сознательно
совершаемый акт, т. е. те общие схемы, которые можно обнаружить в
каждом сознательно осуществляемом процессе рассуждения,
как схемы, одинаковые для всех и одинаково признаваемые
каждым отдельно-мыслящим индивидом, как «правила», которые
каждый такой индивид знает и признает как «свои», хотя и не
всегда доводит их до ясной словесной формулировки.
Но поскольку индивид с его мышлением (понимаемым
как сознательно совершаемая деятельность) втянут в
независимо от его воли и сознания совершающийся процесс развития
Науки и Техники, постольку ход его мышления всегда
существенно корректируется со стороны «всеобщего мышления»,
непосредственно выступающего против него как мышление
«всех остальных индивидов», и в конце концов подчиняется
его корректирующему воздействию.
Однако действия, которые индивидуальное мышление
совершает тут как свои собственные действия, хотя и под
давлением «извне», со стороны всеобщего (коллективного)
мышления, будут осуществляться им без сознания того факта, что и в
данном случае им управляют логические законы, законы Мыш-
487
ления. Эти законы и формы Мышления будут реализоваться
через его индивидуальную психику бессознательно.
(Не вообще бессознательно, а без их логического
осознания, т. е. без их выражения в логических категориях. Другим
сознанием необходимости совершать такие действия
индивид, конечно, будет. Только он всегда будет приписывать эти
действия своего собственного мышления, не укладывающиеся
в схематизм формальной логики, воздействию на мышление
каких-либо иных, внелогических и алогичных факторов -
влиянию «созерцания» или «интуиции», «фантазии» или «воли»,
«желаний» или «памяти», и т. д. и т. п., в то время как под
маской всех этих «факторов» как раз и скрывается власть
«мышления вообще» над его индивидуальным мышлением).
Отсюда то и получается та нелепая ситуация, когда все
действительные формы и законы, в рамках которых и в согласии с
которыми всегда протекает реальное мышление в его реальном
осуществлении, т. е. в виде Науки, Техники и Нравственности,
воспринимаются и расцениваются не как формы и законы Мышления*
а как совершенно «внешняя» по отношению к мышлению
необходимость, и потому вообще не исследуются в логике как науке...
В связи с этим Гегель и вводит одно из своих важнейших
различении, между «мышлением в себе» (an sich) - которое и
составляет предмет, объект исследования в логике, и
«мышлением для себя» (für sich selbst), т. е. мышлением, которое
полностью осознает те схемы, принципы и законы, в рамках
которых оно само всегда совершается, и совершается в согласии с
ними вполне сознательно, отдавая себе самому ясный отчет в
том, что, как и почему оно делает.
Это и означало, что Мышление - благодаря Логике -
должно стать «для себя» тем же самым, каким оно до Логики было
лишь «в себе», в ходе стихийно протекавшего акта созидания
Науки, Техники и Нравственности.
Логика, толкуемая как «сознание», которое это мышление
имеет о самом себе, «о своей чистой сущности», с одной сторо-
488
ны, и действительные «дела» этого мышления, с другой, -
«являют столь огромное различие, что даже при самом
поверхностном рассмотрении не может не бросаться тотчас же в глаза,
что это последнее сознание совершенно не соответствует тем
взлетам и недостойно их»1.
Гегель ставит перед логикой задачу - сделать сознание
мышления о самом себе - тождественным его предмету, то есть
тем формам и законам, которым в действительности -
вопреки своему наличному сознанию (имеющейся логике) -
подчиняется в своем развитии «мышление в себе».
Ничего большего и не означает принцип тождества
субъективного и объективного^ как он понимается и
формулируется Гегелем. Это означает всего-навсего, что и «субъектом», и
«объектом» в Логике является одно и то же мышление Речь идет
о согласовании схем «сознательного мышления» со схемами
того «всеобщего мышления», которое сотворило весь мир
науки, техники и нравственности, - об адекватном осознании
последних, и ни о чем более.
Поэтому когда Гегель утверждает, что в Логике (именно и
только в Логике! - чего нельзя упускать из виду)
«противоположность между субъективным и объективным (в ее обычном
значении) отпадает»2, то это означает прямо и
непосредственно лишь то обстоятельство, что в логике предметом
(объектом) мышления выступает само же мышление, а не что-нибудь
иное, что логика и есть «само себя мыслящее мышление», т.
е. «субъект», сам себя сделавший объектом своей собственной
деятельности, или же «объект», обретающий в логике сознание
своих собственных действий, их схем и «правил», и тем самым
становящийся «субъектом». Иными словами, здесь имеется в
виду «субъект» и «объект» не в «обычном» значении этих
терминов, а как чисто-логические понятия в гегелевском
смысле этого слова, как категории мышления, причем мышления в
1 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. ТА, с. 105.
2 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. I, с. 53,
489
разъясненном смысле, как способности, реализуемой в виде
науки, техники и нравственности, а не только и не столько в
виде говорения, в виде «немой речи».
Нетрудно заметить, что в этой
схоластически-замаскированной форме Гегель совершенно точно выразил
фундаментальную особенность человеческой жизнедеятельности,
способность человека (как существа «мыслящего») смотреть на
самого себя как бы «со стороны», как на «нечто другое», как на
особый «предмет» («объект»), или, иными словами, превращать
схемы своей собственной деятельности в объект ее же самой.
Это та самая особенность человека, которую молодой
Маркс - и именно в ходе критики Гегеля - обозначил
следующим образом:
«Животное непосредственно тождественно со своей
жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей
жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же
делает самоё свою жизнедеятельность предметом своей воли и
своего сознания, его жизнедеятельность - сознательная. Это
не есть такая определенность, с которой он непосредственно
сливается воедино»1.
Поскольку Гегель рассматривает эту реальную
особенность человеческой жизнедеятельности исключительно
глазами логика, постольку он и фиксирует ее лишь в той форме,
в какой она уже превратилась в схему мышления, в
«логическую» схему, в правило, в согласии с которым человек уже более
или менее сознательно строит свои частные действия (будь то
в материале языка или в любом другом материале).
«Вещи» и «положение вещей» (дел) вне сознания и воли
индивида («Dinge und Sache») и фиксируются им внутри этой
схемы исключительно как ее «моменты», как «метаморфозы»
мышления («субъективной деятельности»), реализованного и
реализуемого в естественно-природном материале, включая
сюда и органическое тело самого человека. Поэтому особен-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 565.
490
ность человеческой жизнедеятельности, описанная выше
словами Маркса, и выглядит в гегелевском изображении как
«осуществляемая» человеком схема мышления.
Реальная картина человеческой жизнедеятельности в ее
реальных особенностях и получает здесь перевернутое, с ног
на голову поставленное, изображение.
В действительности человек «мыслит» в согласии с этой
схемой потому, что такова его реальная жизнедеятельность.
Гегель же говорит наоборот: реальная человеческая
жизнедеятельность такова потому, что человек мыслит в согласии
с определенной схемой. Естественно, что все реальные
определения человеческой жизнедеятельности - а через нее - и
«положения вещей» вне головы человека, фиксируются здесь
лишь постольку, поскольку они «положены мышлением»,
выступают как результат мышления.
Естественно - ибо логика, специально исследующего
мышление, интересует уже не «вещь» (или «положение вещей») как
таковая, как до, вне и независимо от человека с его
деятельностью существующая реальность (последнюю рассматривает
вовсе не он, логик, а физик или биолог, экономист илм
астроном), а «вещь», как и какой она выглядит.в глазах науки - т. е.
в результате деятельности мыслящего существа, «субъекта», в
качестве продукта мышления, понимаемого как деятельность,
специфическим продуктом которой и является понятие -
понимание существа дела.
В понимании «сути дела» деятельность мышления и
резюмируется, «объективируется», и потому «определения
понятия», непосредственно выступающие как определения
«вещей», для логика суть снятые в продукте определения
деятельности, этот продукт создавшей.
Поэтому тезис Гегеля, согласно которому различение
между «субъективным» и «объективным» в обычном значении
этих слов не касается логики с ее своеобразным углом зрения,
вовсе не есть проявление наивной слепоты идеалиста по отно-
491
шению к этому очевиднейшему различению, а есть
сознательно принятая установка на выявление тех, и именно тех форм
и законов деятельности мыслящего существа, которые имеют
вполне объективный характер, т. е. не зависят от воли и
сознания самих мыслящих индивидов, хотя и реализуются именно
и только через сознательно-волевые акты (действия) этих
индивидов, через их «субъективность».
Это - объективные формы и законы самой
субъективности, те схемы ее развития, которым она безусловно
подчиняется даже в том случае, если субъект их не сознает. В этом случае
они реализуются помимо и даже вопреки его воле, его
сознательно осуществляемым действиям, вопреки тем «логическим
схемам», в согласии с которыми он сознательно строит схемы
своих действий.
Гегель, иными словами, прослеживает диалектику
«субъективного» и «объективного» в том ее виде, в каком она уже
успела выразиться (отразиться) внутри «субъекта», внутри
самого процесса мышления, процесса развития понятий.
Под «объективным» тут имеется в виду объект не сам
по себе, а объект, как он представлен в понятии, как понятие
(«понимание») объекта, предоставленное
логику-профессионалу современной ему наукой, современным ему Мышлением
с больший буквы.
Это-то «мышление», представленное в его результатах, для
логика и есть тот единственный «объект», который он исследует.
И в этом объекте он обнаруживает явные ножницы, явное
расхождение, между тем, что мыслящий человек делает вполне
сознательно - т. е. отдавая себе отчет в том, что и как он делает, в
понятиях известной ему «логики» - и тем, что он делает на самом деле,
не отдавая себе в том такого отчета, а приписывая необходимость
такого рода действий, не укладывающихся в схемы известной ему
логики, «внелогическим» факторам и обстоятельствам,
заставляющим его систематически «нарушать» сознательно исповедуемые
им логические правила и императивы...
492
Его собственное мышление, таким образом, опровергает
те самые «правила», которые он считает «законами
мышления», т. е. «впадает в диалектику», в ту самую диалектику,
которая безусловно запрещается этими правилами.
Поэтому-то явное расхождение между «логикой»,
понимаемой как совокупность сознательно применяемых
«правил» сознательного рассуждения - и Логикой, как подлинным
- объективным - законом развития мышления, до сих по не
осознанным, и трактуется Гегелем как противоречие
внутри мышления, выражающееся также и внутри сознательного
мышления, мышления в согласии с «правилами». Здесь оно
выступает как постоянное, систематически (т. е. закономерно)
осуществляемое «нарушение правил», продиктованное
невозможностью их соблюсти в реальном мышлении.
Гегель демонстрирует это обстоятельство на мышлении,
которое продуцирует понятия о самом себе, т. е. на мышлении, как
оно выступает в самой логике, реализуется как «логика»; он
фиксирует тот факт, что «правила», устанавливаемые этой логикой,
нарушаются уже в самом ходе установления этих самых правил...
Претендуя на роль законодательницы всего царства мышления,
традиционная логика ведет себя как своенравный удельный
князек, считающий «законы», издаваемые им для подданных,
обязательными для всех - но только не для себя самого.
Все так называемые «логические законы»,
долженствующие играть роль правил доказательства, условий
доказательности мышления, эта логика, однако, не доказывает, а просто
постулирует, утверждает как догмы, в которые надлежит слепо
веровать, не задаваясь вопросом - почему? Она их не
обосновывает, не «опосредует», а просто заверяет, ссылаясь на то, что
наша «способность мышления» так уж устроена... Особенно
отчетливо это видно там, где традиционная логика
формулирует так называемый «закон достаточного основания».
«Формальная логика дает установлением этого закона
мышления дурной пример другим наукам, поскольку она тре-
493
бует, чтобы они не признавали своего содержания
непосредственно, между тем как она сама устанавливает этот закон, не
выводя его и не доказывая его опосредствования. С таким же
правом, с каким логик утверждает что наша способность
мышления так уж устроена, что мы относительно всего
принуждены спрашивать об основании, с таким же правом мог бы медик
на вопрос, почему утопает человек, упавший в воду, ответить:
человек так уж устроен, что он не может жить под водой»1.
Конечно же, ирония Гегеля абсолютно справедлива -
«закон», который провозглашается «логическим законом», т. е.
правилом, которому обязано подчиняться мышление вообще,
мышление в любом его частном применении, утверждается
как раз через вопиющее его нарушение.
Гегель же требует от логики, чтобы она была прежде всего
сама логичной, ведь если логика - тоже наука, тоже мышление,
то в развитии собственных положений и понятий она и
обязана первой соблюдать все те требования, которые она
формулирует как всеобщие, как «логические». Поскольку она сама
их не соблюдает, она и доказывает, помимо своей воли и своих
сознательных намерений, что формулируемые ею правила
всеобщими, т. е. логическими, не являются.
Далее. Эта логика требует от мышления
«последовательности». Но - «основной ее недостаток обнаруживается в ее
непоследовательности, в том, что она соединяет то, что за
минуту до этого она объявила самостоятельным и, следовательно,
несоединимым...»2.
Поэтому-то и внутри самой этой «логики», и внутри
мышления, руководствующегося диктуемыми ею правилами,
царит безвыходный плюрализм, отсутствие какой бы то ни было
необходимой связи между отдельными утверждениями. Она
кишит формальными противоречиями, только предпочитает
этого обстоятельства не замечать.
1 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. I, с. 208.
2Тамже,с. ПО.
494
Так, провозглашая «закон тождества» и «запрет
противоречия в определениях», «закон противоречия», высшими и
абсолютными законами мышления вообще, эта логика
позволяет себе в первых же строках своих изложений заявлять, что
логика есть наука. Но ведь логической формулой такого рода
заявлений («Иван есть человек», «Жучка есть собака»,
«логика есть наука» и т. д. и т. п.) является прямое отождествление
непосредственно различных, нетождественных определений
(особенное есть всеобщее, единичное есть общее).
Мышлению, которое «осознает себя» в виде
традиционной формальной логики, «недостает простого сознания того, что,
постоянно возвращаясь от одного к другому, оно объявляет
неудовлетворительным каждое из этих отдельных определений, и
недостаток его состоит просто в неспособности свести воедино
две мысли (по форме имеются налицо лишь две мысли)»1.
Эта манера рассуждать («мыслить»), согласно которой все
вещи на свете надлежит рассматривать «как со стороны
тождества их друг другу», «так и со стороны их отличий друг от
друга», «с одной стороны - так, а с другой стороны - эдак», т.
е. прямо наоборот - «в одном отношении как одно и то же, а в
другом отношении - как не одно и то же» - как раз и
составляет подлинную логику этой «логики».
В силу этого прежняя логика и соответствует, в качестве
теории, той самой практике мышления, которая «логична» лишь по
видимости, а на деле никакой необходимости в себе не содержит.
Эта логика (как теория, так и практика ее «применения»)
на самом деле («в себе») насквозь диалектична в ее собственном,
укоризненном, смысле этого слова; она кишит
неразрешенными противоречиями, делая при этом вид, будто никаких
противоречий нет. Она постоянно совершает действия, запретные
с точки зрения ее же собственных постулатов, ее «законов» и
«правил», только не доводит этого факта до ясного осознания,
до выражения через свои собственные принципы...
1 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. I, с. 111.
495
Внутри самой теории логики эта диалектика выражается
уже в том, что так называемые «абсолютные законы
мышления» - точнее «те несколько предложений, которые
устанавливаются как абсолютные законы мышления» - оказываются «при
ближайшем рассмотрении противоположными друг другу; они
противоречат друг другу и взаимно упраздняют одно другое»1.
Гегель, как нетрудно заметить, ведет критику
традиционной логики - и мышления, этой логике
соответствующего - тем самым «имманентным» способом, который и
составляет одно из главных завоеваний его собственной Логики. А
именно - он противопоставляет утверждениям («правилам»
и «законам») этой логики не какие-то другие утверждения^ а
процесс практической реализации ее же собственных
положений в реальном мышлении. Он показывает ей ее
собственное изображение в зеркале ее же собственного «сознания», ее
же собственных основоположений.
Он не оспаривает ее представления, ее «понятия
мышления», т. е. соглашается с нею в том, что «сознательное мышление»
(которое она только и исследует) действительно таково, что оно
действует в согласии с теми самыми «правилами», которые оно
само себе задает и потому признает как «кодекс», по которому
его можно и нужно судить. Он показывает, однако, что именно
неукоснительное следование принципам «сознательного
мышления» необходимо, с неумолимой силой, приводит к
отрицанию этих самых принципов, в чем и обнаруживается их
собственная абстрактность - т. е. неполнота и односторонность.
Это - та самая критика рассудка с точки зрения самого же
рассудка, которую начал уже Кант в своей «Критике чистого
разума». Это та самая критика, которая приводит к выводу,
что «диалектика составляет природу самого мышления, что
в качестве рассудка оно должно впадать в отрицание самого
себя, в противоречие...»2.
1 Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. V, с. 481.
2 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. I, с. 28.
496
К этому выводу пришел уже сам Кант, и если до Канта
«логика» могла быть несамокритичной по неведениюу то теперь она
может сохранять свои позиции лишь а том случае, если будет
уже вполне сознательно отворачивать свой нос от неприятных
для нее фактов, - если она сделается уже сознательно
несамокритичной.
Главную слабость старой - чисто-формальной -
логики Гегель и видит в том, что она, на самом деле нагромождая
противоречия на противоречия, старается этого своего
собственного «продукта» не замечать, старается вновь и вновь
делать вид, будто никаких «противоречий» в ее составе нет, что
это - лишь «мнимые противоречия», «противоречия в разных
отношениях» или «в разное время» (т. е. на разных страницах
ее собственных изложений), и тем самым оставляет их в
мышлении неразрешенными.
Гегель видит главную и самую острую проблему, вставшую
перед логикой как наукой в результате трудов Канта, Фихте и
Шеллинга, именно в том, чтобы найти, выявить и указать
реальному мышлению логический метод разрешения противоречий,
в которые оно впадает именно потому и постольку, поскольку и
в силу того, что оно сознательно и неукоснительно
руководствуется традиционной логикой, т. е. обладает лишь относительно
верным, но крайне абстрактным, сознанием относительно
самого себя, абстрактно-неполноценным «самосознанием».
В этом именно и заключается действительное отличие
гегелевской логики от всех предшествующих ей логических
концепций. А вовсе не в том, как до сих пор утверждают адепты
архаически-догегелевского состояния логической мысли, что
прежняя логика, якобы, заботилась об «освобождении»
мышления от «противоречий в определениях», а Гегель задался
злокозненной целью эти противоречия в мышлении узаконить,
придать им статус «правильной формы» любой логической
конструкции и реконструкции действительности. Такое
объяснение гегелевского отношения к «противоречию» и до сих
497
пор вдохновляется желанием во что бы то ни стало
дискредитировать идею диалектической логики при неспособности
справиться с нею на теоретической почве.
Дело между тем обстоит как раз наоборот. Гегель
совершенно согласен с прежней логикой в том отношении, что
«логических» противоречий, в смысле неразрешенных,
«неопосредованных» противоречий, в смысле антиномий, в составе
логически разработанной теории (в том числе в составе самой
логики) быть «не должно».
В этом он видит «рациональное зерно» пресловутого
«запрета противоречия». Согласно Гегелю «противоречие» должно
быть не только выявлено мышлением, не только остро
зафиксировано им, но и должно найти свое логически-теоретическое
разрешение. Более того, это разрешение противоречие должно
быть достигнуто тем же самым логическим процессом, который
его и выявил, на пути дальнейшего развития определений
понятия, понимания сути дела, в которой оно обнаружилось.
А не на пути софистического жульничества, не на пути
жалкого самообмана и самовнушения, диктуемого желанием
во что бы то ни стало «доказать», что никакого противоречия
в мышлении нет и быть не может, если это мышление было
«правильным» (т. е. в точности соблюдало все «правила»
формальной логики), а есть лишь «видимость противоречия»,
получающаяся от смешения «разных смыслов термина», «разных
отношений» и т. п. Короче говоря, прежняя логика всегда
пытается истолковать выявившееся в мышлении противоречие как
результат и показатель ошибки, допущенной этим мышлением
где-то «раньше», т. е. как результат отступления от «правил»,
совершенного где-то в ходе предшествующих «рассуждений».
Такое толкование происхождения противоречий в
определениях понятия развенчал до конца уже Кант, и после Канта
настаивать на нем просто стыдно. Гегель утверждает, в
полном согласии с Кантом, что «противоречие» в мышлении (в
составе определений понятия) возникает вовсе не в силу не-
498
ряшливости, недобросовестности или «недосмотра», а именно
как неумолимо-неизбежный результат самого что ни на есть
«правильного» мышления (т. е. мышления, сознательно
руководствующегося так называемыми «абсолютными законами
мышления» - законом тождества и запретом противоречия).
Однако - в отличие от Канта - Гегель понимает и утверждает,
что эти противоречия могут и должны быть разрешены на пути
дальнейшего логического развития определении понятия, что они
не могут сохраняться на веки вечные в форме антиномий.
Но - и все дело именно в этом - именно для того, чтобы
мышление могло их разрешить, оно обязано предварительно
их четко и резко зафиксировать, именно как антиномии,
именно как неразрешенные противоречия, как логические, как
действительные, а вовсе не как «мнимые».
Такому отношению к противоречиям традиционная
логика как раз и не учит. И не только не учит, а и прямо мешает
научиться, поскольку упрямо толкует эти противоречия как
результат ранее допущенного «нарушения» правил
«сознательного рассуждения». На основе такого - докантовского,
«докритического» - представления она и разрабатывает
хитроумнейшую технику избавления от противоречий, технику
их упрятывания от сознания, технику их «шунтирования», то
бишь их замаскировывания, проявляя при этом
изощреннейшую лингвистическую ловкость, словесную изворотливость.
Этим она делает мышление, доверившееся ее рецептам,
слепо-несамокритичным, приучая его упорствовать в догмах,
в абстрактно-непротиворечивых утверждениях и избегать
реальных проблем, подлежащих научному разрешению, ибо
реальная проблема, неразрешенная еще мышлением, всегда
«логически» выражается в виде антиномии, в виде
неразрешенного противоречия в определениях понятия, в составе
теоретической конструкции.
Поэтому-то Гегель с полным правом и определяет
традиционную формальную логику как логику догматизма.
499
Чисто формальная логика отличается от гегелевской вовсе
не тем, что первая «запрещает», а вторая - «разрешает»
противоречия в определениях понятий, как это до сих пор стараются
изобразить представители формально-логической традиции.
Отличие их в том, что они дают мышлению, столкнувшемуся с
противоречием, прямо противоположные, исключающие друг
друга, рекомендации относительно путей, на которых должно
достигаться разрешение противоречия.
Старая - догегелевская - логика, столкнувшись с
противоречием, получившимся именно как неизбежный результат
неукоснительного следования ее собственным «правилам»,
всегда «пятится» перед ним, отступает назад - в
предшествующий этому неприятному факту ход «рассуждения» (т. е.
реально оборачивается педантически-лингвистическим анализом
терминов^ из коих были сплетены цепочки этого
предшествующего «рассуждения»), и не успокаивается до тех пор, пока не
обнаружит там «ошибку», «смешение разных смыслов слов»,
употребление термина «в разных отношениях» и т. д. -
«неточность», которая и привела, де, к «противоречию»...
Тем самым противоречие становится неодолимой
преградой на пути такого мышления впереду по пути дальнейшего
развития определений понятия, на пути дальнейшего
теоретического исследования «сути дела». Двигаться по этому пути
вперед она безусловно запрещает до тех пор, пока «ошибка» не
будет обнаружена в ходе предшествующего появлению
противоречия движения «рассуждения».
Отсюда-то и получается, что в конце концов такое
мышление (и такая «логика») вынуждена спасаться от противоречий
бегством все дальше и дальше «назад», в низшие формы своего
собственного развития: «мышление, потеряв надежду своими
собственными силами разрешить противоречие, в которое оно
само себя поставило, возвращается к тем разрешениям и
успокоениям, которые дух получил в других своих формах...»1.
1 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. I, с. 28-29.
500
Это абсолютно неизбежно, поскольку противоречие
получилось на самом-то деле вовсе не в результате «ошибки»,
и никакой ошибки в предшествующем «рассуждении»
обнаружить ему в конце концов, после долгих попыток, так и
не удаётся (все было «правильно»), - приходится отступать
еще дальше «назад», спасаясь в «непротиворечивый покой»
предшествующих «сознательному рассуждению» форм
мышления - в область низших (по сравнению с логическим
мышлением) форм сознания - в область «созерцания», в область
«интуиции», в сферу «представления», в те области духа, где
«противоречия» действительно нет, но только по той
причине, что оно еще не выявлено и не выражено в предельно
строгом «языке науки»...
(Разумеется, Гегель никогда не думал отрицать известной
пользы проверки предшествующего появлению противоречия
хода «рассуждения» с целью выяснить - не было ли в нем
допущено формальной неточности или терминологической
погрешности. Часто бывает и так, и «противоречие» оказывается
чисто-словесным - мнимым. Беда формальной логики не в том,
что она вообще имеет в виду такие противоречия и
рекомендует соответствующий путь избавления от них. Беда ее в том,
что она только такие противоречия и знает, считая, что других
не бывает. Поэтому чисто-формальная логика исключает
гегелевскую, в то время как гегелевская включает ее на правах
относительной истины, лишь ограничивая пределы истинности
ее соображений, и лишая ее тем самым того абсолютного
значения, которое та сама себе - своим правилам - придает...)
Диалектика, сознательно используемая как метод
развития определений понятия, и есть Логика, включающая в
себя как процесс выявления (ясного осознания и строгого
выражения в языке науки) логических противоречий
(бессознательно и помимо своей воли продуцируемых
«рассудком» - т. е. мышлением в согласии с правилами
формальной логики), так и процесс их конкретного разрешения путем
501
логического же развития определений понятия, т. е. в
составе более конкретного и глубокого понимания того
самого предмета, в выражении коего обнаружилось
«противоречие», на пути более высокого развития науки, техники и
«нравственности» (под коей Гегель понимает всю
совокупность общественных отношений человека к человеку), то
есть всей той действительности, которую он именует
«объективным духом». Это движение, в котором должно
активно участвовать «субъективное мышление», и оказывается в
его «Науке логике» единственно-рациональным путем
разрешения возникающих внутри него (внутри «сознательного
рассуждения») логических противоречий.
Этой своей особенностью гегелевская Логика и
оказывается на голову выше любой другой логической концепции, а ее
изучение - поучительным и по сей день.
Гегель и проблема способностей
Э.В. Ильенков. Философия и культура.
М.: Политиздат, 1991 (серия «Мыслители XX века»),
сост. А.Г. Новохатько. С. 376-381.
Проблема способностей - одна из самых острых и
актуальных тем современной педагогики и психологии. Как
таковая, она нуждается в особенно остром теоретическом анализе.
Дело в том, что любая педагогическая концепция способностей
(а стало быть, и путей их формирования) явно или молчаливо
исходит из ряда общефилософских предпосылок,
принимаемых отчасти по традиции, отчасти - под влиянием
авторитетных философских систем, т. е. в большей или меньшей степени
некритично. Отсюда возникает внутри педагогики масса
трудностей и разногласий, принципиально не могущих найти свое
решение в пределах самой педагогики. Проблема
«способностей» принадлежит как раз к их числу.
502
Начнем с определения самого понятия «способность». Уже
тут заключено немало неясностей, внешне выражающихся в
крайне неоднозначном употреблении слова «способность».
Под этим термином имеют в виду:
1) актуально-реализуемое умение совершать действия-
операции определенного рода;
2) чистую потенцию, чистую возможность усвоить схемы этих
действий, научиться строить свои действия в согласии с ними;
3) некоторую «предрасположенность» индивида к той или
другой особенной сфере деятельности (к математике, к музыке,
к поэзии и т. д.) - в этом случае «способность» становится
синонимом «таланта», «одарённости», т. е. степени развития данной
способности у данного индивида. Все эти три (по крайней мере)
аспекта постоянно перепутываются между собой, что никак не
способствует ни взаимопониманию, ни пониманию проблемы
по существу дела, так как ими определяется как направление
исследовательского внимания, так и результаты исследования.
В самом деле, если вы под «способностью» понимаете
реально осуществляемое умение действовать с предметами
определенного рода, то ответить на вопрос: «Что такое
способность?» - значит обрисовать реальный способ действий
человека по его предметному составу.
Это значит исследовать «способность» именно в тех, и
только в тех ее инвариантных моментах, которые никак не
зависят от индивидуальных особенностей лиц, ее усваивающих
и ее реализующих.
Если же под «способностью» понимать ту совокупность
антропологических, типологических или индивидуальных
особенностей человека, которая позволяет ему (или,
наоборот, препятствует) усвоить и практиковать известный способ
деятельности («способность» в точном смысле слова), то речь,
естественно, будет идти уже совсем о другом. Еще дальше от
проблемы способности, как таковой, уводит желание понять,
почему в данном индивиде данная способность реализуется
503
легко, свободно - «талантливо», - а в другом - трудно,
мучительно, «бездарно». В этом случае речь лишь вербально идёт
о «способности», а на самом деле - только о степени ее
усвоения данным лицом (и тогда термин «способность» становится
просто синонимом «таланта», «одаренности» и прочих трудно
определяемых эпитетов).
Намеренное или невольное смешение этих трех очевидно
разных аспектов педагогической проблемы и выражается в
неустойчивости употребления термина «способность».
(Эта неустойчивость проявляется либо в
синонимическом использовании таких слов, как «Fähigkeit», «Begabung»,
«Anlage» в немецком языке, либо в очевидной разнородности
предикатов, приписываемых «способности» - «ability» - в
русском и английском языках; ведь ясно, что говорить об
«умственной способности» и рядом - о «врожденных
способностях» - это все равно что писать рядом две такие фразы: «Слово
есть осмысленный знак» и «Слово есть серия колебаний
воздуха», думая, что речь идет об одном и том же...).
Дело, разумеется, не в лингвистической путанице, а в
неясности понимания самой проблемы способности, в
неясности определения понятия.
В этом отношении Гегель до сих пор чрезвычайно
интересен и поучителен. С одной стороны, предельная острота
понимания проблемы, с другой стороны, зияющие прорехи в ее
решении, заделываемые чисто вербально, средствами чисто
словесной диалектики. Прорехи эти не менее интересны, чем
действительные завоевания Гегеля в этом плане, ибо они очень
точно очерчивают те вопросы, которые педагогика обязана
разрешать совершенно конкретно и практически, не прибегая
к помощи «абсолютного духа» и матушки-природы, не
сваливая свою обязанность на них.
Прежде всего - о действительных завоеваниях Гегеля в
понимании подлинной природы человеческих деятельных
способностей. Основная его заслуга представляется мне в том,
504
что он раз и навсегда разделался с «робинзонадой» и утвердил
взгляд на социально-человеческие способности как на
общественно-человеческий феномен, как на коллективные силы
людей, кооперированных вокруг одного общего дела -
вокруг производства специально-человеческих форм жизни. Все
субъективные способности, т. е. все способы деятельности,
были представлены им именно как коллективные
(«всеобщие») формы, переживающие действительное развитие в
истории. Субъектом «способностей» здесь впервые был признан
не индивидуум как таковой, рассматриваемый в абстракции
от всего того, чем он обязан обществу и истории, а тот
грандиозный «ансамбль» индивидов, взаимно воздействующих друг
на друга, который реально и создает политическую историю, и
науку, и искусство, и технику, и все остальные универсально-
человеческие формы культуры.
Индивидуум же выступает в рамках этой концепции как
нечто по существу производное, выступая как субъект
способностей ровно в той мере и тех границах, в которых ему
посчастливилось приобщиться к развитию всеобщечеловеческой
культуры.
Гегель, далее, установил чрезвычайно важную для
педагогики зависимость между «онтогенезом» и «филогенезом»
человека, как «гомо сапиенса», как «мыслящего существа». В
связи с этим (особенно отчетливо это обрисовано в
«Феноменологии духа») превращение биологической особи вида «гомо
сапиенс» в человеческую личность предстало перед его взором
как процесс присвоения индивидом всего богатства
исторически развившейся общественно-человеческой культуры, как
процесс, вкратце воспроизводящий историю возникновения
и эволюции самой этой культуры Отсюда прямо вытекали и
соответствующие выводы для всей системы образования.
Индивид должен «присваивать» не готовые результаты
развития культуры, а только результаты вместе с процессом,
их породившим и порождающим, т. е. вместе с историей, их
505
созидающей. А эта история от начала до конца исполнена
чрезвычайно напряженной диалектикой, т. е. эволюционирует
через возникновение противоречий между людьми
(соответственно между отдельными способностями, между отдельными
способами общественно-человеческой жизнедеятельности) и
их разрешение в некоторый «синтез», в некоторые более
высокие исторические формы.
Тем самым в поле зрения Гегеля попадает проблема
разделения общественного труда, как фундаментальная проблема
образования (образование в широком смысле слова, как вообще
процесс индивидуального присвоения исторически
сложившейся культуры во всем многообразии ее форм и видов).
Здесь-то Гегель и натыкается на проблему, неразрешимую в
рамках его спиритуалистически-ориентированной концепции.
Исходная точка зрения, ясно установленная Гегелем уже в
ранних его работах, заключается в том, что потенциально
каждый индивидуум является универсальным существом в том
смысле, что никаких ограничений для подъема на самые
верхние этажи общественно-человеческой культуры он с собой в
момент своего рождения не содержит. Поэтому-то «науку» (и
прежде всего философию) он и определяет как «лестницу», по
которой может подняться «в небо истины» каждый
нормальный в анатомо-физиологическом отношении индивид.
Этот исходный демократический мотив гегелевской
концепции образования подвергся, однако, существенной
корректировке и деформации в ходе дальнейшей конкретизации
на протяжении всей жизни мыслителя.
Рассматривая «науку» как профессионализированную
всеобщую способность, как профессионализированное мышление,
а «искусство» - как профессионализированную способность
(или «силу») продуктивного воображения, Гегель упирается в
кричащую антиномию реальности и «понятия» способности. В
потенции каждый индивид универсален, т. е. содержит «в себе»
всю полноту развития всеобщих способностей.
506
Реально же эта потенция осуществляется в нем очень
фрагментарно, частично, и весьма немногим индивидам
удается развить в себе основные всеобщие силы (мышление,
доведённое до степени научного мышления, продуктивную силу
воображения, дозревшую до степени искусства, и т. д. и т. п.)
до того уровня, которого они достигли в качестве коллективно
реализуемых «сил».
В действительности дело обстоит, как понял Гегель, таким
образом, что огромные массы людей, живущие в XVIII - XIX
веках, достигают лишь того уровня, который культура в целом
успела пройти и превзойти уже в III или даже IV веке до
нашей эры. Будучи современниками Декарта и Канта, Рафаэля и
Моцарта, огромные массы народа, целые классы этого народа,
остались в отношении развития способности мыслить и силы
продуктивного воображения современниками библейских
пророков, авторов Ветхого завета. Даже до уровня древних
греков они не доросли, а застряли на младенческом уровне
Моисея и Христа.
Тем не менее, телесно-то они живут в условиях
современной культуры которую они не в силах ни постигнуть, ни
усвоить. И культура мышления как и культура силы воображения,
в их современных формах так и остаётся для них чем-то
«чуждым» и даже враждебным, чем-то таким, что противостоит им
всю жизнь как внешняя, посторонняя и совершенно безличная
«сила» - как сила «науки», сила «государства», сила
«искусства», персонифицирующая себя в лице
«всемирно-исторических личностей» ранга Наполеона, Канта, Рафаэля, Ньютона и
прочих «героев духа»... Большинство людей - притом
подавляющее их большинство обречено всю жизнь оставаться
объектом этих безличных сил, персонифицированных в немногих
индивидах, и никогда не превращается в субъекта, в носителя
всеобщечеловеческих способностей.
Возникает вопрос - почему дело обстоит так? В силу каких
причин большинство людей, потенциально усвоив все высшие
507
формы развития «духа» (то бишь духовной культуры),
играют в процессе развития этого «духа» лишь незавидную роль
пассивного материала, через насильственное формирование
которого реализует себя мощь и сила (Macht) других
индивидов - Цезарей и Бонапартов, Кантов и Ньютонов и т. д., т. е. тех
баловней судьбы, которым посчастливилось попасть в острие,
в фокус развития «всеобщего духа»?
В этом - роковом для его концепции - пункте Гегель
снова возвращается в плен к старинному предрассудку, к тому
самому предрассудку который он сам же своими
общетеоретическими схемами развенчал. А именно - причину крайнего
неравенства способностей людей он опять начинает видеть в
природе, т. е. в биологически обусловленном неравенстве
индивидов. Это особенно четко видно в тексте «Философии духа»,
где он говорит о том, что высота развития индивидуальной
«души» определяется двояко - как «внешними условиями»
приобщения этого индивида к формам сложившейся духовной
культуры, так и «внутренними» ограничениями, налагаемыми
случайной особенностью «природной души», т. е. - в переводе
на более современный язык - своеобразием анатомо-физиоло-
гической организации индивида...
Тем самым феномен, представляющий собой от начала до
конца результат исторически сложившейся формы разделения
труда между индивидами, находит свое мнимое объяснение
в пустой ссылке на врожденную - биологически
унаследованную - разницу между индивидами. Гегель тем самым
воспроизводит главный грех традиционной концепции
«способностей», взваливая вину за неравенство людей в отношении
практикуемых ими способов жизнедеятельности на ни в чем
не повинную матушку-природу. Тем самым он совершает
грубейшую натуралистическую ошибку, которую он сам же так
жестоко высмеял в той нелепой форме, которую та же самая
ошибка обрела в «физиогномистике» и в печально знаменитой
«френологии» Галля...
508
С этим связаны и сугубо специальные ошибки Гегеля в
плане педагогической проблематики. Это, во-первых, его
установка, согласно которой процесс образования состоит
прежде всего в полной нивелировке подхода педагога к ученику.
Согласно Гегелю, педагог не может и не должен искать
«индивидуальный подход» и индивидуально-варьируемые способы
педагогического воздействия, не имеет права ни думать, ни
заботиться о становящейся индивидуальности человека. Он
может и обязан заставить индивида жить и думать в рамках
совершенно безличной дисциплины, в рамках
абстрактно-общих правил. И это - всё, что должен делать умный педагог.
Почему? Да просто потому, что «индивидуальный момент»
в усвоении и реализации безлично-всеобщих нормативов не
в его власти, вне его компетенции. Ибо этот индивидуальный
момент (индивидуальные вариации всеобщих
сил-способностей) определен обстоятельствами, лежащими вне сферы
образования как такового, и именно - врожденными анатомо-фи-
зиологическими особенностями воспитанника.
Здесь - самый темный и противоречивый (в дурном
смысле слова) момент в педагогической концепции Гегеля,
поскольку «природа», непосредственно ответственная за
индивидуальные вариации всеобщих сил-способностей, сама
истолковывается далее как нечто производное от деятельности
«абсолютного духа», т. е. мистически переряженной духовной
культуры.
Поэтому ответ Гегеля на указанный вопрос, по существу,
темен и дуалистичен: индивидуальные вариации в степени
присвоения всеобщих сил-способностей (а их спектр велик - от
Канта до его лакея, от Наполеона - до повара в обозе
наполеоновской армии) определяются заранее либо «природой», либо
«абсолютным духом». Но ни в коем случае - не исторически
сложившимися условиями разделения труда, которые одному
предоставляют все возможности достижения высот культуры,
а другому - никаких возможностей в этом отношении.
509
Остается вне поля зрения Гегеля и та прямая зависимость,
которая существует между условиями образования (условиями
приобщения к культуре, условиями «присвоения» всеобщих
сил-способностей) и разделением общественного труда,
разделением «человечества» на классы, на
профессионально-отчужденные друг от друга группы «узких специалистов» и т. д.
Здесь-то - в понимании этого важнейшего пункта - и
находится точка приложения критической переработки
гегелевской концепции «способностей». Понимание того
обстоятельства, что сфера «образования» - это не автономная сфера
становления «духа», а сфера, которая в своей специфической
форме активно воспроизводит различия, обусловленные
формой общественного разделения труда, и составляет главное
преимущество марксистской концепции «способностей»
перед гегелевской. Только на этом пути и достигается как
теоретическое, так и практически-педагогическое разрешение
проблемы «способностей», как индивидуально присваиваемых в
ходе образования всеобщих способов деятельности как
безлично-всеобщих (и в этом виде - «отчужденных» от индивида)
схем культурно-образованной жизнедеятельности.
В составе этих схем, как таковых, нет и не может быть
абсолютно ничего «врожденного», априори (природой или
богом, что совершенно безлично) предопределенного. Все эти
схемы («способности как таковые») на все сто процентов, а не
на девяносто пять и даже не на девяносто девять процентов
есть результат, который умно организованный педагогический
процесс и может и должен реализовать в каждом медицински
нормальном индивиде.
510
Сведения об авторах
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831)
Ильенков Эвальд Васильевич (1924-1979)
•••
Барсуков Игорь Сергеевич - кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и социологии, Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева (Красноярск);
Возняк Владимир Степанович - доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой философии имени профессора
Валерия Григорьевича Скотного Дрогобычского государственного
педагогического университета имени Ивана Франко
(Львовская обл., Дрогобыч, Украина);
Возняк Степан Владимирович - кандидат философских
наук, ассистент кафедры философии и социологии
Прикарпатского национального университета имени Васыля Стефаника
(Ивано-Франковск, Украина);
Гончаров Сергей Захарович - доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой философии и культурологии,
Российский государственный профессионально-педагогический
университет (Екатеринбург);
Задорожнюк Иван Евдокимович - доктор философских
наук, профессор, ответственный редактор журнала
«Социология образования», Современная гуманитарная академии
(Москва);
511
Иванов Лев Олегович - кандидат юридических наук,
эксперт Института права и публичной политики (Москва);
Иващук Ольга Федоровна - доктор философских наук,
профессор, кафедра философии и методологии науки,
факультет философии и культурологии Южного федерального
университета (Ростов-на-Дону);
Лимонченко Вера Владимировна - кандидат философских
наук, доцент кафедры философии имени профессора Валерия
Григорьевича Скотного Дрогобычского государственного
педагогического университета имени Ивана Франко (Львовская
обл., Дрогобыч, Украина);
Лобастов Геннадий Васильевич - доктор философских
наук, профессор, зав. кафедрой философии и социологии,
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
президент Философского общества «Диалектика и культура»
(Москва);
Майданский Андрей Дмитриевич - доктор философских
наук, профессор кафедры философии Белгородского
национального исследовательского университета (Белгород);
Мареев Сергей Николаевич - доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой философии Современной
гуманитарной академии (Москва);
Мареева Елена Валентиновна - доктор философских наук,
профессор, зав. кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Института МИРБИС (Москва);
Науменко Лев Константинович - доктор философских
наук, профессор, кафедра философии Современной
гуманитарной академии (Москва);
Ойттинен Веса - доктор философии, Университет
Хельсинки/Александровский институт (Хельсинки, Финляндия);
Сорвин Кирилл Валентинович - кандидат философских
наук, доцент кафедры общей социологии, заместитель декана
факультета социологии, Национальный исследовательский
университет «ВШЭ» (Москва);
512
Суханов Валерий Николаевич - кандидат технических наук,
старший научный сотрудник, Национальный
исследовательский университет «МИЭТ», научно-образовательный центр
«Зондовая микроскопия и нанотехнология» (Москва);
Черезов Александр Евгеньевич - доктор философских
наук, профессор, кафедра философии Московского
государственного педагогического университета (Москва);
Юбара Аннет - доктор философии, научный сотрудник,
Майнцский университет им. Гутенберга, факультет ФТСК
в Гермерсгейме, отделение межкультурной германистики
(Майнц, Германия).
513
Философия Гегеля: новые переводы, исследования,
комментарии
Под общ. ред. Е.В. Мареевой