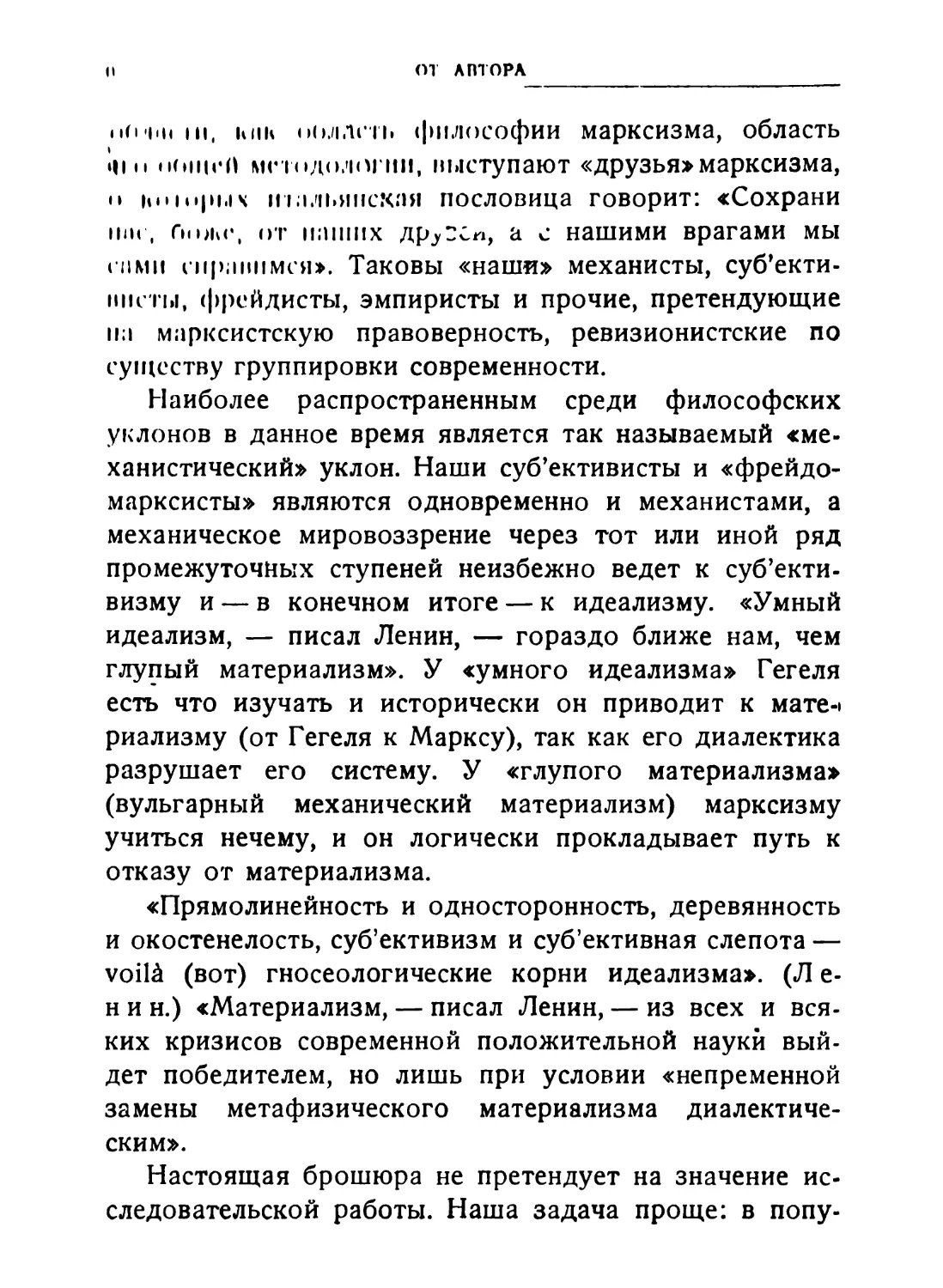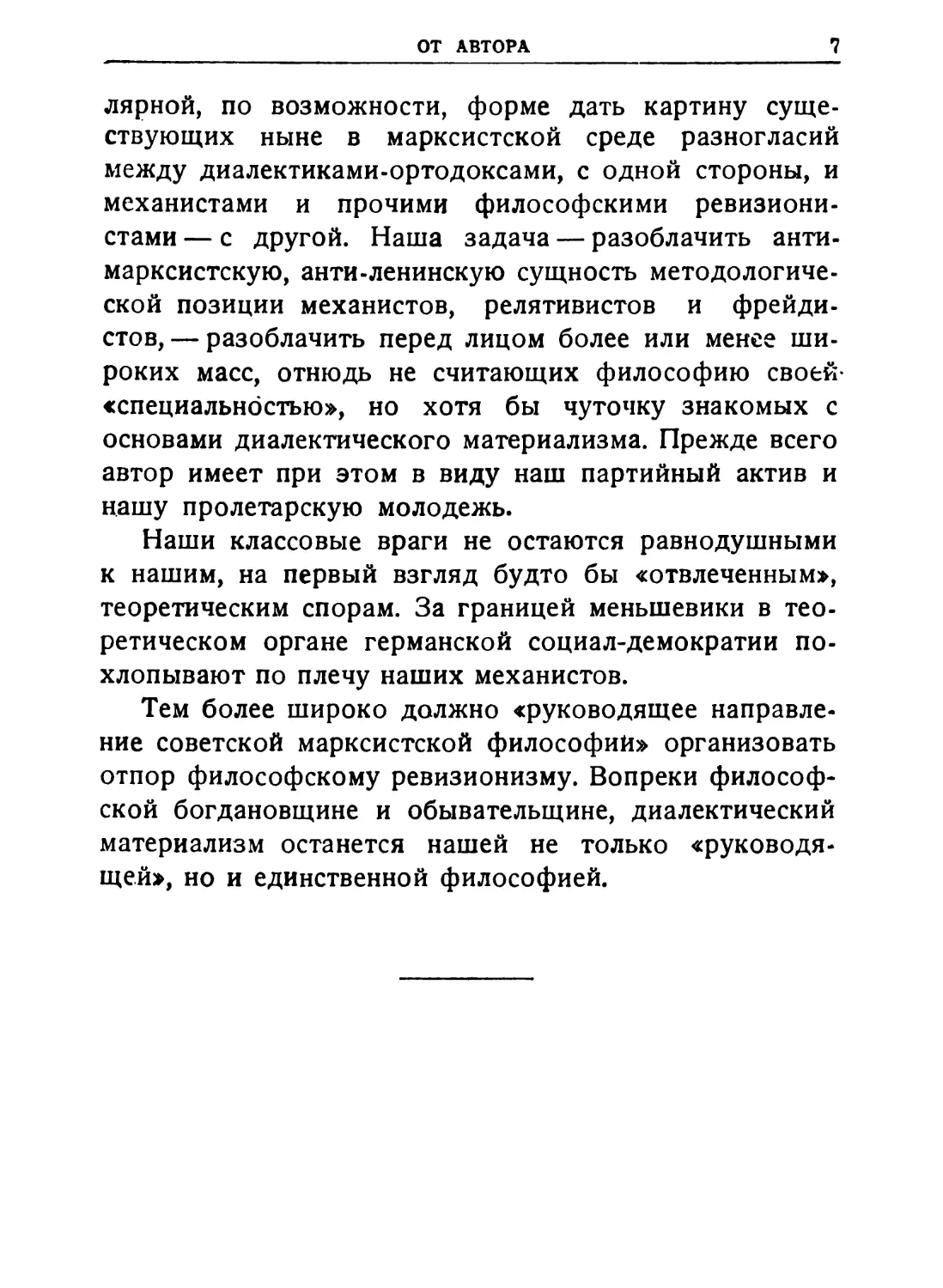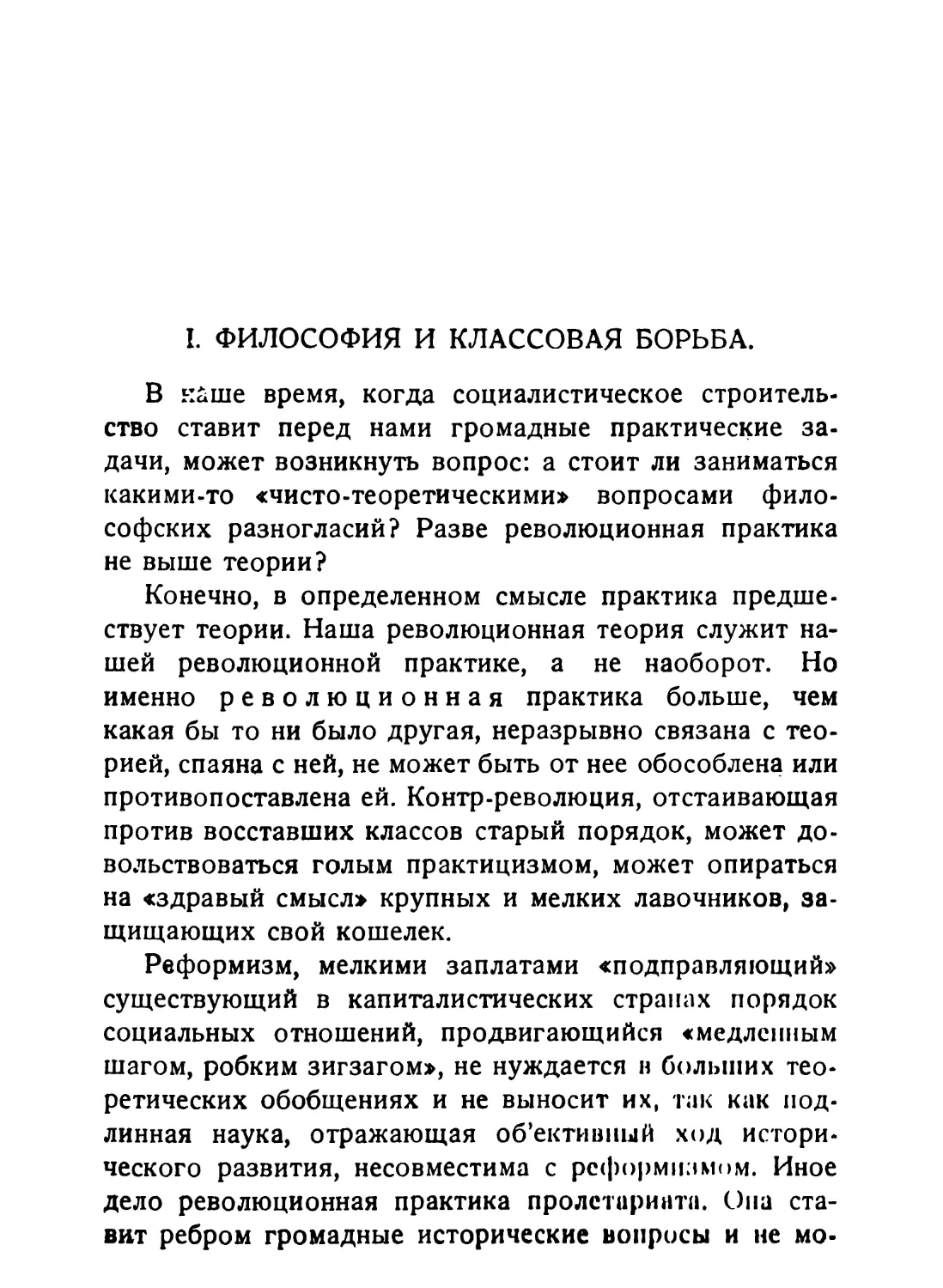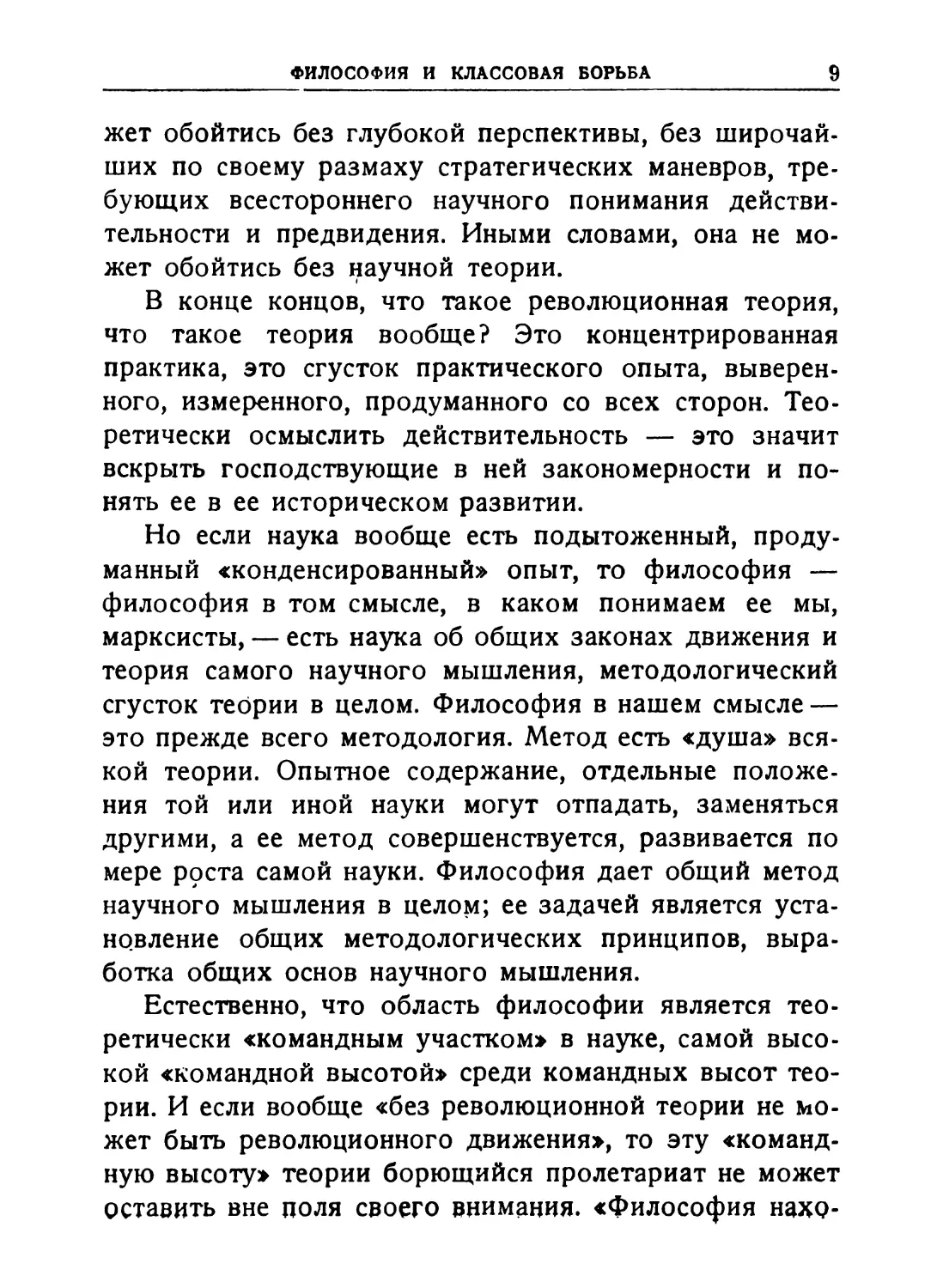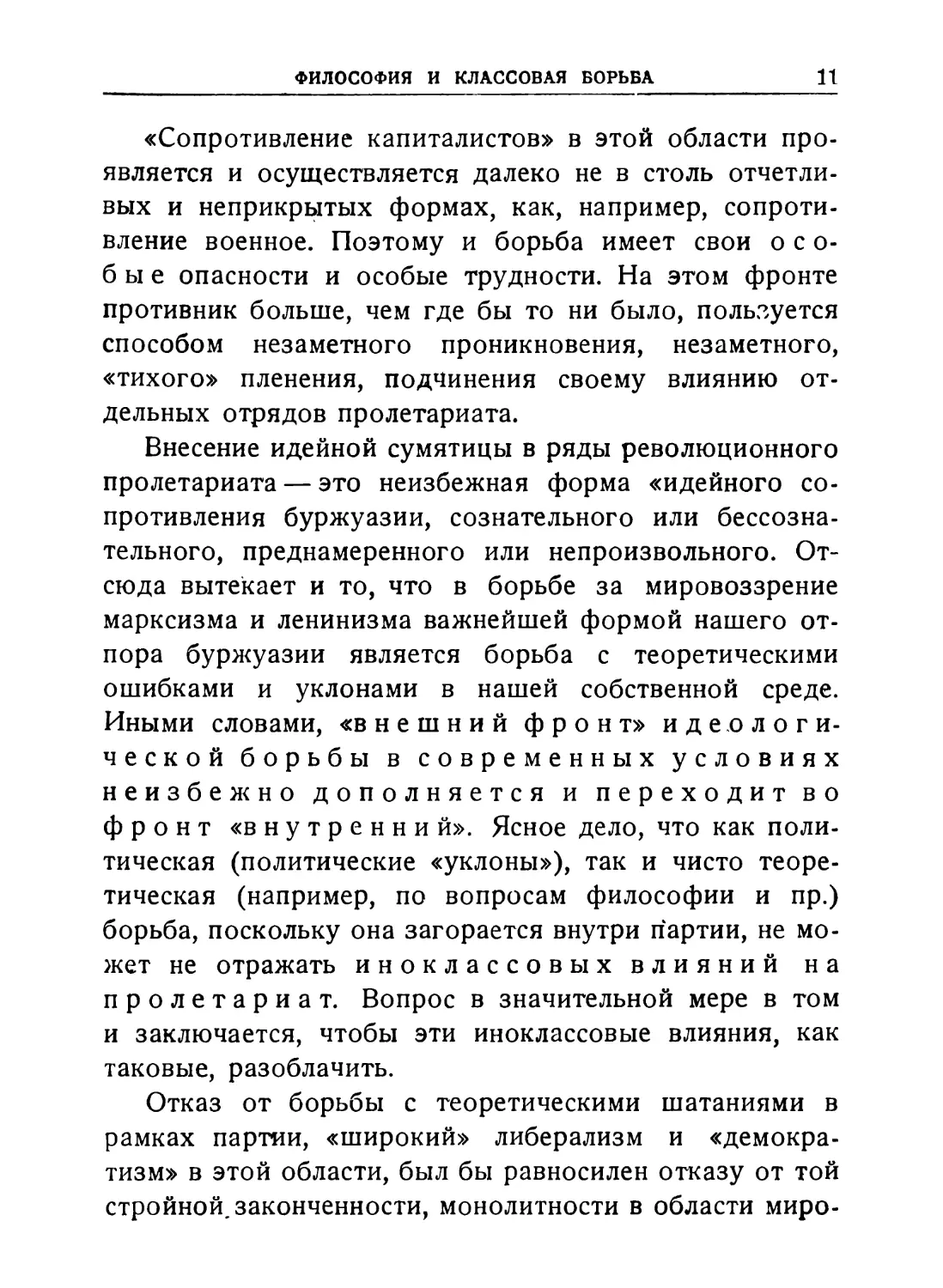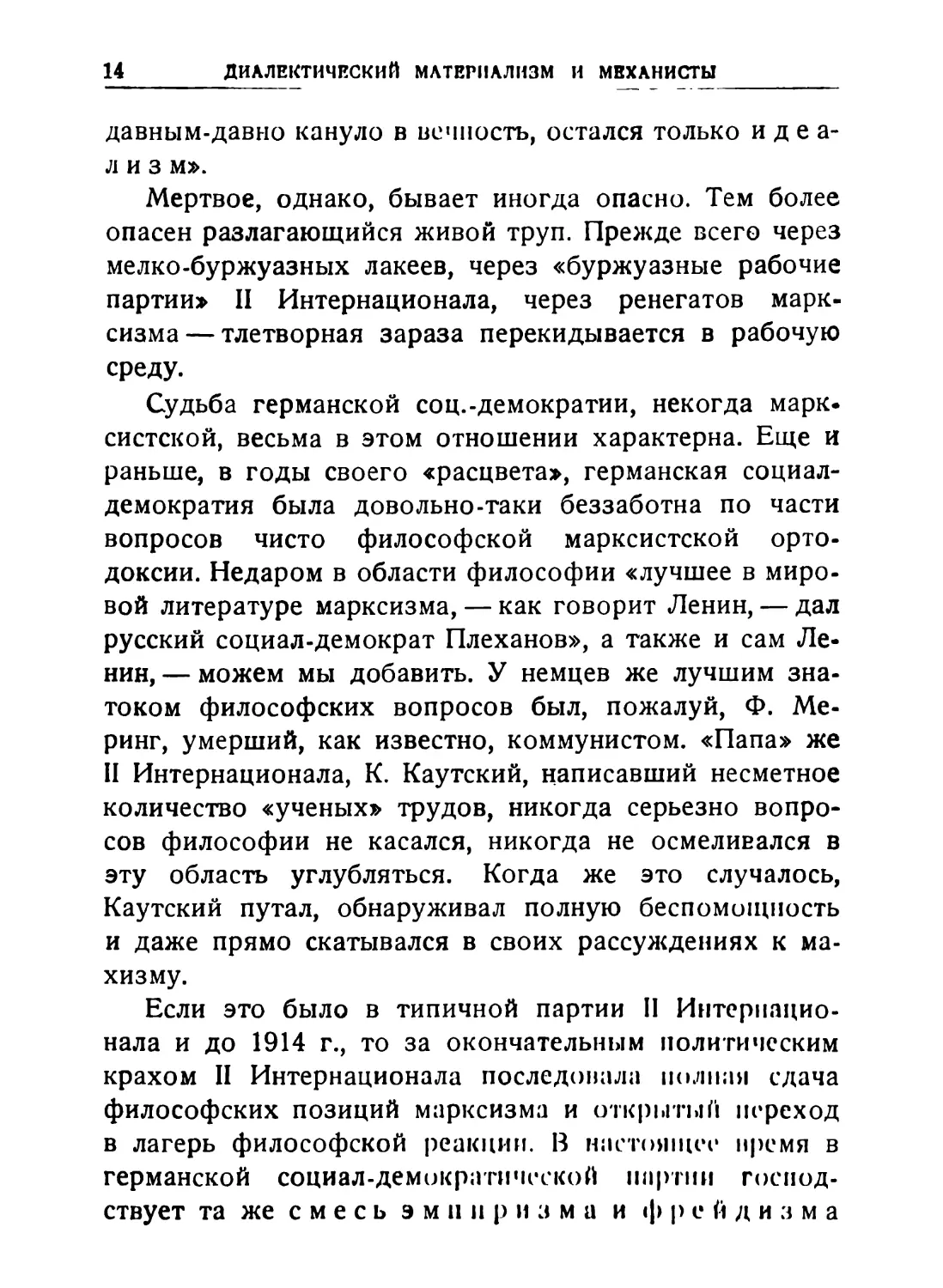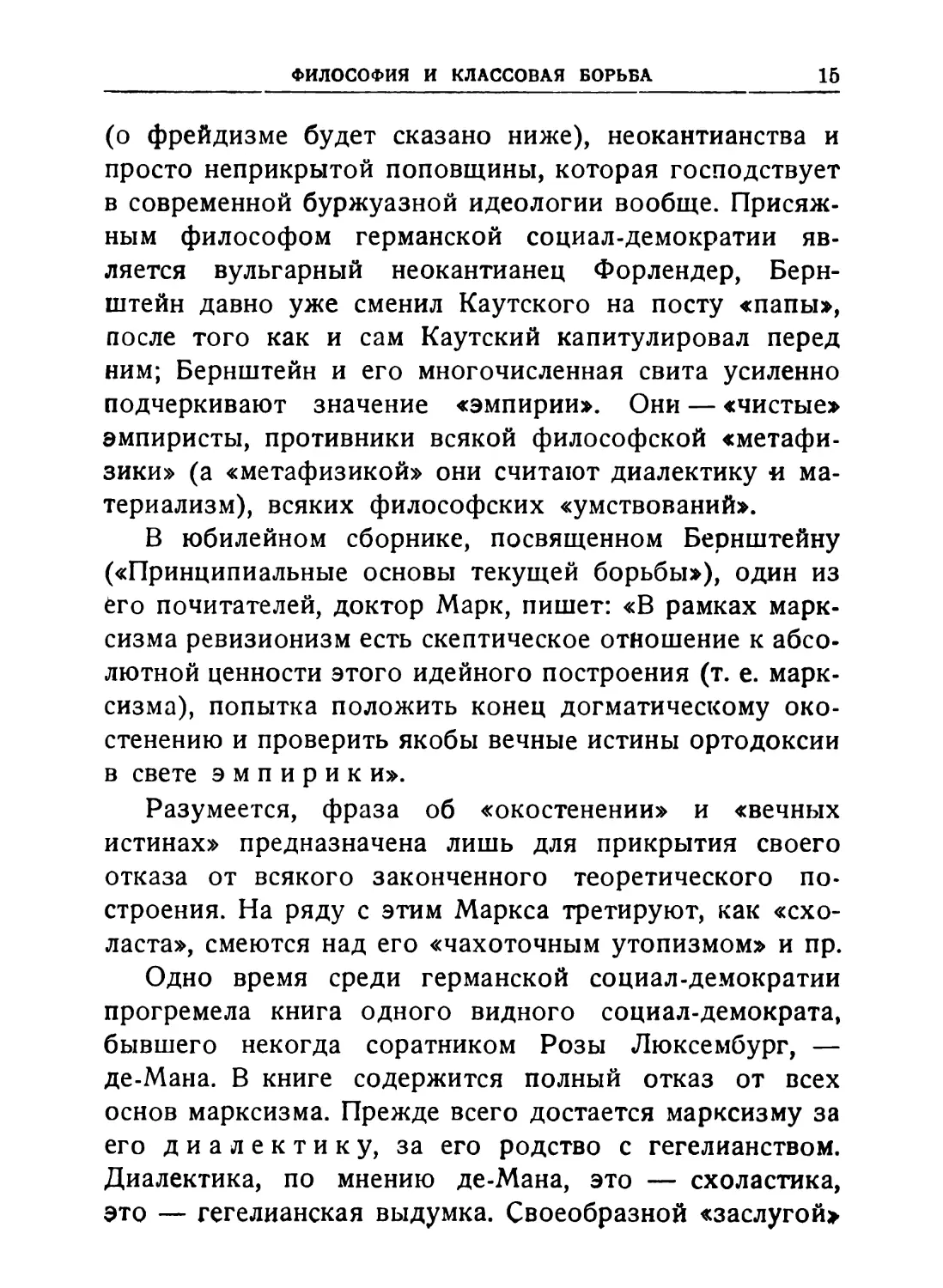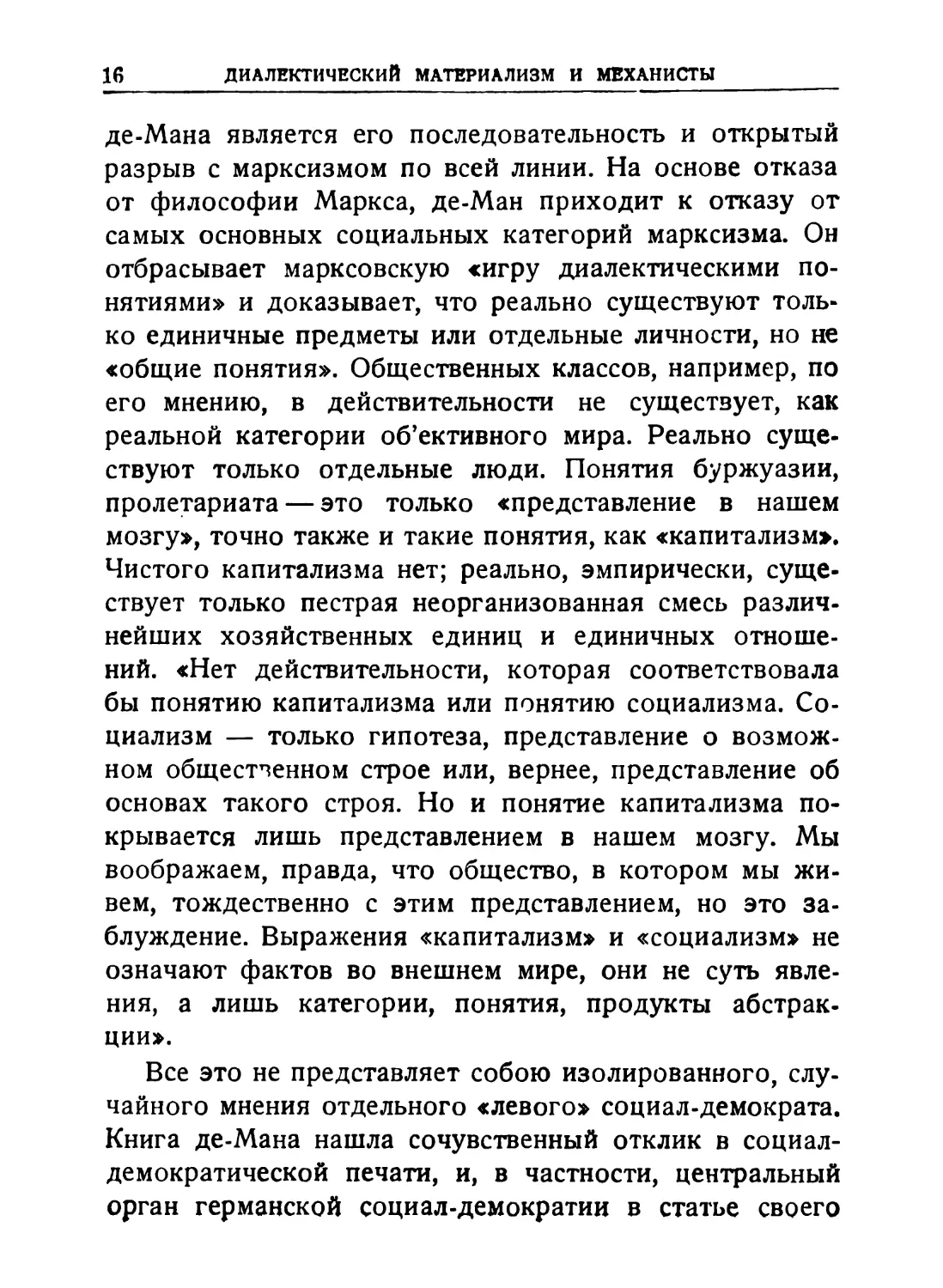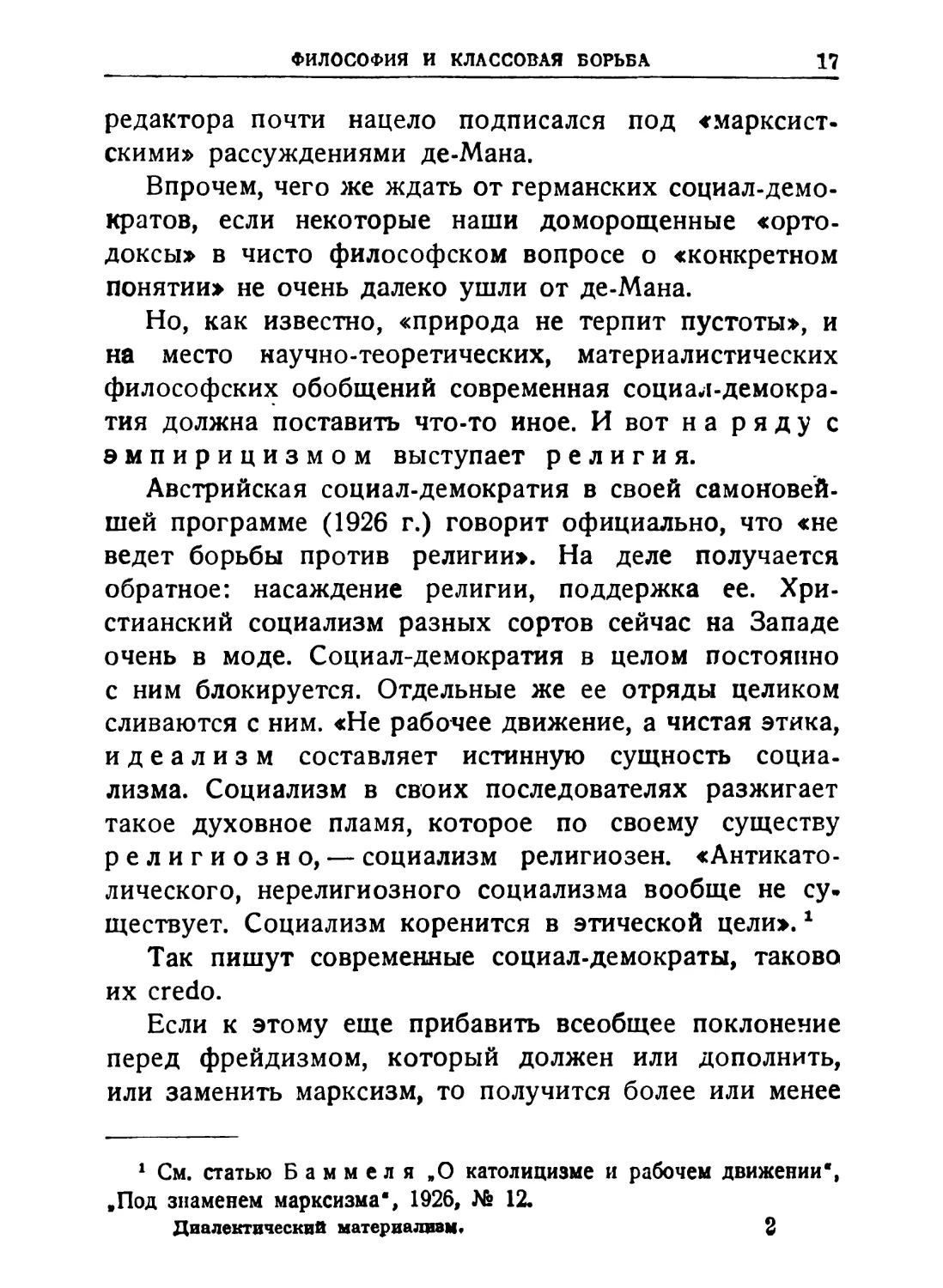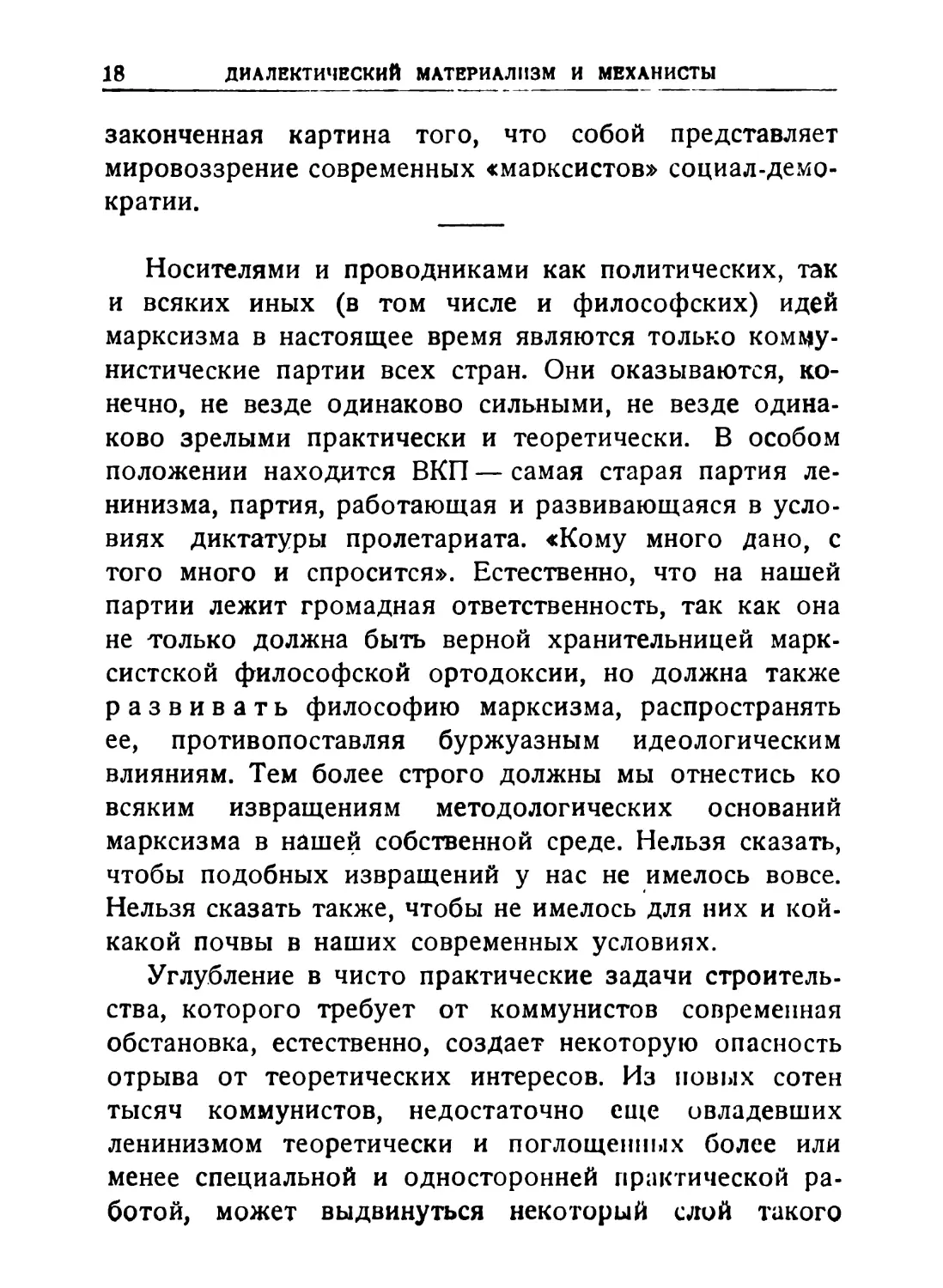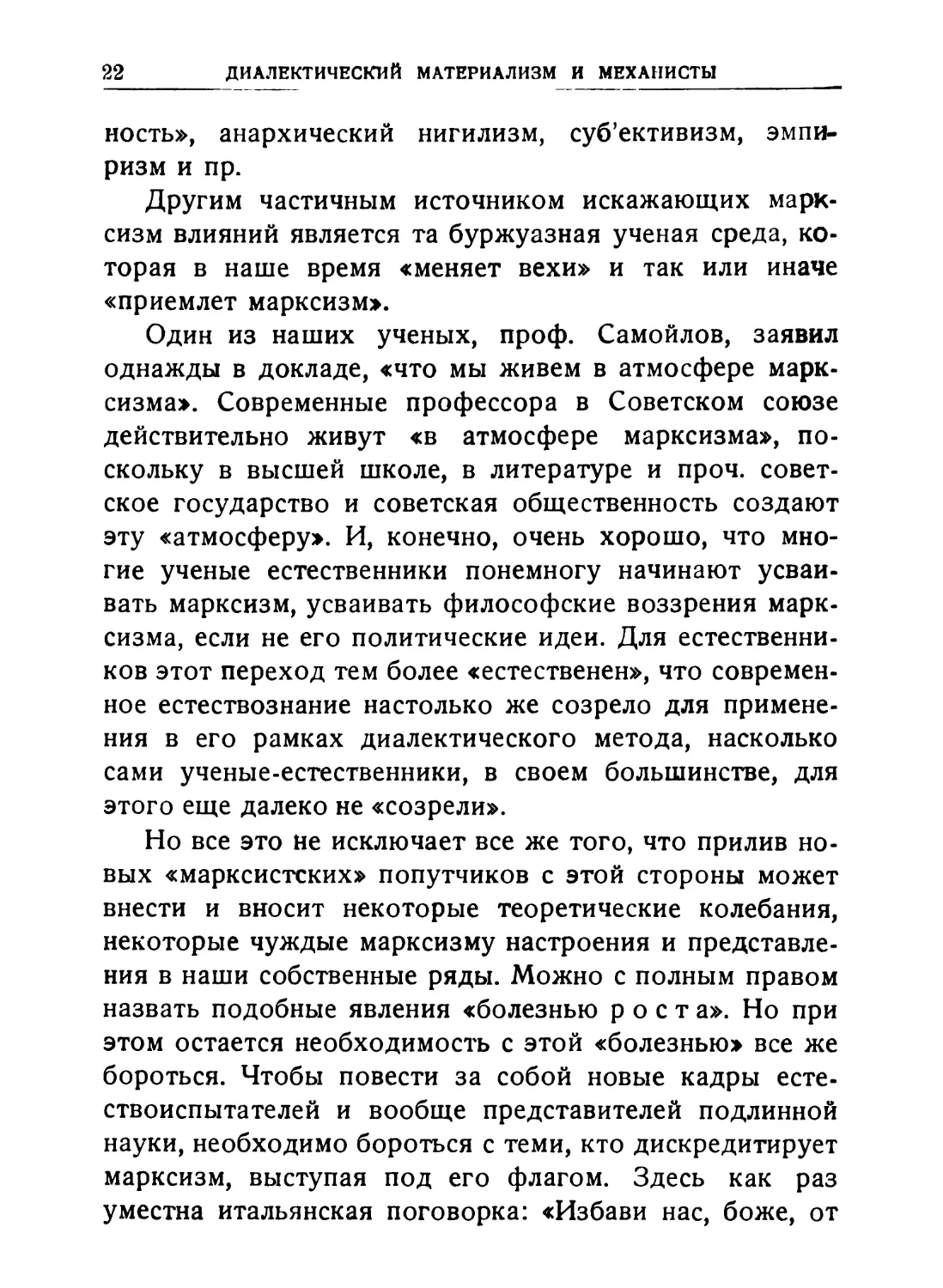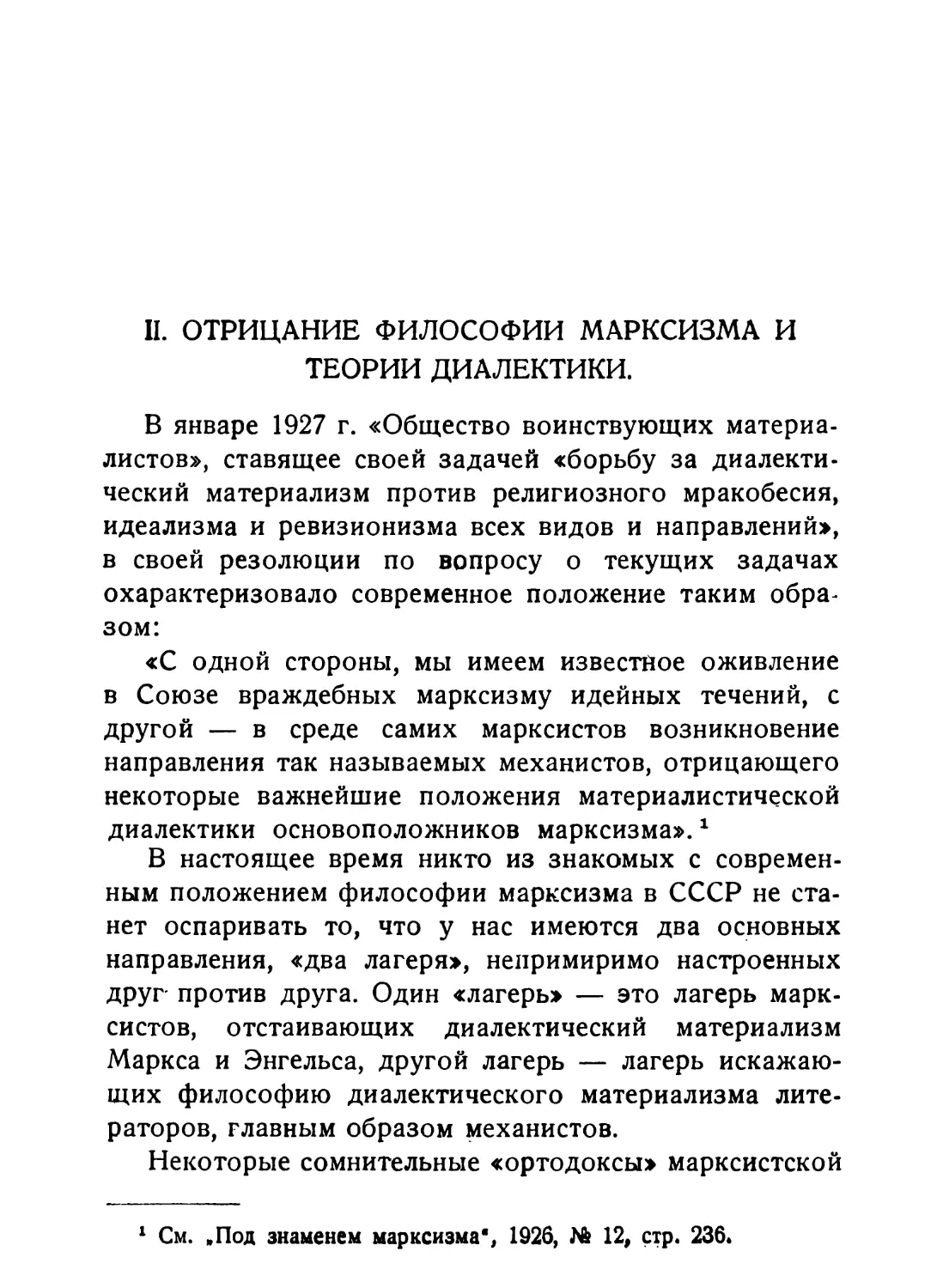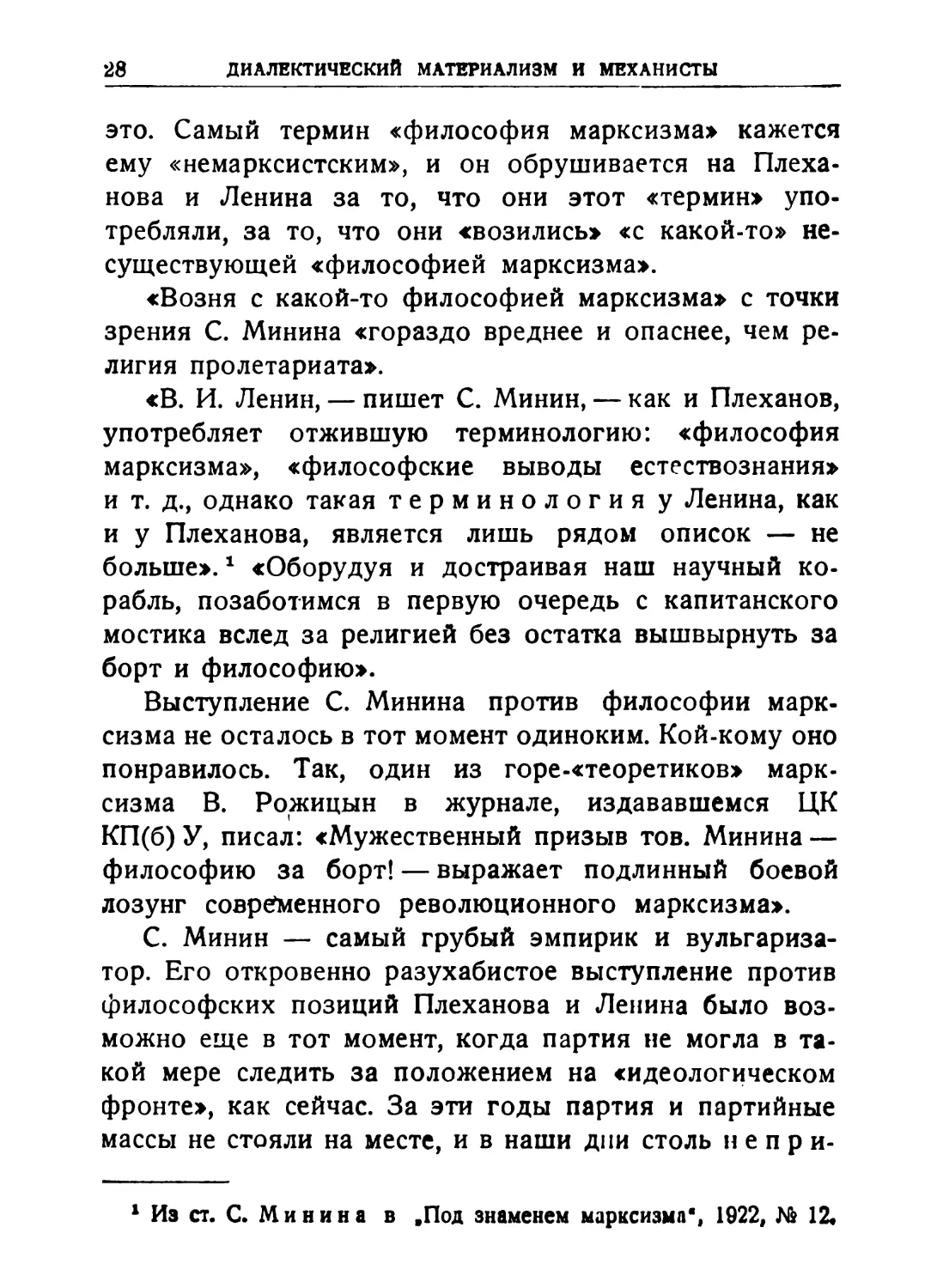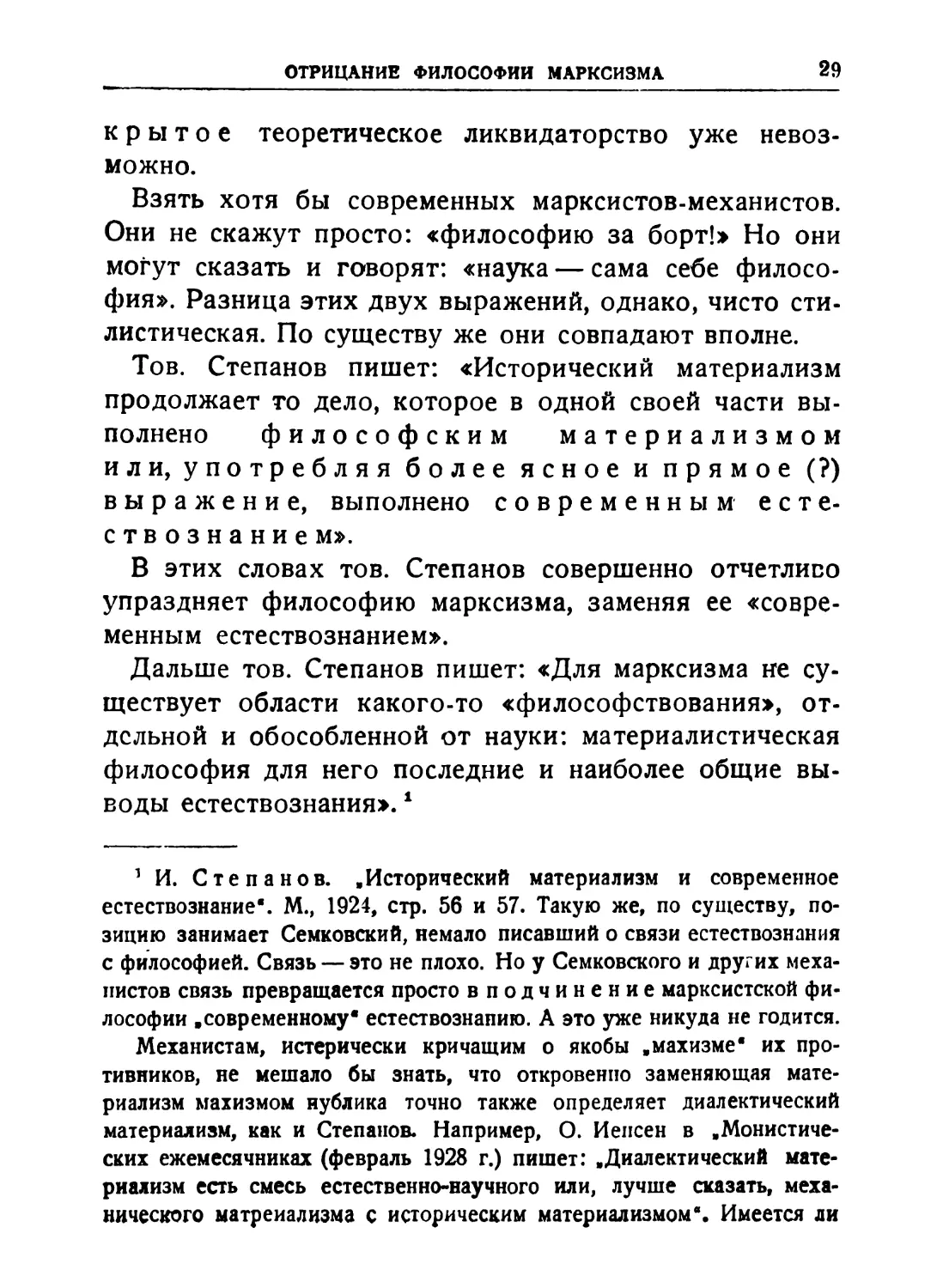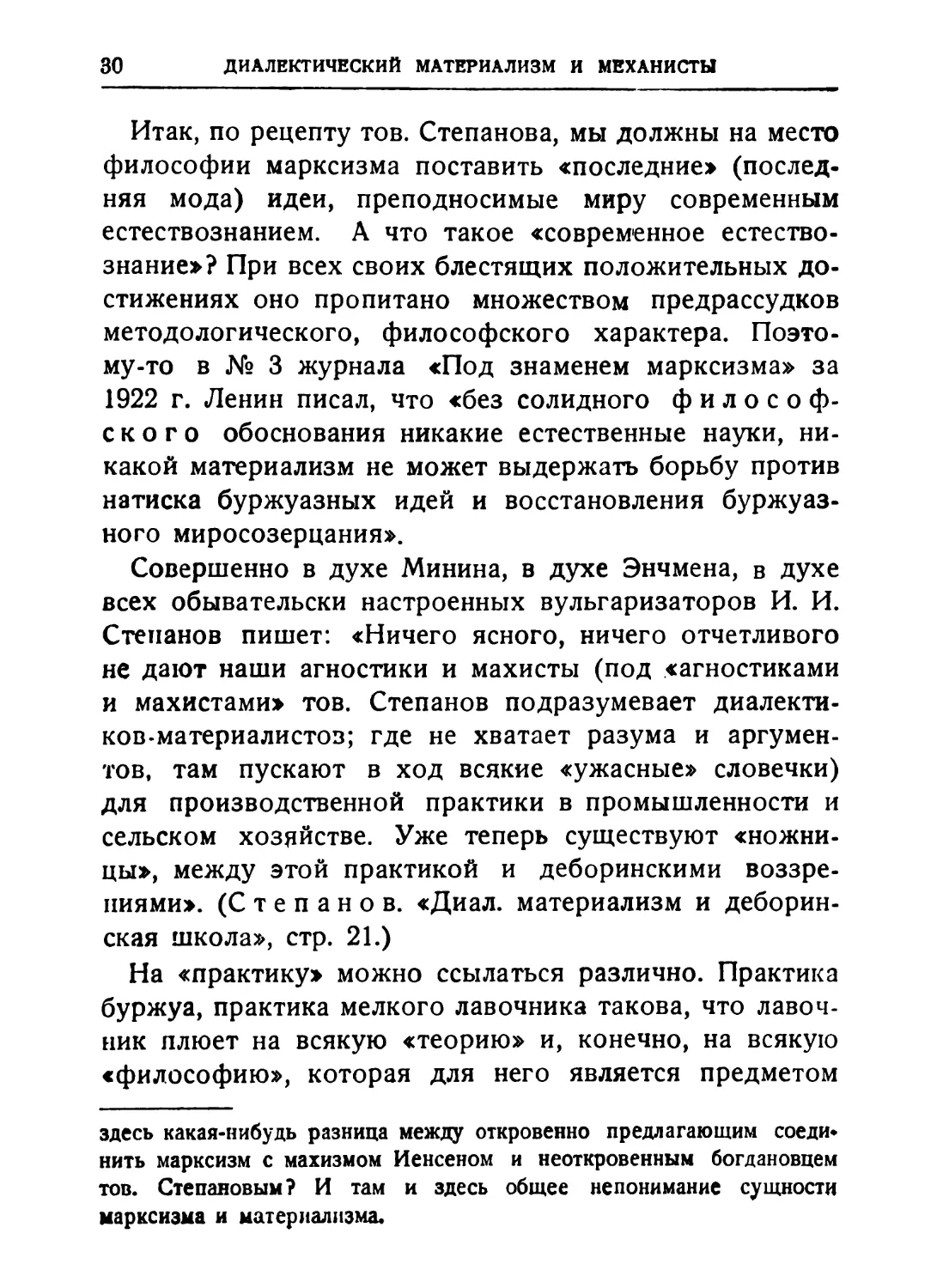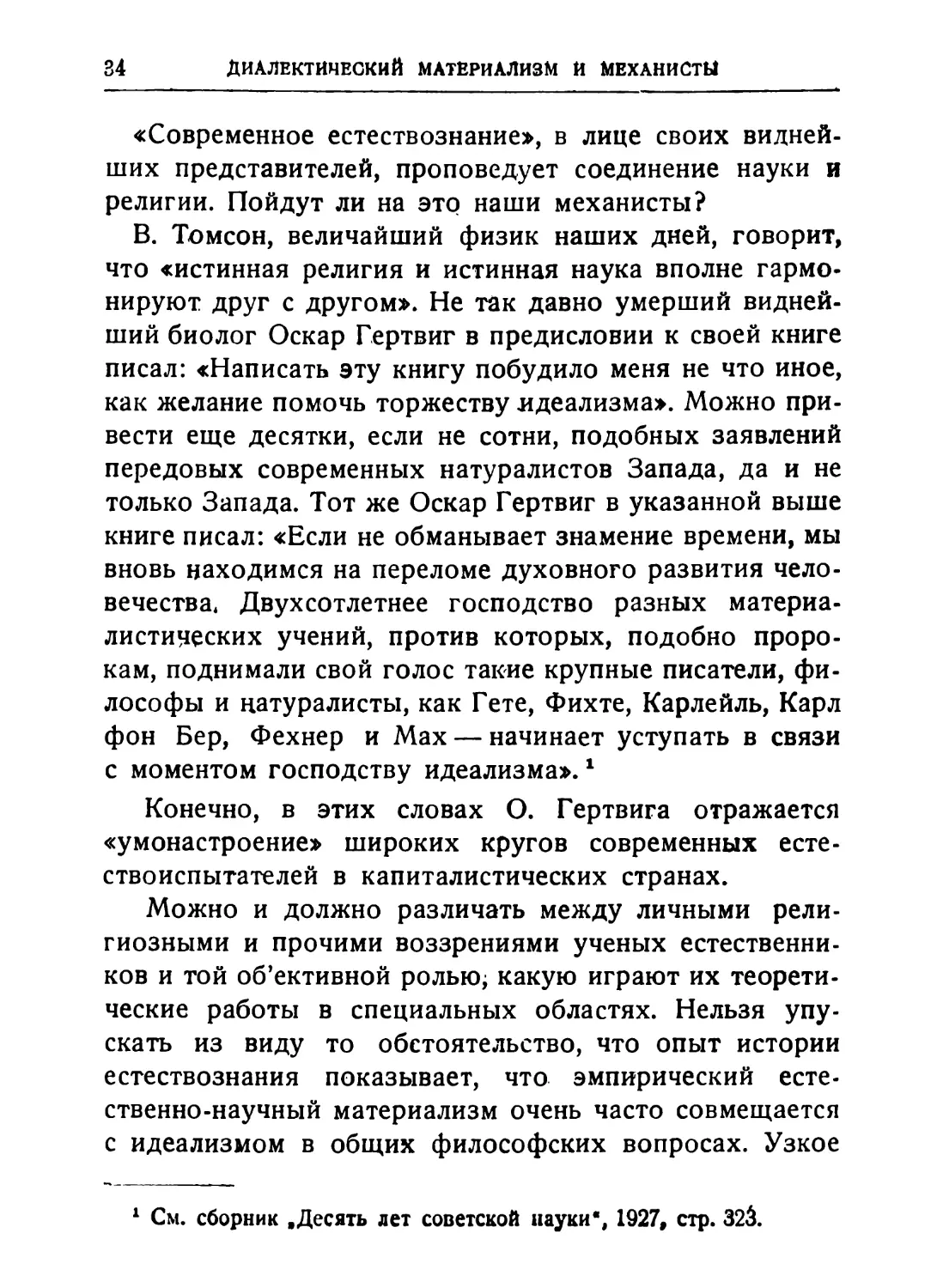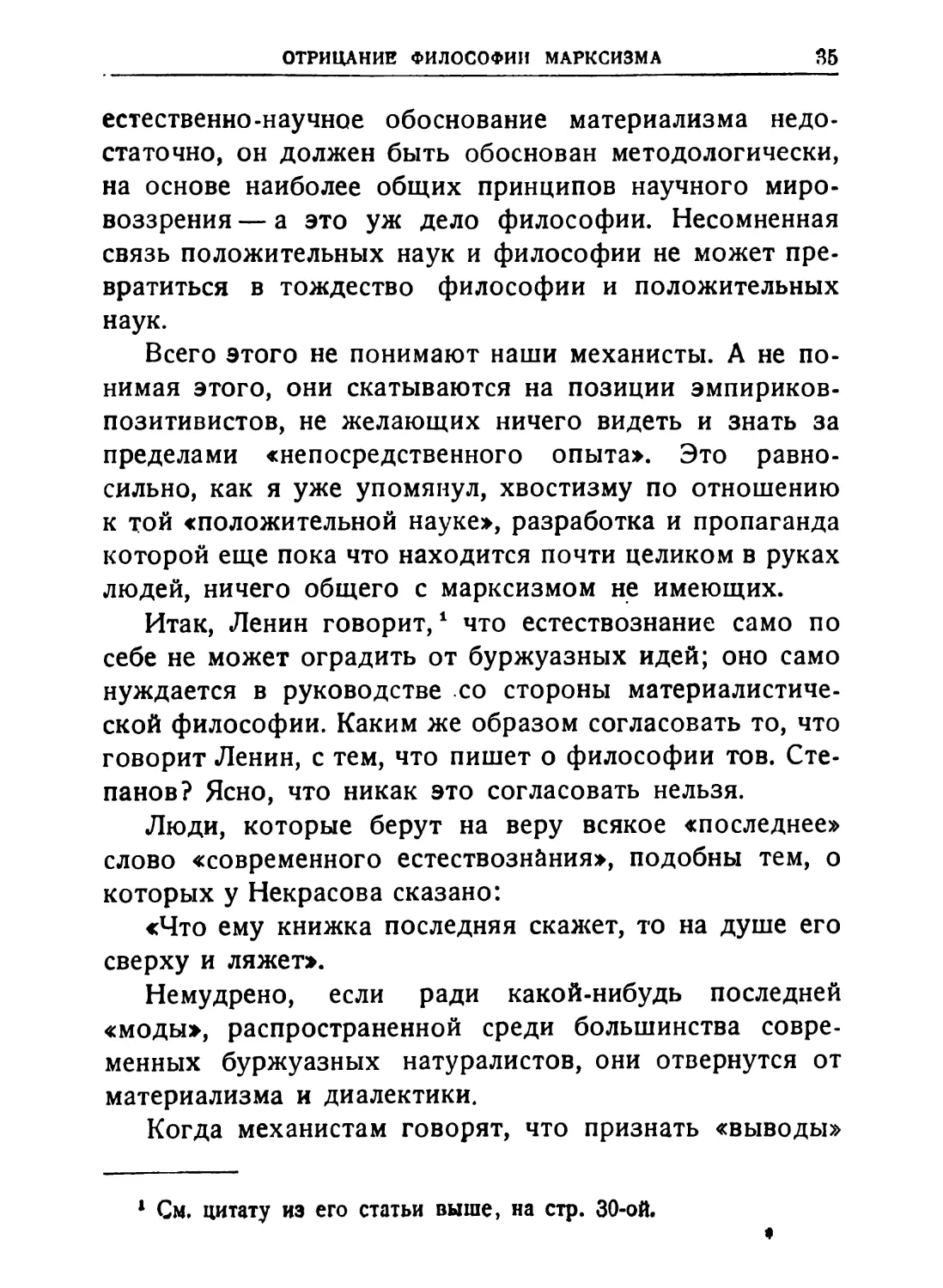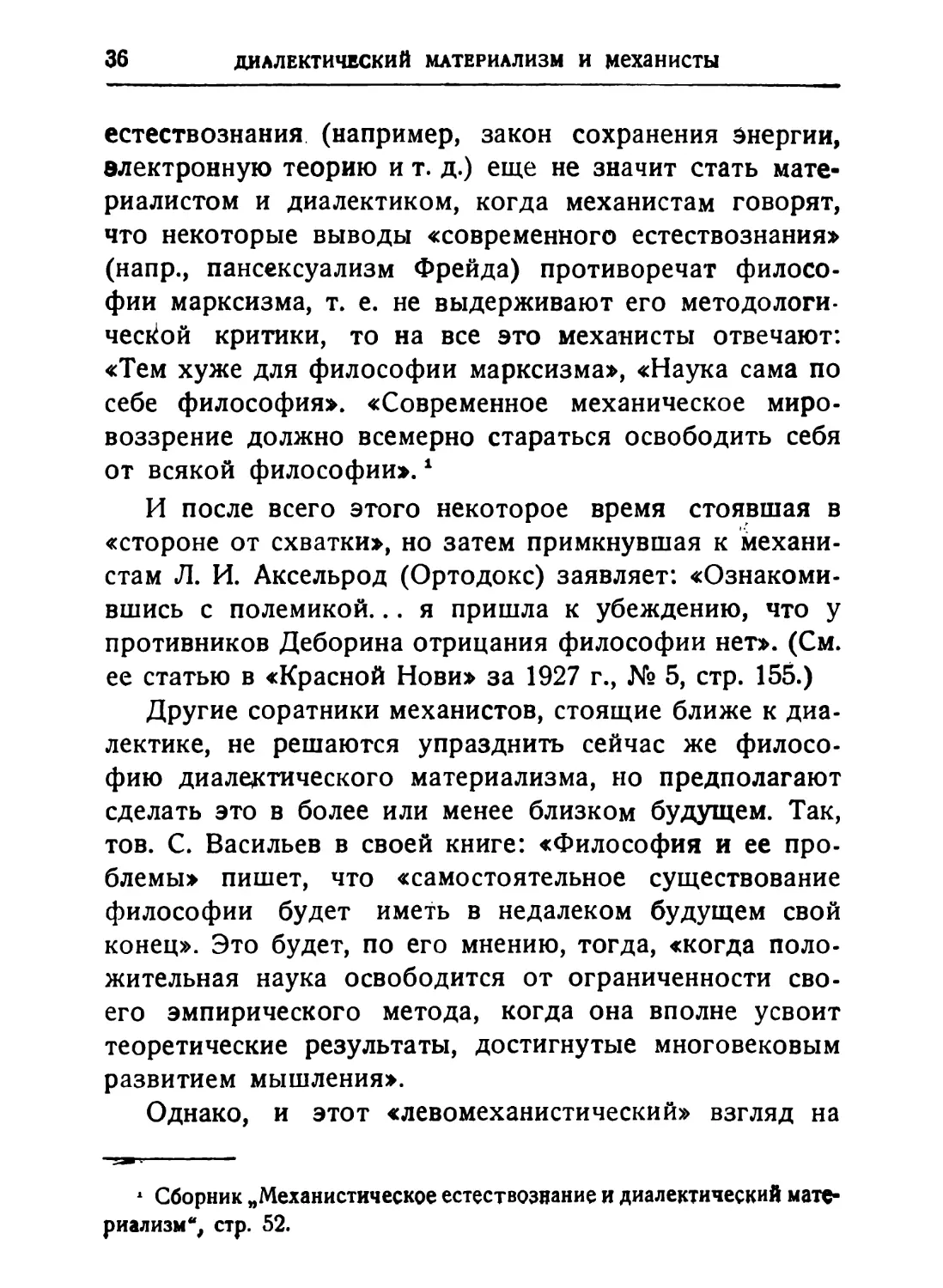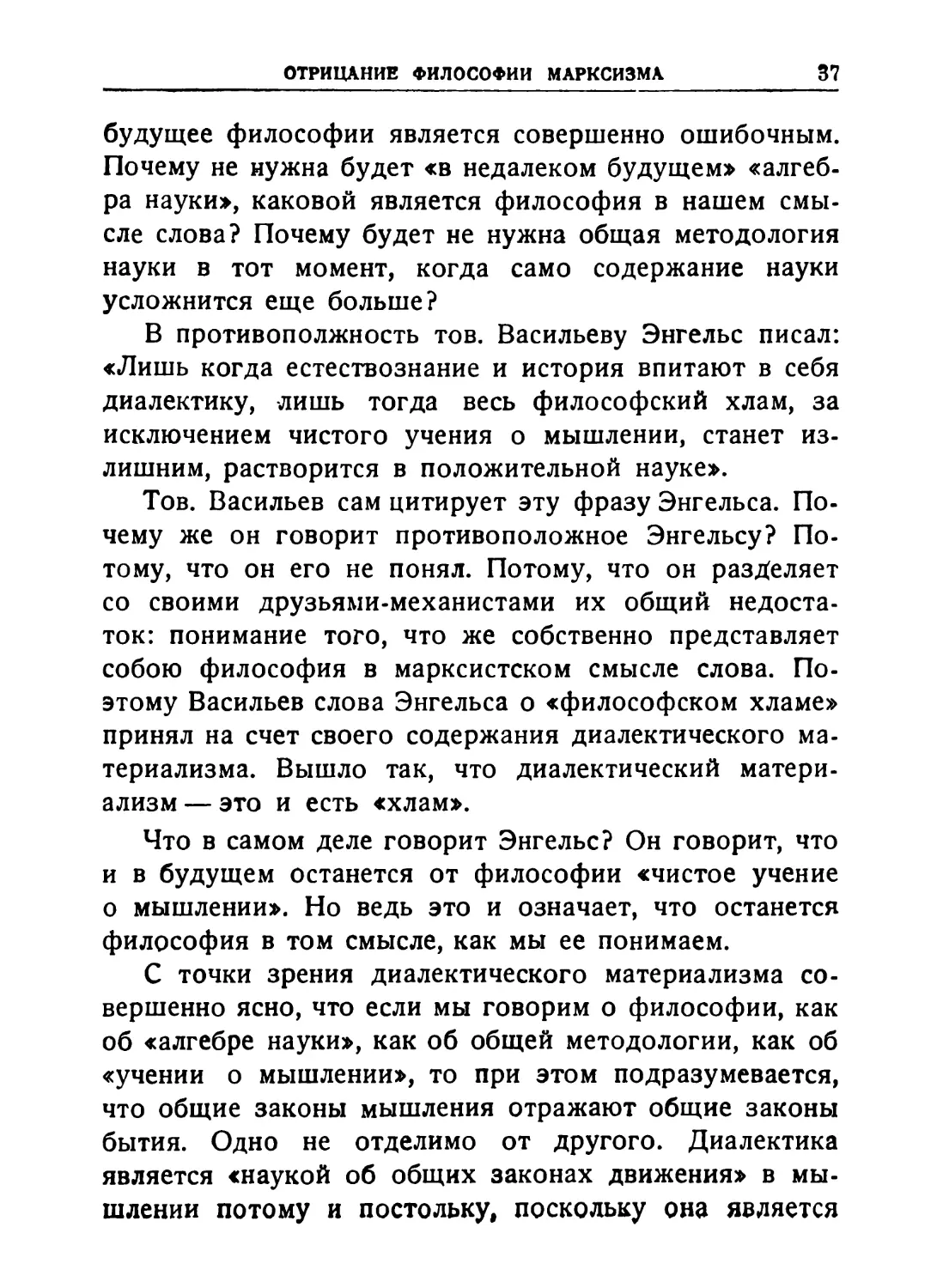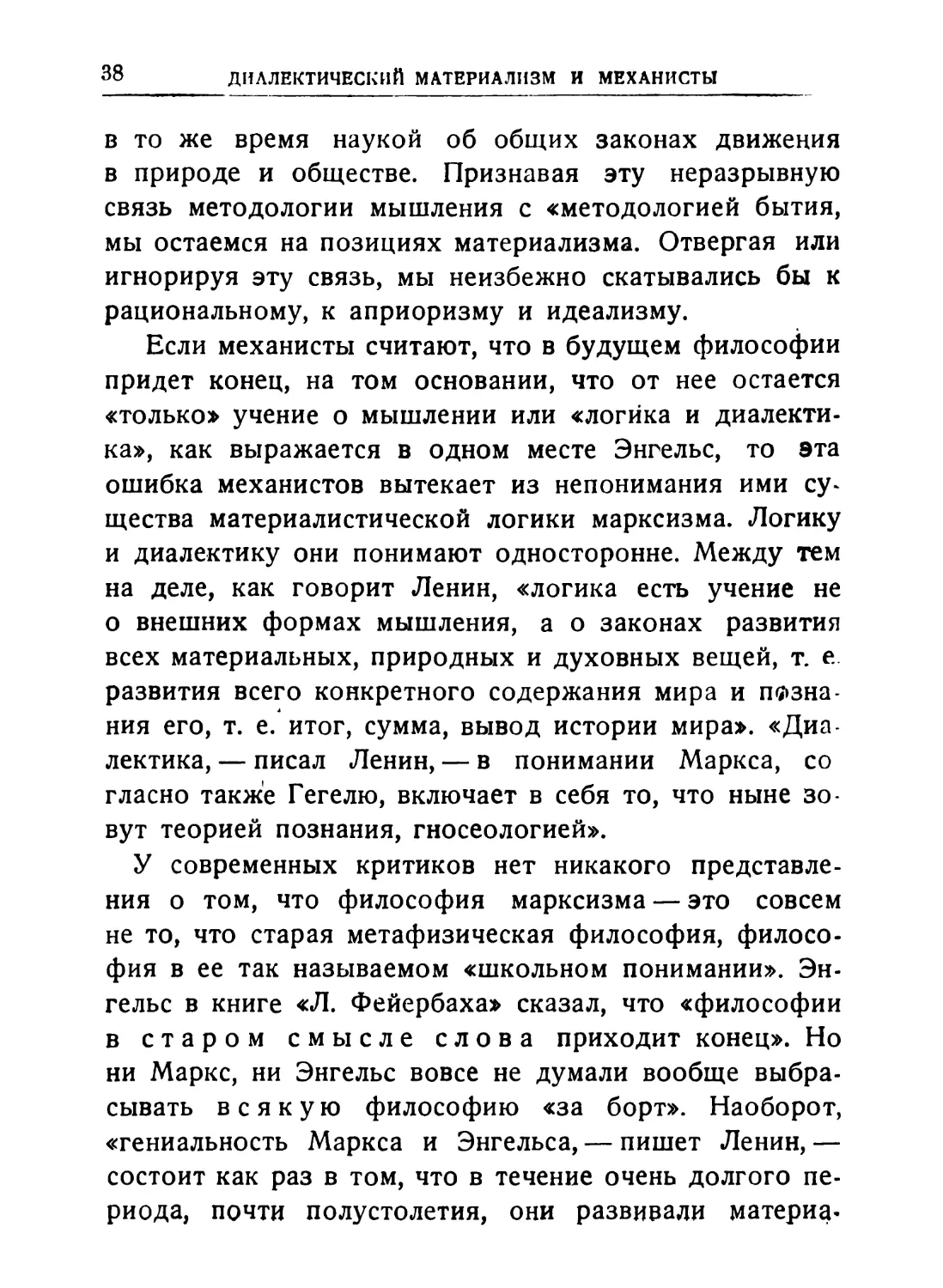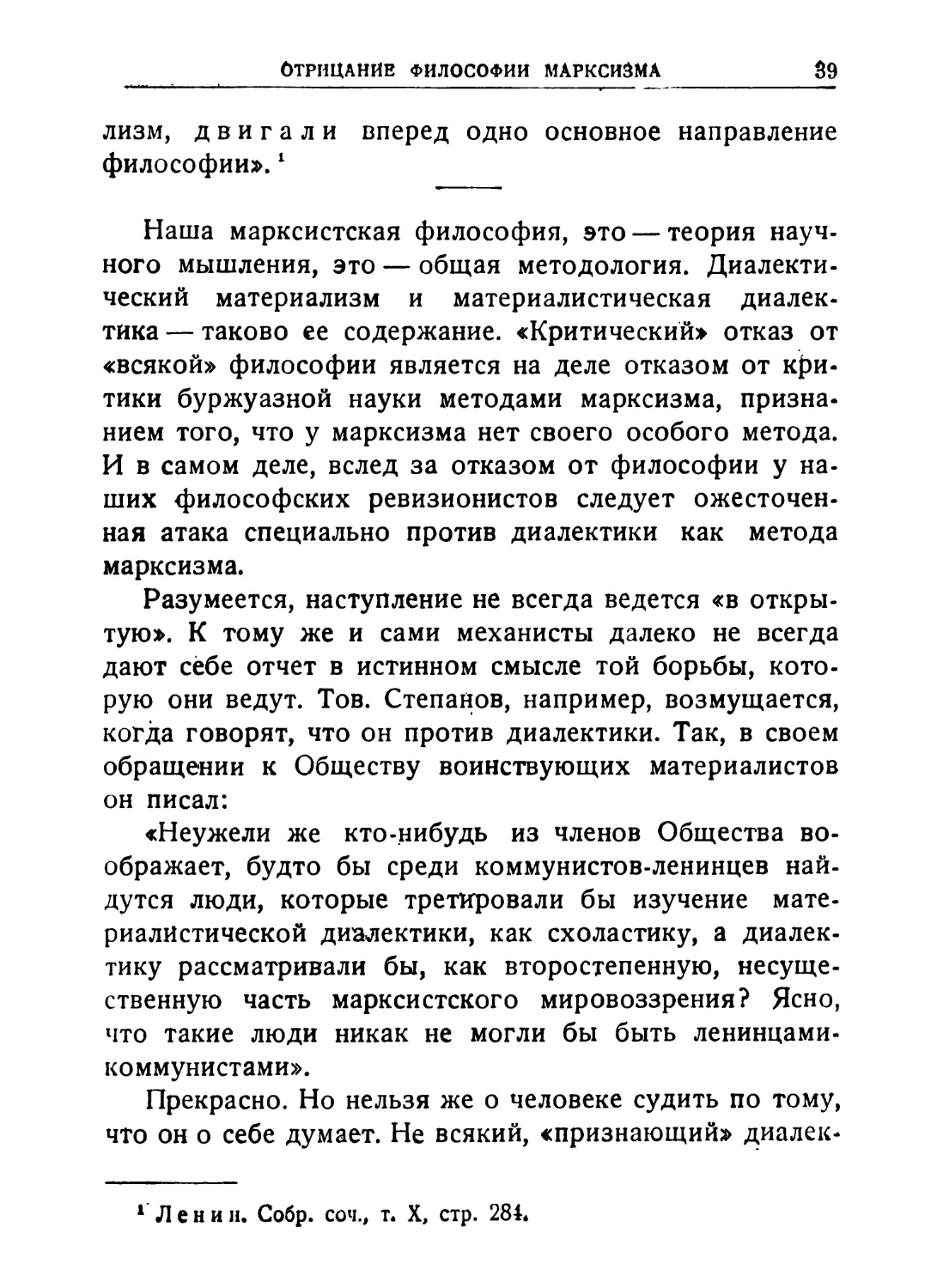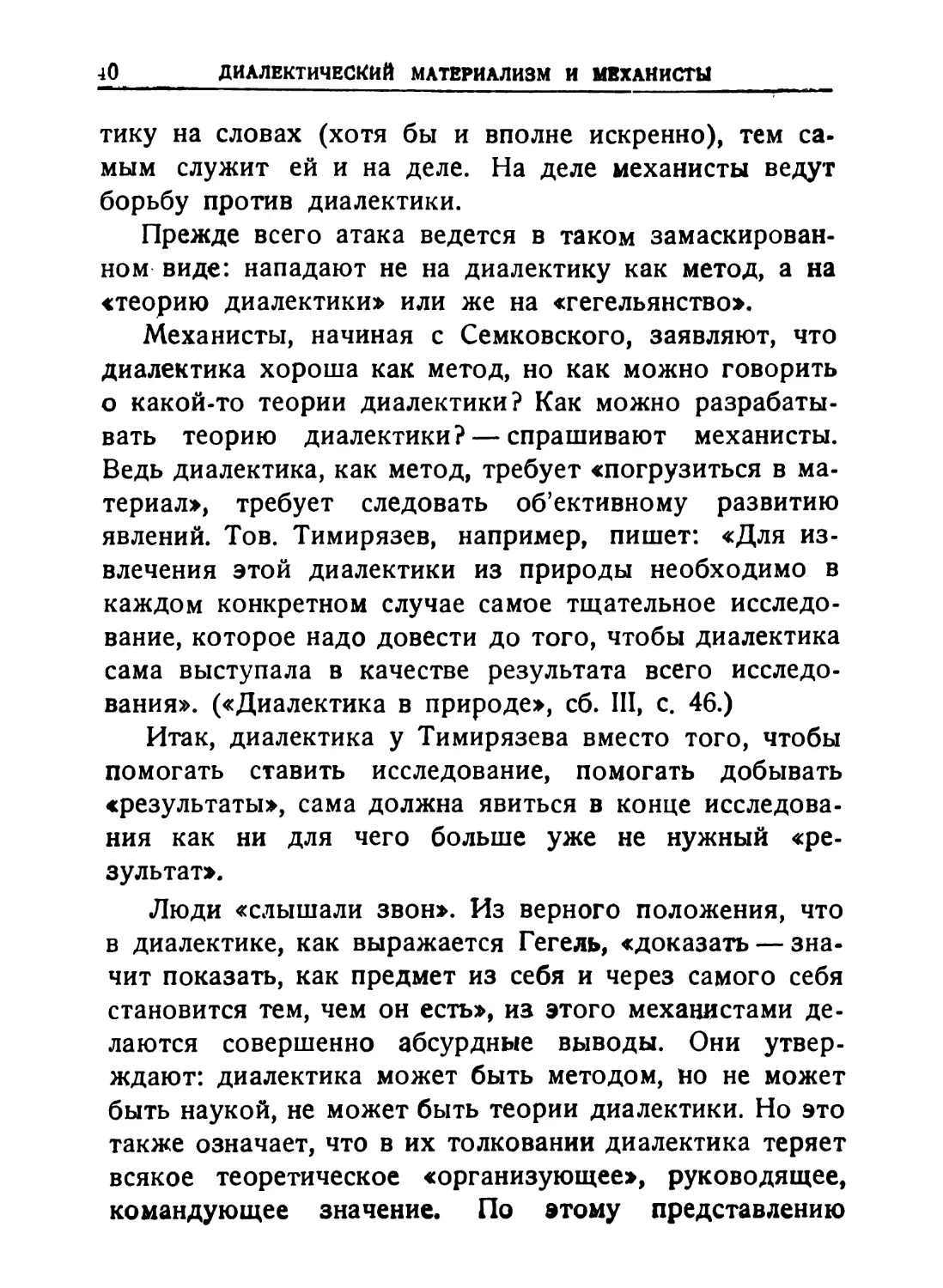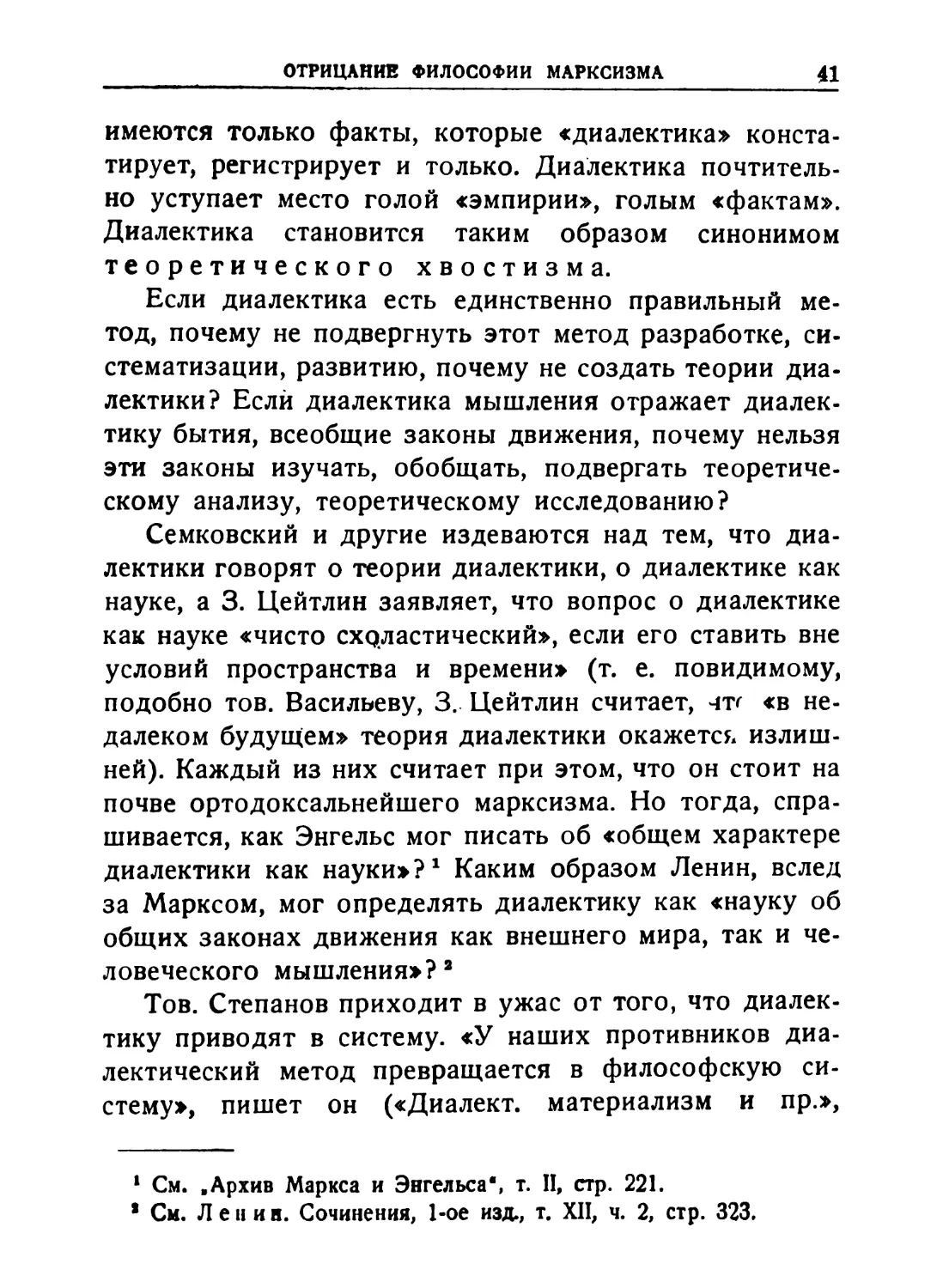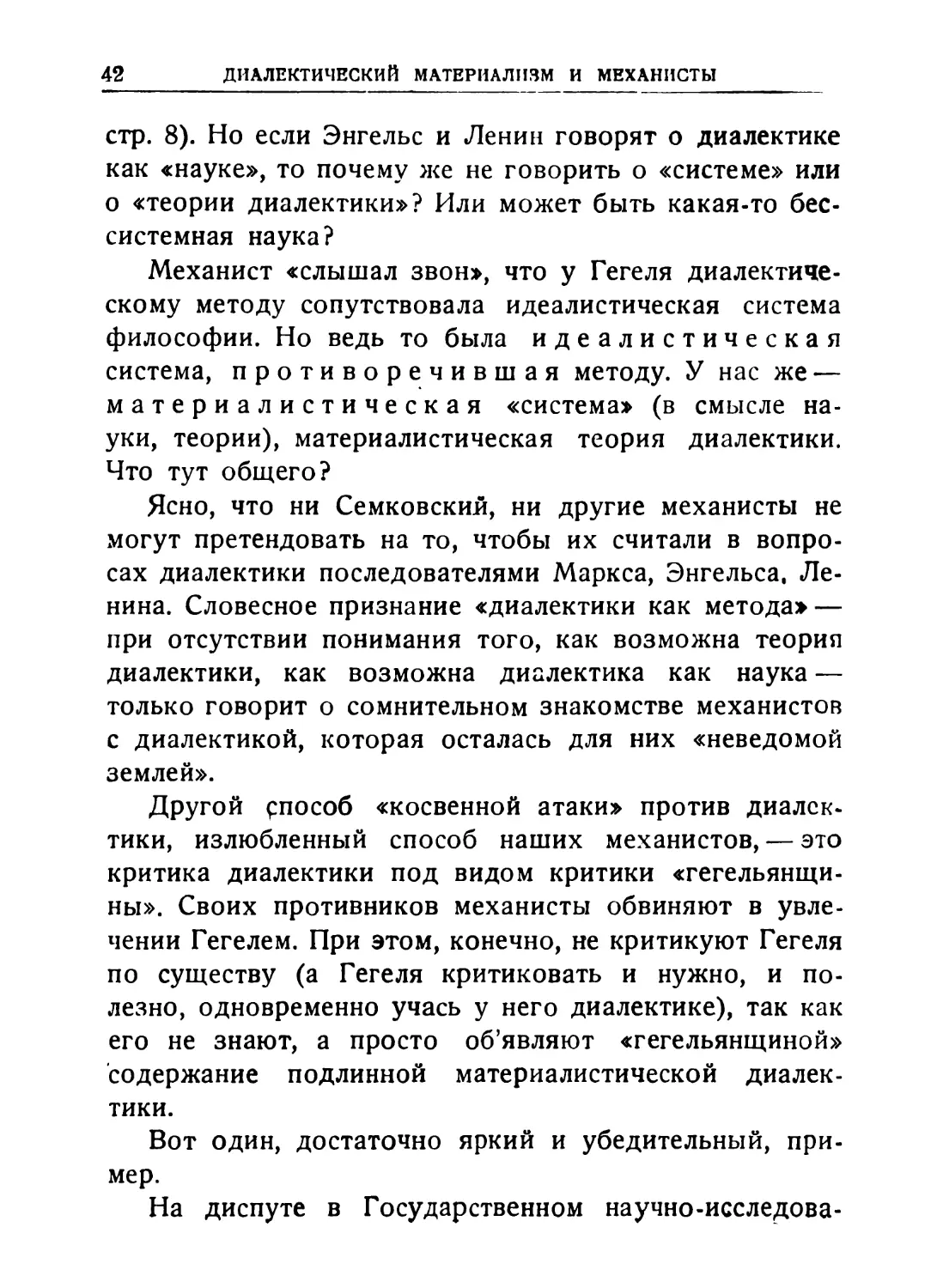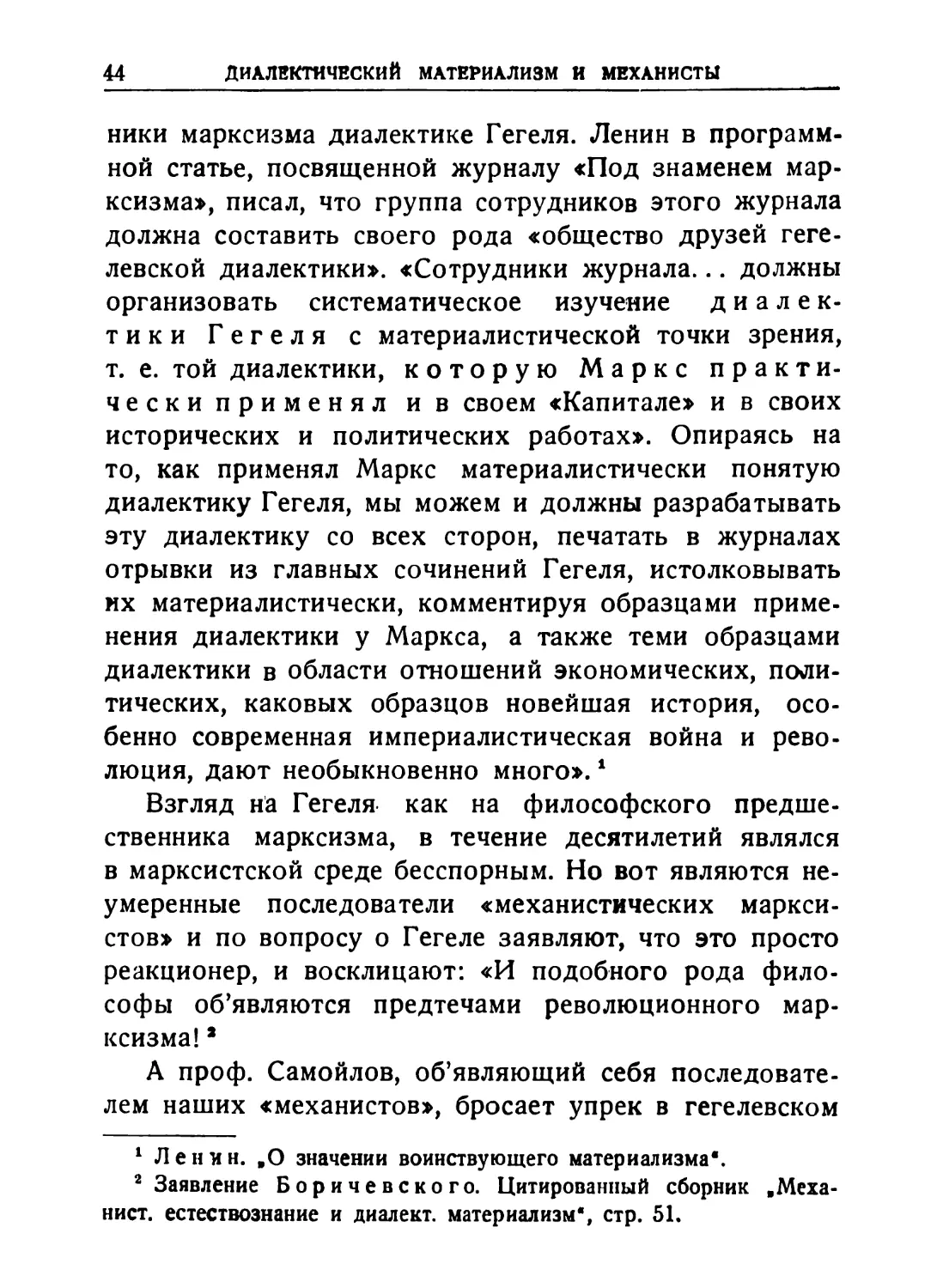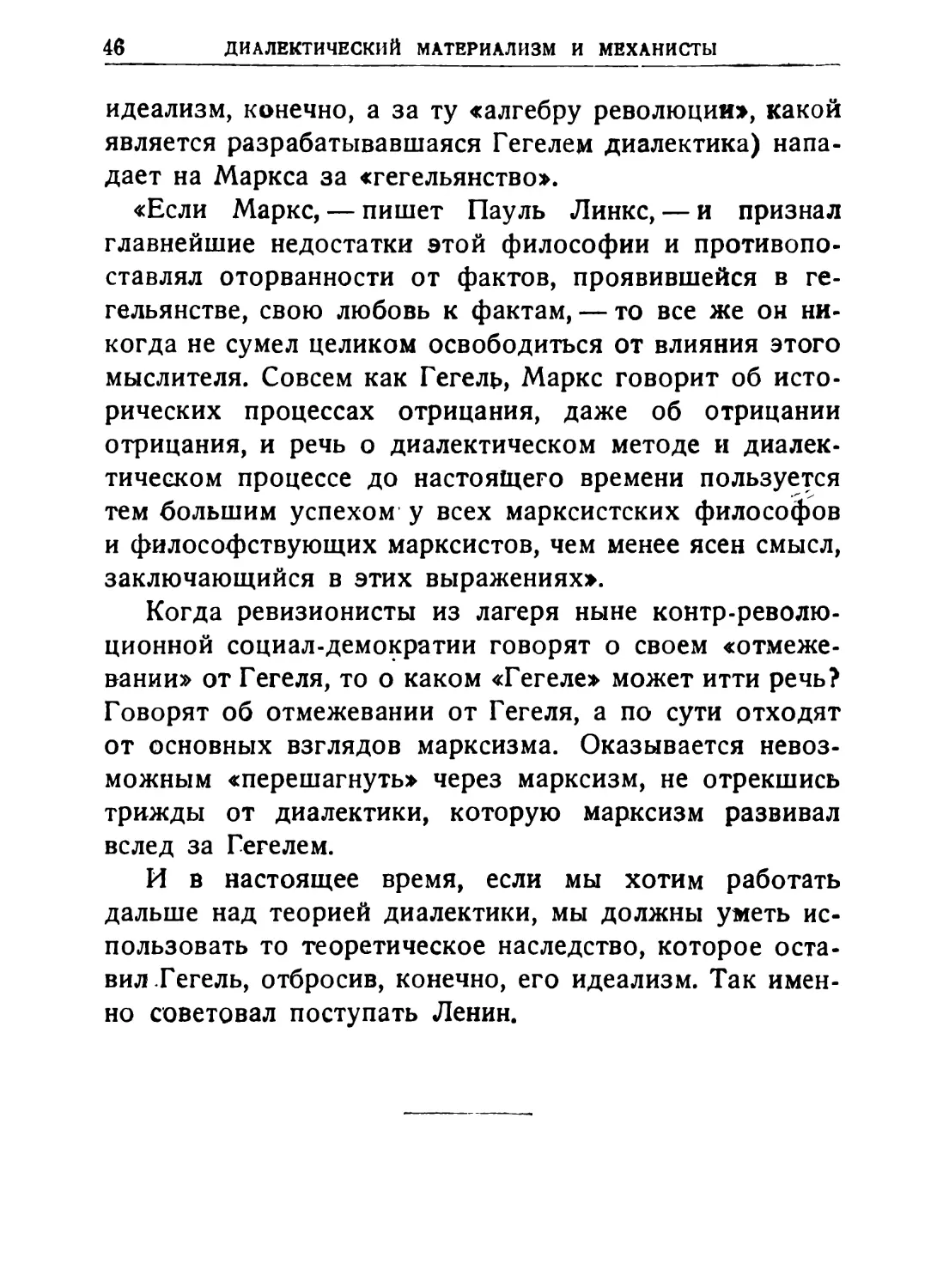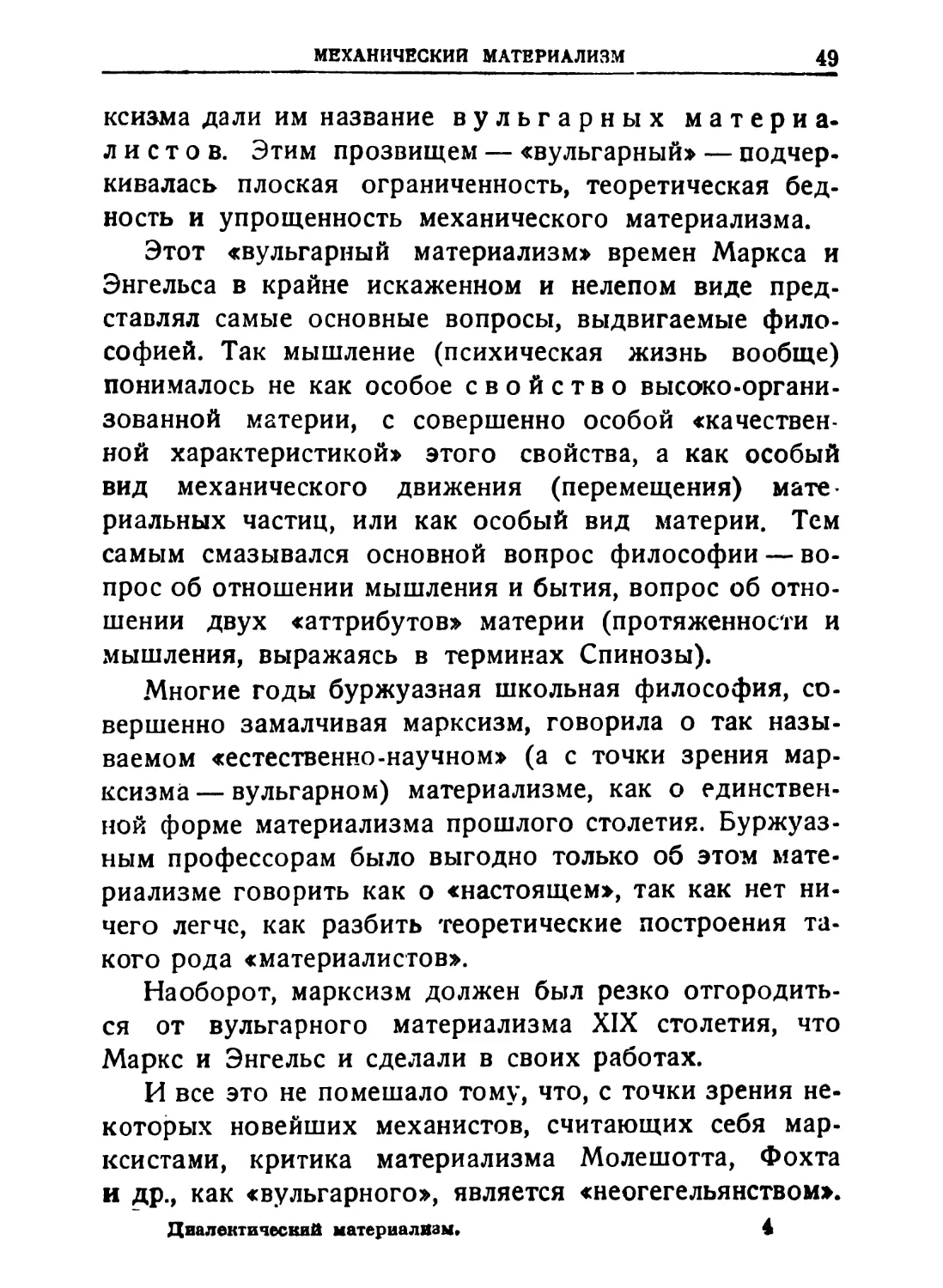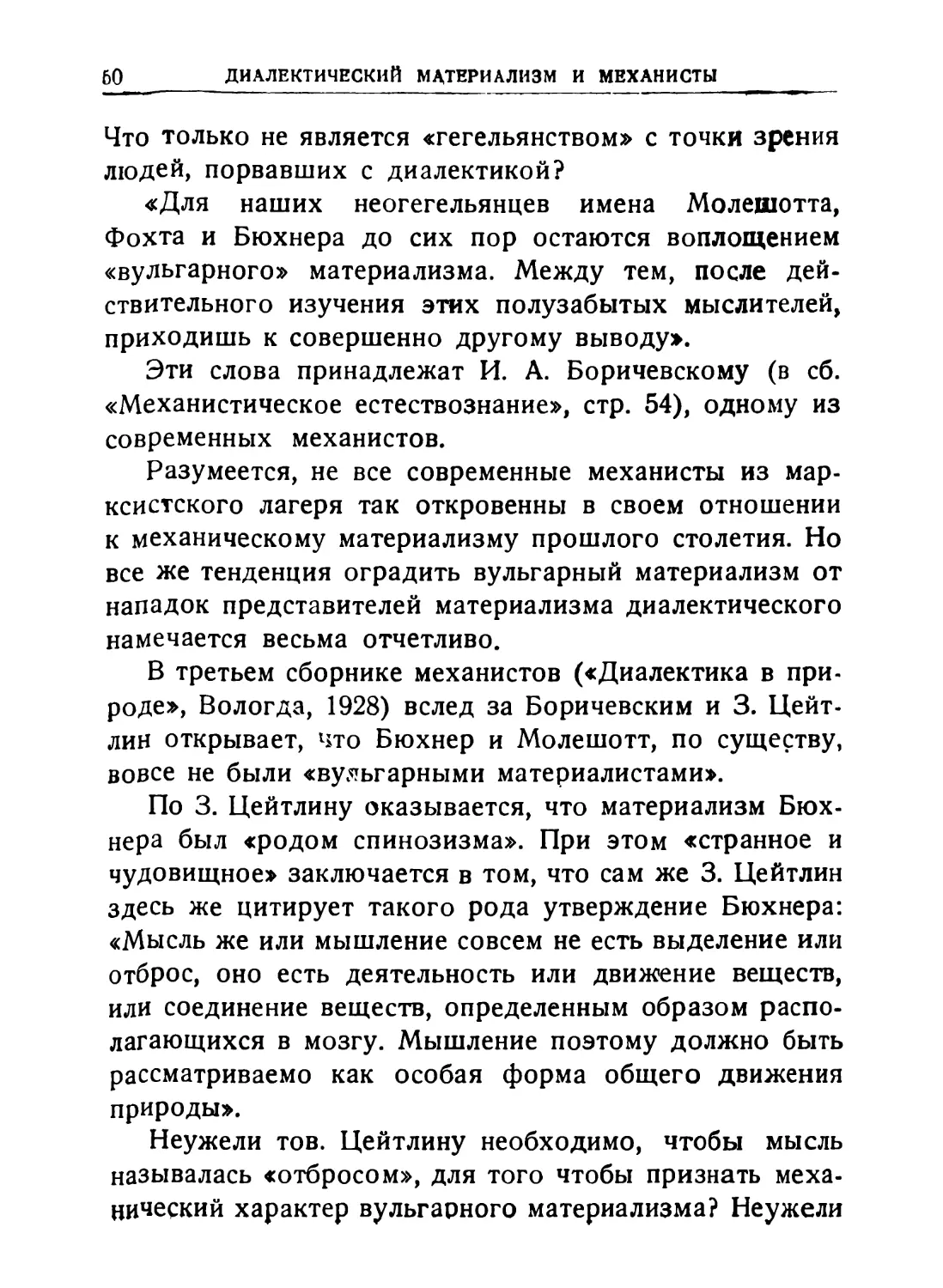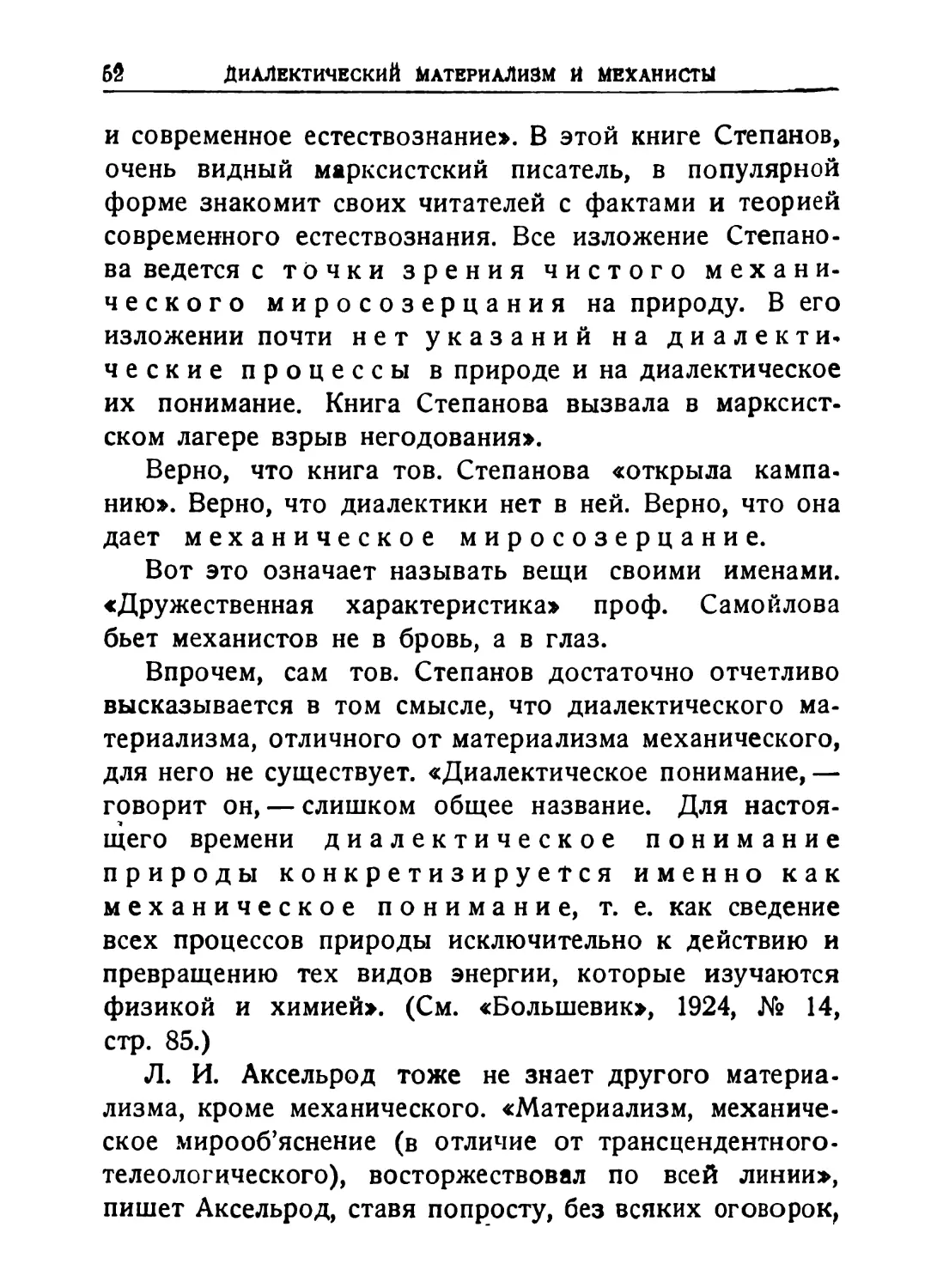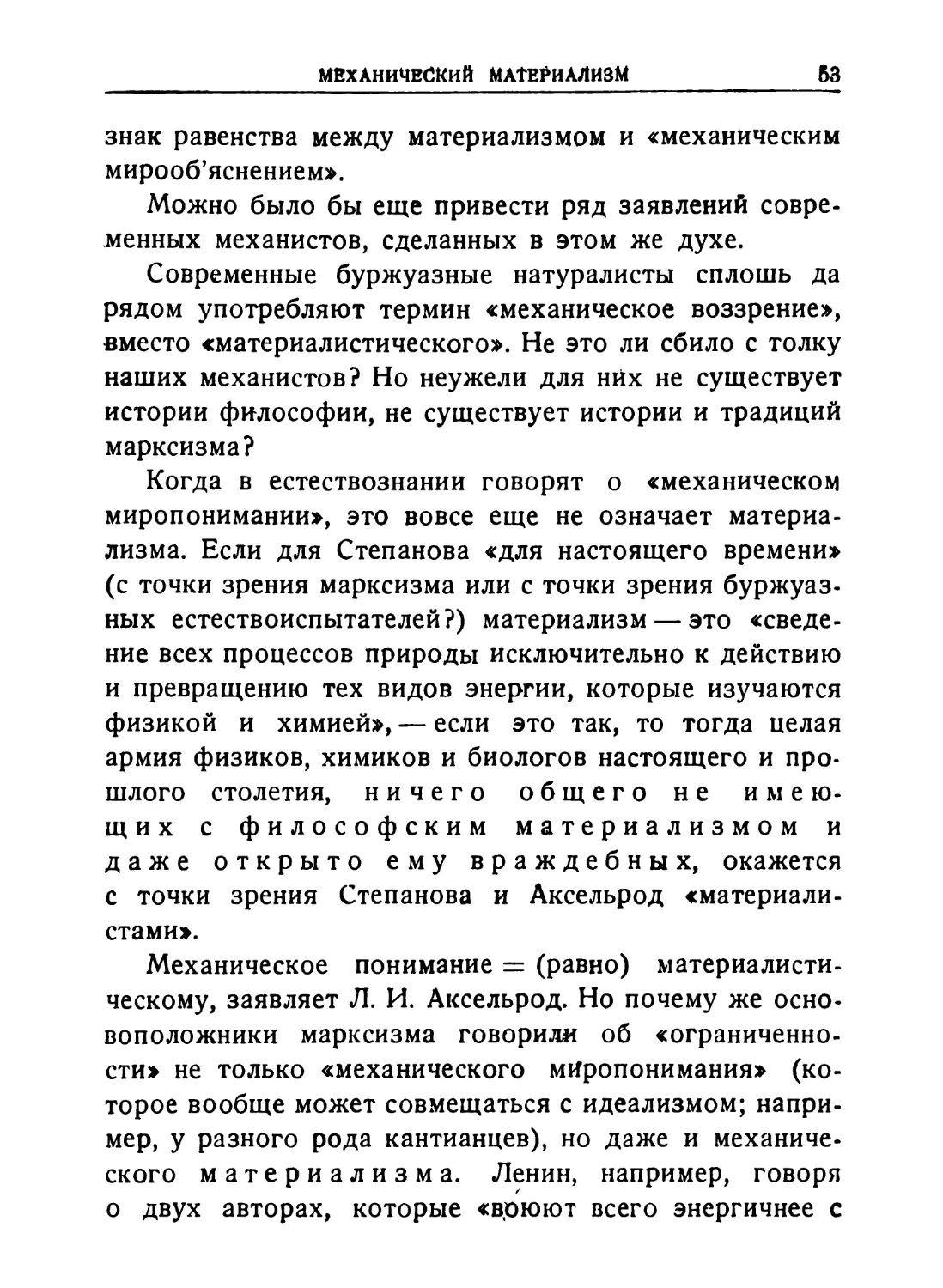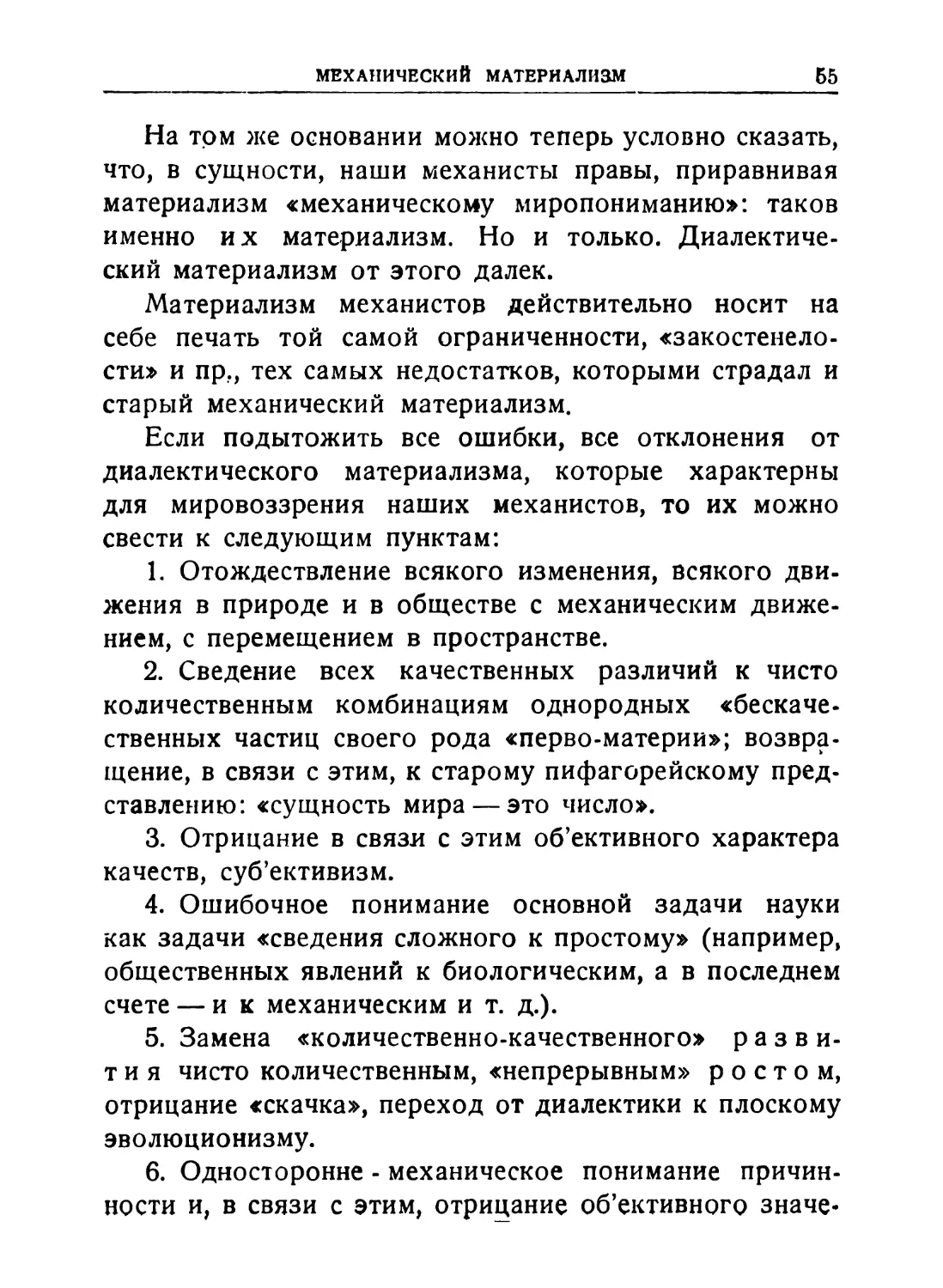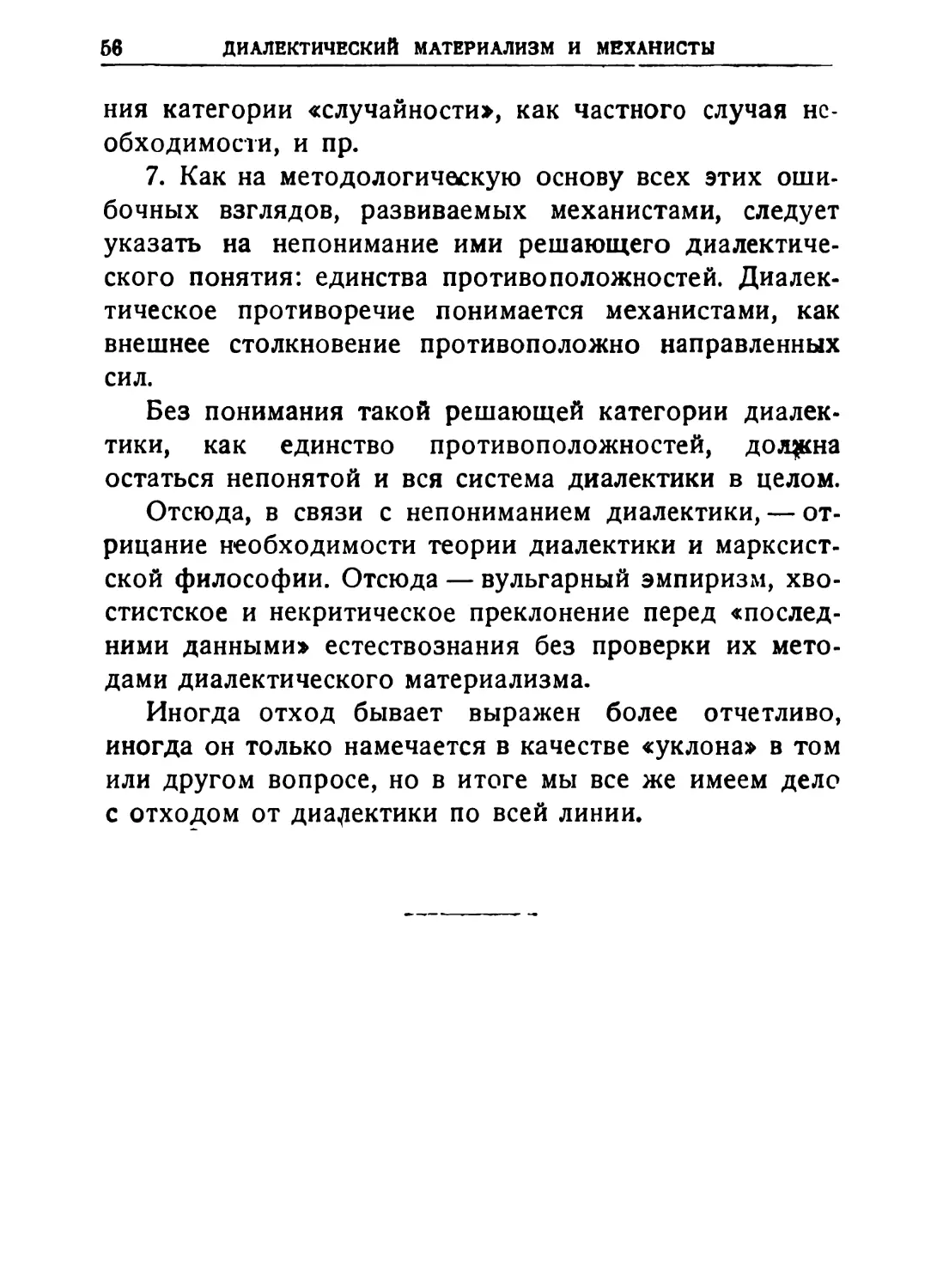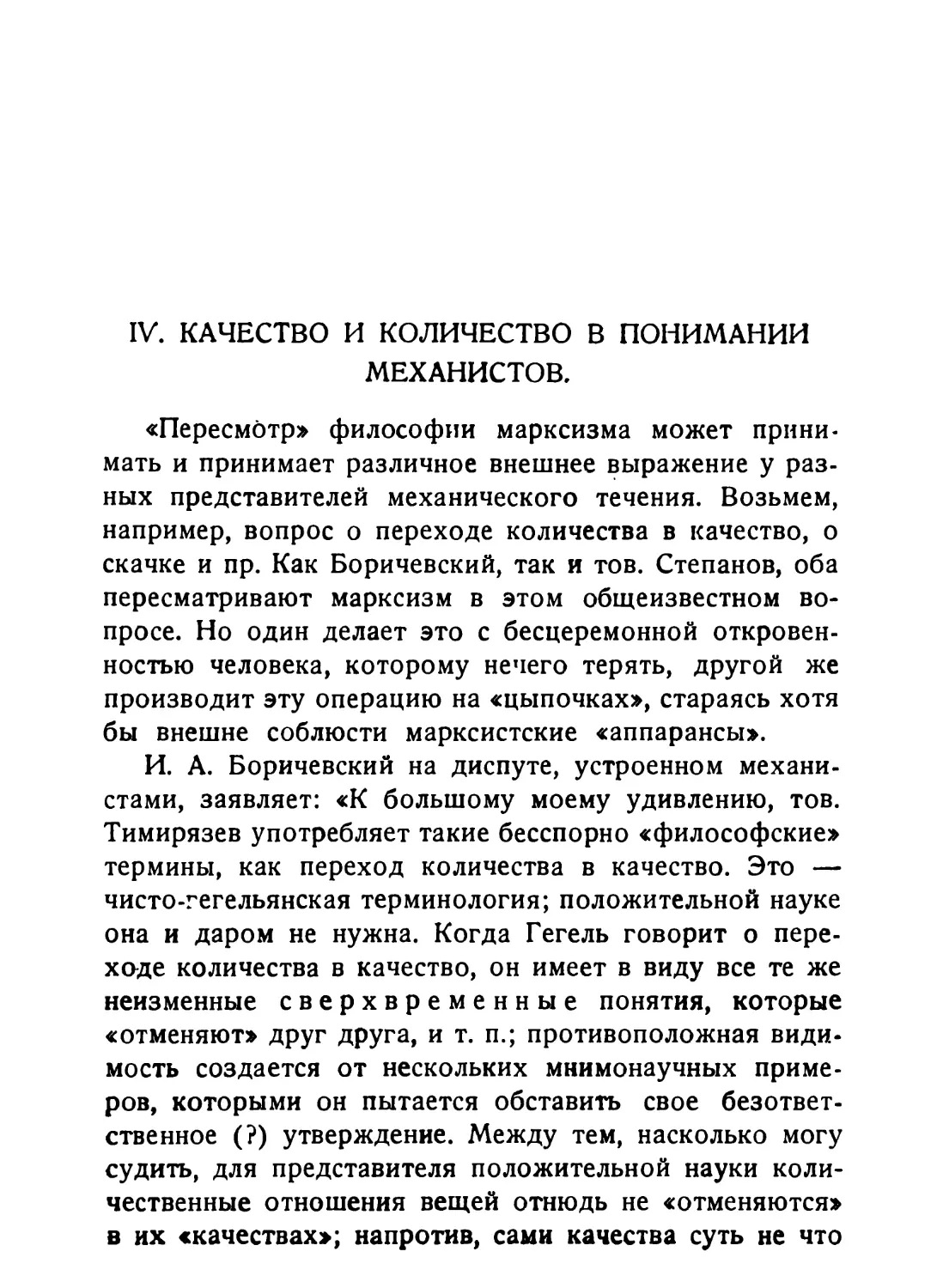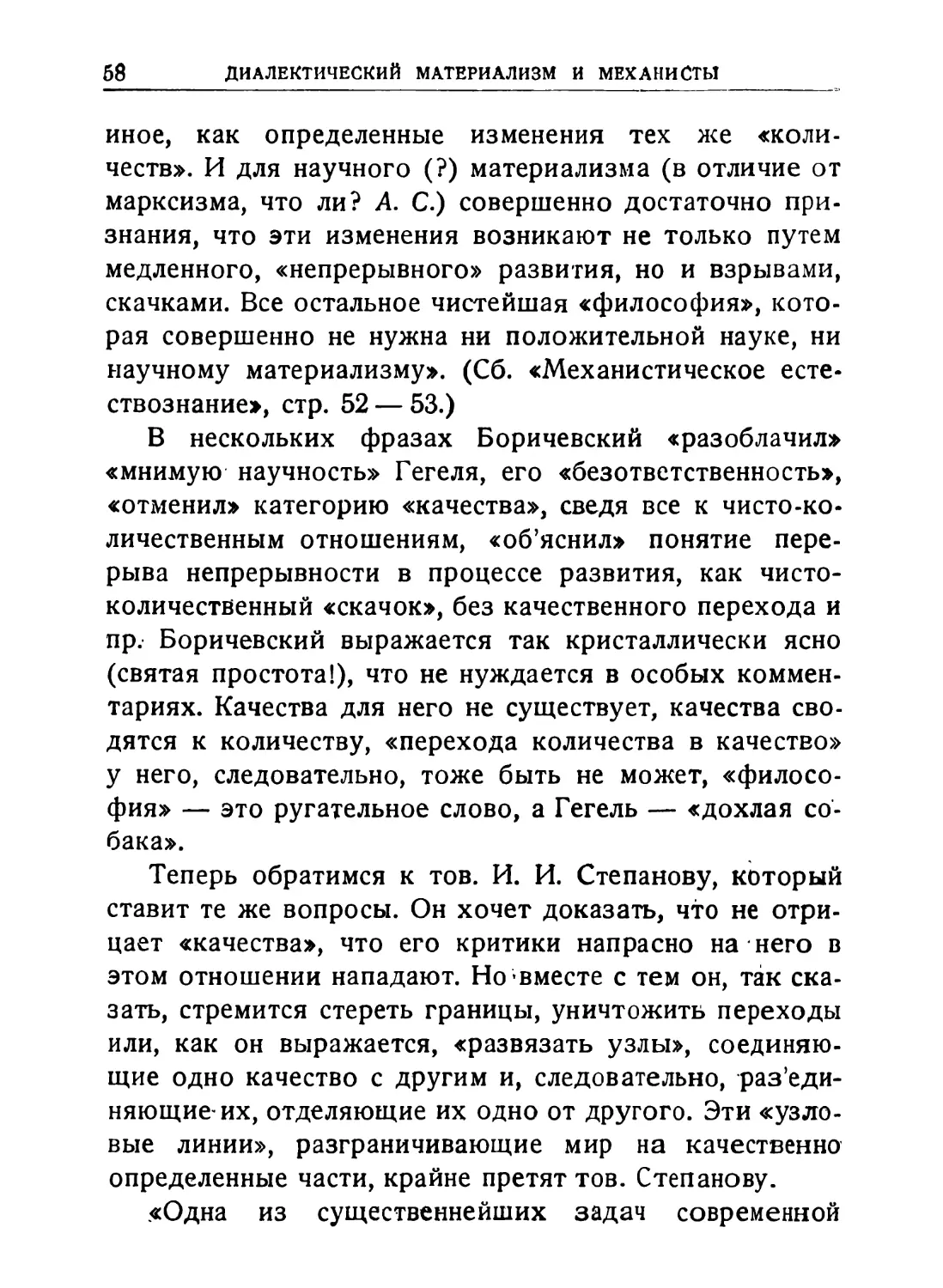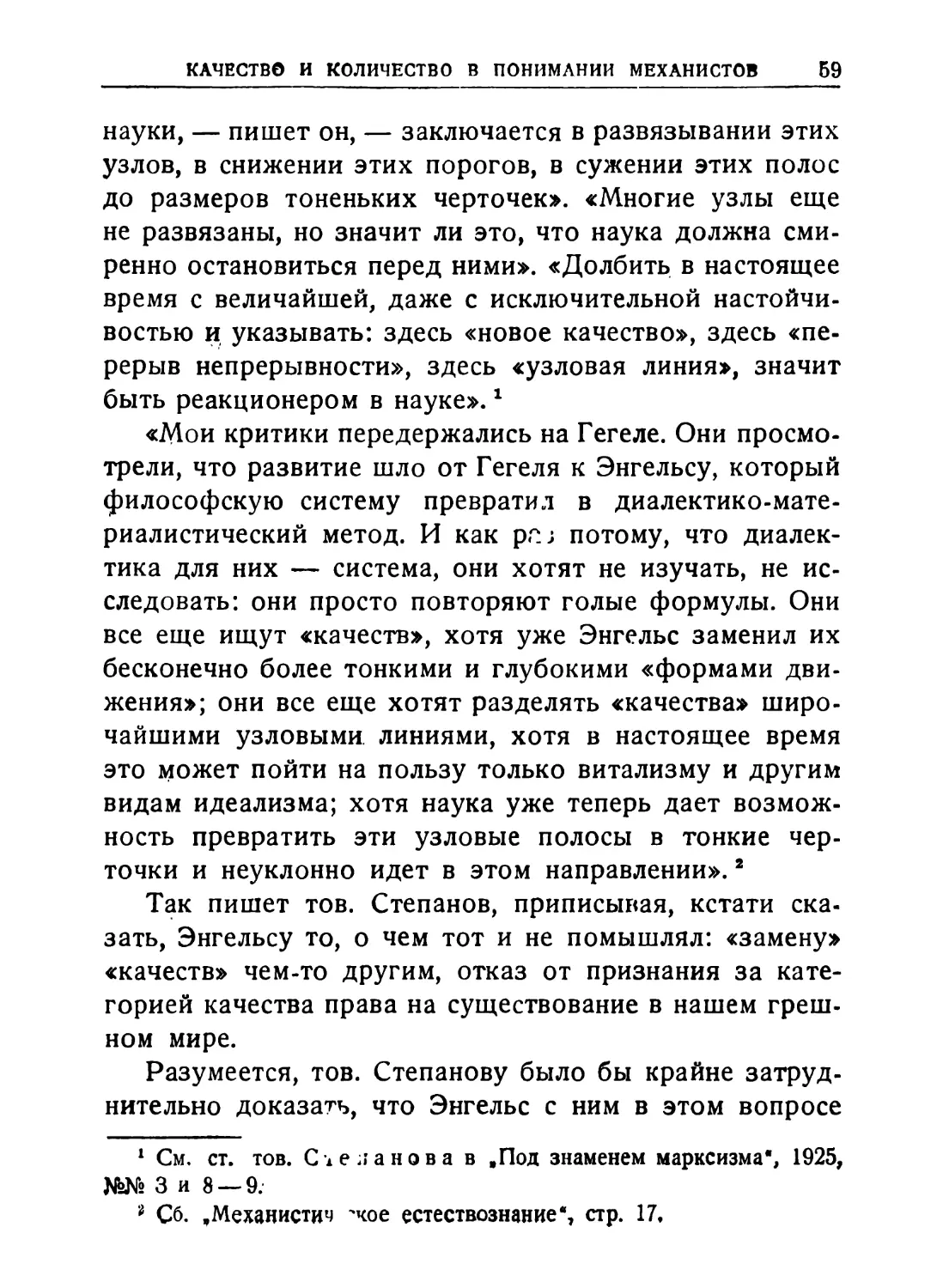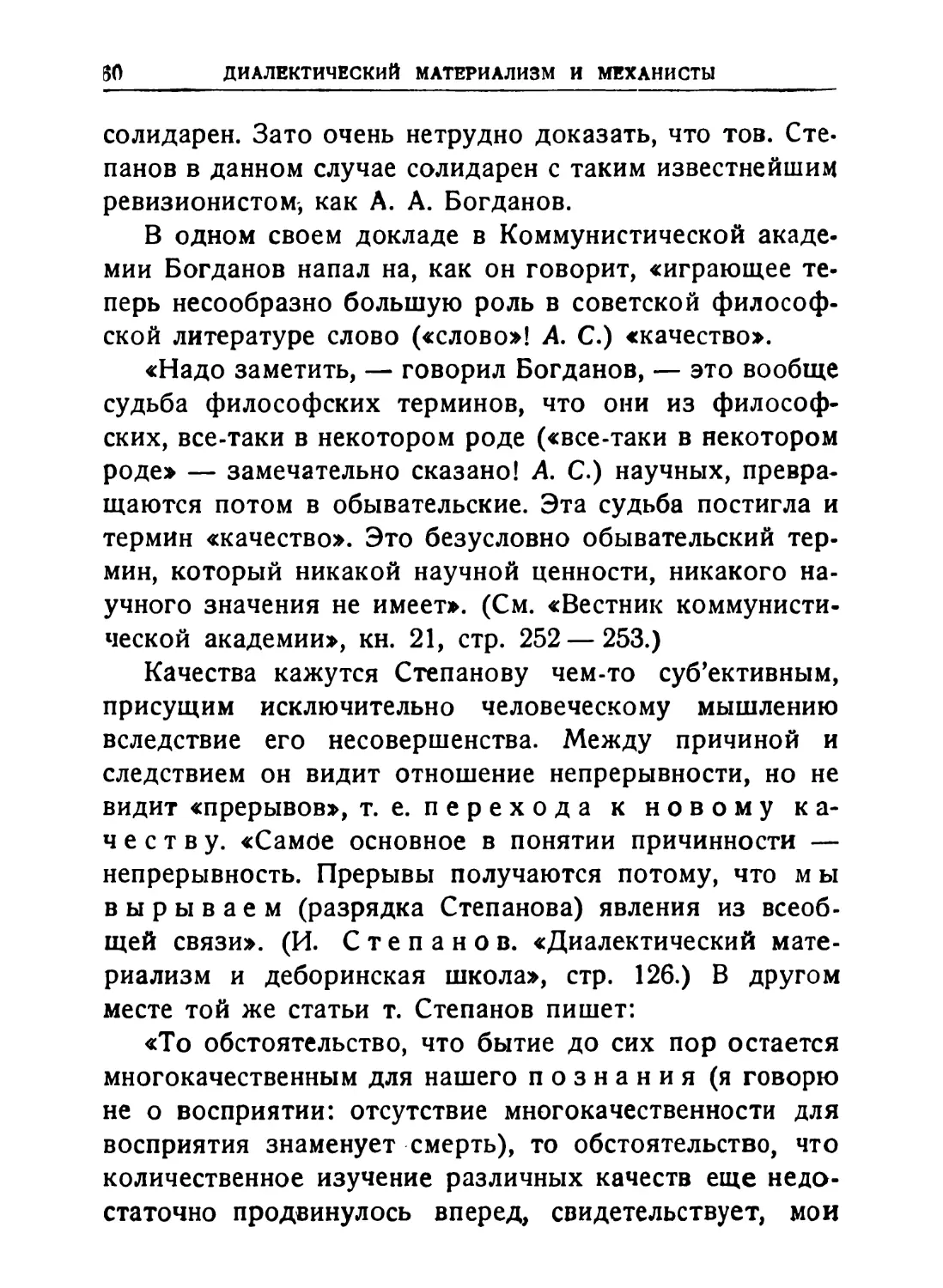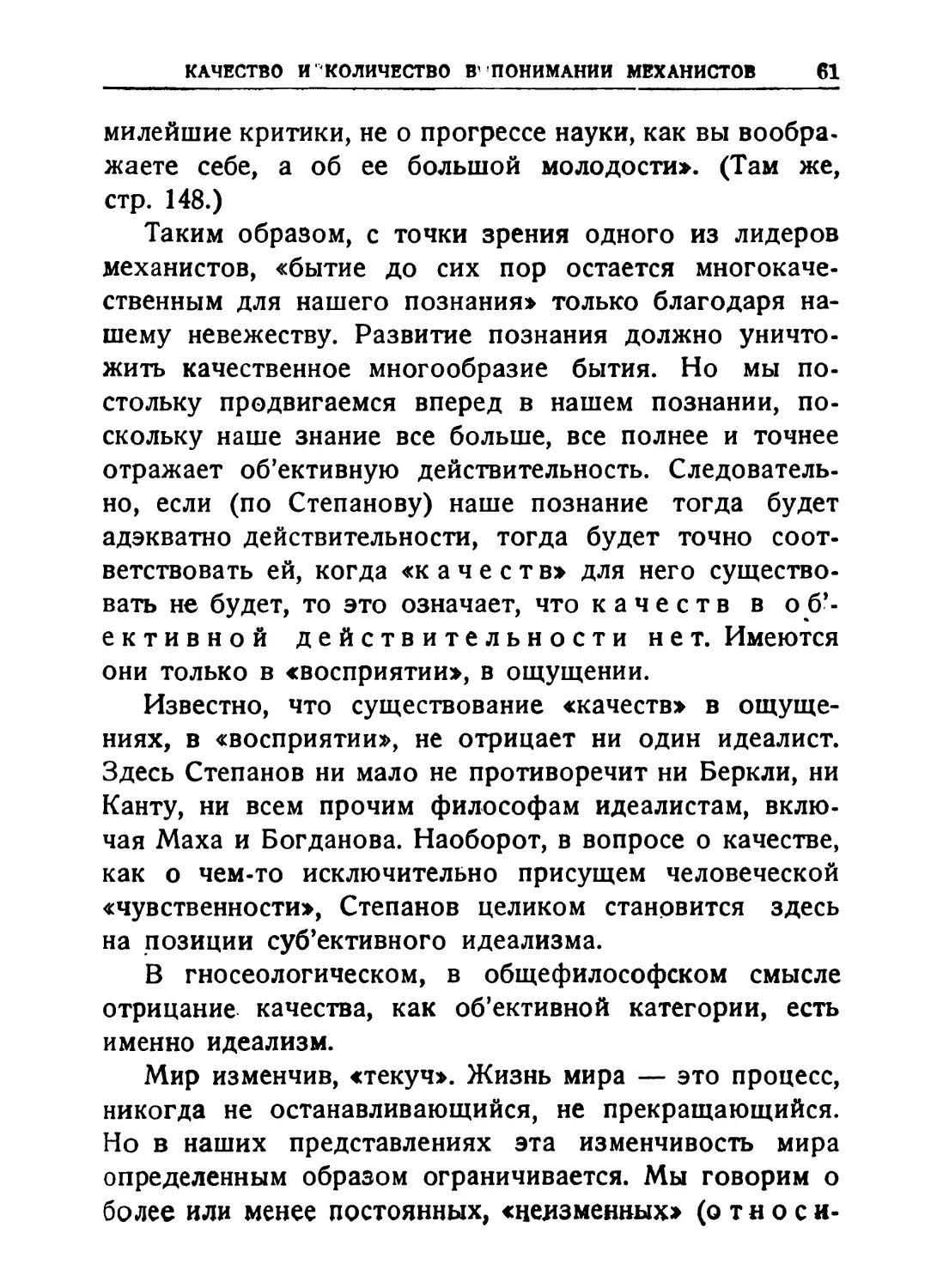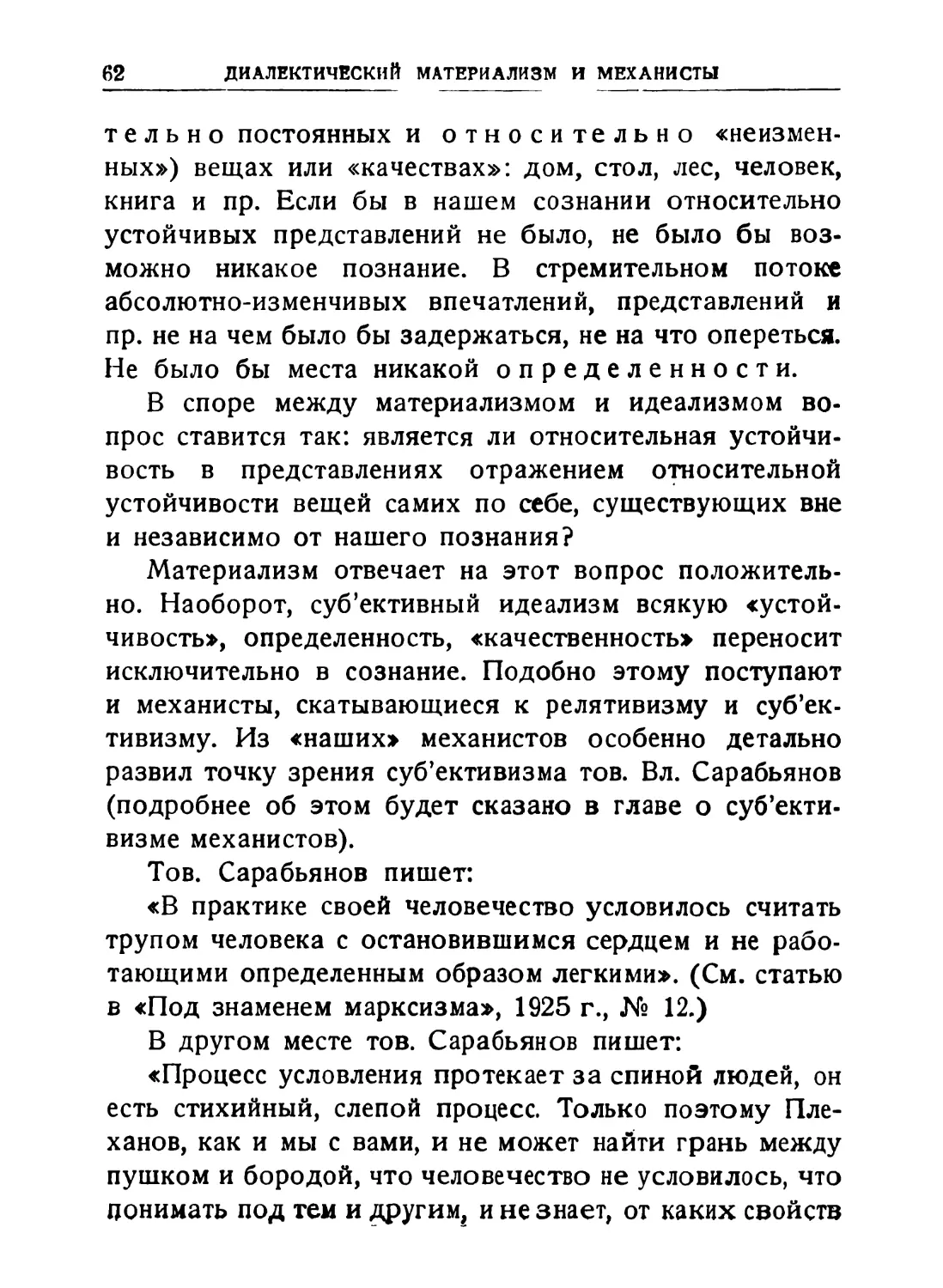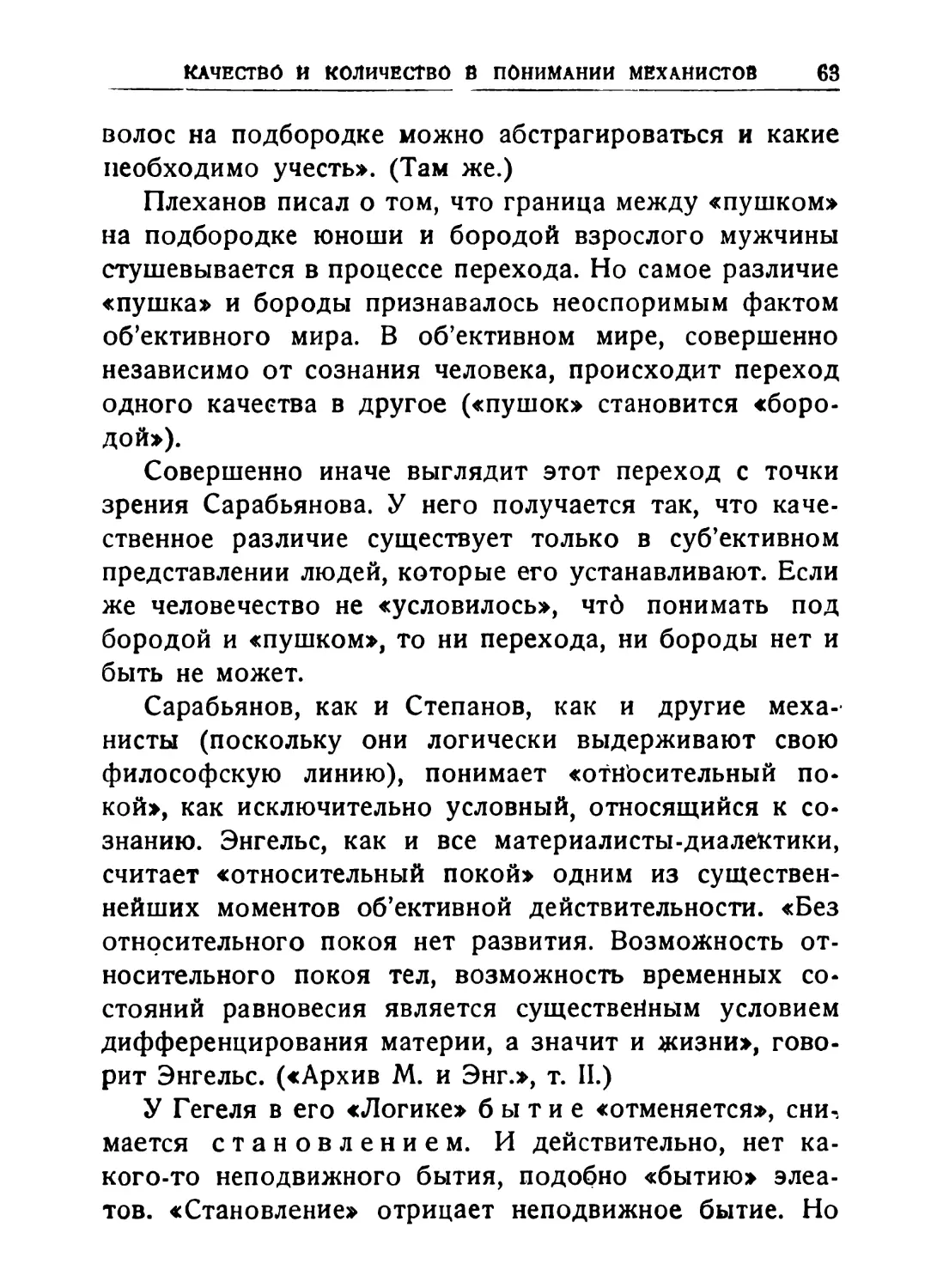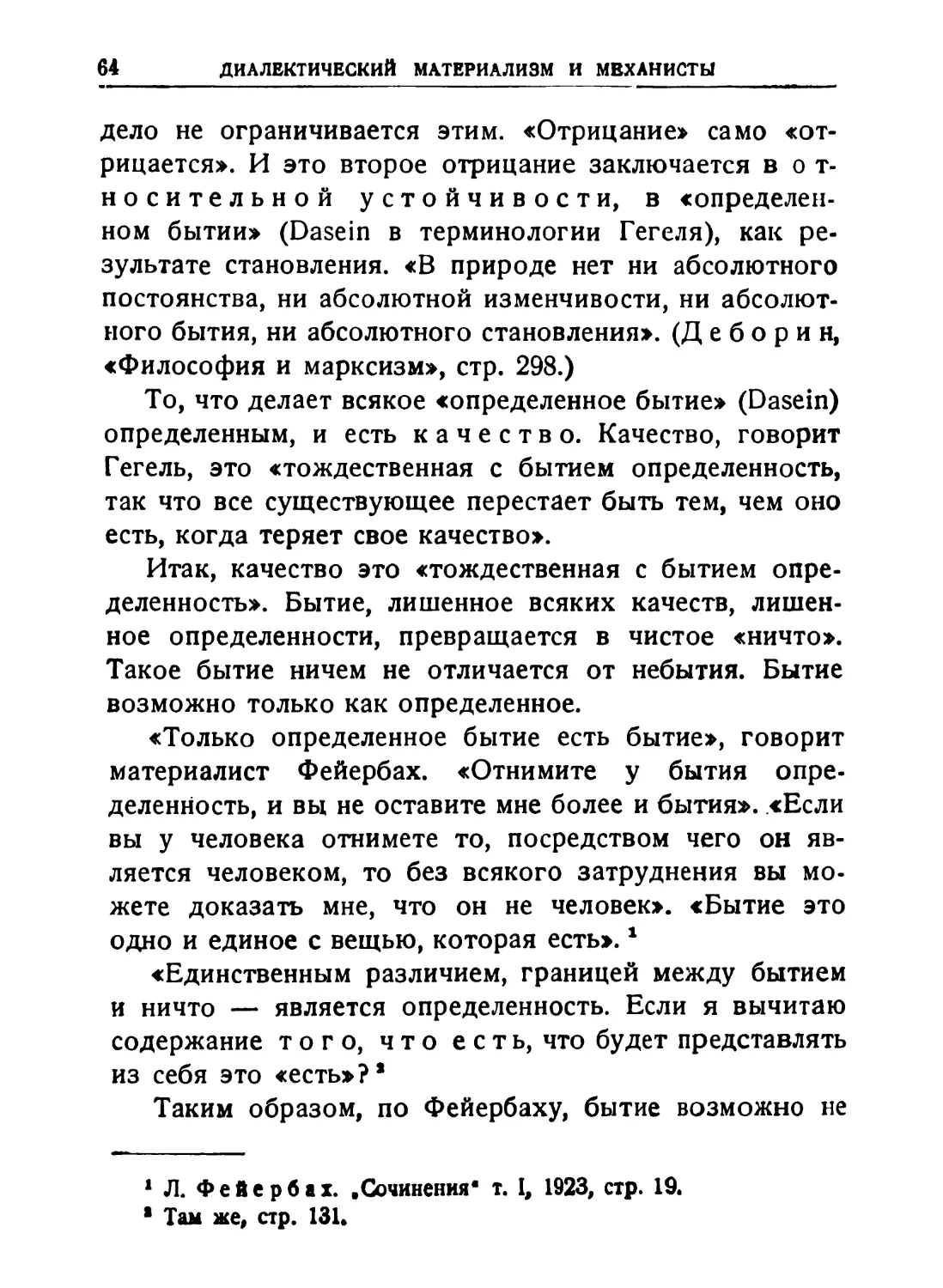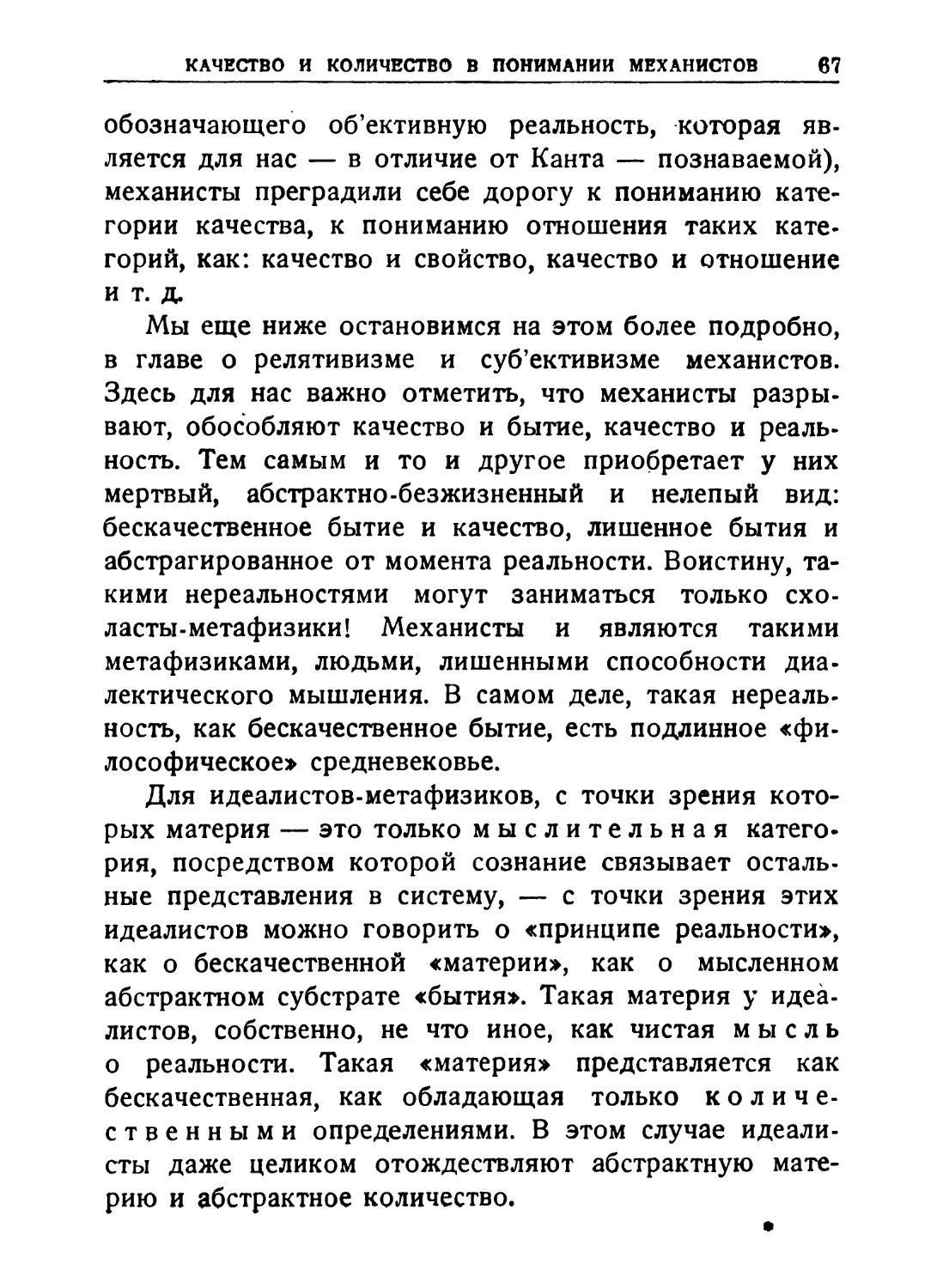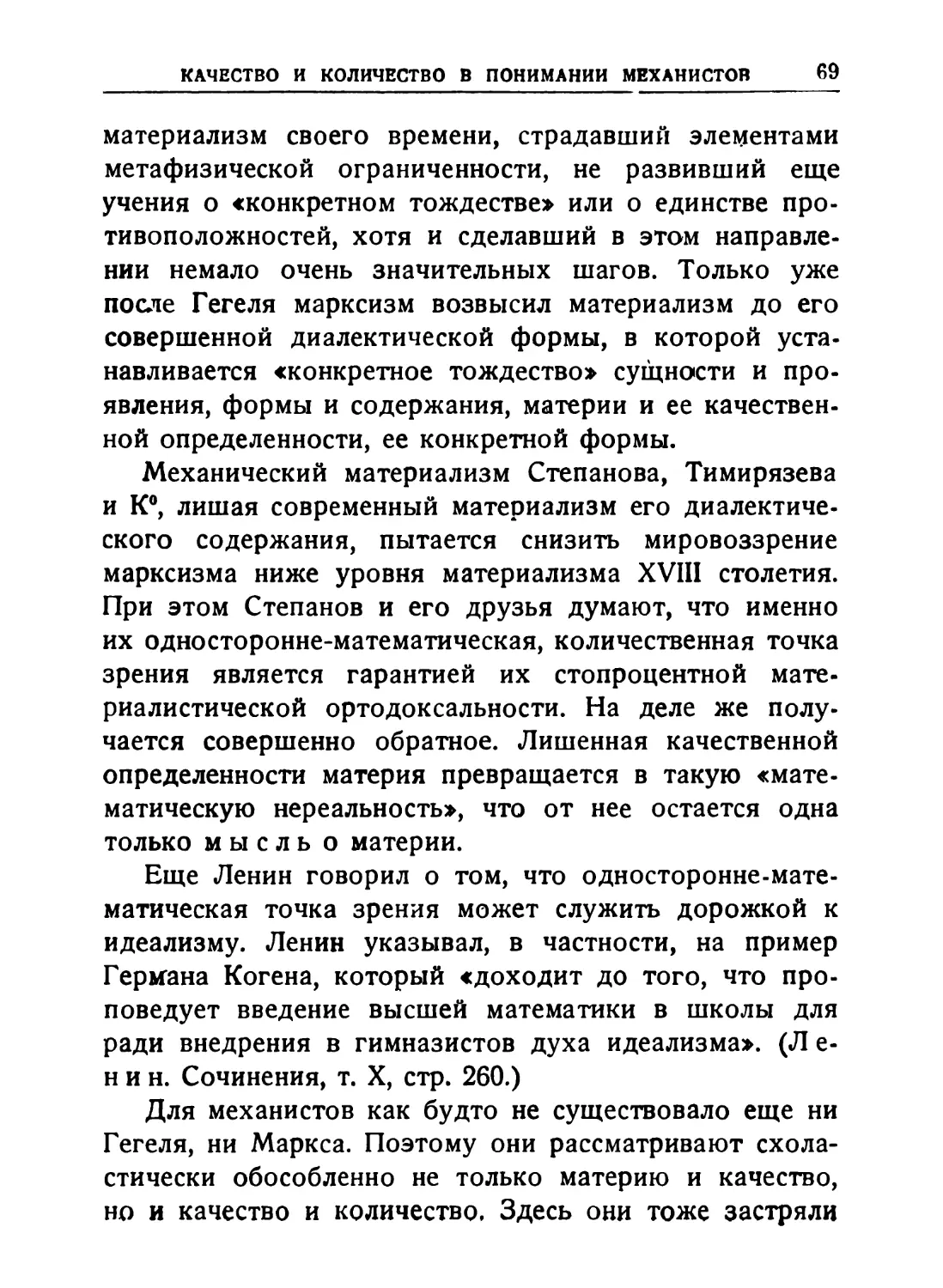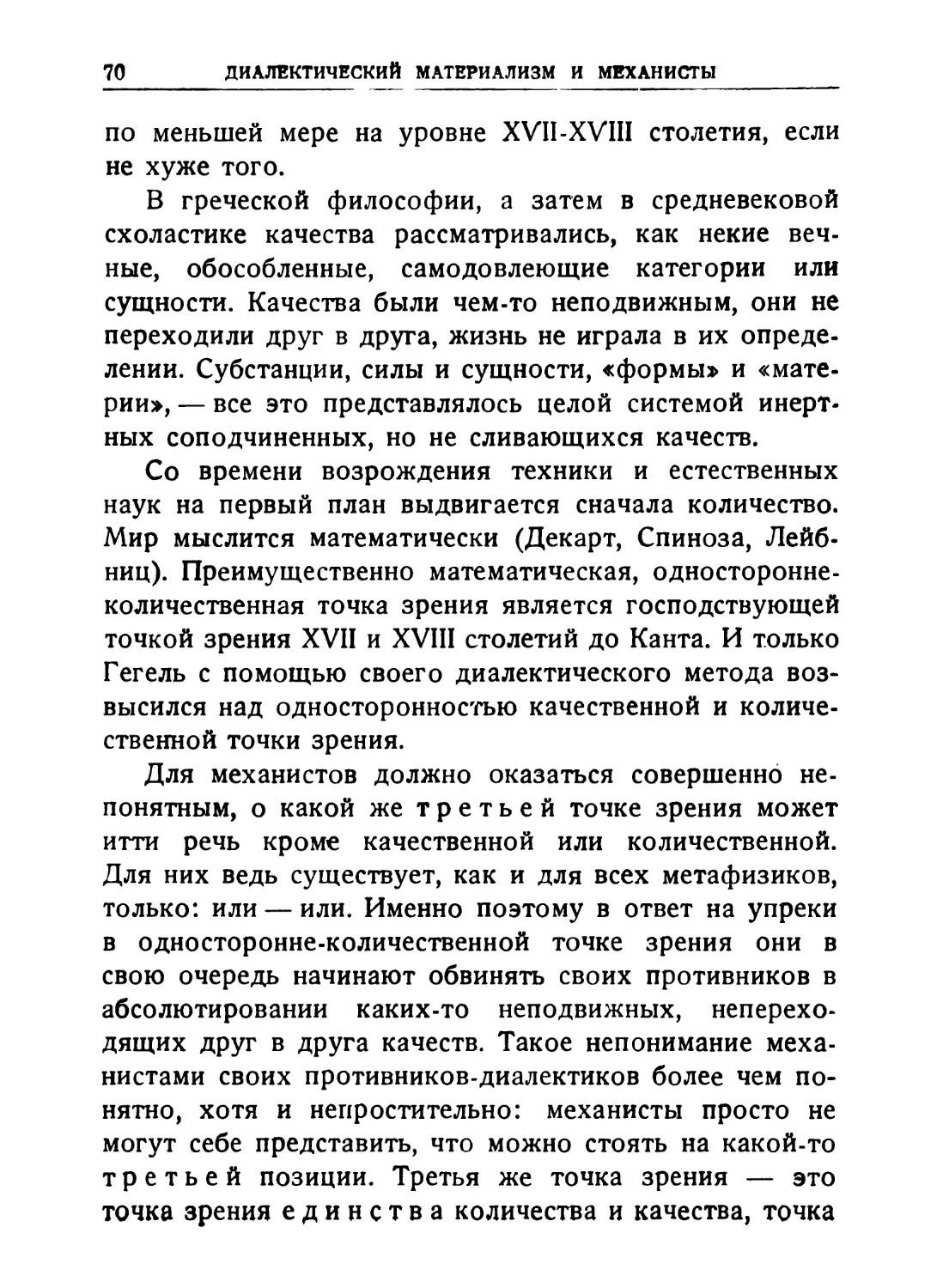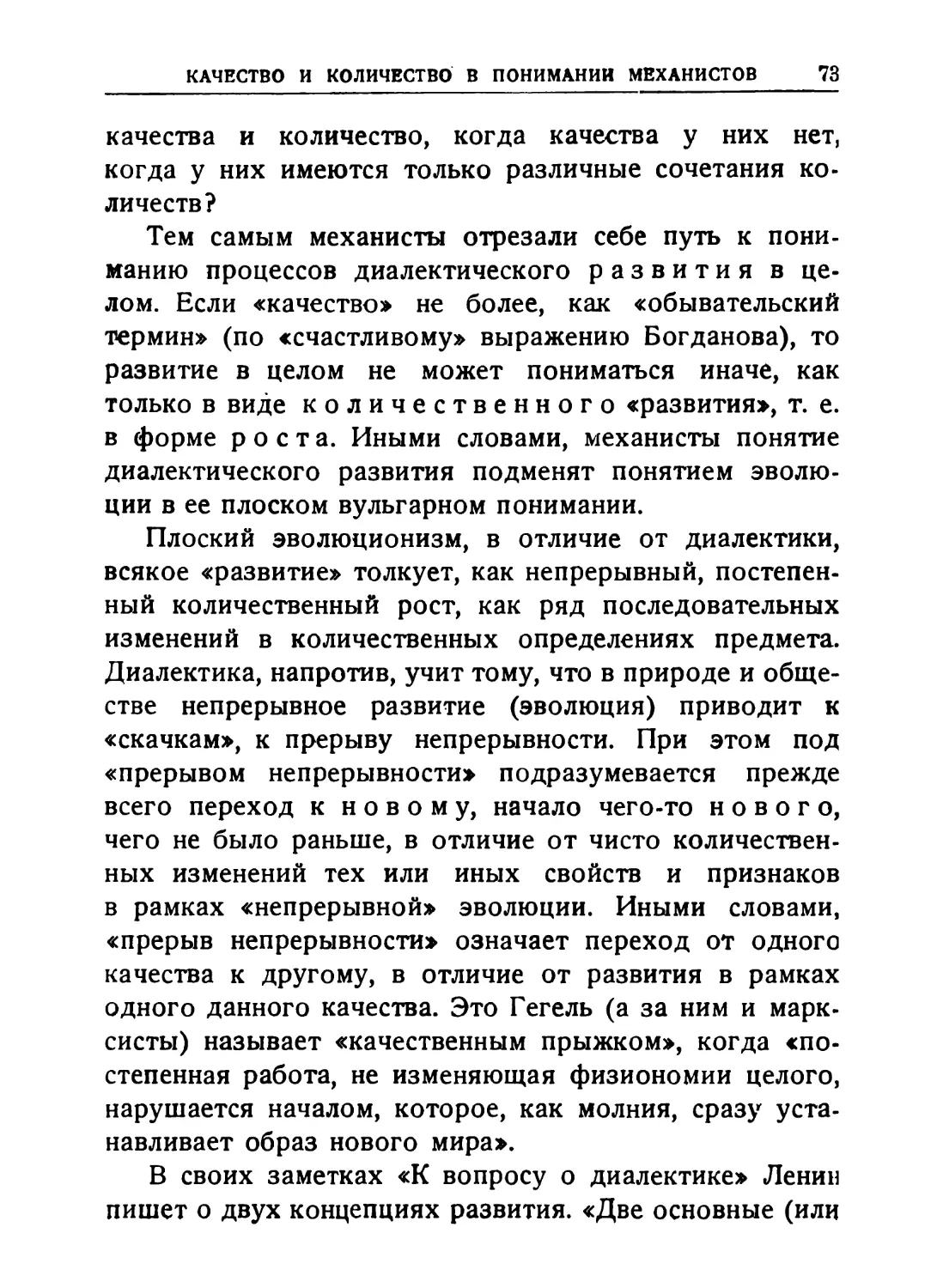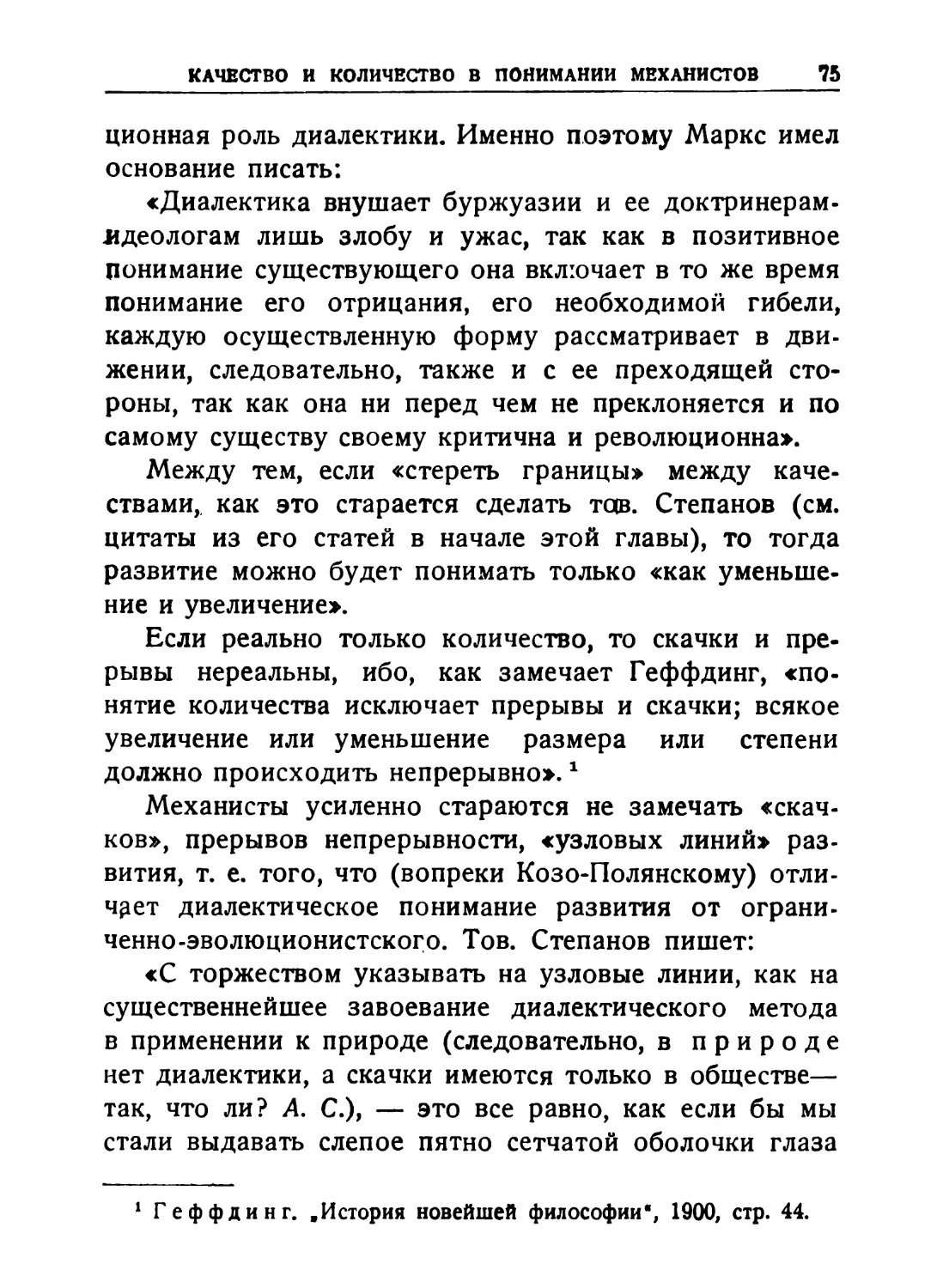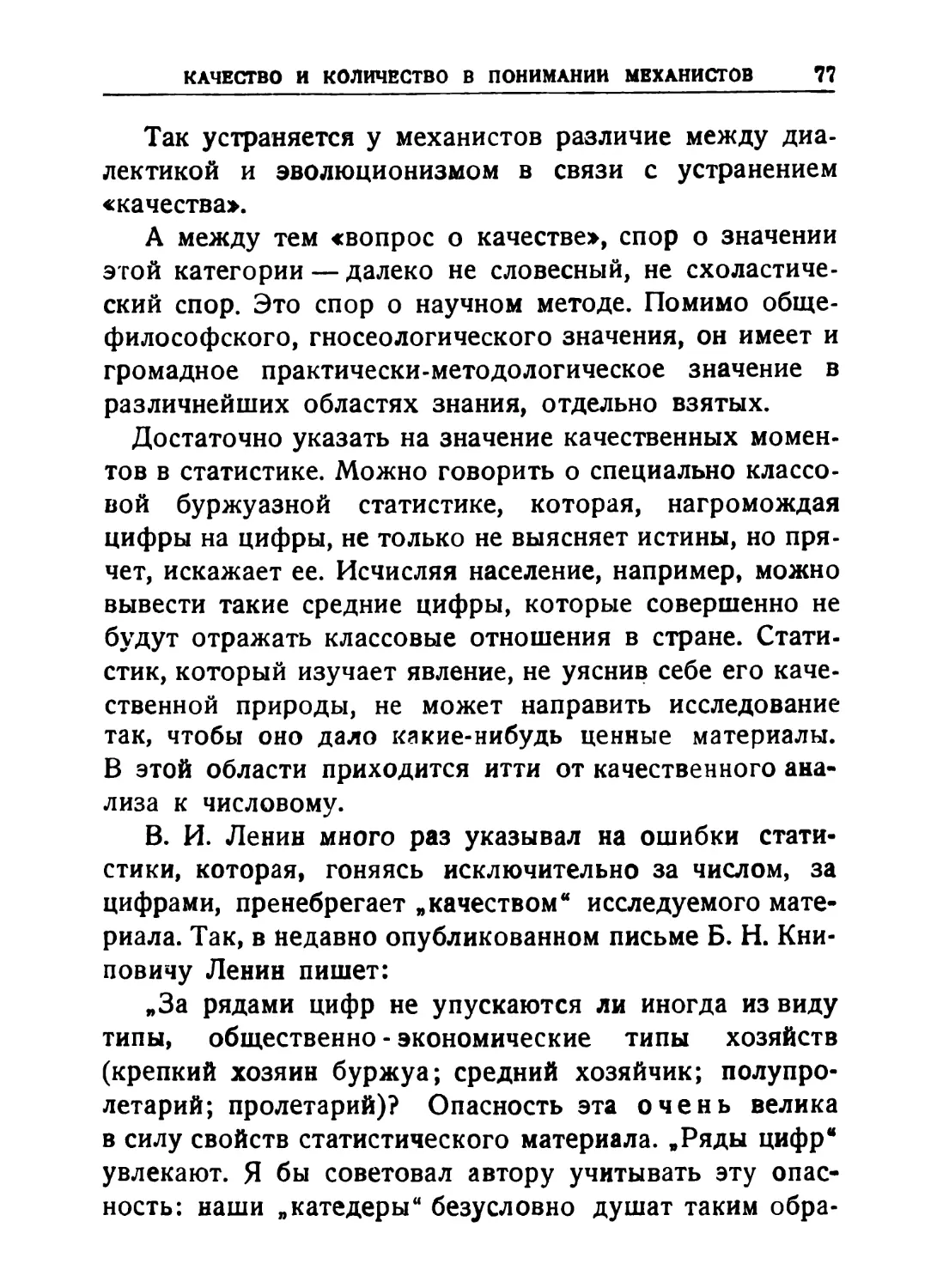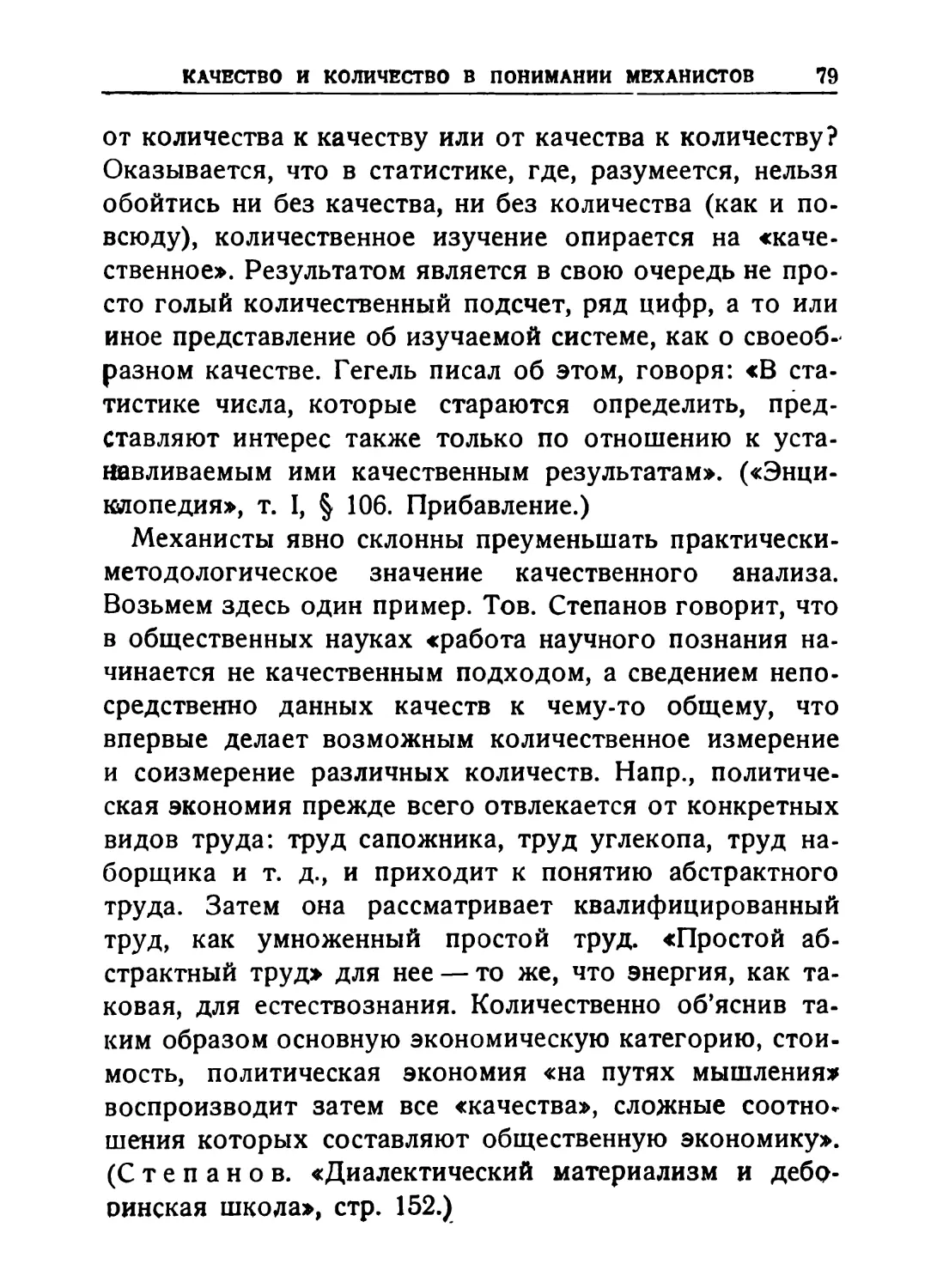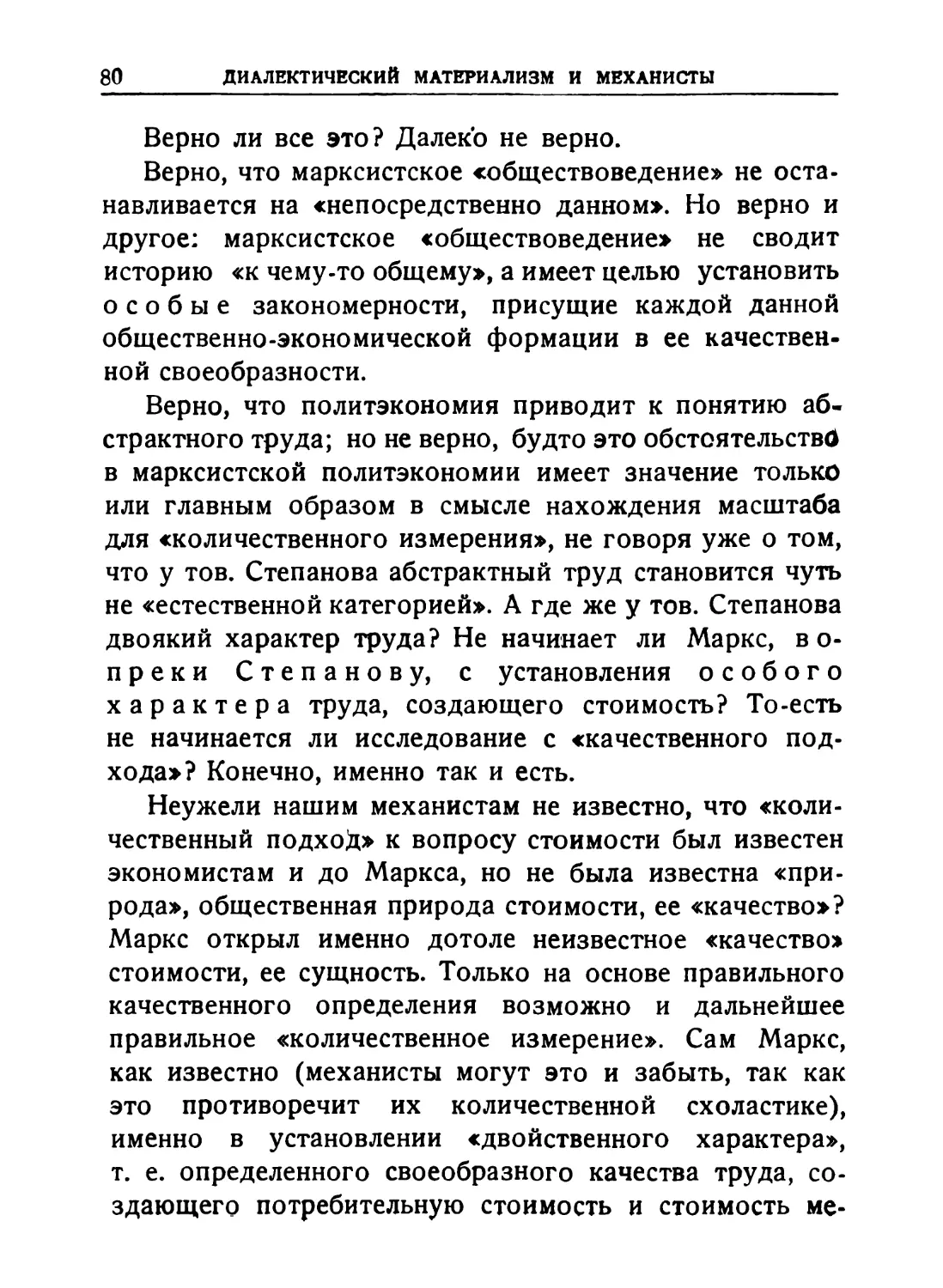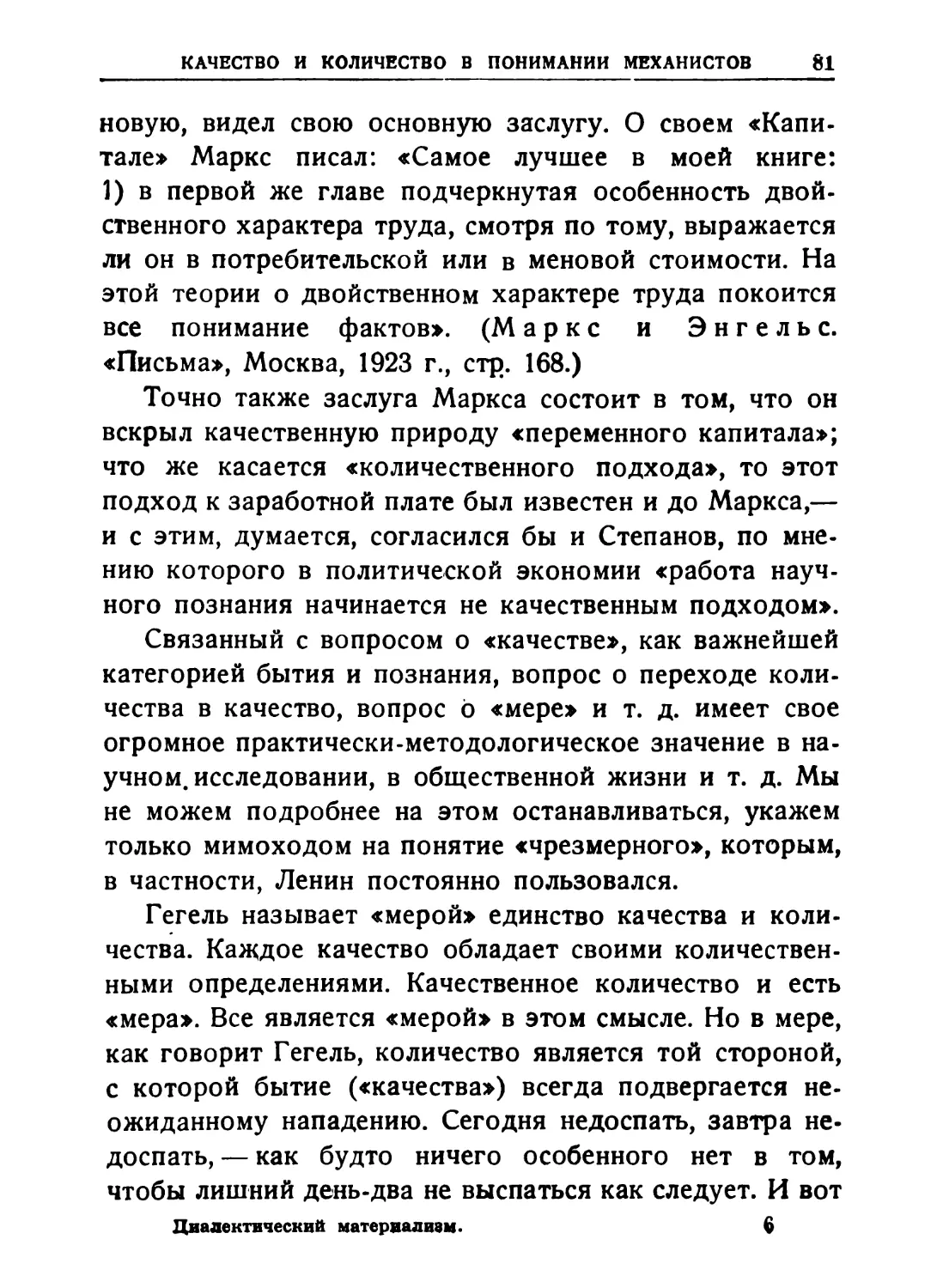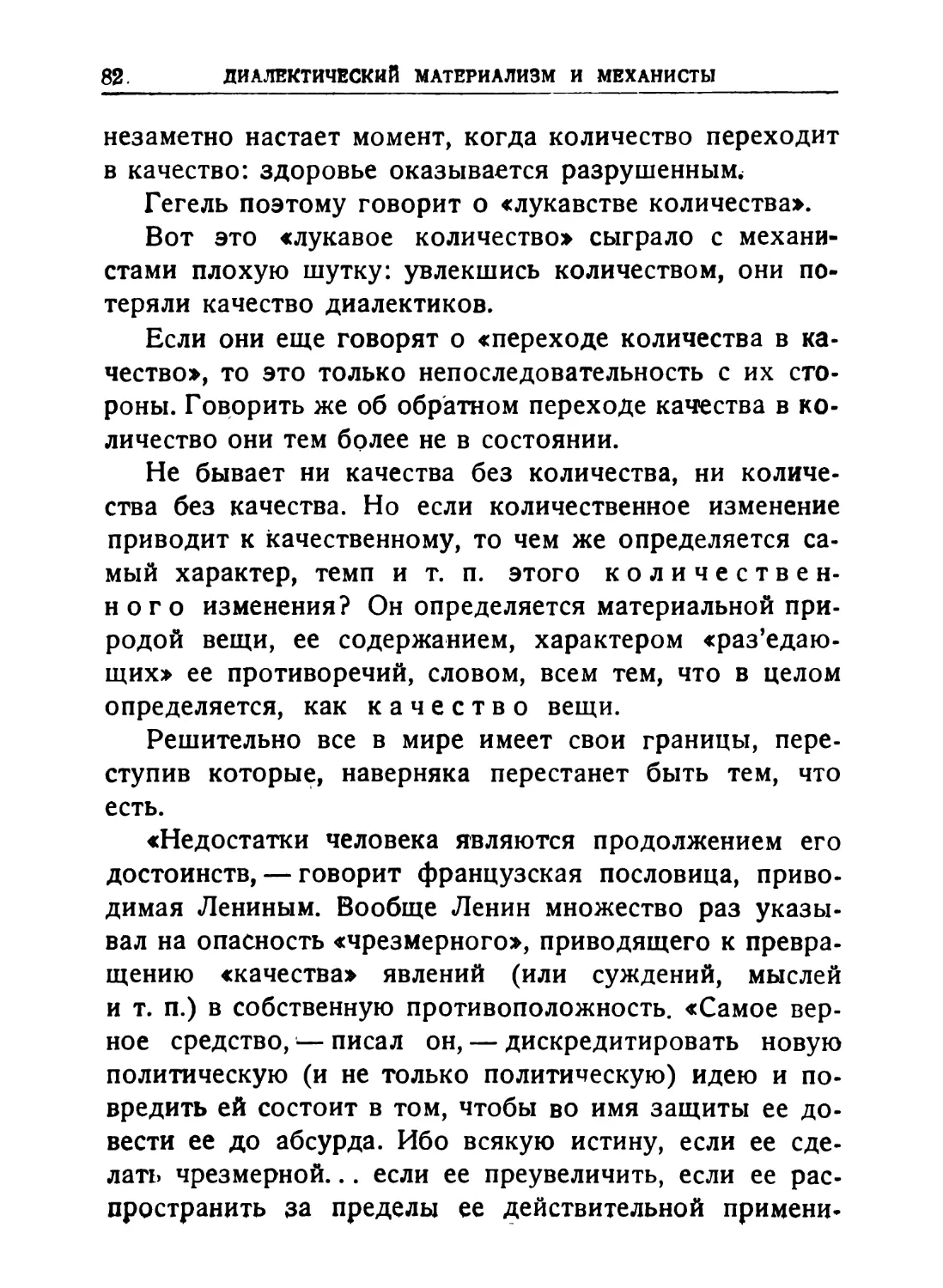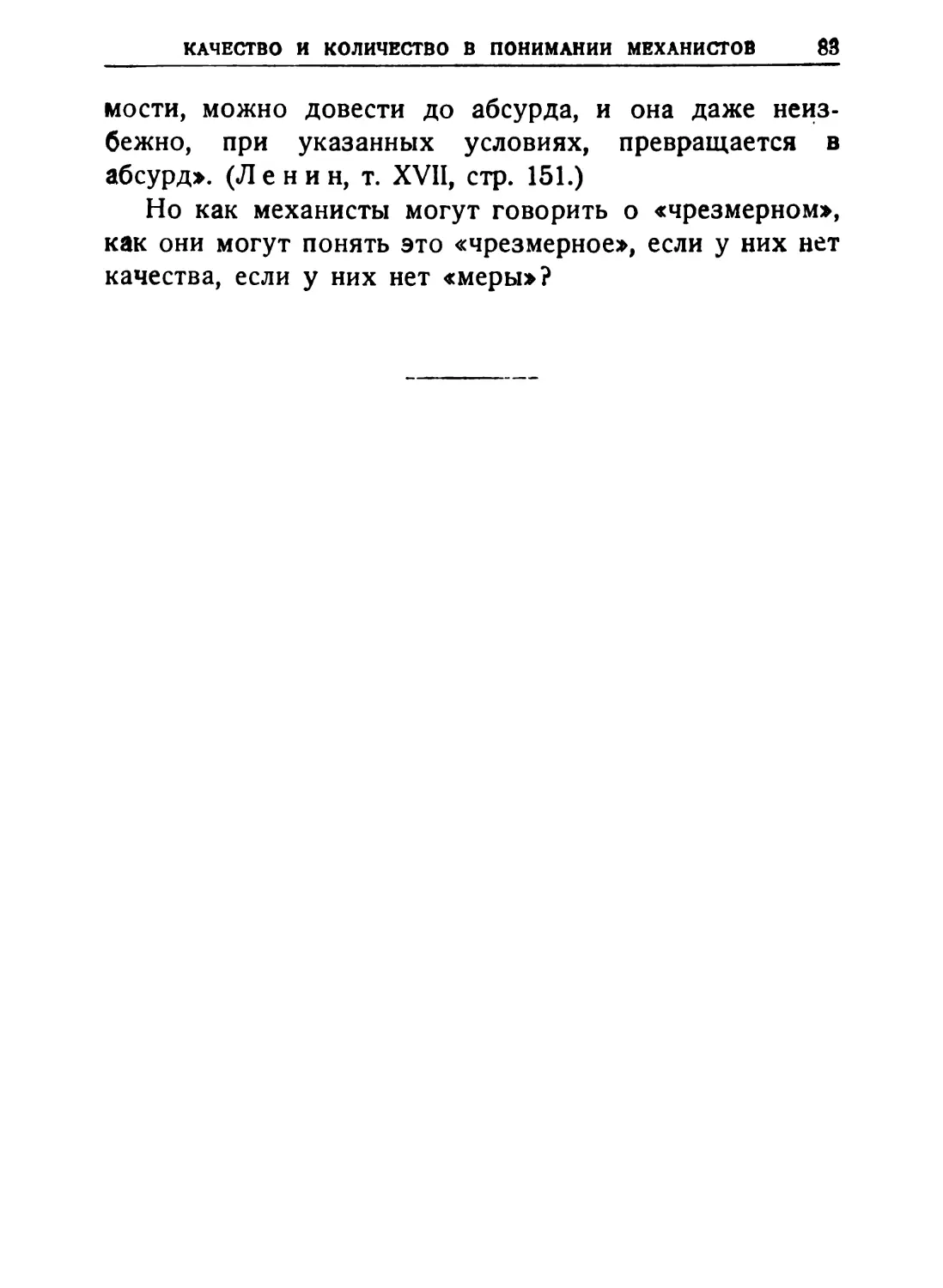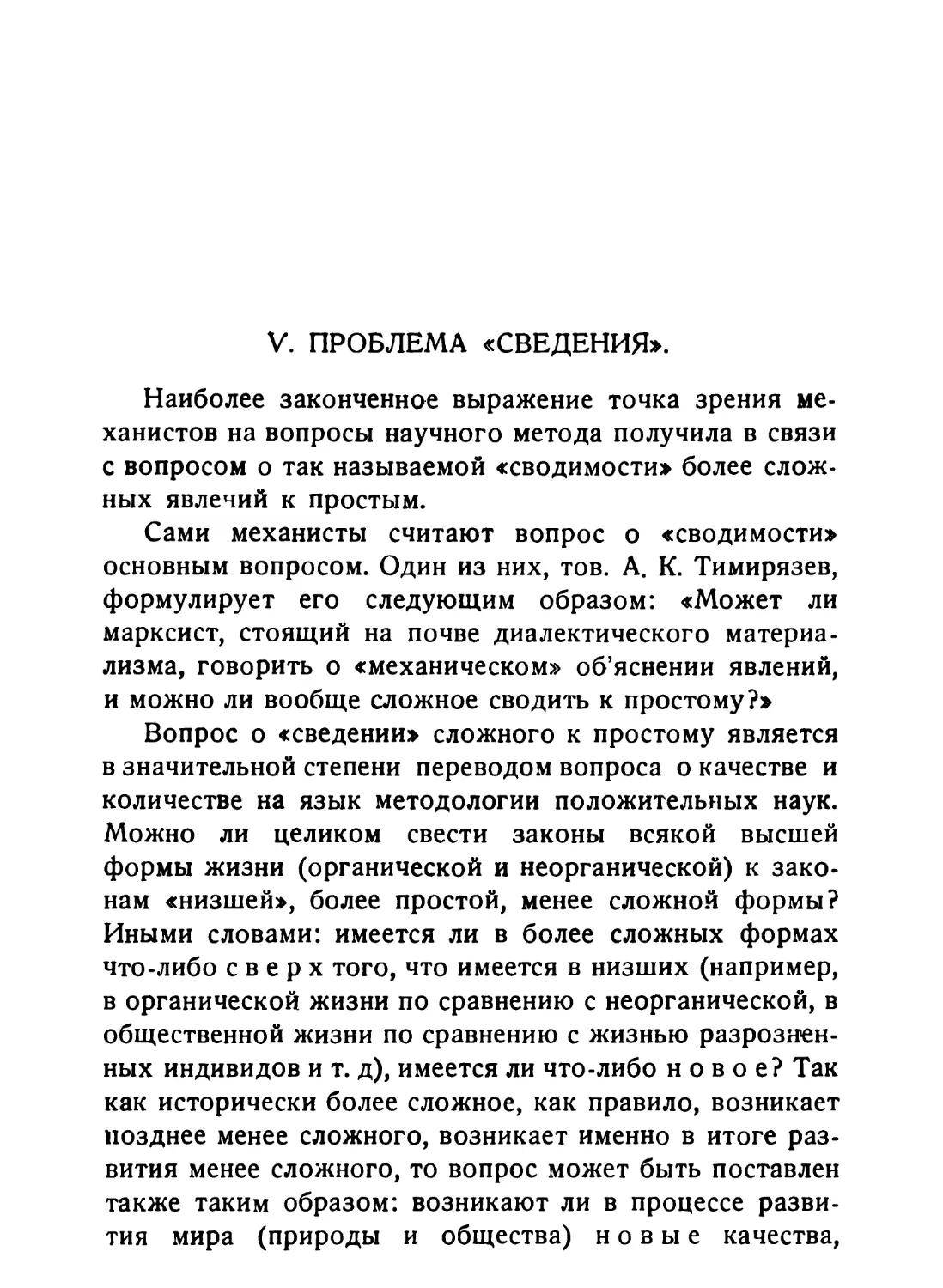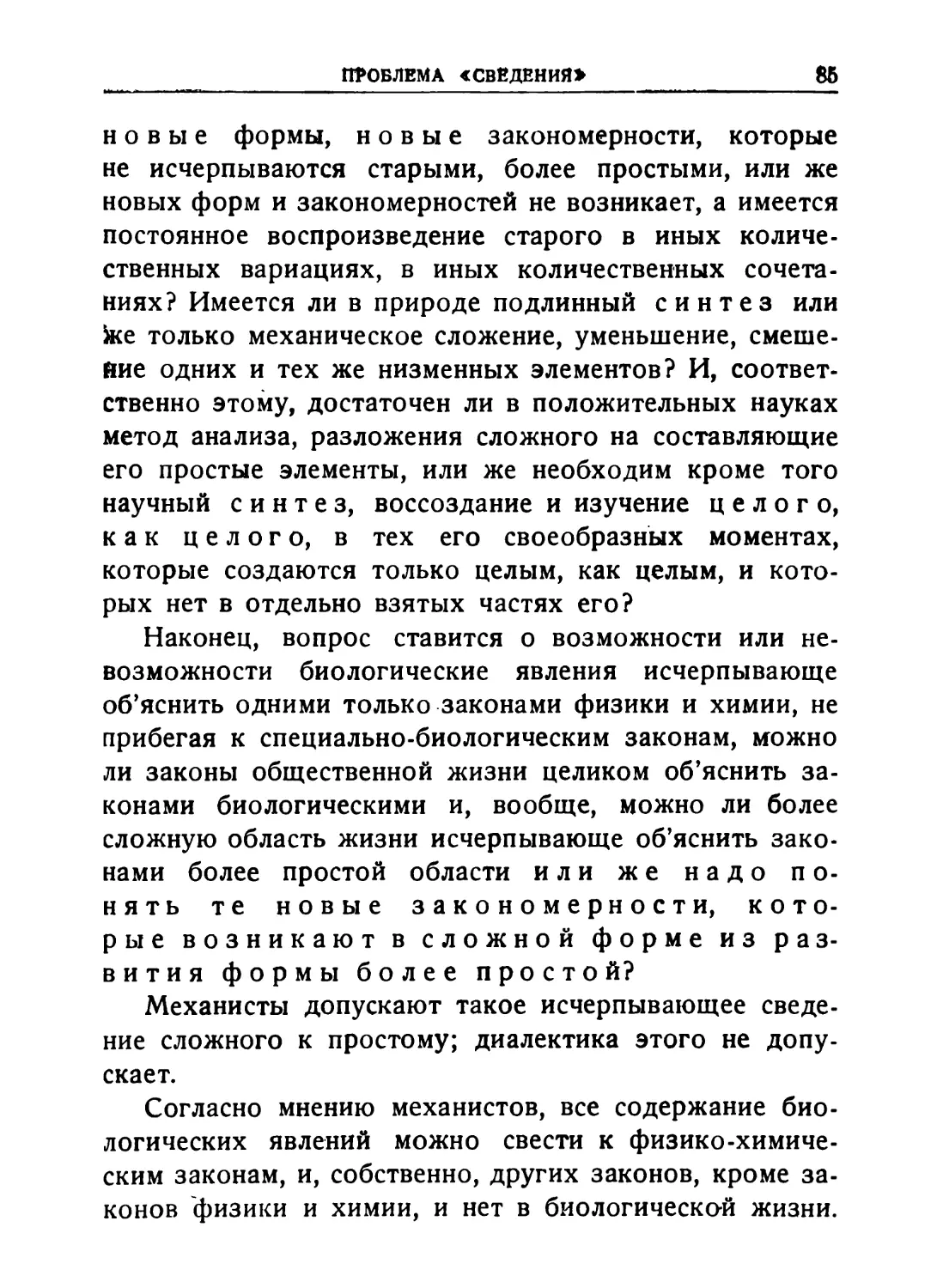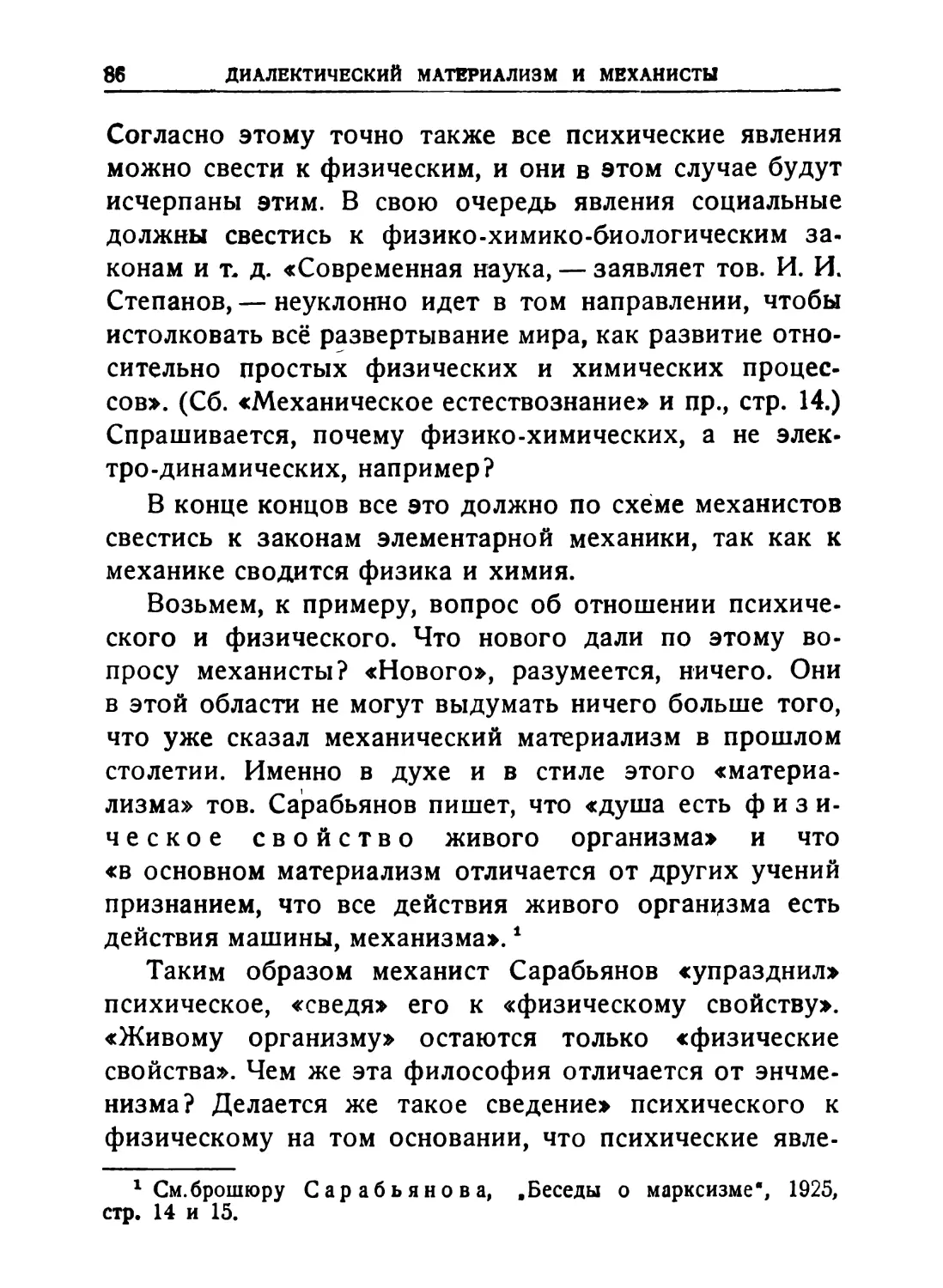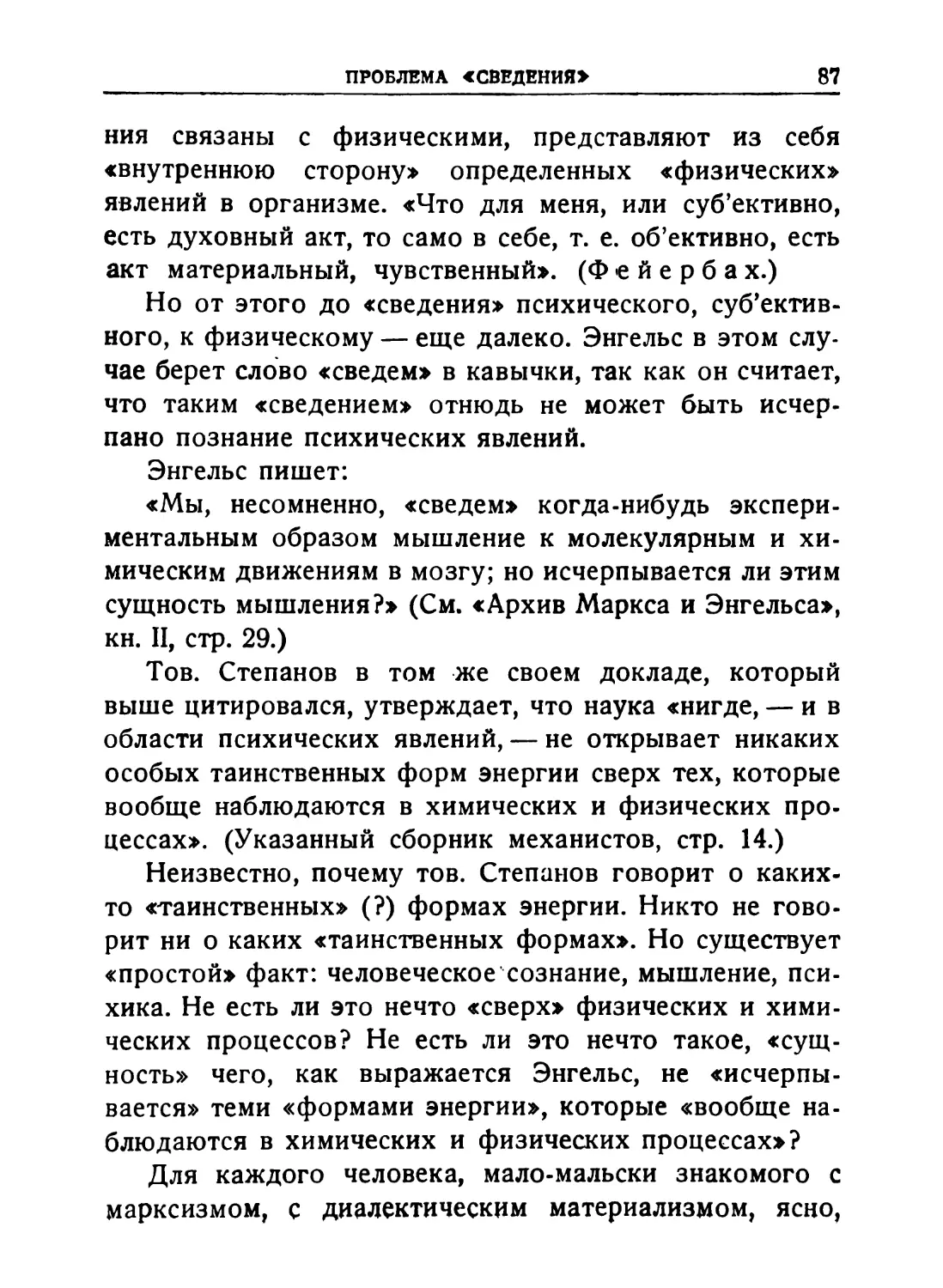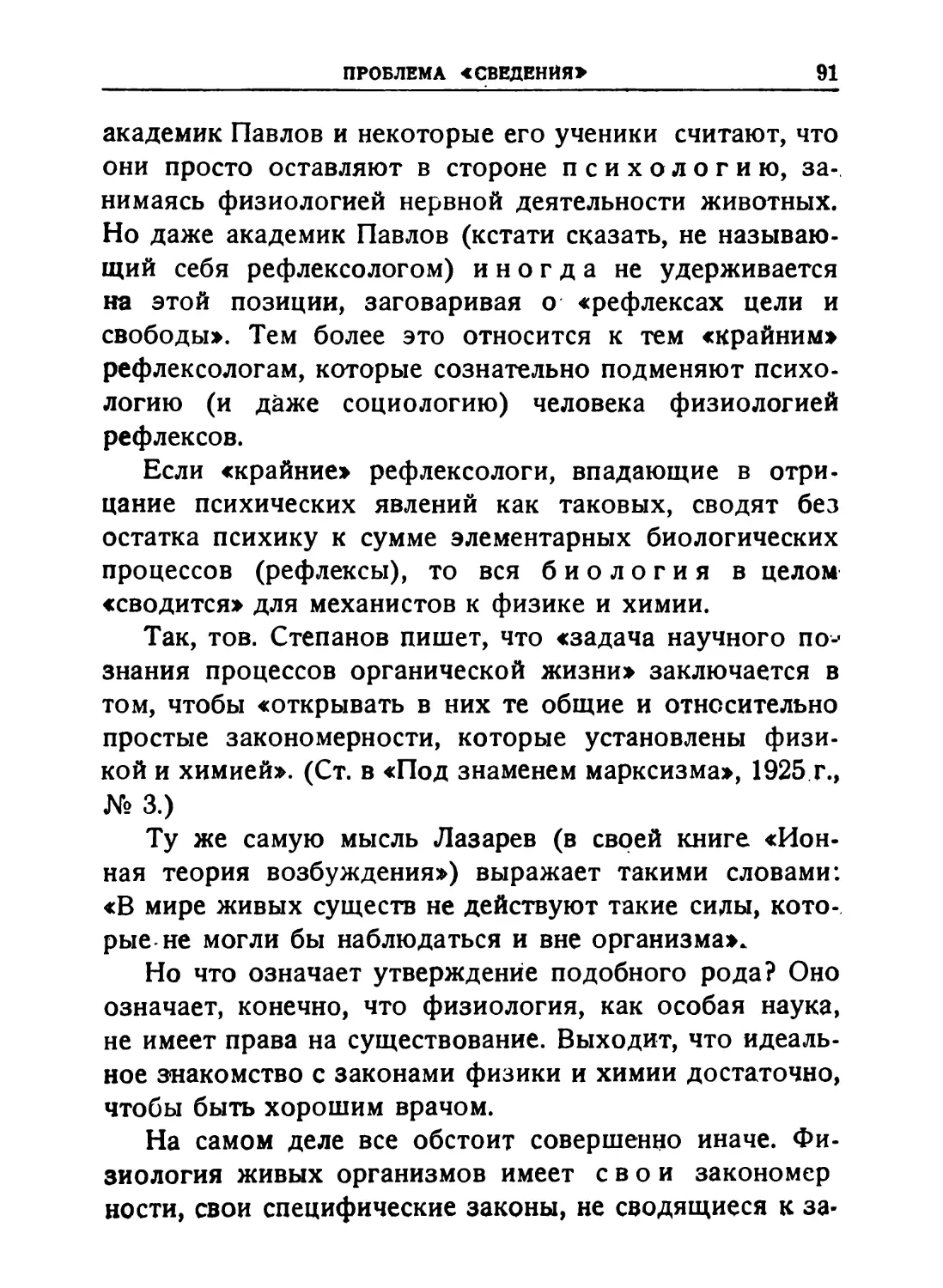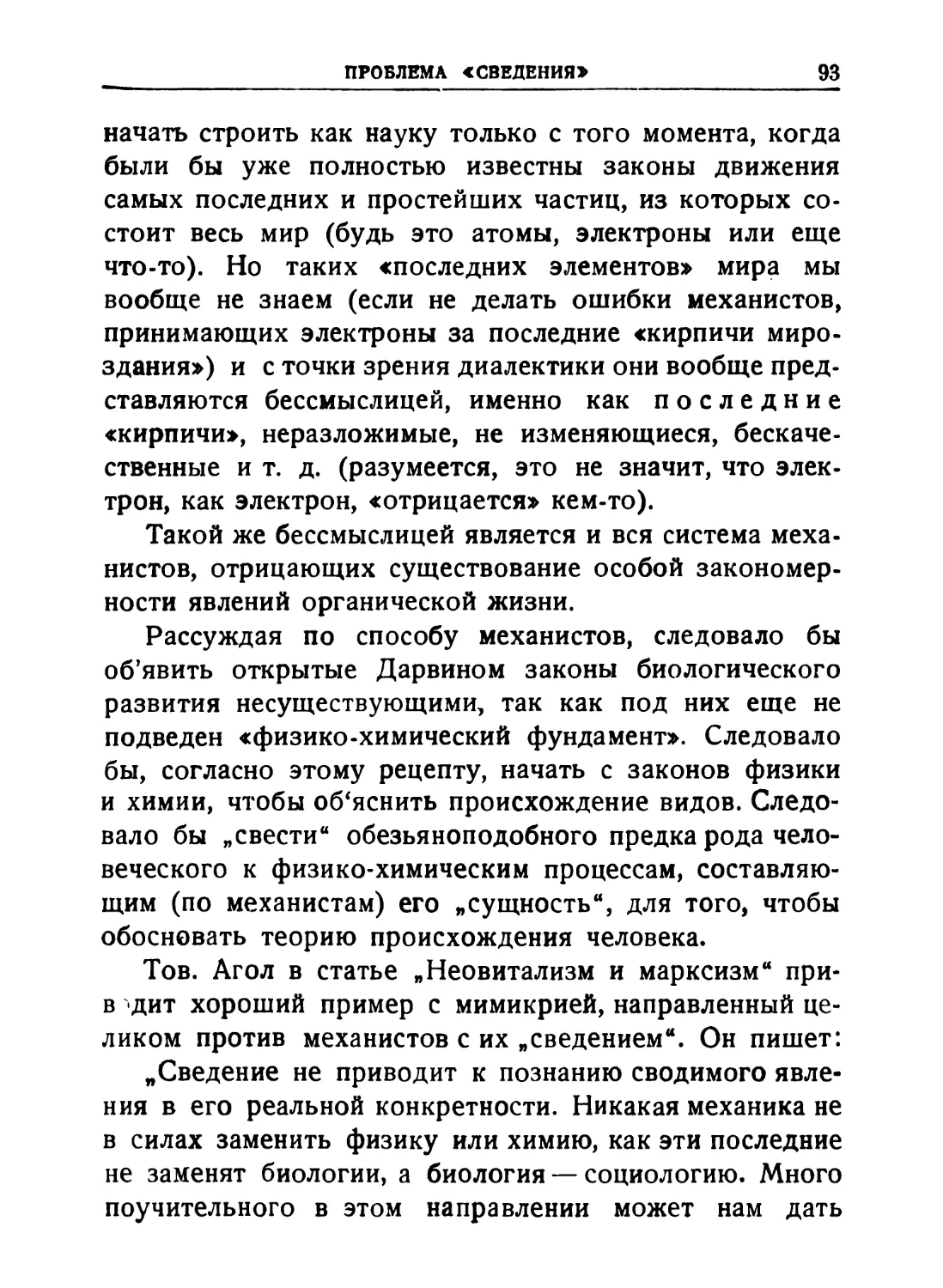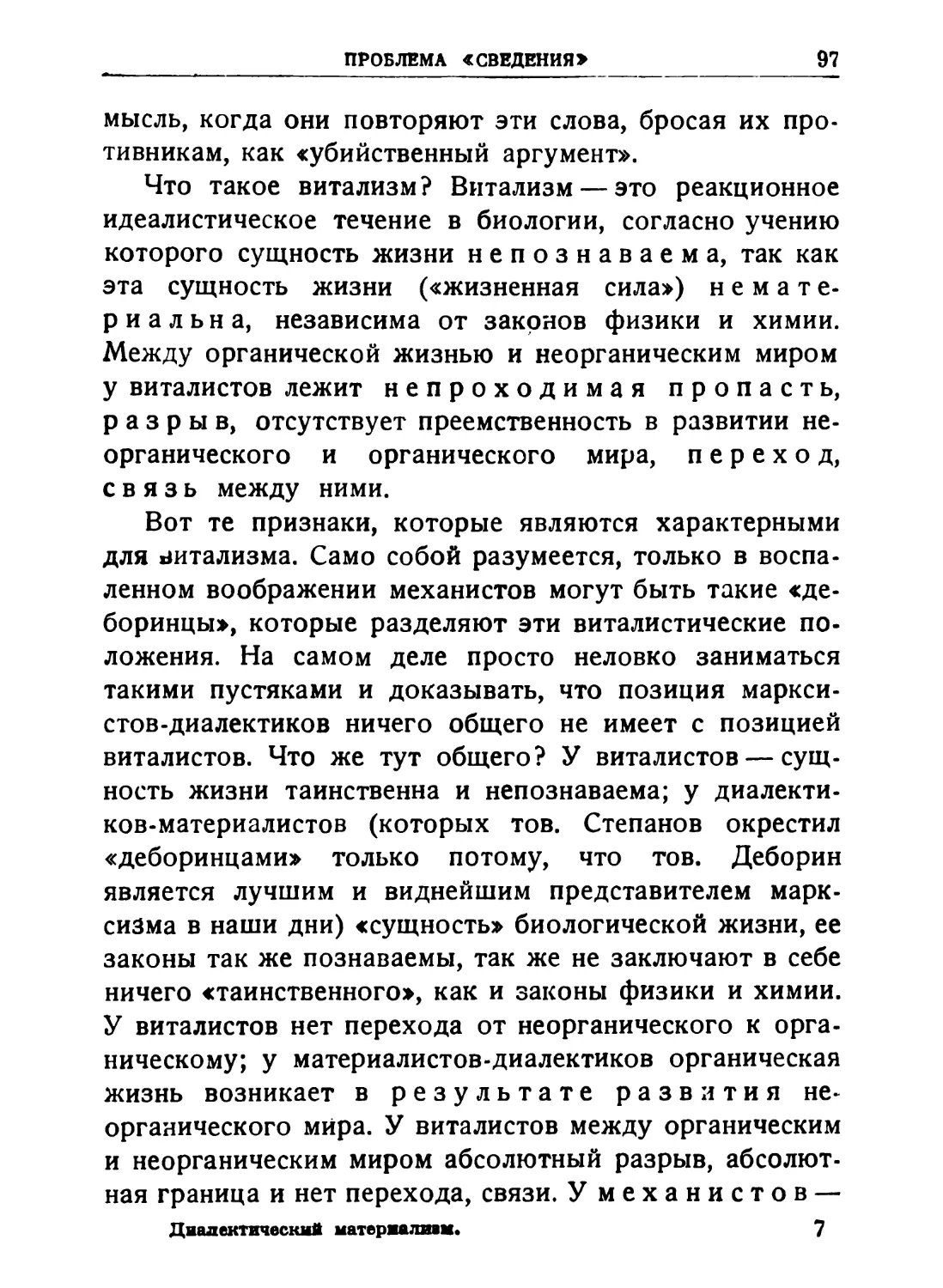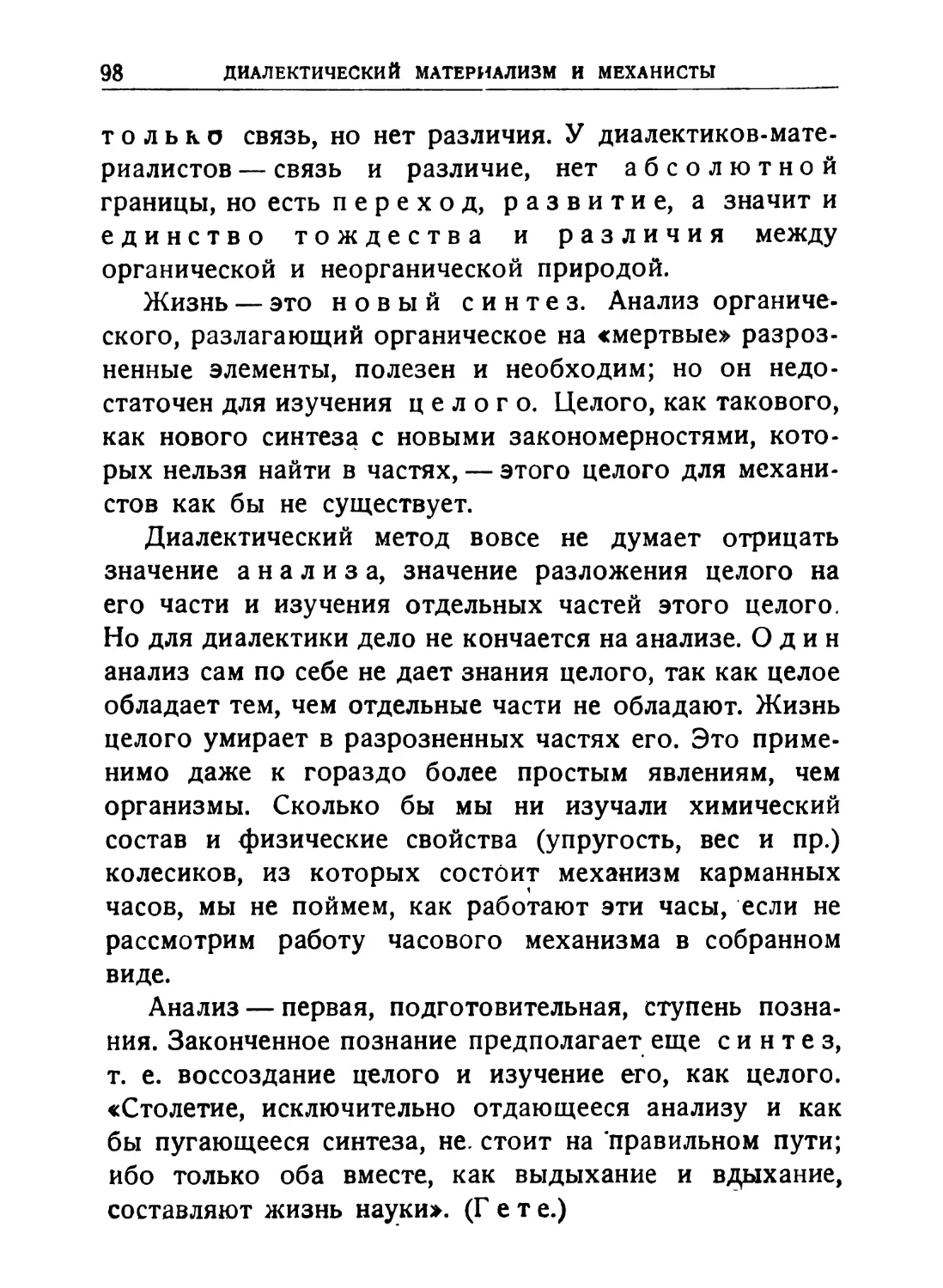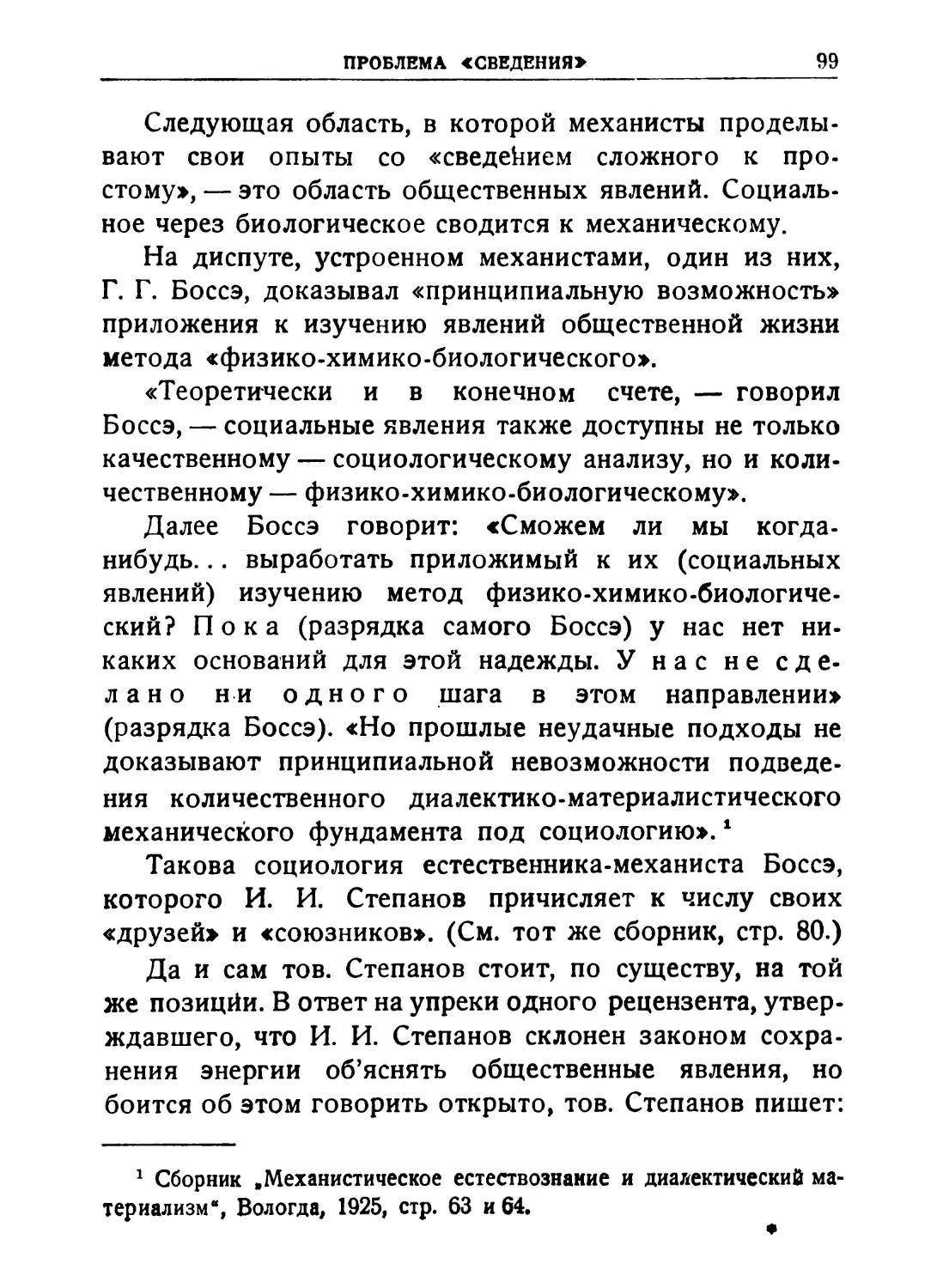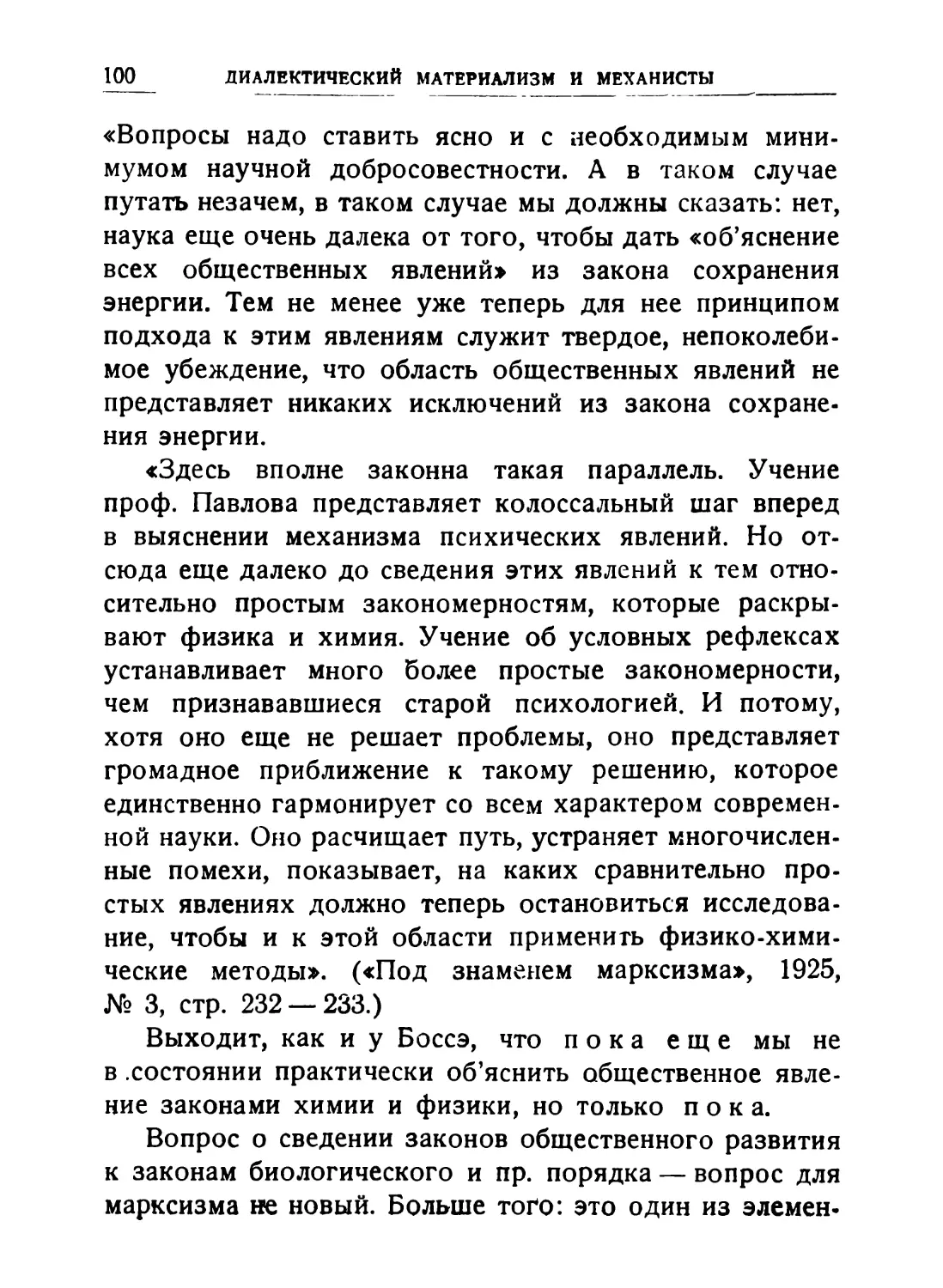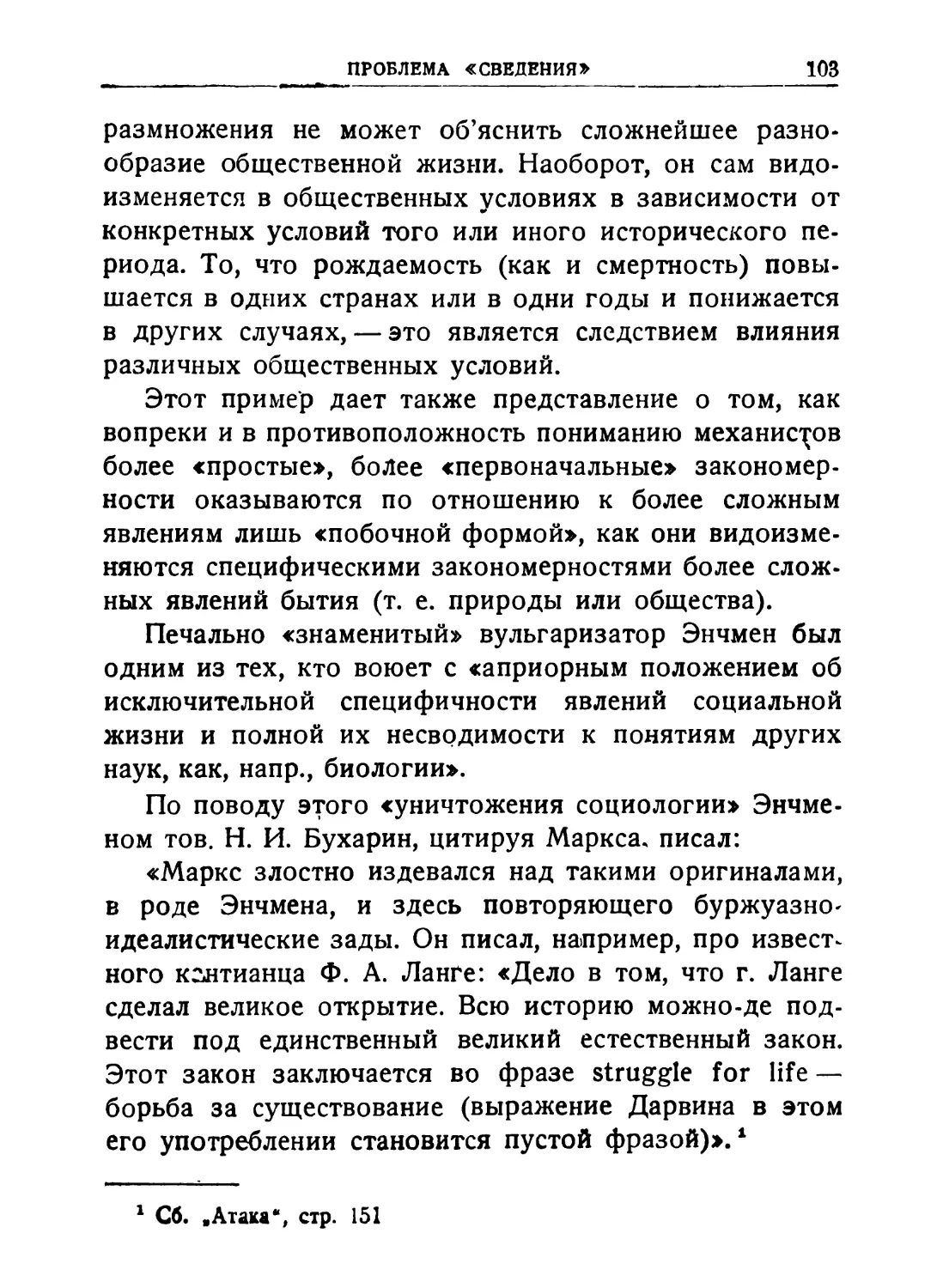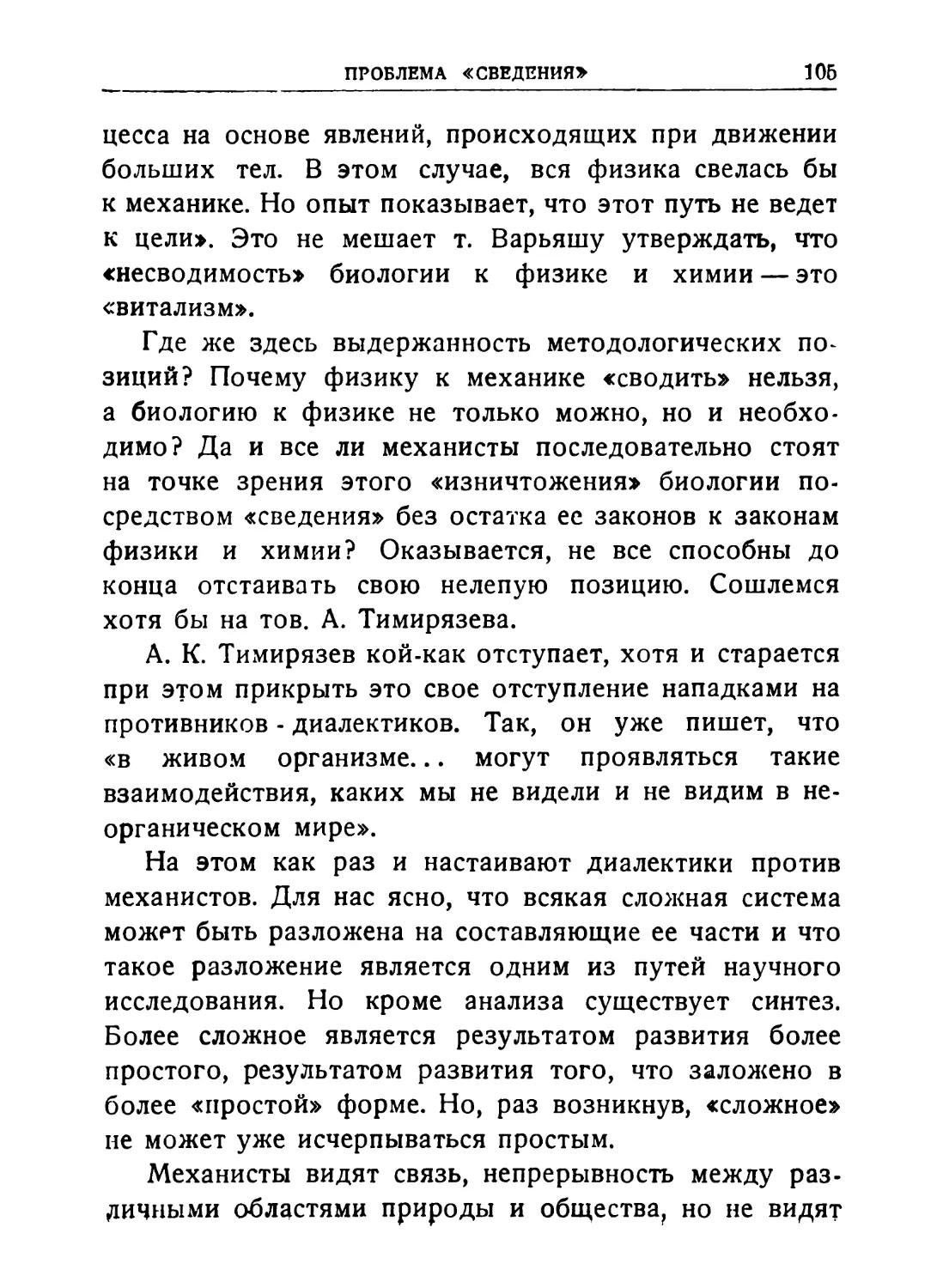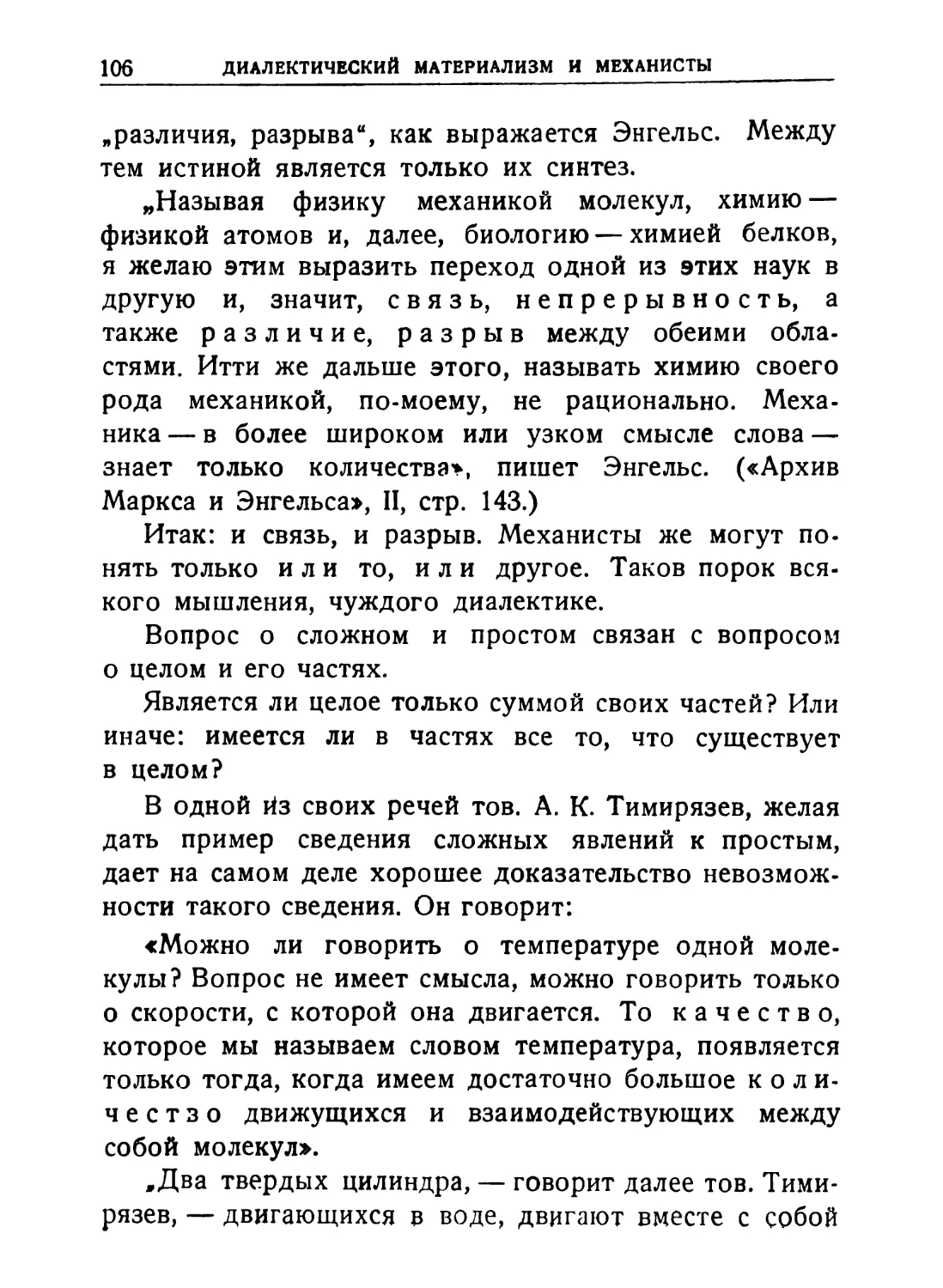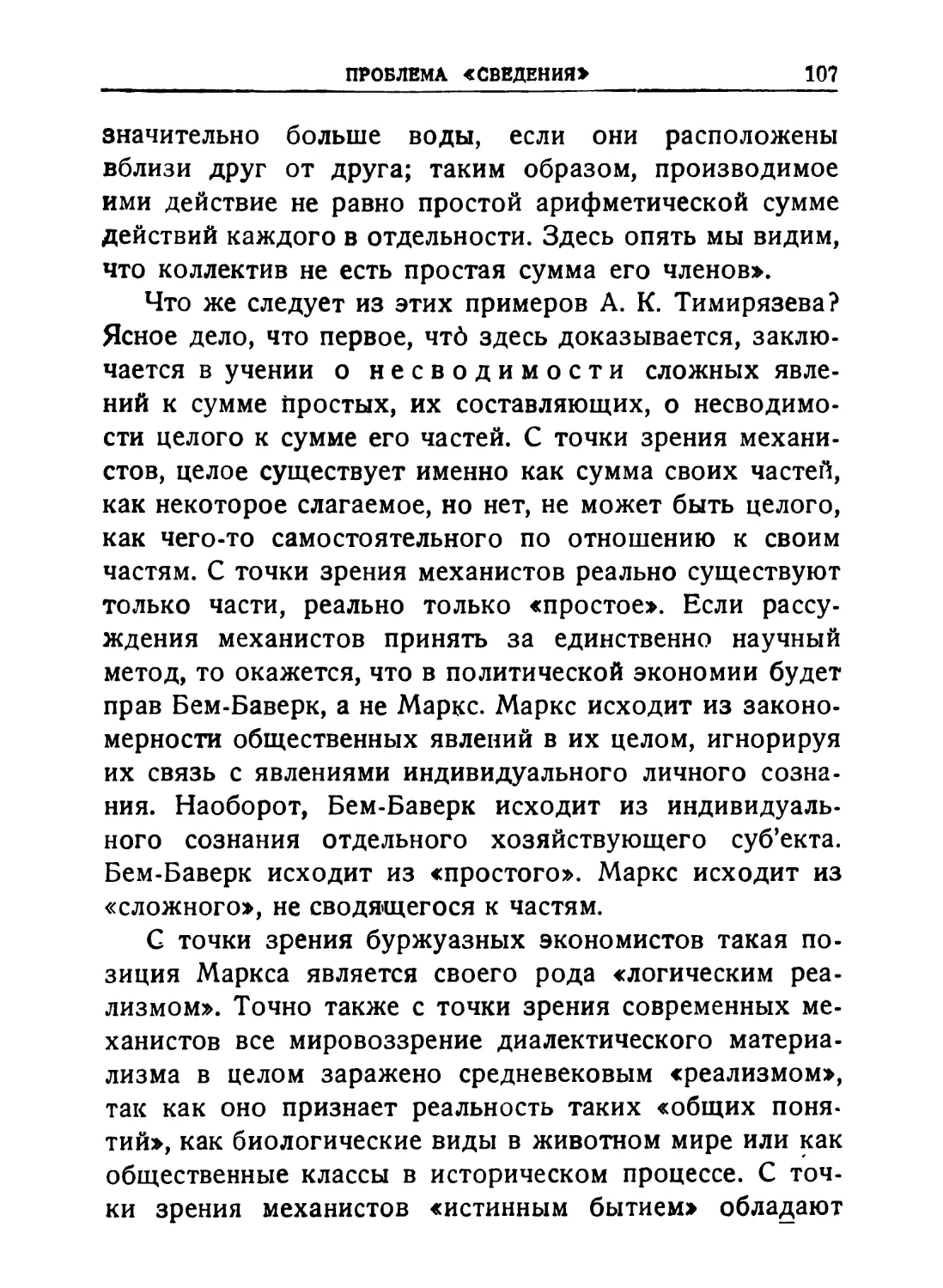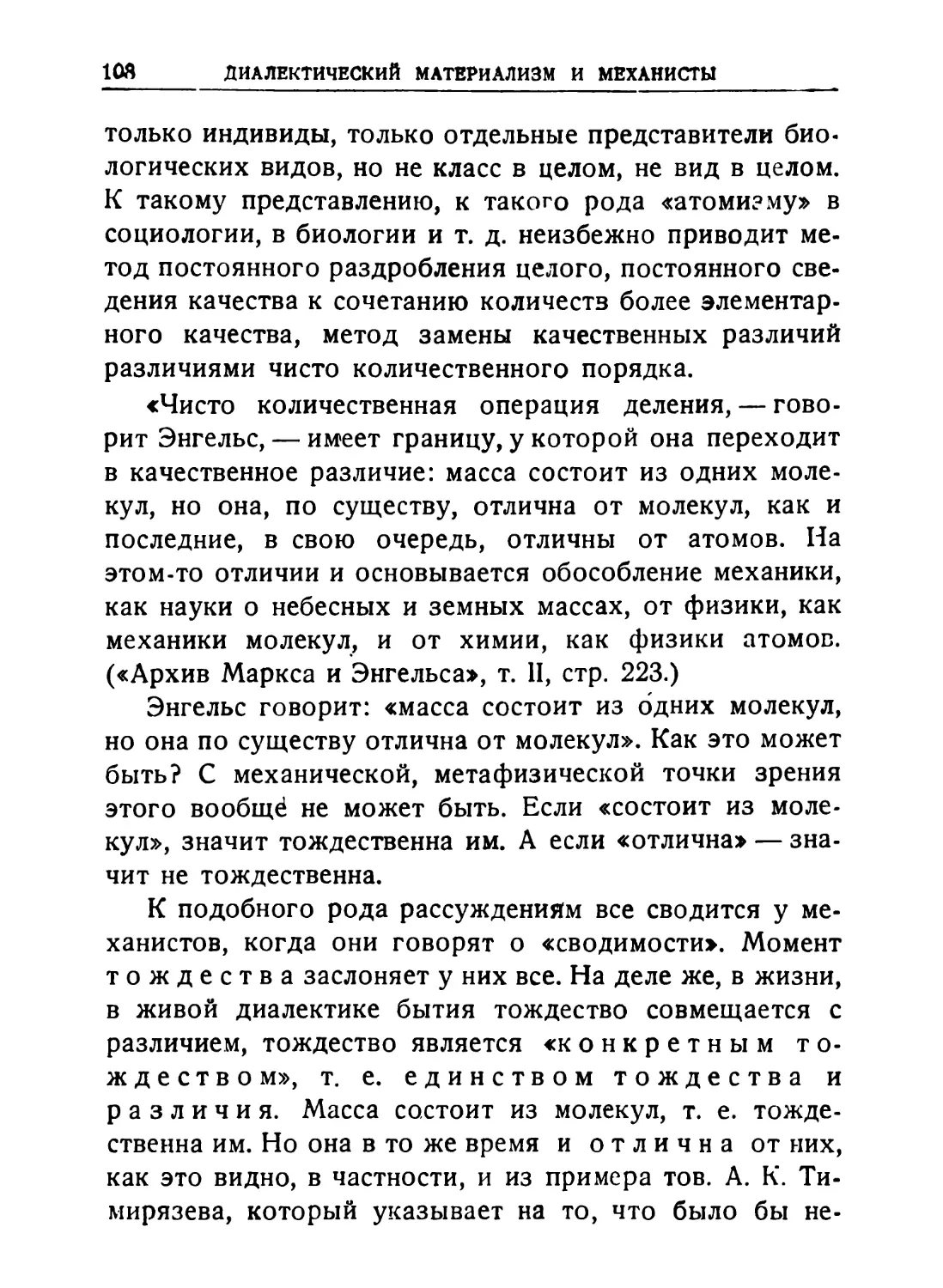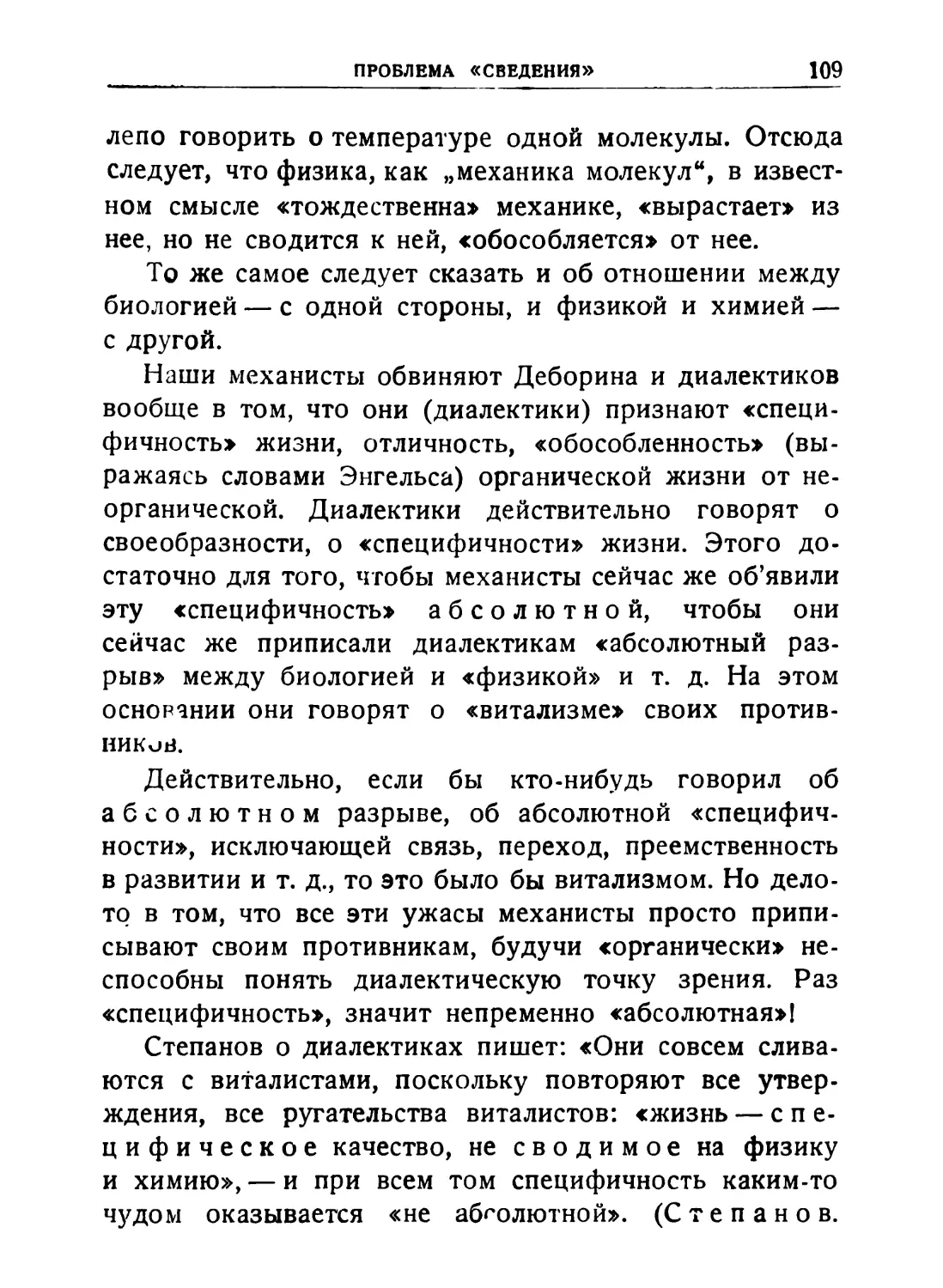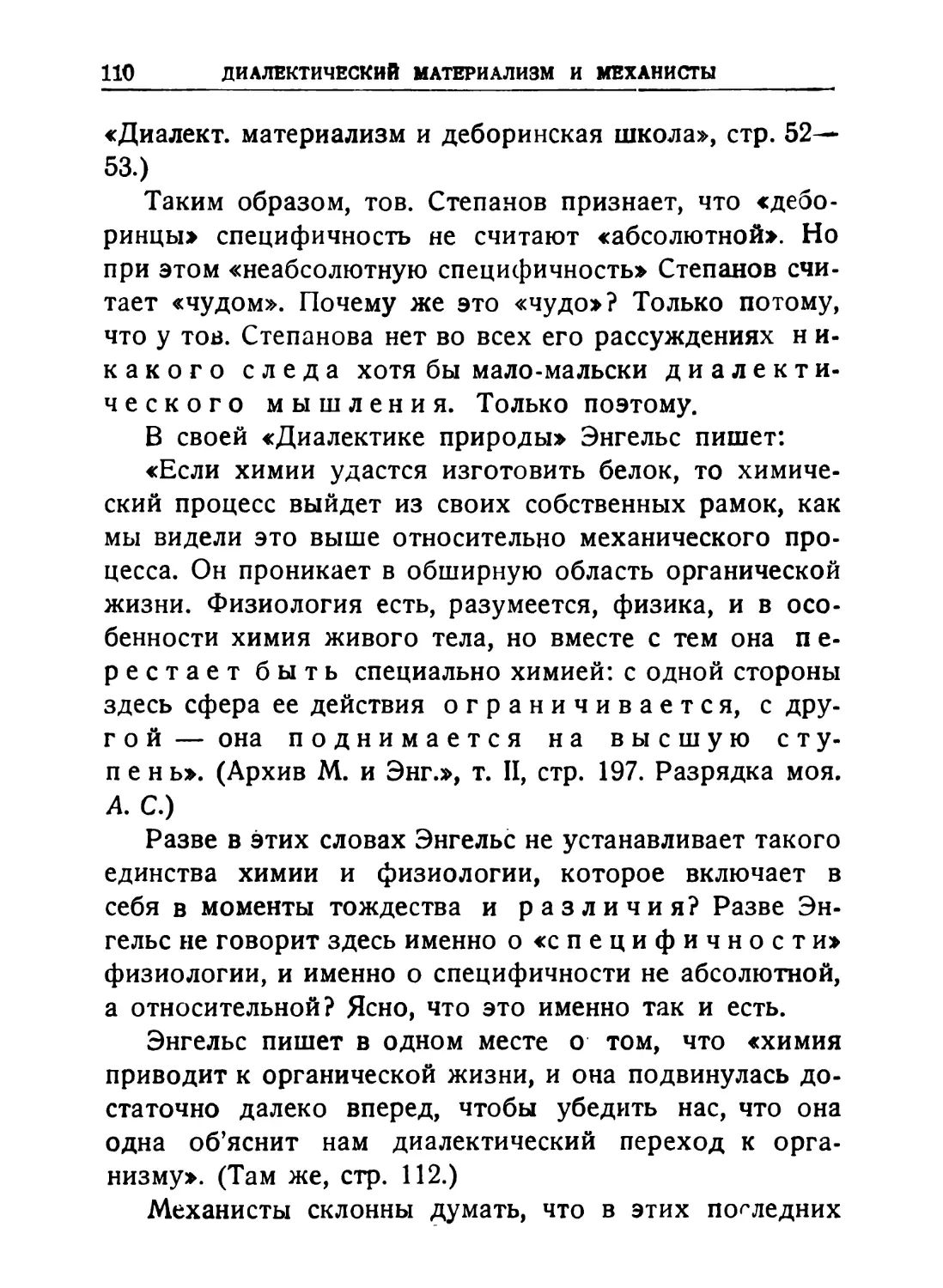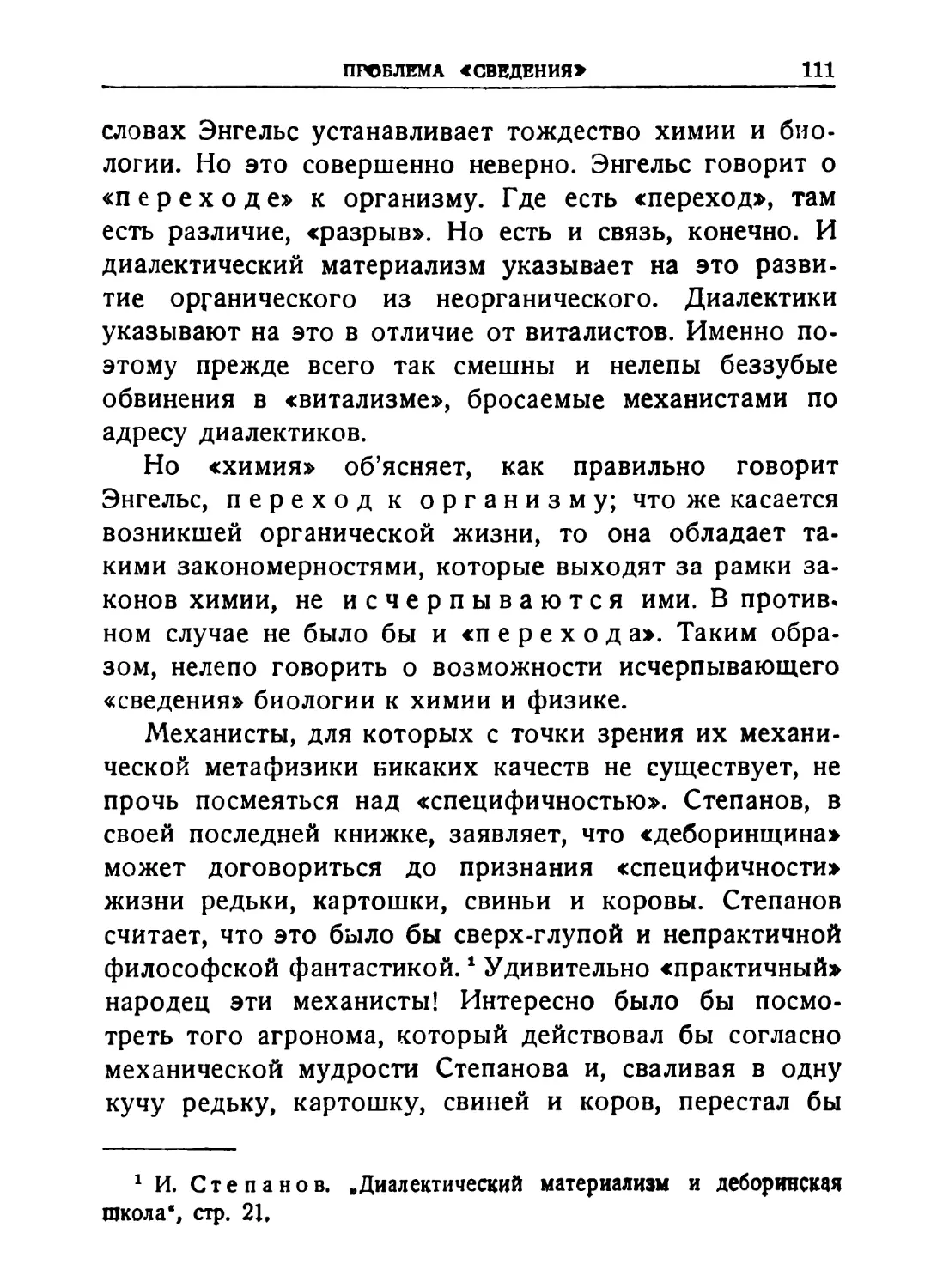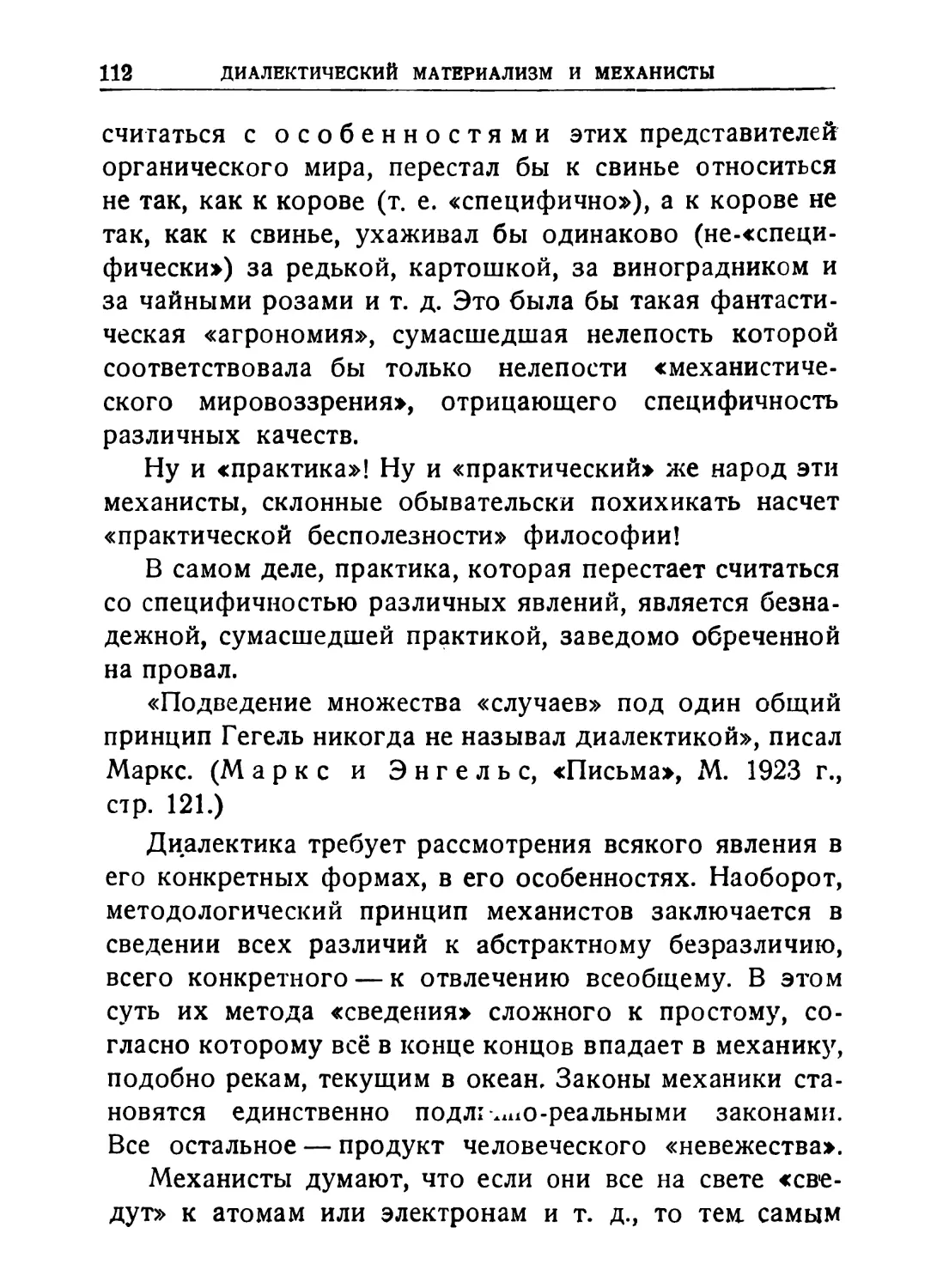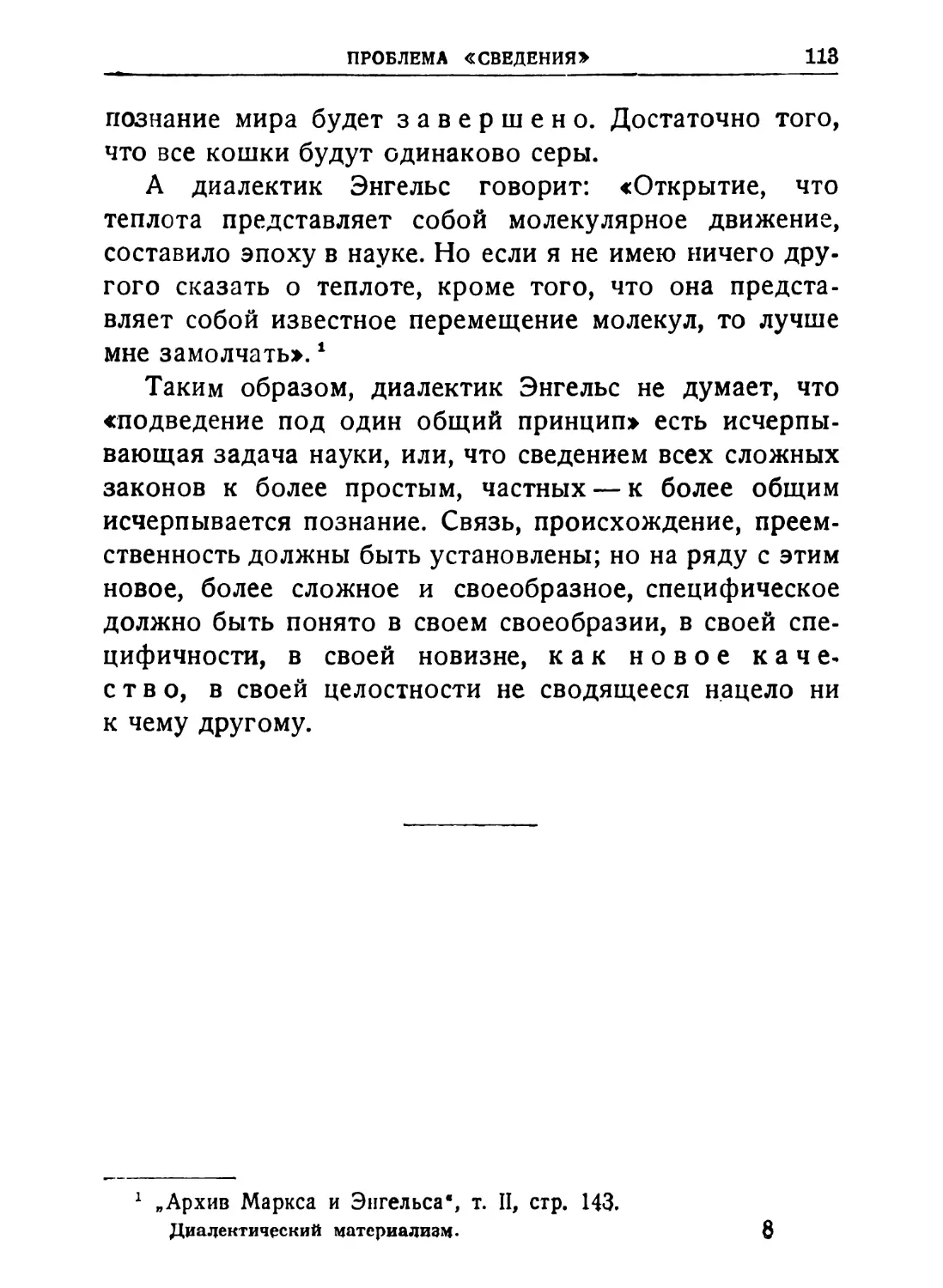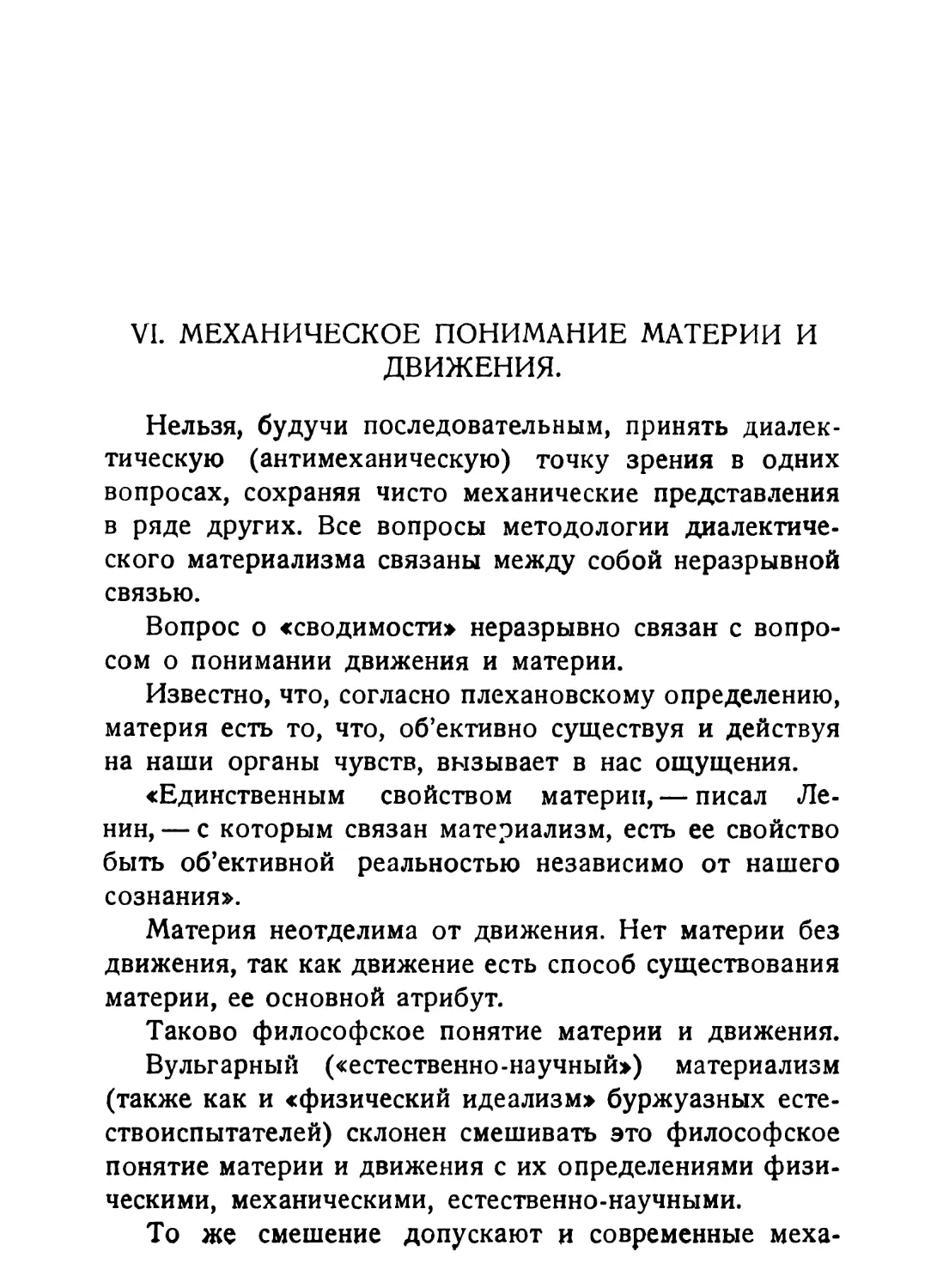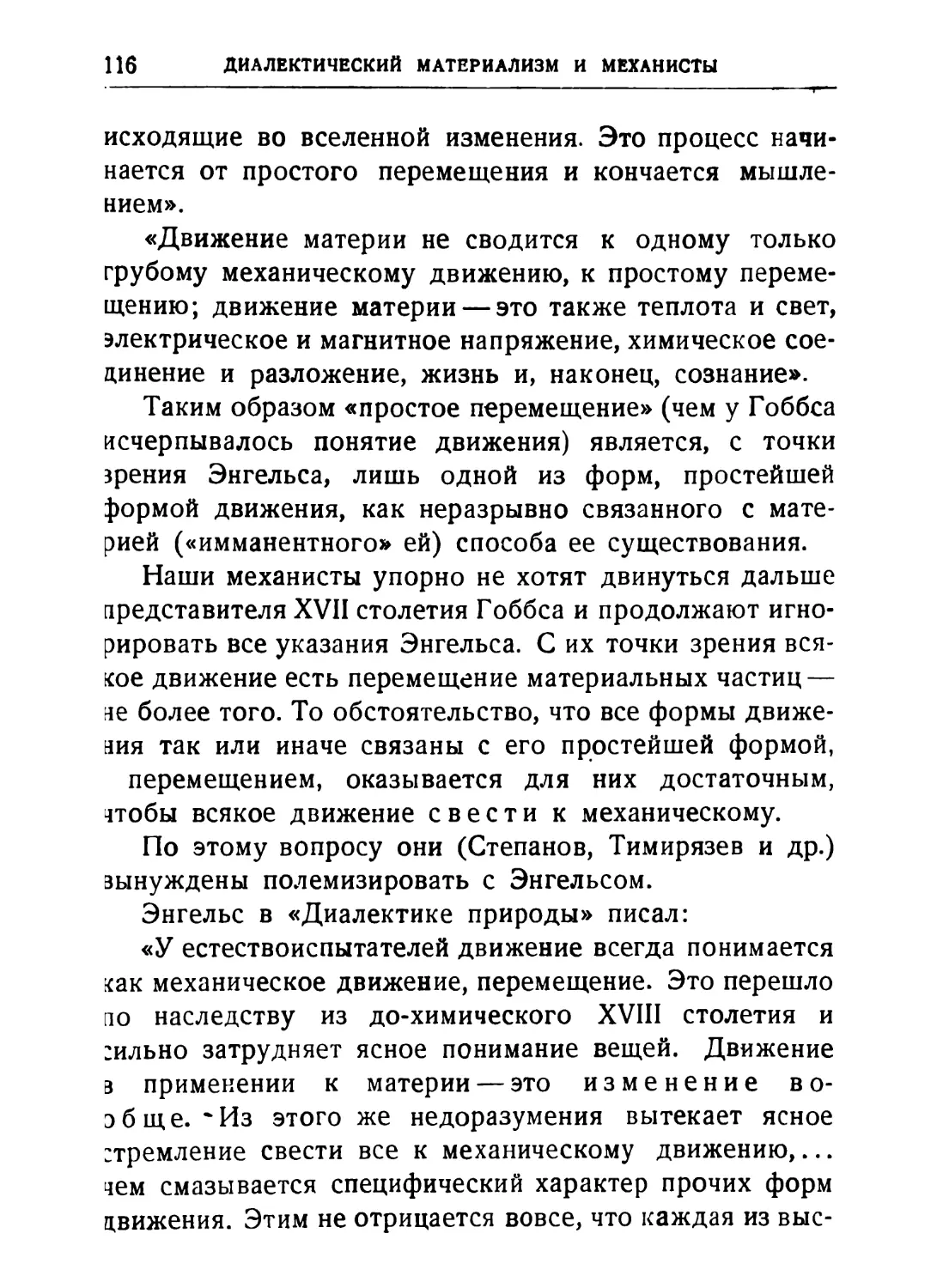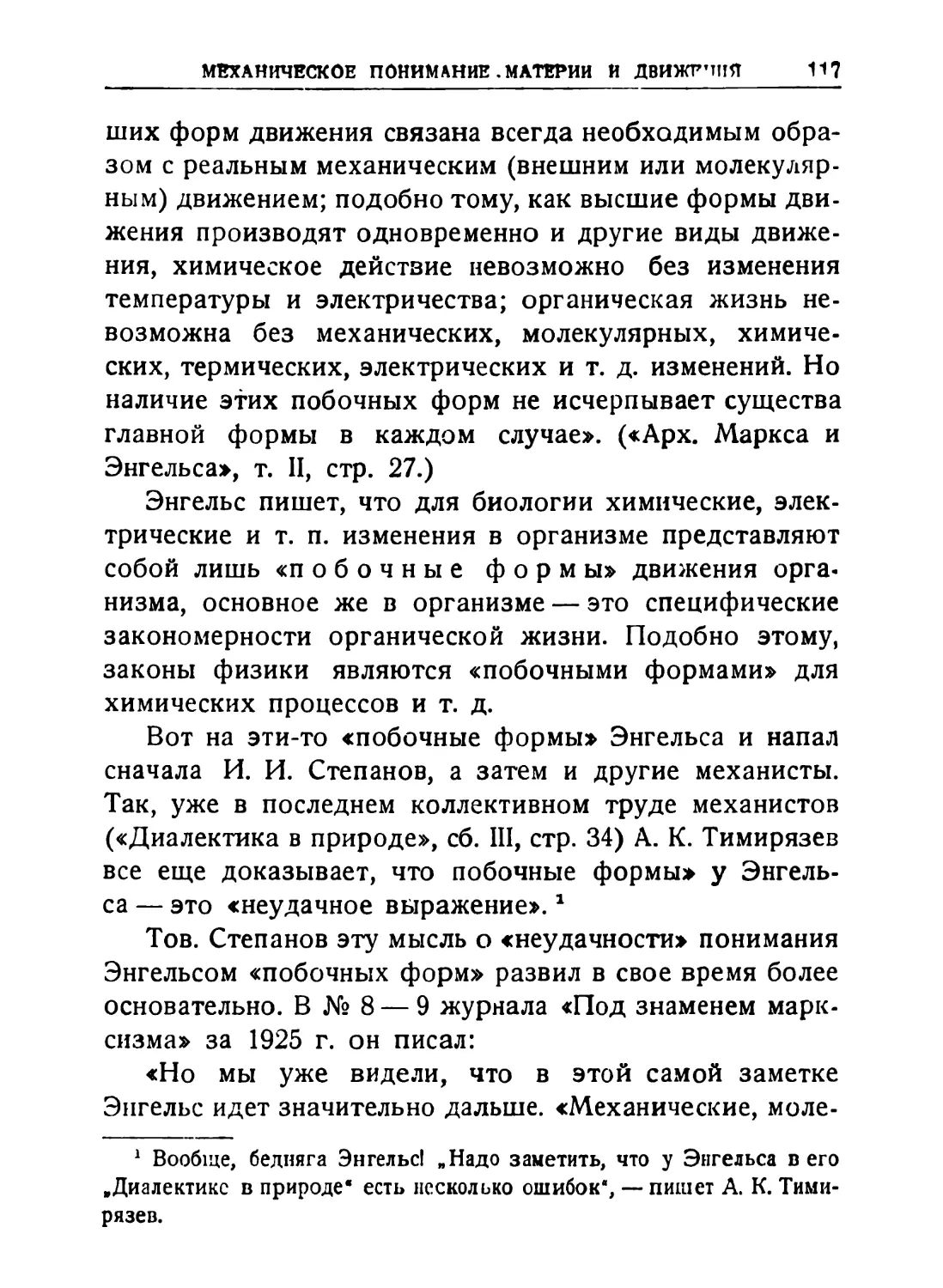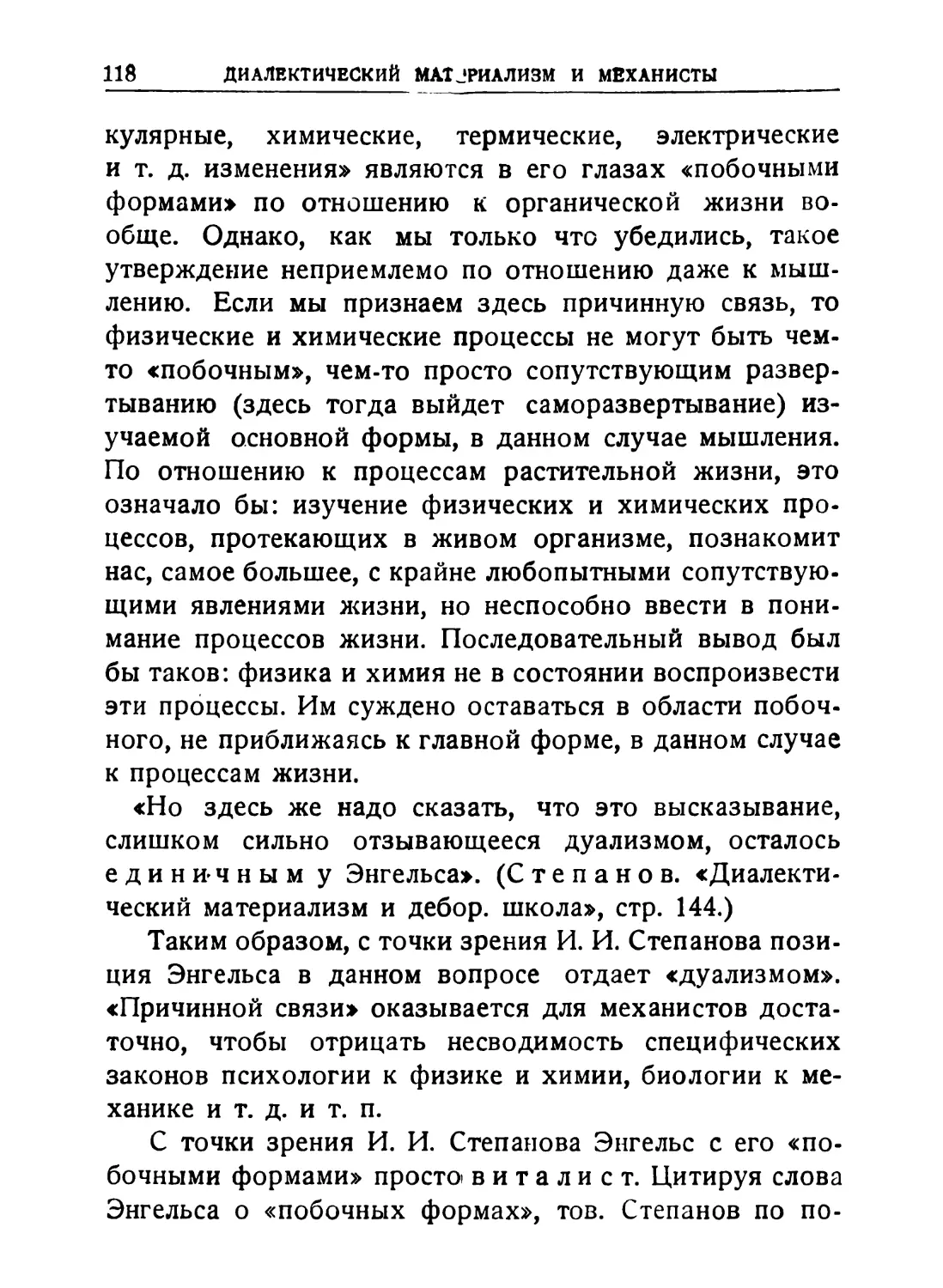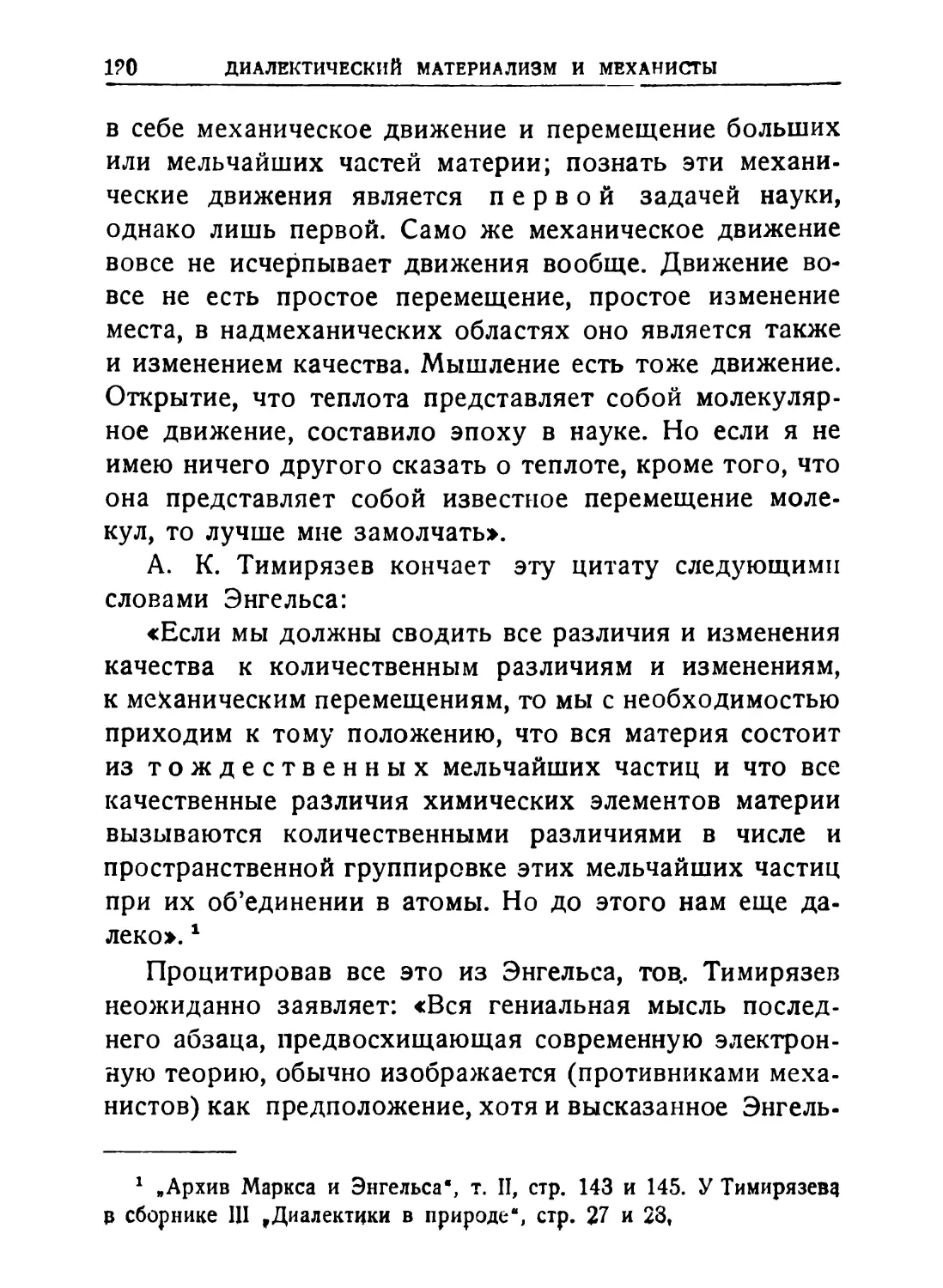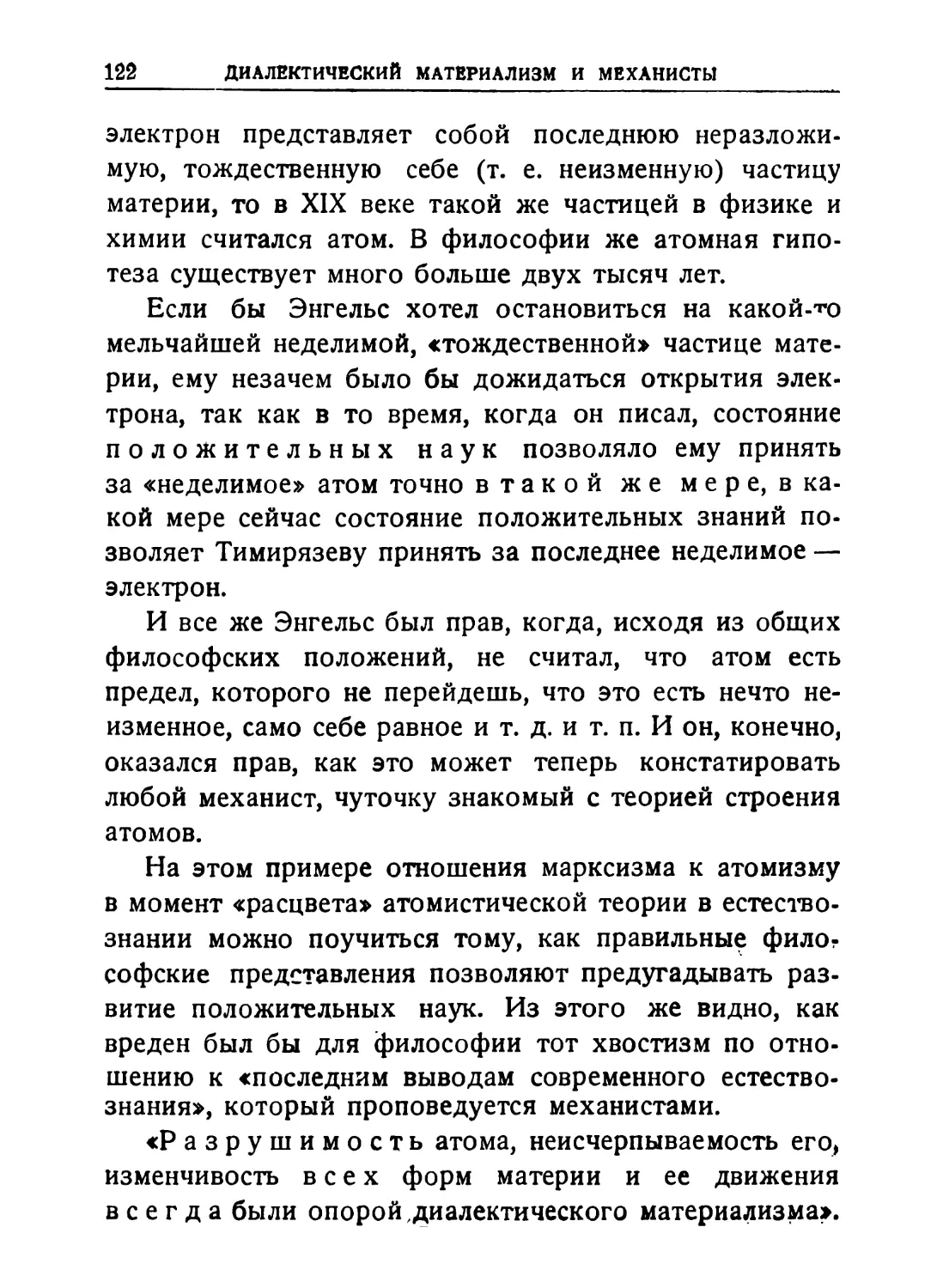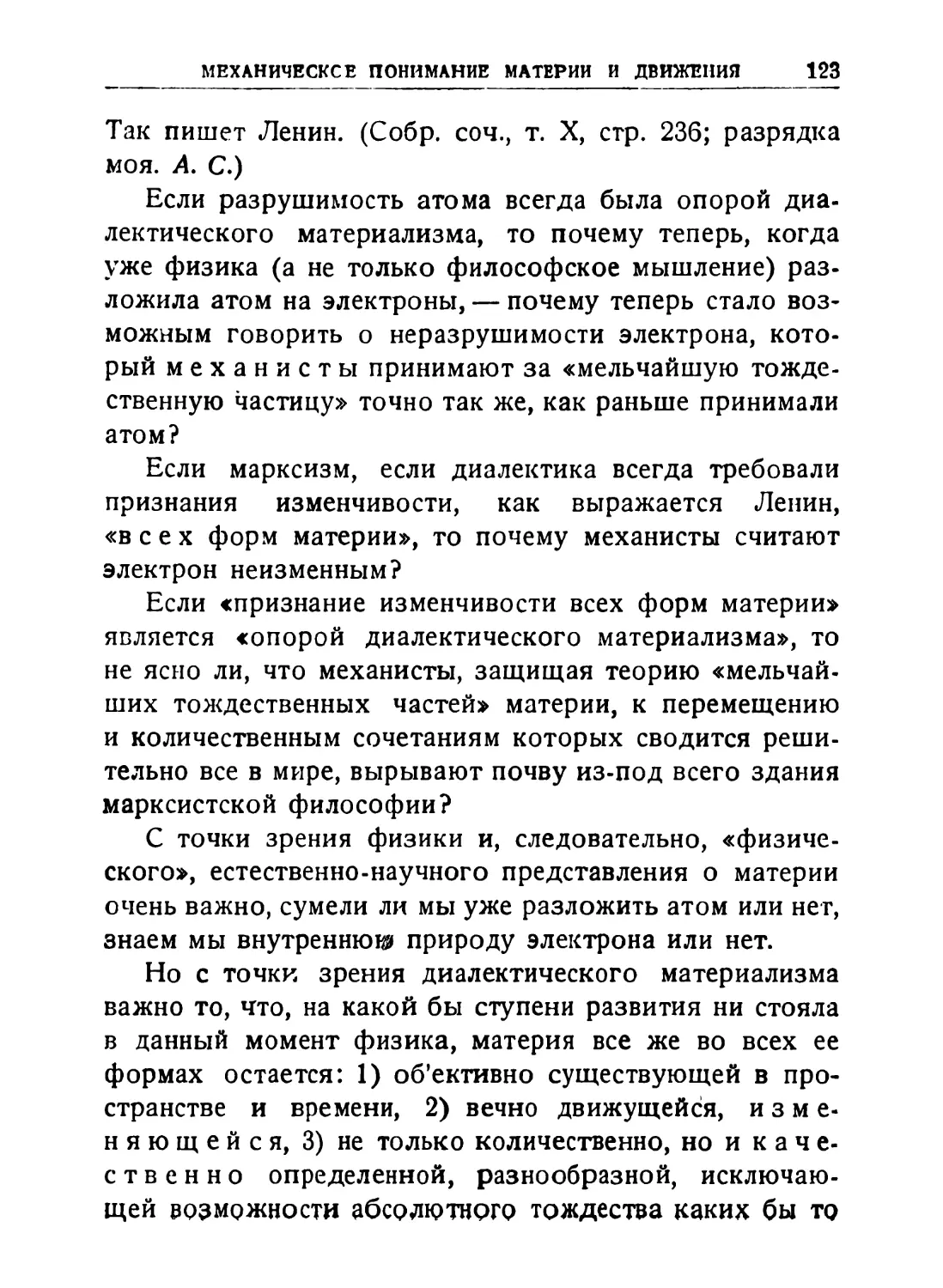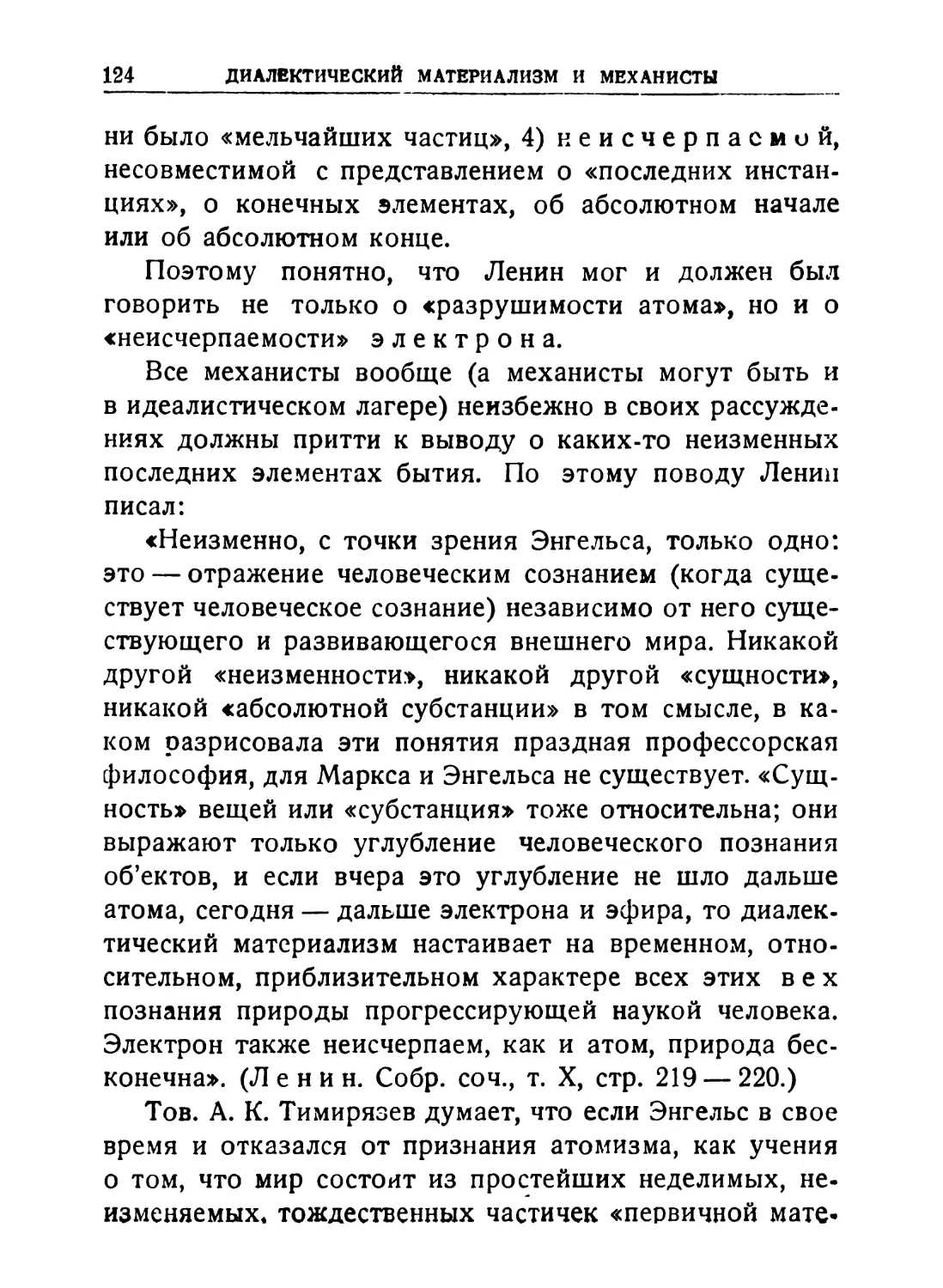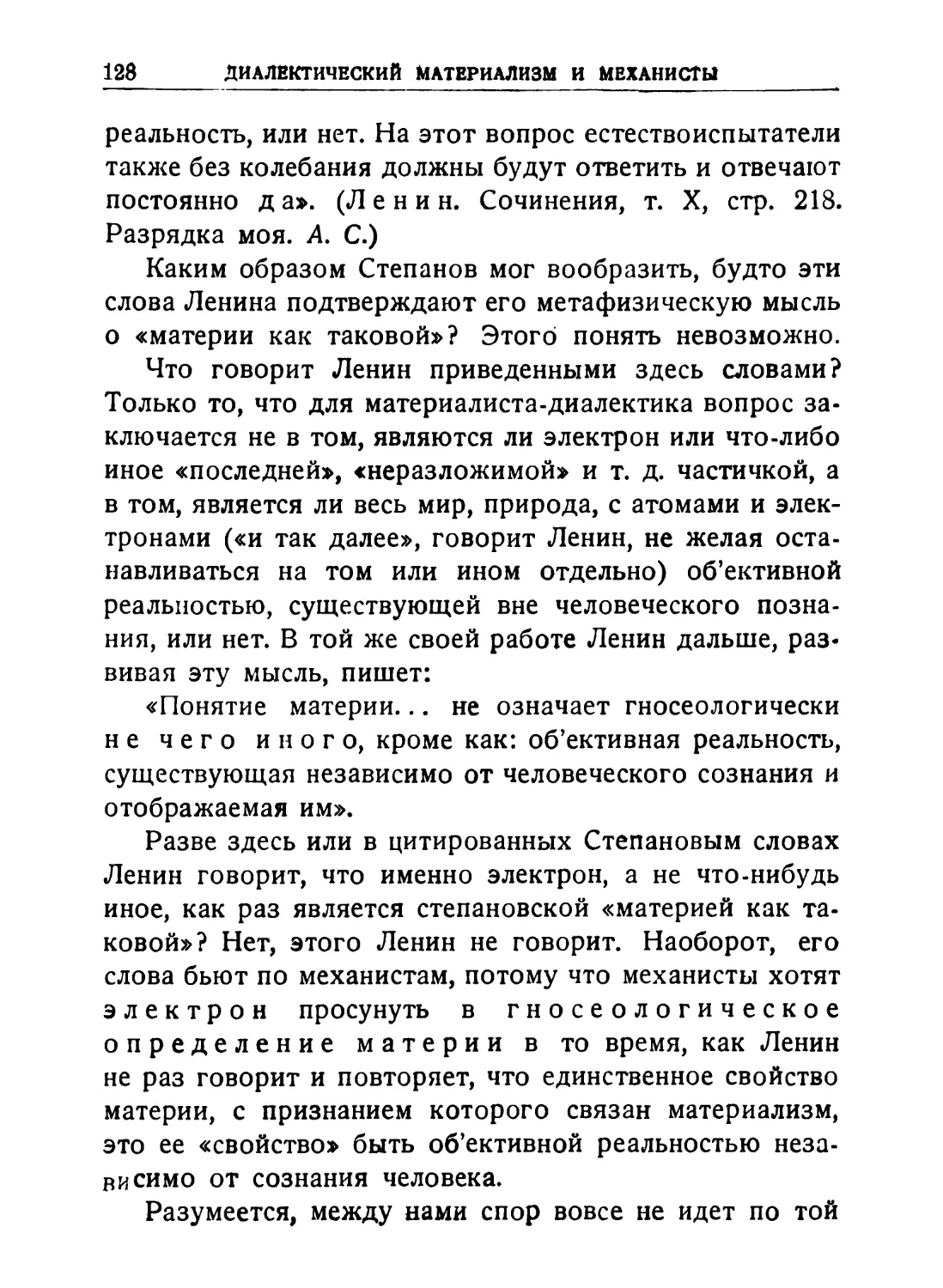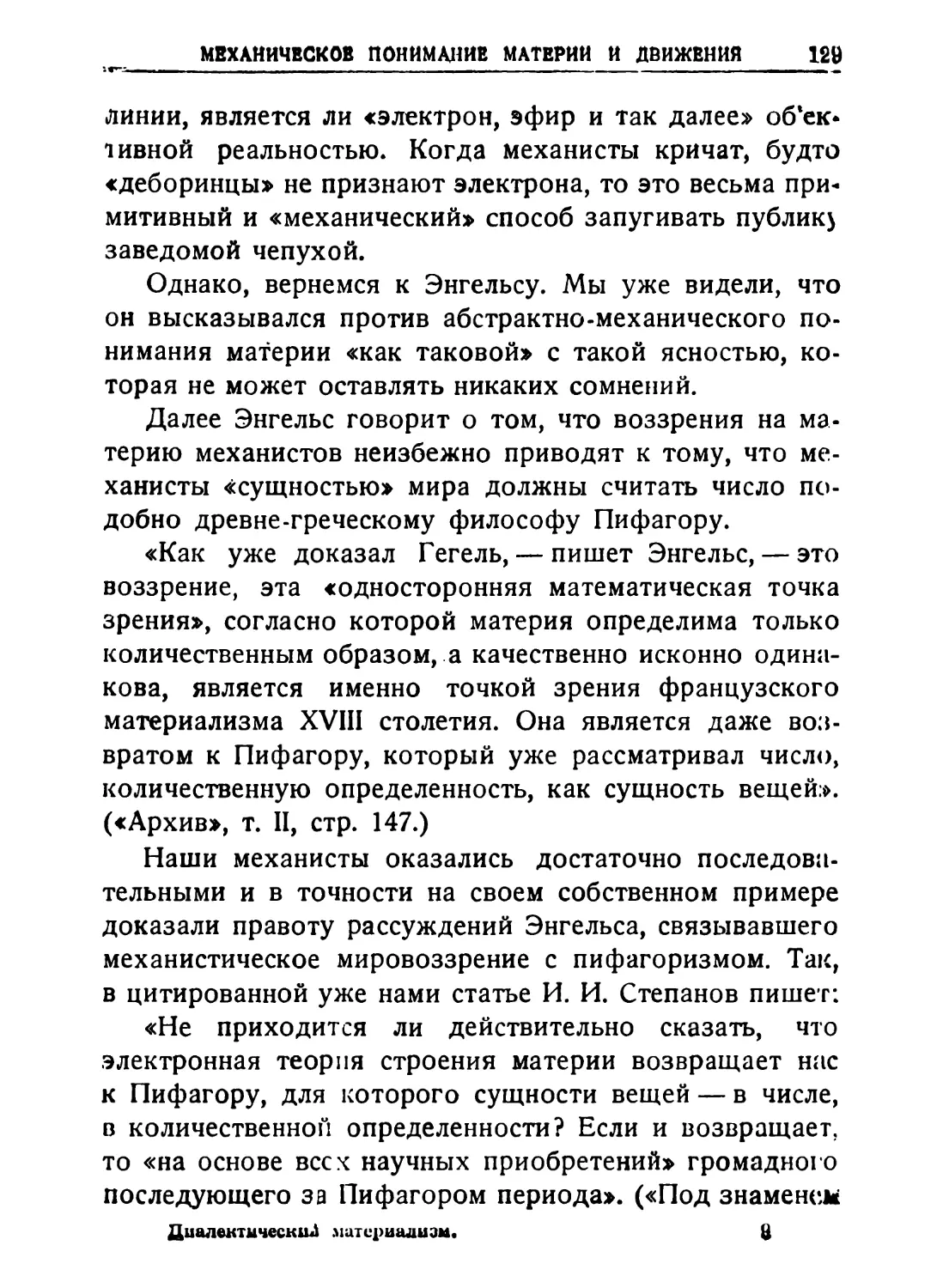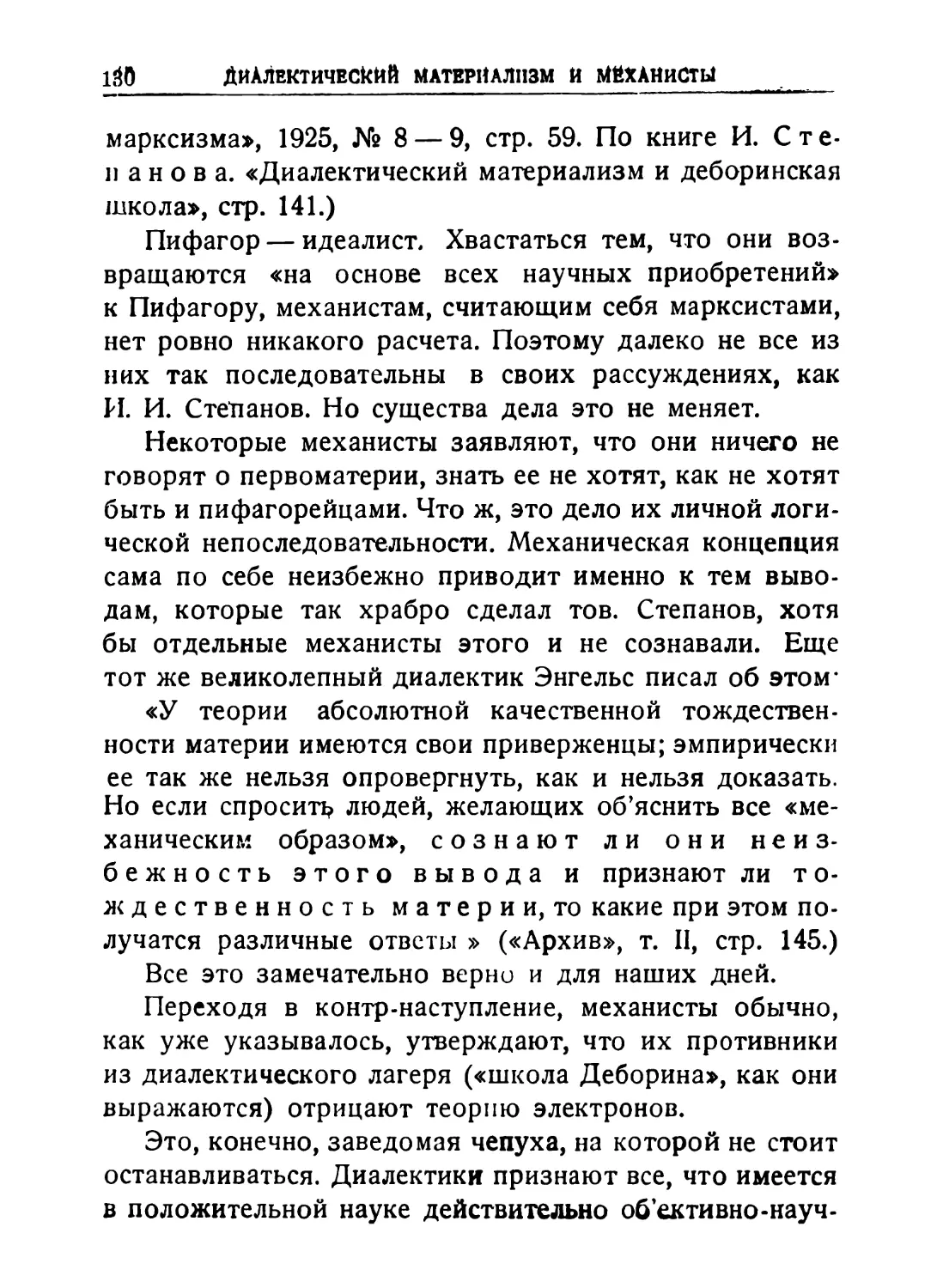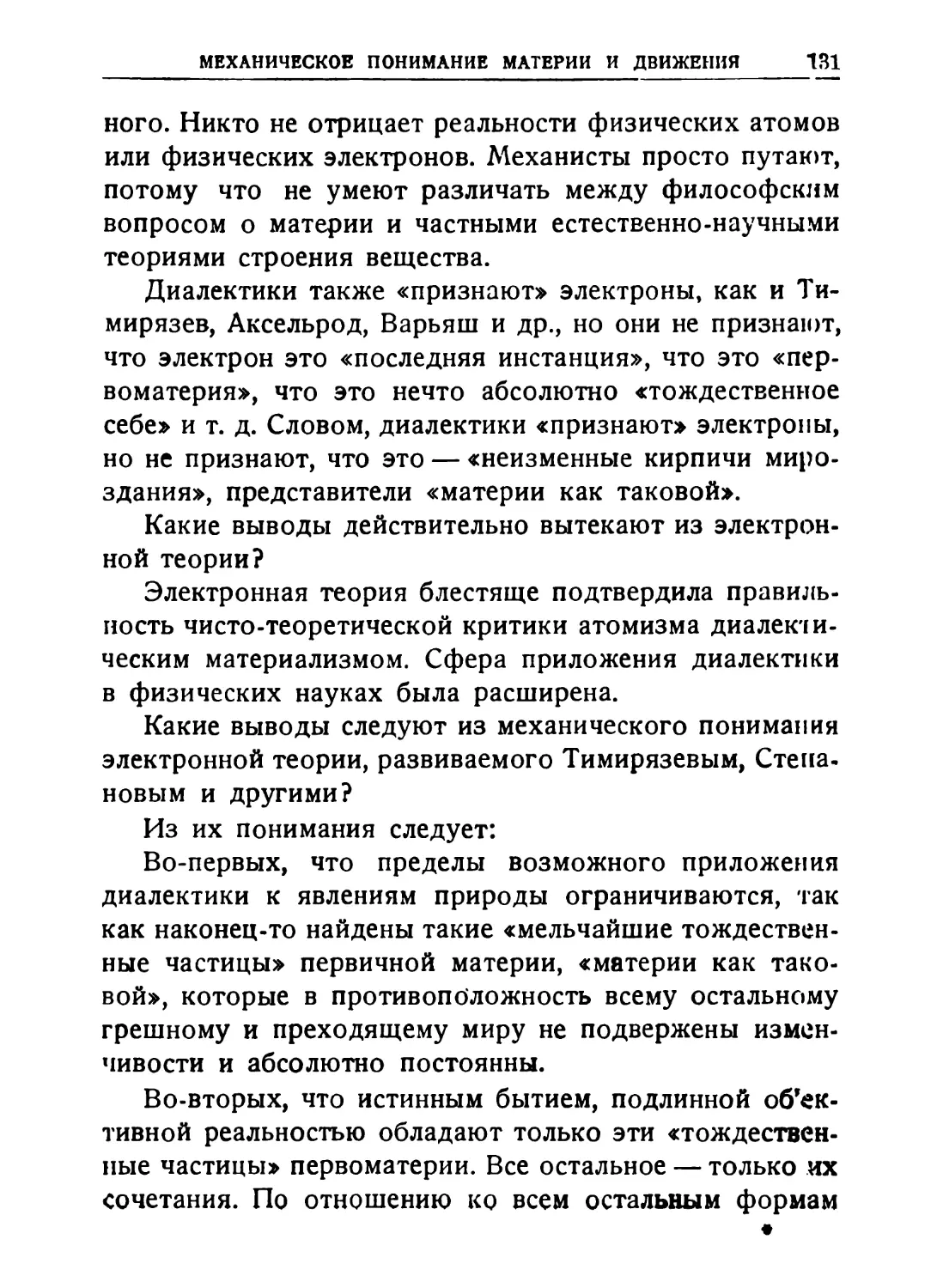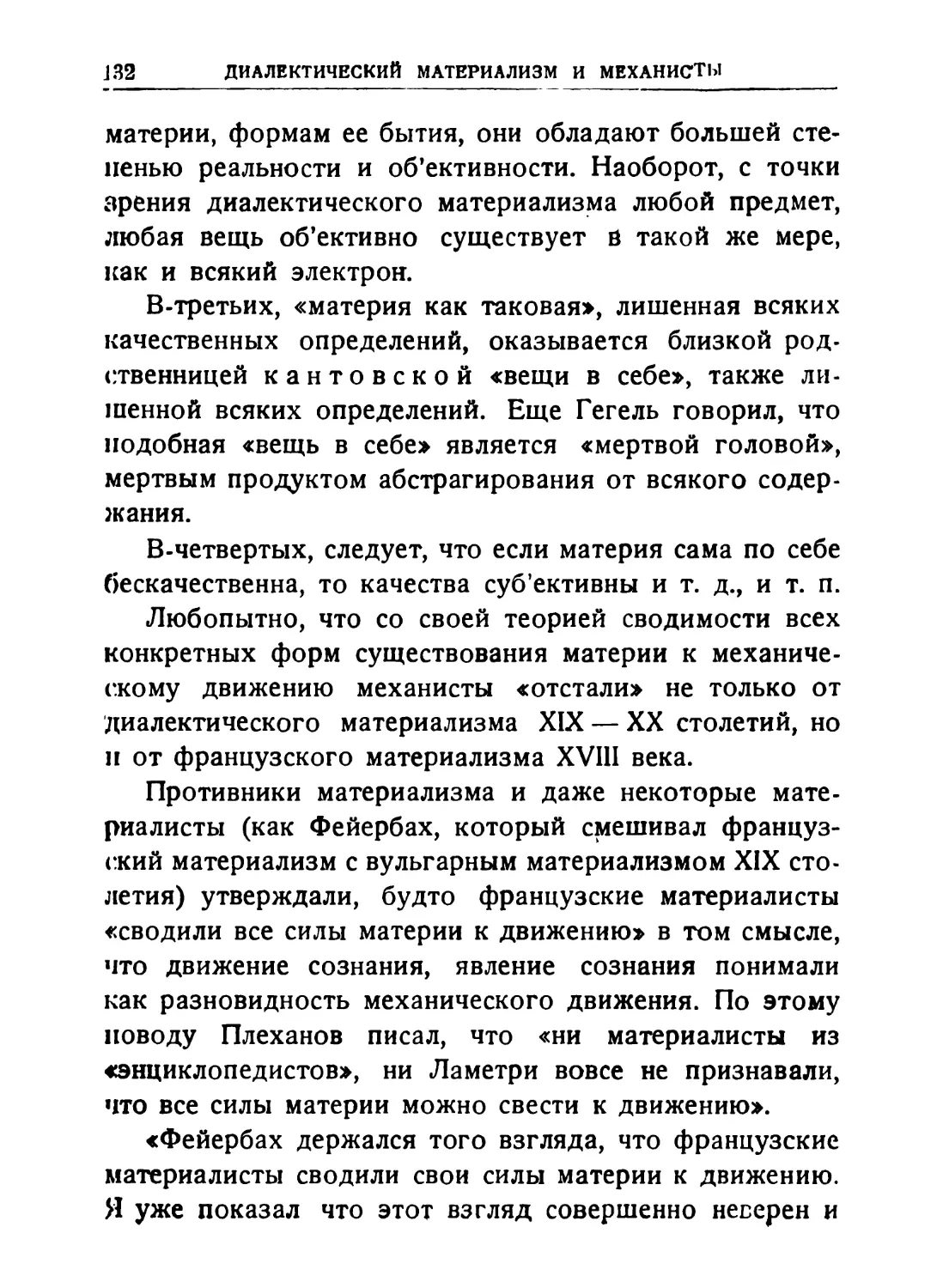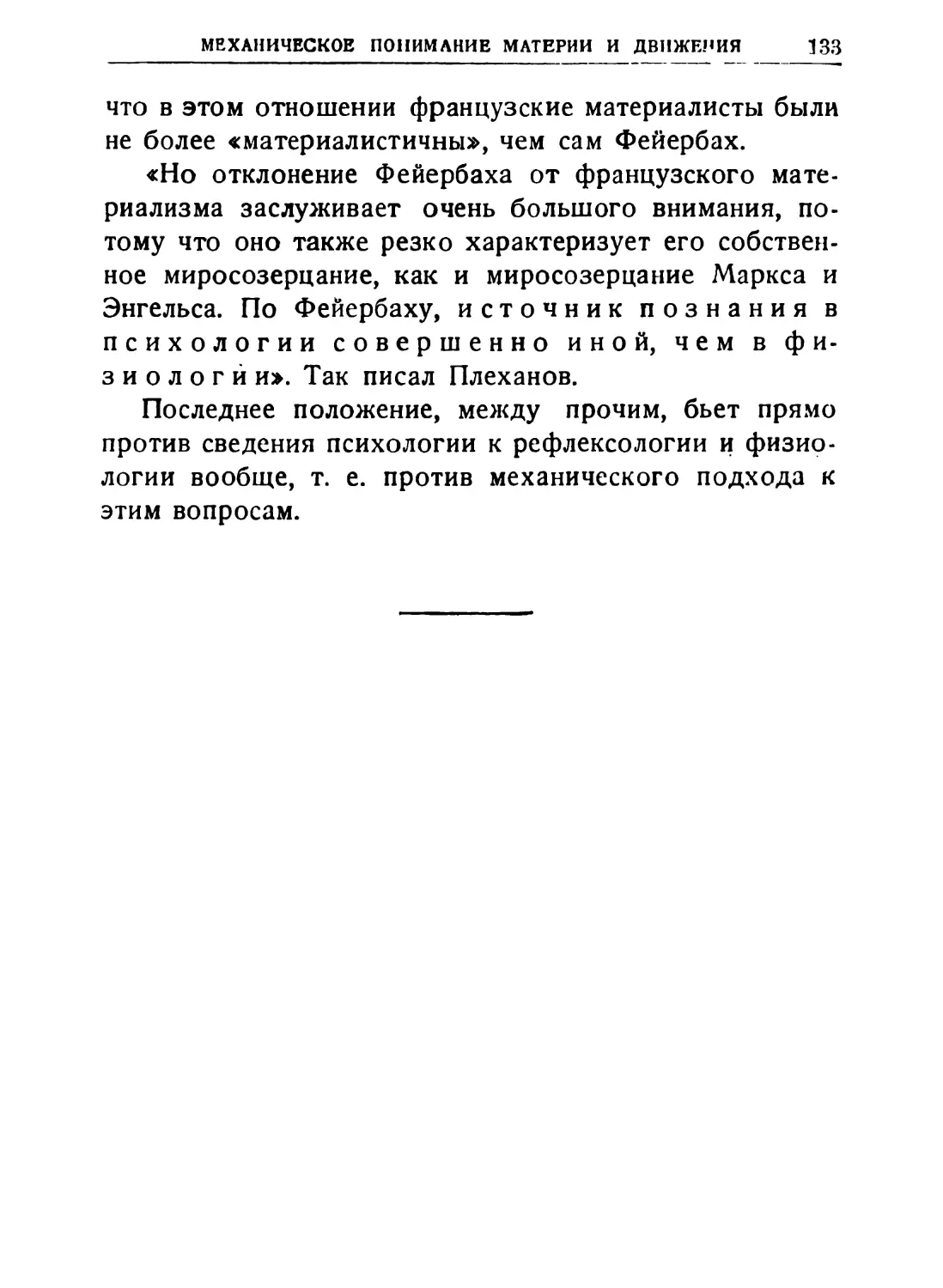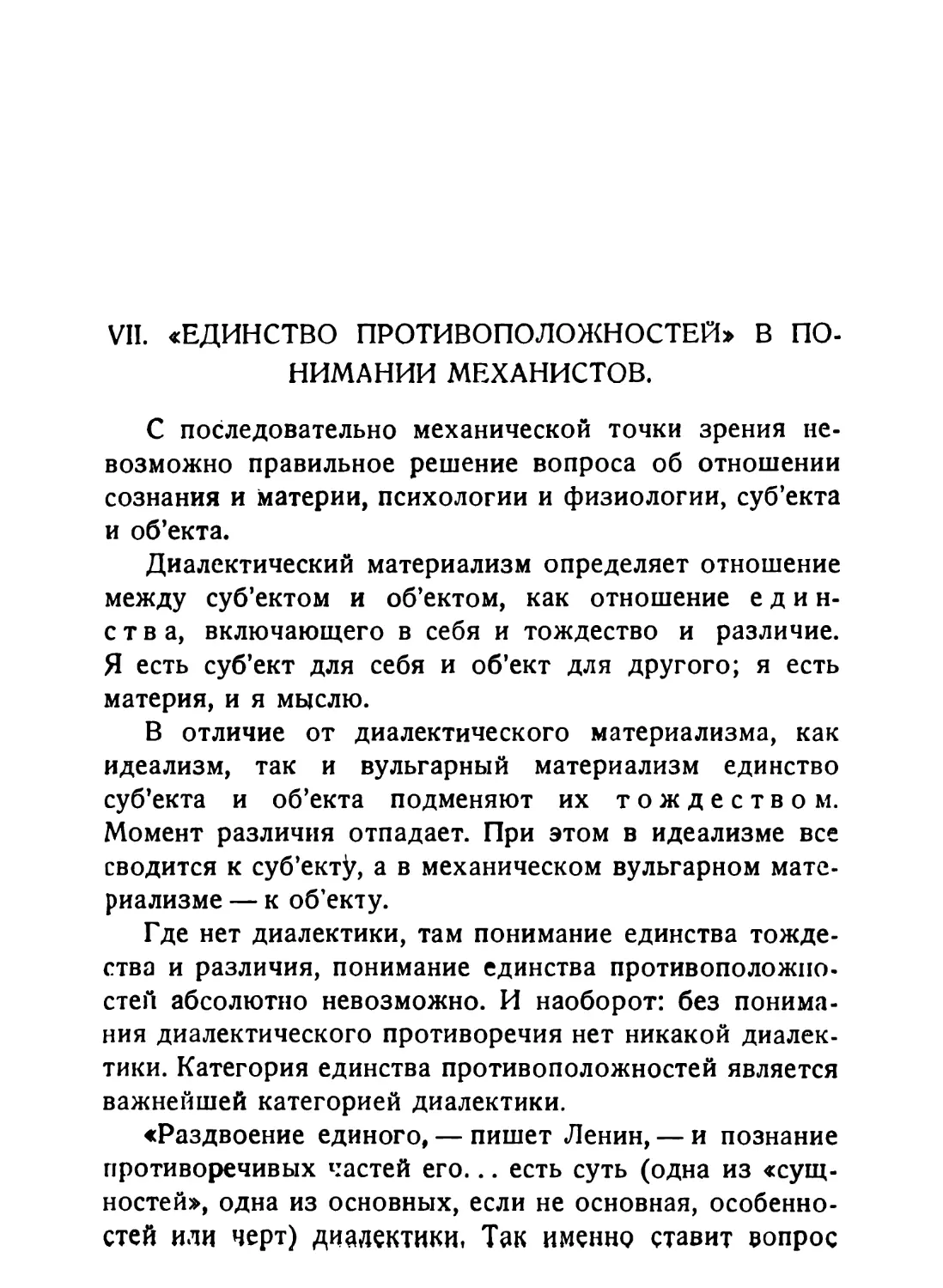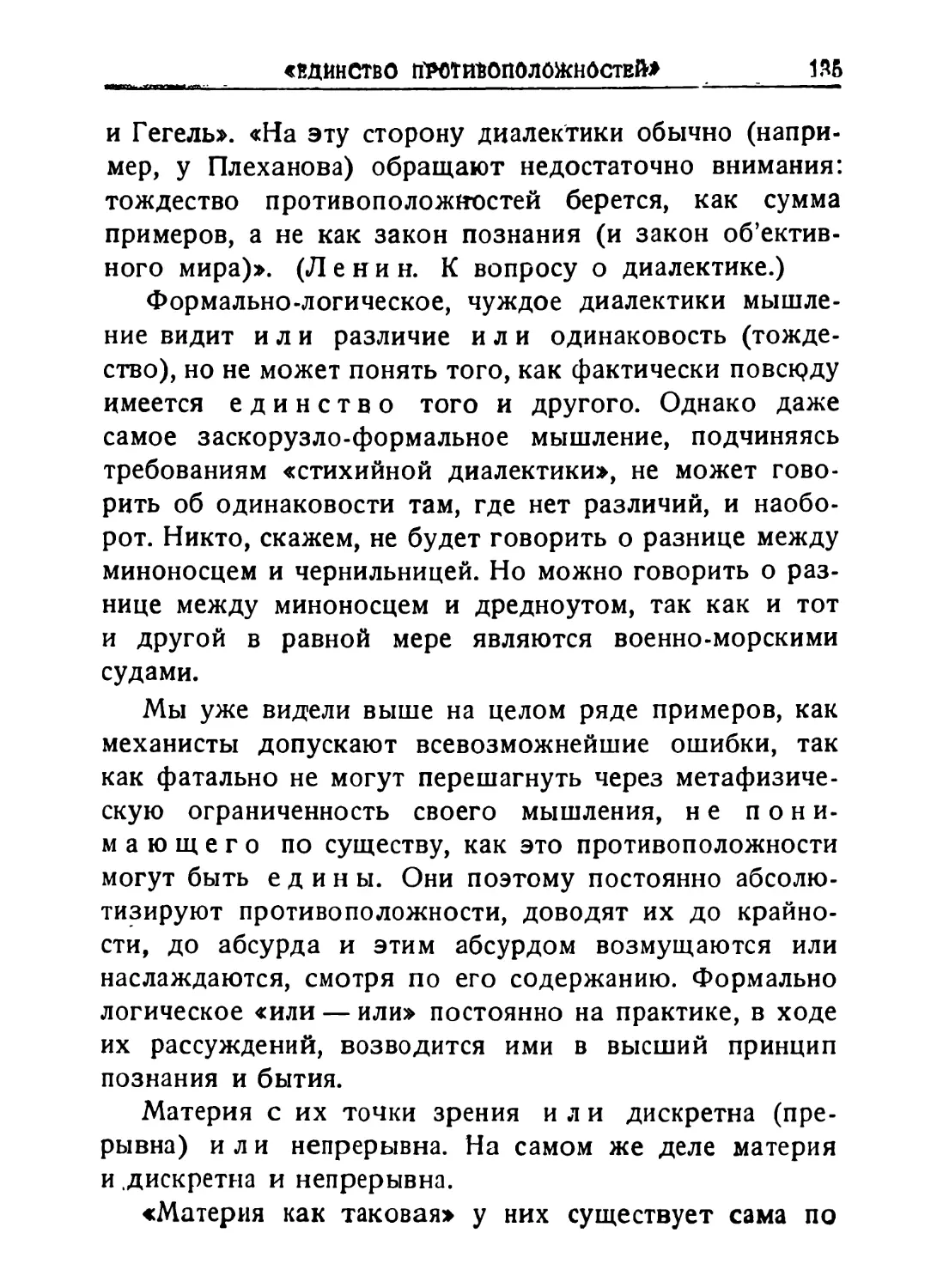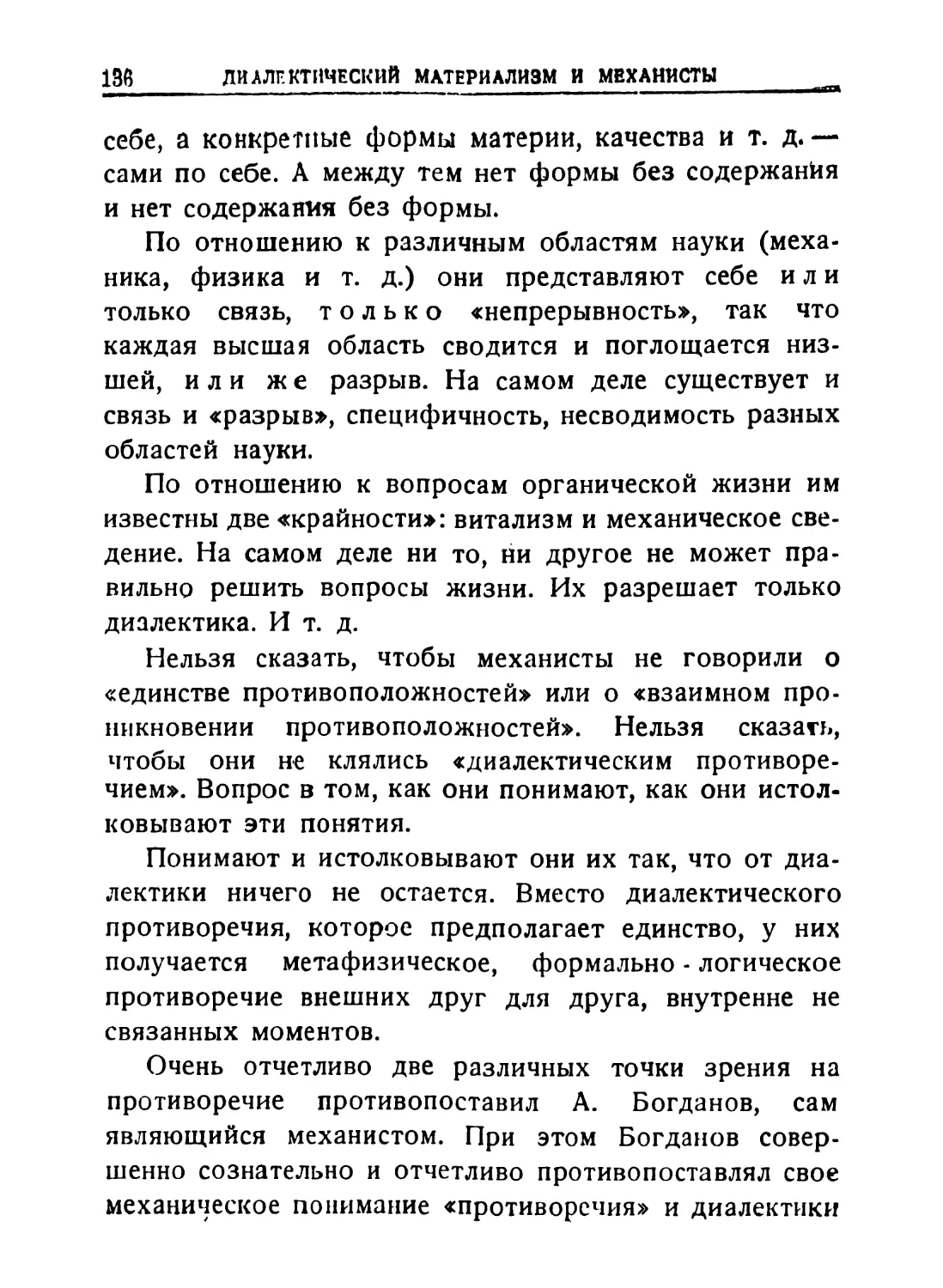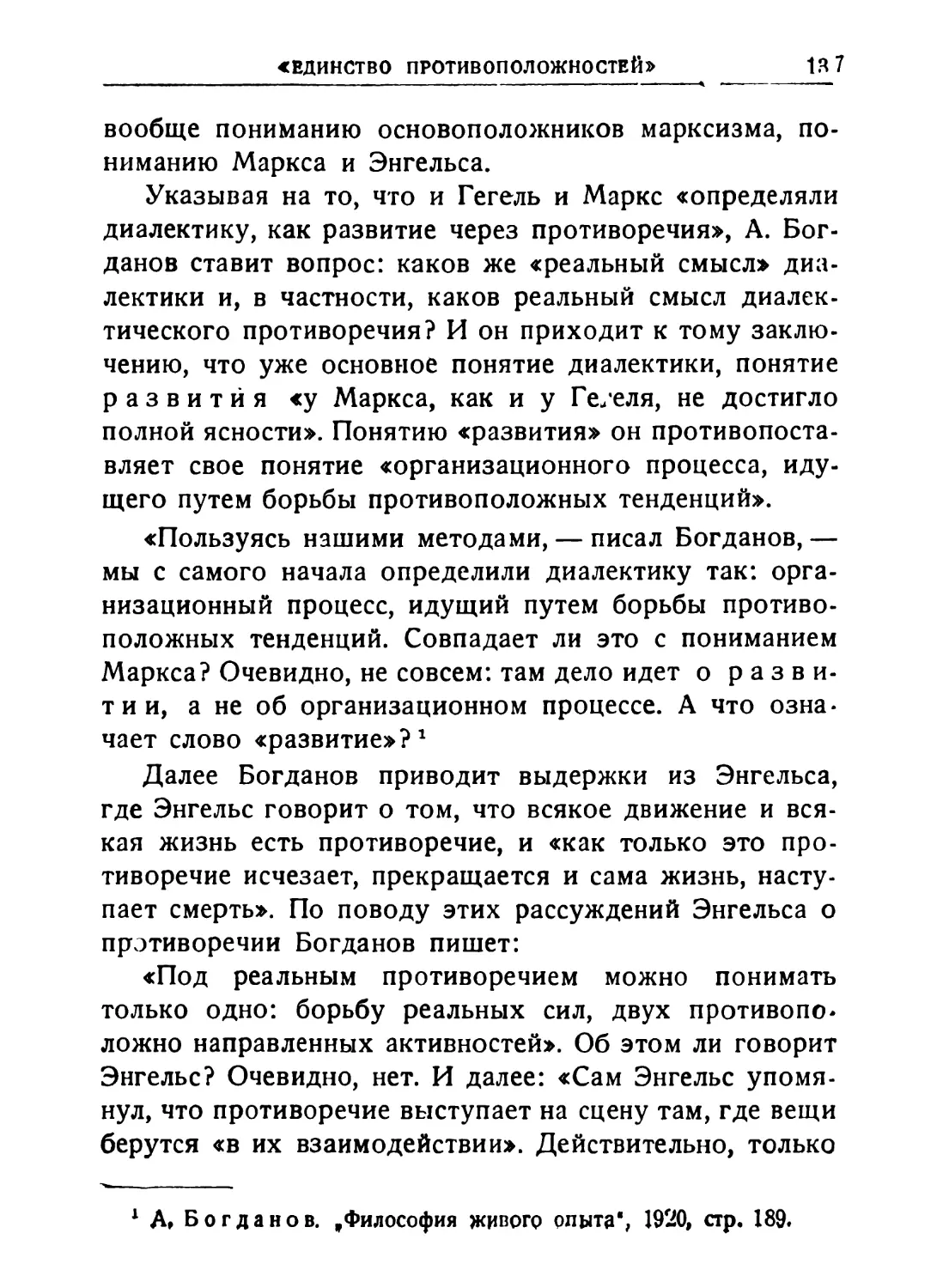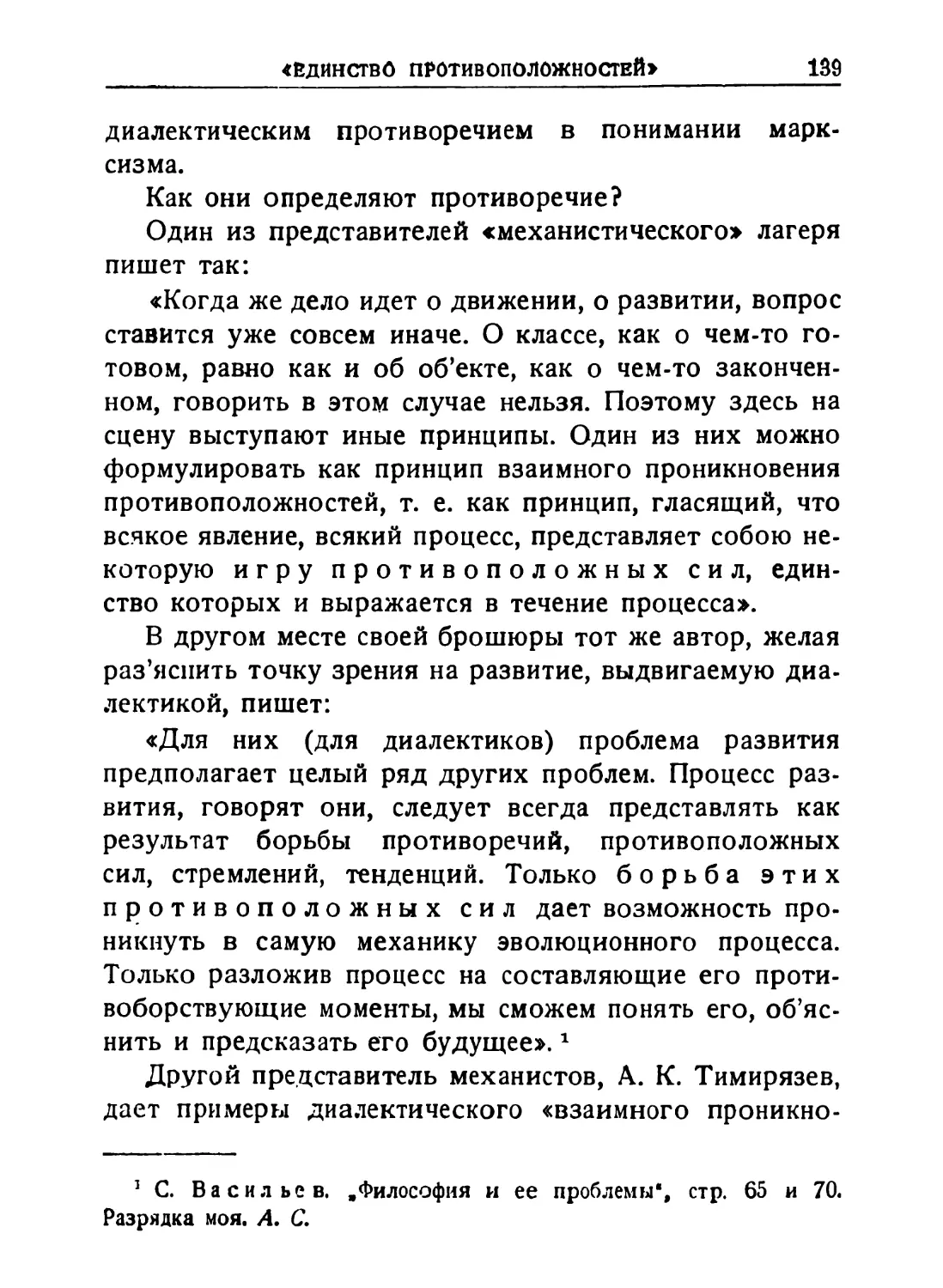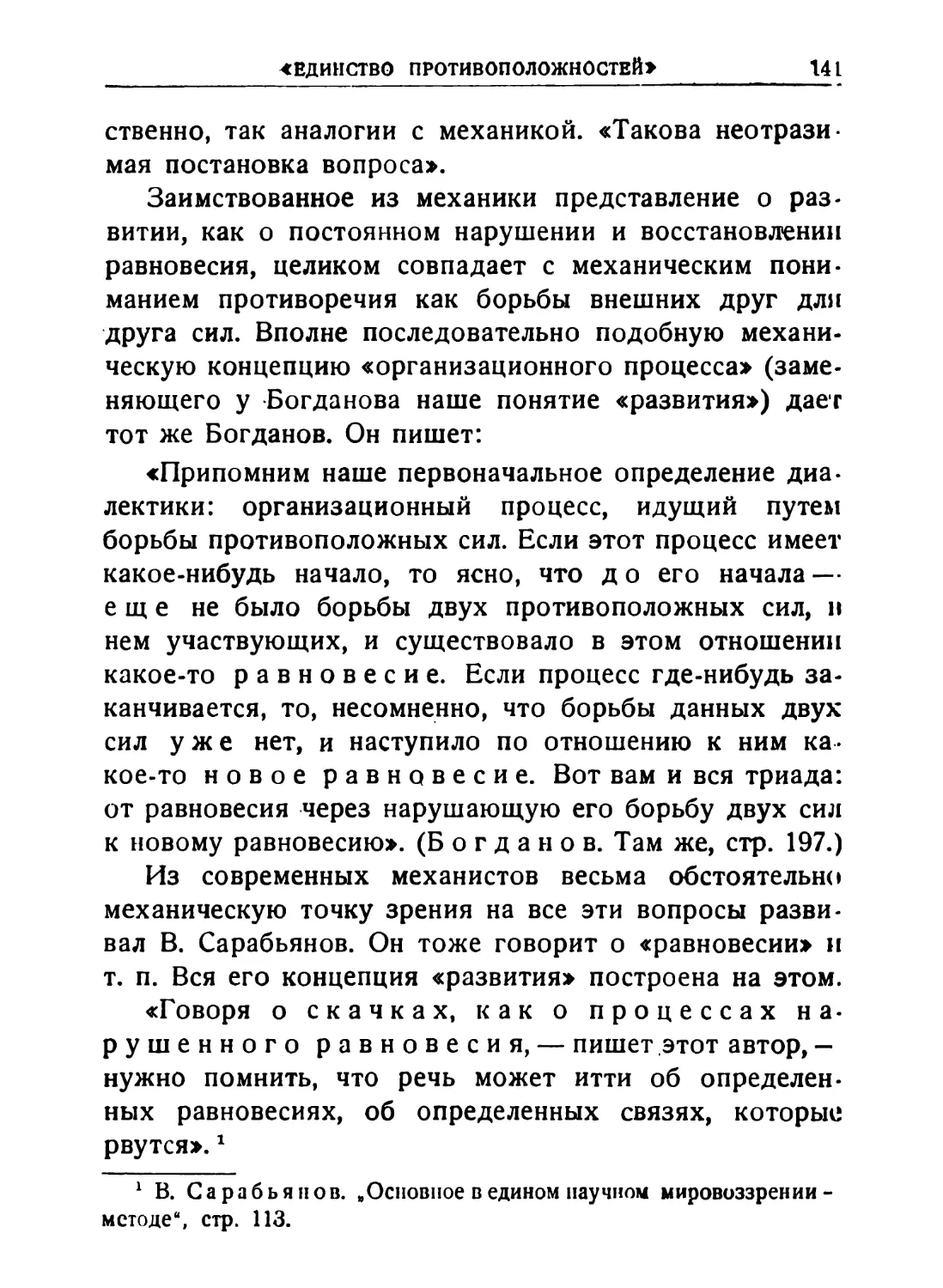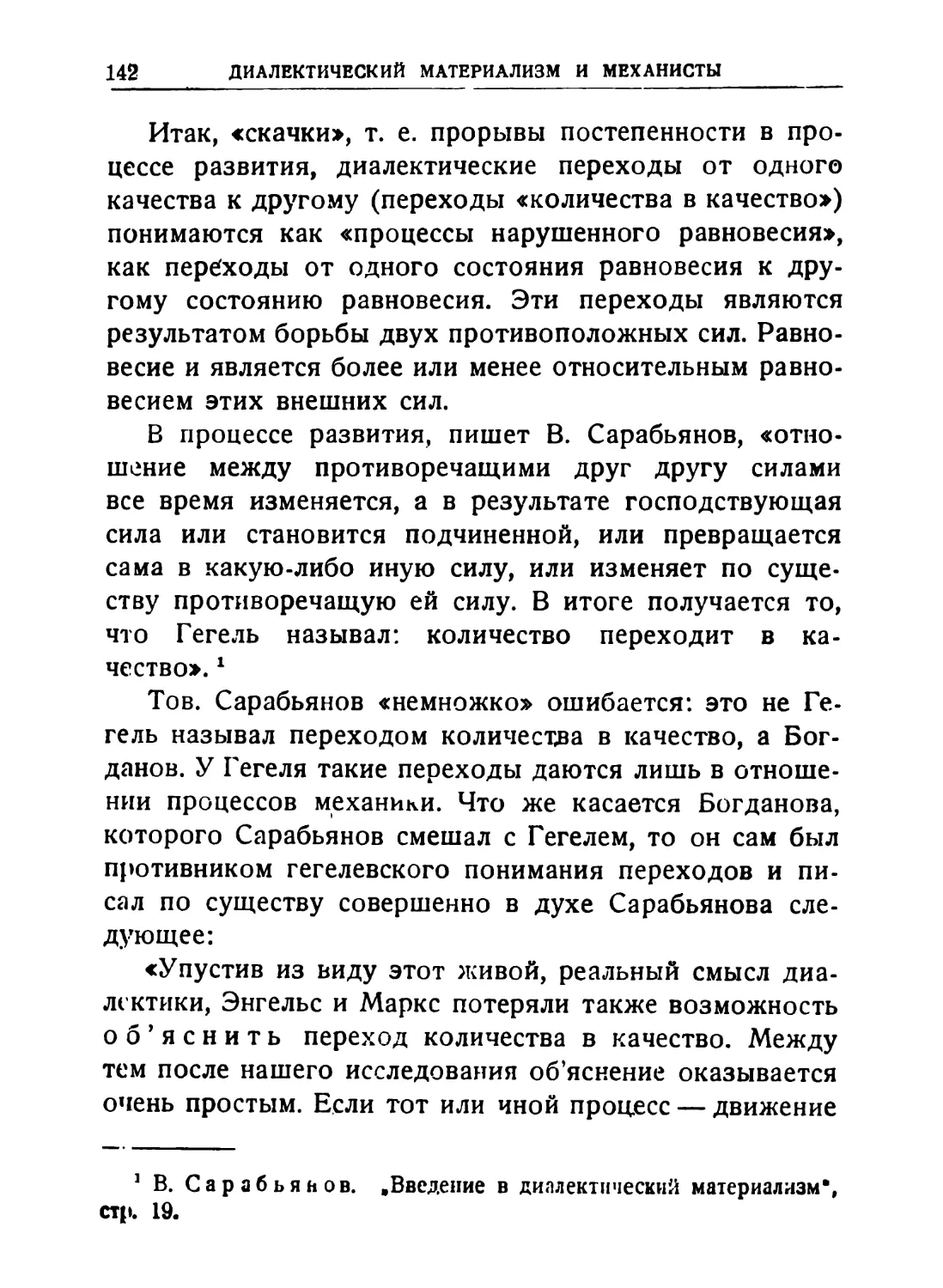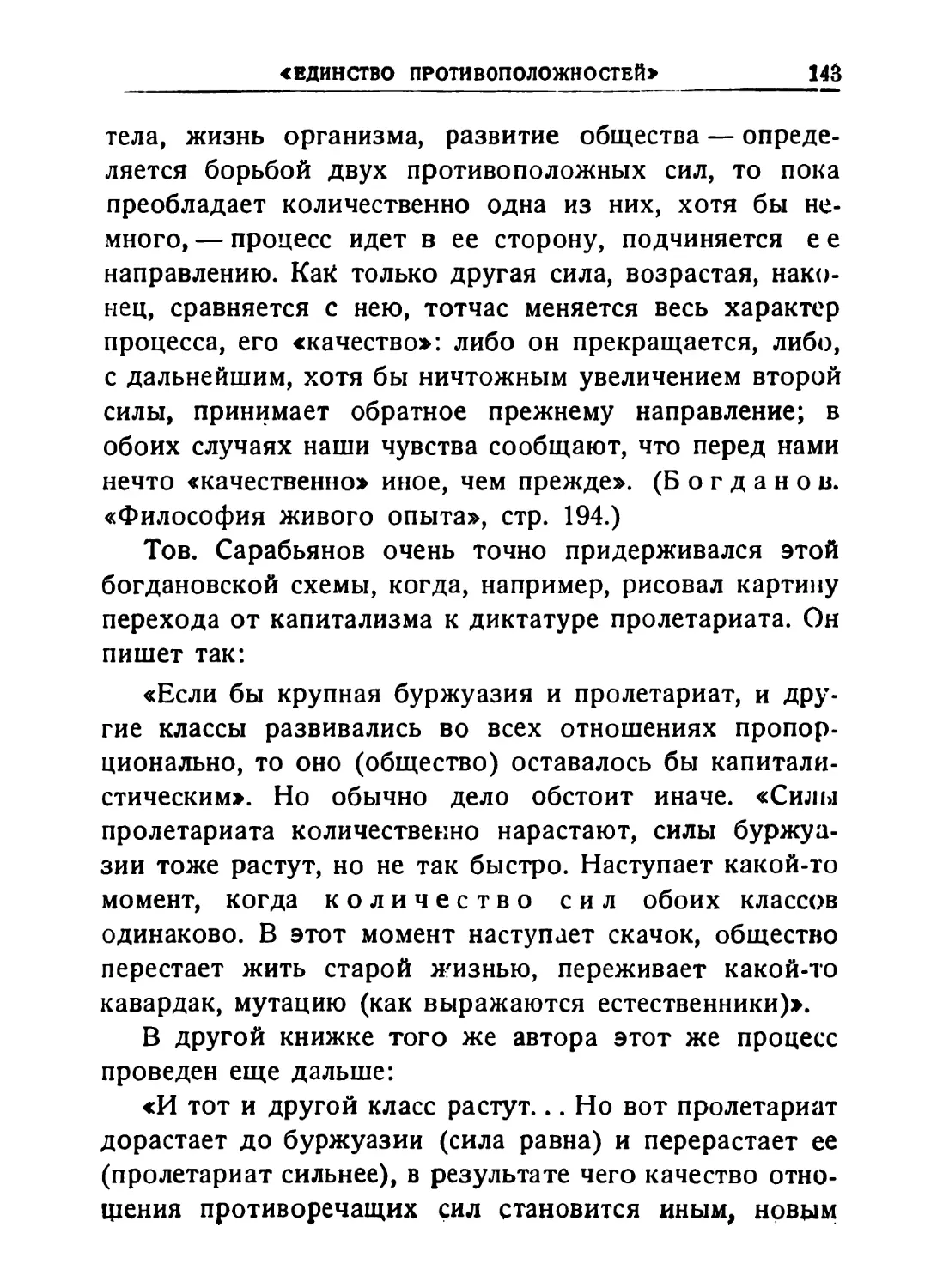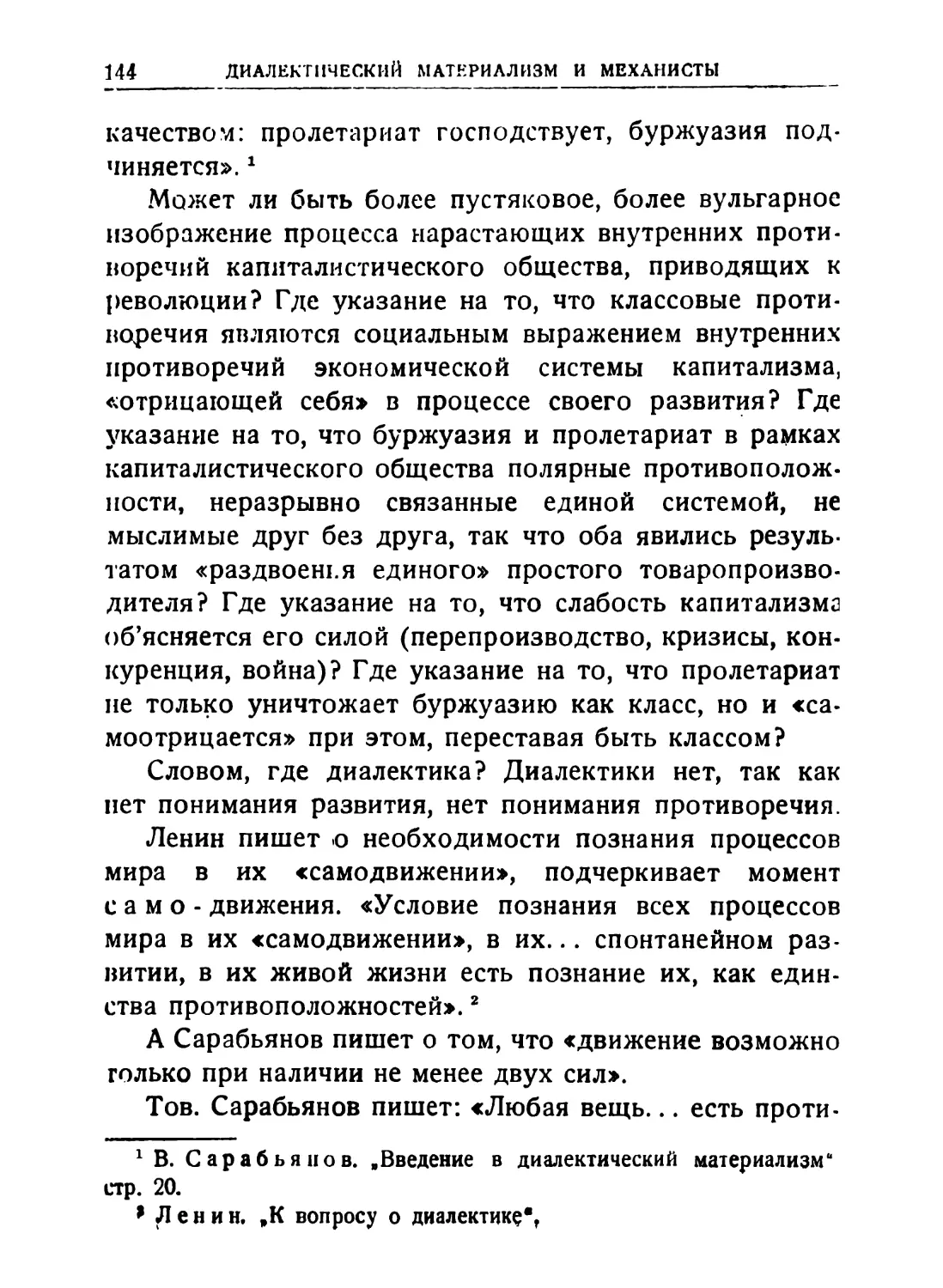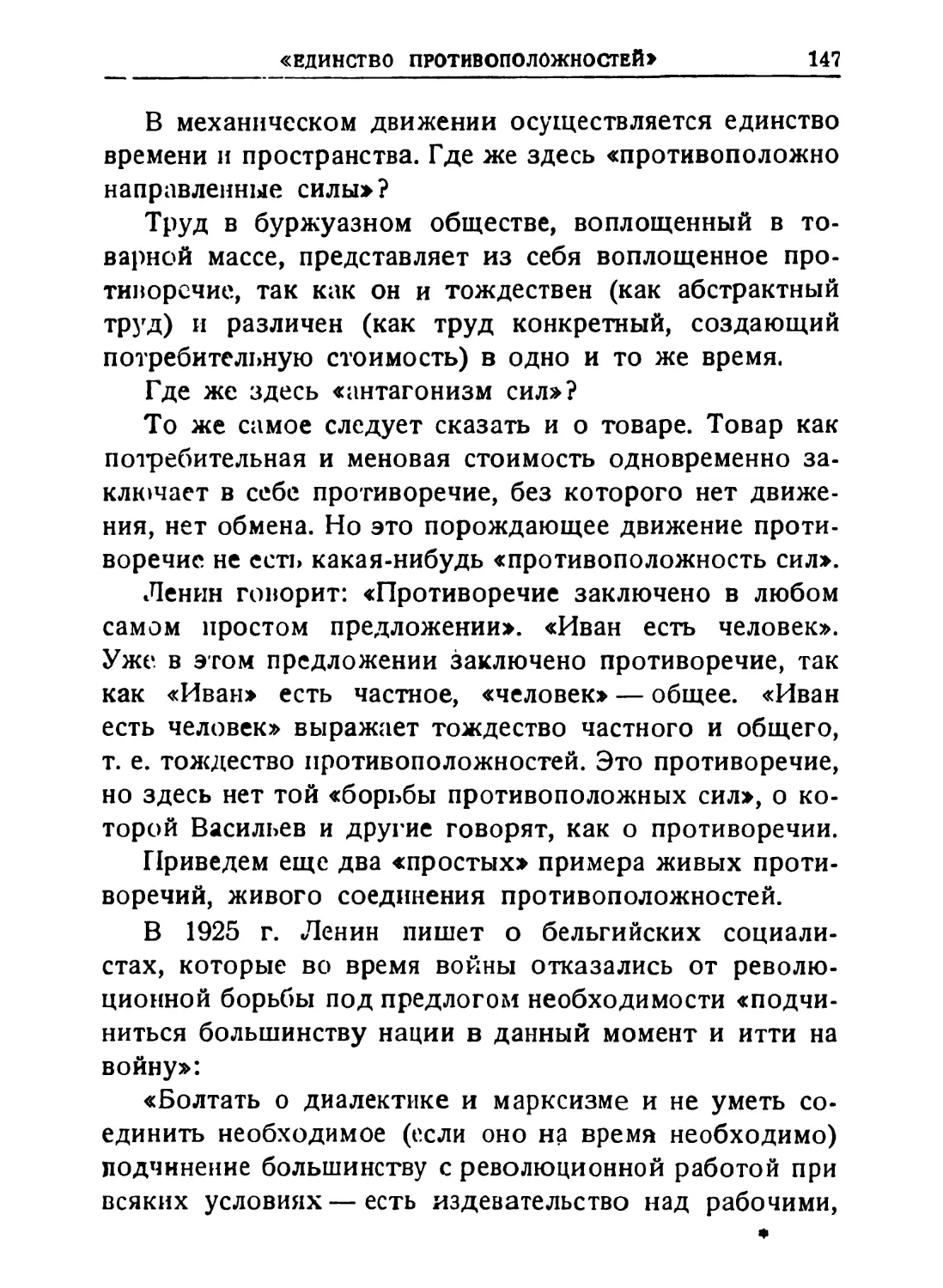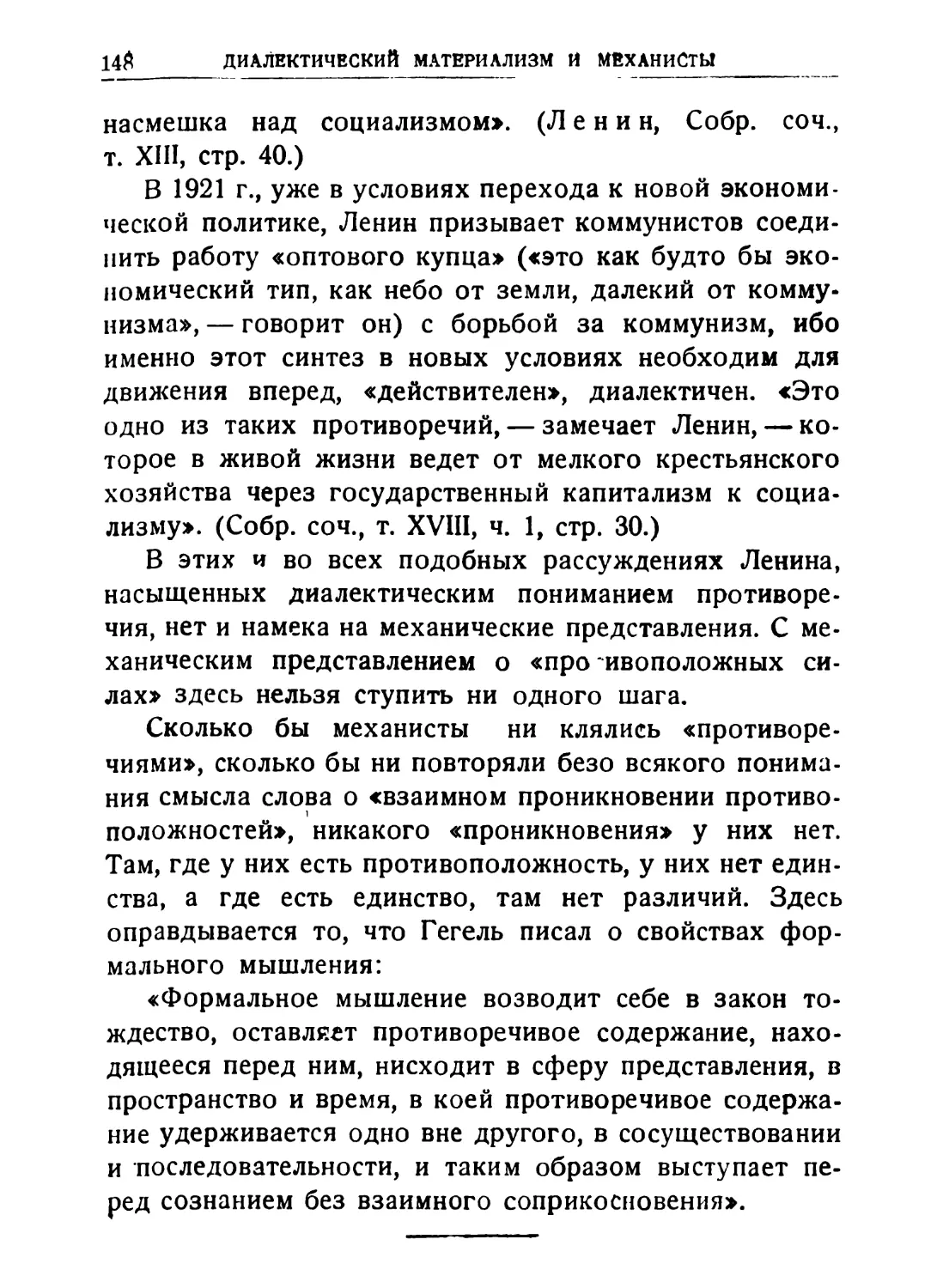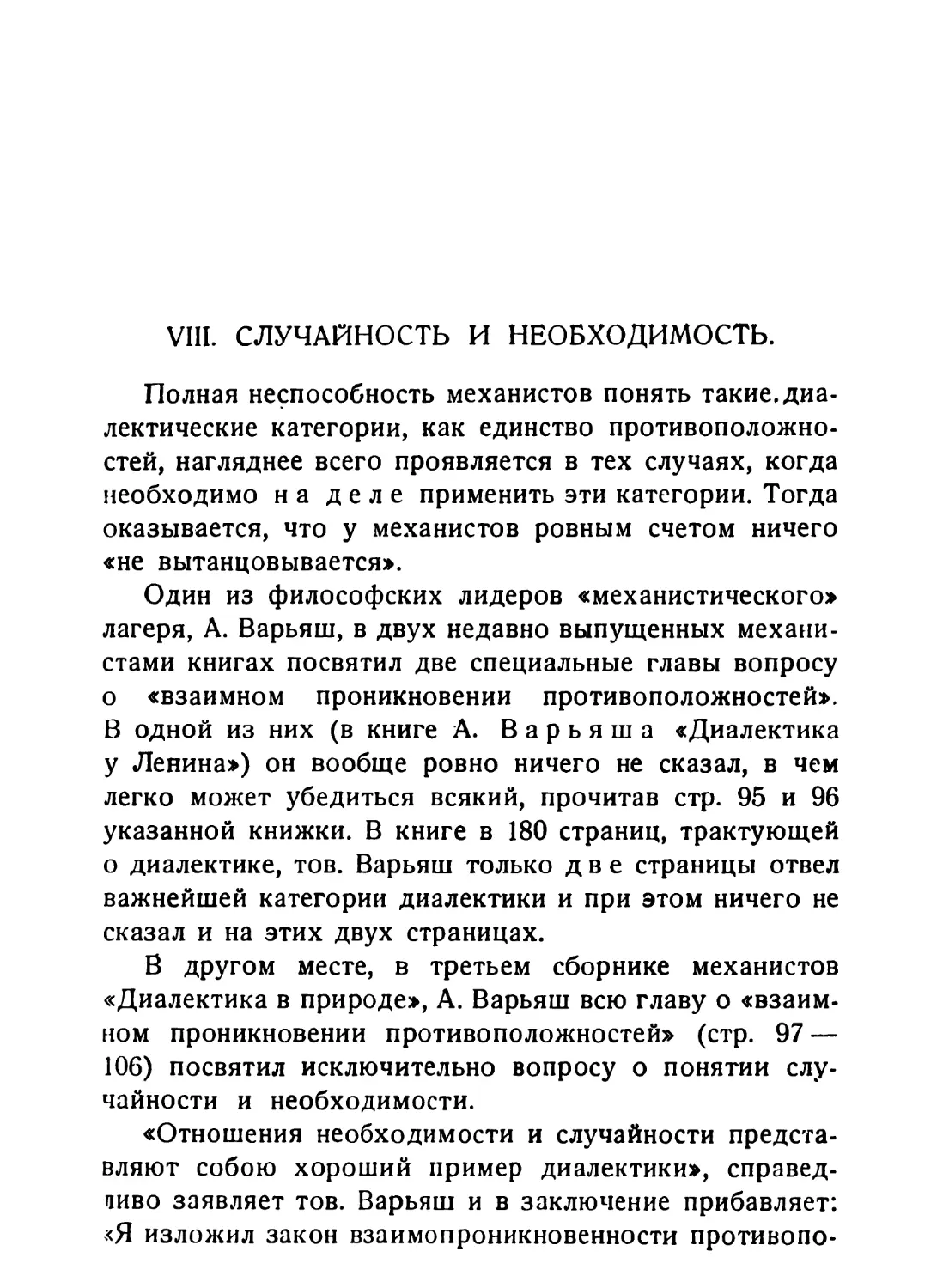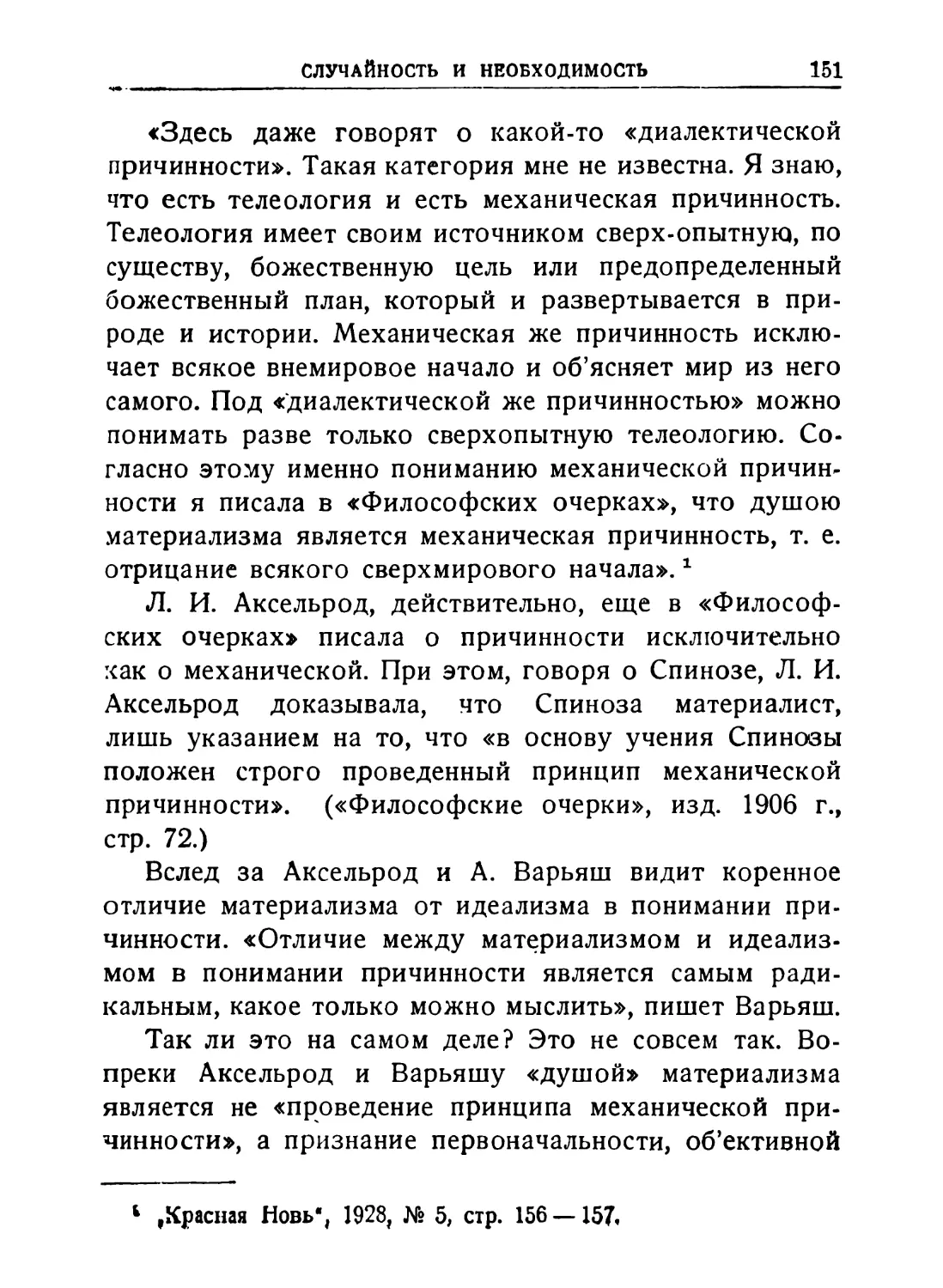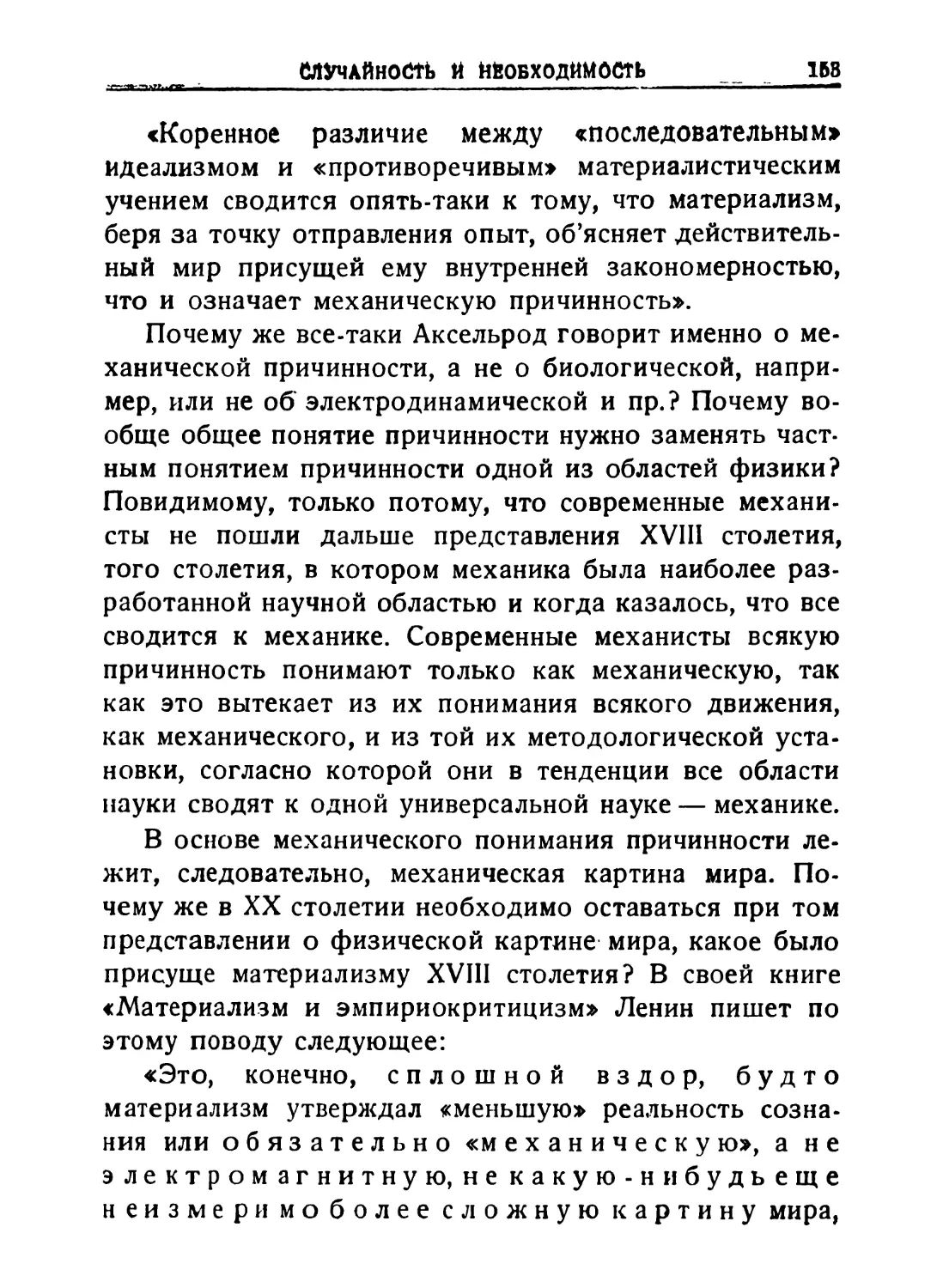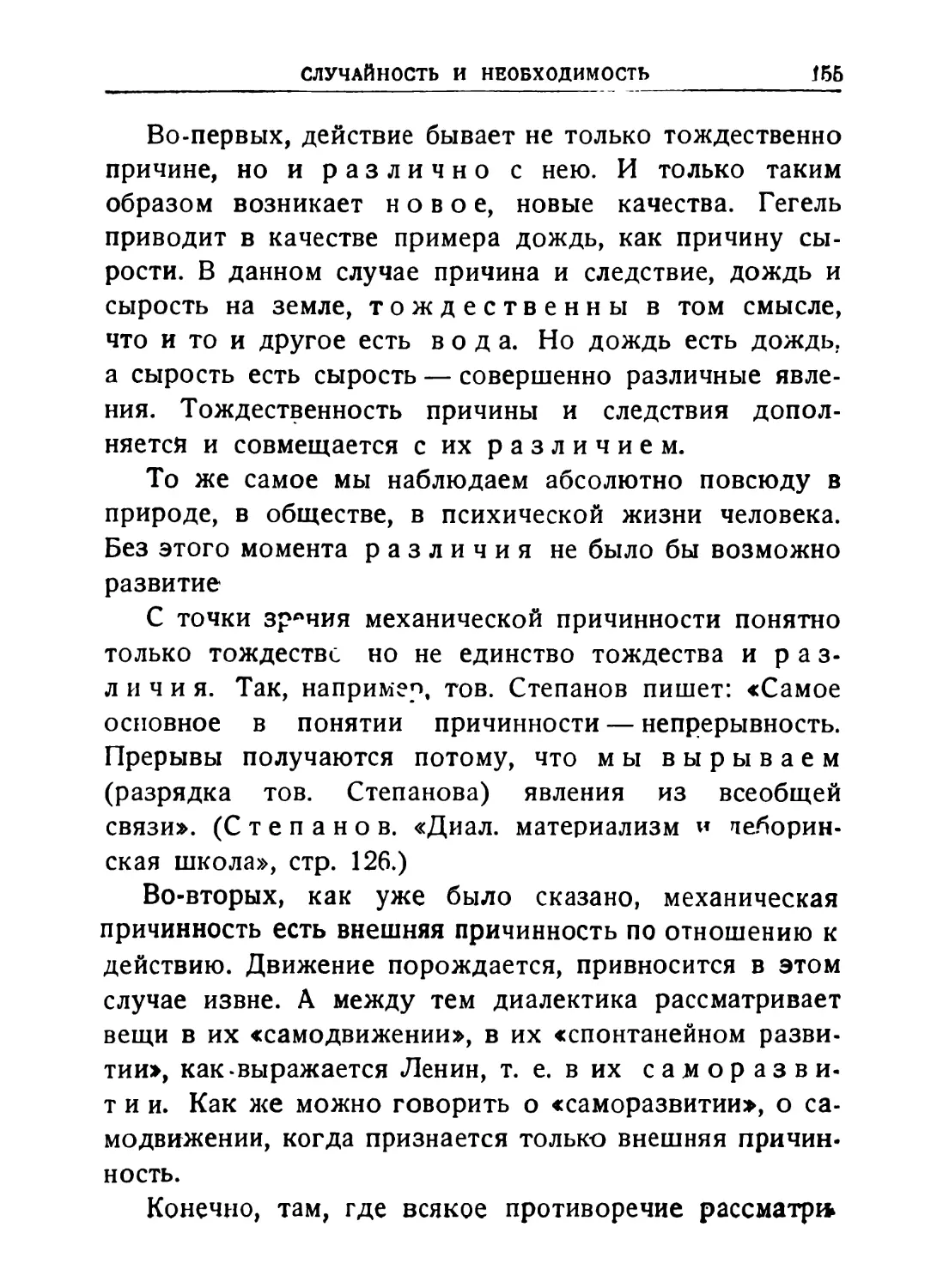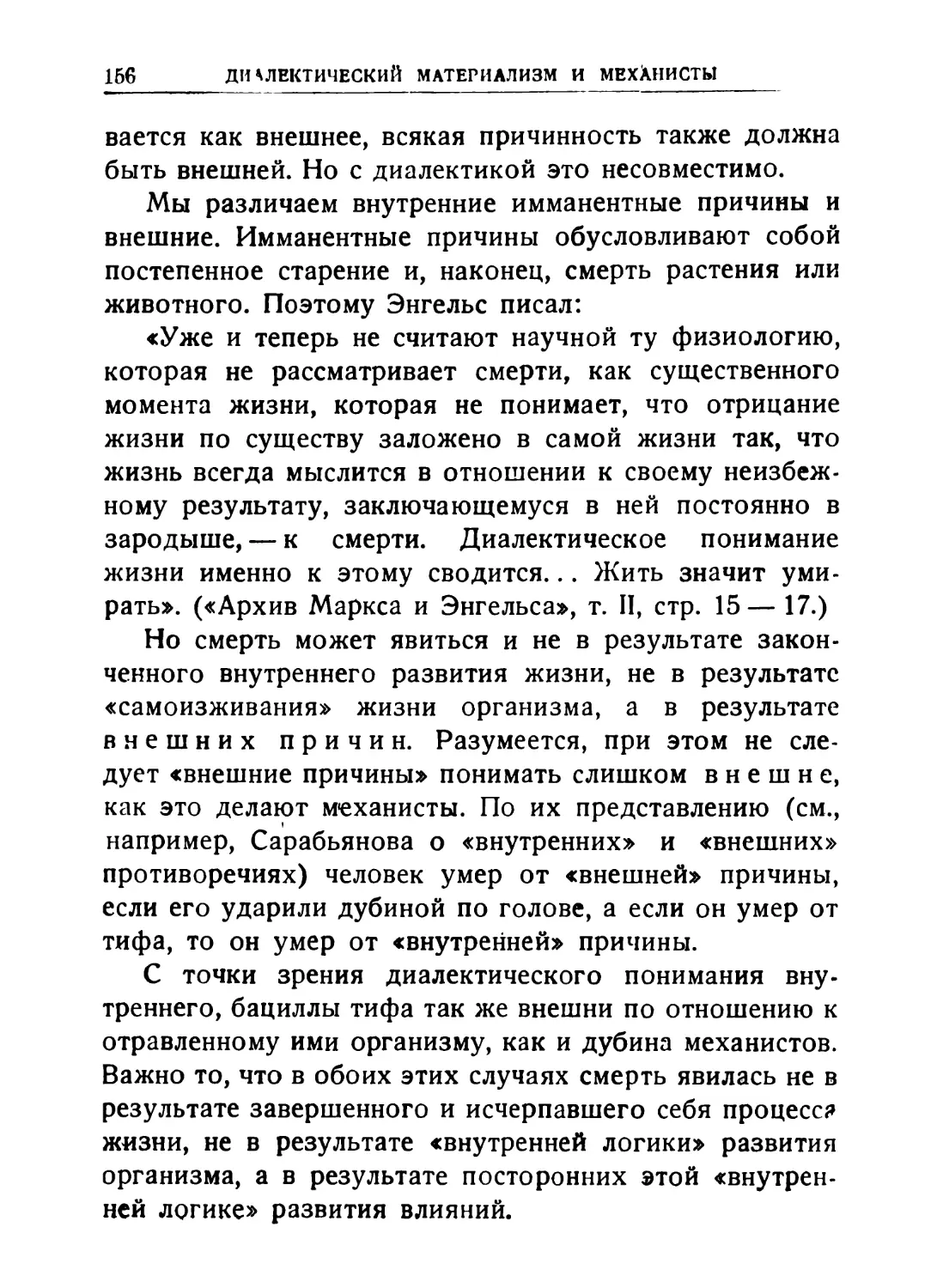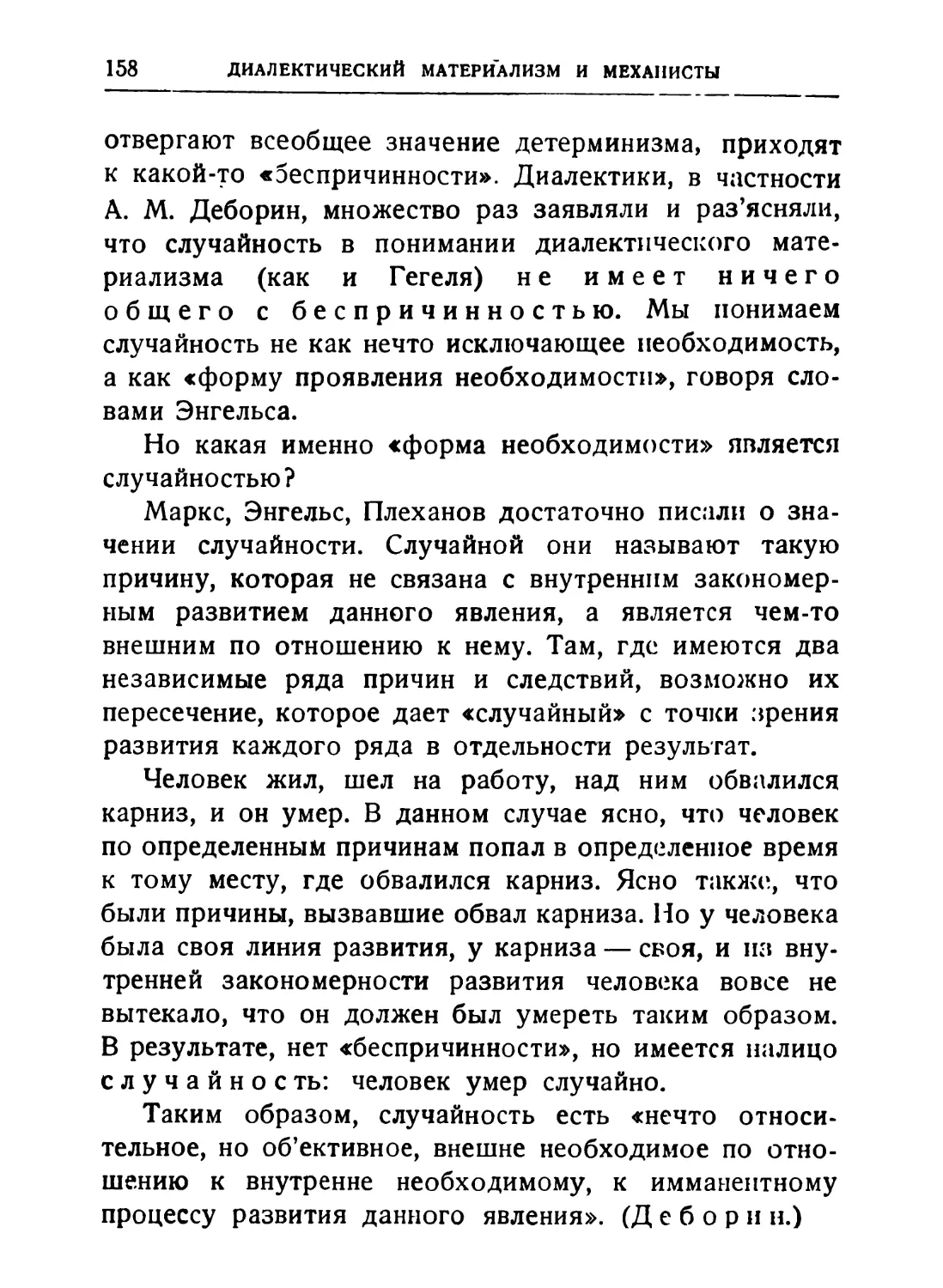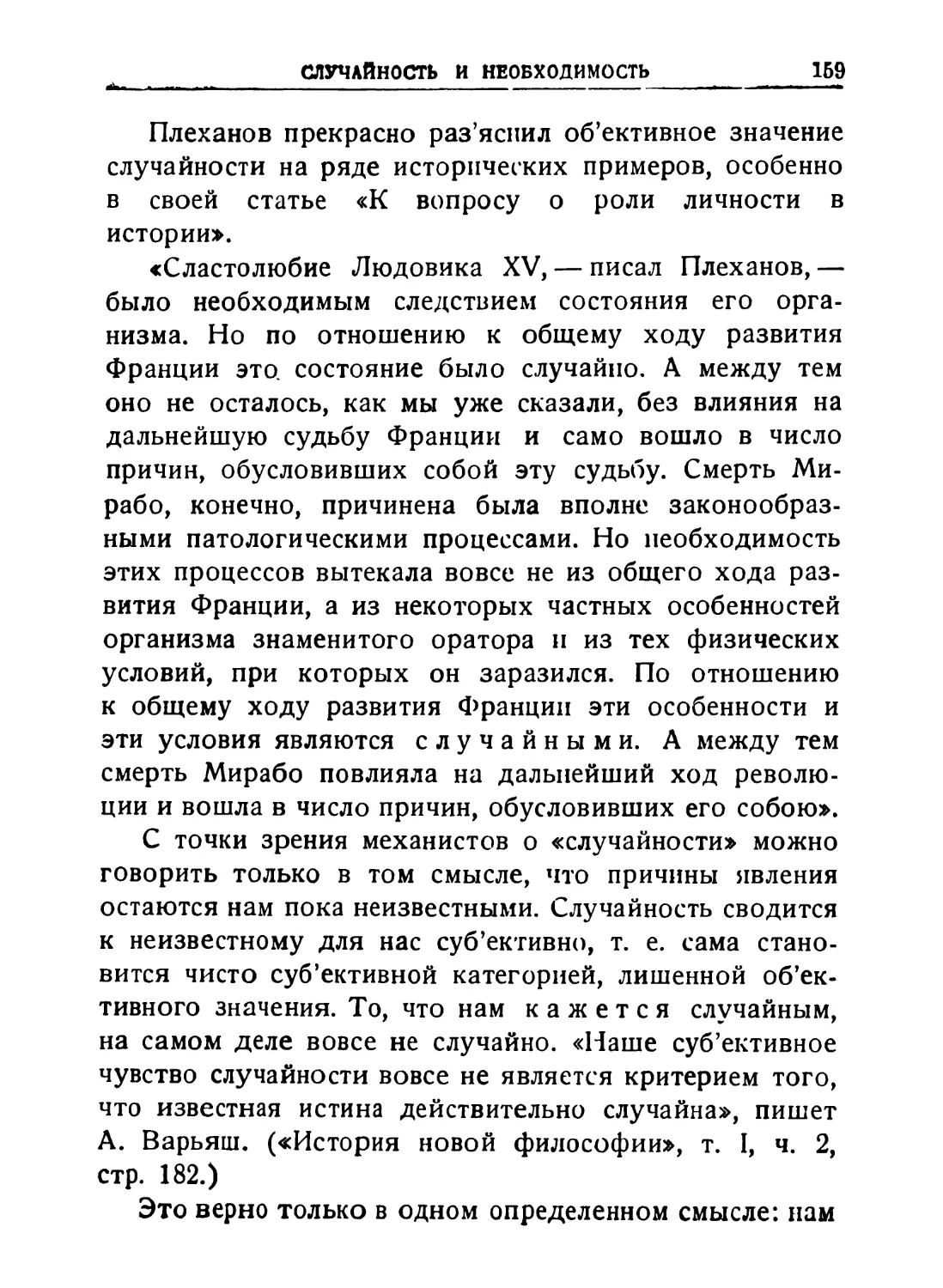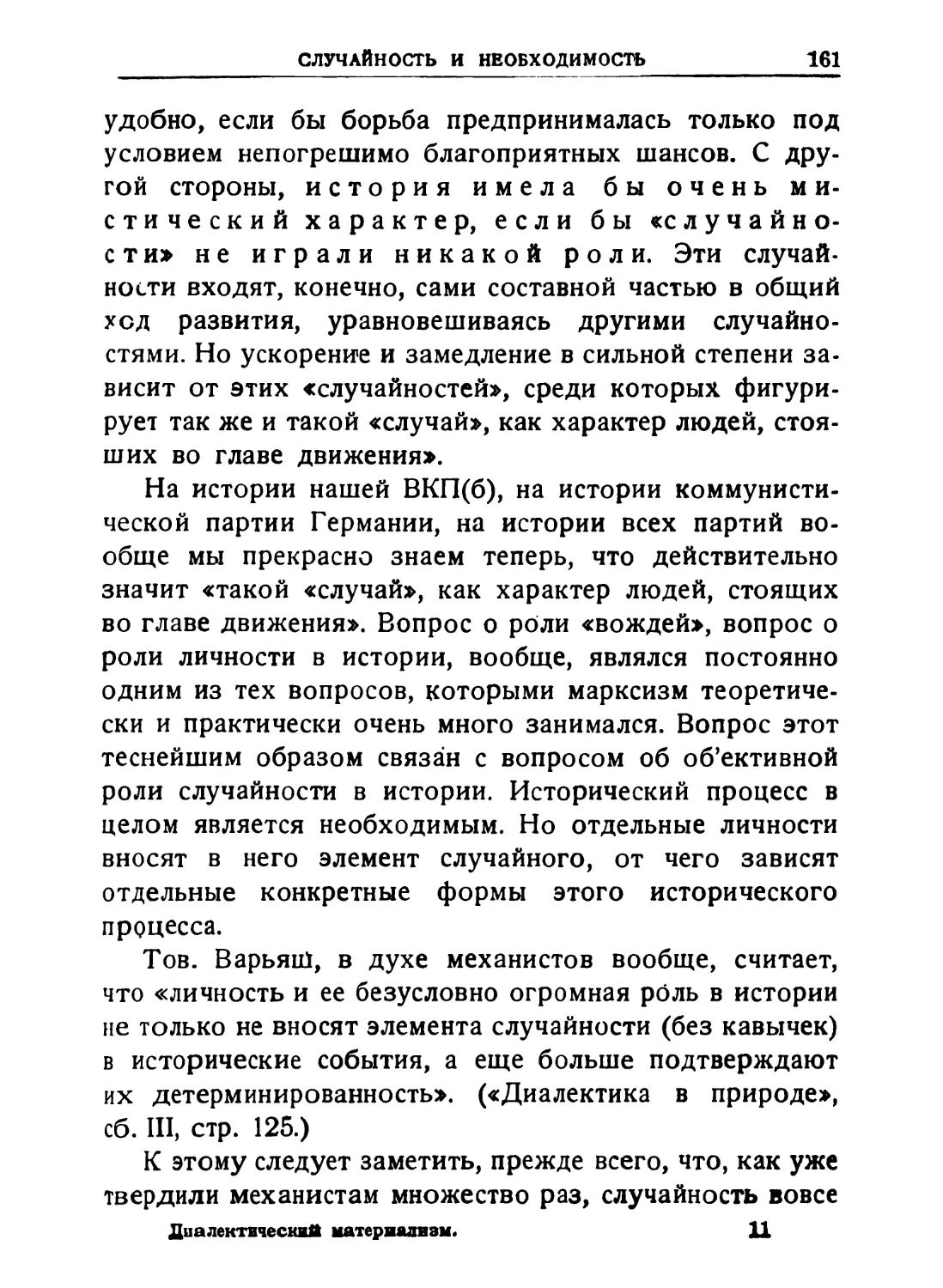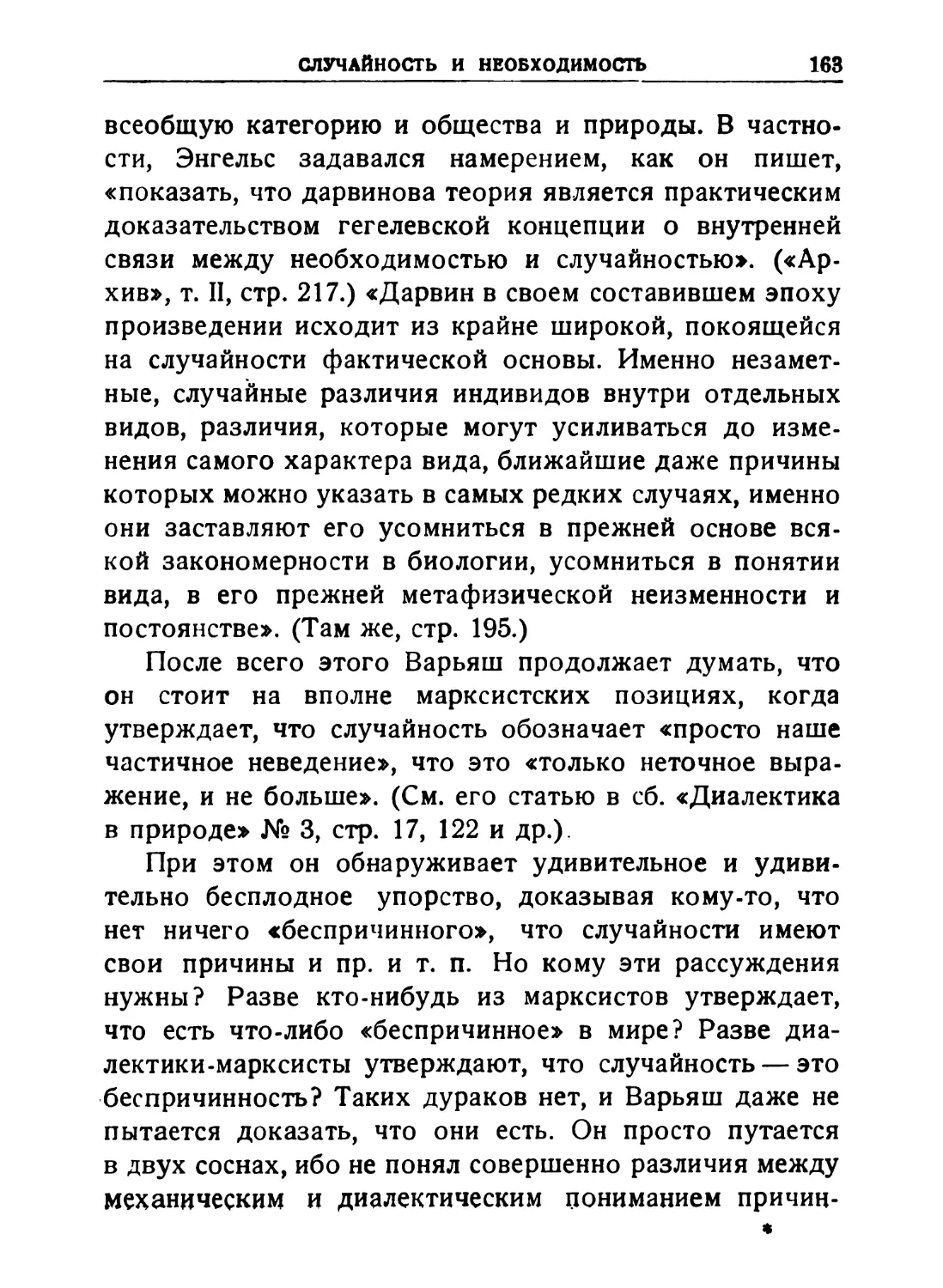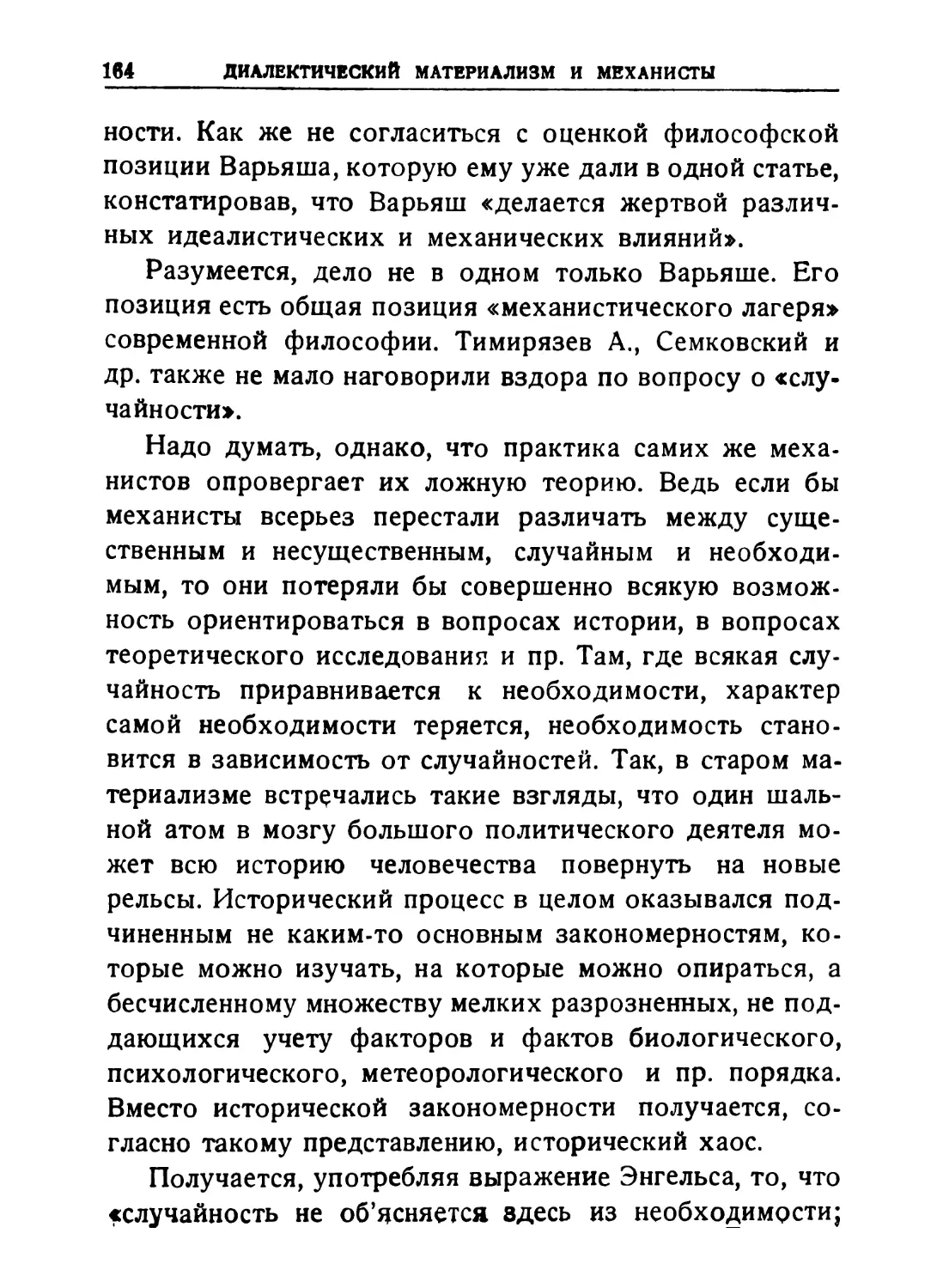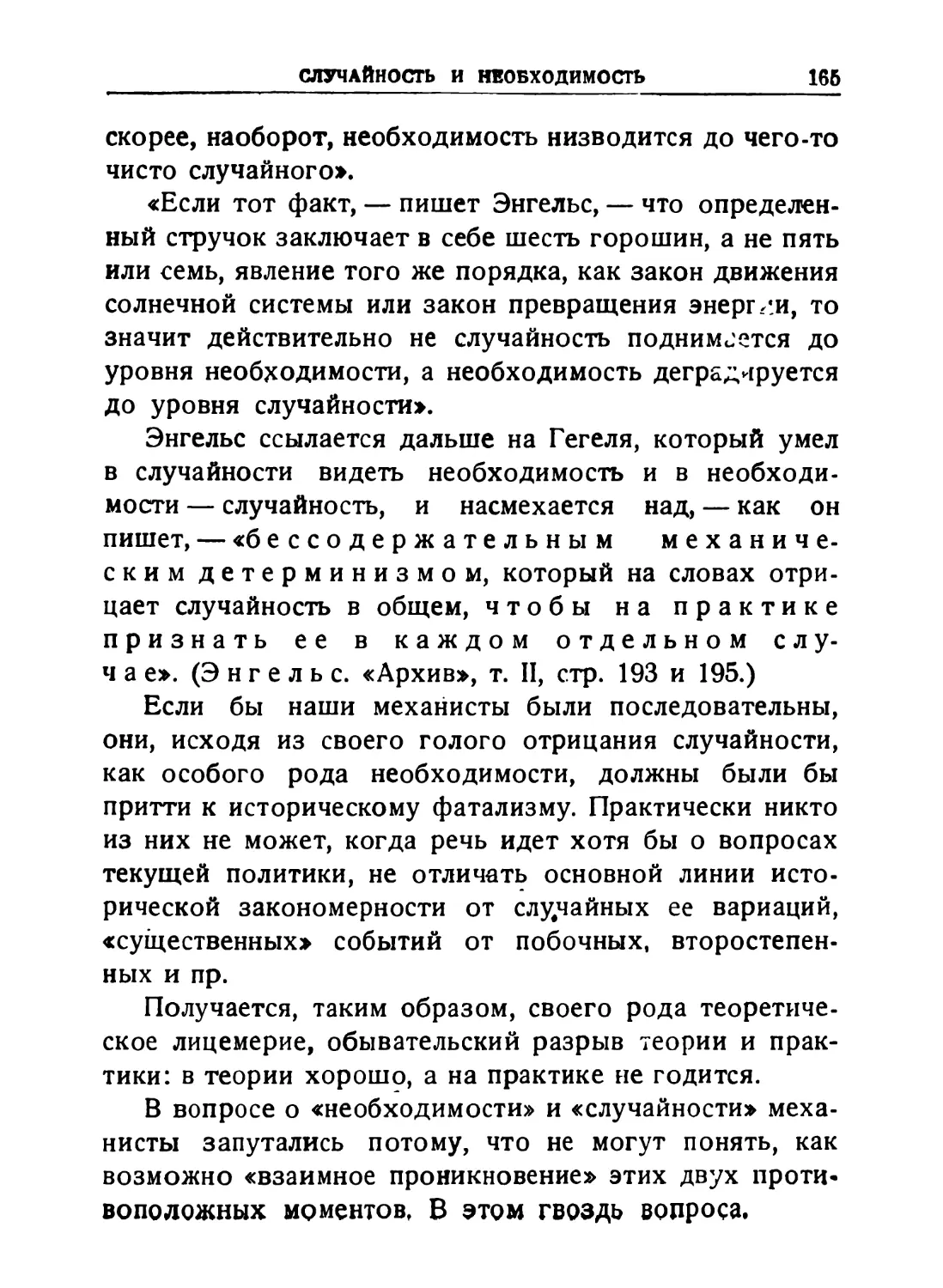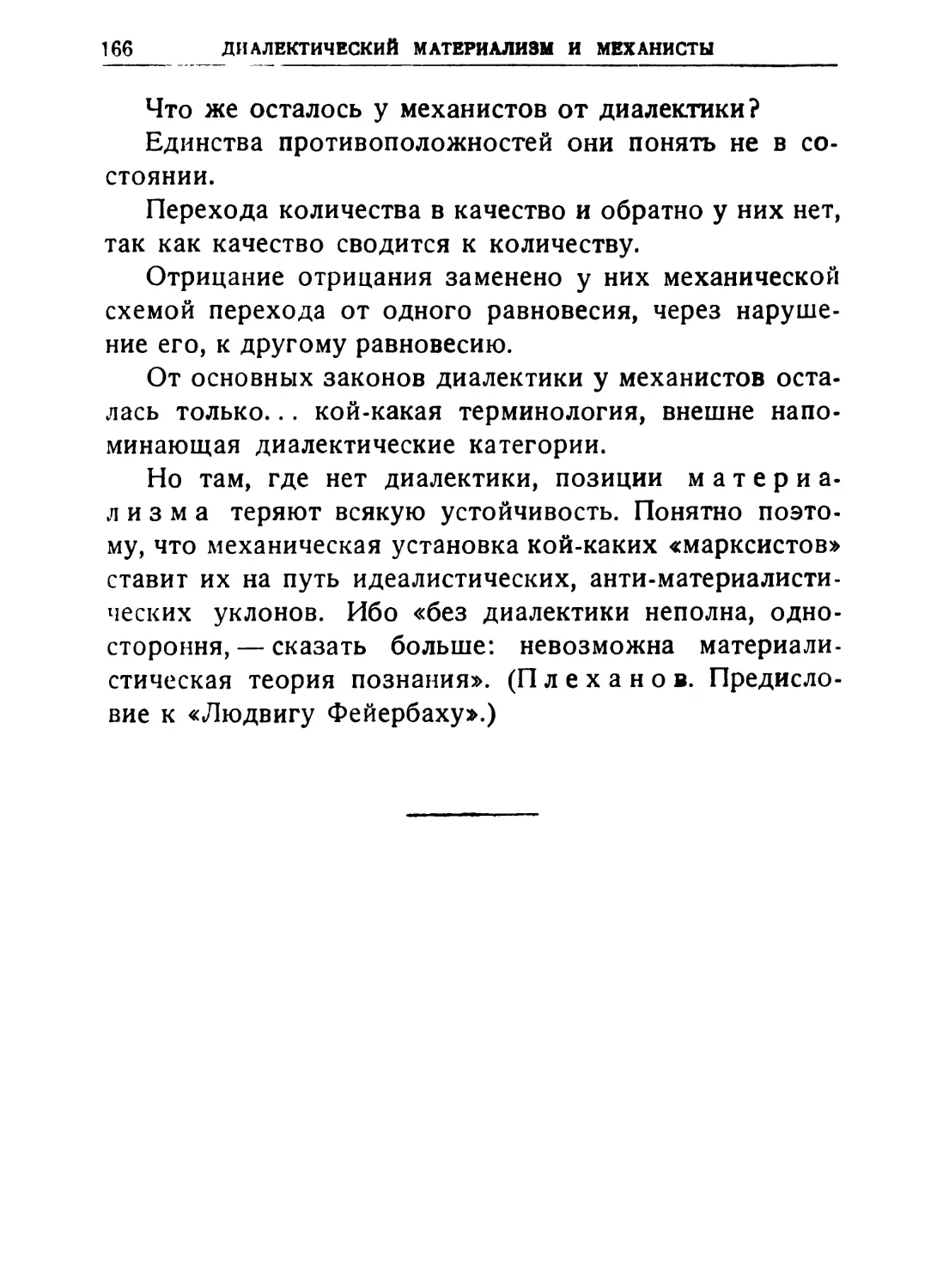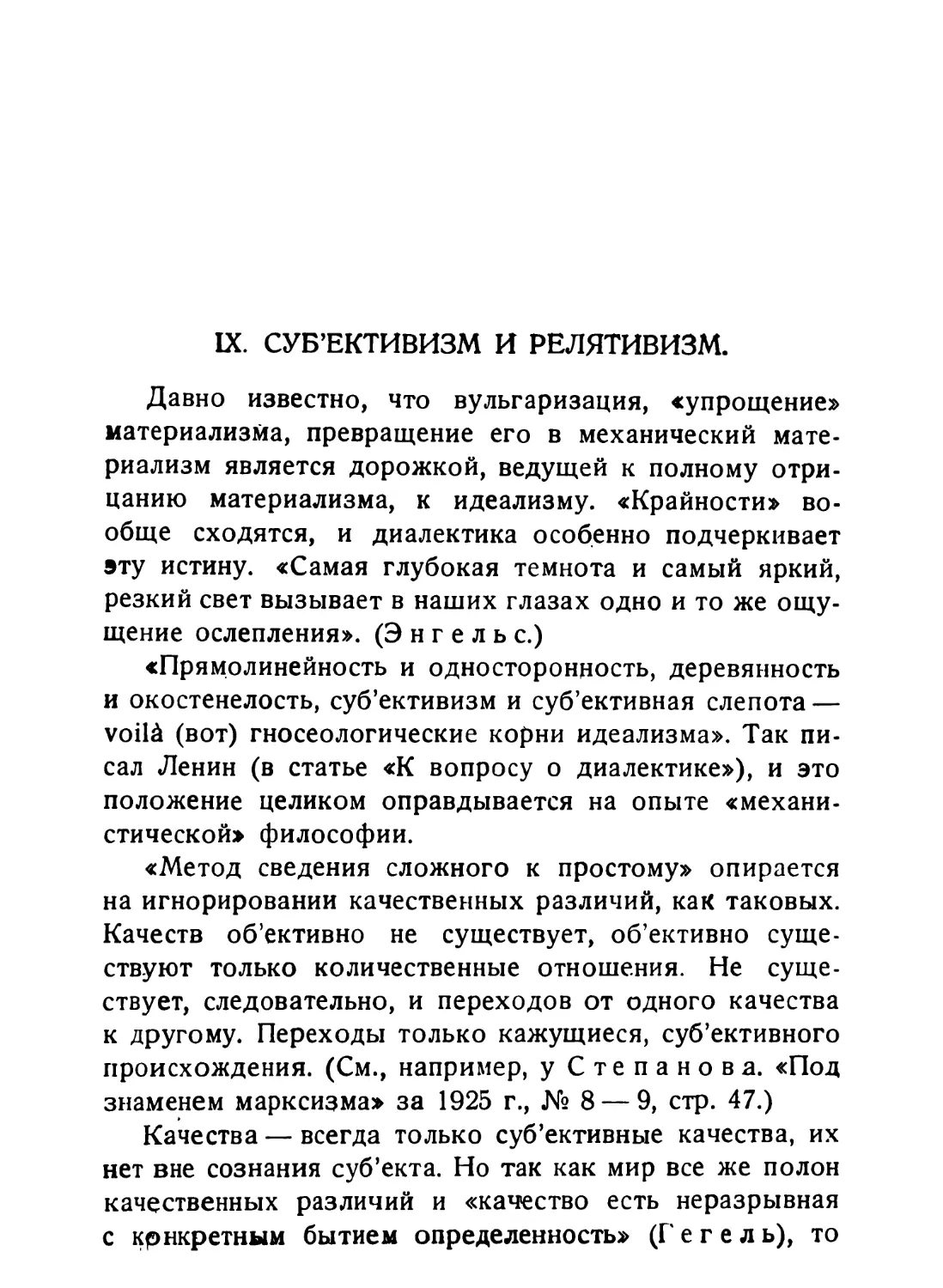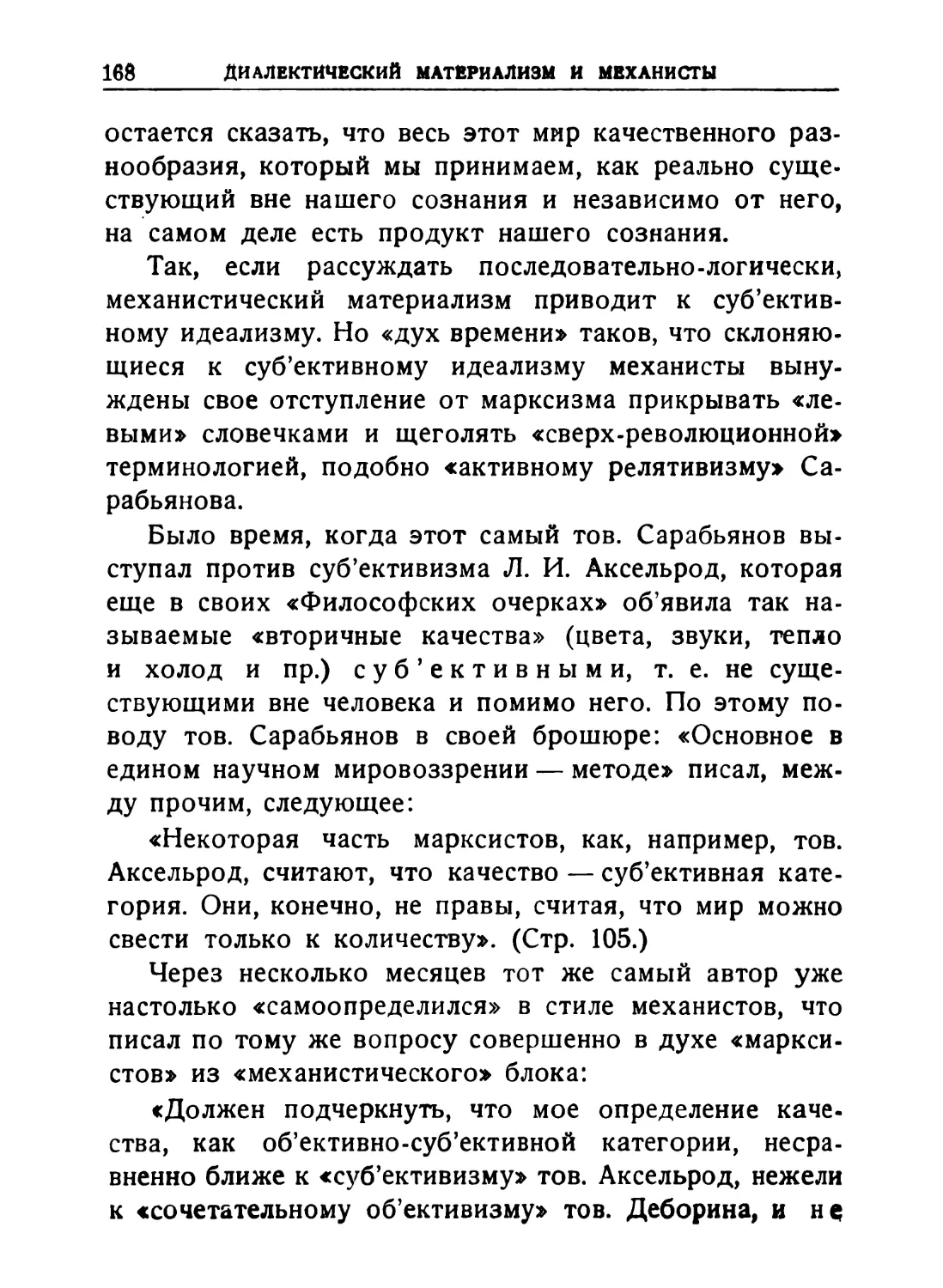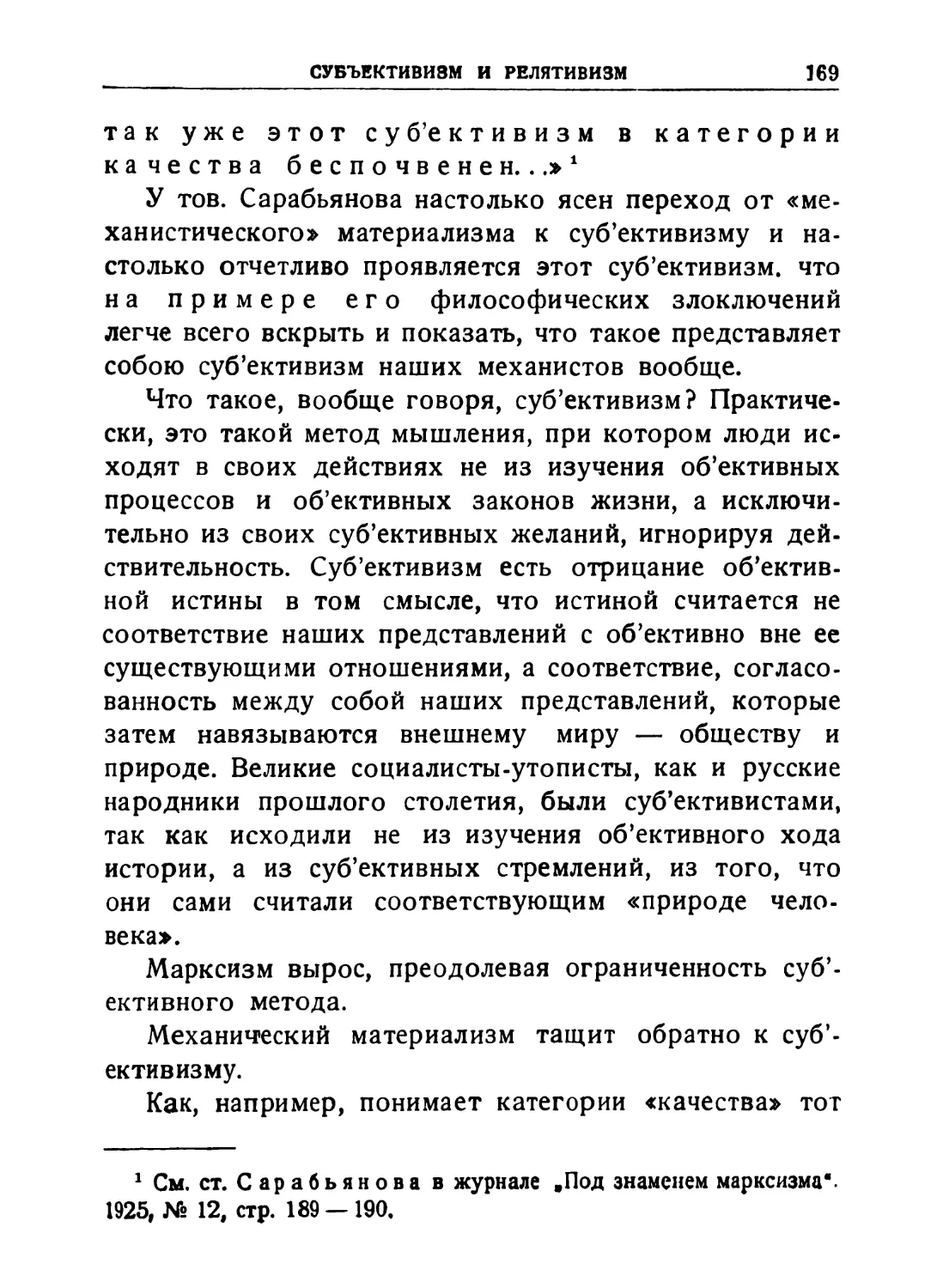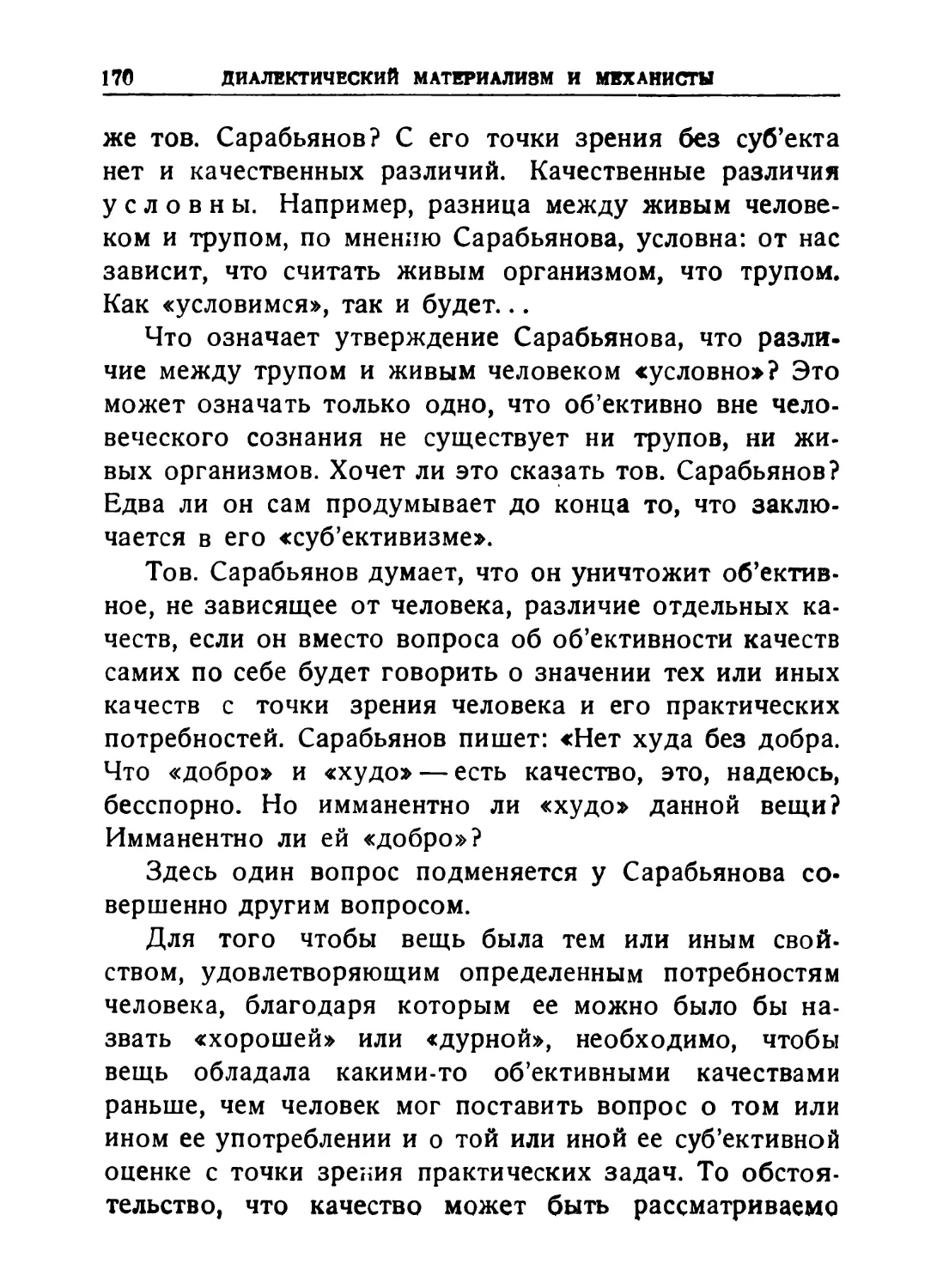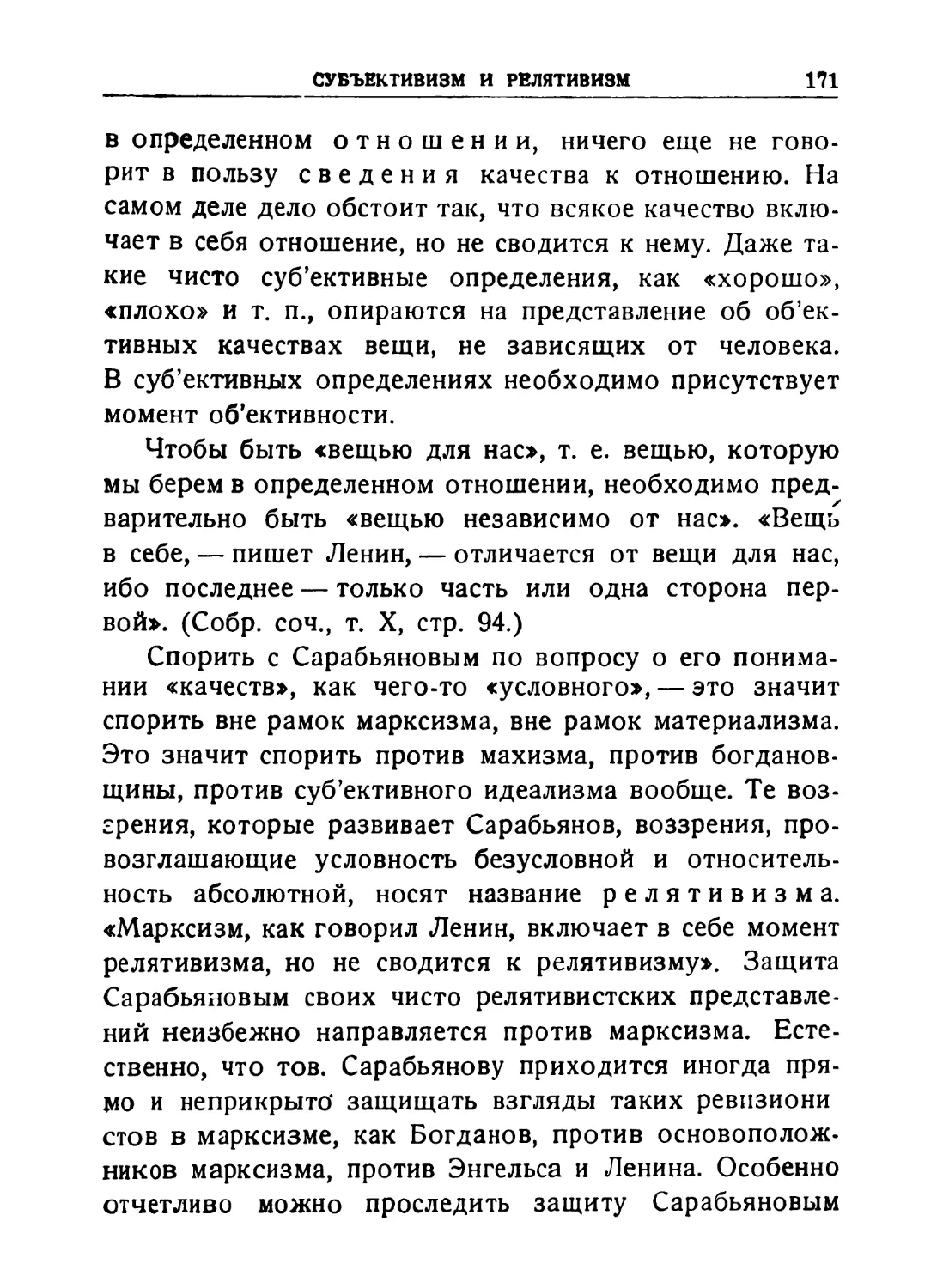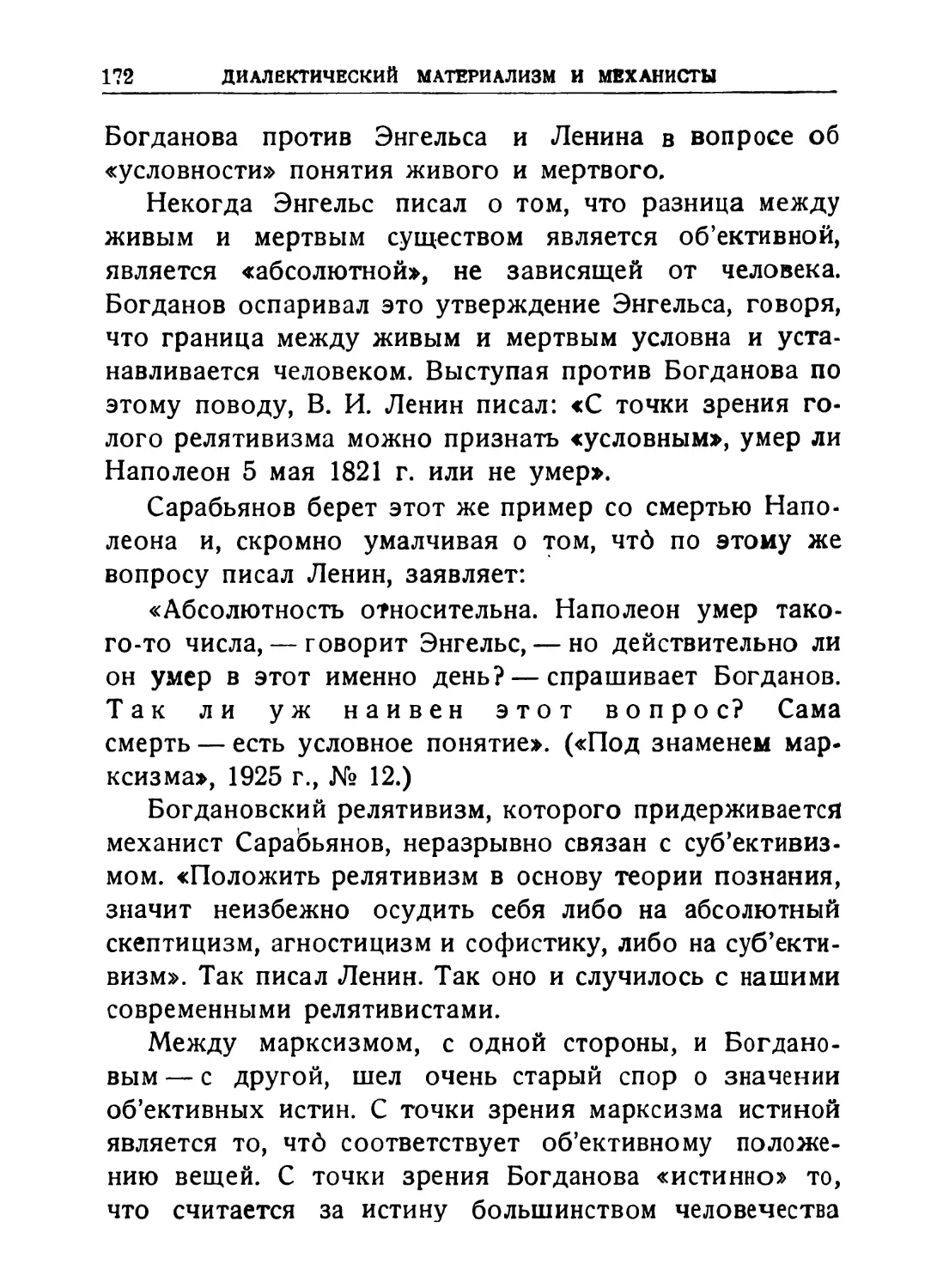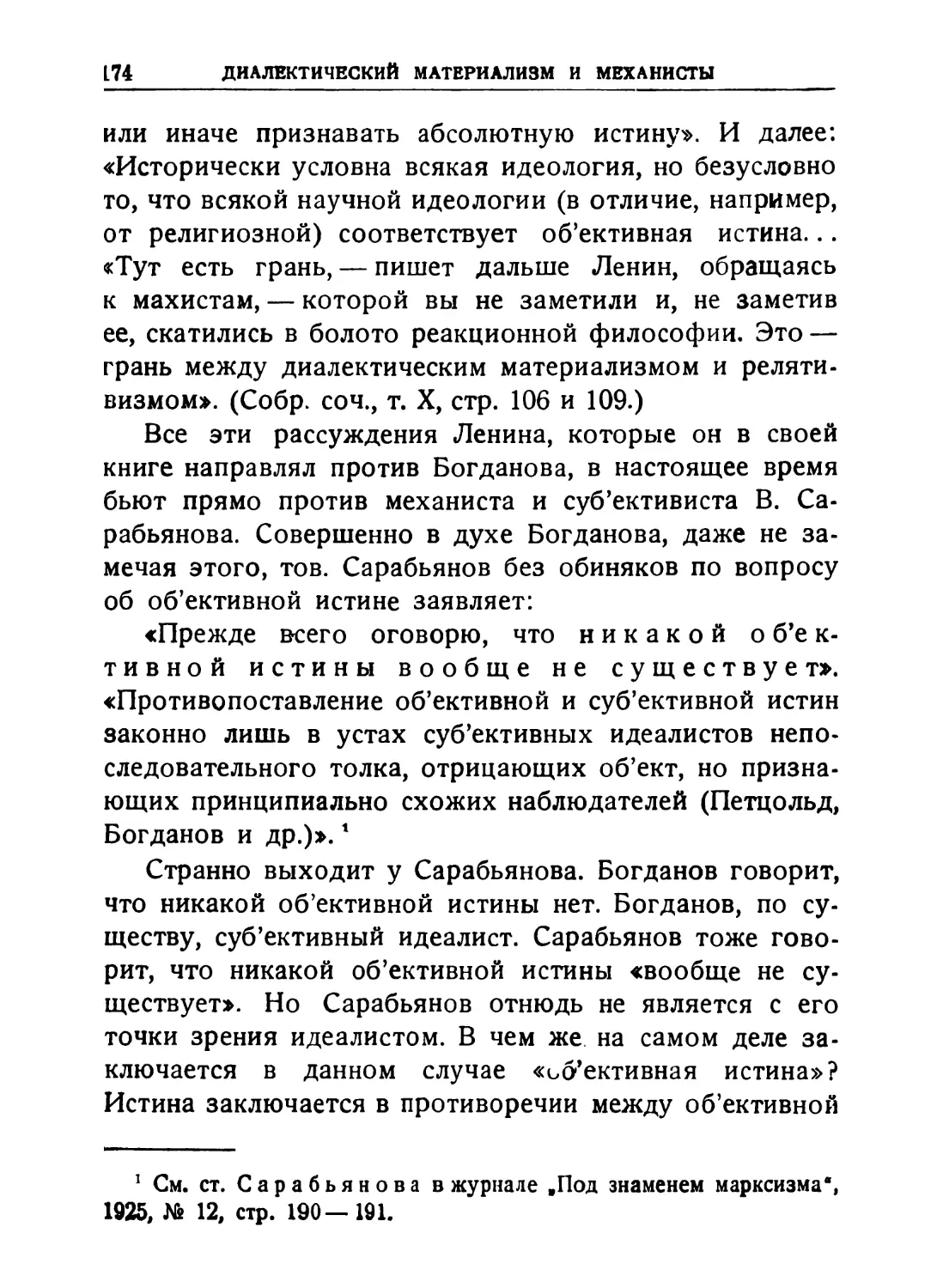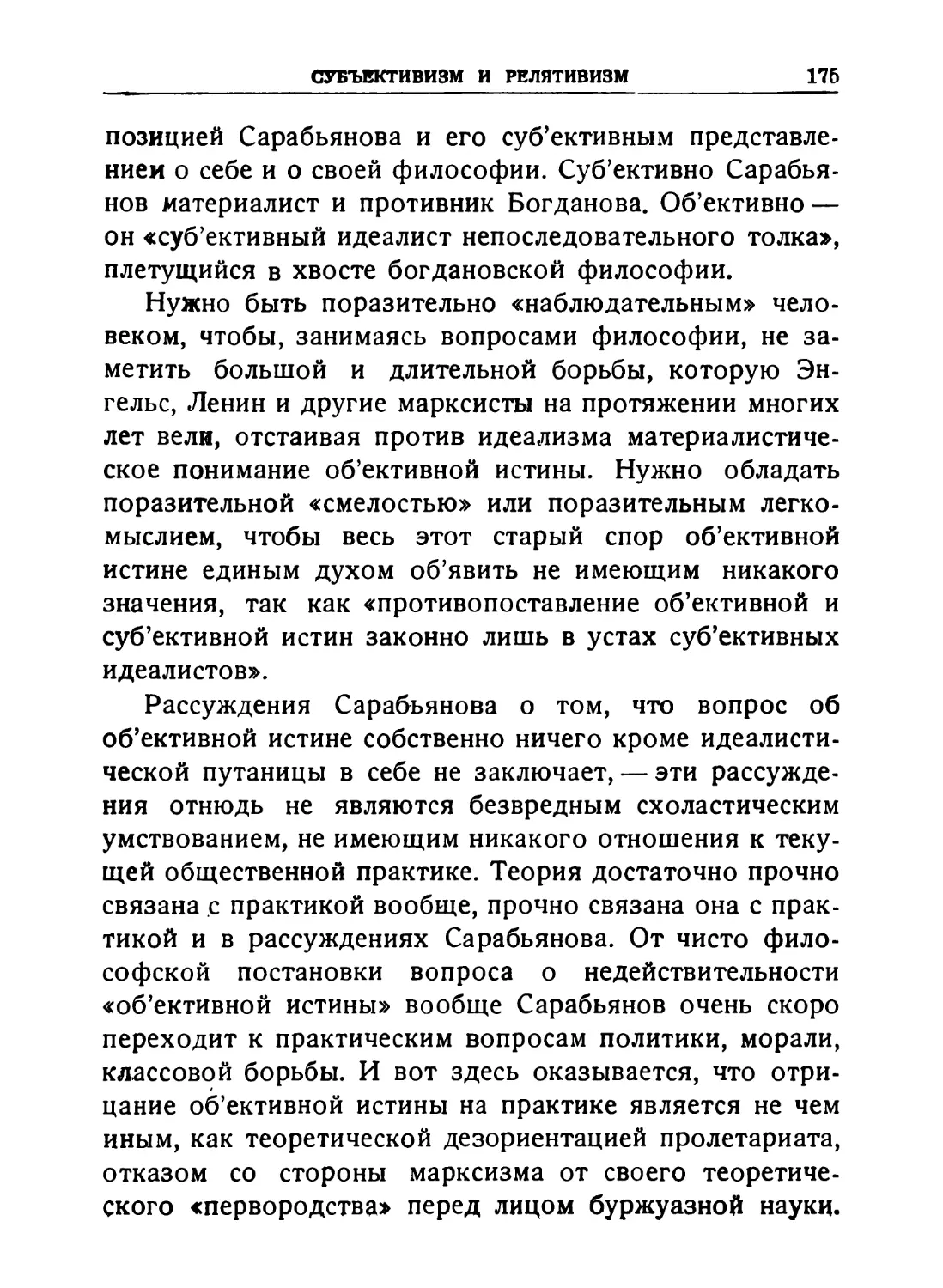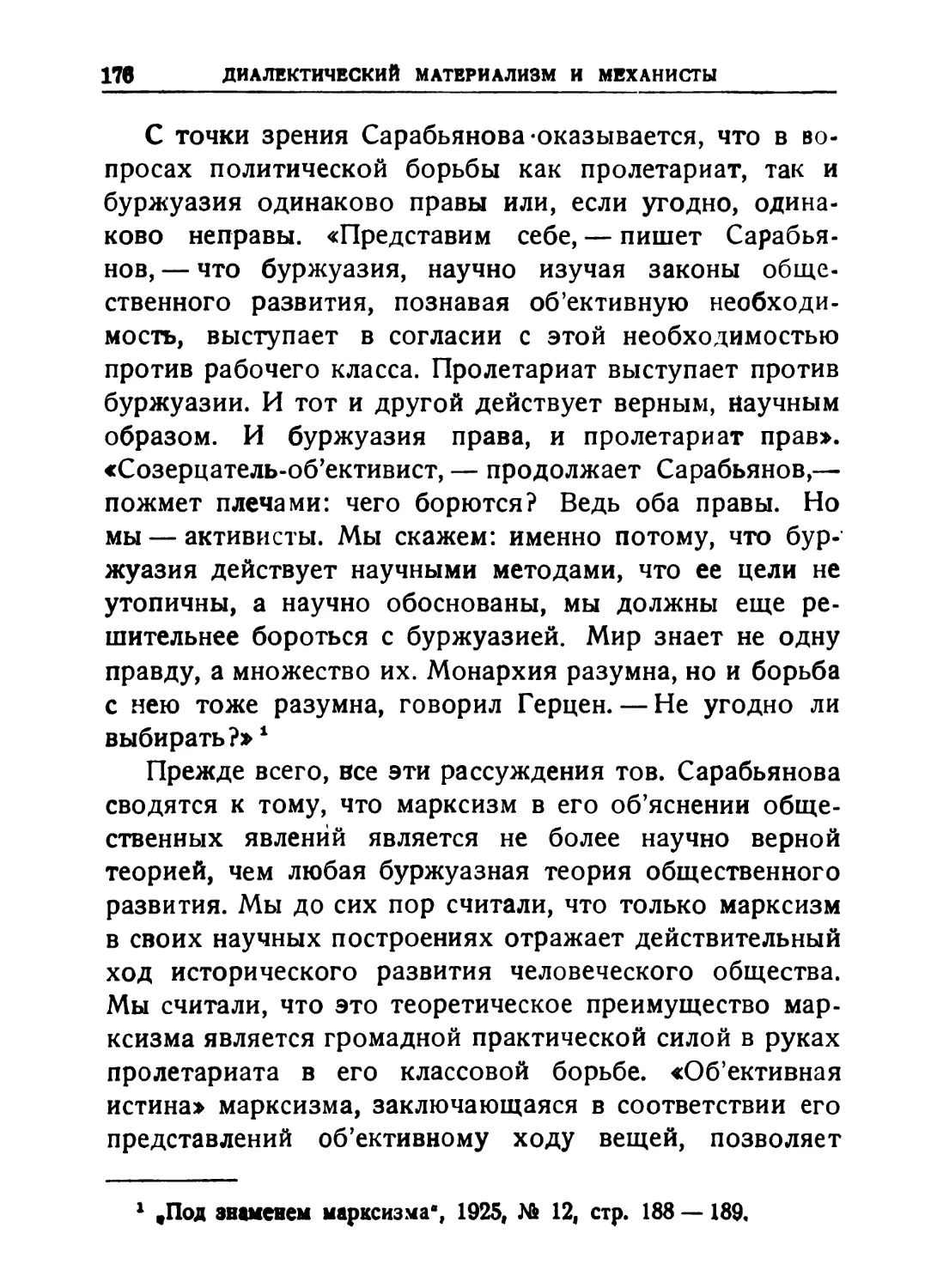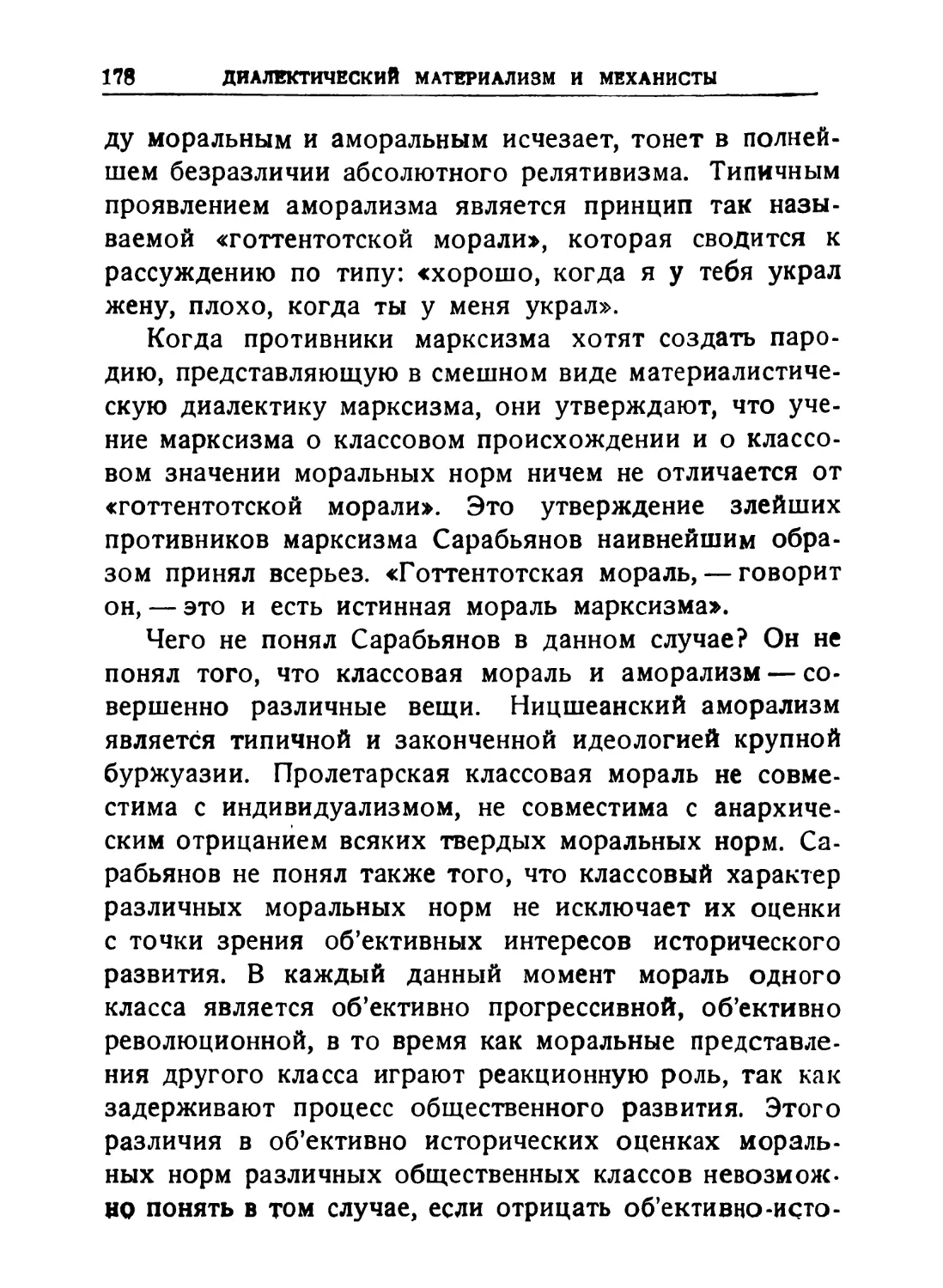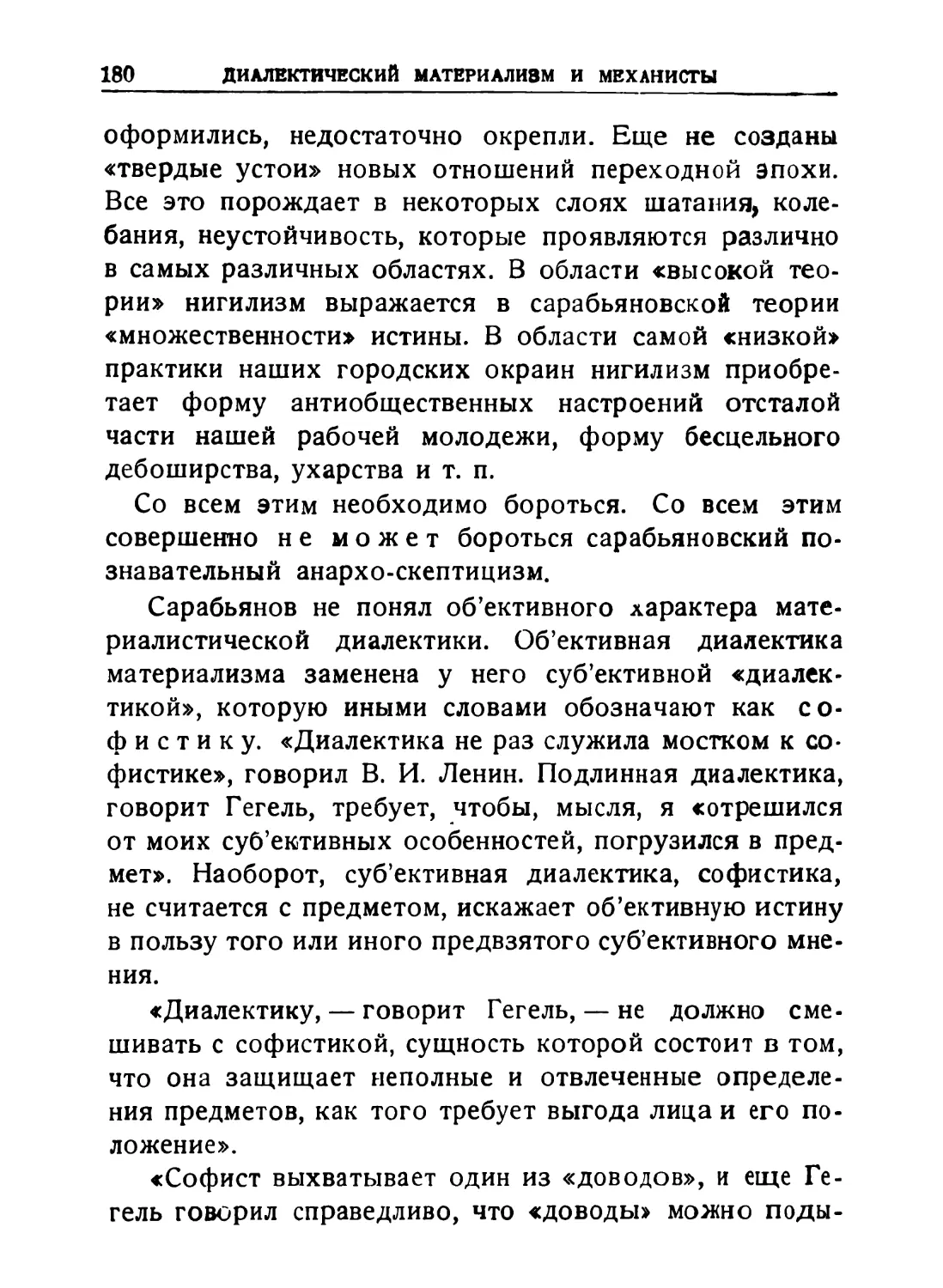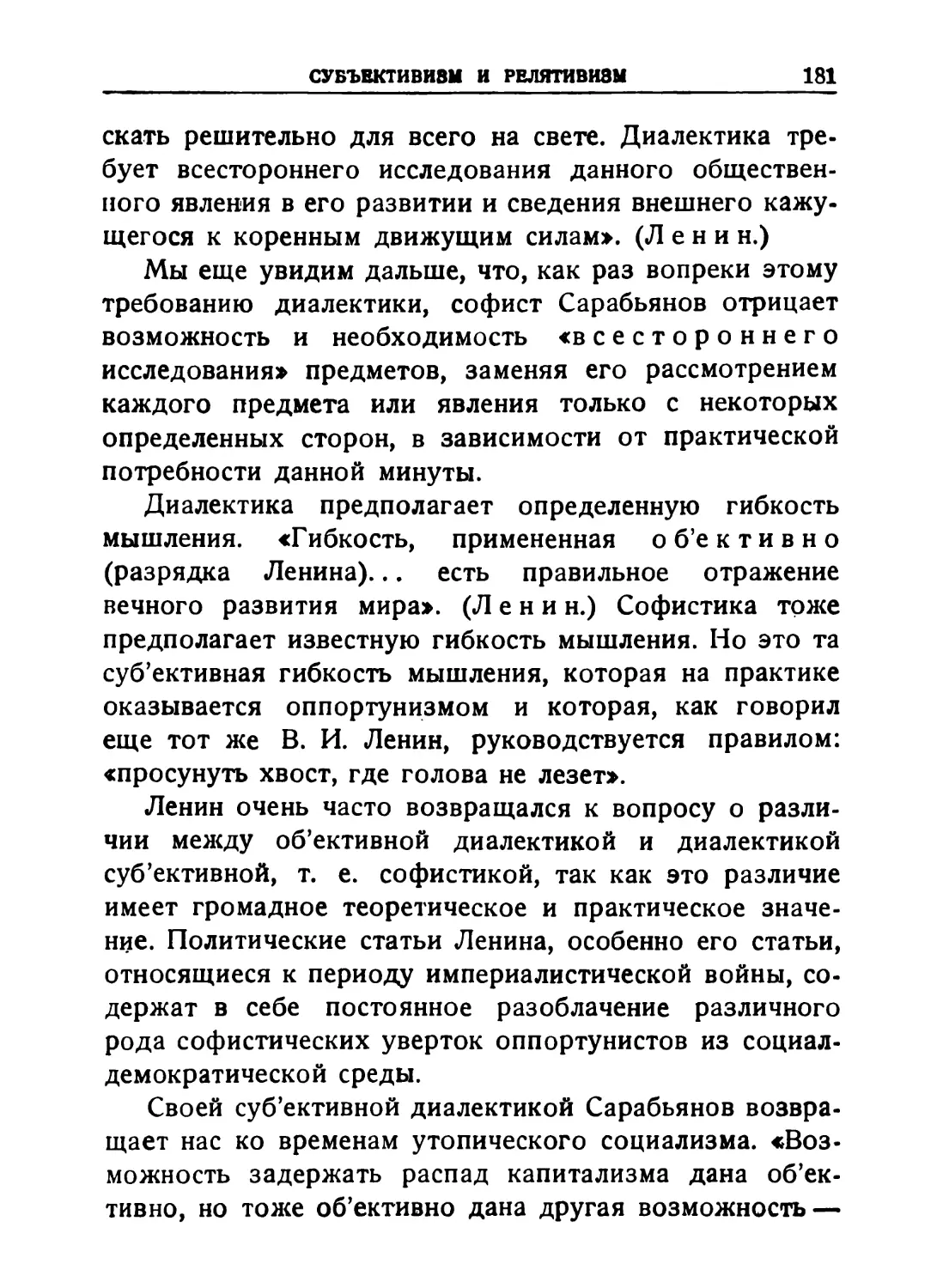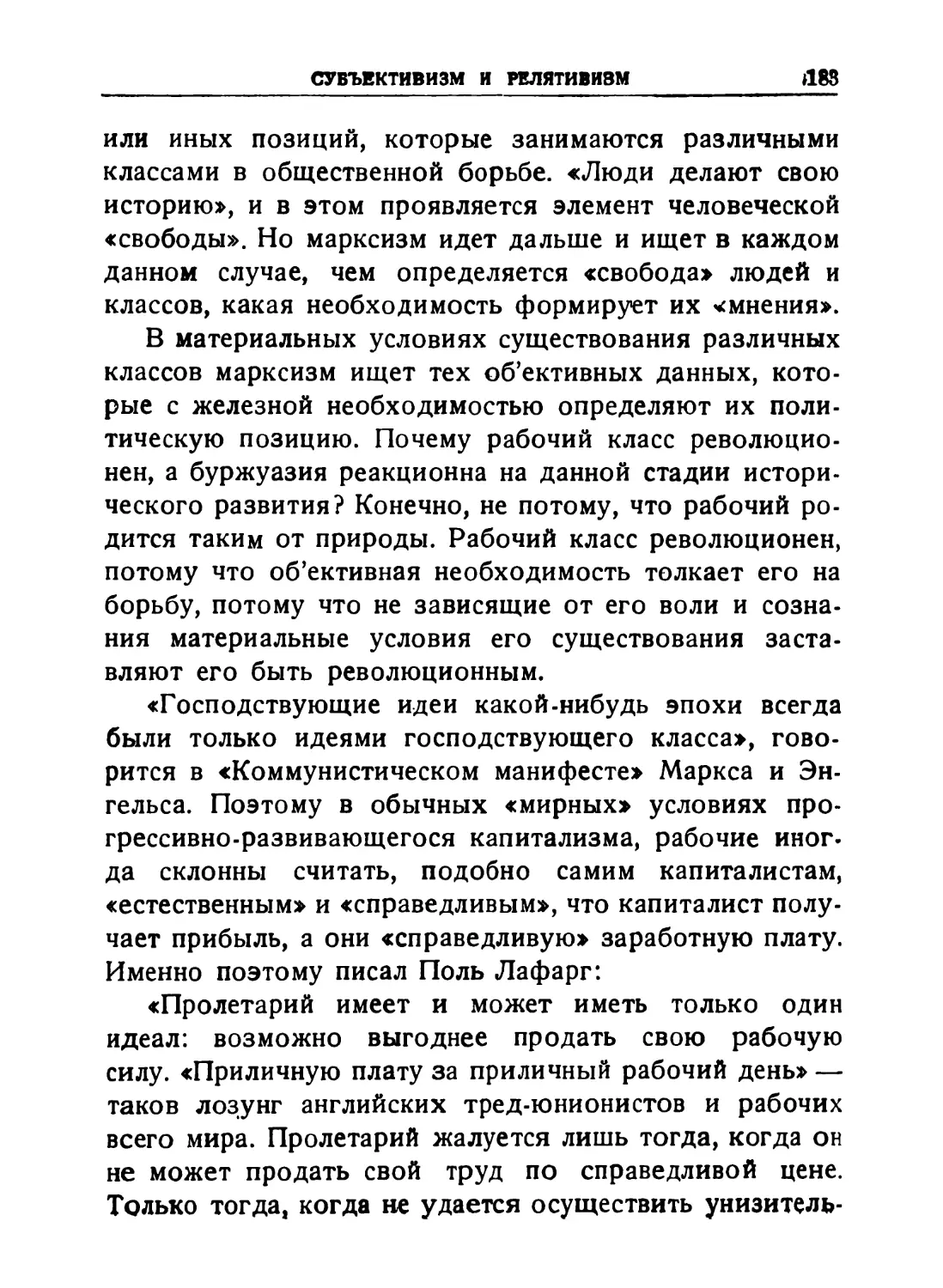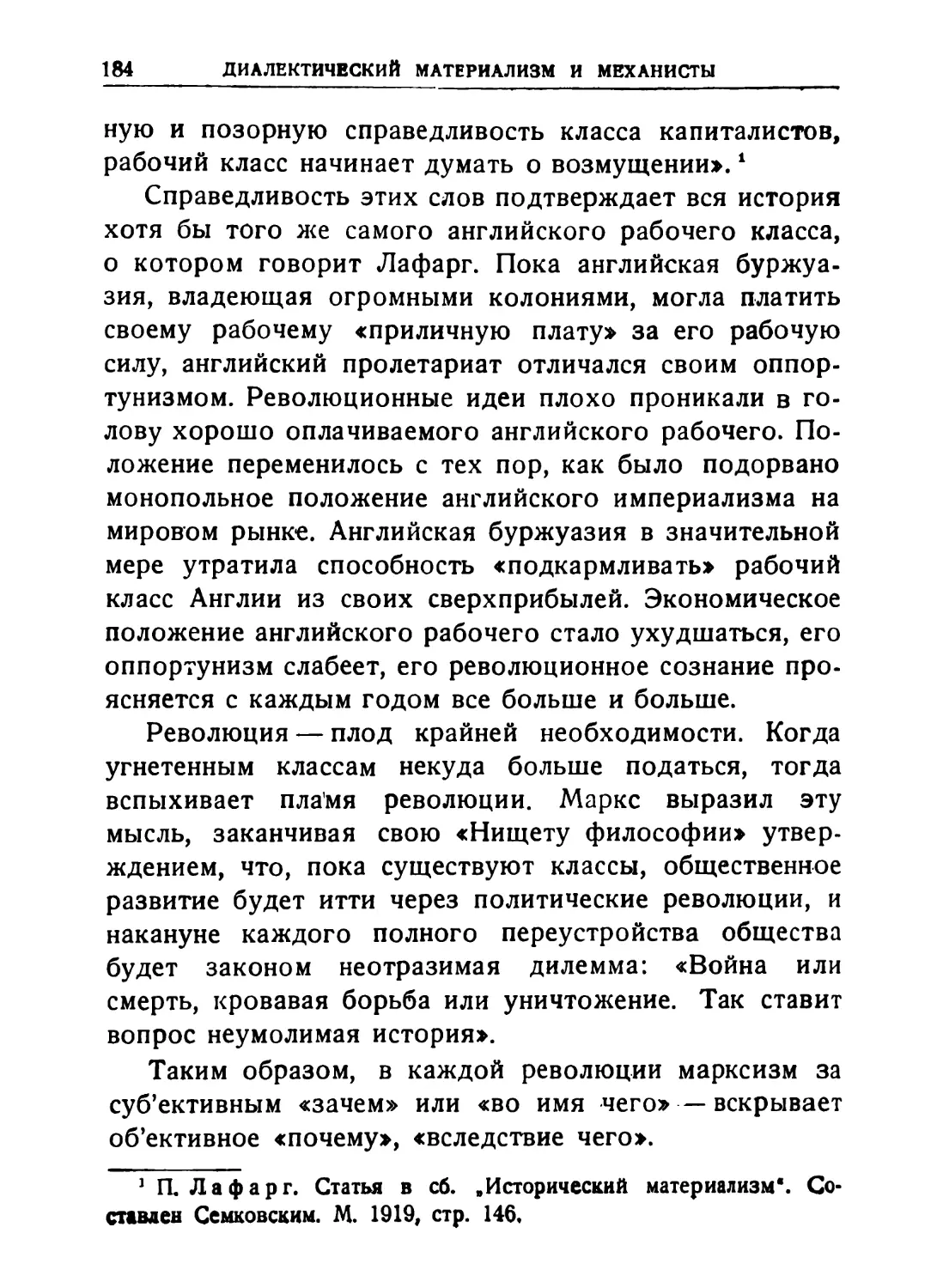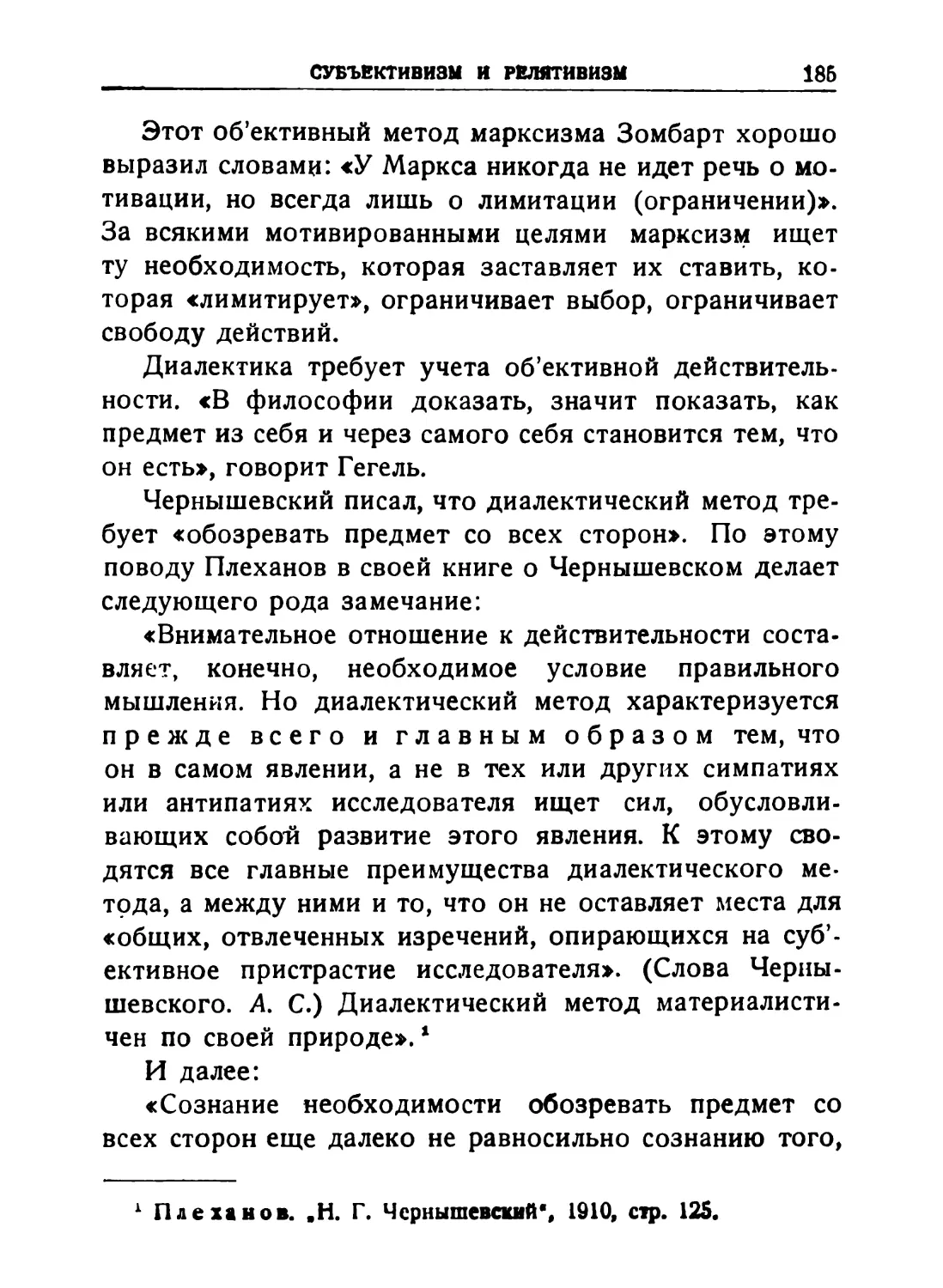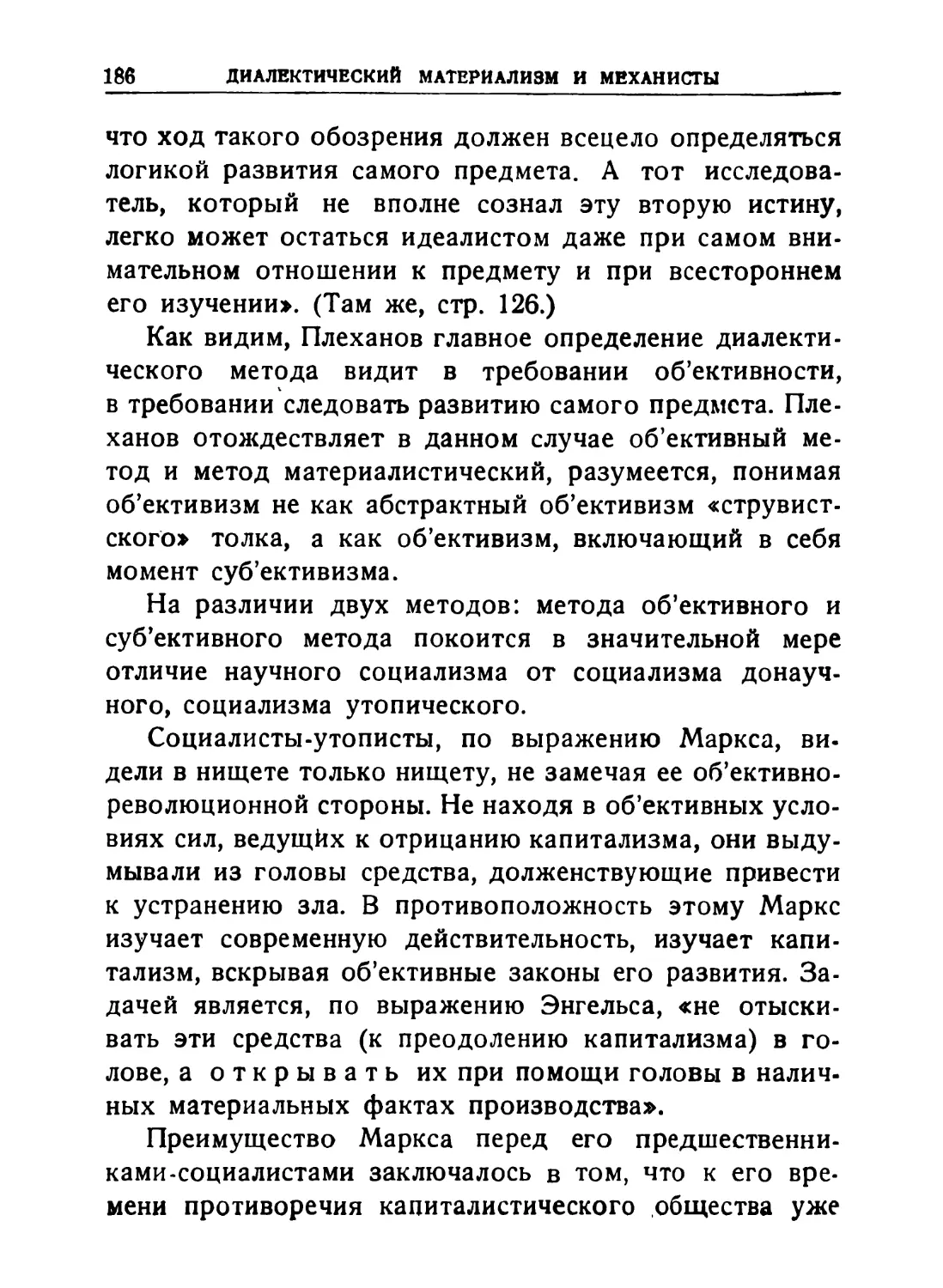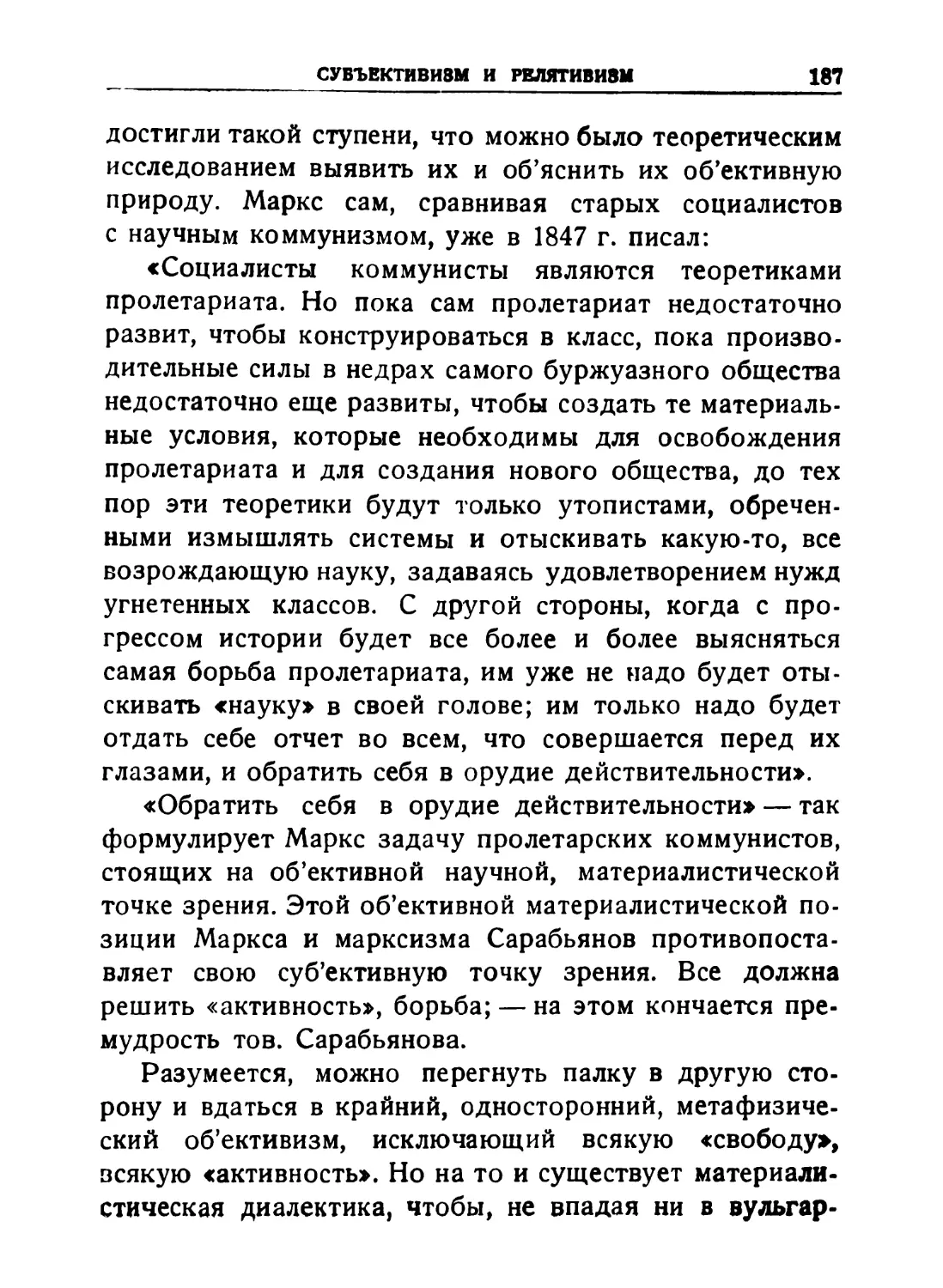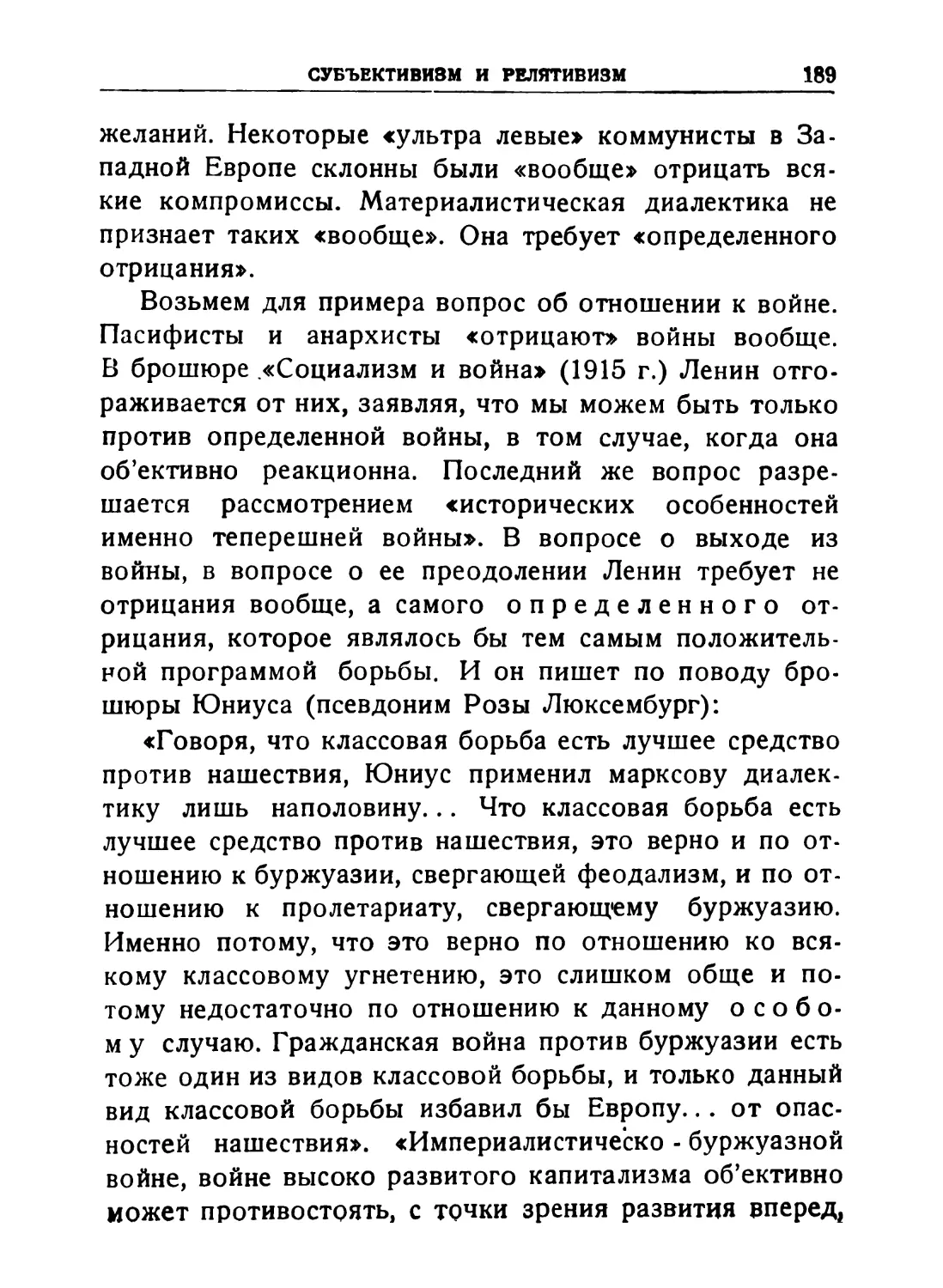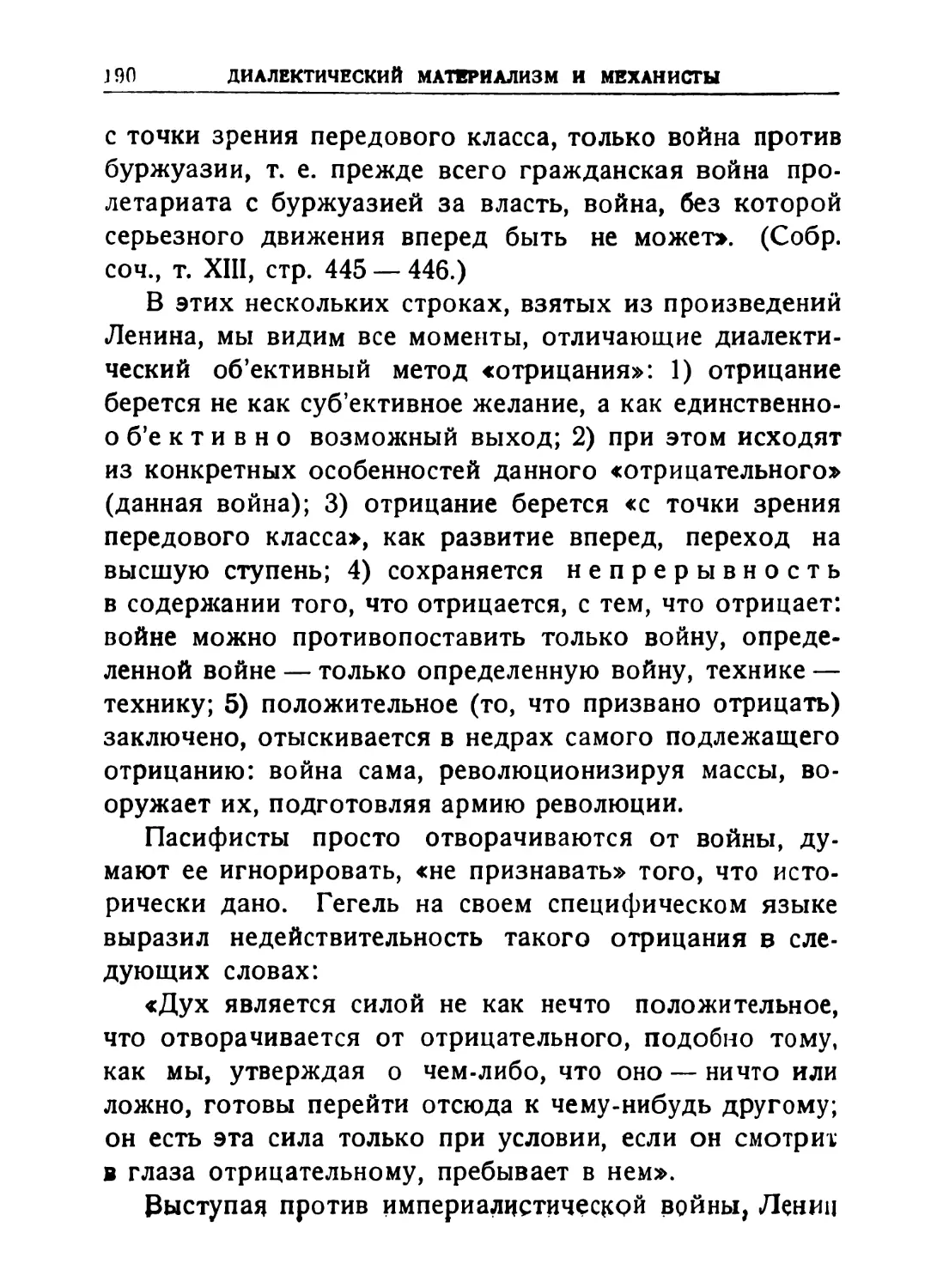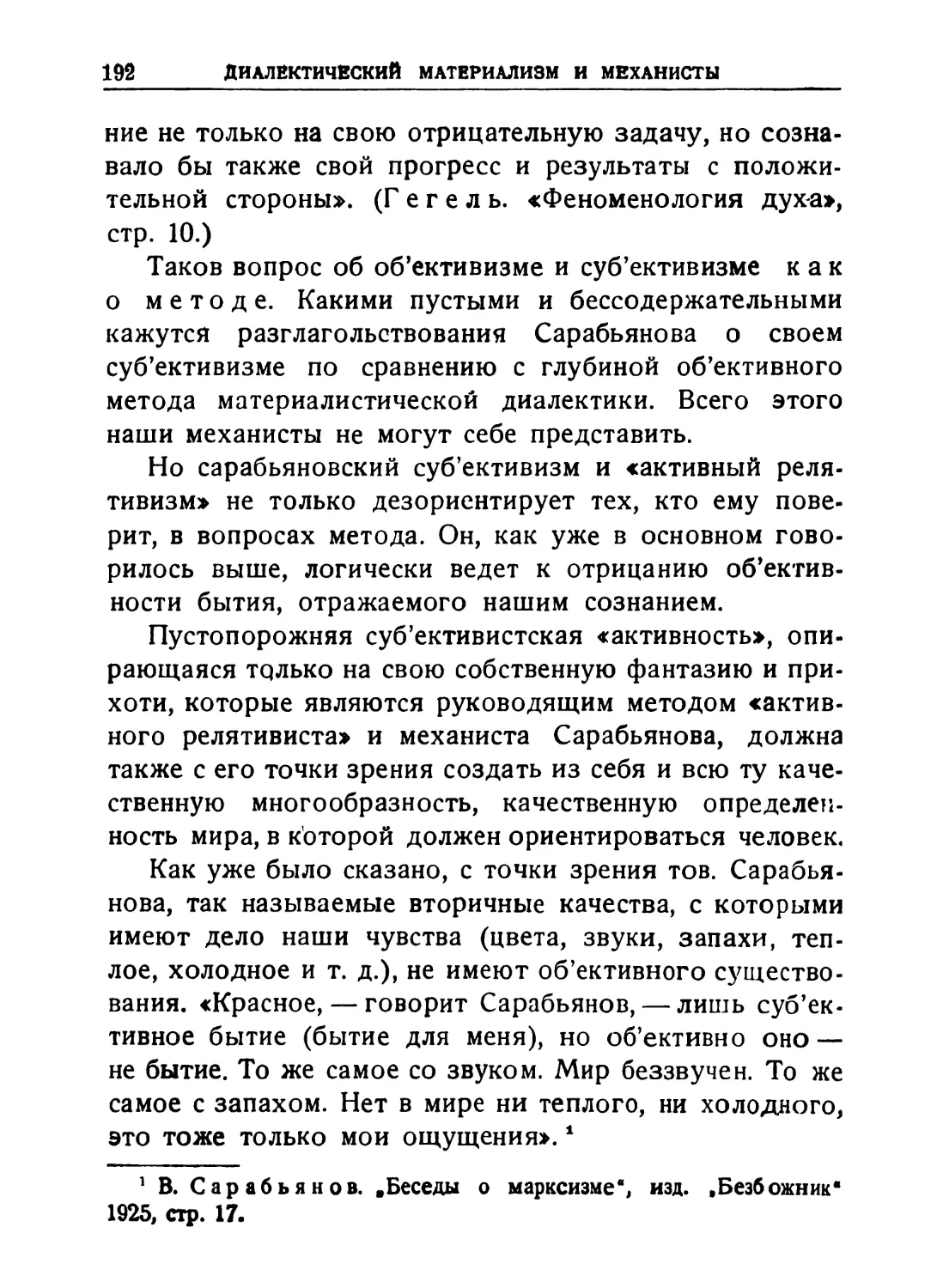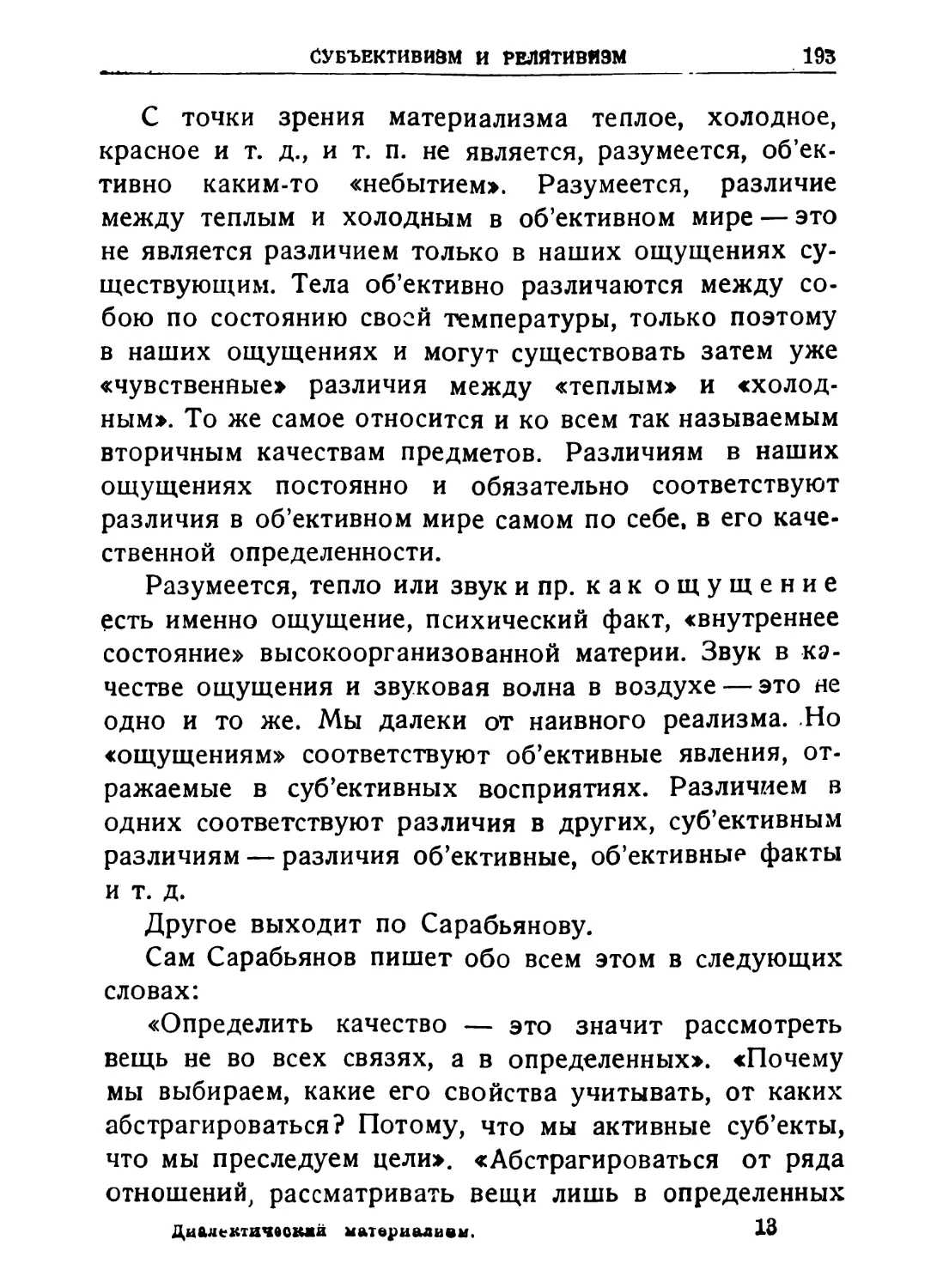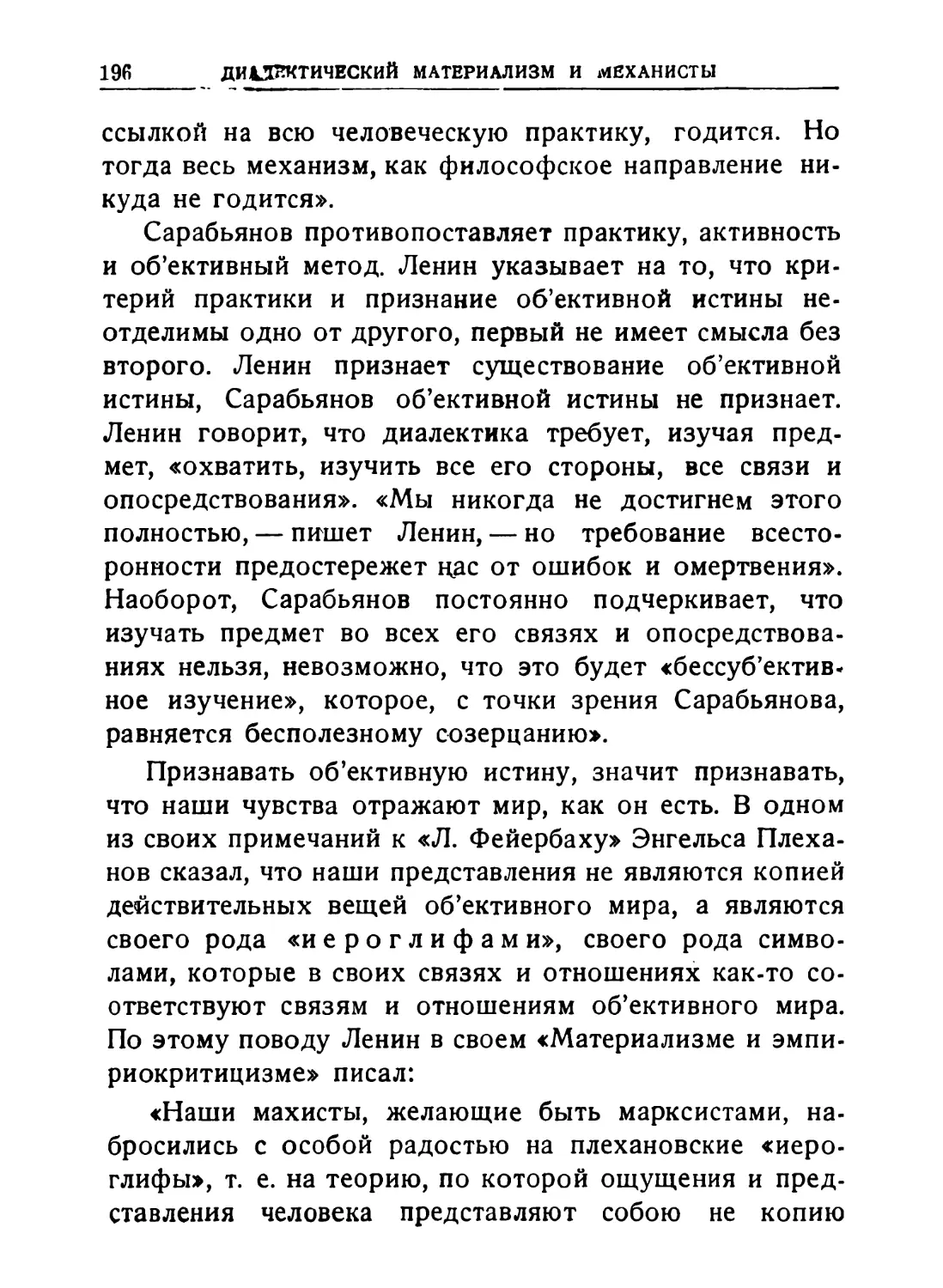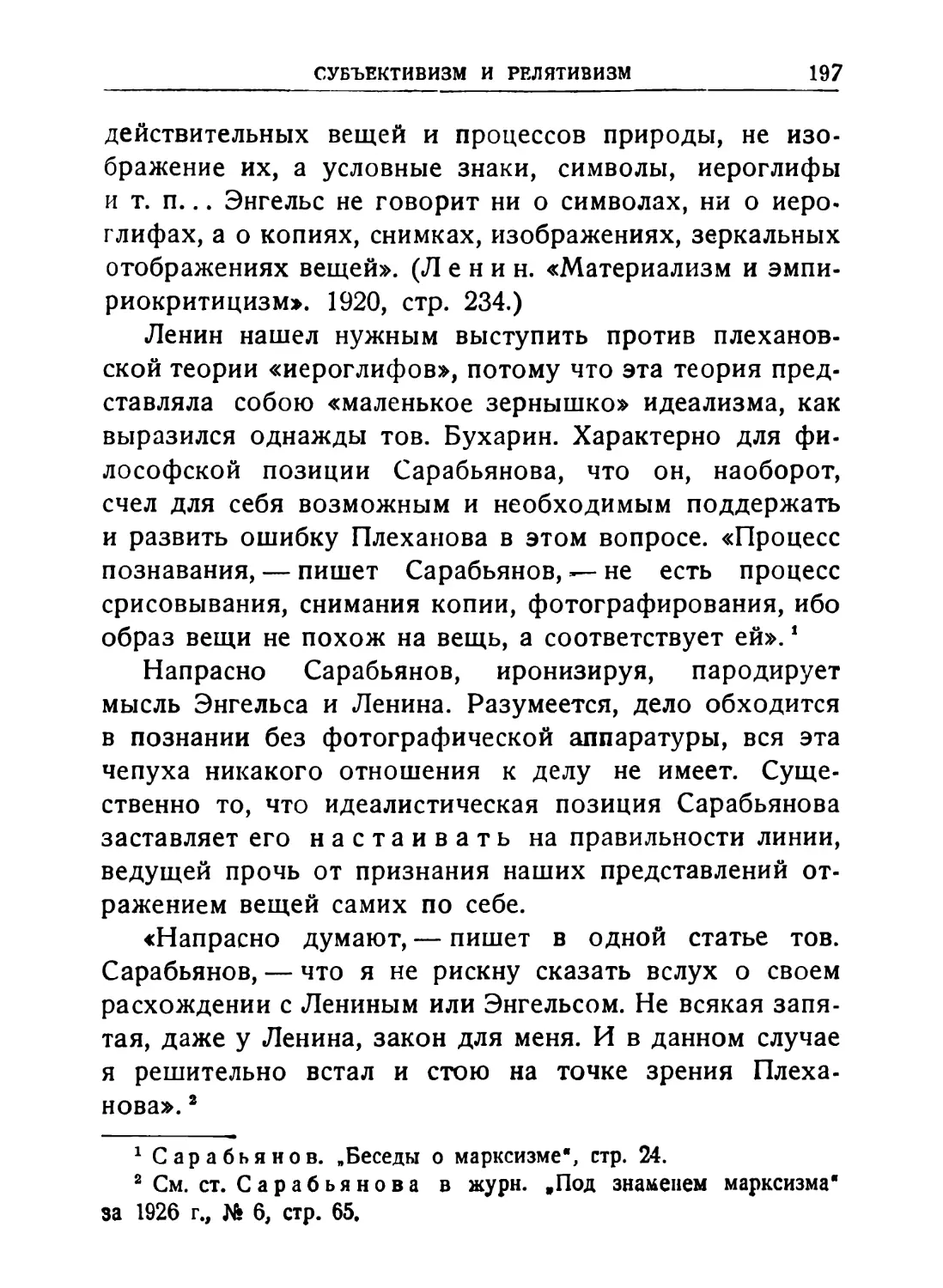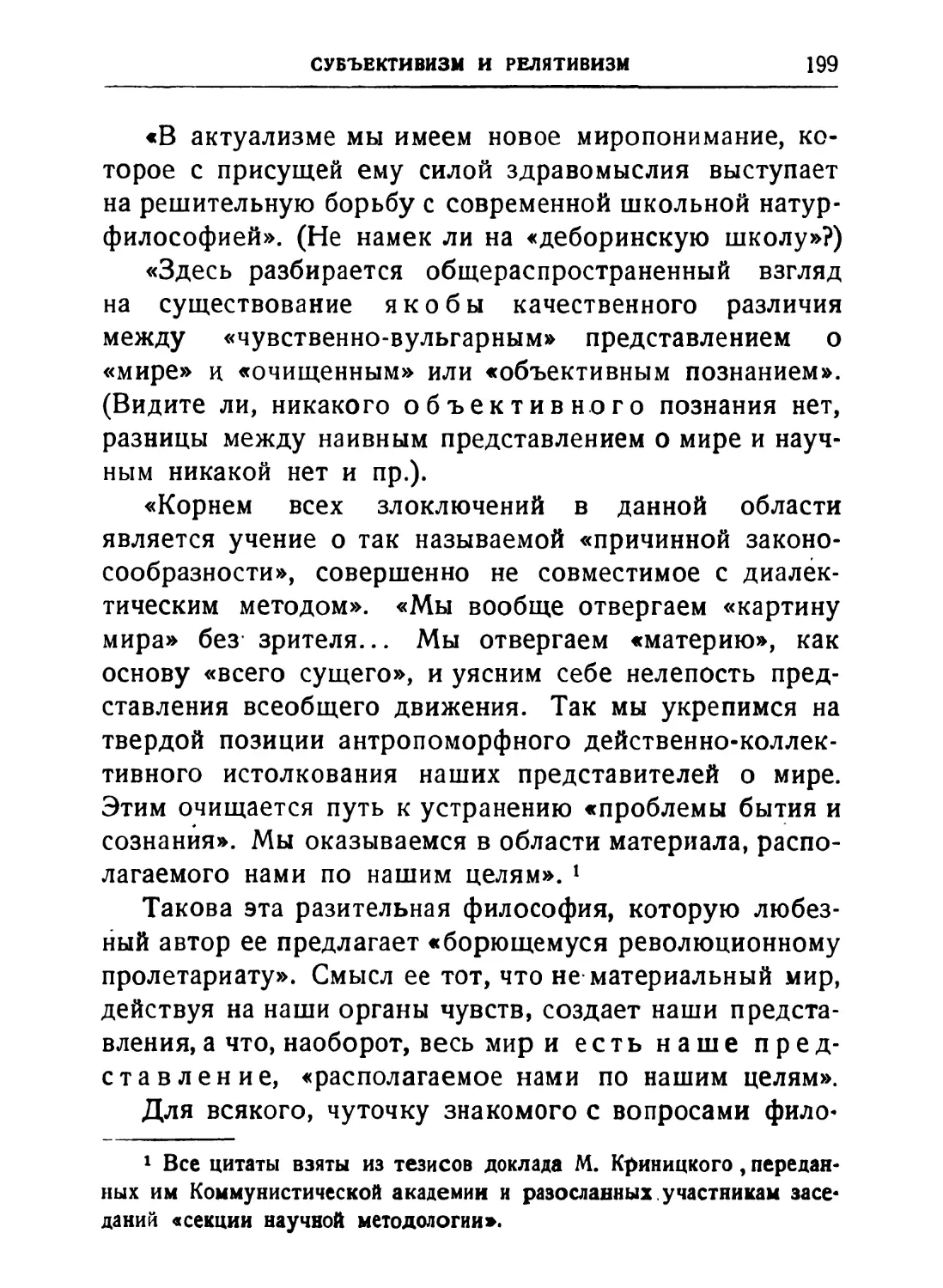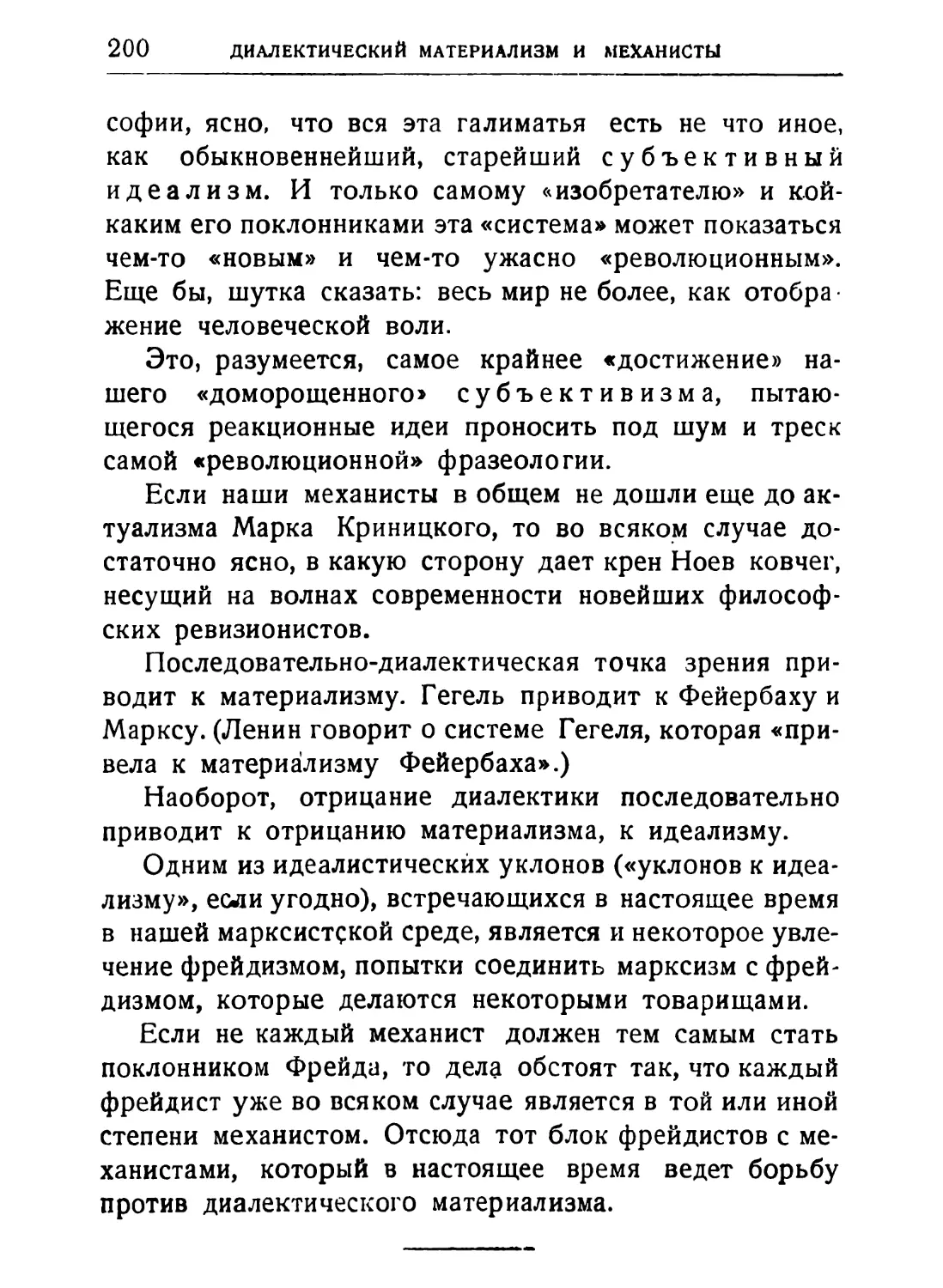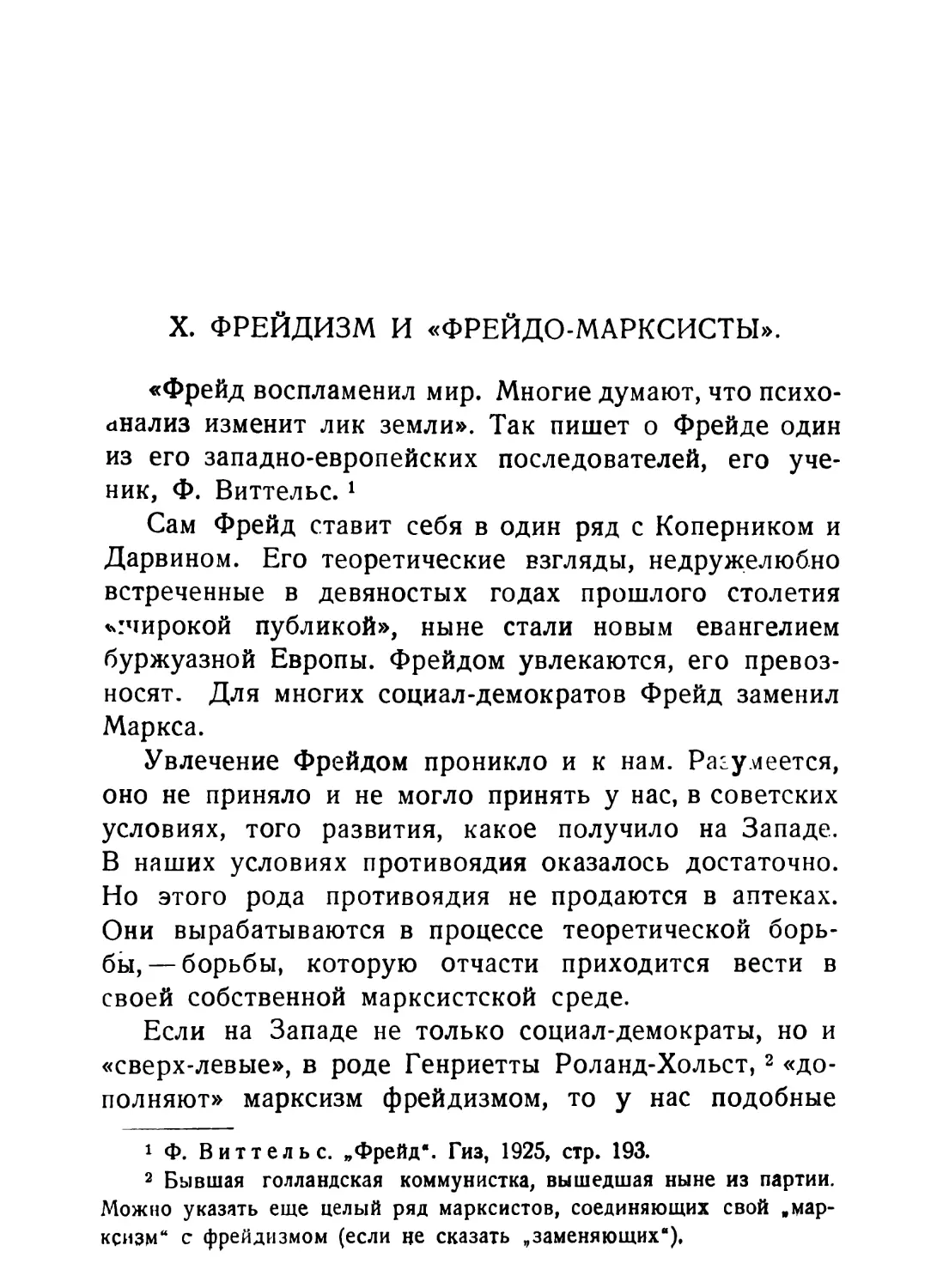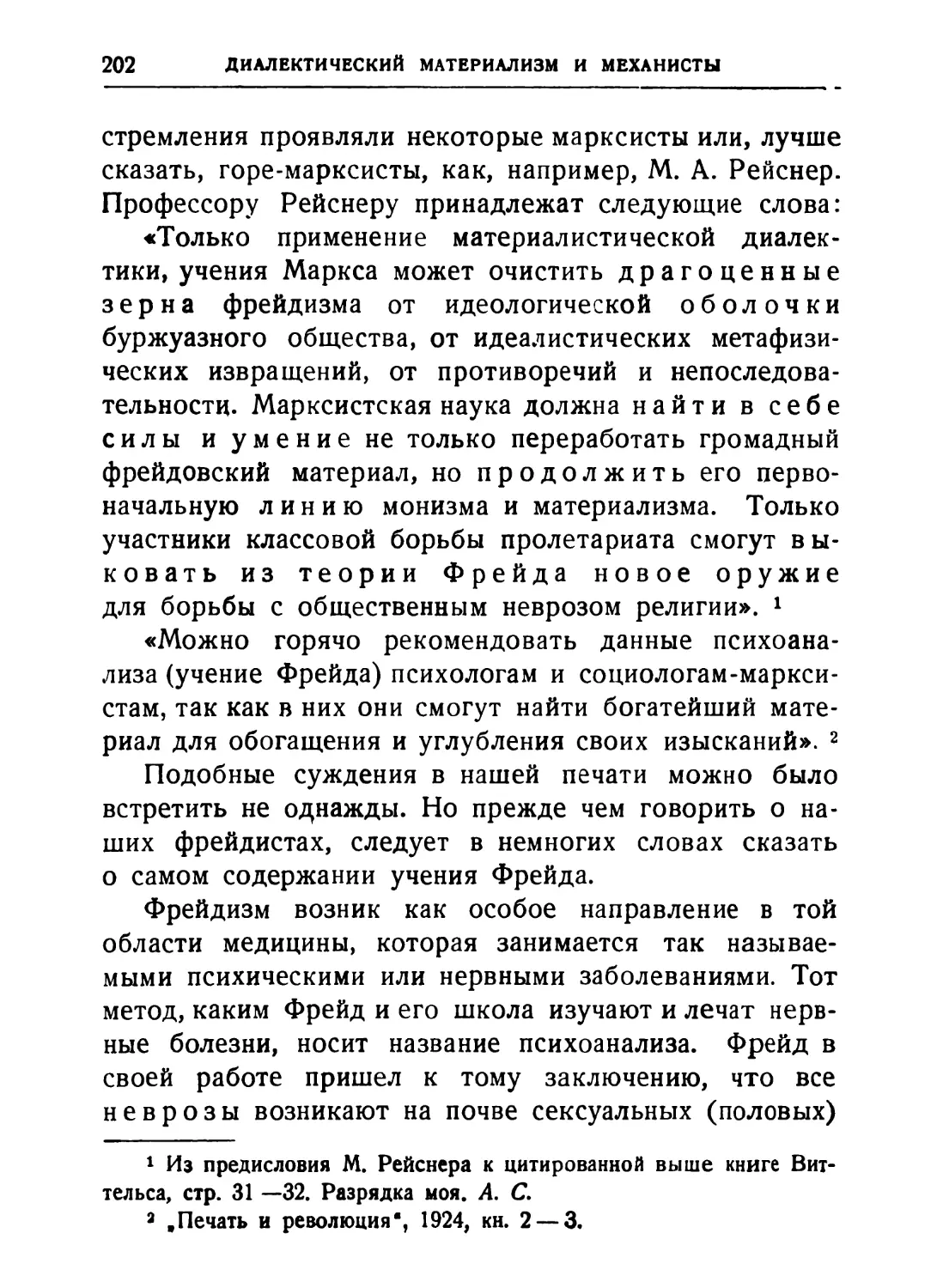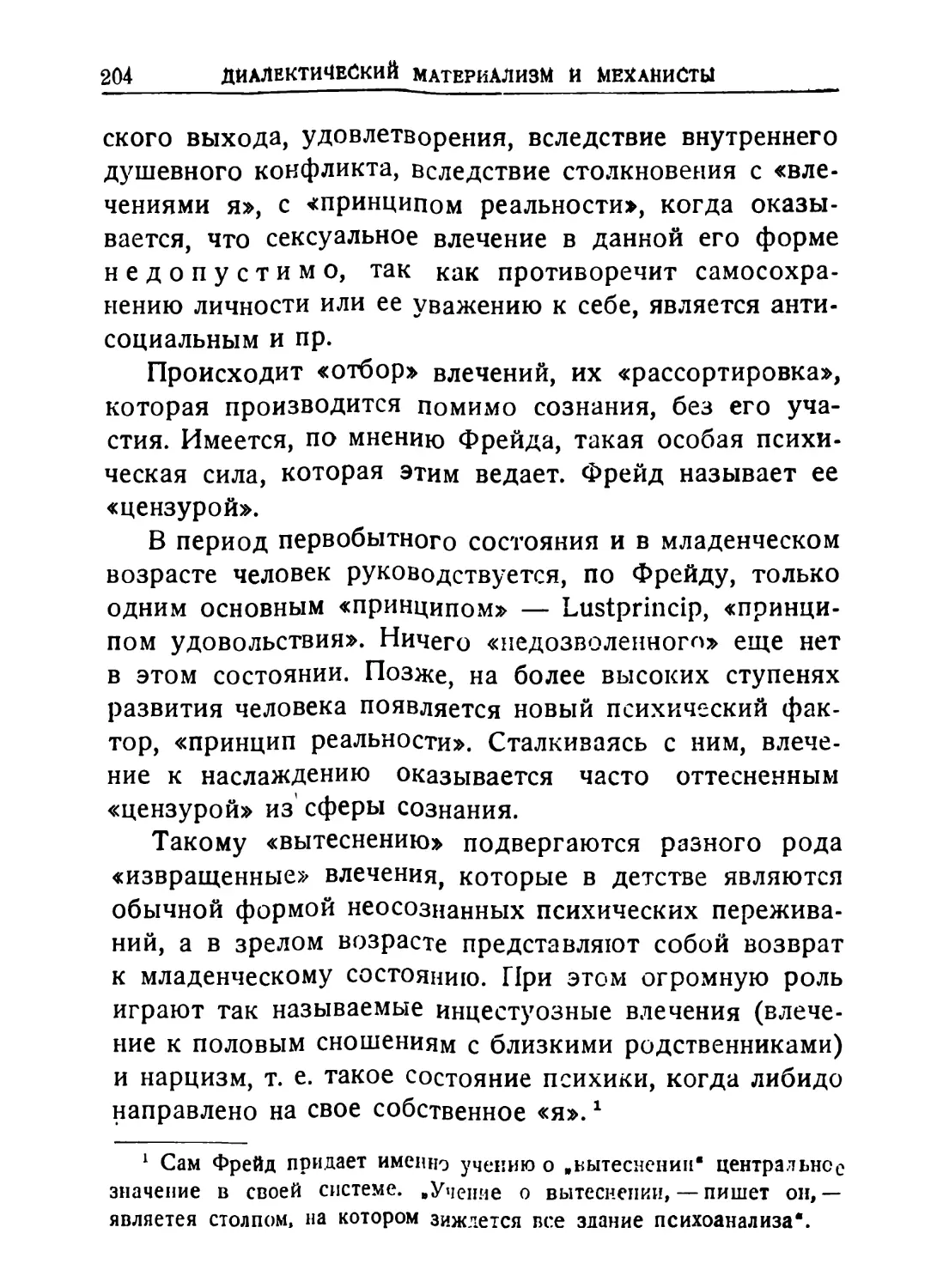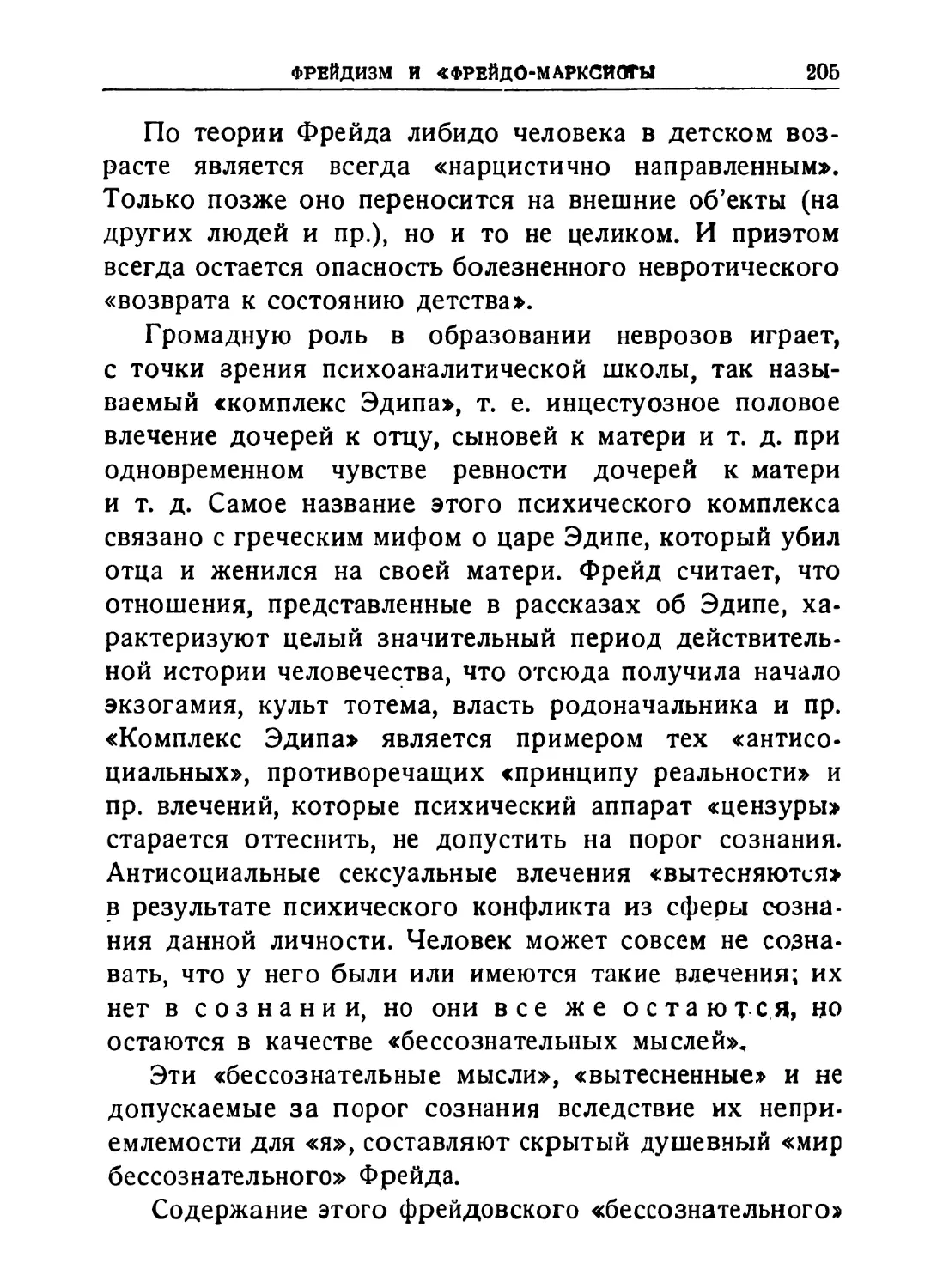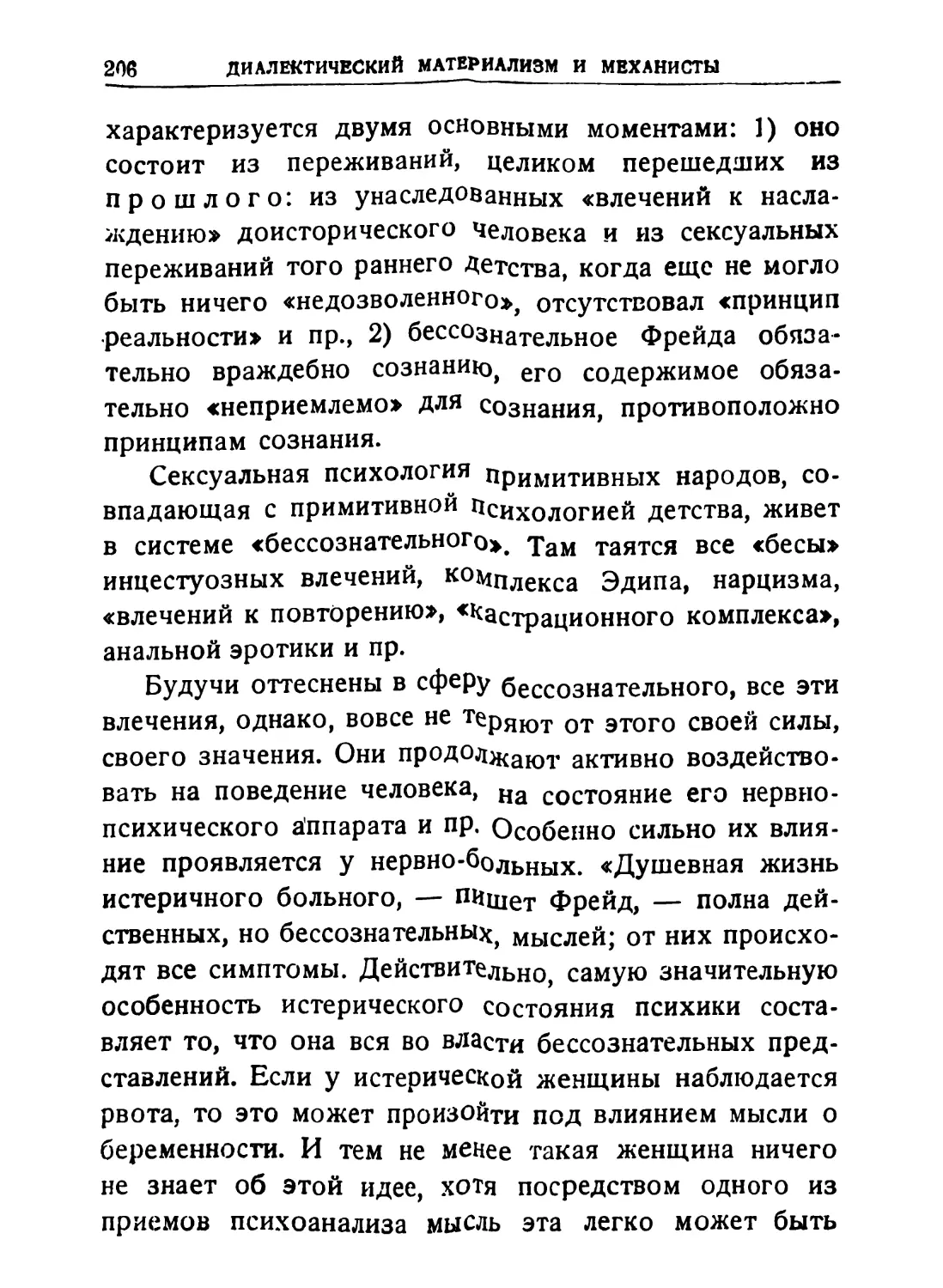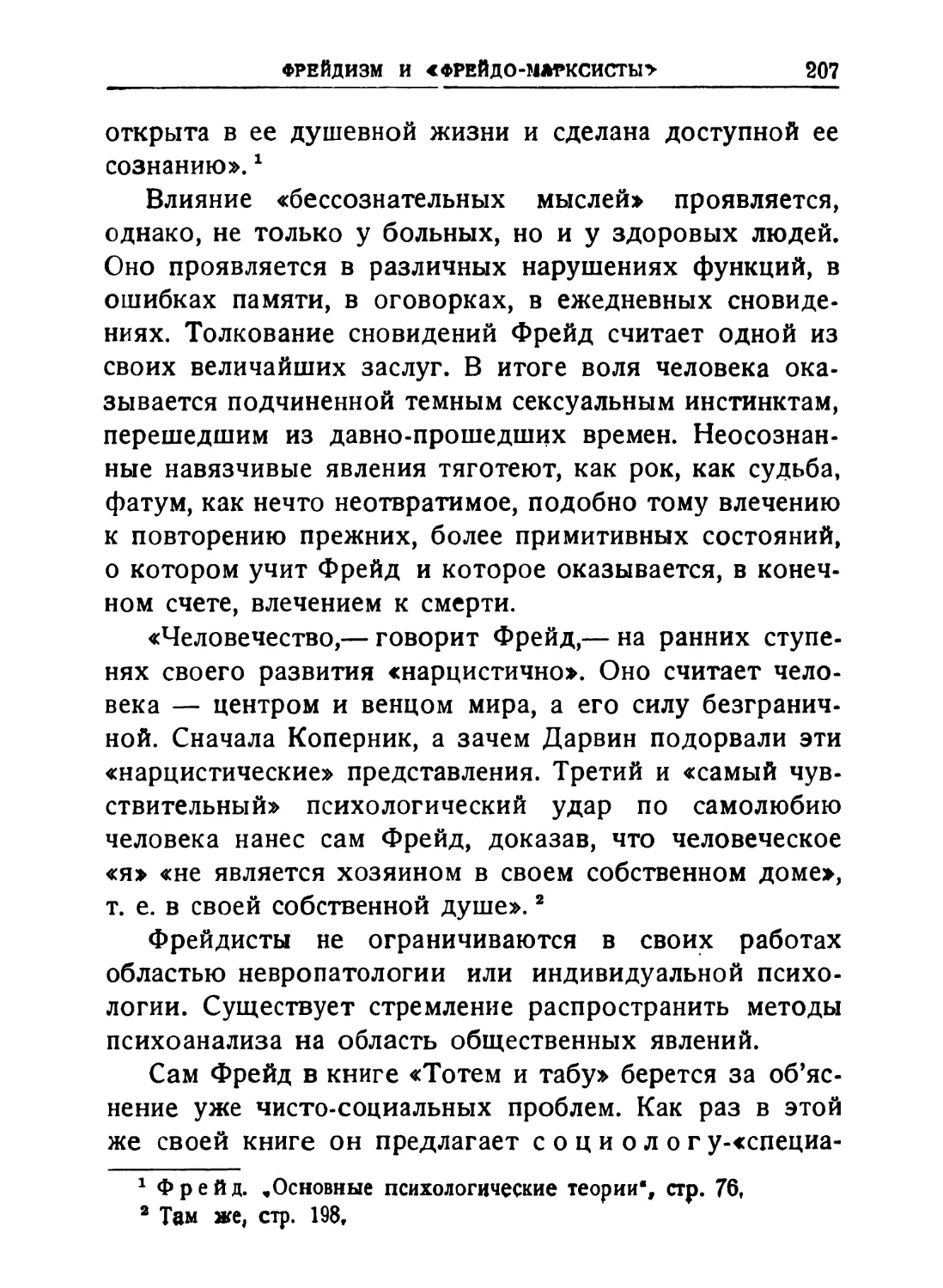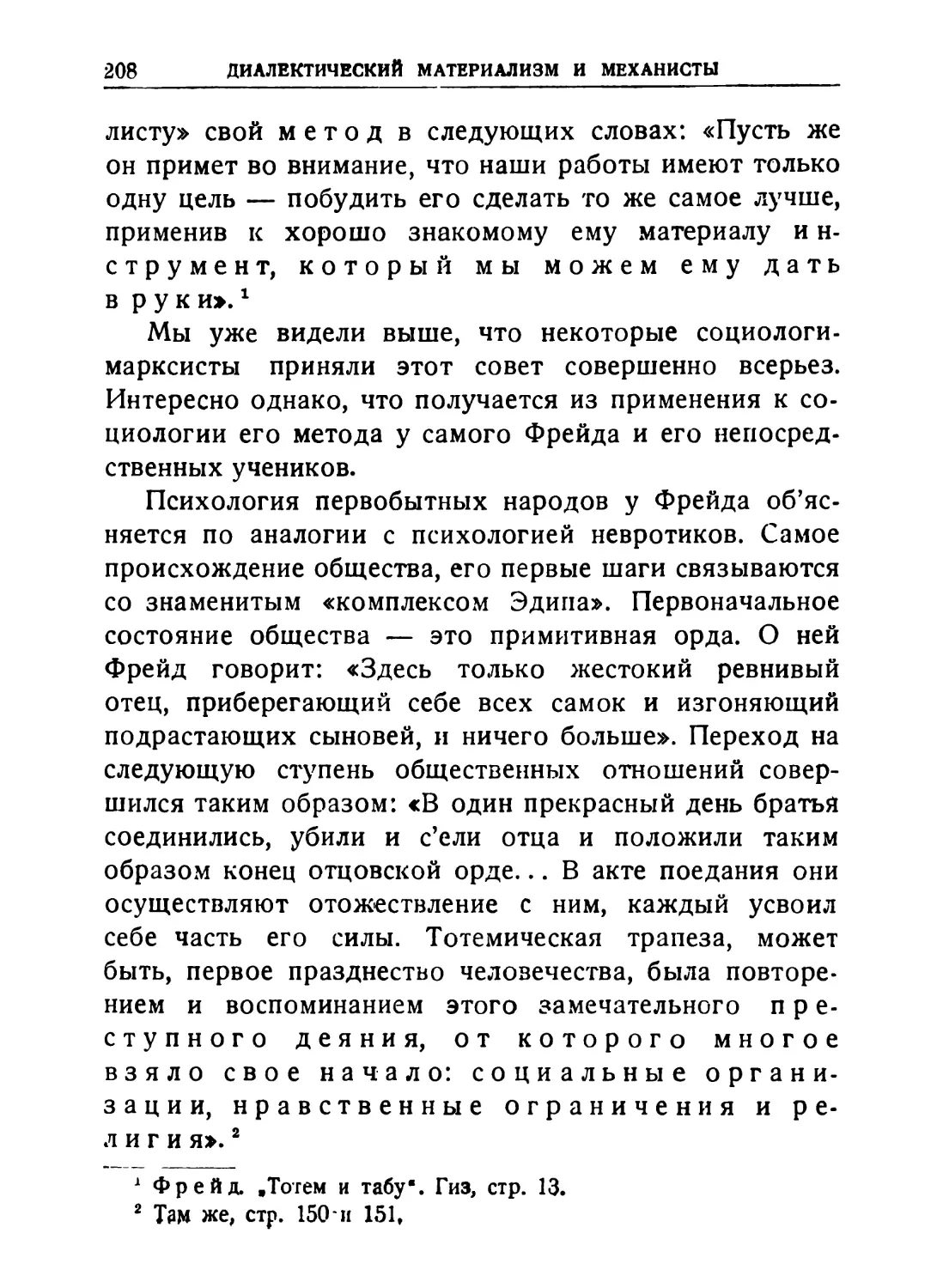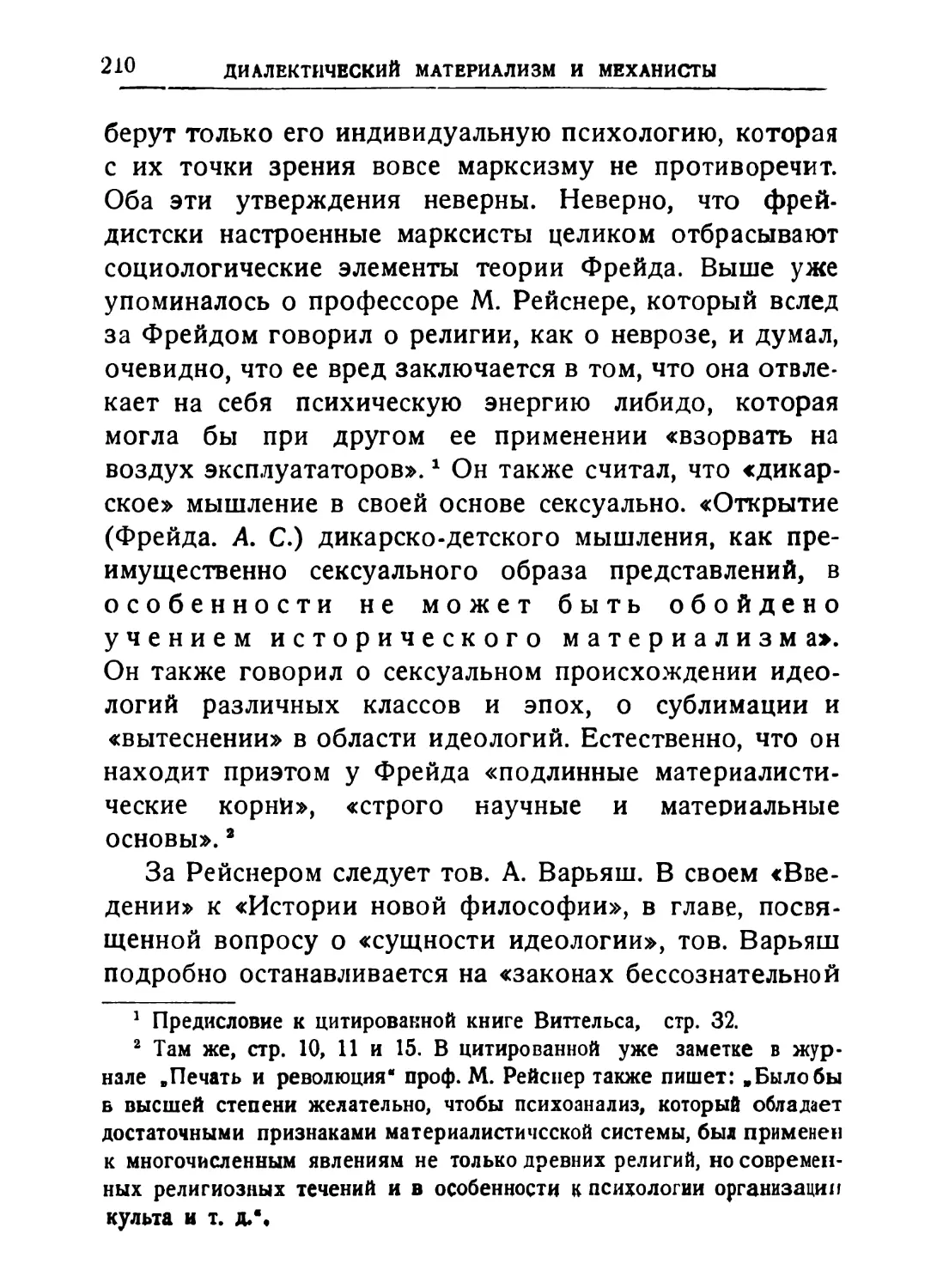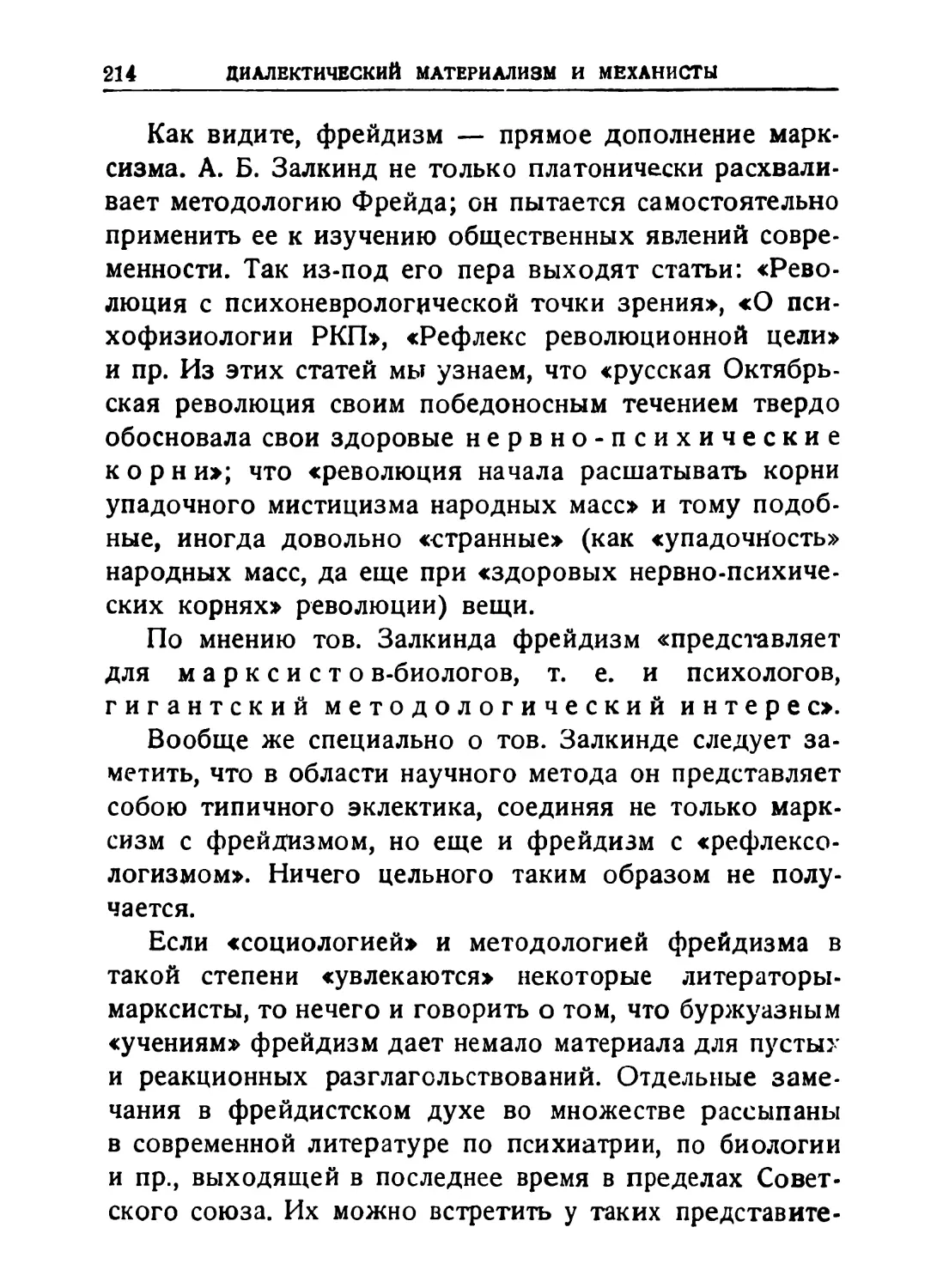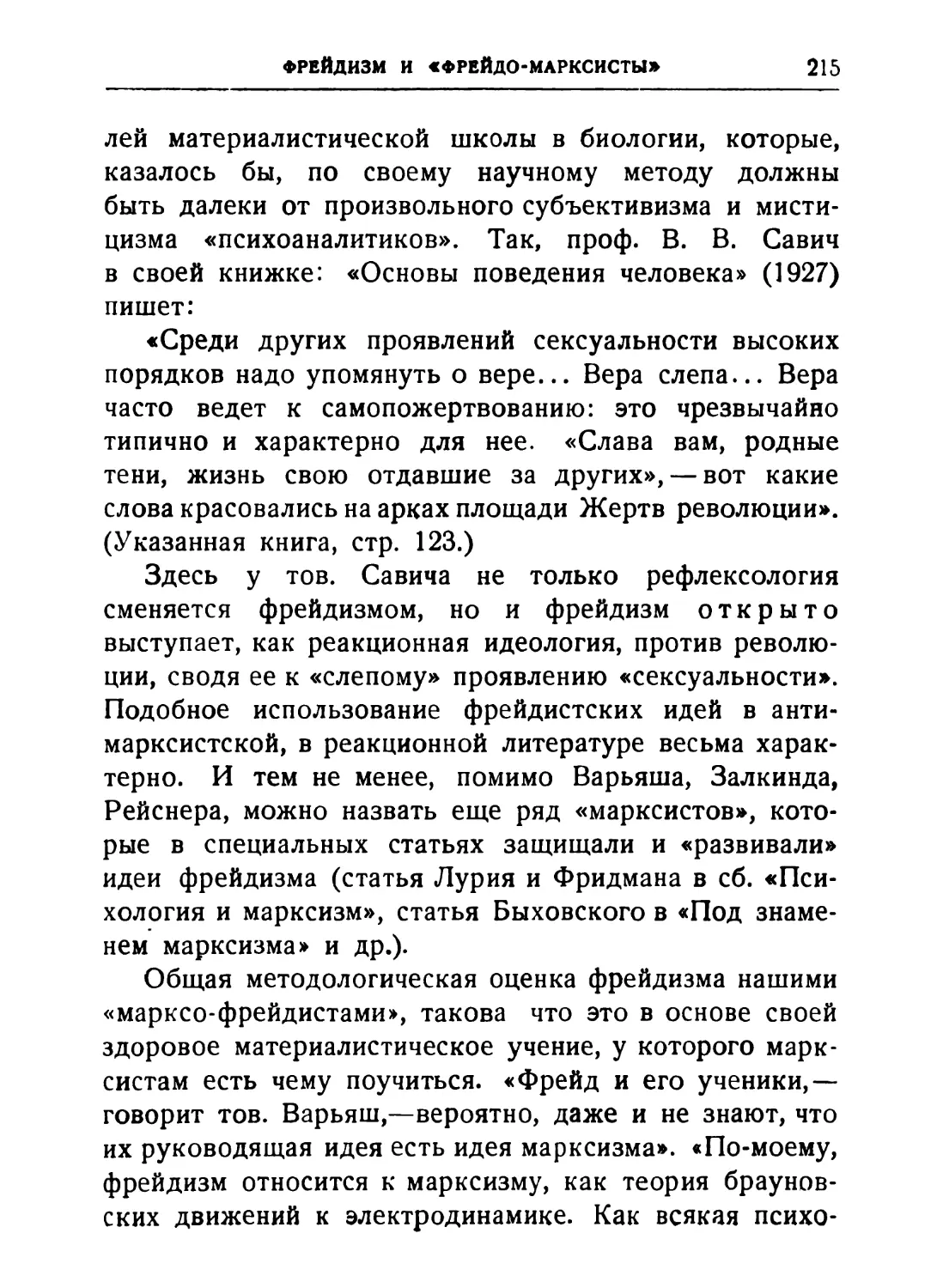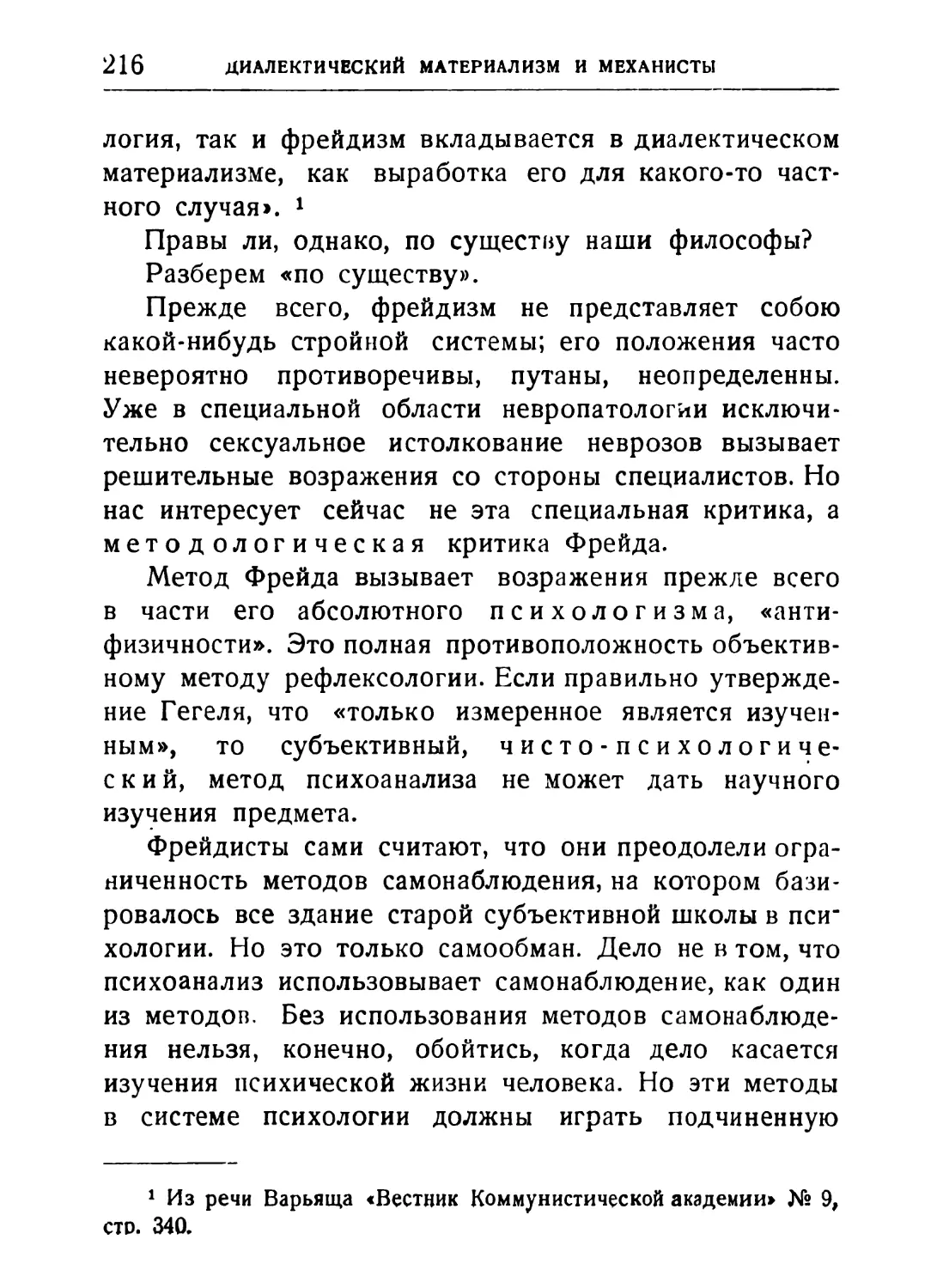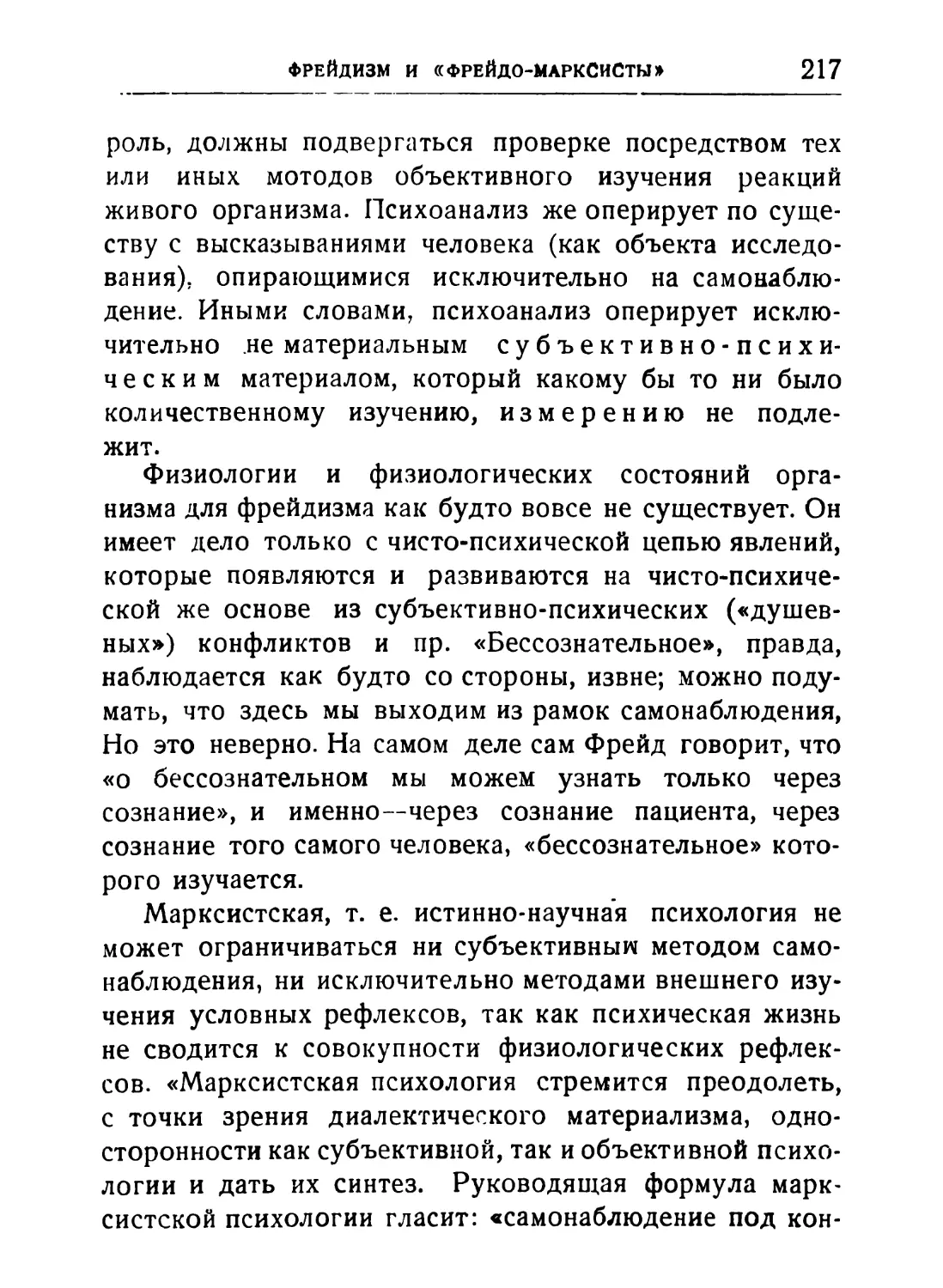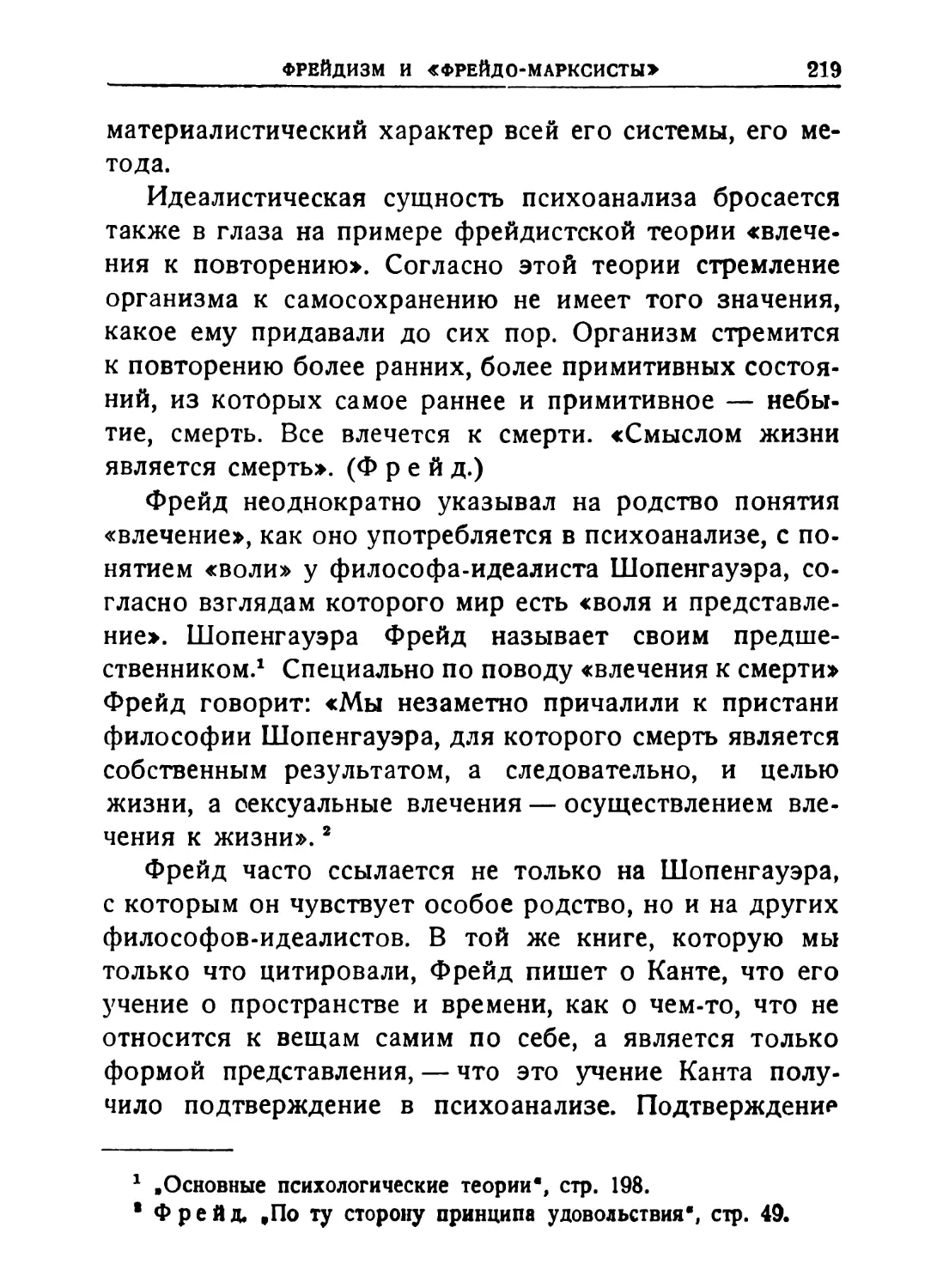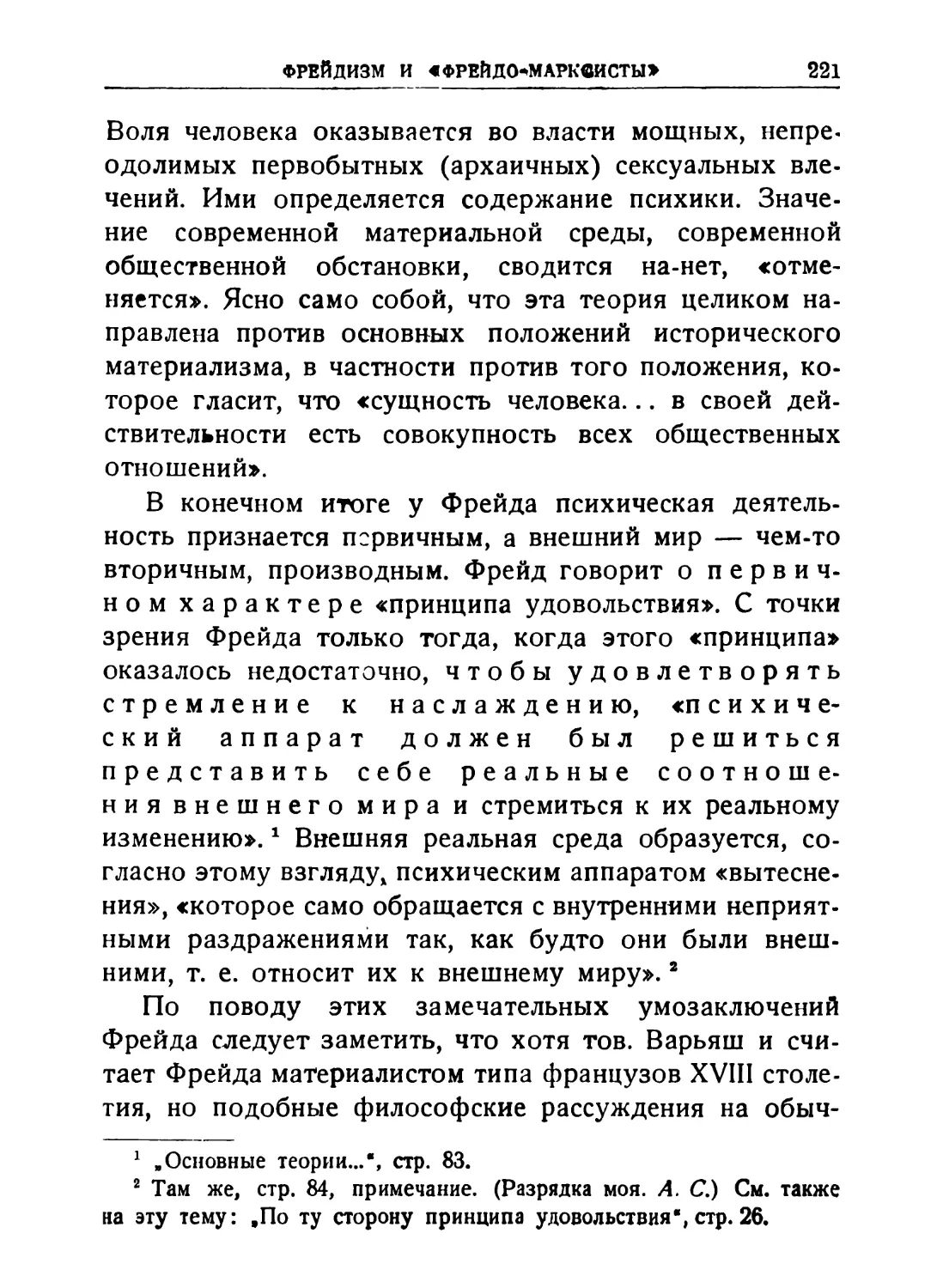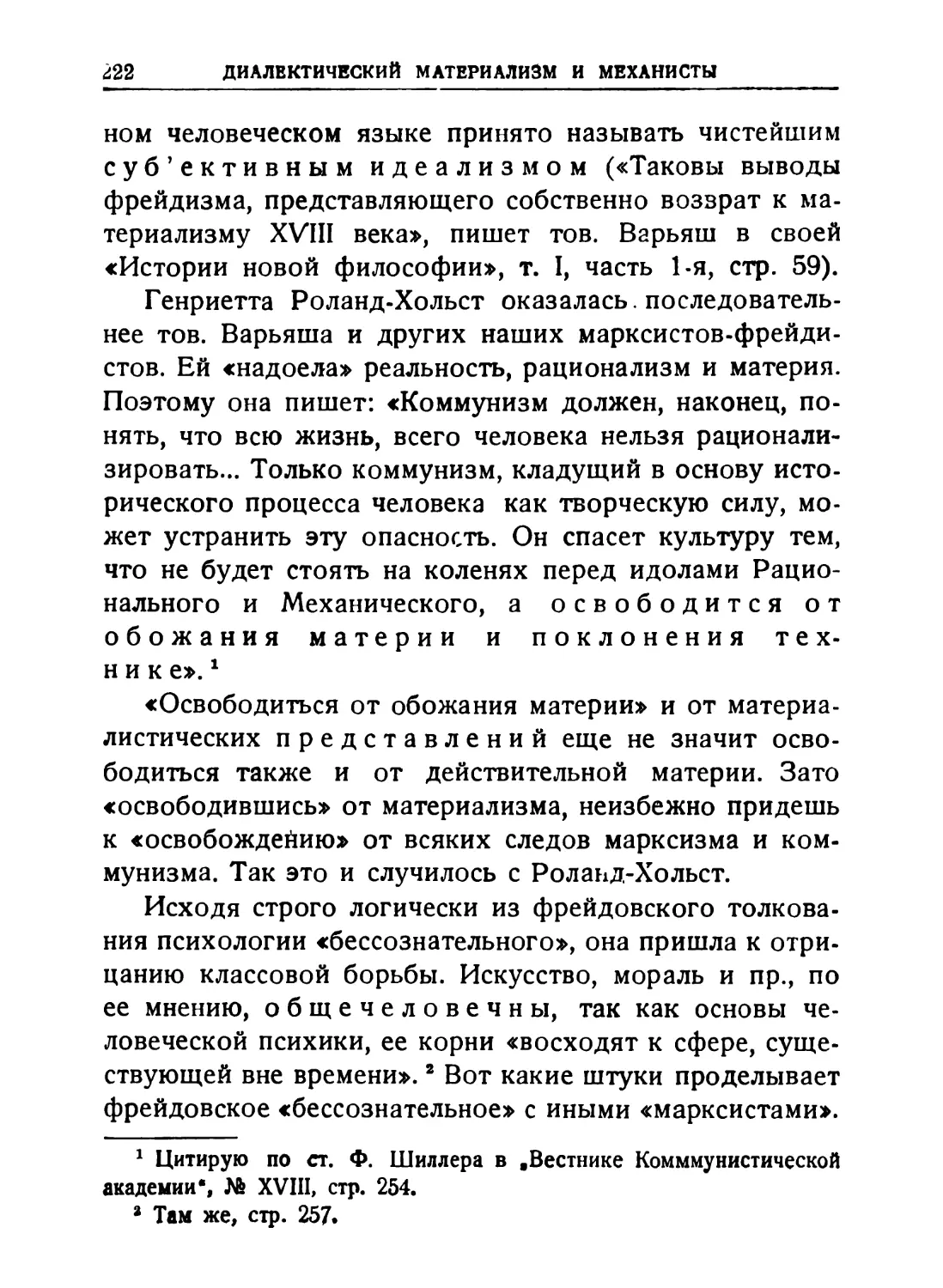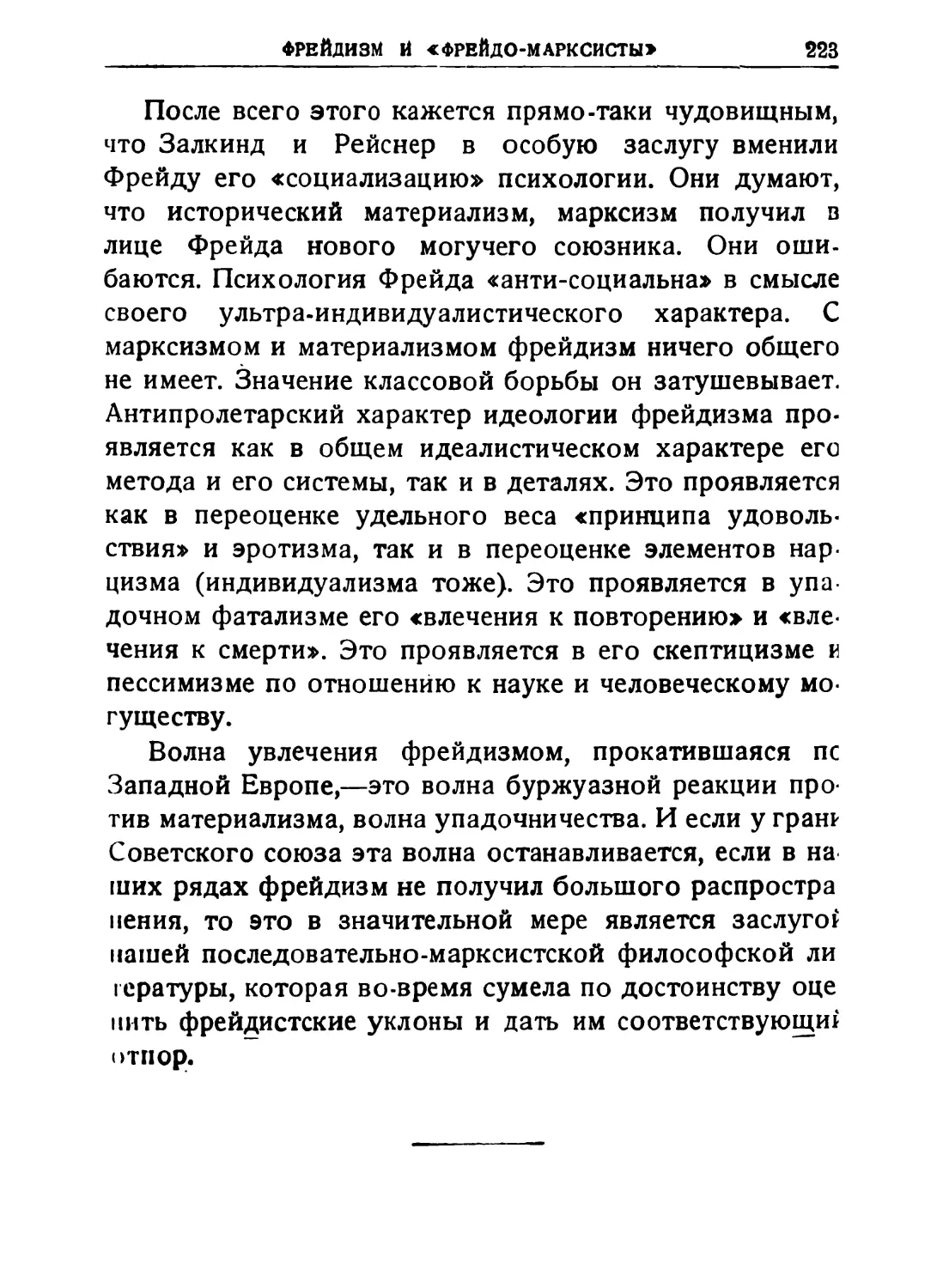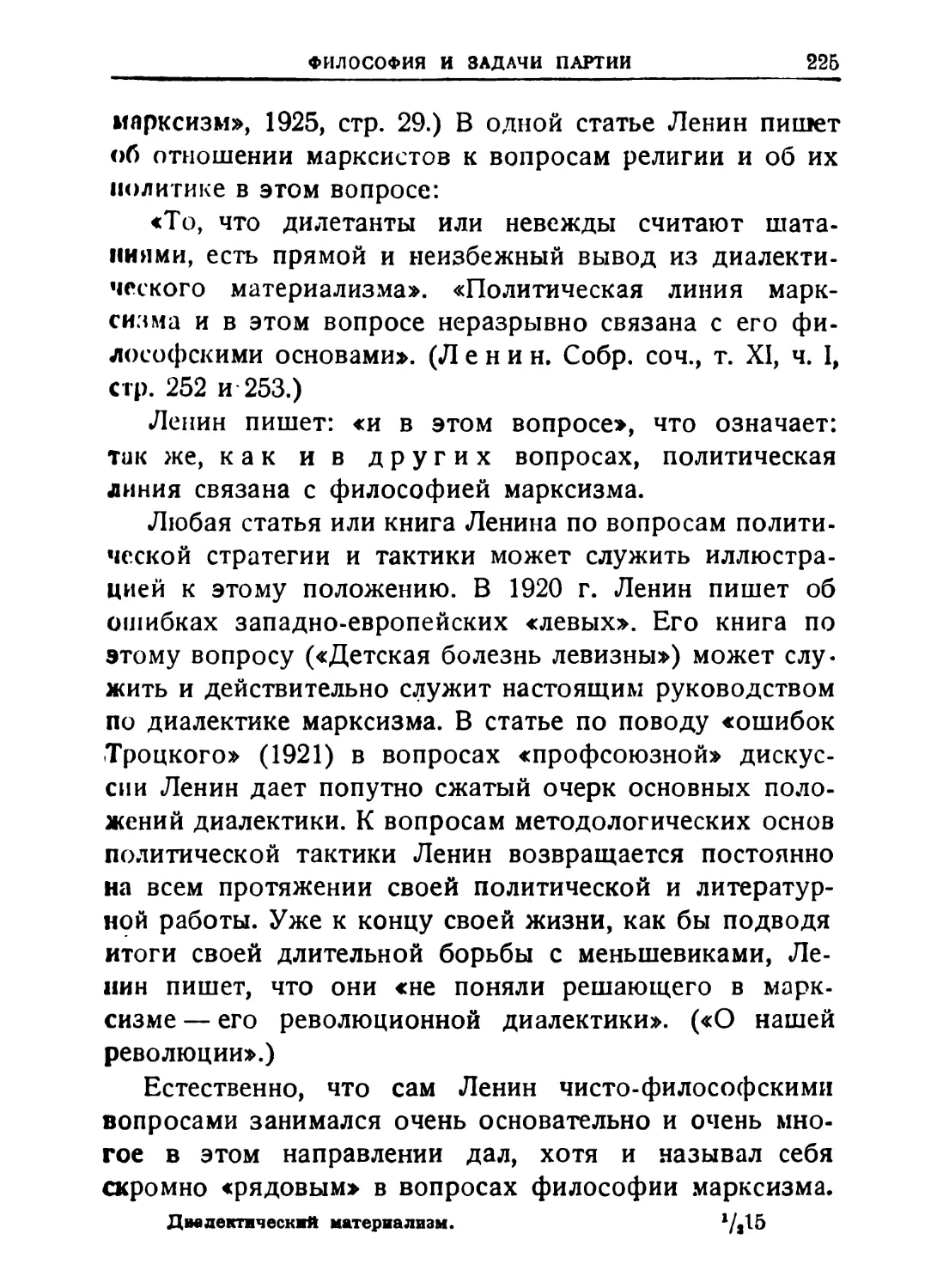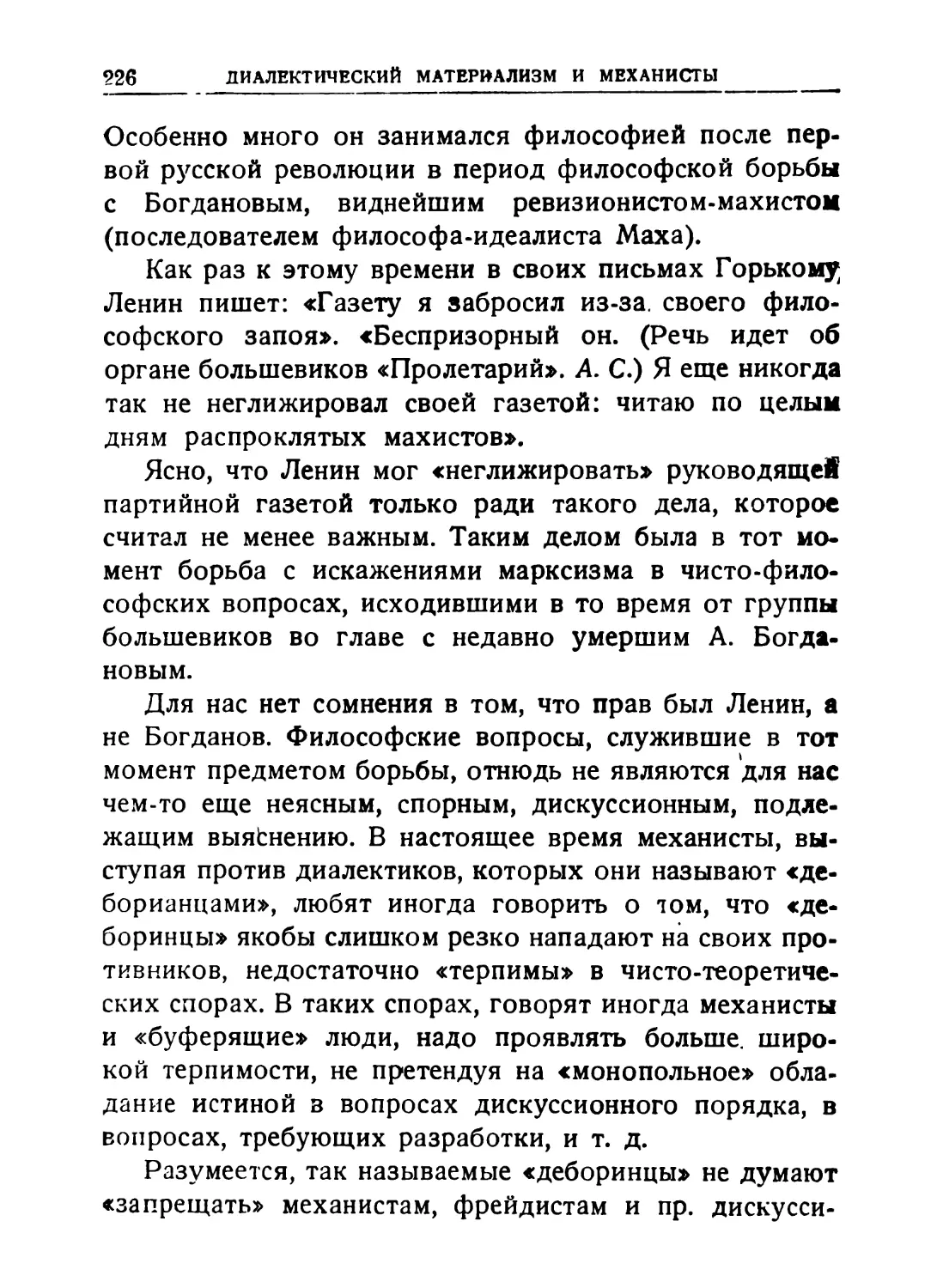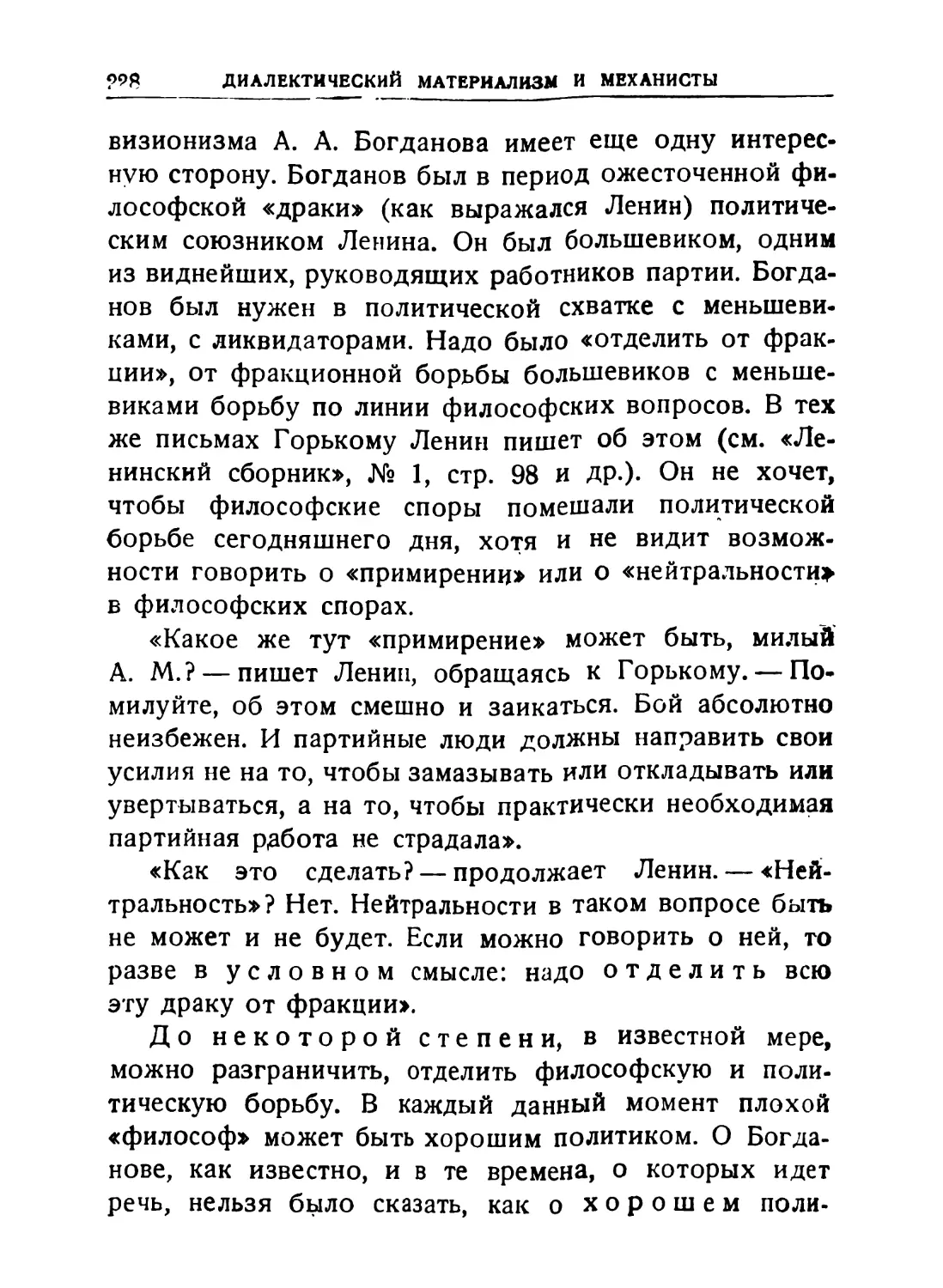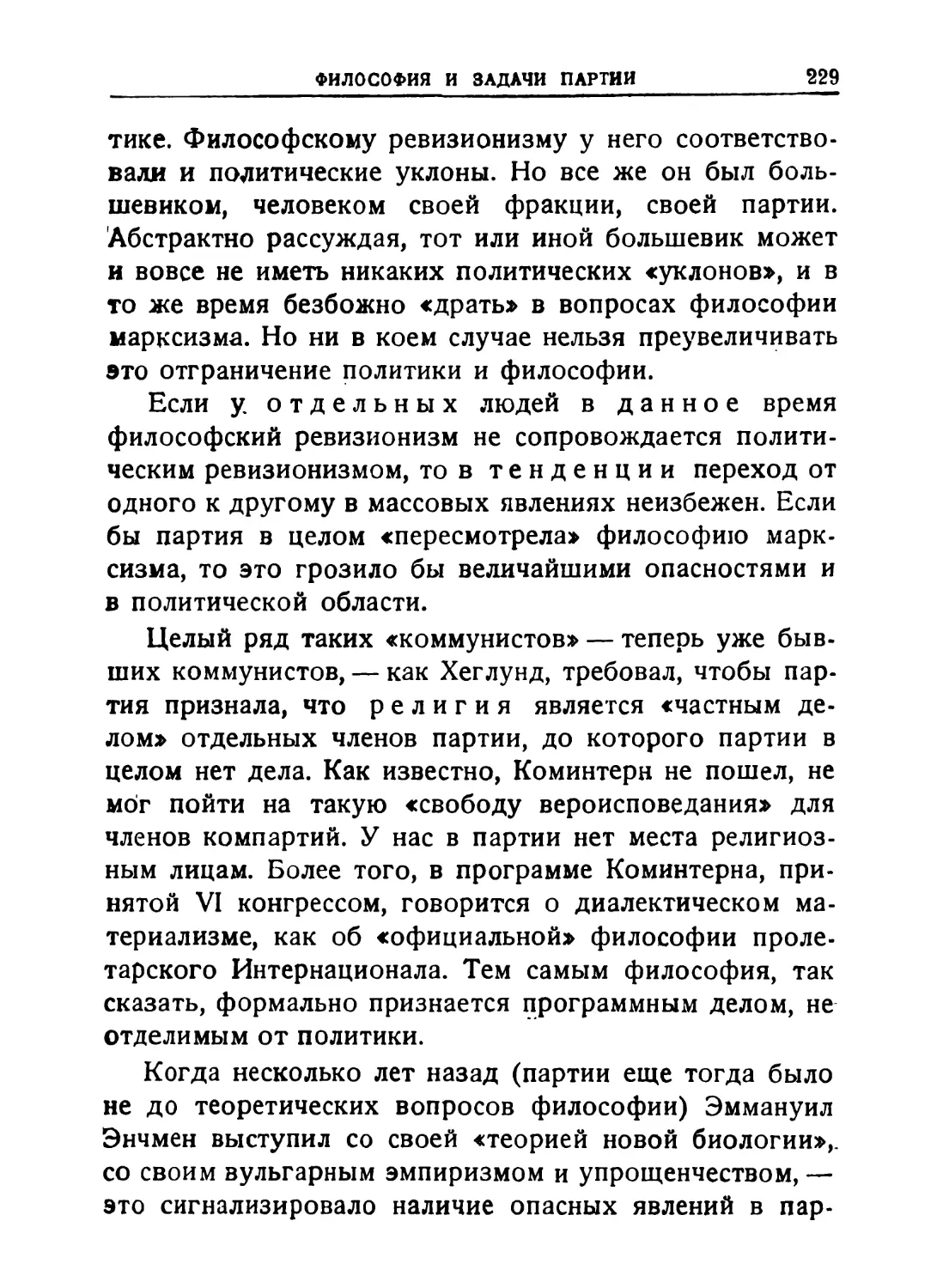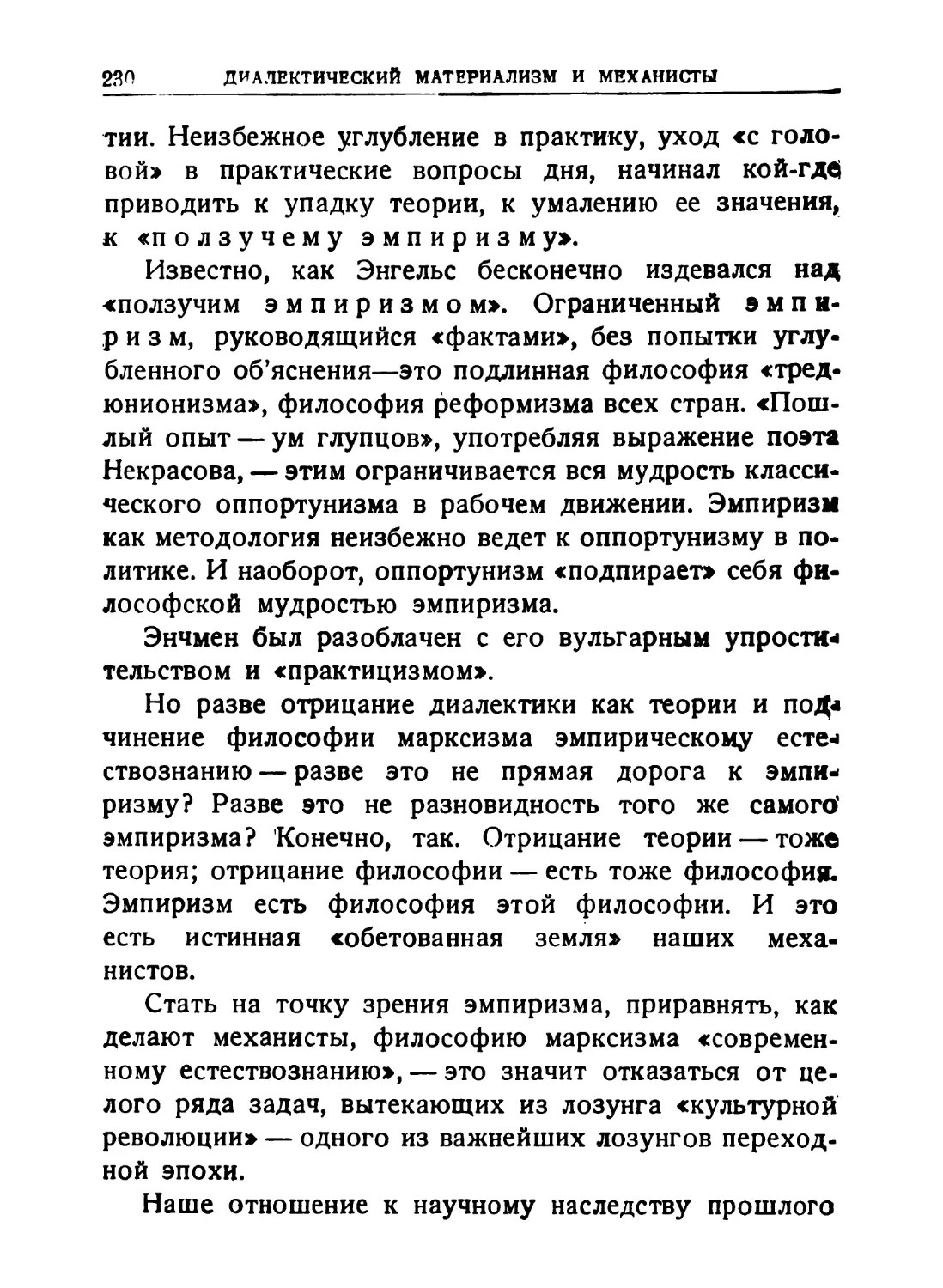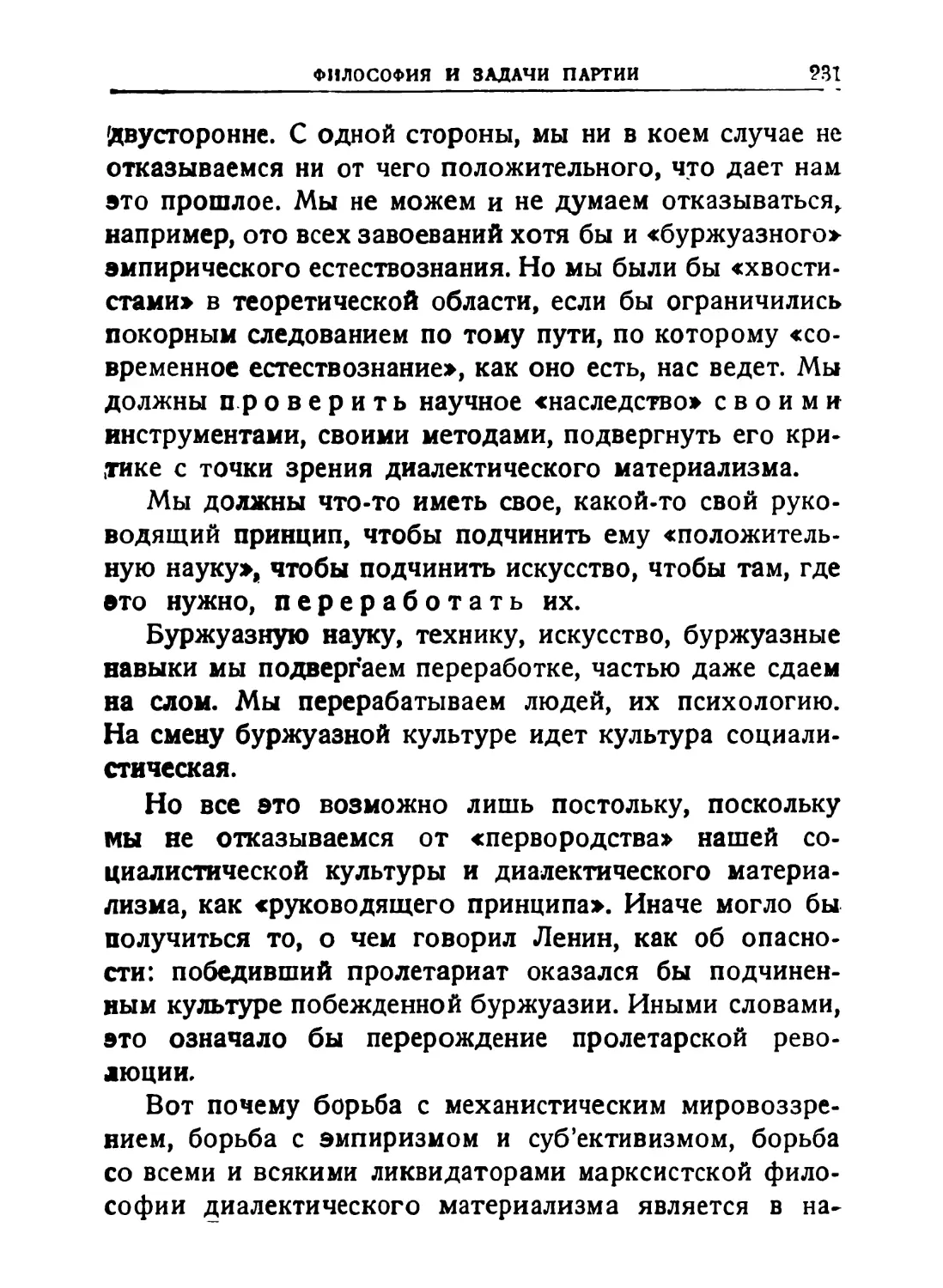Автор: Столяров Д.
Теги: философия диалектика диалектический материализм издательство прибой
Год: 1930
Текст
А. СТОЛЯРОВ
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
И МЕХАНИСТЫ
НАШИ ФИЛОСОФСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ
ИЗДАНИЕ ПЯТОЕ
СТЕРЕОТИПНОЕ
ЧИТАТЕЛЬ!
Отзыв об этой книге пошли
по адресу: Москва, Ильинка, 3,
Госиздат, в редакцию журнала
„Книга и революция“
Заказ № 816.
Я2 X 111 - И» Л. С. 30 № 133б5^Пр
Ленинградский областлит № 63806
Тираж 30000.
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
И МЕХАНИСТЫ
ОТ АВТОРА.
Настоящая книга насквозь «партийна», как и фило¬
софское мировоззрение ее автора, стоящего на ста¬
рых марксистских позициях диалектического материа¬
лизма. Может быть, это не всем понравится. Тем лучше.
Нам не по дороге с теми «широкими натурами», для ко¬
торых теоретическая беспринципность — принцип, а
строгая партийность в философии — прегрешение. Ле¬
нин весьма нелестно отозвался о «беспартийных в фило¬
софии», называя их «тупицами». «Маркс и Энгельс от
начала до конца были партийными в философии», —
писал Ленин.
В наше время всякая неряшливость в области идео¬
логии вообще особенно недопустима. Перед нами стоит
задача подчинения идеологии марксизма всего куль¬
турного наследия, врученного пролетариату историей
или, вернее, вырванного у истории с боя. Наука, искус¬
ство, нормы бытовых отношений — все очистительным
огнем теоретической и практической критики пролета¬
риата преобразуется так, чтобы в свою очередь служить
коммунистическому преобразованию общества. Пре¬
образуется и сам человек — строитель социализма.
Разящему и созидающему оружию марксистской
идеологической критики нет времени «ржаветь в нож¬
нах». Тем важнее сохранить строгую верность и чистоту
этого оружия.
И вот в это время на арену такой «идеологической»
II
ОТ ЛПТОРА
• |Г|'I||< т. кик п()./|лгт1. философии марксизма, область
«и • * мощей методологии, и!»1ступают «друзья»марксизма,
и |н• Iи|и.1 ч и ильянская пословица говорит: «Сохрани
ипс, Гникс, от наших др^гсп, а с нашими врагами мы
тми справимся». Таковы «наши» механисты, суб’екти-
иисты, фрейдисты, эмпиристы и прочие, претендующие
па марксистскую правоверность, ревизионистские по
существу группировки современности.
Наиболее распространенным среди философских
уклонов в данное время является так называемый «ме¬
ханистический» уклон. Наши суб’ективисты и «фрейдо-
марксисты» являются одновременно и механистами, а
механическое мировоззрение через тот или иной ряд
промежуточных ступеней неизбежно ведет к суб’екти-
визму и — в конечном итоге — к идеализму. «Умный
идеализм, — писал Ленин, — гораздо ближе нам, чем
глупый материализм». У «умного идеализма» Гегеля
есть что изучать и исторически он приводит к мате-»
риализму (от Гегеля к Марксу), так как его диалектика
разрушает его систему. У «глупого материализма»
(вульгарный механический материализм) марксизму
учиться нечему, и он логически прокладывает путь к
отказу от материализма.
«Прямолинейность и односторонность, деревянность
и окостенелость, суб’ективизм и суб’ективная слепота —
уоП& (вот) гносеологические корни идеализма». (Л е-
н и н.) «Материализм, — писал Ленин, — из всех и вся¬
ких кризисов современной положительной науки вый¬
дет победителем, но лишь при условии «непременной
замены метафизического материализма диалектиче¬
ским».
Настоящая брошюра не претендует на значение ис¬
следовательской работы. Наша задача проще: в попу-
ОТ АВТОРА
7
лярной, по возможности, форме дать картину суще¬
ствующих ныне в марксистской среде разногласий
между диалектиками-ортодоксами, с одной стороны, и
механистами и прочими философскими ревизиони¬
стами — с другой. Наша задача — разоблачить анти¬
марксистскую, анти-ленинскую сущность методологиче¬
ской позиции механистов, релятивистов и фрейди¬
стов, — разоблачить перед лицом более или менее ши¬
роких масс, отнюдь не считающих философию своей-
«специальностью», но хотя бы чуточку знакомых с
основами диалектического материализма. Прежде всего
автор имеет при этом в виду наш партийный актив и
нашу пролетарскую молодежь.
Наши классовые враги не остаются равнодушными
к нашим, на первый взгляд будто бы «отвлеченным»,
теоретическим спорам. За границей меньшевики в тео¬
ретическом органе германской социал-демократии по¬
хлопывают по плечу наших механистов.
Тем более широко должно «руководящее направле¬
ние советской марксистской философий» организовать
отпор философскому ревизионизму. Вопреки философ¬
ской богдановщине и обывательщине, диалектический
материализм останется нашей не только «руководя¬
щей», но и единственной философией.
I. ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА.
В каше время, когда социалистическое строитель¬
ство ставит перед нами громадные практические за¬
дачи, может возникнуть вопрос: а стоит ли заниматься
какими-то «чисто-теоретическими» вопросами фило¬
софских разногласий? Разве революционная практика
не выше теории?
Конечно, в определенном смысле практика предше¬
ствует теории. Наша революционная теория служит на¬
шей революционной практике, а не наоборот. Но
именно революционная практика больше, чем
какая бы то ни было другая, неразрывно связана с тео¬
рией, спаяна с ней, не может быть от нее обособлена или
противопоставлена ей. Контр-революция, отстаивающая
против восставших классов старый порядок, может до¬
вольствоваться голым практицизмом, может опираться
на «здравый смысл» крупных и мелких лавочников, за¬
щищающих свой кошелек.
Реформизм, мелкими заплатами «подправляющий»
существующий в капиталистических странах порядок
социальных отношений, продвигающийся «медленным
шагом, робким зигзагом», не нуждается и больших тео¬
ретических обобщениях и не выносит их, так как под¬
линная наука, отражающая об’ективный ход истори¬
ческого развития, несовместима с реформизмом. Иное
дело революционная практика пролетариата. Она ста¬
вит ребром громадные исторические вопросы и не мо¬
ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
9
жет обойтись без глубокой перспективы, без широчай¬
ших по своему размаху стратегических маневров, тре¬
бующих всестороннего научного понимания действи¬
тельности и предвидения. Иными словами, она не мо¬
жет обойтись без научной теории.
В конце концов, что такое революционная теория,
что такое теория вообще? Это концентрированная
практика, это сгусток практического опыта, выверен¬
ного, измеренного, продуманного со всех сторон. Тео¬
ретически осмыслить действительность — это значит
вскрыть господствующие в ней закономерности и по¬
нять ее в ее историческом развитии.
Но если наука вообще есть подытоженный, проду¬
манный «конденсированный» опыт, то философия —
философия в том смысле, в каком понимаем ее мы,
марксисты, — есть наука об общих законах движения и
теория самого научного мышления, методологический
сгусток теории в целом. Философия в нашем смысле —
это прежде всего методология. Метод есть «душа» вся¬
кой теории. Опытное содержание, отдельные положе¬
ния той или иной науки могут отпадать, заменяться
другими, а ее метод совершенствуется, развивается по
мере ррста самой науки. Философия дает общий метод
научного мышления в целом; ее задачей является уста¬
новление общих методологических принципов, выра¬
ботка общих основ научного мышления.
Естественно, что область философии является тео¬
ретически «командным участком» в науке, самой высо¬
кой «командной высотой» среди командных высот тео¬
рии. И если вообще «без революционной теории не мо¬
жет быть революционного движения», то эту «команд¬
ную высоту» теории борющийся пролетариат не может
оставить вне поля своего внимания, «философия нахо¬
10 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИ АЛ|ПМ И МИК АШИ I !•!
дит в пролетариате свое материм.ныюс орудие, кик и
пролетариат обретает в философии снос лучшими* ору¬
жие», писал Маркс.
Борьба по вопросам философии, т. о. но попросим
общей методологии (учение об общих законах движе¬
ния в природе, обществе и мышлении), вопросам общего
мировоззрения, — такая борьба не может не отражать
в той или иной степени классовой борьбы, не может
не быть «партийной». Философия не является нейтраль¬
ной и безразличной областью для судеб классовой
борьбы. «Новейшая философия, — писал Ле¬
нин,—так же партийна, как и две тысячи лет
тому назад». «Нельзя не видеть борьбы партий в
философии, борьбы, которая в последнем счете отра¬
жает тенденции и идеологию враждебных классов со¬
временного общества». Так Ленин писал по поводу
борьбы одного философского направления (эмпирио¬
критицизма) против материализма. Но и всякая борьба
за основы диалектического материализма не может не
отражать в той или иной мере борьбы классов.
Когда-то еще Энгельс писал о «третьем фронте», на
котором пролетариат и его партия должны дать бой
старому миру, — о фронте теоретической борьбы. Важ¬
ность этого фронта большевизм неустанно подчерки¬
вал и, в частности, Ленин напоминал об этом посто¬
янно, на протяжении всей своей жизни. Уже после
Октябрьской революции он неоднократно указывал на
то, что
«наша задача — побороть все сопротивления капи¬
талистов, не только военное и политическое, но и
идейное, самое глубокое и самое мощ¬
ное»*
ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
11
«Сопротивление капиталистов» в этой области про¬
является и осуществляется далеко не в столь отчетли¬
вых и неприкрытых формах, как, например, сопроти¬
вление военное. Поэтому и борьба имеет свои осо¬
бые опасности и особые трудности. На этом фронте
противник больше, чем где бы то ни было, пользуется
способом незаметного проникновения, незаметного,
«тихого» пленения, подчинения своему влиянию от¬
дельных отрядов пролетариата.
Внесение идейной сумятицы в ряды революционного
пролетариата — это неизбежная форма «идейного со¬
противления буржуазии, сознательного или бессозна¬
тельного, преднамеренного или непроизвольного. От¬
сюда вытекает и то, что в борьбе за мировоззрение
марксизма и ленинизма важнейшей формой нашего от¬
пора буржуазии является борьба с теоретическими
ошибками и уклонами в нашей собственной среде.
Иными словами, «внешний фронт» идеологи¬
ческой борьбы в современных условиях
неизбежно дополняется и переходит во
фронт «внутренний». Ясное дело, что как поли¬
тическая (политические «уклоны»), так и чисто теоре¬
тическая (например, по вопросам философии и пр.)
борьба, поскольку она загорается внутри партии, не мо¬
жет не отражать иноклассовых влияний на
пролетариат. Вопрос в значительной мере в том
и заключается, чтобы эти иноклассовые влияния, как
таковые, разоблачить.
Отказ от борьбы с теоретическими шатаниями в
рамках партии, «широкий» либерализм и «демокра¬
тизм» в этой области, был бы равносилен отказу от той
стройной, законченности, монолитности в области миро-
лиАЛРктчт кмИ машнмашим и
МО.ТфГНИН, Ни I<>|><11■ III) 1Н 14 1 1*1 < НИШ! 11 И • нмЫиПШИМ. 1
Разумеется, пщннн ш им ишмн I" мим I Ииртия
должна зорко следим, ш им,'ми нчнмчс* ни • и доло¬
гическом фронте» нн< н мнутрн се Ч'роиг Н'гот
имеет весьма обширные и ринноиОри ни и уч.нчки.
Борьба ведется в области литературы, и тонн кус-
ства, по линии быта, по линии различный кирпиче-
ских вопросов и пр. И, наконец, по линии вопросом фи¬
лософии.
Некоторая трудность популяризации сложных во¬
просов философии делает этот участок борьбы сравни¬
тельно мало «популярным», мало привлекающим вни¬
мание. Может поэтому показаться, что это недоста¬
точно актуальный участок борьбы, не имеющий в на¬
стоящее время значения для судеб революции. Но это,
конечно, не так. Ведь борьба все же ведется, и в ряды
пролетариата частично проникает та «философическая
смута», которая в настоящее время господствует в бур¬
жуазной науке.
То, что в настоящее время наблюдается в буржуаз¬
ной философской мысли, не может быть оценено иначе,
как процесс неприкрытого гниения заживо разлагаю¬
щегося организма.
Некогда, в пору своей молодости, передовые пред¬
ставители класса буржуазии выковывали мощное фило¬
софское оружие. Даже когда буржуазия отказалась от
материалистических увлечений XVII и XVIII столетий,
ее философы-идеалисты создали такие стройные и мо¬
1 Даже ренегат Каутский, ругая большевиков, в своей брошюре
о .Диктатуре и демократии* не удержался от того, чтобы не отметить,
что в смысле теоретической, марксистской выдержанности и строгости
большевики — исключительный народ.
ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
18
гущественные системы, что, только встав на их
плечи, т. е. не отбросив, а теоретически преодолев, пе¬
реросши их, Маркс смог построить здание своего миро¬
воззрения, которое в настоящее время является миро¬
воззрением пролетариата.
Но с тех пор многое переменилось, и в настоящее
Время буржуазная мысль удовлетворяется самой откро¬
венной и плоской поповщиной, облачается в обветша¬
лые, более или менее заново подкрашенные костюмы
средневековья и на ряду с этим и в дополнение к этому
возводит в последний методологический принцип при¬
митивный вульгарный эмпиризм, т. е. отказ от тео¬
ретических обобщений, умаление значения роли мышле¬
ния, роли теоретической обработки опытных данных,
и преклонение перед голым «фактом», перед «чистым
опытом».
Для современной буржуазной науки характерно
громадное скопление опыта, знания новых фактов и
упадок методологии, с помощью которой «факты»
должны были бы подвергнуться теоретической обра¬
ботке, а «опыт» — обобщению. Все это дает повод об¬
рисовать положение так, как это сделал однажды в
своем докладе в Коммунистической академии тов. Ру-
даш.
«В Европе философии больше не суще¬
ствует. Недавно, в связи с двухсотлетней годовщи¬
ной со дня рождения Канта, неокантианство открыто
признало свое банкротство. Философская мысль Гер¬
мании (а ведь она издавна была «страной философов»)
представляет собой хаотическую смесь самых реакцион¬
ных и насквозь скептических умствований. То велича¬
вое, что некогда характеризовало немецкий идеализм,
14 диалектический материализм и механисты
давным-давно кануло в вечность, остался только идеа-
лиз м».
Мертвое, однако, бывает иногда опасно. Тем более
опасен разлагающийся живой труп. Прежде всего через
мелко-буржуазных лакеев, через «буржуазные рабочие
партии» II Интернационала, через ренегатов марк¬
сизма— тлетворная зараза перекидывается в рабочую
среду.
Судьба германской соц.-демократии, некогда марк-
систской, весьма в этом отношении характерна. Еще и
раньше, в годы своего «расцвета», германская социал-
демократия была довольно-таки беззаботна по части
вопросов чисто философской марксистской орто¬
доксии. Недаром в области философии «лучшее в миро¬
вой литературе марксизма, — как говорит Ленин, — дал
русский социал-демократ Плеханов», а также и сам Ле¬
нин, — можем мы добавить. У немцев же лучшим зна¬
током философских вопросов был, пожалуй, Ф. Ме¬
ринг, умерший, как известно, коммунистом. «Папа» же
II Интернационала, К. Каутский, написавший несметное
количество «ученых» трудов, никогда серьезно вопро¬
сов философии не касался, никогда не осмеливался в
эту область углубляться. Когда же это случалось,
Каутский путал, обнаруживал полную беспомощность
и даже прямо скатывался в своих рассуждениях к ма¬
хизму.
Если это было в типичной партии II Интернацио¬
нала и до 1914 г., то за окончательным политическим
крахом II Интернационала последовала полная сдача
философских позиций марксизма и открытый переход
в лагерь философской реакции. В настоящее время в
германской социал-демократической партии господ¬
ствует та же смесь эмпиризма и ф р е й д и з м а
ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
16
(о фрейдизме будет сказано ниже), неокантианства и
просто неприкрытой поповщины, которая господствует
в современной буржуазной идеологии вообще. Присяж¬
ным философом германской социал-демократии яв¬
ляется вульгарный неокантианец Форлендер, Берн¬
штейн давно уже сменил Каутского на посту «папы»,
после того как и сам Каутский капитулировал перед
ним; Бернштейн и его многочисленная свита усиленно
подчеркивают значение «эмпирии». Они — «чистые»
эмпиристы, противники всякой философской «метафи¬
зики» (а «метафизикой» они считают диалектику « ма¬
териализм), всяких философских «умствований».
В юбилейном сборнике, посвященном Бернштейну
(«Принципиальные основы текущей борьбы»), один из
ёго почитателей, доктор Марк, пишет: «В рамках марк¬
сизма ревизионизм есть скептическое отношение к абсо¬
лютной ценности этого идейного построения (т. е. марк¬
сизма), попытка положить конец догматическому око¬
стенению и проверить якобы вечные истины ортодоксии
в свете эмпирики».
Разумеется, фраза об «окостенении» и «вечных
истинах» предназначена лишь для прикрытия своего
отказа от всякого законченного теоретического по¬
строения. На ряду с этим Маркса третируют, как «схо¬
ласта», смеются над его «чахоточным утопизмом» и пр.
Одно время среди германской социал-демократии
прогремела книга одного видного социал-демократа,
бывшего некогда соратником Розы Люксембург, —
де-Мана. В книге содержится полный отказ от всех
основ марксизма. Прежде всего достается марксизму за
его диалектику, за его родство с гегелианством.
Диалектика, по мнению де-Мана, это — схоластика,
это — гегелианская выдумка. Своеобразной «заслугой»
16 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
де-Мана является его последовательность и открытый
разрыв с марксизмом по всей линии. На основе отказа
от философии Маркса, де-Ман приходит к отказу от
самых основных социальных категорий марксизма. Он
отбрасывает марксовскую «игру диалектическими по¬
нятиями» и доказывает, что реально существуют толь-
ко единичные предметы или отдельные личности, но не
«общие понятия». Общественных классов, например, по
его мнению, в действительности не существует, как
реальной категории об’ективного мира. Реально суще¬
ствуют только отдельные люди. Понятия буржуазии,
пролетариата — это только «представление в нашем
мозгу», точно также и такие понятия, как «капитализм».
Чистого капитализма нет; реально, эмпирически, суще¬
ствует только пестрая неорганизованная смесь различ¬
нейших хозяйственных единиц и единичных отноше¬
ний. «Нет действительности, которая соответствовала
бы понятию капитализма или понятию социализма. Со¬
циализм — только гипотеза, представление о возмож¬
ном общественном строе или, вернее, представление об
основах такого строя. Но и понятие капитализма по¬
крывается лишь представлением в нашем мозгу. Мы
воображаем, правда, что общество, в котором мы жи¬
вем, тождественно с этим представлением, но это за¬
блуждение. Выражения «капитализм» и «социализм» не
означают фактов во внешнем мире, они не суть явле¬
ния, а лишь категории, понятия, продукты абстрак¬
ции».
Все это не представляет собою изолированного, слу¬
чайного мнения отдельного «левого» социал-демократа.
Книга де-Мана нашла сочувственный отклик в социал-
демократической печати, и, в частности, центральный
орган германской социал-демократии в статье своего
ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
17
редактора почти нацело подписался под «марксист¬
скими» рассуждениями де-Мана.
Впрочем, чего же ждать от германских социал-демо¬
кратов, если некоторые наши доморощенные «орто¬
доксы» в чисто философском вопросе о «конкретном
понятии» не очень далеко ушли от де-Мана.
Но, как известно, «природа не терпит пустоты», и
на место научно-теоретических, материалистических
философских обобщений современная социал-демокра¬
тия должна поставить что-то иное. И вот на ряду с
эмпирицизмом выступает религия.
Австрийская социал-демократия в своей самоновей¬
шей программе (1926 г.) говорит официально, что «не
ведет борьбы против религии». На деле получается
обратное: насаждение религии, поддержка ее. Хри¬
стианский социализм разных сортов сейчас на Западе
очень в моде. Социал-демократия в целом постоянно
с ним блокируется. Отдельные же ее отряды целиком
сливаются с ним. «Не рабочее движение, а чистая этика,
идеализм составляет истинную сущность социа¬
лизма. Социализм в своих последователях разжигает
такое духовное пламя, которое по своему существу
религиозно, — социализм религиозен. «Антикато-
лического, нерелигиозного социализма вообще не су¬
ществует. Социализм коренится в этической цели».1
Так пишут современные социал-демократы, таково
их сгебо.
Если к этому еще прибавить всеобщее поклонение
перед фрейдизмом, который должен или дополнить,
или заменить марксизм, то получится более или менее
1 См. статью Баммеля „О католицизме и рабочем движении*,
«Под знаменем марксизма*, 1926, № 12.
Диалектический материализм» 2
18
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
законченная картина того, что собой представляет
мировоззрение современных «марксистов» социал-демо¬
кратии.
Носителями и проводниками как политических, так
и всяких иных (в том числе и философских) идей
марксизма в настоящее время являются только комму¬
нистические партии всех стран. Они оказываются, ко¬
нечно, не везде одинаково сильными, не везде одина¬
ково зрелыми практически и теоретически. В особом
положении находится ВКП — самая старая партия ле¬
нинизма, партия, работающая и развивающаяся в усло¬
виях диктатуры пролетариата. «Кому много дано, с
того много и спросится». Естественно, что на нашей
партии лежит громадная ответственность, так как она
не только должна быть верной хранительницей марк¬
систской философской ортодоксии, но должна также
развивать философию марксизма, распространять
ее, противопоставляя буржуазным идеологическим
влияниям. Тем более строго должны мы отнестись ко
всяким извращениям методологических оснований
марксизма в нашей собственной среде. Нельзя сказать,
чтобы подобных извращений у нас не имелось вовсе.
Нельзя сказать также, чтобы не имелось для них и кой-
какой почвы в наших современных условиях.
Углубление в чисто практические задачи строитель¬
ства, которого требует от коммунистов современная
обстановка, естественно, создает некоторую опасность
отрыва от теоретических интересов. Из новых сотен
тысяч коммунистов, недостаточно еще овладевших
ленинизмом теоретически и поглощенных более или
менее специальной и односторонней практической ра¬
ботой, может выдвинуться некоторый слой такого
ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
19
рода «практиков», которые представляли бы собою бла¬
гоприятную почву для распространения ограниченного
^практицизма», теоретического упрощенства, вульгари¬
заторства, эмпиризма.
Одно время среди нашей учащейся и в частности
партийной молодежи получило довольно значительное
распространение ученье некоего Эммануила Энчмена.
Ученье это как раз явилось «бьющим в нос» приме¬
ром вульгарного «упростительства» и «практи¬
цизма». Сущность энчменизма Бухарин определил в
свое время, как «смесь вульгарного «материализма» с
идеалистической сущностью». Энчмен — грубейший по¬
зитивист, эмпирик. Он «верит» только тому, что может
ощупать. Он знает, что ему, Эммануилу Энчмену, при¬
сущи психические переживания; но во всем остальном
мире психических явлений, по его мнению, нет, так
как то, что он видит и слышит, всегда есть только не¬
которое физическое выражение или физический корре-
лат психического (например, мимика человека смею¬
щегося, плачущего и пр.). Здесь «крайний» («левее
здравого смысла») «материализм», выражающийся в
отрицании существования психических явлений, сли¬
вается с крайним суб’ективным идеализмом, с солип¬
сизмом, который сводится к заявлению: только я суще¬
ствую, как психическое явление.
Ничего мудреного здесь нет. Крайности постоянно
сходятся. «Оригинальные мыслители никогда не де¬
лают абсурдных выводов», — говорит Маркс. Зато их
часто делают оригинальничающие карлики.
Разумеется, Энчмен не заслуживал бы внимания,
если бы энчменизм не собрал вокруг себя части уча¬
щейся молодежи. А это уже означало, что для вульгар¬
ного упростительства и эмпиризма имеется кой-какая
20 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
социальная база в условиях нашего времени. Какая же
это база? Настроения каких общественных слоев отра¬
жают подобные теоретические уклоны, вульгаризую-
щие материализи и клонящиеся в голому эмпиризму?
Бухарин, посвятивший «энчмениаде» специальную
статью, таким образом характеризовал ее социальные
корни:
«Прежде всего здесь налицо элементы нового
торгаша. Новый торгаш — индивидуалист. Он «при¬
емлет революцию» (в скобках, конечно). Этот новый
торгаш, с одной стороны, вульгарный материалист; в
обычных житейских делишках для него нет ничего «свя¬
того» и «возвышенного»; он привык смотреть на вещи
«трезво»; он не связан никакими традициями в про¬
шлом, не отягощен фолиантами премудрости и грудами
старых реликвий, — их выбросила за борт революция.
Сам он вышел не из «духовной аристократии», — нет,
он пришел сам из низов; он—чумазый, быстро про¬
лезший наверх, он — российско-американский новый
буржуй, без интеллигентских предрассудков. Он все хо¬
чет понюхать, пощупать, лизнуть. Он доверяет только
своим собственным глазам; он, в известном смысле,
весьма «физичен». Отсюда его вульгарно-мате¬
риалистическая поверхность. Наконец, но¬
вый торгаш грубо практичен и «вульгарен»,
он великий упроститель... Его задачи более элемен¬
тарны. .. он на практике своей должен быть грубым
эмпириком».1
Такова характеристика идеологии нэпмана, той
идеологии, жирные пятна которой расползаются иногда
в головах, а отсюда и на страницах печатных произве¬
1 Бухарин. Сб. .Атака-, 2-ое изд., стр. 167 —168
ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
91
дений некоторых наших, иногда весьма почтенных, ком¬
мунистов, когда они начинают заниматься «возвышен¬
ными» философскими материями.
Вульгарный материализм, на ряду с
суб’ективизмом, упростительство, эм¬
пиризм, — все эти идеологические эле¬
менты, которые прекрасно вскрыты Бухариным в
энчменизме, имеются не только в энчменизме.
Они встречаются в разных вариациях почти во всех тех
философских течениях в нашей партийной и околопар-
тийной среде, которые можно об’единить названием
ревизионистских и которые мы постараемся
ниже охарактеризовать.
Ревизионистские иноклассовые влияния имеют са¬
мые разнообразные пути, по которым они могут про¬
сачиваться в марксизм в наших современных условиях.
Известно, например, какую борьбу приходится вести
Комсомолу и партии с нигилистическими тен¬
денциями некоторой части нашей учащейся и ра¬
бочей молодежи (да и только ли одной молодежи?) в
вопросах быта, в вопросах брака, семьи и проч.
Как это ни покажется, может быть, странным и наду¬
манным, но фактически тут можно установить одну
линию, об’единяющую через ряд промежуточных сту¬
пеней такие явления, как случаи «нигилистического»
хулиганства в рабочей среде и суб’ективизм или эмпи¬
ризм некоторых наших философских уклонистов.
Общая база заключается в том, что революция разбила
старые представления и старые ценности, а новые за¬
конченные, твердые, положительные представления,
навыки и прочее еще не оформились, не сложились
прочно. Отсюда чисто отрицательная «революцион¬
22 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ность», анархический нигилизм, суб’ективизм, эмпи¬
ризм и пр.
Другим частичным источником искажающих марк¬
сизм влияний является та буржуазная ученая среда, ко¬
торая в наше время «меняет вехи» и так или иначе
«приемлет марксизм».
Один из наших ученых, проф. Самойлов, заявил
однажды в докладе, «что мы живем в атмосфере марк¬
сизма». Современные профессора в Советском союзе
действительно живут «в атмосфере марксизма», по¬
скольку в высшей школе, в литературе и проч. совет¬
ское государство и советская общественность создают
эту «атмосферу». И, конечно, очень хорошо, что мно¬
гие ученые естественники понемногу начинают усваи¬
вать марксизм, усваивать философские воззрения марк¬
сизма, если не его политические идеи. Для естественни¬
ков этот переход тем более «естественен», что современ¬
ное естествознание настолько же созрело для примене¬
ния в его рамках диалектического метода, насколько
сами ученые-естественники, в своем большинстве, для
этого еще далеко не «созрели».
Но все это не исключает все же того, что прилив но¬
вых «марксистских» попутчиков с этой стороны может
внести и вносит некоторые теоретические колебания,
некоторые чуждые марксизму настроения и представле¬
ния в наши собственные ряды. Можно с полным правом
назвать подобные явления «болезнью роста». Но при
этом остается необходимость с этой «болезнью» все же
бороться. Чтобы повести за собой новые кадры есте¬
ствоиспытателей и вообще представителей подлинной
науки, необходимо бороться с теми, кто дискредитирует
марксизм, выступая под его флагом. Здесь как раз
уместна итальянская поговорка: «Избави нас, боже, от
ФИЛОСОФИЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА
23
наших друзей, а с нашими врагами мы сами спра¬
вимся».
Смесь из марксистских представлений и далеко не
всегда материалистических обобщений, господствую¬
щая в головах многих представителей современного
«ученого мира» в советских условиях — эта смесь не¬
редко находит свое отражение в идеях даже весьма
«старых» марксистов.
Тов. Степанов, например, совершенно не случайно,
говоря о своих собственных статьях, писал: «Эти
статьи идут рука об руку с теми течениями современ¬
ной науки, в которых выражается, к сожалению, все
еще стихийная, а не осознанная... — тяга современного
естествознания к диалектическому материализму».
(Степанов. «Диалектический материализм и дебо-
ринская школа», стр. 5.)
Не понятно, зачем же марксистам итти рука в
руку с теми, кто еще даже не осознал стихийного
тяготения современного естествознания к материа¬
лизму? Не лучше ли итти с сознательными и «устано¬
вившимися» материалистами? Так или иначе, но факт
тот, что механисты действительно находятся всецело
под влиянием тех полу-материалистических и полу-
марксистских «попутчиков» марксизма, которые в на¬
ших советских условиях вербуются из среды ученых-
естественников.
Хорошо, конечно, что естественники стихийно дви¬
жутся в сторону материализма, но можно сомневаться
в том, что «развитие» самих механистов идет в
том же направлении.
Различные теоретические ошибки, поскольку они
встречаются в нашей марксистской литературе, конечно,
подлежат исправлению. Но они «не делают погоды»,
24
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
поскольку остаются более или менее случайными и
изолированными. Другое дело, когда ошибки накапли¬
ваются и выравниваются в некоторую линию, превра¬
щаются в систему ошибок. Тогда уже можно говорить
об уклоне, ревизии или даже о полном отходе от марк¬
сизма. К сожалению, в настоящее время приходится го¬
ворить именно о целой системе ошибок, последова¬
тельно развиваемой некоторыми группами
наших литераторов.
II. ОТРИЦАНИЕ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА И
ТЕОРИИ ДИАЛЕКТИКИ.
В январе 1927 г. «Общество воинствующих материа¬
листов», ставящее своей задачей «борьбу за диалекти¬
ческий материализм против религиозного мракобесия,
идеализма и ревизионизма всех видов и направлений»,
в своей резолюции по вопросу о текущих задачах
охарактеризовало современное положение таким обра¬
зом:
«С одной стороны, мы имеем известное оживление
в Союзе враждебных марксизму идейных течений, с
другой — в среде самих марксистов возникновение
направления так называемых механистов, отрицающего
некоторые важнейшие положения материалистической
диалектики основоположников марксизма».1
В настоящее время никто из знакомых с современ¬
ным положением философии марксизма в СССР не ста¬
нет оспаривать то, что у нас имеются два основных
направления, «два лагеря», непримиримо настроенных
друг- против друга. Один «лагерь» — это лагерь марк¬
систов, отстаивающих диалектический материализм
Маркса и Энгельса, другой лагерь — лагерь искажаю¬
щих философию диалектического материализма лите¬
раторов, главным образом механистов.
Некоторые сомнительные «ортодоксы» марксистской
1 См. .Под знаменем марксизма*, 1926, № 12, стр. 236.
26
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
философии говорят о «новой школе марксизма»,1
причем «новой школой» они называют как раз орто¬
доксально марксистское направление в философии,
возглавляемое в настоящее время А. М. Дебориным.
Этой-то якобы «новой» школе диалектиков-
материалистов, продолжающих традиции и
линию марксизма в философии, противостоят меха¬
нисты.
Представители «механического материализма» не
раз высказывались в духе непримиримой борьбы со
«школой Деборина», как они любят выражаться. «Если
выделить самое ядро, самое существо спора, то будет
ясно, что развернулась борьба между двумя неприми¬
римыми точками зрения», писал тов. Степанов.
Разумеется, с другой стороны, позиция самого Сте¬
панова, А. К. Тимирязева, Л. И. Аксельрод и других
«механистов» находит должную оценку со стороны
диалектиков. В своем заключительном слове на диспуте
в Институте научной философии в Москве тов. Дебо-
рин таким образом резюмировал смысл выступлений
своих противников:
«Ваши выступления здесь, — сказал он, обращаясь
к «критикам», — носили определенно ликвидатор¬
ский характер, и поэтому мы вас и будем квалифици¬
ровать, как ликвидаторов марксизма, и бу¬
дем вести против вас беспощадную борьбу».
Лагерь наших современных критиков диалектиче¬
ского материализма вовсе не представляет собою ка¬
кого-либо законченного направления, обладающего
стройной системой взглядов. Наоборот, это — чрезвы¬
1 Выражение принадлежит А. К. Тимирязеву. .Вестник Коммуни¬
стической академии*, XVII, стр. 129
ОТРИЦАНИЕ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА
27
чайно пестрый конгломерат различных группок и на-
правленьиц. «Это — своеобразный блок из фрейдистов,
бывших и настоящих махистов, из молчаливых и гово¬
рящих эмпиристов и механических материалистов.
Сюда же примыкают и представители релятивизма,
суб’ективизма и пр.».1
Наиболее общее, что их об’единяет, это — отрица¬
тельное отношение к диалектике и искажение диалек¬
тики, ее механическое понимание. Их об’единяет
«критическое» отношение к основному ортодоксаль¬
ному направлению диалектического материализма. В
этом смысле можно говорить об одном ревизио¬
нистском лагере в современной философии
марксизма. Но если перейти к рассмотрению поло¬
жительного содержания их философских
идей, то придется говорить о нескольких различных
теченьицах и направленьицах, причем каждое из этих
«направленьиц», в свою очередь, не представляет собою
чего-нибудь стройного и законченного.
Первая откровенно ликвидаторская тенденция, ко¬
торую проявляют некоторые «критически мыслящие
личности» из рядов философской «оппозиции», — это
ликвидировать философию вообще; а так
как речь идет не о какой-либо другой, а именно о
марксистской философии, то дело сводится к ликви¬
дации философии марксизма. Первым выступал с та¬
ким предложением еще в 1922 г. тов. С. Минин в статье
с характерным заглавием: «Философию за борт!» Надо
сказать, что это было весьма храброе выступление с
открытым забралом. Тов. Минин знал, что он выступает
против Плеханова и против Ленина и не старался скрыть
1 Д е б о р и н. .Летописи марксизма*, кн. 2-ая, стр. 14.
28
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
это. Самый термин «философия марксизма» кажется
ему «немарксистским», и он обрушивается на Плеха¬
нова и Ленина за то, что они этот «термин» упо¬
требляли, за то, что они «возились» «с какой-то» не¬
существующей «философией марксизма».
«Возня с какой-то философией марксизма» с точки
зрения С. Минина «гораздо вреднее и опаснее, чем ре¬
лигия пролетариата».
«В. И. Ленин, — пишет С. Минин, — как и Плеханов,
употребляет отжившую терминологию: «философия
марксизма», «философские выводы естествознания»
и т. д., однако такая терминология у Ленина, как
и у Плеханова, является лишь рядом описок — не
больше».1 «Оборудуя и достраивая наш научный ко¬
рабль, позаботимся в первую очередь с капитанского
мостика вслед за религией без остатка вышвырнуть за
борт и философию».
Выступление С. Минина против философии марк¬
сизма не осталось в тот момент одиноким. Кой-кому оно
понравилось. Так, один из горе-«теоретиков» марк-
сизма В. Рожицын в журнале, издававшемся ЦК
КП(б) У, писал: «Мужественный призыв тов. Минина —
философию за борт! — выражает подлинный боевой
лозунг современного революционного марксизма».
С. Минин — самый грубый эмпирик и вульгариза¬
тор. Его откровенно разухабистое выступление против
философских позиций Плеханова и Ленина было воз¬
можно еще в тот момент, когда партия не могла в та¬
кой мере следить за положением на «идеологическом
фронте», как сейчас. За эти годы партия и партийные
массы не стояли на месте, и в наши дни столь и е п р и-
1 Из ст. С. Минина в .Под знаменем марксизма*, 1022, № 12.
ОТРИЦАНИЕ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА
29
крытое теоретическое ликвидаторство уже невоз¬
можно.
Взять хотя бы современных марксистов-механистов.
Они не скажут просто: «философию за борт!» Но они
могут сказать и говорят: «наука — сама себе филосо¬
фия». Разница этих двух выражений, однако, чисто сти¬
листическая. По существу же они совпадают вполне.
Тов. Степанов пишет: «Исторический материализм
продолжает то дело, которое в одной своей части вы¬
полнено философским материализмом
или, употребляя более ясное и прямое (?)
выражение, выполнено современным есте¬
ствознанием».
В этих словах тов. Степанов совершенно отчетливо
упраздняет философию марксизма, заменяя ее «совре¬
менным естествознанием».
Дальше тов. Степанов пишет: «Для марксизма не су¬
ществует области какого-то «философствования», от¬
дельной и обособленной от науки: материалистическая
философия для него последние и наиболее общие вы¬
воды естествознания».1
1 И. Степанов. „Исторический материализм и современное
естествознание*. М., 1924, стр. 56 и 57. Такую же, по существу, по¬
зицию занимает Семковский, немало писавший о связи естествознания
с философией. Связь — это не плохо. Но у Семковского и других меха¬
нистов связь превращается просто вподчинение марксистской фи¬
лософии „современному* естествознанию. А это уже никуда не годится.
Механистам, истерически кричащим о якобы „махизме* их про¬
тивников, не мешало бы знать, что откровенно заменяющая мате¬
риализм махизмом иублика точно также определяет диалектический
материализм, как и Степанов. Например, О. Иепсен в „Монистиче¬
ских ежемесячниках (февраль 1928 г.) пишет: „Диалектический мате¬
риализм есть смесь естественно-научного или, лучше сказать, меха¬
нического матреиализма с историческим материализмом*. Имеется ли
30
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Итак, по рецепту тов. Степанова, мы должны на место
философии марксизма поставить «последние» (послед¬
няя мода) идеи, преподносимые миру современным
естествознанием. А что такое «современное естество¬
знание»? При всех своих блестящих положительных до¬
стижениях оно пропитано множеством предрассудков
методологического, философского характера. Поэто-
му-то в № 3 журнала «Под знаменем марксизма» за
1922 г. Ленин писал, что «без солидного философ¬
ского обоснования никакие естественные науки, ни¬
какой материализм не может выдержать борьбу против
натиска буржуазных идей и восстановления буржуаз¬
ного миросозерцания».
Совершенно в духе Минина, в духе Энчмена, в духе
всех обывательски настроенных вульгаризаторов И. И.
Степанов пишет: «Ничего ясного, ничего отчетливого
не дают наши агностики и махисты (под «агностиками
и махистами» тов. Степанов подразумевает диалекти-
ков-материалистоз; где не хватает разума и аргумен¬
тов, там пускают в ход всякие «ужасные» словечки)
для производственной практики в промышленности и
сельском хозяйстве. Уже теперь существуют «ножни¬
цы», между этой практикой и деборинскими воззре¬
ниями». (Степанов. «Диал, материализм и деборин-
ская школа», стр. 21.)
На «практику» можно ссылаться различно. Практика
буржуа, практика мелкого лавочника такова, что лавоч¬
ник плюет на всякую «теорию» и, конечно, на всякую
«философию», которая для него является предметом
здесь какая-нибудь разница между откровенно предлагающим соеди¬
нить марксизм с махизмом Иенсеном и неоткровенным богдановцем
тов. Степановым? И там и здесь общее непонимание сущности
марксизма и материализма.
ОТРИЦАНИЕ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА
81
насмешки, как что-то совершенно «бесполезное». Не
думаю, чтобы подобный «практицизм» соответствовал
духу революционного марксизма. Он соответствует зато
духу энчменизма, духу идеологии нэпмана-рвача.
Всем хорошо известно, что ссылаться на «практику»
было и осталось любимейшим занятием как реформи¬
стов от политики, так и ревизионистов в философии.
Достаточно указать на Богданова, который в данном
случае является подлинным учителем И. И. Степанова.
Философия связана с практикой, но очевидно не так,
как хочется механистам. Механистам не нравится, что
Деборин «ничего не дал» для «производственной прак¬
тики в сельском хозяйстве». Но философия связана с
сельским хозяйством не непосредственно, а через боль¬
шой ряд промежуточных звеньев.
Обывательский практицизм, страдающий кротиной
близорукостью, относится ко всякой философии, как
известная крыловская свинья к дубу, дающему желуди:
связи между желудями и дубом она просто не заме¬
чает.
Подобные «анти-философские» настроения встречают¬
ся и в очень «ученой» среде. О таких «ученых» Энгельс
писал в следующих словах: «Естествоиспытатели во¬
ображают, что они освобождаются от философии, когда
игнорируют или бранят ее. Но так как они без мышле¬
ния не могут двинуться ни на шаг, для мышления же
необходимы логические определения, а эти определе¬
ния они неосторожно заимствуют либо из ходячего тео¬
ретического достояния так называемых образованных
людей, над которыми господствуют остатки давно про¬
шедших философских истин, либо из крох обязатель¬
ных университетских курсов по философии (что при¬
водит не только к отрывочности взглядов, но и к ме¬
32
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
шанине из воззрений людей, принадлежащих к самым
различным и по большей части к самым скверным шко¬
лам), либо из некритического и несистематического
чтения всякого рода философских произведений, то в
итоге они все-таки оказываются в плену у философии,
но, к сожалению, по большей части самой скверной; и
вот люди, особенно усердно бранящие
философию, становятся рабами самых
скверных вульгаризованных остатков
самых скверных философских систем.
(Энгельс. «Архив Маркса и Энгельса», стр. 41; раз¬
рядка моя. А. С.)
Вот такая именно история случилась и со многими
нашими современными противниками «деборинской
школы», взявшимися судить о том, о чем они имеют
лишь очень отдаленное представление.
Тов. Степанов (как и другие механисты), во-первых,
смешивает естественно-научный материализм с фило¬
софским; во-вторых, не видит реакционных сторон в со¬
временной «буржуазной» науке, полагаясь на ее «по¬
следнее слово»; в-третьих, он отказывает марксизму
в праве руководить, направлять современное есте¬
ствознание, а не плестись в хвосте его «последних
выводов».
Всякому, немножко знакомому с историей филосо¬
фии, известно, что можно признавать существование
материи в естественно-научном смысле слова, можно
признавать закон причинности и отвергать всякую теле¬
ологическую точку зрения на явления природы, можно
бороться против естественно-научного идеализма (в
форме витализма и пр.) — и все же при всем этом оста¬
ваться идеалистом в области философии. Можно при¬
вести сколько угодно подобных примеров. Кант призна¬
Отрицаний философии марксизма
83
вал материю, причинность, боролся против телеологии
(по отношению к «об’ективному» миру природы), про¬
тив спиритизма и т. д., разрабатывал теорию проис¬
хождения солнечной системы из первоначальной туман¬
ности, и все же все это не мешало ему быть одним из
величайших философов-идеалистов, не признавать про¬
странства и времени вне человеческих представлений.
В скобках сказать, в понимании Канта (а не марк¬
систов, разумеется) «об’ективный» мир природы — это
мир явлений, а не мир вещей в себе. Это к сведению тех
критиков первого издания моей книги, которые решили,
что здесь смешаны «два периода» в развитии Канта.
Смешивать здесь нечего, т. к. и в свой «критический»
период Кант рассматривал природу в категориях
пространства, времени, причинности и т. д. Но «об’ек-
тивная» природа Канта не была для него «вещью в себе».
Естествоиспытатель Гельмгольц является одним из
«столпов» механистической физики. Это не мешало ему
отгораживаться от материализма. Ленин в своей фило¬
софской работе («Материализм и эмпириокритицизм»)
как раз и занимается вопросом о том, как лучшие поло¬
жительные достижения естествознания, как его успехи
могут порождать и порождают путаницу и антимате¬
риалистические представления в головах тех естество¬
испытателей, которые не имеют определенной материа¬
листической философской подготовки.
Никто не думает отрицать величайшие успехи совре¬
менного естествознания в его специальных областях.
Но, расшаркиваясь перед «современным естествозна¬
нием», нельзя забыть, что из рядов его величайших
представителей исходит в настоящее время не мало ре¬
акционных идей, перед которыми мы спасовали бы,
если бы сложили свое философское оружие
Диалектический материализм. 8
34
Диалектический материализм и механисты
«Современное естествознание», в лице своих видней¬
ших представителей, проповедует соединение науки и
религии. Пойдут ли на это наши механисты?
В. Томсон, величайший физик наших дней, говорит,
что «истинная религия и истинная наука вполне гармо¬
нируют друг с другом». Не так давно умерший видней¬
ший биолог Оскар Гертвиг в предисловии к своей книге
писал: «Написать эту книгу побудило меня не что иное,
как желание помочь торжеству идеализма». Можно при¬
вести еще десятки, если не сотни, подобных заявлений
передовых современных натуралистов Запада, да и не
только Запада. Тот же Оскар Гертвиг в указанной выше
книге писал: «Если не обманывает знамение времени, мы
вновь находимся на переломе духовного развития чело¬
вечества, Двухсотлетнее господство разных материа¬
листических учений, против которых, подобно проро¬
кам, поднимали свой голос такие крупные писатели, фи¬
лософы и натуралисты, как Гете, Фихте, Карлейль, Карл
фон Бер, Фехнер и Мах — начинает уступать в связи
с моментом господству идеализма».1
Конечно, в этих словах О. Гертвига отражается
«умонастроение» широких кругов современных есте¬
ствоиспытателей в капиталистических странах.
Можно и должно различать между личными рели¬
гиозными и прочими воззрениями ученых естественни¬
ков и той об’ективной ролью; какую играют их теорети¬
ческие работы в специальных областях. Нельзя упу¬
скать из виду то обстоятельство, что опыт истории
естествознания показывает, что эмпирический есте¬
ственно-научный материализм очень часто совмещается
с идеализмом в общих философских вопросах. Узкое
1 См. сборник .Десять лет советской науки*, 1927, стр. 323.
ОТРИЦАНИЕ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА
35
естественно-научное обоснование материализма недо¬
статочно, он должен быть обоснован методологически,
на основе наиболее общих принципов научного миро¬
воззрения — а это уж дело философии. Несомненная
связь положительных наук и философии не может пре¬
вратиться в тождество философии и положительных
наук.
Всего этого не понимают наши механисты. А не по¬
нимая этого, они скатываются на позиции эмпириков-
позитивистов, не желающих ничего видеть и знать за
пределами «непосредственного опыта». Это равно¬
сильно, как я уже упомянул, хвостизму по отношению
к той «положительной науке», разработка и пропаганда
которой еще пока что находится почти целиком в руках
людей, ничего общего с марксизмом не имеющих.
Итак, Ленин говорит,1 что естествознание само по
себе не может оградить от буржуазных идей; оно само
нуждается в руководстве со стороны материалистиче¬
ской философии. Каким же образом согласовать то, что
говорит Ленин, с тем, что пишет о философии тов. Сте¬
панов? Ясно, что никак это согласовать нельзя.
Люди, которые берут на веру всякое «последнее»
слово «современного естествознания», подобны тем, о
которых у Некрасова сказано:
«Что ему книжка последняя скажет, то на душе его
сверху и ляжет».
Немудрено, если ради какой-нибудь последней
«моды», распространенной среди большинства совре¬
менных буржуазных натуралистов, они отвернутся от
материализма и диалектики.
Когда механистам говорят, что признать «выводы»
1 См. цитату из его статьи выше, на стр. 30-ой.
36
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МвХаНИСТЫ
естествознания (например, закон сохранения энергии,
электронную теорию и т. д.) еще не значит стать мате¬
риалистом и диалектиком, когда механистам говорят,
что некоторые выводы «современного естествознания»
(напр., пансексуализм Фрейда) противоречат филосо¬
фии марксизма, т. е. не выдерживают его методологи¬
ческой критики, то на все это механисты отвечают:
«Тем хуже для философии марксизма», «Наука сама по
себе философия». «Современное механическое миро¬
воззрение должно всемерно стараться освободить себя
от всякой философии».1
И после всего этого некоторое время стоявшая в
«стороне от схватки», но затем примкнувшая к механи¬
стам Л. И. Аксельрод (Ортодокс) заявляет: «Ознакоми¬
вшись с полемикой... я пришла к убеждению, что у
противников Деборина отрицания философии нет». (См.
ее статью в «Красной Нови» за 1927 г., № 5, стр. 155.)
Другие соратники механистов, стоящие ближе к диа¬
лектике, не решаются упразднить сейчас же филосо¬
фию диалектического материализма, но предполагают
сделать это в более или менее близком будущем. Так,
тов. С. Васильев в своей книге: «Философия и ее про¬
блемы» пишет, что «самостоятельное существование
философии будет иметь в недалеком будущем свой
конец». Это будет, по его мнению, тогда, «когда поло¬
жительная наука освободится от ограниченности сво¬
его эмпирического метода, когда она вполне усвоит
теоретические результаты, достигнутые многовековым
развитием мышления».
Однако, и этот «левомеханистический» взгляд на
* Сборник „Механистическое естествознание и диалектический мате¬
риализм", стр. 52.
ОТРИЦАНИЕ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА
37
будущее философии является совершенно ошибочным.
Почему не нужна будет «в недалеком будущем» «алгеб¬
ра науки», каковой является философия в нашем смы¬
сле слова? Почему будет не нужна общая методология
науки в тот момент, когда само содержание науки
усложнится еще больше?
В противополжность тов. Васильеву Энгельс писал:
«Лишь когда естествознание и история впитают в себя
диалектику, лишь тогда весь философский хлам, за
исключением чистого учения о мышлении, станет из¬
лишним, растворится в положительной науке».
Тов. Васильев сам цитирует эту фразу Энгельса. По¬
чему же он говорит противоположное Энгельсу? По¬
тому, что он его не понял. Потому, что он разделяет
со своими друзьями-механистами их общий недоста¬
ток: понимание того, что же собственно представляет
собою философия в марксистском смысле слова. По¬
этому Васильев слова Энгельса о «философском хламе»
принял на счет своего содержания диалектического ма¬
териализма. Вышло так, что диалектический матери¬
ализм — это и есть «хлам».
Что в самом деле говорит Энгельс? Он говорит, что
и в будущем останется от философии «чистое учение
о мышлении». Но ведь это и означает, что останется
философия в том смысле, как мы ее понимаем.
С точки зрения диалектического материализма со¬
вершенно ясно, что если мы говорим о философии, как
об «алгебре науки», как об общей методологии, как об
«учении о мышлении», то при этом подразумевается,
что общие законы мышления отражают общие законы
бытия. Одно не отделимо от другого. Диалектика
является «наукой об общих законах движения» в мы¬
шлении потому и постольку, поскольку она является
38
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
в то же время наукой об общих законах движения
в природе и обществе. Признавая эту неразрывную
связь методологии мышления с «методологией бытия,
мы остаемся на позициях материализма. Отвергая или
игнорируя эту связь, мы неизбежно скатывались бы к
рациональному, к априоризму и идеализму.
Если механисты считают, что в будущем философии
придет конец, на том основании, что от нее остается
«только» учение о мышлении или «логика и диалекти¬
ка», как выражается в одном месте Энгельс, то эта
ошибка механистов вытекает из непонимания ими су¬
щества материалистической логики марксизма. Логику
и диалектику они понимают односторонне. Между тем
на деле, как говорит Ленин, «логика есть учение не
о внешних формах мышления, а о законах развития
всех материальных, природных и духовных вещей, т. е
развития всего конкретного содержания мира и позна¬
ния его, т. е. итог, сумма, вывод истории мира». «Диа¬
лектика, — писал Ленин, — в понимании Маркса, со
гласно также Гегелю, включает в себя то, что ныне зо¬
вут теорией познания, гносеологией».
У современных критиков нет никакого представле¬
ния о том, что философия марксизма — это совсем
не то, что старая метафизическая философия, филосо¬
фия в ее так называемом «школьном понимании». Эн¬
гельс в книге «Л. Фейербаха» сказал, что «философии
в старом смысле слова приходит конец». Но
ни Маркс, ни Энгельс вовсе не думали вообще выбра¬
сывать всякую философию «за борт». Наоборот,
«гениальность Маркса и Энгельса, — пишет Ленин, —
состоит как раз в том, что в течение очень долгого пе¬
риода, почти полустолетия, они развивали материа¬
Отрицание философии марксизма
39
лизм, двигали вперед одно основное направление
философии».1
Наша марксистская философия, это — теория науч¬
ного мышления, это — общая методология. Диалекти¬
ческий материализм и материалистическая диалек¬
тика— таково ее содержание. «Критический» отказ от
«всякой» философии является на деле отказом от кри¬
тики буржуазной науки методами марксизма, призна¬
нием того, что у марксизма нет своего особого метода.
И в самом деле, вслед за отказом от философии у на¬
ших философских ревизионистов следует ожесточен¬
ная атака специально против диалектики как метода
марксизма.
Разумеется, наступление не всегда ведется «в откры¬
тую». К тому же и сами механисты далеко не всегда
дают себе отчет в истинном смысле той борьбы, кото¬
рую они ведут. Тов. Степанов, например, возмущается,
когда говорят, что он против диалектики. Так, в своем
обращении к Обществу воинствующих материалистов
он писал:
«Неужели же кто-нибудь из членов Общества во¬
ображает, будто бы среди коммунистов-ленинцев най¬
дутся люди, которые третировали бы изучение мате¬
риалистической диалектики, как схоластику, а диалек¬
тику рассматривали бы, как второстепенную, несуще¬
ственную часть марксистского мировоззрения? Ясно,
что такие люди никак не могли бы быть ленинцами-
коммунистами».
Прекрасно. Но нельзя же о человеке судить по тому,
что он о себе думает. Не всякий, «признающий» диалек¬
1 Л е н и и. Собр. соч., т* X, стр. 284*
40 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
тику на словах (хотя бы и вполне искренно), тем са¬
мым служит ей и на деле. На деле механисты ведут
борьбу против диалектики.
Прежде всего атака ведется в таком замаскирован¬
ном виде: нападают не на диалектику как метод, а на
«теорию диалектики» или же на «гегельянство».
Механисты, начиная с Семковского, заявляют, что
диалектика хороша как метод, но как можно говорить
о какой-то теории диалектики? Как можно разрабаты¬
вать теорию диалектики? — спрашивают механисты.
Ведь диалектика, как метод, требует «погрузиться в ма¬
териал», требует следовать об’ективному развитию
явлений. Тов. Тимирязев, например, пишет: «Для из¬
влечения этой диалектики из природы необходимо в
каждом конкретном случае самое тщательное исследо¬
вание, которое надо довести до того, чтобы диалектика
сама выступала в качестве результата всего исследо¬
вания». («Диалектика в природе», сб. III, с. 46.)
Итак, диалектика у Тимирязева вместо того, чтобы
помогать ставить исследование, помогать добывать
«результаты», сама должна явиться в конце исследова¬
ния как ни для чего больше уже не нужный «ре¬
зультат».
Люди «слышали звон». Из верного положения, что
в диалектике, как выражается Гегель, «доказать — зна¬
чит показать, как предмет из себя и через самого себя
становится тем, чем он есть», из этого механистами де¬
лаются совершенно абсурдные выводы. Они утвер¬
ждают: диалектика может быть методом, но не может
быть наукой, не может быть теории диалектики. Но это
также означает, что в их толковании диалектика теряет
всякое теоретическое «организующее», руководящее,
командующее значение. По этому представлению
ОТРИЦАНИЕ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА
41
имеются только факты, которые «диалектика» конста¬
тирует, регистрирует и только. Диалектика почтитель¬
но уступает место голой «эмпирии», голым «фактам».
Диалектика становится таким образом синонимом
теоретического хвостизма.
Если диалектика есть единственно правильный ме¬
тод, почему не подвергнуть этот метод разработке, си¬
стематизации, развитию, почему не создать теории диа¬
лектики? Если диалектика мышления отражает диалек¬
тику бытия, всеобщие законы движения, почему нельзя
эти законы изучать, обобщать, подвергать теоретиче¬
скому анализу, теоретическому исследованию?
Семковский и другие издеваются над тем, что диа¬
лектики говорят о теории диалектики, о диалектике как
науке, а 3. Цейтлин заявляет, что вопрос о диалектике
как науке «чисто схоластический», если его ставить вне
условий пространства и времени» (т. е. повидимому,
подобно тов. Васильеву, 3. Цейтлин считает, чтг «в не¬
далеком будущем» теория диалектики окажется излиш¬
ней). Каждый из них считает при этом, что он стоит на
почве ортодоксальнейшего марксизма. Но тогда, спра¬
шивается, как Энгельс мог писать об «общем характере
диалектики как науки»?1 Каким образом Ленин, вслед
за Марксом, мог определять диалектику как «науку об
общих законах движения как внешнего мира, так и че¬
ловеческого мышления»?2
Тов. Степанов приходит в ужас от того, что диалек¬
тику приводят в систему. «У наших противников диа¬
лектический метод превращается в философскую си¬
стему», пишет он («Диалект, материализм и пр.»,
1 См. .Архив Маркса и Энгельса •, т. II, стр. 221.
1 См. Л е и и н. Сочинения, 1-ое изд., т. XII, ч. 2, стр. 323.
42
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
стр. 8). Но если Энгельс и Ленин говорят о диалектике
как «науке», то почему же не говорить о «системе» или
о «теории диалектики»? Или может быть какая-то бес¬
системная наука?
Механист «слышал звон», что у Гегеля диалектиче¬
скому методу сопутствовала идеалистическая система
философии. Но ведь то была идеалистическая
система, противоречившая методу. У нас же —
материалистическая «система» (в смысле на¬
уки, теории), материалистическая теория диалектики.
Что тут общего?
Ясно, что ни Семковский, ни другие механисты не
могут претендовать на то, чтобы их считали в вопро¬
сах диалектики последователями Маркса, Энгельса, Ле¬
нина. Словесное признание «диалектики как метода» —
при отсутствии понимания того, как возможна теория
диалектики, как возможна диалектика как наука —
только говорит о сомнительном знакомстве механистов
с диалектикой, которая осталась для них «неведомой
землей».
Другой способ «косвенной атаки» против диалек¬
тики, излюбленный способ наших механистов, — это
критика диалектики под видом критики «гегельянщи-
ны». Своих противников механисты обвиняют в увле¬
чении Гегелем. При этом, конечно, не критикуют Гегеля
по существу (а Гегеля критиковать и нужно, и по¬
лезно, одновременно учась у него диалектике), так как
его не знают, а просто об’являют «гегельянщиной»
содержание подлинной материалистической диалек¬
тики.
Вот один, достаточно яркий и убедительный, при¬
мер.
На диспуте в Государственном научно-исследова¬
ОТРИЦАНИЙ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА
43
тельском институте выступает «марксист» Боричевский
и заявляет: «К моему большому удивлению, тов. Тими¬
рязев (оба они «механисты». А. С.) употребляет такие
бесспорно «философские» термины, как переход коли¬
чества в качество. Это — чисто гегельянская термино¬
логия; положительной науке она и даром не нужна».1
Для всякого чуточку знакомого с марксизмом должно
быть после этого совершенно ясно, что Боричевский,
хотя и считает себя марксистом, ничего общего
с марксизмом не имеет.
Боричевский наиболее откровенен. А вот, когда
Л. И. Аксельрод выступает на диспуте и сводит диалек¬
тику к форме изложения,2 то спрашивается:
есть ли это только «оговорка» или же отказ от диалек¬
тики как метода научного мышления? Боричевский
открыто выступает против диалектики, а тов. Степанов
пишет «Очерки современного мировоззрения»,8 целую
книгу, долженствующую говорить о «марксизме и лени¬
низме», и на протяжении 82 страниц ни разу не упоми¬
нает даже слова «диалектика». Разумеется, это вовсе
не случайно. Дело вовсе не в том только, что он не упо¬
требляет слова «диалектика», дело в том, что он не ис¬
пытывает нужды в этом слове, так как все его «меха¬
нистическое» мировоззрение по существу нахо¬
дится в противоречии с диалектикой, хотя сам тов. Сте¬
панов этого не признает.
Известно, какое значение придавали основополож¬
1 См. сборник, выпущенный .механистами*: .Механистическое
естествознание и диалектический материализм*.
2 См. .Летописи марксизма*, кн. II, стр. 33.
3И. Степанов. .Исторический материализм и современное
естествознание*. М., 1924. С подзаголовком .Марксизм и ленинизм.
Очерки современного мировоззрения*.
44 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ники марксизма диалектике Гегеля. Ленин в программ¬
ной статье, посвященной журналу «Под знаменем мар¬
ксизма», писал, что группа сотрудников этого журнала
должна составить своего рода «общество друзей геге¬
левской диалектики». «Сотрудники журнала... должны
организовать систематическое изучение диалек¬
тики Гегеля с материалистической точки зрения,
т. е. той диалектики, которую Маркс практи¬
чески применял ив своем «Капитале» и в своих
исторических и политических работах». Опираясь на
то, как применял Маркс материалистически понятую
диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать
эту диалектику со всех сторон, печатать в журналах
отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать
их материалистически, комментируя образцами приме¬
нения диалектики у Маркса, а также теми образцами
диалектики в области отношений экономических, поли¬
тических, каковых образцов новейшая история, осо¬
бенно современная империалистическая война и рево¬
люция, дают необыкновенно много».1
Взгляд на Гегеля как на философского предше¬
ственника марксизма, в течение десятилетий являлся
в марксистской среде бесспорным. Но вот являются не¬
умеренные последователи «механистических маркси¬
стов» и по вопросу о Гегеле заявляют, что это просто
реакционер, и восклицают: «И подобного рода фило¬
софы об’являются предтечами революционного мар¬
ксизма! *
А проф. Самойлов, об’являющий себя последовате¬
лем наших «механистов», бросает упрек в гегелевском
1 Ленин. .О значении воинствующего материализма*.
2 Заявление Боричевского. Цитированный сборник .Меха¬
нист. естествознание и диалект, материализм*, стр. 51.
ОТРИЦАНИЕ ФИЛОСОФИИ МАРКСИЗМА
45
идеализме диалектическому материализму в целом, не
прикрываясь никакими псевдонимами в роде «деборин-
ской школы», как это любят делать более стыдливые
критики. Профессор Самойлов просто пишет: «Диалек¬
тический материализм, как мы все знаем, родился в
идеалистической обители, и это его происхождение не
осталось без влияния на дальнейший его характер, что
чувстуется еще и теперь».1
Нападки на диалектику, открытые или завуалиро¬
ванные посредством упреков в «гегельянщине», не явля¬
ются в истории марксизма чем-то новым. Около три¬
дцати лет назад Бернштейн нападал на марксизм за его
диалектику. С тех пор эта повадка не исчезла. И теперь
немецкие социал-демократы-ревизионисты сами о себе
пишут:
«Для философии ревизионизма, на
ряду с ее отмежеванием от диалектики,
еще характернее отмежевание от Ге¬
геля и марксового решительного монизма...». *
Понятно, что речь может итти не об идеалистиче¬
ской системе Гегеля, которую марксизм никогда не при¬
нимал и которую никто из марксистов и сейчас не за¬
щищает; речь идет о гегелевской диалектике.
Положительно немыслимо себе представить такого
политического ренегата из предавших марксизм теоре¬
тиков социал-демократии, который не издевался бы над
«гегельянством» основоположников марксизма. Вот еще
не так давно в одной из очередных книжек социал-
демократического «Социалистического ежемесячника»
Пауль Линке (сам идеалист и Гегеля ненавидит не за
1 См. .Под знаменем марксизма", 1926, № 4 — 5, стр. 63.
8 Из статьи д-ра Маркса в юбилейном сборнике, посвященном
Бернштейну.
46
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
идеализм, конечно, а за ту «алгебру революция», какой
является разрабатывавшаяся Гегелем диалектика) напа¬
дает на Маркса за «гегельянство».
«Если Маркс, — пишет Пауль Линке, — и признал
главнейшие недостатки этой философии и противопо¬
ставлял оторванности от фактов, проявившейся в ге¬
гельянстве, свою любовь к фактам, — то все же он ни¬
когда не сумел целиком освободиться от влияния этого
мыслителя. Совсем как Гегель, Маркс говорит об исто¬
рических процессах отрицания, даже об отрицании
отрицания, и речь о диалектическом методе и диалек¬
тическом процессе до настоящего времени пользуется
тем большим успехом у всех марксистских философов
и философствующих марксистов, чем менее ясен смысл,
заключающийся в этих выражениях».
Когда ревизионисты из лагеря ныне контр-револю-
ционной социал-демократии говорят о своем «отмеже¬
вании» от Гегеля, то о каком «Гегеле» может итти речь?
Говорят об отмежевании от Гегеля, а по сути отходят
от основных взглядов марксизма. Оказывается невоз¬
можным «перешагнуть» через марксизм, не отрекшись
трижды от диалектики, которую марксизм развивал
вслед за Гегелем.
И в настоящее время, если мы хотим работать
дальше над теорией диалектики, мы должны уметь ис¬
пользовать то теоретическое наследство, которое оста¬
вил Гегель, отбросив, конечно, его идеализм. Так имен¬
но советовал поступать Ленин.
III. МЕХАНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ.
За постоянными нападками наших механистов на
мнимое «гегельянство» своих противников диалектиков
на деле скрывается тот факт, что механисты по суще¬
ству застряли на догегелевской ступени развития мате¬
риализма.
Как известно, материализм догегелевского периода
не развил элементов диалектики в систему, не сделал ее
в целом своим руководящим методологическим прин¬
ципом. Отдельные моменты диалектики встречаются,
разумеется, и у материалистов XVIII столетия, осо¬
бенно у Дидро, и даже еще раньше: у Бэкона, Спи¬
нозы и других. Но это были отдельные элементы,
разрозненные, хотя по временам и очень значитель¬
ные, глубокие по своему содержанию и прямо-таки
блестящие «кусочки» диалектики. Маркс и марксизм,
чтобы утвердиться на позициях диалектического ма¬
териализма, должны были преодолеть как ограничен¬
ность материализма XVIII столетия, так и ограничен¬
ность гегелевской философии. У материалистов догеге¬
левского периода не хватало диалектики; у диалектика
Гегеля не было материализма.
Одну из основных «специфических черт ограничен¬
ности» материализма XVIII столетия Энгельс (как и
Маркс) видел в том, что он был «преимущественно ме¬
ханическим».
«Материализм прошлого (т. е. XVIII) века был пре-
48 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
имущественно механическим, потому что из всех есте¬
ственных наук к тому времени достигла известной за¬
конченности только механика, и именно, только меха¬
ника твердых тел (земных и небесных) — короче, меха¬
ника тяжести. Химия имела еще детский вид, в ней при¬
держивались еще теории флогистона. Биология была
в пеленках; растительный и животный организм был
еще мало исследован, его отправления об’яснялись чи¬
сто механическими причинами. В глазах материали¬
стов XVIII столетия человек был машиной, как живот¬
ные в глазах Декарта. Исключительное приложение
мерила, заимствованного из механики, к химическим
и органическим явлениям, — т. е. к таким явлениям,
в области которых механические законы хотя и про¬
должают, конечно, действовать, но отступают на зад¬
ний план перед другими, высшими законами, — со¬
ставляет первую специфическую, неизбежную тогда,
черту ограниченности классического французского ма¬
териализма».
Так писал Энгельс в своем «Людвиге Фейербахе».
«Ограниченность» классического французского ма¬
териализма не исключает того, что для своего времени
он был громадным шагом вперед в области развития
философии и сыграл большую революционную роль.
Но после XVIII столетия ни общественное развитие во¬
обще, ни развитие науки и философии не остановилось.
Классическая немецкая философия (главным образом,
Гегель) проделала неоценимую работу по теоретиче¬
ской разработке диалектики. И когда уже после этого
ряд материалистов (Фохт, Молешотт, Бюхнер и др.)
выступили в качестве носителей механических,
«метафизически-материалистических» (в смысле анти-
диалектичности их) воззрений, основоположники мар¬
МЕХАНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
49
ксизма дали им название вульгарных матери а-
листов. Этим прозвищем — «вульгарный» — подчер¬
кивалась плоская ограниченность, теоретическая бед¬
ность и упрощенность механического материализма.
Этот «вульгарный материализм» времен Маркса и
Энгельса в крайне искаженном и нелепом виде пред¬
ставлял самые основные вопросы, выдвигаемые фило¬
софией. Так мышление (психическая жизнь вообще)
понималось не как особое свойство высоко-органи¬
зованной материи, с совершенно особой «качествен¬
ной характеристикой» этого свойства, а как особый
вид механического движения (перемещения) мате*
риальных частиц, или как особый вид материи. Тем
самым смазывался основной вопрос философии — во¬
прос об отношении мышления и бытия, вопрос об отно¬
шении двух «аттрибутов» материи (протяженности и
мышления, выражаясь в терминах Спинозы).
Многие годы буржуазная школьная философия, со¬
вершенно замалчивая марксизм, говорила о так назы¬
ваемом «естественно-научном» (а с точки зрения мар¬
ксизма— вульгарном) материализме, как о единствен¬
ной форме материализма прошлого столетия. Буржуаз¬
ным профессорам было выгодно только об этом мате¬
риализме говорить как о «настоящем», так как нет ни¬
чего легче, как разбить теоретические построения та¬
кого рода «материалистов».
Наоборот, марксизм должен был резко отгородить¬
ся от вульгарного материализма XIX столетия, что
Маркс и Энгельс и сделали в своих работах.
И все это не помешало тому, что, с точки зрения не¬
которых новейших механистов, считающих себя мар¬
ксистами, критика материализма Молешотта, Фохта
и др., как «вульгарного», является «неогегельянством».
Диалектический материализм. 4
60 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Что только не является «гегельянством» с точки зрения
людей, порвавших с диалектикой?
«Для наших неогегельянцев имена Молешотта,
Фохта и Бюхнера до сих пор остаются воплощением
«вульгарного» материализма. Между тем, после дей¬
ствительного изучения этих полузабытых мыслителей,
приходишь к совершенно другому выводу».
Эти слова принадлежат И. А. Боричевскому (в сб.
«Механистическое естествознание», стр. 54), одному из
современных механистов.
Разумеется, не все современные механисты из мар¬
ксистского лагеря так откровенны в своем отношении
к механическому материализму прошлого столетия. Но
все же тенденция оградить вульгарный материализм от
нападок представителей материализма диалектического
намечается весьма отчетливо.
В третьем сборнике механистов («Диалектика в при¬
роде», Вологда, 1928) вслед за Боричевским и 3. Цейт¬
лин открывает, что Бюхнер и Молешотт, по существу,
вовсе не были «вульгарными материалистами».
По 3. Цейтлину оказывается, что материализм Бюх¬
нера был «родом спинозизма». При этом «странное и
чудовищное» заключается в том, что сам же 3. Цейтлин
здесь же цитирует такого рода утверждение Бюхнера:
«Мысль же или мышление совсем не есть выделение или
отброс, оно есть деятельность или движение веществ,
или соединение веществ, определенным образом распо¬
лагающихся в мозгу. Мышление поэтому должно быть
рассматриваемо как особая форма общего движения
природы».
Неужели тов. Цейтлину необходимо, чтобы мысль
называлась «отбросом», для того чтобы признать меха¬
нический характер вульгарного материализма? Неужели
МЕХАНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
61
не является вульгарно-механическим утверждение, что
мышление есть «движение веществ или соединение ве¬
ществ»? Неужели не ясно, после этого, что когда Бюх¬
нер говорит о мышлении, как об «особой форме общего
движения природы», то он это «движение» понимает
не в энгельсовском, не в диалектическом, ав механи¬
ческом смысле?
Разумеется, на ряду с этим у Бюхнера могут быть
и имеются позитивистские формулировки психо-физи-
ческого параллелизма. Это еще не делает Бюхнера «спи¬
нозистом».
Только немногие из современных механистов готовы
открыто признать свое родство с механическими мате¬
риалистами прошлого, с «натурфилософским» мате¬
риализмом XIX века. Большинство всячески отказы¬
вается признать свою близость к вульгарному материа¬
лизму. При этом они утверждают, что их материализм
«механистический», а материализм прошлого — «меха¬
нический».
Но ведь дело вовсе не в словах и не в том, чем суб’-
ективно считает себя тот или иной литератор. Дело
в том, что «механистический материализм» А. Тимиря¬
зева, Сарабьянова, Варьяша и др. оказывается, по су¬
ществу, именно механическим материализмом.
И более откровенные друзья наших «механистических
материалистов» прямо называют вещи своими именами.
Так, проф. А. Ф. Самойлов, являющийся сторонником
механистов (и, в частности, тов. И. И. Степанова), сле¬
дующим образом изображает начало современной поле¬
мики механистов и диалектиков:
«В недавнее время И. Степанов, имея в виду инте-
•ы агитационной борьбы с религией, написал неболь¬
шую книгу под названием «Исторический материализм
62 Диалектический материализм и механисты
и современное естествознание». В этой книге Степанов,
очень видный марксистский писатель, в популярной
форме знакомит своих читателей с фактами и теорией
современного естествознания. Все изложение Степано¬
ва ведется с точки зрения чистого механи¬
ческого миросозерцания на природу. В его
изложении почти нет указаний на диалекти¬
ческие процессы в природе и на диалектическое
их понимание. Книга Степанова вызвала в марксист¬
ском лагере взрыв негодования».
Верно, что книга тов. Степанова «открыла кампа¬
нию». Верно, что диалектики нет в ней. Верно, что она
дает механическое миросозерцание.
Вот это означает называть вещи своими именами.
«Дружественная характеристика» проф. Самойлова
бьет механистов не в бровь, а в глаз.
Впрочем, сам тов. Степанов достаточно отчетливо
высказывается в том смысле, что диалектического ма¬
териализма, отличного от материализма механического,
для него не существует. «Диалектическое понимание, —
говорит он, — слишком общее название. Для настоя¬
щего времени диалектическое понимание
природы конкретизируется именно как
механическое понимание, т. е. как сведение
всех процессов природы исключительно к действию и
превращению тех видов энергии, которые изучаются
физикой и химией». (См. «Большевик», 1924, № 14,
стр. 85.)
Л. И. Аксельрод тоже не знает другого материа¬
лизма, кроме механического. «Материализм, механиче¬
ское мирооб’яснение (в отличие от трансцендентного-
телеологического), восторжествовал по всей линии»,
пишет Аксельрод, ставя попросту, без всяких оговорок,
МЕХАНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
53
знак равенства между материализмом и «механическим
мирооб’яснением».
Можно было бы еще привести ряд заявлений совре¬
менных механистов, сделанных в этом же духе.
Современные буржуазные натуралисты сплошь да
рядом употребляют термин «механическое воззрение»,
вместо «материалистического». Не это ли сбило с толку
наших механистов? Но неужели для них не существует
истории философии, не существует истории и традиций
марксизма?
Когда в естествознании говорят о «механическом
миропонимании», это вовсе еще не означает материа¬
лизма. Если для Степанова «для настоящего времени»
(с точки зрения марксизма или с точки зрения буржуаз¬
ных естествоиспытателей?) материализм — это «сведе¬
ние всех процессов природы исключительно к действию
и превращению тех видов энергии, которые изучаются
физикой и химией», — если это так, то тогда целая
армия физиков, химиков и биологов настоящего и про¬
шлого столетия, ничего общего не имею¬
щих с философским материализмом и
даже открыто ему враждебных, окажется
с точки зрения Степанова и Аксельрод «материали¬
стами».
Механическое понимание = (равно) материалисти¬
ческому, заявляет Л. И. Аксельрод. Но почему же осно¬
воположники марксизма говорили об «ограниченно¬
сти» не только «механического миропонимания» (ко¬
торое вообще может совмещаться с идеализмом; напри¬
мер, у разного рода кантианцев), но даже и механиче¬
ского материализма. Ленин, например, говоря
о двух авторах, которые «врюют всего энергичнее с
54
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
атомистически - механическим понима¬
нием природы», замечает:
«Они доказывают ограниченность такого понимания,
невозможность признать его пределом наших знаний,
закостенелость многих понятий у писателей, держа¬
щихся этого понимания. И такой недостаток старого
материализма несомненен». (Ленин, Сочинения, т. X,
стр. 261.)
«Только незнакомство современных естествоиспы¬
тателей с иной философией, кроме той ординарнейшей
вульгарной философии, которая процветает ныне в не¬
мецких университетах, позволяет им оперировать выра¬
жениями в роде «механический», причем они не отдают
себе отчета и даже не догадываются, какие из этого
вытекают необходимые выводы». Так писал Энгельс
о «механической» терминологии естествоиспытателей.
Эту терминологию теперь полностью усвоили И. И. Сте¬
панов и его философские друзья, отождествляющие
понятие «материалистического» и «механического» или
«механистического», как они обычно выражаются.
При этом Энгельс тут же иронически (и это можно
отнести также к нашим механистам) замечает:
«Самое комическое, это — то, что приравнение «ма¬
териалистического» и «механического» имеет своим ро¬
доначальником Гегеля, который хотел унизить матери-
ализм эпитетом «механический».
Дальше Энгельс поясняет, почему Гегель действи¬
тельно имел основания в то время называть материа¬
лизм «механическим». «Но дело в том, — пишет Эн¬
гельс, — что стилизованный Г егелем материализм —
французский материализм XVIII столетия — был дей¬
ствительно исключительно механическим». («Архив
Маркса и Энгельса», т. И, стр. 145.)
МЕХАНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ
65
На том же основании можно теперь условно сказать,
что, в сущности, наши механисты правы, приравнивая
материализм «механическому миропониманию»: таков
именно их материализм. Но и только. Диалектиче¬
ский материализм от этого далек.
Материализм механистов действительно носит на
себе печать той самой ограниченности, «закостенело¬
сти» и пр., тех самых недостатков, которыми страдал и
старый механический материализм.
Если подытожить все ошибки, все отклонения от
диалектического материализма, которые характерны
для мировоззрения наших механистов, то их можно
свести к следующим пунктам:
1. Отождествление всякого изменения, всякого дви¬
жения в природе и в обществе с механическим движе¬
нием, с перемещением в пространстве.
2. Сведение всех качественных различий к чисто
количественным комбинациям однородных «бескаче-
ственных частиц своего рода «перво-материи»; возвра¬
щение, в связи с этим, к старому пифагорейскому пред¬
ставлению: «сущность мира — это число».
3. Отрицание в связи с этим об’ективиого характера
качеств, суб’ективизм.
4. Ошибочное понимание основной задачи науки
как задачи «сведения сложного к простому» (например,
общественных явлений к биологическим, а в последнем
счете — и к механическим и т. д.).
5. Замена «количественно-качественного» разви¬
тия чисто количественным, «непрерывным» ростом,
отрицание «скачка», переход от диалектики к плоскому
эволюционизму.
6. Односторонне - механическое понимание причин¬
ности и, в связи с этим, отрицание об’ективного значе¬
56
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ния категории «случайности», как частного случая не¬
обходимости, и пр.
7. Как на методологическую основу всех этих оши¬
бочных взглядов, развиваемых механистами, следует
указать на непонимание ими решающего диалектиче¬
ского понятия: единства противоположностей. Диалек¬
тическое противоречие понимается механистами, как
внешнее столкновение противоположно направленных
сил.
Без понимания такой решающей категории диалек¬
тики, как единство противоположностей, должна
остаться непонятой и вся система диалектики в целом.
Отсюда, в связи с непониманием диалектики, — от¬
рицание необходимости теории диалектики и марксист¬
ской философии. Отсюда — вульгарный эмпиризм, хво¬
стистское и некритическое преклонение перед «послед¬
ними данными» естествознания без проверки их мето¬
дами диалектического материализма.
Иногда отход бывает выражен более отчетливо,
иногда он только намечается в качестве «уклона» в том
или другом вопросе, но в итоге мы все же имеем деле
с отходом от диадектики по всей линии.
IV. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ
МЕХАНИСТОВ.
«Пересмотр» философии марксизма может прини¬
мать и принимает различное внешнее выражение у раз¬
ных представителей механического течения. Возьмем,
например, вопрос о переходе количества в качество, о
скачке и пр. Как Боричевский, так и тов. Степанов, оба
пересматривают марксизм в этом общеизвестном во¬
просе. Но один делает это с бесцеремонной откровен¬
ностью человека, которому нечего терять, другой же
производит эту операцию на «цыпочках», стараясь хотя
бы внешне соблюсти марксистские «аппарансы».
И. А. Боричевский на диспуте, устроенном механи¬
стами, заявляет: «К большому моему удивлению, тов.
Тимирязев употребляет такие бесспорно «философские»
термины, как переход количества в качество. Это —
чисто-гегельянская терминология; положительной науке
она и даром не нужна. Когда Гегель говорит о пере¬
ходе количества в качество, он имеет в виду все те же
неизменные сверхвременные понятия, которые
«отменяют» друг друга, и т. п.; противоположная види¬
мость создается от нескольких мнимонаучных приме¬
ров, которыми он пытается обставить свое безответ¬
ственное (?) утверждение. Между тем, насколько могу
судить, для представителя положительной науки коли¬
чественные отношения вещей отнюдь не «отменяются»
в их «качествах»; напротив, сами качества суть не что
68 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
иное, как определенные изменения тех лее «коли¬
честв». И для научного (?) материализма (в отличие от
марксизма, что ли? А. С.) совершенно достаточно при¬
знания, что эти изменения возникают не только путем
медленного, «непрерывного» развития, но и взрывами,
скачками. Все остальное чистейшая «философия», кото¬
рая совершенно не нужна ни положительной науке, ни
научному материализму». (Сб. «Механистическое есте¬
ствознание», стр. 52 — 53.)
В нескольких фразах Боричевский «разоблачил»
«мнимую научность» Гегеля, его «безответственность»,
«отменил» категорию «качества», сведя все к чисто-ко¬
личественным отношениям, «об’яснил» понятие пере¬
рыва непрерывности в процессе развития, как чисто¬
количественный «скачок», без качественного перехода и
пр. Боричевский выражается так кристаллически ясно
(святая простота!), что не нуждается в особых коммен¬
тариях. Качества для него не существует, качества сво¬
дятся к количеству, «перехода количества в качество»
у него, следовательно, тоже быть не может, «филосо¬
фия» — это ругательное слово, а Гегель — «дохлая со¬
бака».
Теперь обратимся к тов. И. И. Степанову, который
ставит те же вопросы. Он хочет доказать, что не отри¬
цает «качества», что его критики напрасно на него в
этом отношении нападают. Но вместе с тем он, так ска¬
зать, стремится стереть границы, уничтожить переходы
или, как он выражается, «развязать узлы», соединяю¬
щие одно качество с другим и, следовательно, раз’еди-
няющие их, отделяющие их одно от другого. Эти «узло¬
вые линии», разграничивающие мир на качественно
определенные части, крайне претят тов. Степанову.
«Одна из существеннейших задач современной
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 59
науки, — пишет он, — заключается в развязывании этих
узлов, в снижении этих порогов, в сужении этих полос
до размеров тоненьких черточек». «Многие узлы еще
не развязаны, но значит ли это, что наука должна сми¬
ренно остановиться перед ними». «Долбить в настоящее
время с величайшей, даже с исключительной настойчи¬
востью и указывать: здесь «новое качество», здесь «пе¬
рерыв непрерывности», здесь «узловая линия», значит
быть реакционером в науке».1
«Мои критики передержались на Гегеле. Они просмо¬
трели, что развитие шло от Гегеля к Энгельсу, который
философскую систему превратил в диалектико-мате¬
риалистический метод. И как рг_; потому, что диалек¬
тика для них — система, они хотят не изучать, не ис¬
следовать: они просто повторяют голые формулы. Они
все еще ищут «качеств», хотя уже Энгельс заменил их
бесконечно более тонкими и глубокими «формами дви¬
жения»; они все еще хотят разделять «качества» широ¬
чайшими узловыми линиями, хотя в настоящее время
это может пойти на пользу только витализму и другим
видам идеализма; хотя наука уже теперь дает возмож¬
ность превратить эти узловые полосы в тонкие чер¬
точки и неуклонно идет в этом направлении».2
Так пишет тов. Степанов, приписывая, кстати ска¬
зать, Энгельсу то, о чем тот и не помышлял: «замену»
«качеств» чем-то другим, отказ от признания за кате¬
горией качества права на существование в нашем греш¬
ном мире.
Разумеется, тов. Степанову было бы крайне затруд¬
нительно доказать, что Энгельс с ним в этом вопросе
1 См, ст. тов. С’Аеланова в .Под знаменем марксизма*, 1925,
ШЗи 8 — 9.
* Сб. .Механистич -чое естествознание*, стр. 17,
50
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
солидарен. Зато очень нетрудно доказать, что тов. Сте¬
панов в данном случае солидарен с таким известнейшим
ревизионистом, как А. А. Богданов.
В одном своем докладе в Коммунистической акаде¬
мии Богданов напал на, как он говорит, «играющее те¬
перь несообразно большую роль в советской философ¬
ской литературе слово («слово»! А. С.) «качество».
«Надо заметить, — говорил Богданов, — это вообще
судьба философских терминов, что они из философ¬
ских, все-таки в некотором роде («все-таки в некотором
роде» — замечательно сказано! А. С.) научных, превра¬
щаются потом в обывательские. Эта судьба постигла и
термин «качество». Это безусловно обывательский тер¬
мин, который никакой научной ценности, никакого на¬
учного значения не имеет». (См. «Вестник коммунисти¬
ческой академии», кн. 21, стр. 252 — 253.)
Качества кажутся Степанову чем-то суб’ективным,
присущим исключительно человеческому мышлению
вследствие его несовершенства. Между причиной и
следствием он видит отношение непрерывности, но не
видит «прерывов», т. е. перехода к новому ка¬
честву. «Самбе основное в понятии причинности —
непрерывность. Прерывы получаются потому, что м ы
вырываем (разрядка Степанова) явления из всеоб¬
щей связи». (И. Степанов. «Диалектический мате¬
риализм и деборинская школа», стр. 126.) В другом
месте той же статьи т. Степанов пишет:
«То обстоятельство, что бытие до сих пор остается
многокачественным для нашего познания (я говорю
не о восприятии: отсутствие многокачественности для
восприятия знаменует смерть), то обстоятельство, что
количественное изучение различных качеств еще недо¬
статочно продвинулось вперед, свидетельствует, мои
КАЧЕСТВО И' КОЛИЧЕСТВО В' ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 61
милейшие критики, не о прогрессе науки, как вы вообра-
жаете себе, а об ее большой молодости». (Там же,
стр. 148.)
Таким образом, с точки зрения одного из лидеров
механистов, «бытие до сих пор остается многокаче¬
ственным для нашего познания» только благодаря на¬
шему невежеству. Развитие познания должно уничто¬
жить качественное многообразие бытия. Но мы по¬
стольку продвигаемся вперед в нашем познании, по¬
скольку наше знание все больше, все полнее и точнее
отражает об’ективную действительность. Следователь¬
но, если (по Степанову) наше познание тогда будет
адэкватно действительности, тогда будет точно соот¬
ветствовать ей, когда «качеств» для него существо¬
вать не будет, то это означает, что качеств в о б’-
ективной действительности нет. Имеются
они только в «восприятии», в ощущении.
Известно, что существование «качеств» в ощуще¬
ниях, в «восприятии», не отрицает ни один идеалист.
Здесь Степанов ни мало не противоречит ни Беркли, ни
Канту, ни всем прочим философам идеалистам, вклю¬
чая Маха и Богданова. Наоборот, в вопросе о качестве,
как о чем-то исключительно присущем человеческой
«чувственности», Степанов целиком становится здесь
на позиции суб’ективного идеализма.
В гносеологическом, в общефилософском смысле
отрицание качества, как об’ективной категории, есть
именно идеализм.
Мир изменчив, «текуч». Жизнь мира — это процесс,
никогда не останавливающийся, не прекращающийся.
Но в наших представлениях эта изменчивость мира
определенным образом ограничивается. Мы говорим о
более или менее постоянных, «неизменных» (относи¬
62
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
т е л ь н о постоянных и относительно «неизмен¬
ных») вещах или «качествах»: дом, стол, лес, человек,
книга и пр. Если бы в нашем сознании относительно
устойчивых представлений не было, не было бы воз¬
можно никакое познание. В стремительном потоке
абсолютно-изменчивых впечатлений, представлений и
пр. не на чем было бы задержаться, не на что опереться.
Не было бы места никакой определенности.
В споре между материализмом и идеализмом во¬
прос ставится так: является ли относительная устойчи¬
вость в представлениях отражением относительной
устойчивости вещей самих по себе, существующих вне
и независимо от нашего познания?
Материализм отвечает на этот вопрос положитель¬
но. Наоборот, суб’ективный идеализм всякую «устой¬
чивость», определенность, «качественность» переносит
исключительно в сознание. Подобно этому поступают
и механисты, скатывающиеся к релятивизму и суб’ек-
тивизму. Из «наших» механистов особенно детально
развил точку зрения суб’ективизма тов. Вл. Сарабьянов
(подробнее об этом будет сказано в главе о суб’екти-
визме механистов).
Тов. Сарабьянов пишет:
«В практике своей человечество условилось считать
трупом человека с остановившимся сердцем и не рабо¬
тающими определенным образом легкими». (См. статью
в «Под знаменем марксизма», 1925 г., № 12.)
В другом месте тов. Сарабьянов пишет:
«Процесс условления протекает за спиной людей, он
есть стихийный, слепой процесс. Только поэтому Пле¬
ханов, как и мы с вами, и не может найти грань между
пушком и бородой, что человечество не условилось, что
понимать под тем и другим^ и не знает, от каких свойств
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 63
волос на подбородке можно абстрагироваться и какие
необходимо учесть». (Там же.)
Плеханов писал о том, что граница между «пушком»
на подбородке юноши и бородой взрослого мужчины
стушевывается в процессе перехода. Но самое различие
«пушка» и бороды признавалось неоспоримым фактом
об’ективного мира. В об’ективном мире, совершенно
независимо от сознания человека, происходит переход
одного качества в другое («пушок» становится «боро¬
дой»).
Совершенно иначе выглядит этот переход с точки
зрения Сарабьянова. У него получается так, что каче¬
ственное различие существует только в суб’ективном
представлении людей, которые его устанавливают. Если
же человечество не «условилось», чтб понимать под
бородой и «пушком», то ни перехода, ни бороды нет и
быть не может.
Сарабьянов, как и Степанов, как и другие меха¬
нисты (поскольку они логически выдерживают свою
философскую линию), понимает «относительный по¬
кой», как исключительно условный, относящийся к со¬
знанию. Энгельс, как и все материалисты-диалектики,
считает «относительный покой» одним из существен¬
нейших моментов об’ективной действительности. «Без
относительного покоя нет развития. Возможность от¬
носительного покоя тел, возможность временных со¬
стояний равновесия является существенным условием
дифференцирования материи, а значит и жизни», гово¬
рит Энгельс. («Архив М. и Энг.», т. II.)
У Гегеля в его «Логике» бытие «отменяется», сни-.
мается становлением. И действительно, нет ка¬
кого-то неподвижного бытия, подобно «бытию» элеа-
тов. «Становление» отрицает неподвижное бытие. Но
64
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
дело не ограничивается этим. «Отрицание» само «от¬
рицается». И это второе отрицание заключается в от¬
носительной устойчивости, в «определен¬
ном бытии» (Базет в терминологии Гегеля), как ре¬
зультате становления. «В природе нет ни абсолютного
постоянства, ни абсолютной изменчивости, ни абсолют¬
ного бытия, ни абсолютного становления». (Д е б о р и и,
«Философия и марксизм», стр. 298.)
То, что делает всякое «определенное бытие» (Базет)
определенным, и есть качество. Качество, говорит
Гегель, это «тождественная с бытием определенность,
так что все существующее перестает быть тем, чем оно
есть, когда теряет свое качество».
Итак, качество это «тождественная с бытием опре¬
деленность». Бытие, лишенное всяких качеств, лишен¬
ное определенности, превращается в чистое «ничто».
Такое бытие ничем не отличается от небытия. Бытие
возможно только как определенное.
«Только определенное бытие есть бытие», говорит
материалист Фейербах. «Отнимите у бытия опре¬
деленность, и вы не оставите мне более и бытия». «Если
вы у человека отнимете то, посредством чего он яв¬
ляется человеком, то без всякого затруднения вы мо¬
жете доказать мне, что он не человек». «Бытие это
одно и единое с вещью, которая есть».1
«Единственным различием, границей между бытием
и ничто — является определенность. Если я вычитаю
содержание того, что есть, что будет представлять
из себя это «есть»?*
Таким образом, по Фейербаху, бытие возможно не
1 Л. Фейербах. .Сочинения* т. I, 1923, стр. 19.
1 Там же, стр. 131.
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 66
как «абсолютное», бескачественное, а только как опре¬
деленное бытие, как качественное бытие («бытие
это одно и единое с вещью, которая есть»). Это и есть
точка зрения материализма вообще. «Качество» с этой
точки зрения является «границей», отделяющей бытие
от небытия. Но качество, «определенность», есть также
граница в том смысле, что качество отделяет данное
наличное бытие от всякого другого.1 Таким образом
качество включает в себе момент отношения, момент
«отрицания» («всякое определение есть отрицание», го¬
ворит Спиноза). Нб «отрицая», отграничивая данное
бытие от остального, качество вместе с тем утверждает
реальность данного. Качество есть реальность, посколь¬
ку всякое наличное бытие всегда относится не только
к «другому», но и к себе самому, т. е. утверждает в этом
отношении свое «в себе бытие».
Механисты склонны игнорировать эту сторону в ка¬
честве, отрывая качество от бытия (и, следовательно,
также бытие от качества), от реальности. Качество они
склонны понимать и истолковывать исключительно как
отношение, как свойство и пр. Отрывая качество
и реальность («в себе бытие», существование вещи са¬
мой в себе) друг от друга, они неизбежно должны прит-
ти к подмене понятия «качества» понятием «свойства».
Из механистов особенно тов. Сарабьянов остана¬
вливается на этом вопросе. Качество он понимает то
как отношение, то как совокупность «свойств», то как
«отношение одной совокупности свойств к другой».2
1 .Существование определенно; нечто имеет качество и в нем
не только определено, но и ограничено; его качество есть его гра¬
ница*. (Ге г ел ь.)
2 Сарабьянов. .Основное в едином научном мировоззрении —
методе*, стр. 97.
Диалектический материализм. 6
66
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Эти определения более или менее близки друг к другу,
так как свойство есть отношение или качество,
взятое в определенном отношении. Качество про¬
является в свойствах.
«Качество, — говорит Гегель, — есть свойство пре¬
жде всего и преимущественно в том смысле, по¬
скольку оно обнаруживает себя во внешнем отношении,
как имманентное определение».1
Чтобы обнаруживать свои свойства по отношению
к тем или иным предметам окружающего мира, каждая
вещь должна быть «в себе» чем-то определенным, об¬
ладать своим качеством, как «имманентным определе¬
нием». Отношения, в которые вступает данная вещь,
могут меняться, вариировать в зависимости от меняю¬
щейся обстановки, в зависимости от качества второго
члена всякого отношения и т. д. Но как будут ме¬
няться отношения, это зависит от «имманентного» каче¬
ства данной вещи и тех вещей, с которыми она в ка¬
ждый данный момент вступает в отношения. Таким
образом вещь может обнаруживать в разных случаях
различные свойства, может терять некоторые свойства,
оставаясь все той же вещью, все тем же качеством.
«Что-нибудь перестает быть тем, чем оно есть, когда
теряет свое качество. Напротив, хотя вещь необходимо
имеет свойства, однако же ее существование не свя¬
зано с существованием тех или других определенных
свойств, и она может потерять некоторые из них, не пе¬
реставая быть тем, чем она есть». (Гегель. «Энцикло¬
педия», т. I, с. 226. По переводу Чижова.)
Вырвав качество из об’ективного мира «вещей в
себе» (надеюсь, механисты не запретят этого термина,
1 Гегель. .Наука логики*, кн. I, стр. 54.
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 67
обозначающего об’ективную реальность, которая яв¬
ляется для нас — в отличие от Канта — познаваемой),
механисты преградили себе дорогу к пониманию кате¬
гории качества, к пониманию отношения таких кате¬
горий, как: качество и свойство, качество и отношение
и т. д.
Мы еще ниже остановимся на этом более подробно,
в главе о релятивизме и суб’ективизме механистов.
Здесь для нас важно отметить, что механисты разры¬
вают, обособляют качество и бытие, качество и реаль¬
ность. Тем самым и то и другое приобретает у них
мертвый, абстрактно-безжизненный и нелепый вид:
бескачественное бытие и качество, лишенное бытия и
абстрагированное от момента реальности. Воистину, та¬
кими нереальностями могут заниматься только схо¬
ласты-метафизики! Механисты и являются такими
метафизиками, людьми, лишенными способности диа¬
лектического мышления. В самом деле, такая нереаль¬
ность, как бескачественное бытие, есть подлинное «фи¬
лософическое» средневековье.
Для идеалистов-метафизиков, с точки зрения кото¬
рых материя — это только мыслительная катего¬
рия, посредством которой сознание связывает осталь¬
ные представления в систему, — с точки зрения этих
идеалистов можно говорить о «принципе реальности»,
как о бескачественной «материи», как о мысленном
абстрактном субстрате «бытия». Такая материя у идеа¬
листов, собственно, не что иное, как чистая мысль
о реальности. Такая «материя» представляется как
бескачественная, как обладающая только количе¬
ственными определениями. В этом случае идеали¬
сты даже целиком отождествляют абстрактную мате¬
рию и абстрактное количество.
68 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Схоласты средневековья представляли себе отноше¬
ние между субстанцией и акциденцией, между субстан¬
цией и ее свойствами и состояниями, как отношение
внешней связанности: акциденции, подобно платью,
надетому на человека, лишь так или иначе «прикреп¬
лены» к субстанции, но не составляют с ней одного и
того же. Такое чисто метафизическое, лишенное элемен¬
тарной диалектики представление было окончательно
разрушено только диалектикой Гегеля. Оно находит
еще отчасти некоторый отголосок в представлениях
материалистов XVIII столетия, хотя с другой стороны
у них имеется уже явный переход к современному
диалектическому представлению об отношении материи
и ее качеств.
«Абсолютное есть чистое количество, — говорит
Гегель. — Эта точка зрения, к которой мы приходим
вообще, когда помещаем абсолютное в материю и когда
представляем себе эту последнюю обладающею фор¬
мой, но в то же время как безразличною ко всякой
определенности. Количество есть также основная опре¬
деленность абсолютного, когда мы рассматриваем это
последнее, как абсолютную неопределенность».
Гегель склонен был упрекать материализм в исклю¬
чительно количественной точке зрения, в отрыве ма¬
терии, как субстрата, носителя всех качеств, от самых
качеств, в метафизическом понимании этого «субстра¬
та», как «абсолютной неопределенности». Так Гегель по¬
нимал французских материалистов. И если это было не
совсем верно даже по отношению к материализму XVIII
столетия, то тем более это не верно по отношению к
материализму в его законной форме. Но Гегель не мог,
конечно, писать о диалектическом материализме Маркса
и Энгельса, он имел перед своими глазами конкретный
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 69
материализм своего времени, страдавший элементами
метафизической ограниченности, не развивший еще
учения о «конкретном тождестве» или о единстве про¬
тивоположностей, хотя и сделавший в этом направле¬
нии немало очень значительных шагов. Только уже
после Гегеля марксизм возвысил материализм до его
совершенной диалектической формы, в которой уста¬
навливается «конкретное тождество» сущности и про¬
явления, формы и содержания, материи и ее качествен¬
ной определенности, ее конкретной формы.
Механический материализм Степанова, Тимирязева
и К®, лишая современный материализм его диалектиче¬
ского содержания, пытается снизить мировоззрение
марксизма ниже уровня материализма XVIII столетия.
При этом Степанов и его друзья думают, что именно
их односторонне-математическая, количественная точка
зрения является гарантией их стопроцентной мате¬
риалистической ортодоксальности. На деле же полу¬
чается совершенно обратное. Лишенная качественной
определенности материя превращается в такую «мате¬
матическую нереальность», что от нее остается одна
только мысль о материи.
Еще Ленин говорил о том, что односторонне-мате¬
матическая точка зрения может служить дорожкой к
идеализму. Ленин указывал, в частности, на пример
Германа Когена, который «доходит до того, что про¬
поведует введение высшей математики в школы для
ради внедрения в гимназистов духа идеализма». (Л е-
н и н. Сочинения, т. X, стр. 260.)
Для механистов как будто не существовало еще ни
Гегеля, ни Маркса. Поэтому они рассматривают схола¬
стически обособленно не только материю и качество,
но и качество и количество. Здесь они тоже застряли
70
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
по меньшей мере на уровне XVII-XVIII столетия, если
не хуже того.
В греческой философии, а затем в средневековой
схоластике качества рассматривались, как некие веч¬
ные, обособленные, самодовлеющие категории или
сущности. Качества были чем-то неподвижным, они не
переходили друг в друга, жизнь не играла в их опреде¬
лении. Субстанции, силы и сущности, «формы» и «мате¬
рии», — все это представлялось целой системой инерт¬
ных соподчиненных, но не сливающихся качеств.
Со времени возрождения техники и естественных
наук на первый план выдвигается сначала количество.
Мир мыслится математически (Декарт, Спиноза, Лейб¬
ниц). Преимущественно математическая, односторонне¬
количественная точка зрения является господствующей
точкой зрения XVII и XVIII столетий до Канта. И только
Гегель с помощью своего диалектического метода воз¬
высился над односторонностью качественной и количе¬
ственной точки зрения.
Для механистов должно оказаться совершенно не¬
понятным, о какой же третьей точке зрения может
итти речь кроме качественной или количественной.
Для них ведь существует, как и для всех метафизиков,
только: или — или. Именно поэтому в ответ на упреки
в односторонне-количественной точке зрения они в
свою очередь начинают обвинять своих противников в
абсолютировании каких-то неподвижных, неперехо¬
дящих друг в друга качеств. Такое непонимание меха¬
нистами своих противников-диалектиков более чем по¬
нятно, хотя и непростительно: механисты просто не
могут себе представить, что можно стоять на какой-то
третьей позиции. Третья же точка зрения — это
точка зрения единства количества и качества, точка
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 71
зрения их жизни, их взаимной связанности, взаим¬
ной обусловленности, взаимных перехо¬
дов, движения. Ибо в действительности вовсе не су¬
ществует ни качества без количества, ни количества
без качества. В действительности каждое количество
является количеством того или иного определенного
«качества». Каждая вещь имеет свою и качественную и
количественную определенность.
Всякое отдельное «качество» (лошадь, корова, капи¬
тализм, вода и т. д.) есть некоторая устойчивость, неко¬
торое относительное постоянство. Из этого положения
суб’ективист делает тот вывод, что «относительное
постоянство» — это есть условное постоян¬
ство, «условный покой», созданный в процессе (как
выражается В. Сарабьянов) «обусловления».
Устойчивость отдельных форм материи об’ясняется
деятельностью человеческого сознания, оказывается его
чистым продуктом.
«Наша относительность абсолютна, — пишет Са¬
рабьянов, — ибо все течет и изменяется, нет точки по¬
коя иной, как обусловленной нами, а нас, конечно, реля¬
тивизмом не запугаешь». («Под знаменем марксизма»,
1925, № 12, стр. 192.)
С точки зрения материалистической диалектики мир
об’ективно не является ни абсолютно устойчивым,
постоянным, ни абсолютно изменчивым. С точки зрения
релятивистской диалектики, с точки зрения той диалек¬
тики, представителем которой в древней Греции был
философ Кратил, изменчивость является
абсолютной, никакого, даже относительного покоя
нет. Как говорил Кратил, «нельзя даже один раз погру-
зитьсй в один и тот же поток», ибо этот поток по¬
стоянно изменяется.
72
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Если бы в действительности мир был (в духе пони¬
мания Кратила) абсолютно изменчивым, то ни о какой
качественной определенности мира нельзя было бы
говорить.
Игнорирование момента относительной устойчивости
в процессе развития об’ективного мира не может не
привести к различного рода методологическим ошиб¬
кам. А. М. Деборин поэтому был прав, когда писал по
аналогичному поводу: «В суждениях наших софистов
«элемент наличного бытия», — как выражается
Плеханов, — отменяется элементом «становления». Это
действительно «злоупотребление диалектикой, а не пра¬
вильное применение диалектического метода».
Утомленный человек теряет способность работать;
«количество переходит в качество». Но чем опреде¬
ляется степень утомленности и продолжительность ра¬
боты? Они определяются качеством работника и
качеством работы. Почему под одними и теми же сол¬
нечными лучами камень нагревается больше, а вода или
кусок дерева меньше, медленнее? Потому что они обла¬
дают различной материальной природой, потому что
они являются различными качествами. Почему произ¬
водительные силы капиталистического общества ра¬
стут быстрее производительных сил феодального об¬
щества, а коммунизм откроет возможность для еще бо¬
лее стремительного развития? Потому что всякий раз
«природа» производственных отношений не только
определяется развитием производительных сил, но и
сама определяет в свою очередь темп этого развития.
И т. д. и т. п. Во всех этих случаях мы наблюдаем, что
отношение качества и количества взаимно, что каче¬
ство «переходит в количество» так же, как и обратно.
Но как же будут механисты говорить о переходе
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 73
качества и количество, когда качества у них нет,
когда у них имеются только различные сочетания ко¬
личеств?
Тем самым механисты отрезали себе путь к пони¬
манию процессов диалектического развития в це¬
лом. Если «качество» не более, как «обывательский
термин» (по «счастливому» выражению Богданова), то
развитие в целом не может пониматься иначе, как
только в виде количественного «развития», т. е.
в форме роста. Иными словами, механисты понятие
диалектического развития подменят понятием эволю¬
ции в ее плоском вульгарном понимании.
Плоский эволюционизм, в отличие от диалектики,
всякое «развитие» толкует, как непрерывный, постепен¬
ный количественный рост, как ряд последовательных
изменений в количественных определениях предмета.
Диалектика, напротив, учит тому, что в природе и обще¬
стве непрерывное развитие (эволюция) приводит к
«скачкам», к прерыву непрерывности. При этом под
«прерывом непрерывности» подразумевается прежде
всего переход к новому, начало чего-то нового,
чего не было раньше, в отличие от чисто количествен¬
ных изменений тех или иных свойств и признаков
в рамках «непрерывной» эволюции. Иными словами,
«прерыв непрерывности» означает переход от одного
качества к другому, в отличие от развития в рамках
одного данного качества. Это Гегель (а за ним и марк¬
систы) называет «качественным прыжком», когда «по¬
степенная работа, не изменяющая физиономии целого,
нарушается началом, которое, как молния, сразу уста¬
навливает образ нового мира».
В своих заметках «К вопросу о диалектике» Ленив
пишет о двух концепциях развития. «Две основные (или
74
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
две возможные? или две в истории наблюдающиеся?)
концепции развития (эволюции) суть: развитие как
уменьшение и увеличение как повторение; и развитие,
как единство противоположностей (раздвоение единого
на взаимноисключающие противоположности и взаимо¬
отношение между ними). Первая концепция мертва,
бедна, суха. Вторая — жизненна. Только вторая дает
ключ к «самодвижению» всего сущего; только она дает
ключ к «скачкам», к «прерыву постепенности», к «пре¬
вращению в противоположность», к уничтожению ста¬
рого и возникновению нового».
Эволюция, как постепенное развитие, как непрерыв¬
ное развитие, исключающее «скачки», «взрывы», рево¬
люции, всегда противопоставлялась в марк¬
сизме диалектике, которая учит тому, что посте¬
пенное развитие всегда, рано или поздно, кончается
«скачком», прерывом постепенности, революцией. Диа-
лектика — это обоснование революции, хотя она не
исключает и методов «революционного реформизма»
(«реформа — побочный продукт революционной клас¬
совой борьбы»; 6м. также у Ленина о значении «рефор¬
мистских методов» после революции в статьях «К че¬
тырехлетней годовщине Октябрьской революции» и
«О значении золота»).
Эволюционизм — это отрицание революции и обо¬
снование реформизма. Можно сказать, что это буржуаз¬
ное понимание процессов развития. Его однобокость,
недостаточность и, следовательно, ошибочность заклю¬
чается в отрицании «скачков», прерывов, в непонима¬
нии того, что чисто количественное развитие ведет к
уничтожению старого качества и к переходу к новому
качеству.
В этом «отрицании» старого заключается револю-
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 75
ционная роль диалектики. Именно поэтому Маркс имел
основание писать:
«Диалектика внушает буржуазии и ее доктринерам-
лдеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное
понимание существующего она включает в то же время
понимание его отрицания, его необходимой гибели,
каждую осуществленную форму рассматривает в дви¬
жении, следовательно, также и с ее преходящей сто¬
роны, так как она ни перед чем не преклоняется и по
самому существу своему критична и революционна».
Между тем, если «стереть границы» между каче¬
ствами, как это старается сделать тов. Степанов (см.
цитаты из его статей в начале этой главы), то тогда
развитие можно будет понимать только «как уменьше¬
ние и увеличение».
Если реально только количество, то скачки и пре-
рывы нереальны, ибо, как замечает Геффдинг, «по¬
нятие количества исключает прерывы и скачки; всякое
увеличение или уменьшение размера или степени
должно происходить непрерывно».1
Механисты усиленно стараются не замечать «скач¬
ков», прерывов непрерывности, «узловых линий» раз¬
вития, т. е. того, что (вопреки Козо-Полянскому) отли¬
чает диалектическое понимание развития от ограни¬
ченно-эволюционистского. Тов. Степанов пишет:
«С торжеством указывать на узловые линии, как на
существеннейшее завоевание диалектического метода
в применении к природе (следовательно, в природе
нет диалектики, а скачки имеются только в обществе—
так, что ли? А. С.), — это все равно, как если бы мы
стали выдавать слепое пятно сетчатой оболочки глаза
1 Геффдинг. .История новейшей философии*, 1900, стр. 44.
76 Диалектический материализм и механисты
за самую важную часть органа зрения». (Степанов.
«Диалектический материализм и деборинская школа»,
стр. 149.)
Пример сведения диалектики к плоскому эволюцио¬
низму дает, между прочим, Козо-Полянский. В сборнике
механистов («Диалектика в природе», сборник 2-й, стр.
255, 256) он уверяет, что «главным признаком диалек¬
тического взгляда» является то, что у диалектики
имеется общего с эволюционной теорией. Каким обра¬
зом «главным признаком», отличающим диалектику от
противоположной ей теории («концепции», как говорит
Ленин) развития, может быть то, что у нее с этой вто¬
рой концепцией есть общего, — это вообще само по
себе уже весьма непонятно, весьма «странно». Столь же
«странно» ссылаться при этом (хотя бы и с оговорками)
на авторитет старого ревизиониста Бермана (которого
Козо-Полянский называет «более новым критиком»).
«Более новый критик, — пишет Козо-Полянский, —
Берман, жестоко расправляющийся с целым рядом по¬
ложений классической диалектики, как с «побрякуш¬
ками гегелевского схематизма», приходит к выводу,
что вся суть диалектики — в эволюционном, историко¬
генетическом воззрении на бытие и познание; осталь¬
ное, связываемое с диалектикой, искусственно или не¬
существенно. Берман отмечает, что, напр., Энгельс в
«Фейербахе» «ни одним словом уже не упоминает о пе¬
реходе количественных изменений в качественные раз¬
личия, ни об отрицании отрицания».
«Мы не собираемся здесь подписываться под мне¬
ниями названных критиков, — пишет далее Б. Козо-По¬
лянский, — но их выступления, думается, выявляют,
что именно в диалектике уже не может быть оспари¬
ваемо и представляется наиболее устойчивым».
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 77
Так устраняется у механистов различие между диа¬
лектикой и эволюционизмом в связи с устранением
«качества».
А между тем «вопрос о качестве», спор о значении
этой категории — далеко не словесный, не схоластиче¬
ский спор. Это спор о научном методе. Помимо обще¬
философского, гносеологического значения, он имеет и
громадное практически-методологическое значение в
различнейших областях знания, отдельно взятых.
Достаточно указать на значение качественных момен¬
тов в статистике. Можно говорить о специально классо¬
вой буржуазной статистике, которая, нагромождая
цифры на цифры, не только не выясняет истины, но пря¬
чет, искажает ее. Исчисляя население, например, можно
вывести такие средние цифры, которые совершенно не
будут отражать классовые отношения в стране. Стати¬
стик, который изучает явление, не уяснив себе его каче¬
ственной природы, не может направить исследование
так, чтобы оно дало какие-нибудь ценные материалы.
В этой области приходится итти от качественного ана¬
лиза к числовому.
В. И. Ленин много раз указывал на ошибки стати¬
стики, которая, гоняясь исключительно за числом, за
цифрами, пренебрегает „качеством" исследуемого мате¬
риала. Так, в недавно опубликованном письме Б. Н. Кни-
повичу Ленин пишет:
„За рядами цифр не упускаются ли иногда из виду
типы, общественно - экономические типы хозяйств
(крепкий хозяин буржуа; средний хозяйчик; полупро¬
летарий; пролетарий)? Опасность эта очень велика
в силу свойств статистического материала. „Ряды цифр*
увлекают. Я бы советовал автору учитывать эту опас¬
ность: наши „катедеры* безусловно душат таким обра-
78
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
зом живое, марксистское содержание данных. Топят
классовую борьбу в рядах цифр». ’
Ченин боролся против манеры судить о явлениях по
разного рода «средним» числам, которые сводят на-нет
все качественные различия. Недостаточно, например,
знать, каково общее соотношение между частной и го¬
сударственной торговлей в СССР. Важно также знать,
какую долю занимает частная торговля отдельно в оп¬
товой торговле, в розничной и т. п. Также общие цифры
роста капитальных вложений по всей стране еще не
могут дать настоящее представление о процессе ее
индустриализации. Надо знать, как обстоит дело в раз¬
личных- отраслях промышленности, отдельно взятых:
в тяжелой и легкой индустрии, в производстве средств
производства и в производстве средств потребления,
и т. п.
В предисловии к сборнику «Статистический метод
в научном исследовании» (сб. под редакцией М. Смит и
А. Тимирязева, Москва, 1925 г.) основной вопрос о на¬
учном методе в статистике ставится следующим обра¬
зом: «От числа к материи или от материи к числу — та¬
кова в общем и цеДом постановка вопроса. В конце кон¬
цов, защитники статистического мировоззрения, го¬
рячо отстаивавшие сперва положение, что при всяком
научном исследовании «в начале бысть число», посте¬
пенно перешли на другую точку зрения, согласно кото¬
рой при каждом количественном изучении вначале
должна быть «организующая идея», причем сама орга¬
низующая идея является плодом материального анализа
об’екта количественного изучения».
Иными словами тот же вопрос можно поставить так:
1 .Большевик*. № 7 за 1928 год.
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 79
от количества к качеству или от качества к количеству?
Оказывается, что в статистике, где, разумеется, нельзя
обойтись ни без качества, ни без количества (как и по¬
всюду), количественное изучение опирается на «каче¬
ственное». Результатом является в свою очередь не про¬
сто голый количественный подсчет, ряд цифр, а то или
иное представление об изучаемой системе, как о своеоб¬
разном качестве. Гегель писал об этом, говоря: «В ста¬
тистике числа, которые стараются определить, пред¬
ставляют интерес также только по отношению к уста¬
навливаемым ими качественным результатам». («Энци¬
клопедия», т. I, § 106. Прибавление.)
Механисты явно склонны преуменьшать практически-
методологическое значение качественного анализа.
Возьмем здесь один пример. Тов. Степанов говорит, что
в общественных науках «работа научного познания на¬
чинается не качественным подходом, а сведением непо¬
средственно данных качеств к чему-то общему, что
впервые делает возможным количественное измерение
и соизмерение различных количеств. Напр., политиче¬
ская экономия прежде всего отвлекается от конкретных
видов труда: труд сапожника, труд углекопа, труд на¬
борщика и т. д., и приходит к понятию абстрактного
труда. Затем она рассматривает квалифицированный
труд, как умноженный простой труд. «Простой аб¬
страктный труд» для нее — то же, что энергия, как та¬
ковая, для естествознания. Количественно об’яснив та¬
ким образом основную экономическую категорию, стои¬
мость, политическая экономия «на путях мышления»
воспроизводит затем все «качества», сложные соотно¬
шения которых составляют общественную экономику».
(Степанов. «Диалектический материализм и дебо-
оинская школа», стр. 152.)
80
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Верно ли все это? Далеко не верно.
Верно, что марксистское «обществоведение» не оста-
навливается на «непосредственно данном». Но верно и
другое: марксистское «обществоведение» не сводит
историю «к чему-то общему», а имеет целью установить
особые закономерности, присущие каждой данной
общественно-экономической формации в ее качествен¬
ной своеобразности.
Верно, что политэкономия приводит к понятию аб¬
страктного труда; но не верно, будто это обстоятельств©
в марксистской политэкономии имеет значение только
или главным образом в смысле нахождения масштаба
для «количественного измерения», не говоря уже о том,
что у тов. Степанова абстрактный труд становится чуть
не «естественной категорией». А где же у тов. Степанова
двоякий характер труда? Не начинает ли Маркс, в о-
преки Степанову, с установления особого
характера труда, создающего стоимость? То-есть
не начинается ли исследование с «качественного под¬
хода»? Конечно, именно так и есть.
Неужели нашим механистам не известно, что «коли¬
чественный подход» к вопросу стоимости был известен
экономистам и до Маркса, но не была известна «при¬
рода», общественная природа стоимости, ее «качество»?
Маркс открыл именно дотоле неизвестное «качество»
стоимости, ее сущность. Только на основе правильного
качественного определения возможно и дальнейшее
правильное «количественное измерение». Сам Маркс,
как известно (механисты могут это и забыть, так как
это противоречит их количественной схоластике),
именно в установлении «двойственного характера»,
т. е. определенного своеобразного качества труда, со¬
здающего потребительную стоимость и стоимость ме-
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 81
новую, видел свою основную заслугу. О своем «Капи¬
тале» Маркс писал: «Самое лучшее в моей книге:
1) в первой же главе подчеркнутая особенность двой¬
ственного характера труда, смотря по тому, выражается
ли он в потребительской или в меновой стоимости. На
этой теории о двойственном характере труда покоится
все понимание фактов». (Маркс и Энгельс.
«Письма», Москва, 1923 г., стр. 168.)
Точно также заслуга Маркса состоит в том, что он
вскрыл качественную природу «переменного капитала»;
что же касается «количественного подхода», то этот
подход к заработной плате был известен и до Маркса,—
и с этим, думается, согласился бы и Степанов, по мне¬
нию которого в политической экономии «работа науч¬
ного познания начинается не качественным подходом».
Связанный с вопросом о «качестве», как важнейшей
категорией бытия и познания, вопрос о переходе коли¬
чества в качество, вопрос о «мере» и т. д. имеет свое
огромное практически-методологическое значение в на¬
учном, исследовании, в общественной жизни и т. д. Мы
не можем подробнее на этом останавливаться, укажем
только мимоходом на понятие «чрезмерного», которым,
в частности, Ленин постоянно пользовался.
Гегель называет «мерой» единство качества и коли¬
чества. Кавдое качество обладает своими количествен¬
ными определениями. Качественное количество и есть
«мера». Все является «мерой» в этом смысле. Но в мере,
как говорит Гегель, количество является той стороной,
с которой бытие («качества») всегда подвергается не¬
ожиданному нападению. Сегодня недоспать, завтра не¬
доспать, — как будто ничего особенного нет в том,
чтобы лишний день-два не выспаться как следует. И вот
Диалектический материализм. 6
82. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
незаметно настает момент, когда количество переходит
в качество: здоровье оказывается разрушенным^
Гегель поэтому говорит о «лукавстве количества».
Вот это «лукавое количество» сыграло с механи¬
стами плохую шутку: увлекшись количеством, они по¬
теряли качество диалектиков.
Если они еще говорят о «переходе количества в ка¬
чество», то это только непоследовательность с их сто¬
роны. Говорить же об обратном переходе качества в ко¬
личество они тем более не в состоянии.
Не бывает ни качества без количества, ни количе¬
ства без качества. Но если количественное изменение
приводит к качественному, то чем же определяется са¬
мый характер, темп и т. п. этого количествен¬
ного изменения? Он определяется материальной при¬
родой вещи, ее содержанием, характером «раз’едаю-
щих» ее противоречий, словом, всем тем, что в целом
определяется, как качество вещи.
Решительно все в мире имеет свои границы, пере¬
ступив которые, наверняка перестанет быть тем, что
есть.
«Недостатки человека являются продолжением его
достоинств, — говорит французская пословица, приво¬
димая Лениным. Вообще Ленин множество раз указы¬
вал на опасность «чрезмерного», приводящего к превра¬
щению «качества» явлений (или суждений, мыслей
и т. п.) в собственную противоположность. «Самое вер¬
ное средство, — писал он, — дискредитировать новую
политическую (и не только политическую) идею и по¬
вредить ей состоит в том, чтобы во имя защиты ее до¬
вести ее до абсурда. Ибо всякую истину, если ее сде¬
лать чрезмерной... если ее преувеличить, если ее рас¬
пространить за пределы ее действительной примени¬
КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО В ПОНИМАНИИ МЕХАНИСТОВ 63
мости, можно довести до абсурда, и она даже неиз¬
бежно, при указанных условиях, превращается в
абсурд». (Ленин, т. XVII, стр. 151.)
Но как механисты могут говорить о «чрезмерном»,
как они могут понять это «чрезмерное», если у них нет
качества, если у них нет «меры»?
V. ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ».
Наиболее законченное выражение точка зрения ме¬
ханистов на вопросы научного метода получила в связи
с вопросом о так называемой «сводимости» более слож¬
ных явлений к простым.
Сами механисты считают вопрос о «сводимости»
основным вопросом. Один из них, тов. А. К. Тимирязев,
формулирует его следующим образом: «Может ли
марксист, стоящий на почве диалектического материа¬
лизма, говорить о «механическом» об’яснении явлений,
и можно ли вообще сложное сводить к простому?»
Вопрос о «сведении» сложного к простому является
в значительной степени переводом вопроса о качестве и
количестве на язык методологии положительных наук.
Можно ли целиком свести законы всякой высшей
формы жизни (органической и неорганической) к зако¬
нам «низшей», более простой, менее сложной формы?
Иными словами: имеется ли в более сложных формах
что-либо сверх того, что имеется в низших (например,
в органической жизни по сравнению с неорганической, в
общественной жизни по сравнению с жизнью разрознен¬
ных индивидов и т. д), имеется ли что-либо новое? Так
как исторически более сложное, как правило, возникает
позднее менее сложного, возникает именно в итоге раз¬
вития менее сложного, то вопрос может быть поставлен
также таким образом: возникают ли в процессе разви¬
тия мира (природы и общества) новые качества,
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
86
новые формы, новые закономерности, которые
не исчерпываются старыми, более простыми, или же
новых форм и закономерностей не возникает, а имеется
постоянное воспроизведение старого в иных количе¬
ственных вариациях, в иных количественных сочета¬
ниях? Имеется ли в природе подлинный синтез или
5ке только механическое сложение, уменьшение, смеше-
йие одних и тех же низменных элементов? И, соответ¬
ственно этому, достаточен ли в положительных науках
метод анализа, разложения сложного на составляющие
его простые элементы, или же необходим кроме того
научный синтез, воссоздание и изучение целого,
как целого, в тех его своеобразных моментах,
которые создаются только целым, как целым, и кото¬
рых нет в отдельно взятых частях его?
Наконец, вопрос ставится о возможности или не¬
возможности биологические явления исчерпывающе
об’яснить одними только законами физики и химии, не
прибегая к специально-биологическим законам, можно
ли законы общественной жизни целиком об’яснить за¬
конами биологическими и, вообще, можно ли более
сложную область жизни исчерпывающе об’яснить зако¬
нами более простой области или же надо по¬
нять те новые закономерности, кото¬
рые возникают в сложной форме из раз¬
вития формы более простой?
Механисты допускают такое исчерпывающее сведе¬
ние сложного к простому; диалектика этого не допу¬
скает.
Согласно мнению механистов, все содержание био¬
логических явлений можно свести к физико-химиче¬
ским законам, и, собственно, других законов, кроме за¬
конов физики и химии, и нет в биологической жизни.
86
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Согласно этому точно также все психические явления
можно свести к физическим, и они в этом случае будут
исчерпаны этим. В свою очередь явления социальные
должны свестись к физико-химико-биологическим за¬
конам и т. д. «Современная наука, — заявляет тов. И. И.
Степанов, — неуклонно идет в том направлении, чтобы
истолковать всё развертывание мира, как развитие отно¬
сительно простых физических и химических процес¬
сов». (Сб. «Механическое естествознание» и пр., стр. 14.)
Спрашивается, почему физико-химических, а не элек-
тро-динамических, например?
В конце концов все это должно по схеме механистов
свестись к законам элементарной механики, так как к
механике сводится физика и химия.
Возьмем, к примеру, вопрос об отношении психиче¬
ского и физического. Что нового дали по этому во¬
просу механисты? «Нового», разумеется, ничего. Они
в этой области не могут выдумать ничего больше того,
что уже сказал механический материализм в прошлом
столетии. Именно в духе и в стиле этого «материа¬
лизма» тов. Сарабьянов пишет, что «душа есть физи¬
ческое свойство живого организма» и что
«в основном материализм отличается от других учений
признанием, что все действия живого органцзма есть
действия машины, механизма».1
Таким образом механист Сарабьянов «упразднил»
психическое, «сведя» его к «физическому свойству».
«Живому организму» остаются только «физические
свойства». Чем же эта философия отличается от энчме-
низма? Делается же такое сведение» психического к
физическому на том основании, что психические явле¬
1 См.брошюру Сарабьянов а, .Беседы о марксизме*, 1925,
стр. 14 и 15.
ПРОБЛЕМА €СВЕДЕНИЯ»
87
ния связаны с физическими, представляют из себя
«внутреннюю сторону» определенных «физических»
явлений в организме. «Что для меня, или суб’ективно,
есть духовный акт, то само в себе, т. е. об’ективно, есть
акт материальный, чувственный». (Фейербах.)
Но от этого до «сведения» психического, суб’ектив-
ного, к физическому — еще далеко. Энгельс в этом слу¬
чае берет слово «сведем» в кавычки, так как он считает,
что таким «сведением» отнюдь не может быть исчер¬
пано познание психических явлений.
Энгельс пишет:
«Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспери¬
ментальным образом мышление к молекулярным и хи¬
мическим движениям в мозгу; но исчерпывается ли этим
сущность мышления?» (См. «Архив Маркса и Энгельса»,
кн. II, стр. 29.)
Тов. Степанов в том же своем докладе, который
выше цитировался, утверждает, что наука «нигде, — ив
области психических явлений, — не открывает никаких
особых таинственных форм энергии сверх тех, которые
вообще наблюдаются в химических и физических про¬
цессах». (Указанный сборник механистов, стр. 14.)
Неизвестно, почему тов. Степанов говорит о каких-
то «таинственных» (?) формах энергии. Никто не гово¬
рит ни о каких «таинственных формах». Но существует
«простой» факт: человеческое сознание, мышление, пси¬
хика. Не есть ли это нечто «сверх» физических и хими¬
ческих процессов? Не есть ли это нечто такое, «сущ¬
ность» чего, как выражается Энгельс, не «исчерпы¬
вается» теми «формами энергии», которые «вообще на¬
блюдаются в химических и физических процессах»?
Для каждого человека, мало-мальски знакомого с
марксизмом, с диалектическим материализмом, ясно,
88
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
что сказать, будто «в области психических явлений» нет
никаких «форм энергии», кроме тех, которые
«вообще (?) наблюдаются в химических и физиче¬
ских процессах», — значит сказать чепуху. Что значит
это «вообще наблюдаются»? Почему «вообще»? Разве
психические явления, психические процессы — это фи¬
зические или химические процессы? Так думали только
вульгарнейшие представители вульгарного материализ¬
ма. Подобные утверждения — это не материализм, а
пародия на материализм, злостная карикатура.
Психическое — это психическое, т. е. «внутренняя»,
суб’ективная сторона определенных «физи¬
ческих и химических процессов», происходящих в жи¬
вом организме.
Скатиться целиком к вульгарнейшему представле¬
нию о материализме — вот до чего доводит «сведение»
наших механистов.
Практически механическая точка зрения на изучение
психических явлений проводится в настоящее время не¬
которыми наоравдениями в науке, изучающими «основы
поведения человека». Сюда относится школа американ¬
ских психологов — «бихевиористов» и направления рус¬
ской рефлексологии, которые стремятся «понять все
сложные формы поведения, как простое механическое
сочетание или цепи психических элементов или же
рефлексов». Так, один из бихевиористов, Лэгли, за¬
являет: «Дайте мне постулаты физических наук, и я по¬
кажу вам, как возникают душевные явления внутри си¬
стемы, не имеющей других качеств, кроме тех, которые
описывает физик, как принадлежащие к миру его
явлений».
В старой психологии господствовал так называемый
«суб’ективный метод» изучения психических явлений,
проблема «Сведений»
69
изучения поведения человека. Посредством самонаблю¬
дения и анализа психических переживаний психология
стремилась вскрыть «законы душевных явлений». Этот
метод сам по себе не мог дать законченное научное
изучение психической жизни. В частности, он исключал
возможность точного количественного ана¬
лиза, количественного изучения.
Недостатки суб’ективной психологии восполняют те
направления в области «науки о поведении», которые
оперируют об’ективными методами. Сюда относятся
различные направления рефлексологии—науки, из¬
учающей «рефлексы» живого организма, т. е. ответные
реакции организма на разного рода «раздражения».
Рефлексология изучает организм «со стороны», во
внешних проявлениях его «поведения». Получается воз¬
можность такой проверки и такого измерения процес¬
сов, какого никакими методами суб’ективной психо¬
логии достичь невозможно. Виднейший представитель
современной рефлексологии И. П. Павлов формулирует
задачу науки таким образом: наука должна добиться
такого положения, «когда естествоиспытатель другого
человека подвергнет такому же внешнему анализу, как
должен он это делать со всяким об’ектом природы,
когда человеческий ум посмотрит на себя не изнутри, а
снаружи».
Все это очень хорошо. Успехи рефлексологии
являются, действительно, громадным шагом вперед в
нашей положительной науке. Однако было бы ошибкой,
если бы мы просмотрели одностороннюю ограничен¬
ность, недостаточность и методов рефлексологии, мето¬
дов об’ективной психологии, взятых отдельно.
Рефлексология дает прекрасный научный базис для ра¬
боты над изучением «поведения» человека, давая кар¬
90
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
тину физиологических механизмов поведения. Но
она не об’ясняет поведения в целом, не берет человека,
как целое, как «об’ект» и «суб’ект», как биологическое
и социальное и пр.
«Внешний анализ», о котором говорит И. П. Павлов,
всегда остается в пределах «физического». Рефлексоло¬
гия еще не дает сама по себе перехода к «внутреннему»,
к психическим переживаниям. «Суб’ективная сторона»
как бы совершенно не существует для рефлексологии.
Мудрено ли, что, начитавшись (высоко теоретически
ценных) трудов Павлова, кой-кто впадает в «энчме-
низм»?
Кой-где у нас в вузах уже совершенно упразднили
психологию, считая, что рефлексологией исчерпывается
вопрос. Но это не верно. Только синтез об’ективных и
суб’ективных методов может дать полную картину. Ме¬
тод самонаблюдения не может быть заменен методом
изучения условных рефлексов; как и обратно, конечно.
Односторонне-рефлексологический подход есть под¬
ход односторонне-м еханический.
«Естественно, — замечает по поводу механической
установки в психологии А. М. Деборин, — что такая
установка должна была привести к отрицанию реаль¬
ности сознания, «качественной характеристики пси¬
хики» и поведения человека. Марксистская психология
стремится преодолеть, с точки зрения диалектического
материализма, односторонности как суб’ективной, так и
об’ективной психологии и дать их синтез»-
Рефлексологи, поскольку они остаются в пределах
изучения рефлексов, как элементарных меха¬
низмов поведения (а не самого поведения чело¬
века в целом), его физиологических механизмов,—
остаются на действительно научной почве. В частности,
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
91
академик Павлов и некоторые его ученики считают, что
они просто оставляют в стороне психологию, за¬
нимаясь физиологией нервной деятельности животных.
Но даже академик Павлов (кстати сказать, не называю¬
щий себя рефлексологом) иногда не удерживается
на этой позиции, заговаривая о «рефлексах цели и
свободы». Тем более это относится к тем «крайним»
рефлексологам, которые сознательно подменяют психо¬
логию (и даже социологию) человека физиологией
рефлексов.
Если «крайние» рефлексологи, впадающие в отри¬
цание психических явлений как таковых, сводят без
остатка психику к сумме элементарных биологических
процессов (рефлексы), то вся биология в целом
«сводится» для механистов к физике и химии.
Так, тов. Степанов пишет, что «задача научного по-1
знания процессов органической жизни» заключается в
том, чтобы «открывать в них те общие и относительно
простые закономерности, которые установлены физи¬
кой и химией». (Ст. в «Под знаменем марксизма», 1925 г.,
№ 3.)
Ту же самую мысль Лазарев (в своей книге «Ион¬
ная теория возбуждения») выражает такими словами:
«В мире живых существ не действуют такие силы, кото¬
рые не могли бы наблюдаться и вне организма».
Но что означает утверждение подобного рода? Оно
означает, конечно, что физиология, как особая наука,
не имеет права на существование. Выходит, что идеаль¬
ное знакомство с законами физики и химии достаточно,
чтобы быть хорошим врачом.
На самом деле все обстоит совершенно иначе. Фи¬
зиология живых организмов имеет свои закономер
ности, свои специфические законы, не сводящиеся к за¬
92
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
конам физики и химии. «Мало того, мы замечаем в ор¬
ганической природе процессы, противоположные про¬
цессам неорганической природы. Ведь достаточно ука¬
зать хотя бы на то, что обмен веществ в мертвых телах
является причиной их разрушения, а в живых — основ¬
ным условием их существования и развития». (Д е-
б о р и н.)
Законы физики и химии остаются действительными
для живого организма, также как и для «неживой при¬
роды». Но организм, как целое, создает такие особые
«условия», которые направляют физико-химические
процессы по определенному руслу. Процесс окисления
(сгорания), например, является распространеннейшим
явлением живой и неживой природы. Но в условиях
живого организма этот процесс определенным образом
направляется, регулируется системой организма в це¬
лом. Вот этой системы, регулирующей обмен веществ
в организме, нет в мертвой природе. Уже вследствие
одного этого мы можем говорить о «специфичности
жизни».
Но дело, разумеется, не исчерпывается этим приме¬
ром. С точки зрения механистов вся физиология, со
всеми ее законами, есть частный случай физики. С точки
зрения диалектики, наоборот, законы физиологической
жизни „конкретнее*, шире законов физики, так как они
включают в себя физико-химические законы, но не сво*
дятся к ним.
Химический состав ферментов в организме или раз¬
ного рода продуктов внутренней секреции не был еще
известен, когда уже было известно, хотя бы частично,
их значение в организме.
Последовательно рассуждая, с точки зрения И. Сте¬
панова и механистов вообще, медицину можно было бы
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
93
начать строить как науку только с того момента, когда
были бы уже полностью известны законы движения
самых последних и простейших частиц, из которых со¬
стоит весь мир (будь это атомы, электроны или еще
что-то). Но таких «последних элементов» мира мы
вообще не знаем (если не делать ошибки механистов,
принимающих электроны за последние «кирпичи миро¬
здания») и с точки зрения диалектики они вообще пред¬
ставляются бессмыслицей, именно как последние
«кирпичи», неразложимые, не изменяющиеся, бескаче-
ственные и т. д. (разумеется, это не значит, что элек¬
трон, как электрон, «отрицается» кем-то).
Такой же бессмыслицей является и вся система меха¬
нистов, отрицающих существование особой закономер¬
ности явлений органической жизни.
Рассуждая по способу механистов, следовало бы
об’явить открытые Дарвином законы биологического
развития несуществующими, так как под них еще не
подведен «физико-химический фундамент». Следовало
бы, согласно этому рецепту, начать с законов физики
и химии, чтобы об'яснить происхождение видов. Следо¬
вало бы „свести" обезьяноподобного предка рода чело¬
веческого к физико-химическим процессам, составляю¬
щим (по механистам) его „сущность", для того, чтобы
обосновать теорию происхождения человека.
Тов. Агол в статье „Неовитализм и марксизм" при-
в дит хороший пример с мимикрией, направленный це¬
ликом против механистов с их „сведением". Он пишет:
„Сведение не приводит к познанию сводимого явле¬
ния в его реальной конкретности. Никакая механика не
в силах заменить физику или химию, как эти последние
не заменят биологии, а биология — социологию. Много
поучительного в этом направлении может нам дать
94
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
явление мимикрии. Покровительственная окраска не*
которых насекомых, птиц, пресмыкающихся и млеко¬
питающих зависит от зоркости и остроты глаз врага-
хищника. Более заметные животные беспощадно уни¬
чтожаются. Остаются жить те, которые недоступ¬
ны или, во всяком случае, мало доступны глазам
хищника. Причина закрепления той или иной окраски
у животного лежит именно в том, что хищник уничто¬
жал других, менее приспособленно окрашенных жи¬
вотных, а этих не только не трогал, но и не замечал.
Наличие определенной окраски у многих животных на¬
ходится в зависимости от устройства зрительного аппа¬
рата у их врага-хищника, а сохраняется она именно по¬
тому, что недоступна ему. Таким образом понять
эти явления можно, только распутав причудливый клу¬
бок связей и взаимоотношений между отдельными
группами животных; «сведение» к физике и химии
здесь не только бесцельно, но и невозможно»* («Под
знаменем марксизма», 1928 г., № 3, стр. 213.)
Пусть попробуют механисты на этом примере с
об’яснением явлений мимикрии доказать правильность
своего утверждения, что только и только «сведением» к
химии и физике можно об’яснить биологические явле¬
ния, что одних физико-химических закономерностей
вполне достаточно, чтобы понять законы органической
жизни.
Механисты не хотят слышать о специфической зако¬
номерности биологических явлений, о самодовлеющем
значении законов жизни. «Наши «ортодоксальные»,—
иронически говорит тов. А. К. Тимирязев, — выдвинули
теперь новую теорию «специфичности жизни». (См.
сборник «Диалектика в природе», т. III, стр. 36.)
Теория вовсе не новая. Она давно уже принята мар¬
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
95
ксизмом. Но механисты не понимают самых отчетливых
указаний основоположников марксизма.
Вот, например, как тов. И. И. Степанов понял Эн¬
гельса:
Энгельс пишет: «Исключительно применение мерила
механики к явлениям, природа которых химическая и
органическая, к явлениям, в которых законы механики,
конечно, продолжают действовать, но оттесняются
на задний план другими высшими зако¬
нами, — составляет специфическую, но для своего вре¬
мени неизбежную ограниченность классического фран¬
цузского материализма».
Не ясно ли, что Энгельс в этих словах говорит о све¬
дении всего к механике, о «применении мерила меха¬
ники» к химии, органике и пр., как о недостатке,
хотя бы неизбежном, старого материализма? И вот,
цитируя эти слова Энгельса, И. И. Степанов истолковы¬
вает их так:
«Значит, оперируйте высшими, более сложными
законами лишь до тех пор, пока это необходимо.
Но смотрите, не передержитесь на этом: когда наука
дает возможность сводить химию ибйологиюк Мо¬
лекулярной. .. механике, производите это
сведение».1
То, что Энгельс считает методологически («принци¬
пиально» с точки зрения научной ценности такого спо¬
соба исследования) неправильным, механисты рекомен¬
дуют, как идеальный, хотя практически пока не всегда
достижимый метод научной работы.
Искажение мысли Энгельса, совершенно превратное
1 .Под знаменем марксизма*, 1925, № 3, стр. 233 и 234. Под¬
черкнуто здесь, как и в цитате из Энгельса, мною.
99 Диалектический материализм и механисты
понимание или полное непонимание механистами
Энгельса в этом случае выступает совершенно отчет¬
ливо.
«Несводимость законов жизни к физико-химическим
началам означает именно витализм», пишет А. Варьяш.
Но тогда Энгельс был виталистом, т. е. идеалистом-
метафизиком, признающим, что в организме действует
особая «жизненная сила», не зависимая от законов фи¬
зики и химии. Но это, конечно, чепуха.
Со свойственной всякому недиалектическому меха¬
ническому методу мышления «топорностью», ограни¬
ченностью, механисты считают, что может быть только
две точки зрения на явления органической жизни: или
витализм, или механическое «сведение» биологии
к физико-химическим процессам.
Но почему же невозможен третий путь, почему не¬
возможен диалектический подход к вопросу?
Такой подход возможен и единственно правилен. Он
заключается в том, что биологические законы об’явля-
ются связанными с физико-химическими, выросшими
из них в процессе развития, но в то же время «несводи¬
мыми» к физико-химическому, так как по отношению
к элементарным физико-химическим законам они
являются чем-то новым, своеобразным и более слож¬
ным.
Напрасно механисты повторяют свои до бесконеч¬
ности нудные клеветнические обвинения диалектиков в
«витализме». Ничего кроме пустячного словесного му¬
сора в этих обвинениях нет. Диалектический материа¬
лизм, как небо от земли, далек от витализма.
Дело не подвинется вперед, если механисты будут,
как попугаи, повторять одно и то же: витализм, вита¬
лизм. Трудно сказать, имеется ли у них какая-нибудь
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
97
мысль, когда они повторяют эти слова, бросая их про¬
тивникам, как «убийственный аргумент».
Что такое витализм? Витализм — это реакционное
идеалистическое течение в биологии, согласно учению
которого сущность жизни непознаваема, так как
эта сущность жизни («жизненная сила») немате¬
риальна, независима от законов физики и химии.
Между органической жизнью и неорганическим миром
у виталистов лежит непроходимая пропасть,
разрыв, отсутствует преемственность в развитии не¬
органического и органического мира, переход,
связь между ними.
Вот те признаки, которые являются характерными
для витализма. Само собой разумеется, только в воспа¬
ленном воображении механистов могут быть такие «де-
боринцы», которые разделяют эти виталистические по¬
ложения. На самом деле просто неловко заниматься
такими пустяками и доказывать, что позиция маркси-
стов-диалектиков ничего общего не имеет с позицией
виталистов. Что же тут общего? У виталистов — сущ¬
ность жизни таинственна и непознаваема; у диалекти-
ков-материалистов (которых тов. Степанов окрестил
«деборинцами» только потому, что тов. Деборин
является лучшим и виднейшим представителем марк¬
сизма в наши дни) «сущность» биологической жизни, ее
законы так же познаваемы, так же не заключают в себе
ничего «таинственного», как и законы физики и химии.
У виталистов нет перехода от неорганического к орга¬
ническому; у материалистов-диалектиков органическая
жизнь возникает в результате развития не¬
органического мира. У виталистов между органическим
и неорганическим миром абсолютный разрыв, абсолют¬
ная граница и нет перехода, связи. У механистов —
Диалектический материалам. 7
98
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
только связь, но нет различия. У диалектиков-мате-
риалистов — связь и различие, нет абсолютной
границы, но есть переход, развитие, а значит и
единство тождества и различия между
органической и неорганической природой.
Жизнь — это новый синтез. Анализ органиче¬
ского, разлагающий органическое на «мертвые» разроз¬
ненные элементы, полезен и необходим; но он недо¬
статочен для изучения целого. Целого, как такового,
как нового синтеза с новыми закономерностями, кото¬
рых нельзя найти в частях, — этого целого для механи¬
стов как бы не существует.
Диалектический метод вовсе не думает отрицать
значение анализа, значение разложения целого на
его части и изучения отдельных частей этого целого.
Но для диалектики дело не кончается на анализе. Один
анализ сам по себе не дает знания целого, так как целое
обладает тем, чем отдельные части не обладают. Жизнь
целого умирает в разрозненных частях его. Это приме¬
нимо даже к гораздо более простым явлениям, чем
организмы. Сколько бы мы ни изучали химический
состав и физические свойства (упругость, вес и пр.)
колесиков, из которых состоит механизм карманных
часов, мы не поймем, как работают эти часы, если не
рассмотрим работу часового механизма в собранном
виде.
Анализ — первая, подготовительная, ступень позна¬
ния. Законченное познание предполагает еще синтез,
т. е. воссоздание целого и изучение его, как целого.
«Столетие, исключительно отдающееся анализу и как
бы пугающееся синтеза, не. стоит на правильном пути;
ибо только оба вместе, как выдыхание и в^хание,
составляют жизнь науки». (Г е т е.)
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
99
Следующая область, в которой механисты проделы¬
вают свои опыты со «сведением сложного к про¬
стому», — это область общественных явлений. Социаль¬
ное через биологическое сводится к механическому.
На диспуте, устроенном механистами, один из них,
Г. Г. Боссэ, доказывал «принципиальную возможность»
приложения к изучению явлений общественной жизни
метода «физико-химико-биологического».
«Теоретически и в конечном счете, — говорил
Боссэ, — социальные явления также доступны не только
качественному — социологическому анализу, но и коли¬
чественному — физико-химико-биологическому».
Далее Боссэ говорит: «Сможем ли мы когда-
нибудь. .. выработать приложимый к их (социальных
явлений) изучению метод физико-химико-биологиче¬
ский? Пока (разрядка самого Боссэ) у нас нет ни¬
каких оснований для этой надежды. У нас не сде¬
лано ни одного шага в этом направлении»
(разрядка Боссэ). «Но прошлые неудачные подходы не
доказывают принципиальной невозможности подведе¬
ния количественного диалектико-материалистического
механического фундамента под социологию».1
Такова социология естественника-механиста Боссэ,
которого И. И. Степанов причисляет к числу своих
«друзей» и «союзников». (См. тот же сборник, стр. 80.)
Да и сам тов. Степанов стоит, по существу, на той
же позицйи. В ответ на упреки одного рецензента, утвер¬
ждавшего, что И. И. Степанов склонен законом сохра¬
нения энергии об’яснять общественные явления, но
боится об этом говорить открыто, тов. Степанов пишет:
1 Сборник .Механистическое естествознание и диалектический ма¬
териализм Вологда, 1925, стр. 63 и 64,
100 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
«Вопросы надо ставить ясно и с необходимым мини¬
мумом научной добросовестности. А в таком случае
путать незачем, в таком случае мы должны сказать: нет,
наука еще очень далека от того, чтобы дать «об’яснение
всех общественных явлений» из закона сохранения
энергии. Тем не менее уже теперь для нее принципом
подхода к этим явлениям служит твердое, непоколеби¬
мое убеждение, что область общественных явлений не
представляет никаких исключений из закона сохране¬
ния энергии.
«Здесь вполне законна такая параллель. Учение
проф. Павлова представляет колоссальный шаг вперед
в выяснении механизма психических явлений. Но от¬
сюда еще далеко до сведения этих явлений к тем отно¬
сительно простым закономерностям, которые раскры¬
вают физика и химия. Учение об условных рефлексах
устанавливает много более простые закономерности,
чем признававшиеся старой психологией. И потому,
хотя оно еще не решает проблемы, оно представляет
громадное приближение к такому решению, которое
единственно гармонирует со всем характером современ¬
ной науки. Оно расчищает путь, устраняет многочислен¬
ные помехи, показывает, на каких сравнительно про¬
стых явлениях должно теперь остановиться исследова¬
ние, чтобы и к этой области применить физико-хими¬
ческие методы». («Под знаменем марксизма», 1925,
№ 3, стр. 232 — 233.)
Выходит, как и у Боссэ, что пока еще мы не
в .состоянии практически об’яснить общественное явле¬
ние законами химии и физики, но только пока.
Вопрос о сведении законов общественного развития
к законам биологического и пр. порядка — вопрос для
марксизма не новый. Больше того: это один из элемен¬
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
101
тарнейших, давно решенных вопросов. Для марксизма
всегда было ясно, что наука об обществе может быть
только там, где поставлен вопрос о специфиче¬
ских закономерностях общественного разви¬
тия. В частности, марксизм учит тому, что в основе
всего процесса общественного развития в целом лежит
развитие производительных сил и (для классового
общества) классовая борьба. Но процесс развития про¬
изводительных сил, как и процесс борьбы классов, не
является биологическим процессом. Никакое углубле¬
ние Боссэ, Степанова и прочих механистов в тонкости
физиологии или даже в «молекулярную механику» не
поможет им в уяснении таких общественных процессов,
как мировая империалистическая война или националь¬
ное освободительное движение в колониальных странах.
Весьма отчетливо точка зрения «сведения» прове¬
дена в следующих словах П. Н. Милюкова: «Мы рассу¬
ждаем о причинах развития «реформации» или о причи¬
нах неудачи «революции», как будто бы реформация
и революция были каким-то осязаемым предметом, а не
бесконечным количеством процессов, об’единяемым в
одно целое исключительно в нашем сознании». «Каждое
из этих состояний, как индивидуальных, так и обще¬
ственных, составляет, очевидно, совокупность многих
процессов, причины которых и являются истинными
причинами того общего результата, который бросается
в глаза наблюдателю. Итак, этот общий результат,
кажущийся на первый взгляд чем-то цельным и единым,
мы должны анализировать дальше, чтобы выделить
отдельные, создавшие его факторы. Легко может ока¬
заться, что и выделенные нами факторы, в свою оче¬
редь, будут не простыми элементами, а сложными
равнодействующими более элементарных сил. Мы оста¬
102 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
новимся в этом анализе только тогда, когда дойдем до
элементов, известных нам из ближайшей соседней обла¬
сти знания, т. е. когда увидим, что явления обще¬
ственной жизни находят себе об’яснение в психологии
и вместе с последней опираются на все здание законо¬
мерности более простых явлений мира, — физических,
химических или физиологических». (П. Н. М и л ю к о в.
«Очерки по истории русской культуры».)
Ленин (как и все марксисты) относился отрицательно
ко всякого рода попыткам подобного об’яснения обще¬
ственных явлений.
Вот что, например, он пишет по этому поводу: «Пе¬
ренесение биологических понятий вообще в область
общественных наук есть фраза. Нет ничего легче, как
наклеить «энергетический» или «биолого-социологиче-
ский» ярлык на явления в роде кризисов, революций,
борьбы классов и т. п., но нет и ничего бесплоднее, схо¬
ластичнее, мертвее, чем это занятие. Приемы этого
подгоняния, этой «социальной энергетики» сплошь
фальшивы».
Приложение биологических понятий к обществен¬
ным явлениям — обычный «грех» буржуазной социоло¬
гии. Можно указать, например, на ряд социологов,
которые в основу процесса общественного развития
кладут такой фактор, как рост народонаселения. Тем
самым общественные закономерности должны в конце
концов сводиться к одному биологическому закону.
На примере этого «сведения» видна нелепость меха¬
нического метода сведения «сложного к простому»
вообще. Размножение и рост народонаселения есть,
конечно, более первоначальный и более «простой»
факт, чем, скажем, классовая борьба в современном
обществе. Но этот элементарный биологический закон
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
103
размножения не может об’яснить сложнейшее разно¬
образие общественной жизни. Наоборот, он сам видо¬
изменяется в общественных условиях в зависимости от
конкретных условий того или иного исторического пе¬
риода. То, что рождаемость (как и смертность) повы¬
шается в одних странах или в одни годы и понижается
в других случаях, — это является следствием влияния
различных общественных условий.
Этот пример дает также представление о том, как
вопреки и в противоположность пониманию механистов
более «простые», более «первоначальные» закономер¬
ности оказываются по отношению к более сложным
явлениям лишь «побочной формой», как они видоизме¬
няются специфическими закономерностями более слож¬
ных явлений бытия (т. е. природы или общества).
Печально «знаменитый» вульгаризатор Энчмен был
одним из тех, кто воюет с «априорным положением об
исключительной специфичности явлений социальной
жизни и полной их несводимости к понятиям других
наук, как, напр., биологии».
По поводу этого «уничтожения социологии» Энчме-
ном тов. Н. И. Бухарин, цитируя Маркса, писал:
«Маркс злостно издевался над такими оригиналами,
в роде Энчмена, и здесь повторяющего буржуазно-
идеалистические зады. Он писал, например, про извест-
ного кснтианца Ф. А. Ланге: «Дело в том, что г. Ланге
сделал великое открытие. Всю историю можно-де под¬
вести под единственный великий естественный закон.
Этот закон заключается во фразе з^ги^е ^ог 1Де —
борьба за существование (выражение Дарвина в этом
его употреблении становится пустой фразой)».1
1 Сб. .Атака", стр. 151
104 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Вообще по отношению ко всякого рода попыткам
«свести» общественно-историческое к биологическому,
физико-химическому, механическому и пр. — следует
сказать, что это есть логически нелепые и социально
вредные попытки преходящее об’яснить вечным (веч¬
ным условно по отношению к общественным явлениям),
консерватизм общественный подпереть консерватизмом
законов природы.
Буржуазия любит об’яснять экономкризисы солнеч¬
ными пятнами и т. п. вздором, долженствующим оправ¬
дать буржуазные общественные отношения и увекове¬
чить их. Но марксистам это вовсе не к лицу.
Любопытно, что сами механисты в этих вопросах
бывают принуждены давать «задний ход», и в их
собственных сборниках мы встречаем критику тов. Сте¬
панова и критику методов сведения социальных явле¬
ний к биолгическим и проч.
Так, в одном сборнике механистов («Диалектика
в природе», сб. 2) читаем следующее рассуждение:
«Пример Бехтеревской «коллективной рефлексоло¬
гии» ясно показывает недостаточность определений
тов. Степанова. В самом деле, Бехтерев исходит из
принципа сохранения энергии и стремится свести все
сложные общественные явления-к простым рефлексам,
которые в свою очередь должны об’ясняться физико-
химически. Однако тов. Степанов вряд ли рискнет
утверждать, что в воззрениях Бехтерева есть хоть гран
диалектики» (стр. 46 — 47).
В третьем сборнике, выходящем под тем же назва¬
нием («Диалектика в природе»), А. Варьяш высказы¬
вается против сведения физики к механике. «Не диалек¬
тичным (и не материалистичным), — пишет он, — было
бы довольствоваться пониманием молекулярного про¬
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
106
цесса на основе явлений, происходящих при движении
больших тел. В этом случае, вся физика свелась бы
к механике. Но опыт показывает, что этот путь не ведет
к цели». Это не мешает т. Варьяшу утверждать, что
«несводимость» биологии к физике и химии — это
«витализм».
Где же здесь выдержанность методологических по^
зиций? Почему физику к механике «сводить» нельзя,
а биологию к физике не только можно, но и необхо¬
димо? Да и все ли механисты последовательно стоят
на точке зрения этого «изничтожения» биологии по¬
средством «сведения» без остатка ее законов к законам
физики и химии? Оказывается, не все способны до
конца отстаивать свою нелепую позицию. Сошлемся
хотя бы на тов. А. Тимирязева.
А. К. Тимирязев кой-как отступает, хотя и старается
при этом прикрыть это свое отступление нападками на
противников - диалектиков. Так, он уже пишет, что
«в живом организме... могут проявляться такие
взаимодействия, каких мы не видели и не видим в не¬
органическом мире».
На этом как раз и настаивают диалектики против
механистов. Для нас ясно, что всякая сложная система
может быть разложена на составляющие ее части и что
такое разложение является одним из путей научного
исследования. Но кроме анализа существует синтез.
Более сложное является результатом развития более
простого, результатом развития того, что заложено в
более «простой» форме. Но, раз возникнув, «сложное»
не может уже исчерпываться простым.
Механисты видят связь, непрерывность между раз-
дичными областями природы и общества, но не видят
106 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
.различия, разрыва", как выражается Энгельс. Между
тем истиной является только их синтез.
„Называя физику механикой молекул, химию —
физикой атомов и, далее, биологию — химией белков,
я желаю этим выразить переход одной из этих наук в
другую и, значит, связь, непрерывность, а
также различие, разрыв между обеими обла¬
стями. Итти же дальше этого, называть химию своего
рода механикой, по-моему, не рационально. Меха¬
ника — в более широком или узком смысле слова —
знает только количества», пишет Энгельс. («Архив
Маркса и Энгельса», II, стр. 143.)
Итак: и связь, и разрыв. Механисты же могут по¬
нять только или то, или другое. Таков порок вся-
кого мышления, чуждого диалектике.
Вопрос о сложном и простом связан с вопросом
о целом и его частях.
Является ли целое только суммой своих частей? Или
иначе: имеется ли в частях все то, что существует
в целом?
В одной йз своих речей тов. А. К. Тимирязев, желая
дать пример сведения сложных явлений к простым,
дает на самом деле хорошее доказательство невозмож¬
ности такого сведения. Он говорит:
«Можно ли говорить о температуре одной моле¬
кулы? Вопрос не имеет смысла, можно говорить только
о скорости, с которой она двигается. То качество,
которое мы называем словом температура, появляется
только тогда, когда имеем достаточно большое коли¬
чество движущихся и взаимодействующих между
собой молекул».
.Два твердых цилиндра, — говорит далее тов. Тими¬
рязев, — двигающихся в воде, двигают вместе с собой
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
107
значительно больше воды, если они расположены
вблизи друг от друга; таким образом, производимое
ими действие не равно простой арифметической сумме
действий каждого в отдельности. Здесь опять мы видим,
что коллектив не есть простая сумма его членов».
Что же следует из этих примеров А. К. Тимирязева?
Ясное дело, что первое, чтб здесь доказывается, заклю¬
чается в учении о несводимости сложных явле¬
ний к сумме простых, их составляющих, о несводимо¬
сти целого к сумме его частей. С точки зрения механи¬
стов, целое существует именно как сумма своих частей,
как некоторое слагаемое, но нет, не может быть целого,
как чего-то самостоятельного по отношению к своим
частям. С точки зрения механистов реально существуют
только части, реально только «простое». Если рассу¬
ждения механистов принять за единственно научный
метод, то окажется, что в политической экономии будет
прав Бем-Баверк, а не Маркс. Маркс исходит из законо¬
мерности общественных явлений в их целом, игнорируя
их связь с явлениями индивидуального личного созна¬
ния. Наоборот, Бем-Баверк исходит из индивидуаль¬
ного сознания отдельного хозяйствующего суб’екта.
Бем-Баверк исходит из «простого». Маркс исходит из
«сложного», не сводящегося к частям.
С точки зрения буржуазных экономистов такая по¬
зиция Маркса является своего рода «логическим реа¬
лизмом». Точно также с точки зрения современных ме¬
ханистов все мировоззрение диалектического материа¬
лизма в целом заражено средневековым «реализмом»,
так как оно признает реальность таких «общих поня¬
тий», как биологические виды в животном мире или как
общественные классы в историческом процессе. С точ¬
ки зрения механистов «истинным бытием» обладают
10Я ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
только индивиды, только отдельные представители био¬
логических видов, но не класс в целом, не вид в целом.
К такому представлению, к такого рода «атомизму» в
социологии, в биологии и т. д. неизбежно приводит ме¬
тод постоянного раздробления целого, постоянного све¬
дения качества к сочетанию количеств более элементар¬
ного качества, метод замены качественных различий
различиями чисто количественного порядка.
«Чисто количественная операция деления, — гово¬
рит Энгельс, — имеет границу, у которой она переходит
в качественное различие: масса состоит из одних моле¬
кул, но она, по существу, отлична от молекул, как и
последние, в свою очередь, отличны от атомов. На
этом-то отличии и основывается обособление механики,
как науки о небесных и земных массах, от физики, как
механики молекул, и от химии, как физики атомов.
(«Архив Маркса и Энгельса», т. II, стр. 223.)
Энгельс говорит: «масса состоит из одних молекул,
но она по существу отлична от молекул». Как это может
быть? С механической, метафизической точки зрения
этого вообщё не может быть. Если «состоит из моле¬
кул», значит тождественна им. А если «отлична» — зна¬
чит не тождественна.
К подобного рода рассуждениям все сводится у ме¬
ханистов, когда они говорят о «сводимости». Момент
тождества заслоняет у них все. На деле же, в жизни,
в живой диалектике бытия тождество совмещается с
различием, тождество является «конкретным то¬
ждество м», т. е. единством тождества и
различия. Масса состоит из молекул, т. е. тожде¬
ственна им. Но она в то же время и отлична от них,
как это видно, в частности, и из примера тов. А. К. Ти¬
мирязева, который указывает на то, что было бы не-
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
109
лепо говорить о температуре одной молекулы. Отсюда
следует, что физика, как „механика молекул", в извест¬
ном смысле «тождественна» механике, «вырастает» из
нее, но не сводится к ней, «обособляется» от нее.
То же самое следует сказать и об отношении между
биологией — с одной стороны, и физикой и химией —
с другой.
Наши механисты обвиняют Деборина и диалектиков
вообще в том, что они (диалектики) признают «специ¬
фичность» жизни, отличность, «обособленность» (вы¬
ражаясь словами Энгельса) органической жизни от не¬
органической. Диалектики действительно говорят о
своеобразности, о «специфичности» жизни. Этого до¬
статочно для того, чтобы механисты сейчас же об’явили
эту «специфичность» абсолютной, чтобы они
сейчас же приписали диалектикам «абсолютный раз¬
рыв» между биологией и «физикой» и т. д. На этом
основании они говорят о «витализме» своих против¬
ников.
Действительно, если бы кто-нибудь говорил об
абсолютном разрыве, об абсолютной «специфич¬
ности», исключающей связь, переход, преемственность
в развитии и т. д., то это было бы витализмом. Но дело¬
то в том, что все эти ужасы механисты просто припи¬
сывают своим противникам, будучи «органически» не¬
способны понять диалектическую точку зрения. Раз
«специфичность», значит непременно «абсолютная»!
Степанов о диалектиках пишет: «Они совсем слива¬
ются с виталистами, поскольку повторяют все утвер¬
ждения, все ругательства виталистов: «жизнь — спе¬
цифическое качество, не сводимое на физику
и химию», — и при всем том специфичность каким-то
чудом оказывается «не абсолютной». (Степанов.
110 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
«Диалект, материализм и деборинская школа», стр. 52—
53.)
Таким образом, тов. Степанов признает, что «дебо-
ринцы» специфичность не считают «абсолютной». Но
при этом «неабсолютную специфичность» Степанов счи¬
тает «чудом». Почему же это «чудо»? Только потому,
что у тов. Степанова нет во всех его рассуждениях н и-
какого следа хотя бы мало-мальски диалекти¬
ческого мышления. Только поэтому.
В своей «Диалектике природы» Энгельс пишет:
«Если химии удастся изготовить белок, то химиче¬
ский процесс выйдет из своих собственных рамок, как
мы видели это выше относительно механического про¬
цесса. Он проникает в обширную область органической
жизни. Физиология есть, разумеется, физика, и в осо¬
бенности химия живого тела, но вместе с тем она п е-
рестает быть специально химией: с одной стороны
здесь сфера ее действия ограничивается, с дру-
г о й — она поднимается на высшую сту¬
пень». (Архив М. и Энг.», т. И, стр. 197. Разрядка моя.
А. С.)
Разве в этих словах Энгельс не устанавливает такого
единства химии и физиологии, которое включает в
себя в моменты тождества и различия? Разве Эн¬
гельс не говорит здесь именно о «специфичности»
физиологии, и именно о специфичности не абсолютной,
а относительной? Ясно, что это именно так и есть.
Энгельс пишет в одном месте о том, что «химия
приводит к органической жизни, и она подвинулась до¬
статочно далеко вперед, чтобы убедить нас, что она
одна об’яснит нам диалектический переход к орга¬
низму». (Там же, стр. 112.)
Механисты склонны думать, что в этих последних
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
111
словах Энгельс устанавливает тождество химии и био¬
логии. Но это совершенно неверно. Энгельс говорит о
«переходе» к организму. Где есть «переход», там
есть различие, «разрыв». Но есть и связь, конечно. И
диалектический материализм указывает на это разви¬
тие органического из неорганического. Диалектики
указывают на это в отличие от виталистов. Именно по¬
этому прежде всего так смешны и нелепы беззубые
обвинения в «витализме», бросаемые механистами по
адресу диалектиков.
Но «химия» об’ясняет, как правильно говорит
Энгельс, переход к организму; что же касается
возникшей органической жизни, то она обладает та¬
кими закономерностями, которые выходят за рамки за¬
конов химии, не исчерпываются ими. В против,
ном случае не было бы и «перехода». Таким обра¬
зом, нелепо говорить о возможности исчерпывающего
«сведения» биологии к химии и физике.
Механисты, для которых с точки зрения их механи¬
ческой метафизики никаких качеств не существует, не
прочь посмеяться над «специфичностью». Степанов, в
своей последней книжке, заявляет, что «деборинщина»
может договориться до признания «специфичности»
жизни редьки, картошки, свиньи и коровы. Степанов
считает, что это было бы сверх-глупой и непрактичной
философской фантастикой.1 Удивительно «практичный»
народец эти механисты! Интересно было бы посмо¬
треть того агронома, который действовал бы согласно
механической мудрости Степанова и, сваливая в одну
кучу редьку, картошку, свиней и коров, перестал бы
1 И. Степанов. „Диалектический материализм и деборинская
школа-, стр. 21,
112 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
считаться с особенностями этих представителей
органического мира, перестал бы к свинье относиться
не так, как к корове (т. е. «специфично»), а к корове не
так, как к свинье, ухаживал бы одинаково (не-«специ-
фически») за редькой, картошкой, за виноградником и
за чайными розами и т. д. Это была бы такая фантасти¬
ческая «агрономия», сумасшедшая нелепость которой
соответствовала бы только нелепости «механистиче¬
ского мировоззрения», отрицающего специфичность
различных качеств.
Ну и «практика»! Ну и «практический» же народ эти
механисты, склонные обывательски похихикать насчет
«практической бесполезности» философии!
В самом деле, практика, которая перестает считаться
со специфичностью различных явлений, является безна¬
дежной, сумасшедшей практикой, заведомо обреченной
на провал.
«Подведение множества «случаев» под один общий
принцип Гегель никогда не называл диалектикой», писал
Маркс. (Маркс и Энгельс, «Письма», М. 1923 г.,
стр. 121.)
Диалектика требует рассмотрения всякого явления в
его конкретных формах, в его особенностях. Наоборот,
методологический принцип механистов заключается в
сведении всех различий к абстрактному безразличию,
всего конкретного — к отвлечению всеобщему. В этом
суть их метода «сведения» сложного к простому, со¬
гласно которому всё в конце концов впадает в механику,
подобно рекам, текущим в океан. Законы механики ста¬
новятся единственно подлг ^о-реальными законами.
Все остальное — продукт человеческого «невежества».
Механисты думают, что если они все на свете «све¬
дут» к атомам или электронам и т. д., то тем. самым
ПРОБЛЕМА «СВЕДЕНИЯ»
113
познание мира будет завершено. Достаточно того,
что все кошки будут одинаково серы.
А диалектик Энгельс говорит: «Открытие, что
теплота представляет собой молекулярное движение,
составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего дру¬
гого сказать о теплоте, кроме того, что она предста¬
вляет собой известное перемещение молекул, то лучше
мне замолчать».1
Таким образом, диалектик Энгельс не думает, что
«подведение под один общий принцип» есть исчерпы¬
вающая задача науки, или, что сведением всех сложных
законов к более простым, частных — к более общим
исчерпывается познание. Связь, происхождение, преем¬
ственность должны быть установлены; но на ряду с этим
новое, более сложное и своеобразное, специфическое
должно быть понято в своем своеобразии, в своей спе¬
цифичности, в своей новизне, как новое каче¬
ство, в своей целостности не сводящееся нацело ни
к чему другому.
1 „Архив Маркса и Энгельса-, т. И, стр. 143.
Диалектический материализм.
8
VI. МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И
ДВИЖЕНИЯ.
Нельзя, будучи последовательным, принять диалек¬
тическую (антимеханическую) точку зрения в одних
вопросах, сохраняя чисто механические представления
в ряде других. Все вопросы методологии диалектиче¬
ского материализма связаны между собой неразрывной
связью.
Вопрос о «сводимости» неразрывно связан с вопро¬
сом о понимании движения и материи.
Известно, что, согласно плехановскому определению,
материя есть то, что, об’ективно существуя и действуя
на наши органы чувств, вызывает в нас ощущения.
«Единственным свойством материн, — писал Ле¬
нин, — с которым связан материализм, есть ее свойство
быть об’ективной реальностью независимо от нашего
сознания».
Материя неотделима от движения. Нет материи без
движения, так как движение есть способ существования
материи, ее основной атрибут.
Таково философское понятие материи и движения.
Вульгарный («естественно-научный») материализм
(также как и «физический идеализм» буржуазных есте¬
ствоиспытателей) склонен смешивать это философское
понятие материи и движения с их определениями физи¬
ческими, механическими, естественно-научными.
То же смешение допускают и современные меха¬
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 115
нисты. Для них философское определение материи и
движения совершенно непонятно, и они сводят его к
определению физическому.
Классическую формулировку понятия движения с
точки зрения механического материализма дает
Томас Гоббс: «Движение есть непрерывная перемена
места, т. е. оставление одного места и достижение дру¬
гого места».
Томас Гоббс — механический материалист. Его опре¬
деление движения как перемещения является чисто
механическим пониманием. Движение у него пони¬
мается, как нечто внешнее материи, прилагаемое к ней
извне посредством толчка. Материя мыслима и без дви¬
жения. Материя и движение разорваны. Такое предста¬
вление не удовлетворит даже современную механику, не
говоря уже о других областях положительной науки.
Маркс указывал, что уже у Бэкона, жившего раньше
Гоббса, движение материи понимается в более диалекти¬
ческом смысле, причем Бэкон дает действительно фило¬
софское, а не только физическое определение движения.
«У Бэкона, — пишет Маркс, — первым и самым глав¬
ным свойством, прирожденным материи, является дви¬
жение, не одно только механическое или математи¬
ческое движение, но движение как стремление, как
жизненный дух, как напряжение, как мучение материи,
выражаясь языком Якова Бэма». (Энгельс. «Людвиг
Фейербах", перевод Плеханова, изд. 1919 г., стр 51).
Такое представление весьма близко подходит к тому,
как определяет движение в философском смысле слова
диалектик Энгельс: «Движение, — пишет он, — рассма¬
триваемое в самом общем смысле слова, т. е. понимае¬
мое как способ существования материи, как внутренне
присущий материи атрибут, обнимает собою все про¬
116 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
исходящие во вселенной изменения. Это процесс начи¬
нается от простого перемещения и кончается мышле¬
нием».
«Движение материи не сводится к одному только
грубому механическому движению, к простому переме¬
щению; движение материи — это также теплота и свет,
электрическое и магнитное напряжение, химическое сое¬
динение и разложение, жизнь и, наконец, сознание».
Таким образом «простое перемещение» (чем у Гоббса
исчерпывалось понятие движения) является, с точки
врения Энгельса, лишь одной из форм, простейшей
формой движения, как неразрывно связанного с мате¬
рией («имманентного» ей) способа ее существования.
Наши механисты упорно не хотят двинуться дальше
представителя XVII столетия Гоббса и продолжают игно¬
рировать все указания Энгельса. С их точки зрения вся¬
кое движение есть перемещение материальных частиц —
ие более того. То обстоятельство, что все формы движе-
яия так или иначе связаны с его простейшей формой,
перемещением, оказывается для них достаточным,
чтобы всякое движение свести к механическому.
По этому вопросу они (Степанов, Тимирязев и др.)
вынуждены полемизировать с Энгельсом.
Энгельс в «Диалектике природы» писал:
«У естествоиспытателей движение всегда понимается
как механическое движение, перемещение. Это перешло
по наследству из до-химического XVIII столетия и
:ильно затрудняет ясное понимание вещей. Движение
в применении к материи — это изменение во¬
обще. * Из этого же недоразумения вытекает ясное
:тремление свести все к механическому движению,...
чем смазывается специфический характер прочих форм
движения. Этим не отрицается вовсе, что каждая из выс¬
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ .МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 117
ших форм движения связана всегда необходимым обра¬
зом с реальным механическим (внешним или молекуляр¬
ным) движением; подобно тому, как высшие формы дви¬
жения производят одновременно и другие виды движе¬
ния, химическое дейстзие невозможно без изменения
температуры и электричества; органическая жизнь не¬
возможна без механических, молекулярных, химиче¬
ских, термических, электрических и т. д. изменений. Но
наличие этих побочных форм не исчерпывает существа
главной формы в каждом случае». («Арх. Маркса и
Энгельса», т. II, стр. 27.)
Энгельс пишет, что для биологии химические, элек¬
трические и т. п. изменения в организме представляют
собой лишь «побочные формы» движения орга-
низма, основное же в организме — это специфические
закономерности органической жизни. Подобно этому,
законы физики являются «побочными формами» для
химических процессов и т. д.
Вот на эти-то «побочные формы» Энгельса и напал
сначала И. И. Степанов, а затем и другие механисты.
Так, уже в последнем коллективном труде механистов
(«Диалектика в природе», сб. III, стр. 34) А. К. Тимирязев
все еще доказывает, что побочные формы» у Энгель¬
са — это «неудачное выражение».1
Тов. Степанов эту мысль о «неудачности» понимания
Энгельсом «побочных форм» развил в свое время более
основательно. В № 8 — 9 журнала «Под знаменем марк¬
сизма» за 1925 г. он писал:
«Но мы уже видели, что в этой самой заметке
Энгельс идет значительно дальше. «Механические, моле¬
1 Вообще, бедняга Энгельс! «Надо заметить, что у Энгельса в его
«Диалектике в природе* есть несколько ошибок*, — пишет А. К. Тими¬
рязев.
118
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
кулярные, химические, термические, электрические
и т. д. изменения» являются в его глазах «побочными
формами» по отношению к органической жизни во¬
обще. Однако, как мы только что убедились, такое
утверждение неприемлемо по отношению даже к мыш¬
лению. Если мы признаем здесь причинную связь, то
физические и химические процессы не могут быть чем-
то «побочным», чем-то просто сопутствующим развер¬
тыванию (здесь тогда выйдет саморазвертывание) из¬
учаемой основной формы, в данном случае мышления.
По отношению к процессам растительной жизни, это
означало бы: изучение физических и химических про¬
цессов, протекающих в живом организме, познакомит
нас, самое большее, с крайне любопытными сопутствую¬
щими явлениями жизни, но неспособно ввести в пони¬
мание процессов жизни. Последовательный вывод был
бы таков: физика и химия не в состоянии воспроизвести
эти процессы. Им суждено оставаться в области побоч¬
ного, не приближаясь к главной форме, в данном случае
к процессам жизни.
«Но здесь же надо сказать, что это высказывание,
слишком сильно отзывающееся дуализмом, осталось
единичным у Энгельса». (Степанов. «Диалекти¬
ческий материализм и дебор. школа», стр. 144.)
Таким образом, с точки зрения И. И. Степанова пози¬
ция Энгельса в данном вопросе отдает «дуализмом».
«Причинной связи» оказывается для механистов доста¬
точно, чтобы отрицать несводимость специфических
законов психологии к физике и химии, биологии к ме¬
ханике и т. д. и т. п.
С точки зрения И. И. Степанова Энгельс с его «по¬
бочными формами» просто! виталист. Цитируя слова
Энгельса о «побочных формах», тов. Степанов по по¬
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ Ц9
вод у их замечает: «Сказать, что химические и физиче¬
ские процессы — нечто «побочное» для явлений органи¬
ческой жизни, это значит подать виталистам не палец,
а всю руку». («Диалектический материализм и деборин-
ская школа», стр. 130.) Как видим, для Степанова вита¬
листами являются не только т. н. «деборинцы», но и
Энгельс.
С точки зрения механистов «выражение» Энгельса
о «побочных формах», конечно, нельзя понять: это зна¬
чило бы понять всю ошибочность построений механи¬
стов в целом. Как правильно замечает А. М. Деборин,
«вопрос о соотношении побочных и главных форм дви¬
жения представляет собою только иную форму¬
лировку вопроса о сведении». («Вестник
Коммунистической академии», кн. XIX, стр. 40.)
Сведение всякого движения, всякого изменения
к механическому движению логически означает также
сведение диалектики к механике, замену диалектики
механикой.
Диалектику мы определяем, как «науку об общих
законах движения как внешнего мира, так и человече¬
ского мышления» (Марк с). Но если всякое движение
сводится к механическому движению, тогда механика
как раз и должна стать подлинной «наукой об общих
законах движения».
Насколько механисты не научились понимать марк¬
сизм и, в частности, Энгельса, как они истолковывают
Энгельса в смысле совершенно обратном подлинному
смыслу его слов, — это наглядно видно хотя бы из сле¬
дующего примера.
В своем выступлении А. К. Тимирязев приводит длин¬
ную цитату из «Диалектики природы» Энгельса.
«Всякое движение, — пишет Энгельс, — заключает
1?0 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
в себе механическое движение и перемещение больших
или мельчайших частей материи; познать эти механи¬
ческие движения является первой задачей науки,
однако лишь первой. Само же механическое движение
вовсе не исчерпывает движения вообще. Движение во¬
все не есть простое перемещение, простое изменение
места, в надмеханических областях оно является также
и изменением качества. Мышление есть тоже движение.
Открытие, что теплота представляет собой молекуляр¬
ное движение, составило эпоху в науке. Но если я не
имею ничего другого сказать о теплоте, кроме того, что
она представляет собой известное перемещение моле¬
кул, то лучше мне замолчать».
А. К. Тимирязев кончает эту цитату следующими
словами Энгельса:
«Если мы должны сводить все различия и изменения
качества к количественным различиям и изменениям,
к механическим перемещениям, то мы с необходимостью
приходим к тому положению, что вся материя состоит
из тождественных мельчайших частиц и что все
качественные различия химических элементов материи
вызываются количественными различиями в числе и
пространственной группировке этих мельчайших частиц
при их об’единении в атомы. Но до этого нам еще да¬
леко». 1
Процитировав все это из Энгельса, тов.. Тимирязев
неожиданно заявляет: «Вся гениальная мысль послед¬
него абзаца, предвосхищающая современную электрон¬
ную теорию, обычно изображается (противниками меха¬
нистов) как предположение, хотя и высказанное Энгель¬
1 „Архив Маркса и Энгельса-, т. II, стр. 143 и 145. У Тимирязева
В сборнике III ^Диалектики в природе", стр. 27 и 23,
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 121
сом, но для него самого неприемлемое. Эту мысль рас¬
сматривают как предположение, которое он ставит, но
потом сам же отбрасывает».
Бесцеремонность А. К. Тимирязева прямо-таки пора¬
зительна в этом случае. По его словам выходит, что
в приведенном отрывке Энгельс высказывался не про¬
тив сведения качества к количественным различиям,
не против сведения всех изменений к перемещениям,
не против теории «тождественных мельчайших
частиц» — неизменных кирпичей мироздания, аза все
эти механические теории.
Между тем противомеханическая позиция Энгельса
уже из одного только приводимого самим Тимирязевым
отрывка кристаллически ясна.
Ясно, что Энгельс не только безусловно отбрасывает
подобные механистические «предположения», но даже
и не ставит их как свои предположения. Никаких
таких предположений Энгельс не может делать, тем
более, что только что перед этим, несколькими строками
выше (и эти слова цитирует А. Тимирязев), он писал,
что «приходится рассматривать множество изменений
качества, относительно которых совершенно не дока¬
зано, что они вызваны количественными изменениями.
Можно охотно согласиться с тем, что современная
наука движется в этом направлении, но это вовсе не
доказывает, что это направление — единственно пра¬
вильное, что, идя этим путем, мы исчерпаем до конца
всю физику и химию».
Непонятно совершенно, почему это А. Тимирязев
думает, что Энгельсу надо было «предугадывать» откры¬
тие именно электрона, для того чтобы говорить о «то¬
ждественных мельчайших частицах»? Если теперь
А. К. Тимирязев, как и многие другие, считают, что
122 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
электрон представляет собой последнюю неразложи-
мую, тождественную себе (т. е. неизменную) частицу
материи, то в XIX веке такой же частицей в физике и
химии считался атом. В философии же атомная гипо¬
теза существует много больше двух тысяч лет.
Если бы Энгельс хотел остановиться на какой-п)
мельчайшей неделимой, «тождественной» частице мате¬
рии, ему незачем было бы дожидаться открытия элек¬
трона, так как в то время, когда он писал, состояние
положительных наук позволяло ему принять
за «неделимое» атом точно втакой же мере, в ка¬
кой мере сейчас состояние положительных знаний по¬
зволяет Тимирязеву принять за последнее неделимое —
электрон.
И все же Энгельс был прав, когда, исходя из общих
философских положений, не считал, что атом есть
предел, которого не перейдешь, что это есть нечто не¬
изменное, само себе равное и т. д. и т. п. И он, конечно,
оказался прав, как это может теперь констатировать
любой механист, чуточку знакомый с теорией строения
атомов.
На этом примере отношения марксизма к атомизму
в момент «расцвета» атомистической теории в естество¬
знании можно поучиться тому, как правильные филог
софские представления позволяют предугадывать раз¬
витие положительных наук. Из этого же видно, как
вреден был бы для философии тот хвостизм по отно¬
шению к «последним выводам современного естество¬
знания», который проповедуется механистами.
«Разрушимость атома, неисчерпываемость его,
изменчивость всех форм материи и ее движения
всегда были опорой диалектического материализма».
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 123
Так пишет Ленин. (Собр. соч., т. X, стр. 236; разрядка
моя. А. С.)
Если разрушимость атома всегда была опорой диа¬
лектического материализма, то почему теперь, когда
уже физика (а не только философское мышление) раз¬
ложила атом на электроны, — почему теперь стало воз¬
можным говорить о неразрушимости электрона, кото¬
рый механисты принимают за «мельчайшую тожде¬
ственную частицу» точно так же, как раньше принимали
атом?
Если марксизм, если диалектика всегда требовали
признания изменчивости, как выражается Ленин,
«всех форм материи», то почему механисты считают
электрон неизменным?
Если «признание изменчивости всех форм материи»
является «опорой диалектического материализма», то
не ясно ли, что механисты, защищая теорию «мельчай¬
ших тождественных частей» материи, к перемещению
и количественным сочетаниям которых сводится реши¬
тельно все в мире, вырывают почву из-под всего здания
марксистской философии?
С точки зрения физики и, следовательно, «физиче¬
ского», естественно-научного представления о материи
очень важно, сумели ли мы уже разложить атом или нет,
знаем мы внутреннюю» природу электрона или нет.
Но с точки зрения диалектического материализма
важно то, что, на какой бы ступени развития ни стояла
в данный момент физика, материя все же во всех ее
формах остается: 1) об’ективно существующей в про¬
странстве и времени, 2) вечно движущейся, изме¬
няющейся, 3) не только количественно, но и каче¬
ственно определенной, разнообразной, исключаю¬
щей возможности абсолютного тождества каких бы то
124 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ни было «мельчайших частиц», 4) неисчерпаемой,
несовместимой с представлением о «последних инстан¬
циях», о конечных элементах, об абсолютном начале
или об абсолютном конце.
Поэтому понятно, что Ленин мог и должен был
говорить не только о «разрушимости атома», но и о
«неисчерпаемости» электрона.
Все механисты вообще (а механисты могут быть и
в идеалистическом лагере) неизбежно в своих рассужде¬
ниях должны притти к выводу о каких-то неизменных
последних элементах бытия. По этому поводу Ленин
писал:
«Неизменно, с точки зрения Энгельса, только одно:
это — отражение человеческим сознанием (когда суще¬
ствует человеческое сознание) независимо от него суще¬
ствующего и развивающегося внешнего мира. Никакой
другой «неизменности», никакой другой «сущности»,
никакой «абсолютной субстанции» в том смысле, в ка¬
ком разрисовала эти понятия праздная профессорская
философия, для Маркса и Энгельса не существует. «Сущ¬
ность» вещей или «субстанция» тоже относительна; они
выражают только углубление человеческого познания
об’ектов, и если вчера это углубление не шло дальше
атома, сегодня — дальше электрона и эфира, то диалек¬
тический материализм настаивает на временном, отно¬
сительном, приблизительном характере всех этих вех
познания природы прогрессирующей наукой человека.
Электрон также неисчерпаем, как и атом, природа бес¬
конечна». (Ленин. Собр. соч., т. X, стр. 219 — 220.)
Тов. А. К. Тимирязев думает, что если Энгельс в свое
время и отказался от признания атомизма, как учения
о том, что мир состоит из простейших неделимых, не¬
изменяемых. тождественных частичек «первичной мате-
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 12Ь
рии», то этот отказ Энгельса от атомизма об’ясняется
н е общими методологическими, философскими сообра¬
жениями, а временными неуспехами естествознания. По
Тимирязеву все дело в том, что попытки первой поло¬
вины XIX века доказать, что атомы всех элементов
состоят из «тождественных» частичек водорода, как
первоматерии, не увенчались успехом.
«Как раз в ту пору, когда Энгельс начал изучать
химию, было уже установлено, что отношения атомных
весов к атомному весу водорода не выражаются целыми
числами. Смелая гипотеза о водороде как первич¬
ной материи была, казалось, окончательно отверг¬
нута опытными данными».
Далее А. К. Тимирязев говорит:
«Современные теории строят материю из электронов
и протонов (протон — ядро атома водорода, связанное
с положительным электрическим зарядом). Мы возвра¬
тились, таким образом, теперь до известной степени
к старой теории начала XIX столетия. Теория электро¬
нов, «отрицая» «отрицание старой теории», восстана¬
вливает взгляды первых атомистов XIX века на новой,
высшей основе».1
Единственно, что есть верного в этих рассуждениях
Тимирязева, — это то, что атомизм остается атомизмом,
будет ли представителем «первоматерии» считать¬
ся физический атом или электрон, или еще что-
нибудь.
Естественно-научная теория электронов, как и науч¬
ная теория атомов (и атомы, и электроны являются
об’ективной реальностью, конечно) сами по себе ни¬
сколько еще не обозначают торжества атомизма как
1 „Диалектика в природесб. III, стр. 29.
126 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
такового, атомизма как учения о последних тожде¬
ственных и неизменных частицах «первоматерии».
Но когда Тимирязев пишет о гипотезе «первоначаль¬
ной материи», о том, что электрон обозначает торже¬
ство гипотезы, то он выступает как «атомист».
Понимание механистами категории «качества» и их
метод «сведения» с логической неизбежностью приво¬
дит к такому представлению, что материя сама по себе,
материя как таковая, есть нечто бескачественное, абсо¬
лютно однородное и пр., а движение существует только
как механическое движение, как перемещение частиц
этой однородной «первичной материи».
Поэтому вполне понятно, если И. И. Степанов счи¬
тает, что естествознание «находит единую материю как
таковую, как единую первооснову всех форм материи».
«Материя как таковая, — пишет тов. Степанов, —
чувственно существует для нас, как отрицательные
электроны и положительные ядра».1
В противоположность этому утверждению механи¬
стов диалектик Энгельс пишет:
«Материя, как таковая, это чистое создание мысли
и абстракция». «Материя, как таковая — это нечто бес¬
качественное. Действительные предметы мира не бы-
вают бескачественными никогда».
Из этих слов Энгельса самих по себе, если их взять
в сопоставлении с тем, что говорит тов. Степанов, кри¬
сталлически ясно, что степановская точка зрения со
взглядами Энгельса ничего общего не имеет.
«Помните, что стоит в центре спора у меня с деборин-
цами?» спрашивает тов. Степанов. И отвечает: «Они
(т. е. диалектики. А. С.) до сих пор находят, что единая
1 См. ,Под знаменем марксизма*, 1925, № 8 — 9, стр. 51 и 59.
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 127
материя, материя, как таковая, «это — чистое
создание мысли и абстракции». Изворачивайтесь, как
знаете, но совершенно ясно, что Ленин идет скорее с
«грубым», «вульгарно-материалистическим» естество¬
знанием чем с Дебориным». (Степанов. «Диалект,
материализм и деборинская школа», стр. 42. Разрядка
моя. А. С.)
По поводу этих строк Степанова следует, во-первых,
заметить, что говорить о «единстве материи» и гово¬
рить о «материи как таковой» — это две совершенно
различные вещи. Во-вторых, как мы только что видели,
не кто другой, как именно Энгельс, говорит о том,
что «материя как таковая — это чистое создание мысли
и абстракция». Спрашивается, кого механисты хотят
ввести в заблуждение, когда они называют Деборина,
а бьют прямо по Энгельсу?
Наконец, в-третьих, откуда это Степанов взял, что
Ленин с ним? Мы же уже цитировали выше Ленина. Из
этих цитат было достаточно ясно, что с точки зрения
Ленина нелепо говорить о каких-то метафизических
«неизменных», «последних», «тождественных» «кирпи¬
чах мироздания», о какой-то бескачественной абстракт¬
ной «материи как таковой», взятой обособленно от вся¬
ких ее конкретных форм.
Но, может быть, тов. Степанов дает какой-то новый
материал, говорящий в его пользу? Действительно, он
как раз перед теми своими словами, которые мы цити¬
ровали, приводит выдержку из Ленина. Выдержка эта
гласит:
«Чтобы поставить вопрос с единственно-правильной,
т. е. диалектически-материалистической точки зрения,
надо спросить: существуют ли электроны, эфир итак
Далее, вне человеческого сознания, как об’ективная
128 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
реальность, или нет. На этот вопрос естествоиспытатели
также без колебания должны будут ответить и отвечают
постоянно да». (Ленин. Сочинения, т. X, стр. 218.
Разрядка моя. А. С.)
Каким образом Степанов мог вообразить, будто эти
слова Ленина подтверждают его метафизическую мысль
о «материи как таковой»? Этого понять невозможно.
Что говорит Ленин приведенными здесь словами?
Только то, что для материалиста-диалектика вопрос за¬
ключается не в том, являются ли электрон или что-либо
иное «последней», «неразложимой» и т. д. частичкой, а
в том, является ли весь мир, природа, с атомами и элек¬
тронами («и так далее», говорит Ленин, не желая оста¬
навливаться на том или ином отдельно) об’ективной
реальностью, существующей вне человеческого позна¬
ния, или нет. В той же своей работе Ленин дальше, раз¬
вивая эту мысль, пишет:
«Понятие материи... не означает гносеологически
не чего иного, кроме как: об’ективная реальность,
существующая независимо от человеческого сознания и
отображаемая им».
Разве здесь или в цитированных Степановым словах
Ленин говорит, что именно электрон, а не что-нибудь
иное, как раз является степановской «материей как та¬
ковой»? Нет, этого Ленин не говорит. Наоборот, его
слова бьют по механистам, потому что механисты хотят
электрон просунуть в гносеологическое
определение материи в то время, как Ленин
не раз говорит и повторяет, что единственное свойство
материи, с признанием которого связан материализм,
это ее «свойство» быть об’ективной реальностью неза¬
висимо от сознания человека.
Разумеется, между ыами спор вовсе не идет по той
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 129
линии, является ли «электрон, эфир и так далее» об'ек*
тивной реальностью. Когда механисты кричат, будто
«деборинцы» не признают электрона, то это весьма при¬
митивный и «механический» способ запугивать публик>
заведомой чепухой.
Однако, вернемся к Энгельсу. Мы уже видели, что
он высказывался против абстрактно-механического по¬
нимания материи «как таковой» с такой ясностью, ко¬
торая не может оставлять никаких сомнений.
Далее Энгельс говорит о том, что воззрения на ма¬
терию механистов неизбежно приводят к тому, что ме¬
ханисты «сущностью» мира должны считать число по¬
добно древне-греческому философу Пифагору.
«Как уже доказал Гегель, — пишет Энгельс, — это
воззрение, эта «односторонняя математическая точка
зрения», согласно которой материя определима только
количественным образом, а качественно исконно одина¬
кова, является именно точкой зрения французского
материализма XVIII столетия. Она является даже воз¬
вратом к Пифагору, который уже рассматривал число,
количественную определенность, как сущность вещей».
(«Архив», т. II, стр. 147.)
Наши механисты оказались достаточно последова¬
тельными и в точности на своем собственном примере
доказали правоту рассуждений Энгельса, связывавшего
механистическое мировоззрение с пифагоризмом. Так,
в цитированной уже нами статье И. И. Степанов пишет:
«Не приходится ли действительно сказать, что
электронная теория строения материи возвращает нас
к Пифагору, для которого сущности вещей — в числе,
в количественной определенности? Если и возвращает,
то «на основе всех научных приобретений» громадного
последующего за Пифагором периода». («Под знаменем
Диалектический .материализм. 0
130 ДИАЛЕКТИЧЕСкИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЁХАНИСТЫ
марксизма», 1925, № 8 — 9, стр. 59. По книге И. Сте¬
панова. «Диалектический материализм и деборинская
школа», стр. 141.)
Пифагор — идеалист. Хвастаться тем, что они воз¬
вращаются «на основе всех научных приобретений»
к Пифагору, механистам, считающим себя марксистами,
нет ровно никакого расчета. Поэтому далеко не все из
них так последовательны в своих рассуждениях, как
И. И. Степанов. Но существа дела это не меняет.
Некоторые механисты заявляют, что они ничего не
говорят о первоматерии, знать ее не хотят, как не хотят
быть и пифагорейцами. Что ж, это дело их личной логи¬
ческой непоследовательности. Механическая концепция
сама по себе неизбежно приводит именно к тем выво¬
дам, которые так храбро сделал тов. Степанов, хотя
бы отдельные механисты этого и не сознавали. Еще
тот же великолепный диалектик Энгельс писал об этом-
«У теории абсолютной качественной тождествен¬
ности материи имеются свои приверженцы; эмпирически
ее так же нельзя опровергнуть, как и нельзя доказать.
Но если спросип? людей, желающих об’яснить все «ме¬
ханическим образом», сознают ли они неиз¬
бежность этого вывода и признают ли то-
ждественность материи, то какие при этом по¬
лучатся различные ответы » («Архив», т. II, стр. 145.)
Все это замечательно верно и для наших дней.
Переходя в контр-наступление, механисты обычно,
как уже указывалось, утверждают, что их противники
из диалектического лагеря («школа Деборина», как они
выражаются) отрицают теорию электронов.
Это, конечно, заведомая чепуха, на которой не стоит
останавливаться. Диалектики признают все, что имеется
в положительной науке действительно об’ективно-науч-
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 131
ного. Никто не отрицает реальности физических атомов
или физических электронов. Механисты просто путают,
потому что не умеют различать между философским
вопросом о материи и частными естественно-научными
теориями строения вещества.
Диалектики также «признают» электроны, как и Ти¬
мирязев, Аксельрод, Варьяш и др., но они не признают,
что электрон это «последняя инстанция», что это «пер-
воматерия», что это нечто абсолютно «тождественное
себе» и т. д. Словом, диалектики «признают» электроны,
но не признают, что это — «неизменные кирпичи миро¬
здания», представители «материи как таковой».
Какие выводы действительно вытекают из электрон¬
ной теории?
Электронная теория блестяще подтвердила правиль¬
ность чисто-теоретической критики атомизма диалекти¬
ческим материализмом. Сфера приложения диалектики
в физических науках была расширена.
Какие выводы следуют из механического понимания
электронной теории, развиваемого Тимирязевым, Степа¬
новым и другими?
Из их понимания следует:
Во-первых, что пределы возможного приложения
диалектики к явлениям природы ограничиваются, так
как наконец-то найдены такие «мельчайшие тождествен¬
ные частицы» первичной материи, «материи как тако¬
вой», которые в противоположность всему остальному
грешному и преходящему миру не подвержены измен¬
чивости и абсолютно постоянны.
Во-вторых, что истинным бытием, подлинной объек¬
тивной реальностью обладают только эти «тождествен¬
ные частицы» первоматерии. Все остальное — только их
сочетания. По отношению ко всем остальным формам
132
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
материи, формам ее бытия, они обладают большей сте¬
пенью реальности и об’ективности. Наоборот, с точки
зрения диалектического материализма любой предмет,
любая вещь об’ективно существует В такой же мере,
как и всякий электрон.
В-третьих, «материя как таковая», лишенная всяких
качественных определений, оказывается близкой род¬
ственницей кантовской «вещи в себе», также ли¬
шенной всяких определений. Еще Гегель говорил, что
подобная «вещь в себе» является «мертвой головой»,
мертвым продуктом абстрагирования от всякого содер¬
жания.
В-четвертых, следует, что если материя сама по себе
бескачественна, то качества суб’ективны и т. д., и т. п.
Любопытно, что со своей теорией сводимости всех
конкретных форм существования материи к механиче¬
скому движению механисты «отстали» не только от
диалектического материализма XIX — XX столетий, но
п от французского материализма XVIII века.
Противники материализма и даже некоторые мате¬
риалисты (как Фейербах, который смешивал француз¬
ский материализм с вульгарным материализмом XIX сто¬
летия) утверждали, будто французские материалисты
«сводили все силы материи к движению» в том смысле,
что движение сознания, явление сознания понимали
как разновидность механического движения. По этому
поводу Плеханов писал, что «ни материалисты из
«энциклопедистов», ни Ламетри вовсе не признавали,
что все силы материи можно свести к движению».
«Фейербах держался того взгляда, что французские
материалисты сводили свои силы материи к движению.
Я уже показал что этот взгляд совершенно неверен и
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ
133
что в этом отношении французские материалисты были
не более «материалистичны», чем сам Фейербах.
«Но отклонение Фейербаха от французского мате¬
риализма заслуживает очень большого внимания, по¬
тому что оно также резко характеризует его собствен¬
ное миросозерцание, как и миросозерцание Маркса и
Энгельса. По Фейербаху, источник познания в
психологии совершенно иной, чем в фи¬
зиологии». Так писал Плеханов.
Последнее положение, между прочим, бьет прямо
против сведения психологии к рефлексологии и физио¬
логии вообще, т. е. против механического подхода к
этим вопросам.
VII. «ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ» В ПО¬
НИМАНИИ МЕХАНИСТОВ.
С последовательно механической точки зрения не¬
возможно правильное решение вопроса об отношении
сознания и материи, психологии и физиологии, суб’екта
и об’екта.
Диалектический материализм определяет отношение
между суб’ектом и об’ектом, как отношение един¬
ства, включающего в себя и тождество и различие.
Я есть суб’ект для себя и об’ект для другого; я есть
материя, и я мыслю.
В отличие от диалектического материализма, как
идеализм, так и вульгарный материализм единство
суб’екта и об’екта подменяют их тождеством.
Момент различия отпадает. При этом в идеализме все
сводится к суб’ектУ, а в механическом вульгарном мате¬
риализме — к об’екту.
Где нет диалектики, там понимание единства тожде¬
ства и различия, понимание единства противоположно¬
стей абсолютно невозможно. И наоборот: без понима¬
ния диалектического противоречия нет никакой диалек¬
тики. Категория единства противоположностей является
важнейшей категорией диалектики.
«Раздвоение единого, — пишет Ленин, — и познание
противоречивых частей его... есть суть (одна из «сущ¬
ностей», одна из основных, если не основная, особенно¬
стей или черт) диалектики, Так именно ставит вопрос
«ЕДИНСТВО ДРОТИВОПОЛбйСНОСТЕЙ*
т
и Гегель». «На эту сторону диалектики обычно (напри¬
мер, у Плеханова) обращают недостаточно внимания:
тождество противоположностей берется, как сумма
примеров, а не как закон познания (и закон об’ектив-
ного мира)». (Ленин. К вопросу о диалектике.)
Формально-логическое, чуждое диалектики мышле¬
ние видит или различие или одинаковость (тожде¬
ство), но не может понять того, как фактически повсюду
имеется единство того и другого. Однако даже
самое заскорузло-формальное мышление, подчиняясь
требованиям «стихийной диалектики», не может гово¬
рить об одинаковости там, где нет различий, и наобо¬
рот. Никто, скажем, не будет говорить о разнице между
миноносцем и чернильницей. Но можно говорить о раз¬
нице между миноносцем и дредноутом, так как и тот
и другой в равной мере являются военно-морскими
судами.
Мы уже видели выше на целом ряде примеров, как
механисты допускают всевозможнейшие ошибки, так
как фатально не могут перешагнуть через метафизиче¬
скую ограниченность своего мышления, не пони¬
мающего по существу, как это противоположности
могут быть едины. Они поэтому постоянно абсолю¬
тизируют противоположности, доводят их до крайно¬
сти, до абсурда и этим абсурдом возмущаются или
наслаждаются, смотря по его содержанию. Формально
логическое «или — или» постоянно на практике, в ходе
их рассуждений, возводится ими в высший принцип
познания и бытия.
Материя с их точки зрения или дискретна (пре¬
рывна) или непрерывна. На самом же деле материя
и дискретна и непрерывна.
«Материя как таковая» у них существует сама по
136 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
себе, а конкретные формы материи, качества и т. д.—
сами по себе. А между тем нет формы без содержания
и нет содержания без формы.
По отношению к различным областям науки (меха¬
ника, физика и т. д.) они представляют себе или
только связь, только «непрерывность», так что
каждая высшая область сводится и поглощается низ¬
шей, или же разрыв. На самом деле существует и
связь и «разрыв», специфичность, несводимость разных
областей науки.
По отношению к вопросам органической жизни им
известны две «крайности»: витализм и механическое све¬
дение. На самом деле ни то, ни другое не может пра¬
вильно решить вопросы жизни. Их разрешает только
диалектика. И т. д.
Нельзя сказать, чтобы механисты не говорили о
«единстве противоположностей» или о «взаимном про¬
никновении противоположностей». Нельзя сказать,
чтобы они не клялись «диалектическим противоре¬
чием». Вопрос в том, как они понимают, как они истол¬
ковывают эти понятия.
Понимают и истолковывают они их так, что от диа¬
лектики ничего не остается. Вместо диалектического
противоречия, которое предполагает единство, у них
получается метафизическое, формально - логическое
противоречие внешних друг для друга, внутренне не
связанных моментов.
Очень отчетливо две различных точки зрения на
противоречие противопоставил А. Богданов, сам
являющийся механистом. При этом Богданов совер¬
шенно сознательно и отчетливо противопоставлял свое
механическое понимание «противоречия» и диалектики
€ ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»
13 7
вообще пониманию основоположников марксизма, по¬
ниманию Маркса и Энгельса.
Указывая на то, что и Гегель и Маркс «определяли
диалектику, как развитие через противоречия», А. Бог¬
данов ставит вопрос: каков же «реальный смысл» диа¬
лектики и, в частности, каков реальный смысл диалек¬
тического противоречия? И он приходит к тому заклю¬
чению, что уже основное понятие диалектики, понятие
развитйя «у Маркса, как и у Ге/еля, не достигло
полной ясности». Понятию «развития» он противопоста¬
вляет свое понятие «организационного процесса, иду¬
щего путем борьбы противоположных тенденций».
«Пользуясь нашими методами, — писал Богданов,—
мы с самого начала определили диалектику так: орга¬
низационный процесс, идущий путем борьбы противо¬
положных тенденций. Совпадает ли это с пониманием
Маркса? Очевидно, не совсем: там дело идет о разви¬
тии, а не об организационном процессе. А что озна¬
чает слово «развитие»?1
Далее Богданов приводит выдержки из Энгельса,
где Энгельс говорит о том, что всякое движение и вся¬
кая жизнь есть противоречие, и «как только это про¬
тиворечие исчезает, прекращается и сама жизнь, насту¬
пает смерть». По поводу этих рассуждений Энгельса о
противоречии Богданов пишет:
«Под реальным противоречием можно понимать
только одно: борьбу реальных сил, двух противопо¬
ложно направленных активностей». Об этом ли говорит
Энгельс? Очевидно, нет. И далее: «Сам Энгельс упомя¬
нул, что противоречие выступает на сцену там, где вещи
берутся «в их взаимодействии». Действительно, только
1 А» Богданов. „Философия живого опыта*, 1920, стр. 189*
138 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
там имеется реальное столкновение сил, реальная
встреча противоположностей. И как раз этого нет в
диалектике движения, как ее изображает Энгельс: ни о
каком взаимодействии движущегося тела с другими он
не говорит». (Богданов, там же, стр. 190 и
191.)
Во всех этих рассуждениях Богданова имеется одна
подлинная правда: это то, что Энгельс и Маркс действи¬
тельно понимали противоречие не как внешнее, а как
внутреннее, не как механическое взаимодействие двух
сил, а как «раздвоение единого», не по-богдановски, в
общем.
Энгельс говорит, что жизнь сама по себе есть по¬
стоянное внутреннее противоречие. «Жизнь состоит
прежде всего в том, что данное существо в каждое
мгновение является тем же самым и иным».
Этому Богданов противопоставляет свое понима¬
ние противоречий жизни, как внешних противоре¬
чий. Он говорит о «недоразумении, в кото¬
рое Энгельс впадает по поводу диалектики
жизни». «Жизнь на самом деле диалектична, — но не в
том смысле, что организм противоречит самому себе,
будучи одновременно и «тем же» и «не тем же». Нет,
суть заключается в ином: организм борется со своей
средой; он непрерывно отдает ей свою энергию, кото¬
рую затрачивает, и непрерывно же усваивает ее энер¬
гию». (Там же, стр. 192.)
Чем наши современные механисты из марксистского
лагеря отличаются от Богданова в коренном вопросе о
понимании диалектического противоречия? Только
большей путаницей, меньшей последовательностью и
отсутствием сколько-нибудь ясного представления о
том, что механическое противоречие не совпадает с
«ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»
139
диалектическим противоречием в понимании марк¬
сизма.
Как они определяют противоречие?
Один из представителей «механистического» лагеря
пишет так:
«Когда же дело идет о движении, о развитии, вопрос
ставится уже совсем иначе. О классе, как о чем-то го¬
товом, равно как и об об’екте, как о чем-то закончен¬
ном, говорить в этом случае нельзя. Поэтому здесь на
сцену выступают иные принципы. Один из них можно
формулировать как принцип взаимного проникновения
противоположностей, т. е. как принцип, гласящий, что
всякое явление, всякий процесс, представляет собою не¬
которую игру противоположных сил, един¬
ство которых и выражается в течение процесса».
В другом месте своей брошюры тот же автор, желая
раз’яснить точку зрения на развитие, выдвигаемую диа¬
лектикой, пишет:
«Для них (для диалектиков) проблема развития
предполагает целый ряд других проблем. Процесс раз¬
вития, говорят они, следует всегда представлять как
результат борьбы противоречий, противоположных
сил, стремлений, тенденций. Только борьба этих
противоположных сил дает возможность про¬
никнуть в самую механику эволюционного процесса.
Только разложив процесс на составляющие его проти¬
воборствующие моменты, мы сможем понять его, об’яс-
нить и предсказать его будущее».1
Другой представитель механистов, А. К. Тимирязев,
дает примеры диалектического «взаимного проникно¬
1 С. Васильев. .Философия м ее проблемы", стр. 65 и 70.
Разрядка моя. А. С.
140 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
вения противоположностей». Вот один из его примеров:
«Рассмотрим несколько частных примеров, до¬
вольно поучительных. Мы ведем смычок по струне.
Струна колеблется, и иногда идет прямо навстречу
смычку. Процесс, который происходит, когда играют
на скрипке, следующий: сначала струна прилипает к
смычку (для чего его натирают канифолью), и- струна
начинает двигаться в ту сторону, в которую двигается
смычок, но благодаря этому она должна выгнуться, по¬
лучается новая сила упругости, которая стремится за¬
ставить струну двигаться против движения смычка.
Когда сила упругости станет больше силы, с которой ее
увлекает смычок, струна срывается и начинает двигаться
навстречу движению смычка; по инерции она переходит
через положение равновесия, замедляется и опять увле¬
кается движением смычка, происходящим все время в
одну и ту же сторону. Таким образом, одно движение
может вызывать другое движение прямо противопо¬
ложное». 1
Где же здесь у тов. Тимирязева «взаимное проникно¬
вение противоположностей»? Где их «единство»? Где
развитие, «самодвижение»?
Никакого развития, никакого единства и проникно¬
вения, а просто борьба двух сил: силы руки, ведущей
смычок, и силы упругости струны. Внешнее взаимодей¬
ствие, внешняя борьба.
Другие примеры Тимирязева, приводимые в той же
его статье, большею частью или взяты как раз из ме¬
ханики, или же говорят о «равновесии», о нарушении
«равновесия» и т. д., и т. п. Если не механика непосред¬
1 А. Тимирязев. «Диалектический метод и современное есгество-
днание*. Журнал .Под знаменем марксизма*, 1923, №4 —5, стр. 122
* ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»
141
ственно, так аналогии с механикой. «Такова неотрази¬
мая постановка вопроса».
Заимствованное из механики представление о раз¬
витии, как о постоянном нарушении и восстановлении
равновесия, целиком совпадает с механическим пони¬
манием противоречия как борьбы внешних друг дли
друга сил. Вполне последовательно подобную механи¬
ческую концепцию «организационного процесса» (заме¬
няющего у Богданова наше понятие «развития») дает
тот же Богданов. Он пишет:
«Припомним наше первоначальное определение диа¬
лектики: организационный процесс, идущий путем
борьбы противоположных сил. Если этот процесс имеет
какое-нибудь начало, то ясно, что д о его начала —
еще не было борьбы двух противоположных сил, н
нем участвующих, и существовало в этом отношении
какое-то равновесие. Если процесс где-нибудь за¬
канчивается, то, несомненно, что борьбы данных двух
сил уже нет, и наступило по отношению к ним ка¬
кое-то новое равновесие. Вот вам и вся триада:
от равновесия через нарушающую его борьбу двух сил
к новому равновесию». (Богданов. Там же, стр. 197.)
Из современных механистов весьма обстоятельно
механическую точку зрения на все эти вопросы разви¬
вал В. Сарабьянов. Он тоже говорит о «равновесии» и
т. п. Вся его концепция «развития» построена на этом.
«Говоря о скачках, как о процессах на¬
рушенного равновесия, — пишет этот автор, —
нужно помнить, что речь может итти об определен¬
ных равновесиях, об определенных связях, которые
рвутся».1
1 В. Сарабьянов. „Основное в едином научном мировоззрении -
методе", стр. 113.
142 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Итак, «скачки», т. е. прорывы постепенности в про¬
цессе развития, диалектические переходы от одного
качества к другому (переходы «количества в качество»)
понимаются как «процессы нарушенного равновесия»,
как переходы от одного состояния равновесия к дру¬
гому состоянию равновесия. Эти переходы являются
результатом борьбы двух противоположных сил. Равно¬
весие и является более или менее относительным равно¬
весием этих внешних сил.
В процессе развития, пишет В. Сарабьянов, «отно¬
шение между противоречащими друг другу силами
все время изменяется, а в результате господствующая
сила или становится подчиненной, или превращается
сама в какую-либо иную силу, или изменяет по суще¬
ству противоречащую ей силу. В итоге получается то,
что Гегель называл: количество переходит в ка¬
чество». 1
Тов. Сарабьянов «немножко» ошибается: это не Ге¬
гель называл переходом количества в качество, а Бог¬
данов. У Гегеля такие переходы даются лишь в отноше¬
нии процессов механики. Что же касается Богданова,
которого Сарабьянов смешал с Гегелем, то он сам был
противником гегелевского понимания переходов и пи¬
сал по существу совершенно в духе Сарабьянова сле¬
дующее:
«Упустив из виду этот живой, реальный смысл диа¬
лектики, Энгельс и Маркс потеряли также возможность
об’яснить переход количества в качество. Между
тем после нашего исследования об’яснение оказывается
очень простым. Если тот или иной процесс — движение
1 В. Сарабьянов. „Введение в диалектический материализм*,
стр. 19.
«ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»
143
тела, жизнь организма, развитие общества — опреде¬
ляется борьбой двух противоположных сил, то пока
преобладает количественно одна из них, хотя бы не¬
много, — процесс идет в ее сторону, подчиняется е е
направлению. Как только другая сила, возрастая, нако¬
нец, сравняется с нею, тотчас меняется весь характер
процесса, его «качество»: либо он прекращается, либо,
с дальнейшим, хотя бы ничтожным увеличением второй
силы, принимает обратное прежнему направление; в
обоих случаях наши чувства сообщают, что перед нами
нечто «качественно» иное, чем прежде». (Богданов.
«Философия живого опыта», стр. 194.)
Тов. Сарабьянов очень точно придерживался этой
богдановской схемы, когда, например, рисовал картину
перехода от капитализма к диктатуре пролетариата. Он
пишет так:
«Если бы крупная буржуазия и пролетариат, и дру¬
гие классы развивались во всех отношениях пропор¬
ционально, то оно (общество) оставалось бы капитали¬
стическим». Но обычно дело обстоит иначе. «Силы
пролетариата количественно нарастают, силы буржуа¬
зии тоже растут, но не так быстро. Наступает какой-то
момент, когда количество сил обоих классов
одинаково. В этот момент наступает скачок, общество
перестает жить старой жизнью, переживает какой-то
кавардак, мутацию (как выражаются естественники)».
В другой книжке того же автора этот же процесс
проведен еще дальше:
«И тот и другой класс растут... Но вот пролетариат
дорастает до буржуазии (сила равна) и перерастает ее
(пролетариат сильнее), в результате чего качество отно¬
шения противоречащих сил становится иным, новым
144
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
качеством: пролетариат господствует, буржуазия под¬
чиняется». 1
Может ли быть более пустяковое, более вульгарное
изображение процесса нарастающих внутренних проти¬
воречий капиталистического общества, приводящих к
революции? Где указание на то, что классовые проти¬
воречия являются социальным выражением внутренних
противоречий экономической системы капитализма,
«отрицающей себя» в процессе своего развития? Где
указание на то, что буржуазия и пролетариат в рамках
капиталистического общества полярные противополож¬
ности, неразрывно связанные единой системой, не
мыслимые друг без друга, так что оба явились резуль¬
татом «раздвоенья единого» простого товаропроизво¬
дителя? Где указание на то, что слабость капитализма
об’ясняется его силой (перепроизводство, кризисы, кон¬
куренция, война)? Где указание на то, что пролетариат
не только уничтожает буржуазию как класс, но и «са-
моотрицается» при этом, переставая быть классом?
Словом, где диалектика? Диалектики нет, так как
нет понимания развития, нет понимания противоречия.
Ленин пишет о необходимости познания процессов
мира в их «самодвижении», подчеркивает момент
само- движения. «Условие познания всех процессов
мира в их «самодвижении», в их... спонтанейном раз¬
витии, в их живой жизни есть познание их, как един¬
ства противоположностей».2
А Сарабьянов пишет о том, что «движение возможно
только при наличии не менее двух сил».
Тов. Сарабьянов пишет: «Любая вещь... есть проти-
1В. Сарабьянов. .Введение в диалектический материализм*
стр. 20.
* Л е и и н. ,К вопросу о диалектике*,
«ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»
146
воречивое явление. Различные силы вещи действуют
друг на друга, в результате чего вещь изменяется.
Определенное противоречие есть причина определен¬
ного движения. Эти противоречия бывают как внутрен¬
ние (внутри вещи протекающие), так и внешние (вещь
действует на вещь)».
Тут уже, кажется, со страниц сарабьяновских произ¬
ведений готово читателям улыбнуться подлинное вну¬
треннее противоречие. Однако это только мираж.
При ближайшем рассмотрении сарабьяновское «вну¬
треннее» противоречие оказывается все тем же механи¬
ческим противоречием внешних друг для друга сил. Вот
его примеры, с позволения сказать, «внутреннего», про¬
тиворечия:
«Я хвораю — значит, во мне борются силы, прино¬
сящие и разрушающие мое здоровье».
«Все течет, все изменяется в силу противоречий как
внутренних (в самом, например, пролетариате, между
сознательными и менее сознательными), так и внешних
(между пролетариатом и буржуазией)».
Энгельсу приходилось высказываться специально по
вопросу о внешней противоположности в ее отношении
к диалектическому противоречию.
Тогда еще не было философических произведений
А. Тимирязева, Сарабьянова, Васильева и других, не
было даже богдановской «философии живого опыта»,
но был Дюринг. Совершенно в стиле механических
представлений этот Дюринг заменяет «противоречие»
«антагонизмом сил». Энгельс в своей книге («Анти-
Дюринг», изд. 1918 г., стр. 106) цитирует следующие
слова Дюринга:
«Первое и важнейшее положение о логических
основных свойствах бытия касается исключения проти-
Диалектический иатеоиалпам. ДО
146 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
воречия. Противоречие, это — категория, которая мо¬
жет принадлежать только мысленной комбинации, но
никак не действительности. В вещах нет никаких проти¬
воречий или, другими словами, противоречие, предста¬
вленное реальным, само является апогеем бессмы¬
слия. .. Правда, антагонизм сил, которые
действуют в противоположном друг
другу направлении, составляет даже
основную форму рсех процессов, обусло¬
вливающих существование мира и обитающих в нем
существ, но этот антагонизм сил в элемен¬
тах и индивидуумах, однако, далеко не совпа¬
дает с идеей нелепого противоречия».
По поводу этих рассуждений Энгельс замечает:
«Если гегелевское «учение о сущности» низвести
до плоской мысли о силах, движущихся
в противоположном направлении, но не
противоречиво, то во всяком случае
лучше всего уклониться от какого-либо
применения этого общего места».
К чести Дюрцнга надо сказать, что он, в отличие от
наших механистов, хоть умел понять, что «антагонизм
сил» вовсе еще не диалектическое противоречие, по¬
этому сам себя не считал диалектиком. Антагонизм сил
не противоречит никакой формальной логике и содер¬
жит в себе диалектические моменты лишь в такой мере,
в какой сама формальная логика вообще есть частный
случай логики диалектической.
Но пусть попробуют механисты со своей формаль¬
ной логикой и со своим пониманием противоречия, как
борьбы, как столкновения внешних сил, понять действи¬
тельно диалектическое единство противоположно¬
стей, наблюдающееся повсюду в природе и обществе.
«ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ»
147
В механическом движении осуществляется единство
времени и пространства. Где же здесь «противоположно
направленные силы»?
Труд в буржуазном обществе, воплощенный в то¬
варной массе, представляет из себя воплощенное про¬
тиворечие, так как он и тождествен (как абстрактный
труд) и различен (как труд конкретный, создающий
потребительную стоимость) в одно и то же время.
Где же здесь «антагонизм сил»?
То же самое следует сказать и о товаре. Товар как
потребительная и меновая стоимость одновременно за¬
ключает в себе противоречие, без которого нет движе¬
ния, нет обмена. Но это порождающее движение проти¬
воречие не есть какая-нибудь «противоположность сил».
Ленин говорит: «Противоречие заключено в любом
самом простом предложении». «Иван есть человек».
Уже*, в этом предложении заключено противоречие, так
как «Иван» есть частное, «человек» — общее. «Иван
есть человек» выражает тождество частного и общего,
т. е. тождество противоположностей. Это противоречие,
но здесь нет той «борьбы противоположных сил», о ко¬
торой Васильев и другие говорят, как о противоречии.
Приведем еще два «простых» примера живых проти¬
воречий, живого соединения противоположностей.
В 1925 г. Ленин пишет о бельгийских социали¬
стах, которые во время войны отказались от револю¬
ционной борьбы под предлогом необходимости «подчи¬
ниться большинству нации в данный момент и итти на
войну»:
«Болтать о диалектике и марксизме и не уметь со¬
единить необходимое (если оно на время необходимо)
подчинение большинству с революционной работой при
всяких условиях—есть издевательство над рабочими,
14$ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
насмешка над социализмом». (Ленин, Собр. соч.,
т. XIII, стр. 40.)
В 1921 г., уже в условиях перехода к новой экономи¬
ческой политике, Ленин призывает коммунистов соеди¬
нить работу «оптового купца» («это как будто бы эко¬
номический тип, как небо от земли, далекий от комму¬
низма», — говорит он) с борьбой за коммунизм, ибо
именно этот синтез в новых условиях необходим для
движения вперед, «действителен», диалектичен. «Это
одно из таких противоречий, — замечает Ленин, — ко¬
торое в живой жизни ведет от мелкого крестьянского
хозяйства через государственный капитализм к социа¬
лизму». (Собр. соч., т. XVIII, ч. 1, стр. 30.)
В этих и во всех подобных рассуждениях Ленина,
насыщенных диалектическим пониманием противоре¬
чия, нет и намека на механические представления. С ме¬
ханическим представлением о «про ивоположных си¬
лах» здесь нельзя ступить ни одного шага.
Сколько бы механисты ни клялись «противоре¬
чиями», сколько бы ни повторяли безо всякого понима¬
ния смысла слова о «взаимном проникновении противо¬
положностей», никакого «проникновения» у них нет.
Там, где у них есть противоположность, у них нет един¬
ства, а где есть единство, там нет различий. Здесь
оправдывается то, что Гегель писал о свойствах фор¬
мального мышления:
«Формальное мышление возводит себе в закон то¬
ждество, оставляет противоречивое содержание, нахо¬
дящееся перед ним, нисходит в сферу представления, в
пространство и время, в коей противоречивое содержа¬
ние удерживается одно вне другого, в сосуществовании
и последовательности, и таким образом выступает пе¬
ред сознанием без взаимного соприкосновения».
VIII. СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ.
Полная неспособность механистов понять такие.диа¬
лектические категории, как единство противоположно¬
стей, нагляднее всего проявляется в тех случаях, когда
необходимо на деле применить эти категории. Тогда
оказывается, что у механистов ровным счетом ничего
«не вытанцовывается».
Один из философских лидеров «механистического»
лагеря, А. Варьяш, в двух недавно выпущенных механи¬
стами книгах посвятил две специальные главы вопросу
о «взаимном проникновении противоположностей».
В одной из них (в книге А. Варьяша «Диалектика
у Ленина») он вообще ровно ничего не сказал, в чем
легко может убедиться всякий, прочитав стр. 95 и 96
указанной книжки. В книге в 180 страниц, трактующей
о диалектике, тов. Варьяш только две страницы отвел
важнейшей категории диалектики и при этом ничего не
сказал и на этих двух страницах.
В другом месте, в третьем сборнике механистов
«Диалектика в природе», А. Варьяш всю главу о «взаим¬
ном проникновении противоположностей» (стр. 97 —
106) посвятил исключительно вопросу о понятии слу¬
чайности и необходимости.
«Отношения необходимости и случайности предста¬
вляют собою хороший пример диалектики», справед¬
ливо заявляет тов. Варьяш и в заключение прибавляет:
<Я изложил закон взаимопроникновенности противопо¬
160 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ложностей по вопросу об отношении причинности и
случайности».
И действительно так: в своей статье А. Варьяш пре¬
красно иллюстрировал на конкретном примере, как
он понимает единство противоположностей. Из
двух членов диалектического отношения: необходи¬
мость и случайность, наш философ об’явил один член
отношения недействительным, «кажущимся» (как он
пишет).
Так получается у него «взаимное проникновение»
противоположностей посредством устранения одной из
этих «противоположностей», как не существующей.
Иными словами, оказалось, по Варьяшу, что, соб¬
ственно, нет никакой противоположности, а значит нет
и никакого «единства» или «взаимопроникновения».
Удивительная «диалектика»! Но с точки зрения ме¬
ханической концепции никакой другой и не может быть.
С этой точки зрения вопрос должен быть поставлен
так: существует или абстрактная необходимость,
исключающая всякое представление об об’ективной слу¬
чайности, и л й случайность, уничтожающая причин¬
ность.
С другой стороны, причинность должна истол¬
ковываться или как механическая причинность, или
же отрицаться вовсе, уступая место телеологии (т. е.
учению о том, что в основе всяких явлений лежит не
причина, а цель).
Отрицание механистами какого бы то ни было
об’ективного значения «случайности» связано с их по¬
ниманием причинности исключительно как механиче¬
ской причинности.
На одном философском диспуте Л. И. Аксельрод за*
являла:
СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 151
«Здесь даже говорят о какой-то «диалектической
причинности». Такая категория мне не известна. Я знаю,
что есть телеология и есть механическая причинность.
Телеология имеет своим источником сверх-опытную, по
существу, божественную цель или предопределенный
божественный план, который и развертывается в при¬
роде и истории. Механическая же причинность исклю¬
чает всякое внемировое начало и об’ясняет мир из него
самого. Под «диалектической же причинностью» можно
понимать разве только сверхопытную телеологию. Со¬
гласно этому именно пониманию механической причин¬
ности я писала в «Философских очерках», что душою
материализма является механическая причинность, т. е.
отрицание всякого сверхмирового начала».1
Л. И. Аксельрод, действительно, еще в «Философ¬
ских очерках» писала о причинности исключительно
как о механической. При этом, говоря о Спинозе, Л. И.
Аксельрод доказывала, что Спиноза материалист,
лишь указанием на то, что «в основу учения Спинозы
положен строго проведенный принцип механической
причинности». («Философские очерки», изд. 1906 г.,
стр. 72.)
Вслед за Аксельрод и А. Варьяш видит коренное
отличие материализма от идеализма в понимании при¬
чинности. «Отличие между материализмом и идеализ¬
мом в понимании причинности является самым ради¬
кальным, какое только можно мыслить», пишет Варьяш.
Так ли это на самом деле? Это не совсем так. Во¬
преки Аксельрод и Варьяшу «душой» материализма
является не «проведение принципа механической при¬
чинности», а признание первоначальности, об’ективной
* ,Хр&сная Новь-, 1928, № 5, стр. 156 — 157»
1Б2 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
реальности и независимости от сознания внешнего мира.
Об этом Энгельс, Плеханов и другие марксисты писали
множество раз.
Принцип механической причинности признают не
только материалисты, но и многие идеалисты. Об этом
сама же Аксельрод не раз упоминает в своих «Философ¬
ских очерках». Так она там пишет: «Наука, как это
настойчиво проповедуют сами же крити¬
ческие идеалисты, должна руководствоваться
законом механической причинности» (стр. 58). В другом
месте «Философских очерков» читаем:
«Несмотря на крупное различие частных взглядов,
во всей современной философии господствуют
общие и всем мыслителям присущие главные положе¬
ния, ярко определяющие основной характер всей фи¬
лософской мысли последнего периода. Общее же напра¬
вление сводится к следующим главным принципам. По¬
ложительная наука должна руководствоваться
законом механической причинности и
стоять на твердой почве чистого опыта... Не трудно за¬
метить, что эти положения представляют собой не что
иное, как окончательный результат философии Канта.
(Там же, стр. 6, 7.)
Странно, крайне странно. Закон механической при¬
чинности, будто бы являющийся «душой» материа¬
лизма, «самым радикальным отличием» (по Варьяшу)
материализма и идеализма, вдруг оказывается по соб¬
ственному признанию Л. И. Аксельрод «результатом
философии Канта», признанным всей идеалистиче¬
ской буржуазной «философской мыслью последнего
периода».
Как же после этого понять ту же Аксельрод, когда
она пишет;
СЛУЧАЙНОСТЬ Й НЕОБХОДИМОСТЬ
168
«Коренное различие между «последовательным»
идеализмом и «противоречивым» материалистическим
учением сводится опять-таки к тому, что материализм,
беря за точку отправления опыт, об’ясняет действитель¬
ный мир присущей ему внутренней закономерностью,
что и означает механическую причинность».
Почему же все-таки Аксельрод говорит именно о ме¬
ханической причинности, а не о биологической, напри¬
мер, или не об электродинамической и пр.? Почему во¬
обще общее понятие причинности нужно заменять част¬
ным понятием причинности одной из областей физики?
Повидимому, только потому, что современные механи¬
сты не пошли дальше представления XVIII столетия,
того столетия, в котором механика была наиболее раз¬
работанной научной областью и когда казалось, что все
сводится к механике. Современные механисты всякую
причинность понимают только как механическую, так
как это вытекает из их понимания всякого движения,
как механического, и из той их методологической уста¬
новки, согласно которой они в тенденции все области
науки сводят к одной универсальной науке — механике.
В основе механического понимания причинности ле¬
жит, следовательно, механическая картина мира. По¬
чему же в XX столетии необходимо оставаться при том
представлении о физической картине мира, какое было
присуще материализму XVIII столетия? В своей книге
«Материализм и эмпириокритицизм» Ленин пишет по
этому поводу следующее:
«Это, конечно, сплошной вздор, будто
материализм утверждал «меньшую» реальность созна¬
ния или обязательно «механическу ю», а н е
электромагнитную, не какую-нибудь еще
неизмеримоболее сложную картину мира,
164 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
как движущейся материи...» И дальше: «Мир есть
движущаяся материя, и законы движения этой материи
отражает механика по отношению к медленным дви¬
жениям, электромагнитная теория — по отношению к
движениям быстрым... Все это много мудре¬
нее старой механики, но все это есть движе¬
ние материи в пространстве и во времени». (Ленин,
т. X, стр. 235, 236. Разрядка моя. А. С.)
На самом деле понятие механической причинности
целиком приложимо к законам механики, и в этом
смысле диалектика не отрицает об’ективного значения
механической причинности. Но она ограничивает
область ее применения.
В механике нет еще речи о качествах, все отношения
рассматриваются, как количественные. Причина и дей¬
ствие рассматриваются, как количественно равные,
эквивалентные. Ничего качественно нового механиче¬
ская причинность не производит.
Простейшим примером отношения механической
причины и действия является обычный толчок, удар.
Шар толкует другой шар. Первый шар приостана¬
вливается, второй приходит в движение. Первый шар
теряет столько же движения, сколько приобретает вто¬
рой. Причина и действие тождественны. При этом при¬
чина движения второго шара лежит вне его, совершенно
внешня по отношению к нему. Шар извне получает
толчок.
Вот эти два основные признака, характеризующие
механическую причинность именно как механическую,
т. е. 1) ее внешний характер и 2) тождественность при¬
чины и следствия, совершенно не являются обязатель*
ными для отношения причины и действия в других
$надмеханических» областях.
СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
1ЪЬ
Во-первых, действие бывает не только тождественно
причине, но и различно с нею. И только таким
образом возникает новое, новые качества. Гегель
приводит в качестве примера дождь, как причину сы¬
рости. В данном случае причина и следствие, дождь и
сырость на земле, тождественны в том смысле,
что и то и другое есть вода. Но дождь есть дождь,
а сырость есть сырость — совершенно различные явле¬
ния. Тождественность причины и следствия допол¬
няется и совмещается с их различием.
То же самое мы наблюдаем абсолютно повсюду в
природе, в обществе, в психической жизни человека.
Без этого момента различия не было бы возможно
развитие
С точки зрения механической причинности понятно
только тождестве но не единство тождества и раз¬
личия. Так, например, тов. Степанов пишет: «Самое
основное в понятии причинности — непрерывность.
Прерывы получаются потому, что мы вырываем
(разрядка тов. Степанова) явления из всеобщей
связи». (Степанов. «Диал, материализм и теборин-
ская школа», стр. 126.)
Во-вторых, как уже было сказано, механическая
причинность есть внешняя причинность по отношению к
действию. Движение порождается, привносится в этом
случае извне. А между тем диалектика рассматривает
вещи в их «самодвижении», в их «спонтанейном разви¬
тии», как-выражается Ленин, т. е. в их саморазви¬
тии. Как же можно говорить о «саморазвитии», о са¬
модвижении, когда признается только внешняя причин¬
ность.
Конечно, там, где всякое противоречие рассматр»
166 ДИ ХЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
вается как внешнее, всякая причинность также должна
быть внешней. Но с диалектикой это несовместимо.
Мы различаем внутренние имманентные причины и
внешние. Имманентные причины обусловливают собой
постепенное старение и, наконец, смерть растения или
животного. Поэтому Энгельс писал:
«Уже и теперь не считают научной ту физиологию,
которая не рассматривает смерти, как существенного
момента жизни, которая не понимает, что отрицание
жизни по существу заложено в самой жизни так, что
жизнь всегда мыслится в отношении к своему неизбеж¬
ному результату, заключающемуся в ней постоянно в
зародыше, — к смерти. Диалектическое понимание
жизни именно к этому сводится... Жить значит уми¬
рать». («Архив Маркса и Энгельса», т. II, стр. 15— 17.)
Но смерть может явиться и не в результате закон¬
ченного внутреннего развития жизни, не в результате
«самоизживания» жизни организма, а в результате
внешних причин. Разумеется, при этом не сле¬
дует «внешние причины» понимать слишком внешне,
как это делают механисты. По их представлению (см.,
например, Сарабьянова о «внутренних» и «внешних»
противоречиях) человек умер от «внешней» причины,
если его ударили дубиной по голове, а если он умер от
тифа, то он умер от «внутренней» причины.
С точки зрения диалектического понимания вну¬
треннего, бациллы тифа так же внешни по отношению к
отравленному ими организму, как и дубина механистов.
Важно то, что в обоих этих случаях смерть явилась не в
результате завершенного и исчерпавшего себя процесс?
жизни, не в результате «внутренней логики» развития
организма, а в результате посторонних этой «внутрен¬
ней логике» развития влияний.
СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
167
С точки зрения механической, причинность вообще
не связывается с «самодвижением» предмета, с имма¬
нентными законами его развития. Причина всегда
внешня и, следовательно, всегда «случайна».
Механическая причинность целиком сводится к со¬
вершенной случайности, к «случайной причинности».
Выражаясь словами Энгельса, у механистов «необходи¬
мость низводится до чего-то чисто случайного». (Там
же, стр. 193.)
Тем самым совершенно стирается грань между слу¬
чайным и необходимым. Все абсолютно случайно или
все абсолютно необходимо. Становится невозможным
понять отношение случайности и необхо¬
димости; невозможно понять необходимость, как
включающую в себя элемент случайности, и случай¬
ность, как особую форму необходимости.
Таким образом, у механистов все признается одина¬
ково необходимым, подобно тому, как говорят, что
«ночью все кошки серы». Категория случайности совер¬
шенно игнорируется, как об’ективная категория бытия.
Элементарное мышление не способно пойти дальше
отвлеченного, формального противопоставления не¬
обходимости и случайности.
Диалектика признает об’ективное значение за кате¬
горией случайности. Из этого механисты делают такой
вывод: значит, диалектика признает возможность бес¬
причинных явлений, значит детерминизм (т. е. уче¬
ние о том, что все в мире является причинно-обуслов¬
ленным) теряет свою силу.
Все это, разумеется, чистейшая чепуха. Прямо пора¬
зительно, как это до сих пор механисты могут одно¬
образно твердить, что так называемые «деборинцы»,
т. е. марксисты-диалектики, говоря о «случайности»,
158 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
отвергают всеобщее значение детерминизма, приходят
к какой-то «беспричинности». Диалектики, в частности
А. М. Деборин, множество раз заявляли и раз’ясняли,
что случайность в понимании диалектического мате¬
риализма (как и Гегеля) не имеет ничего
общего с беспричинностью. Мы понимаем
случайность не как нечто исключающее необходимость,
а как «форму проявления необходимости», говоря сло¬
вами Энгельса.
Но какая именно «форма необходимости» является
случайностью?
Маркс, Энгельс, Плеханов достаточно писали о зна¬
чении случайности. Случайной они называют такую
причину, которая не связана с внутренним закономер¬
ным развитием данного явления, а является чем-то
внешним по отношению к нему. Там, где имеются два
независимые ряда причин и следствий, возможно их
пересечение, которое дает «случайный» с точки зрения
развития каждого ряда в отдельности результат.
Человек жил, шел на работу, над ним обвалился
карниз, и он умер. В данном случае ясно, что человек
по определенным причинам попал в определенное время
к тому месту, где обвалился карниз. Ясно также*, что
были причины, вызвавшие обвал карниза. Но у человека
была своя линия развития, у карниза — своя, и из вну¬
тренней закономерности развития человека вовсе не
вытекало, что он должен был умереть таким образом.
В результате, нет «беспричинности», но имеется налицо
случайноеть: человек умер случайно.
Таким образом, случайность есть «нечто относи¬
тельное, но об’ективное, внешне необходимое по отно¬
шению к внутренне необходимому, к имманентному
процессу развития данного явления». (Д е б о р и н.)
СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
169
Плеханов прекрасно раз’яснил об’ективное значение
случайности на ряде исторических примеров, особенно
в своей статье «К вопросу о роли личности в
истории».
«Сластолюбие Людовика XV, — писал Плеханов, —
было необходимым следствием состояния его орга¬
низма. Но по отношению к общему ходу развития
Франции это. состояние было случайно. А между тем
оно не осталось, как мы уже сказали, без влияния на
дальнейшую судьбу Франции и само вошло в число
причин, обусловивших собой эту судьбу. Смерть Ми-
рабо, конечно, причинена была вполне законообраз¬
ными патологическими процессами. Но необходимость
этих процессов вытекала вовсе не из общего хода раз¬
вития Франции, а из некоторых частных особенностей
организма знаменитого оратора н из тех физических
условий, при которых он заразился. По отношению
к общему ходу развития Франции эти особенности и
эти условия являются случайными. А между тем
смерть Мирабо повлияла на дальнейший ход револю¬
ции и вошла в число причин, обусловивших его собою».
С точки зрения механистов о «случайности» можно
говорить только в том смысле, что причины явления
остаются нам пока неизвестными. Случайность сводится
к неизвестному для нас суб’ективно, т. е. сама стано¬
вится чисто суб’ективной категорией, лишенной об’ек¬
тивного значения. То, что нам кажется случайным,
на самом деле вовсе не случайно. «Наше суб’ективное
чувство случайности вовсе не является критерием того,
что известная истина действительно случайна», пишет
А. Варьяш. («История новой философии», т. I, ч. 2,
стр. 182.)
Это верно только в одном определенном смысле: нам
160 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
может казаться случайным и то, что на самом деле не
случайно. Например, обывателям разного рода при¬
чина войны 1914 г. кажется случайной. Империалисти¬
ческой мировой войны, с их точки зрения, могло бы и
совсем не быть, если бы не ряд случайных обстоятельств
в роде воинственного характера того или иного монарха
и пр. и т. п. В данном случае обывателю действительно
кажется случайным то, что на самом деле с неизбеж¬
ной необходимостью вытекало из внутренней природы
капитализма эпохи финансового капитала.
Но Варьяш хочет сказать больше этого. Он хочег1
сказать, что во всех случаях, когда мы считаем
что-либо случайным, на самом деле никакой случайно¬
сти вовсе нет.
Но это уже «перескакивает через истину». Ибо,
например, если империалистическая война громадного
размаха и громадной разрушительной силы вообще
вовсе не является случайностью, то действительно слу¬
чайным является то обстоятельство, что поводом к
войне 1914 г. послужило убийство австрийского эрц¬
герцога в Сараеве, а не какое-нибудь другое убийство
или вообще не какой-либо другой повод, сознательно
использованный или даже сознательно созданный
империалистами.
Если, подобно Варьяшу и механистам вообще, слу¬
чайность понимать только как кажущуюся случай¬
ность, тогда не имеет смысла говорить о такой случай¬
ности, учитывать ее особое значение в истории. Тогда
непонятным должно стать все то, что о случайном
в истории писали Маркс и Энгельс.
В письме к Кугельману от 17 апреля 1871 г. Маркс
писал:
«Творить мировую историю было бы, конечно, очень
СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
161
удобно, если бы борьба предпринималась только под
условием непогрешимо благоприятных шансов. С дру¬
гой стороны, история имела бы очень ми¬
стический характер, если бы «случайно¬
сти» не играли никакой роли. Эти случай¬
ности входят, конечно, сами составной частью в общий
ход развития, уравновешиваясь другими случайно¬
стями. Но ускорение и замедление в сильной степени за¬
висит от этих «случайностей», среди которых фигури¬
рует так же и такой «случай», как характер людей, стоя-
ших во главе движения».
На истории нашей ВКП(б), на истории коммунисти¬
ческой партии Германии, на истории всех партий во¬
обще мы прекрасно знаем теперь, что действительно
значит «такой «случай», как характер людей, стоящих
во главе движения». Вопрос о роли «вождей», вопрос о
роли личности в истории, вообще, являлся постоянно
одним из тех вопросов, которыми марксизм теоретиче¬
ски и практически очень много занимался. Вопрос этот
теснейшим образом связан с вопросом об об’ективной
роли случайности в истории. Исторический процесс в
целом является необходимым. Но отдельные личности
вносят в него элемент случайного, от чего зависят
отдельные конкретные формы этого исторического
процесса.
Тов. ВарьяШ, в духе механистов вообще, считает,
что «личность и ее безусловно огромная роль в истории
не только не вносят элемента случайности (без кавычек)
в исторические события, а еще больше подтверждают
их детерминированность». («Диалектика в природе»,
сб. III, стр. 125.)
К этому следует заметить, прежде всего, что, как уже
твердили механистам множество раз, случайность вовсе
Диалектический материализм. И
162 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
не противоречит «детерминированности». Но разве не
ясно, что у Варьяша история, действительно, приобре¬
тает «мистический характер», характер фатальной пред¬
определенности?
Вопреки Варьяшу и другим Энгельс писал:
«Люди сами делают свою историю, но до сих пор не
сознательно, не руководя ею общей волей, по единому
общему плану. Этого не было даже в пределах опреде¬
ленного, отграниченного данного общества (не говоря
уже о всем человечестве). Их стремления перекрещи¬
ваются, и во всех таких обществах господствует по¬
этому необходимость, дополнением и формой
проявления которой является случайность.
Необходимость, пробивающаяся здесь сквозь всякую
случайность, опять-таки исключительно экономическая.
Здесь мы подходим к вопросу о так называемых вели¬
ких людях. То обстоятельство, что вот именно этот ве¬
ликий человек появляется в данной стране, в определен¬
ное время, конечно, есть чистая случайность.
(Разрядка моя. Д. С.) Если мы этого человека вы¬
черкнем, то появится спрос на то, чтобы заместить его
кем-нибудь, и такой заместитель находится. Что Напо¬
леон был вот именно этот корсиканец, что именно он
был военным диктатором, который стал необходим
Французской республике, истощенной войной, это было
случайностью». (Из письма Энгельса к Штаркенбургу от
25 января 1894 г.)
Механисты не могут даже сказать, что, если Маркс
и Энгельс писали о случайности, как общественной
категории, то этого нельзя во всяком случае распро¬
странить на природу вне человека и человеческого
общества. Совершенно ясно, что основоположники
марксизма рассматривали категорию случайности, как
СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
163
всеобщую категорию и общества и природы. В частно¬
сти, Энгельс задавался намерением, как он пишет,
«показать, что дарвинова теория является практическим
доказательством гегелевской концепции о внутренней
связи между необходимостью и случайностью». («Ар¬
хив», т. II, стр. 217.) «Дарвин в своем составившем эпоху
произведении исходит из крайне широкой, покоящейся
на случайности фактической основы. Именно незамет¬
ные, случайные различия индивидов внутри отдельных
видов, различия, которые могут усиливаться до изме¬
нения самого характера вида, ближайшие даже причины
которых можно указать в самых редких случаях, именно
они заставляют его усомниться в прежней основе вся¬
кой закономерности в биологии, усомниться в понятии
вида, в его прежней метафизической неизменности и
постоянстве». (Там же, стр. 195.)
После всего этого Варьяш продолжает думать, что
он стоит на вполне марксистских позициях, когда
утверждает, что случайность обозначает «просто наше
частичное неведение», что это «только неточное выра¬
жение, и не больше». (См. его статью в сб. «Диалектика
в природе» № 3, стр. 17, 122 и др.).
При этом он обнаруживает удивительное и удиви¬
тельно бесплодное упорство, доказывая кому-то, что
нет ничего «беспричинного», что случайности имеют
свои причины и пр. и т. п. Но кому эти рассуждения
нужны? Разве кто-нибудь из марксистов утверждает,
что есть что-либо «беспричинное» в мире? Разве диа¬
лектики-марксисты утверждают, что случайность — это
беспричинность? Таких дураков нет, и Варьяш даже не
пытается доказать, что они есть. Он просто путается
в двух соснах, ибо не понял совершенно различия между
механическим и диалектическим пониманием причин¬
164 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ности. Как же не согласиться с оценкой философской
позиции Варьяша, которую ему уже дали в одной статье,
констатировав, что Варьяш «делается жертвой различ¬
ных идеалистических и механических влияний».
Разумеется, дело не в одном только Варьяше. Его
позиция есть общая позиция «механистического лагеря»
современной философии. Тимирязев А., Семковский и
др. также не мало наговорили вздора по вопросу о «слу¬
чайности».
Надо думать, однако, что практика самих же меха¬
нистов опровергает их ложную теорию. Ведь если бы
механисты всерьез перестали различать между суще¬
ственным и несущественным, случайным и необходи¬
мым, то они потеряли бы совершенно всякую возмож¬
ность ориентироваться в вопросах истории, в вопросах
теоретического исследования и пр. Там, где всякая слу¬
чайность приравнивается к необходимости, характер
самой необходимости теряется, необходимость стано¬
вится в зависимость от случайностей. Так, в старом ма¬
териализме встречались такие взгляды, что один шаль¬
ной атом в мозгу большого политического деятеля мо¬
жет всю историю человечества повернуть на новые
рельсы. Исторический процесс в целом оказывался под¬
чиненным не каким-то основным закономерностям, ко¬
торые можно изучать, на которые можно опираться, а
бесчисленному множеству мелких разрозненных, не под¬
дающихся учету факторов и фактов биологического,
психологического, метеорологического и пр. порядка.
Вместо исторической закономерности получается, со¬
гласно такому представлению, исторический хаос.
Получается, употребляя выражение Энгельса, то, что
«случайность не об’цсняется здесь из необходимости;
СЛУЧАЙНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
166
скорее, наоборот, необходимость низводится до чего-то
чисто случайного».
«Если тот факт, — пишет Энгельс, — что определен¬
ный стручок заключает в себе шесть горошин, а не пять
или семь, явление того же порядка, как закон движения
солнечной системы или закон превращения энергии, то
значит действительно не случайность поднимается до
уровня необходимости, а необходимость деградируется
до уровня случайности».
Энгельс ссылается дальше на Гегеля, который умел
в случайности видеть необходимость и в необходи¬
мости — случайность, и насмехается над, — как он
пишет, — «бессодержательным механиче¬
ским детерминизмом, который на словах отри¬
цает случайность в общем, чтобы на практике
признать ее в каждом отдельном слу¬
чае». (Энгельс. «Архив», т. II, стр. 193 и 195.)
Если бы наши механисты были последовательны,
они, исходя из своего голого отрицания случайности,
как особого рода необходимости, должны были бы
притти к историческому фатализму. Практически никто
из них не может, когда речь идет хотя бы о вопросах
текущей политики, не отличать основной линии исто¬
рической закономерности от случайных ее вариаций,
«существенных» событий от побочных, второстепен¬
ных и пр.
Получается, таким образом, своего рода теоретиче¬
ское лицемерие, обывательский разрыв теории и прак¬
тики: в теории хорошо, а на практике не годится.
В вопросе о «необходимости» и «случайности» меха¬
нисты запутались потому, что не могут понять, как
возможно «взаимное проникновение» этих двух проти¬
воположных моментов, В этом гвоздь вопроса.
166 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Что же осталось у механистов от диалектики?
Единства противоположностей они понять не в со¬
стоянии.
Перехода количества в качество и обратно у них нет,
так как качество сводится к количеству.
Отрицание отрицания заменено у них механической
схемой перехода от одного равновесия, через наруше¬
ние его, к другому равновесию.
От основных законов диалектики у механистов оста¬
лась только... кой-какая терминология, внешне напо¬
минающая диалектические категории.
Но там, где нет диалектики, позиции материа¬
лизма теряют всякую устойчивость. Понятно поэто¬
му, что механическая установка кой-каких «марксистов»
ставит их на путь идеалистических, анти-материалисти-
ческих уклонов. Ибо «без диалектики неполна, одно¬
стороння,— сказать больше: невозможна материали¬
стическая теория познания». (Плеханов. Предисло¬
вие к «Людвигу Фейербаху».)
IX. СУБ’ЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ.
Давно известно, что вульгаризация, «упрощение»
материализма, превращение его в механический мате¬
риализм является дорожкой, ведущей к полному отри¬
цанию материализма, к идеализму. «Крайности» во¬
обще сходятся, и диалектика особенно подчеркивает
эту истину. «Самая глубокая темнота и самый яркий,
резкий свет вызывает в наших глазах одно и то же ощу¬
щение ослепления». (Энгельс.)
«Прямолинейность и односторонность, деревянность
и окостенелость, суб’ективизм и суб’ективная слепота —
уойй (вот) гносеологические корни идеализма». Так пи¬
сал Ленин (в статье «К вопросу о диалектике»), и это
положение целиком оправдывается на опыте «механи¬
стической» философии.
«Метод сведения сложного к простому» опирается
на игнорировании качественных различий, как таковых.
Качеств об’ективно не существует, об’ективно суще¬
ствуют только количественные отношения. Не суще¬
ствует, следовательно, и переходов от одного качества
к другому. Переходы только кажущиеся, суб’ективного
происхождения. (См., например, у Степанова. «Под
знаменем марксизма» за 1925 г., № 8 — 9, стр. 47.)
Качества — всегда только суб’ективные качества, их
нет вне сознания суб’екта. Но так как мир все же полон
качественных различий и «качество есть неразрывная
с крнкретным бытием определенность» (Г е г е л ь), то
168 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
остается сказать, что весь этот мир качественного раз¬
нообразия, который мы принимаем, как реально суще¬
ствующий вне нашего сознания и независимо от него,
на самом деле есть продукт нашего сознания.
Так, если рассуждать последовательно-логически,
механистический материализм приводит к суб’ектив-
ному идеализму. Но «дух времени» таков, что склоняю¬
щиеся к суб’ективному идеализму механисты выну¬
ждены свое отступление от марксизма прикрывать «ле¬
выми» словечками и щеголять «сверх-революционной»
терминологией, подобно «активному релятивизму» Са-
рабьянова.
Было время, когда этот самый тов. Сарабьянов вы¬
ступал против суб’ективизма Л. И. Аксельрод, которая
еще в своих «Философских очерках» об’явила так на¬
зываемые «вторичные качества» (цвета, звуки, тепло
и холод и пр.) с у б ’ е к т и в н ы м и, т. е. не суще¬
ствующими вне человека и помимо него. По этому по¬
воду тов. Сарабьянов в своей брошюре: «Основное в
едином научном мировоззрении — методе» писал, меж¬
ду прочим, следующее:
«Некоторая часть марксистов, как, например, тов.
Аксельрод, считают, что качество — суб’ективная кате¬
гория. Они, конечно, не правы, считая, что мир можно
свести только к количеству». (Стр. 105.)
Через несколько месяцев тот же самый автор уже
настолько «самоопределился» в стиле механистов, что
писал по тому же вопросу совершенно в духе «маркси¬
стов» из «механистического» блока:
«Должен подчеркнуть, что мое определение каче¬
ства, как об’ективно-суб’ективной категории, несра¬
вненно ближе к «суб’ективизму» тов. Аксельрод, нежели
к «сочетательному об’ективизму» тов. Деборина, и н$
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
169
так уже этот суб’ективизм в категории
качества беспочвенен...»1
У тов. Сарабьянова настолько ясен переход от «ме¬
ханистического» материализма к суб’ективизму и на¬
столько отчетливо проявляется этот суб’ективизм. что
на примере его философических злоключений
легче всего вскрыть и показать, что такое представляет
собою суб’ективизм наших механистов вообще.
Что такое, вообще говоря, суб’ективизм? Практиче¬
ски, это такой метод мышления, при котором люди ис¬
ходят в своих действиях не из изучения об’ективных
процессов и об’ективных законов жизни, а исключи¬
тельно из своих суб’ективных желаний, игнорируя дей¬
ствительность. Суб’ективизм есть отрицание об’ектив-
ной истины в том смысле, что истиной считается не
соответствие наших представлений с об’ективно вне ее
существующими отношениями, а соответствие, согласо¬
ванность между собой наших представлений, которые
затем навязываются внешнему миру — обществу и
природе. Великие социалисты-утописты, как и русские
народники прошлого столетия, были суб’ективистами,
так как исходили не из изучения об’ективного хода
истории, а из суб’ективных стремлений, из того, что
они сами считали соответствующим «природе чело¬
века».
Марксизм вырос, преодолевая ограниченность суб’-
ективного метода.
Механич»еский материализм тащит обратно к суб’-
ективизму.
Как, например, понимает категории «качества» тот
1 См. ст. Сарабьянова в журнале «Под знаменем марксизма*.
1925, № 12, стр. 189 — 190,
170 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
же тов. Сарабьянов? С его точки зрения без суб’екта
нет и качественных различий. Качественные различия
условны. Например, разница между живым челове¬
ком и трупом, по мнению Сарабьянова, условна: от нас
зависит, что считать живым организмом, что трупом.
Как «условимся», так и будет...
Что означает утверждение Сарабьянова, что разли¬
чие между трупом и живым человеком «условно»? Это
может означать только одно, что об’ективно вне чело¬
веческого сознания не существует ни трупов, ни жи¬
вых организмов. Хочет ли это сказать тов. Сарабьянов?
Едва ли он сам продумывает до конца то, что заклю¬
чается в его «суб’ективизме».
Тов. Сарабьянов думает, что он уничтожит об’ектив-
ное, не зависящее от человека, различие отдельных ка¬
честв, если он вместо вопроса об об’ективности качеств
самих по себе будет говорить о значении тех или иных
качеств с точки зрения человека и его практических
потребностей. Сарабьянов пишет: «Нет худа без добра.
Что «добро» и «худо» — есть качество, это, надеюсь,
бесспорно. Но имманентно ли «худо» данной вещи?
Имманентно ли ей «добро»?
Здесь один вопрос подменяется у Сарабьянова со¬
вершенно другим вопросом.
Для того чтобы вещь была тем или иным свой¬
ством, удовлетворяющим определенным потребностям
человека, благодаря которым ее можно было бы на¬
звать «хорошей» или «дурной», необходимо, чтобы
вещь обладала какими-то об’ективными качествами
раньше, чем человек мог поставить вопрос о том или
ином ее употреблении и о той или иной ее суб’ективной
оценке с точки зрения практических задач. То обстоя¬
тельство, что качество может быть рассматриваемо
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
171
в определенном отношении, ничего еще не гово¬
рит в пользу сведения качества к отношению. На
самом деле дело обстоит так, что всякое качество вклю¬
чает в себя отношение, но не сводится к нему. Даже та¬
кие чисто суб’ективные определения, как «хорошо»,
«плохо» и т. п., опираются на представление об об’ек-
тивных качествах вещи, не зависящих от человека.
В суб’ективных определениях необходимо присутствует
момент объективности.
Чтобы быть «вещью для нас», т. е. вещью, которую
мы берем в определенном отношении, необходимо пред¬
варительно быть «вещью независимо от нас». «Вещь
в себе, — пишет Ленин, — отличается от вещи для нас,
ибо последнее — только часть или одна сторона пер¬
вой». (Собр. соч., т. X, стр. 94.)
Спорить с Сарабьяновым по вопросу о его понима¬
нии «качеств», как чего-то «условного», — это значит
спорить вне рамок марксизма, вне рамок материализма.
Это значит спорить против махизма, против богданов-
щины, против суб’ективного идеализма вообще. Те воз¬
зрения, которые развивает Сарабьянов, воззрения, про¬
возглашающие условность безусловной и относитель¬
ность абсолютной, носят название релятивизма.
«Марксизм, как говорил Ленин, включает в себе момент
релятивизма, но не сводится к релятивизму». Защита
Сарабьяновым своих чисто релятивистских представле¬
ний неизбежно направляется против марксизма. Есте¬
ственно, что тов. Сарабьянову приходится иногда пря¬
мо и неприкрыто* защищать взгляды таких ревизиони
стов в марксизме, как Богданов, против основополож¬
ников марксизма, против Энгельса и Ленина. Особенно
отчетливо можно проследить защиту Сарабьяновым
172
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Богданова против Энгельса и Ленина в вопросе об
«условности» понятия живого и мертвого.
Некогда Энгельс писал о том, что разница между
живым и мертвым существом является об’ективной,
является «абсолютной», не зависящей от человека.
Богданов оспаривал это утверждение Энгельса, говоря,
что граница между живым и мертвым условна и уста¬
навливается человеком. Выступая против Богданова по
этому поводу, В. И. Ленин писал: «С точки зрения го¬
лого релятивизма можно признать «условным», умер ли
Наполеон 5 мая 1821 г. или не умер».
Сарабьянов берет этот же пример со смертью Напо¬
леона и, скромно умалчивая о том, чтб по этому же
вопросу писал Ленин, заявляет:
«Абсолютность относительна. Наполеон умер тако¬
го-то числа, — говорит Энгельс, — но действительно ли
он умер в этот именно день? — спрашивает Богданов.
Так ли уж наивен этот вопрос? Сама
смерть — есть условное понятие». («Под знаменем мар¬
ксизма», 1925 г., № 12.)
Богдановский релятивизм, которого придерживается
механист Сара<бьянов, неразрывно связан с суб’ективиз-
мом. «Положить релятивизм в основу теории познания,
значит неизбежно осудить себя либо на абсолютный
скептицизм, агностицизм и софистику, либо на суб’екти¬
визм». Так писал Ленин. Так оно и случилось с нашими
современными релятивистами.
Между марксизмом, с одной стороны, и Богдано¬
вым — с другой, шел очень старый спор о значении
об’ективных истин. С точки зрения марксизма истиной
является то, чтб соответствует об’ективному положе¬
нию вещей. С точки зрения Богданова «истинно» то,
что считается за истину большинством человечества
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
173
в данное время, по крайней мере, большинством того
человечества, которое опирается на научную обработку
человеческого опыта в целом. С этой богдановской
точки зрения, существование ведьм и леших было
в средние века об’ективной истиной, потому что оно
было для того времени, как он выражается, истиной
«общезначимой», т. е. принятой большинством челове¬
чества. Ясное дело, что богдановское представление об
«общезначимых истинах» в корне не совместимо с мате¬
риалистическим представлением об «об’ективности».
Современные сарабьяновские представления об
«условных» истинах ничего другого не означают, как
замену марксистского материалистического учения об
об’ективной истине богдановским отрицанием об’ектив¬
ной истины.
Ленин писал о предшественниках Богданова, об Аве¬
нариусе и Махе, что у них — «философский суб’екти¬
визм, неибежно приводящий к отрицанию об’ективной
истины». (Собр. соч., т. X, стр. 100.) «Отрицание об’ек¬
тивной истины Богдановым есть агностицизм и суб’ек¬
тивизм, — писал Ленин. — С точки зрения современного
материализма, т. е. марксизма, исторически условны
пределы приближения наших знаний к об’ективной,
абсолютной истине, но безусловно существование этой
истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней».
В своей книге «Материализм и эмпириокритицизм»
Ленин очень много останавливался на вопросе об об’ек¬
тивной истине, так как этот вопрос в споре с Богдано¬
вым неизбежно должен был занять одно из централь¬
ных мест. «Быть материалистом, — писал Ленин, — зна¬
чит признавать об’ективную истину, открываемую нам
органами чувств. Признавать об’ективную, не завися¬
щую от человека и от человечества истину, значит так
174 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
или иначе признавать абсолютную истину». И далее:
«Исторически условна всякая идеология, но безусловно
то, что всякой научной идеологии (в отличие, например,
от религиозной) соответствует об’ективная истина...
«Тут есть грань, — пишет дальше Ленин, обращаясь
к махистам, — которой вы не заметили и, не заметив
ее, скатились в болото реакционной философии. Это —
грань между диалектическим материализмом и реляти¬
визмом». (Собр. соч., т. X, стр. 106 и 109.)
Все эти рассуждения Ленина, которые он в своей
книге направлял против Богданова, в настоящее время
бьют прямо против механиста и суб’ективиста В. Са¬
рабьянова. Совершенно в духе Богданова, даже не за¬
мечая этого, тов. Сарабьянов без обиняков по вопросу
об об’ективной истине заявляет:
«Прежде всего оговорю, что никакой о б’е к-
тивной истины вообще не существует».
«Противопоставление об’ективной и суб’ективной истин
законно лишь в устах суб’ективных идеалистов непо¬
следовательного толка, отрицающих об’ект, но призна¬
ющих принципиально схожих наблюдателей (Петцольд,
Богданов и др.)».1
Странно выходит у Сарабьянова. Богданов говорит,
что никакой об’ективной истины нет. Богданов, по су¬
ществу, суб’ективный идеалист. Сарабьянов тоже гово¬
рит, что никакой об’ективной истины «вообще не су¬
ществует». Но Сарабьянов отнюдь не является с его
точки зрения идеалистом. В чем же на самом деле за¬
ключается в данном случае «об’ективная истина»?
Истина заключается в противоречии между об’ективной
1 См. ст. Сарабьянова в журнале .Под знаменем марксизма*,
1925, № 12, стр. 190— 191.
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
176
позицией Сарабьянова и его суб’ективным представле¬
нием о себе и о своей философии. Суб’ективно Сарабья¬
нов материалист и противник Богданова. Об’ективно —
он «суб’ективный идеалист непоследовательного толка»,
плетущийся в хвосте богдановской философии.
Нужно быть поразительно «наблюдательным» чело¬
веком, чтобы, занимаясь вопросами философии, не за¬
метить большой и длительной борьбы, которую Эн¬
гельс, Ленин и другие марксисты на протяжении многих
лет вели, отстаивая против идеализма материалистиче¬
ское понимание об’ективной истины. Нужно обладать
поразительной «смелостью» или поразительным легко¬
мыслием, чтобы весь этот старый спор об’ективной
истине единым духом об’явить не имеющим никакого
значения, так как «противопоставление об’ективной и
суб’ективной истин законно лишь в устах суб’ективных
идеалистов».
Рассуждения Сарабьянова о том, что вопрос об
об’ективной истине собственно ничего кроме идеалисти¬
ческой путаницы в себе не заключает, — эти рассужде¬
ния отнюдь не являются безвредным схоластическим
умствованием, не имеющим никакого отношения к теку¬
щей общественной практике. Теория достаточно прочно
связана с практикой вообще, прочно связана она с прак¬
тикой и в рассуждениях Сарабьянова. От чисто фило¬
софской постановки вопроса о недействительности
«об’ективной истины» вообще Сарабьянов очень скоро
переходит к практическим вопросам политики, морали,
классовой борьбы. И вот здесь оказывается, что отри¬
цание об’ективной истины на практике является не чем
иным, как теоретической дезориентацией пролетариата,
отказом со стороны марксизма от своего теоретиче¬
ского «первородства» перед лицом буржуазной науки.
176 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
С точки зрения Сарабьянова-оказывается, что в во¬
просах политической борьбы как пролетариат, так и
буржуазия одинаково правы или, если угодно, одина¬
ково неправы. «Представим себе, — пишет Сарабья¬
нов, — что буржуазия, научно изучая законы обще¬
ственного развития, познавая об’ективную необходи¬
мость, выступает в согласии с этой необходимостью
против рабочего класса. Пролетариат выступает против
буржуазии. И тот и другой действует верным, Научным
образом. И буржуазия права, и пролетариат прав».
«Созерцатель-об’ективист, — продолжает Сарабьянов,—
пожмет плечами: чего борются? Ведь оба правы. Но
мы — активисты. Мы скажем: именно потому, что бур¬
жуазия действует научными методами, что ее цели не
утопичны, а научно обоснованы, мы должны еще ре¬
шительнее бороться с буржуазией. Мир знает не одну
правду, а множество их. Монархия разумна, но и борьба
с нею тоже разумна, говорил Герцен. — Не угодно ли
выбирать?»1
Прежде всего, все эти рассуждения тов. Сарабьянова
сводятся к тому, что марксизм в его об’яснении обще¬
ственных явлений является не более научно верной
теорией, чем любая буржуазная теория общественного
развития. Мы до сих пор считали, что только марксизм
в своих научных построениях отражает действительный
ход исторического развития человеческого общества.
Мы считали, что это теоретическое преимущество мар¬
ксизма является громадной практической силой в руках
пролетариата в его классовой борьбе. «Об’ективная
истина» марксизма, заключающаяся в соответствии его
представлений об’ективному ходу вещей, позволяет
1 ,Под знаменем марксизма*, 1925, № 12, стр. 188 —189.
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
177
пролетариату предвидеть ход и исход классовой борь¬
бы. Всего этого не признает, не может, логически рас¬
суждая признавать релятивист и суб’ективист Сарабья-
нов. Если истина «множественна» («вот вам две исти¬
ны», говорит Сарабьянов), тогда все преимущества
марксизма сводятся на-нет, все его теоретические по¬
строения лишаются своего практического революцион¬
ного значения.
Однако «страшен сон, да милостив бог»: все сарабья-
новские рассуждения насчет того, что «и монархия ра¬
зумна, и борьба с нею разумна», не заключают в себе
ни грана какой бы то ни было разумности, вопреки его
очень «удобной» теории о множественности истины.
Исторически борьба с монархией становится разумной
как раз тогда, когда сама монархия перестает быть «ра¬
зумной», когда она себя изживает, когда она становится
тормозом к дальнейшему развитию общества
Ленин писал, что материализм «включает в себя, так
сказать, партийность, обязывая при всякой оценке со¬
бытий прямо и открыто становиться на точку зрения
определенной общественной группы». Наоборот, суб’ек-
тивистский релятивизм освобождает от необходимости
определенного выбора, так как вообще никакой об’ек¬
тивной истины, не зависимой от человека, не признает,
так как оказывается, что все одинаково «правы». Са-
рабьяновская теория «множественной истины» есть те¬
ория, обосновывающая, теоретически оправдываю¬
щая беспартийность в области вопросов политической
борьбы.
Обоснованию беспартийности в политике соответ¬
ствует у Сарабьянова обоснование аморализма в об¬
ласти вопросов практической морали. Если в области
морали также каждый по-своему прав, то разница меж-
Циа яектичесний материализм. 12
178 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ду моральным и аморальным исчезает, тонет в полней¬
шем безразличии абсолютного релятивизма. Типичным
проявлением аморализма является принцип так назы¬
ваемой «готтентотской морали», которая сводится к
рассуждению по типу: «хорошо, когда я у тебя украл
жену, плохо, когда ты у меня украл».
Когда противники марксизма хотят создать паро¬
дию, представляющую в смешном виде материалистиче¬
скую диалектику марксизма, они утверждают, что уче¬
ние марксизма о классовом происхождении и о классо¬
вом значении моральных норм ничем не отличается от
«готтентотской морали». Это утверждение злейших
противников марксизма Сарабьянов наивнейшим обра¬
зом принял всерьез. «Готтентотская мораль, — говорит
он, — это и есть истинная мораль марксизма».
Чего не понял Сарабьянов в данном случае? Он не
понял того, что классовая мораль и аморализм — со¬
вершенно различные вещи. Ницшеанский аморализм
является типичной и законченной идеологией крупной
буржуазии. Пролетарская классовая мораль не совме¬
стима с индивидуализмом, не совместима с анархиче¬
ским отрицанием всяких твердых моральных норм. Са¬
рабьянов не понял также того, что классовый характер
различных моральных норм не исключает их оценки
с точки зрения об’ективных интересов исторического
развития. В каждый данный момент мораль одного
класса является об’ективно прогрессивной, об’ективно
революционной, в то время как моральные представле¬
ния другого класса играют реакционную роль, так как
задерживают процесс общественного развития. Этого
различия в об’ективно исторических оценках мораль¬
ных норм различных общественных классов невозмож-
НО понять в том случае, если отрицать об’ективно-исто-
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
170
рическую правоту одного класса против другого класса,
если признавать принцип «множественности истины».
Множественность истины, которую Сарабьянов пре¬
подносит своим читателям в качестве последнего слова
марксизма, является по существу дела не чем иным, как
своеобразным выражением познавательного скепти¬
цизма. Познавательный скептицизм — это то, с чем
мы, марксисты, должны всячески бороться, так как
скептицизм в теории прямым путем ведет к практиче¬
скому нигилизму, ничего общего не имеющему с мар¬
ксизмом и пролетарской революционностью.
Вопрос о нигилизме вообще, вопрос о нигилизме
в вопросах морали, в частности, является в настоящее
время в наших советских условиях одним из более или
менее «злободневных» практических вопросов дня.
В одном из своих недавних выступлений тов. Бухарин
говорил, между прочим, что в вопросах культуры са¬
мым характерным является в настоящее время то об¬
стоятельство, что мы разрушили старое, но еще не со¬
здали нового, а только приступаем к его созданию.
В этих переходных условиях сама обстановка порож¬
дает в наименее устойчивых слоях пролетариата на¬
строение «чистой отрицательности», настроение прак¬
тического нигилизма, практического анархизма в во¬
просах быта, в вопросах морали, в вопросах семьи и
брака и т. д. и т. п. Старые буржуазные воззрения раз¬
рушены, отвергнуты. Вместе с тем, что в старой куль¬
туре было действительно, с точки зрения пролетариата,
неприемлемо, иногда выбрасывается заодно и то, что
должно было бы быть сохранено, без чего невозможно
дальнейшее культурное развитие. С другой стороны,
ростки нового, действительно коммунистического,
действительно антибуржуазного еще недостаточно
180 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
оформились, недостаточно окрепли. Еще не созданы
«твердые устои» новых отношений переходной эпохи.
Все это порождает в некоторых слоях шатания, коле¬
бания, неустойчивость, которые проявляются различно
в самых различных областях. В области «высокой тео¬
рии» нигилизм выражается в сарабьяновской теории
«множественности» истины. В области самой «низкой»
практики наших городских окраин нигилизм приобре¬
тает форму антиобщественных настроений отсталой
части нашей рабочей молодежи, форму бесцельного
дебоширства, ухарства и т. п.
Со всем этим необходимо бороться. Со всем этим
совершенно не может бороться сарабьяновский по¬
знавательный анархо-скептицизм.
Сарабьянов не понял об’ективного характера мате¬
риалистической диалектики. Об’ективная диалектика
материализма заменена у него суб’ективной «диалек¬
тикой», которую иными словами обозначают как со¬
фистику. «Диалектика не раз служила мостком к со¬
фистике», говорил В. И. Ленин. Подлинная диалектика,
говорит Гегель, требует, чтобы, мысля, я «отрешился
от моих суб’ективных особенностей, погрузился в пред¬
мет». Наоборот, суб’ективная диалектика, софистика,
не считается с предметом, искажает об’ективную истину
в пользу того или иного предвзятого суб’ективного мне¬
ния.
«Диалектику, — говорит Гегель,— не должно сме¬
шивать с софистикой, сущность которой состоит в том,
что она защищает неполные и отвлеченные определе¬
ния предметов, как того требует выгода лица и его по¬
ложение».
«Софист выхватывает один из «доводов», и еще Ге¬
гель говорил справедливо, что «доводы» можно поды¬
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
181
скать решительно для всего на свете. Диалектика тре¬
бует всестороннего исследования данного обществен¬
ного явления в его развитии и сведения внешнего кажу¬
щегося к коренным движущим силам». (Лени н.)
Мы еще увидим дальше, что, как раз вопреки этому
требованию диалектики, софист Сарабьянов отрицает
возможность и необходимость «всестороннего
исследования» предметов, заменяя его рассмотрением
каждого предмета или явления только с некоторых
определенных сторон, в зависимости от практической
потребности данной минуты.
Диалектика предполагает определенную гибкость
мышления. «Гибкость, примененная о б’е к т и в н о
(разрядка Ленина)... есть правильное отражение
вечного развития мира». (Лени н.) Софистика тоже
предполагает известную гибкость мышления. Но это та
суб’ективная гибкость мышления, которая на практике
оказывается оппортунизмом и которая, как говорил
еще тот же В. И. Ленин, руководствуется правилом:
«просунуть хвост, где голова не лезет».
Ленин очень часто возвращался к вопросу о разли¬
чии между об’ективной диалектикой и диалектикой
суб’ективной, т. е. софистикой, так как это различие
имеет громадное теоретическое и практическое значе¬
ние. Политические статьи Ленина, особенно его статьи,
относящиеся к периоду империалистической войны, со¬
держат в себе постоянное разоблачение различного
рода софистических уверток оппортунистов из социал-
демократической среды.
Своей суб’ективной диалектикой Сарабьянов возвра¬
щает нас ко временам утопического социализма. «Воз¬
можность задержать распад капитализма дана об’ек-
тивно, но тоже об’ективно дана другая возможность —
182 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ускорить его распад. Конкретный суб’ект выбирает: раз¬
вивать ли капитализм или организовывать пролетариат
против капитализма. Любой из нас может действовать
в данном случае в том или другом направлении, ни¬
сколько не расходясь с самой действительностью». (С а-
рабьянов. Статья в журнале «Под знаменем мар¬
ксизма» за 1926 г., № 6, стр. 74).
Единство свободы и необходимости, о котором учит
марксизм, осталось для Сарабьянова чем-то совершенно
непонятым. «Свобода и необходимость диалектически
совмещаются марксистским учением». (Д е б о р и н.)
В противовес этому у Сарабьянова необходимость исче¬
зает и остается чистая свобода «в себе и для себя»:
суб’ект одинаково имеет возможность способствовать
распаду капитализма или его задерживать. Это при¬
ключение с тов. Сарабьяновым, целиком «сведшим» не¬
обходимость к свободе, чрезвычайно характерно. Меха¬
нический материализм, который в одном случае пони¬
мает необходимость как абсолютную, абстрактную не¬
обходимость, исключающую случайность, как необхо¬
димость, перерастающую в фатализм, — этот механи¬
ческий материализм неизбежно на другом полюсе при¬
ходит к отрыву свободы от необходимости. Так это
случилось с механическим материализмом XVIII столе¬
тия, который признание господства механической при¬
чинности в области природы совмещал с идеализмом
в области оценки законов исторического развития, про¬
возглашая последней истиной в области общественных
отношений чисто идеалистическое положение: «мнения
правят миром». Так это случилось теперь и с представи¬
телем новейшего механического материализма, с тов.
Сарабьяновым.
Марксизм не ограничивается констатированием тех
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
1188
или иных позиций, которые занимаются различными
классами в общественной борьбе. «Люди делают свою
историю», и в этом проявляется элемент человеческой
«свободы». Но марксизм идет дальше и ищет в каждом
данном случае, чем определяется «свобода» людей и
классов, какая необходимость формирует их «мнения».
В материальных условиях существования различных
классов марксизм ищет тех об’ективных данных, кото¬
рые с железной необходимостью определяют их поли¬
тическую позицию. Почему рабочий класс революцио¬
нен, а буржуазия реакционна на данной стадии истори¬
ческого развития? Конечно, не потому, что рабочий ро¬
дится таким от природы. Рабочий класс революционен,
потому что об’ективная необходимость толкает его на
борьбу, потому что не зависящие от его воли и созна¬
ния материальные условия его существования заста¬
вляют его быть революционным.
«Господствующие идеи какой-нибудь эпохи всегда
были только идеями господствующего класса», гово¬
рится в «Коммунистическом манифесте» Маркса и Эн¬
гельса. Поэтому в обычных «мирных» условиях про-
грессивно-развивающегося капитализма, рабочие иног¬
да склонны считать, подобно самим капиталистам,
«естественным» и «справедливым», что капиталист полу¬
чает прибыль, а они «справедливую» заработную плату.
Именно поэтому писал Поль Лафарг:
«Пролетарий имеет и может иметь только один
идеал: возможно выгоднее продать свою рабочую
силу. «Приличную плату за приличный рабочий день» —
таков лозунг английских тред-юнионистов и рабочих
всего мира. Пролетарий жалуется лишь тогда, когда он
не может продать свой труд по справедливой цене.
Только тогда, когда не удается осуществить унизитель¬
184 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ную и позорную справедливость класса капиталистов,
рабочий класс начинает думать о возмущении».1
Справедливость этих слов подтверждает вся история
хотя бы того же самого английского рабочего класса,
о котором говорит Лафарг. Пока английская буржуа¬
зия, владеющая огромными колониями, могла платить
своему рабочему «приличную плату» за его рабочую
силу, английский пролетариат отличался своим оппор¬
тунизмом. Революционные идеи плохо проникали в го¬
лову хорошо оплачиваемого английского рабочего. По¬
ложение переменилось с тех пор, как было подорвано
монопольное положение английского империализма на
мировом рынке. Английская буржуазия в значительной
мере утратила способность «подкармливать» рабочий
класс Англии из своих сверхприбылей. Экономическое
положение английского рабочего стало ухудшаться, его
оппортунизм слабеет, его революционное сознание про¬
ясняется с каждым годом все больше и больше.
Революция — плод крайней необходимости. Когда
угнетенным классам некуда больше податься, тогда
вспыхивает пламя революции. Маркс выразил эту
мысль, заканчивая свою «Нищету философии» утвер¬
ждением, что, пока существуют классы, общественное
развитие будет итти через политические революции, и
накануне каждого полного переустройства общества
будет законом неотразимая дилемма: «Война или
смерть, кровавая борьба или уничтожение. Так ставит
вопрос неумолимая история».
Таким образом, в каждой революции марксизм за
суб’ективным «зачем» или «во имя чего» — вскрывает
об’ективное «почему», «вследствие чего».
1 П. Лафарг. Статья в сб. „Исторический материализм". Со¬
ставлен Семковским. М. 1919, стр. 146.
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
186
Этот об’ективный метод марксизма Зомбарт хорошо
выразил словами: «У Маркса никогда не идет речь о мо¬
тивации, но всегда лишь о лимитации (ограничении)».
За всякими мотивированными целями марксизм ищет
ту необходимость, которая заставляет их ставить, ко¬
торая «лимитирует», ограничивает выбор, ограничивает
свободу действий.
Диалектика требует учета об’ективной действитель¬
ности. «В философии доказать, значит показать, как
предмет из себя и через самого себя становится тем, что
он есть», говорит Гегель.
Чернышевский писал, что диалектический метод тре¬
бует «обозревать предмет со всех сторон». По этому
поводу Плеханов в своей книге о Чернышевском делает
следующего рода замечание:
«Внимательное отношение к действительности соста¬
вляет, конечно, необходимое условие правильного
мышления. Но диалектический метод характеризуется
прежде всего и главным образом тем, что
он в самом явлении, а не в тех или других симпатиях
или антипатиях исследователя ищет сил, обусловли¬
вающих собой развитие этого явления. К этому сво¬
дятся все главные преимущества диалектического ме¬
тода, а между ними и то, что он не оставляет места для
«общих, отвлеченных изречений, опирающихся на суб’-
ективное пристрастие исследователя». (Слова Черны¬
шевского. А. С.) Диалектический метод материалисти¬
чен по своей природе».1
И далее:
«Сознание необходимости обозревать предмет со
всех сторон еще далеко не равносильно сознанию того,
1 Плеханов. .Н. Г. Чернышевский*, 1910, стр. 125.
186 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
что ход такого обозрения должен всецело определяться
логикой развития самого предмета. А тот исследова¬
тель, который не вполне сознал эту вторую истину,
легко может остаться идеалистом даже при самом вни¬
мательном отношении к предмету и при всестороннем
его изучении». (Там же, стр. 126.)
Как видим, Плеханов главное определение диалекти¬
ческого метода видит в требовании об’ективности,
в требовании следовать развитию самого предмета. Пле¬
ханов отождествляет в данном случае об’ективный ме¬
тод и метод материалистический, разумеется, понимая
об’ективизм не как абстрактный об’ективизм «струвист-
ского» толка, а как об’ективизм, включающий в себя
момент суб’ективизма.
На различии двух методов: метода об’ективного и
суб’ективного метода покоится в значительной мере
отличие научного социализма от социализма донауч¬
ного, социализма утопического.
Социалисты-утописты, по выражению Маркса, ви¬
дели в нищете только нищету, не замечая ее об’ективно-
революционной стороны. Не находя в об’ективных усло¬
виях сил, ведущйх к отрицанию капитализма, они выду¬
мывали из головы средства, долженствующие привести
к устранению зла. В противоположность этому Маркс
изучает современную действительность, изучает капи¬
тализм, вскрывая об’ективные законы его развития. За¬
дачей является, по выражению Энгельса, «не отыски¬
вать эти средства (к преодолению капитализма) в го¬
лове, а открывать их при помощи головы в налич¬
ных материальных фактах производства».
Преимущество Маркса перед его предшественни-
ками-социалистами заключалось в том, что к его вре¬
мени противоречия капиталистического общества уже
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
187
достигли такой ступени, что можно было теоретическим
исследованием выявить их и об’яснить их об’ективную
природу. Маркс сам, сравнивая старых социалистов
с научным коммунизмом, уже в 1847 г. писал:
«Социалисты коммунисты являются теоретиками
пролетариата. Но пока сам пролетариат недостаточно
развит, чтобы конструироваться в класс, пока произво¬
дительные силы в недрах самого буржуазного общества
недостаточно еще развиты, чтобы создать те материаль¬
ные условия, которые необходимы для освобождения
пролетариата и для создания нового общества, до тех
пор эти теоретики будут только утопистами, обречен¬
ными измышлять системы и отыскивать какую-то, все
возрождающую науку, задаваясь удовлетворением нужд
угнетенных классов. С другой стороны, когда с про¬
грессом истории будет все более и более выясняться
самая борьба пролетариата, им уже не надо будет оты¬
скивать «науку» в своей голове; им только надо будет
отдать себе отчет во всем, что совершается перед их
глазами, и обратить себя в орудие действительности».
«Обратить себя в орудие действительности» — так
формулирует Маркс задачу пролетарских коммунистов,
стоящих на об’ективной научной, материалистической
точке зрения. Этой об’ективной материалистической по¬
зиции Маркса и марксизма Сарабьянов противопоста¬
вляет свою суб’ективную точку зрения. Все должна
решить «активность», борьба; — на этом кончается пре¬
мудрость тов. Сарабьянова.
Разумеется, можно перегнуть палку в другую сто¬
рону и вдаться в крайний, односторонний, метафизиче¬
ский об’ективизм, исключающий всякую «свободу»,
зсякую «активность». Но на то и существует материали¬
стическая диалектика, чтобы, не впадая ни в вульгар-
188 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ный об’ективизм струвистского толка, ни в вульгарный
суб’ективизм сарабьяновского толка, придерживаться
единства об’ективных и суб’ективных моментов на поч¬
ве признания примата об’ективного.
Марксизм преодолевает исторически данную дей¬
ствительность, опираясь на ее изучение, опираясь на те
силы и средства, которые заключены в этой самой дей¬
ствительности.
Маркс выразил это существо об’ективно-материали-
стического метода в следующих коротких и вырази¬
тельных словах:
«Мы не вступаем в мир с новым доктринерским нача¬
лом: вот тебе истина, на колени перед
ней! Мы развиваем для мира новые основы из основ
самого мира».
Нужно знать, чем отличается наша «активность» от
«активности» людей, не владеющих единственно науч¬
ным методом материалистической диалектики. Мы опи¬
раемся в своей активности, в своем «отрицании» суще¬
ствующего, используя об’ективно-исторические силы,
заложенные в самом существующем. «В диалектике, —
говорит Гегель, — отрицательное принадлежите самому
содержанию и представляет собою также положитель¬
ное, будучи имманентным движением и определением
этого содержания». («Феноменология духа», стр. 27.)
Когда мы говорим об* отрицании существующего, о
преодолевании существующего, необходимо подчерк¬
нуть разницу в вопросах «отрицания» между нами и
хотя бы, например, революционерами-анархистами.
Анархисты «вообще» отрицают государство, исходя
при этом не из об’ективного развития самого государ¬
ства и тех экономических и социальных отношений, на
почве которых государство вырастает, а из собственных
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
189
желаний. Некоторые «ультра левые» коммунисты в За¬
падной Европе склонны были «вообще» отрицать вся¬
кие компромиссы. Материалистическая диалектика не
признает таких «вообще». Она требует «определенного
отрицания».
Возьмем для примера вопрос об отношении к войне.
Пасифисты и анархисты «отрицают» войны вообще.
В брошюре «Социализм и война» (1915 г.) Ленин отго¬
раживается от них, заявляя, что мы можем быть только
против определенной войны, в том случае, когда она
об’ективно реакционна. Последний же вопрос разре¬
шается рассмотрением «исторических особенностей
именно теперешней войны». В вопросе о выходе из
войны, в вопросе о ее преодолении Ленин требует не
отрицания вообще, а самого определенного от¬
рицания, которое являлось бы тем самым положитель¬
ной программой борьбы. И он пишет по поводу бро¬
шюры Юниуса (псевдоним Розы Люксембург):
«Говоря, что классовая борьба есть лучшее средство
против нашествия, Юниус применил марксову диалек¬
тику лишь наполовину... Что классовая борьба есть
лучшее средство против нашествия, это верно и по от¬
ношению к буржуазии, свергающей феодализм, и по от¬
ношению к пролетариату, свергающему буржуазию.
Именно потому, что это верно по отношению ко вся¬
кому классовому угнетению, это слишком обще и по¬
тому недостаточно по отношению к данному особо¬
му случаю. Гражданская война против буржуазии есть
тоже один из видов классовой борьбы, и только данный
вид классовой борьбы избавил бы Европу... от опас¬
ностей нашествия». «Империалистическо - буржуазной
войне, войне высоко развитого капитализма об’ективно
может противостоять, с точки зрения развития вперед,
] 90
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
с точки зрения передового класса, только война против
буржуазии, т. е. прежде всего гражданская война про¬
летариата с буржуазией за власть, война, без которой
серьезного движения вперед быть не может». (Собр.
соч., т. XIII, стр. 445 — 446.)
В этих нескольких строках, взятых из произведений
Ленина, мы видим все моменты, отличающие диалекти¬
ческий об’ективный метод «отрицания»: 1) отрицание
берется не как суб’ективное желание, а как единственно-
о б’е к т и в н о возможный выход; 2) при этом исходят
из конкретных особенностей данного «отрицательного»
(данная война); 3) отрицание берется «с точки зрения
передового класса», как развитие вперед, переход на
высшую ступень; 4) сохраняется непрерывность
в содержании того, что отрицается, с тем, что отрицает:
войне можно противопоставить только войну, опреде¬
ленной войне — только определенную войну, технике —
технику; 5) положительное (то, что призвано отрицать)
заключено, отыскивается в недрах самого подлежащего
отрицанию: война сама, революционизируя массы, во¬
оружает их, подготовляя армию революции.
Пасифисты просто отворачиваются от войны, ду¬
мают ее игнорировать, «не признавать» того, что исто¬
рически дано. Гегель на своем специфическом языке
выразил недействительность такого отрицания в сле¬
дующих словах:
«Дух является силой не как нечто положительное,
что отворачивается от отрицательного, подобно тому,
как мы, утверждая о чем-либо, что оно — ничто или
ложно, готовы перейти отсюда к чему-нибудь другому;
он есть эта сила только при условии, если он смотрит
в глаза отрицательному, пребывает в нем».
Рыступая против империалистической войны, Ленин
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
191
не ограничивается проклятиями по ее адресу. Он ищет,
в чем заключается ее исторический смысл. Этот «исто¬
рический» смысл империалистической войны состоит»
в общем, в том, что через нее производительные силы
капитализма стремятся освободиться от неорганизован¬
ной, анархической, системы распределения, присущей
капитализму, освободиться от тормозящего влияния
капиталистической конкуренции. Империалистическая
война — это* война за устранение сковывающей произ¬
водительной силы (на данной ступени развития капита¬
лизма), разрушающей производительной силы конку¬
ренции. Этот исторический смысл, эту «правду» злей¬
шей войны диалектика требует раскрыть, чтобы воз¬
можно было затем указать ее «недостаточность». «Не¬
достаточность» заключается в том, что конкуренция не
может быть уничтожена империалистической войной,
устраняются только отдельные конкуренты, но не си¬
стема в целом. Полное решение вопроса заключается
в уничтожении капиталистической системы экономиче¬
ских и социальных отношений в целом. Таким образом,
гражданская война против буржуазии оказывается
единственно возможным путем своего рода «восполне¬
ния недостаточности» данной войны в ее борьбе, в ее
своеобразном «протесте» против существующей си¬
стемы, препятствующей свободному развитию произ¬
водительных сил человечества.
«Если опровержение основательно, то оно берется и
развивается из самого принципа (т. е. из содержания
самого отрицаемого явления. А. С.), а не делается извне
путем противоположных уверений и случайных мыслей.
Таким образом, оно, собственно говоря, представляло бы
собою развитие принципа и, следовательно, восполне¬
ние его недостаточности, если бы оно обращало внима-
192 Диалектический материализм и механисты
ние не только на свою отрицательную задачу, но созна¬
вало бы также свой прогресс и результаты с положи¬
тельной стороны». (Г е г е л ь. «Феноменология духа»,
стр. 10.)
Таков вопрос об об’ективизме и суб’ективизме как
о методе. Какими пустыми и бессодержательными
кажутся разглагольствования Сарабьянова о своем
суб’ективизме по сравнению с глубиной об’ективного
метода материалистической диалектики. Всего этого
наши механисты не могут себе представить.
Но сарабьяновский суб’ективизм и «активный реля¬
тивизм» не только дезориентирует тех, кто ему пове¬
рит, в вопросах метода. Он, как уже в основном гово¬
рилось выше, логически ведет к отрицанию об’ектив-
ности бытия, отражаемого нашим сознанием.
Пустопорожняя суб’ективистская «активность», опи¬
рающаяся тс*лько на свою собственную фантазию и при¬
хоти, которые являются руководящим методом «актив¬
ного релятивиста» и механиста Сарабьянова, должна
также с его точки зрения создать из себя и всю ту каче¬
ственную многообразность, качественную определен¬
ность мира, в которой должен ориентироваться человек.
Как уже было сказано, с точки зрения тов. Сарабья¬
нова, так называемые вторичные качества, с которыми
имеют дело наши чувства (цвета, звуки, запахи, теп¬
лое, холодное и т. д.), не имеют об’ективного существо¬
вания. «Красное, — говорит Сарабьянов, — лишь суб’ек-
тивное бытие (бытие для меня), но об’ективно оно —
не бытие. То же самое со звуком. Мир беззвучен. То же
самое с запахом. Нет в мире ни теплого, ни холодного,
это тоже только мои ощущения».1
1 В. Сарабьянов. .Беседы о марксизмев, изд. ,Безбожник*
1925, стр. 17.
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
193
С точки зрения материализма теплое, холодное,
красное и т. д., и т. п. не является, разумеется, об’ек¬
тивно каким-то «небытием». Разумеется, различие
между теплым и холодным в об’ективном мире — это
не является различием только в наших ощущениях су¬
ществующим. Тела об’ективно различаются между со¬
бою по состоянию своей температуры, только поэтому
в наших ощущениях и могут существовать затем уже
«чувственные» различия между «теплым» и «холод¬
ным». То же самое относится и ко всем так называемым
вторичным качествам предметов. Различиям в наших
ощущениях постоянно и обязательно соответствуют
различия в об’ективном мире самом по себе, в его каче¬
ственной определенности.
Разумеется, тепло или звук и пр. как ощущение
есть именно ощущение, психический факт, «внутреннее
состояние» высокоорганизованной материи. Звук в ка¬
честве ощущения и звуковая волна в воздухе — это не
одно и то же. Мы далеки от наивного реализма. .Но
«ощущениям» соответствуют об’ективные явления, от¬
ражаемые в суб’ективных восприятиях. Различием в
одних соответствуют различия в других, суб’ективным
различиям — различия об’ективные, об’ективные факты
и т. д.
Другое выходит по Сарабьянову.
Сам Сарабьянов пишет обо всем этом в следующих
словах:
«Определить качество — это значит рассмотреть
вещь не во всех связях, а в определенных». «Почему
мы выбираем, какие его свойства учитывать, от каких
абстрагироваться? Потому, что мы активные суб’екты,
что мы преследуем цели». «Абстрагироваться от ряда
отношений, рассматривать вещи лишь в определенных
Диалектичеокаа материадием. 13
194 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
связях и в определенных ее свойствах, дает нам воз¬
можность установить ту самую точку «покоя», без ко¬
торой ответ по формуле «да — да», или «нет — нет»,
немыслим». «Активный класс, активный суб’ект, опи¬
раясь на «аквизит» человечества, которое изучало вещь
в различных отношениях, всегда рассматривает ее в
определенных связях, в определенных отношениях и
поэтому получает возможность определить качество».1
В другом месте В. Сарабьянов пишет:
«Не есть ли бессуб’ективное изучение — бесполезное
созерцание, потому бесполезное, что это созерцание не
имеет практической цели, определенной пользы для
изучающего или для его партии, класса, государства.
Что значит об’ективно, только об’ективно изучать вещь?
Это значит изучать ее во всех ее связях, во всех ее опо-
средствованиях, выражаясь по Ленину. Но это совер¬
шенно невыполнимое дело».2
Из всех этих рассуждений В. Сарабьянова следует,
что: 1) нет «точки покоя» иной, кроме той, которая
обусловливается самим суб’ектом. Но всякое качество
есть некая относительная устойчивость, некий «относи¬
тельный покой». Отсюда следует, что 2) невозможен и
ответ по формуле «да — да» или «нет — нет», так как
«да» или «нет» можно говорить только в том случае, если
какой-то «относительный покой», относительная устой¬
чивость, относительное постоянство существует.
В итоге получается, что у тов. Сарабьянова суб’ект
является активным в гносеологическом смысле, т. е.
в том смысле, что его чувства создают определен¬
ность об’ективного мира, а не отражают ее.
1 «Под знаменем марксизма*, 1925, М« 12, стр. 186, 191, 193.
2 В. Сарабьянов. «Беседы о марксизме44, стр. 36.
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
196
«Актуализм» Сарабьянова не является чем-то новым.
Вообще говоря, это одна из типичнейших разновидно¬
стей волюнтаризма идеалистического толка. В частно¬
сти, как на одного из ближайших предшественников
Сарабьянова, можно указать на суб’ективного идеали¬
ста Богданова, который тоже выдвигал на первый план
«практику» и «активность суб’екта». Понятие об’ектив-
ности Богданов стремился заменить понятием социаль¬
но-практически значимого. При этом Богданов, так же
как в настоящее время Сарабьянов, считал, что он
является в этих вопросах подлинным марксистом, что
он стоит на точке зрения Маркса. «Маркс первый по¬
нял, — писал Богданов, — что об’ективность имеет не
абсолютное, а социально-практическое значение». «Хотя
Маркс и называл свою доктрину «материализмом», но
ее центральное понятие не «материя», а практика, ак-
тивность, живой труд». (Богданов. «Философия жи¬
вого опыта», стр. 186 и 223.)
В противоположность Богданову и Сарабьянову, Ле¬
нин (имея в виду Богданова и его учителей, Маха и др.)
раз’яснял, что апелляция к практике имеет смысл
с точки зрения теории познания, с точки зрения общей
методологии только в том случае, если признается су¬
ществование о б’е к т ив н о й истины в материалисти¬
ческом смысле. По поводу слов Маха: «Акушера такого
еще не было, который помог бы родам при помощи
четвертого измерения», — Ленин замечает:
«Прекрасный аргумент — только для тех, кто видит
в критерии практики подтверждение об’ективной
истины, об’ективной реальности нашего чувствен¬
ного мира. Если наши ощущения дают нам об’ективно
верный образец внешнего мира, существующего незави¬
симо от нас, тогда этот довод с ссылкой на акушера,
196 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ссылкой на всю человеческую практику, годится. Но
тогда весь механизм, как философское направление ни¬
куда не годится».
Сарабьянов противопоставляет практику, активность
и об’ективный метод. Ленин указывает на то, что кри¬
терий практики и признание об’ективной истины не¬
отделимы одно от другого, первый не имеет смысла без
второго. Ленин признает существование об’ективной
истины, Сарабьянов об’ективной истины не признает.
Ленин говорит, что диалектика требует, изучая пред¬
мет, «охватить, изучить все его стороны, все связи и
опосредствования». «Мы никогда не достигнем этого
полностью, — пишет Ленин, — но требование всесто¬
ронности предостережет нас от ошибок и омертвения».
Наоборот, Сарабьянов постоянно подчеркивает, что
изучать предмет во всех его связях и опосредствова-
ниях нельзя, невозможно, что это будет «бессуб’ектив*
ное изучение», которое, с точки зрения Сарабьянова,
равняется бесполезному созерцанию».
Признавать об’ективную истину, значит признавать,
что наши чувства отражают мир, как он есть. В одном
из своих примечаний к «Л. Фейербаху» Энгельса Плеха¬
нов сказал, что наши представления не являются копией
действительных вещей об’ективного мира, а являются
своего рода «иероглифами», своего рода симво¬
лами, которые в своих связях и отношениях как-то со¬
ответствуют связям и отношениям об’ективного мира.
По этому поводу Ленин в своем «Материализме и эмпи¬
риокритицизме» писал:
«Наши махисты, желающие быть марксистами, на¬
бросились с особой радостью на плехановские «иеро¬
глифы», т. е. на теорию, по которой ощущения и пред¬
ставления человека представляют собою не копию
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
197
действительных вещей и процессов природы, не изо¬
бражение их, а условные знаки, символы, иероглифы
и т. п... Энгельс не говорит ни о символах, ни о иеро¬
глифах, а о копиях, снимках, изображениях, зеркальных
отображениях вещей». (Ленин. «Материализм и эмпи¬
риокритицизм». 1920, стр. 234.)
Ленин нашел нужным выступить против плеханов¬
ской теории «иероглифов», потому что эта теория пред¬
ставляла собою «маленькое зернышко» идеализма, как
выразился однажды тов. Бухарин. Характерно для фи¬
лософской позиции Сарабьянова, что он, наоборот,
счел для себя возможным и необходимым поддержать
и развить ошибку Плеханова в этом вопросе. «Процесс
познавания, — пишет Сарабьянов, — не есть процесс
срисовывания, снимания копии, фотографирования, ибо
образ вещи не похож на вещь, а соответствует ей».1
Напрасно Сарабьянов, иронизируя, пародирует
мысль Энгельса и Ленина. Разумеется, дело обходится
в познании без фотографической аппаратуры, вся эта
чепуха никакого отношения к делу не имеет. Суще¬
ственно то, что идеалистическая позиция Сарабьянова
заставляет его настаивать на правильности линии,
ведущей прочь от признания наших представлений от¬
ражением вещей самих по себе.
«Напрасно думают, — пишет в одной статье тов.
Сарабьянов, — что я не рискну сказать вслух о своем
расхождении с Лениным или Энгельсом. Не всякая запя¬
тая, даже у Ленина, закон для меня. И в данном случае
я решительно встал и стою на точке зрения Плеха¬
нова». 2
1 Сарабьянов. „Беседы о марксизме", стр. 24.
2 См. ст. Сарабьянова в журн. .Под знаменем марксизма"
за 1926 г., № 6, стр. 65,
198 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЬ
Надо ли раз’яснять, что речь идет не о какой-нибудь
«запятой», что «в данном случае» мы имеем дело
принципиальным философским вопросом.
На этом можем покончить с суб’ективизмом Сара¬
бьянова. Его суб’ективизм неотделим от его «меха¬
нистического» понимания вопросов методологии мате¬
риализма. Таково то полуидеалистическое болото, к ко¬
торому неизбежно приводит логически позиция меха¬
нистов, отрицающих об’ективное значение качества.
Если суб’ективизм тов. Сарабьянова является пока¬
зательным для того, «куда растет» механическое пони¬
мание материализма, то можно указать и ту землю обе¬
тованную, к которой должен стремиться «активный ре¬
лятивизм» и суб’ективизм сарабьяновского толка в
случае его последовательного логического развития.
Образ «чистенькой» философской завершенности
своего активного суб’ективизма тов. Сарабьянов мог бы
при желании распознать в «новом миропонимании»
Марка Криницкого.
Об этом последнем можно было бы и не упоминать,
если бы его выступление не было в некотором роде
«знамением времени». Марк Криницкий не коммунист,
но он, повидимому, считает себя марксистом и диалек¬
тиком. Во всяком случае он, по его собственным сло¬
вам, «надеется обнаружить, что раскрываемые им осно¬
вы актуалистического миропонимания являются без¬
условно последовательными с точки зрения общей по¬
литической программы и насущной тактики борюще¬
гося революционного пролетариата».
Еще в 1926 г. Криницкий делал доклад об «актуа-
лизме, как учении о целевом миропонимании» в секции
научной методологии Коммунистической академии.
Вот некоторые выдержки из его тезисов:
СУБЪЕКТИВИЗМ И РЕЛЯТИВИЗМ
199
«В актуализме мы имеем новое миропонимание, ко¬
торое с присущей ему силой здравомыслия выступает
на решительную борьбу с современной школьной натур¬
философией». (Не намек ли на «деборинскую школу»?)
«Здесь разбирается общераспространенный взгляд
на существование якобы качественного различия
между «чувственно-вульгарным» представлением о
«мире» и «очищенным» или «объективным познанием».
(Видите ли, никакого объективного познания нет,
разницы между наивным представлением о мире и науч¬
ным никакой нет и пр.).
«Корнем всех злоключений в данной области
является учение о так называемой «причинной законо¬
сообразности», совершенно не совместимое с диалек¬
тическим методом». «Мы вообще отвергаем «картину
мира» без зрителя... Мы отвергаем «материю», как
основу «всего сущего», и уясним себе нелепость пред¬
ставления всеобщего движения. Так мы укрепимся на
твердой позиции антропоморфного действенно-коллек¬
тивного истолкования наших представителей о мире.
Этим очищается путь к устранению «проблемы бытия и
сознания». Мы оказываемся в области материала, распо¬
лагаемого нами по нашим целям». 1
Такова эта разительная философия, которую любез¬
ный автор ее предлагает «борющемуся революционному
пролетариату». Смысл ее тот, что не материальный мир,
действуя на наши органы чувств, создает наши предста¬
вления, а что, наоборот, весь мир и есть наше пред¬
ставление, «располагаемое нами по нашим целям».
Для всякого, чуточку знакомого с вопросами фило¬
1 Все цитаты взяты из тезисов доклада М. Криницкого, передан¬
ных им Коммунистической академии н разосланных участникам засе¬
даний «секции научной методологии».
200 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
софии, ясно, что вся эта галиматья есть не что иное,
как обыкновеннейший, старейший субъективный
идеализм. И только самому «изобретателю» и кой-
каким его поклонниками эта «система» может показаться
чем-то «новым» и чем-то ужасно «революционным».
Еще бы, шутка сказать: весь мир не более, как отобра •
жение человеческой воли.
Это, разумеется, самое крайнее «достижение» на¬
шего «доморощенного» субъективизма, пытаю¬
щегося реакционные идеи проносить под шум и треск
самой «революционной» фразеологии.
Если наши механисты в общем не дошли еще до ак-
туализма Марка Криницкого, то во всяком случае до¬
статочно ясно, в какую сторону дает крен Ноев ковчег,
несущий на волнах современности новейших философ¬
ских ревизионистов.
Последовательно-диалектическая точка зрения при¬
водит к материализму. Гегель приводит к Фейербаху и
Марксу. (Ленин говорит о системе Гегеля, которая «при¬
вела к материализму Фейербаха».)
Наоборот, отрицание диалектики последовательно
приводит к отрицанию материализма, к идеализму.
Одним из идеалистических уклонов («уклонов к идеа¬
лизму», если угодно), встречающихся в настоящее время
в нашей марксистской среде, является и некоторое увле¬
чение фрейдизмом, попытки соединить марксизм с фрей¬
дизмом, которые делаются некоторыми товарищами.
Если не каждый механист должен тем самым стать
поклонником Фрейда, то дела обстоят так, что каждый
фрейдист уже во всяком случае является в той или иной
степени механистом. Отсюда тот блок фрейдистов с ме¬
ханистами, который в настоящее время ведет борьбу
против диалектического материализма.
X. ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ».
«Фрейд воспламенил мир. Многие думают, что психо¬
анализ изменит лик земли». Так пишет о Фрейде один
из его западно-европейских последователей, его уче¬
ник, Ф. Виттельс.1
Сам Фрейд ставит себя в один ряд с Коперником и
Дарвином. Его теоретические взгляды, недружелюбно
встреченные в девяностых годах прошлого столетия
*:чирокой публикой», ныне стали новым евангелием
буржуазной Европы. Фрейдом увлекаются, его превоз¬
носят. Для многих социал-демократов Фрейд заменил
Маркса.
Увлечение Фрейдом проникло и к нам. Разумеется,
оно не приняло и не могло принять у нас, в советских
условиях, того развития, какое получило на Западе.
В наших условиях противоядия оказалось достаточно.
Но этого рода противоядия не продаются в аптеках.
Они вырабатываются в процессе теоретической борь¬
бы,— борьбы, которую отчасти приходится вести в
своей собственной марксистской среде.
Если на Западе не только социал-демократы, но и
«сверх-левые», в роде Генриетты Роланд-Хольст,2 «до¬
полняют» марксизм фрейдизмом, то у нас подобные
1 Ф. Виттельс. „Фрейд*. Гиз, 1925, стр. 193.
2 Бывшая голландская коммунистка, вышедшая ныне из партии.
Можно указать еще целый ряд марксистов, соединяющих свой .мар¬
ксизм" с фрейдизмом (если не сказать „заменяющих*).
202 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
стремления проявляли некоторые марксисты или, лучше
сказать, горе-марксисты, как, например, М. А. Рейснер.
Профессору Рейснеру принадлежат следующие слова:
«Только применение материалистической диалек¬
тики, учения Маркса может очистить драгоценные
зерна фрейдизма от идеологической оболочки
буржуазного общества, от идеалистических метафизи¬
ческих извращений, от противоречий и непоследова¬
тельности. Марксистская наука должна найти в себе
силы и умение не только переработать громадный
фрейдовский материал, но продолжить его перво¬
начальную линию монизма и материализма. Только
участники классовой борьбы пролетариата смогут в ы-
ковать из теории Фрейда новое оружие
для борьбы с общественным неврозом религии». 1
«Можно горячо рекомендовать данные психоана¬
лиза (учение Фрейда) психологам и социологам-маркси-
стам, так как в них они смогут найти богатейший мате¬
риал для обогащения и углубления своих изысканий». 2
Подобные суждения в нашей печати можно было
встретить не однажды. Но прежде чем говорить о на¬
ших фрейдистах, следует в немногих словах сказать
о самом содержании учения Фрейда.
Фрейдизм возник как особое направление в той
области медицины, которая занимается так называе¬
мыми психическими или нервными заболеваниями. Тот
метод, каким Фрейд и его школа изучают и лечат нерв¬
ные болезни, носит название психоанализа. Фрейд в
своей работе пришел к тому заключению, что все
неврозы возникают на почве сексуальных (половых)
1 Из предисловия М. Рейснера к цитированной выше книге Вит-
тельса, стр. 31 —32. Разрядка моя. А. С.
2 .Печать и революция", 1924, кн. 2 — 3.
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ» 203
влечений, являются их следствием, вернее, следствием
их неудачного «вытеснения», т. е. вынужденного отказа
личности от их удовлетворения, причем даже мысль об
их удовлетворении не допускается в область сознания.
«Неврозы, — пишет Фрейд, — являются, так сказать,
специфическим заболеванием сексуальной функции;
вопрос о том, может ли кто-нибудь вообще заболеть
неврозом, зависит от количества либидо и от возмож¬
ности удовлетворить его и дать ему выход в этом удо¬
влетворении». 1
Термином «либидо» Фрейд обозначает сексуальное,
(любовное, половое, «эротическое») стремление, «энер¬
гию, в виде которой проявляется сексуальное влечение
в душевной жизни».2
В основе человеческой психики лежат влечения,
по своей сущности являющиеся чем-то средним между
физическим и собственно-психическим. Психоанализ
различает две основных группы, два комплекса влече¬
ний: так называемые «влечения я» (или влечения само¬
сохранения) и сексуальные влечения.
Невроз чаще всего возникает в тех случаях, когда
сексуальное влечение не может найти себе практиче¬
1 Фрейд. «Основные психологические теории в психоанализе*,
Гиз. 1923, стр. 192.
2 Фрейд. «Основные психологические теории в психоанализе*.
Впрочем, следует оговориться, чго это важнейшее в системе Фрейда
понятие «либидо* является у него очень часто крайне расплывчатым.
Так, он в одном месте пишет, что к либидо он относит не только
основное: половую любовь с целью полового соединения, но и все,
«что имеет отношение к слову любовь; с одной стороны любовь
к себе, с другой стороны — родительскую любовь и любовь детей,
дружбу и общую любовь к человечеству и, наконец, самопожертвова¬
ние в пользу конкретных вещей и абстрактных идей*. («Психология
масс и анализ*, стр. 42.) Все свалено в одну кучу. Этод метод очень
характерен для фрейдизма, для его «методологии*.
204 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ского выхода, удовлетворения, вследствие внутреннего
душевного конфликта, вследствие столкновения с «вле¬
чениями я», с «принципом реальности», когда оказы¬
вается, что сексуальное влечение в данной его форме
недопустимо, так как противоречит самосохра¬
нению личности или ее уважению к себе, является анти¬
социальным и пр.
Происходит «отбор» влечений, их «рассортировка»,
которая производится помимо сознания, без его уча¬
стия. Имеется, по мнению Фрейда, такая особая психи¬
ческая сила, которая этим ведает. Фрейд называет ее
«цензурой».
В период первобытного состояния и в младенческом
возрасте человек руководствуется, по Фрейду, только
одним основным «принципом» — 1д1з1:рппар, «принци¬
пом удовольствия». Ничего «недозволенного» еще нет
в этом состоянии. Позже, на более высоких ступенях
развития человека появляется новый психический фак¬
тор, «принцип реальности». Сталкиваясь с ним, влече¬
ние к наслаждению оказывается часто оттесненным
«цензурой» из сферы сознания.
Такому «вытеснению» подвергаются разного рода
«извращенные» влечения, которые в детстве являются
обычной формой неосознанных психических пережива¬
ний, а в зрелом возрасте представляют собой возврат
к младенческому состоянию. При этом огромную роль
играют так называемые инцестуозные влечения (влече¬
ние к половым сношениям с близкими родственниками)
и нарцизм, т. е. такое состояние психики, когда либидо
направлено на свое собственное «я».1
1 Сам Фрейд придает именно учению о .вытеснении* центральное
значение в своей системе. .Учение о вытеснении, — пишет он, —
являетея столпом, на котором зиждется все здание психоанализа*.
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИОГЫ
206
По теории Фрейда либидо человека в детском воз¬
расте является всегда «нарцистично направленным».
Только позже оно переносится на внешние об’екты (на
других людей и пр.), но и то не целиком. И приэтом
всегда остается опасность болезненного невротического
«возврата к состоянию детства».
Громадную роль в образовании неврозов играет,
с точки зрения психоаналитической школы, так назы¬
ваемый «комплекс Эдипа», т. е. инцестуозное половое
влечение дочерей к отцу, сыновей к матери и т. д. при
одновременном чувстве ревности дочерей к матери
и т. д. Самое название этого психического комплекса
связано с греческим мифом о царе Эдипе, который убил
отца и женился на своей матери. Фрейд считает, что
отношения, представленные в рассказах об Эдипе, ха¬
рактеризуют целый значительный период действитель¬
ной истории человечества, что отсюда получила начало
экзогамия, культ тотема, власть родоначальника и пр.
«Комплекс Эдипа» является примером тех «антисо¬
циальных», противоречащих «принципу реальности» и
пр. влечений, которые психический аппарат «цензуры»
старается оттеснить, не допустить на порог сознания.
Антисоциальные сексуальные влечения «вытесняются»
в результате психического конфликта из сферы созна¬
ния данной личности. Человек может совсем не созна¬
вать, что у него были или имеются такие влечения; их
нет в сознании, но они все же остаются, но
остаются в качестве «бессознательных мыслей».
Эти «бессознательные мысли», «вытесненные» и не
допускаемые за порог сознания вследствие их непри¬
емлемости для «я», составляют скрытый душевный «мир
бессознательного» Фрейда.
Содержание этого фрейдовского «бессознательного»
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
характеризуется двумя основными моментами: 1) оно
состоит из переживаний, целиком перешедших из
прошлого: из унаследованных «влечений к насла¬
ждению» доисторического Человека и из сексуальных
переживаний того раннего Детства, когда еще не могло
быть ничего «недозволенного», отсутствовал «принцип
реальности» и пр., 2) бессознательное Фрейда обяза¬
тельно враждебно сознанию, его содержимое обяза¬
тельно «неприемлемо» для сознания, противоположно
принципам сознания.
Сексуальная психология примитивных народов, со¬
впадающая с примитивной Психологией детства, живет
в системе «бессознательного», <рам таятся все «бесы»
инцестуозных влечений, комплекса Эдипа, нарцизма,
«влечений к повторению», «Кастрационного комплекса»,
анальной эротики и пр.
Будучи оттеснены в сферу бессознательного, все эти
влечения, однако, вовсе не теряют от ЭТОго своей силы,
своего значения. Они продолжают активно воздейство¬
вать на поведение человека, На СОСТОяние его нервно-
психического аппарата и пр. Особенно сильно их влия¬
ние проявляется у нервно-бодьных. «Душевная жизнь
истеричного больного, — пищет Фрейд, — полна дей¬
ственных, но бессознательных, мыслей; от них происхо¬
дят все симптомы. Действительно, самую значительную
особенность истерического состояния психики соста¬
вляет то, что она вся во власти бессознательных пред¬
ставлений. Если у истерической женщины наблюдается
рвота, то это может произойти под влиянием мысли о
беременности. И тем не менее такая женщина ничего
не знает об этой идее, хотя посредством одного из
приемов психоанализа мысль эта легко может быть
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-ММ»КСИСТЫ>
207
открыта в ее душевной жизни и сделана доступной ее
сознанию».1
Влияние «бессознательных мыслей» проявляется,
однако, не только у больных, но и у здоровых людей.
Оно проявляется в различных нарушениях функций, в
ошибках памяти, в оговорках, в ежедневных сновиде¬
ниях. Толкование сновидений Фрейд считает одной из
своих величайших заслуг. В итоге воля человека ока¬
зывается подчиненной темным сексуальным инстинктам,
перешедшим из давно-прошедших времен. Неосознан¬
ные навязчивые явления тяготеют, как рок, как судьба,
фатум, как нечто неотвратимое, подобно тому влечению
к повторению прежних, более примитивных состояний,
о котором учит Фрейд и которое оказывается, в конеч¬
ном счете, влечением к смерти.
«Человечество,— говорит Фрейд,— на ранних ступе¬
нях своего развития «нарцистично». Оно считает чело¬
века — центром и венцом мира, а его силу безгранич¬
ной. Сначала Коперник, а зачем Дарвин подорвали эти
«нарцистические» представления. Третий и «самый чув¬
ствительный» психологический удар по самолюбию
человека нанес сам Фрейд, доказав, что человеческое
«я» «не является хозяином в своем собственном доме»,
т. е. в своей собственной душе».2
Фрейдисты не ограничиваются в своих работах
областью невропатологии или индивидуальной психо¬
логии. Существует стремление распространить методы
психоанализа на область общественных явлений.
Сам Фрейд в книге «Тотем и табу» берется за об’яс-
нение уже чисто-социальных проблем. Как раз в этой
же своей книге он предлагает социологу-«специа¬
1 Фрейд. „Основные психологические теории*, стр. 76,
2 Там же, стр. 198,
208 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
листу» свой метод в следующих словах: «Пусть же
он примет во внимание, что наши работы имеют только
одну цель — побудить его сделать то же самое лучше,
применив к хорошо знакомому ему материалу и н-
струмент, который мы можем ему дать
в руки».1
Мы уже видели выше, что некоторые социологи-
марксисты приняли этот совет совершенно всерьез.
Интересно однако, что получается из применения к со¬
циологии его метода у самого Фрейда и его непосред¬
ственных учеников.
Психология первобытных народов у Фрейда об’яс-
няется по аналогии с психологией невротиков. Самое
происхождение общества, его первые шаги связываются
со знаменитым «комплексом Эдипа». Первоначальное
состояние общества — это примитивная орда. О ней
Фрейд говорит: «Здесь только жестокий ревнивый
отец, приберегающий себе всех самок и изгоняющий
подрастающих сыновей, и ничего больше». Переход на
следующую ступень общественных отношений совер¬
шился таким образом: «В один прекрасный день братья
соединились, убили и с’ели отца и положили таким
образом конец отцовской орде... В акте поедания они
осуществляют отожествление с ним, каждый усвоил
себе часть его силы. Тотемическая трапеза, может
быть, первое празднество человечества, была повторе¬
нием и воспоминанием этого замечательного пре¬
ступного деяния, от которого многое
взяло свое начало: социальные органи¬
зации, нравственные ограничения и ре¬
ли г и я».2
1 Фрейд. .Тогем и табу*. Гиз, стр. 13.
2 Там же, стр. 150-и 151,
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ»
209
Религия, по Фрейду, — «всеобщий невроз навязчи-
I*I>1 х состояний». Различные другие идеологии, как
искусство и пр., — сублимированные (т. е. превращен¬
ные в высшую форму) сексуальные влечения, превра¬
щенные формы инцеста. Иногда Фрейд доходит до
прямо-таки «восхитительных» мыслей. Например, от¬
куда взялась авиация, как бы вы думали? Оказы¬
вается — из инфантильного (детского) полового влече¬
ния. «Авиация, — пишет Фрейд, — достигшая, наконец,
в настоящее время своей цели, имеет инфантильное
эротическое происхождение», так как «желание уметь
летать во сне обозначает не что иное, как страстное
желание быть способным к половой деятельности».
Когда один из учеников и последователей Фрейда,
Кольней, вздумал дать теоретический анализ с точки
зрения фрейдизма современной общественной жизни,
у него получилось следующее: коммунизм — это воз¬
врат к психологии младенческого возраста, это род
сумасшествия; специально аграрный коммунизм — это
вечное примитивное стремление всех сыновей-братьев
к половым сношениям со своей общей матерью (тут
Кольней играет выражением: «мать-земля»); лени¬
низм — это военный психоз; революционность проле¬
тариата — результат избыточного накопившегося ли¬
бидо, а его жалобы на эксплуатацию — только формы
мании преследования; и, наконец, лозунг: «пролетарии
всех стран, соединяйтесь!» является выражением...
гомосексуализма, однополой любви.
Такова, с позволения сказать, «социология» фрей¬
дизма.
Этой-то теорией увлекаются некоторые наши «мар¬
ксисты». Обычно при этом считается, что «социологию»
фрейдизма они целиком и безусловно отбрасывают, а
Диалектический материализм. л л
210 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
берут только его индивидуальную психологию, которая
с их точки зрения вовсе марксизму не противоречит.
Оба эти утверждения неверны. Неверно, что фрей¬
дистски настроенные марксисты целиком отбрасывают
социологические элементы теории Фрейда. Выше уже
упоминалось о профессоре М. Рейснере, который вслед
за Фрейдом говорил о религии, как о неврозе, и думал,
очевидно, что ее вред заключается в том, что она отвле¬
кает на себя психическую энергию либидо, которая
могла бы при другом ее применении «взорвать на
воздух эксплуататоров».1 Он также считал, что «дикар¬
ское» мышление в своей основе сексуально. «Открытие
(Фрейда. А. С.) дикарско-детского мышления, как пре¬
имущественно сексуального образа представлений, в
особенности не может быть обойдено
учением исторического материализма».
Он также говорил о сексуальном происхождении идео¬
логий различных классов и эпох, о сублимации и
«вытеснении» в области идеологий. Естественно, что он
находит приэтом у Фрейда «подлинные материалисти¬
ческие корни», «строго научные и материальные
основы».2
За Рейснером следует тов. А. Варьяш. В своем «Вве¬
дении» к «Истории новой философии», в главе, посвя¬
щенной вопросу о «сущности идеологии», тов. Варьяш
подробно останавливается на «законах бессознательной
1 Предисловие к цитированной книге Виттельса, стр. 32.
2 Там же, стр. 10, 11 и 15. В цитированной уже заметке в жур¬
нале .Печать и революция- проф. М. Рейснер также пишет: „Былобы
б высшей степени желательно, чтобы психоанализ, который обладает
достаточными признаками материалистической системы, был применен
к многочисленным явлениям не только древних религий, но современ¬
ных религиозных течений и в особенности к психологии организации
культа и т. д.\
«РЕЙД! ЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ»
211
душевной жизни» Фрейда («сгущение», «смещение»,
«вторичная обработка» и пр.). Разумеется, делает это
он потому, что считает возможным, базируясь на этих
«законах», об’яснять явления общественной психологии,
идеологии и проч. Ибо он считает, что бессознатель¬
ное Фрейда — это, с некоторыми оговорками, по сути
своей, марксистское понятие, приложимое к фактам об¬
щественной жизни, к об’яснению идеологий.
В своем докладе в Коммунистической академии
тов. Варьяш говорит о том, что Фрейд и другие пси¬
хиатры «пролили новый свет на механизм сна,
на психические расстройства, на образование
мифов и религий, на примитивное учреждение
людей: тотем, табу, брачные обычаи, ритуалы, религиоз¬
ные представления и представления о душе, проблему
смерти, первые образования авторитета власти
и постановлений».1
В более позднем издании этого доклада, в своей
«Истории новой философии» тов. Варьяш под давле¬
нием марксистской критики несколько изменил эту
фразу, поставив вместо «пролили новый свет» другое
выражение: «пытались дать новую теорию». 3 Но, отсту¬
пая, Варьяш все же остается по существу на старых
позициях.
В этом отношении весьма характерна статья тов.
Варьяша: «Фрейдизм и его критика с точки зрения
марксизма» (в сборнике: «Диалектика в природе», сб. I,
1926 г.). Всячески, под давлением ортодоксально-мар¬
ксистской критики, «открещиваясь» от Фрейда,
А. Варьяш на ряду с этим явно сохраняет тенденцию
1 .Вестник Коммунистической академии*, № 9, стр. 291.
3 .История новой философии*, т. 1, ч. I, стр. 47.
212 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЁХАНИСГЫ
«сблизить» марксизм с фрейдизмом. Так он совершенно
отчетливо сближает фрейдовское понятие бессознатель¬
ного, насквозь идеалистическое по своей сущ¬
ности (об этом еще речь будет ниже), с тем понятием
бессознательного, которое встречается у Маркса (когда
Маркс говорит, например, о том, что общественное от¬
ношение складывается независимо от доброй воли и
сознания людей, в них участвующих). Варьяш считает,
что у Маркса и у Фрейда этооднаитаже категория,
несколько варьирующая только. Так, А. Варьяш пишет:
«Мы знаем, что эта (разрядка моя. А. С.) кате¬
гория играет роль и в социальной философии Маркса
и Энгельса. Но понятие это у Фрейда построено чрез¬
вычайно узко, индивидуалистически и не диалекти¬
чески (хотя и динамически)». «Нам думается, что...
сам Фрейд дает отрицательный ответ на законность
чрезмерного суживания понятия бессознательного.
Если же мы расширим его и об’ясним
е г о из экономических и политических причин, то полу¬
чим марксово понятие... Фрейд сузил это
марксово понятие». (Разрядка моя. А. С.)
Таким образом выходит по Варьяшу, что «сам
Фрейд» считал необходимым «расширить» свое пони¬
мание «бессознательного» так, чтобы оно стало «марк¬
систским». Вся специфичность фрейдовского «бессозна¬
тельного» осталась для Варьяша книгой за семью печа¬
тями, .. .если не сказать, что такой книгой за семью
печатями остались для него категории марксизма. В то
время как между категориями фрейдизма и марксизма
существует принципиальная обще-методологическая
разница, Варьяш считает, что методы фрейдизма прин¬
ципиально приемлемы, только требуют внесения кой-
каких поправочек. Так он пишет о фрейдизме следую-
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ»
щсе: «Фрейдизм установил много фактического мате¬
риала, он обратил свое внимание на до сих пор мало
известные явления (инцест), но, вследствие незнакомства
психо-аналитиков с марксизмом, он не мог притти к
правильным результатам. Его доселешный подход
к общественным явлениям является поэтому для нас
бесполезным (только «бесполезным»? А. С.), во мно¬
гом (?) сбивая с толку. Но если, а это несомненно так и
будет, им будут заниматься врачи-специалисты и в то
лее время марксисты, то они могут дать много
положительного». (Указ. книга, стр. 60. Разряд¬
ка моя. А. С.)
Таким образом, «осуждение» Варьяшем фрейдизма
сопровождается таким количеством «оговорочек», что
по существу превращается в такого рода двуединую
директиву; фрейдисты, учитесь у марксизма! Маркси¬
сты, учитесь у фрейдизма. Что же получится при таком
синтезе? Конечно, некий фрейдо-марксизм, на котором
и сейчас уже свихнулись кой-какие товарищи.
К числу современных «фрейдо-марксистов» или
«фрейдо-коммунистов» принадлежит также тов. Зал-
кинд. Тов. А. Б. Залкинд в своей «социологии» прямо
опирается на метод фрейдизма, на его центральное
понятие о «бессознательном». Он считает, что учение
Фрейда о бессознательном, устанавливая, помимо жела¬
ния автора, ясные законы для социальных корней «пси¬
хического отбора», сильно способствует изучению
классового «сознания» и «подсознания» (классовой
психофизиологии) и уяснению классовых механизмов
творческого процесса (в области науки, искусства,
общественной деятельности и пр.).
1 Залкинд. .Очерки культуры революционного времени", стр. 59
214 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Как видите, фрейдизм — прямое дополнение марк¬
сизма. А. Б. Залкинд не только платонически расхвали¬
вает методологию Фрейда; он пытается самостоятельно
применить ее к изучению общественных явлений совре¬
менности. Так из-под его пера выходят статьи: «Рево¬
люция с психоневрологической точки зрения», «О пси¬
хофизиологии РКП», «Рефлекс революционной цели»
и пр. Из этих статей мы узнаем, что «русская Октябрь¬
ская революция своим победоносным течением твердо
обосновала свои здоровые нервно-психические
корн и»; что «революция начала расшатывать корни
упадочного мистицизма народных масс» и тому подоб¬
ные, иногда довольно «странные» (как «упадочность»
народных масс, да еще при «здоровых нервно-психиче¬
ских корнях» революции) вещи.
По мнению тов. Залкинда фрейдизм «представляет
для марксисто в-биологов, т. е. и психологов,
гигантский методологический интерес».
Вообще же специально о тов. Залкинде следует за¬
метить, что в области научного метода он представляет
собою типичного эклектика, соединяя не только марк¬
сизм с фрейдизмом, но еще и фрейдизм с «рефлексо-
логизмом». Ничего цельного таким образом не полу¬
чается.
Если «социологией» и методологией фрейдизма в
такой степени «увлекаются» некоторые литераторы-
марксисты, то нечего и говорить о том, что буржуазным
«учениям» фрейдизм дает немало материала для пустых
и реакционных разглагольствований. Отдельные заме¬
чания в фрейдистском духе во множестве рассыпаны
в современной литературе по психиатрии, по биологии
и пр., выходящей в последнее время в пределах Совет¬
ского союза. Их можно встретить у таких представите-
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ»
215
лей материалистической школы в биологии, которые,
казалось бы, по своему научному методу должны
быть далеки от произвольного субъективизма и мисти¬
цизма «психоаналитиков». Так, проф. В. В. Савич
в своей книжке: «Основы поведения человека» (1927)
пишет:
«Среди других проявлений сексуальности высоких
порядков надо упомянуть о вере... Вера слепа... Вера
часто ведет к самопожертвованию: это чрезвычайно
типично и характерно для нее. «Слава вам, родные
тени, жизнь свою отдавшие за других», — вот какие
слова красовались на арках площади Жертв революции».
(Указанная книга, стр. 123.)
Здесь у тов. Савича не только рефлексология
сменяется фрейдизмом, но и фрейдизм открыто
выступает, как реакционная идеология, против револю¬
ции, сводя ее к «слепому» проявлению «сексуальности».
Подобное использование фрейдистских идей в анти¬
марксистской, в реакционной литературе весьма харак¬
терно. И тем не менее, помимо Варьяша, Залкинда,
Рейснера, можно назвать еще ряд «марксистов», кото¬
рые в специальных статьях защищали и «развивали»
идеи фрейдизма (статья Лурия и Фридмана в сб. «Пси¬
хология и марксизм», статья Быховского в «Под знаме¬
нем марксизма» и др.).
Общая методологическая оценка фрейдизма нашими
«марксо-фрейдистами», такова что это в основе своей
здоровое материалистическое учение, у которого марк¬
систам есть чему поучиться. «Фрейд и его ученики,—
говорит тов. Варьяш,—вероятно, даже и не знают, что
их руководящая идея есть идея марксизма». «По-моему,
фрейдизм относится к марксизму, как теория браунов-
ских движений к электродинамике. Как всякая психо¬
216
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
логия, так и фрейдизм вкладывается в диалектическом
материализме, как выработка его для какого-то част¬
ного случая». 1
Правы ли, однако, по существу наши философы?
Разберем «по существу».
Прежде всего, фрейдизм не представляет собою
какой-нибудь стройной системы; его положения часто
невероятно противоречивы, путаны, неопределенны.
Уже в специальной области невропатологии исключи¬
тельно сексуальное истолкование неврозов вызывает
решительные возражения со стороны специалистов. Но
нас интересует сейчас не эта специальная критика, а
методологическая критика Фрейда.
Метод Фрейда вызывает возражения прежде всего
в части его абсолютного психологизма, «анти-
физичности». Это полная противоположность объектив¬
ному методу рефлексологии. Если правильно утвержде¬
ние Гегеля, что «только измеренное является изучен¬
ным», то субъективный, чисто-психологиче¬
ский, метод психоанализа не может дать научного
изучения предмета.
Фрейдисты сами считают, что они преодолели огра¬
ниченность методов самонаблюдения, на котором бази¬
ровалось все здание старой субъективной школы в пси*
хологии. Но это только самообман. Дело не в том, что
психоанализ использовывает самонаблюдение, как один
из методов. Без использования методов самонаблюде¬
ния нельзя, конечно, обойтись, когда дело касается
изучения психической жизни человека. Но эти методы
в системе психологии должны играть подчиненную
1 Из речи Варьяща «Вестник Коммунистической академии» N° 9,
сто. 340.
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ»
217
роль, должны подвергаться проверке посредством тех
или иных мотодов объективного изучения реакций
живого организма. Психоанализ же оперирует по суще¬
ству с высказываниями человека (как объекта исследо¬
вания). опирающимися исключительно на самонаблю¬
дение. Иными словами, психоанализ оперирует исклю¬
чительно не материальным субъективно-психи¬
ческим материалом, который какому бы то ни было
количественному изучению, измерению не подле¬
жит.
Физиологии и физиологических состояний орга¬
низма для фрейдизма как будто вовсе не существует. Он
имеет дело только с чисто-психической цепью явлений,
которые появляются и развиваются на чисто-психиче¬
ской же основе из субъективно-психических («душев¬
ных») конфликтов и пр. «Бессознательное», правда,
наблюдается как будто со стороны, извне; можно поду¬
мать, что здесь мы выходим из рамок самонаблюдения,
Но это неверно. На самом деле сам Фрейд говорит, что
«о бессознательном мы можем узнать только через
сознание», и именно—через сознание пациента, через
сознание того самого человека, «бессознательное» кото¬
рого изучается.
Марксистская, т. е. истинно-научная психология не
может ограничиваться ни субъективным методом само¬
наблюдения, ни исключительно методами внешнего изу¬
чения условных рефлексов, так как психическая жизнь
не сводится к совокупности физиологических рефлек¬
сов. «Марксистская психология стремится преодолеть,
с точки зрения диалектического материализма, одно¬
сторонности как субъективной, так и объективной психо¬
логии и дать их синтез. Руководящая формула марк¬
систской психологии гласит: «самонаблюдение под кон-
218 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
тролем объективных методов». (А. Дебор и н. «Рево¬
люция и культура», 1927, № 2.) Фрейдизм же представ¬
ляет собою с этой точки зрения крайнюю субъективную
«односторонность».
Думают иногда, что если Фрейд все строит на поло¬
вом влечении, так эта его теория либидо ужасно фи-
зична (может быть, даже «сверхфизична»?), материа¬
листична. Это неверно. Уже само определение «влече¬
ния» и «либидо» у Фрейда крайне расплывчато, «психо¬
логично». Фрейд почти никогда не упоминает о размно¬
жении, в связи с чем только и имеет биологический
смысл половое влечение. В противовес этому у Фрейда
в основе лежит не биологический «принцип» размноже¬
ния, а какой-то фатальный «принцип» удовольствия, не¬
что чисто-психологическое, абстрактно-пси¬
хологическое. Либидо Фрейда по природе своей нарци-
стично; ему очень мало дела до размножения. Это ка¬
кое-то бесполое либидо.
Виттельс в упоминавшейся уже книге о Фрейде го¬
ворит об этом в следующих словах:
«Прославленный предок Фрейда, Платон, совер¬
шенно пренебрег различием между полами. Для Пла¬
тона любовь в конечном счете любовь к прекрасному...
Знакомясь с любовью в освещении Фрейда, с ее нача¬
лом— в автоэротизме ребенка — и с ее концом—на
высотах сублимации, — мы видим возрождение антич¬
ной мысли. Эрос не имеет пола. Животная сто¬
рона в человеке насильно надевает на Эроса ярмо пола.
Но его природа стремится ввысь от пола, в небеса». 1
Эта характеристика сексуального в понимании
Фрейда очень удачно рисует «анти-физический», анти¬
1 Цитированная книга, стр. 107 — 108.
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ»
219
материалистический характер всей его системы, его ме¬
тода.
Идеалистическая сущность психоанализа бросается
также в глаза на примере фрейдистской теории «влече¬
ния к повторению». Согласно этой теории стремление
организма к самосохранению не имеет того значения,
какое ему придавали до сих пор. Организм стремится
к повторению более ранних, более примитивных состоя¬
ний, из которых самое раннее и примитивное — небы¬
тие, смерть. Все влечется к смерти. «Смыслом жизни
является смерть». (Фрей д.)
Фрейд неоднократно указывал на родство понятия
«влечение», как оно употребляется в психоанализе, с по¬
нятием «воли» у философа-идеалиста Шопенгауэра, со¬
гласно взглядам которого мир есть «воля и представле¬
ние». Шопенгауэра Фрейд называет своим предше¬
ственником.1 Специально по поводу «влечения к смерти»
Фрейд говорит: «Мы незаметно причалили к пристани
философии Шопенгауэра, для которого смерть является
собственным результатом, а следовательно, и целью
жизни, а сексуальные влечения — осуществлением вле¬
чения к жизни».2
Фрейд часто ссылается не только на Шопенгауэра,
с которым он чувствует особое родство, но и на других
философов-идеалистов. В той же книге, которую мы
только что цитировали, Фрейд пишет о Канте, что его
учение о пространстве и времени, как о чем-то, что не
относится к вещам самим по себе, а является только
формой представления, — что это учение Канта полу¬
чило подтверждение в психоанализе. Подтверждение
1 .Основные психологические теории*, стр. 198.
1 Фрейд, .По ту сторону принципа удовольствия*, стр. 49.
220 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
это заключается в том, что понятие времени неприме¬
нимо к фрейдовскому «бессознательному». Фрейд го¬
ворит об этом не раз. «Процессы системы 1ЛВ\У («бес¬
сознательного») находятся вне времени, т. е. они
не распределены во временной последовательности, с
течением времени не меняются, вообще не имеют ни¬
какого отношения ко времени».
И после этого Варьяш и др. повторяют, что «бес¬
сознательное» Фрейда — это то же, что у Маркса, когда
Маркс говорит о том, что люди делают историю без за¬
ранее обдуманного намерения, «бессознательно».
Но этого еще мало. «Бессознательное» Фрейда не
только находится «вне времени». Дальше мы узнаем,
что — «процессы 11В\У» (т. е. «бессознательного») также
мало принимают во внимание реаль¬
ность. Они подчинены принципу наслаждения; судьба
их зависит только от того, насколько они сильньги отве¬
чают ли они требованиям регулирования наслажде¬
ния — неудовольствия».1
Этот фрейдовский «принцип наслаждения» вносит
в систему чисто телеологические элементы. Фрейд заме¬
чает в одном месте, что «в биологических рассужде¬
ниях почти невозможно избежать того, чтобы не при¬
бегать к телеологическому образу мыслей».2 И дей¬
ствительно, его «образ мыслей» сплошь да рядом ока¬
зывается телеологическим.
У Фрейда получается полный идеалистический от¬
рыв психического содержания личности и в первую
очередь его воли от реальной общественной среды.
«Бессознательное» невидимо руководит волей человека.
1 .Основные теории...", стр. 145.
8 Фрейд. .Очерки до дсихологии сексуальности", стр. 60,
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДСЬМАРКвИСТЫ»
221
Воля человека оказывается во власти мощных, непре¬
одолимых первобытных (архаичных) сексуальных вле¬
чений. Ими определяется содержание психики. Значе¬
ние современной материальной среды, современной
общественной обстановки, сводится на-нет, «отме¬
няется». Ясно само собой, что эта теория целиком на¬
правлена против основных положений исторического
материализма, в частности против того положения, ко¬
торое гласит, что «сущность человека... в своей дей¬
ствительности есть совокупность всех общественных
отношений».
В конечном итоге у Фрейда психическая деятель¬
ность признается первичным, а внешний мир — чем-то
вторичным, производным. Фрейд говорит о первич¬
ном характере «принципа удовольствия». С точки
зрения Фрейда только тогда, когда этого «принципа»
оказалось недостаточно, чтобы удовлетворять
стремление к наслаждению, «психиче¬
ский аппарат должен был решиться
представить себе реальные соотноше¬
ния внешнего мира и стремиться к их реальному
изменению».1 Внешняя реальная среда образуется, со¬
гласно этому взгляду, психическим аппаратом «вытесне¬
ния», «которое само обращается с внутренними неприят¬
ными раздражениями так, как будто они были внеш¬
ними, т. е. относит их к внешнему миру».2
По поводу этих замечательных умозаключений
Фрейда следует заметить, что хотя тов. Варьяш и счи¬
тает Фрейда материалистом типа французов XVIII столе¬
тия, но подобные философские рассуждения на обыч¬
1 .Основные теории...*, стр. 83.
2 Там же, стр. 84, примечание. (Разрядка моя. А. С.) См. также
на эту тему: .По ту сторону принципа удовольствия*, стр. 26.
222 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
ном человеческом языке принято называть чистейшим
суб’ективным идеализмом («Таковы выводы
фрейдизма, представляющего собственно возврат к ма¬
териализму XVIII века», пишет тов. Варьяш в своей
«Истории новой философии», т. I, часть 1-я, стр. 59).
Генриетта Роланд-Хольст оказалась, последователь¬
нее тов. Варьяша и других наших марксистов-фрейди-
стов. Ей «надоела» реальность, рационализм и материя.
Поэтому она пишет: «Коммунизм должен, наконец, по¬
нять, что всю жизнь, всего человека нельзя рационали¬
зировать... Только коммунизм, кладущий в основу исто¬
рического процесса человека как творческую силу, мо¬
жет устранить эту опасность. Он спасет культуру тем,
что не будет стоять на коленях перед идолами Рацио¬
нального и Механического, а освободится от
обожания материи и поклонения тех¬
нике».1
«Освободиться от обожания материи» и от материа¬
листических представлений еще не значит осво¬
бодиться также и от действительной материи. Зато
«освободившись» от материализма, неизбежно придешь
к «освобождейию» от всяких следов марксизма и ком¬
мунизма. Так это и случилось с Роланд-Хольст.
Исходя строго логически из фрейдовского толкова¬
ния психологии «бессознательного», она пришла к отри¬
цанию классовой борьбы. Искусство, мораль и пр., по
ее мнению, общечеловечны, так как основы че¬
ловеческой психики, ее корни «восходят к сфере, суще¬
ствующей вне времени».2 Вот какие штуки проделывает
фрейдовское «бессознательное» с иными «марксистами».
1 Цитирую по ст. Ф. Шиллера в .Вестнике Комммунистической
академии*, № XVIII, стр. 254.
2 Там же, стр. 257.
ФРЕЙДИЗМ И «ФРЕЙДО-МАРКСИСТЫ»
223
После всего этого кажется прямо-таки чудовищным,
что Залкинд и Рейснер в особую заслугу вменили
Фрейду его «социализацию» психологии. Они думают,
что исторический материализм, марксизм получил в
лице Фрейда нового могучего союзника. Они оши¬
баются. Психология Фрейда «анти-социальна» в смысле
своего ультра-индивидуалистического характера. С
марксизмом и материализмом фрейдизм ничего общего
не имеет. Значение классовой борьбы он затушевывает.
Антипролетарский характер идеологии фрейдизма про¬
является как в общем идеалистическом характере его
метода и его системы, так и в деталях. Это проявляется
как в переоценке удельного веса «принципа удоволь¬
ствия» и эротизма, так и в переоценке элементов нар-
цизма (индивидуализма тоже). Это проявляется в упа
дочном фатализме его «влечения к повторению» и «вле¬
чения к смерти». Это проявляется в его скептицизме и
пессимизме по отношению к науке и человеческому мо¬
гуществу.
Волна увлечения фрейдизмом, прокатившаяся пс
Западной Европе,—это волна буржуазной реакции про¬
тив материализма, волна упадочничества. И если у грат
Советского союза эта волна останавливается, если в на
ших рядах фрейдизм не получил большого распростра
нения, то это в значительной мере является заслугой
нашей последовательно-марксистской философской ли
I ературы, которая во-время сумела по достоинству оце
нить фрейдистские уклоны и дать им соответствующий
отпор.
XI. ФИЛОСОФИЯ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ.
«Политика должна быть нашей религией», говорил
Фейербах. Насчет всякой «религии» мы, коммунисты,
очень плохого мнения. Но верная мысль* в этом утвер¬
ждении Фейербаха заключается в подчеркивании гро¬
мадного, руководящего значения «политики». Мы бы
только не стали употреблять теперь такого неподходя¬
щего для данного случая термина, как «религия». Но
верным остается то, что политика не может в наше
время не быть для пролетариата и его «идеологов» пре¬
выше всего, ибо в политике — концентрированная
теория и практика классовой борьбы, ее наука и ее
искусство.
Предмет наших философских споров с механистами
не может быть чуждым, посторонним политической
практике пролетариата и его партии. «Предметом
спора» является методология марксизма, ее основные
принципы, «категории». Метод — это «душа» всякой
науки. Без диалектики нет марксизма, нет ленинизма.
Без диалектики не может быть и речи о правильной по¬
литической стратегии и тактике. У Ленина мы можем
найти многочисленные указания на неразрывную связь
политики и философии марксизма. «Основную задачу
тактики пролетариата, — пишет Ленин в статье «Карл
Маркс», — Маркс определял в строгом соответствии со
всеми посылками своего материалистически-диалекти-
ческого миросозерцания». (Ленин. «Маркс, Энгельс,
ФИЛОСОФИЯ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
225
марксизм», 1925, стр. 29.) В одной статье Ленин пишет
об отношении марксистов к вопросам религии и об их
политике в этом вопросе:
«То, что дилетанты или невежды считают шата¬
ниями, есть прямой и неизбежный вывод из диалекти¬
ческого материализма». «Политическая линия марк¬
сизма и в этом вопросе неразрывно связана с его фи¬
лософскими основами». (Ленин. Собр. соч., т. XI, ч. I,
стр. 252 и 253.)
Ленин пишет: «и в этом вопросе», что означает:
так же, как ив других вопросах, политическая
линия связана с философией марксизма.
Любая статья или книга Ленина по вопросам полити¬
ческой стратегии и тактики может служить иллюстра¬
цией к этому положению. В 1920 г. Ленин пишет об
ошибках западно-европейских «левых». Его книга по
этому вопросу («Детская болезнь левизны») может слу¬
жить и действительно служит настоящим руководством
по диалектике марксизма. В статье по поводу «ошибок
Троцкого» (1921) в вопросах «профсоюзной» дискус¬
сии Ленин дает попутно сжатый очерк основных поло¬
жений диалектики. К вопросам методологических основ
политической тактики Ленин возвращается постоянно
на всем протяжении своей политической и литератур¬
ной работы. Уже к концу своей жизни, как бы подводя
итоги своей длительной борьбы с меньшевиками, Ле¬
нин пишет, что они «не поняли решающего в марк¬
сизме — его революционной диалектики». («О нашей
революции».)
Естественно, что сам Ленин чисто-философскими
вопросами занимался очень основательно и очень мно¬
гое в этом направлении дал, хотя и называл себя
скромно «рядовым» в вопросах философии марксизма.
Диалектический материализм.
226 ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
Особенно много он занимался философией после пер¬
вой русской революции в период философской борьбы
с Богдановым, виднейшим ревизионистом-махистом
(последователем философа-идеалиста Маха).
Как раз к этому времени в своих письмах Горькому;
Ленин пишет: «Газету я забросил из-за. своего фило¬
софского запоя». «Беспризорный он. (Речь идет об
органе большевиков «Пролетарий». А. С.) Я еще никогда
так не неглижировал своей газетой: читаю по целым
дням распроклятых махистов».
Ясно, что Ленин мог «неглижировать» руководяще!
партийной газетой только ради такого дела, которое
считал не менее важным. Таким делом была в тот мо¬
мент борьба с искажениями марксизма в чисто-фило¬
софских вопросах, исходившими в то время от группы
большевиков во главе с недавно умершим А. Богда¬
новым.
Для нас нет сомнения в том, что прав был Ленин, а
не Богданов. Философские вопросы, служившие в тот
момент предметом борьбы, отнюдь не являются для нас
чем-то еще неясным, спорным, дискуссионным, подле¬
жащим выяснению. В настоящее время механисты, вы¬
ступая против диалектиков, которых они называют «де-
борианцами», любят иногда говорить о том, что «де-
боринцы» якобы слишком резко нападают на своих про¬
тивников, недостаточно «терпимы» в чисто-теоретиче¬
ских спорах. В таких спорах, говорят иногда механисты
и «буферящие» люди, надо проявлять больше, широ¬
кой терпимости, не претендуя на «монопольное» обла¬
дание истиной в вопросах дискуссионного порядка, в
вопросах, требующих разработки, и т. д.
Разумеется, так называемые «деборинцы» не думают
«запрещать» механистам, фрейдистам и пр. дискусси¬
ФИЛОСОФИЯ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
227
ровать. Здесь применимы сказанные по другому поводу
слова Ленина о том, что «раз выявился некоторый
уклон, надо его обсудить». Механисты могут выступать
и выступают устно и печатно. Но, во-первых, это вовсе
не дает логического права «буферящим» или «беспар¬
тийным» в философии теоретикам-марксистам продол¬
жать оставаться на позиции «вне всяких определенных
позиций». А во-вторых, мы отнюдь не можем считать,
что основные вопросы марксизма являются чем-то дис¬
куссионным. Марксизм для нас не является «дискус¬
сионным», следовательно, и его теоретические, методо¬
логические основы тоже.
Мы отстаиваем и будем отстаивать диалектический
материализм и материалистическую диалектику марк¬
сизма; но признать, что марксист, коммунист может
быть или не быть материалистом и диалектиком, смотри
по вкусу, по настроению — этого мы не можем. Такая
широта взглядов» неприемлема для нас.
Ленин боролся с Богдановым. Современные меха¬
нисты и релятивисты, как мы уже указывали, идут те¬
перь по стопам Богданова во многих важнейших вопро¬
сах. Можем ли мы их «оставить в покое»? — Никогда.
Правда, ни механисты вообще, ни механисты, сугубо
подчеркивающие свой релятивизм, в частности, не при¬
знают открыто своего родства с Богдановым. Это более
чем понятно, разумеется. Это невыгодно. Зато сам
Богданов открыто говорил о своей близости к механи¬
стам. В своем, кажется, последнем докладе в Коммуни¬
стической академии он говорил о том, что «единство»
во взглядах у механистов с ним есть, но что механисты,
естественно, не имеют оснований кричать об этом. (См.
«Вестник Коммунистической академии», № 21, стр. 281.)
История борьбы Ленина против философского ре¬
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
визионизма А. А. Богданова имеет еще одну интерес¬
ную сторону. Богданов был в период ожесточенной фи¬
лософской «драки» (как выражался Ленин) политиче¬
ским союзником Ленина. Он был большевиком, одним
из виднейших, руководящих работников партии. Богда¬
нов был нужен в политической схватке с меньшеви¬
ками, с ликвидаторами. Надо было «отделить от фрак¬
ции», от фракционной борьбы большевиков с меньше¬
виками борьбу по линии философских вопросов. В тех
же письмах Горькому Ленин пишет об этом (см. «Ле¬
нинский сборник», № 1, стр. 98 и др.)* Он не хочет,
чтобы философские споры помешали политической
борьбе сегодняшнего дня, хотя и не видит возмож¬
ности говорить о «примирении» или о «нейтральности»
в философских спорах.
«Какое же тут «примирение» может быть, милый
А. М.? — пишет Ленин, обращаясь к Горькому. — По¬
милуйте, об этом смешно и заикаться. Бой абсолютно
неизбежен. И партийные люди должны направить свои
усилия не на то, чтобы замазывать или откладывать или
увертываться, а на то, чтобы практически необходимая
партийная рдбота не страдала».
«Как это сделать? — продолжает Ленин. — «Ней¬
тральность»? Нет. Нейтральности в таком вопросе быть
не может и не будет. Если можно говорить о ней, то
разве в условном смысле: надо отделить всю
эту драку от фракции».
До некоторой степени, в известной мере,
можно разграничить, отделить философскую и поли¬
тическую борьбу. В каждый данный момент плохой
«философ» может быть хорошим политиком. О Богда¬
нове, как известно, и в те времена, о которых идет
речь, нельзя было сказать, как о хорошем поли¬
ФИЛОСОФИЯ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
229
тике. Философскому ревизионизму у него соответство¬
вали и политические уклоны. Но все же он был боль¬
шевиком, человеком своей фракции, своей партии.
Абстрактно рассуждая, тот или иной большевик может
и вовсе не иметь никаких политических «уклонов», и в
то же время безбожно «драть» в вопросах философии
марксизма. Но ни в коем случае нельзя преувеличивать
это отграничение политики и философии.
Если у. отдельных людей в данное время
философский ревизионизм не сопровождается полити¬
ческим ревизионизмом, то в тенденции переход от
одного к другому в массовых явлениях неизбежен. Если
бы партия в целом «пересмотрела» философию марк¬
сизма, то это грозило бы величайшими опасностями и
в политической области.
Целый ряд таких «коммунистов» — теперь уже быв¬
ших коммунистов, — как Хеглунд, требовал, чтобы пар¬
тия признала, что религия является «частным де¬
лом» отдельных членов партии, до которого партии в
целом нет дела. Как известно, Коминтерн не пошел, не
мог пойти на такую «свободу вероисповедания» для
членов компартий. У нас в партии нет места религиоз¬
ным лицам. Более того, в программе Коминтерна, при¬
нятой VI конгрессом, говорится о диалектическом ма¬
териализме, как об «официальной» философии проле¬
тарского Интернационала. Тем самым философия, так
сказать, формально признается программным делом, не
отделимым от политики.
Когда несколько лет назад (партии еще тогда было
не до теоретических вопросов философии) Эммануил
Энчмен выступил со своей «теорией новой биологии»,,
со своим вульгарным эмпиризмом и упрощенчеством, —
это сигнализировало наличие опасных явлений в пар¬
23П
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ материализм и механисты
тин. Неизбежное углубление в практику, уход «с голо¬
вой» в практические вопросы дня, начинал кой-где|
приводить к упадку теории, к умалению ее значения,
к «ползучему эмпиризму».
Известно, как Энгельс бесконечно издевался над
«ползучим эмпиризмо м». Ограниченный эмпи¬
ризм, руководящийся «фактами», без попытки углу¬
бленного об’яснения—это подлинная философия «тред-
юнионизма», философия реформизма всех стран. «Пош¬
лый опыт — ум глупцов», употребляя выражение поэта
Некрасова, — этим ограничивается вся мудрость класси¬
ческого оппортунизма в рабочем движении. Эмпиризм
как методология неизбежно ведет к оппортунизму в по¬
литике. И наоборот, оппортунизм «подпирает» себя фи¬
лософской мудростью эмпиризма.
Энчмен был разоблачен с его вульгарным упрости*
тельством и «практицизмом».
Но разве отрицание диалектики как теории и поД«
чинение философии марксизма эмпирическому есте*
ствознанию — разве это не прямая дорога к эмпи¬
ризму? Разве это не разновидность того же самого'
эмпиризма? Конечно, так. Отрицание теории — тоже
теория; отрицание философии — есть тоже философия.
Эмпиризм есть философия этой философии. И это
есть истинная «обетованная земля» наших меха¬
нистов.
Стать на точку зрения эмпиризма, приравнять, как
делают механисты, философию марксизма «современ¬
ному естествознанию», — это значит отказаться от це¬
лого ряда задач, вытекающих из лозунга «культурной
революции» — одного из важнейших лозунгов переход¬
ной эпохи.
Наше отношение к научному наследству прошлого
ФИЛОСОФИЯ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
'двусторонне. С одной стороны, мы ни в коем случае не
отказываемся ни от чего положительного, что дает нам
это прошлое. Мы не можем и не думаем отказываться,
например, ото всех завоеваний хотя бы и «буржуазного»
эмпирического естествознания. Но мы были бы «хвости¬
стами» в теоретической области, если бы ограничились
покорным следованием по тому пути, по которому «со¬
временное естествознание», как оно есть, нас ведет. Мы
должны проверить научное «наследство» своими
инструментами, своими методами, подвергнуть его кри¬
тике с точки зрения диалектического материализма.
Мы должны что-то иметь свое, какой-то свой руко¬
водящий принцип, чтобы подчинить ему «положитель¬
ную науку», чтобы подчинить искусство, чтобы там, где
это нужно, переработать их.
Буржуазную науку, технику, искусство, буржуазные
навыки мы подвергаем переработке, частью даже сдаем
на слом. Мы перерабатываем людей, их психологию.
На смену буржуазной культуре идет культура социали¬
стическая.
Но все это возможно лишь постольку, поскольку
мы не отказываемся от «первородства» нашей со¬
циалистической культуры и диалектического материа¬
лизма, как «руководящего принципа». Иначе могло бы
получиться то, о чем говорил Ленин, как об опасно¬
сти: победивший пролетариат оказался бы подчинен¬
ным культуре побежденной буржуазии. Иными словами,
это означало бы перерождение пролетарской рево¬
люции.
Вот почему борьба с механистическим мировоззре¬
нием, борьба с эмпиризмом и суб’ективизмом, борьба
со всеми и всякими ликвидаторами марксистской фило¬
софии диалектического материализма является в на¬
232
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ И МЕХАНИСТЫ
стоящее время сугубо «практической», политической,
партийной задачей.
Материализм вообще «партиен» по существу, пар¬
тиен даже в чисто-политическом смысле, ибо, как гово¬
рит Ленин, «материализм включает в себя, так сказать,
партийность, обязывая при всякой оценке события
прямо и открыто становиться на точку зрения опреде¬
ленной группы». (Ленин. Собр. соч., т. II, стр. 65.) Наши
философы-марксисты не являются вовсе «жрецами» ка¬
кой-то эзотерической, недоступной непосвященным,
«чистой теории» или «абстрактной философии». Нет,
на ряду с другими, они являются солдатами на широ¬
ком фронте революции. И борьба с философским реви¬
зионизмом в марксизме — это не «музыка сфер», а под¬
линно партийное дело. Ибо задачей нашей философии
является «об’яснить мир» для того, чтобы его «изме¬
нить».
ОГЛАВЛЕНИЕ.
СТР.
От автора 5
I. Философия и классовая борьба * 8
II. Отрицание философии марксизма и теории диалектики 25
III. Механический материализм 47
IV. Качество и количество в понимании механистов . • 57
V. Проблема .сведения* 84
VI. Механическое понимание материи и движения ... 114
VII. .Единство противоположностей* в понимании меха¬
нистов 134
VIII. Случайность и необходимость 149
IX. Субъективизм и релятивизм 167
X. Фрейдизм и .фрейдо-марксисты* 201
XI. Философия и задачи партии 224